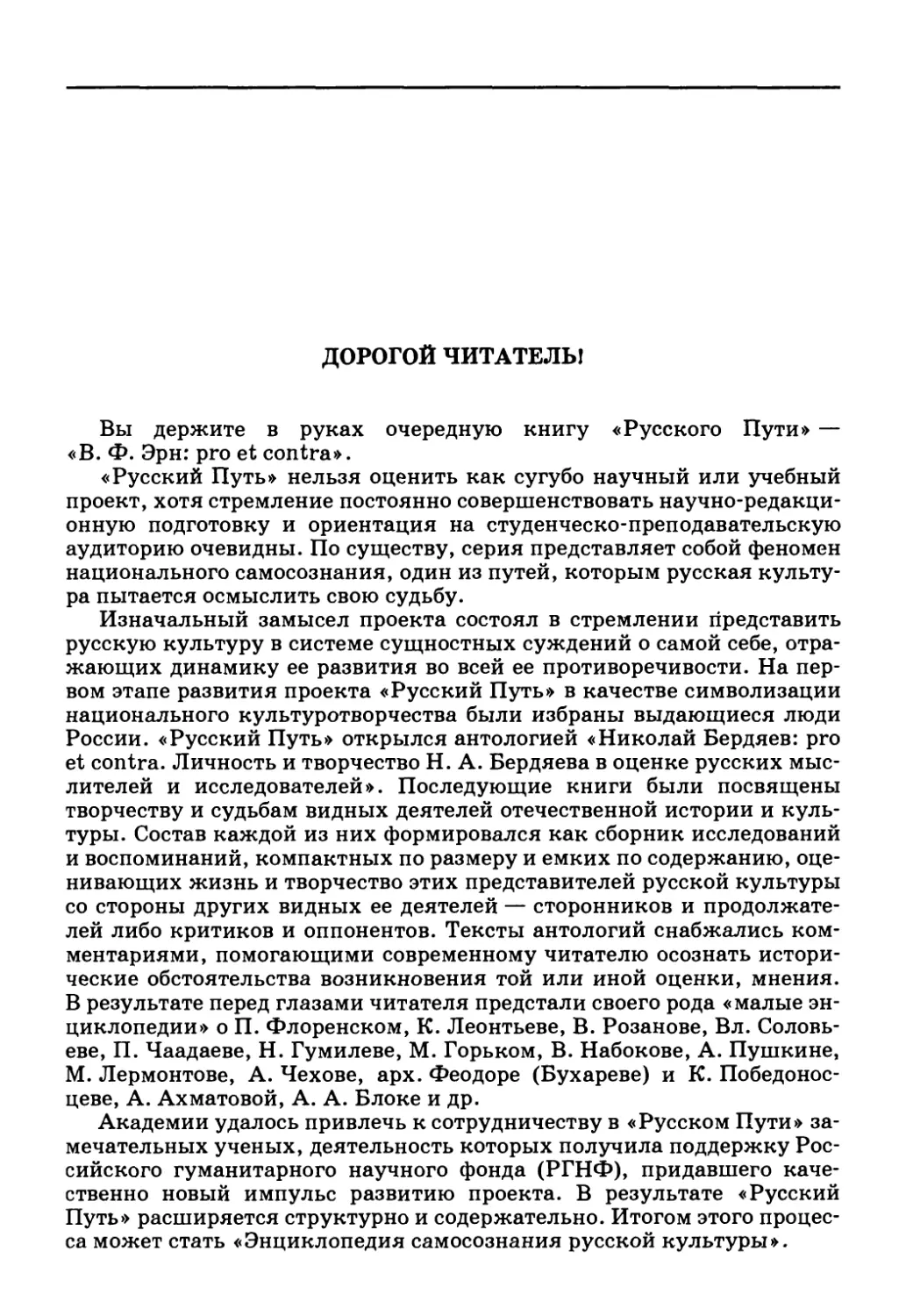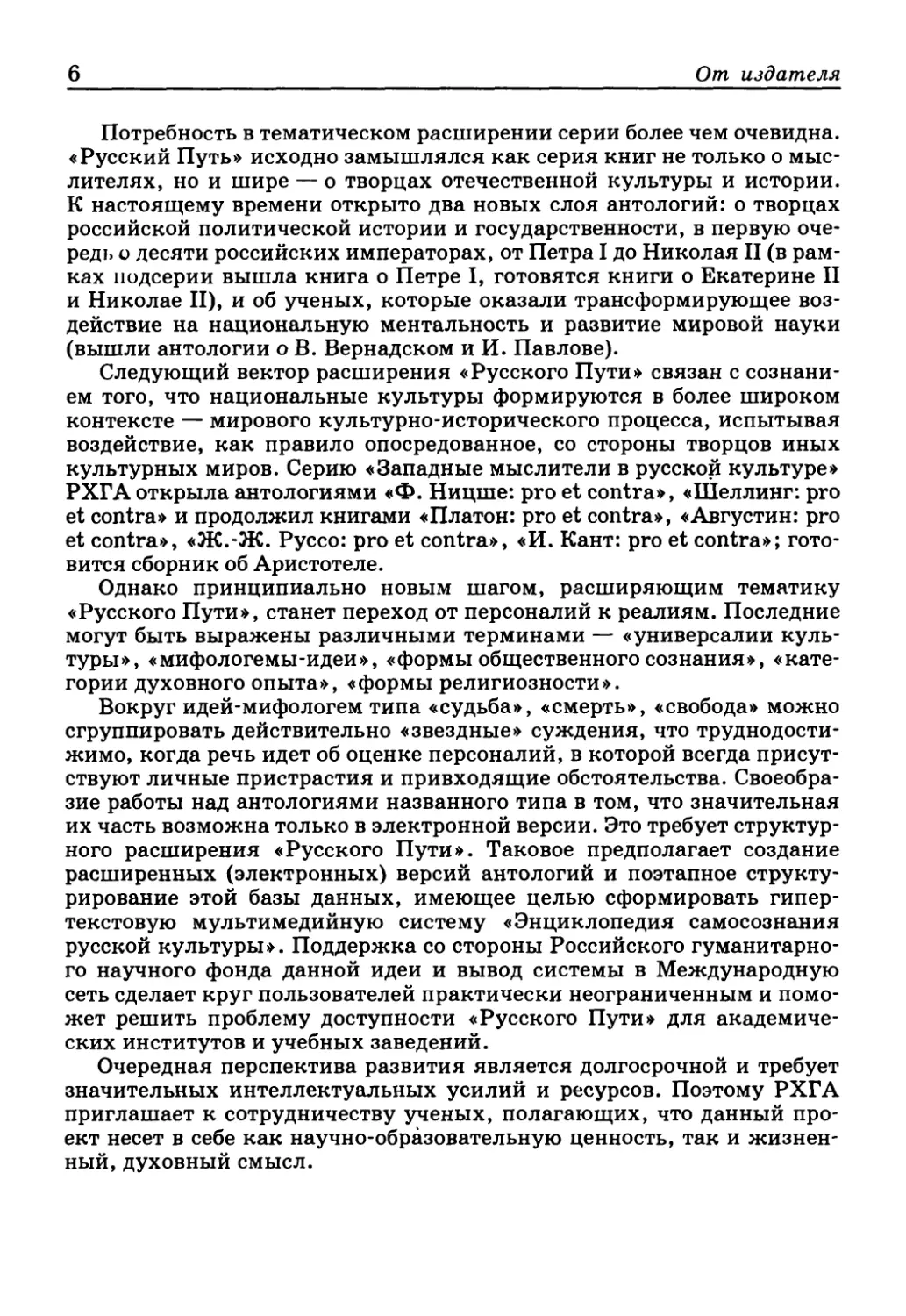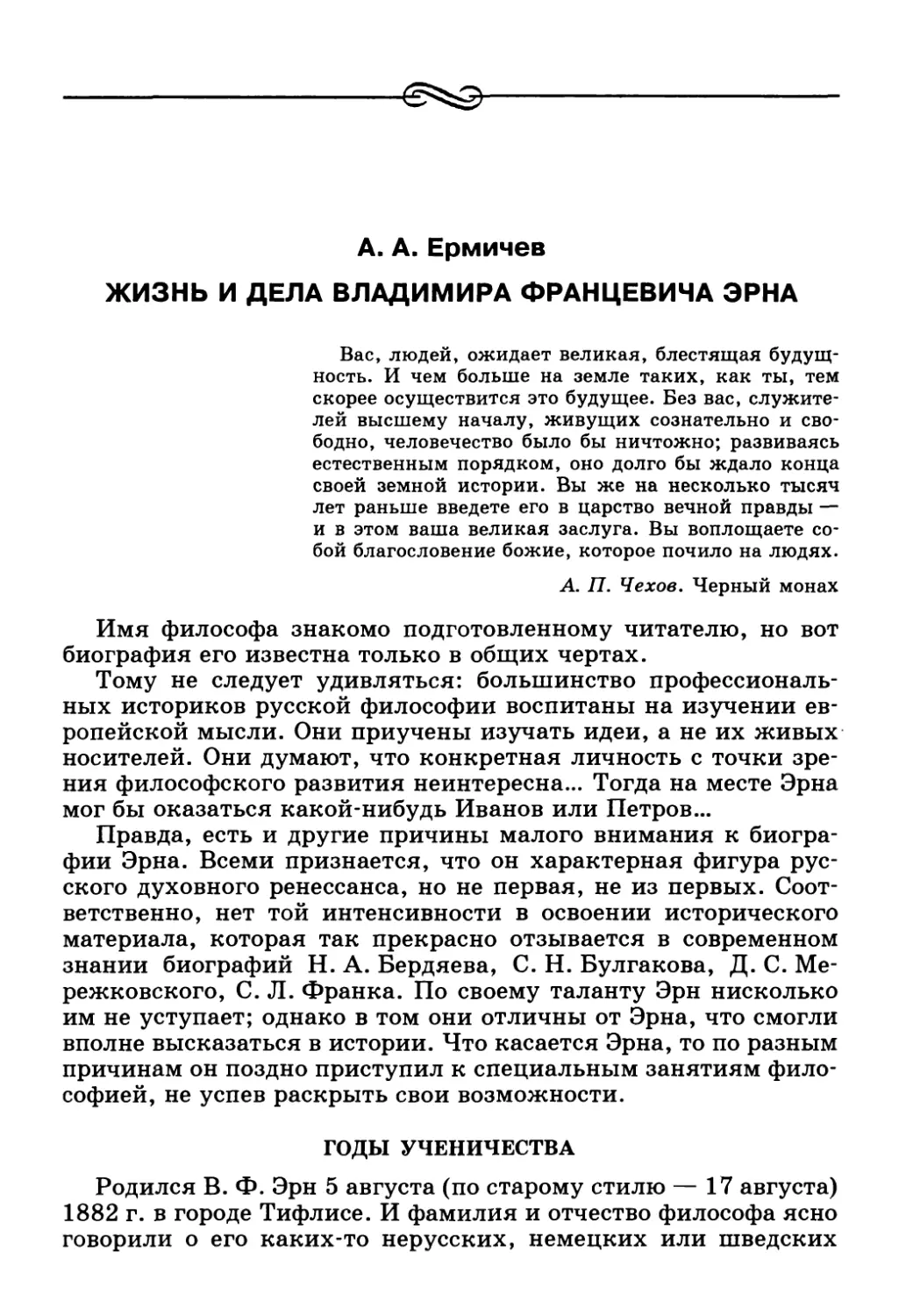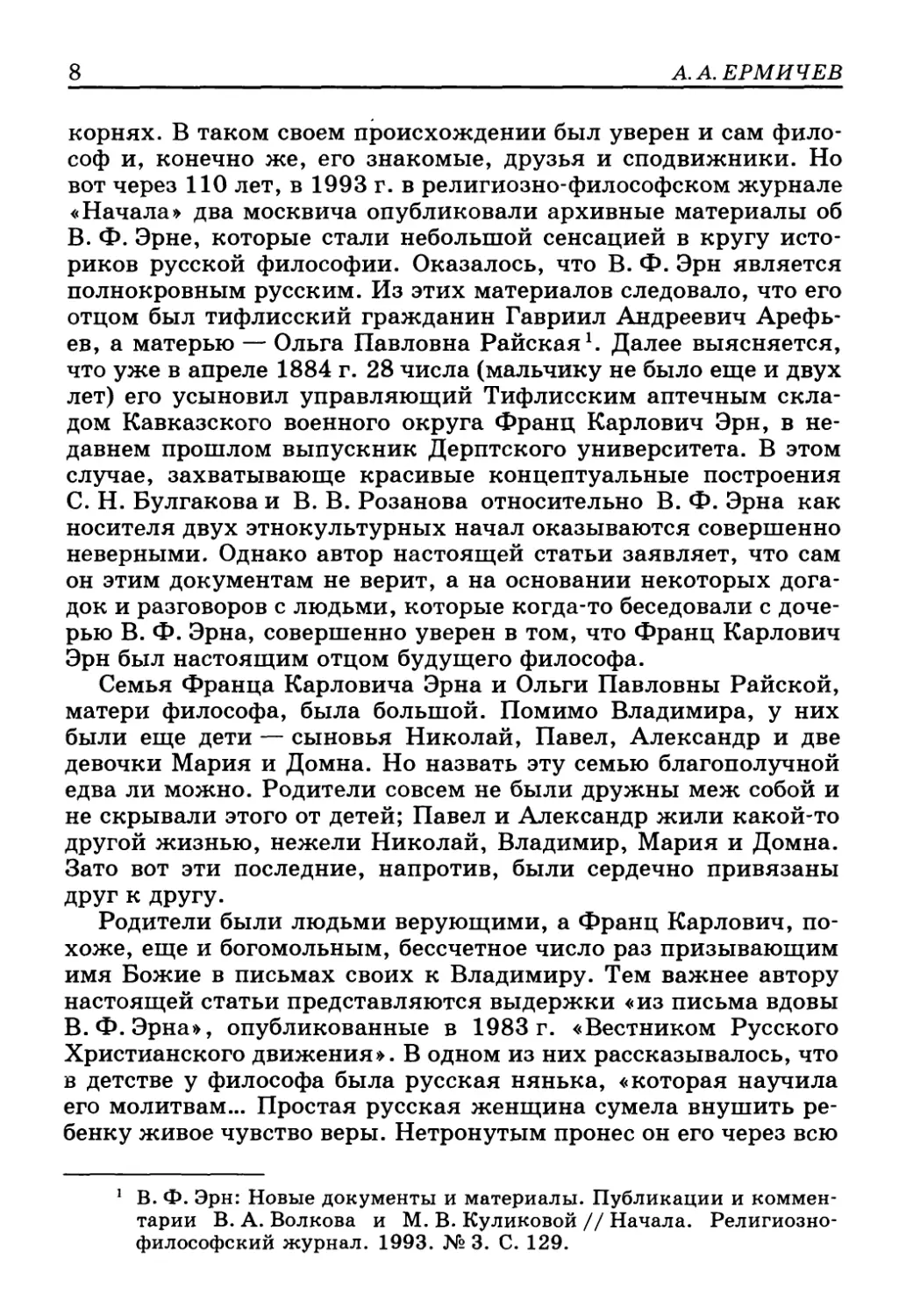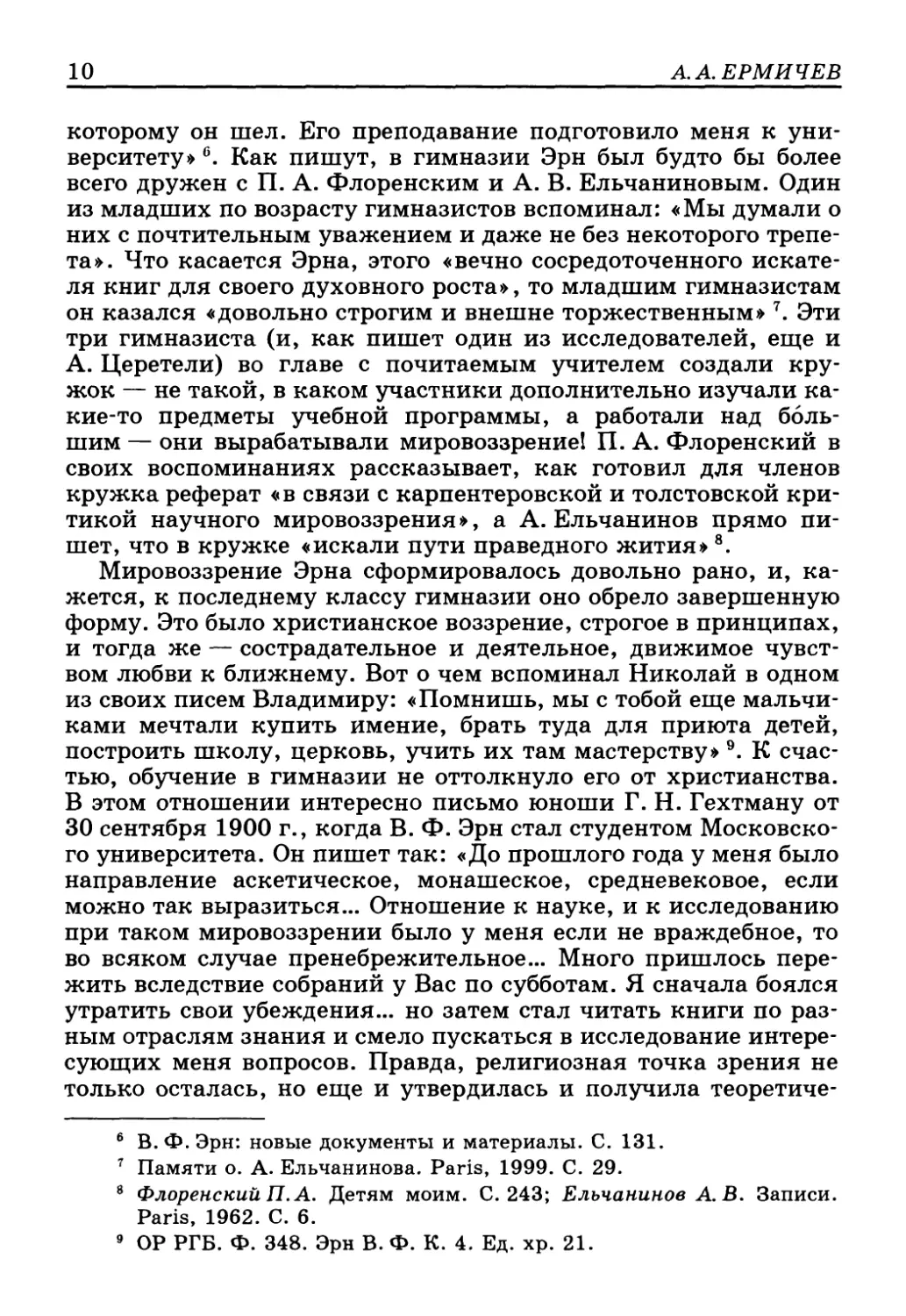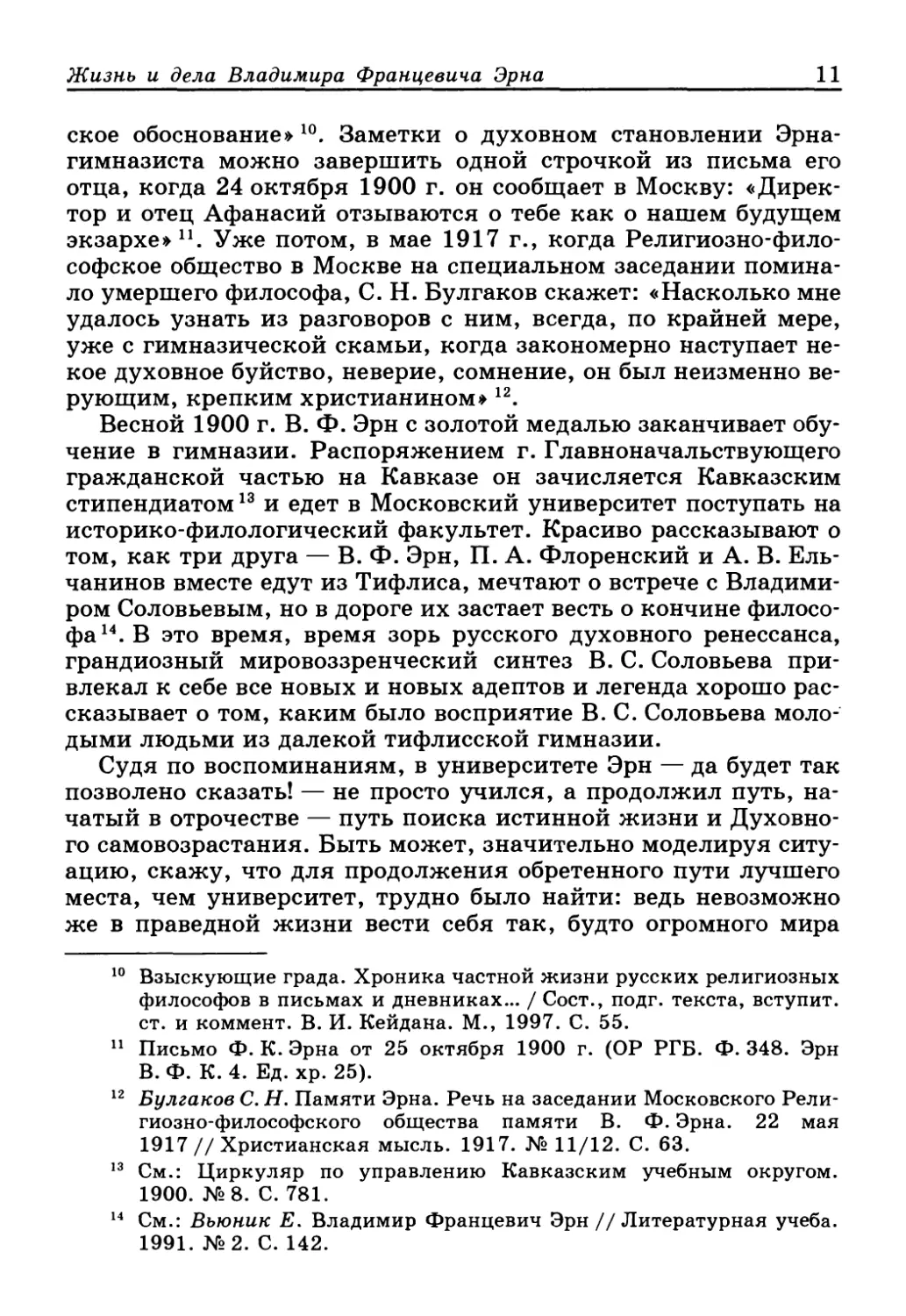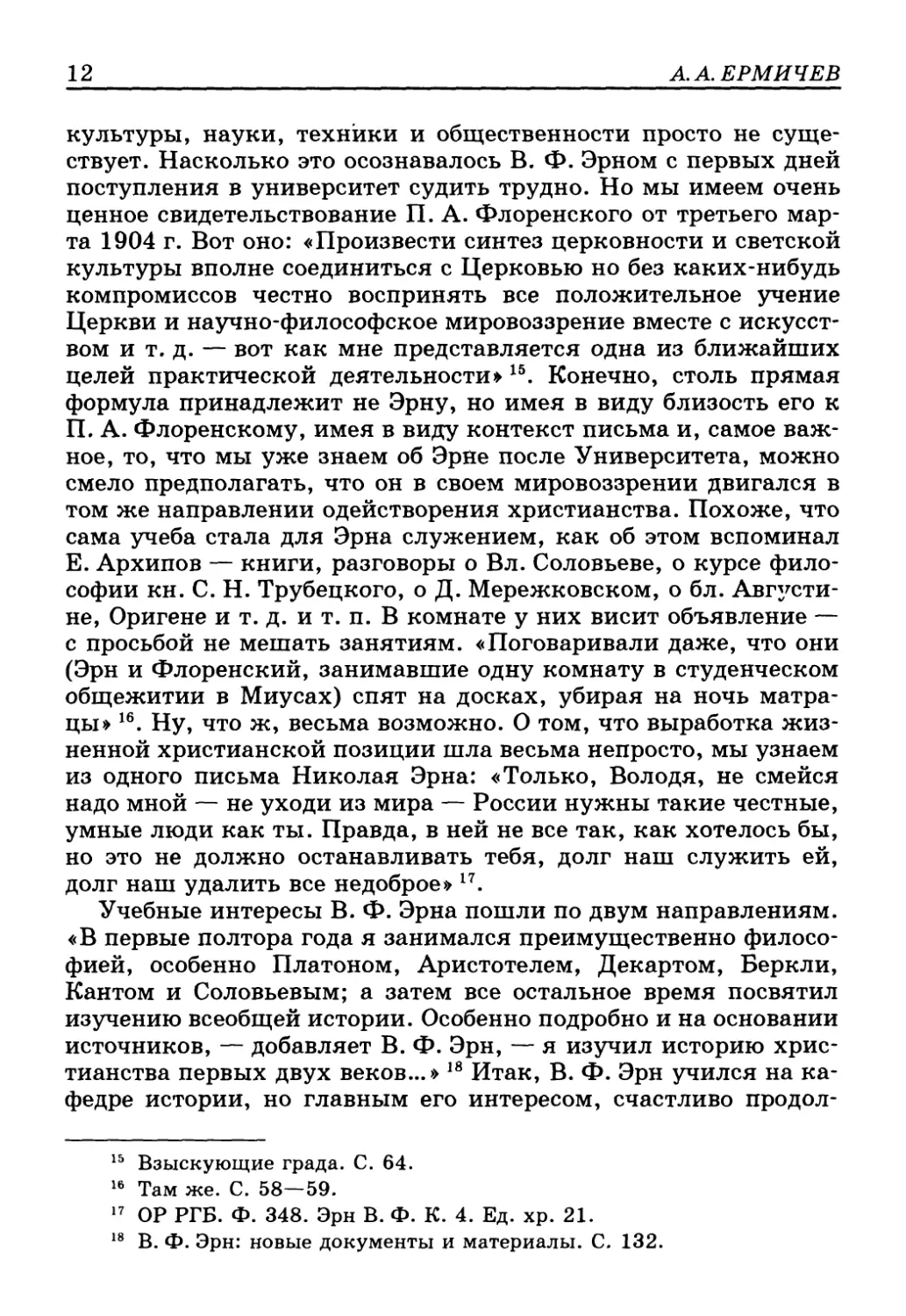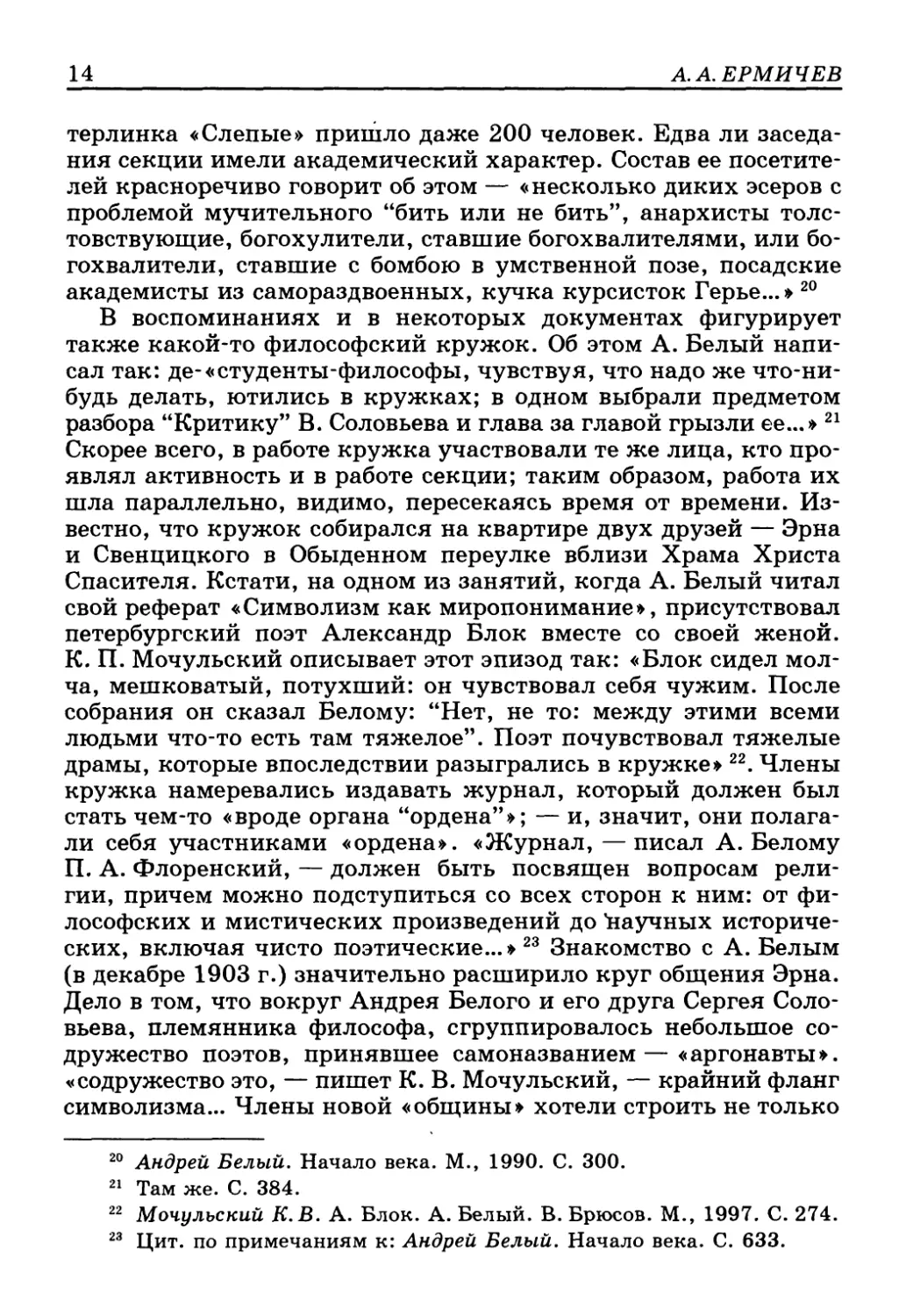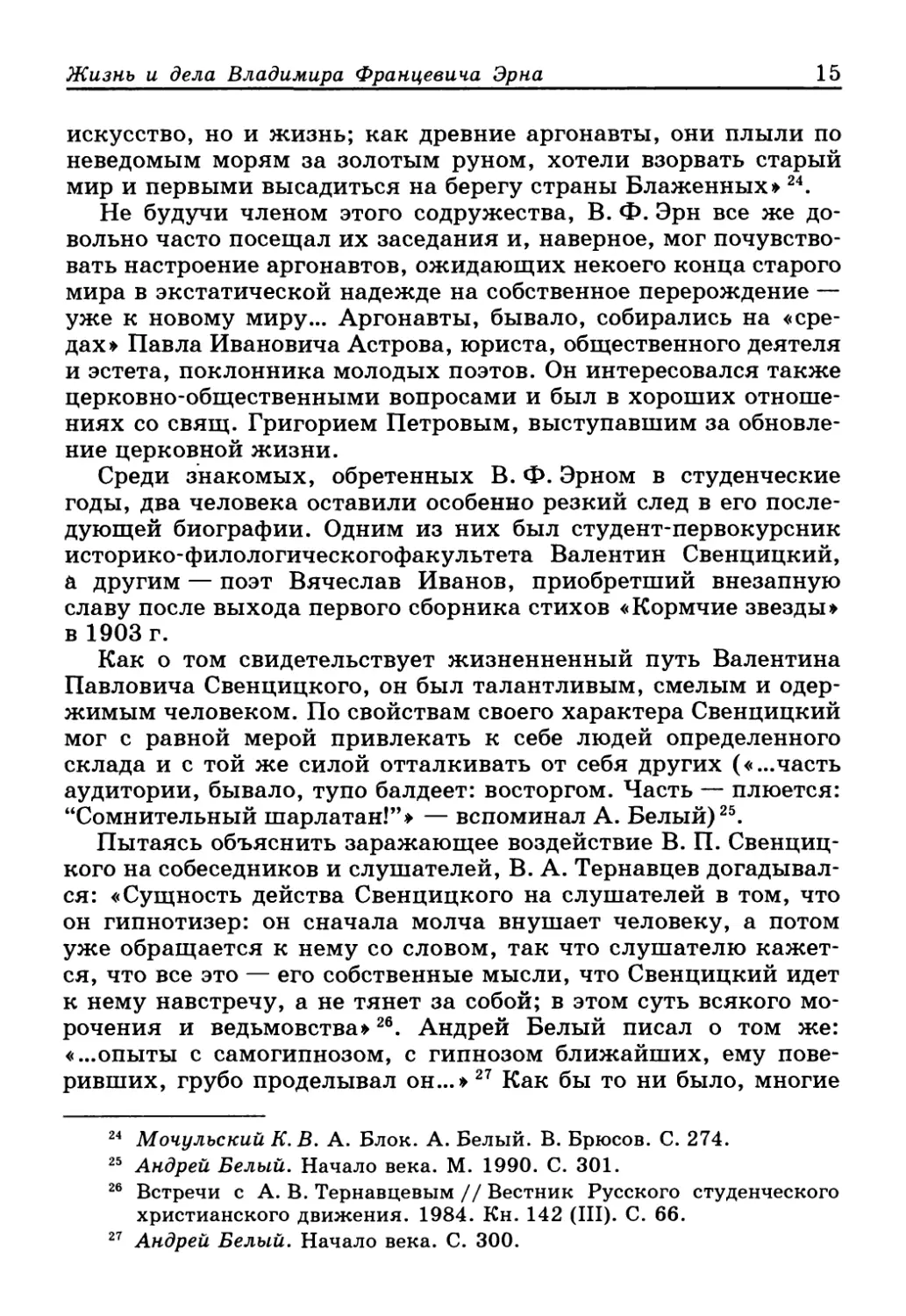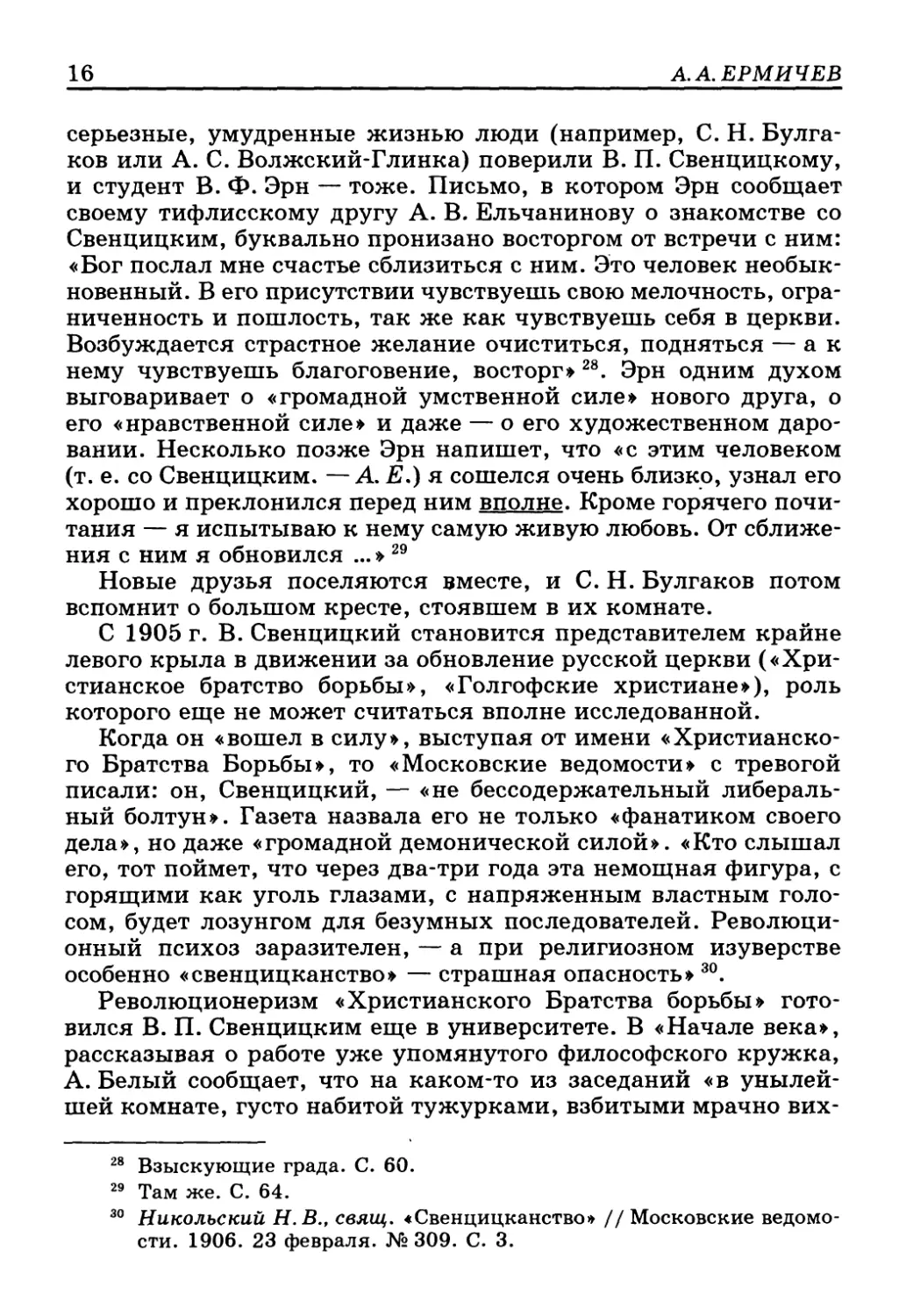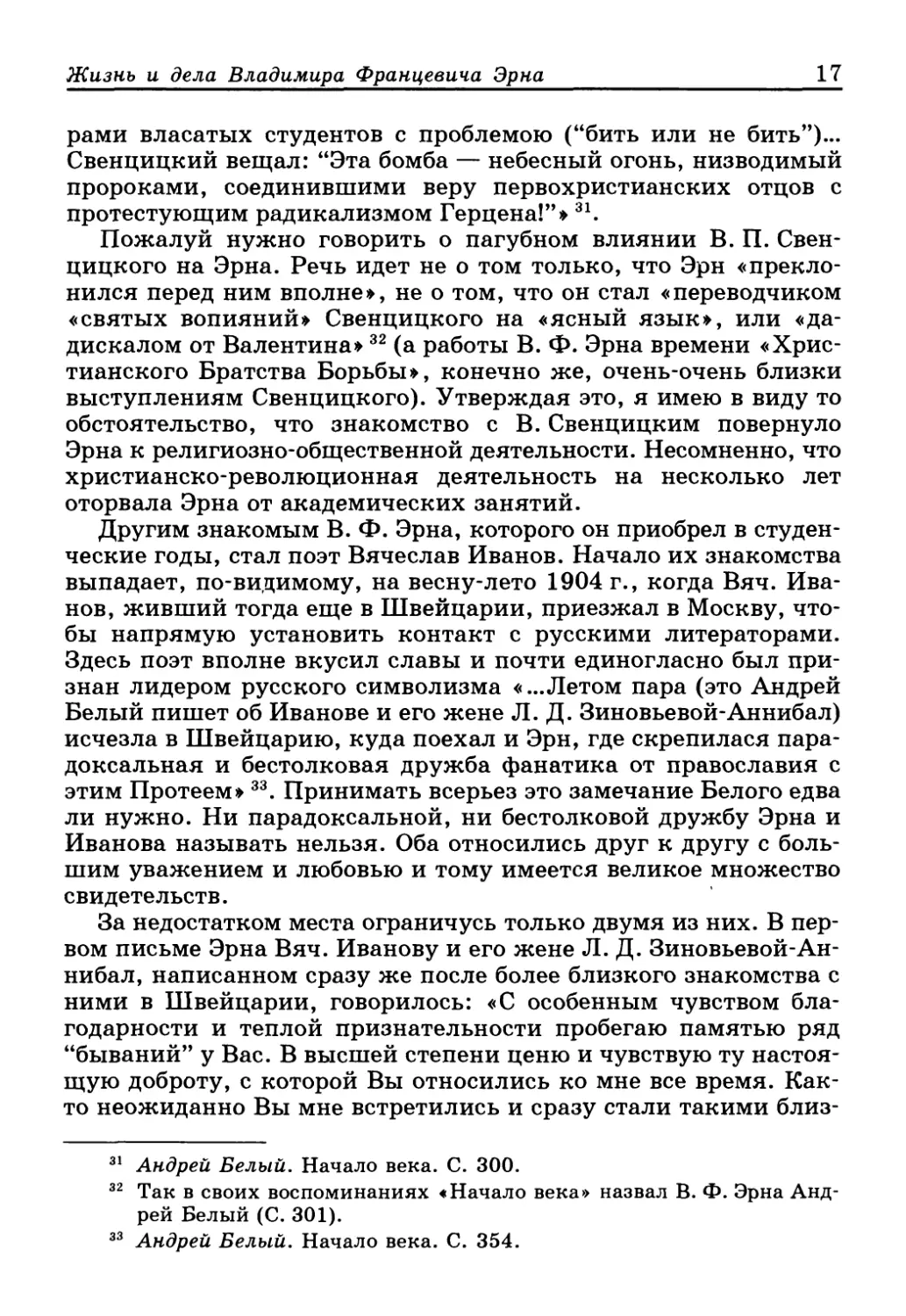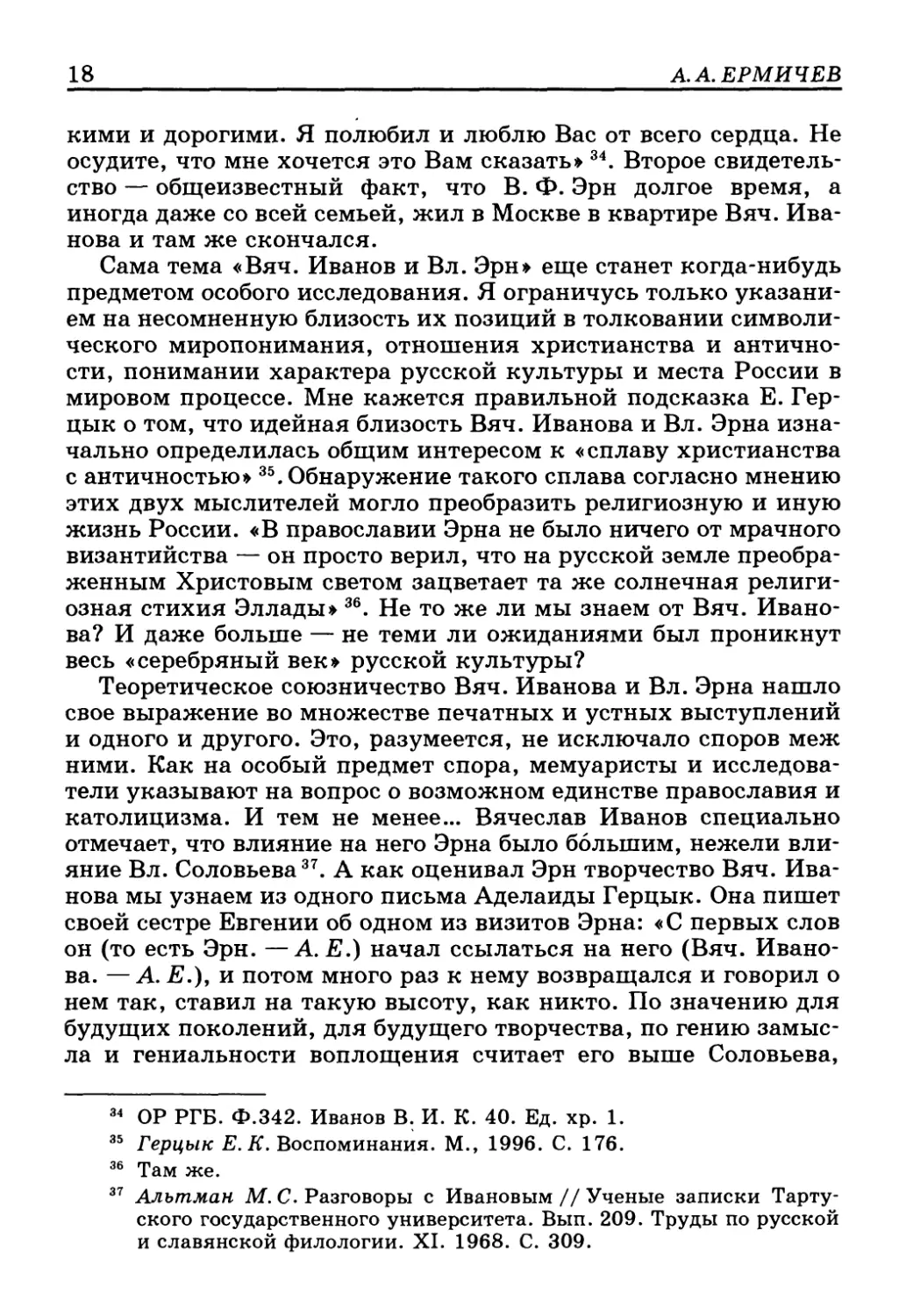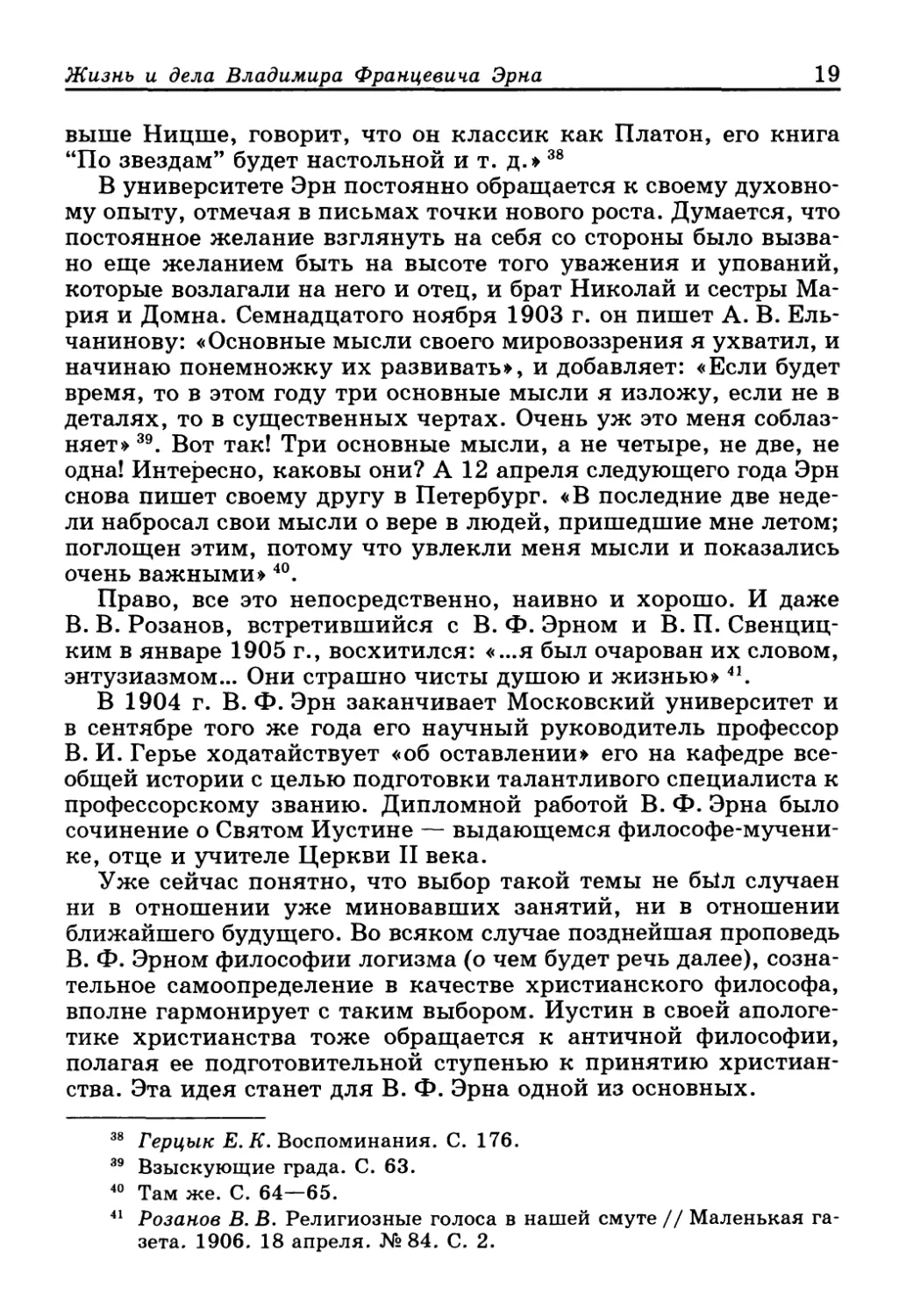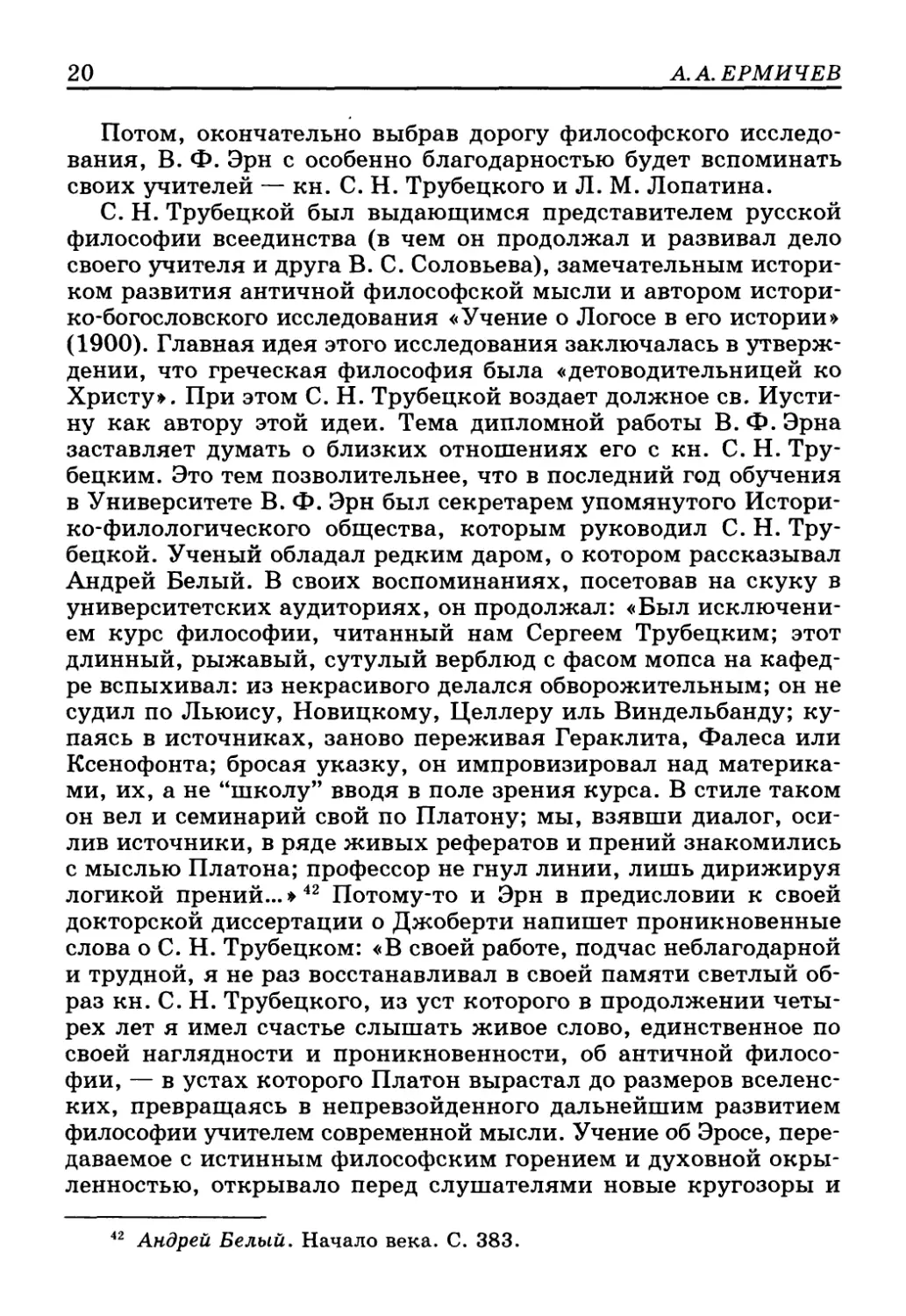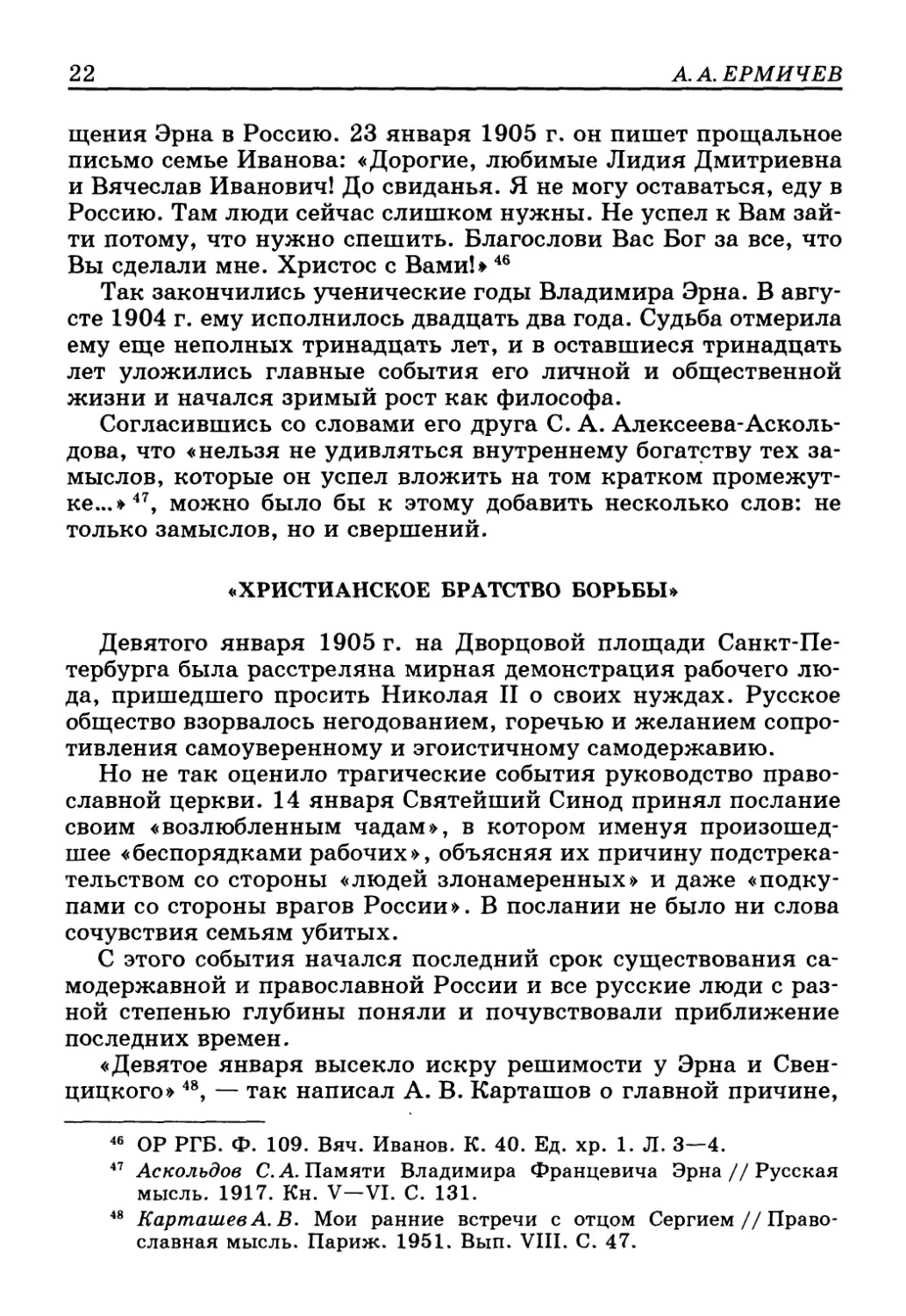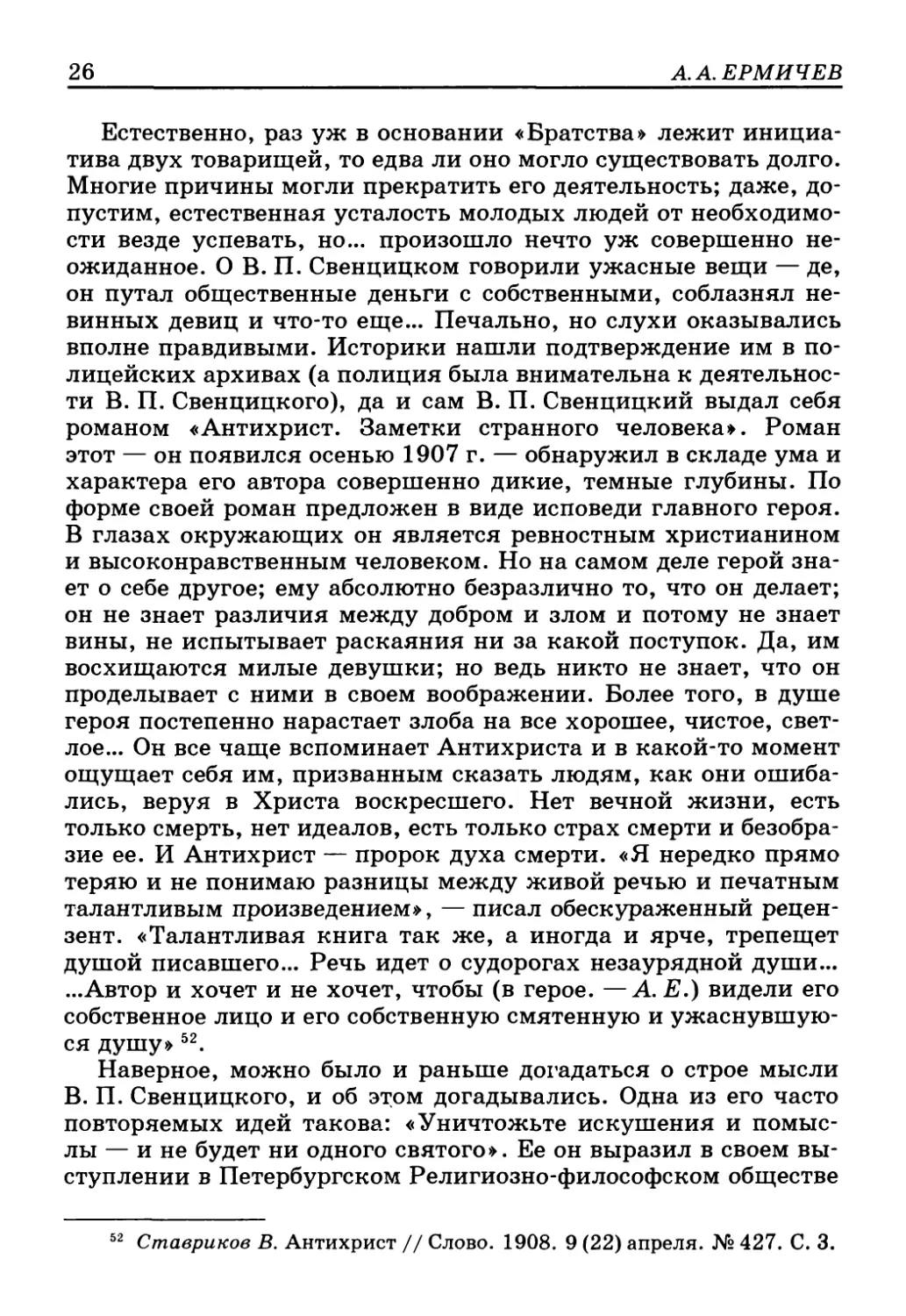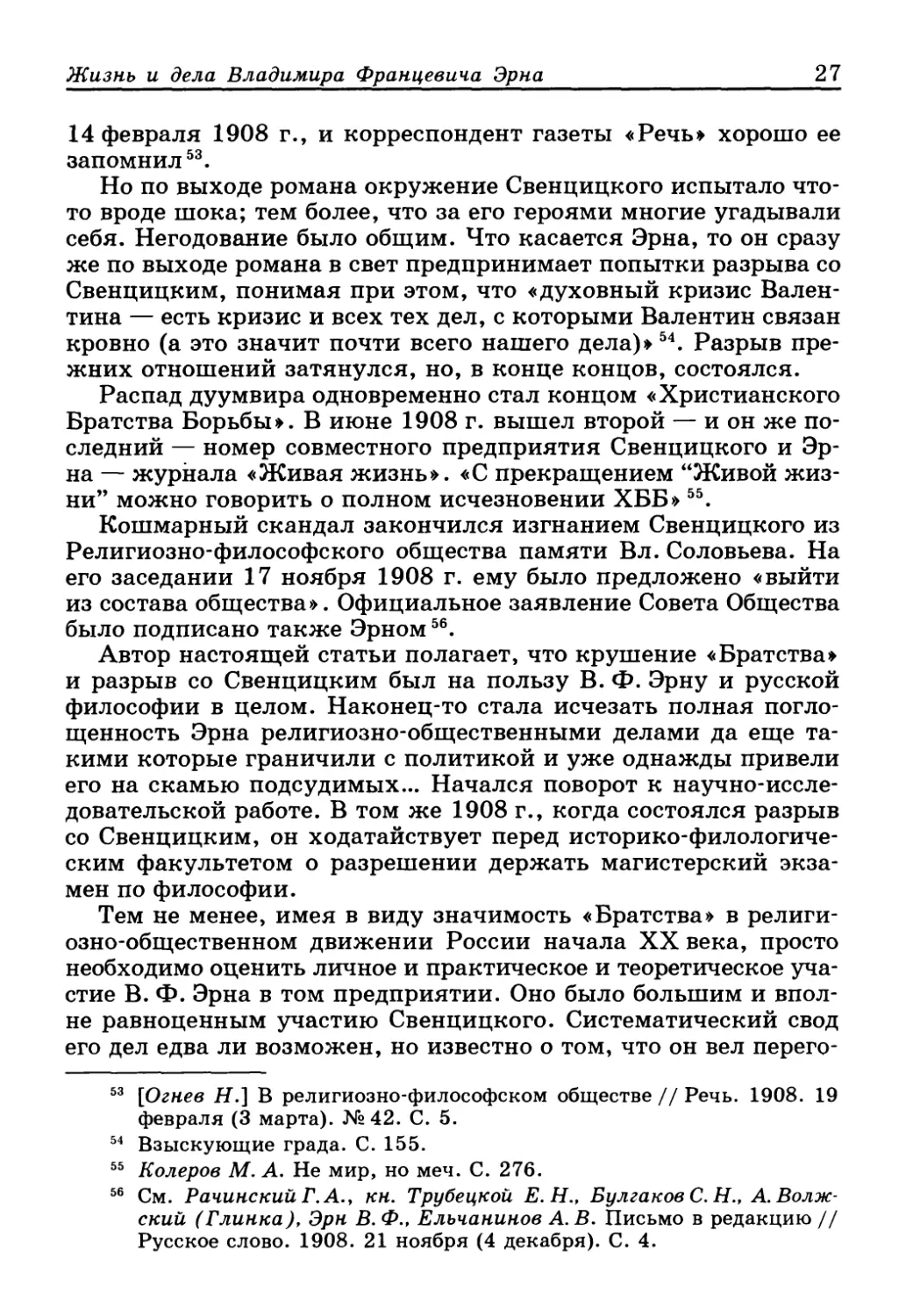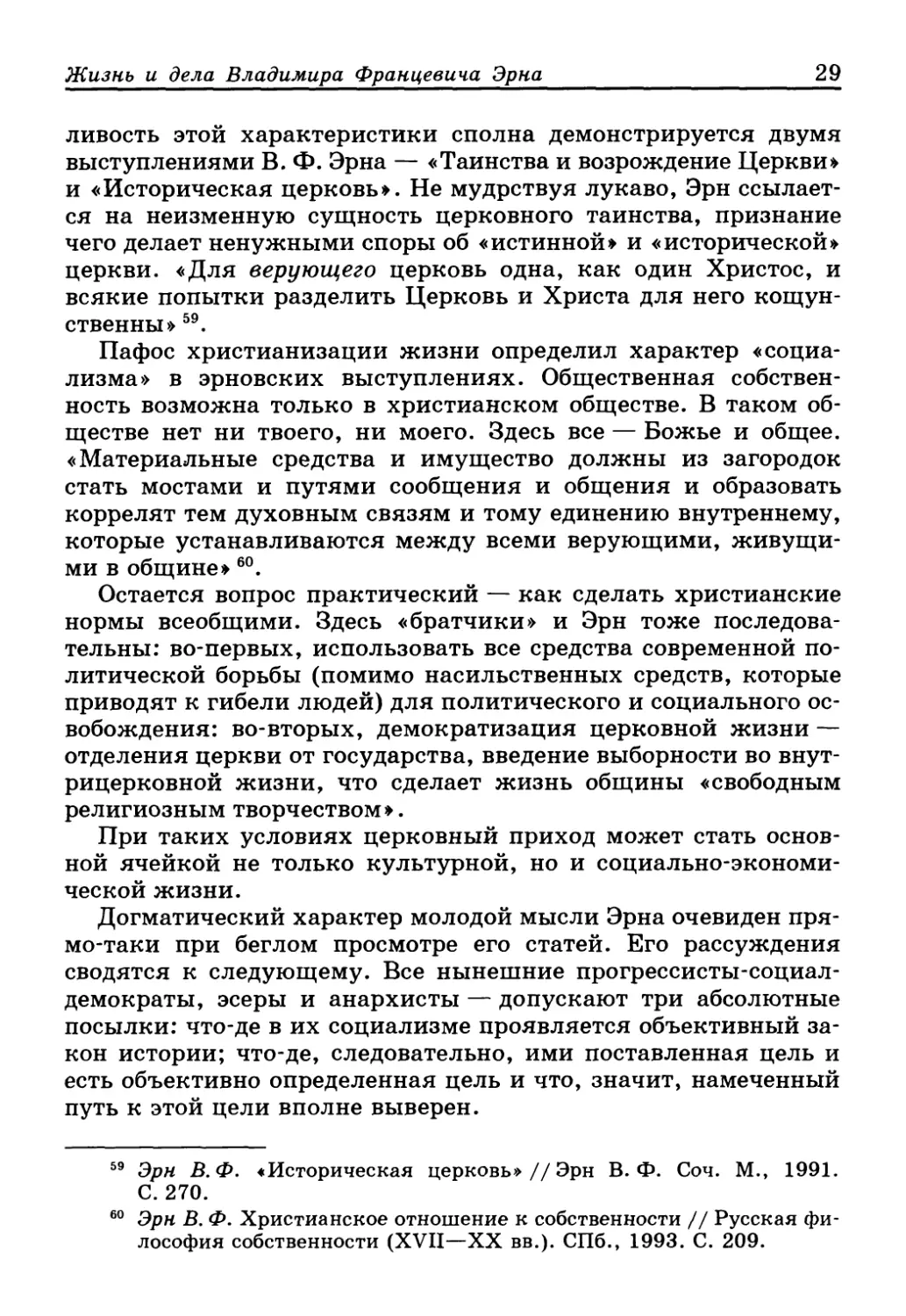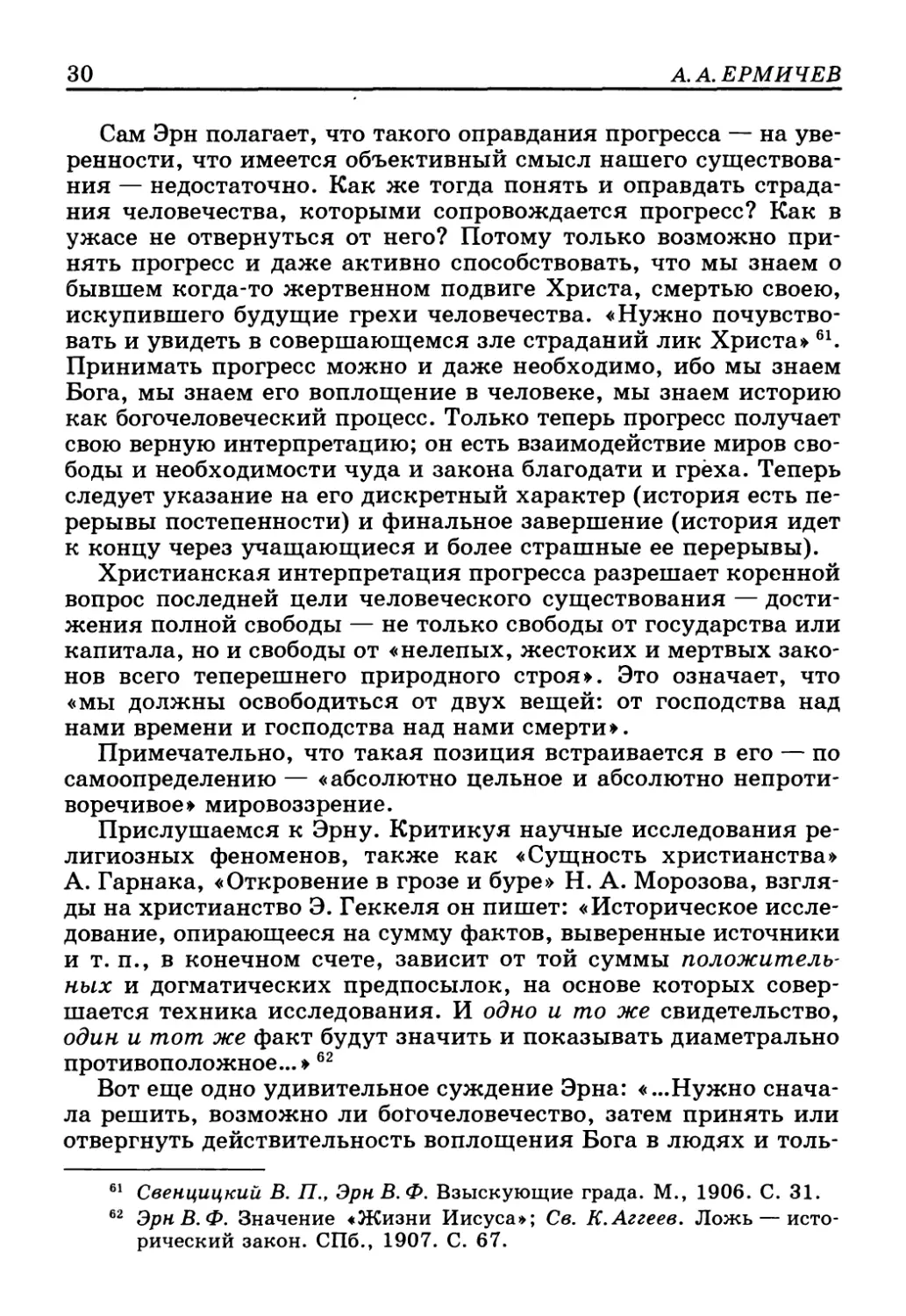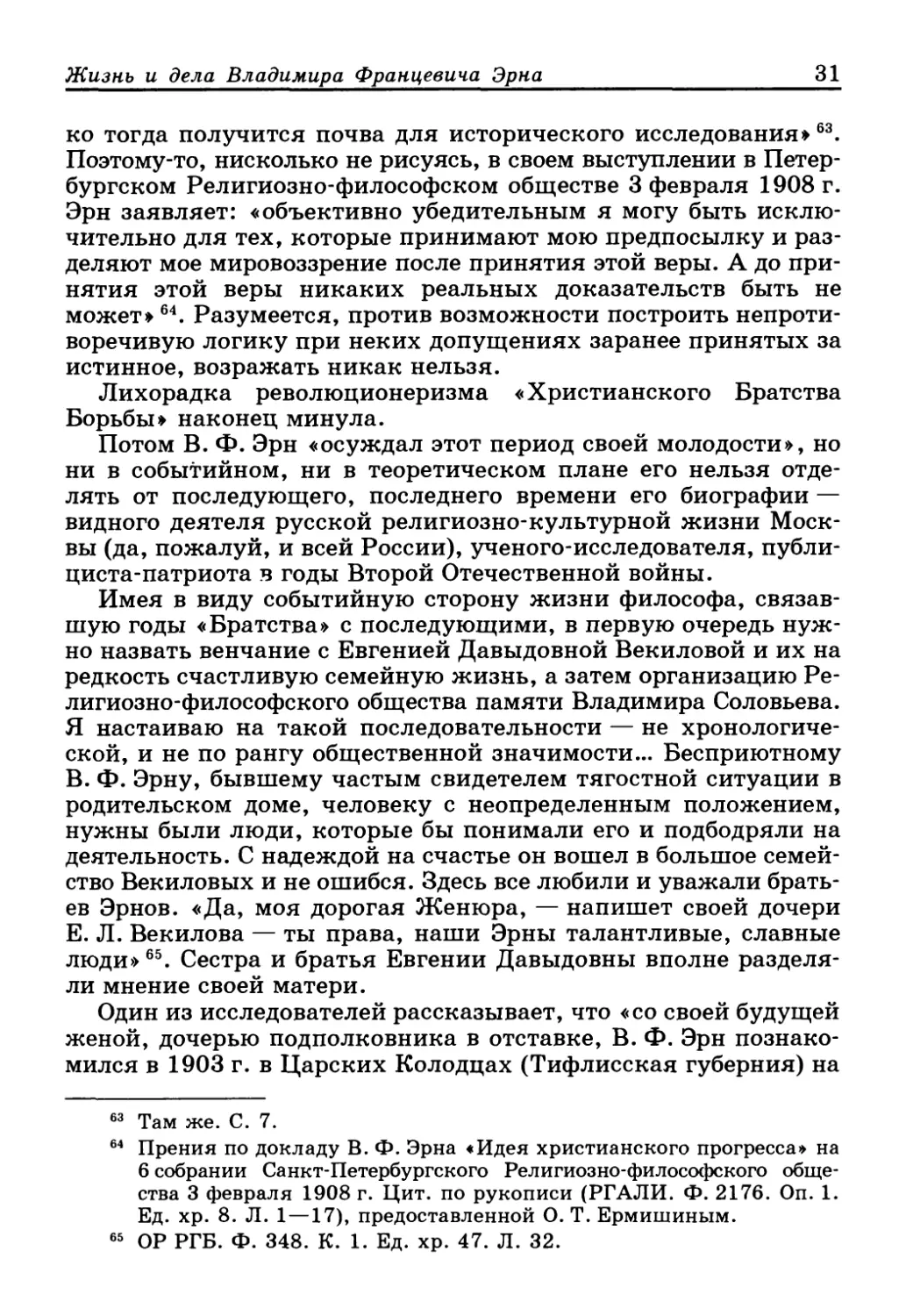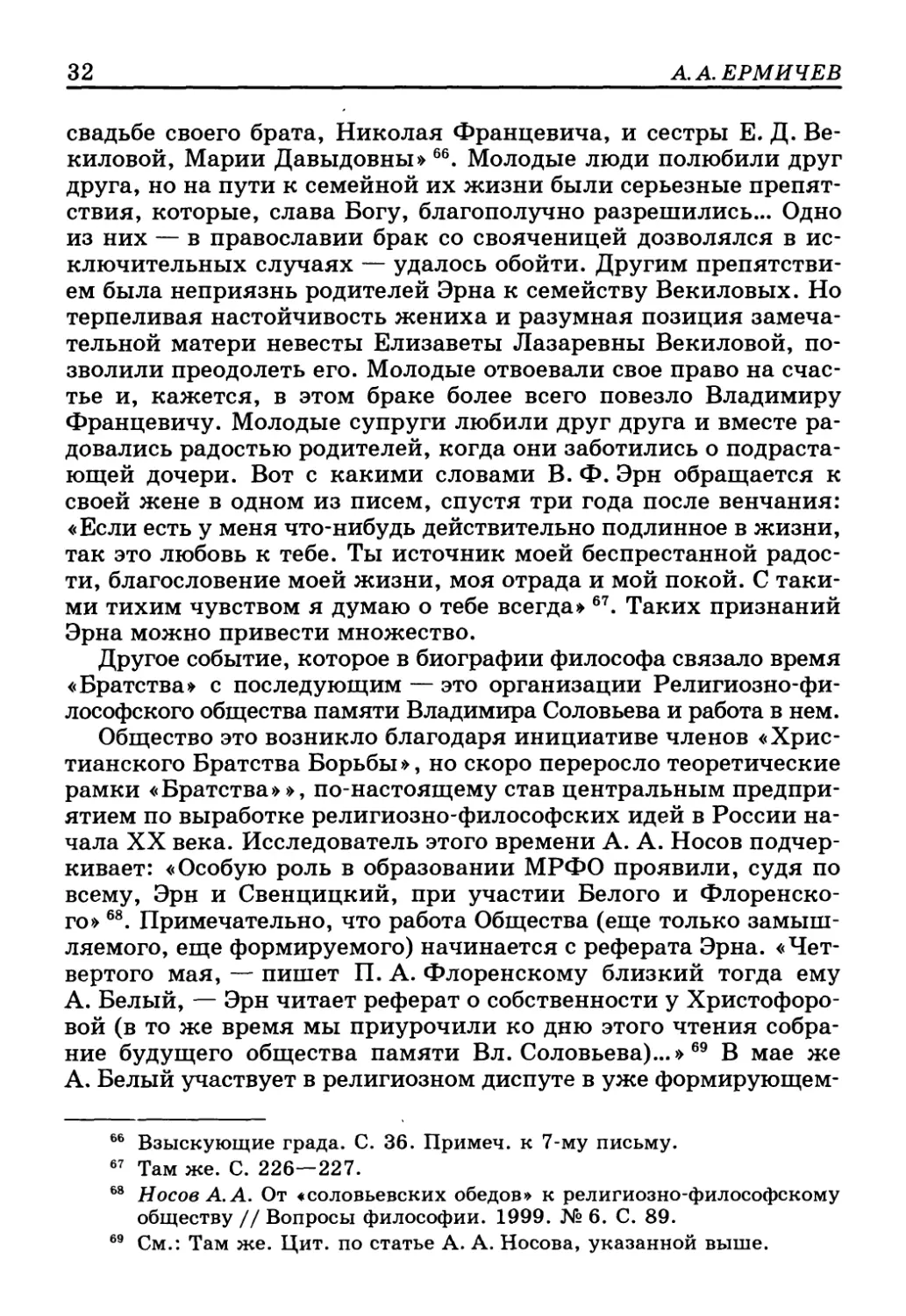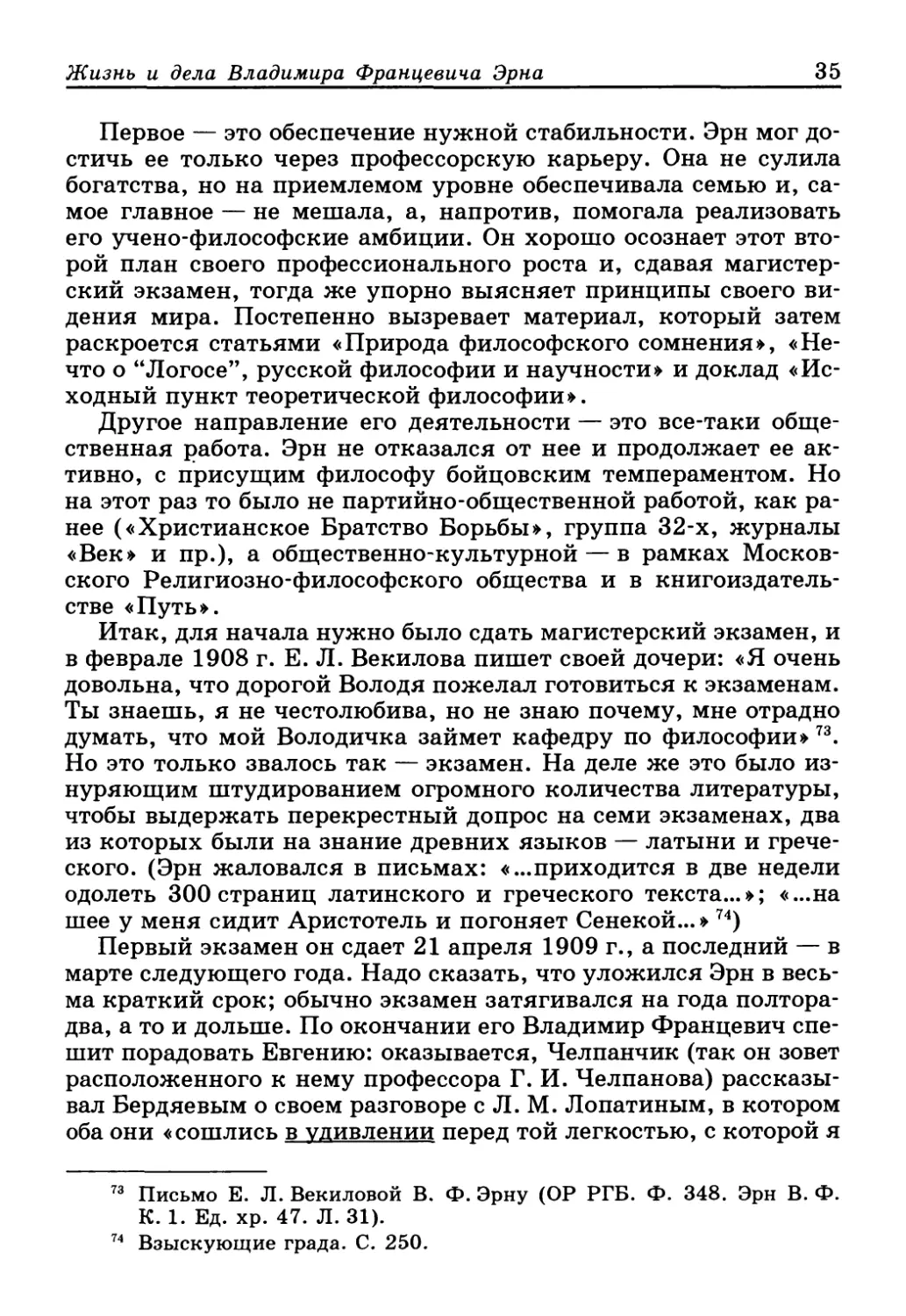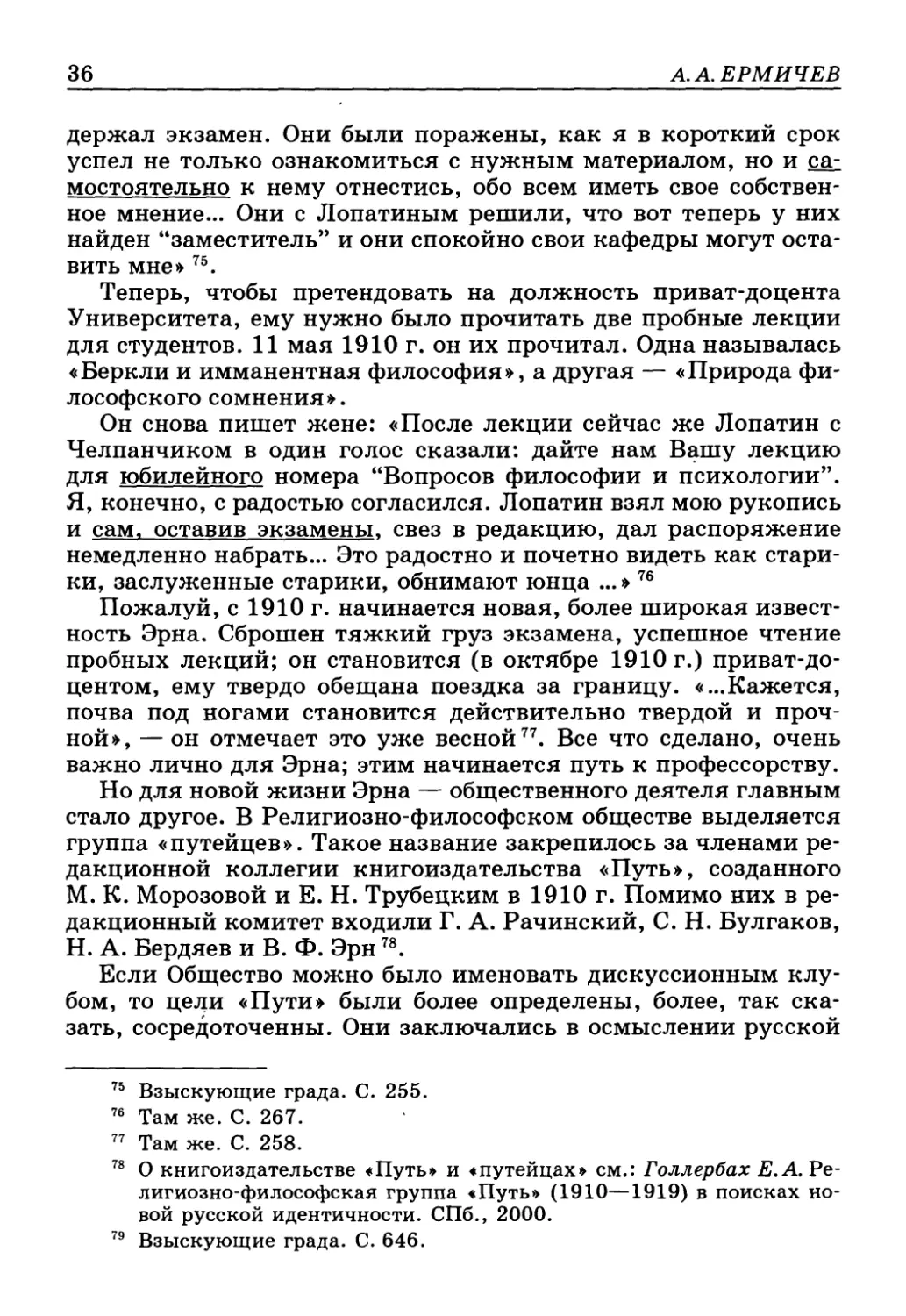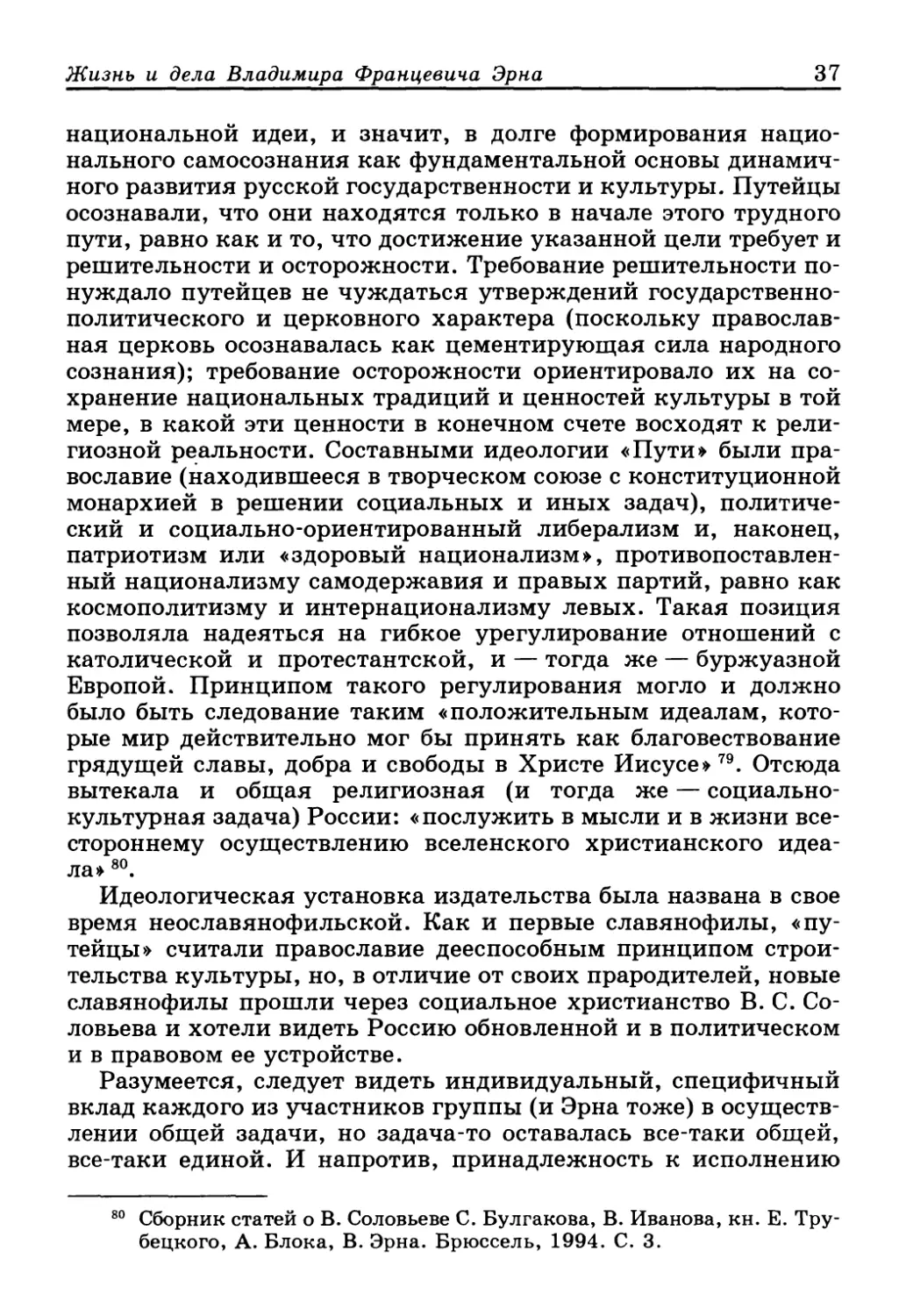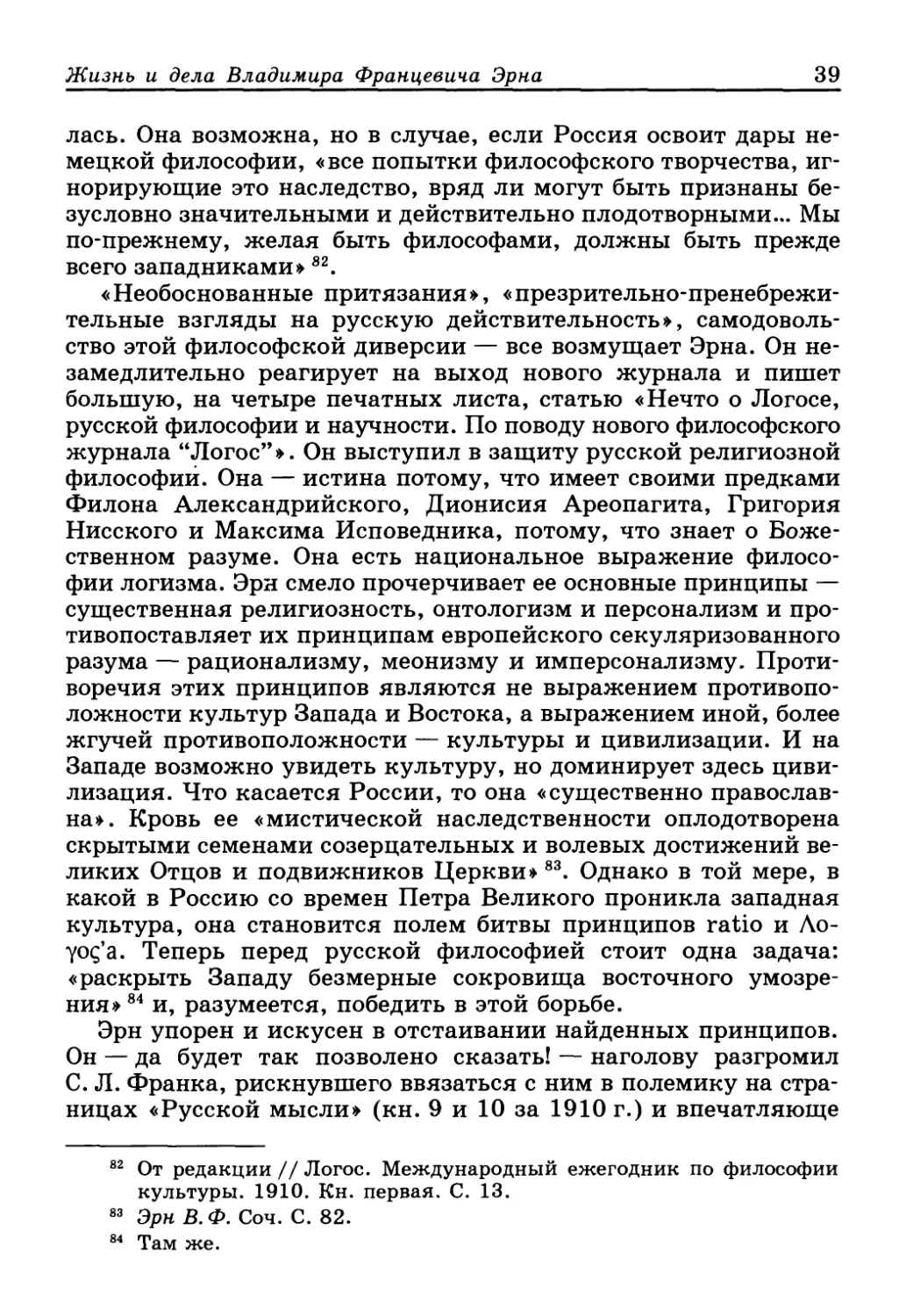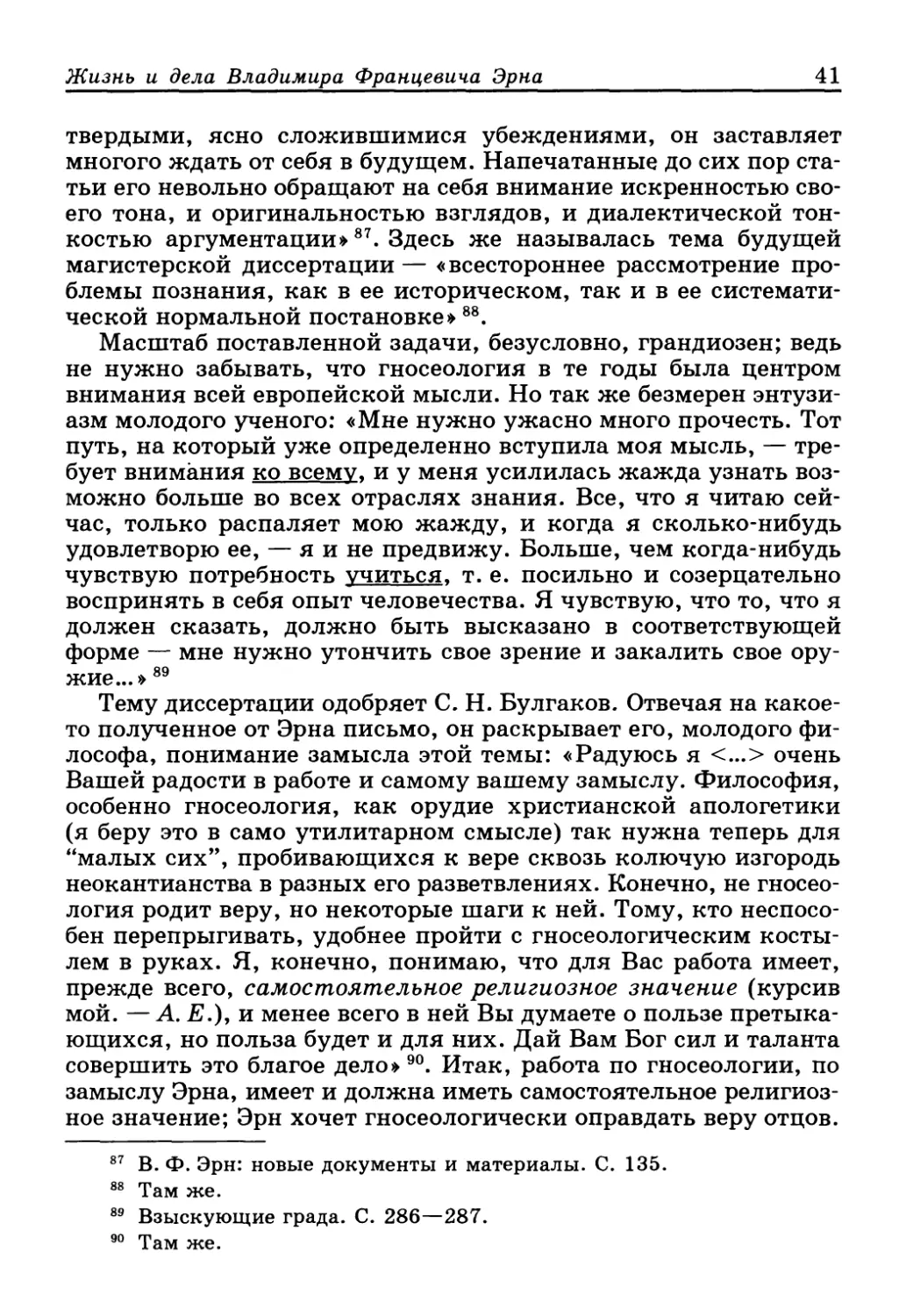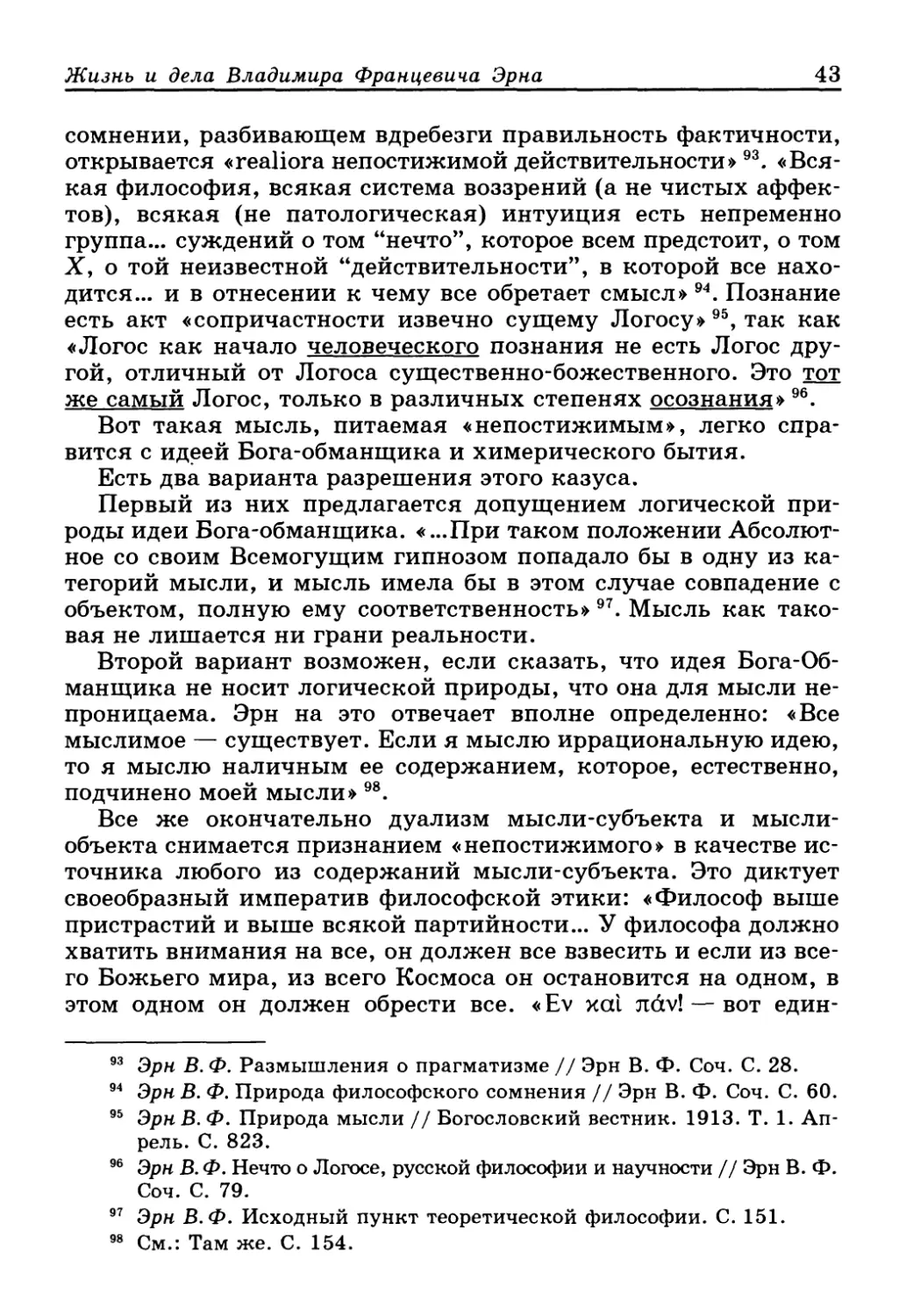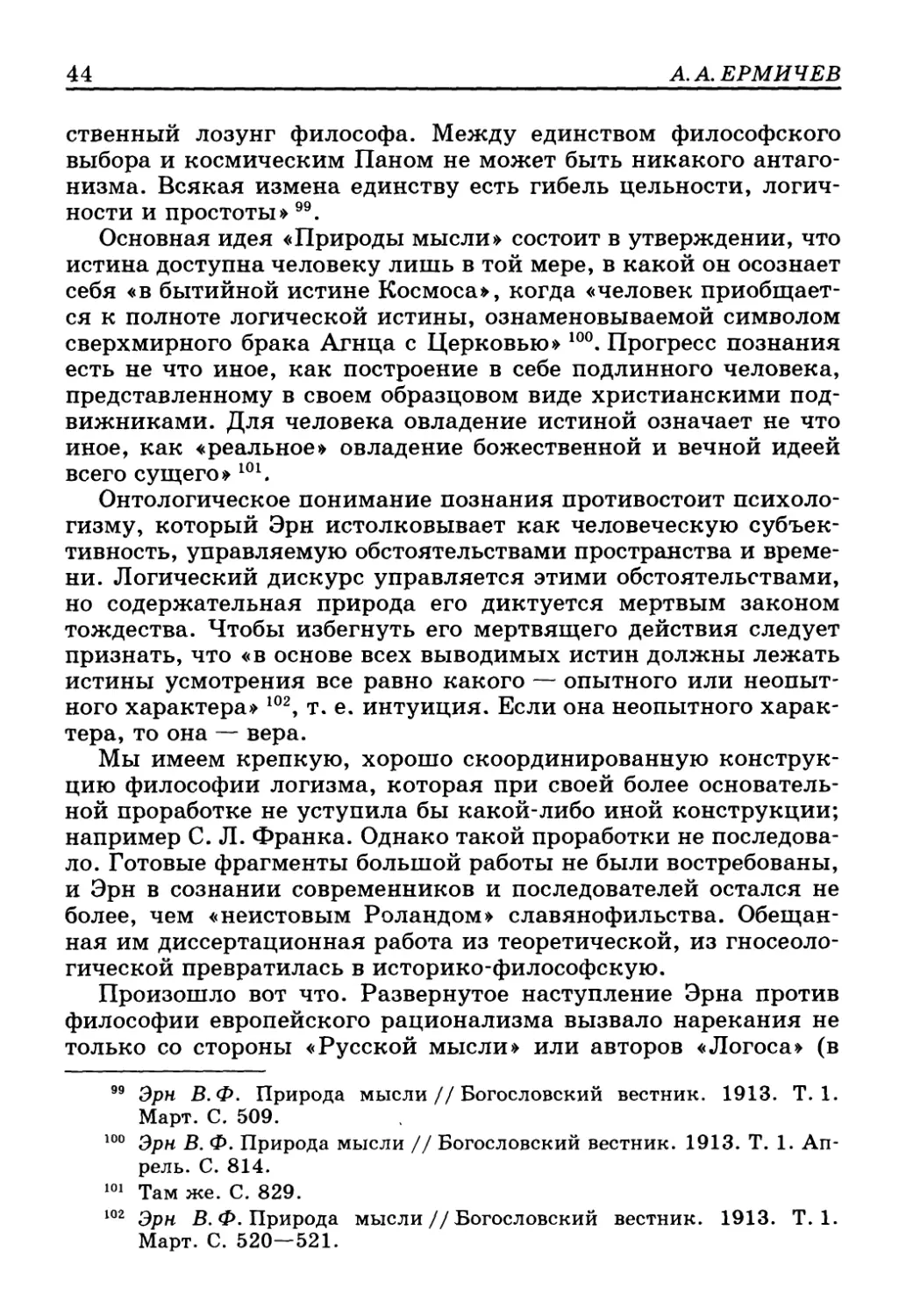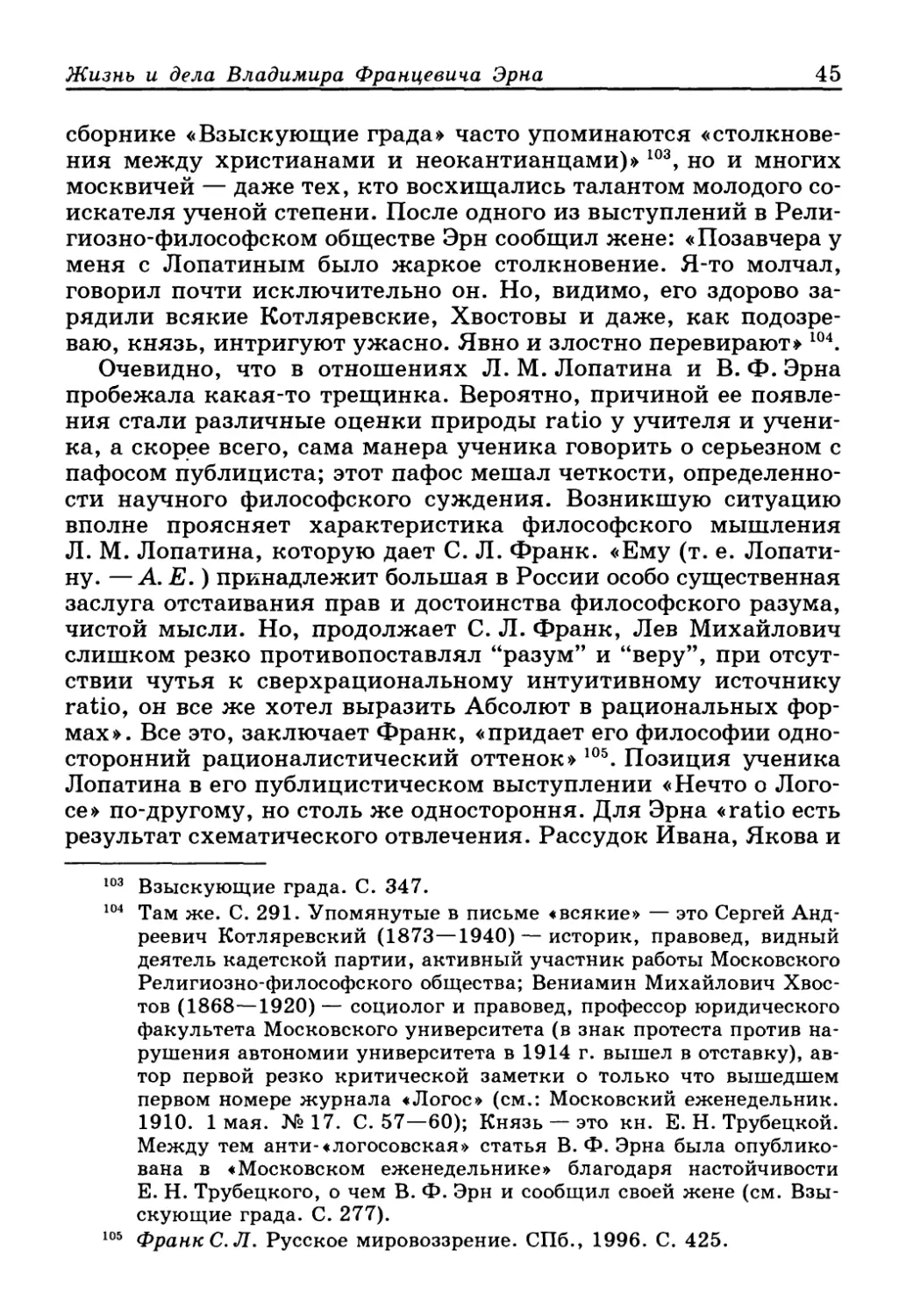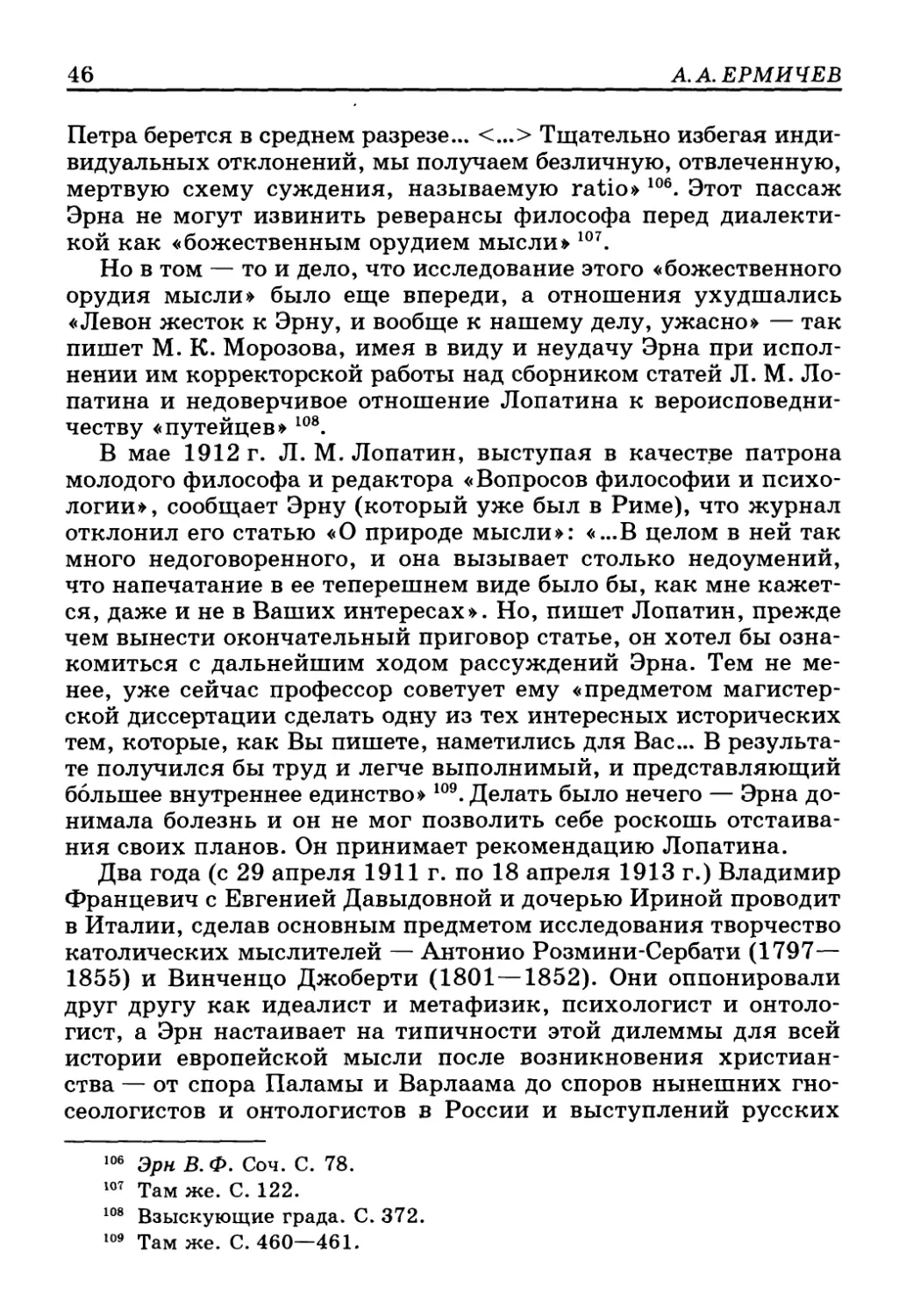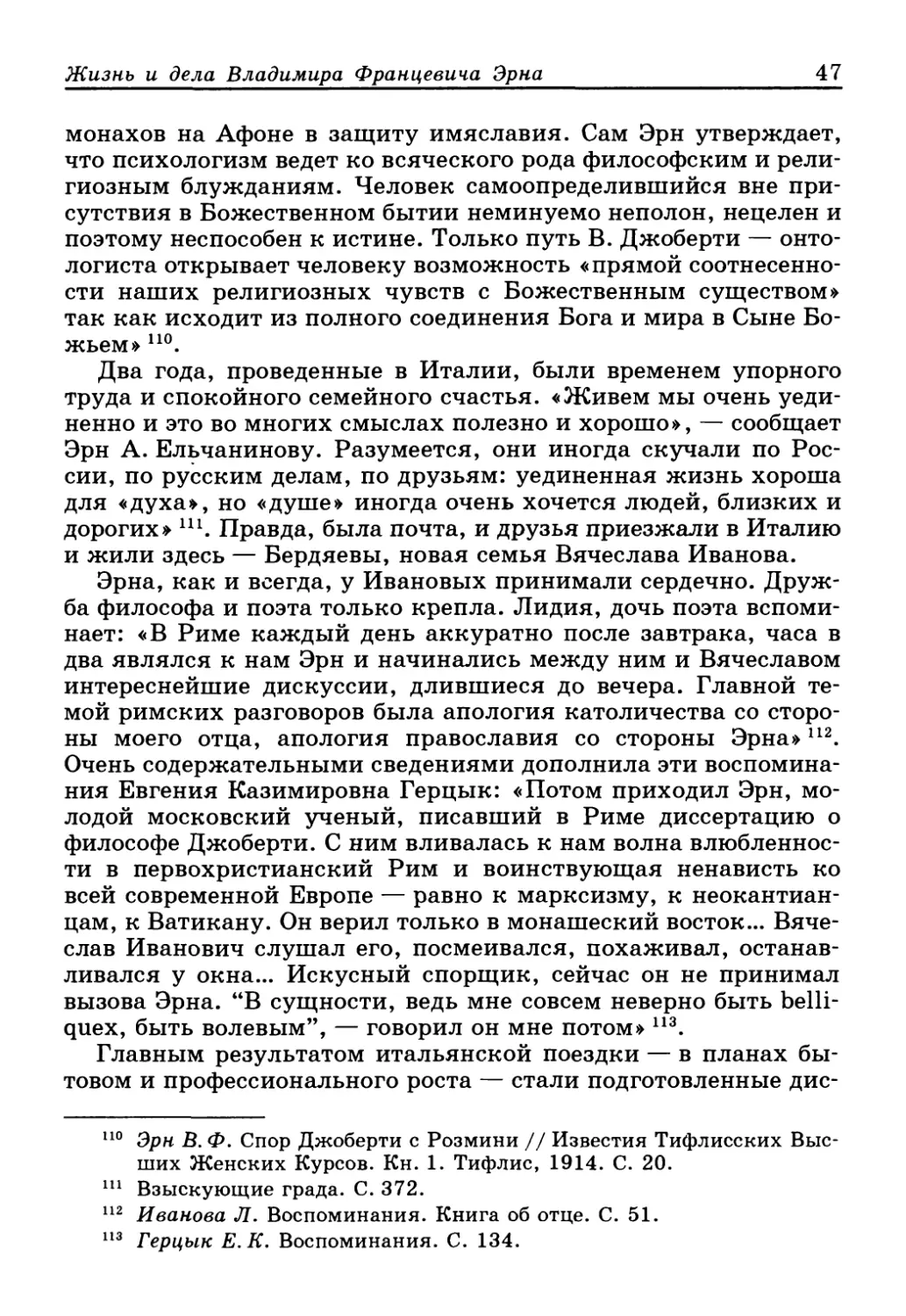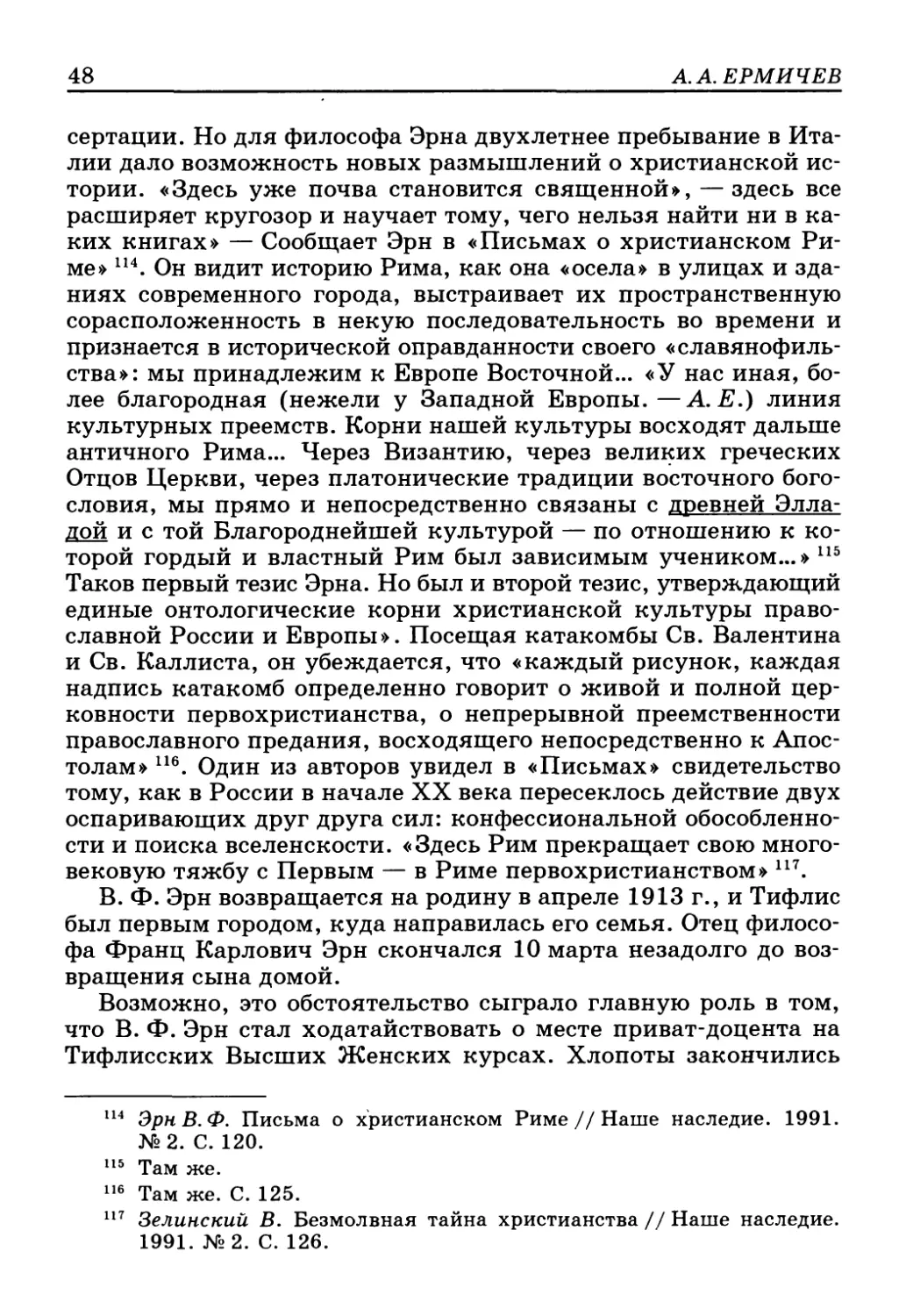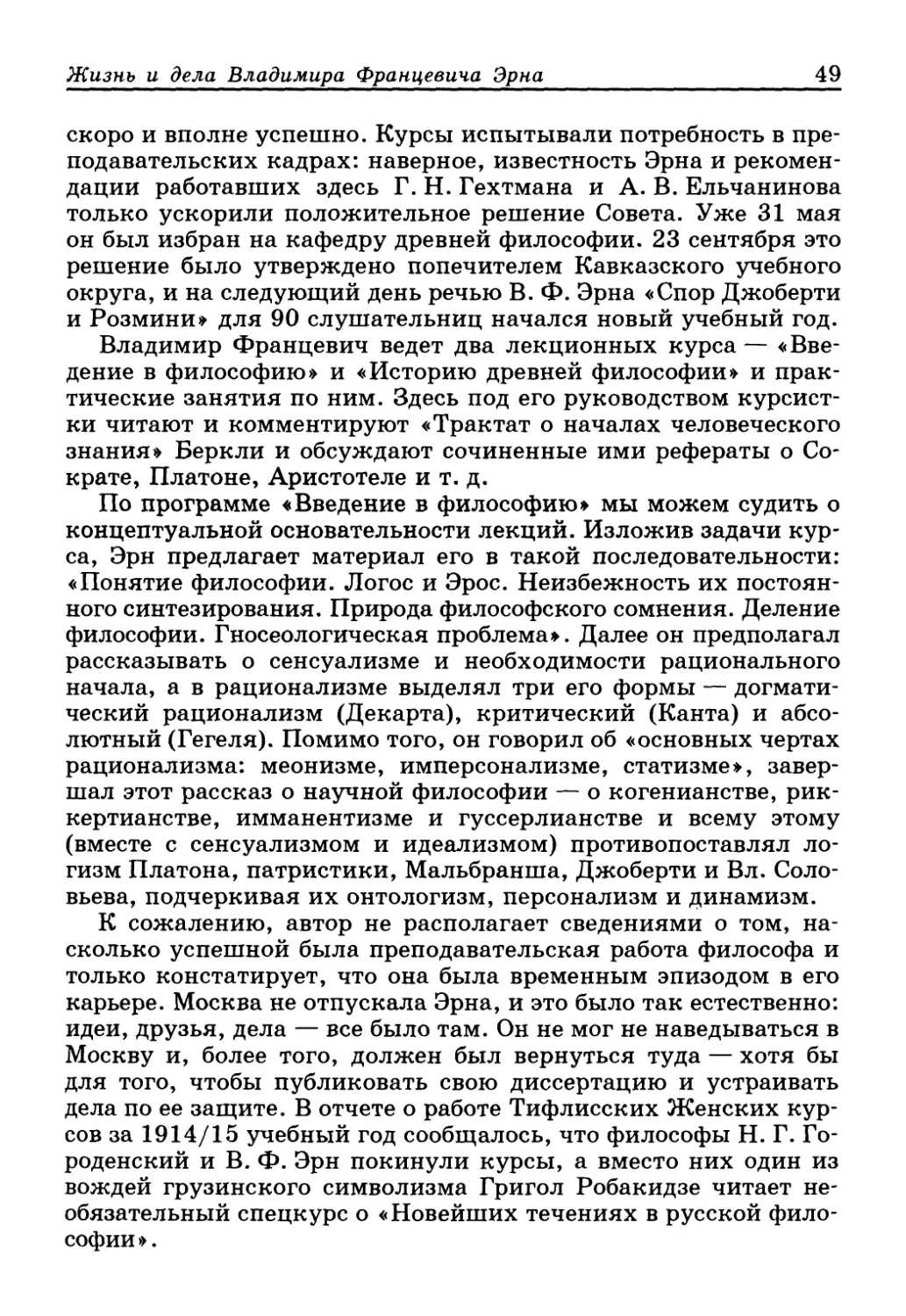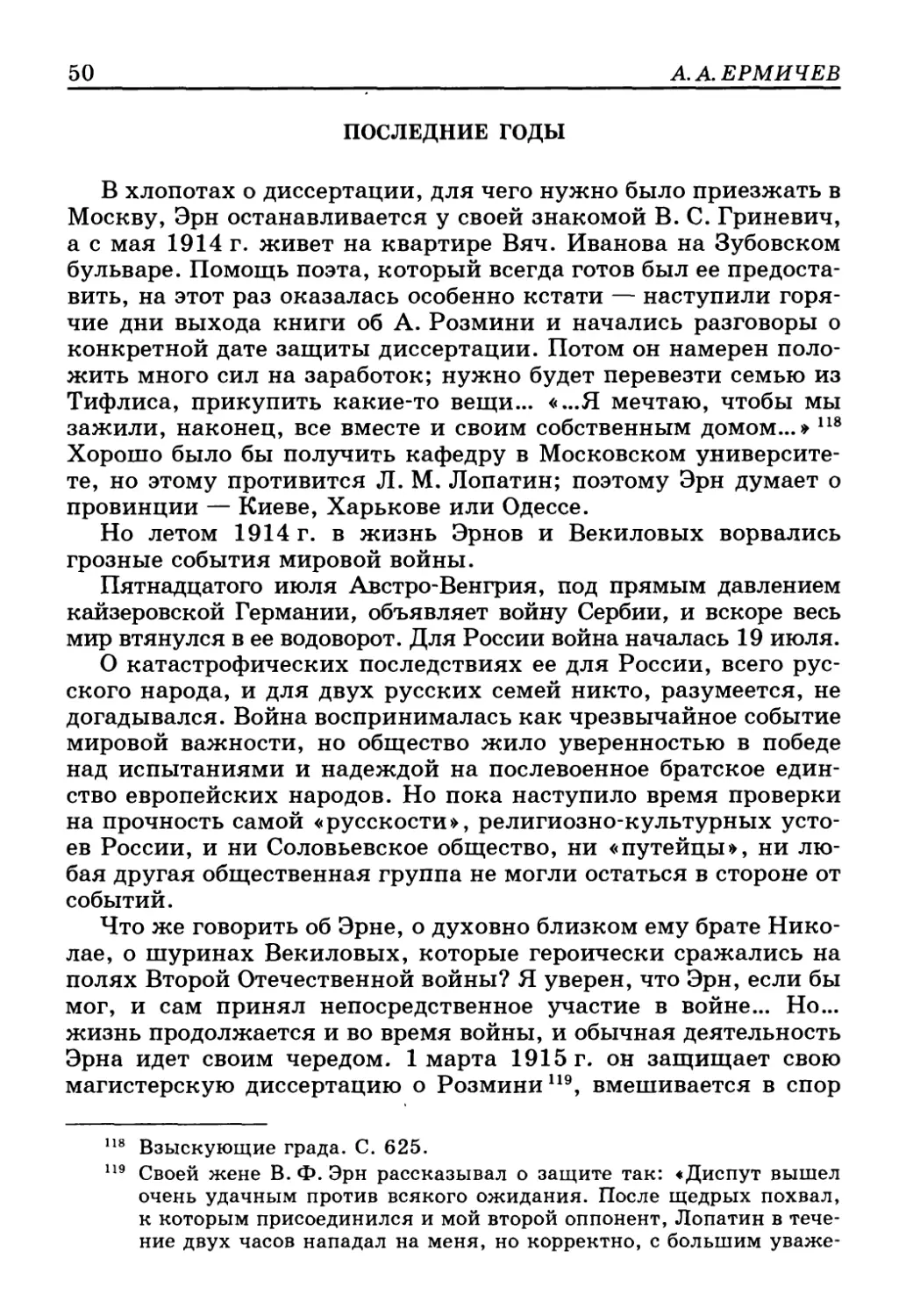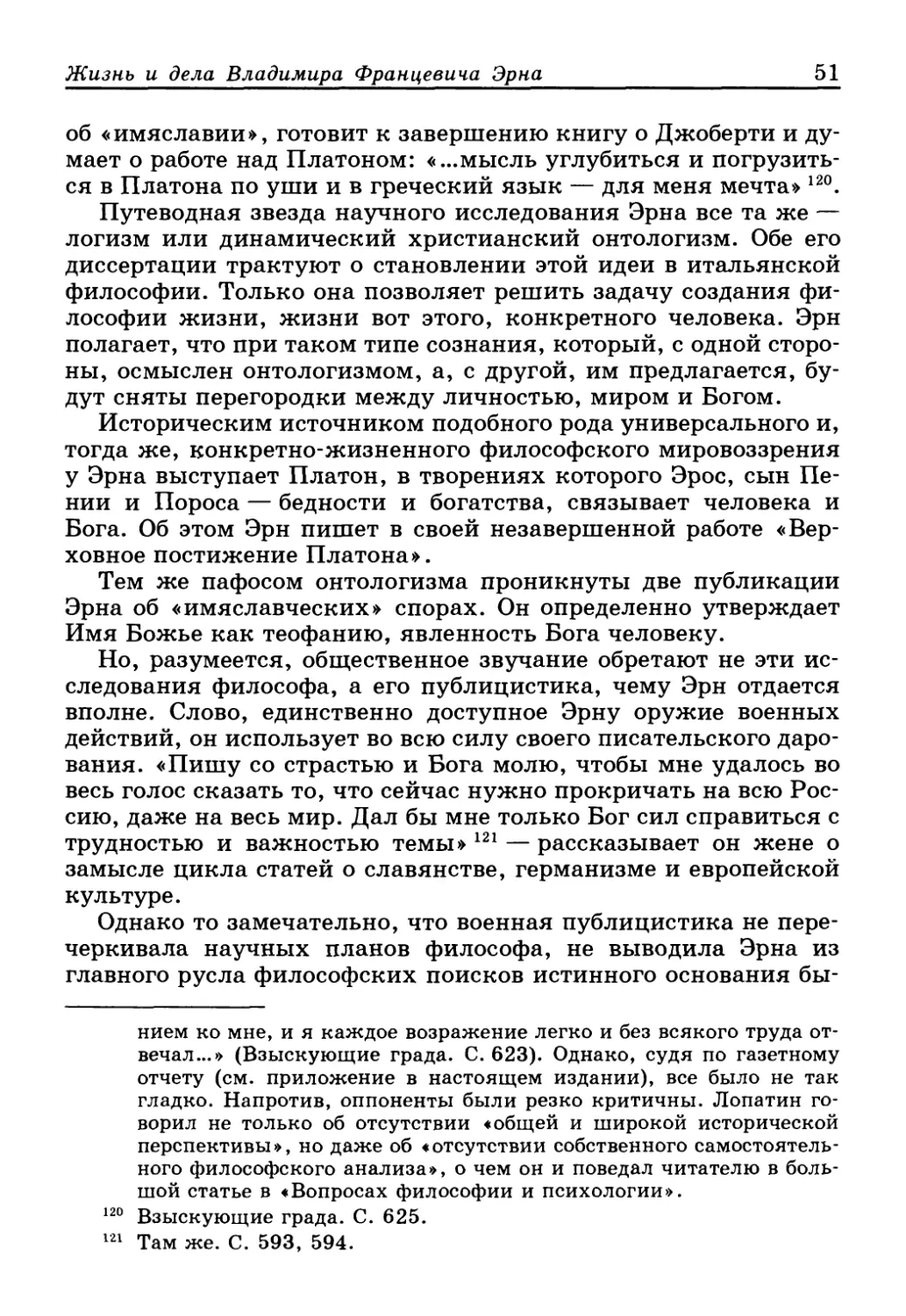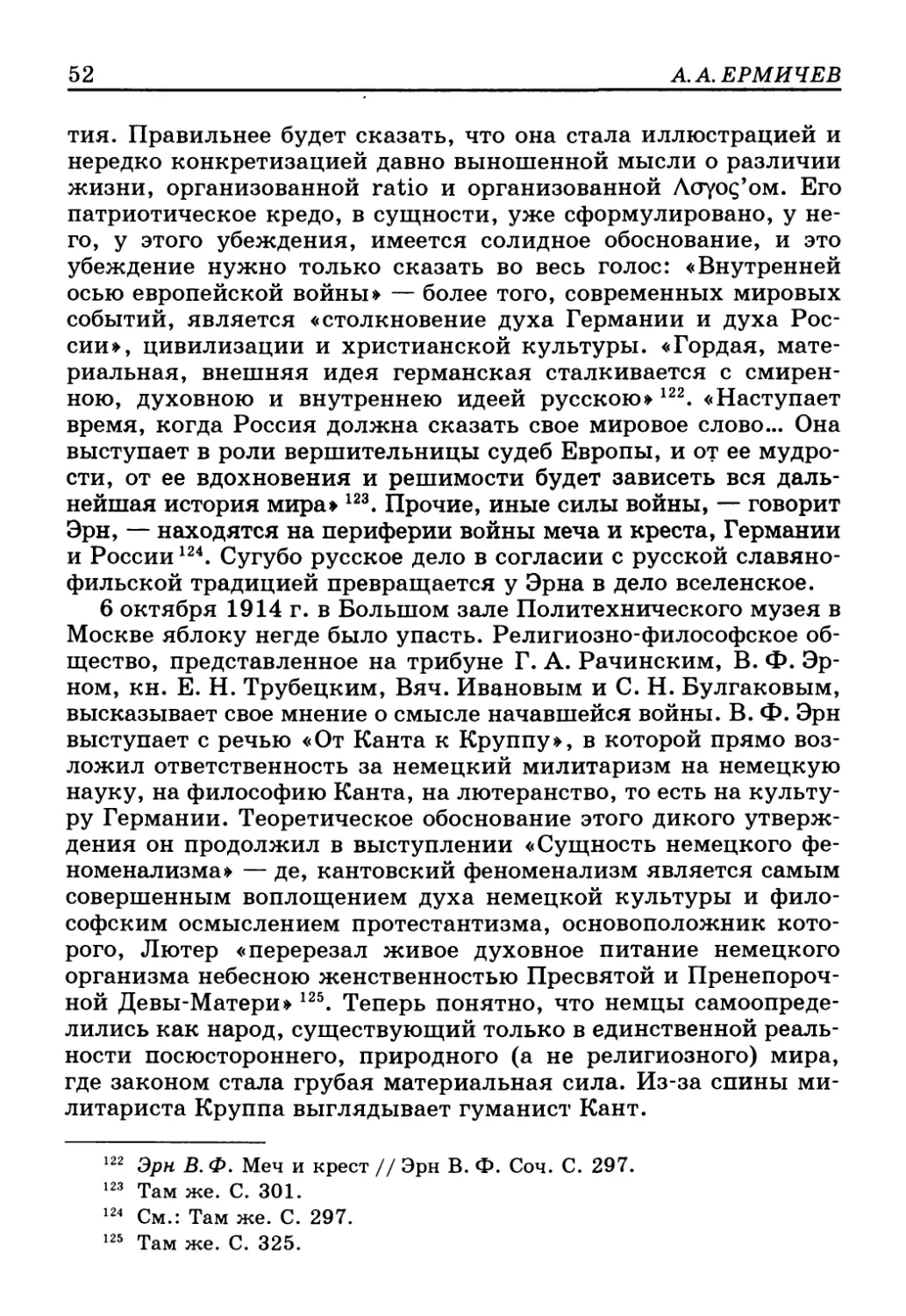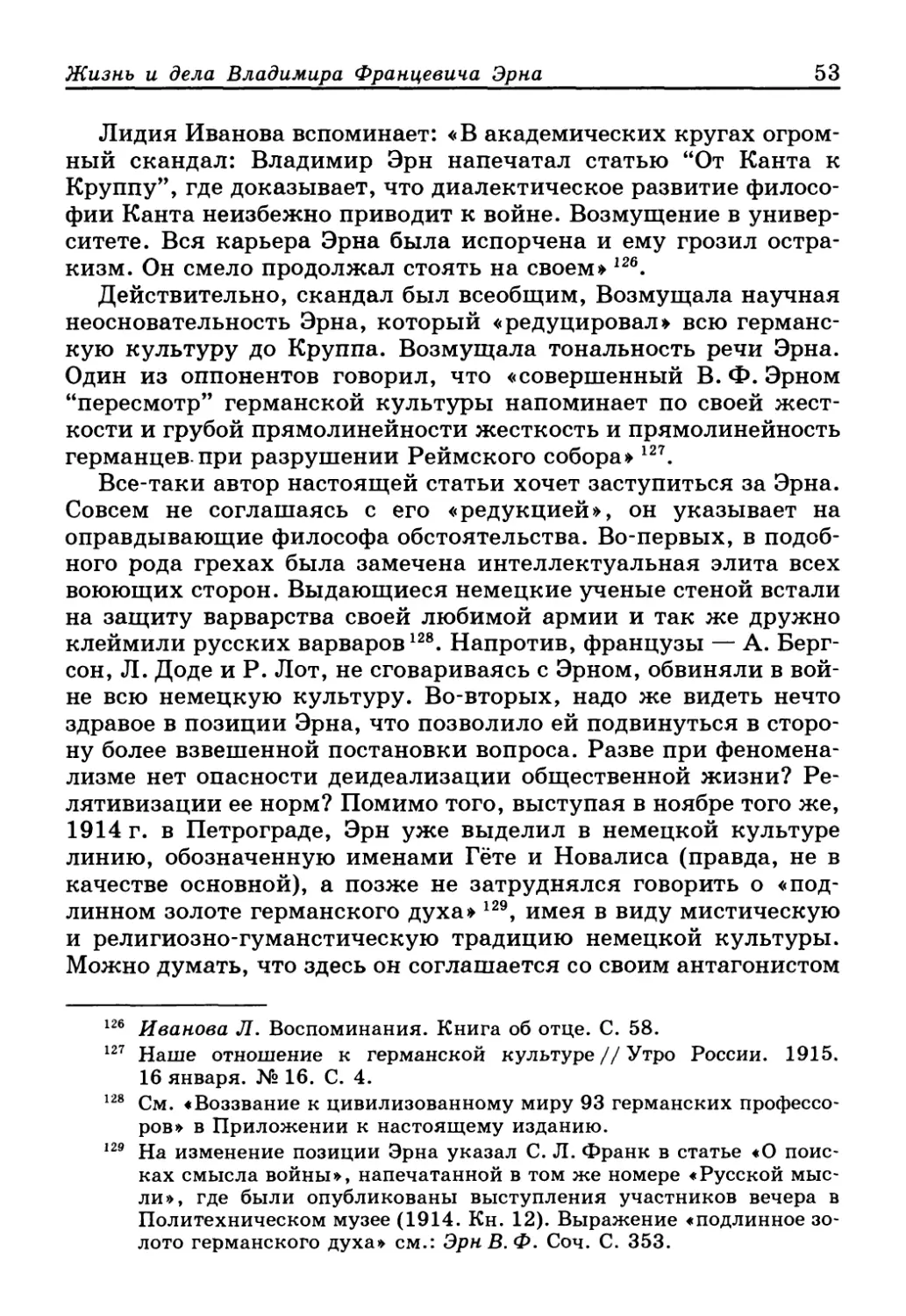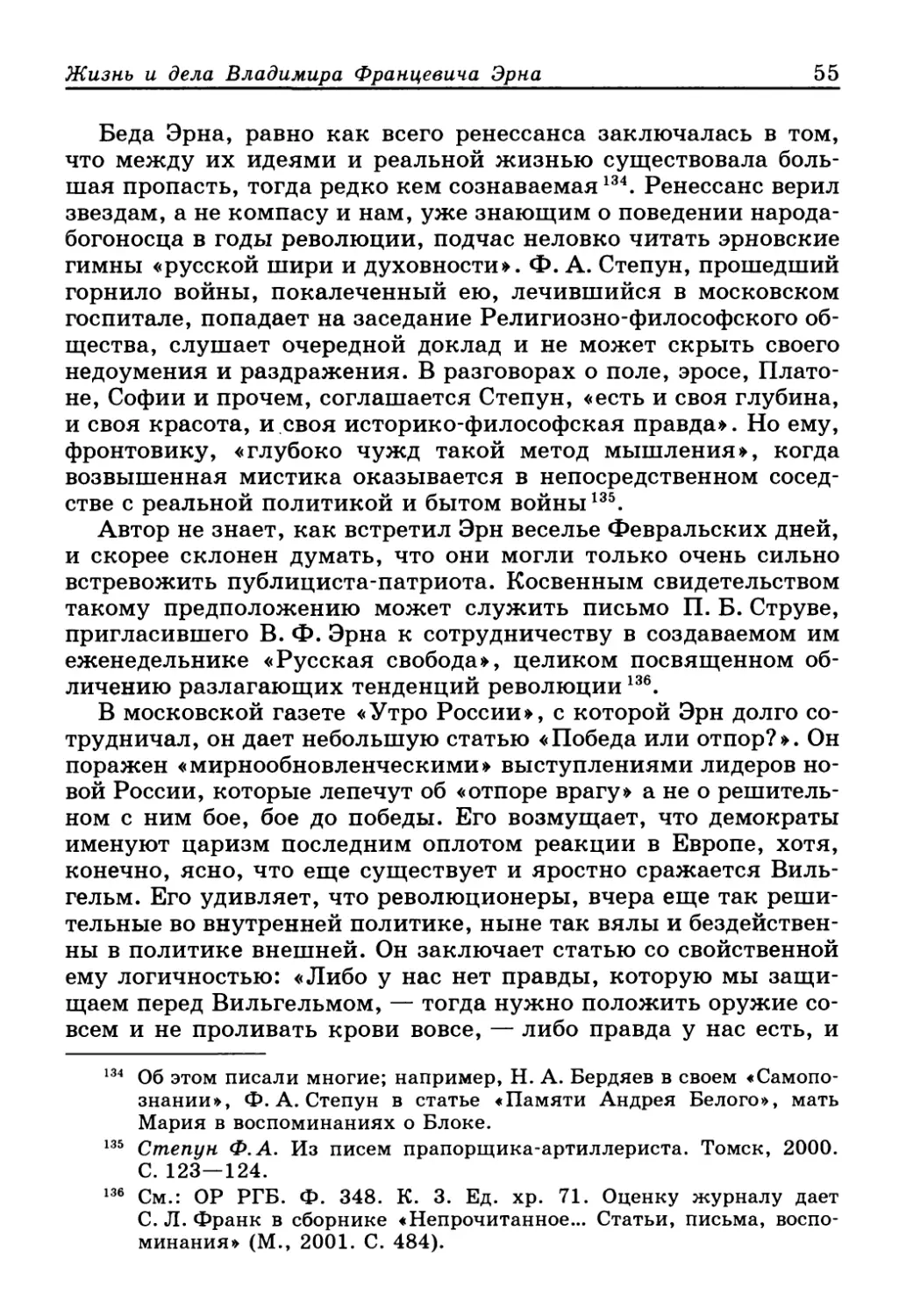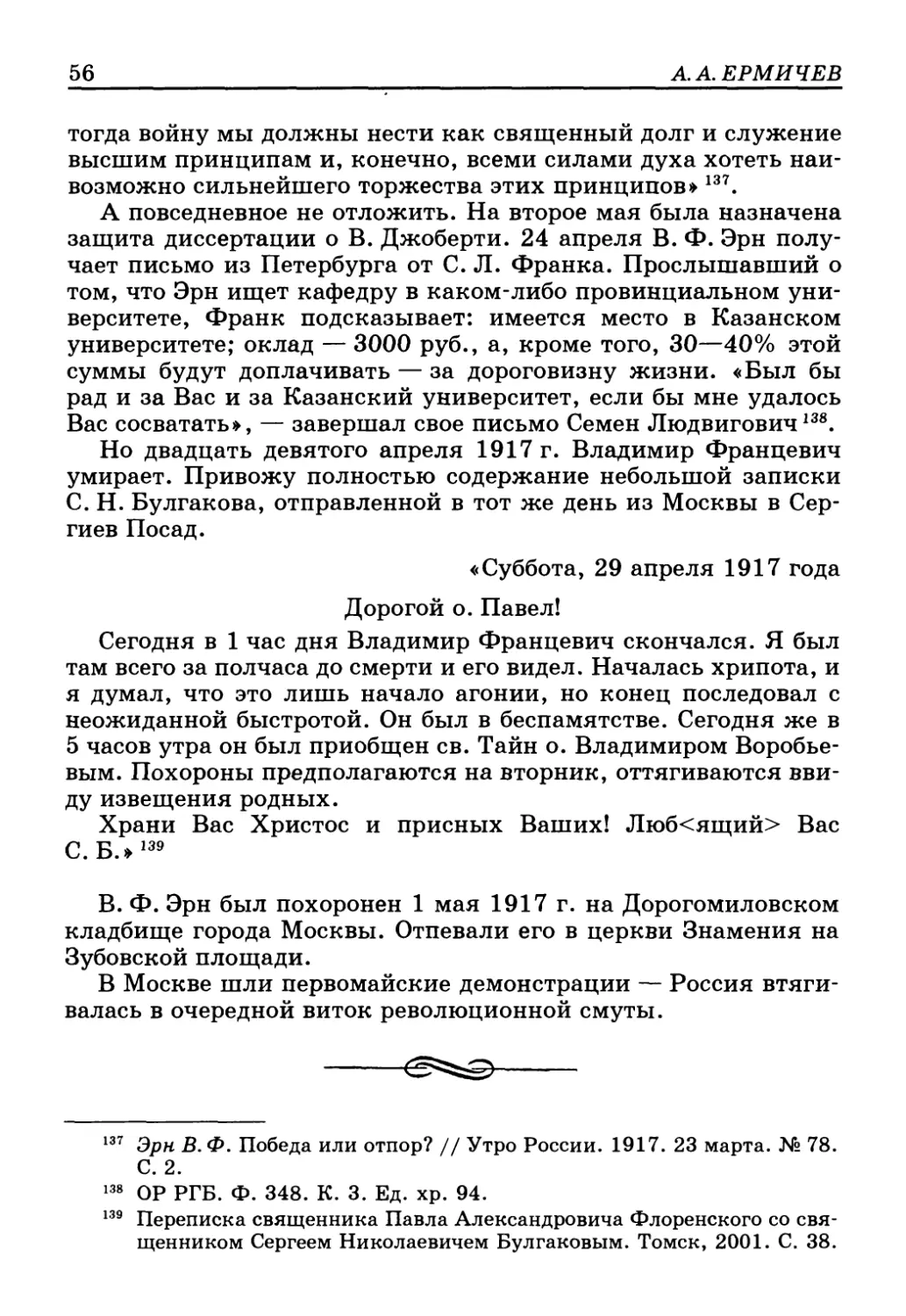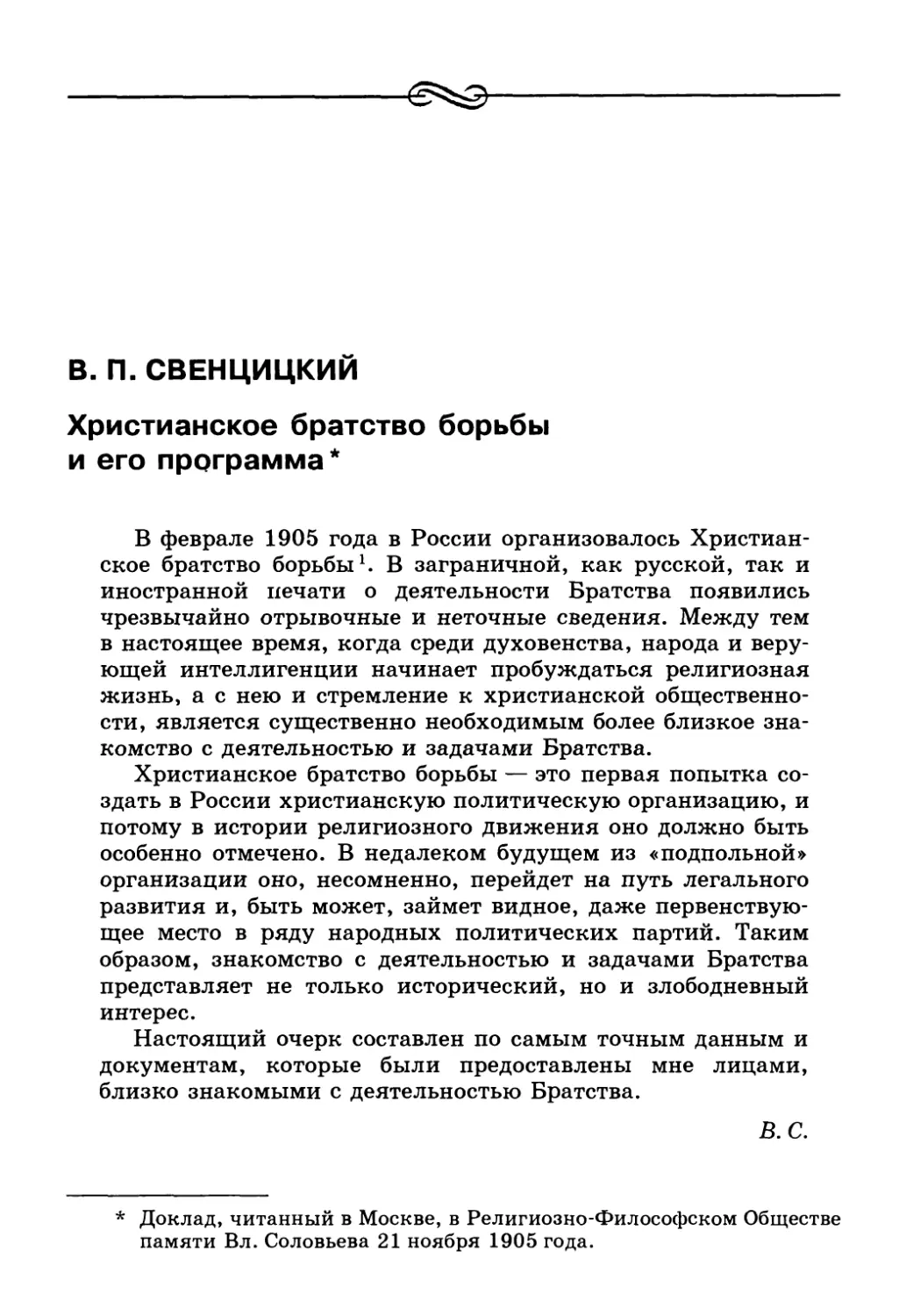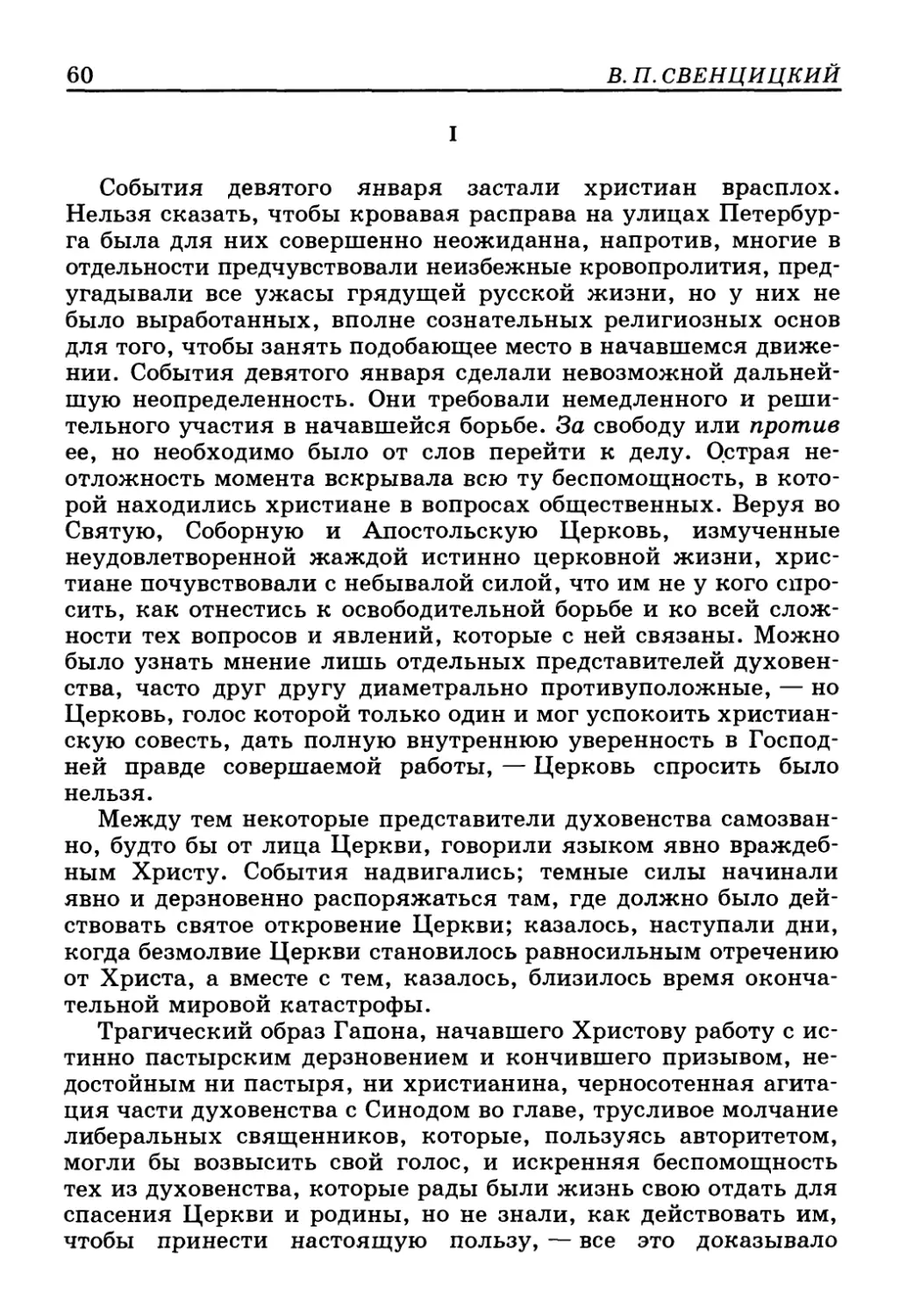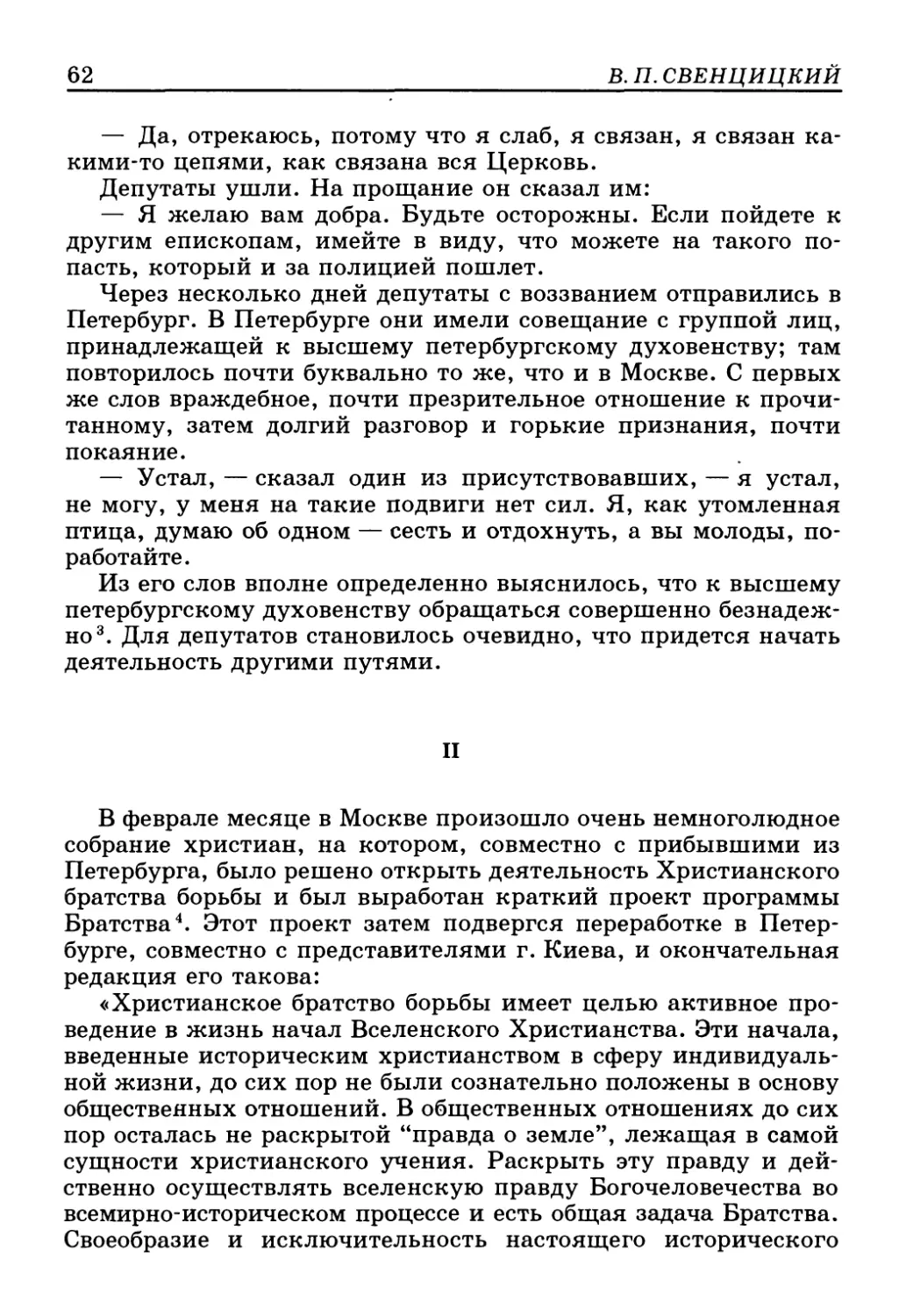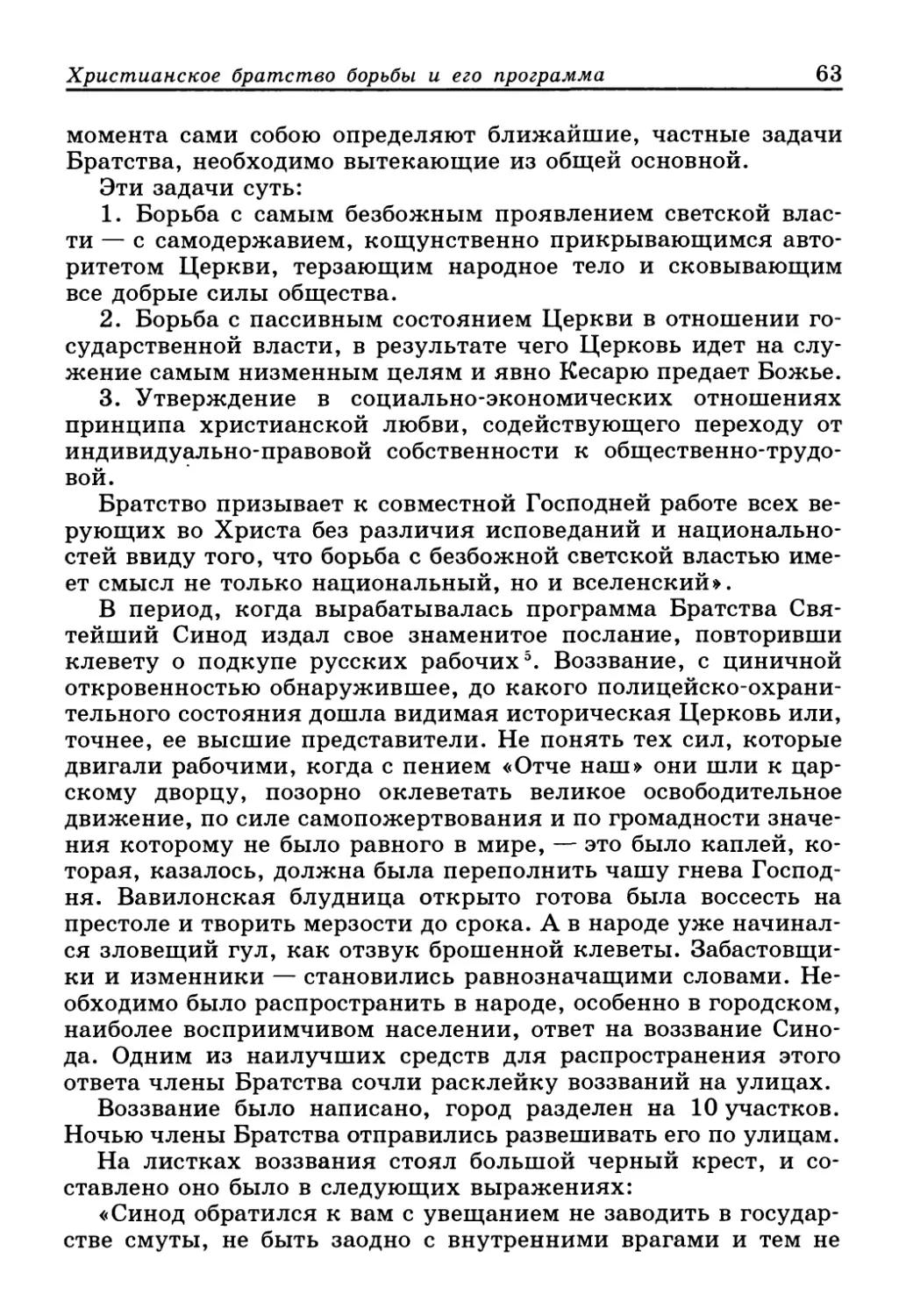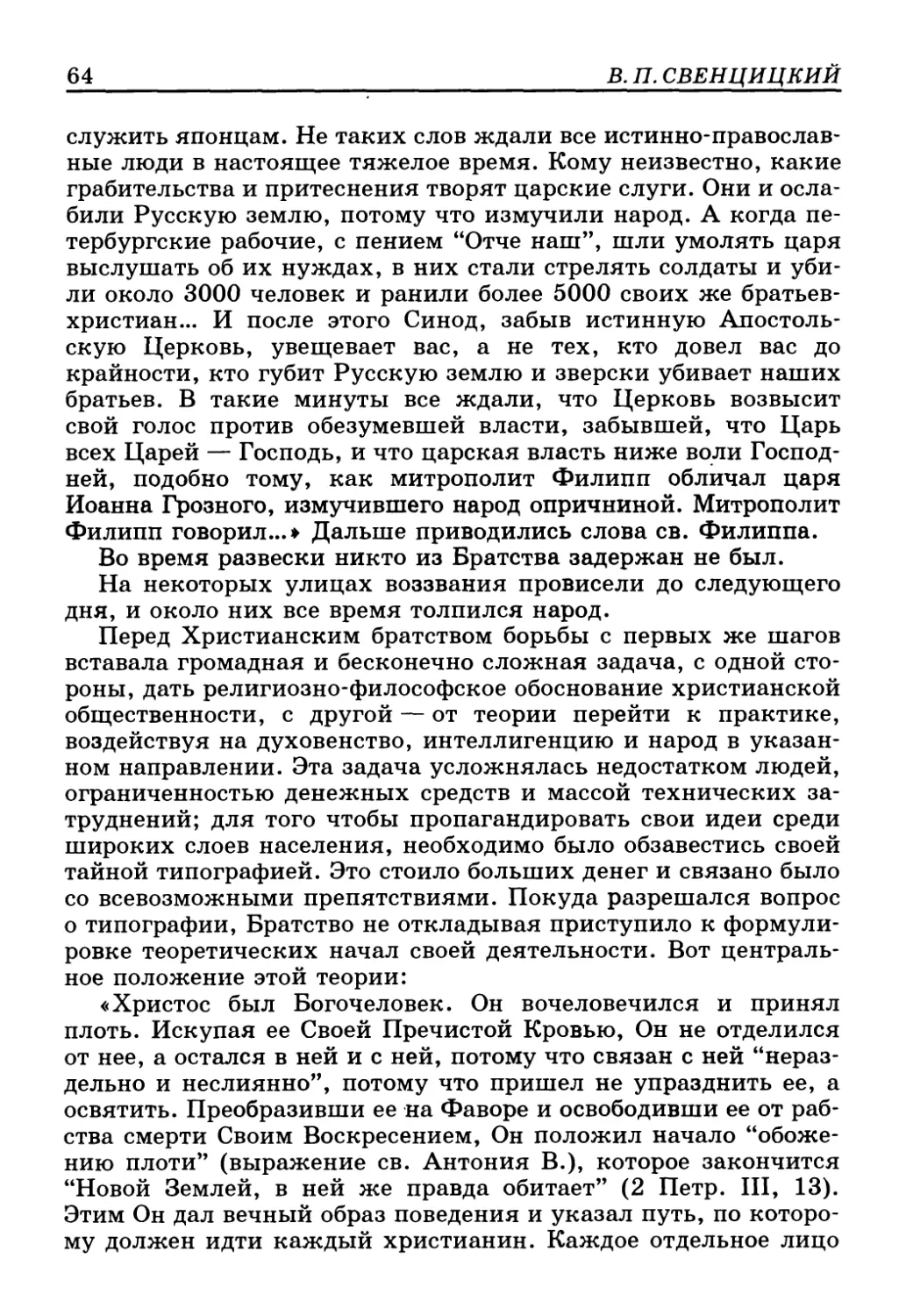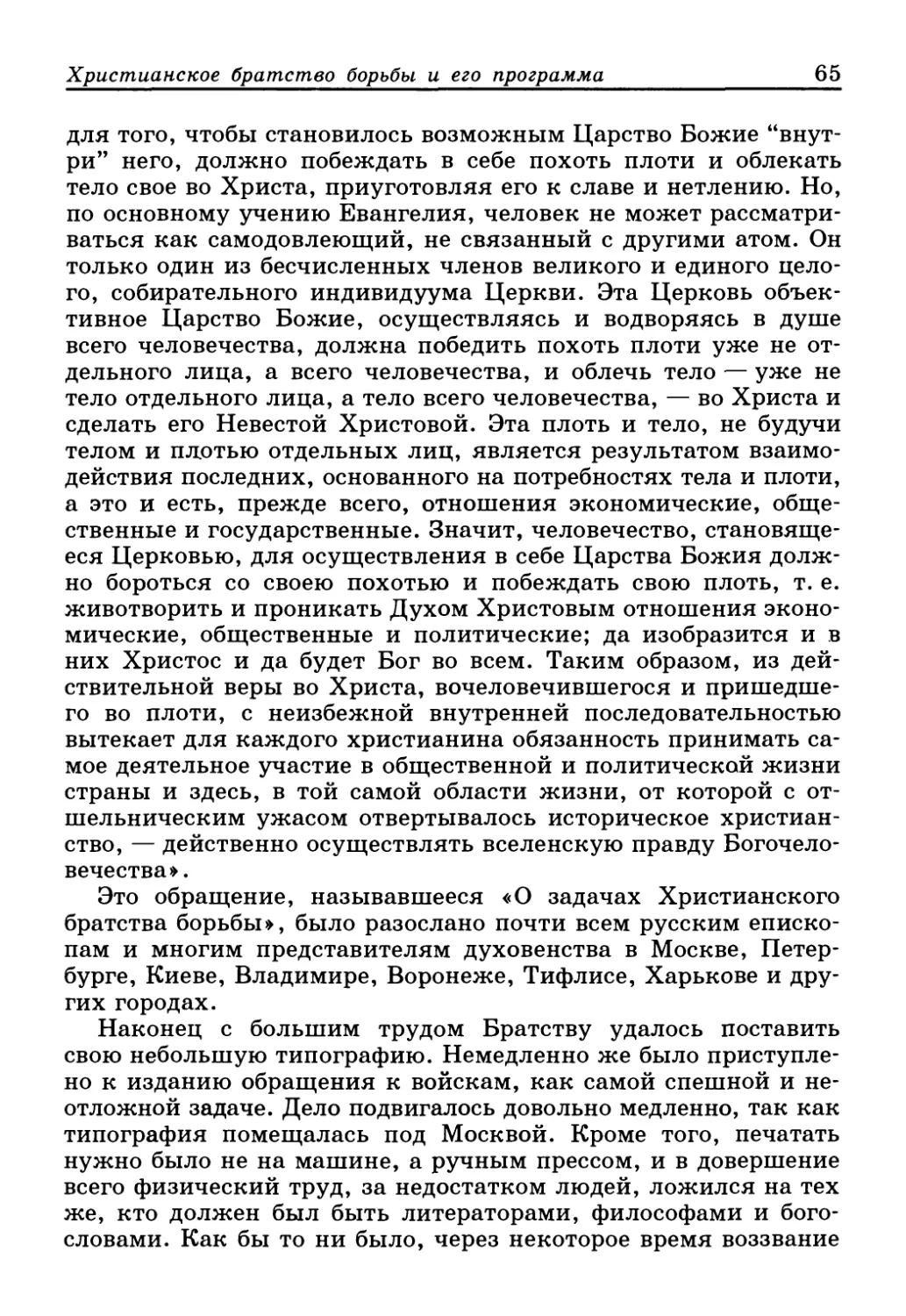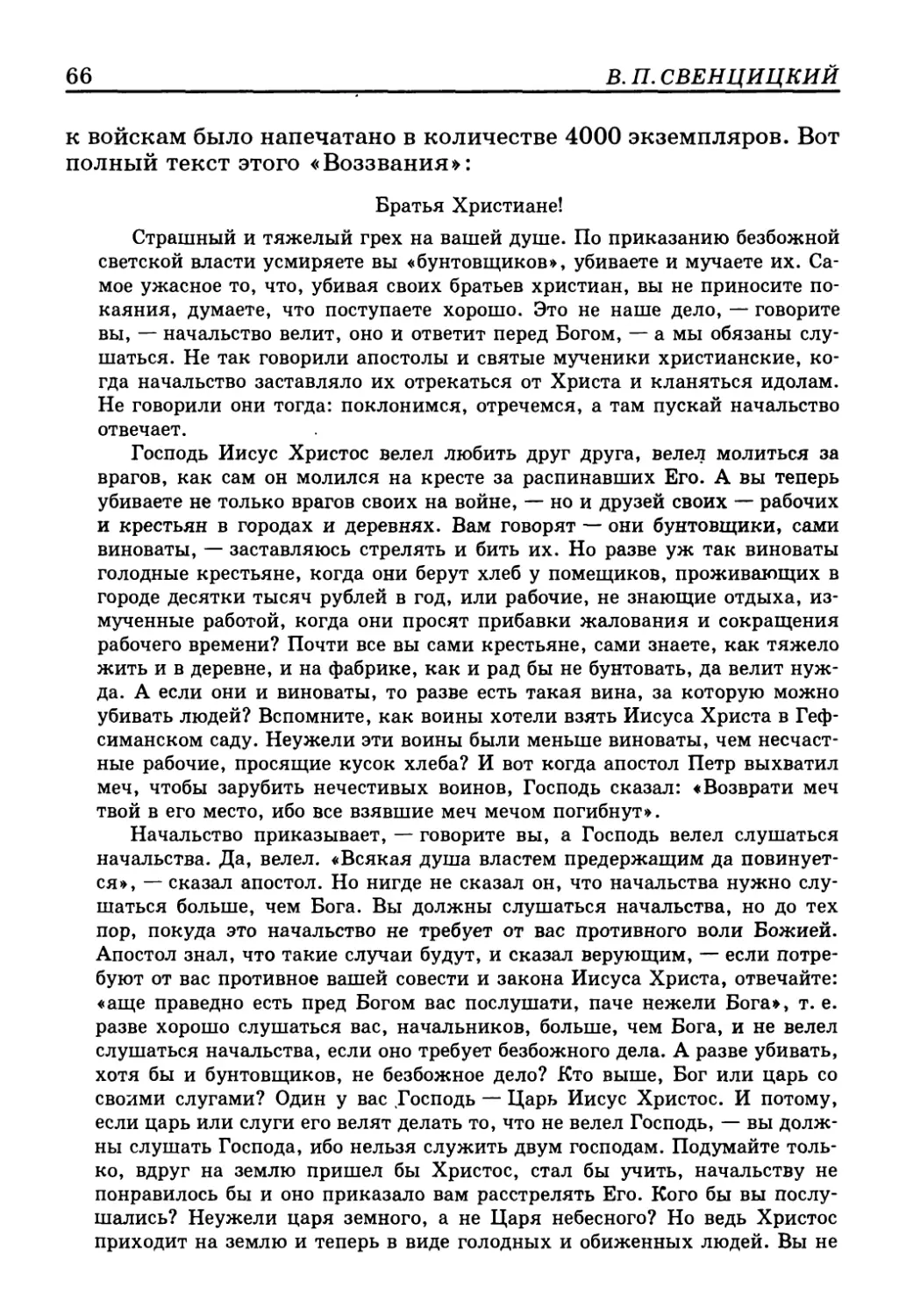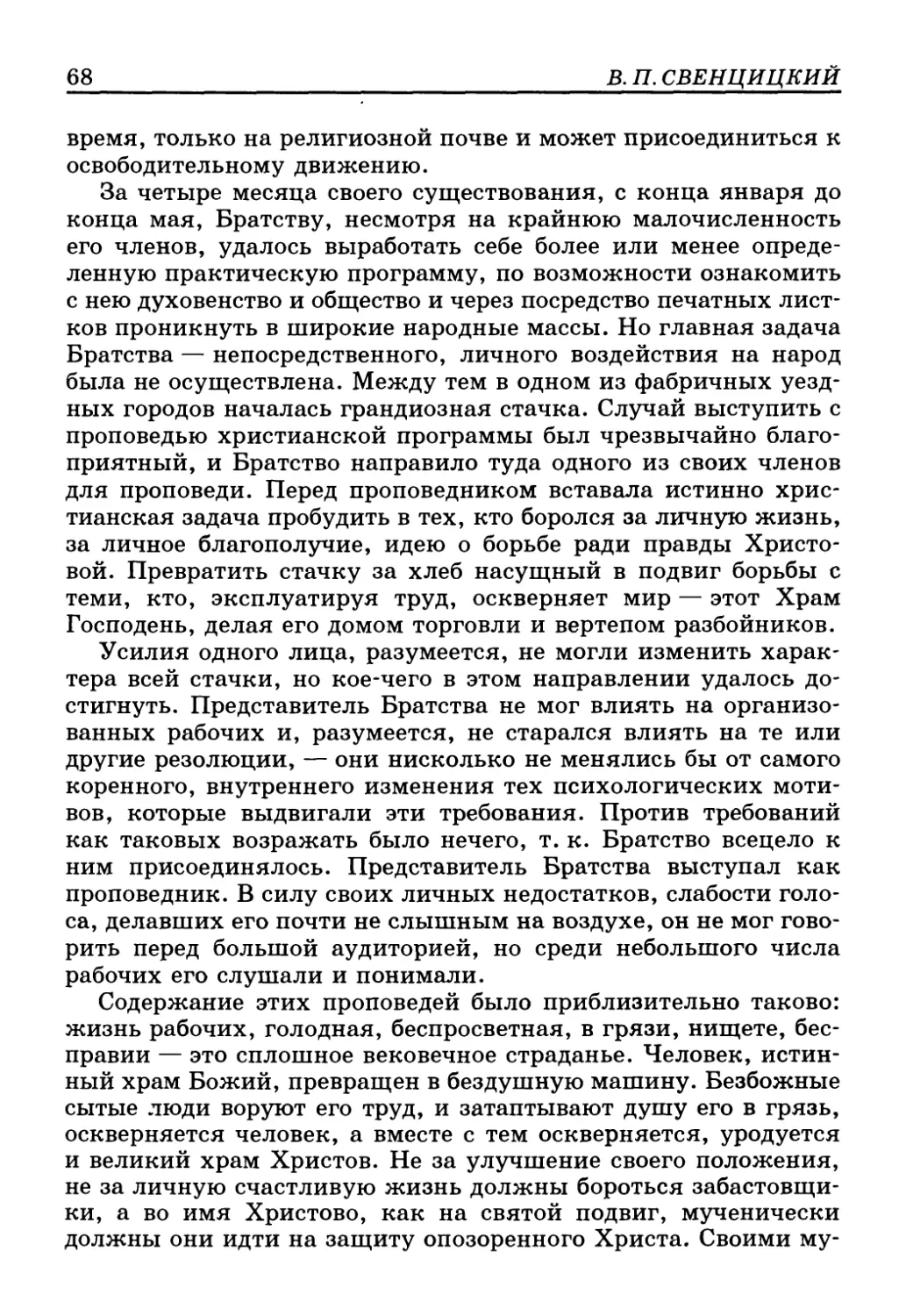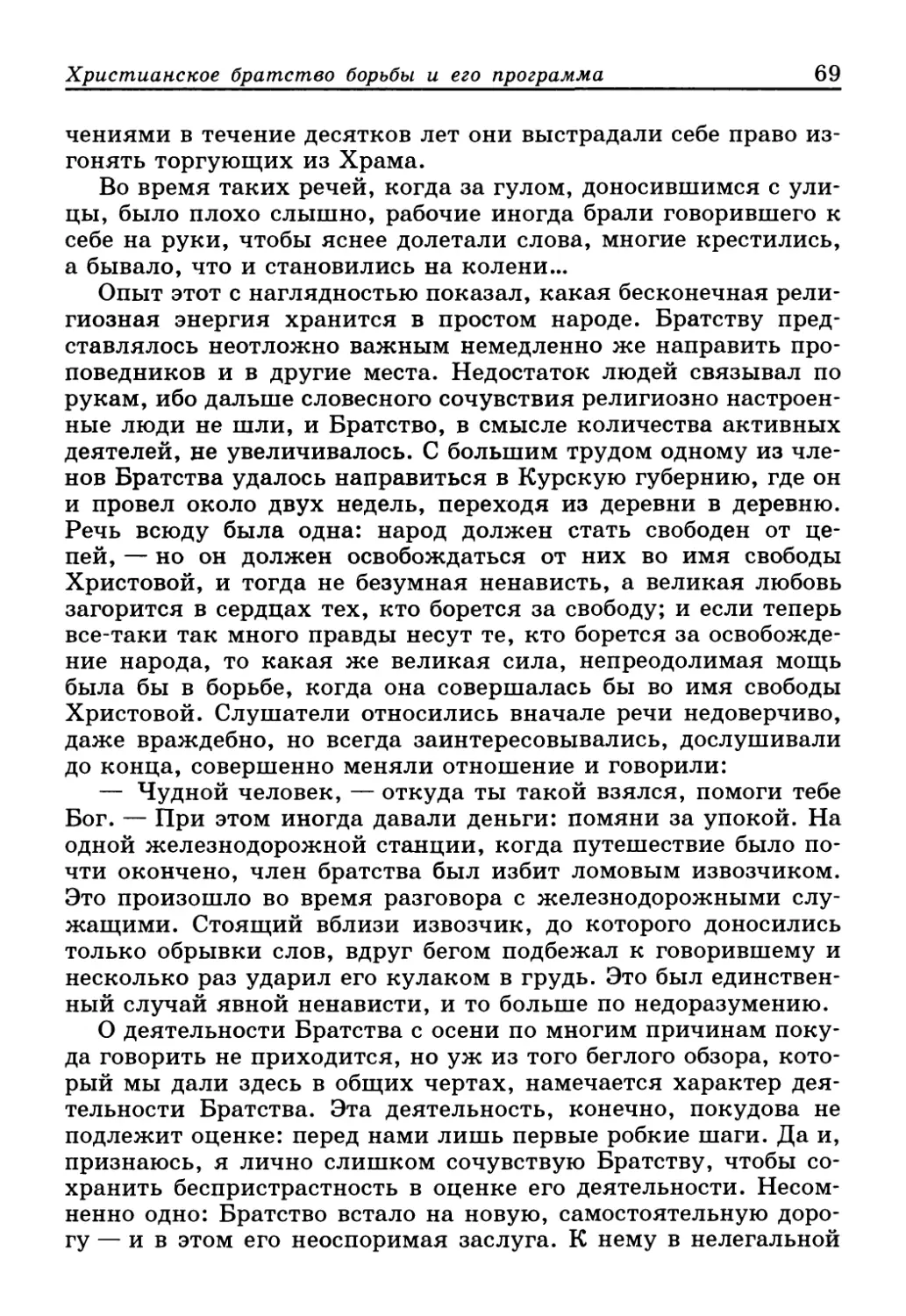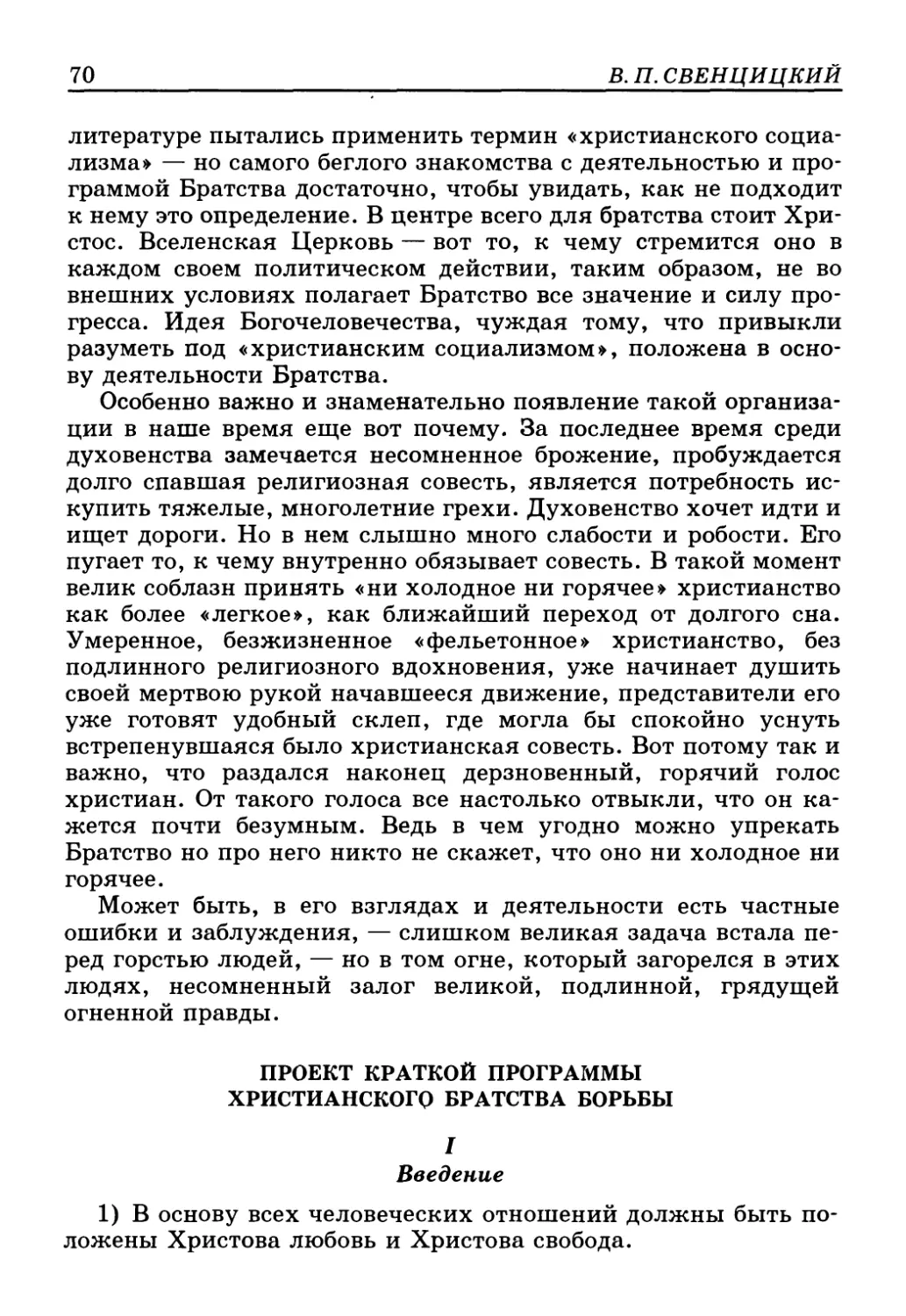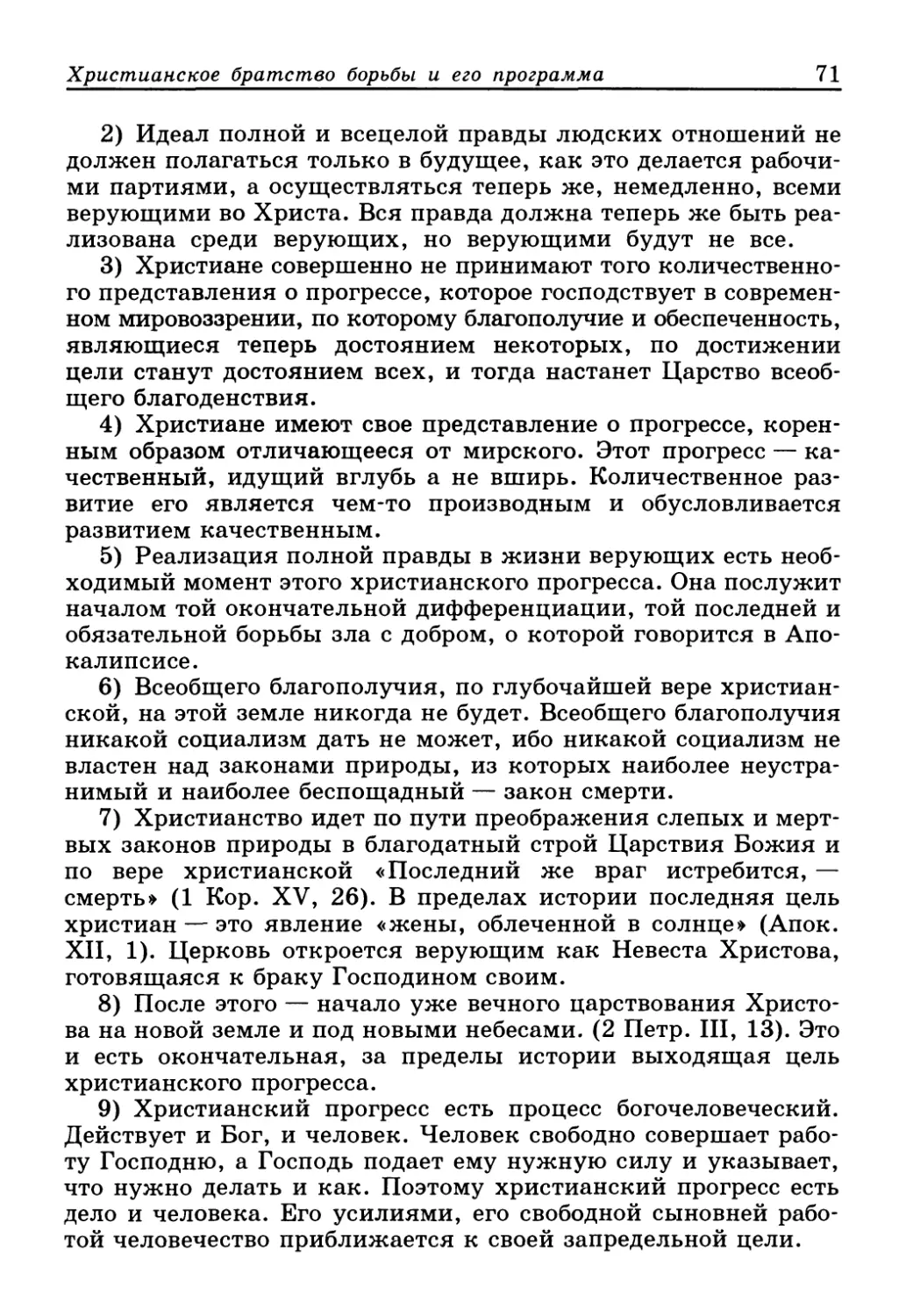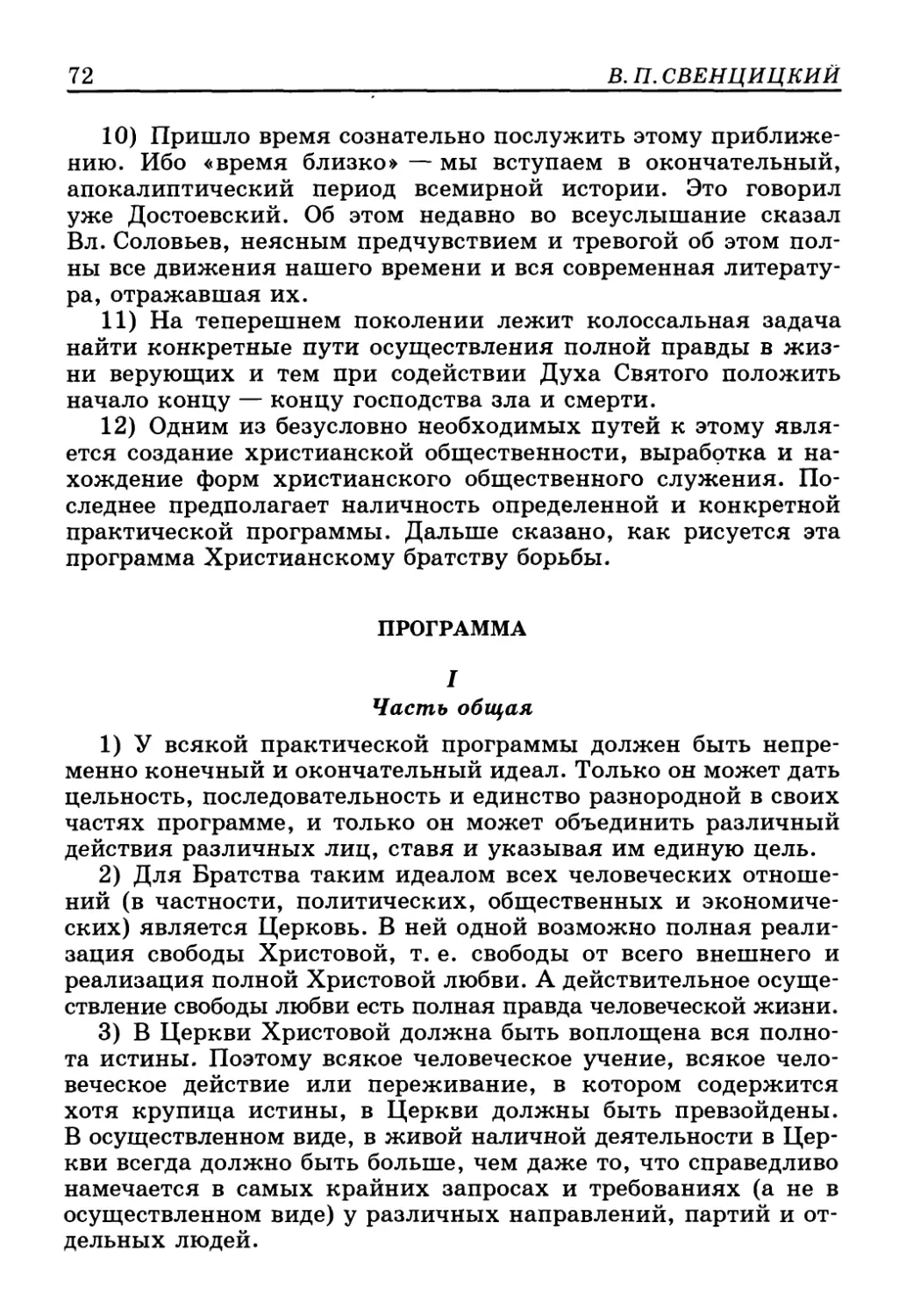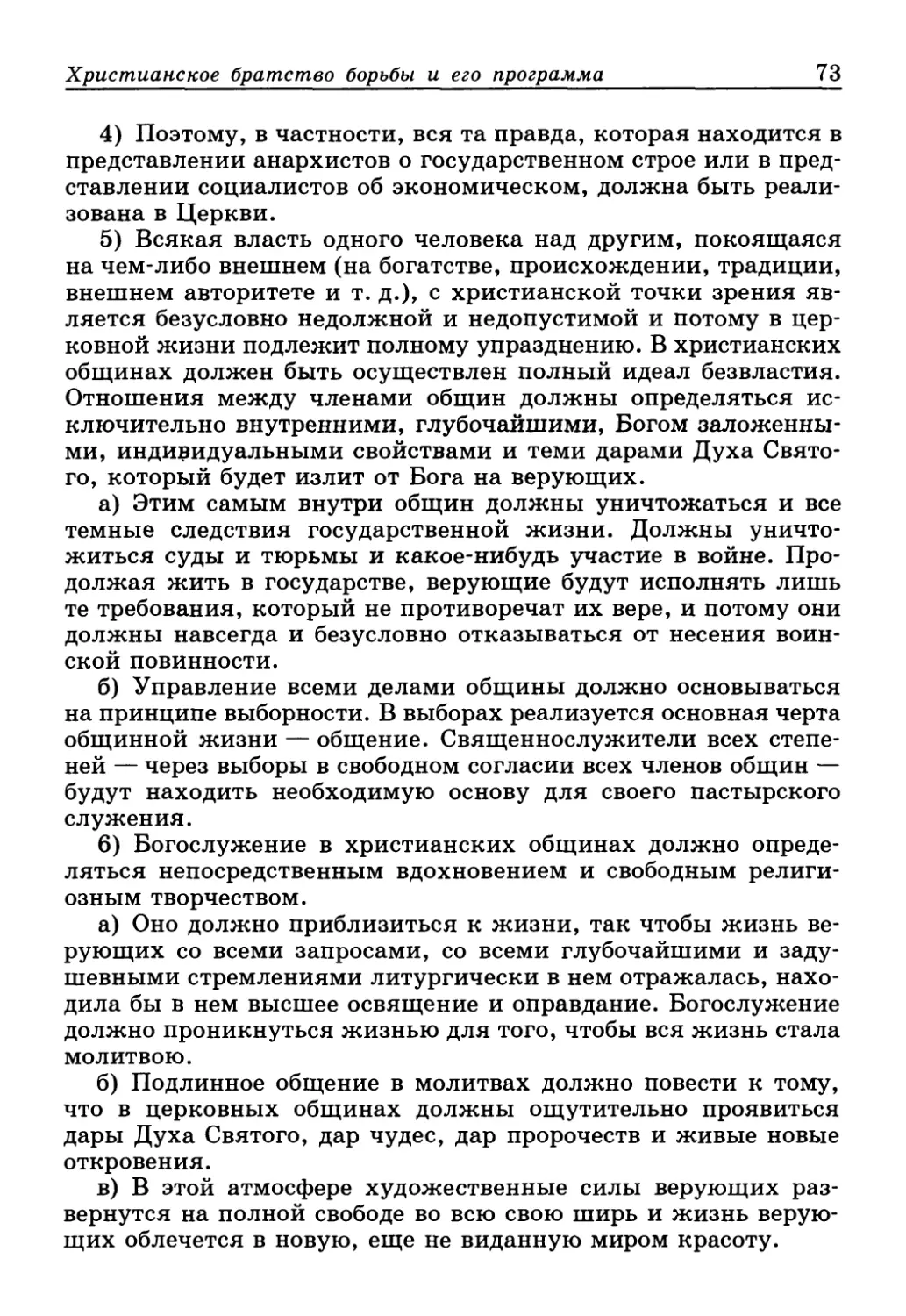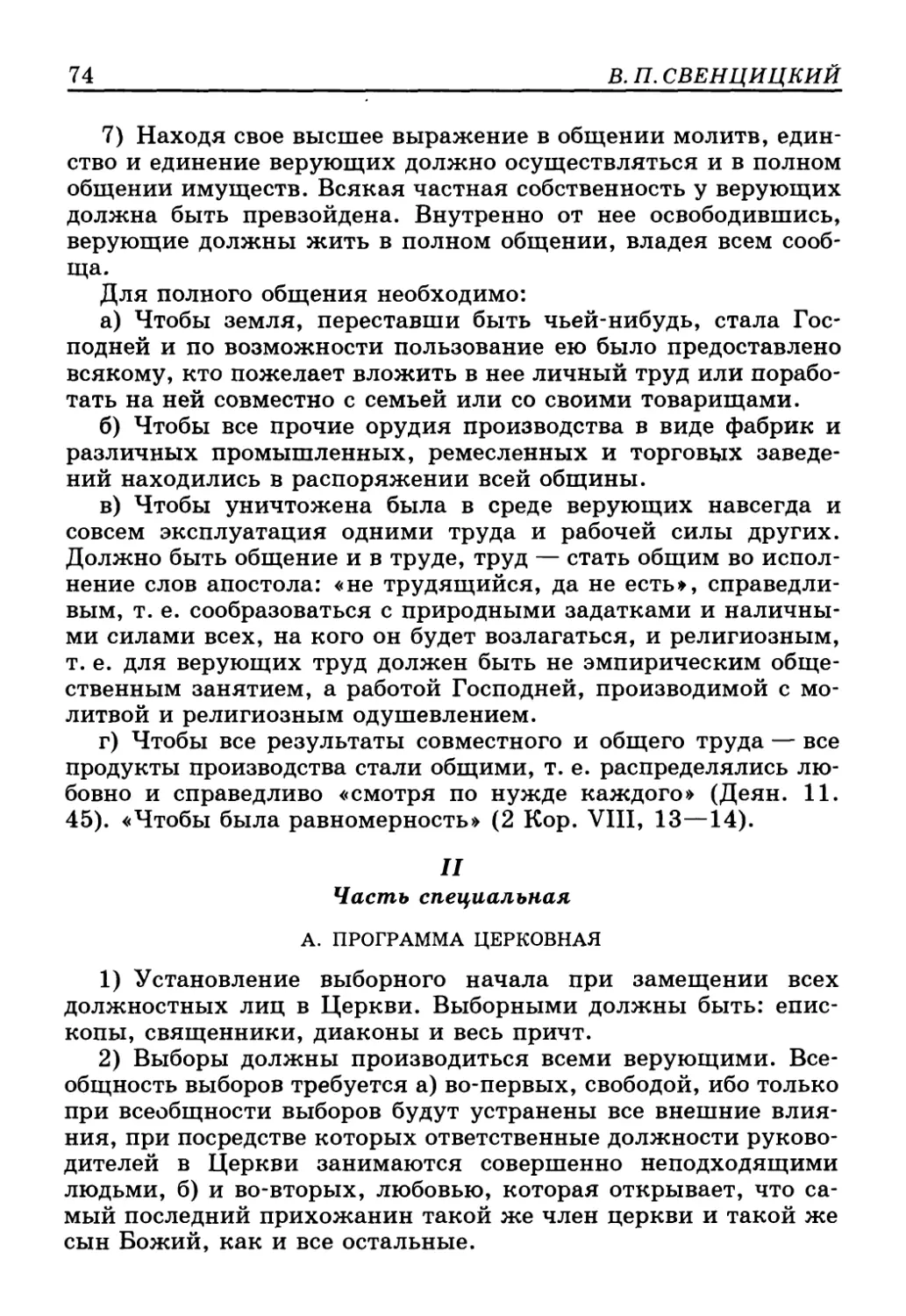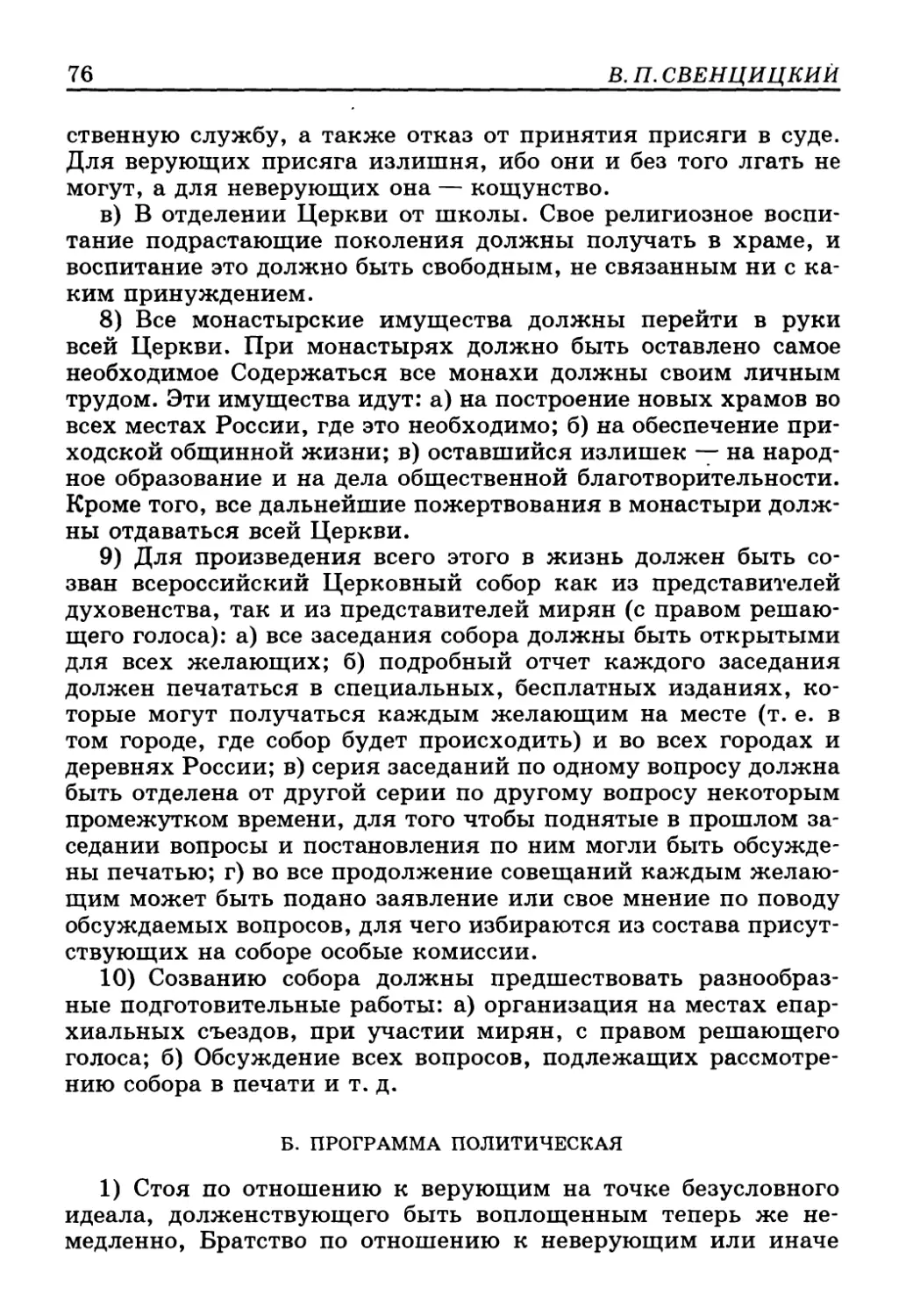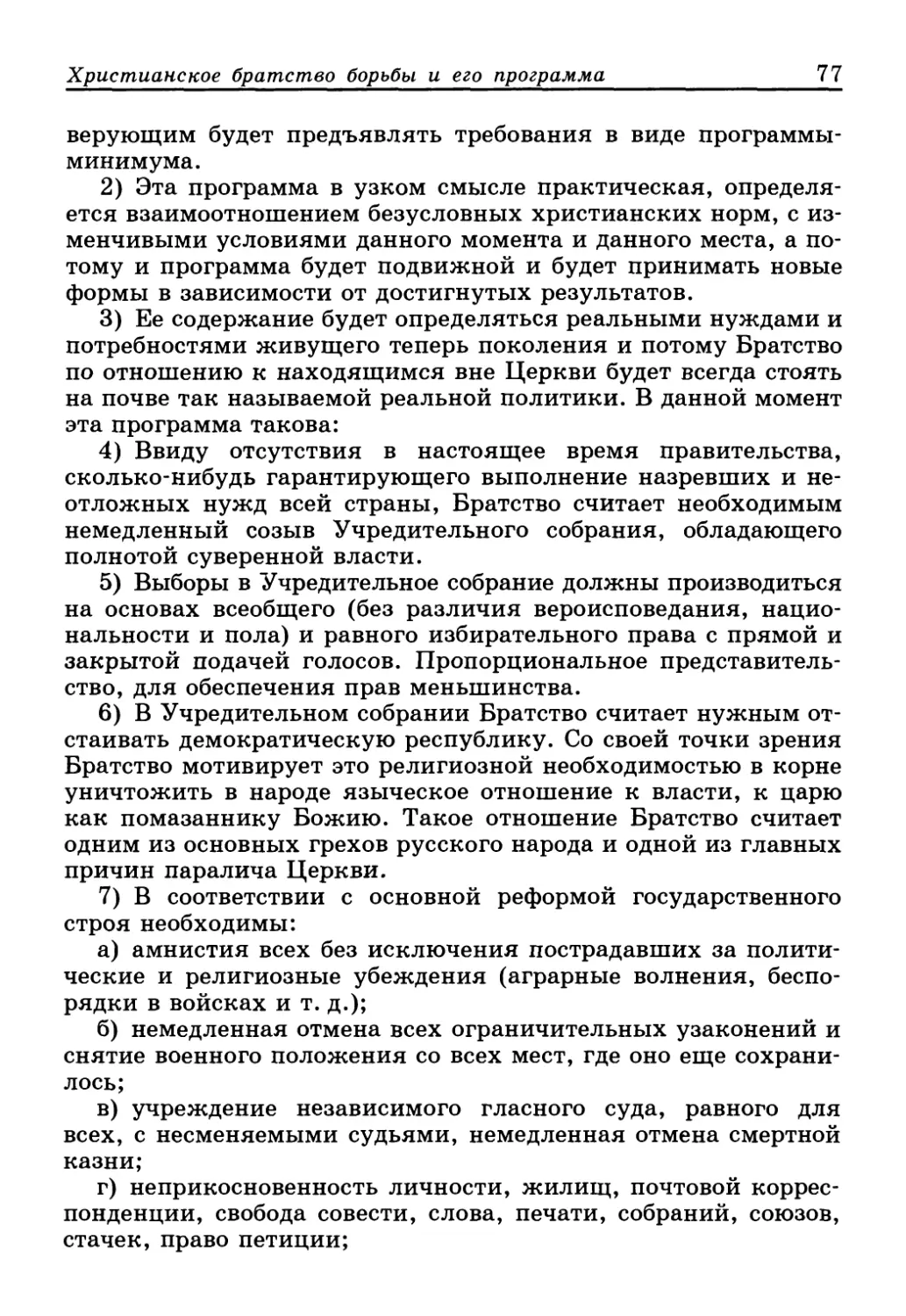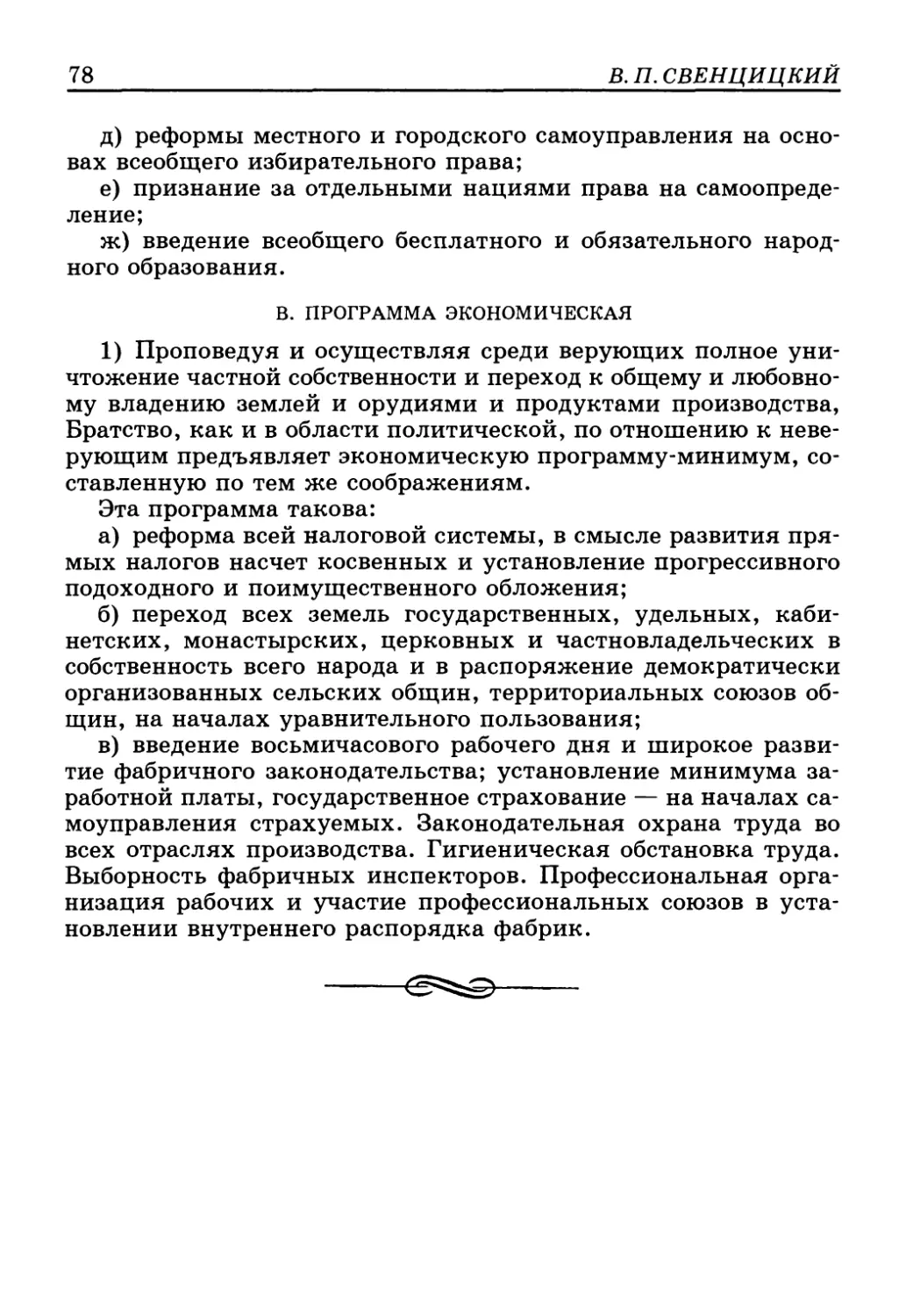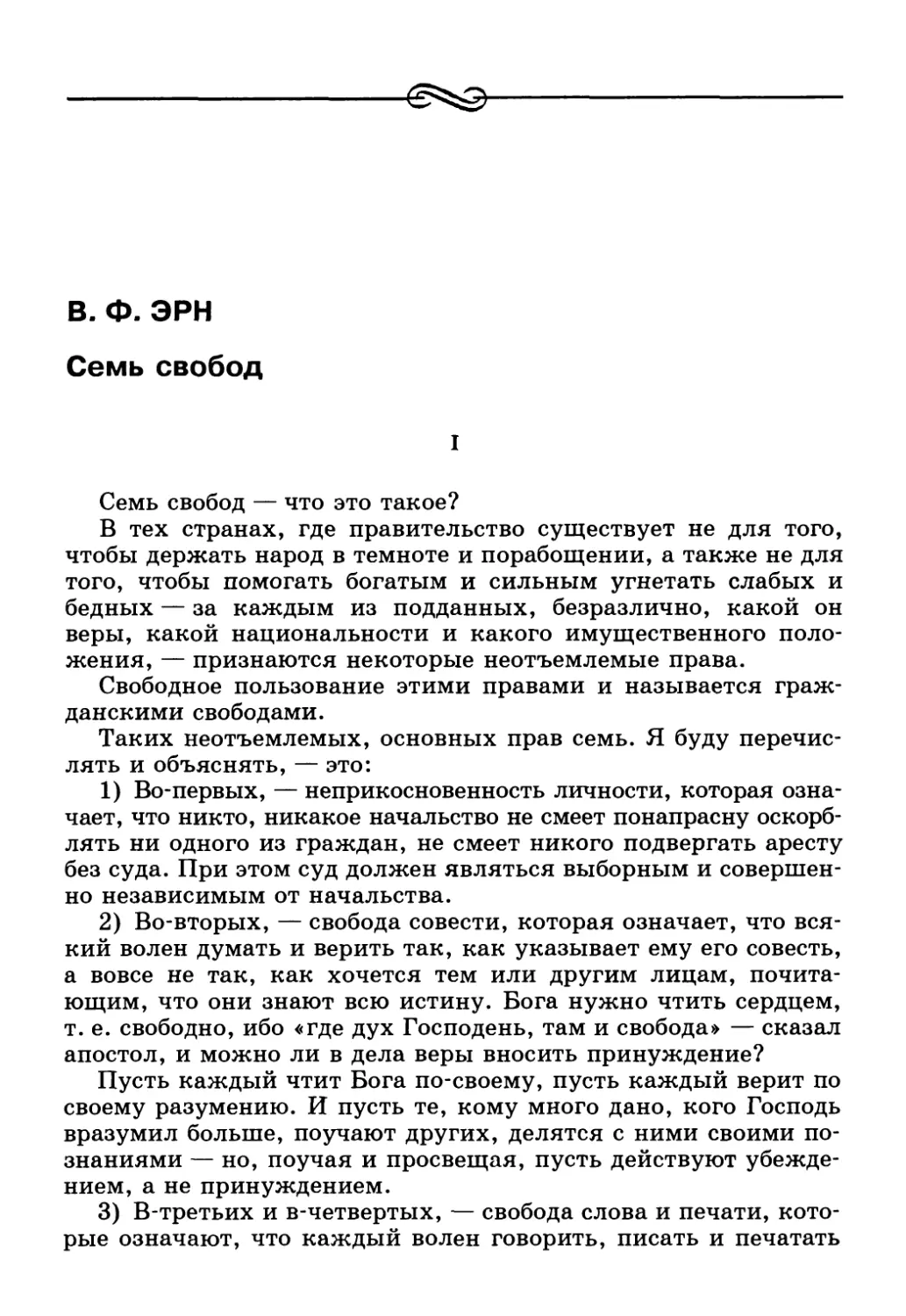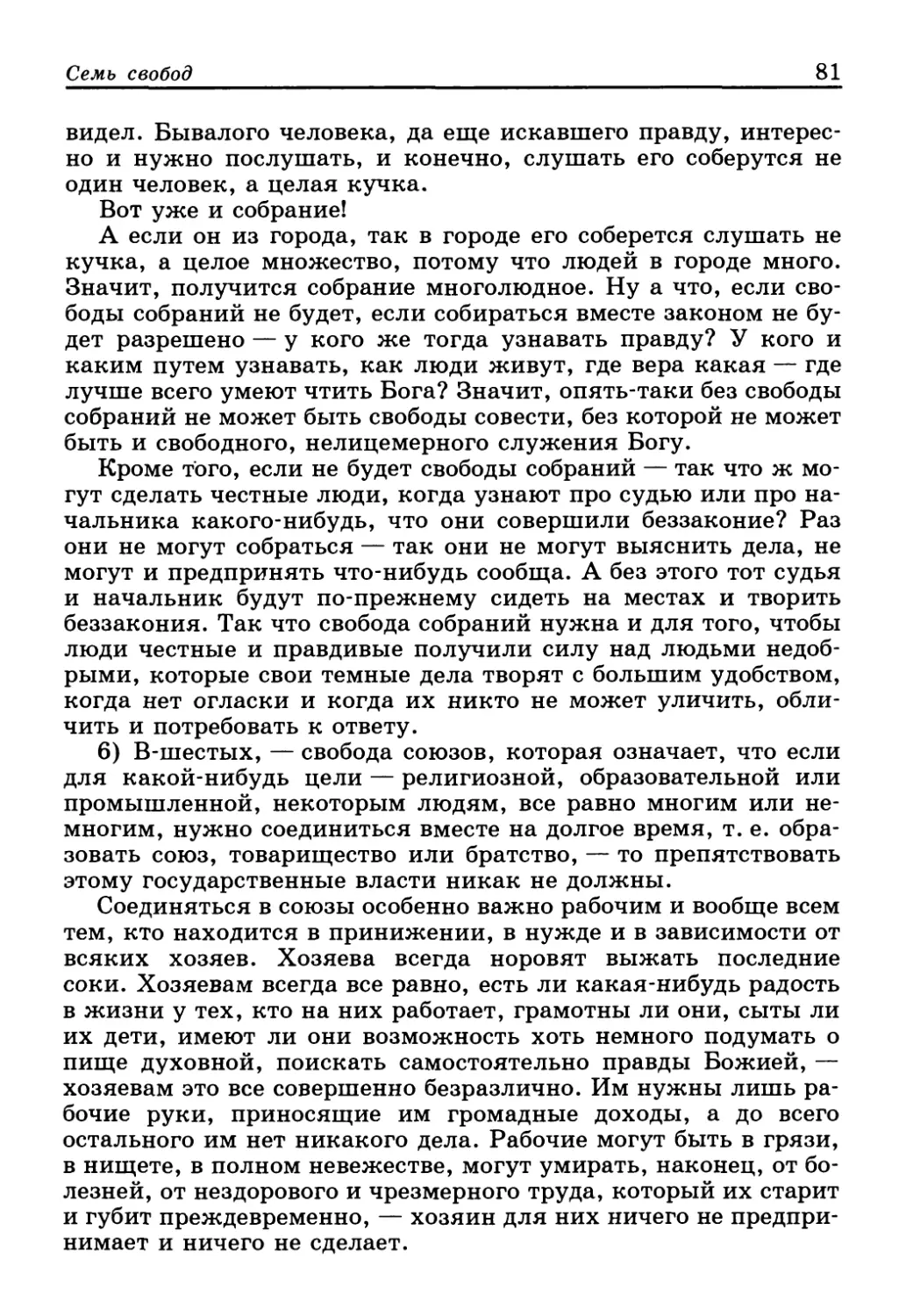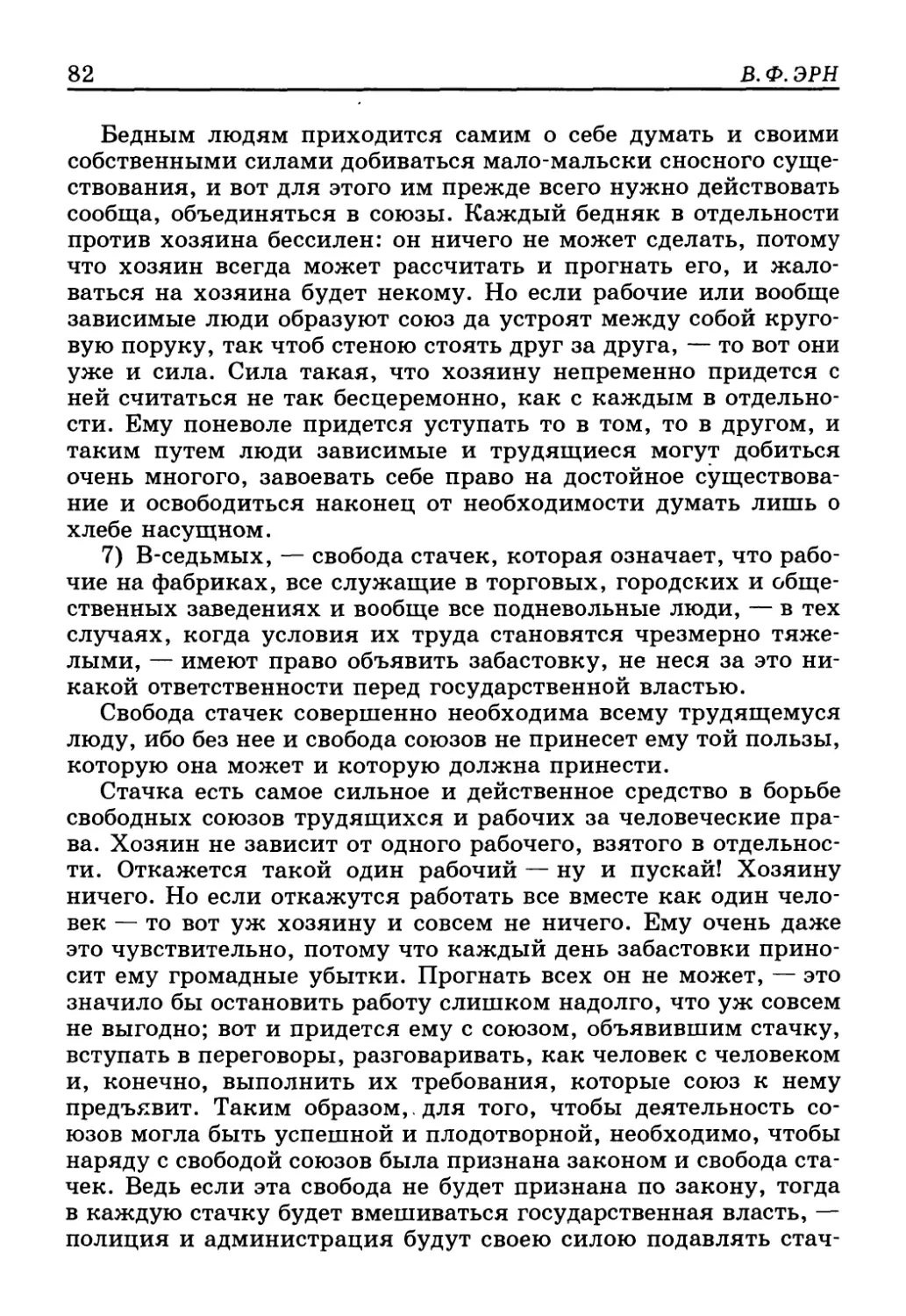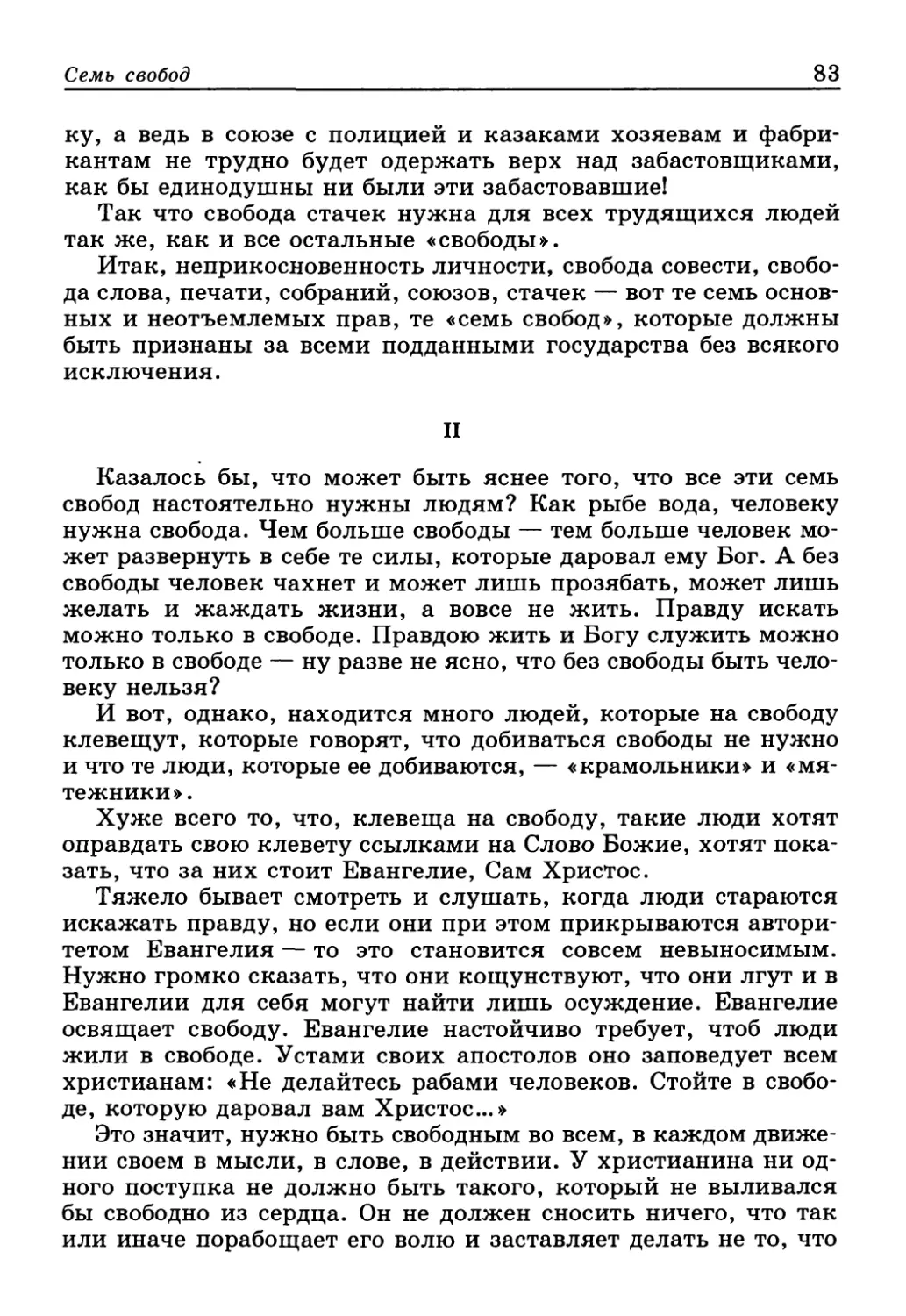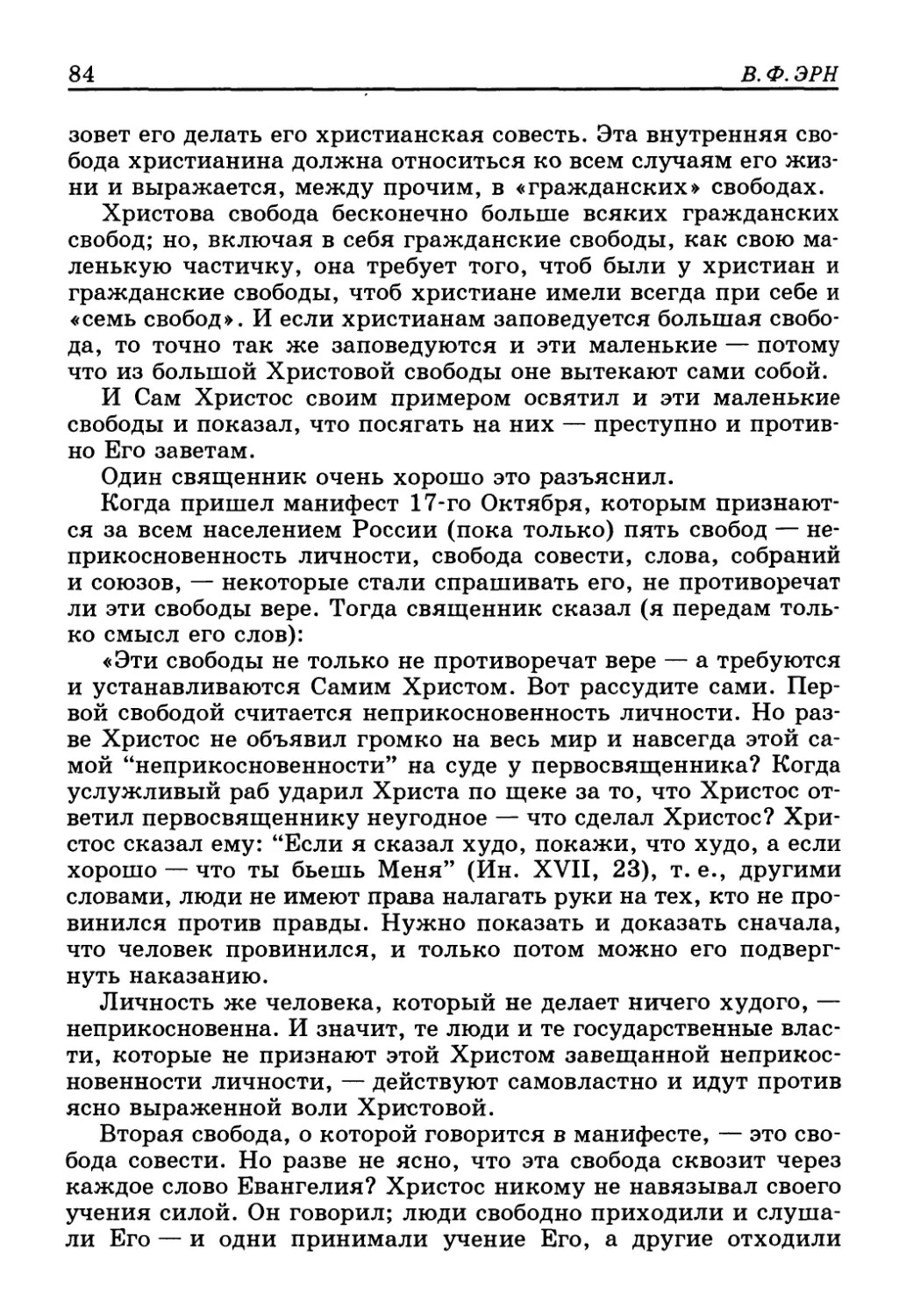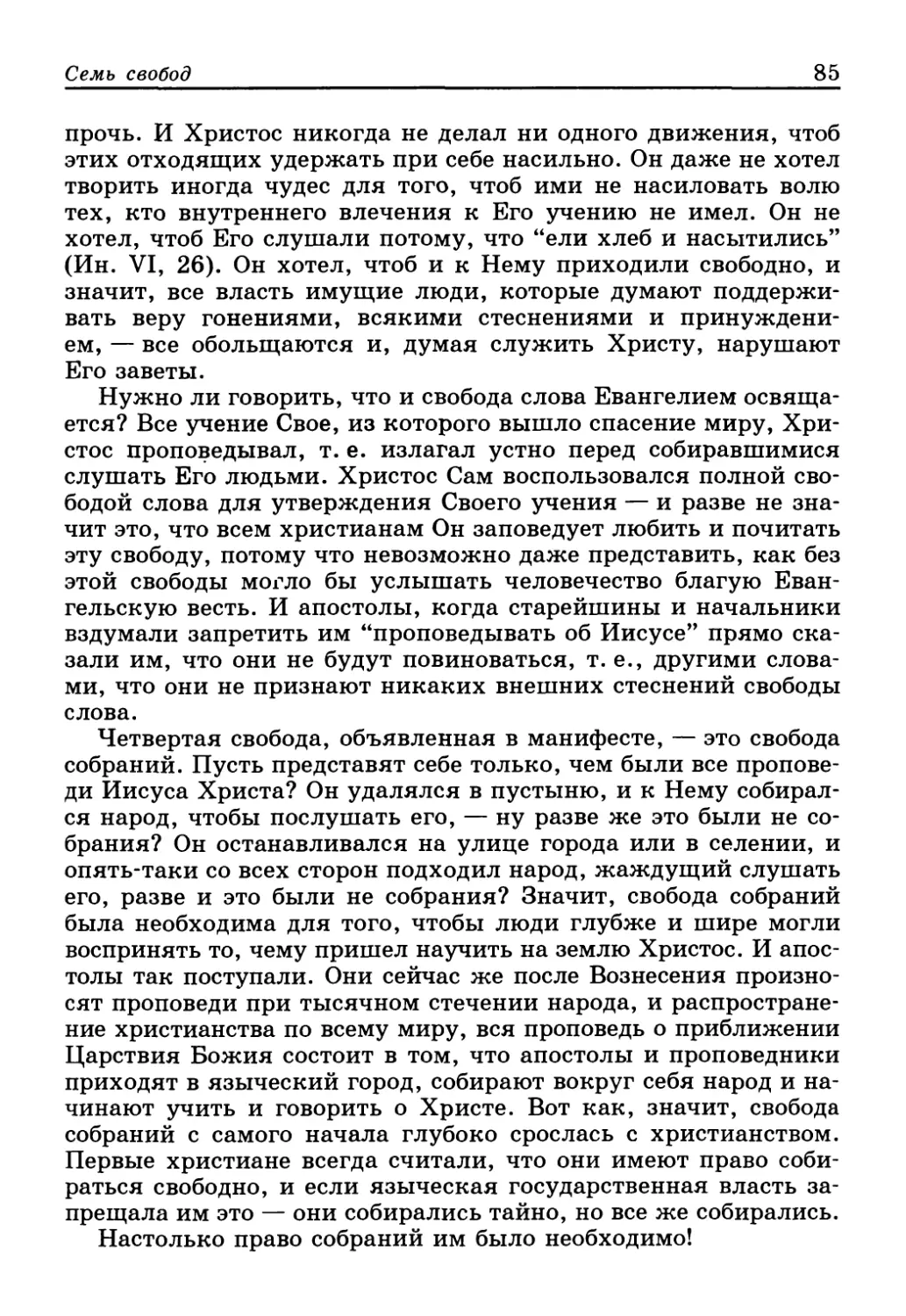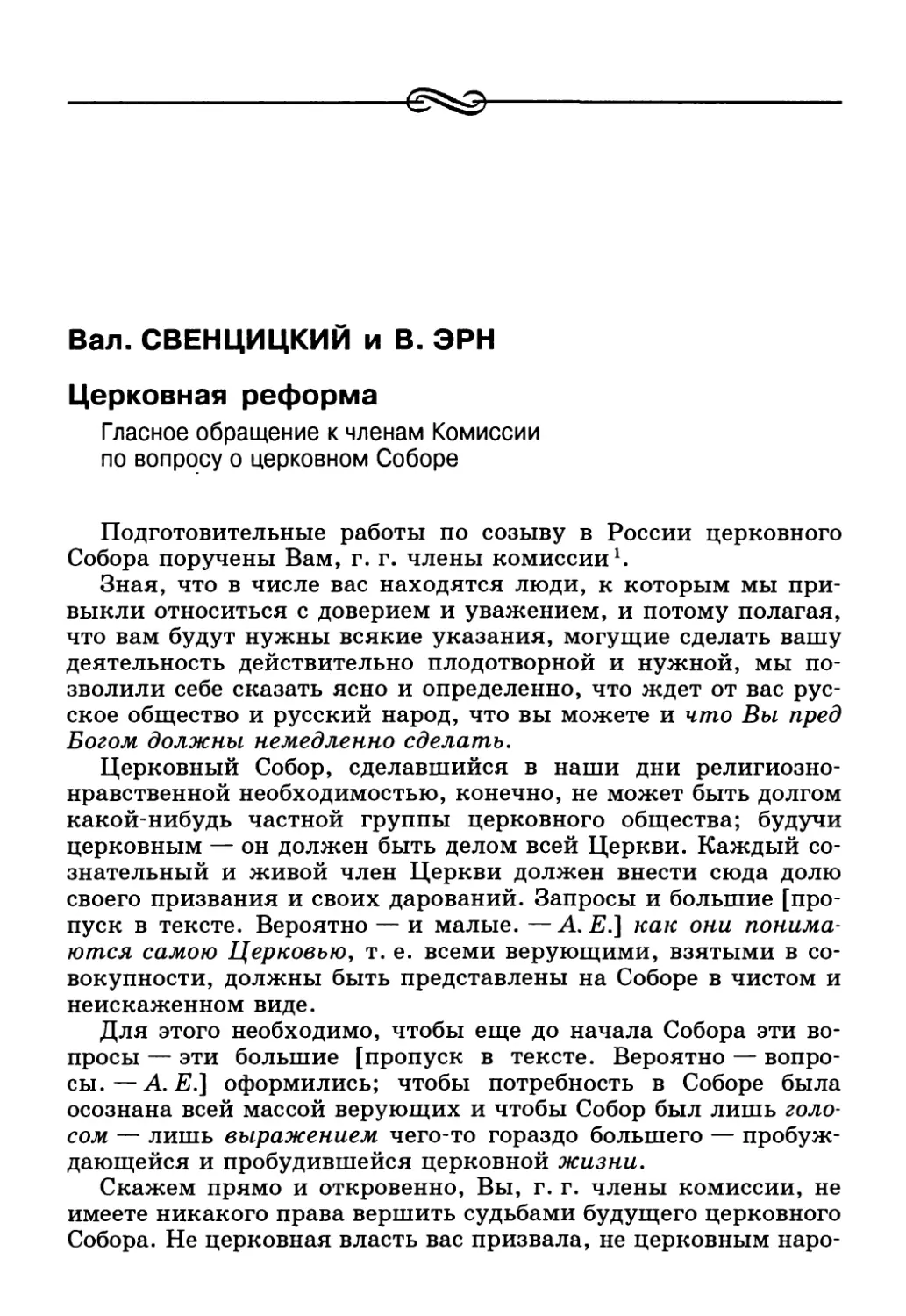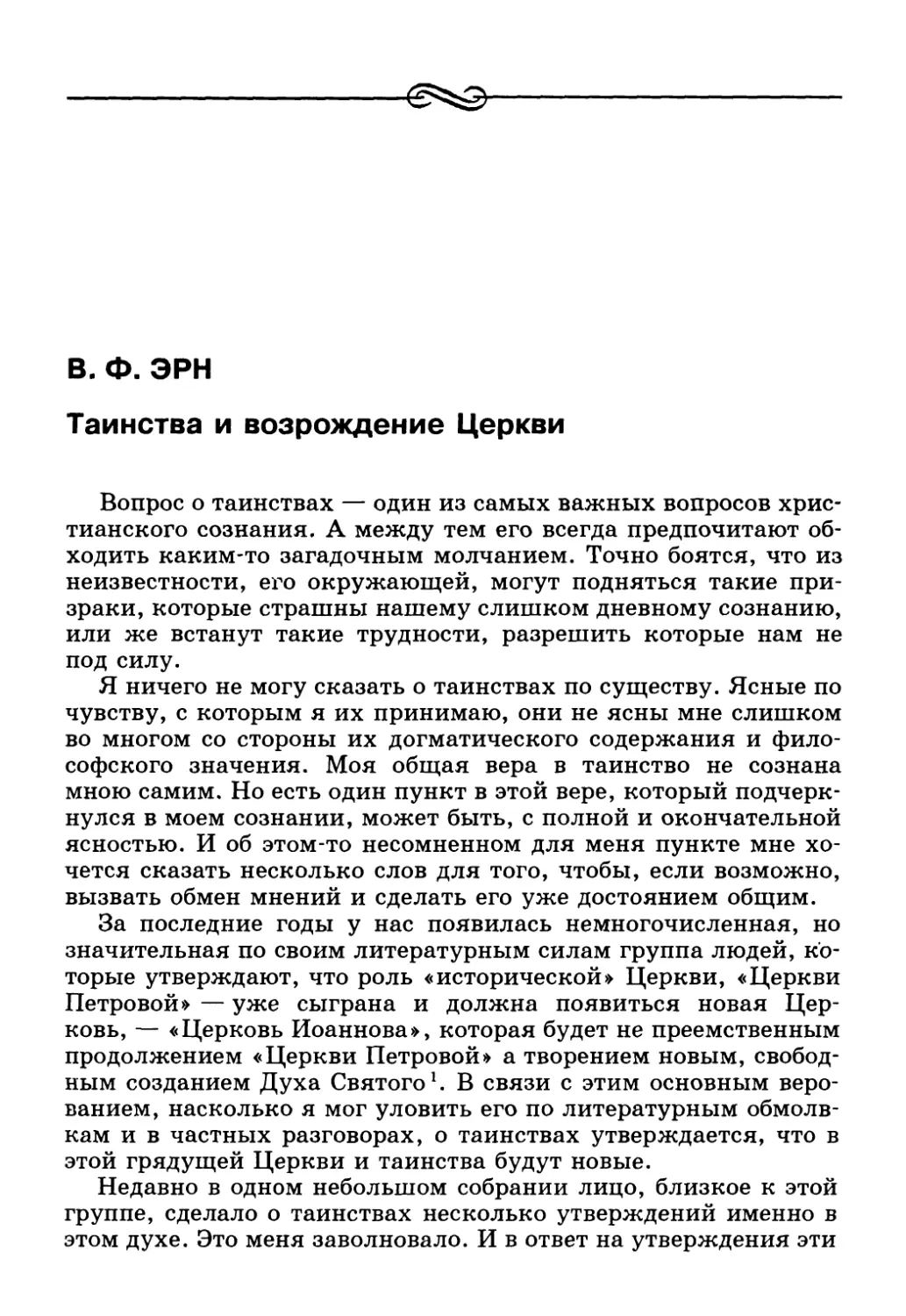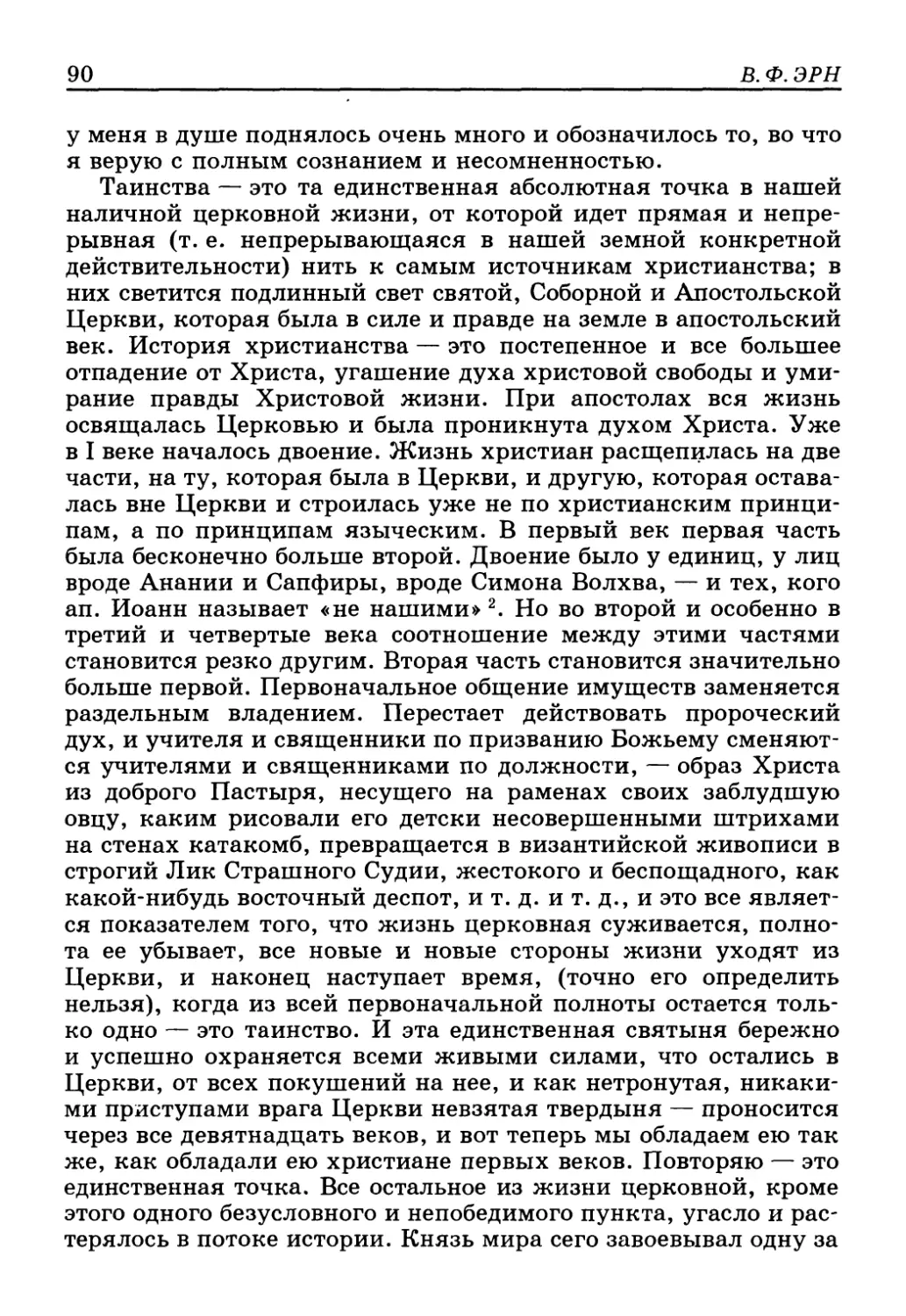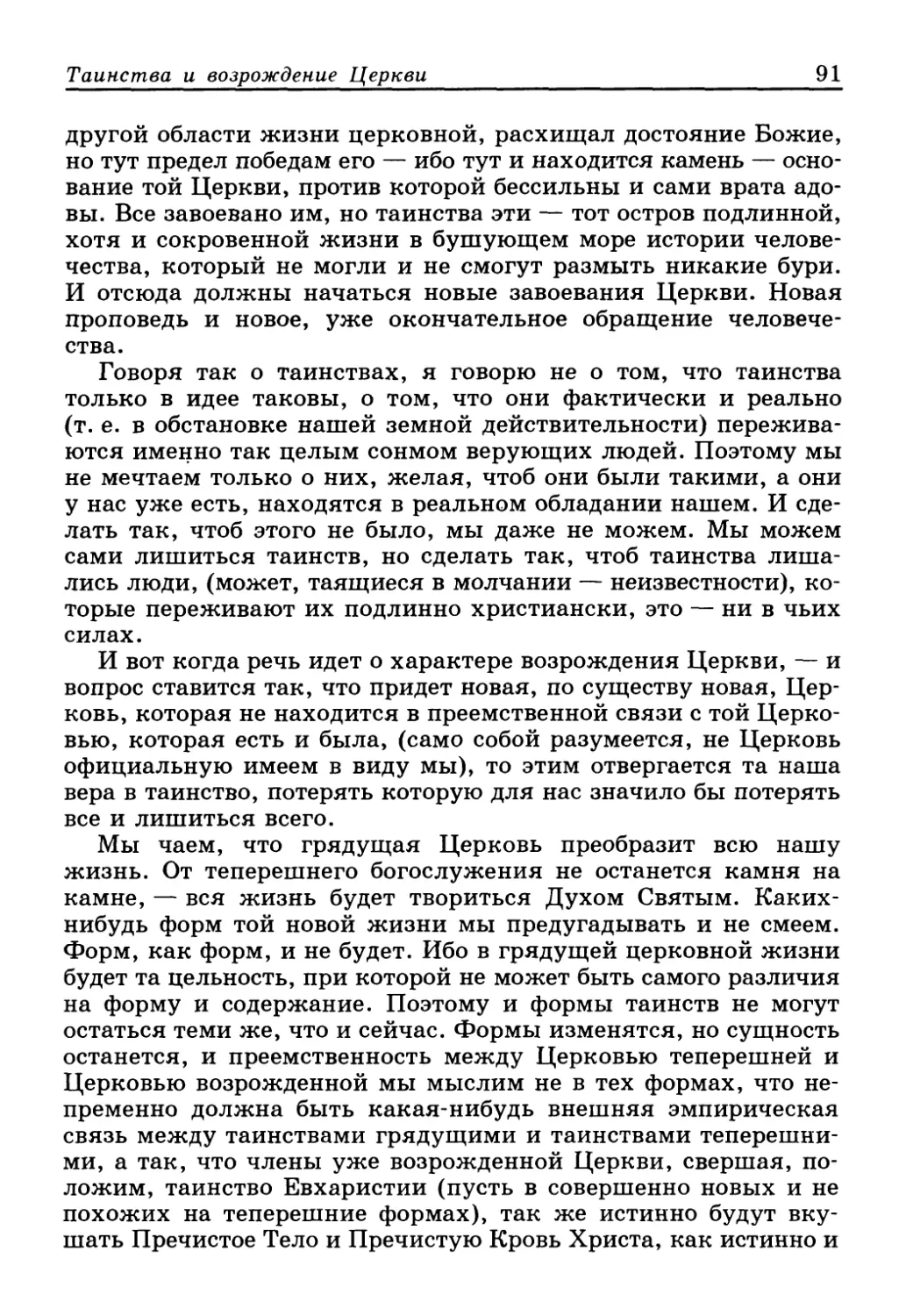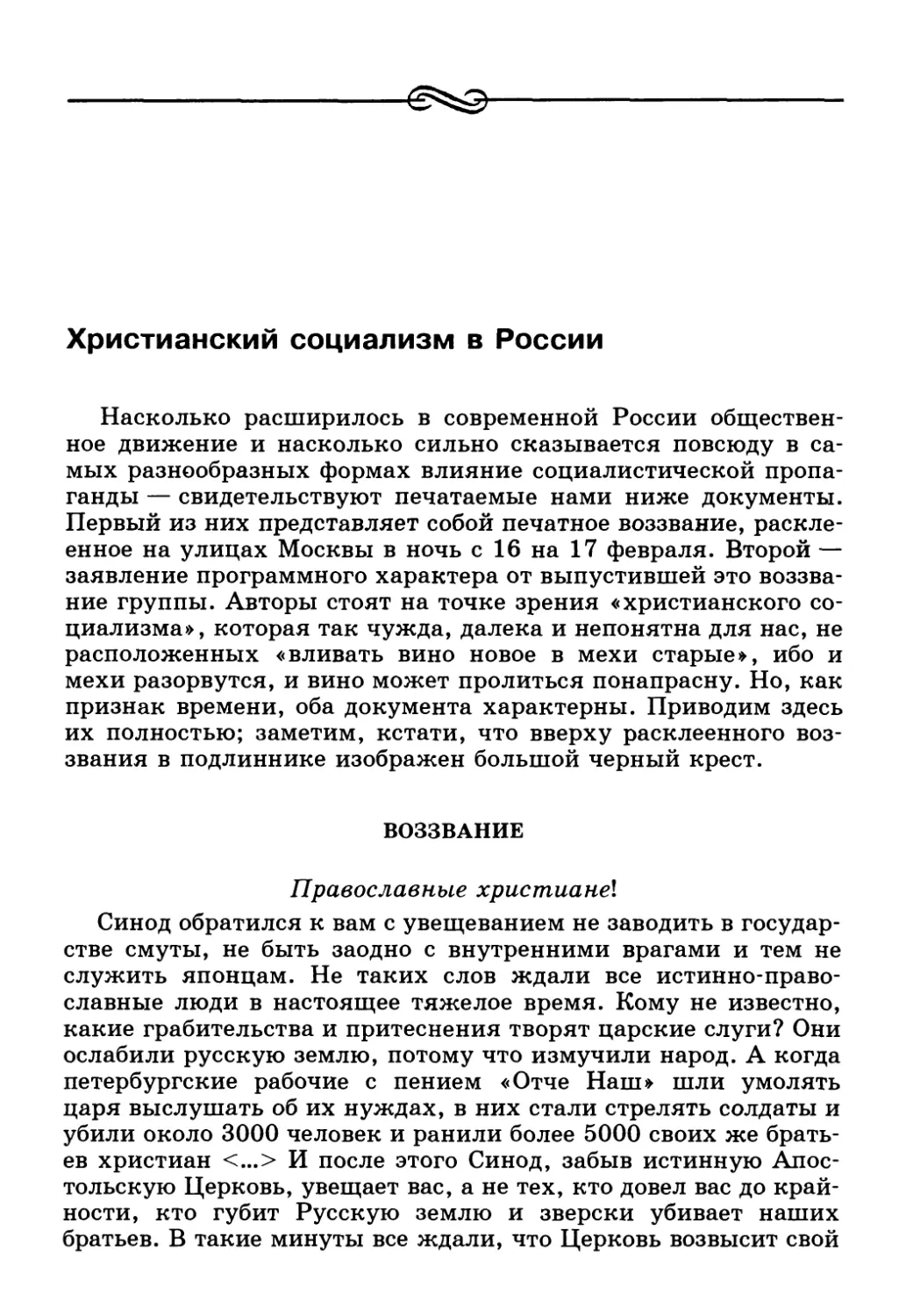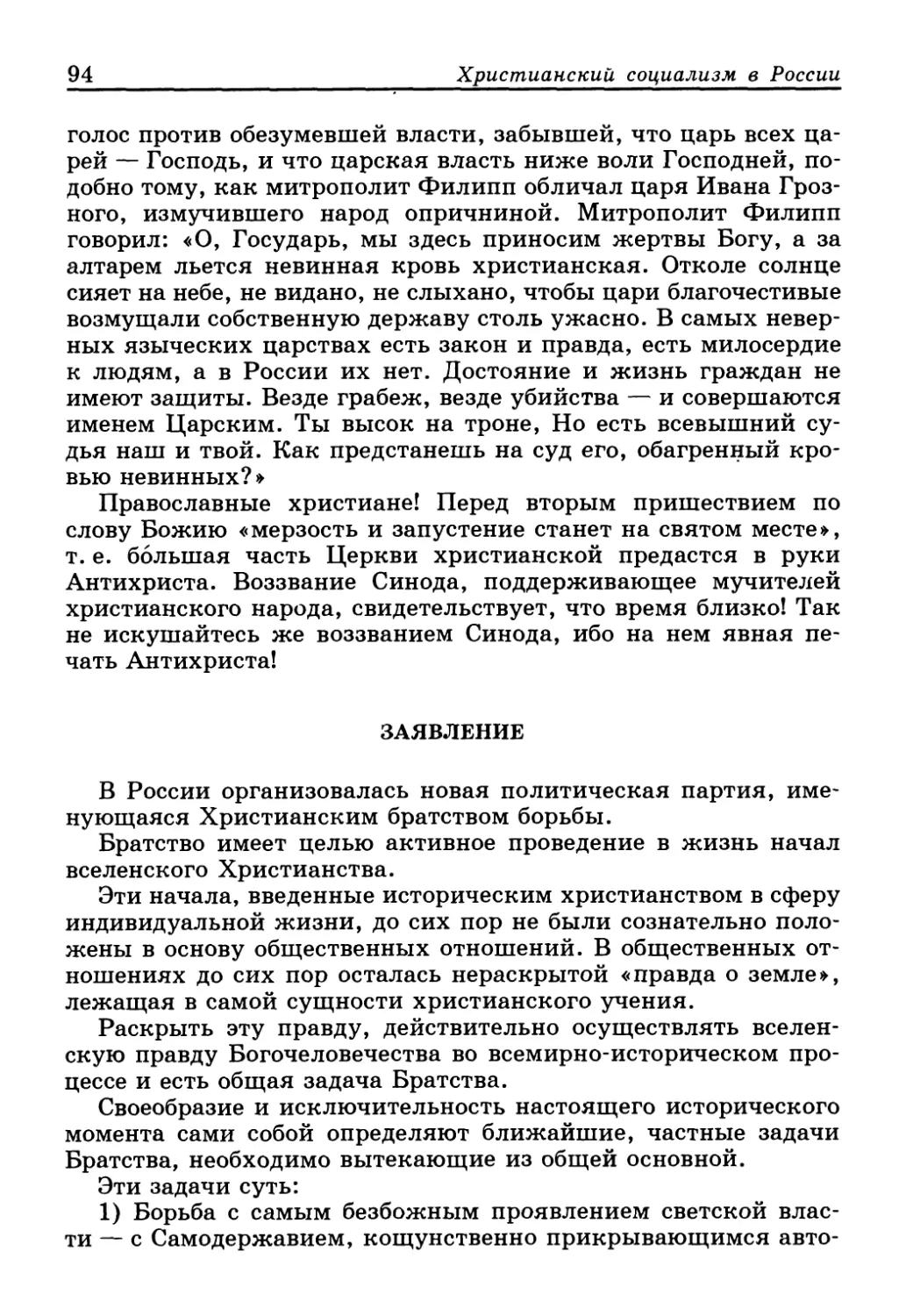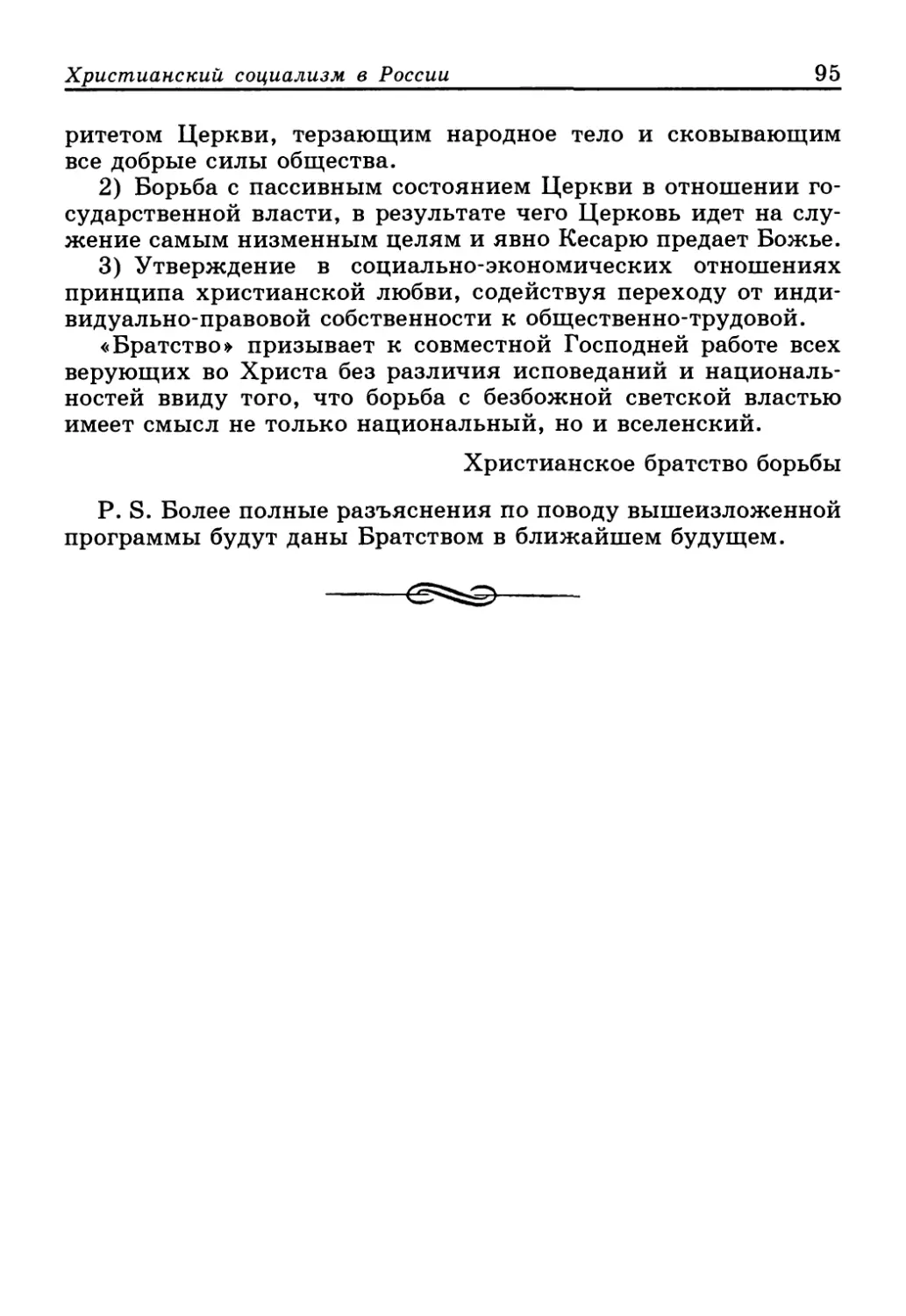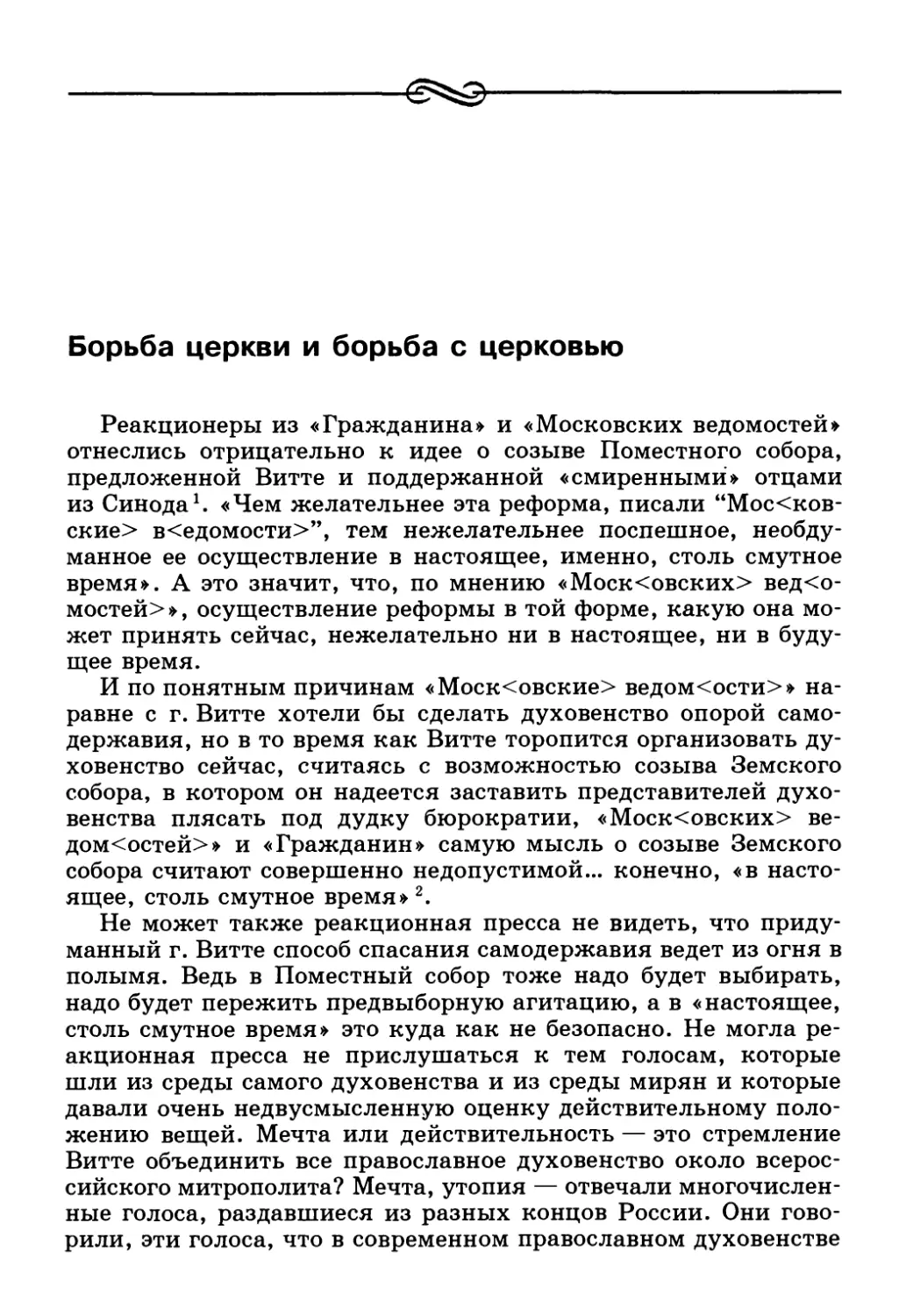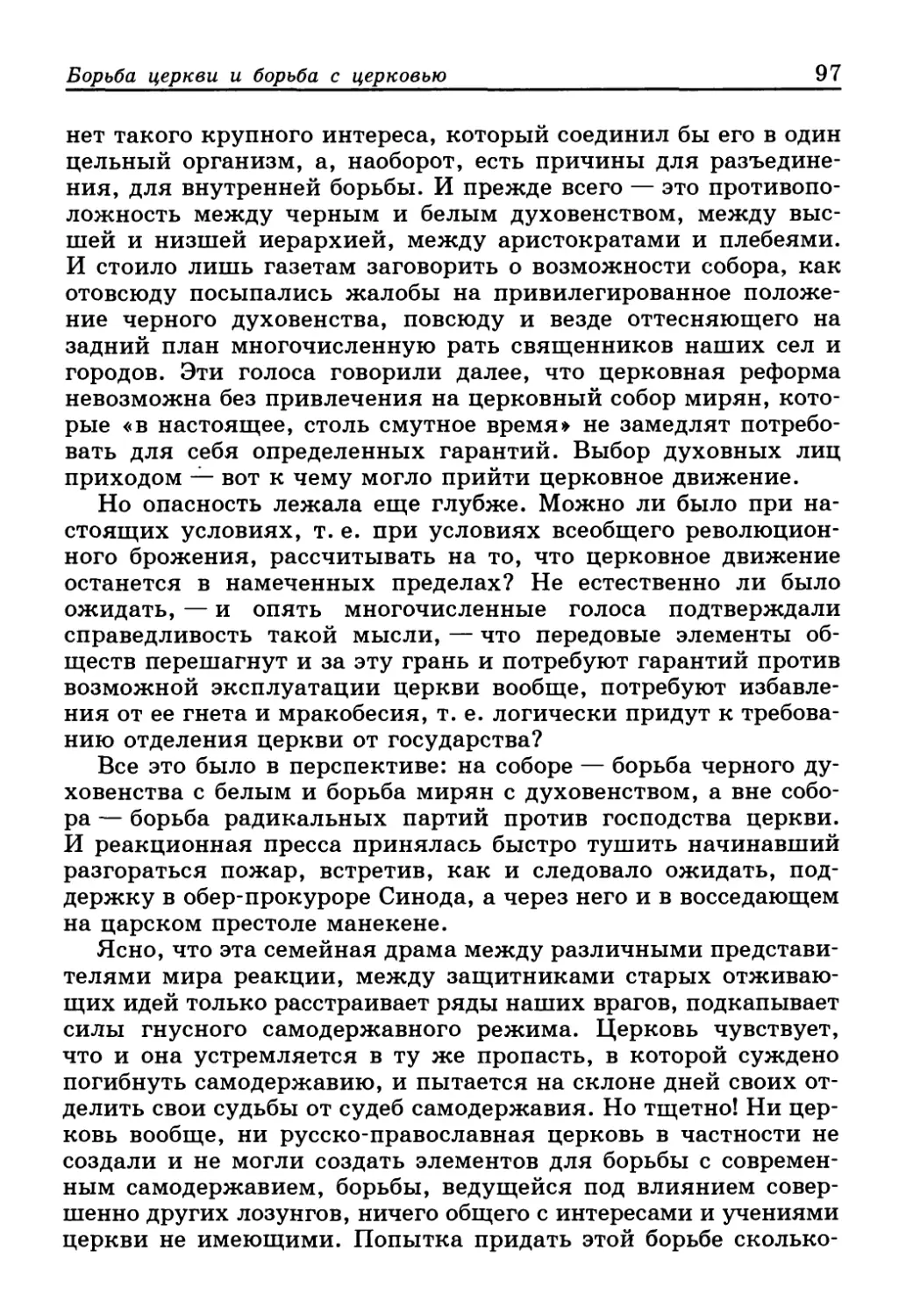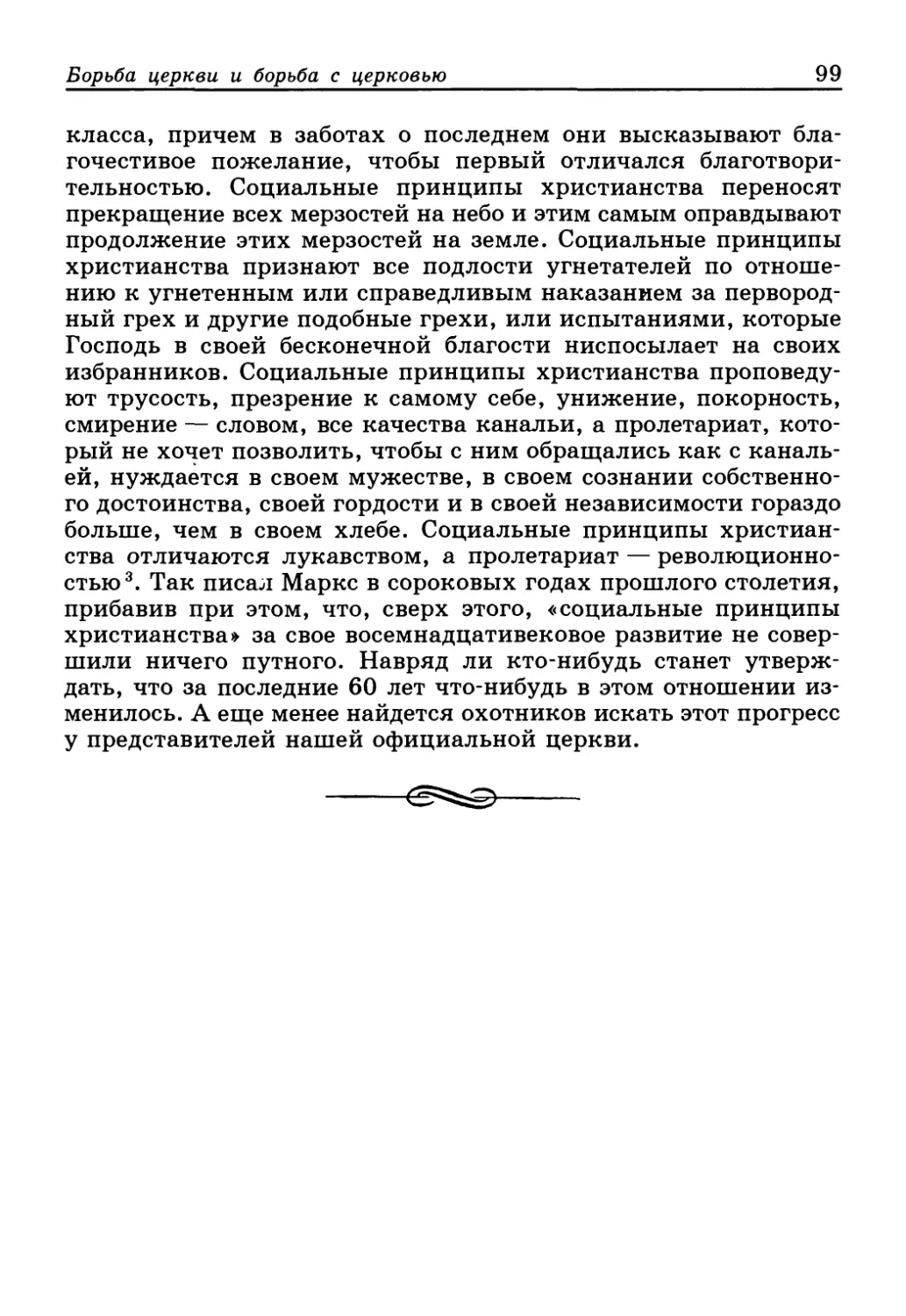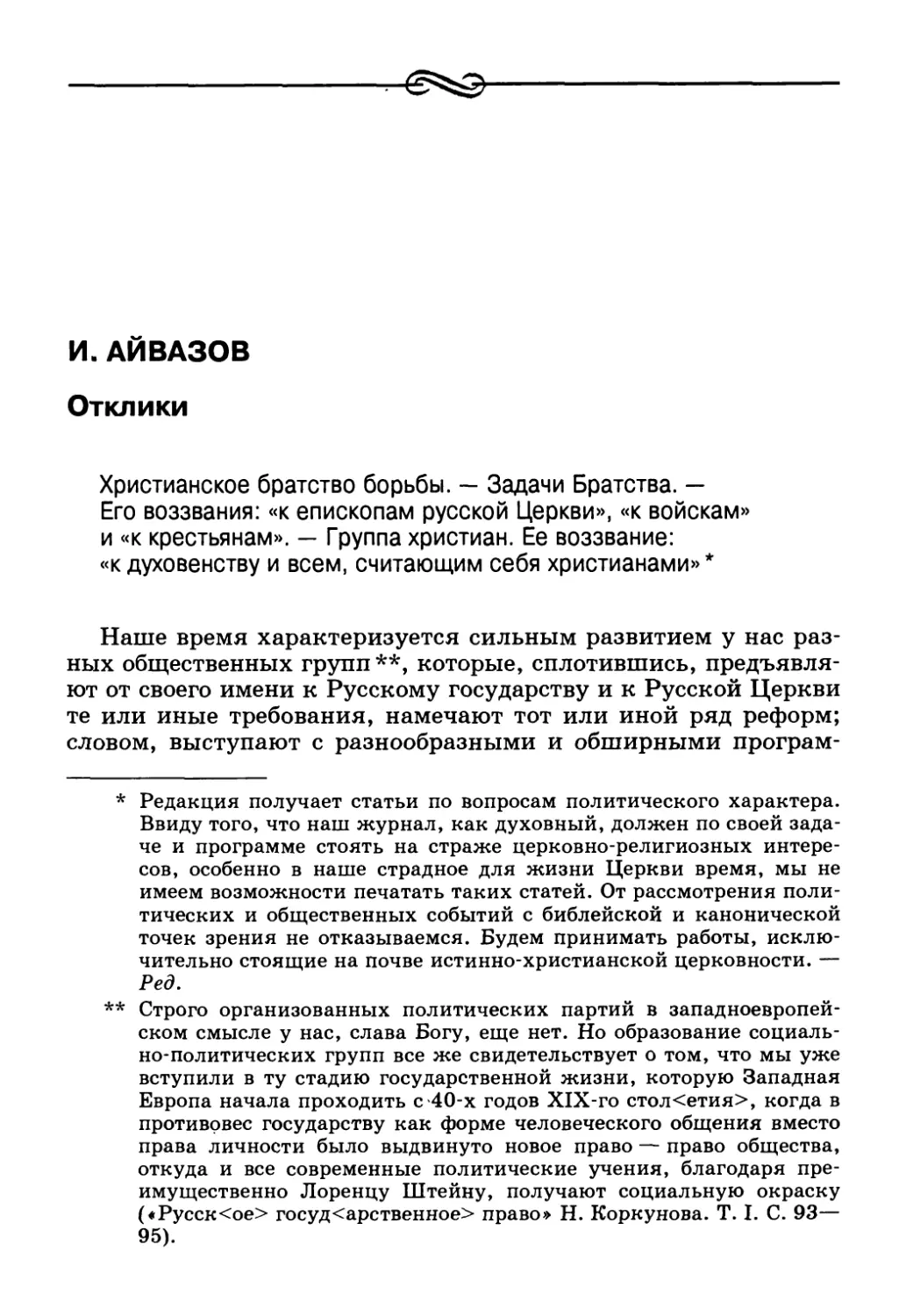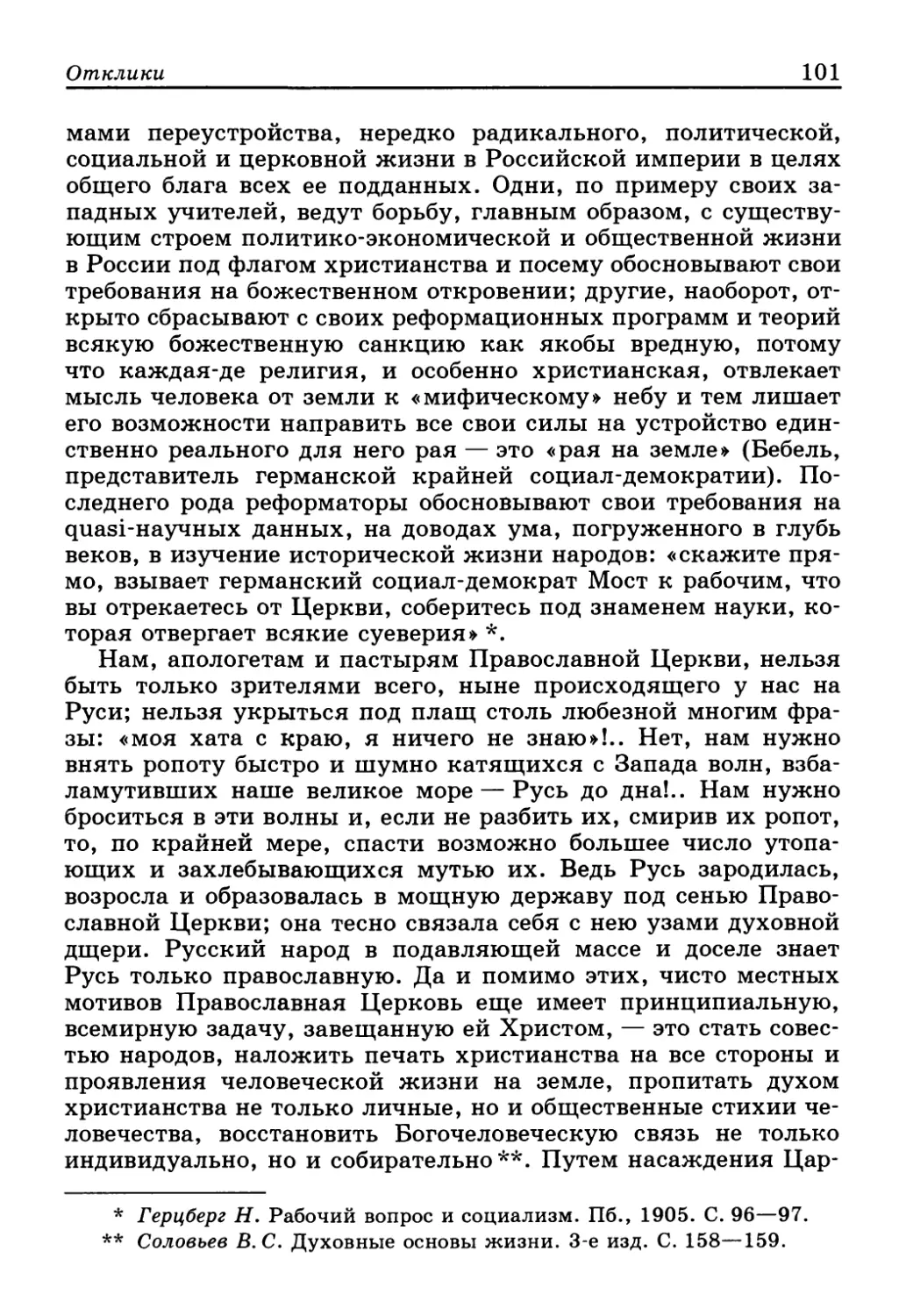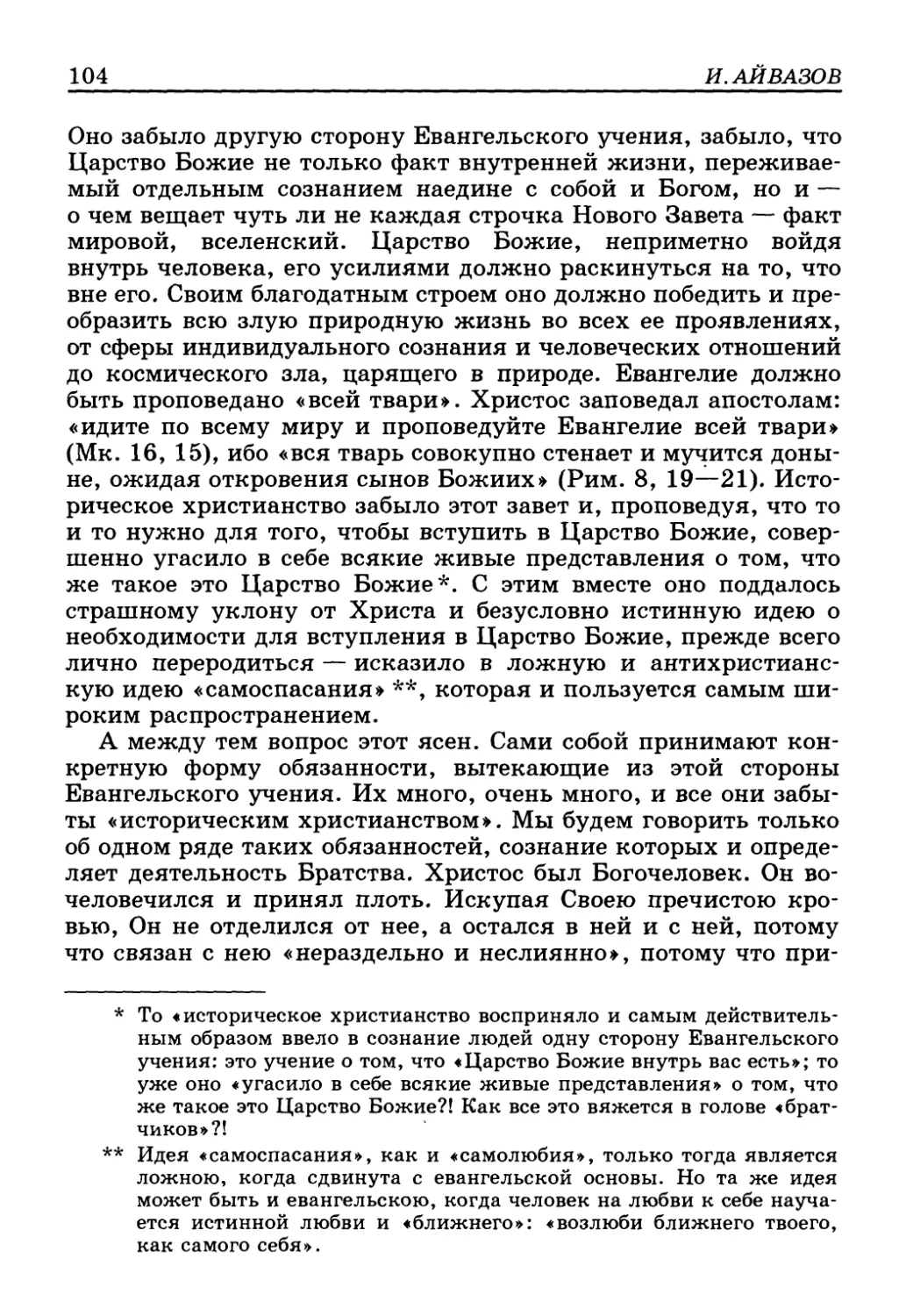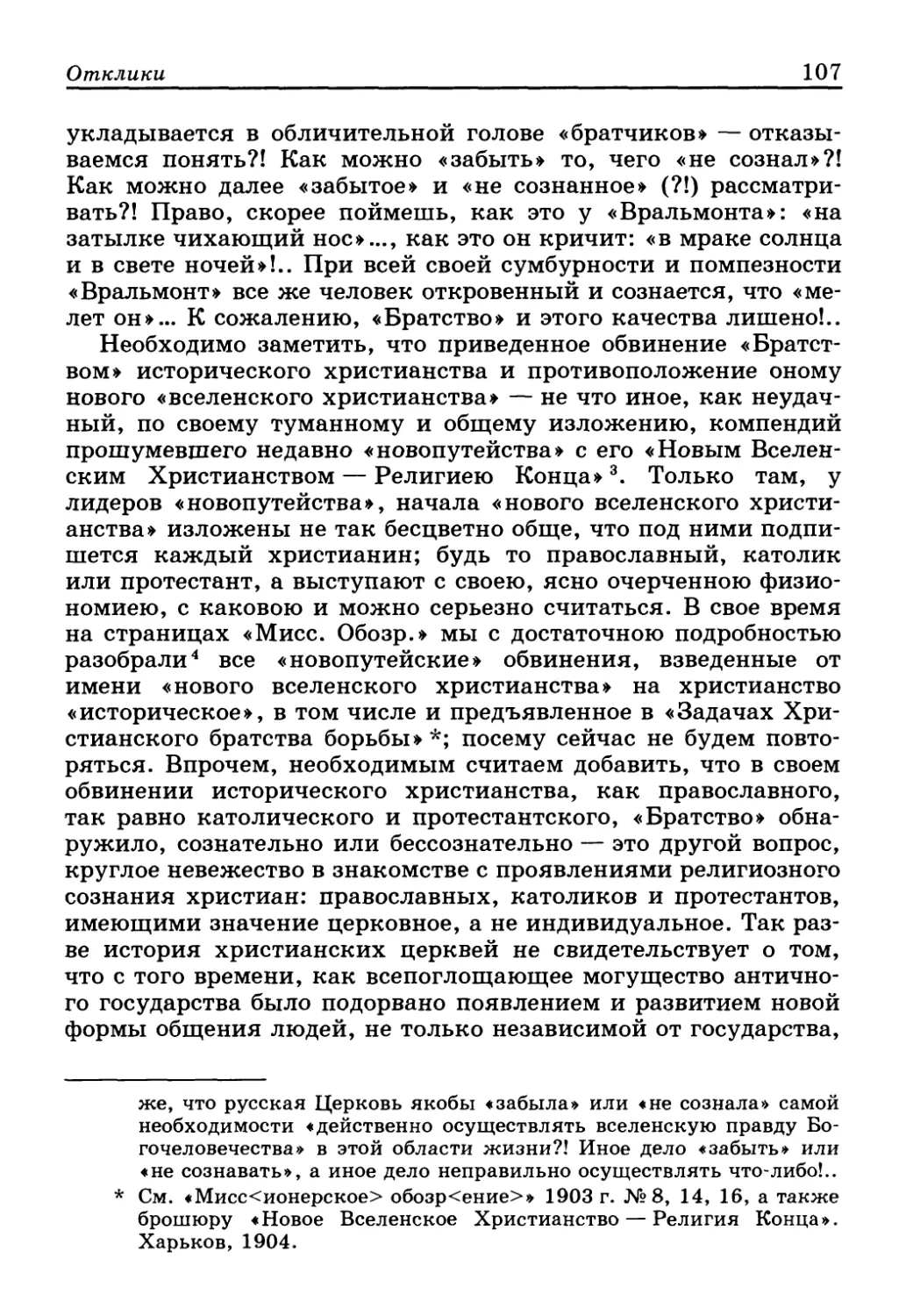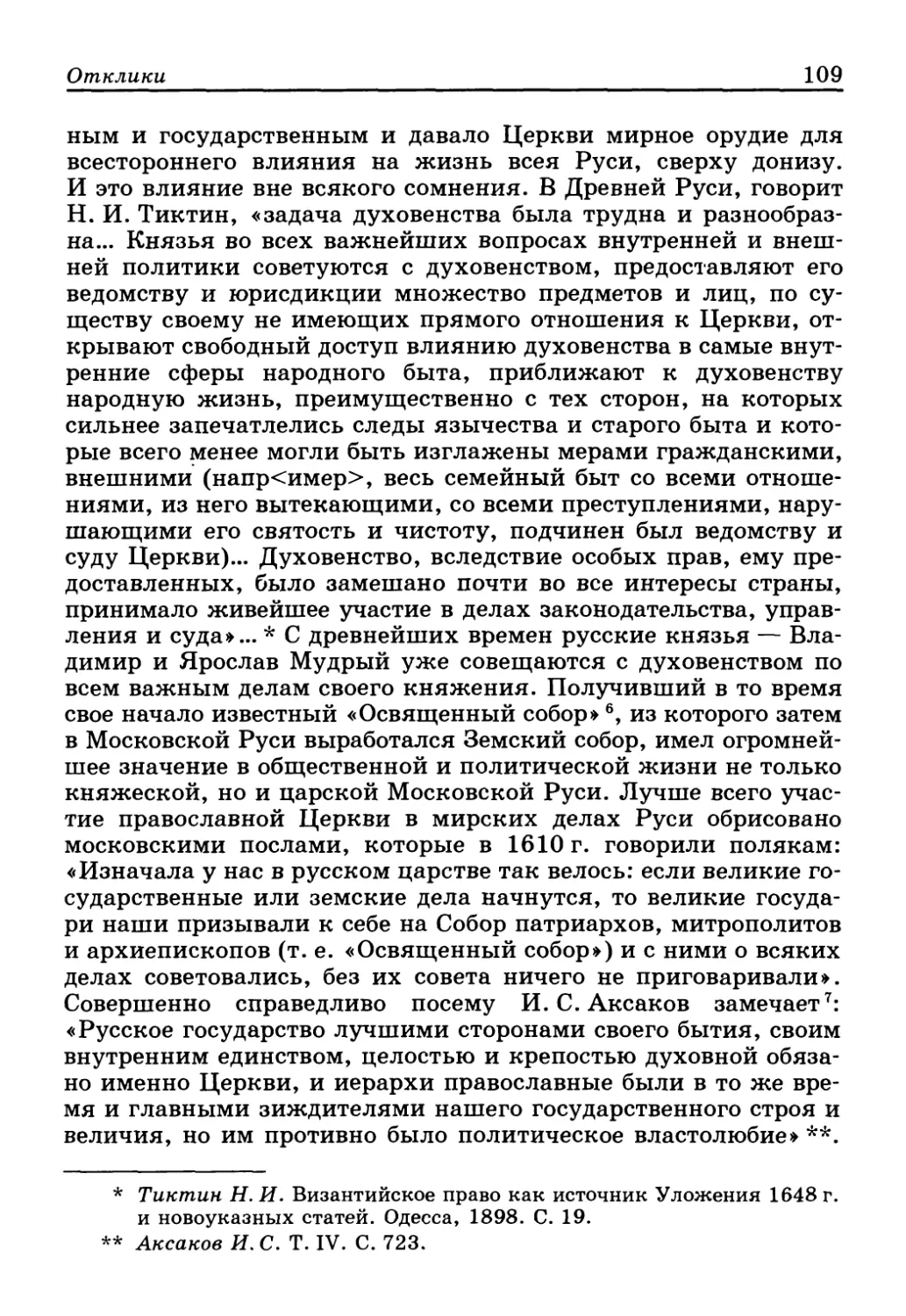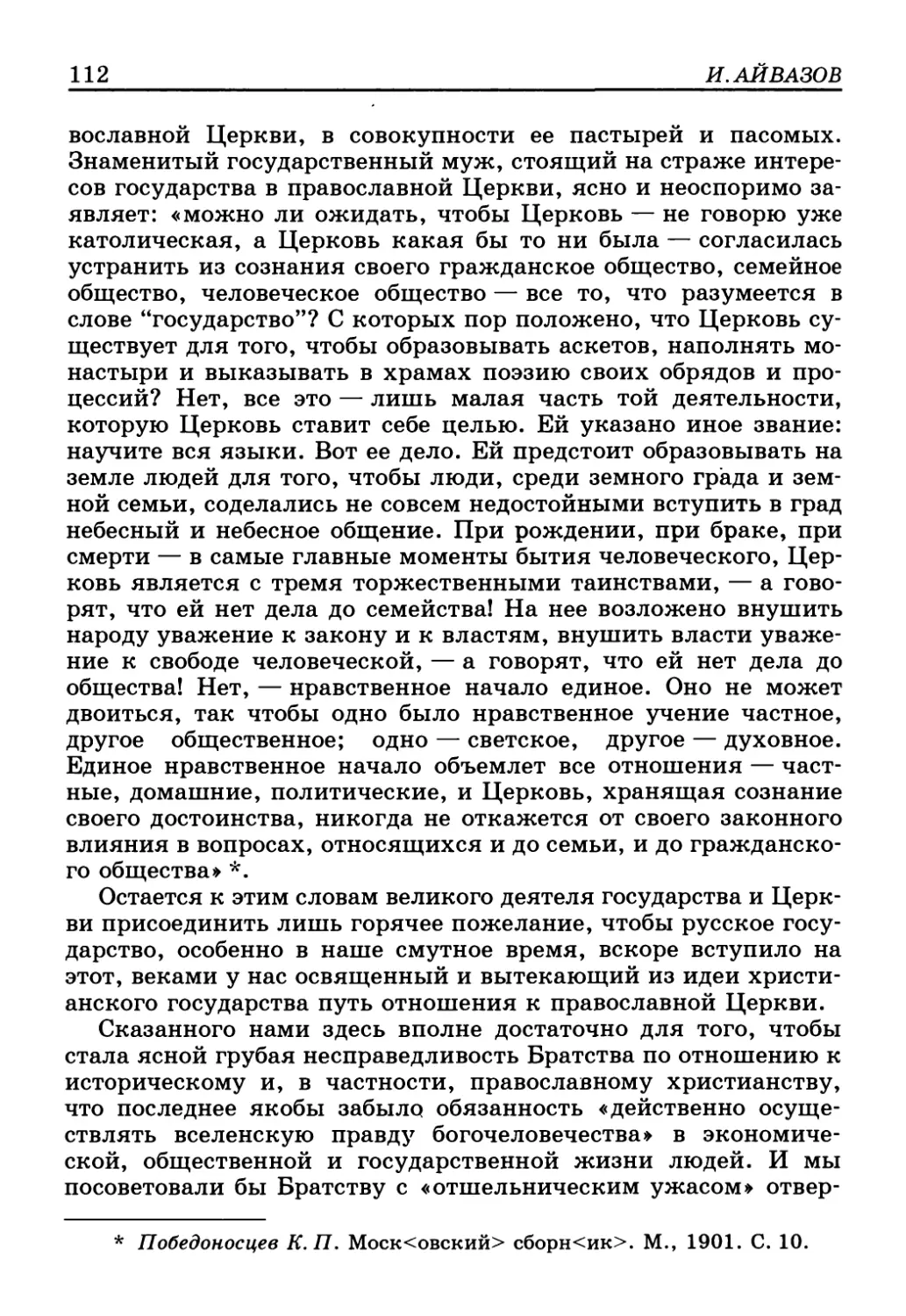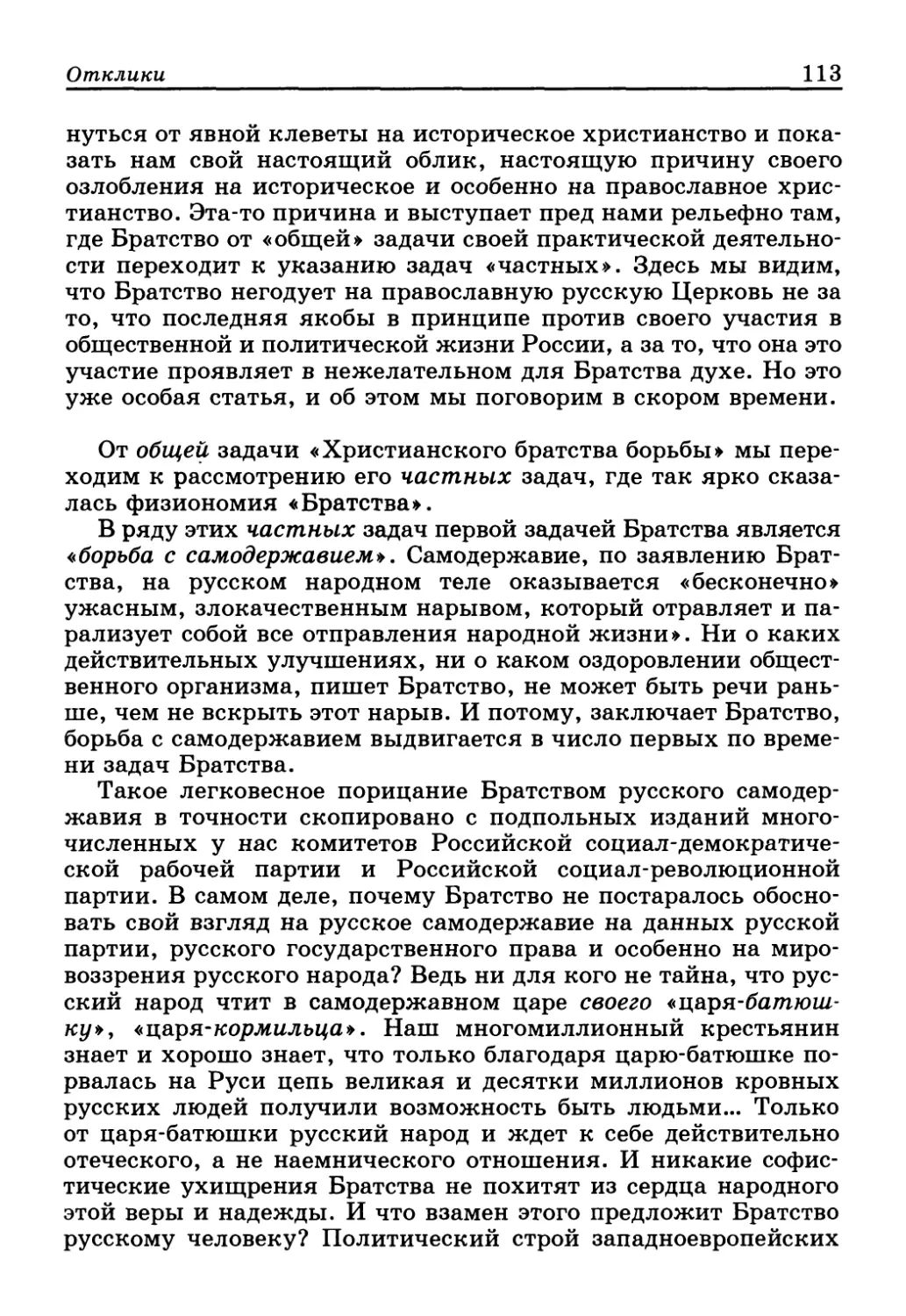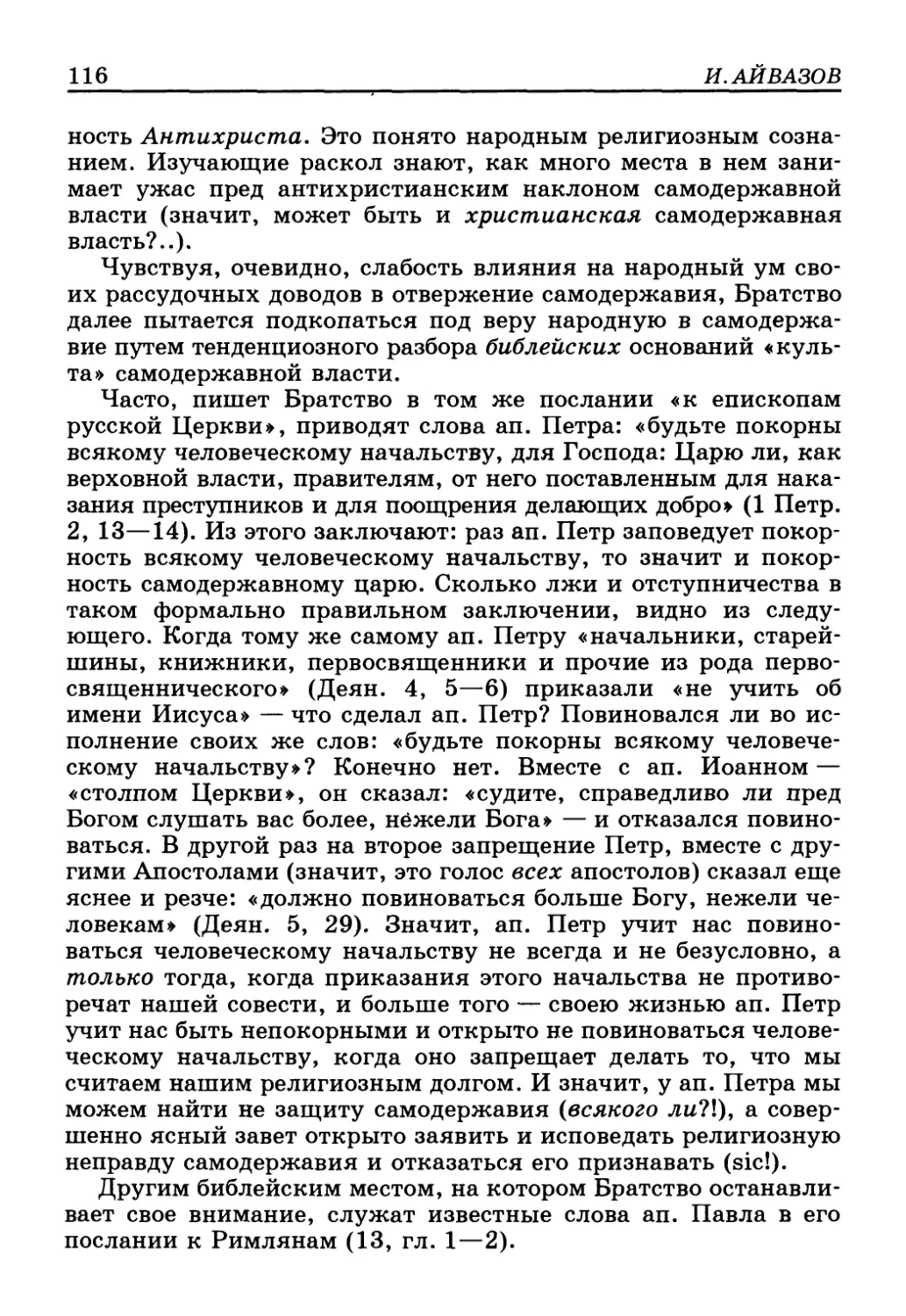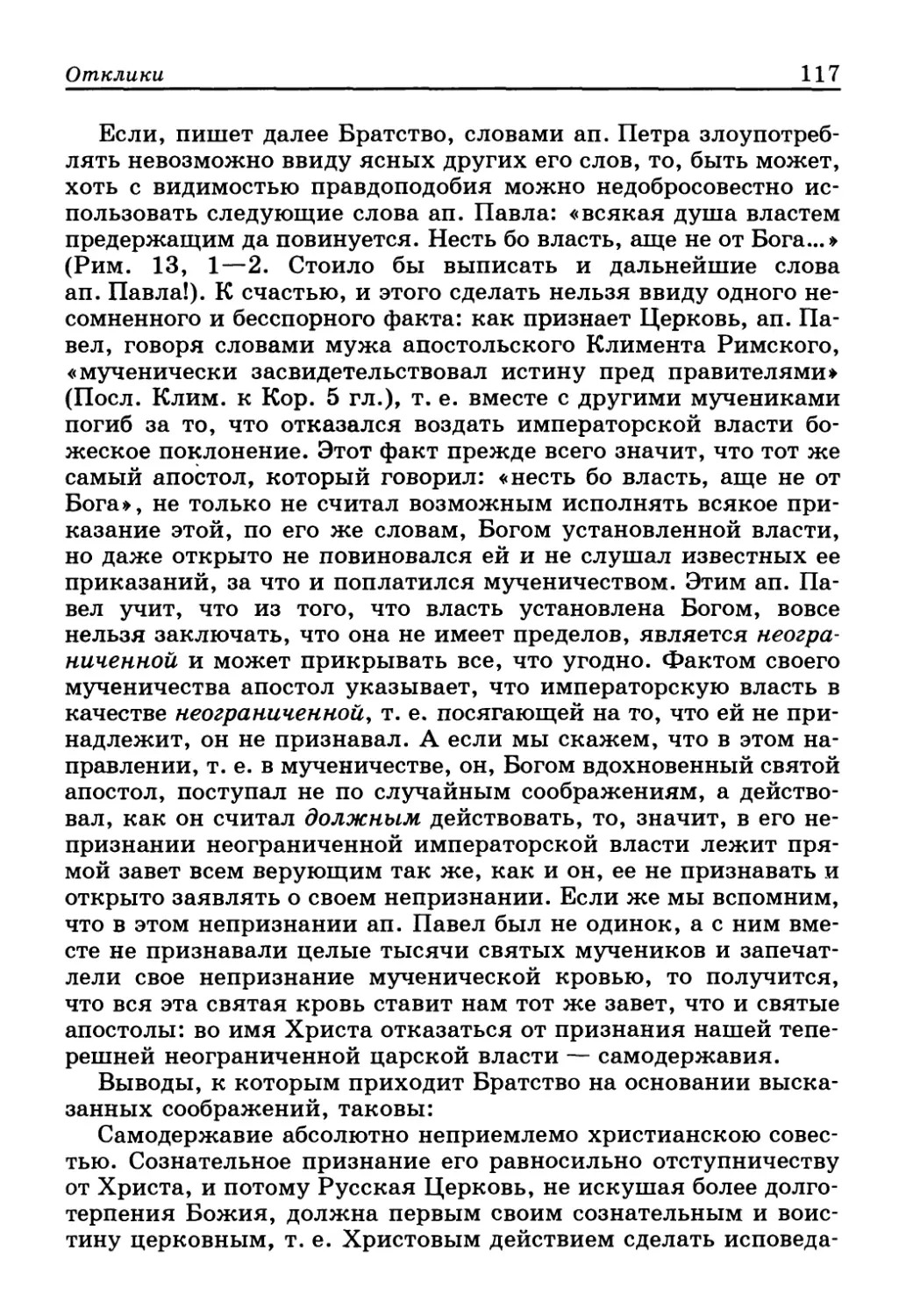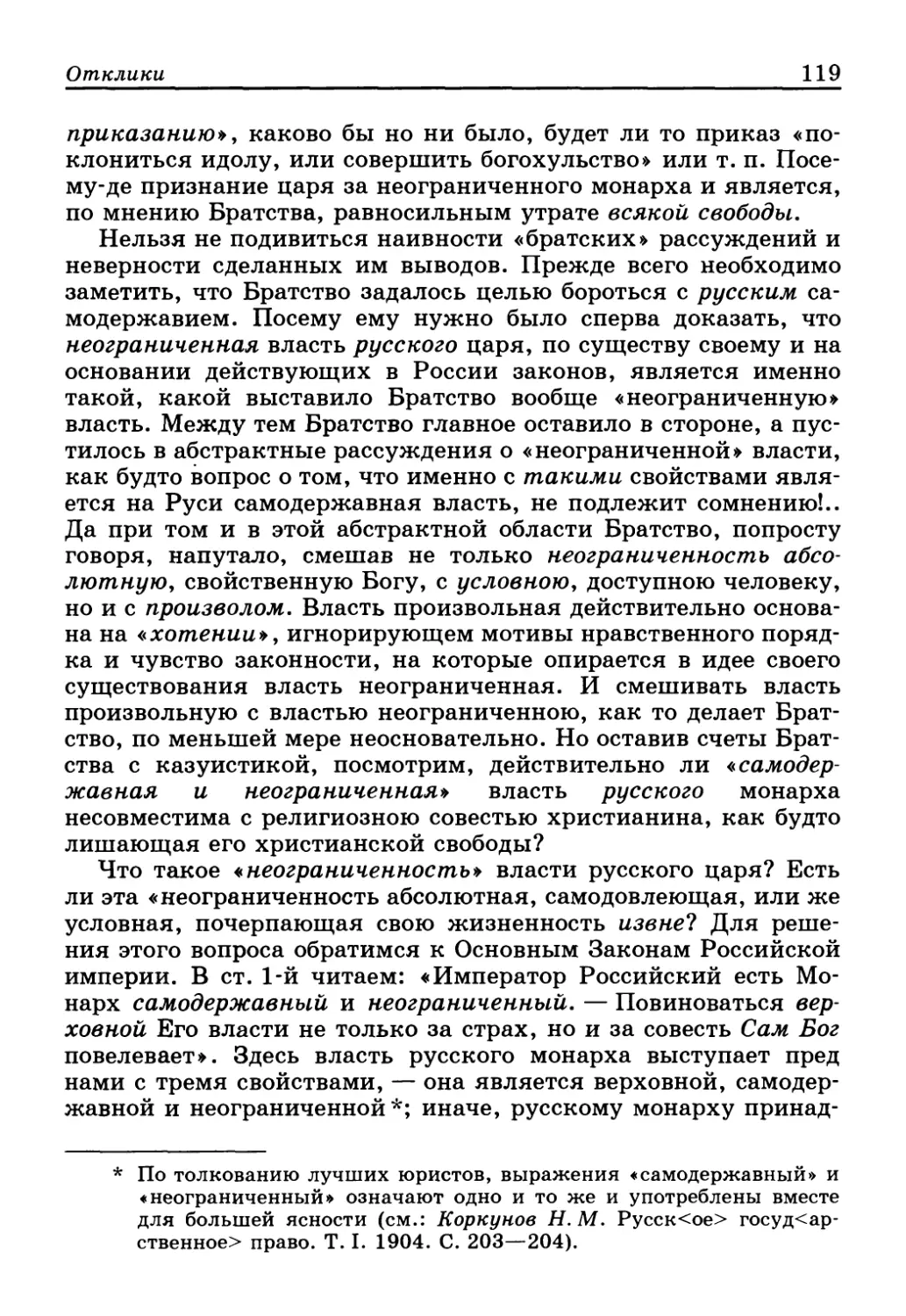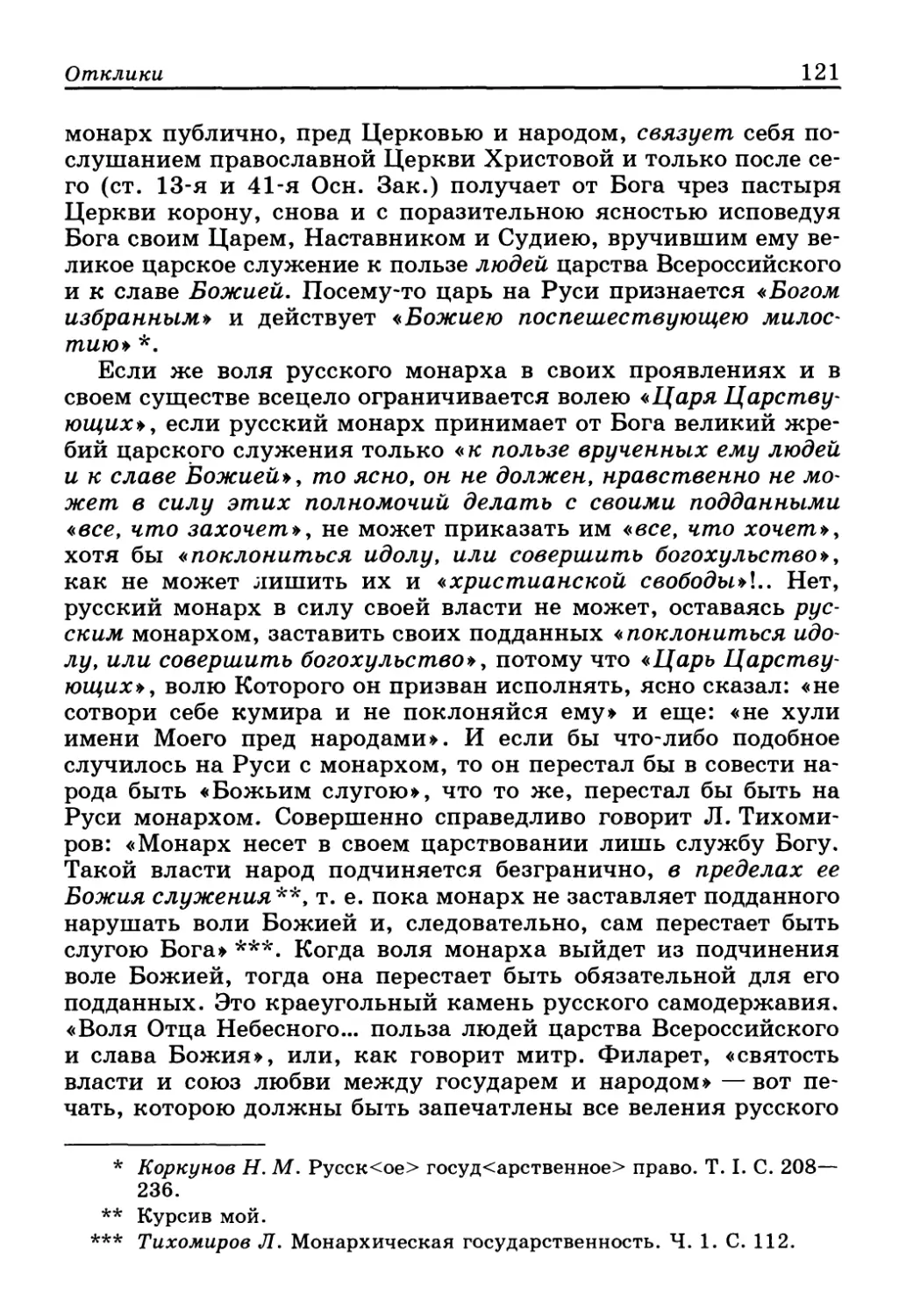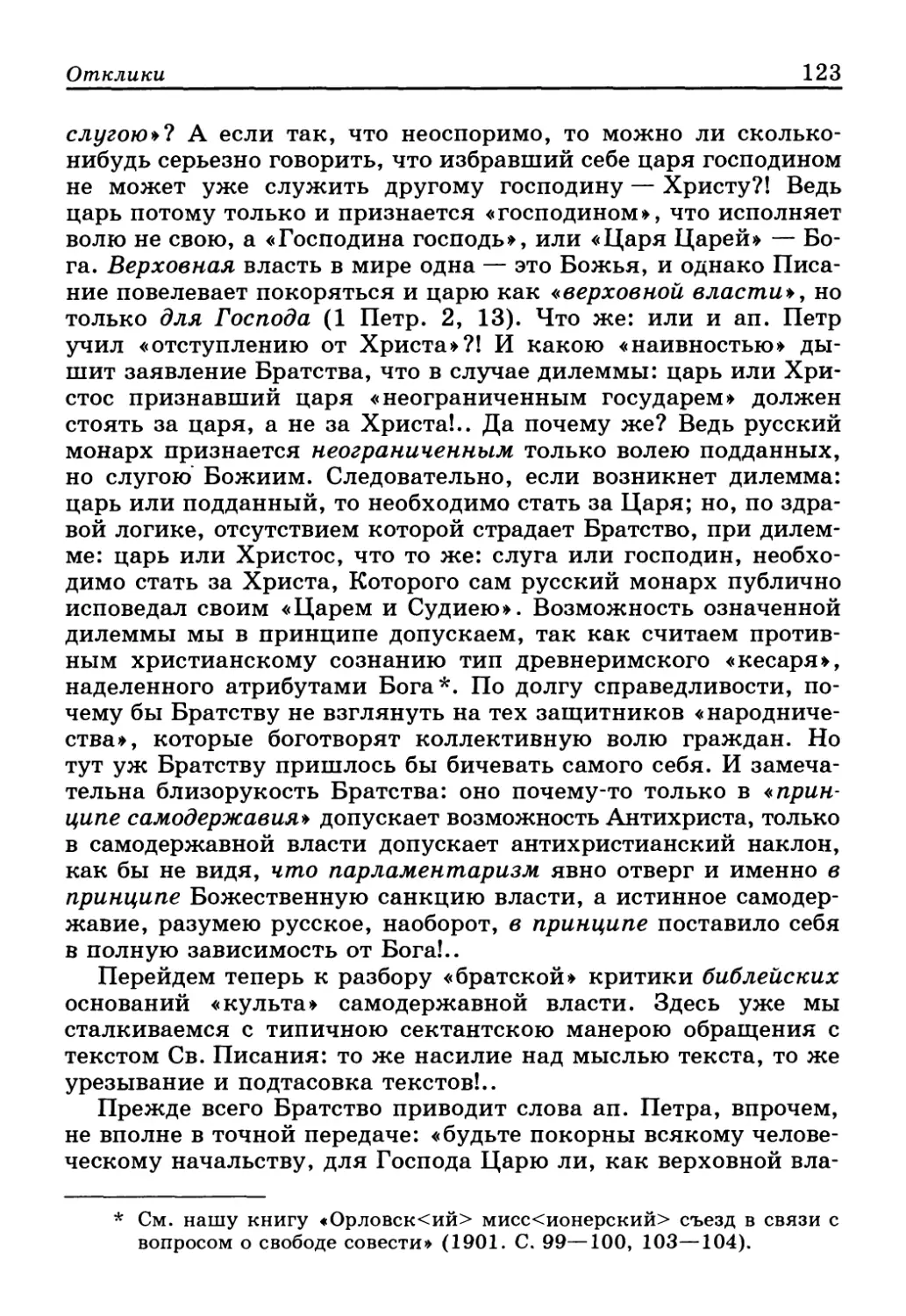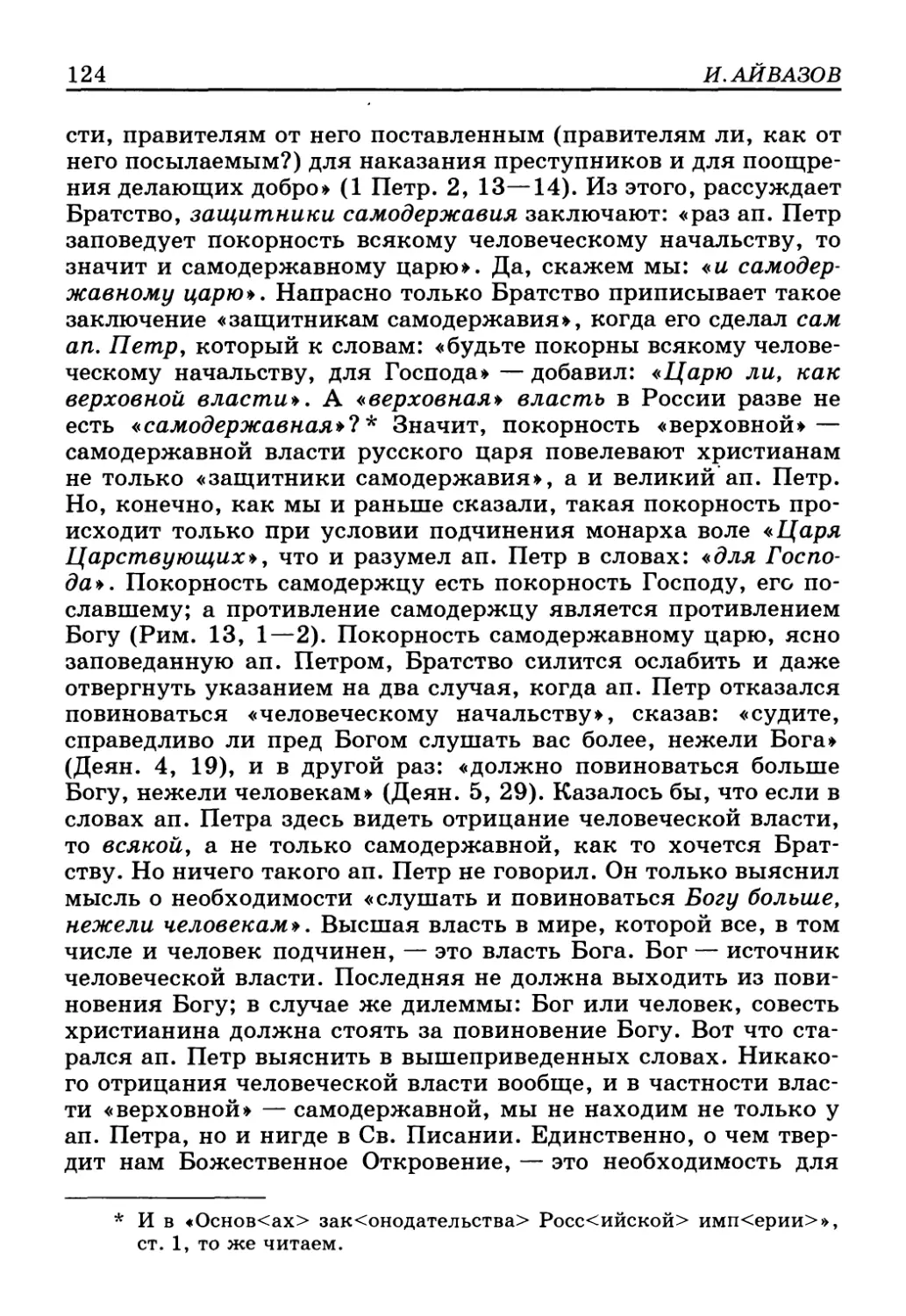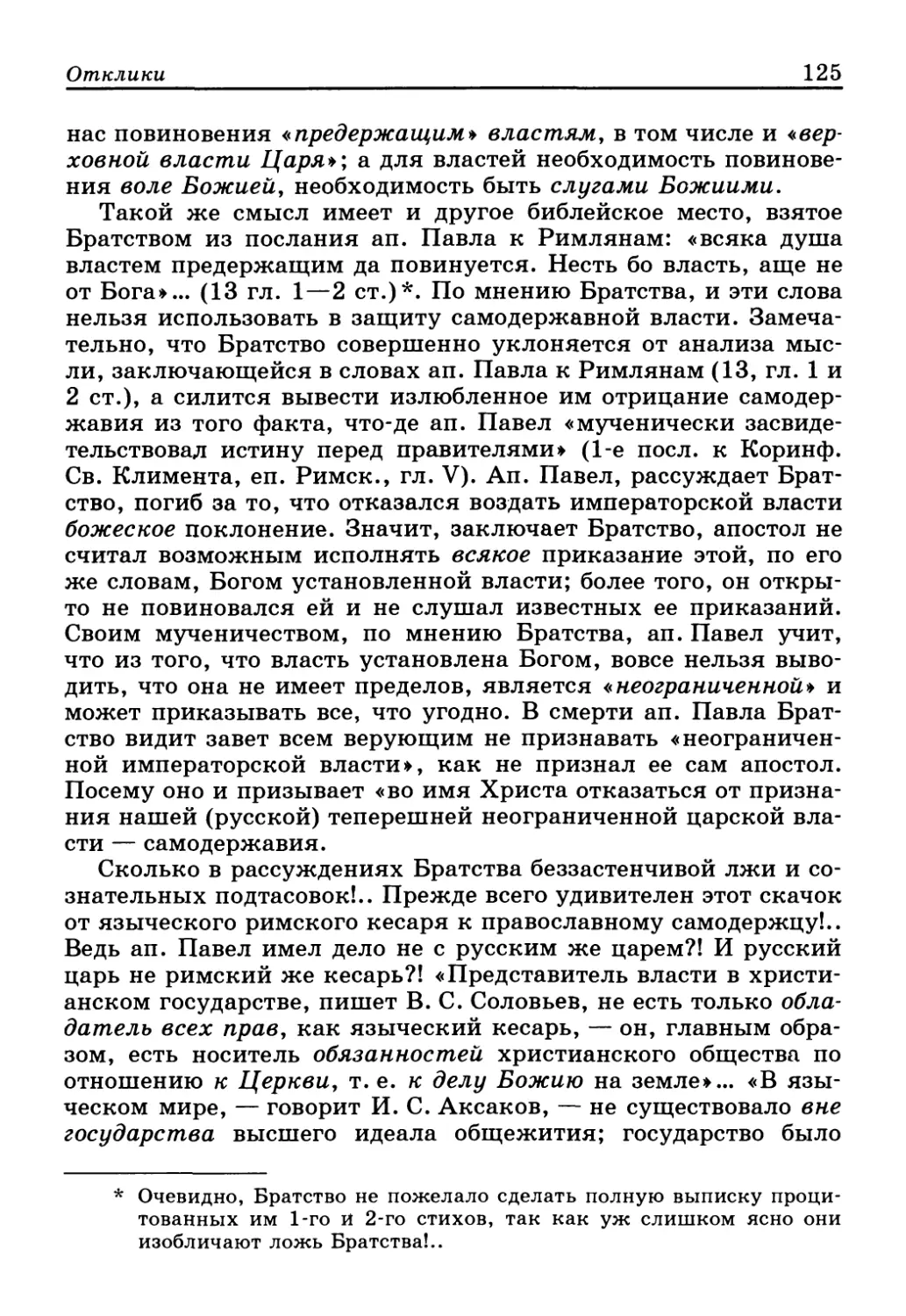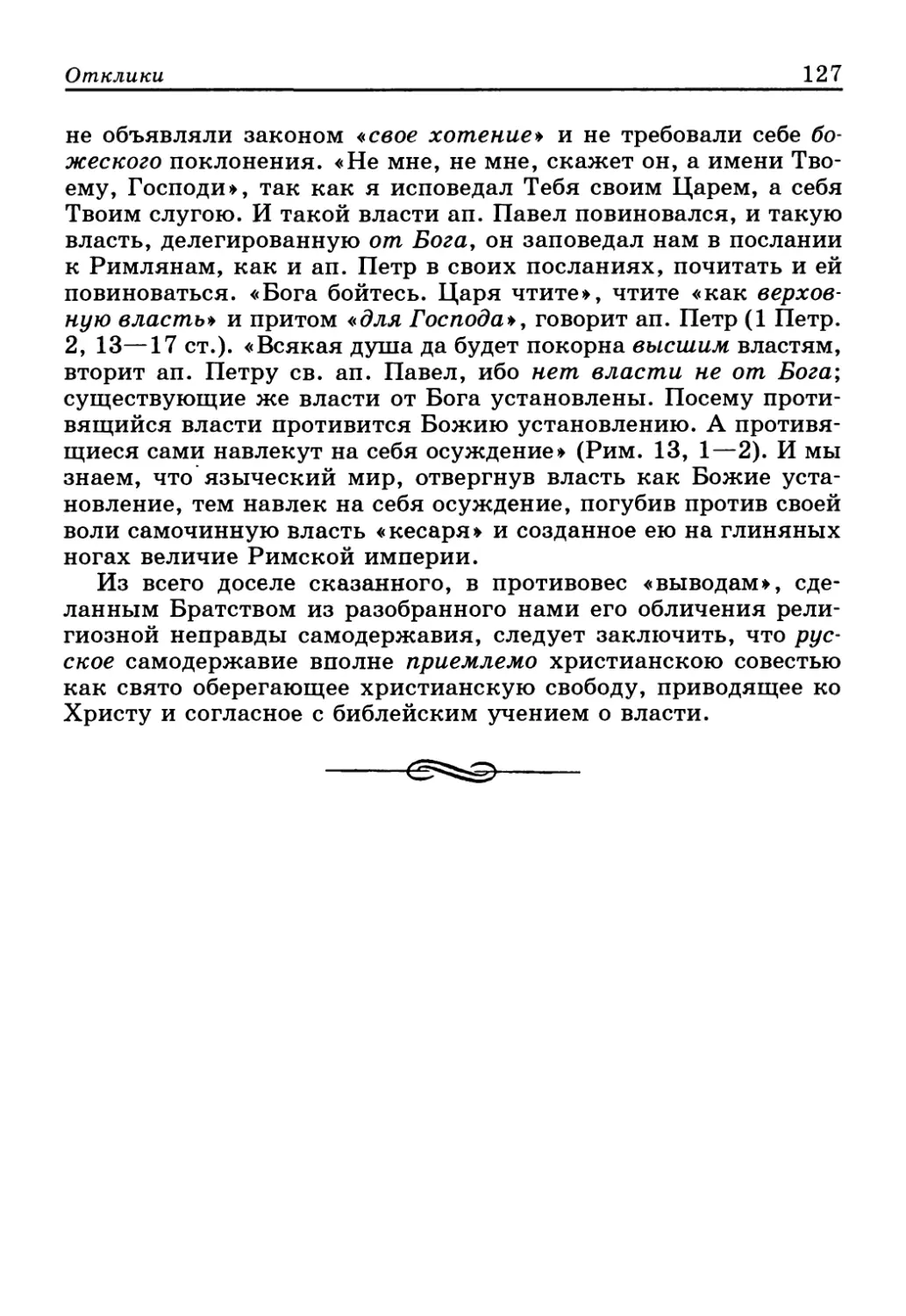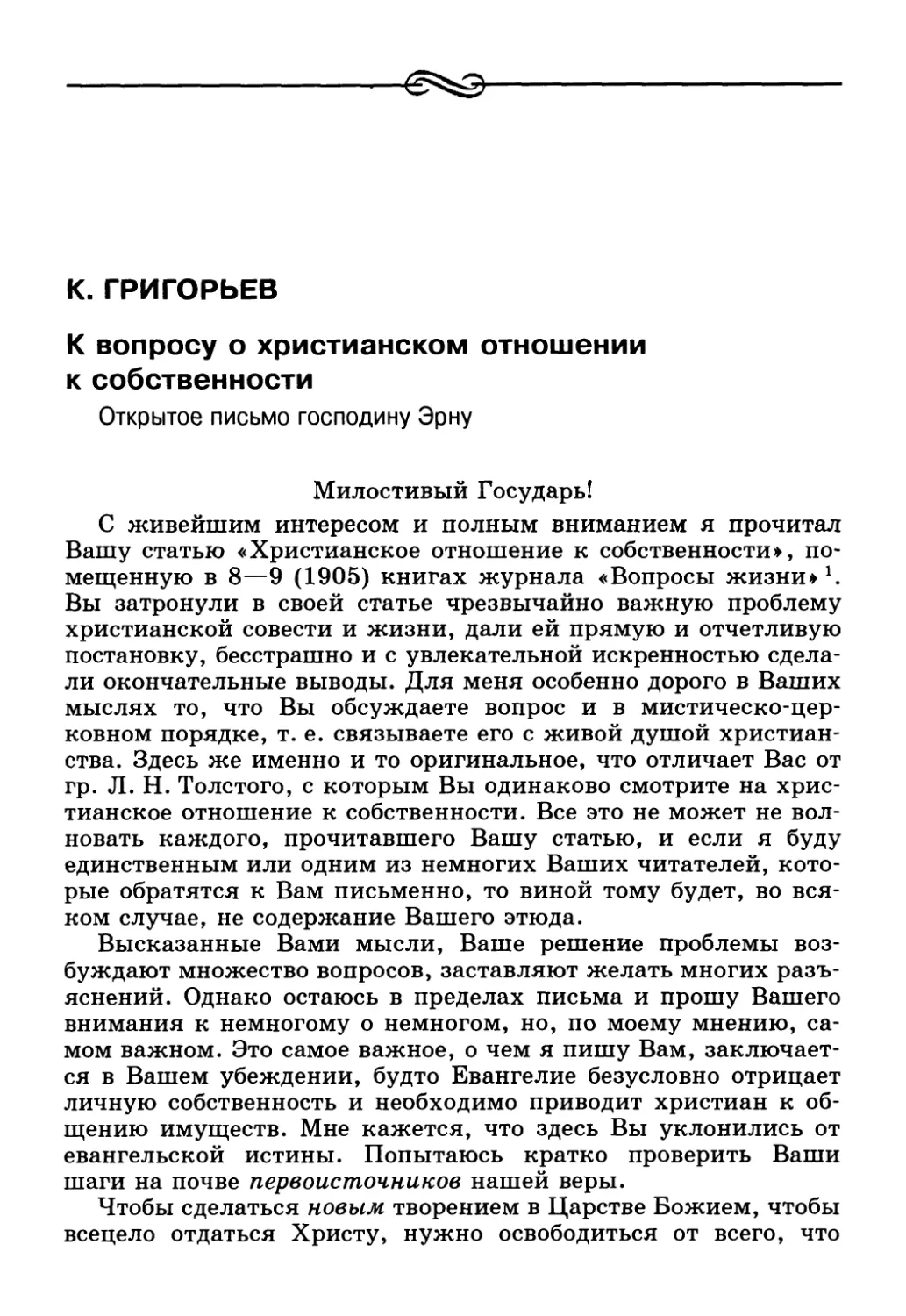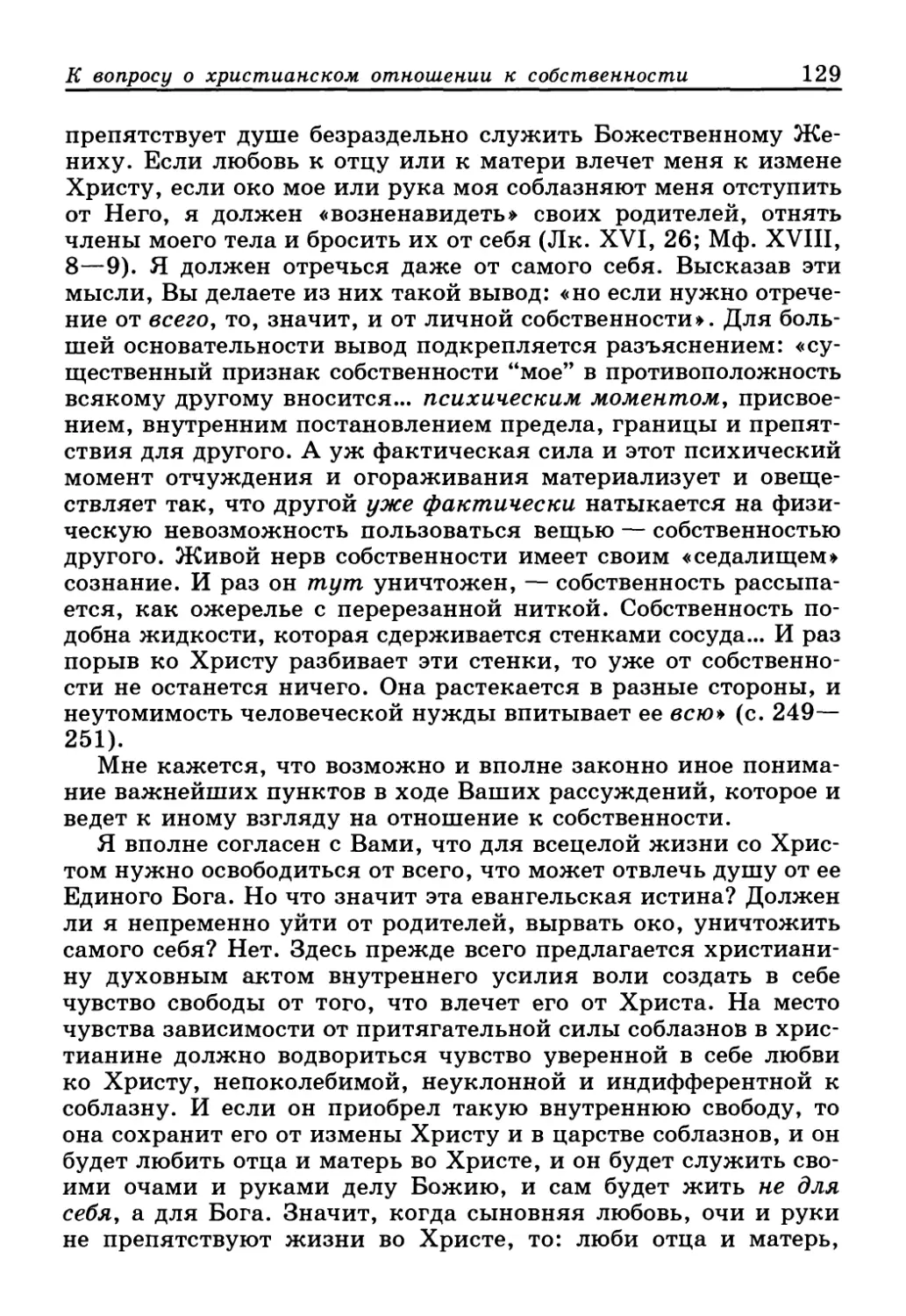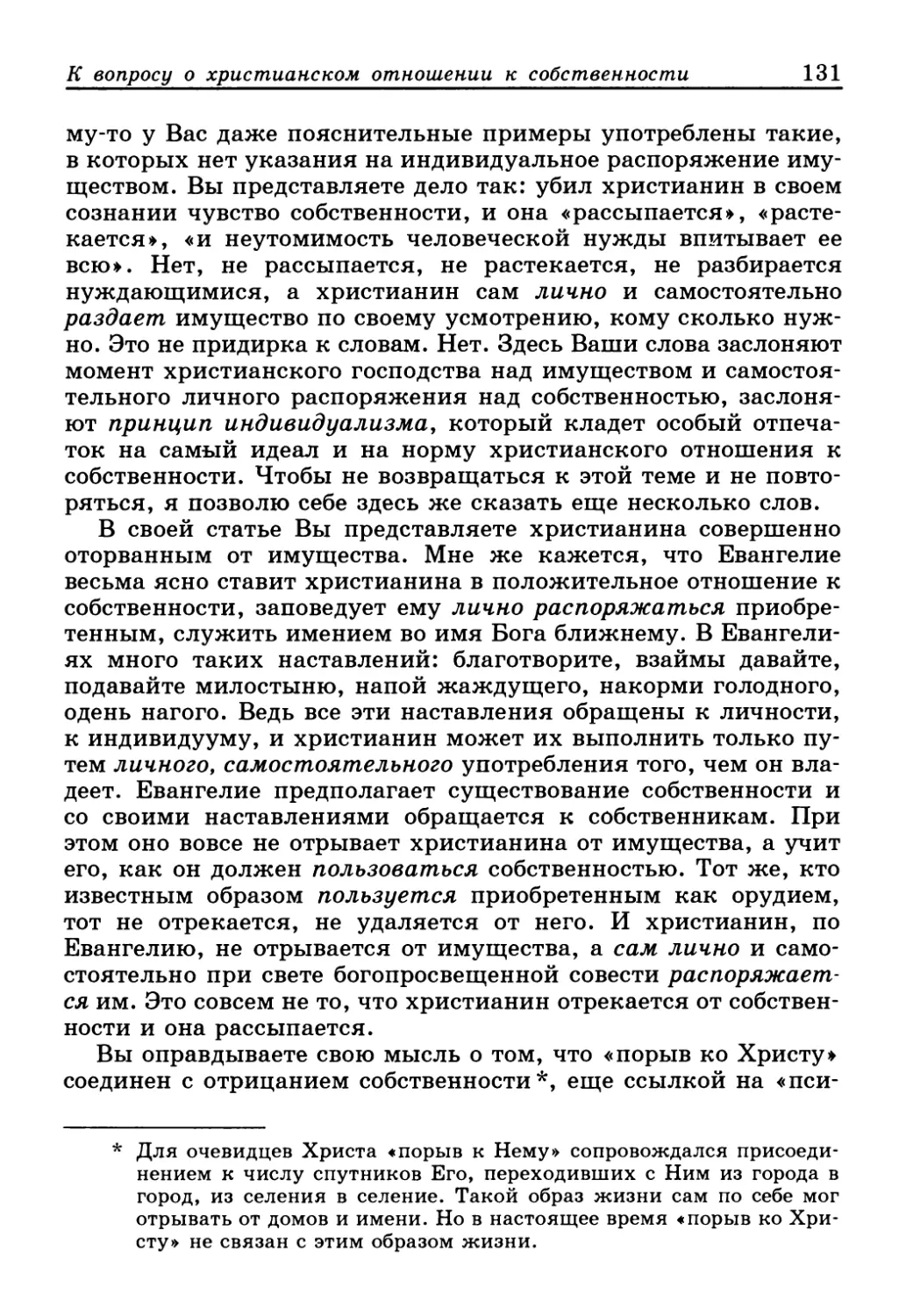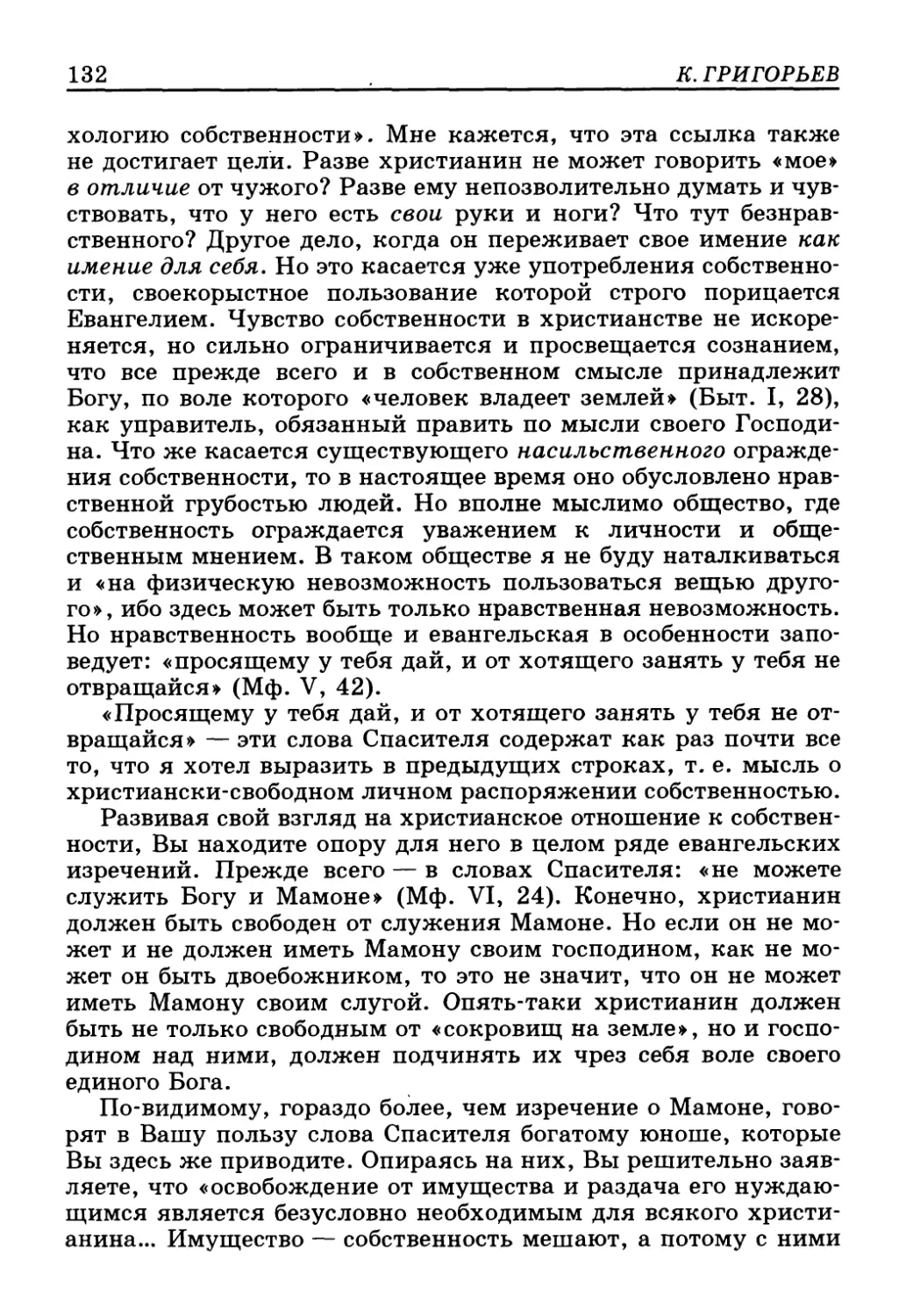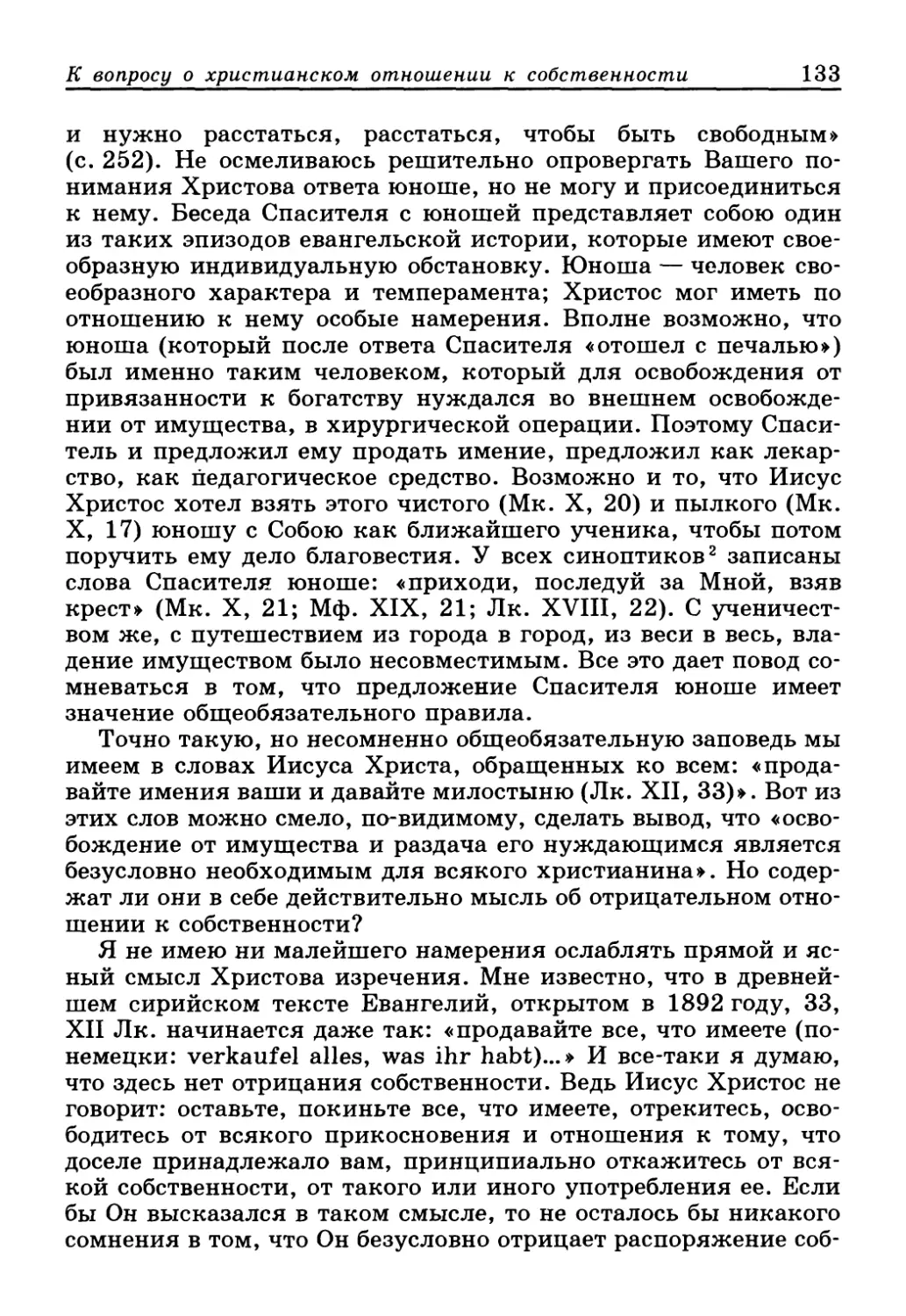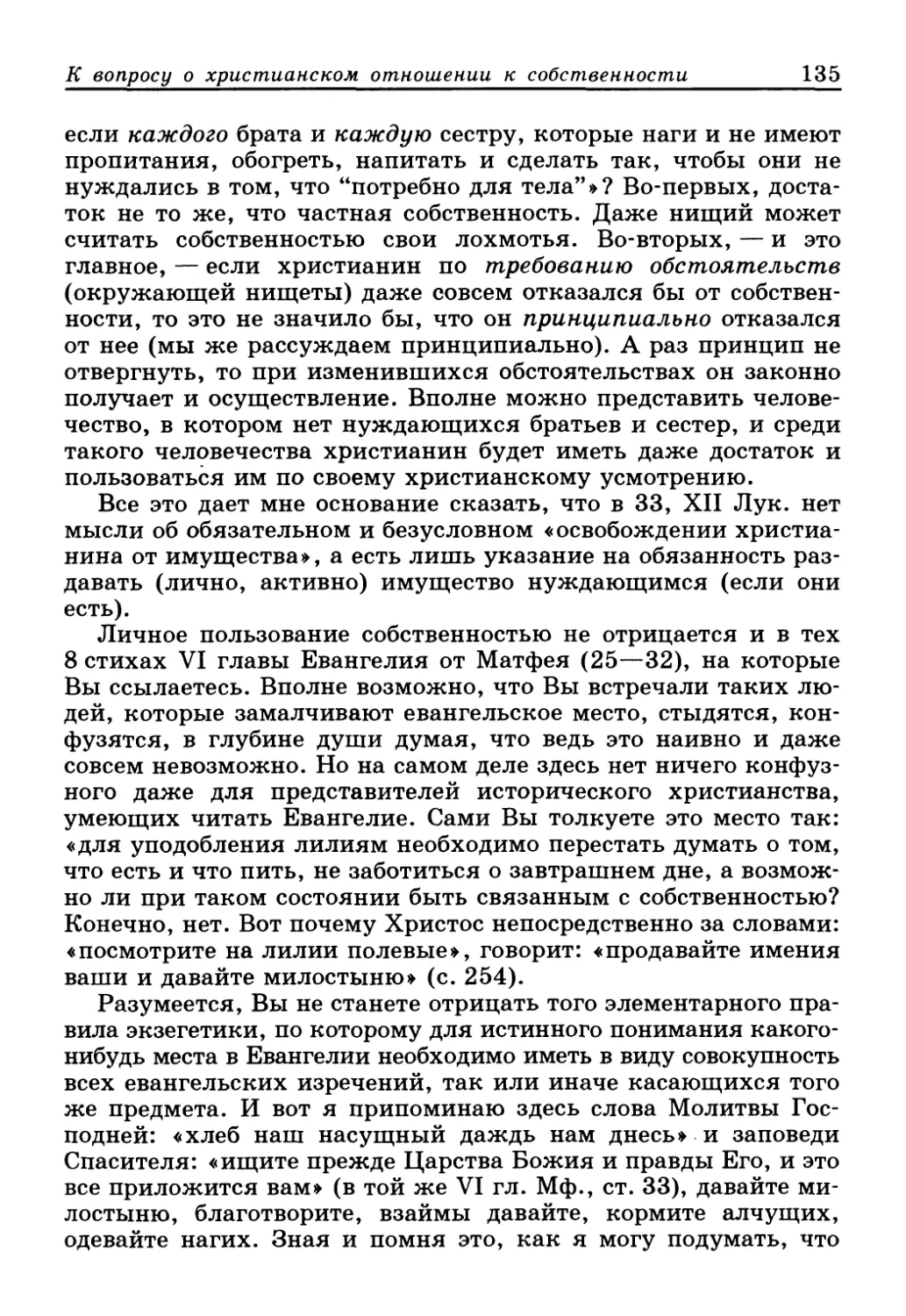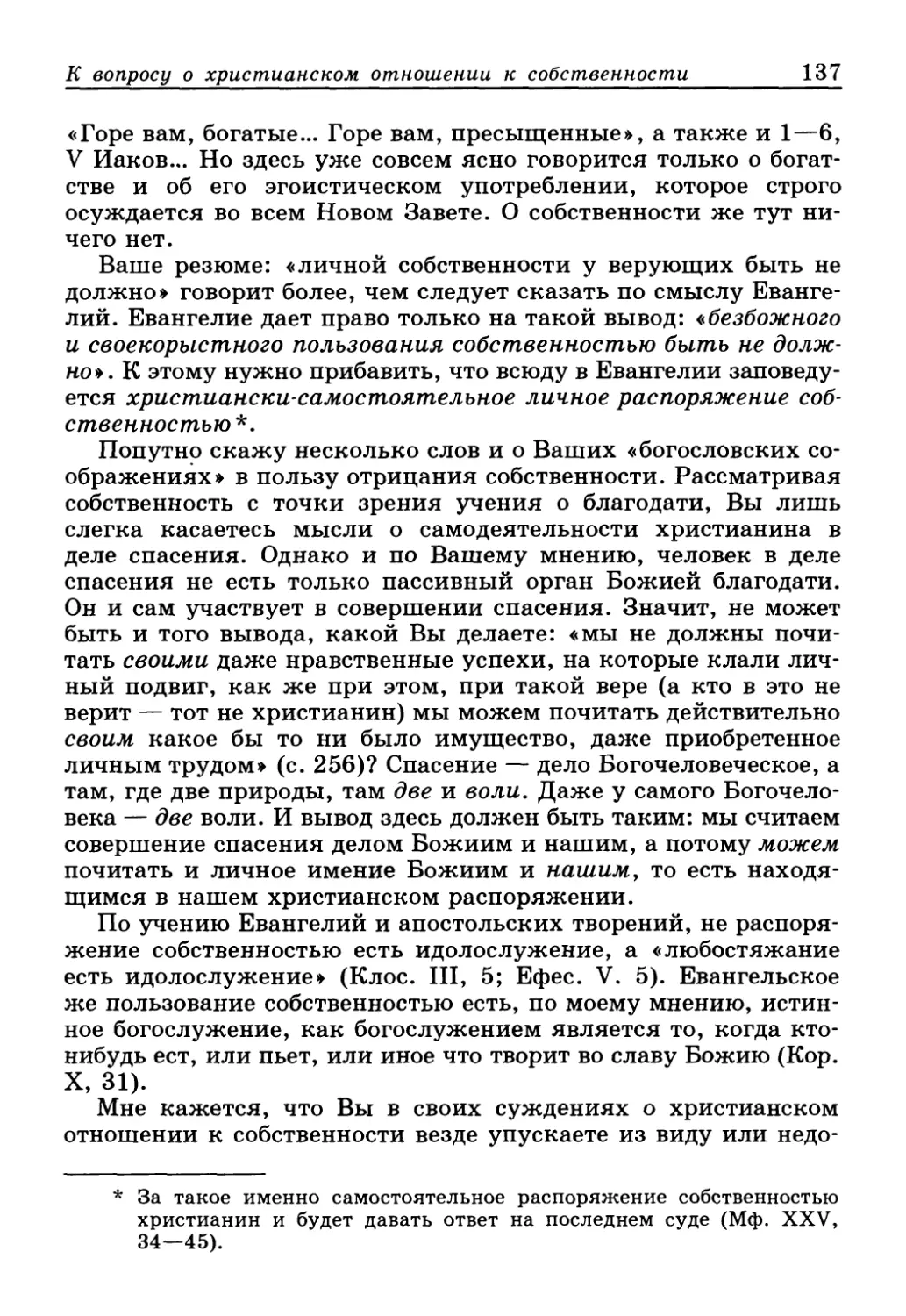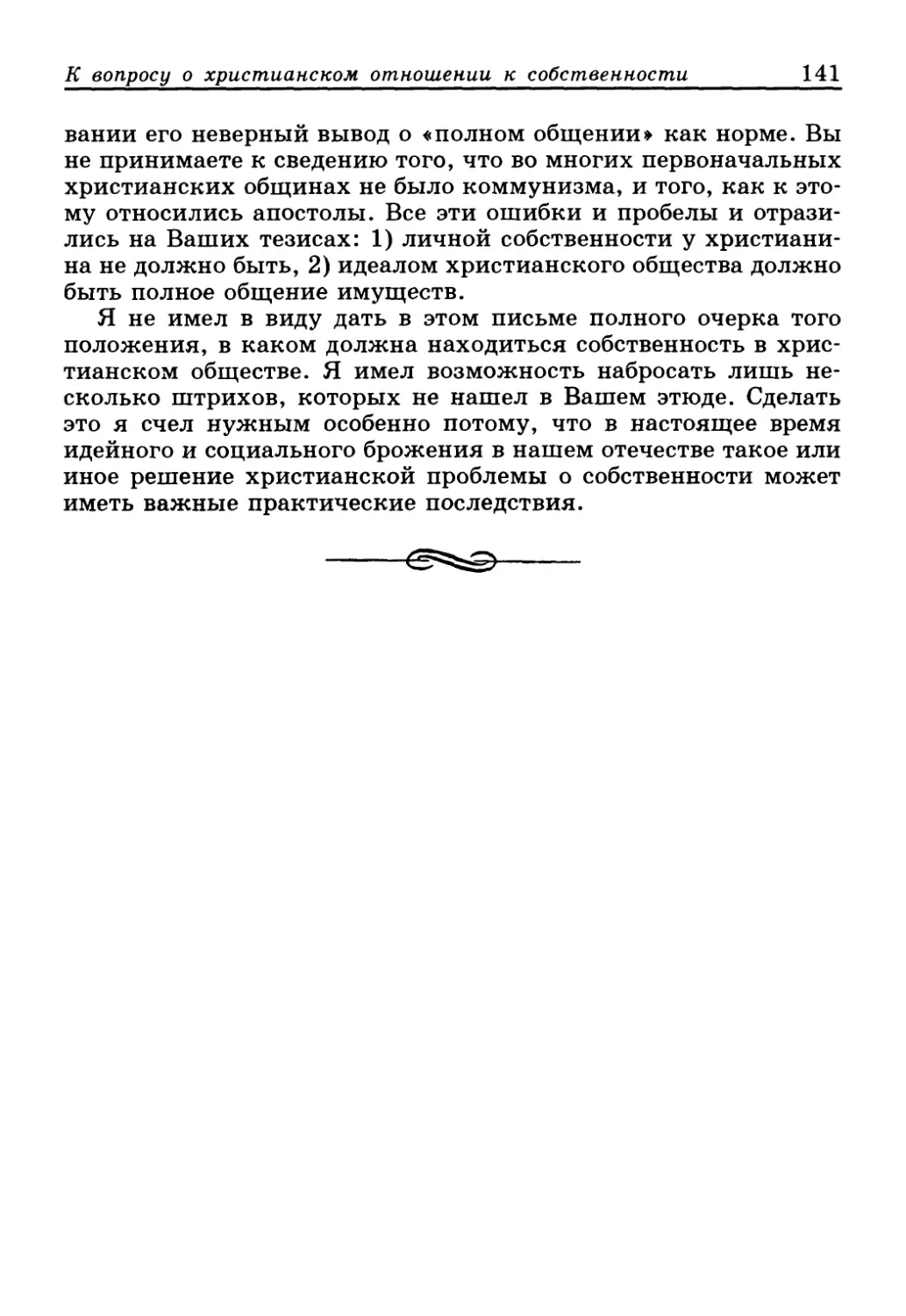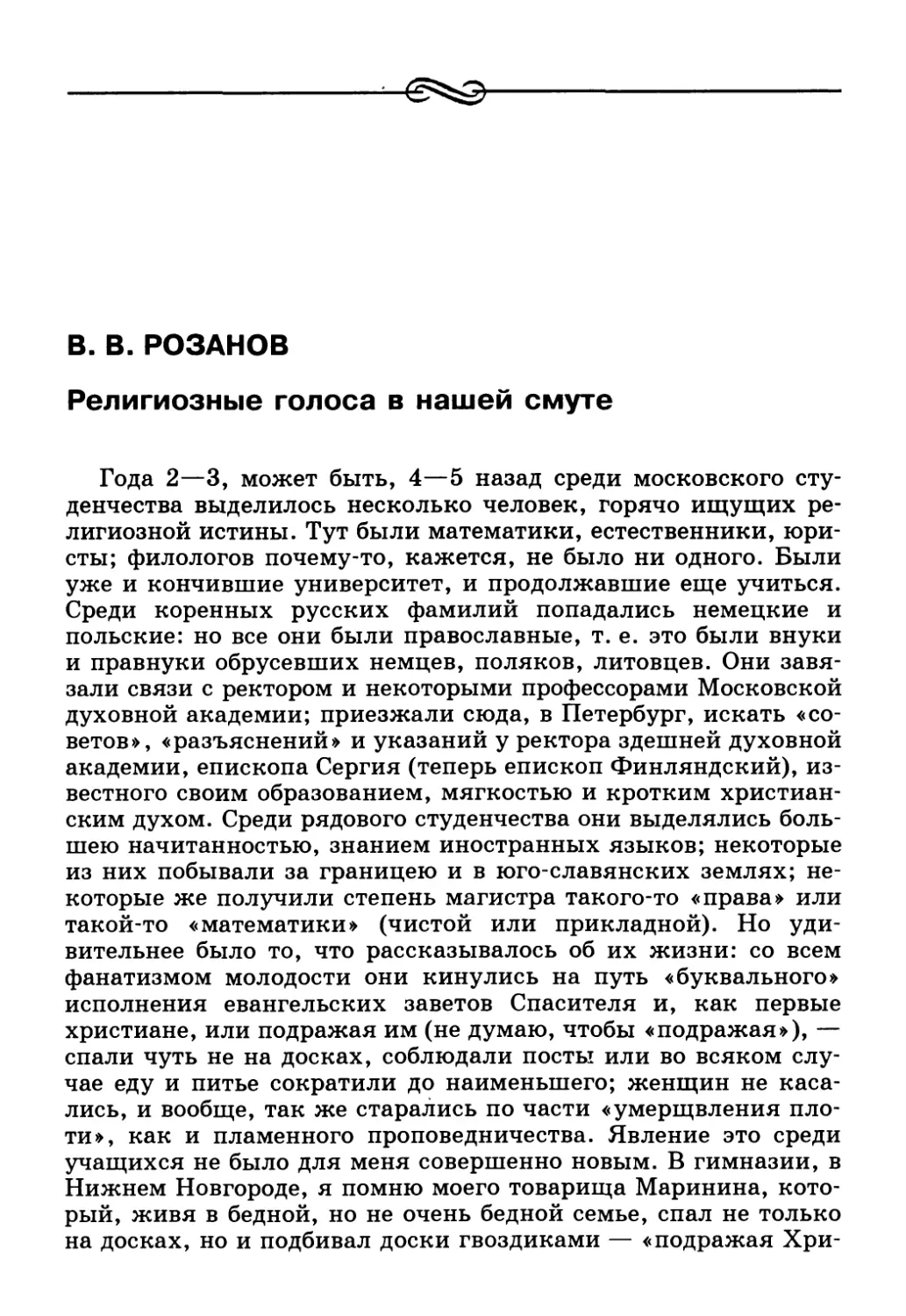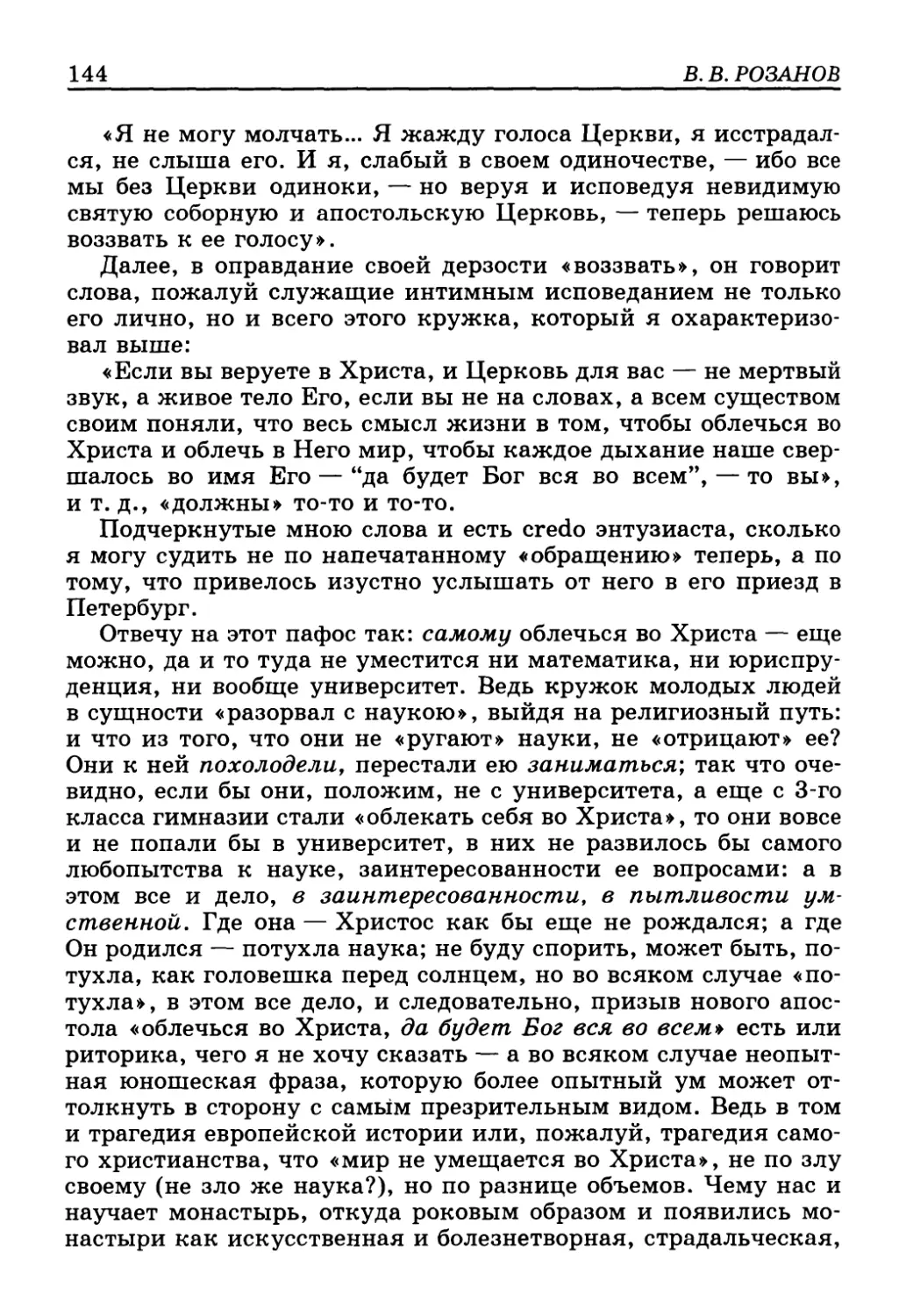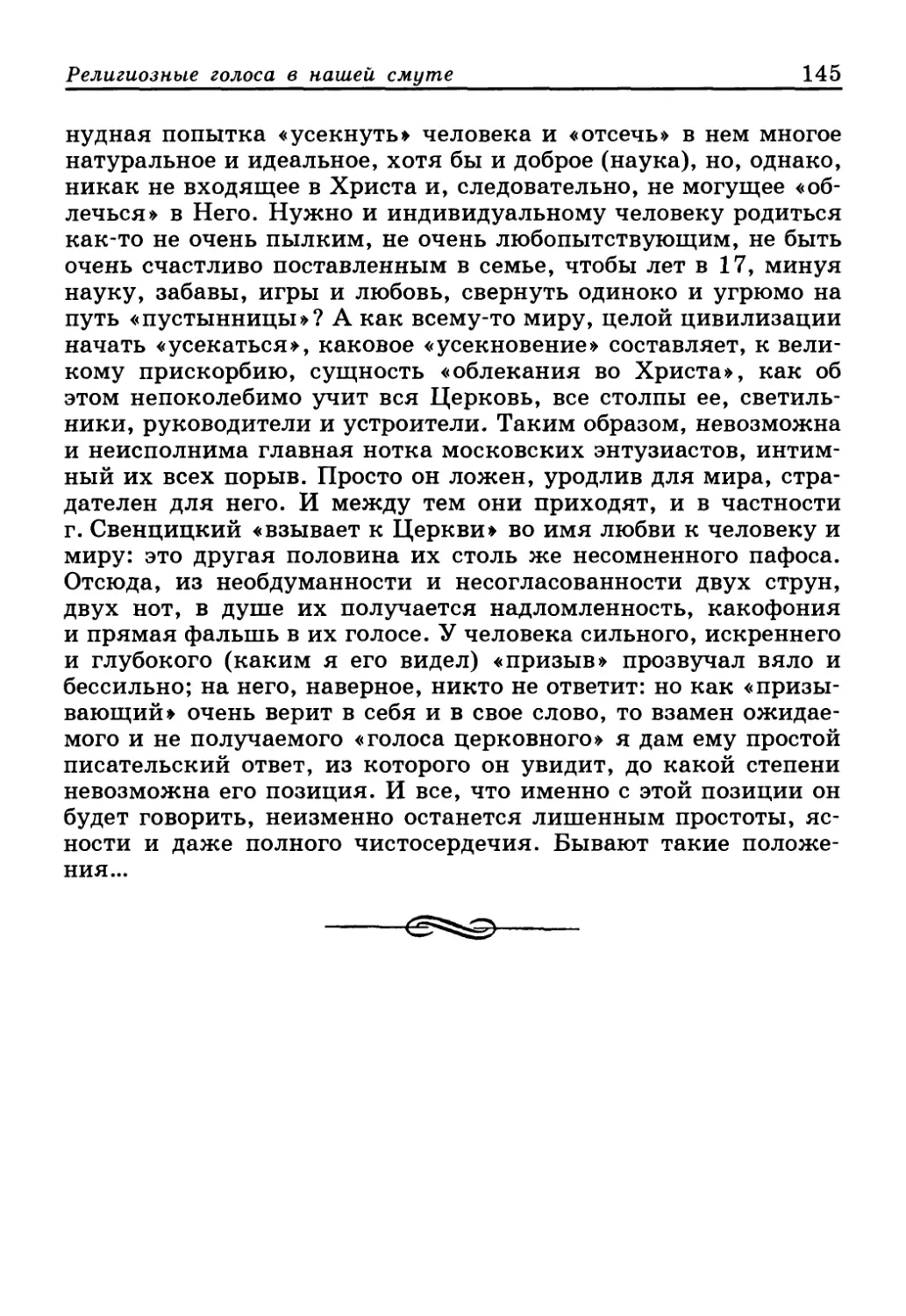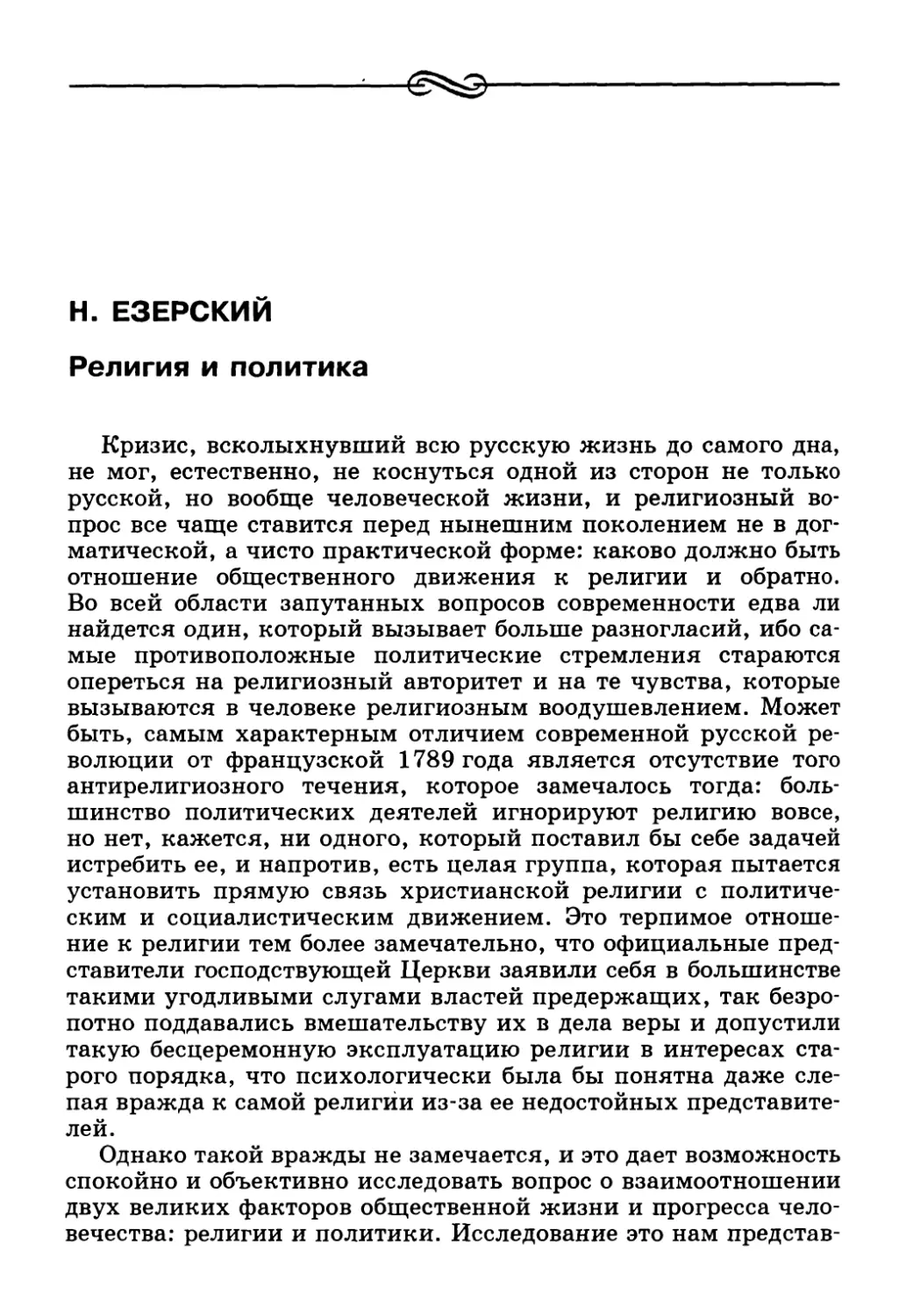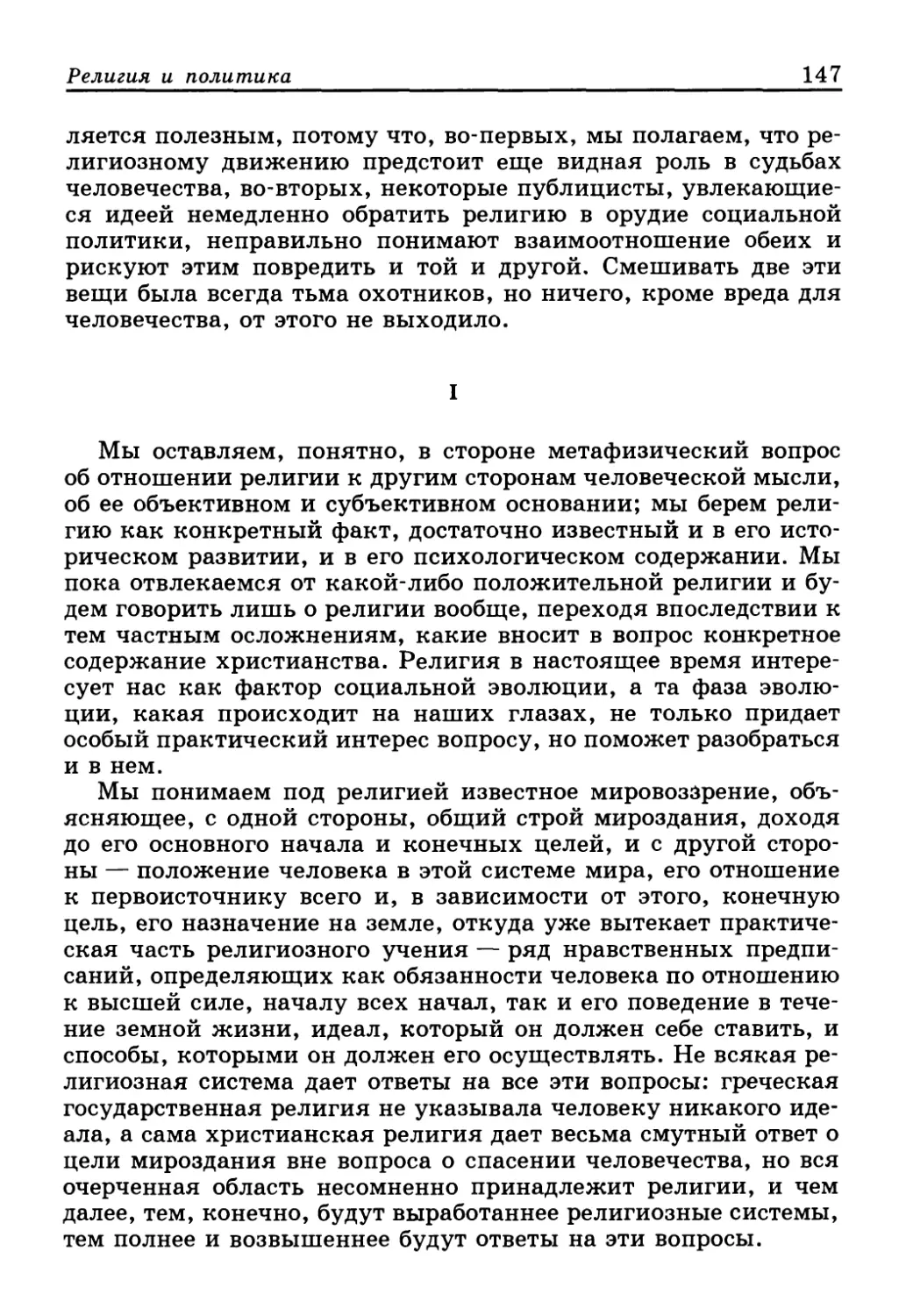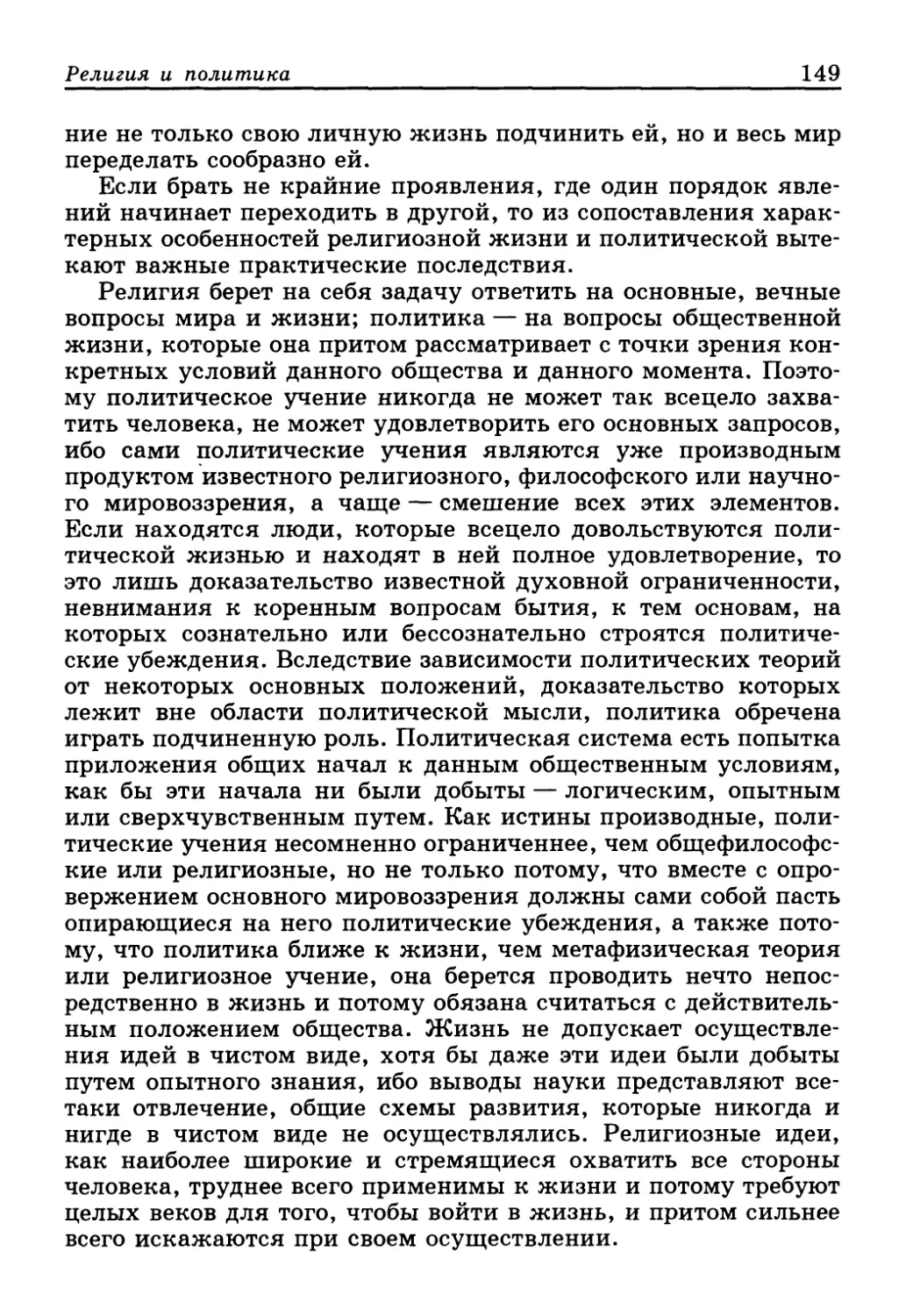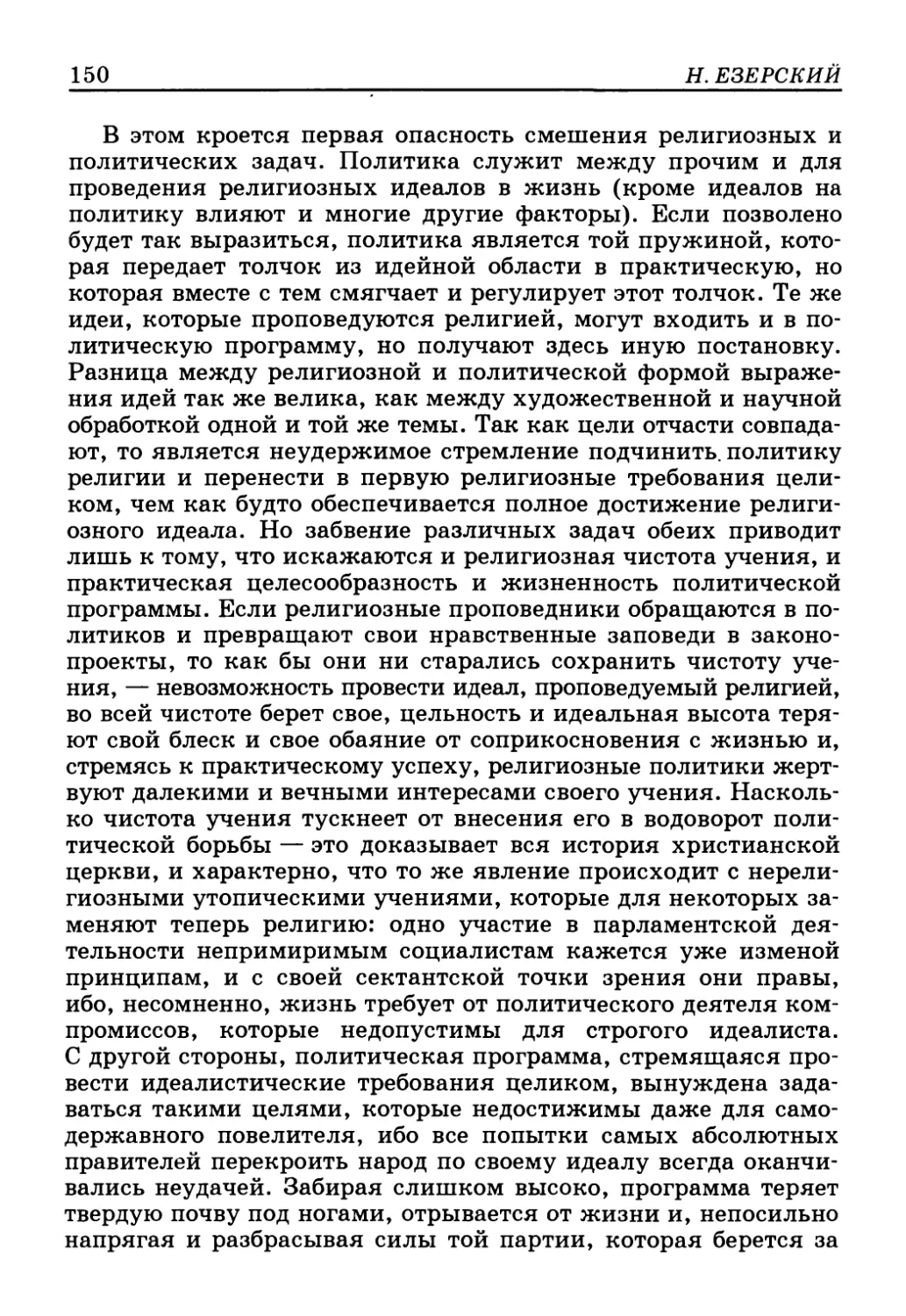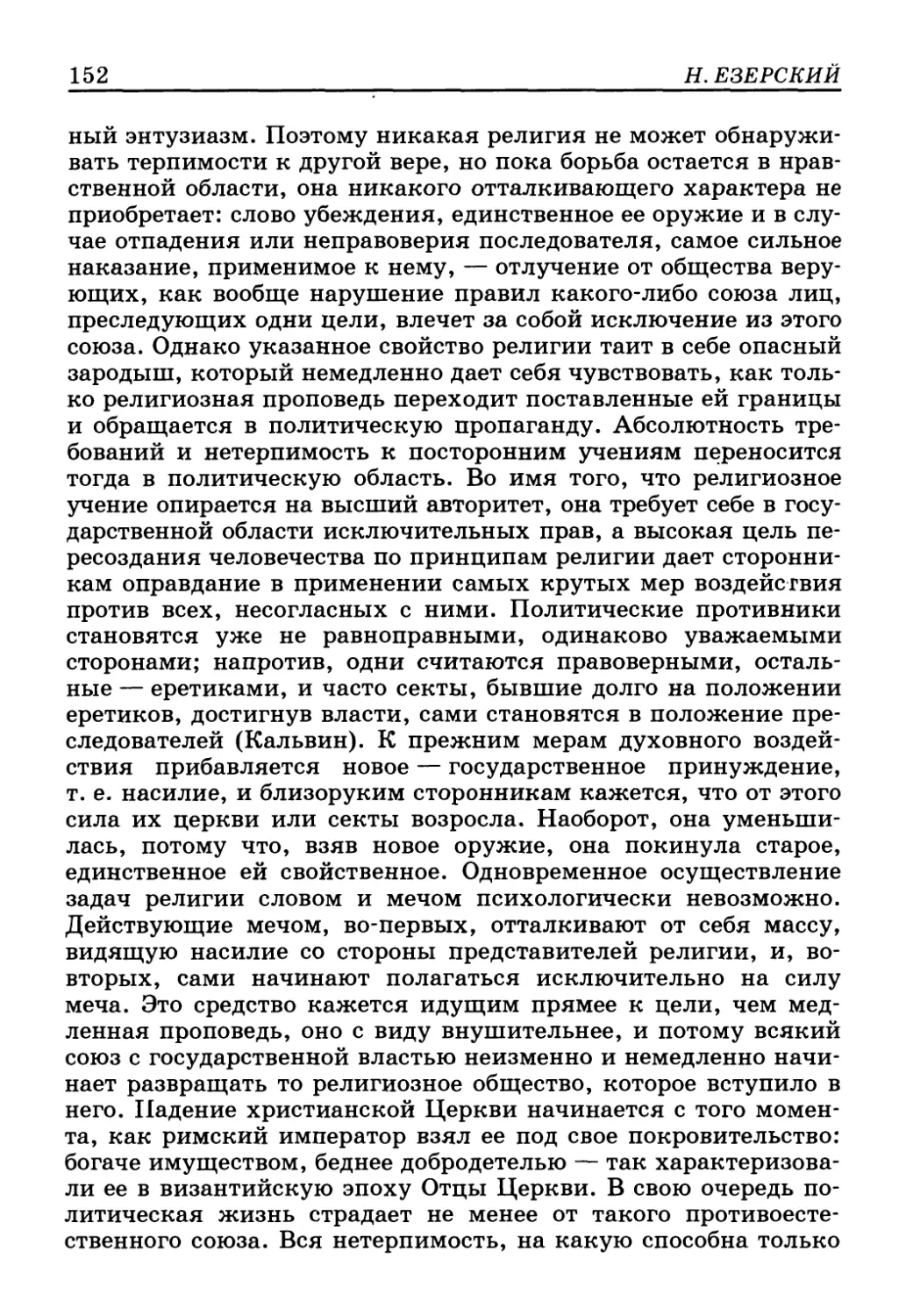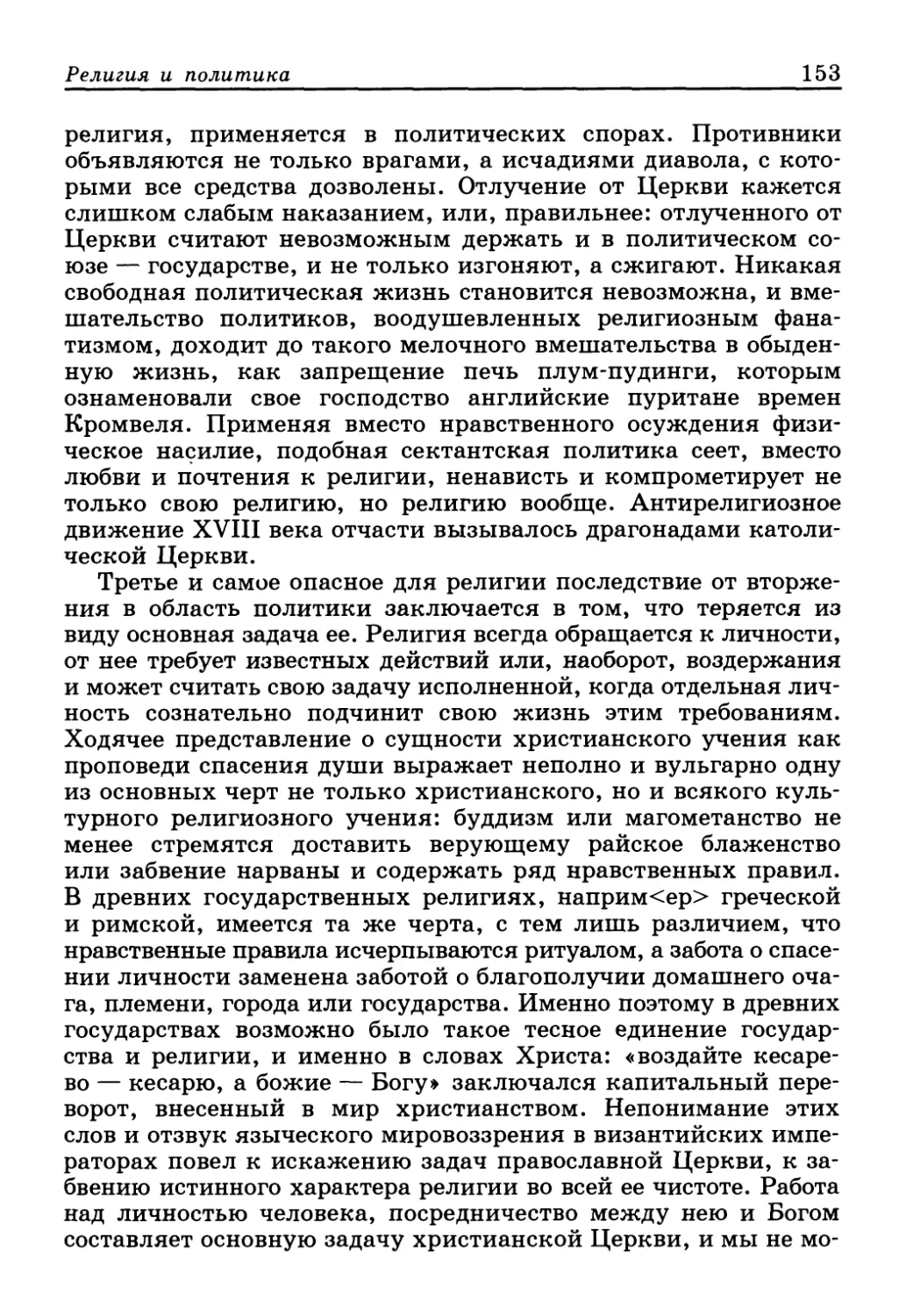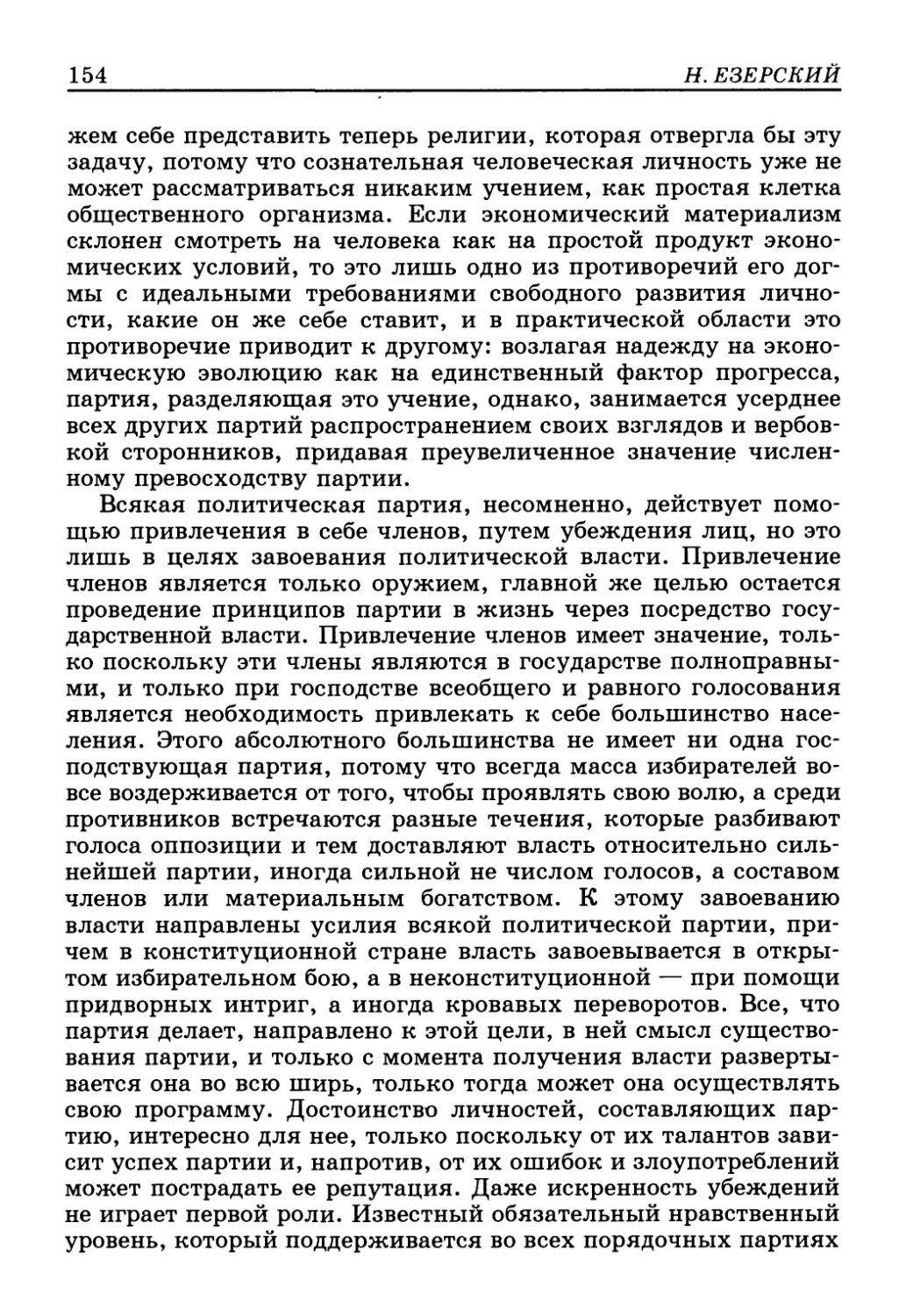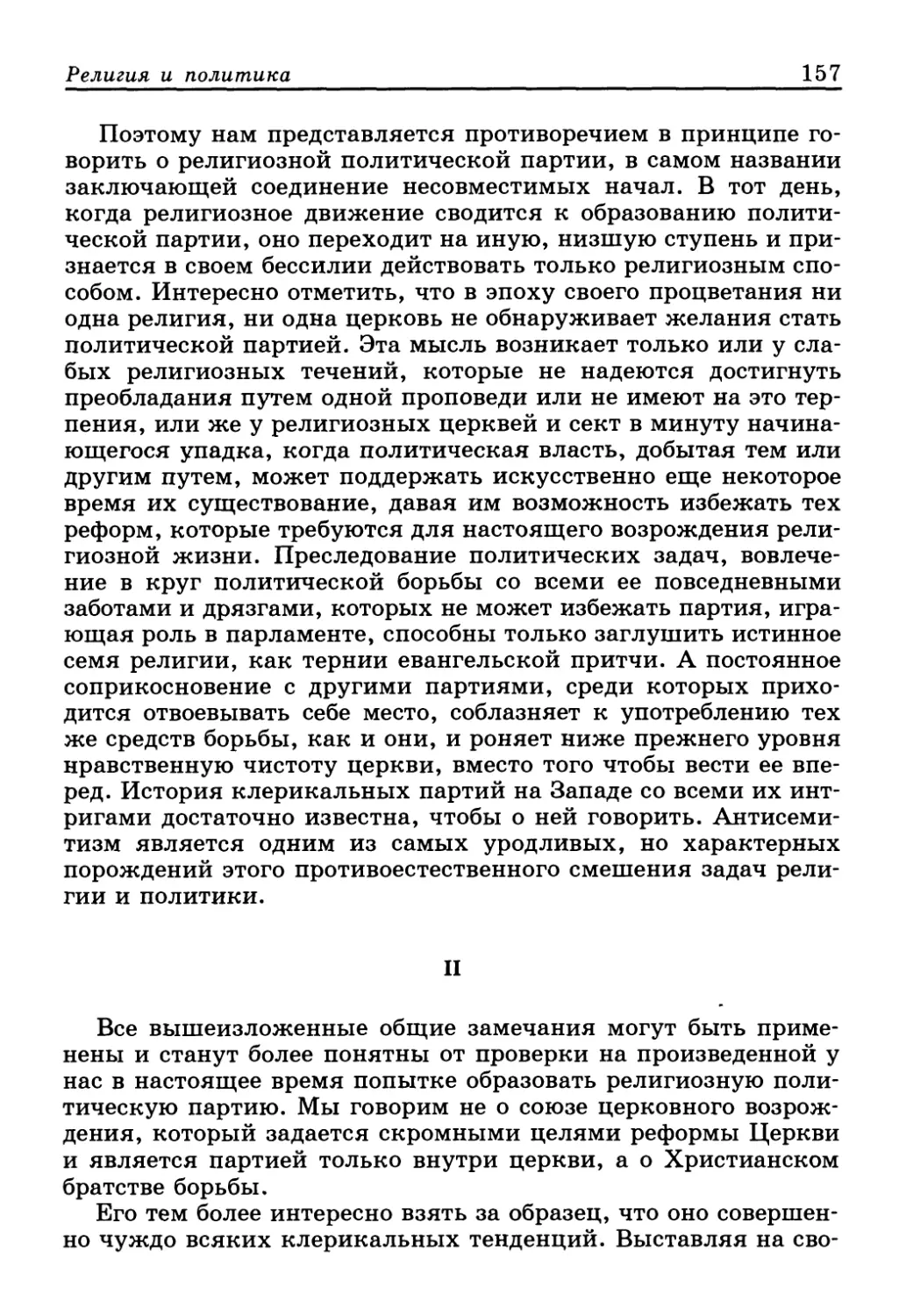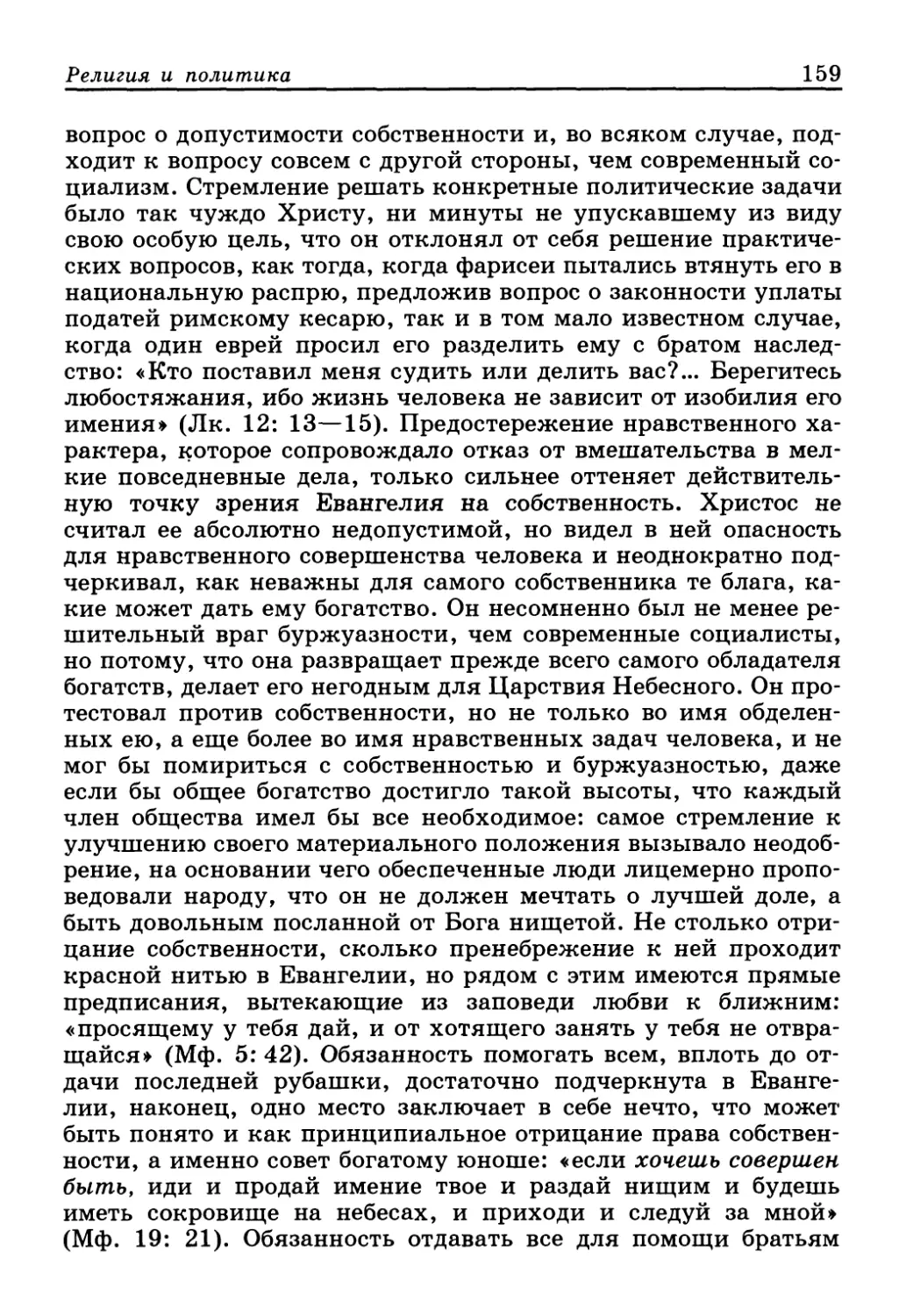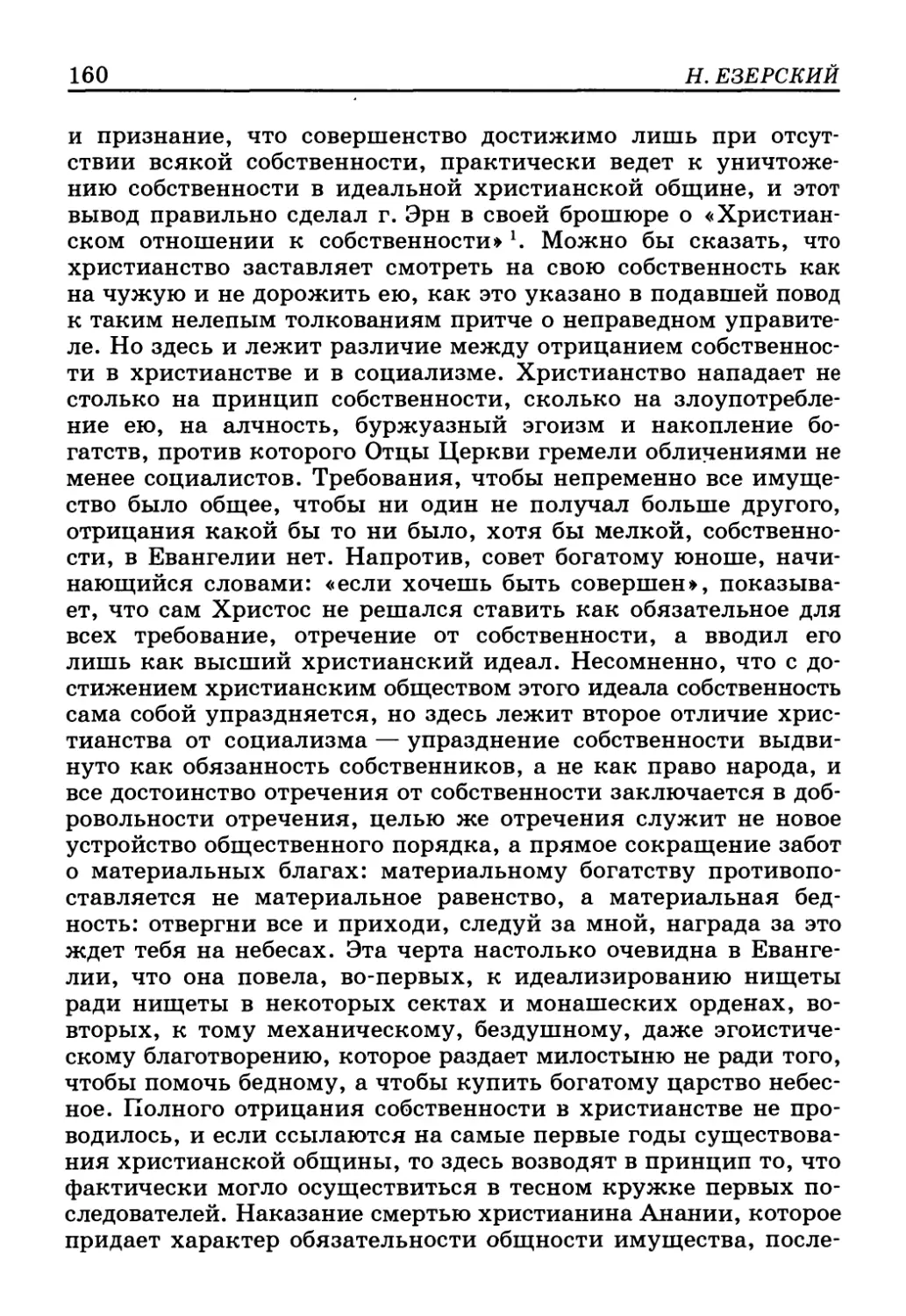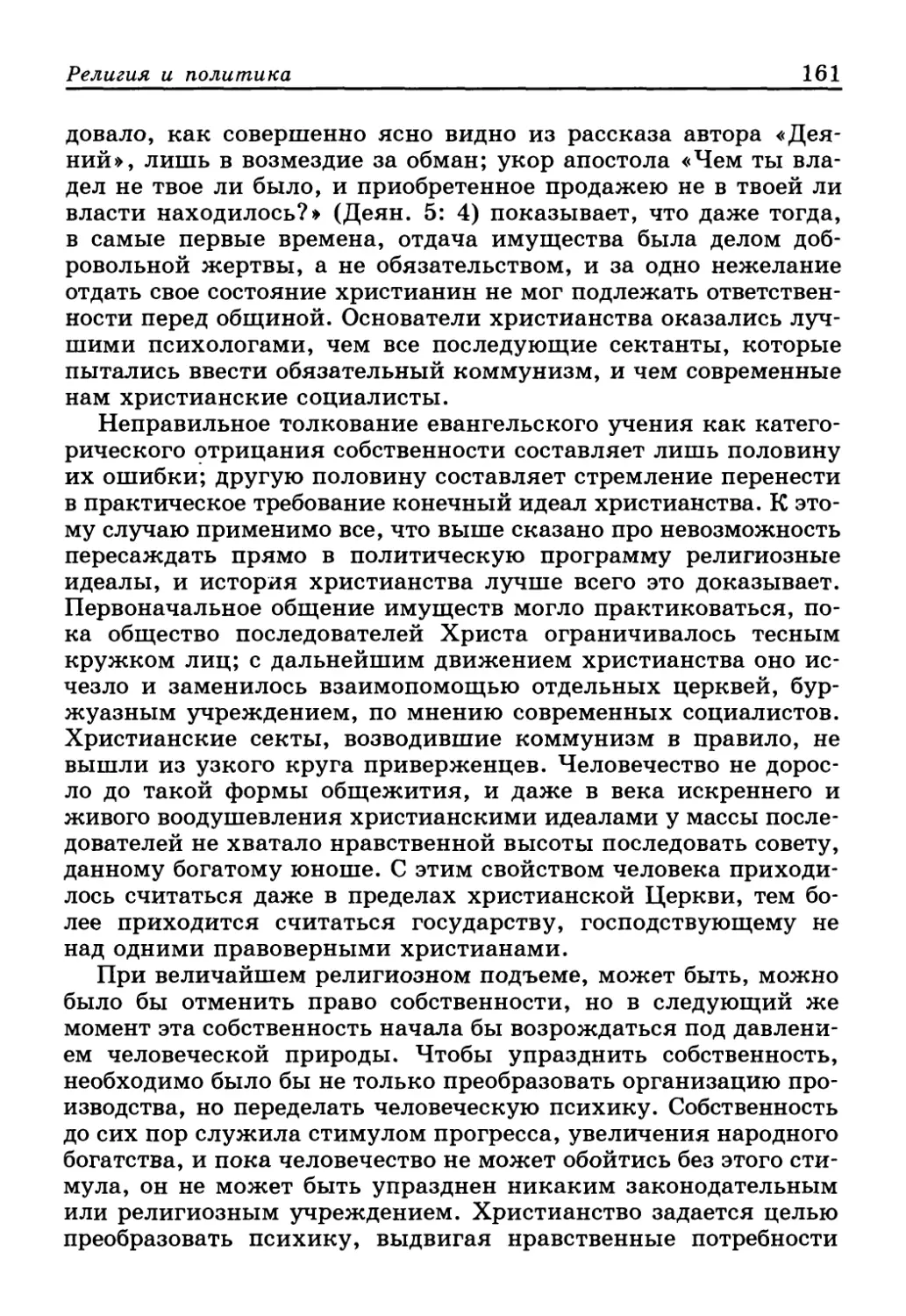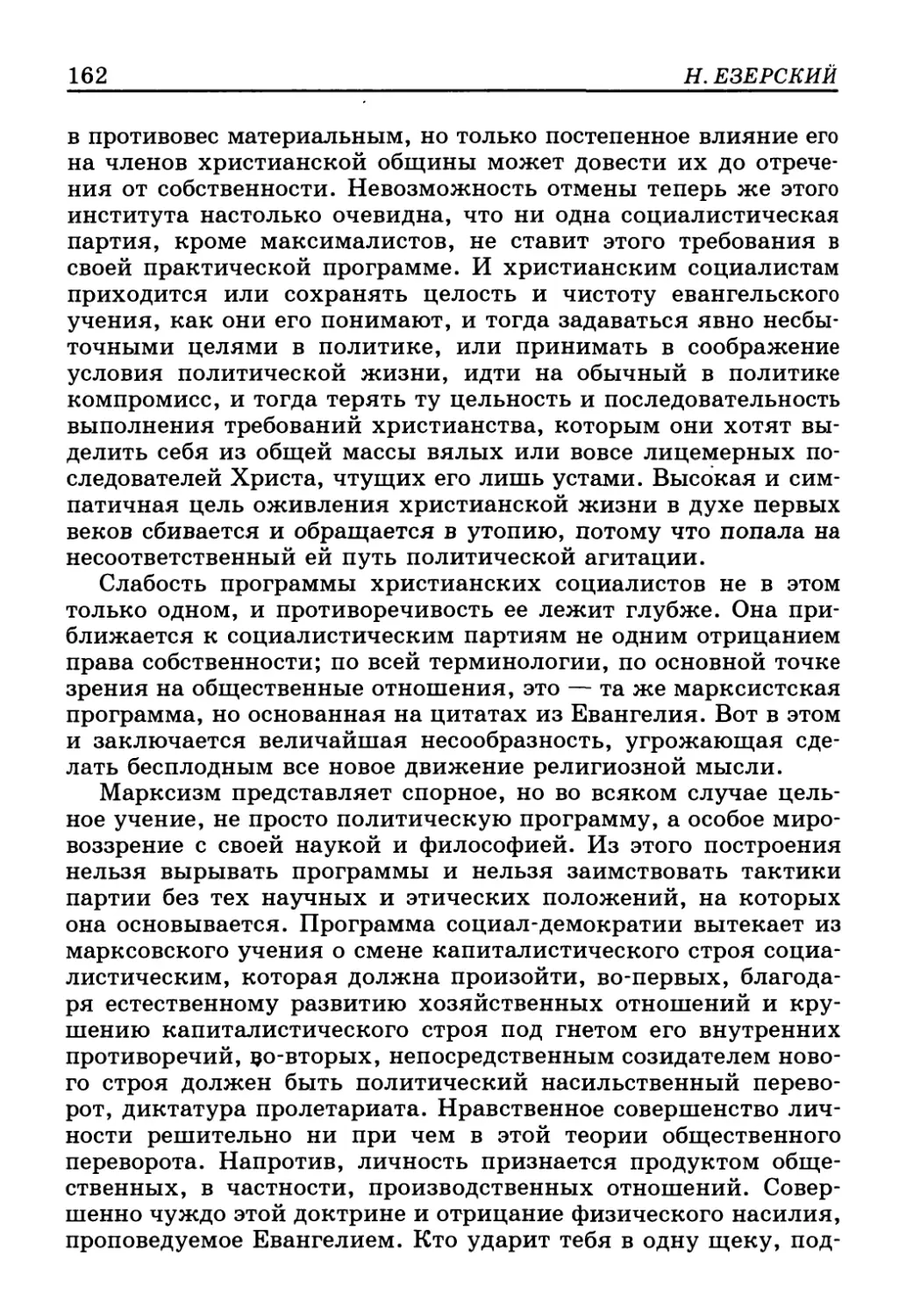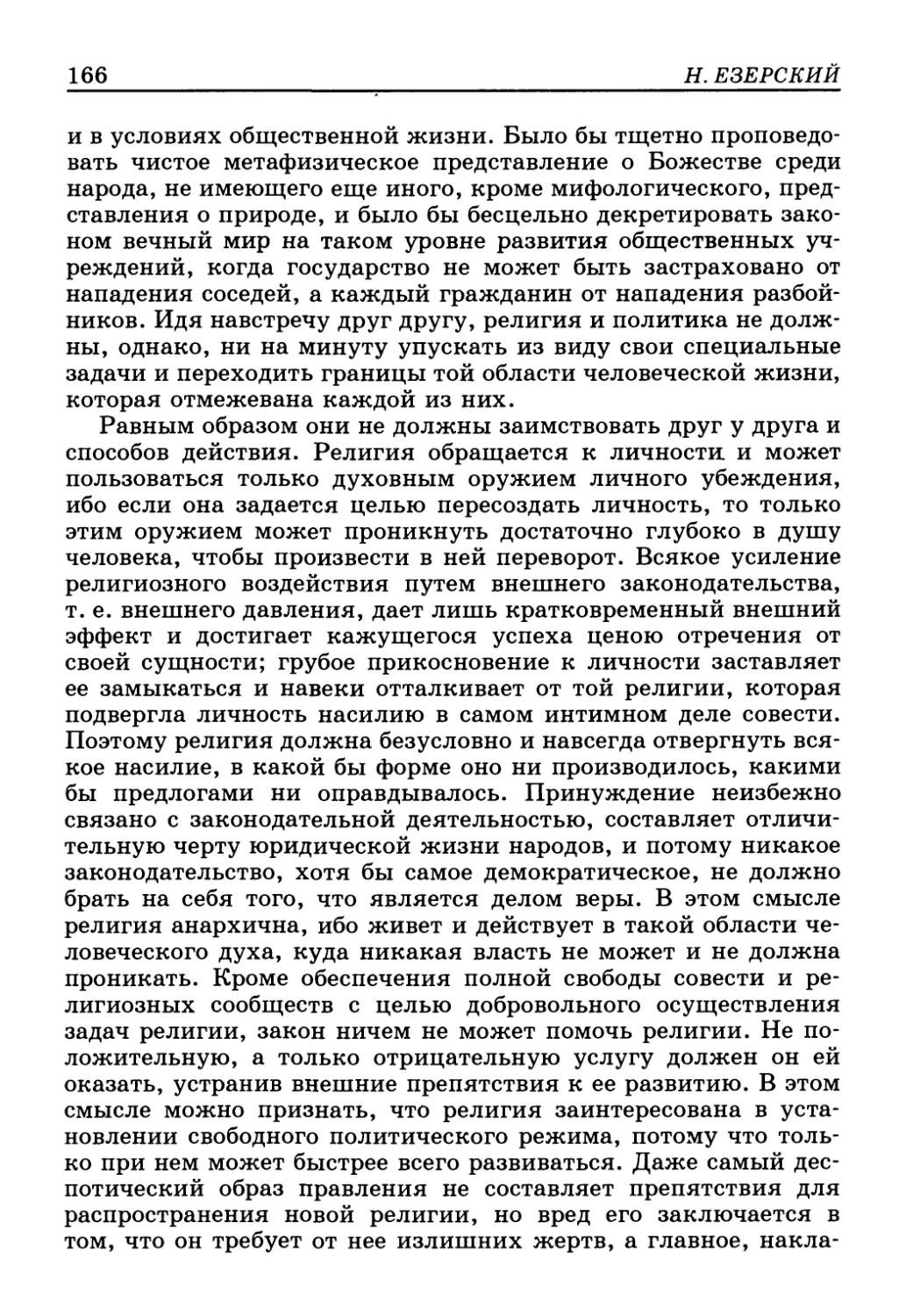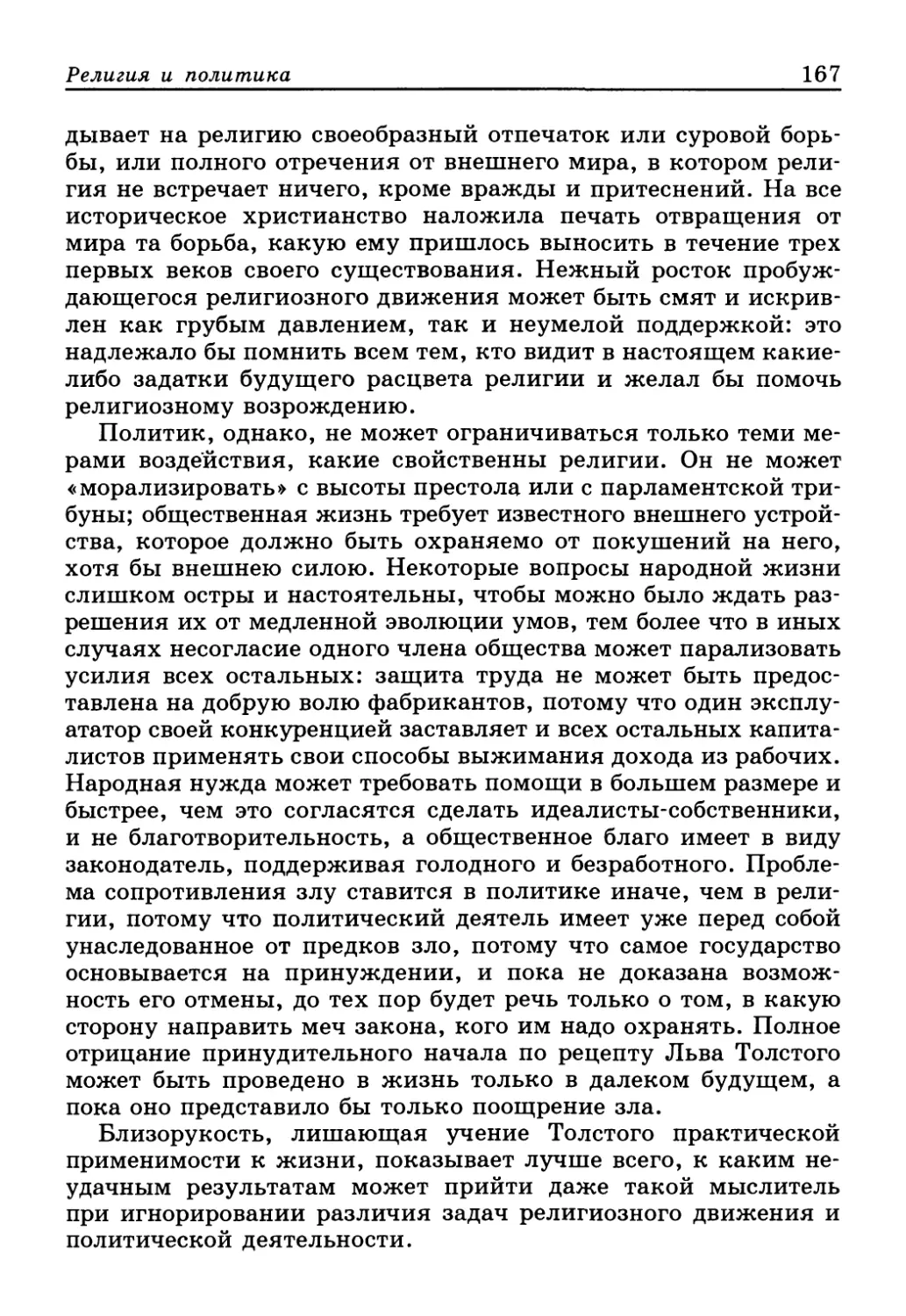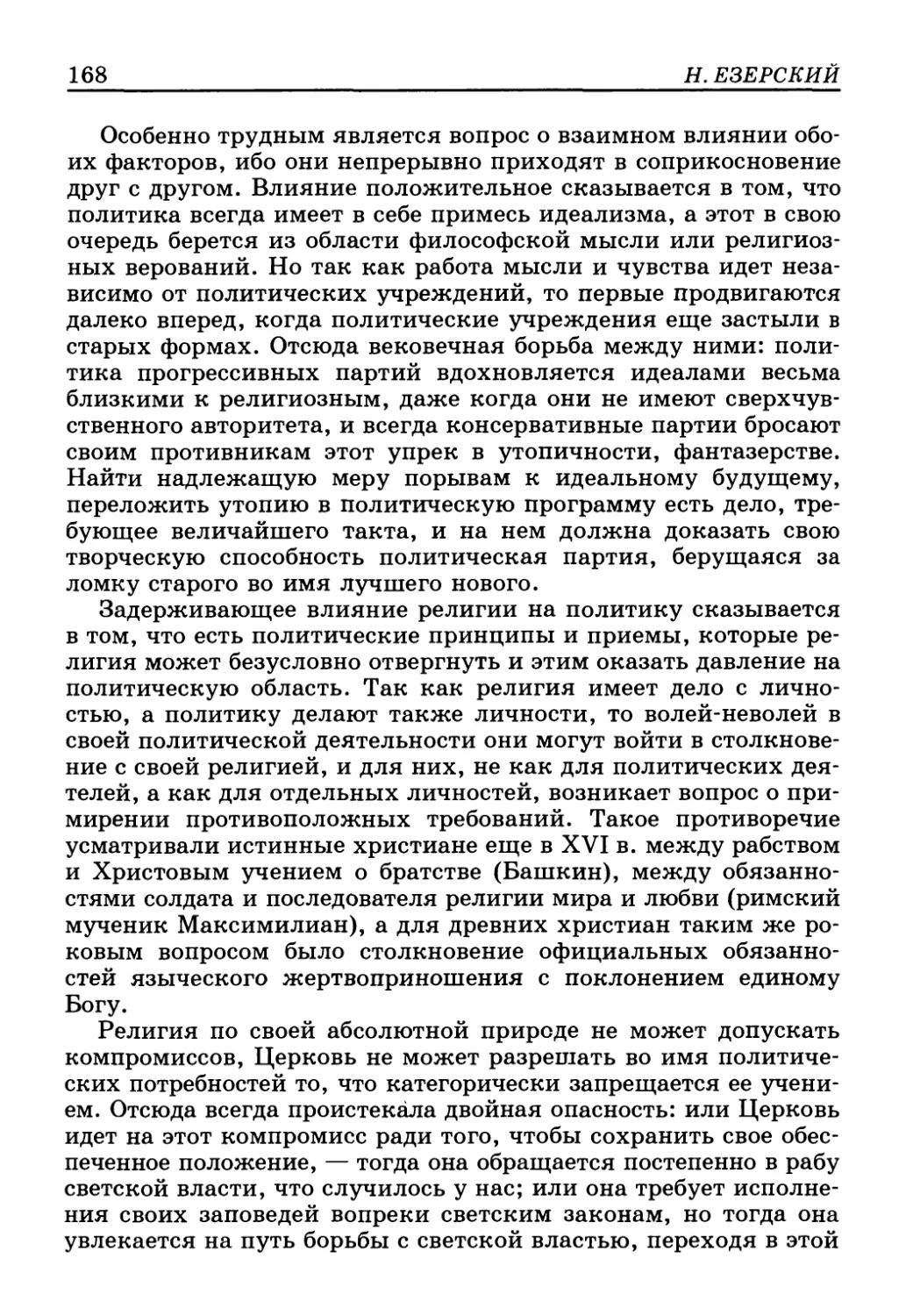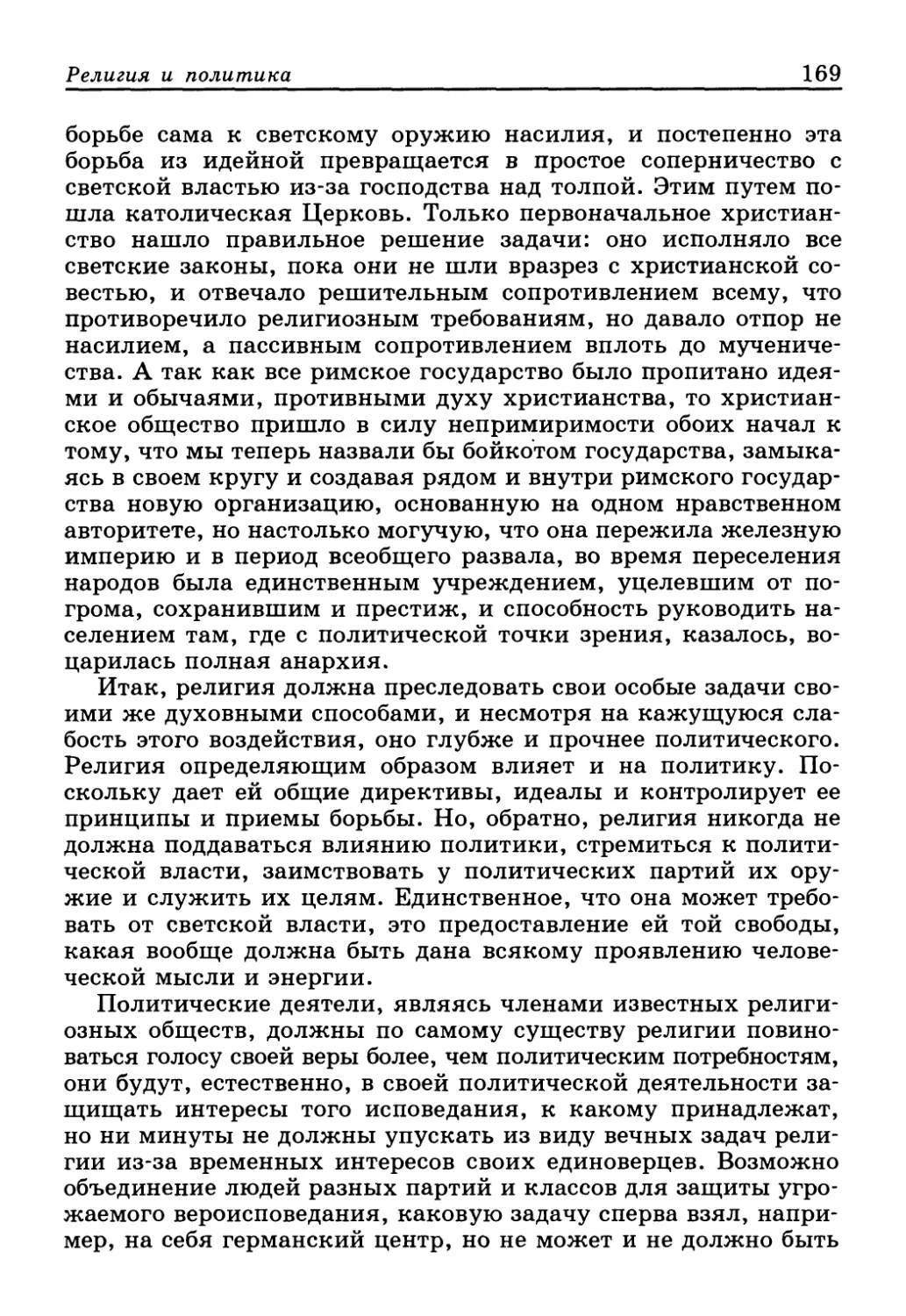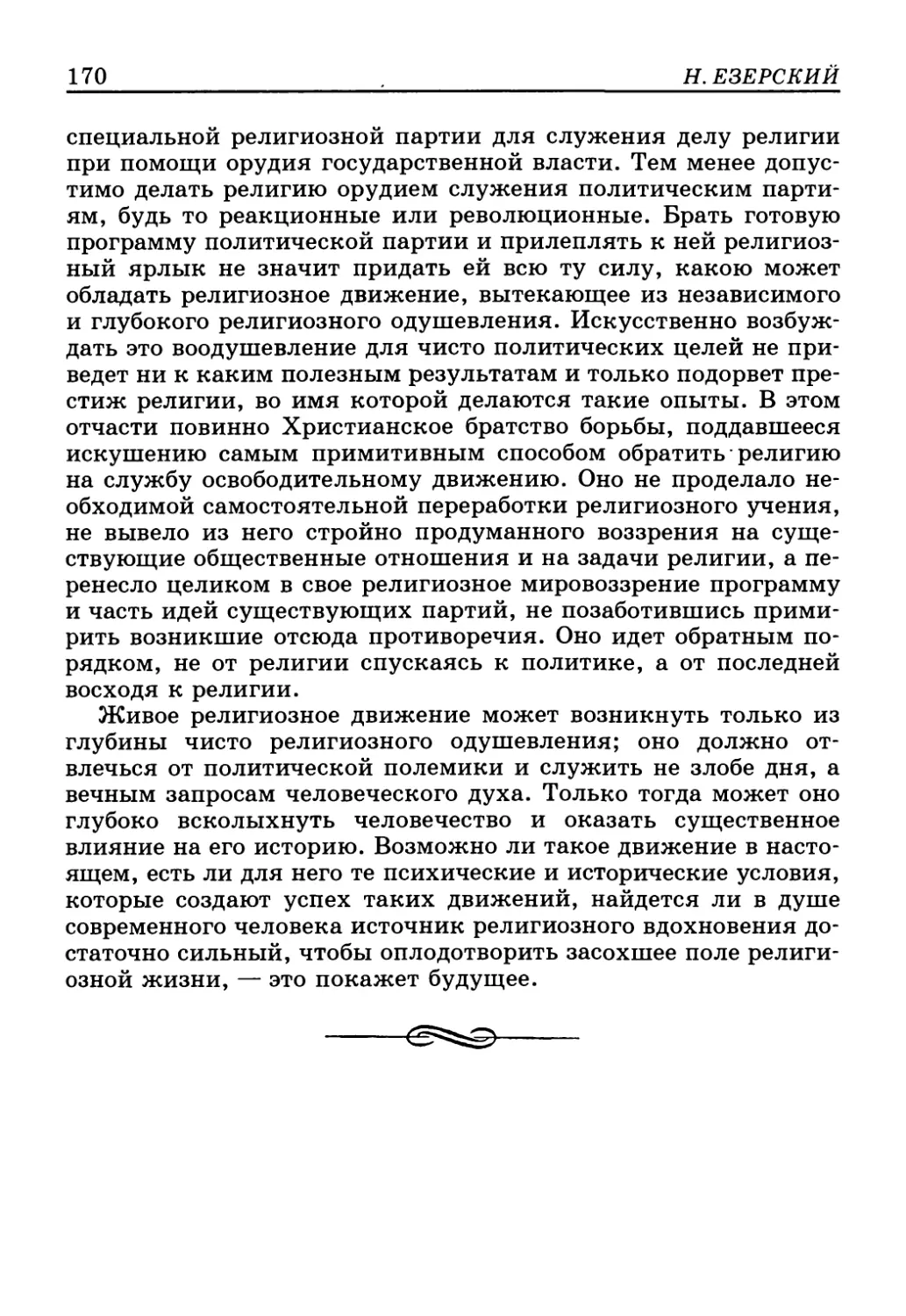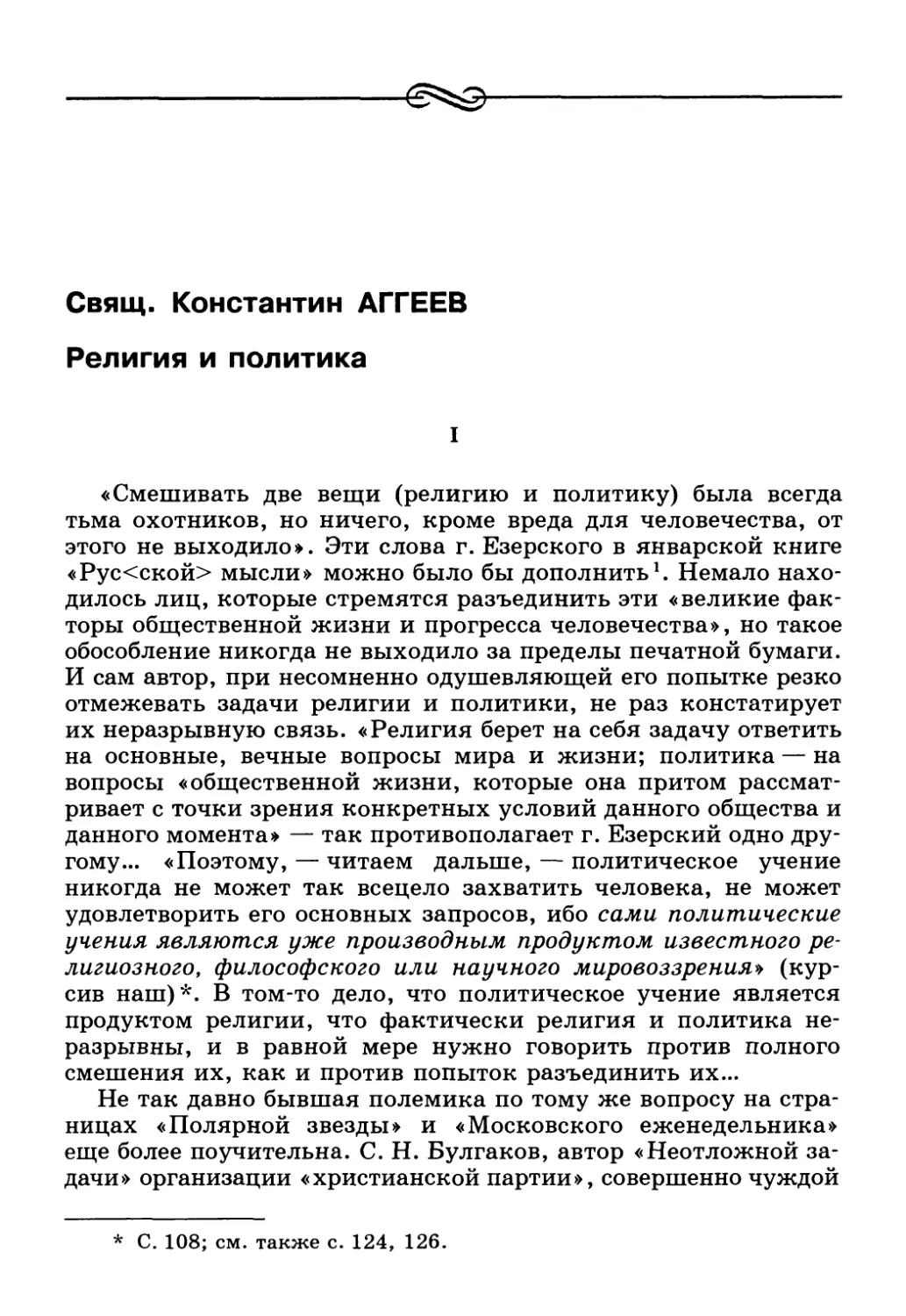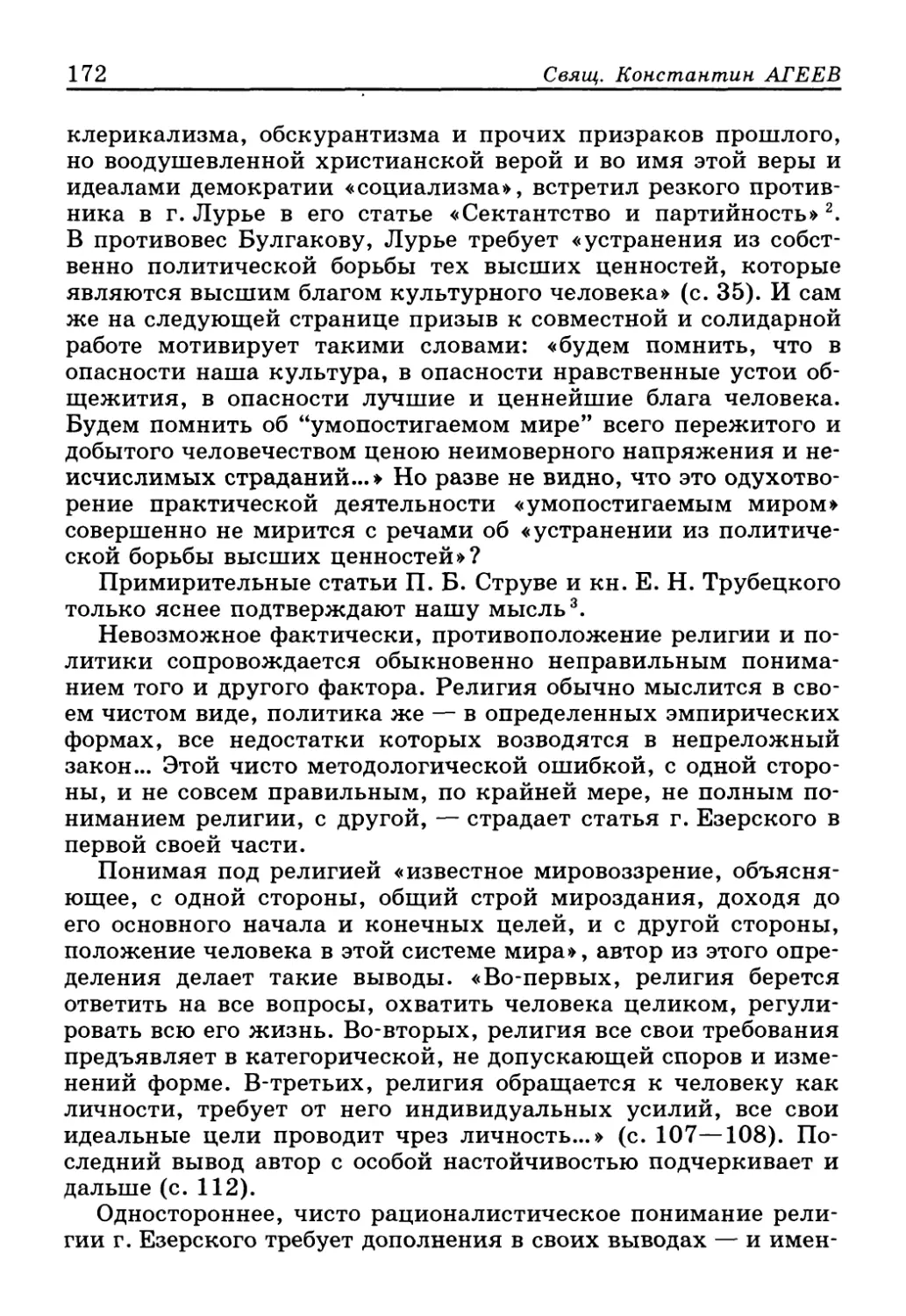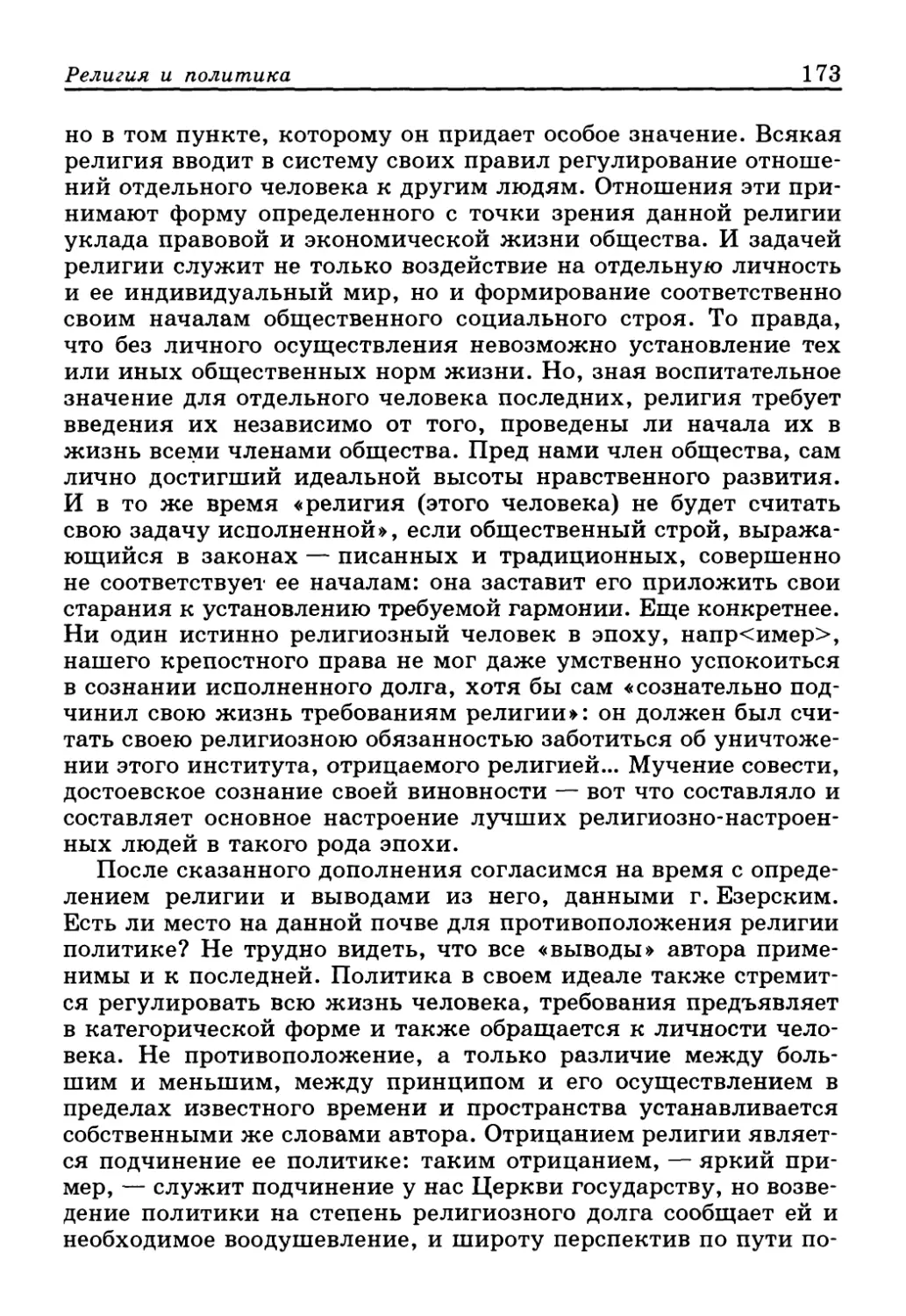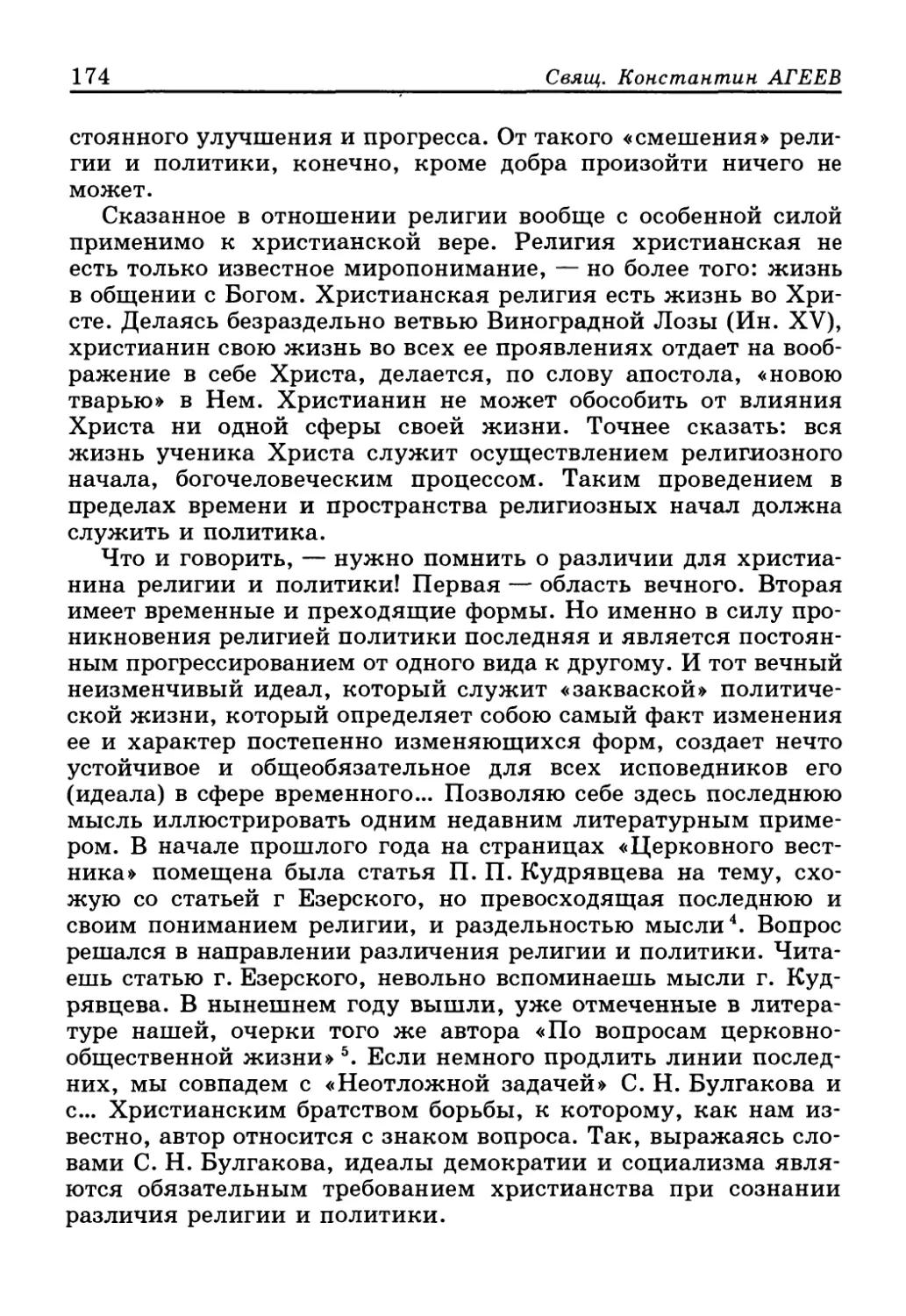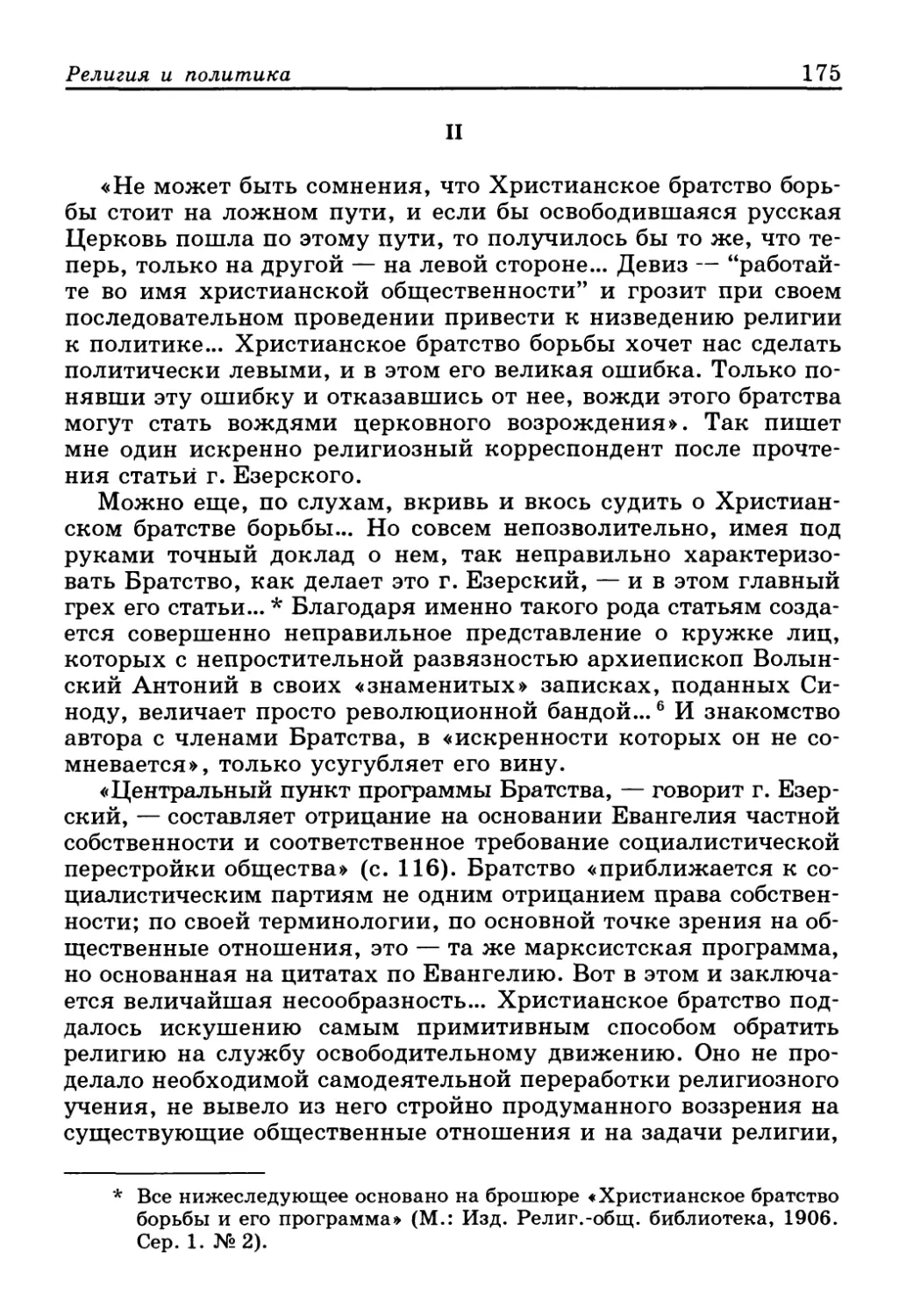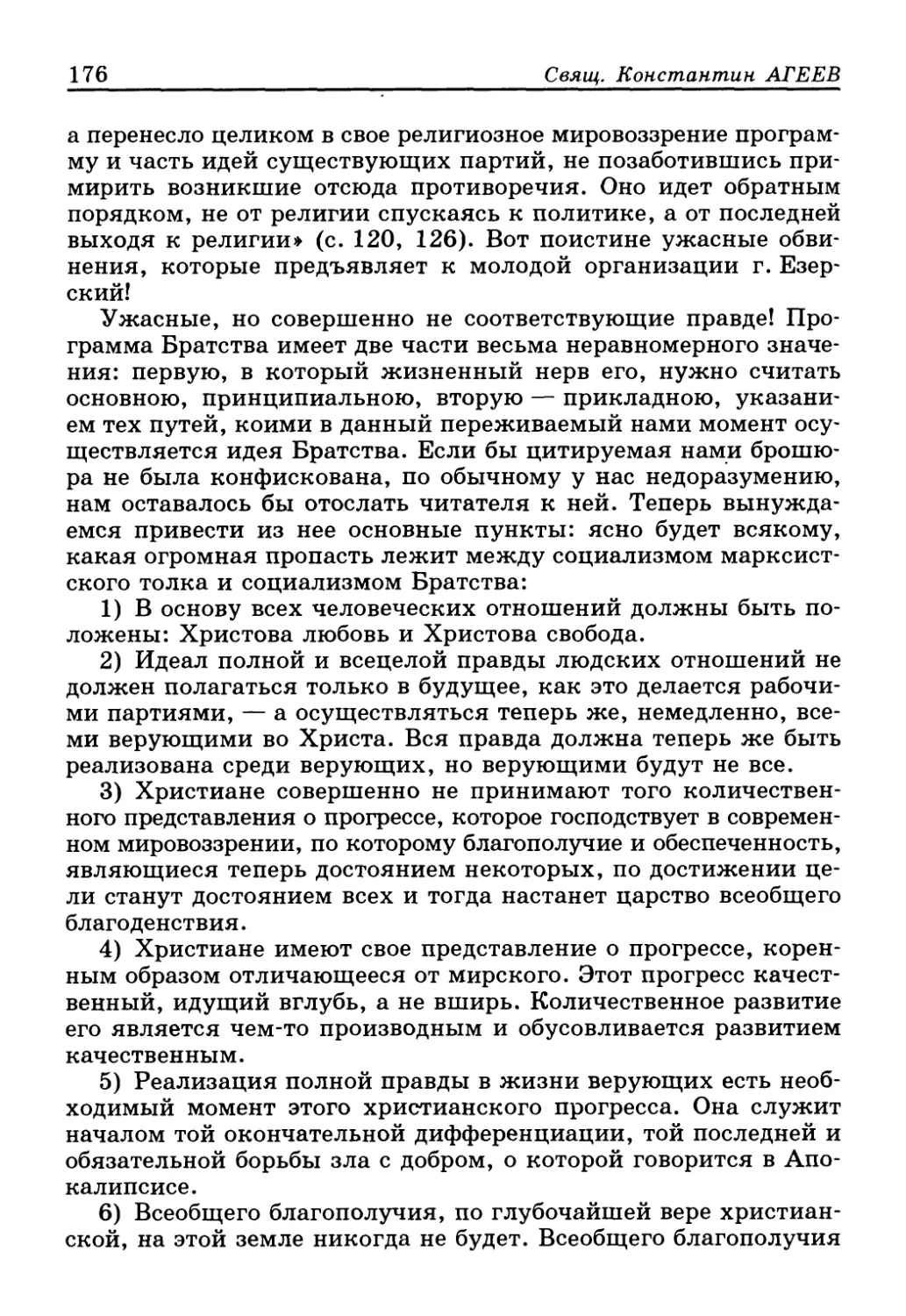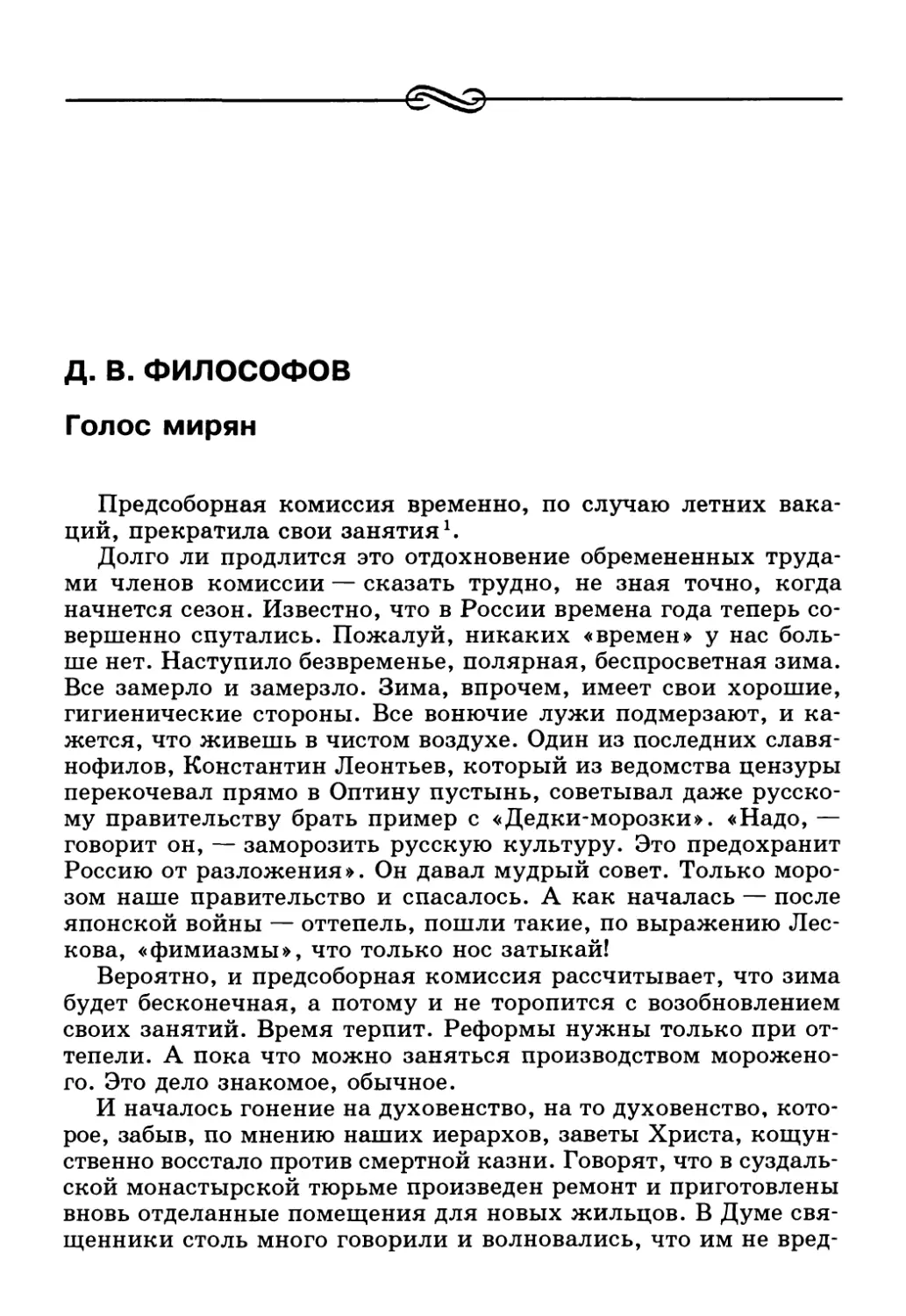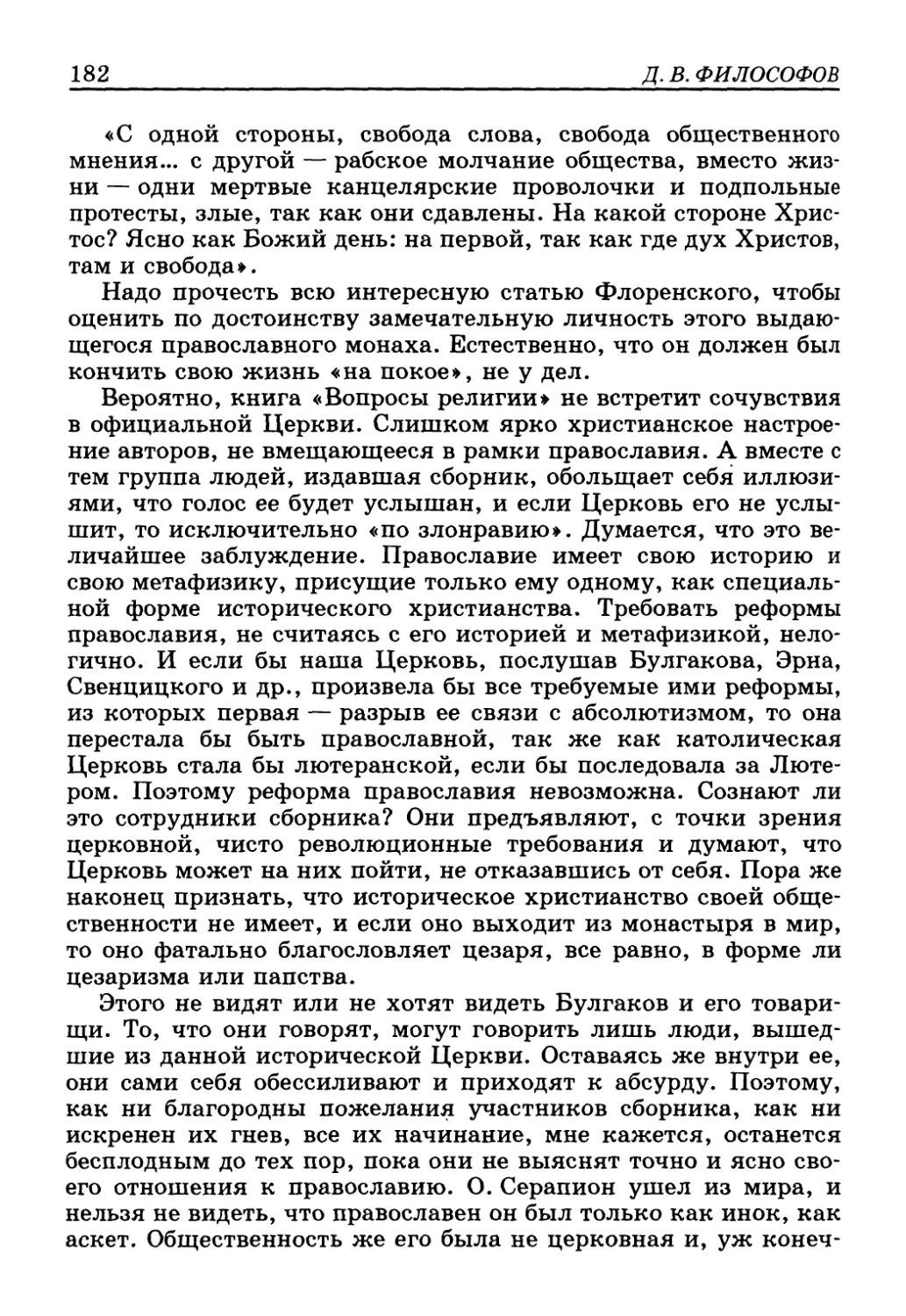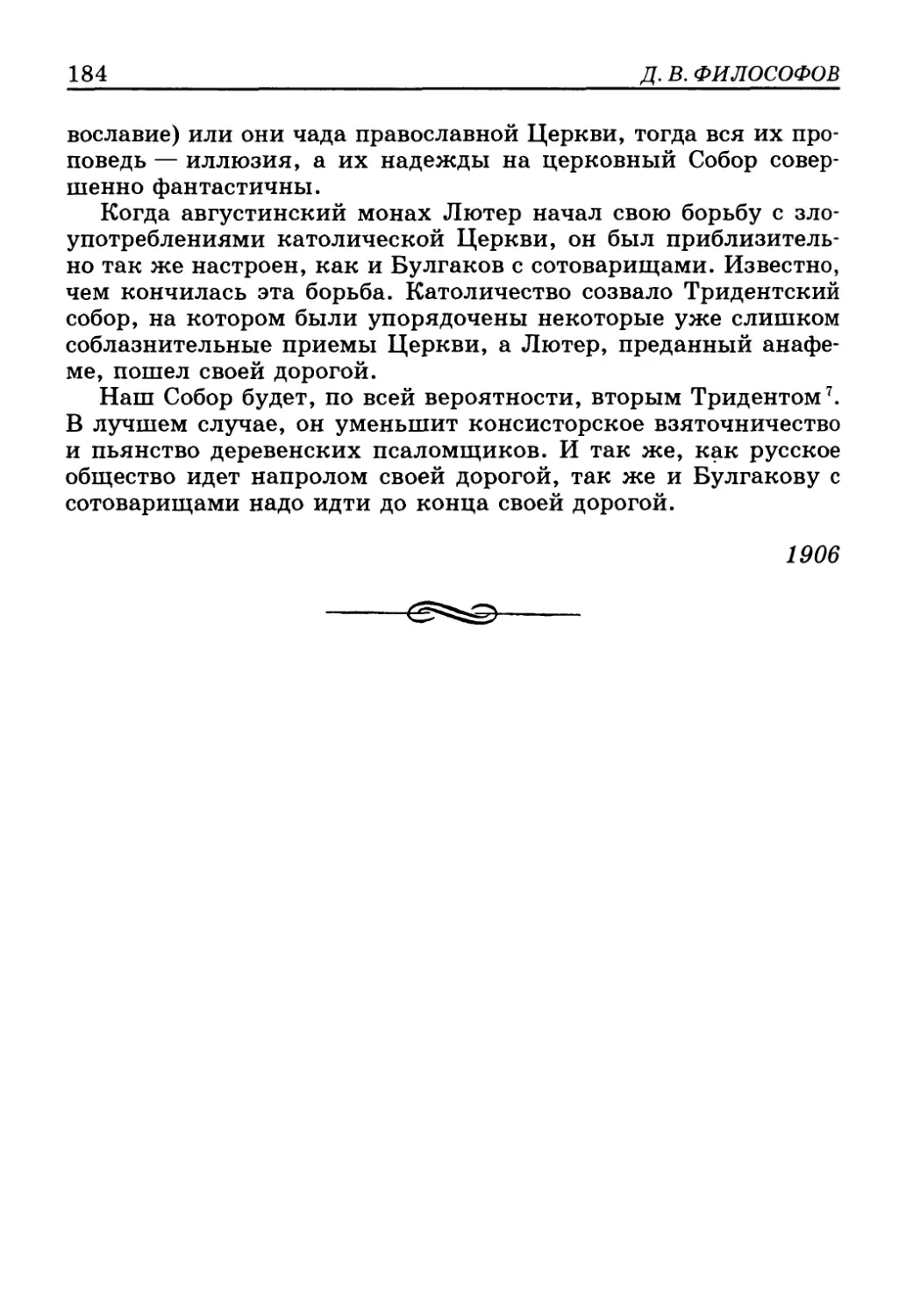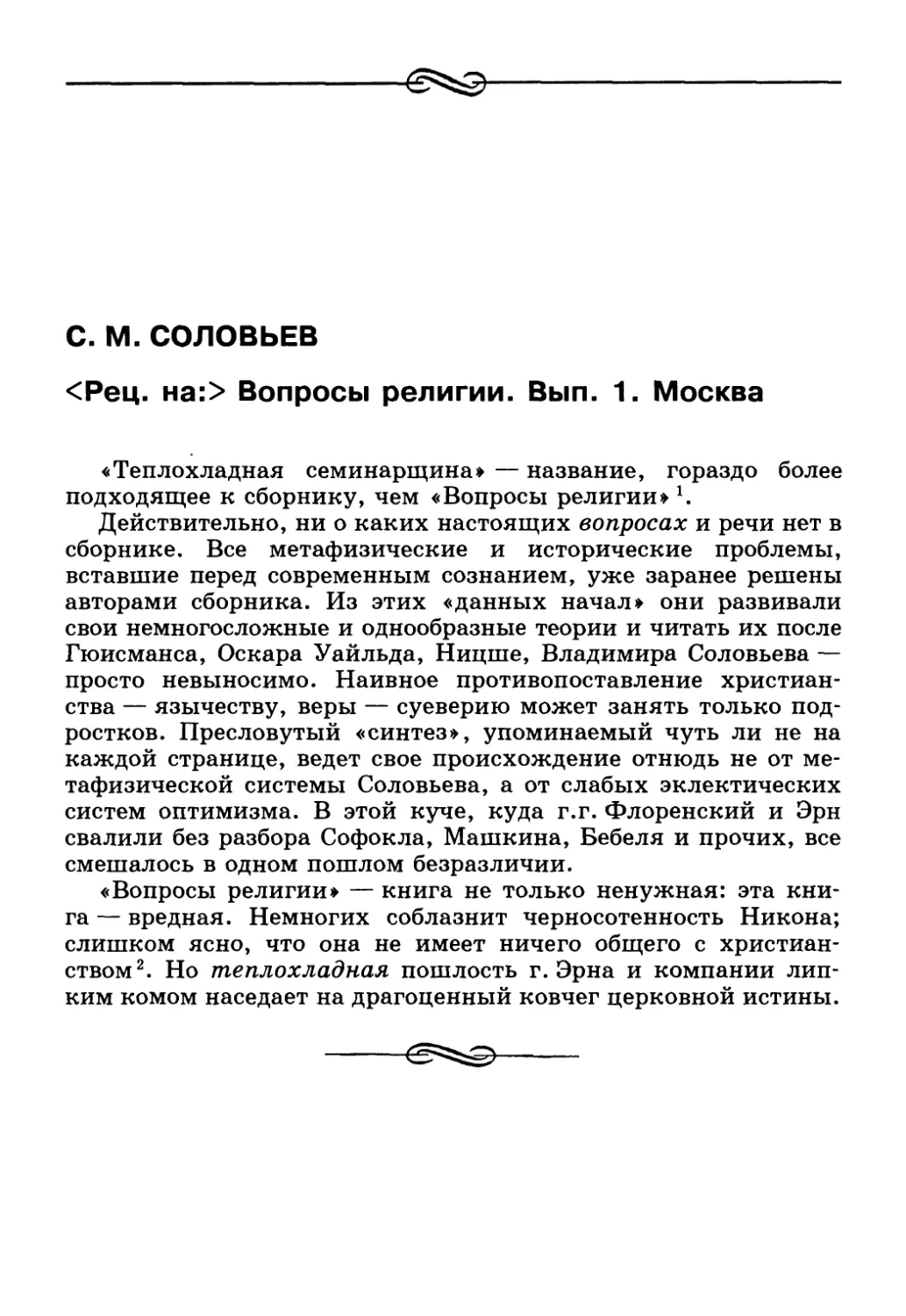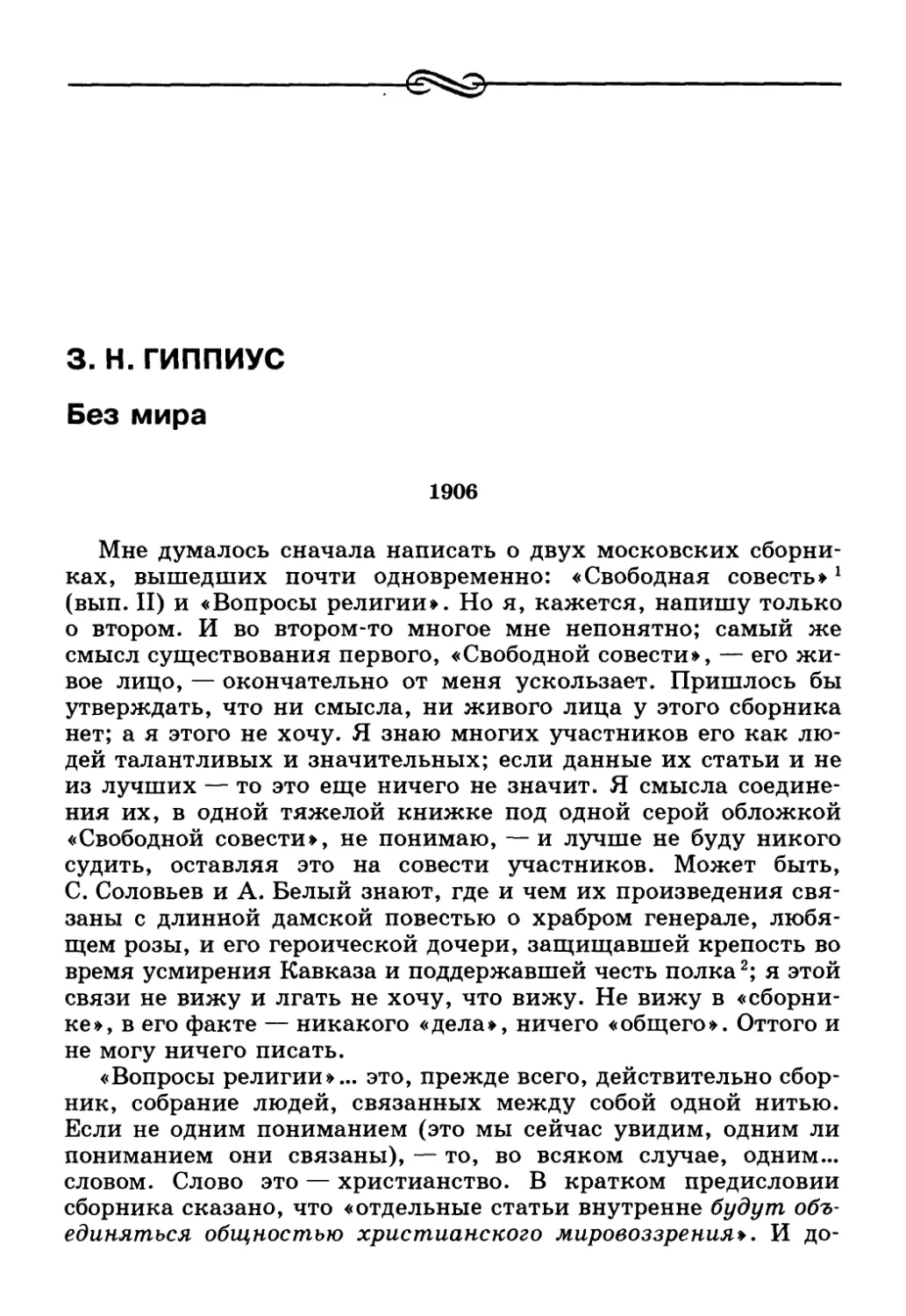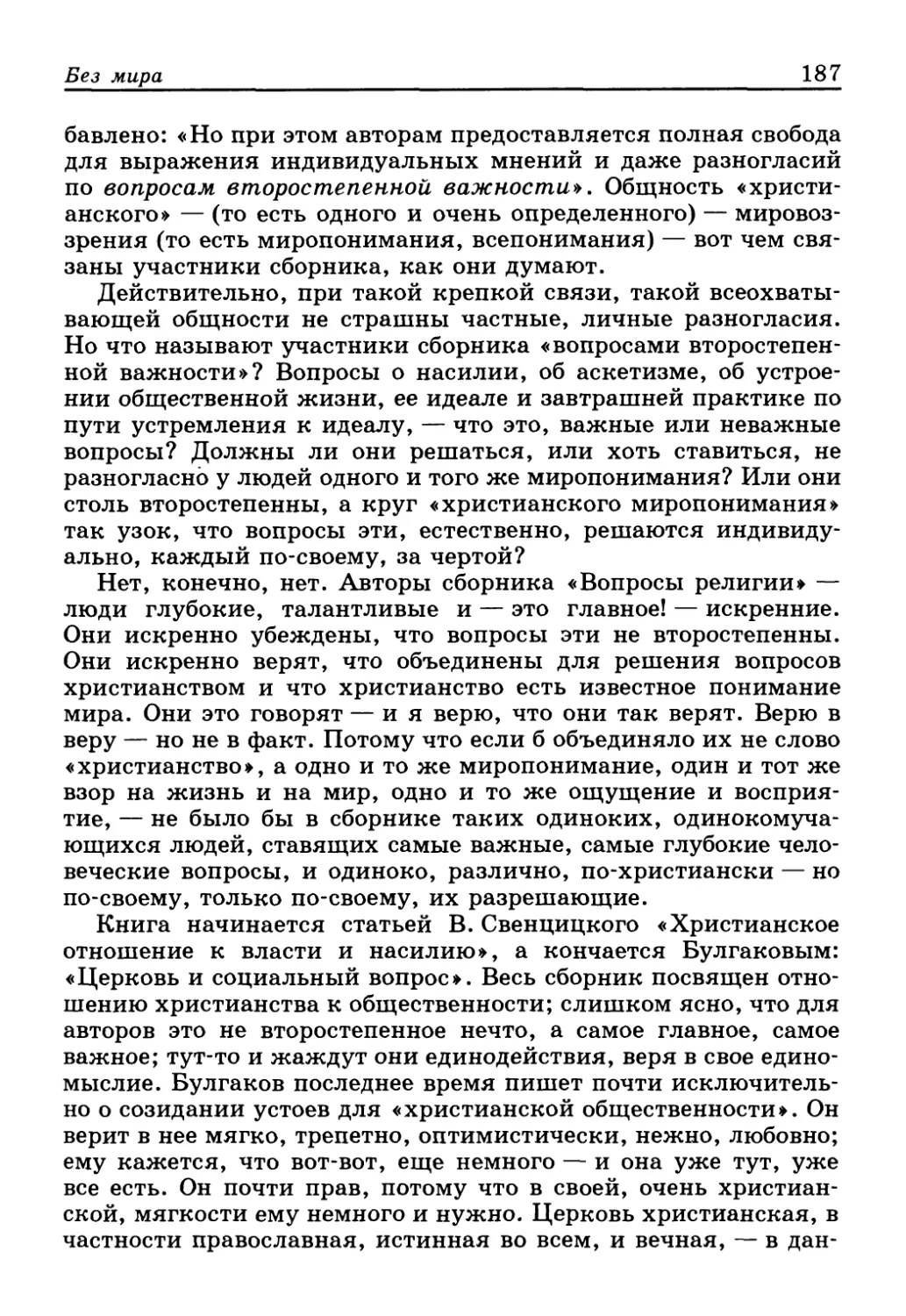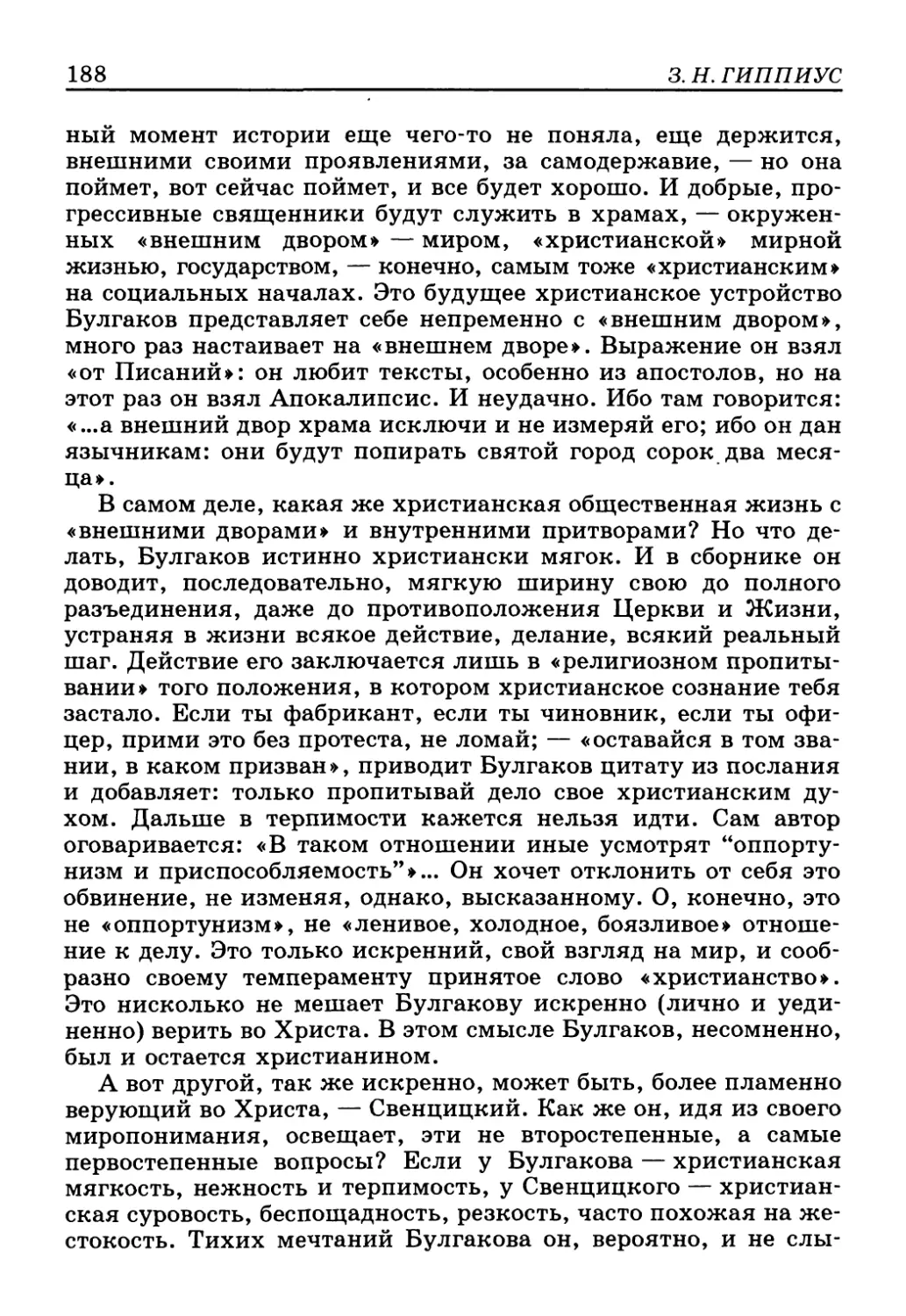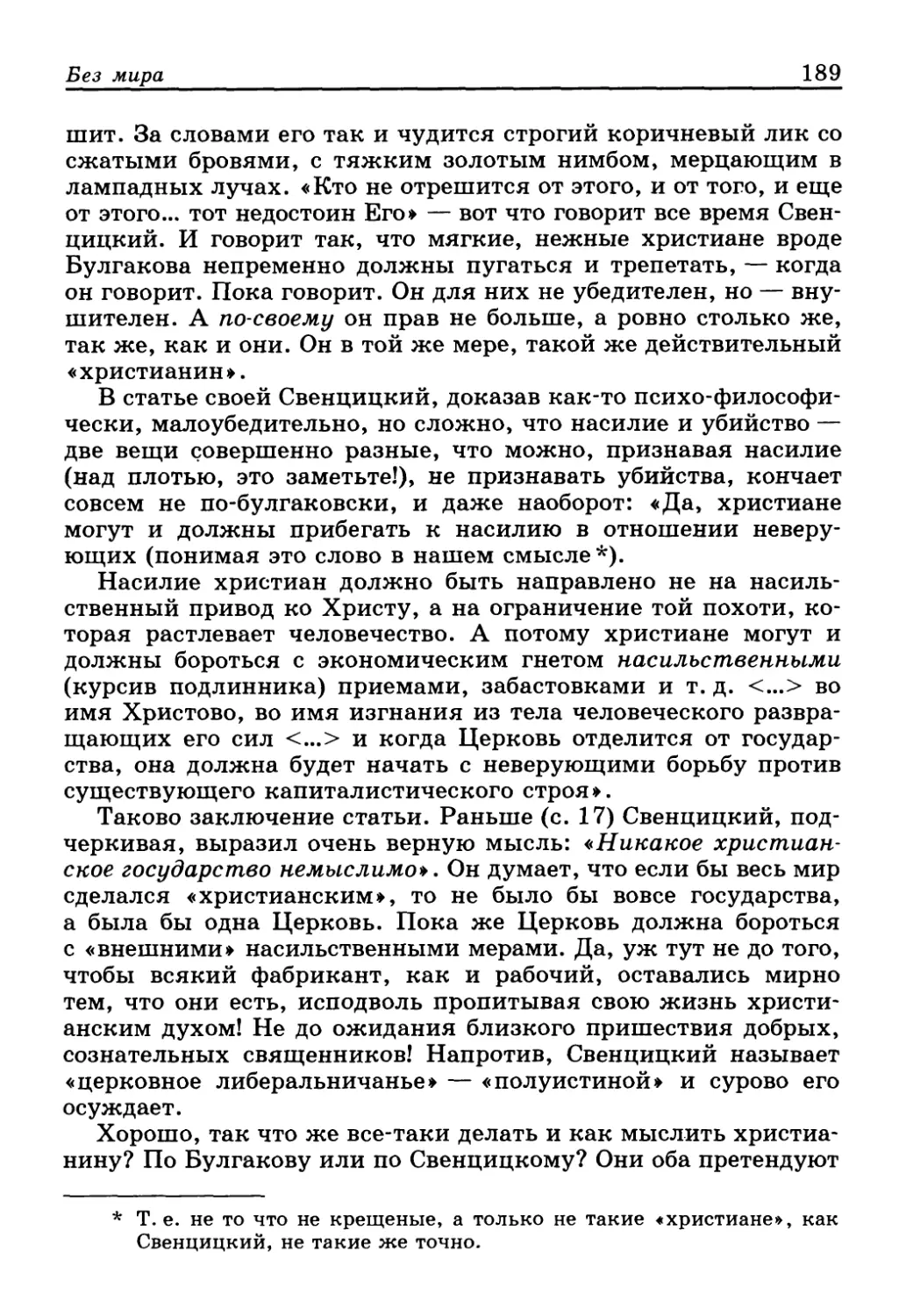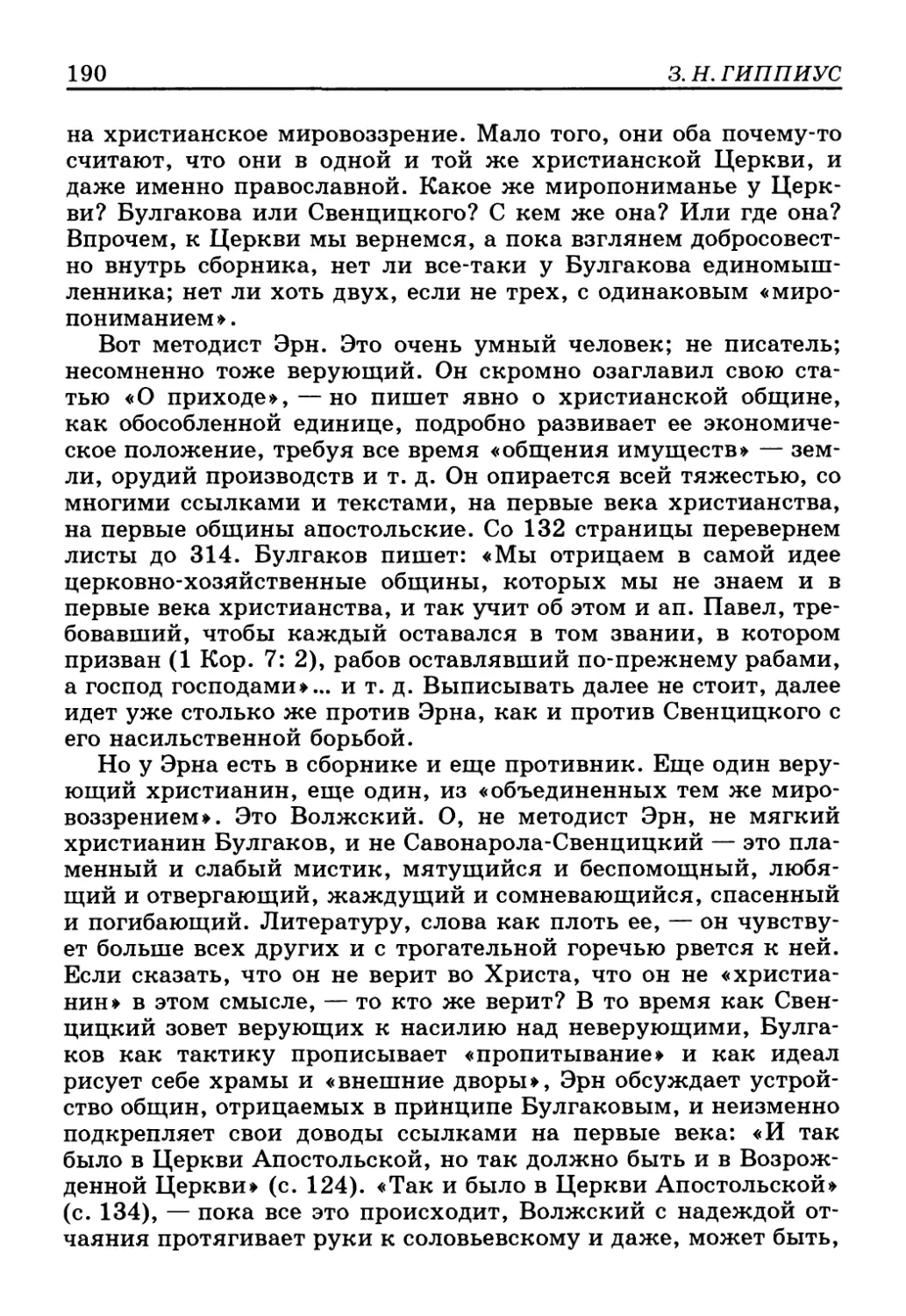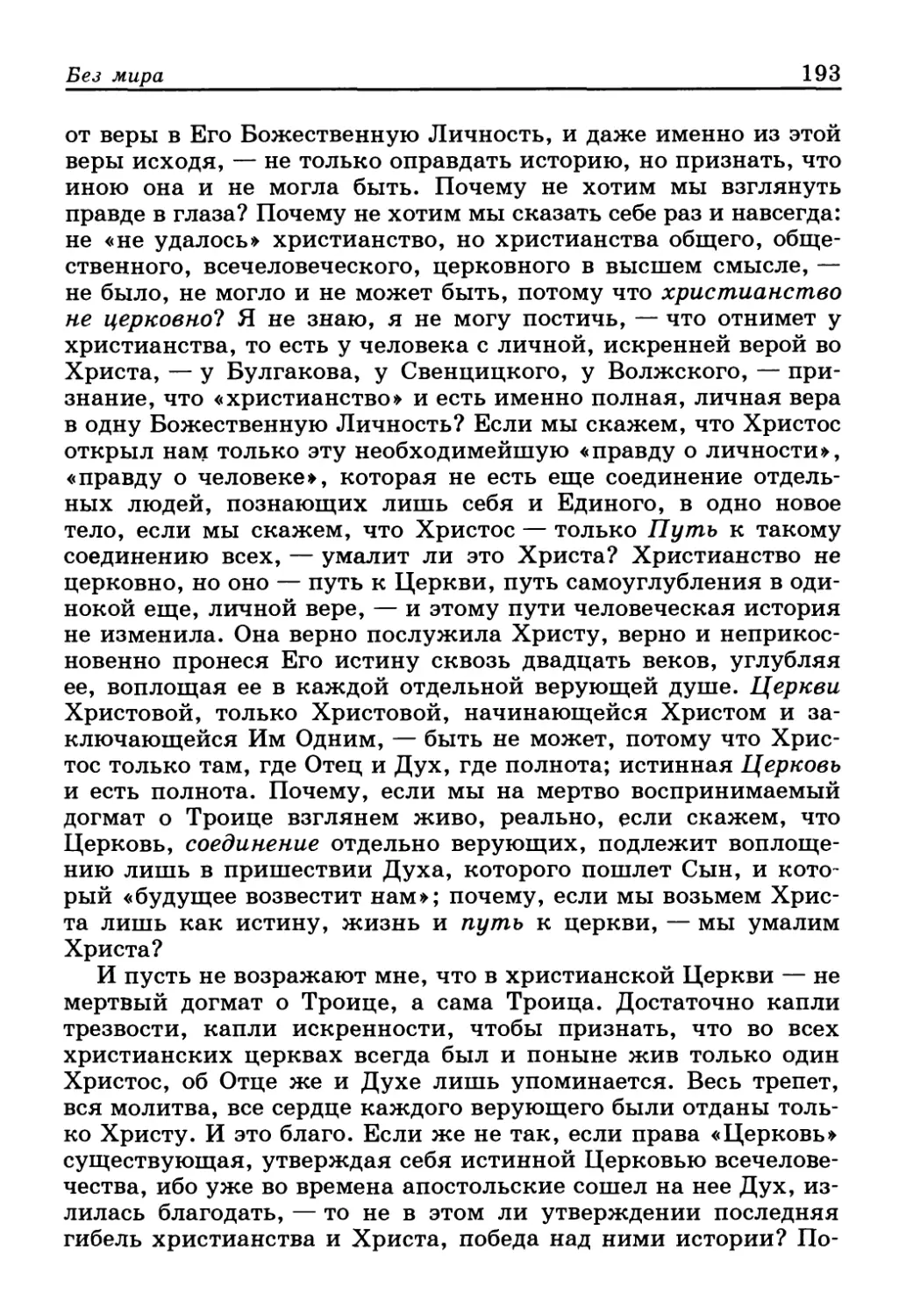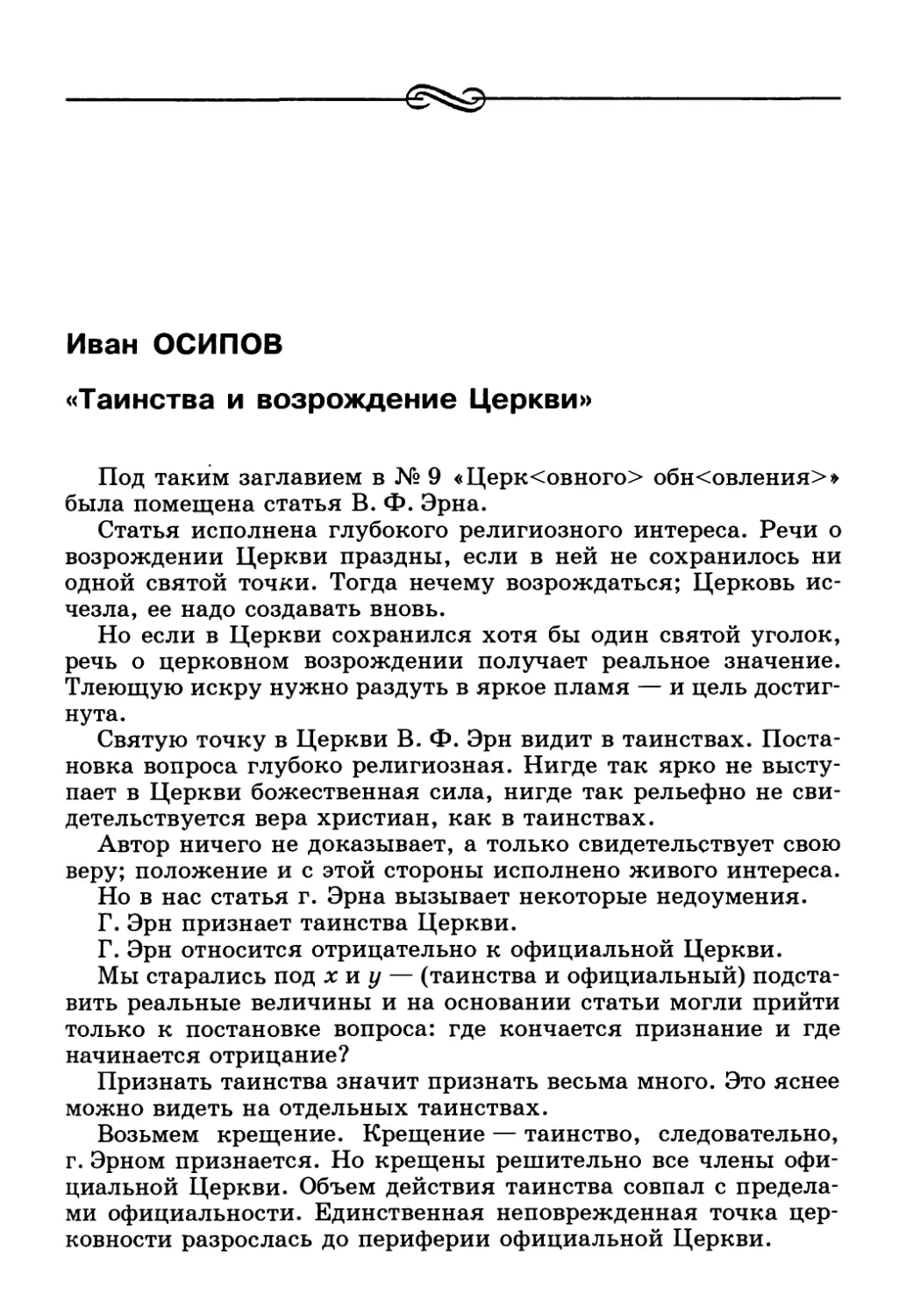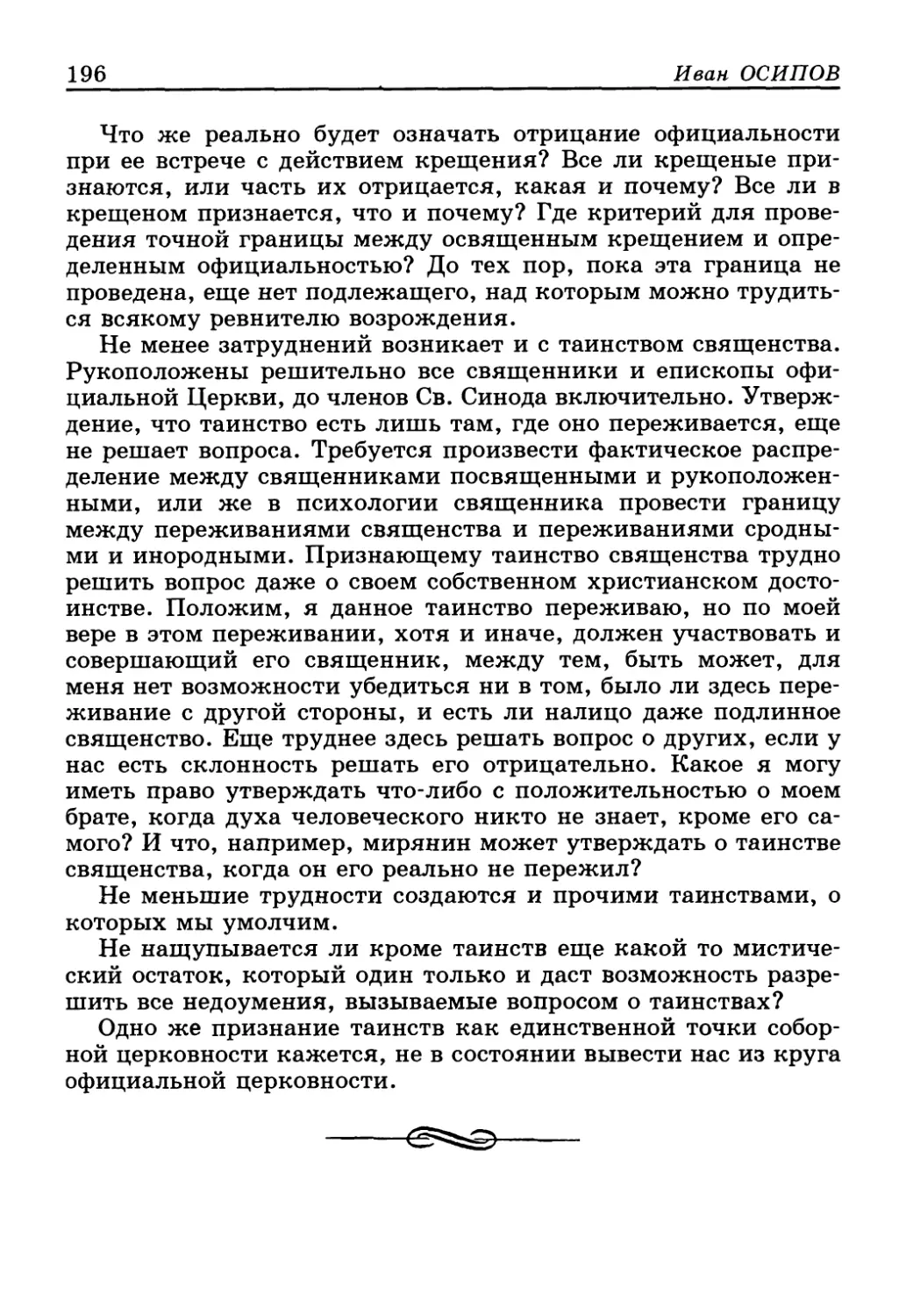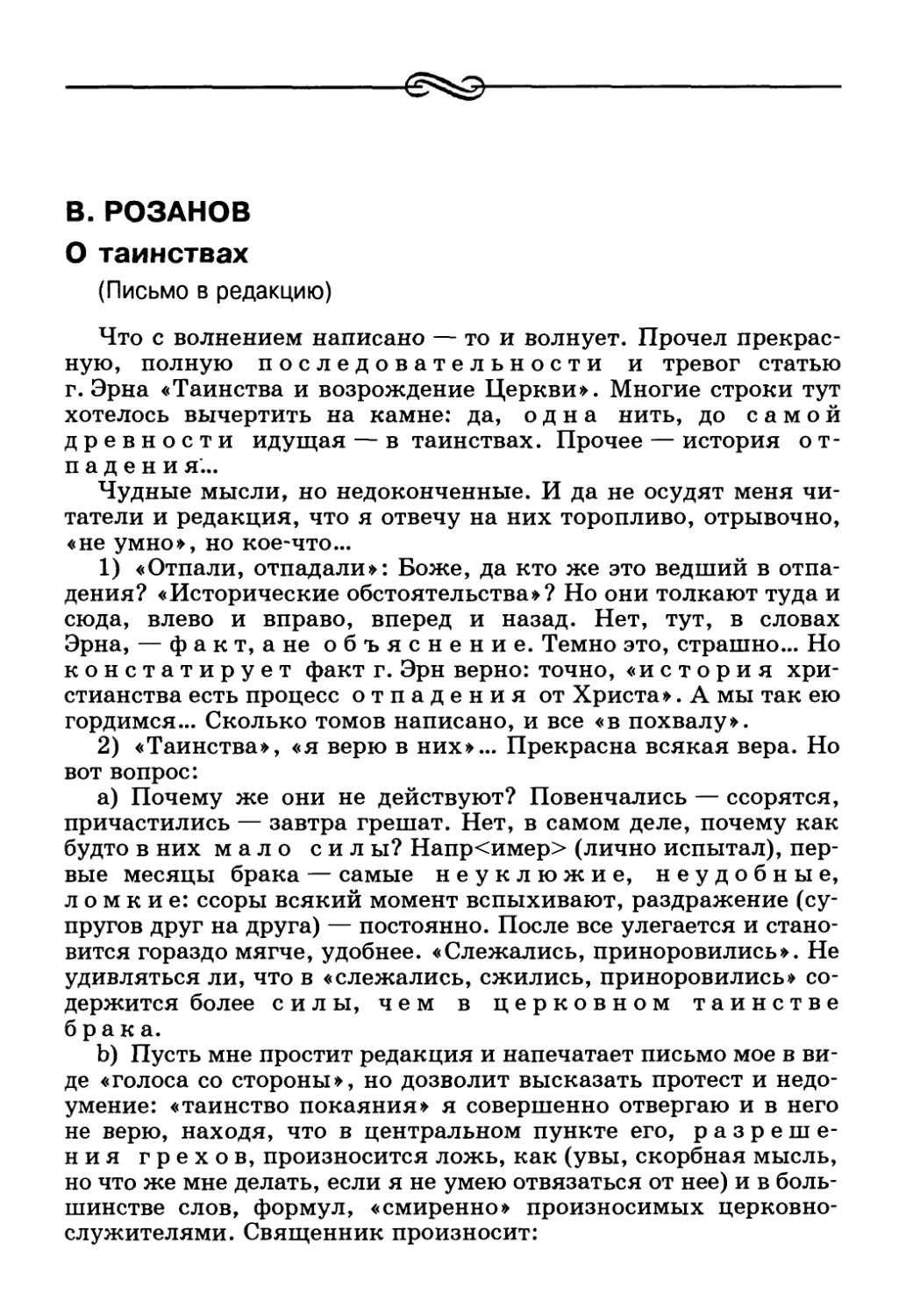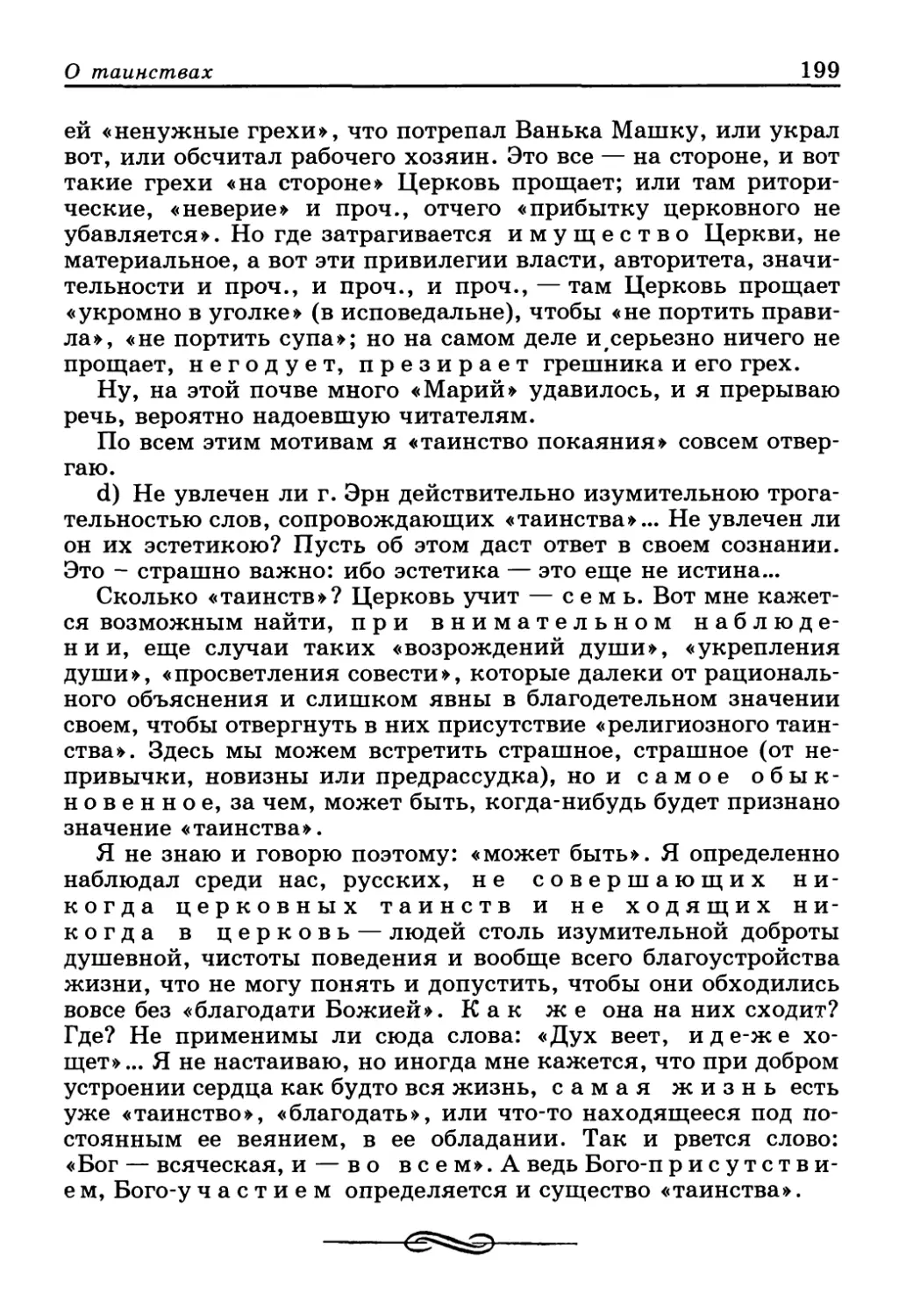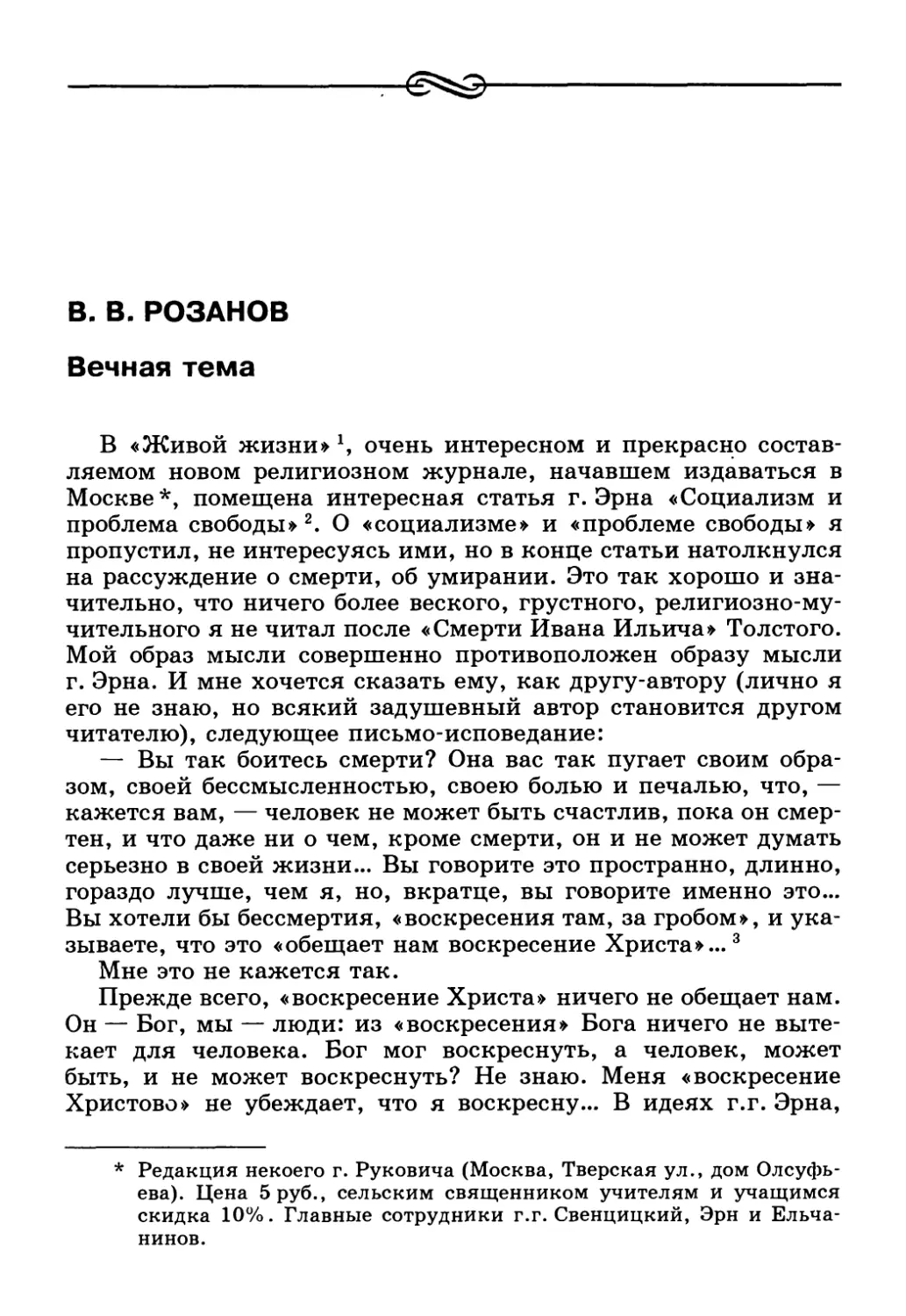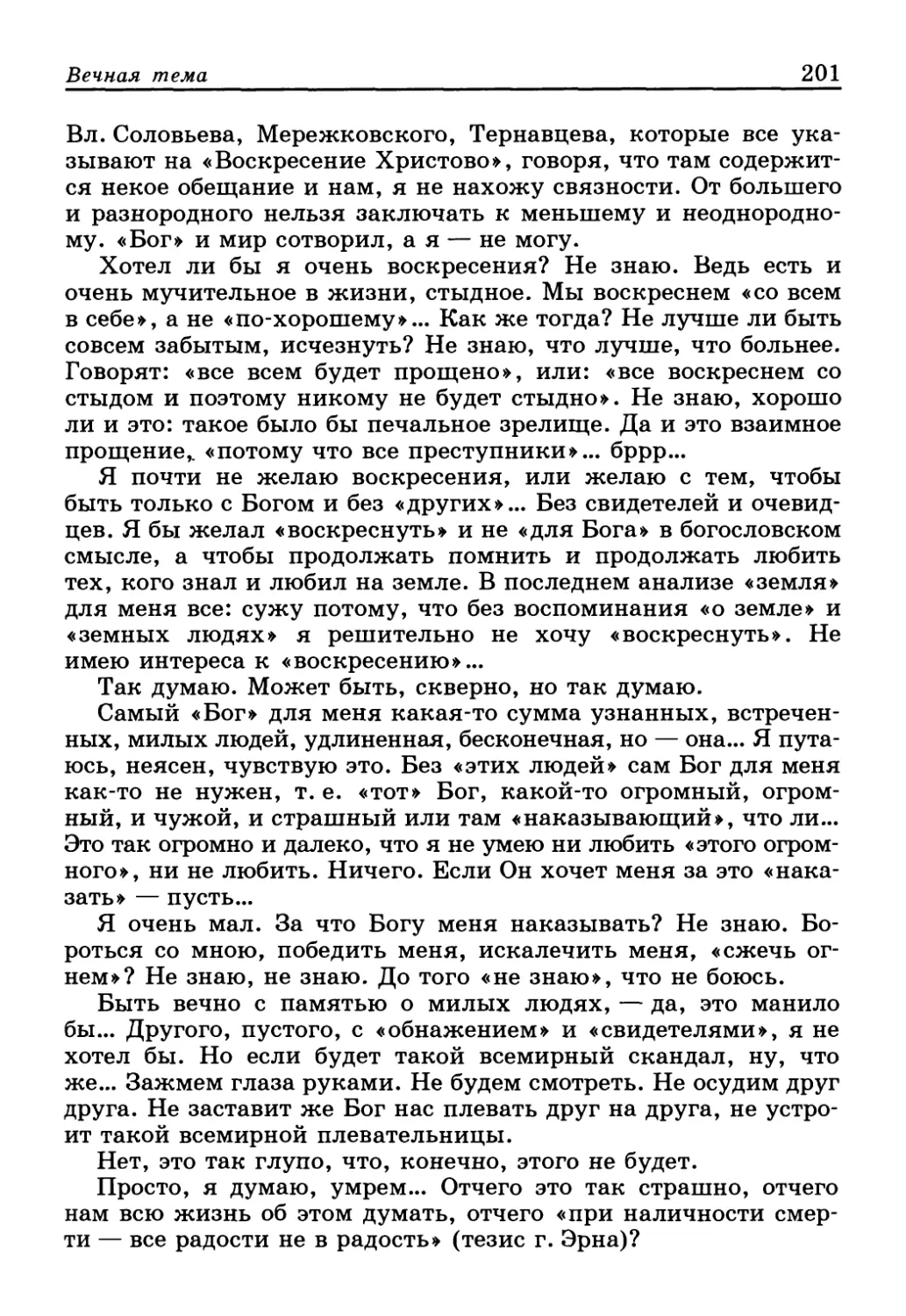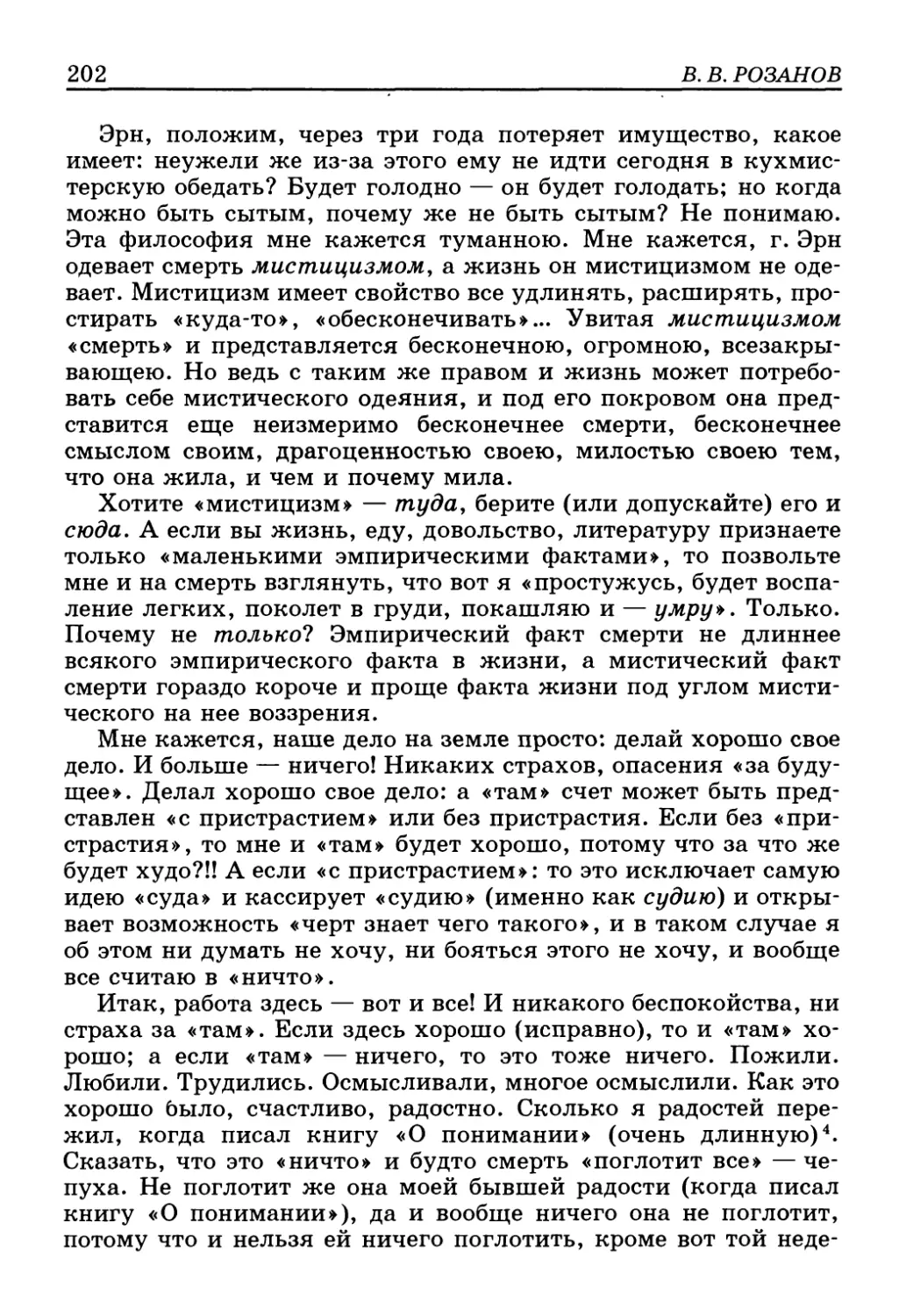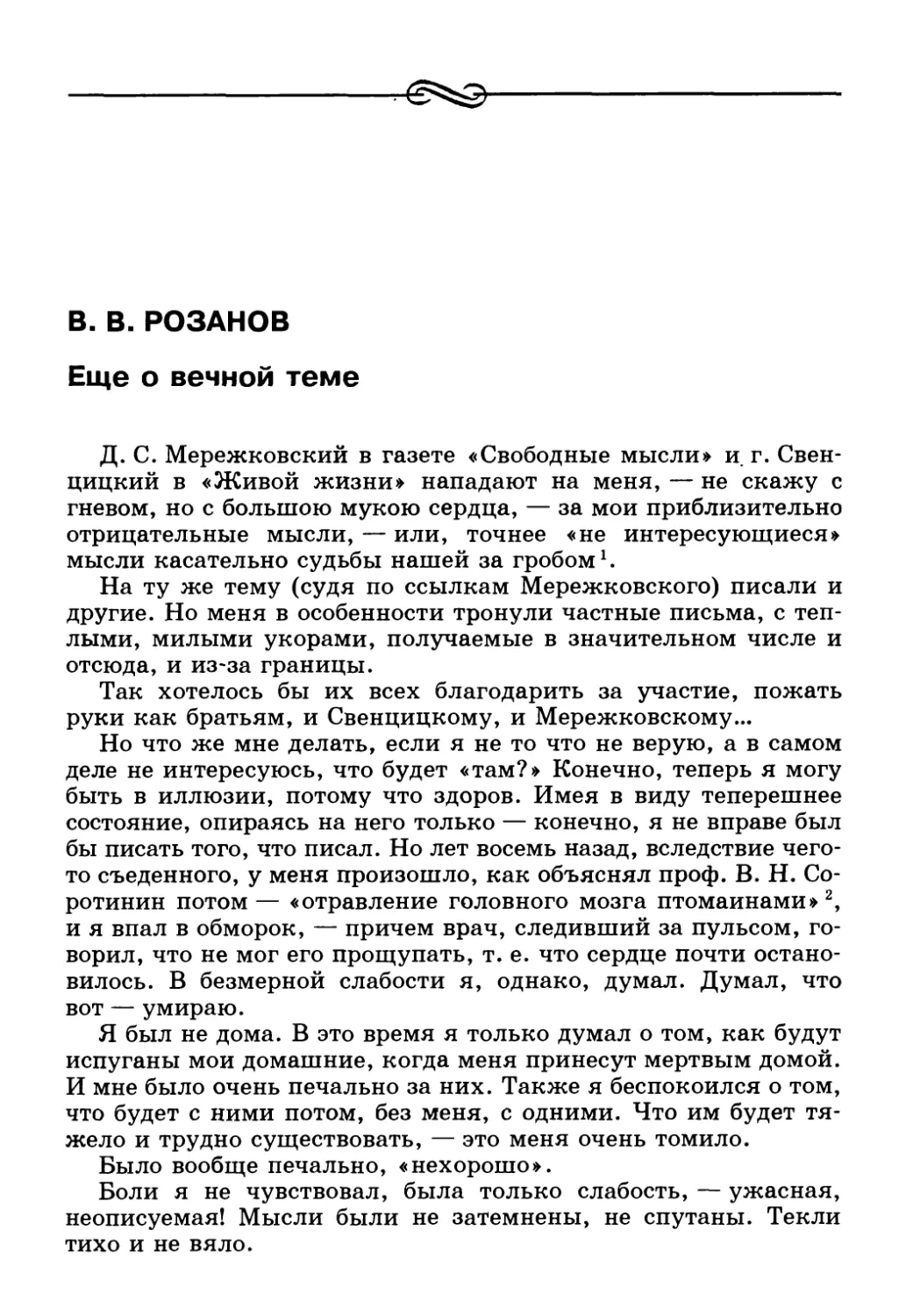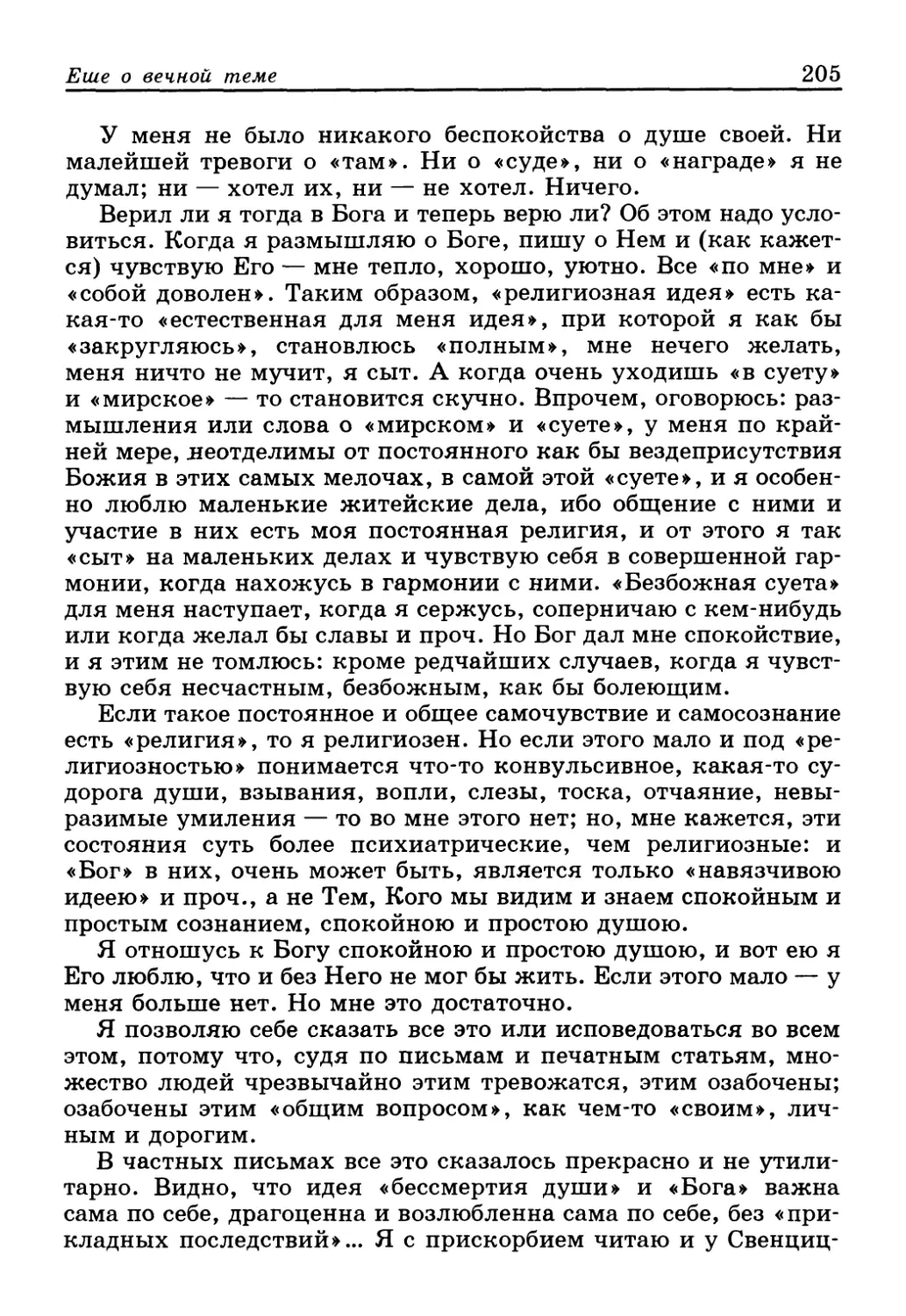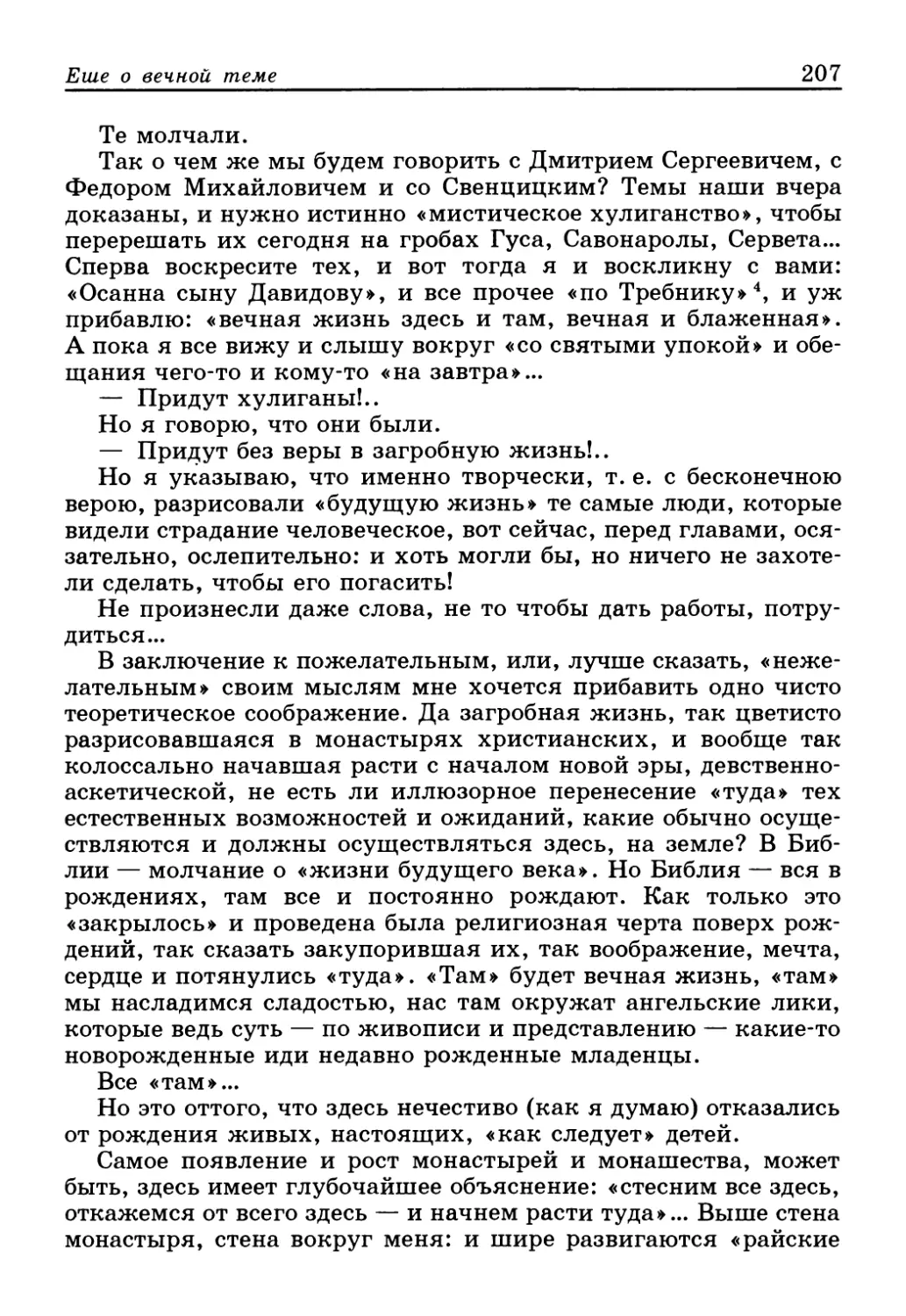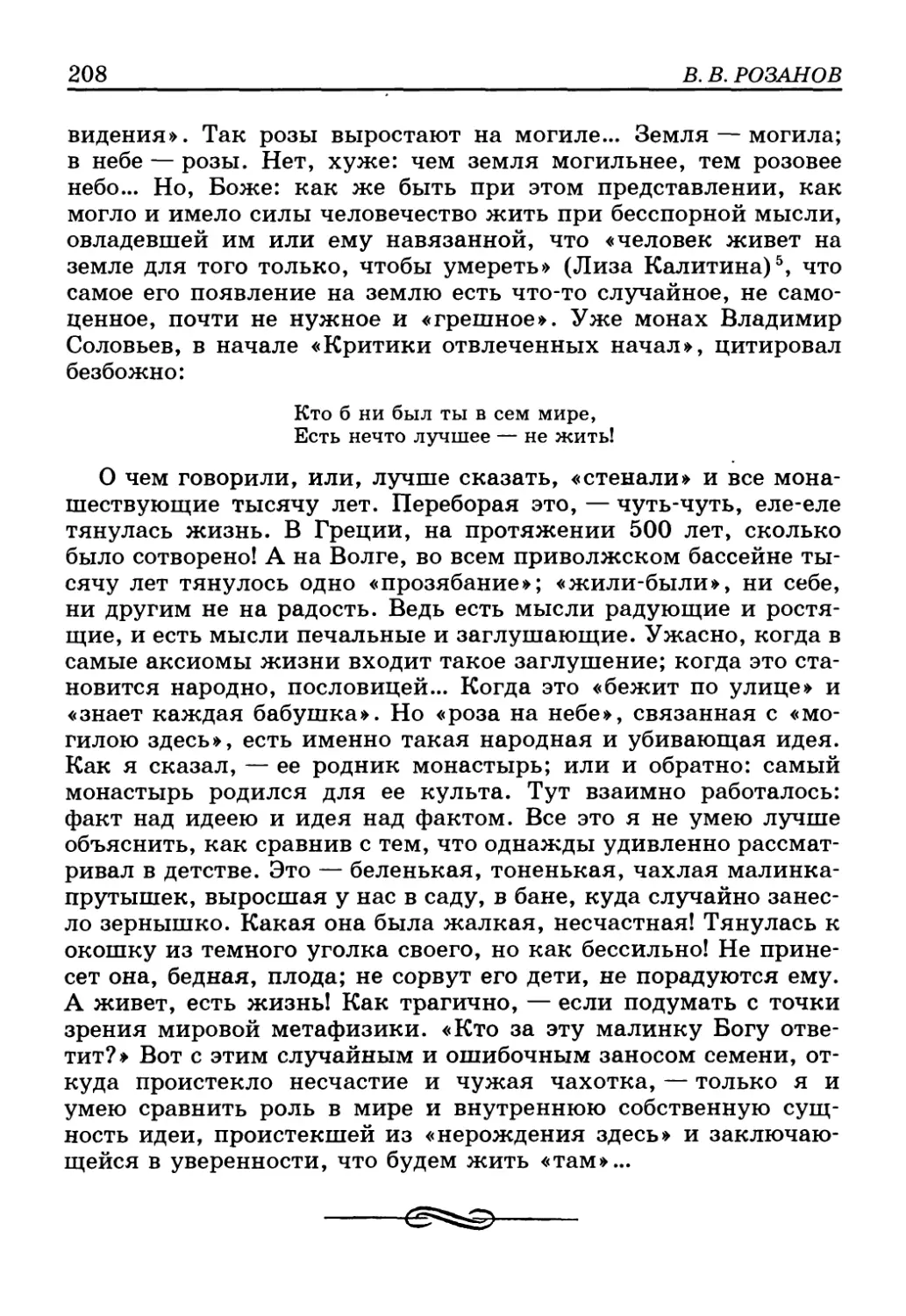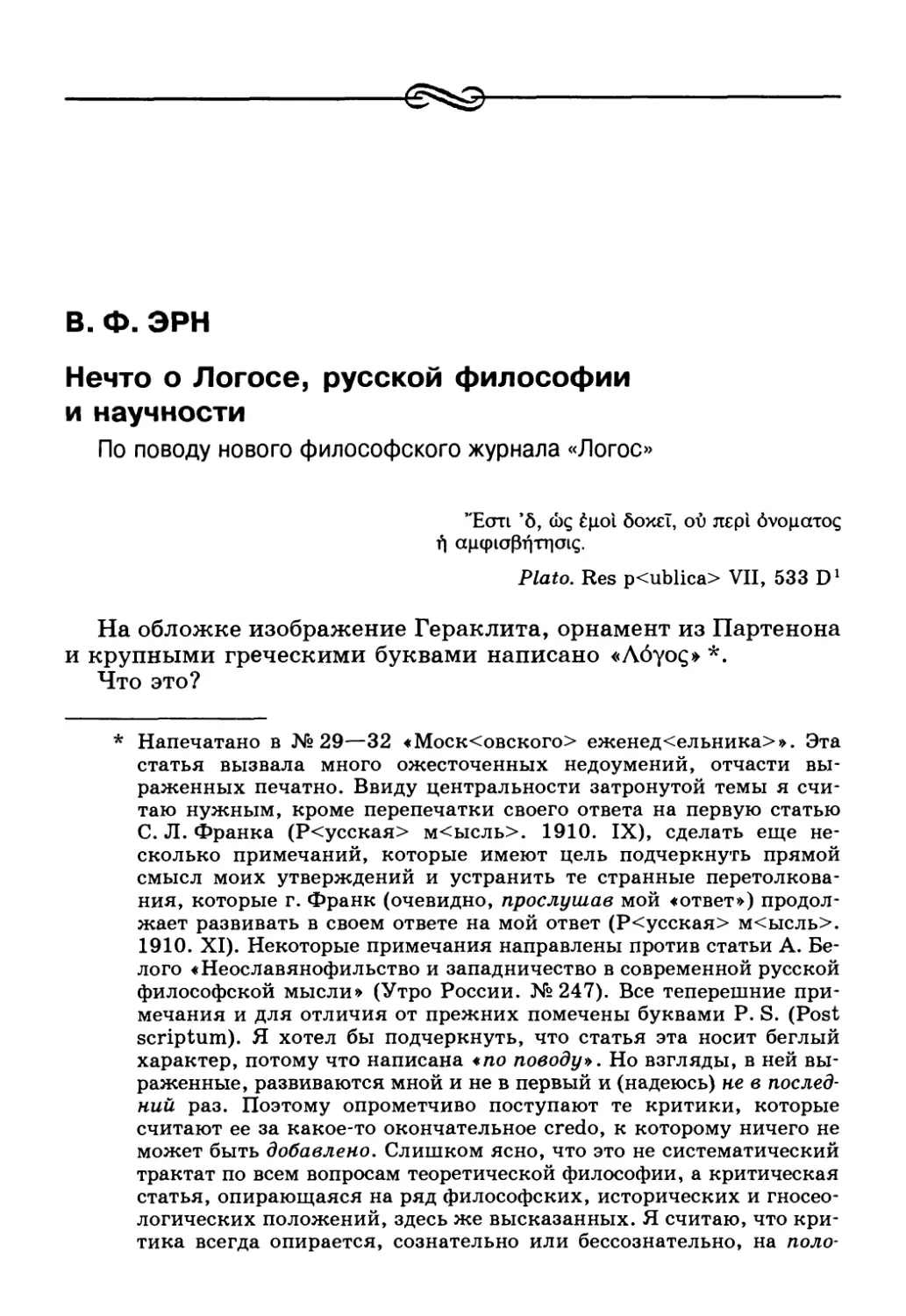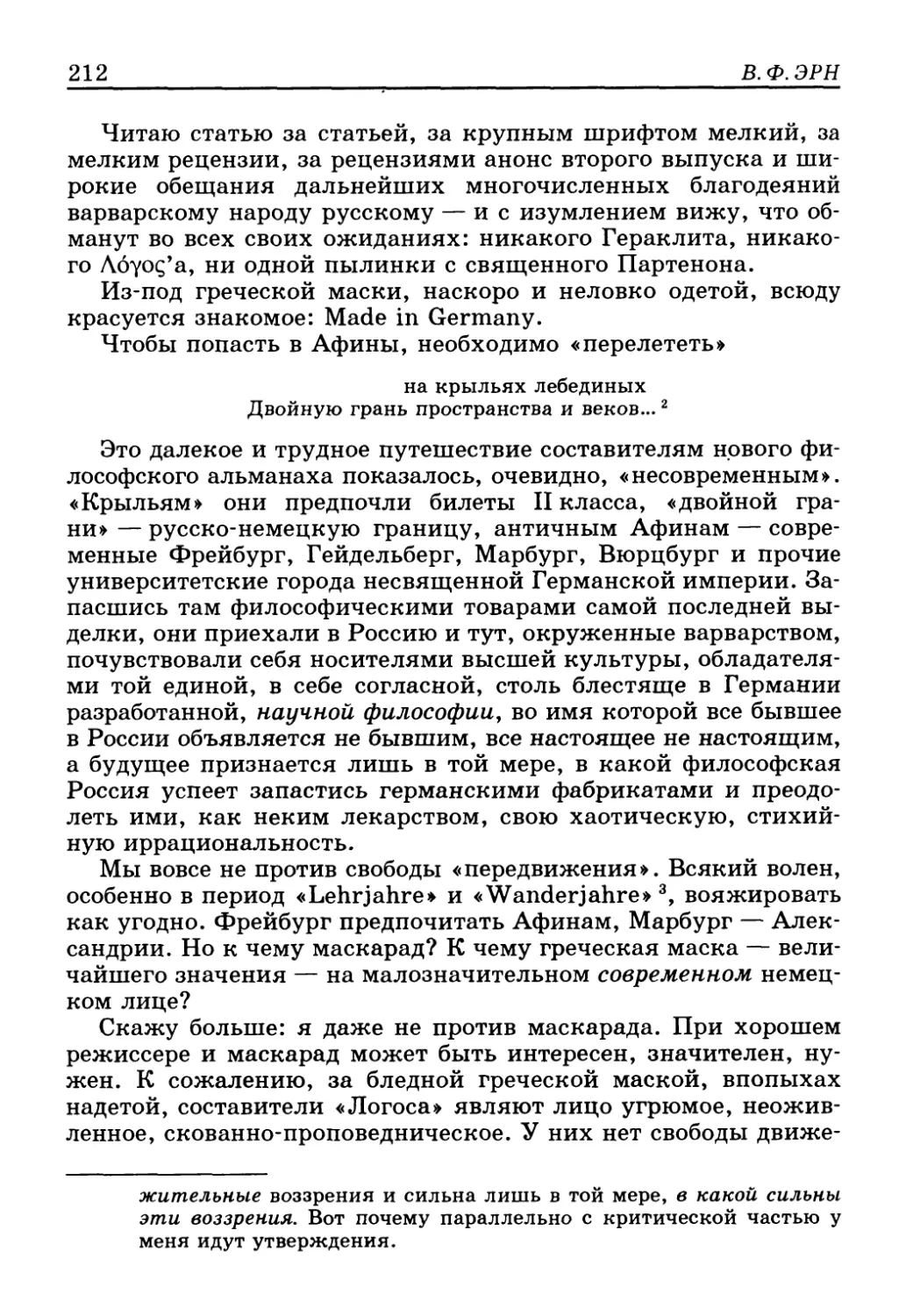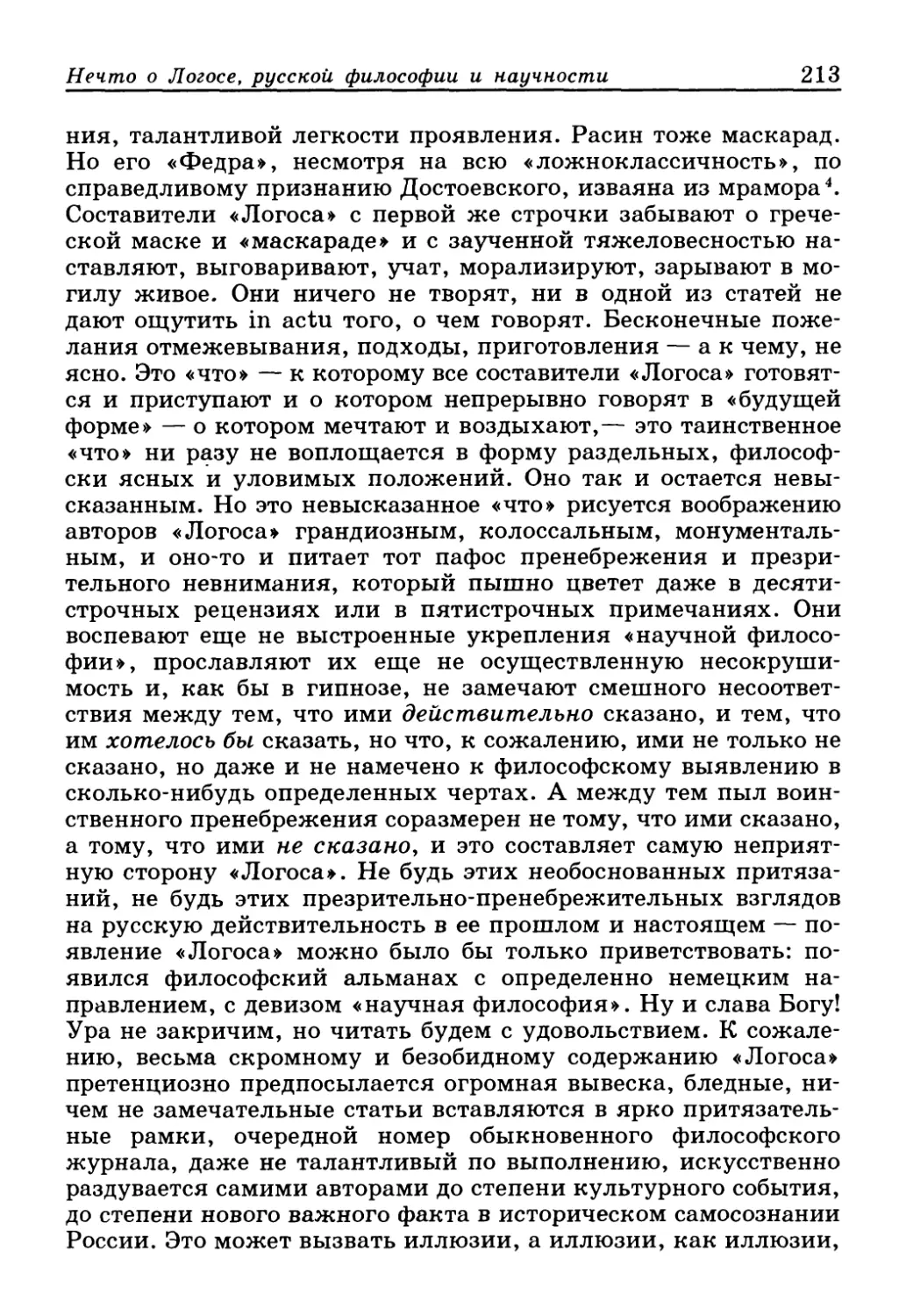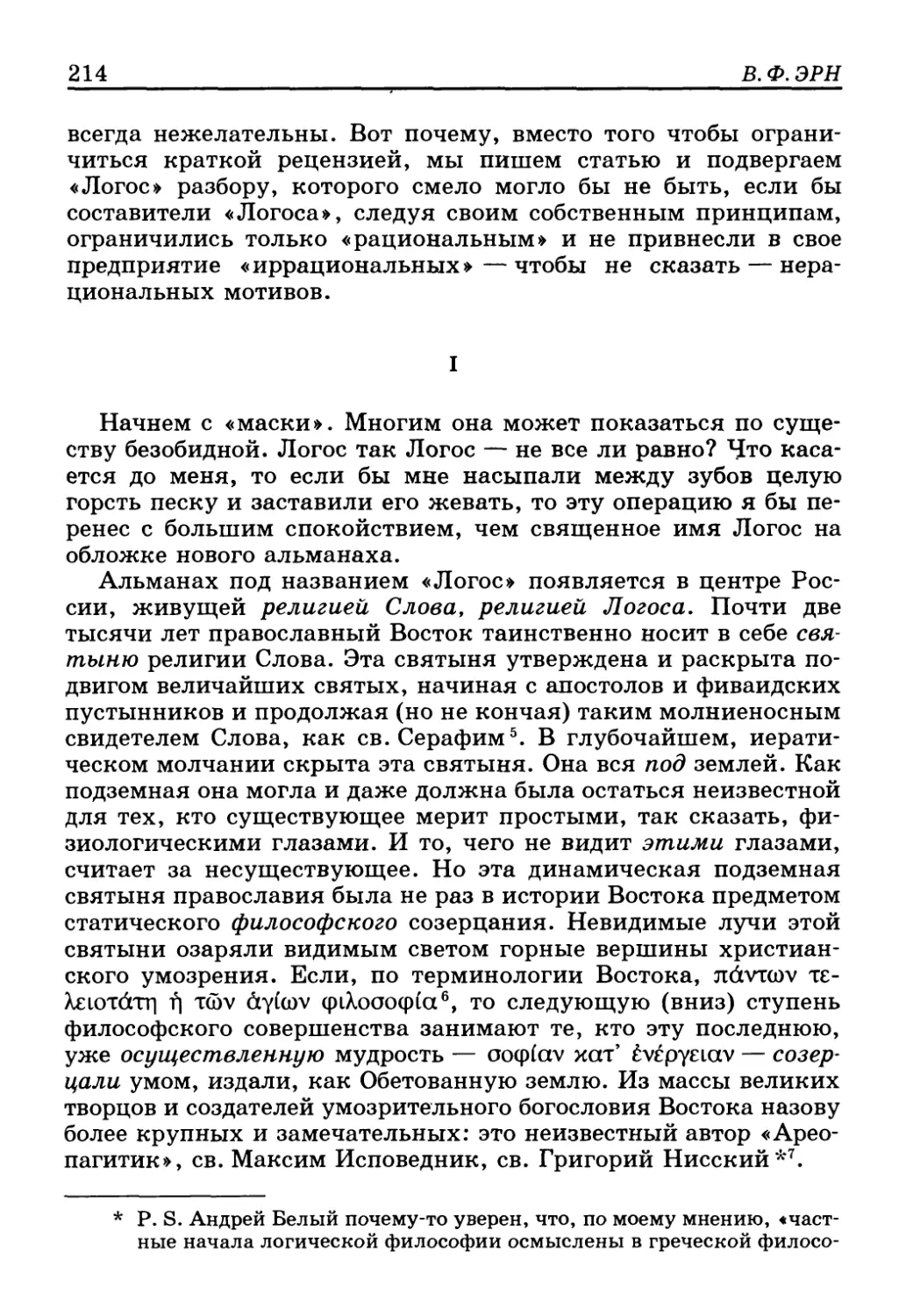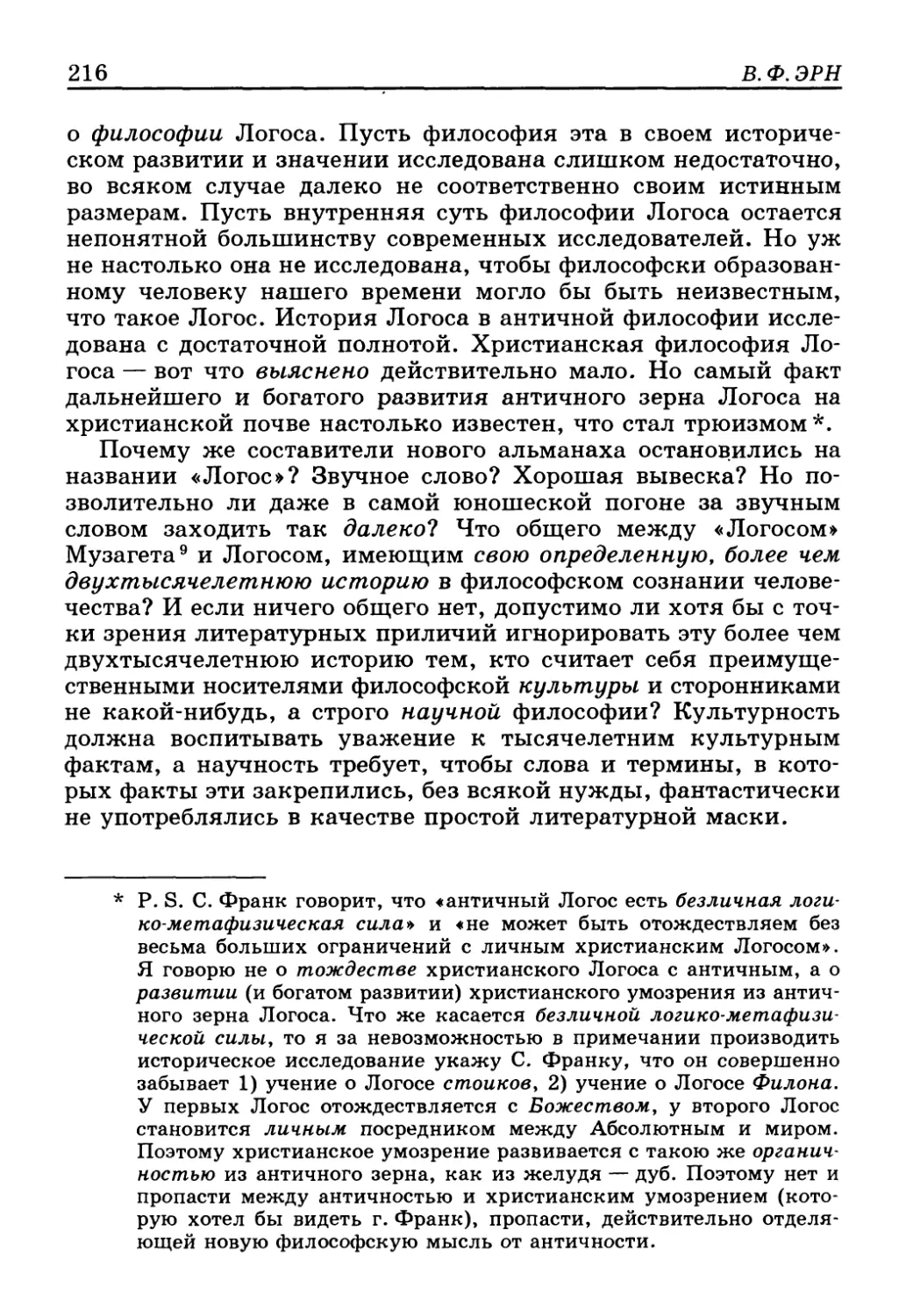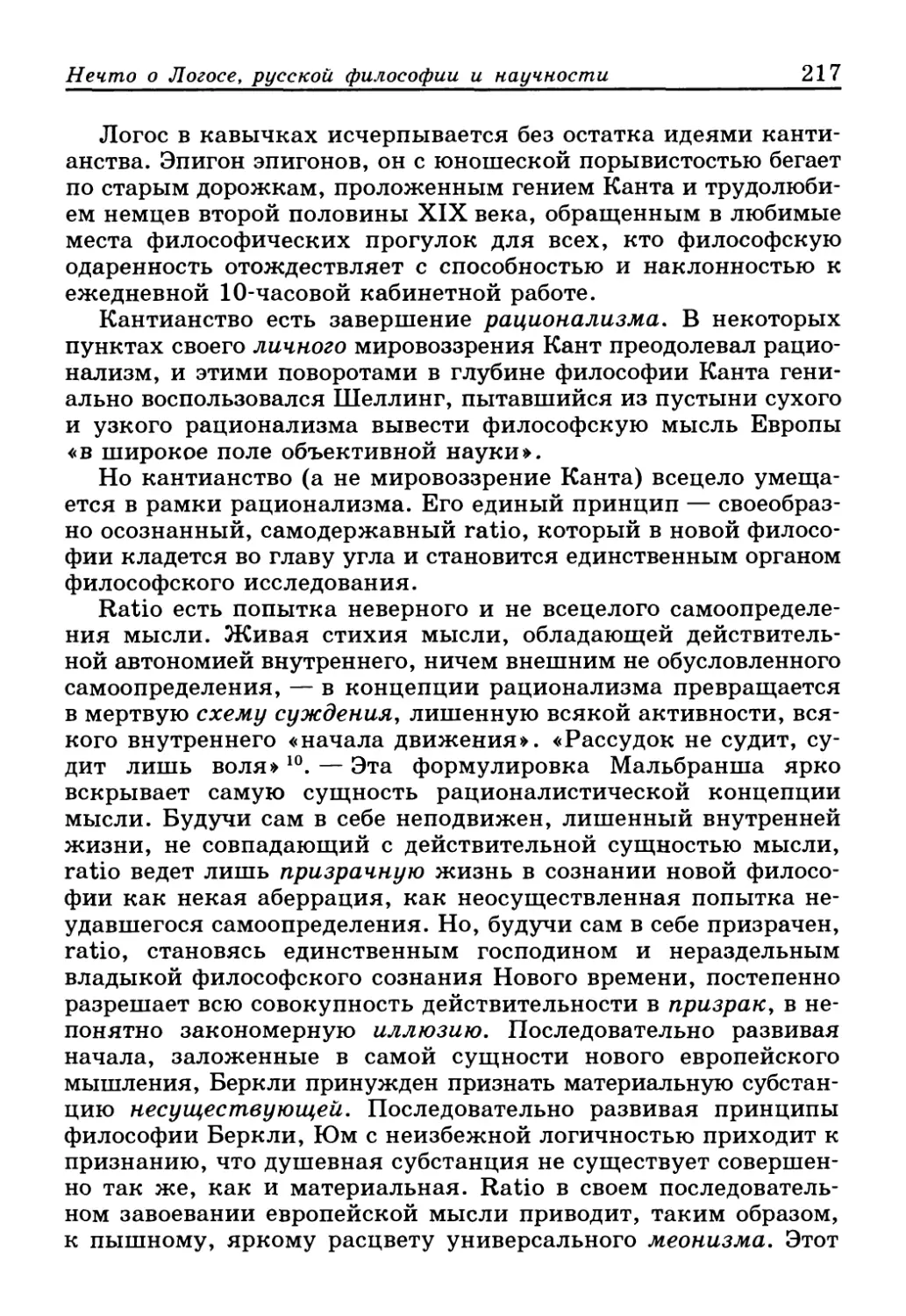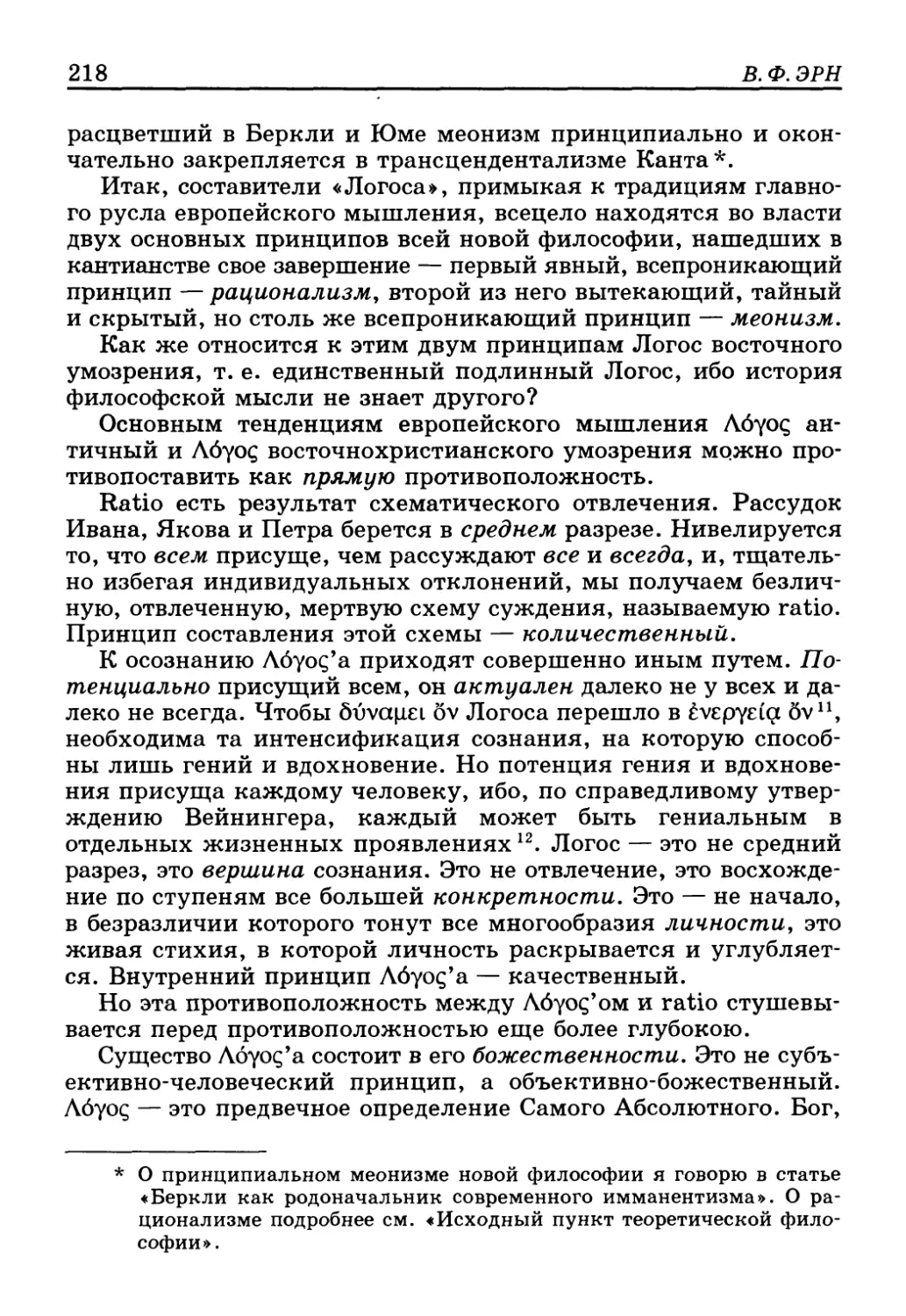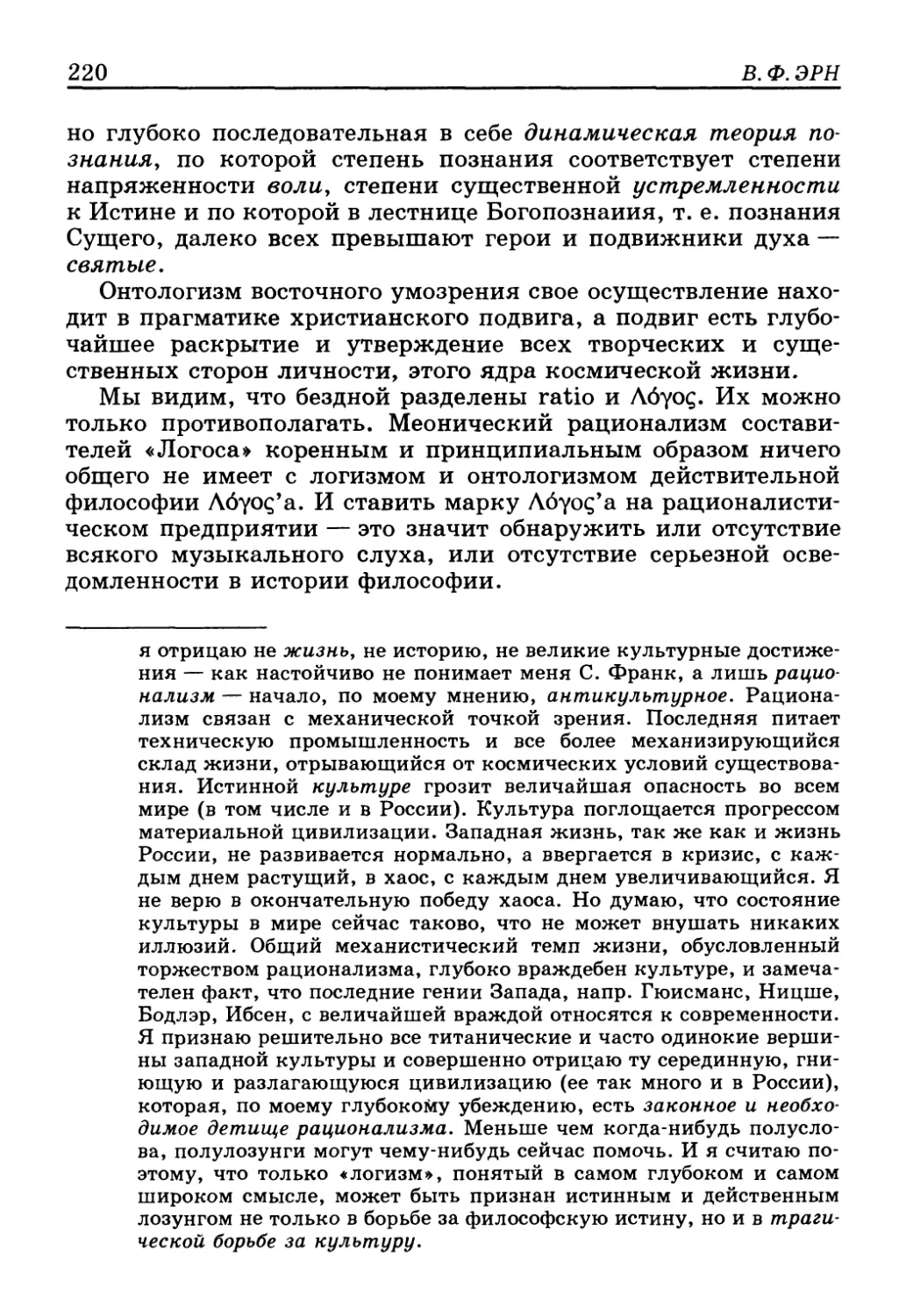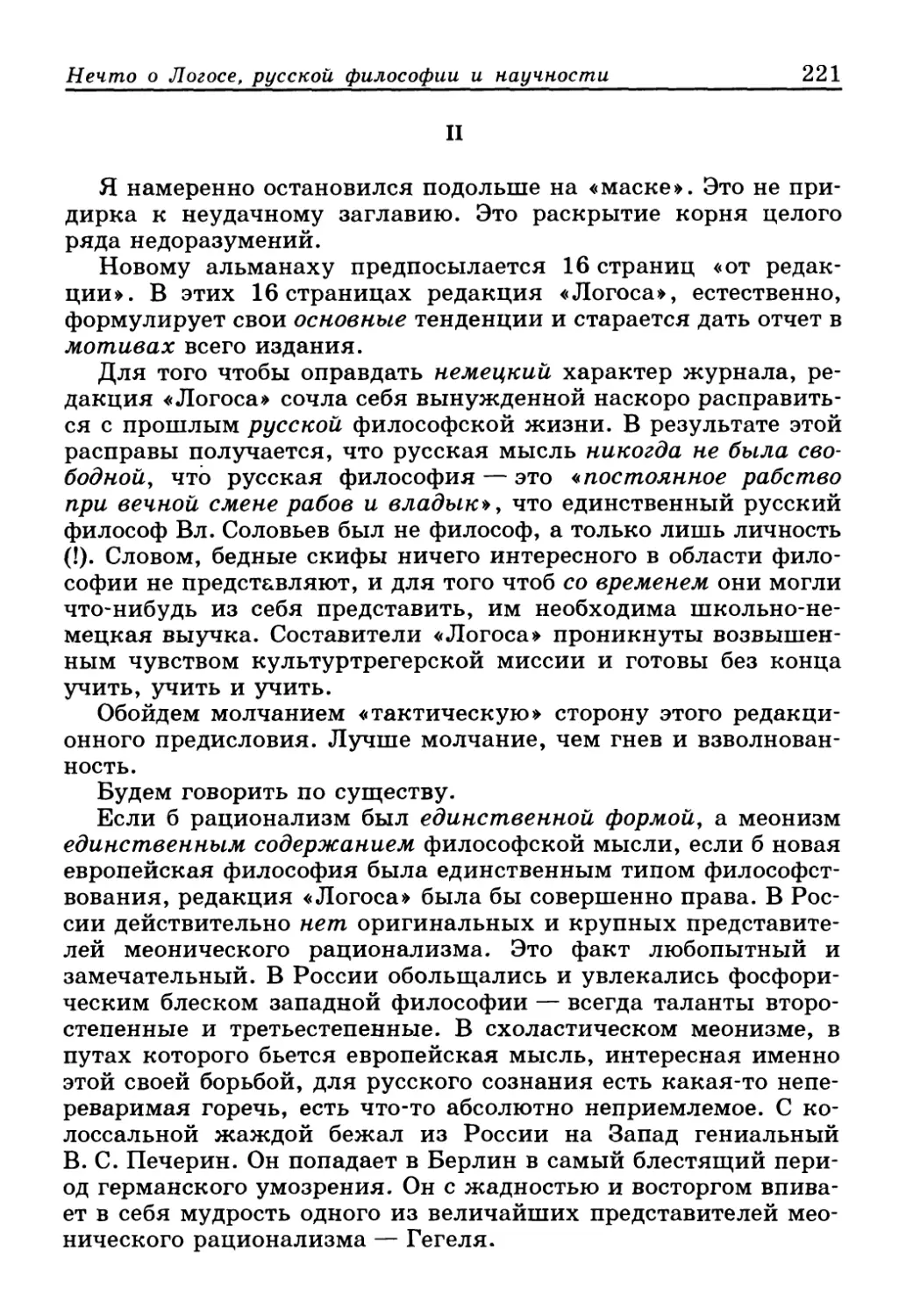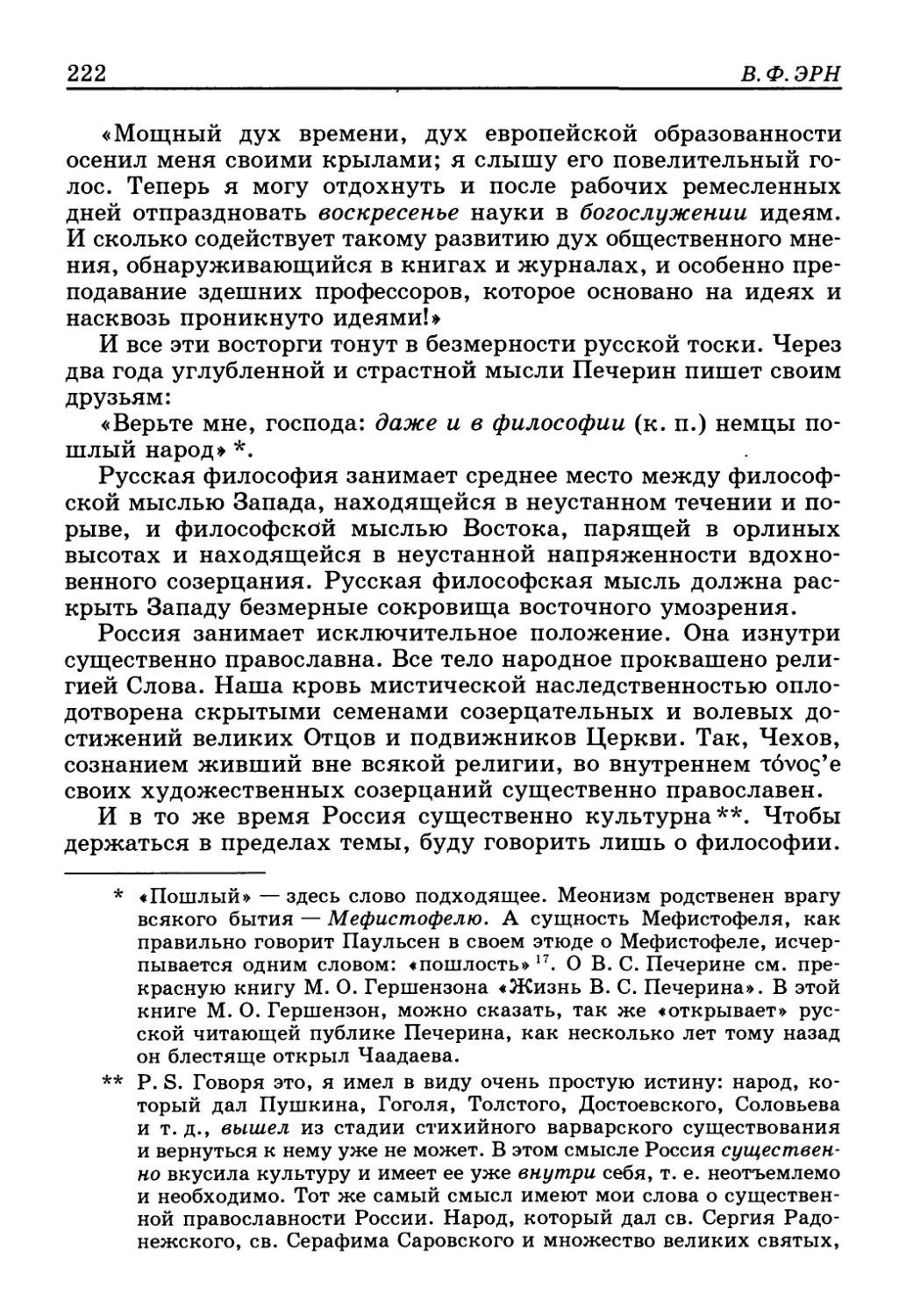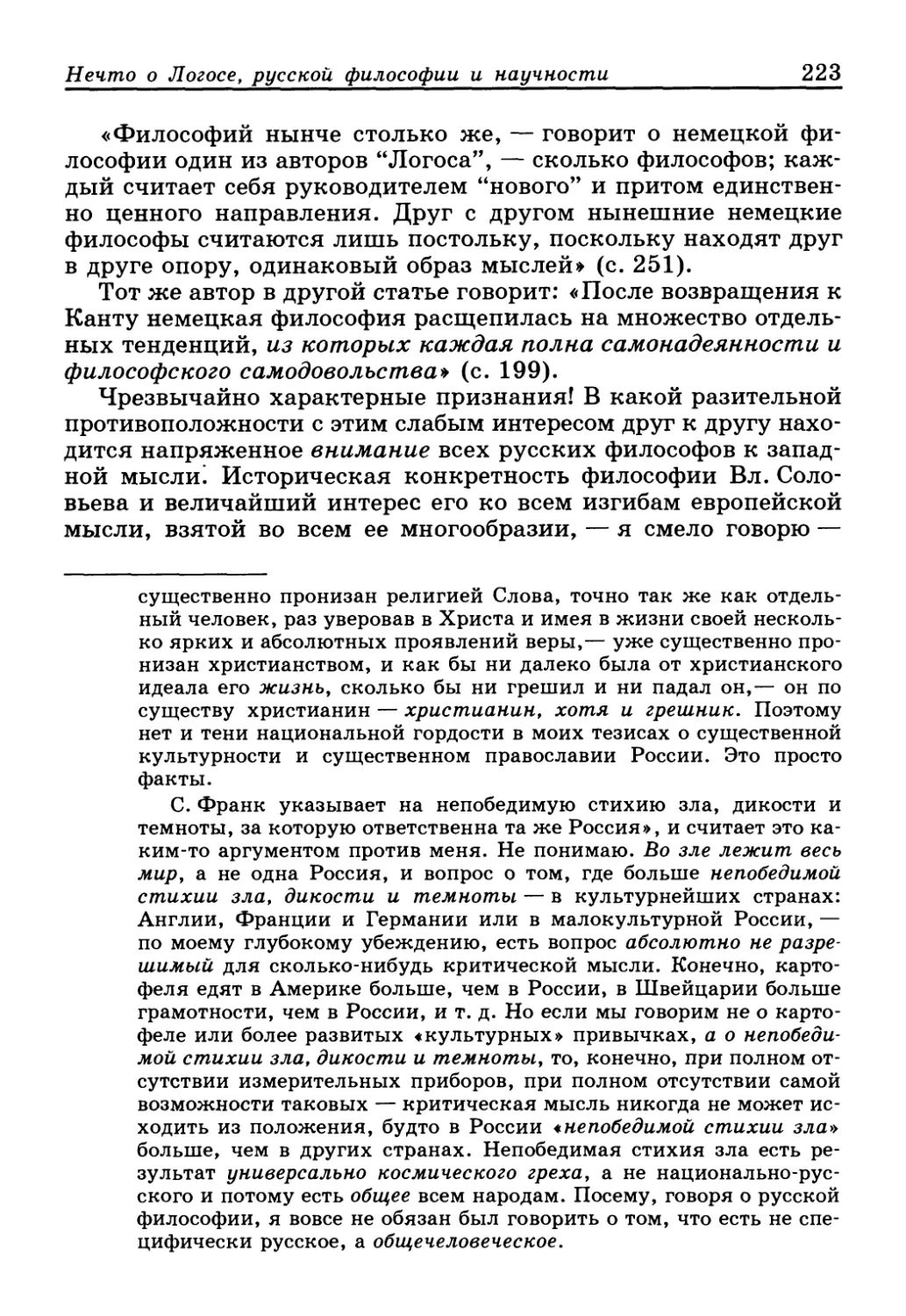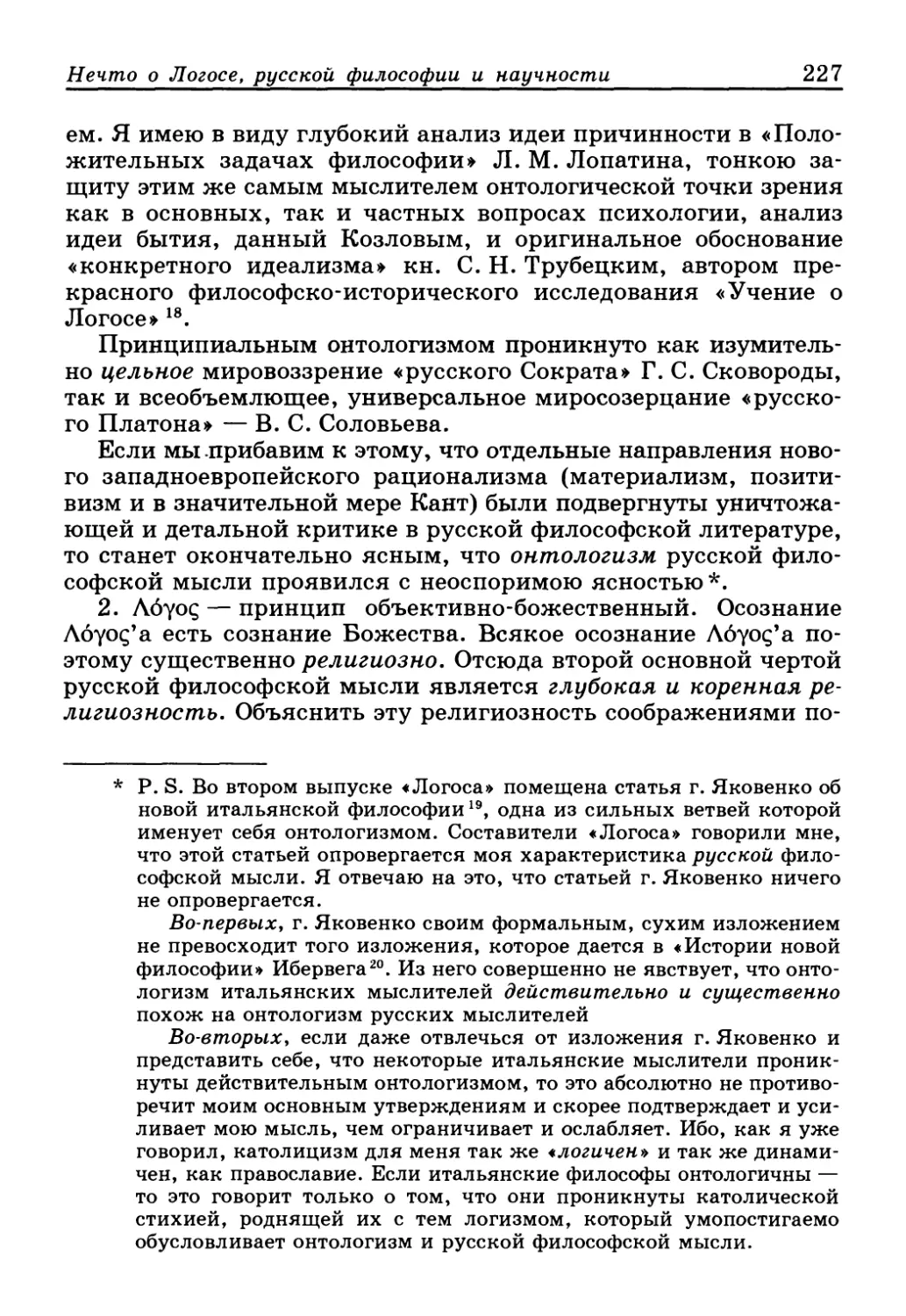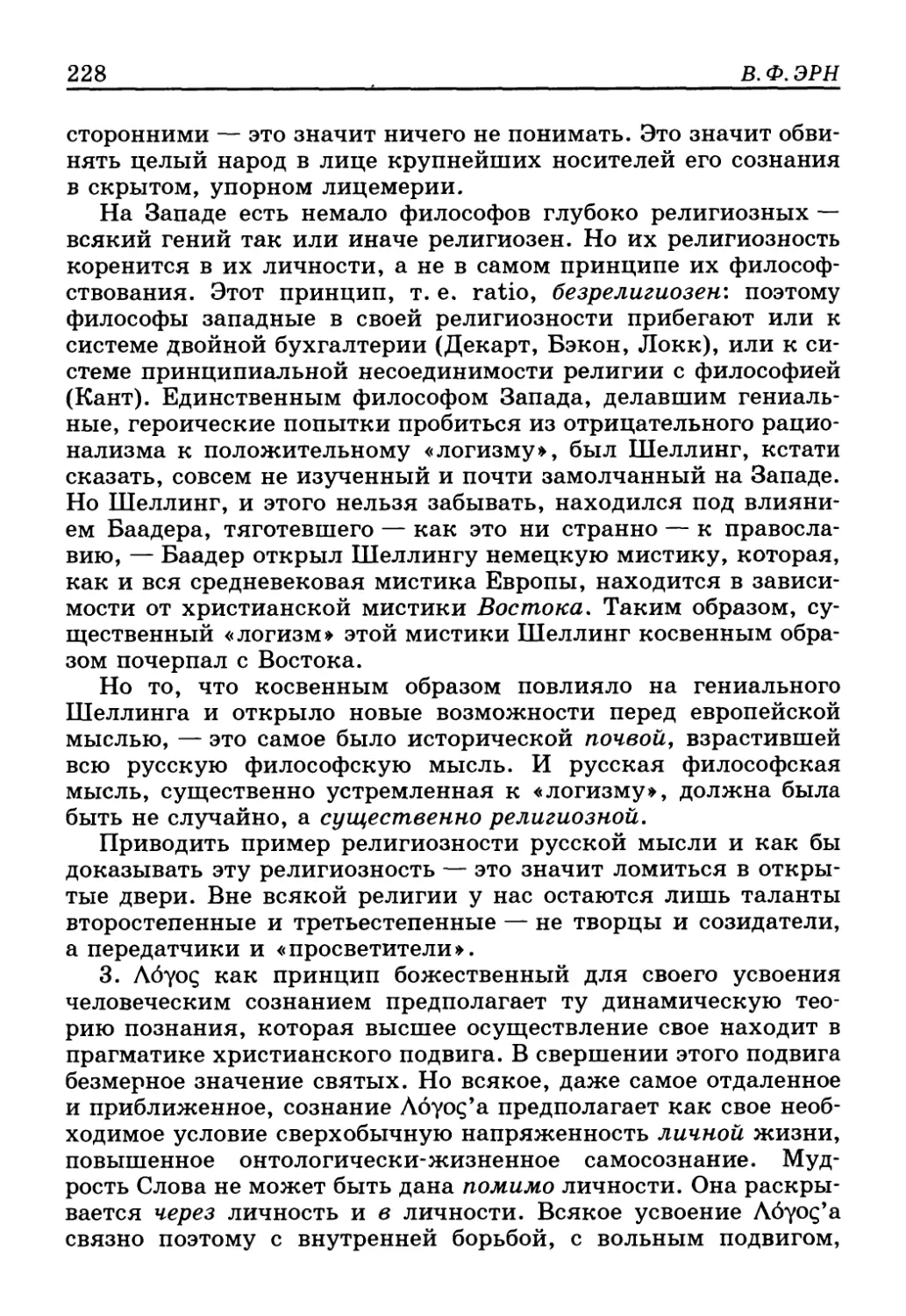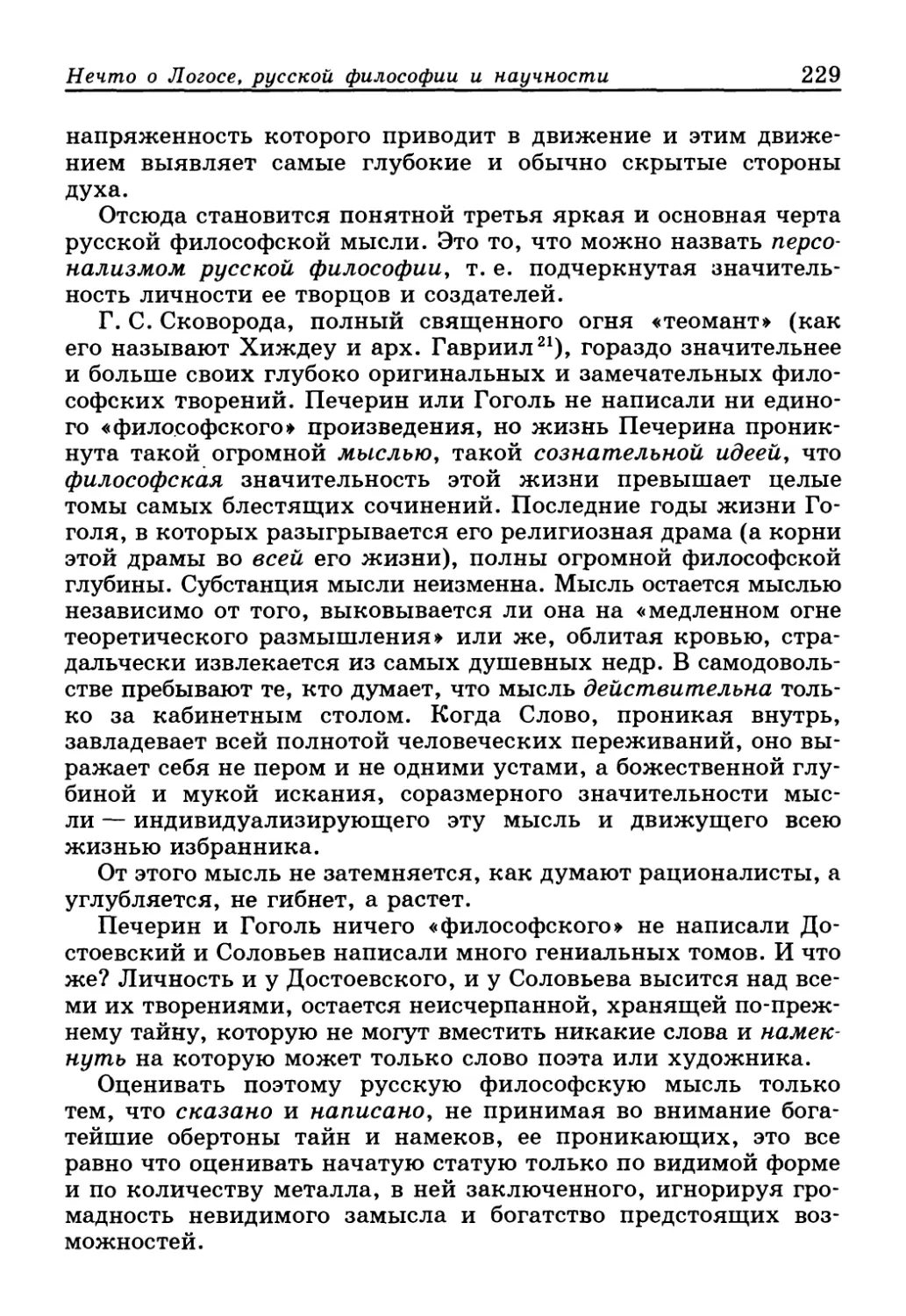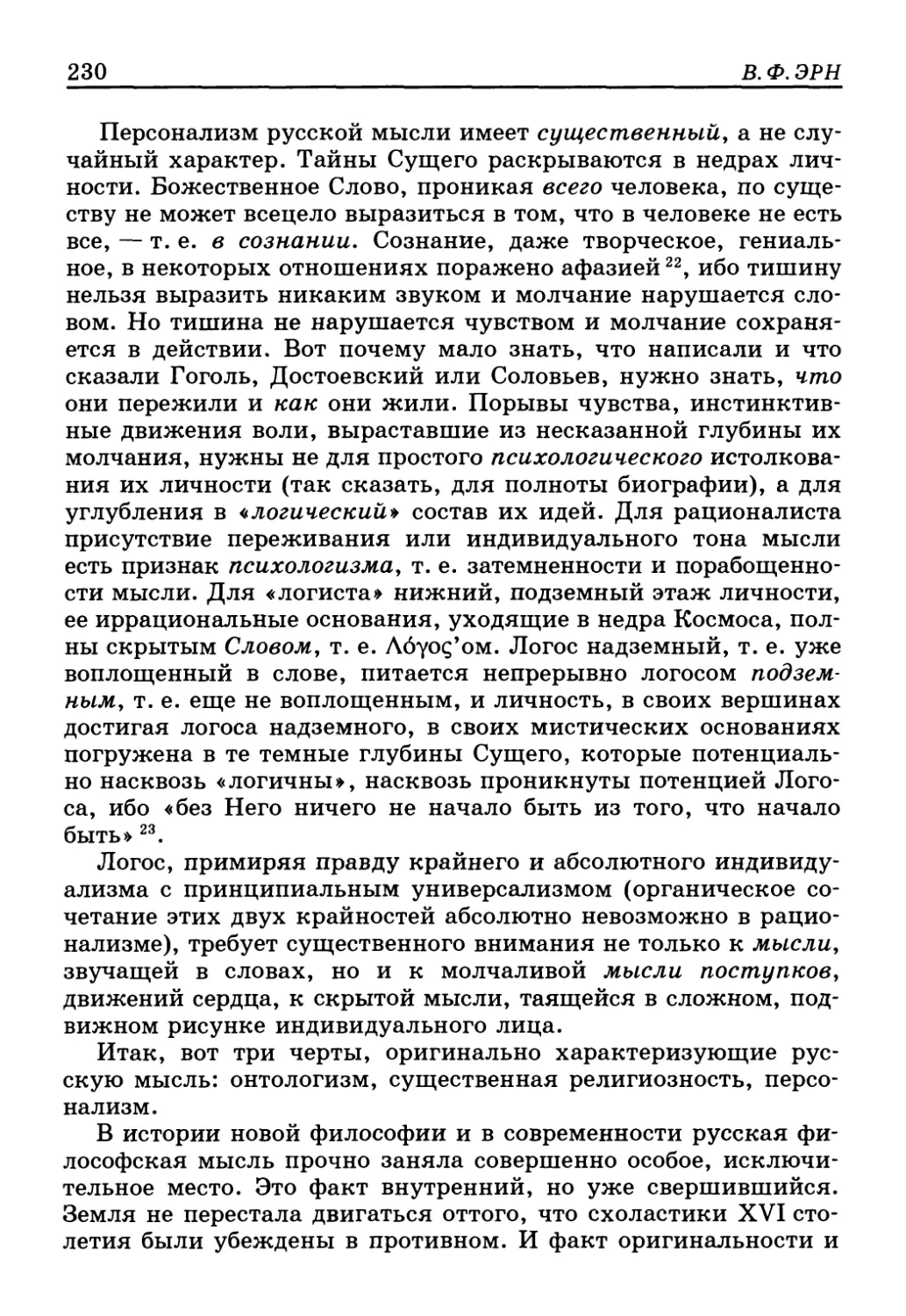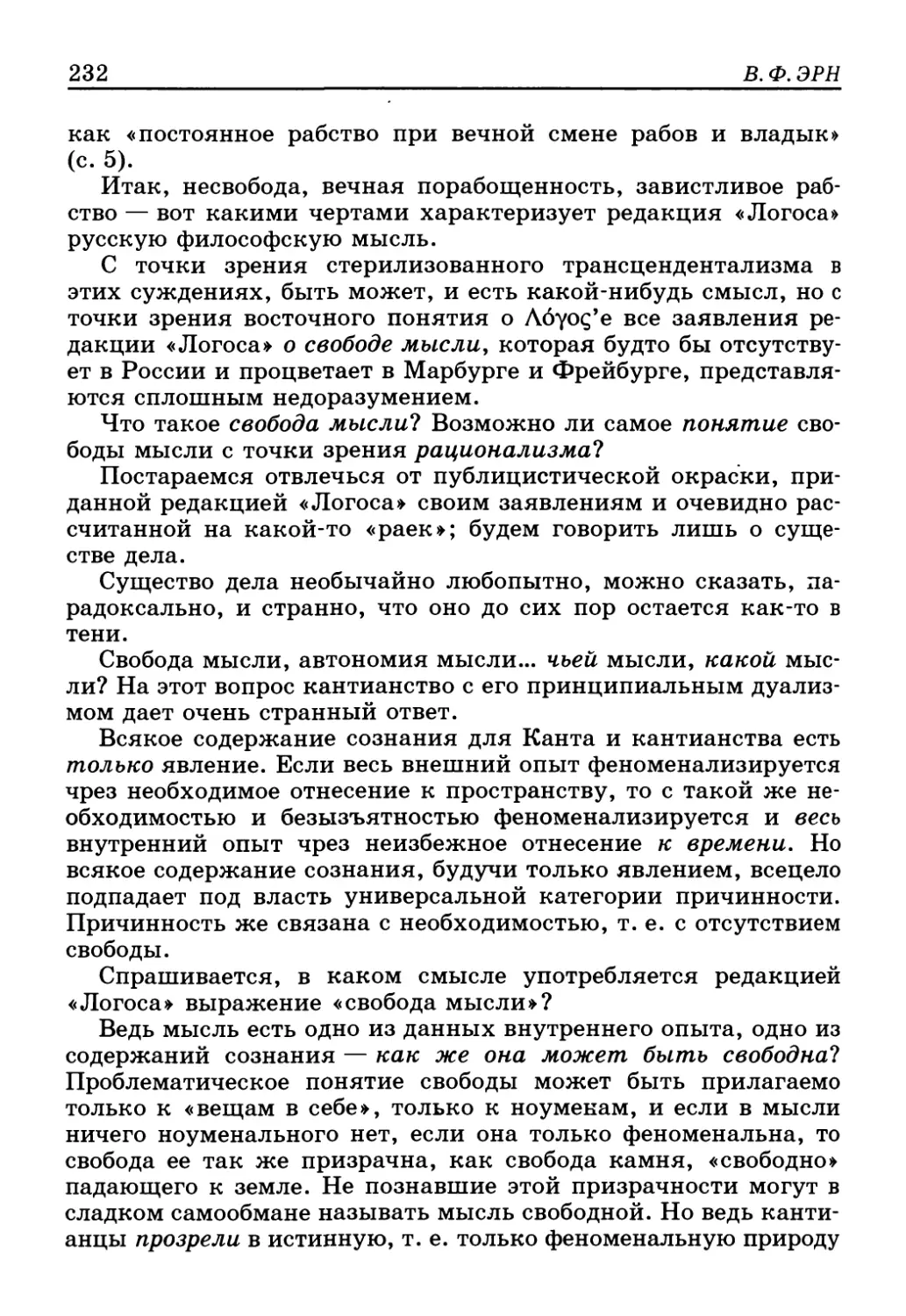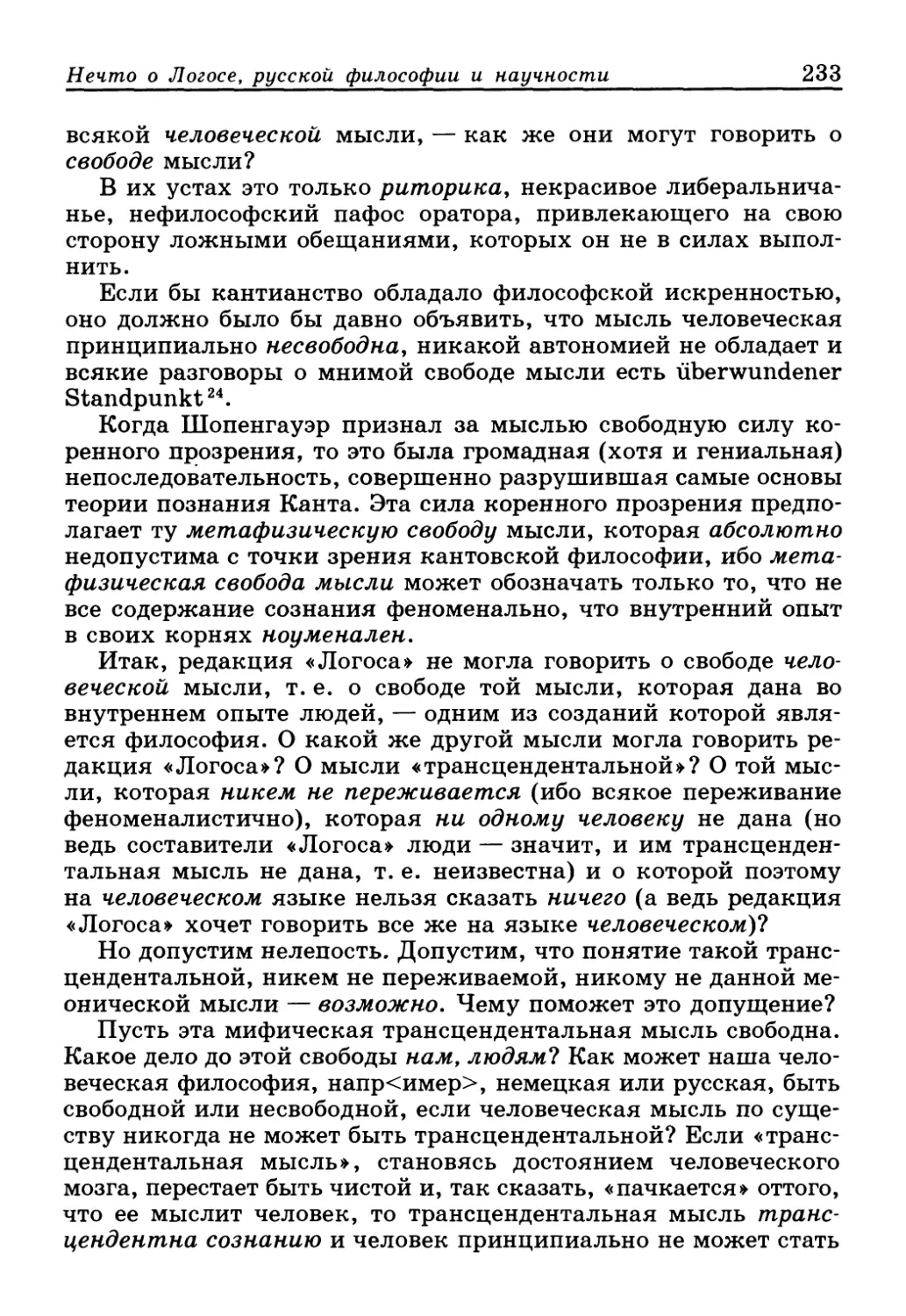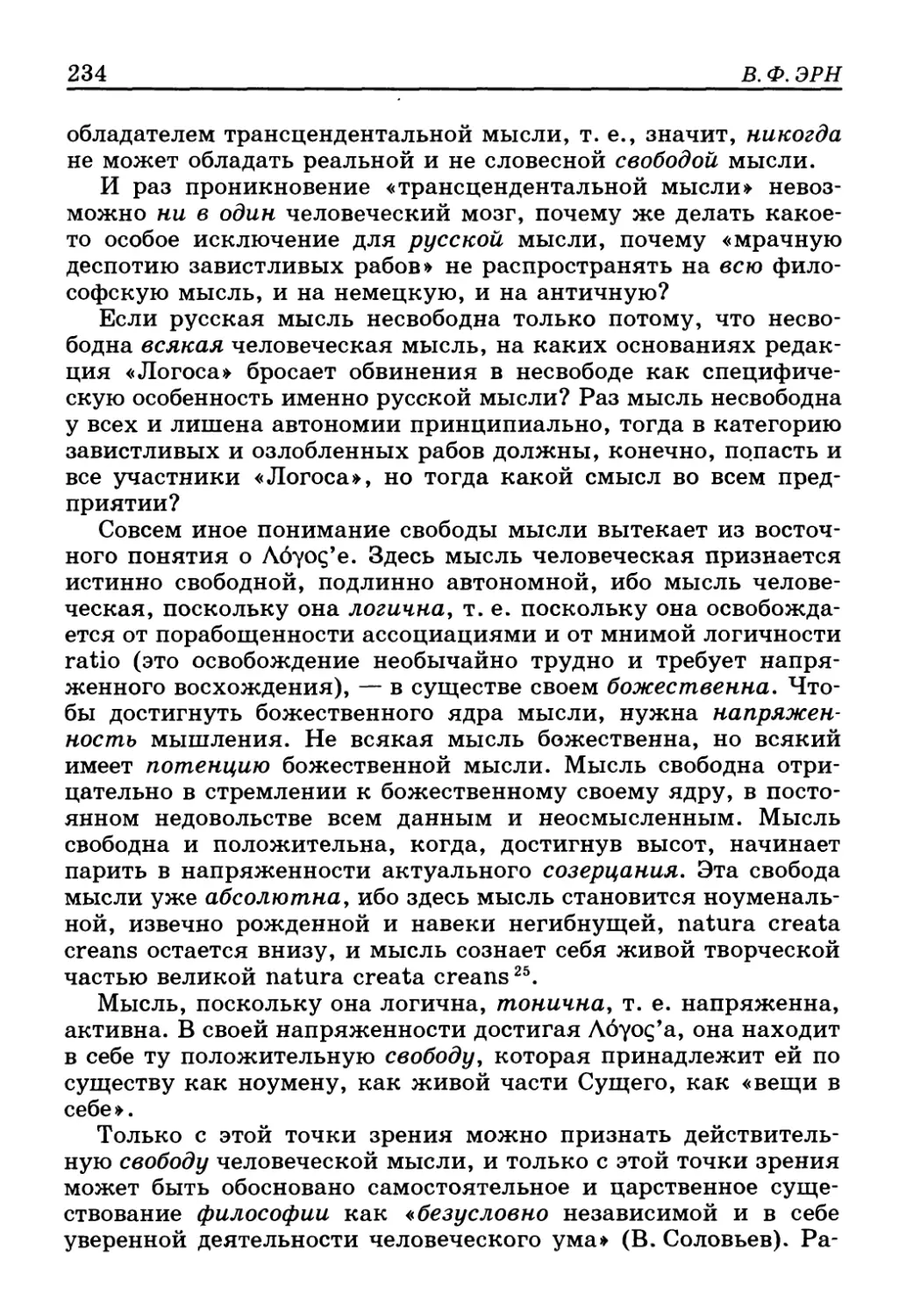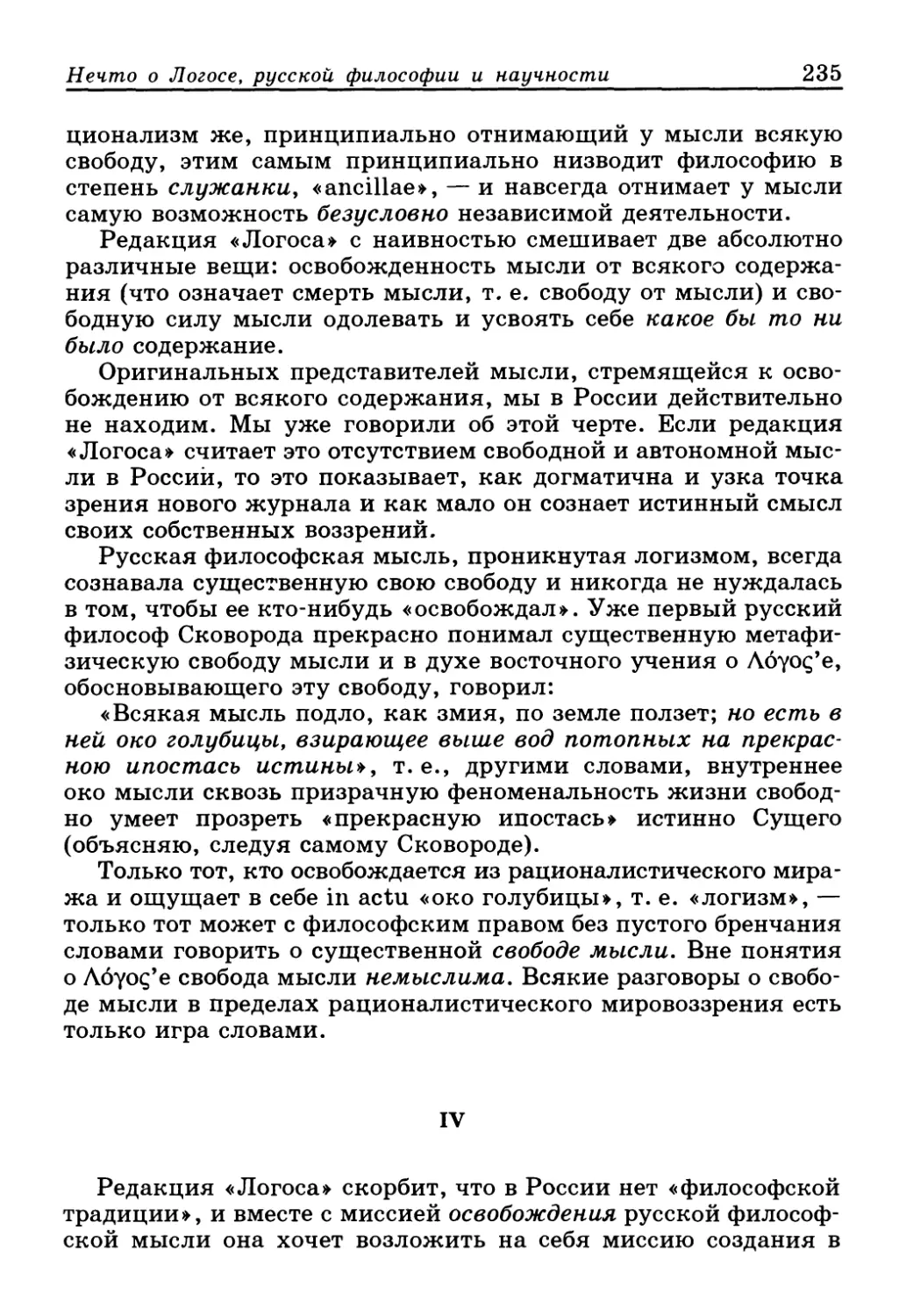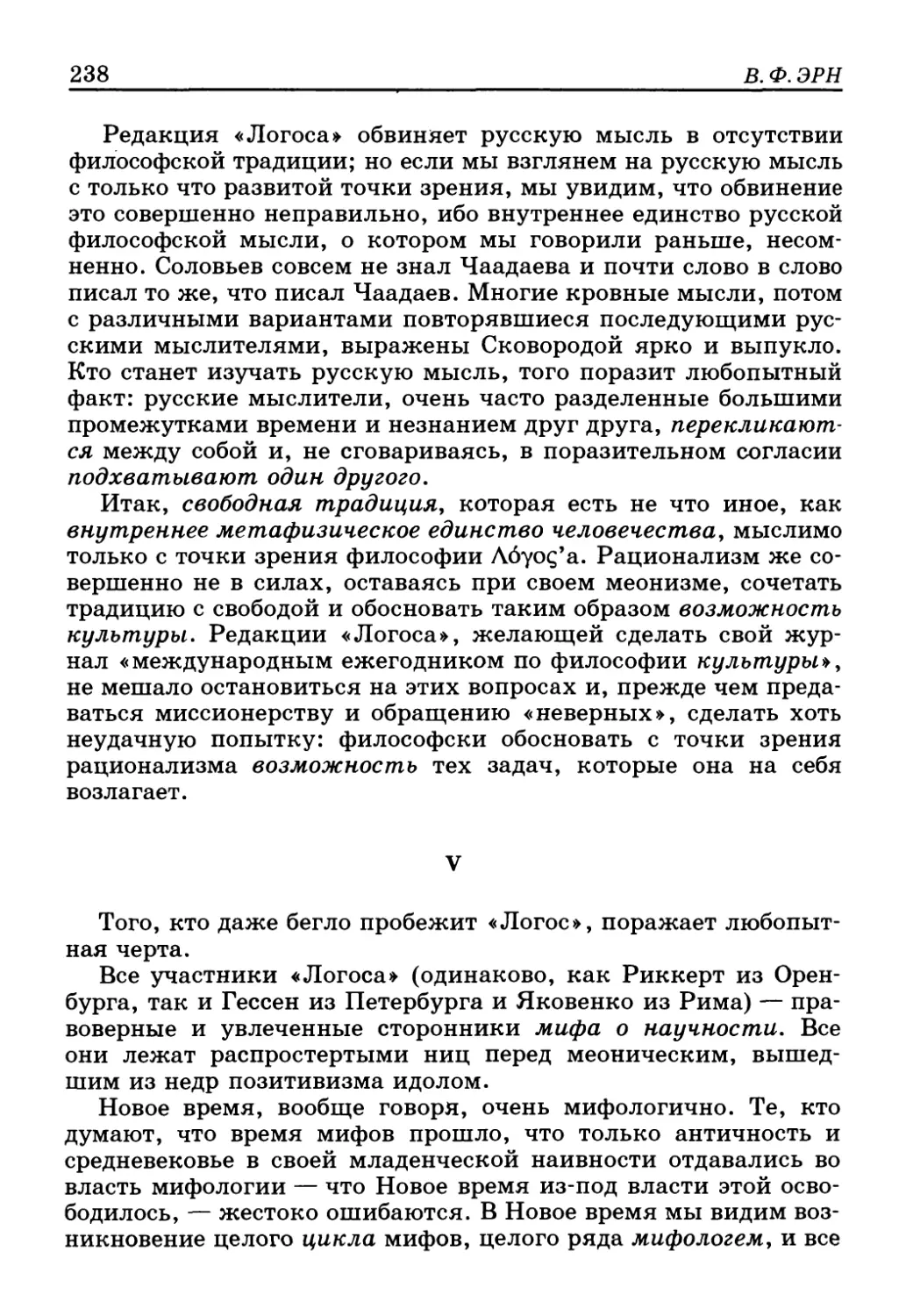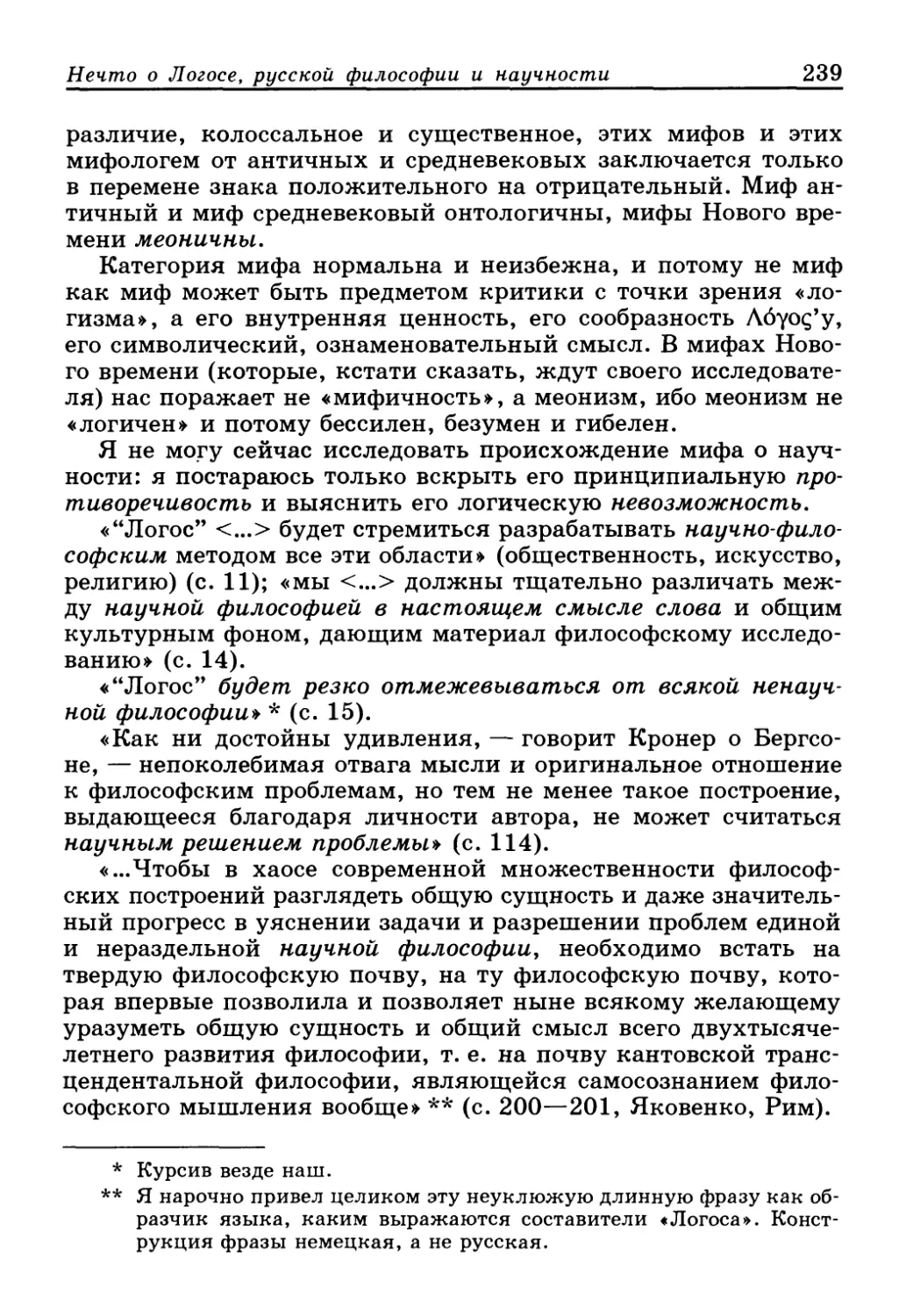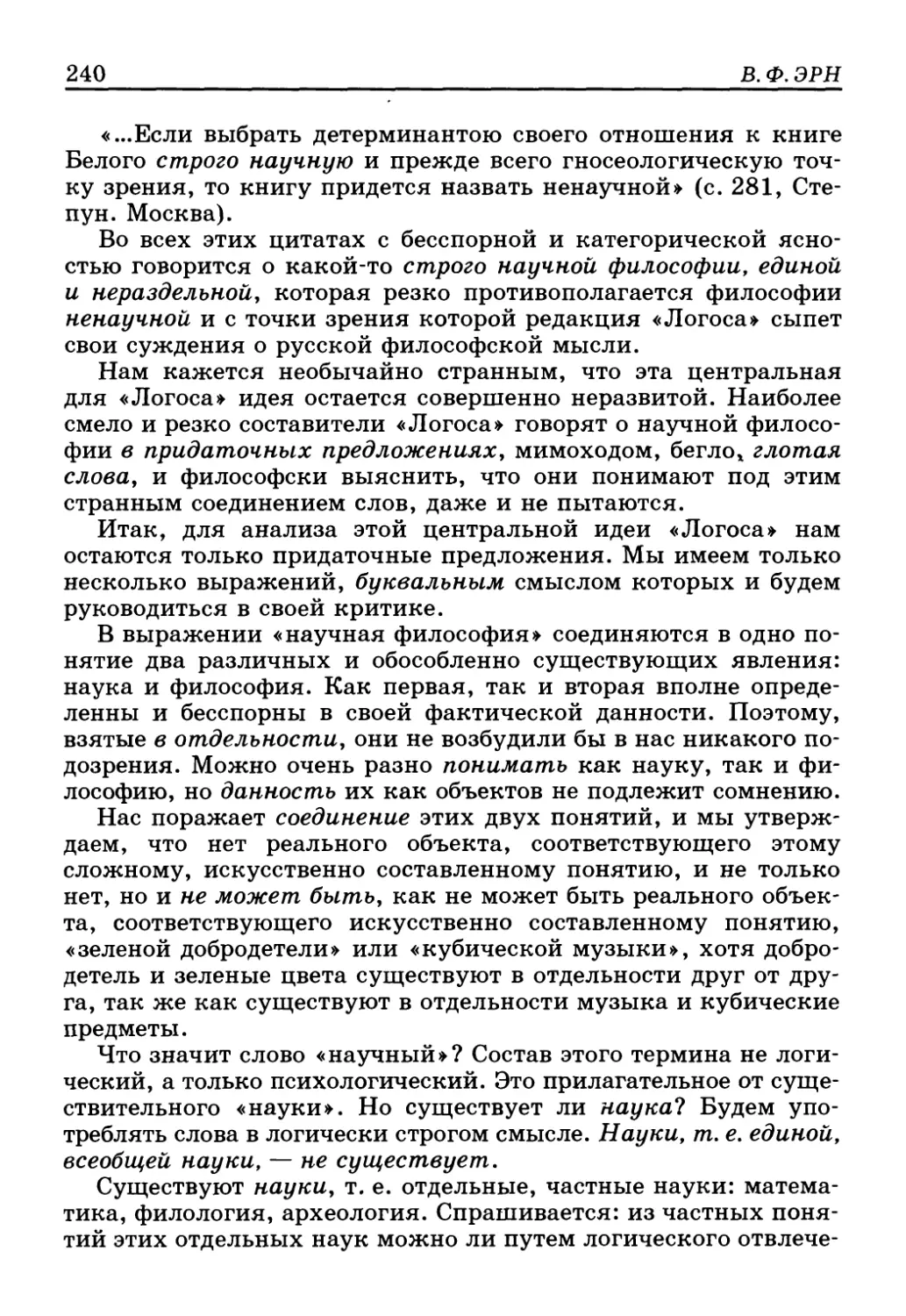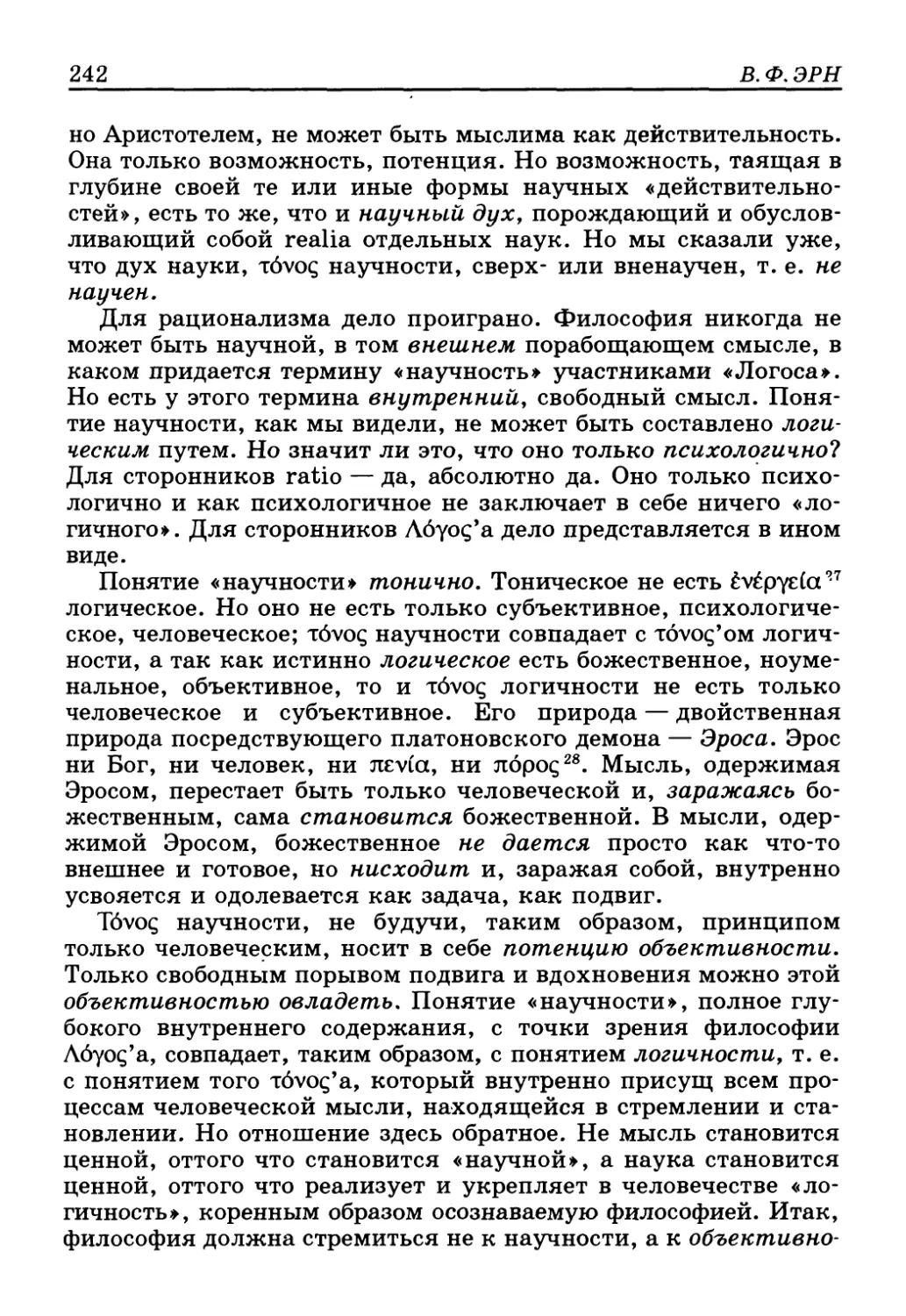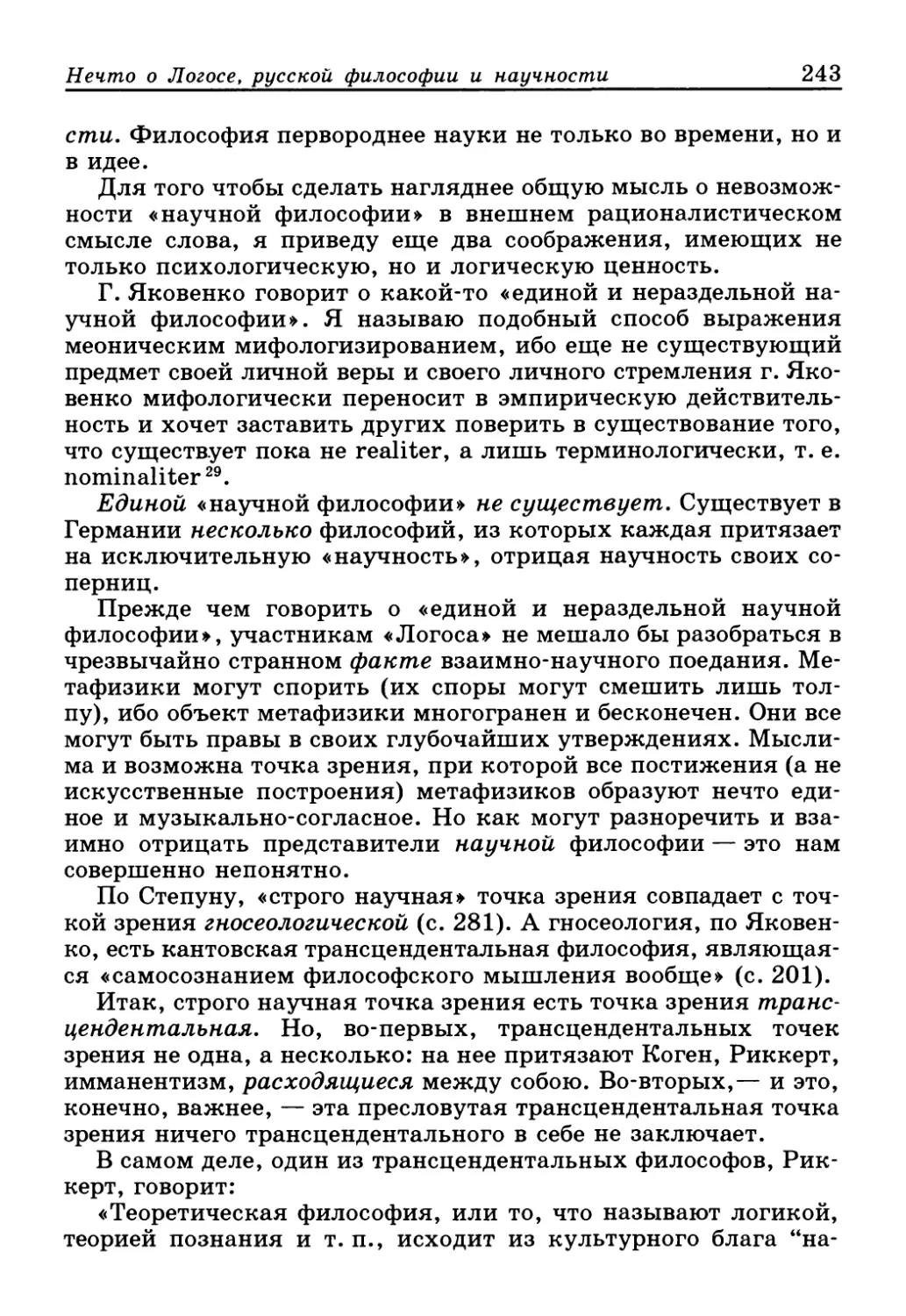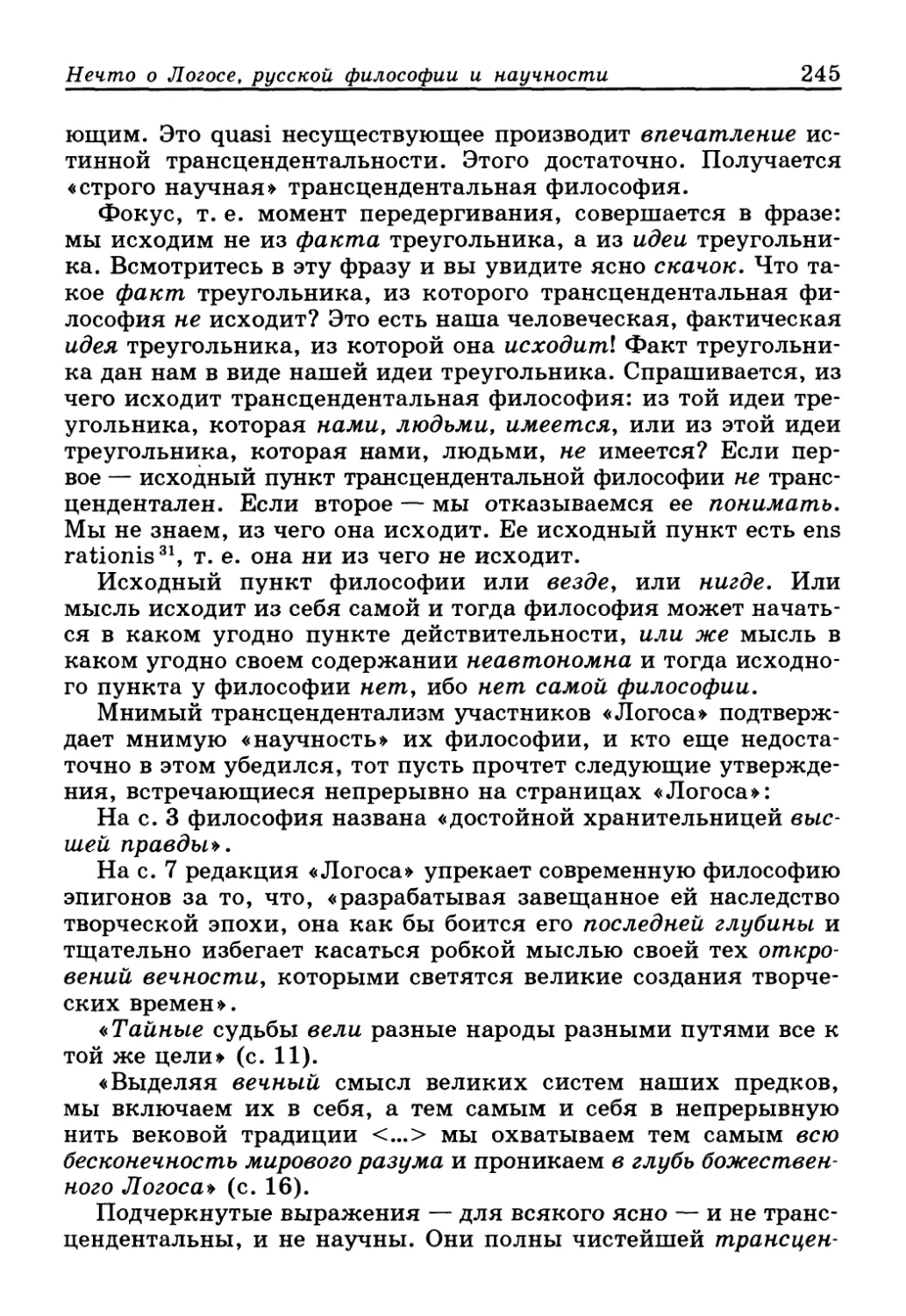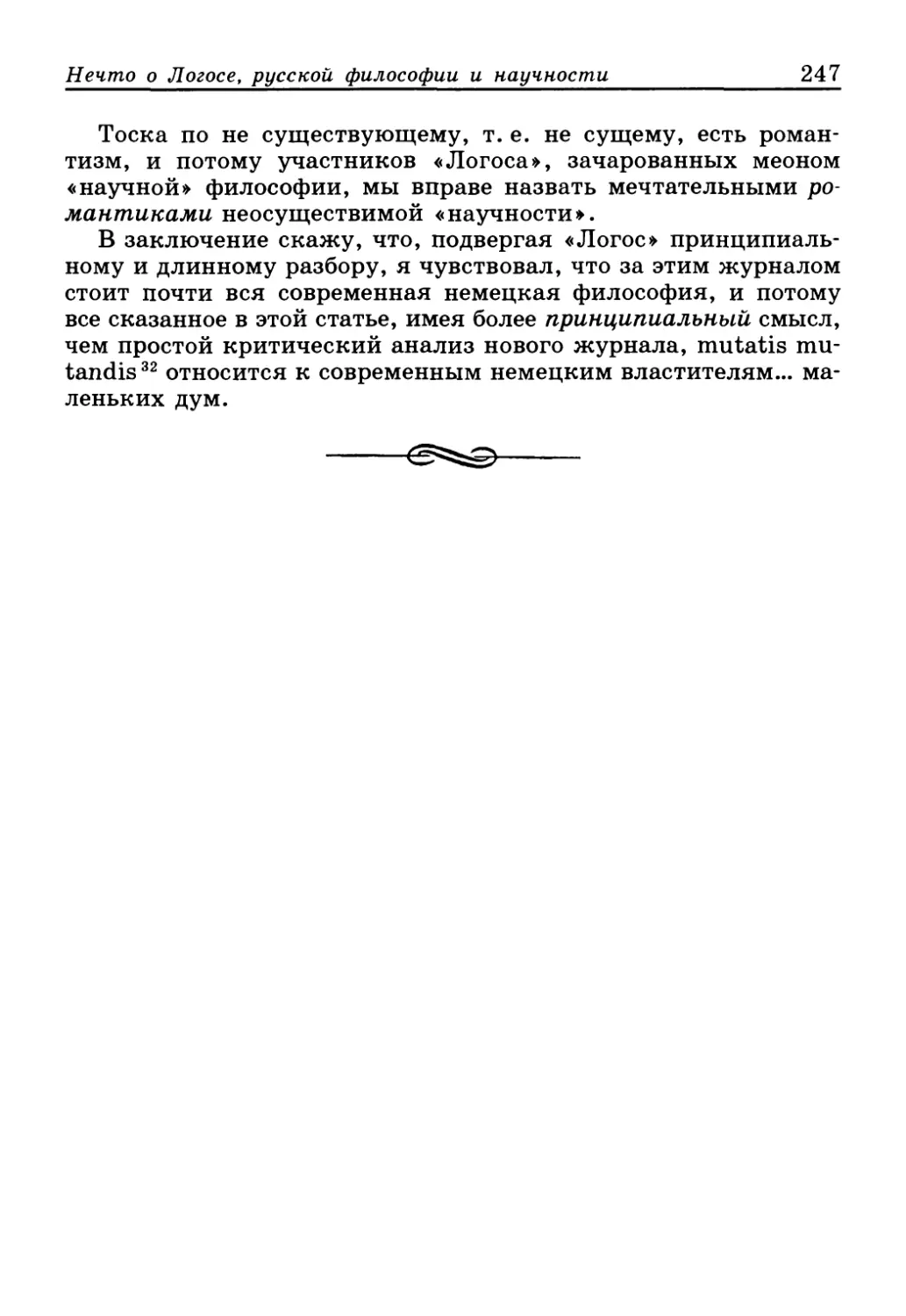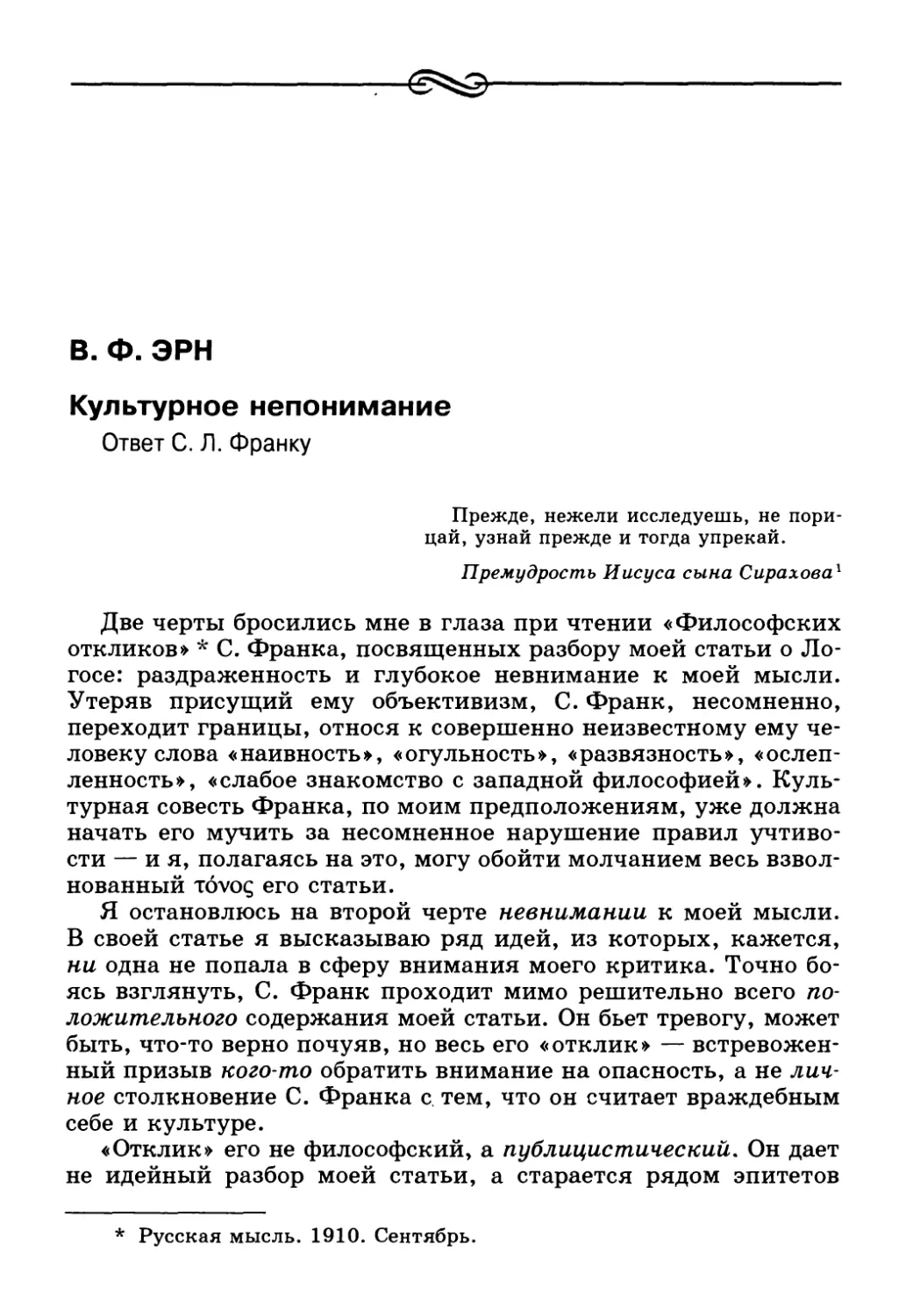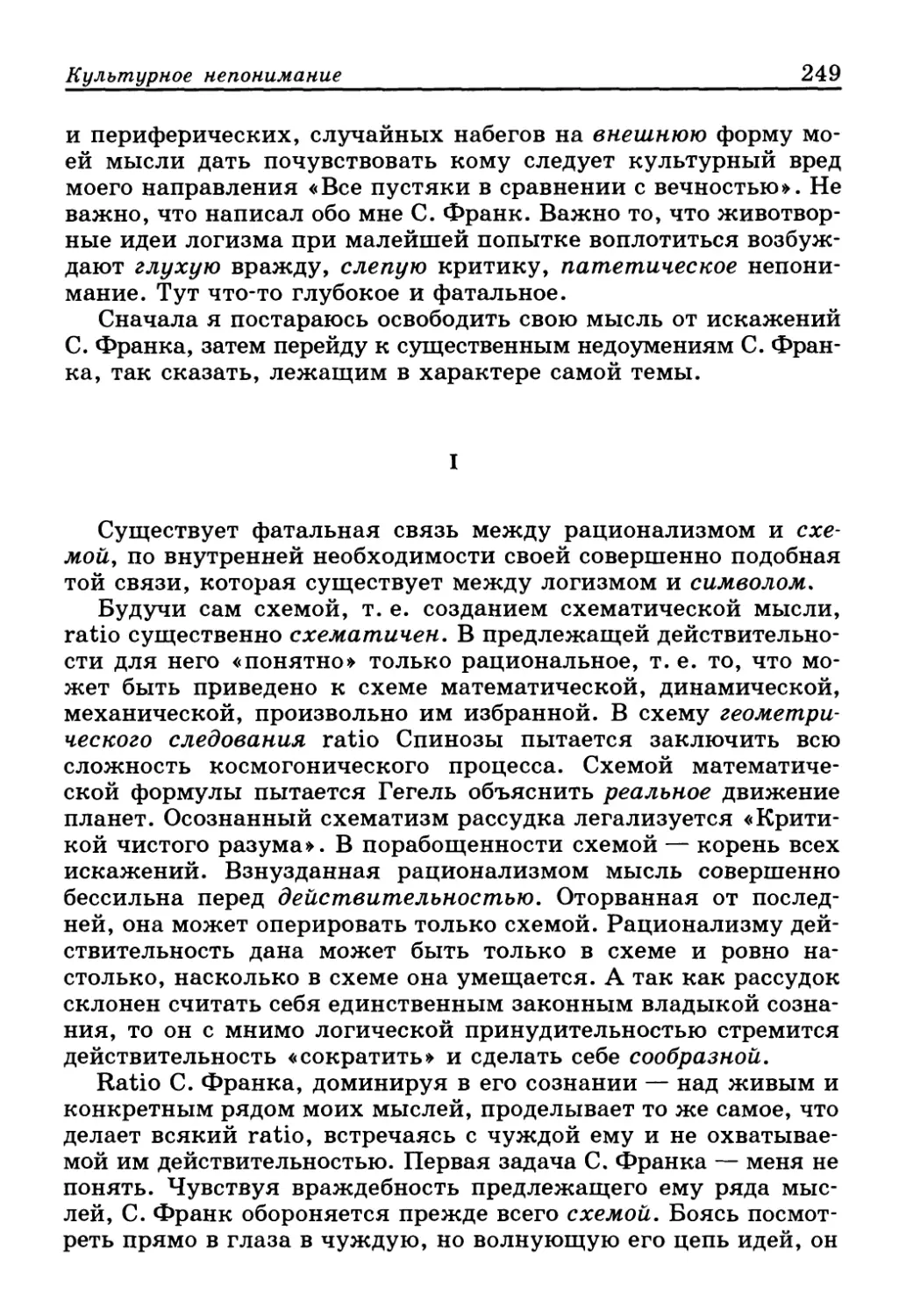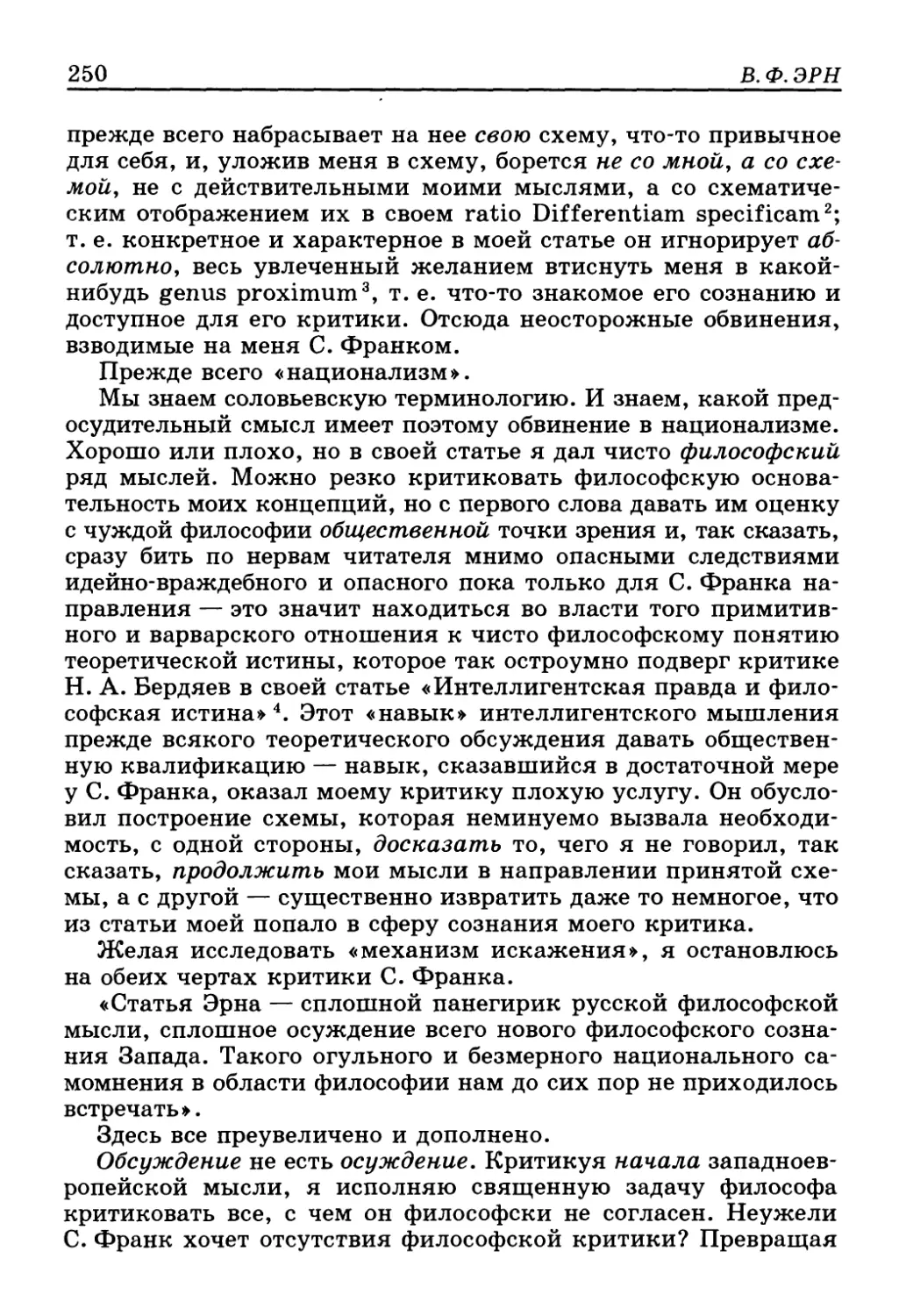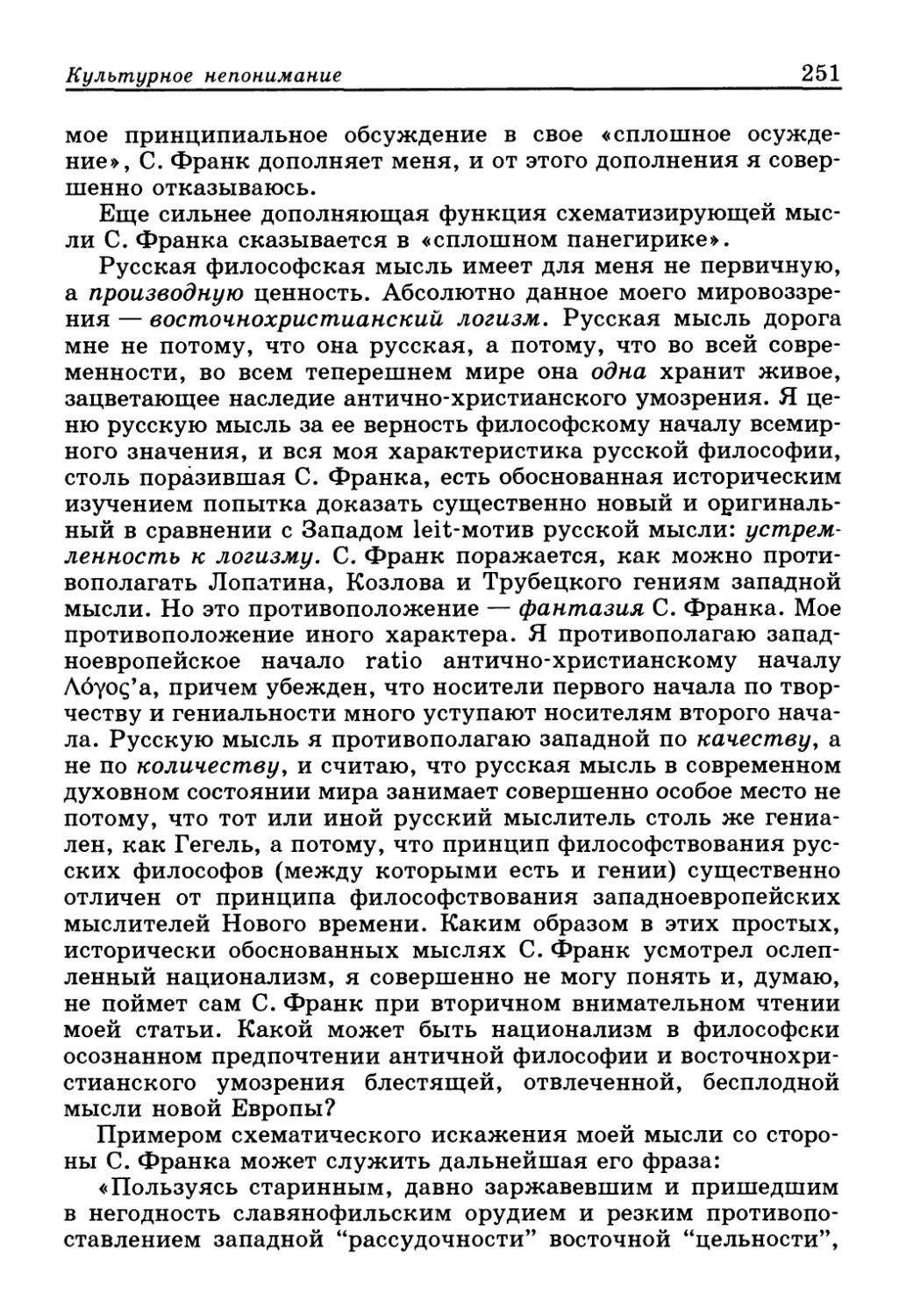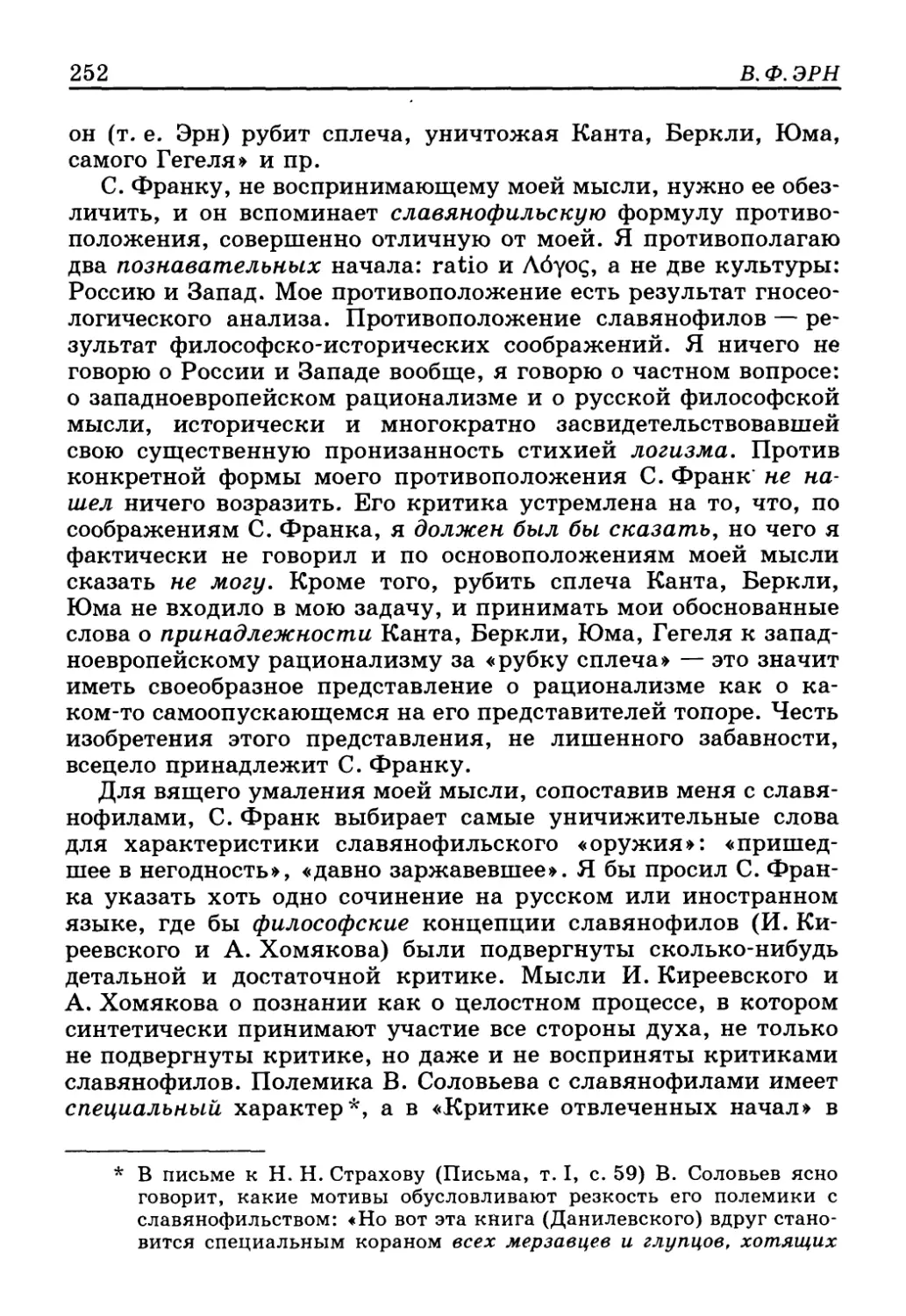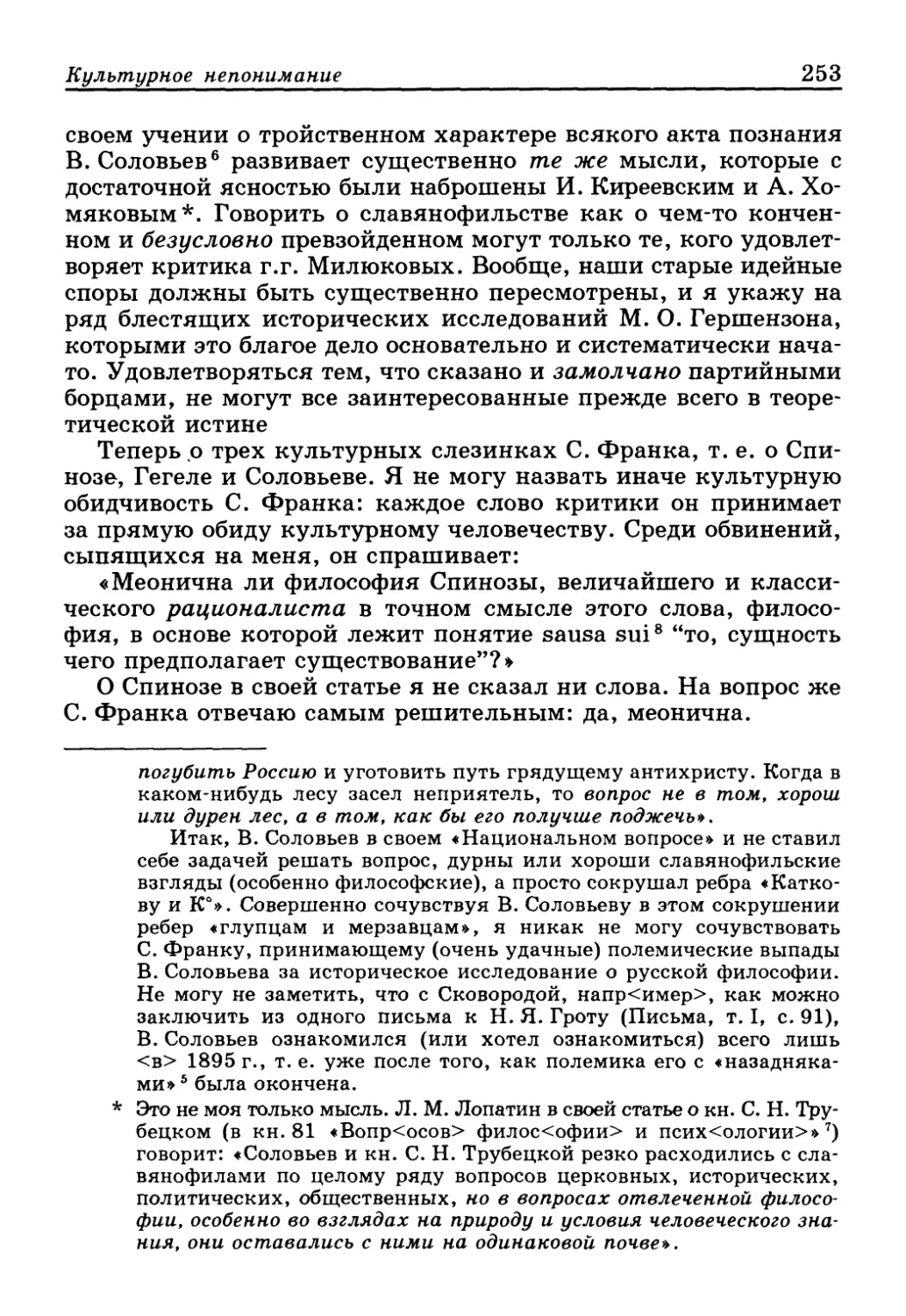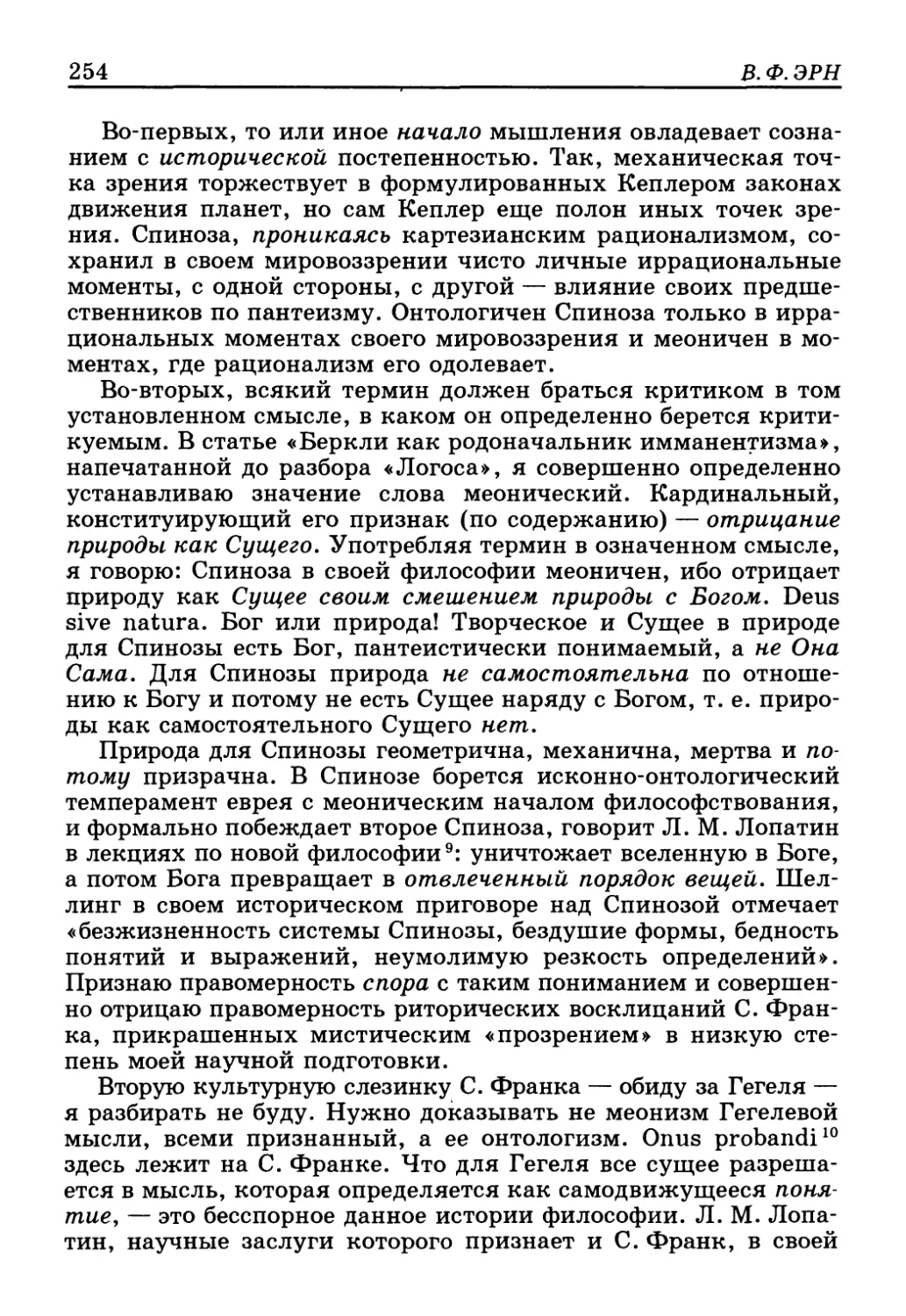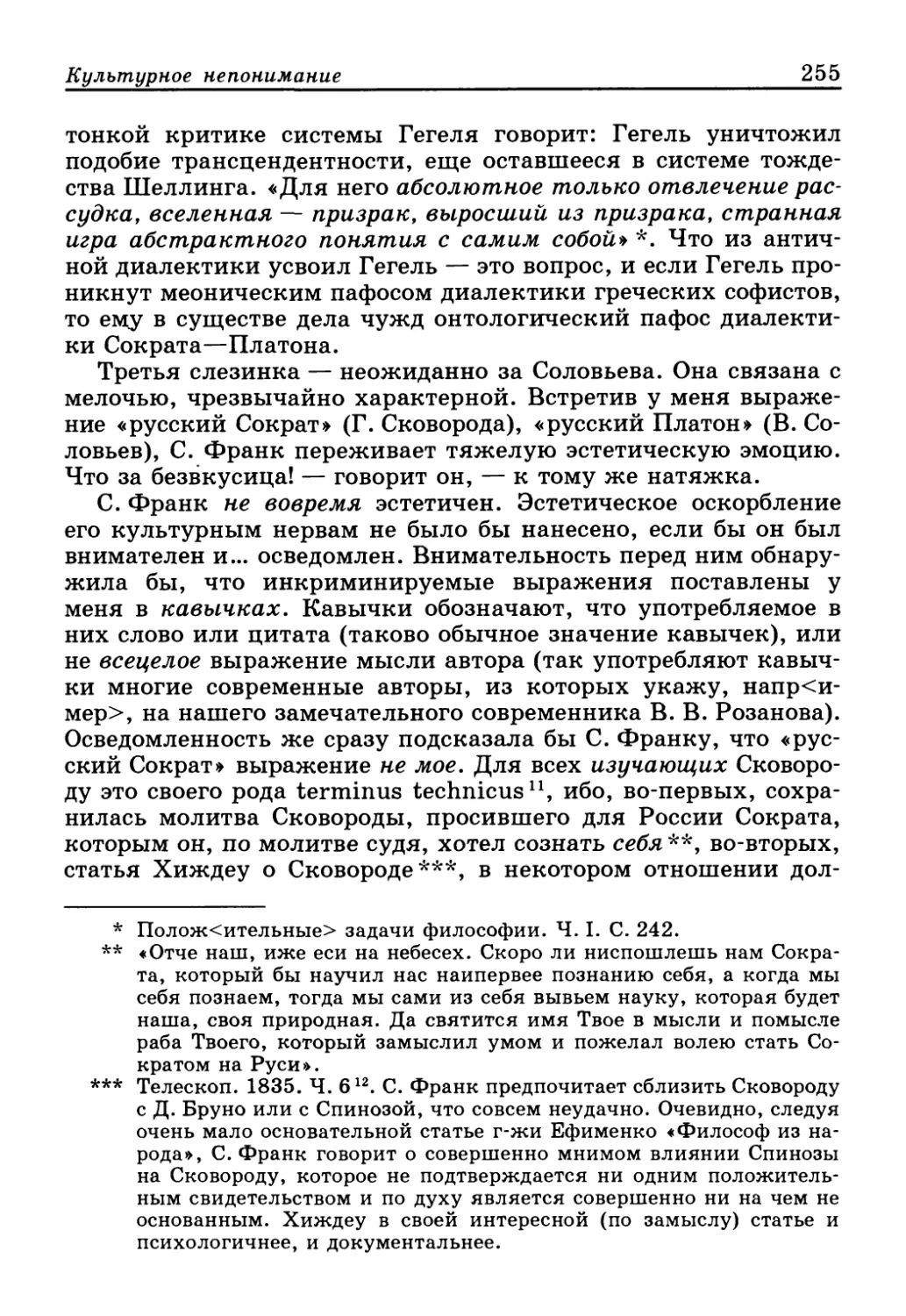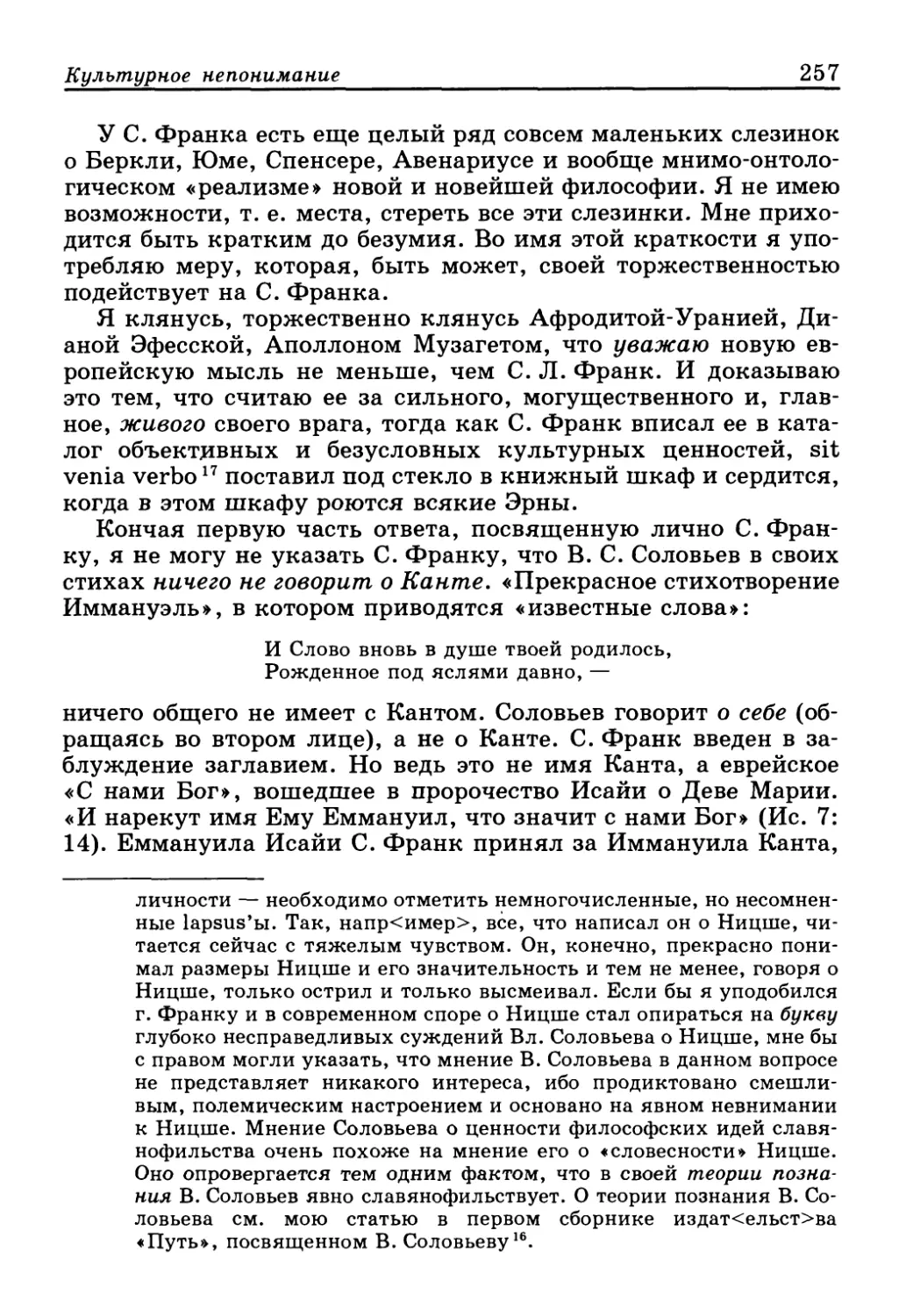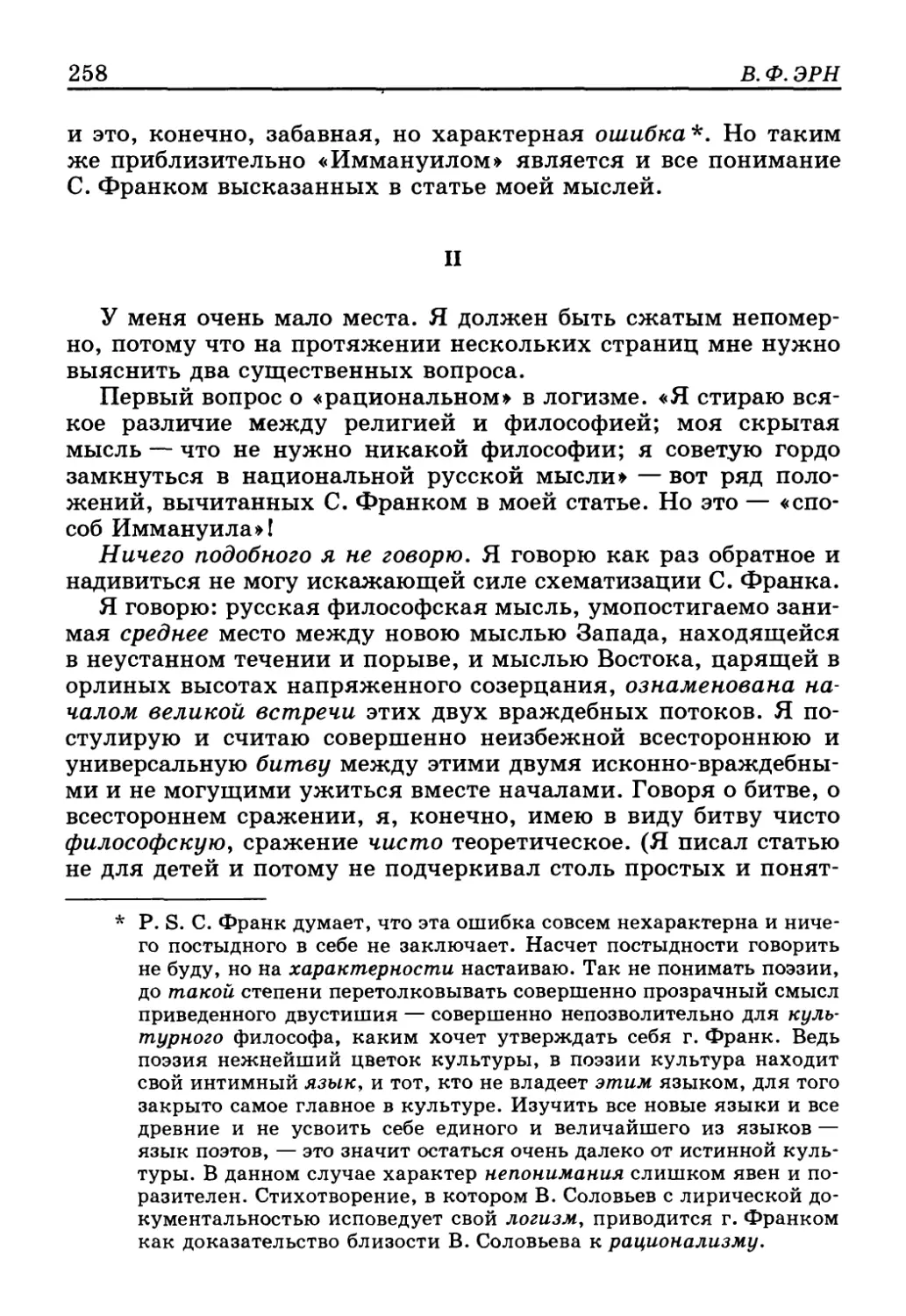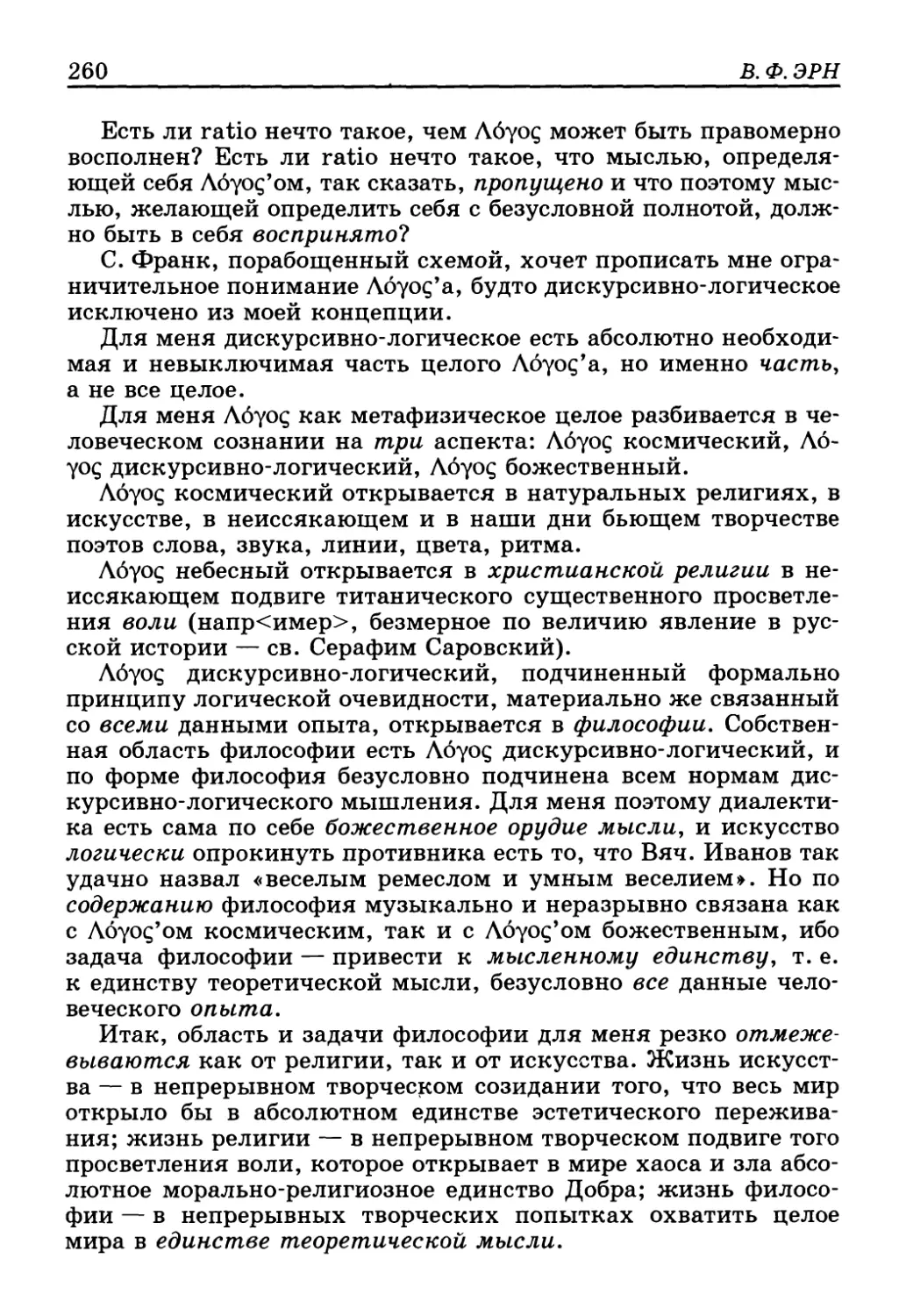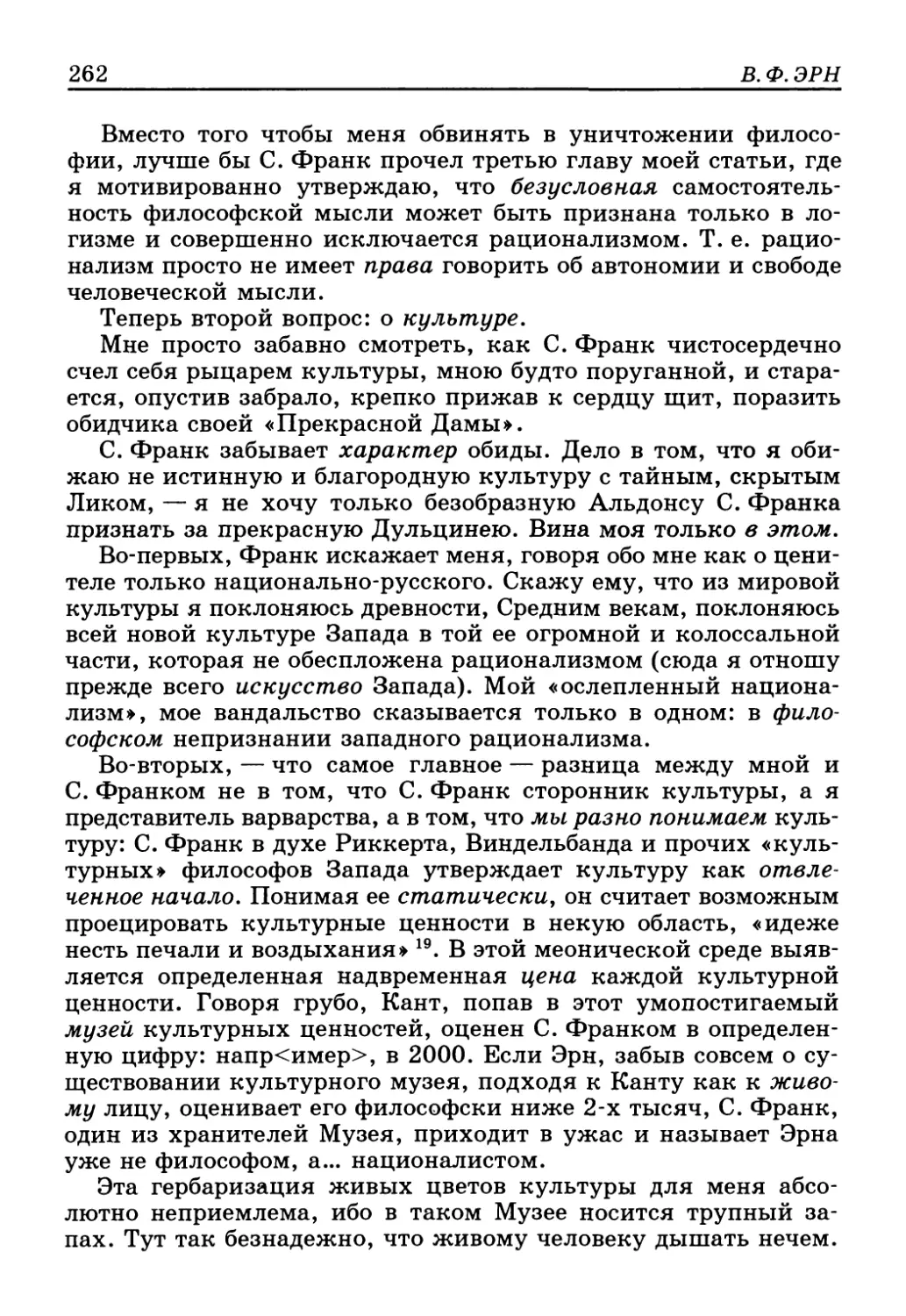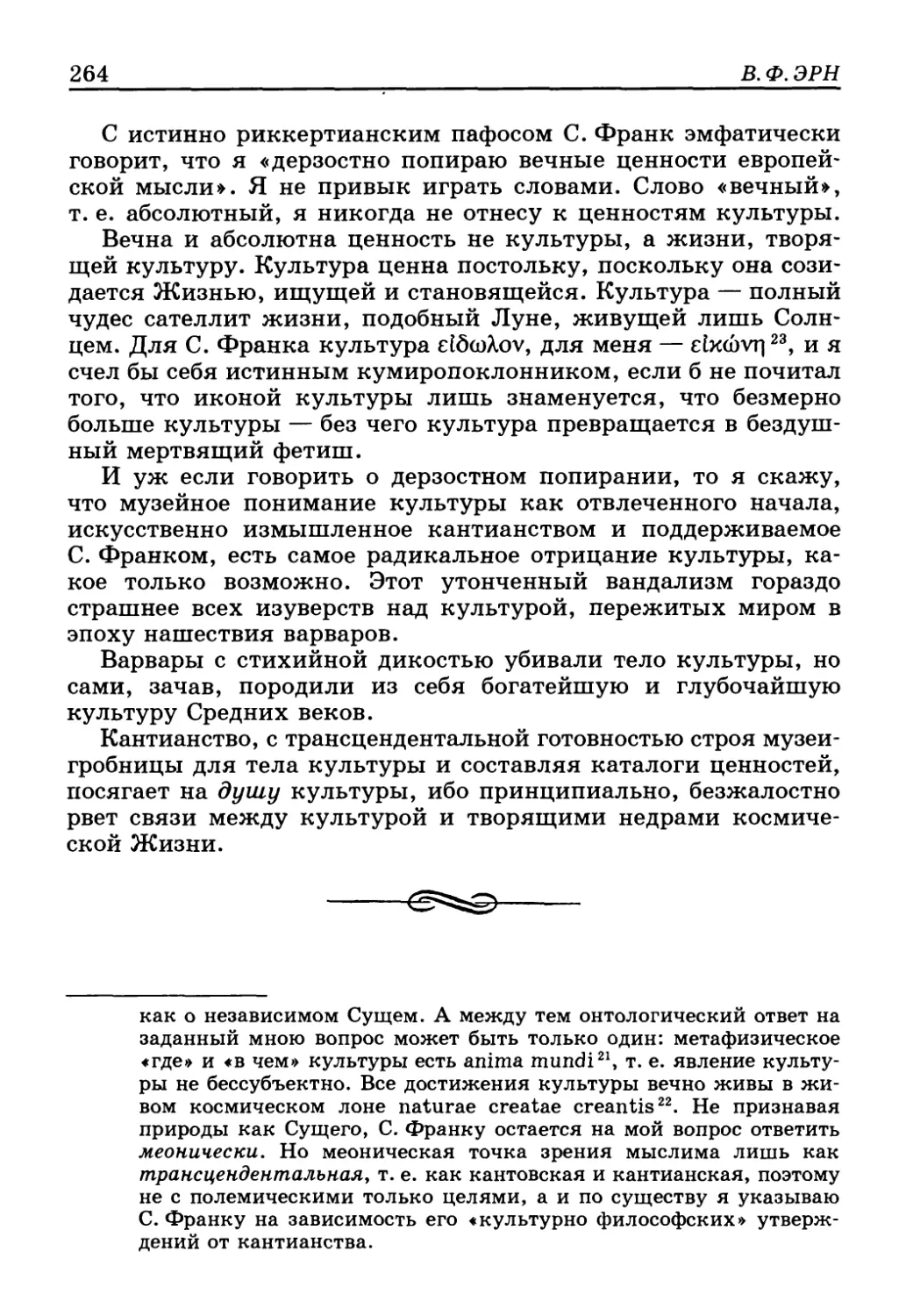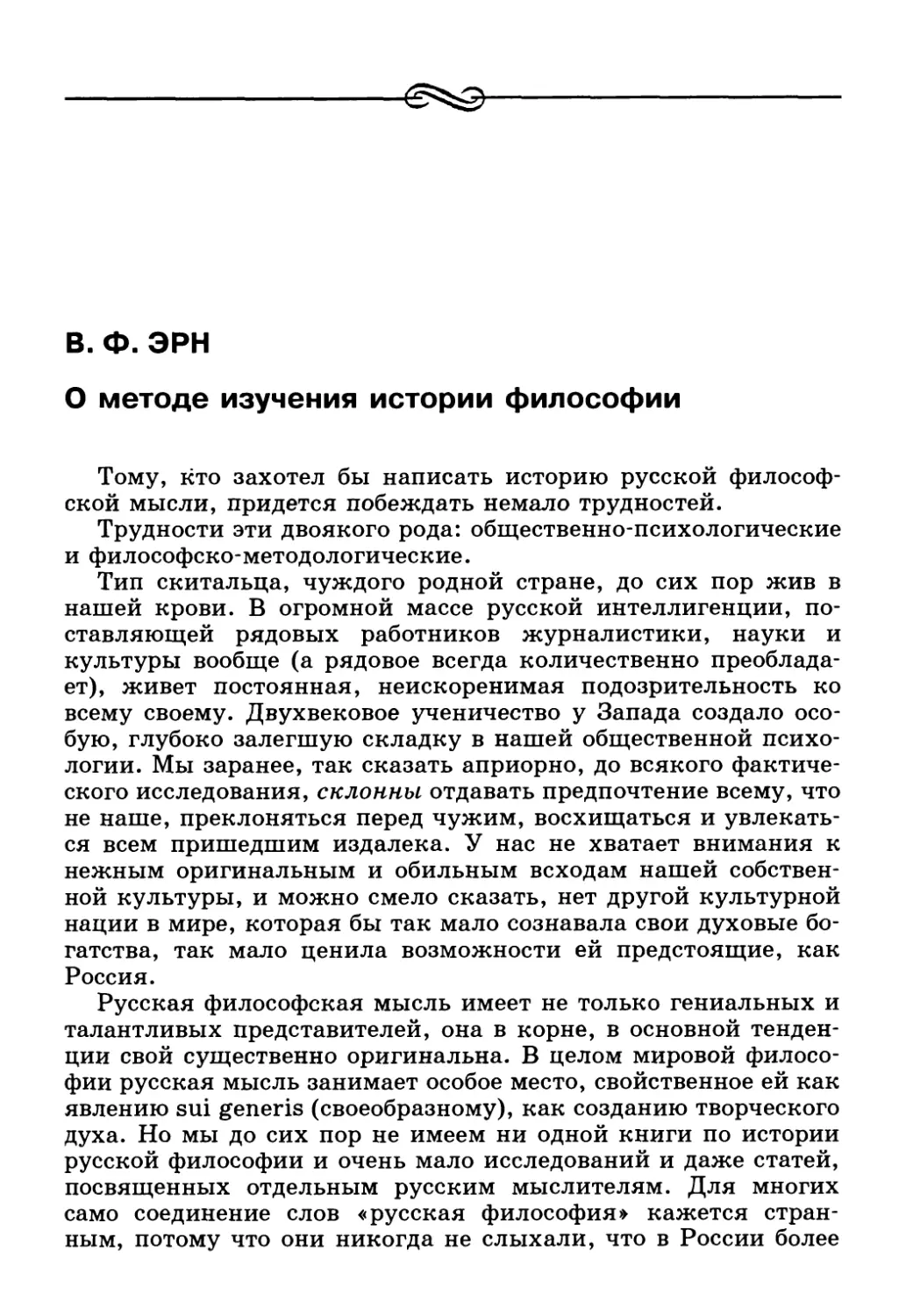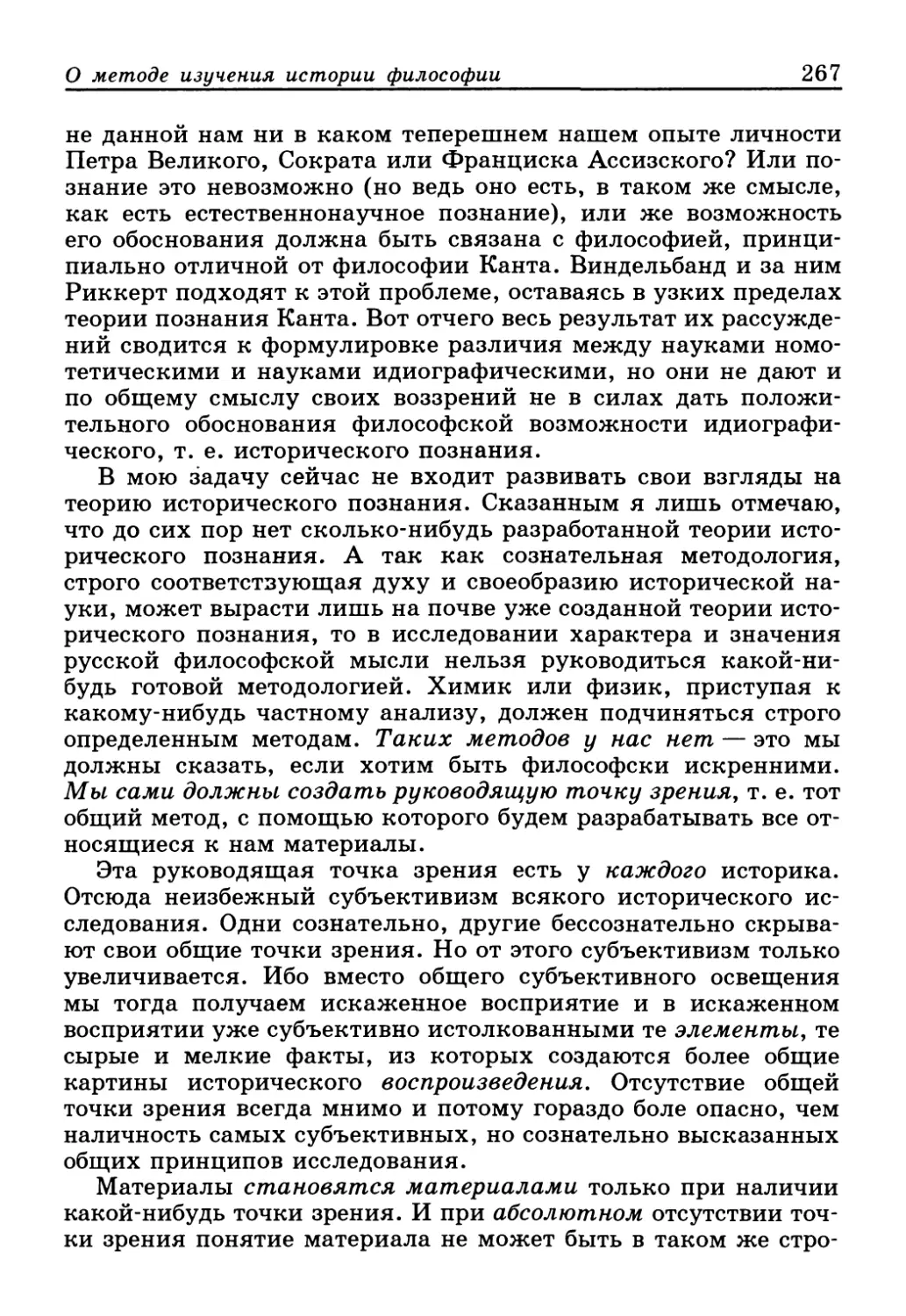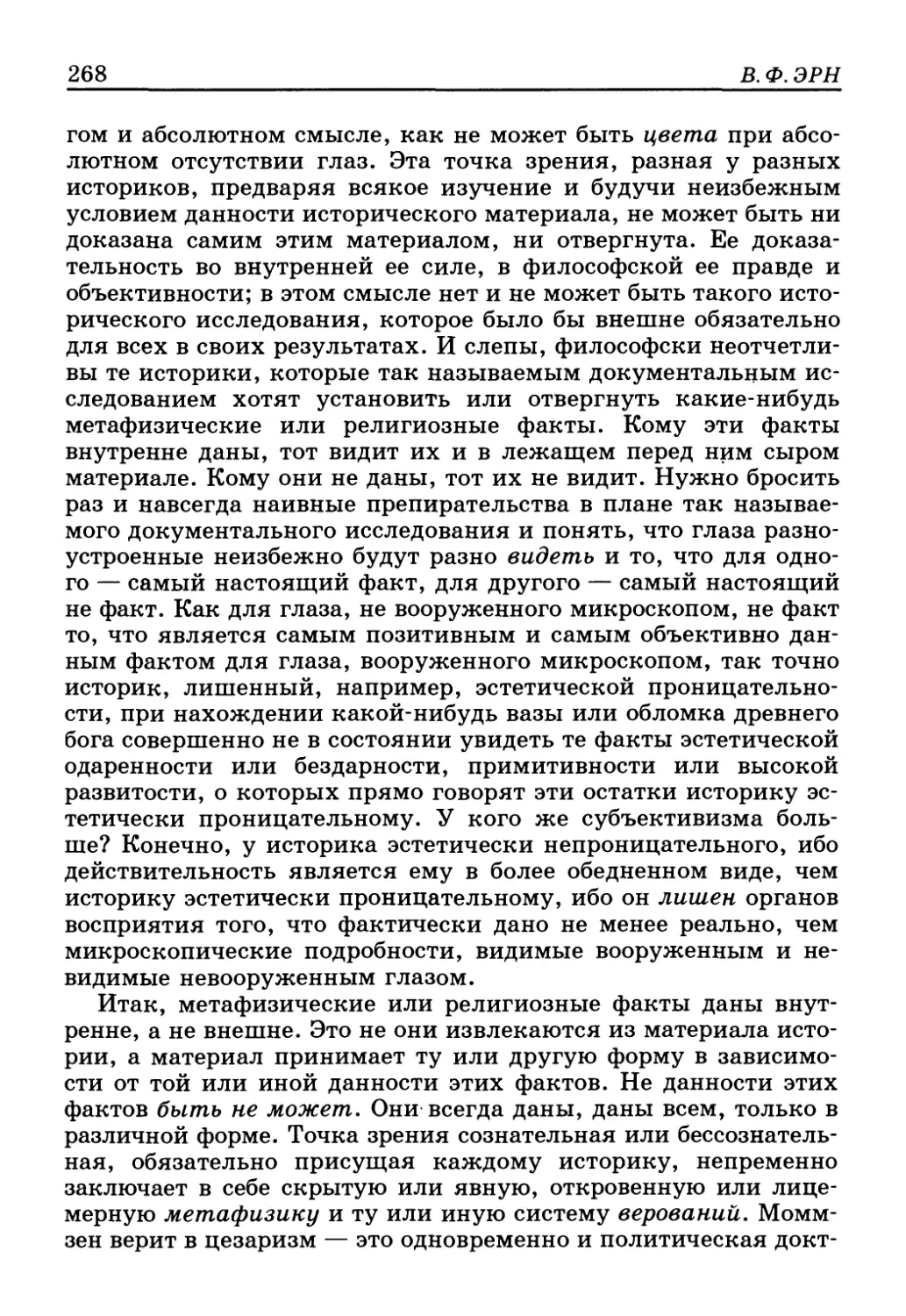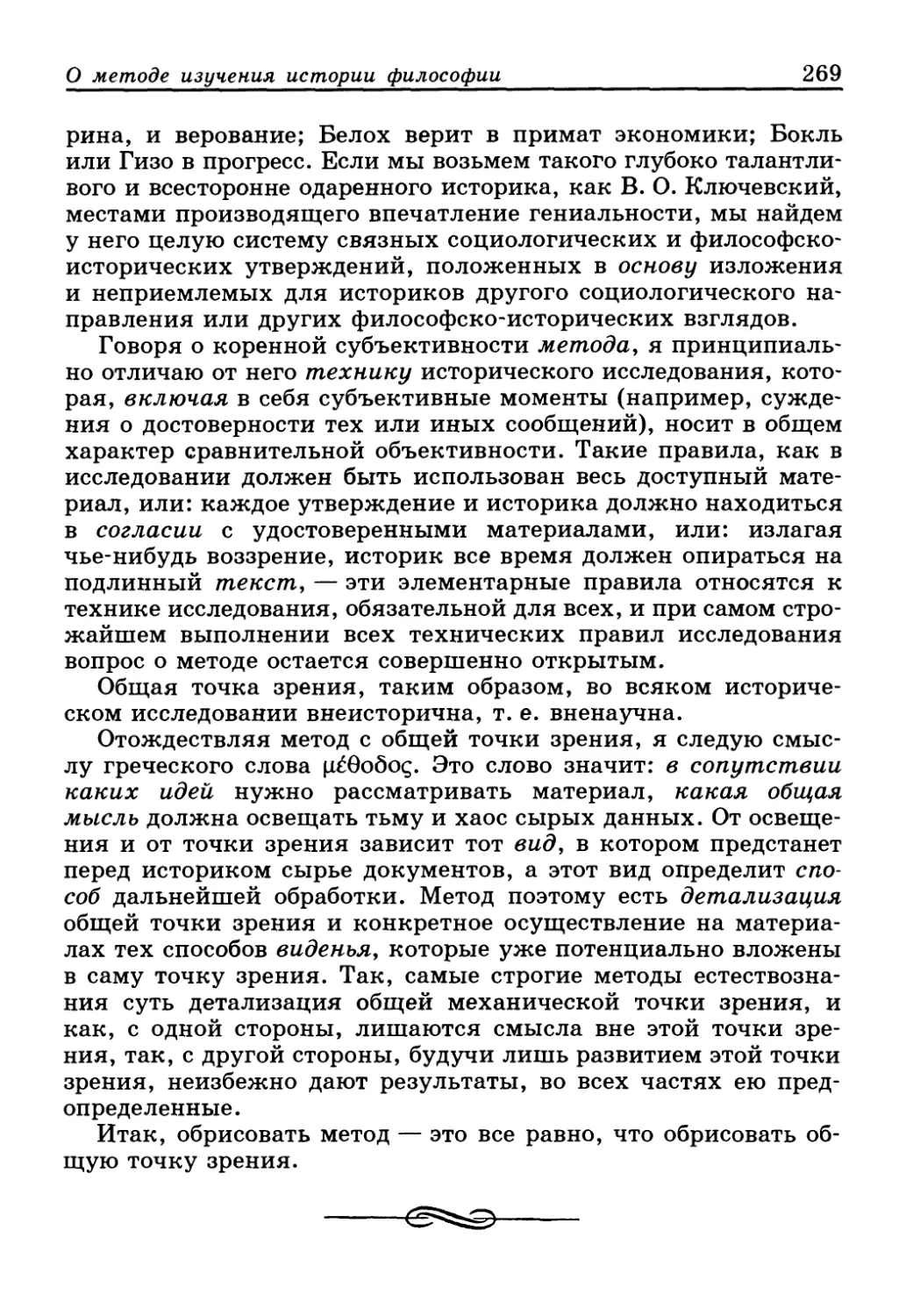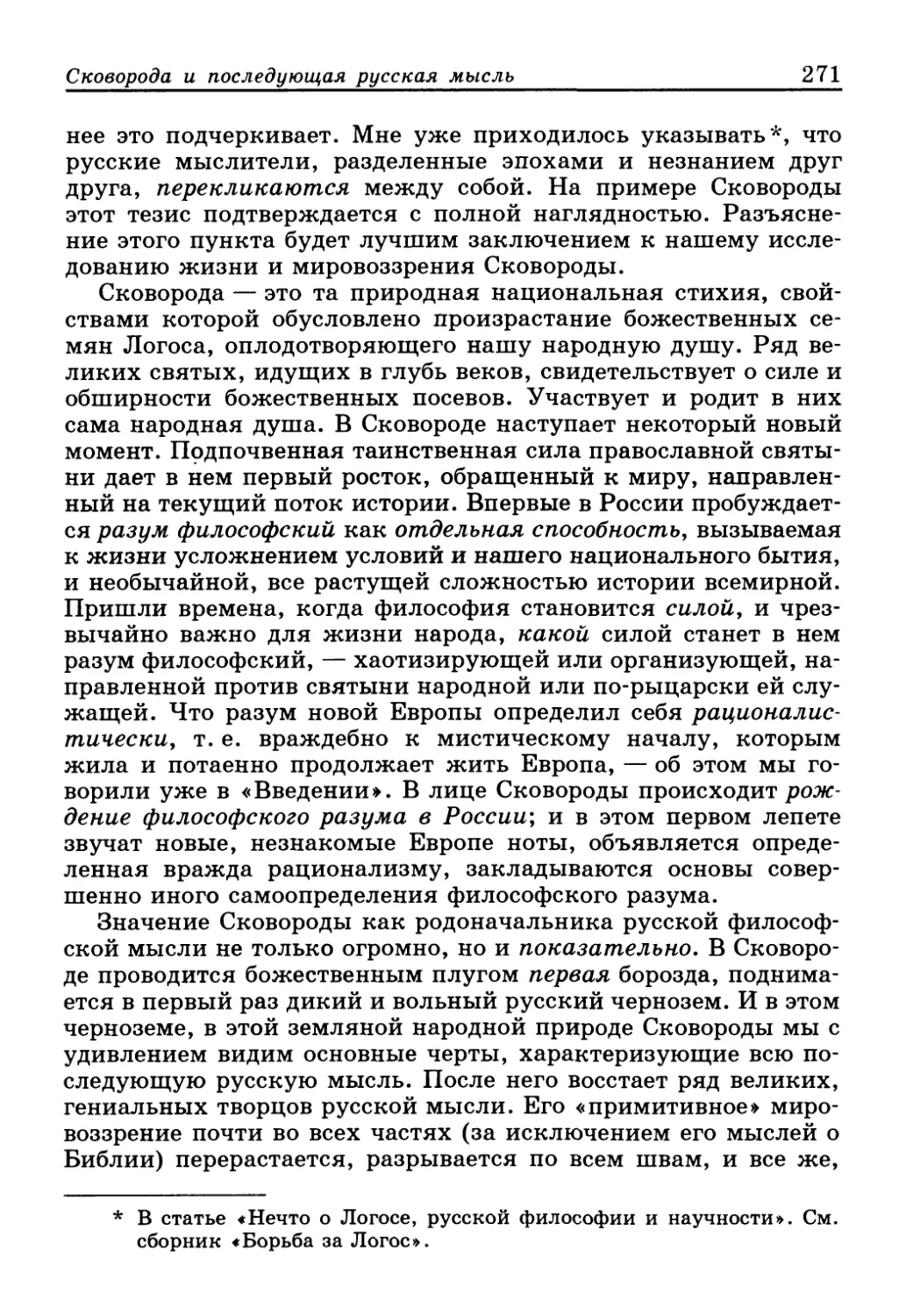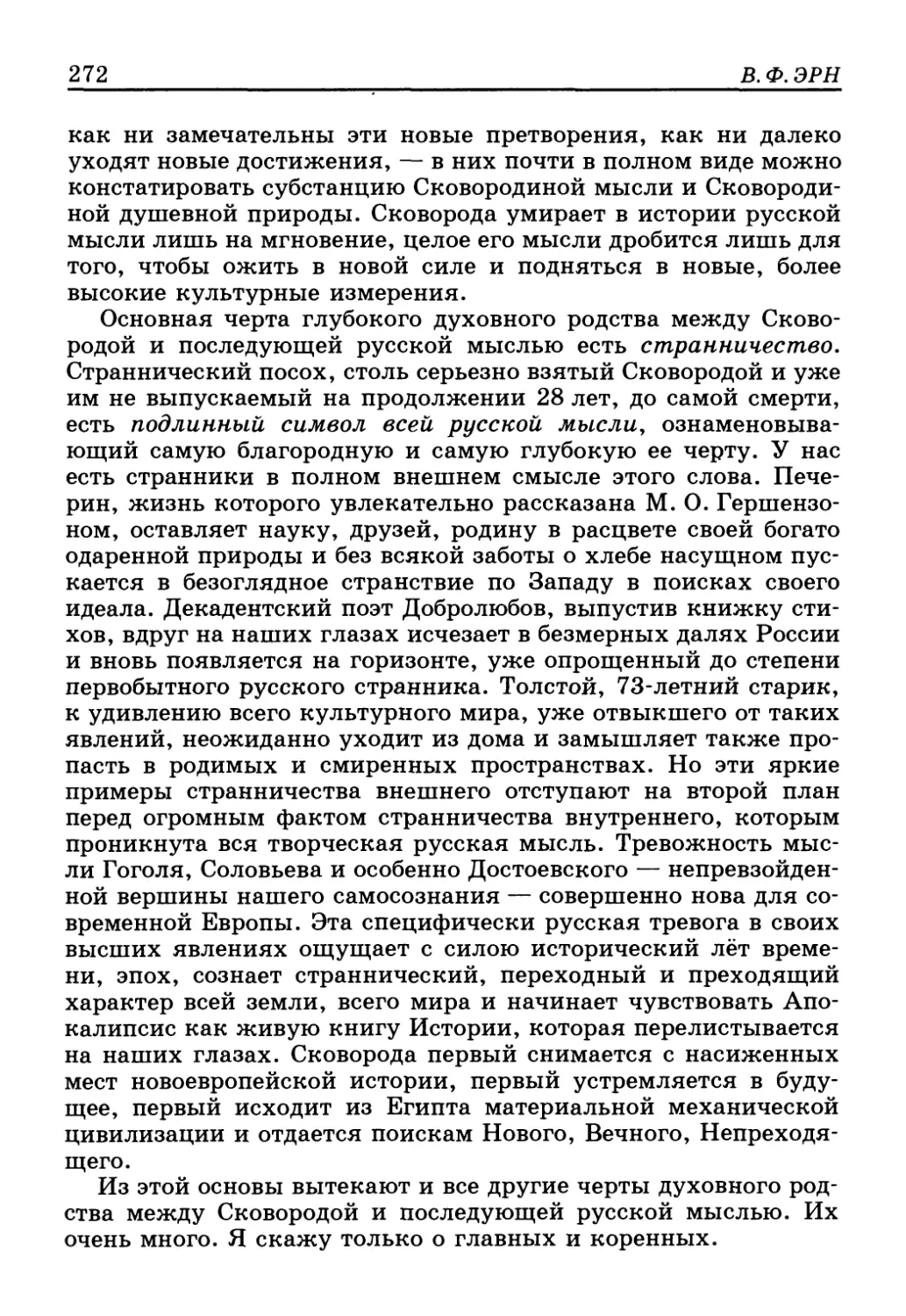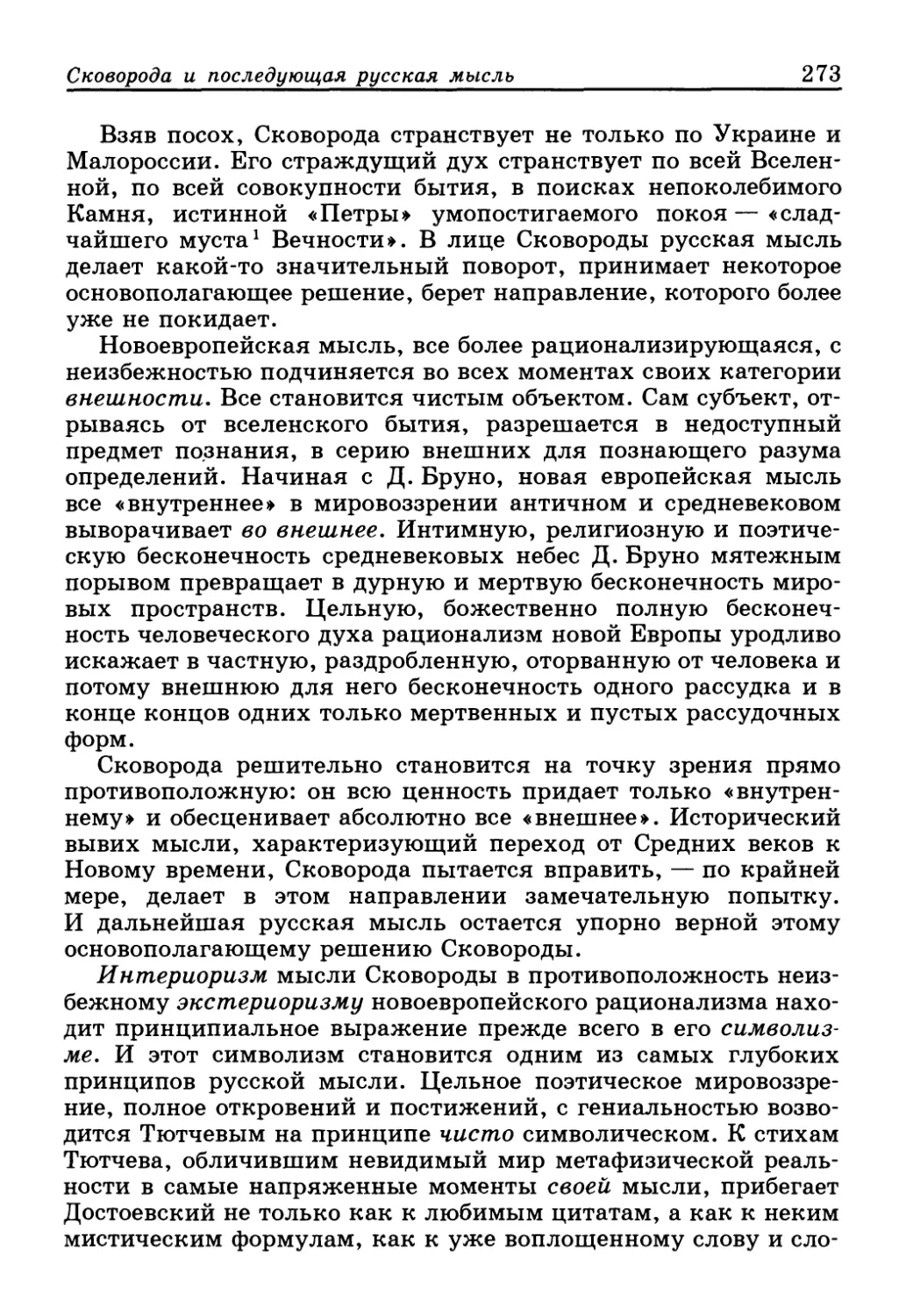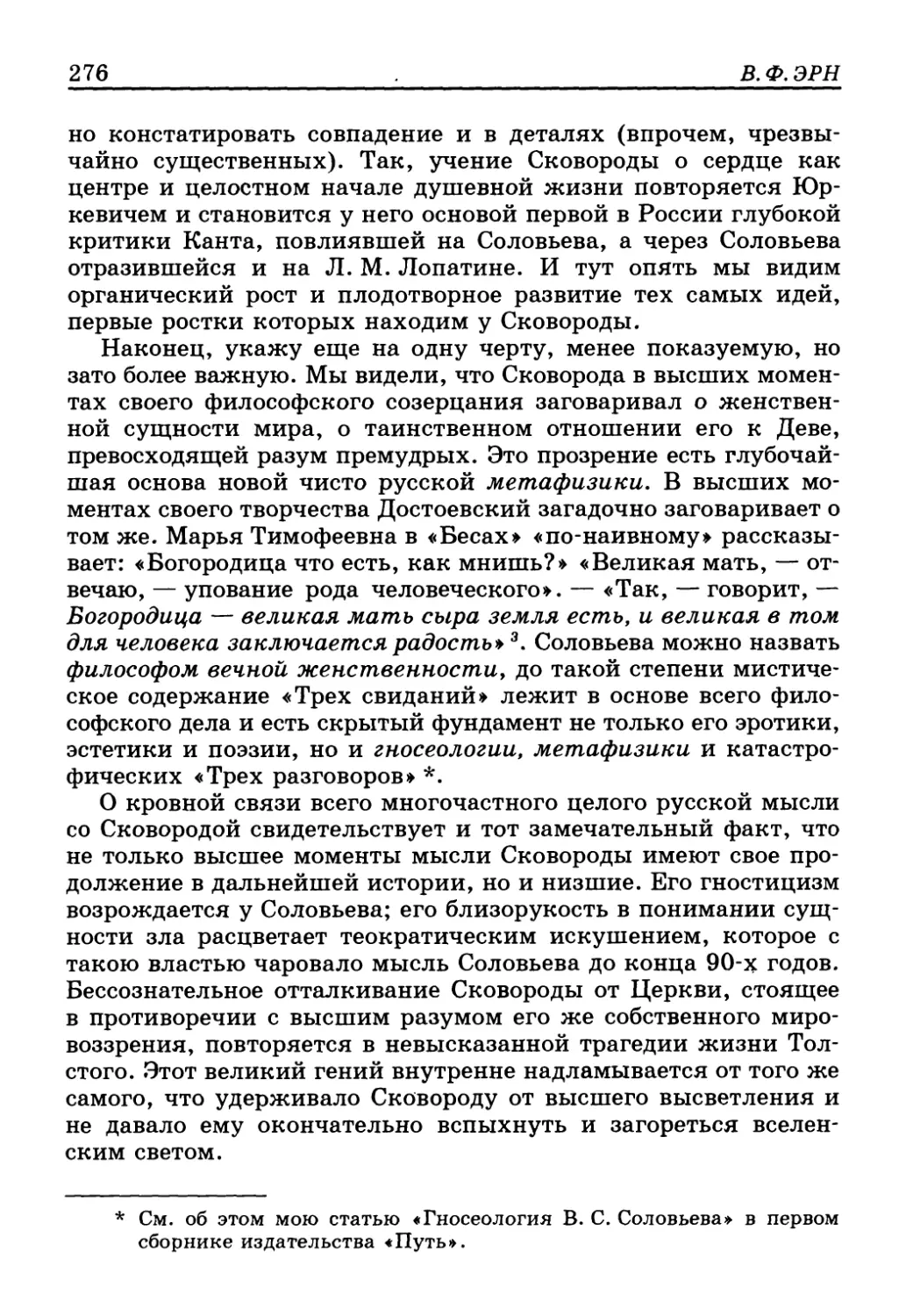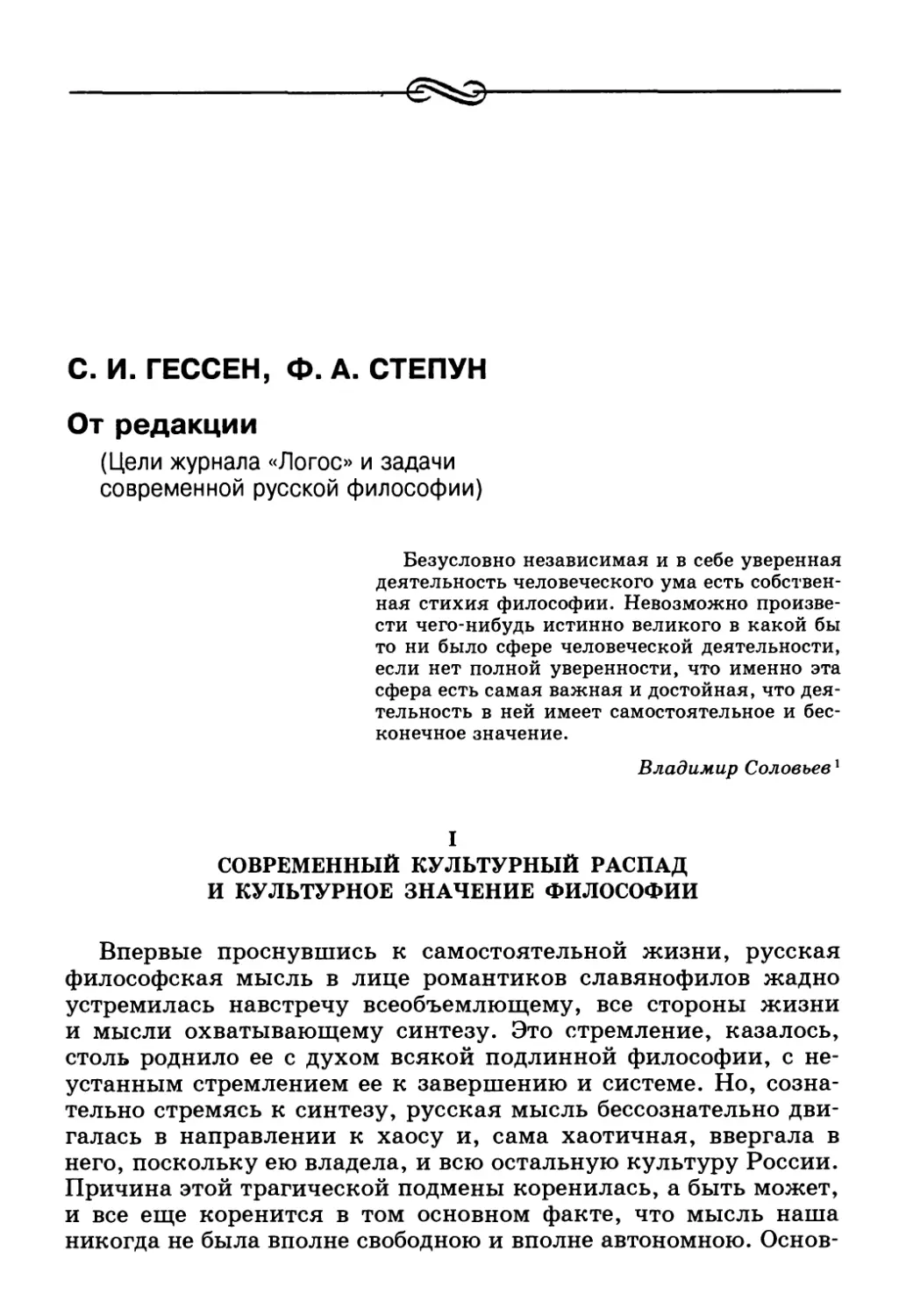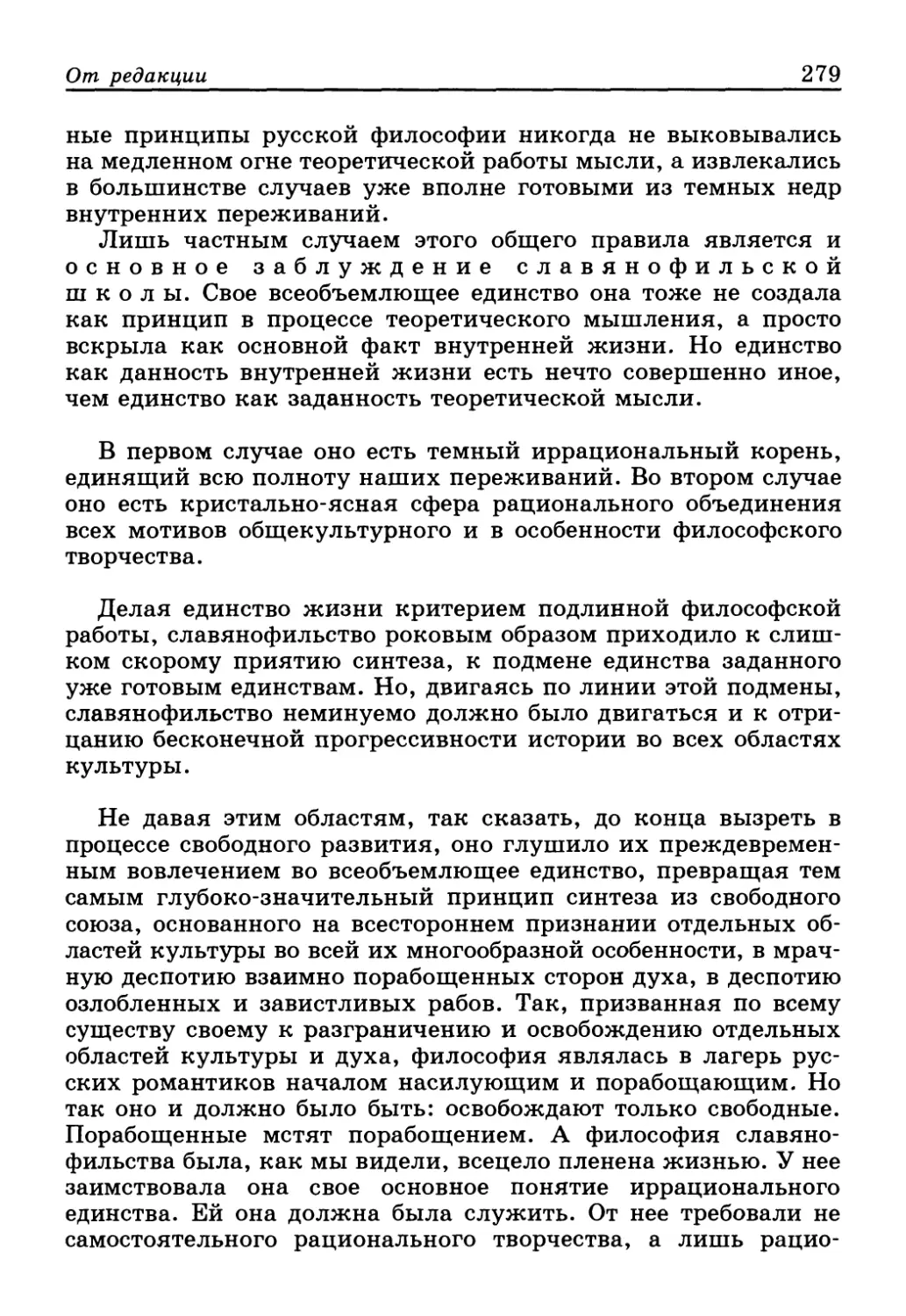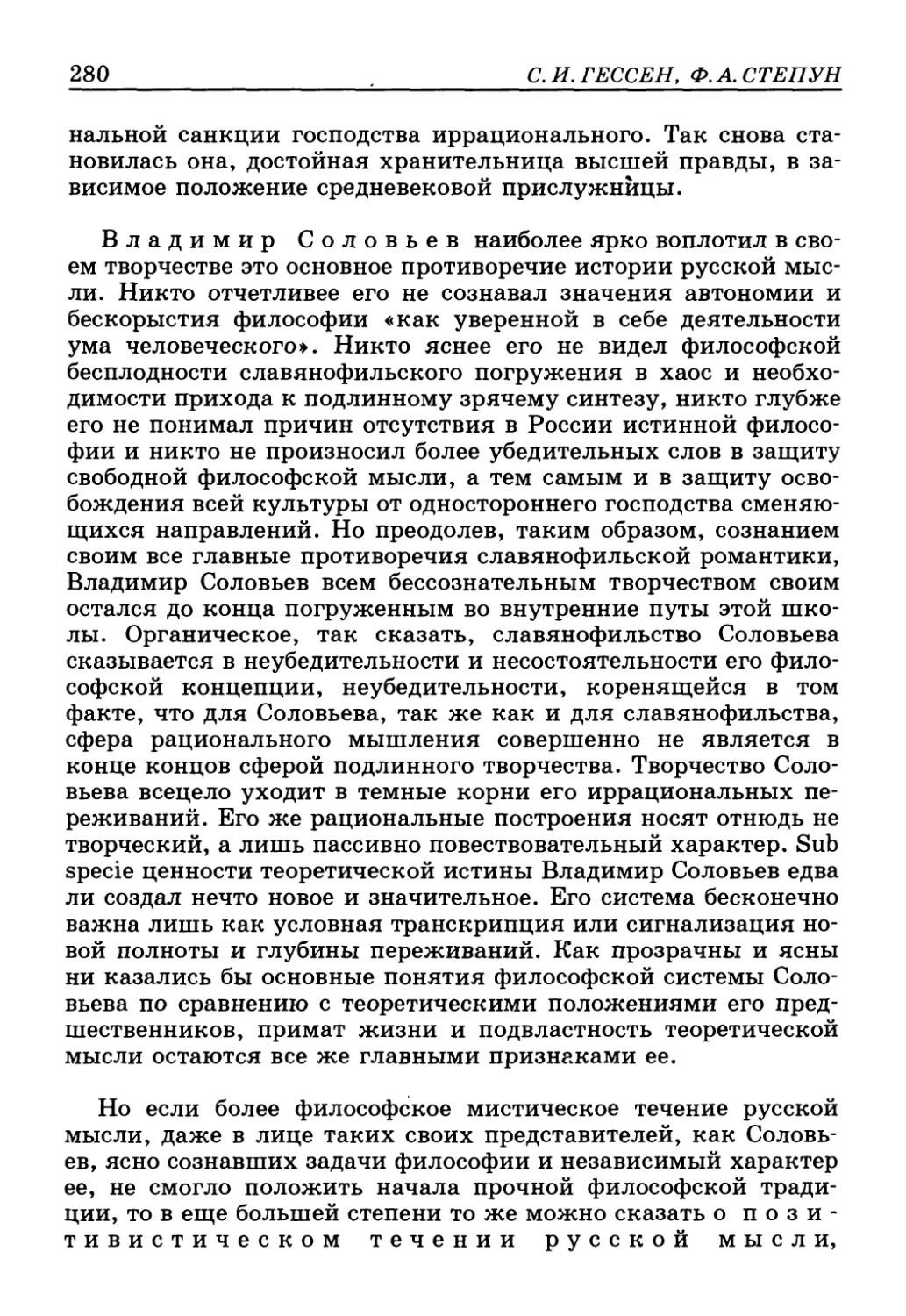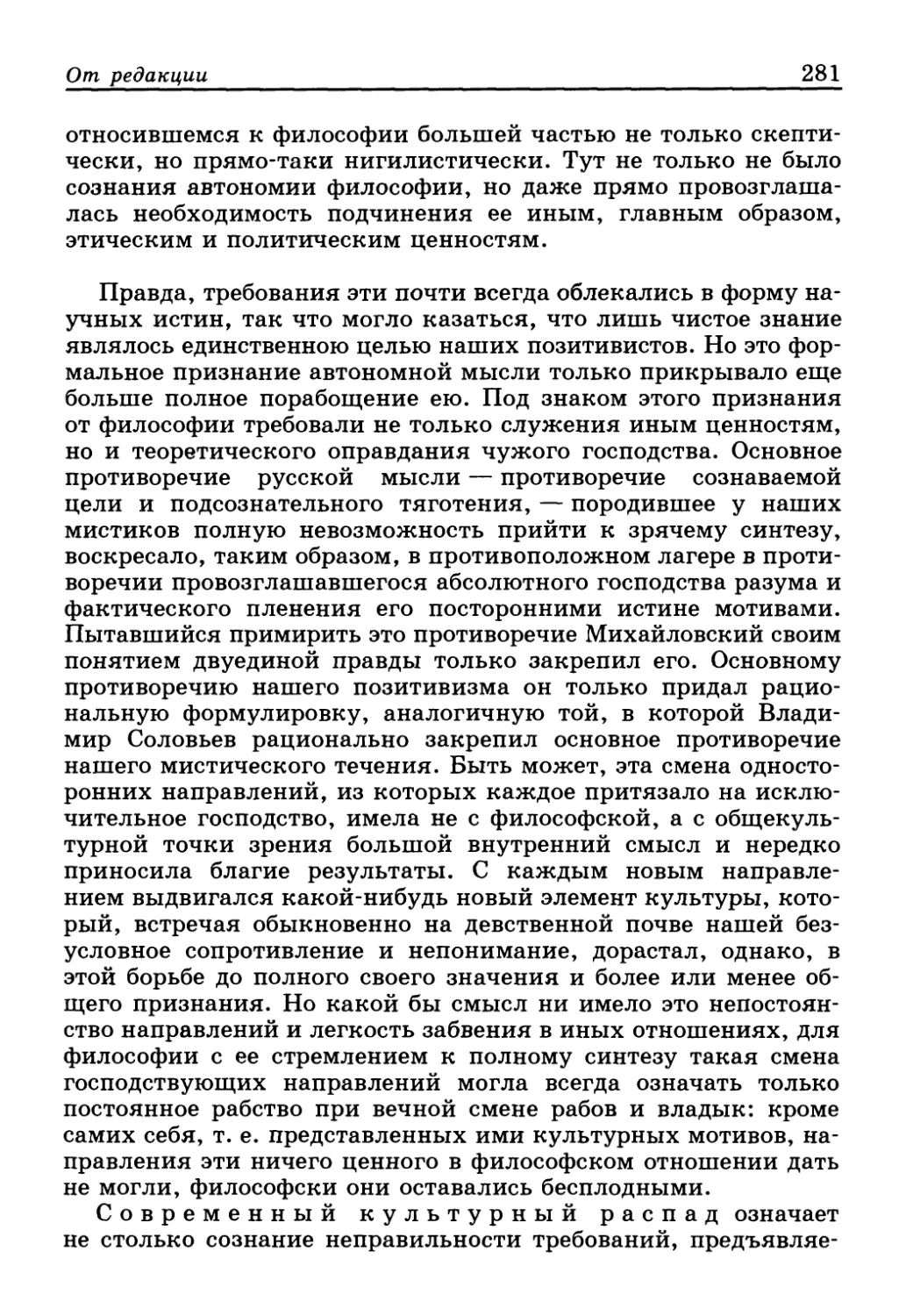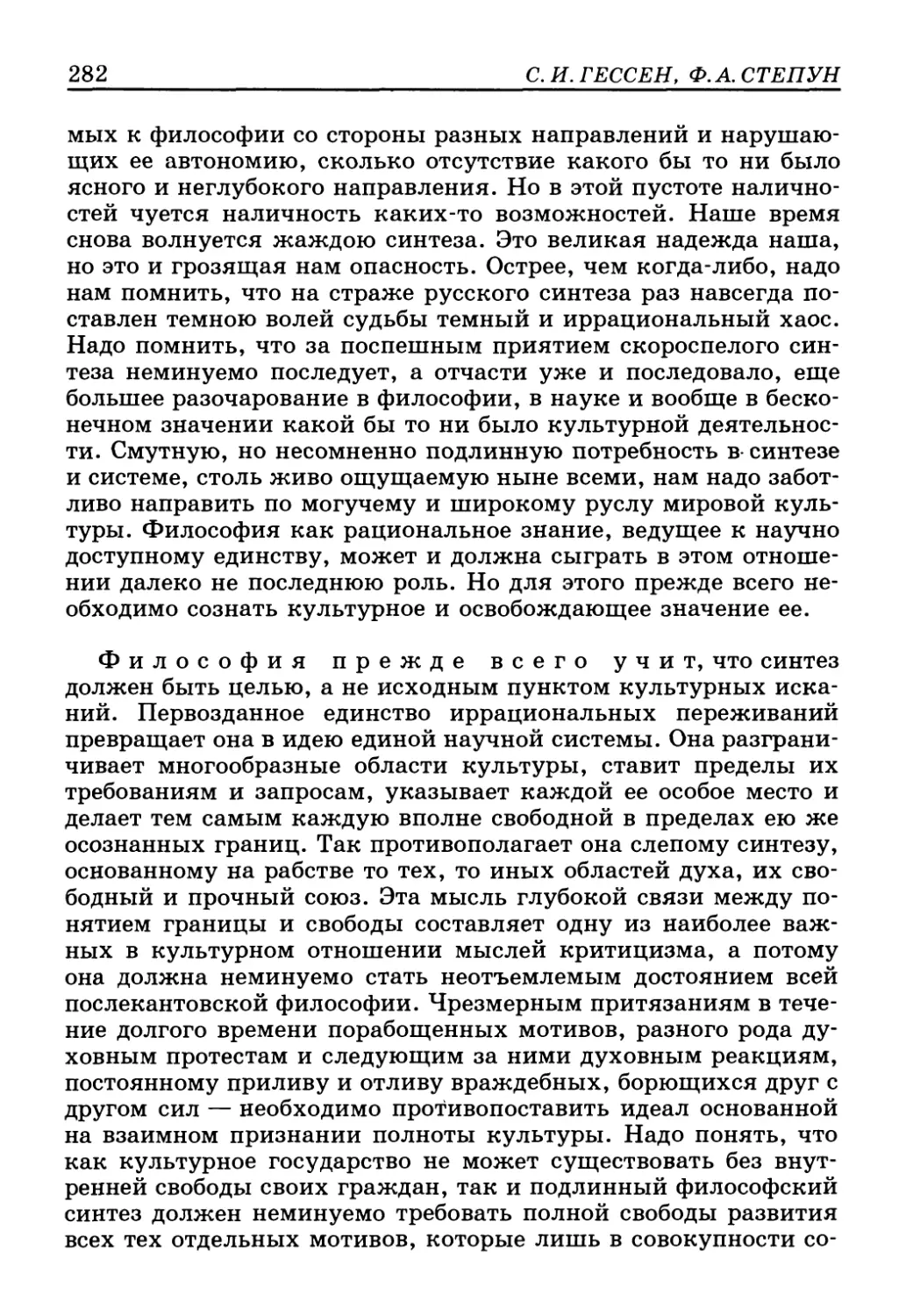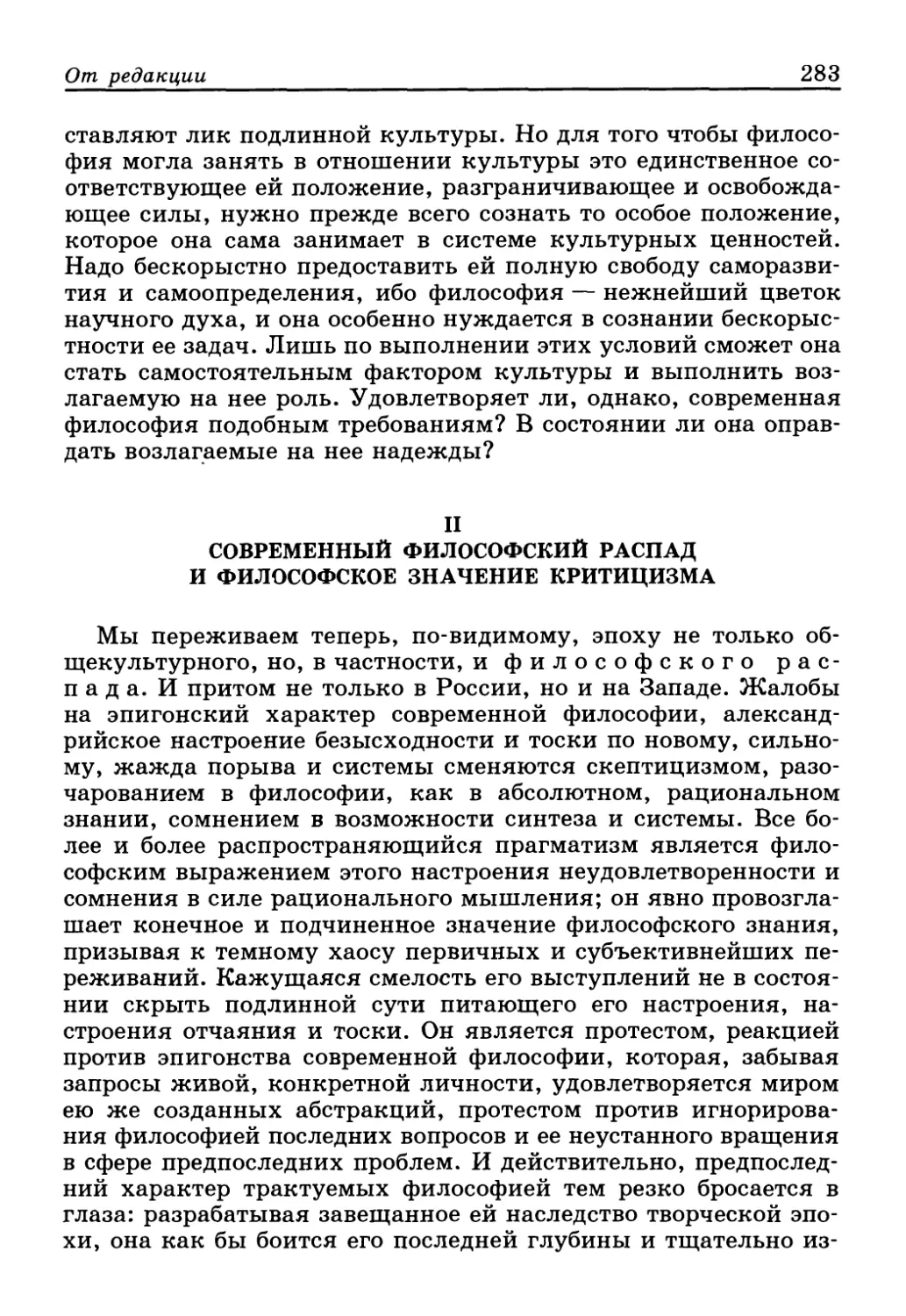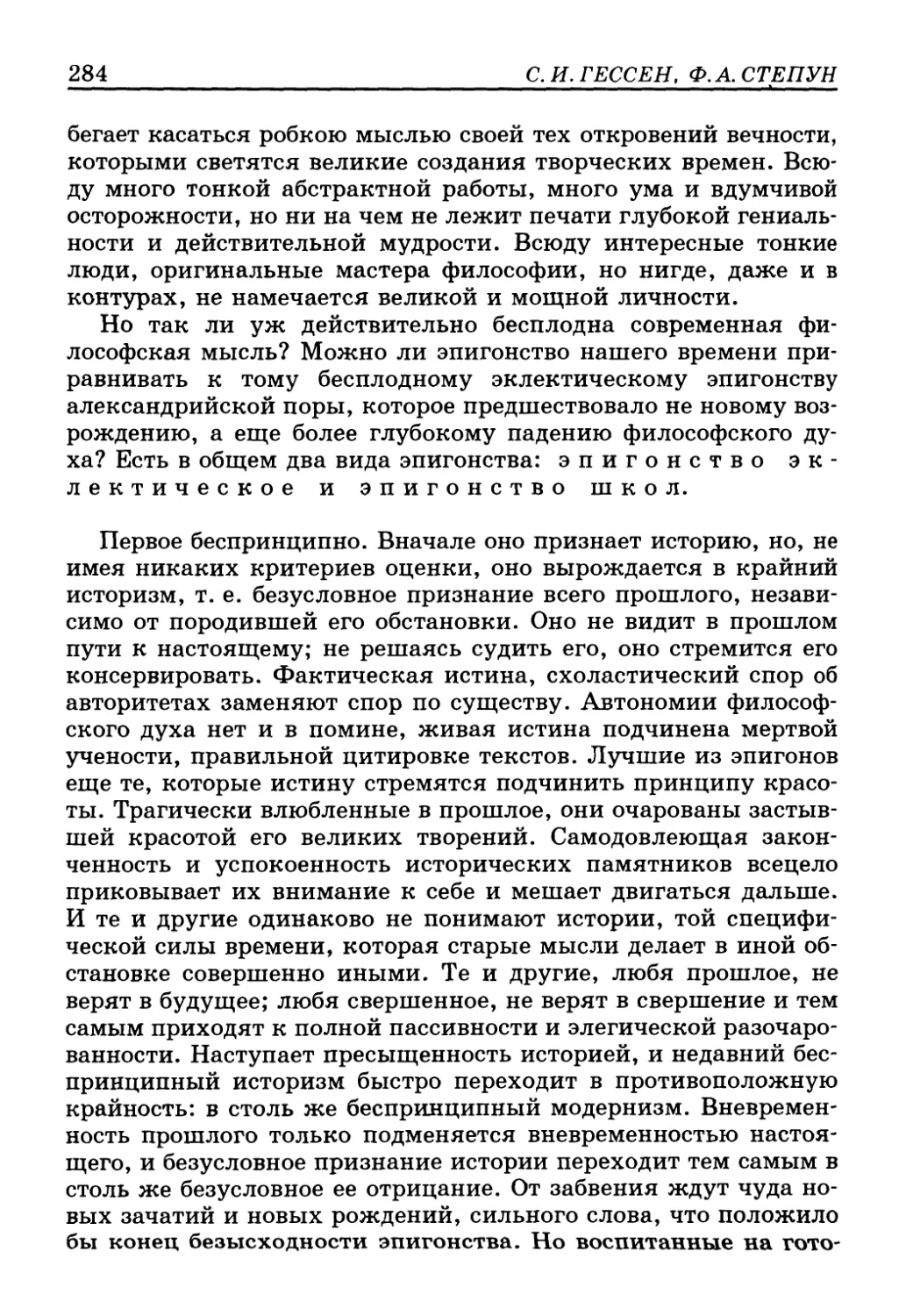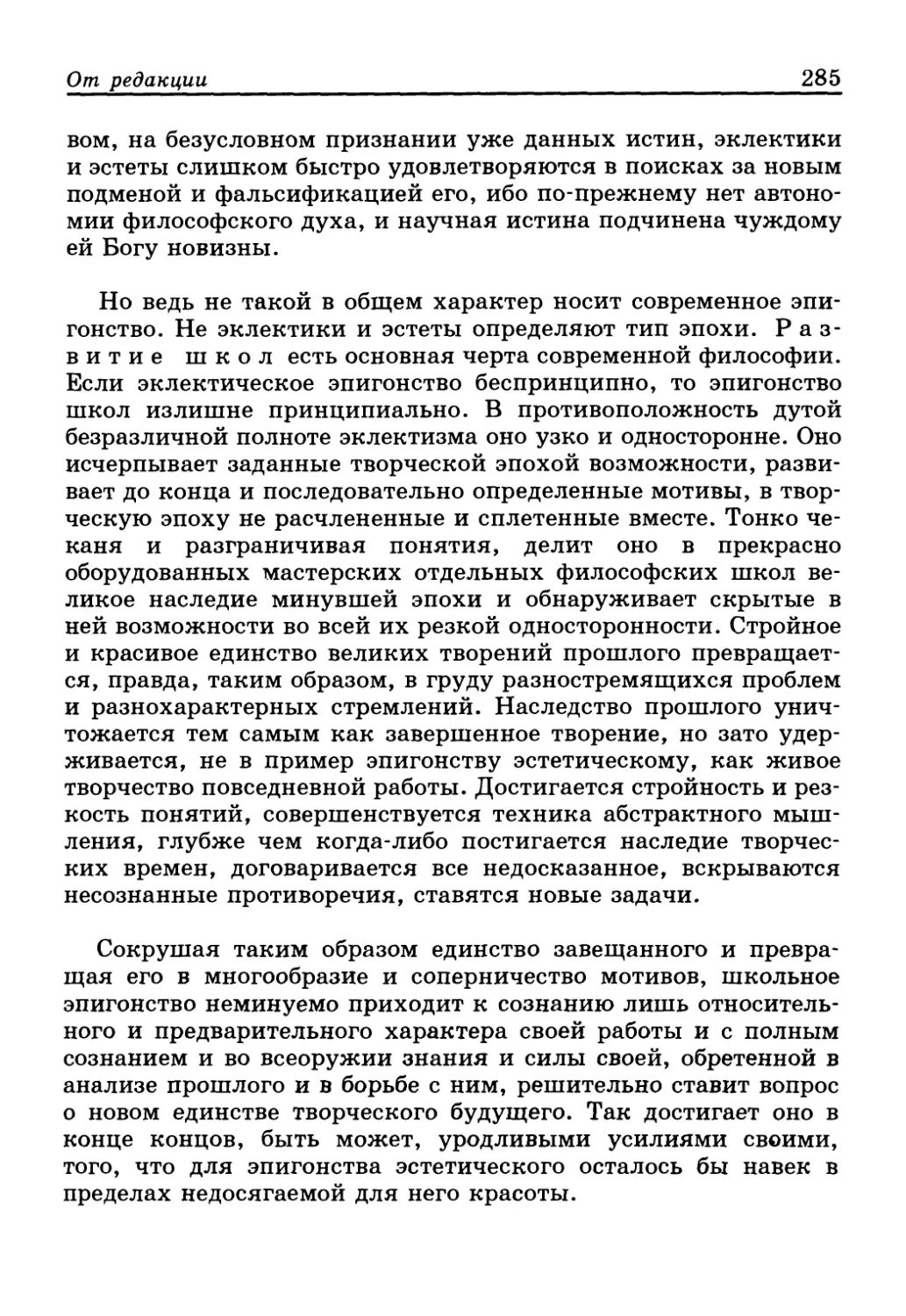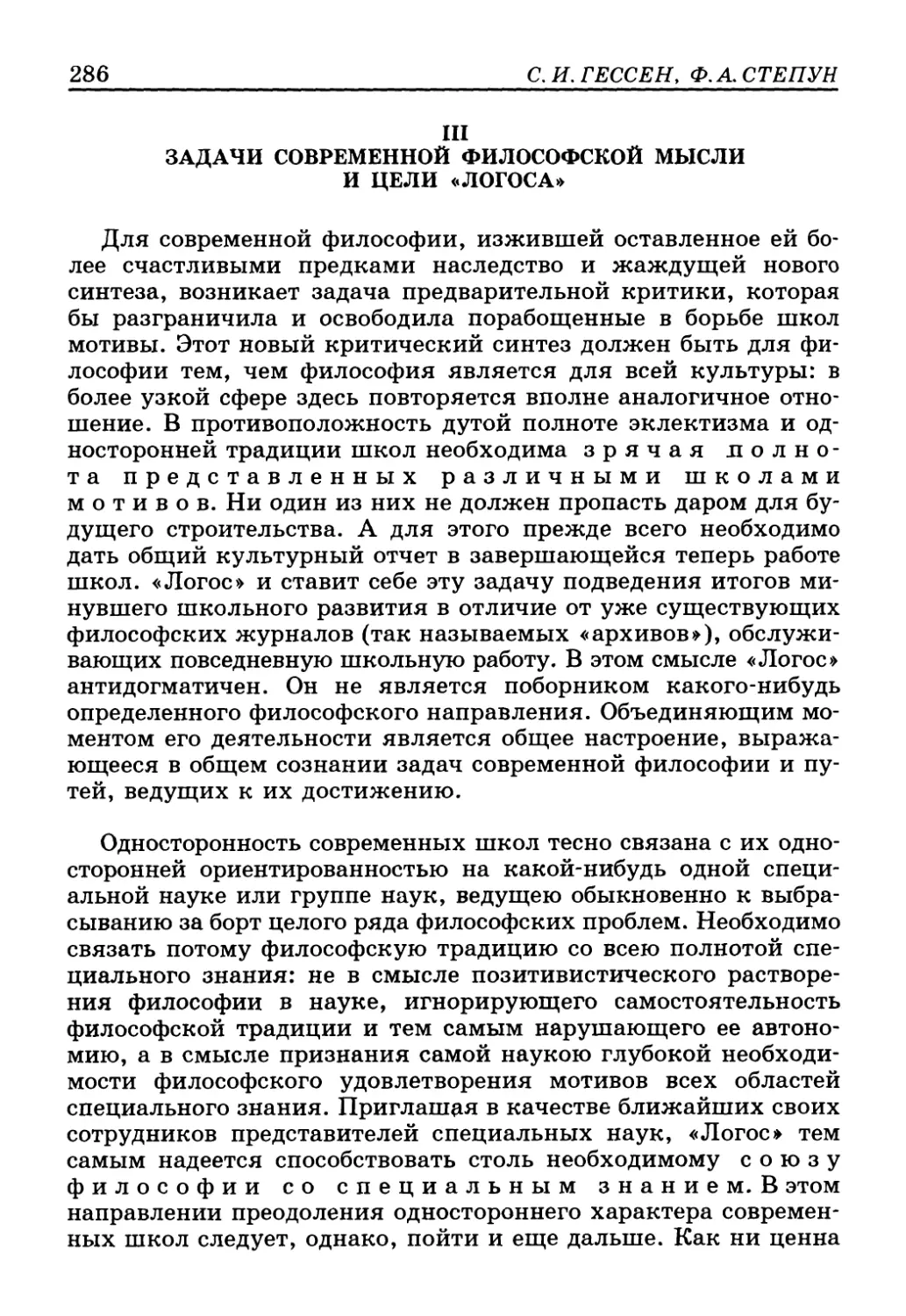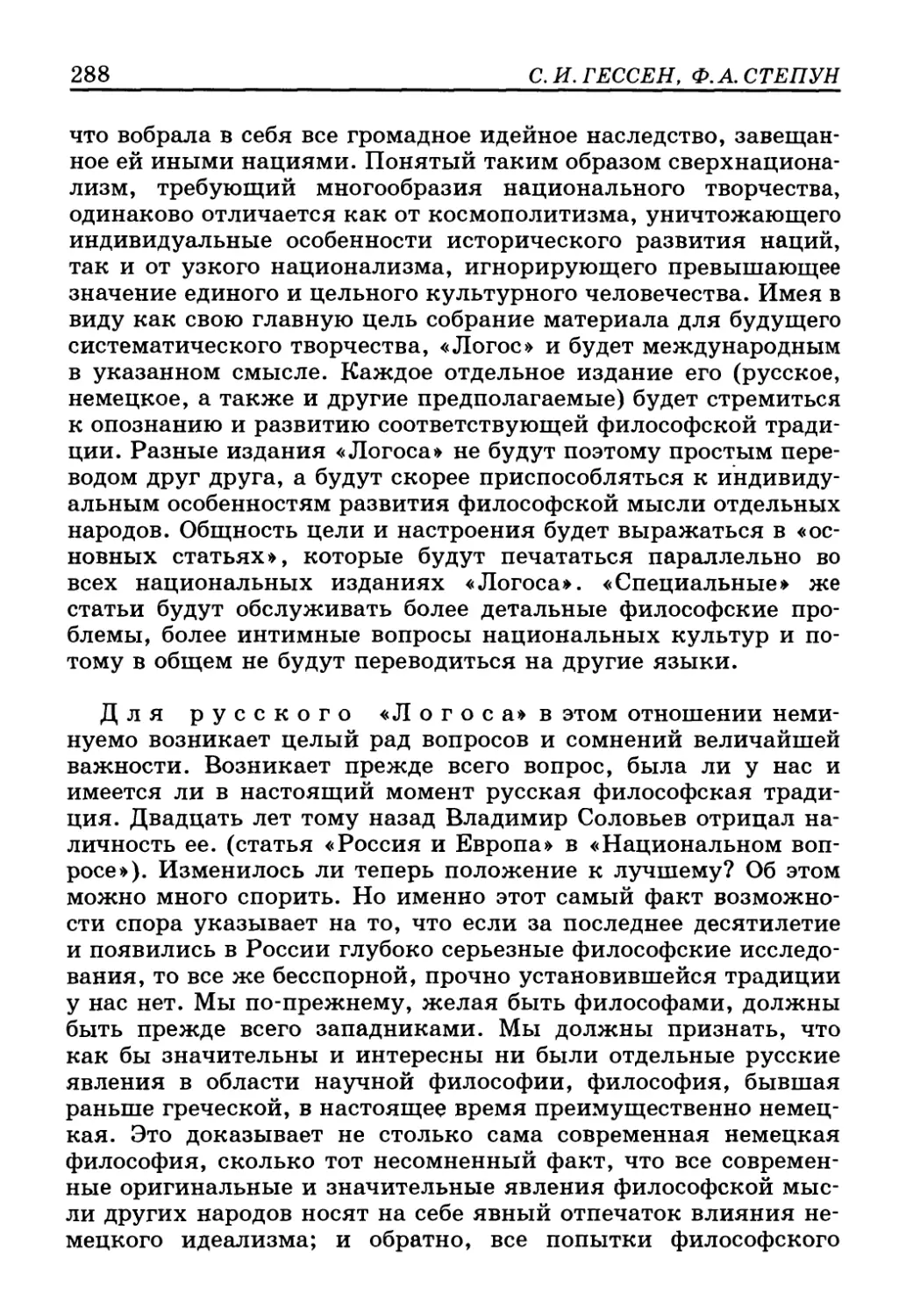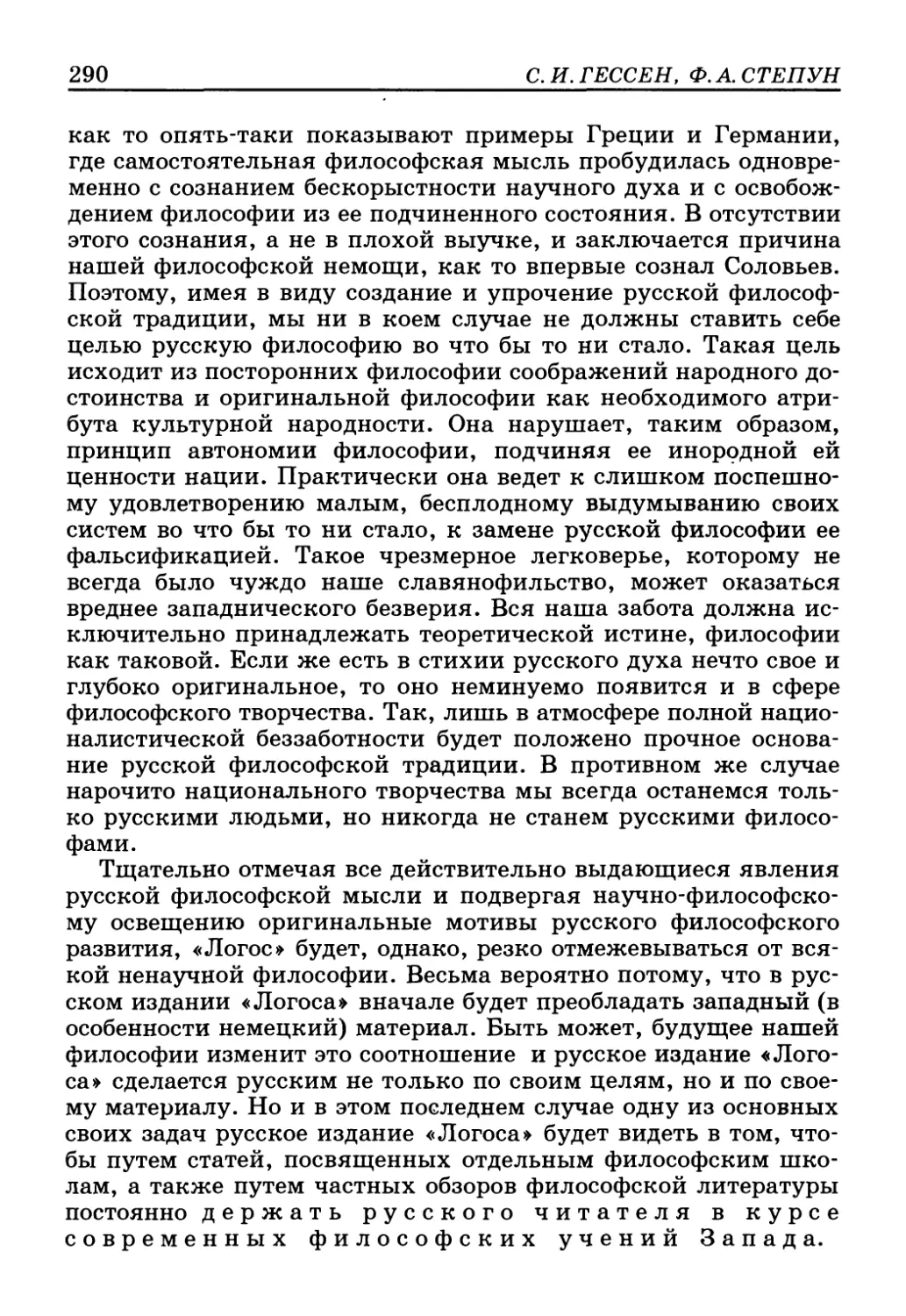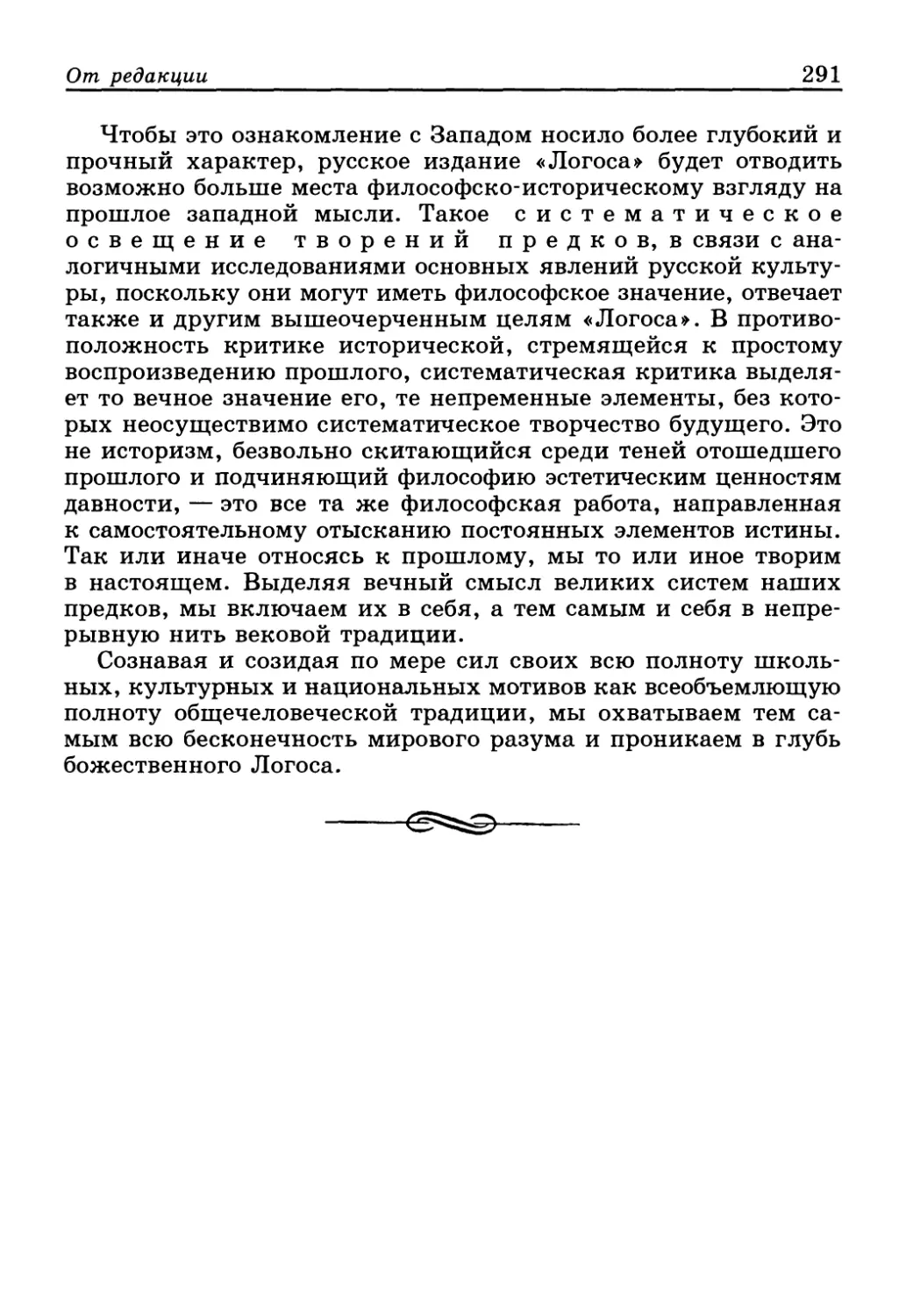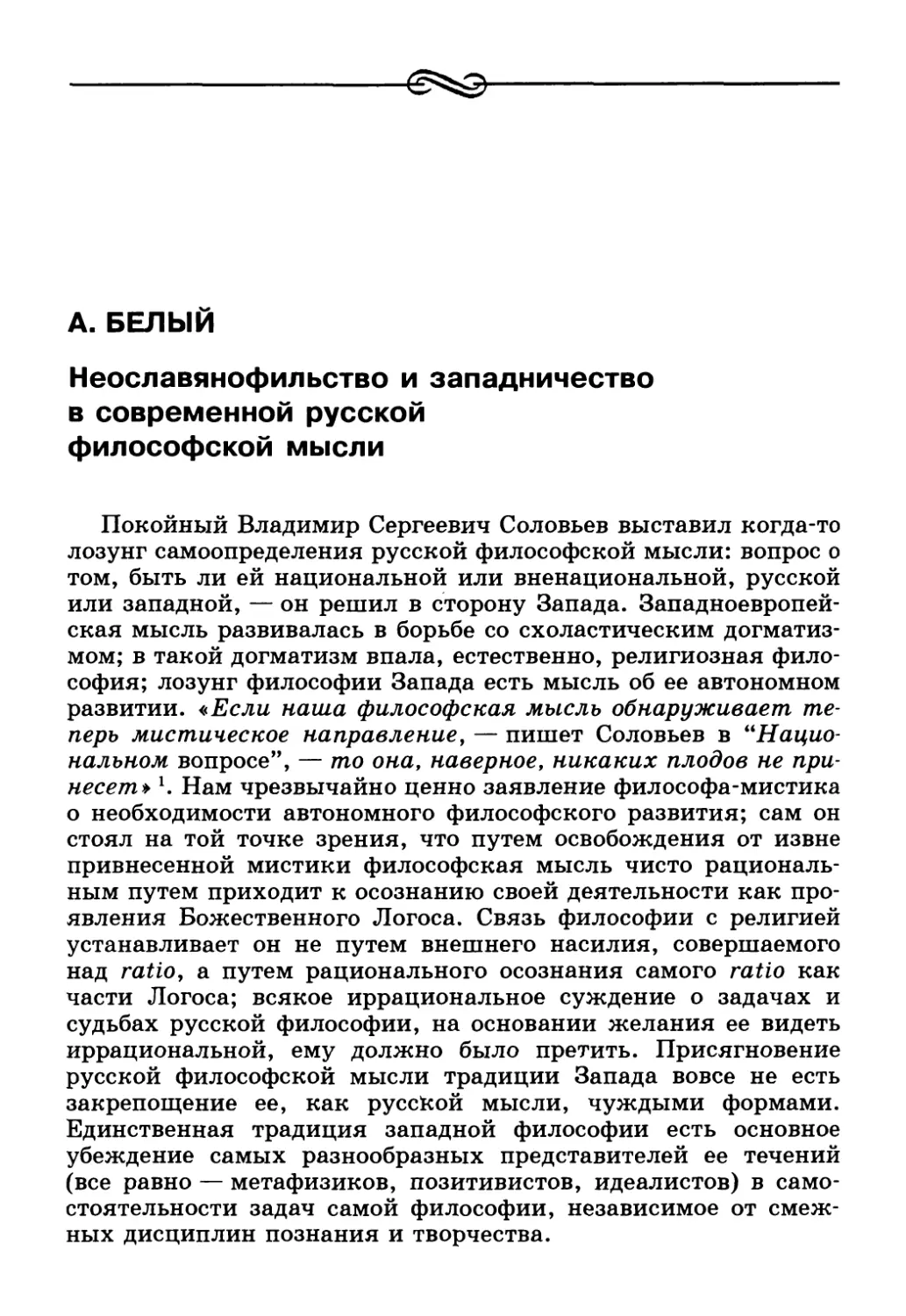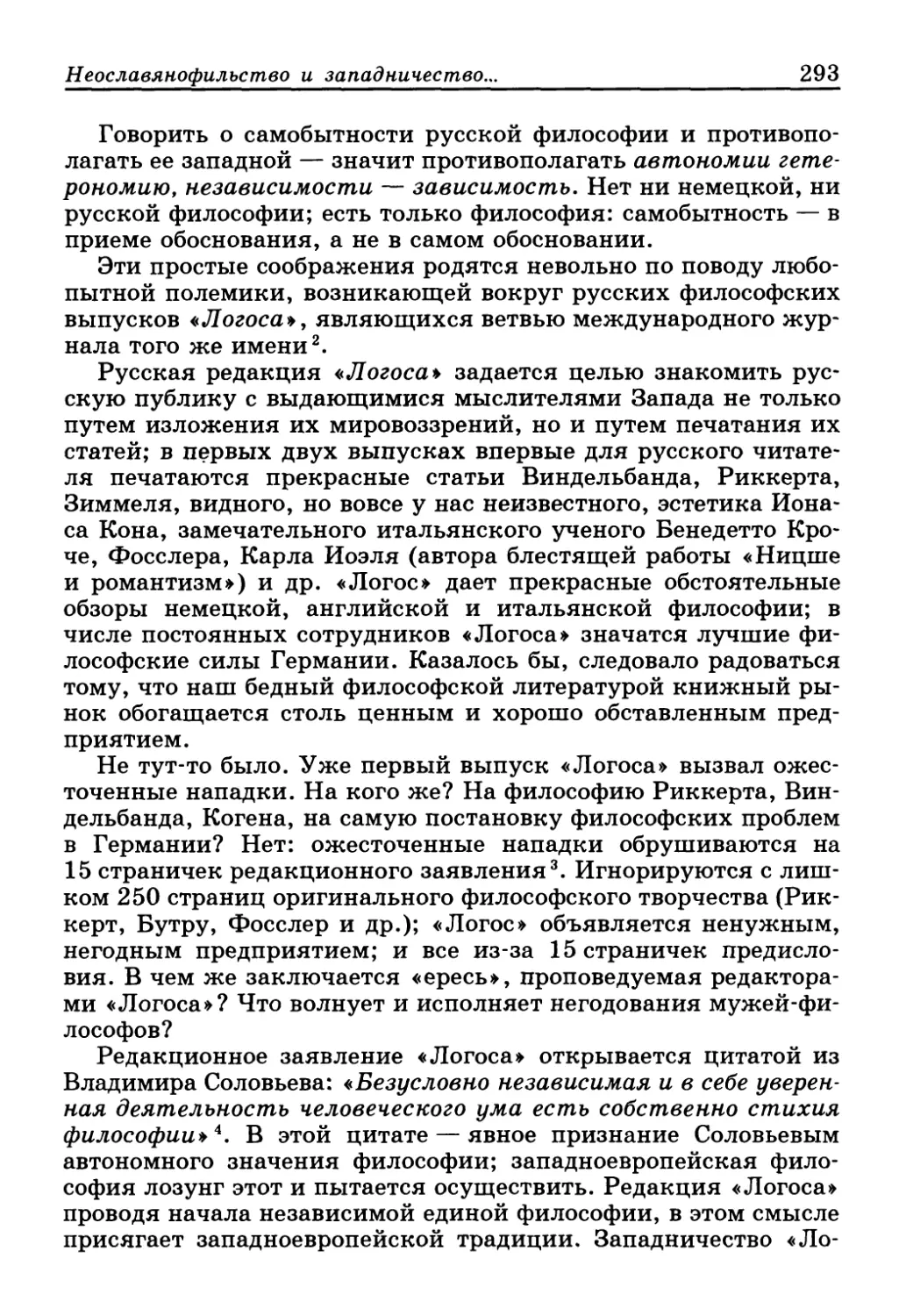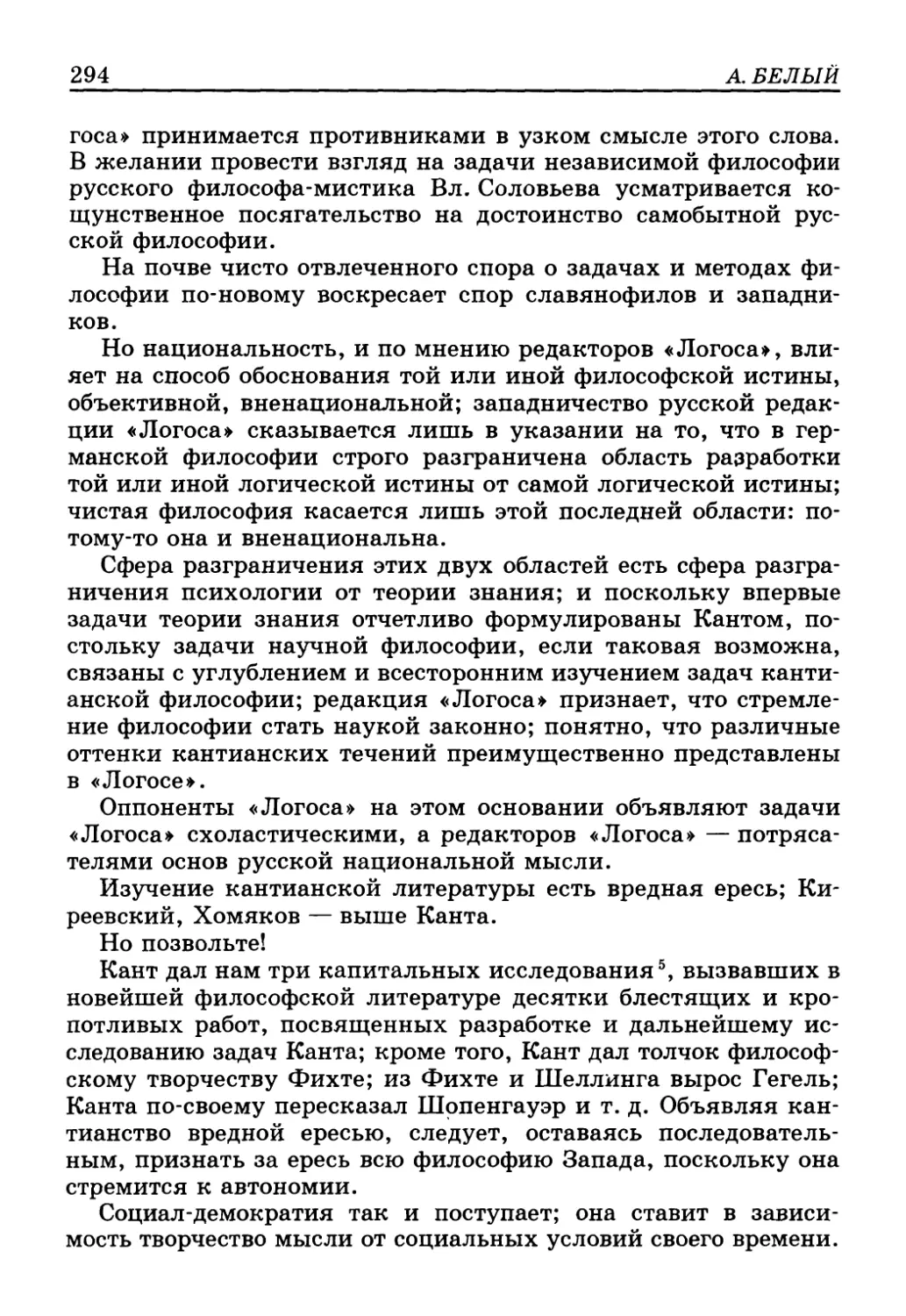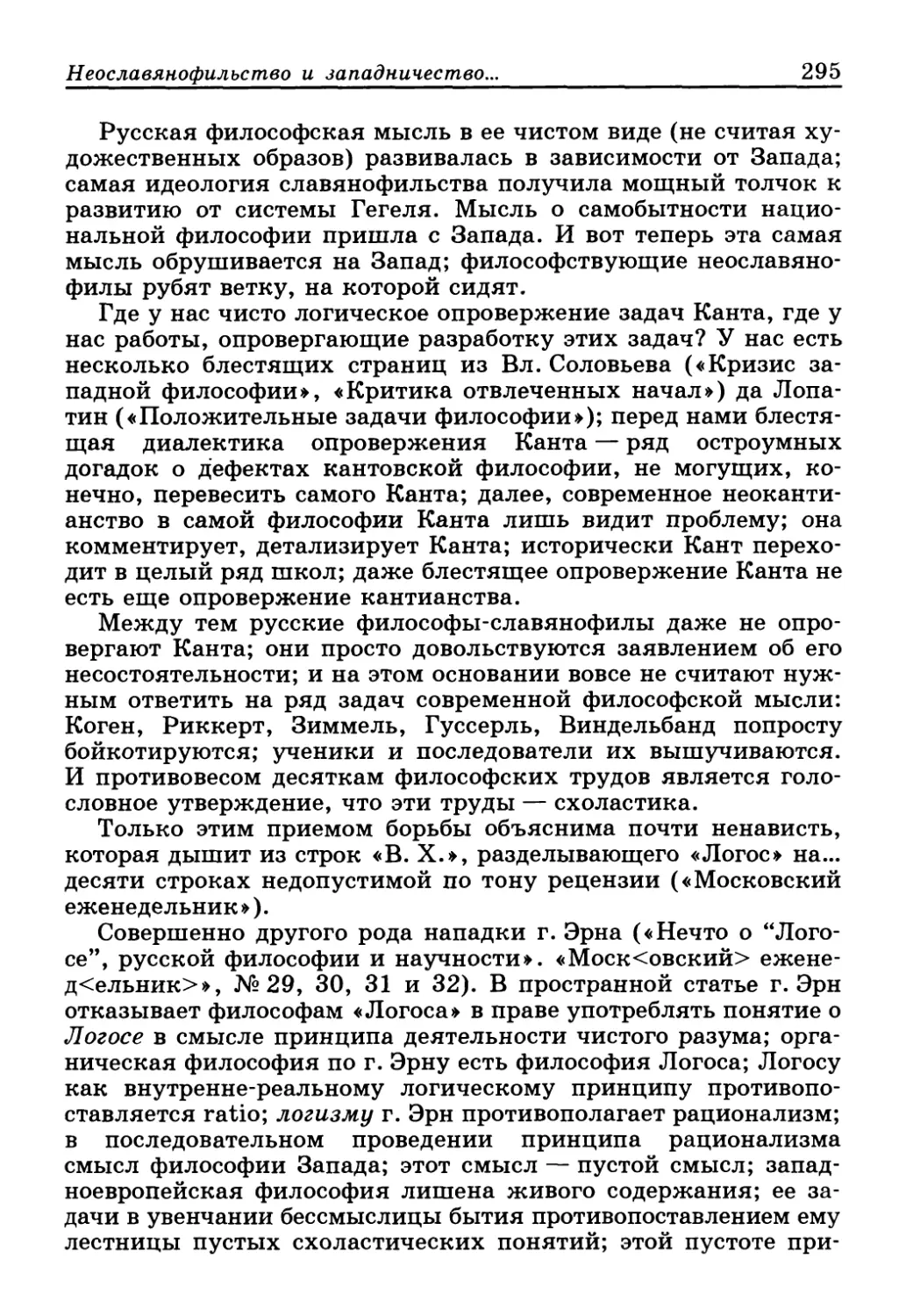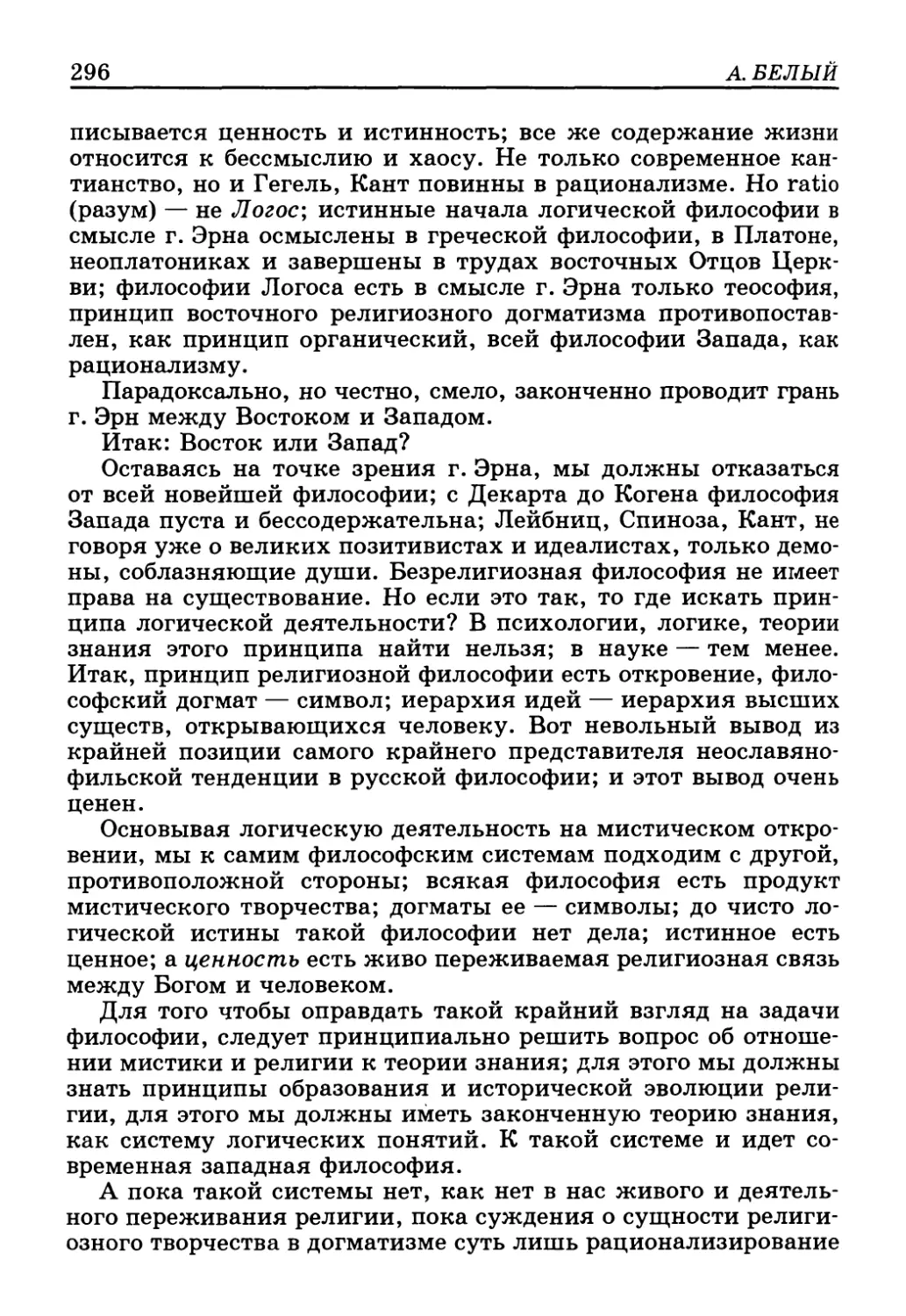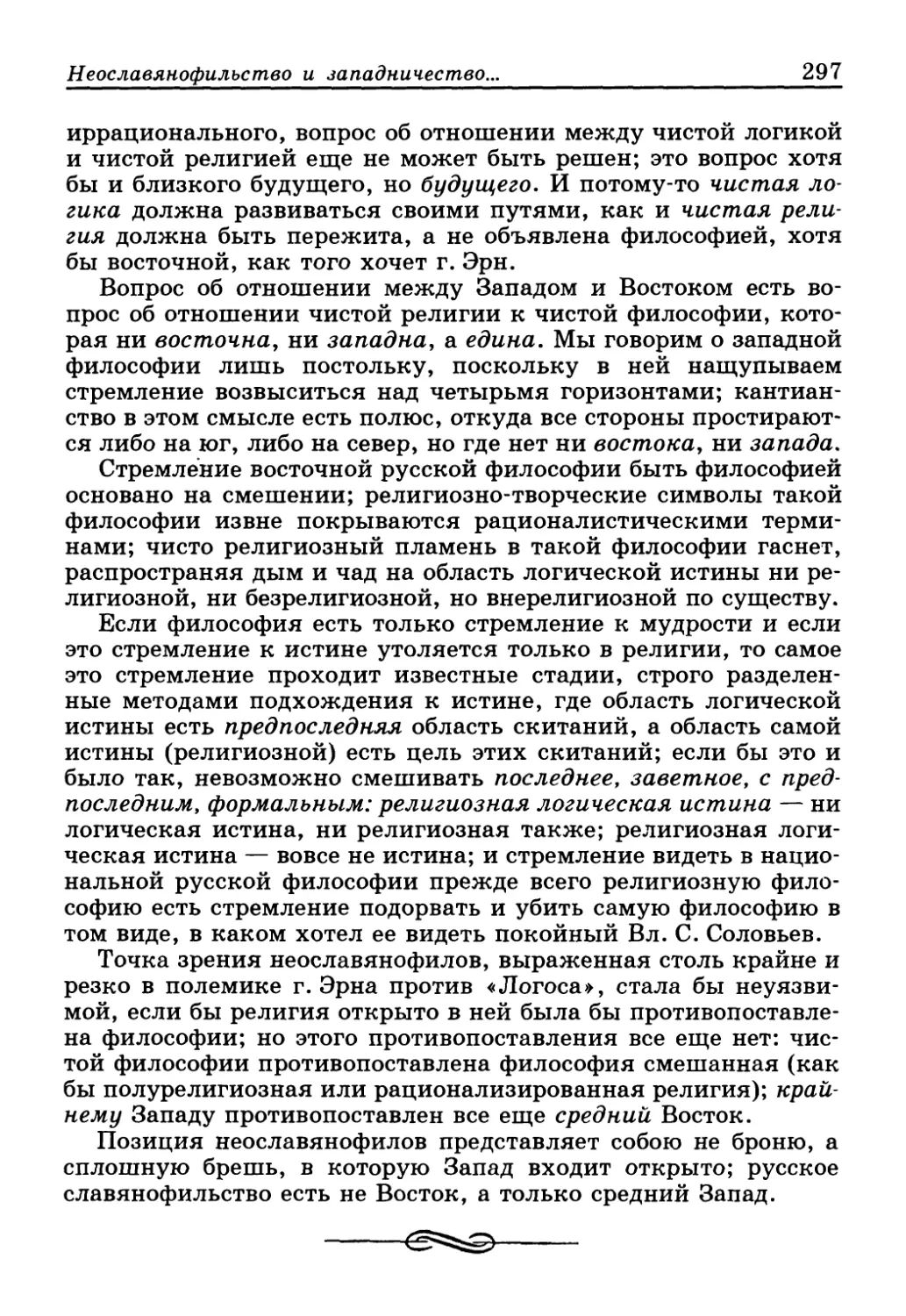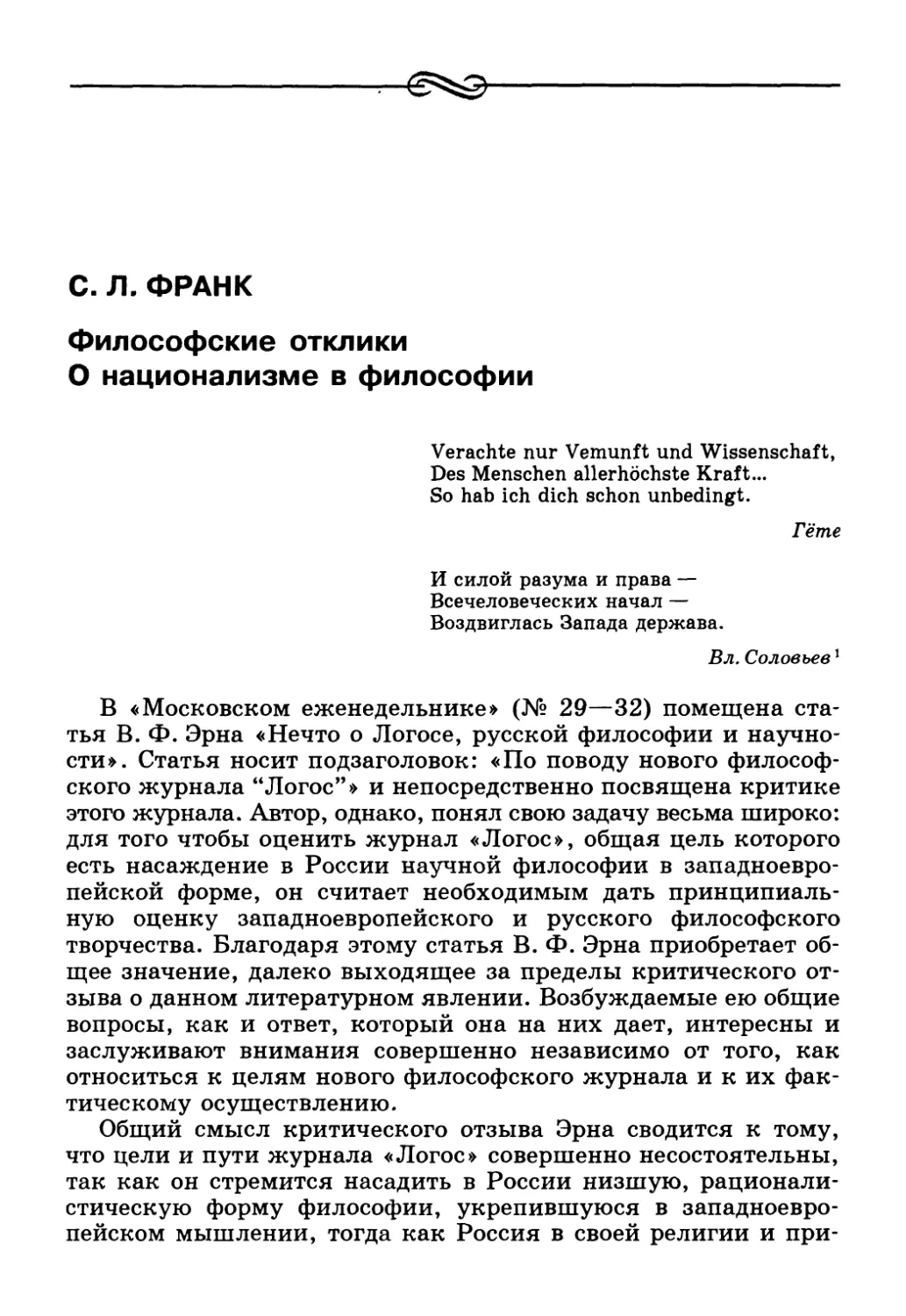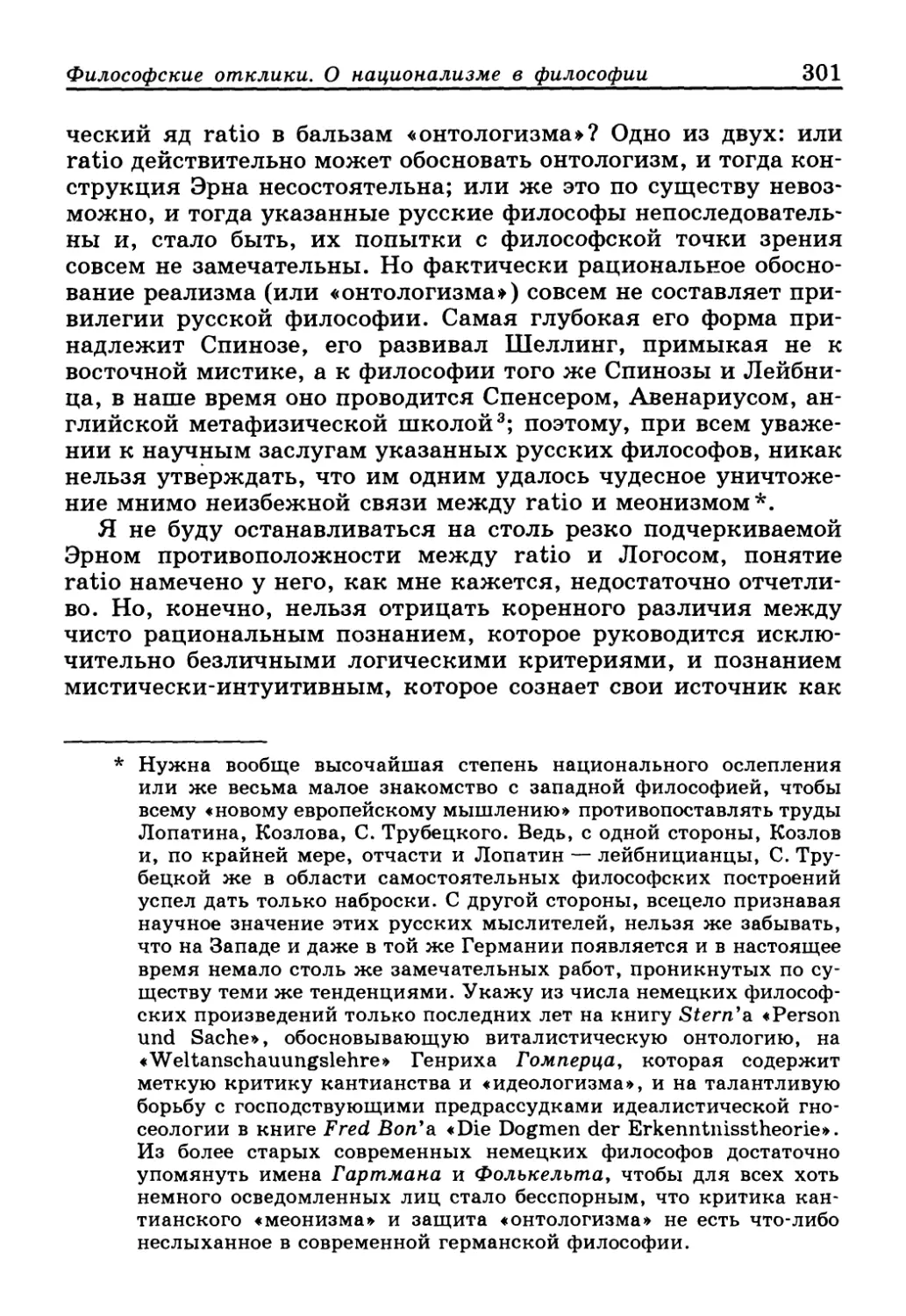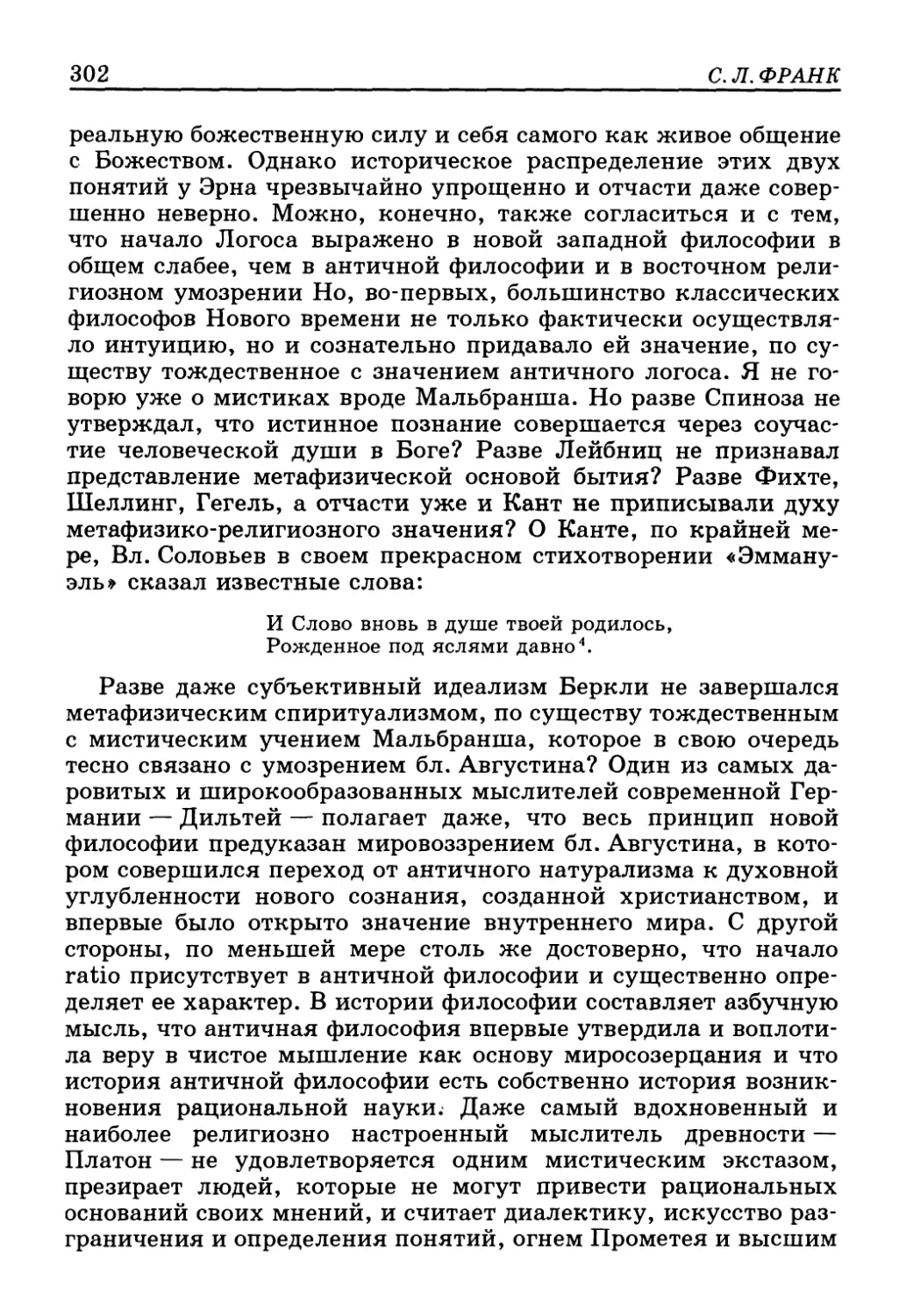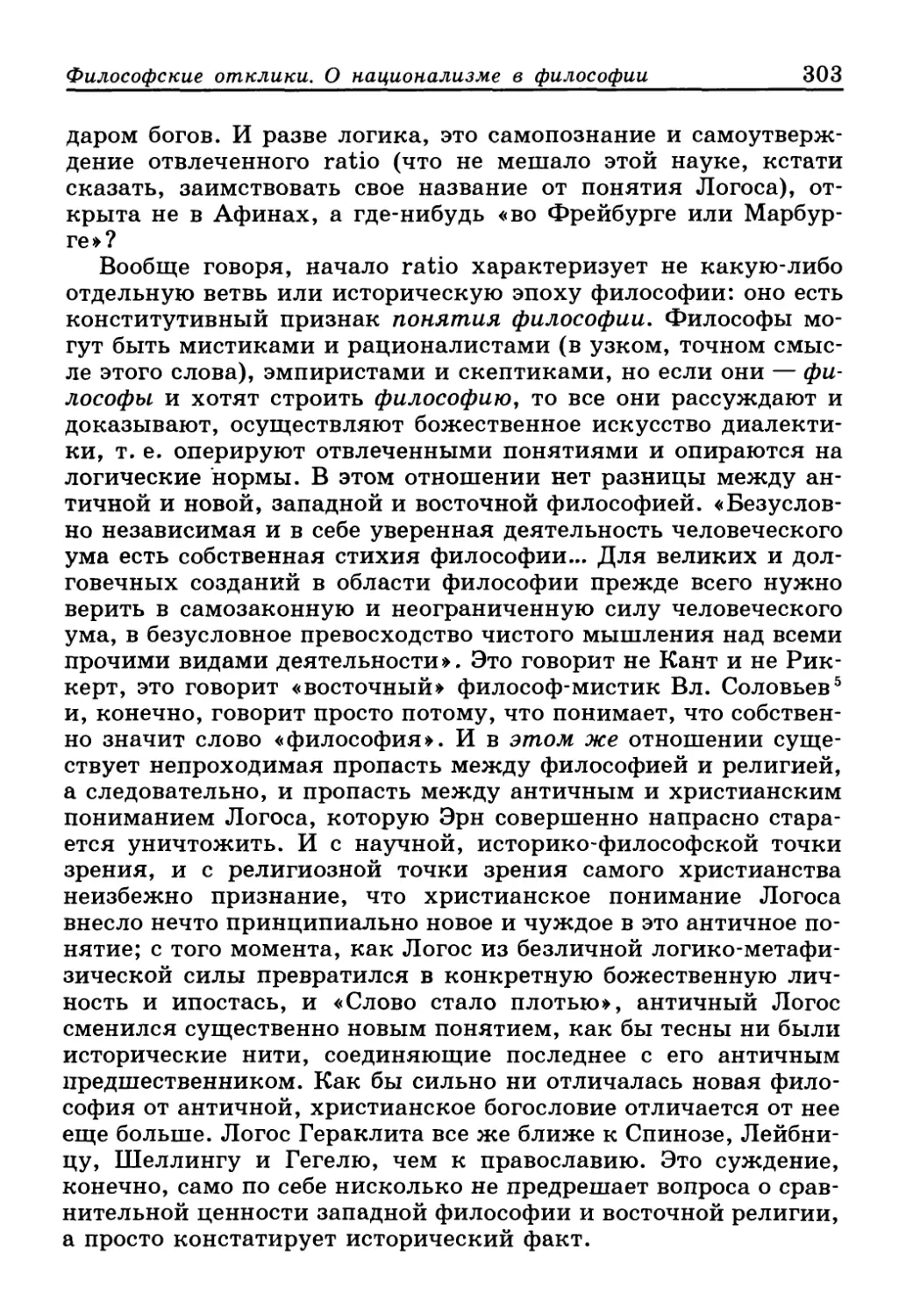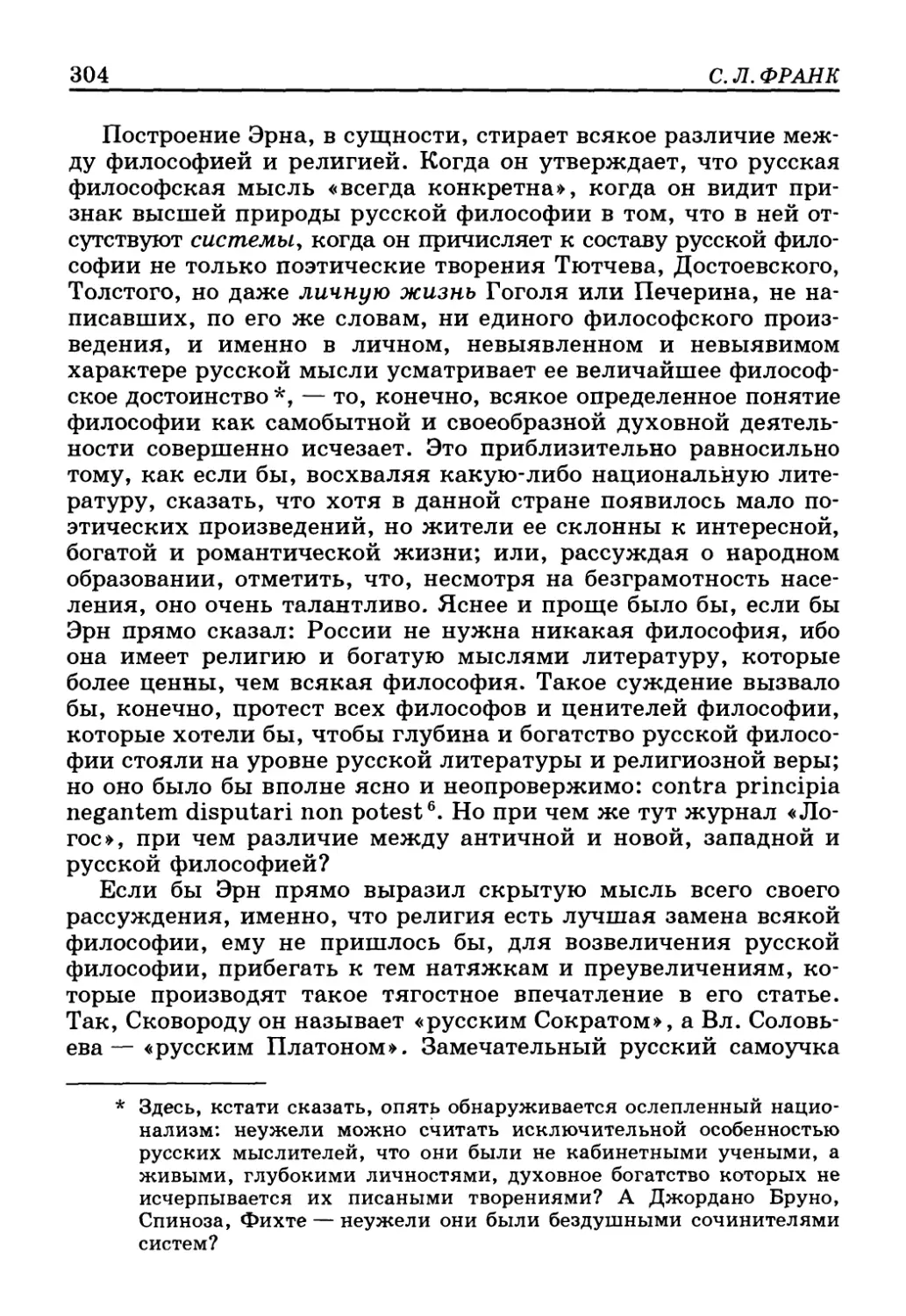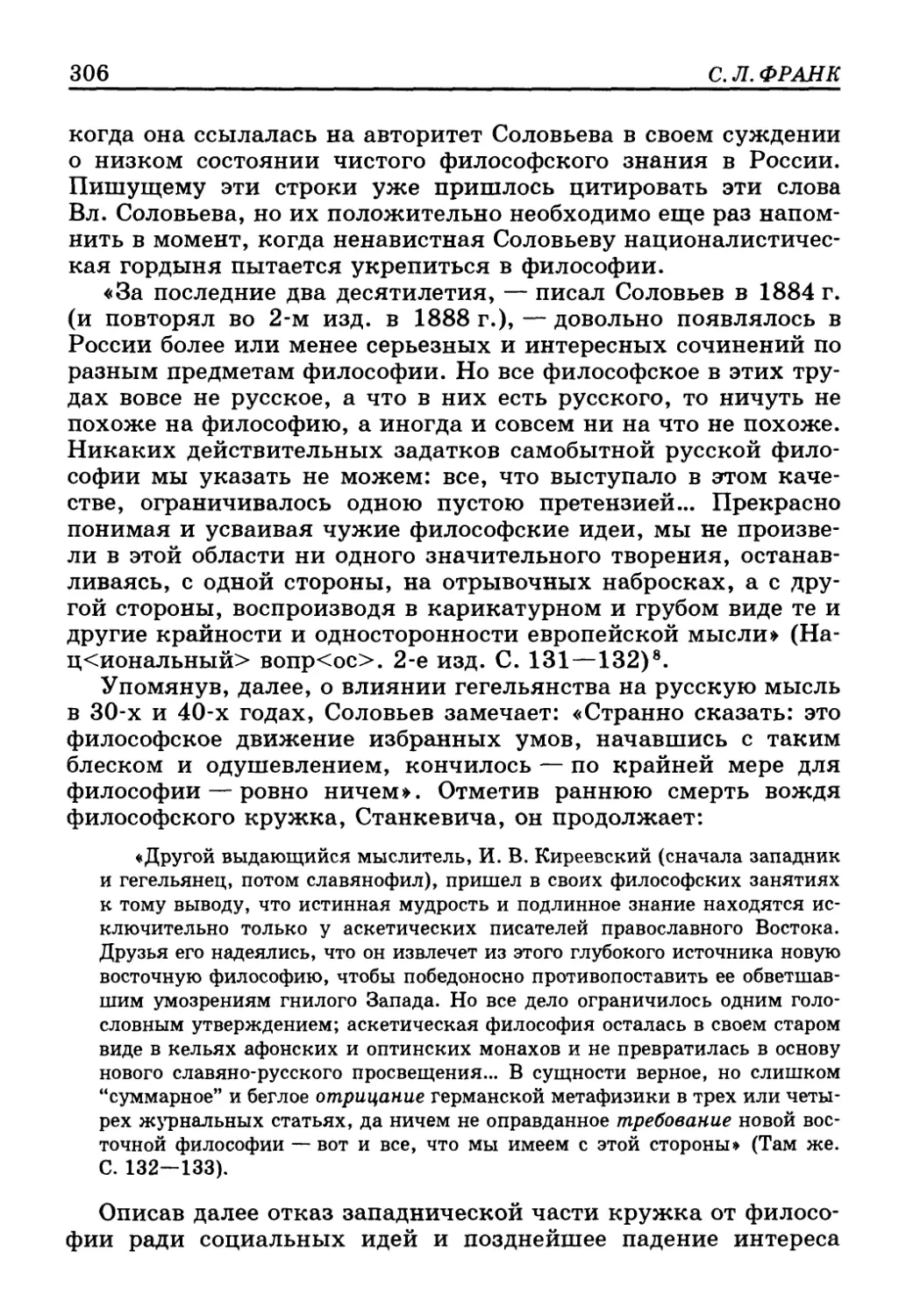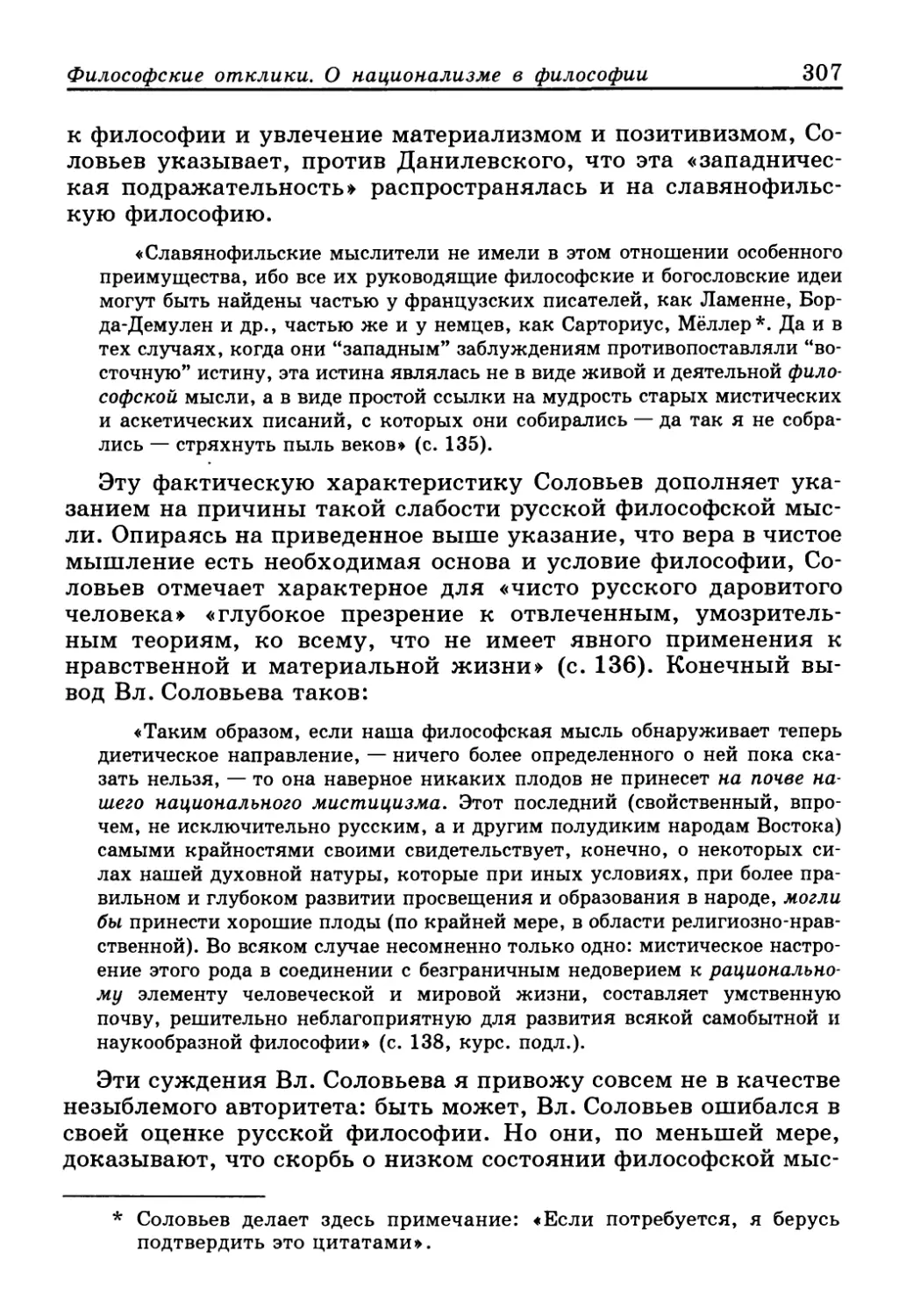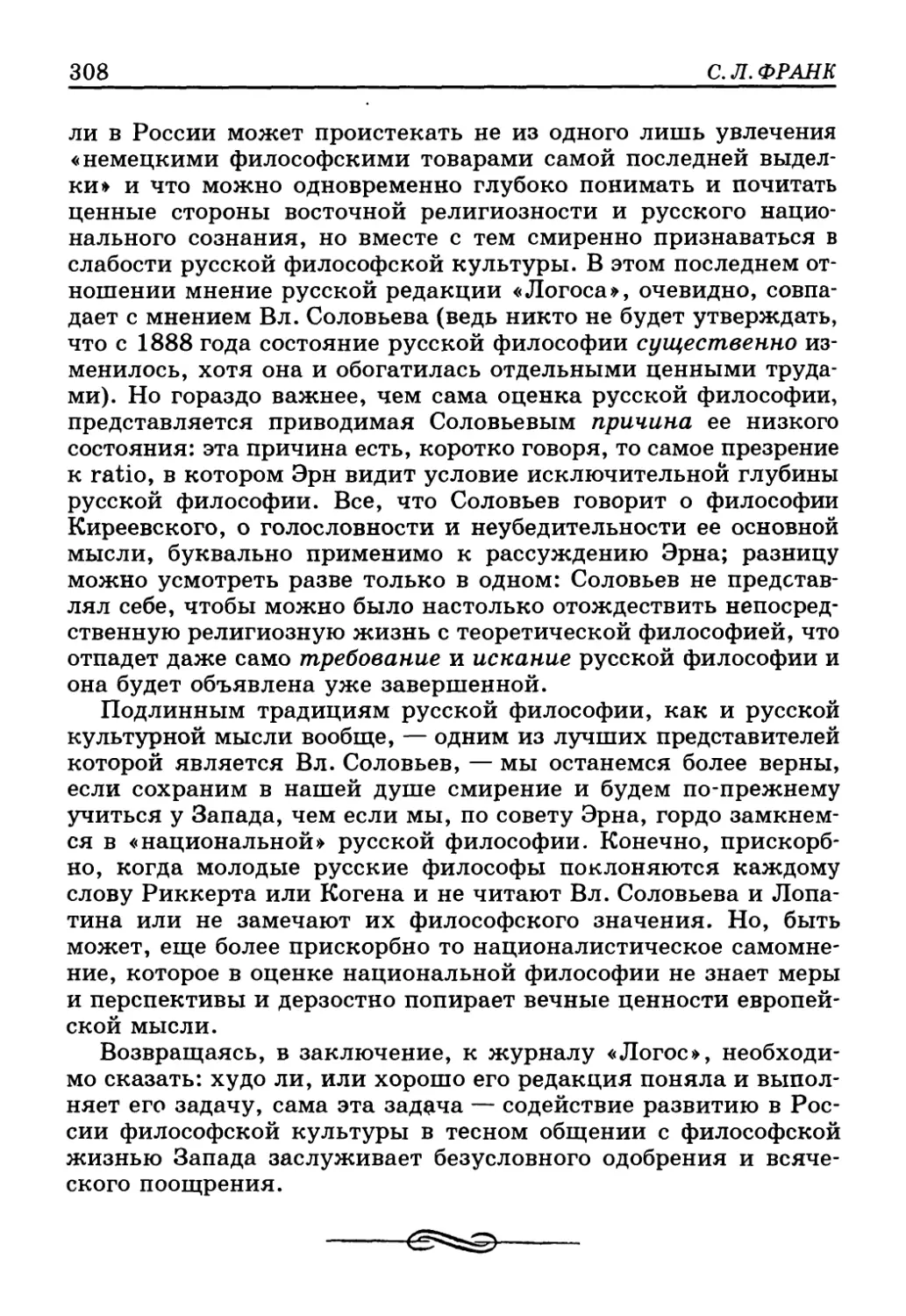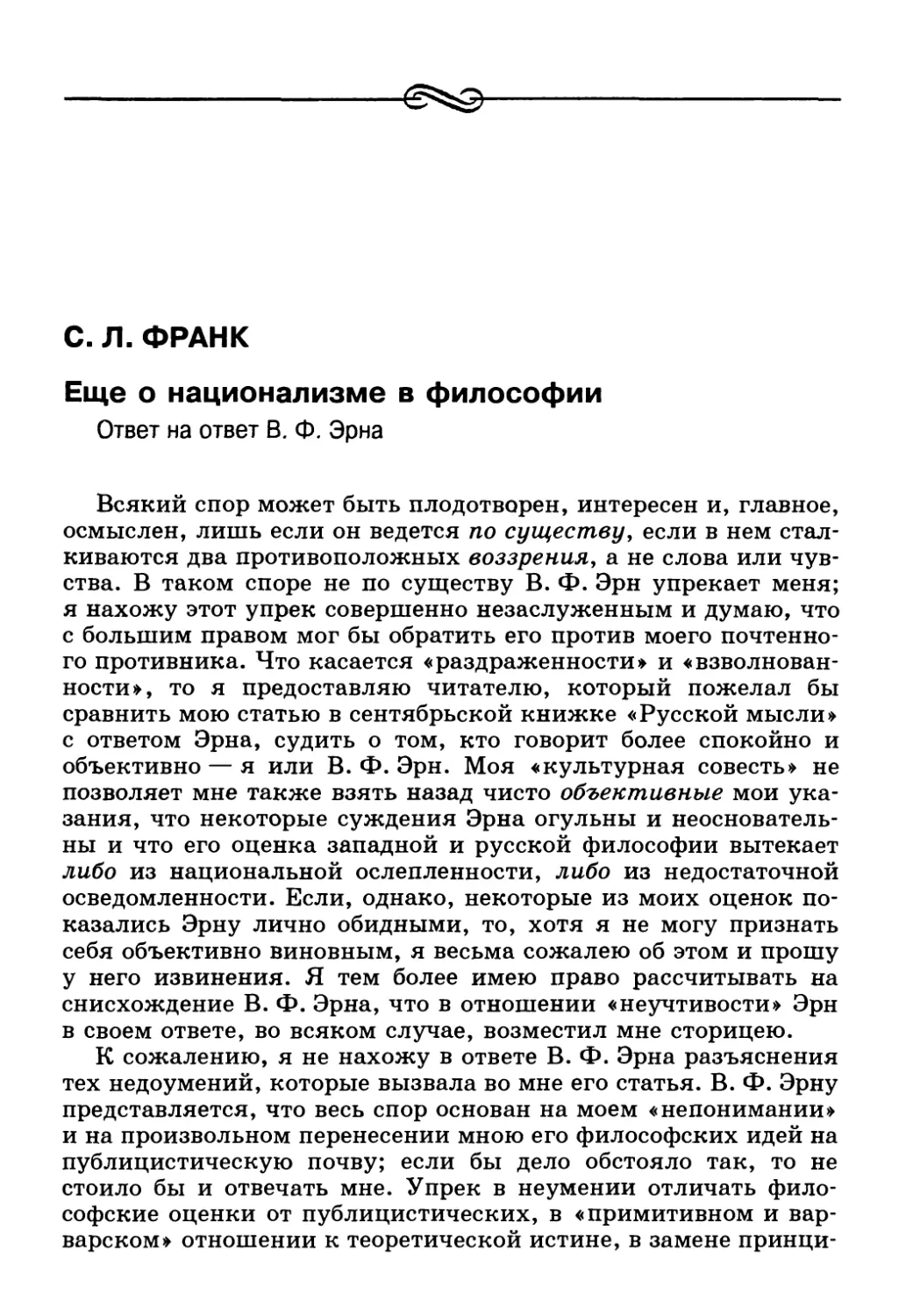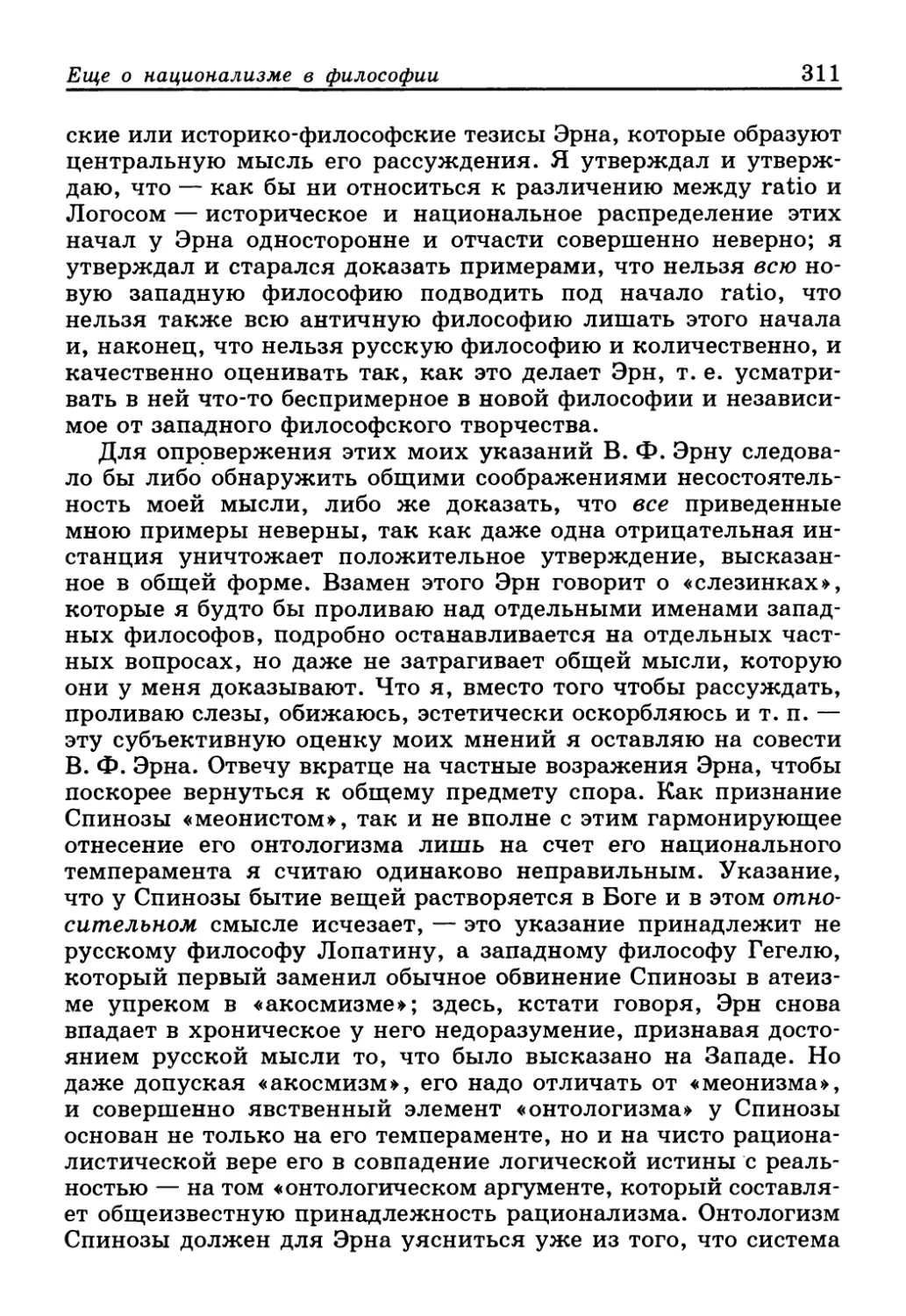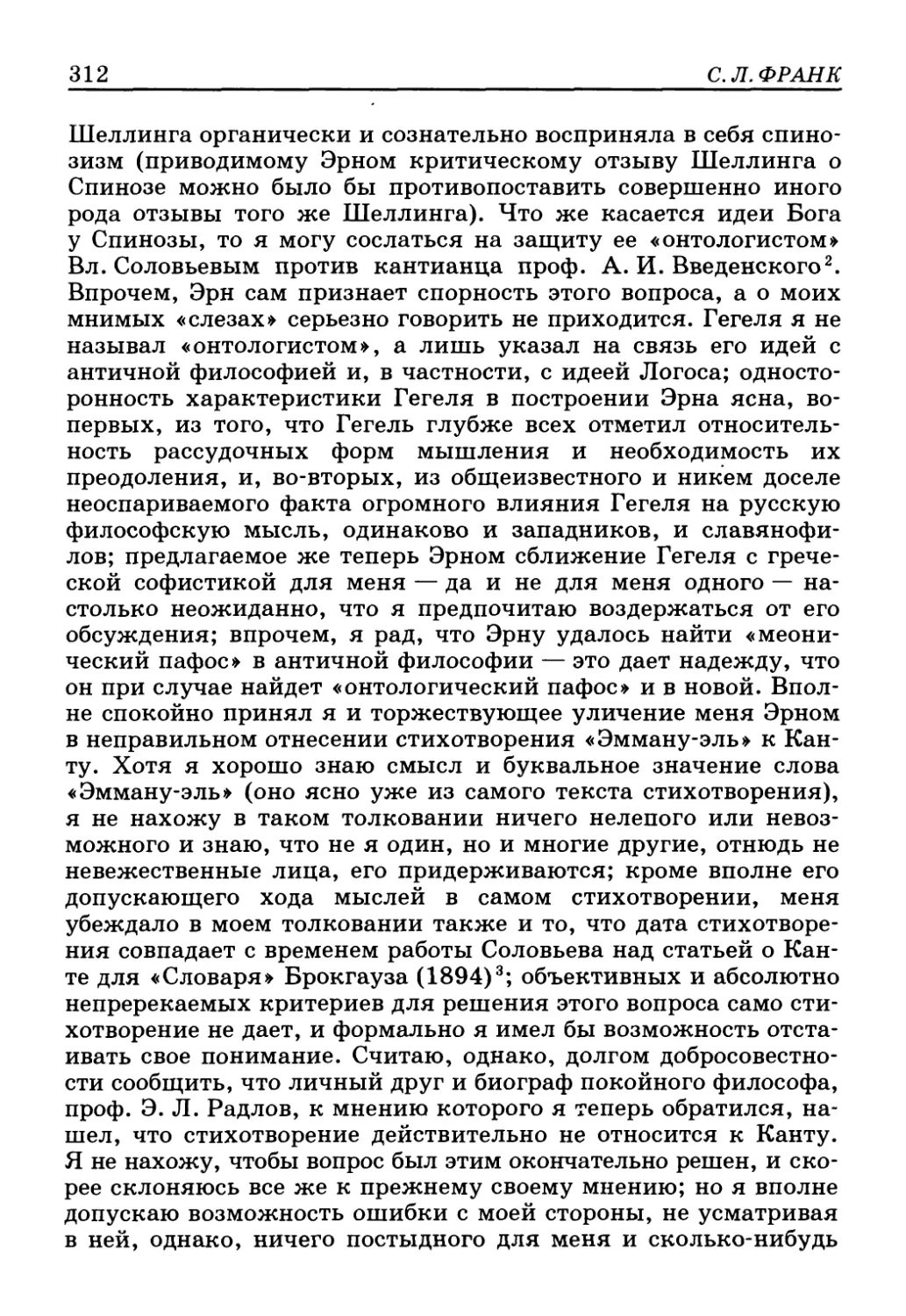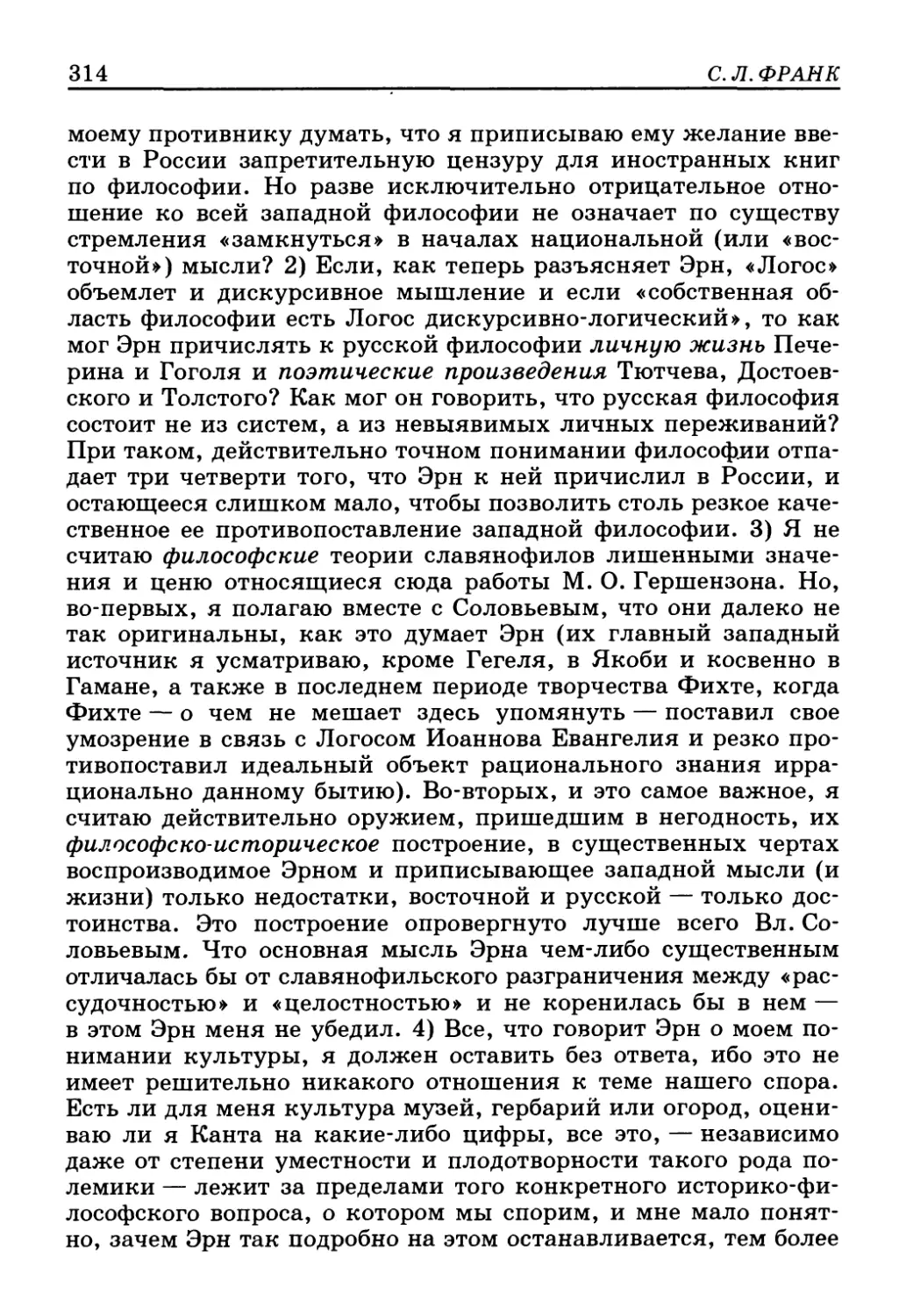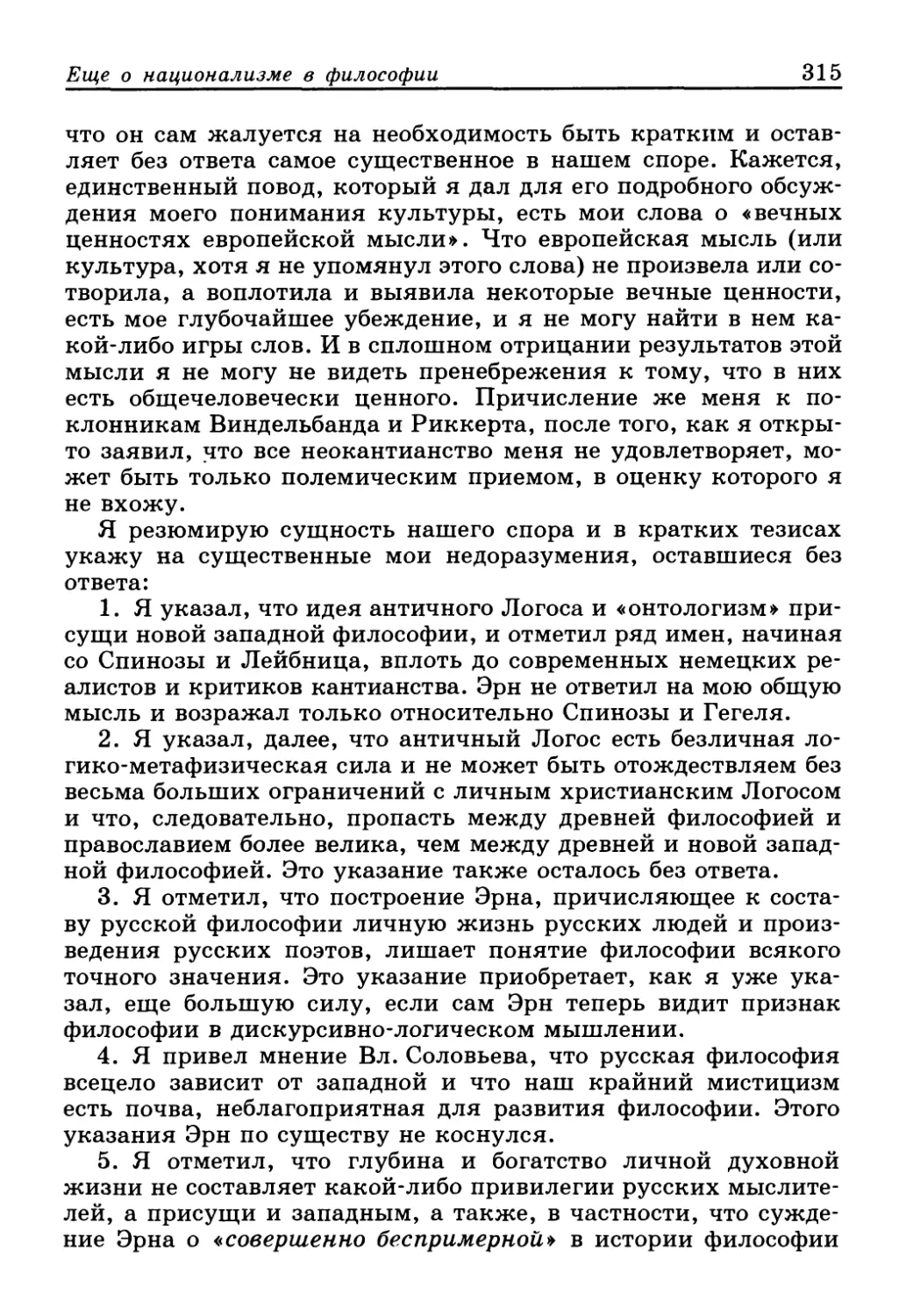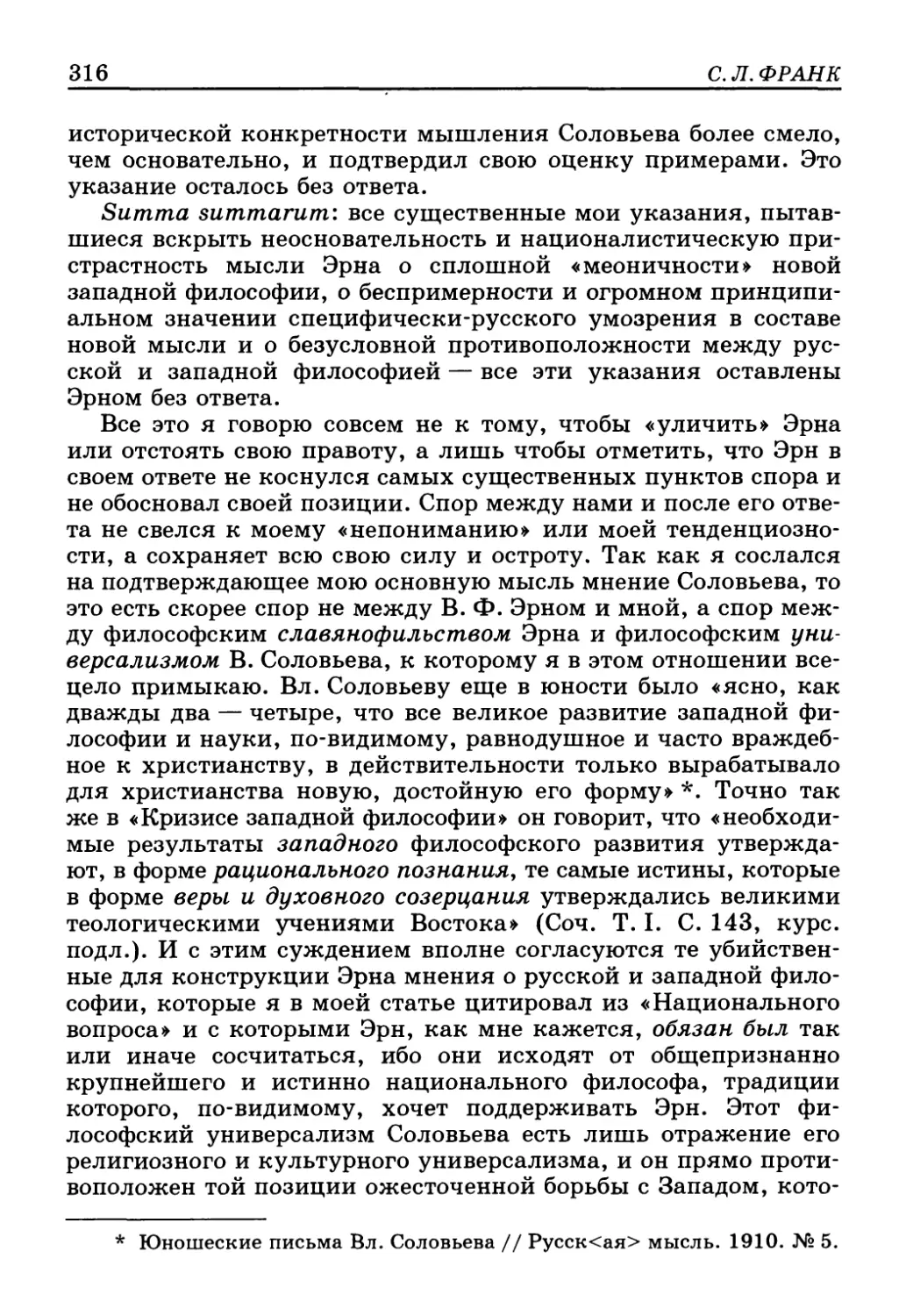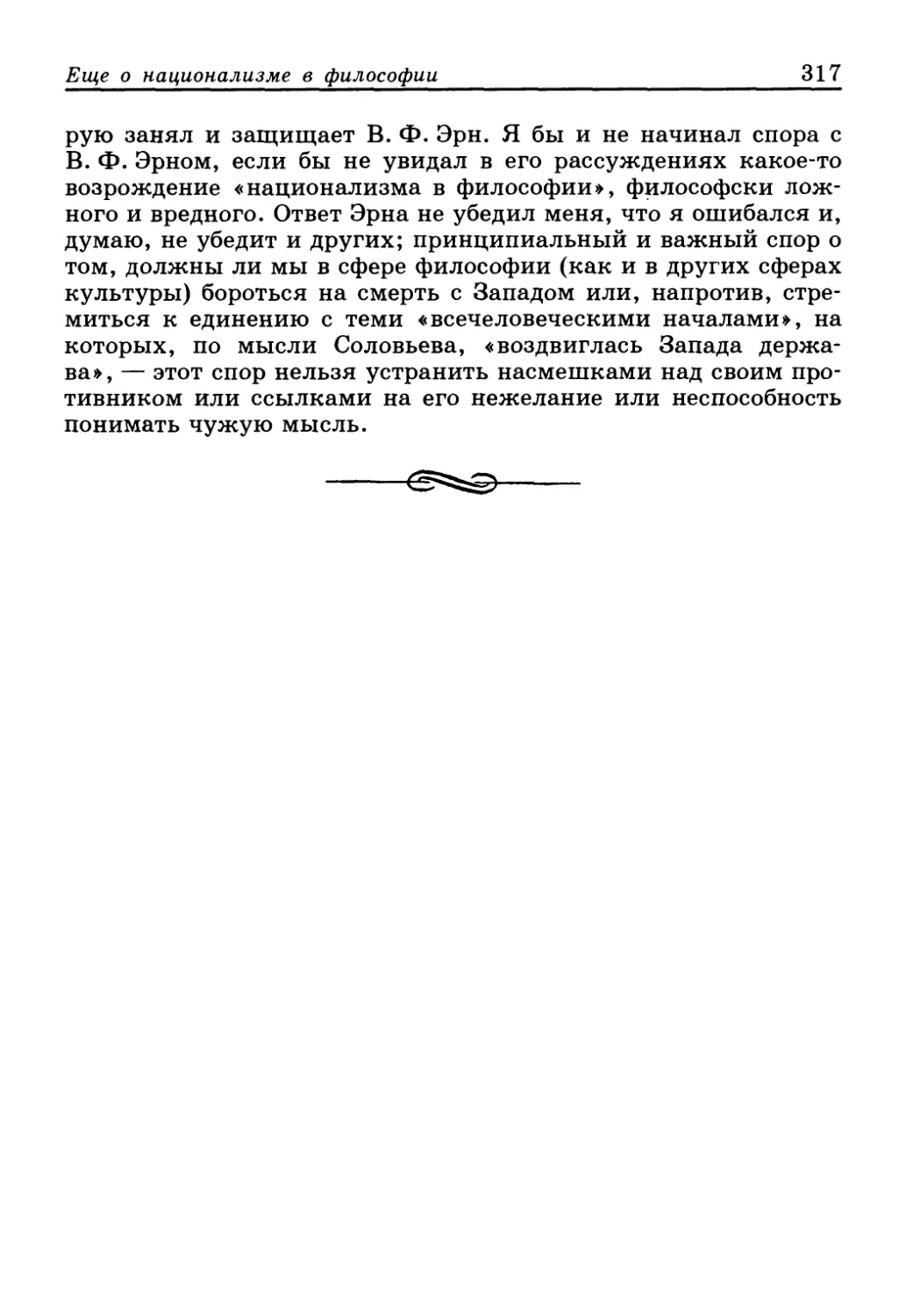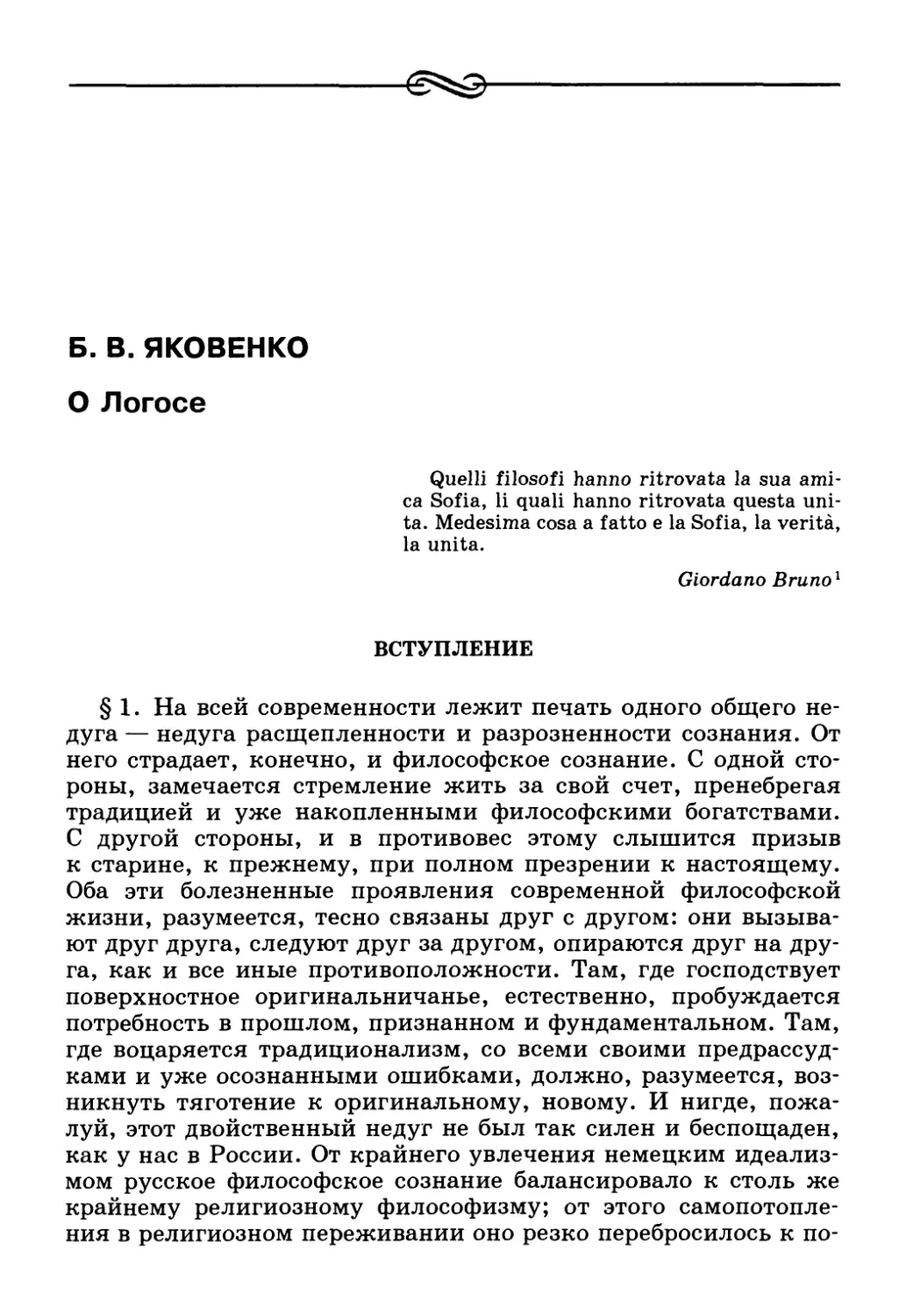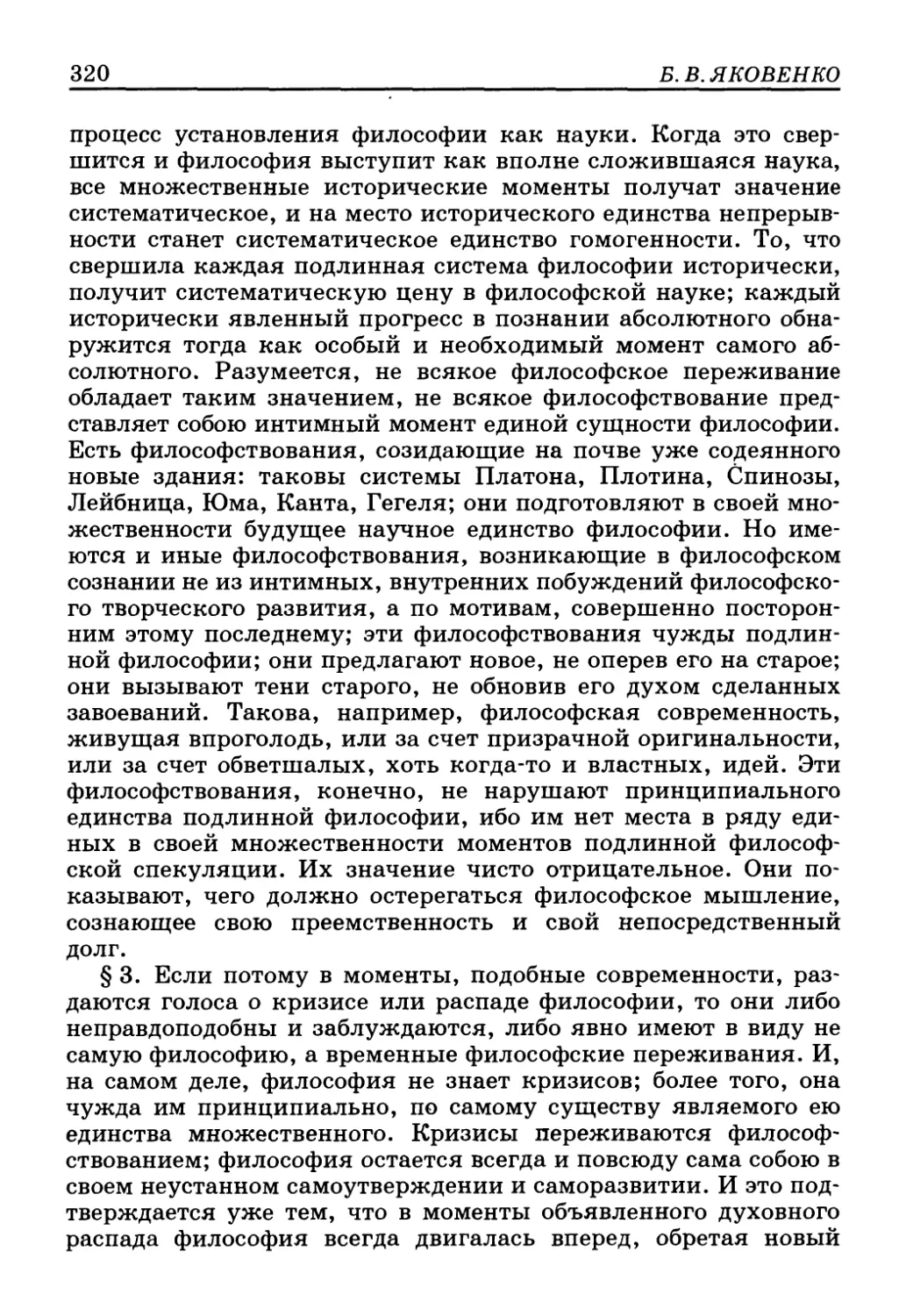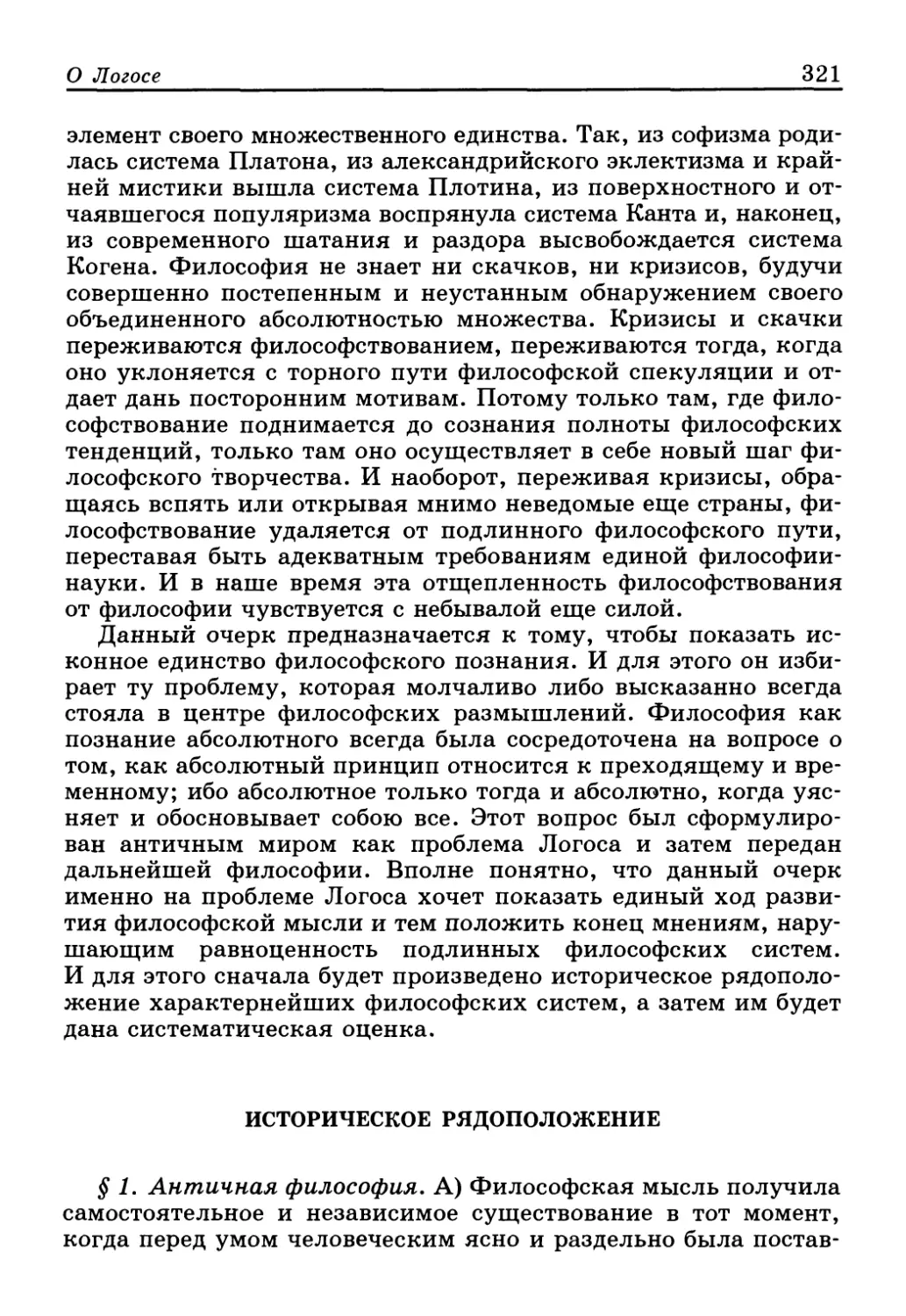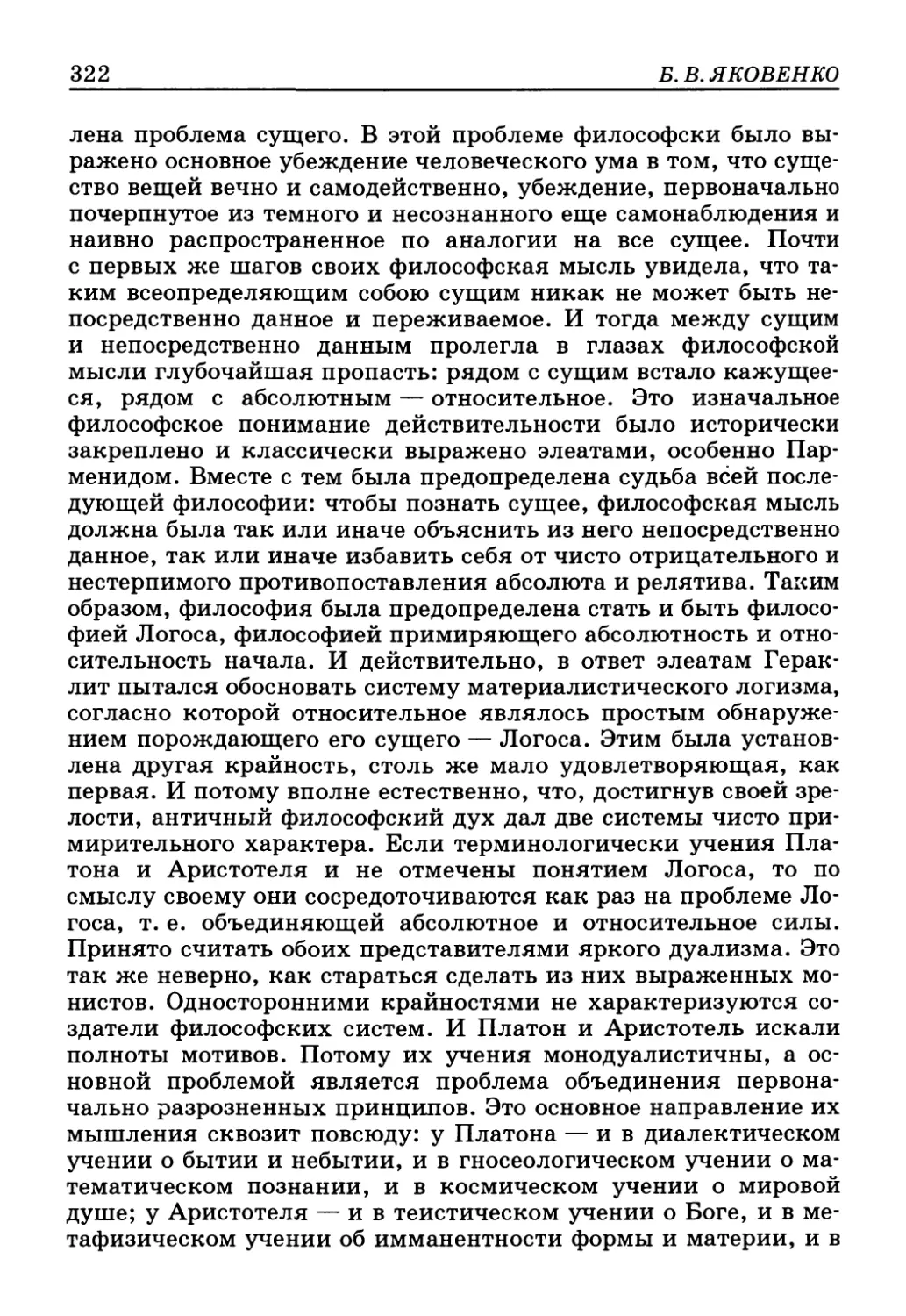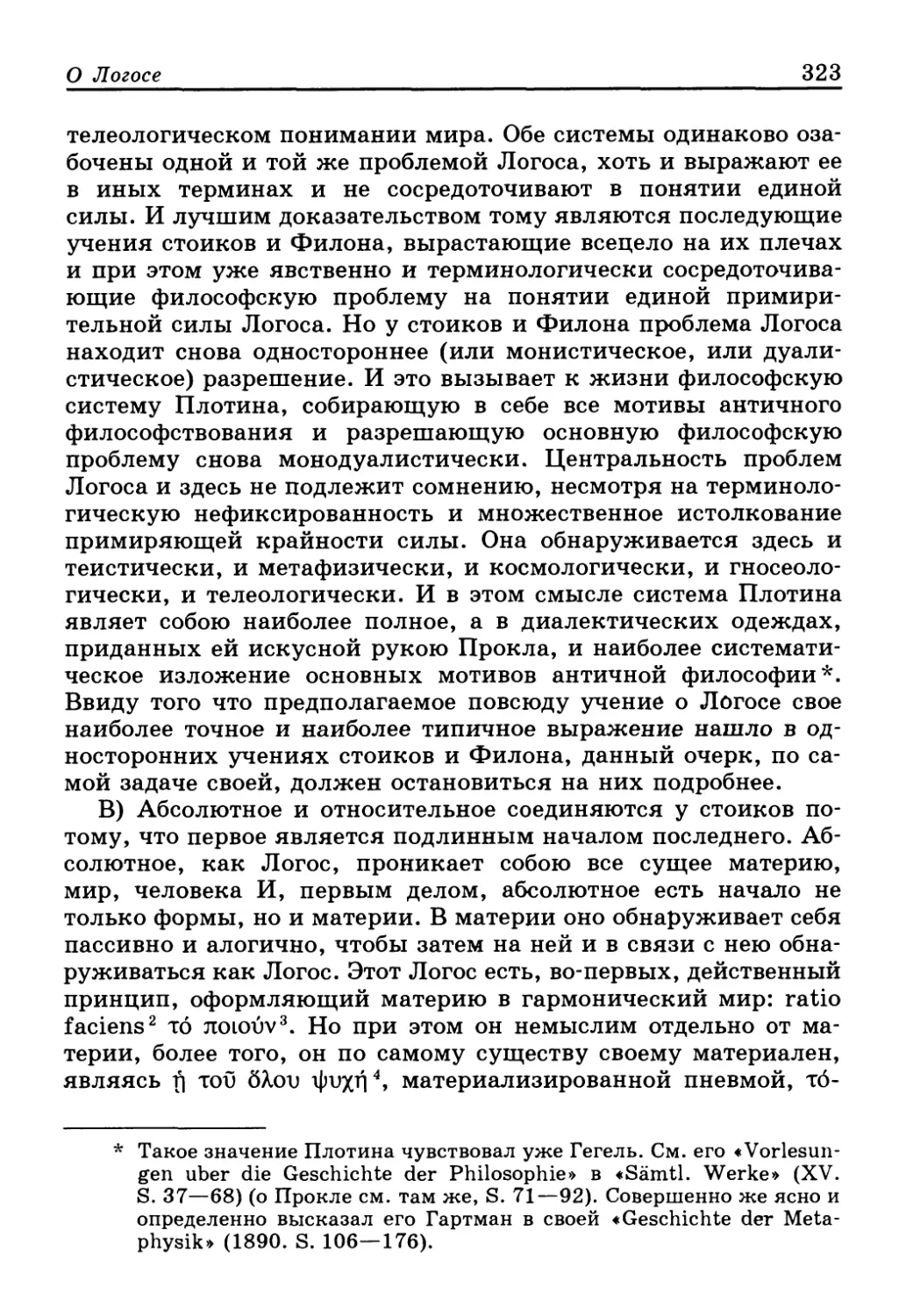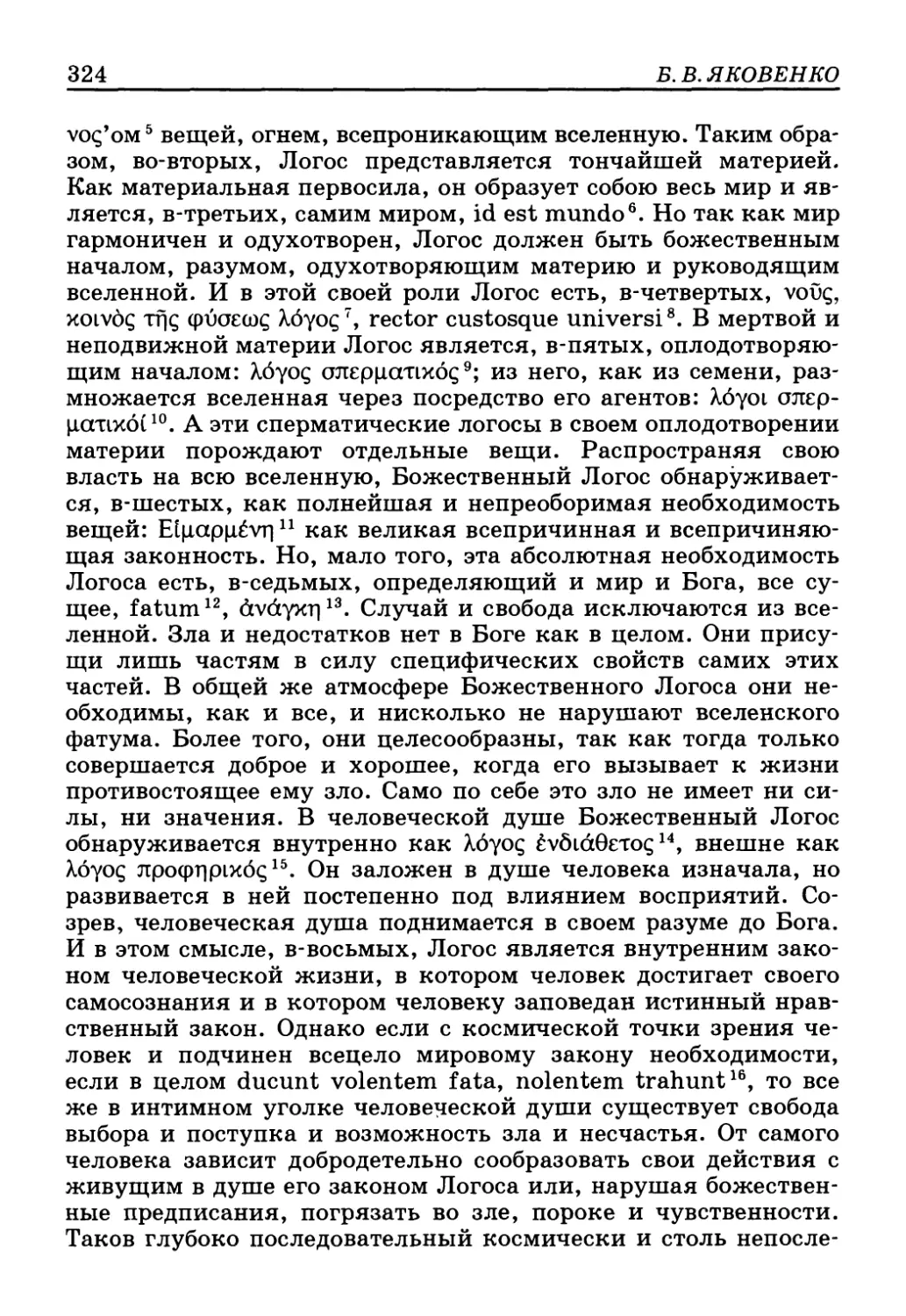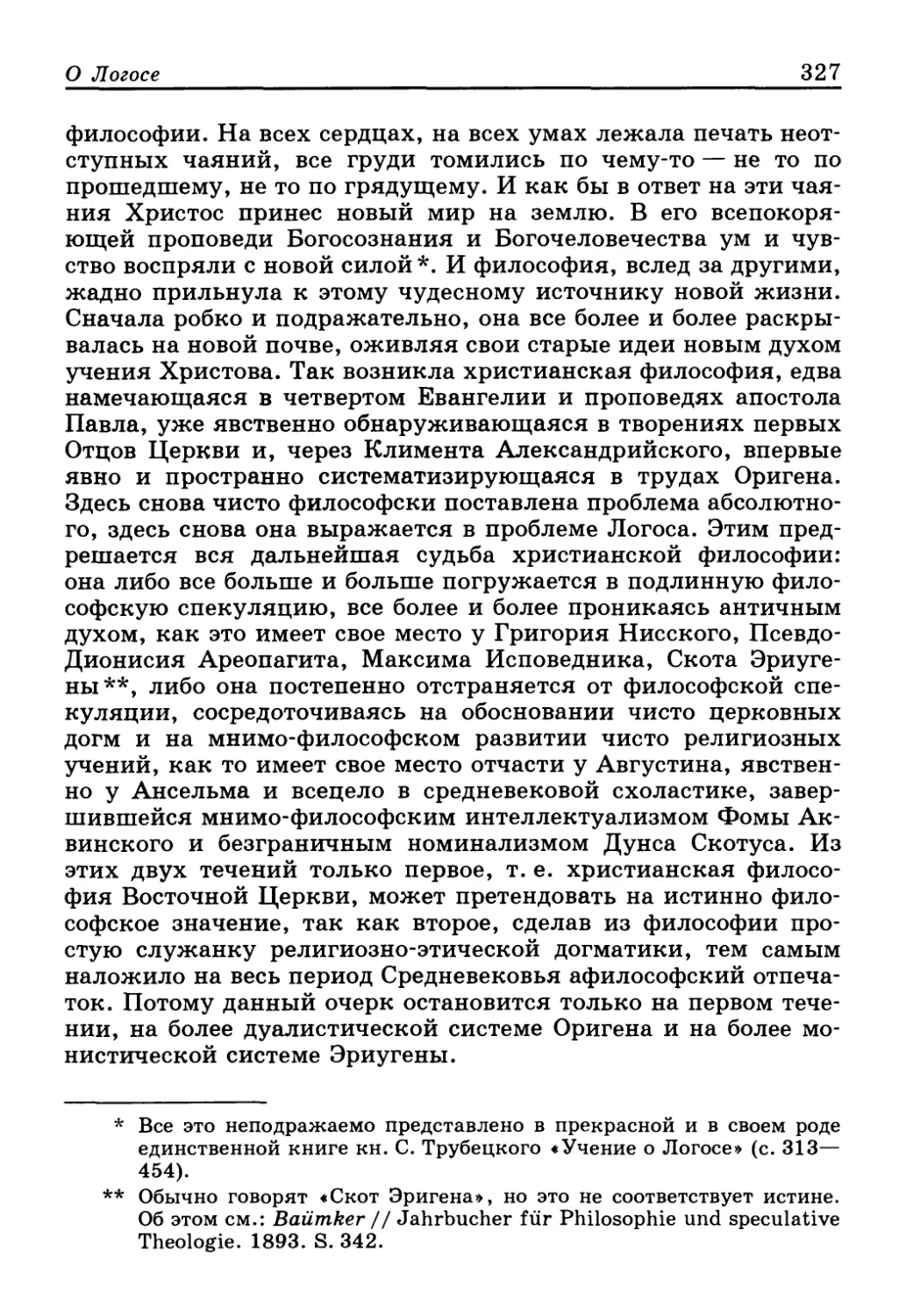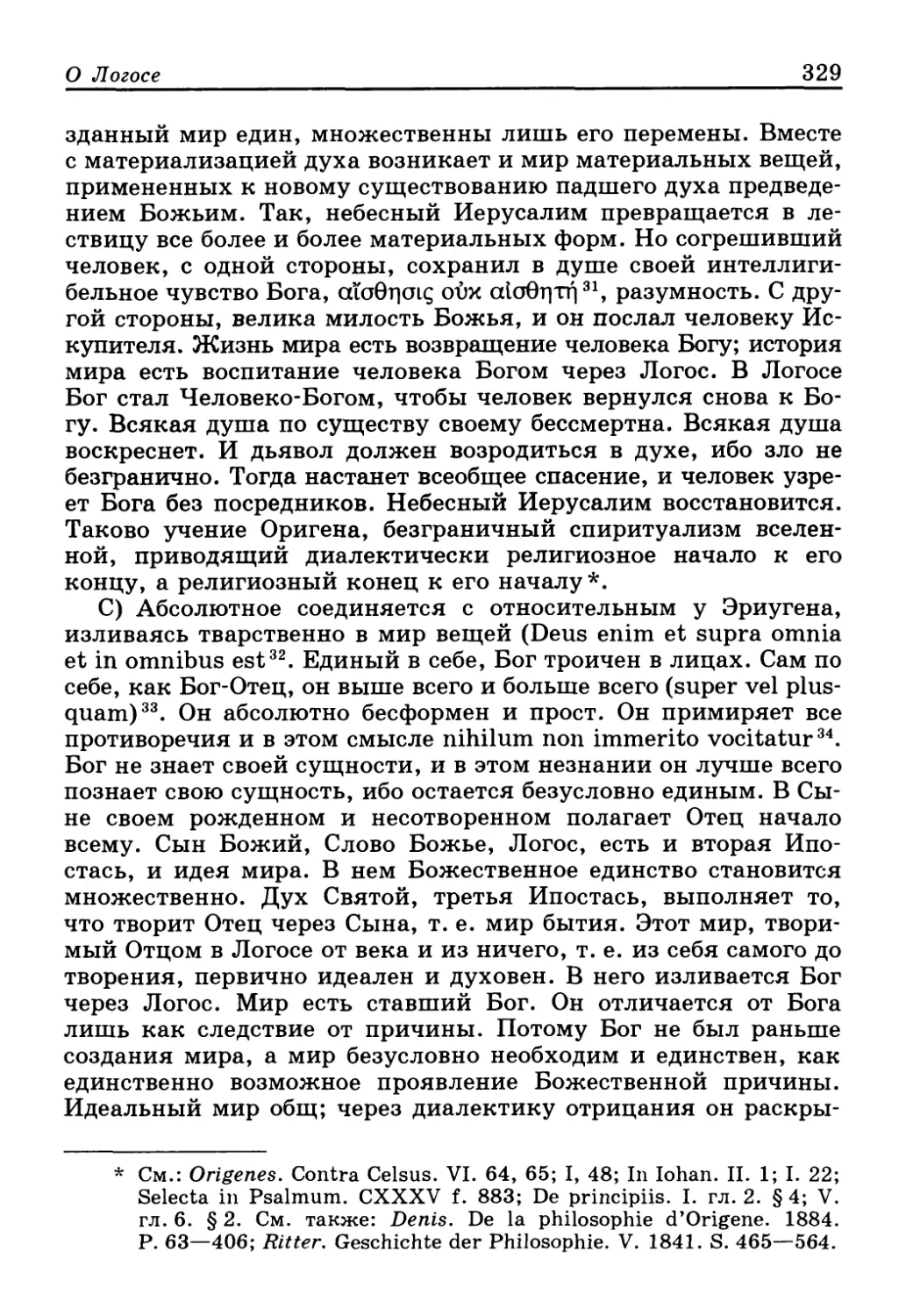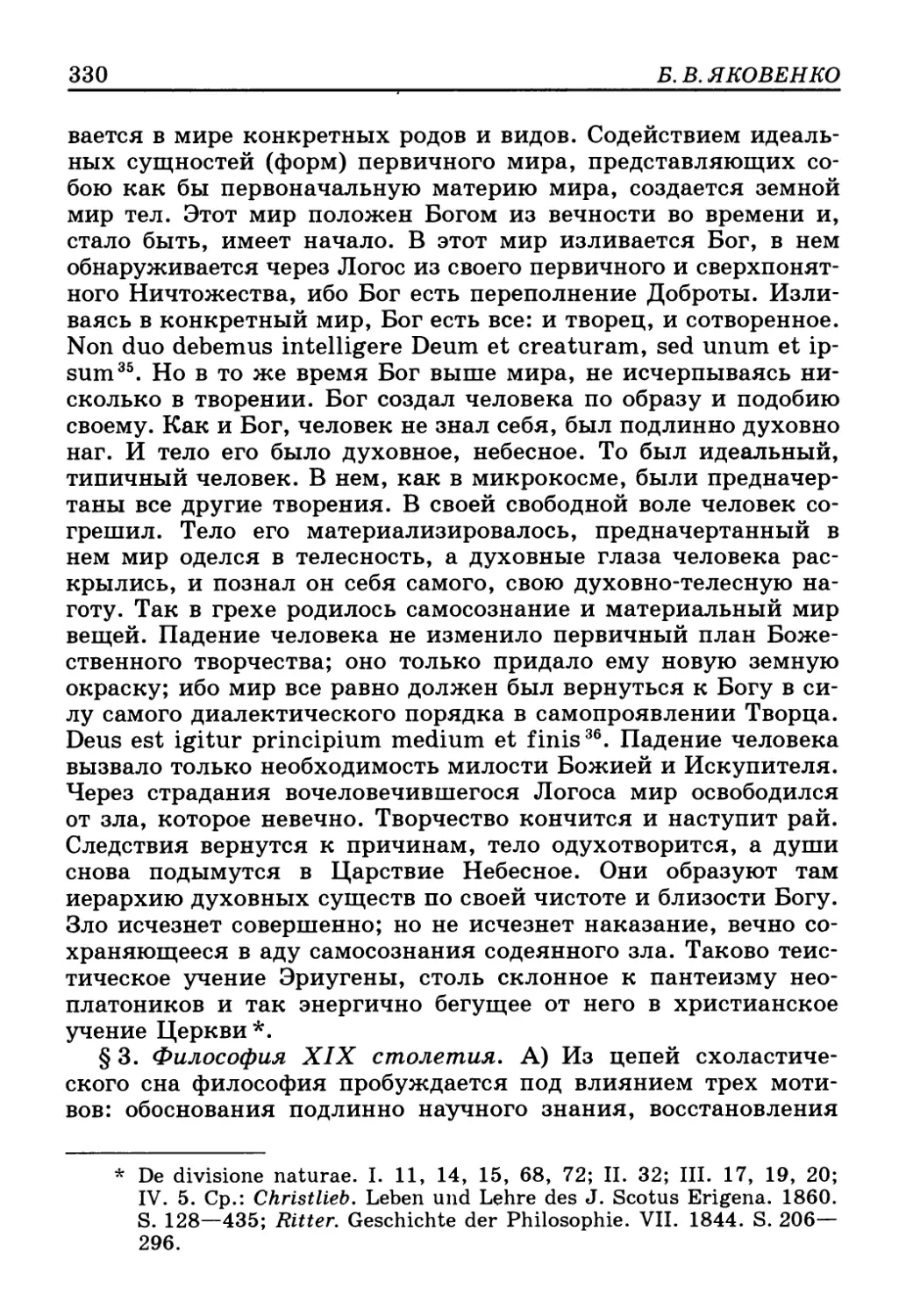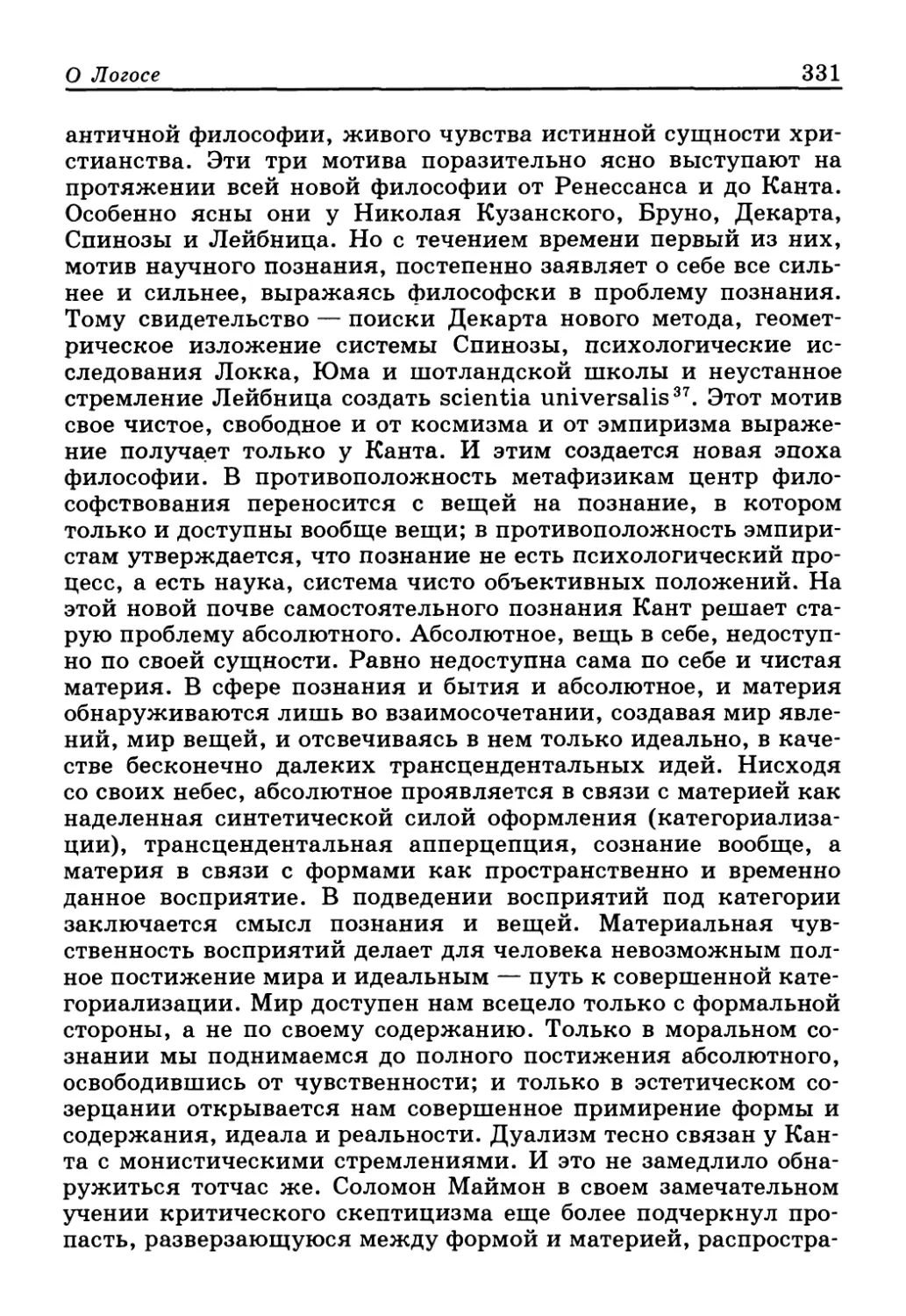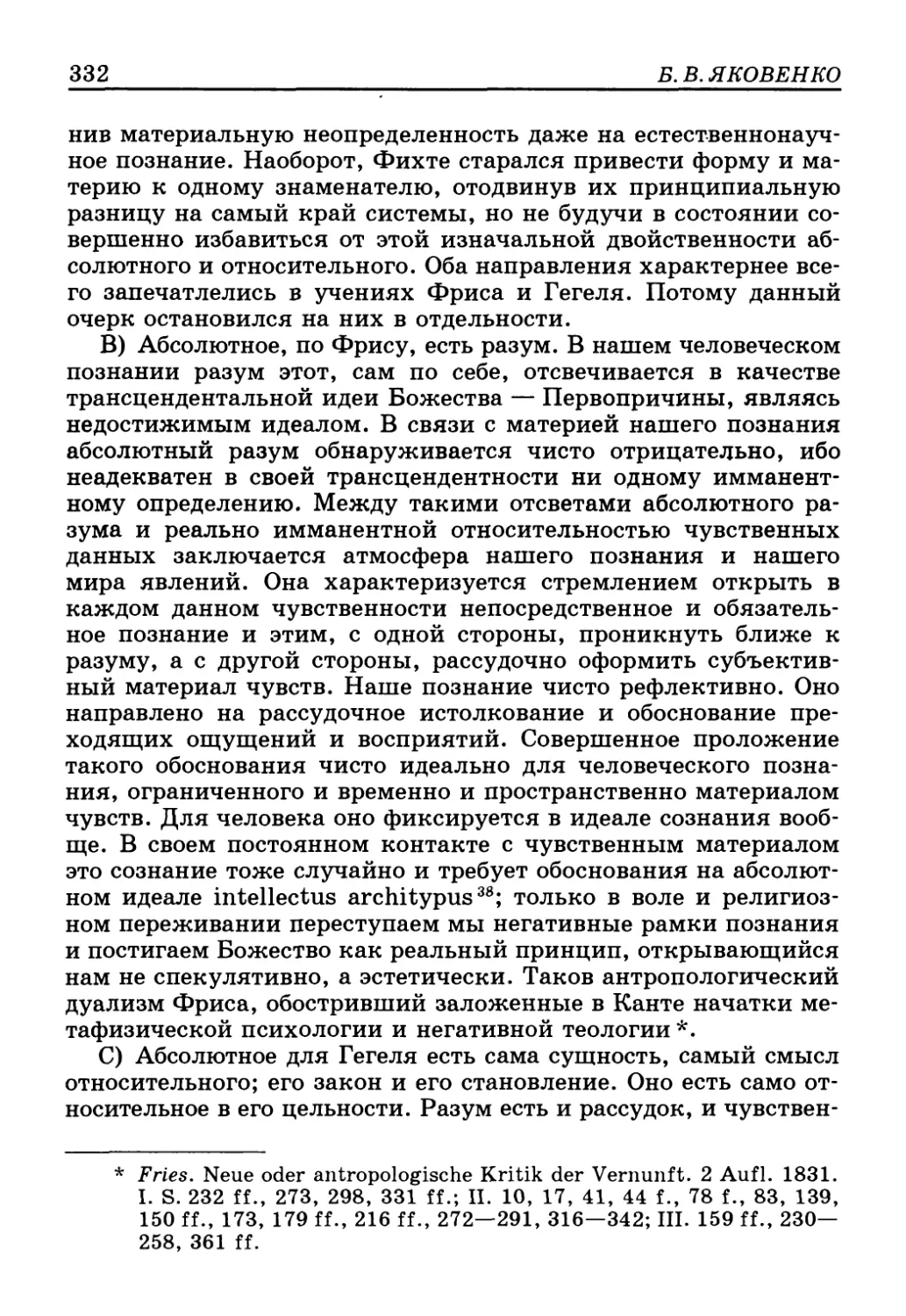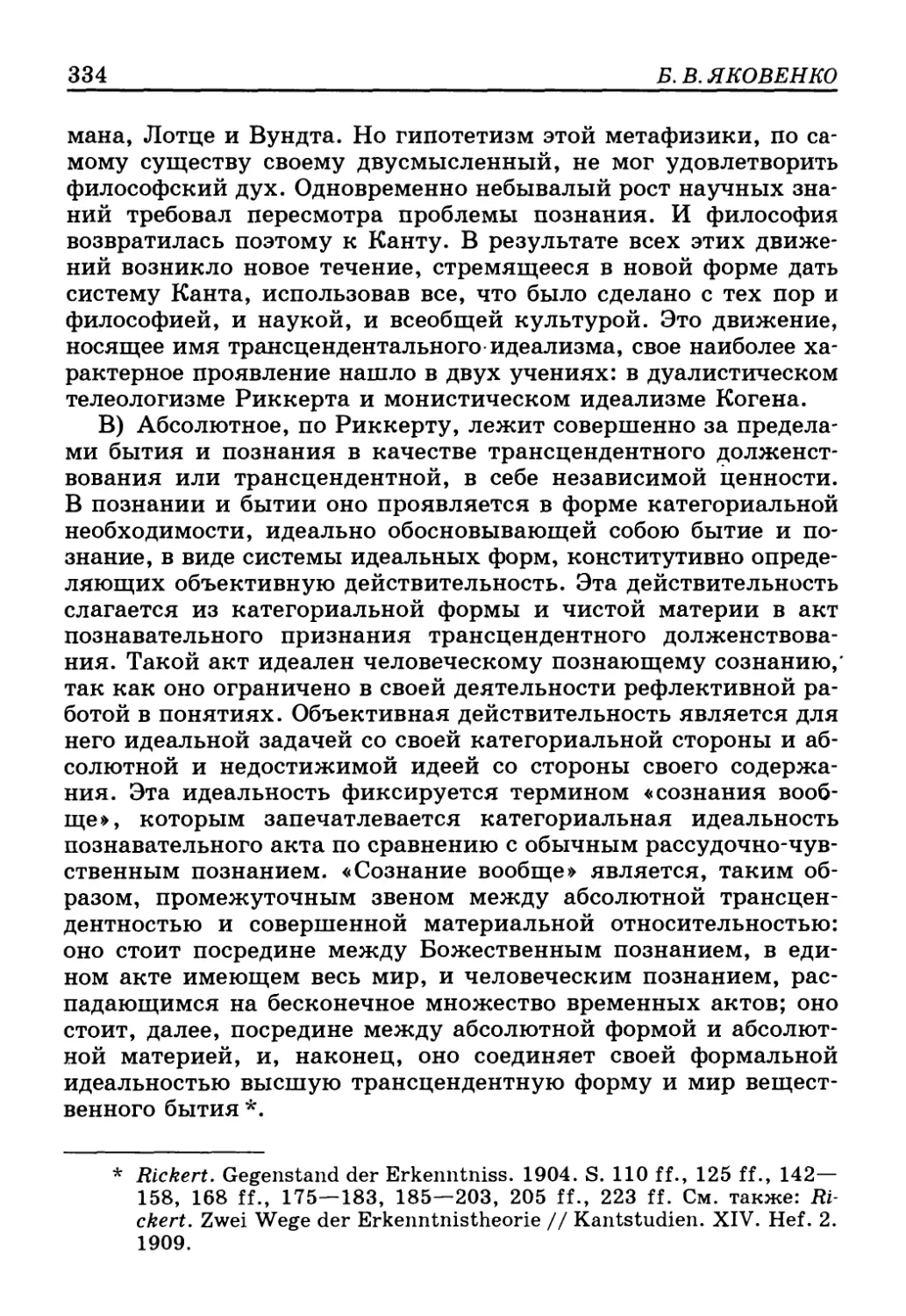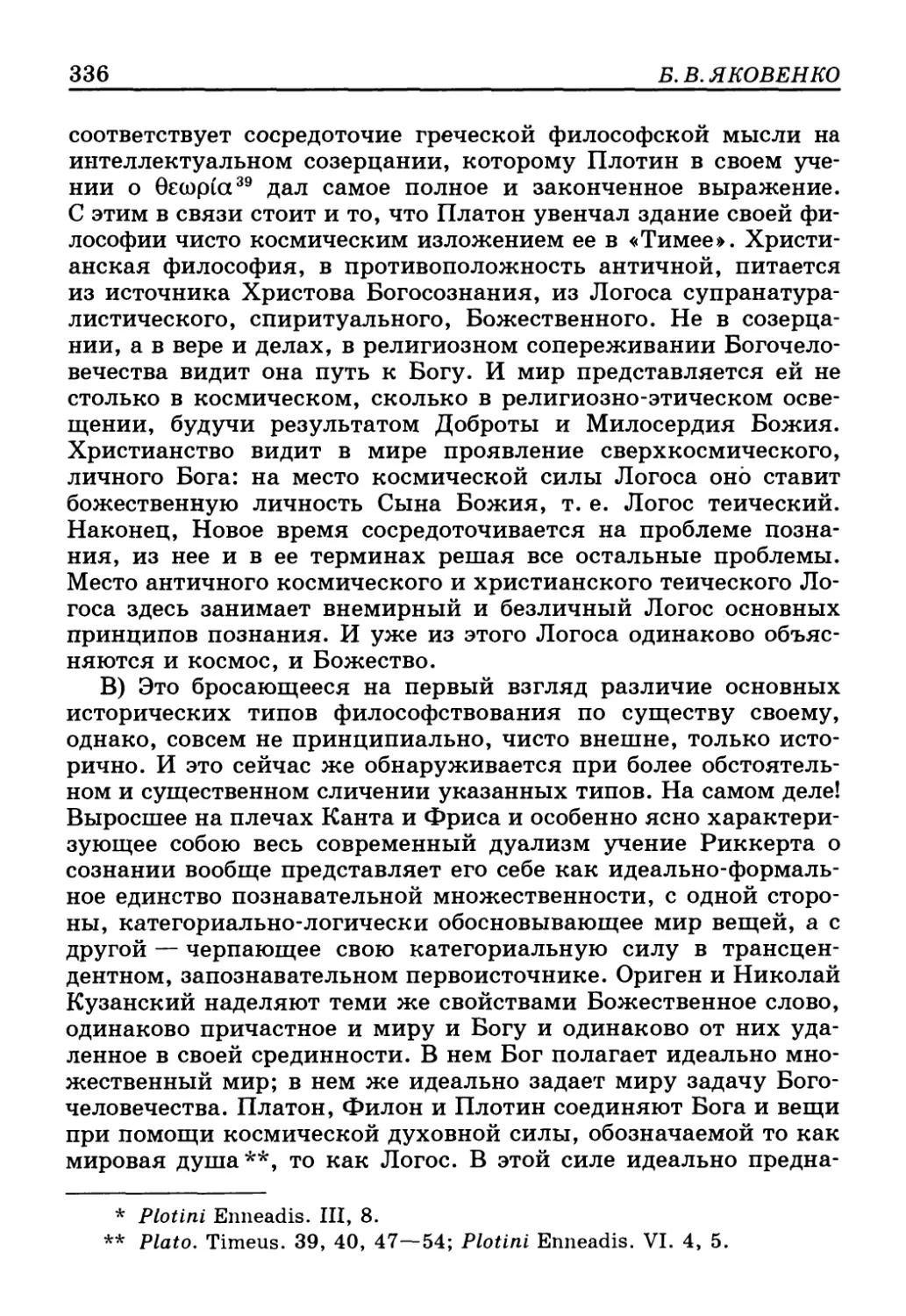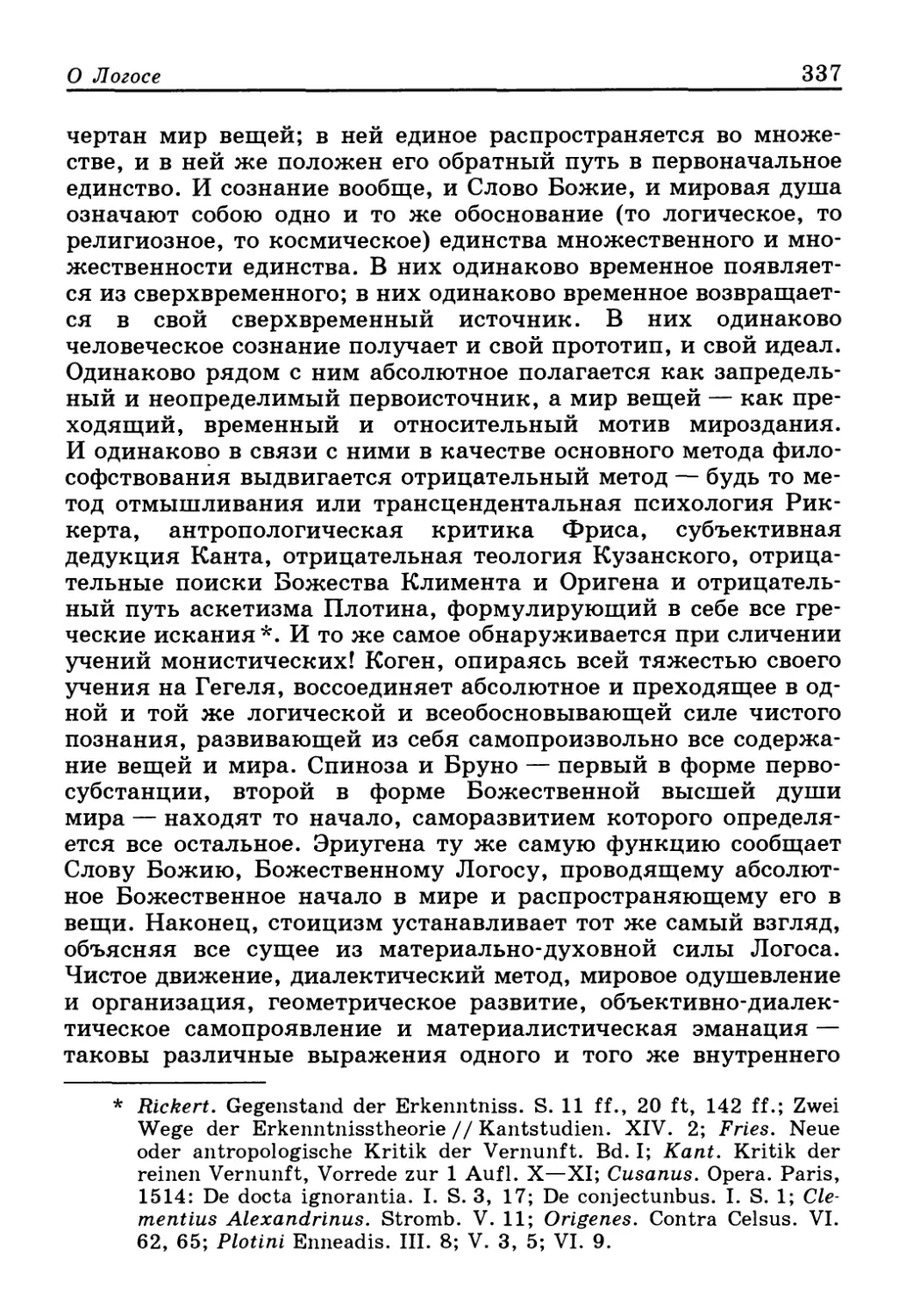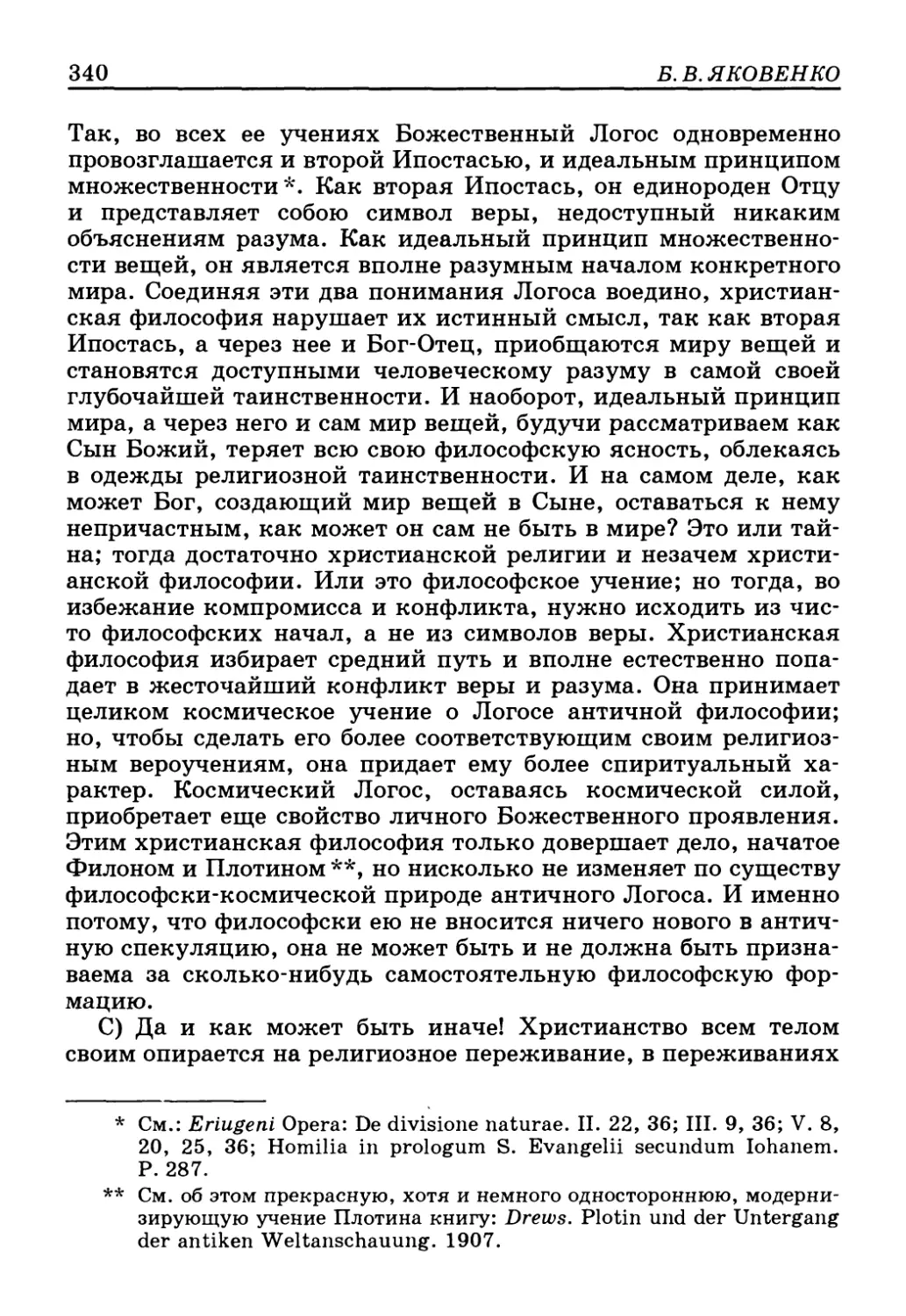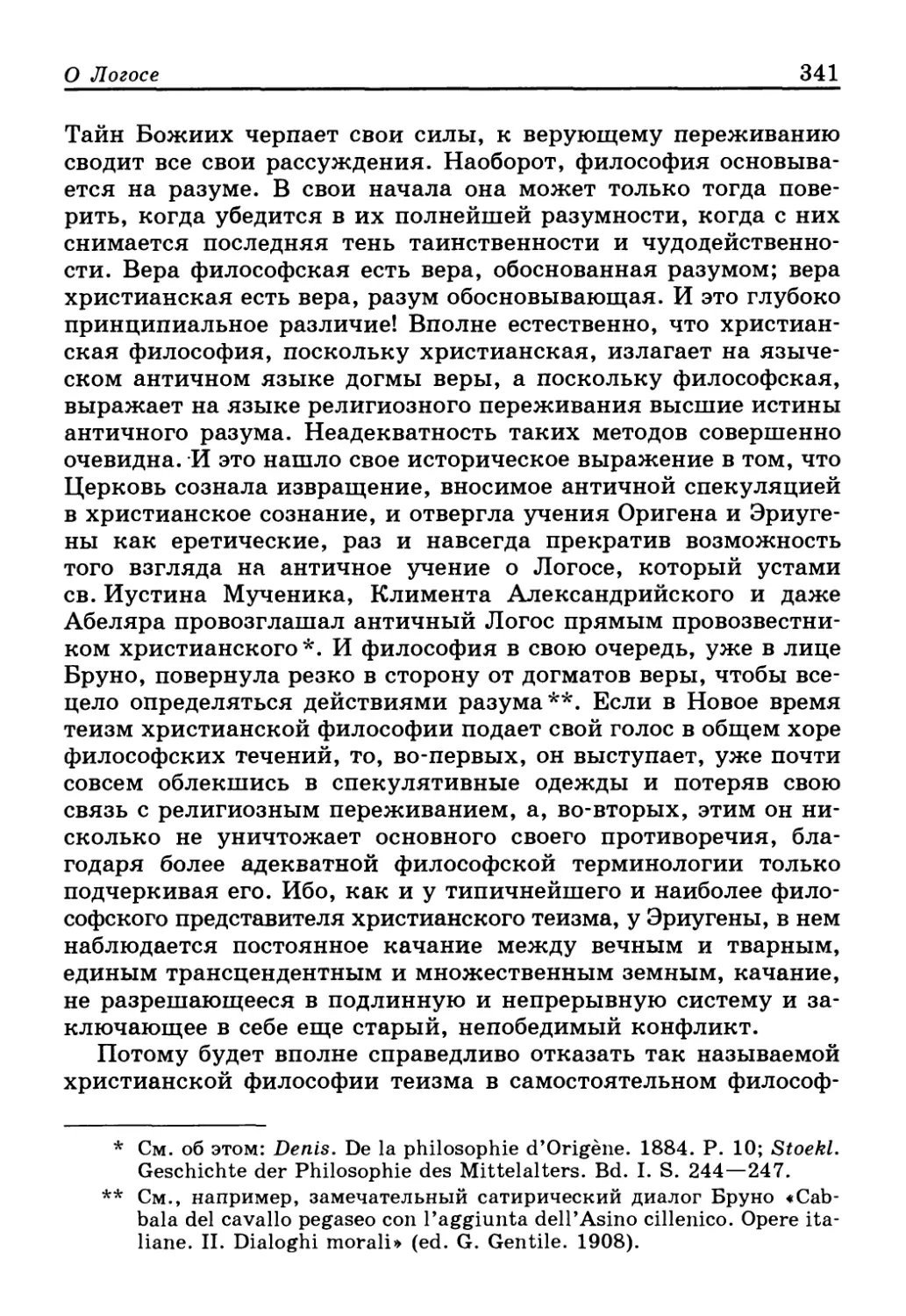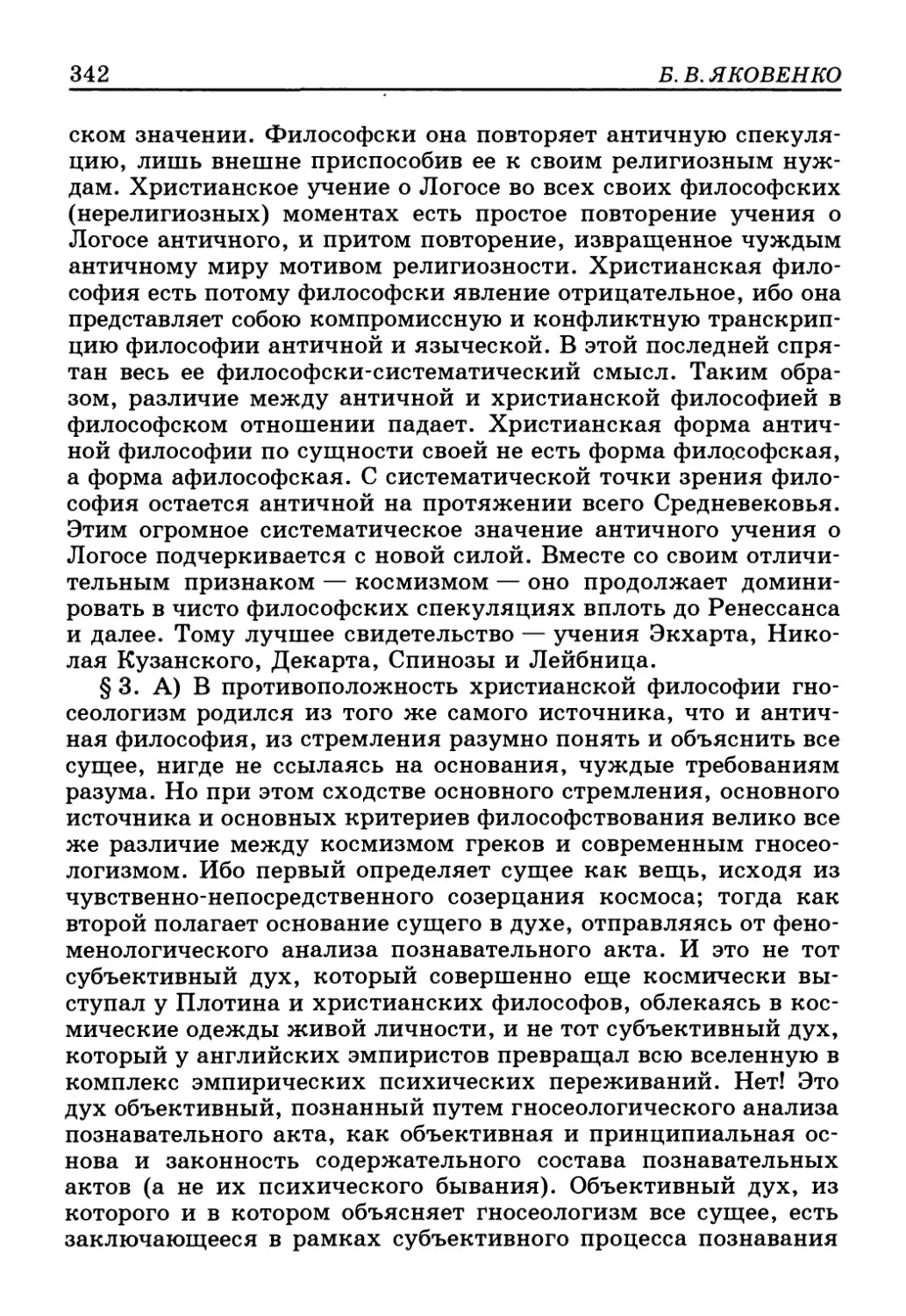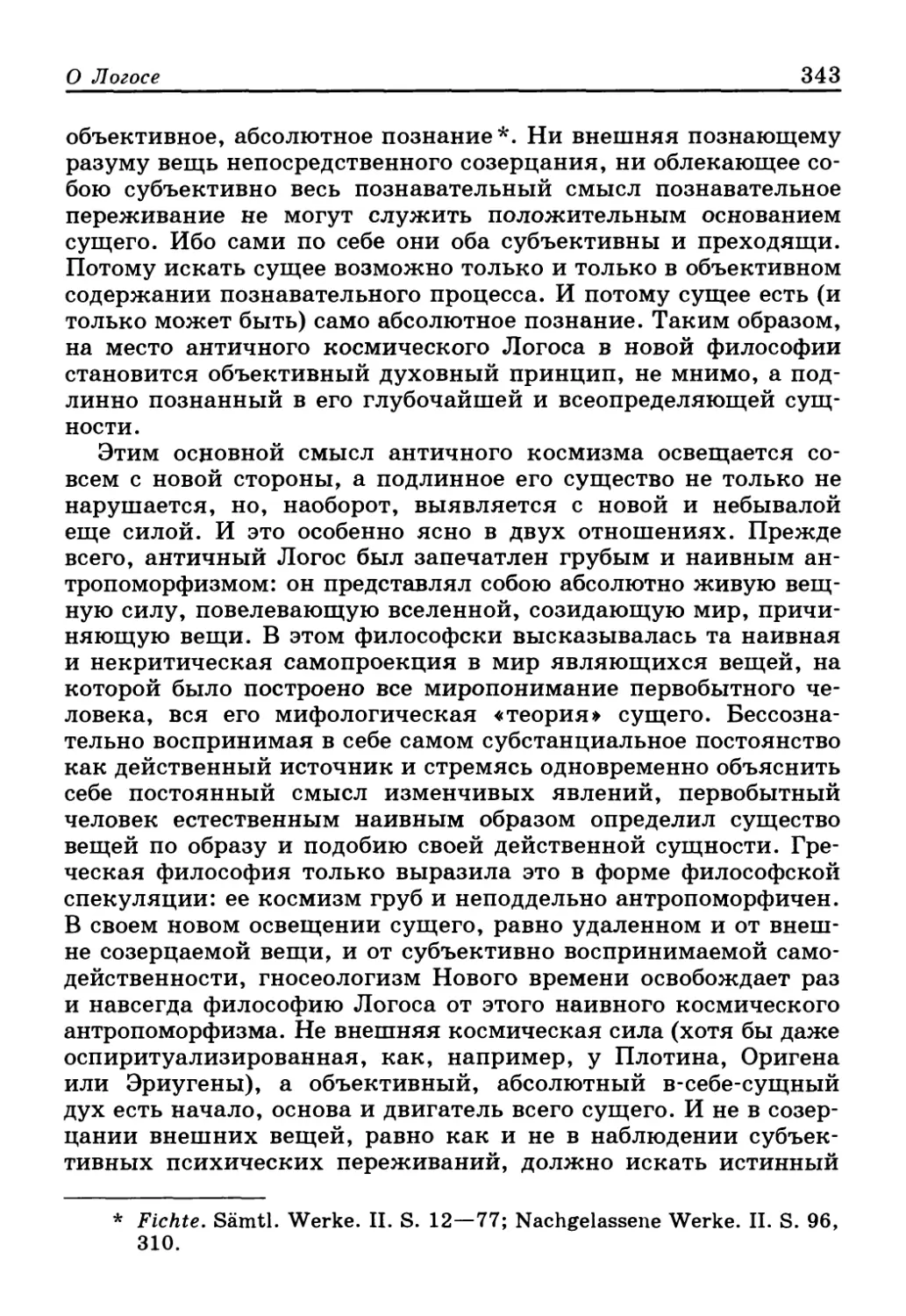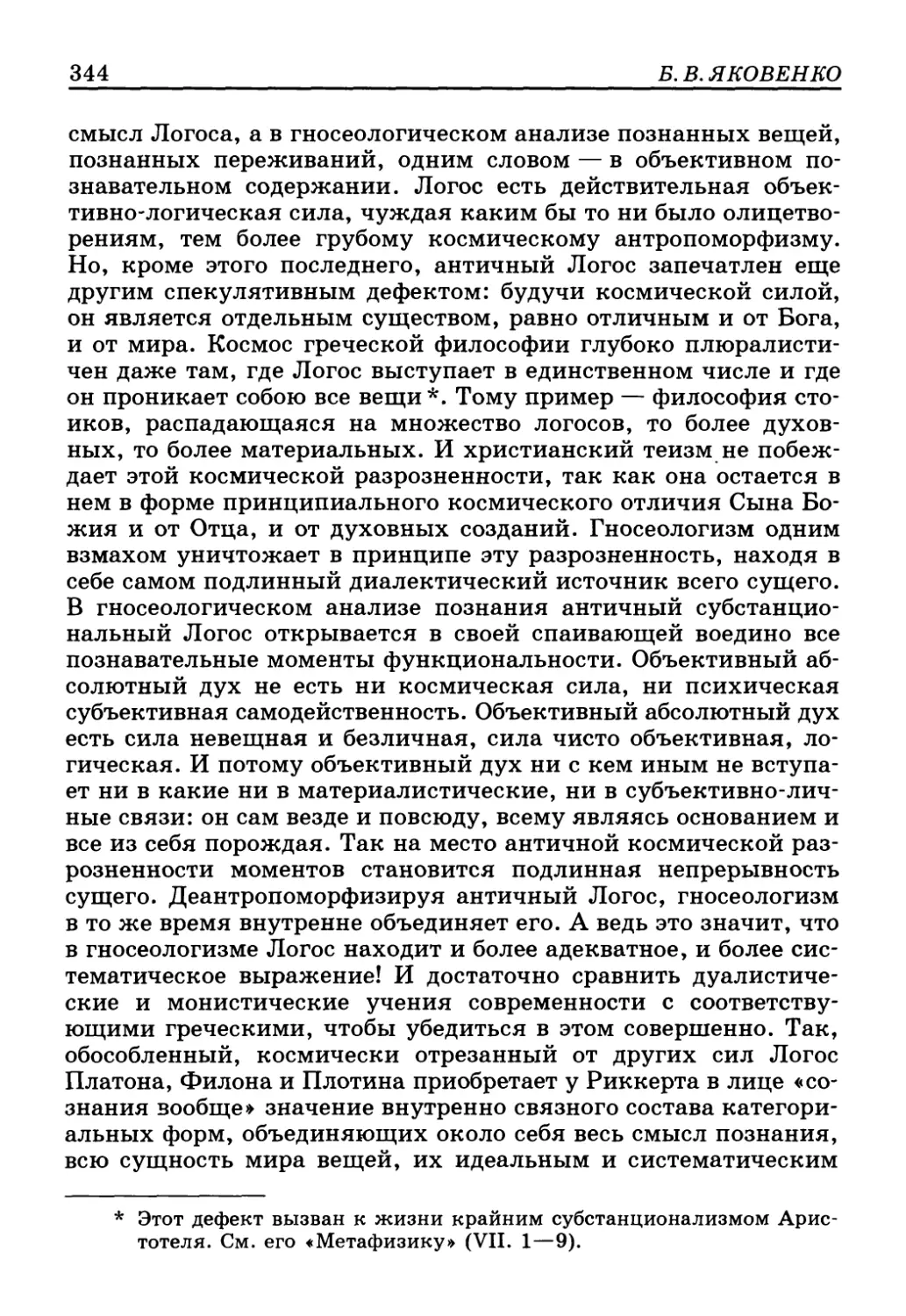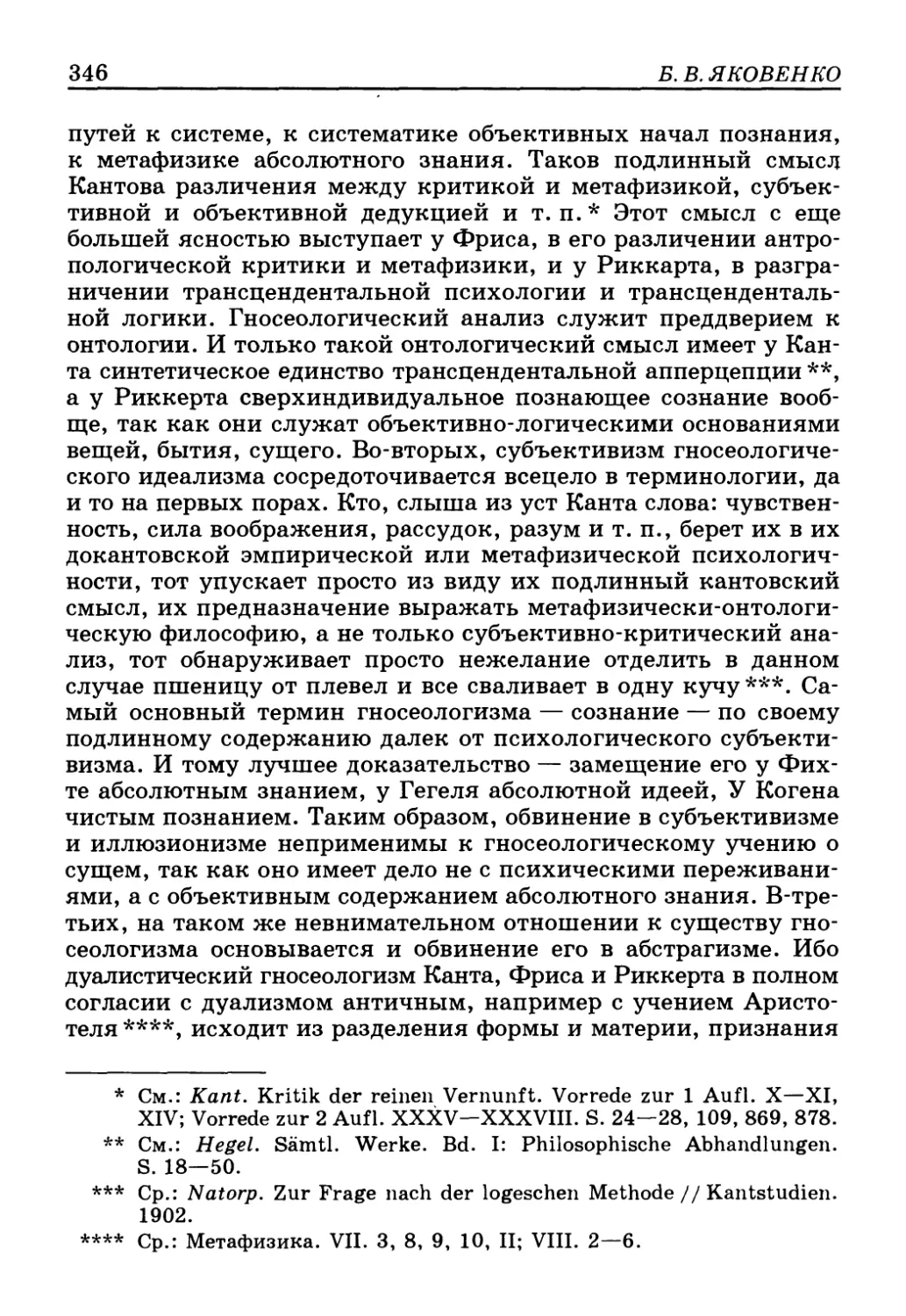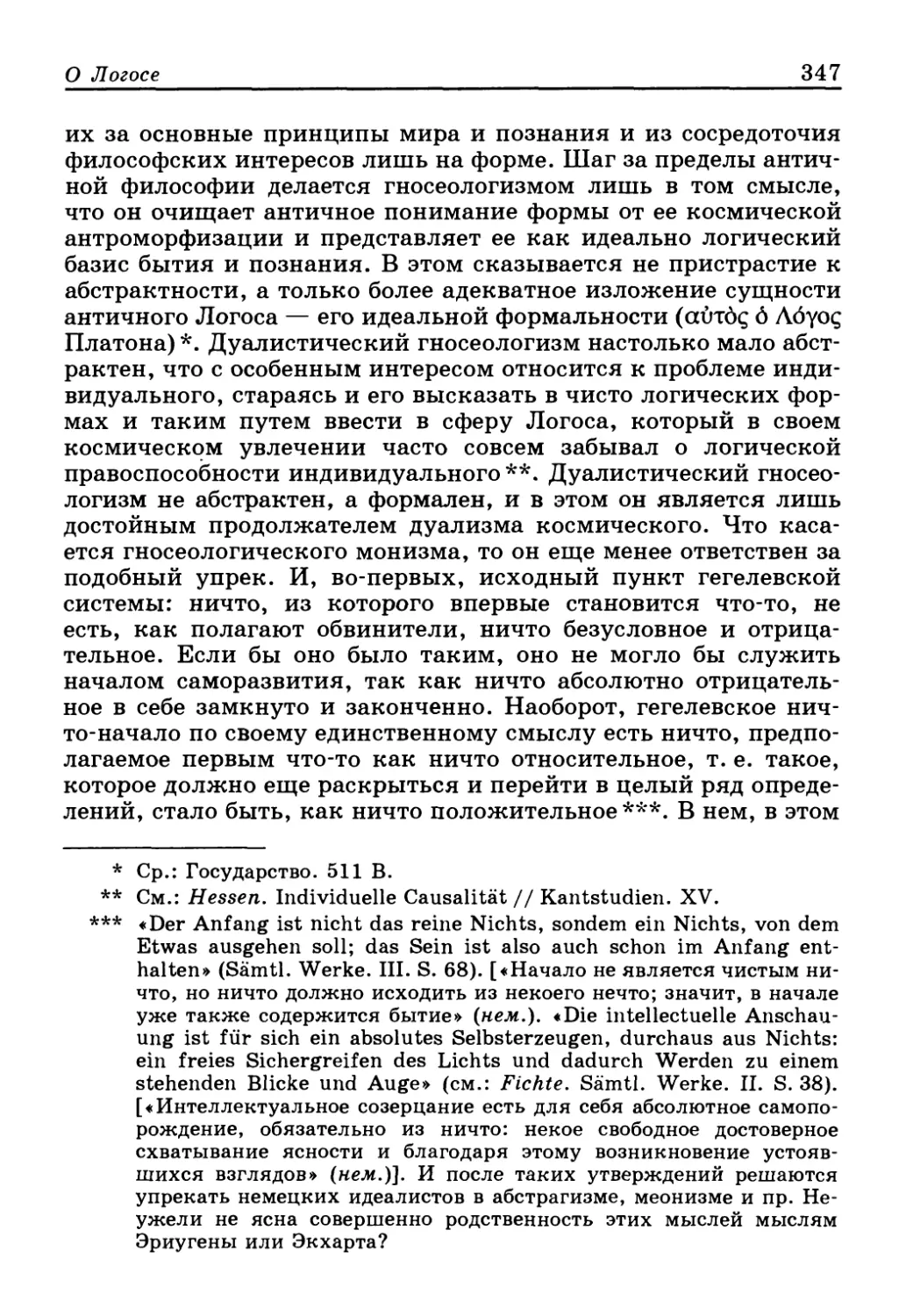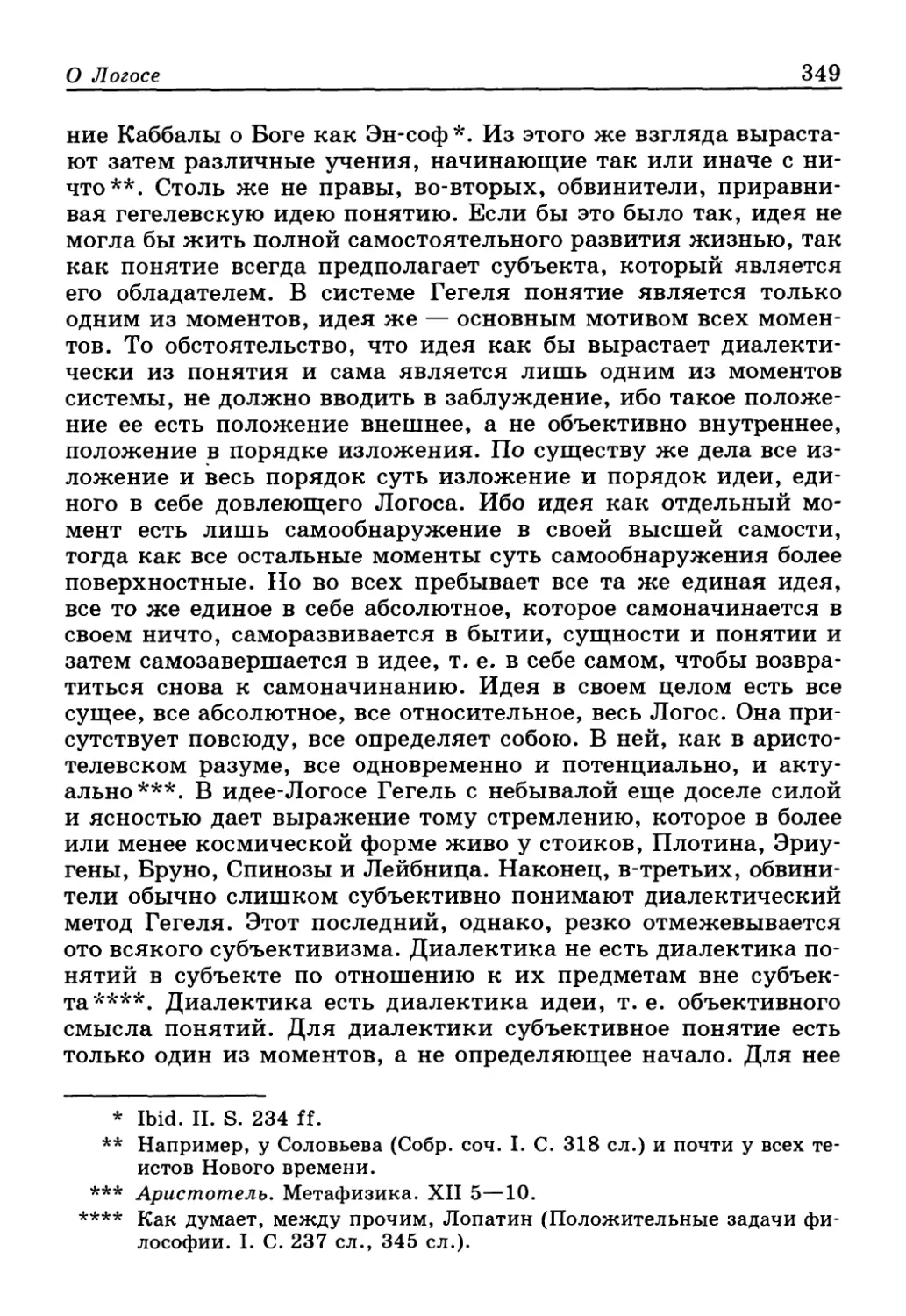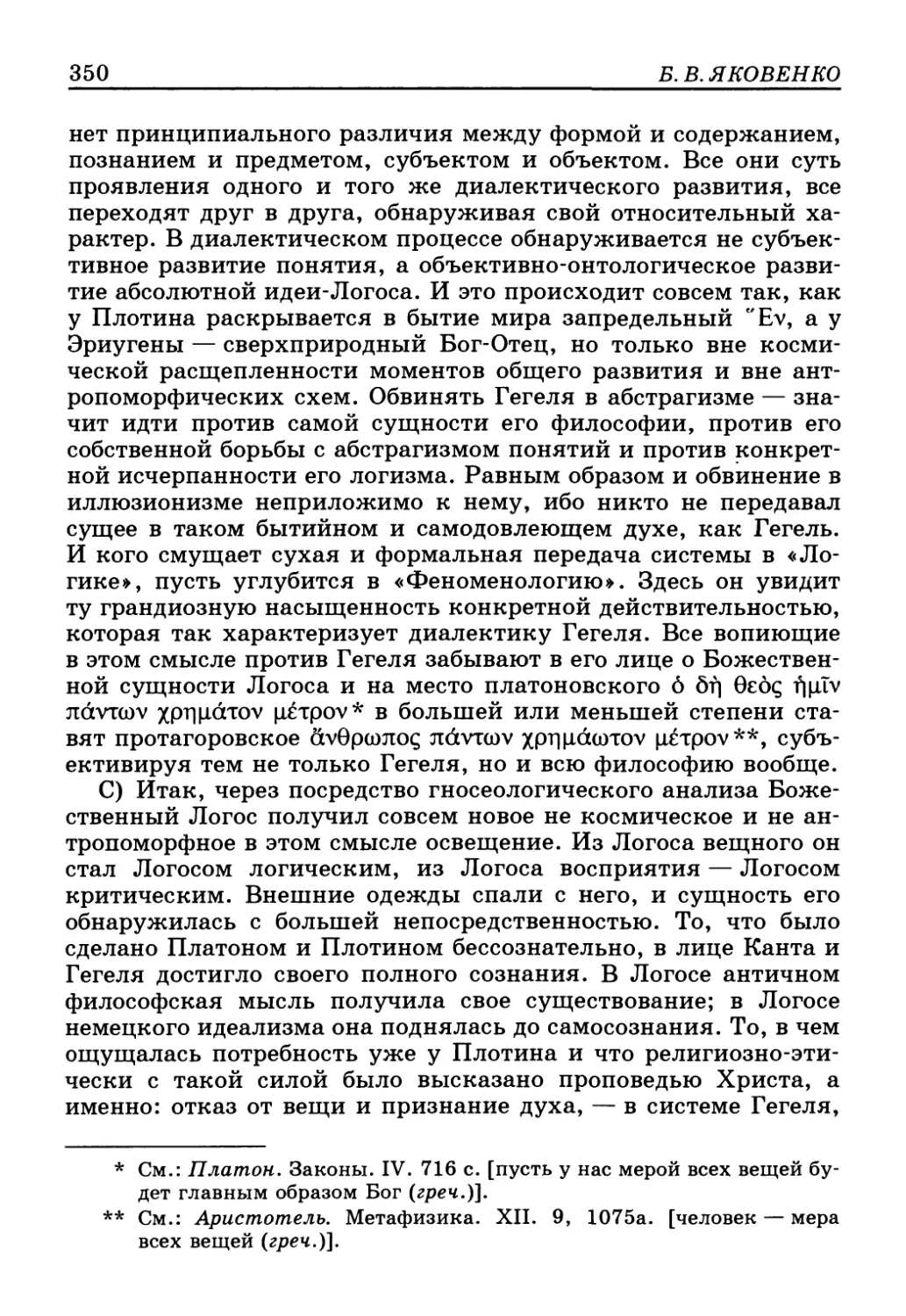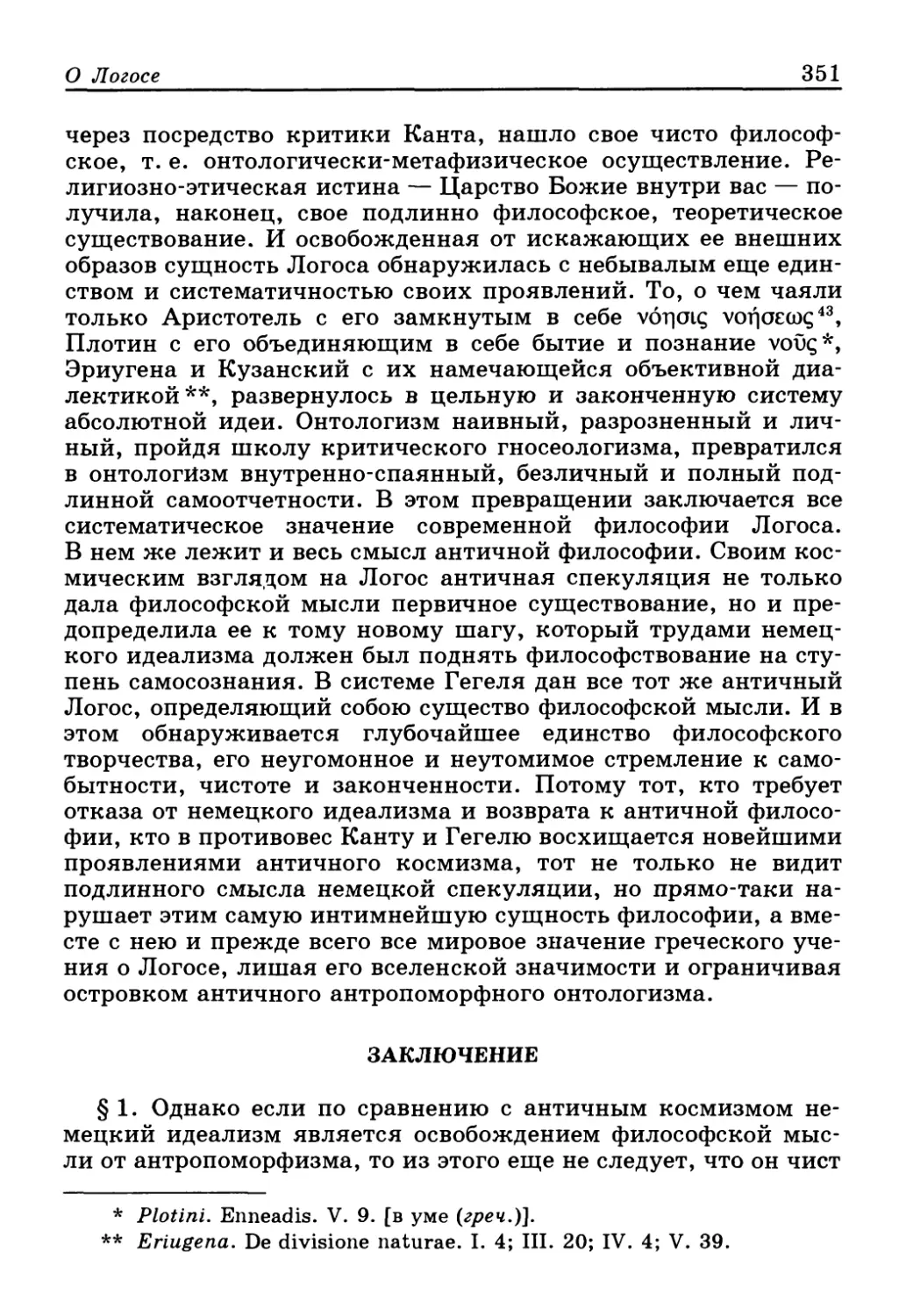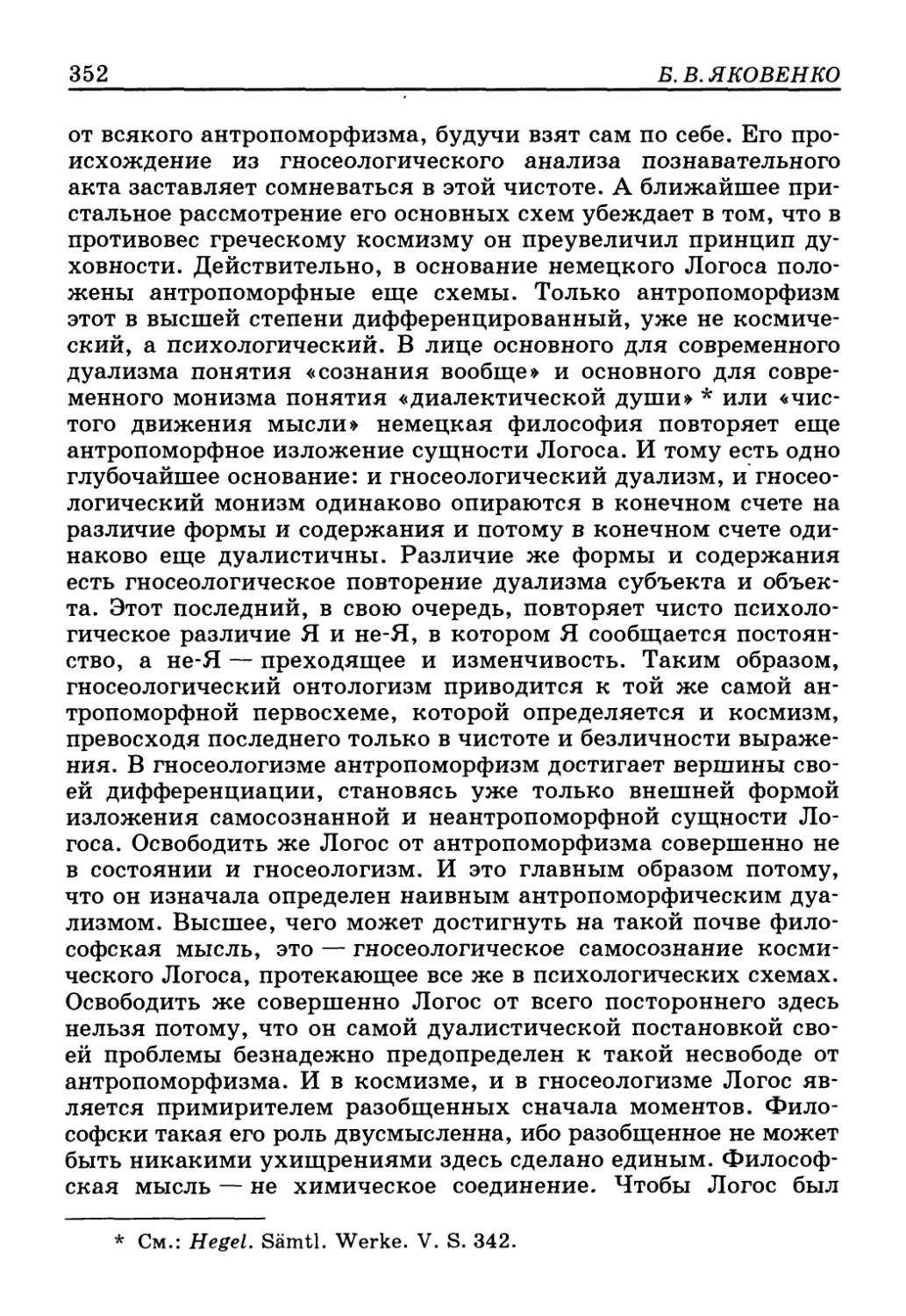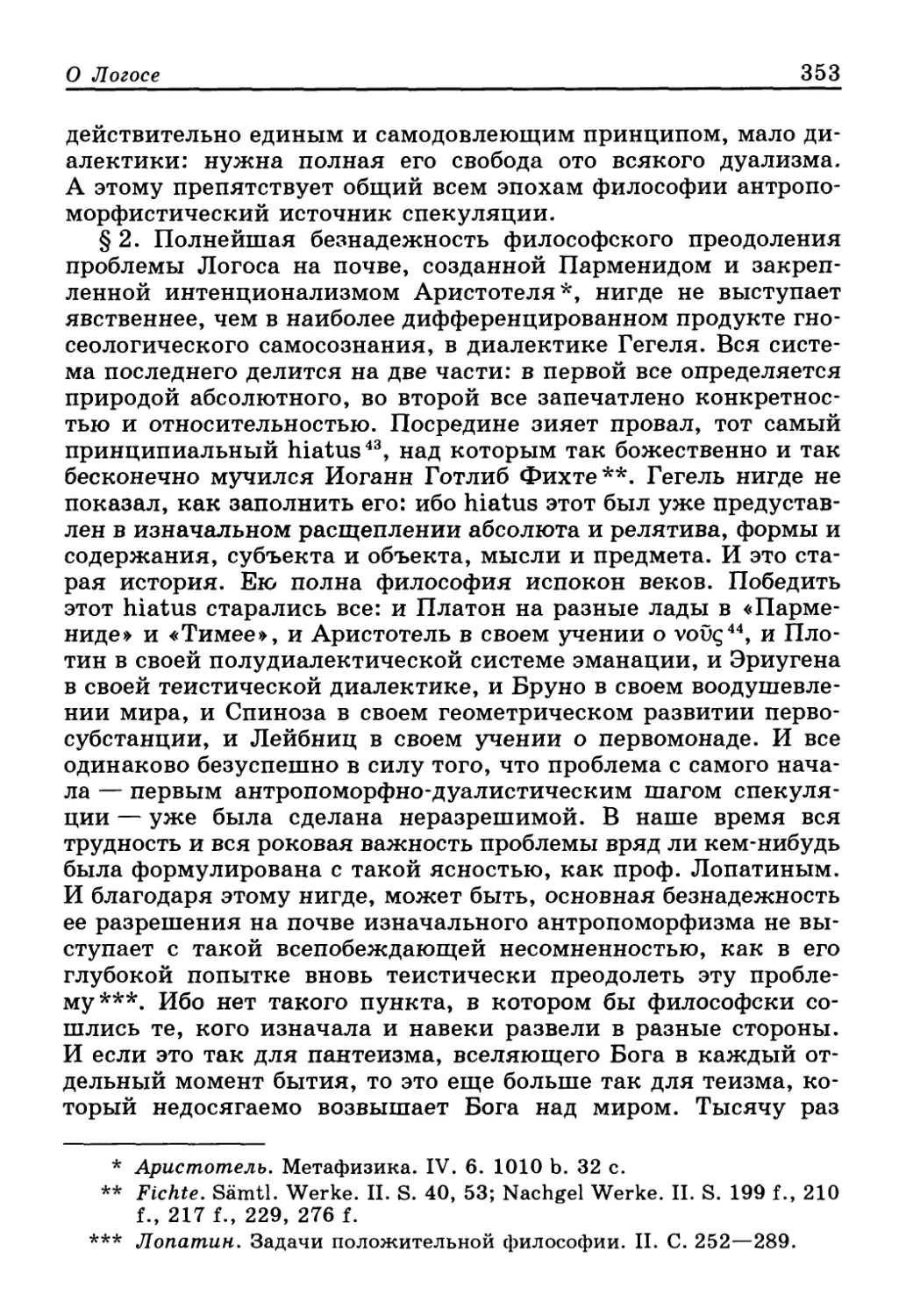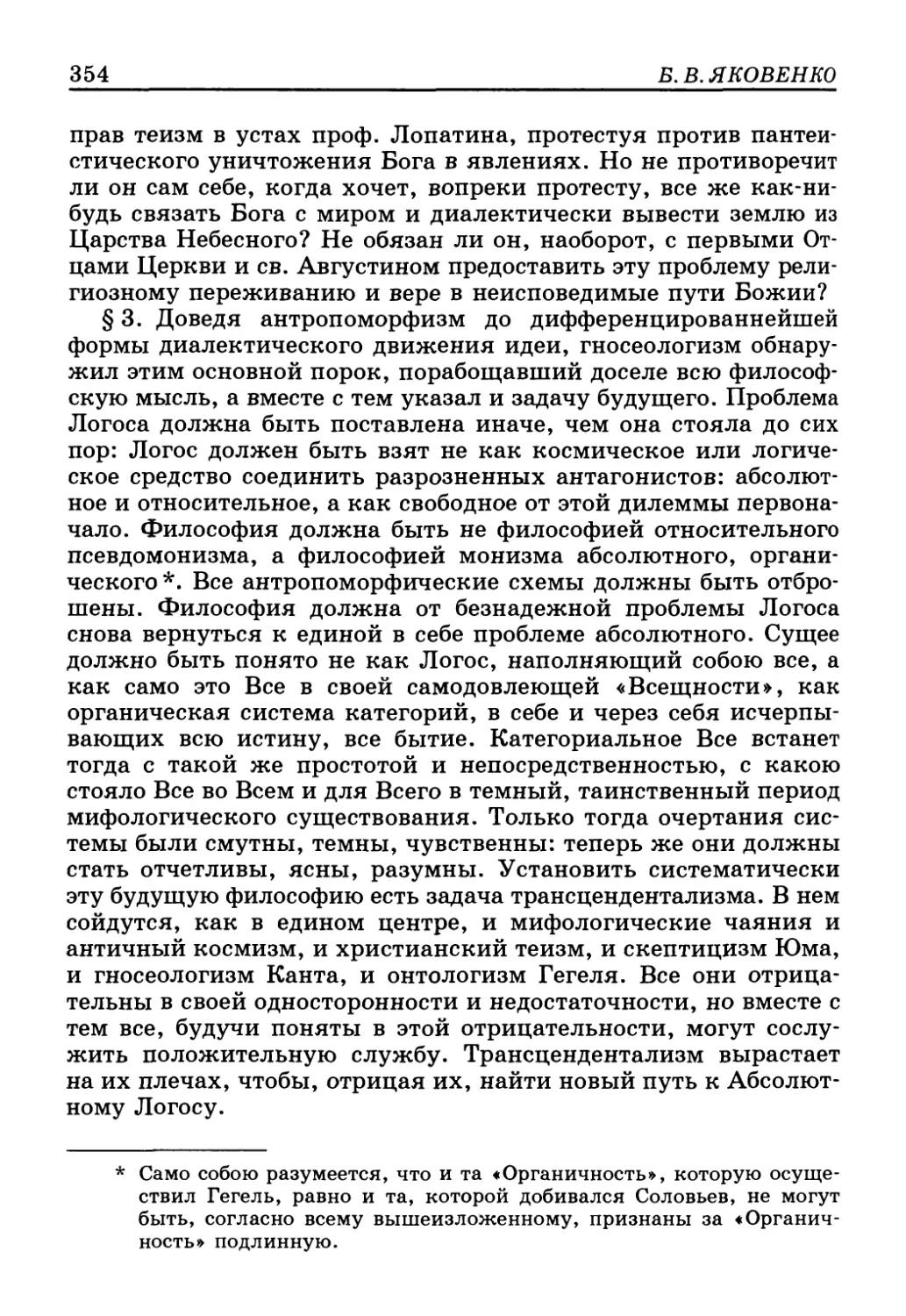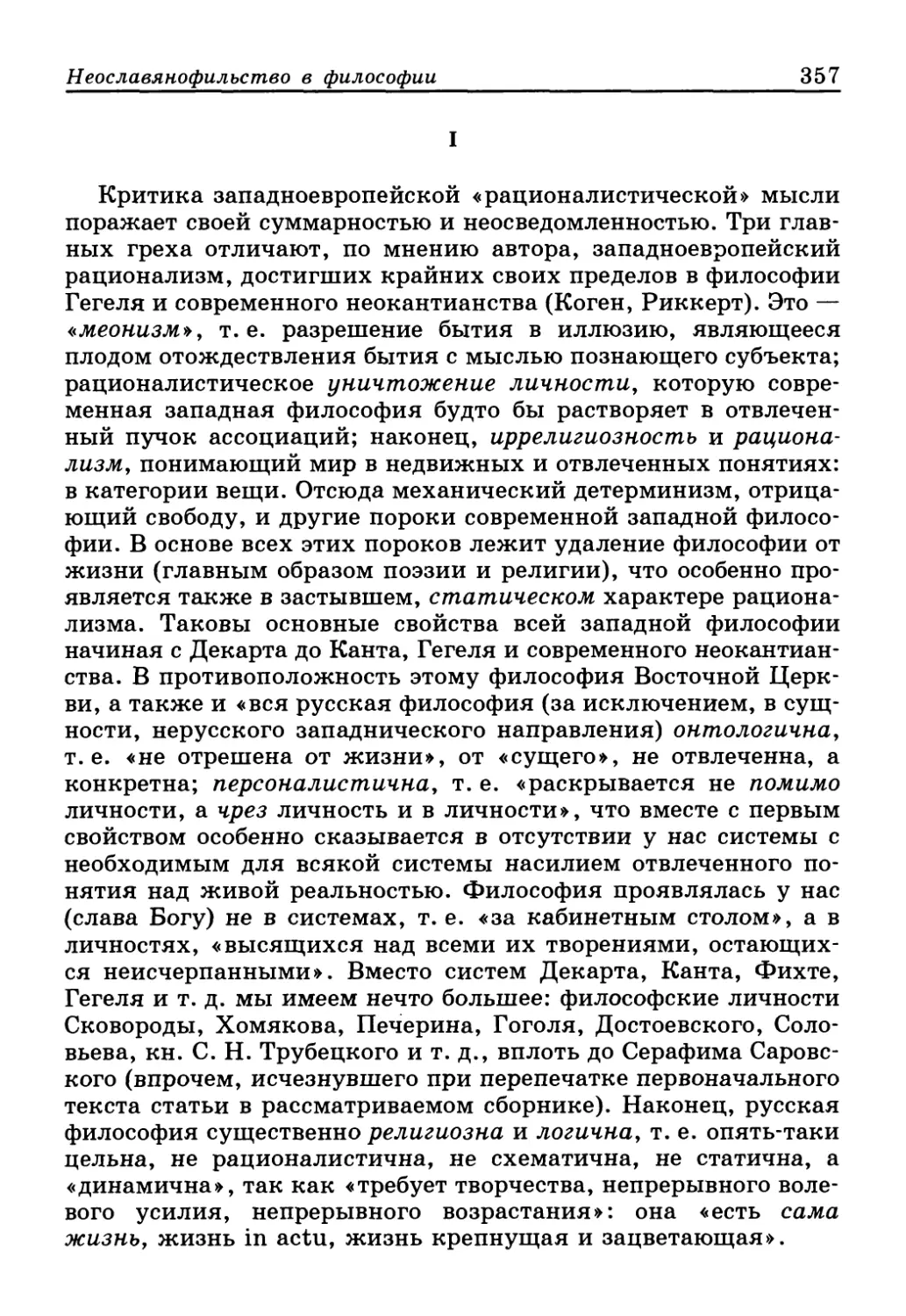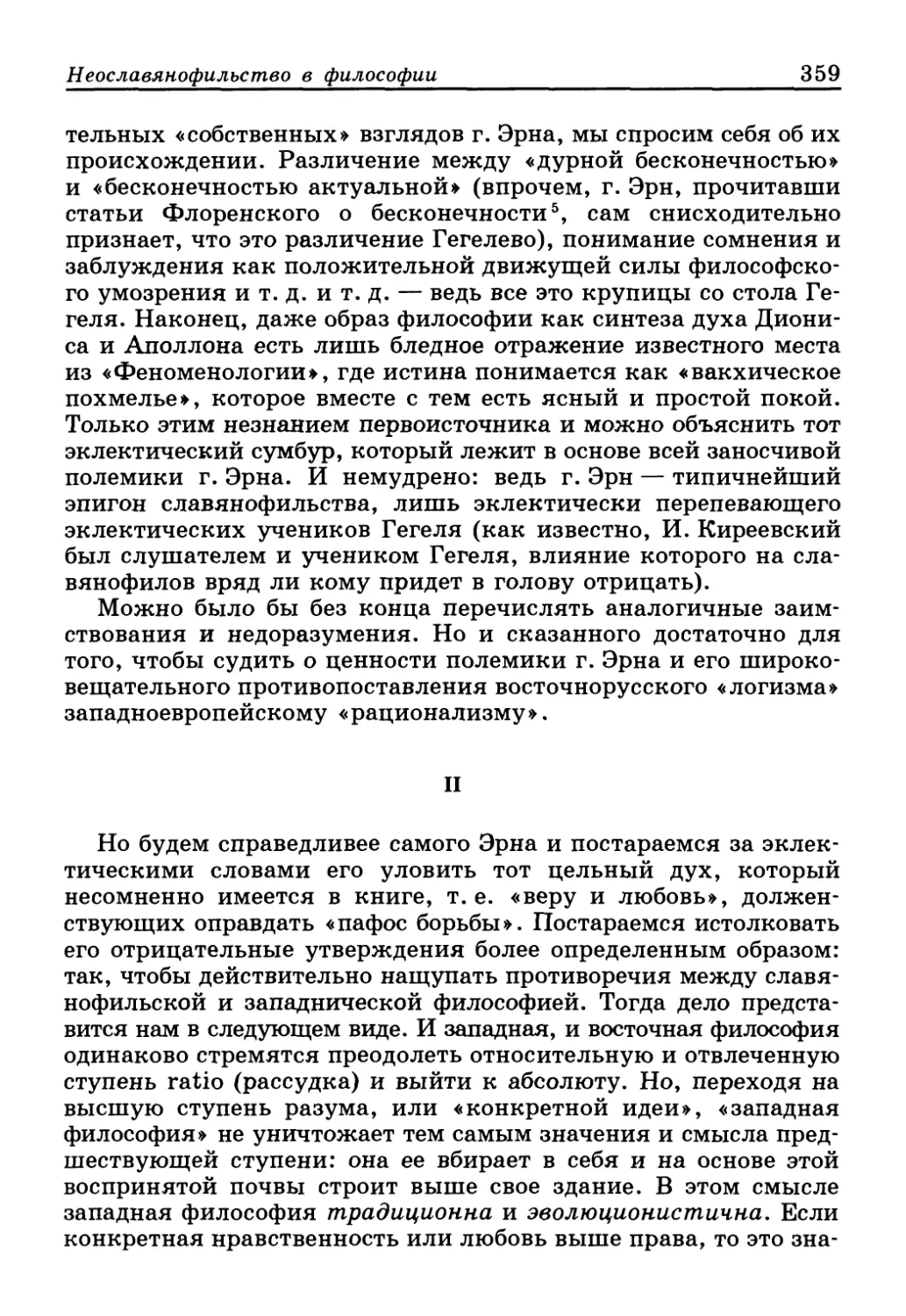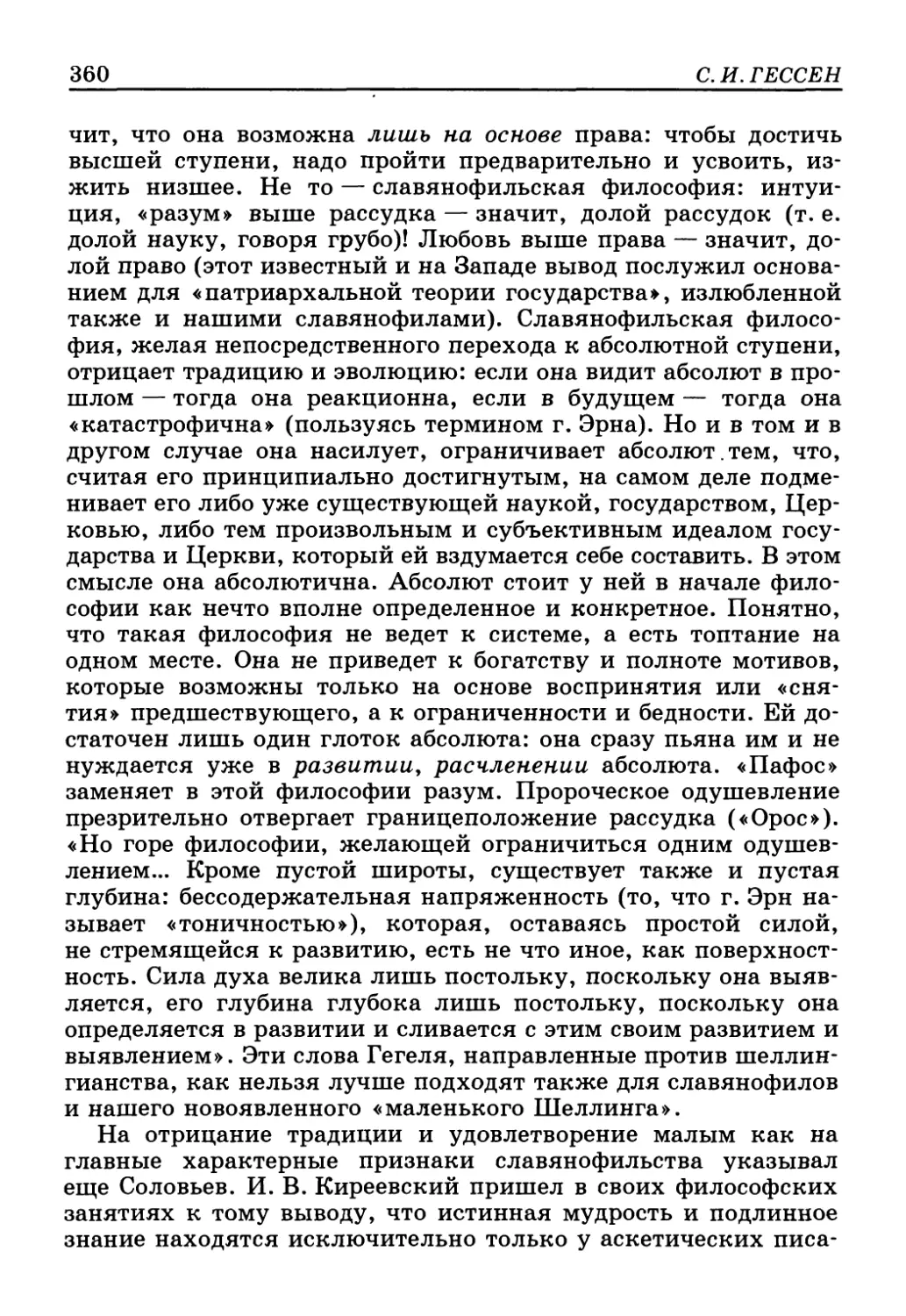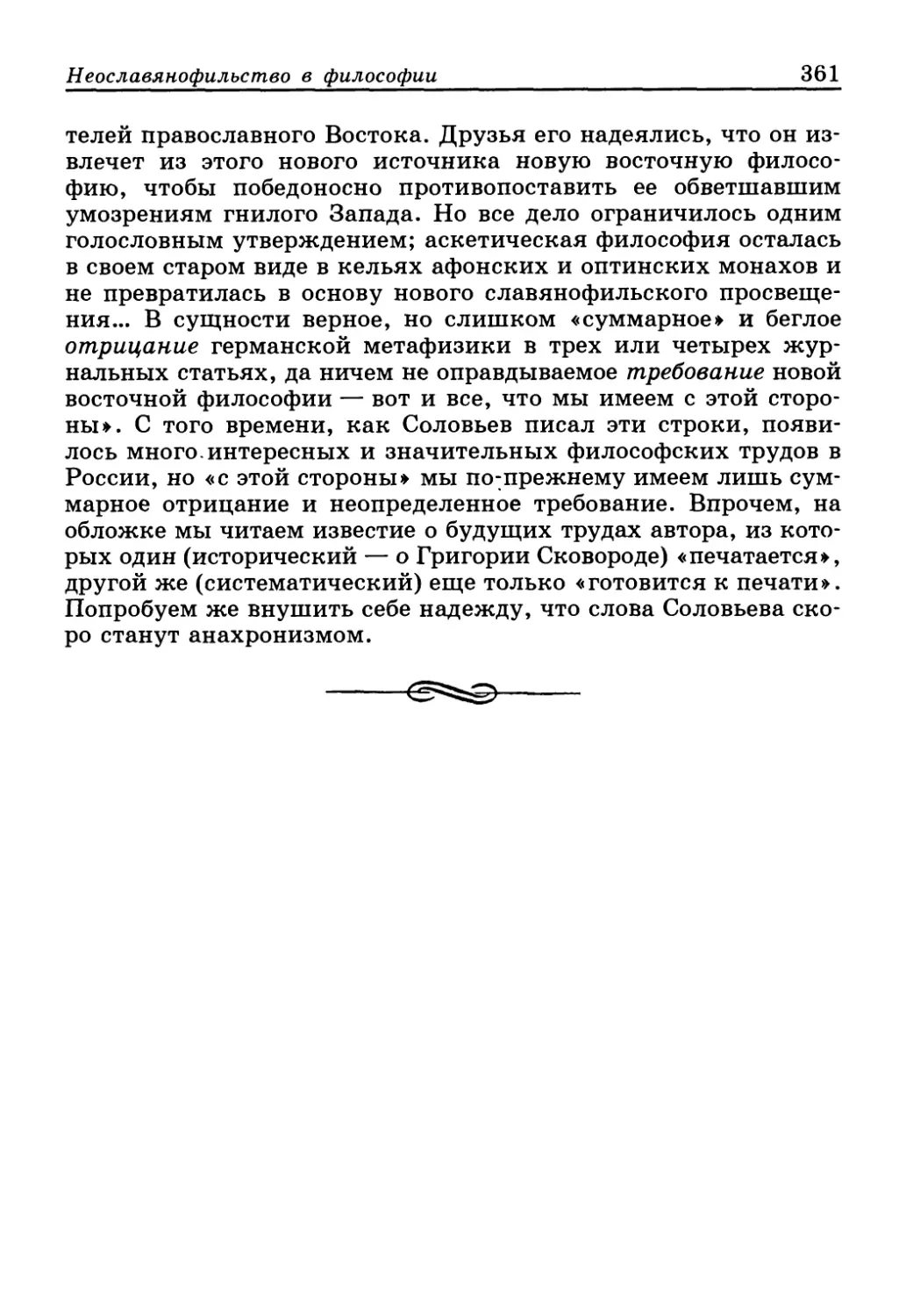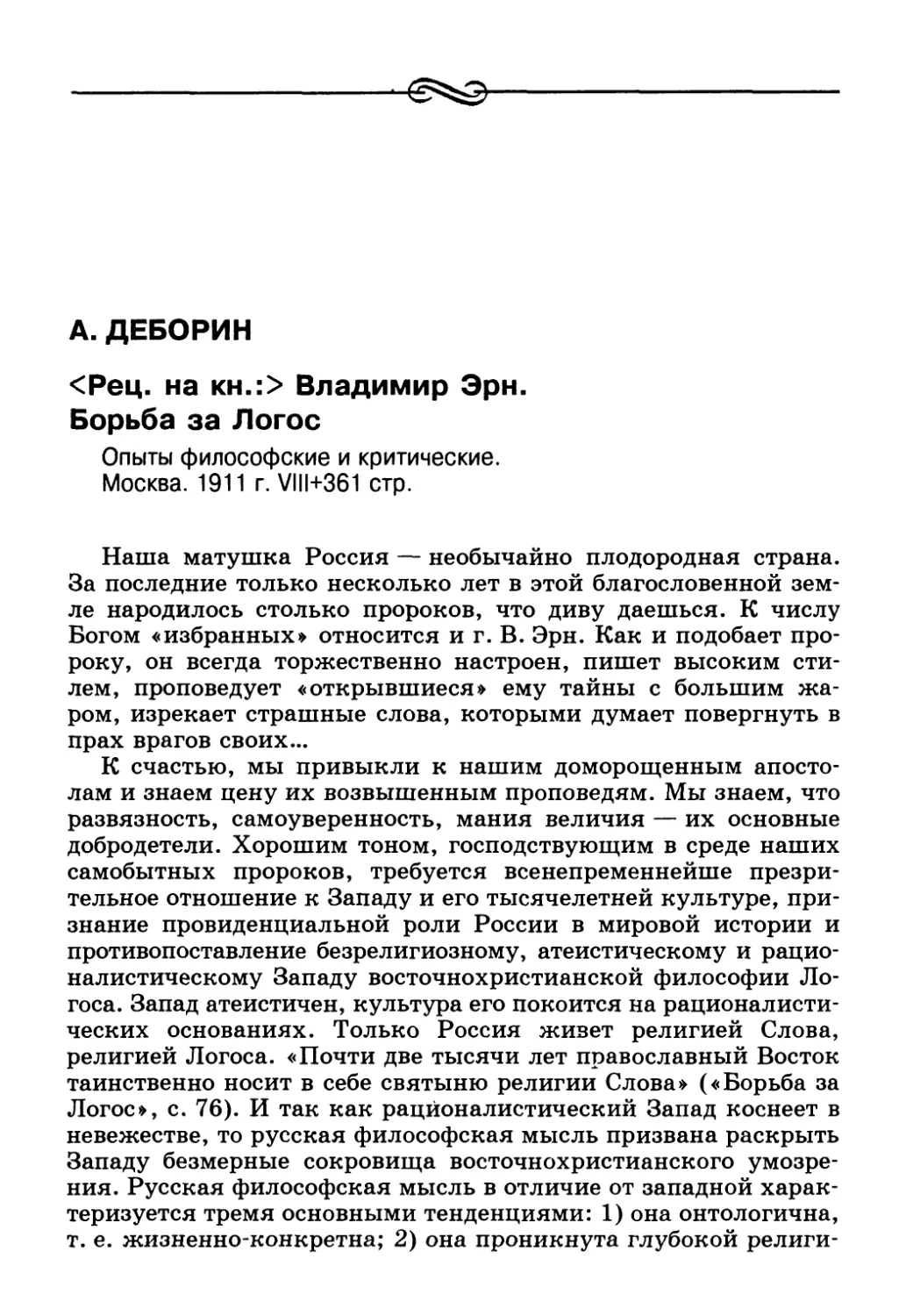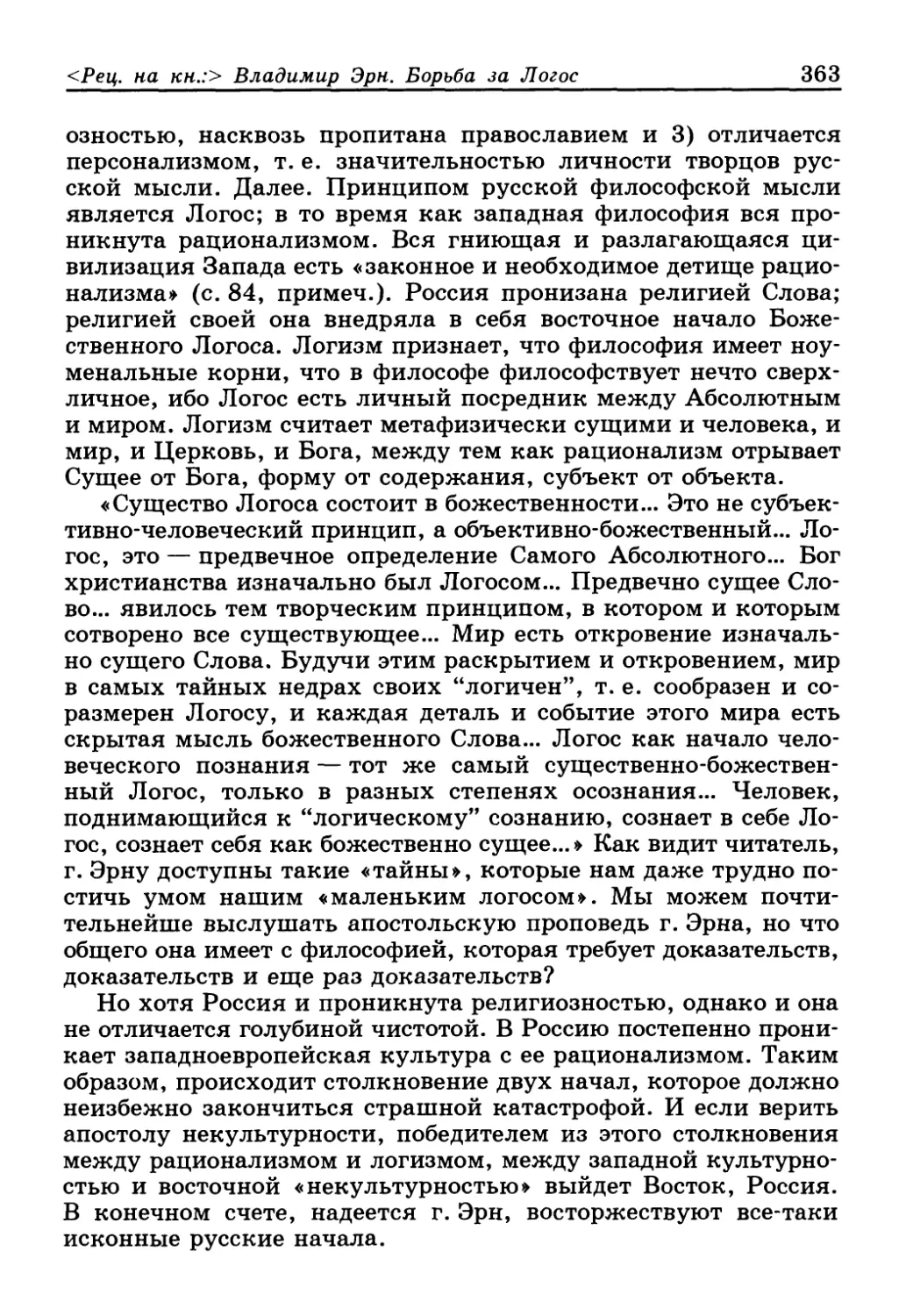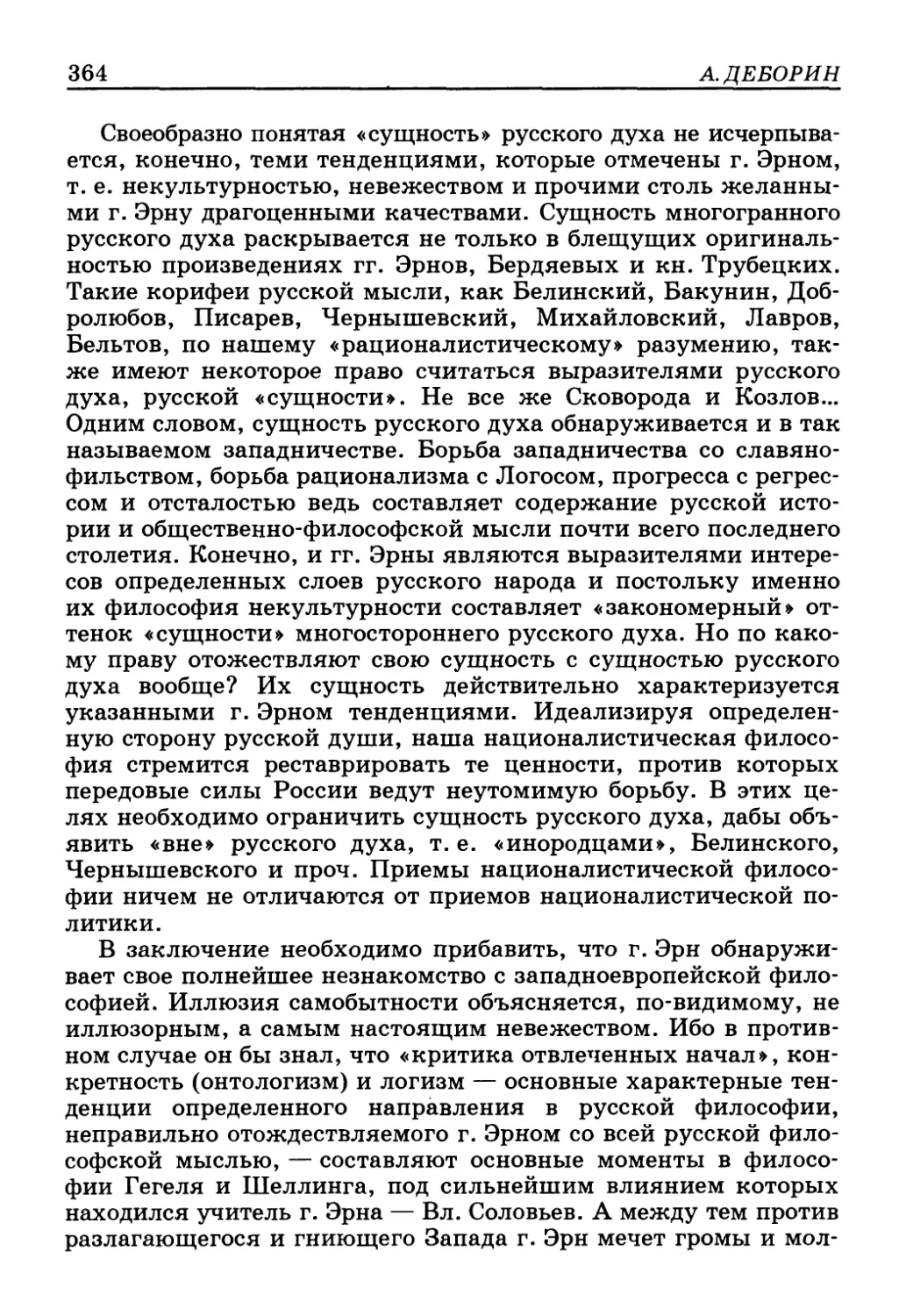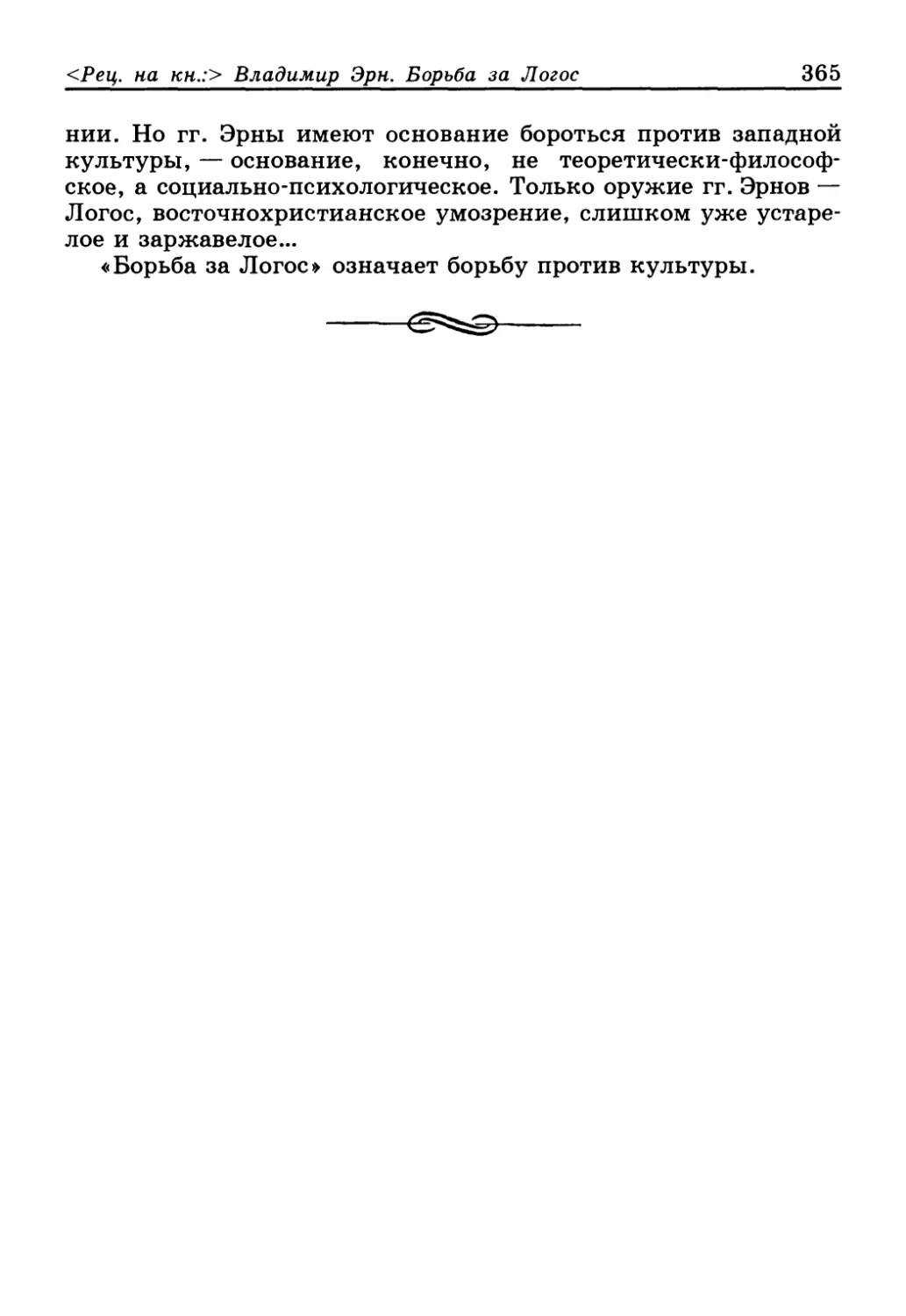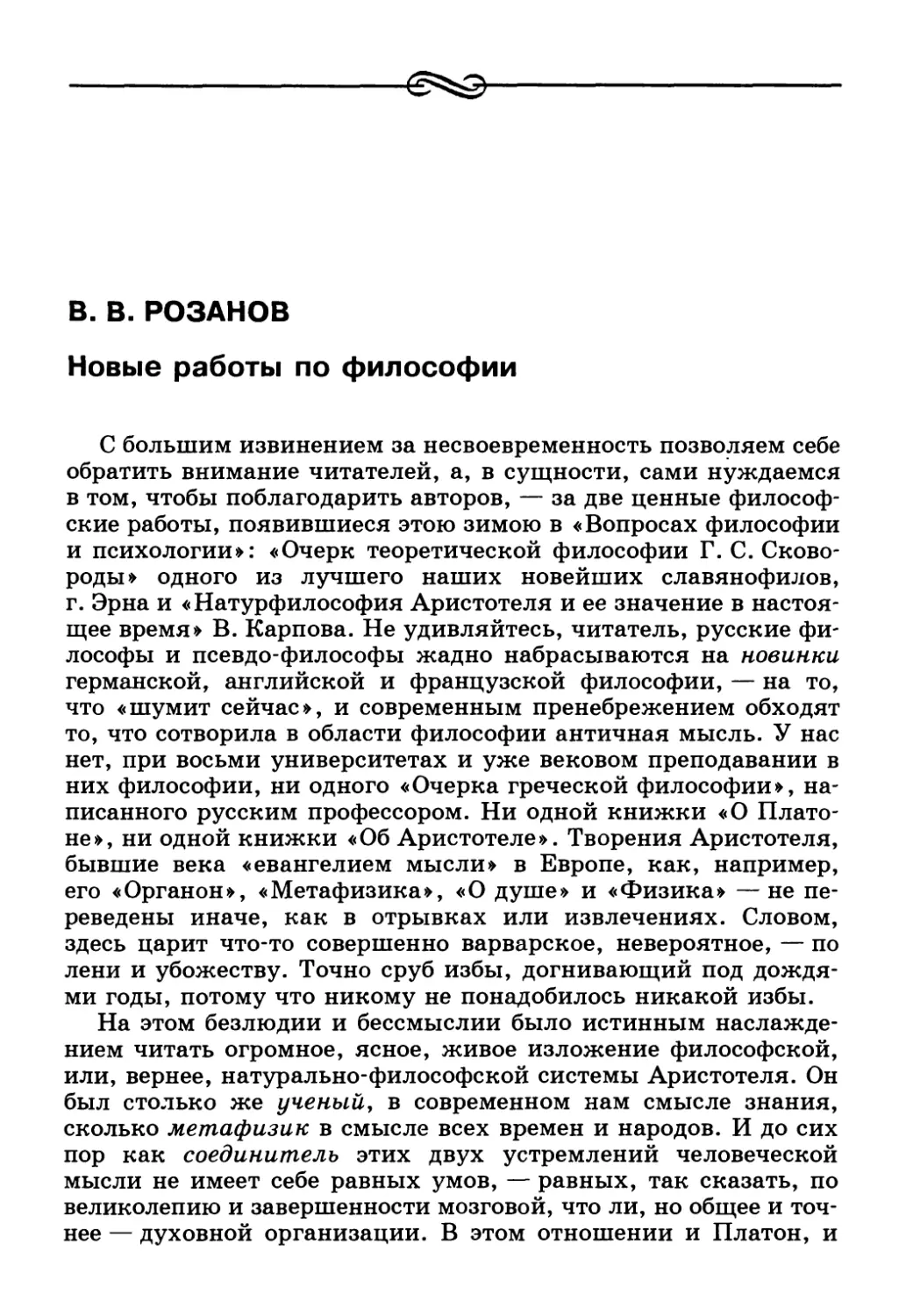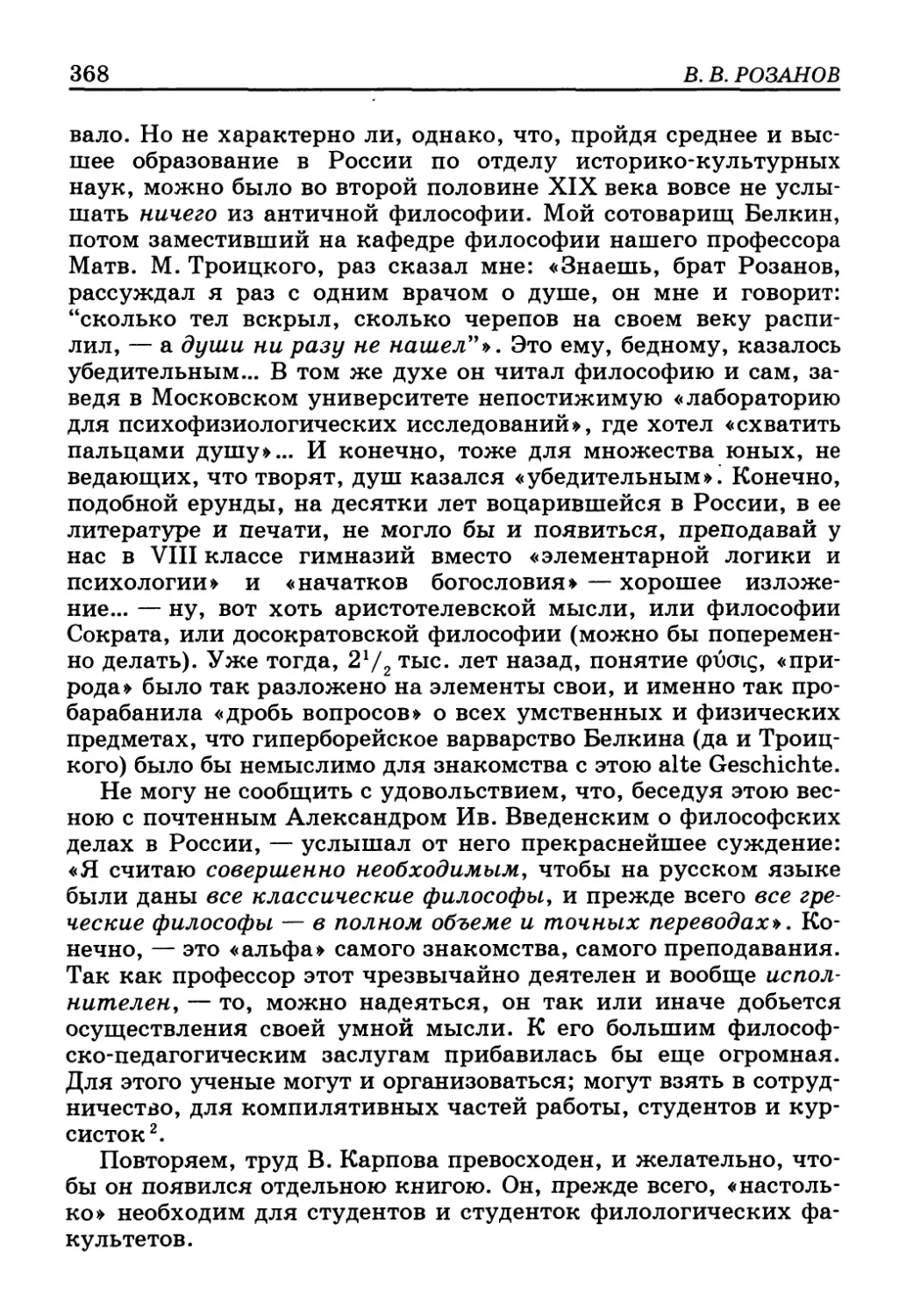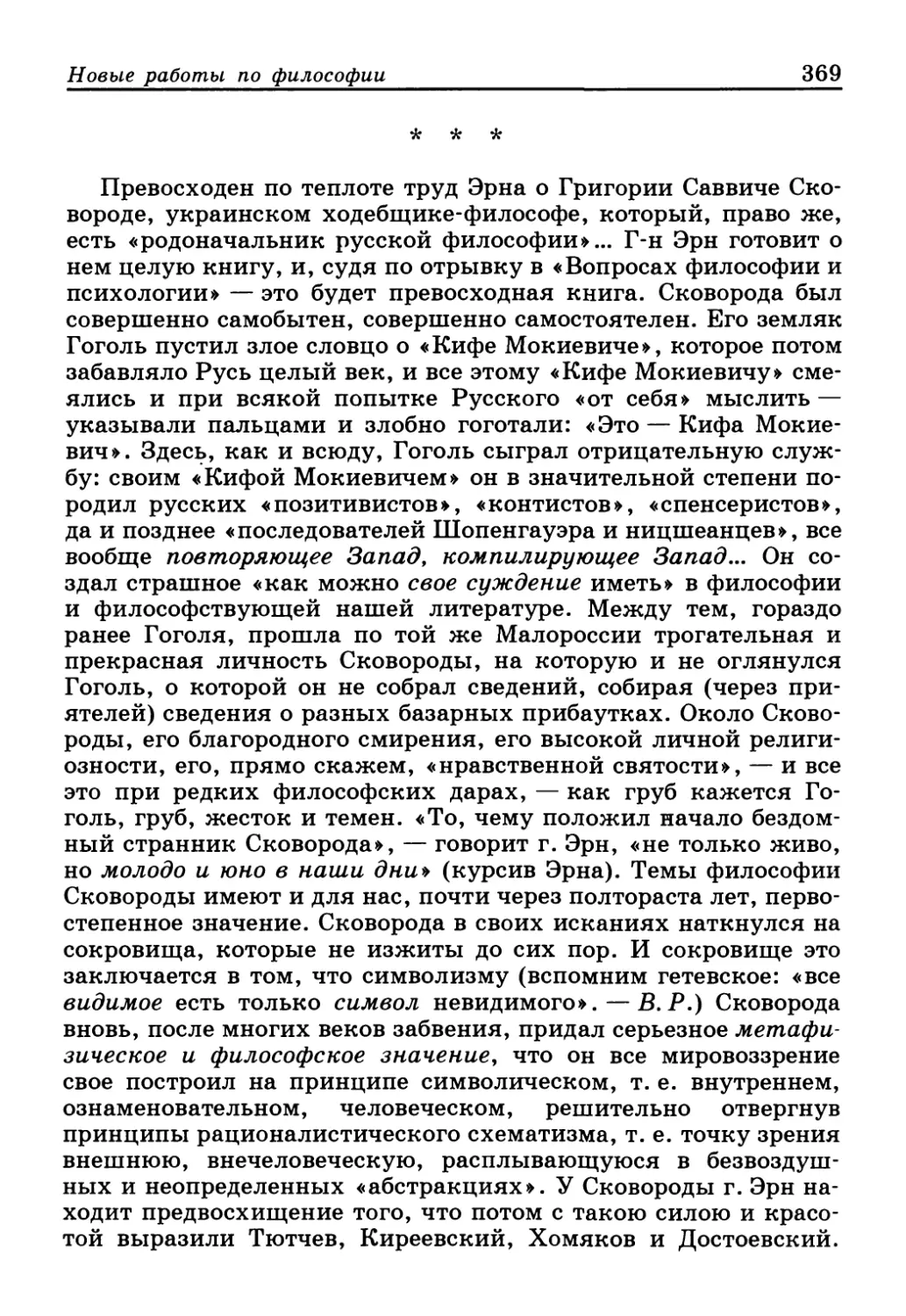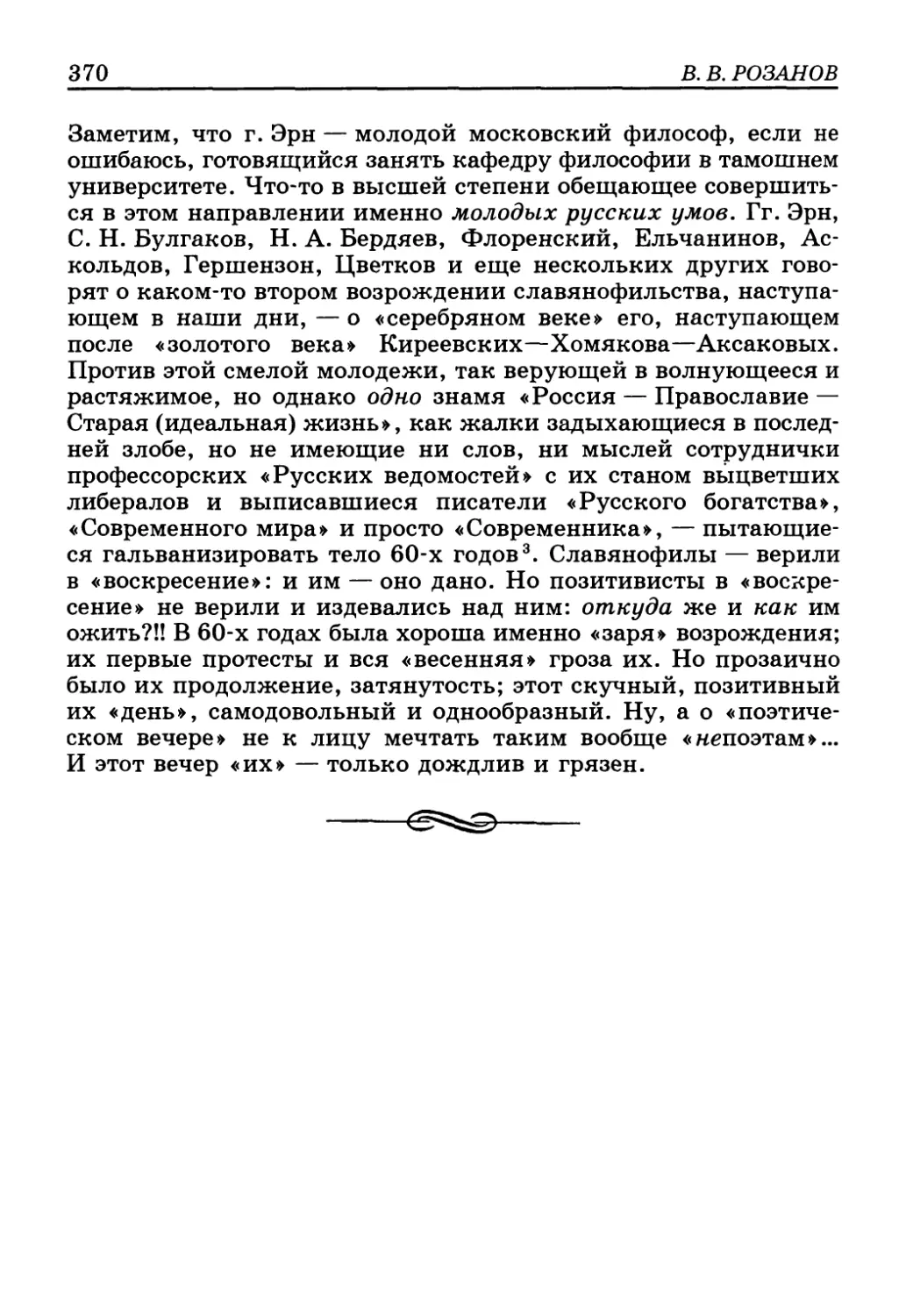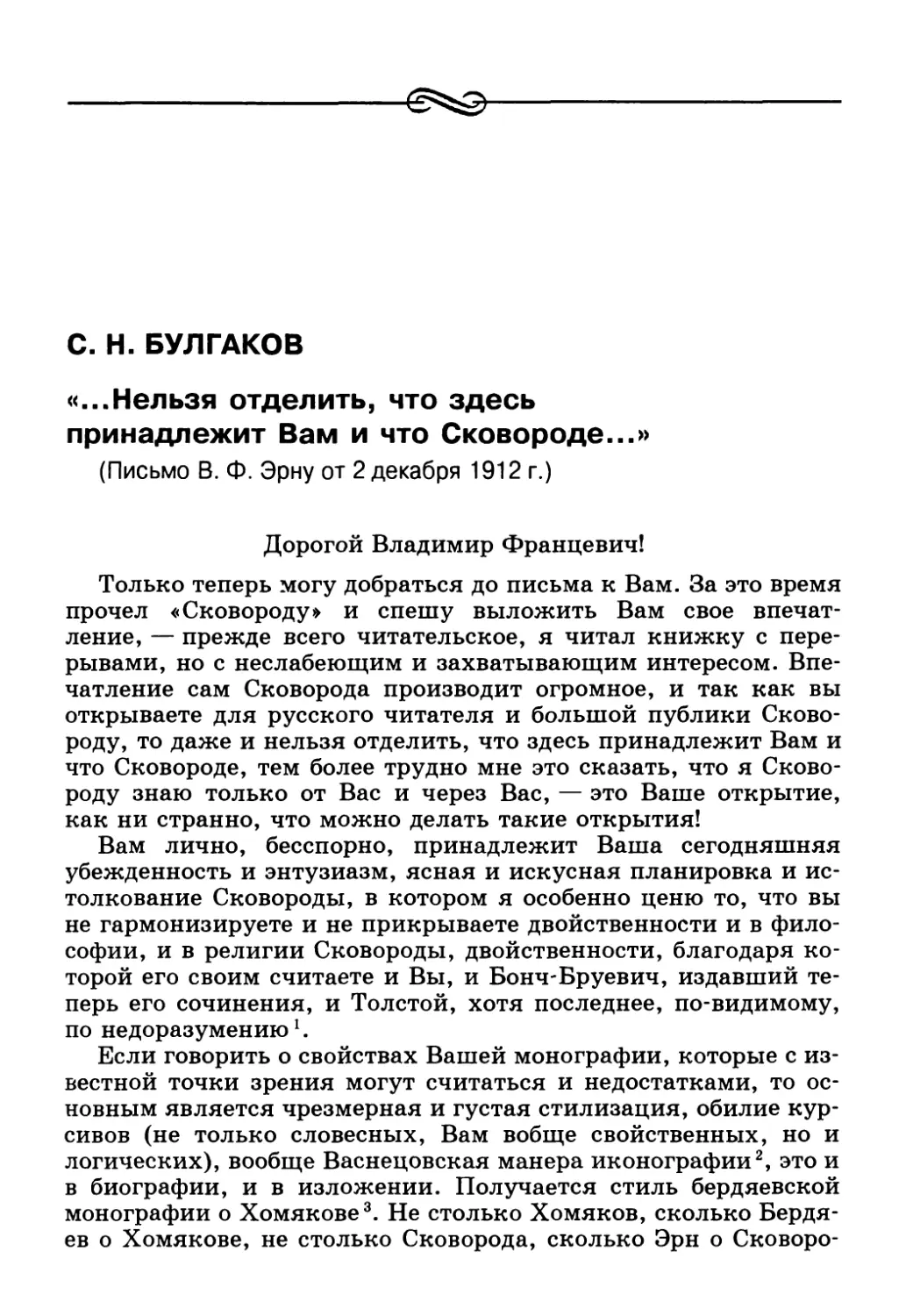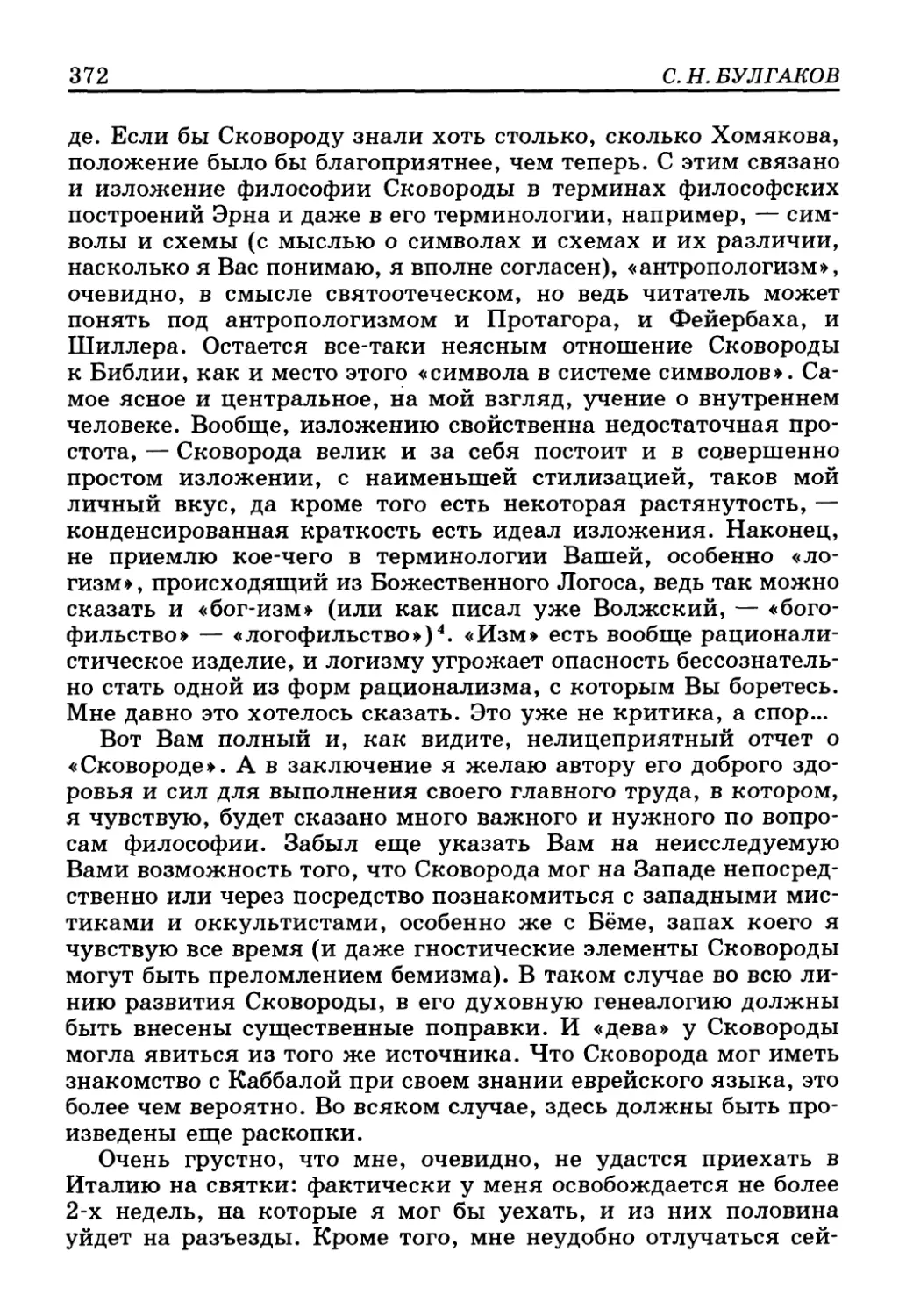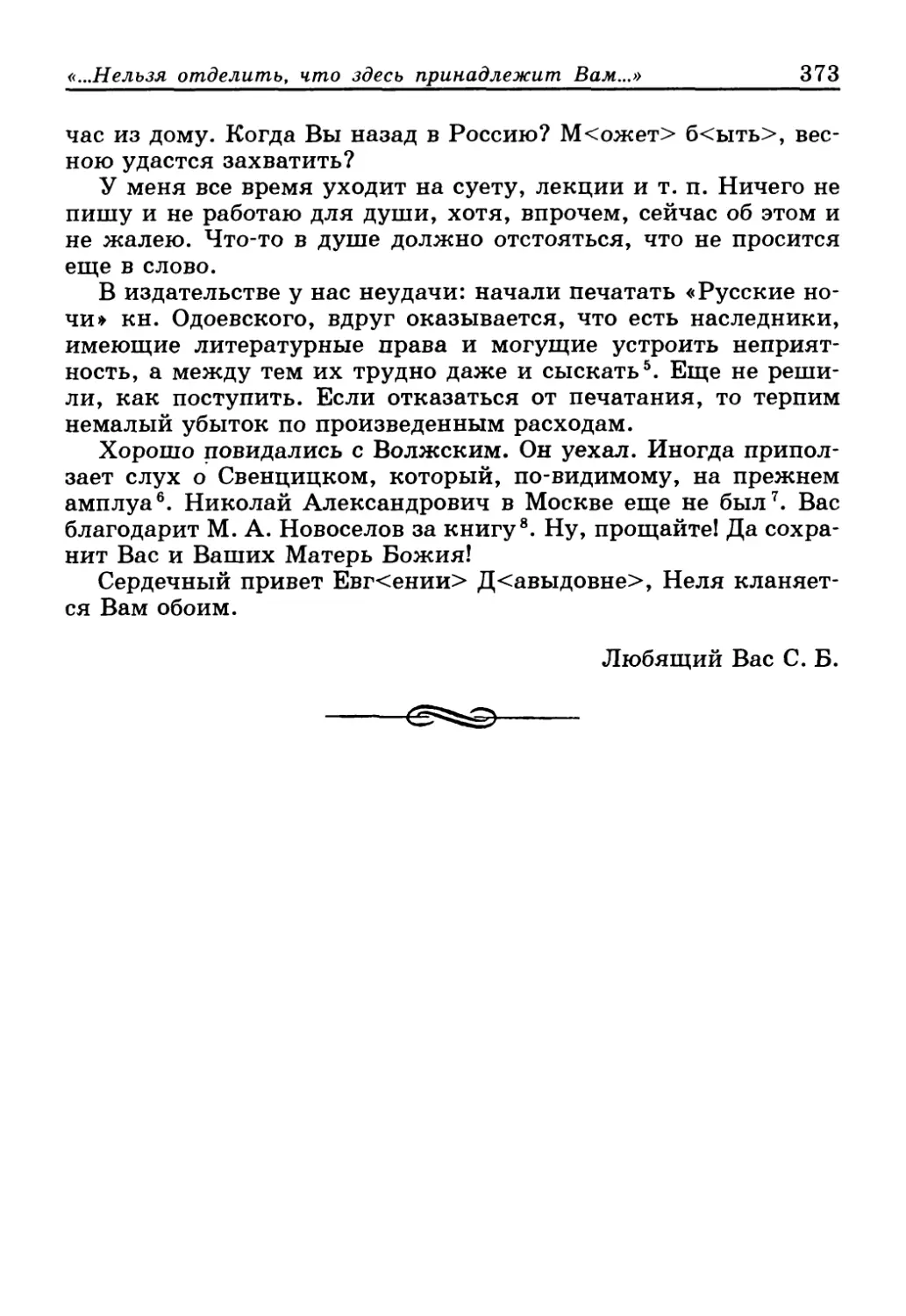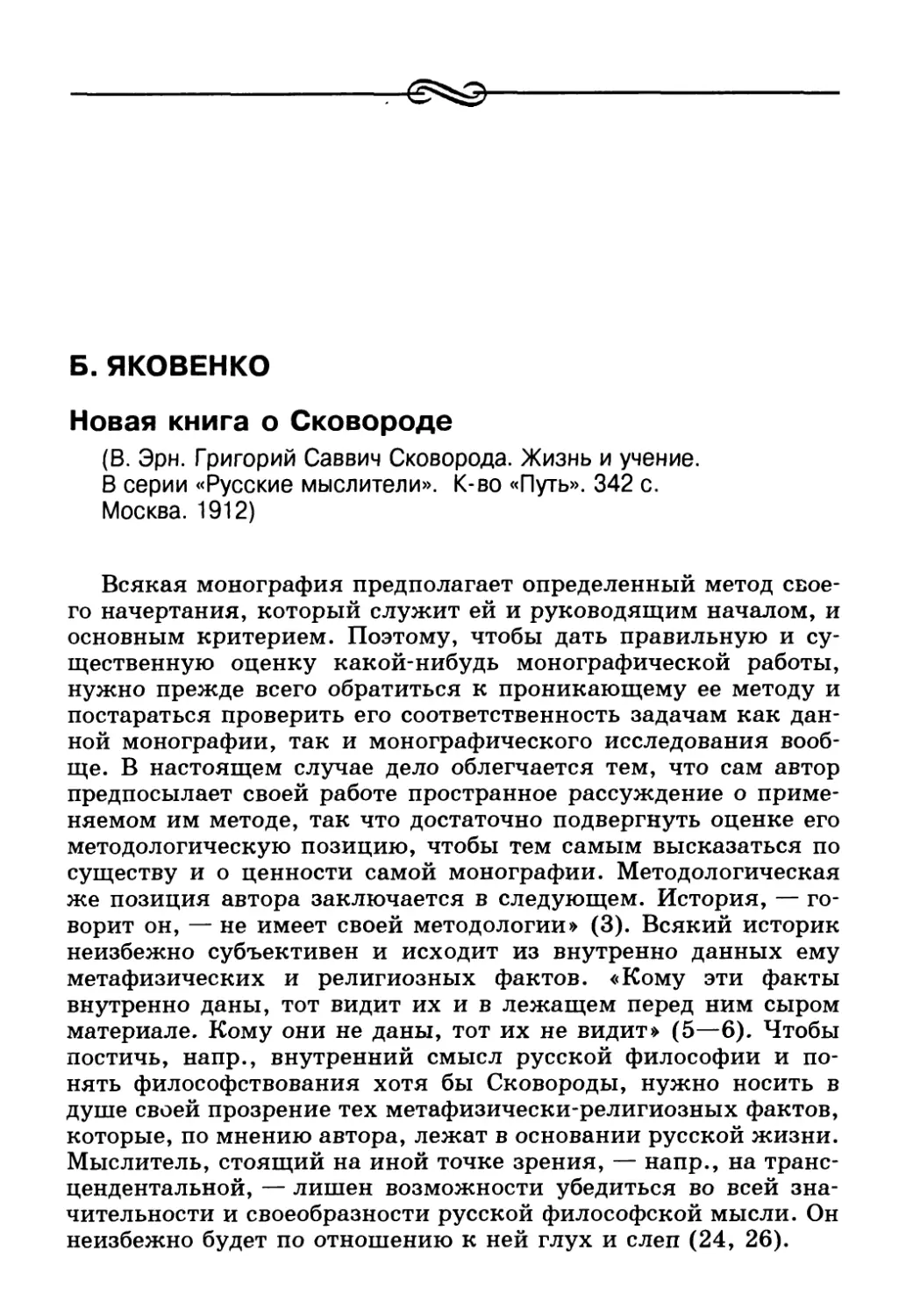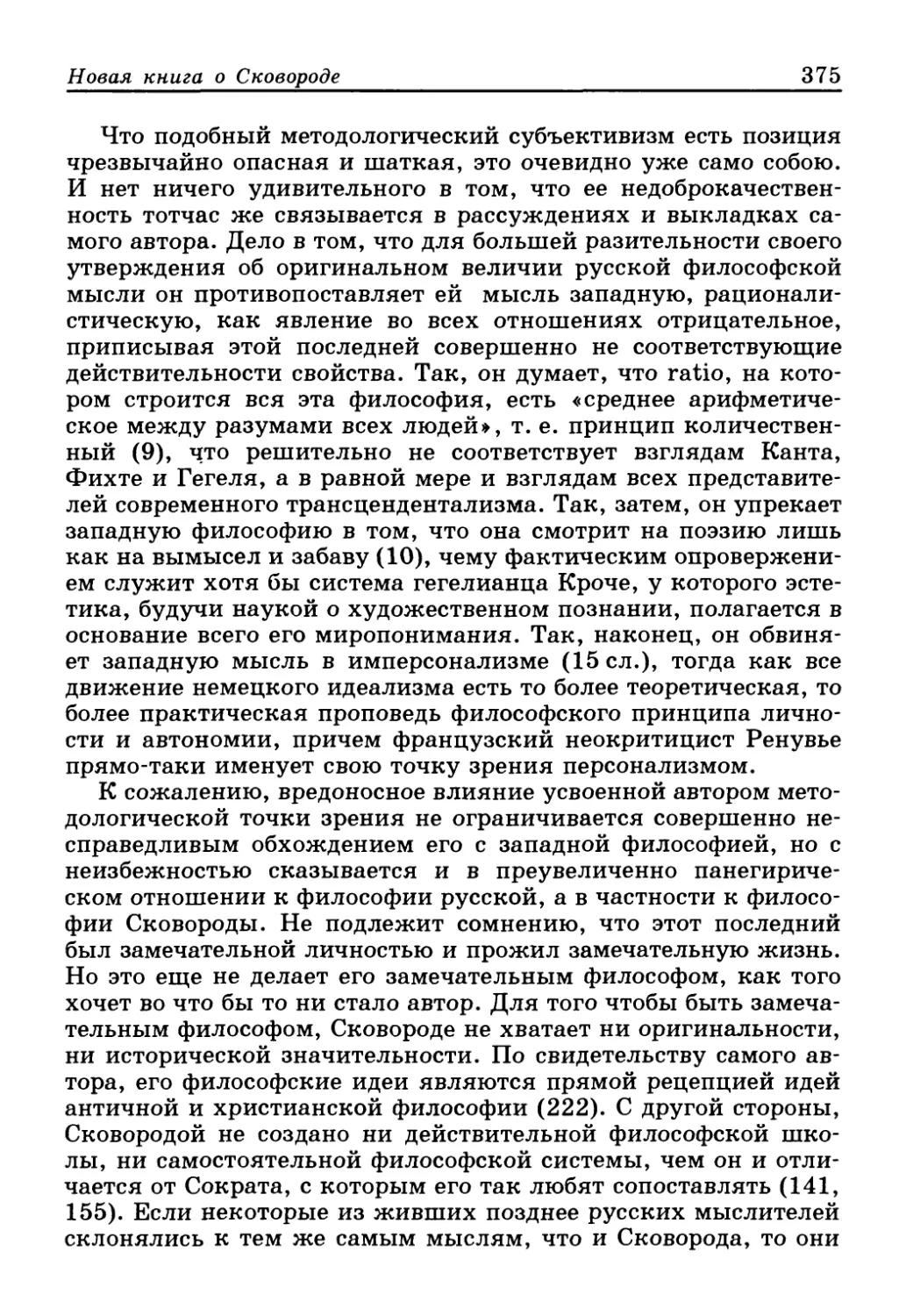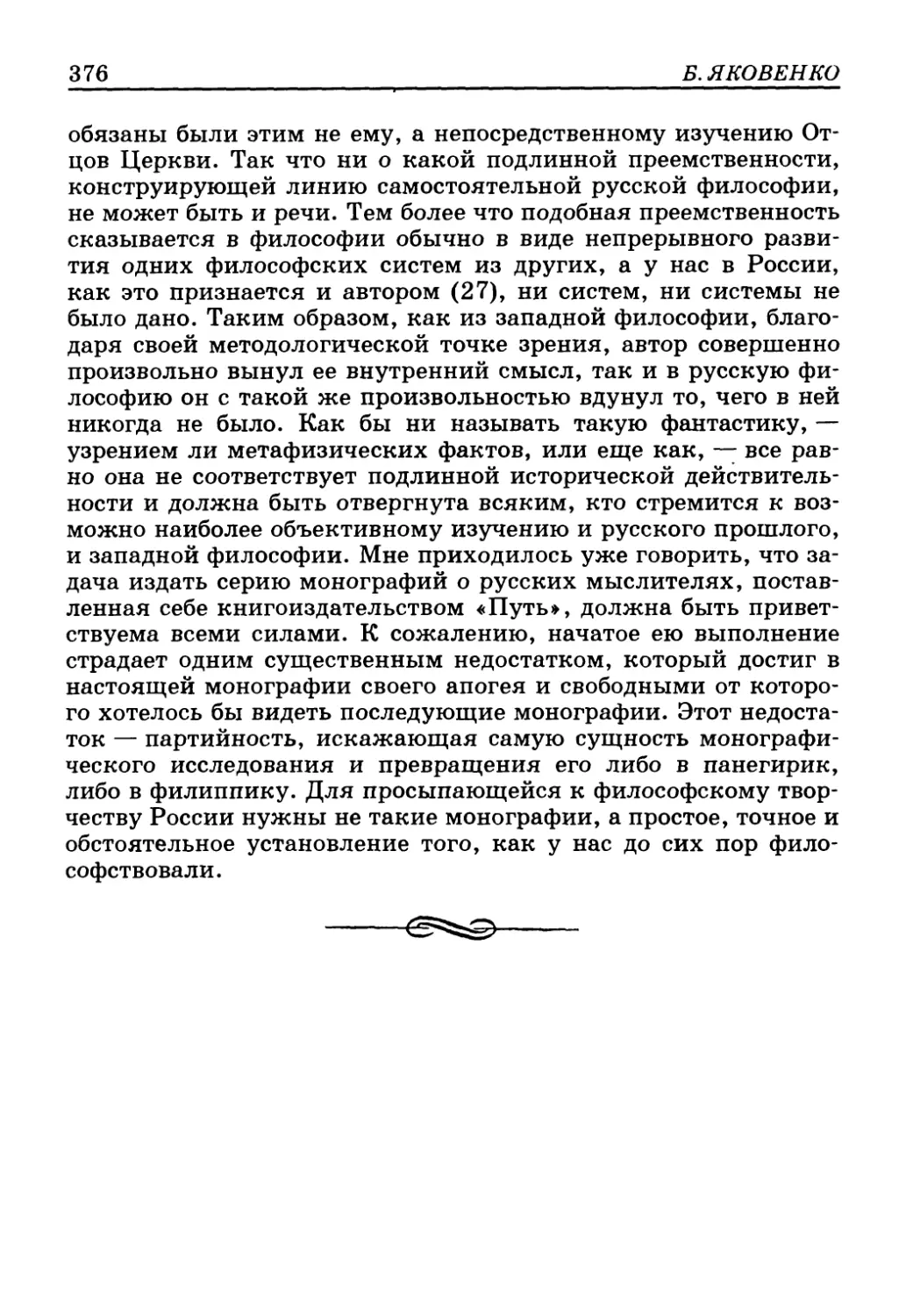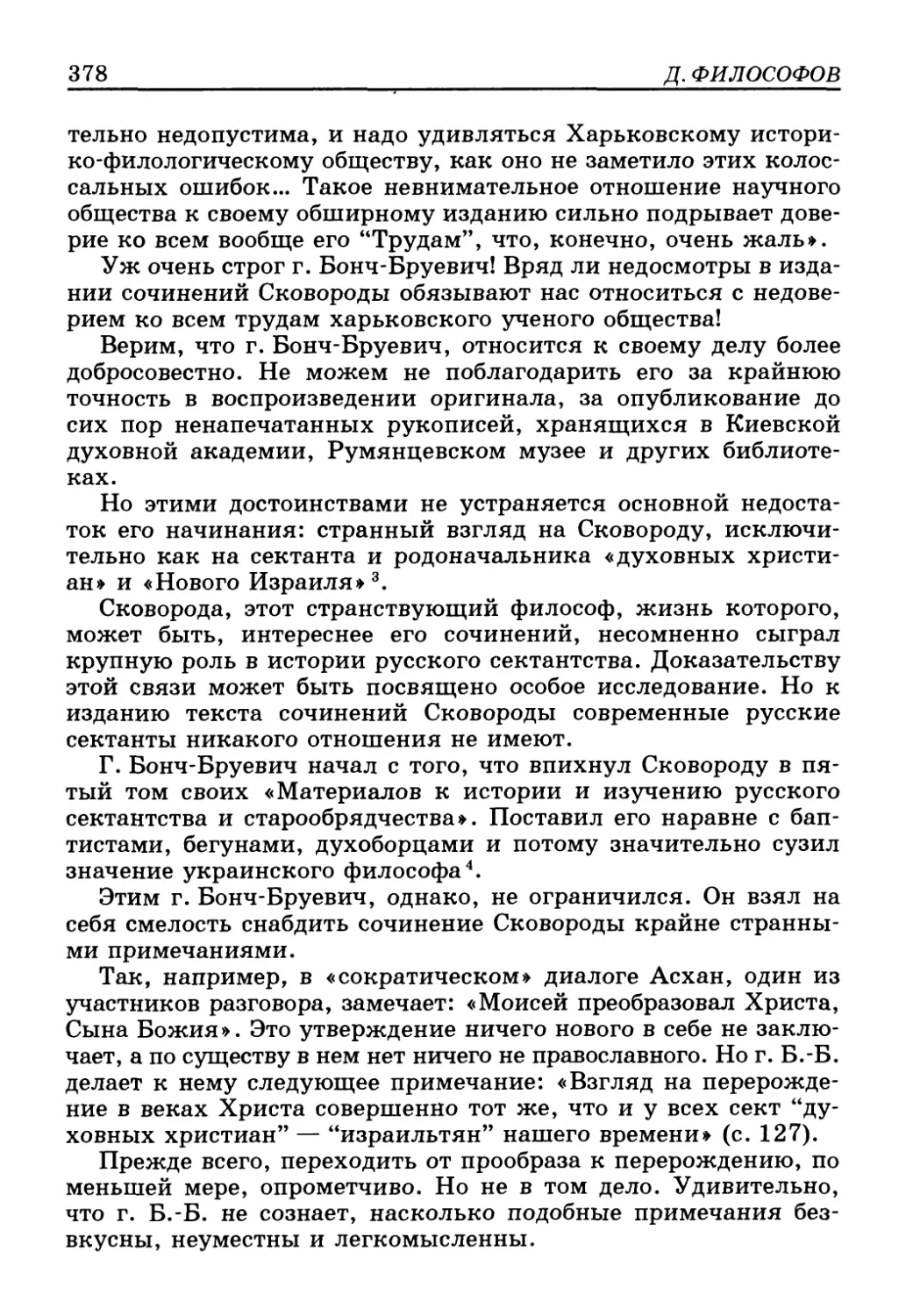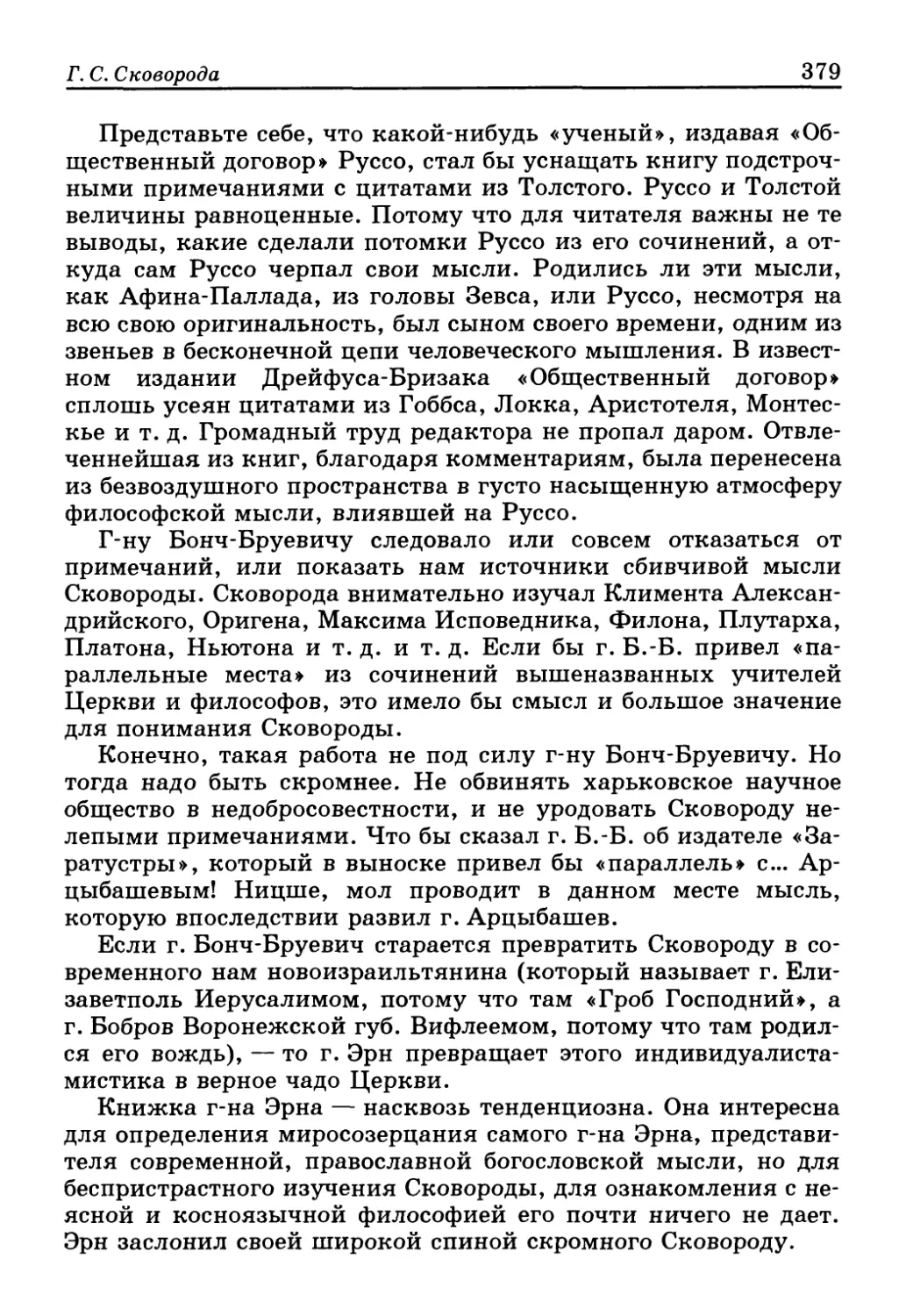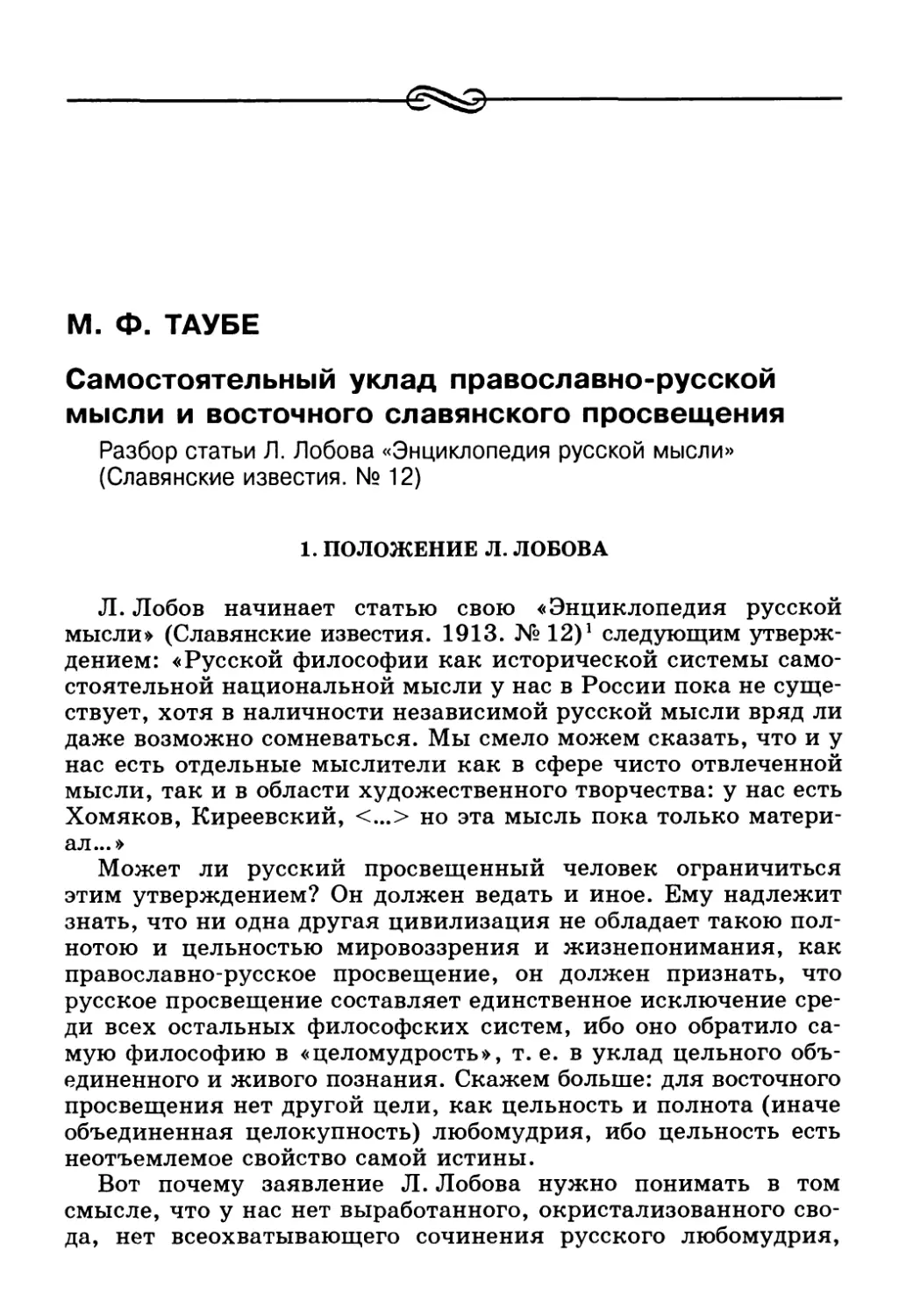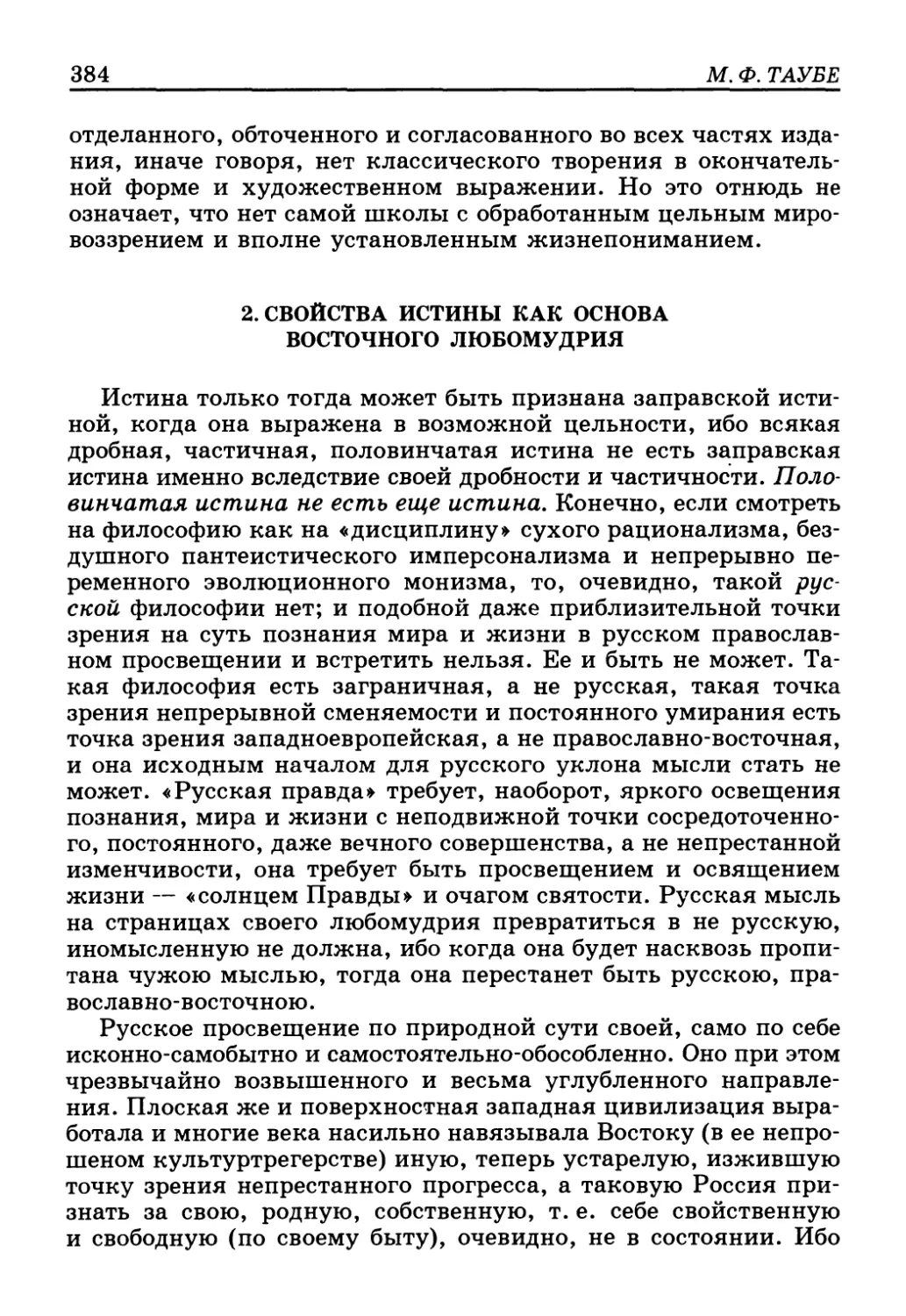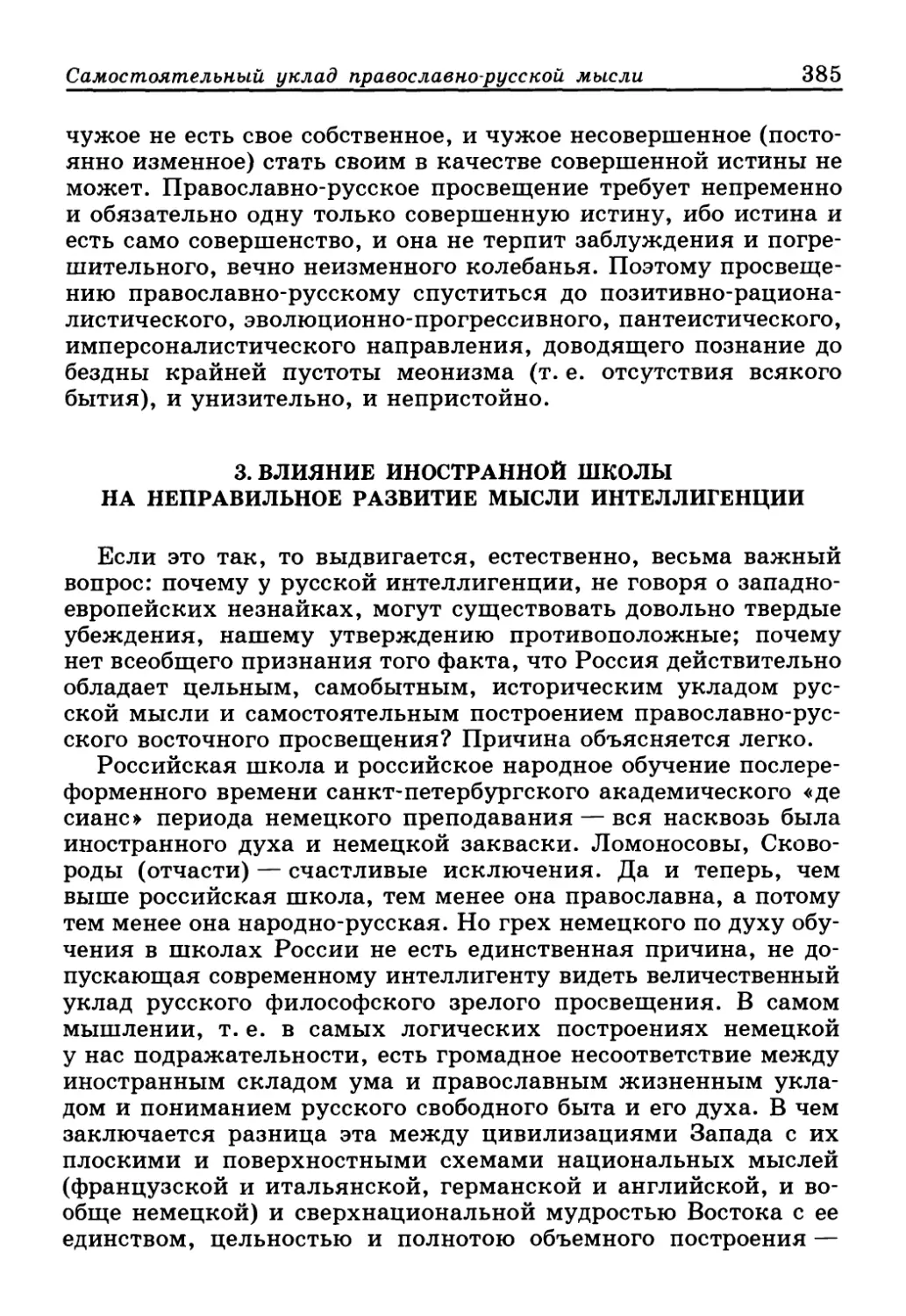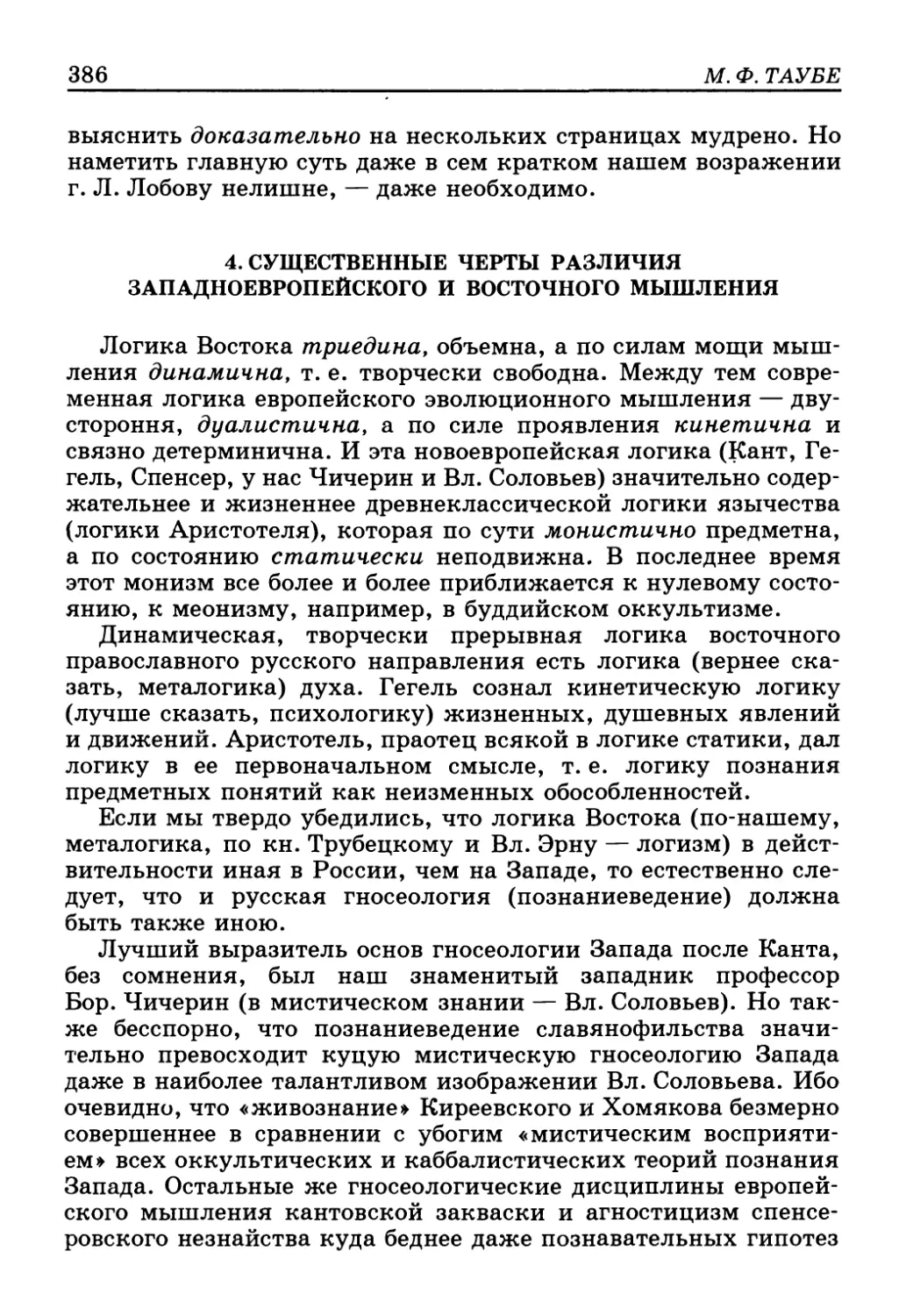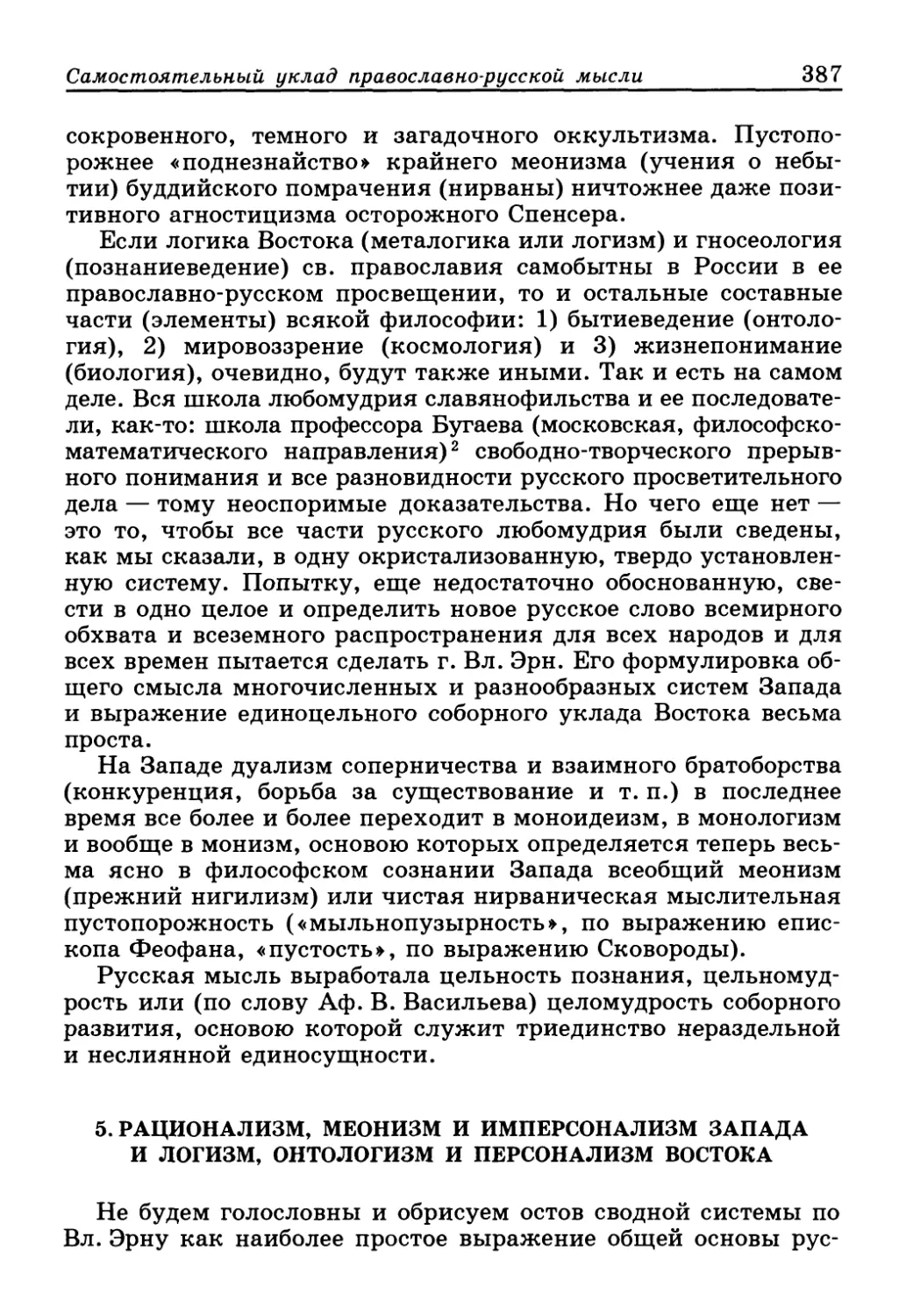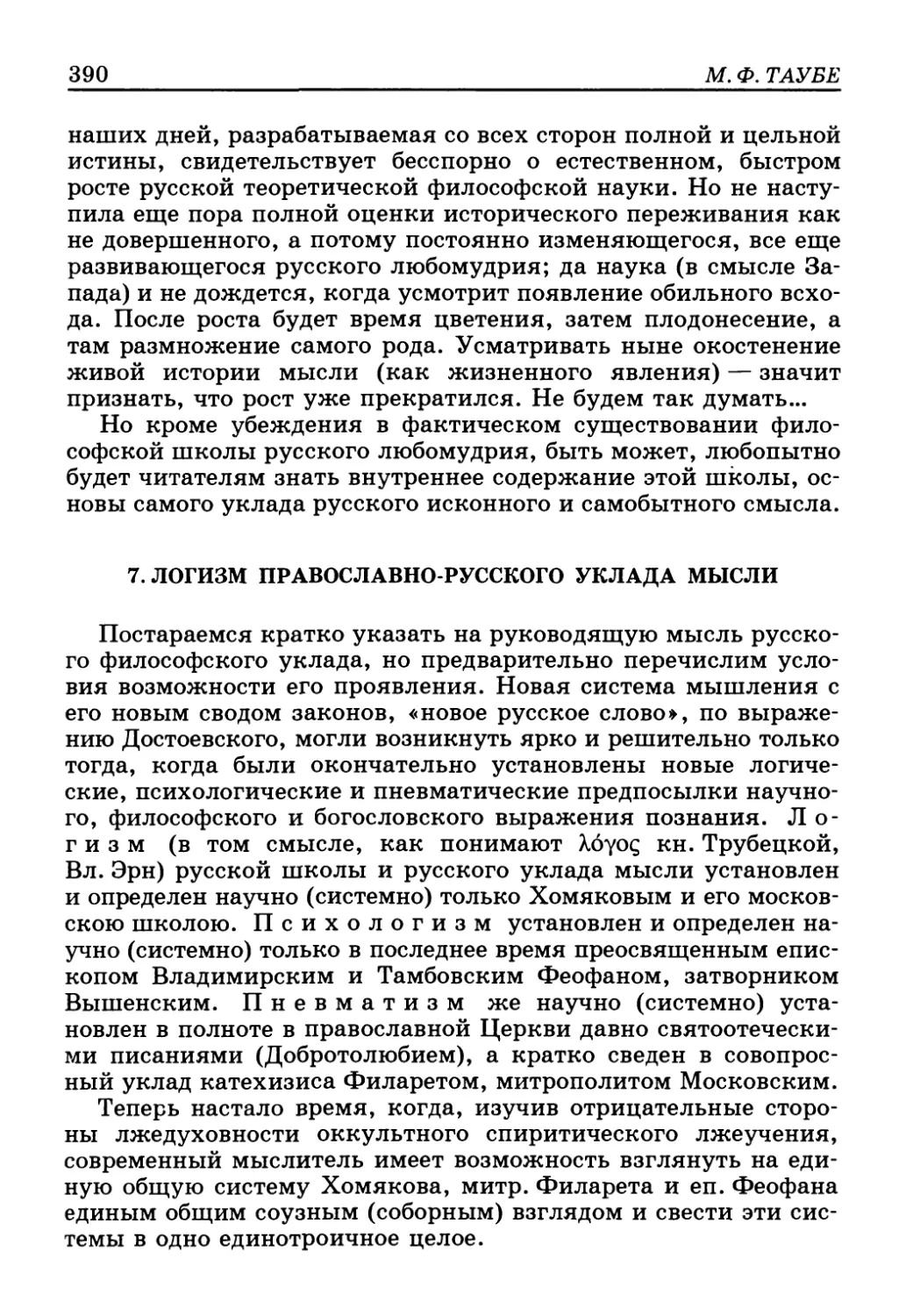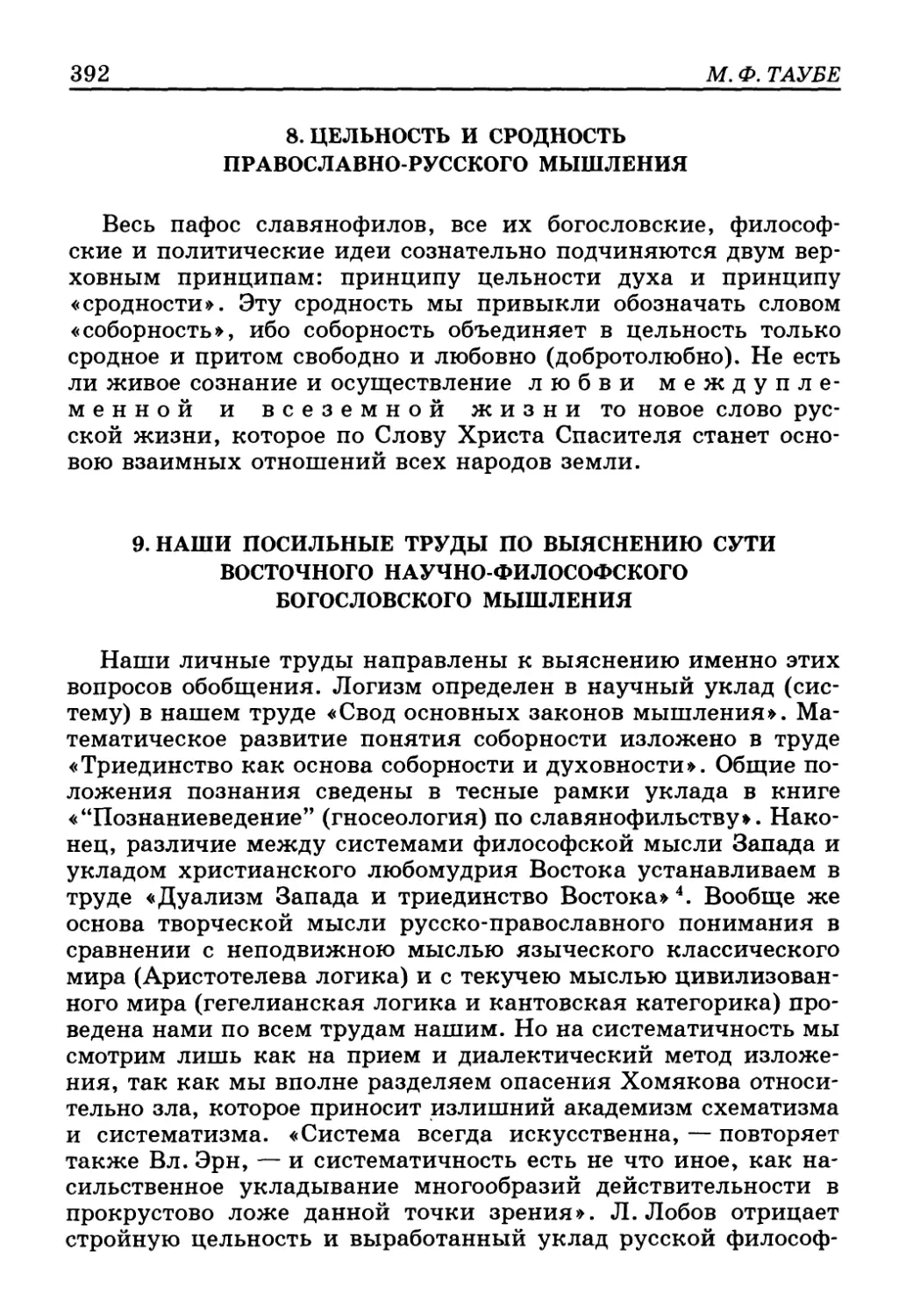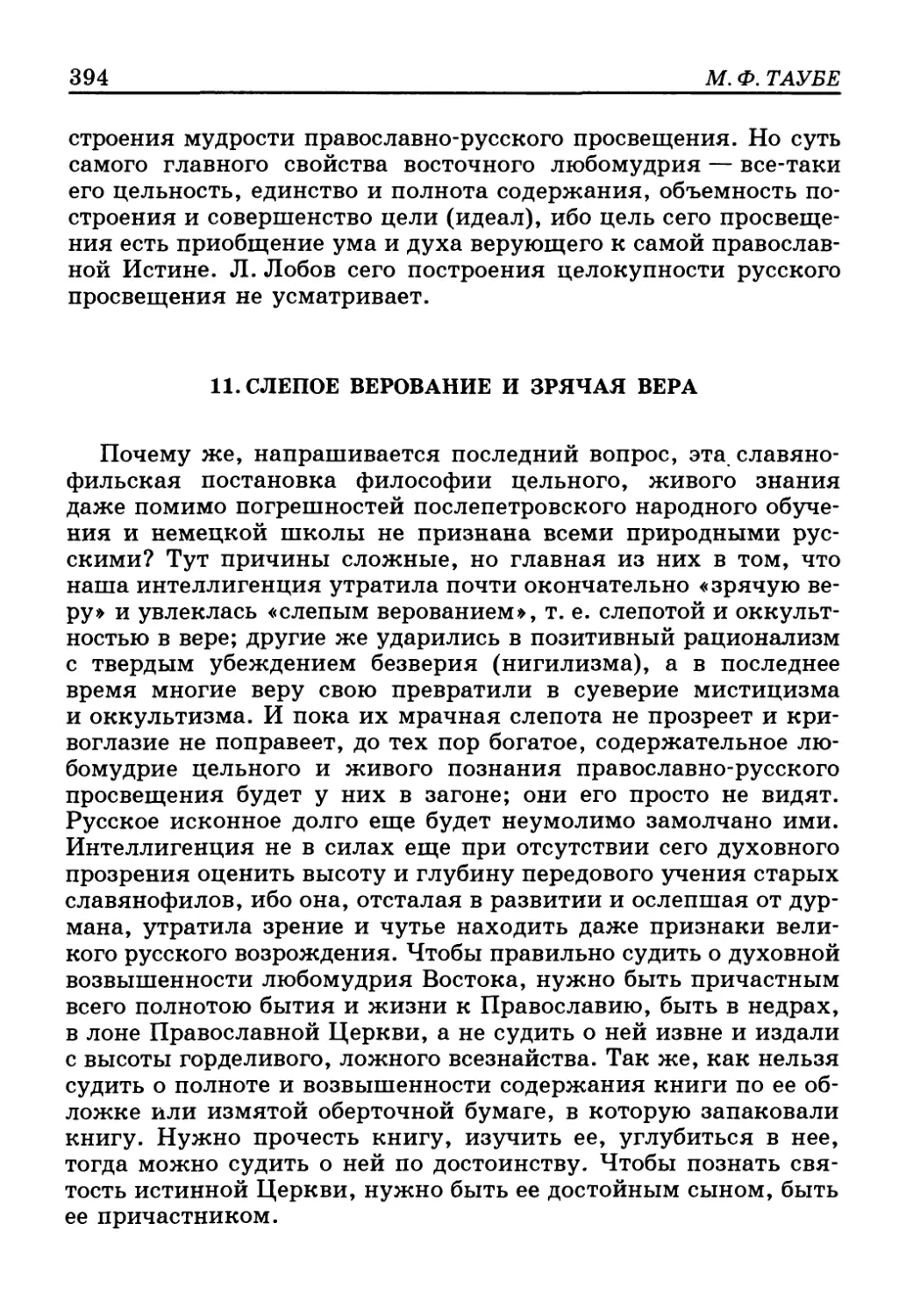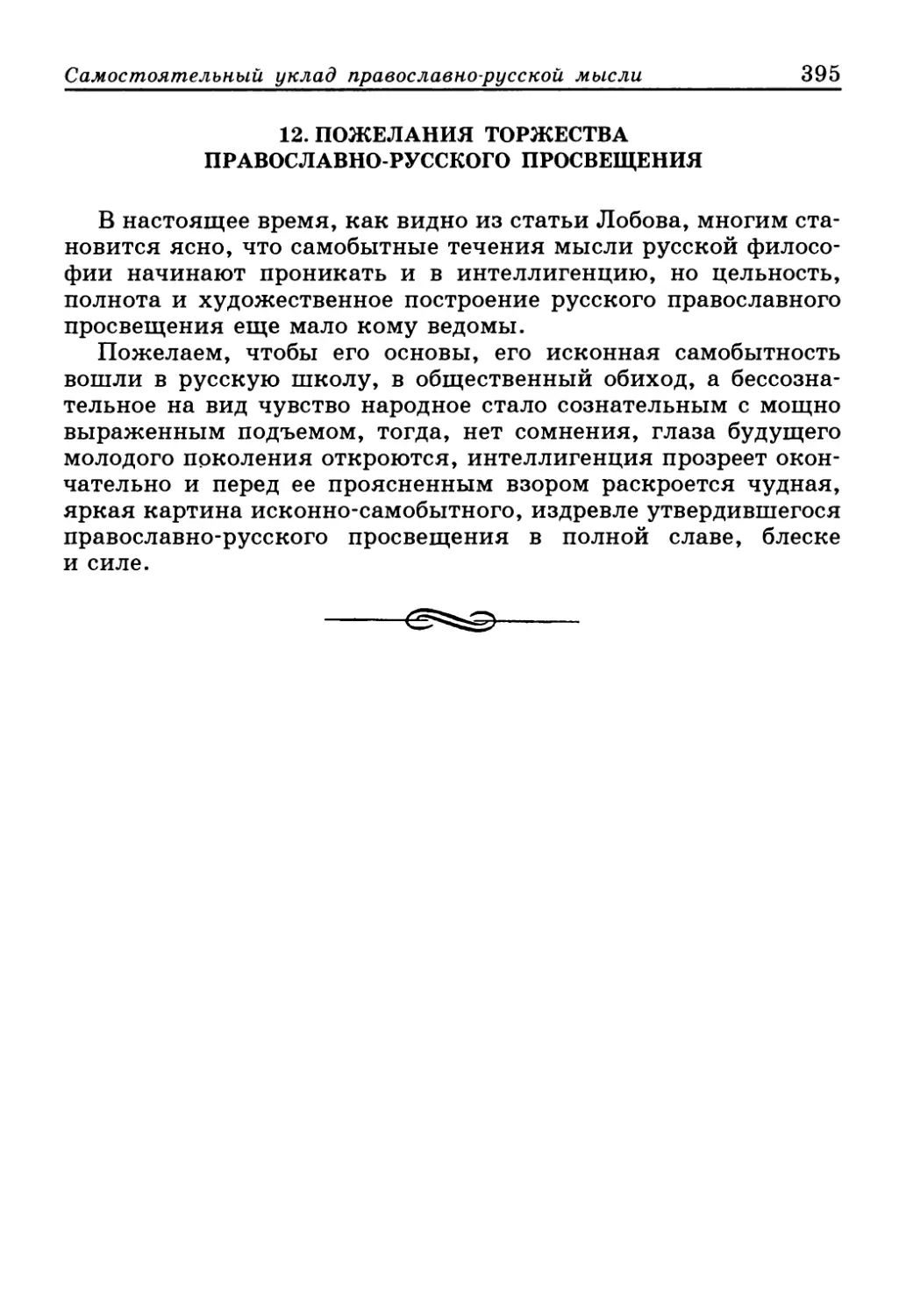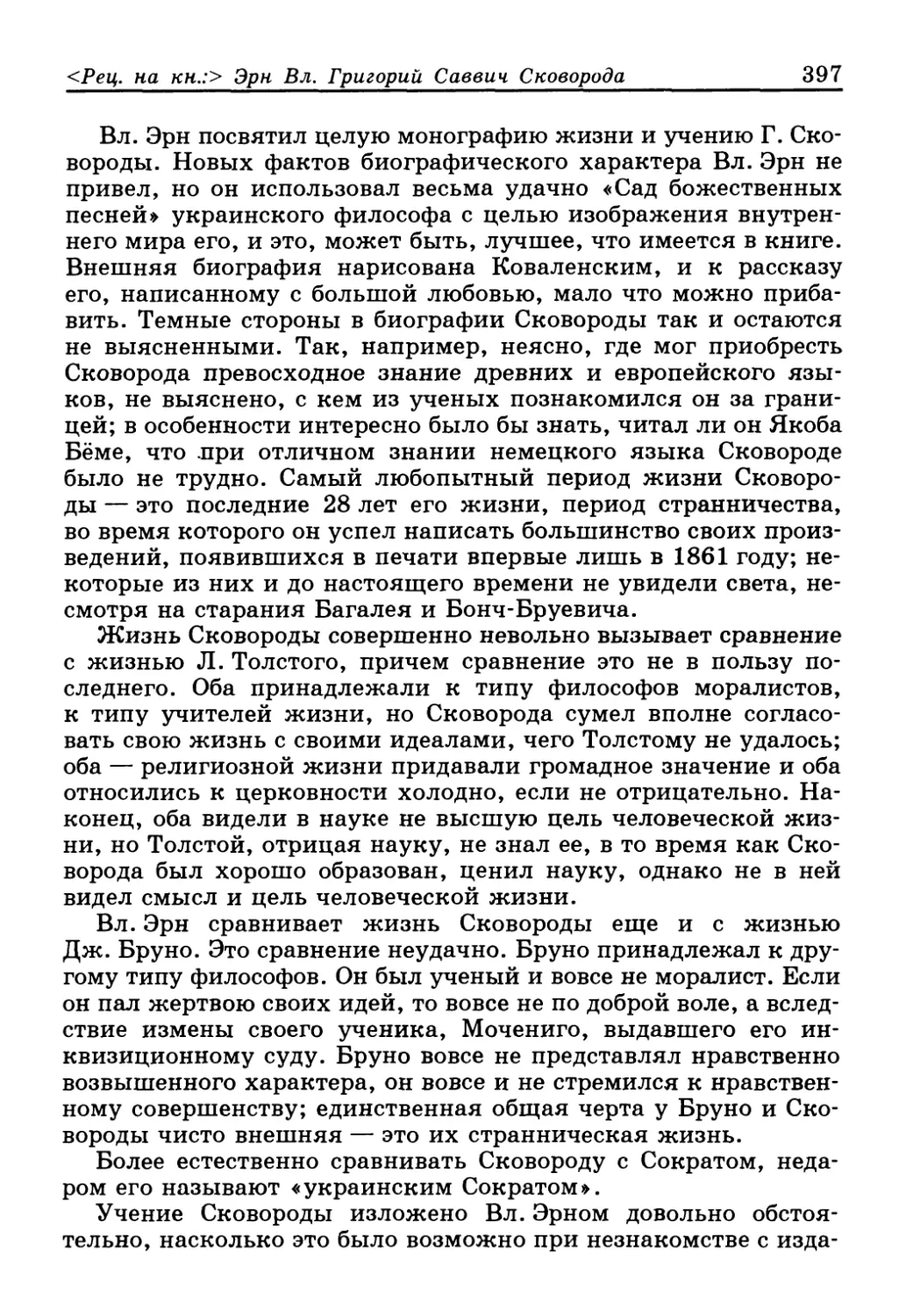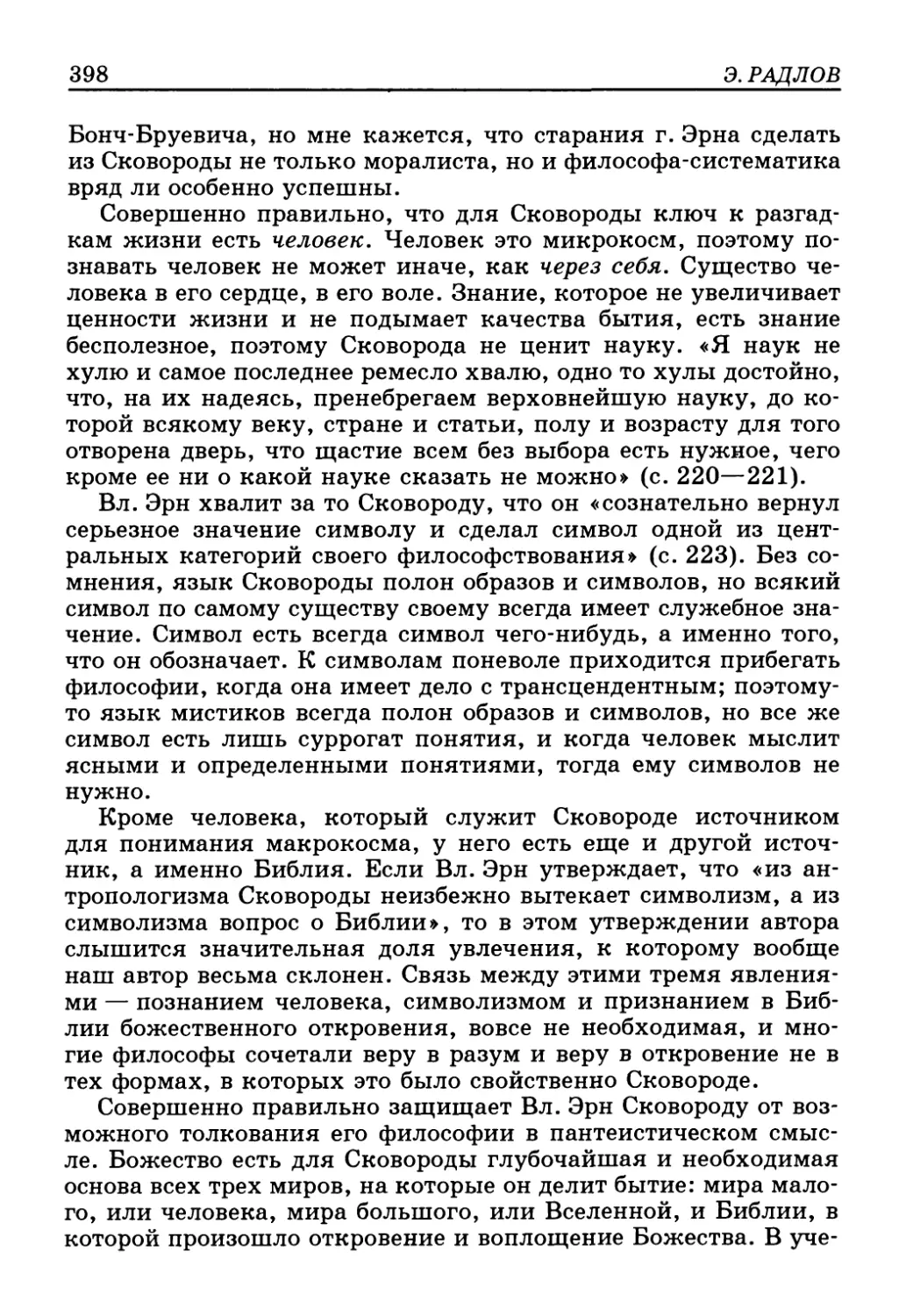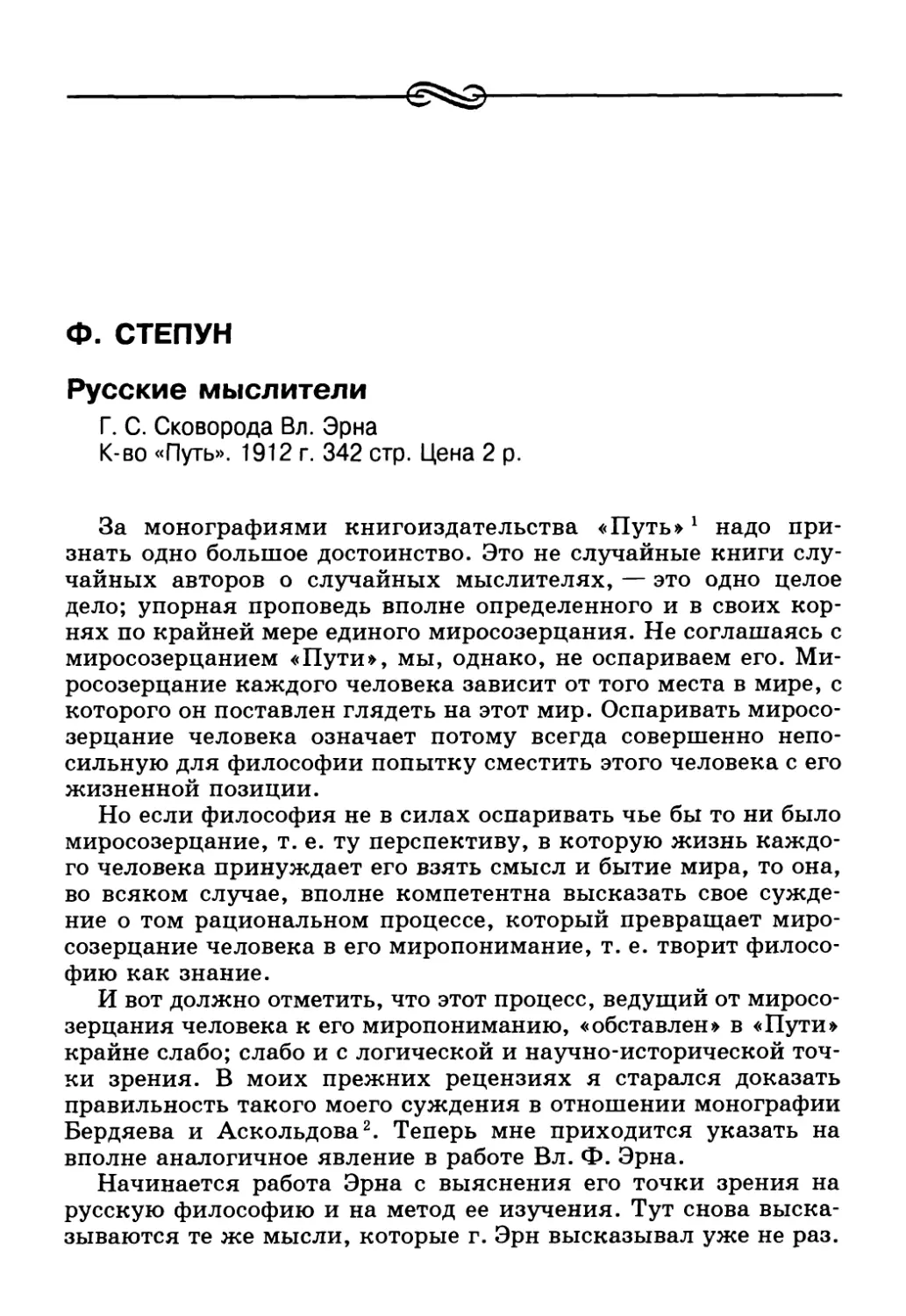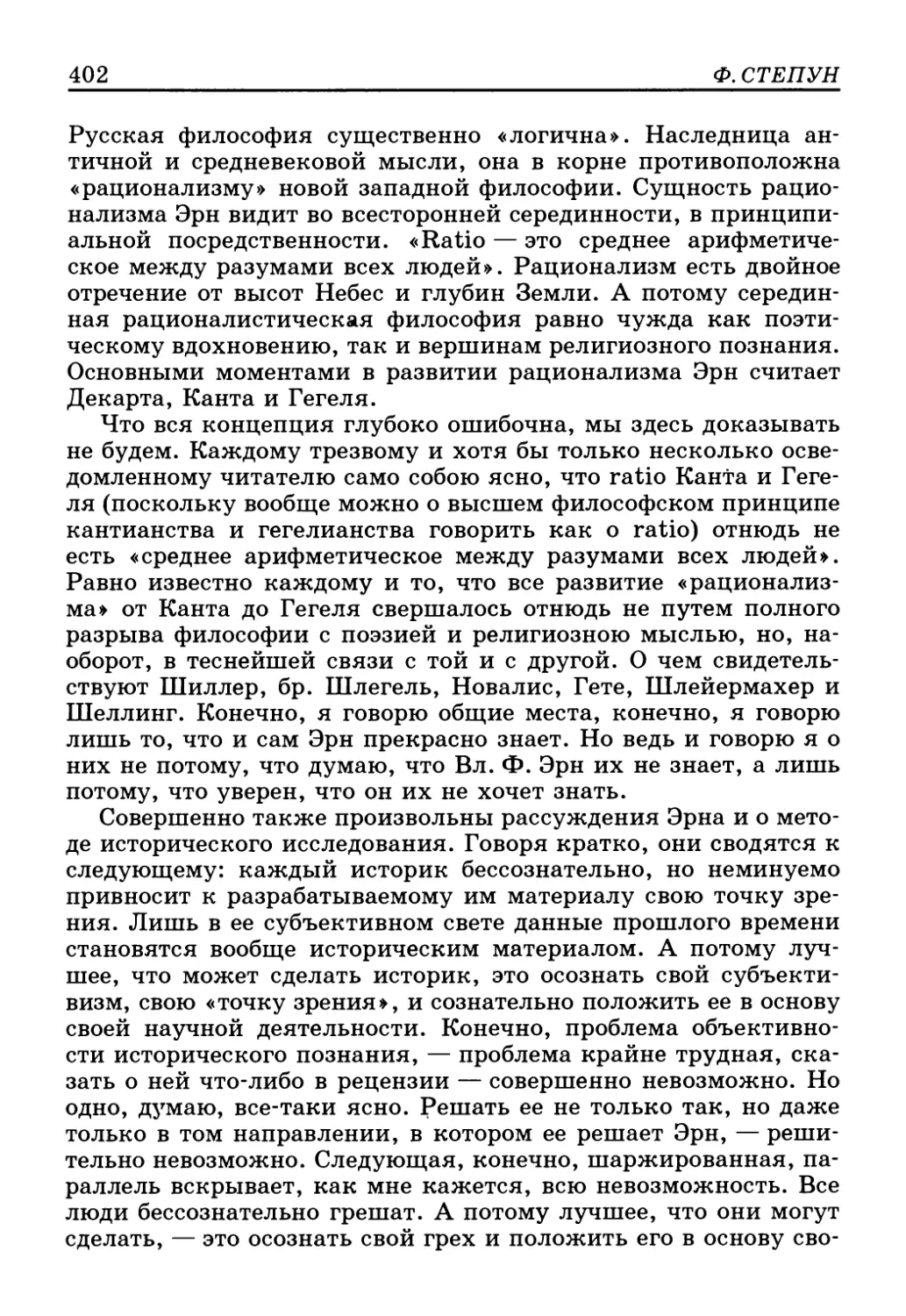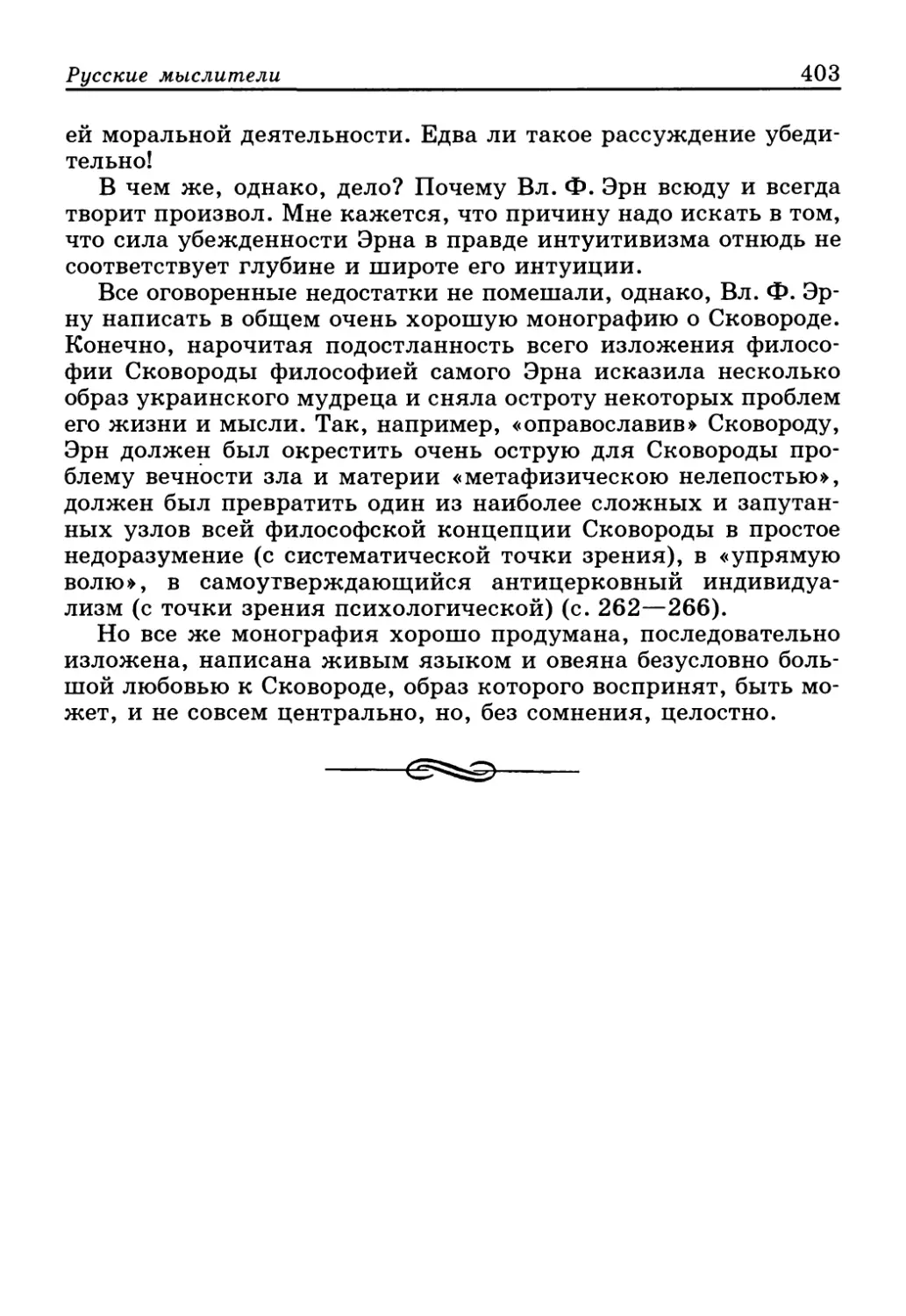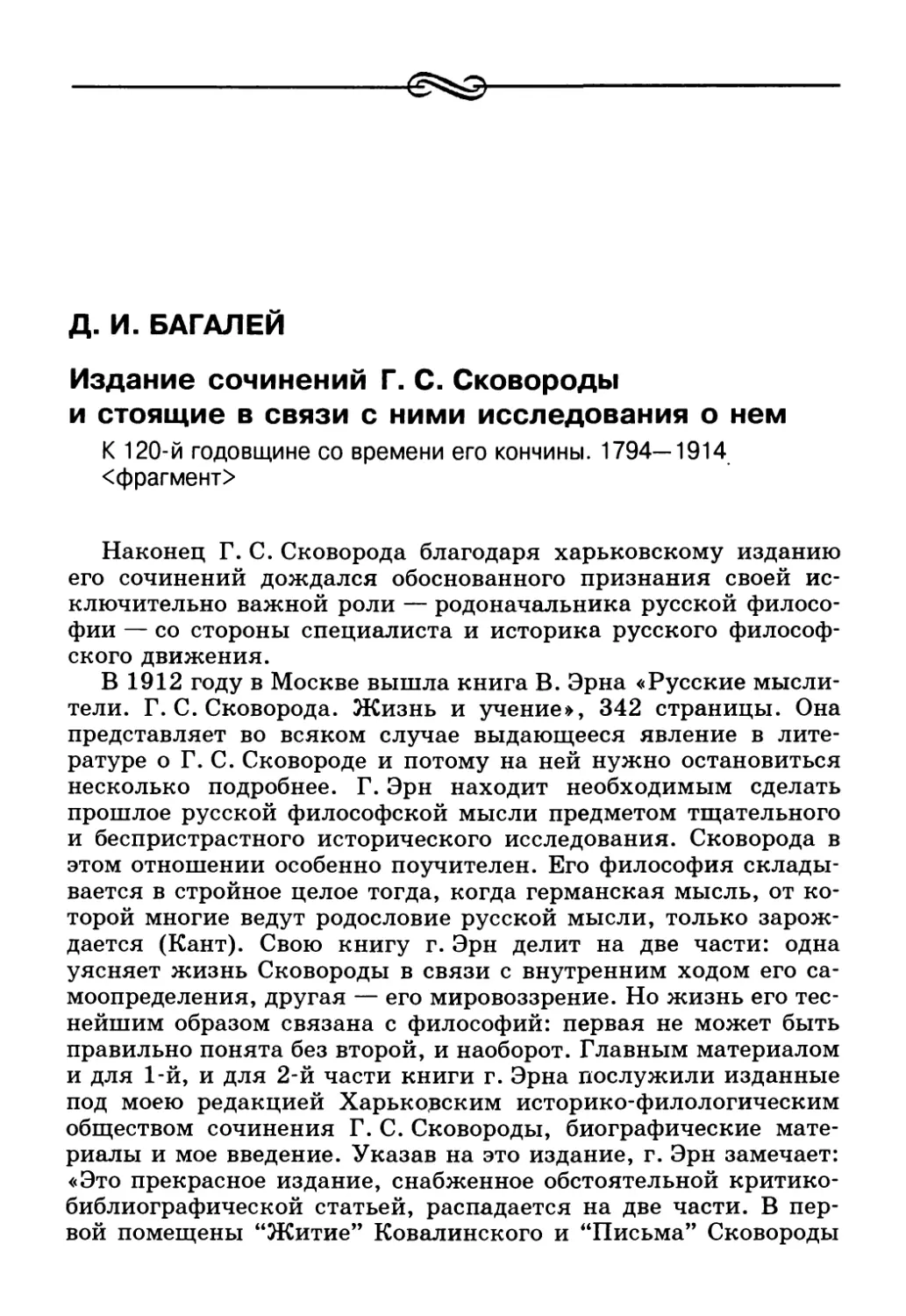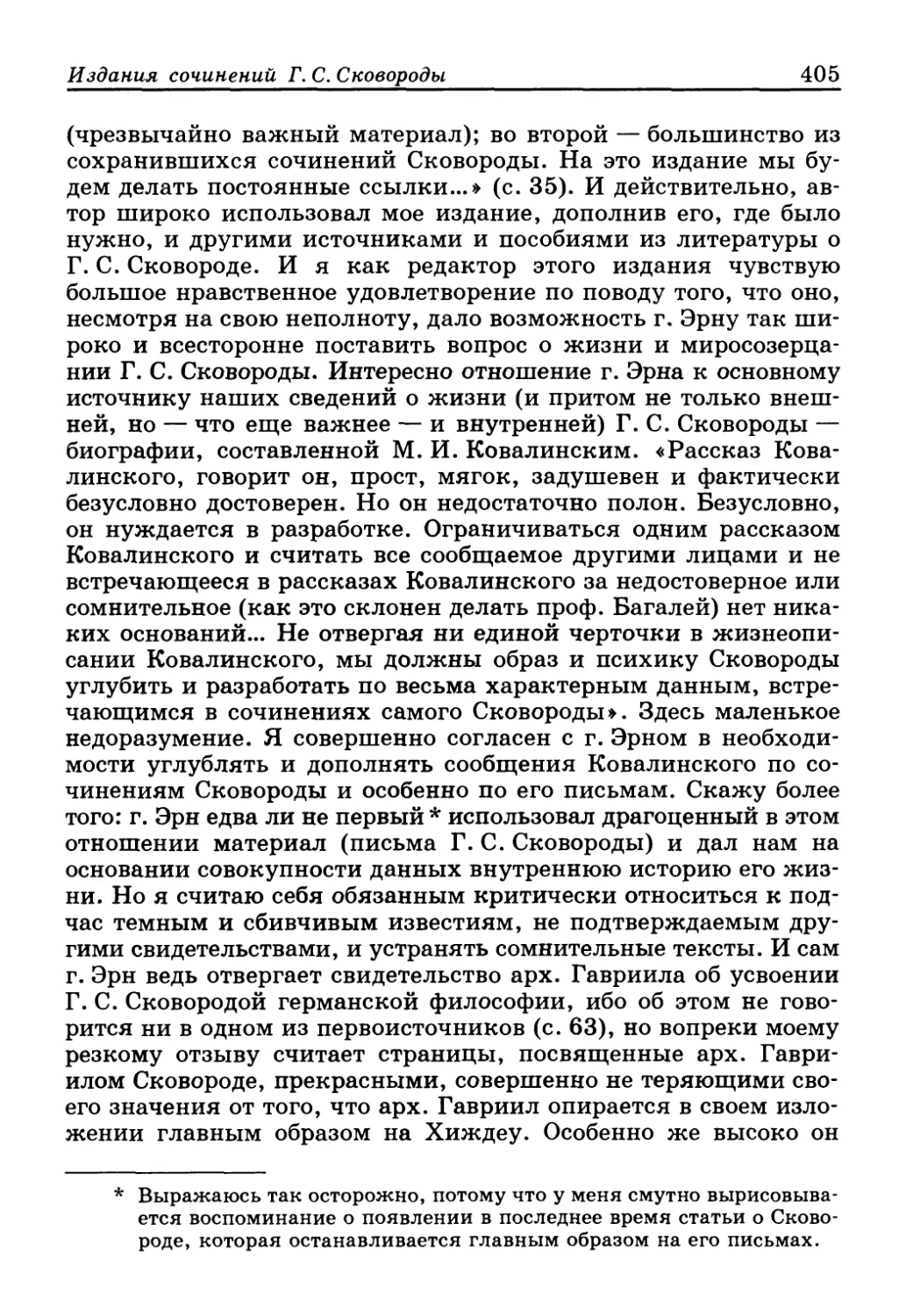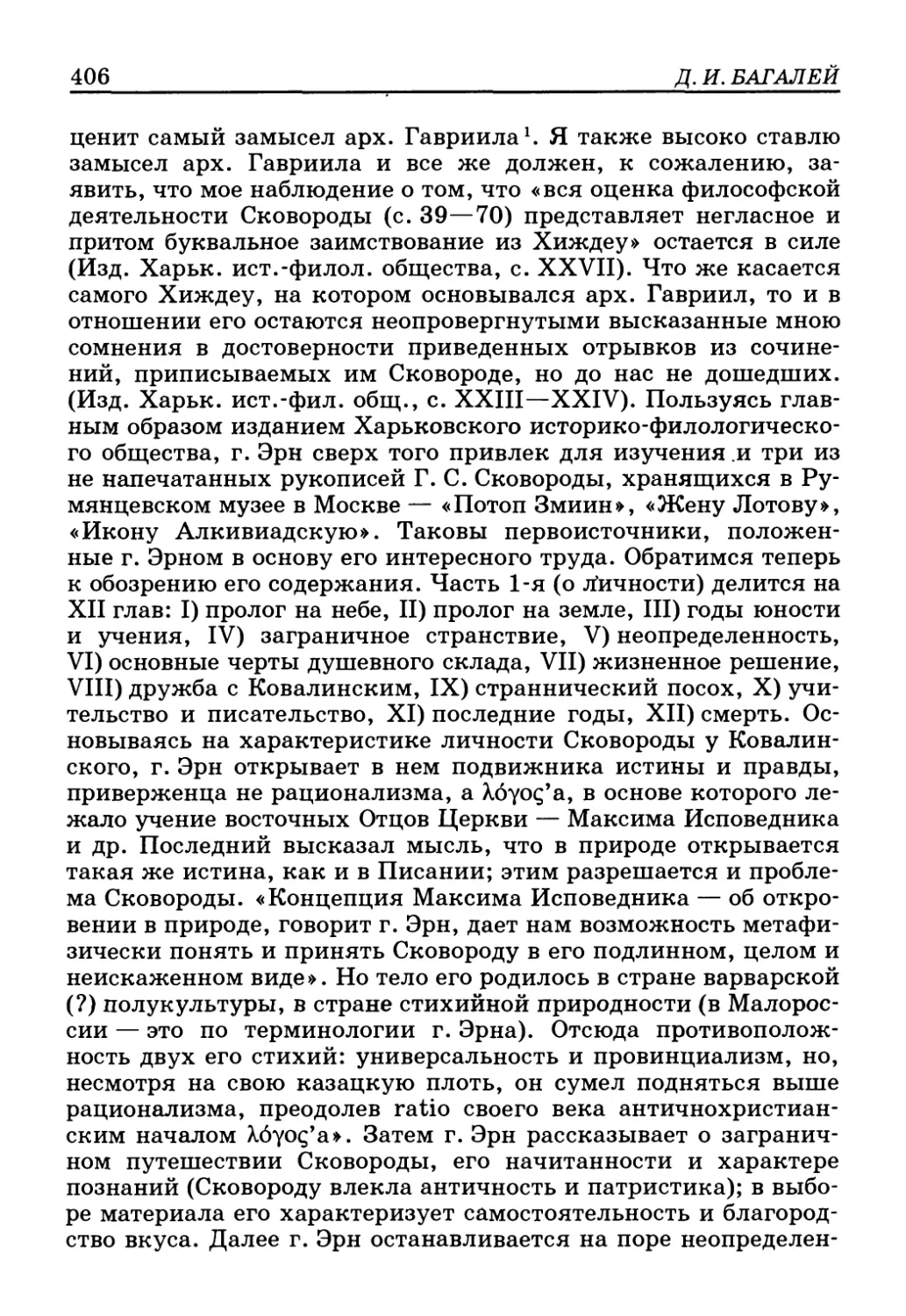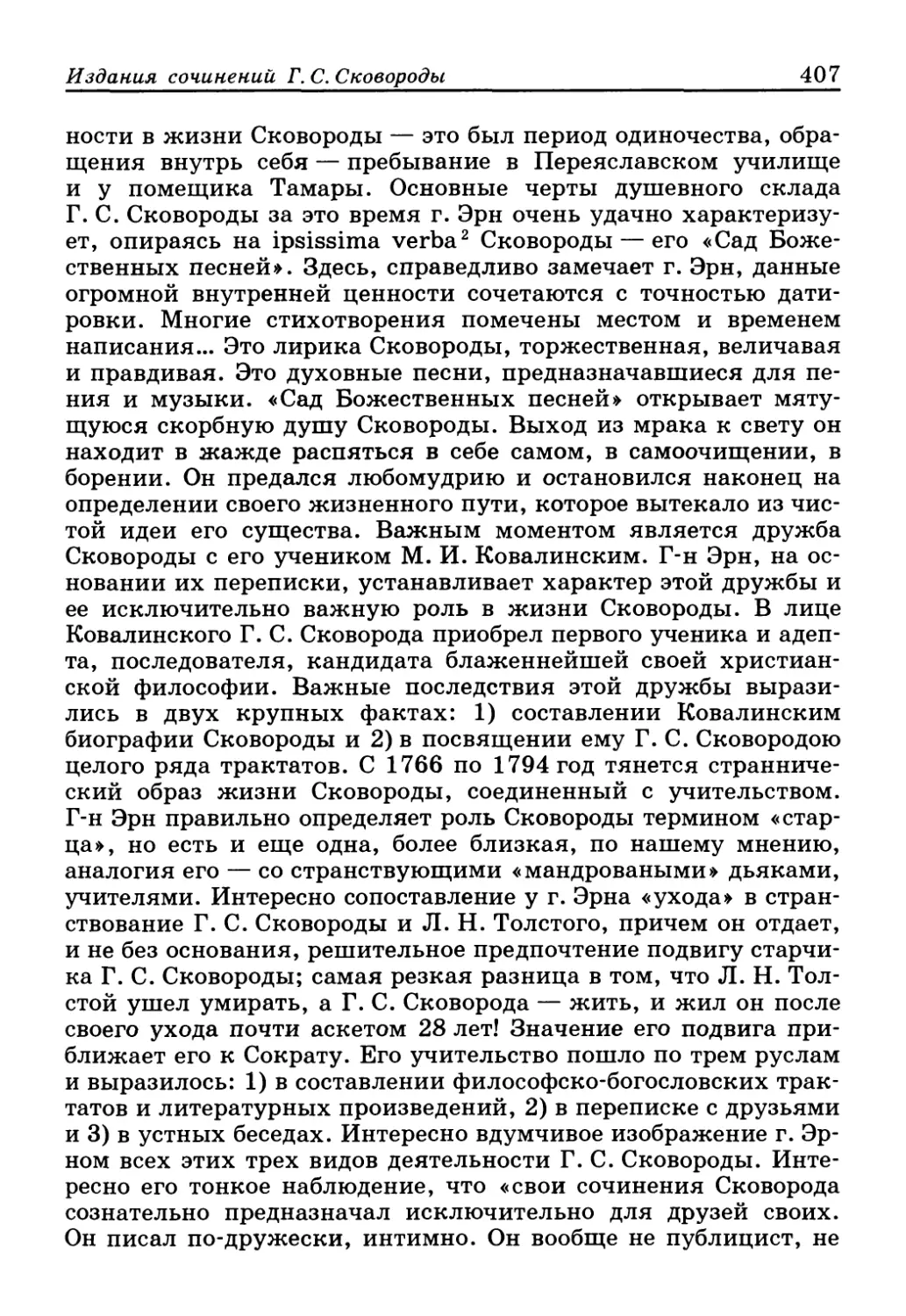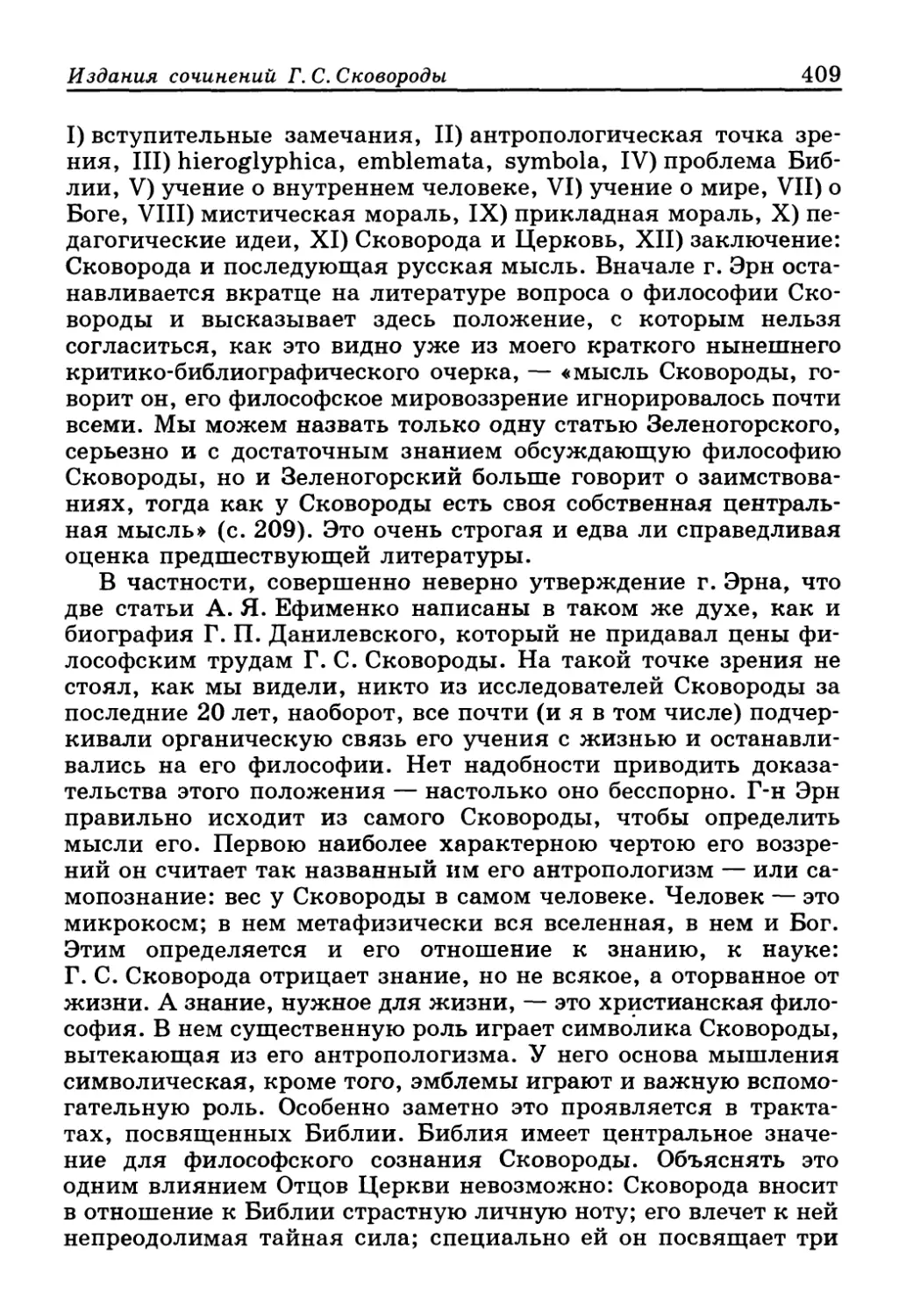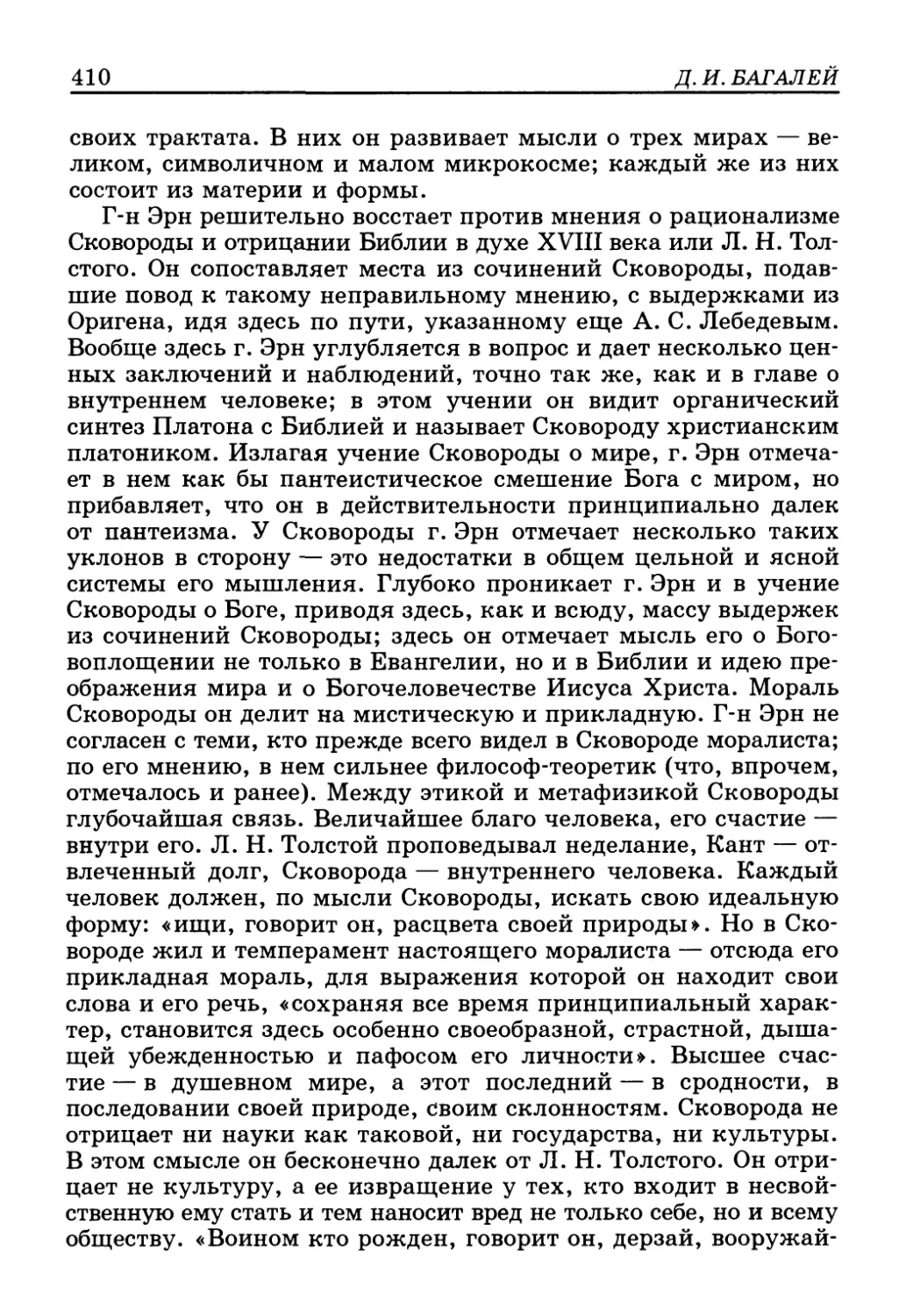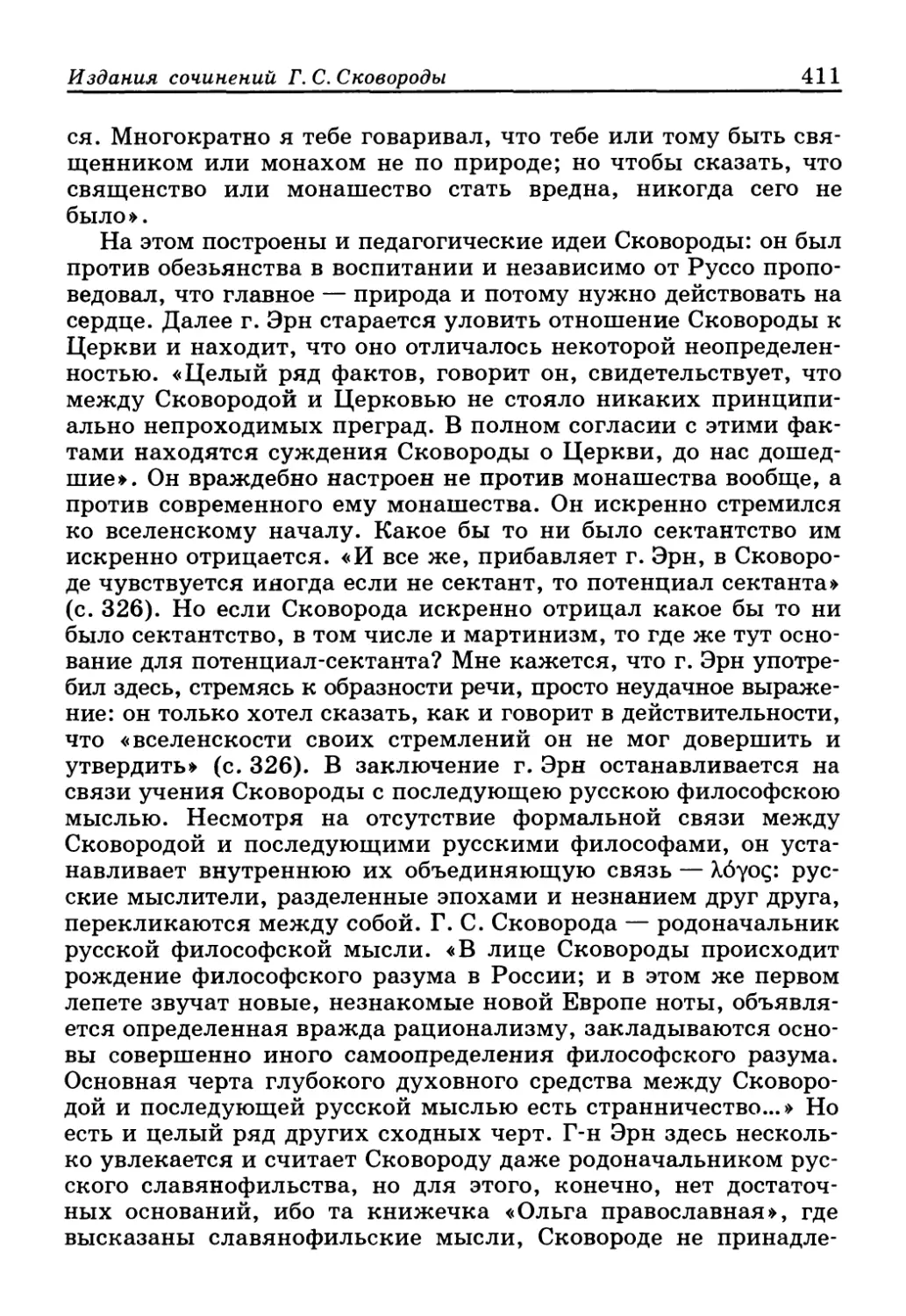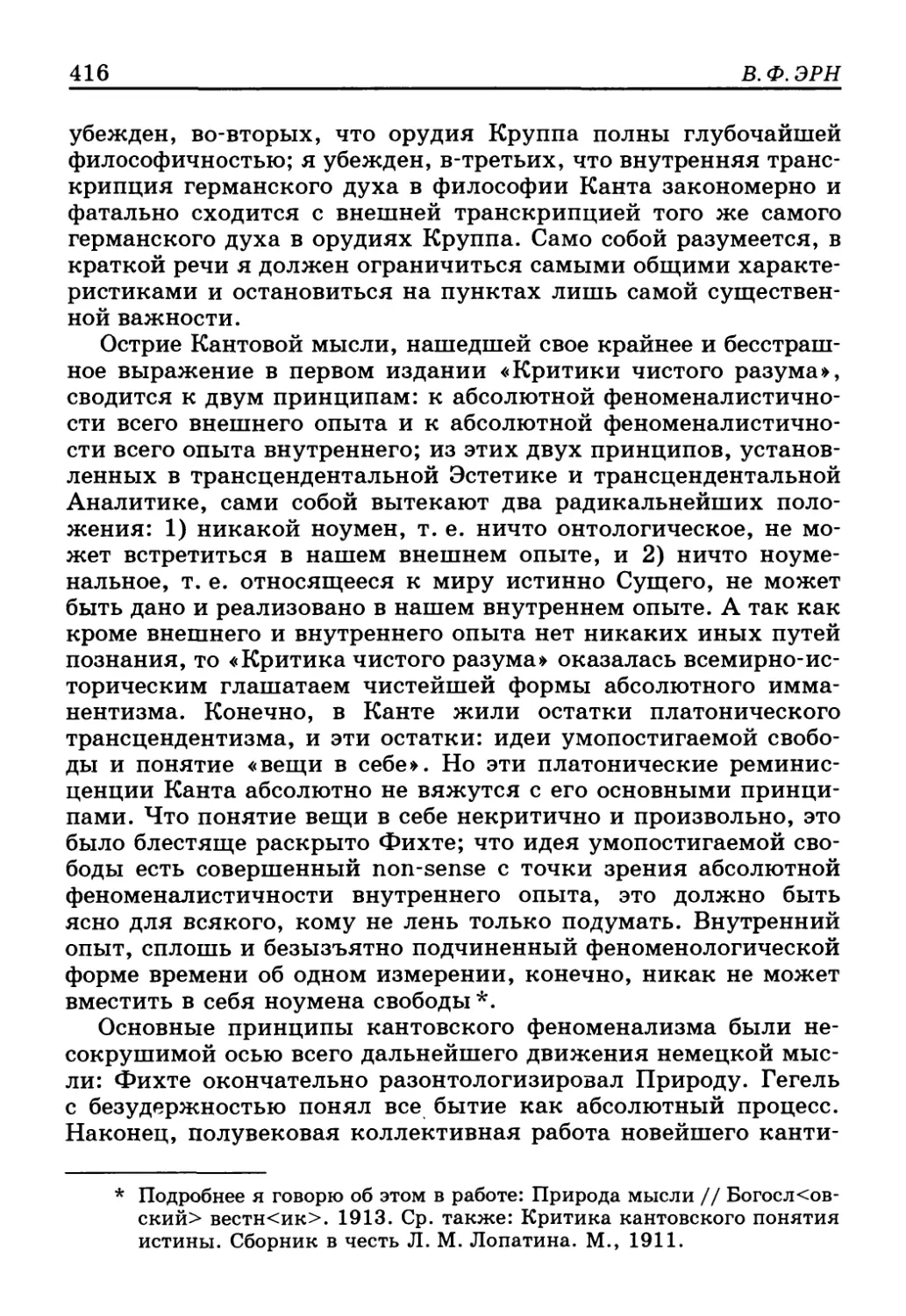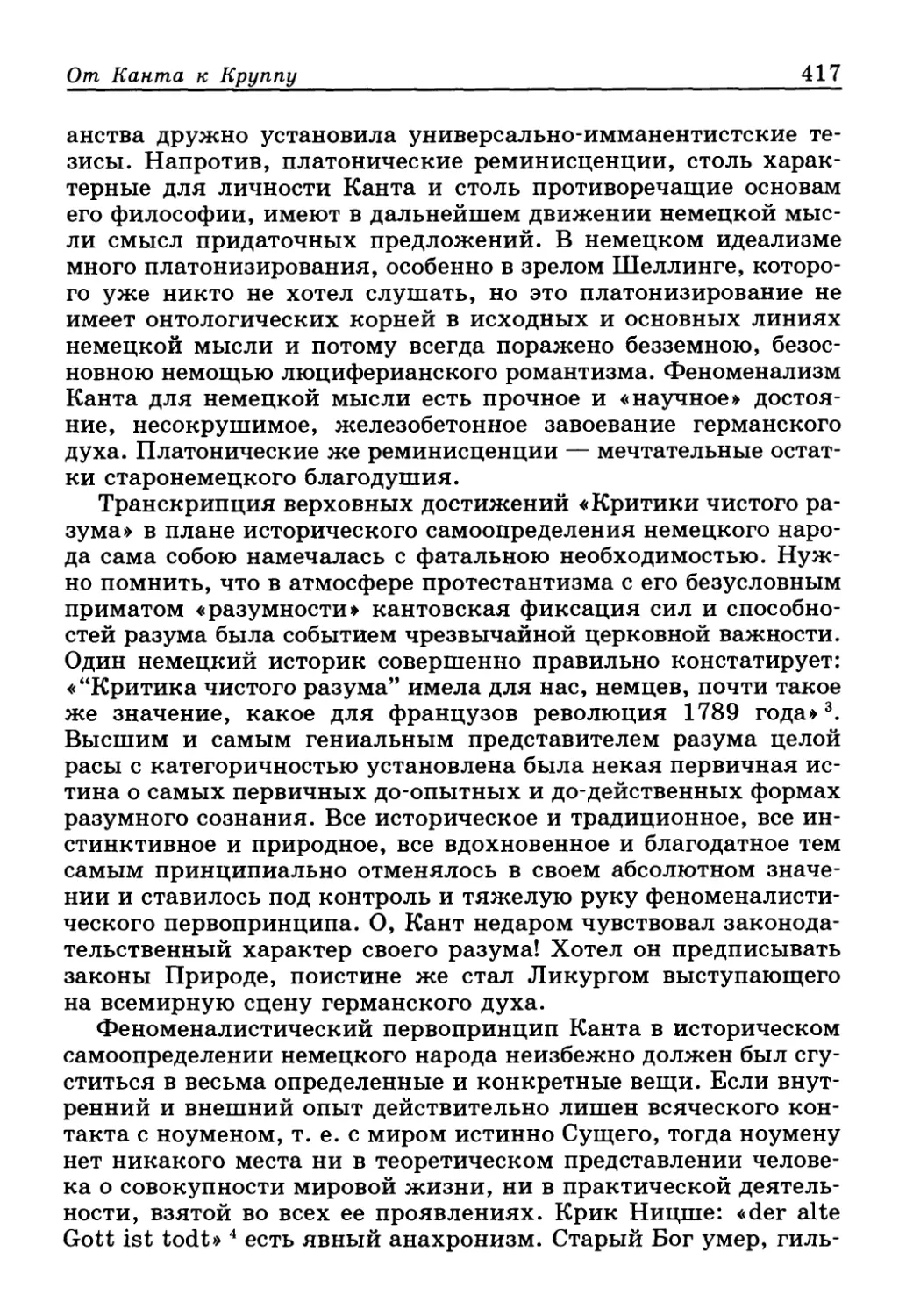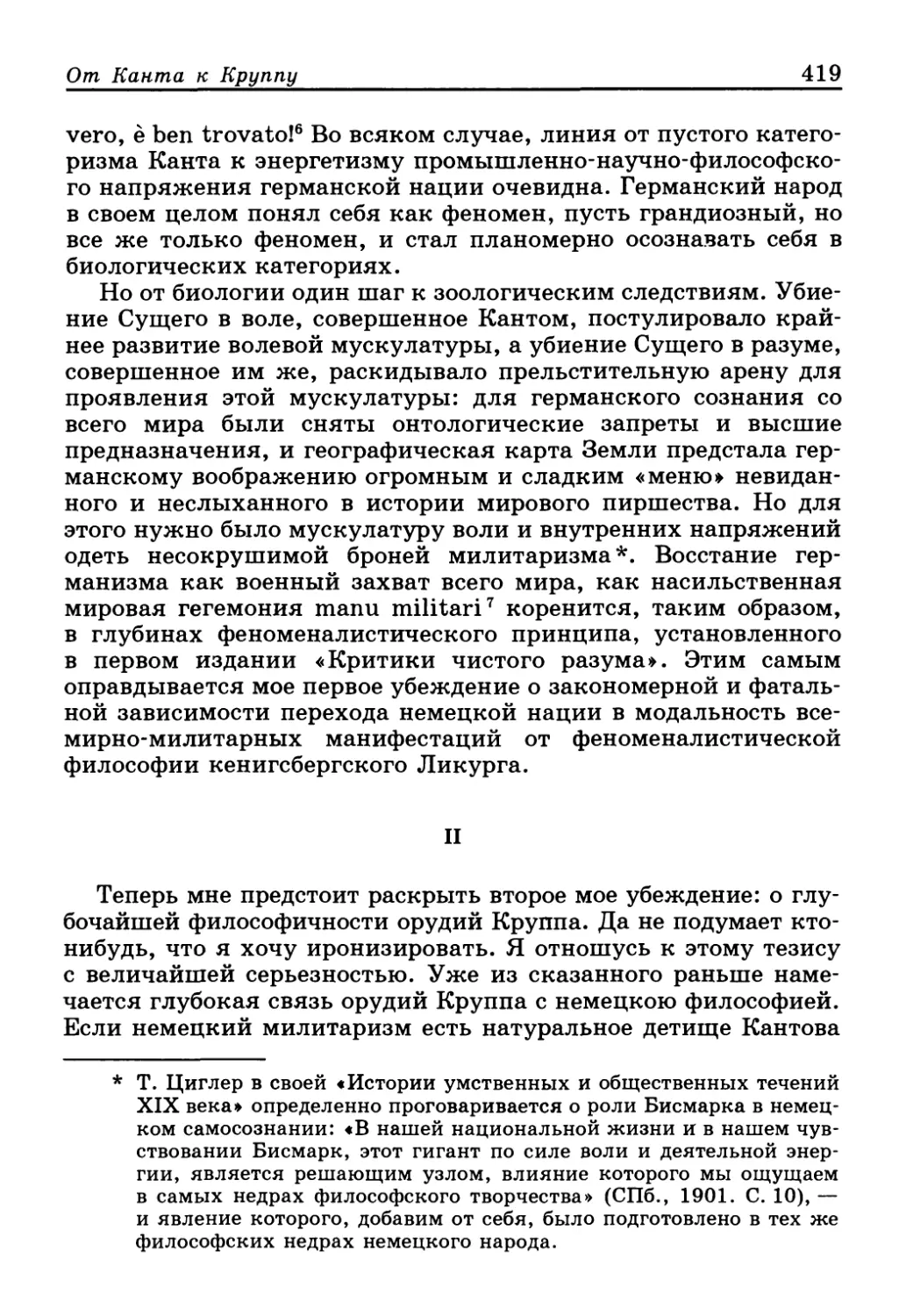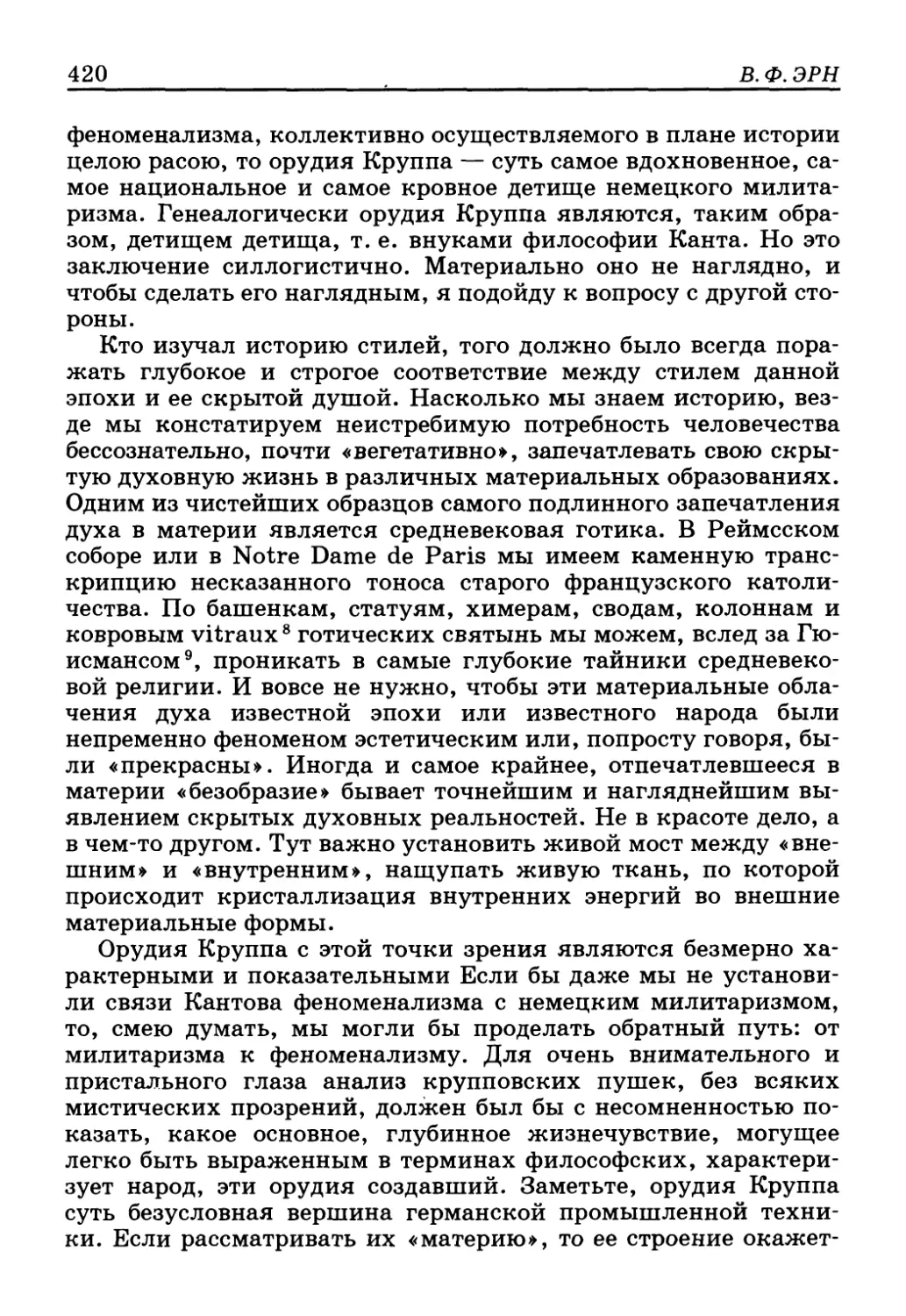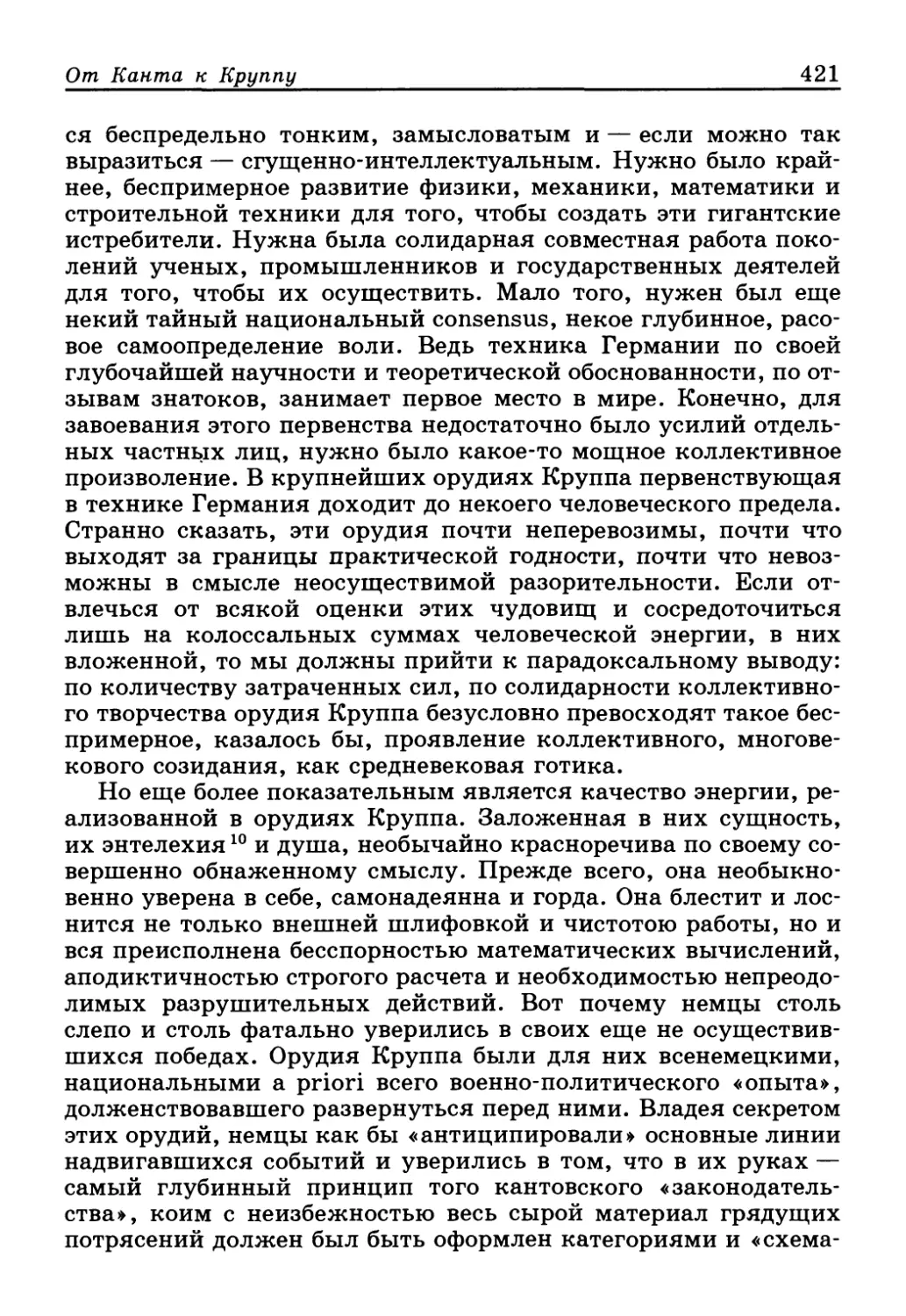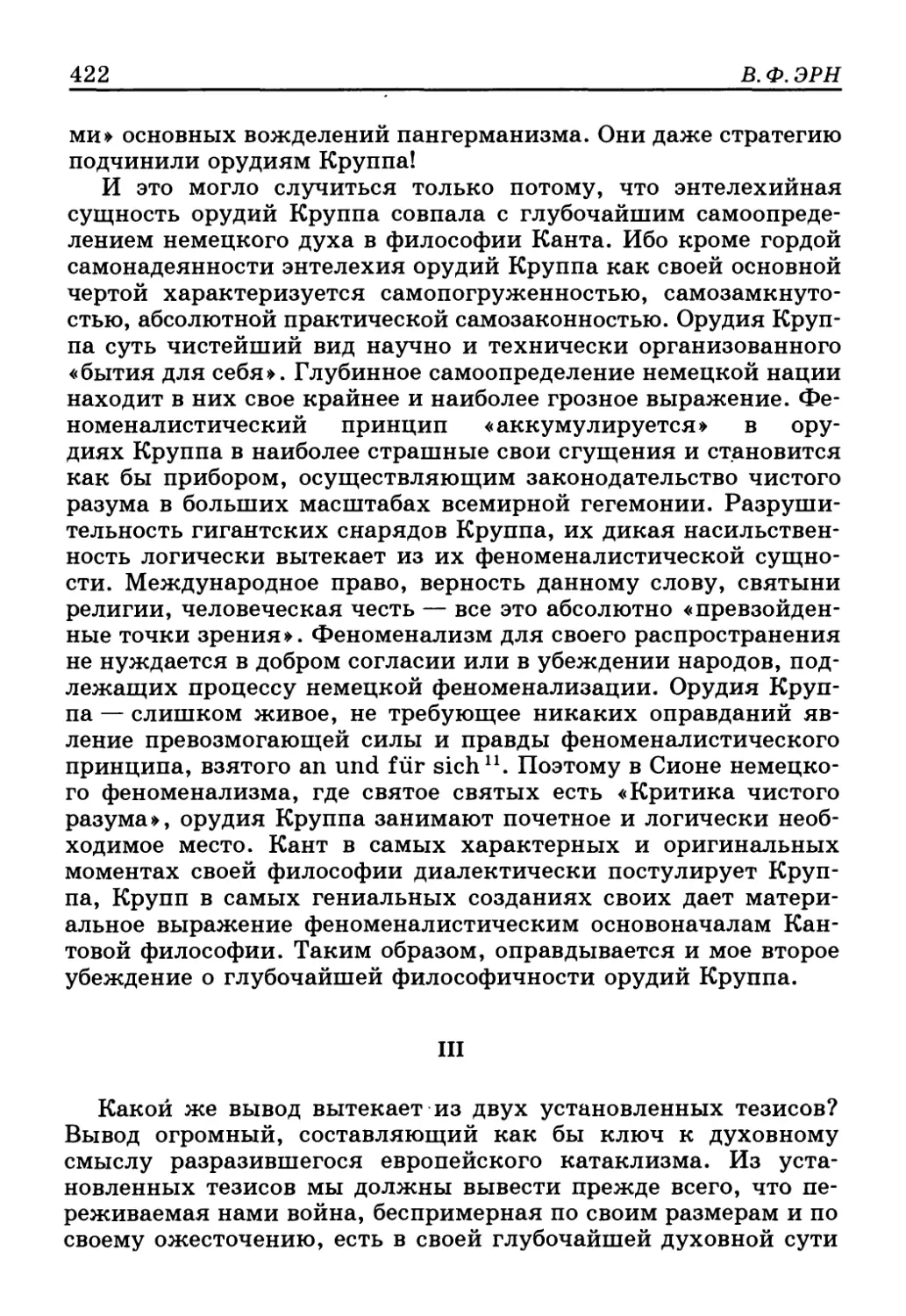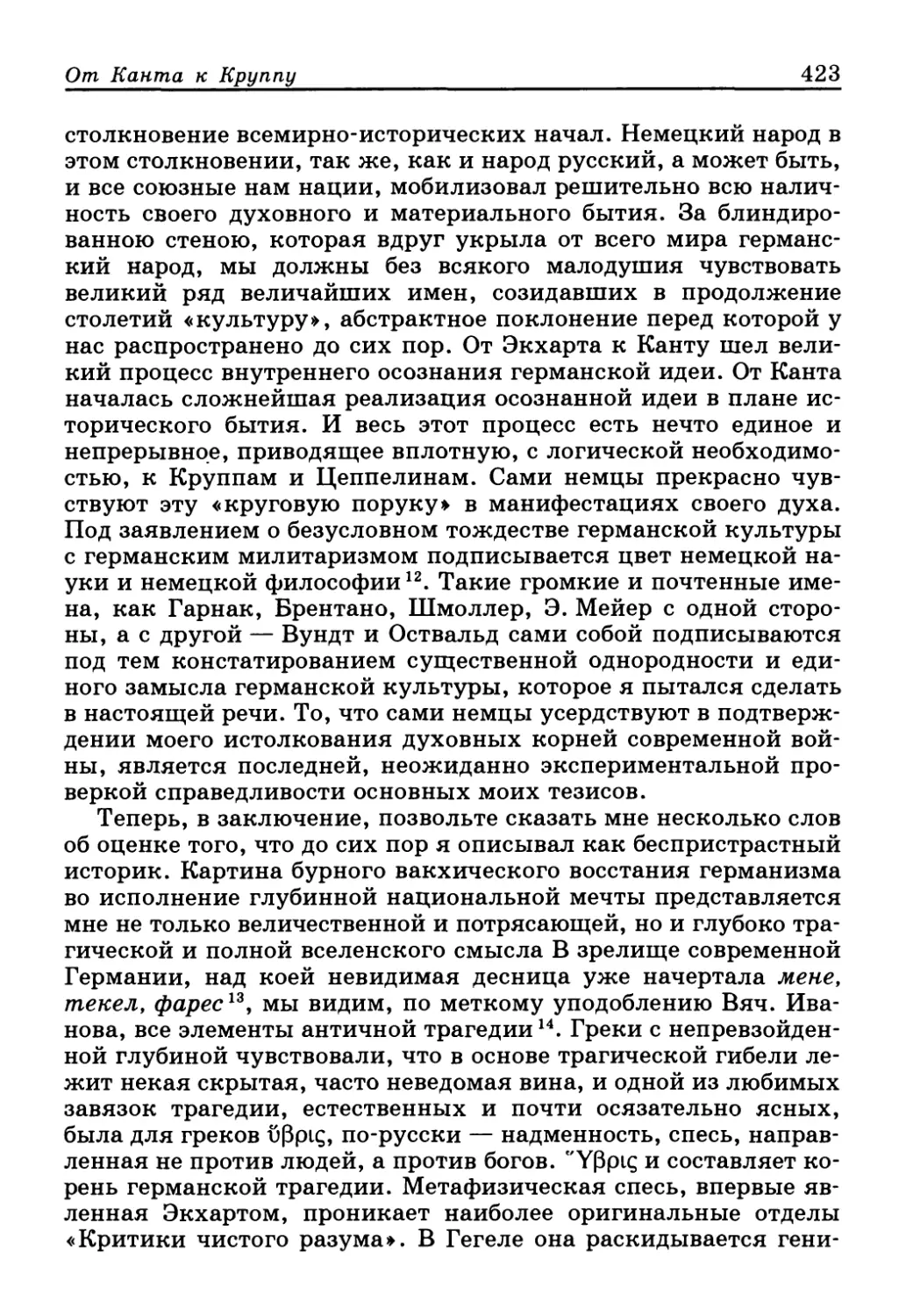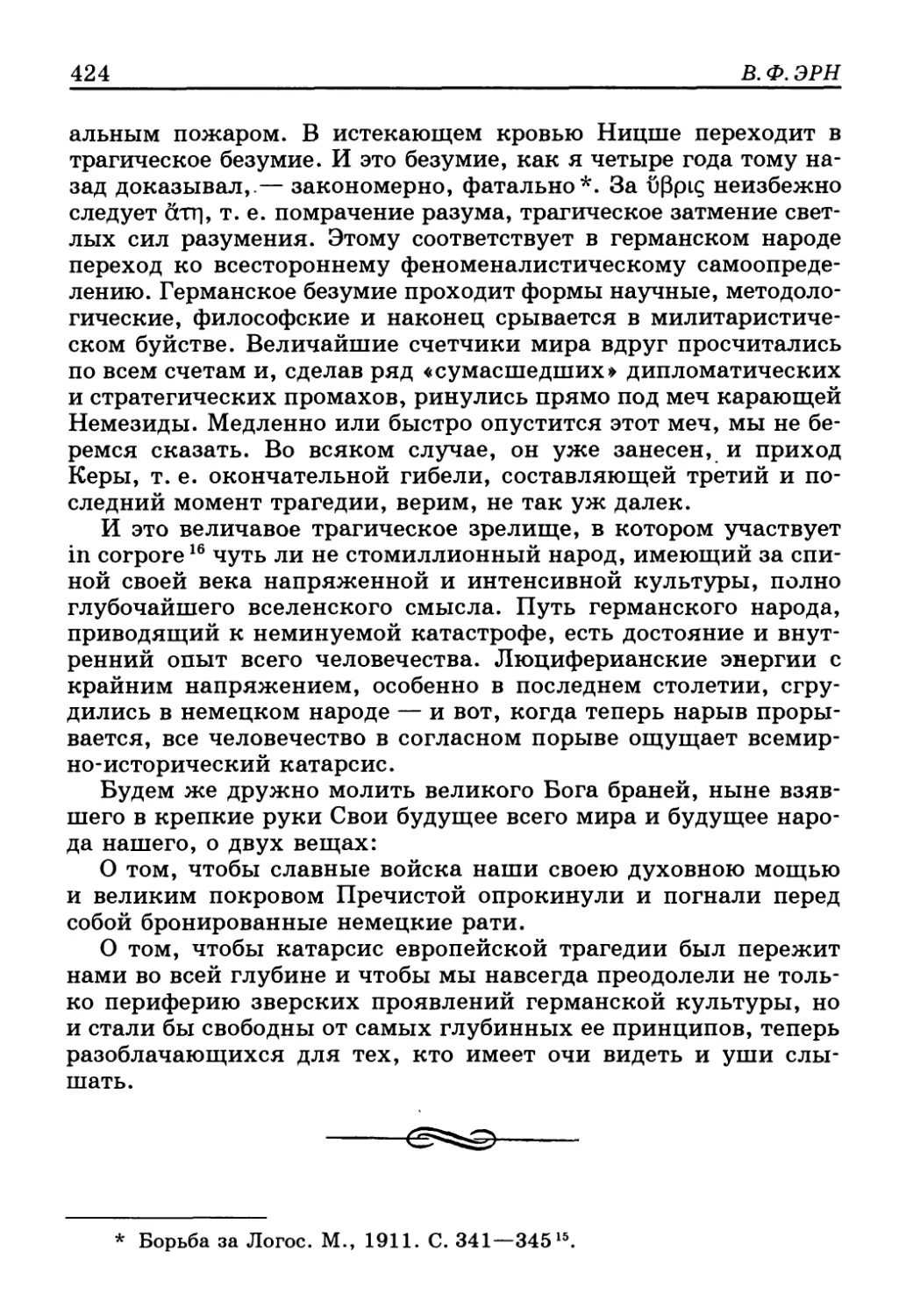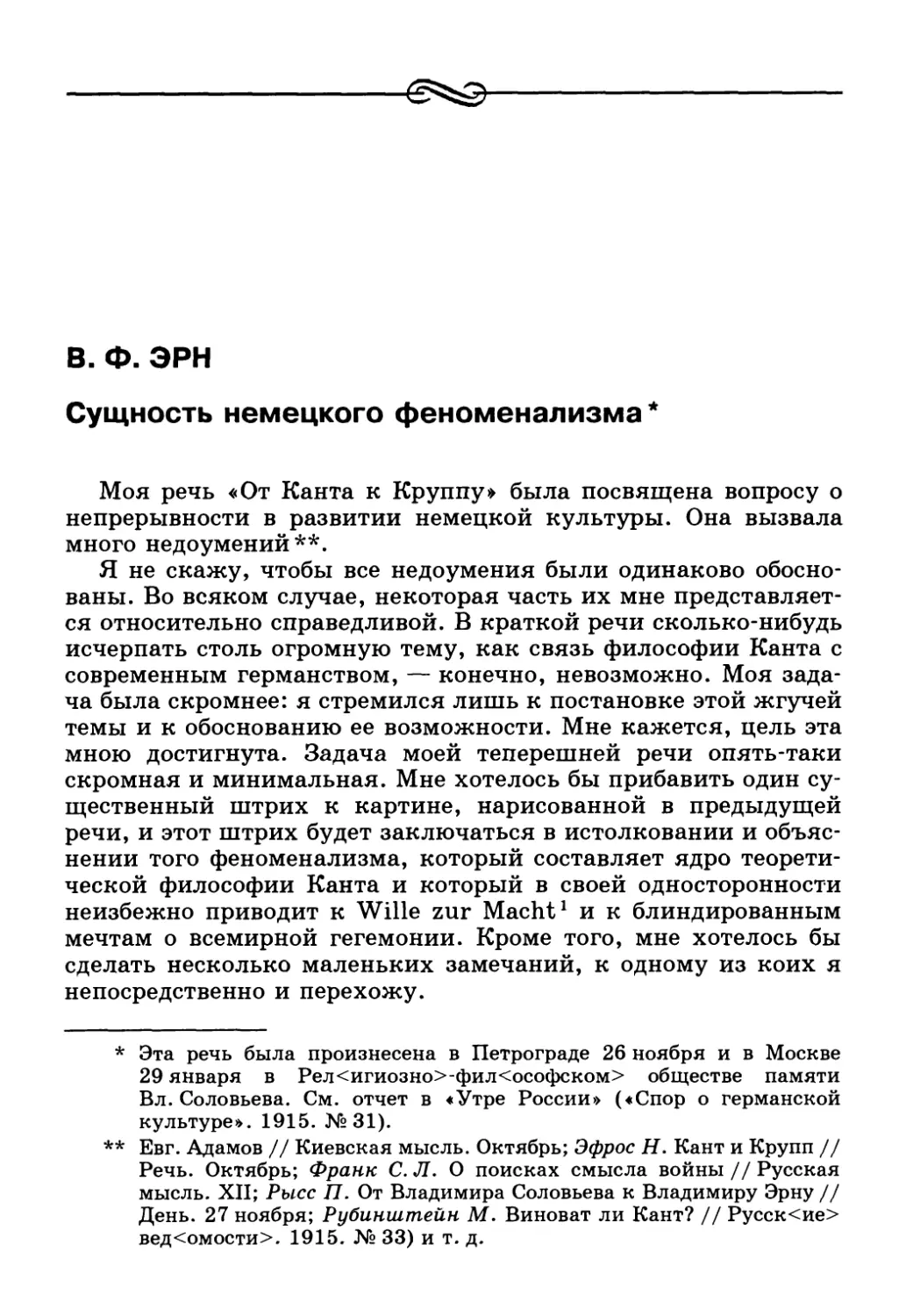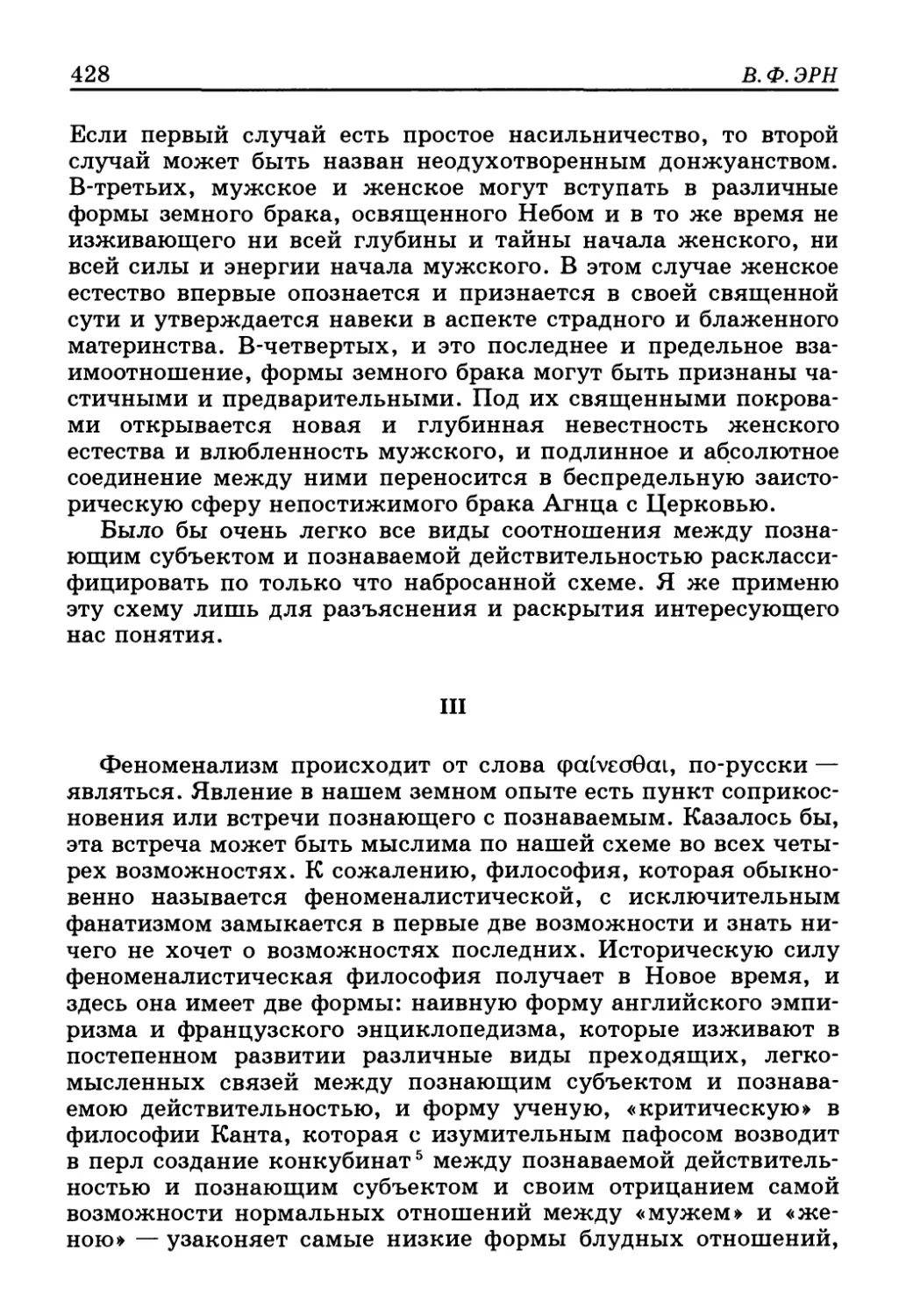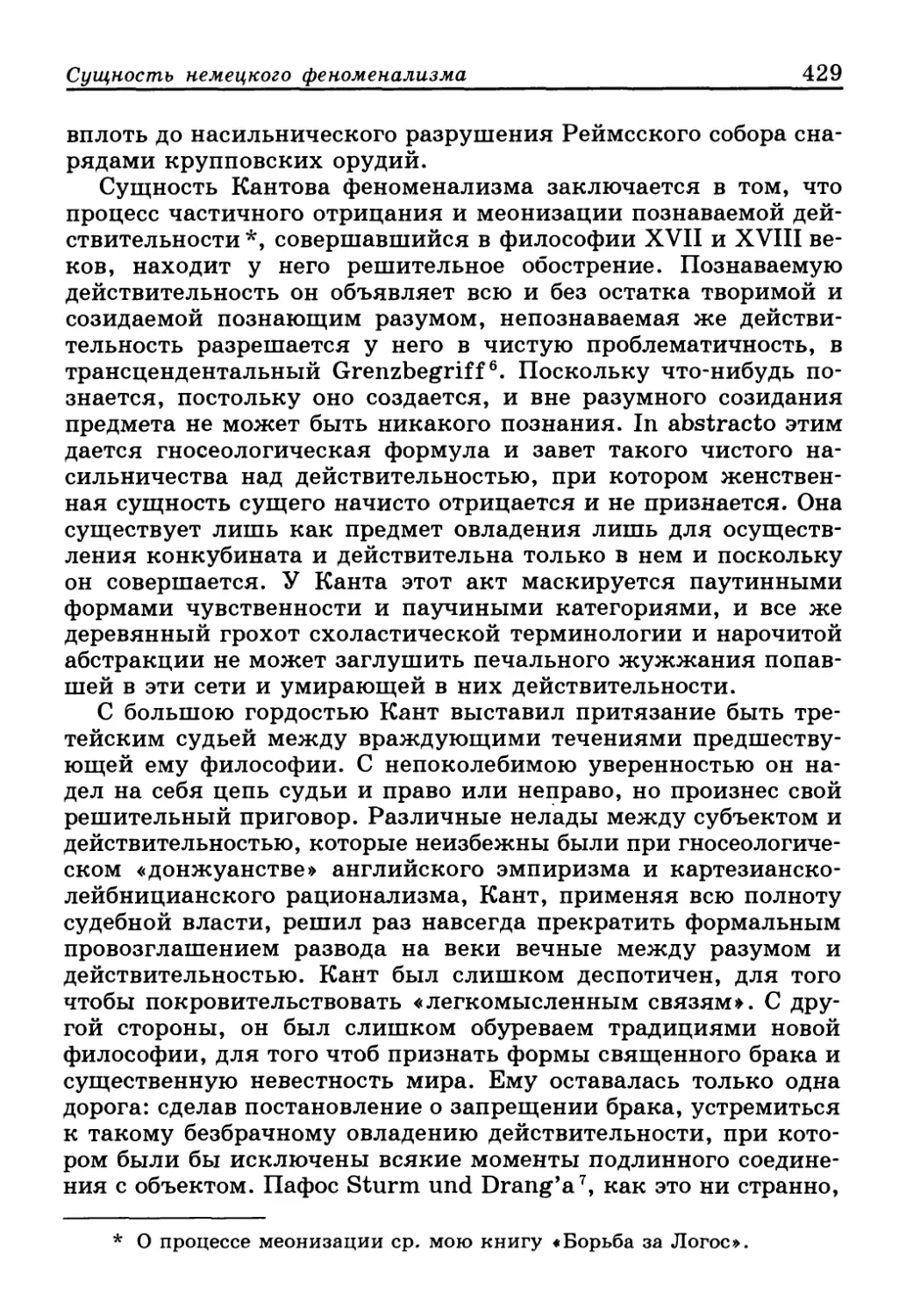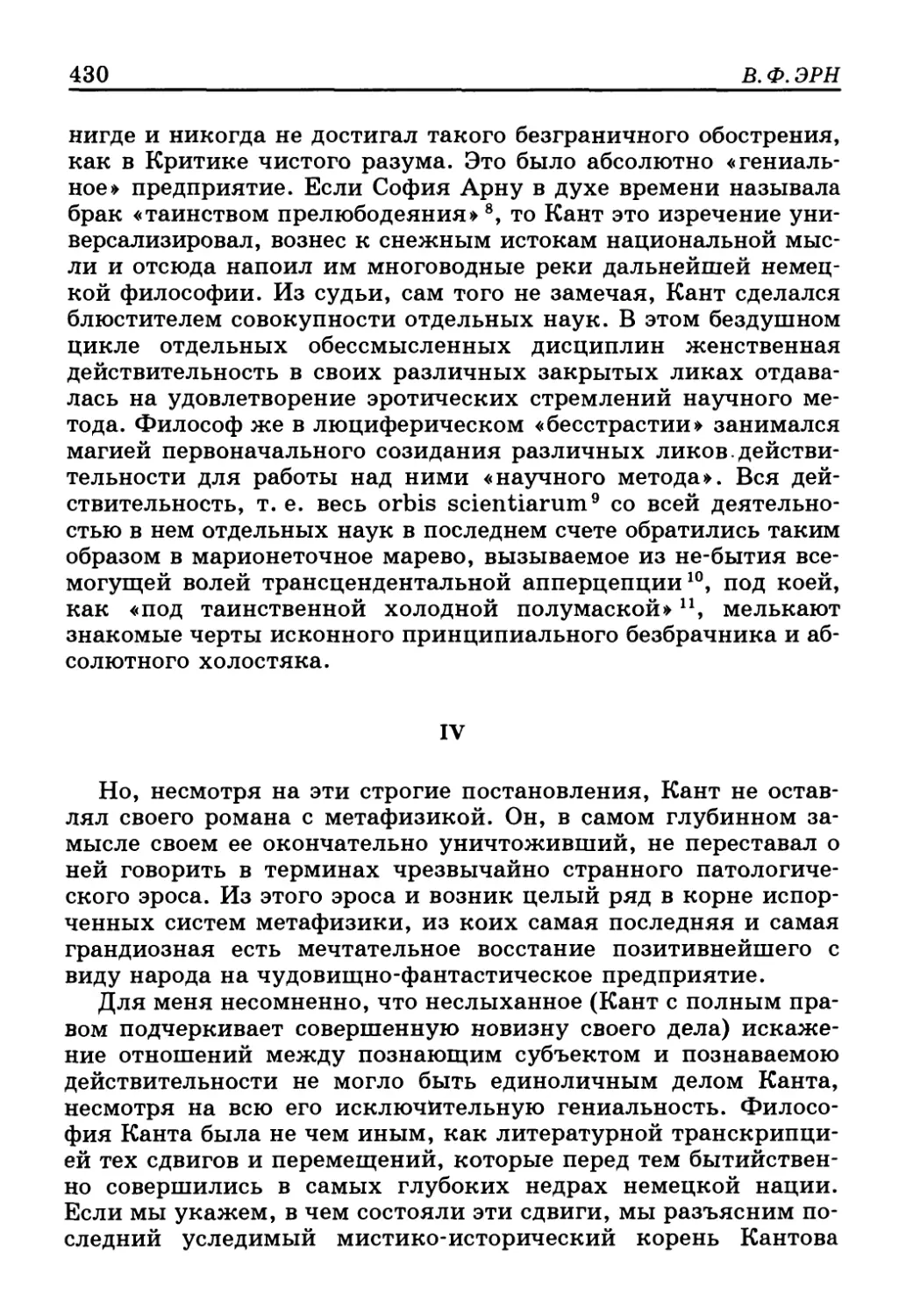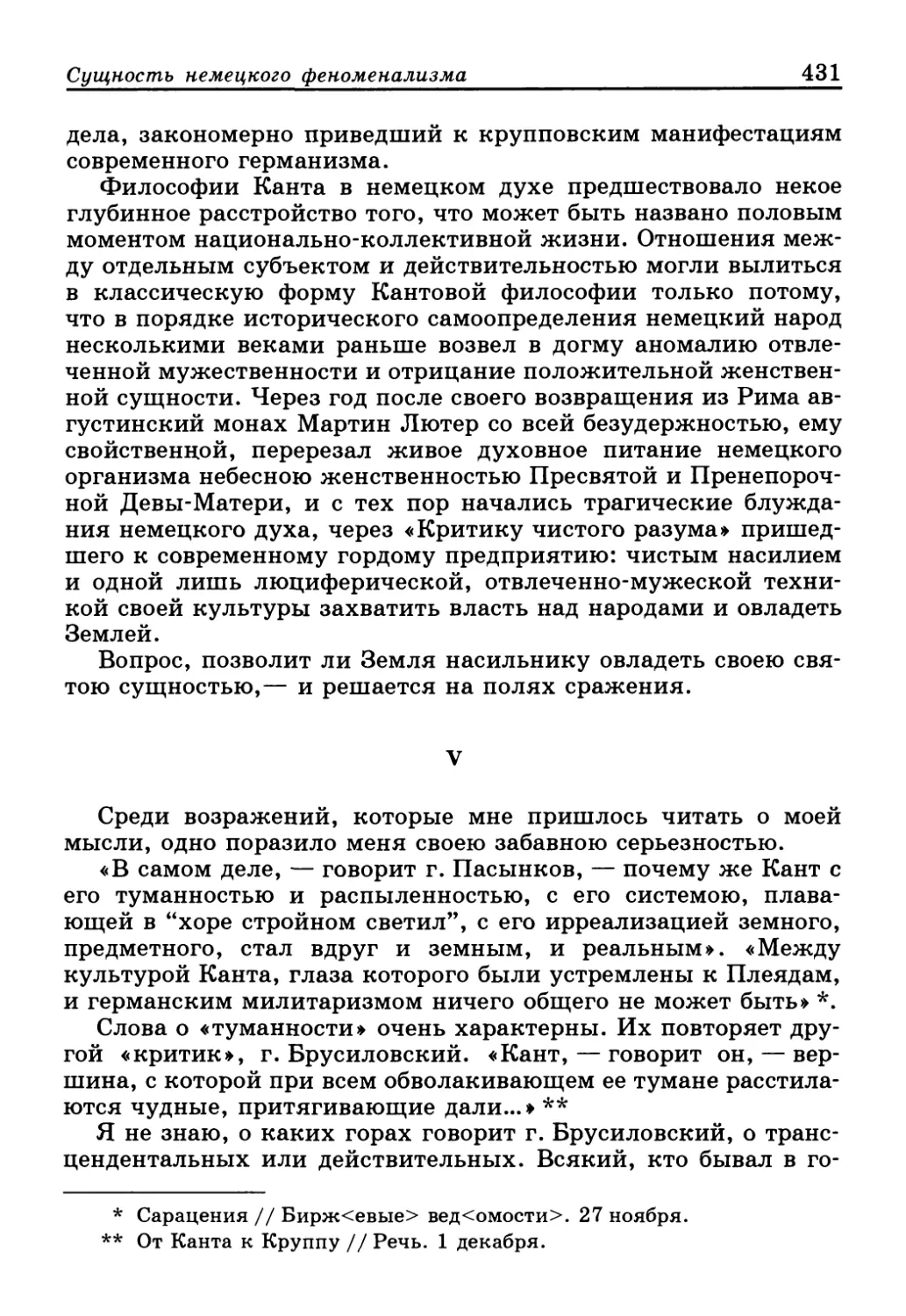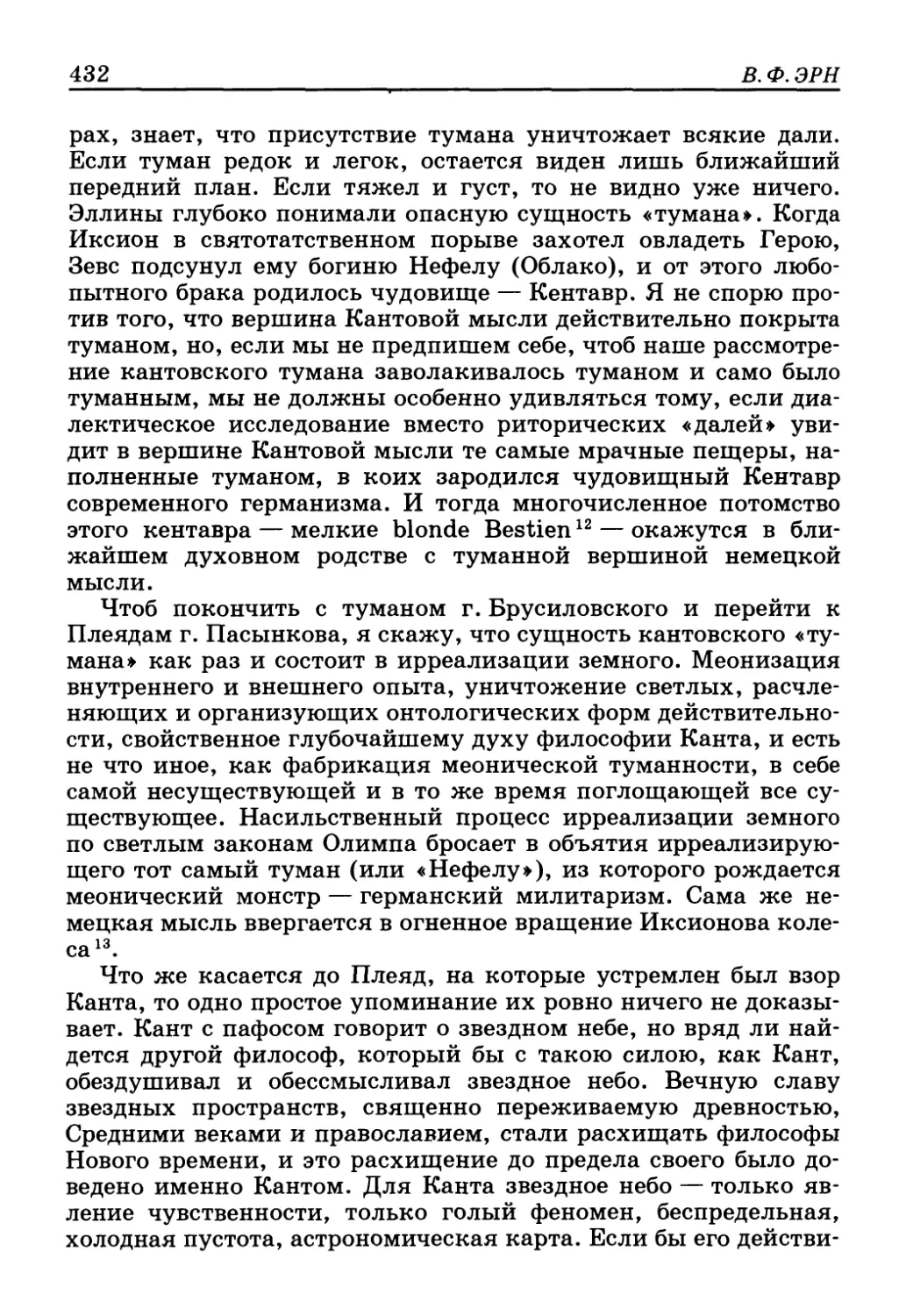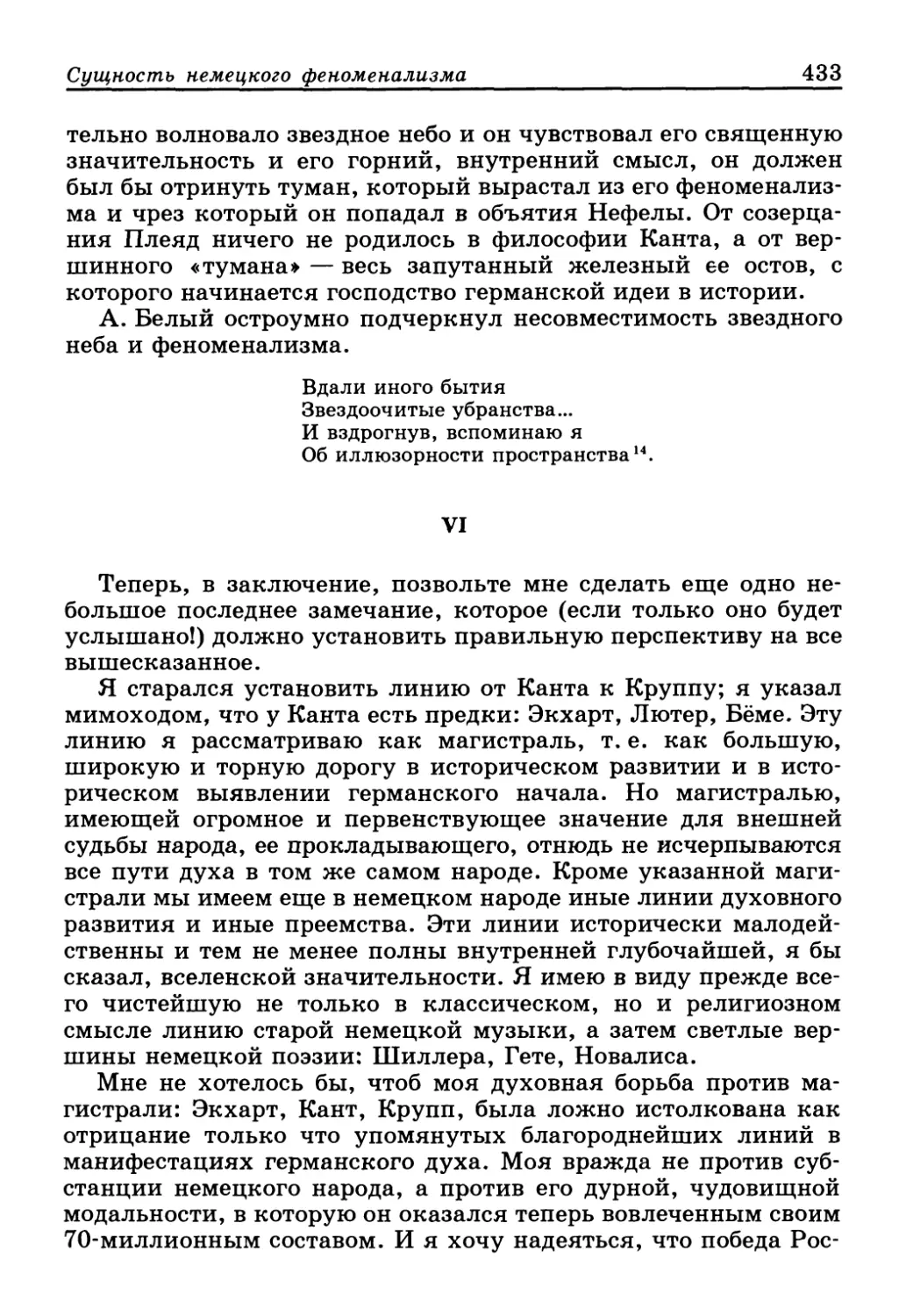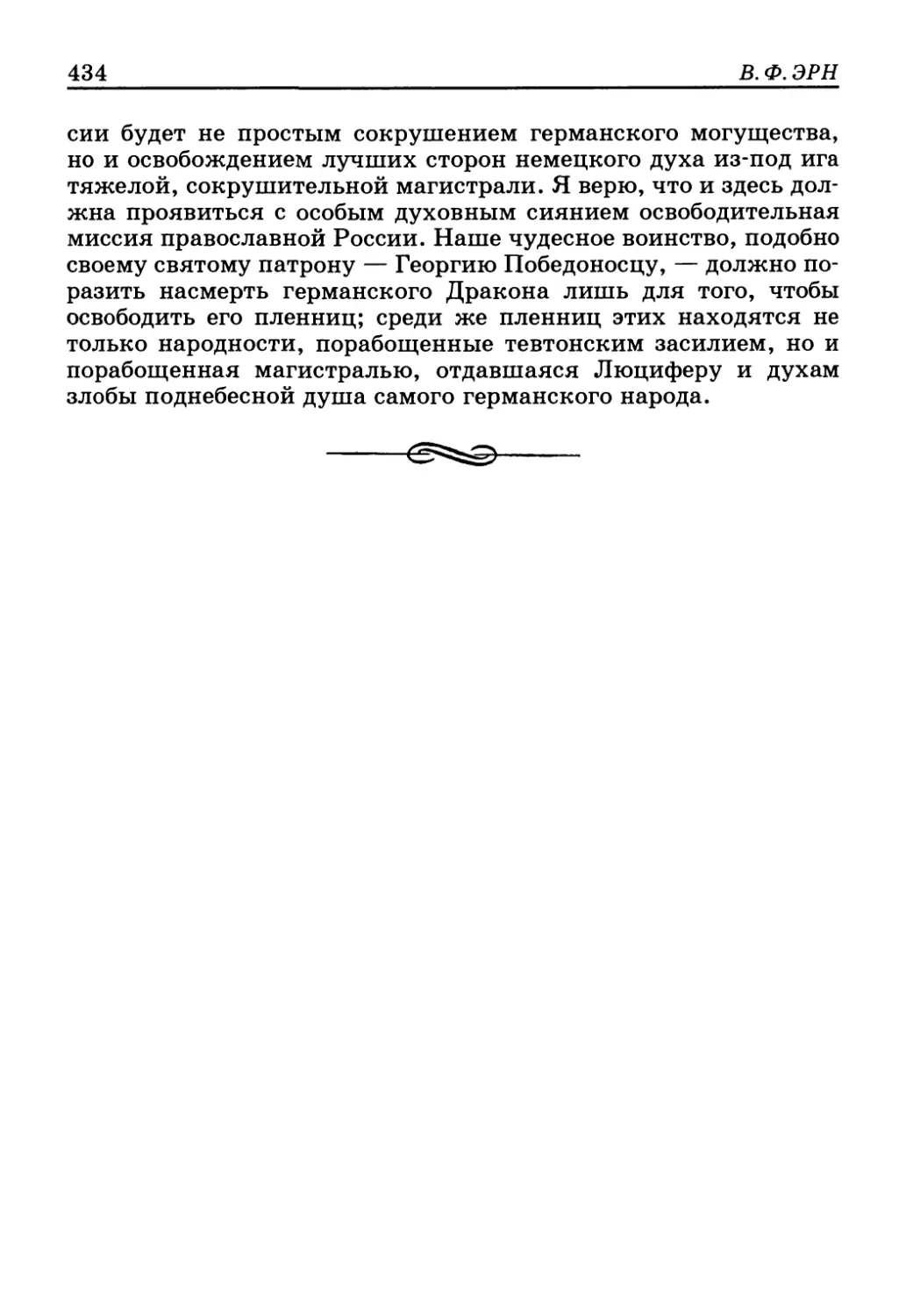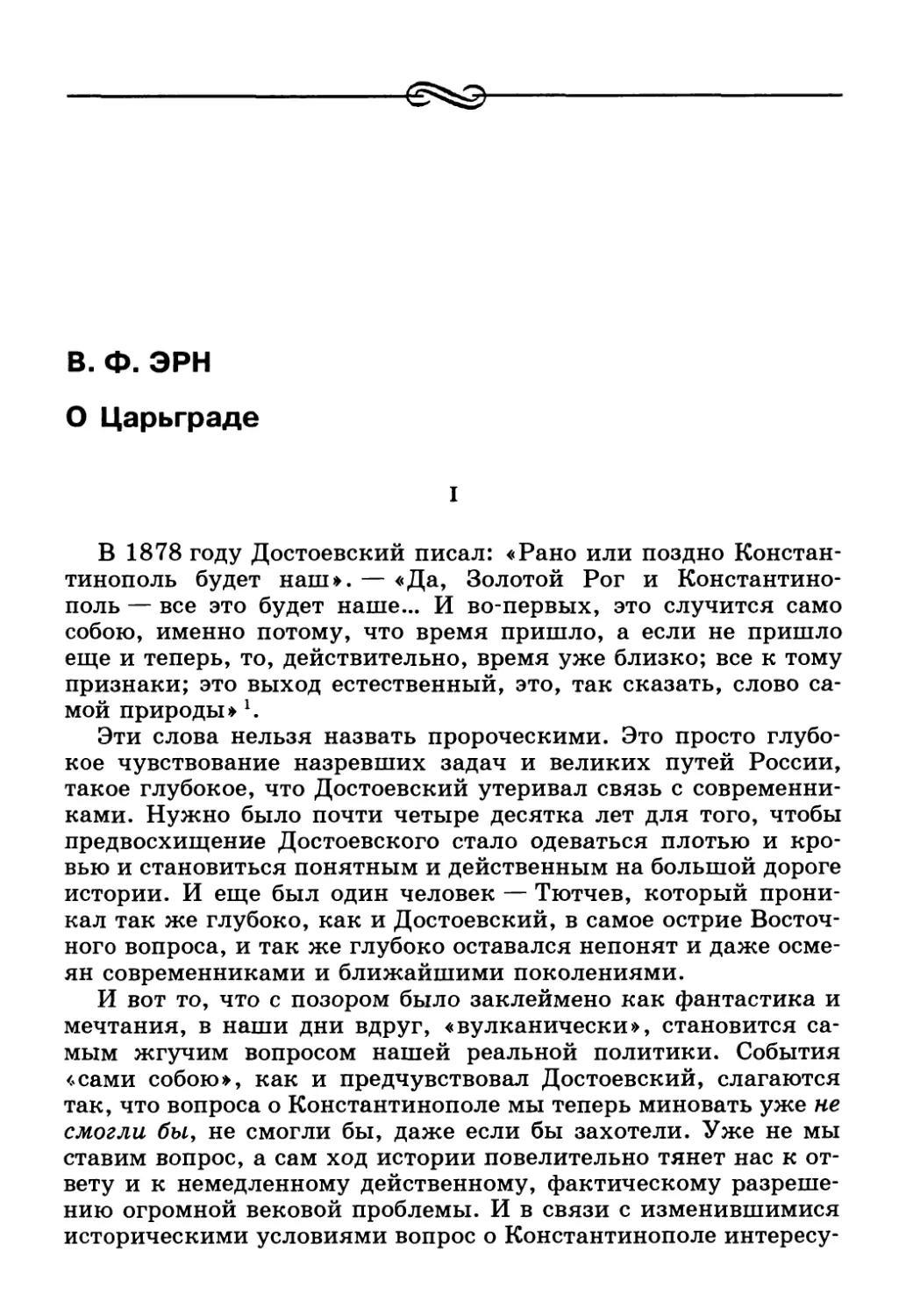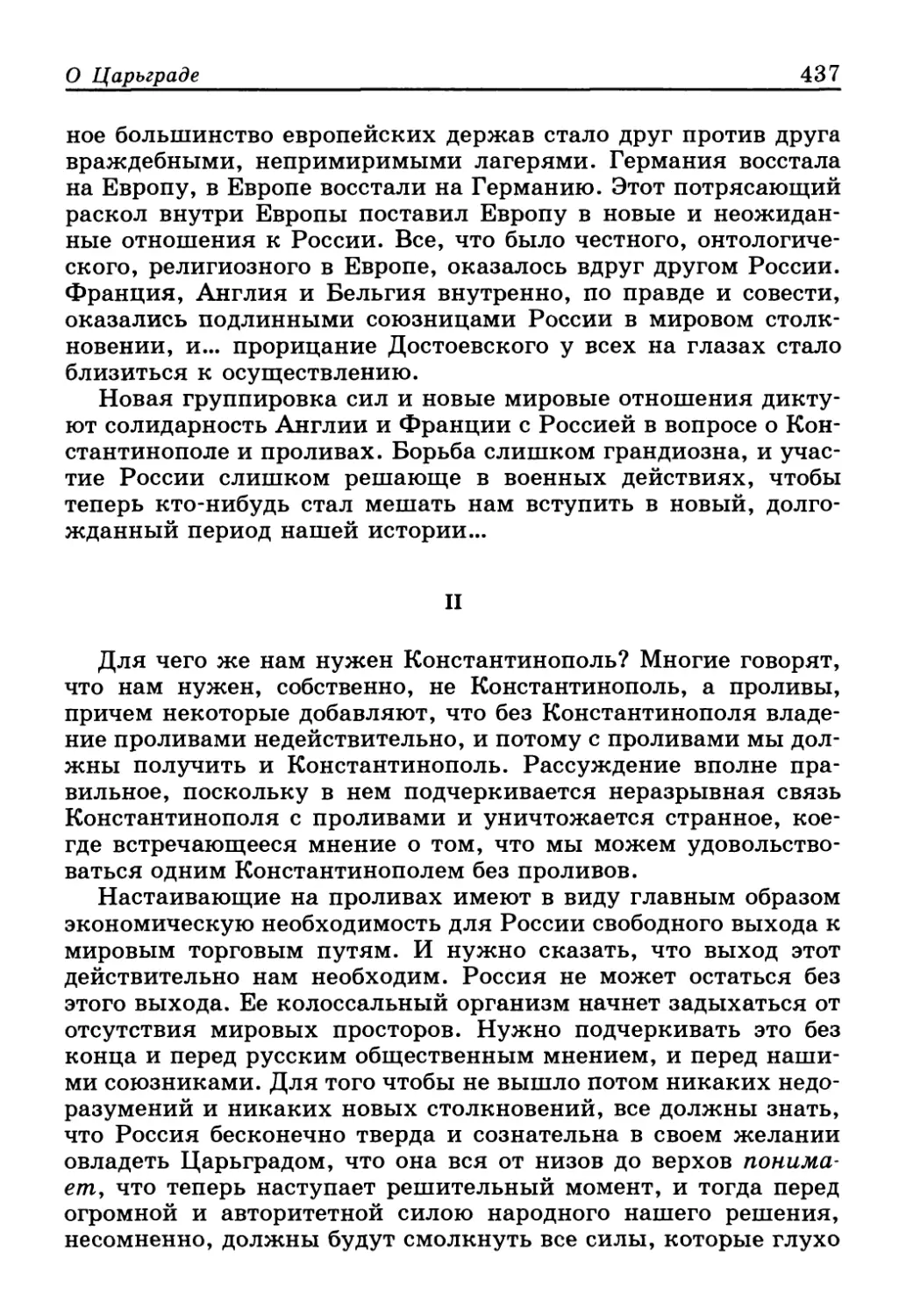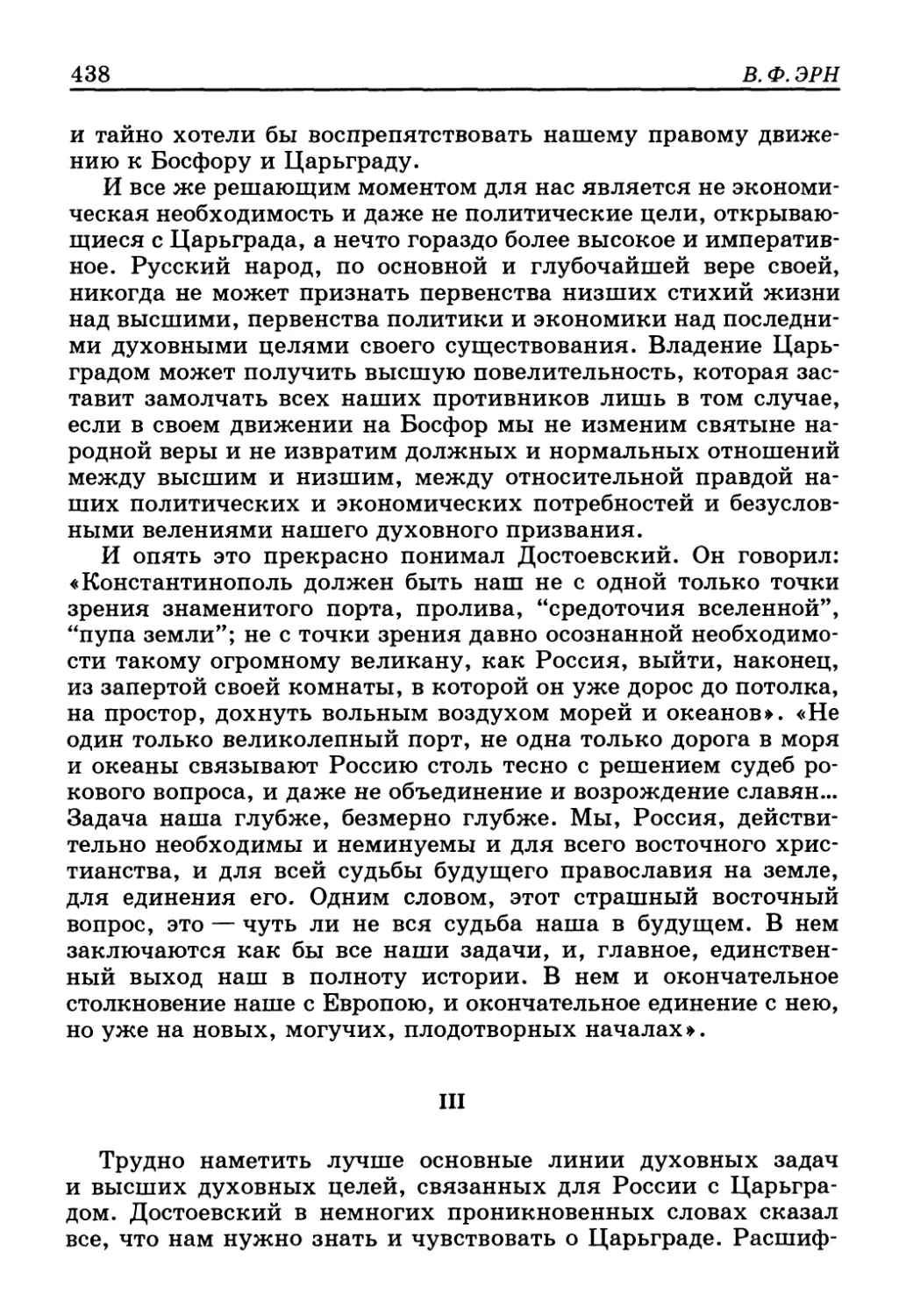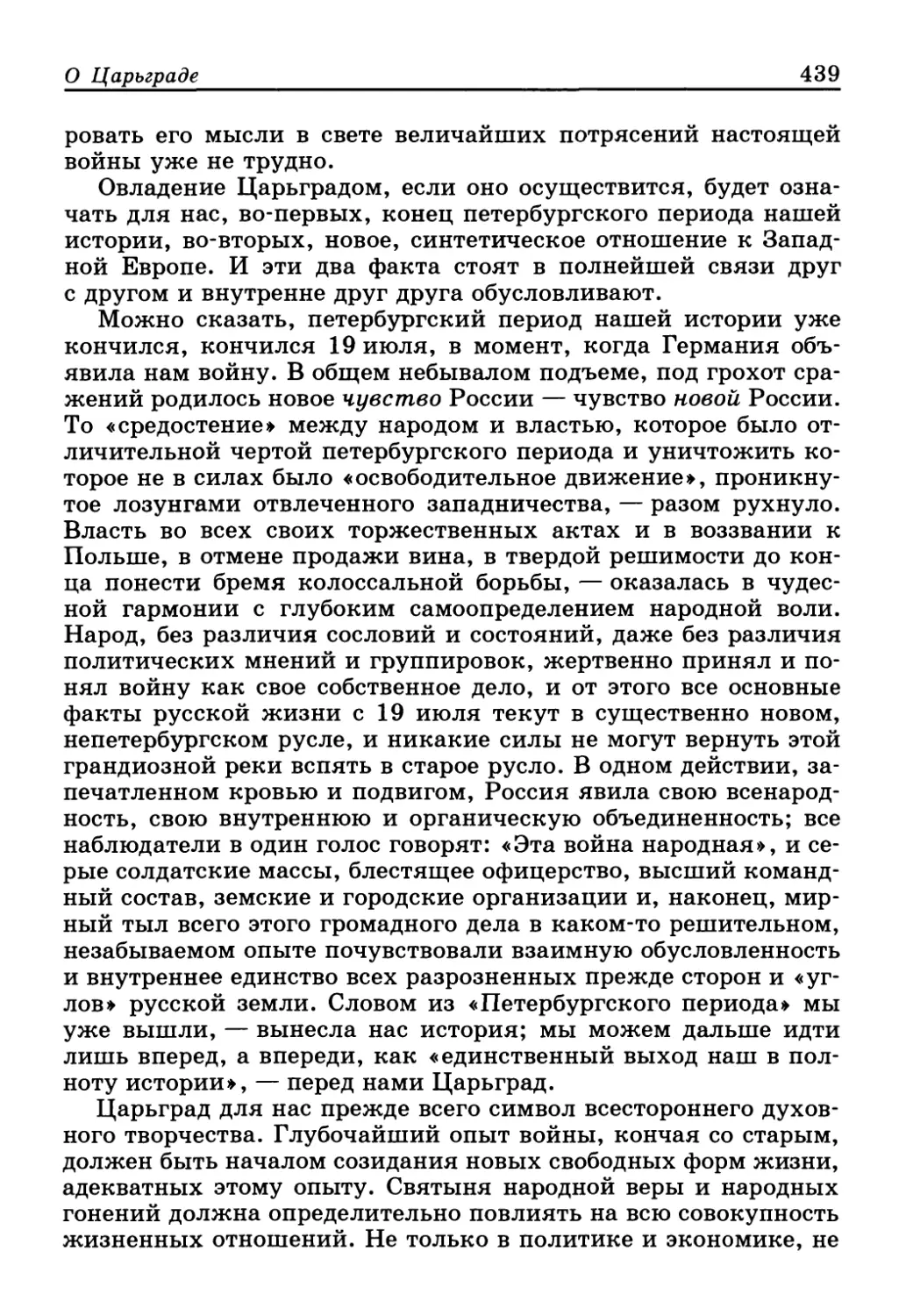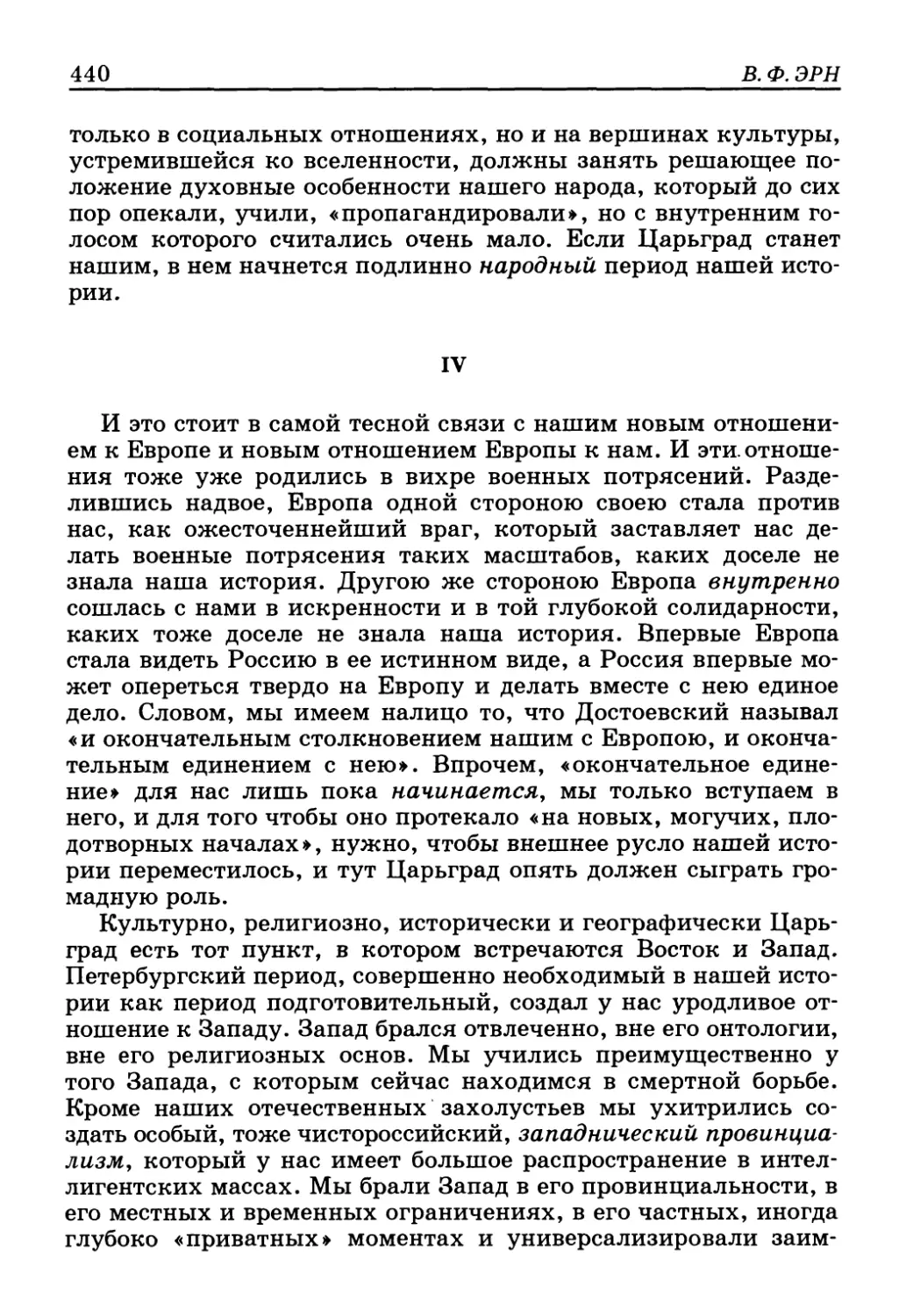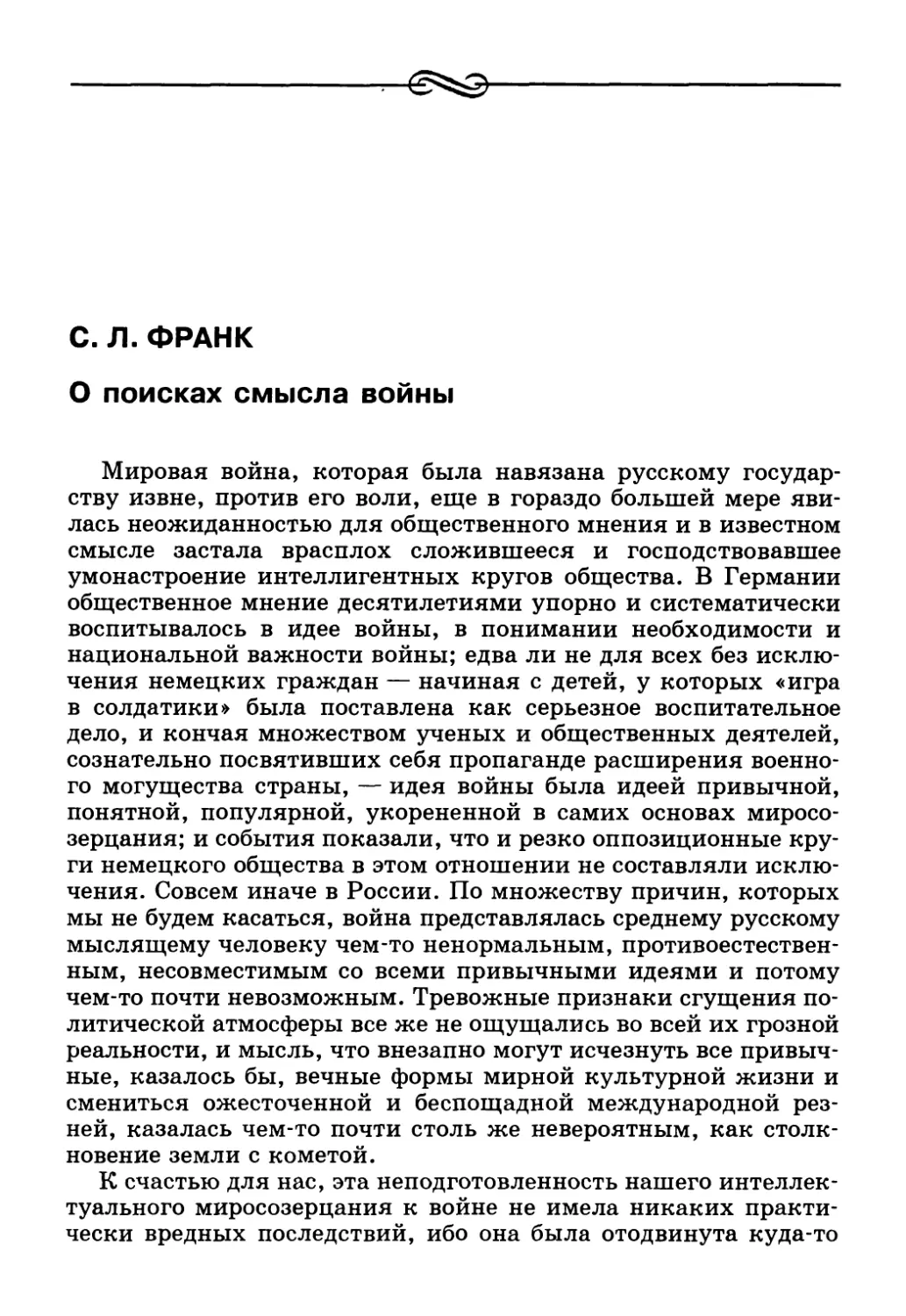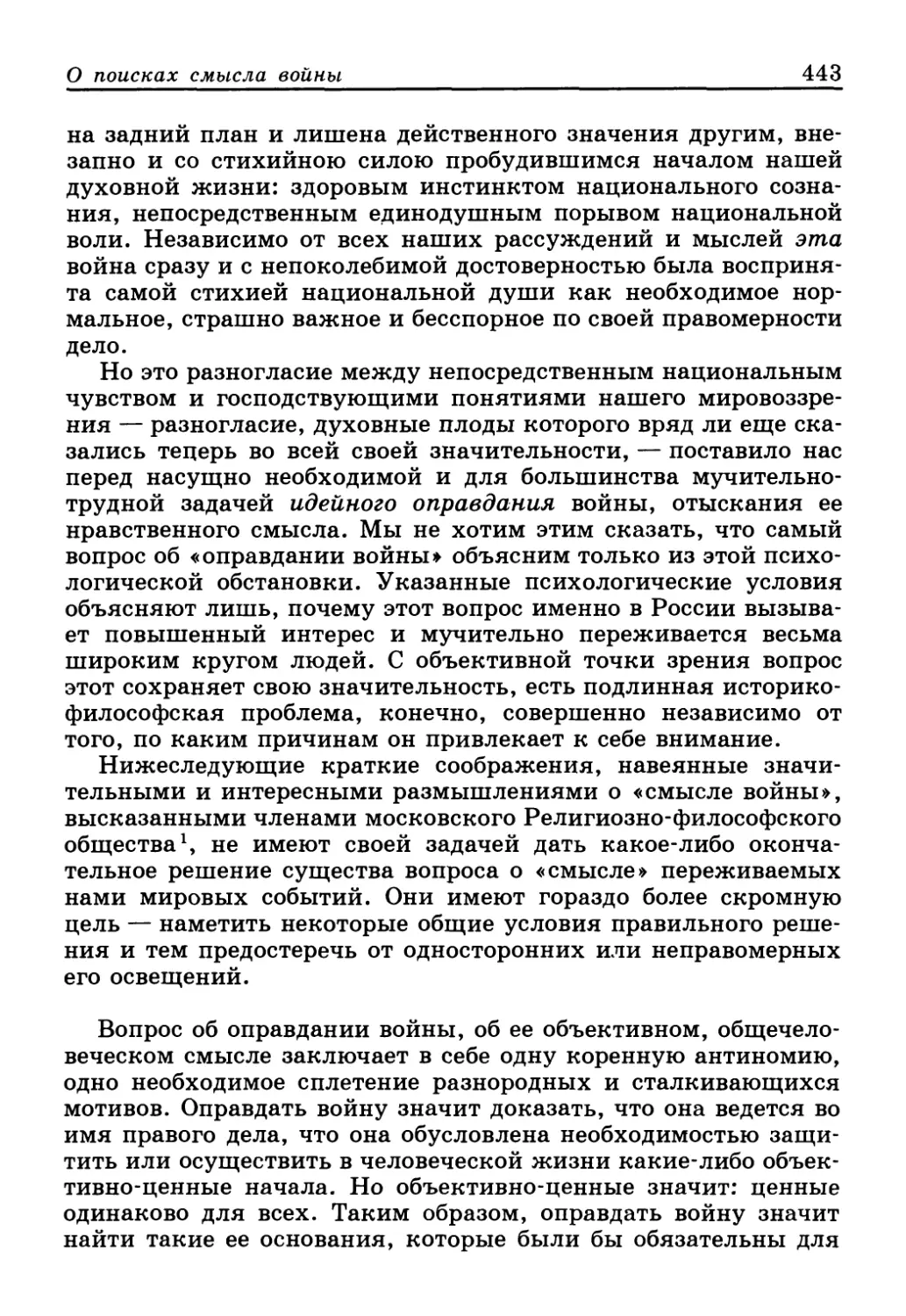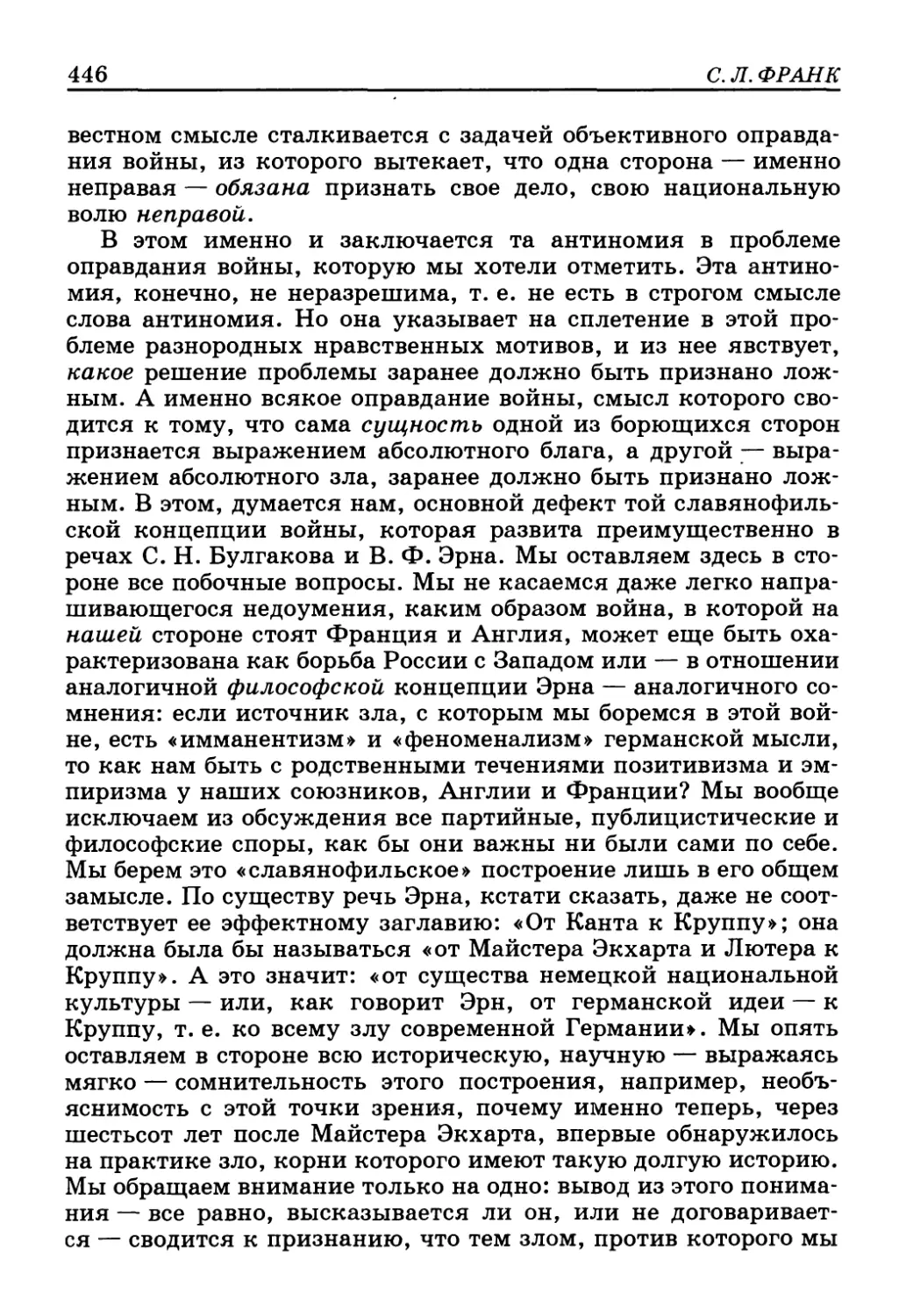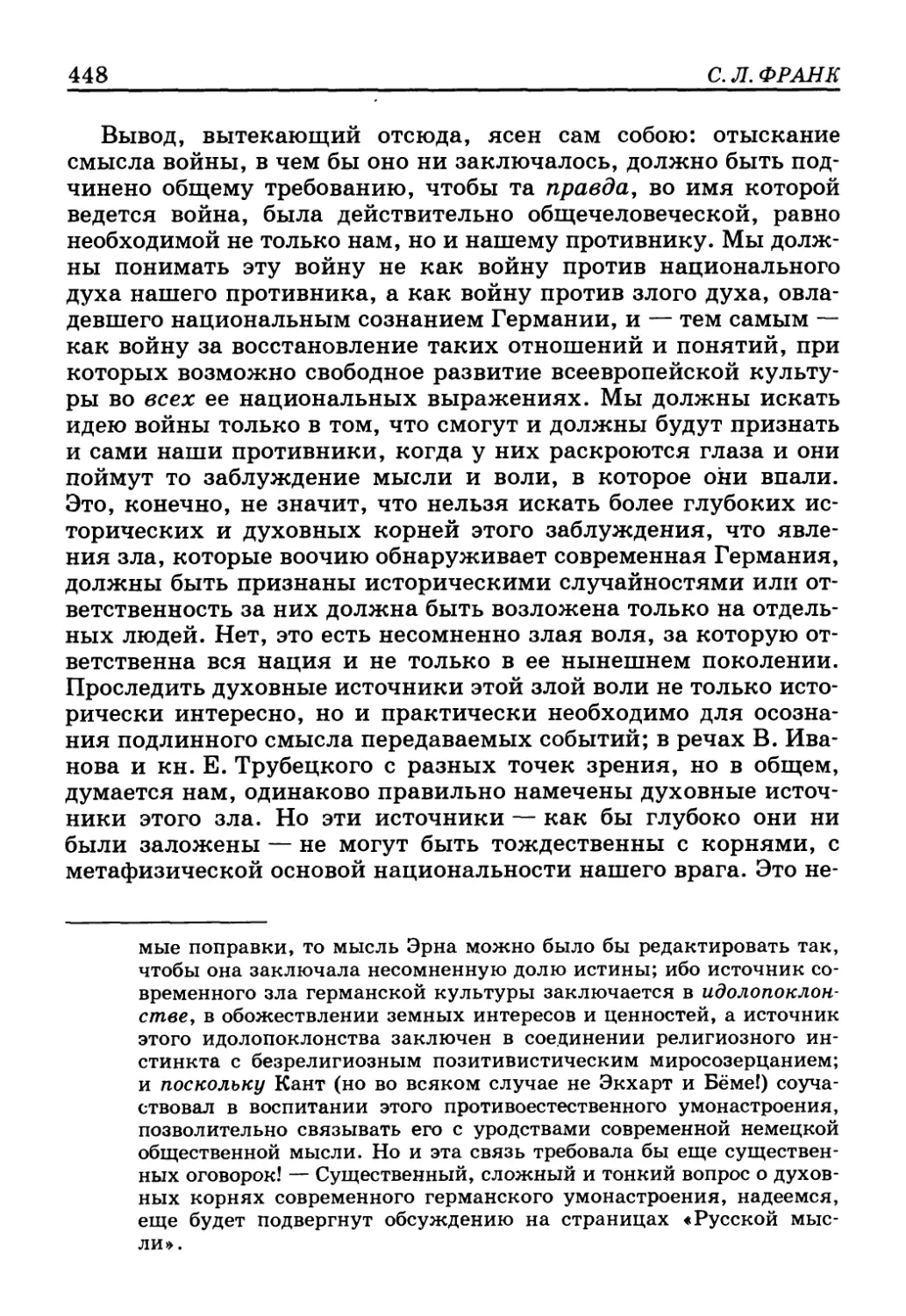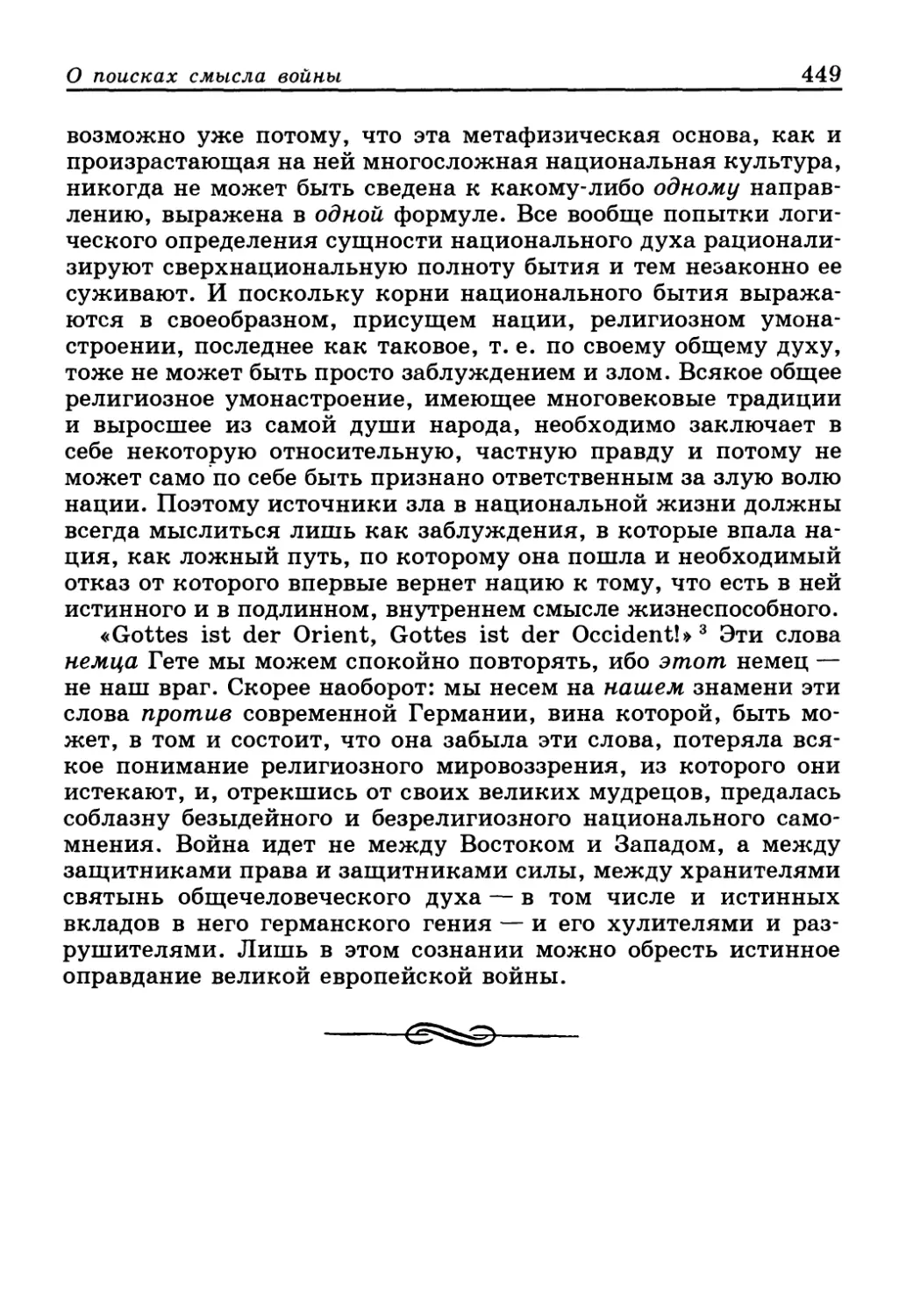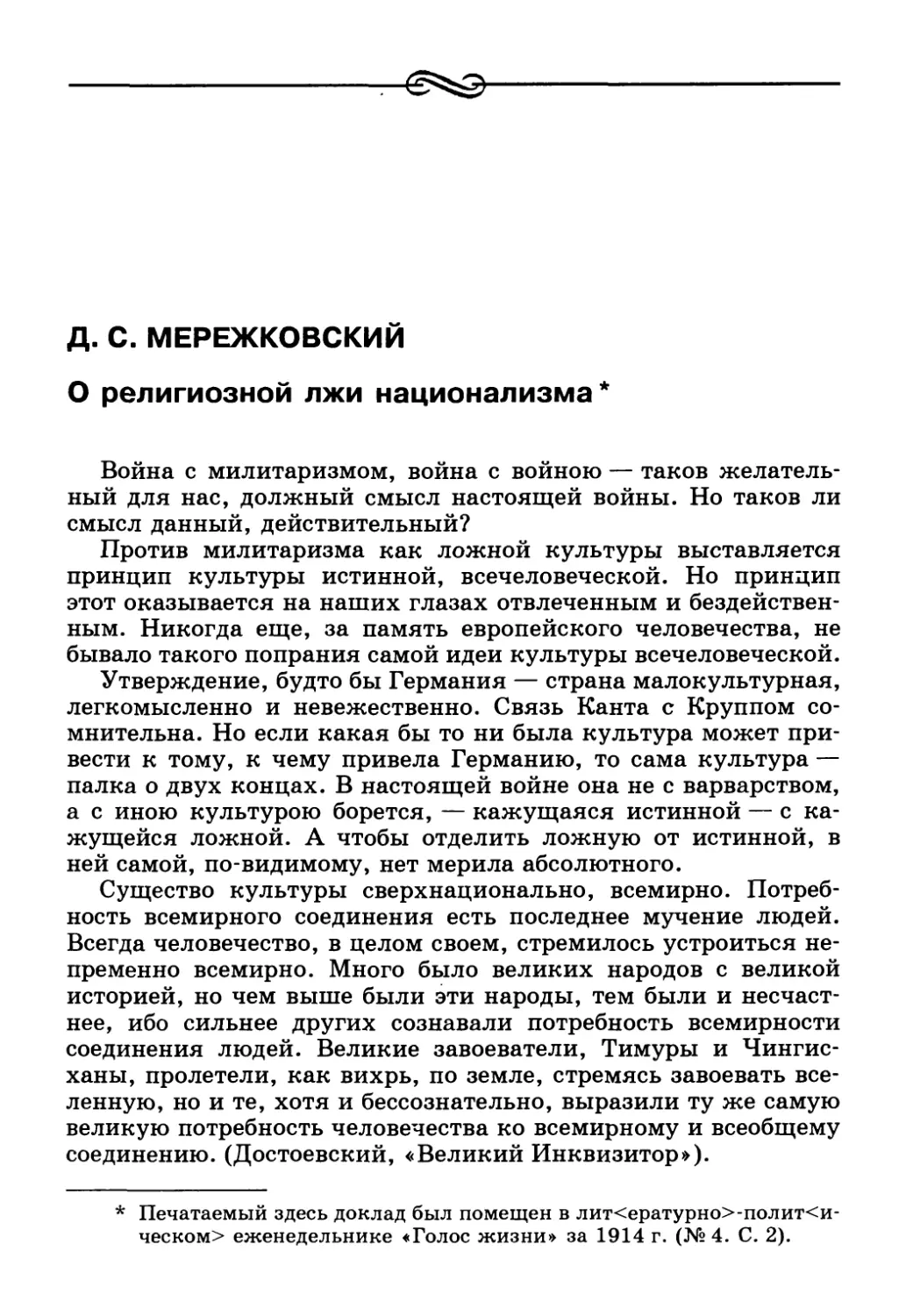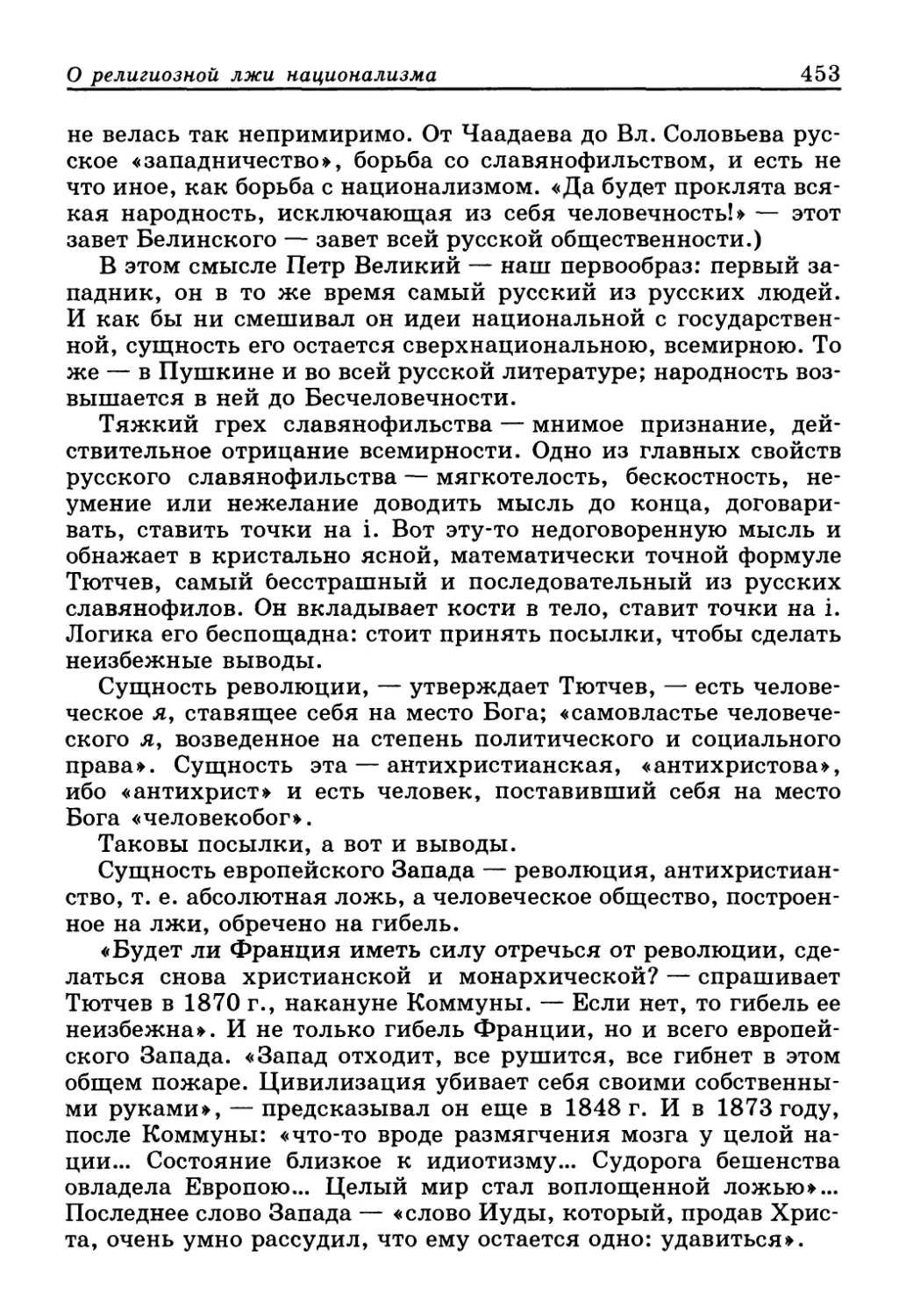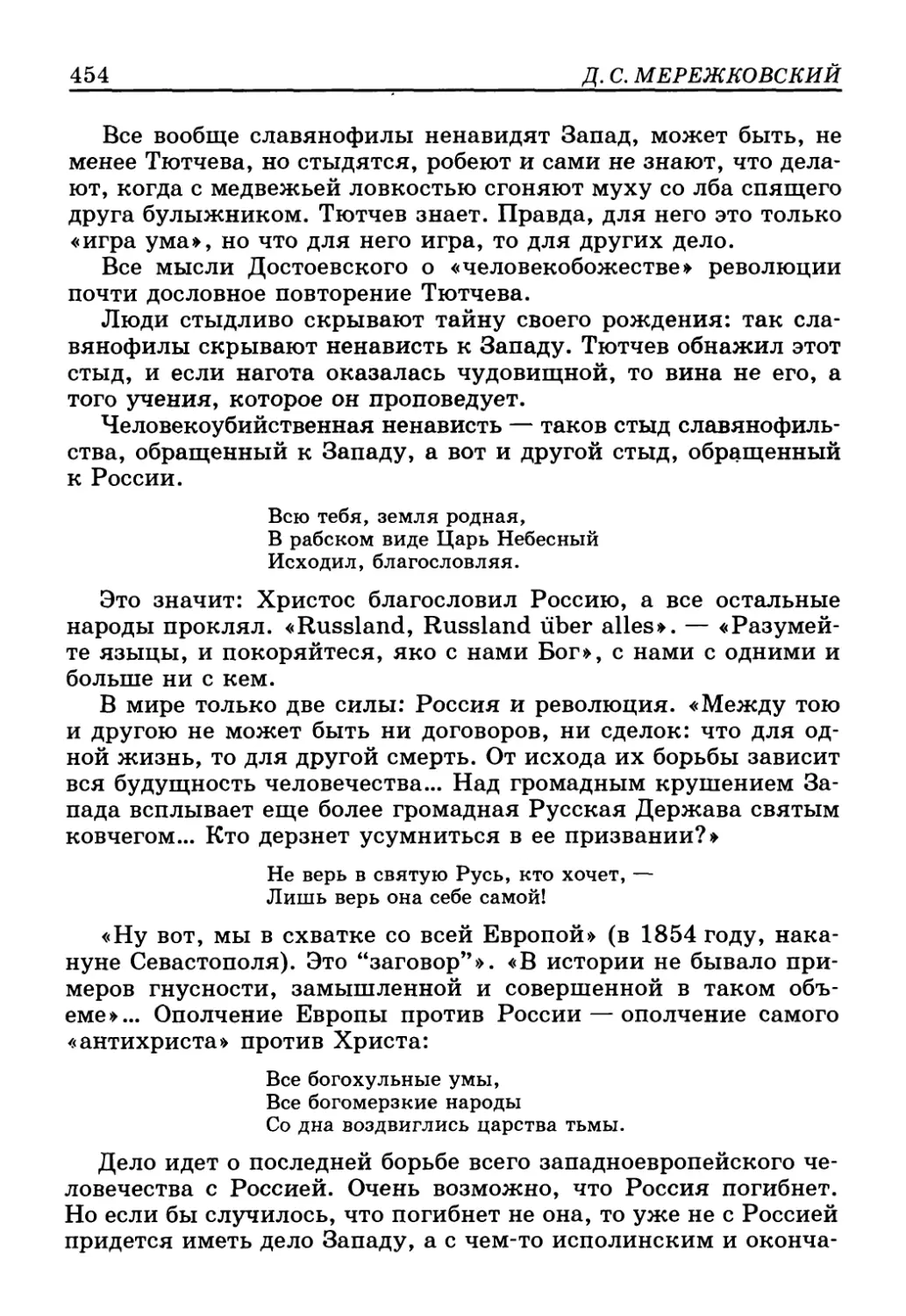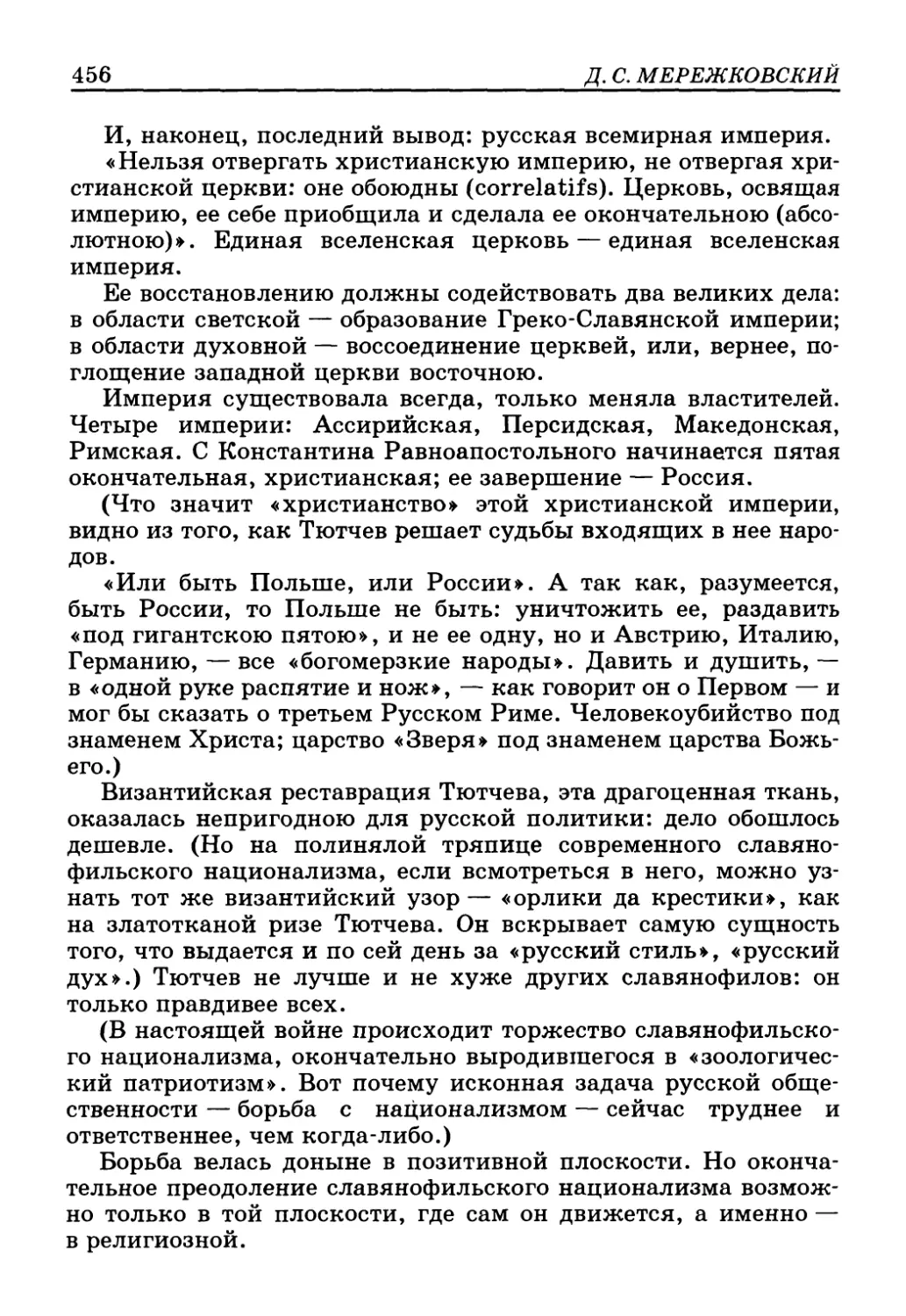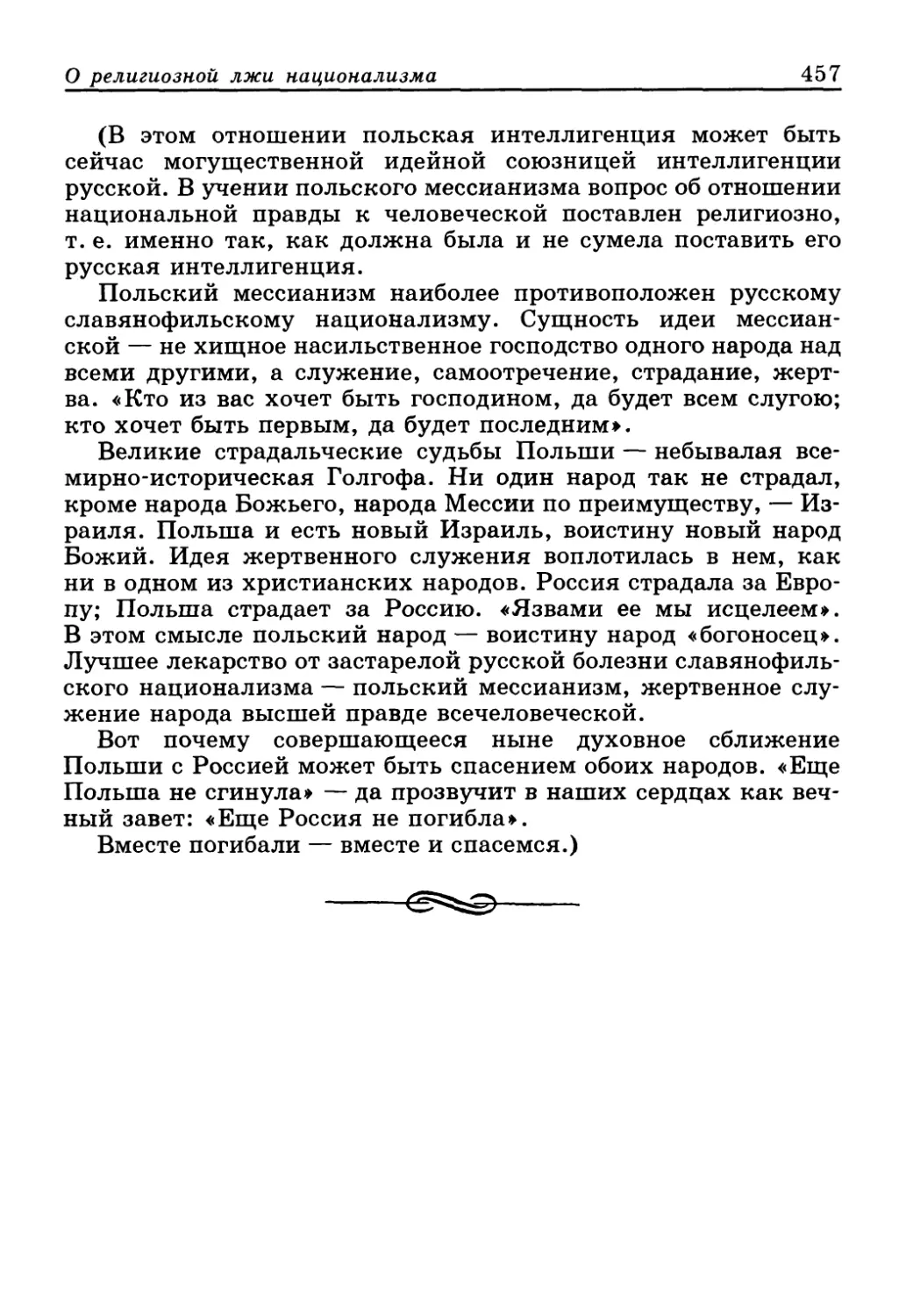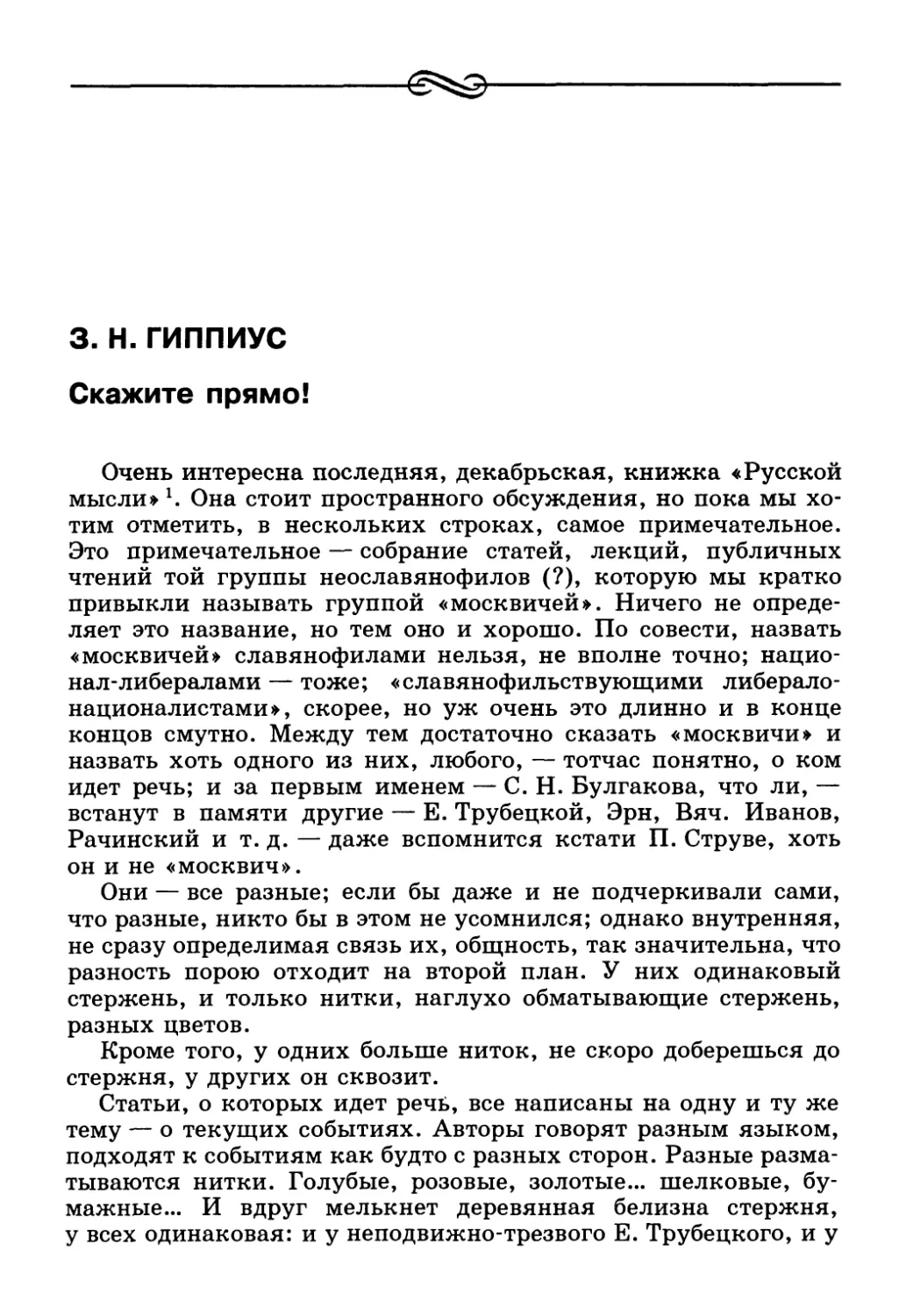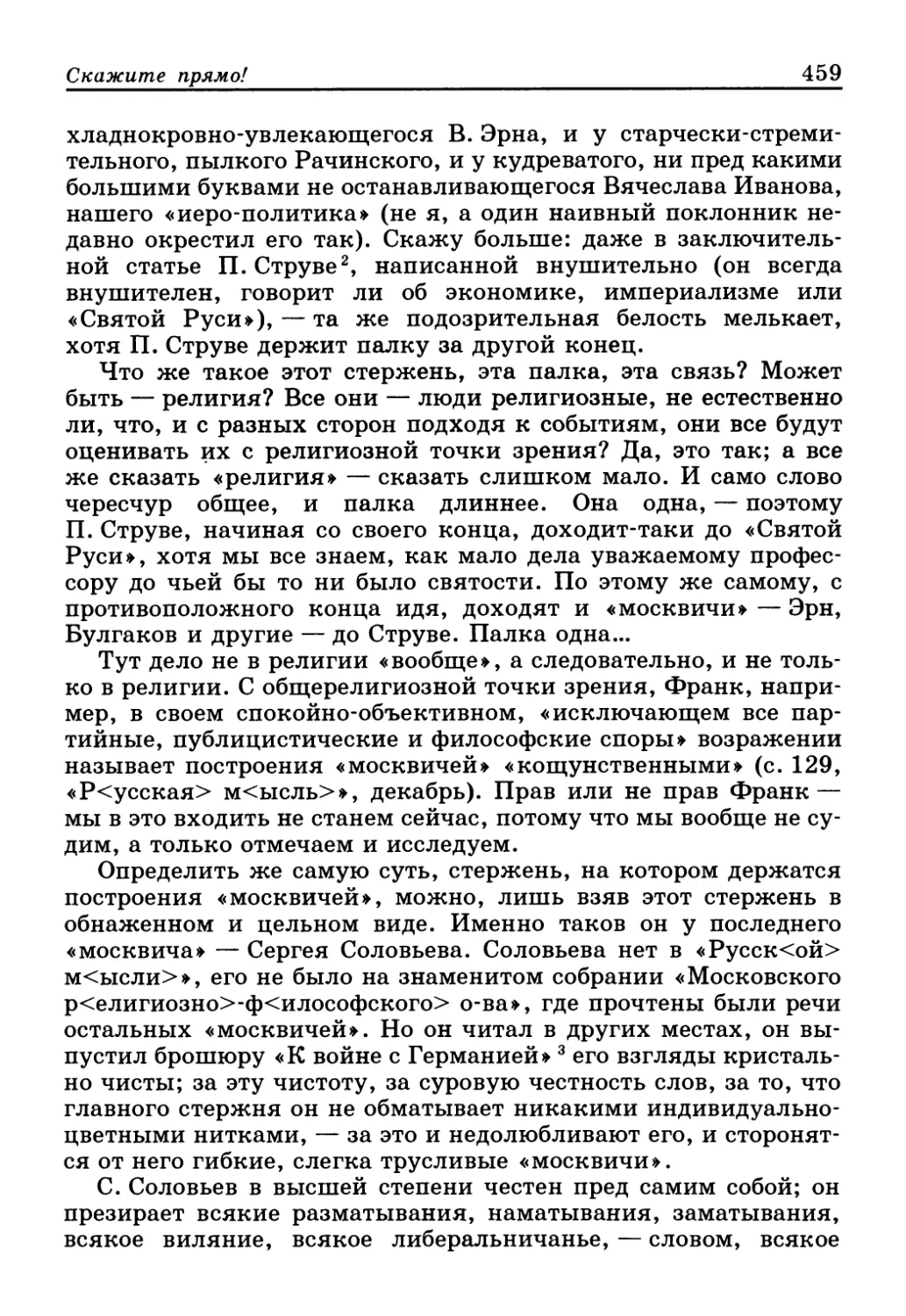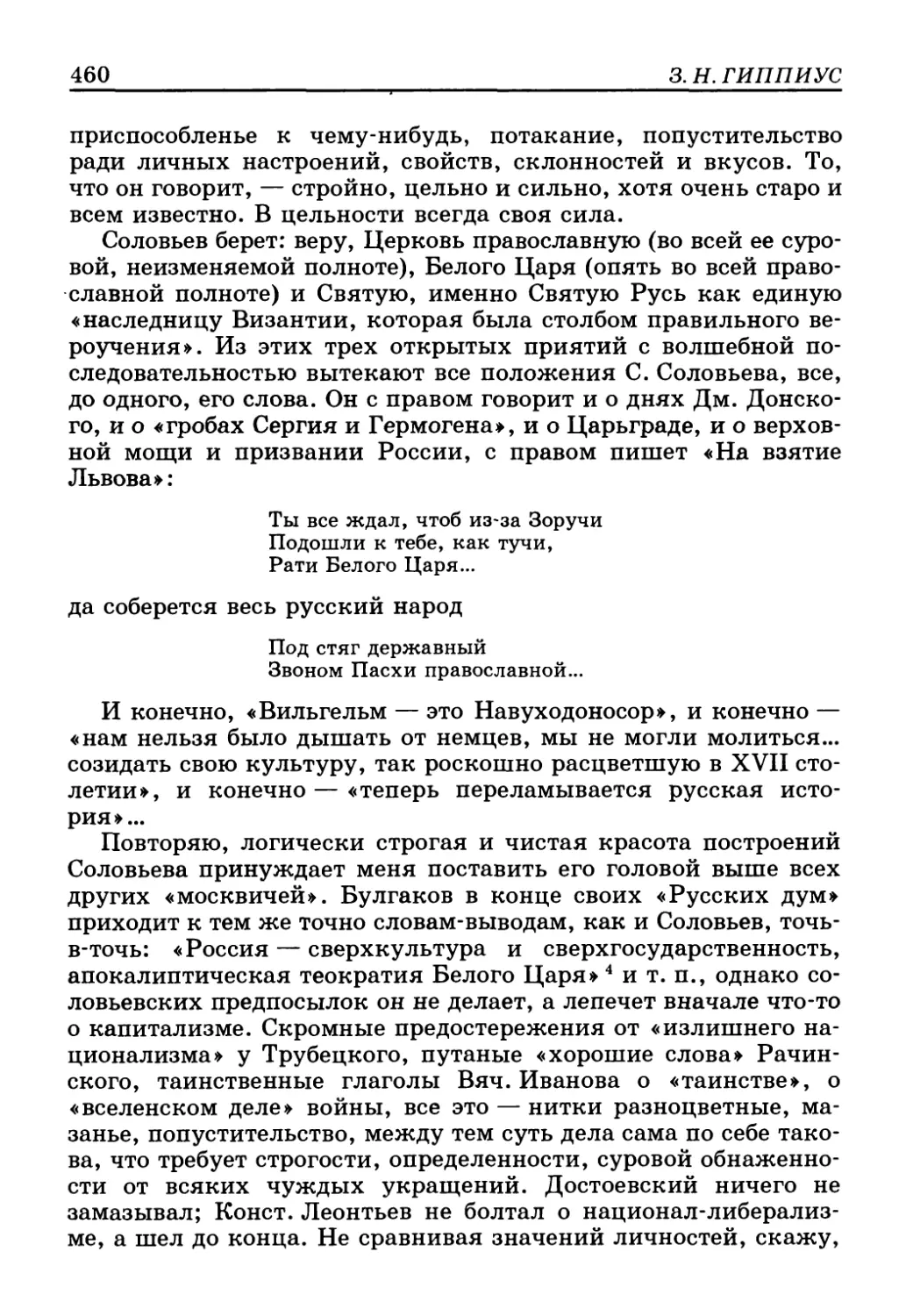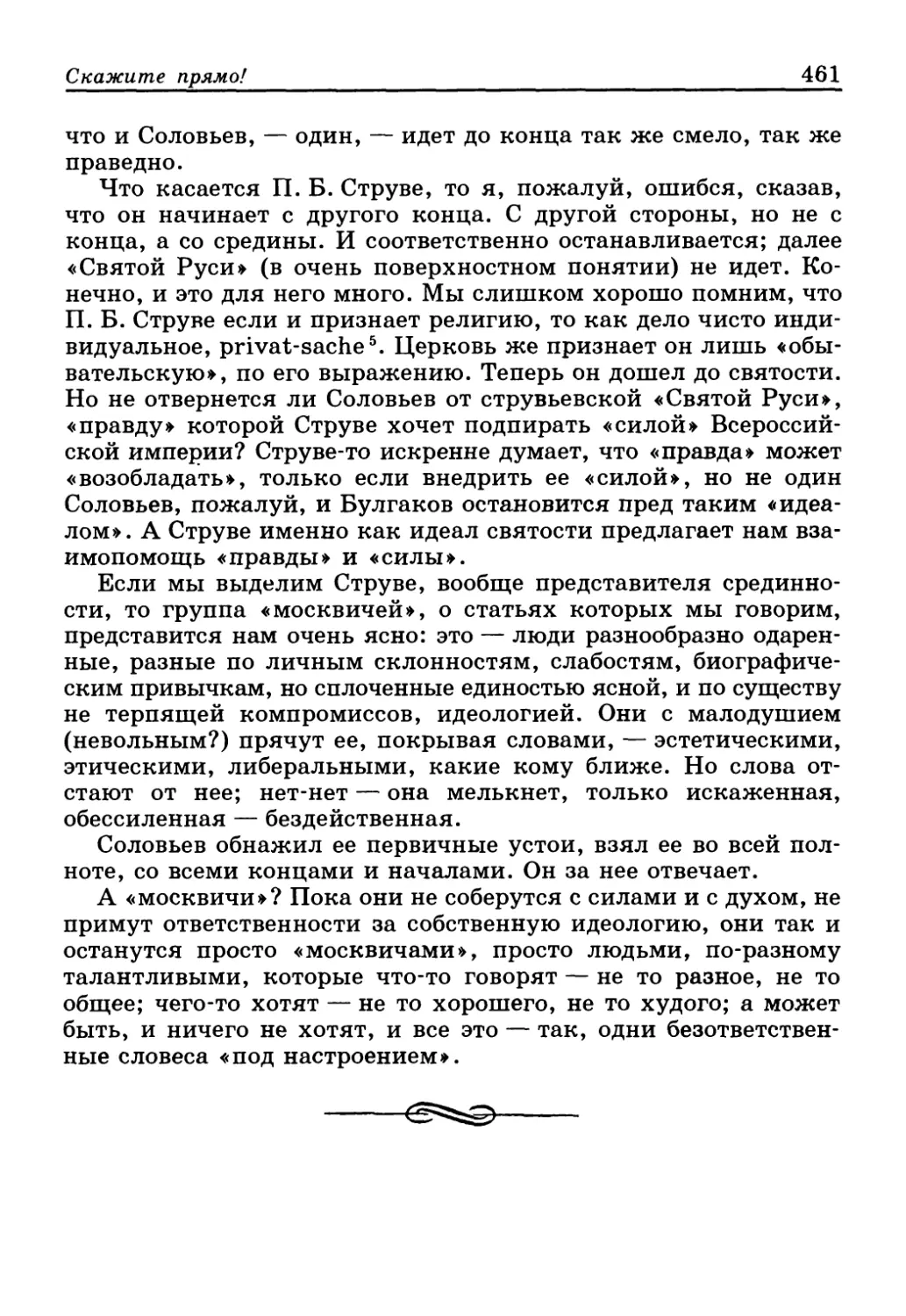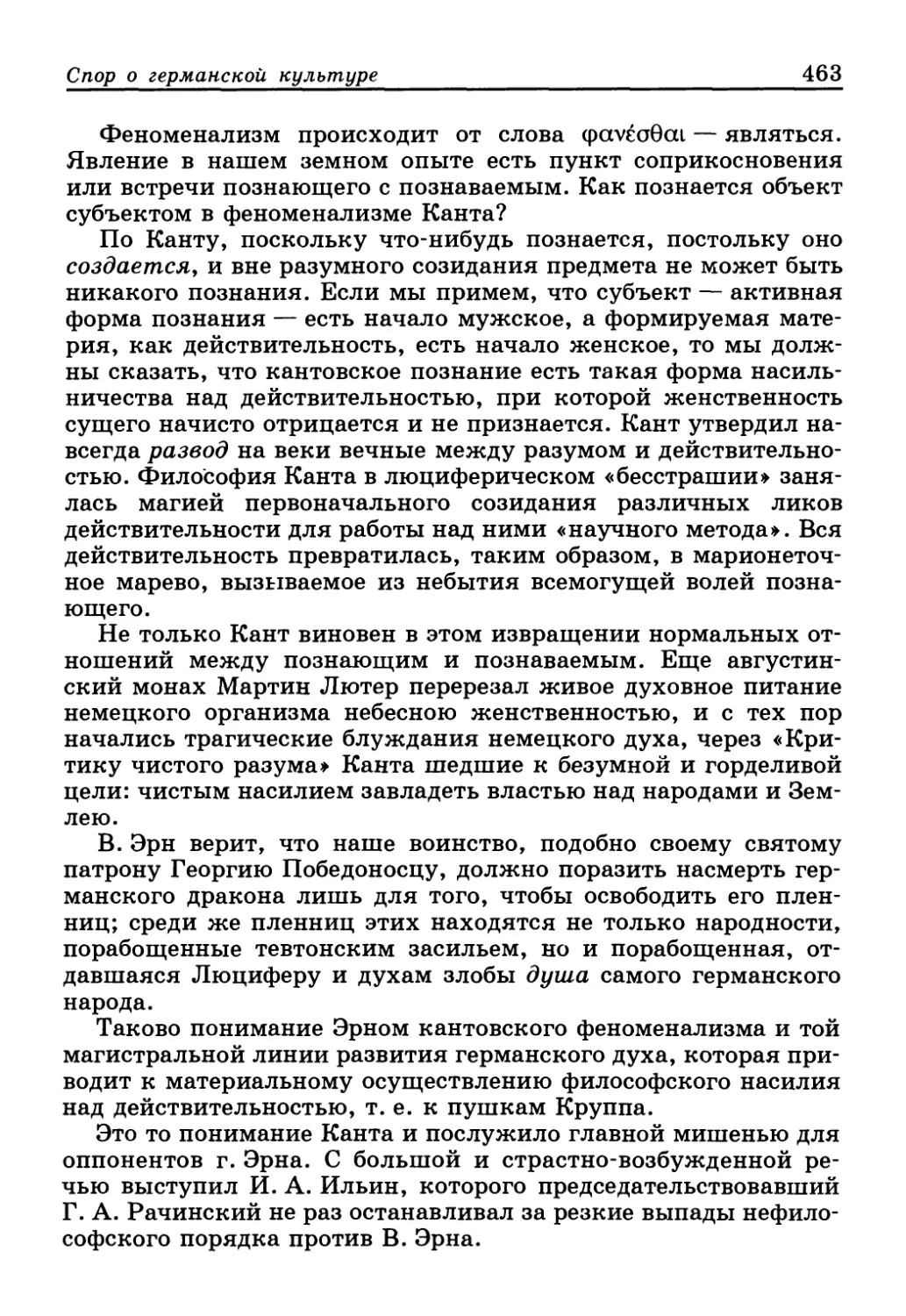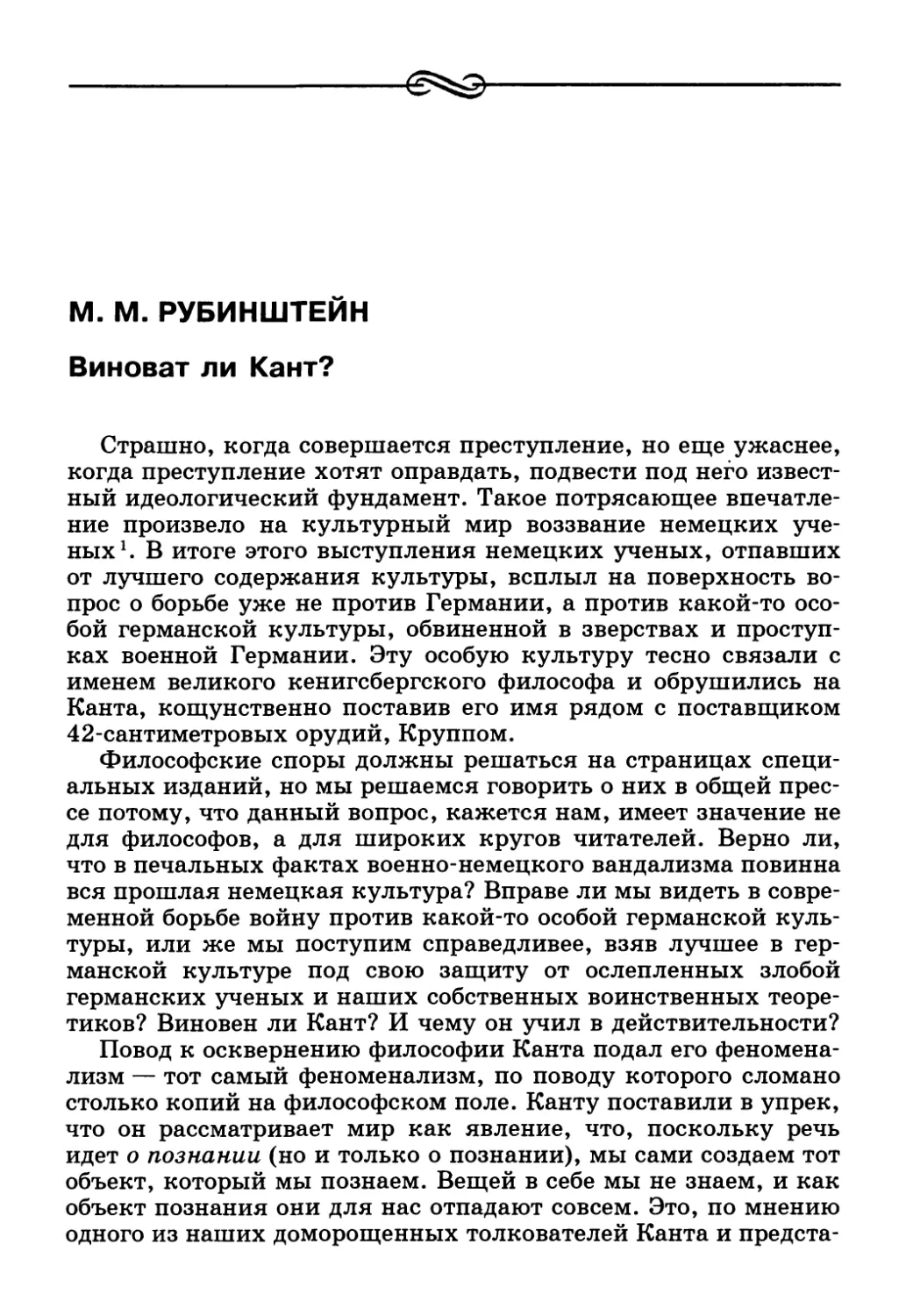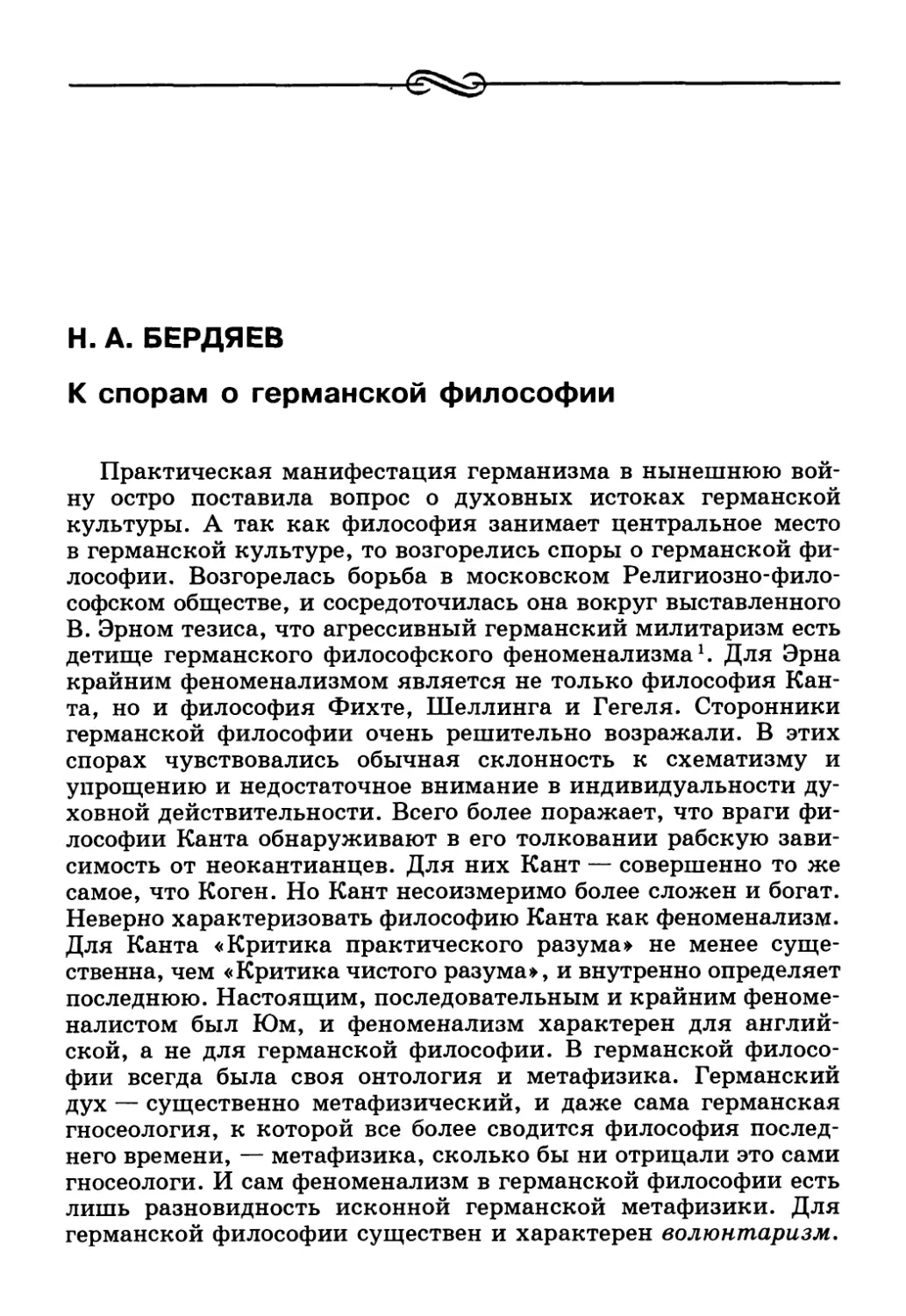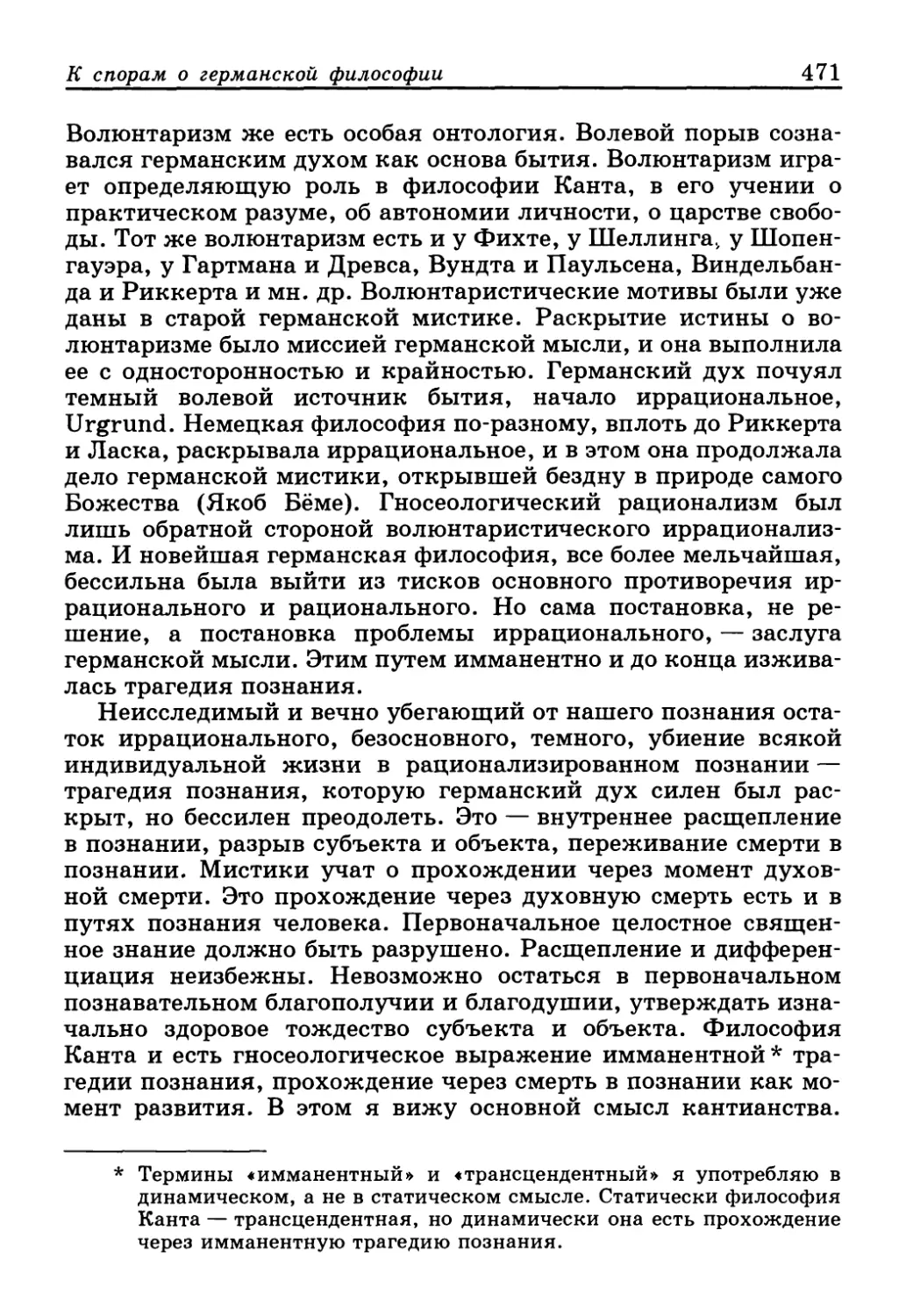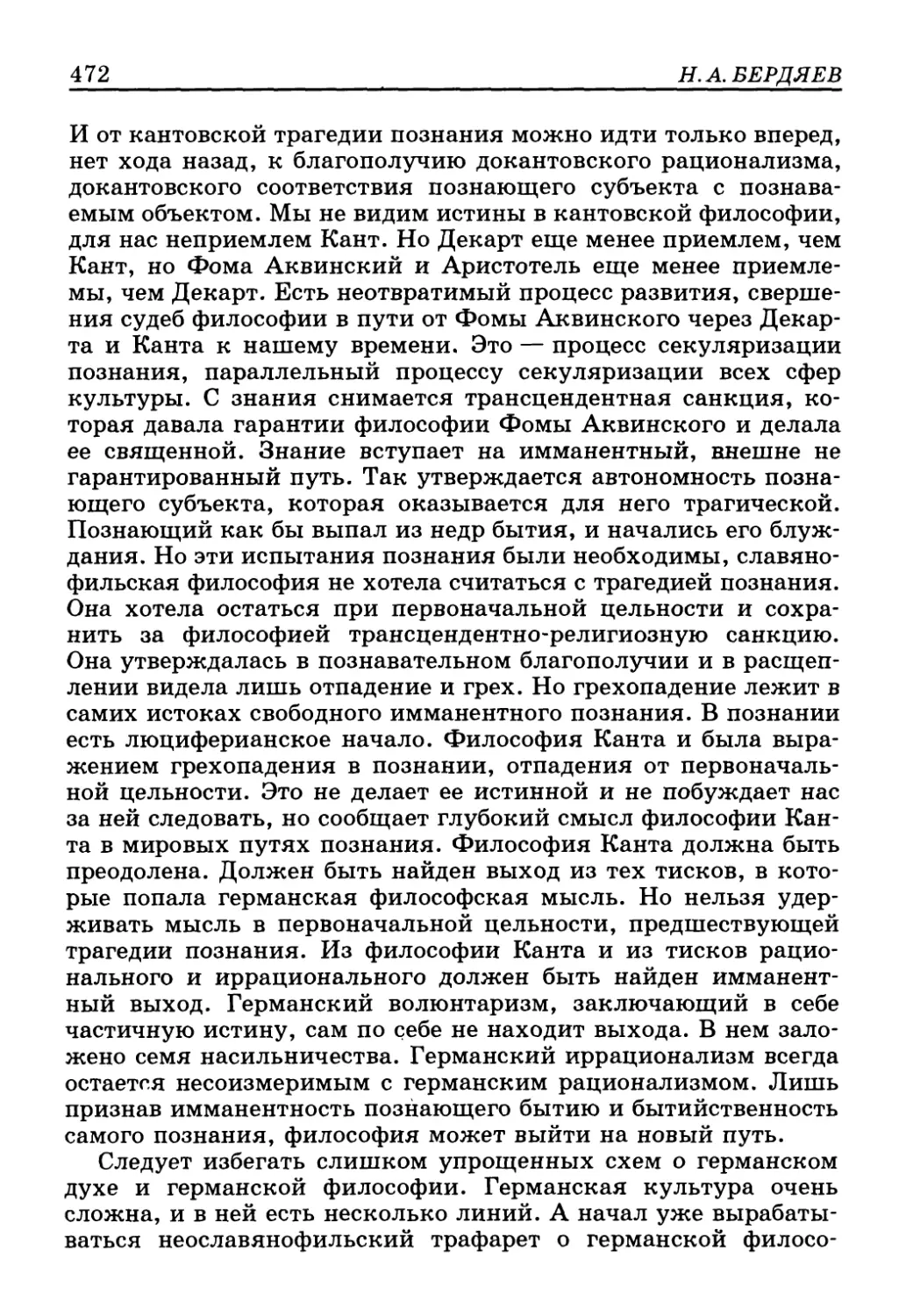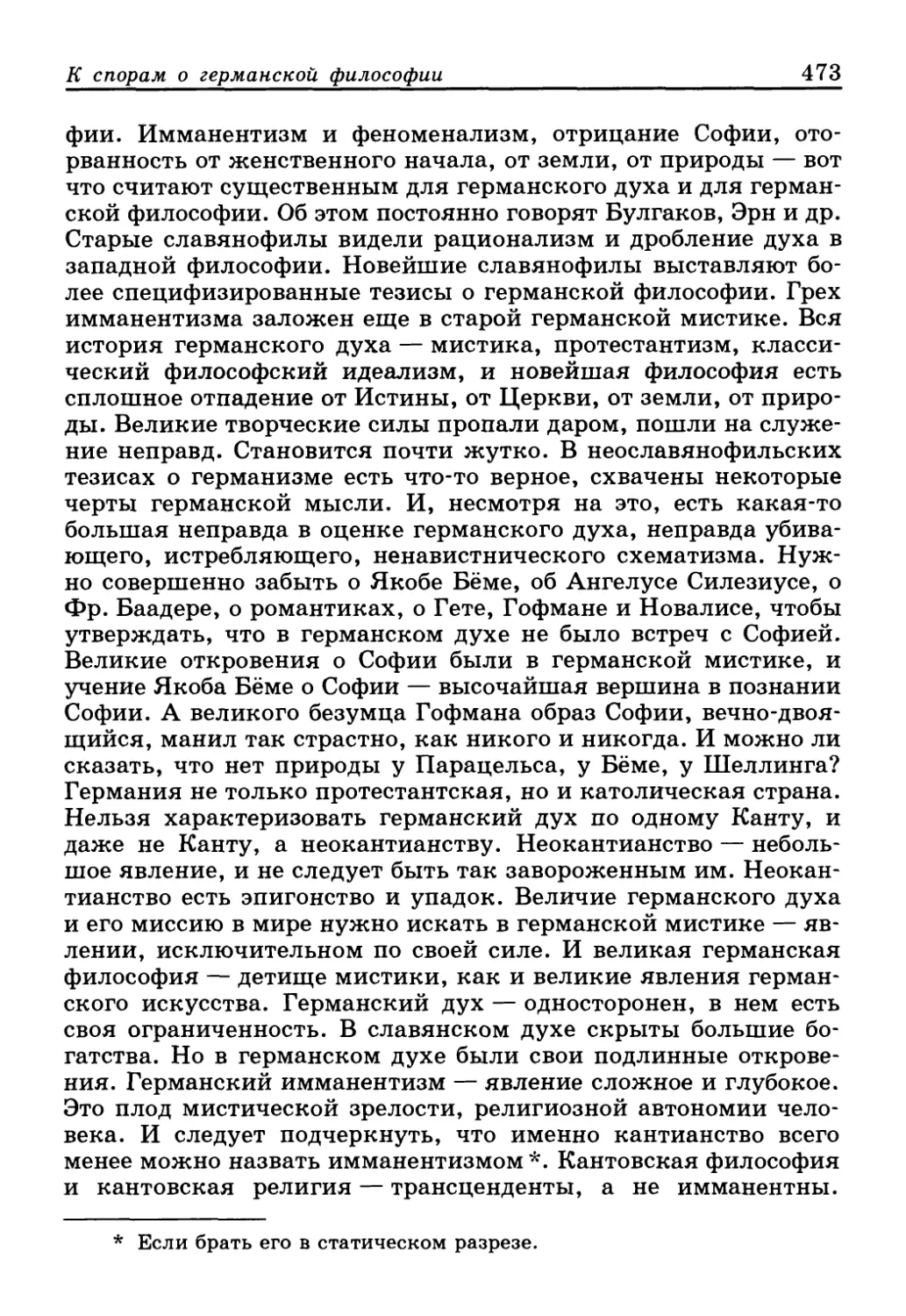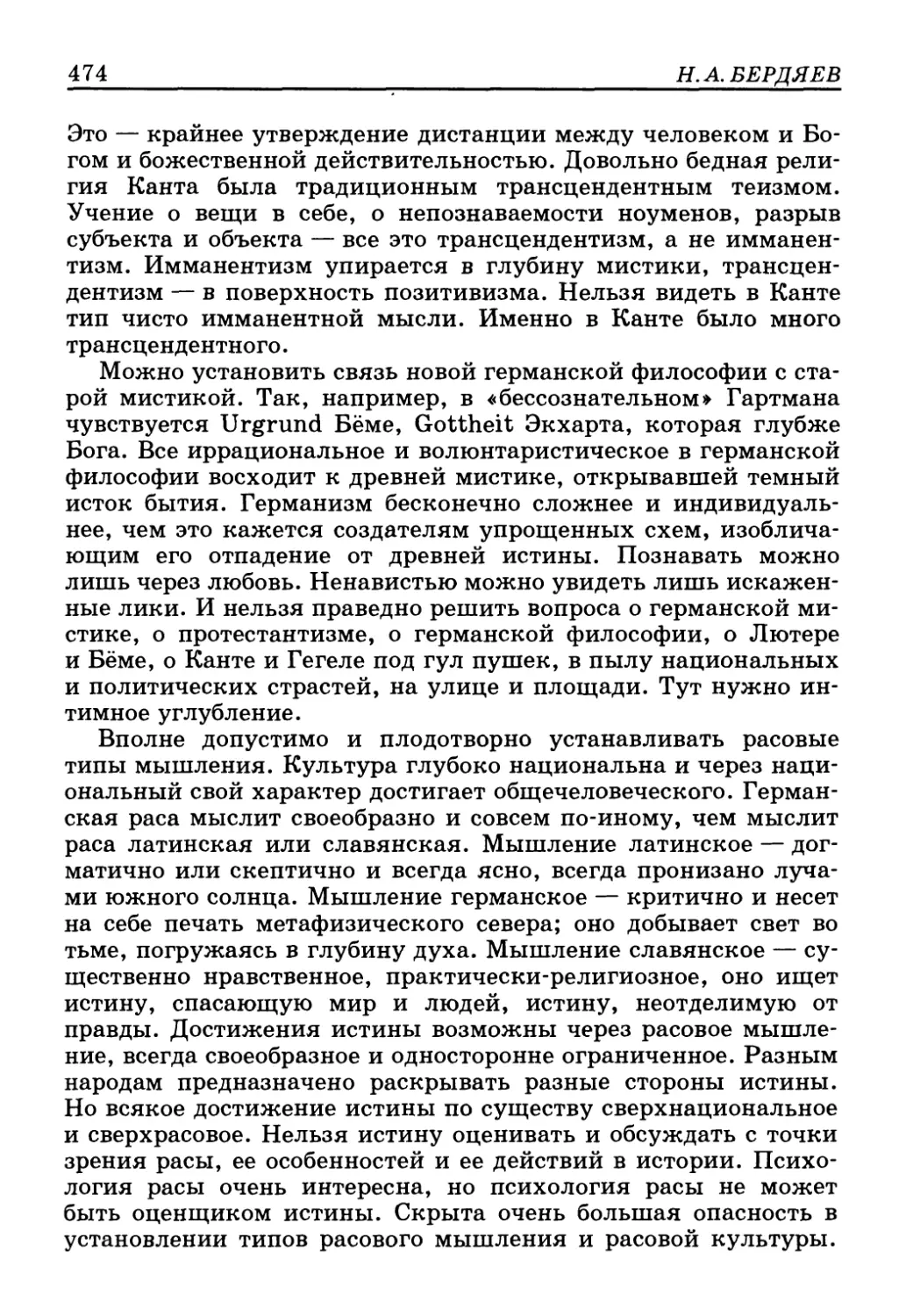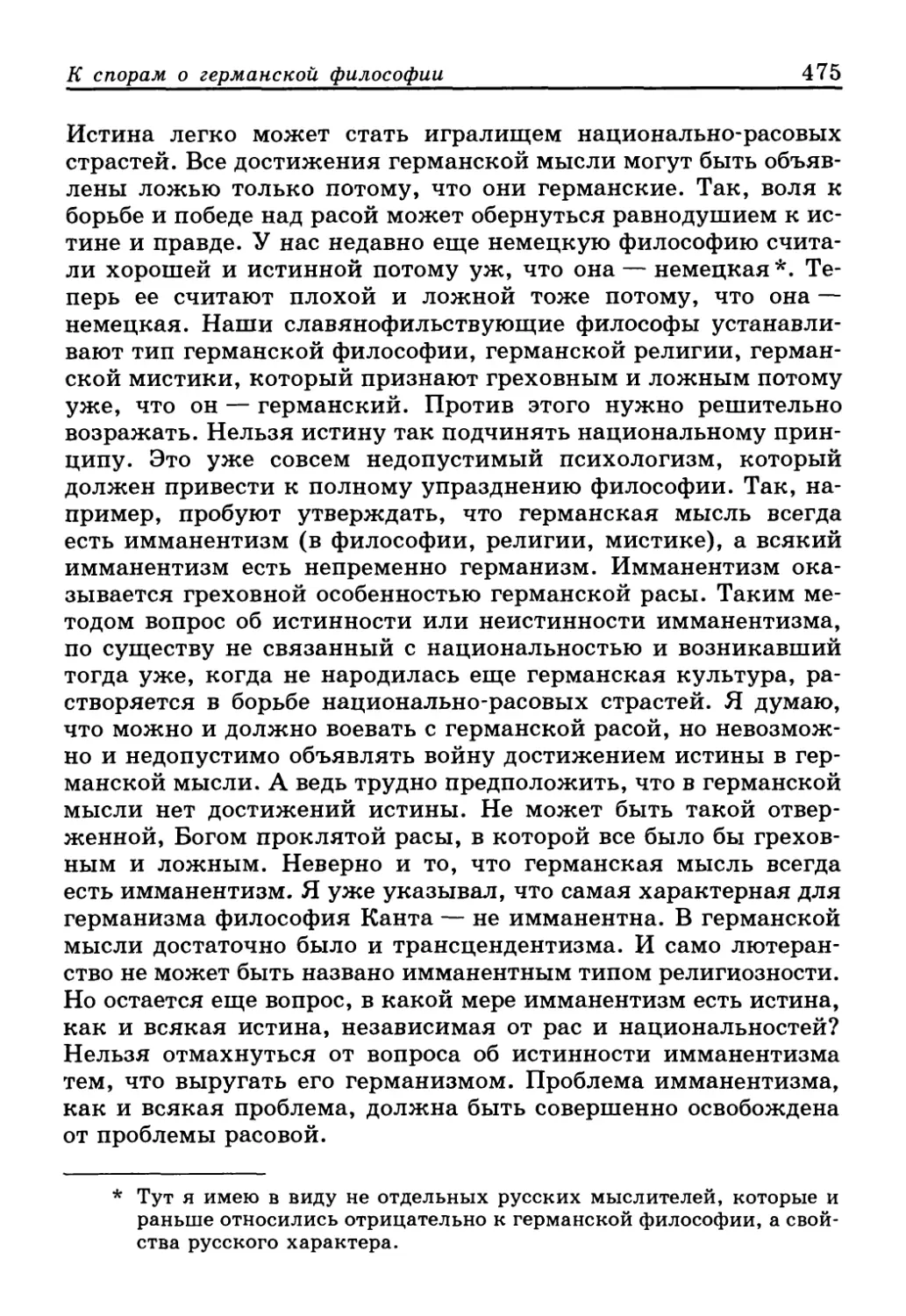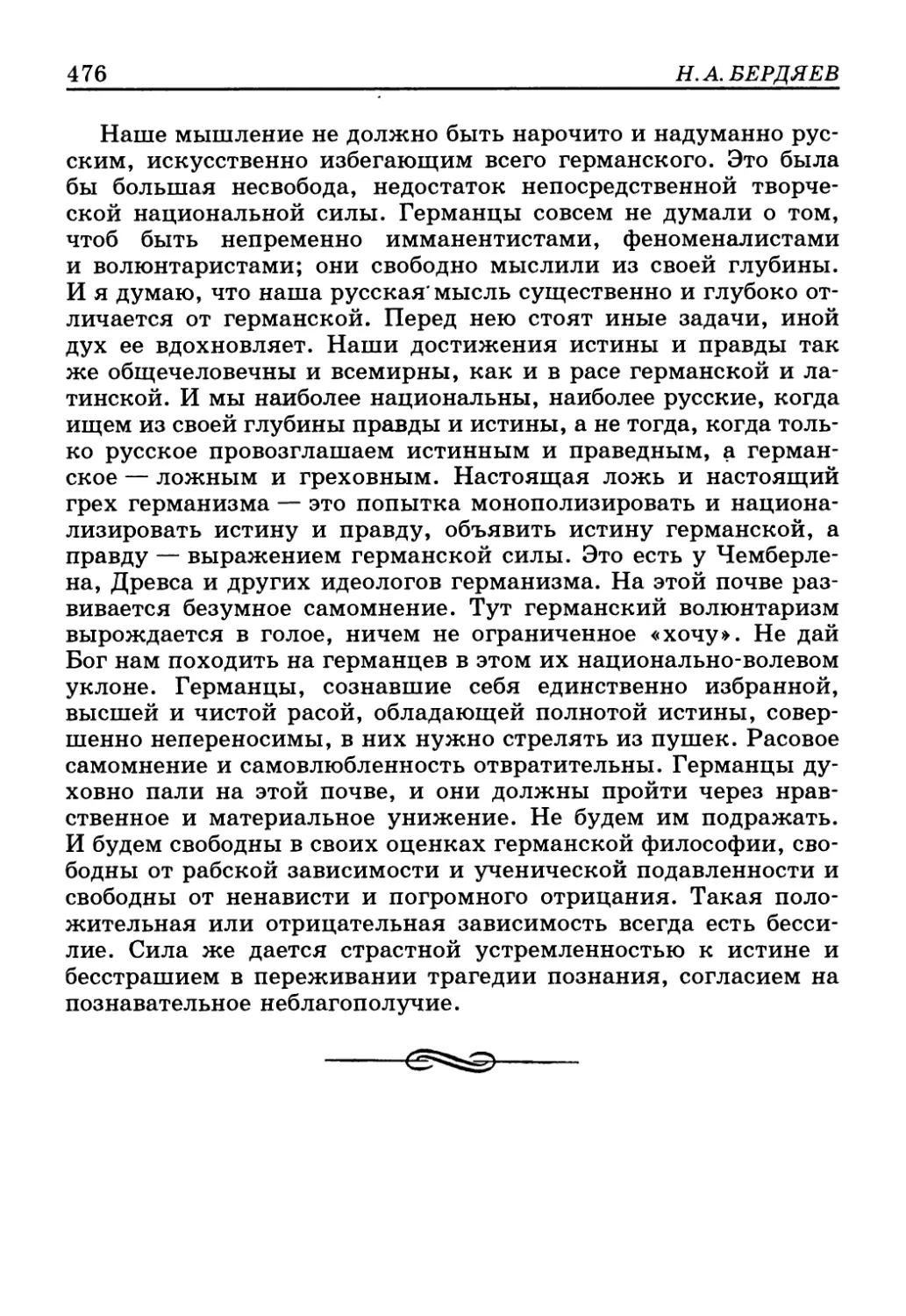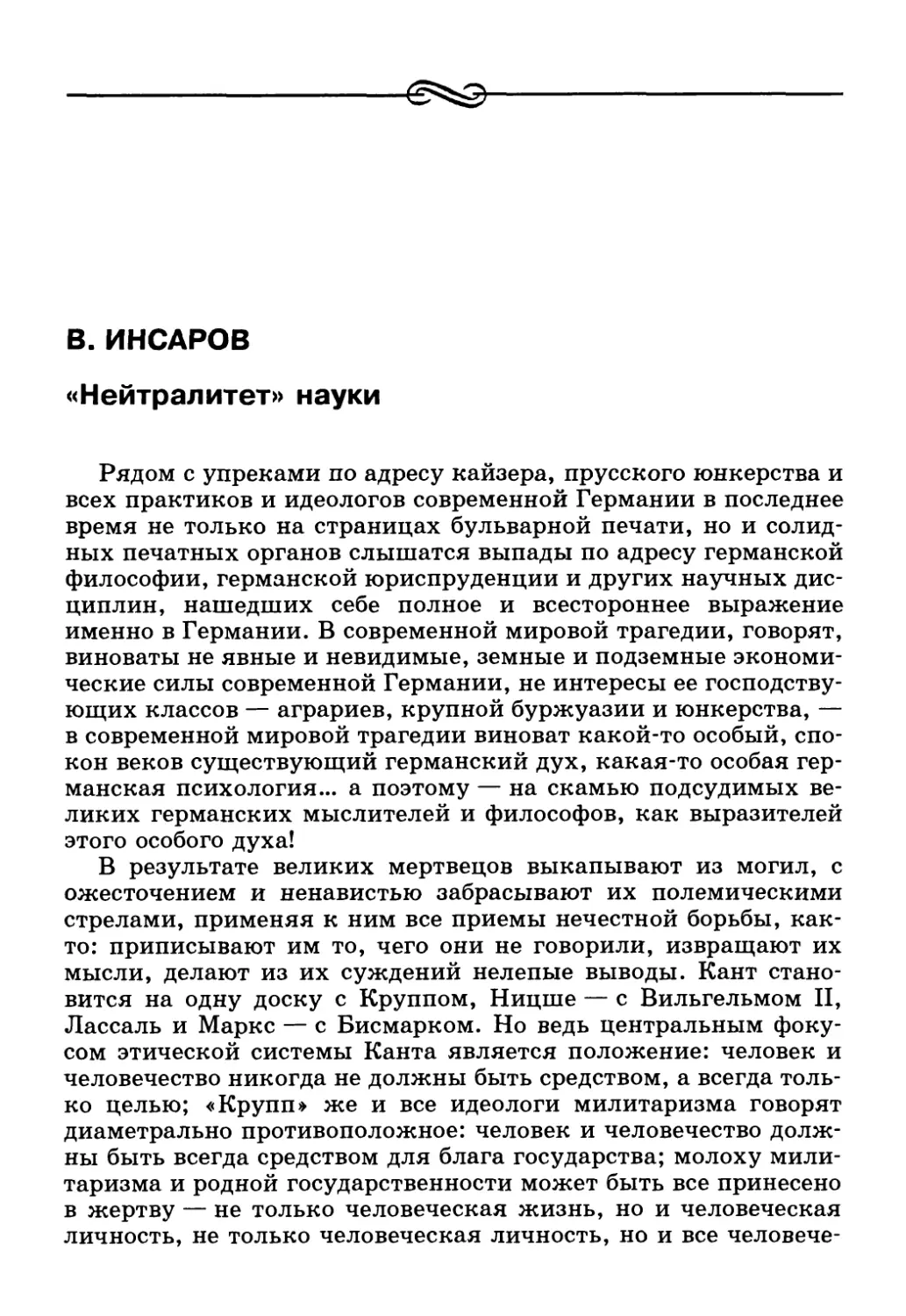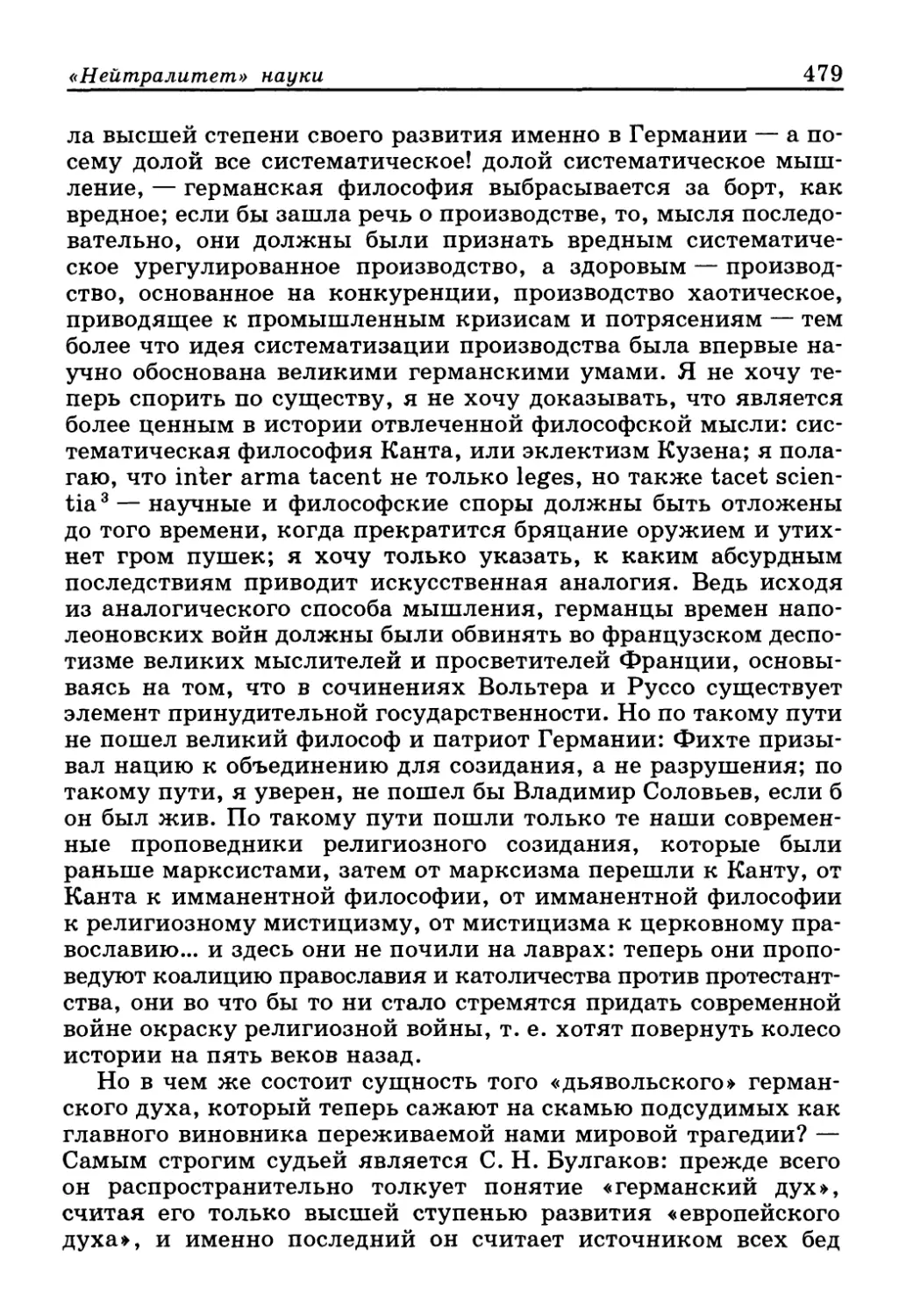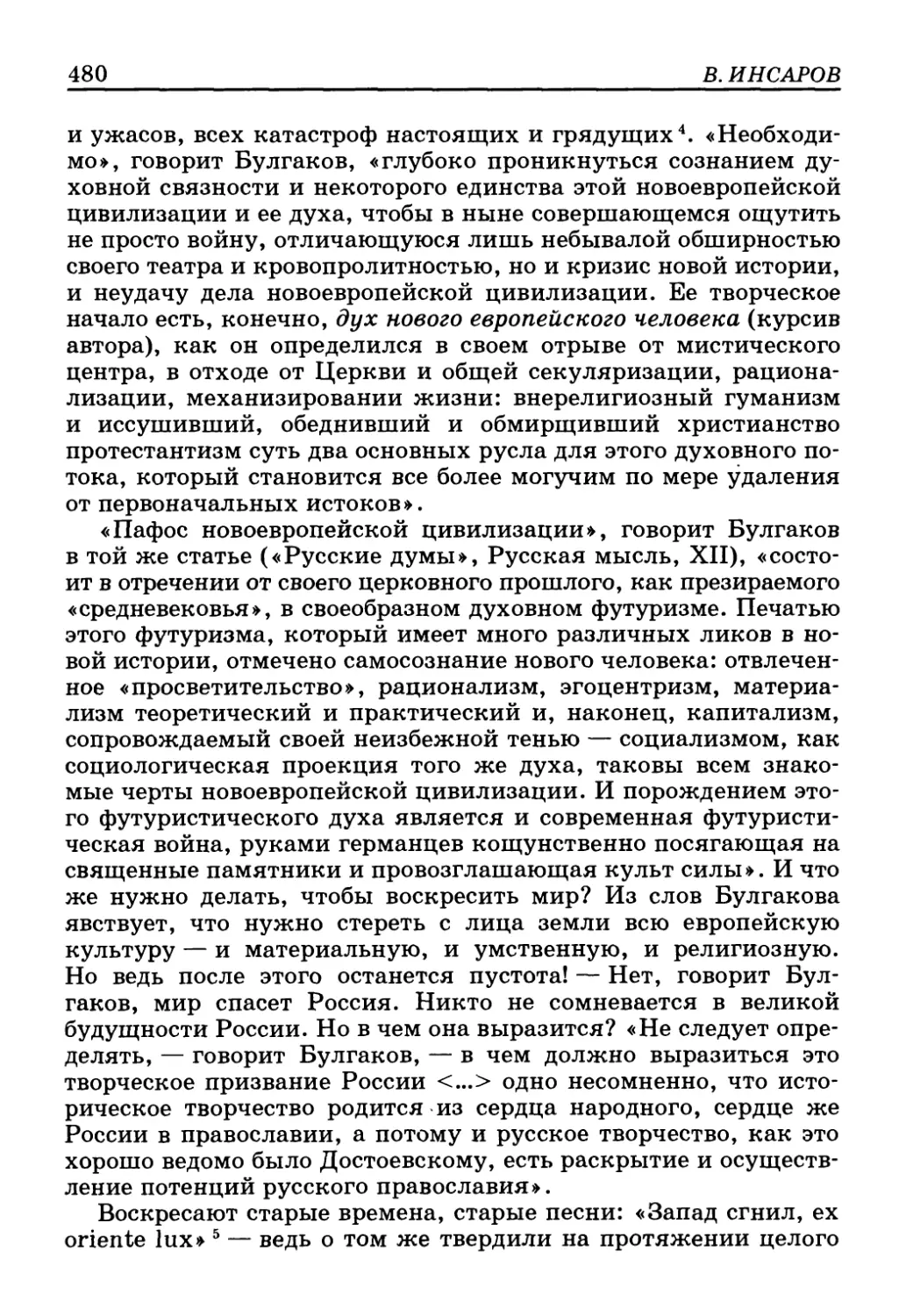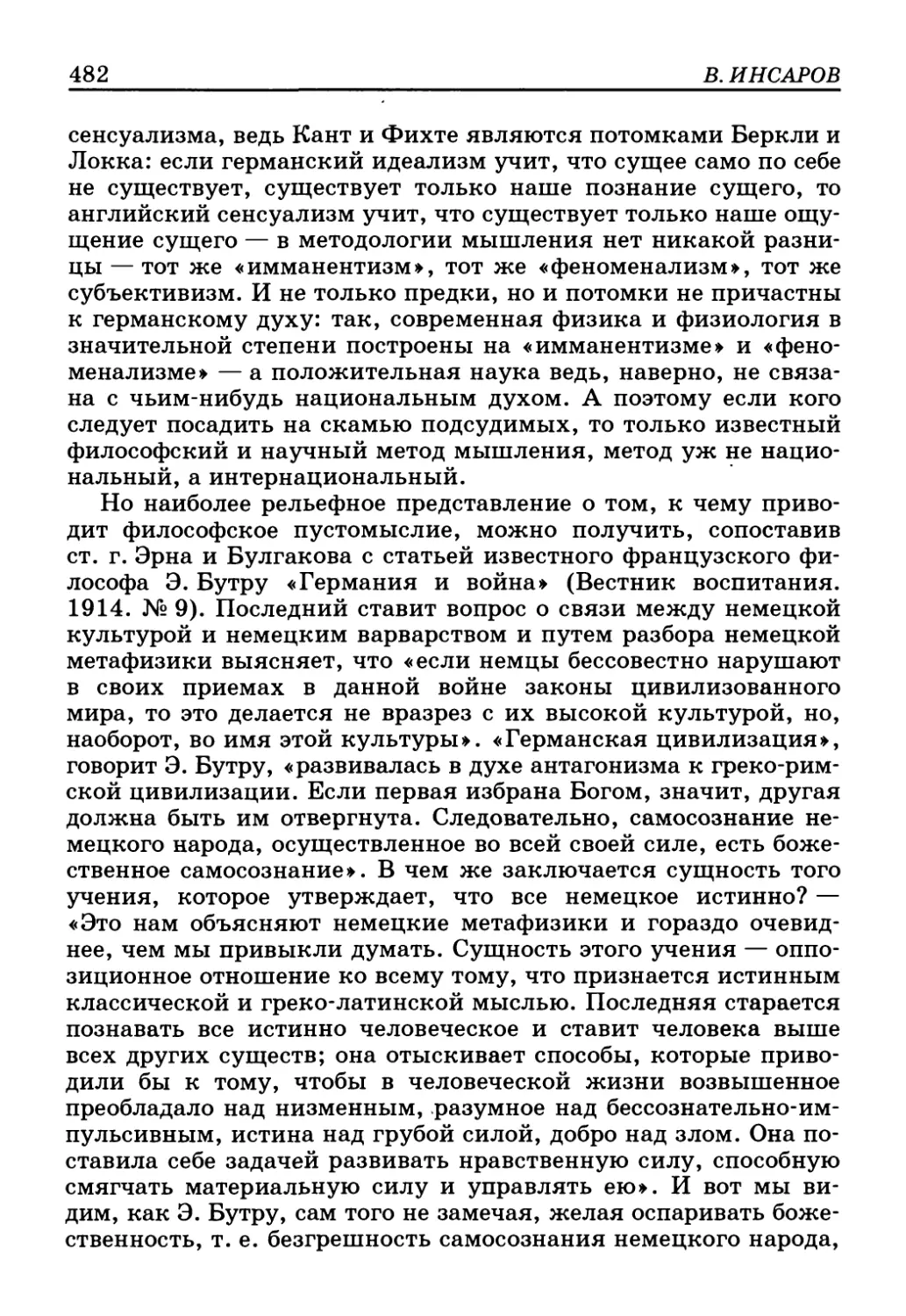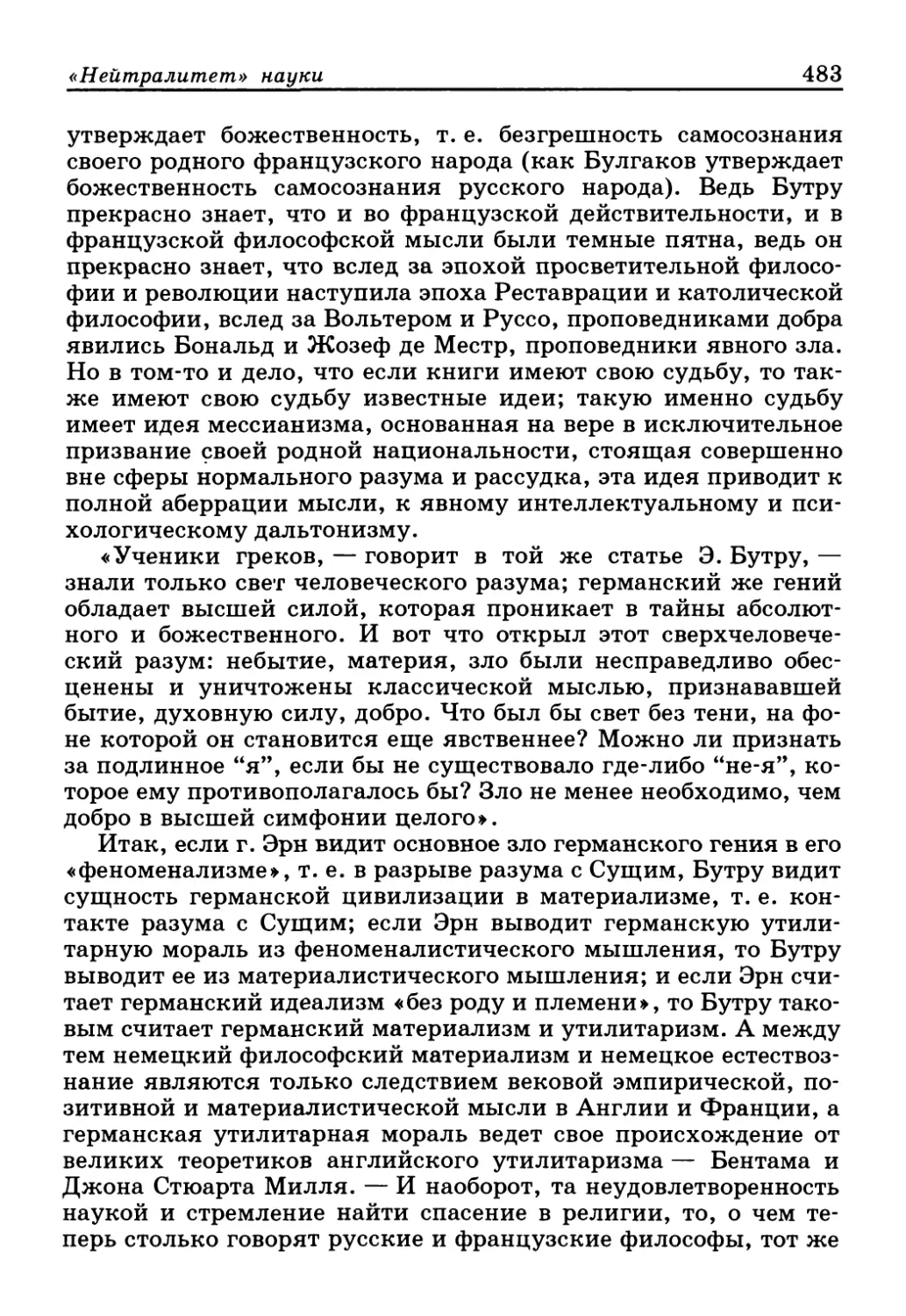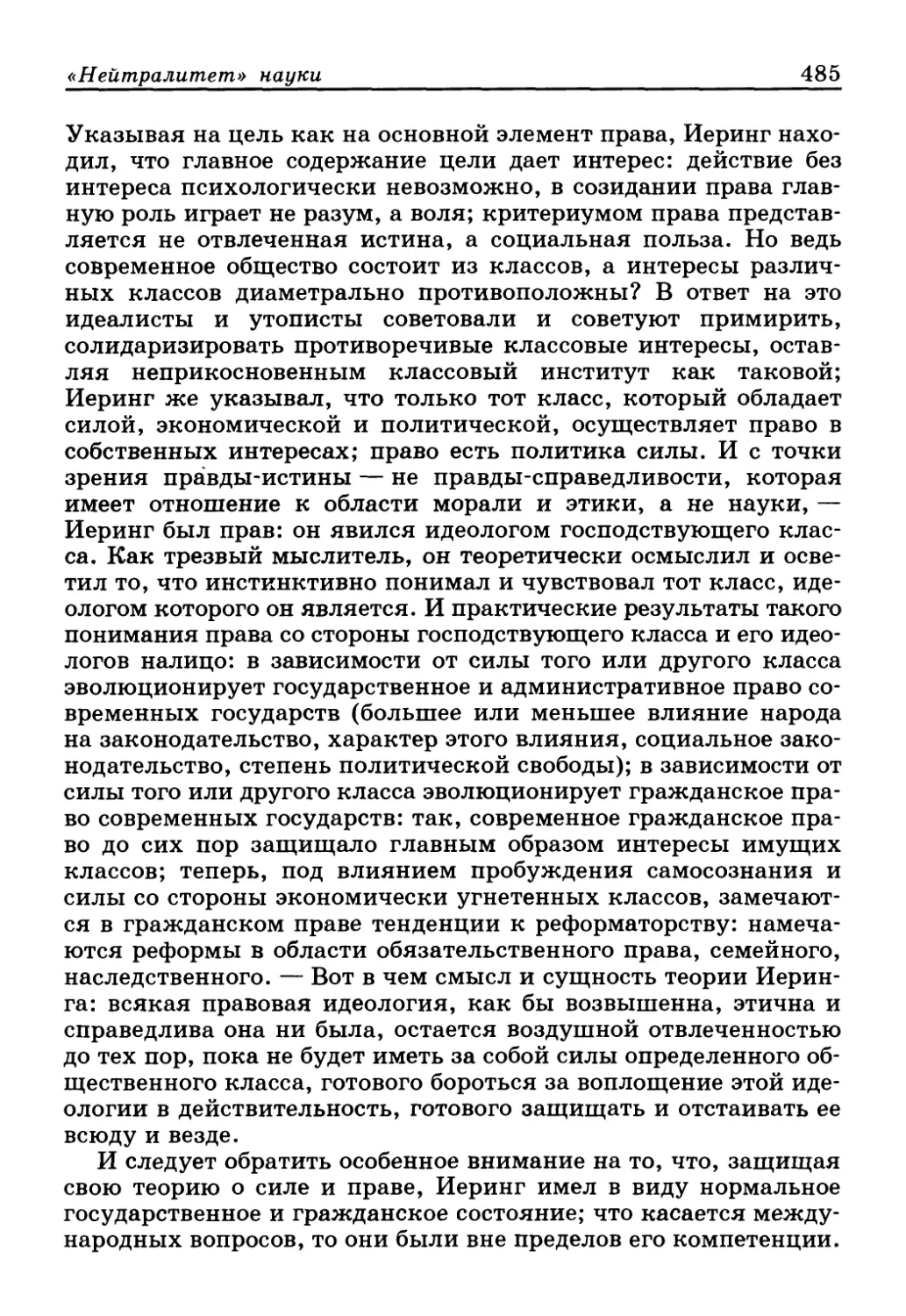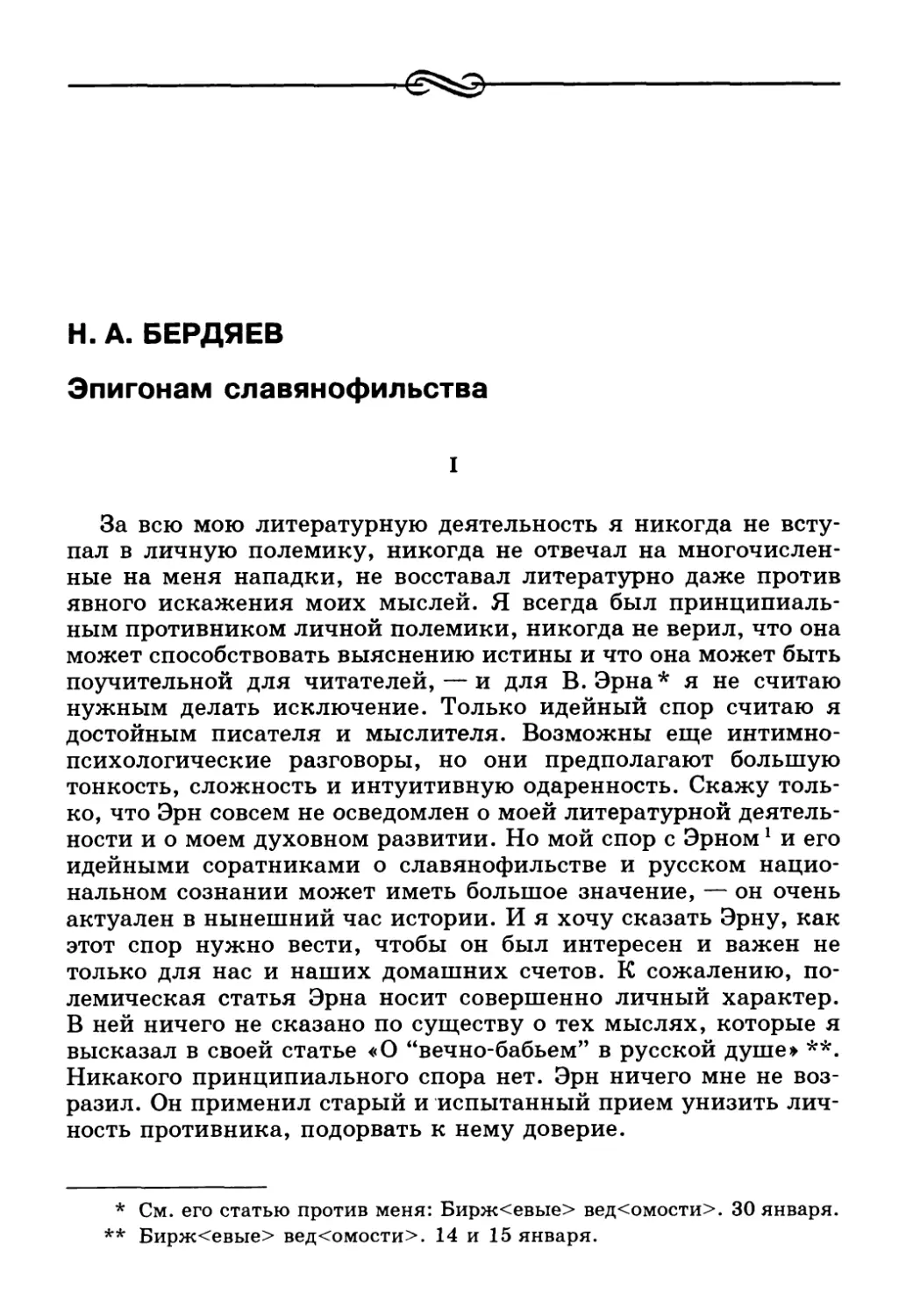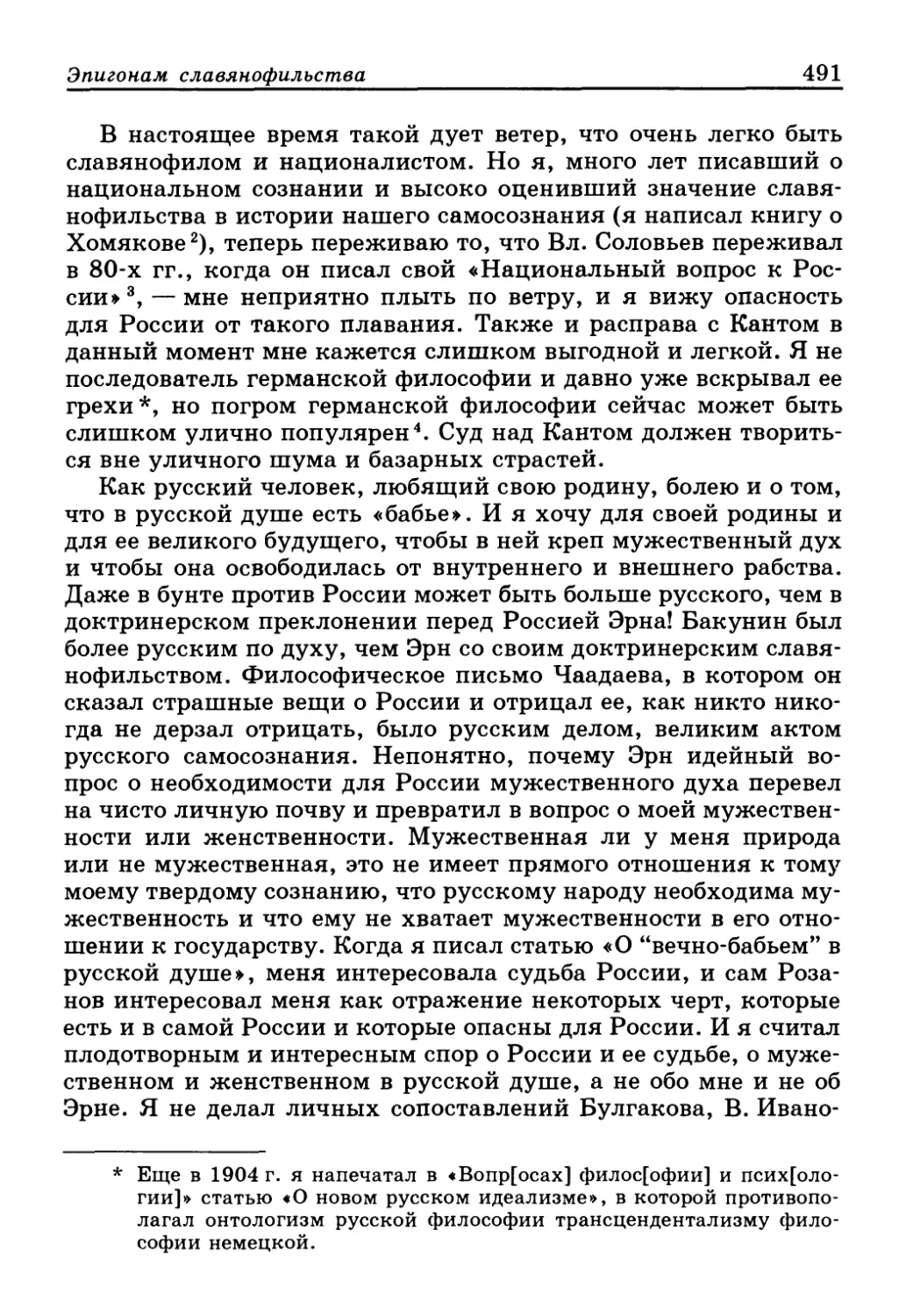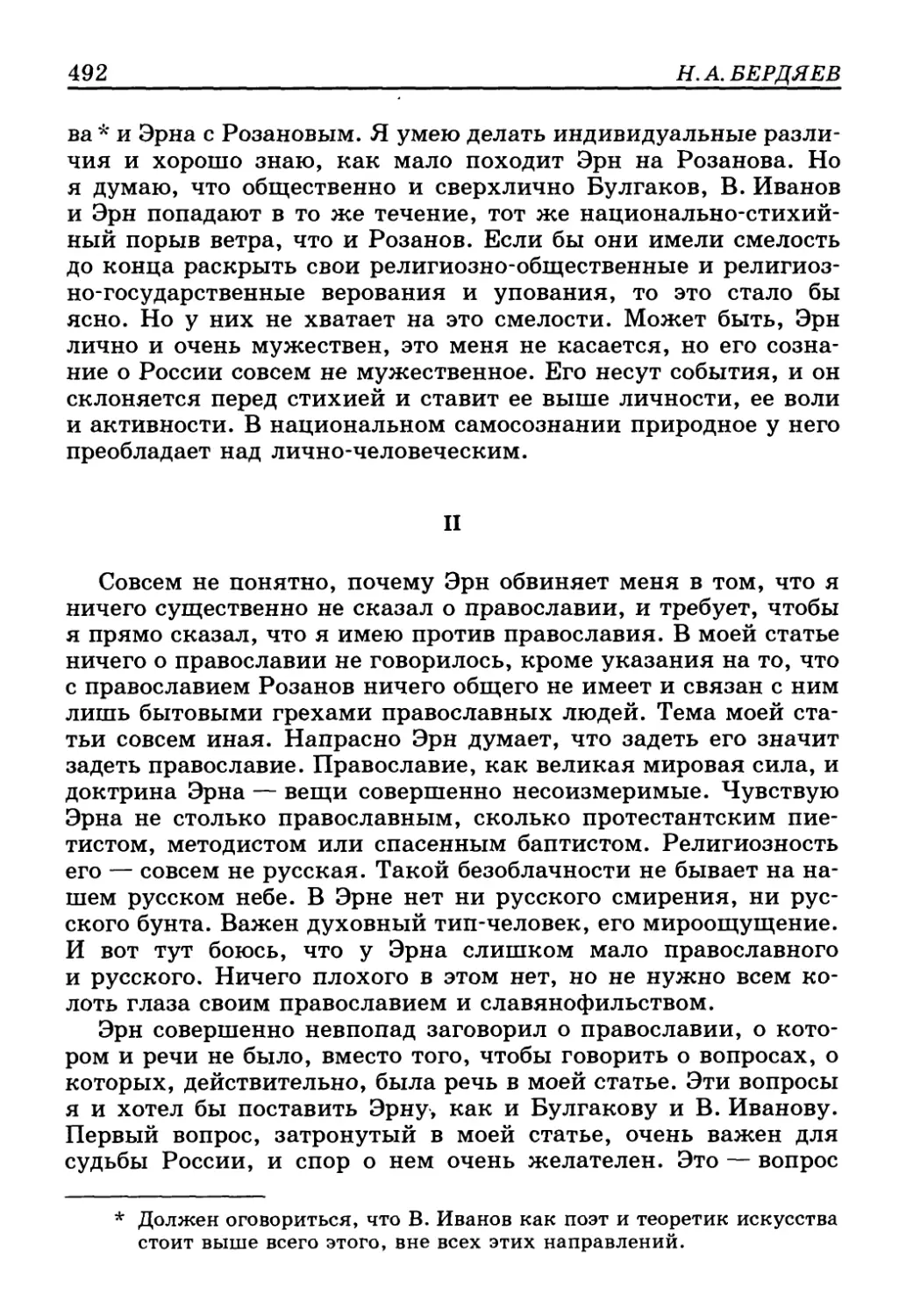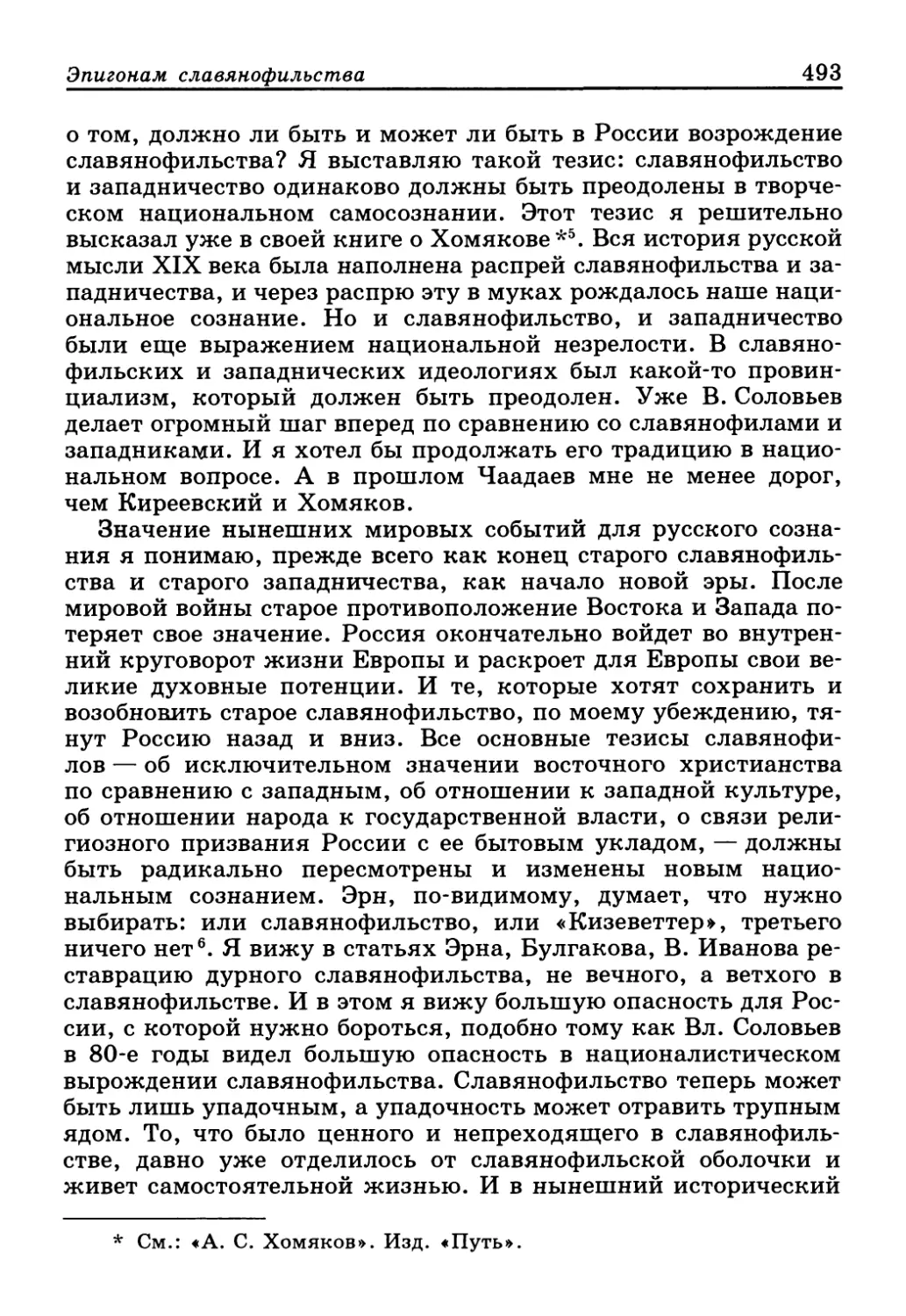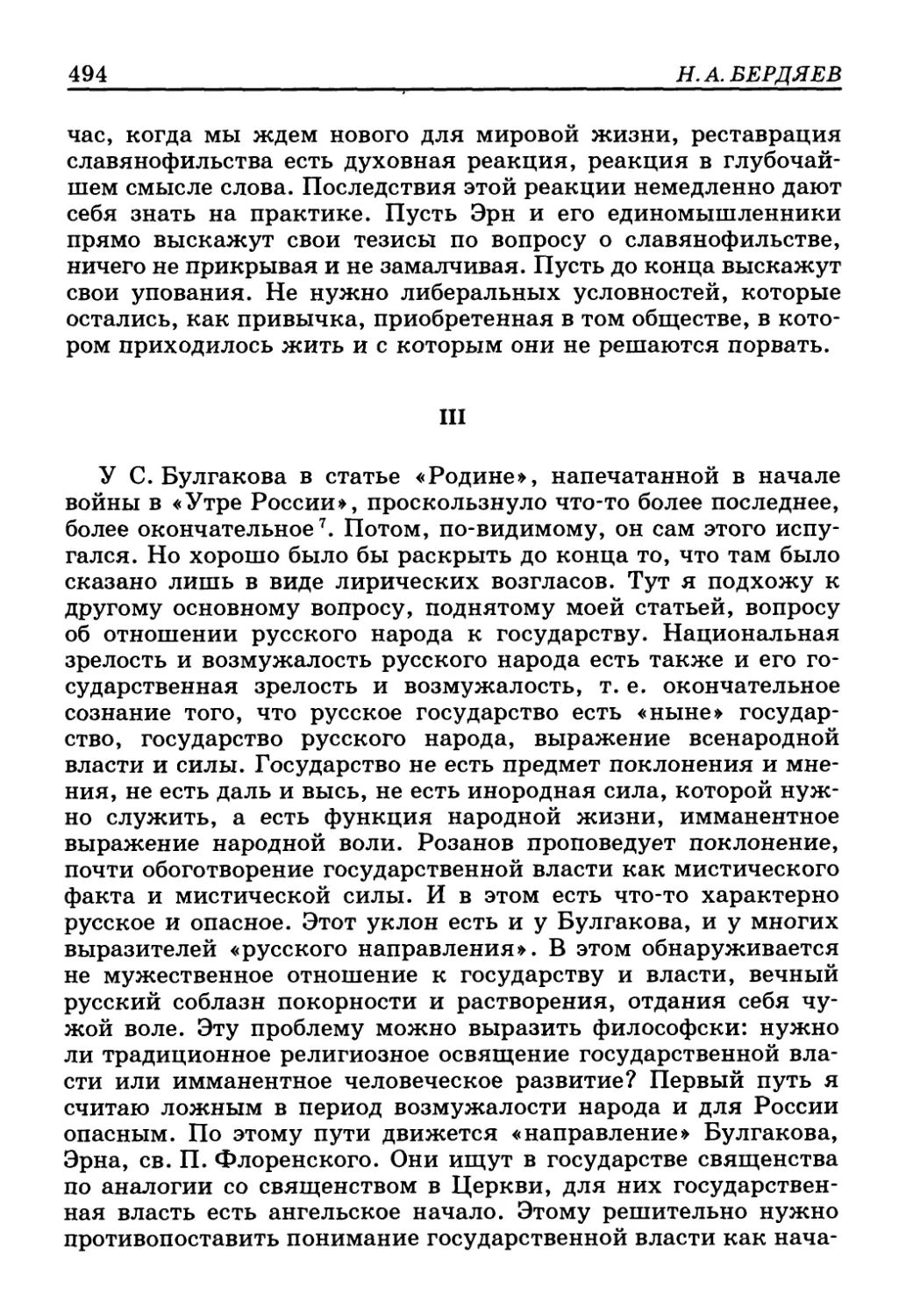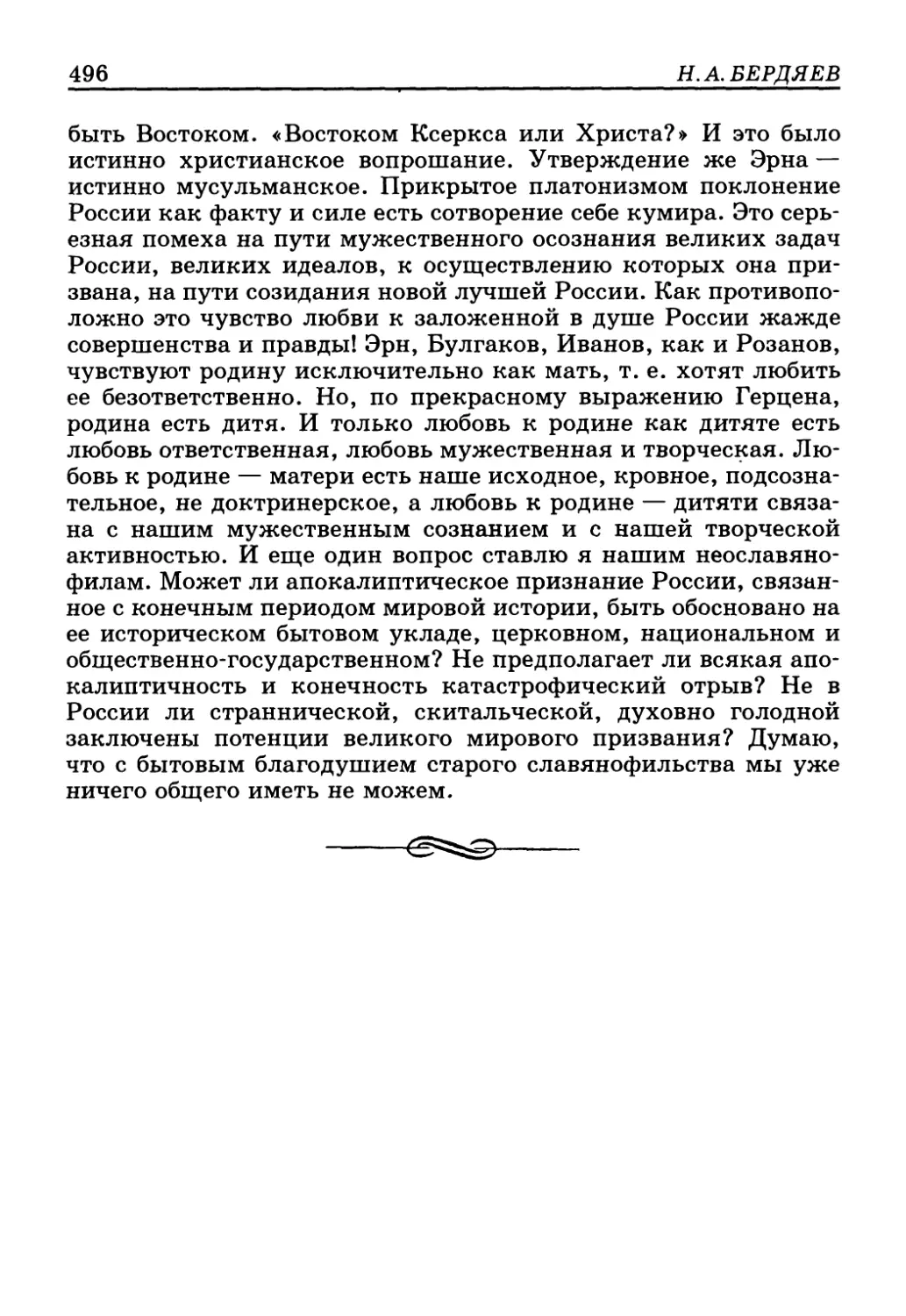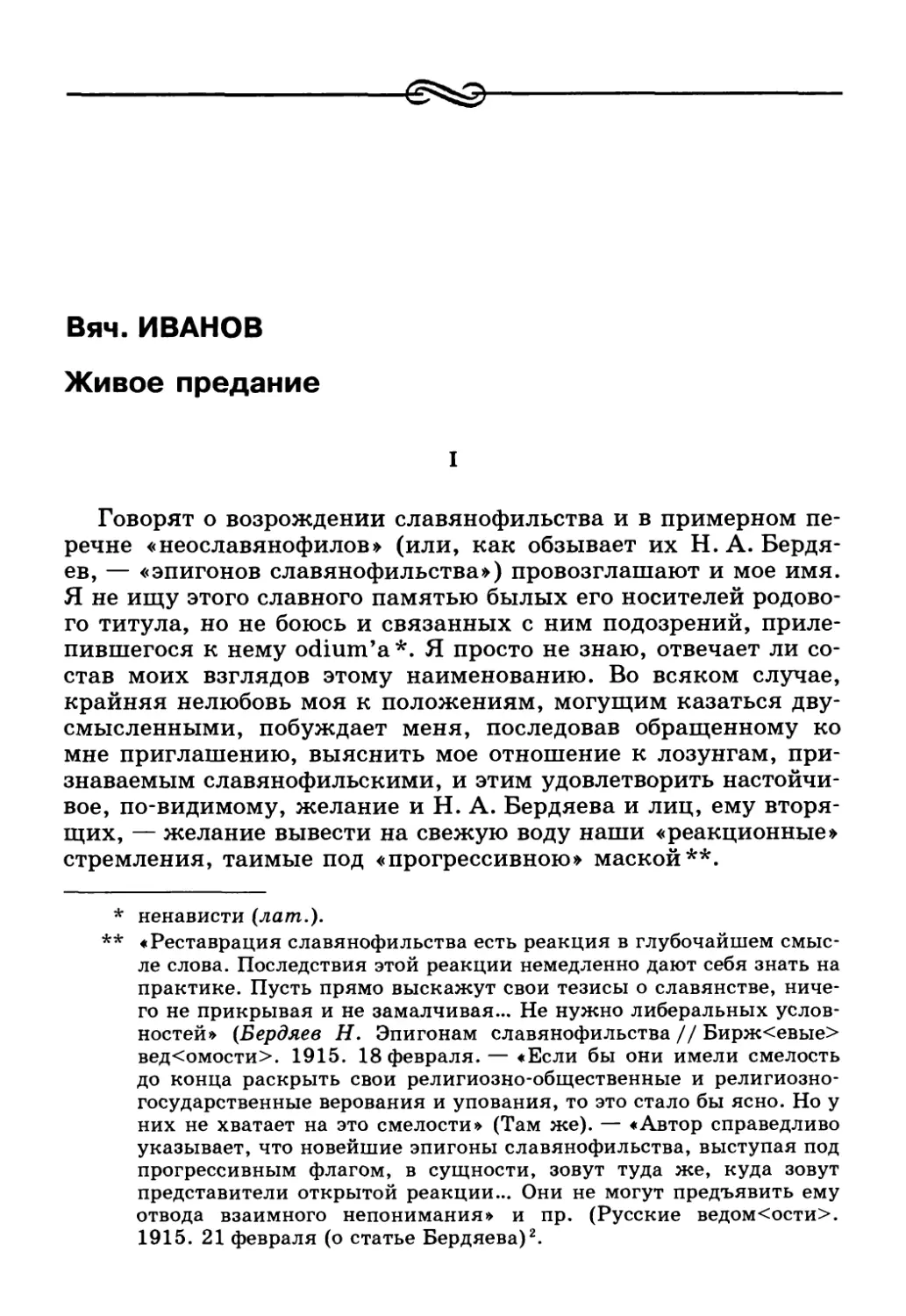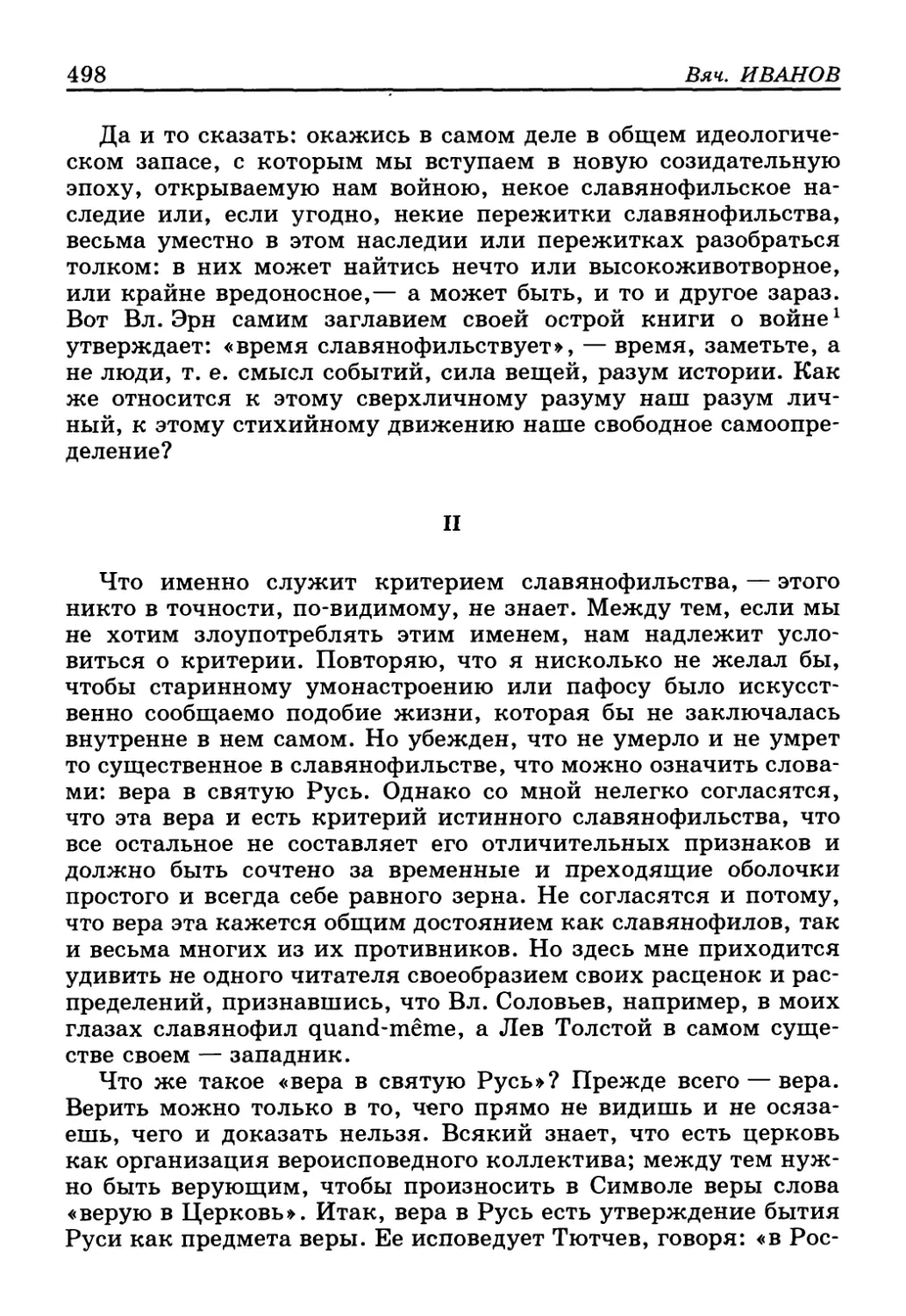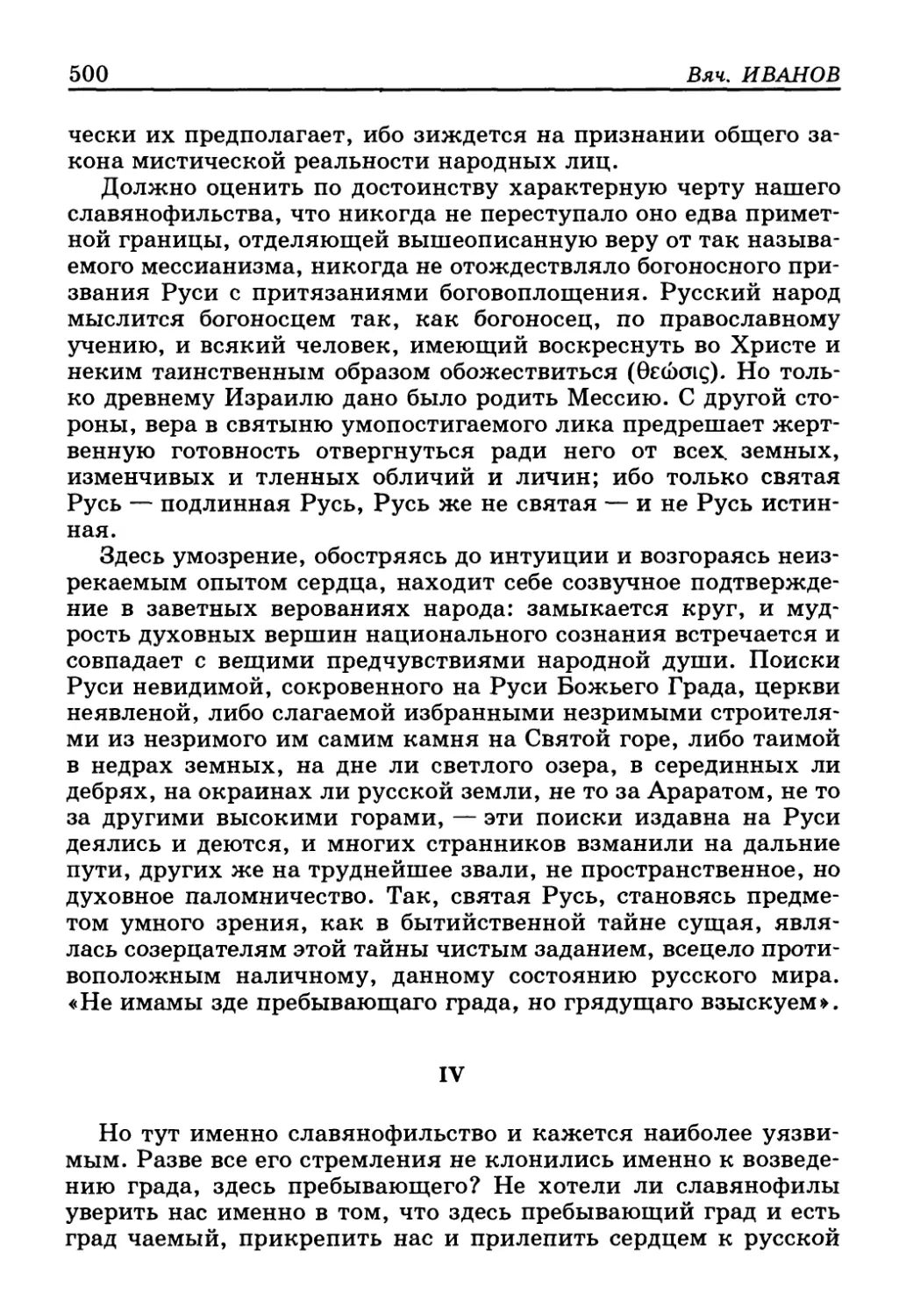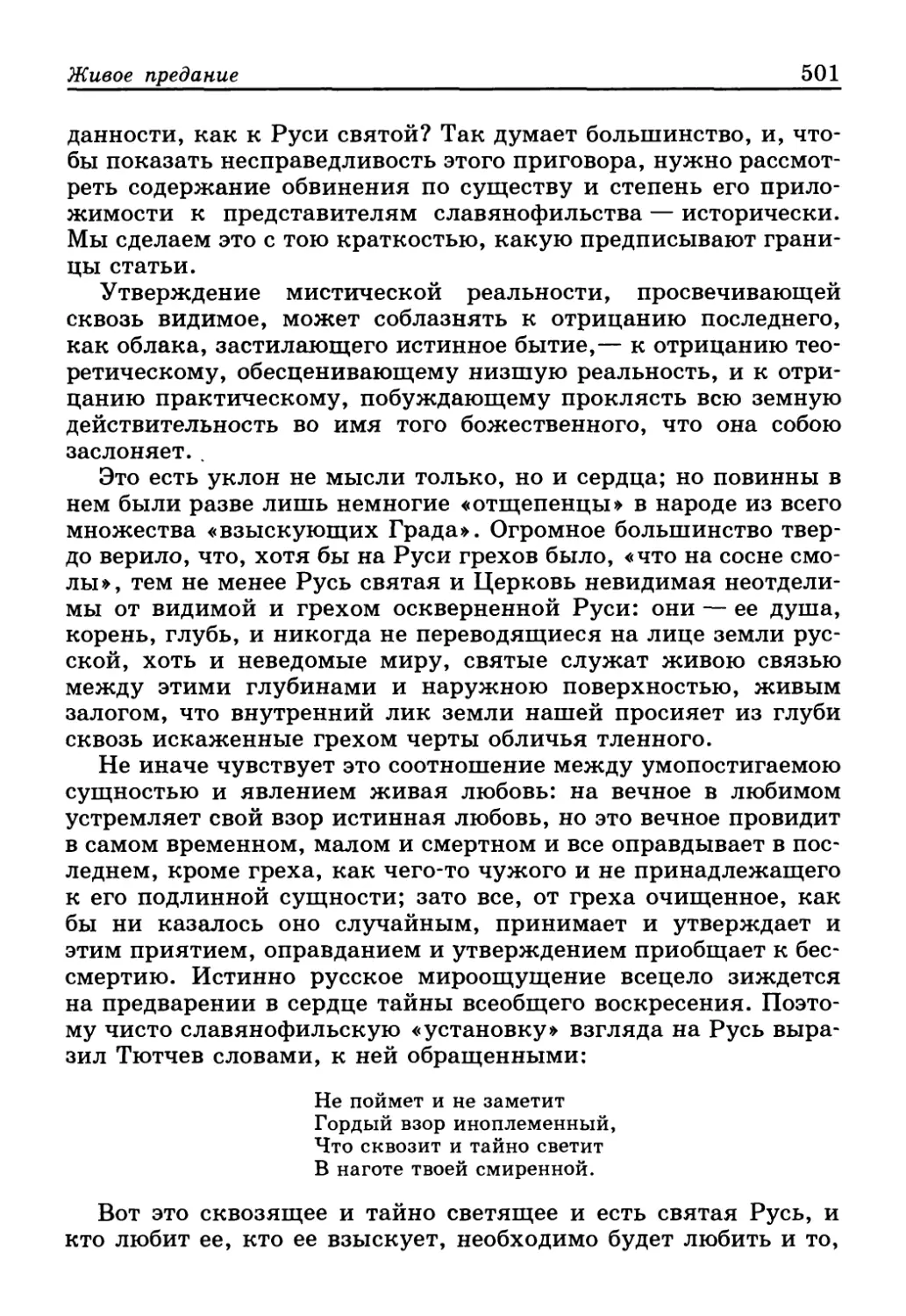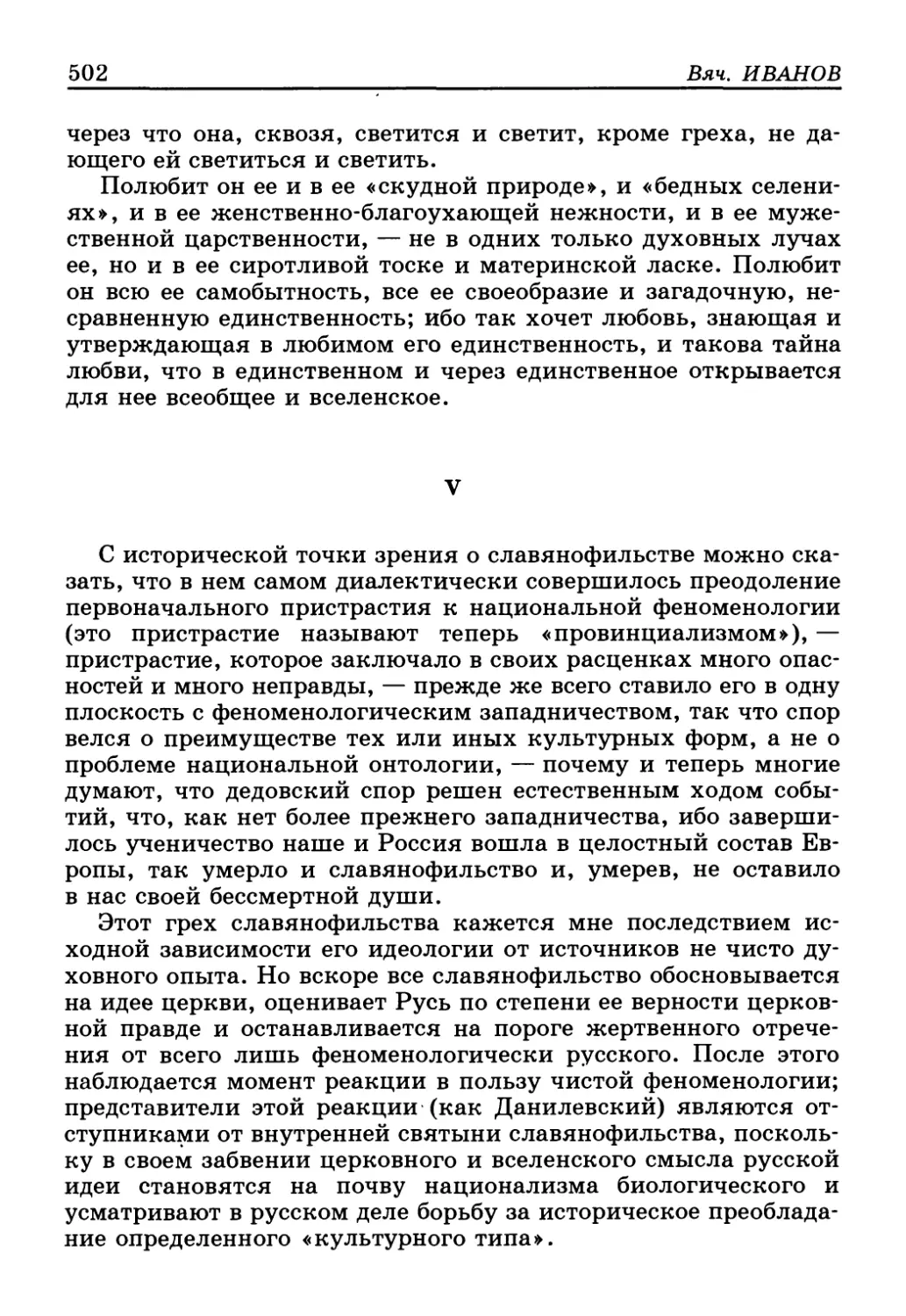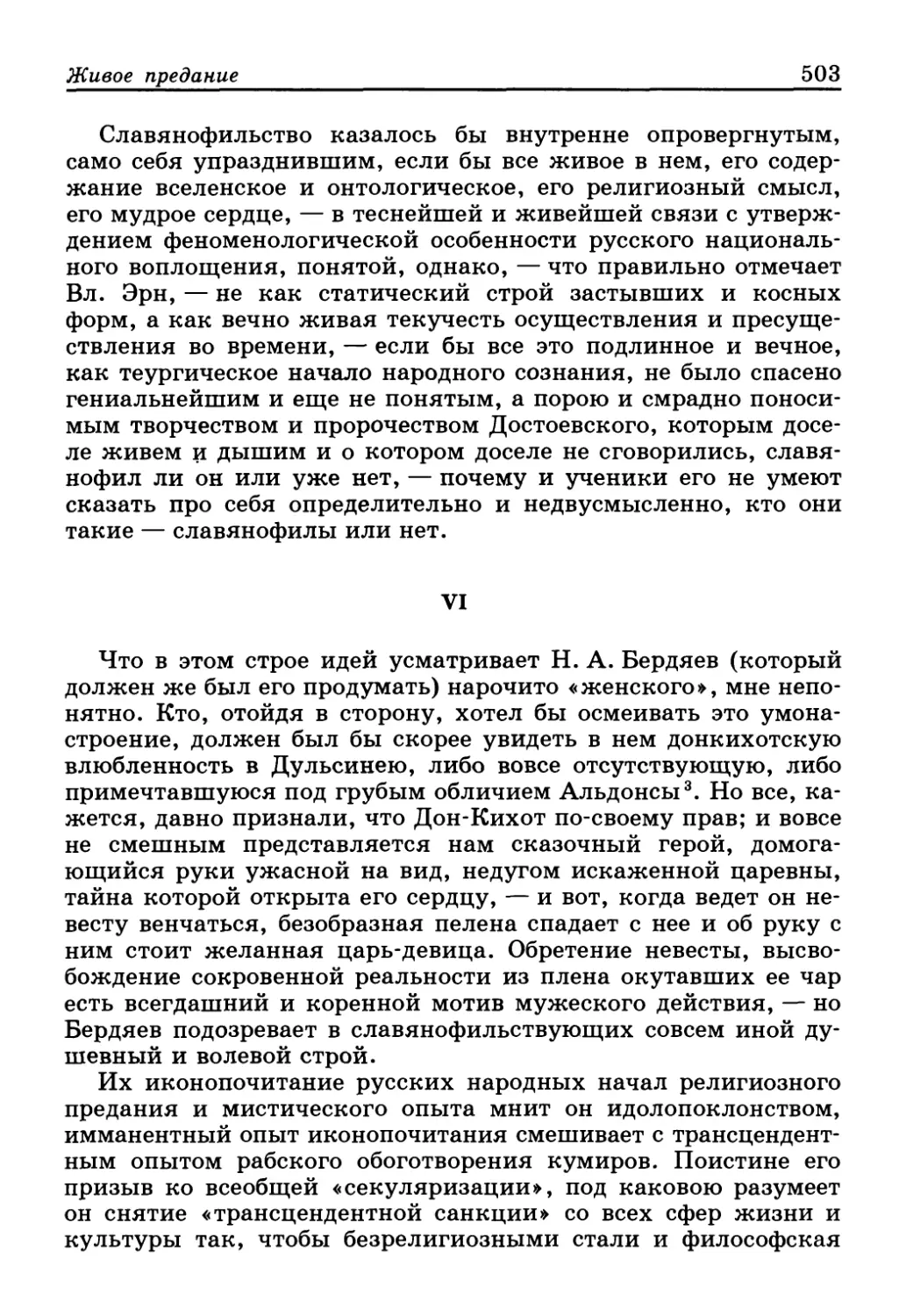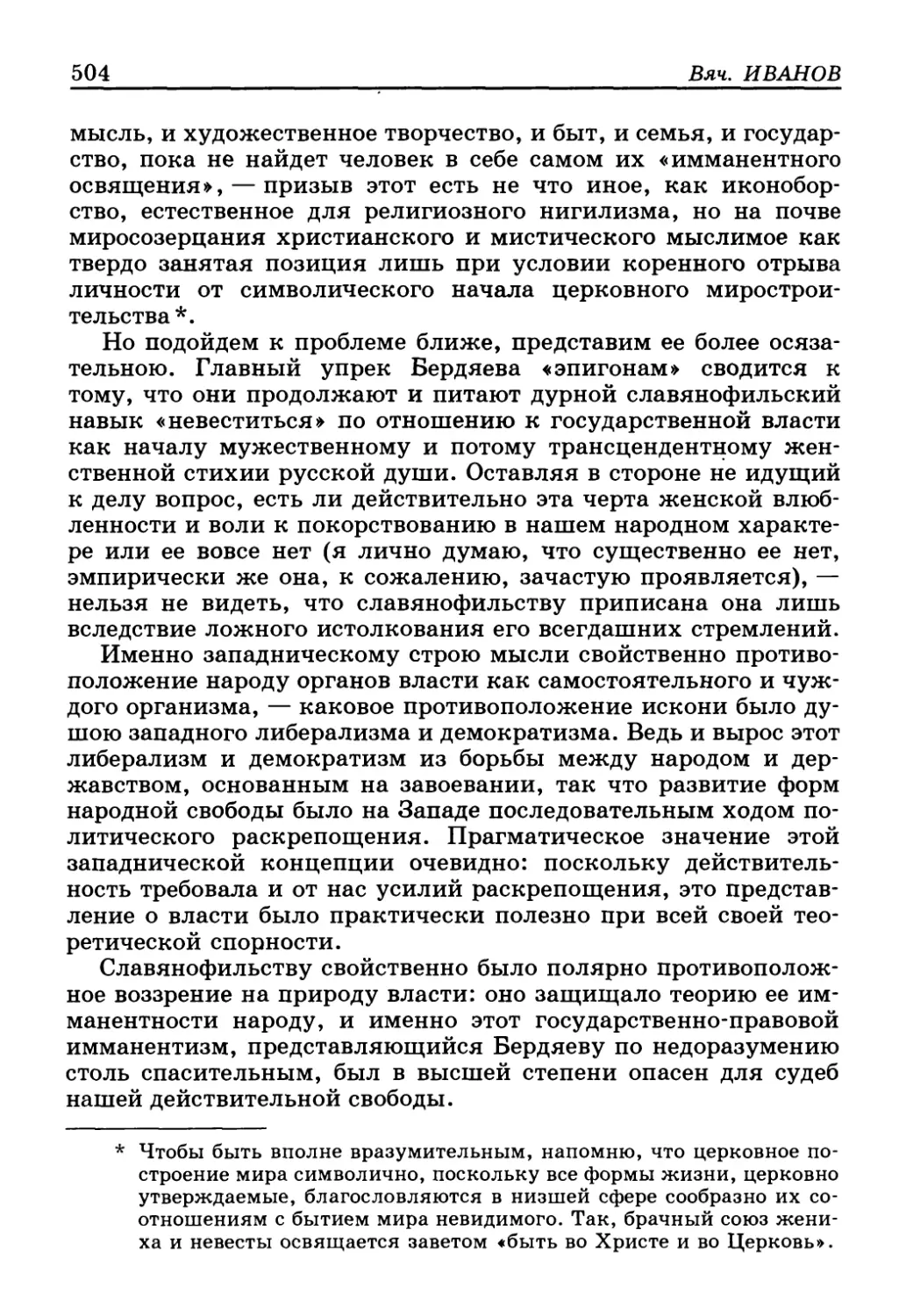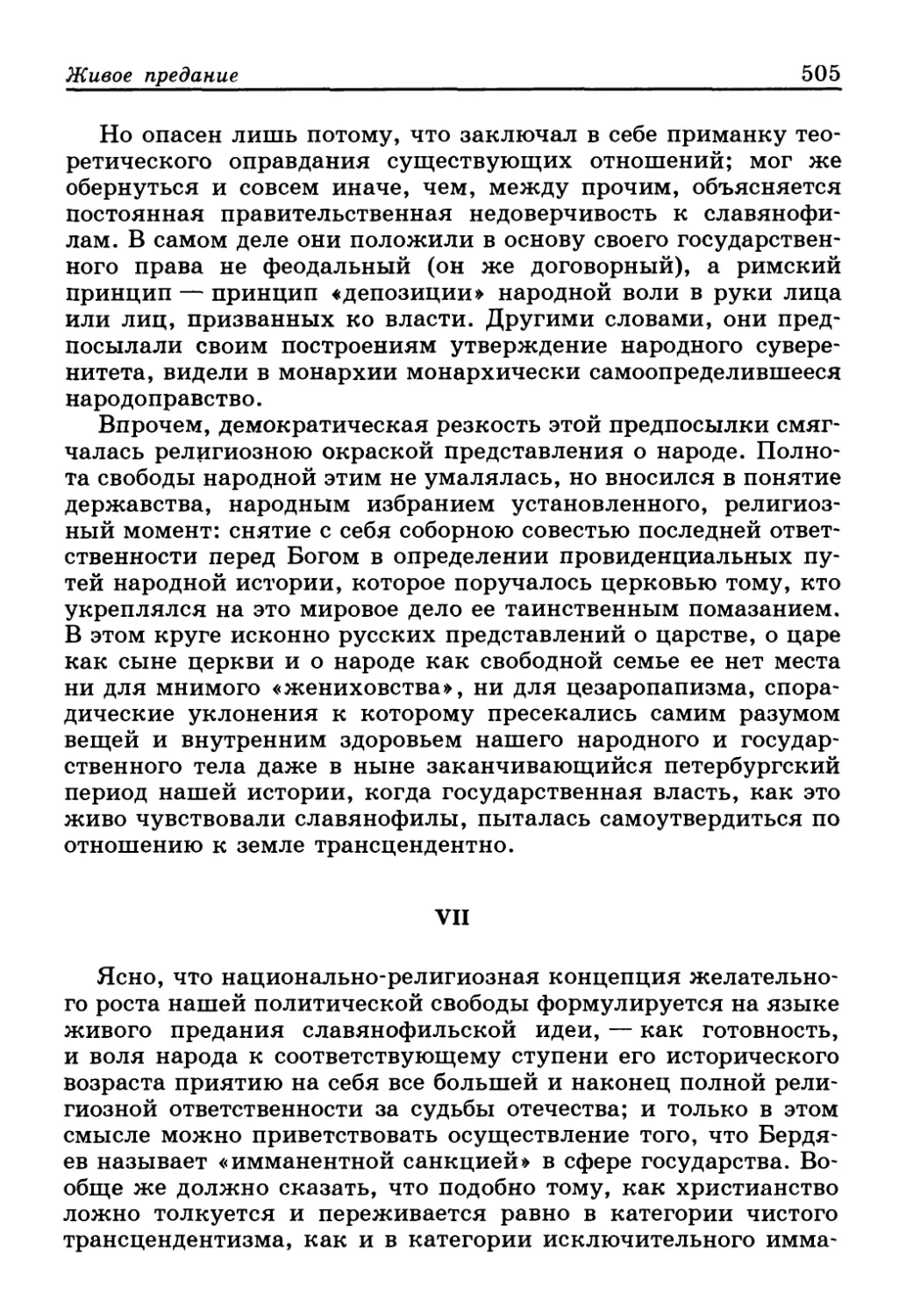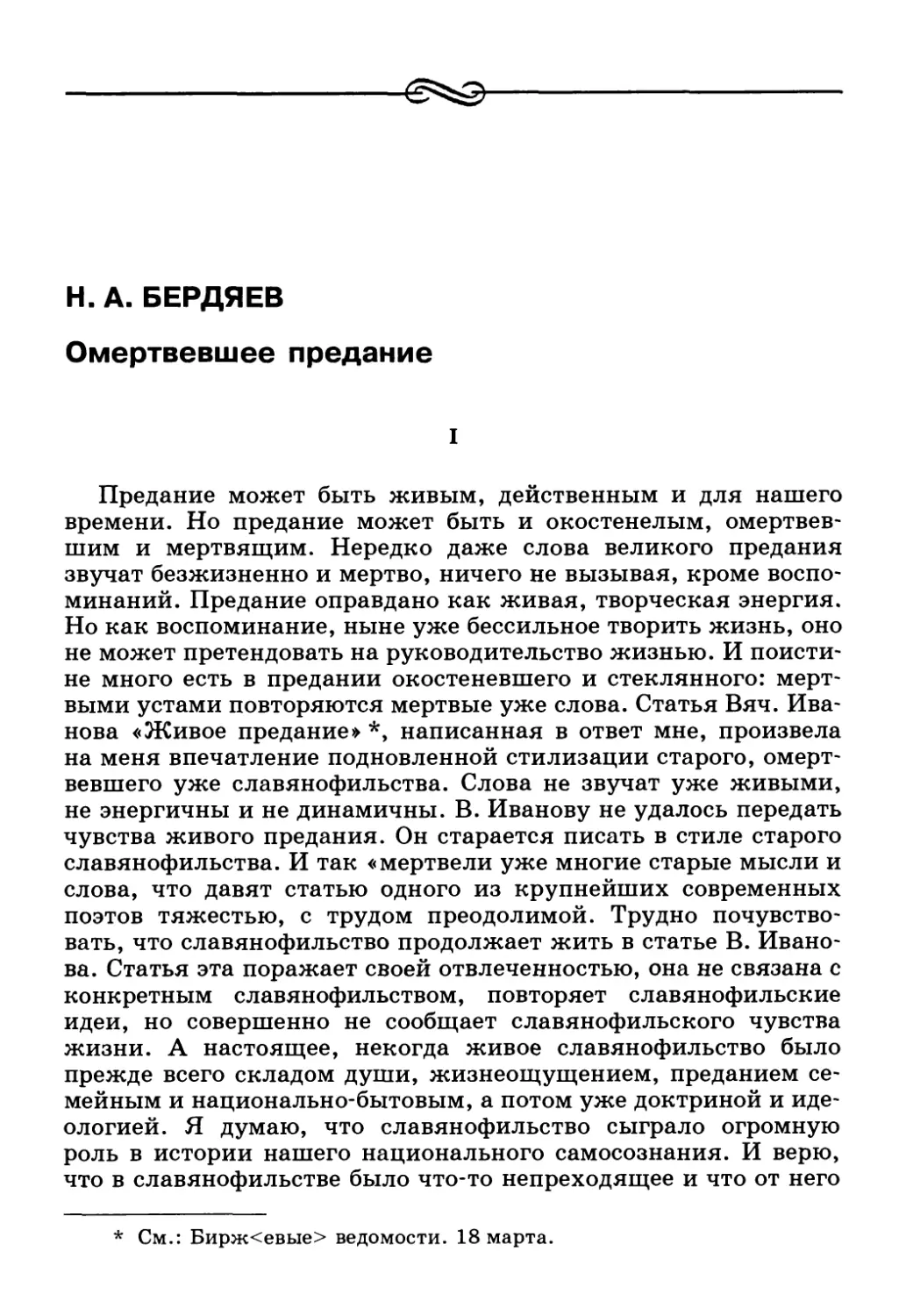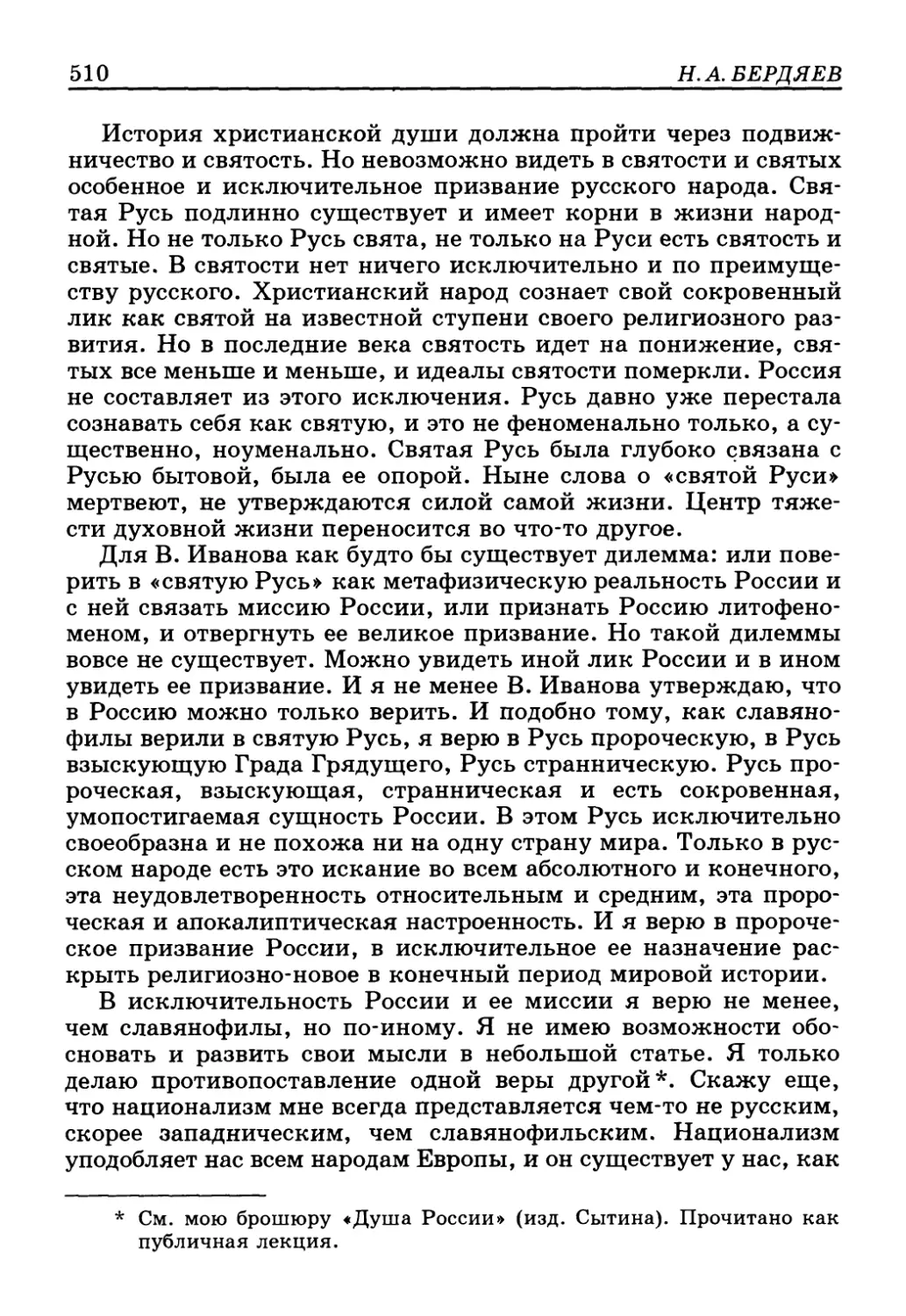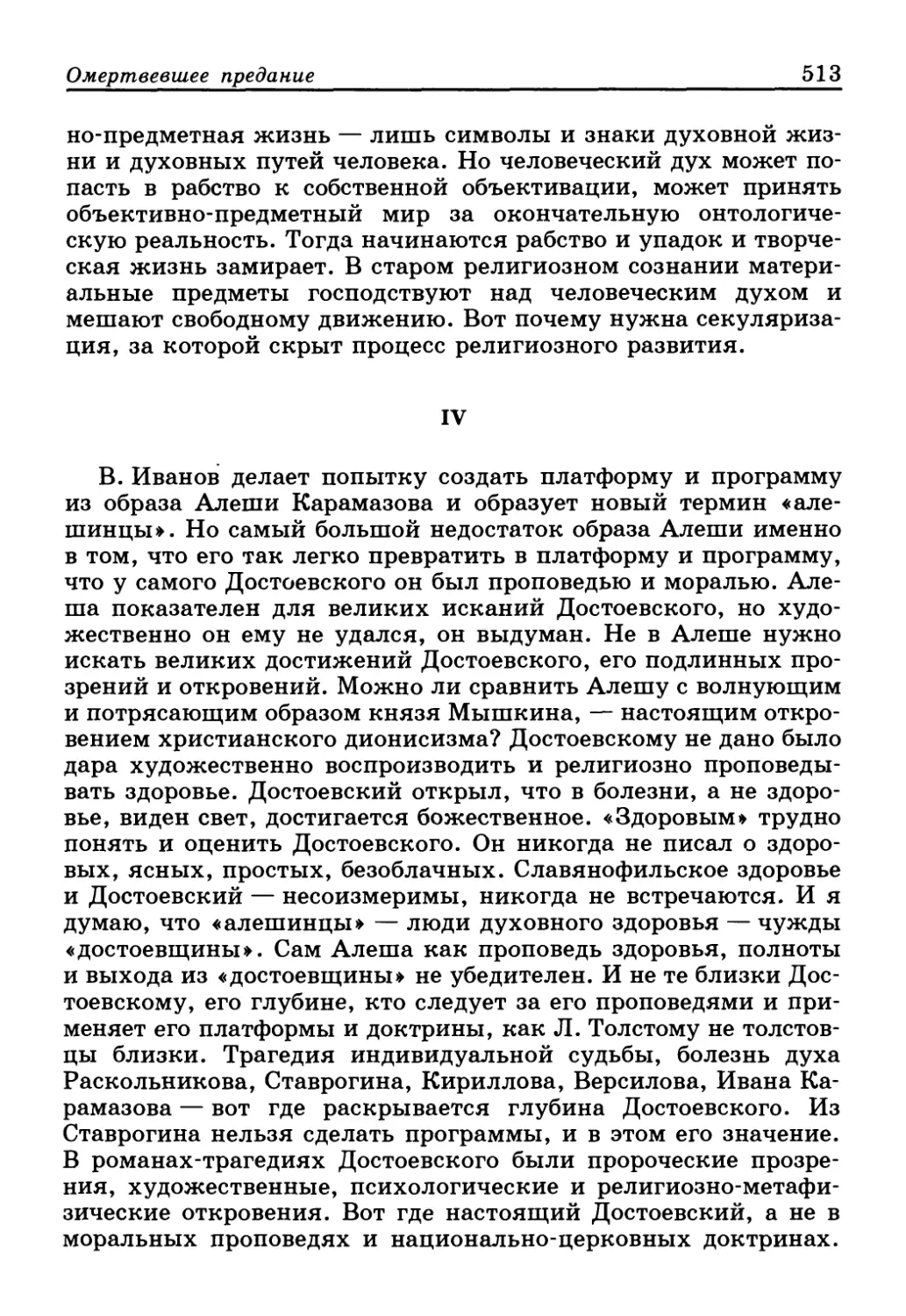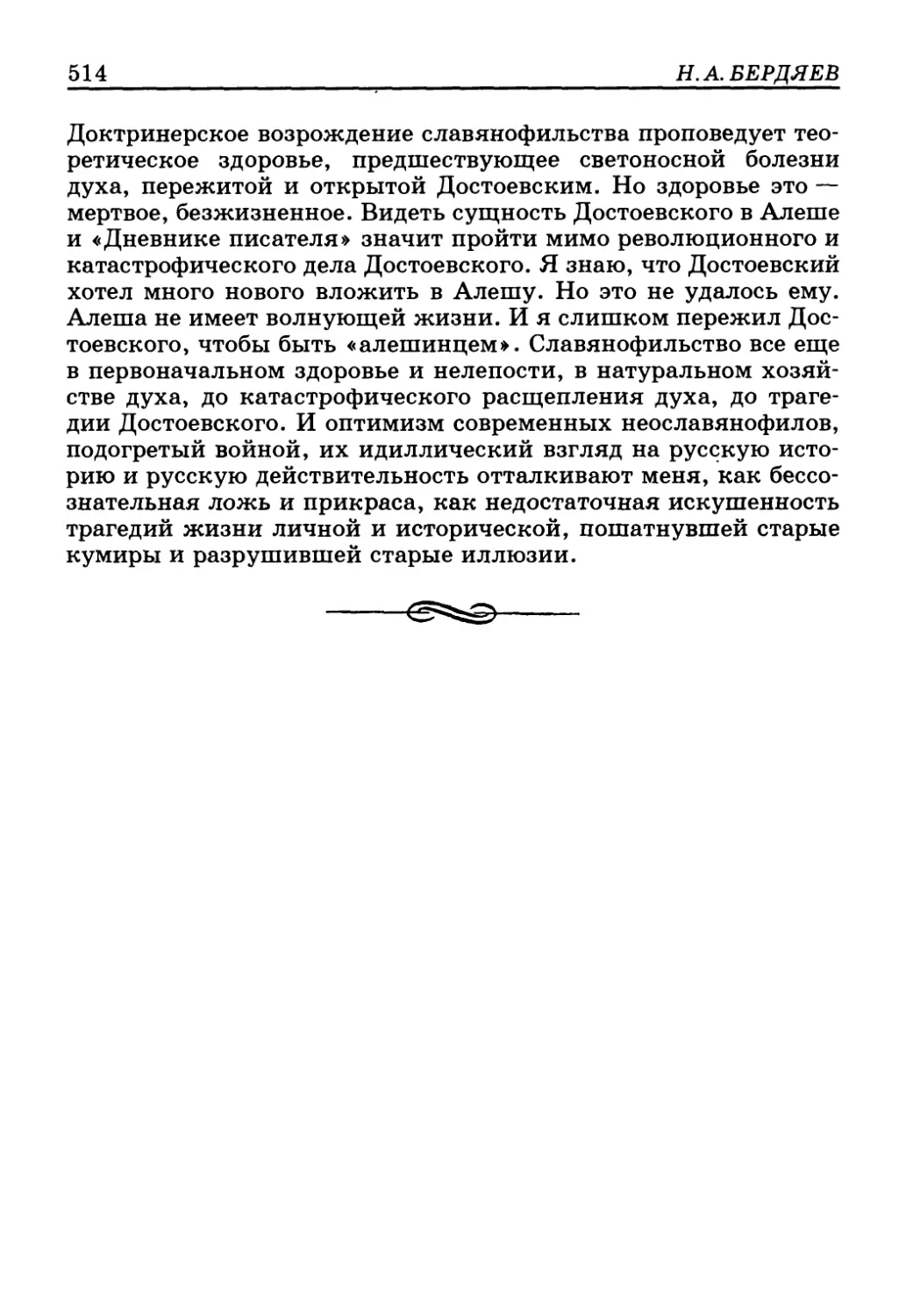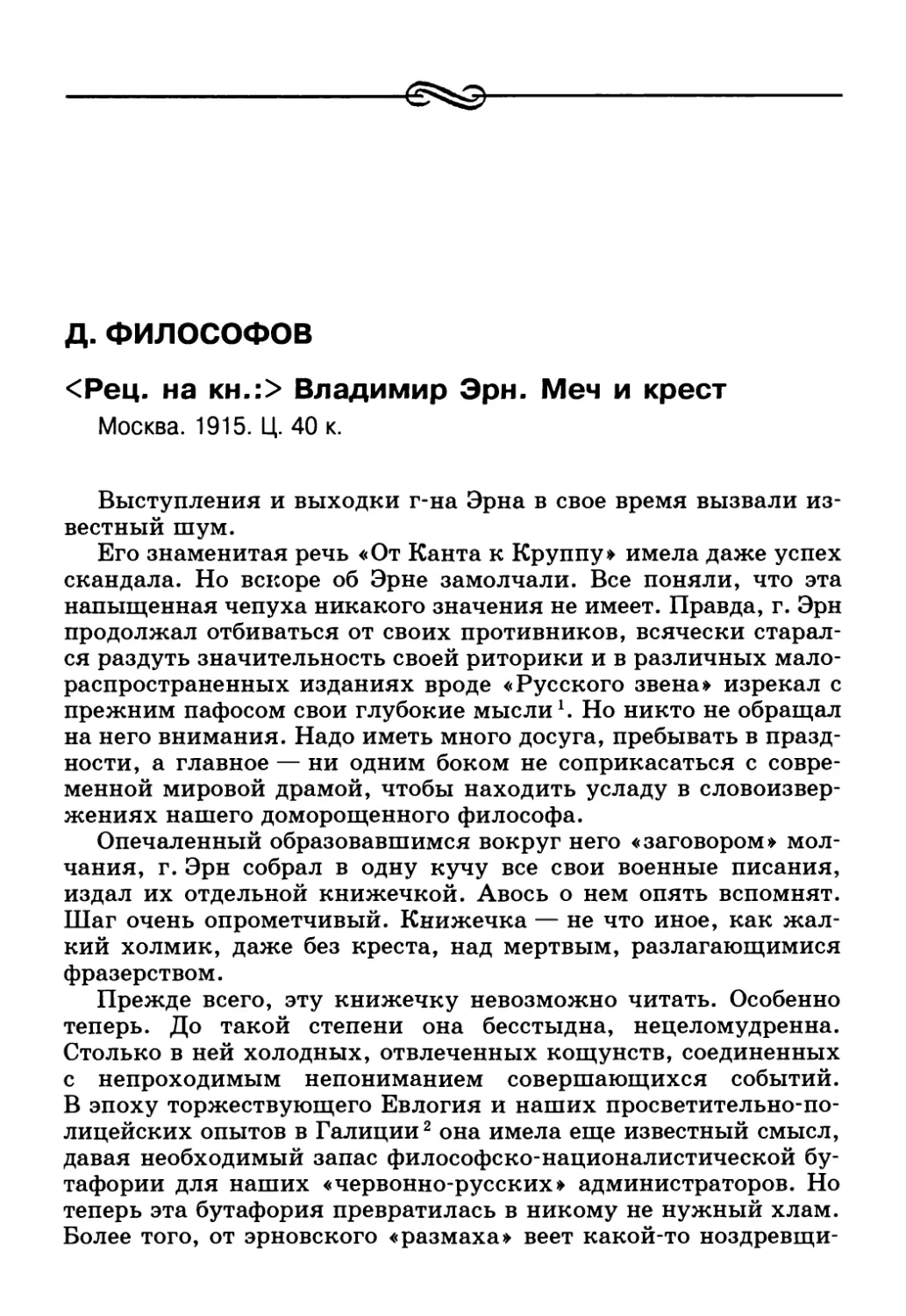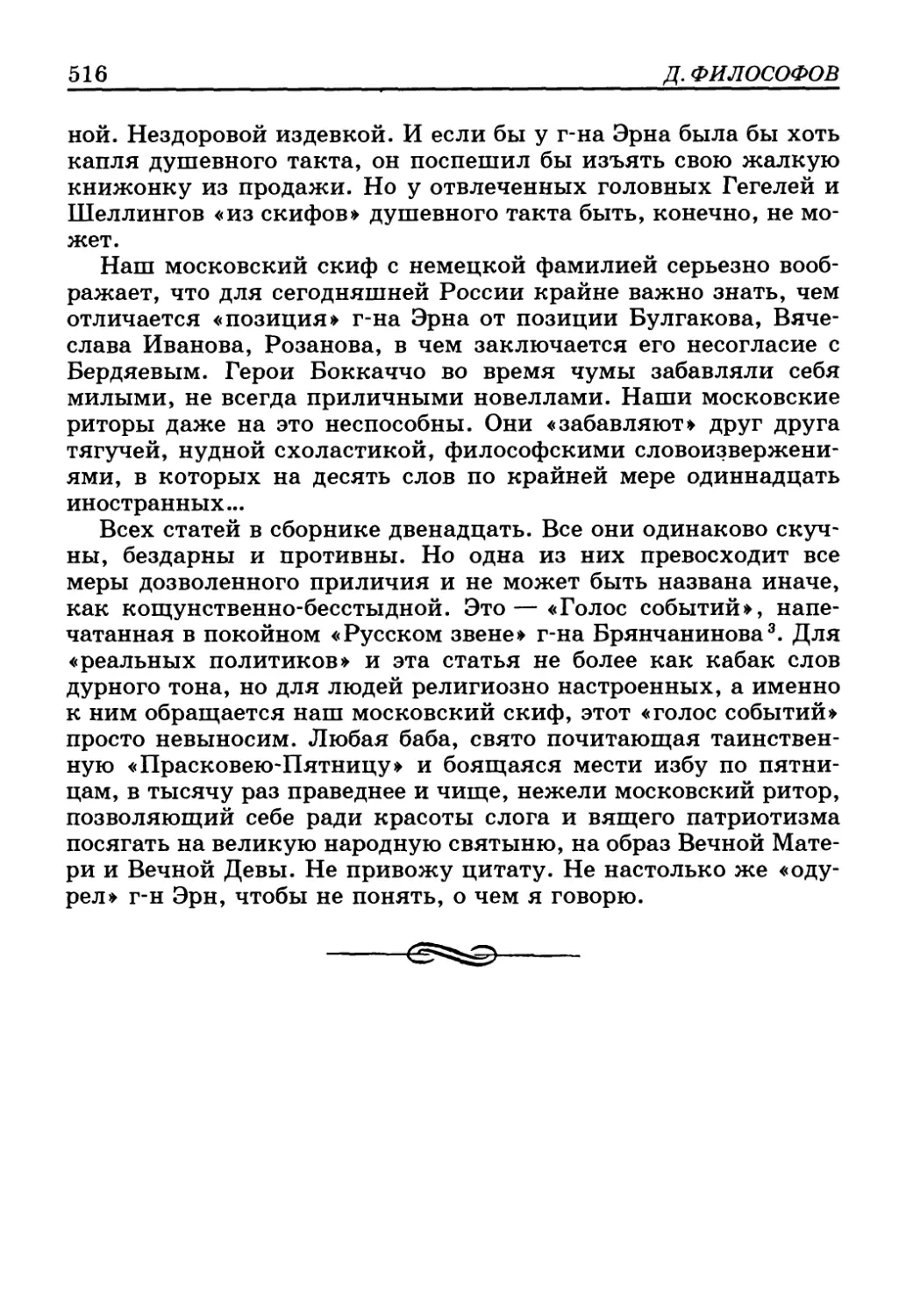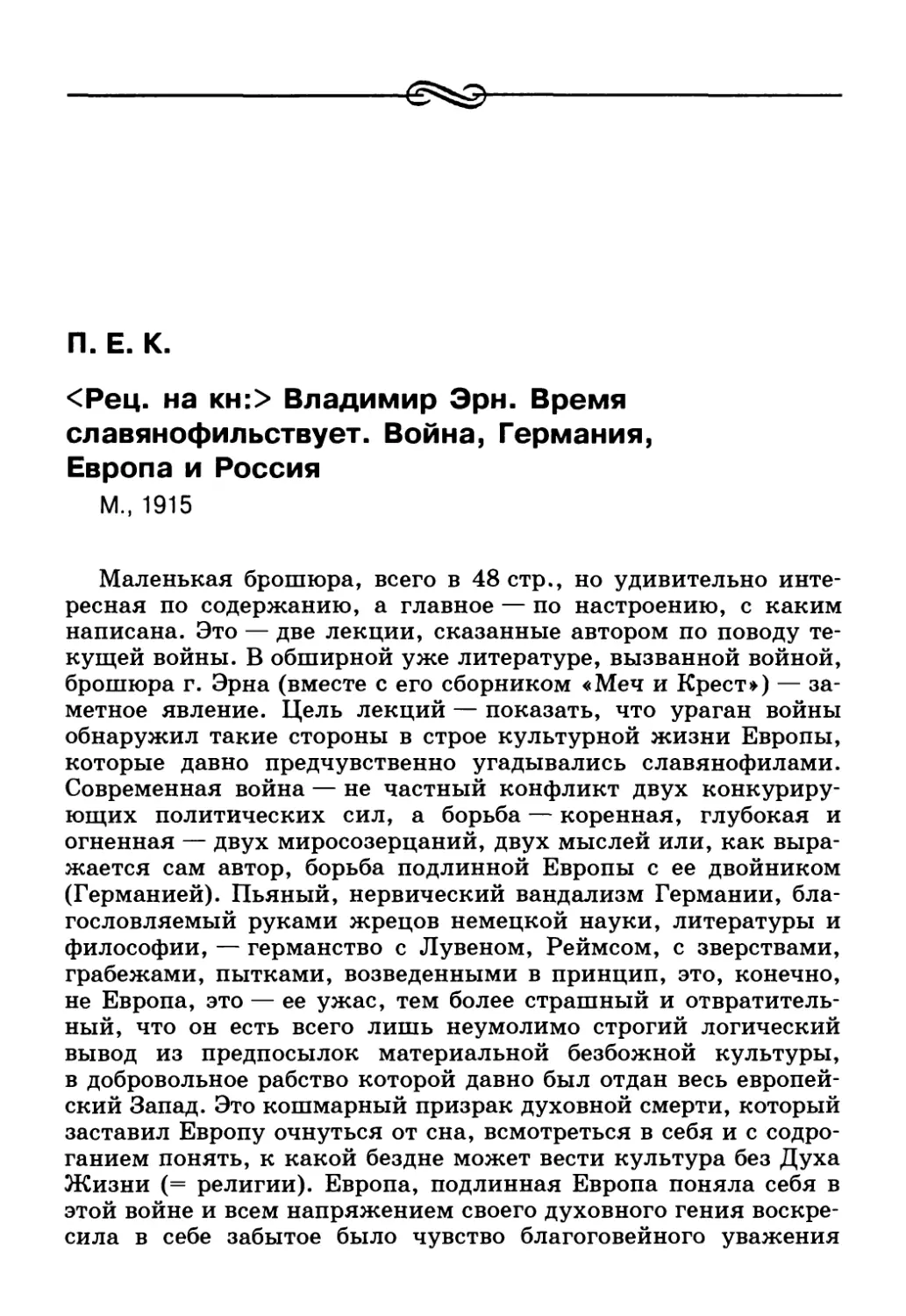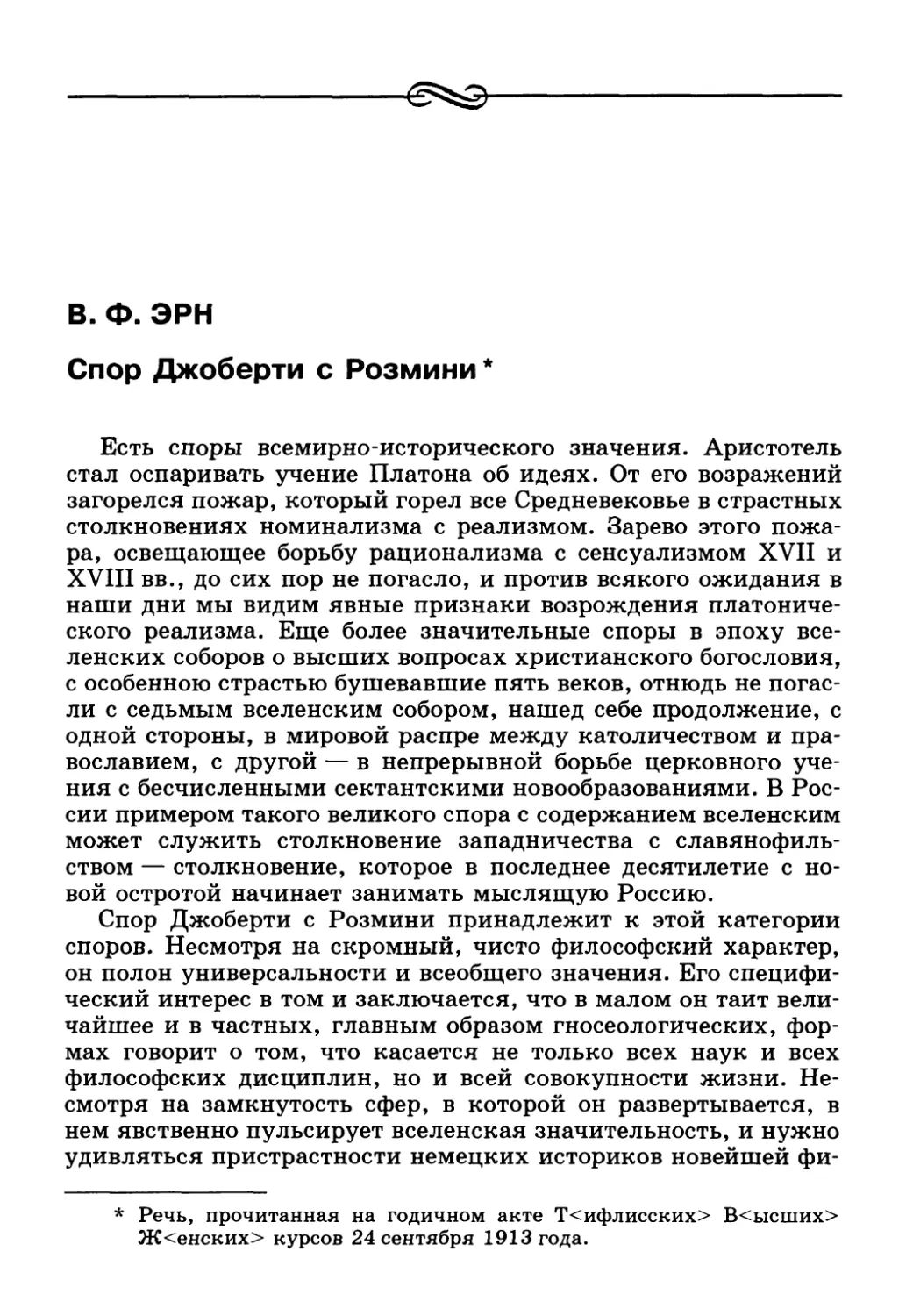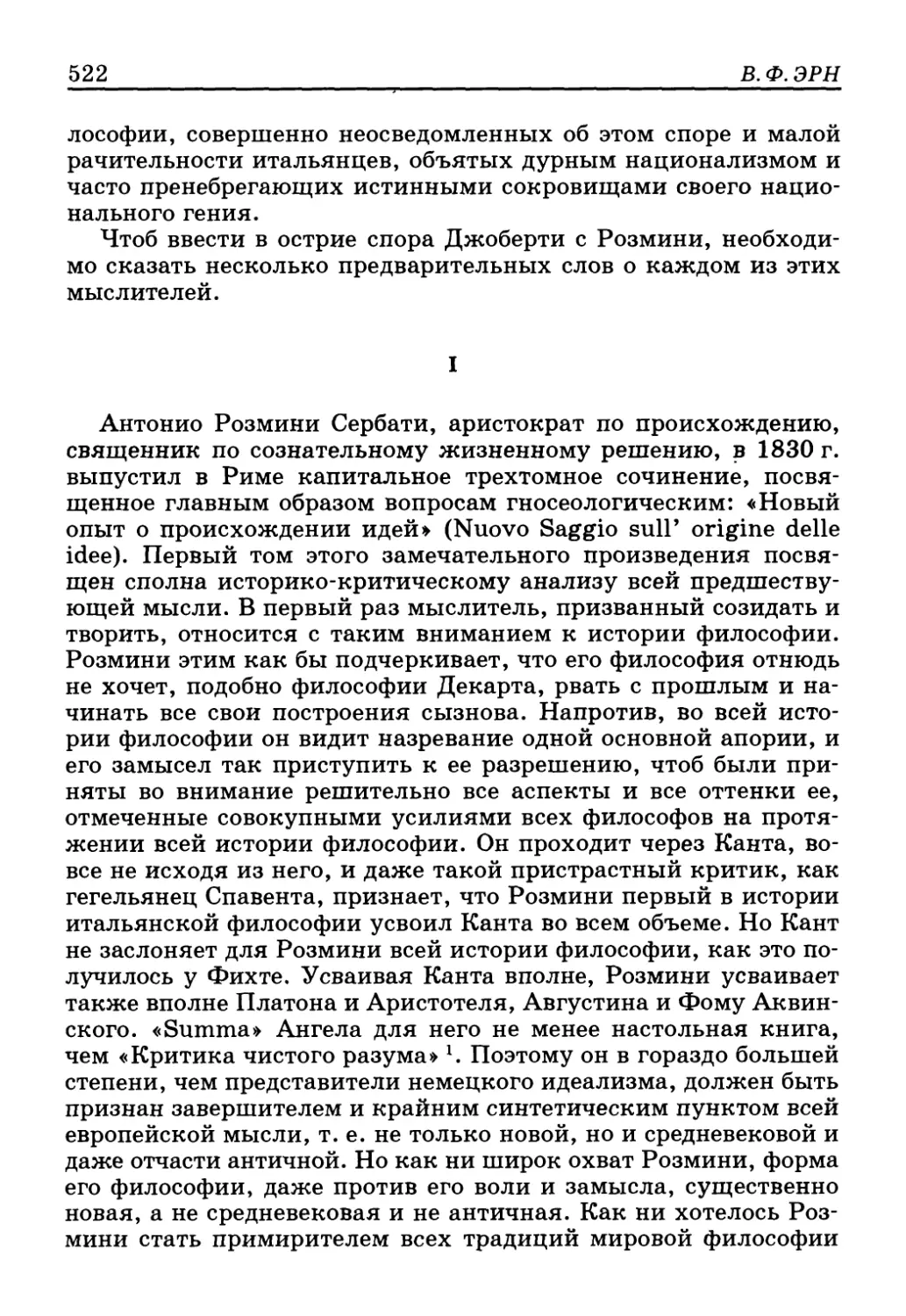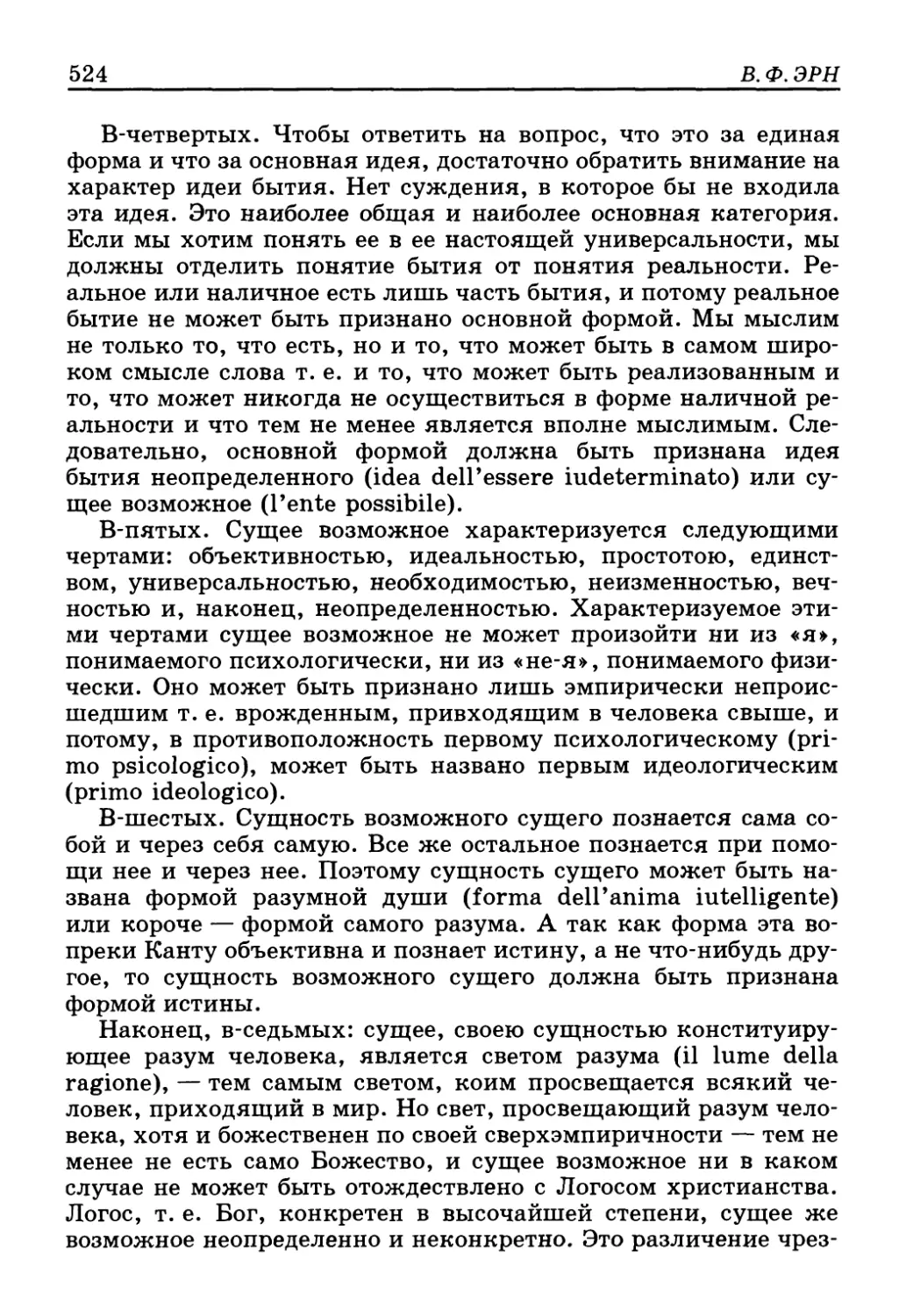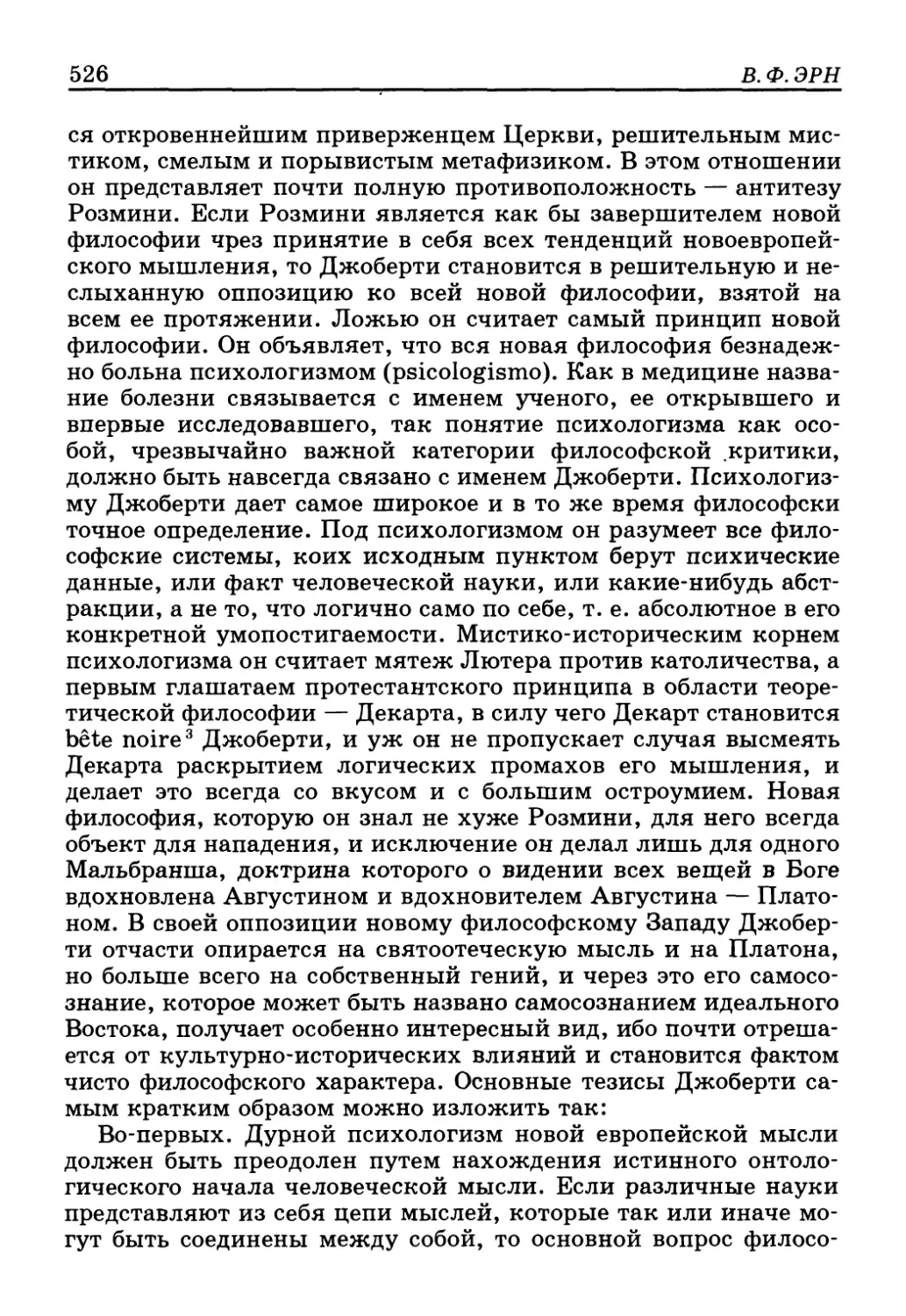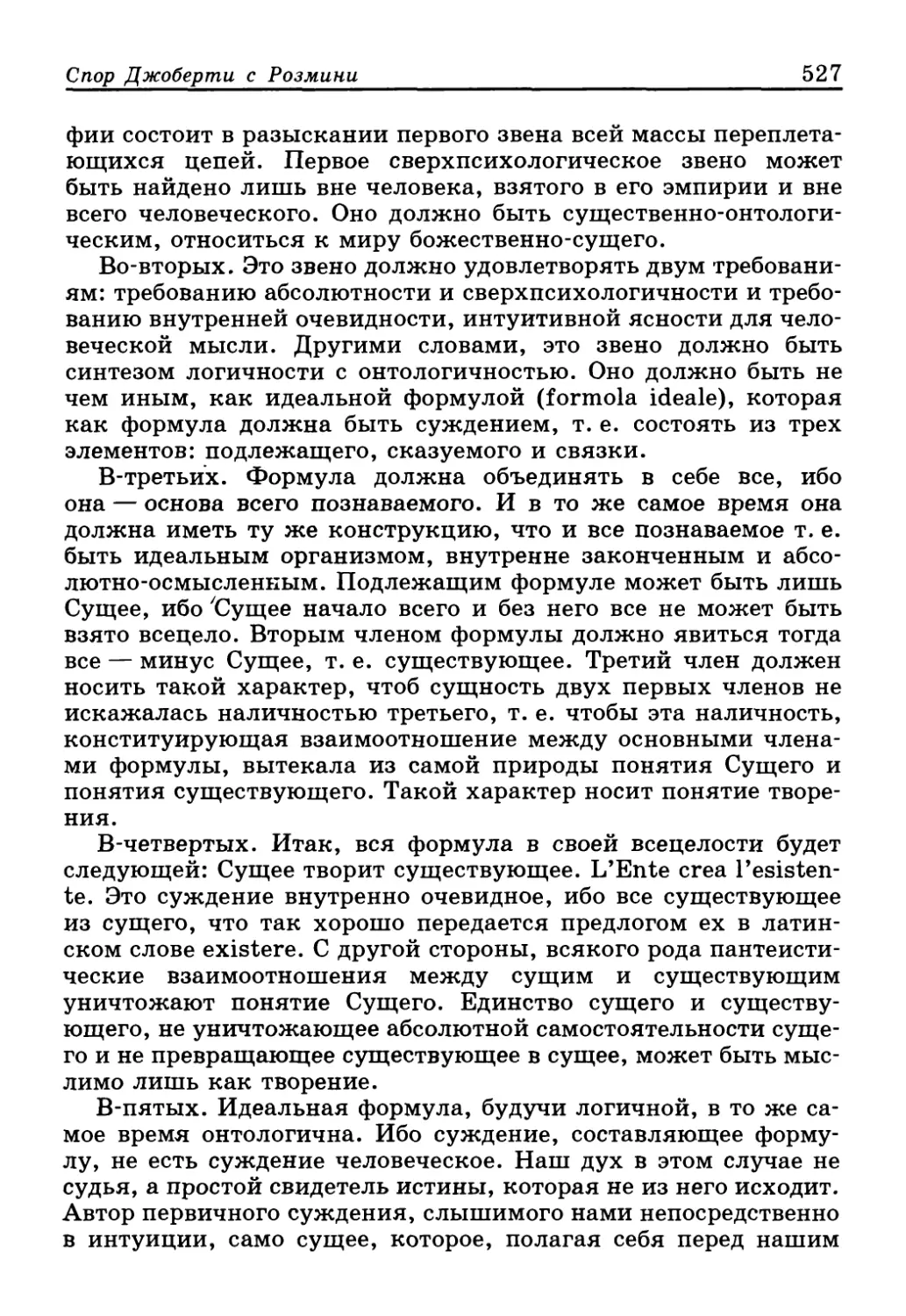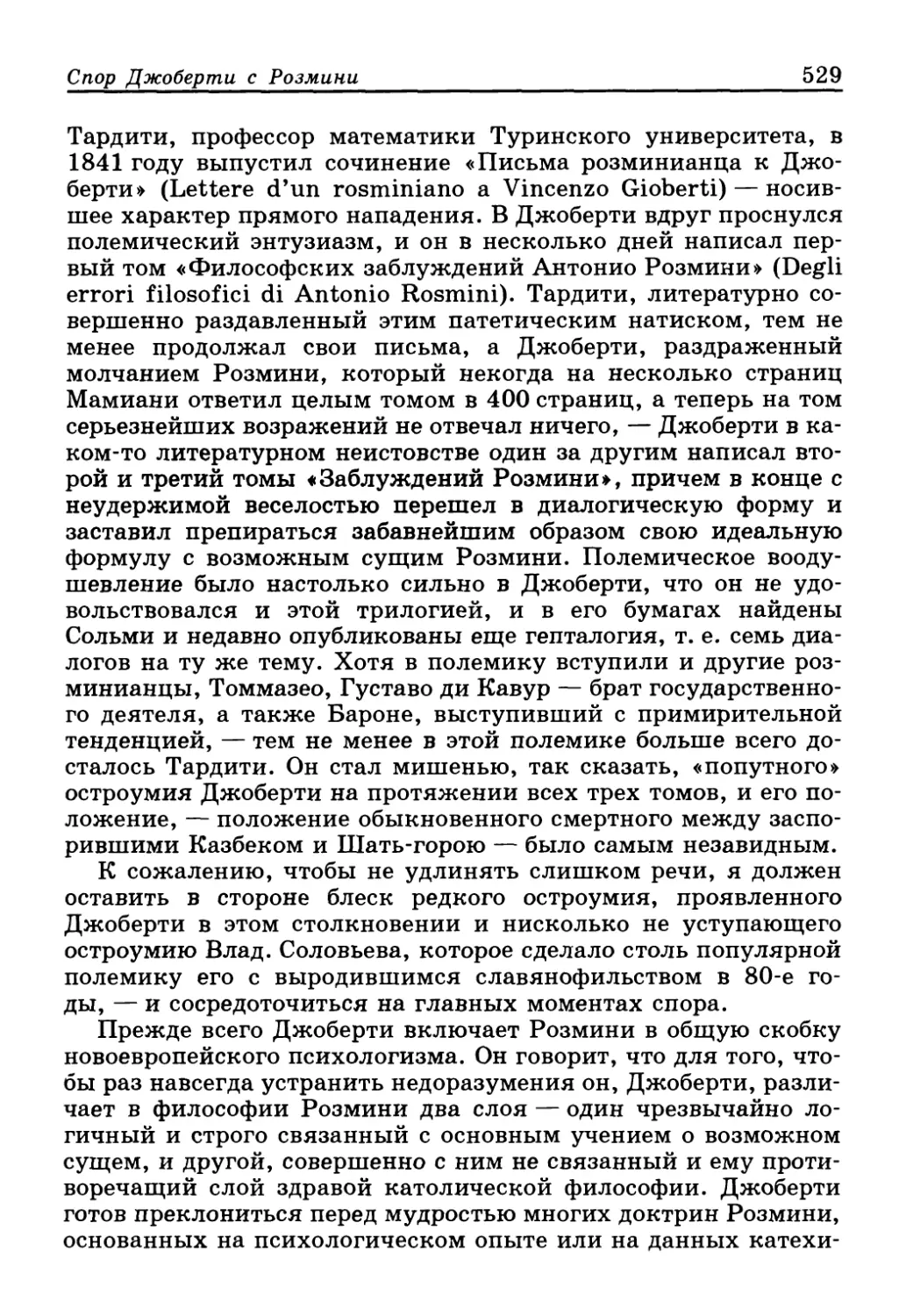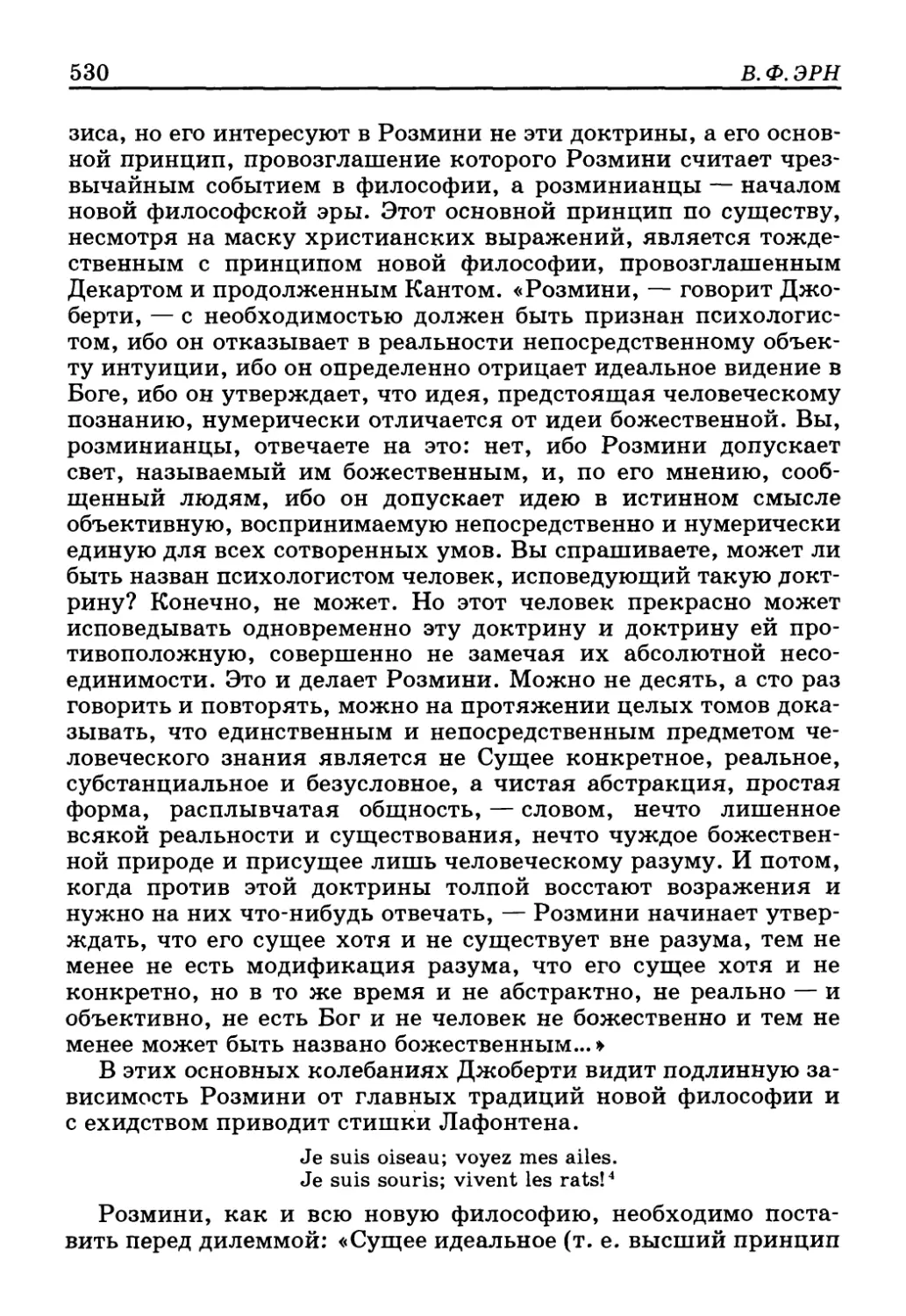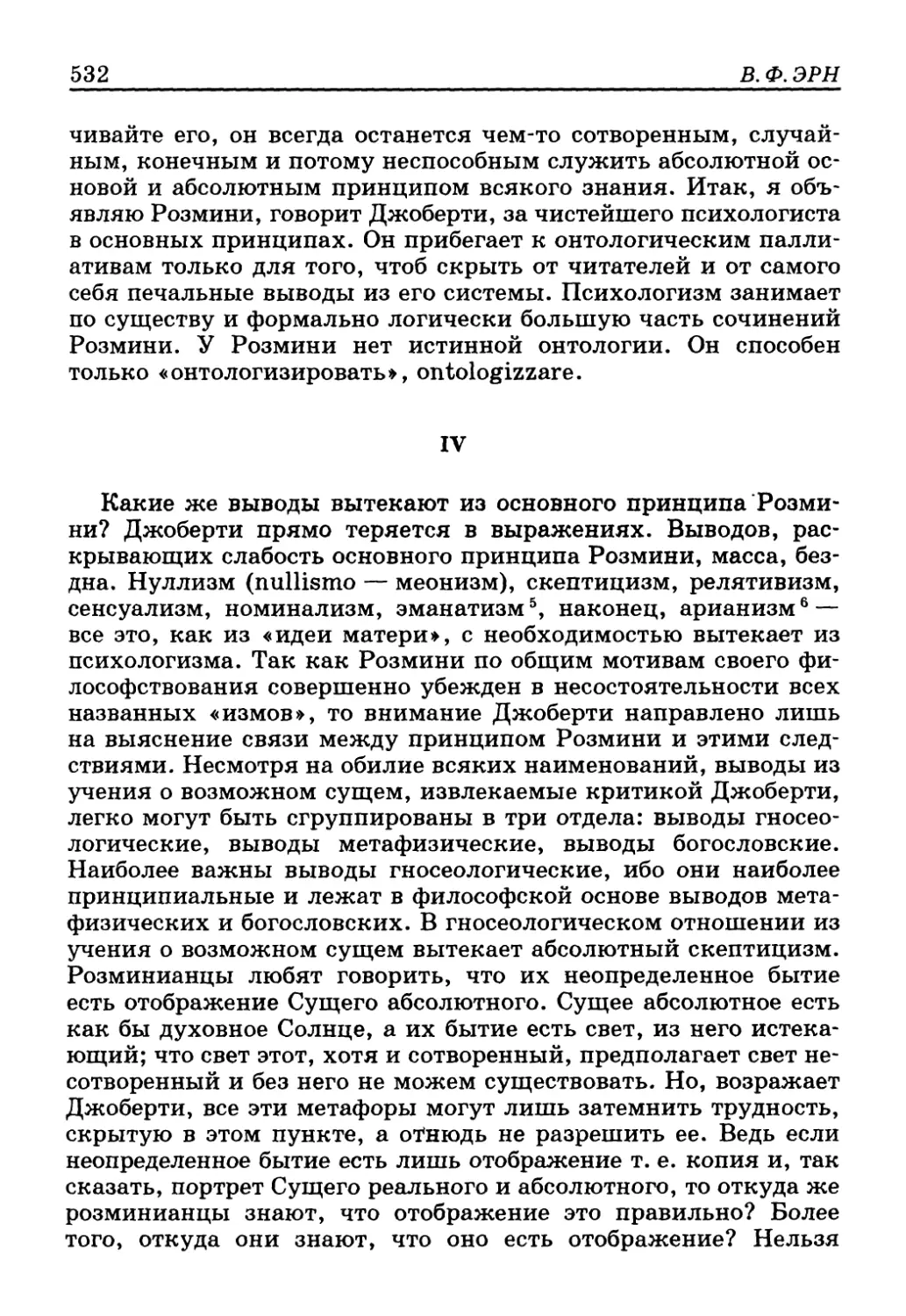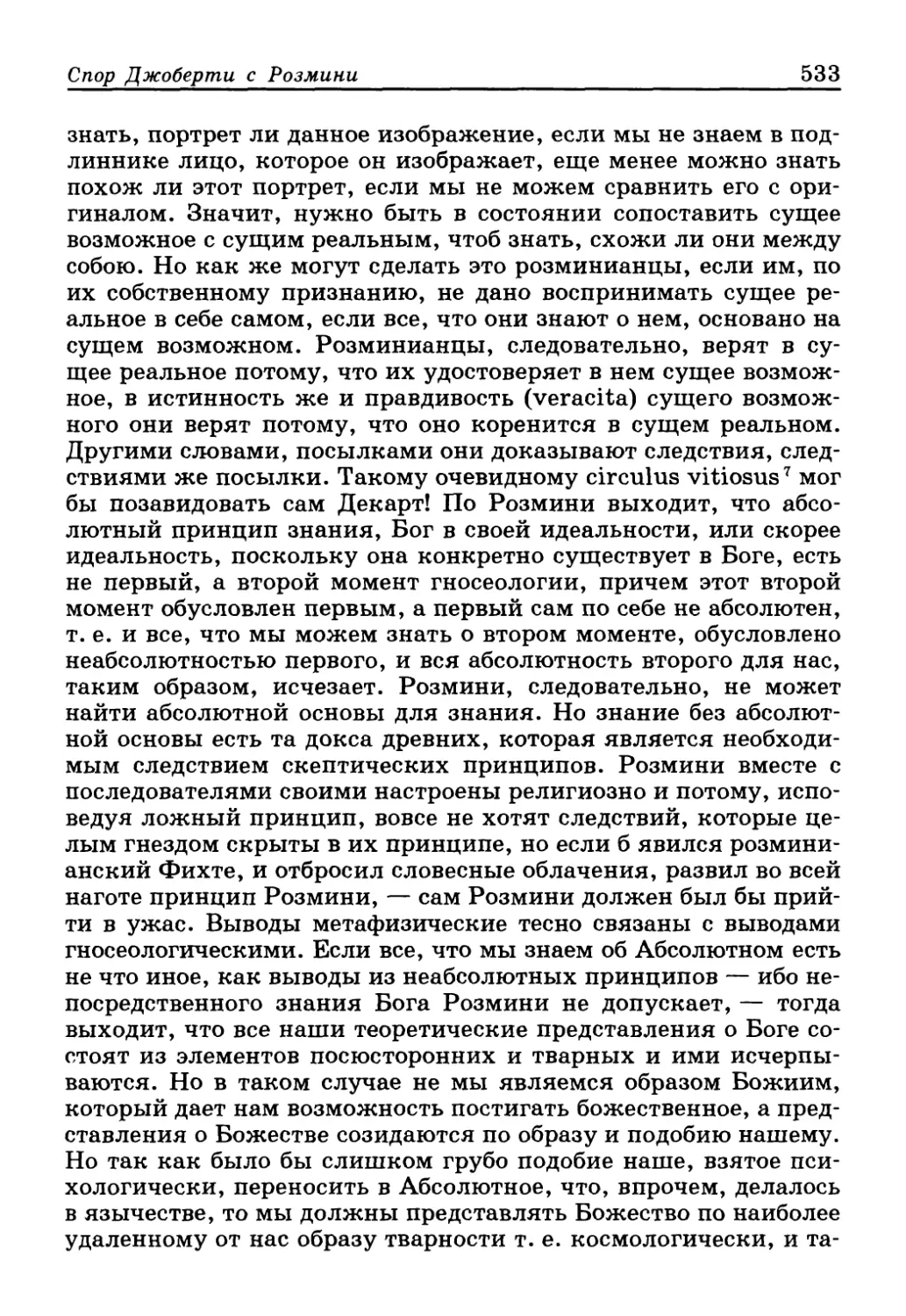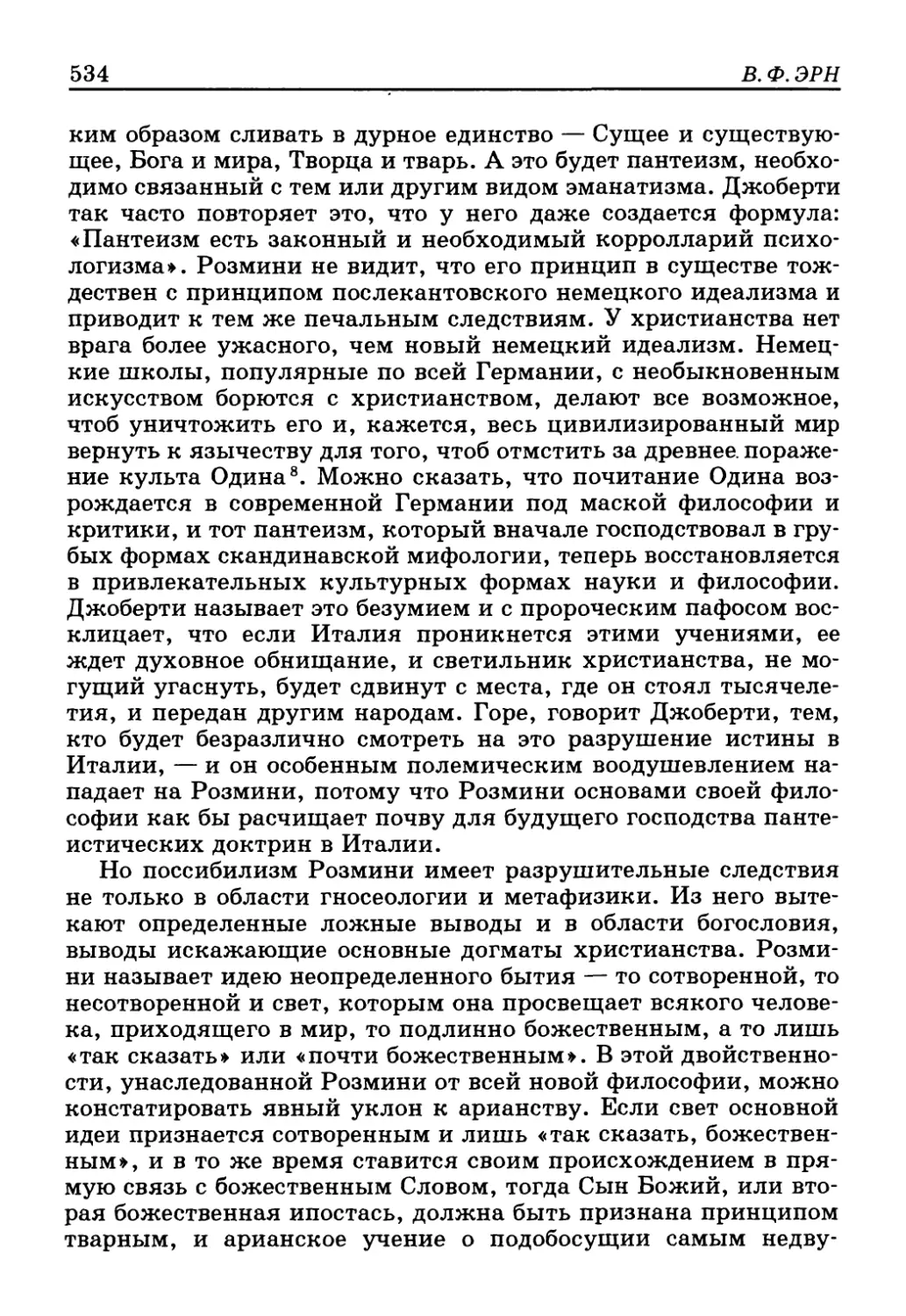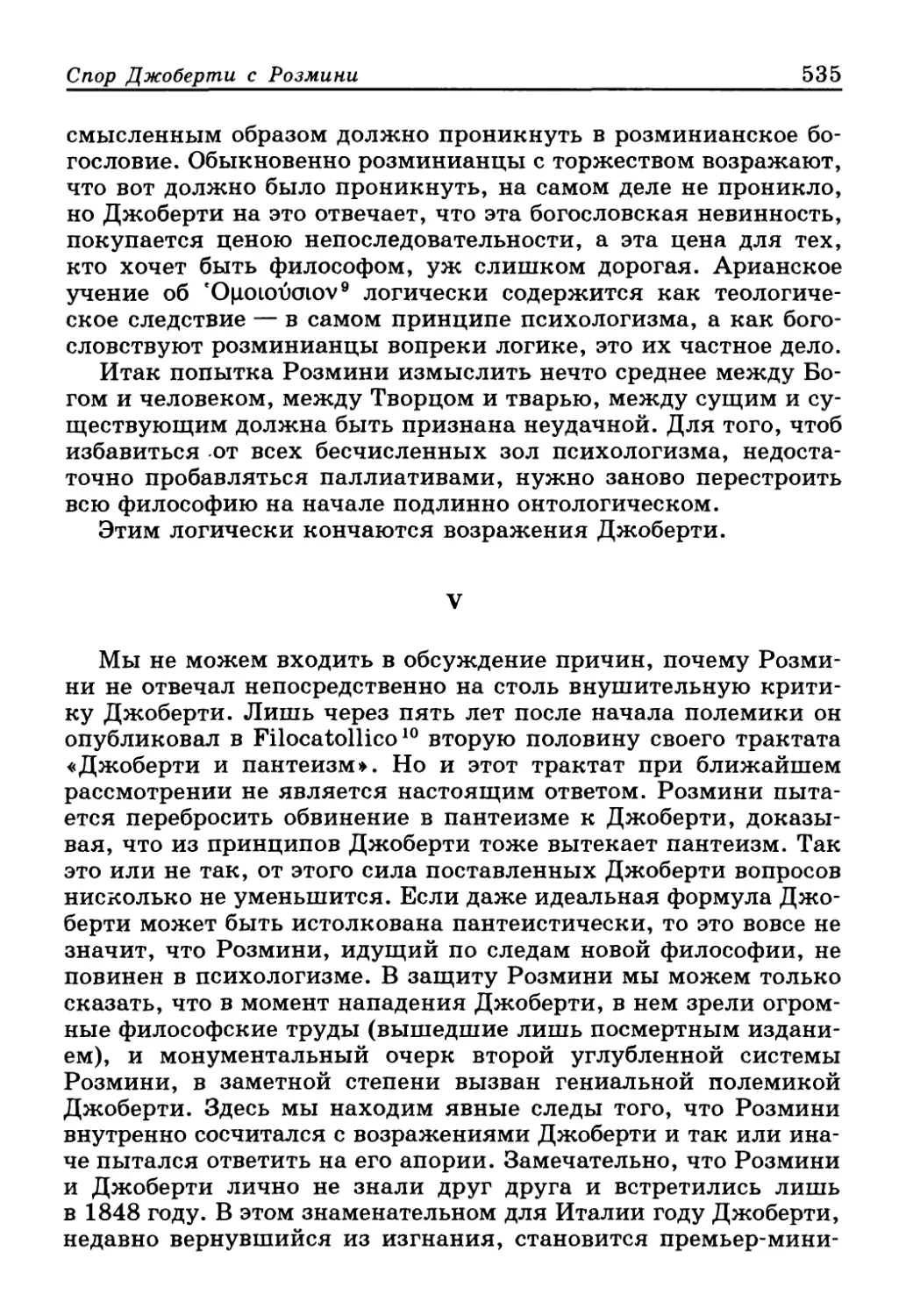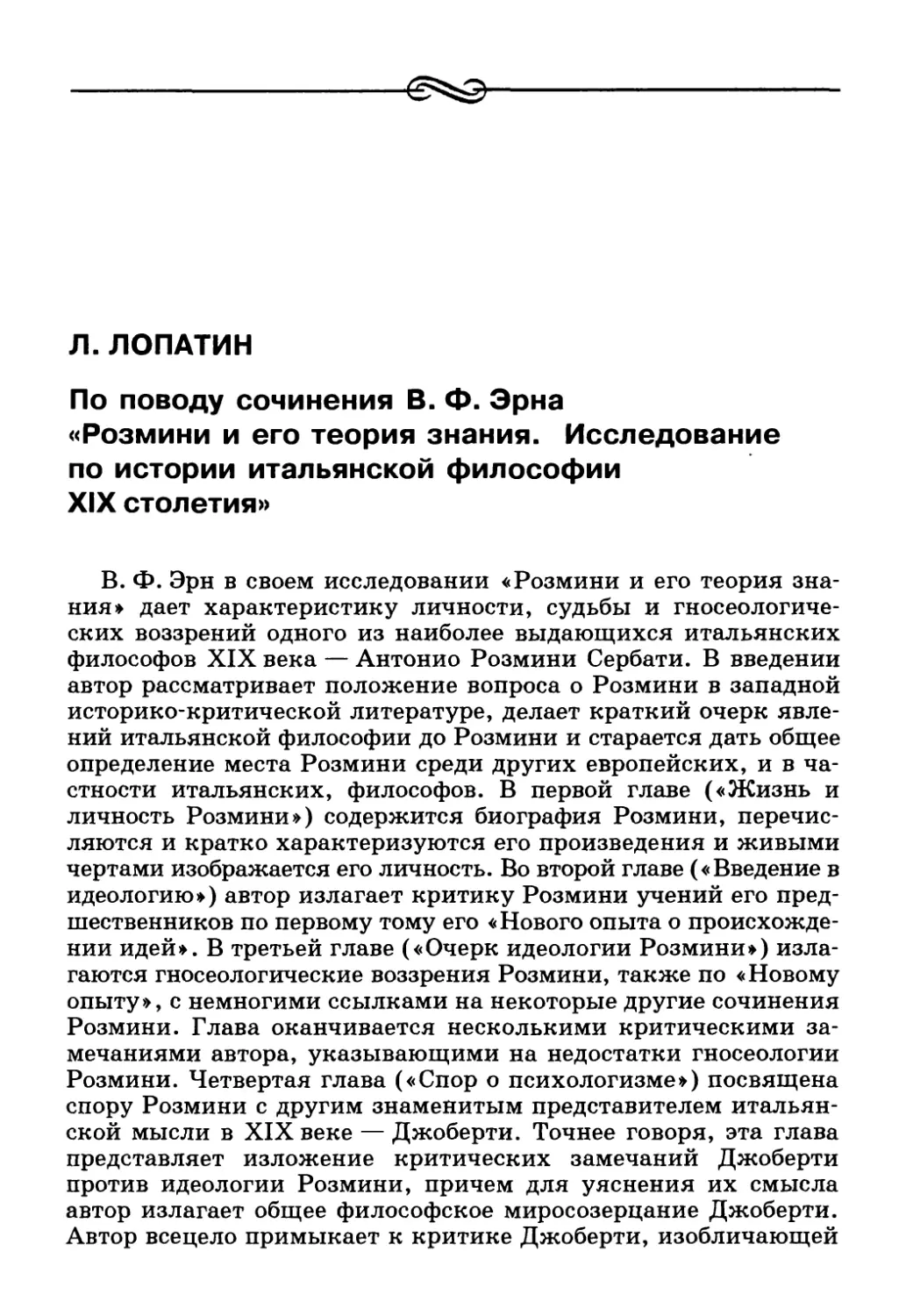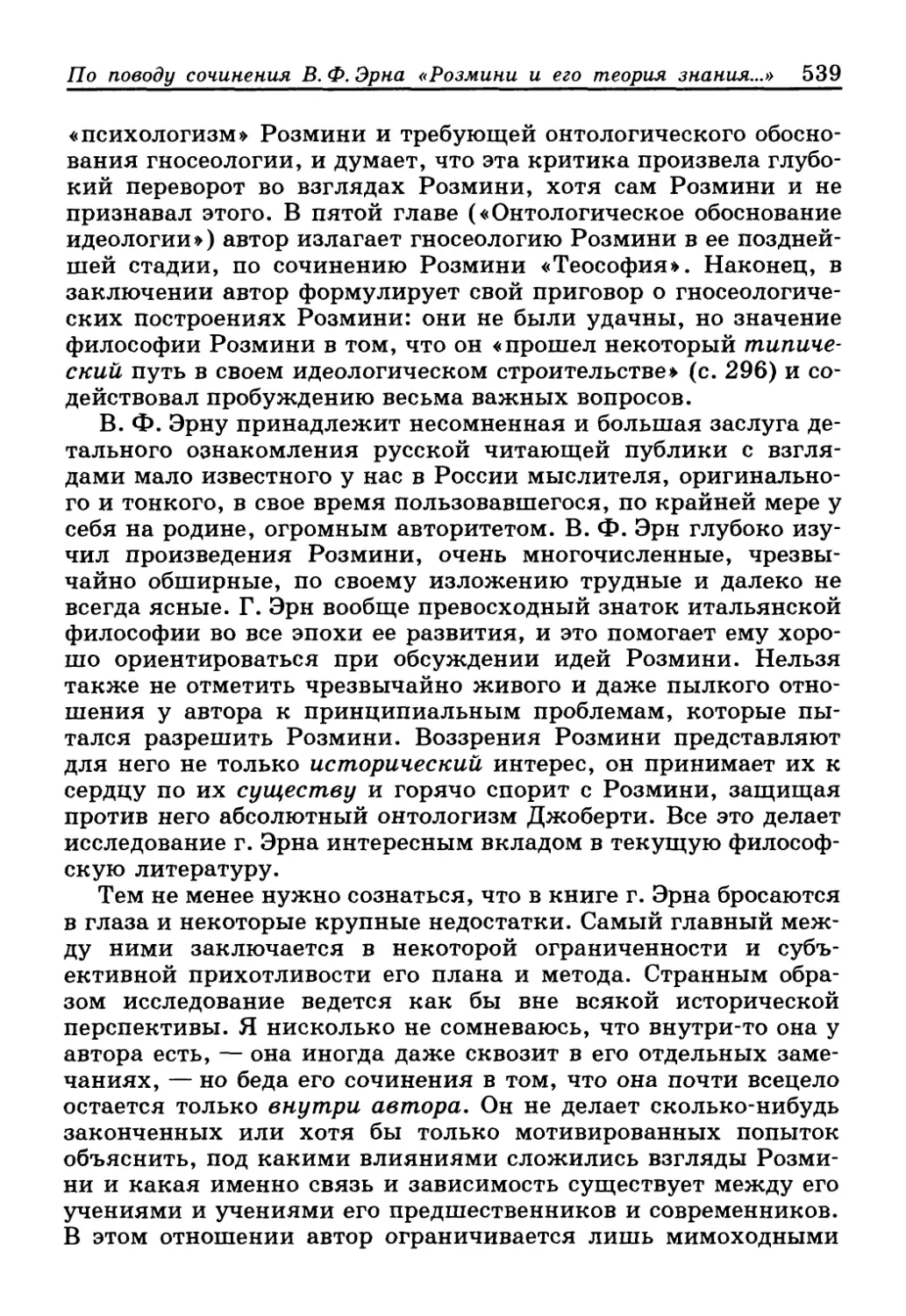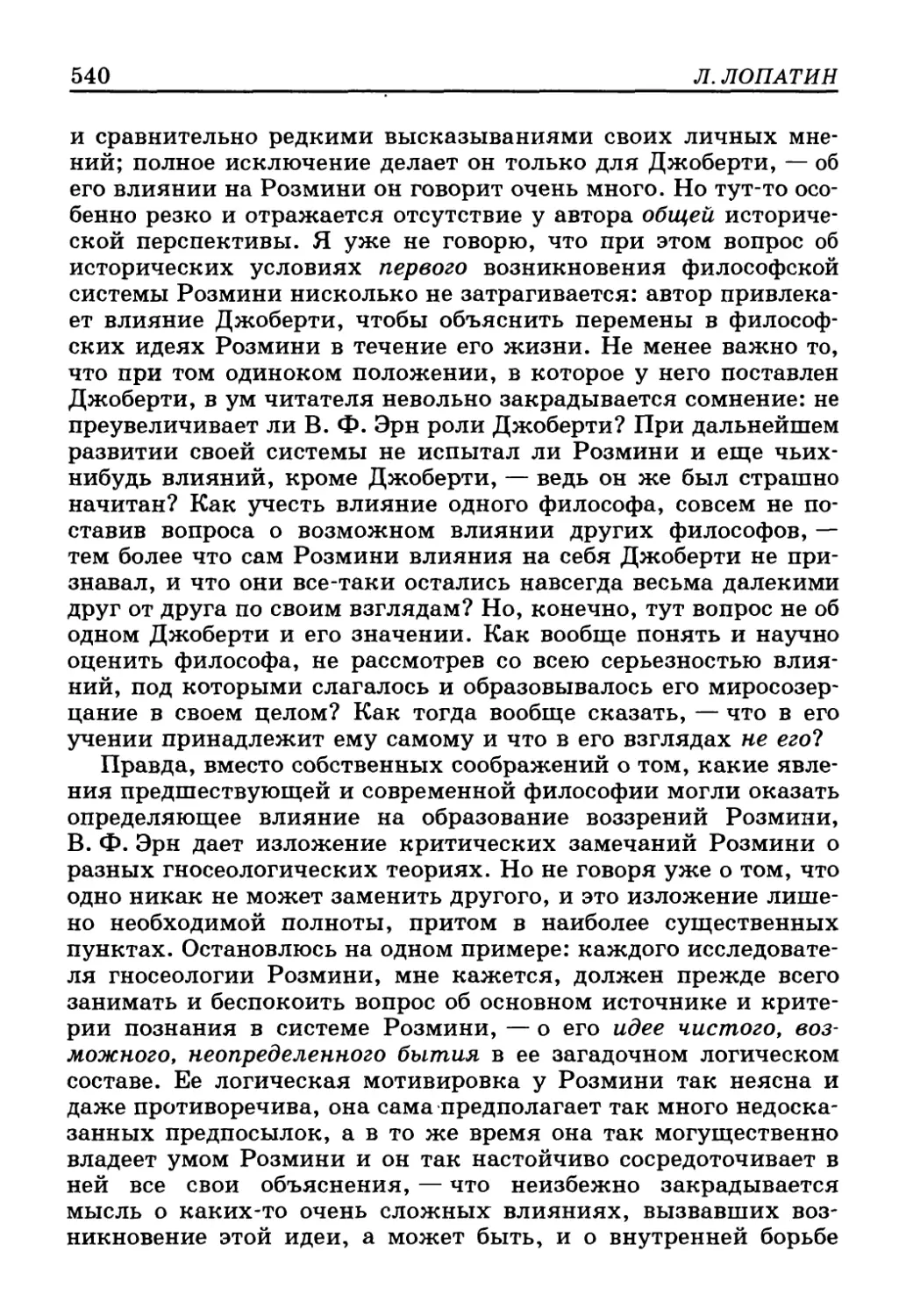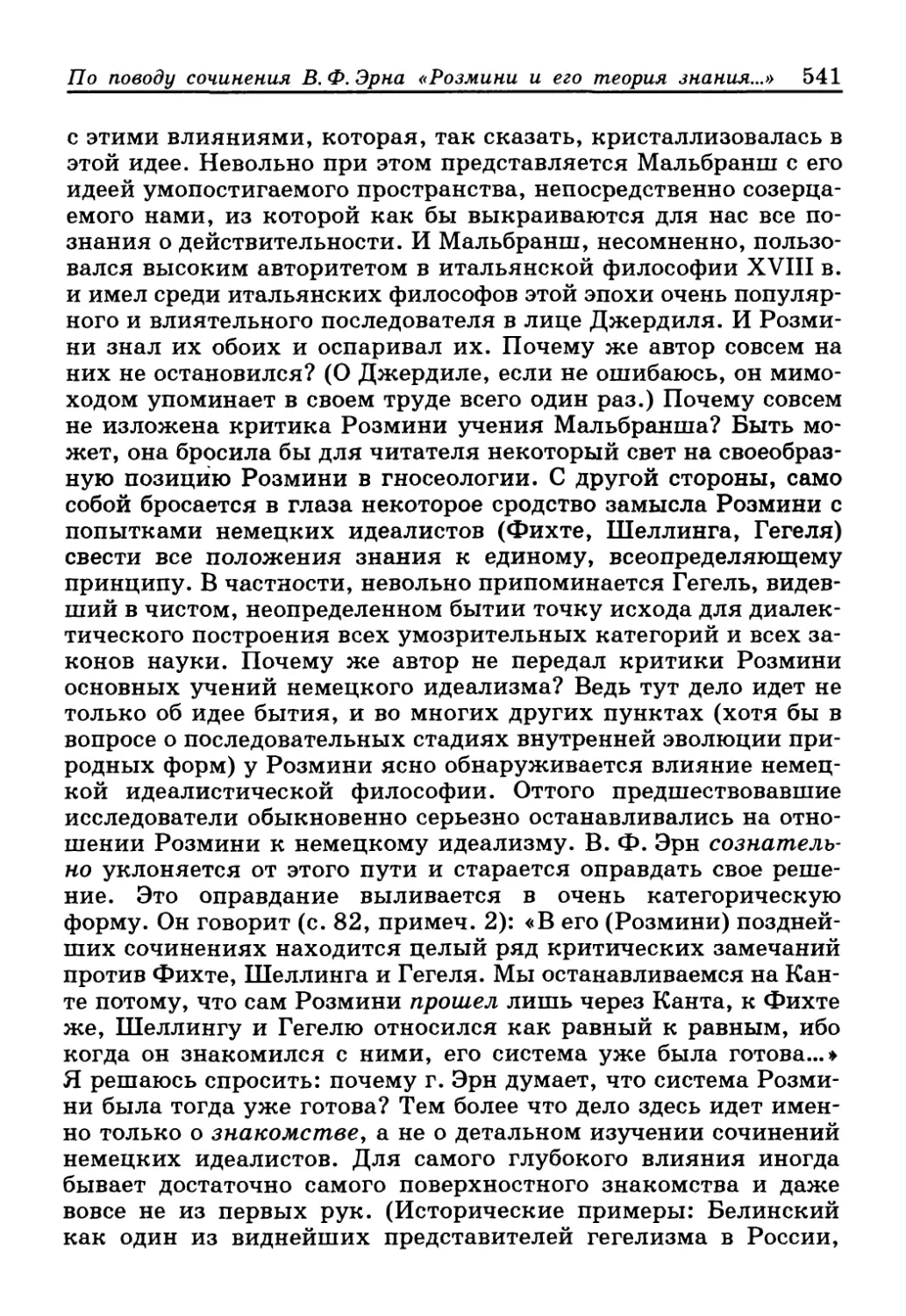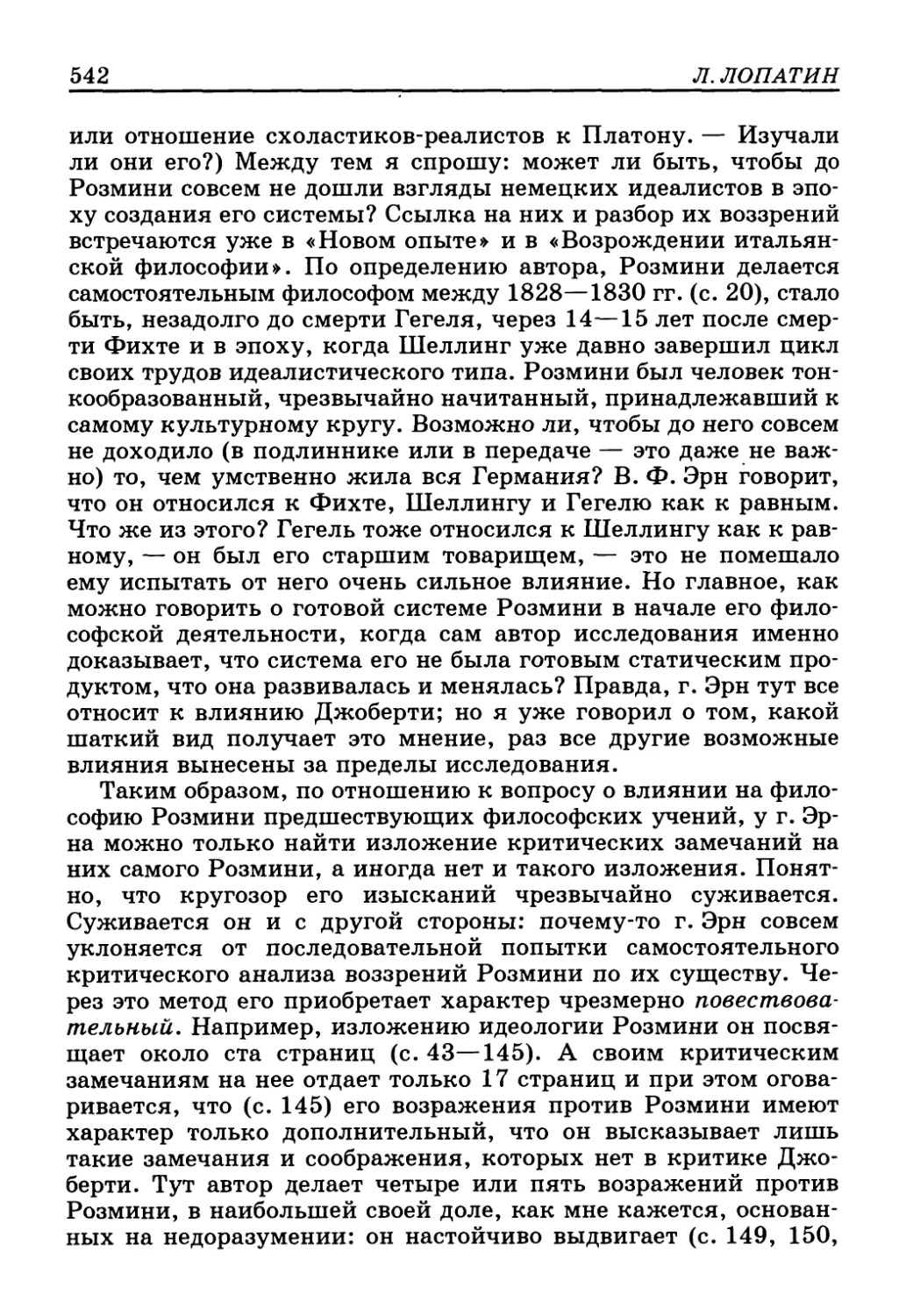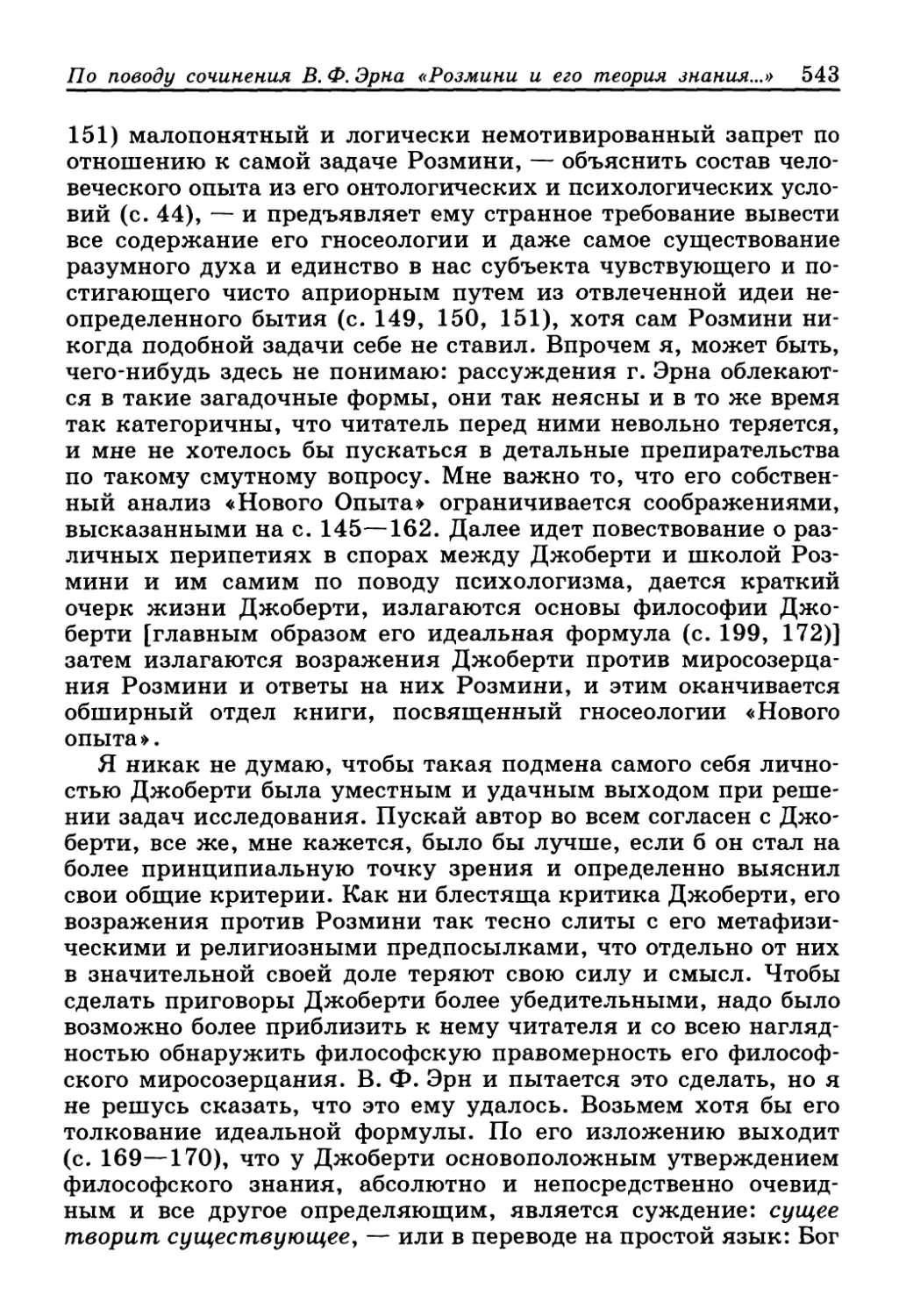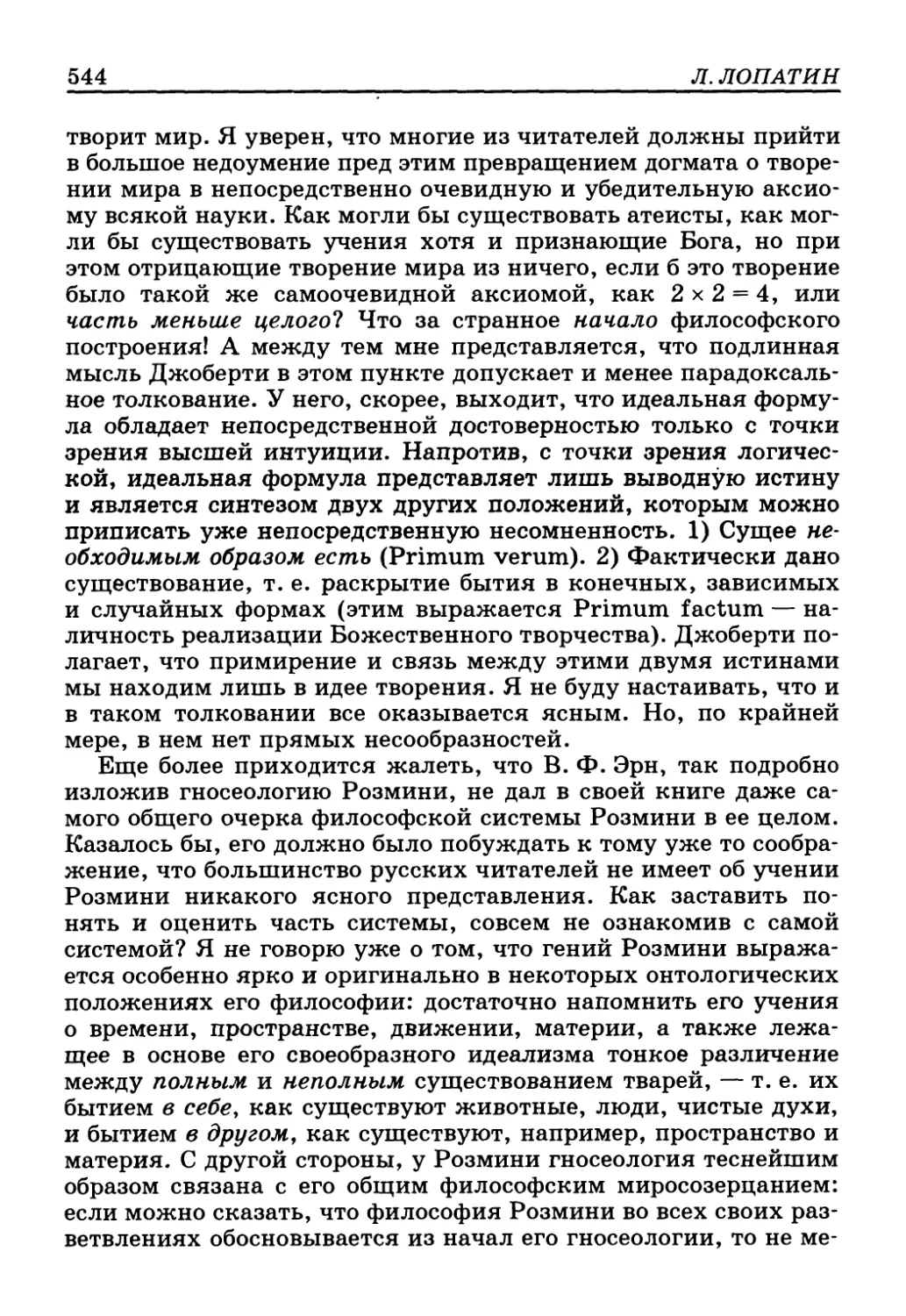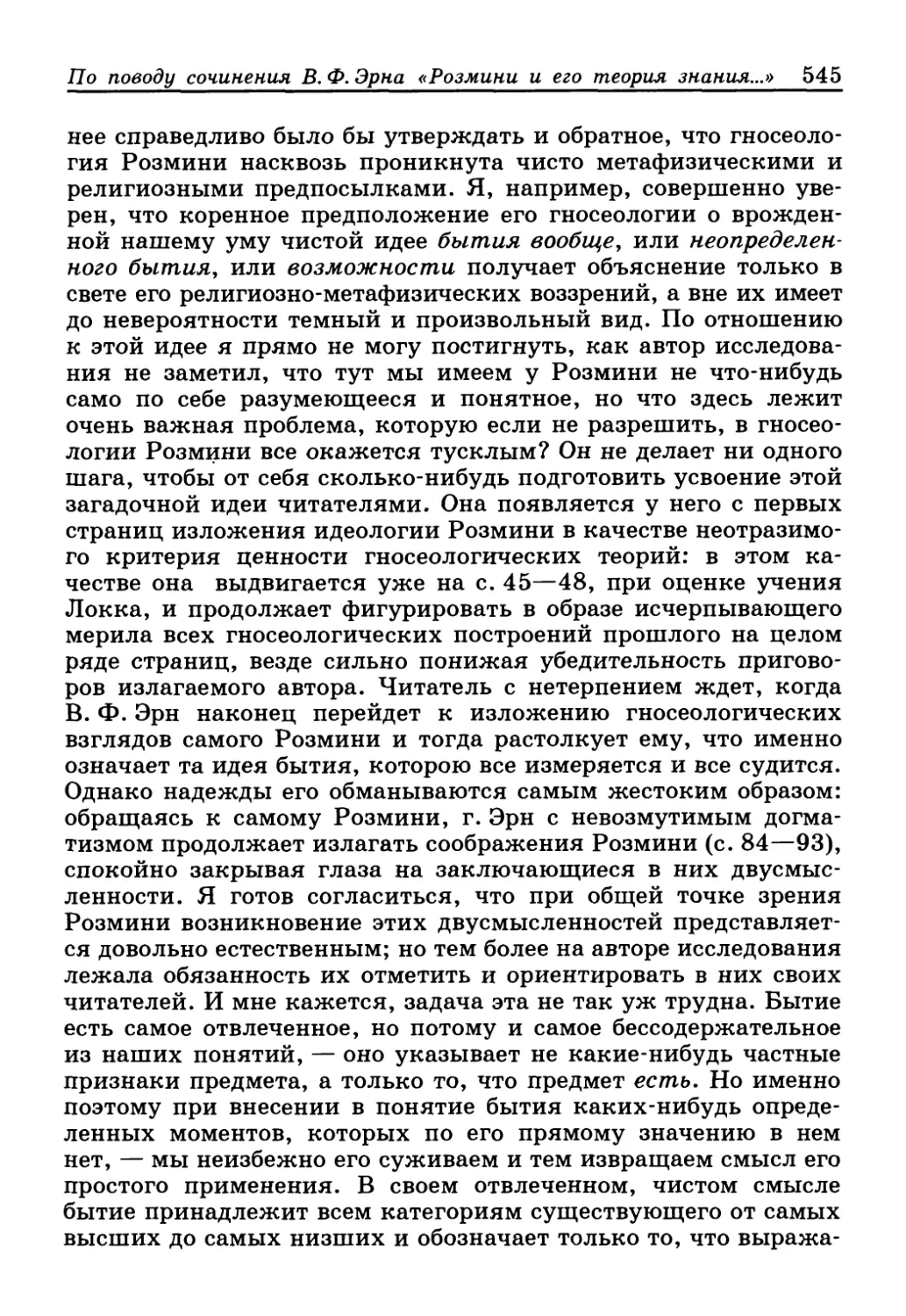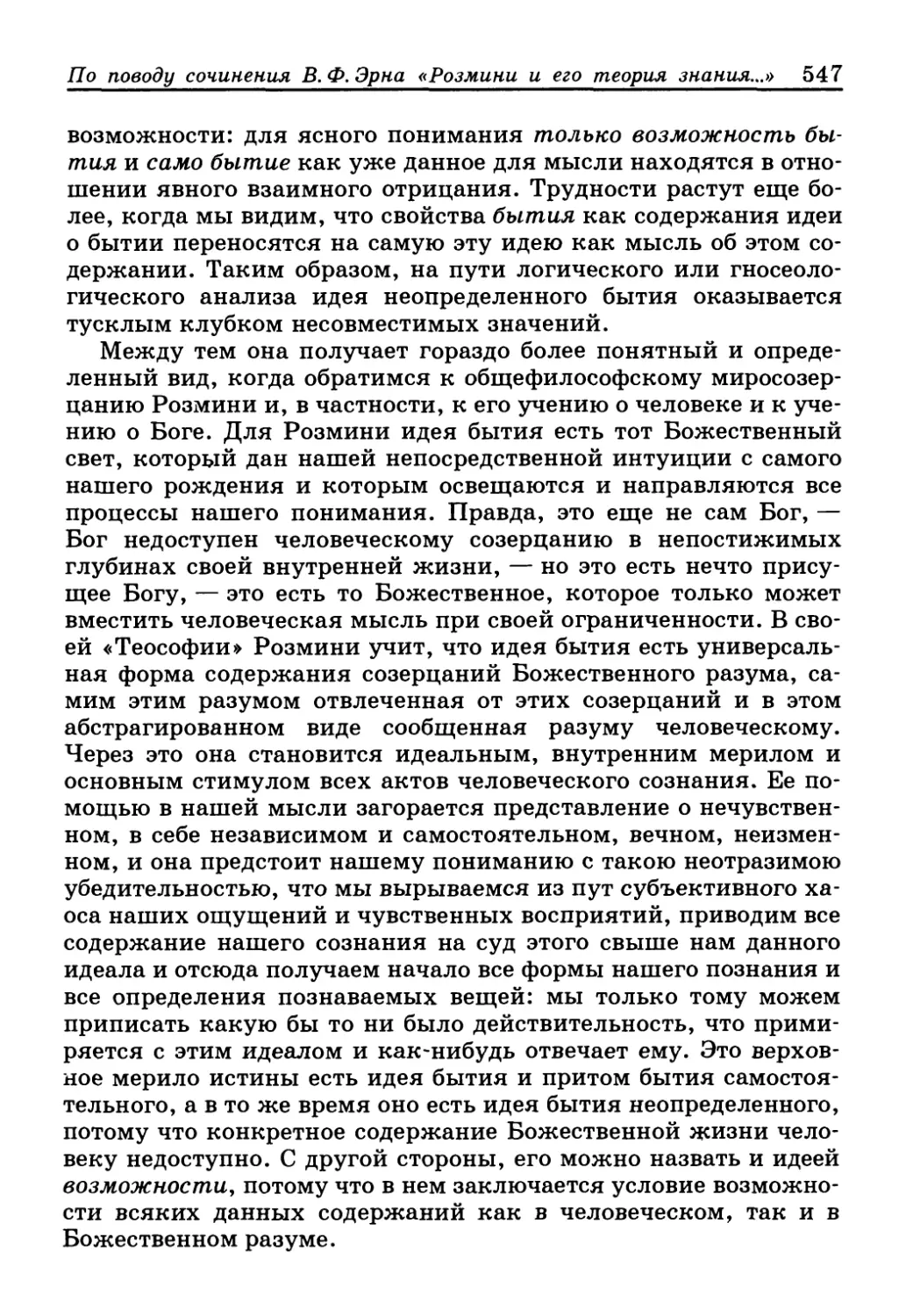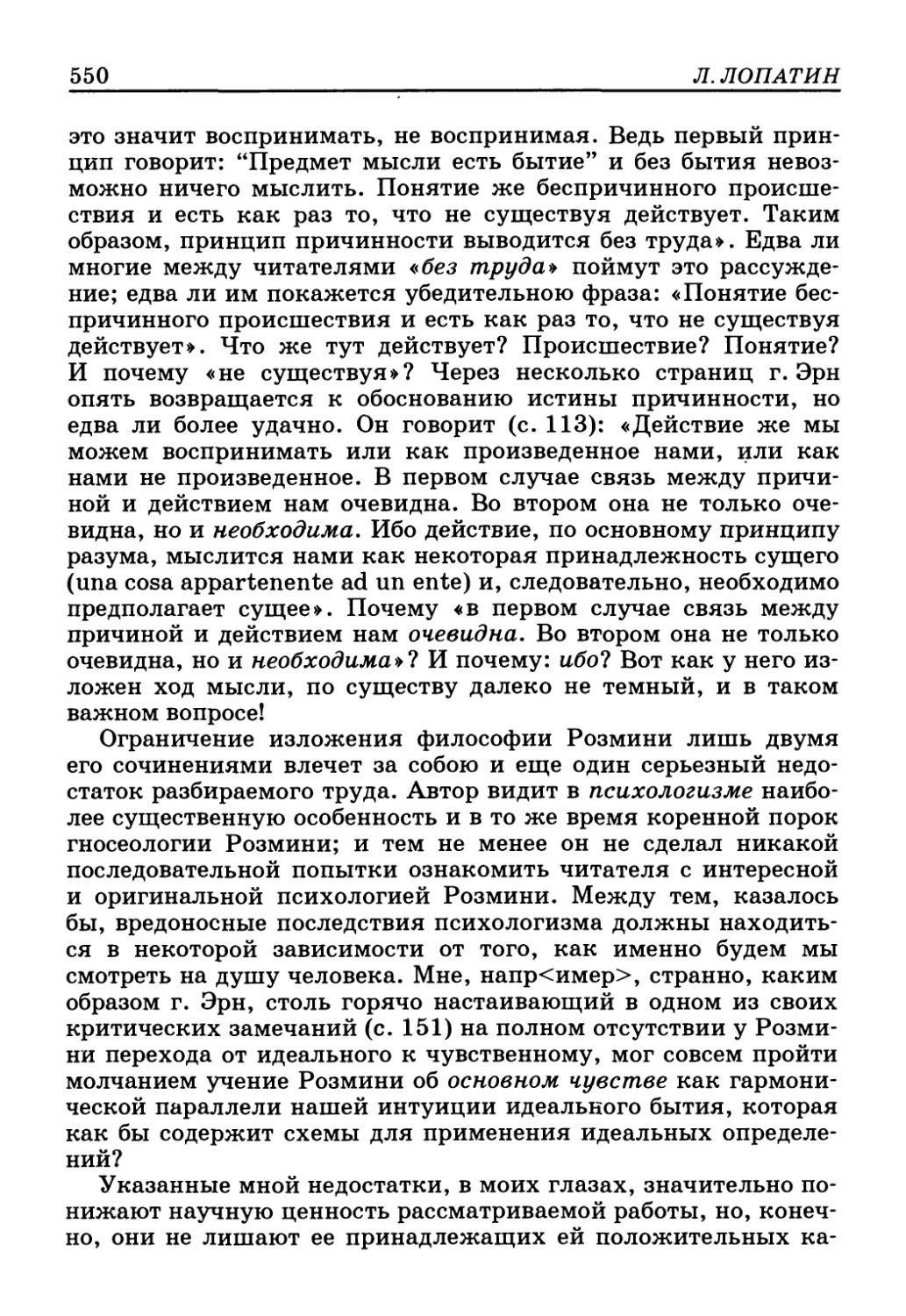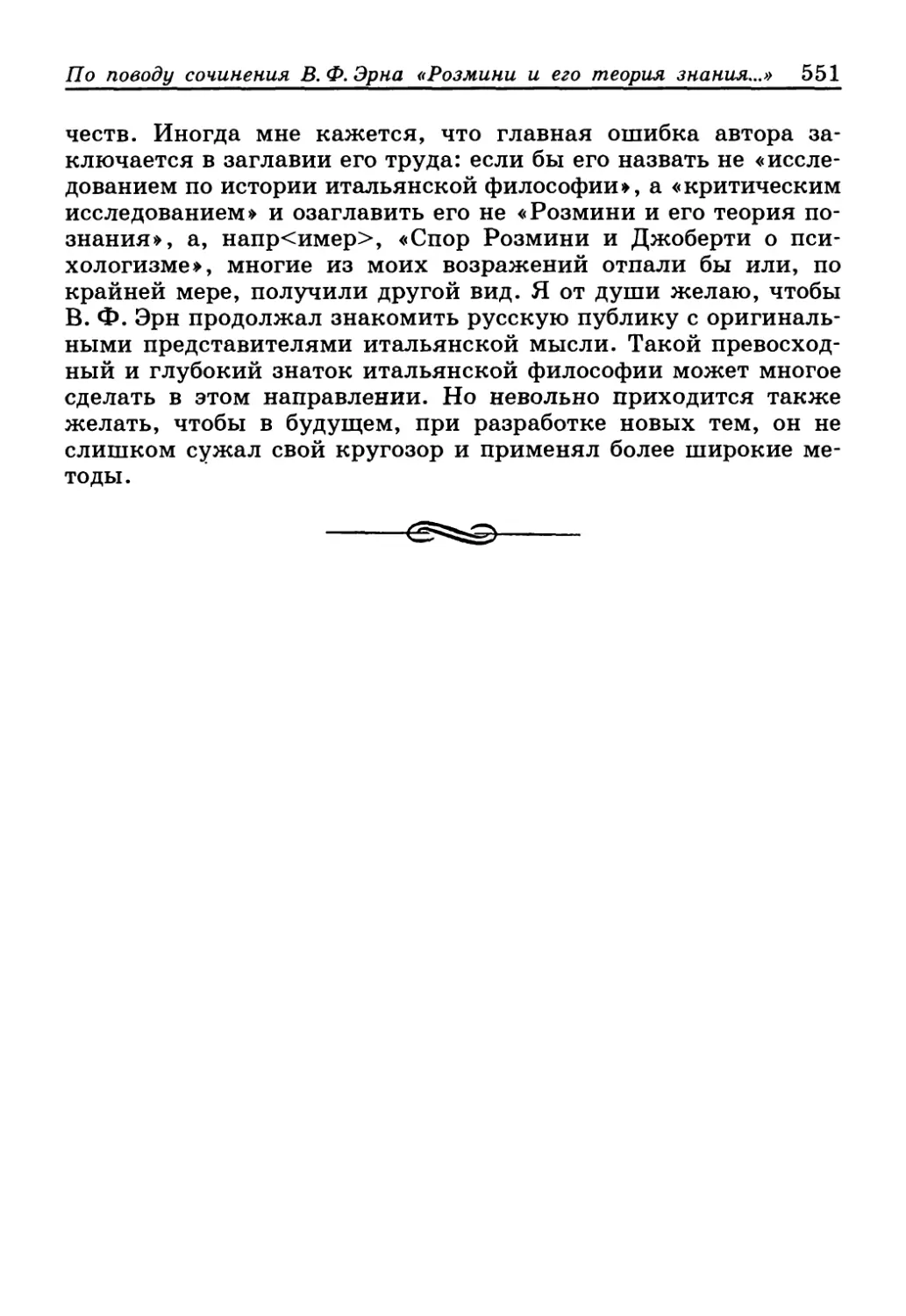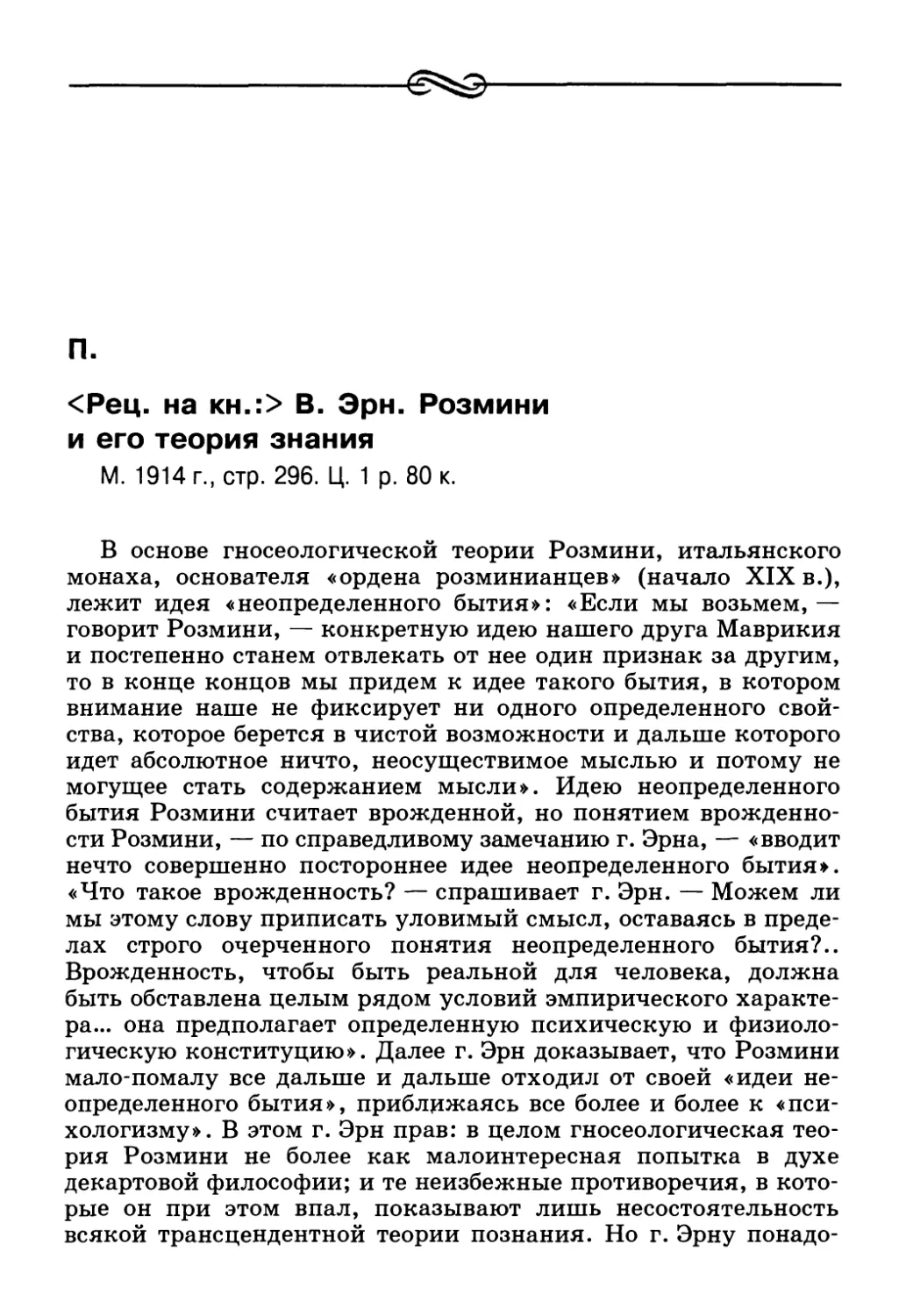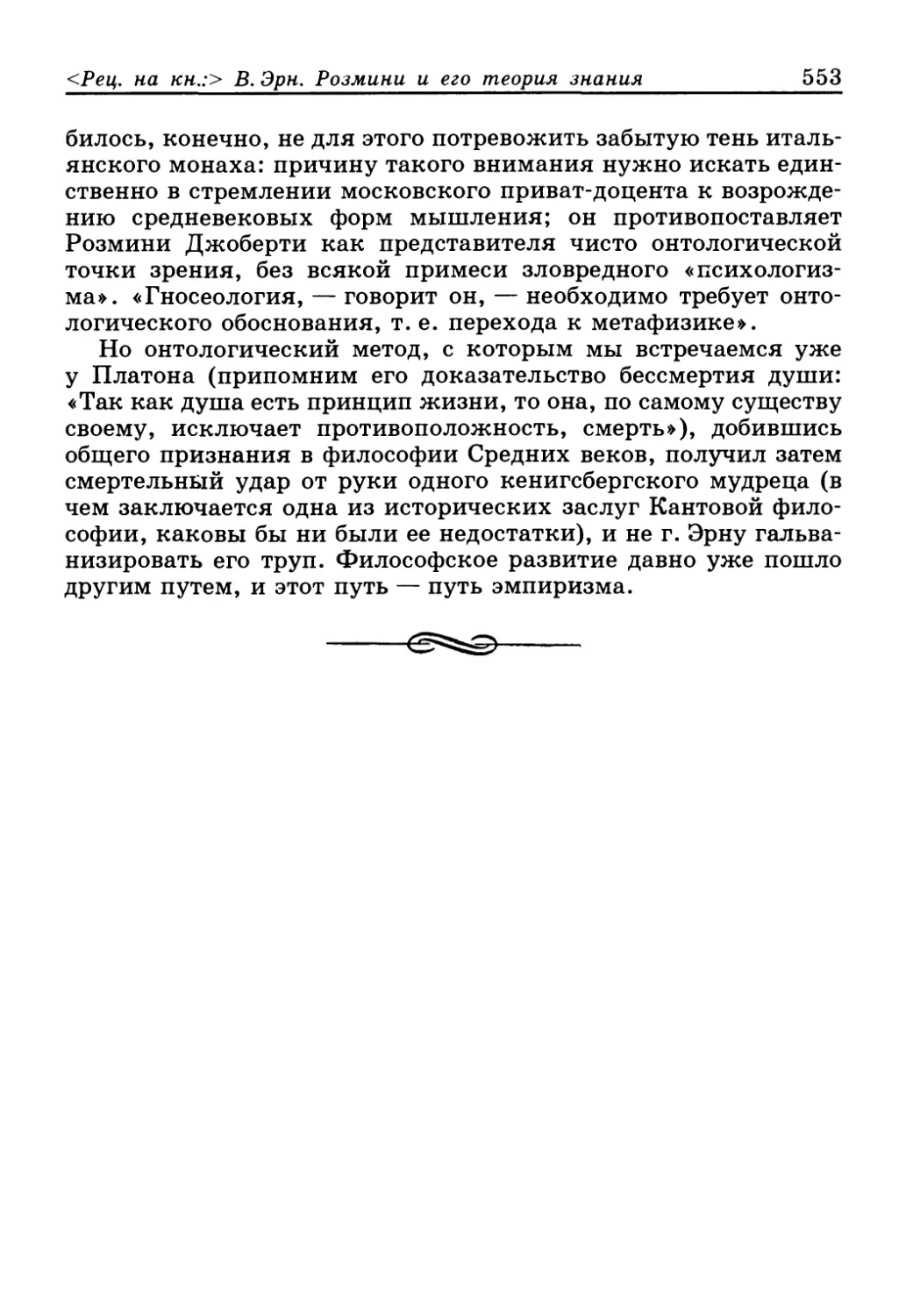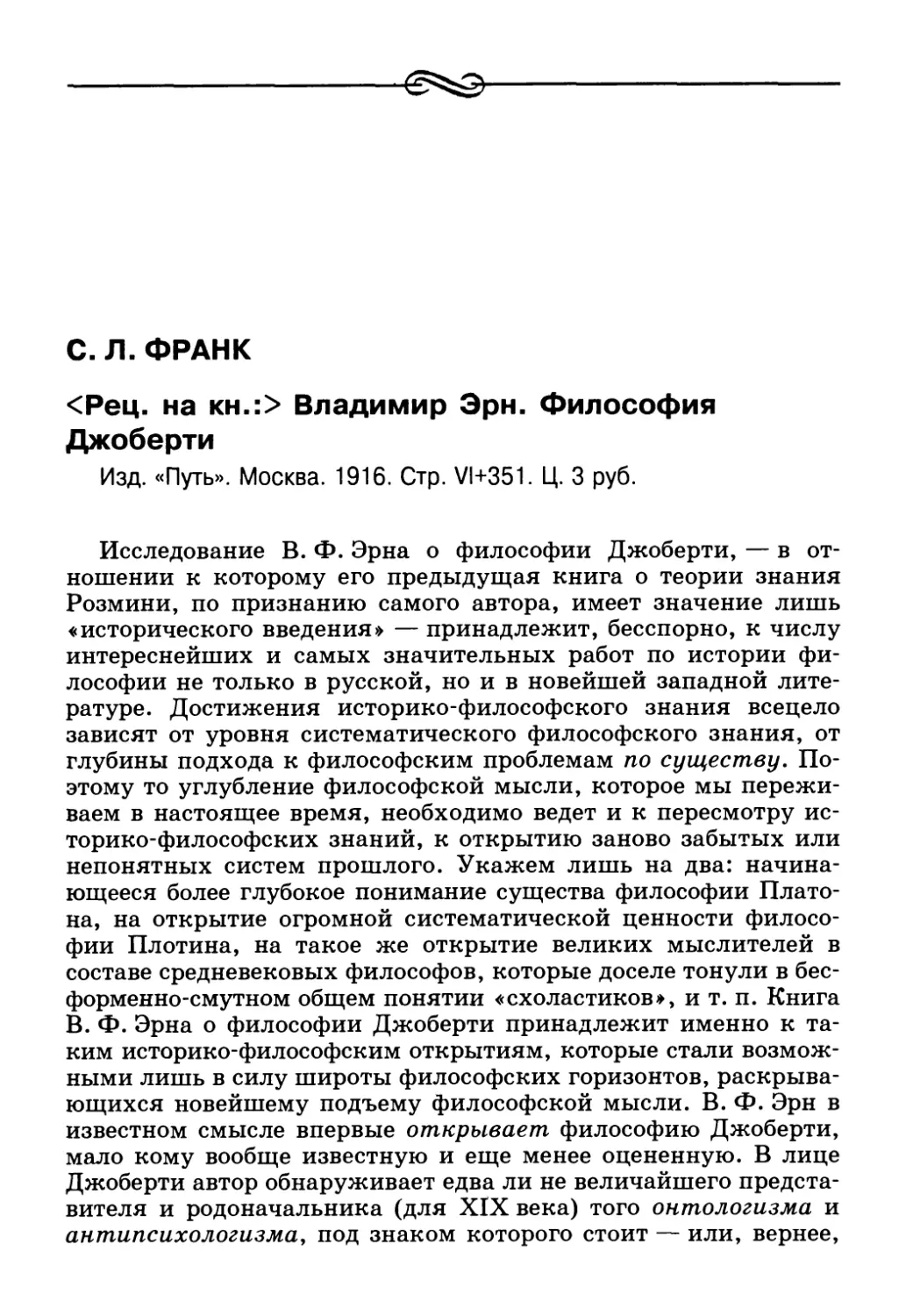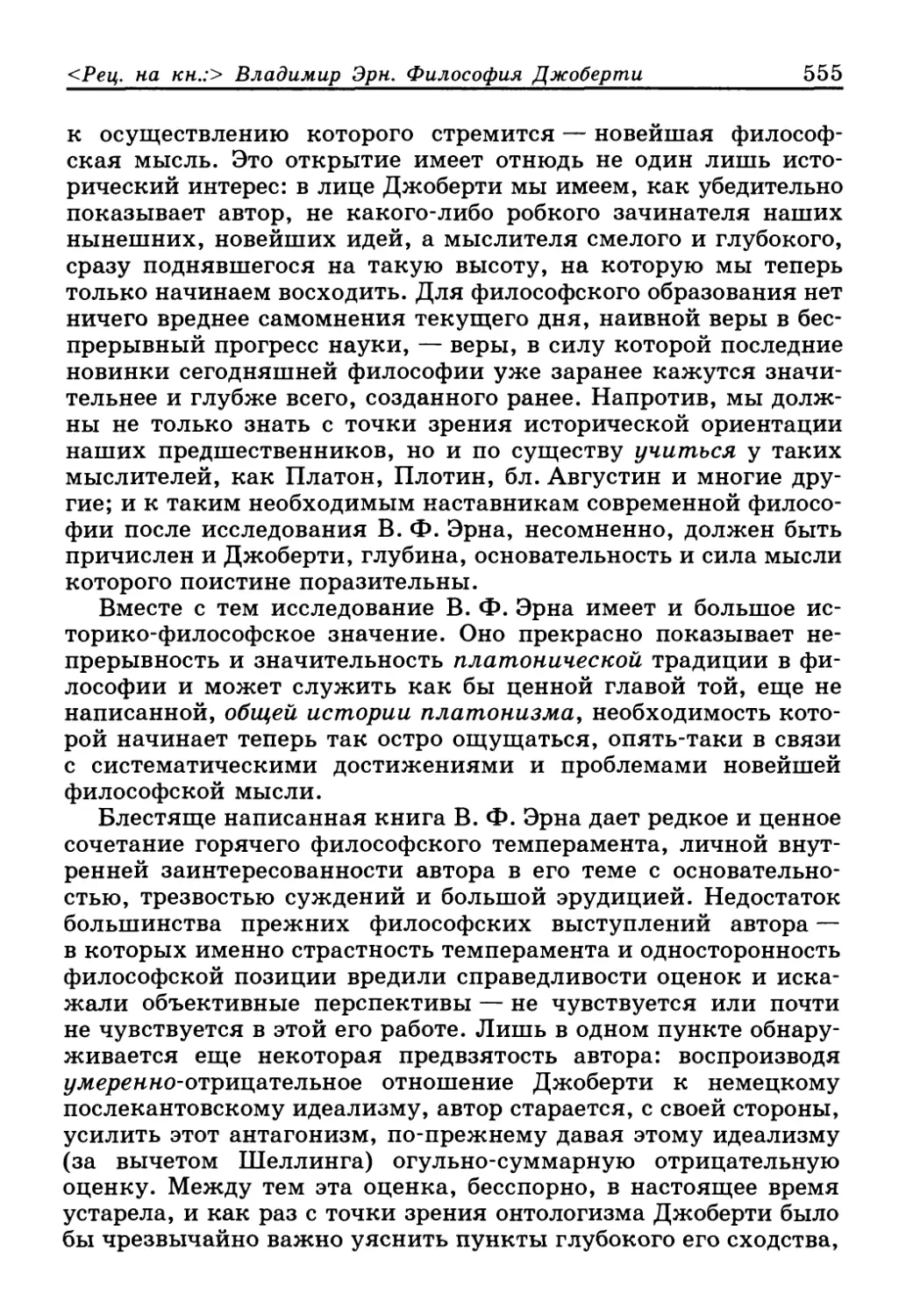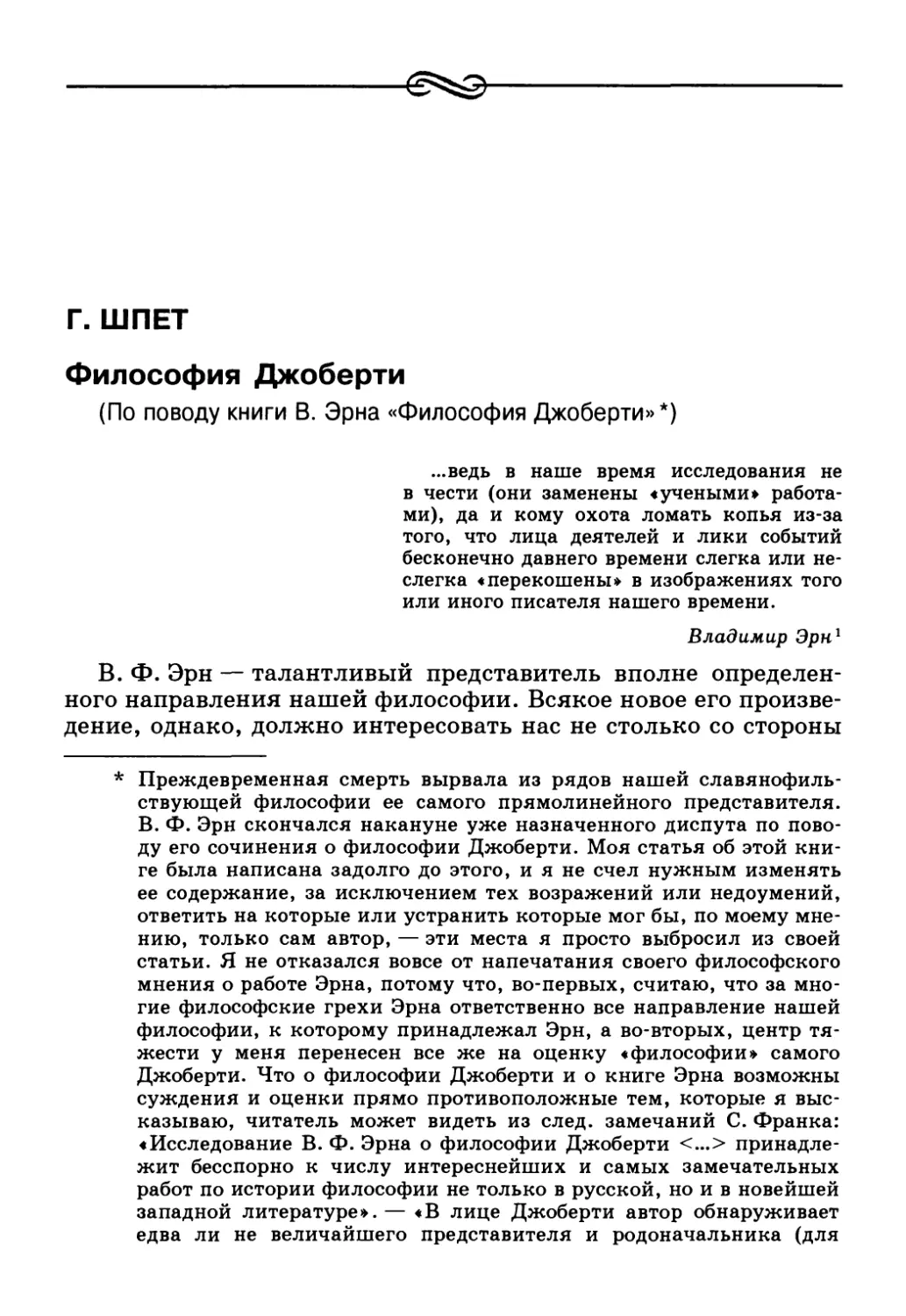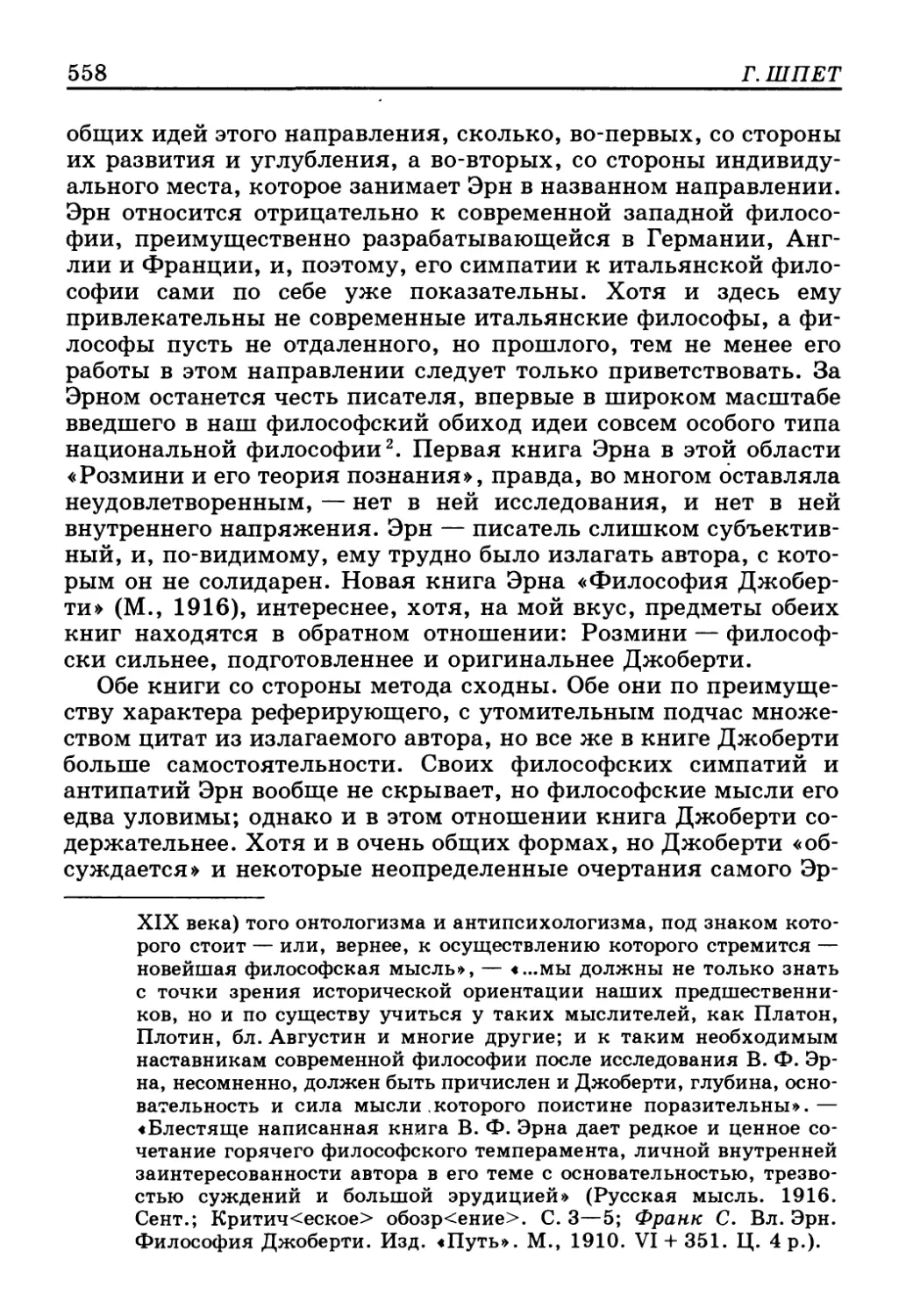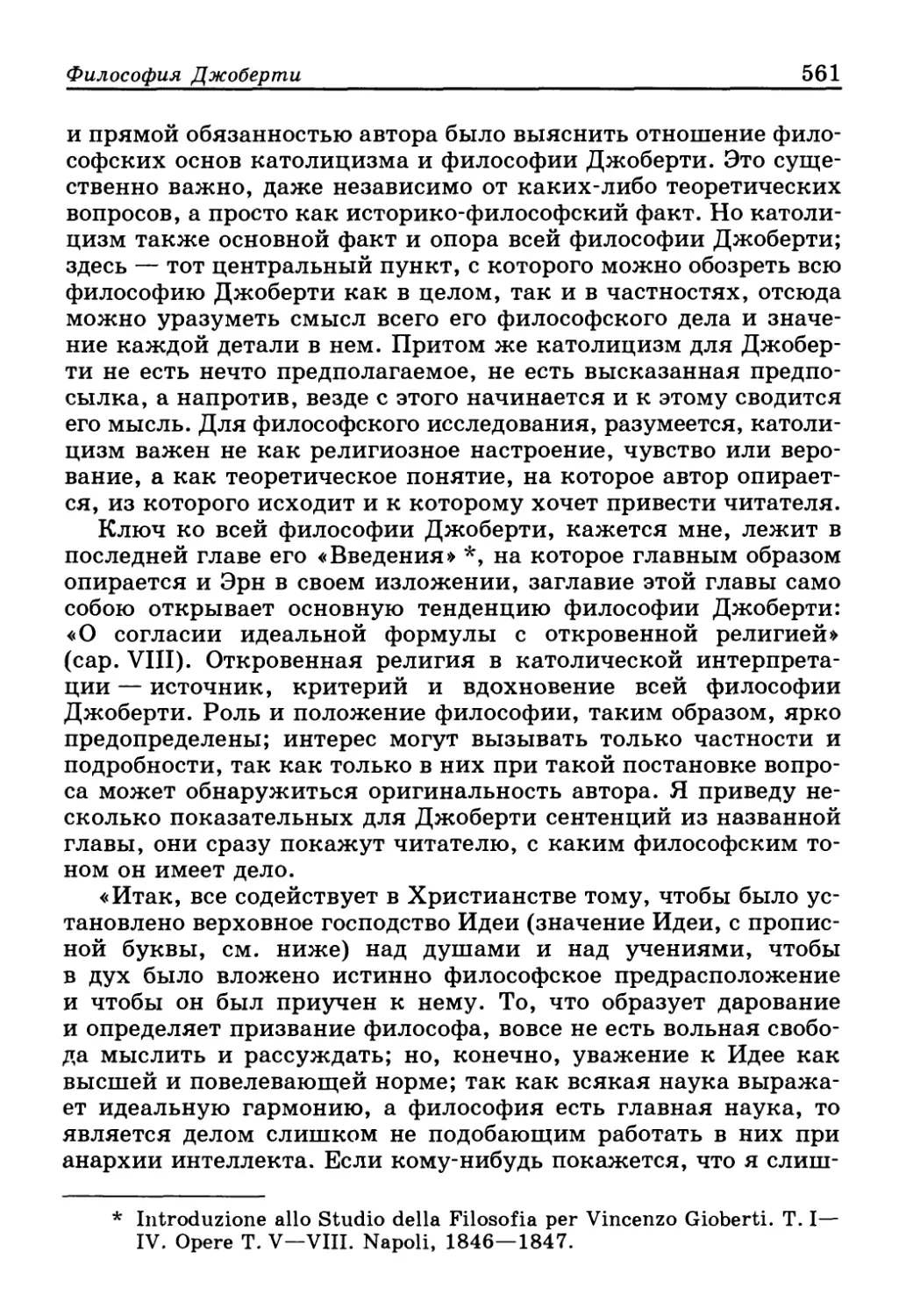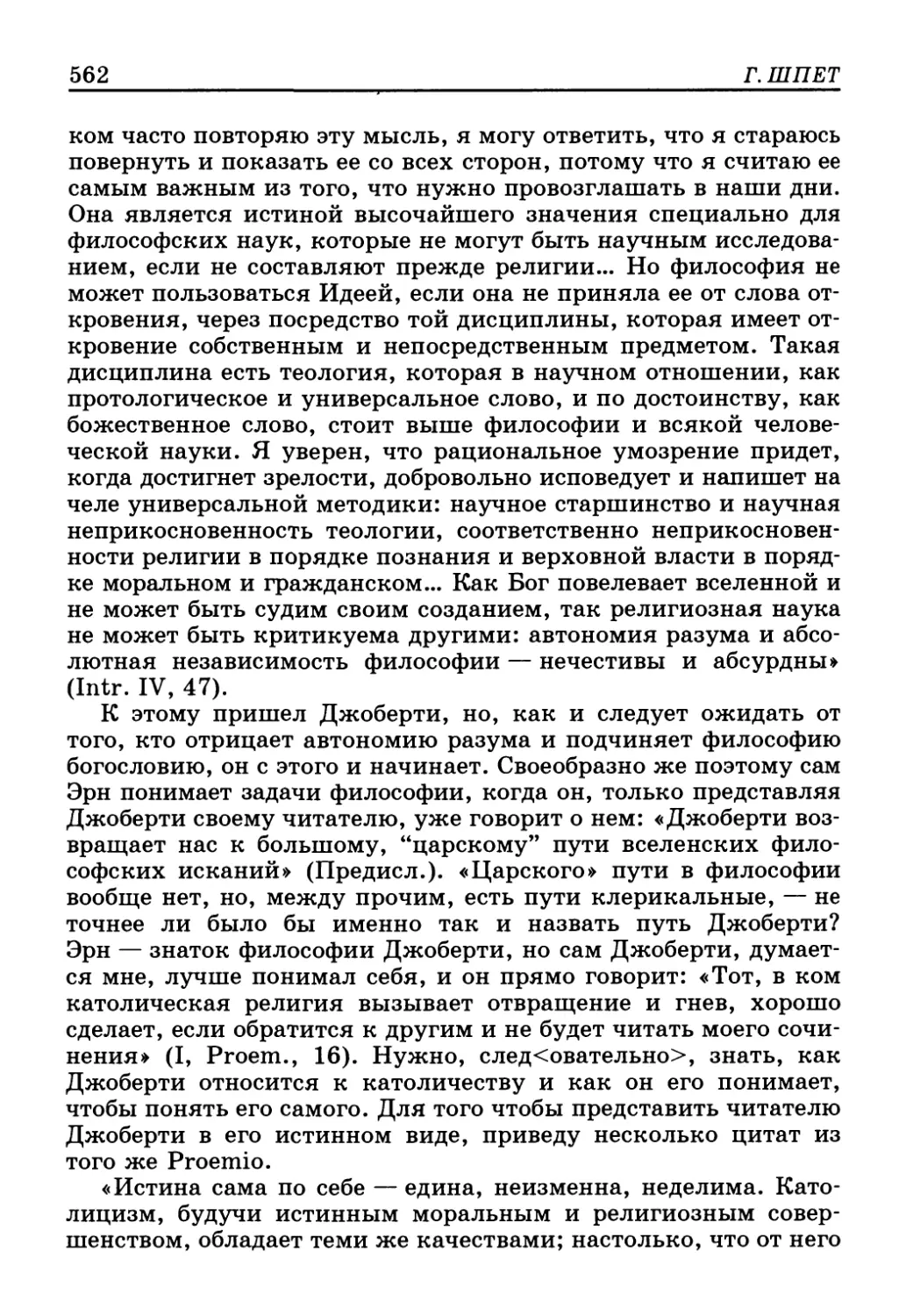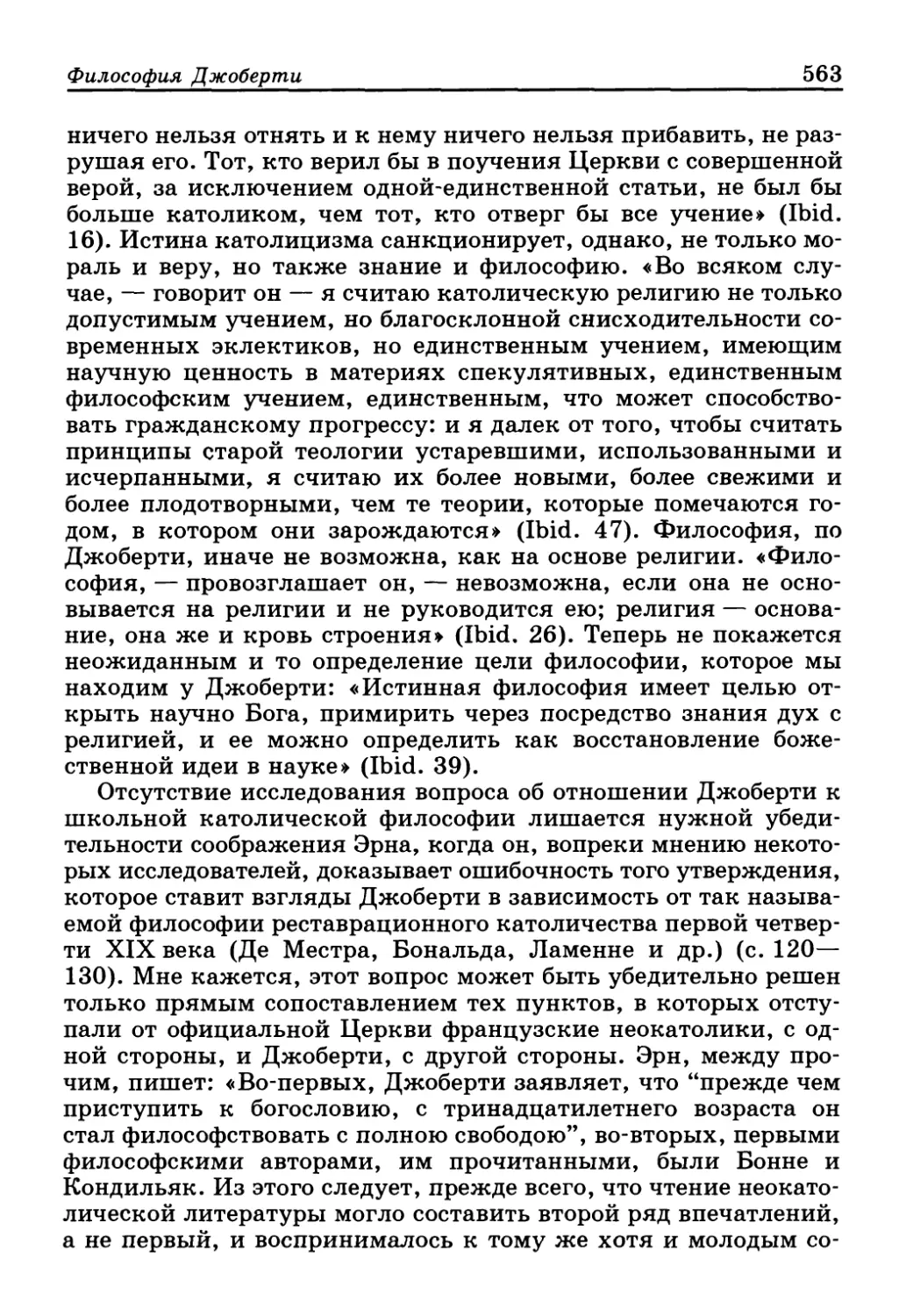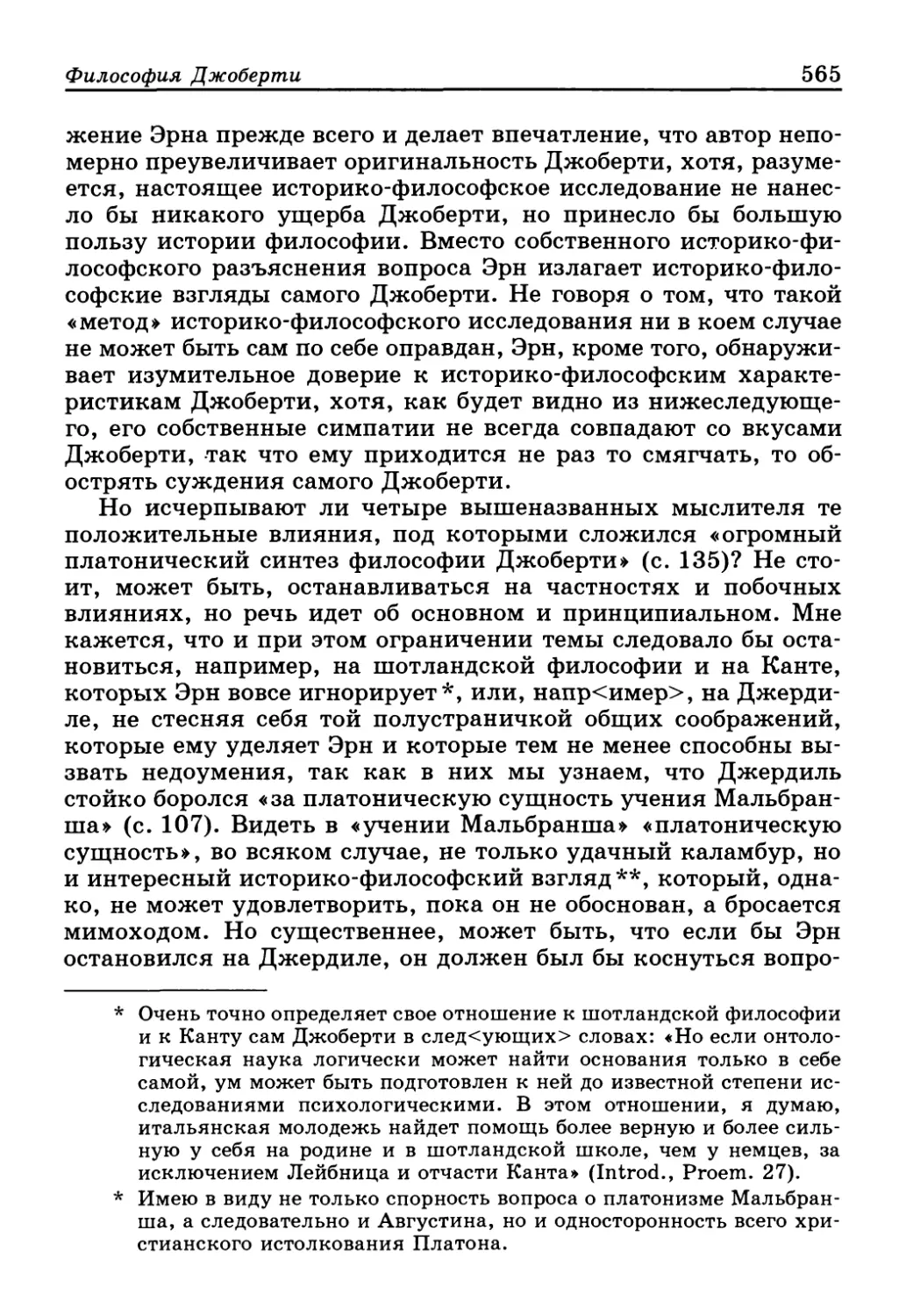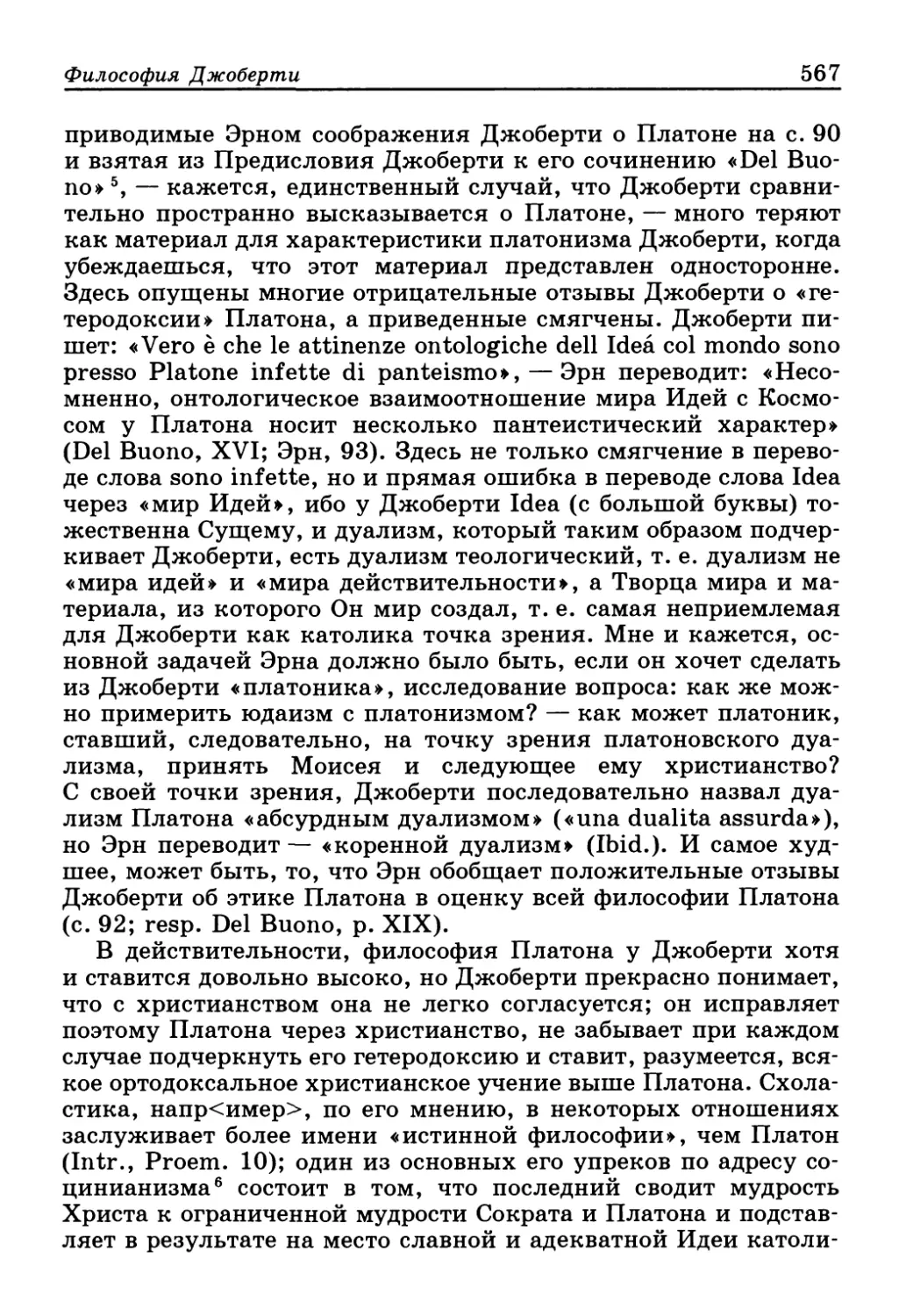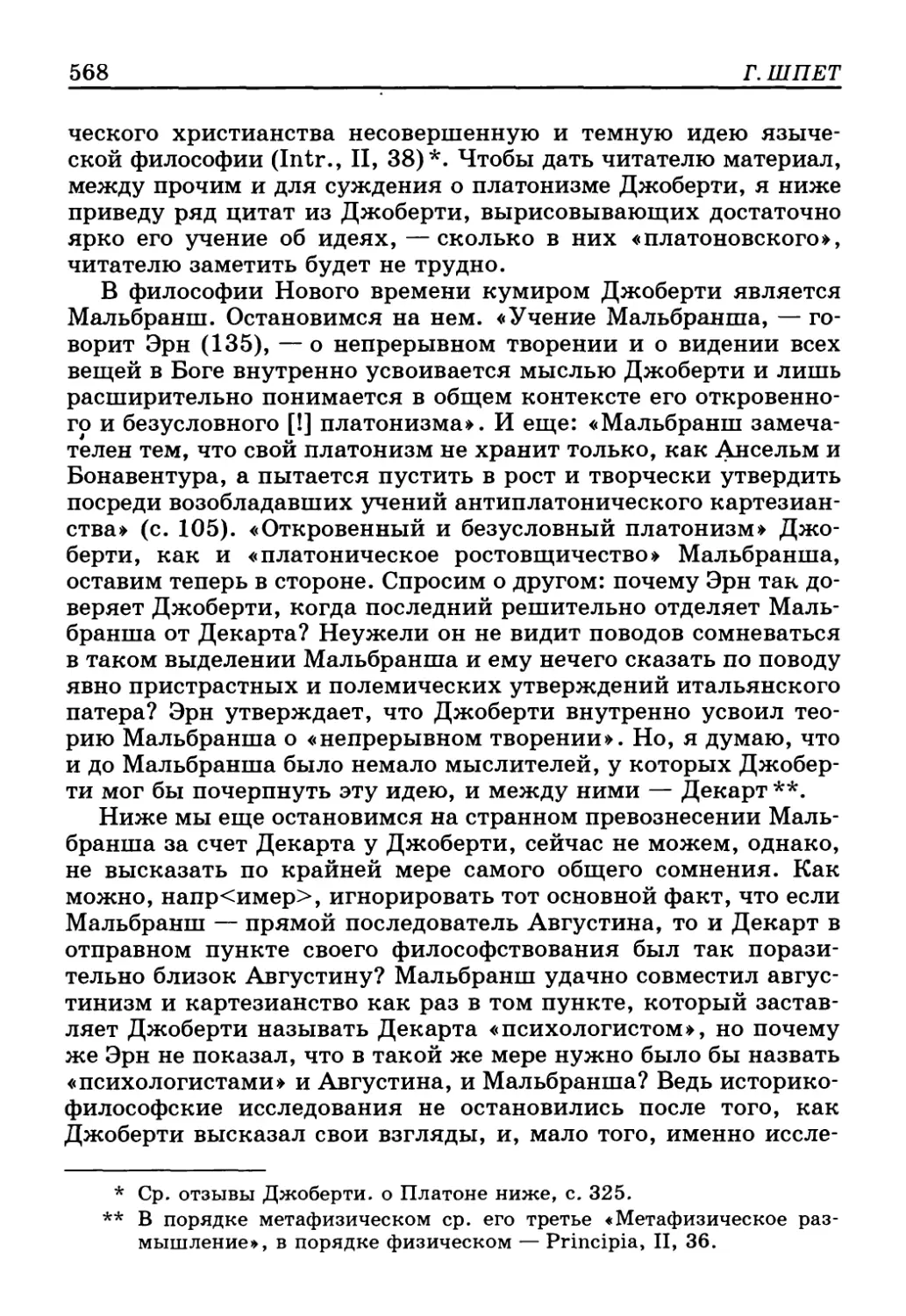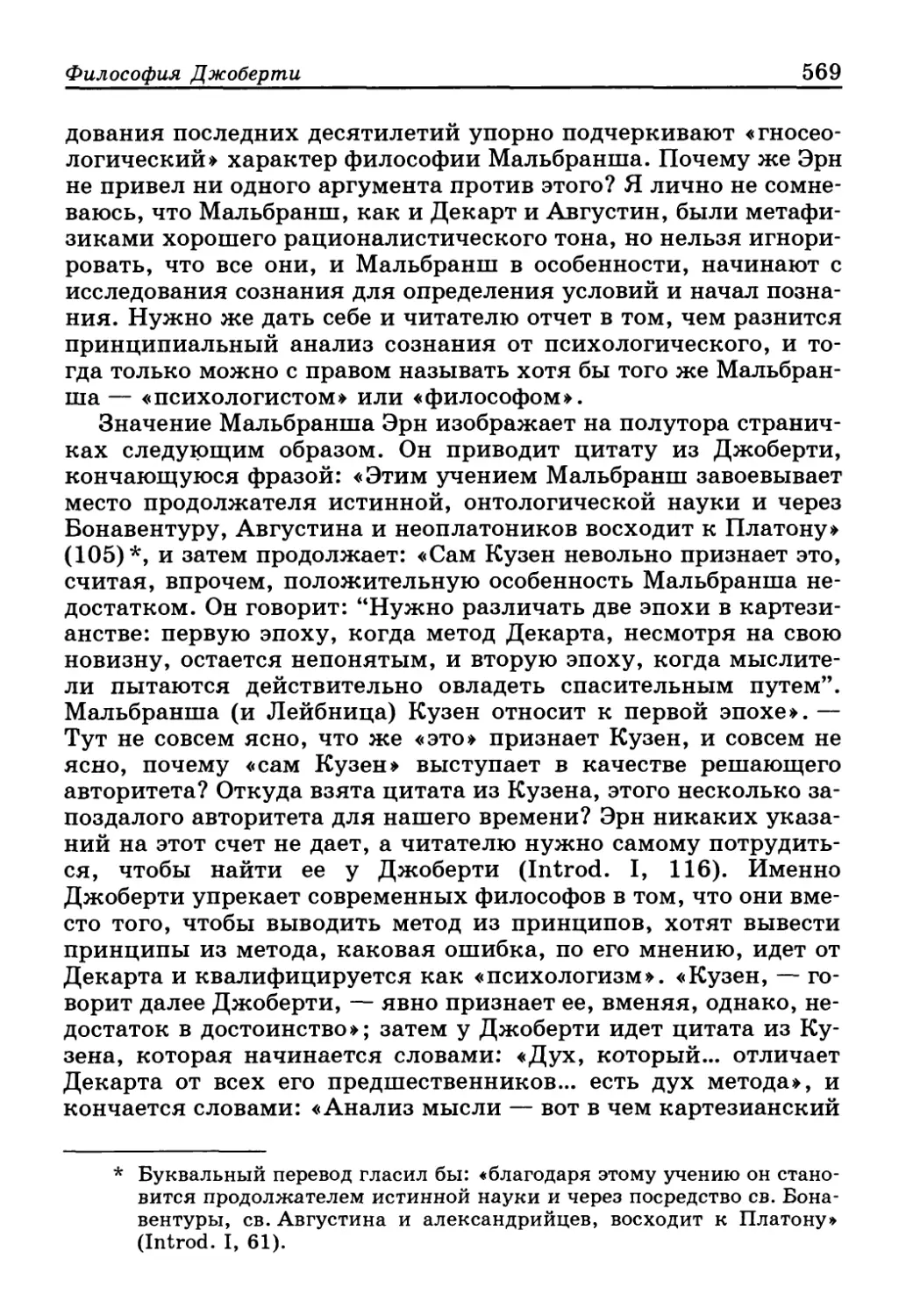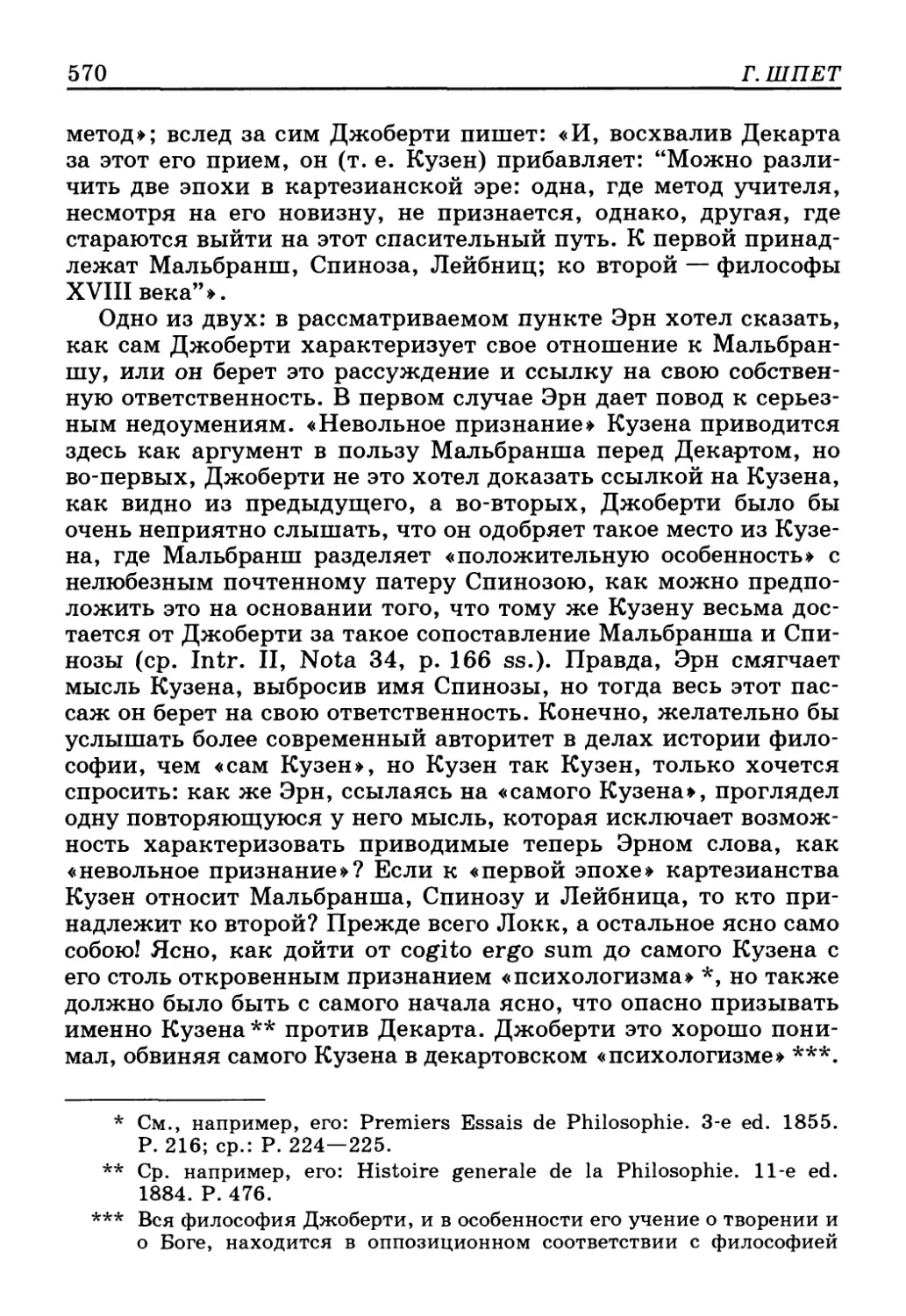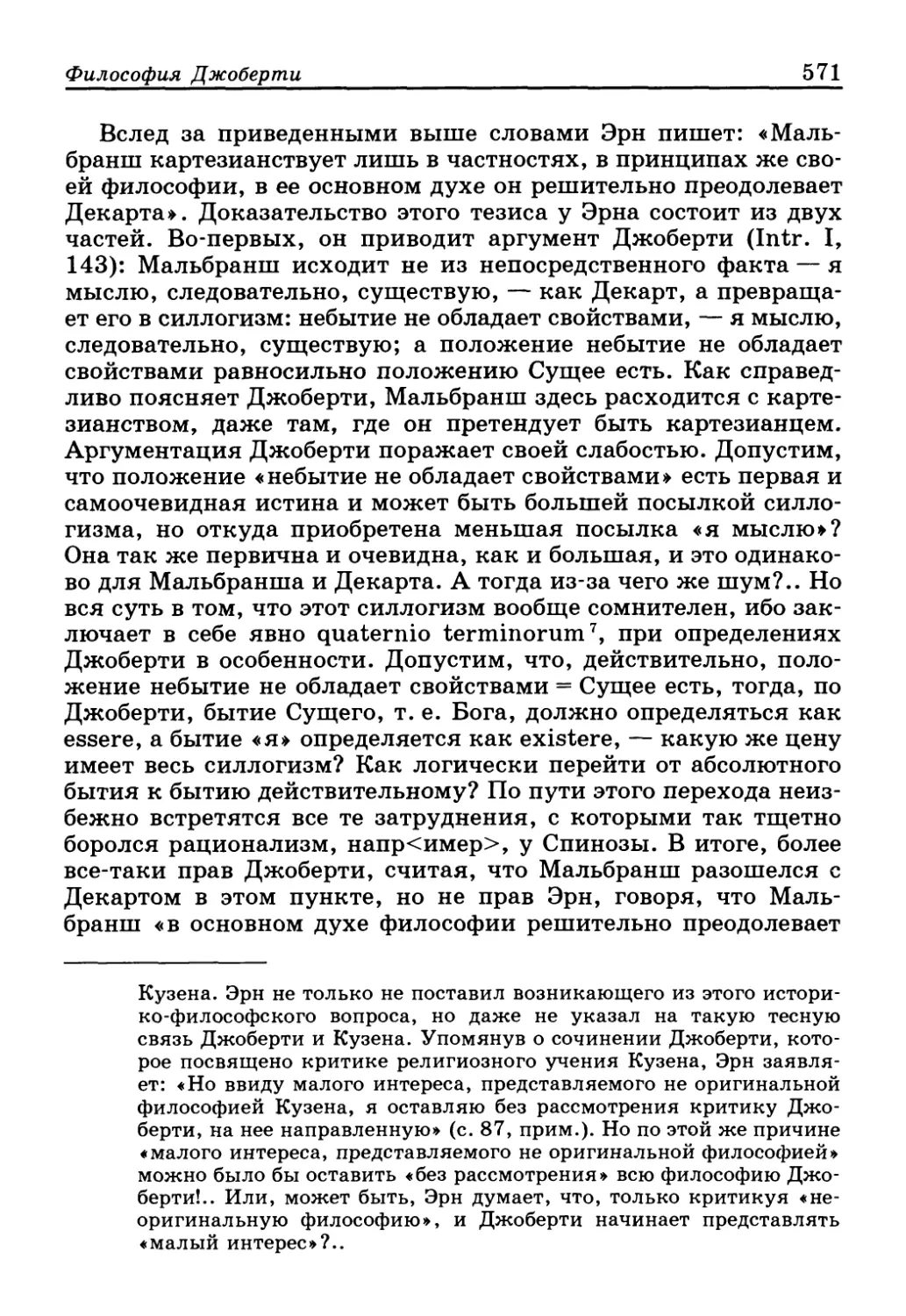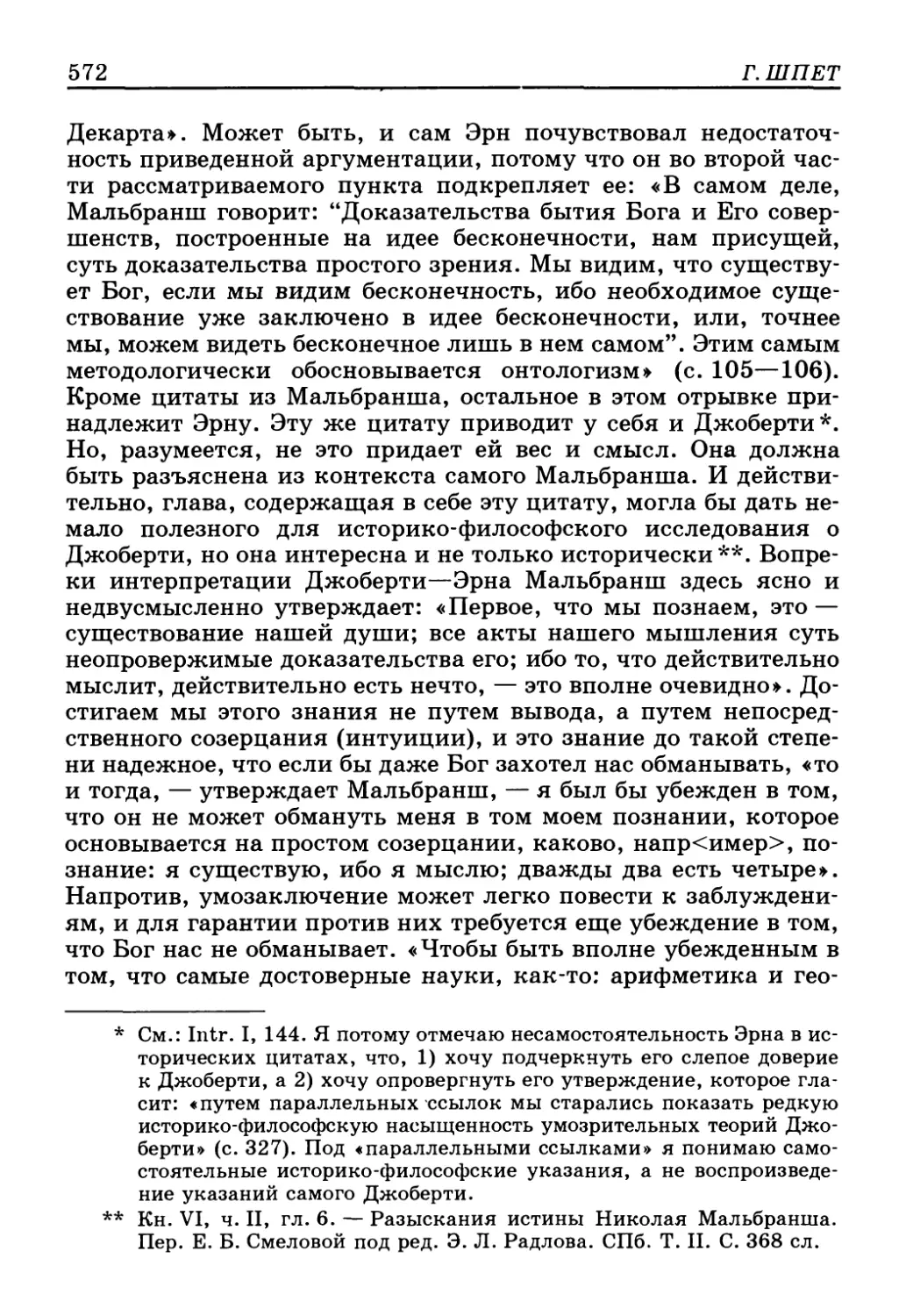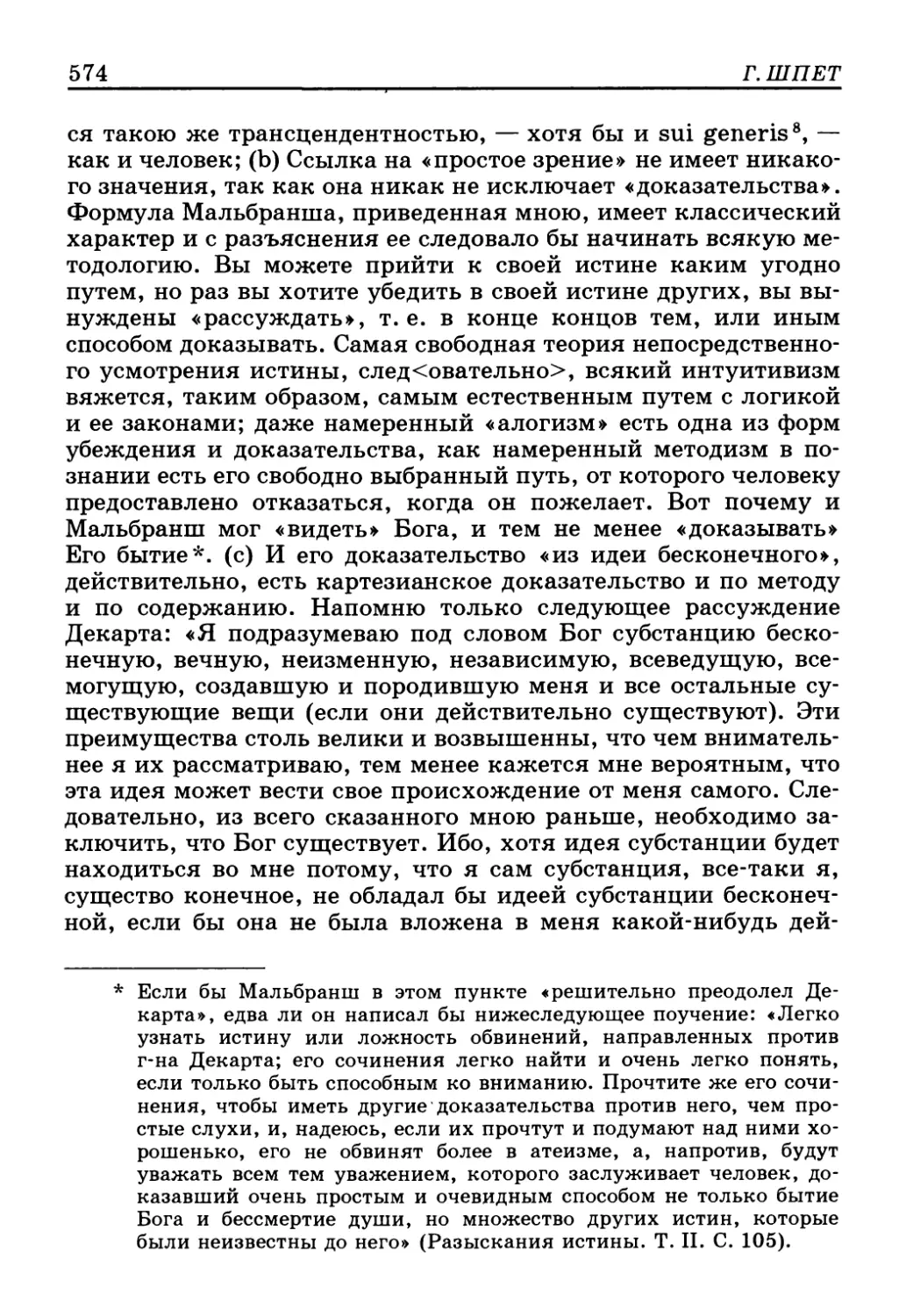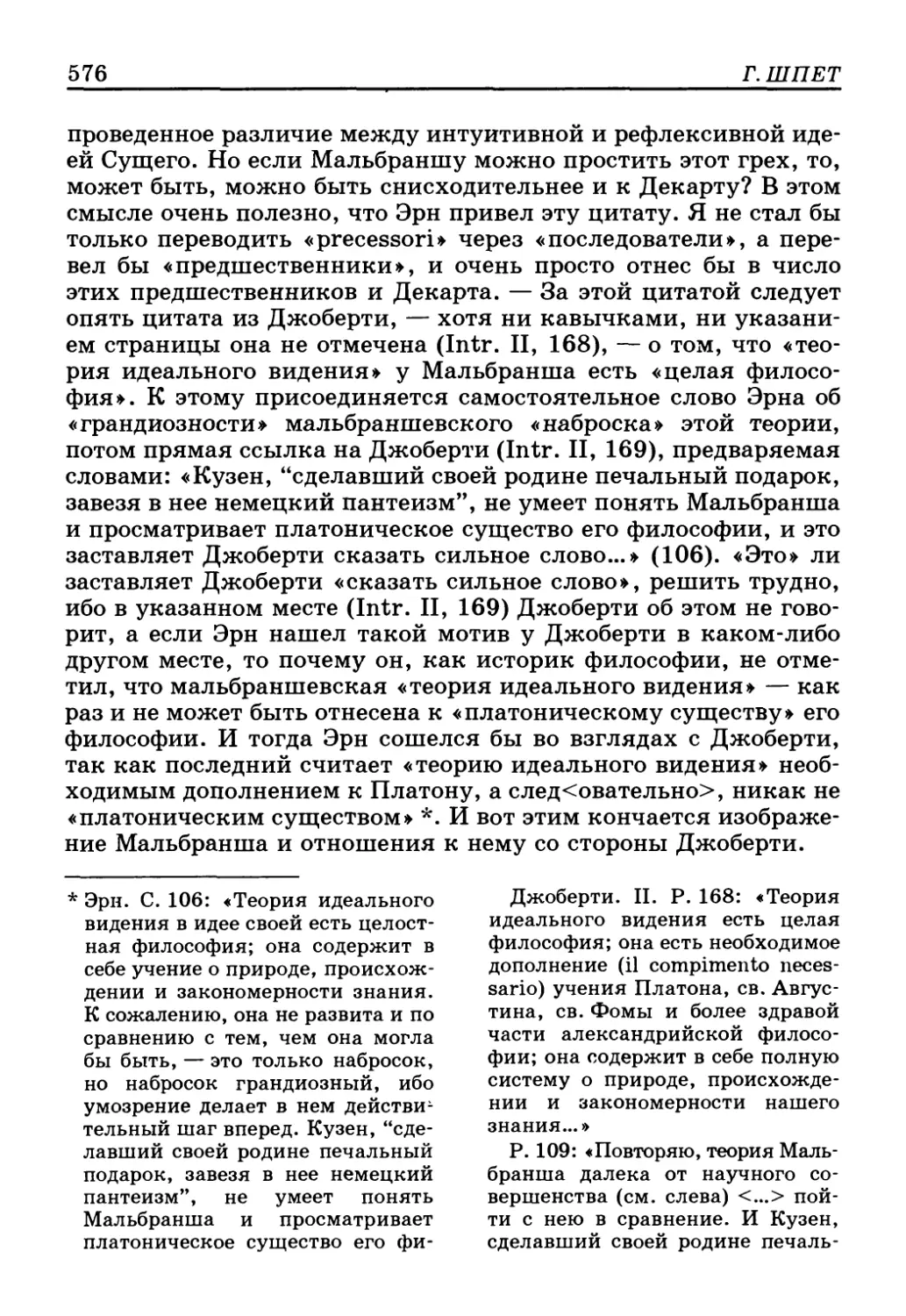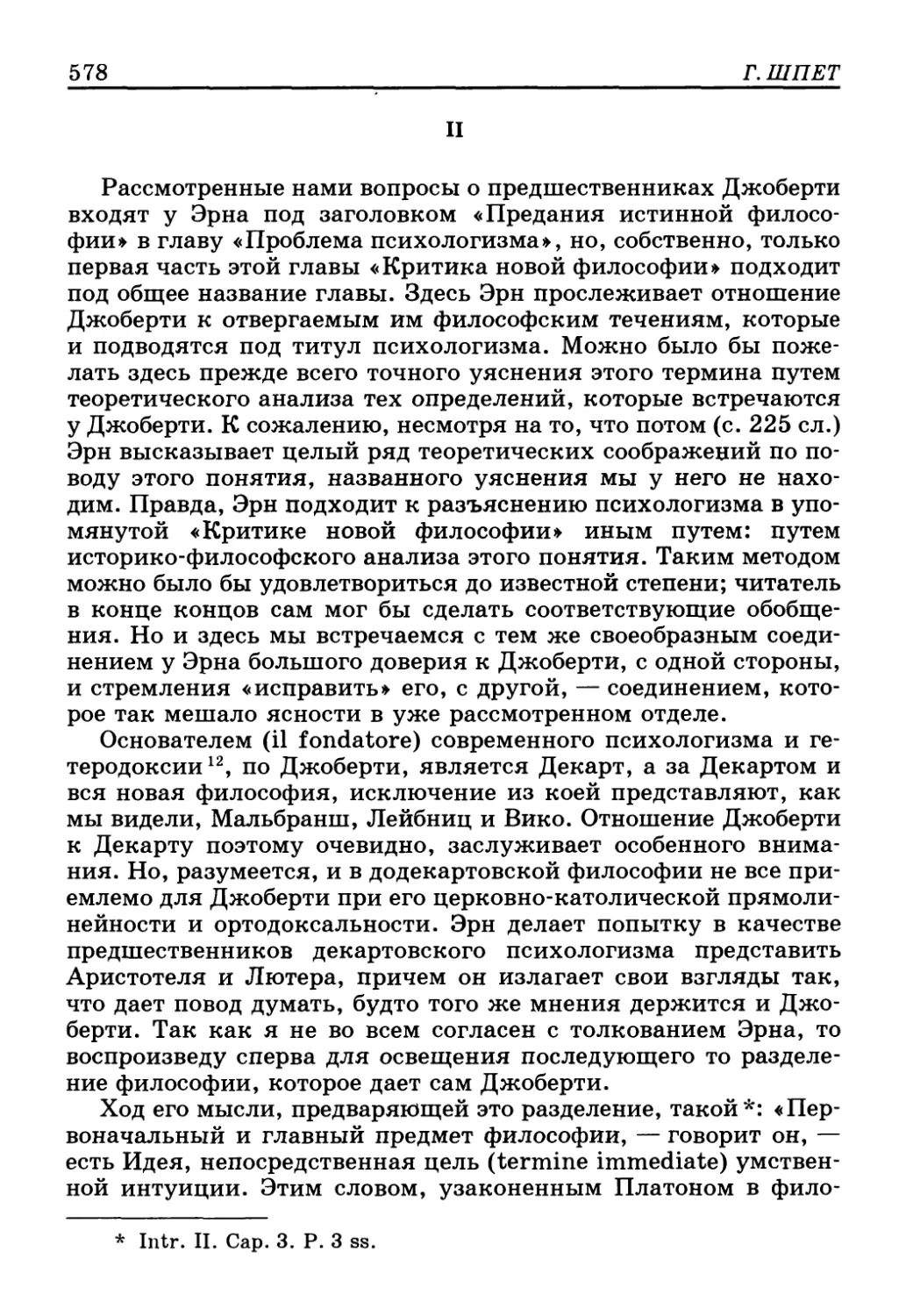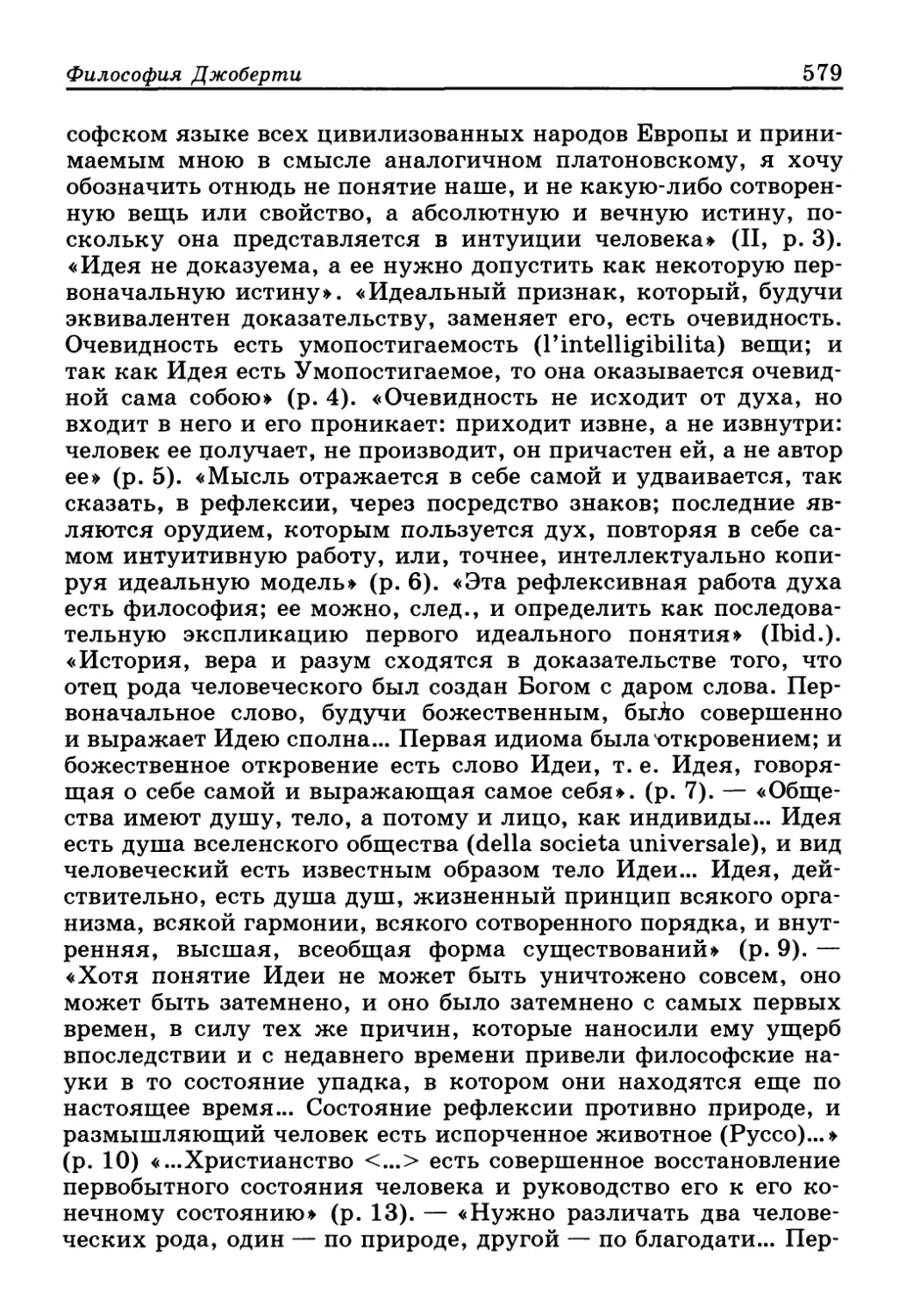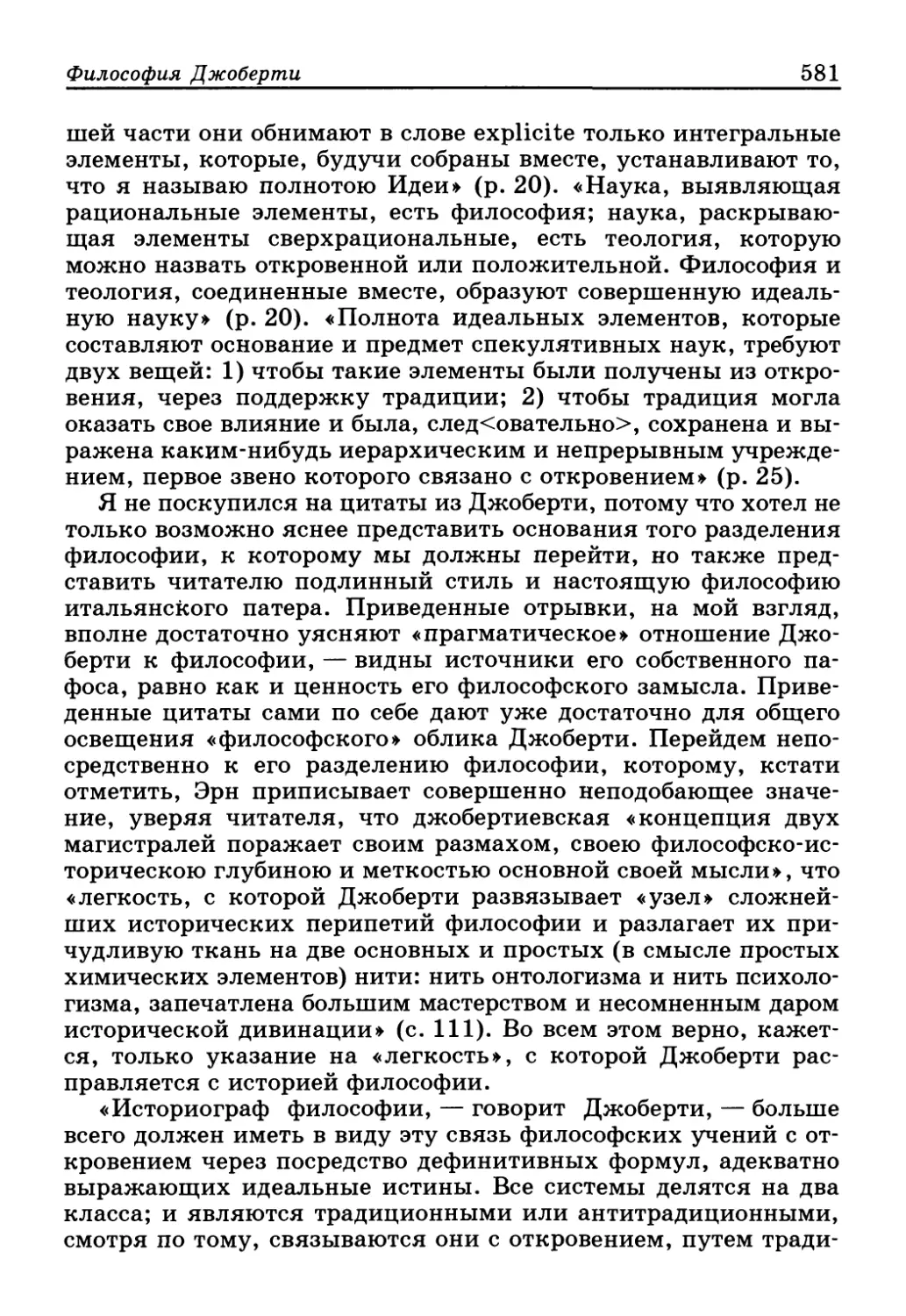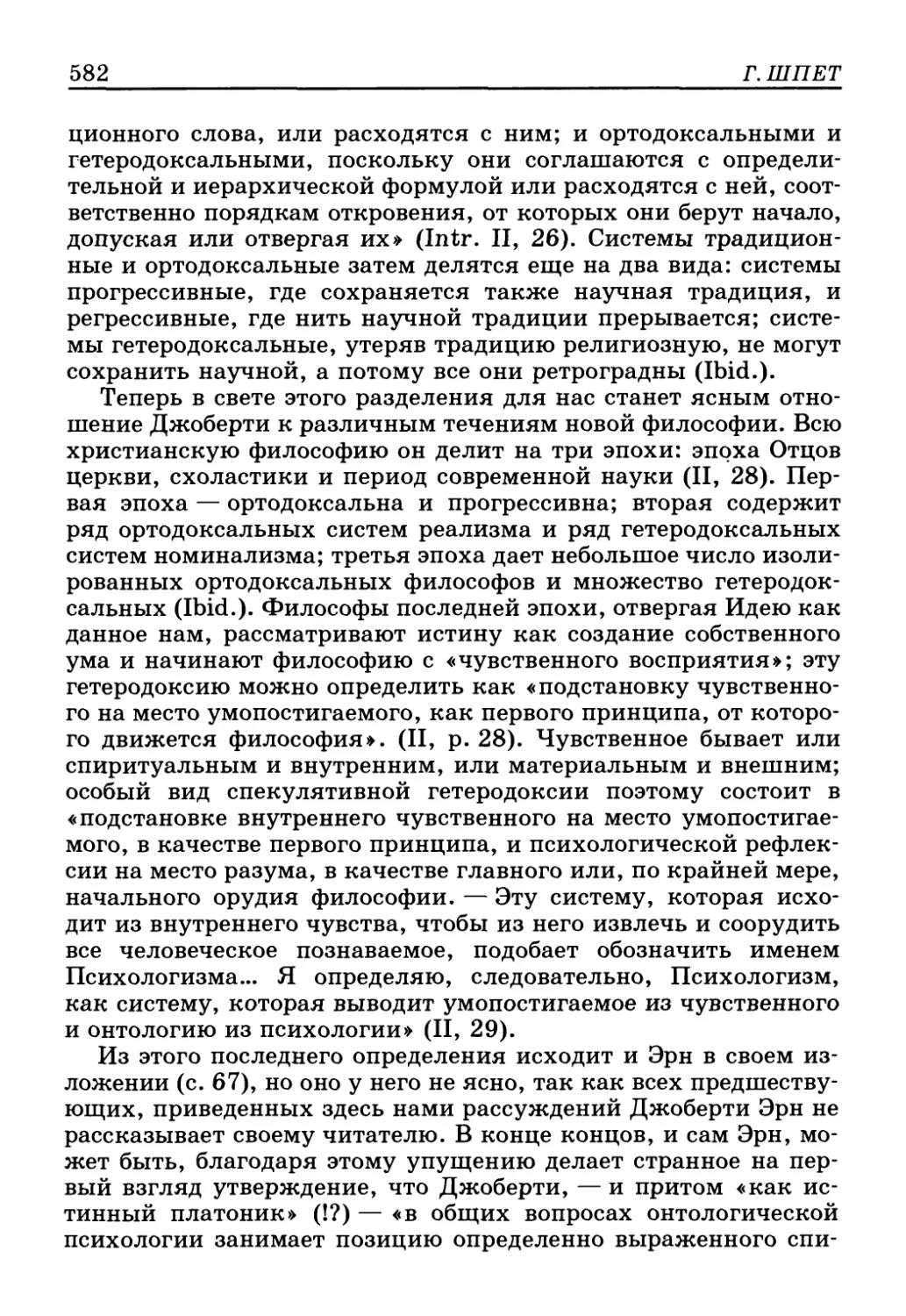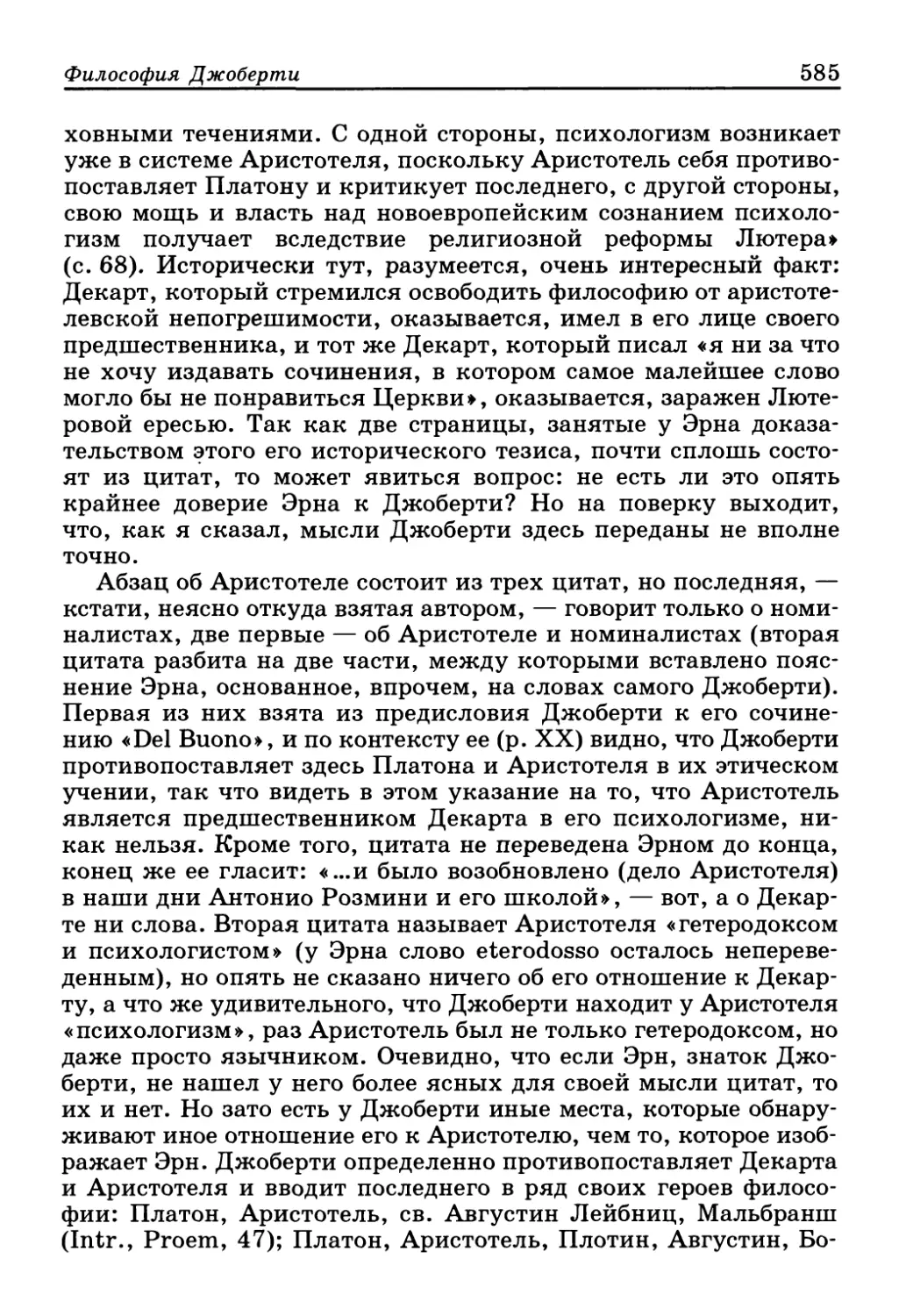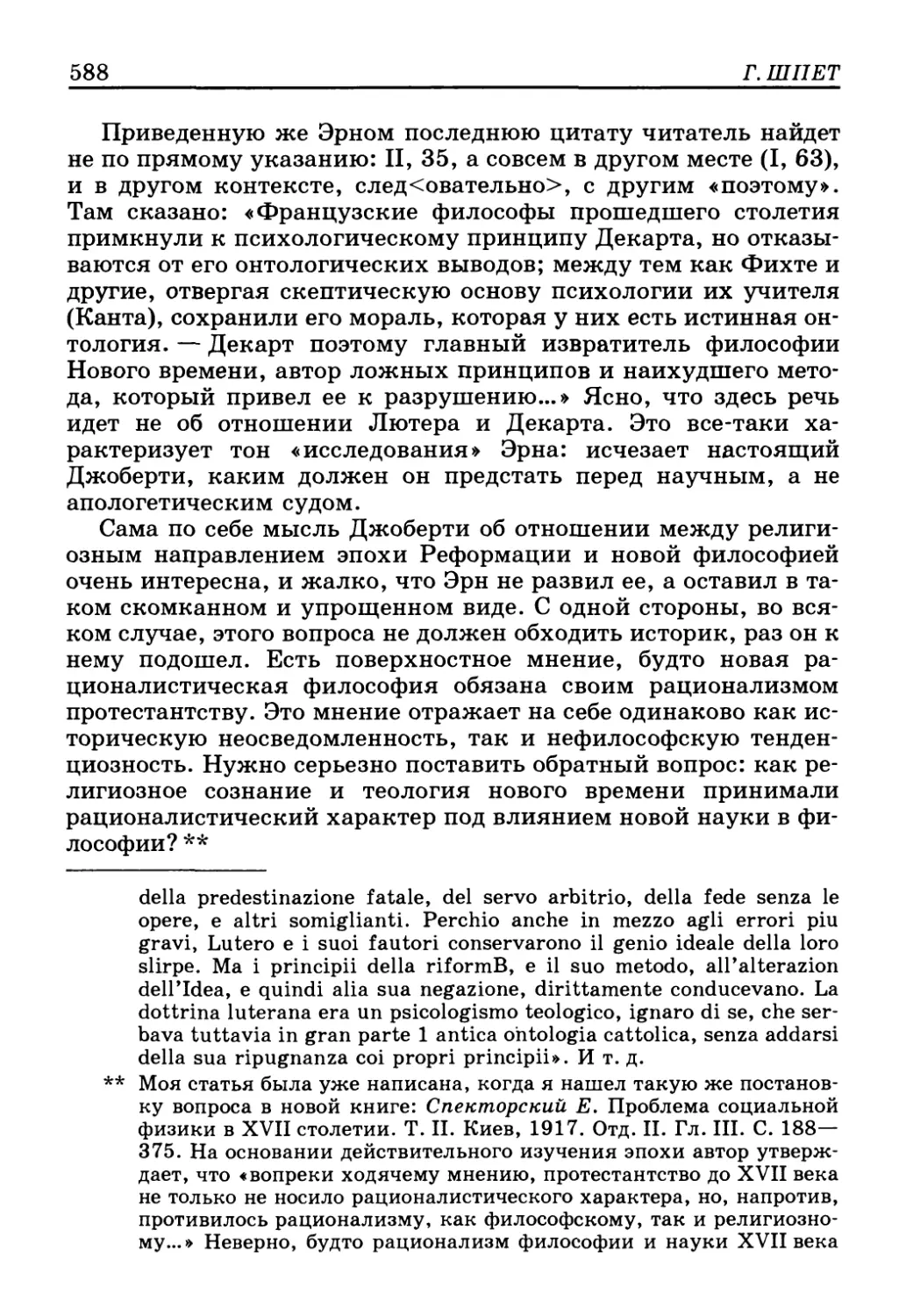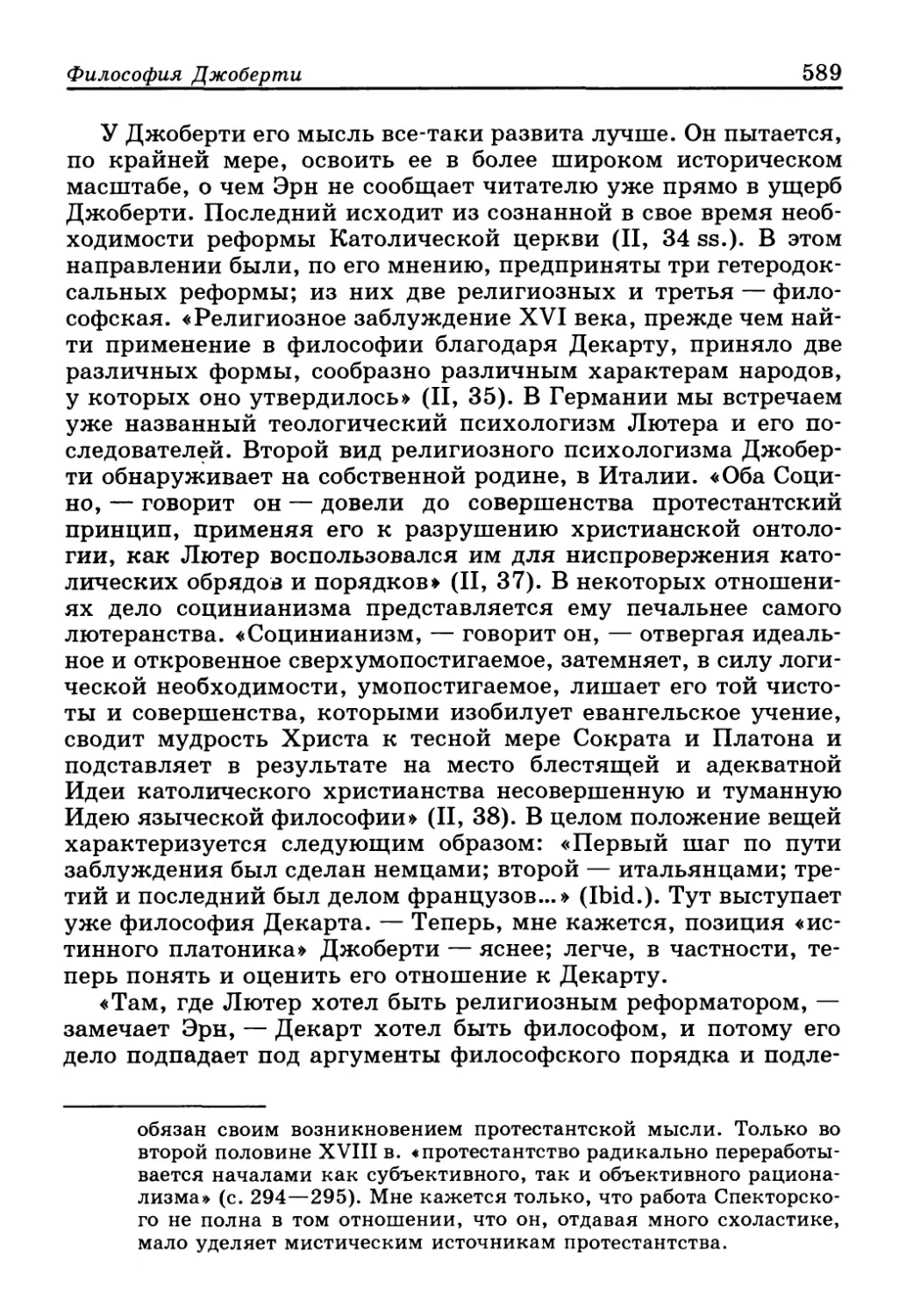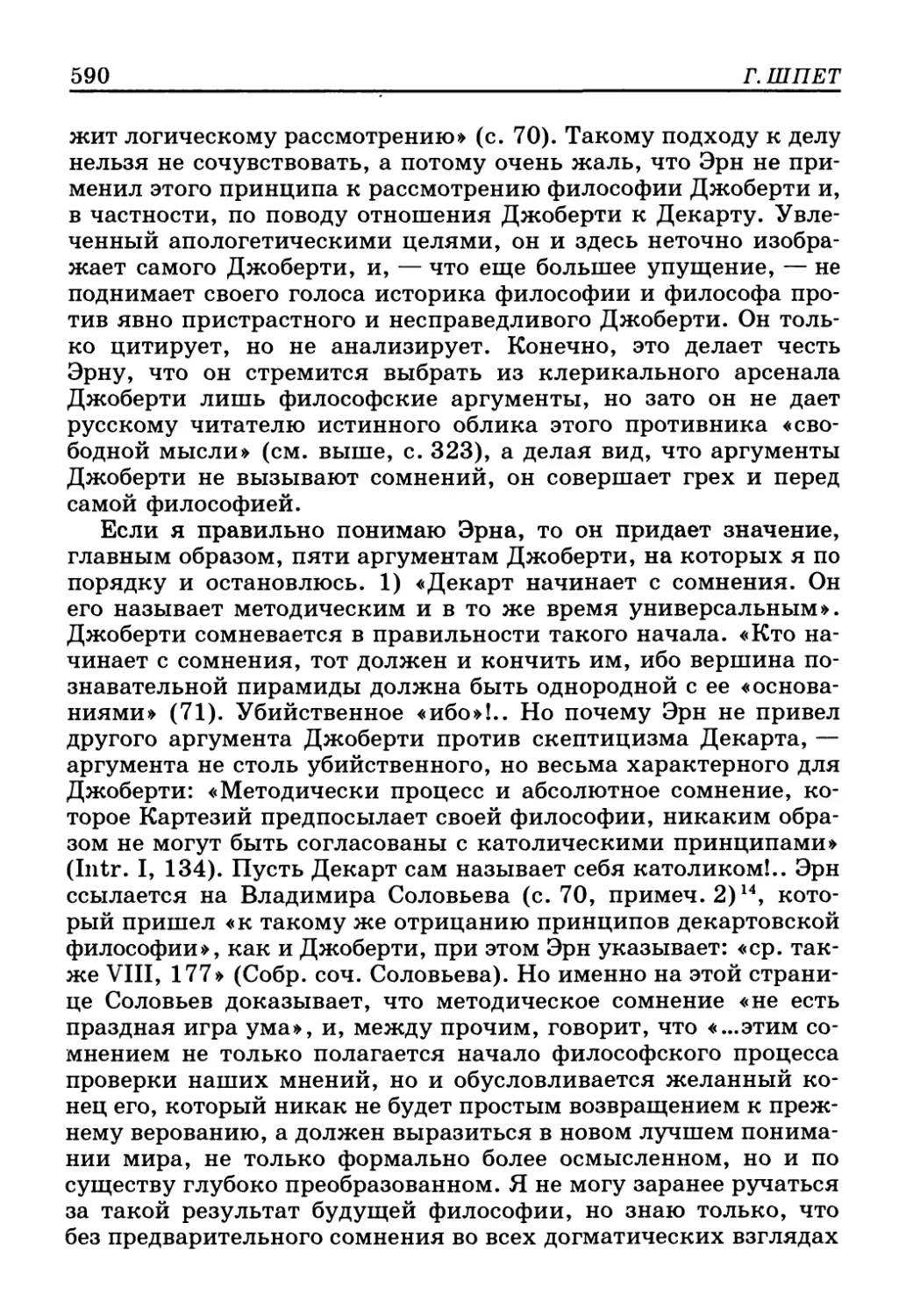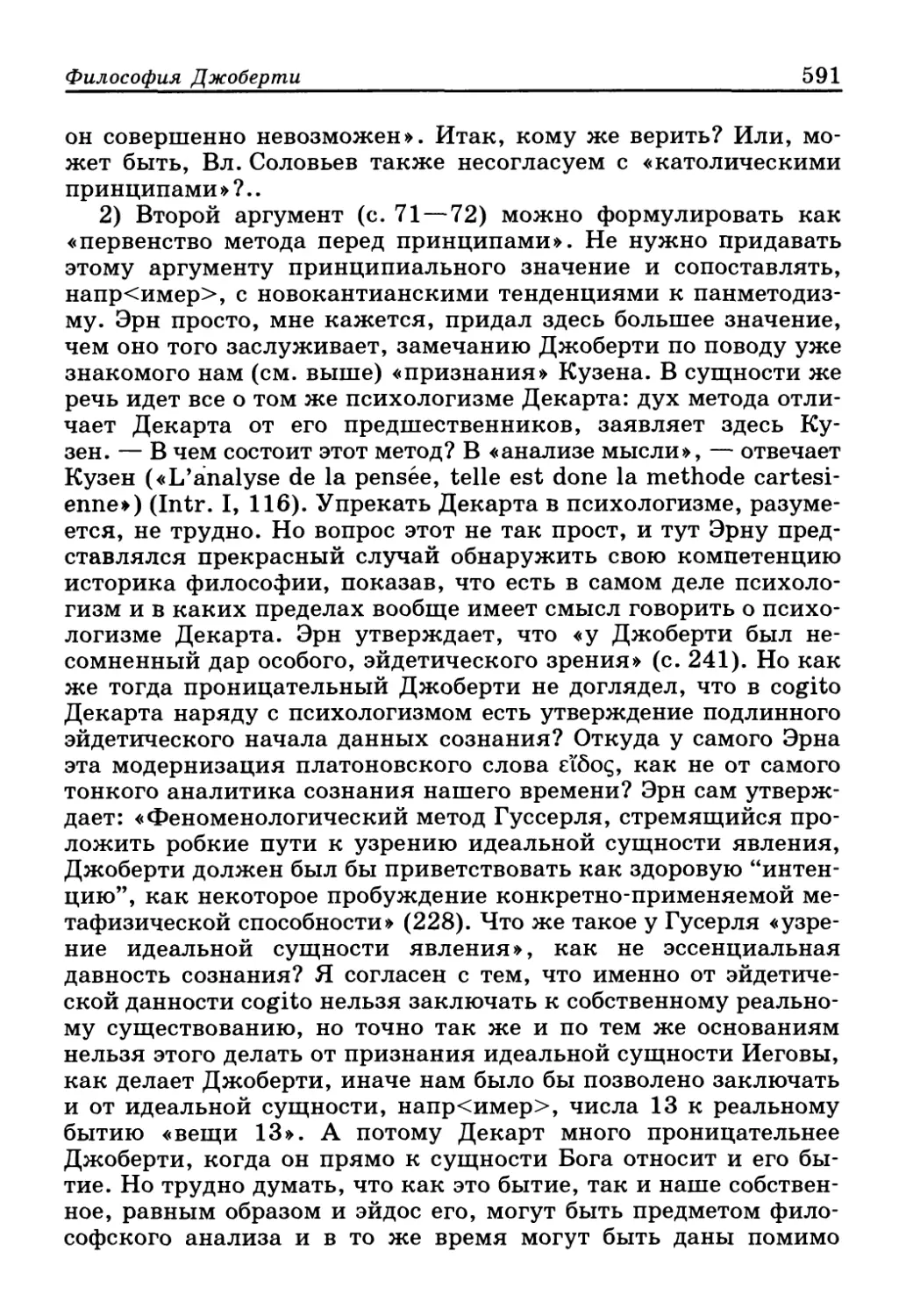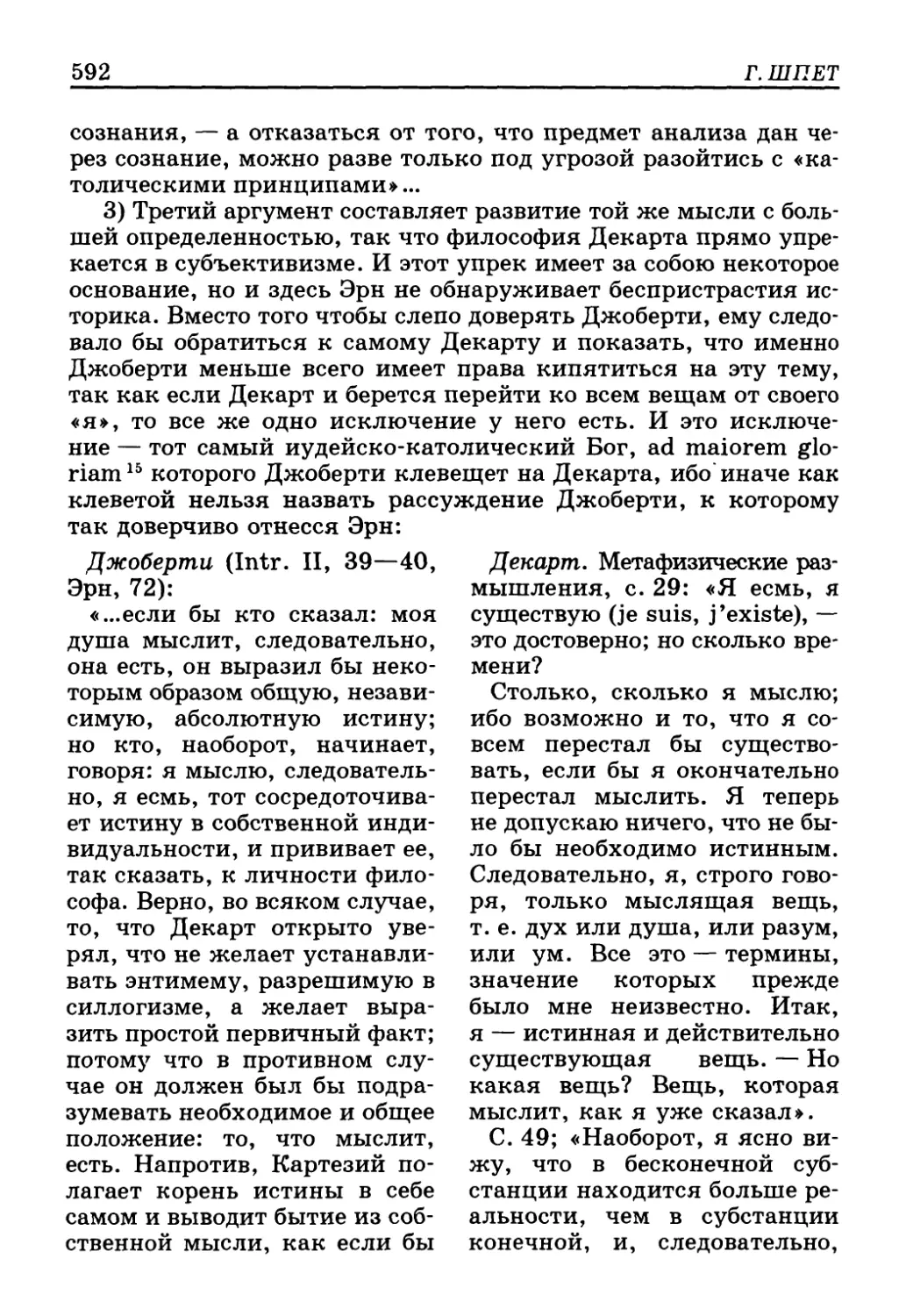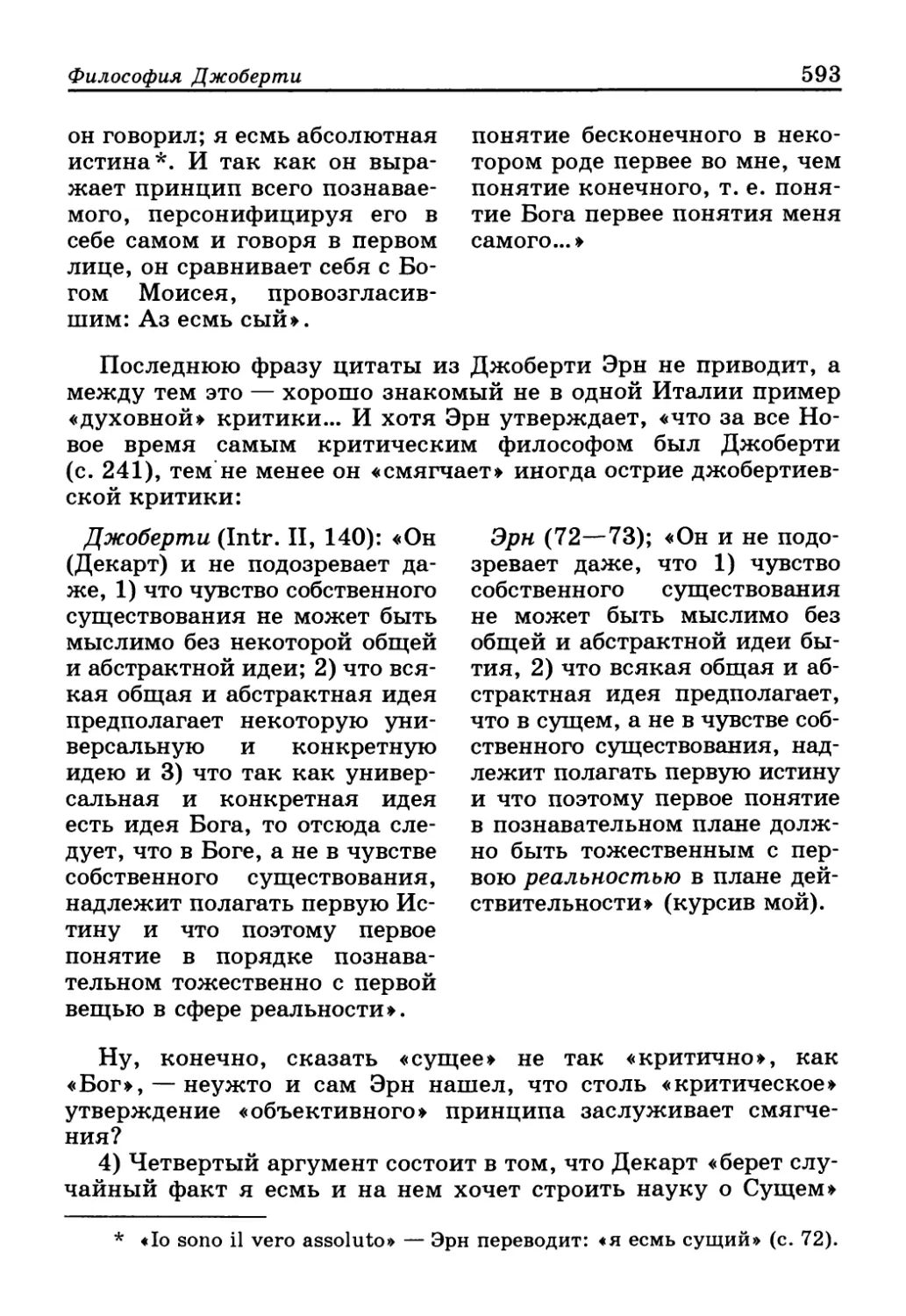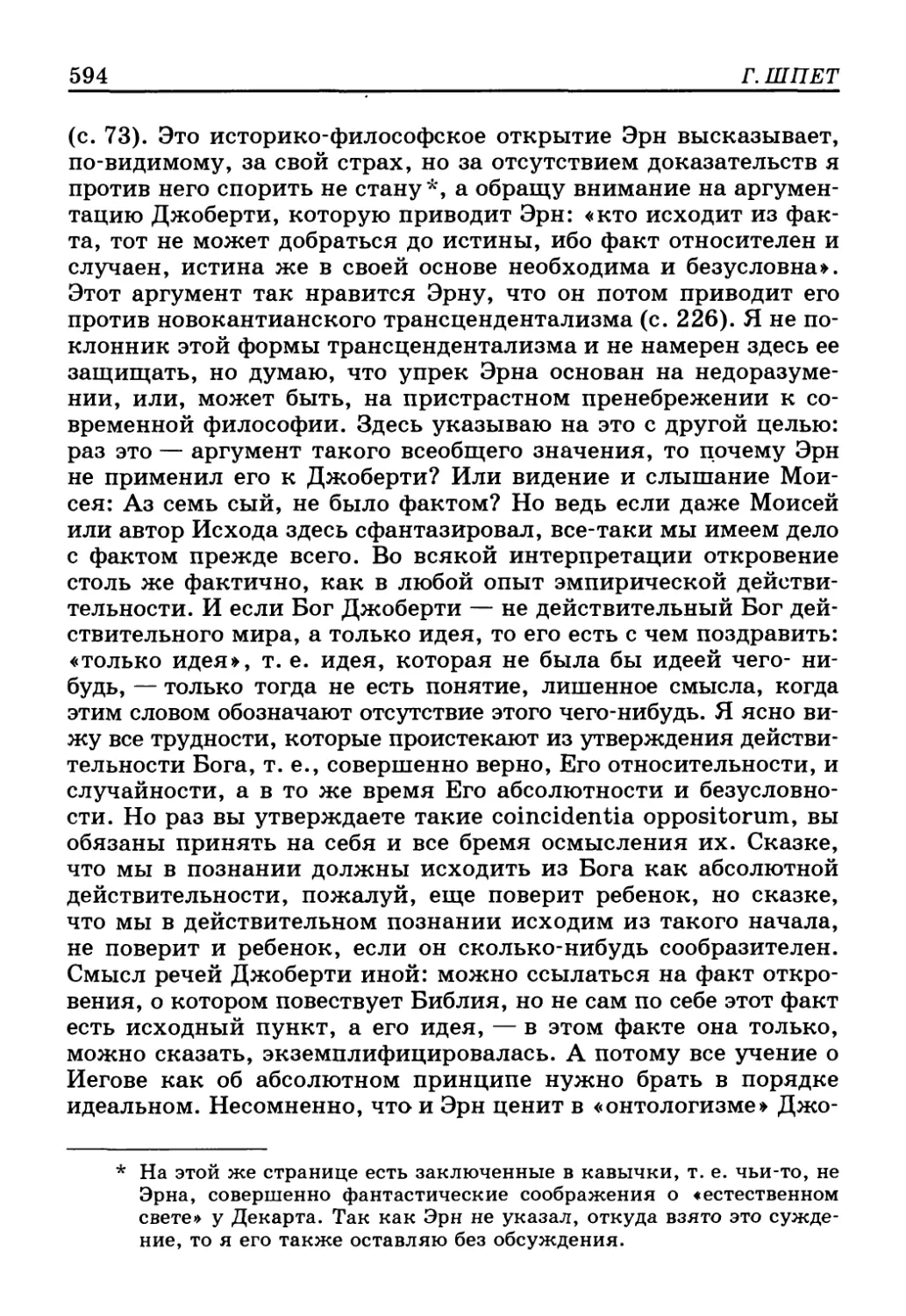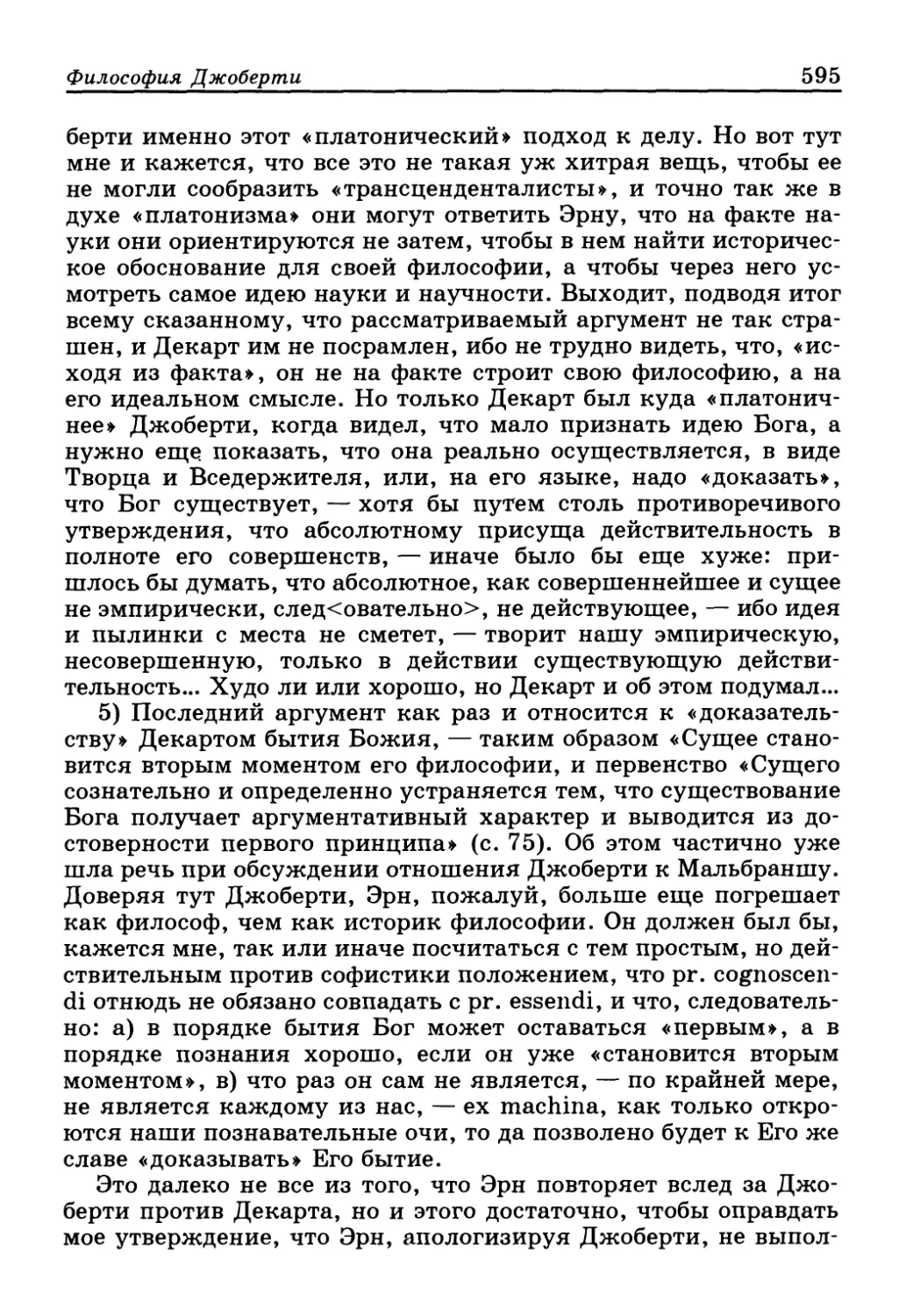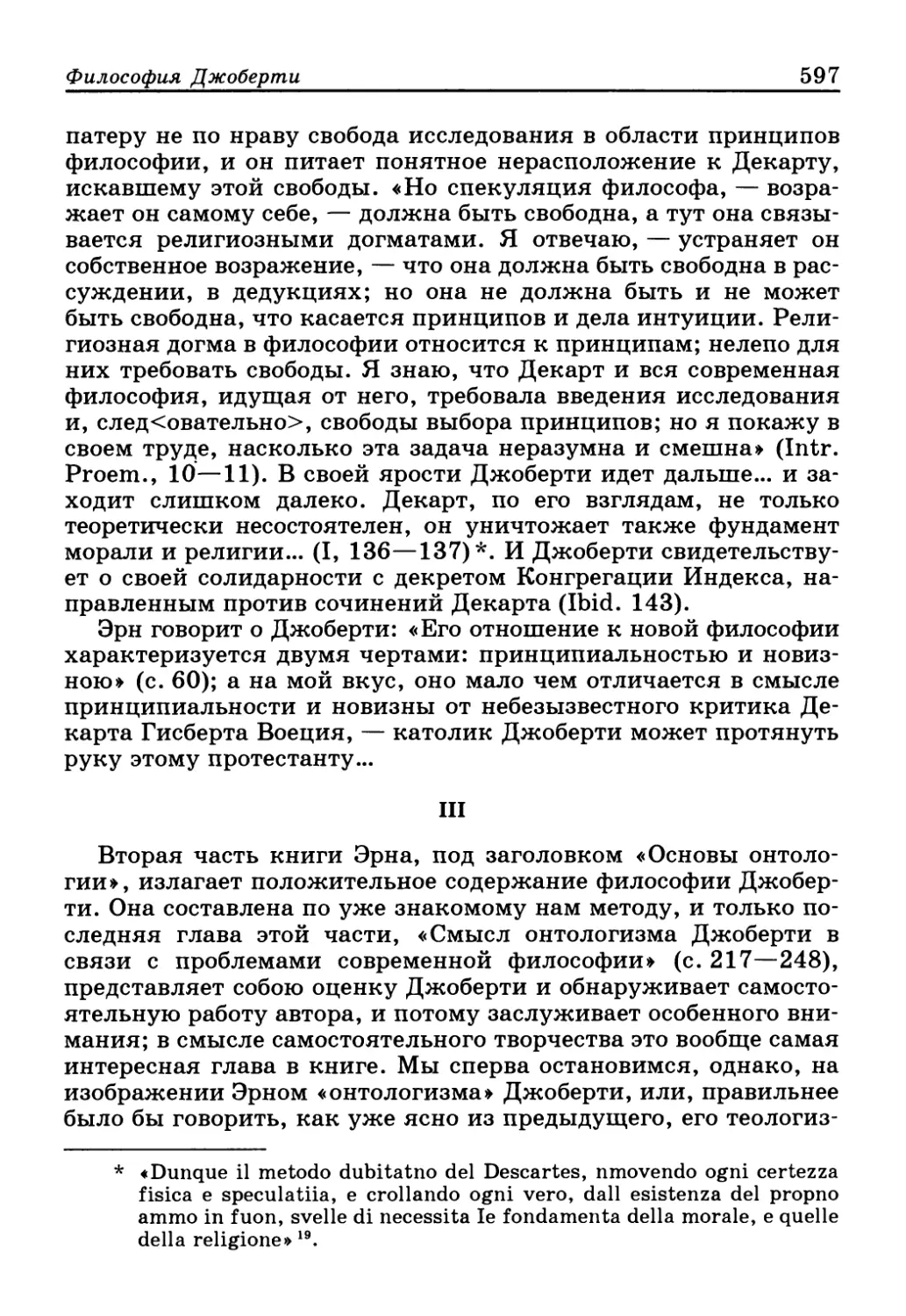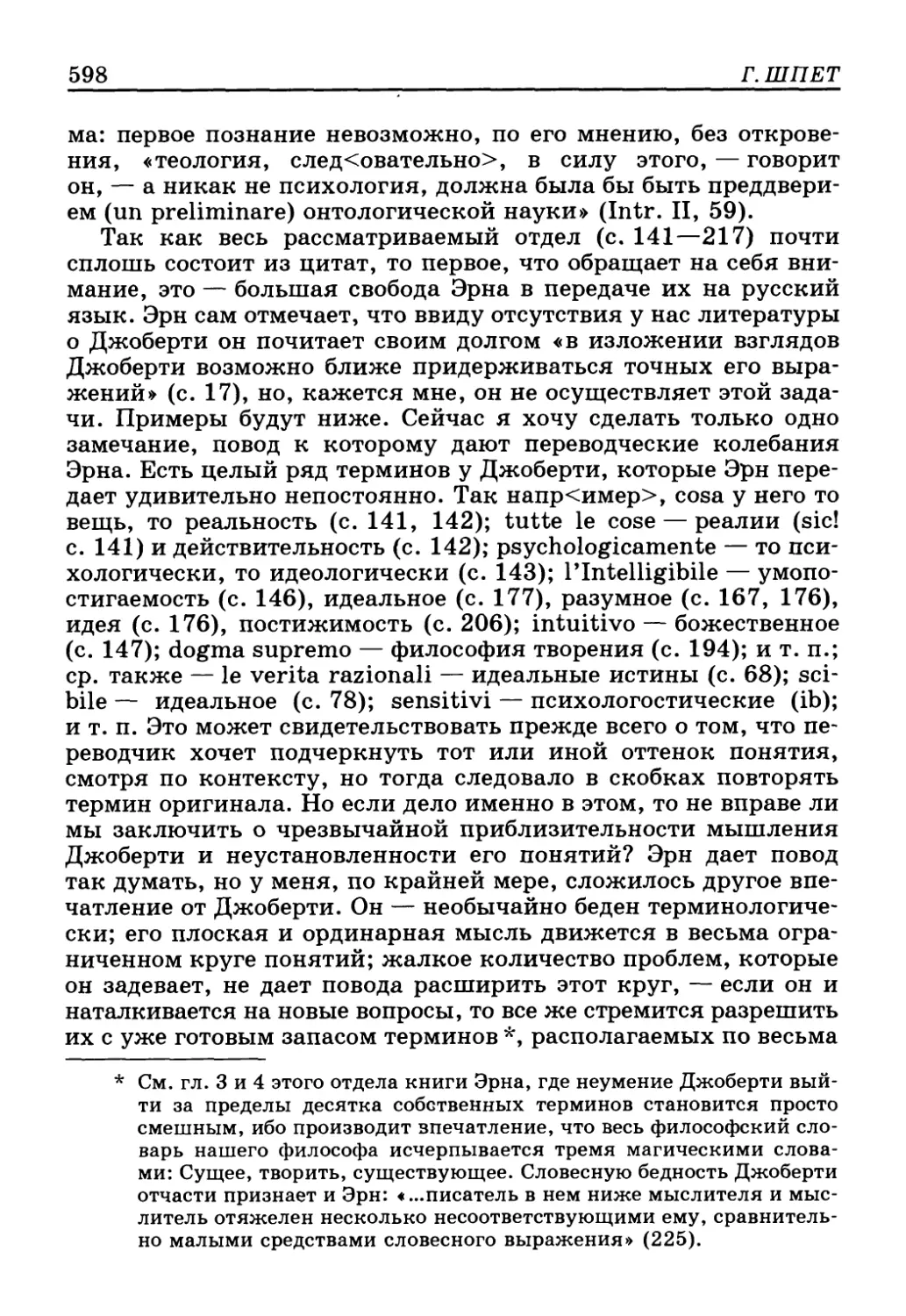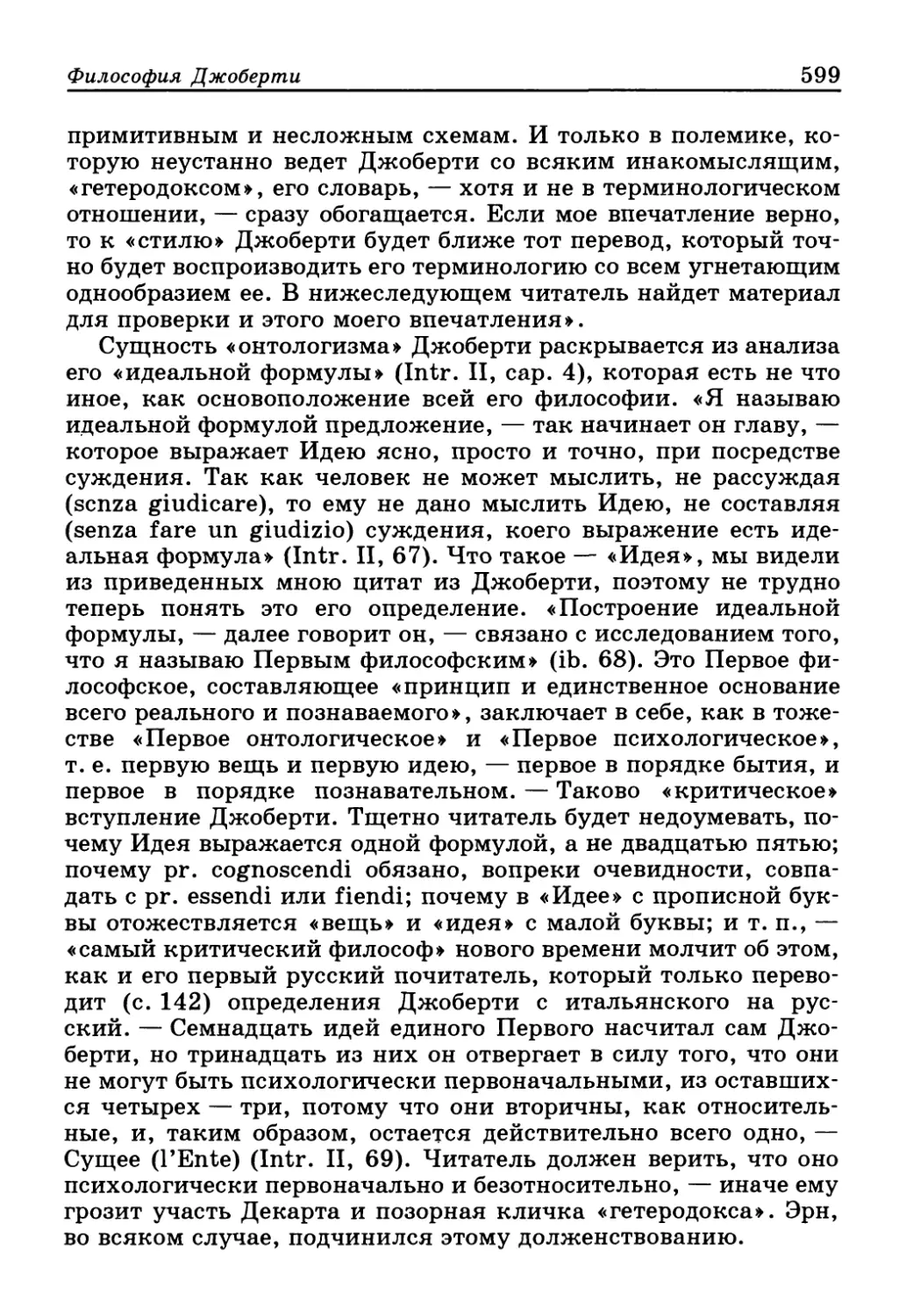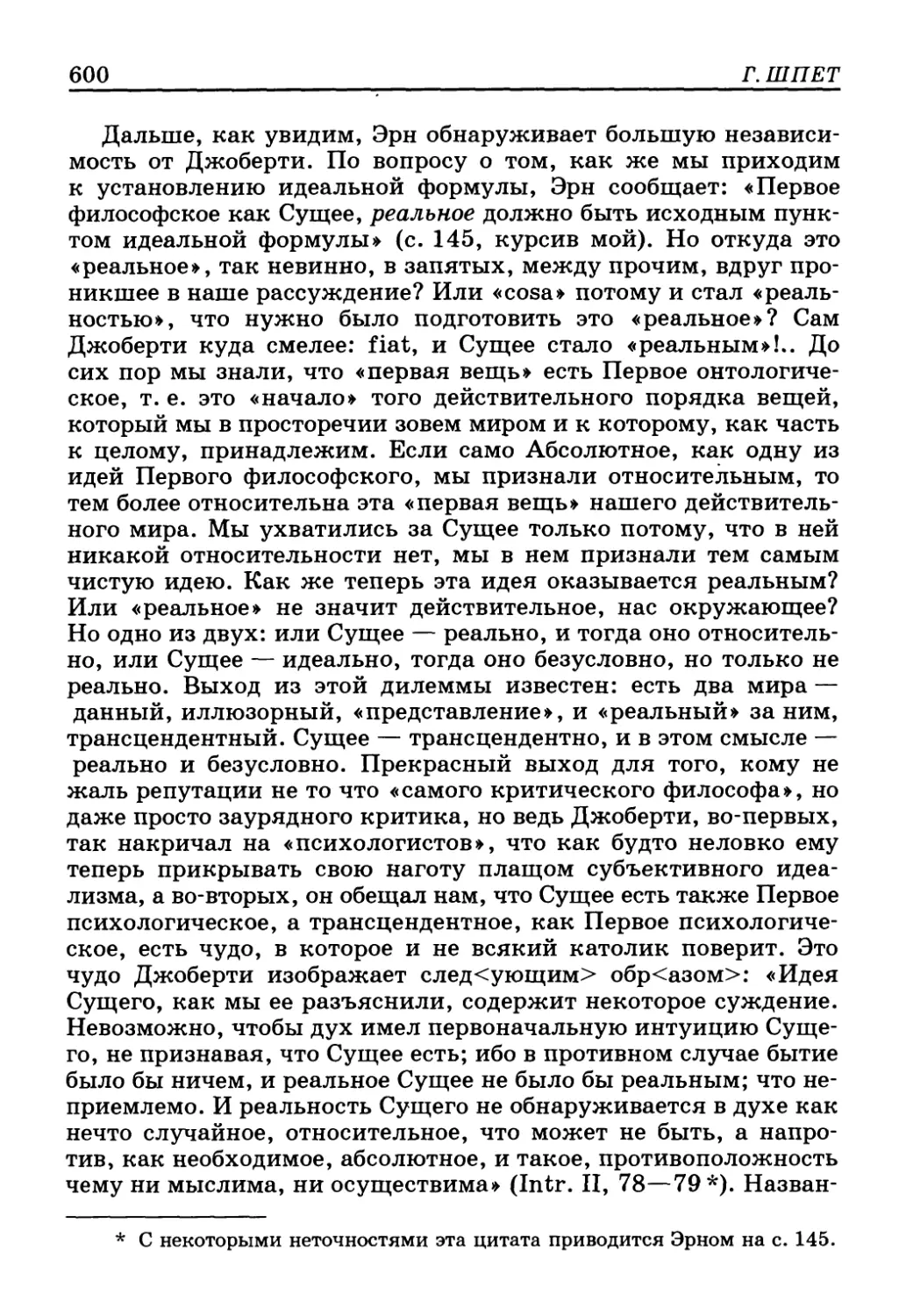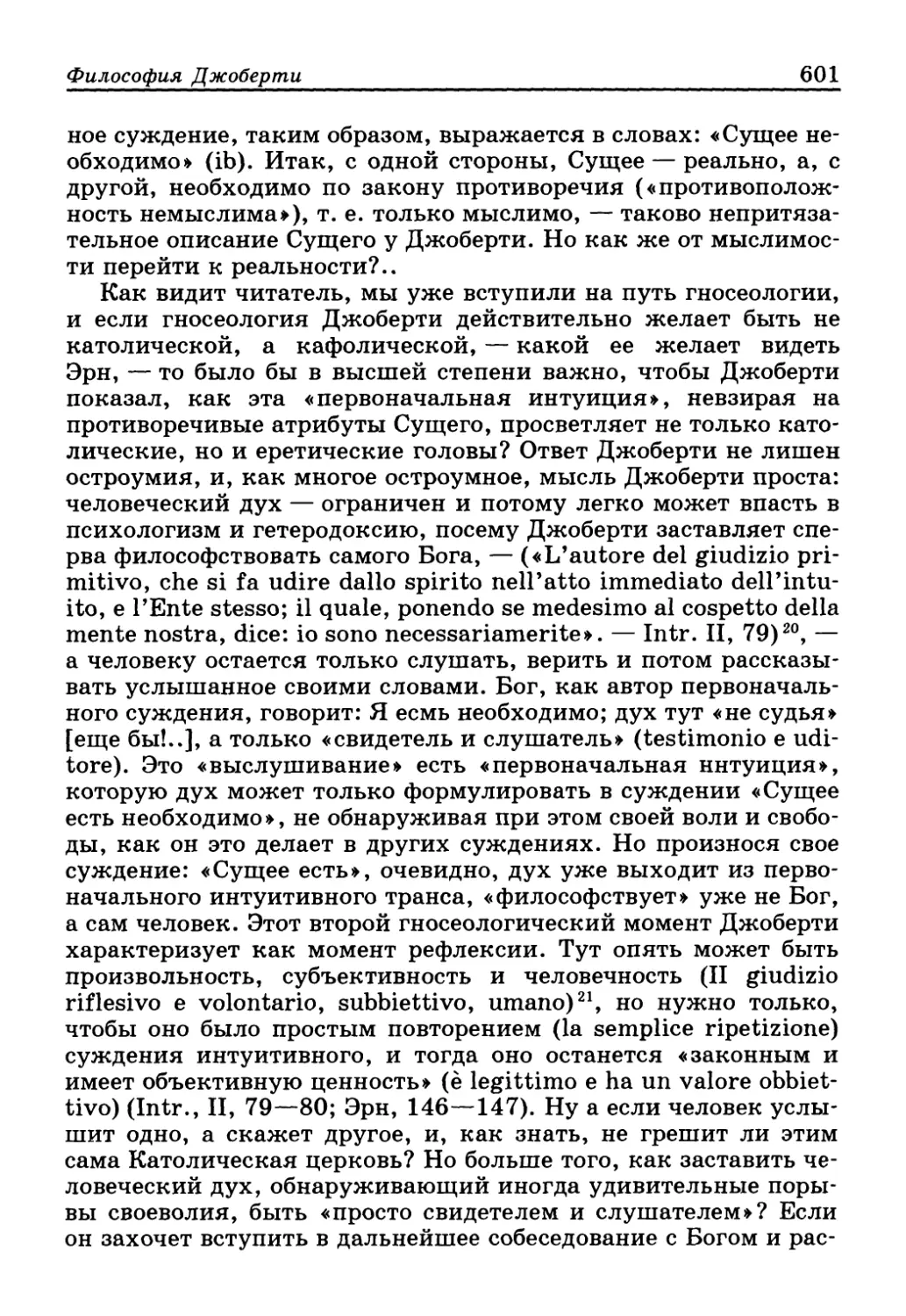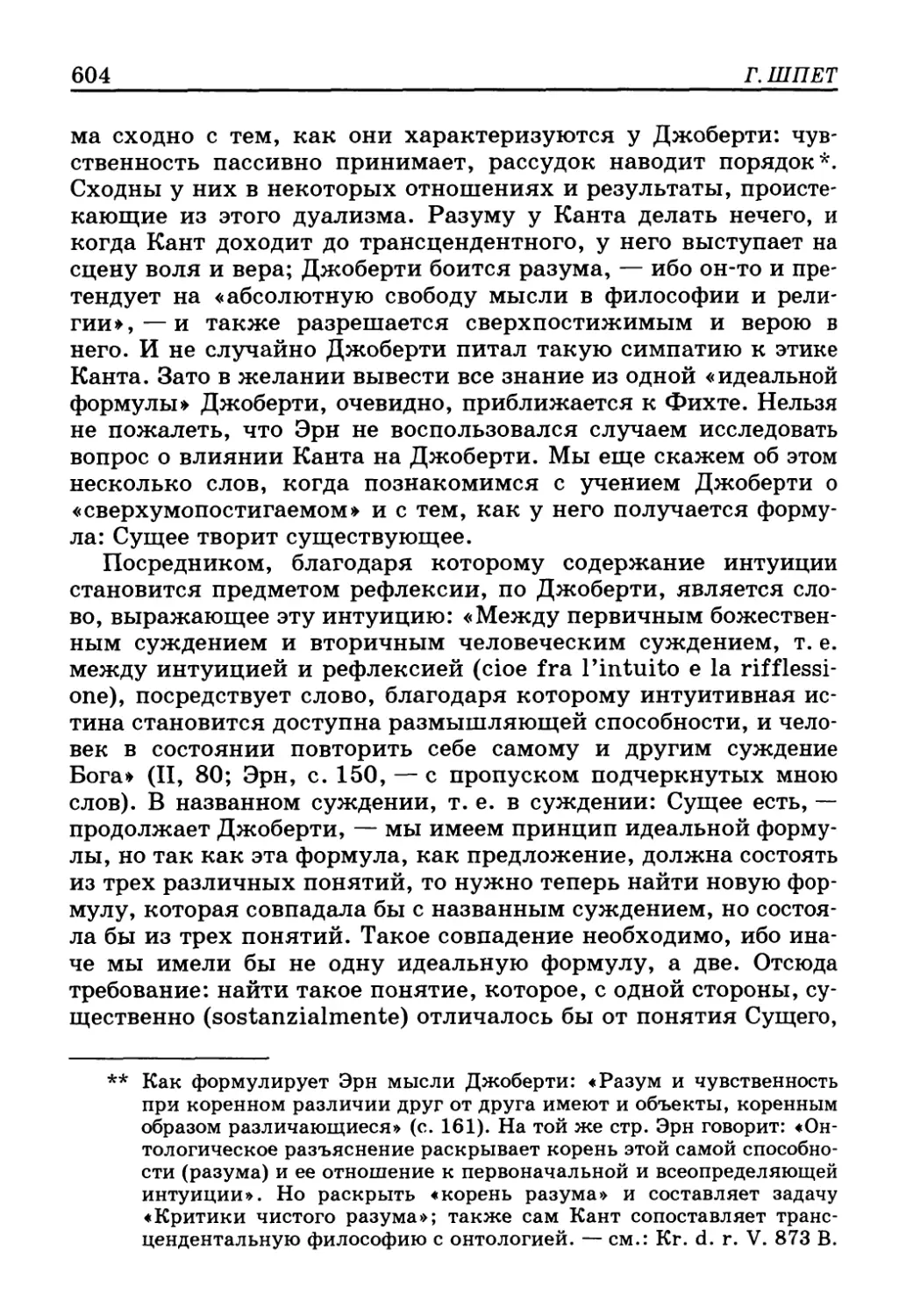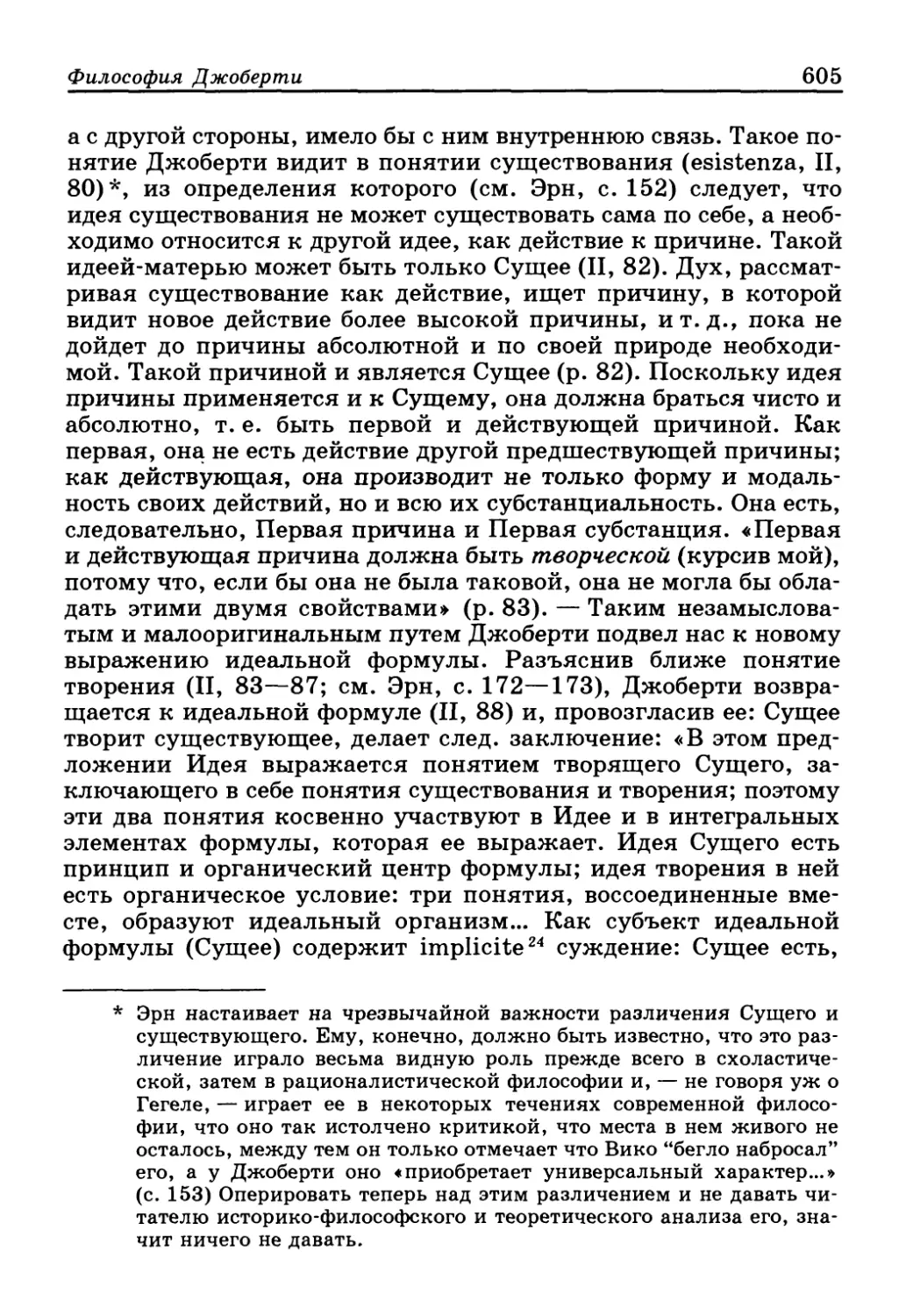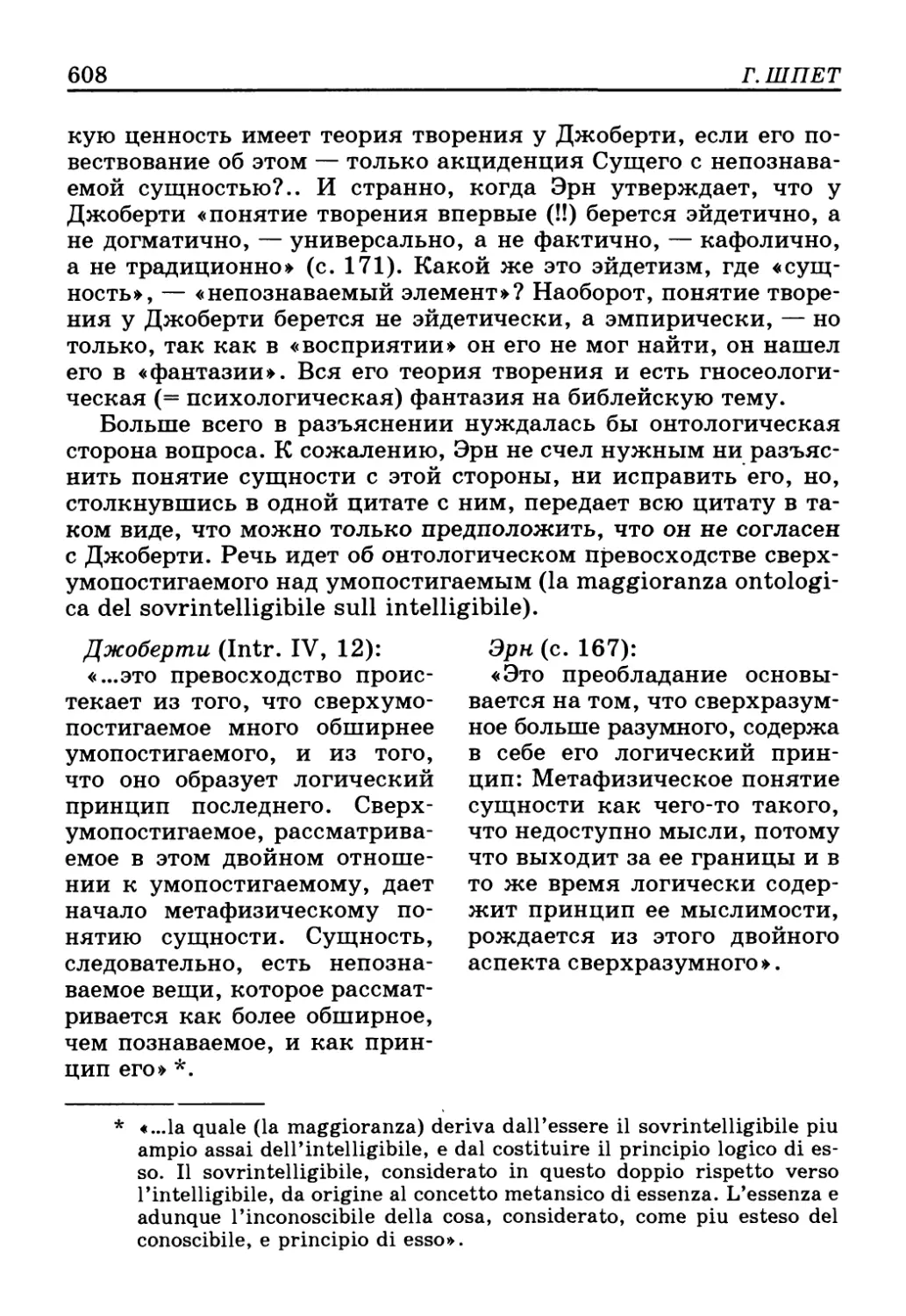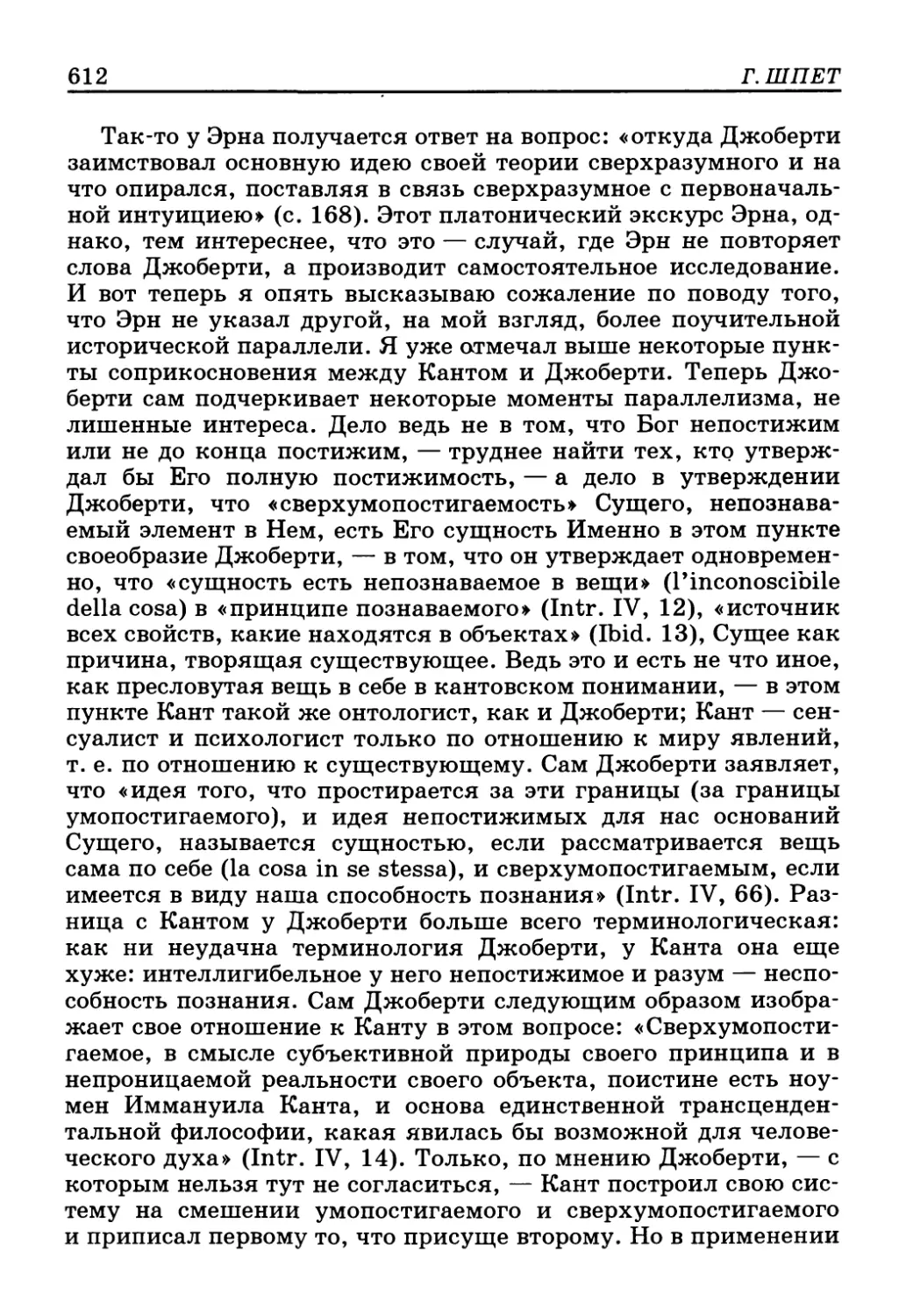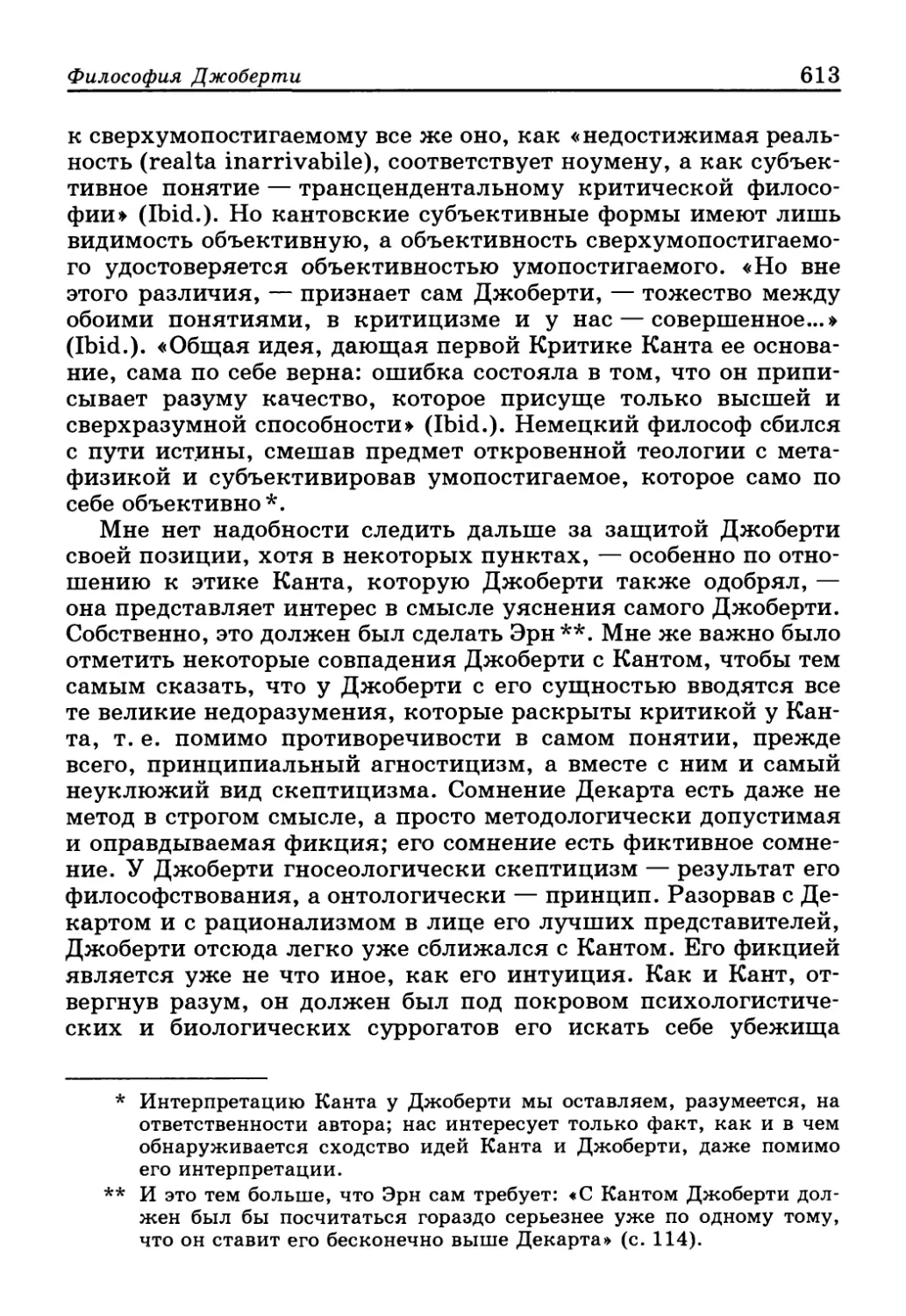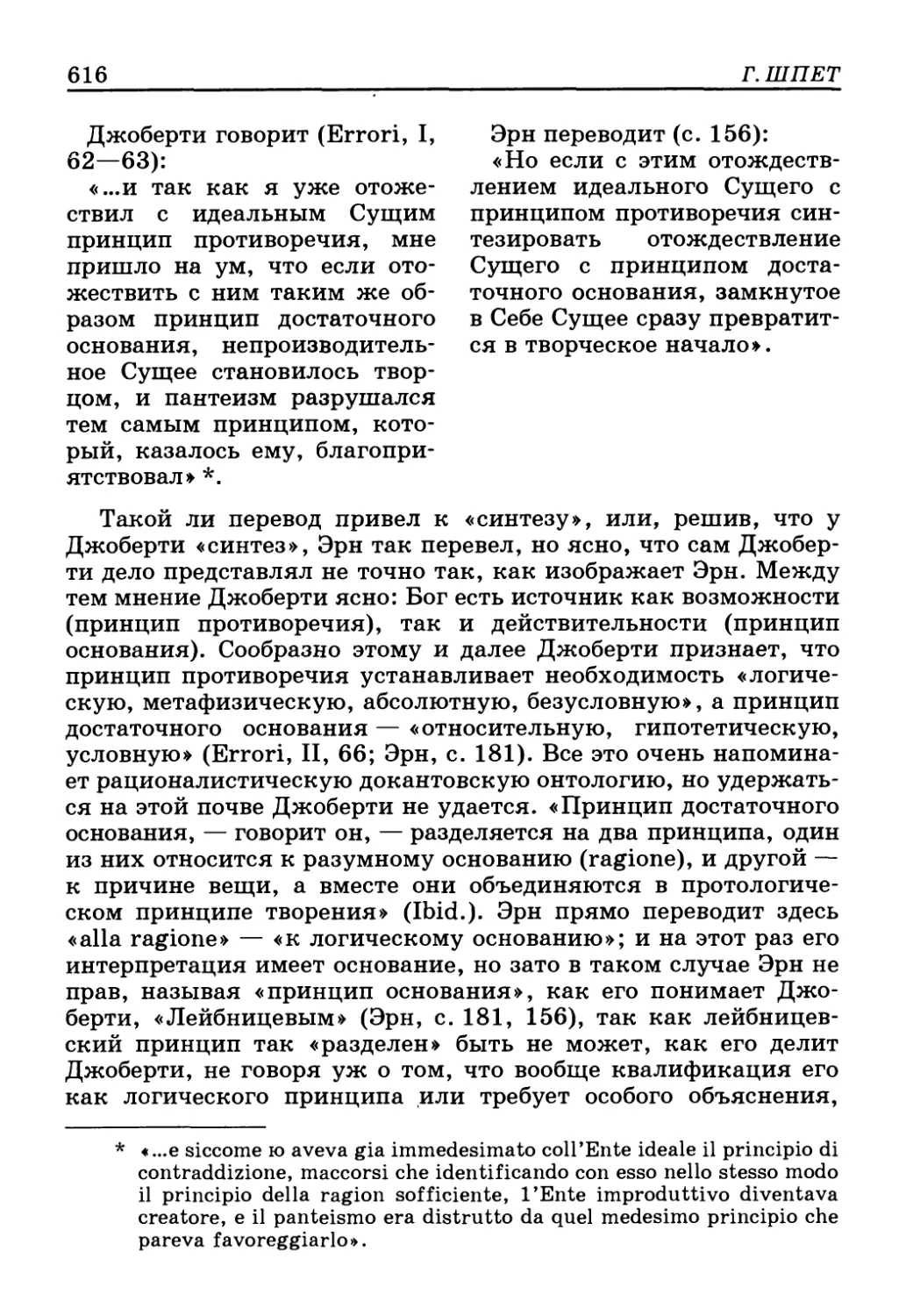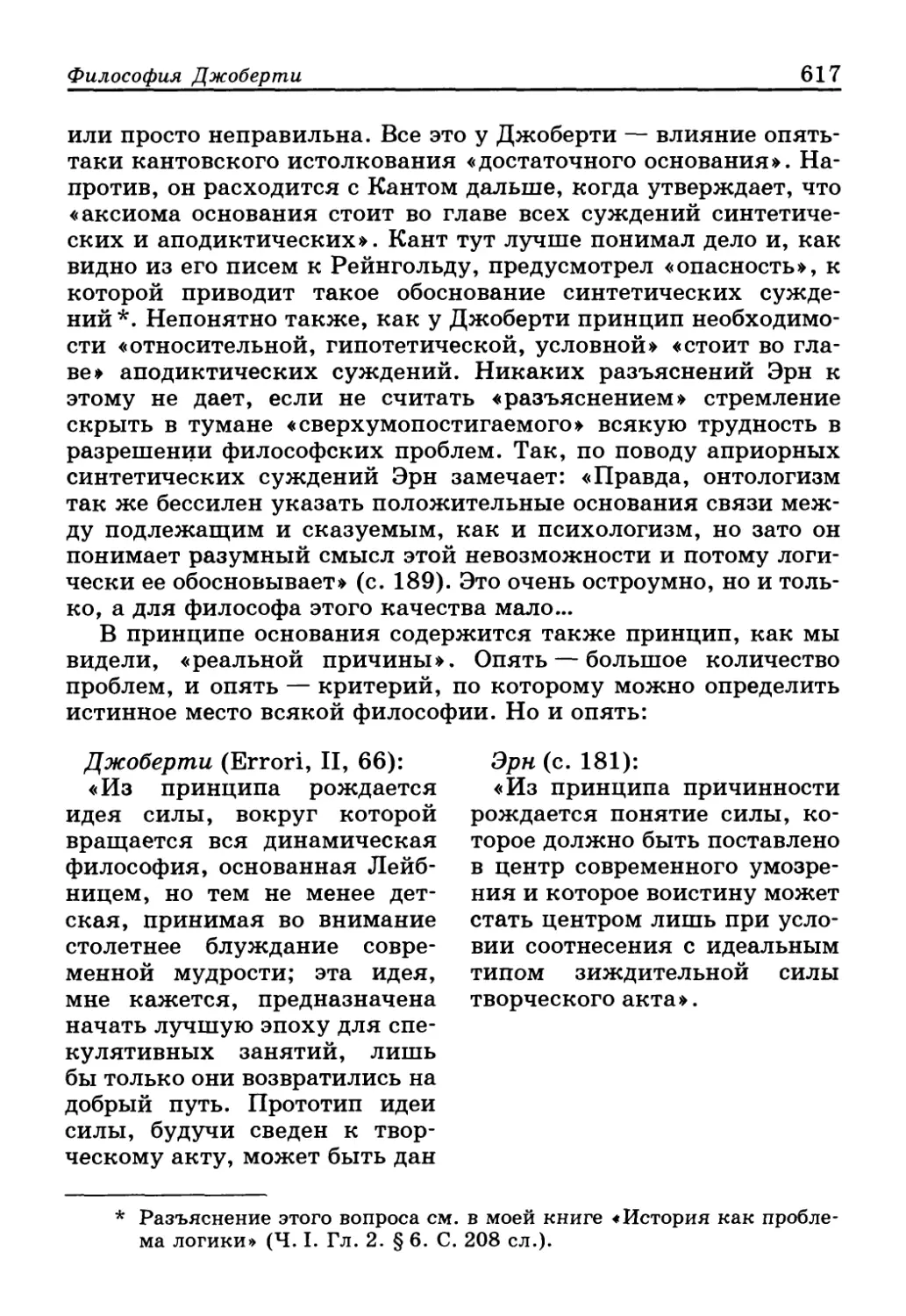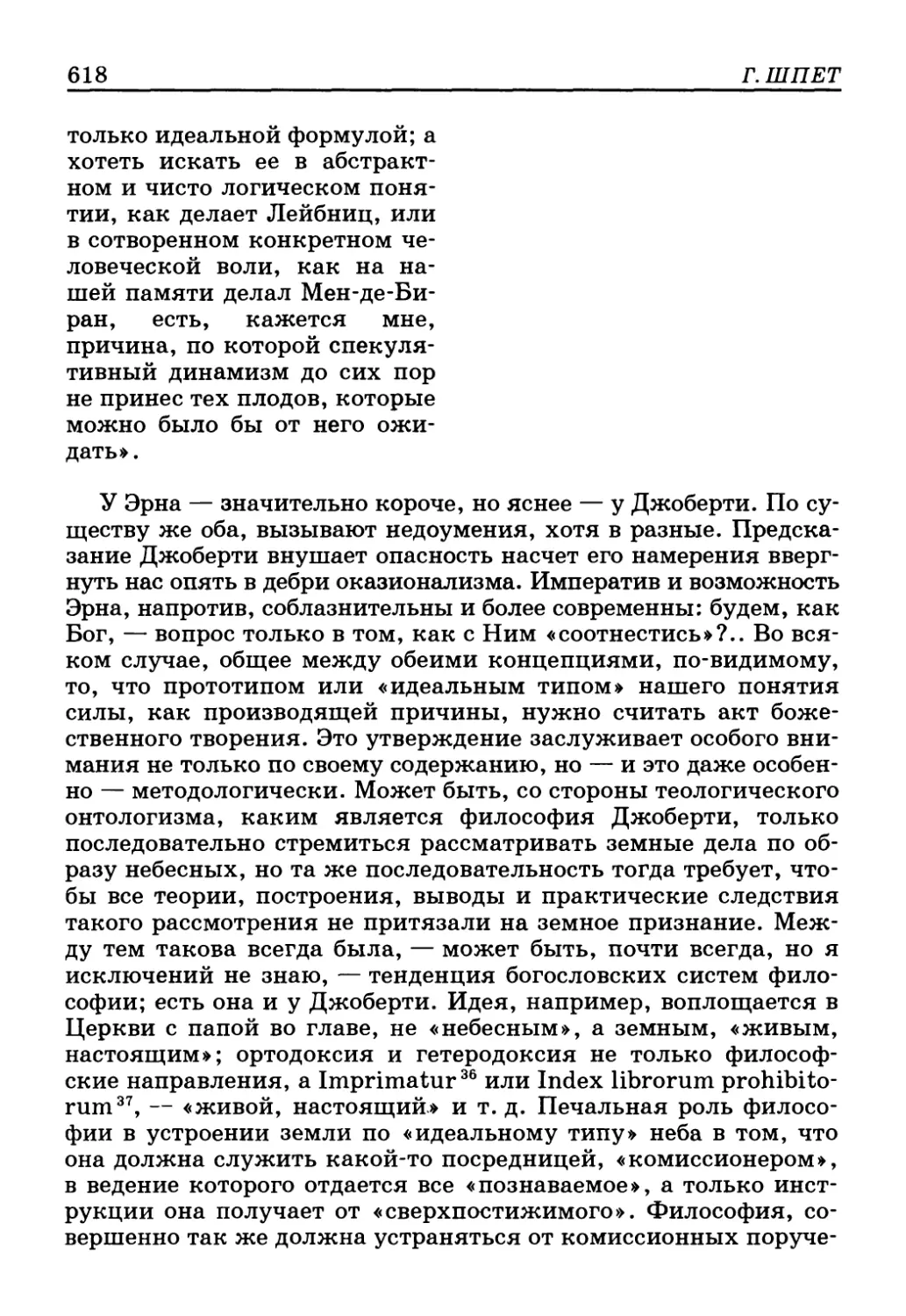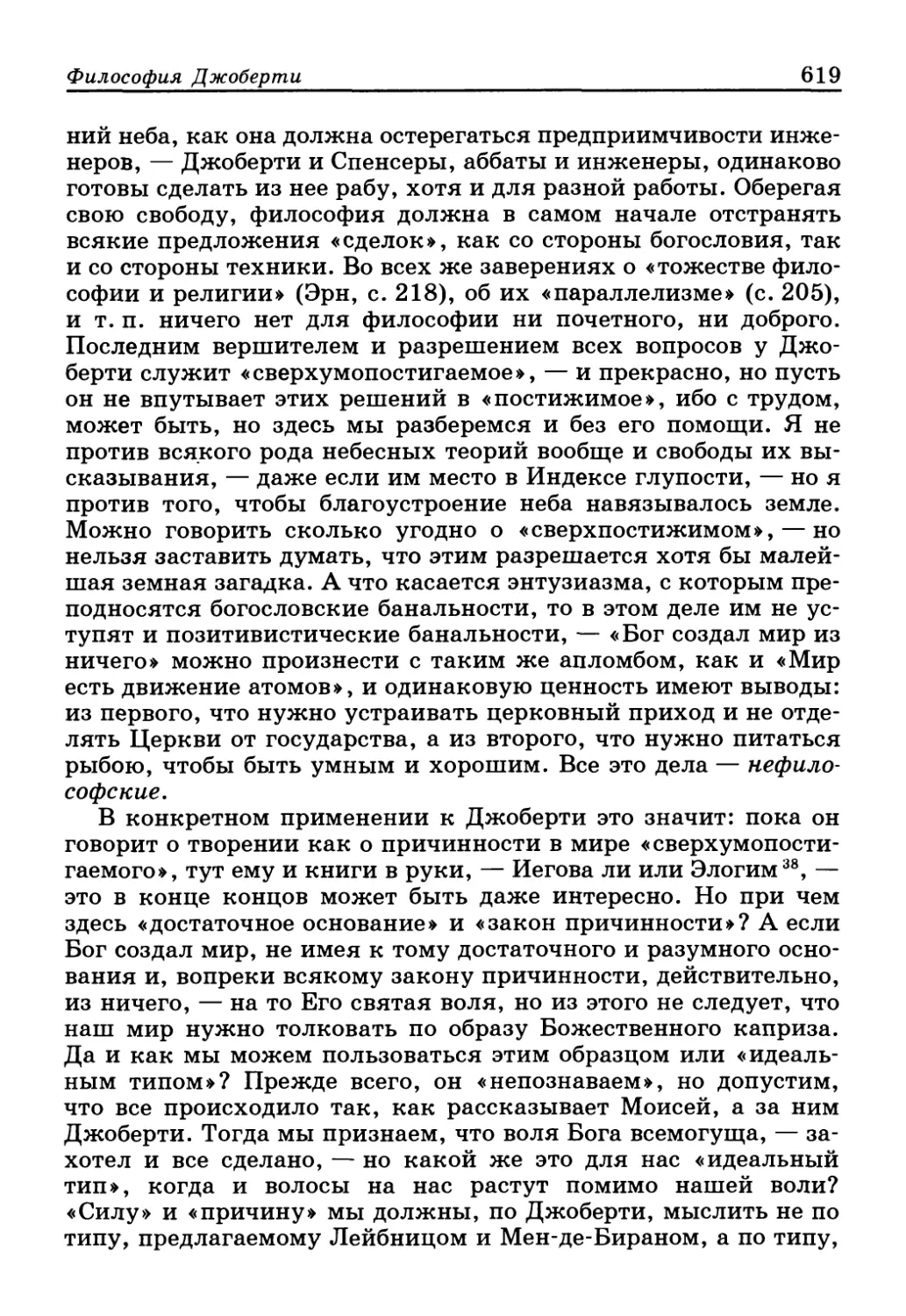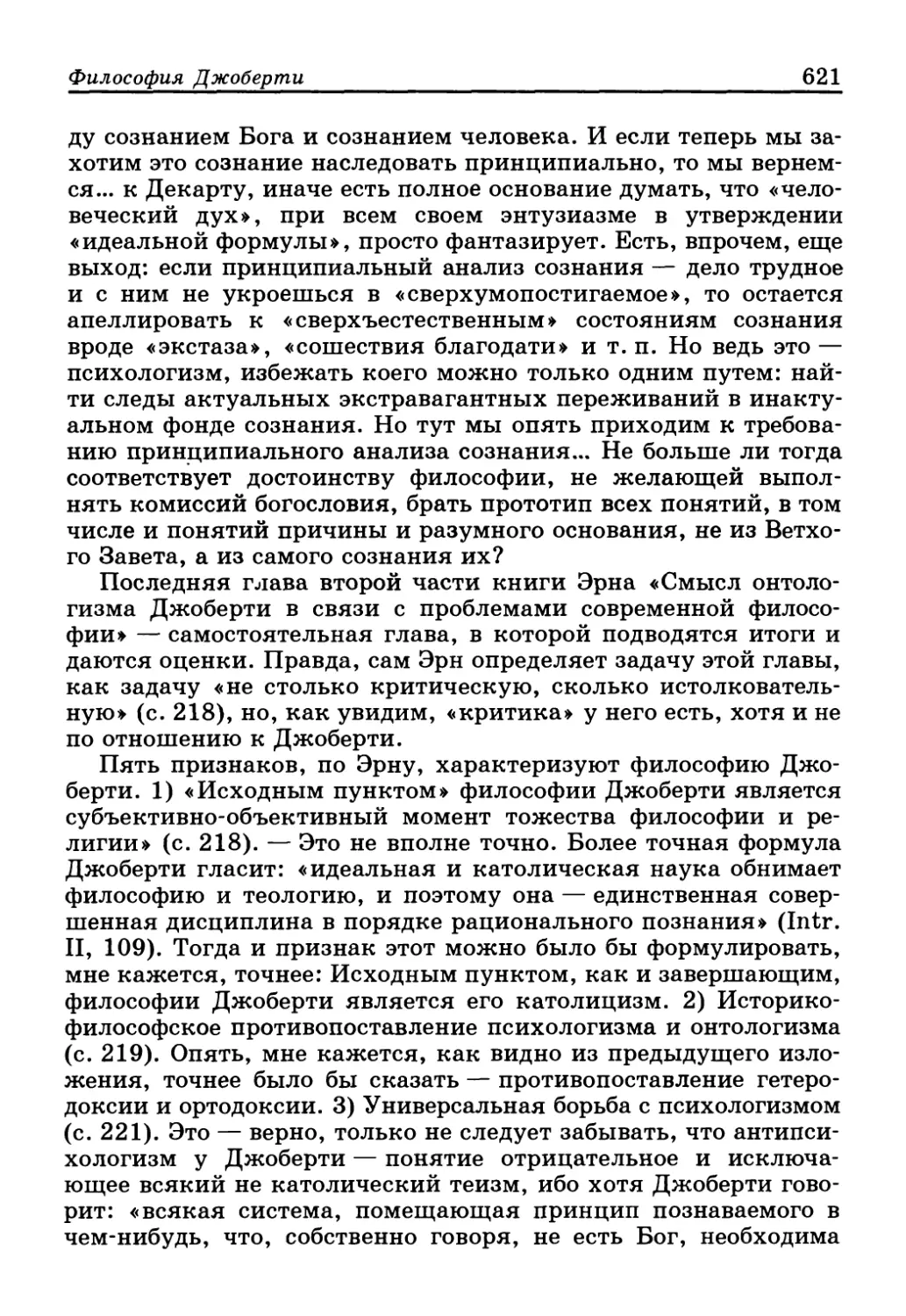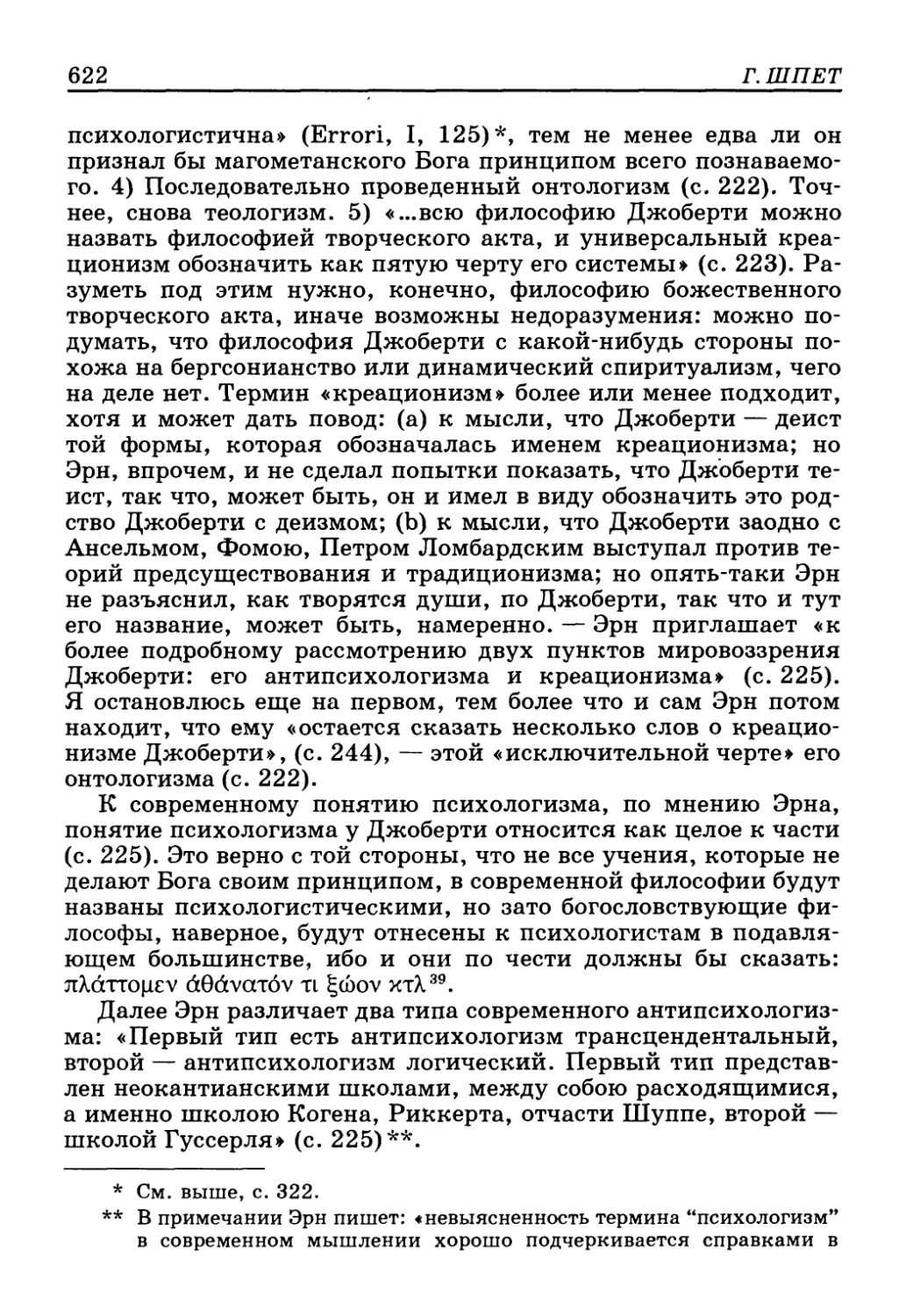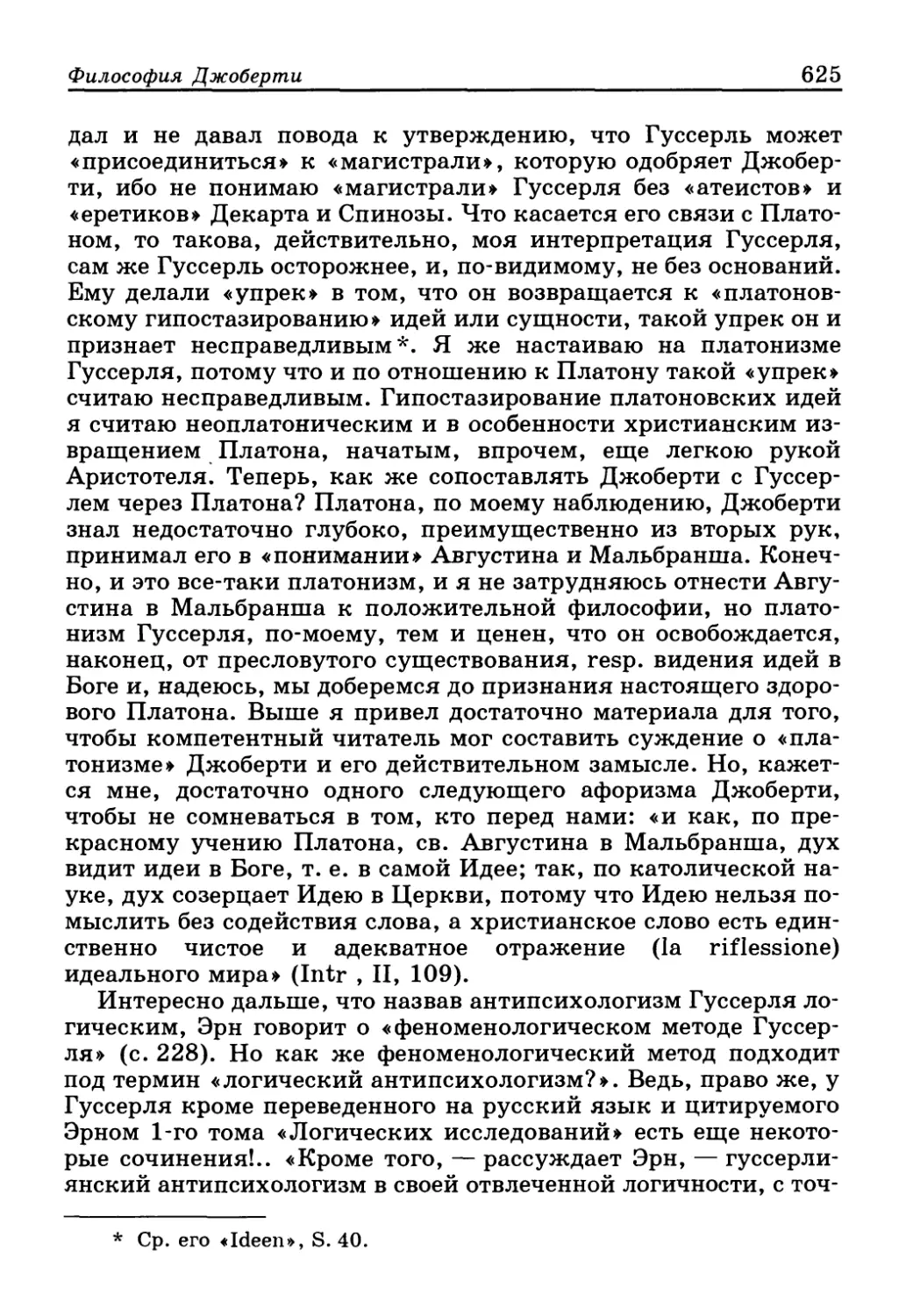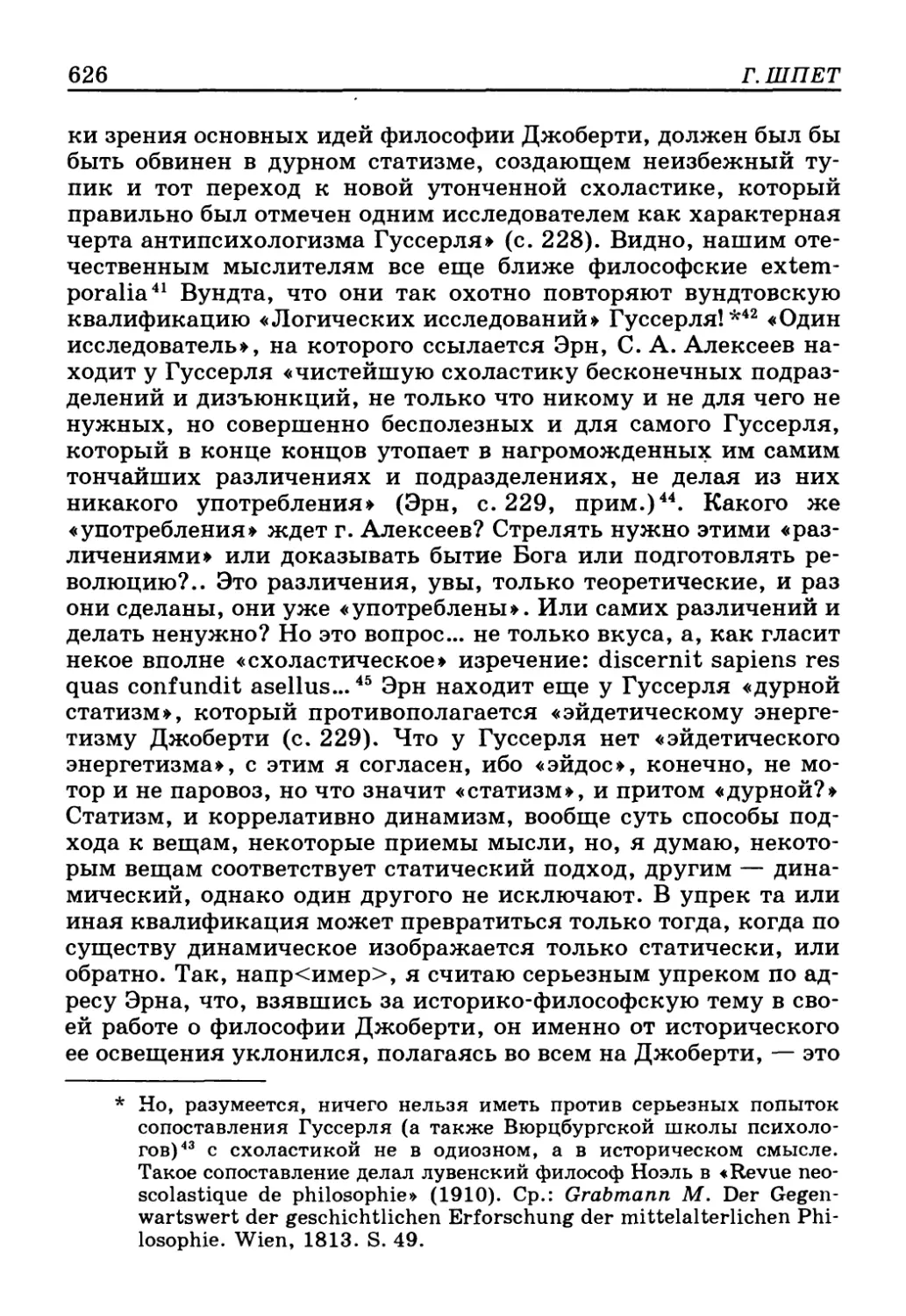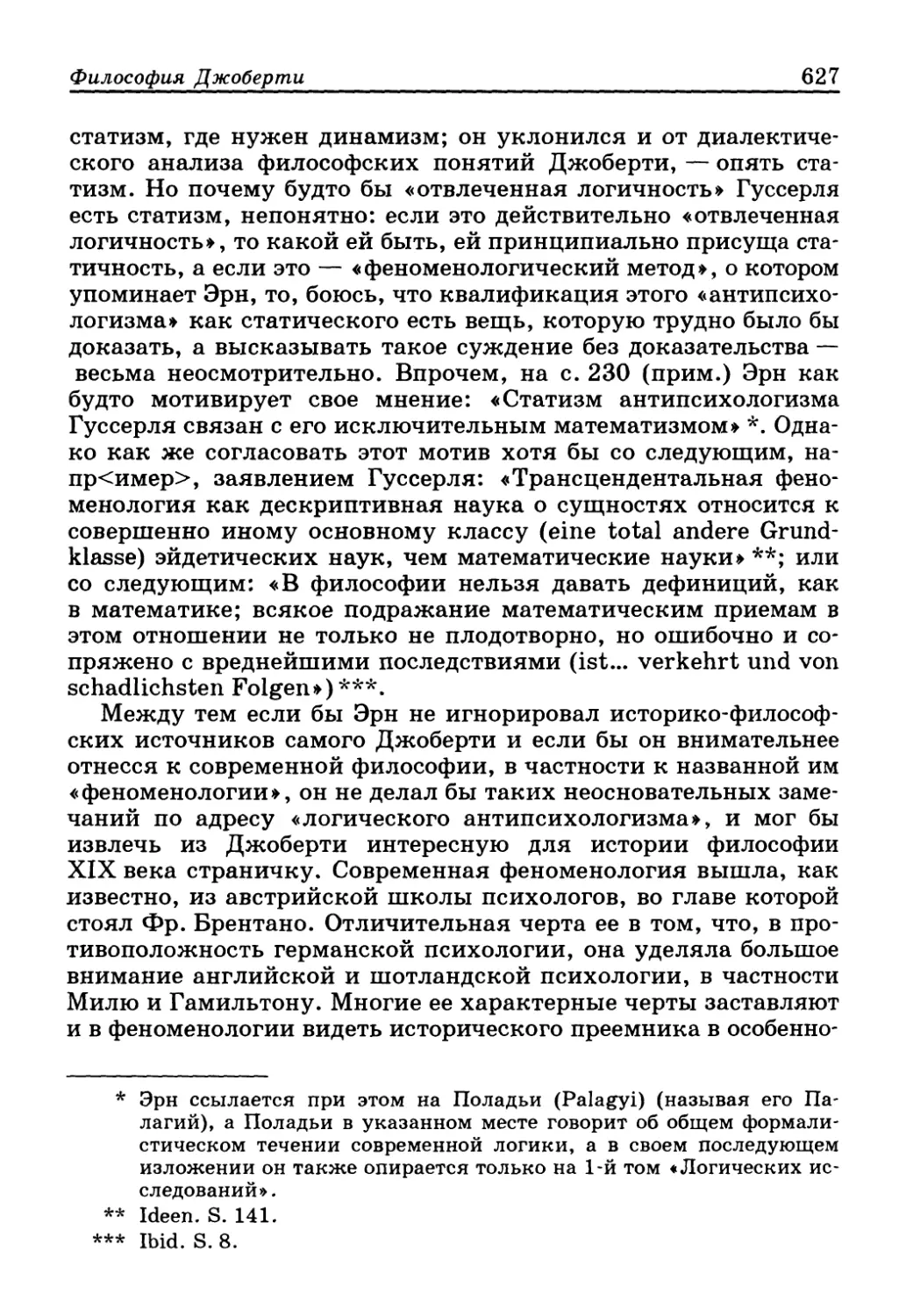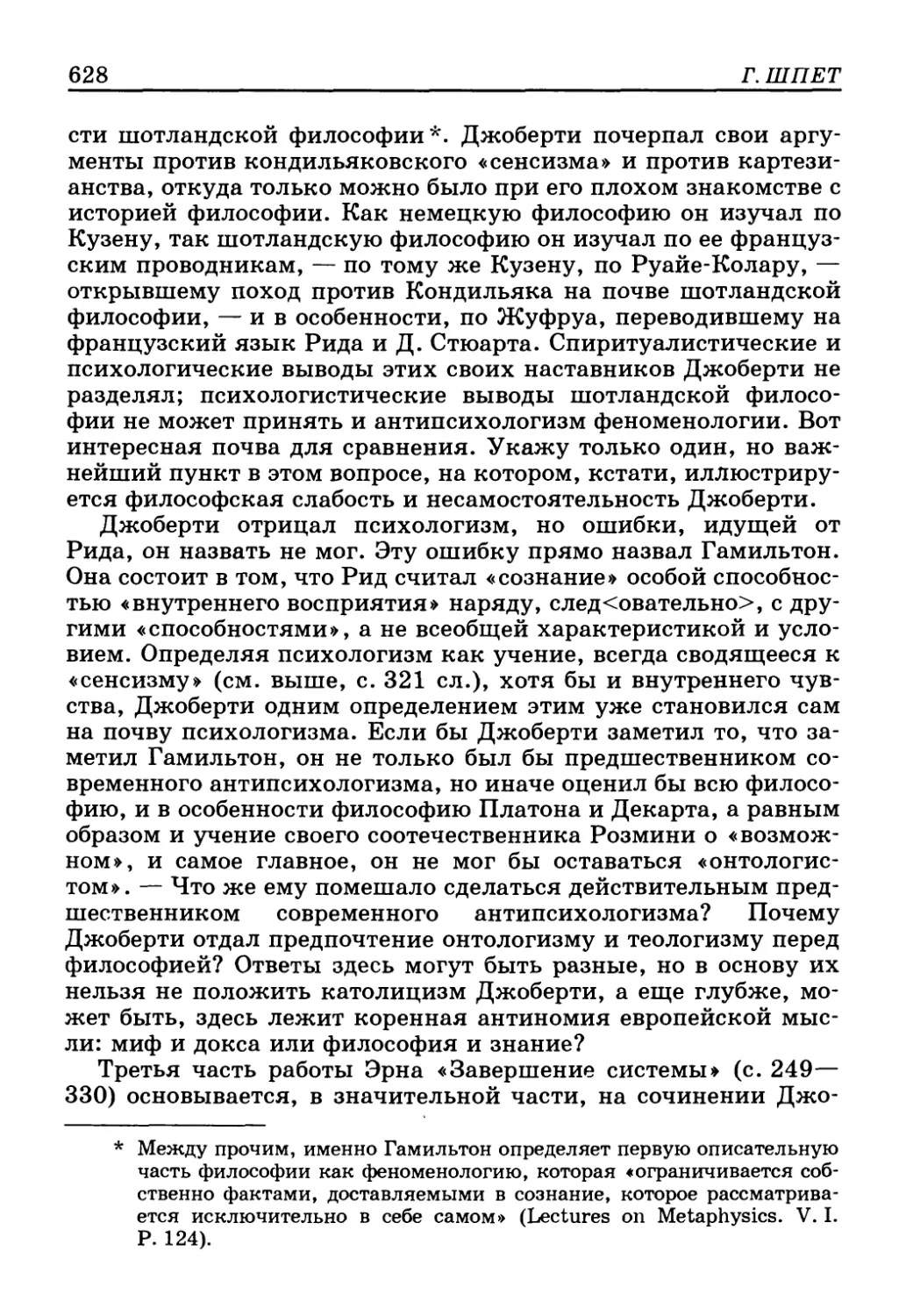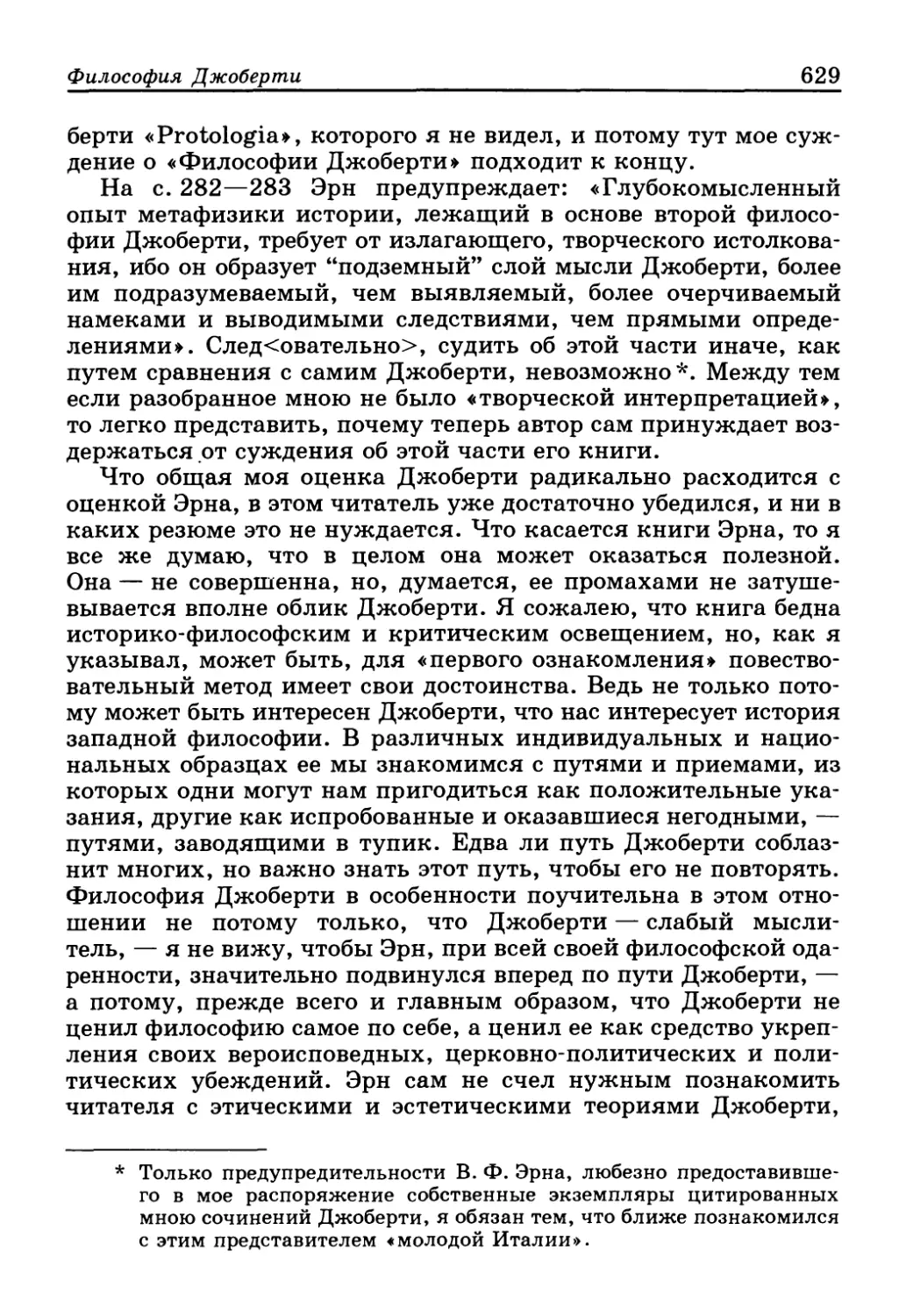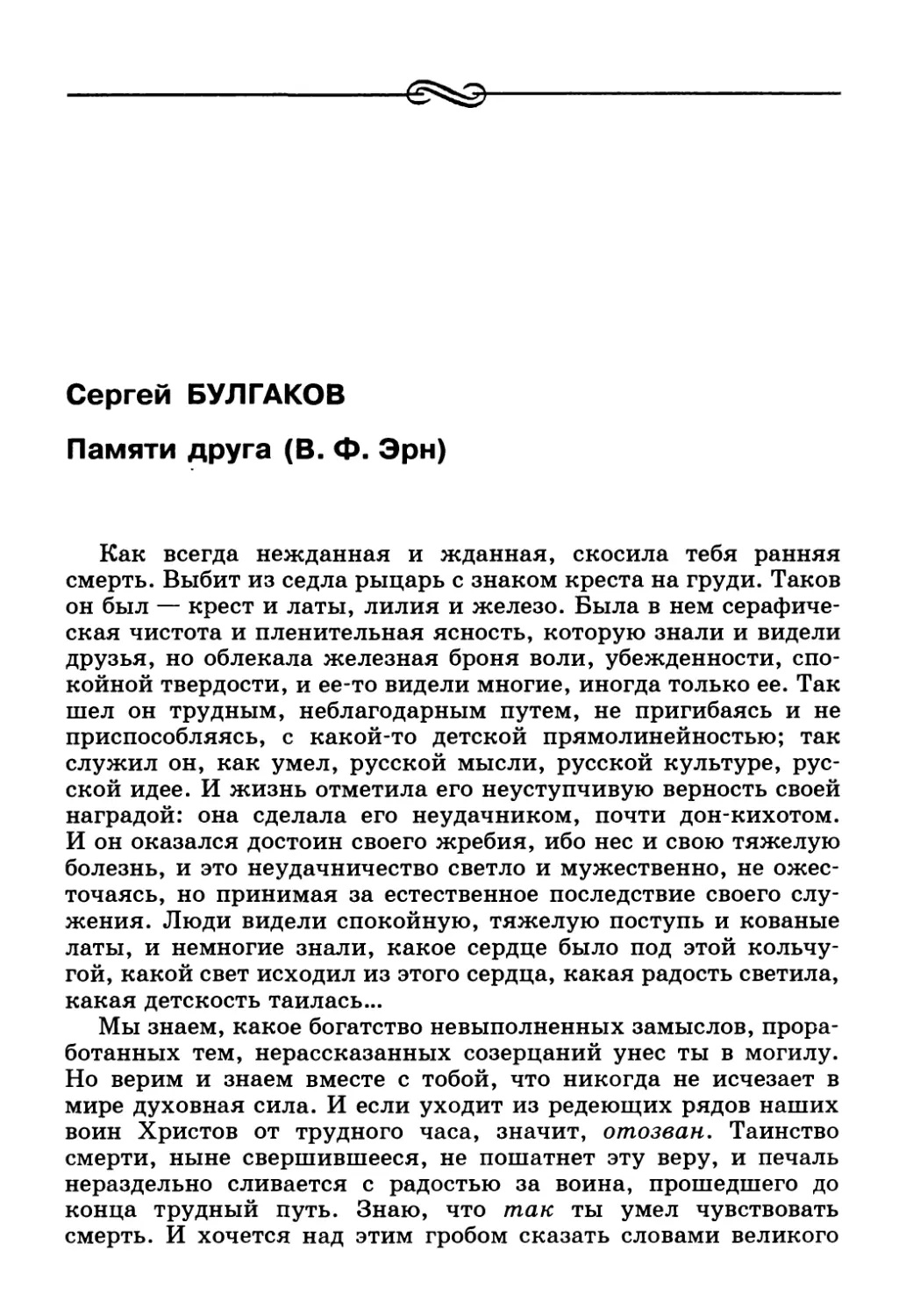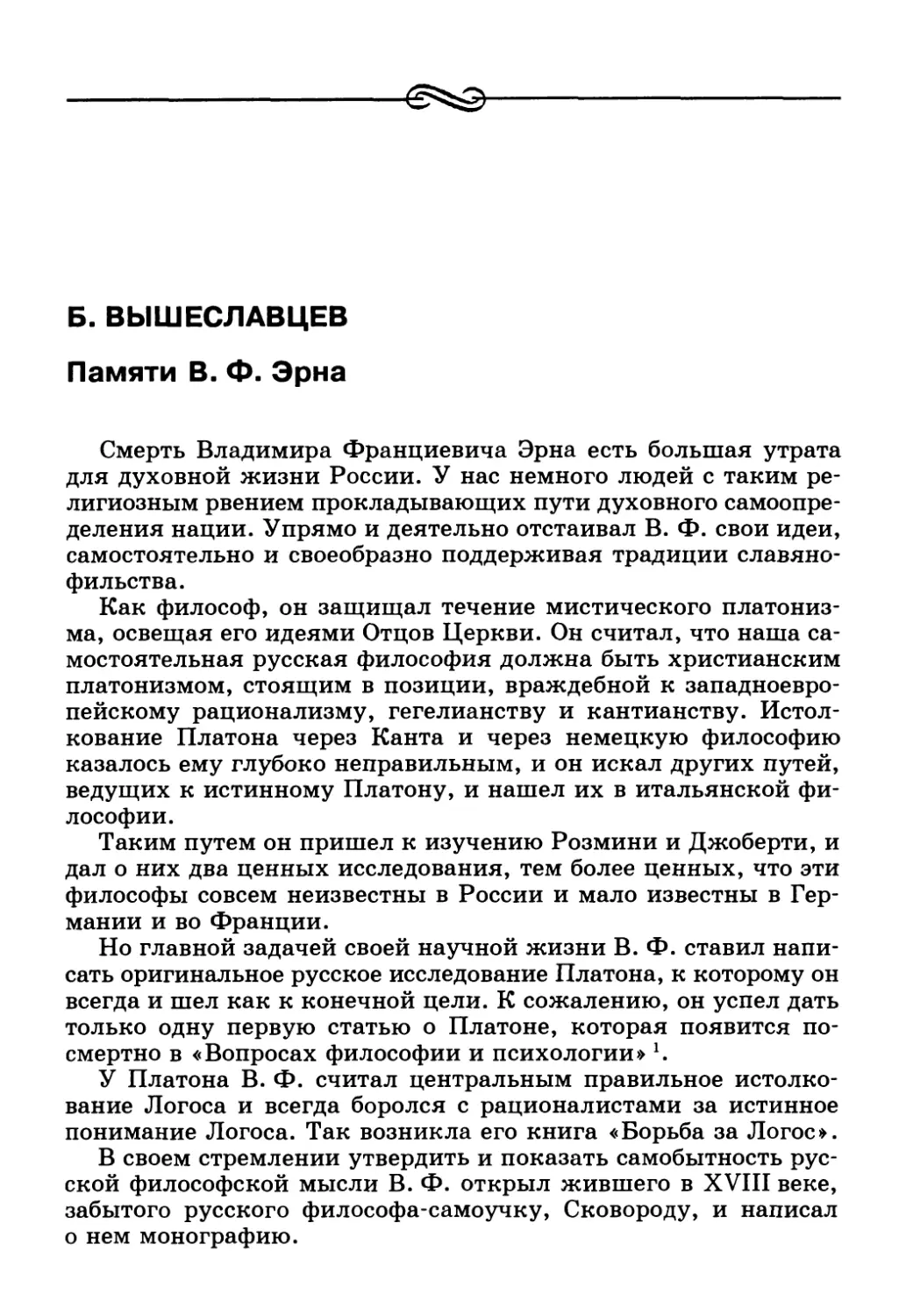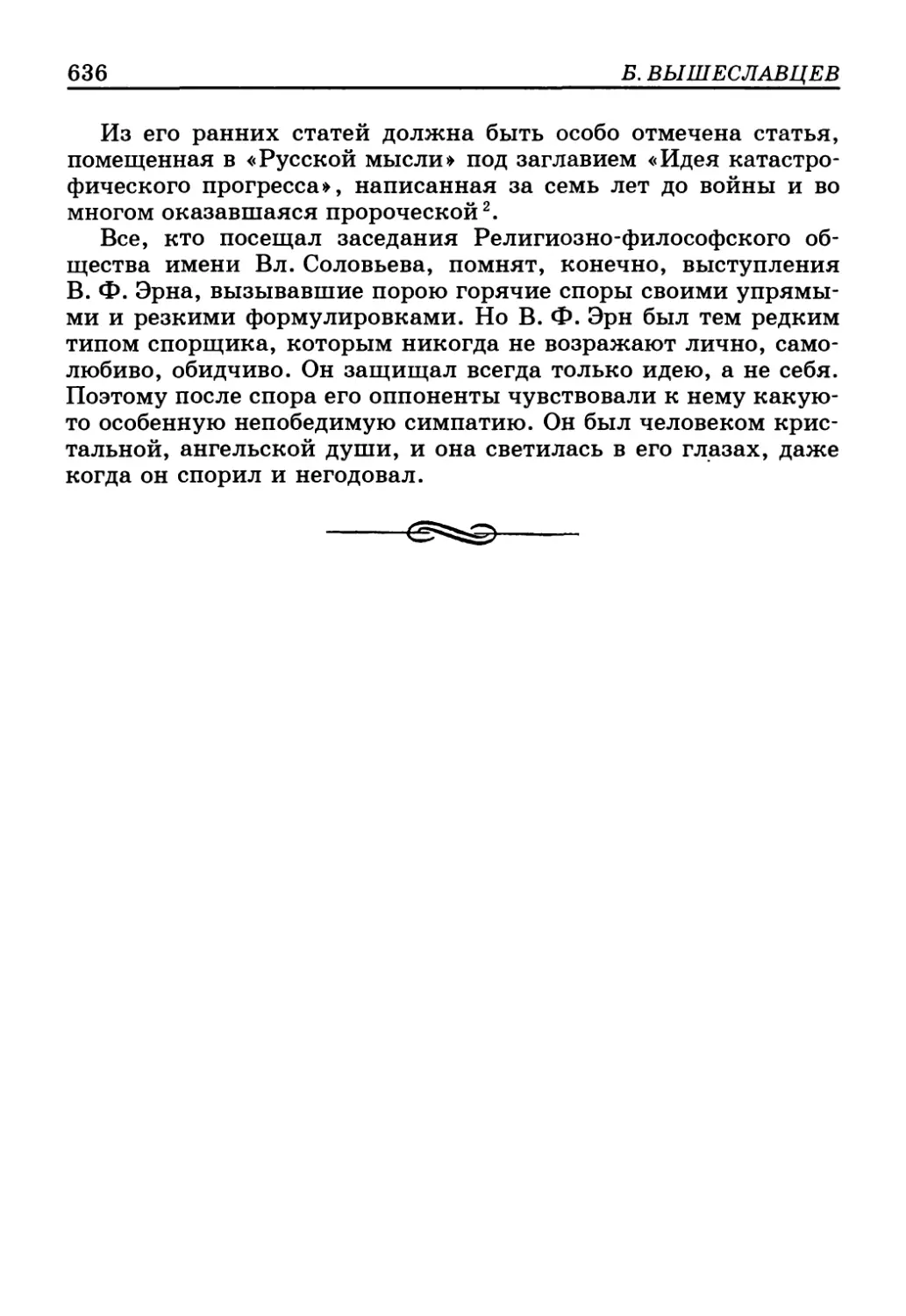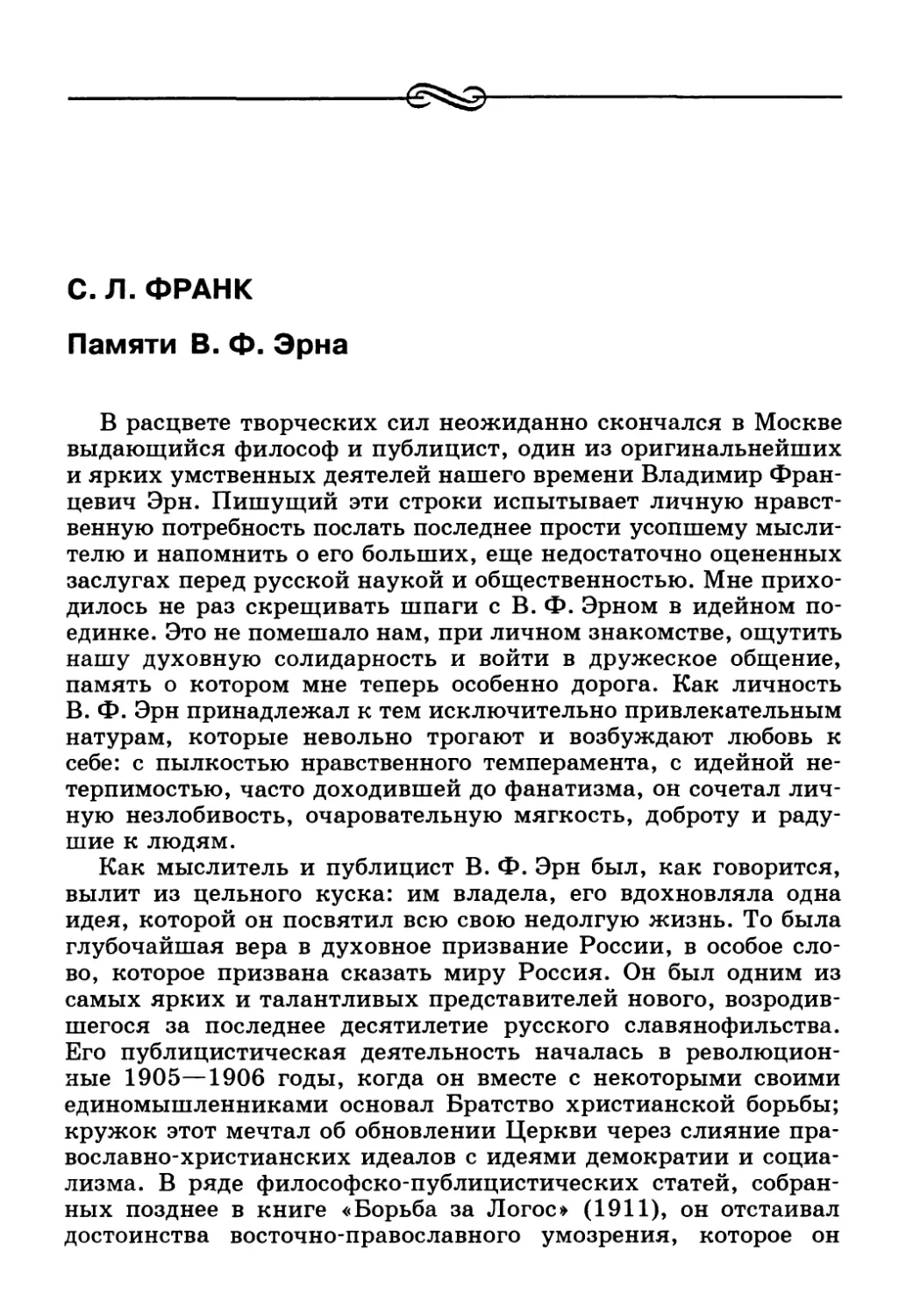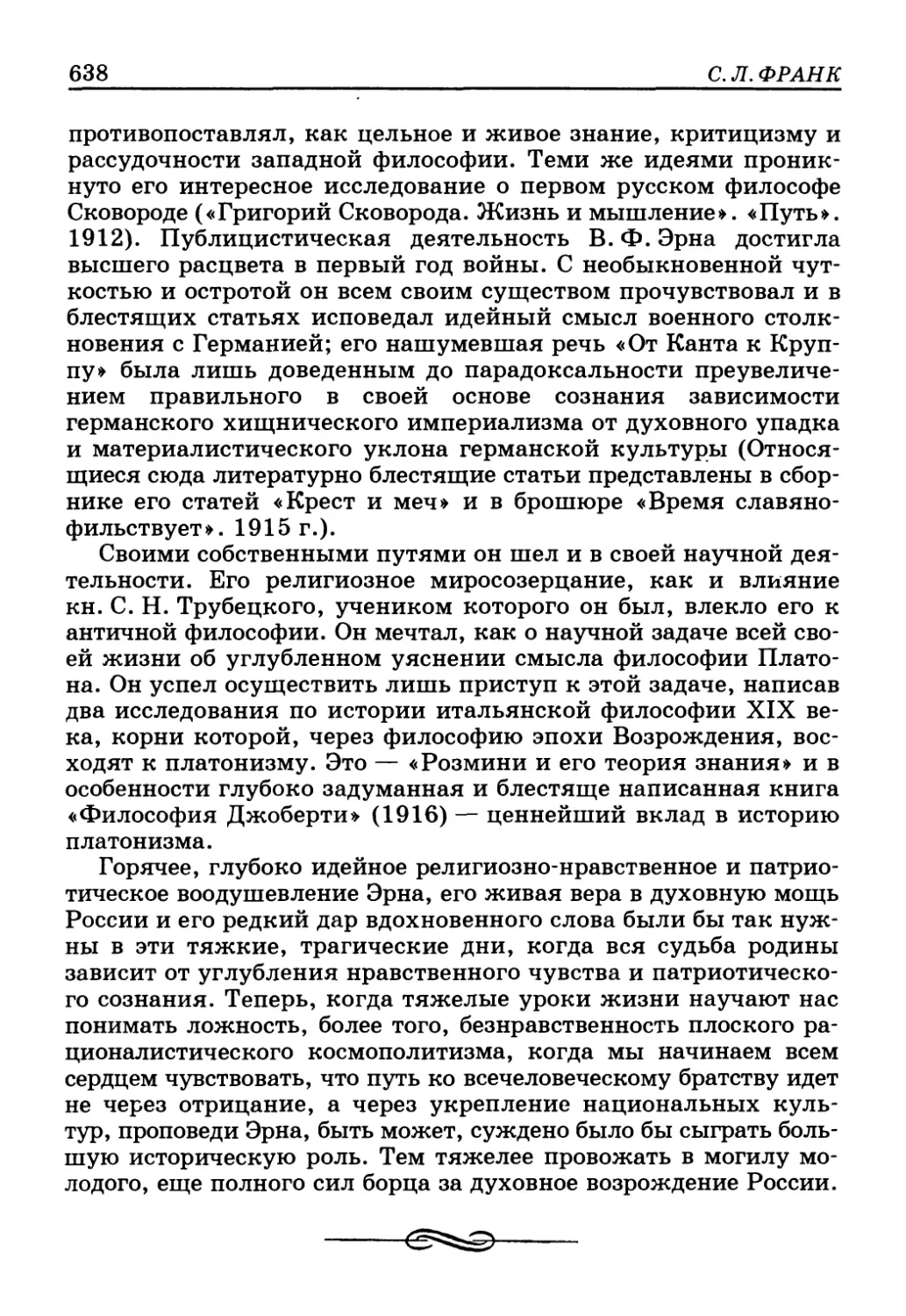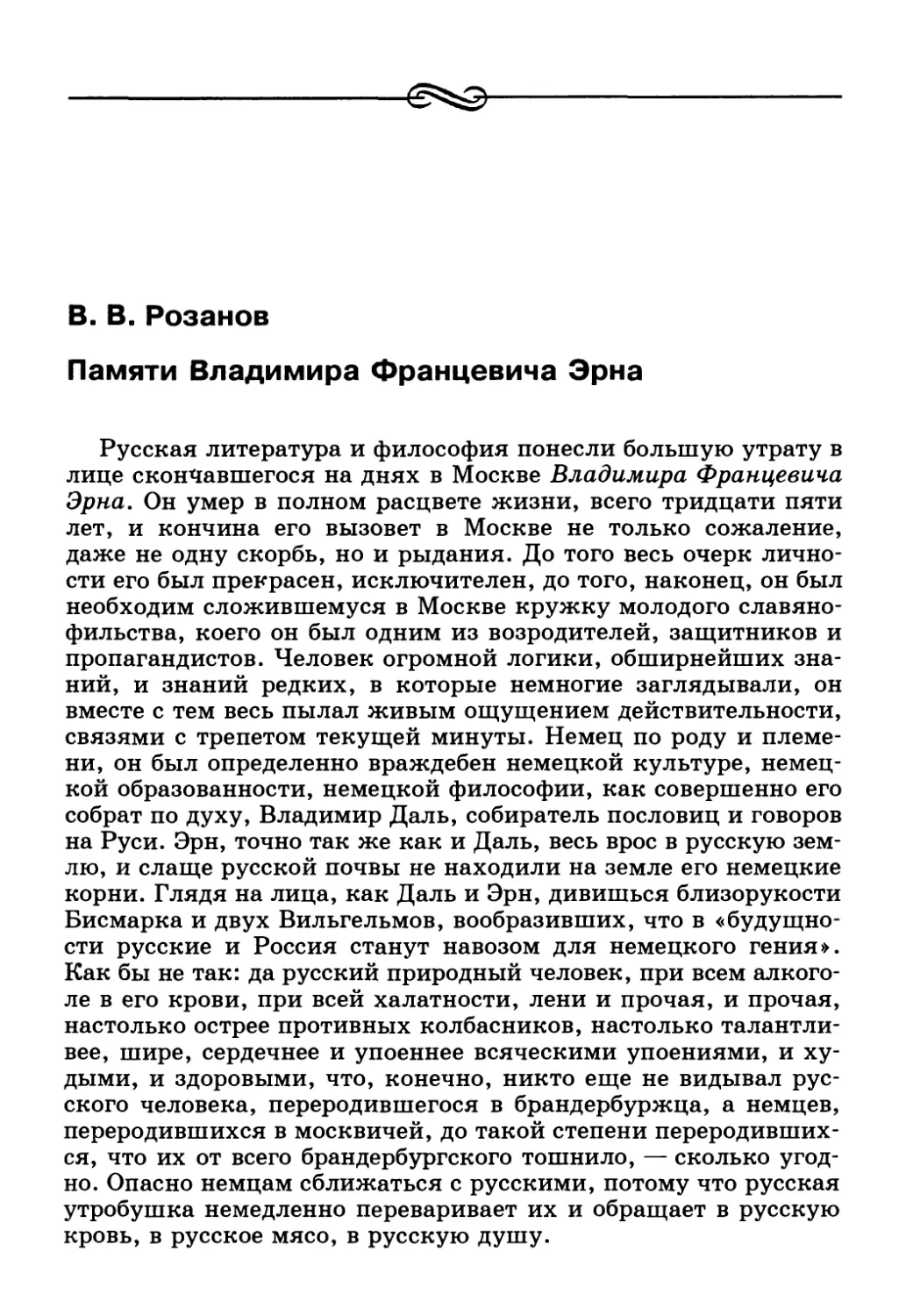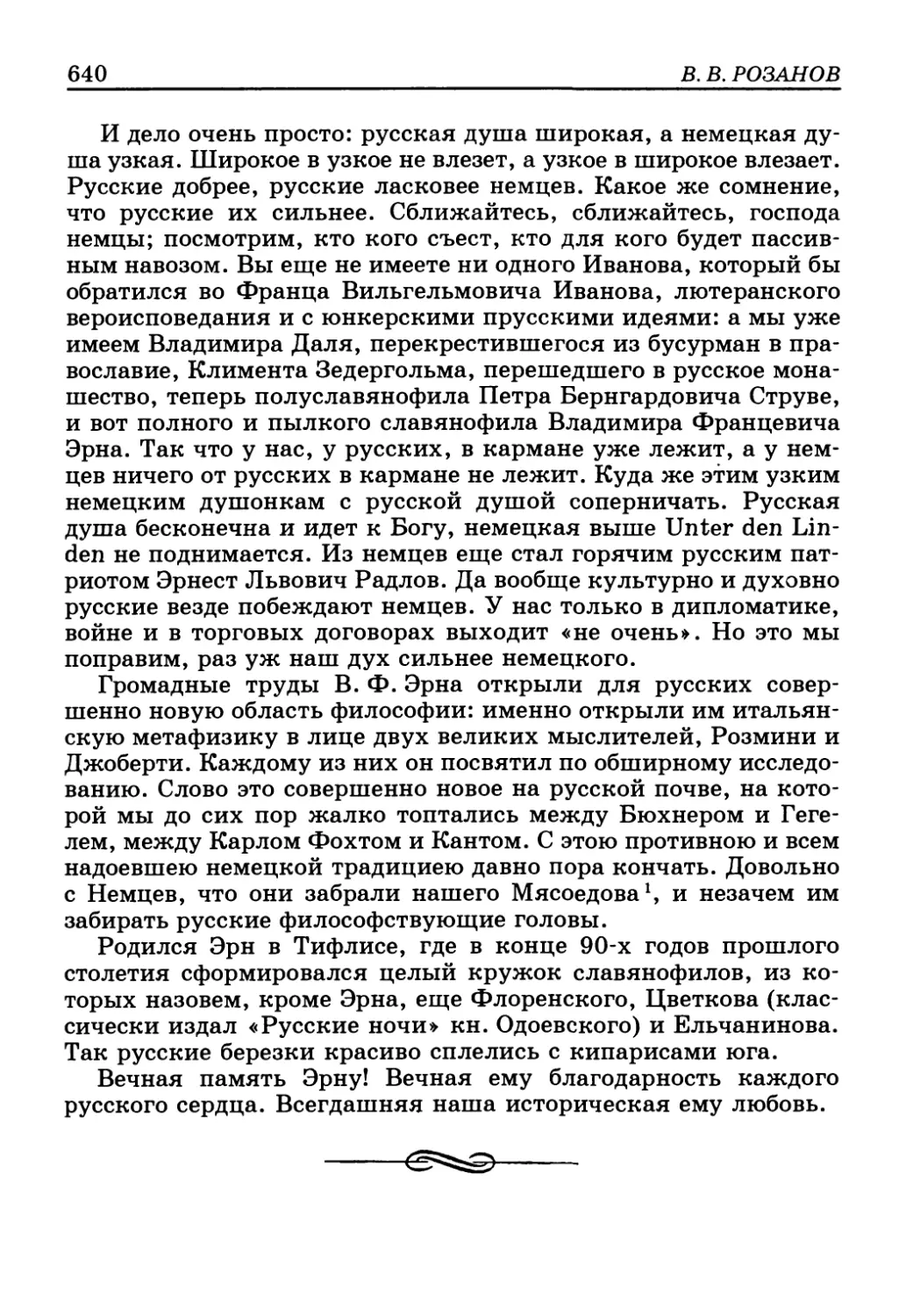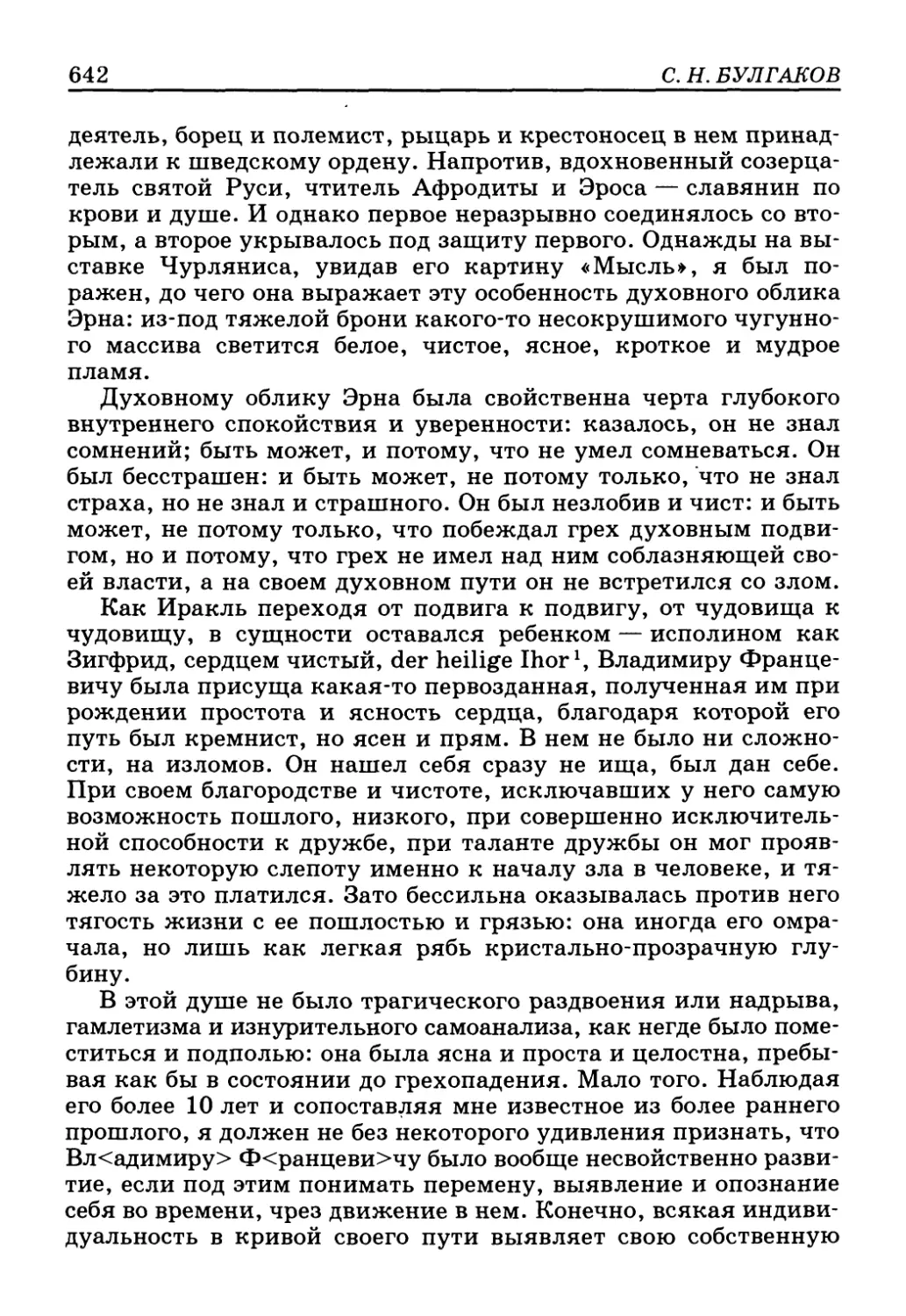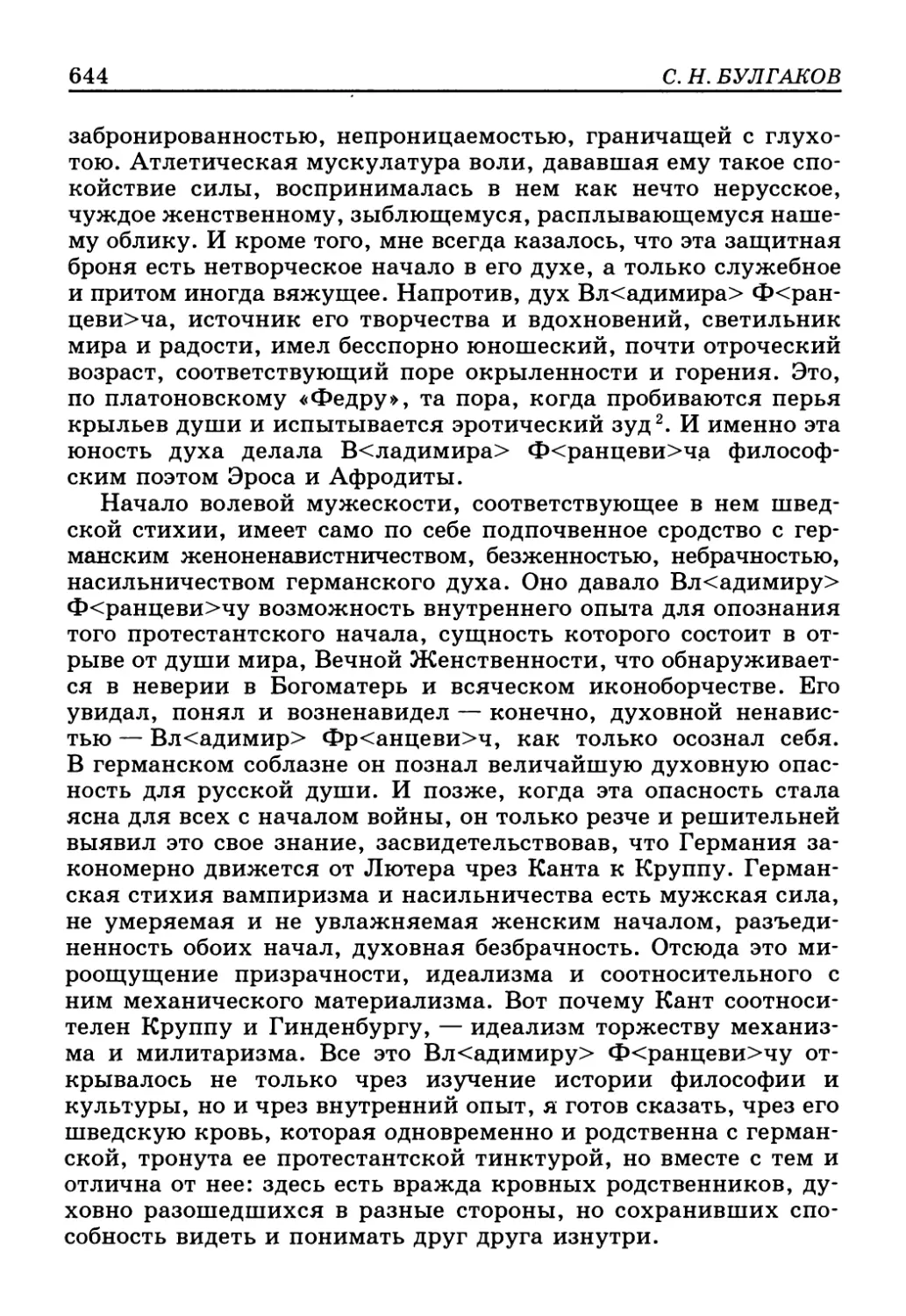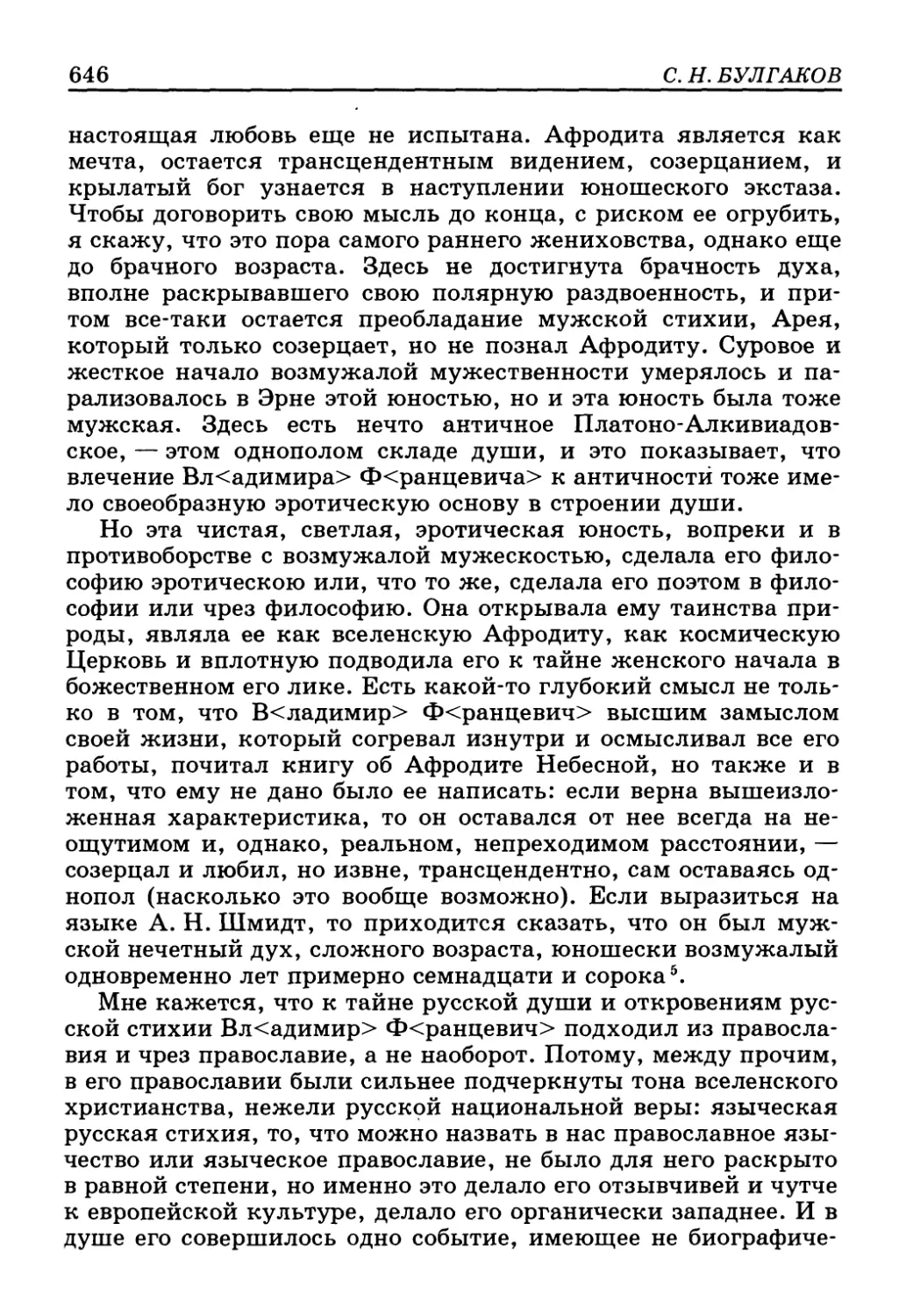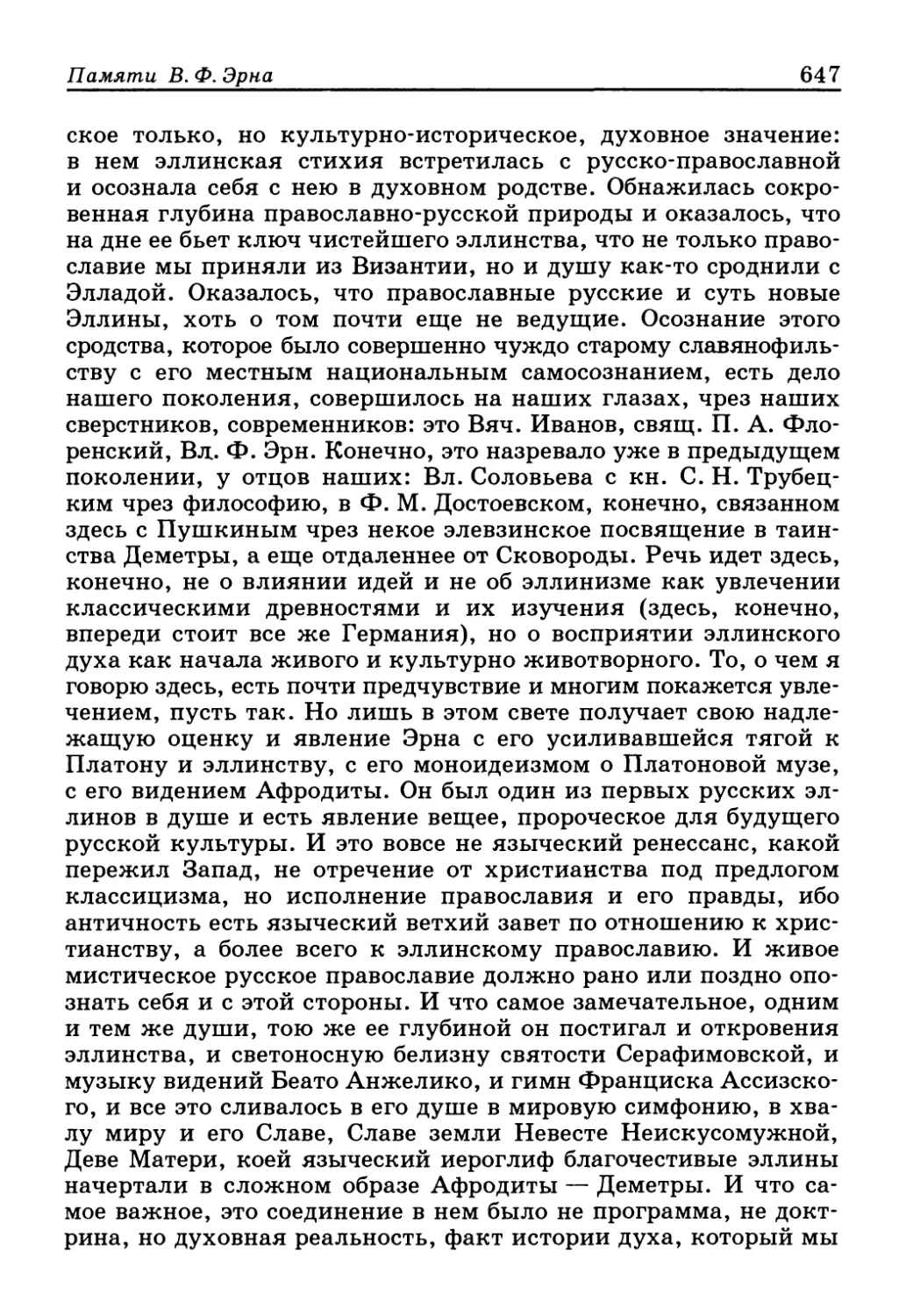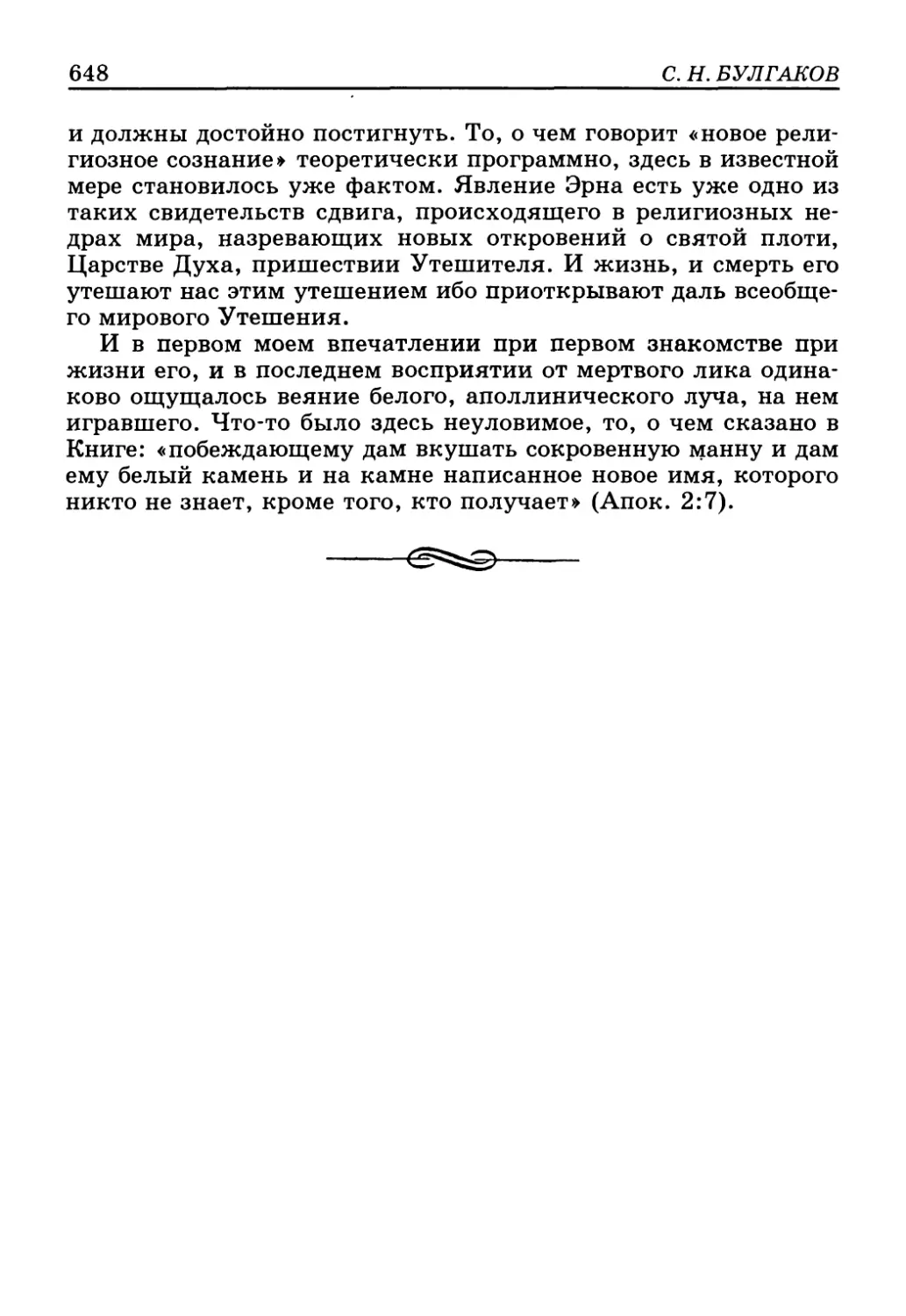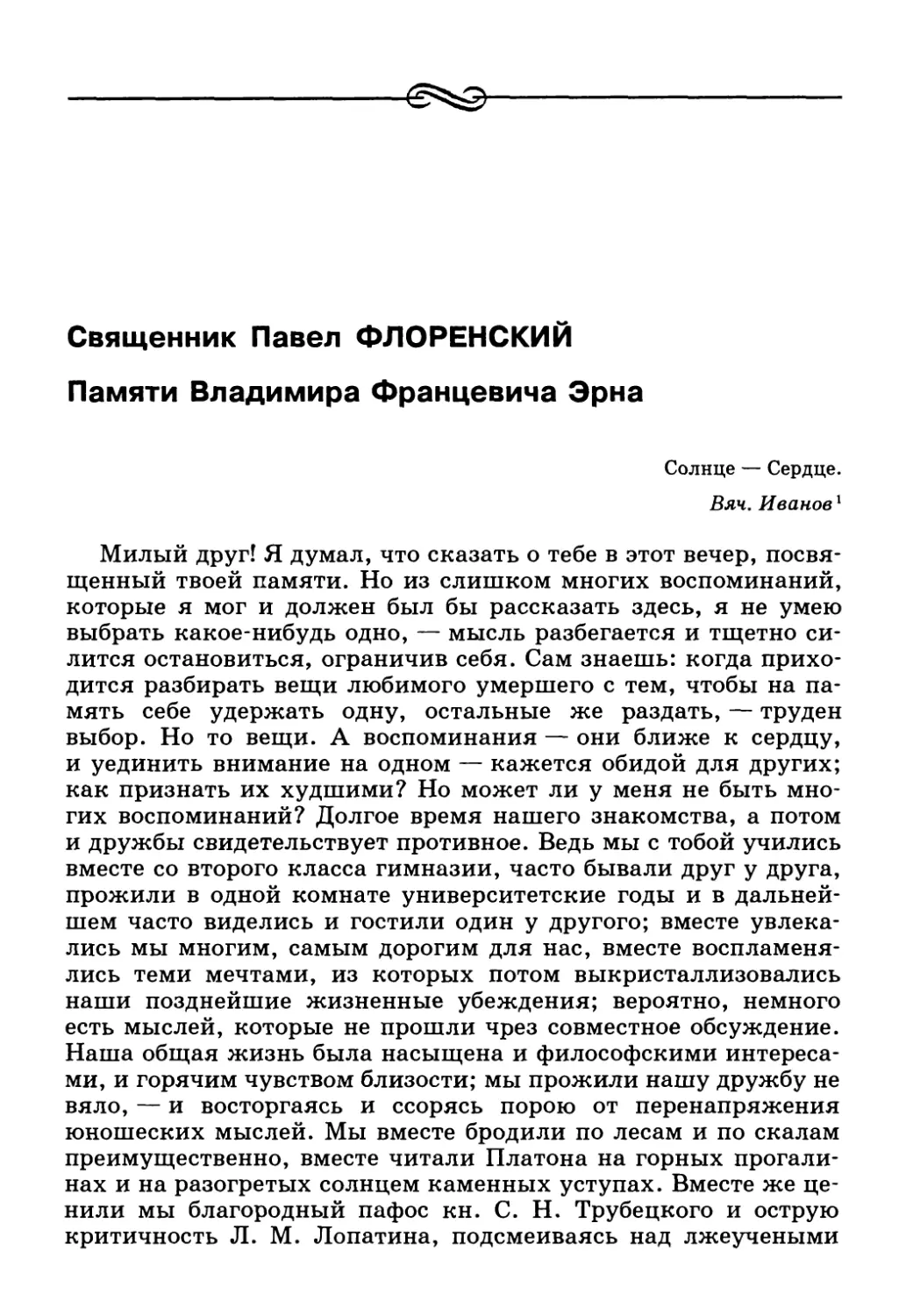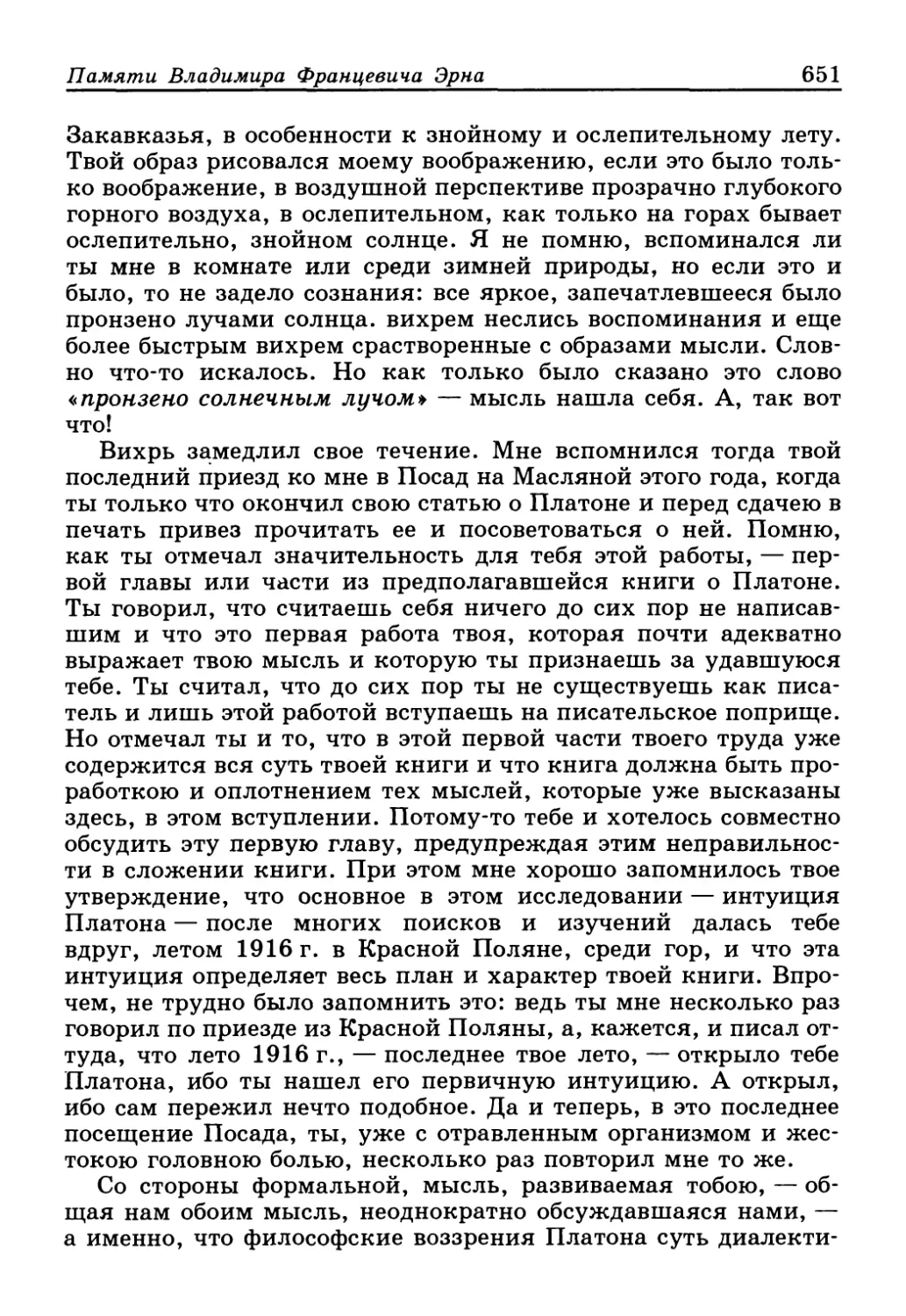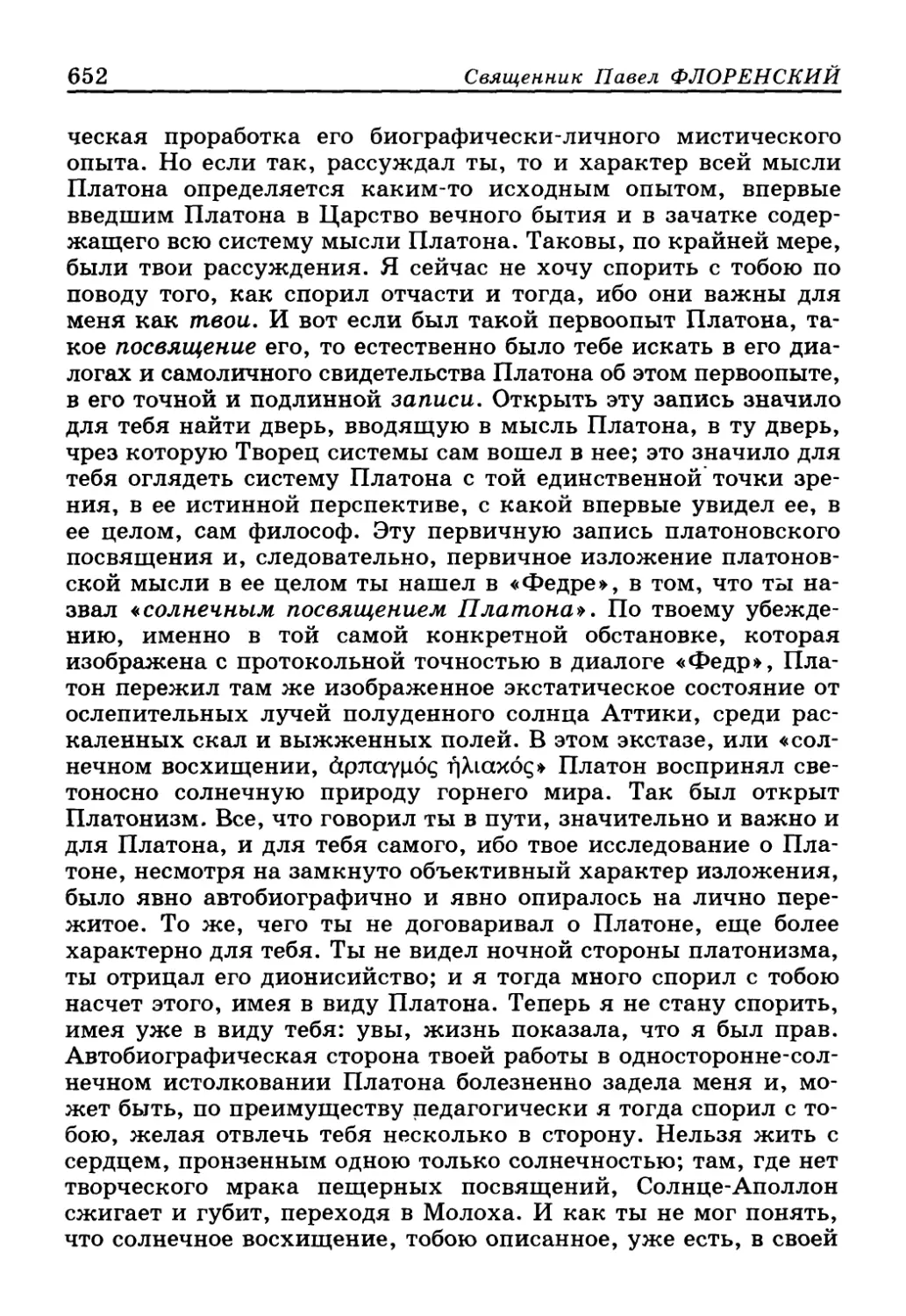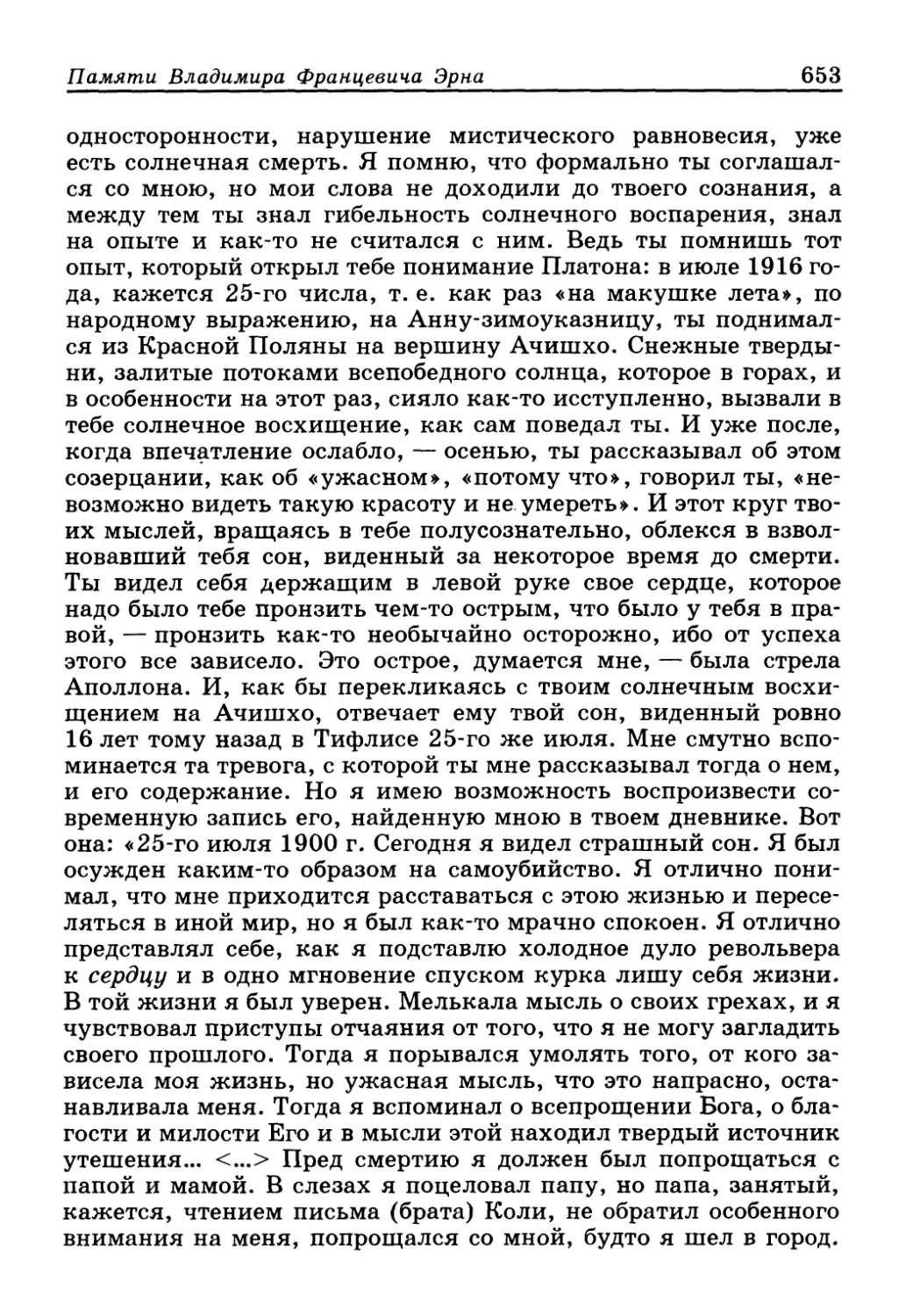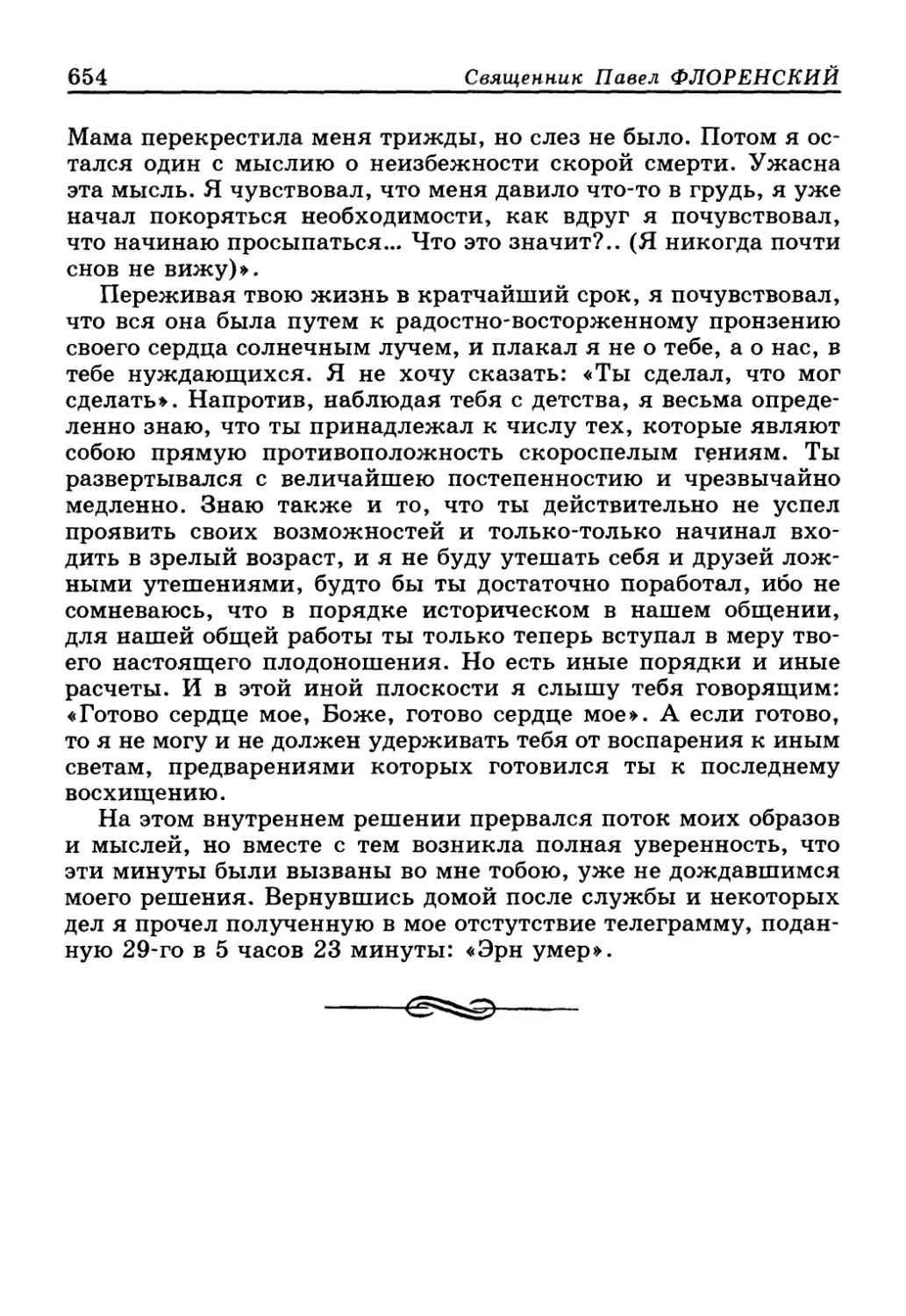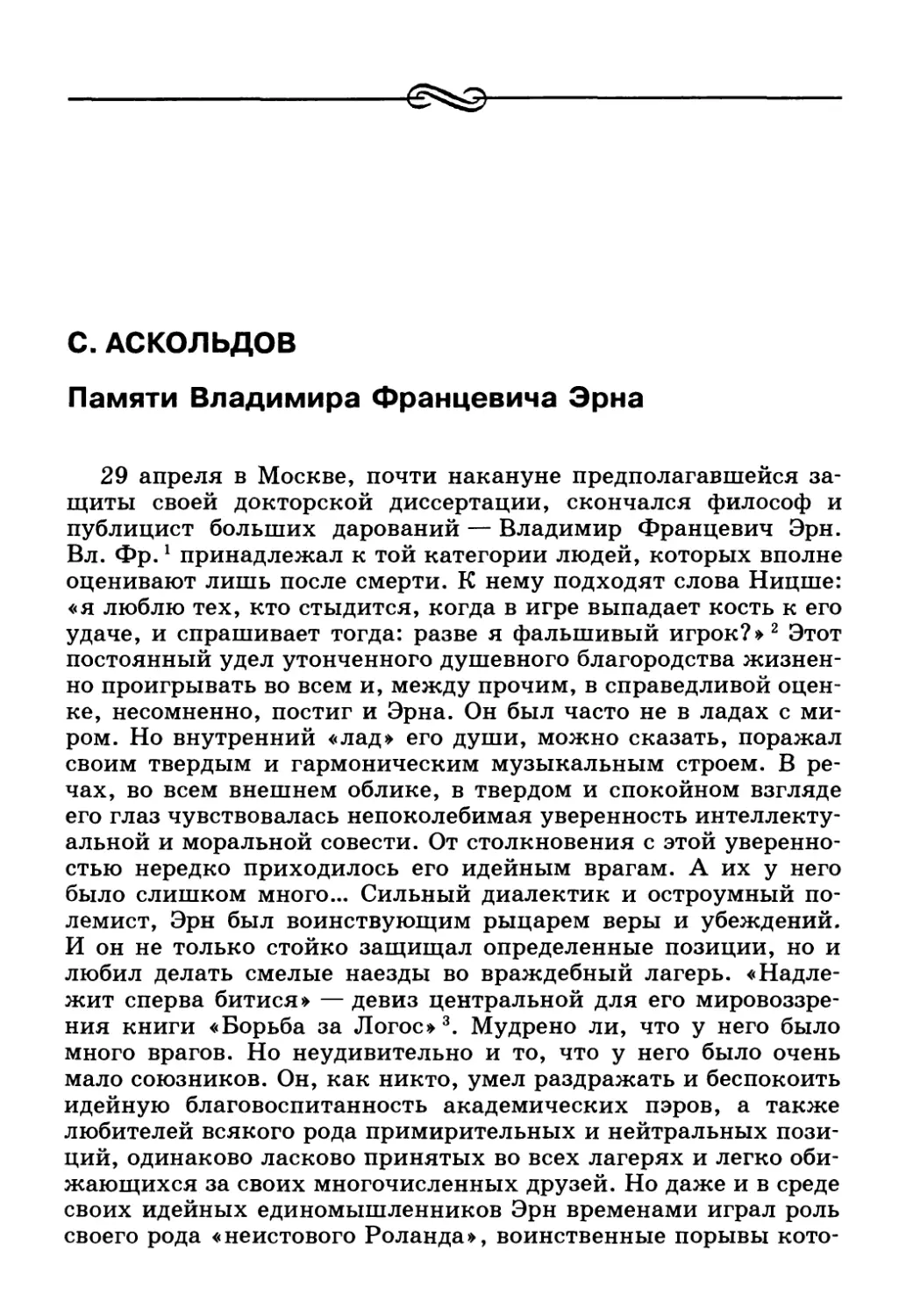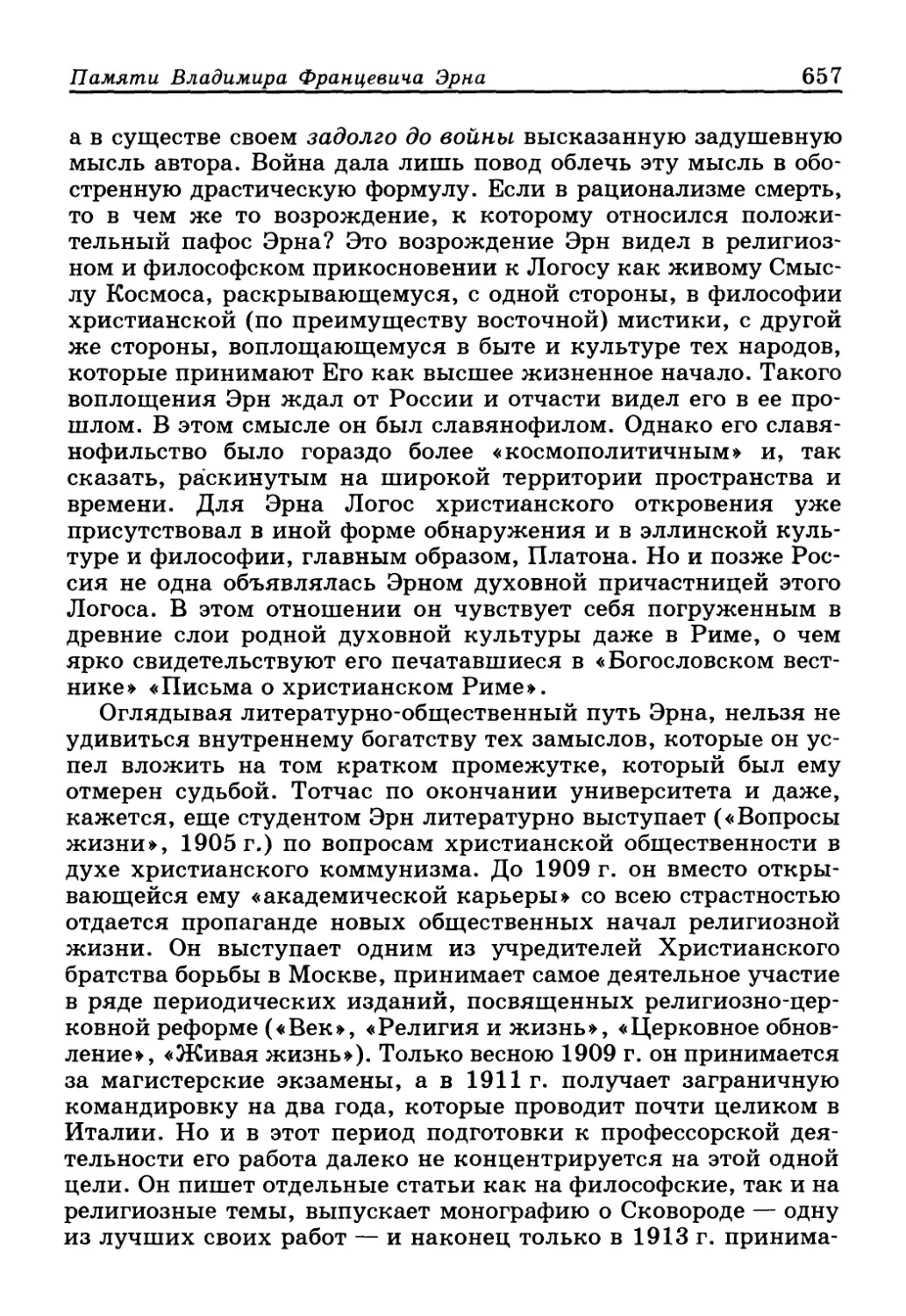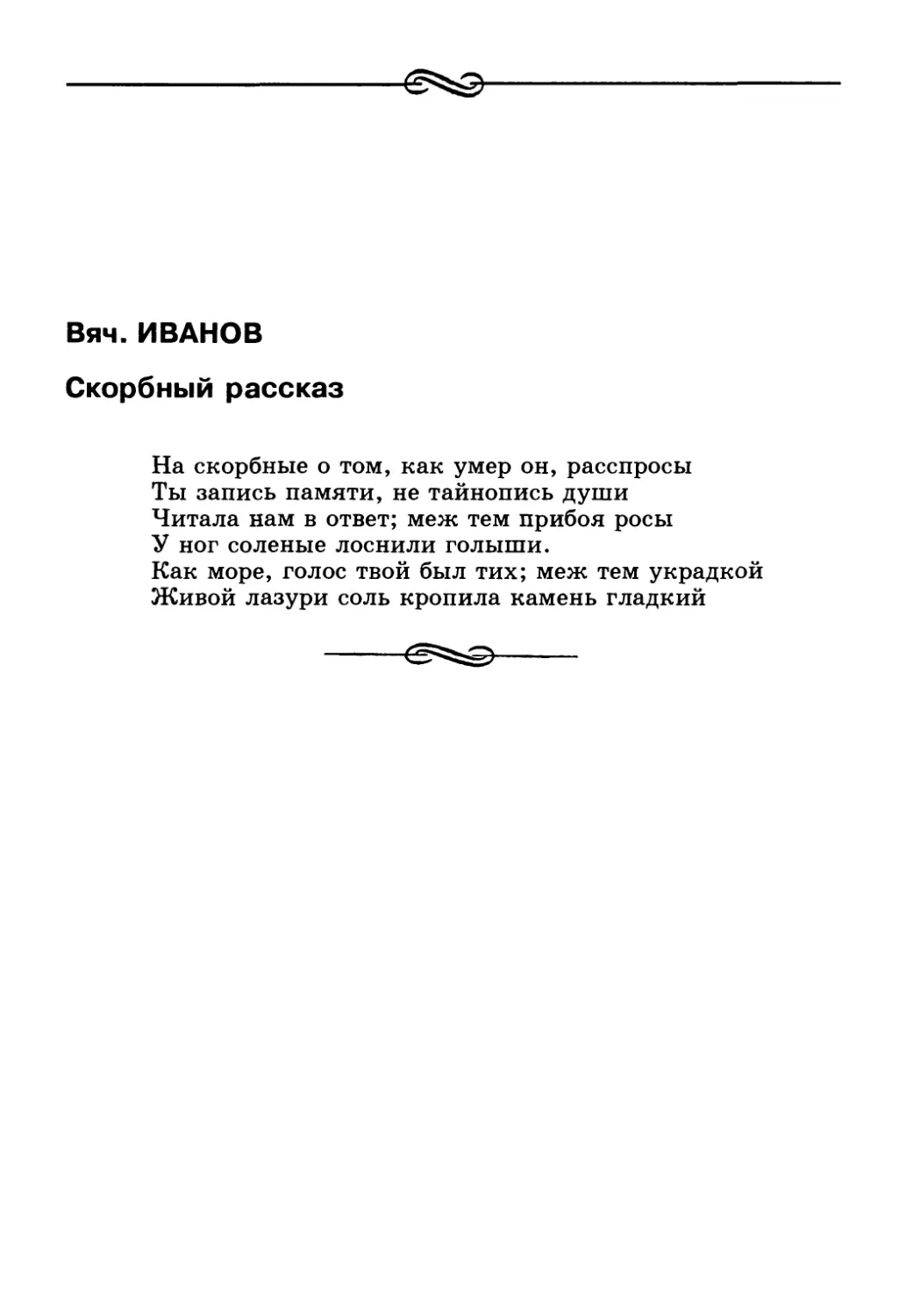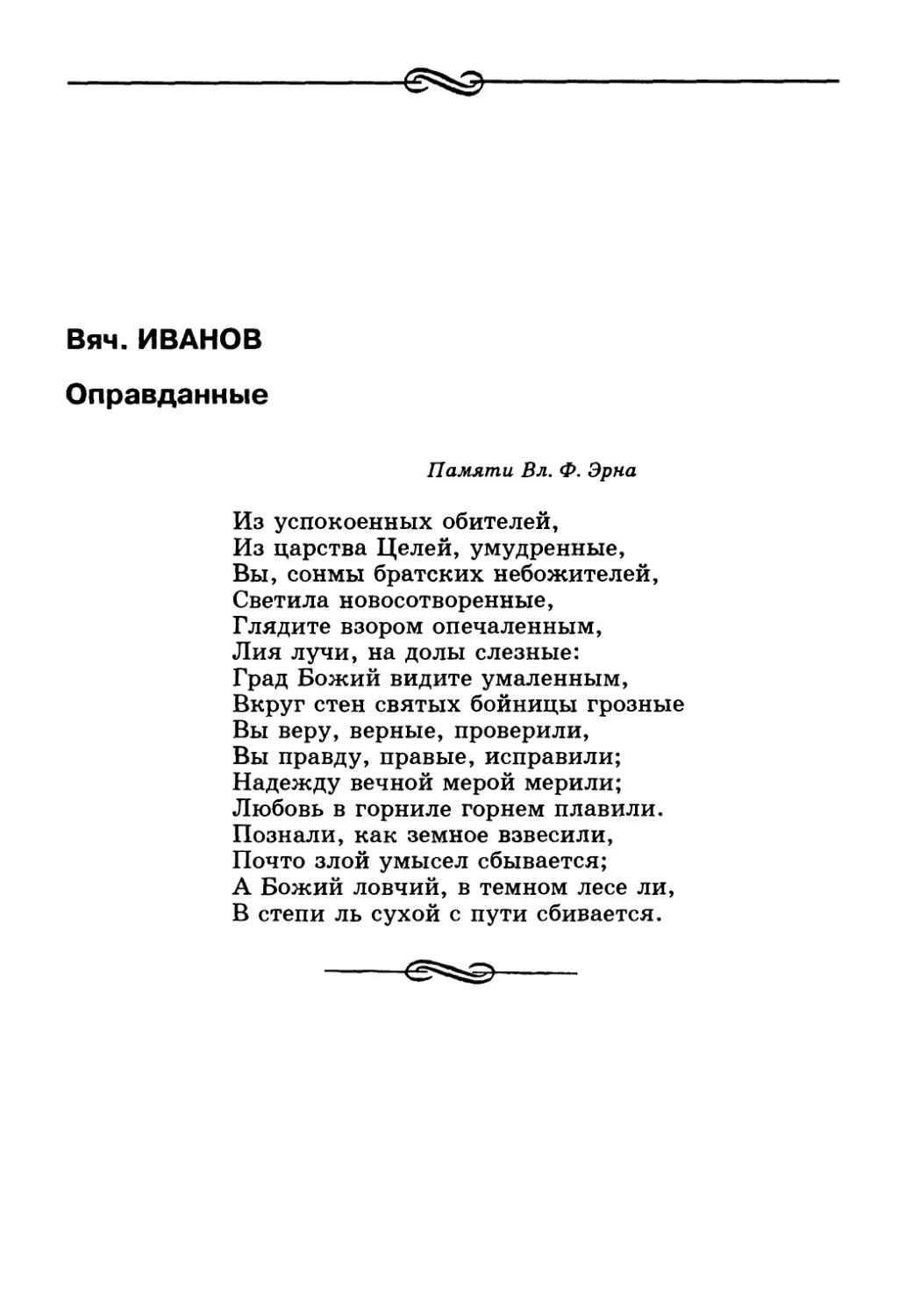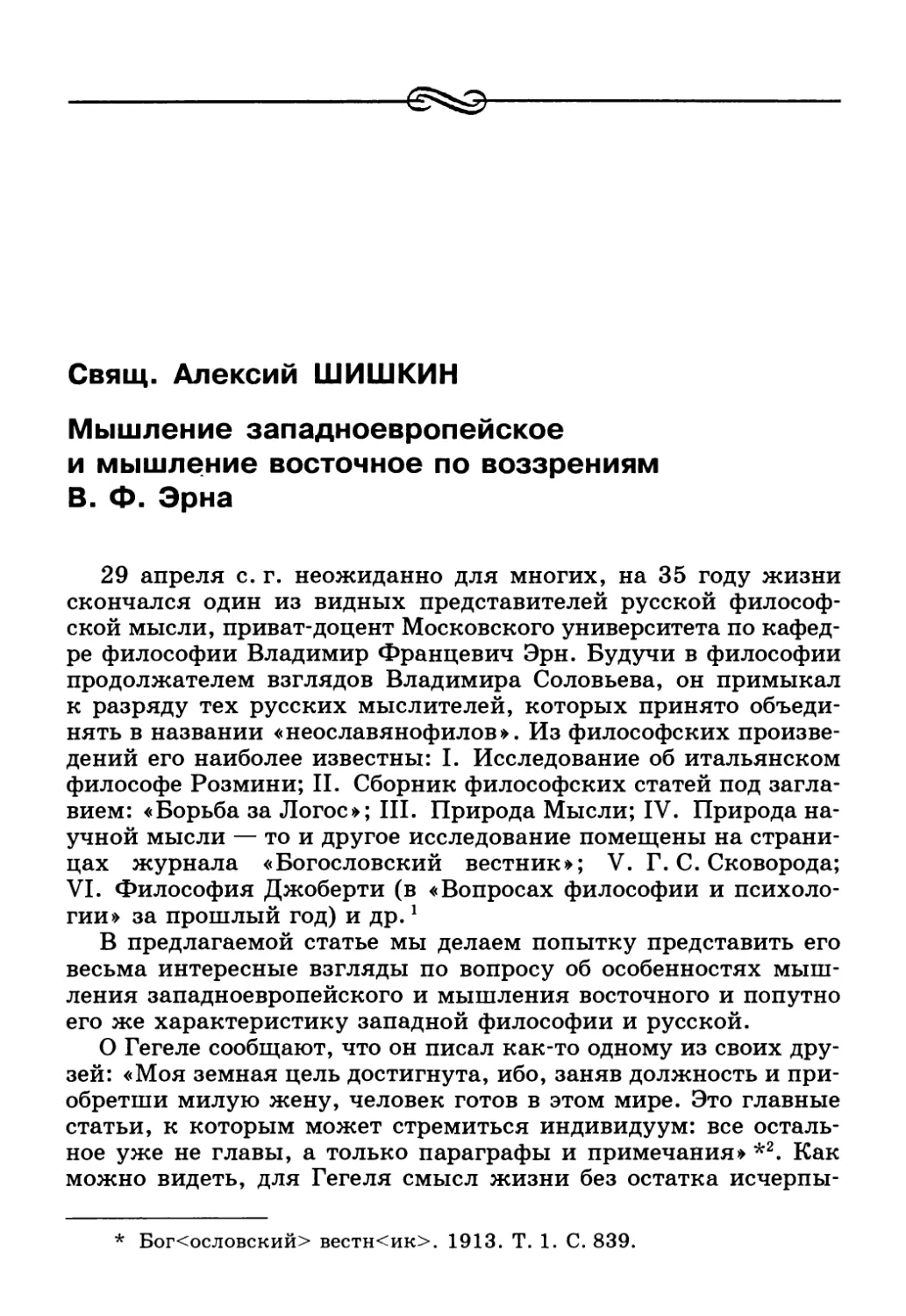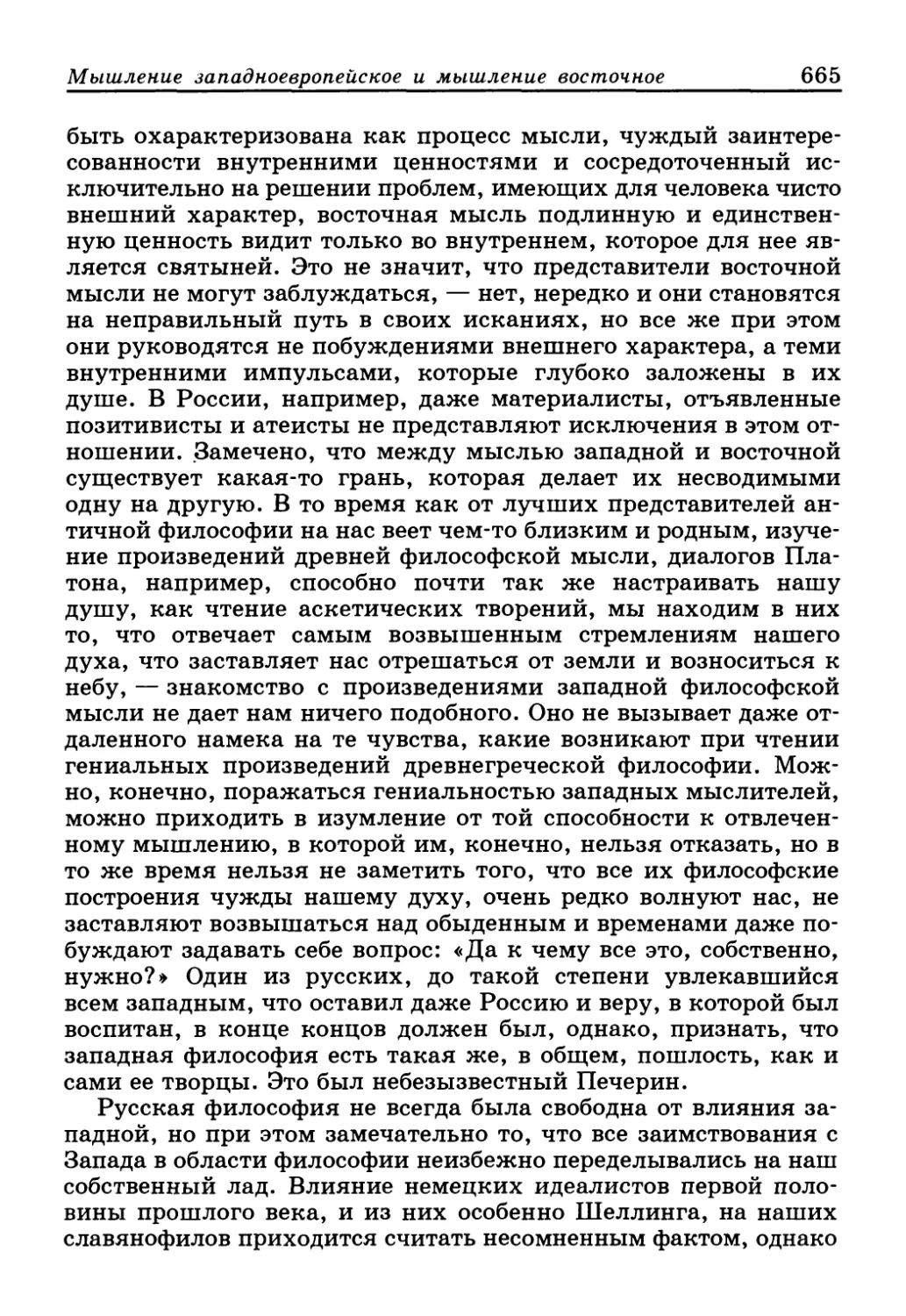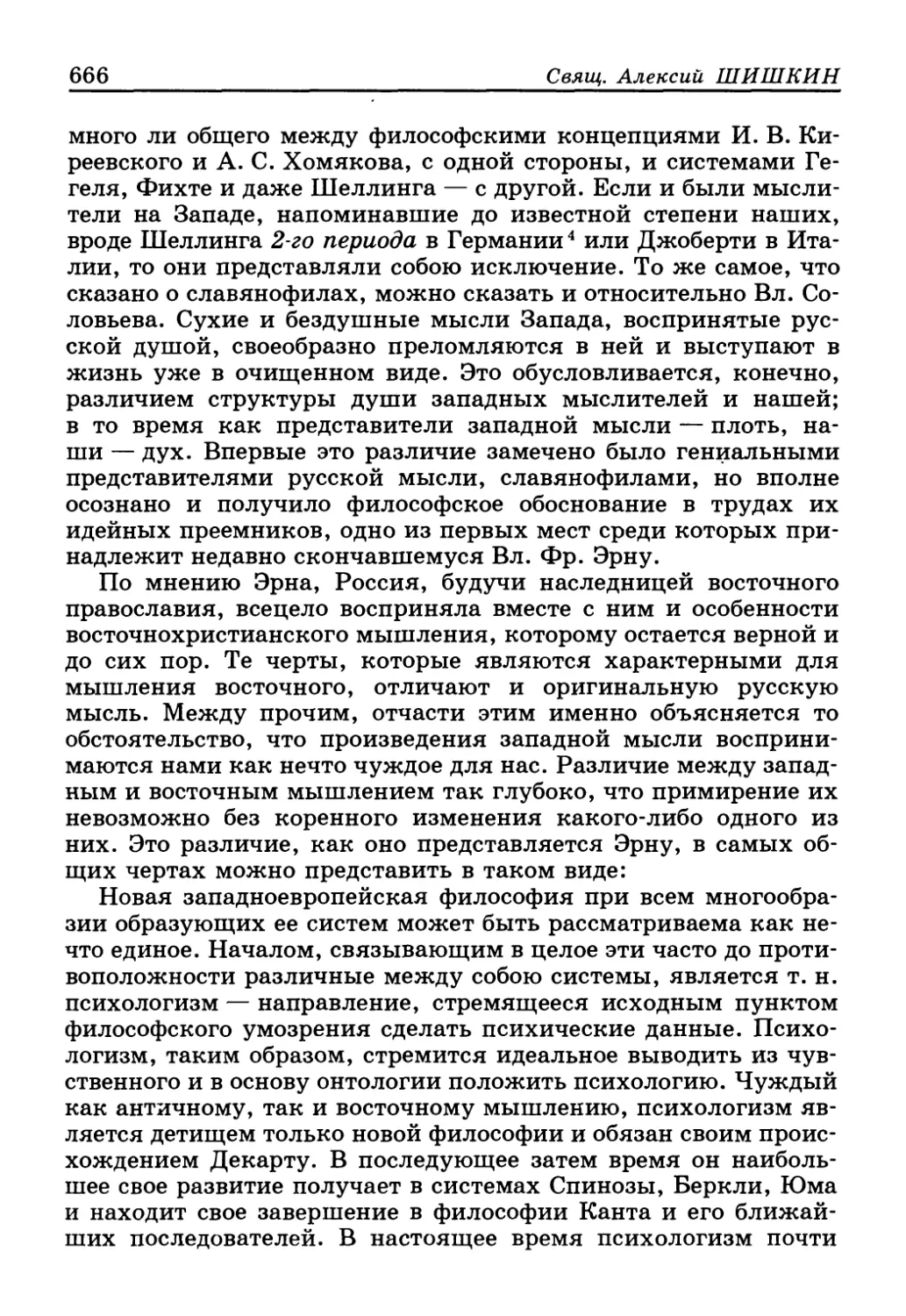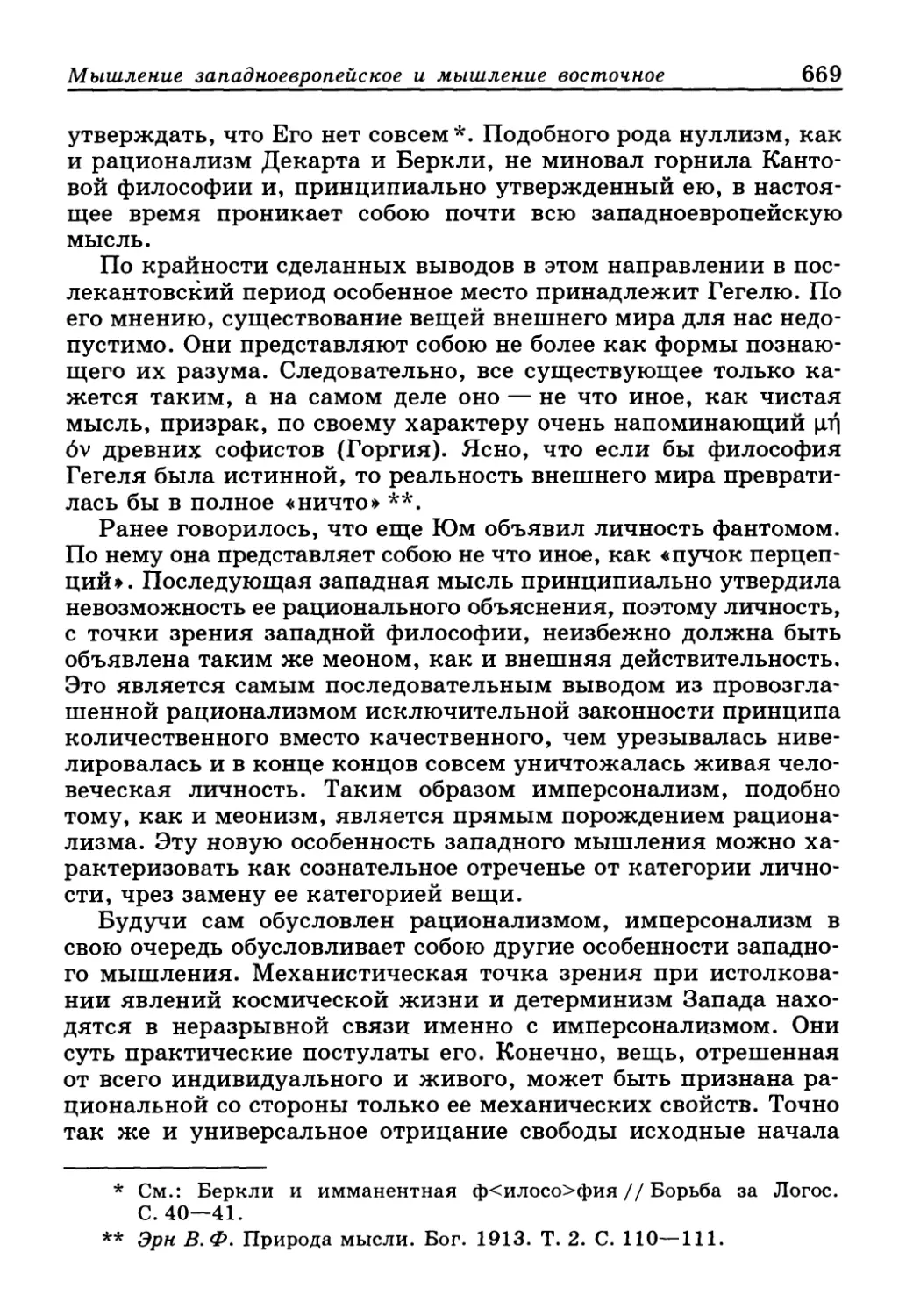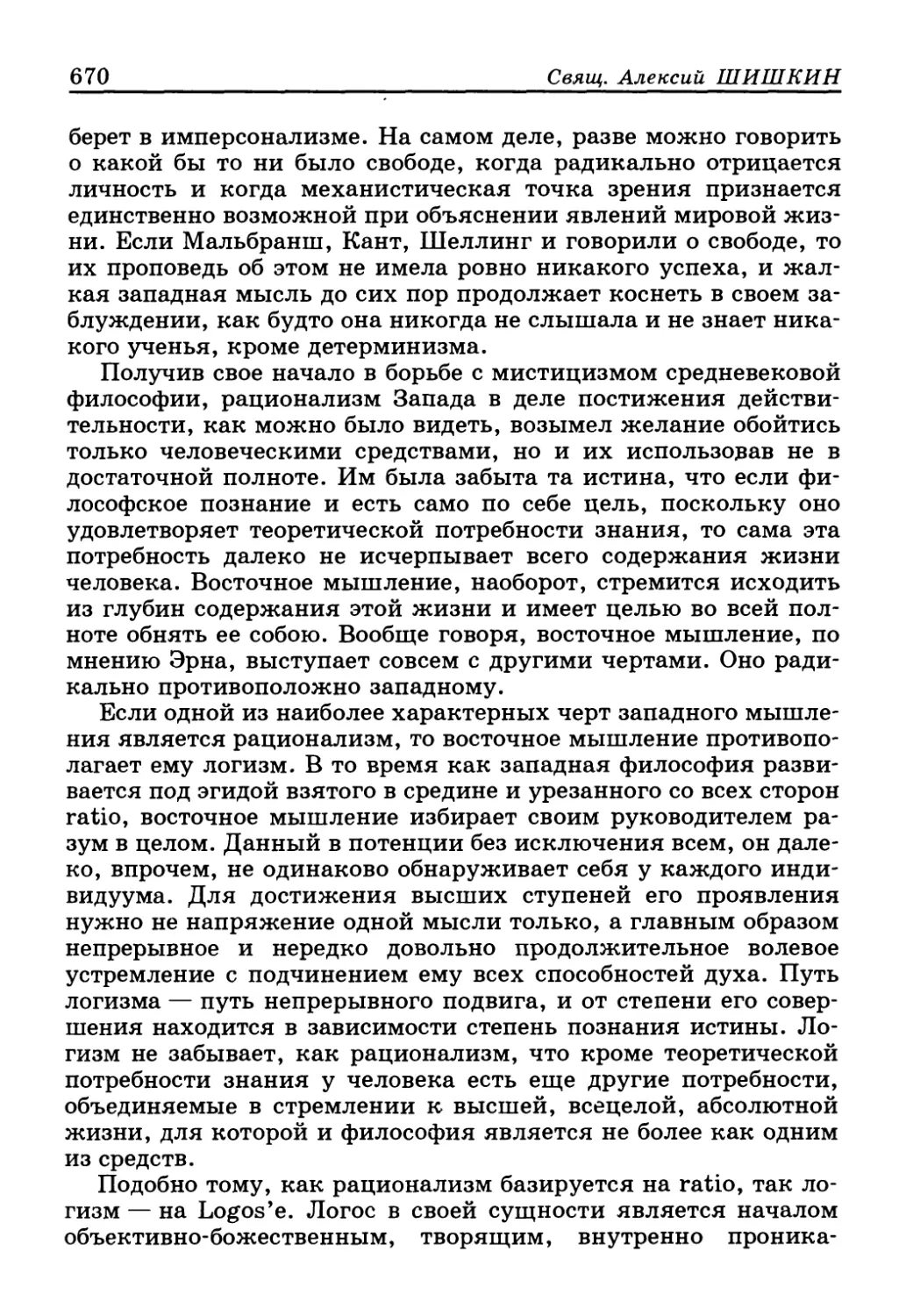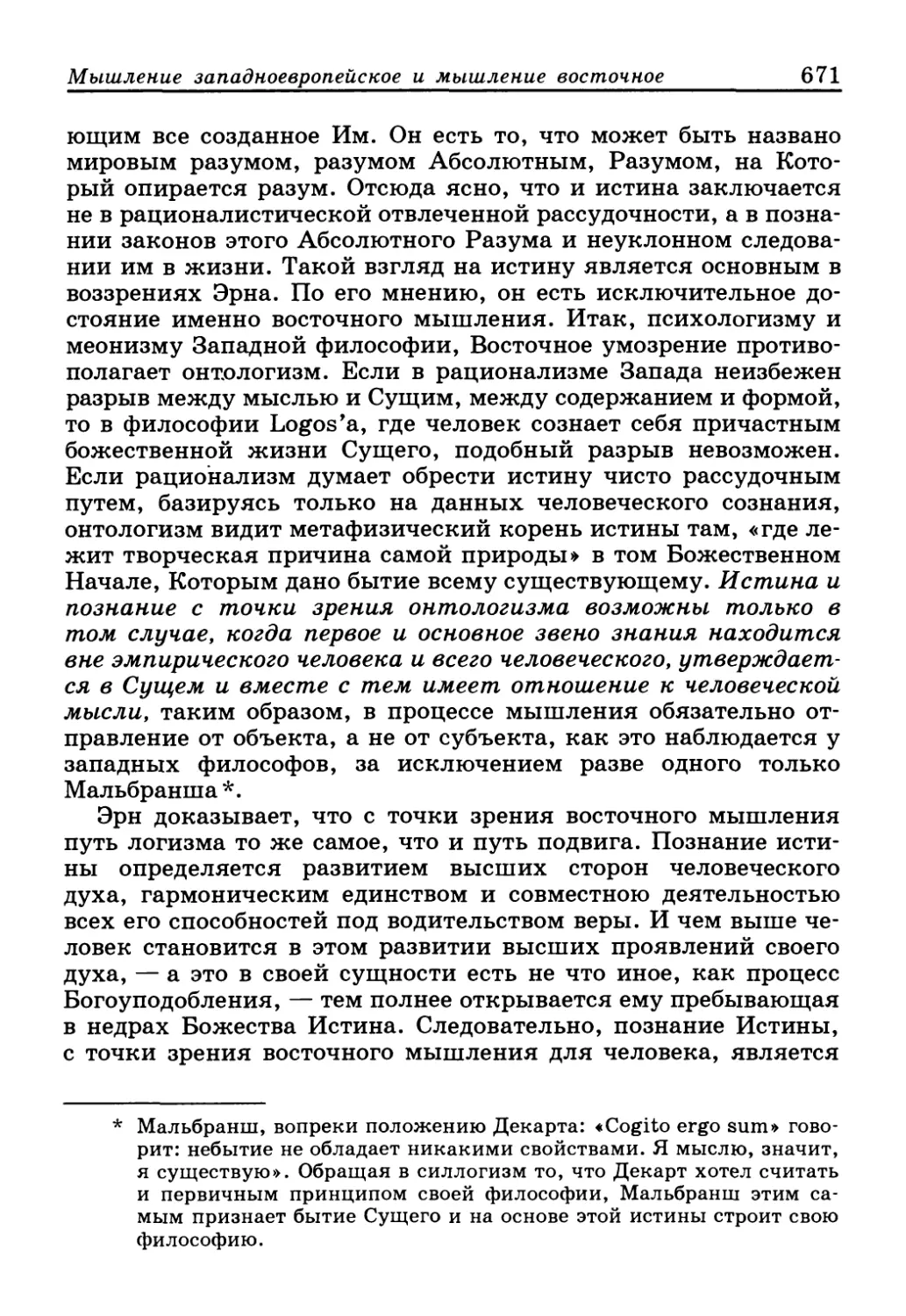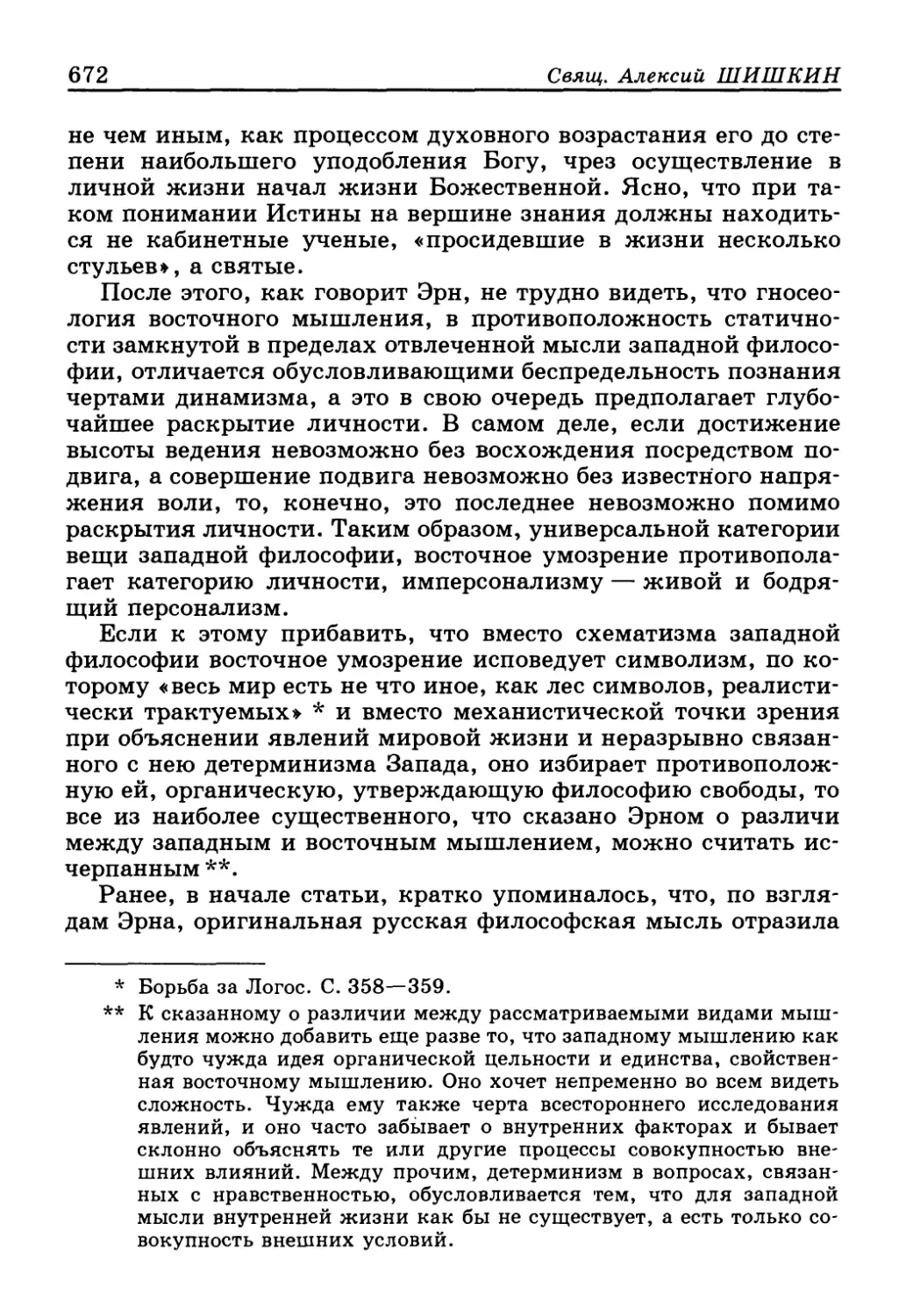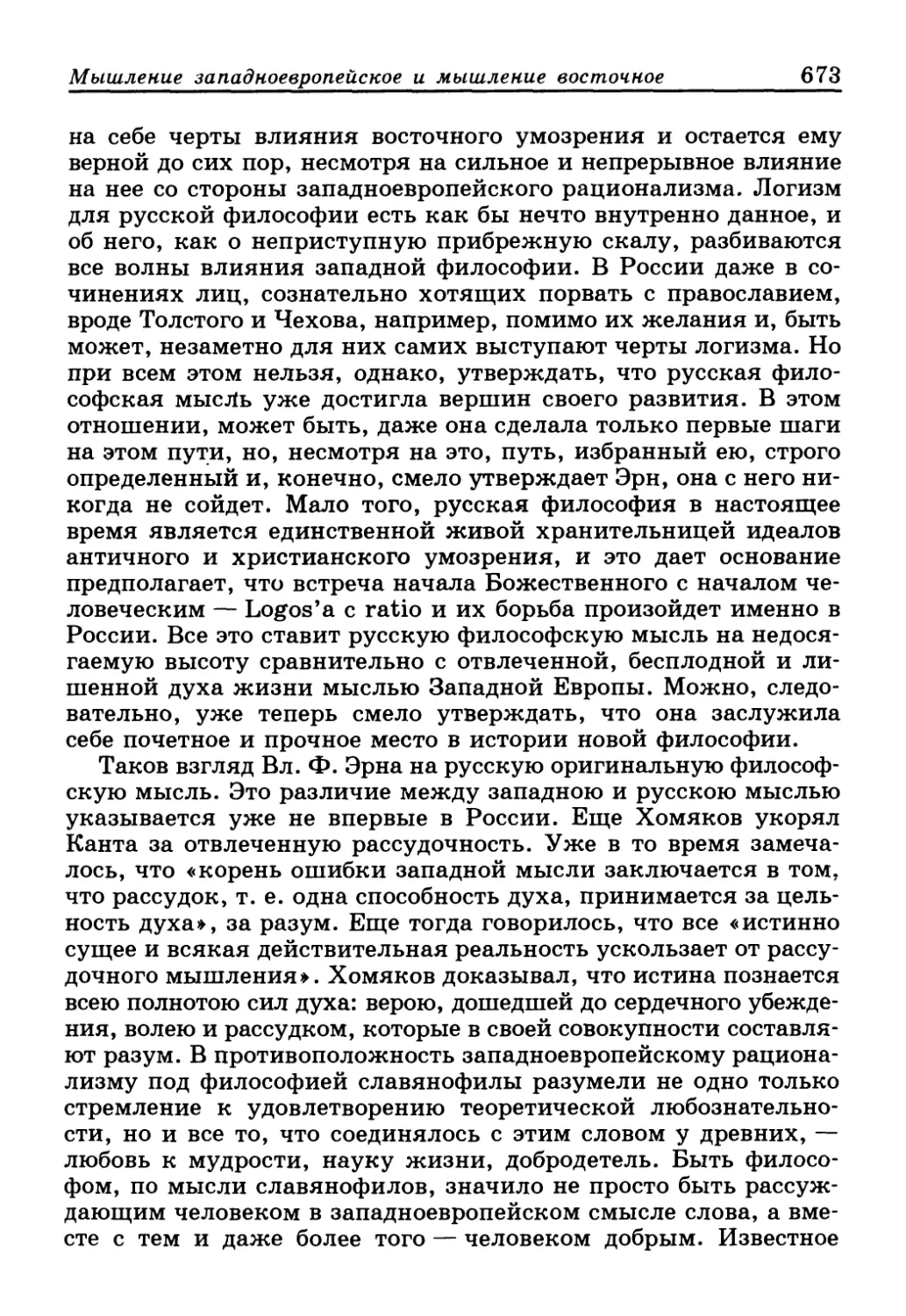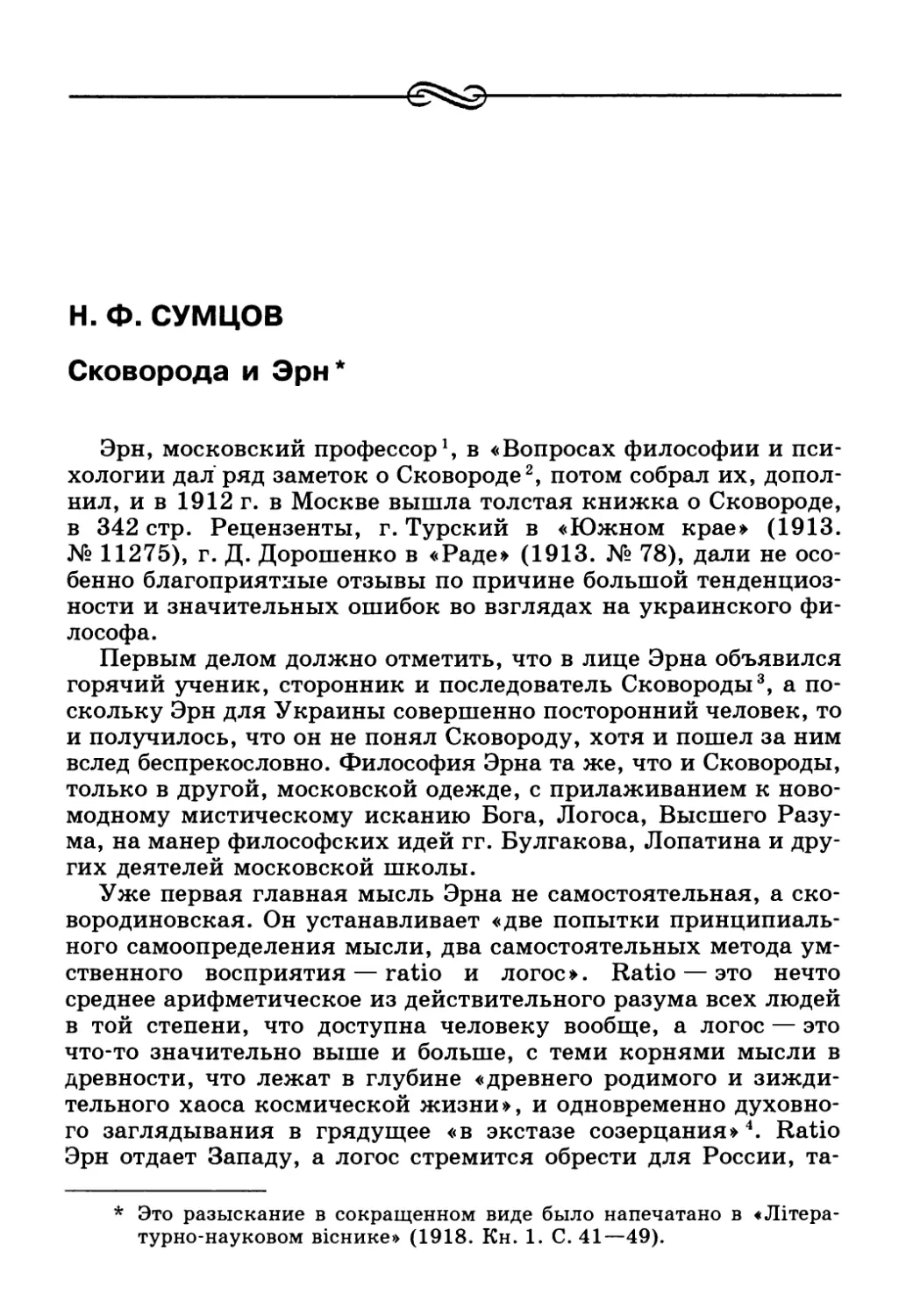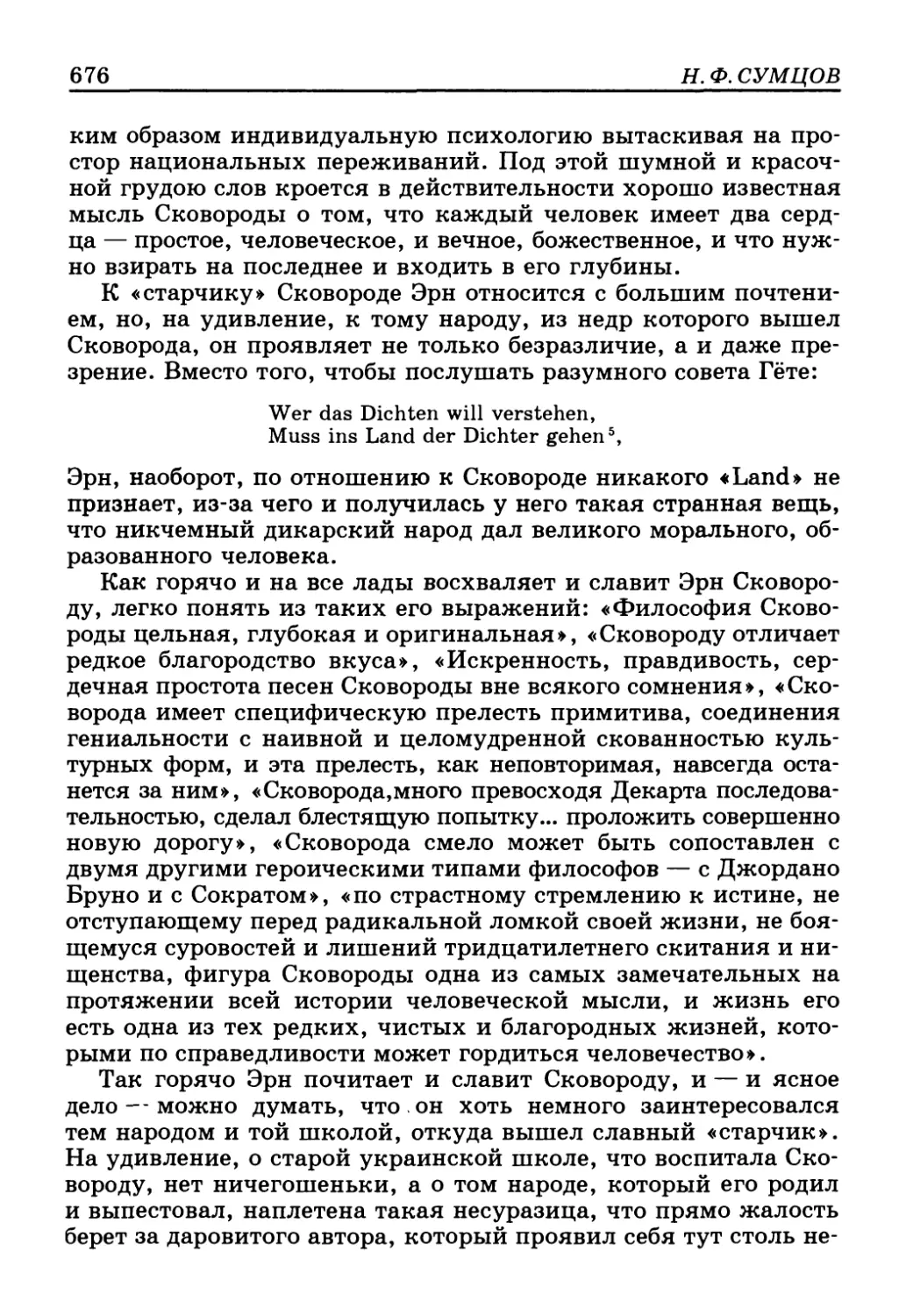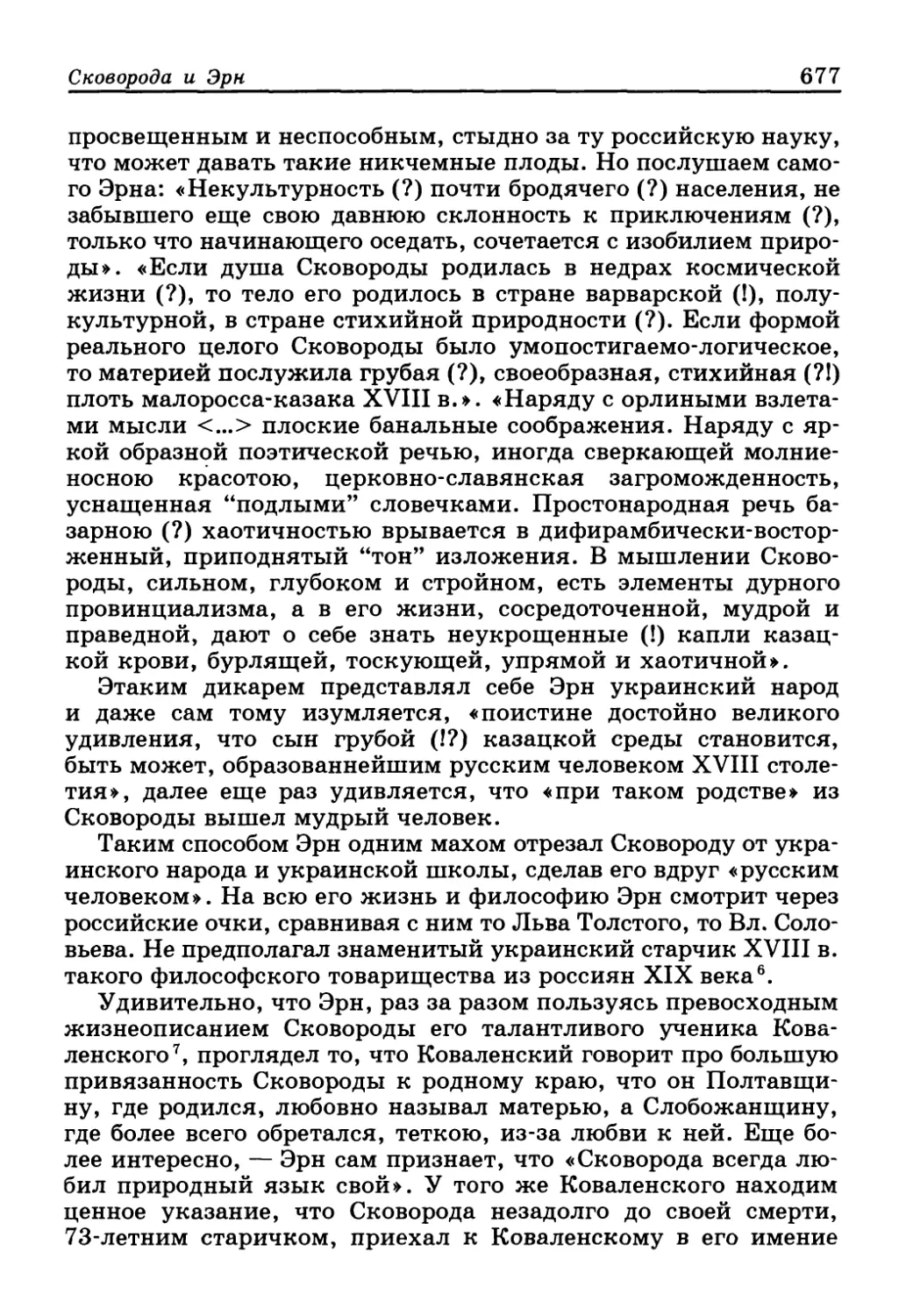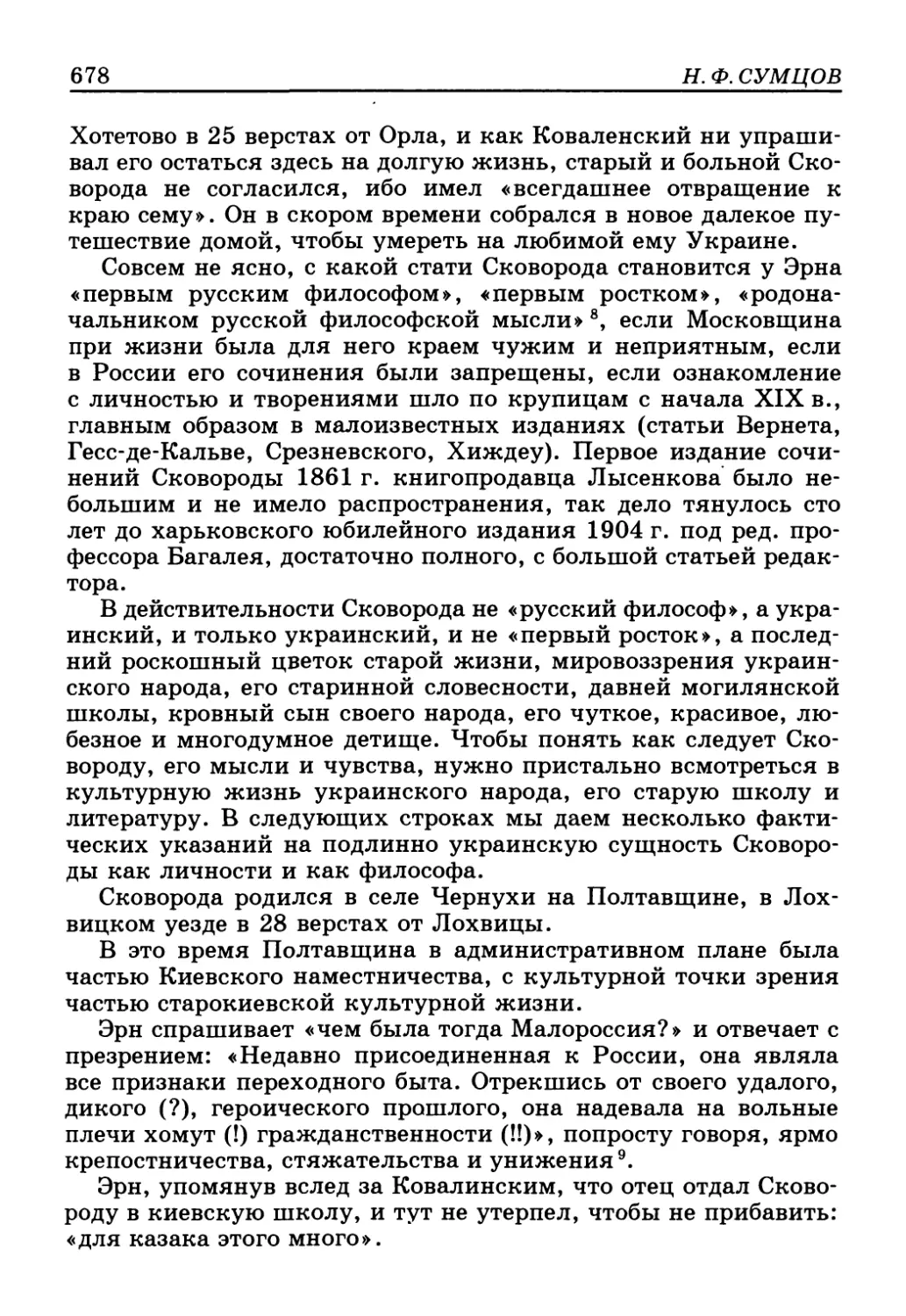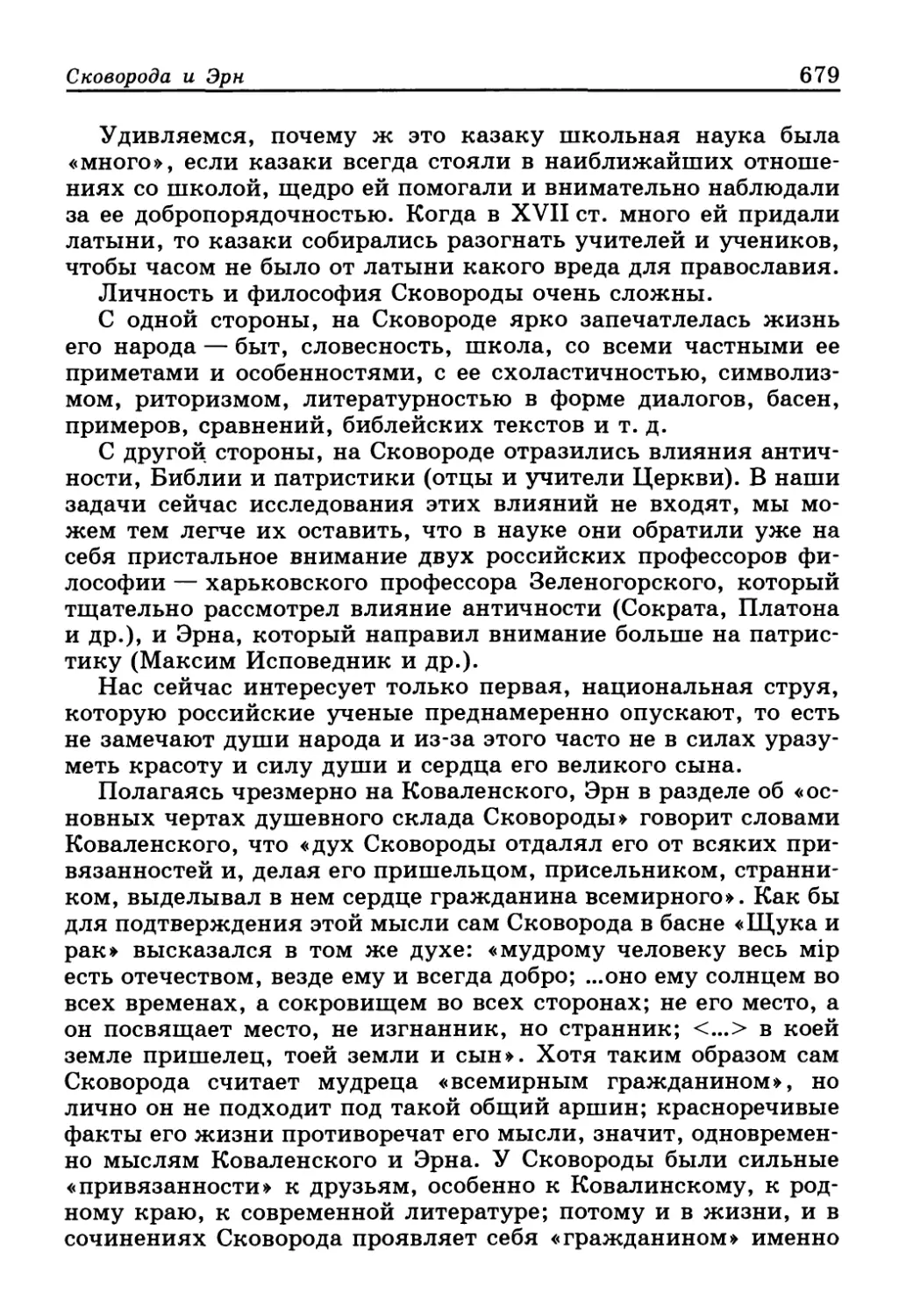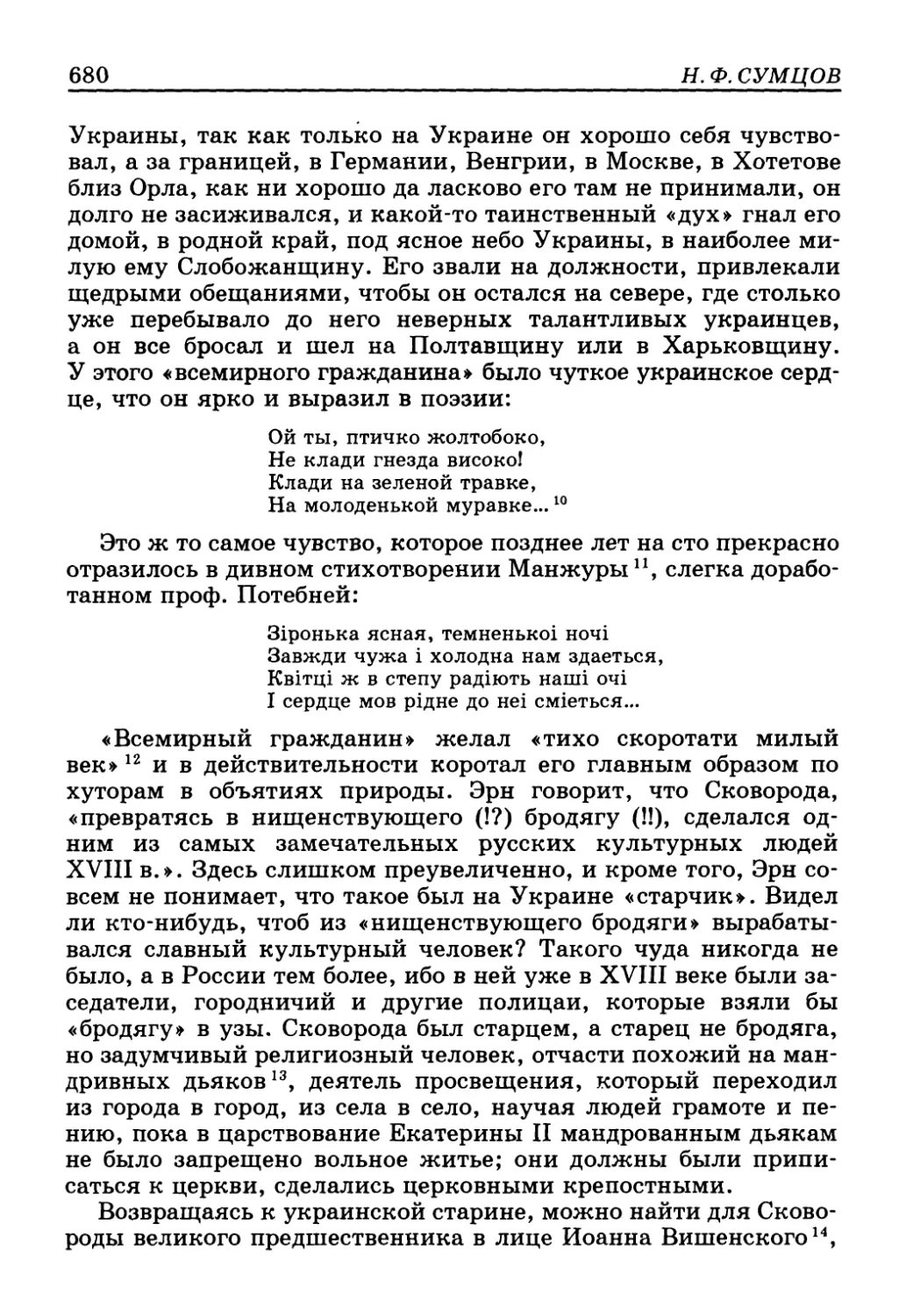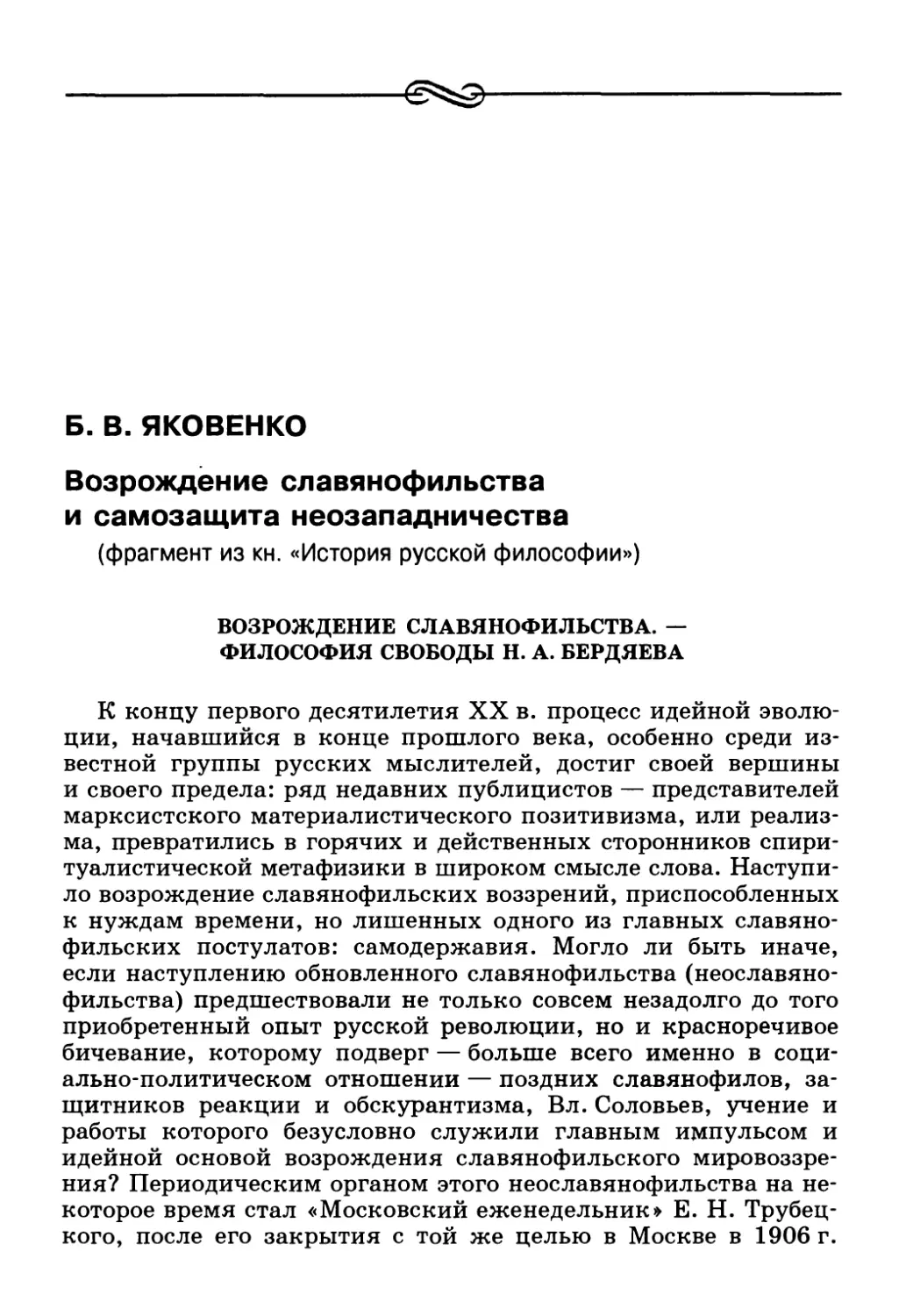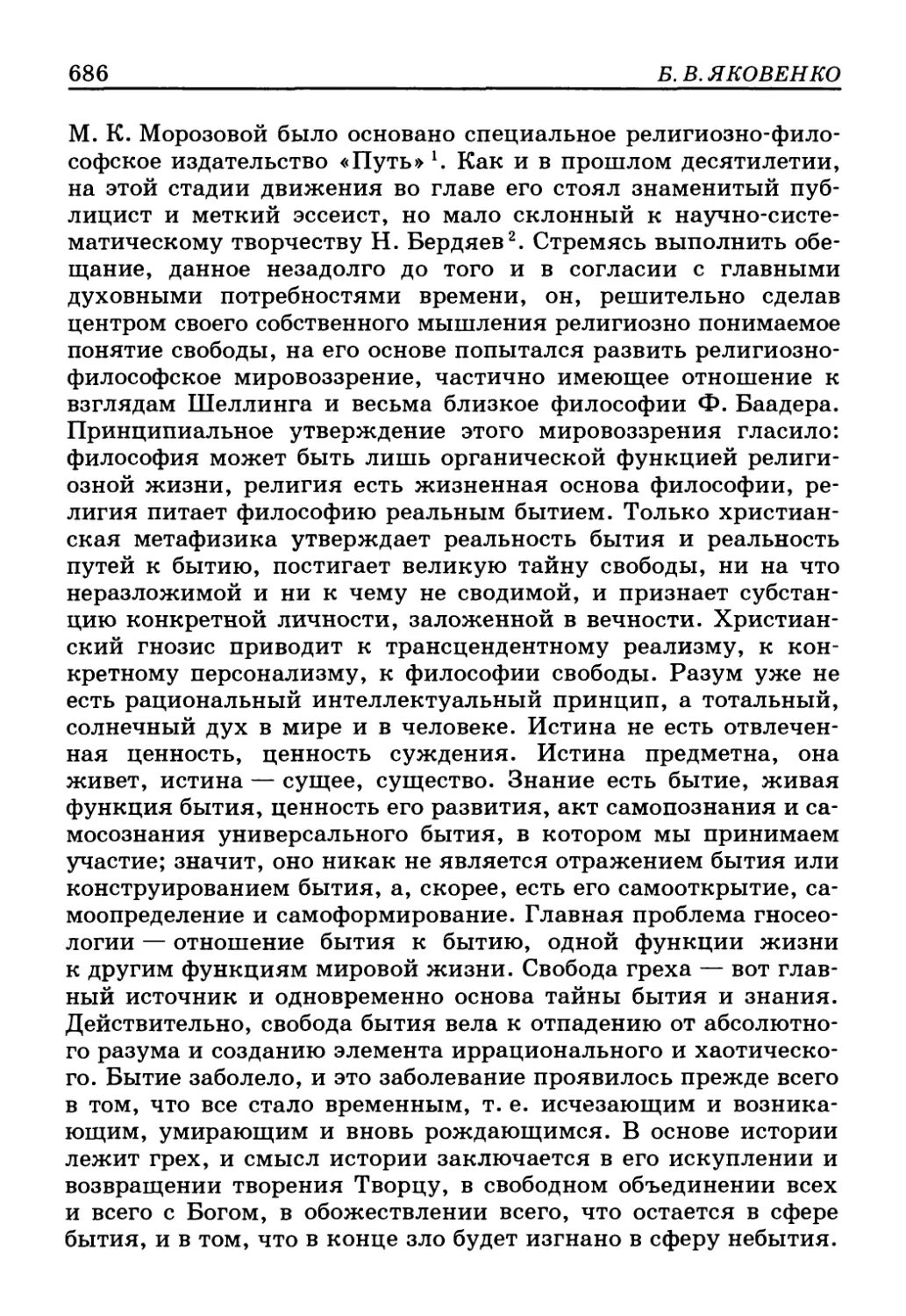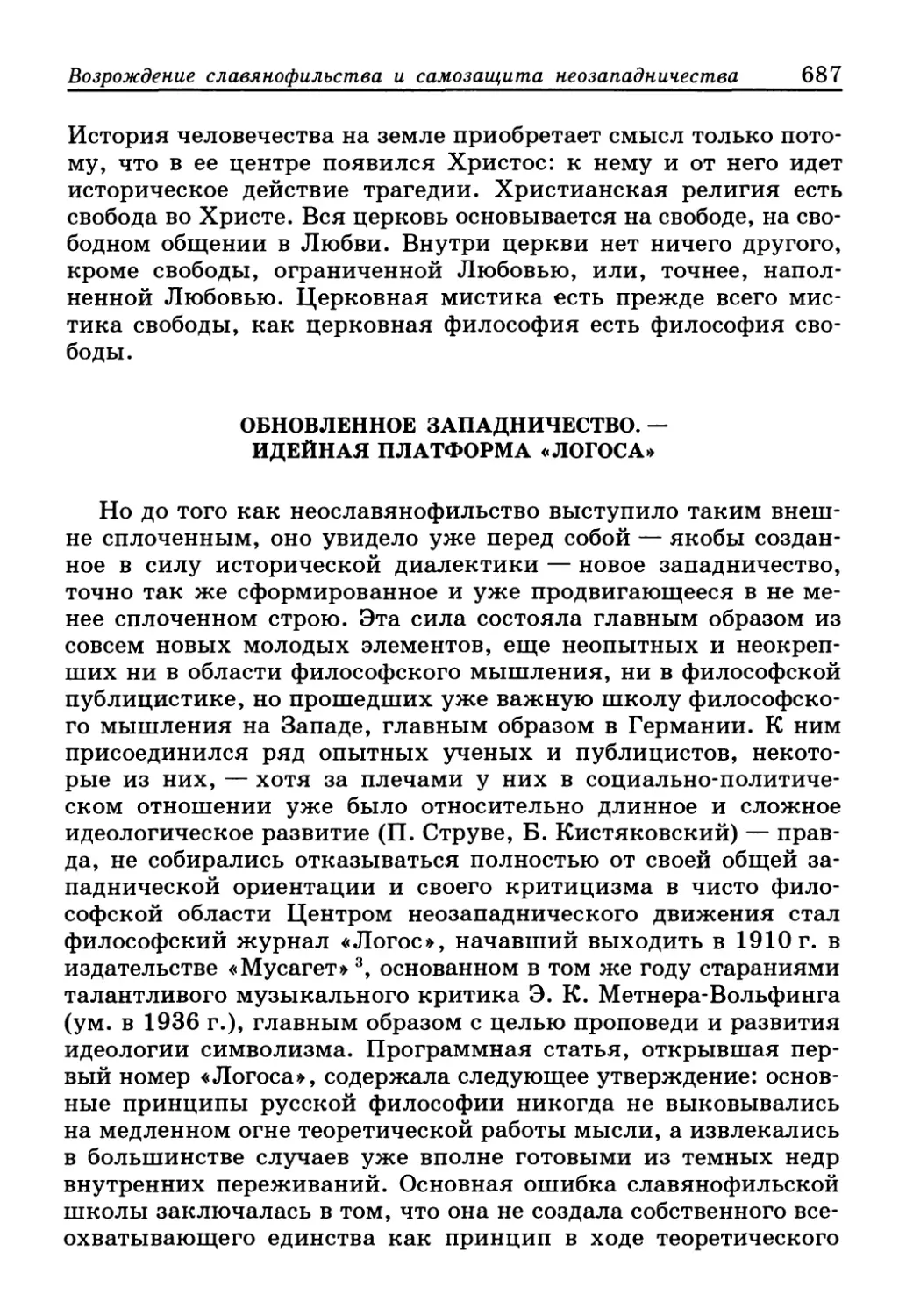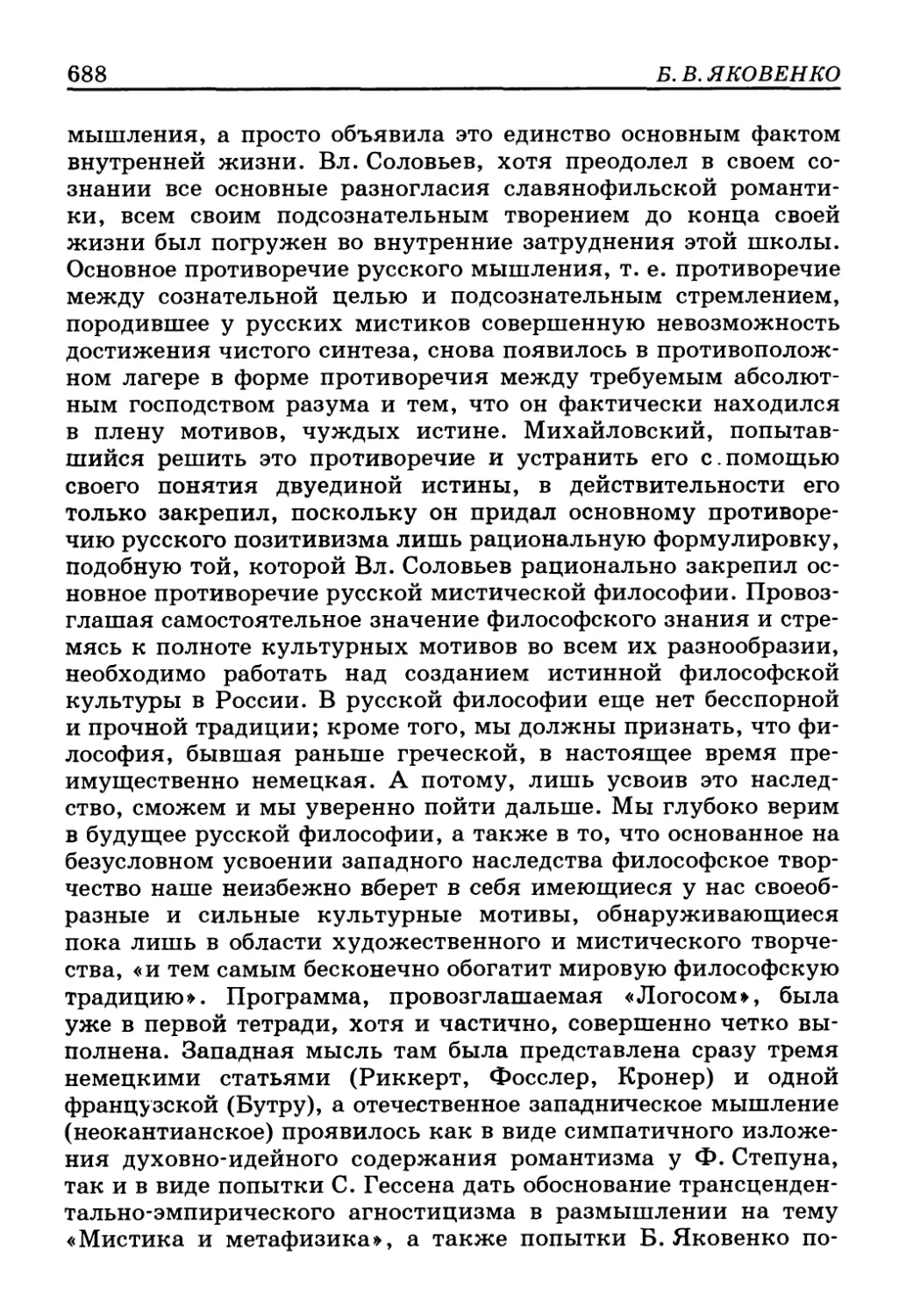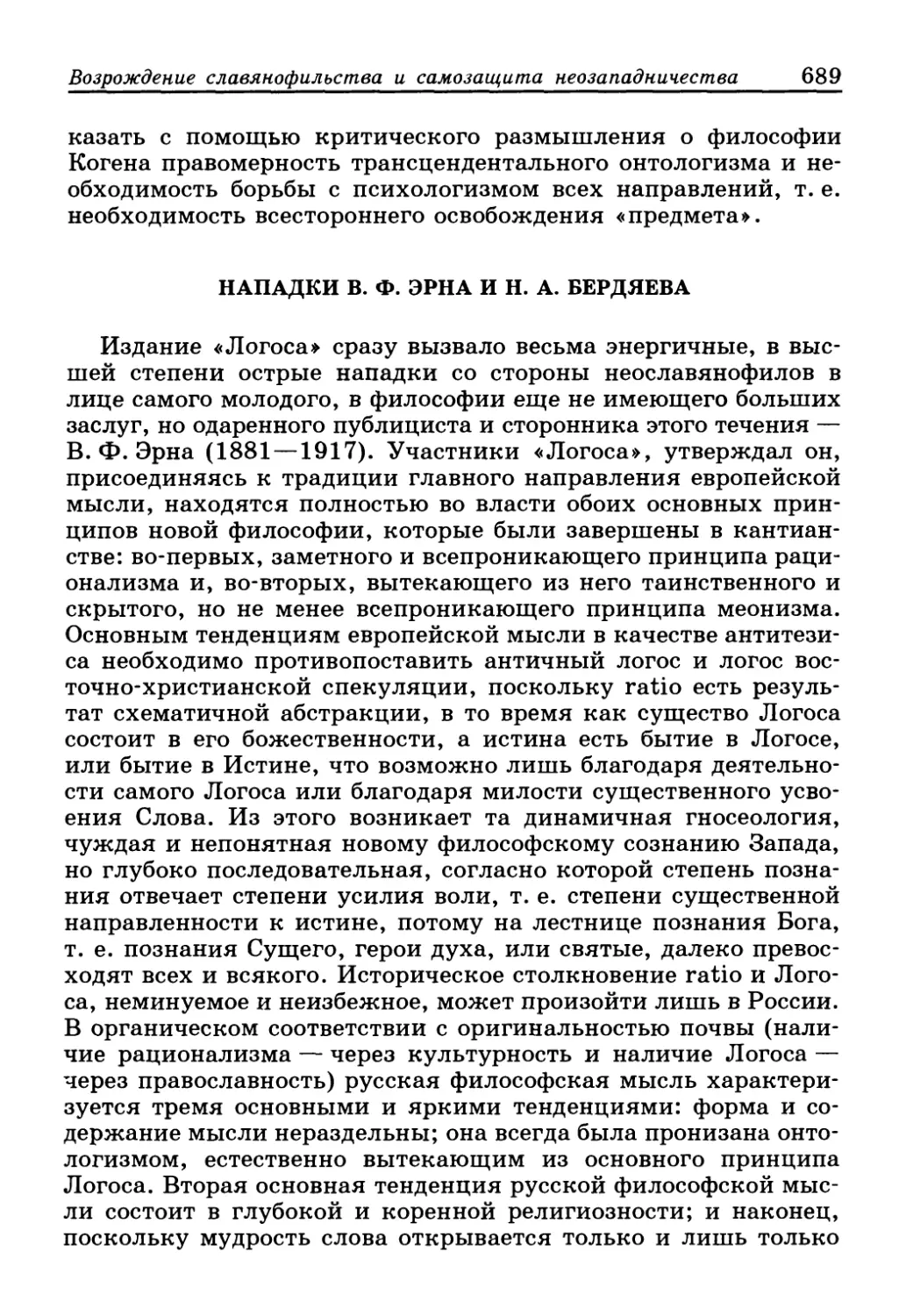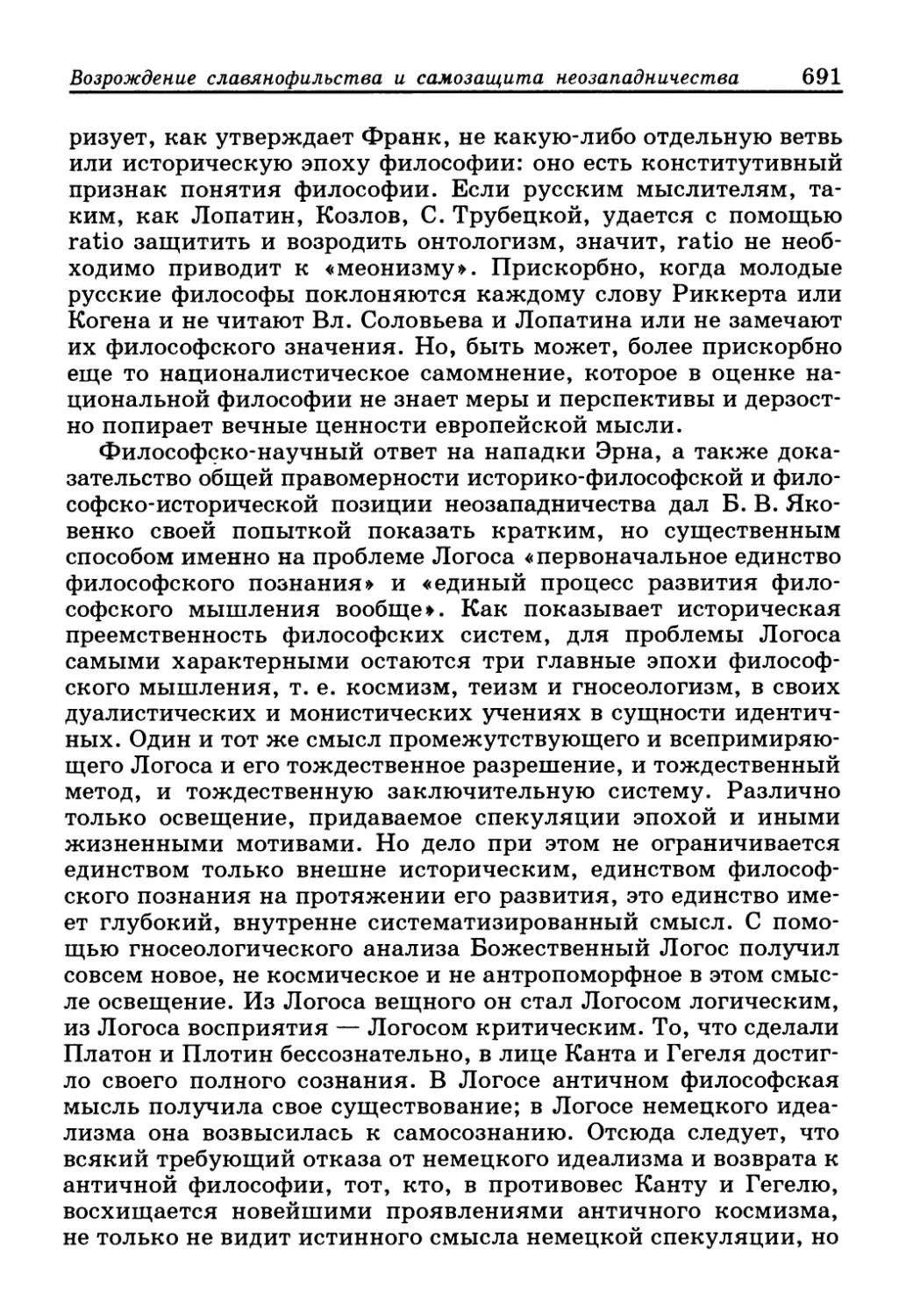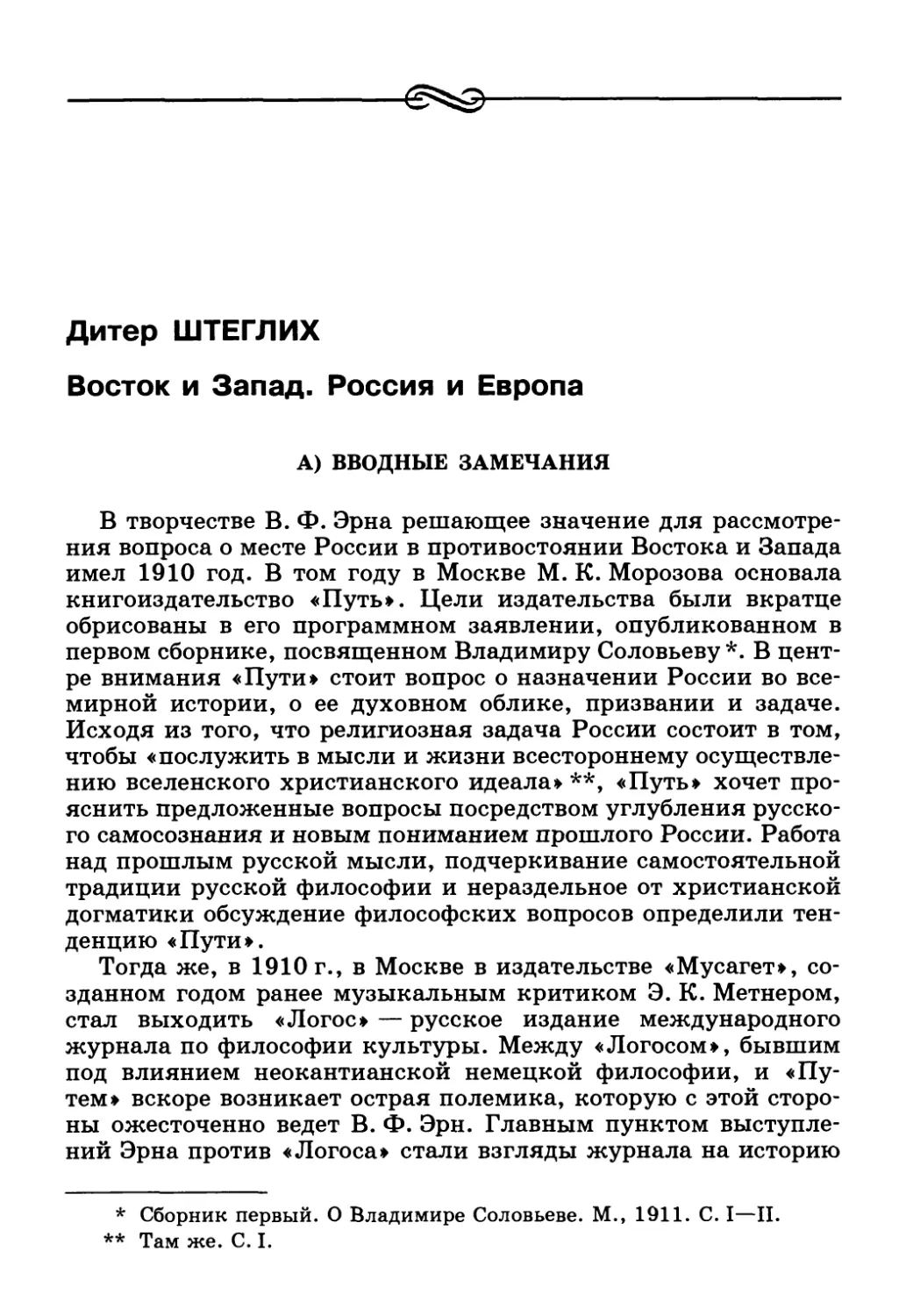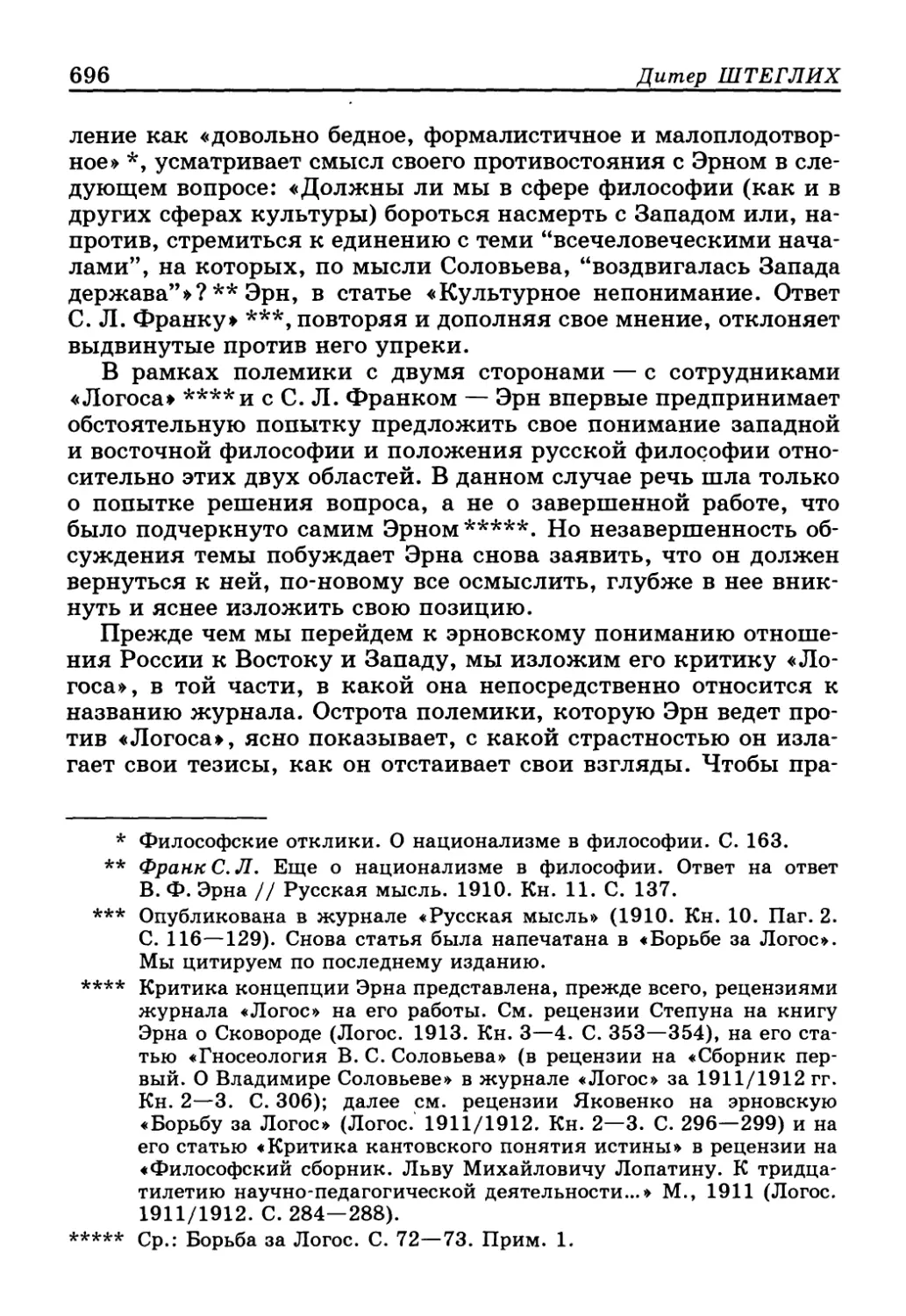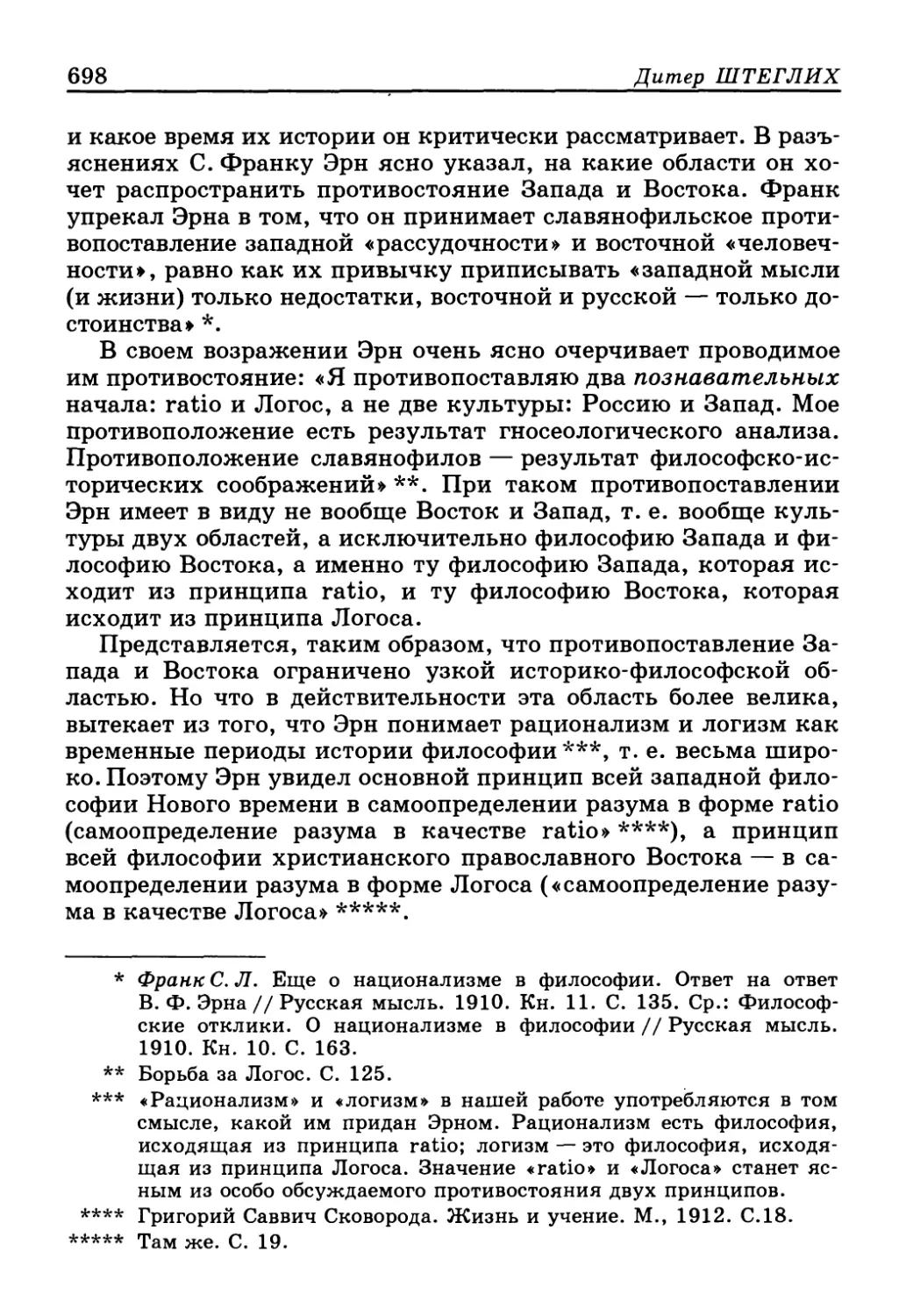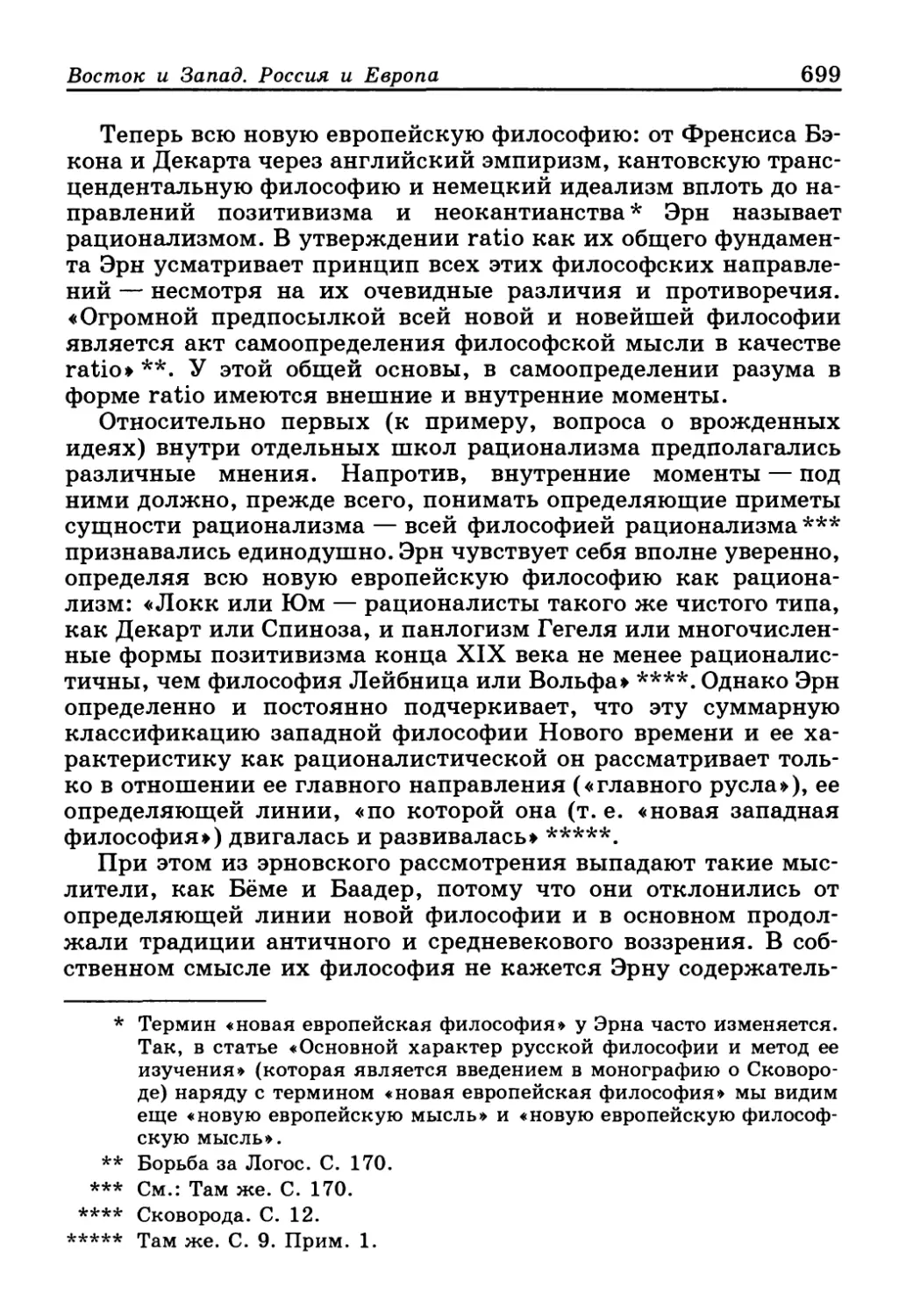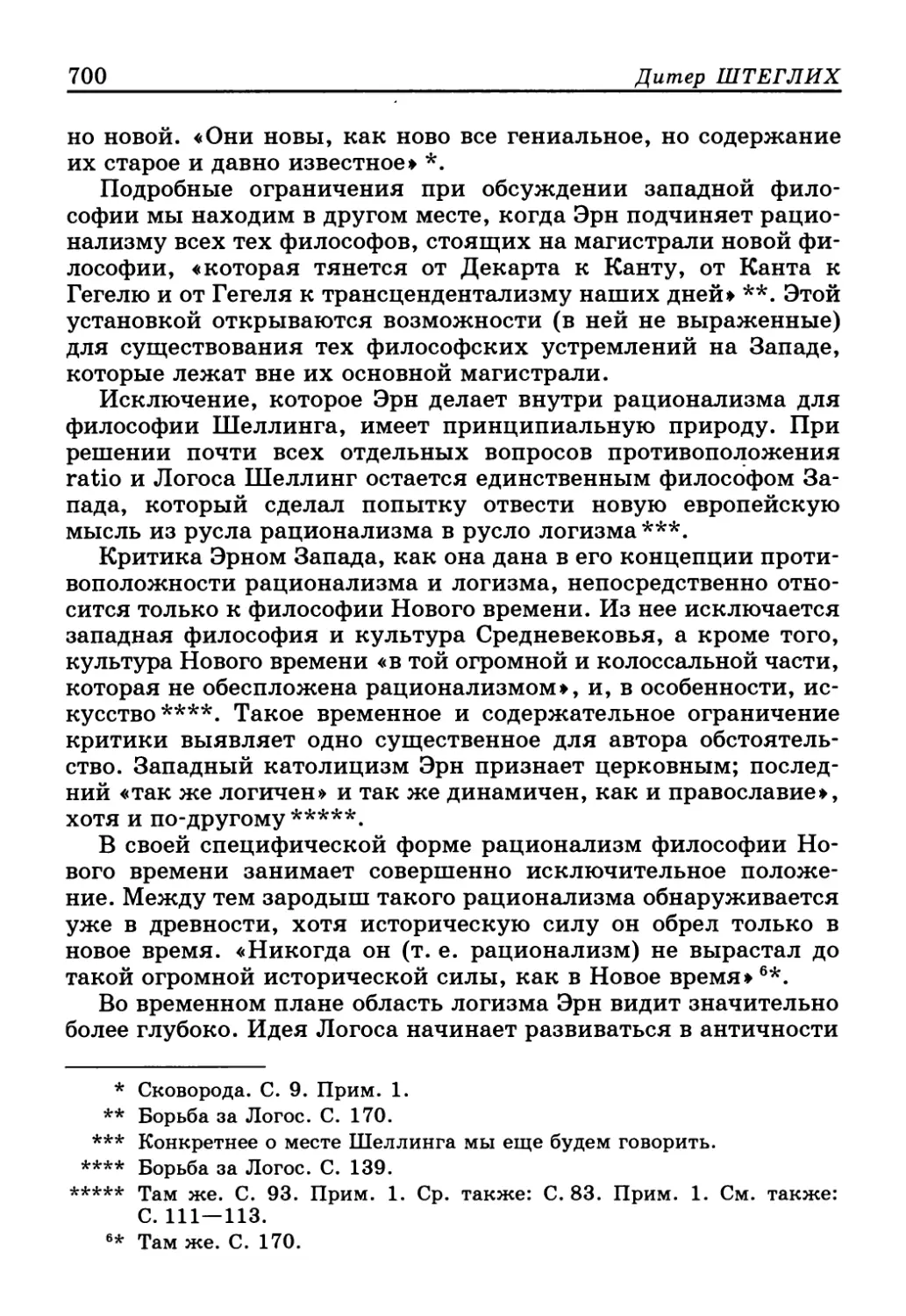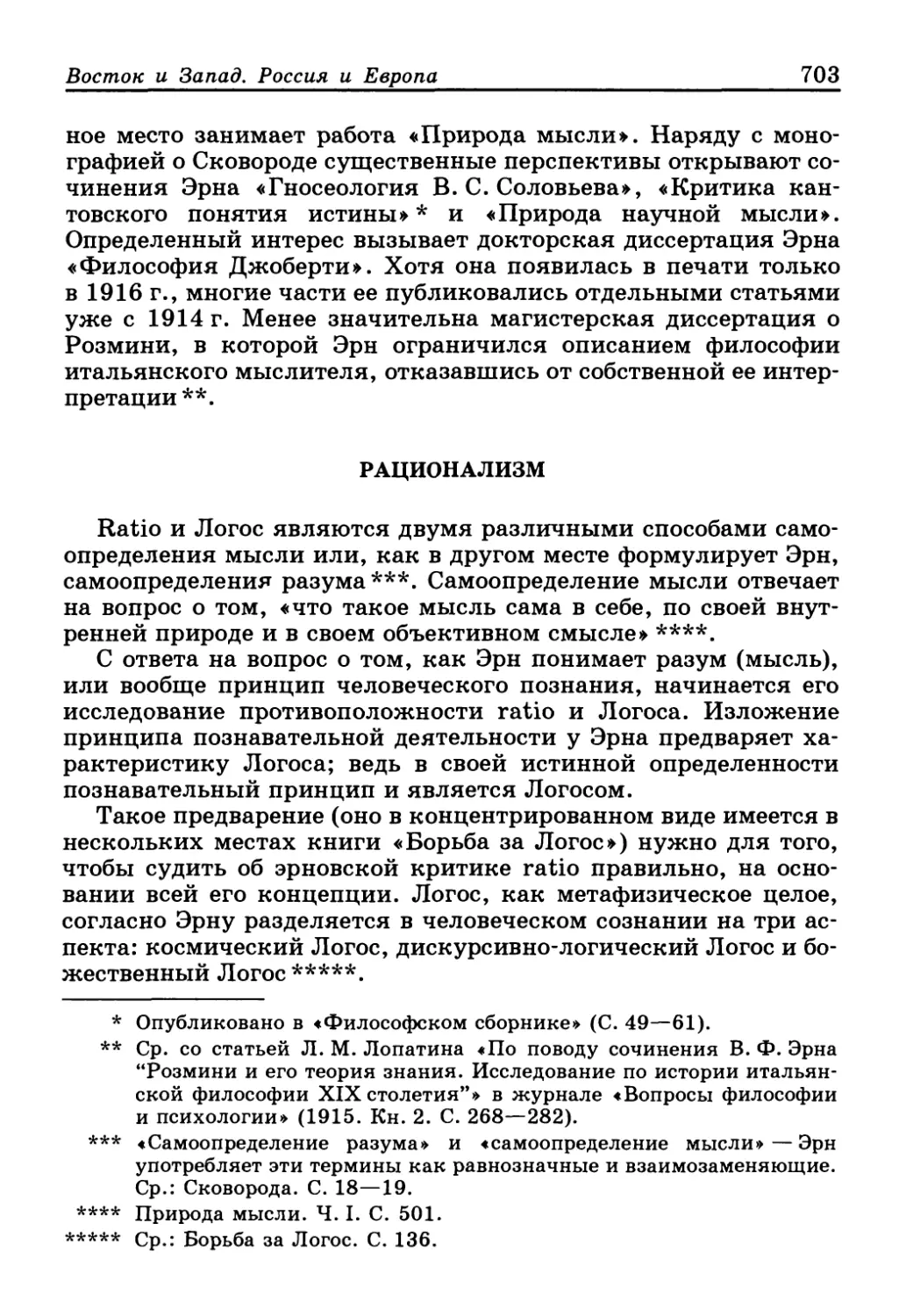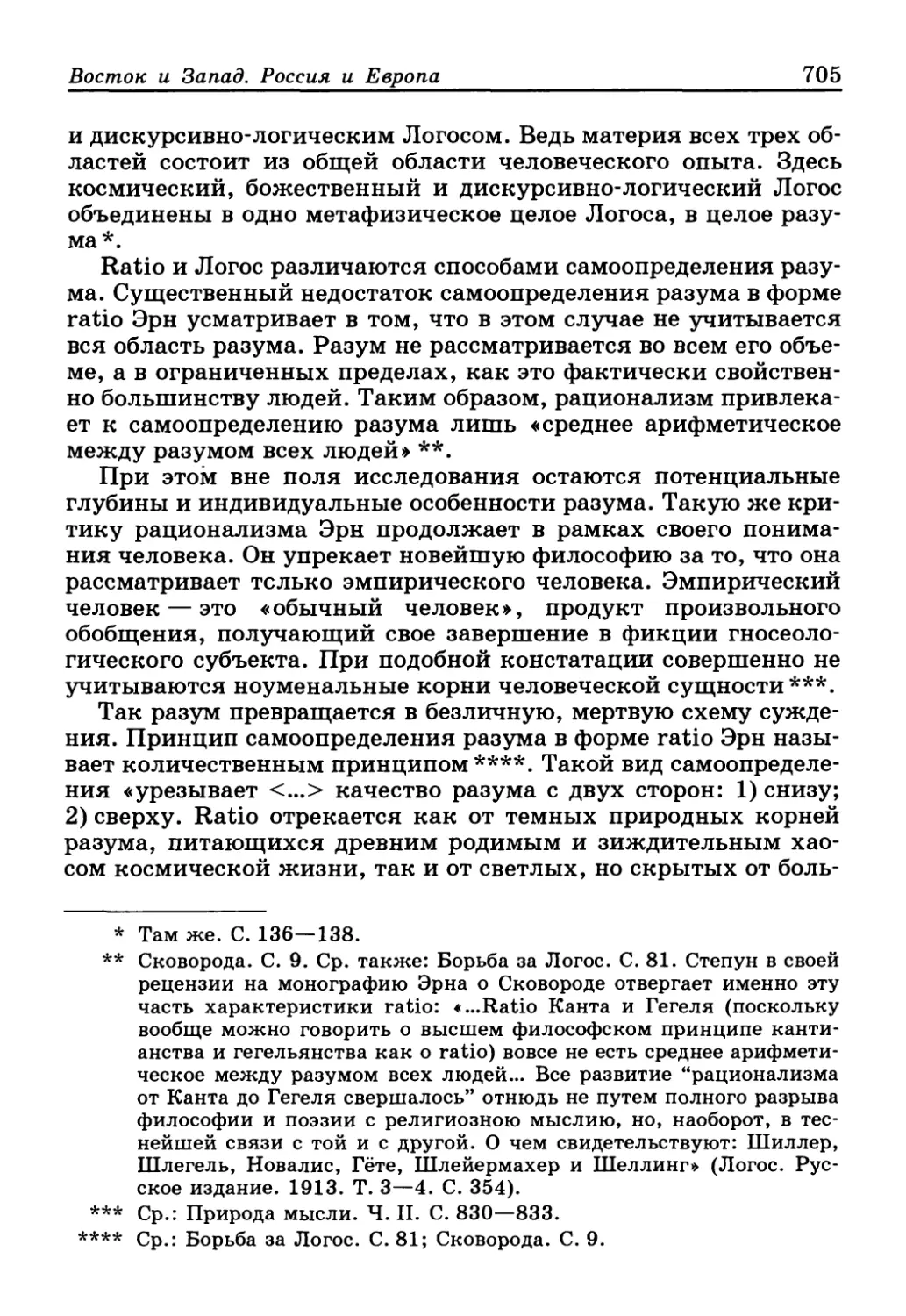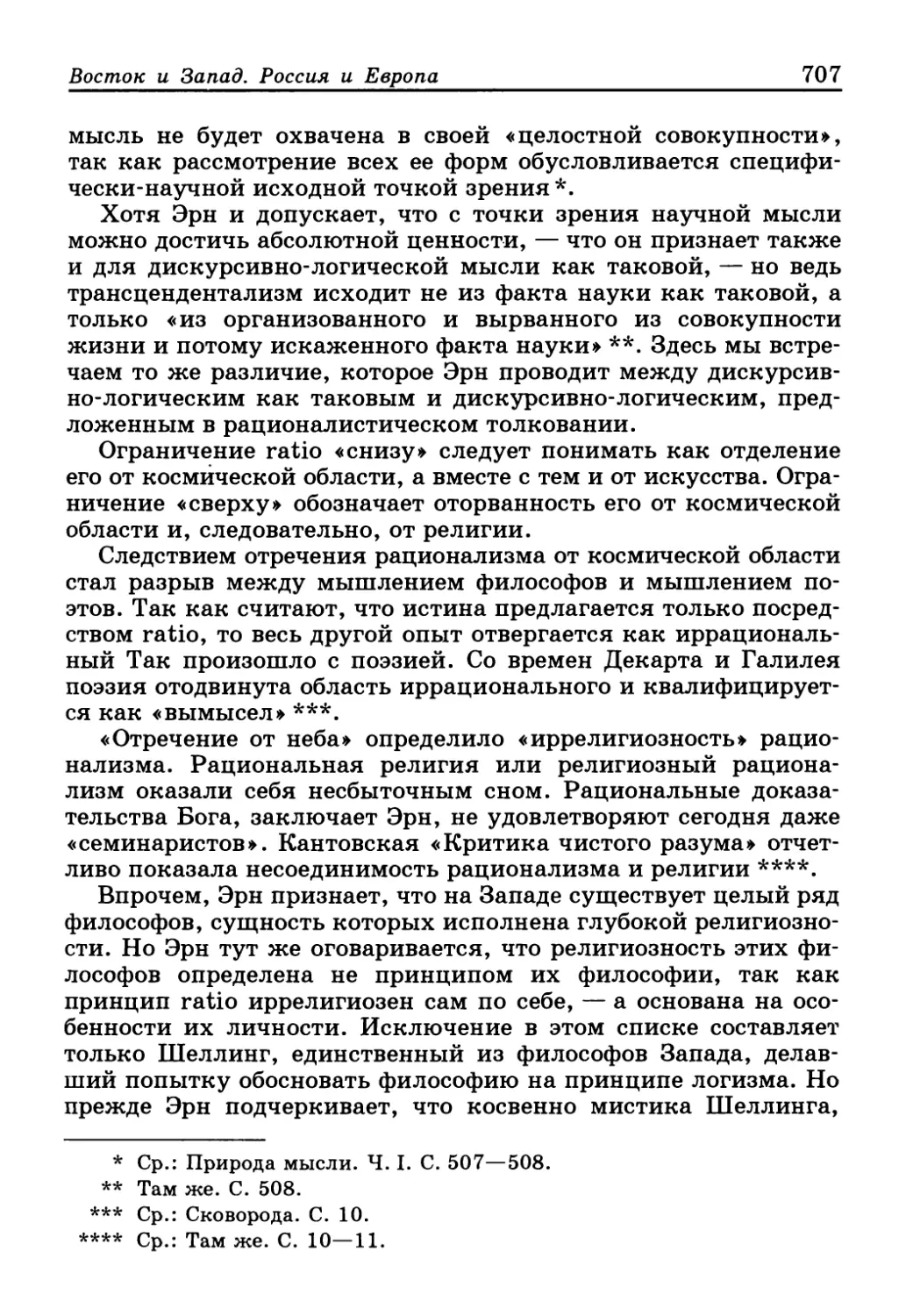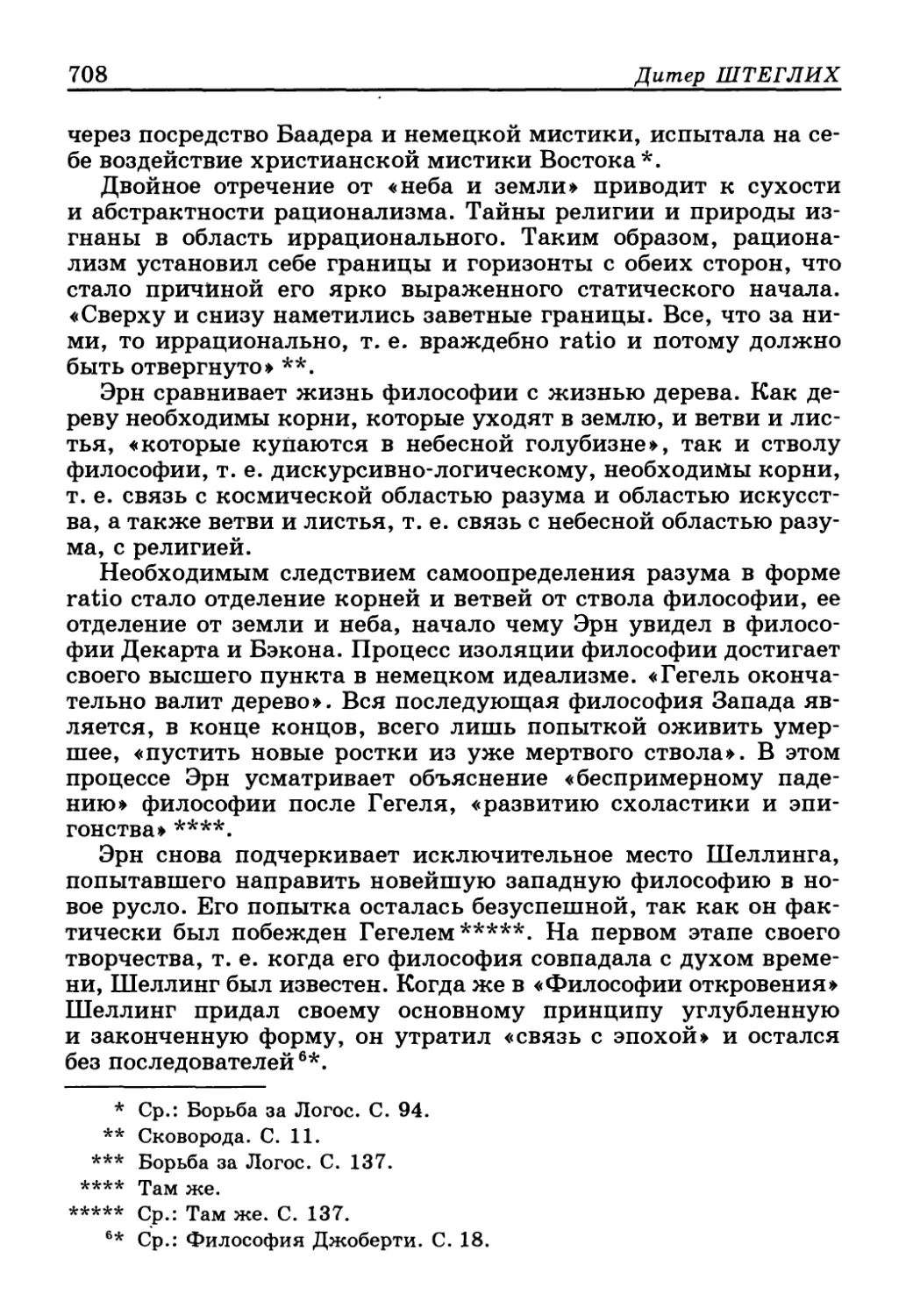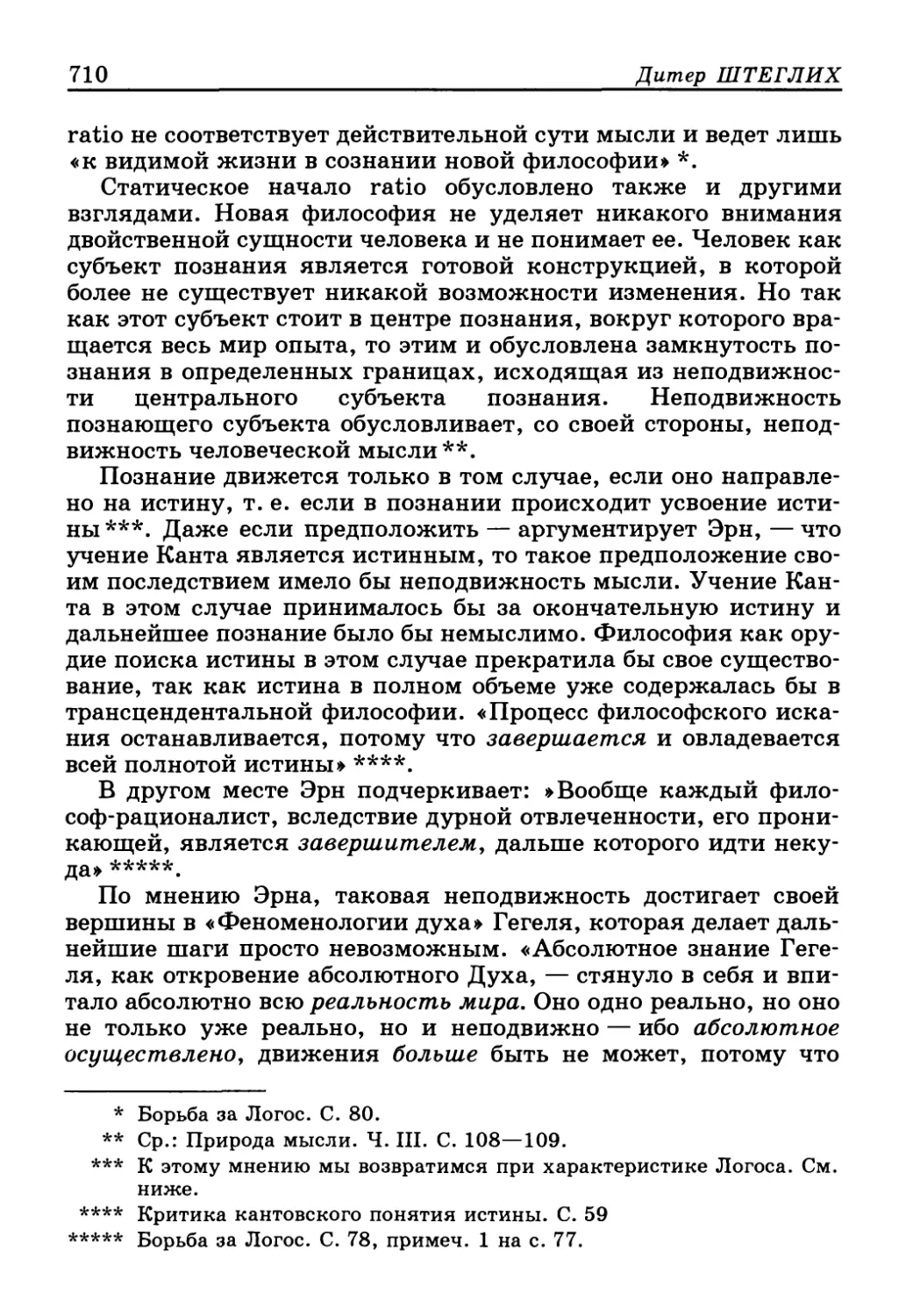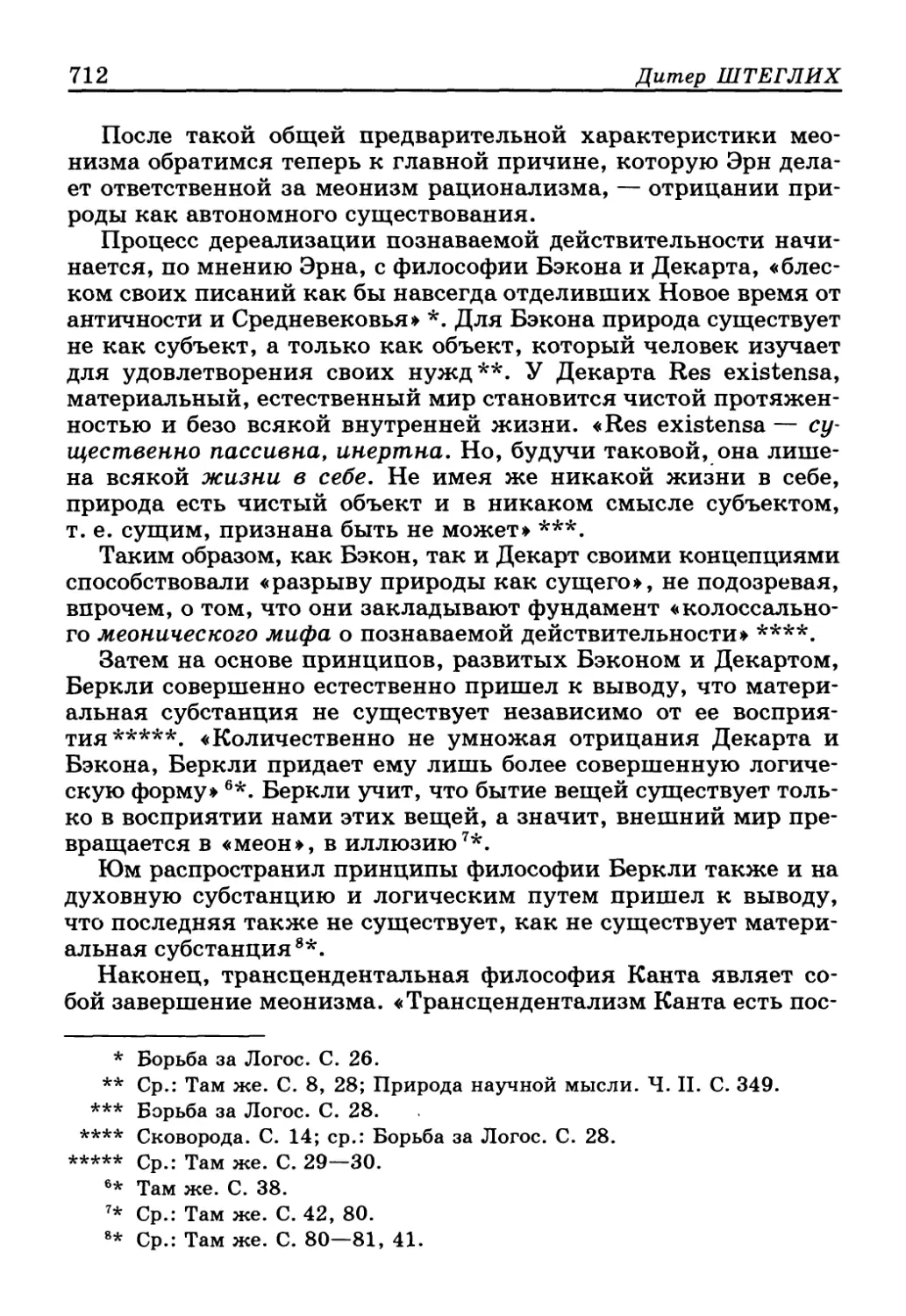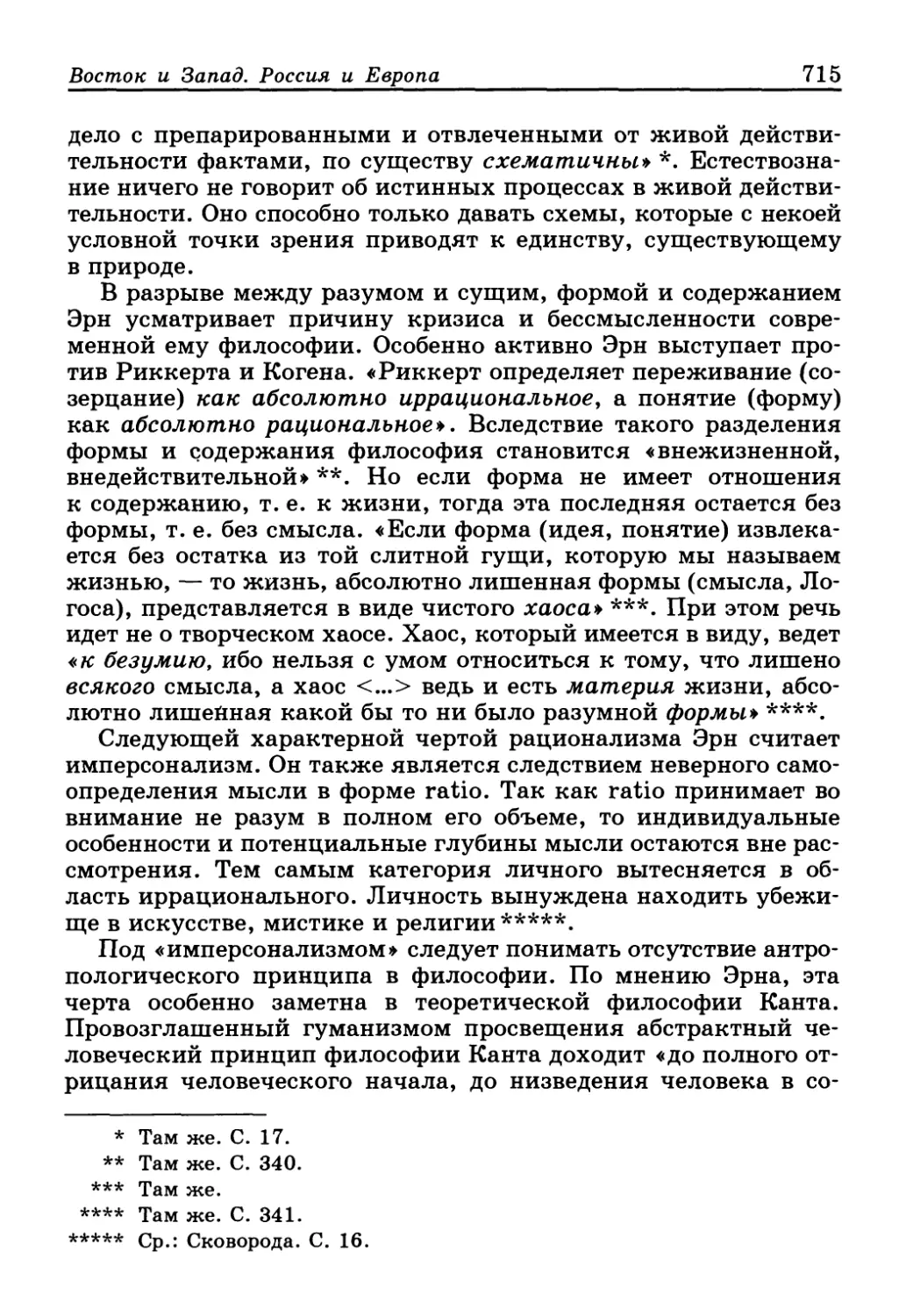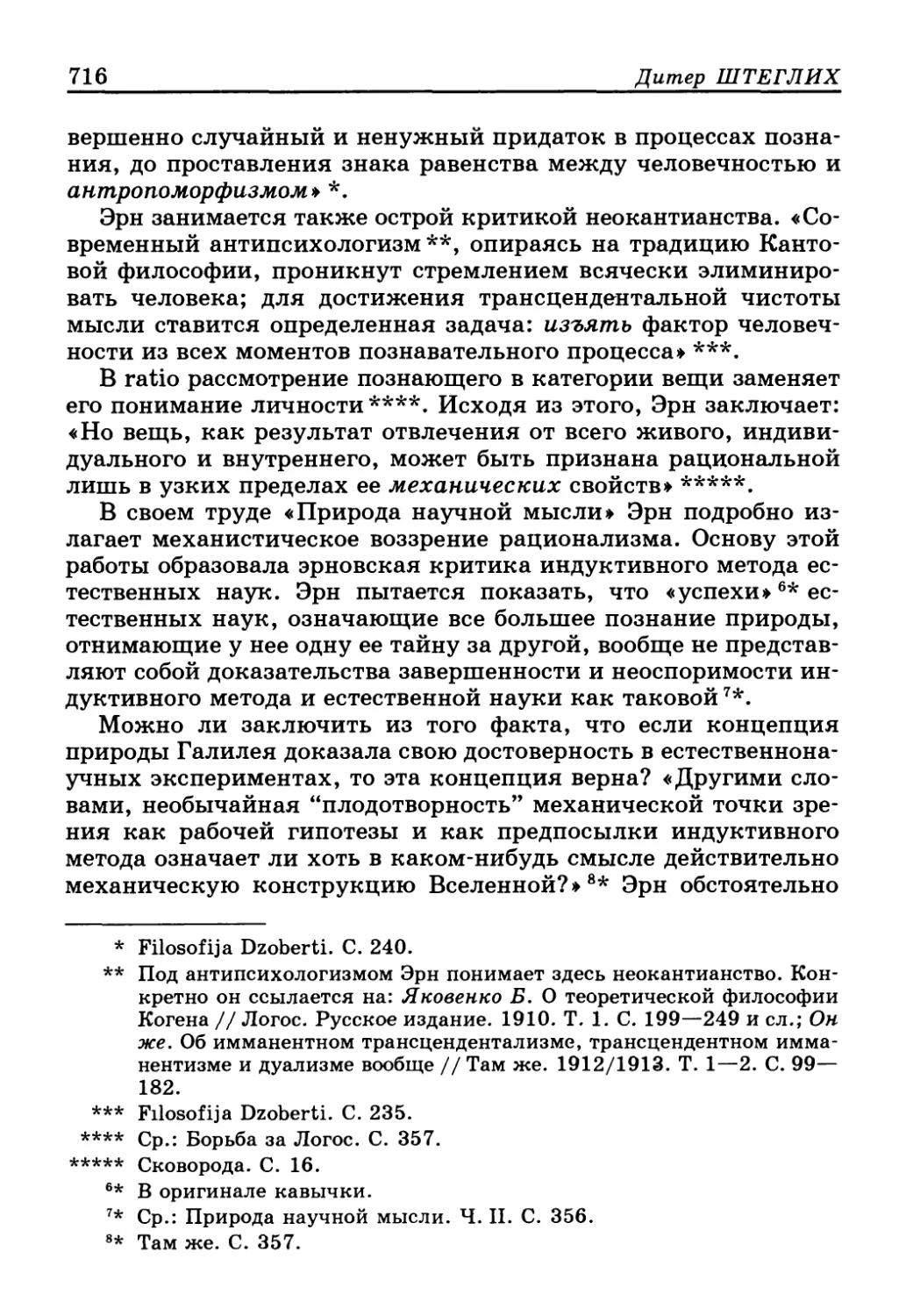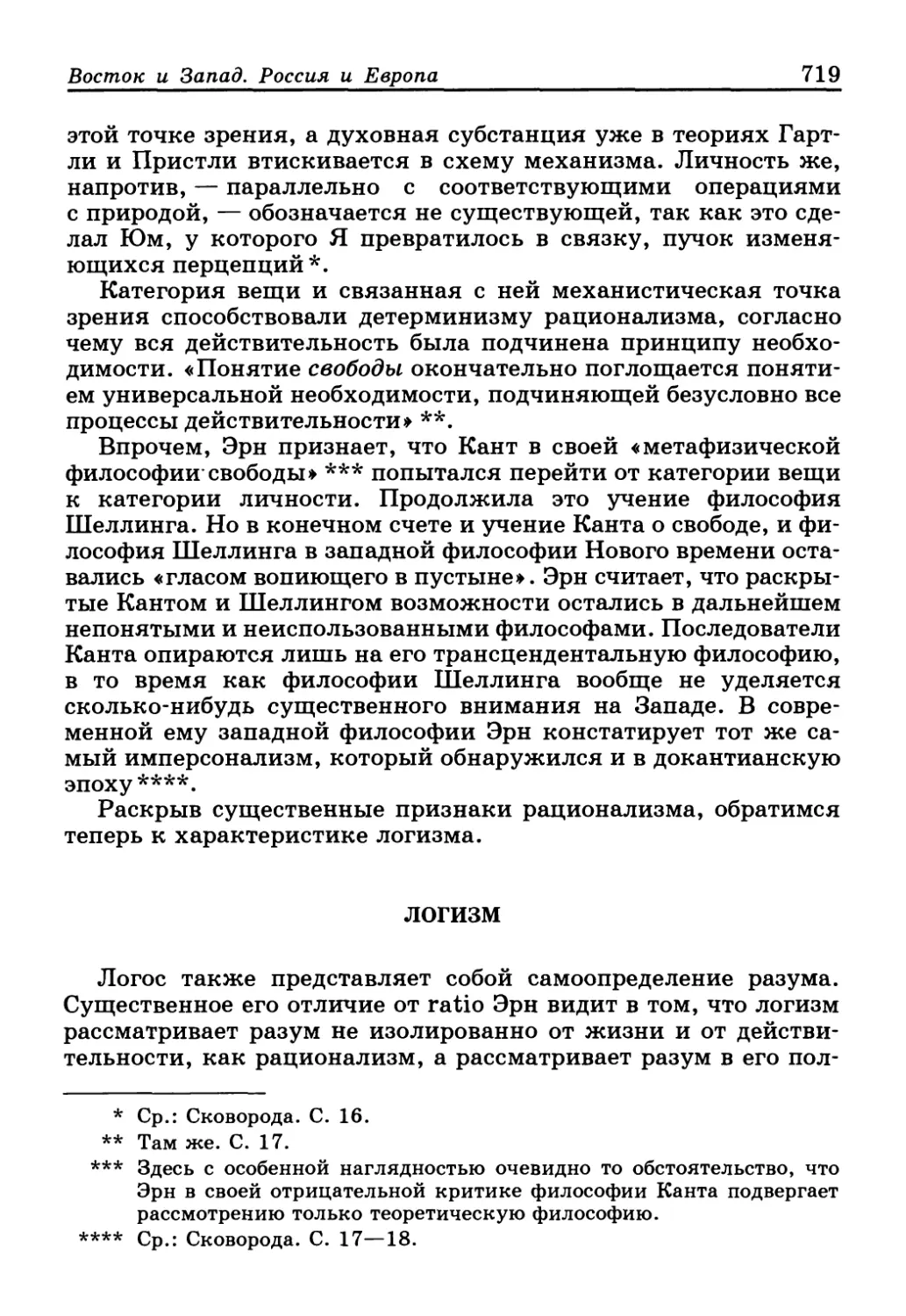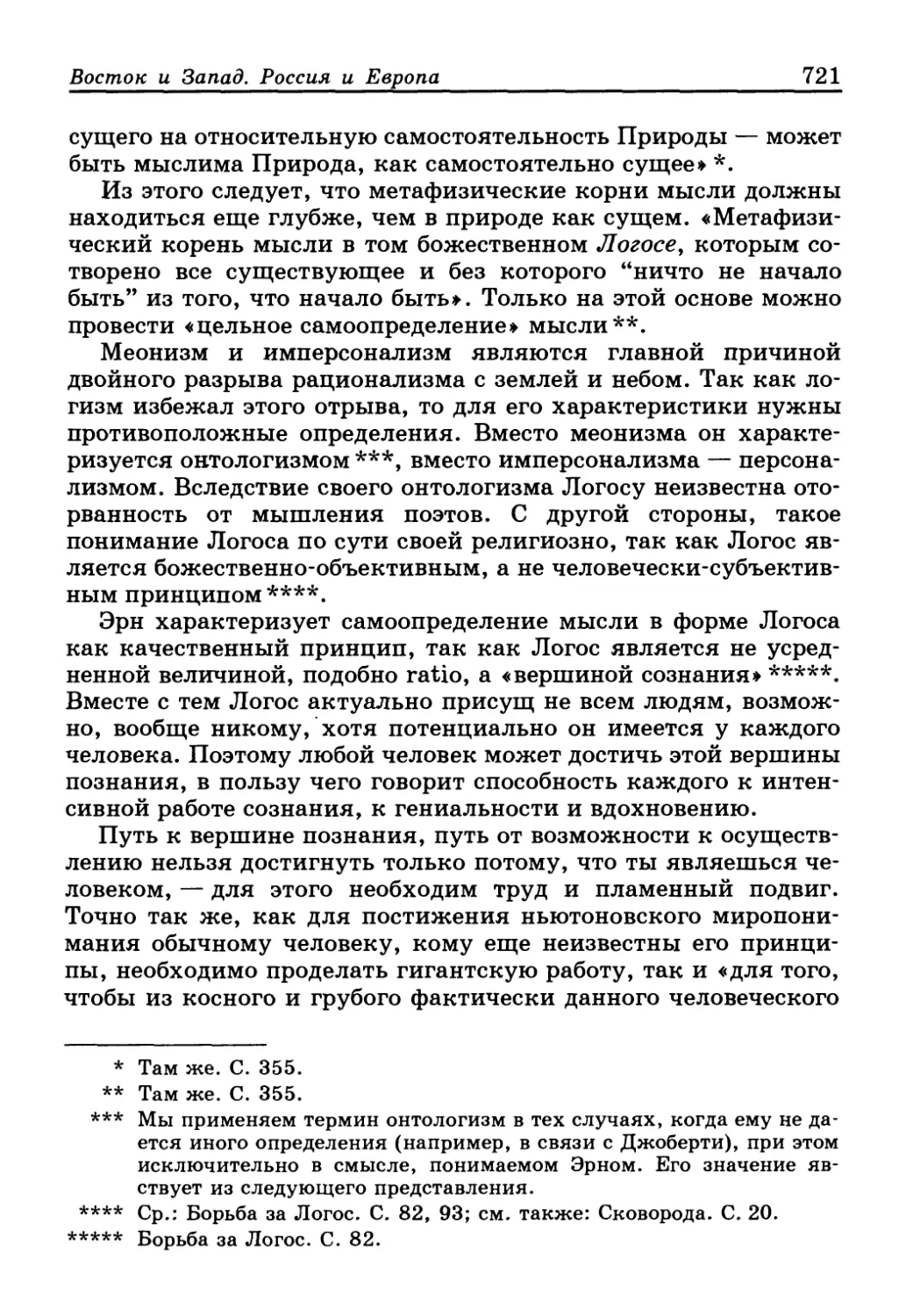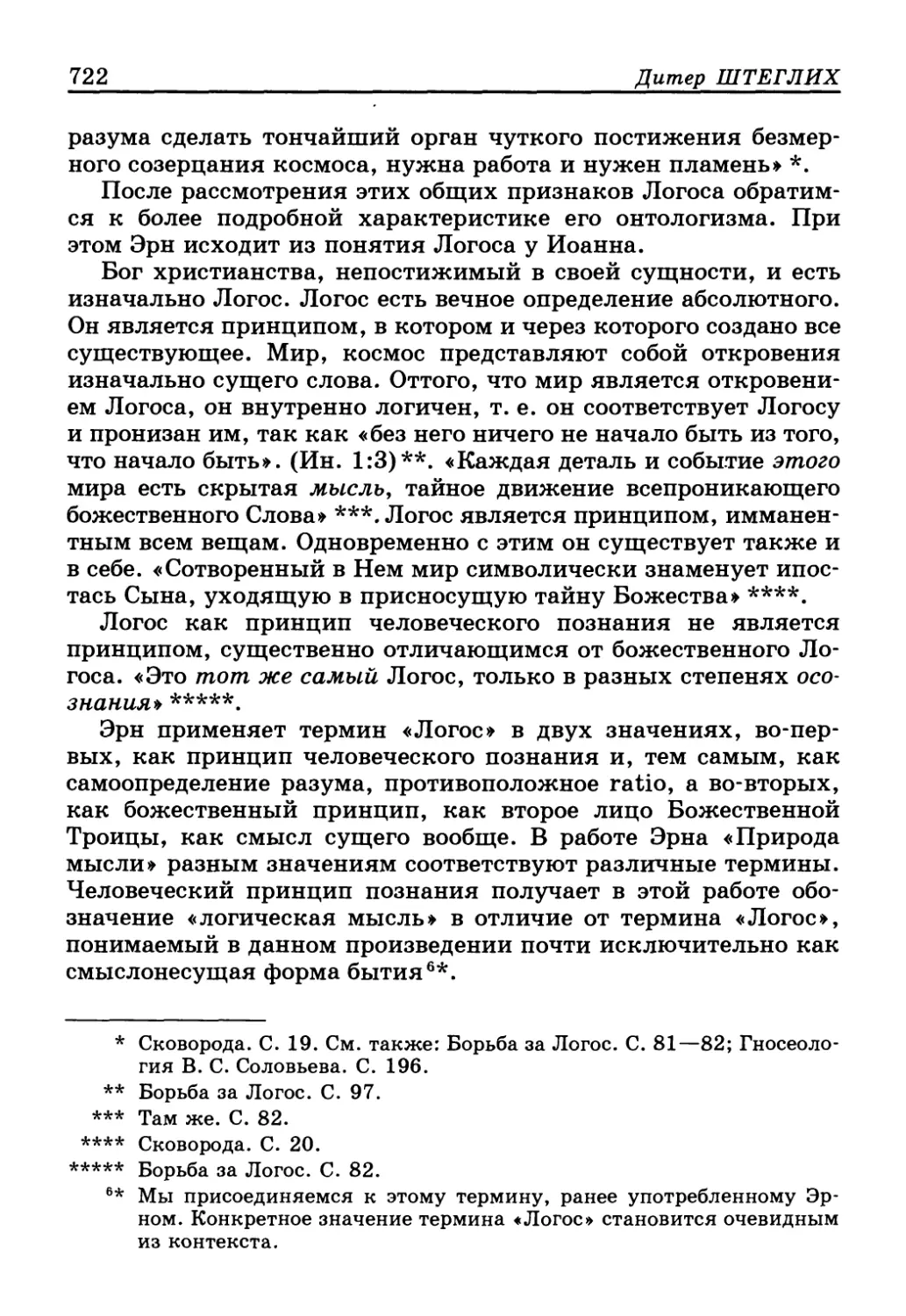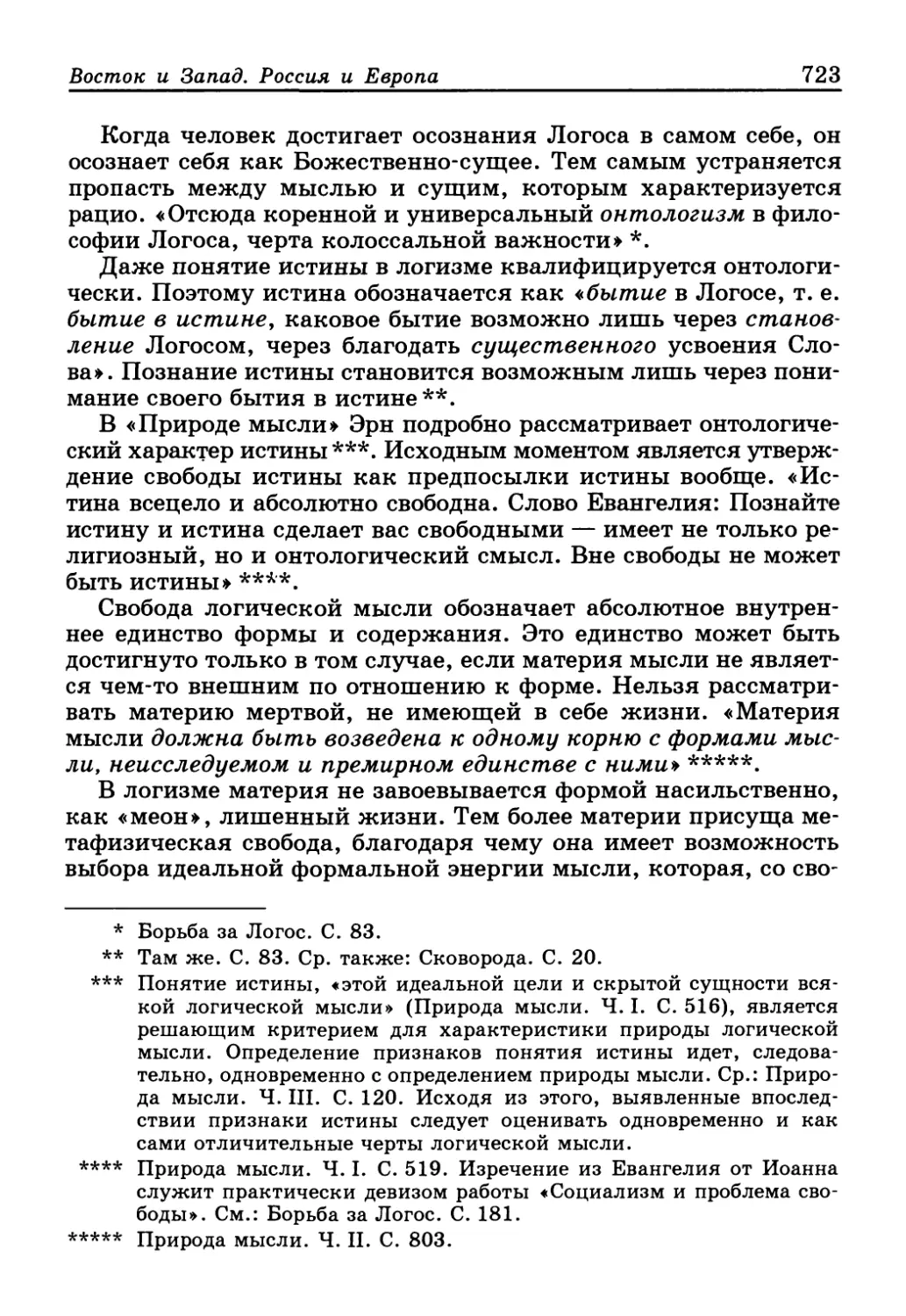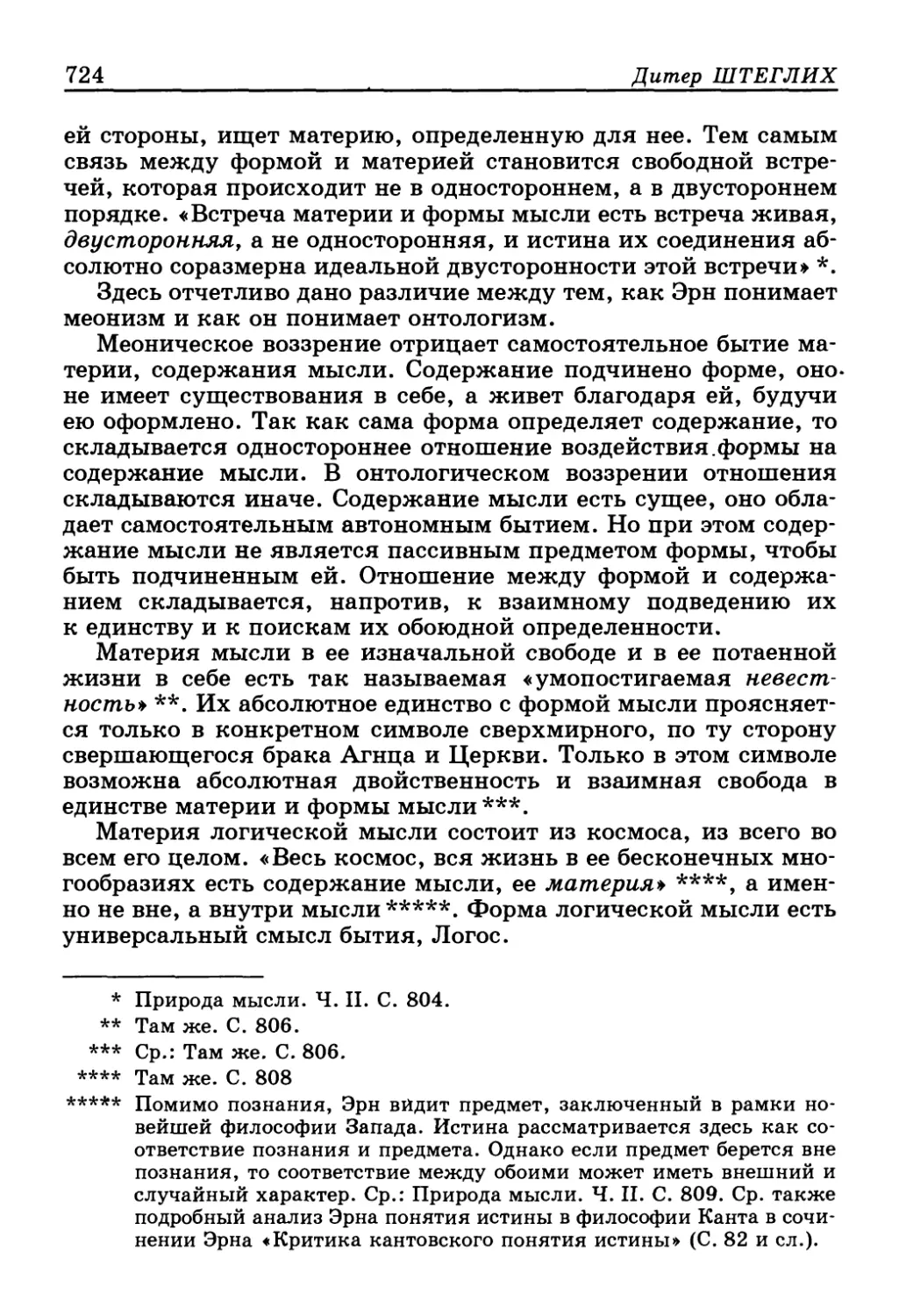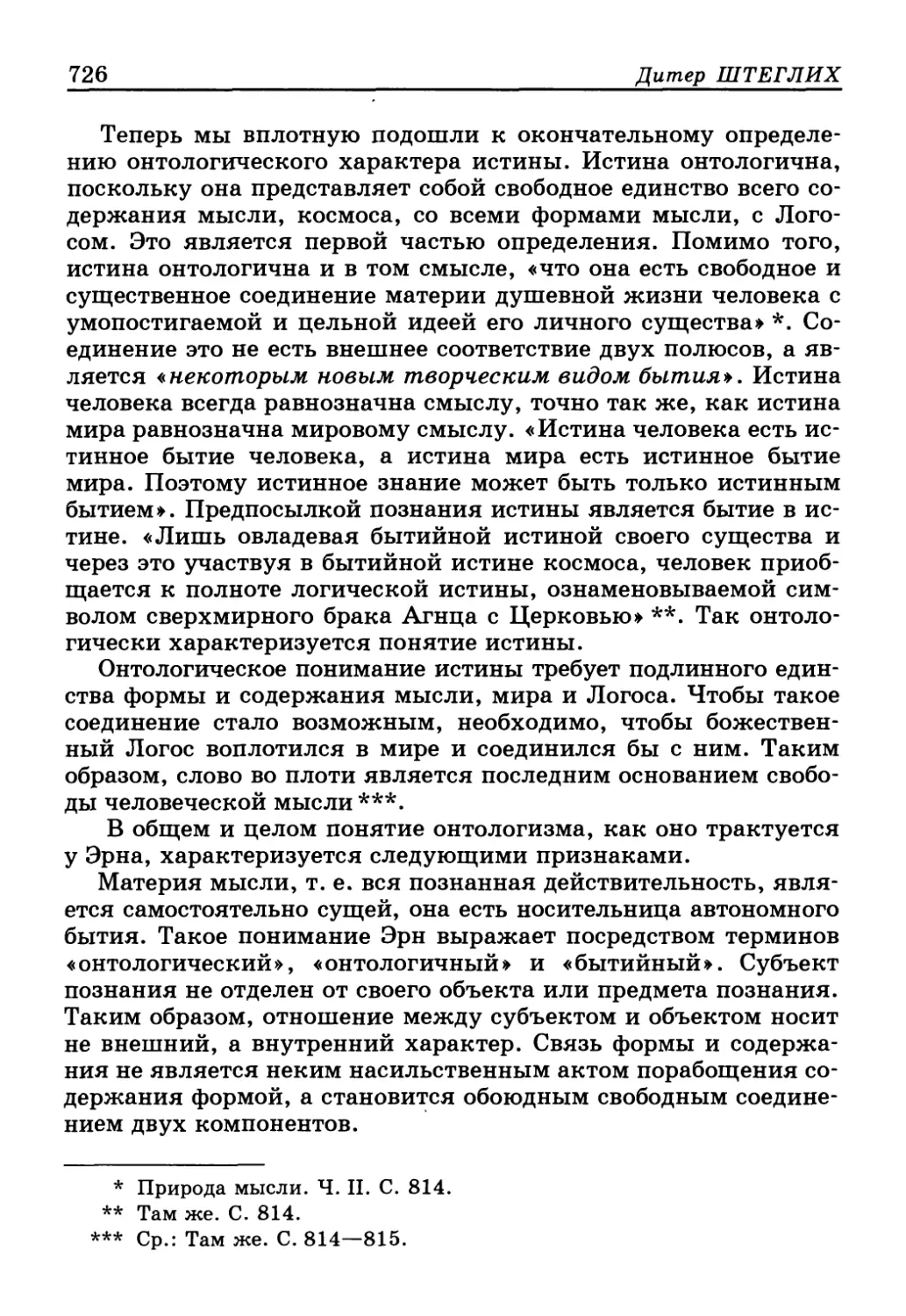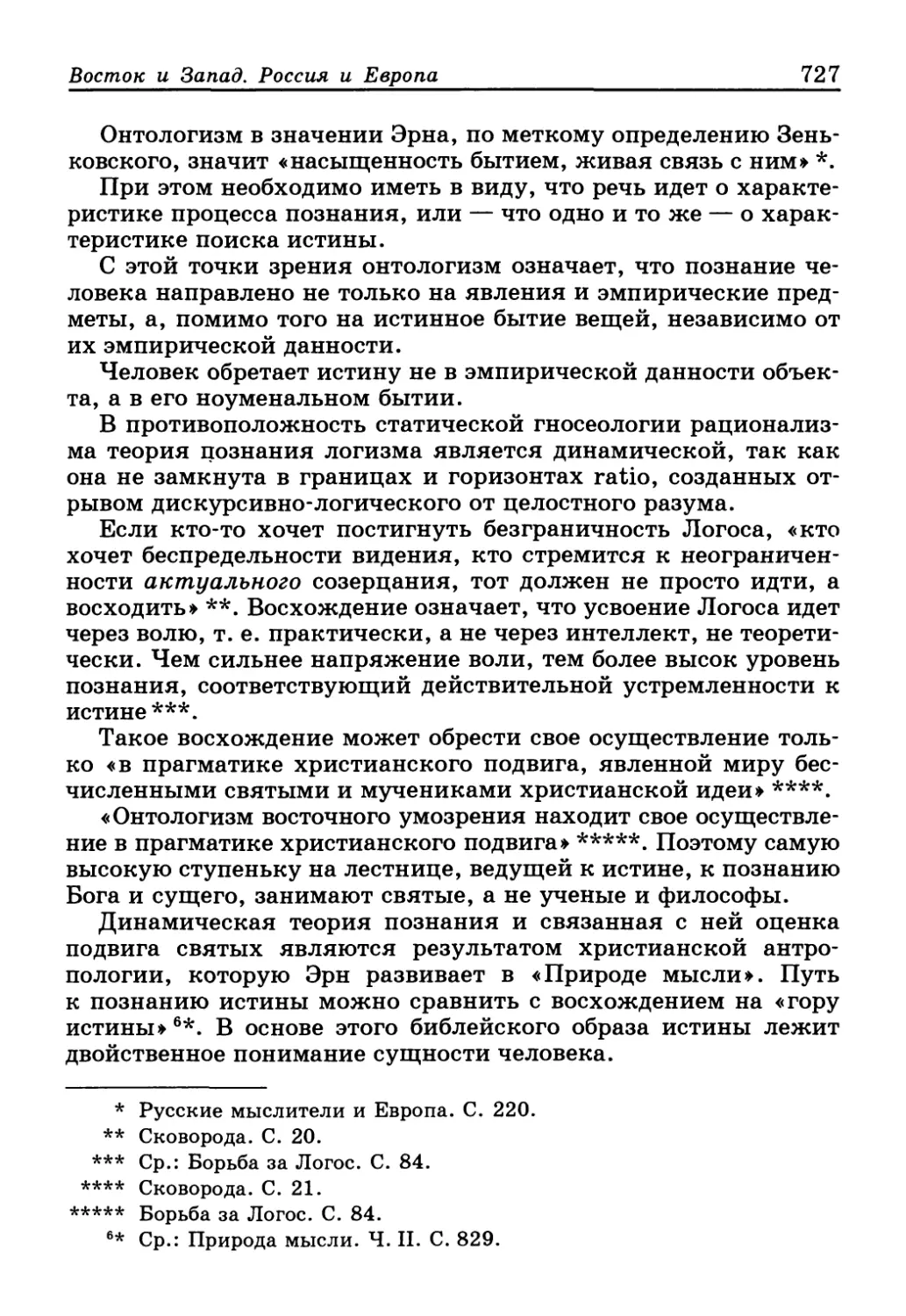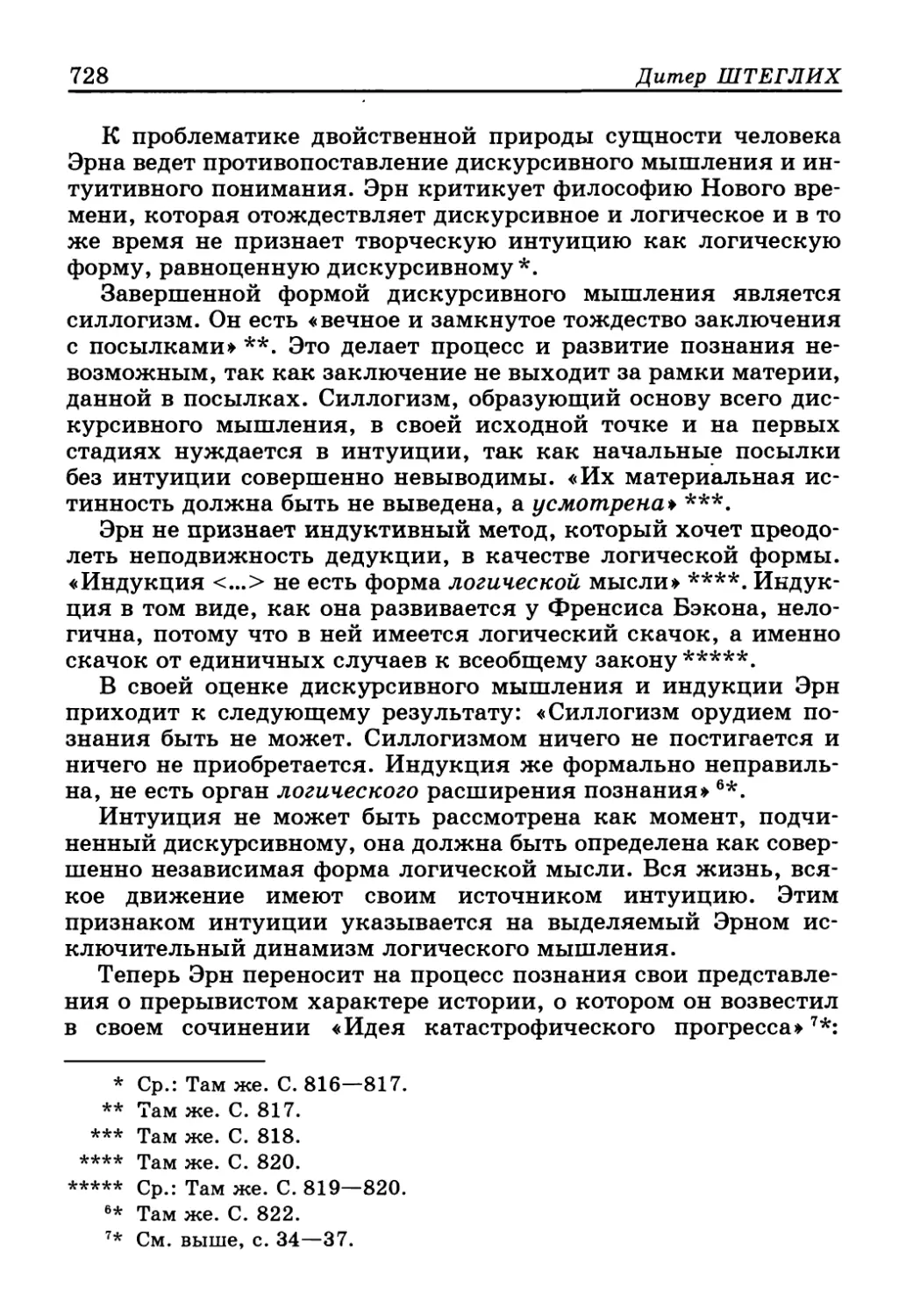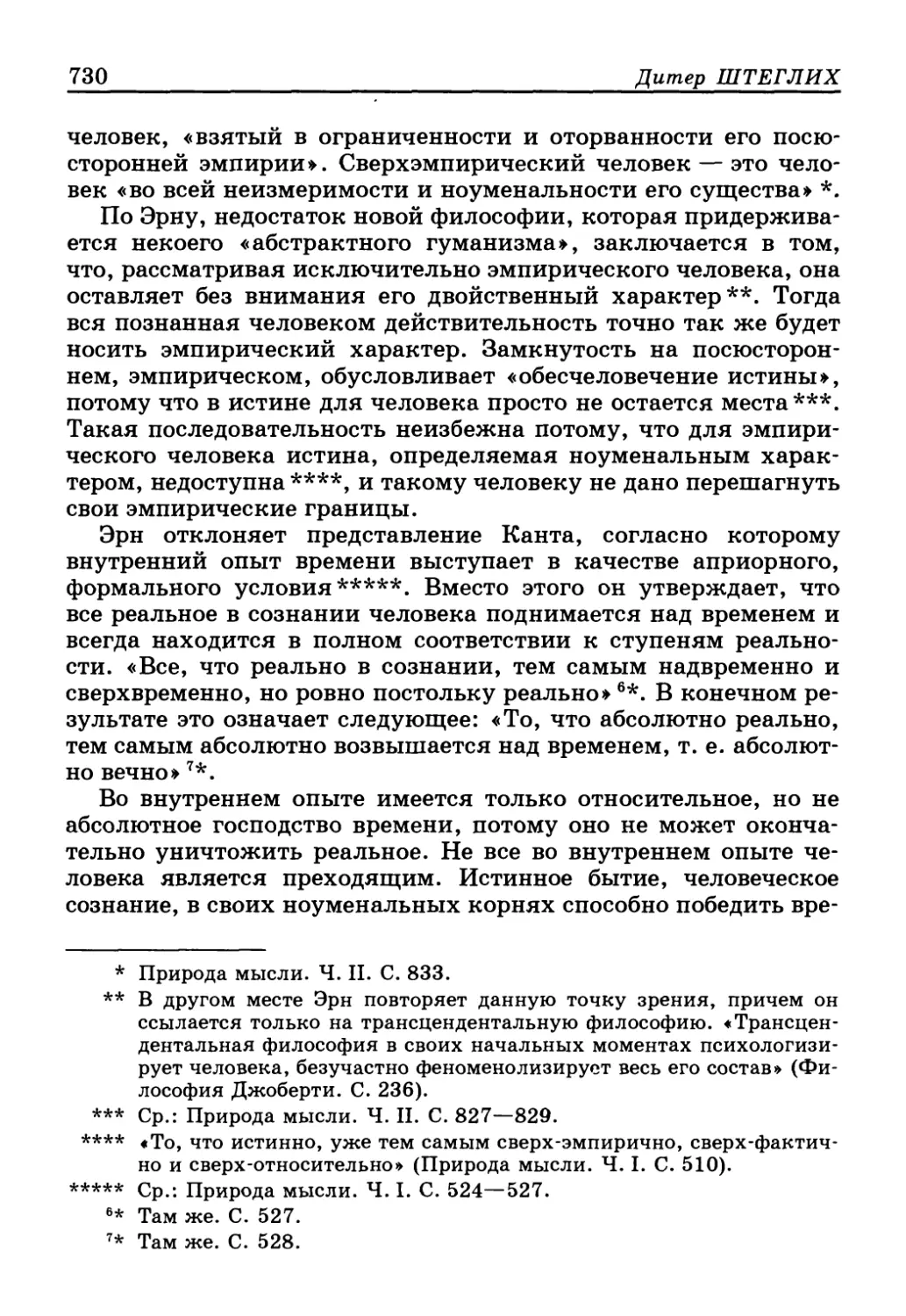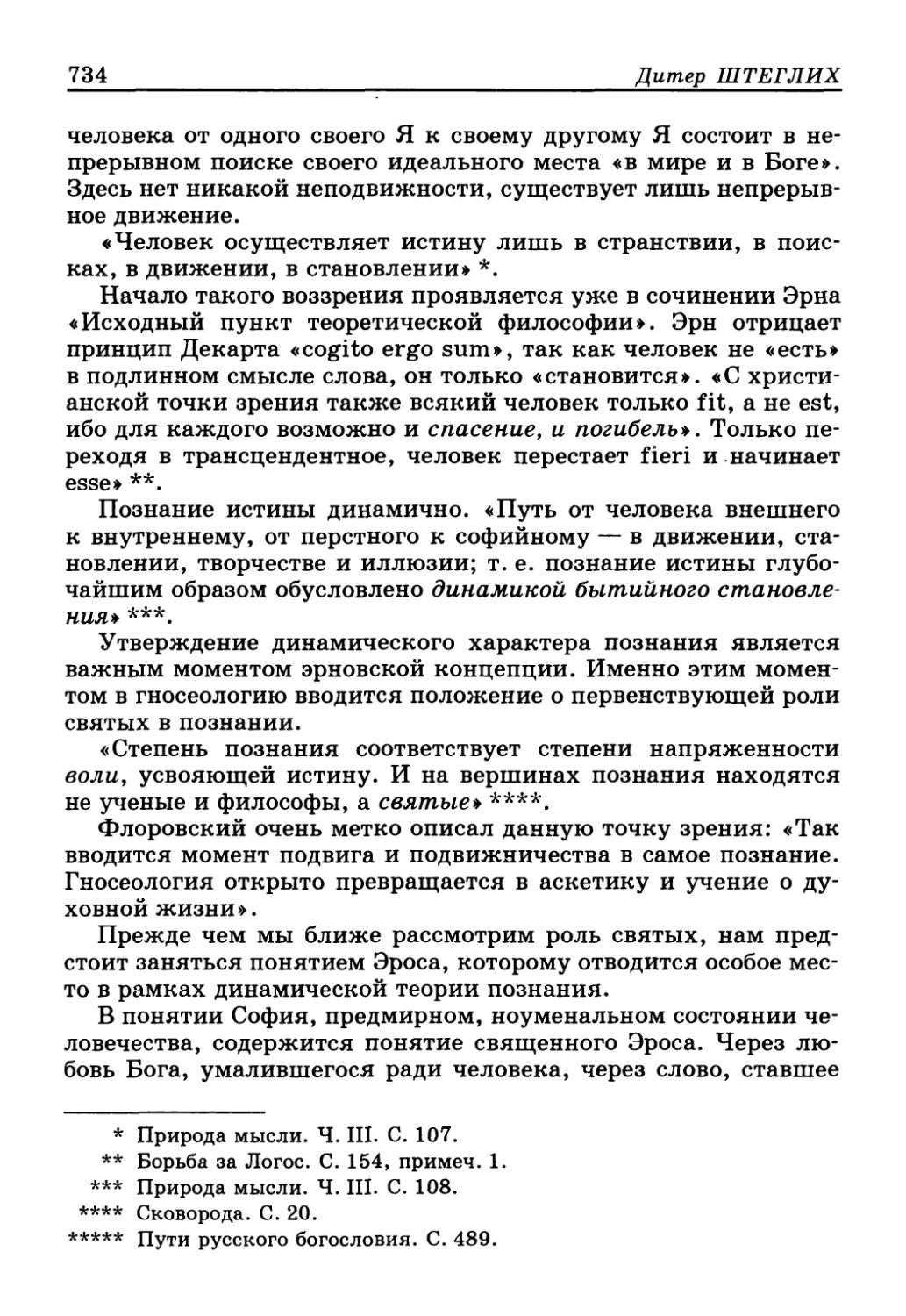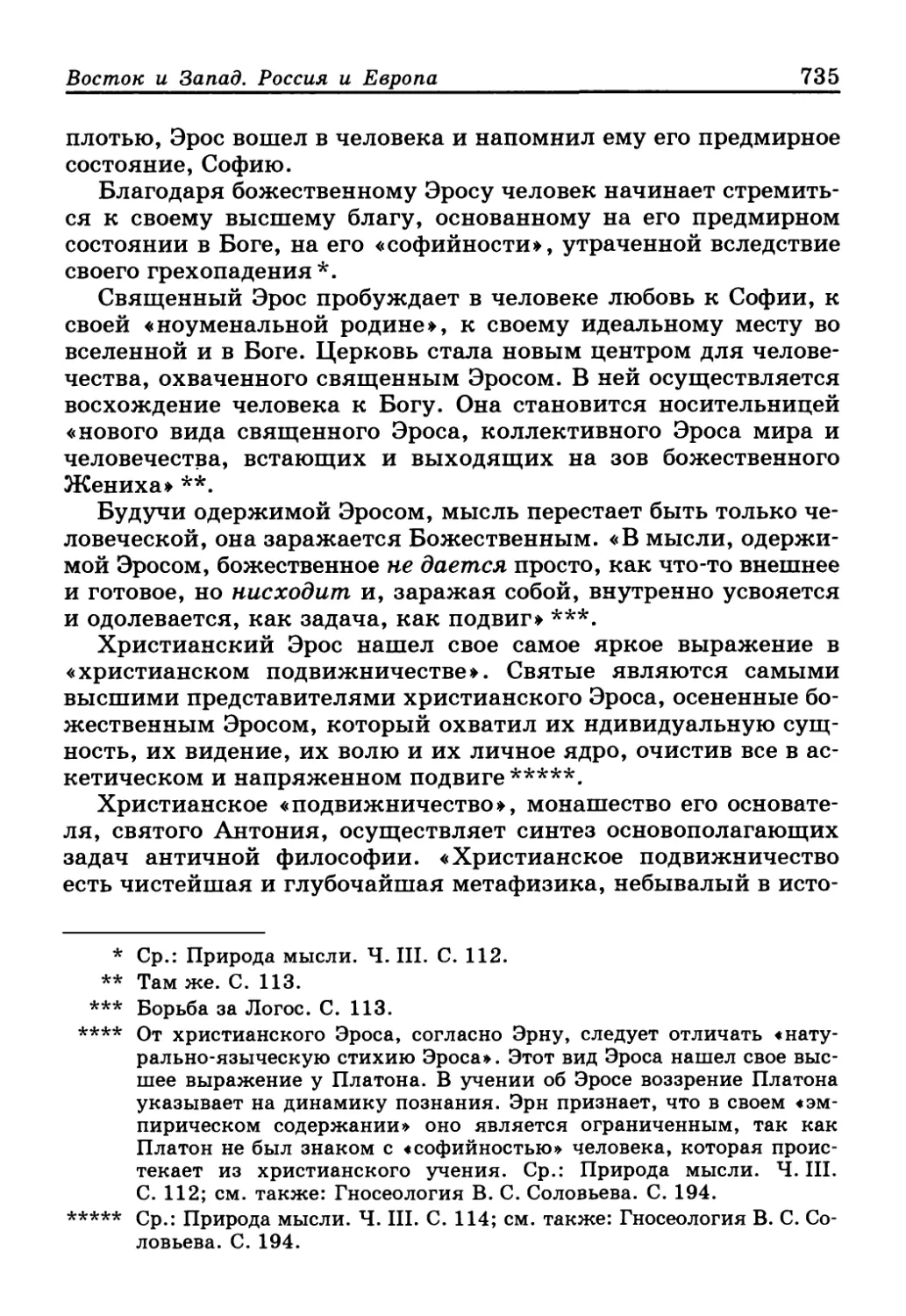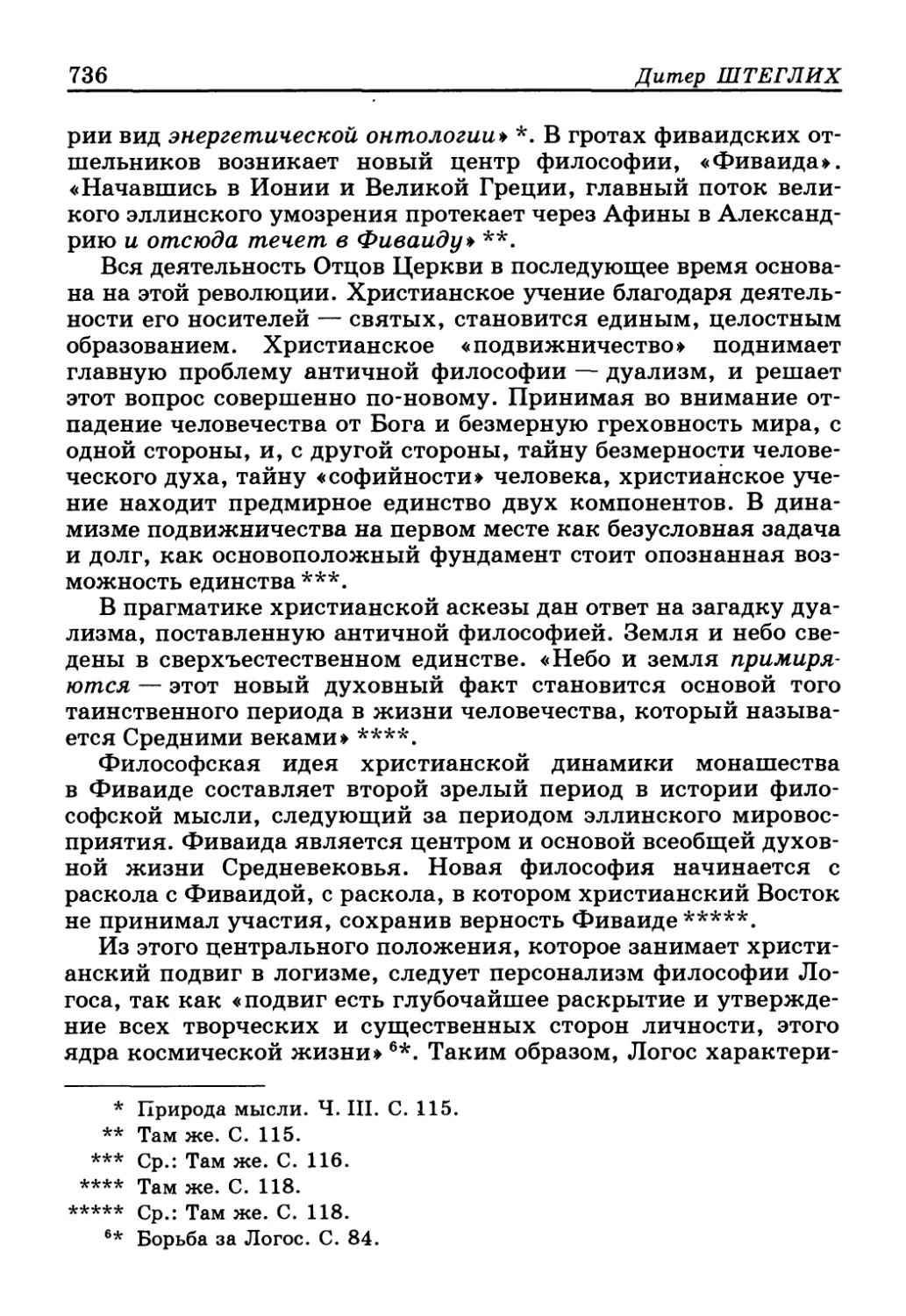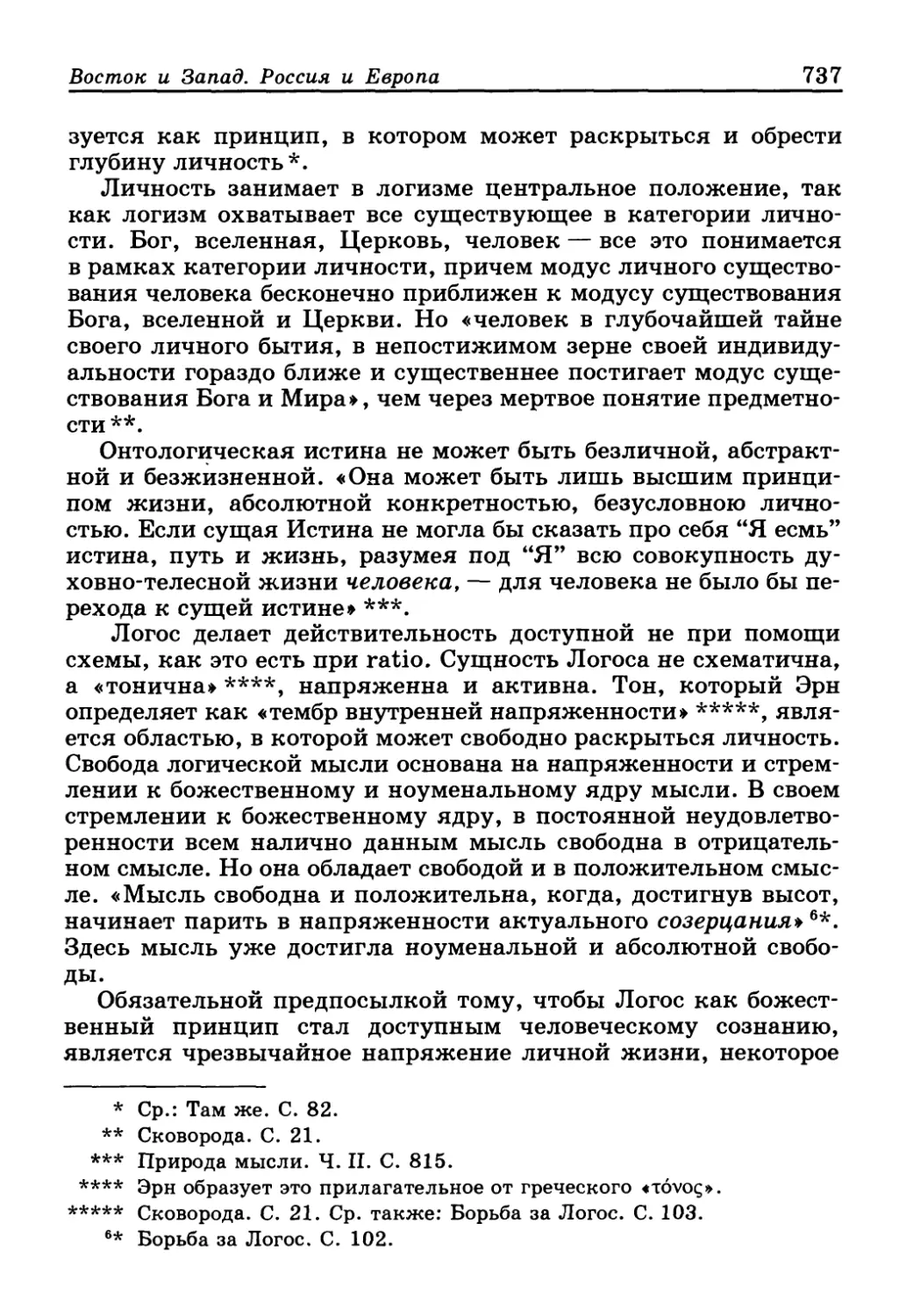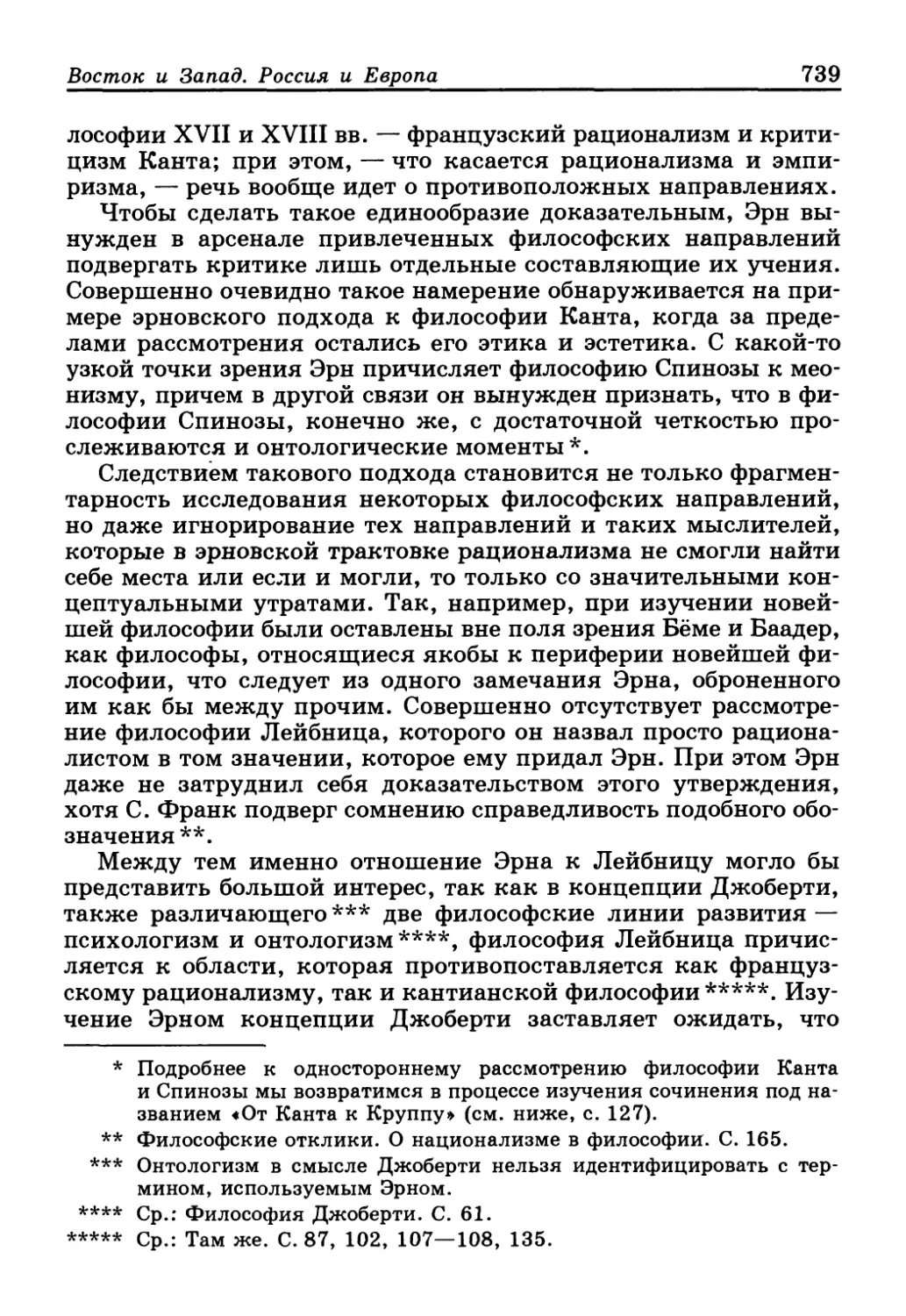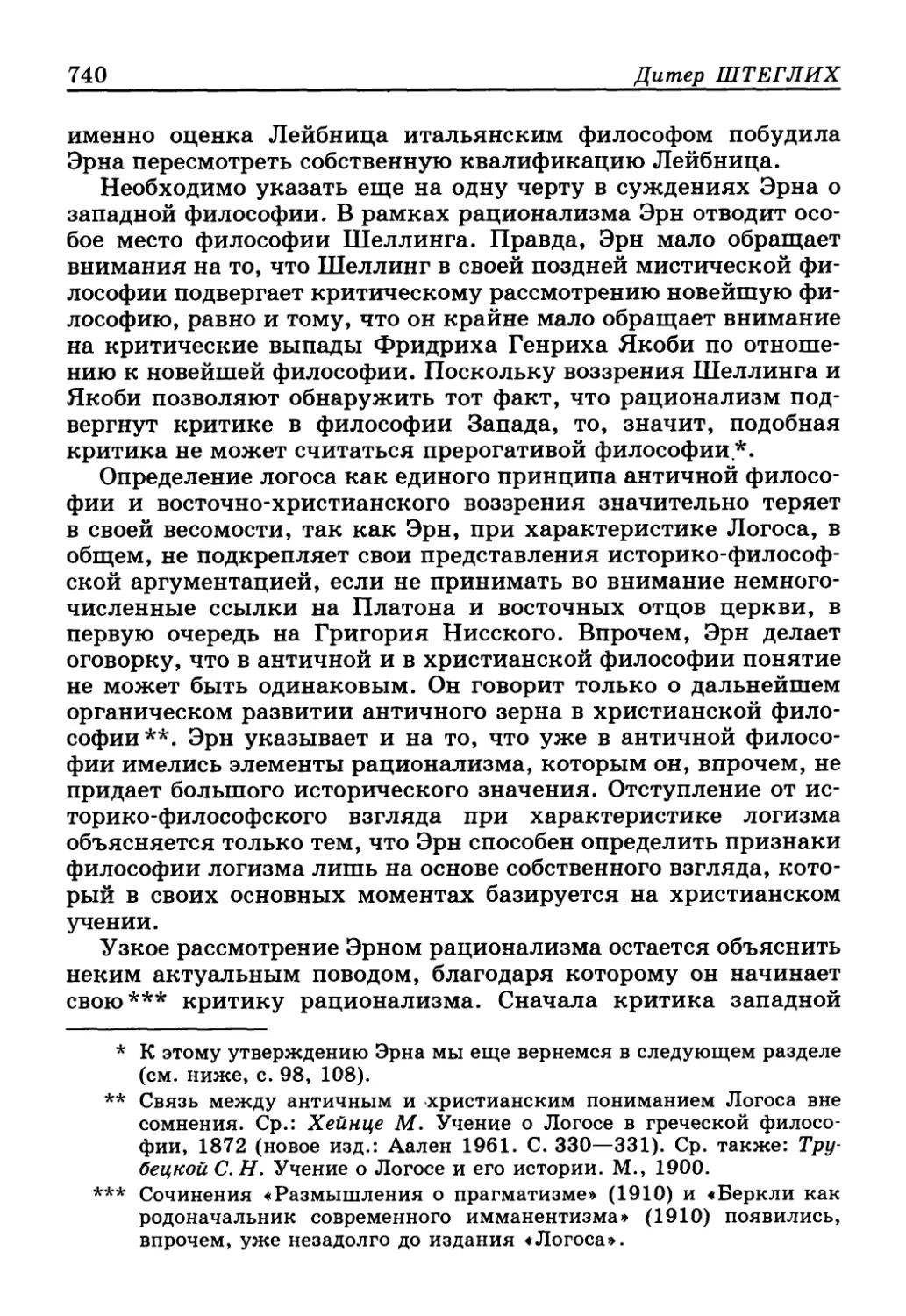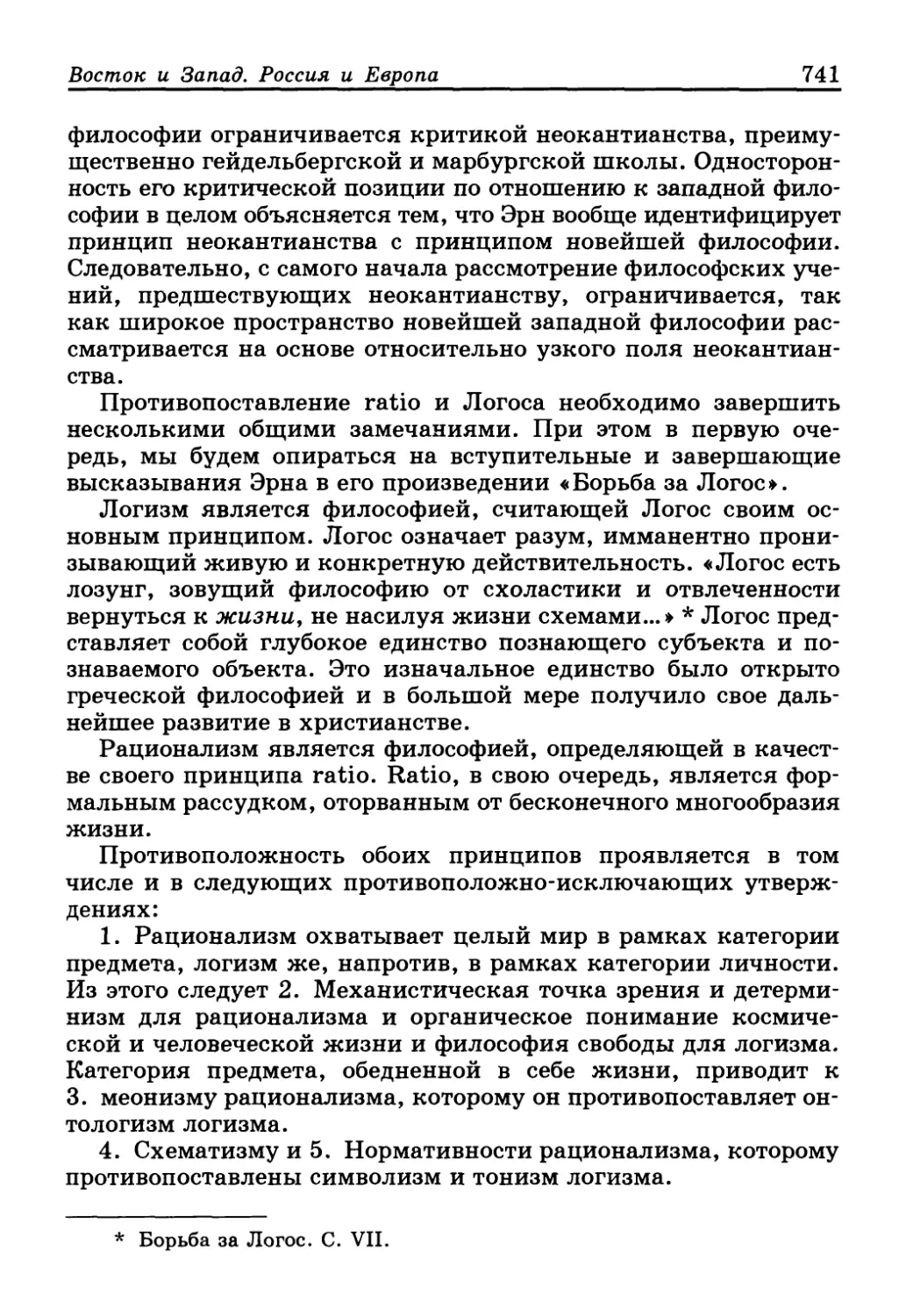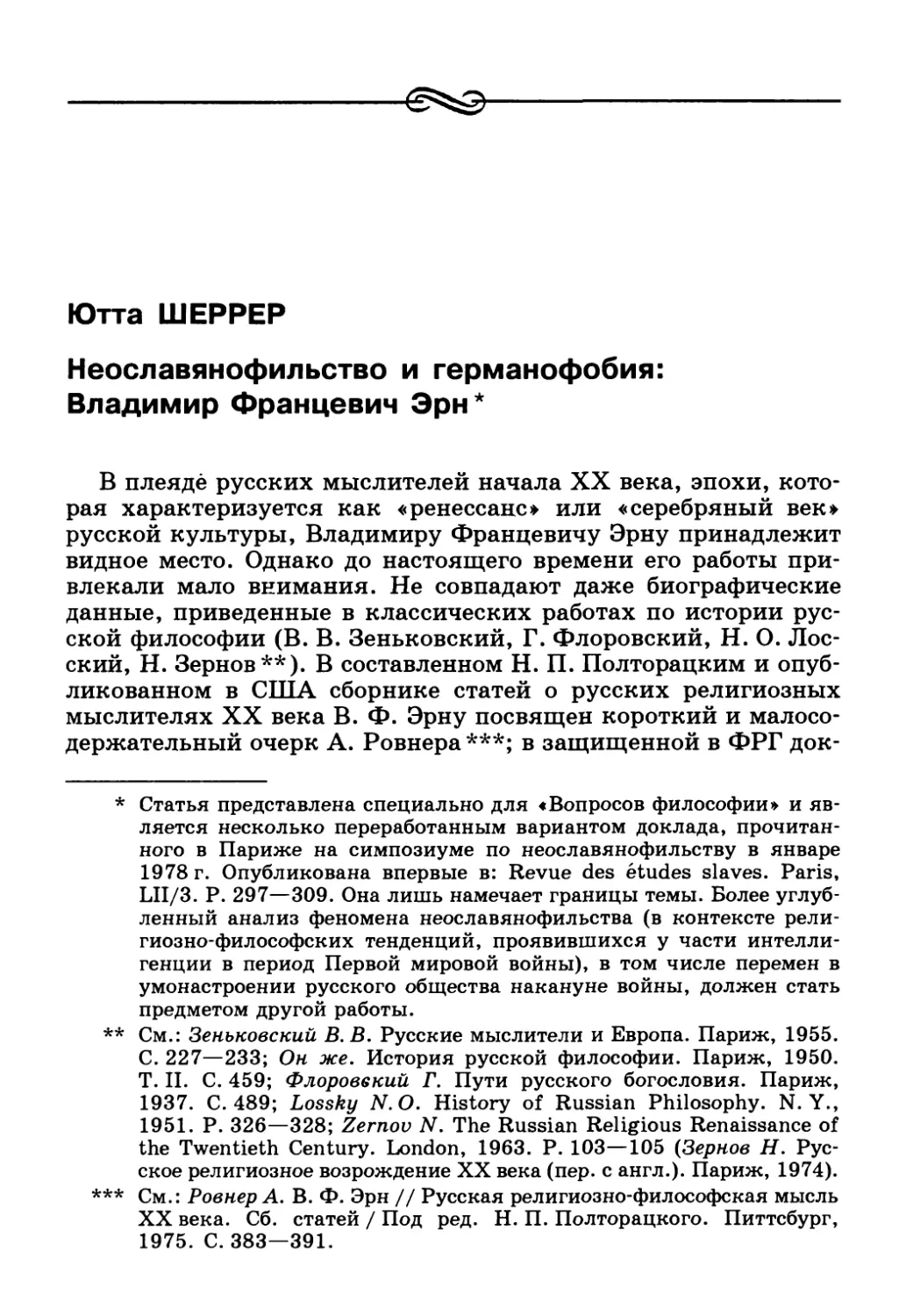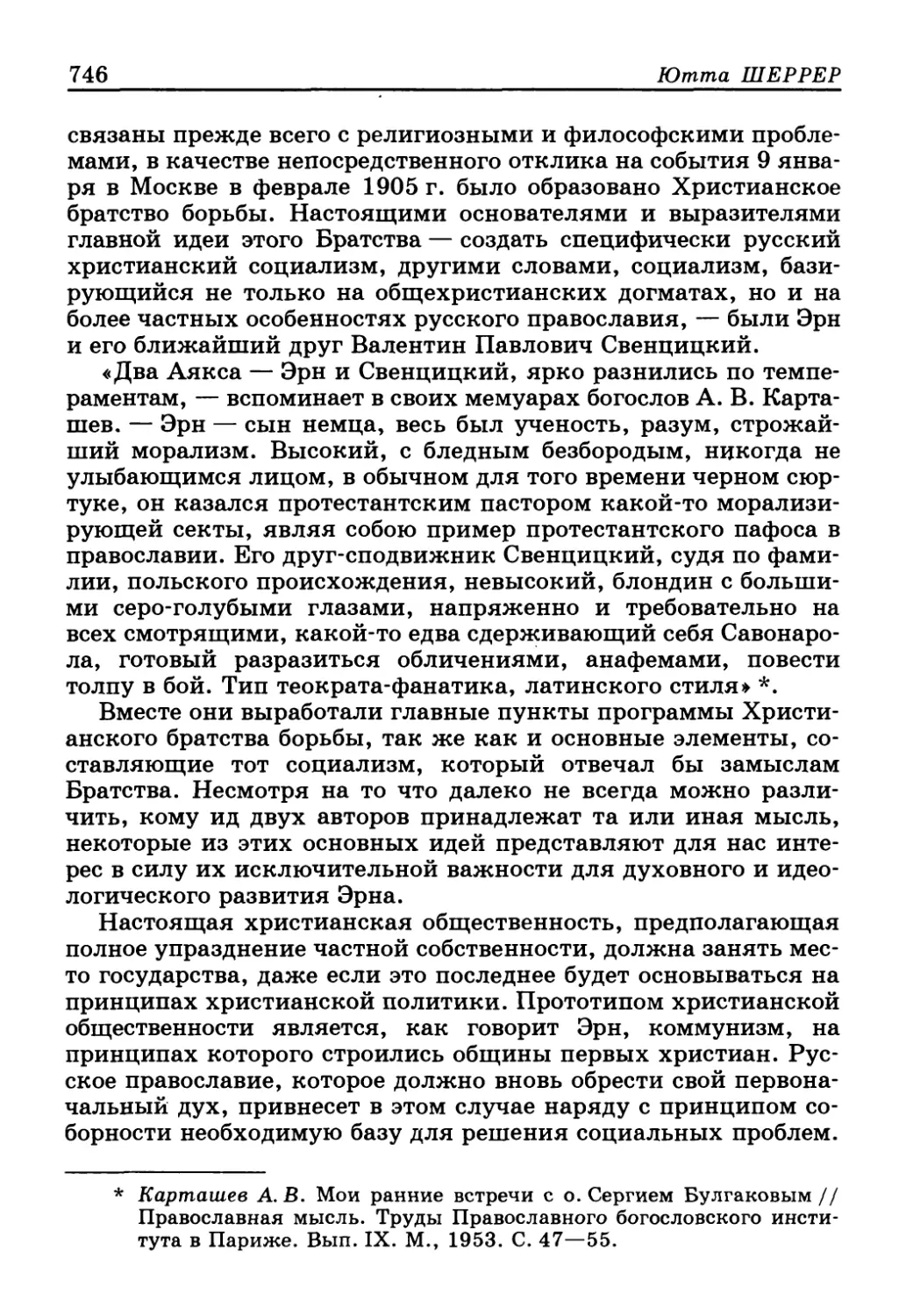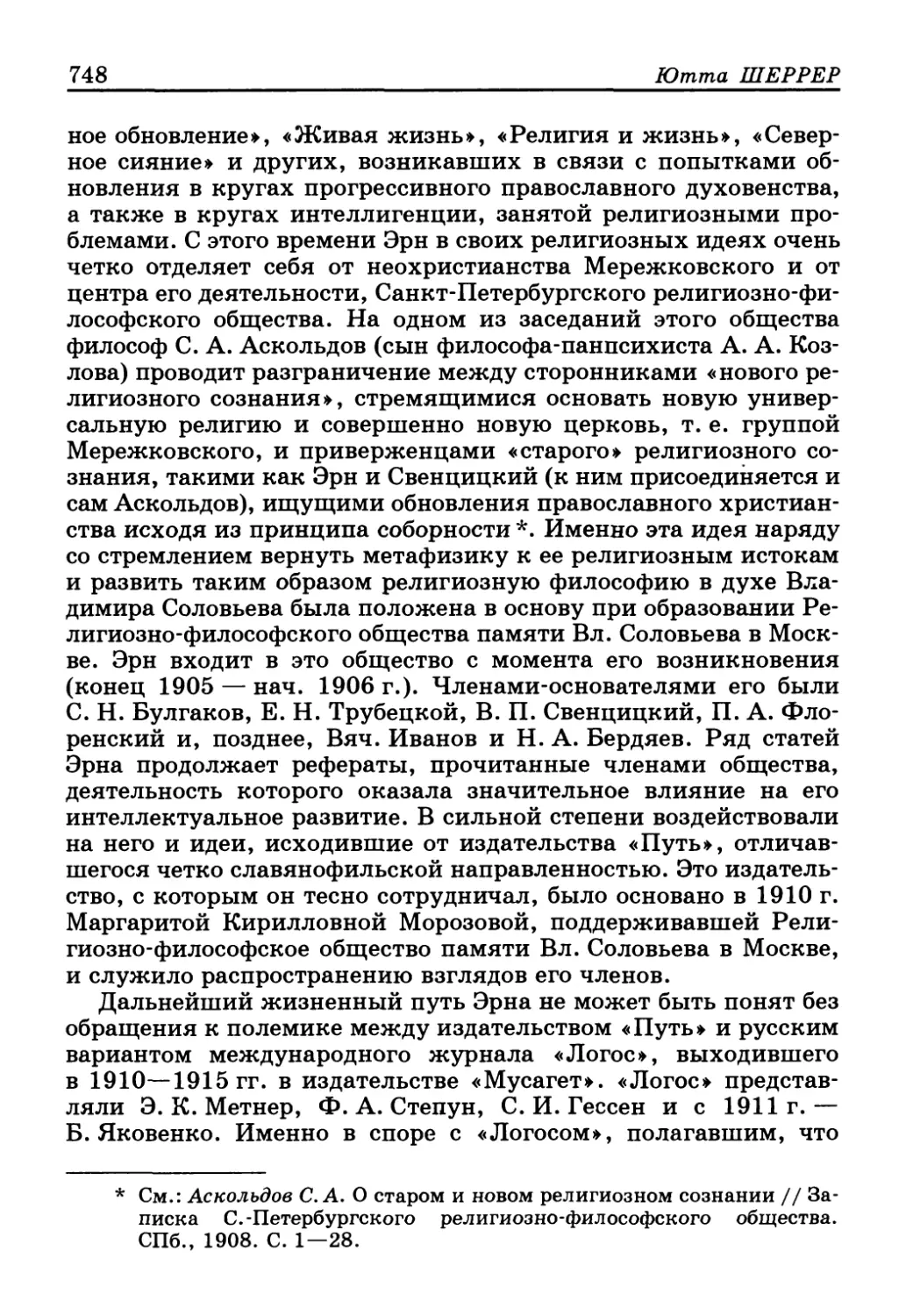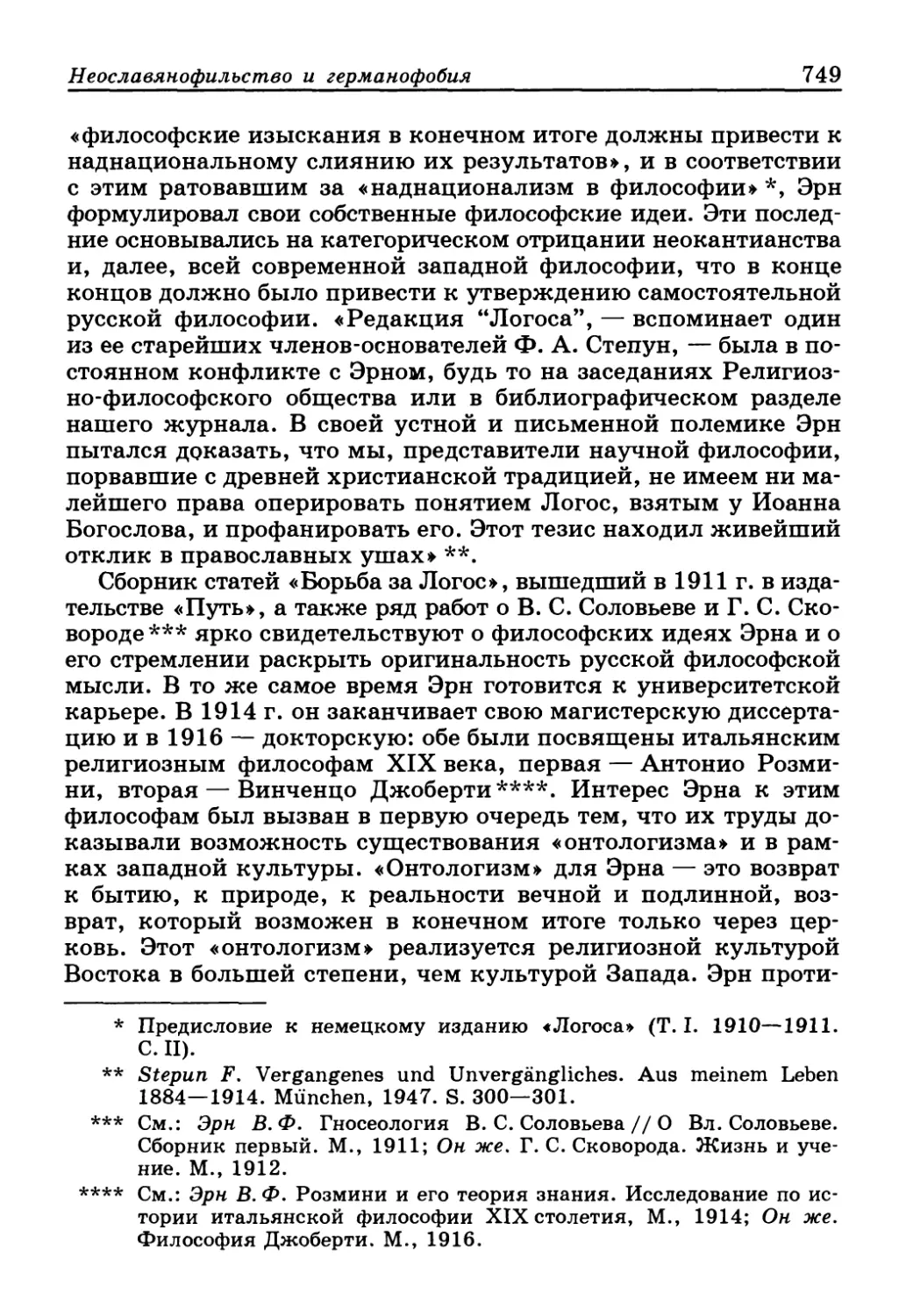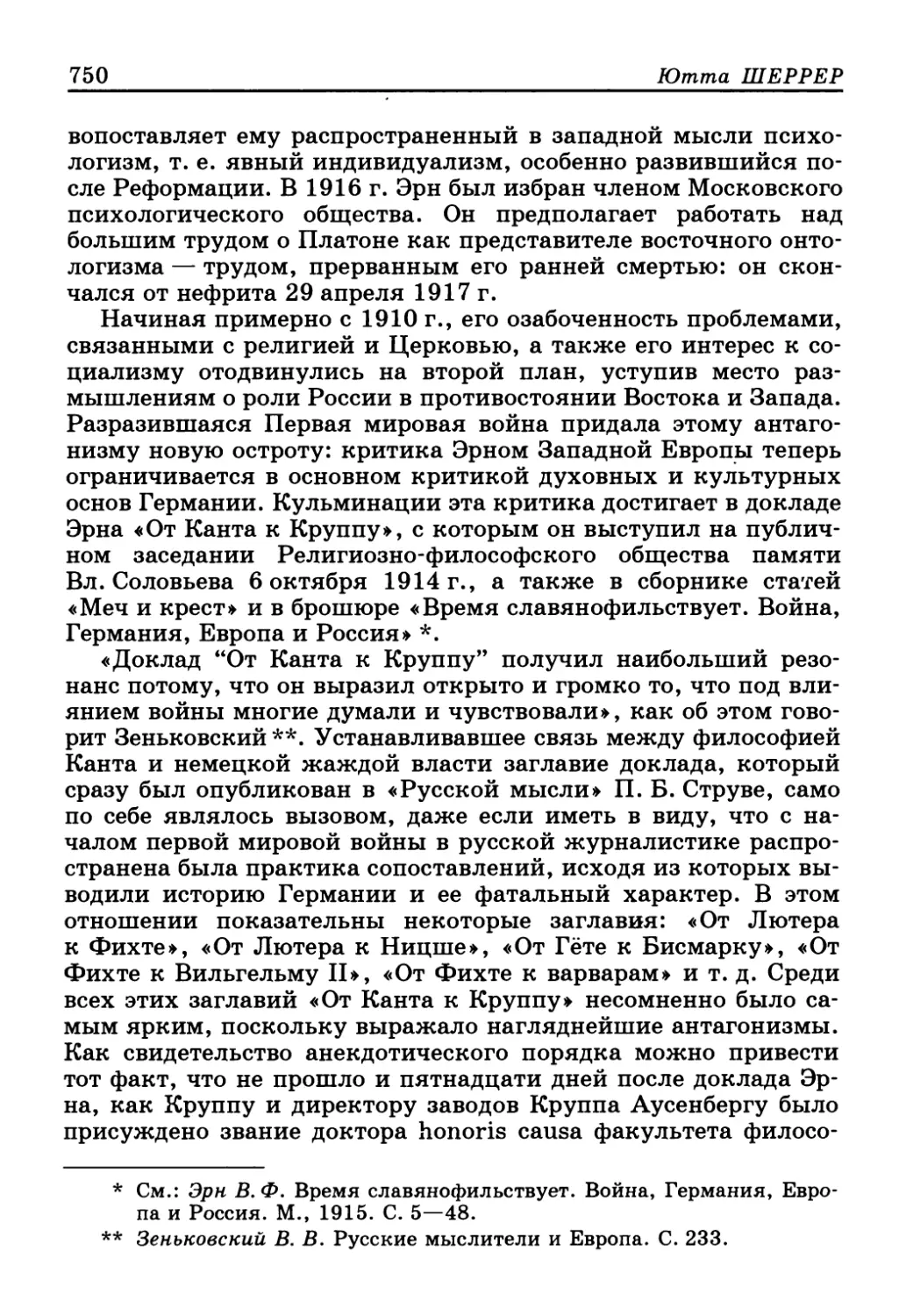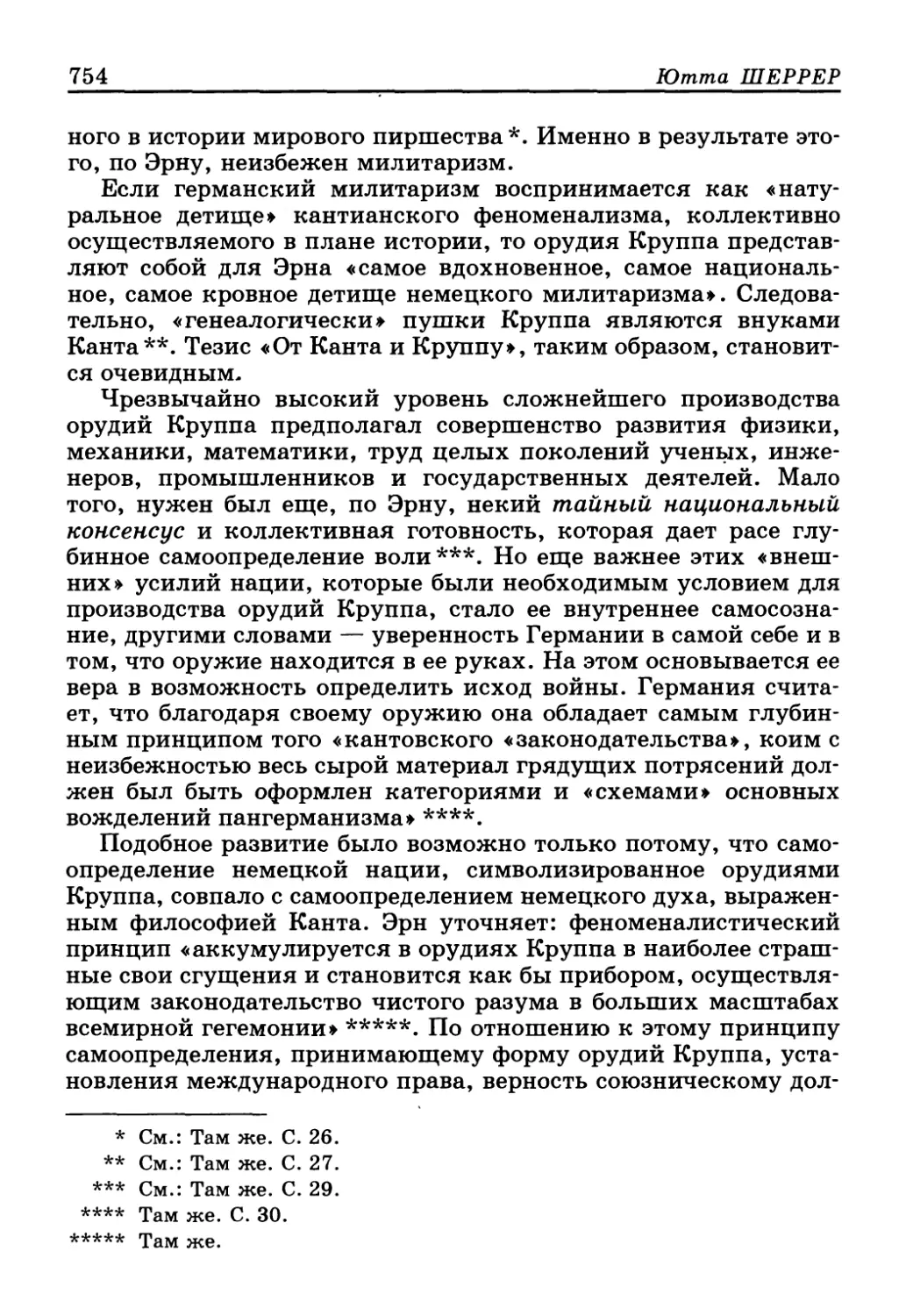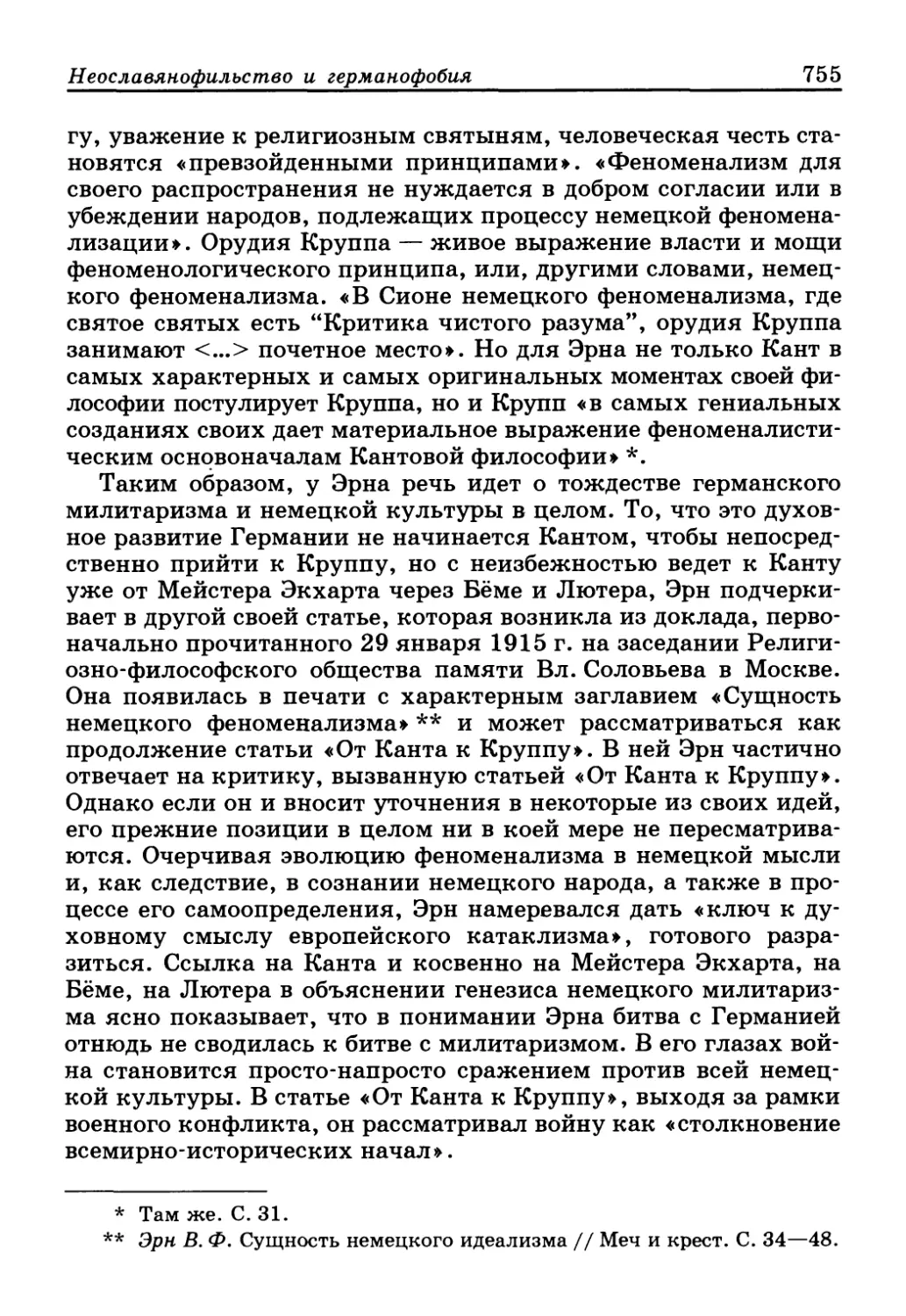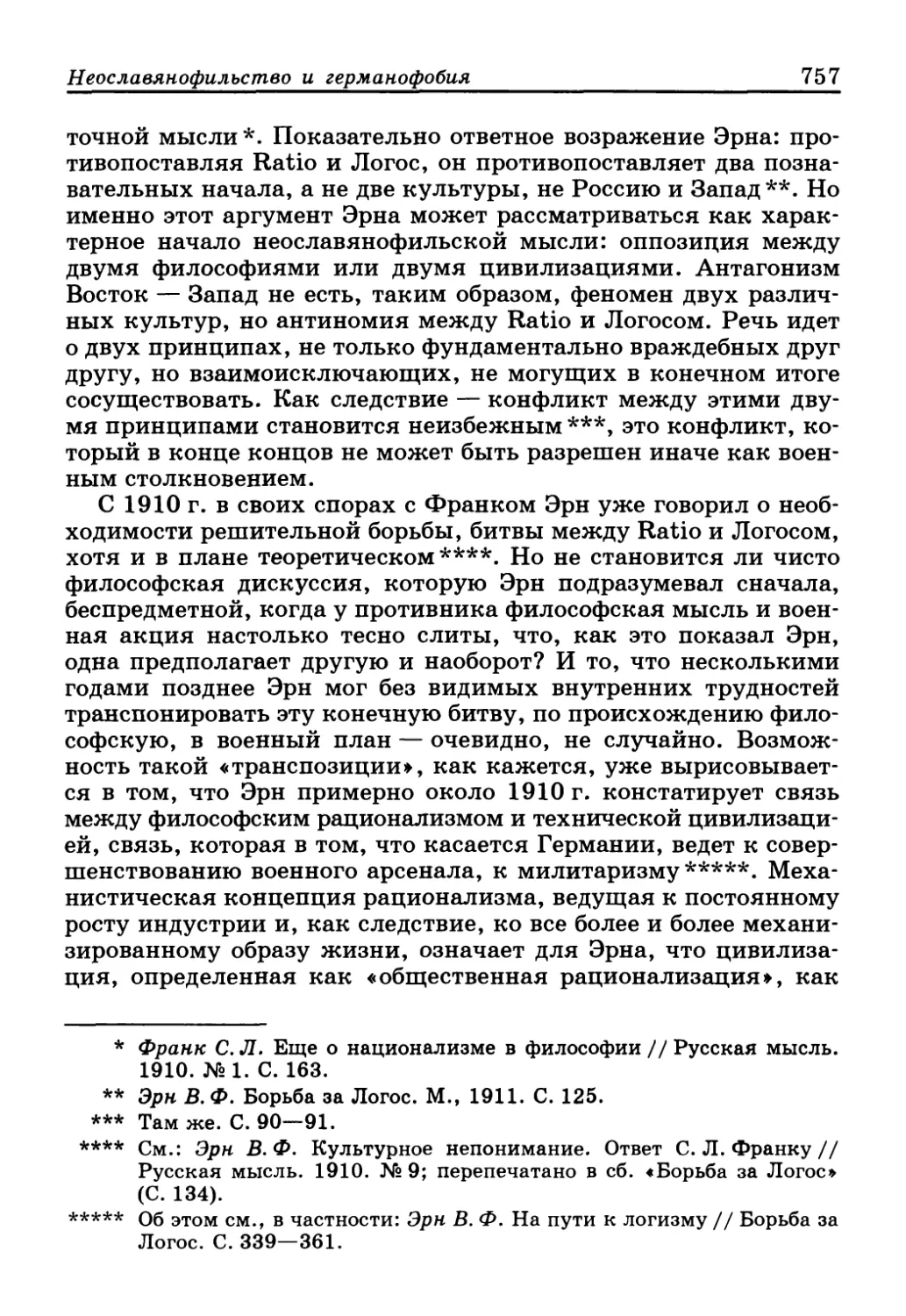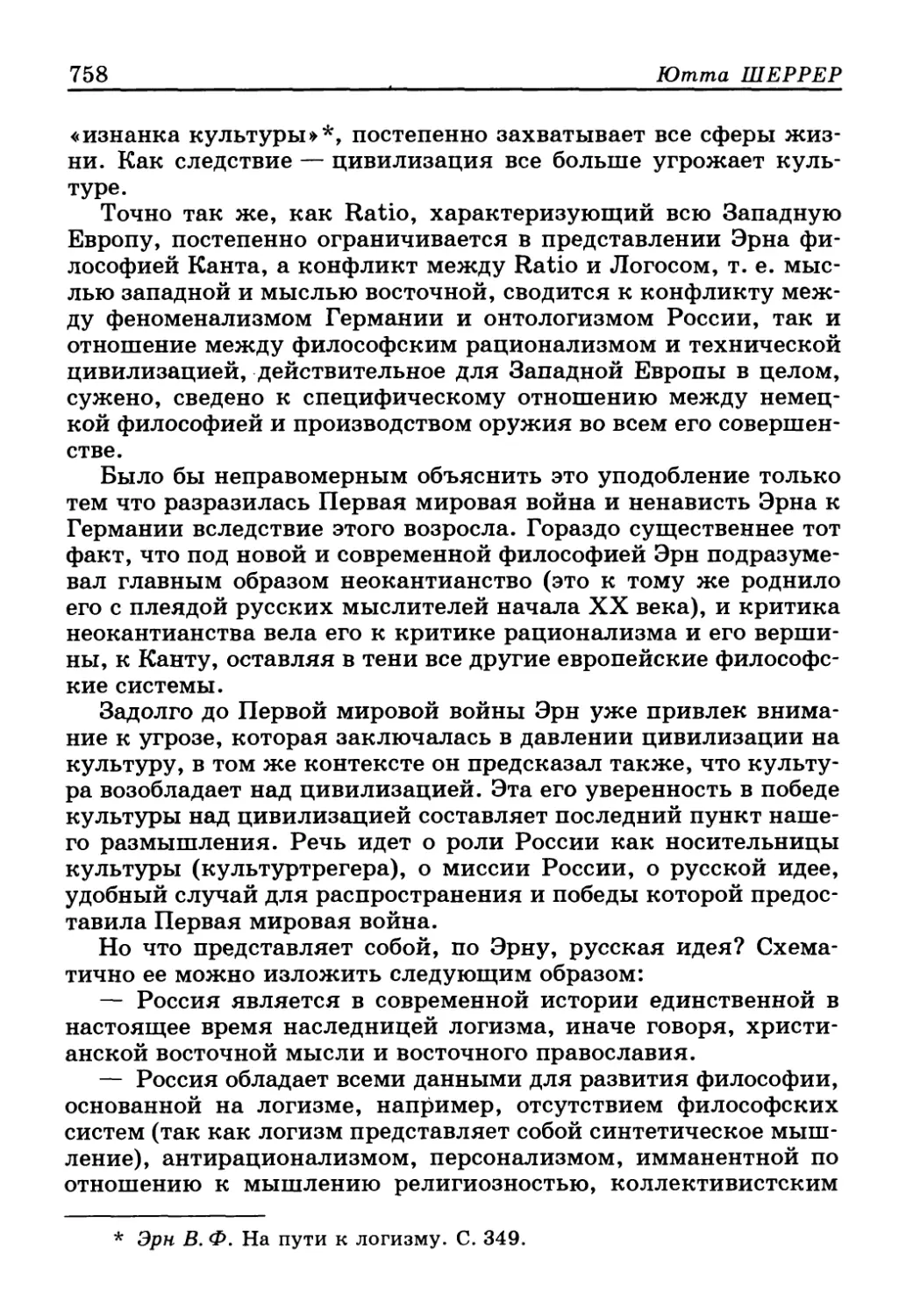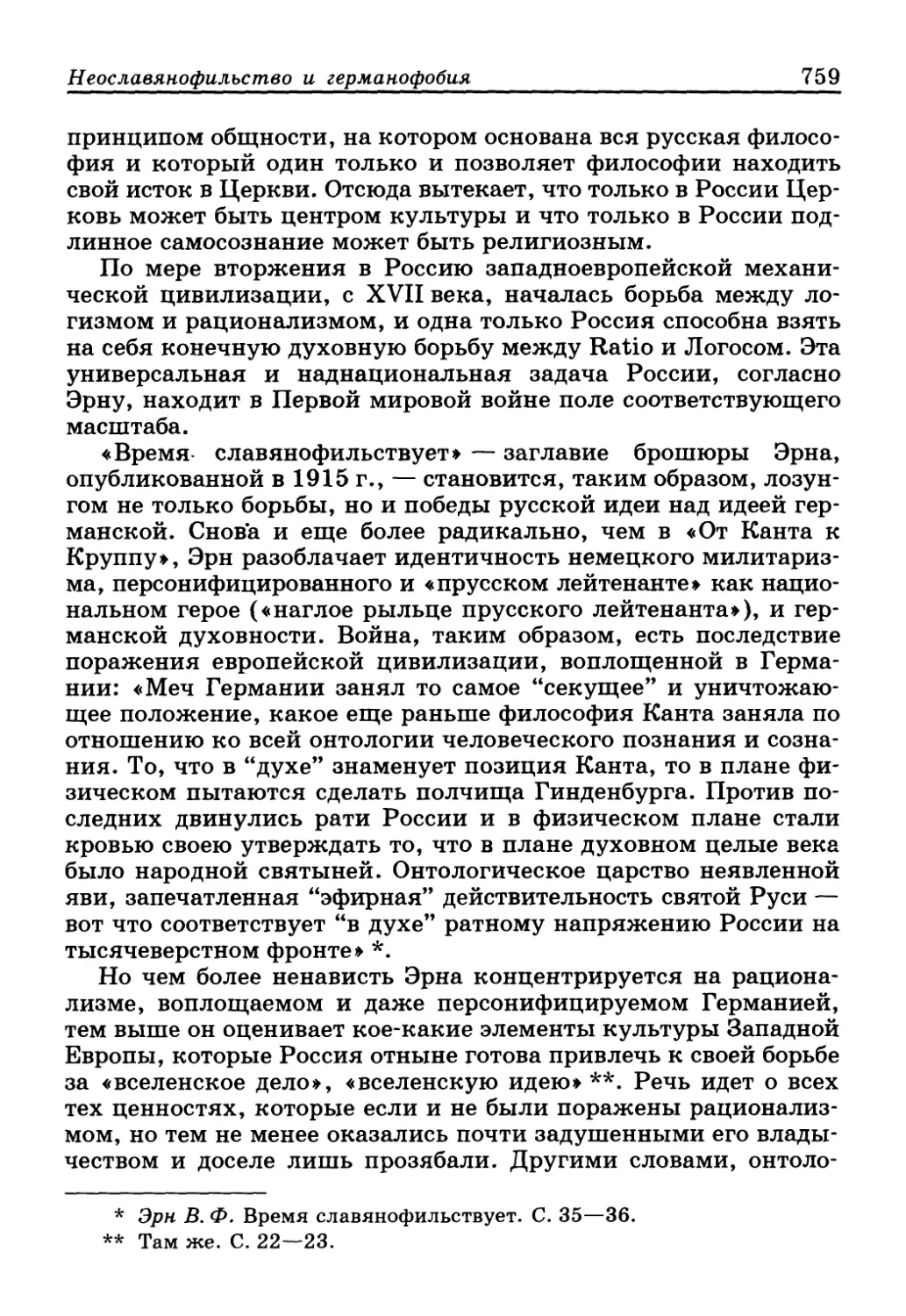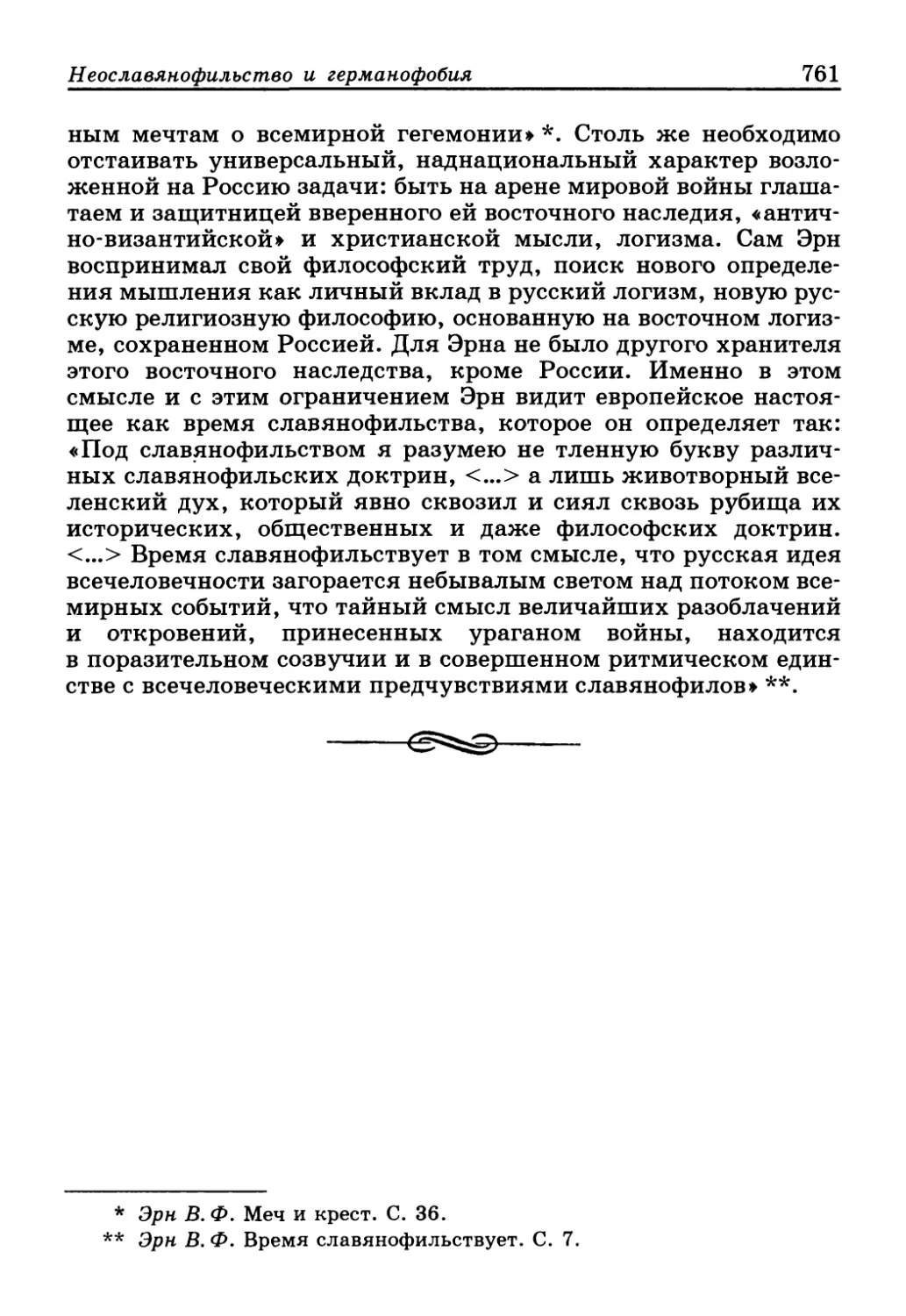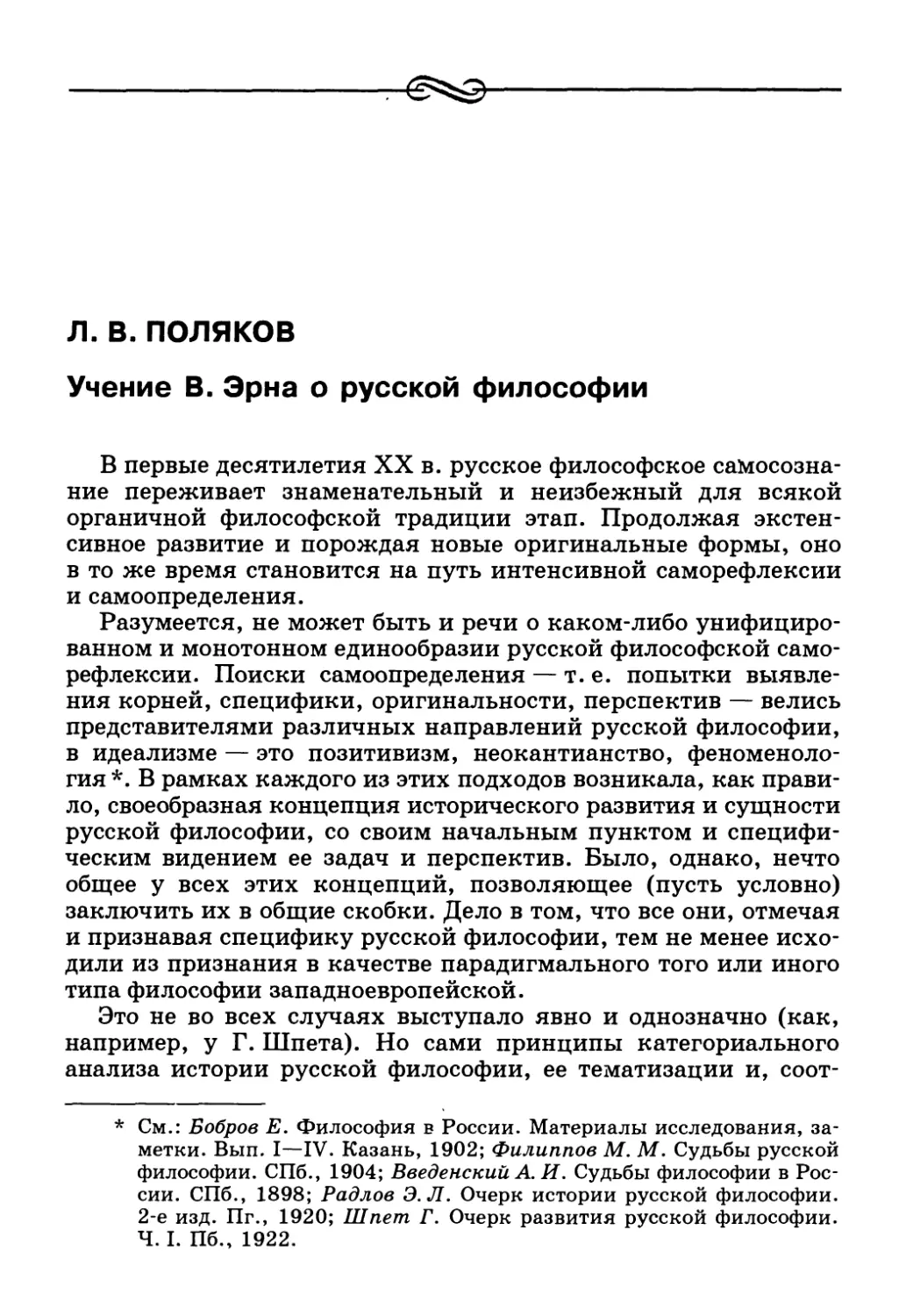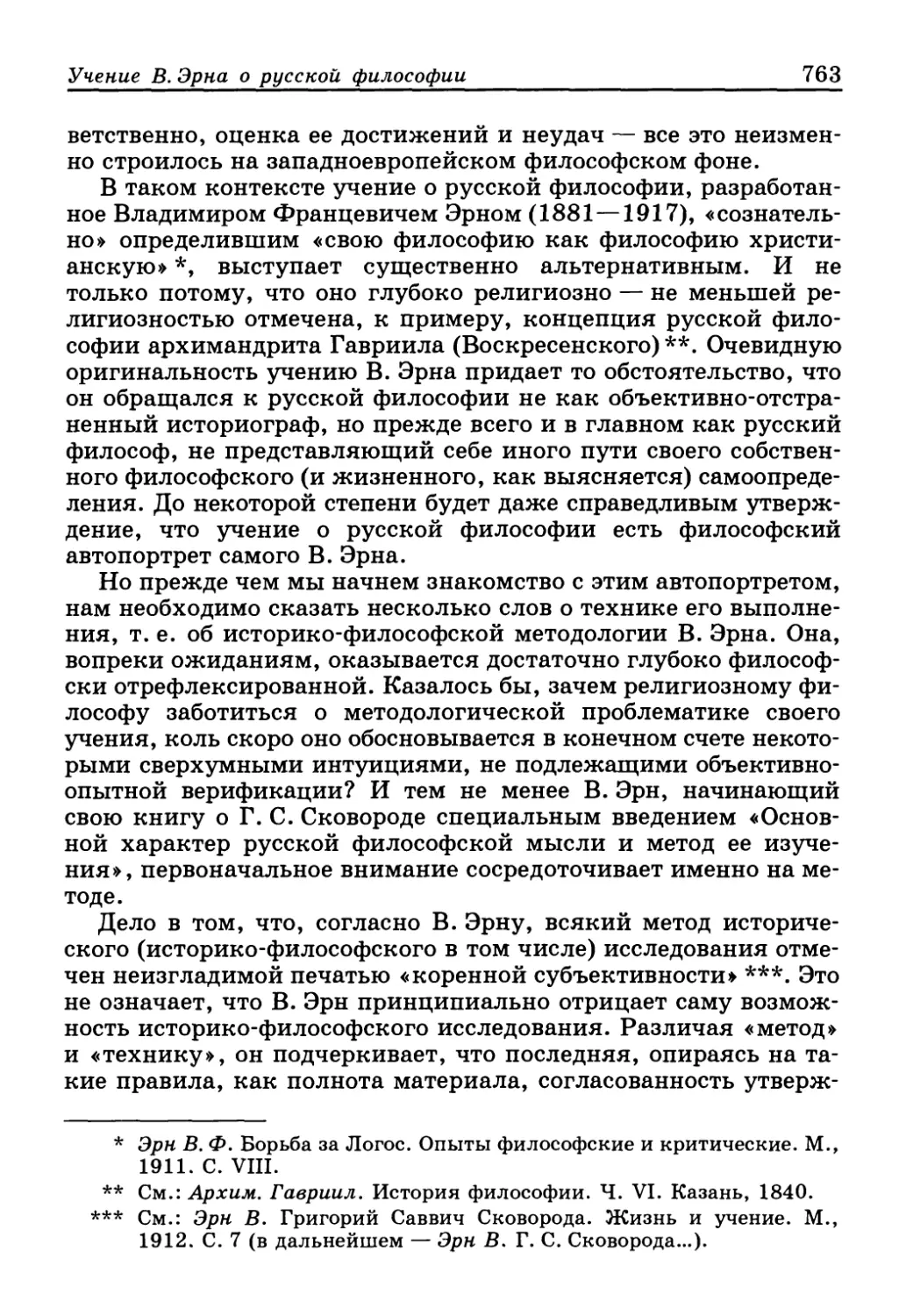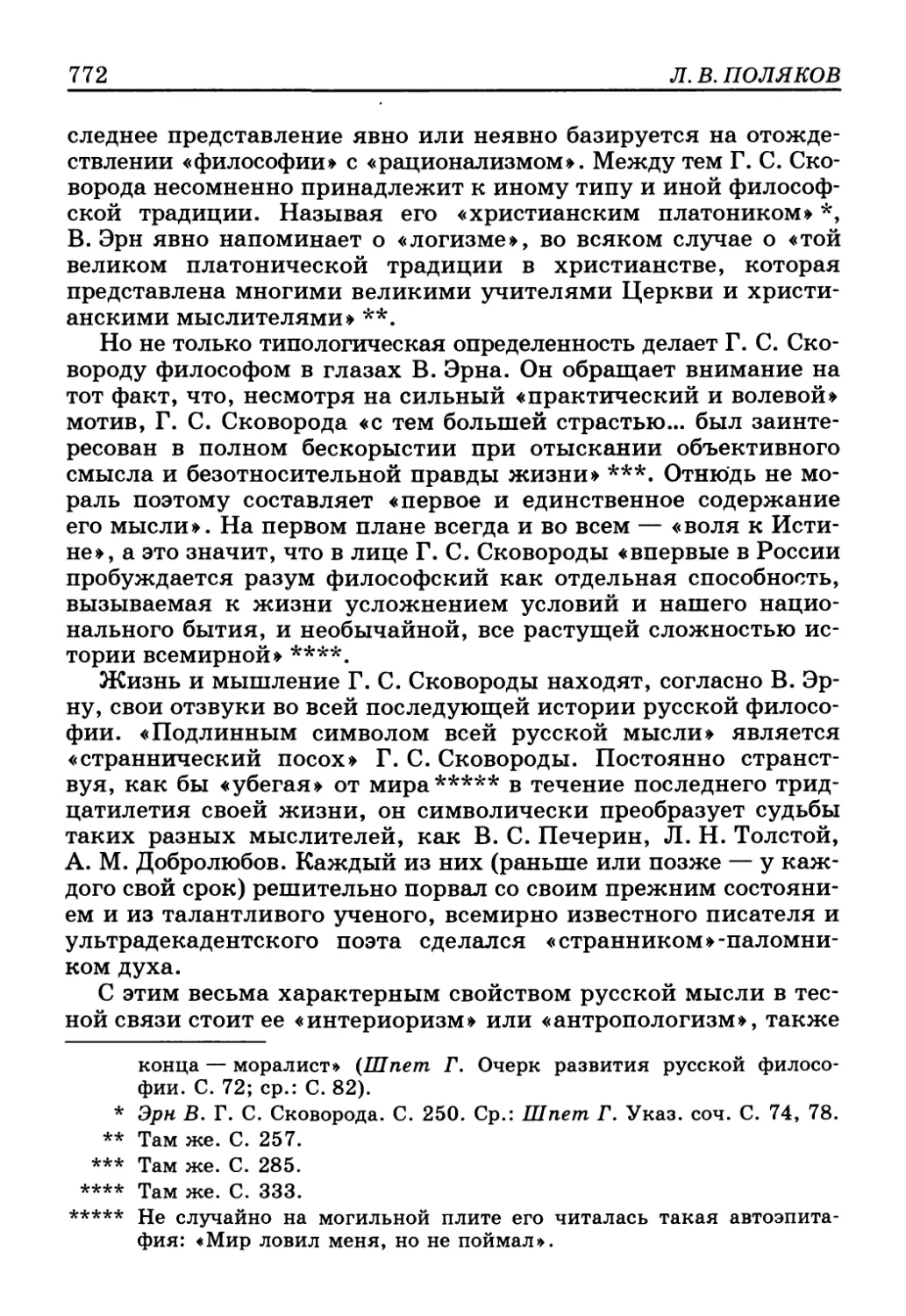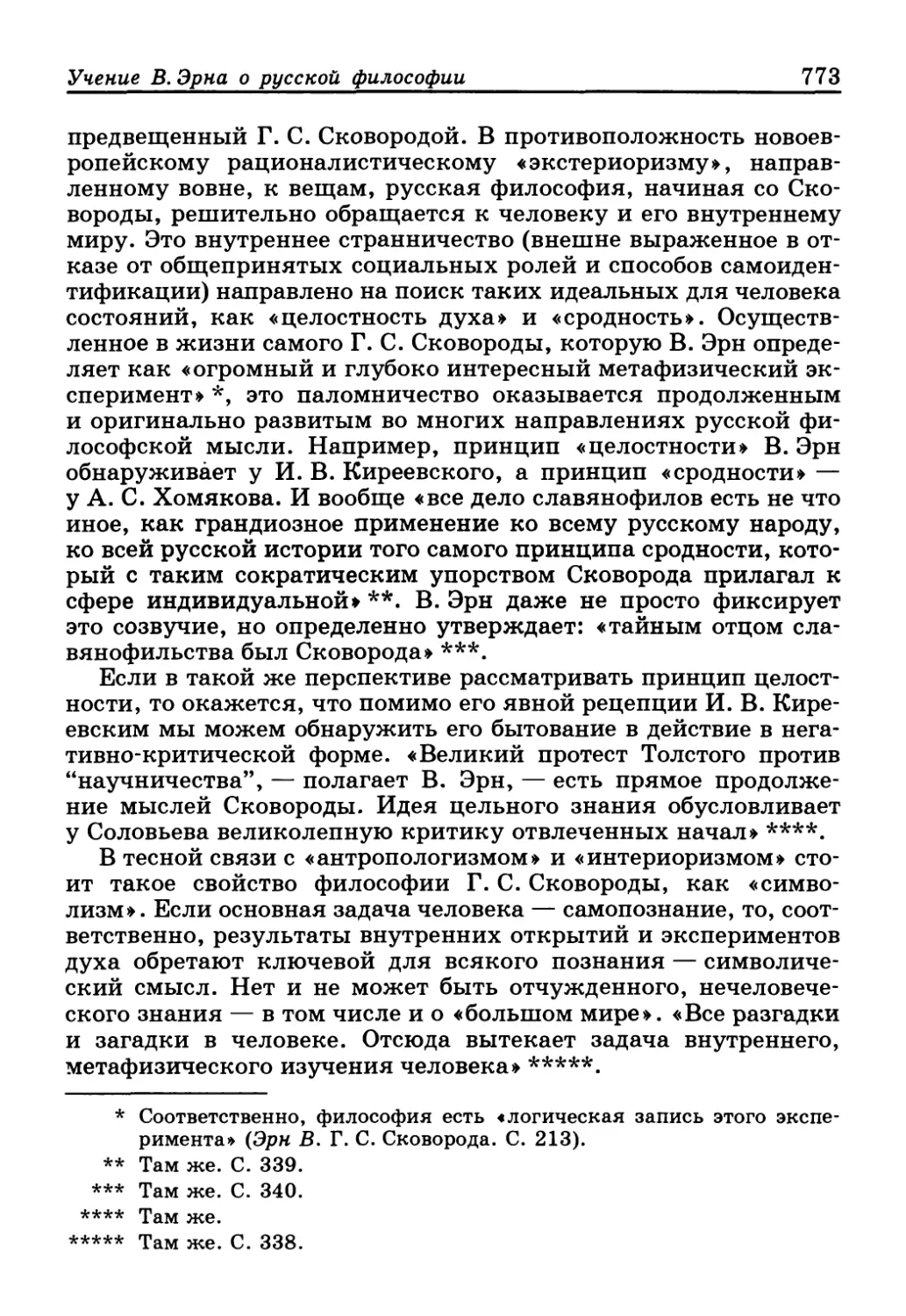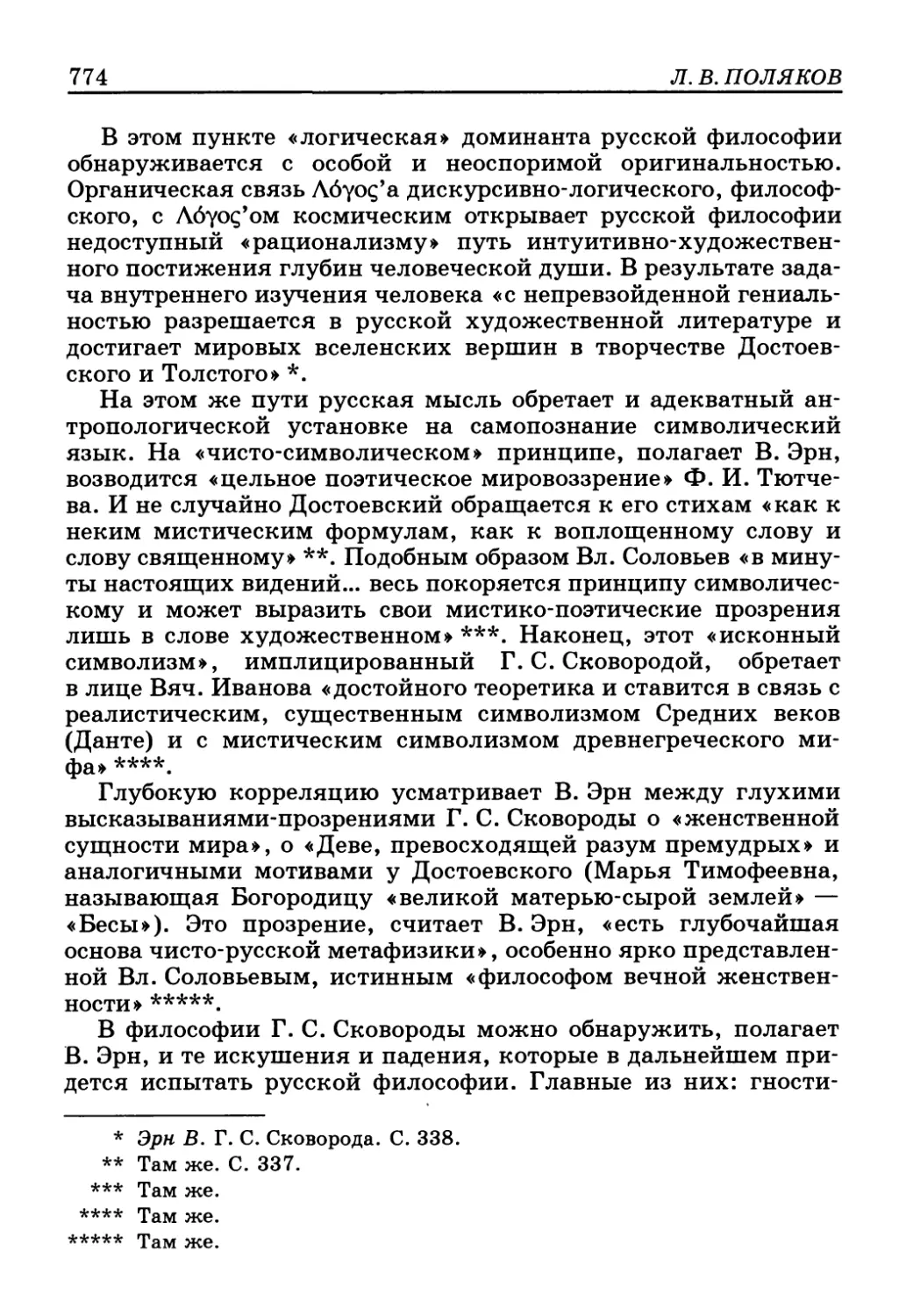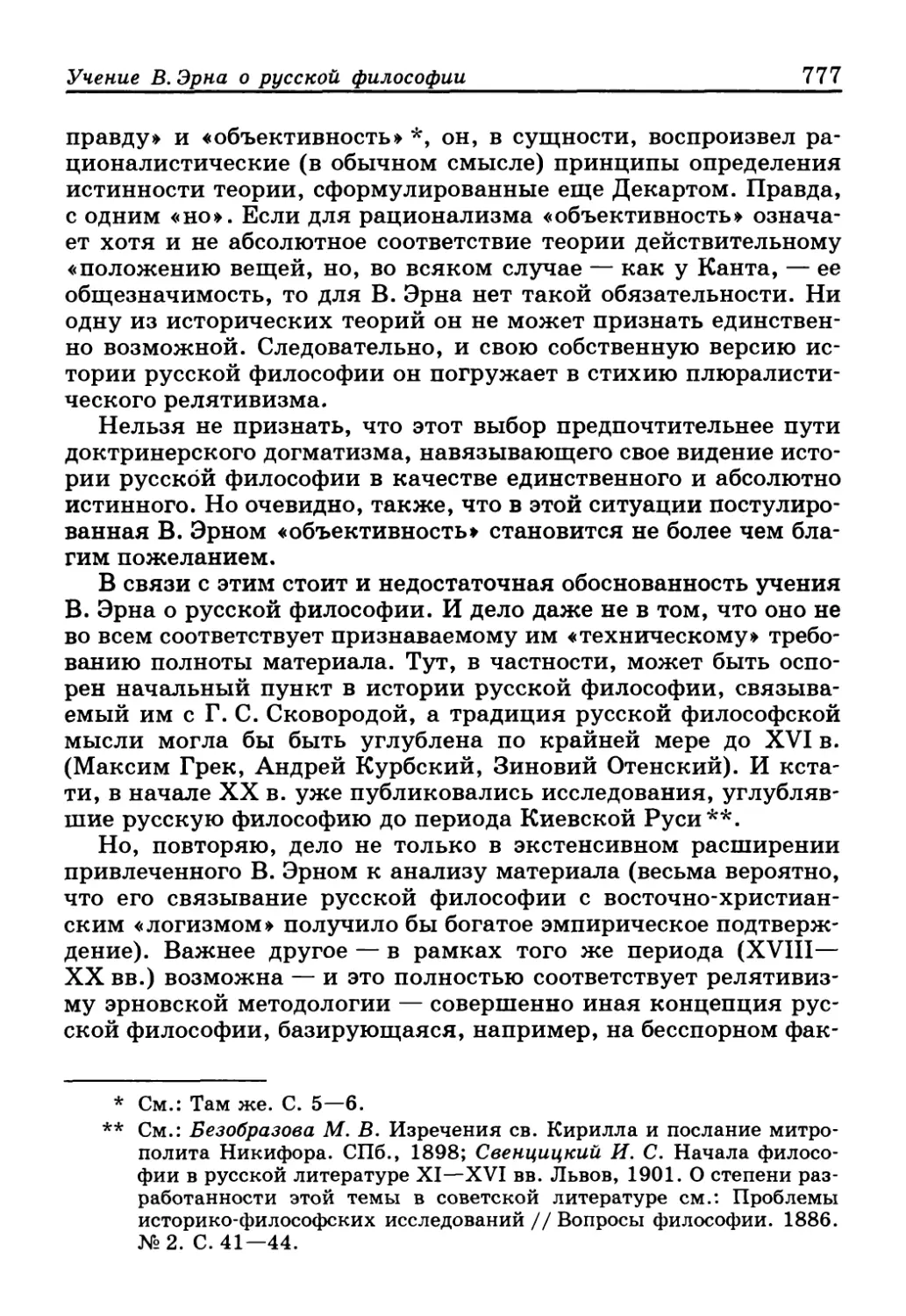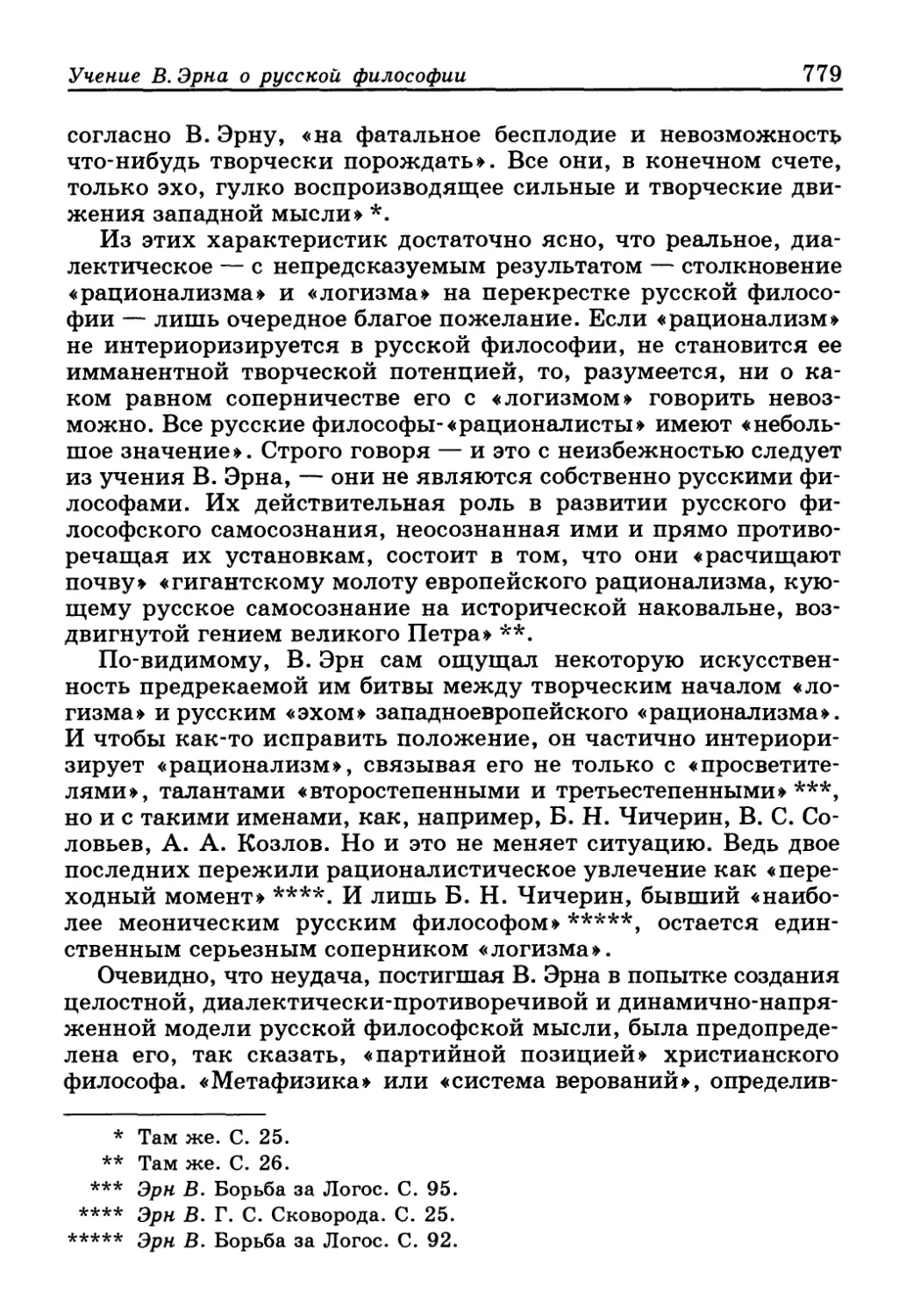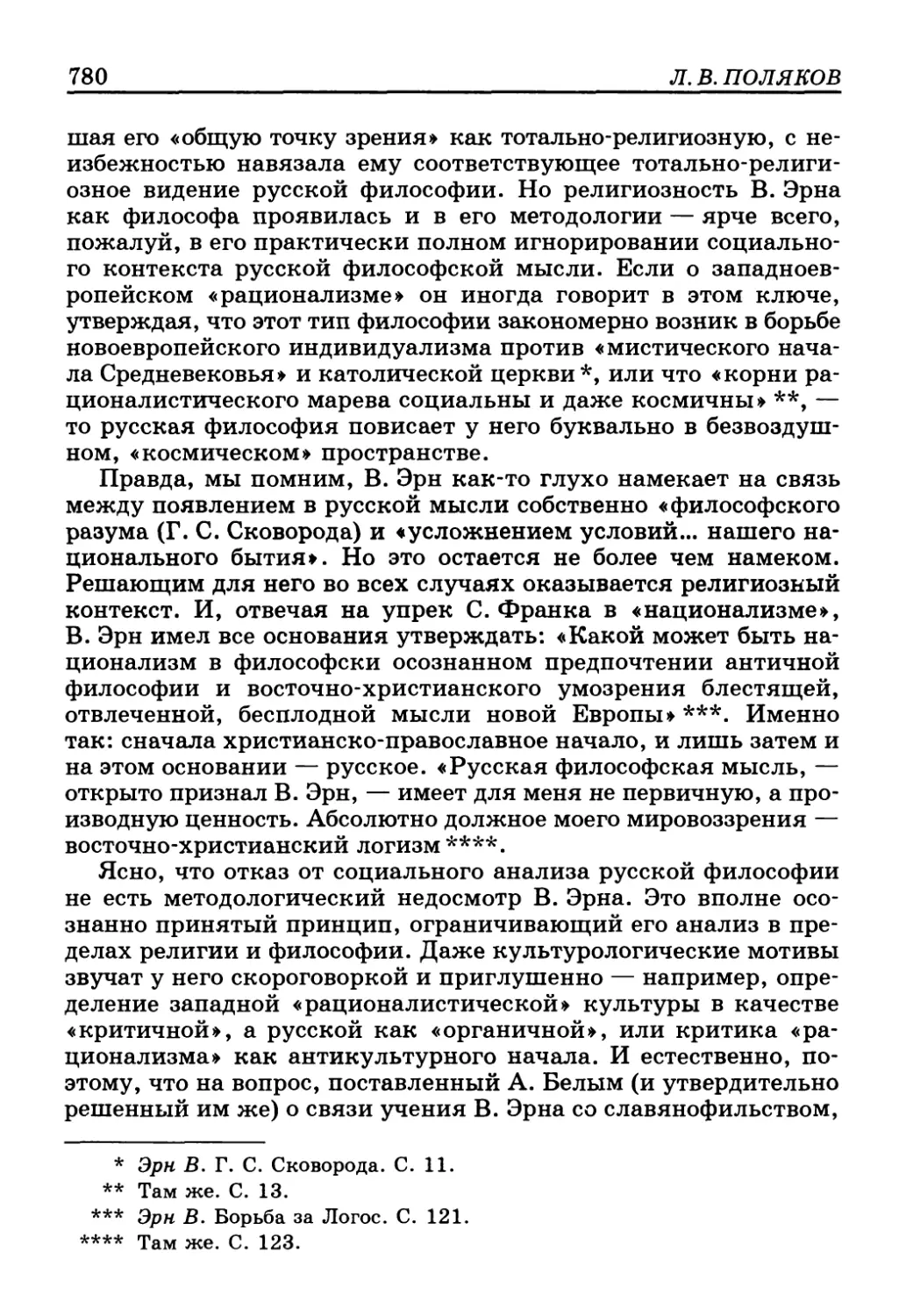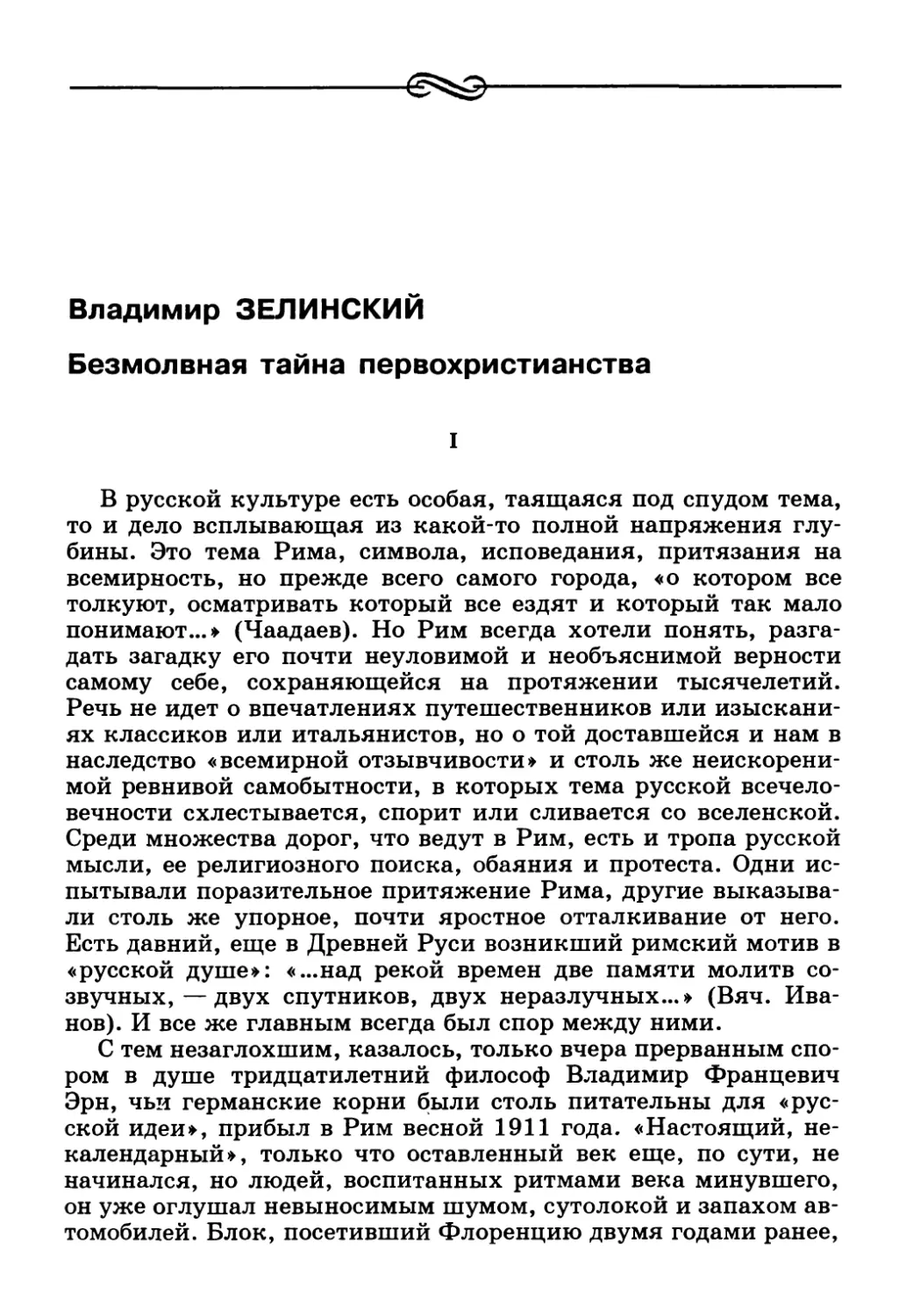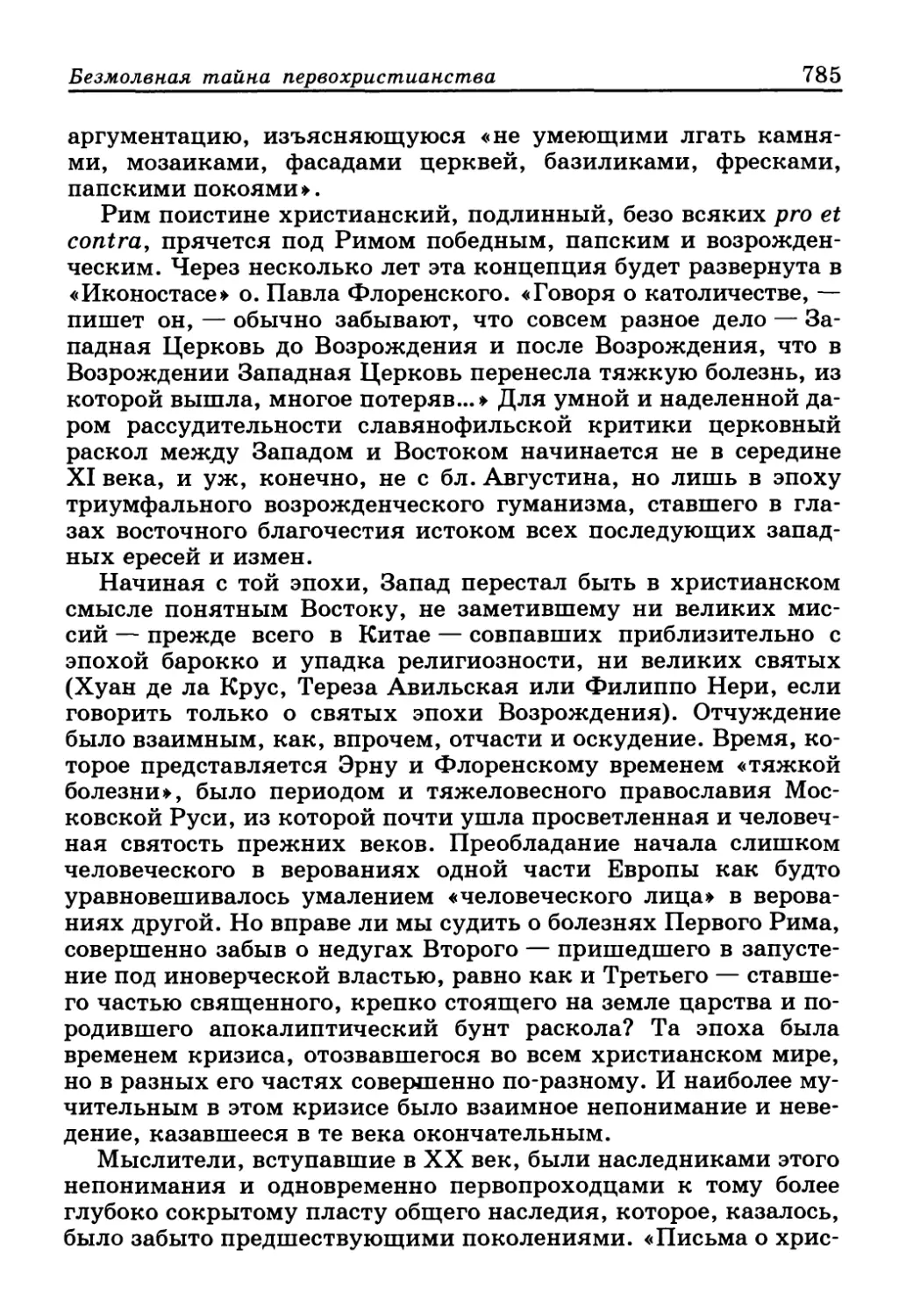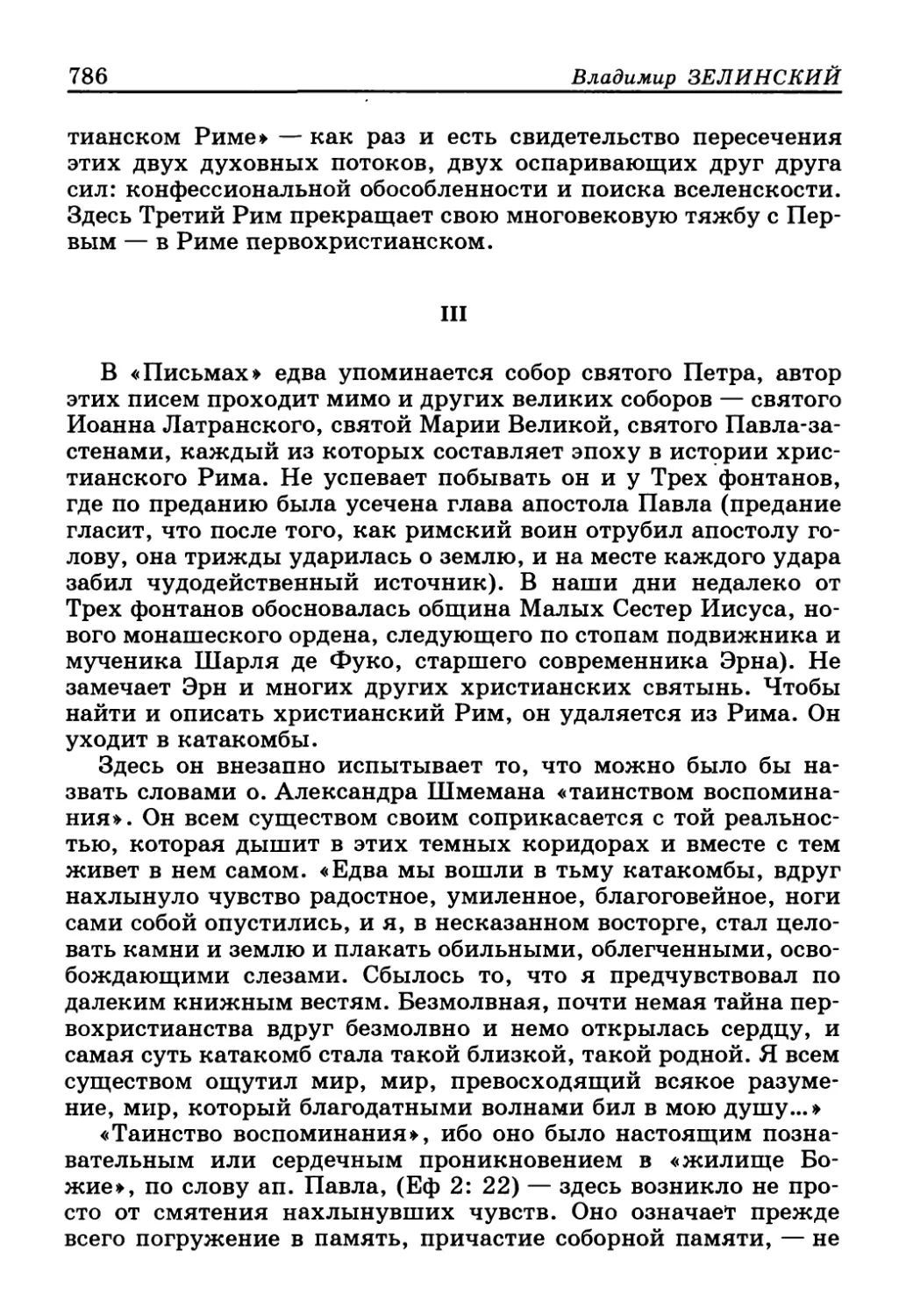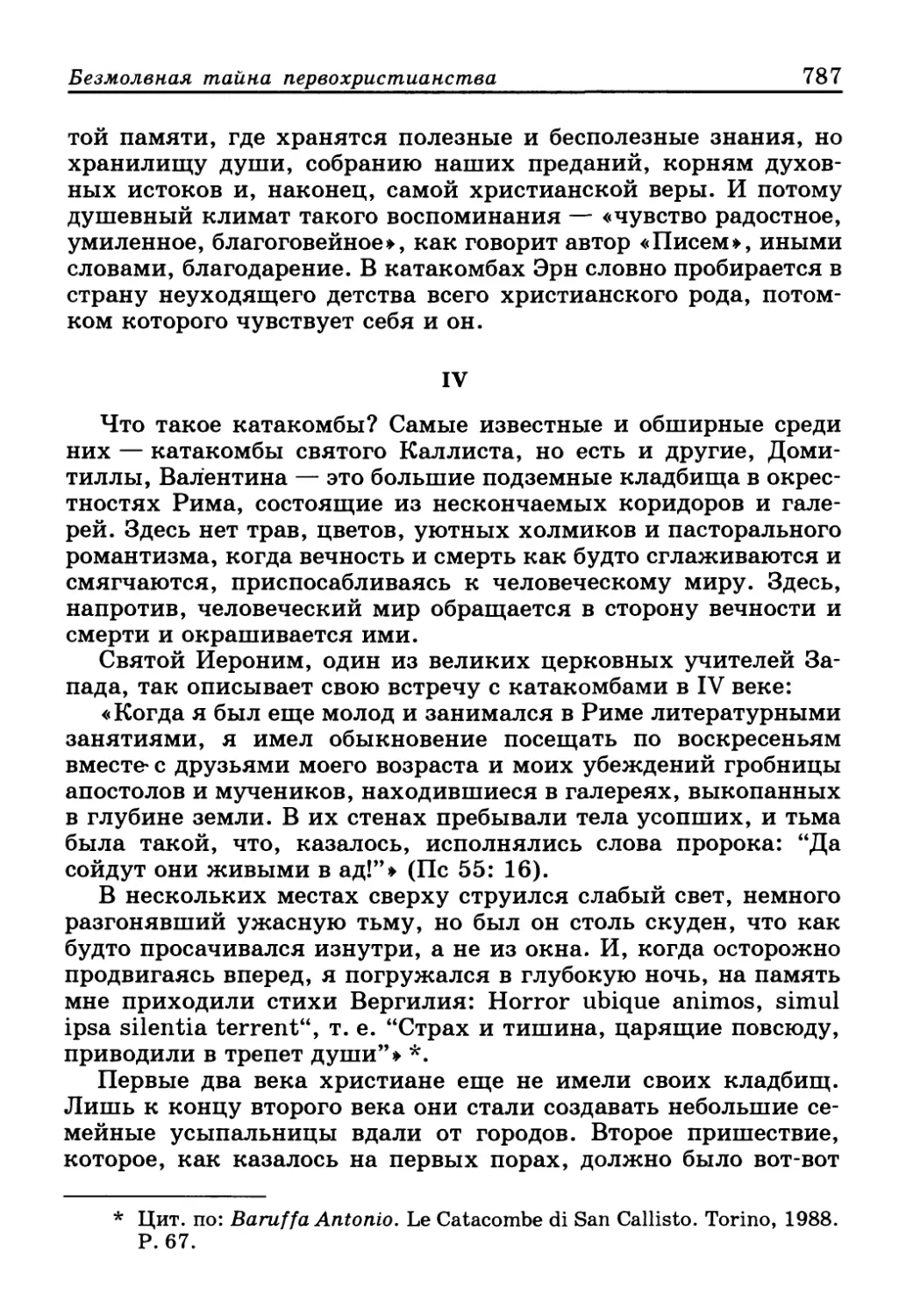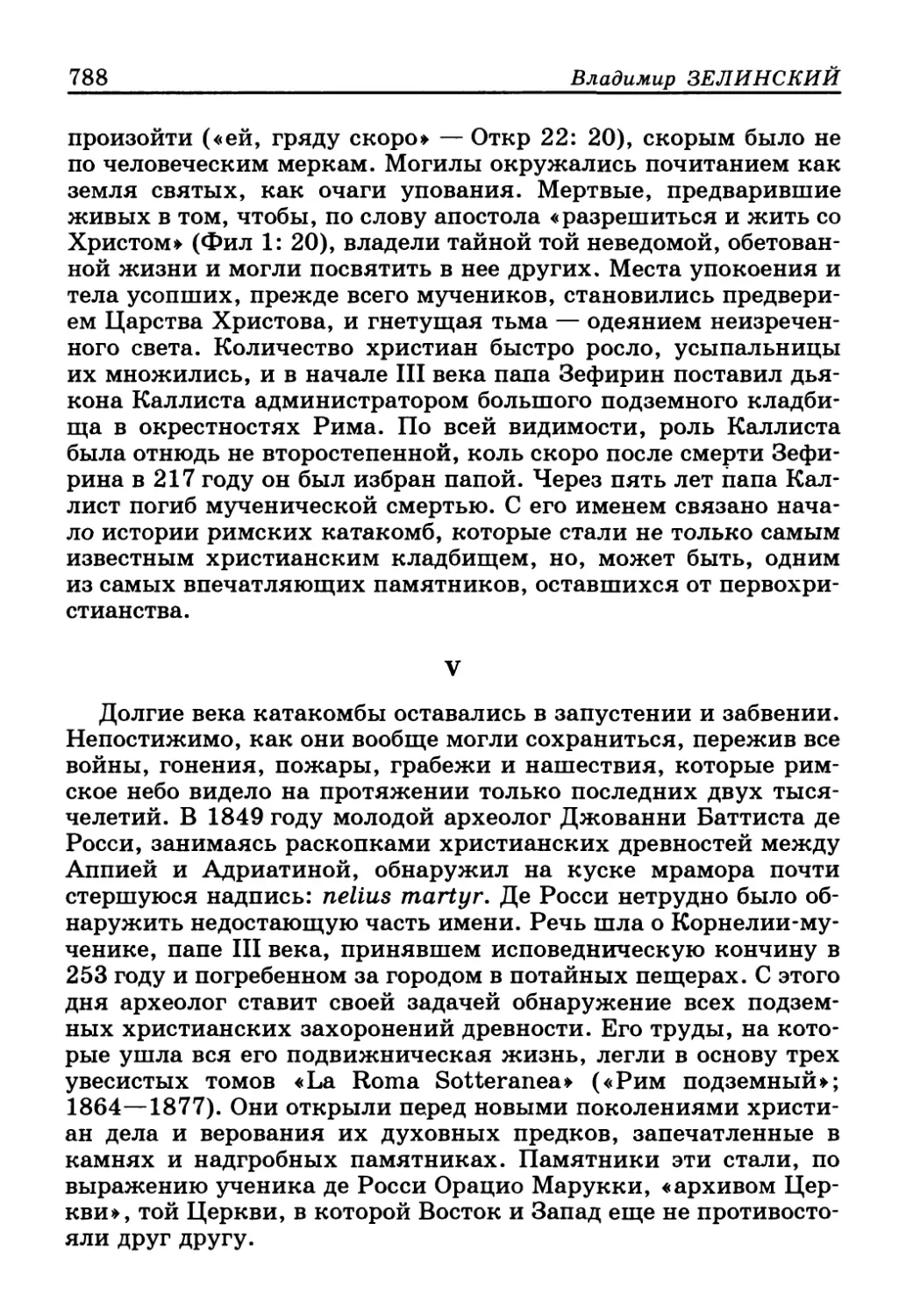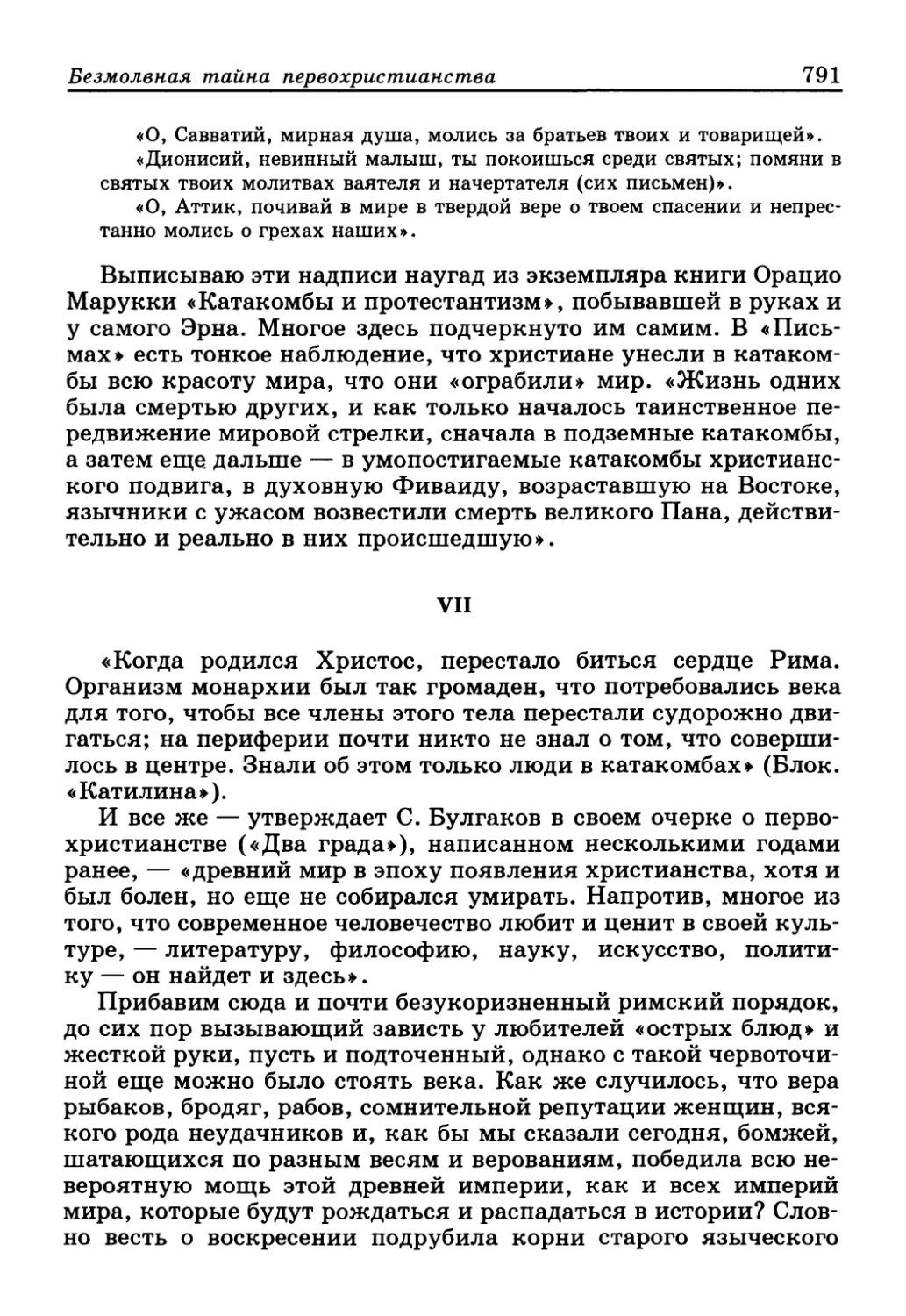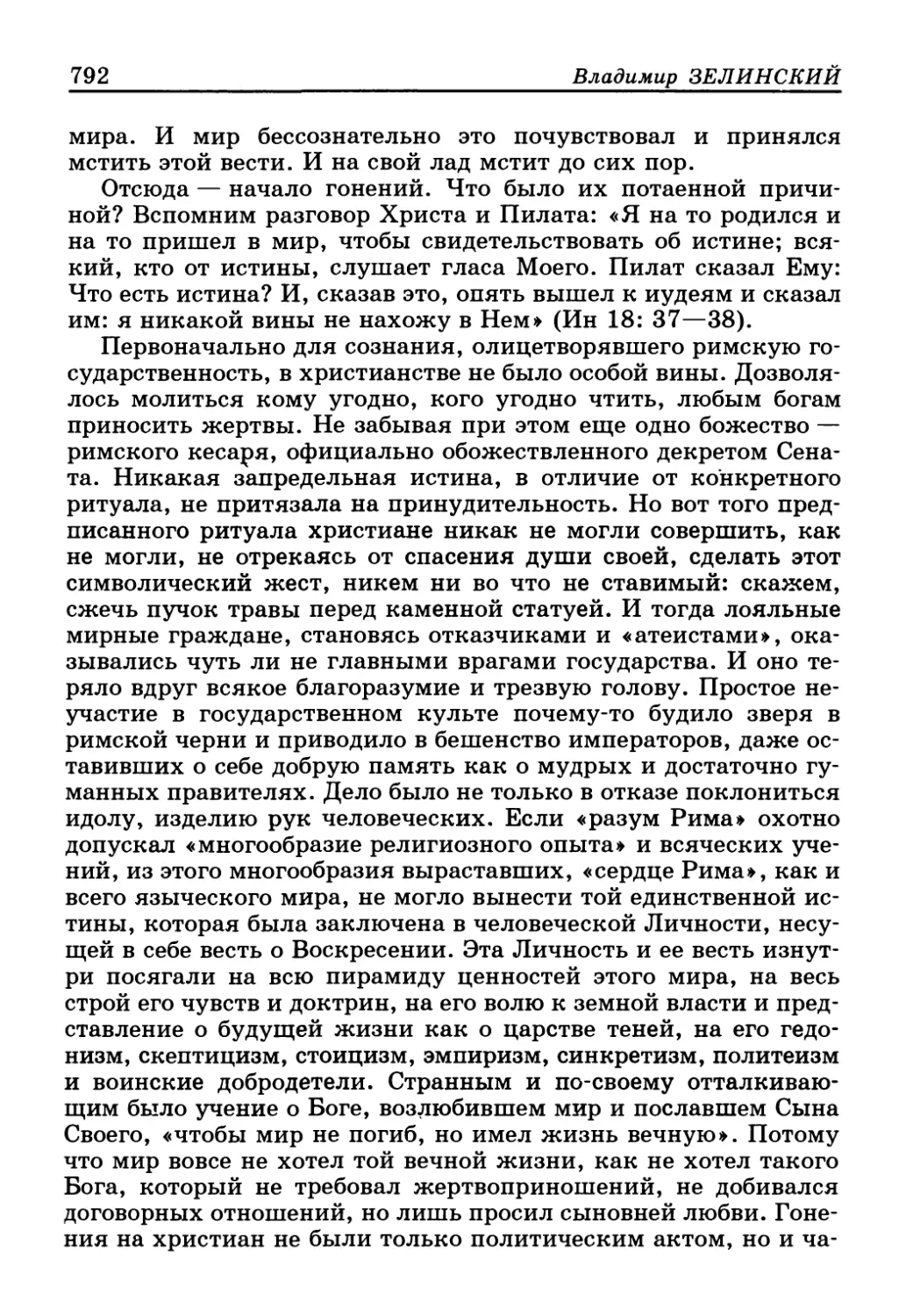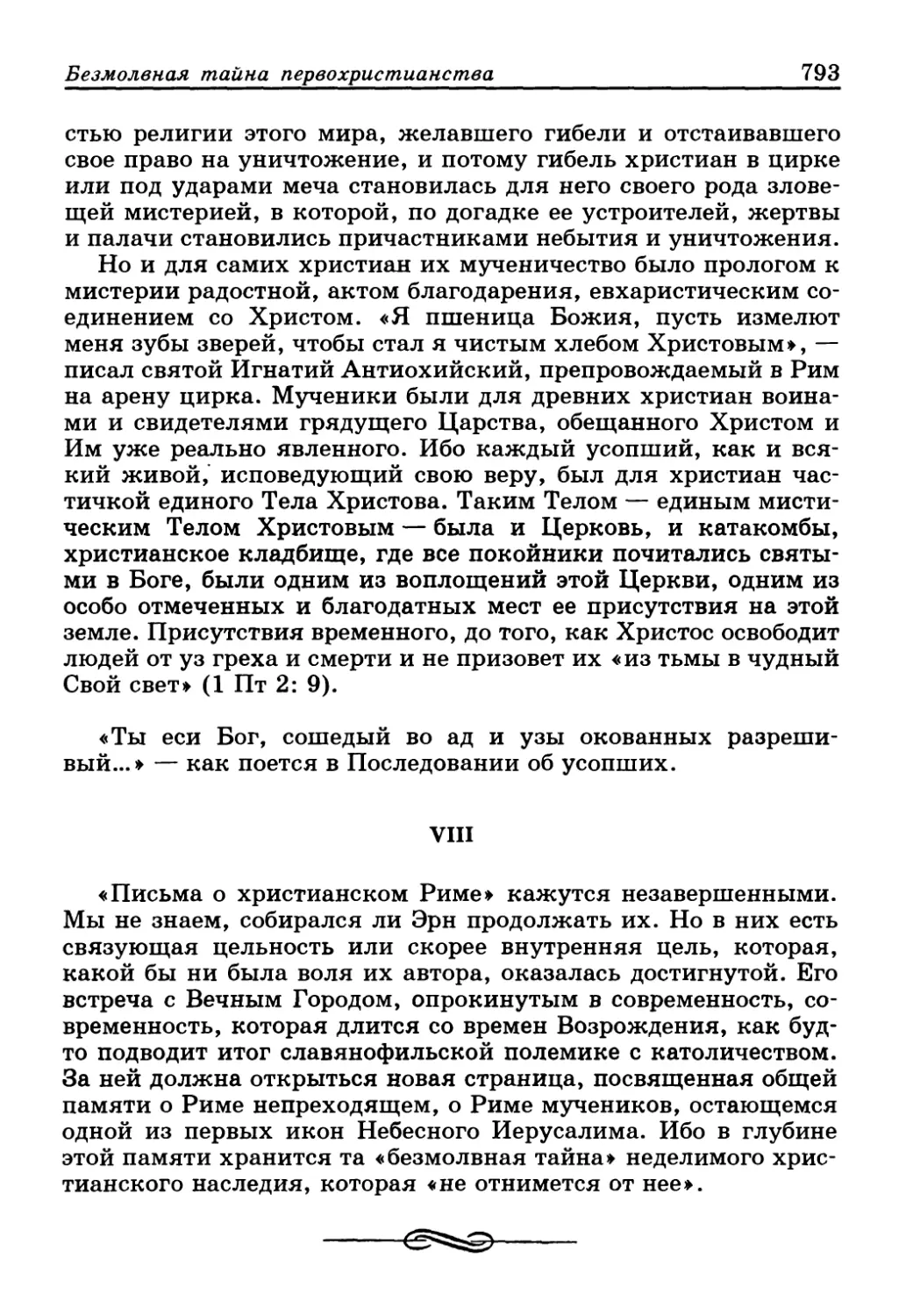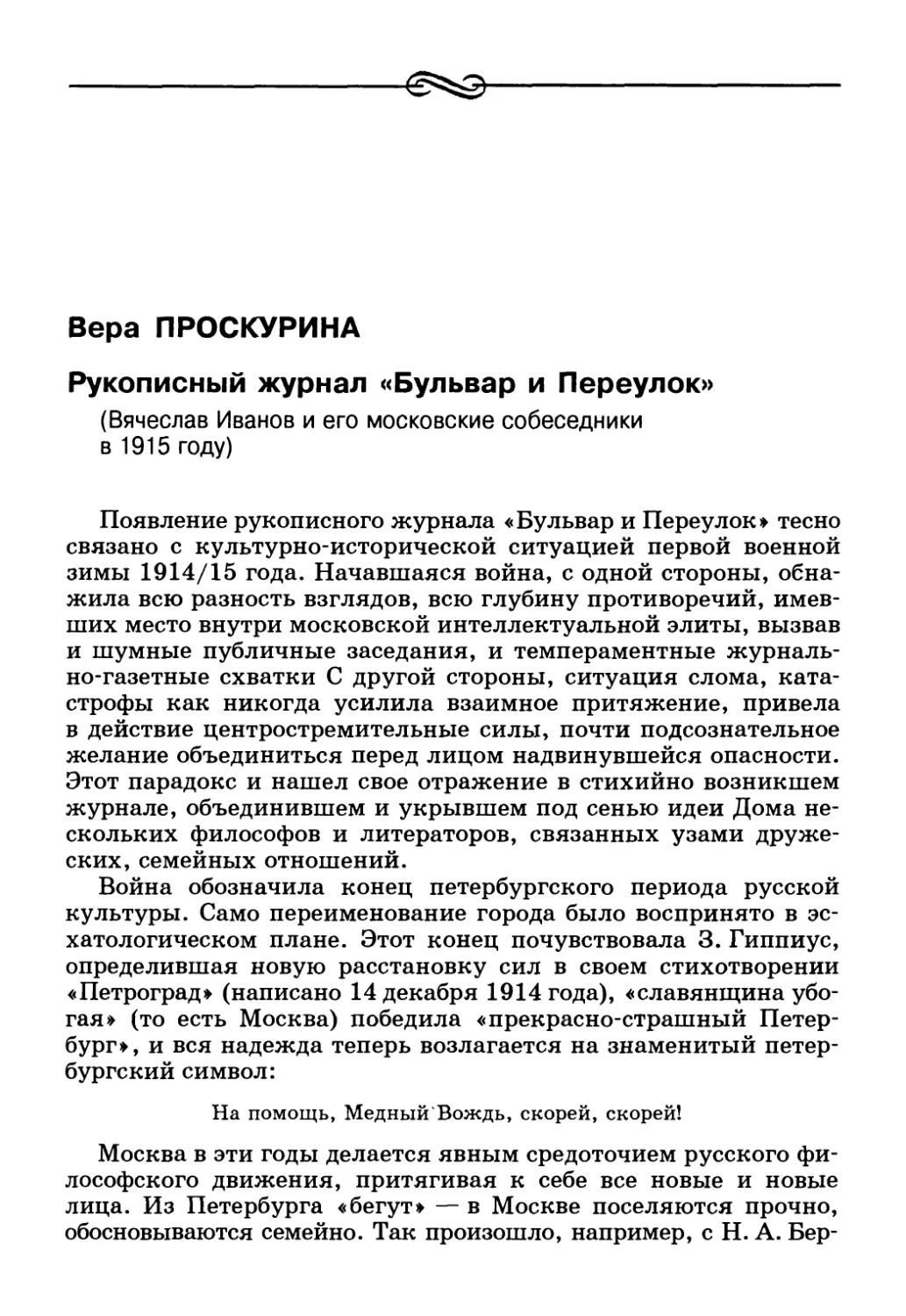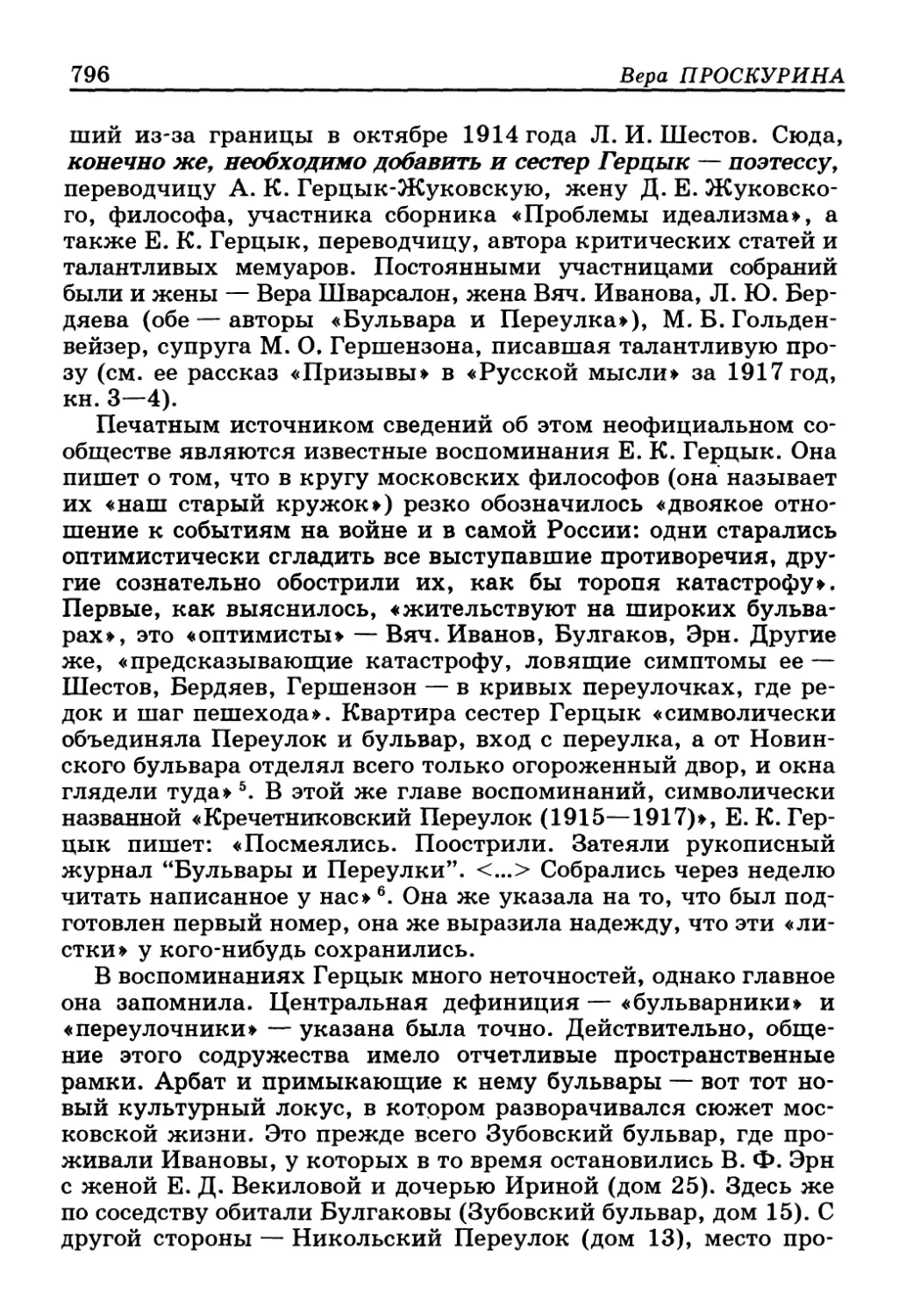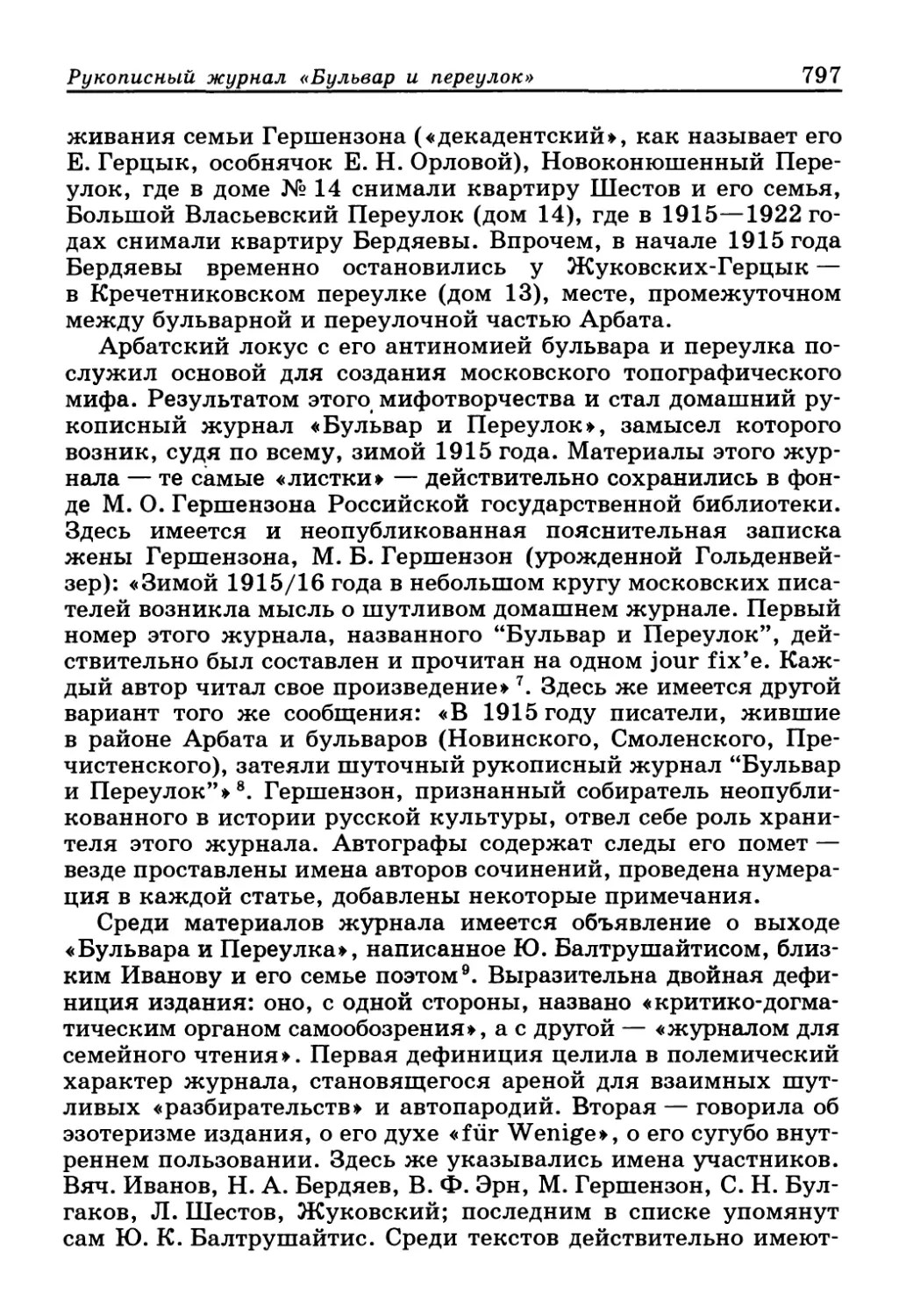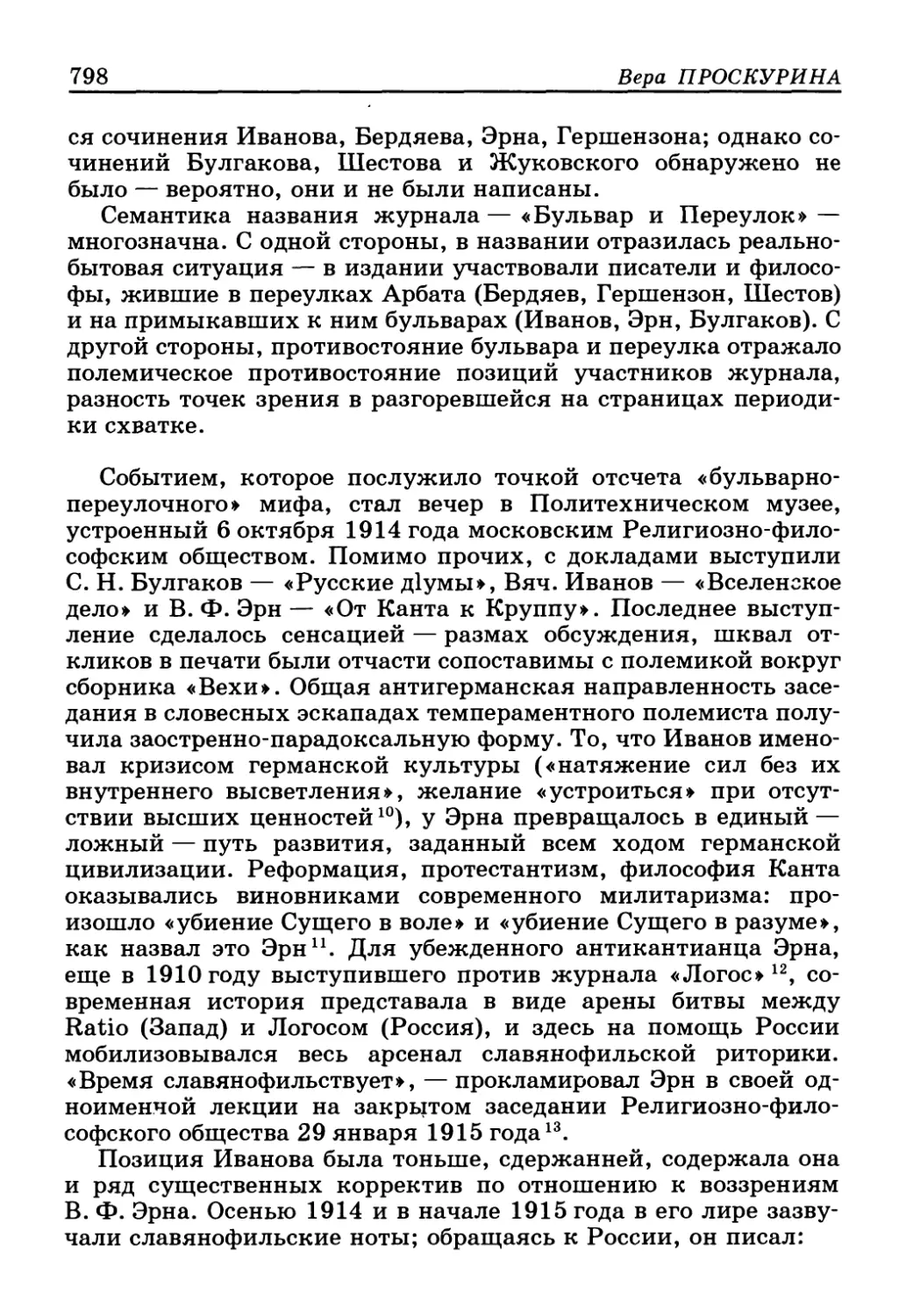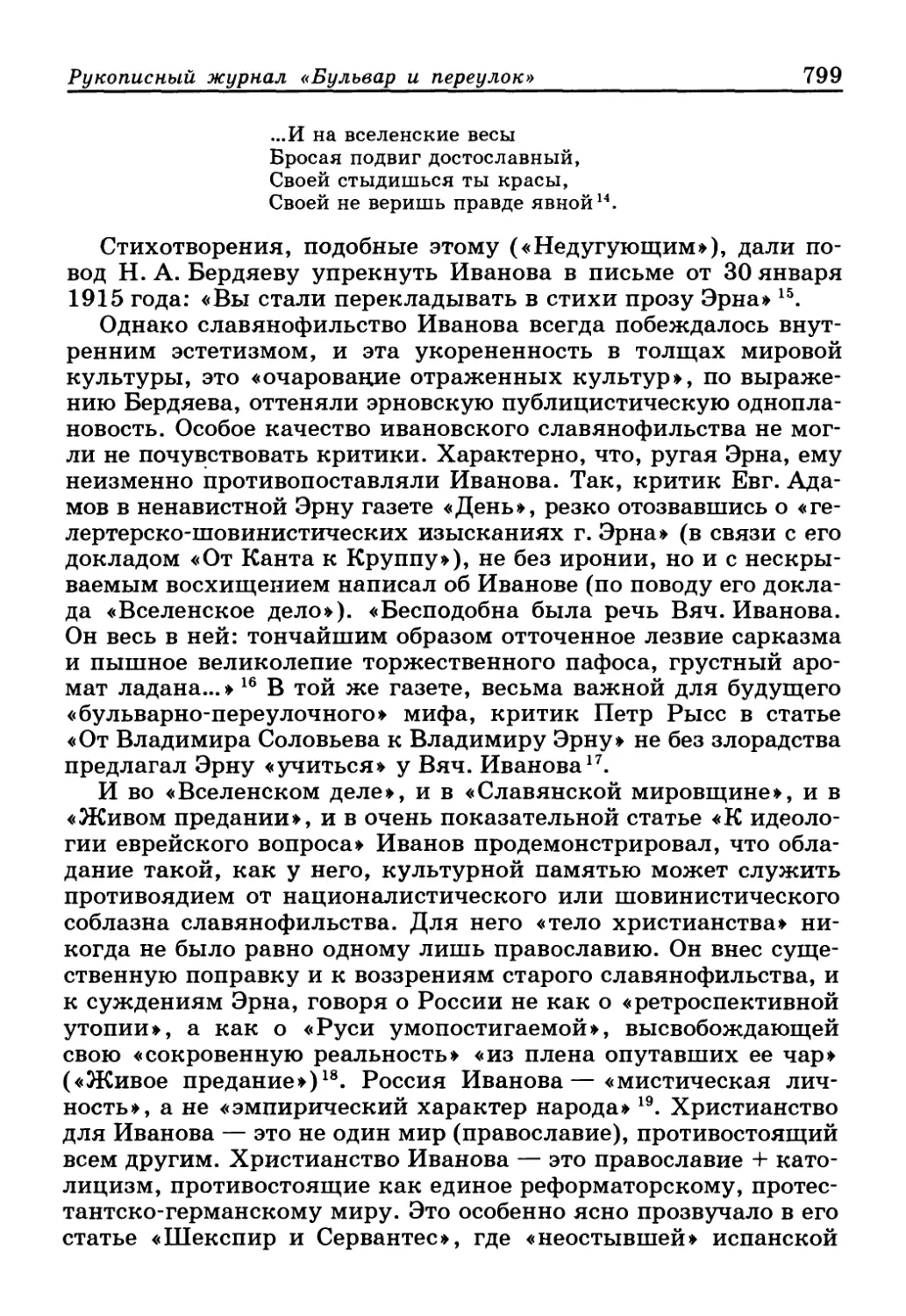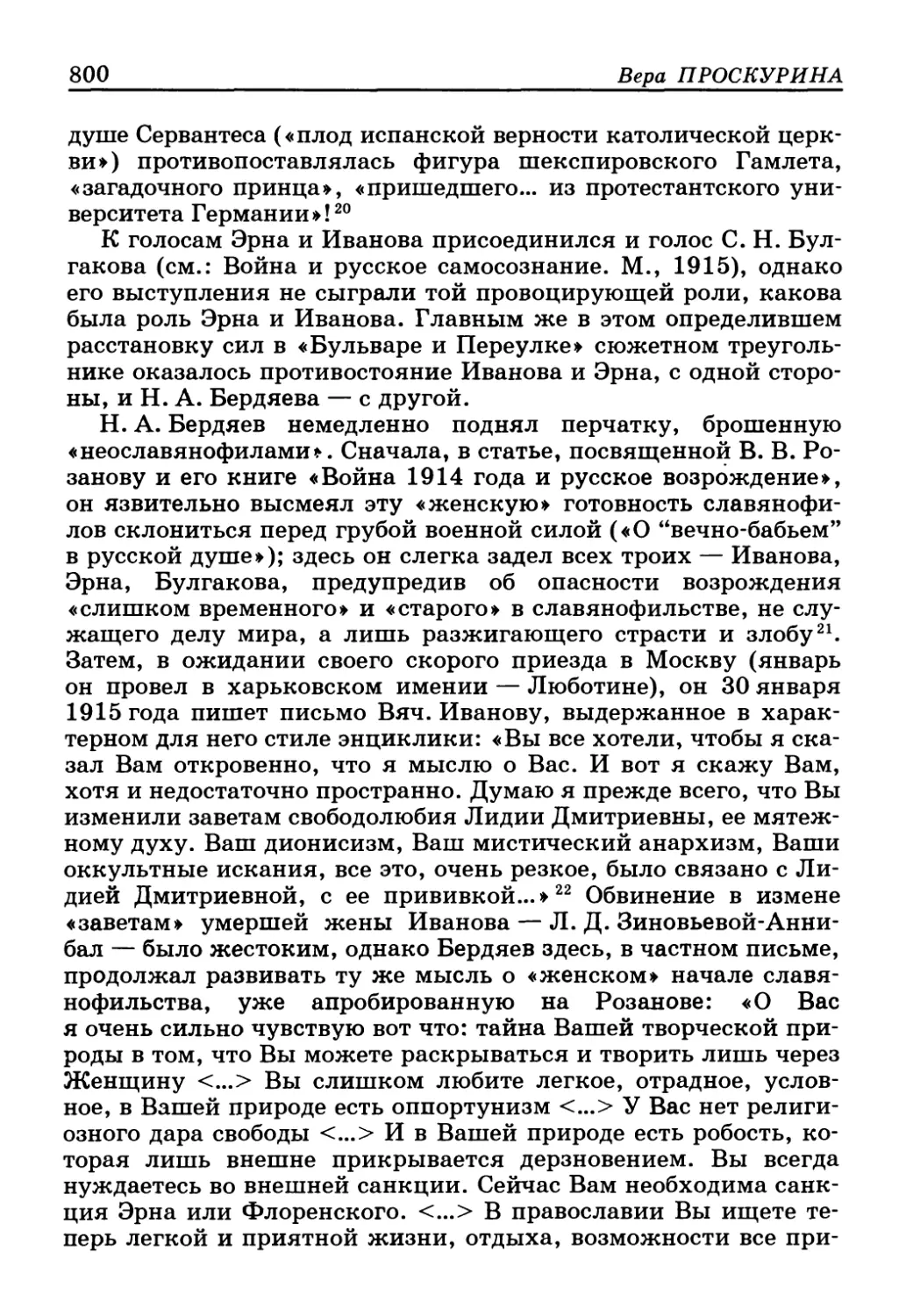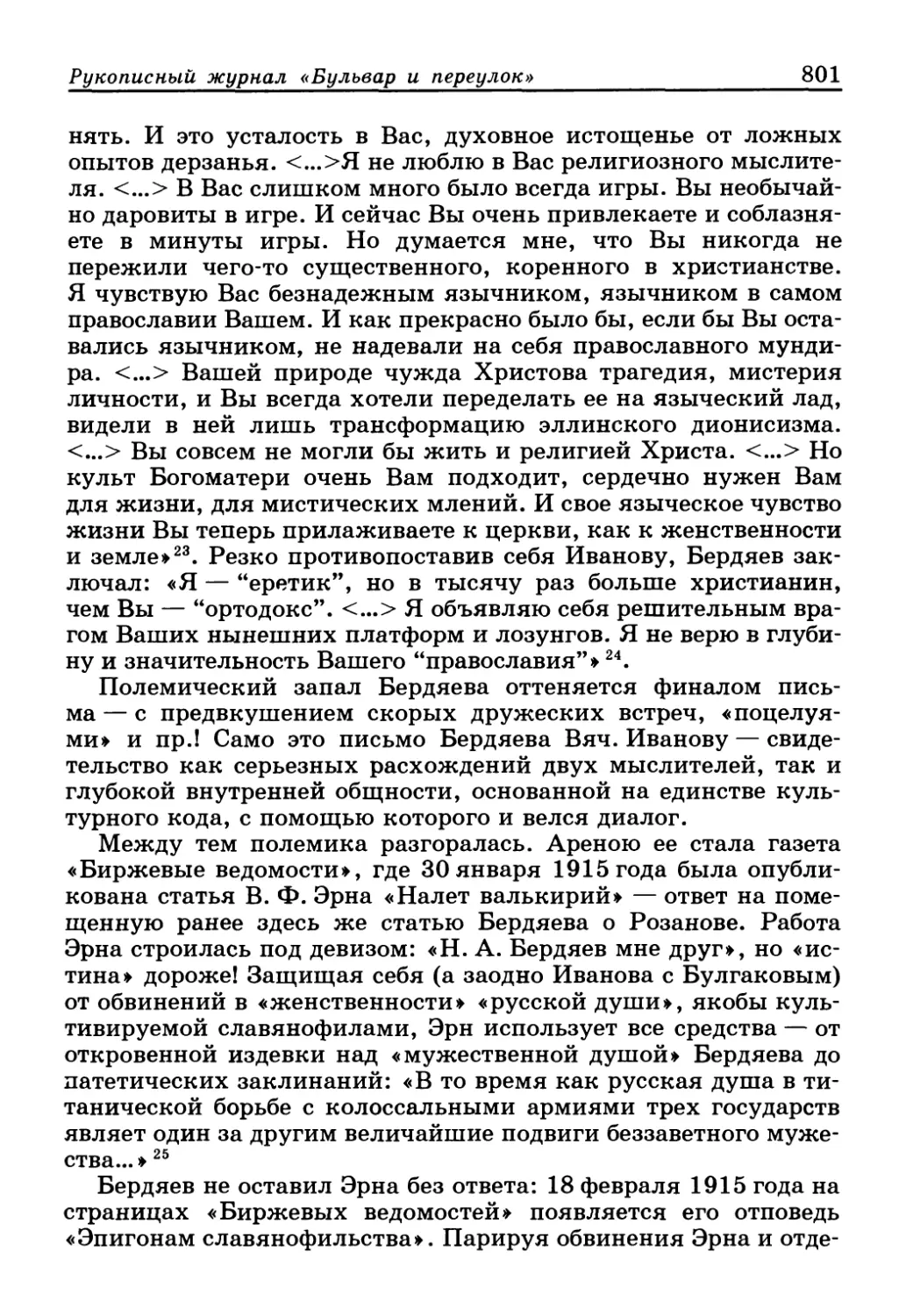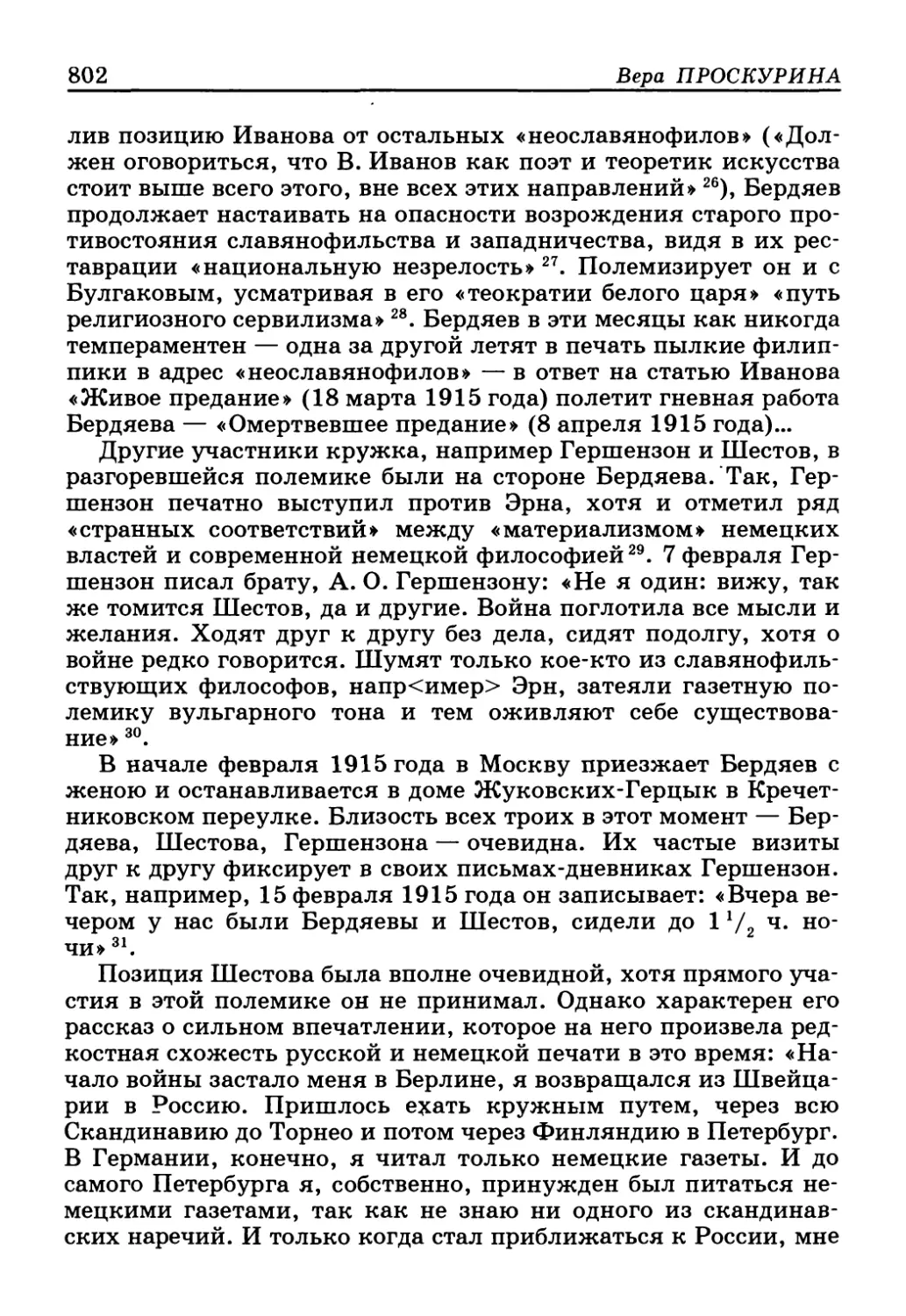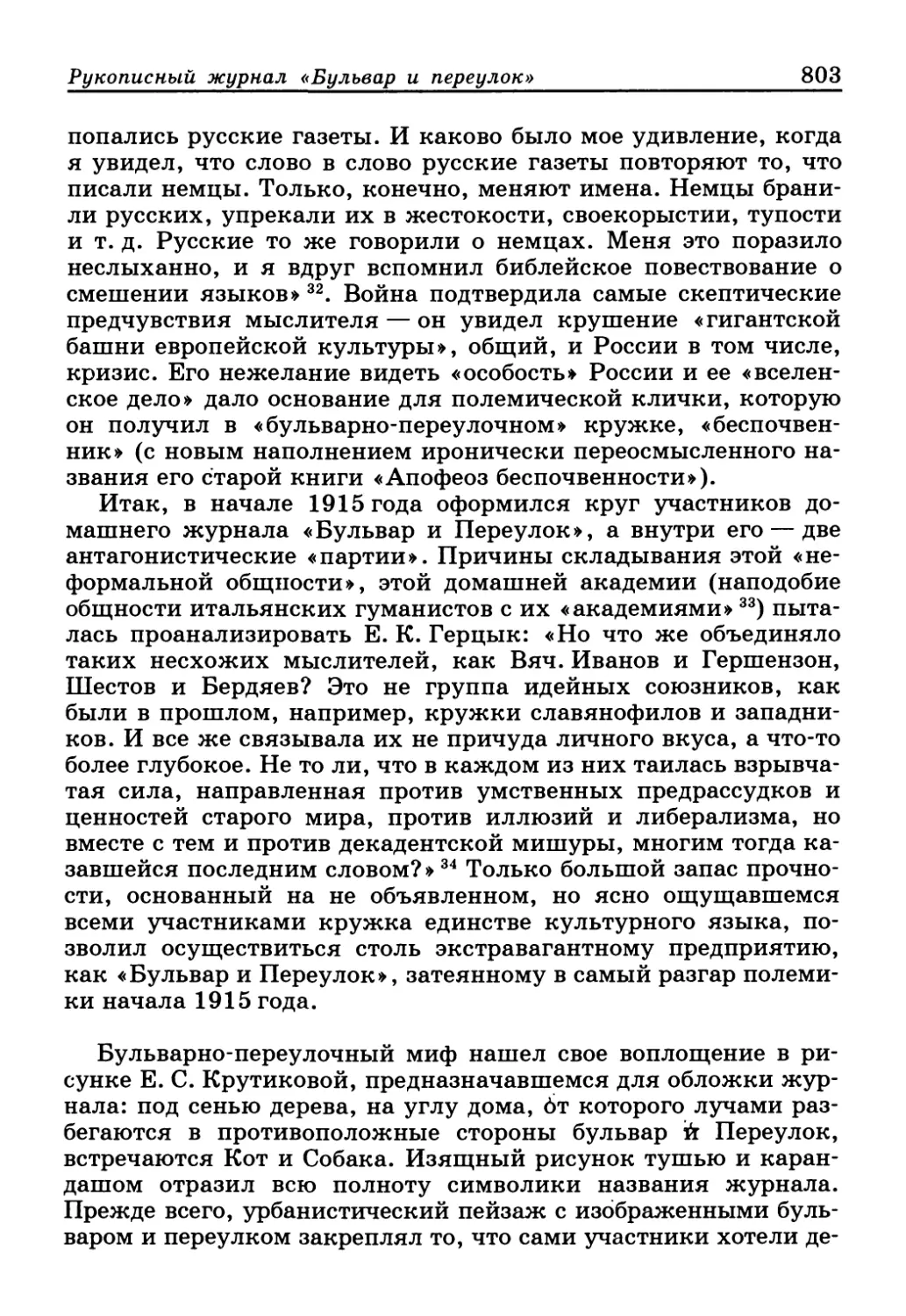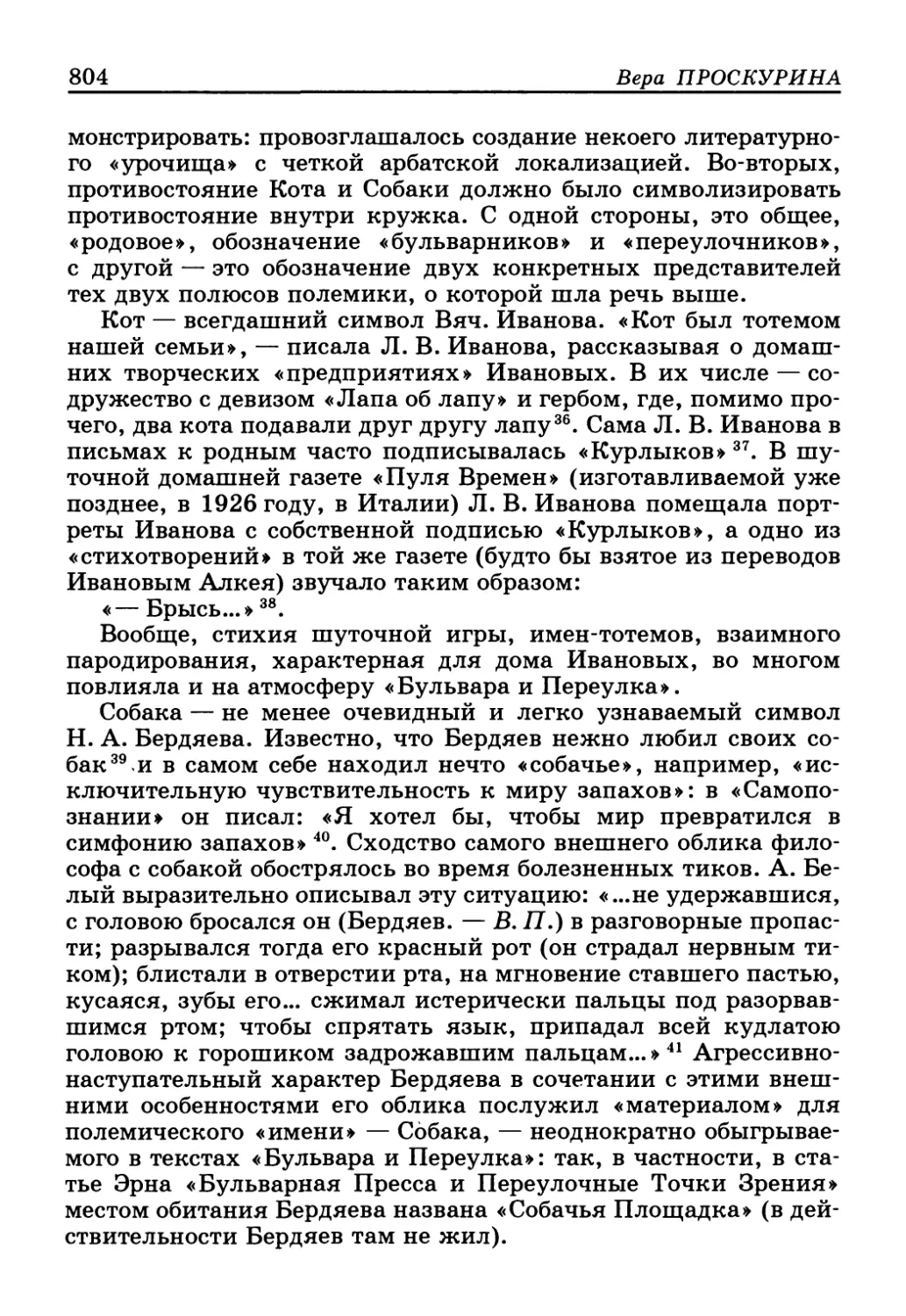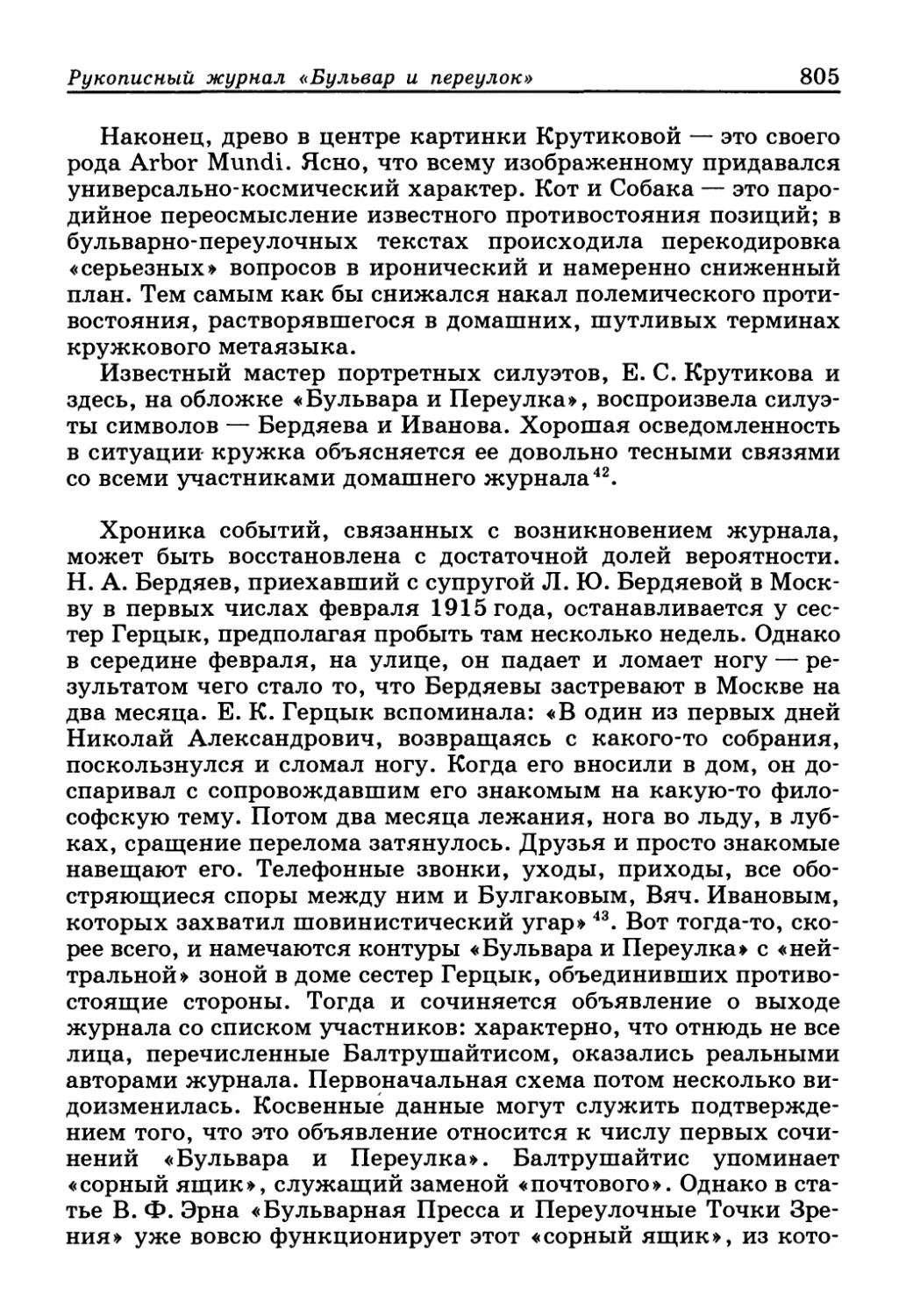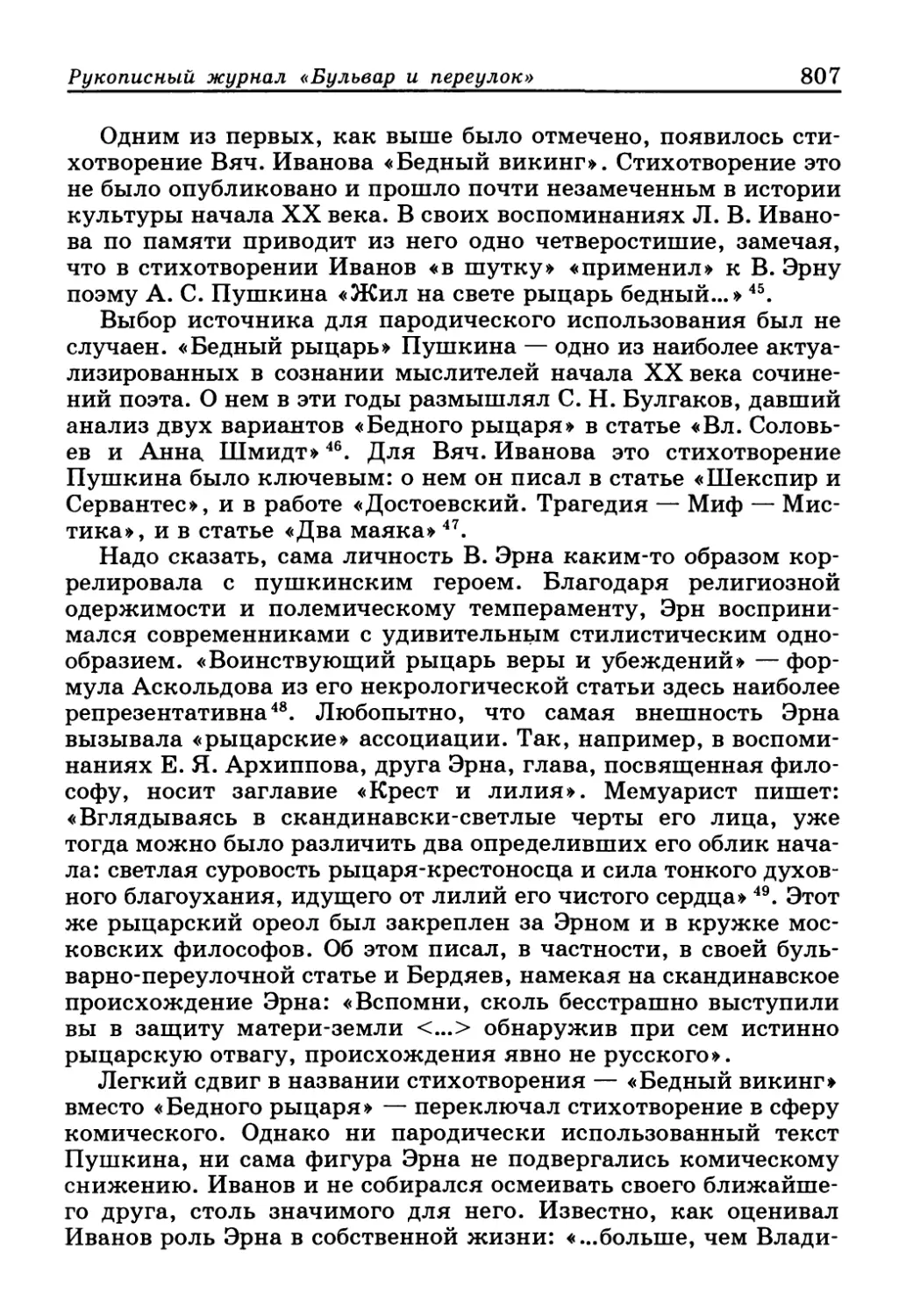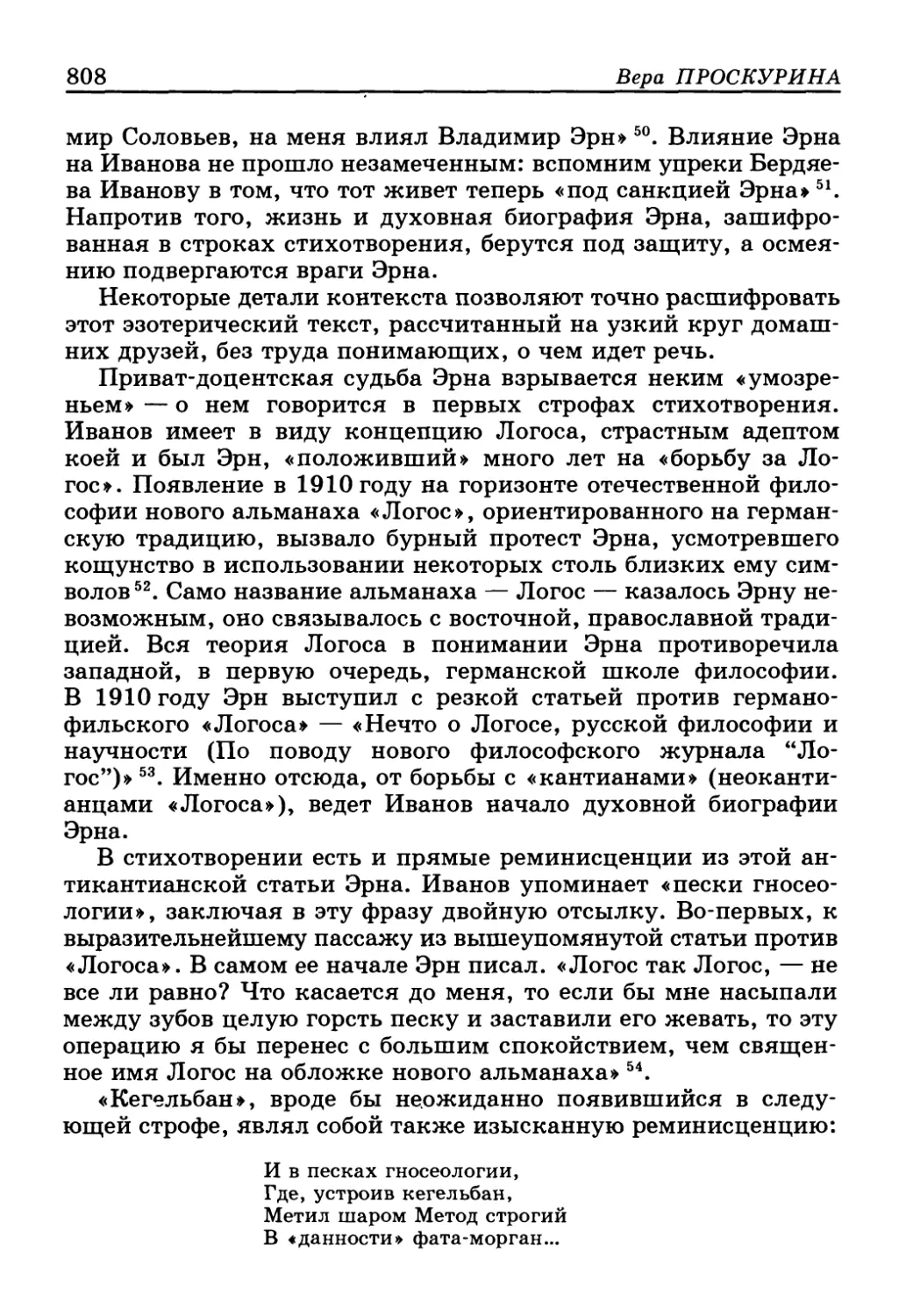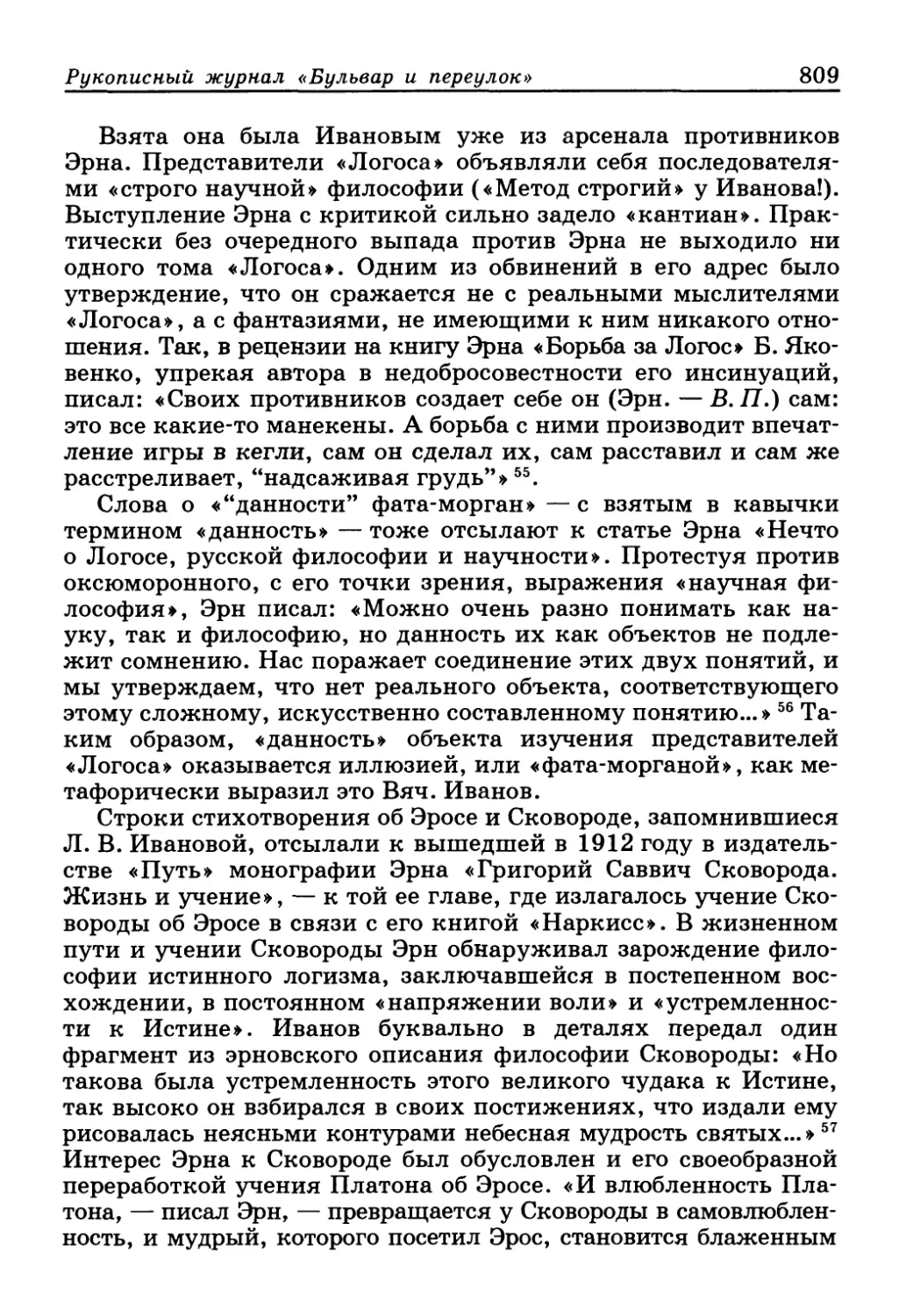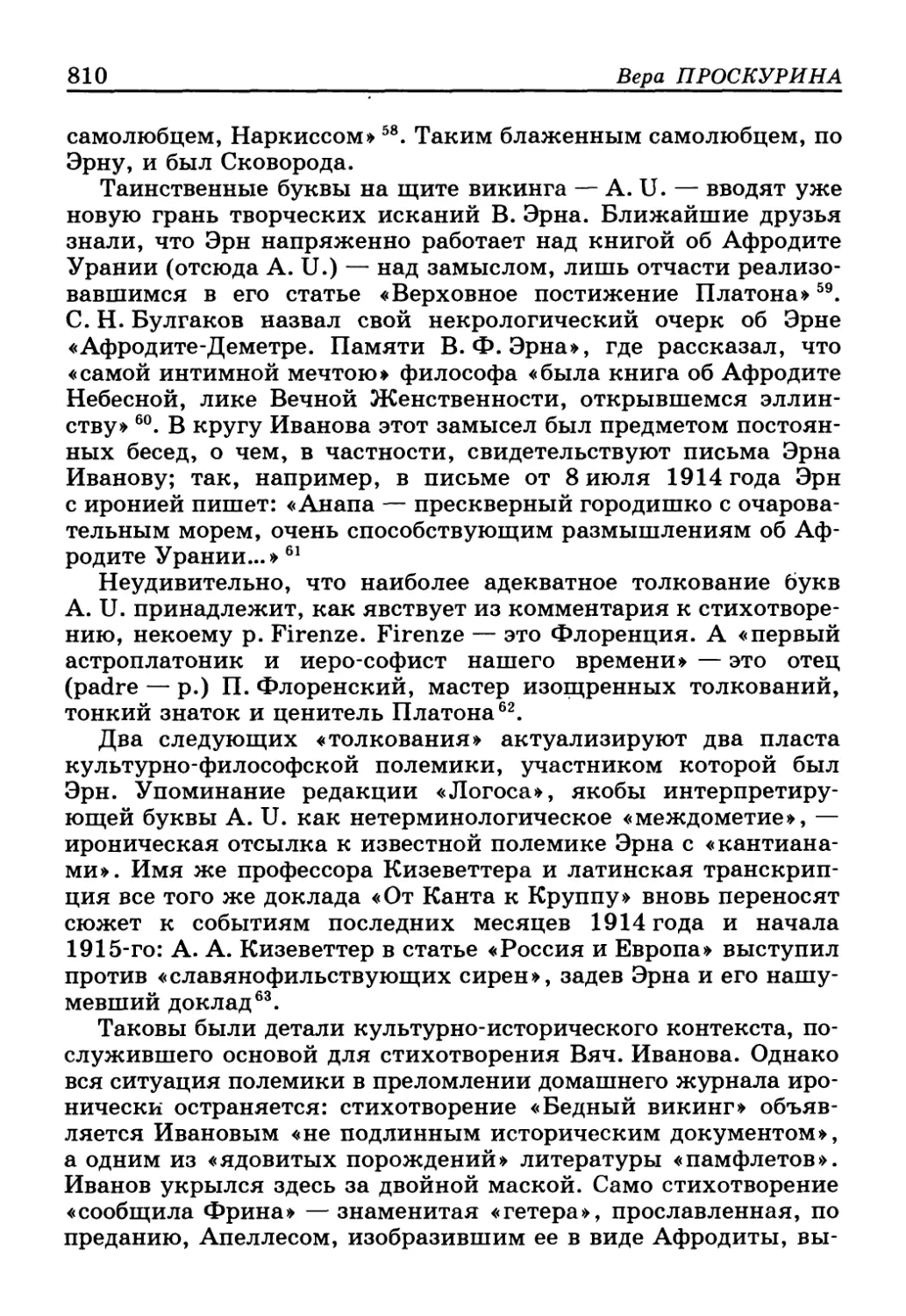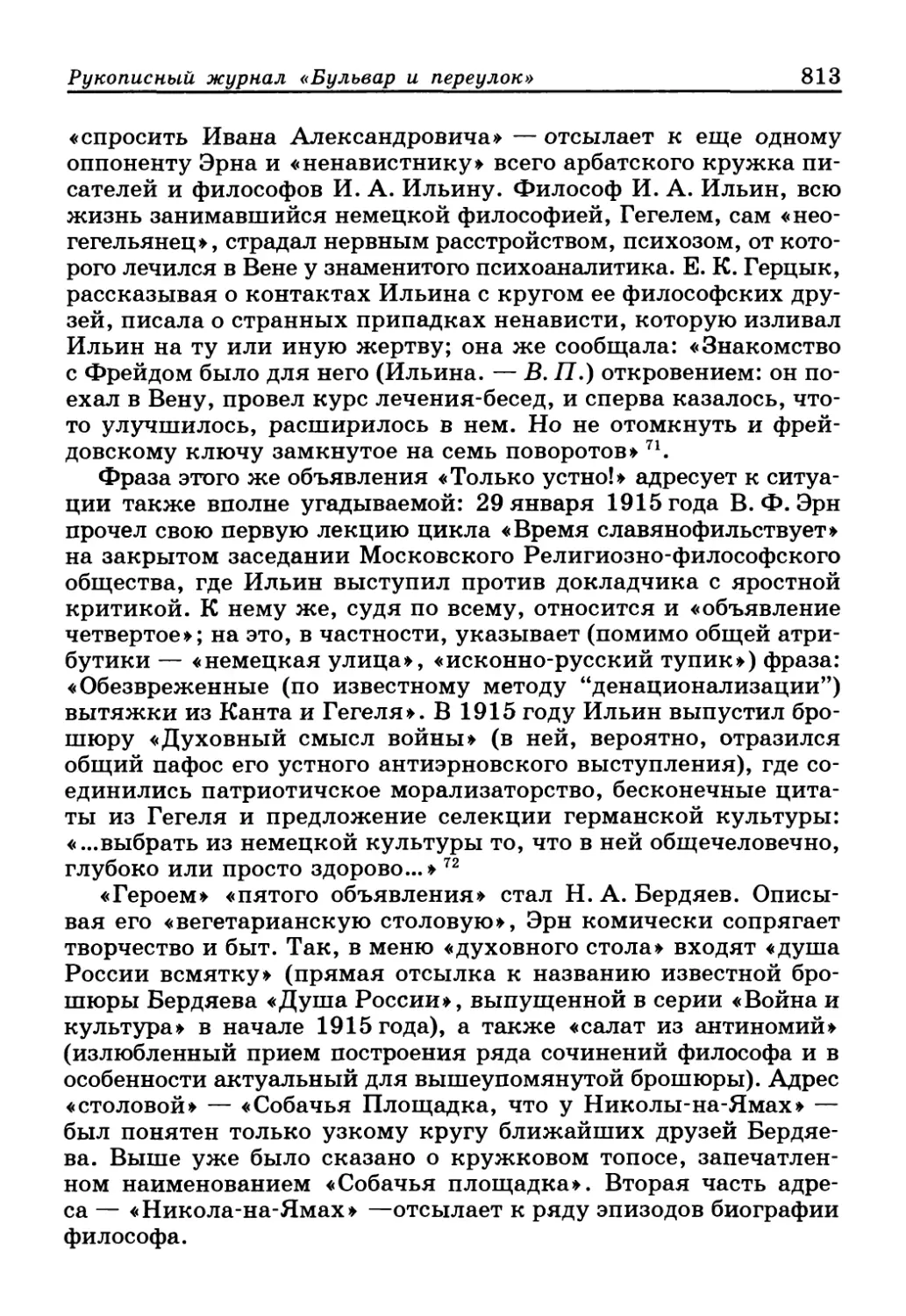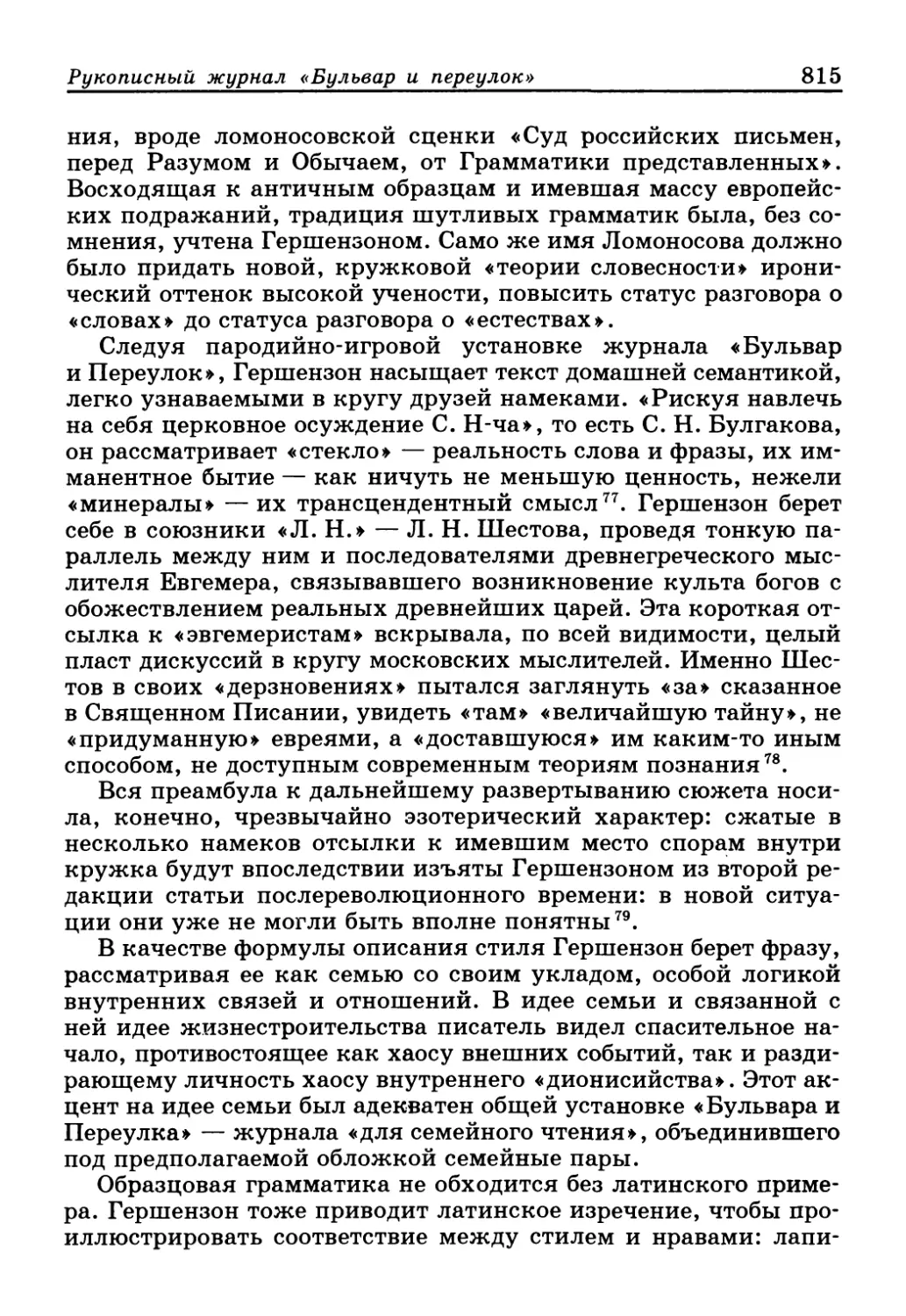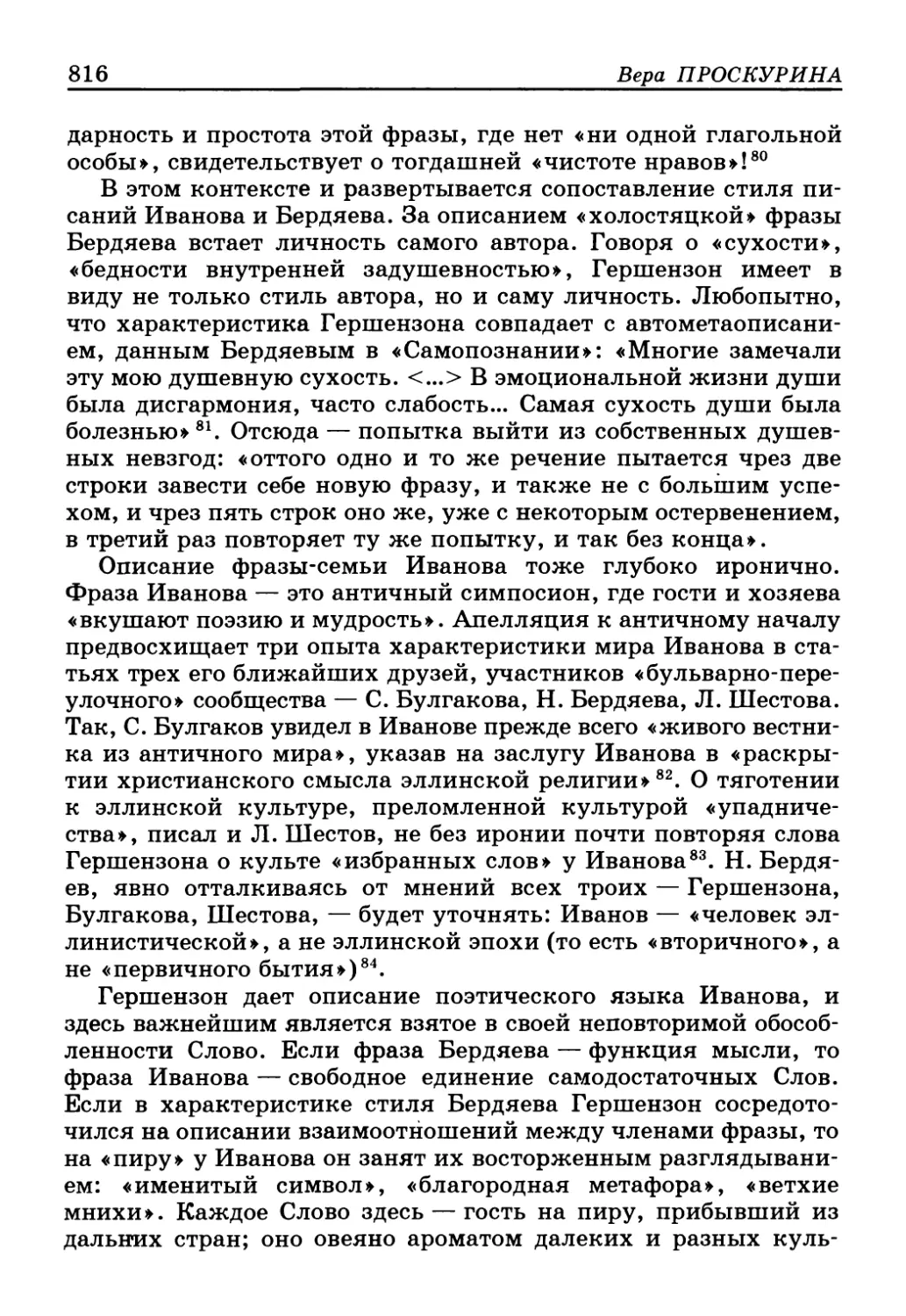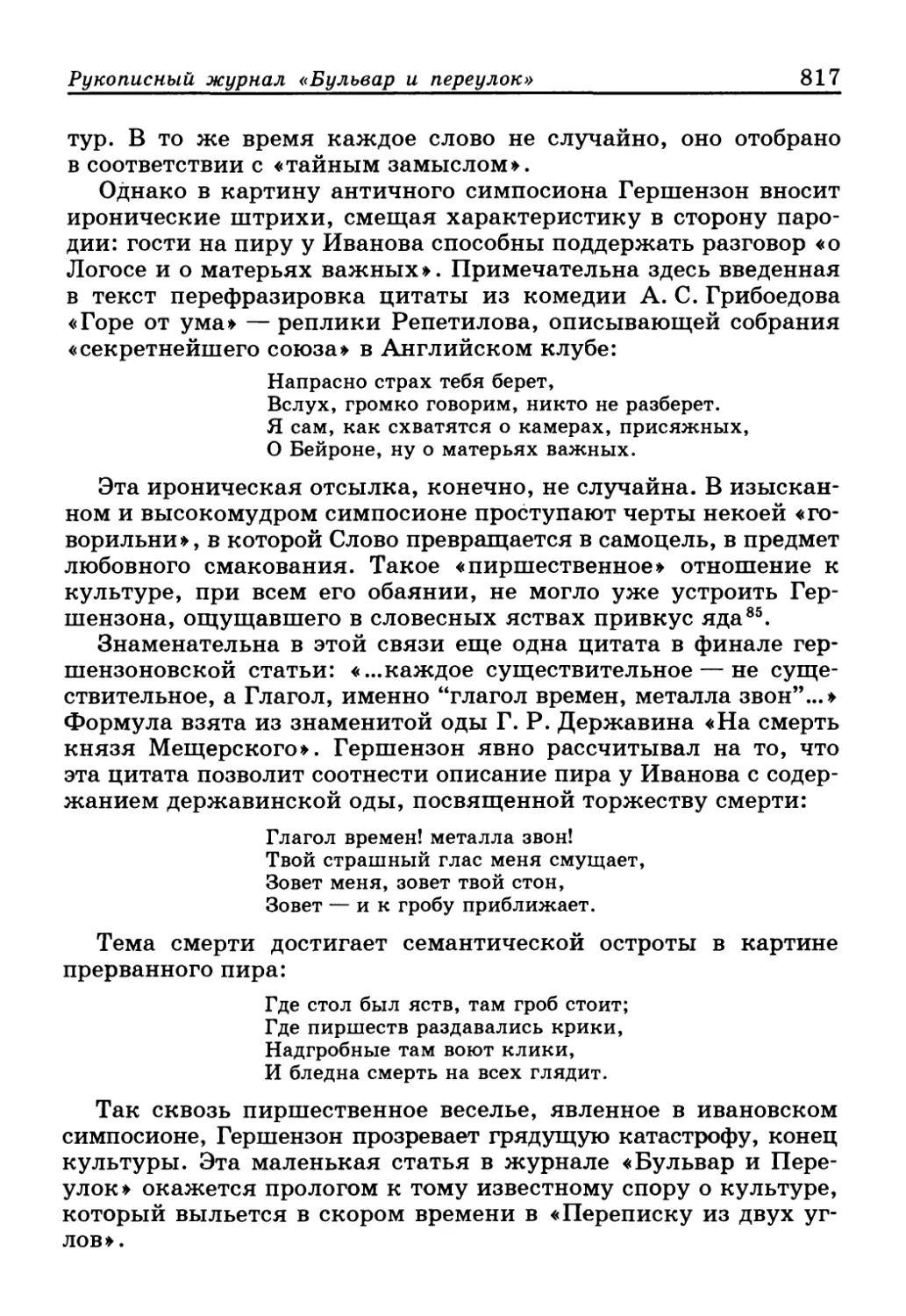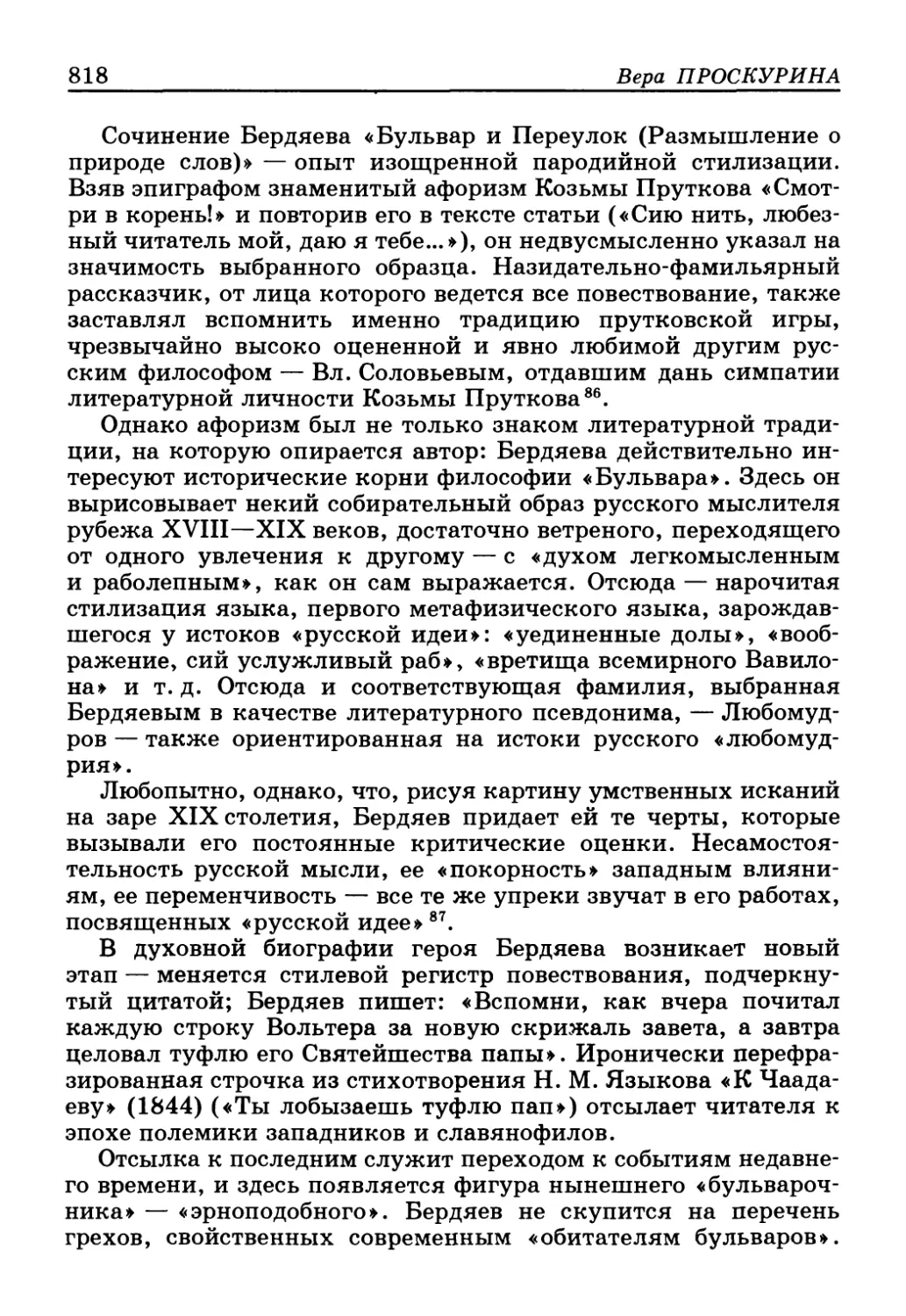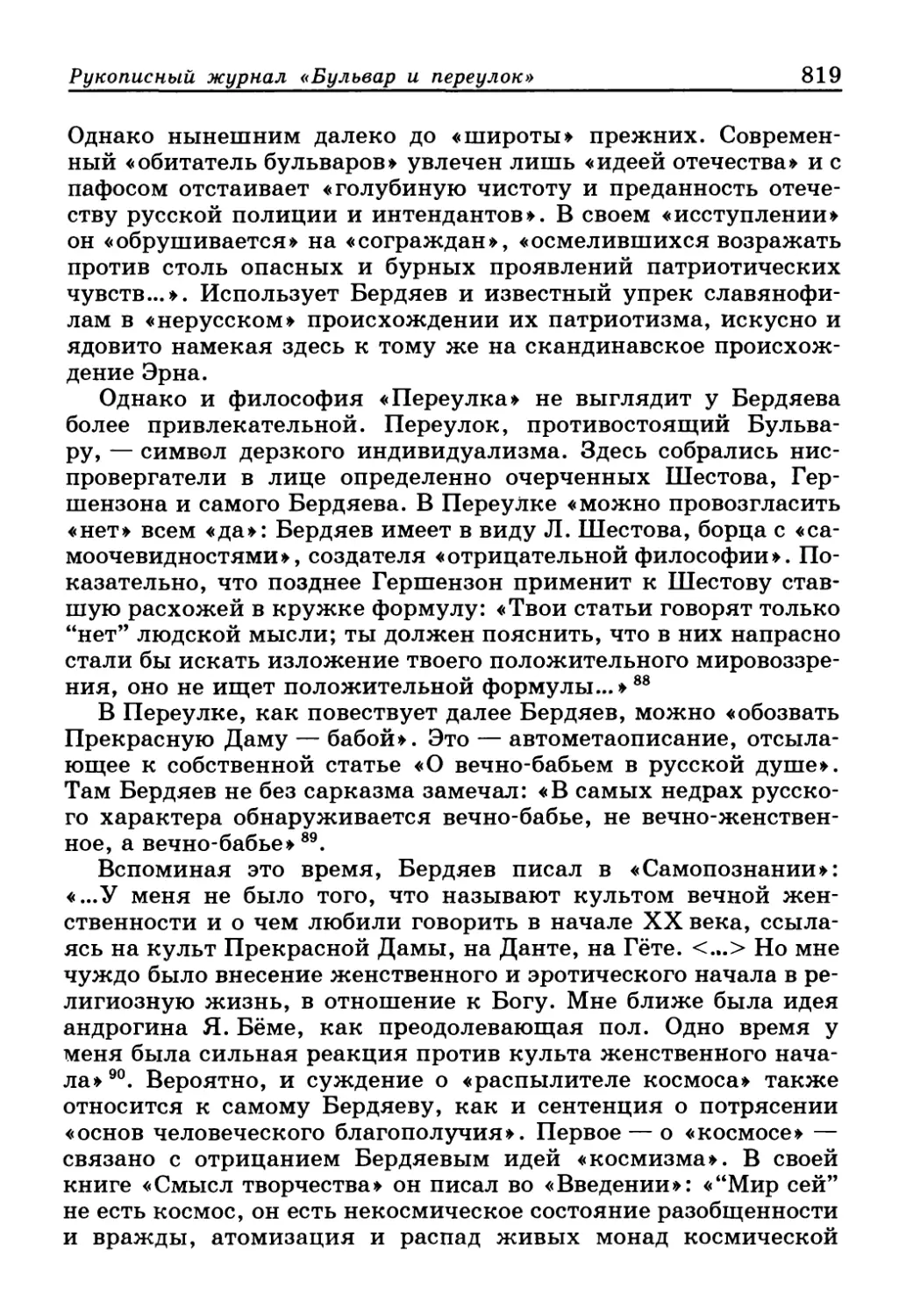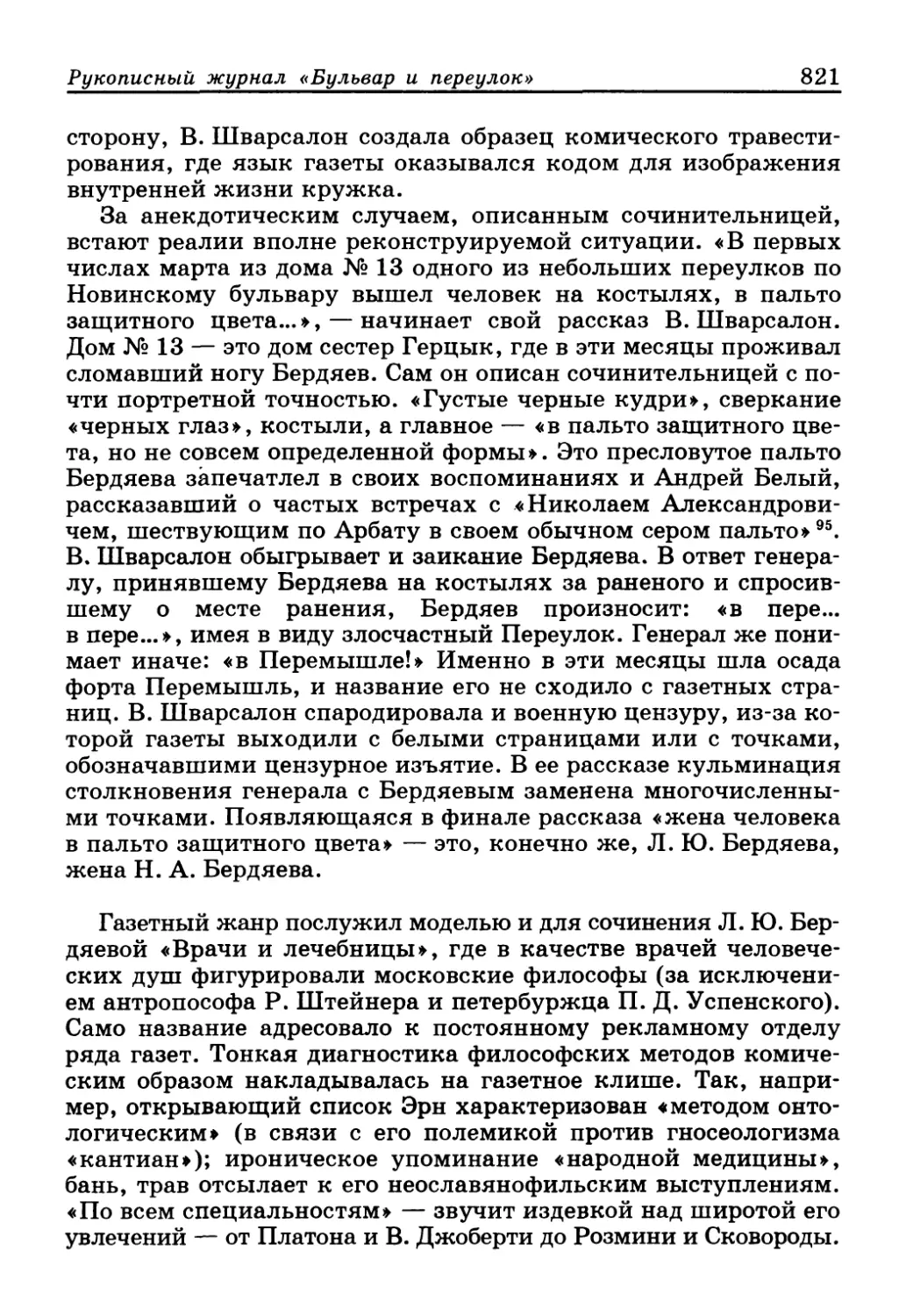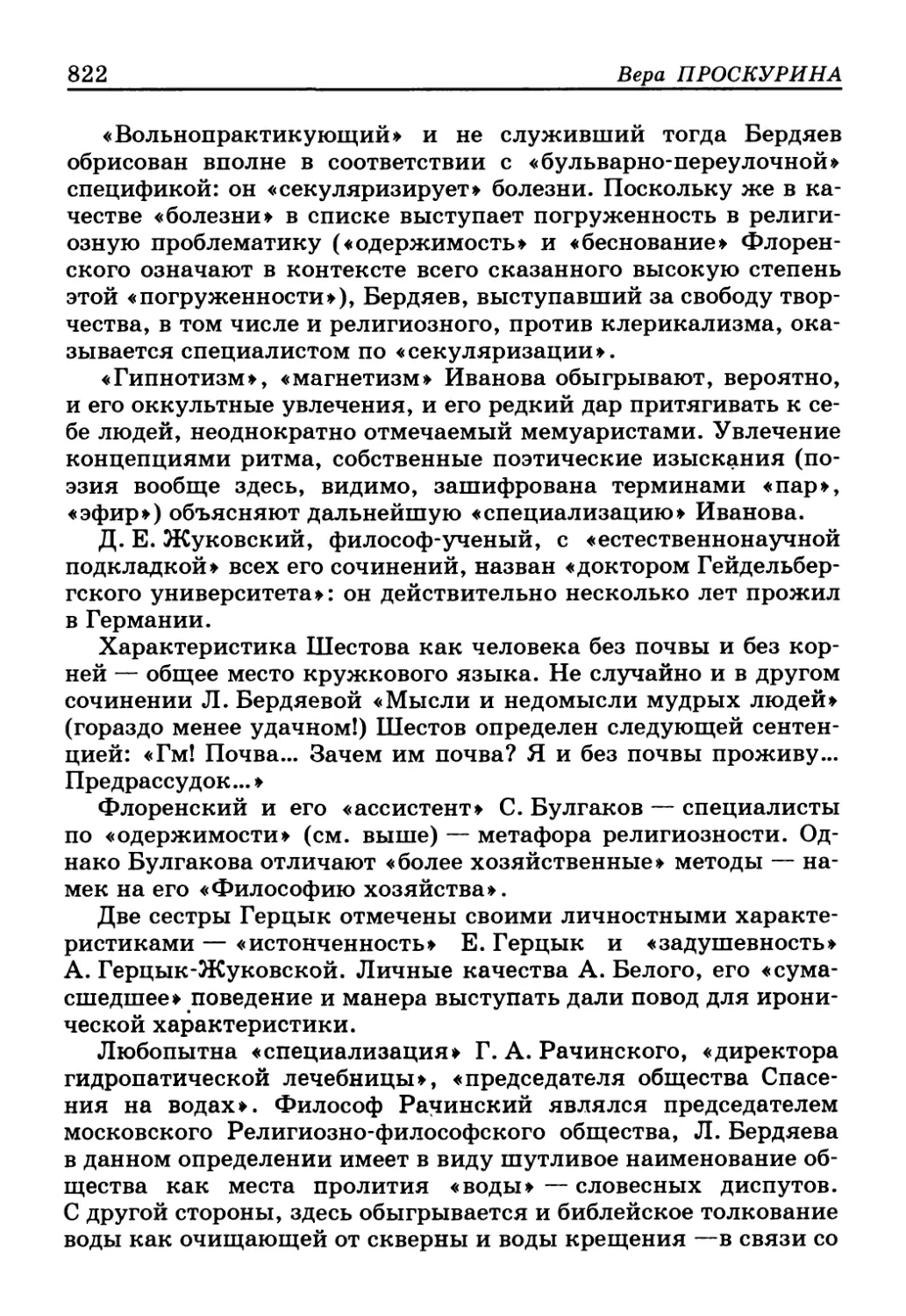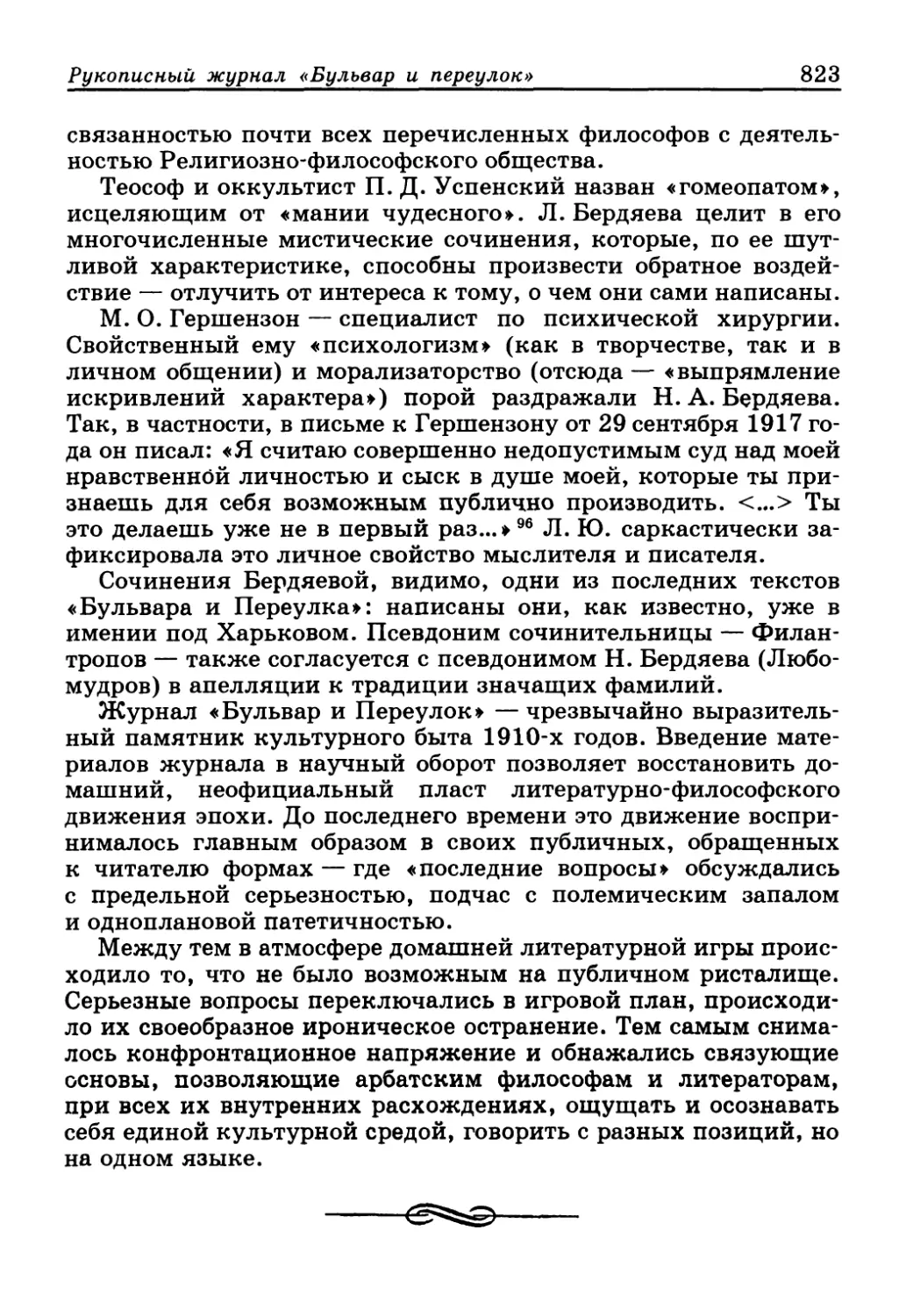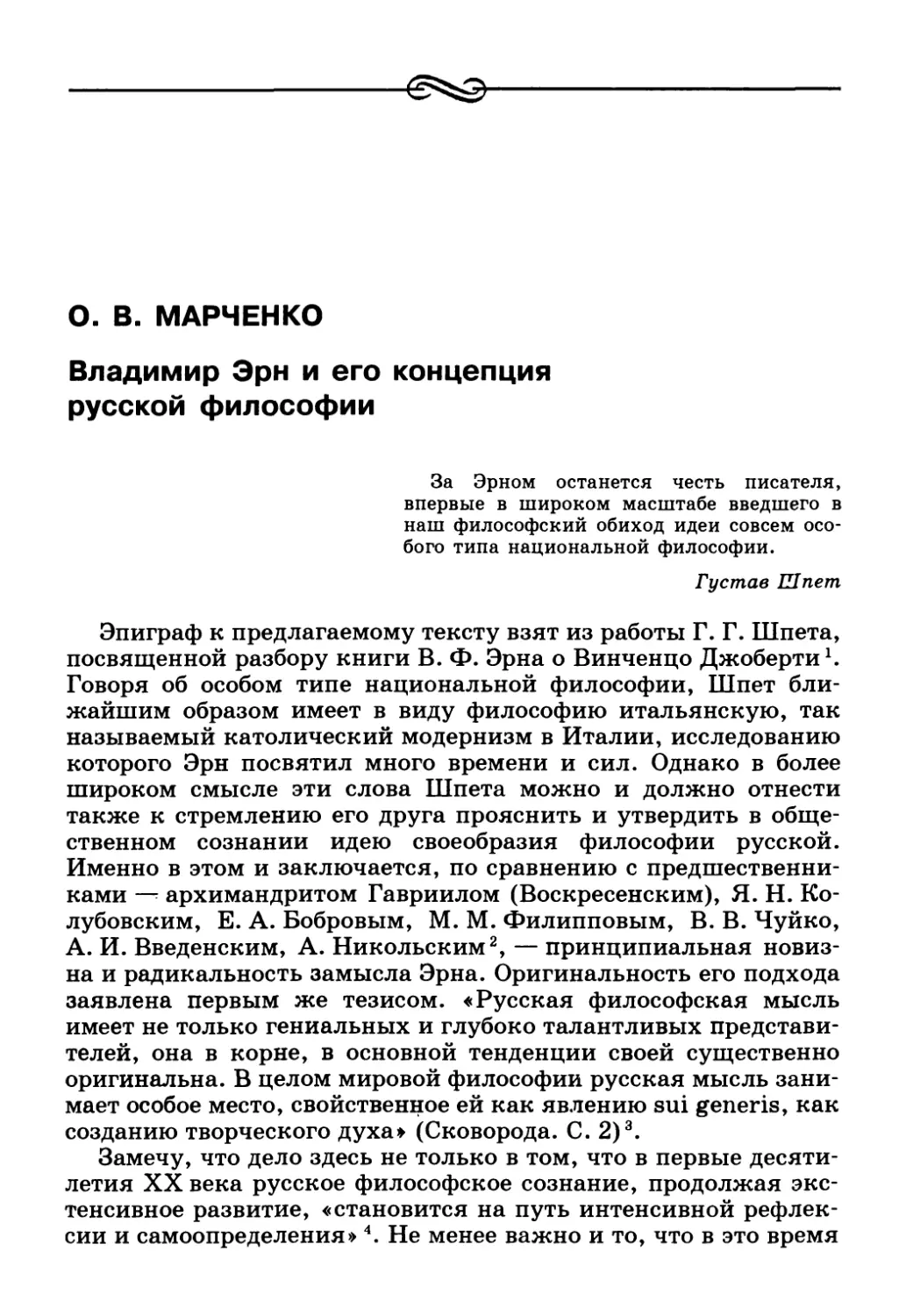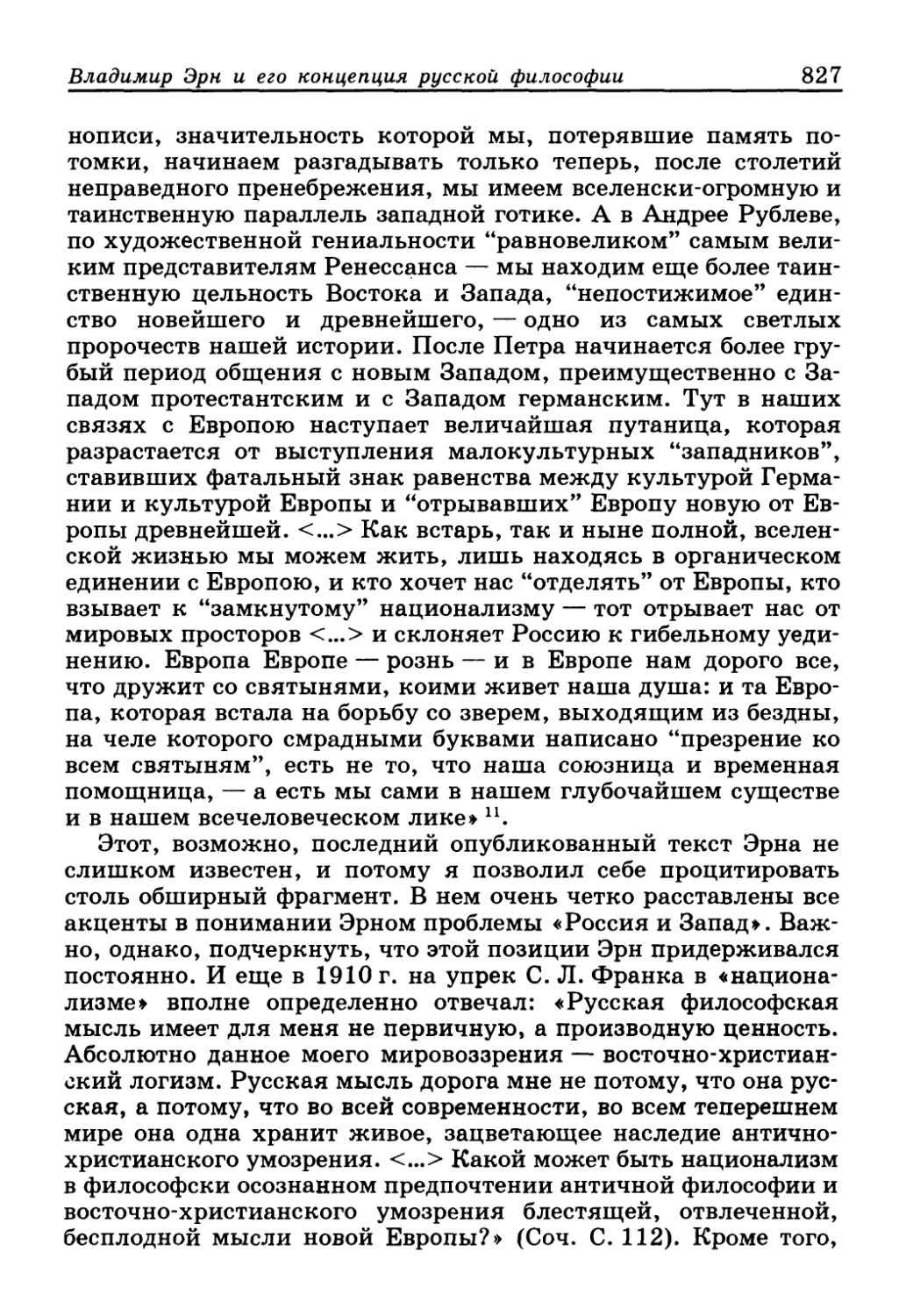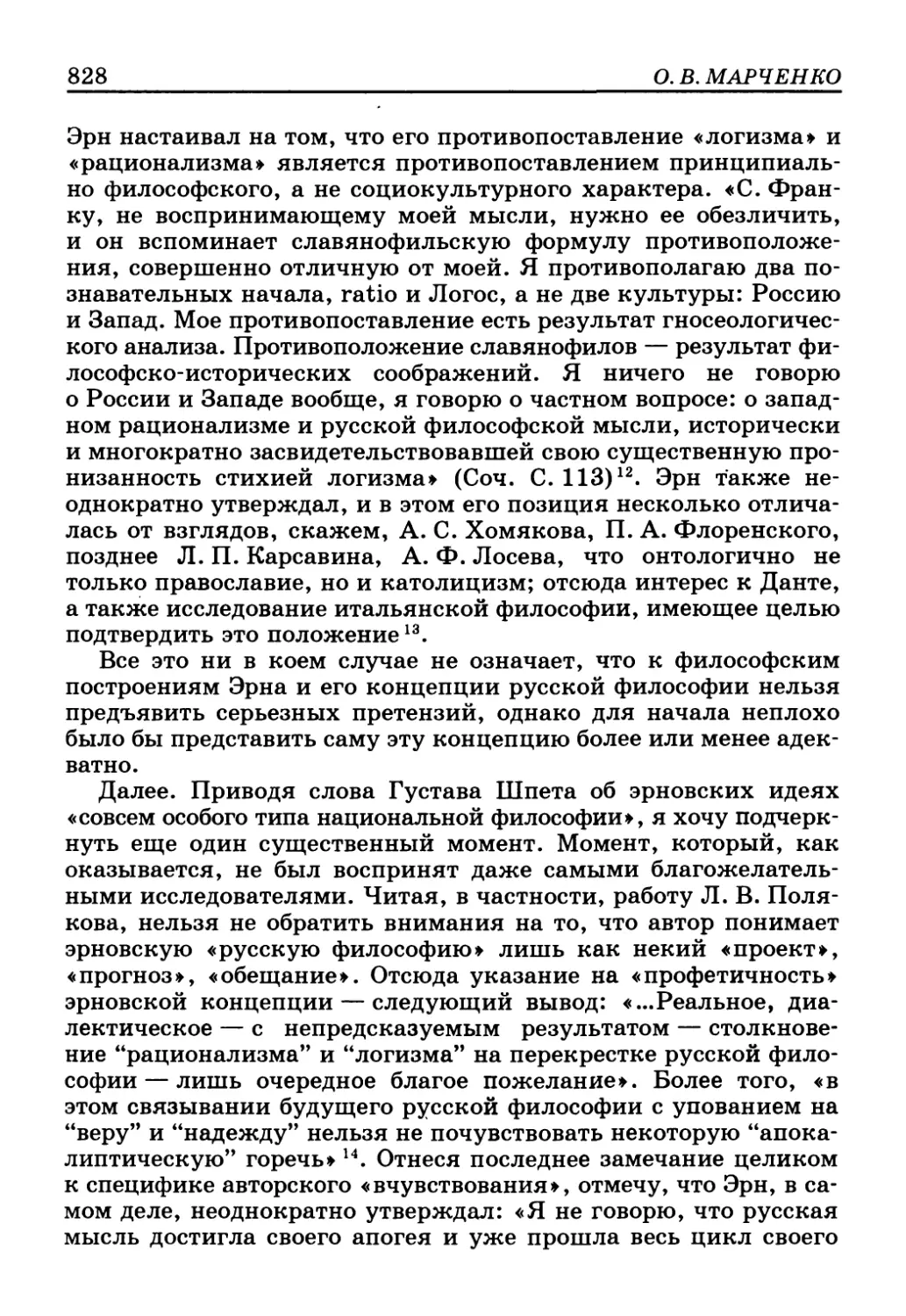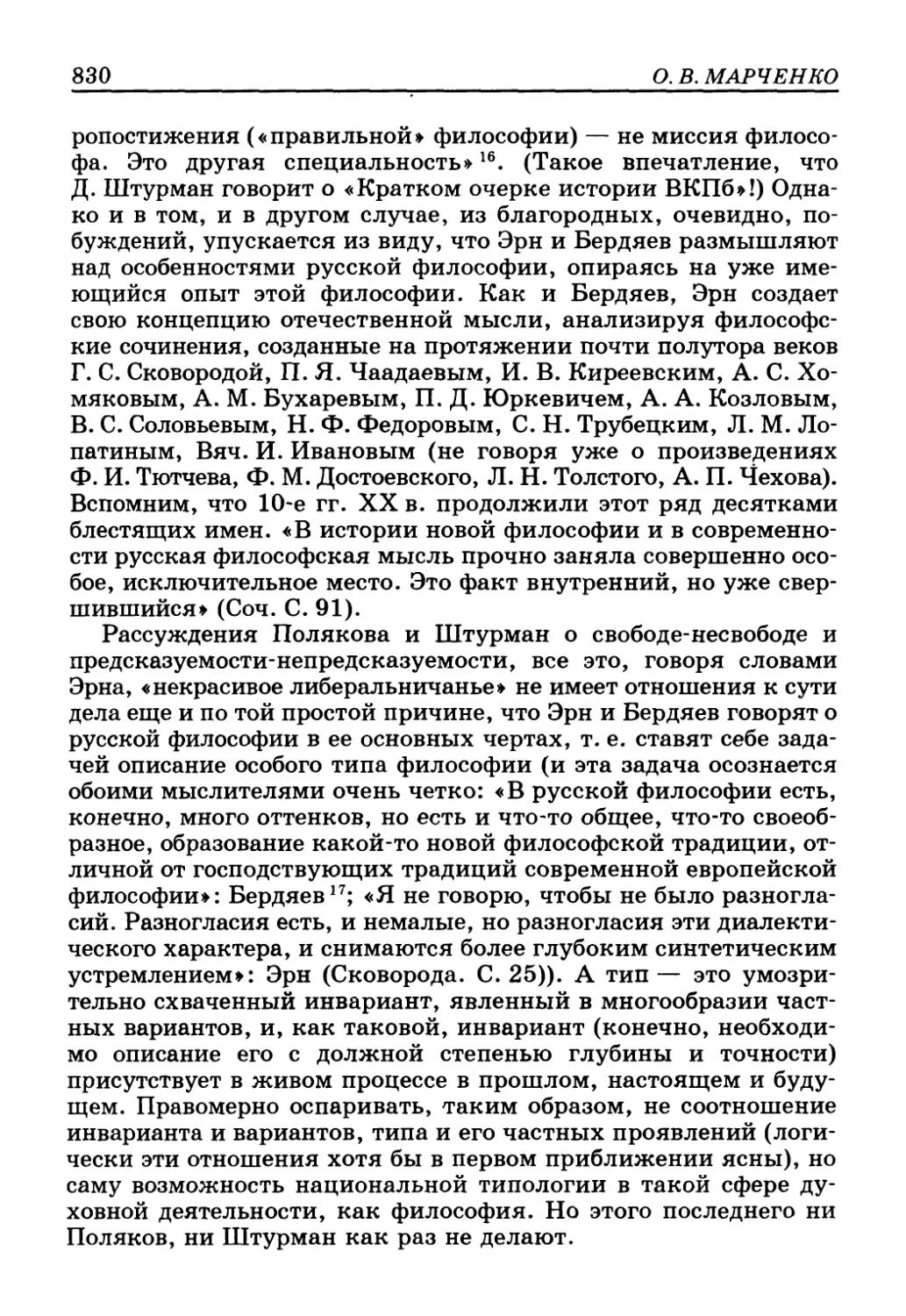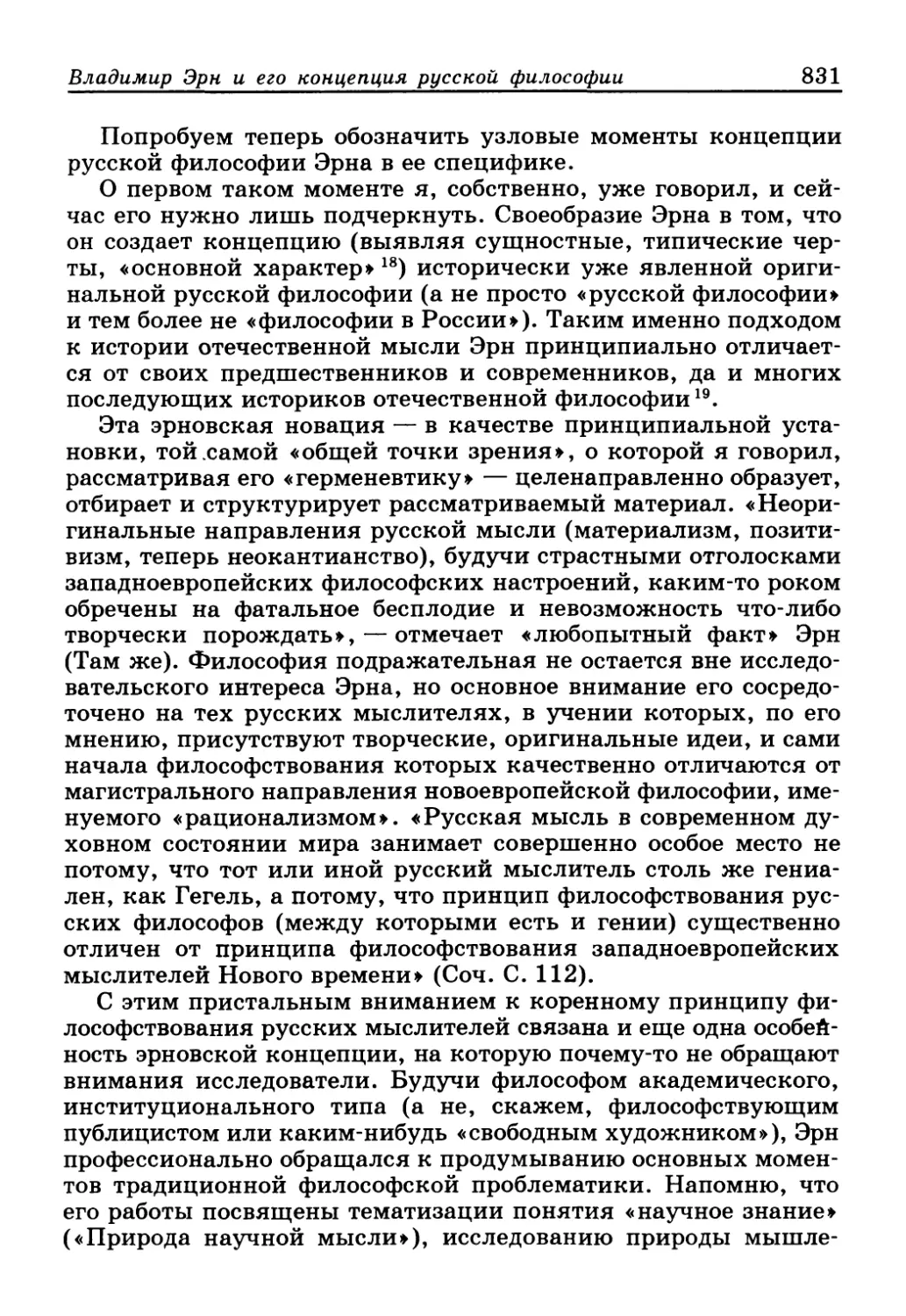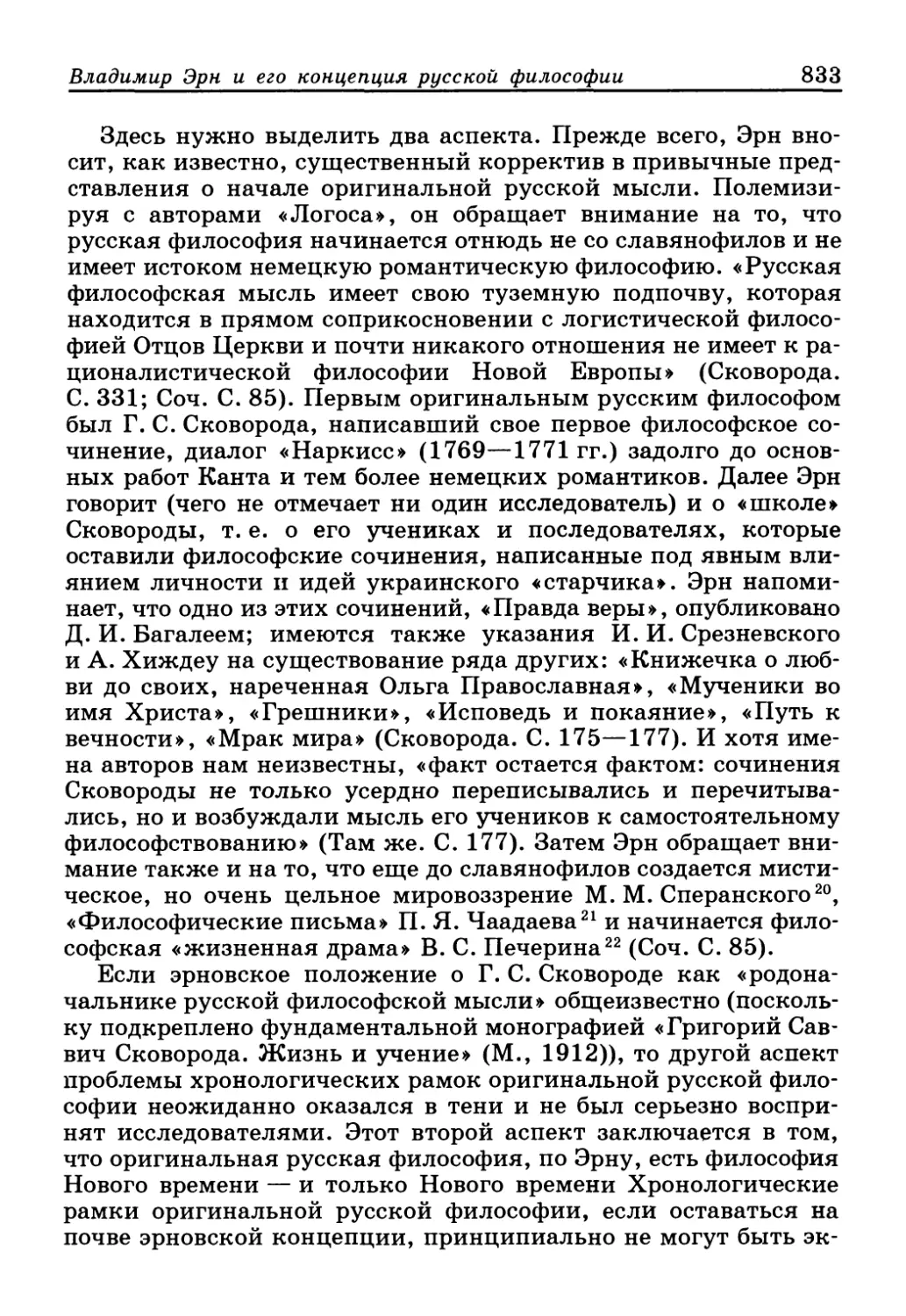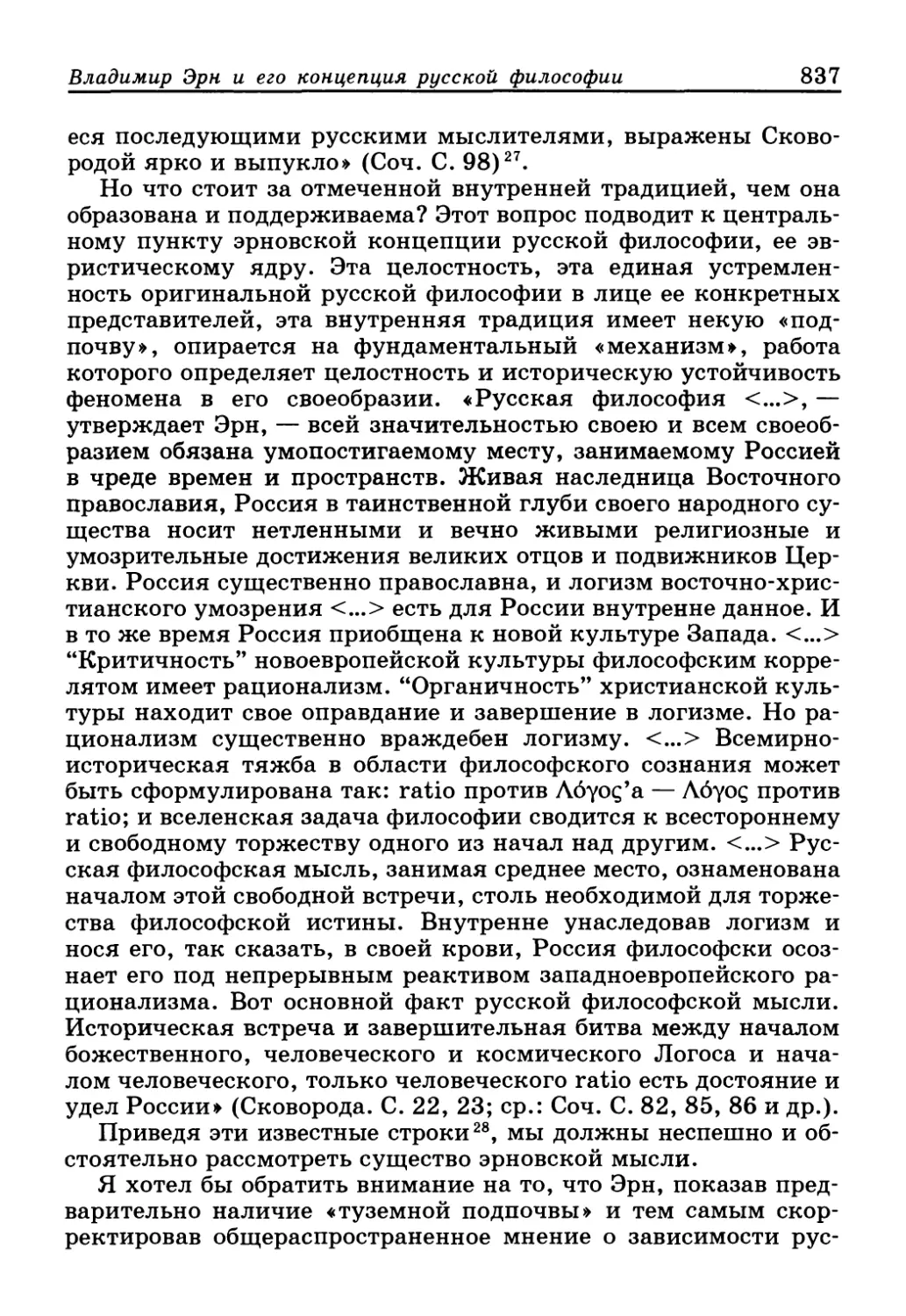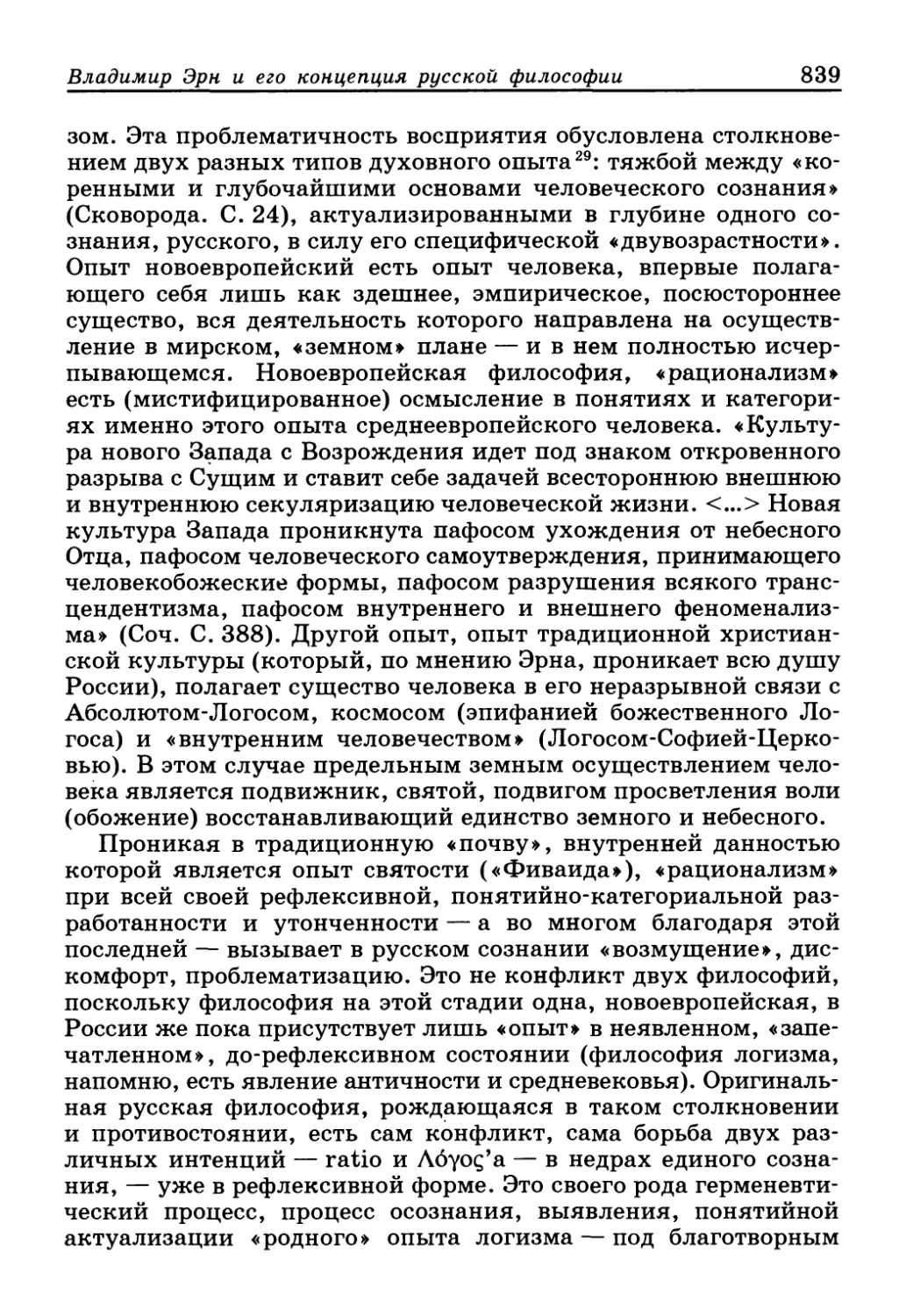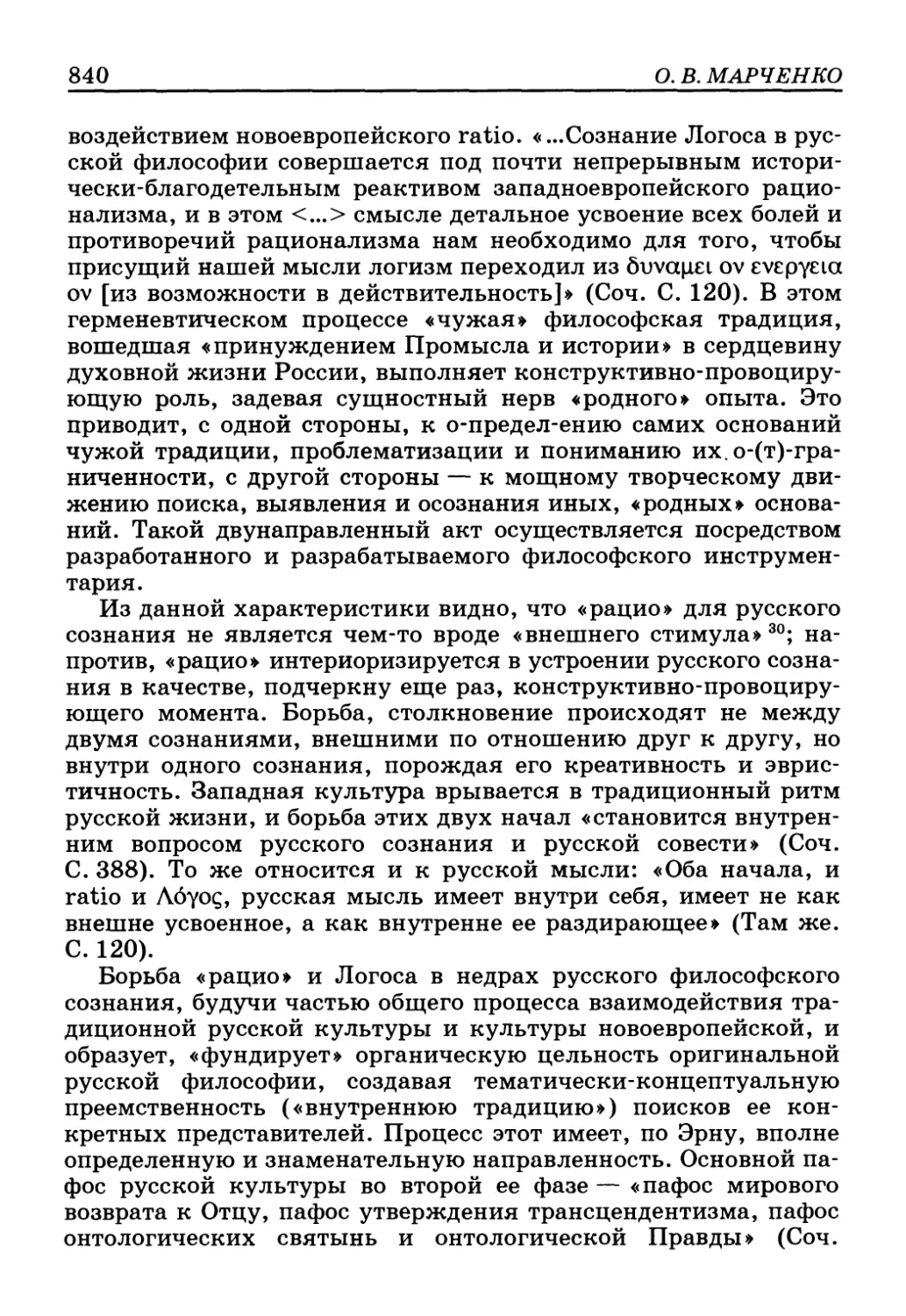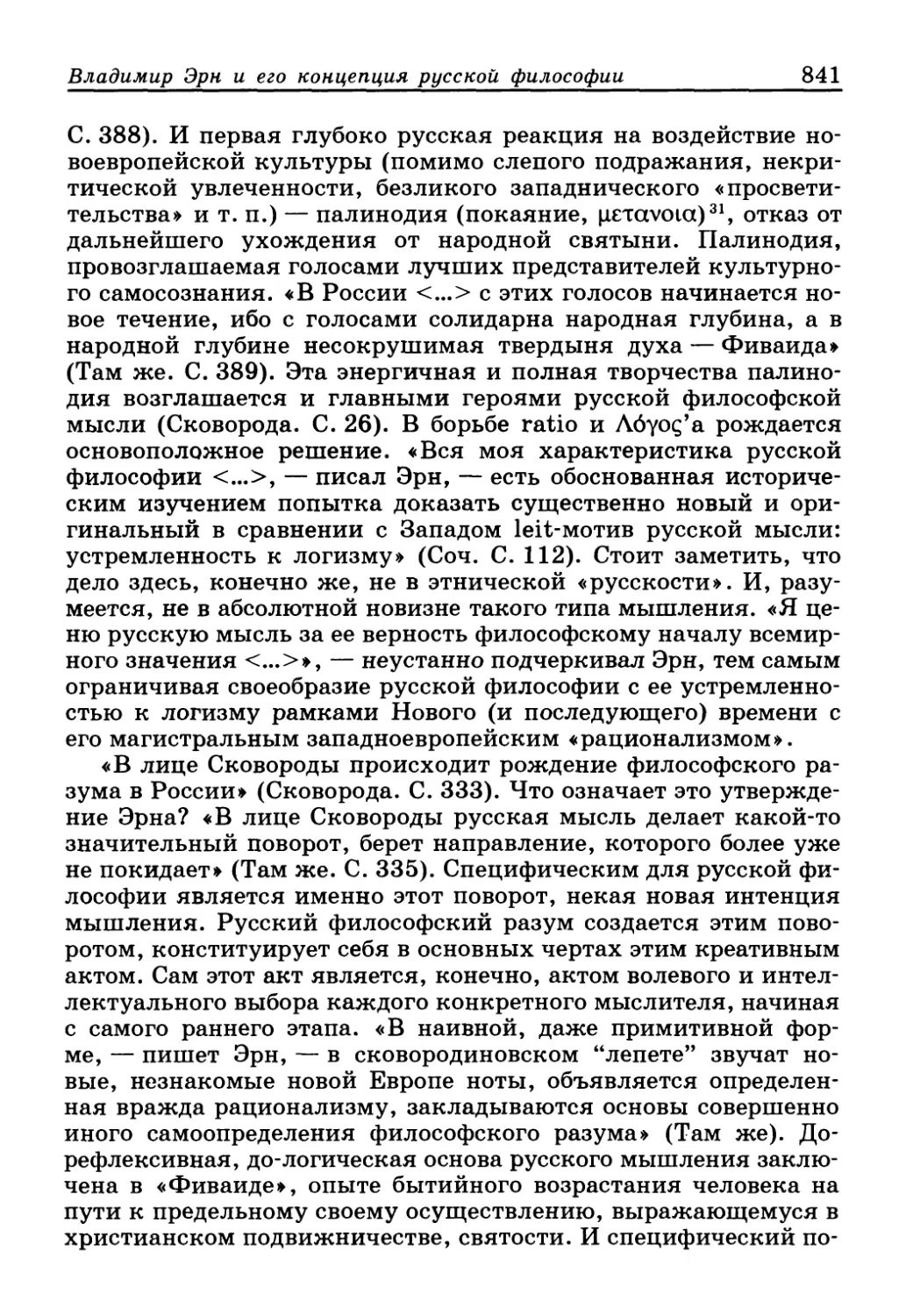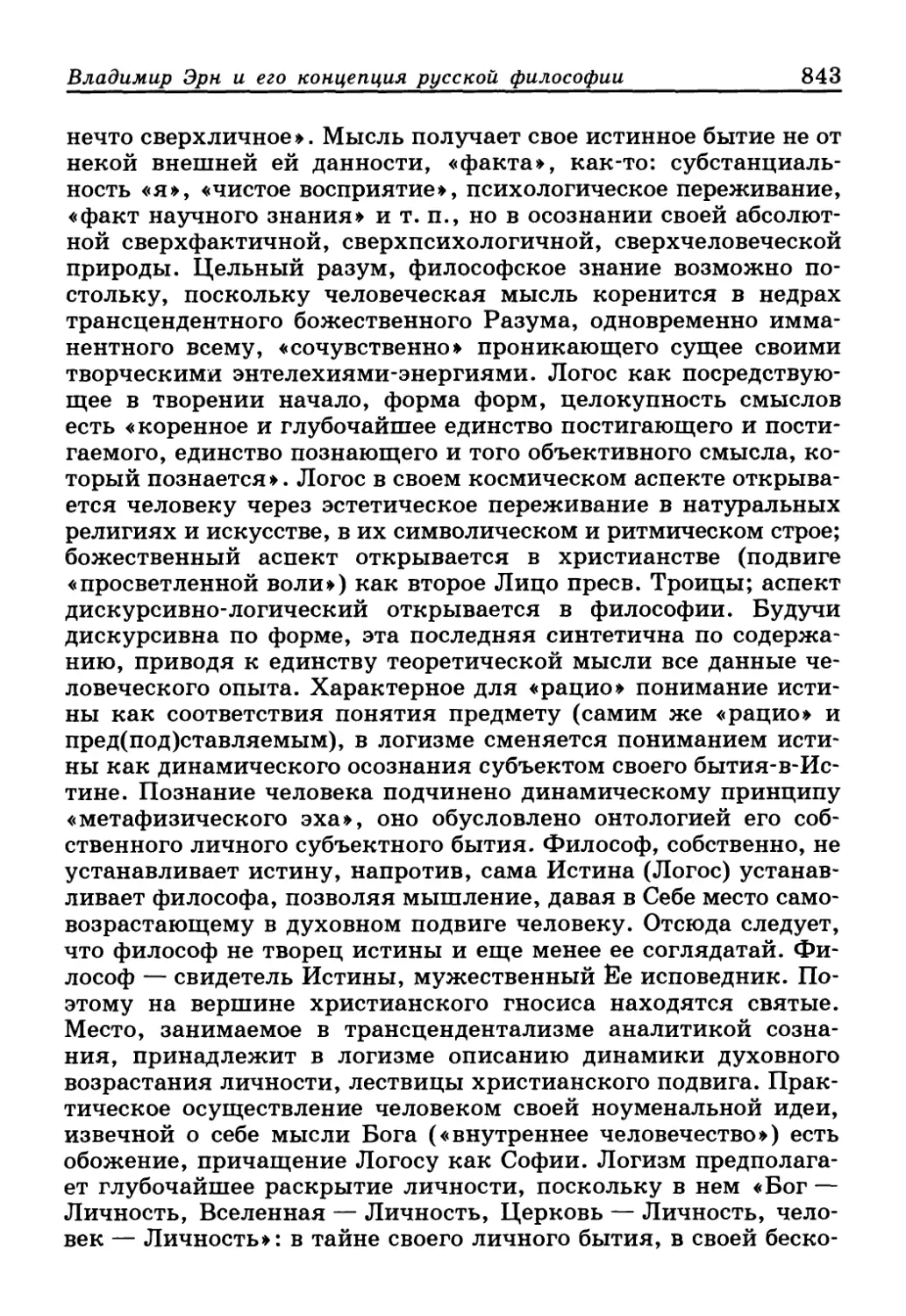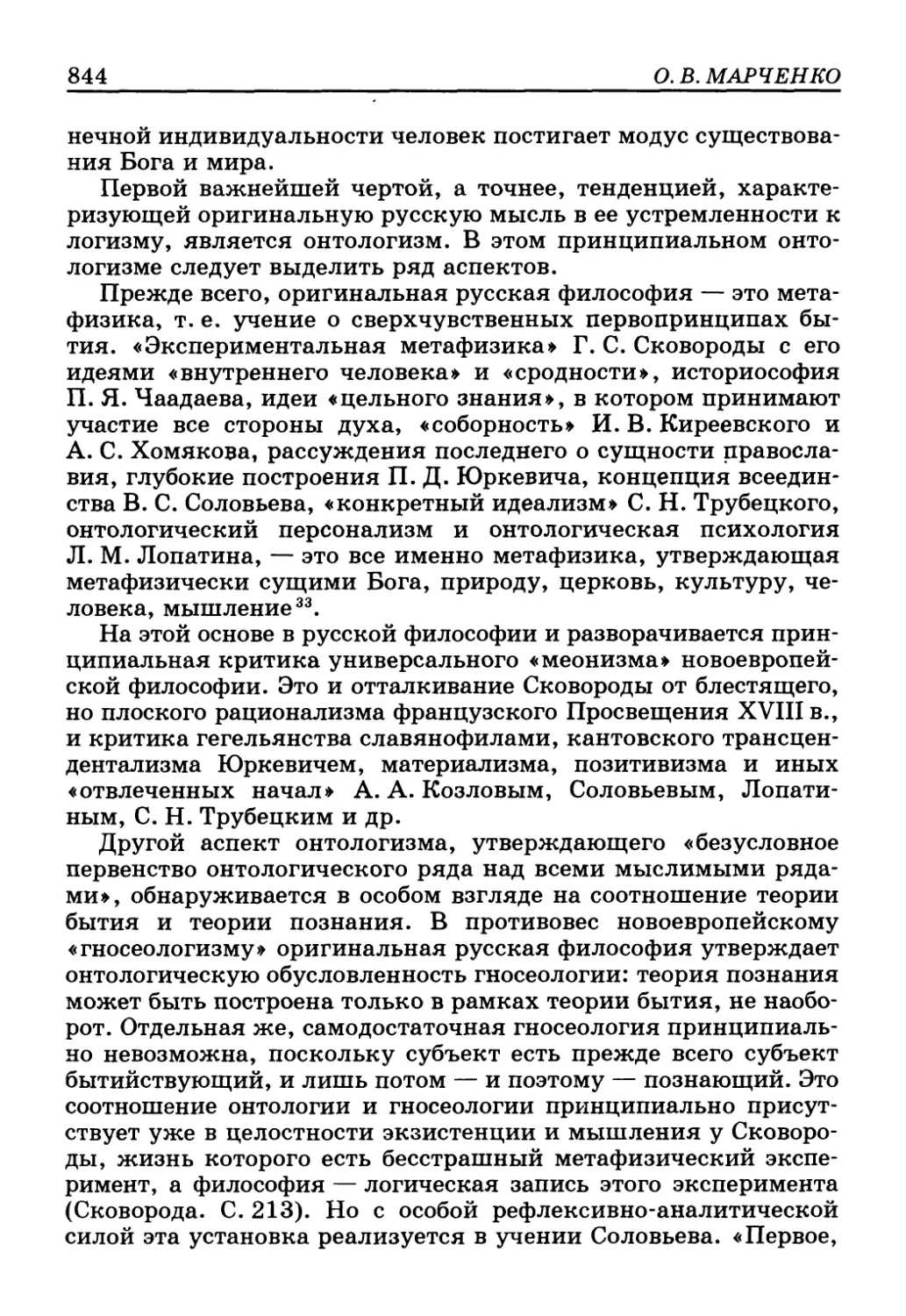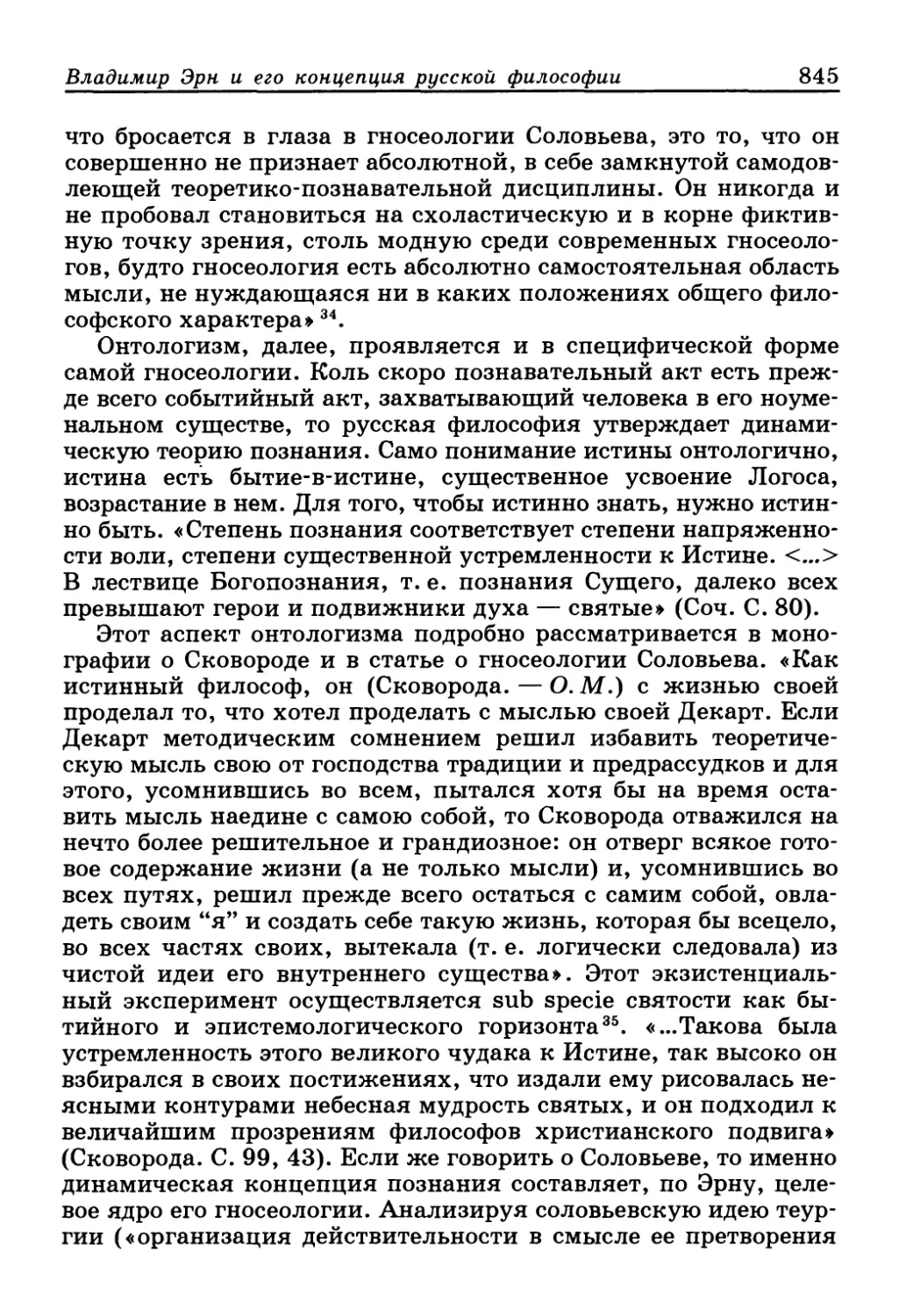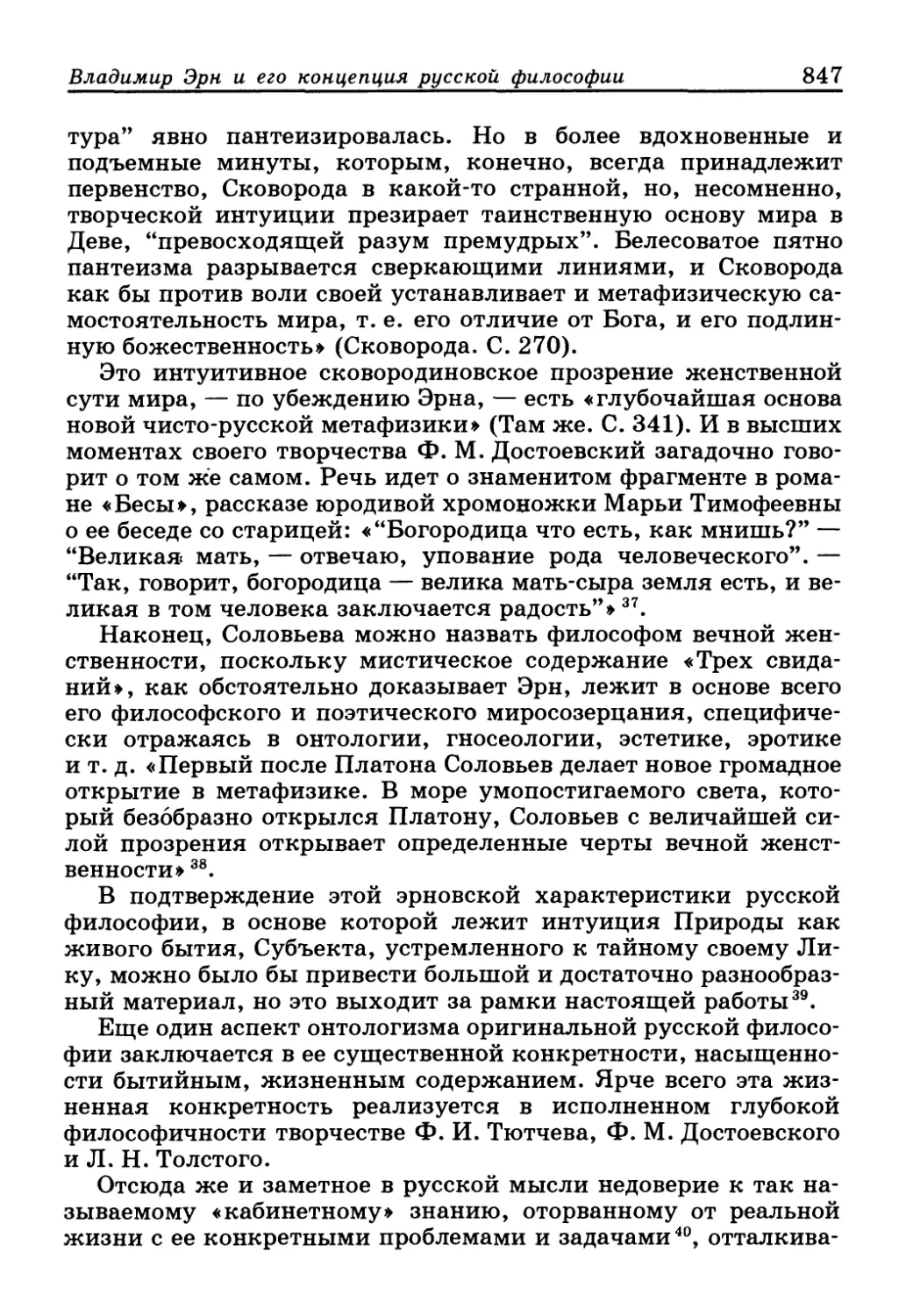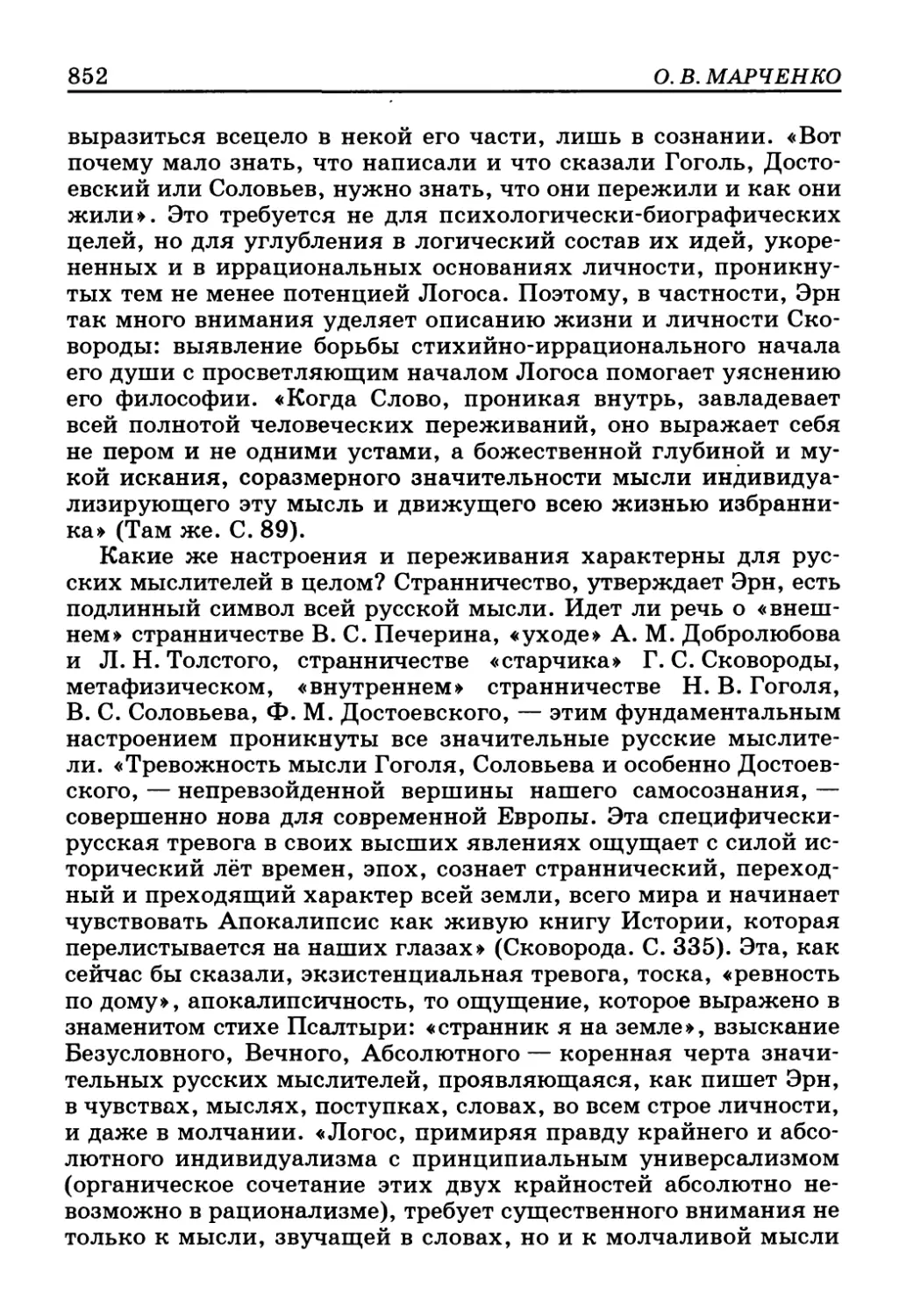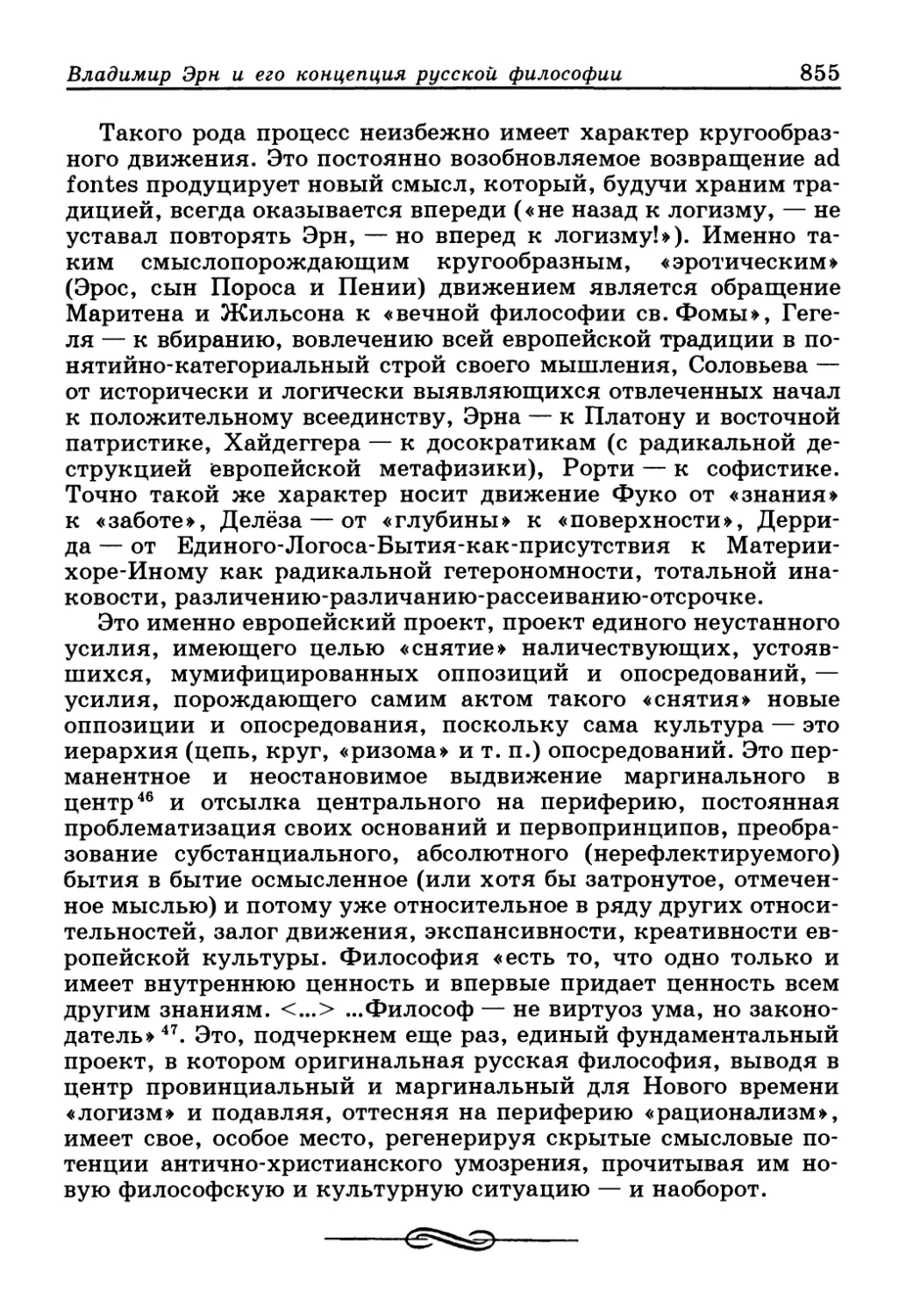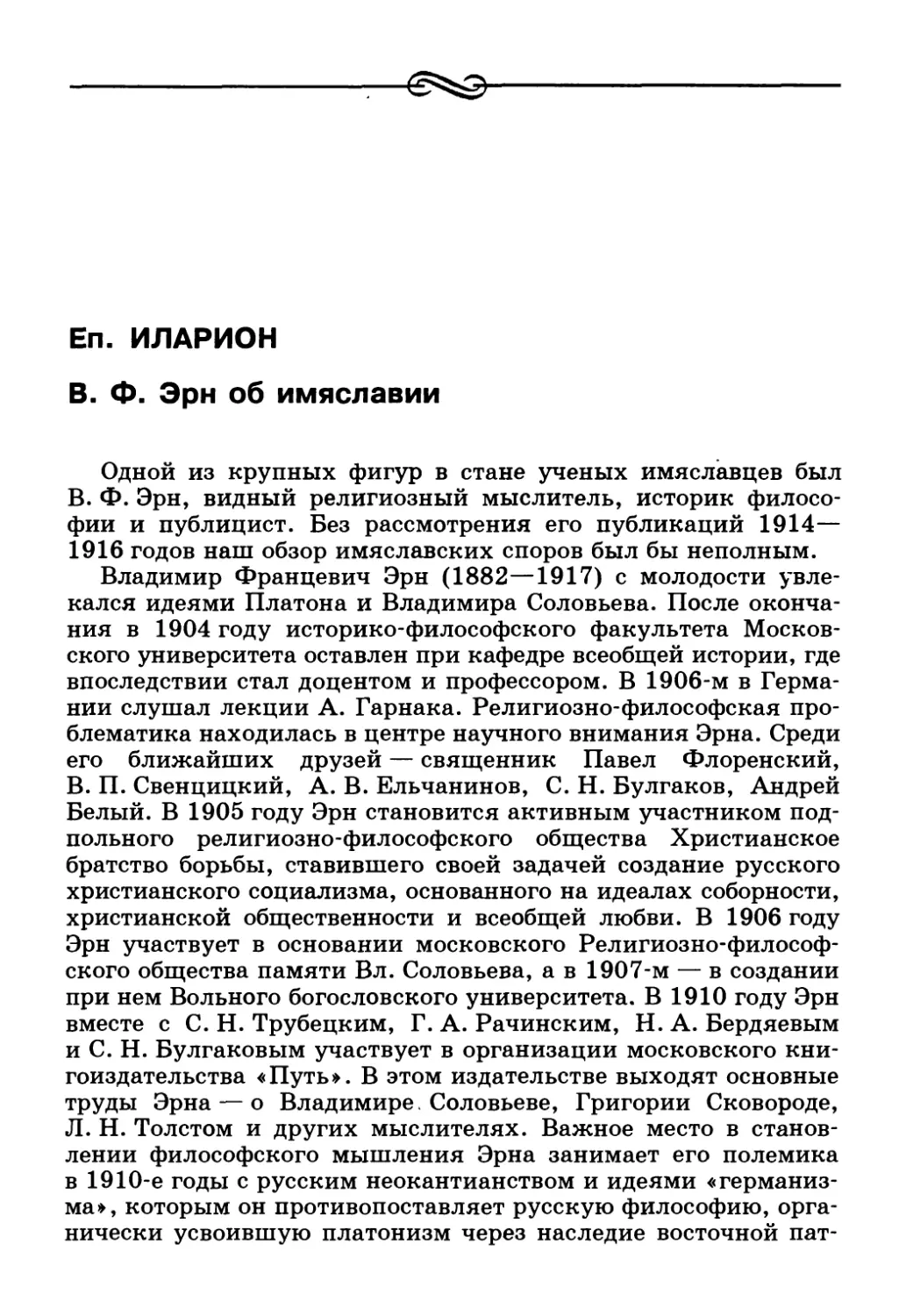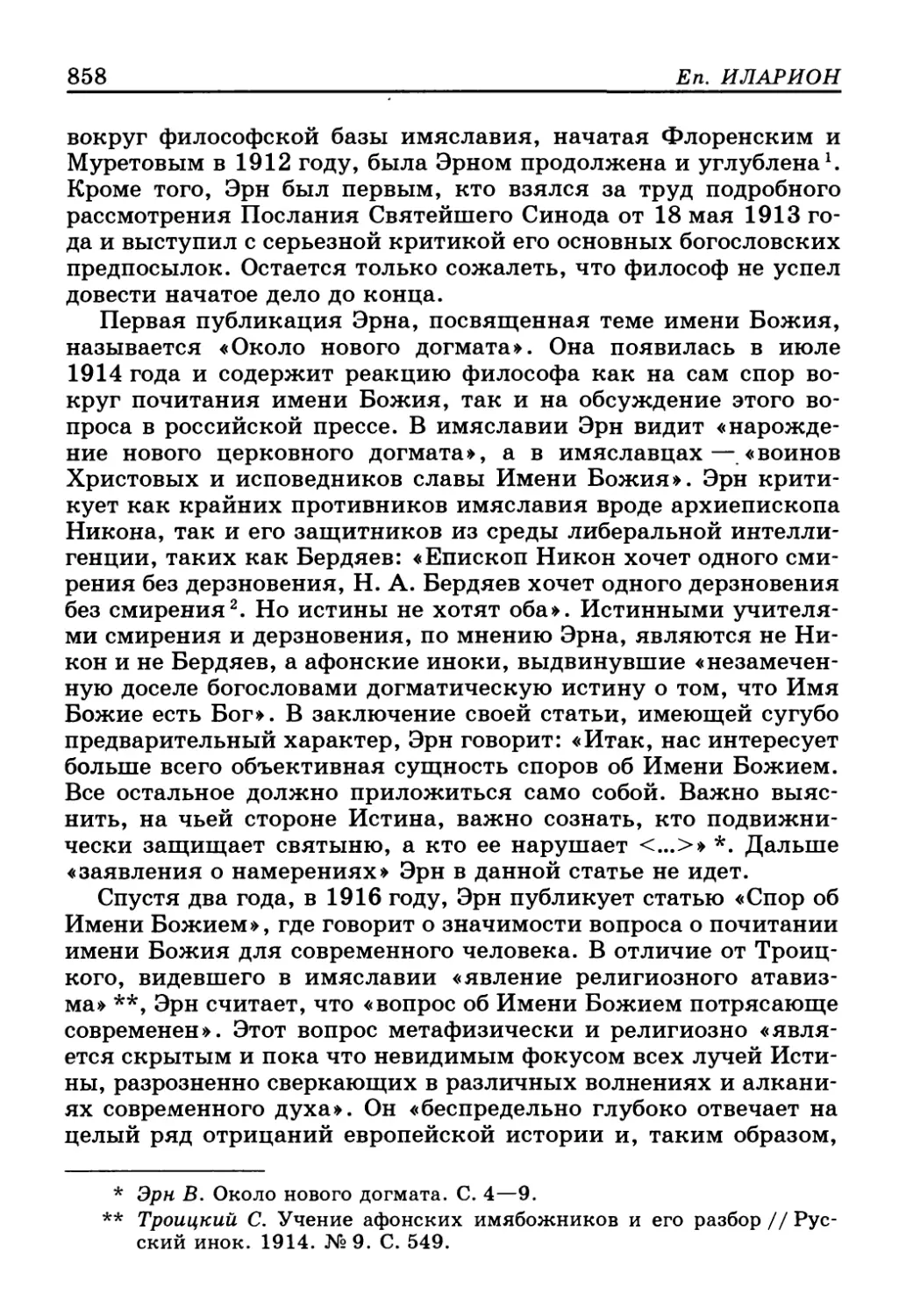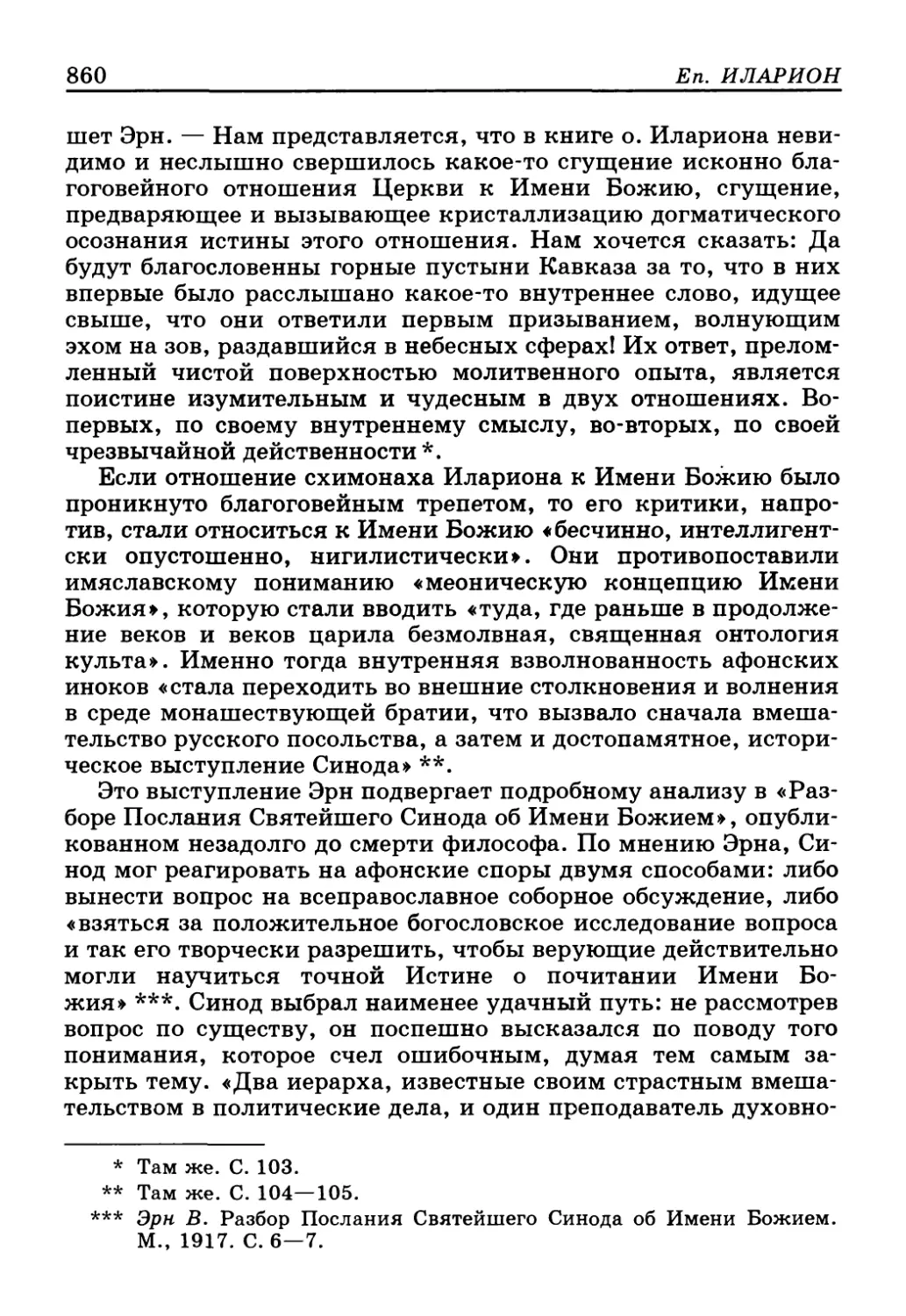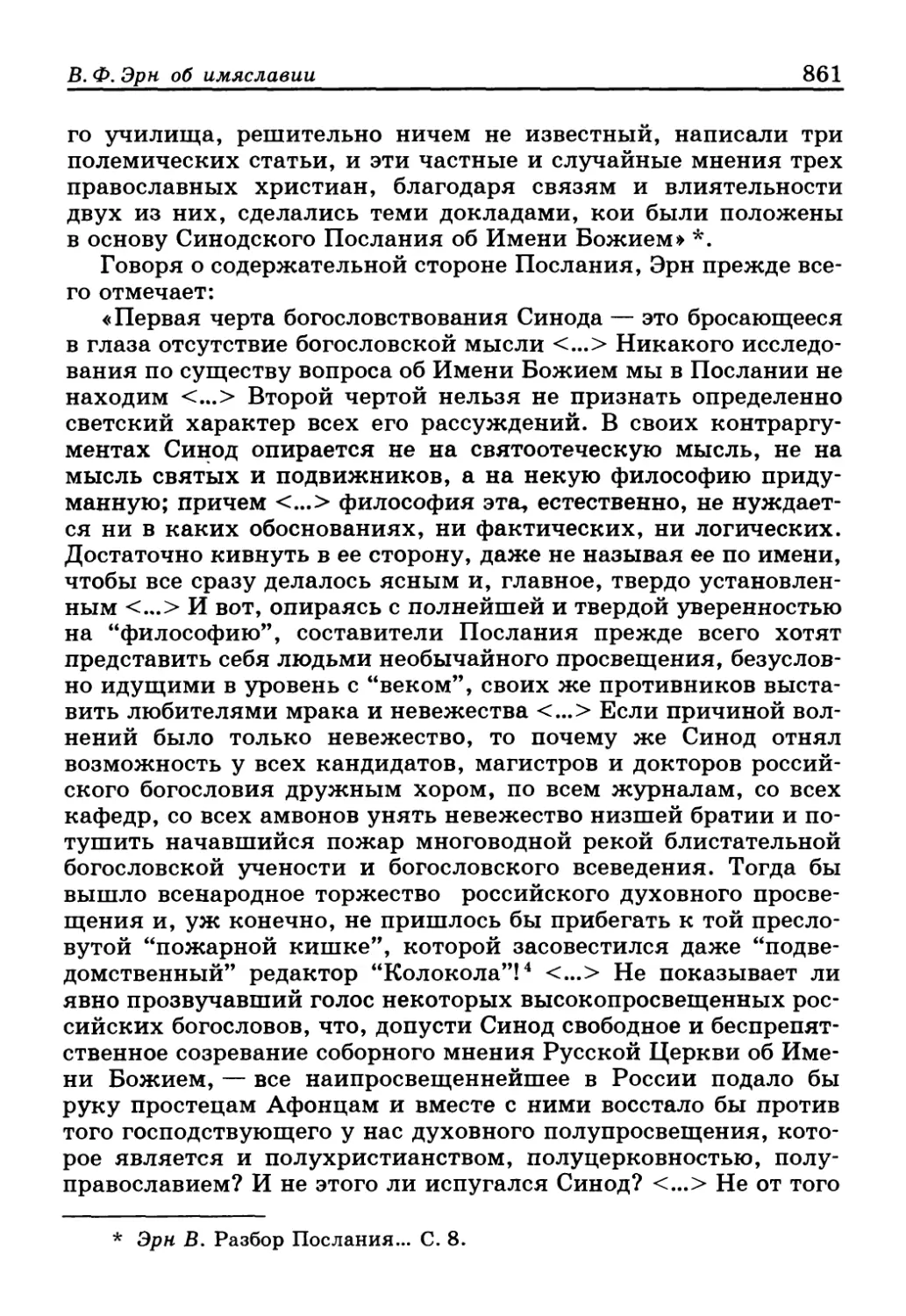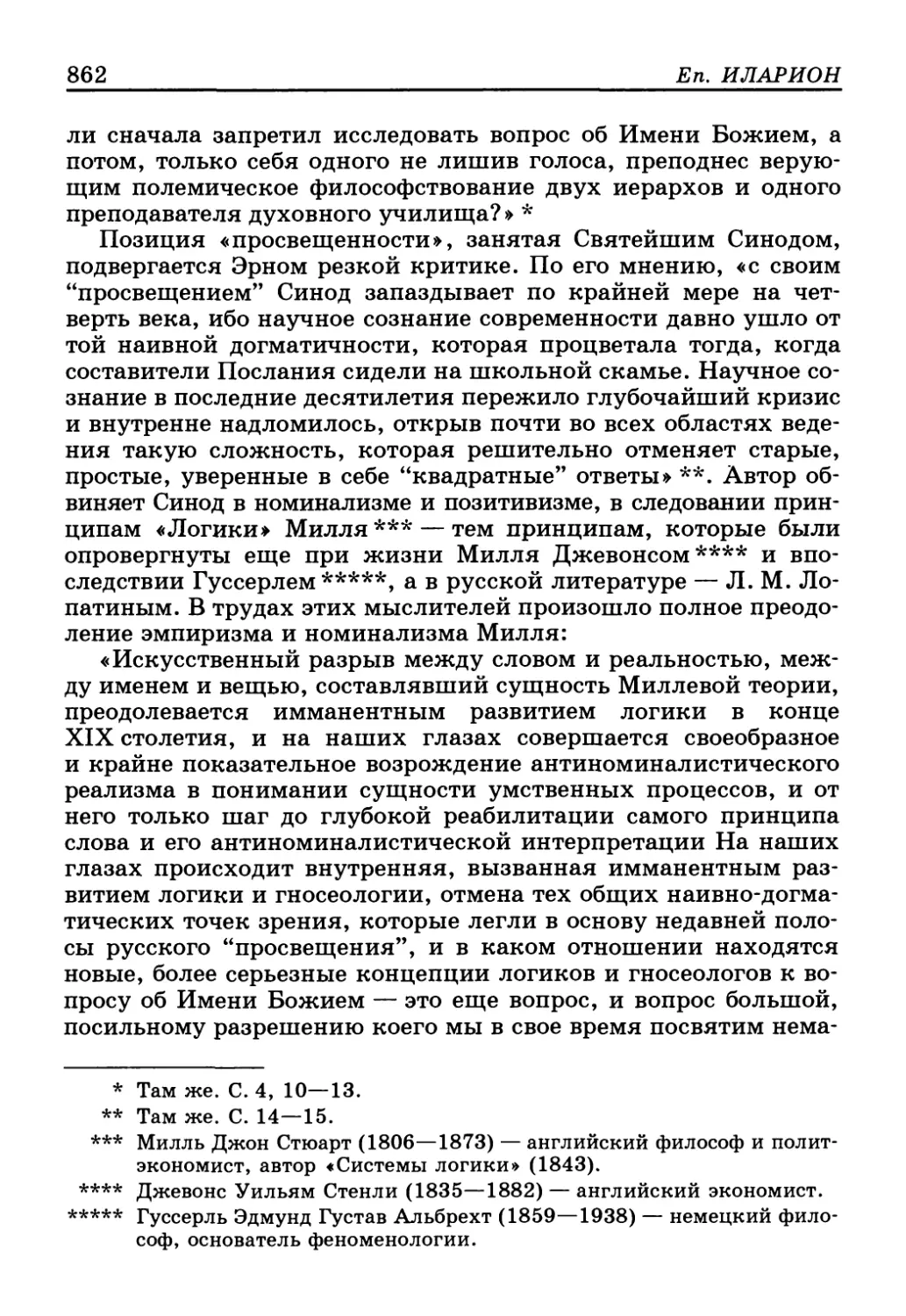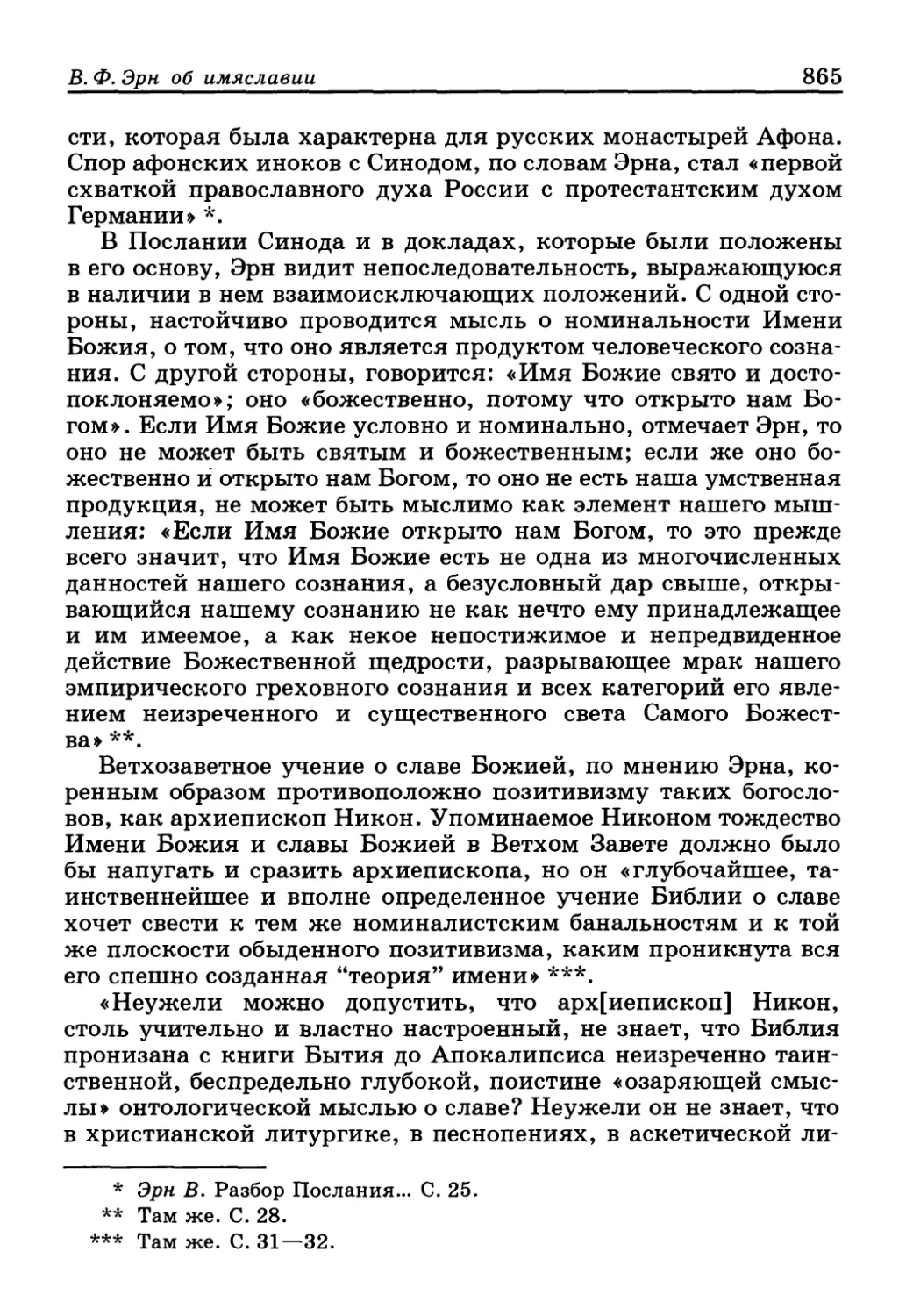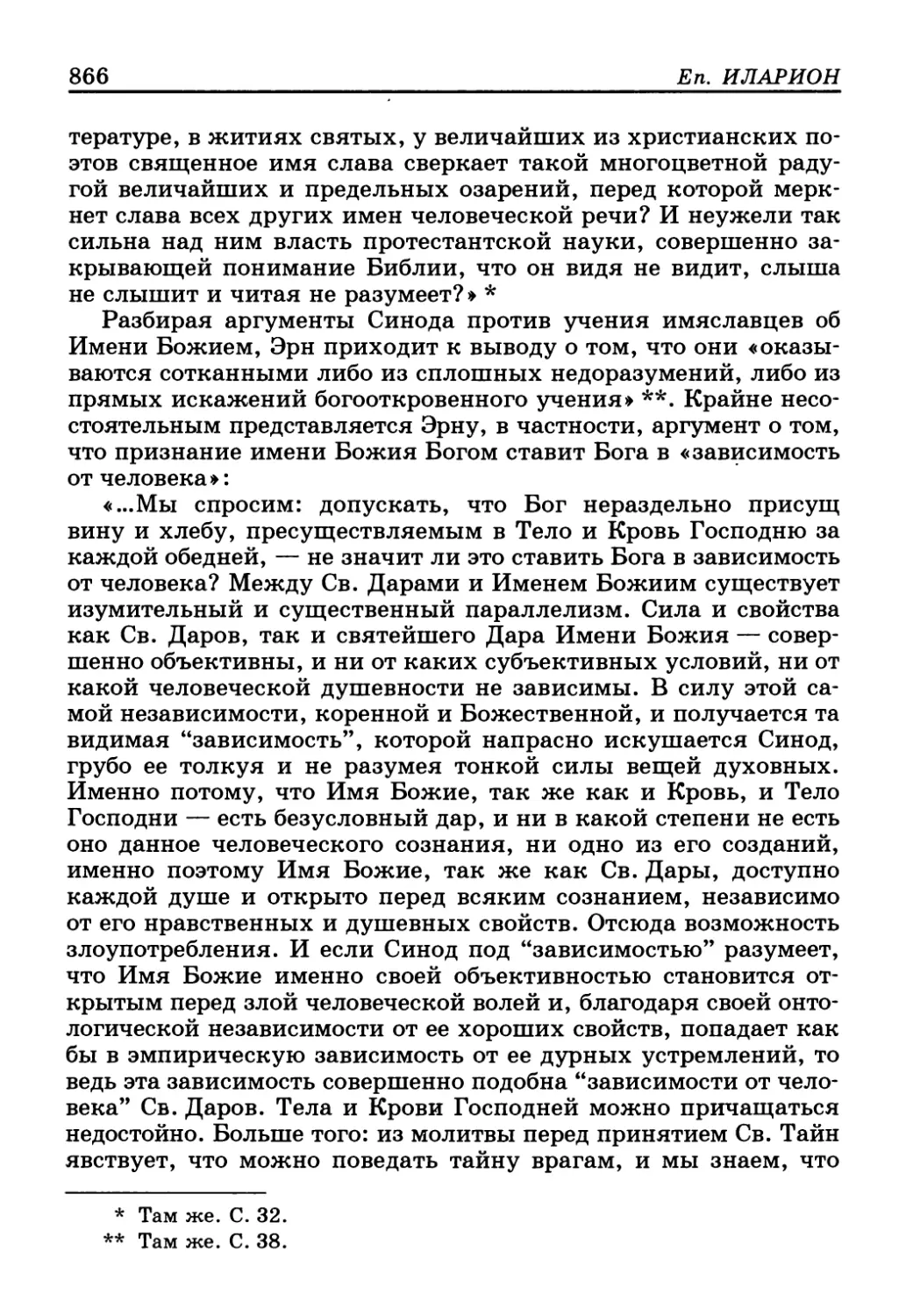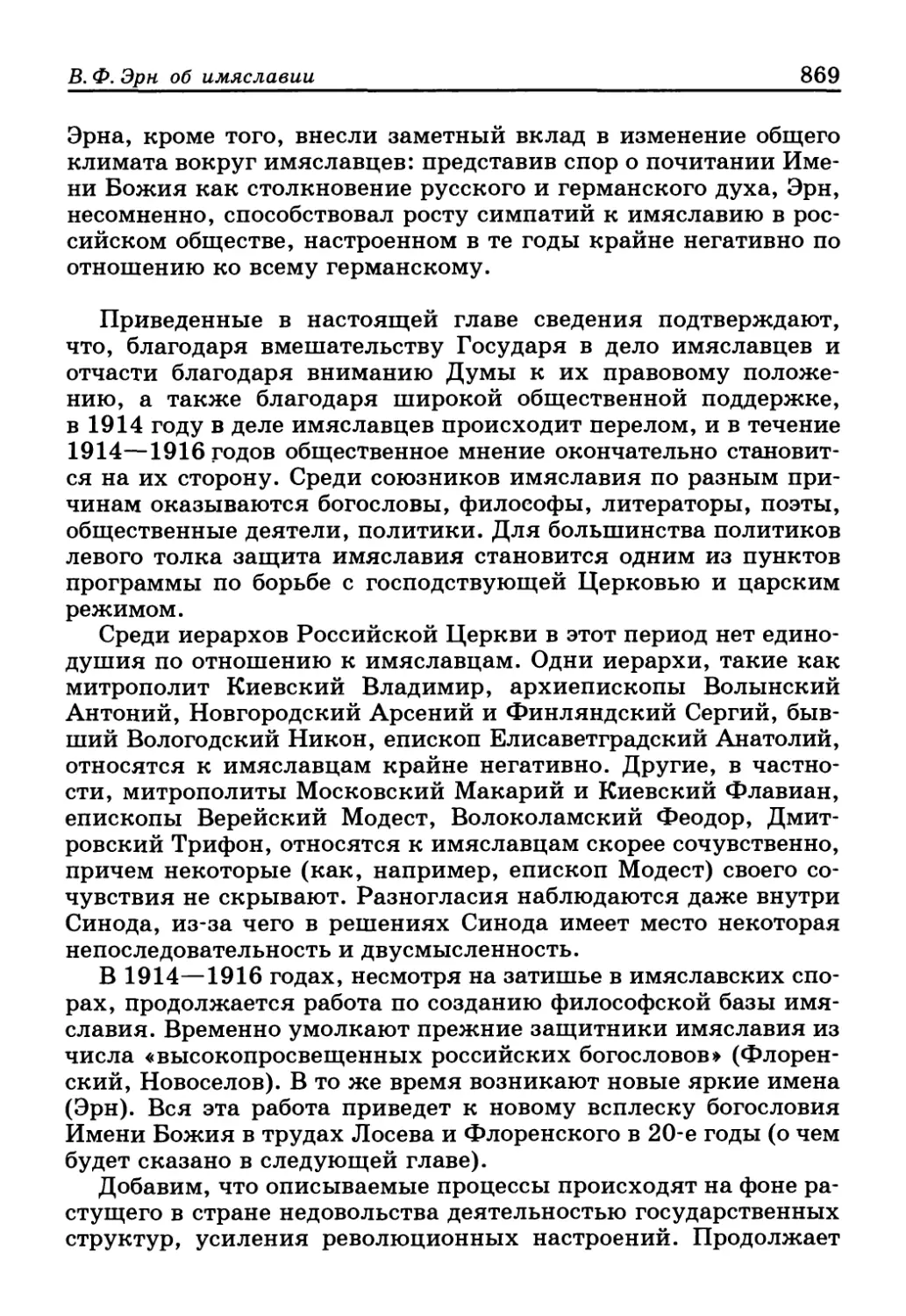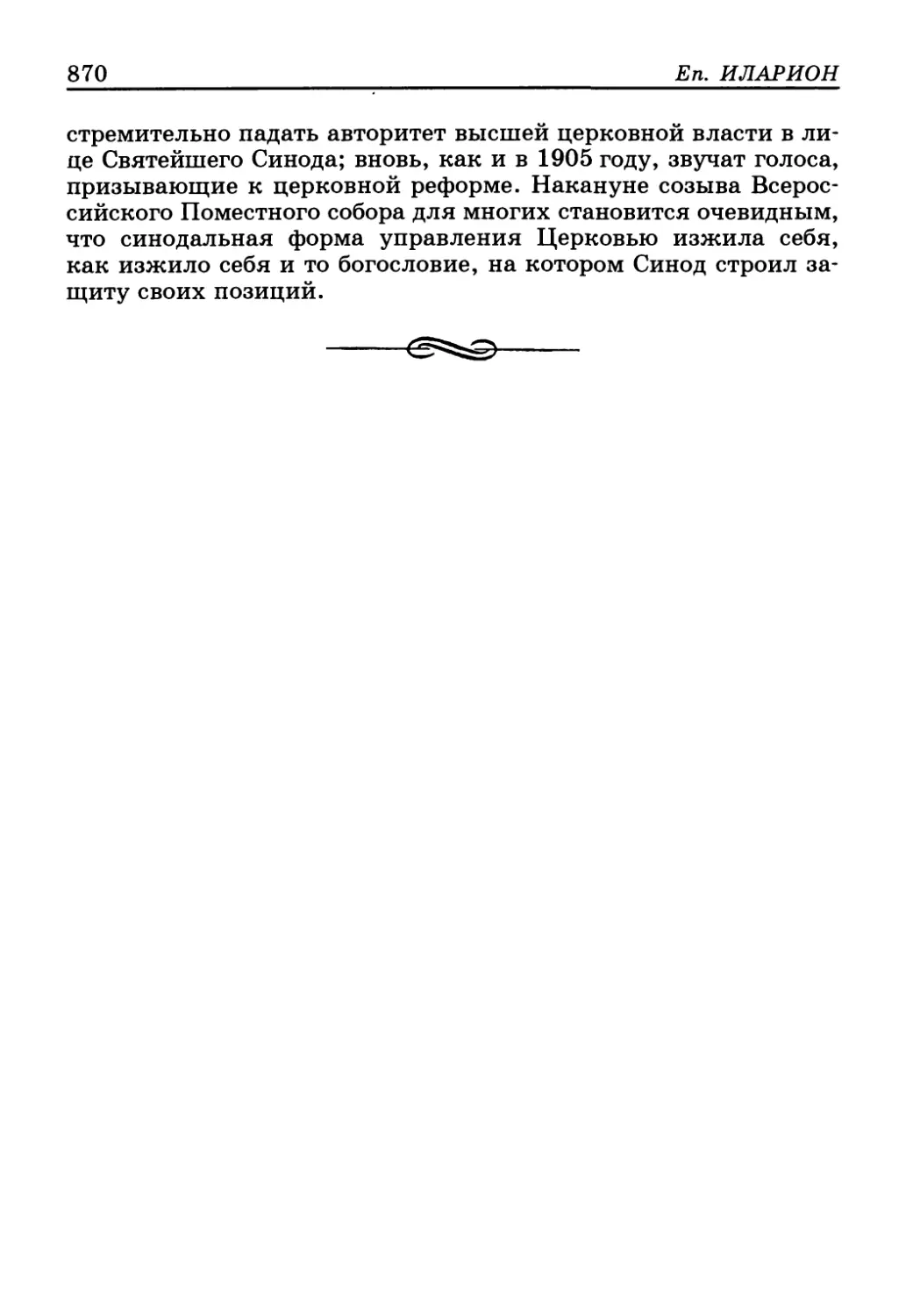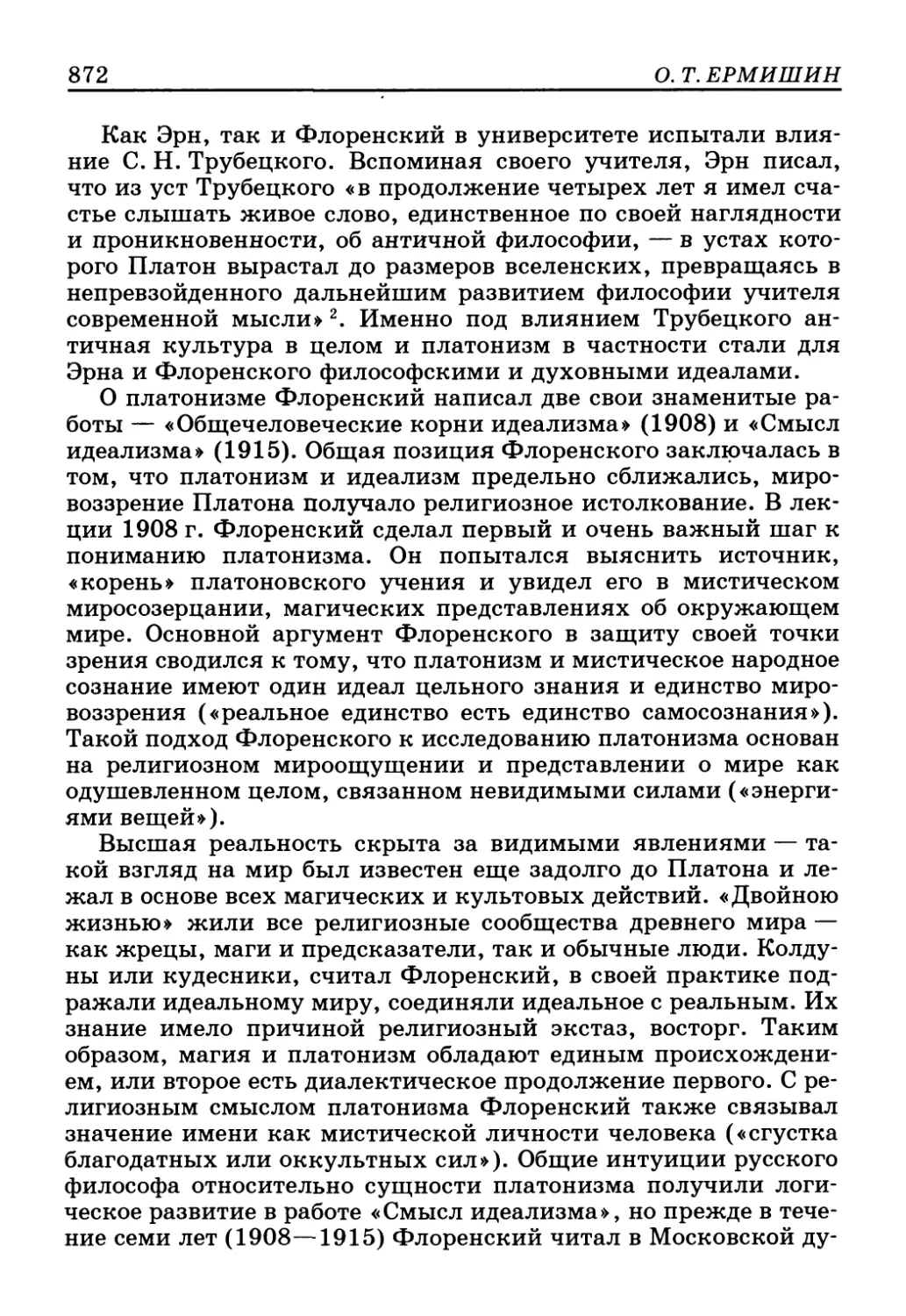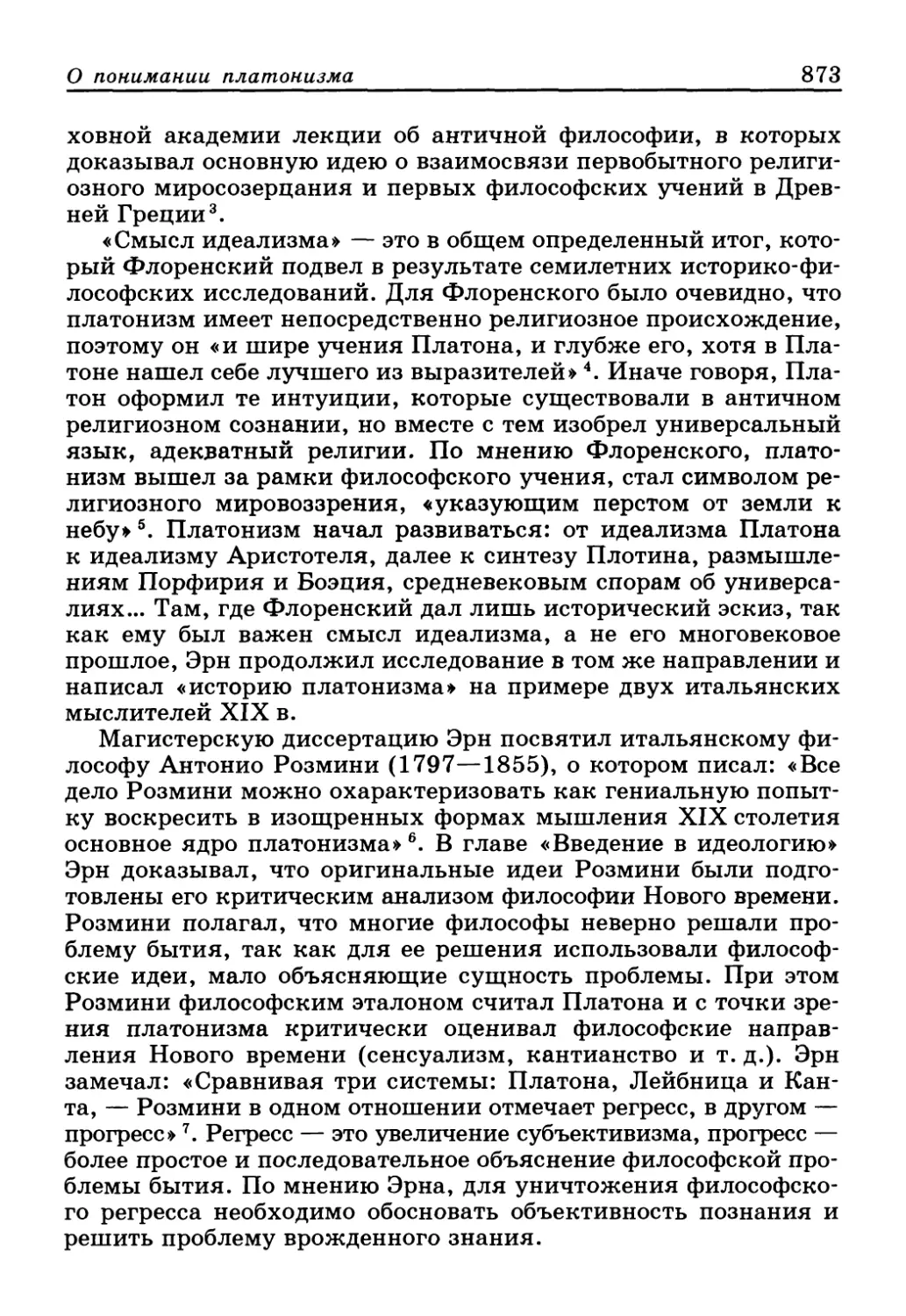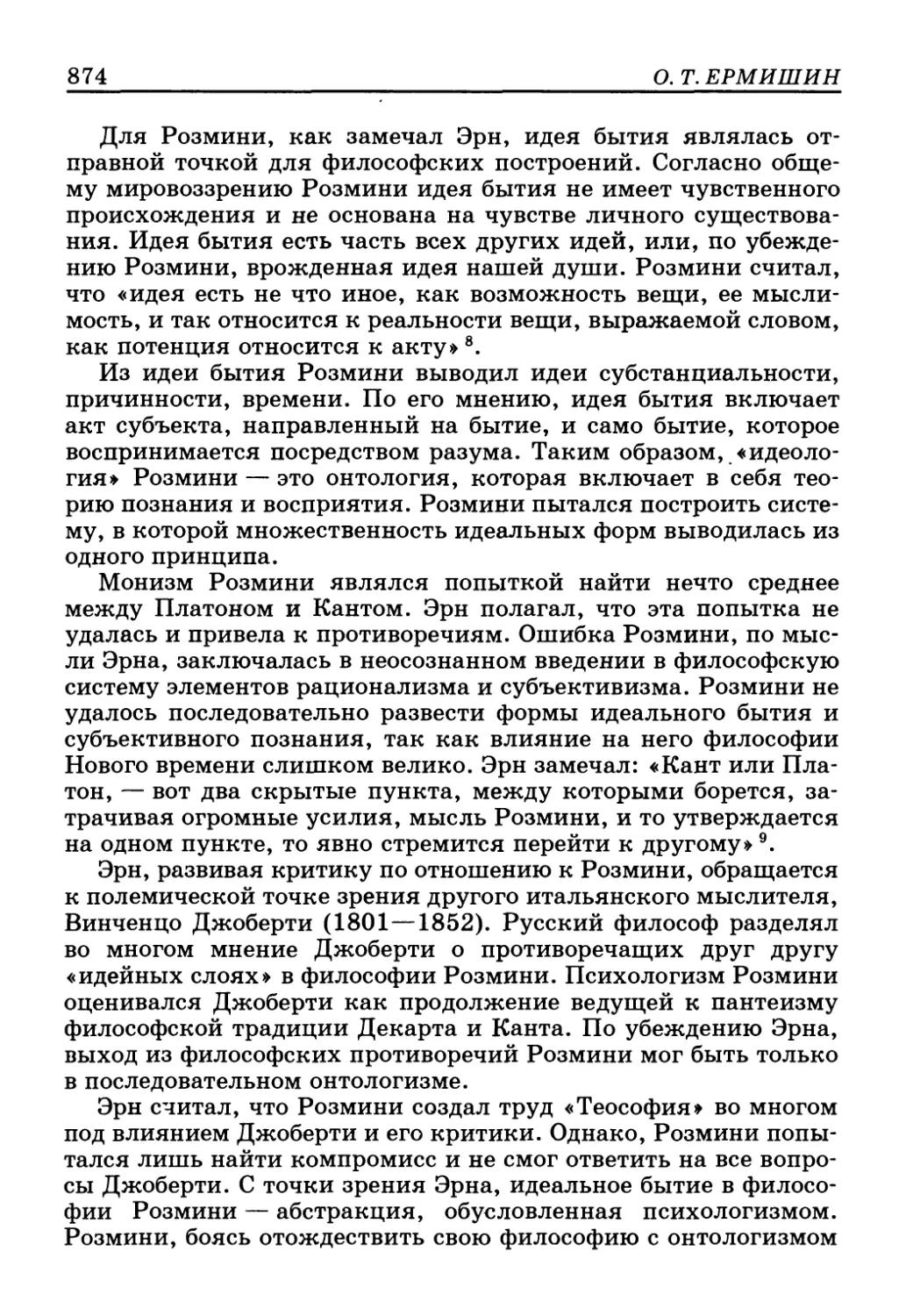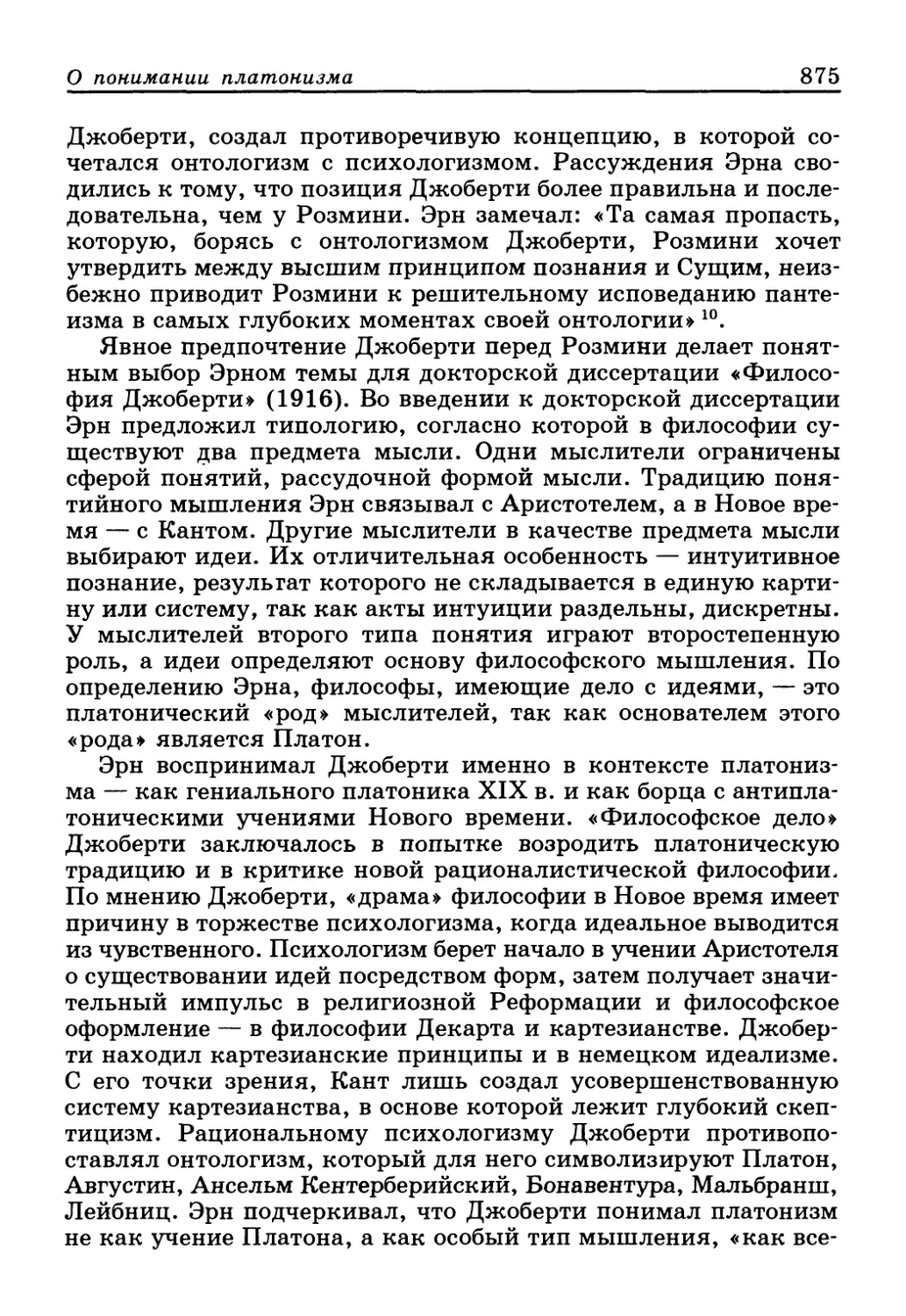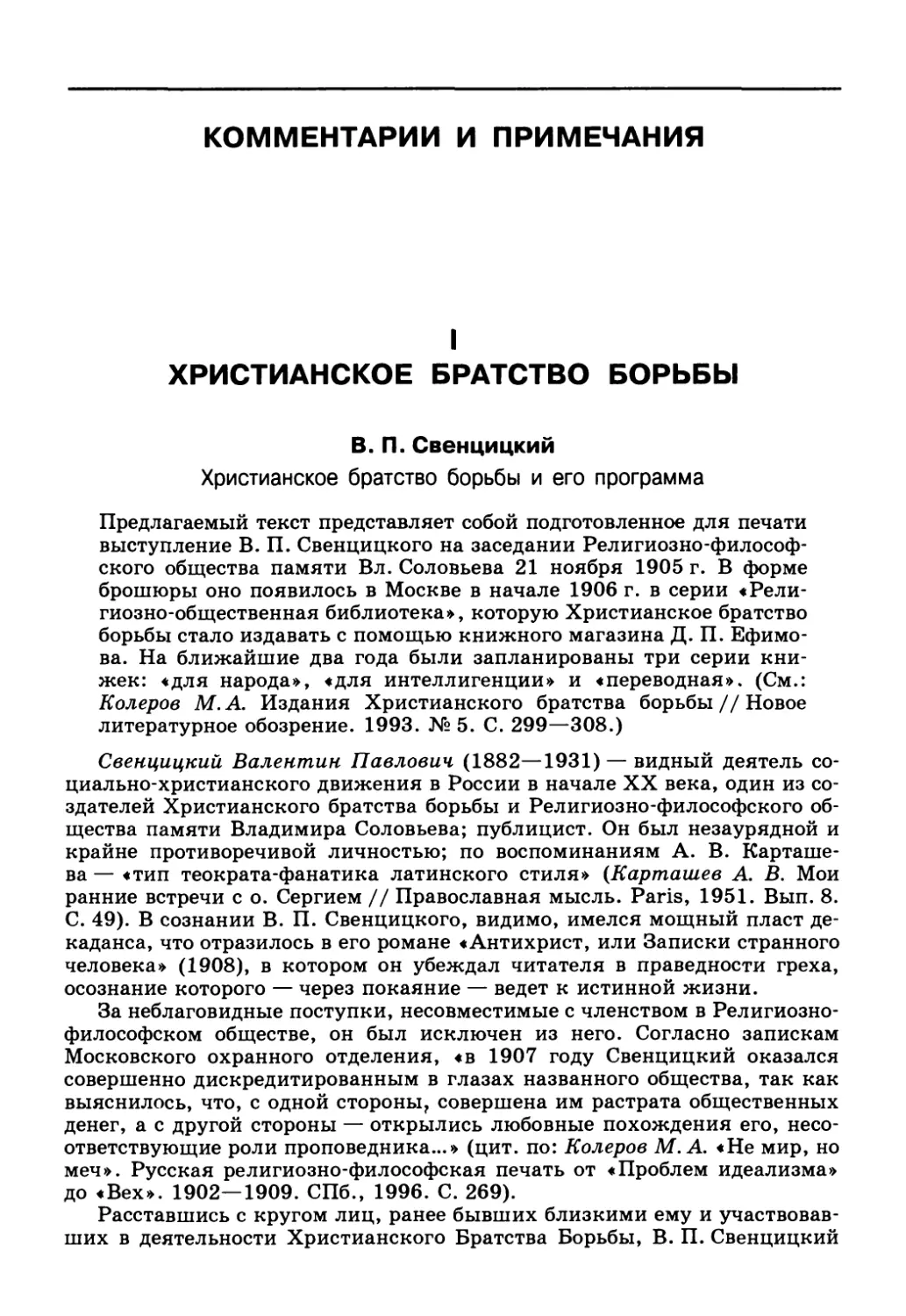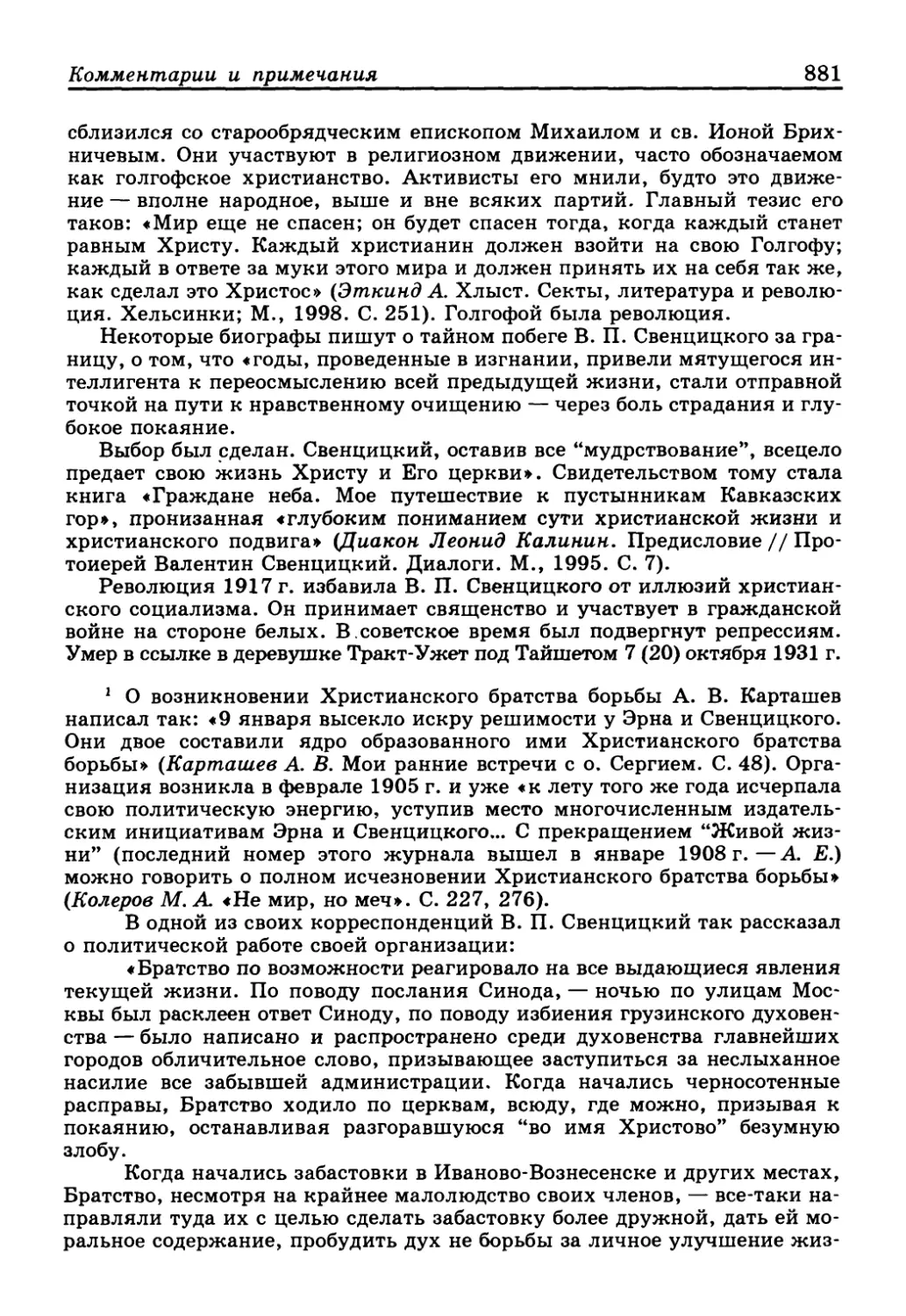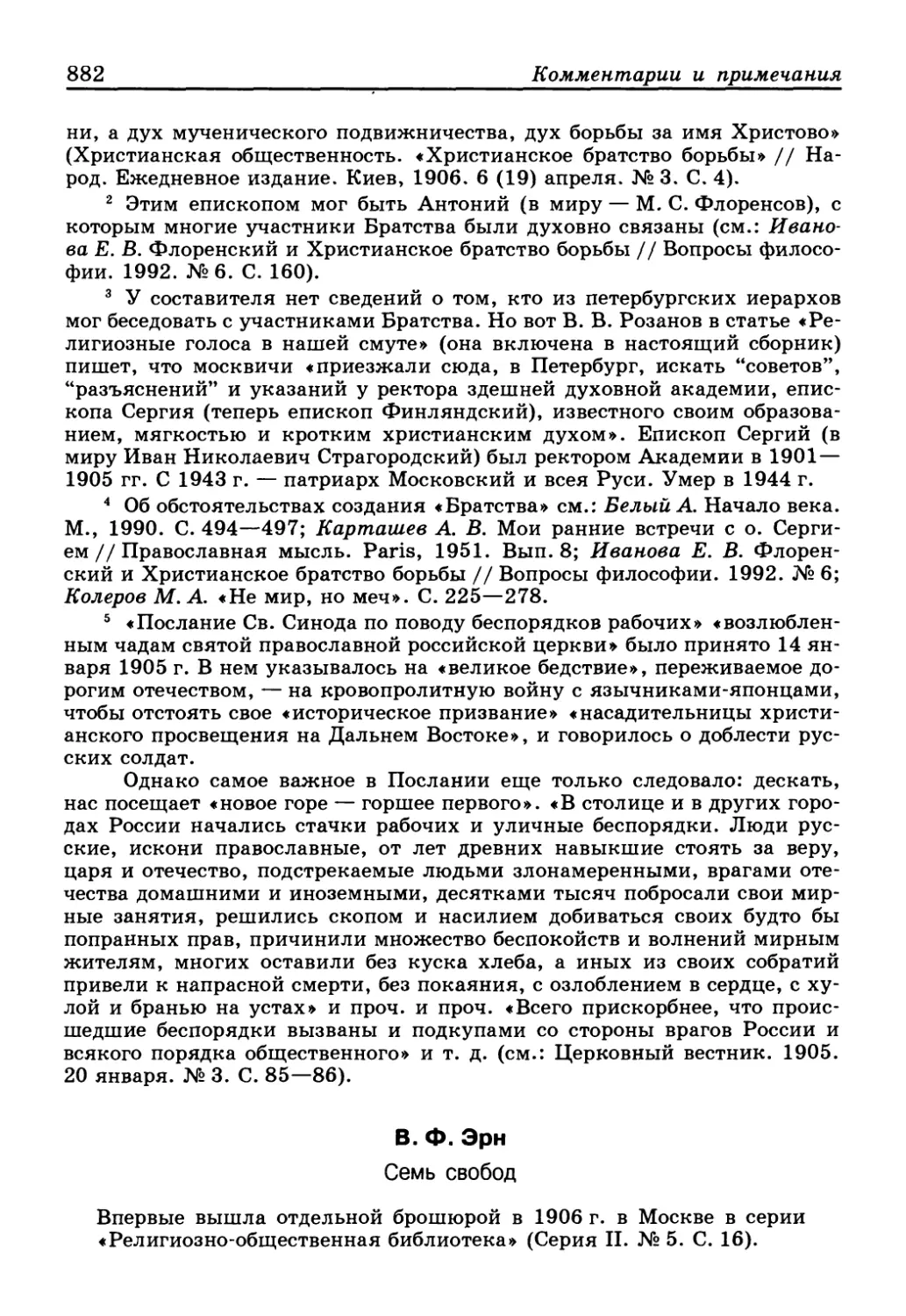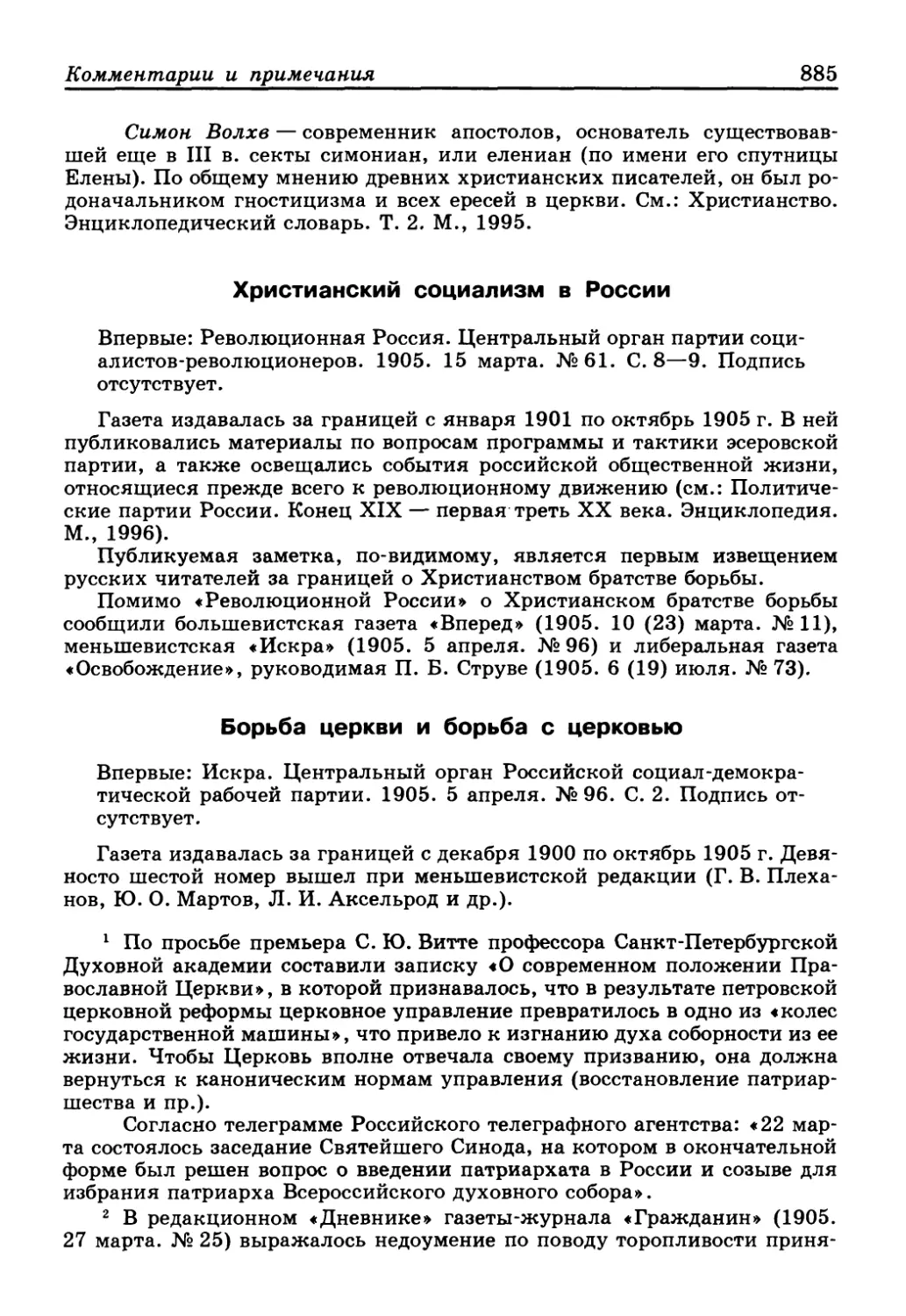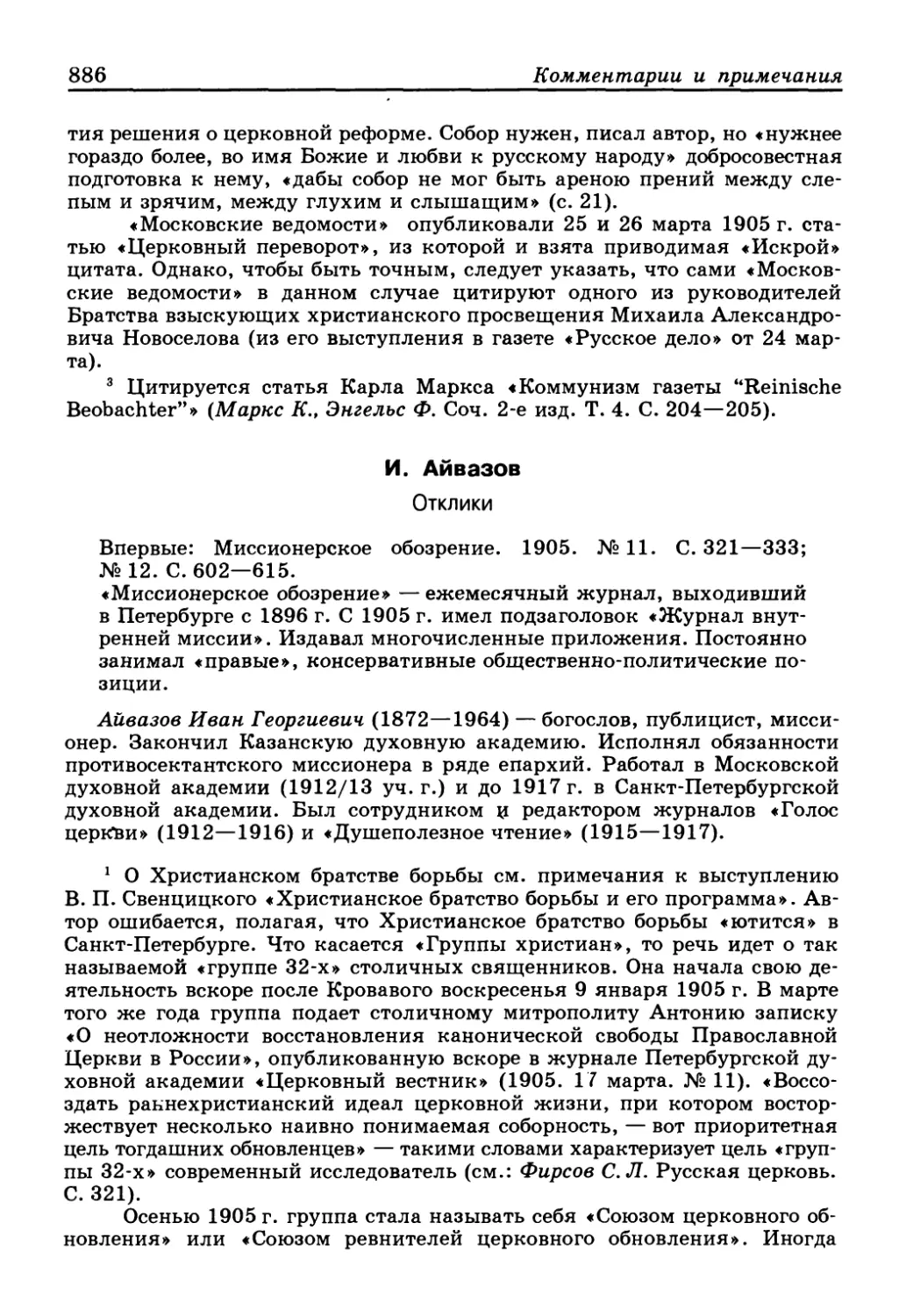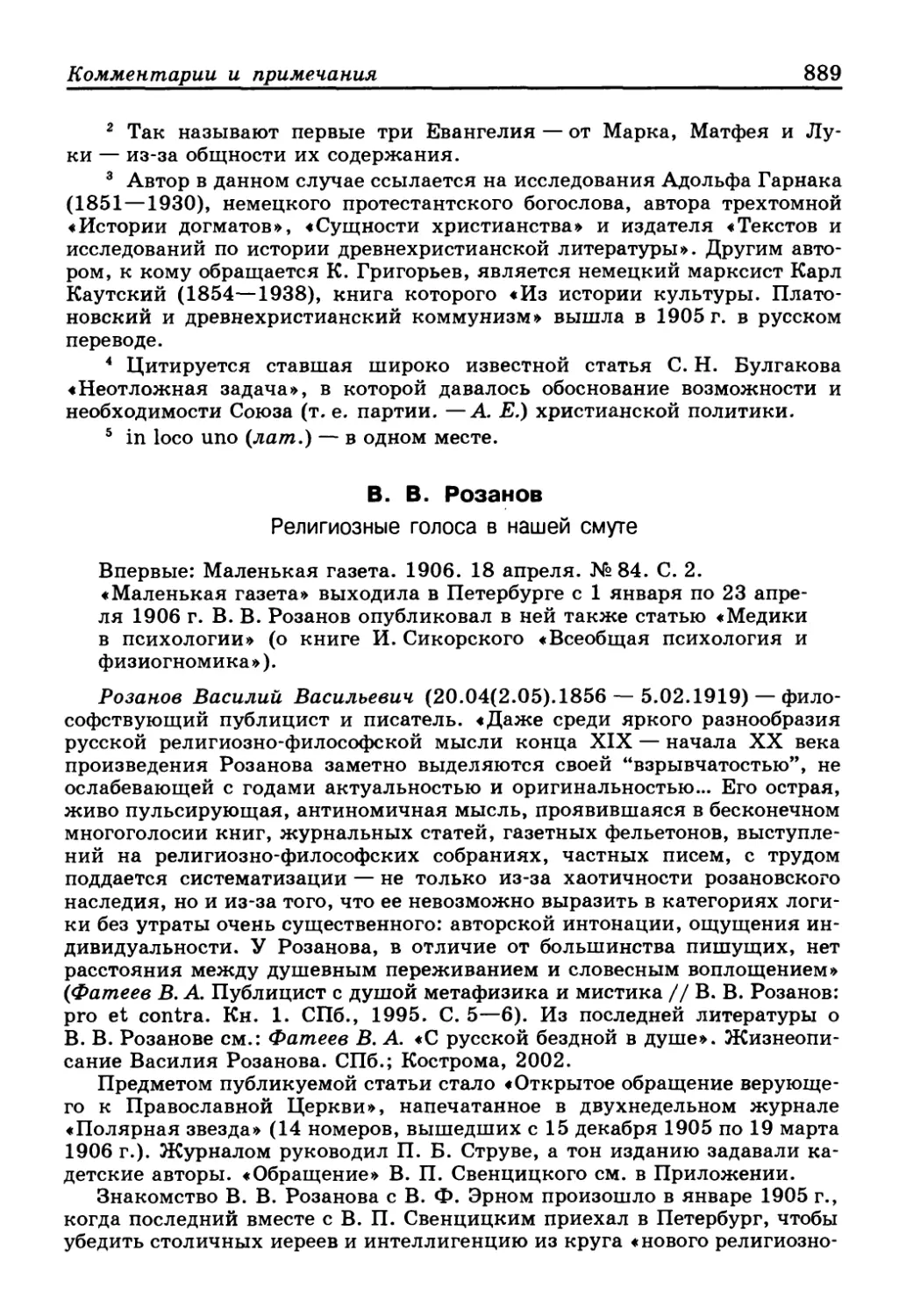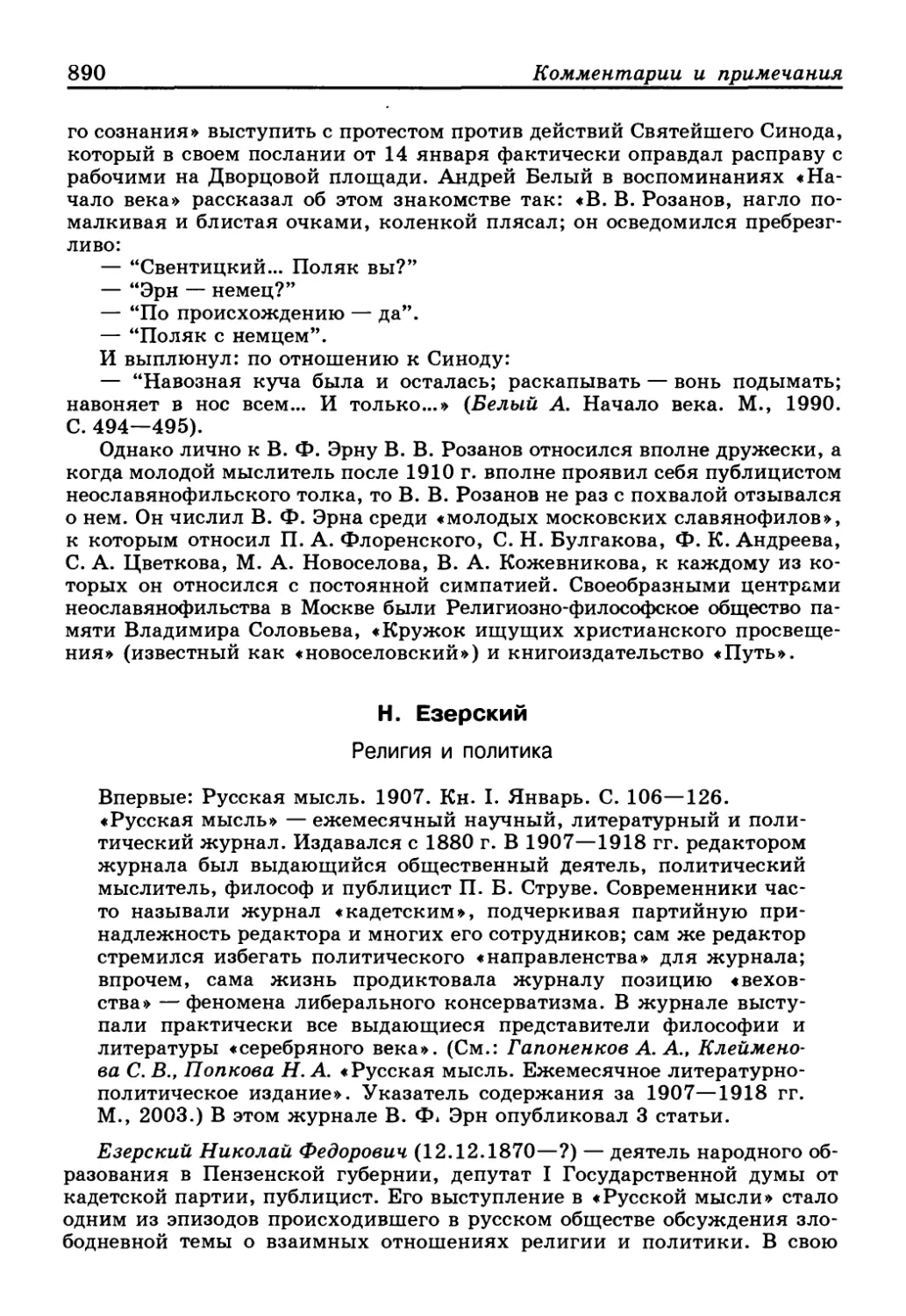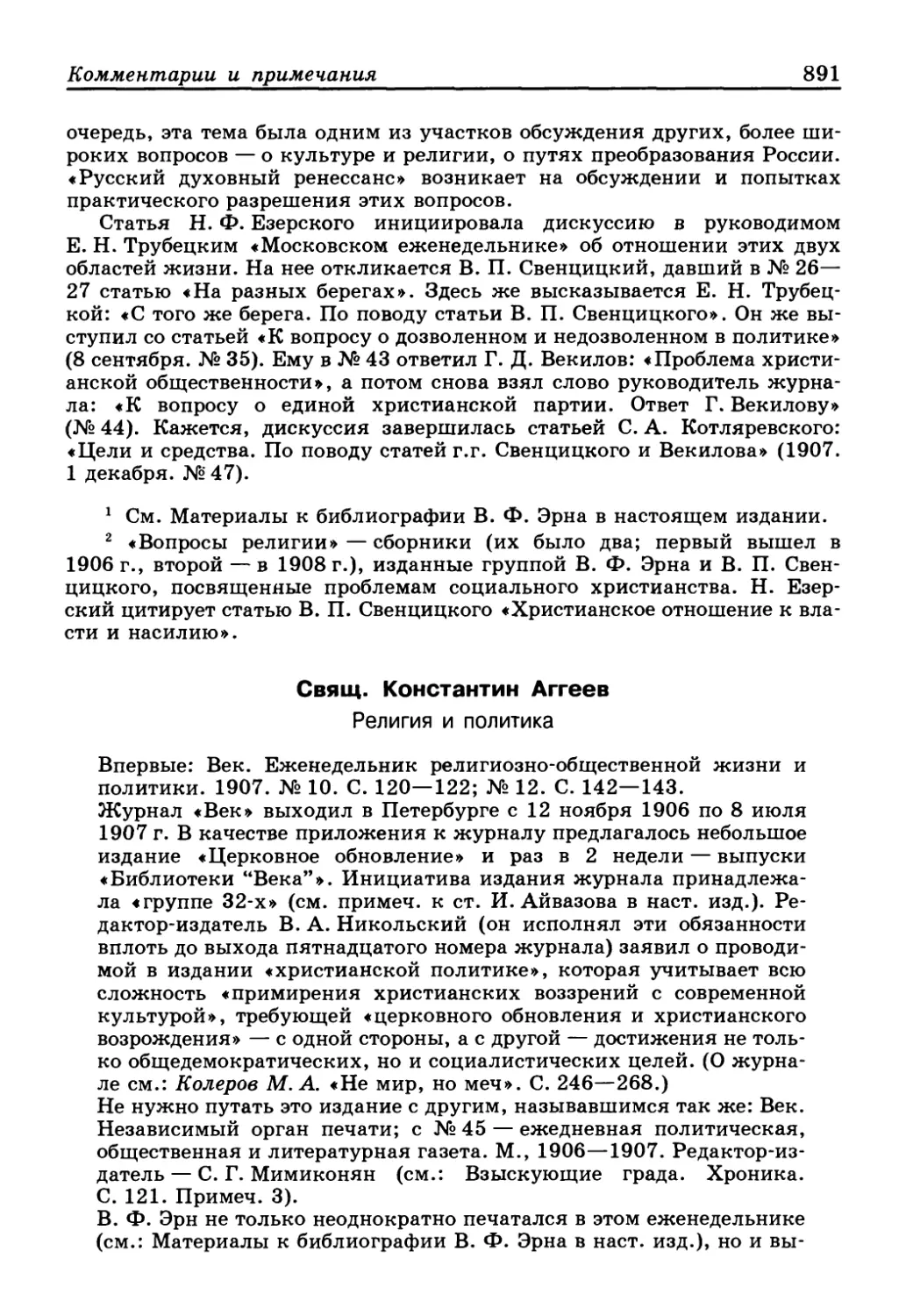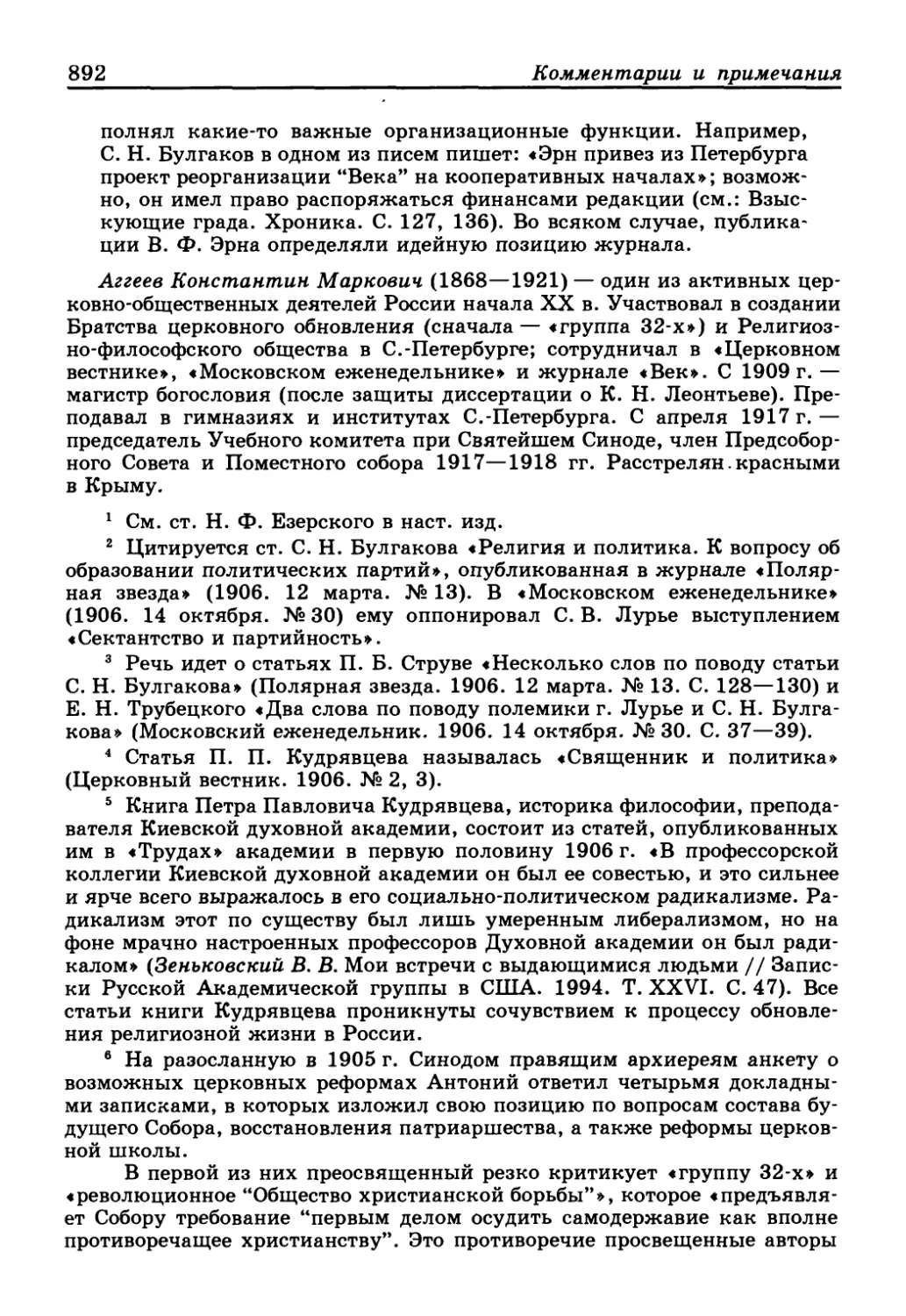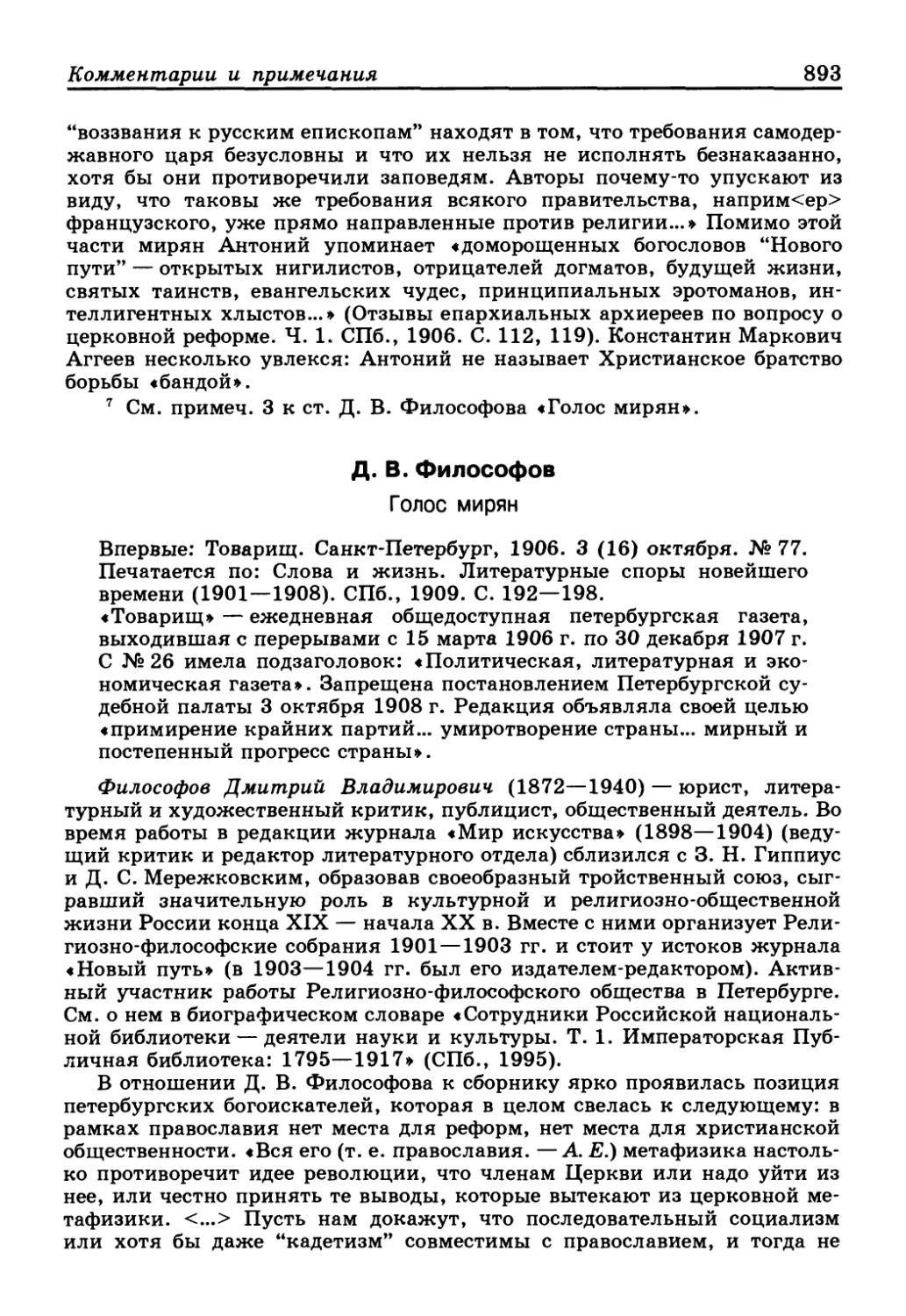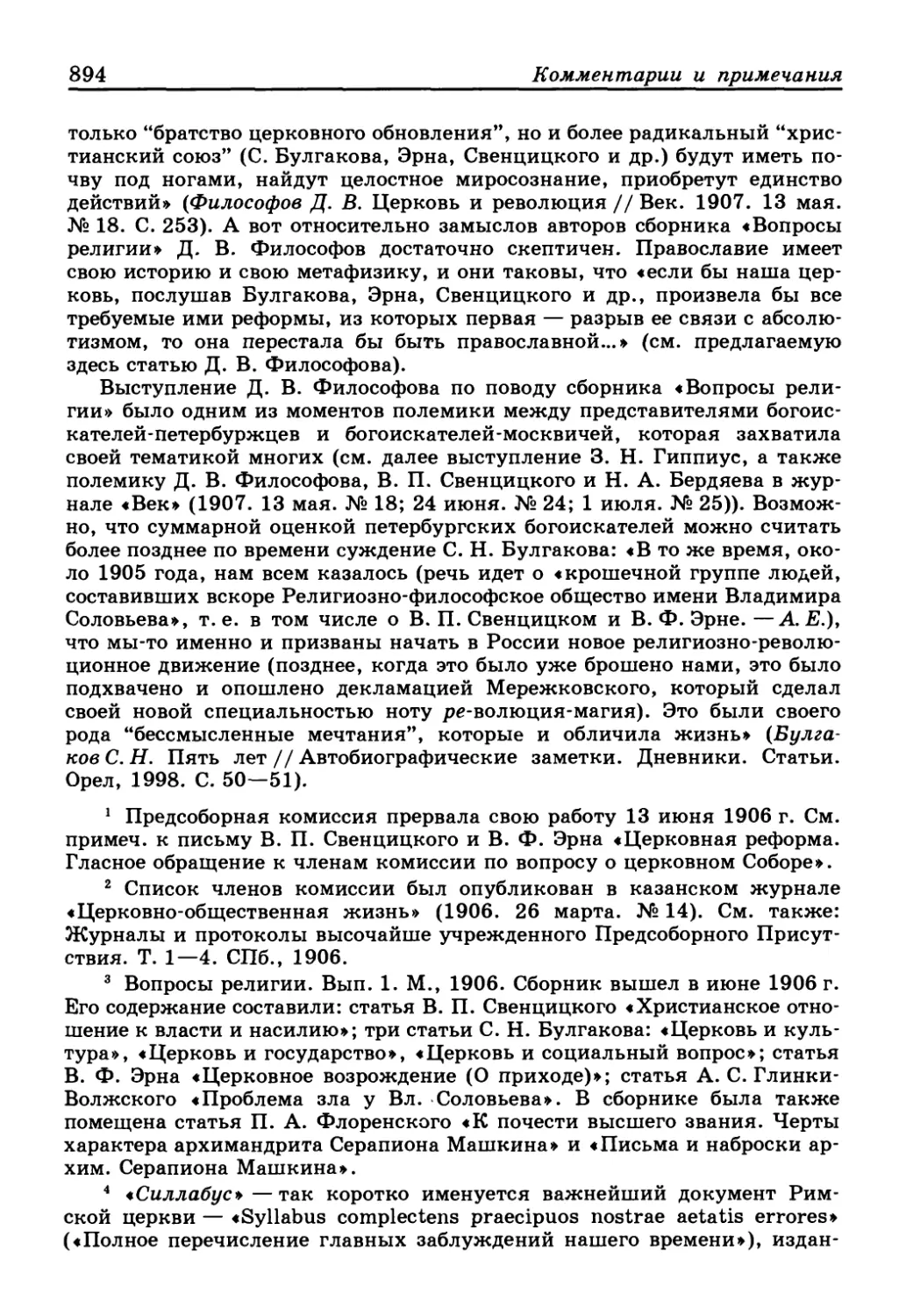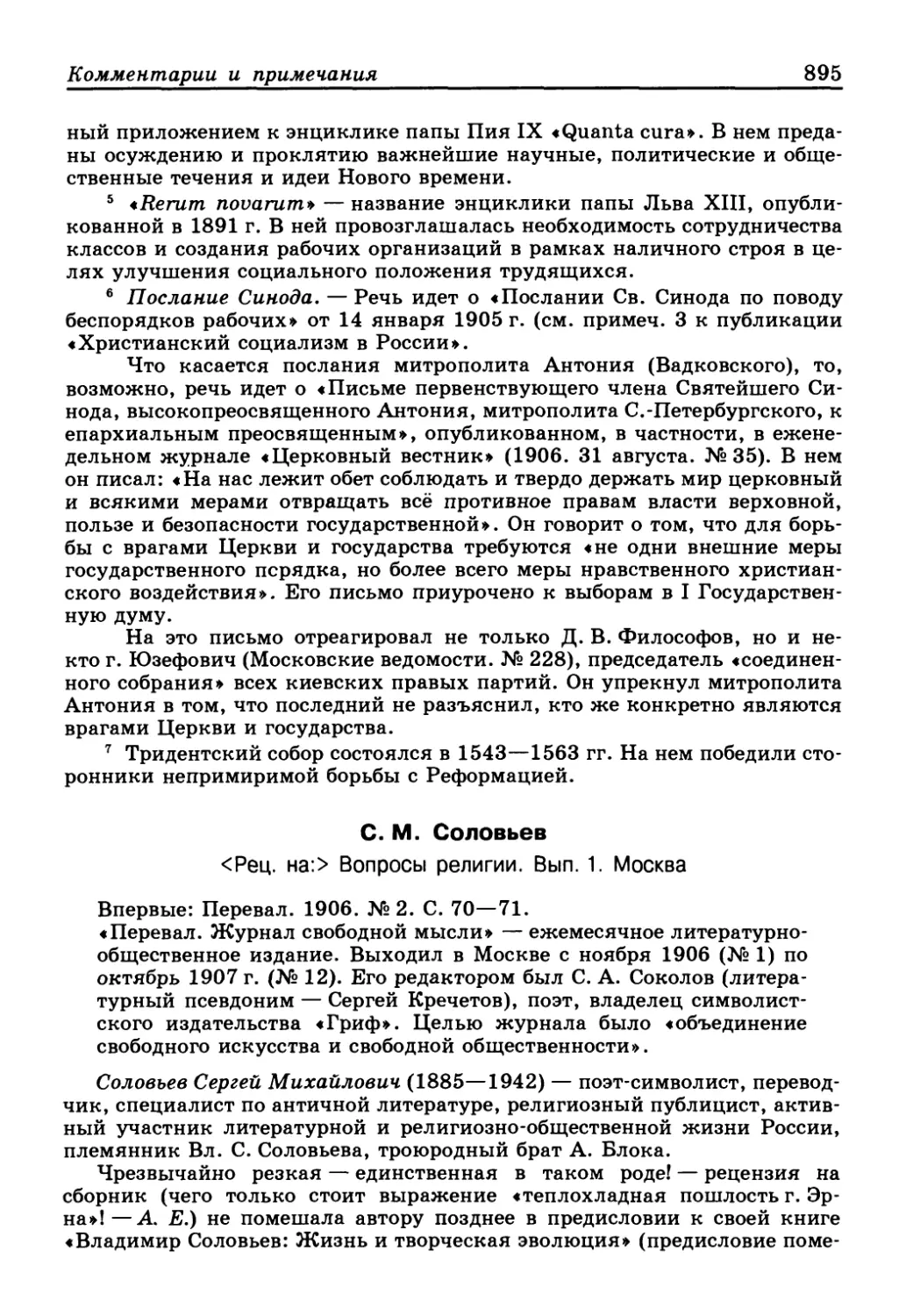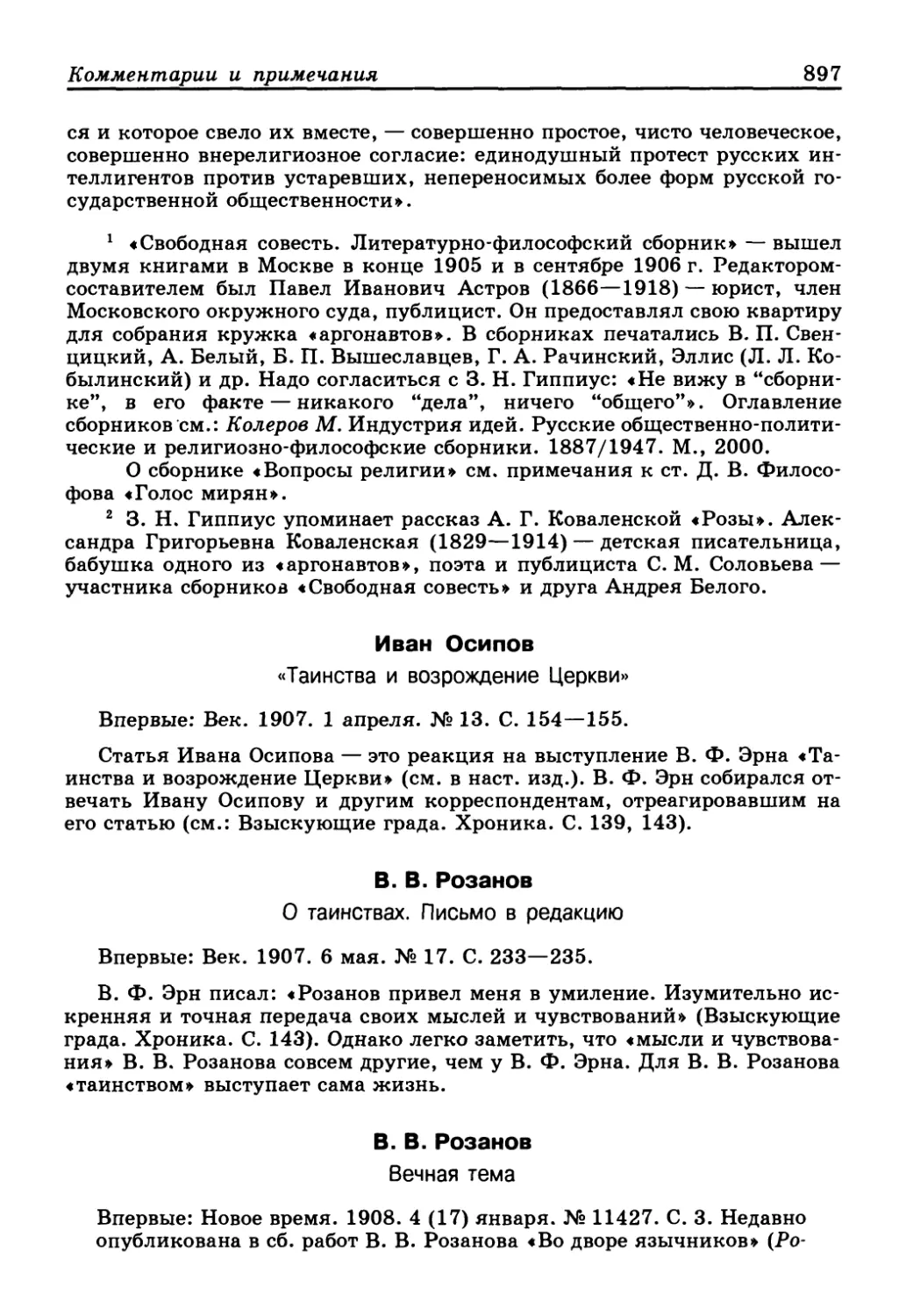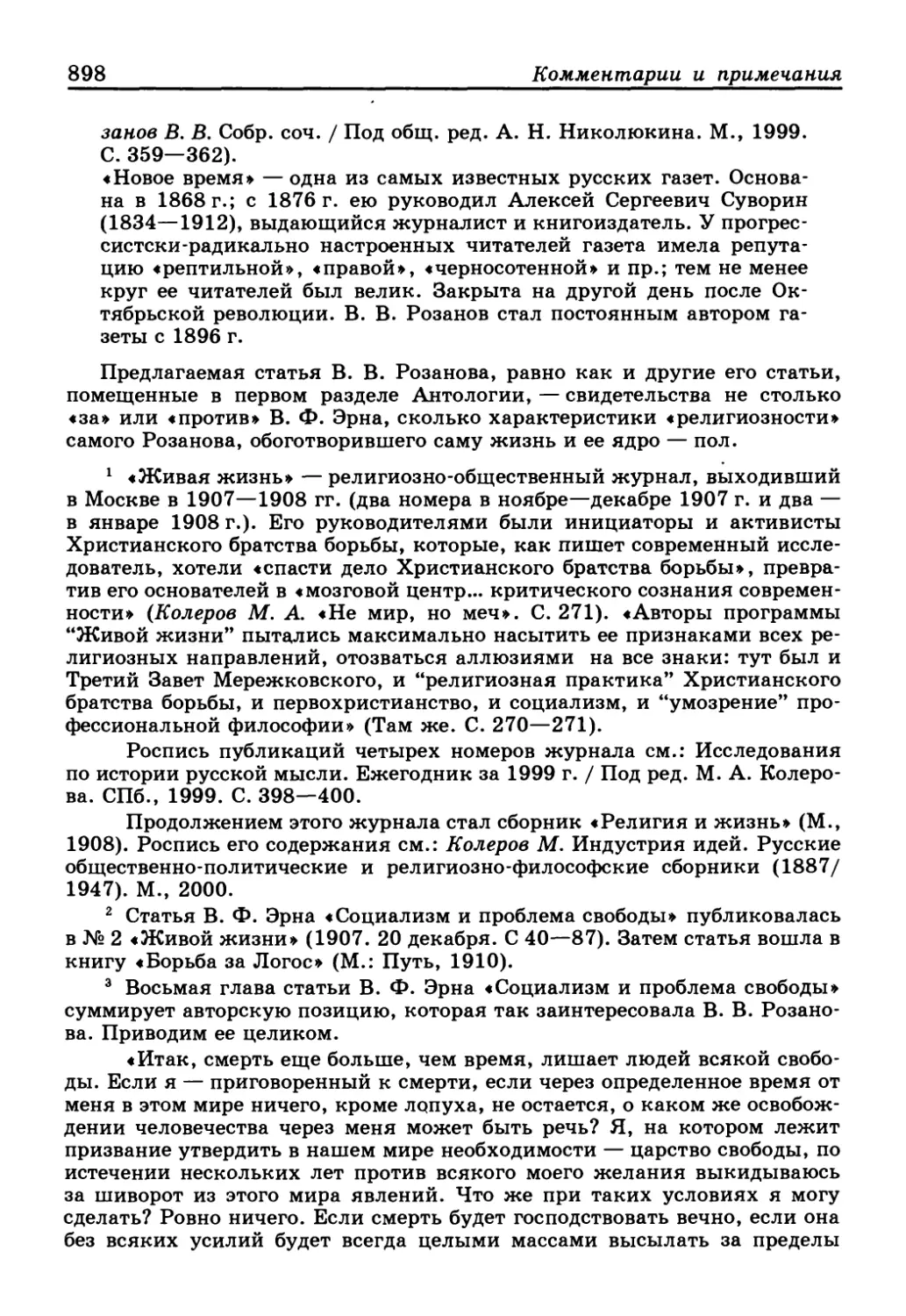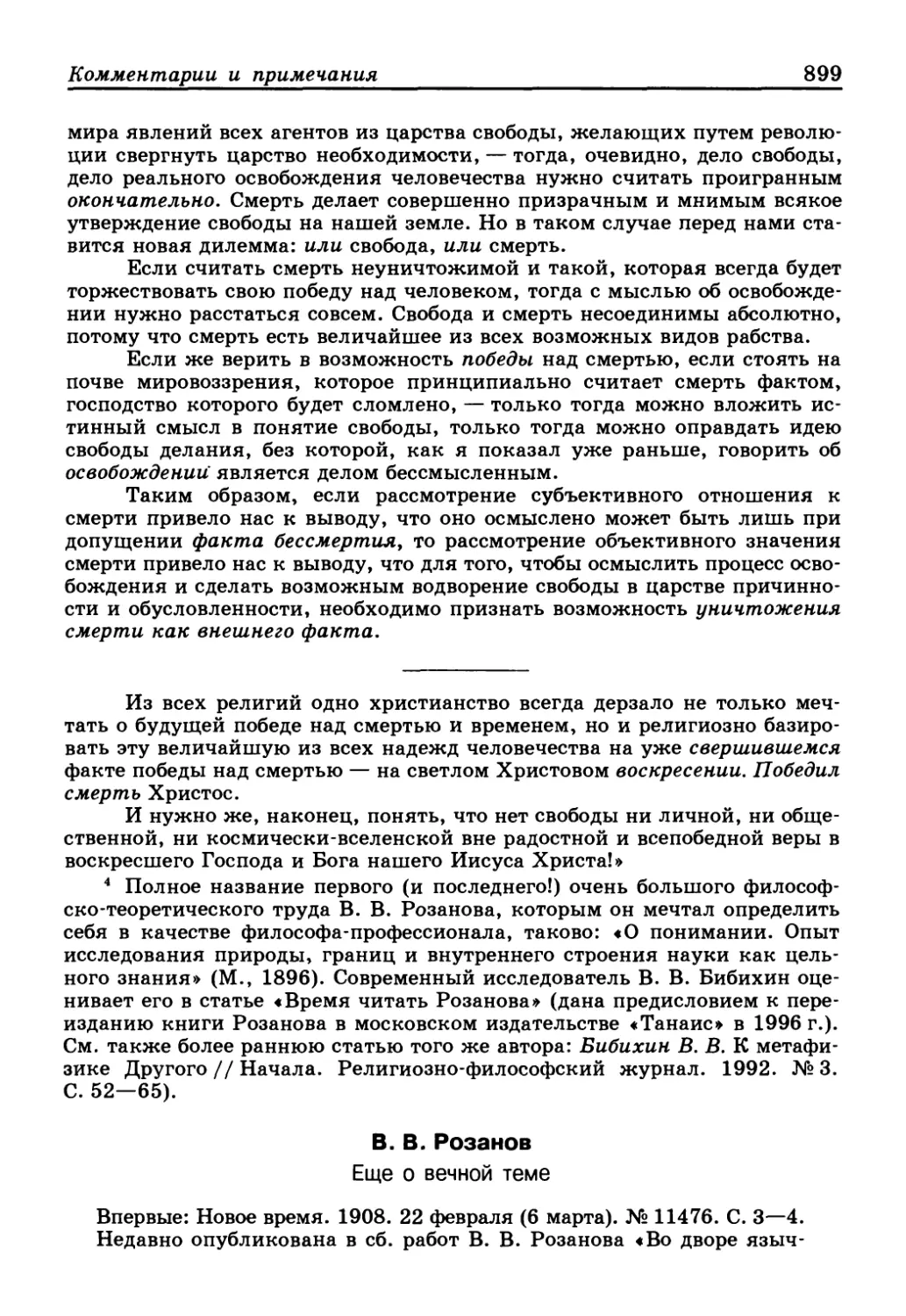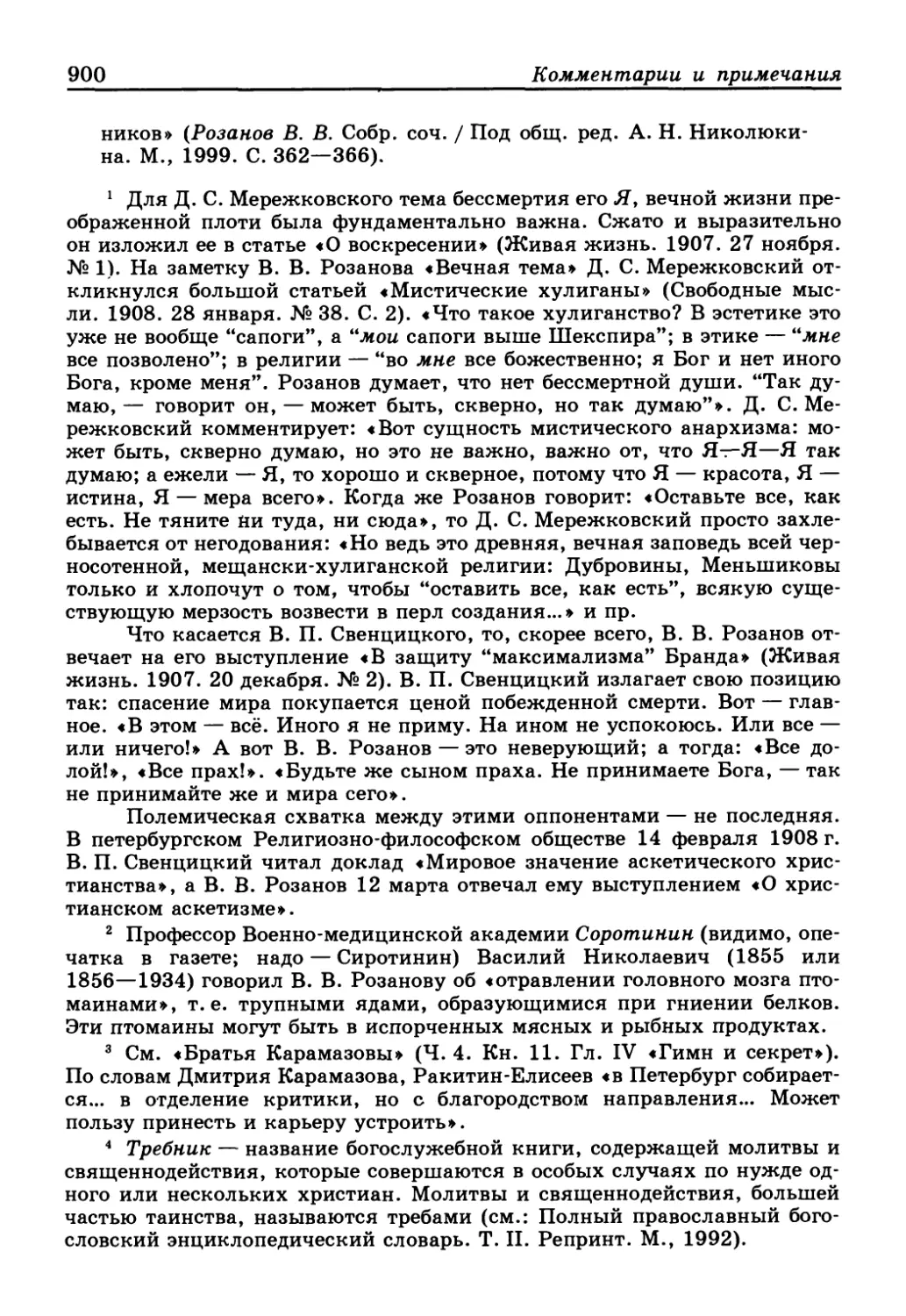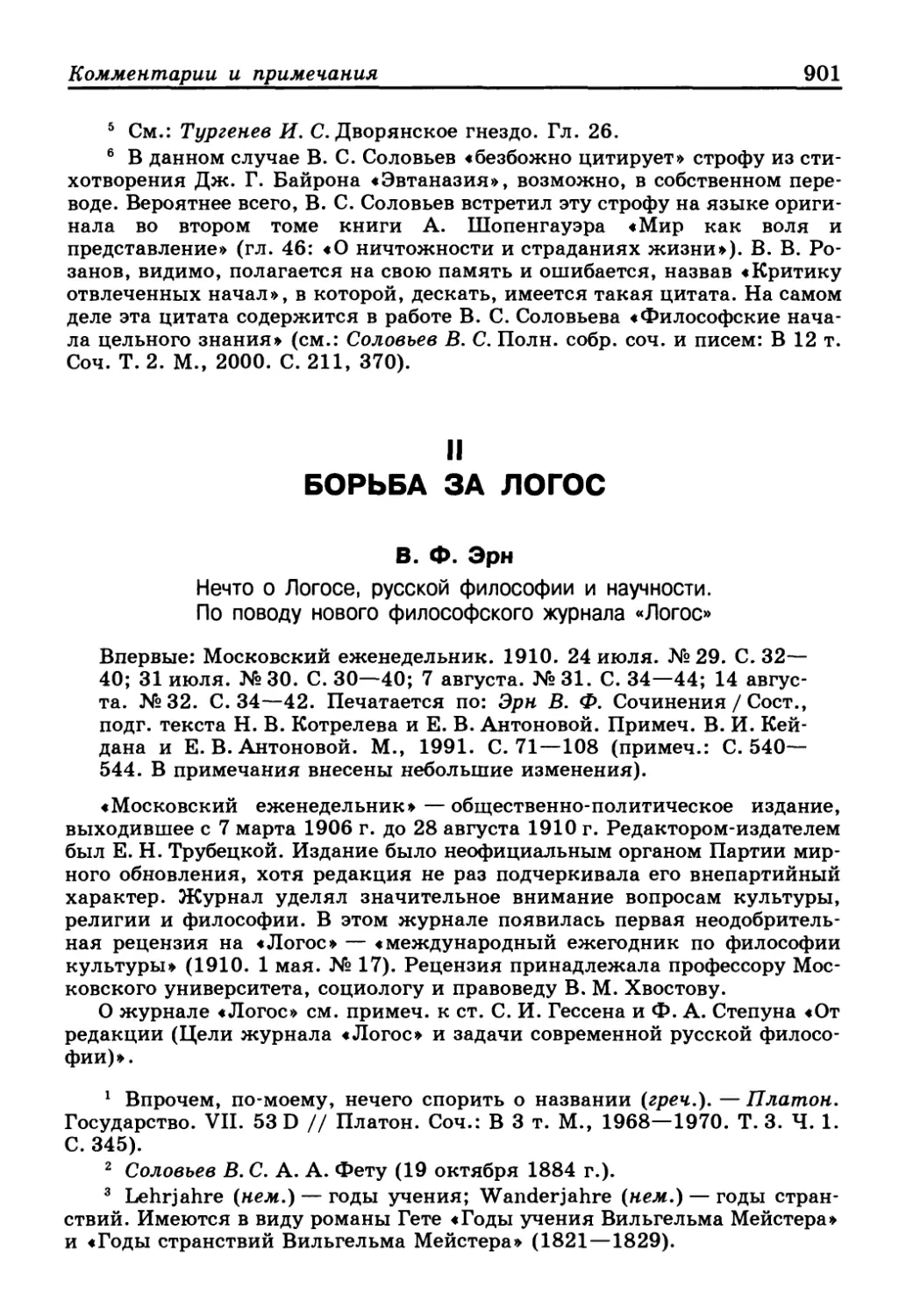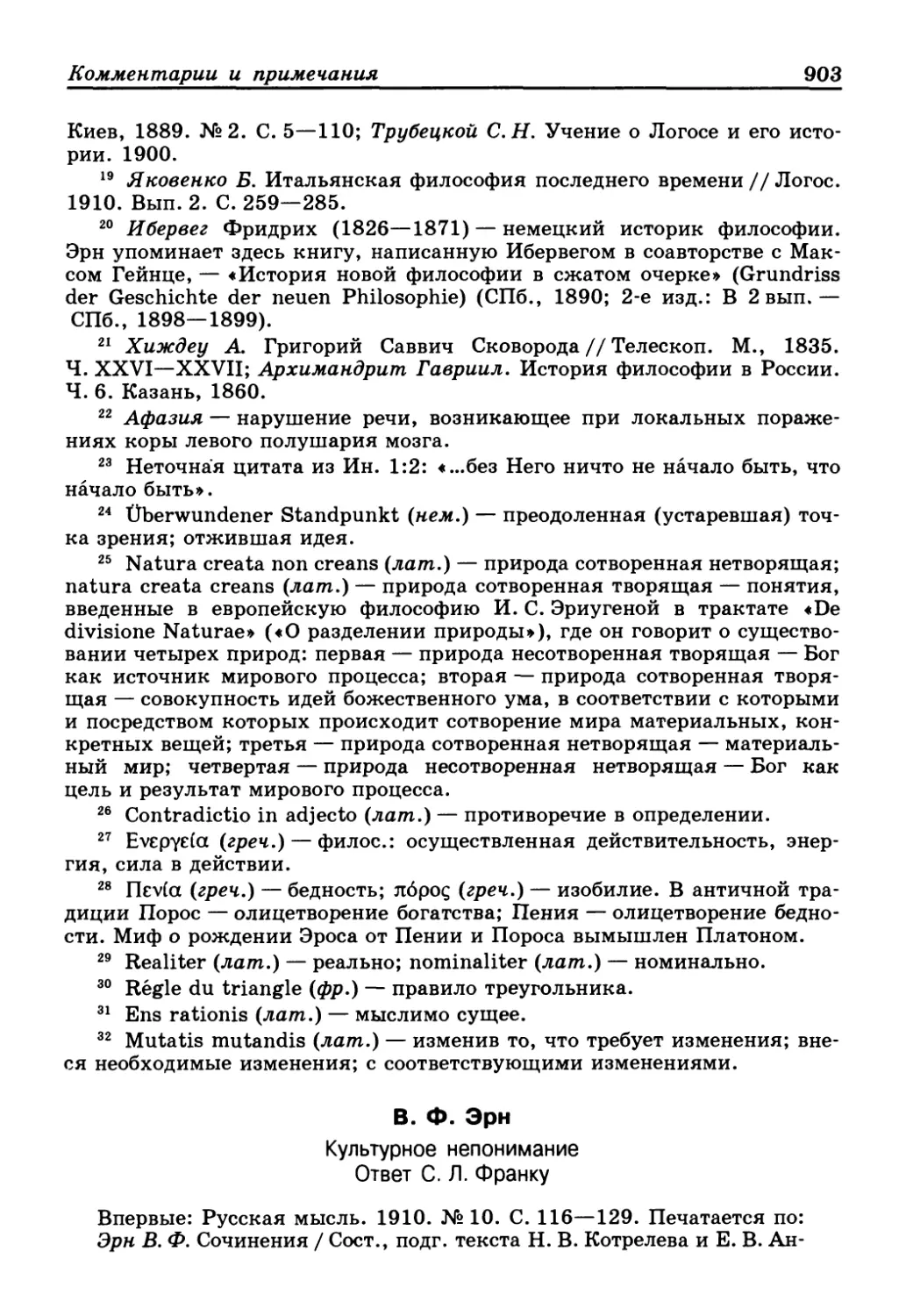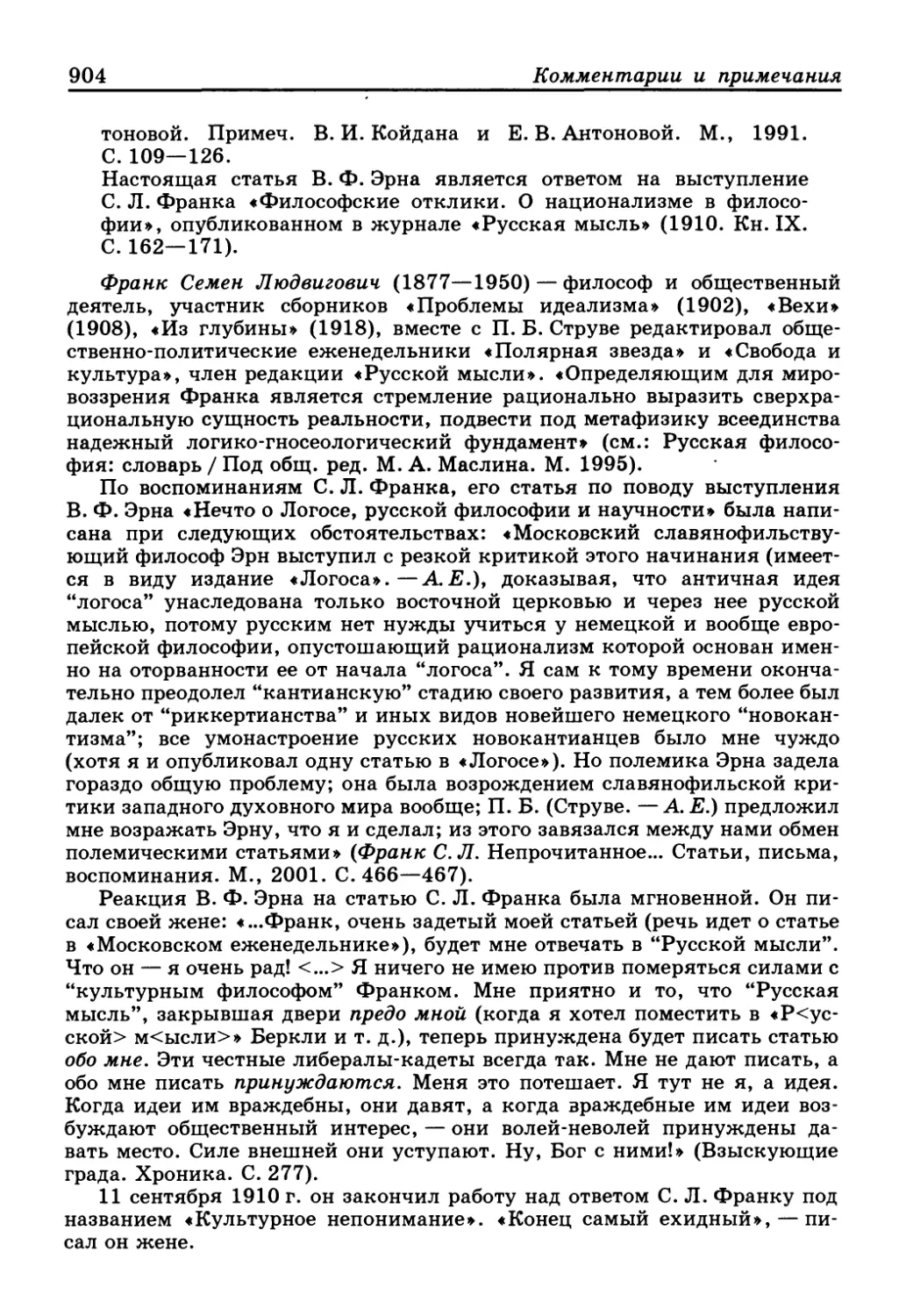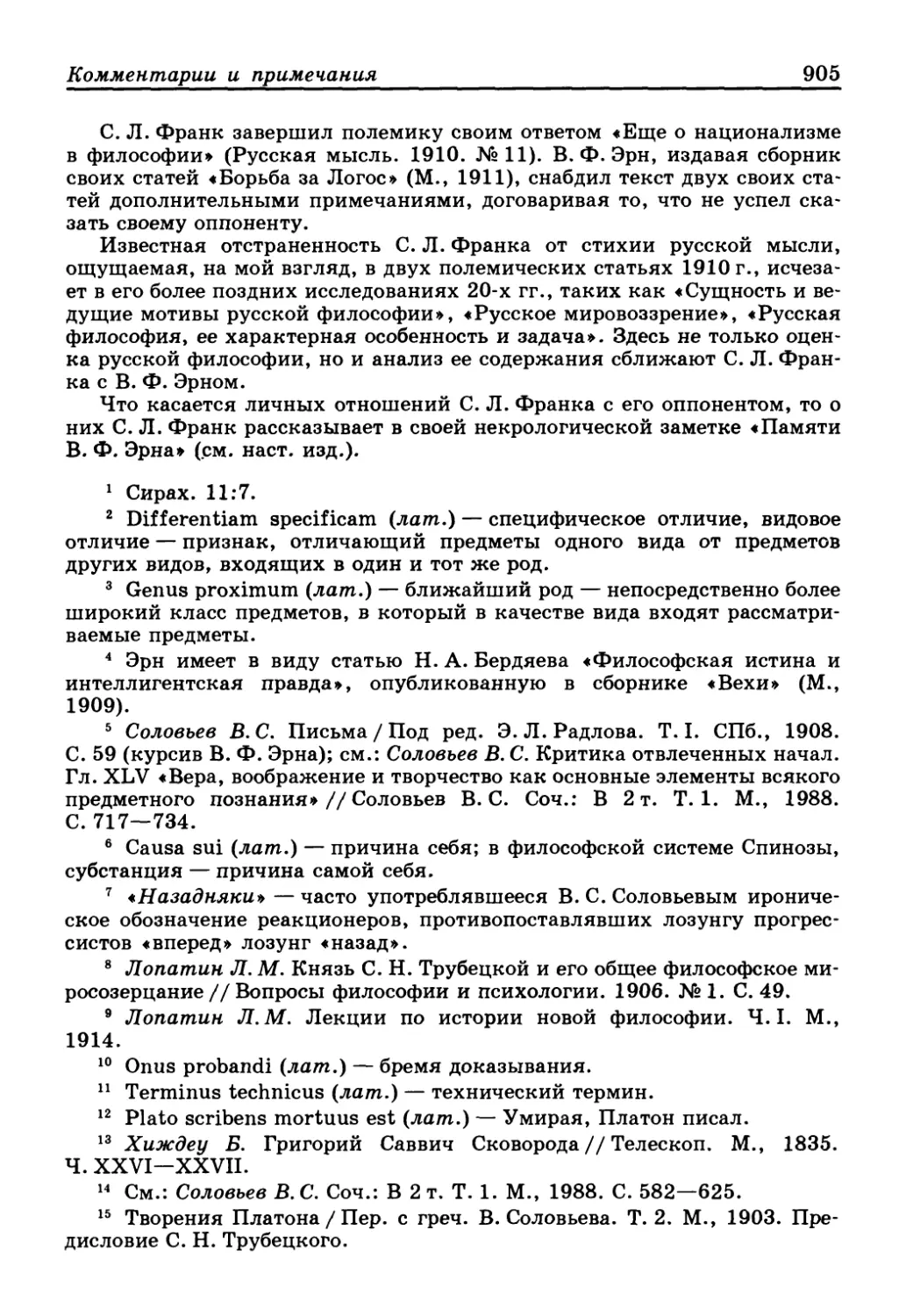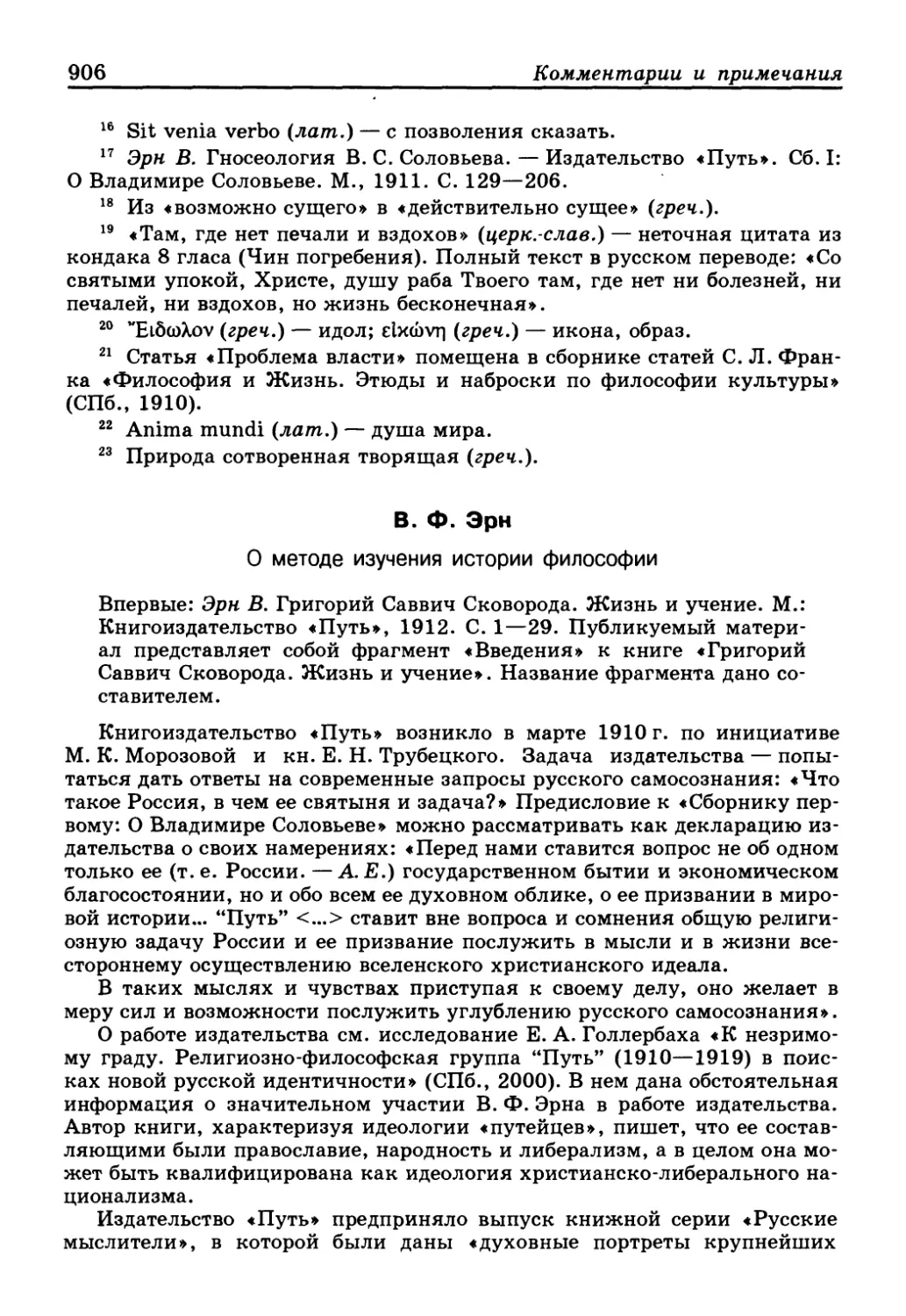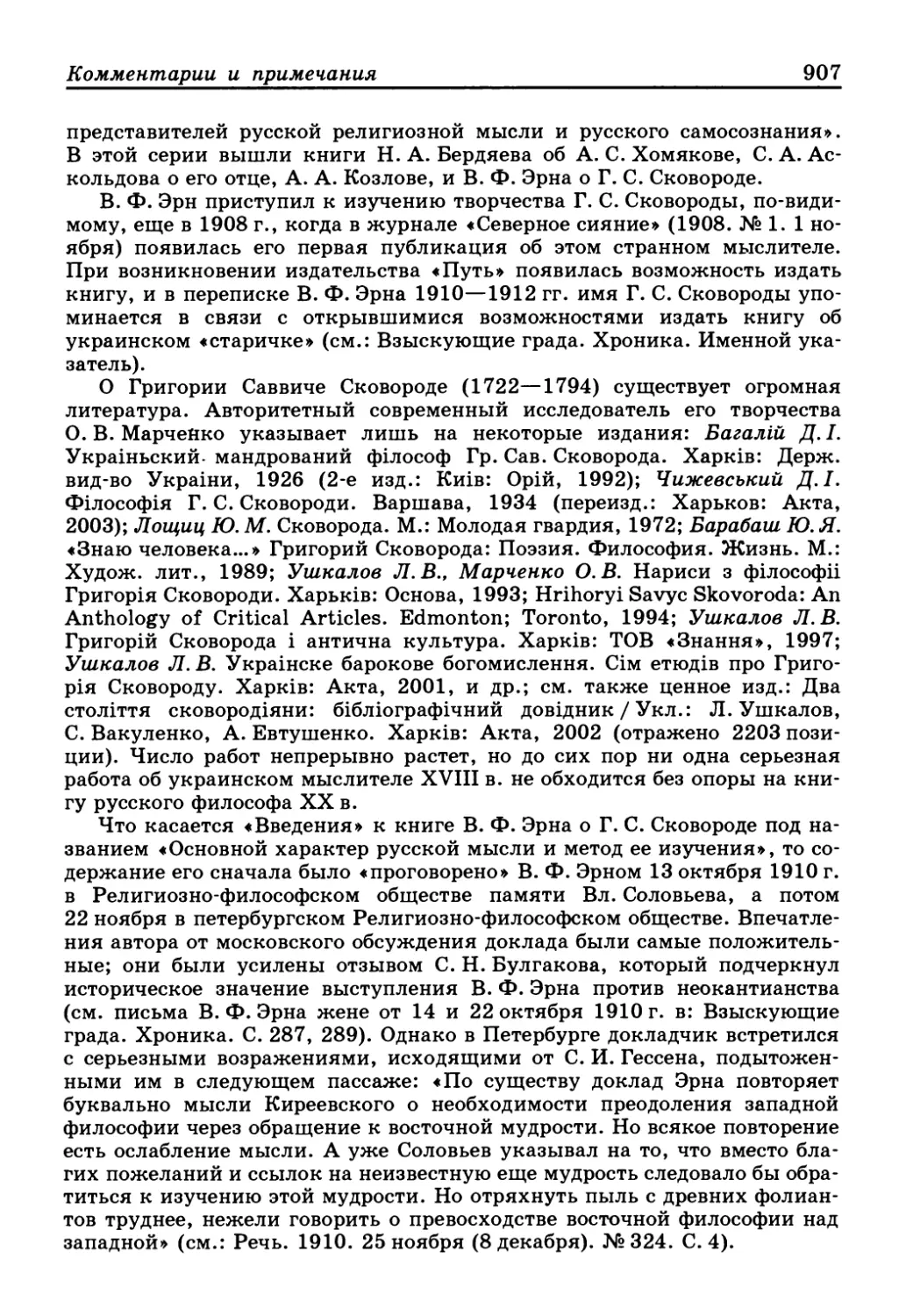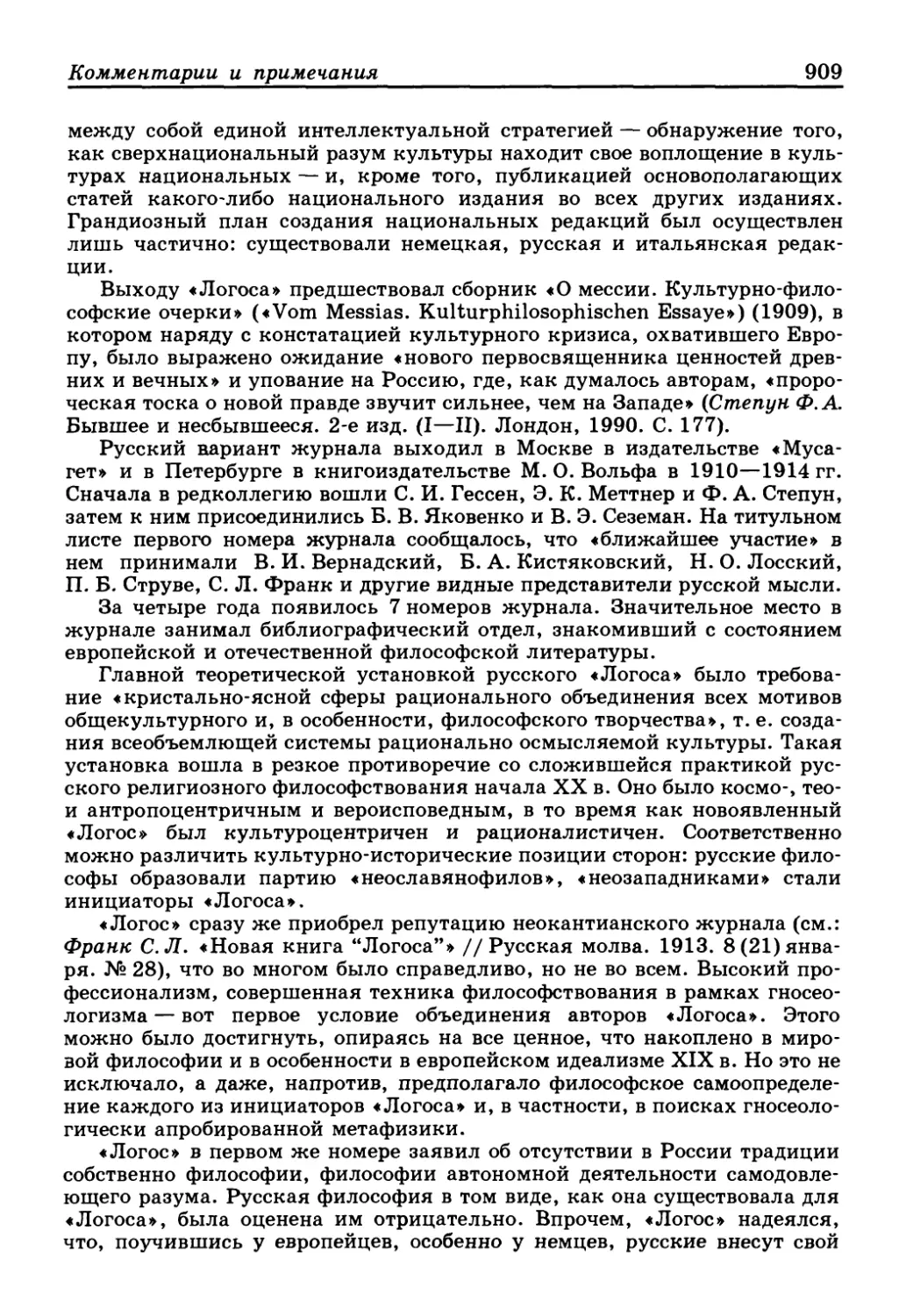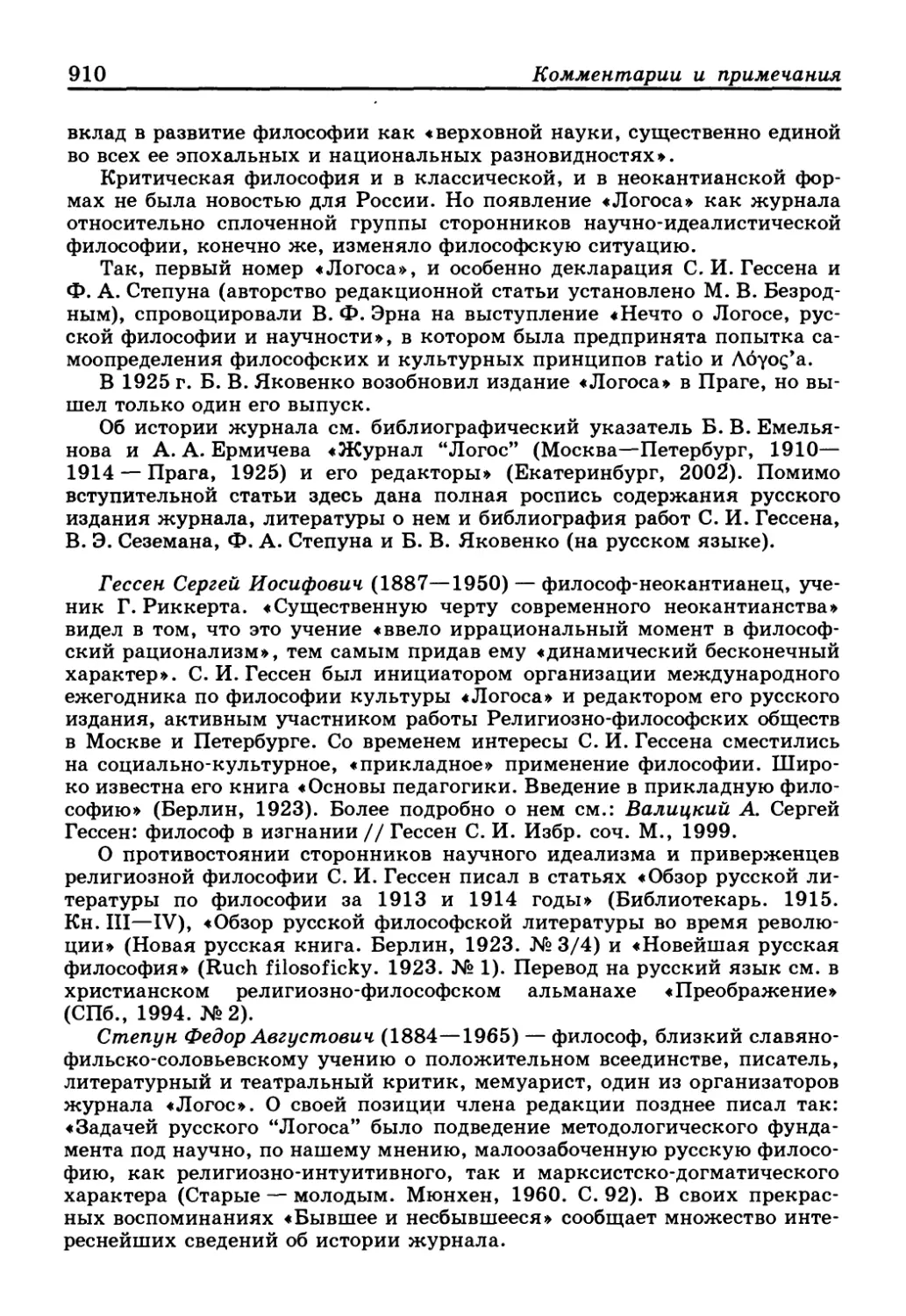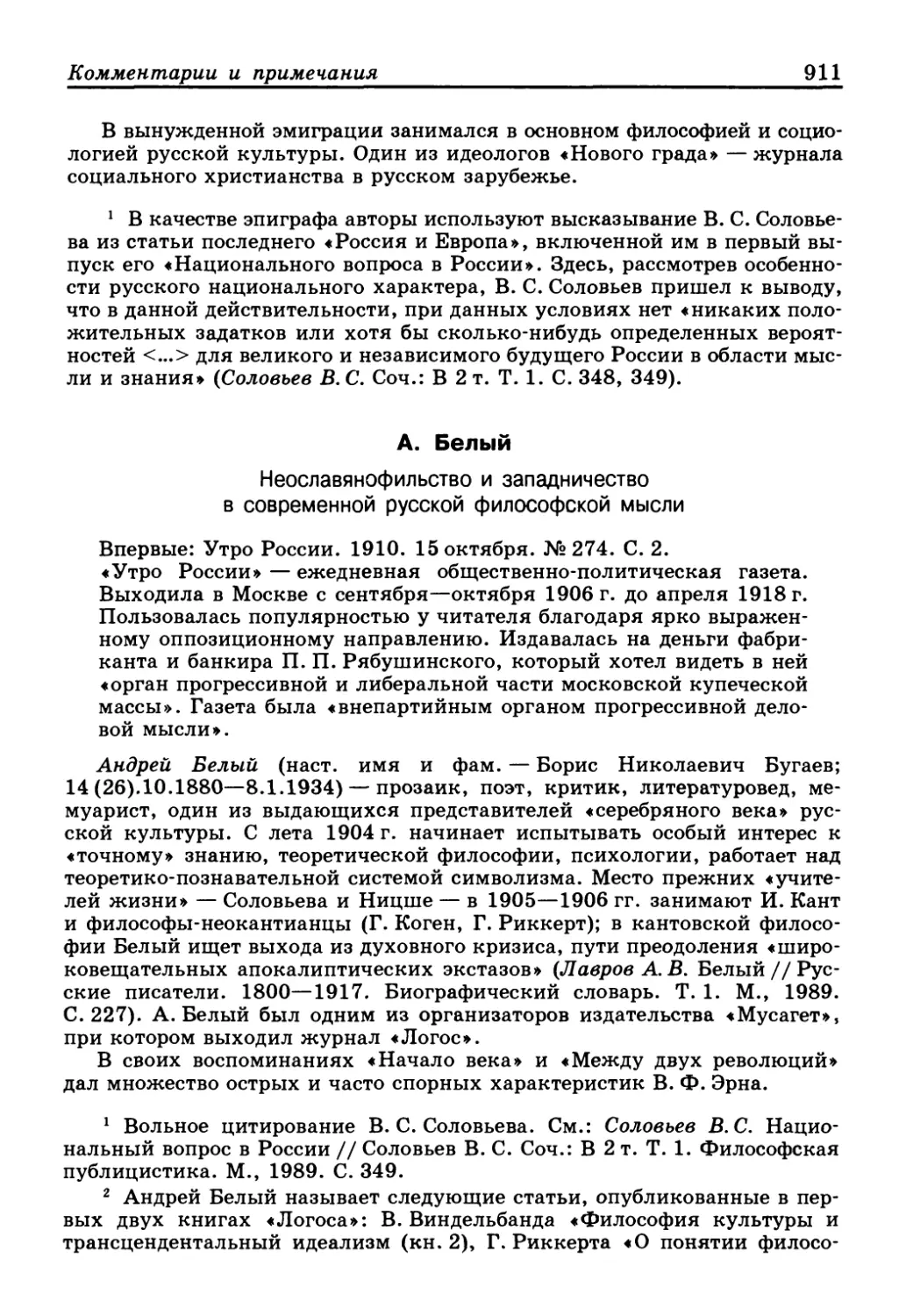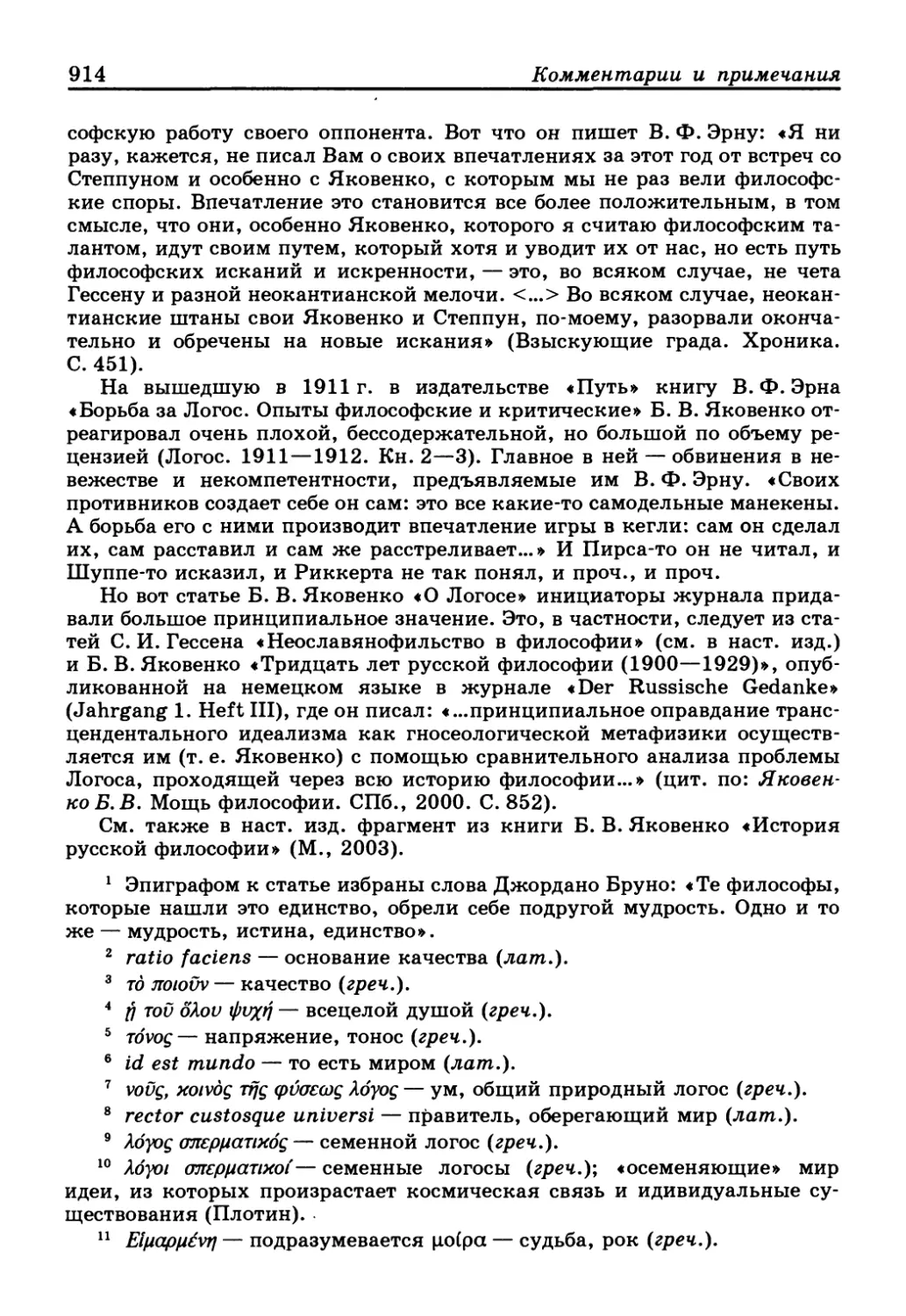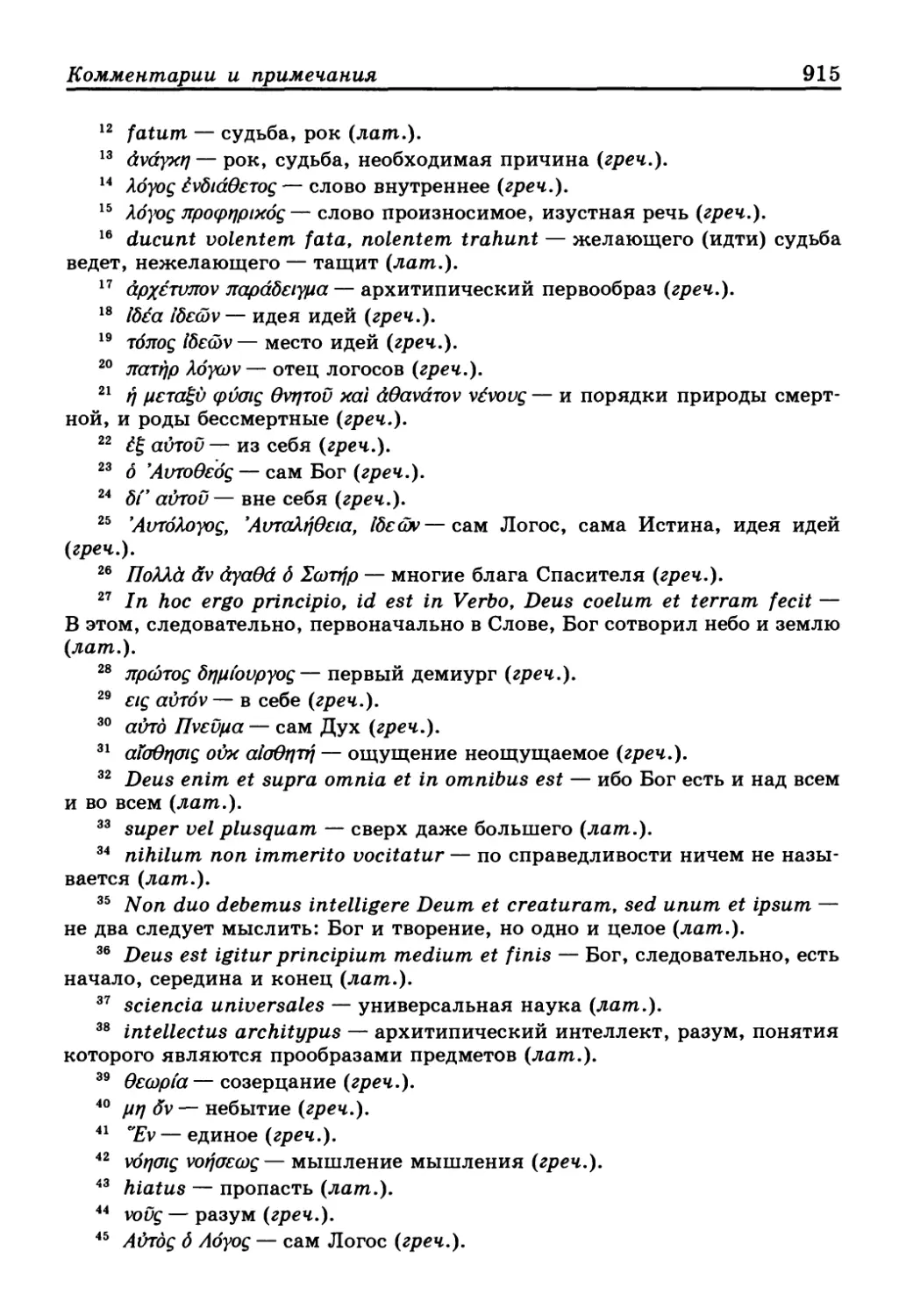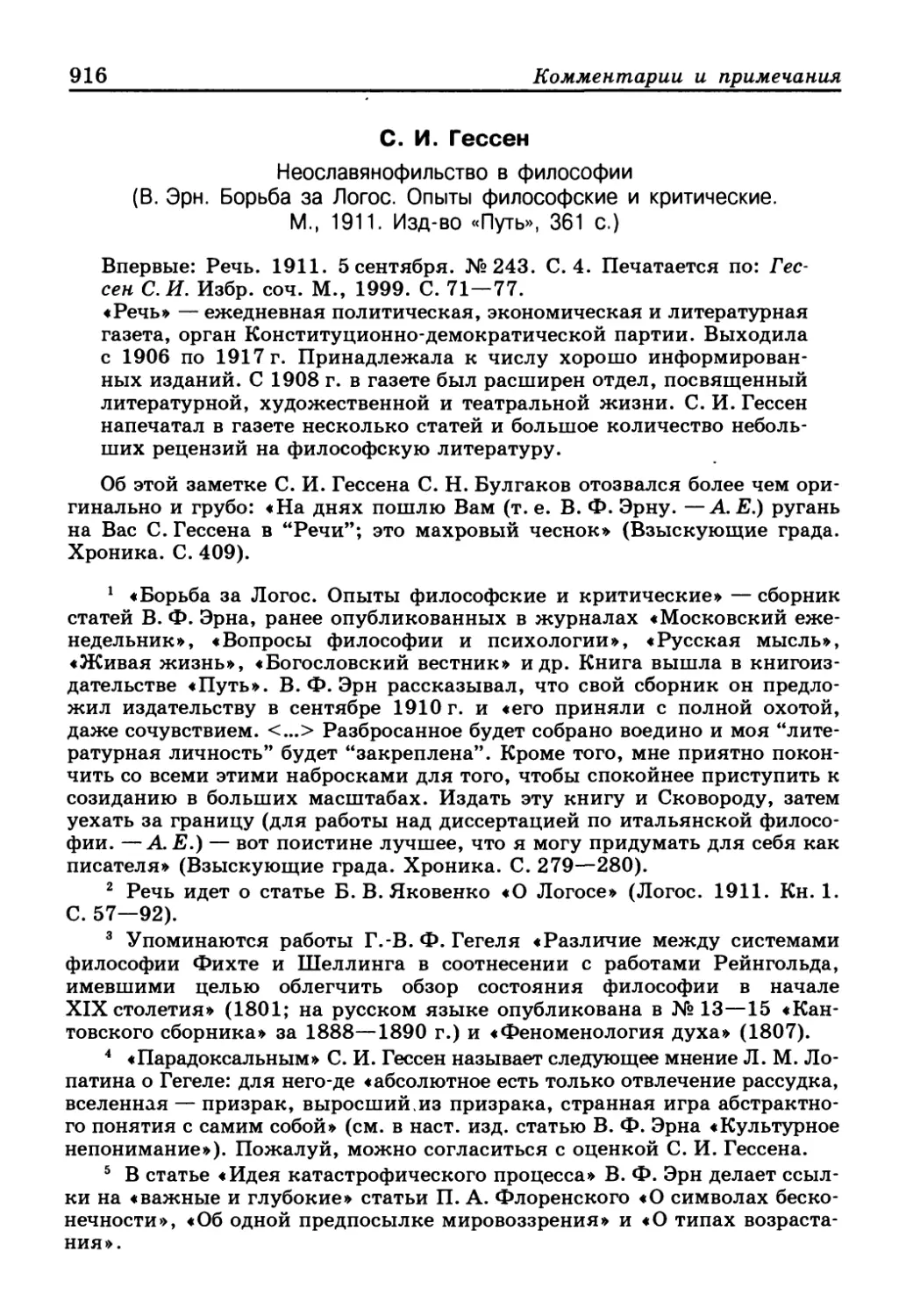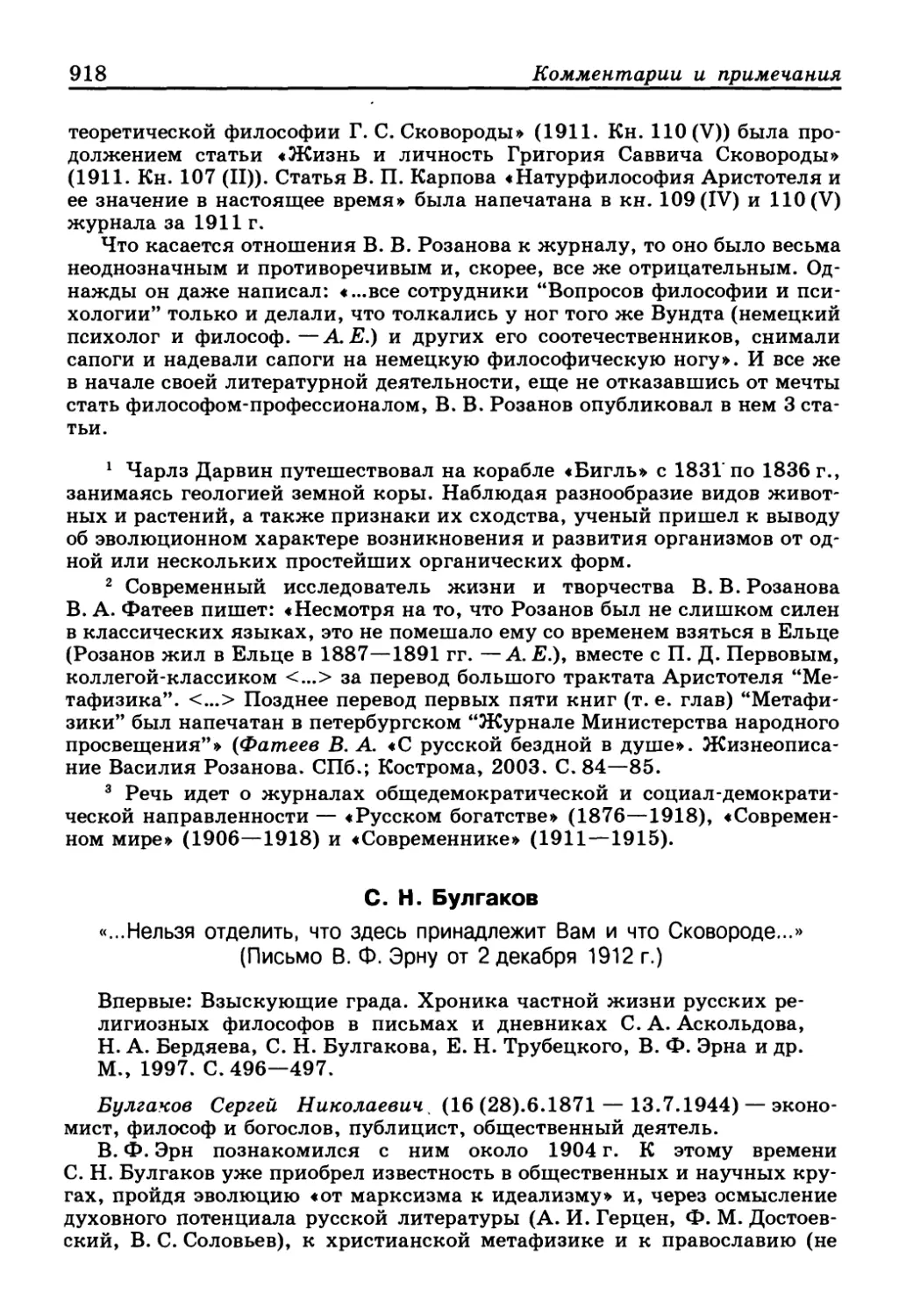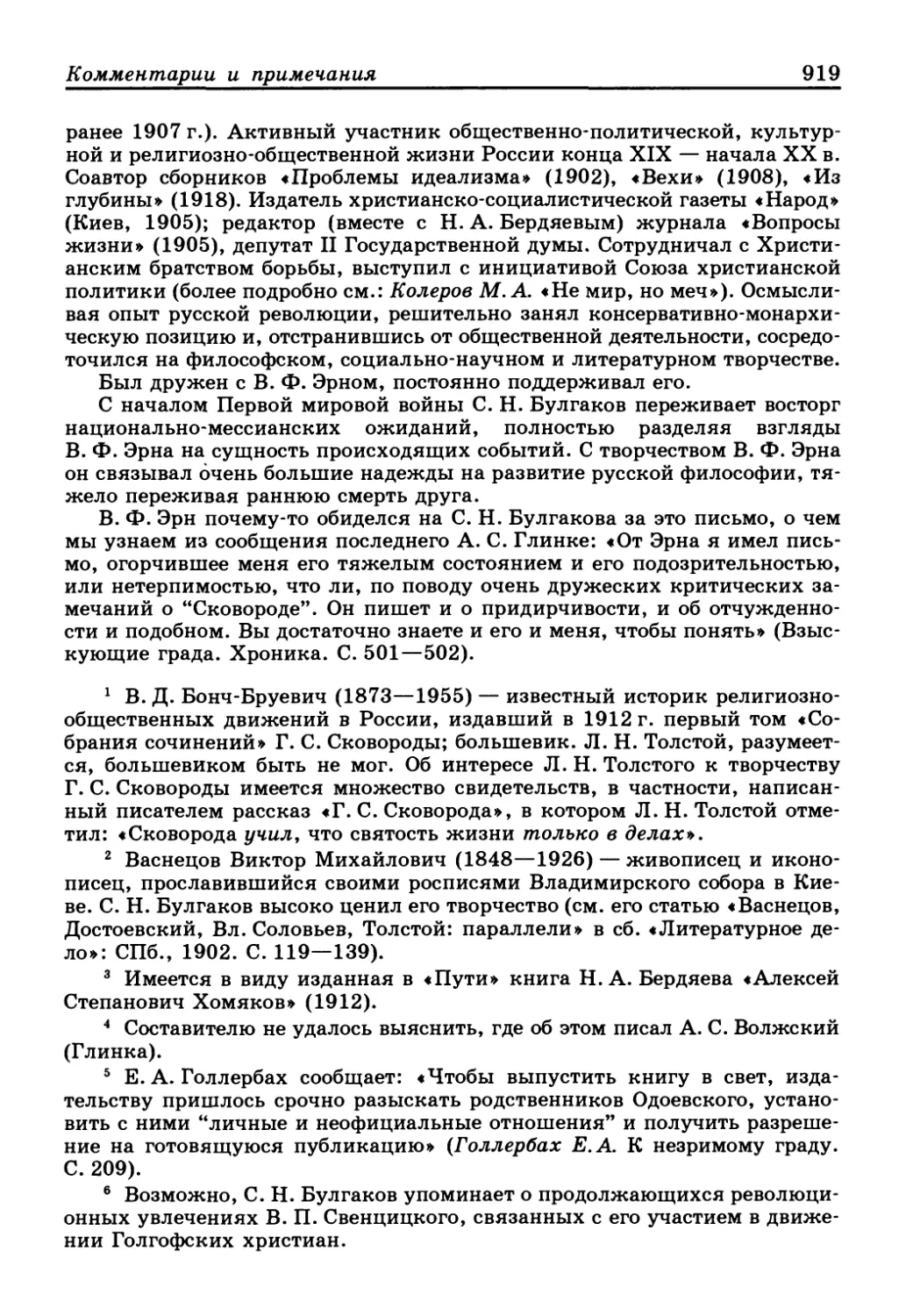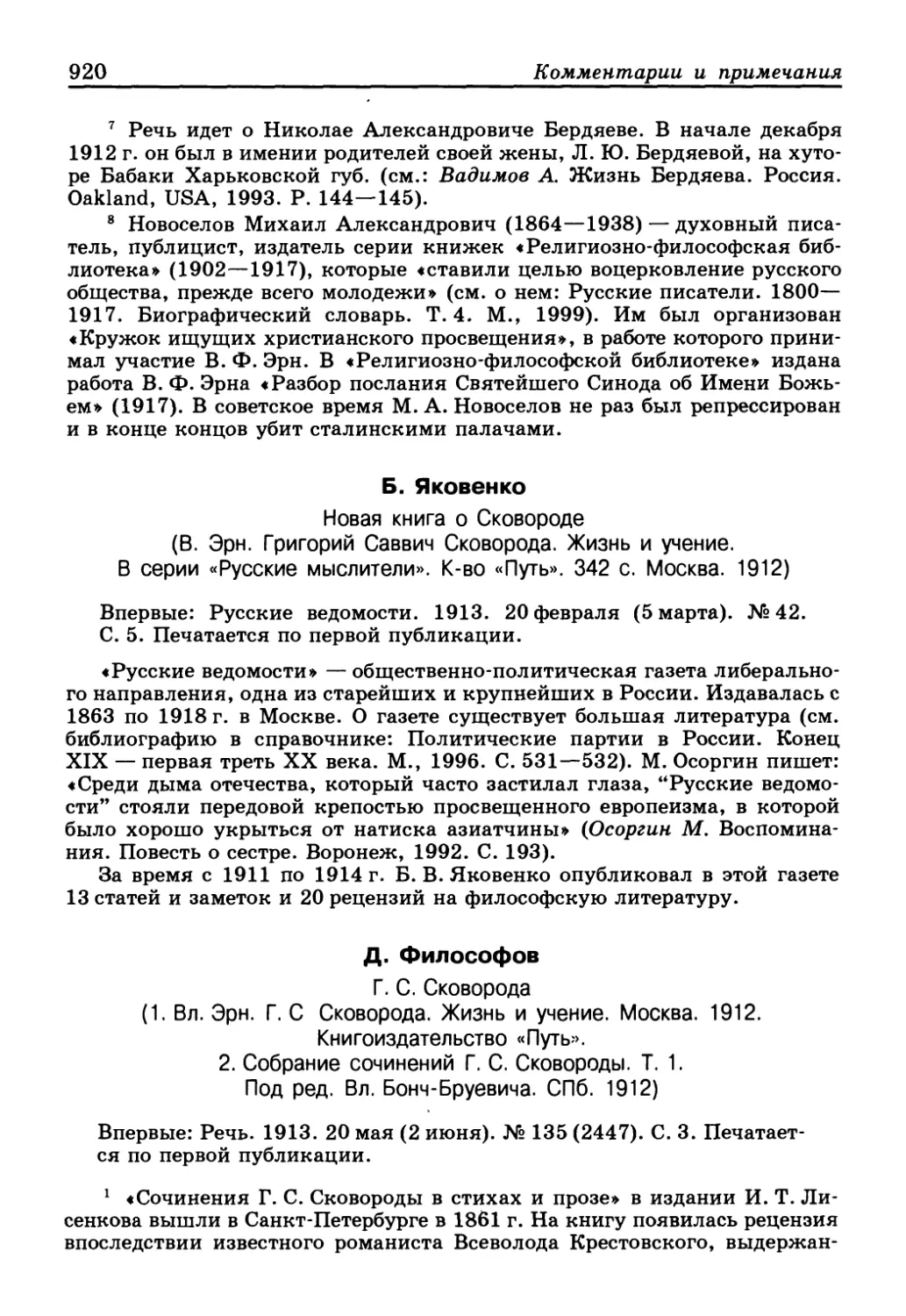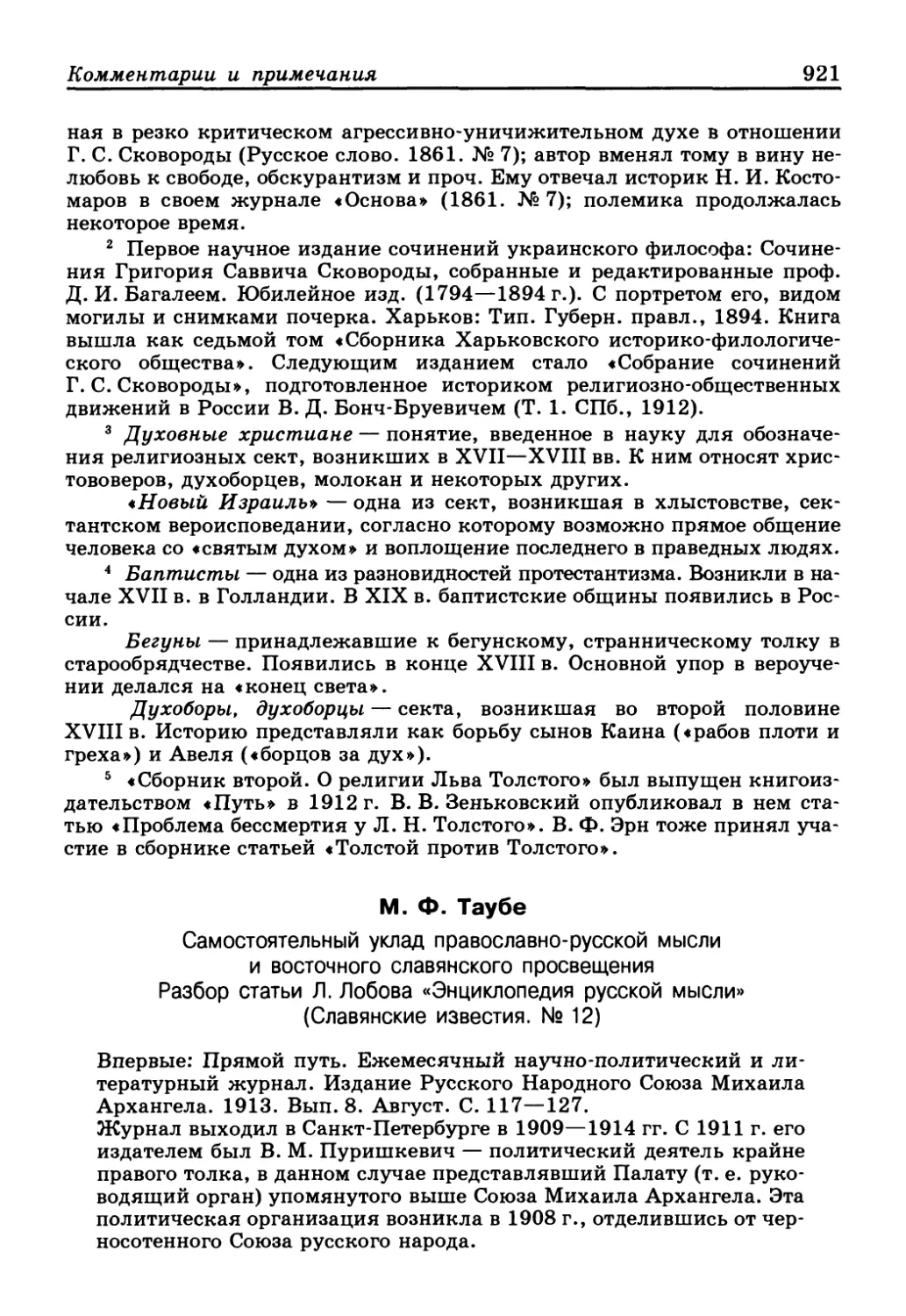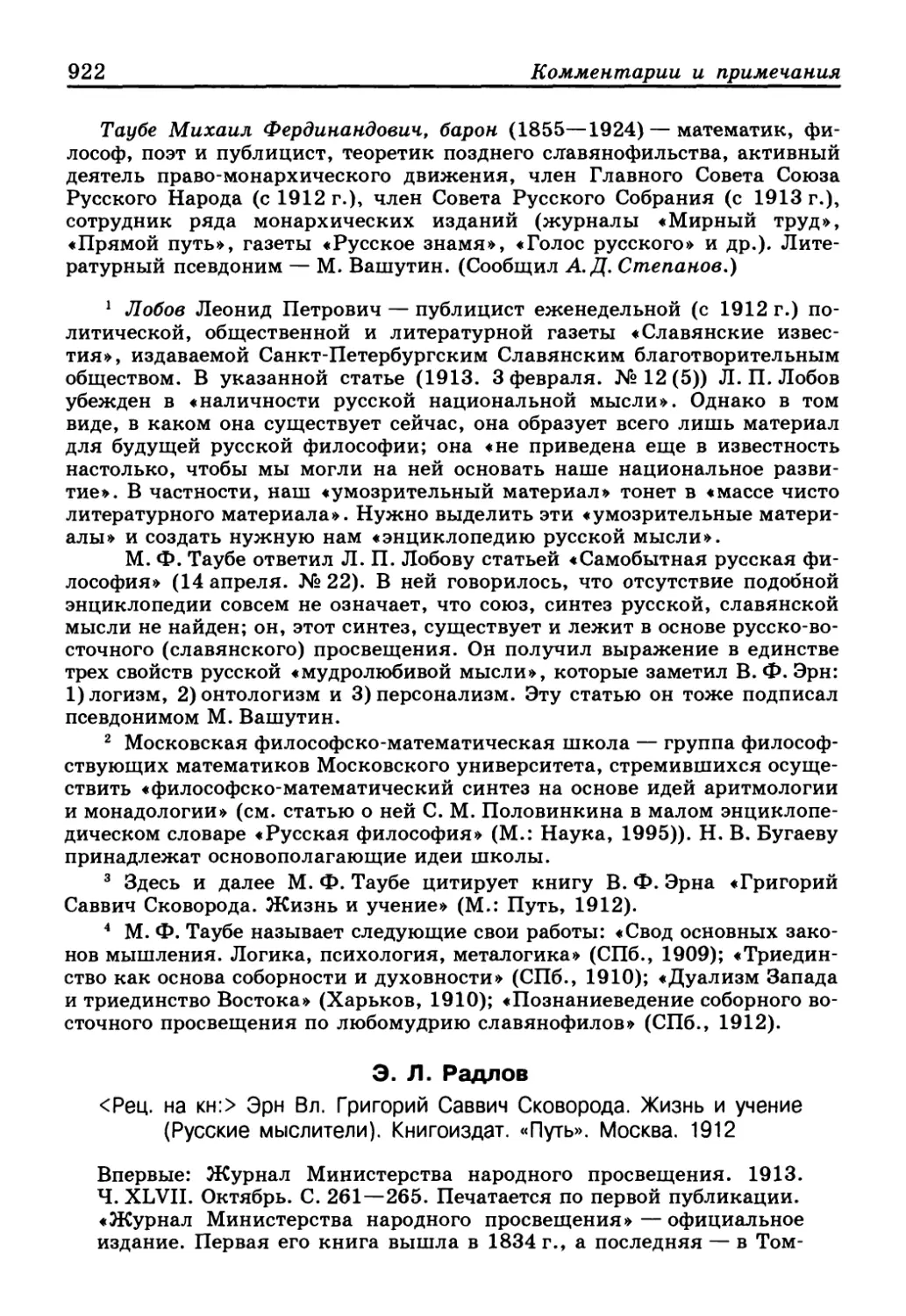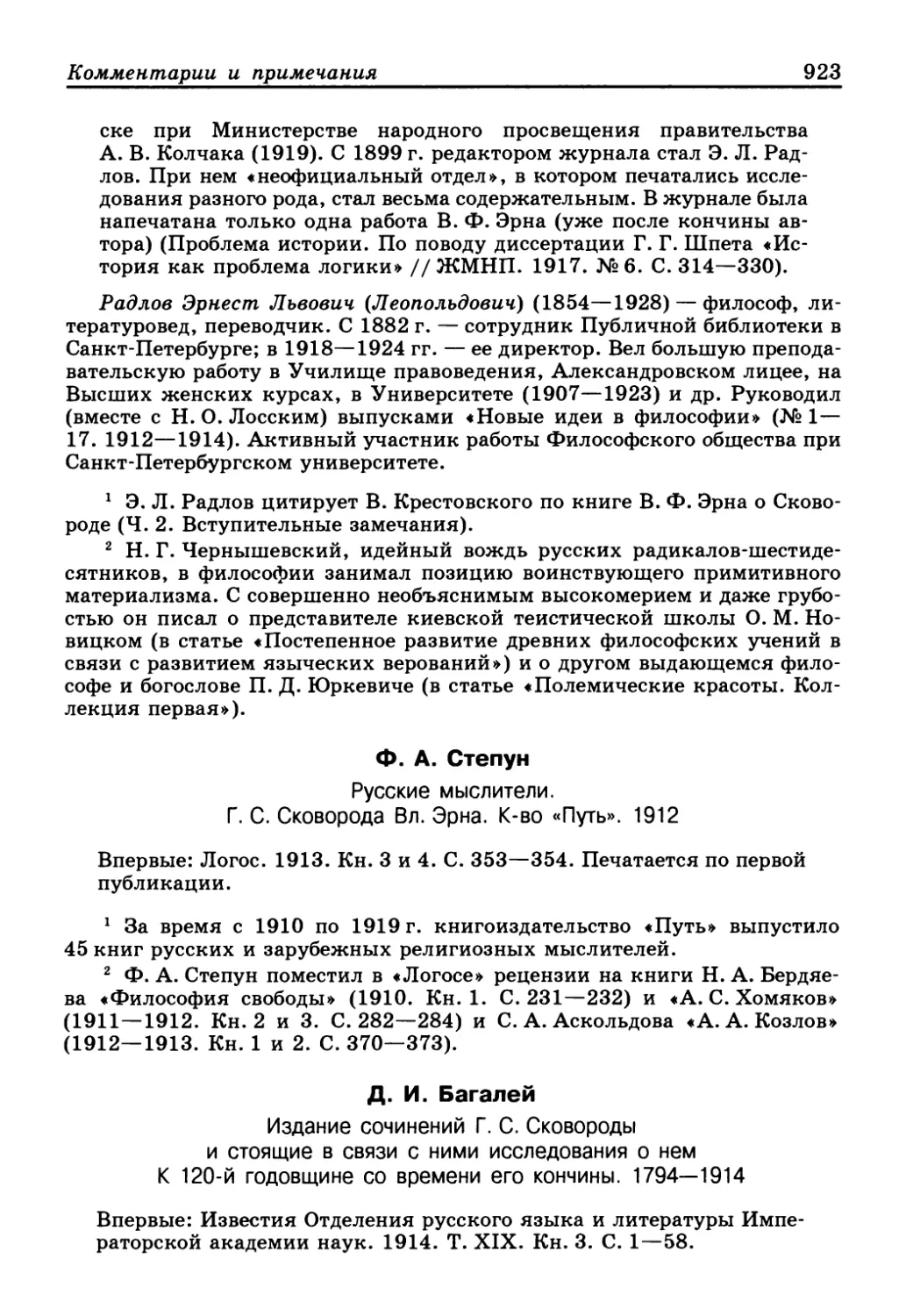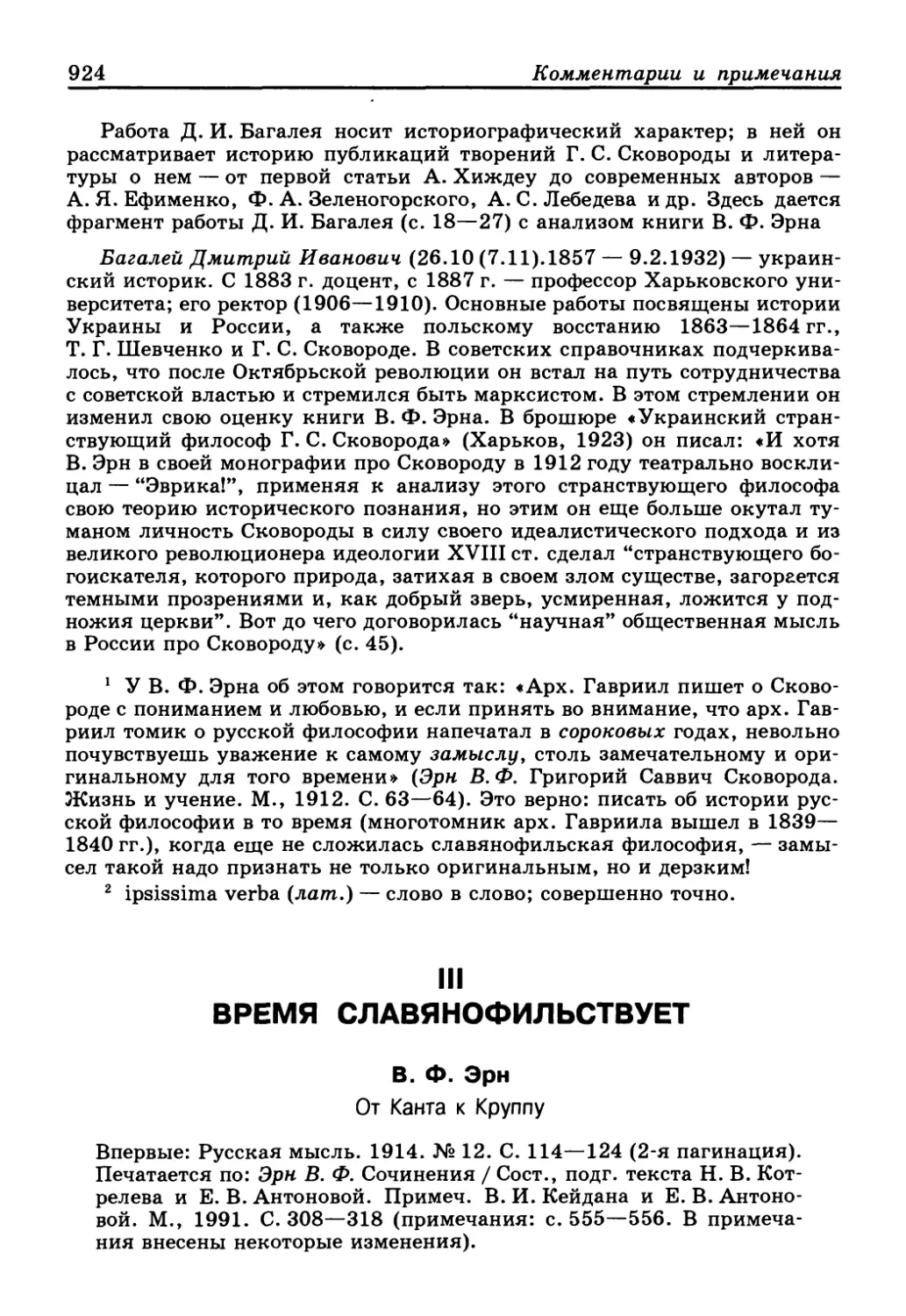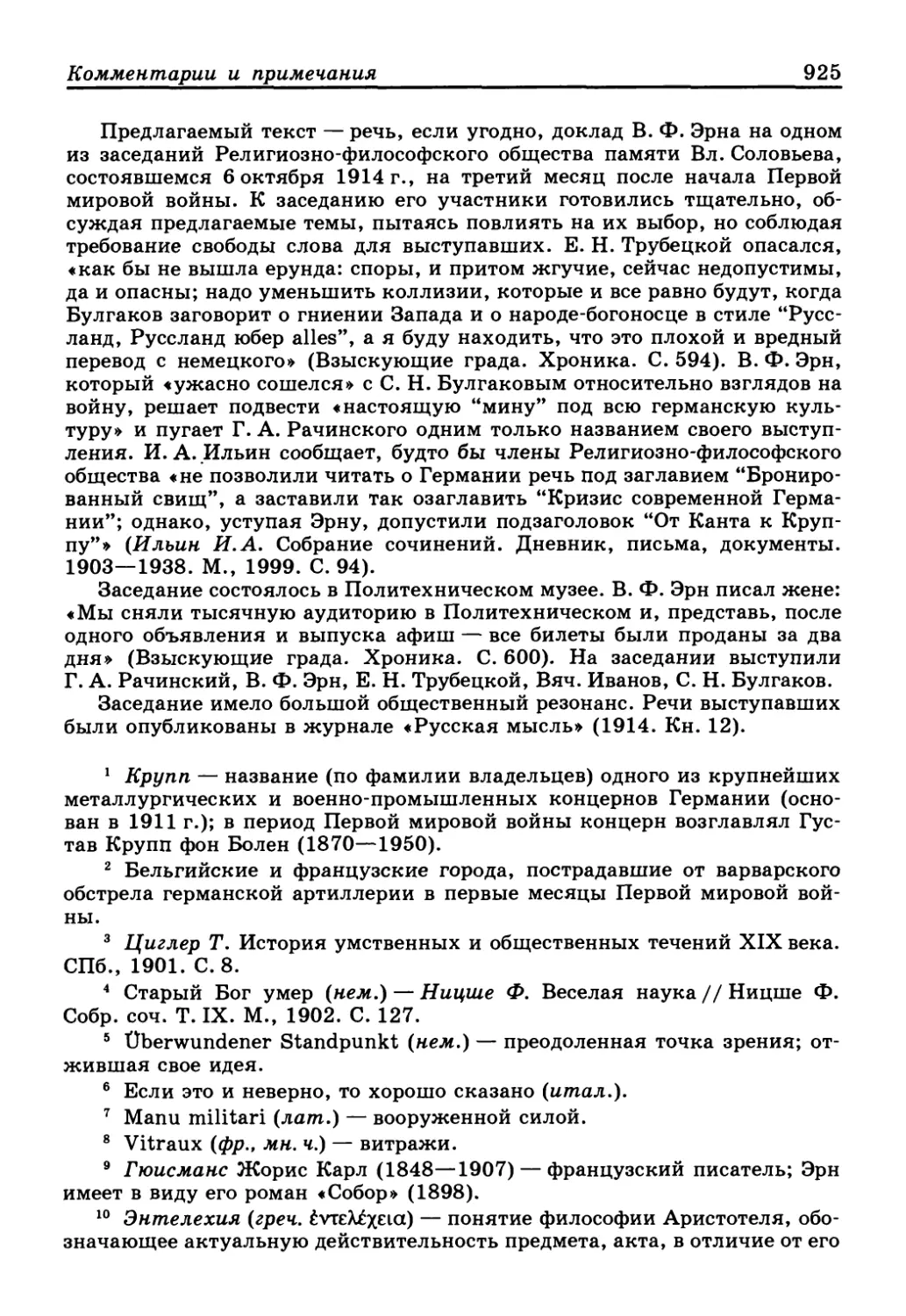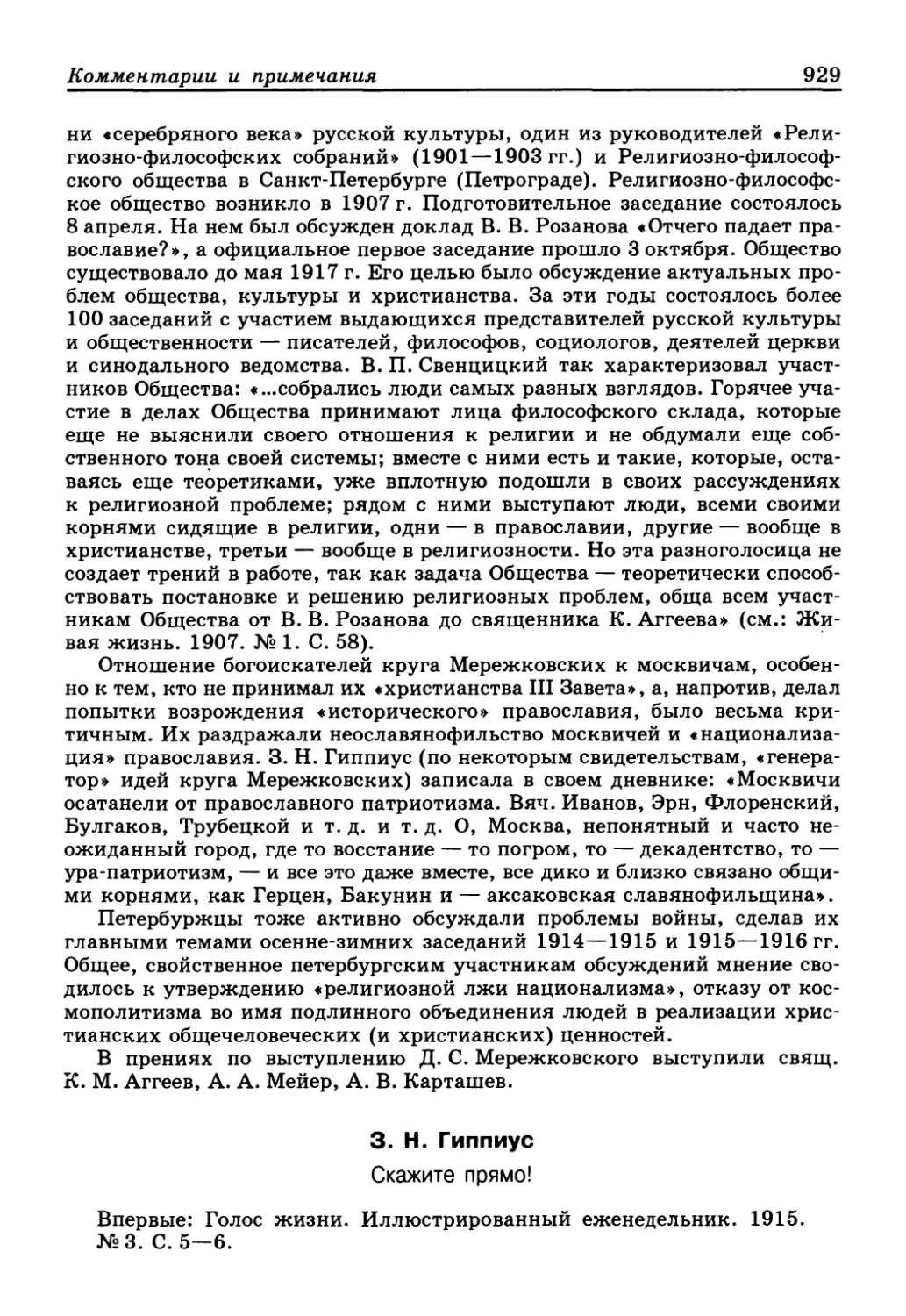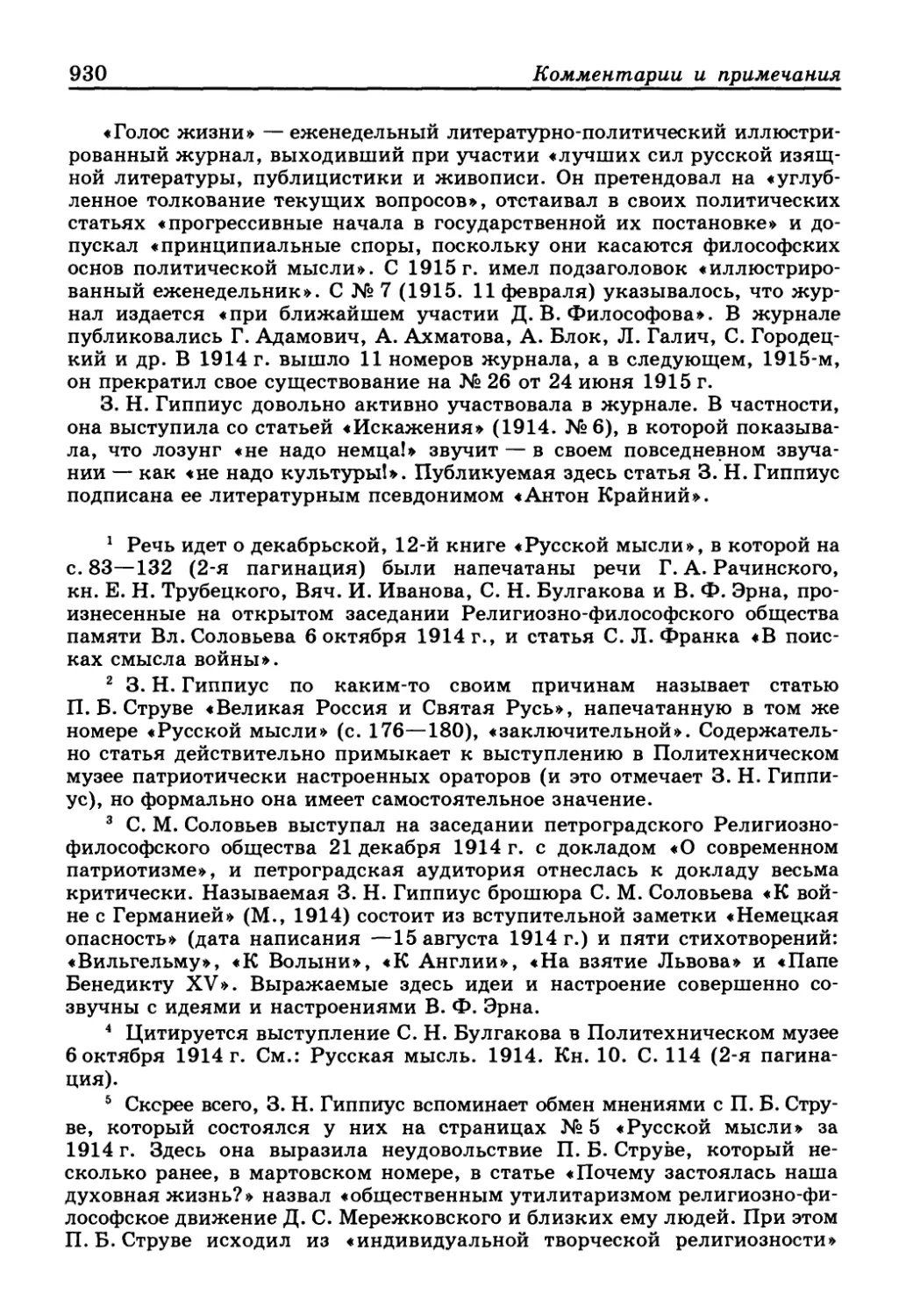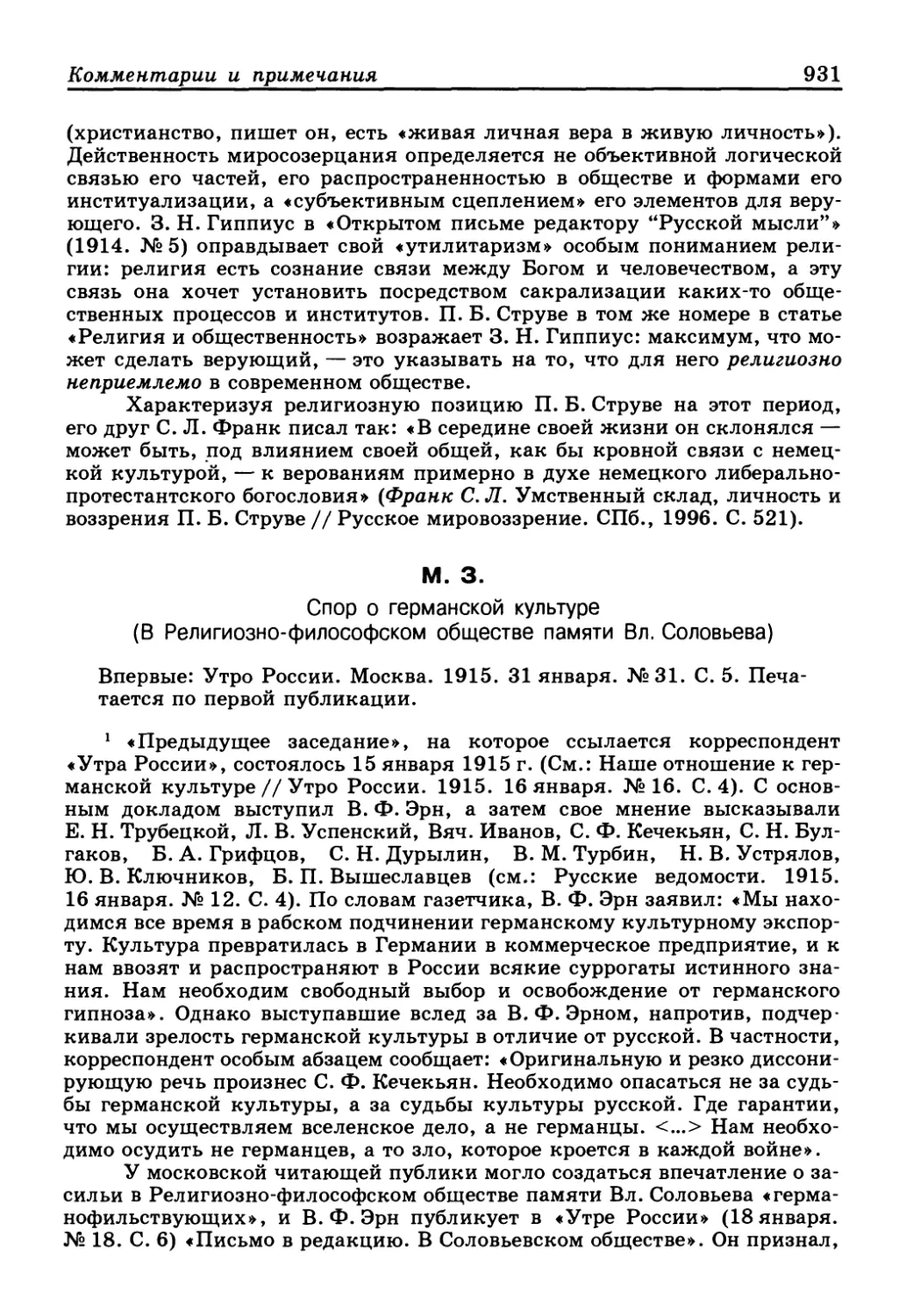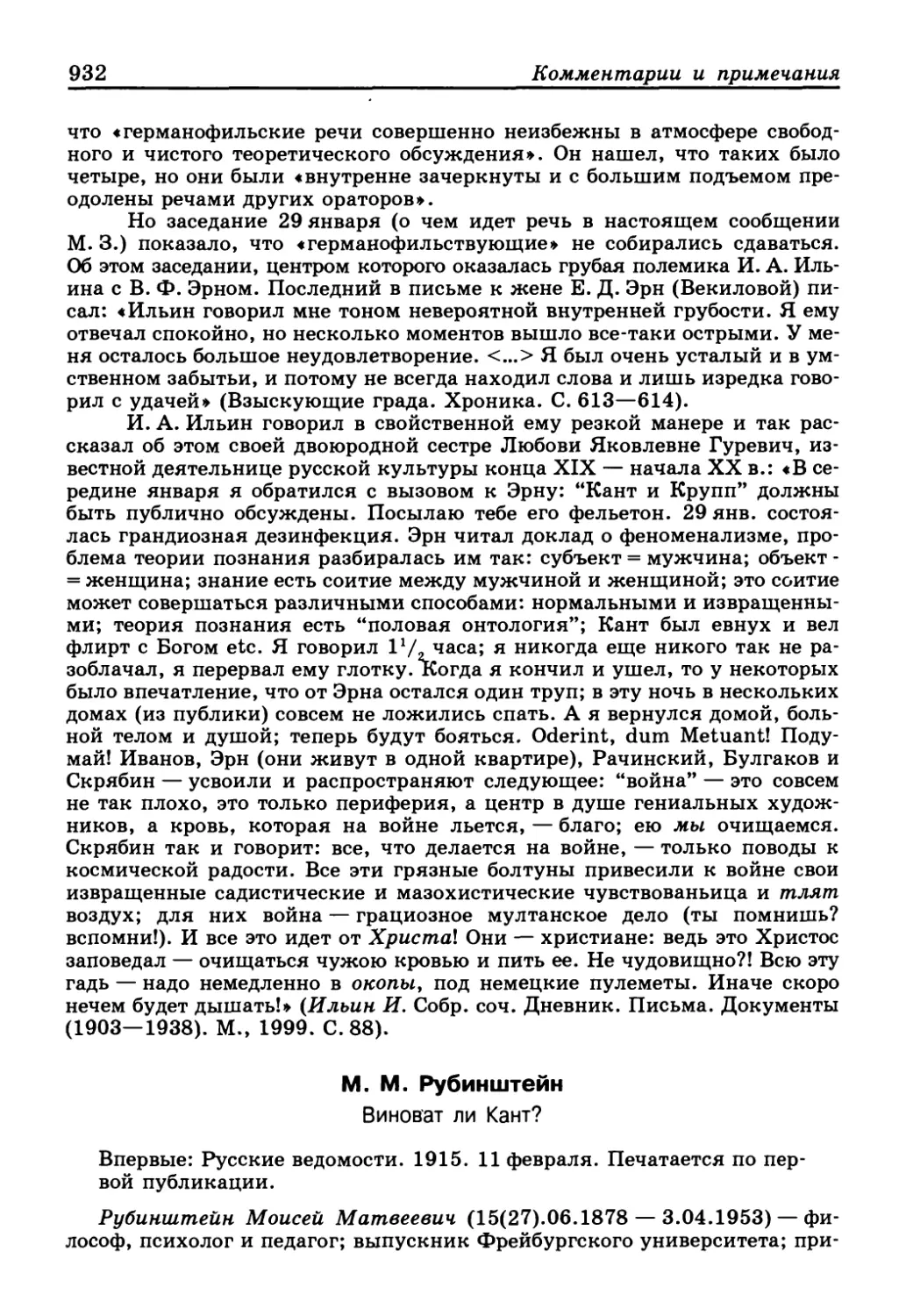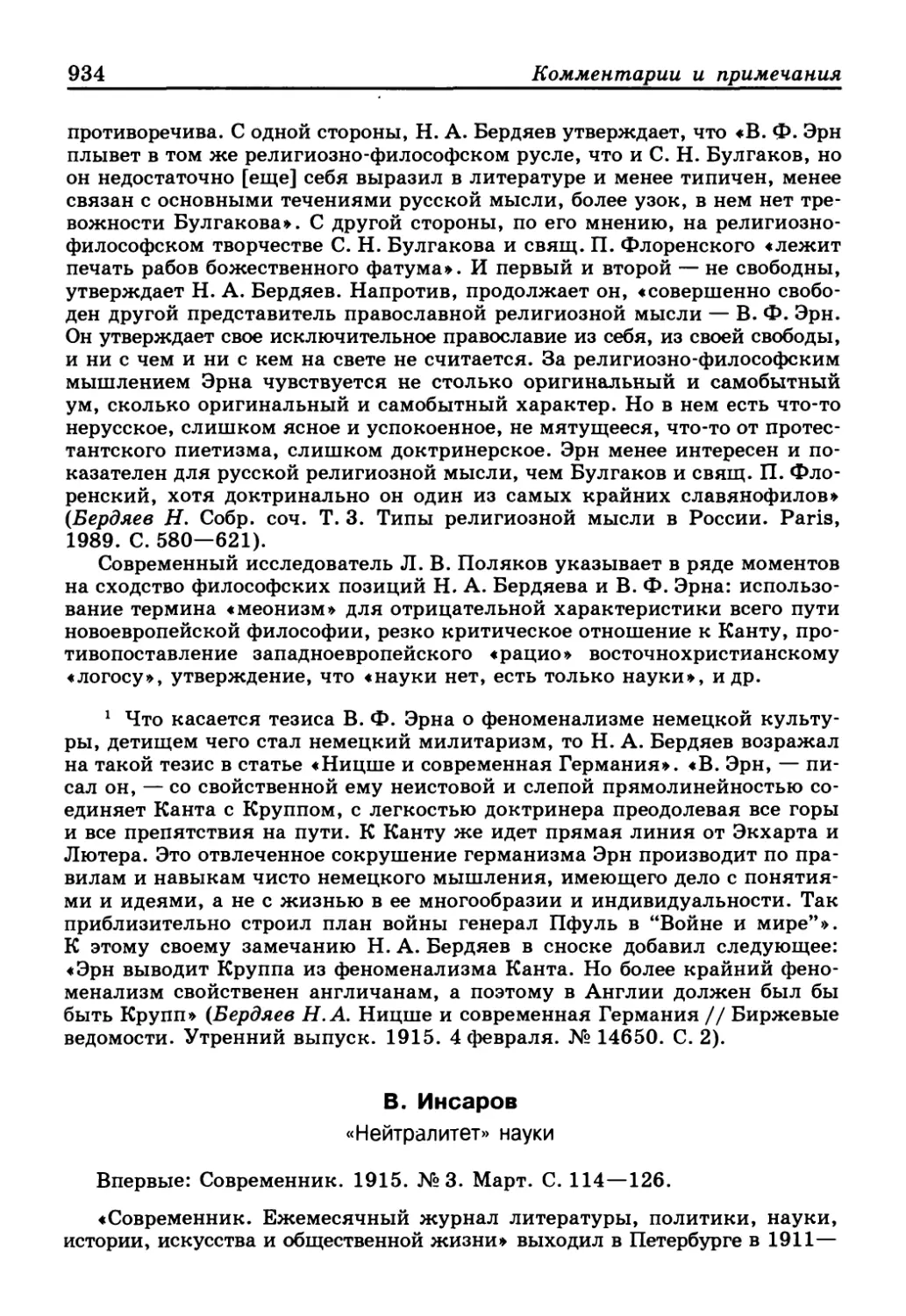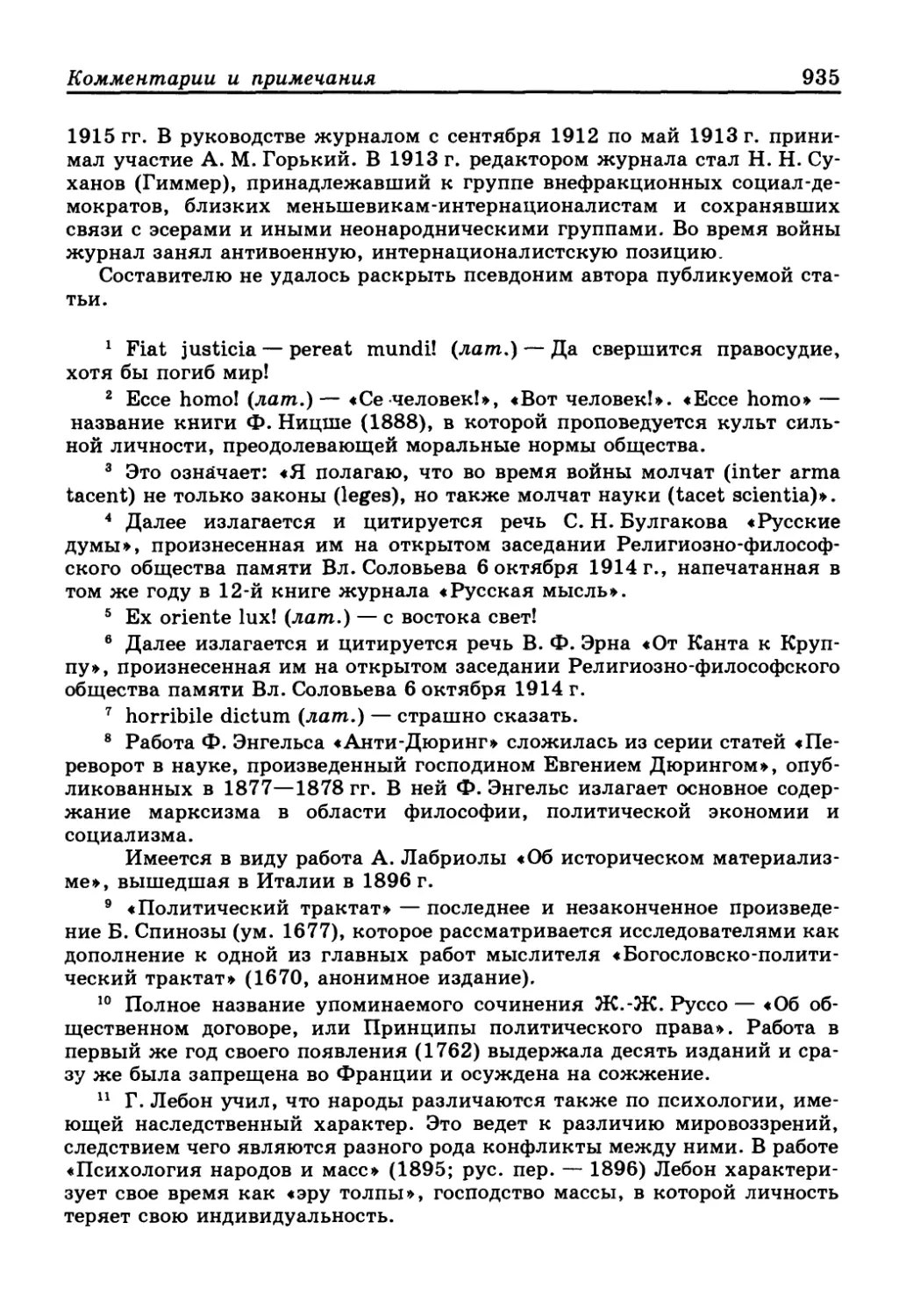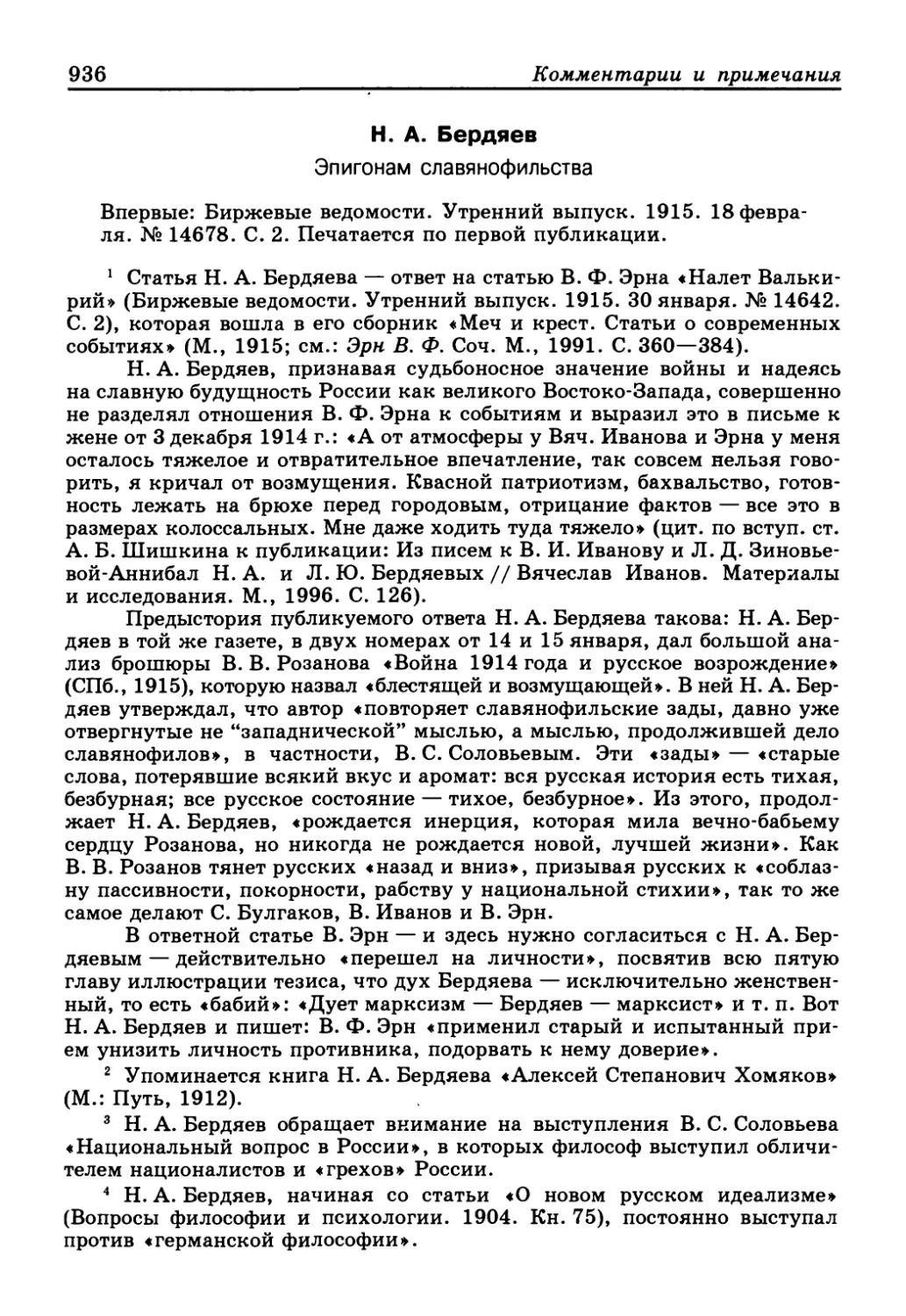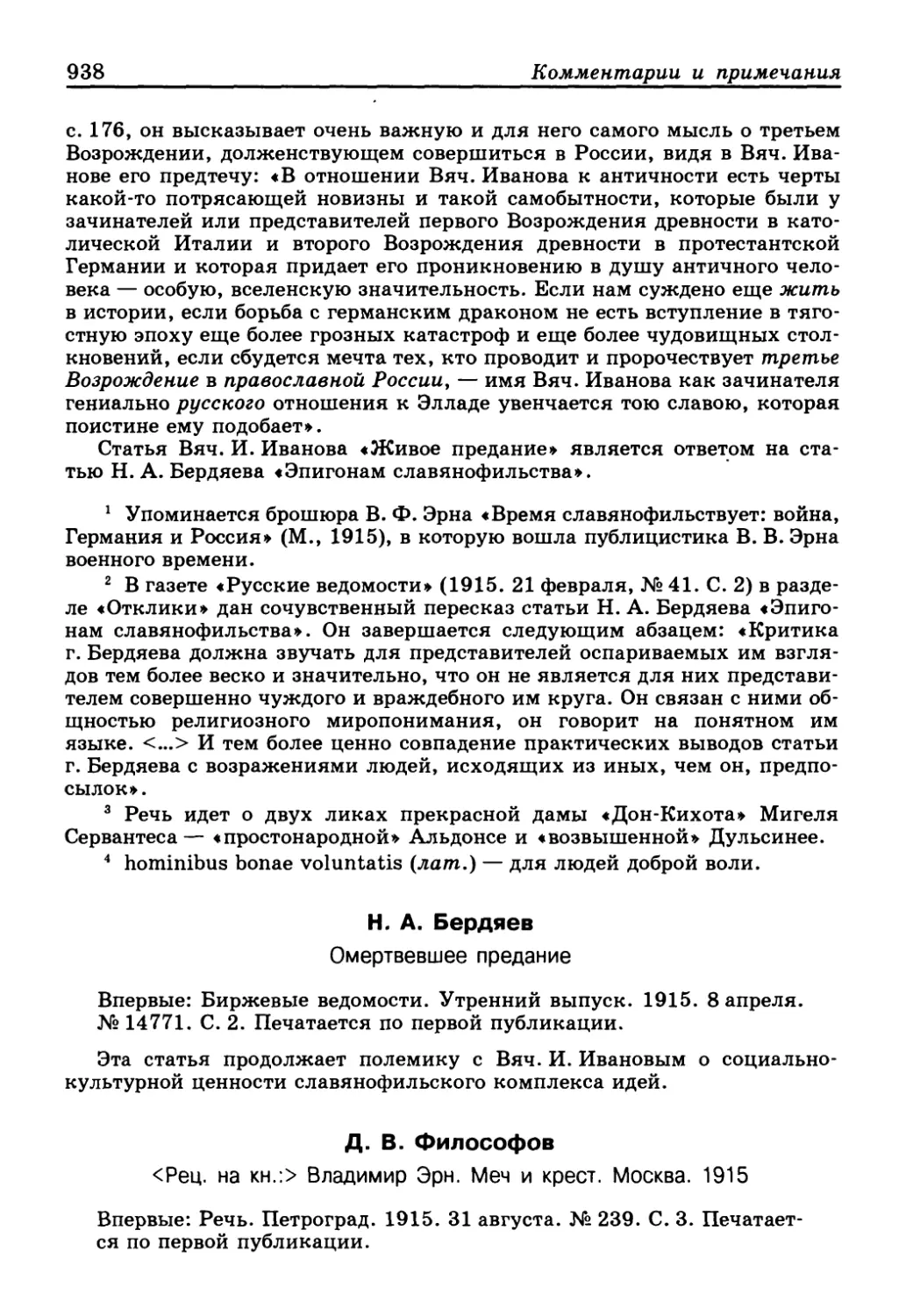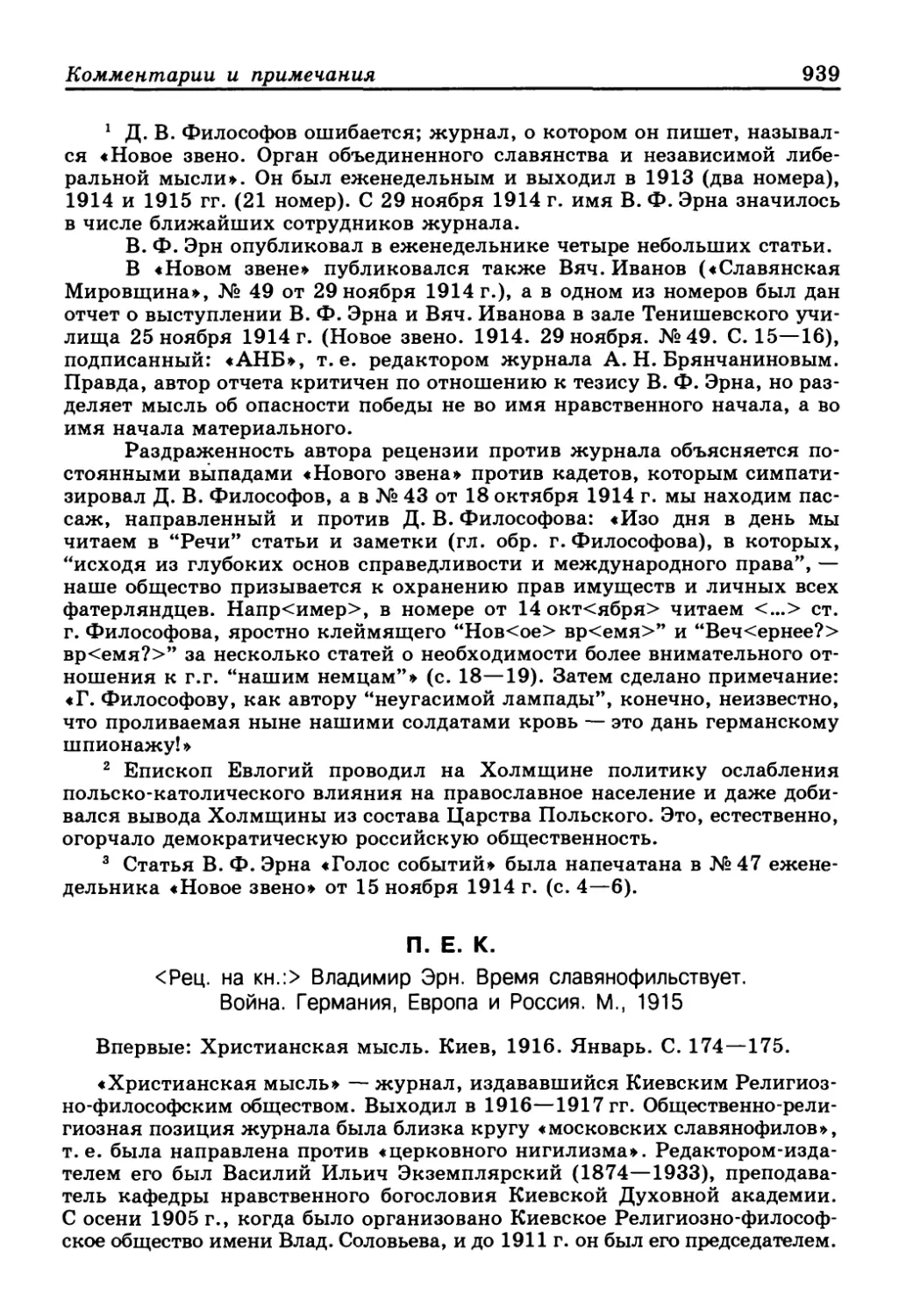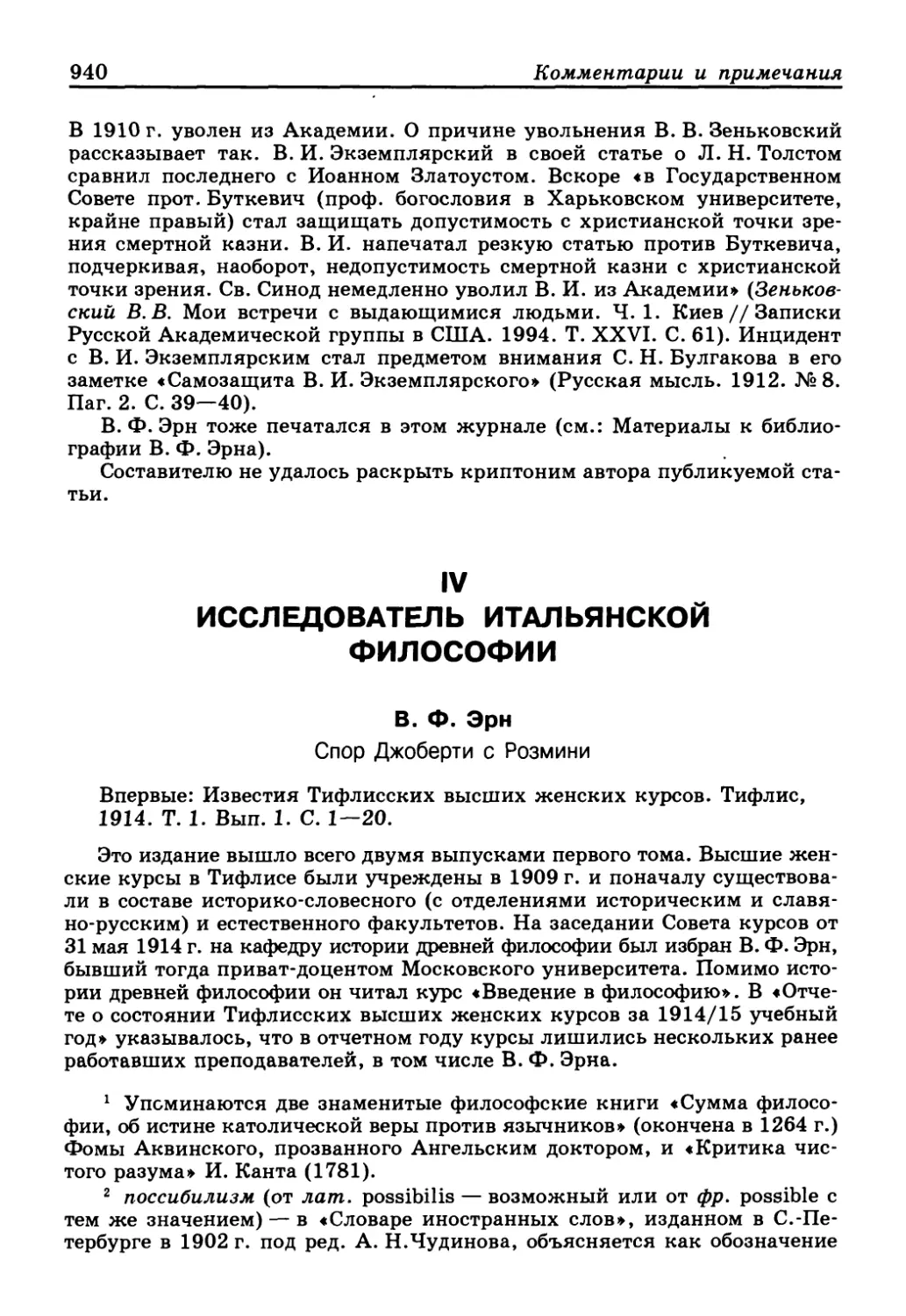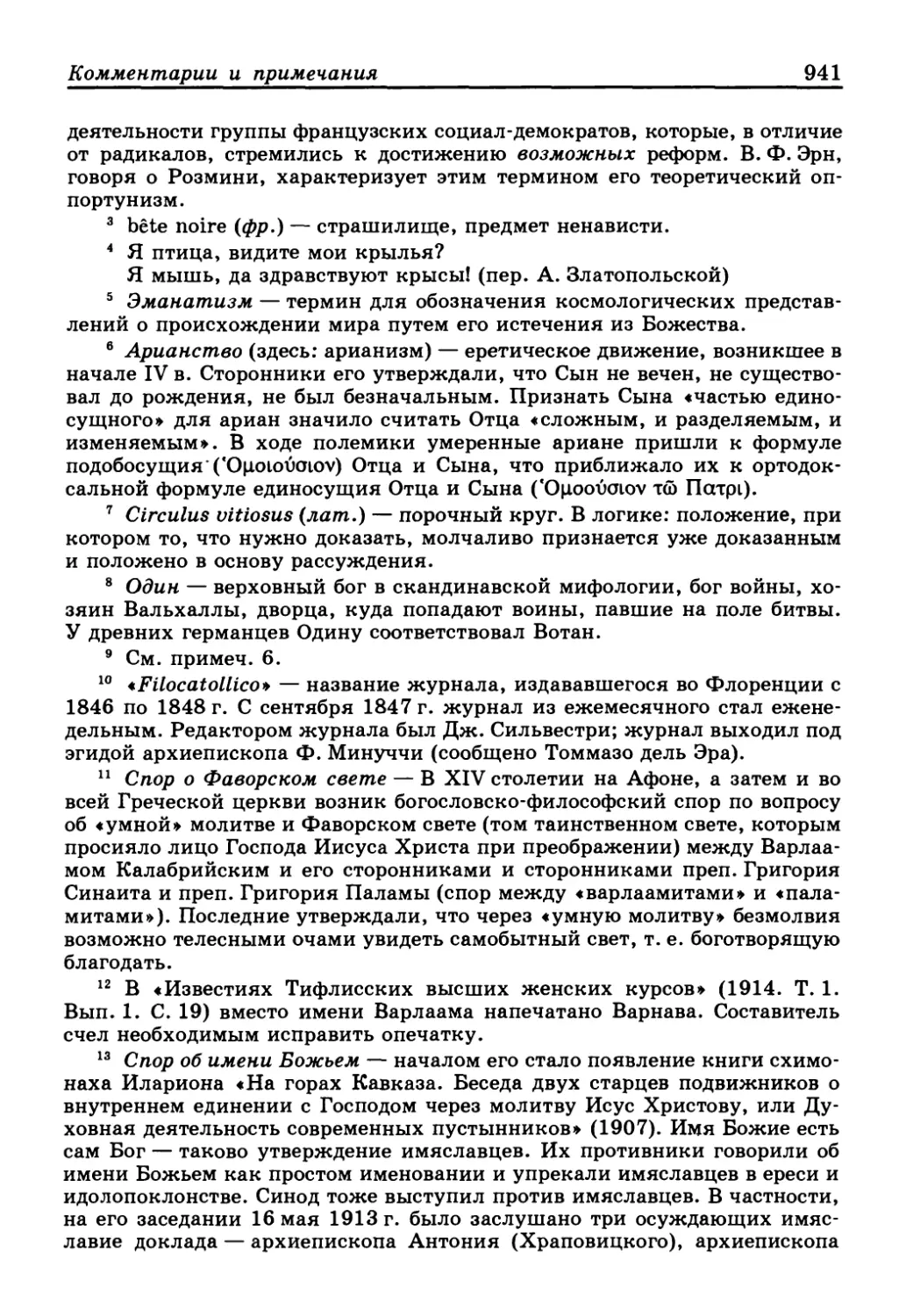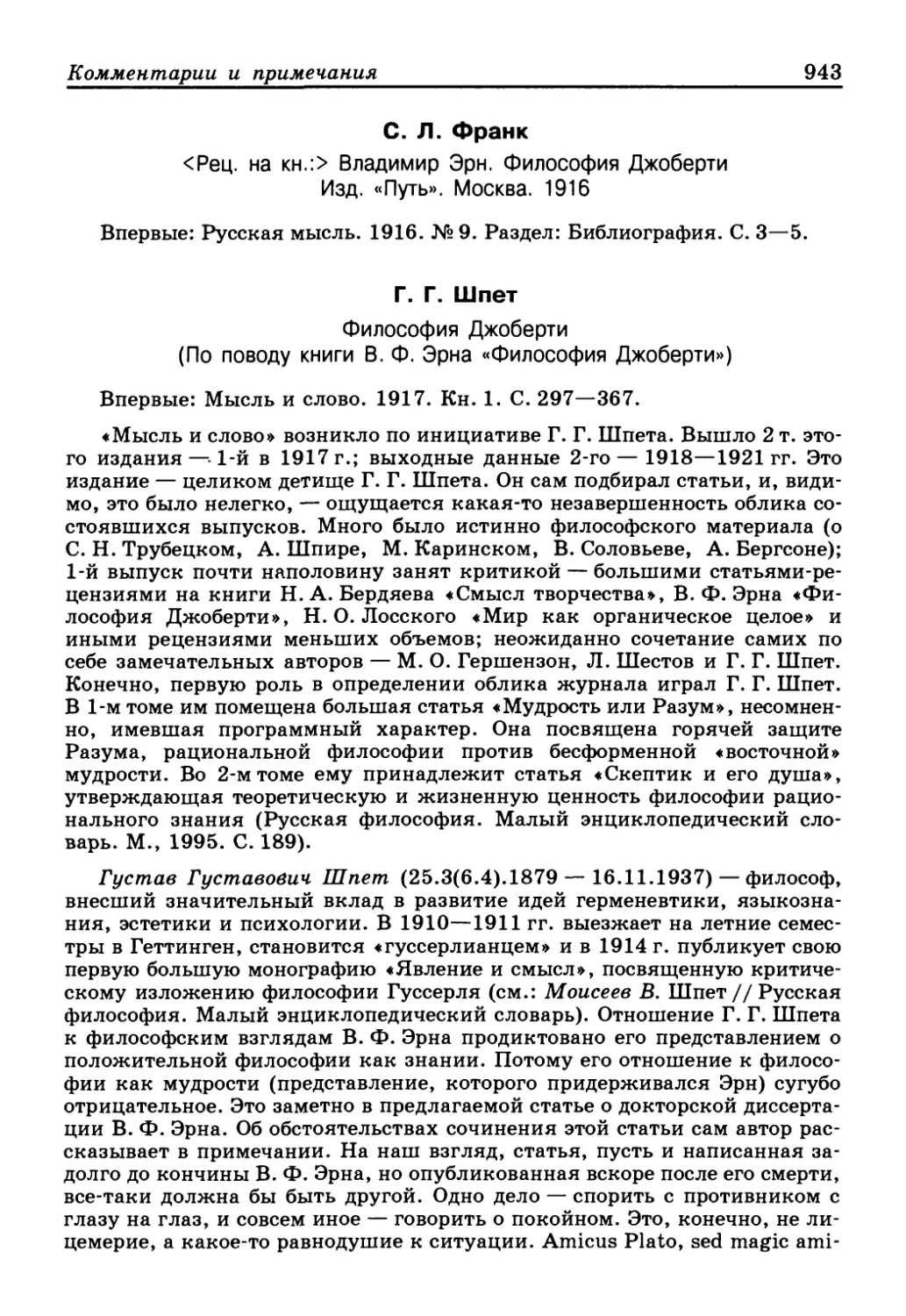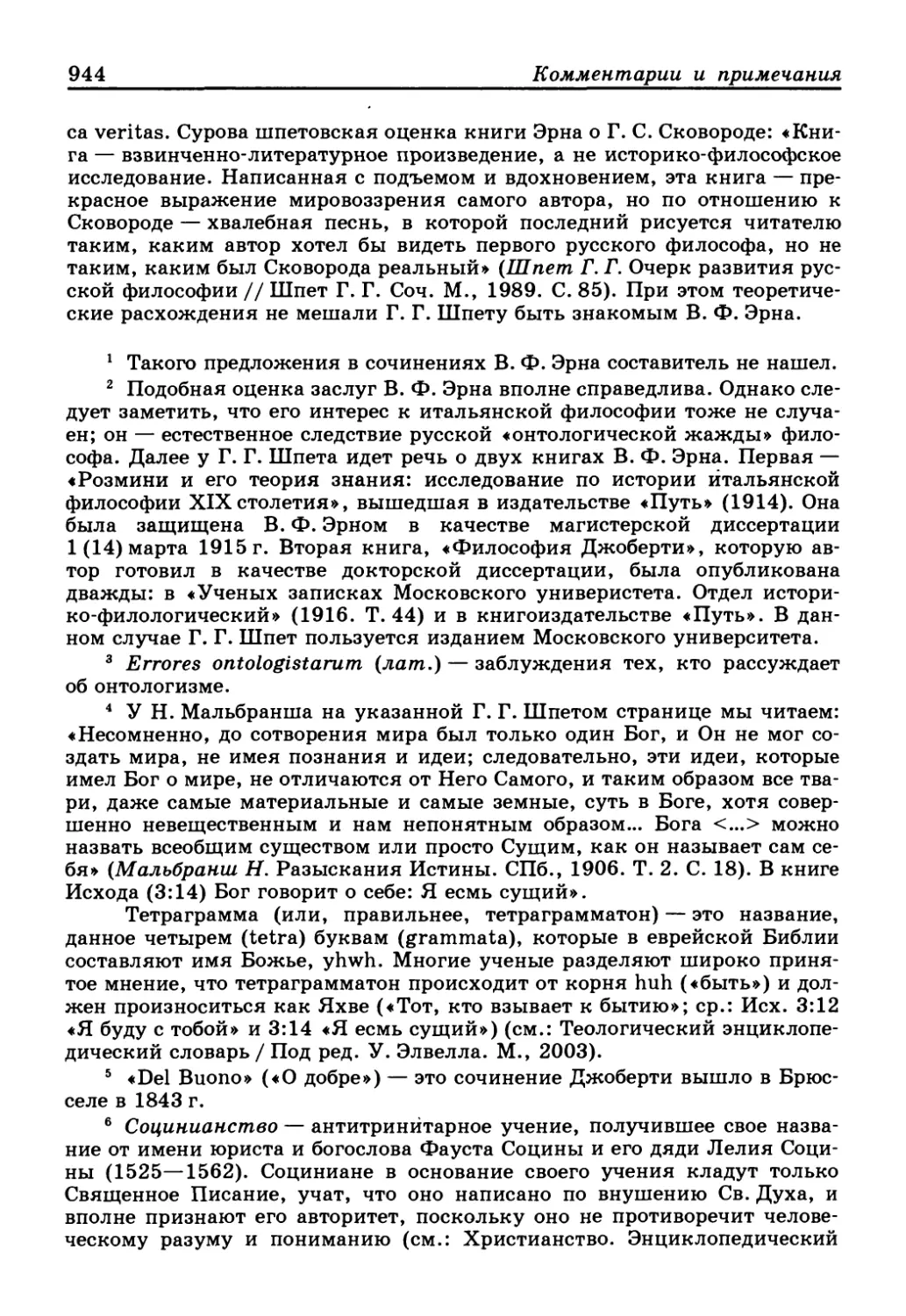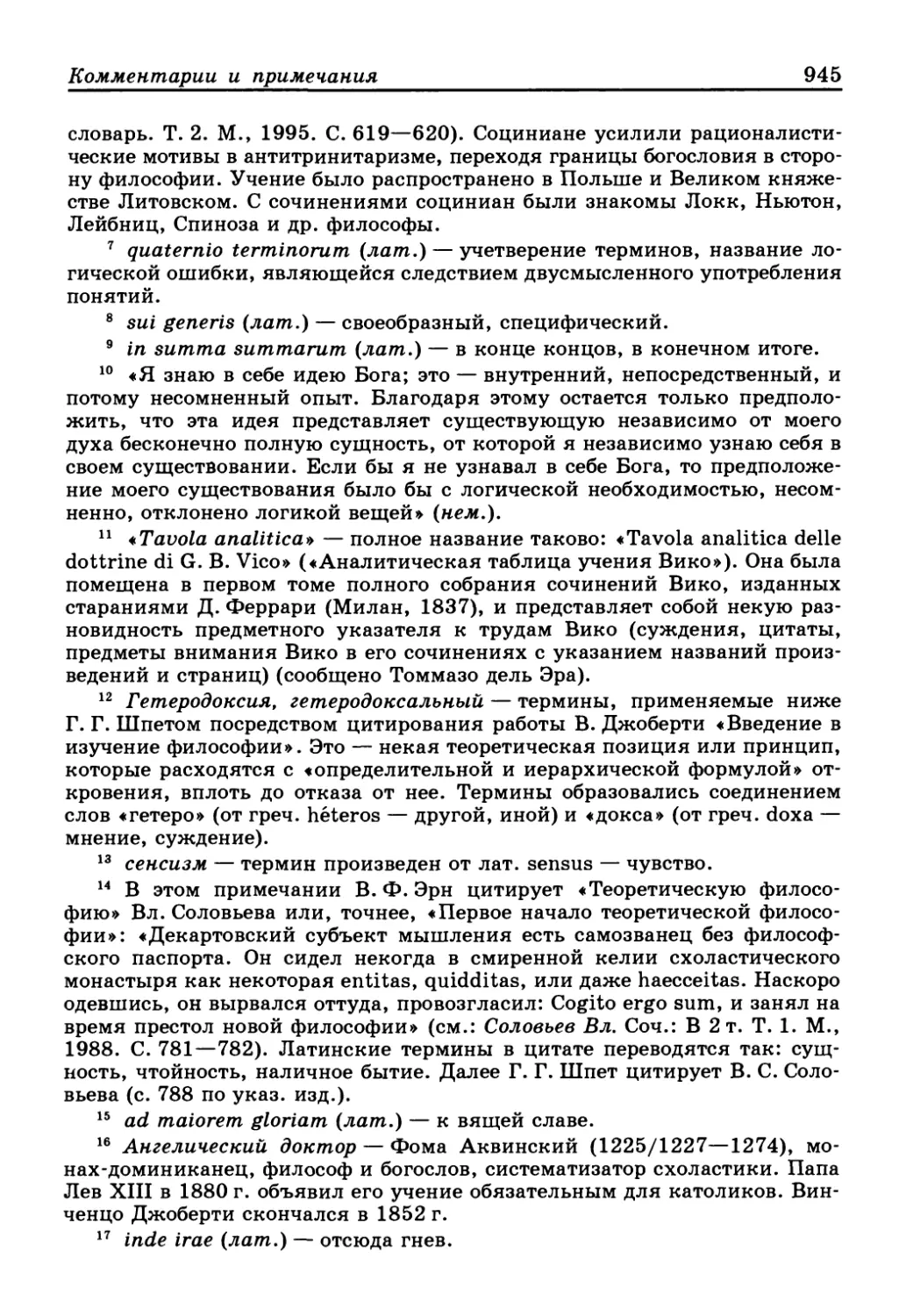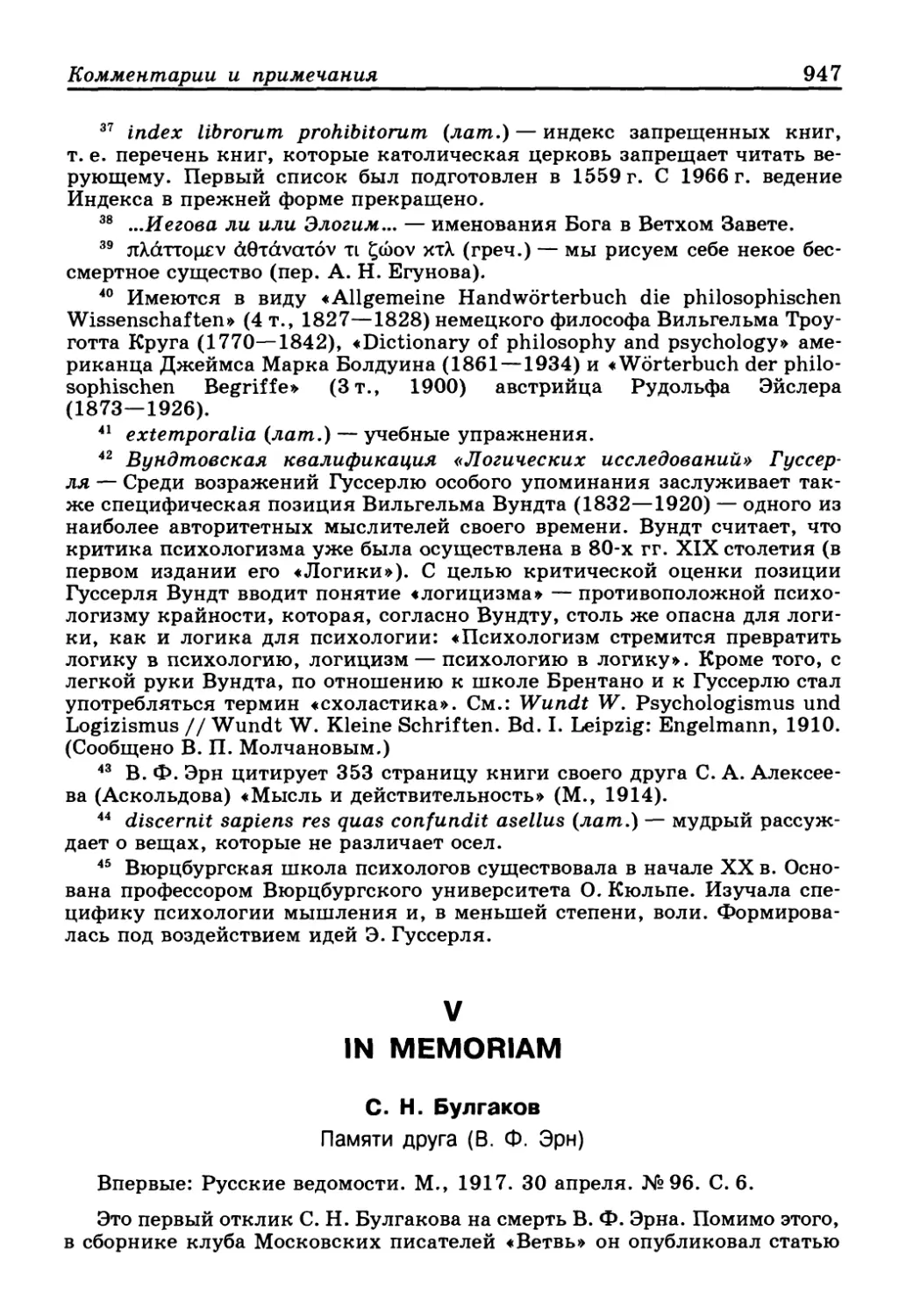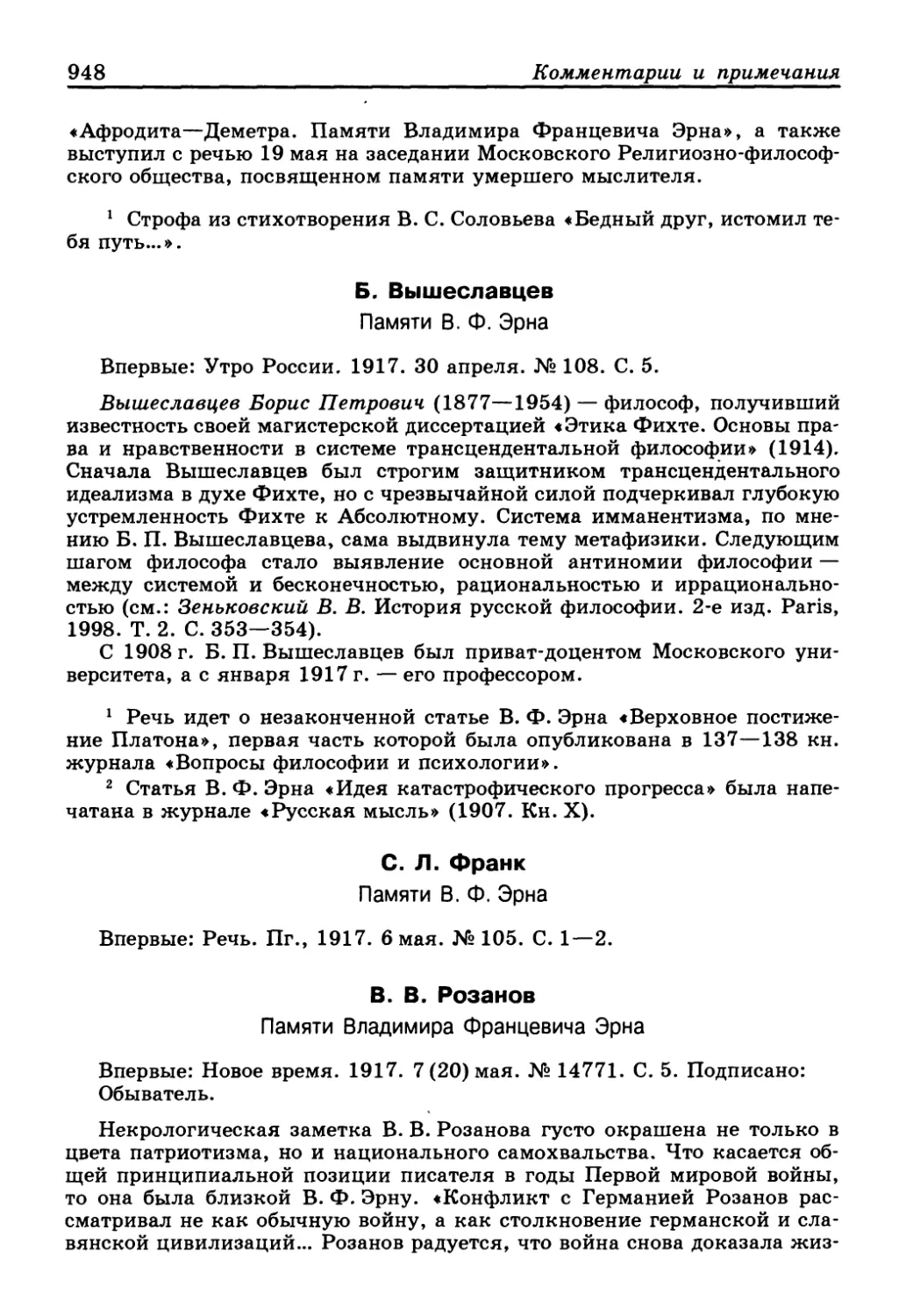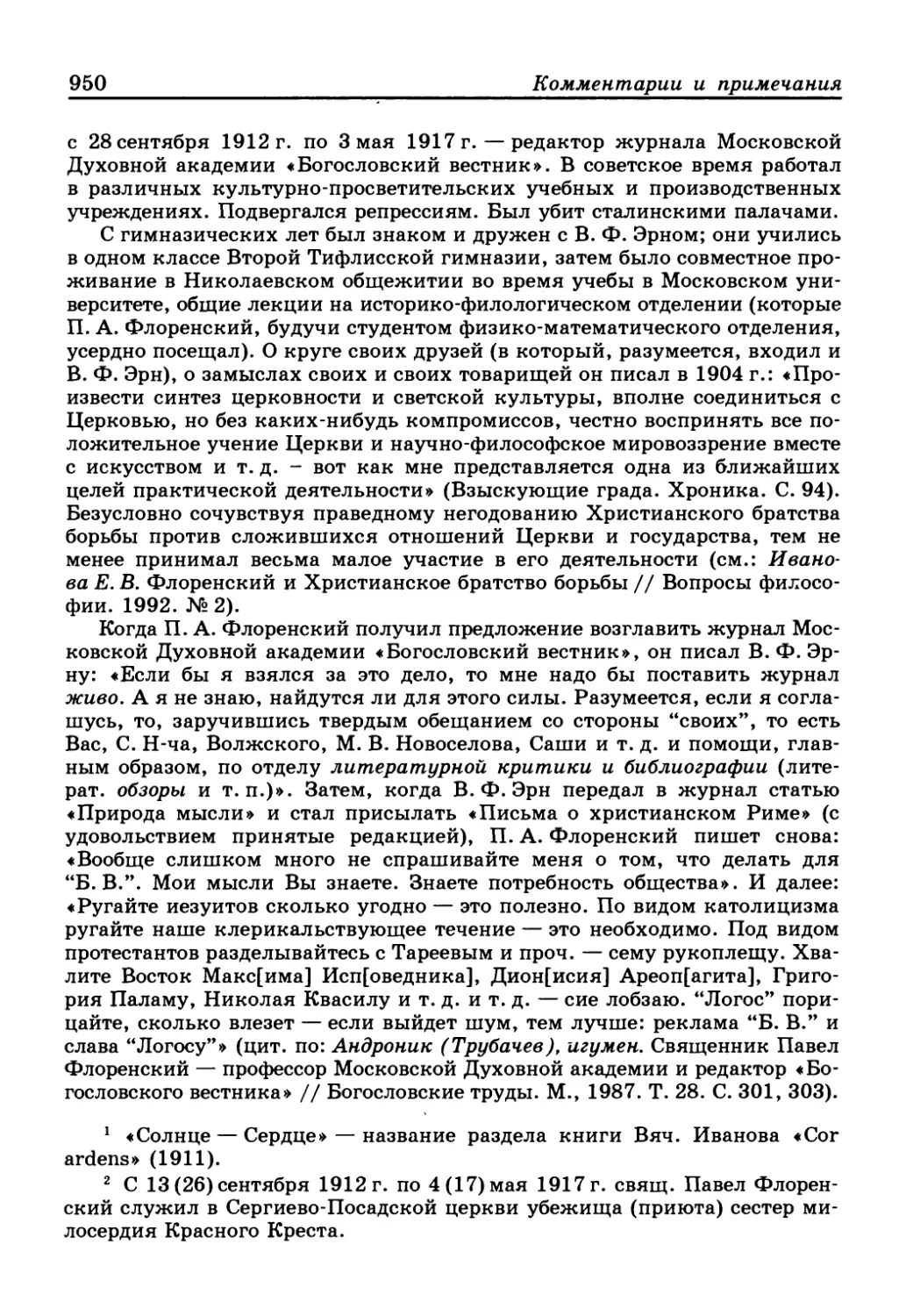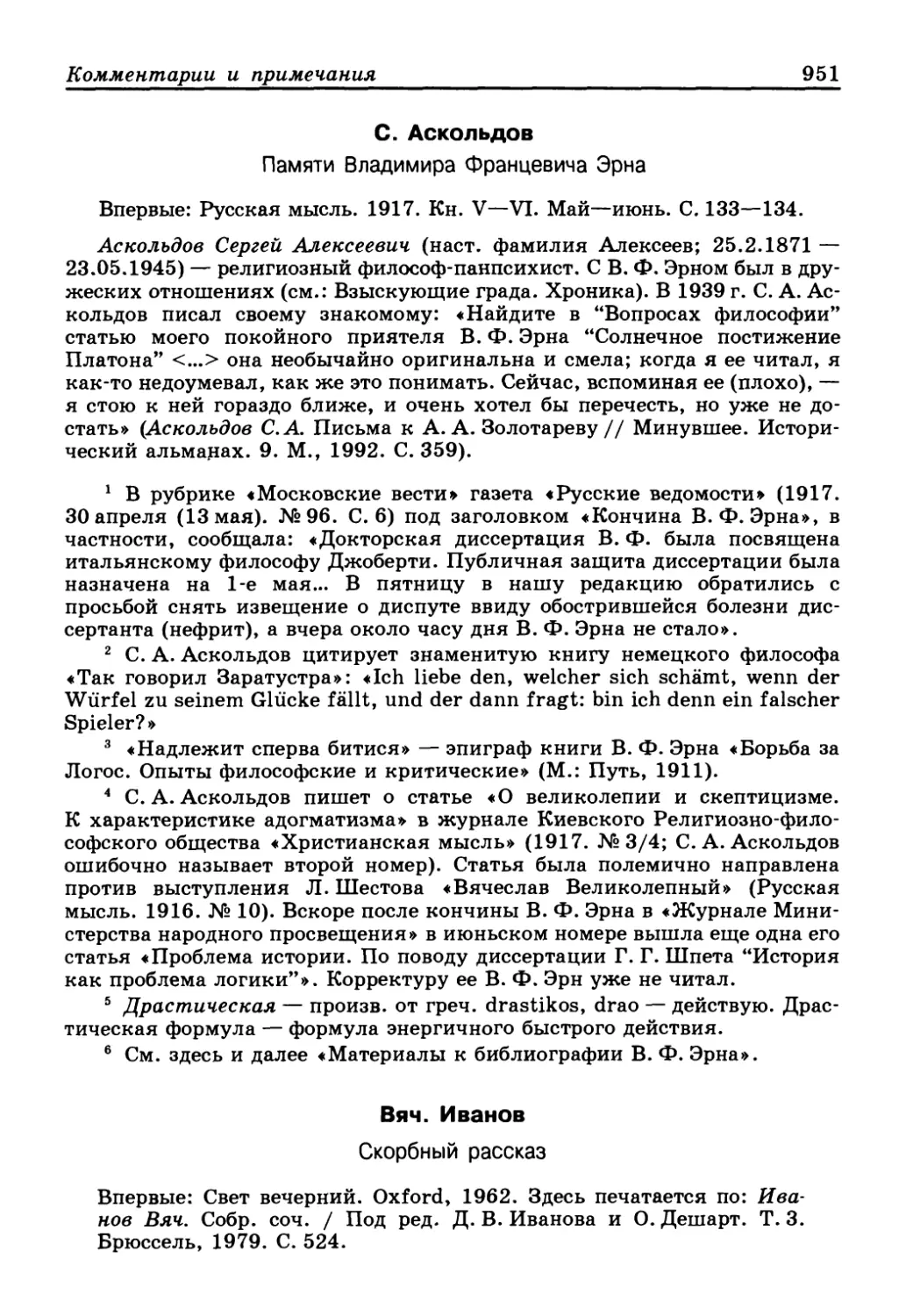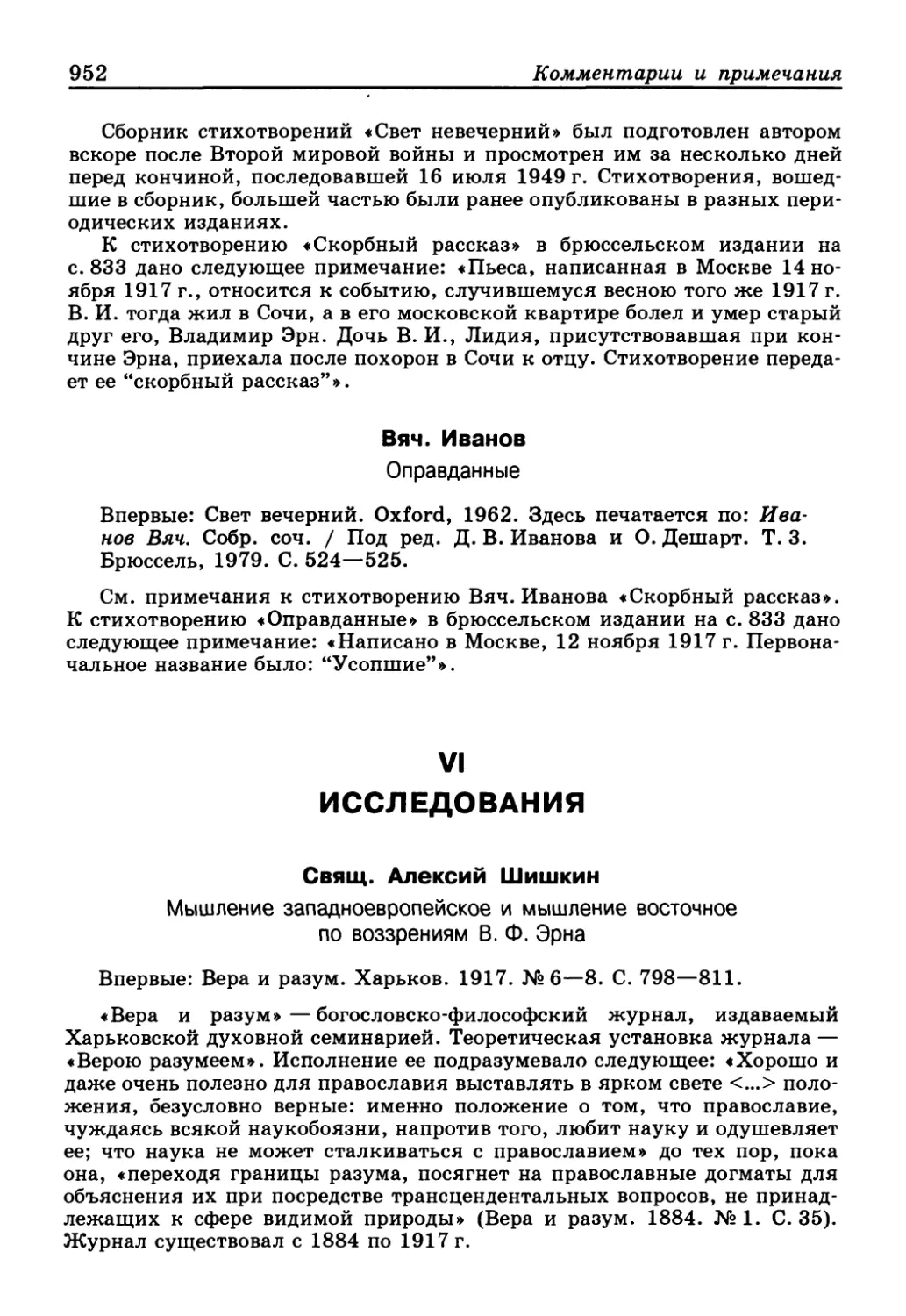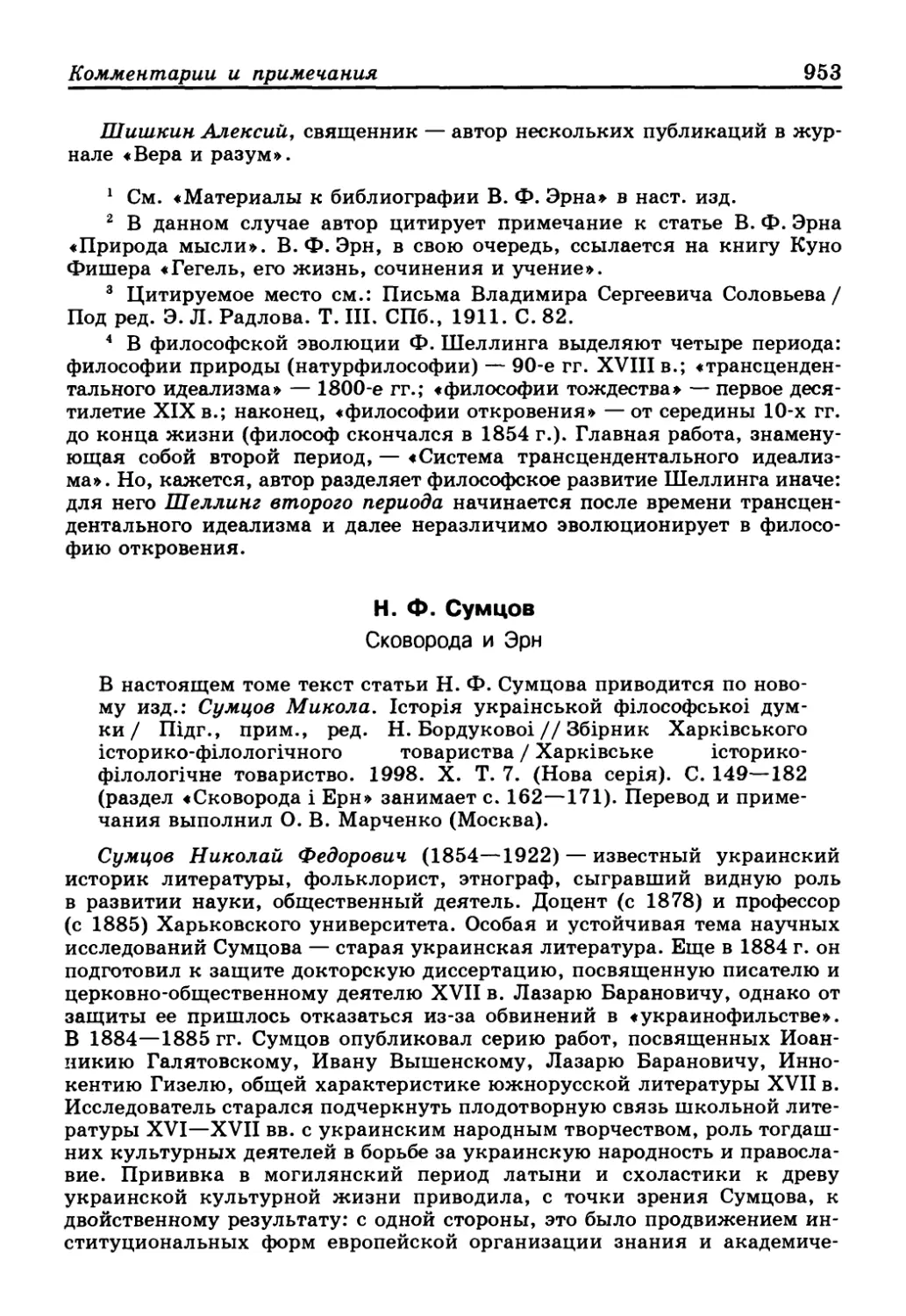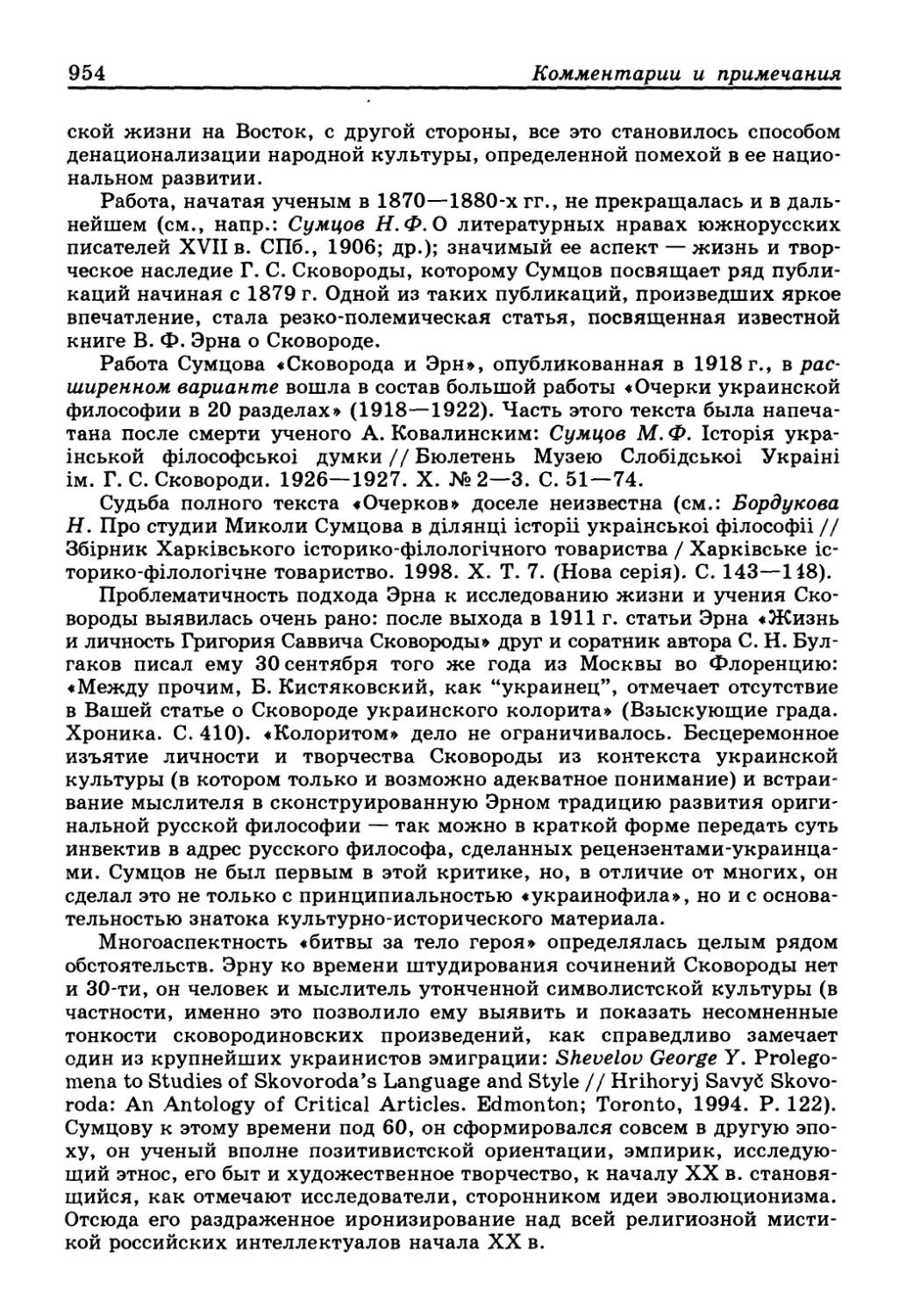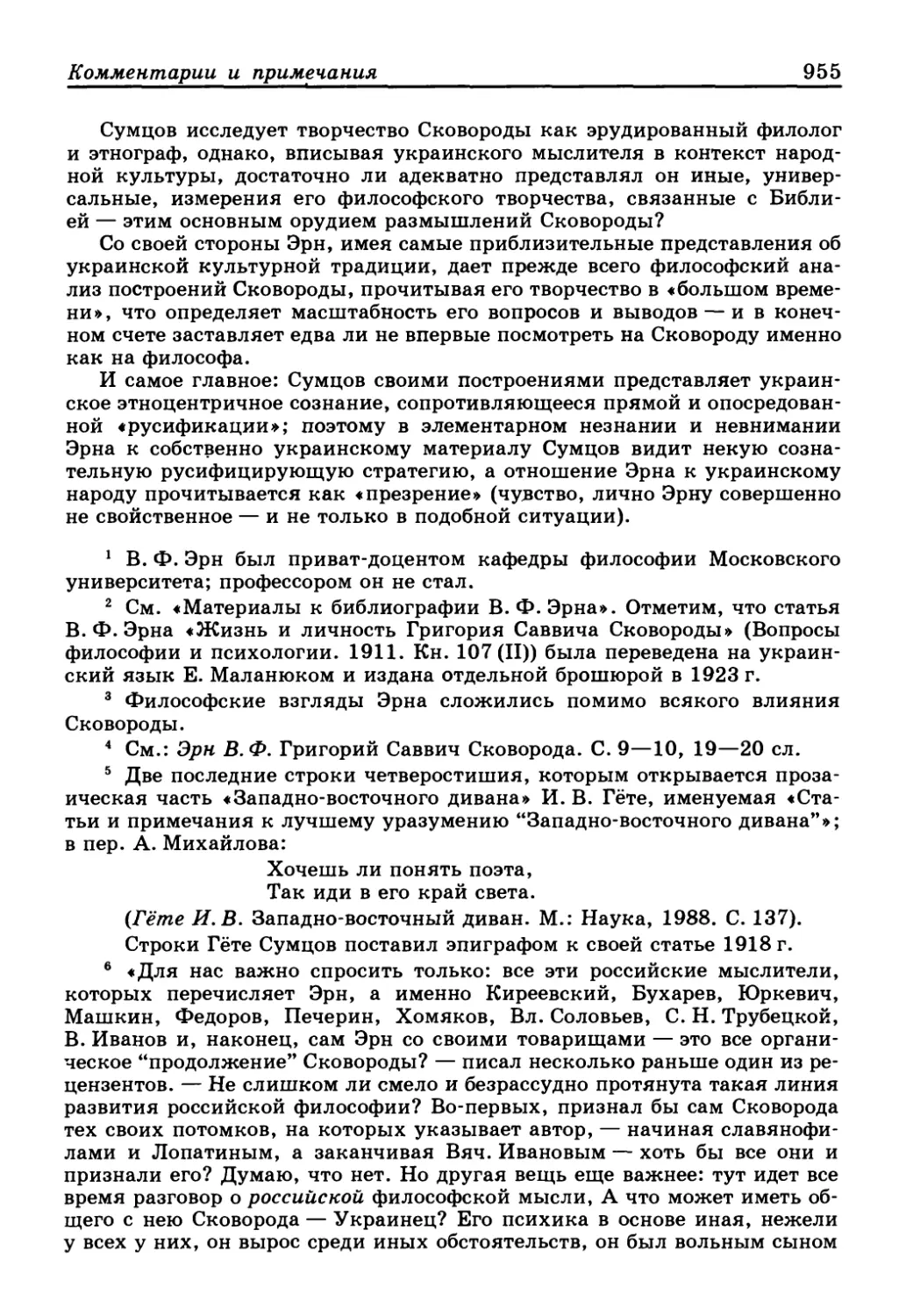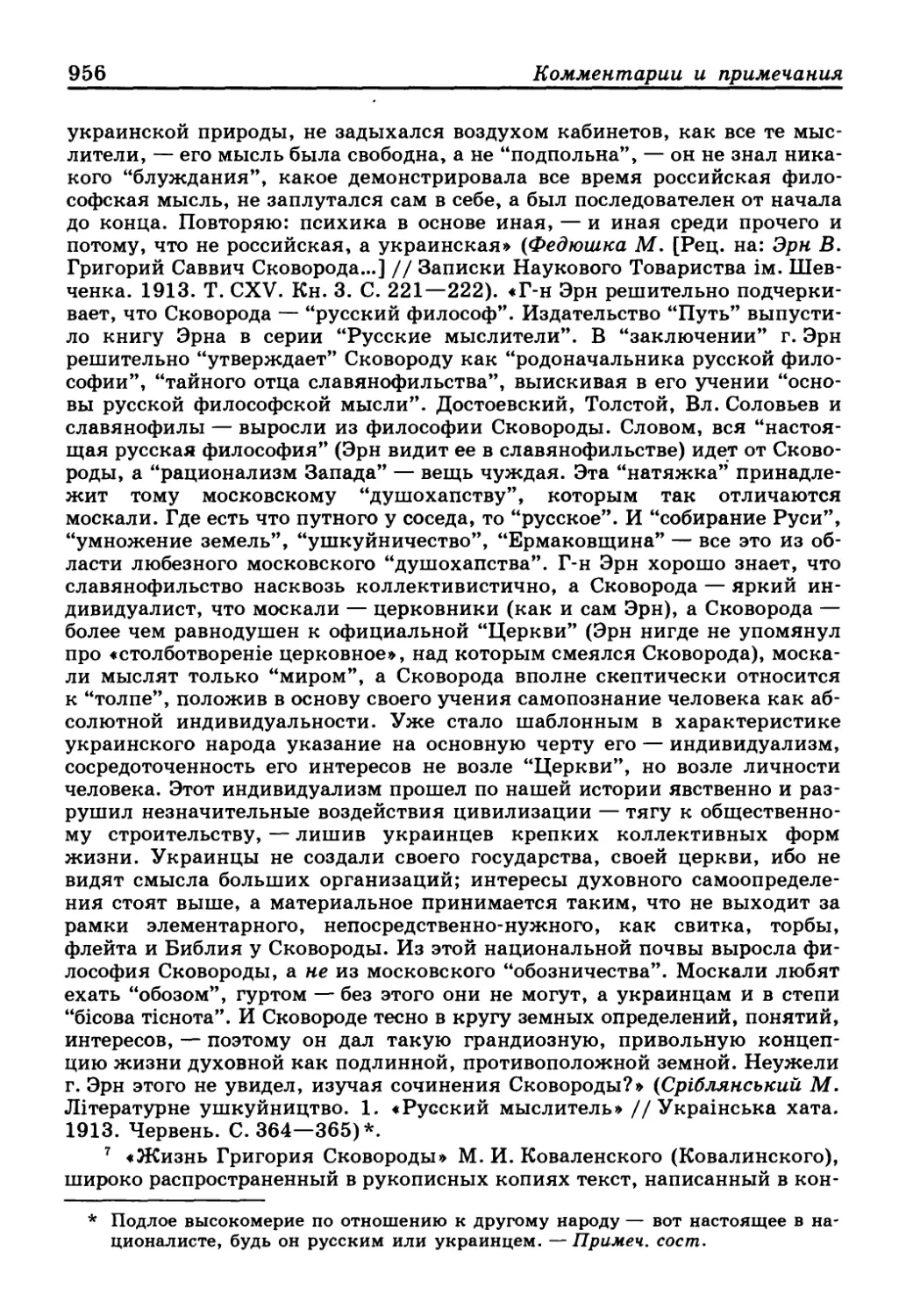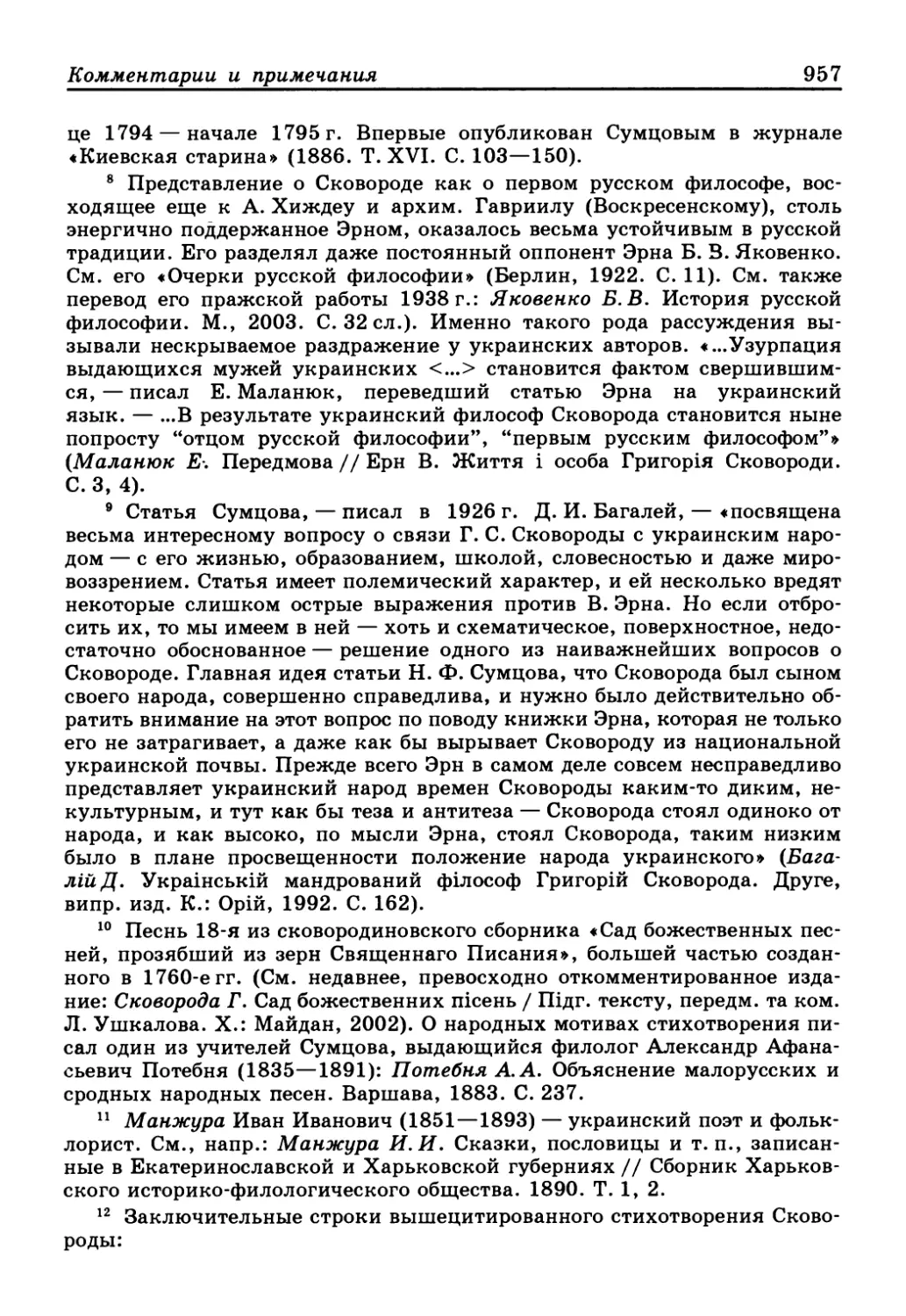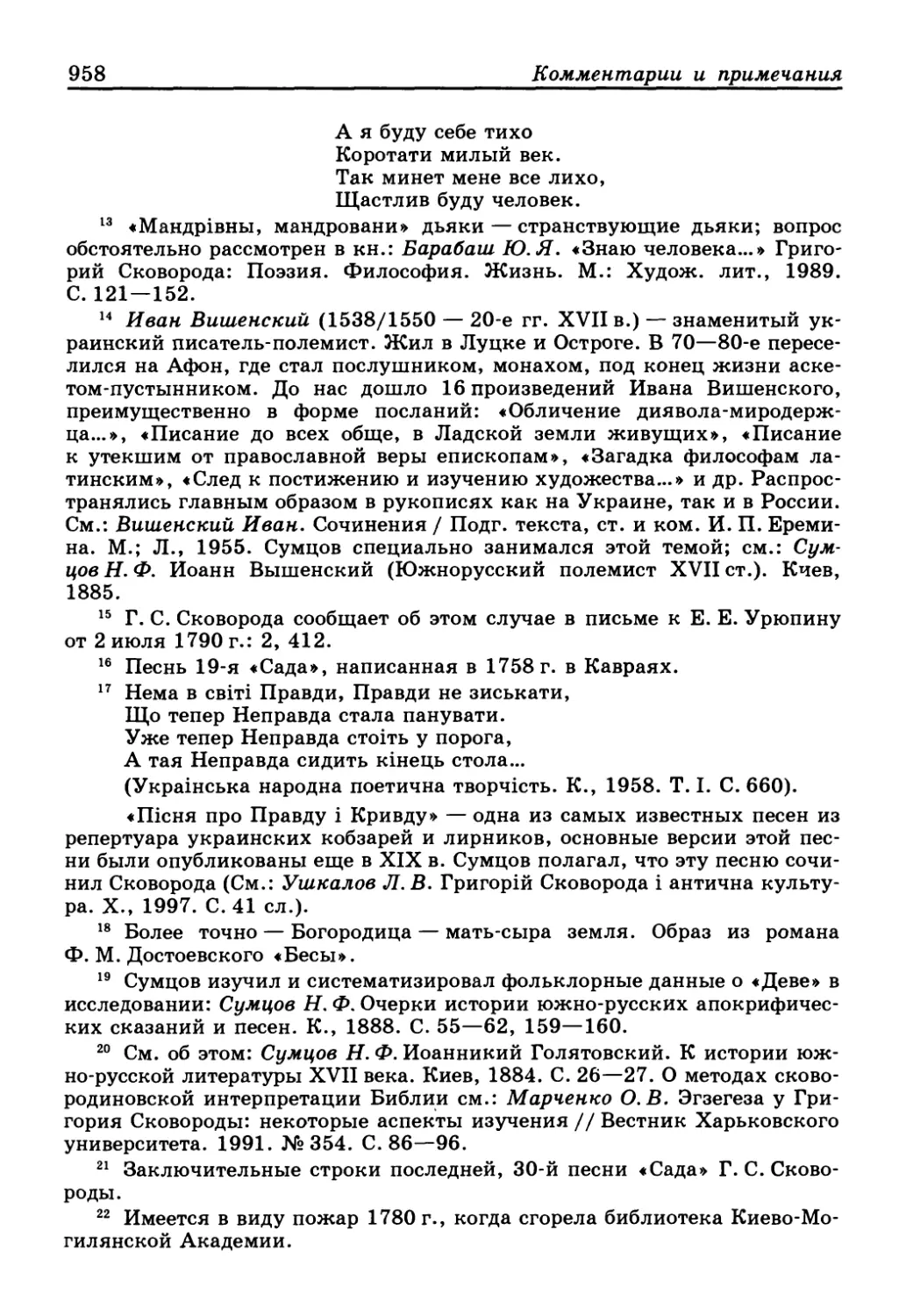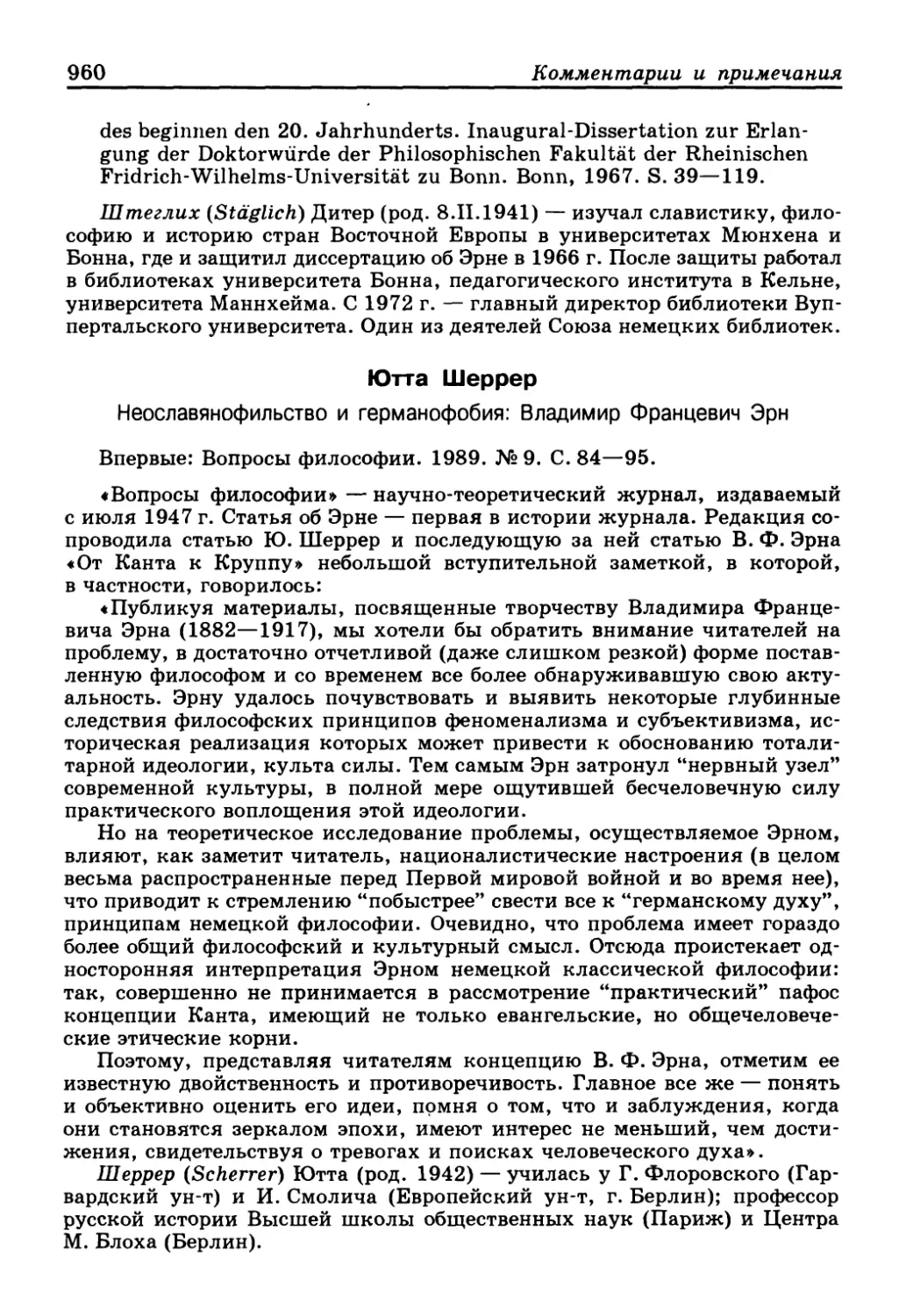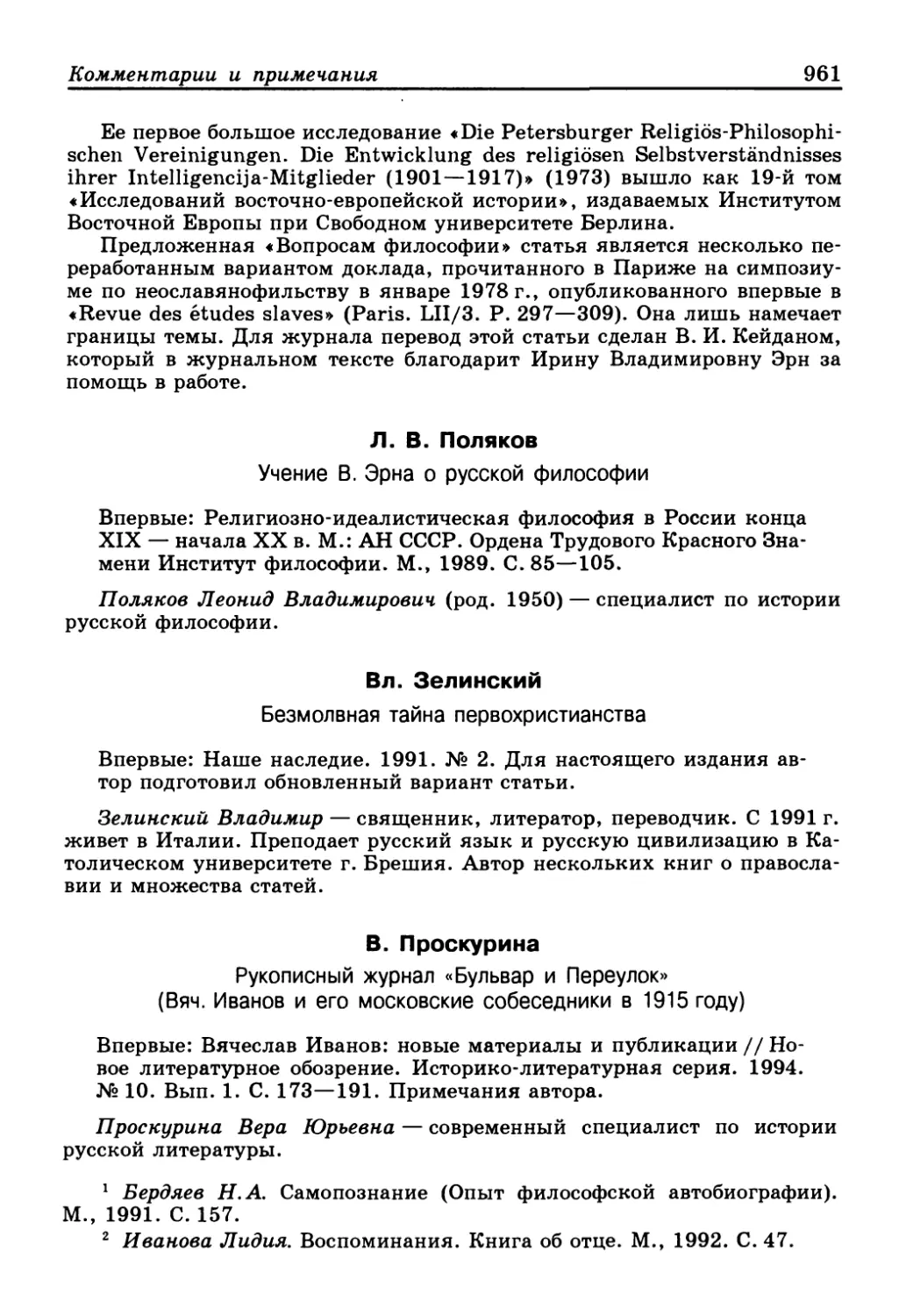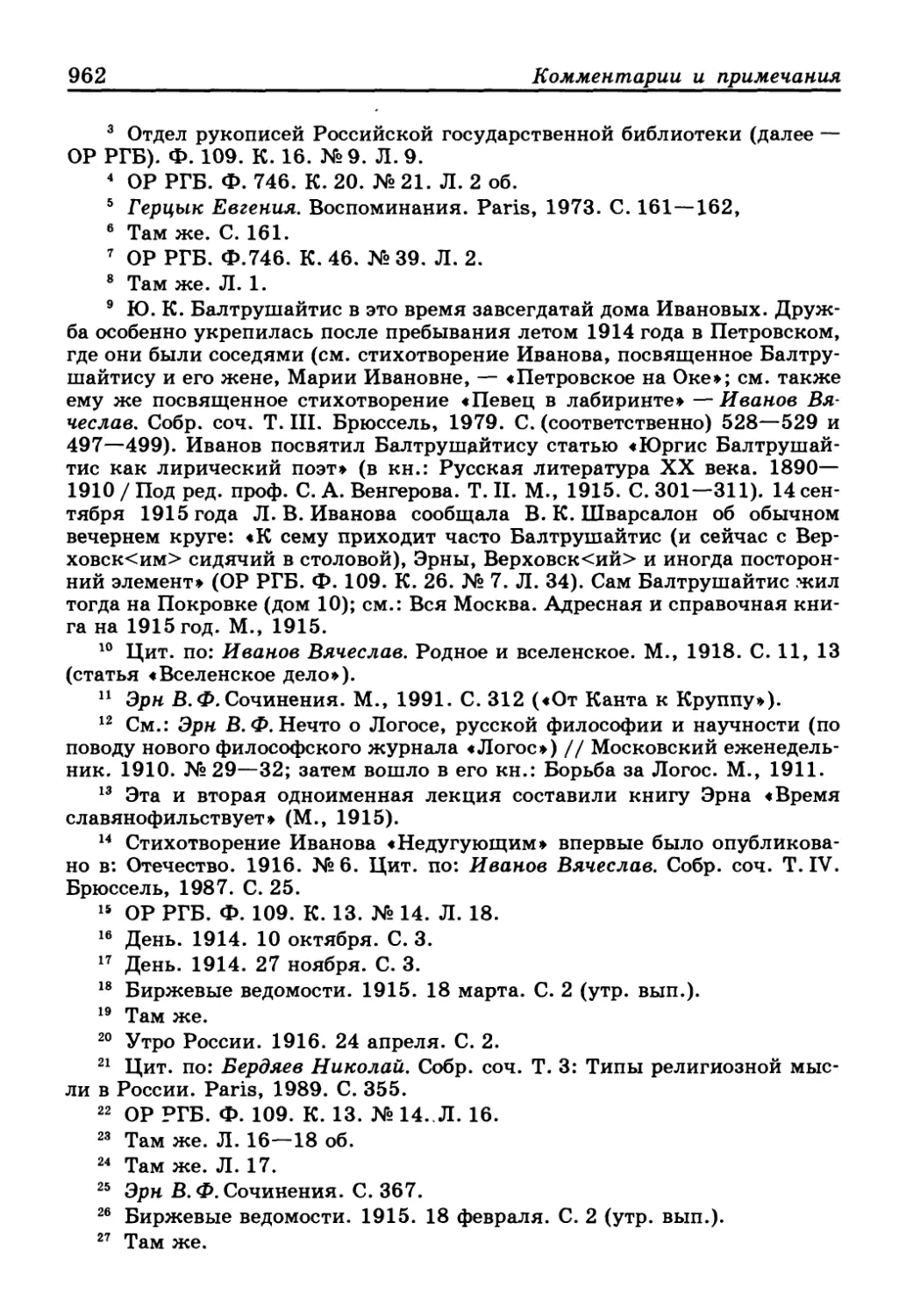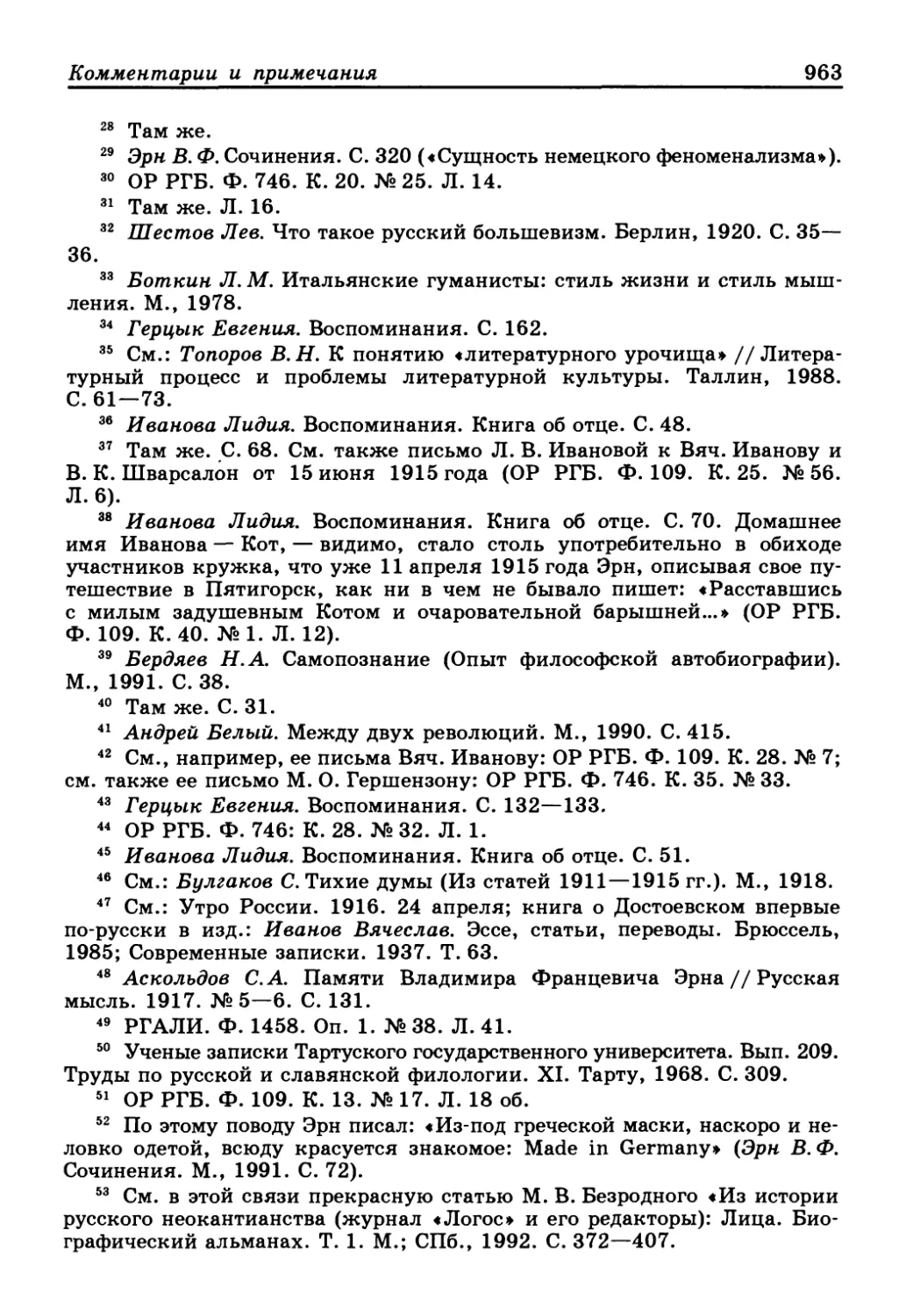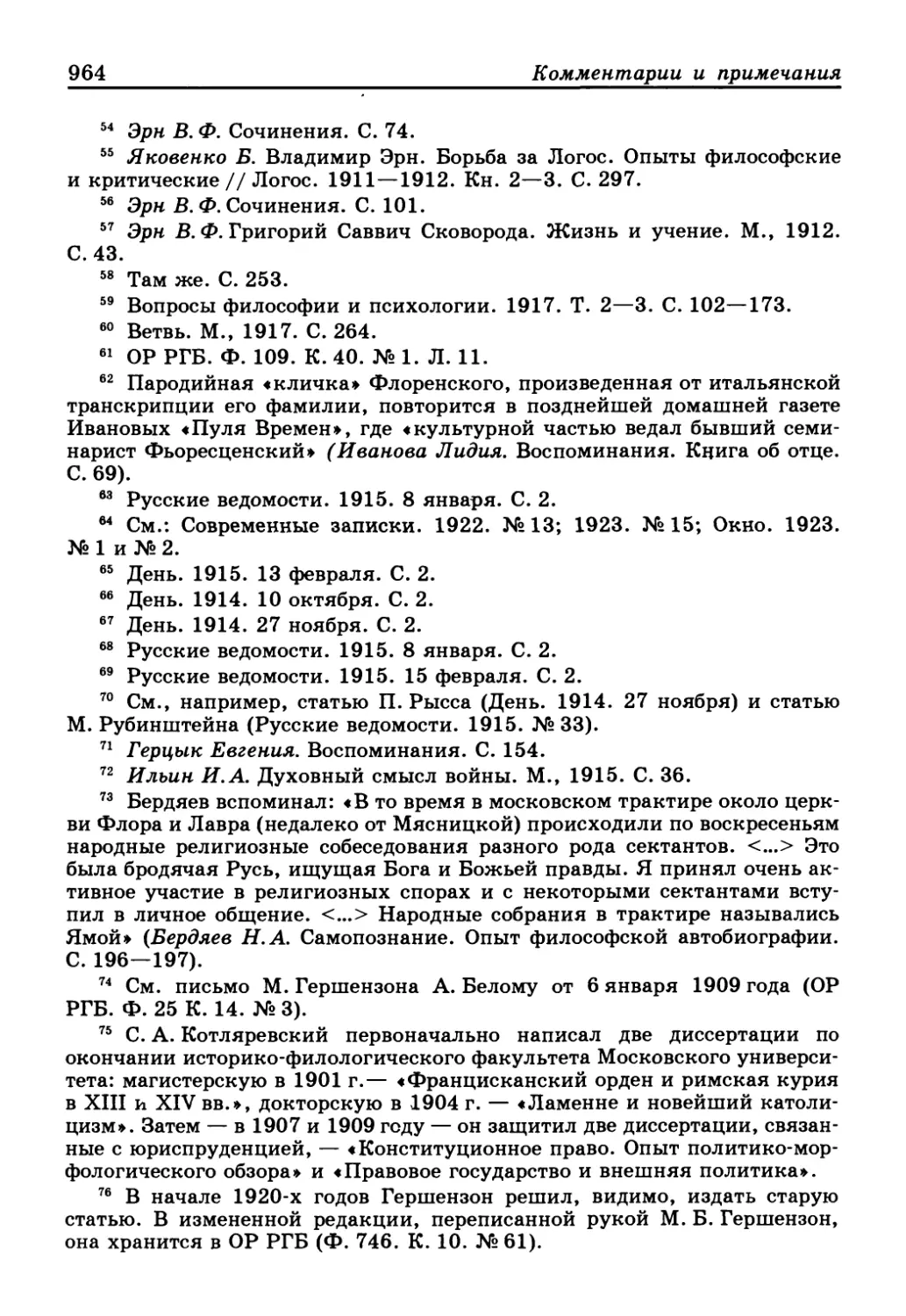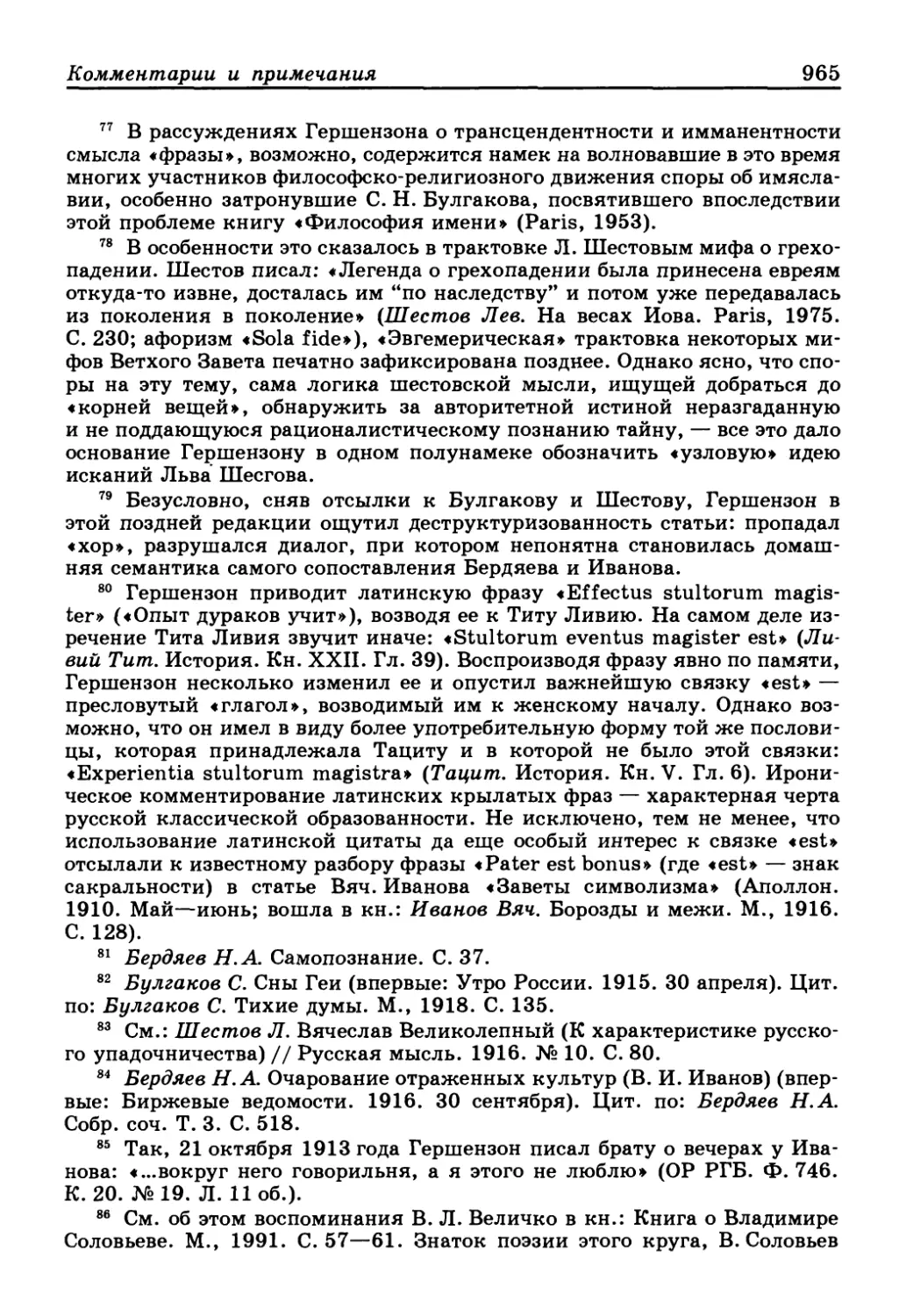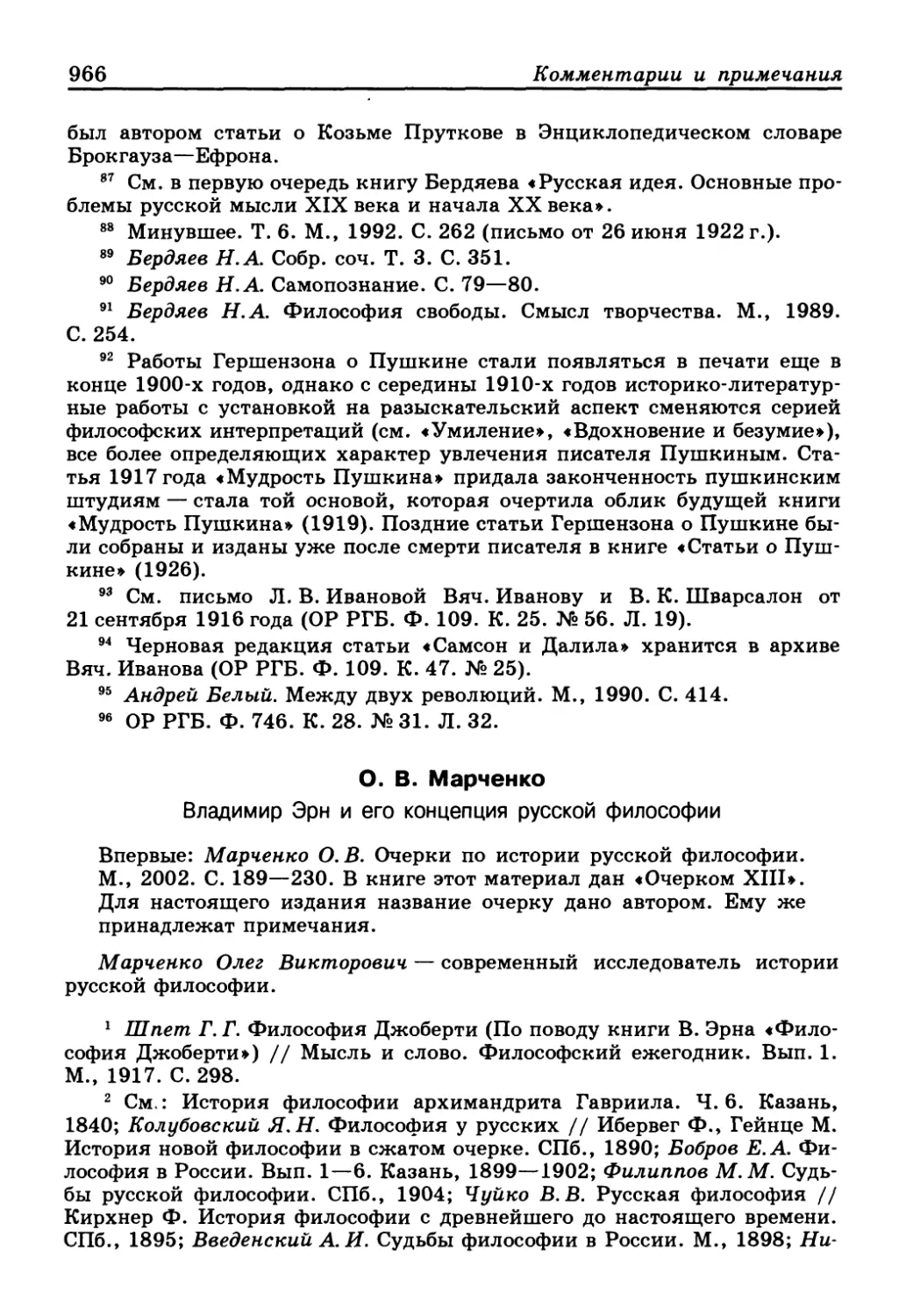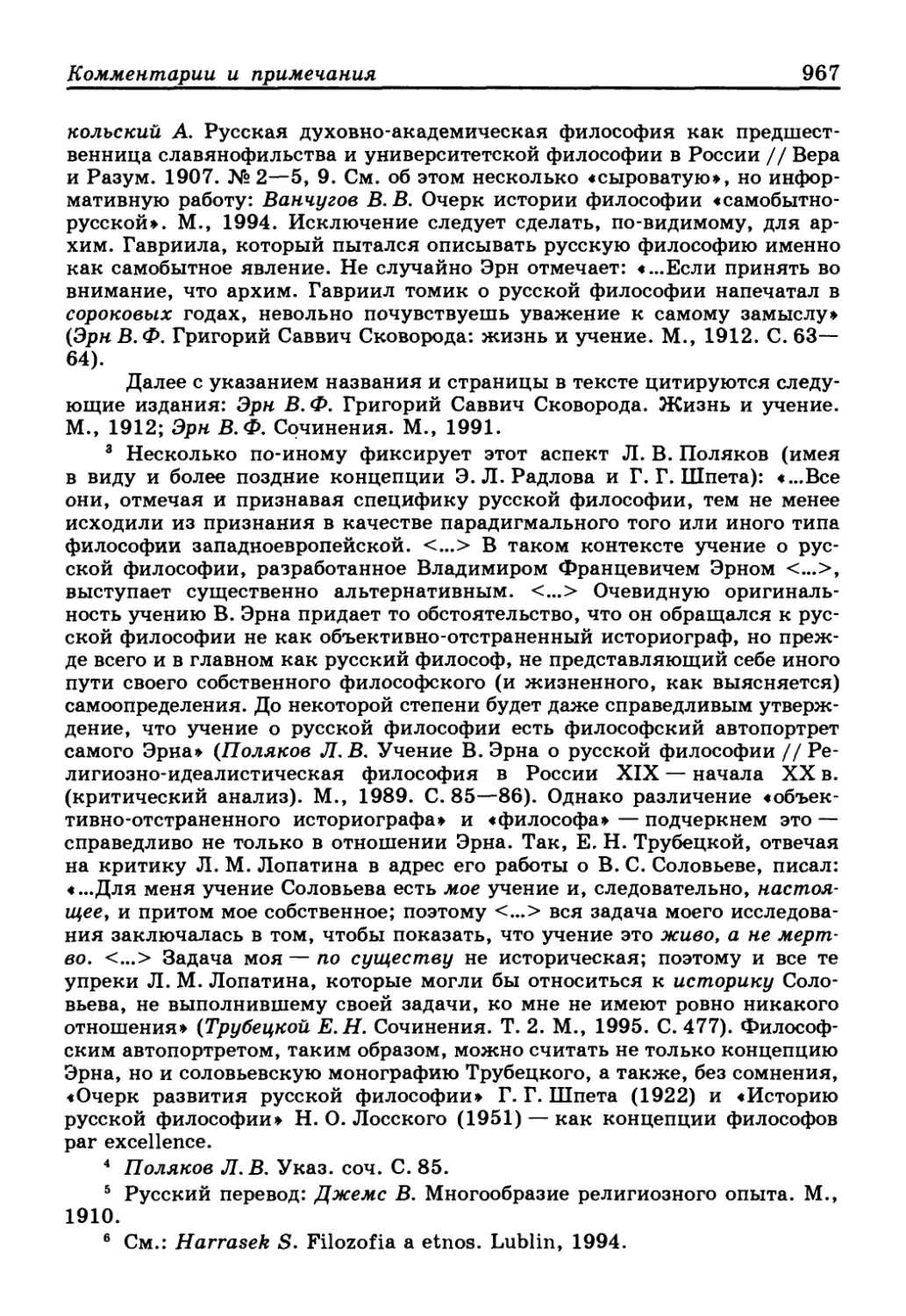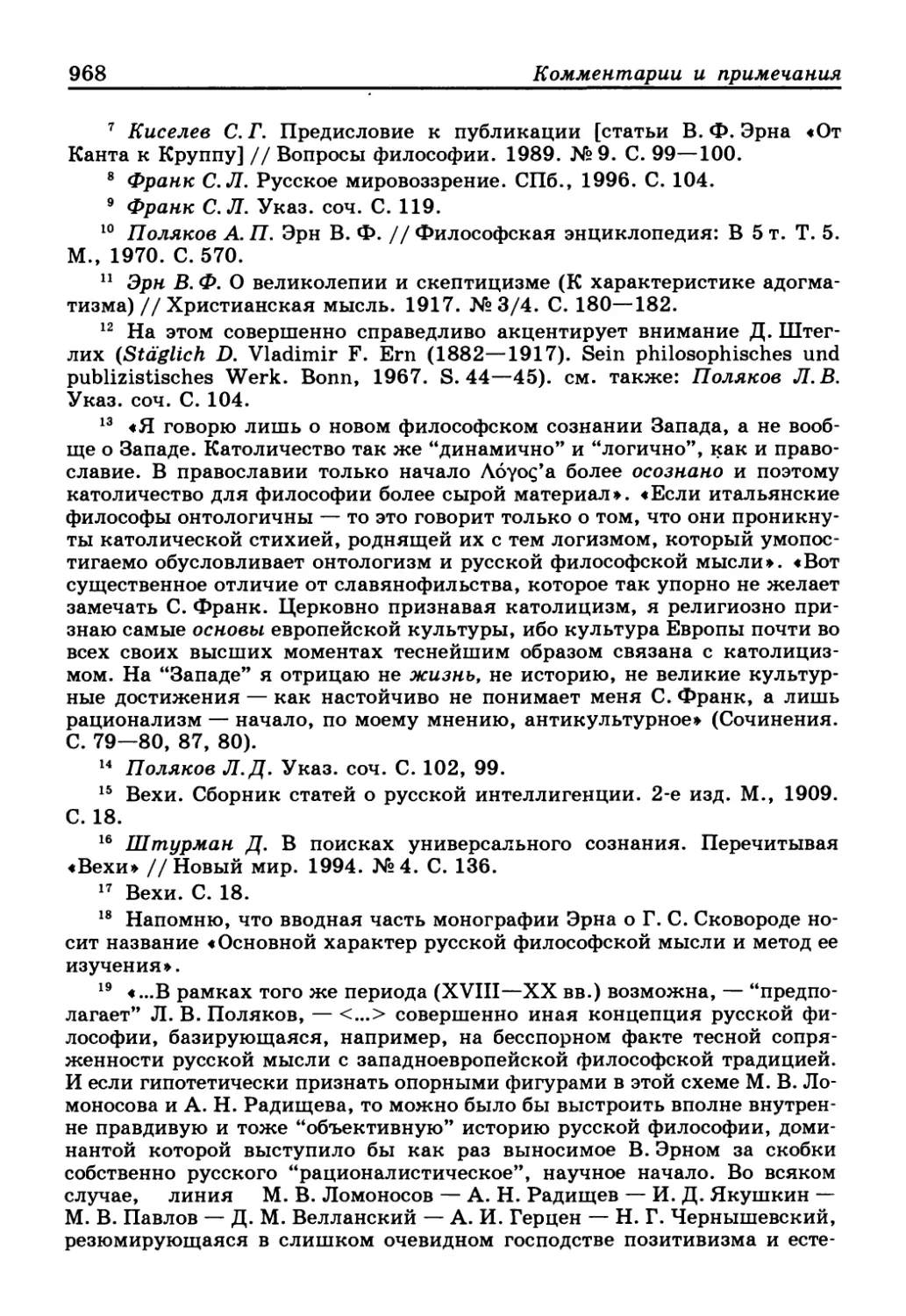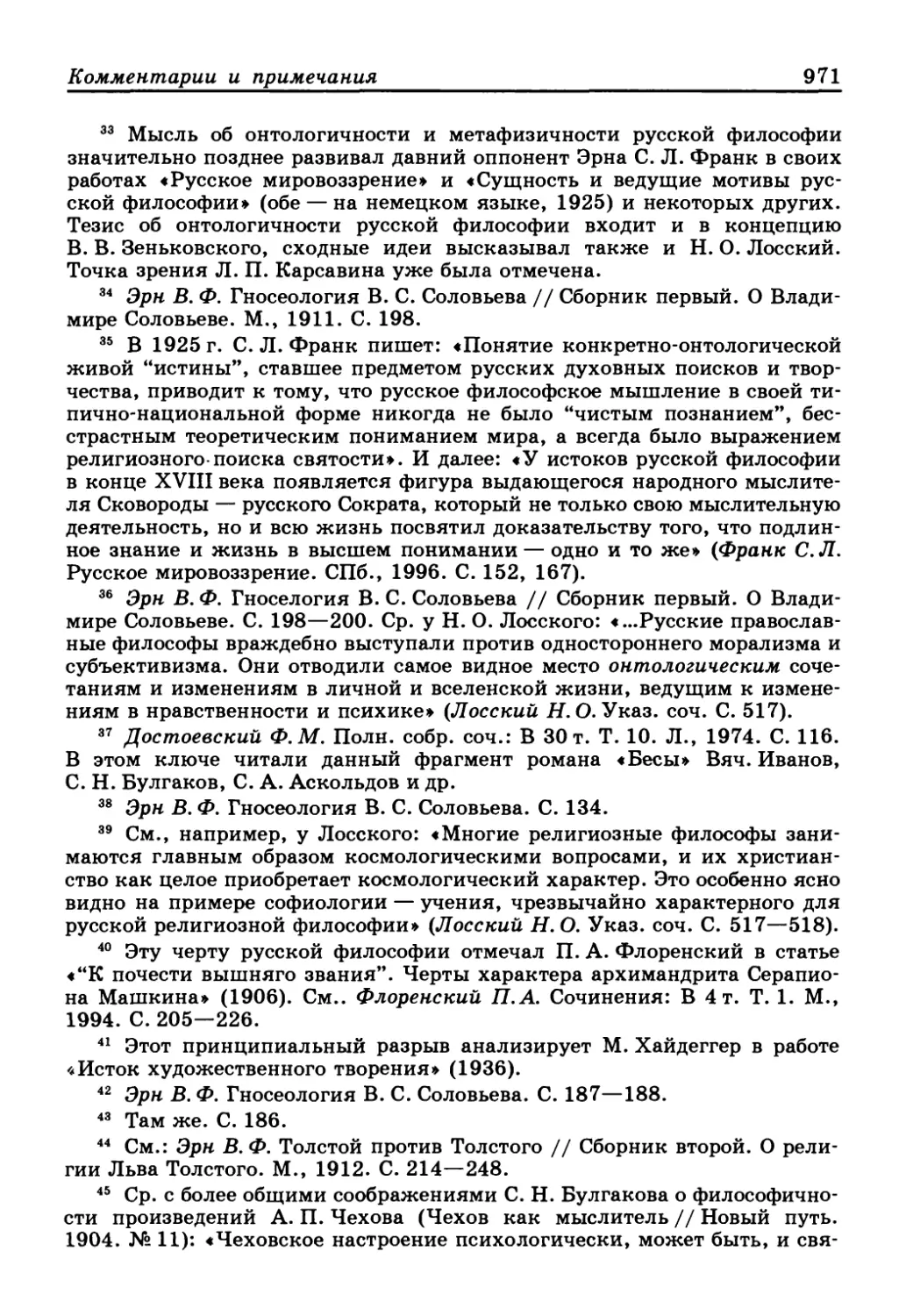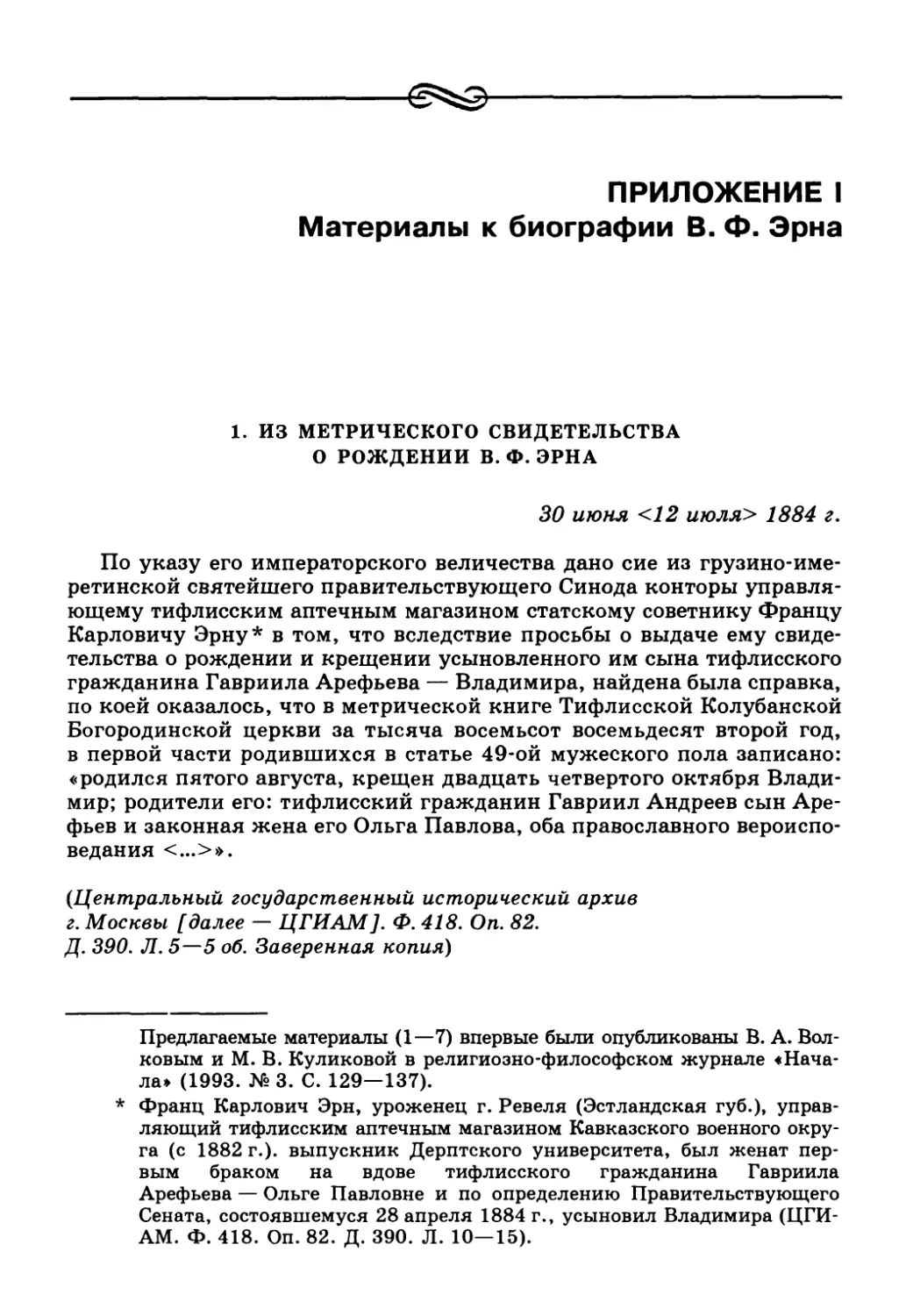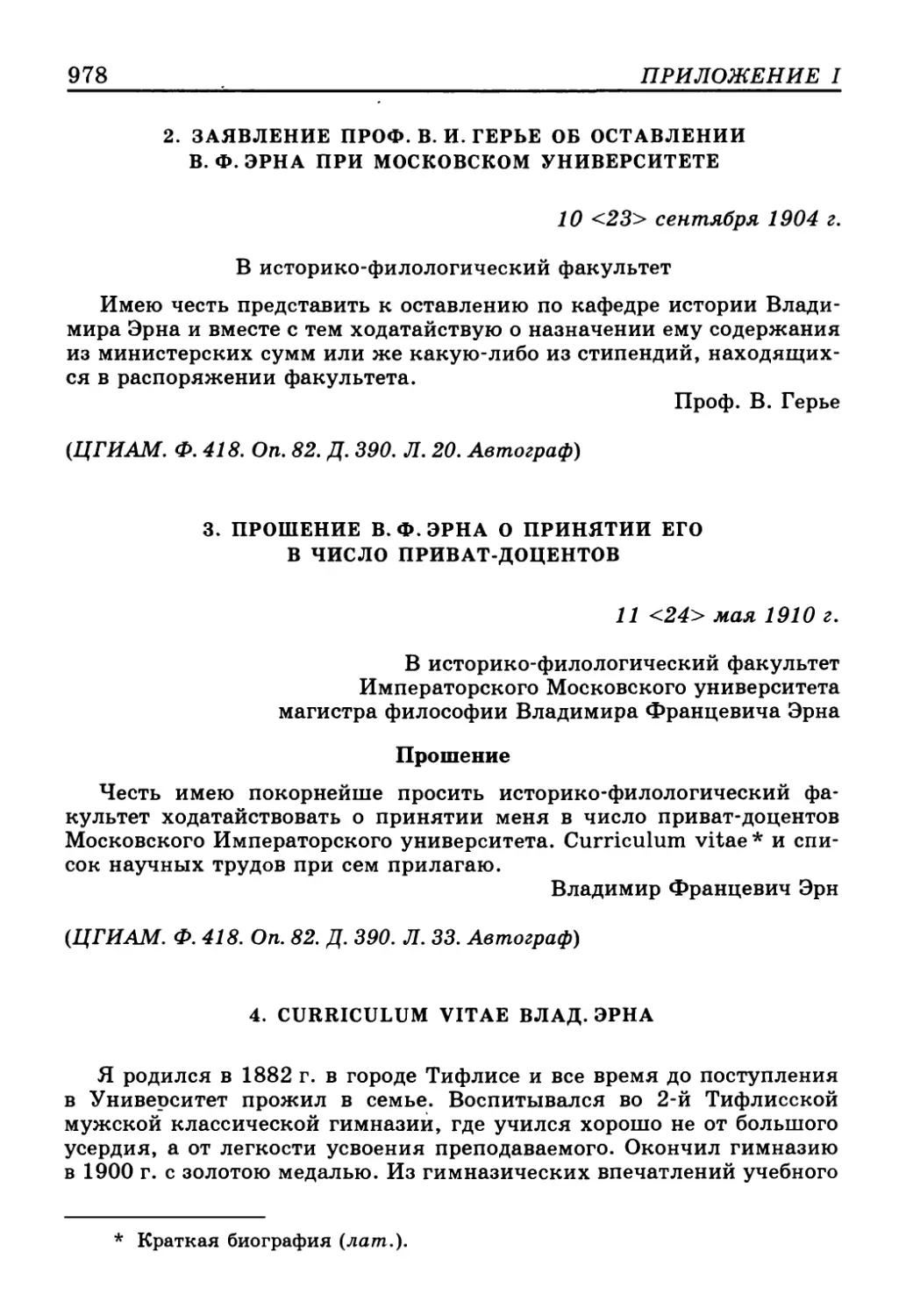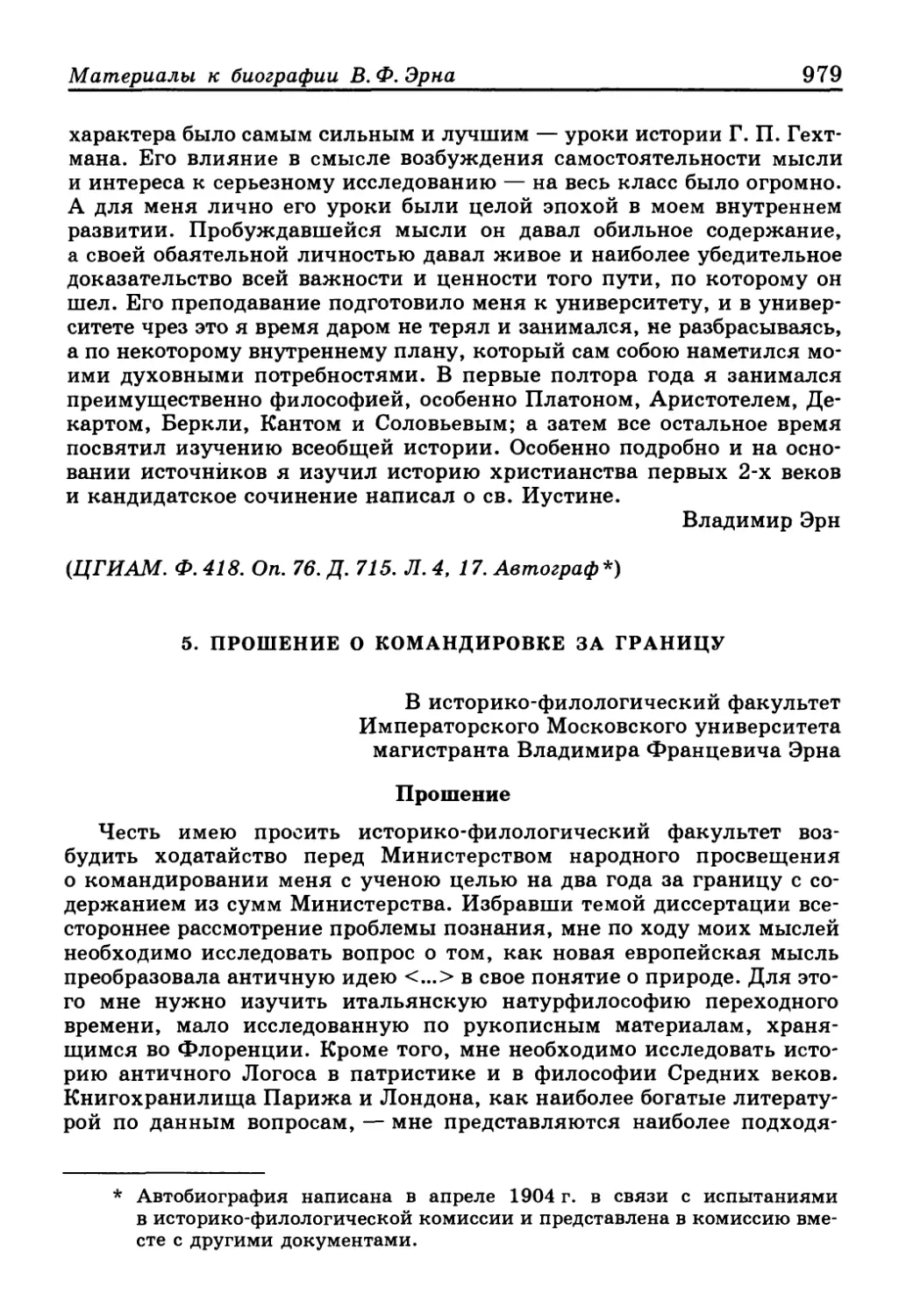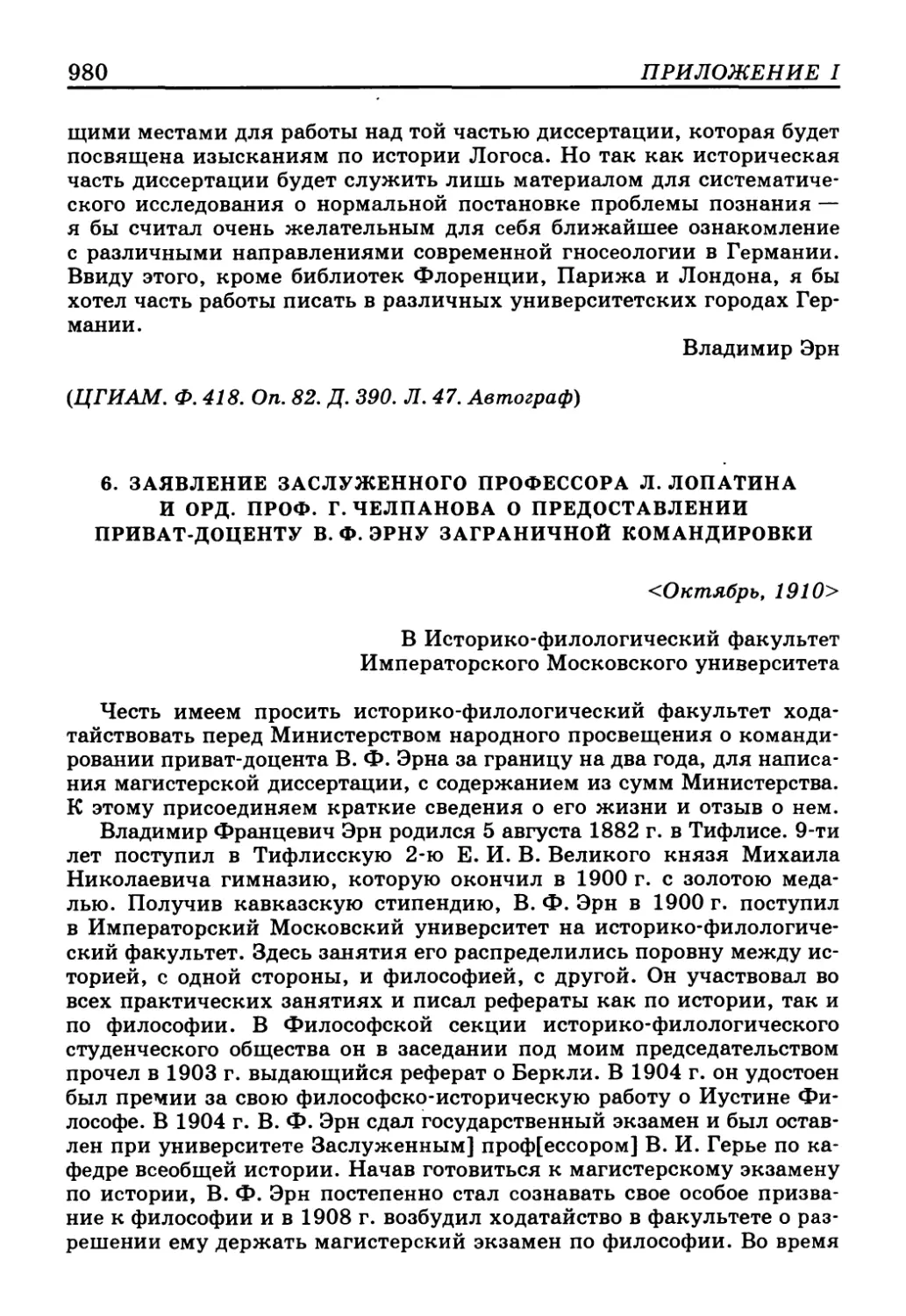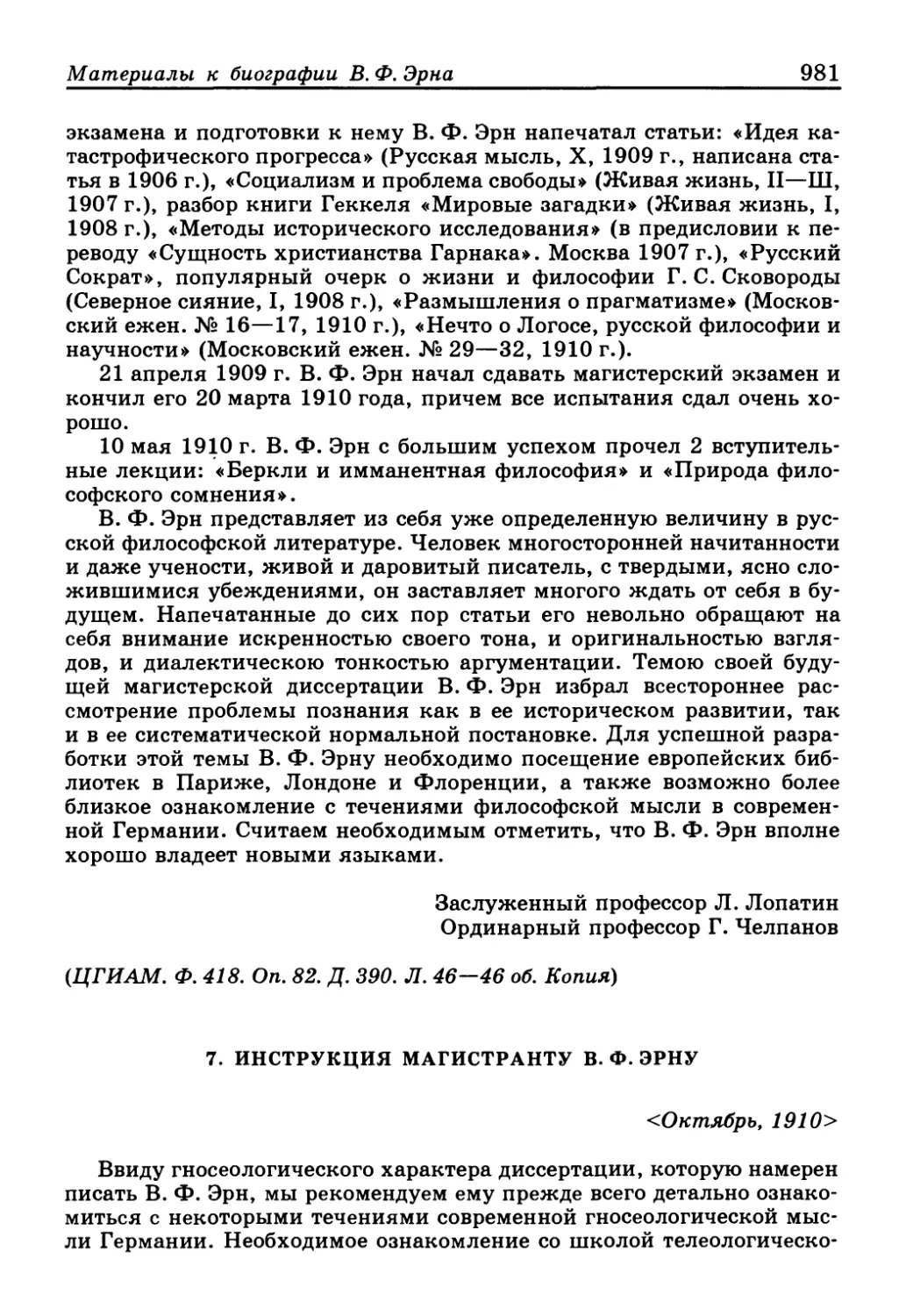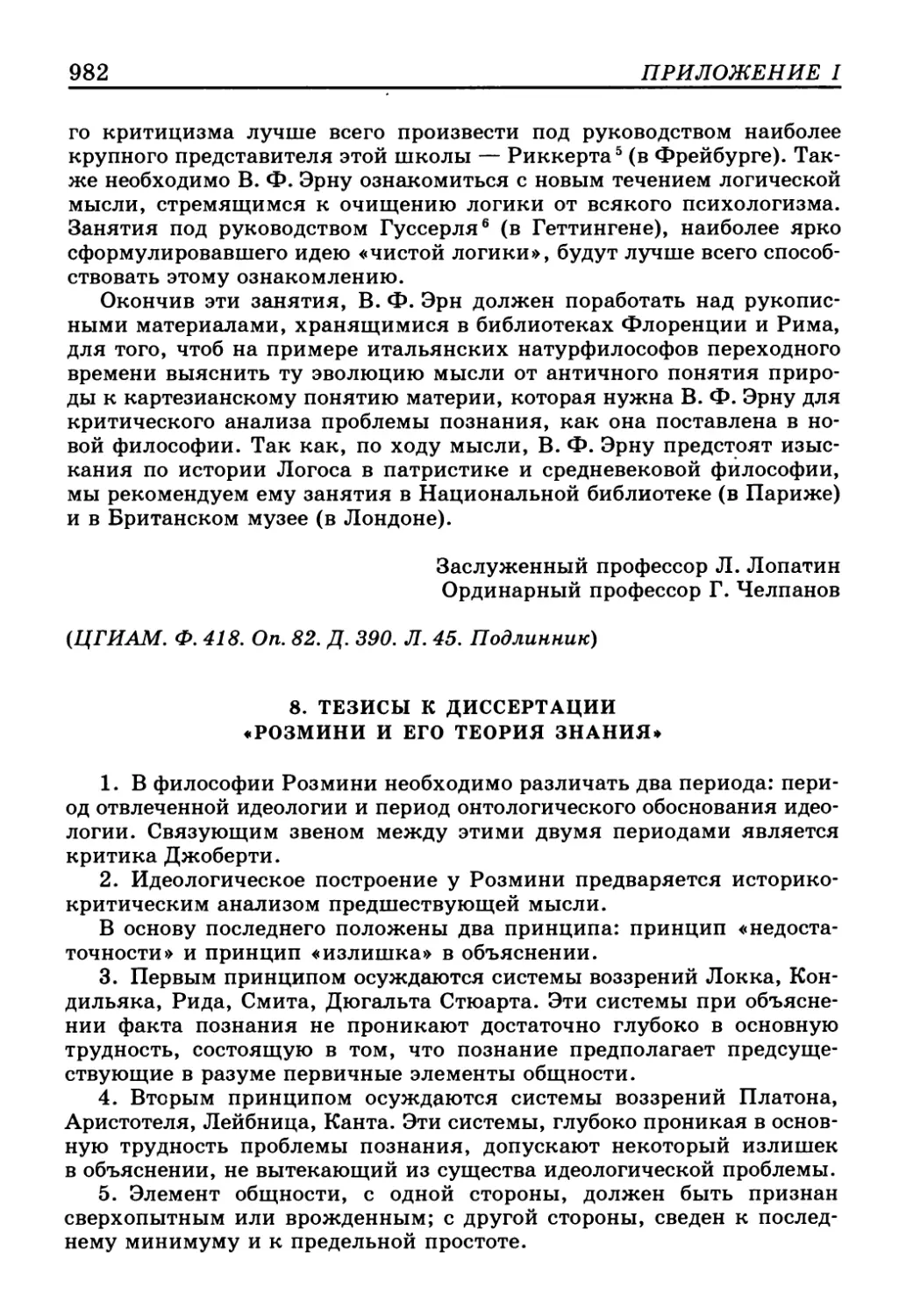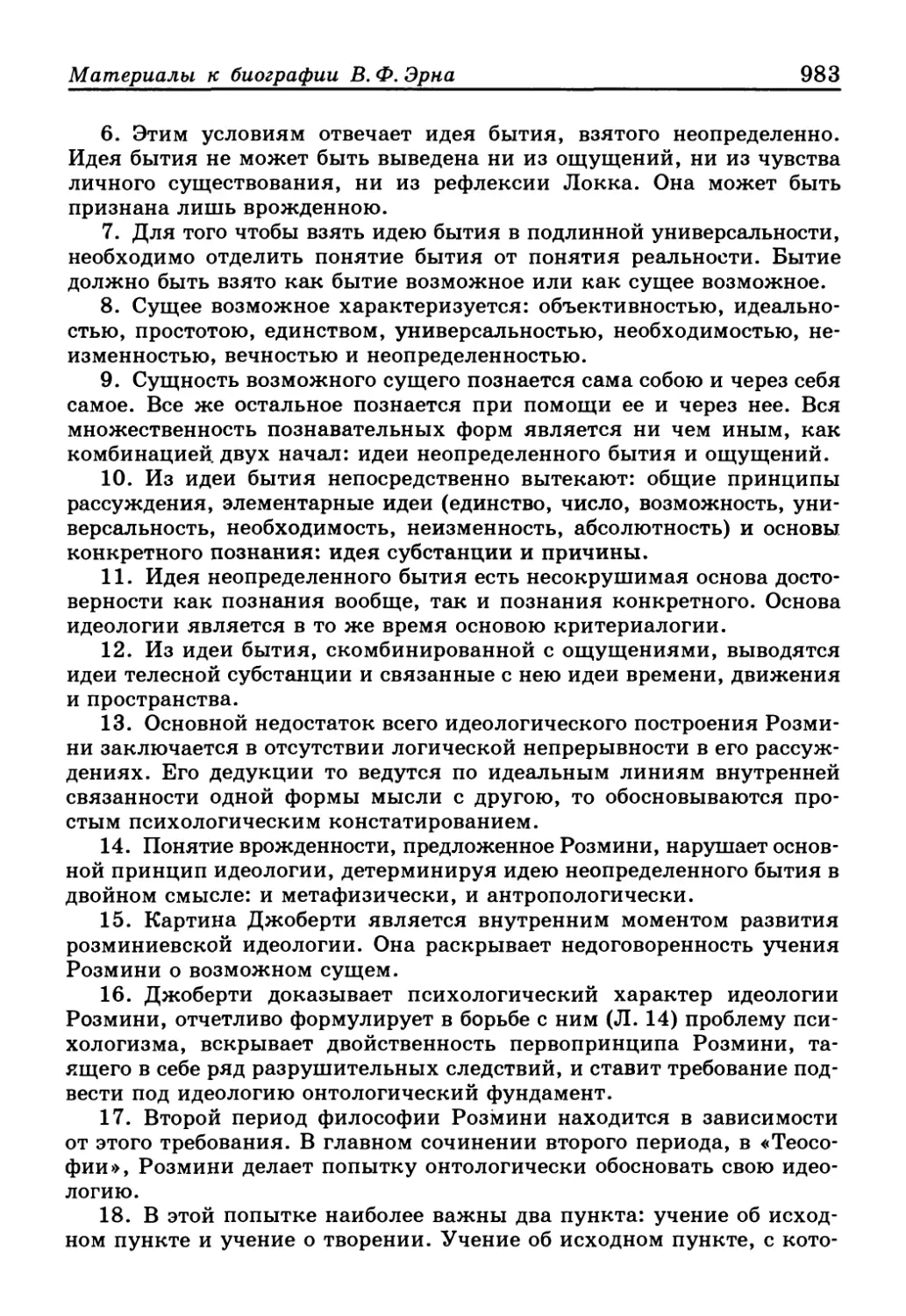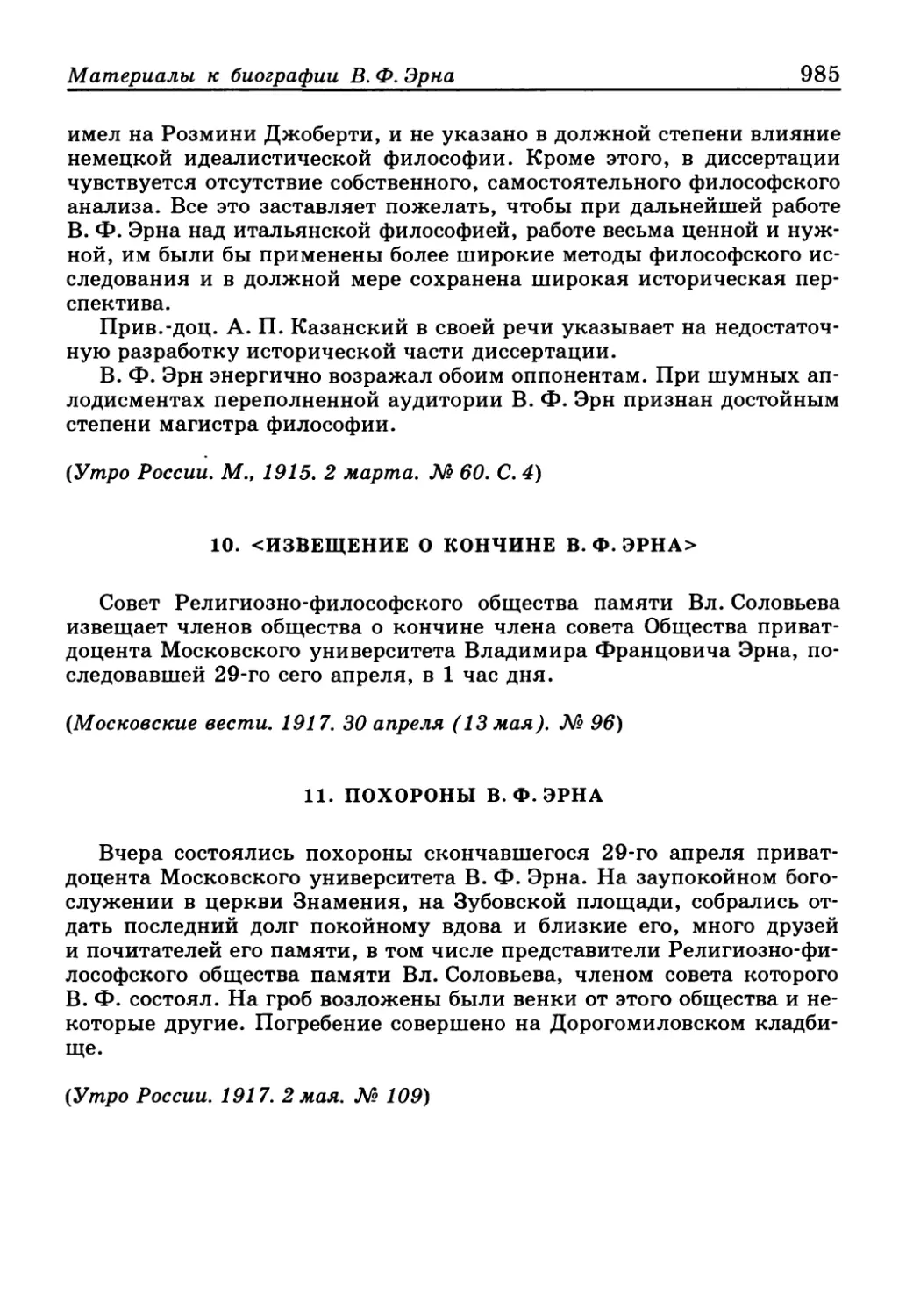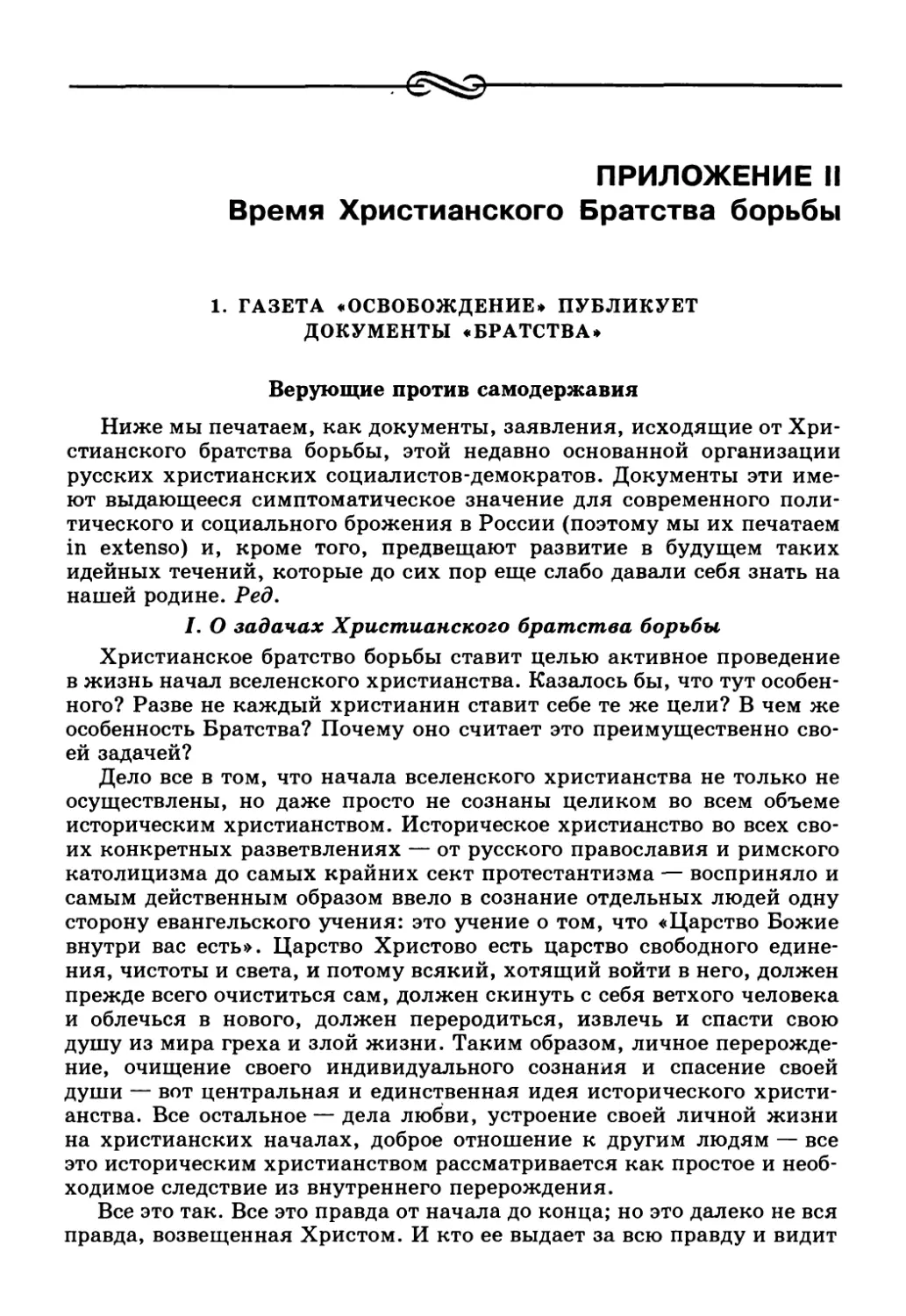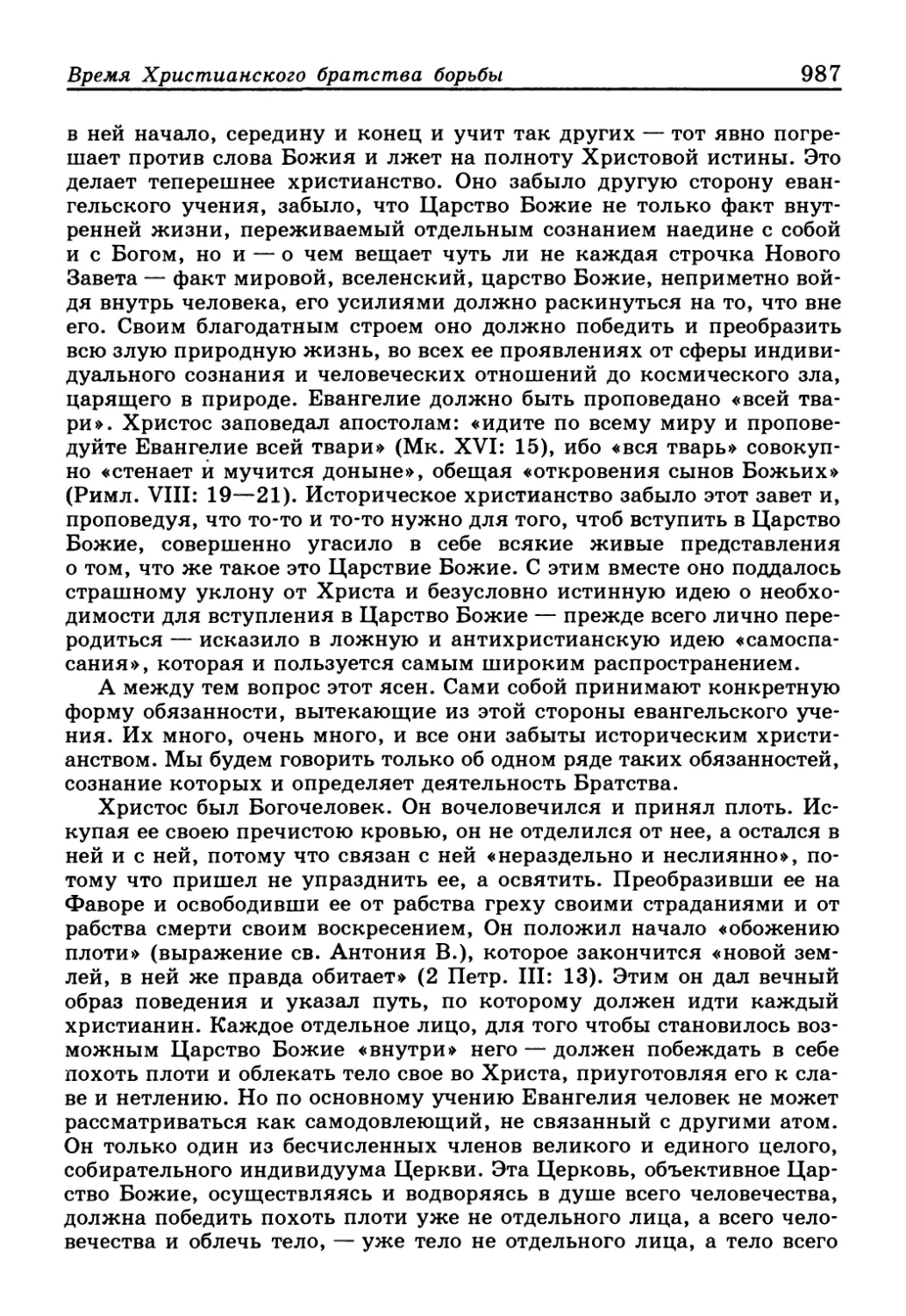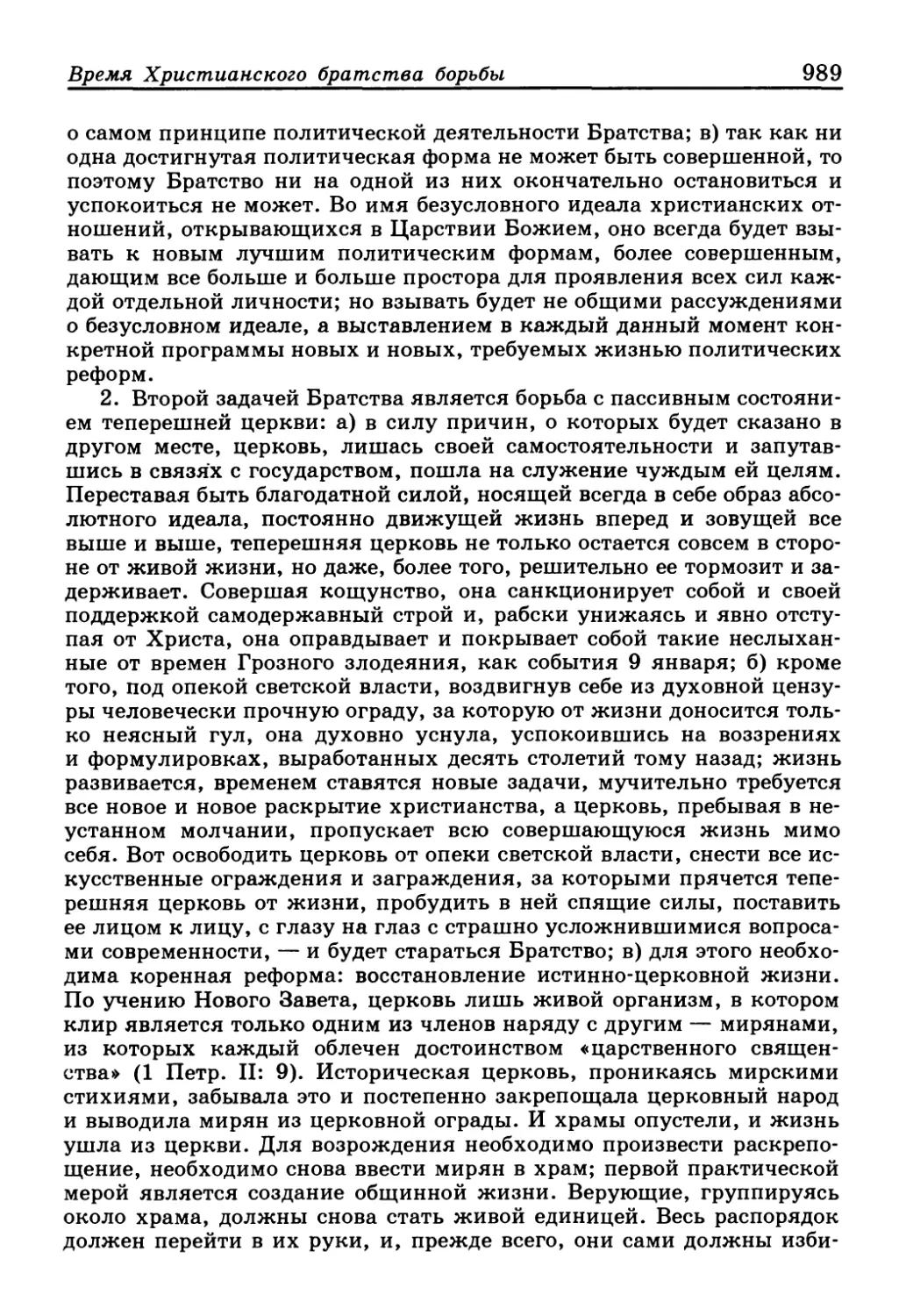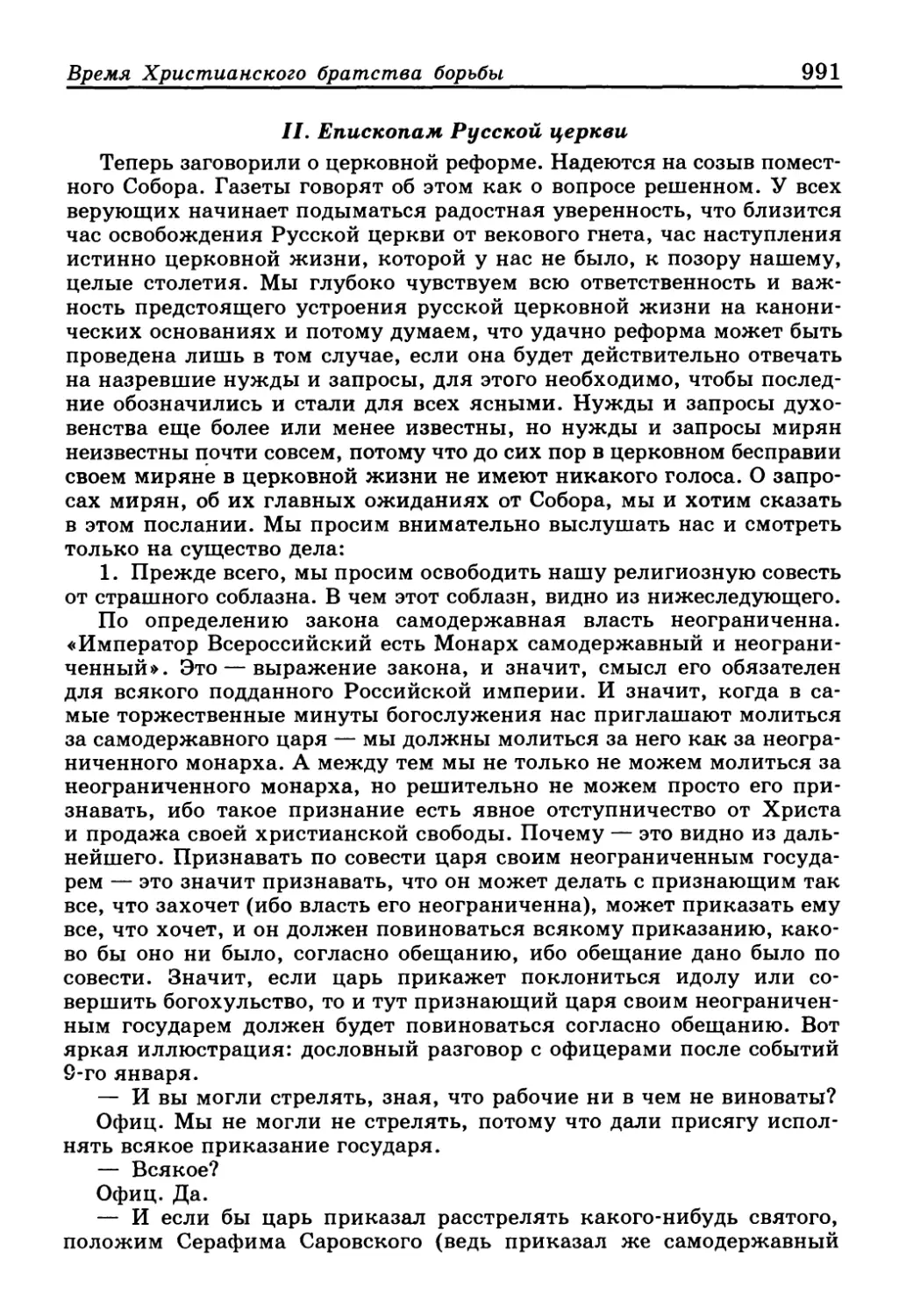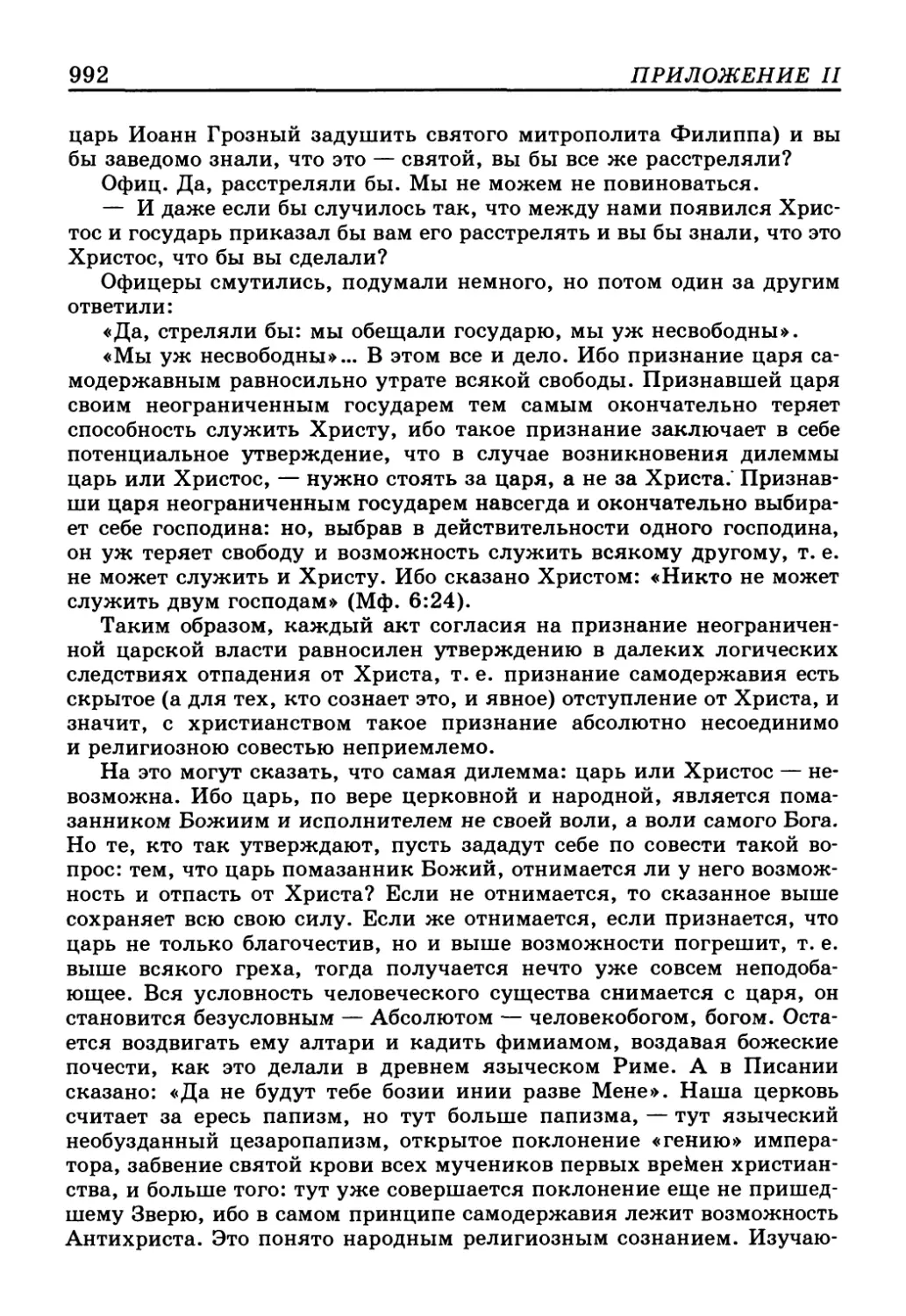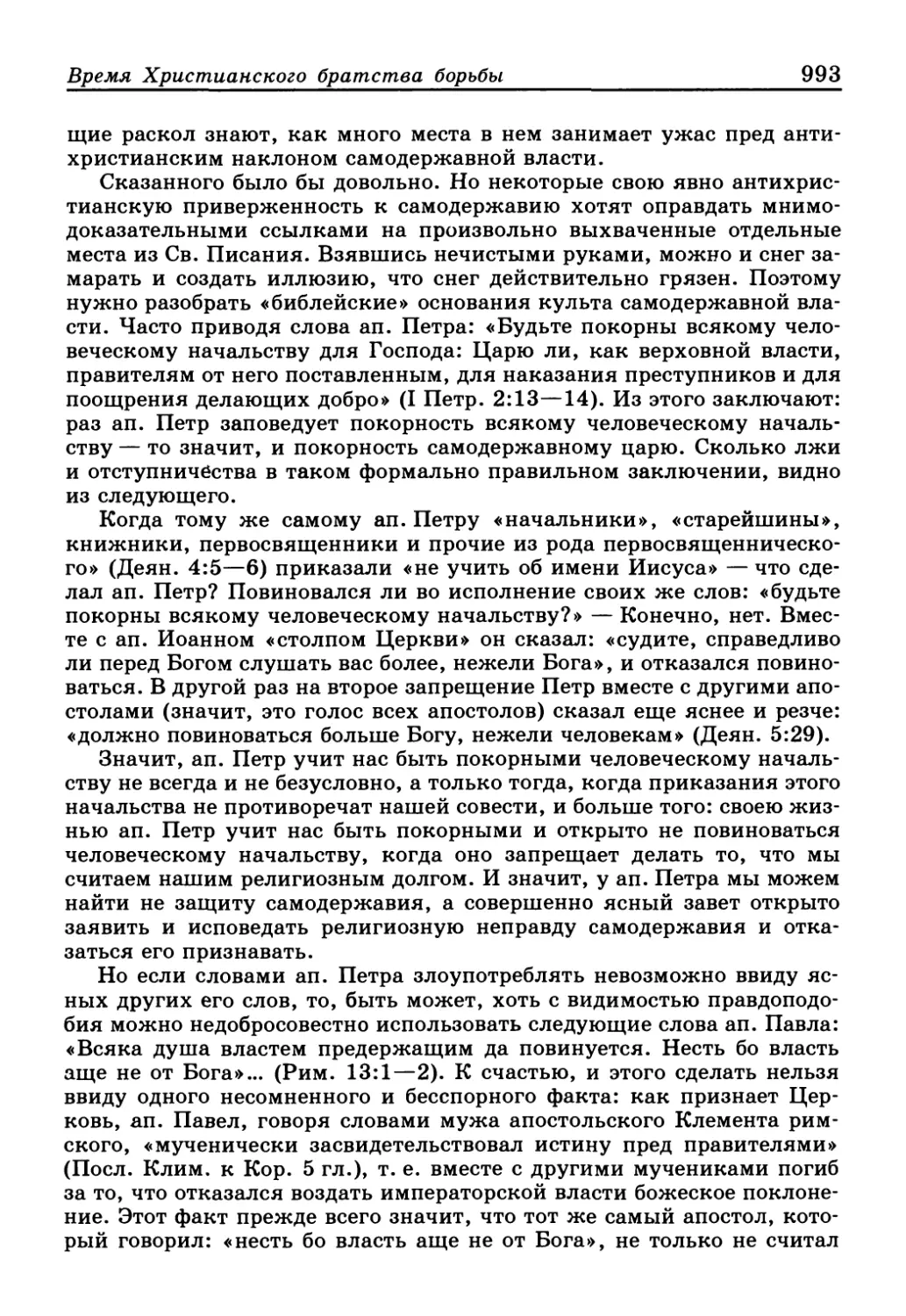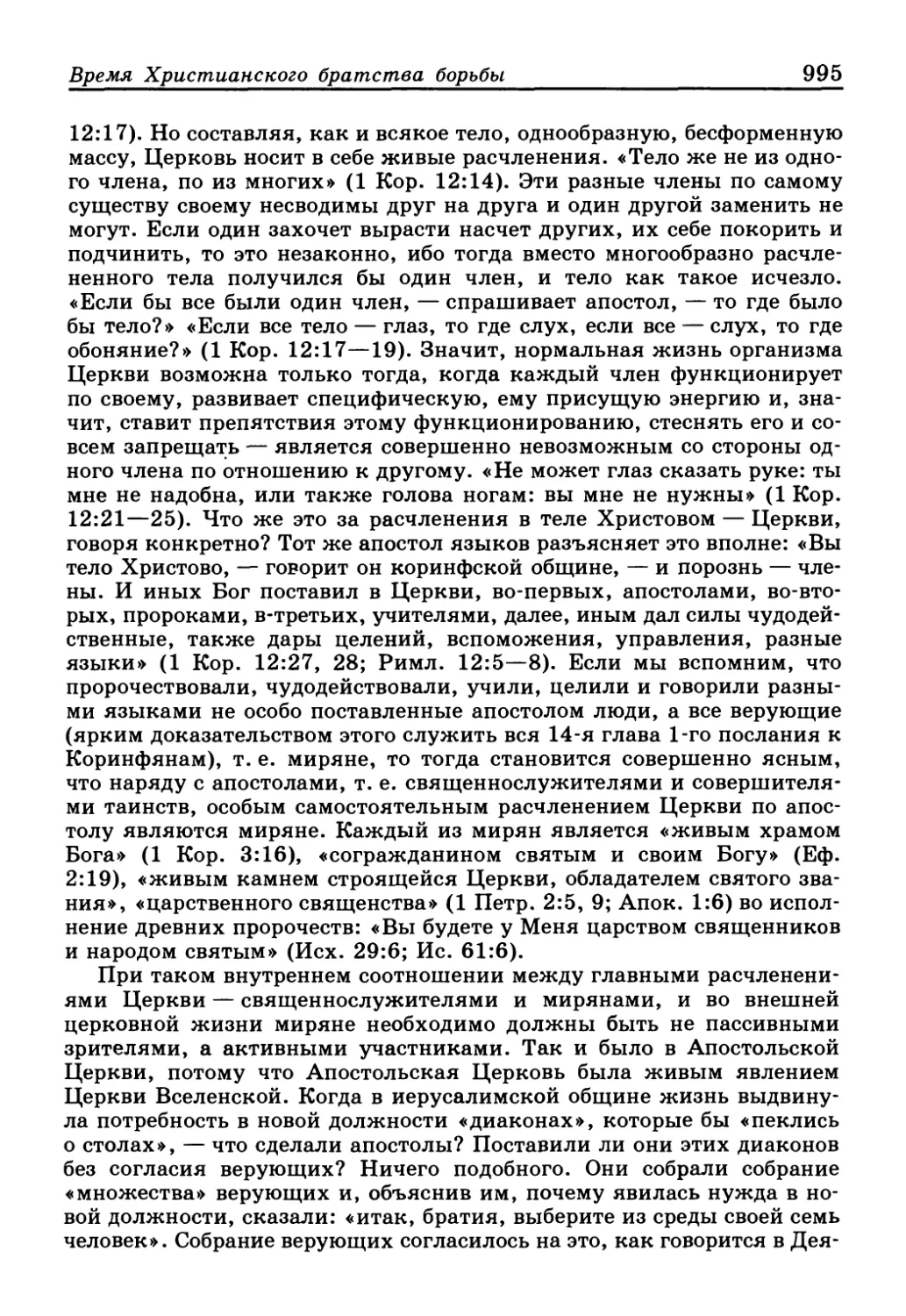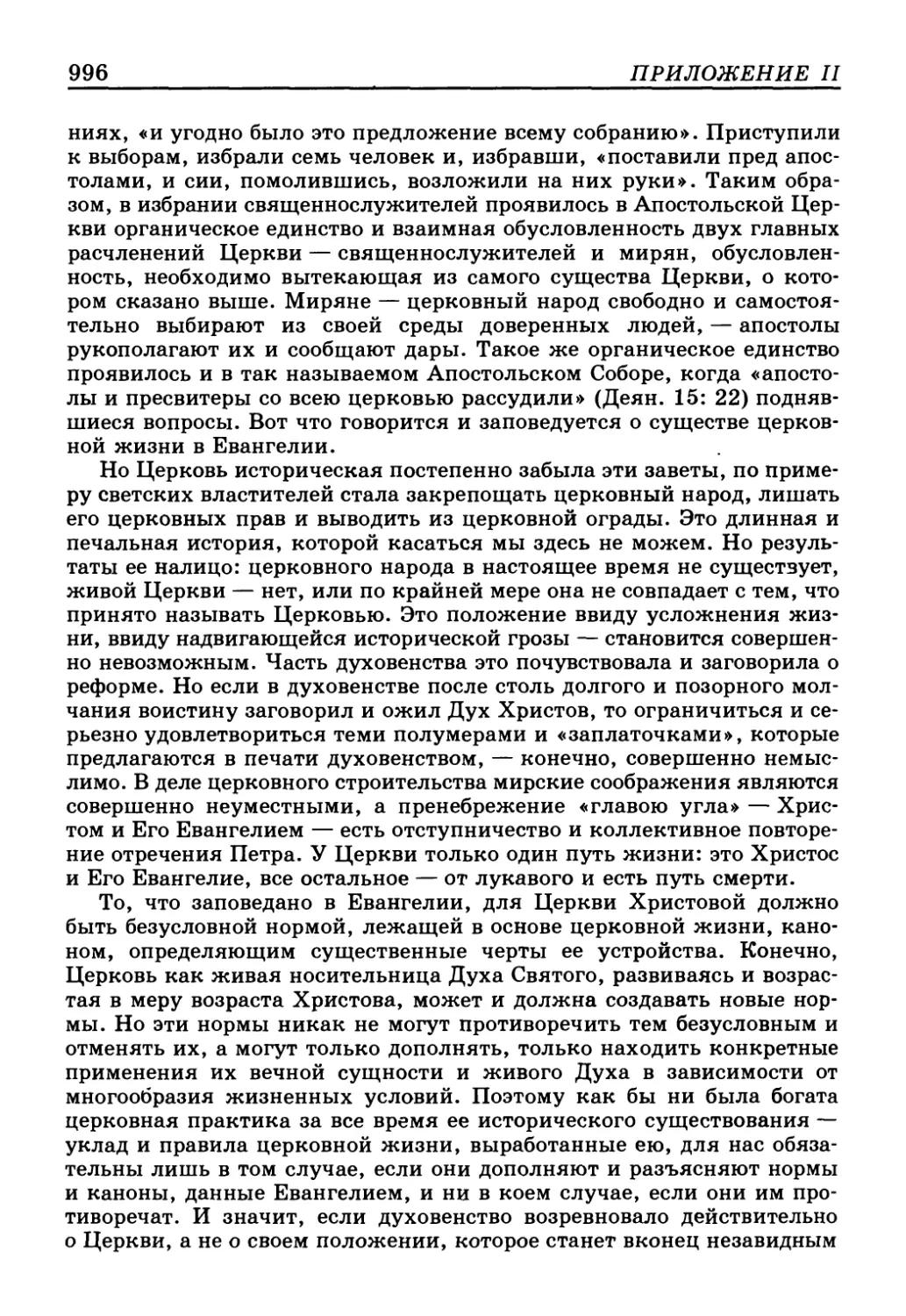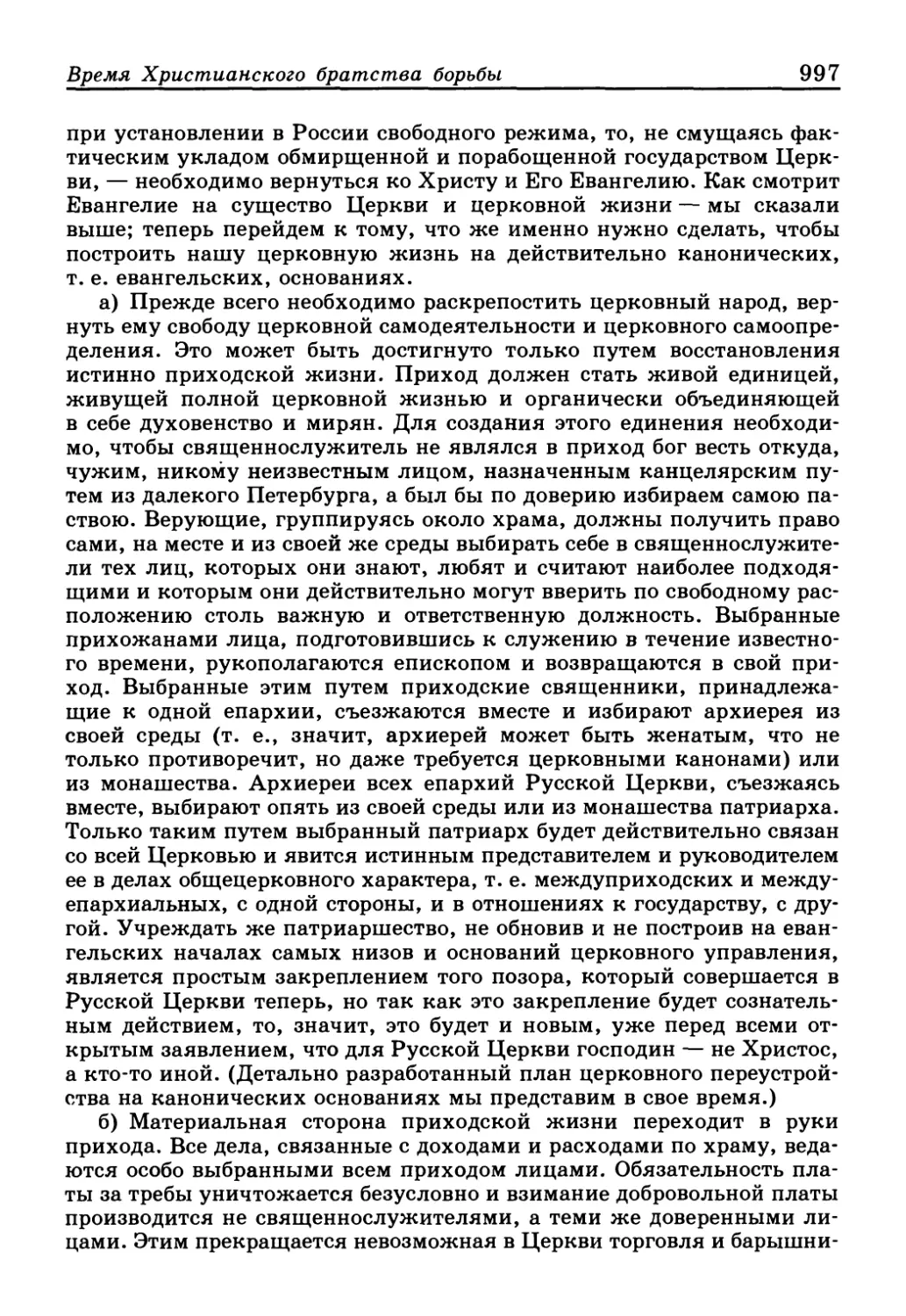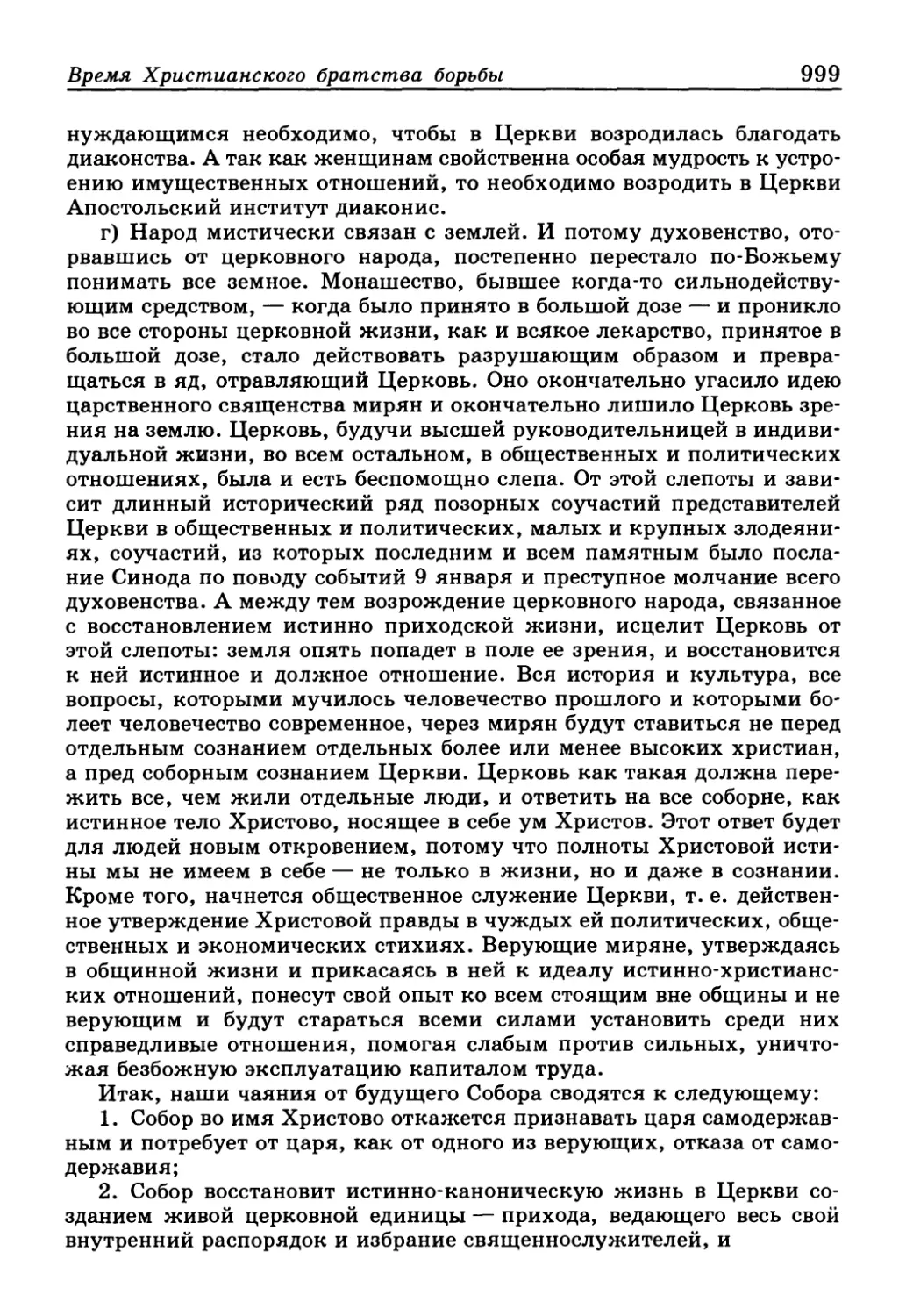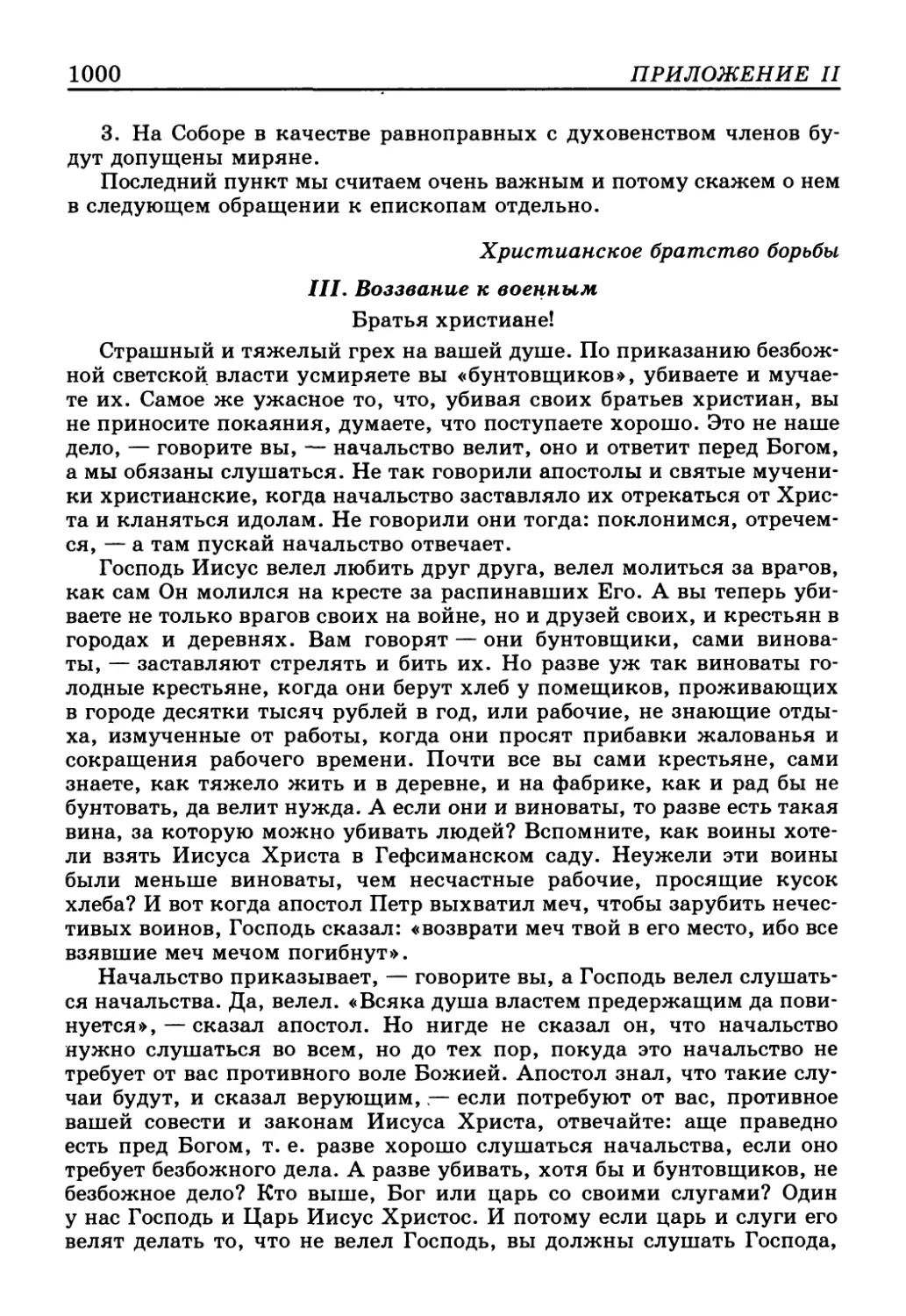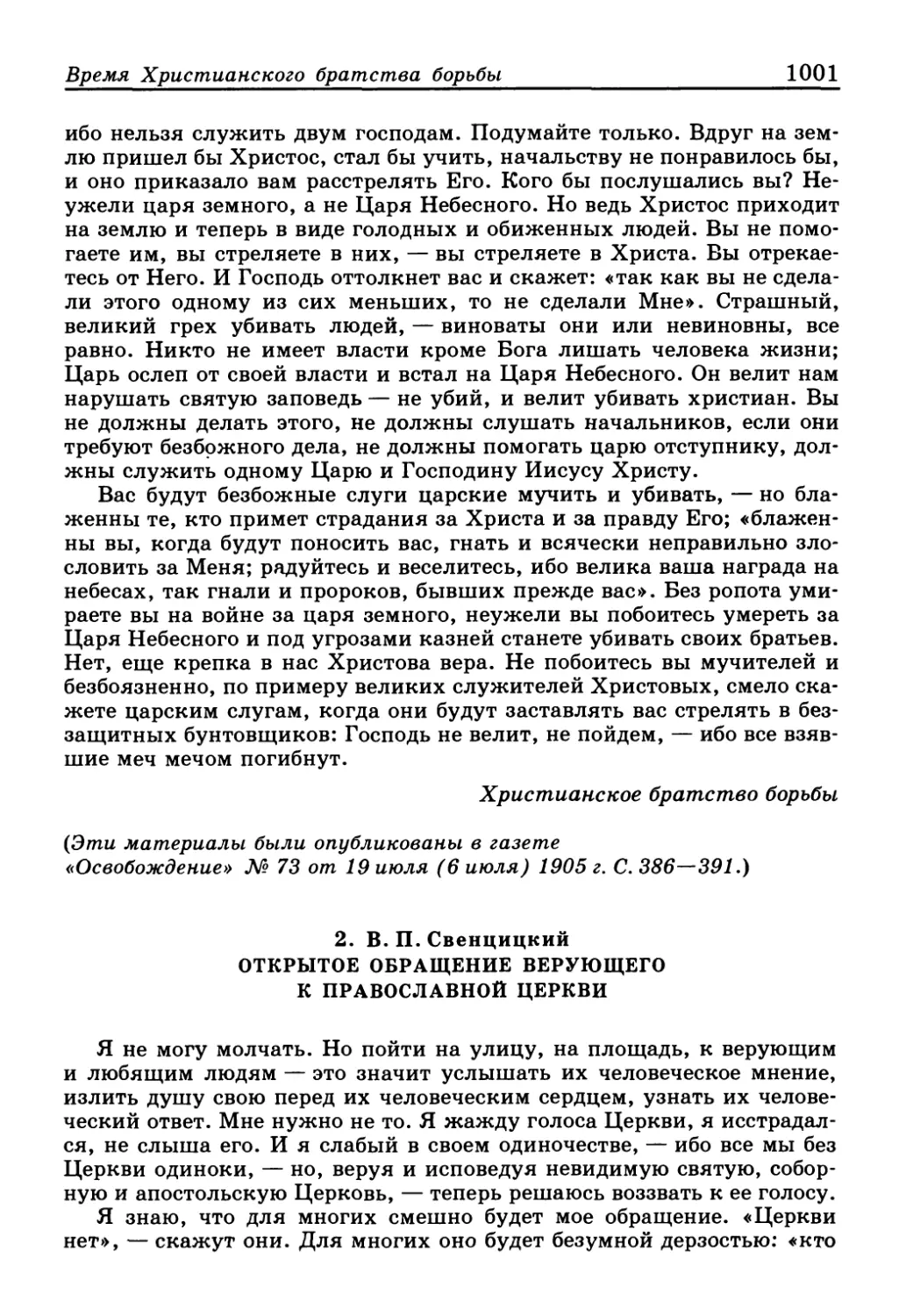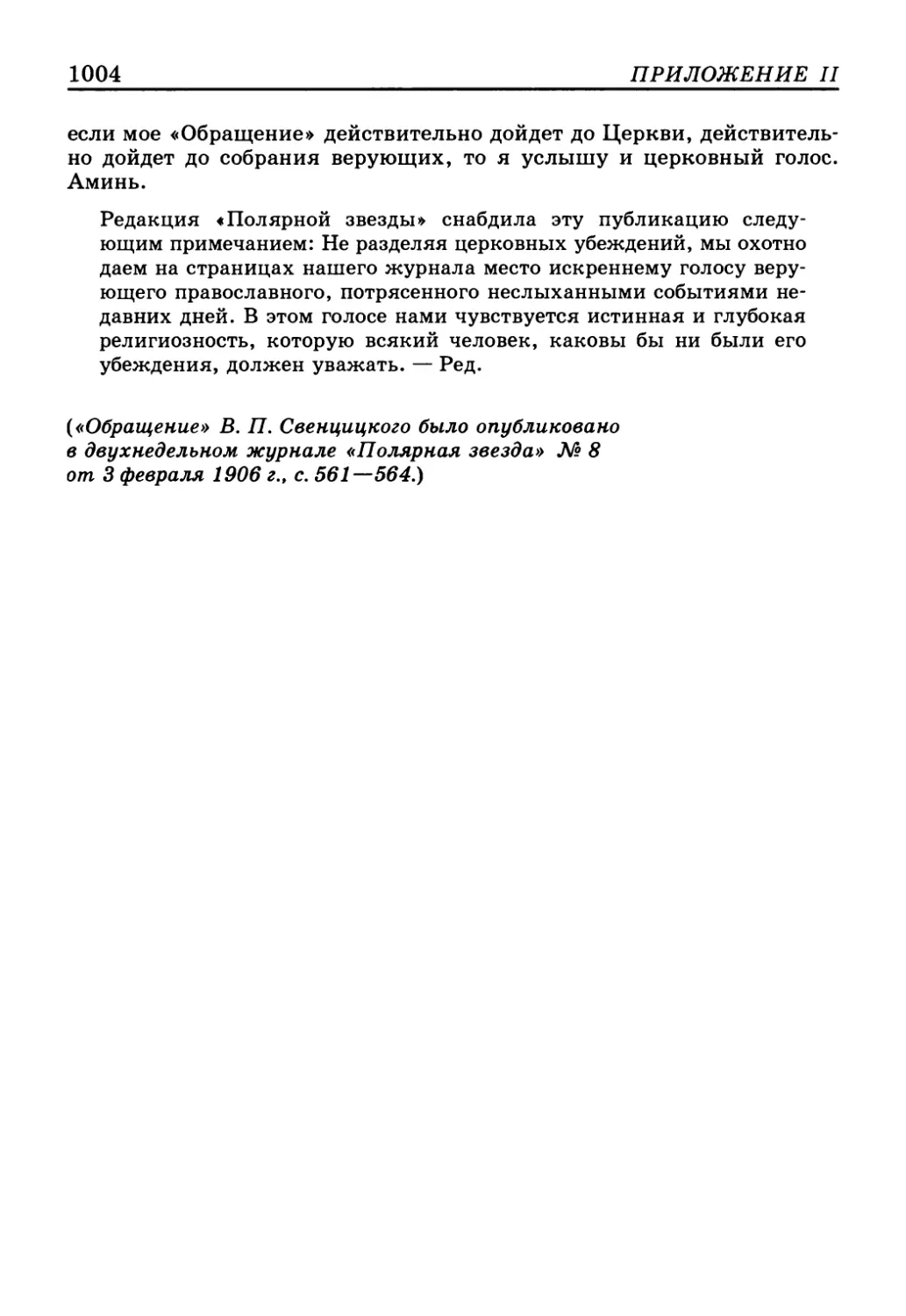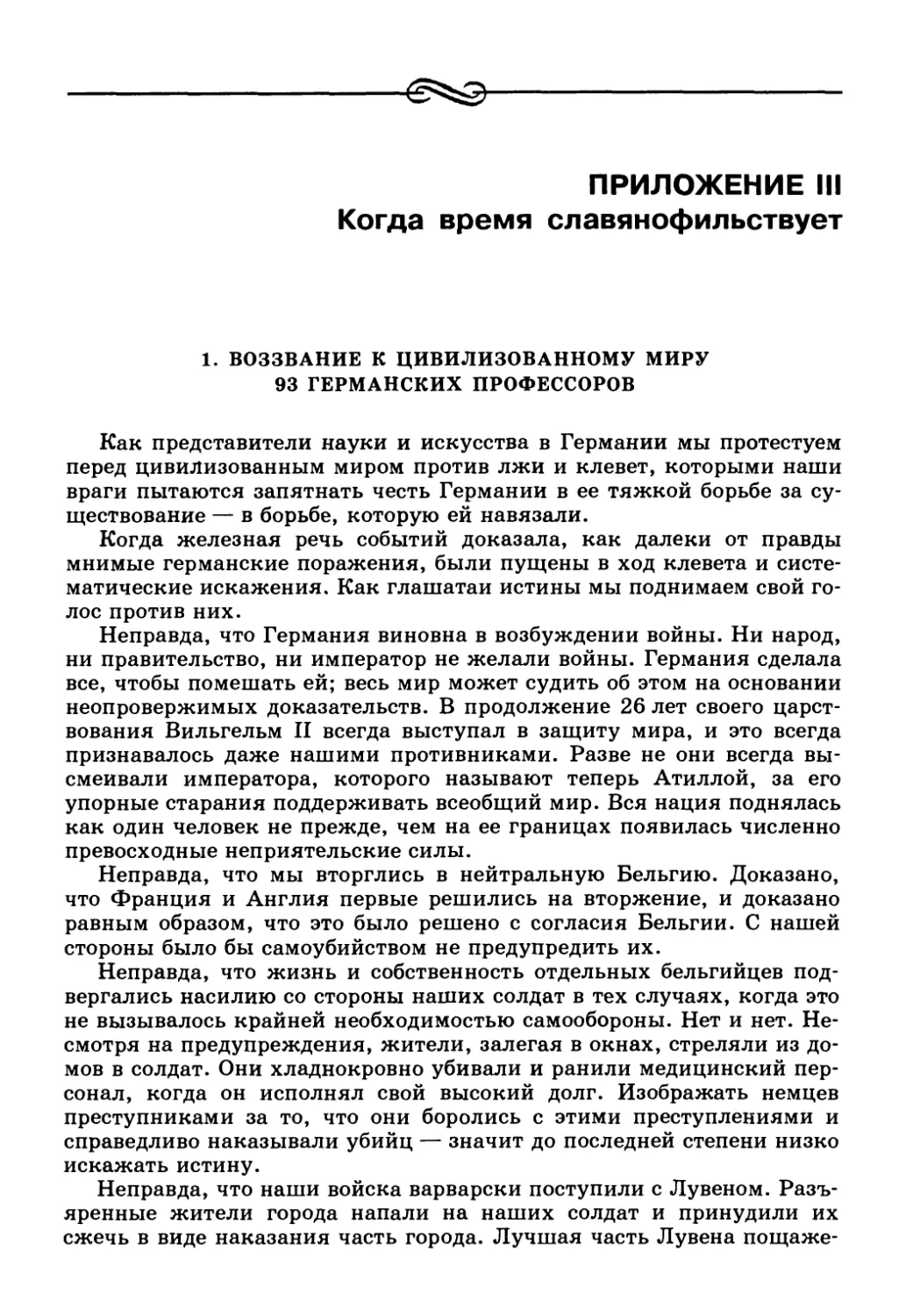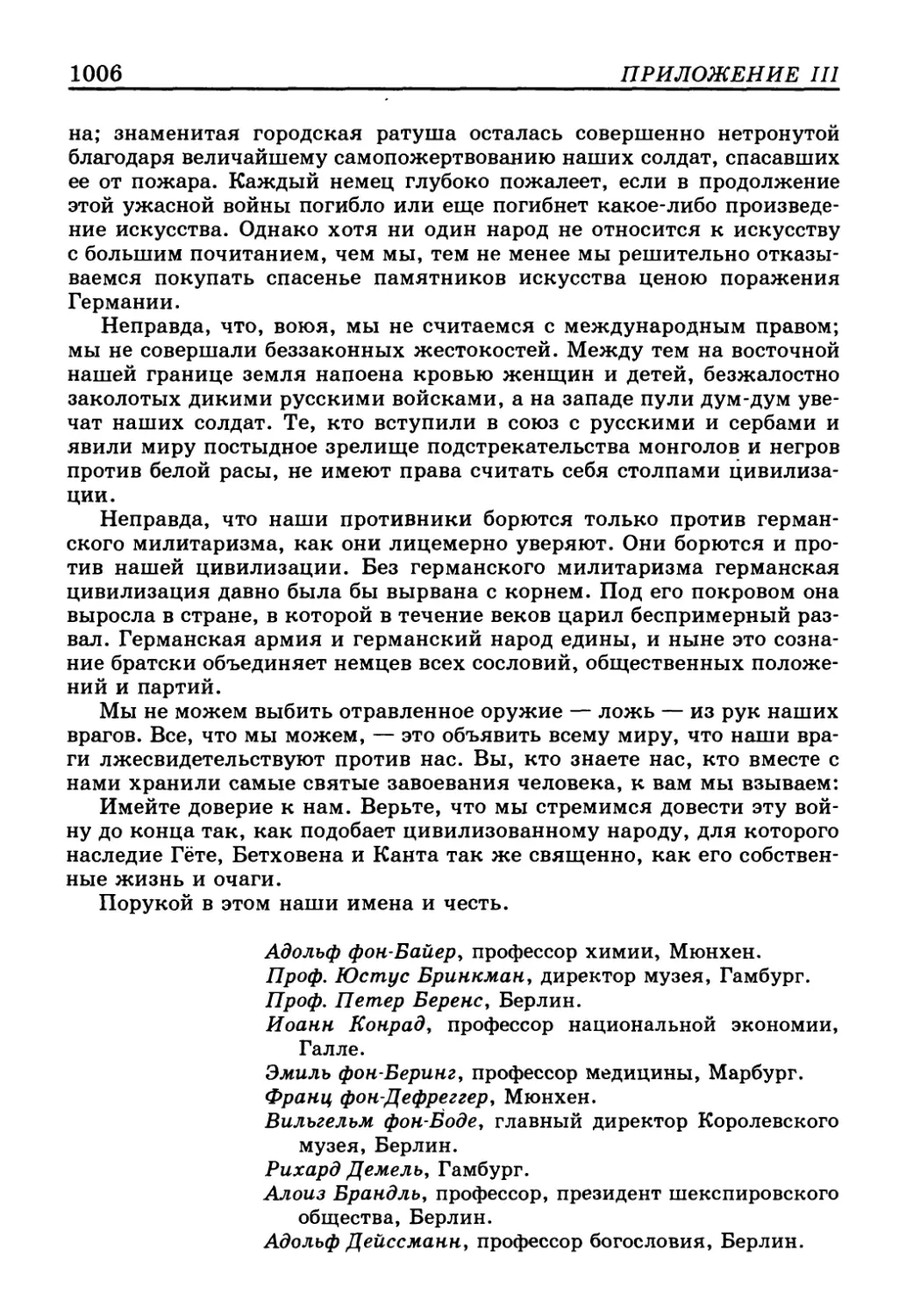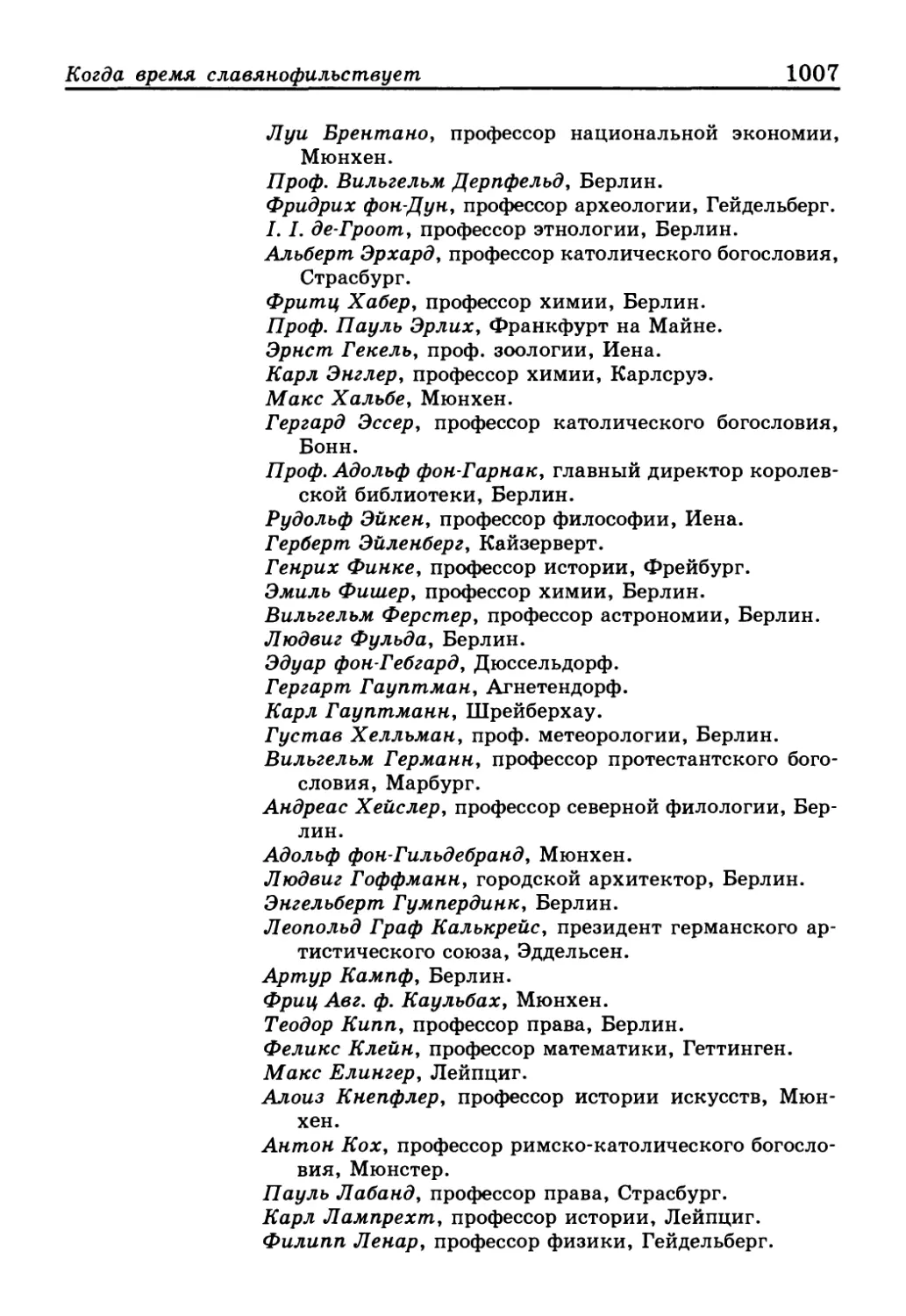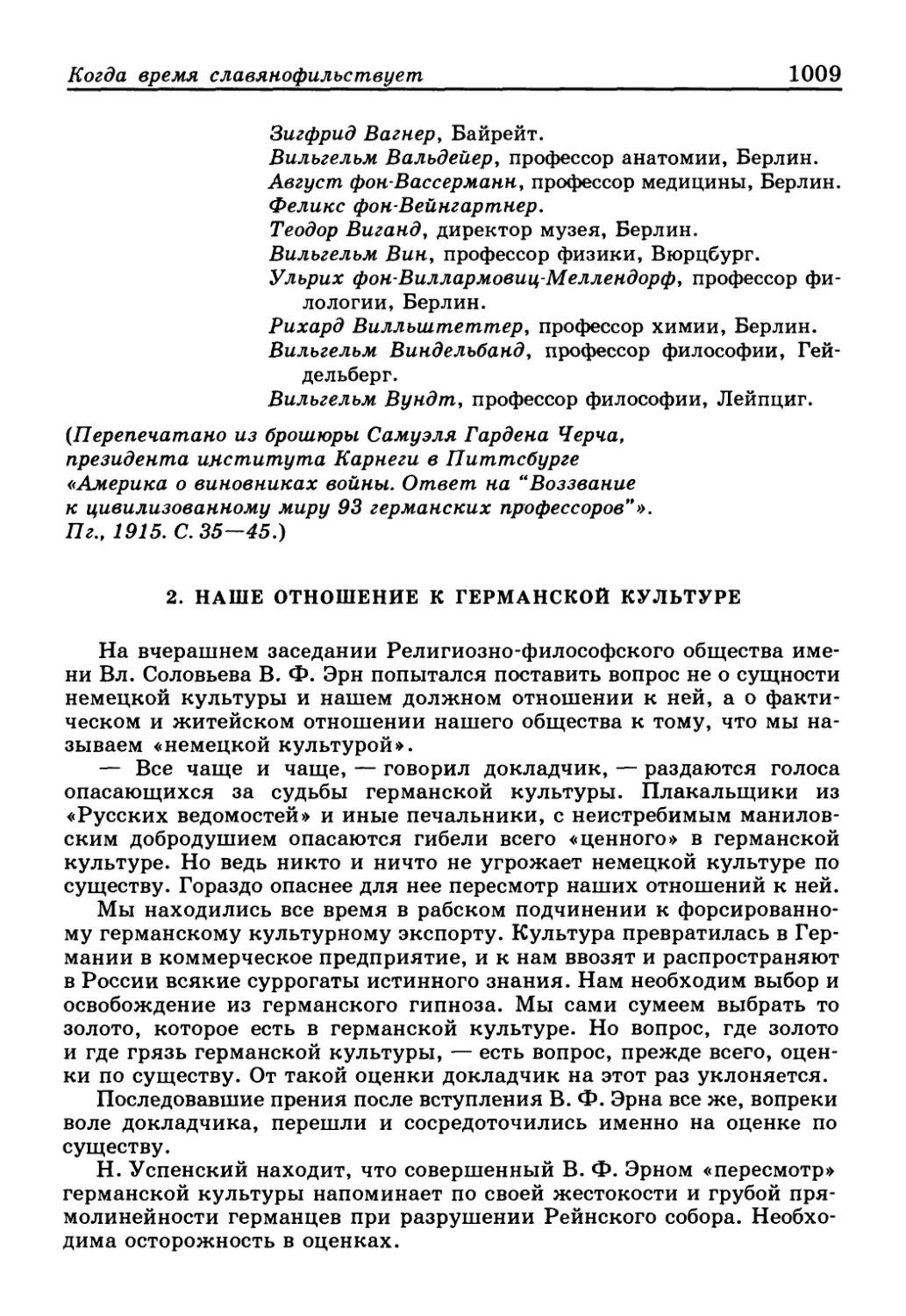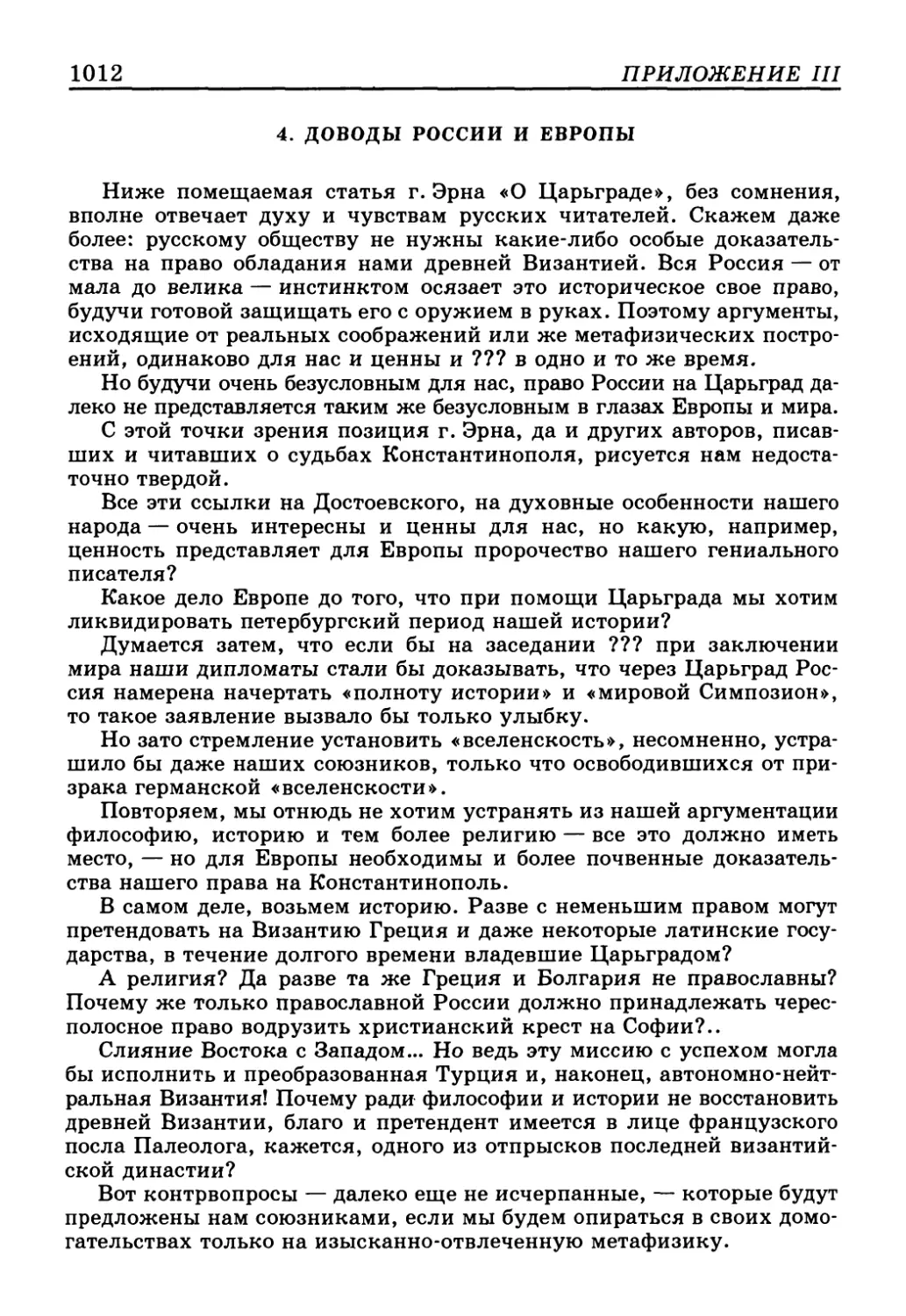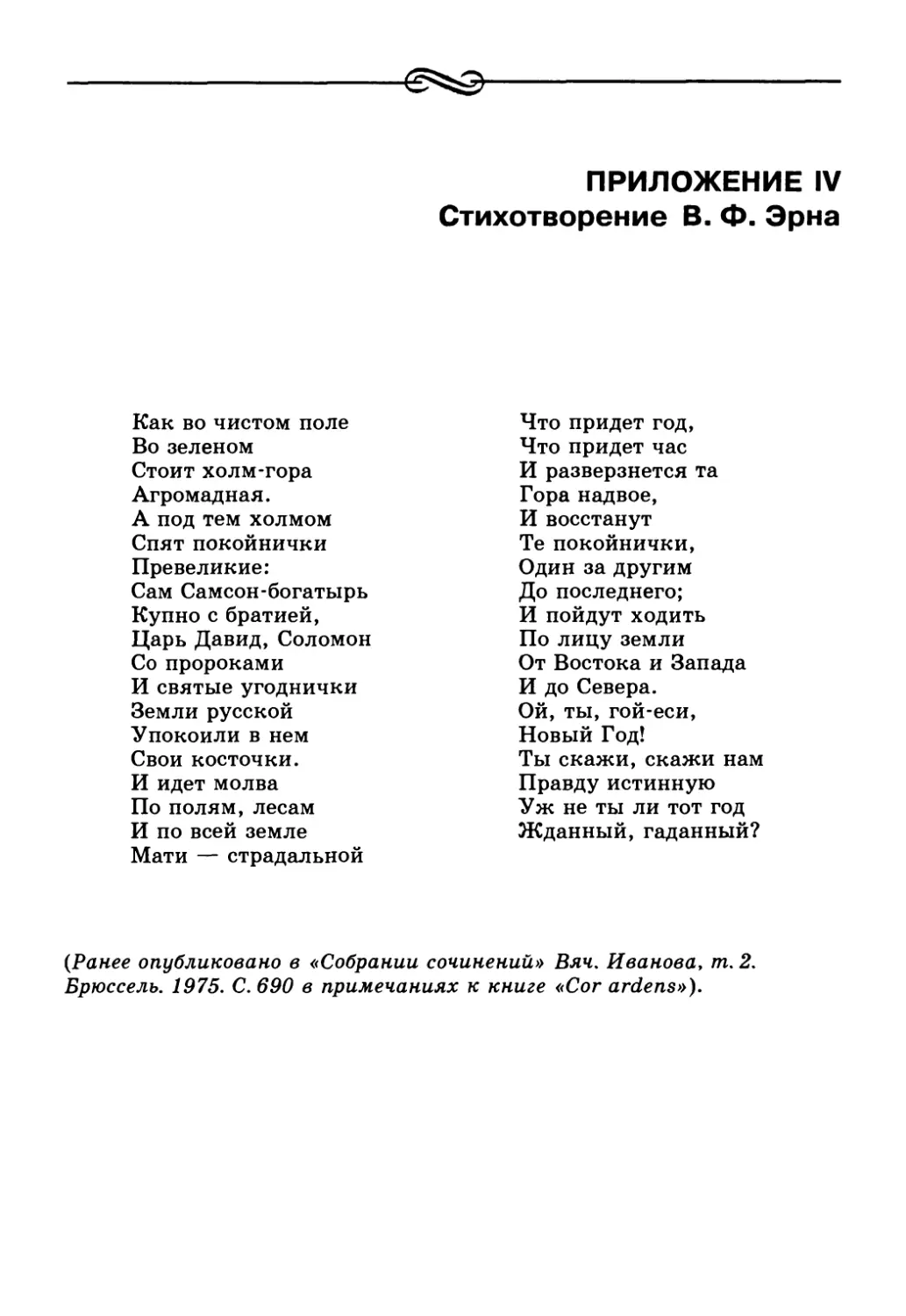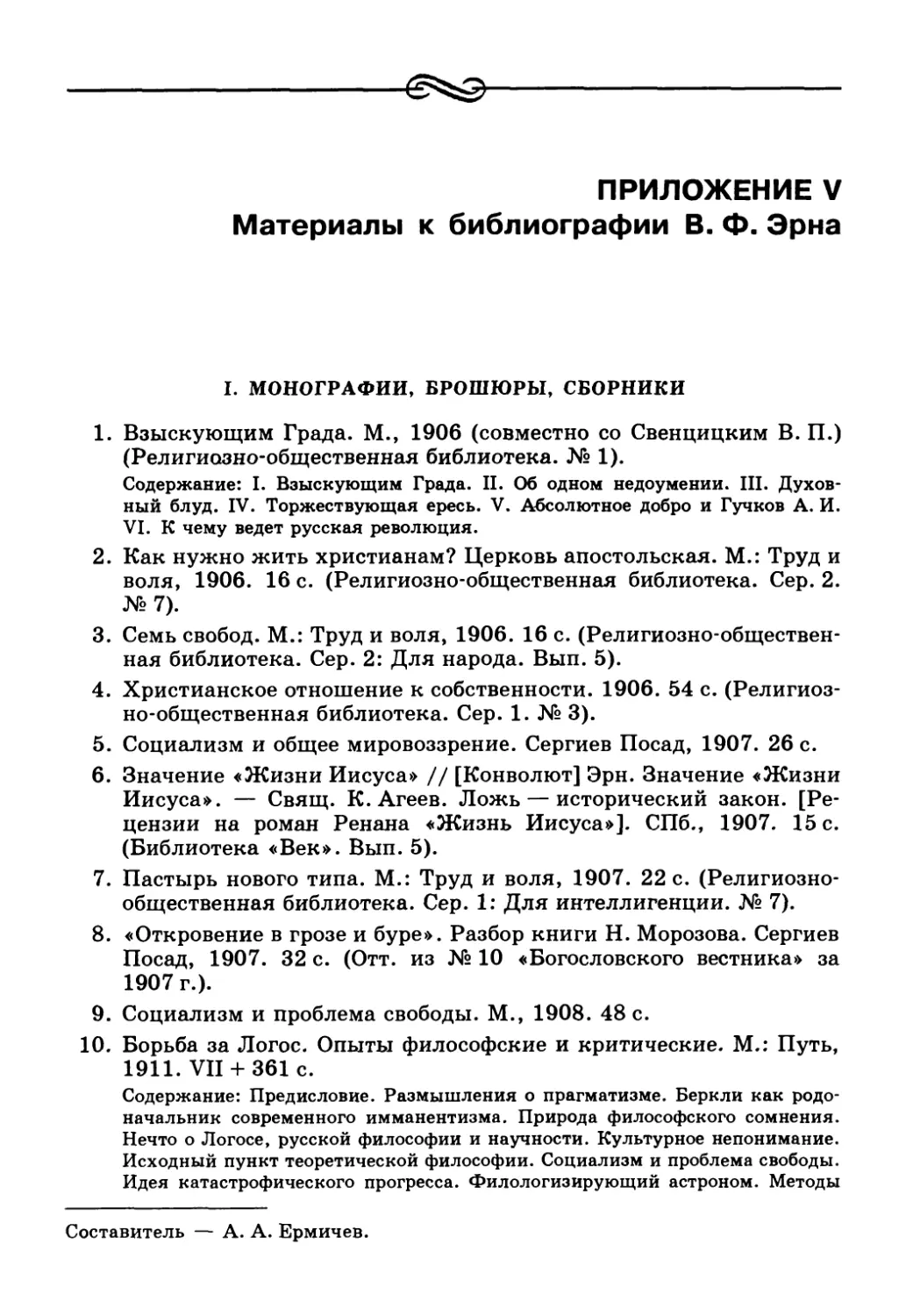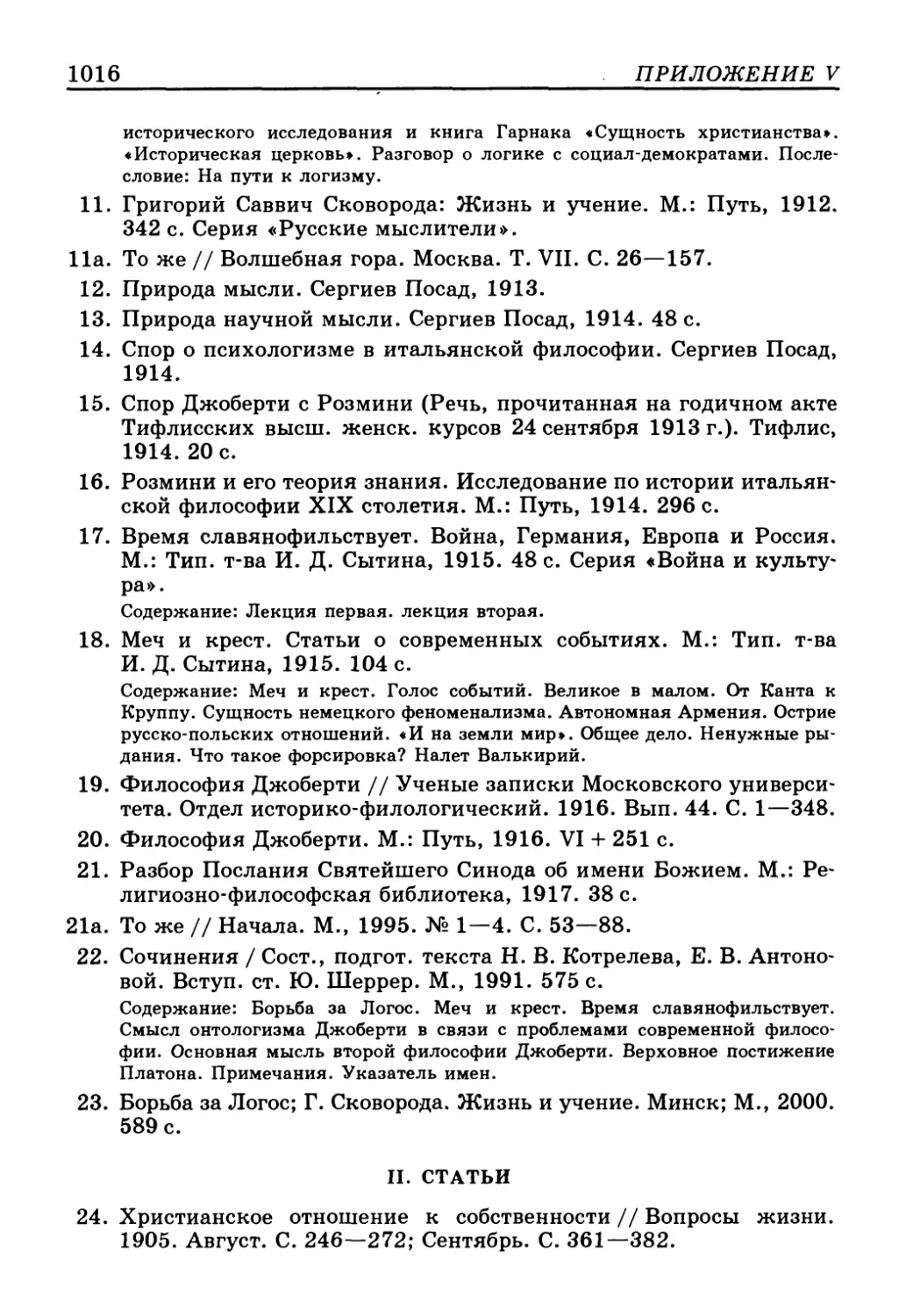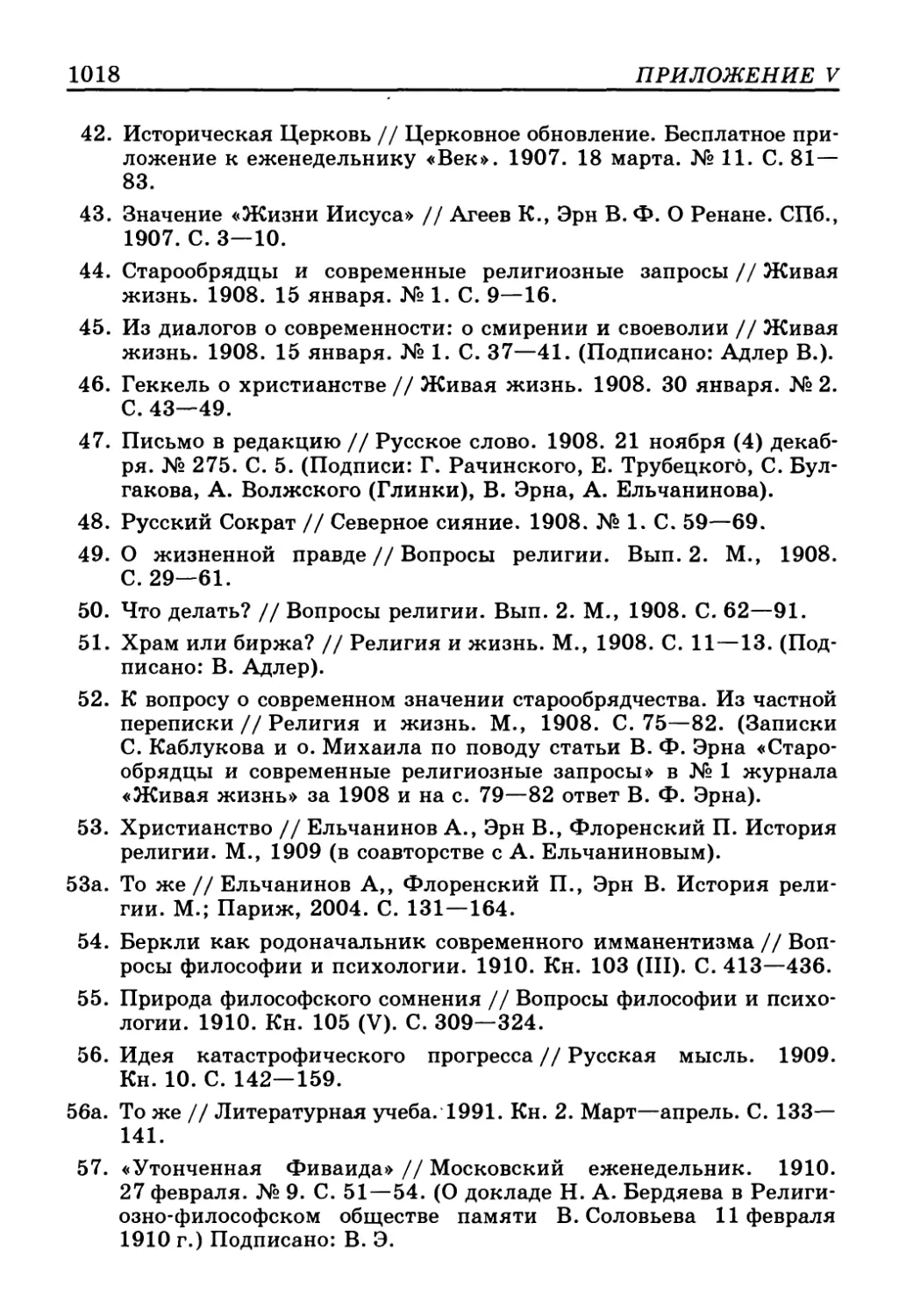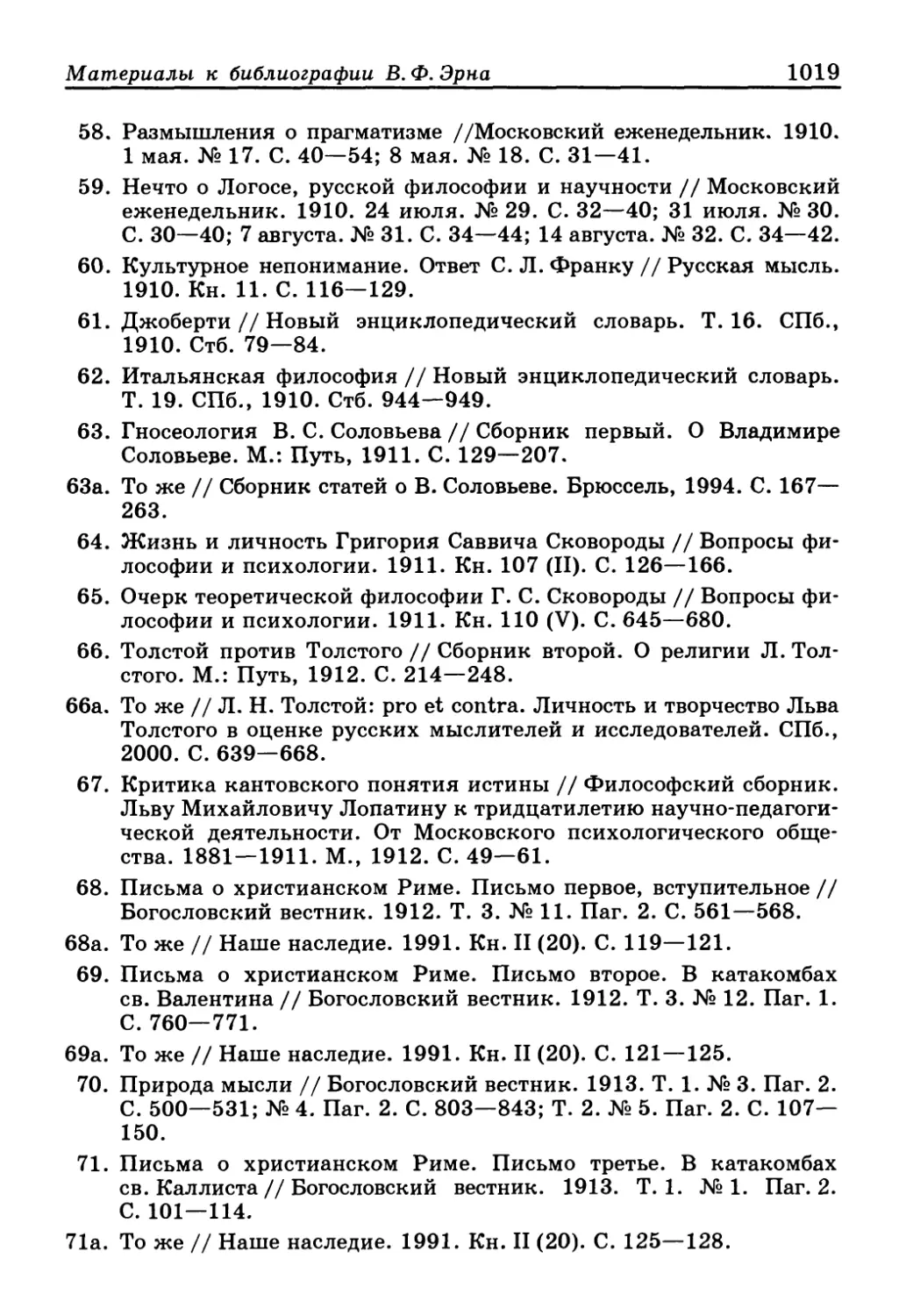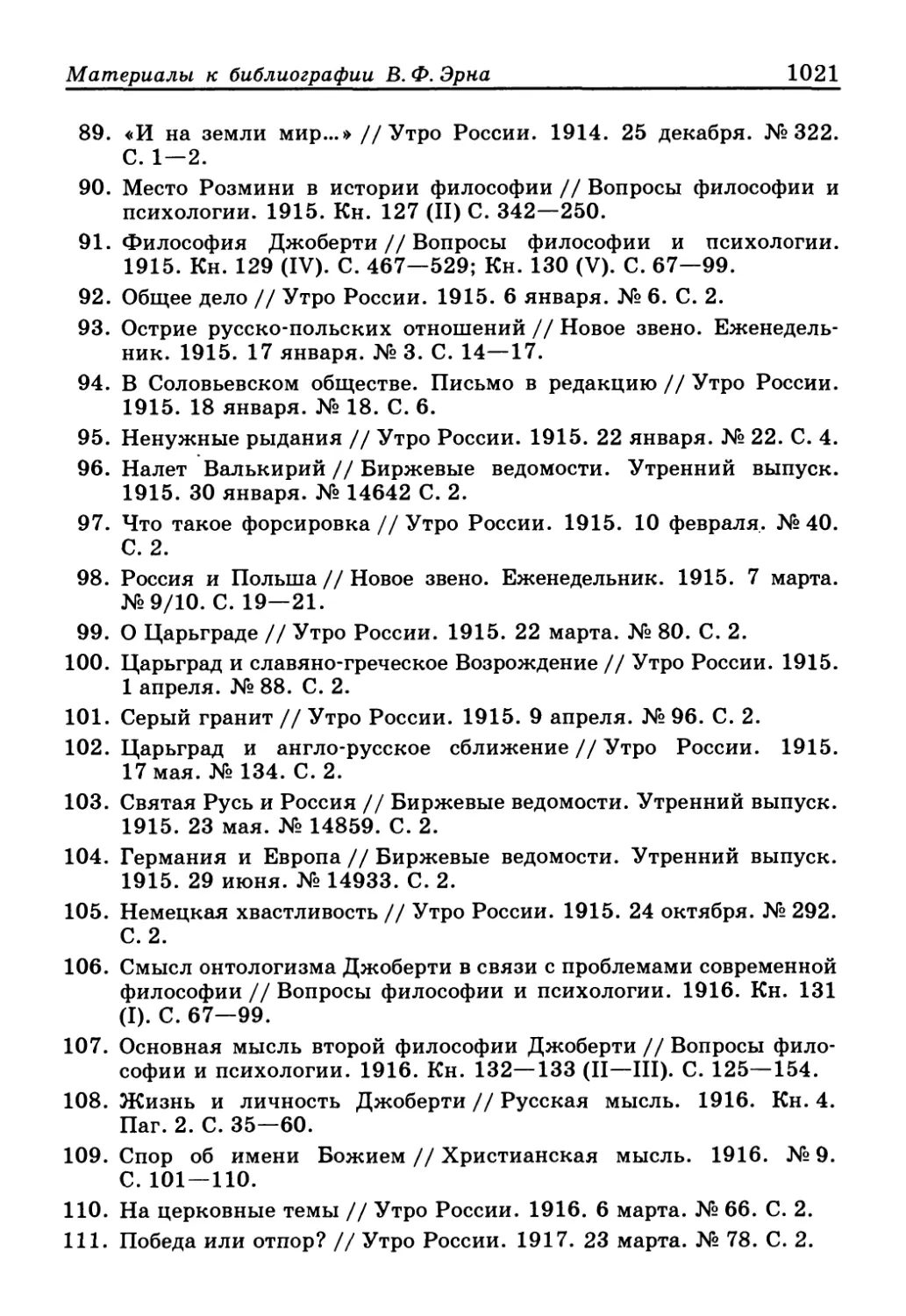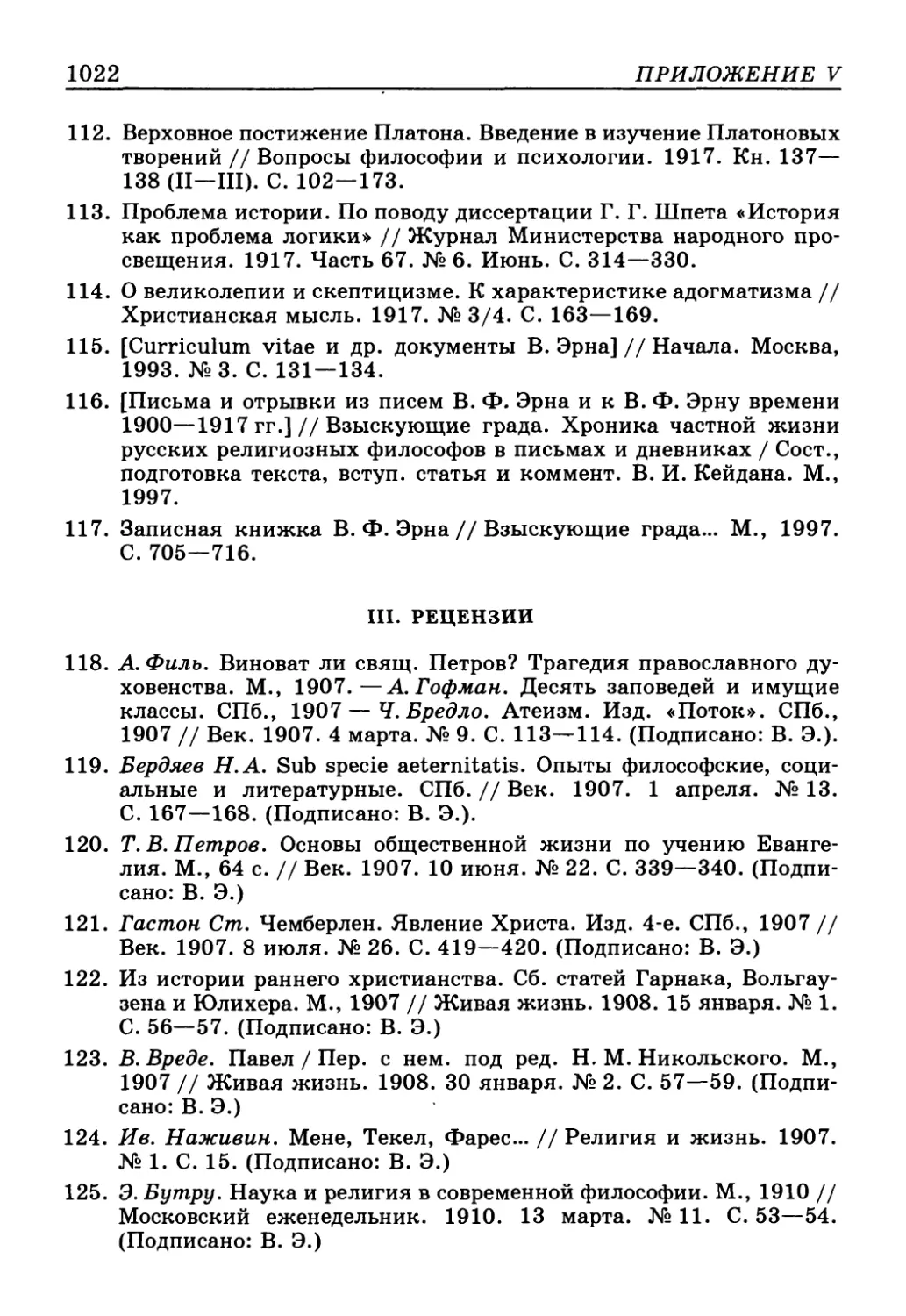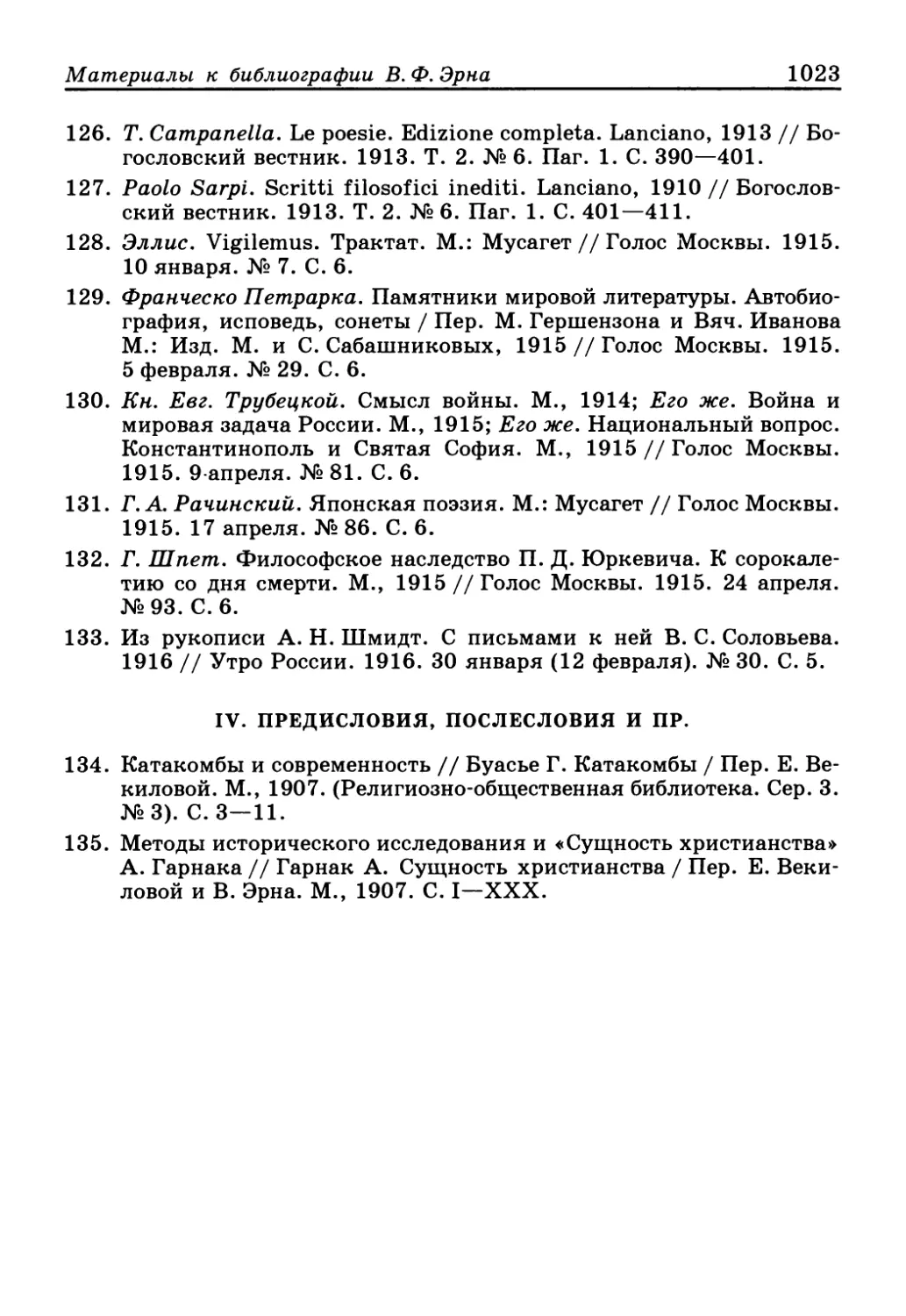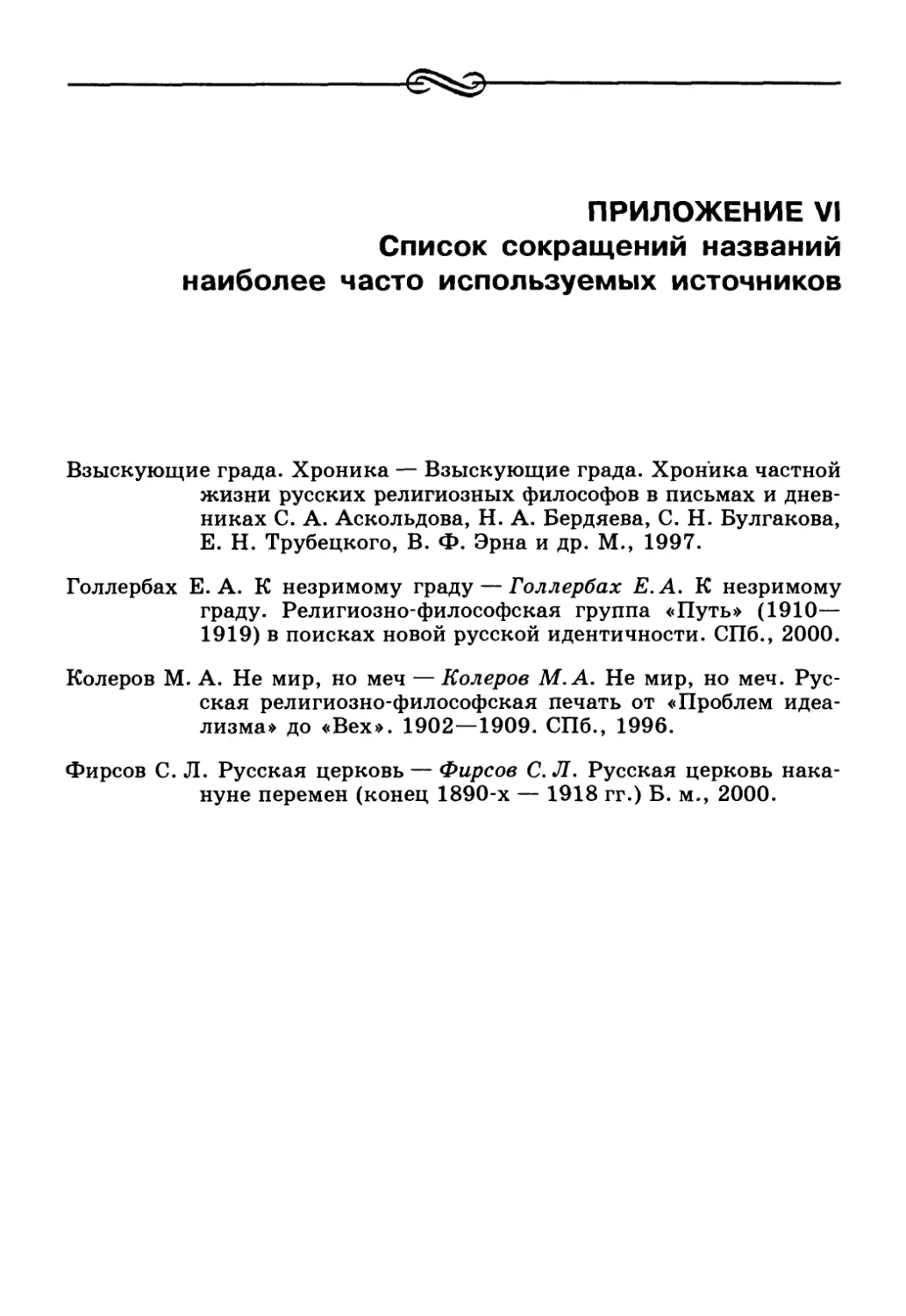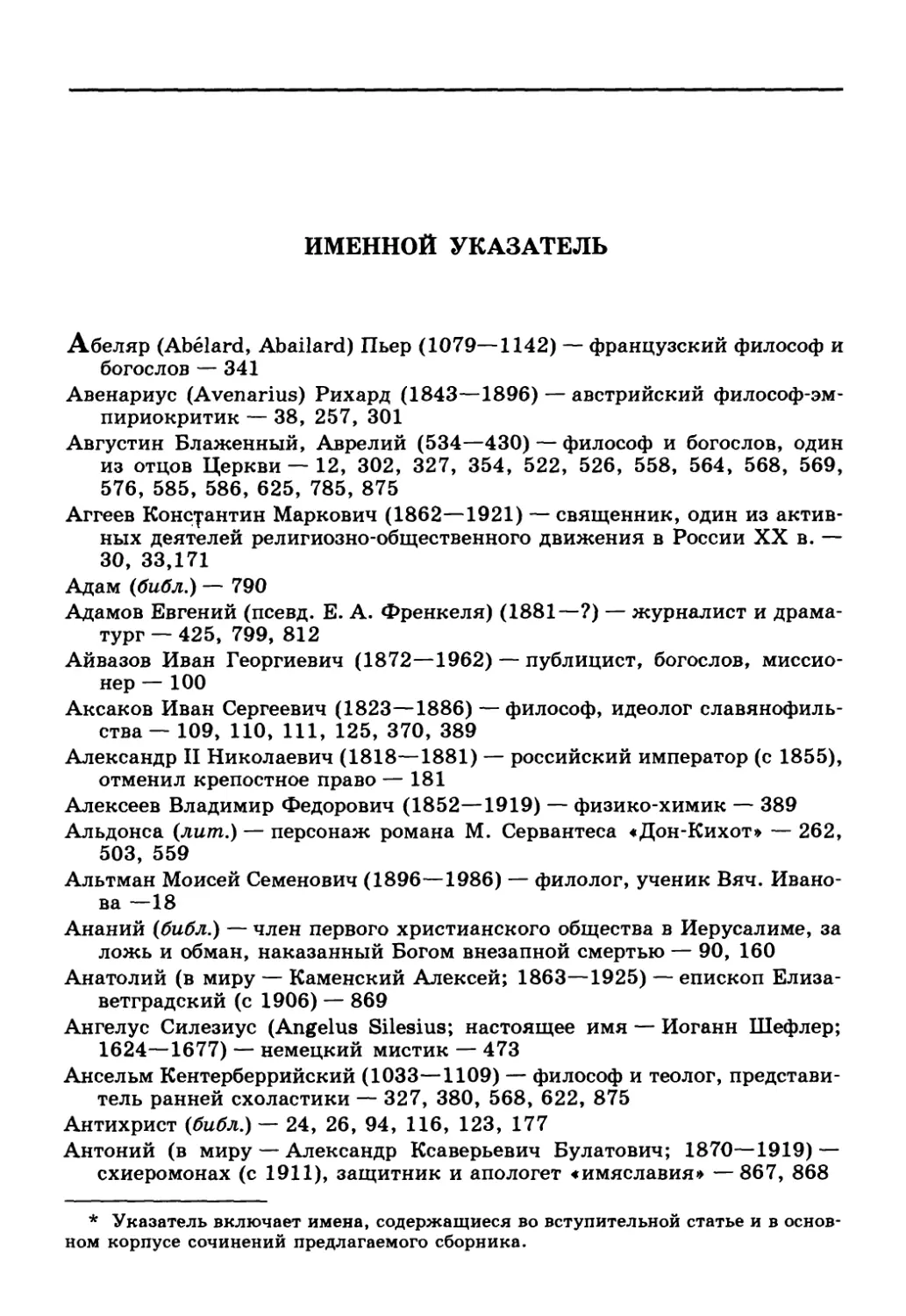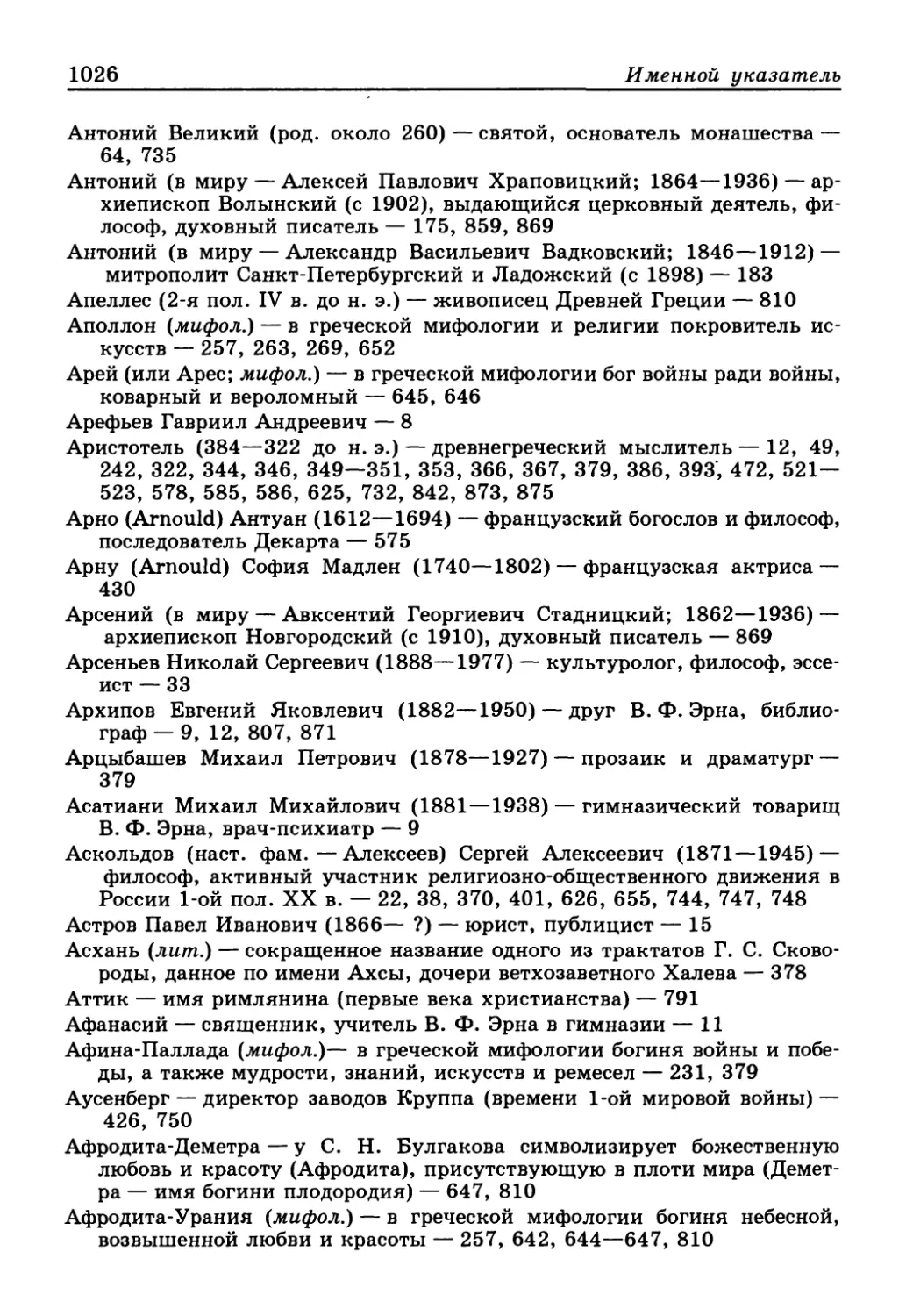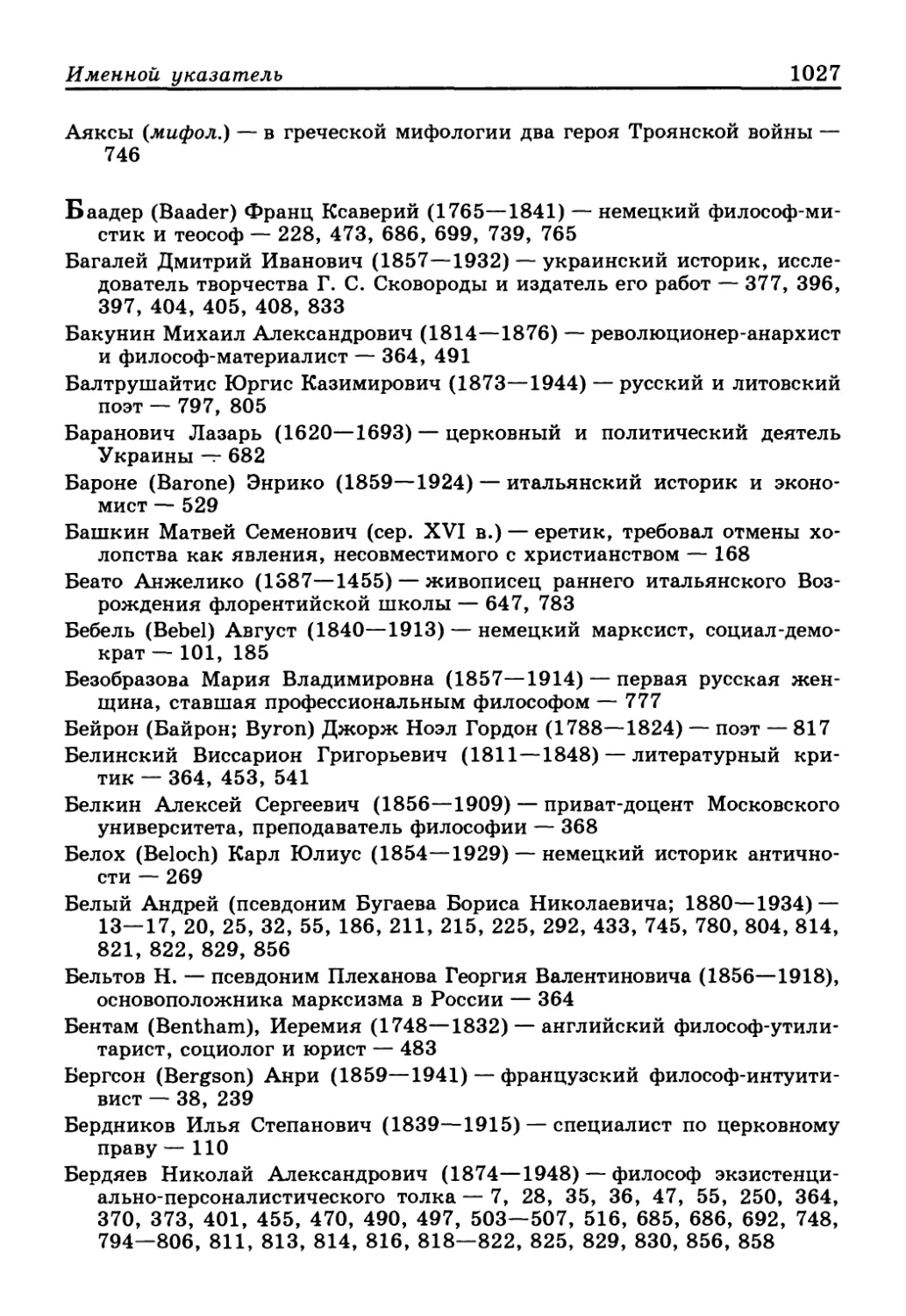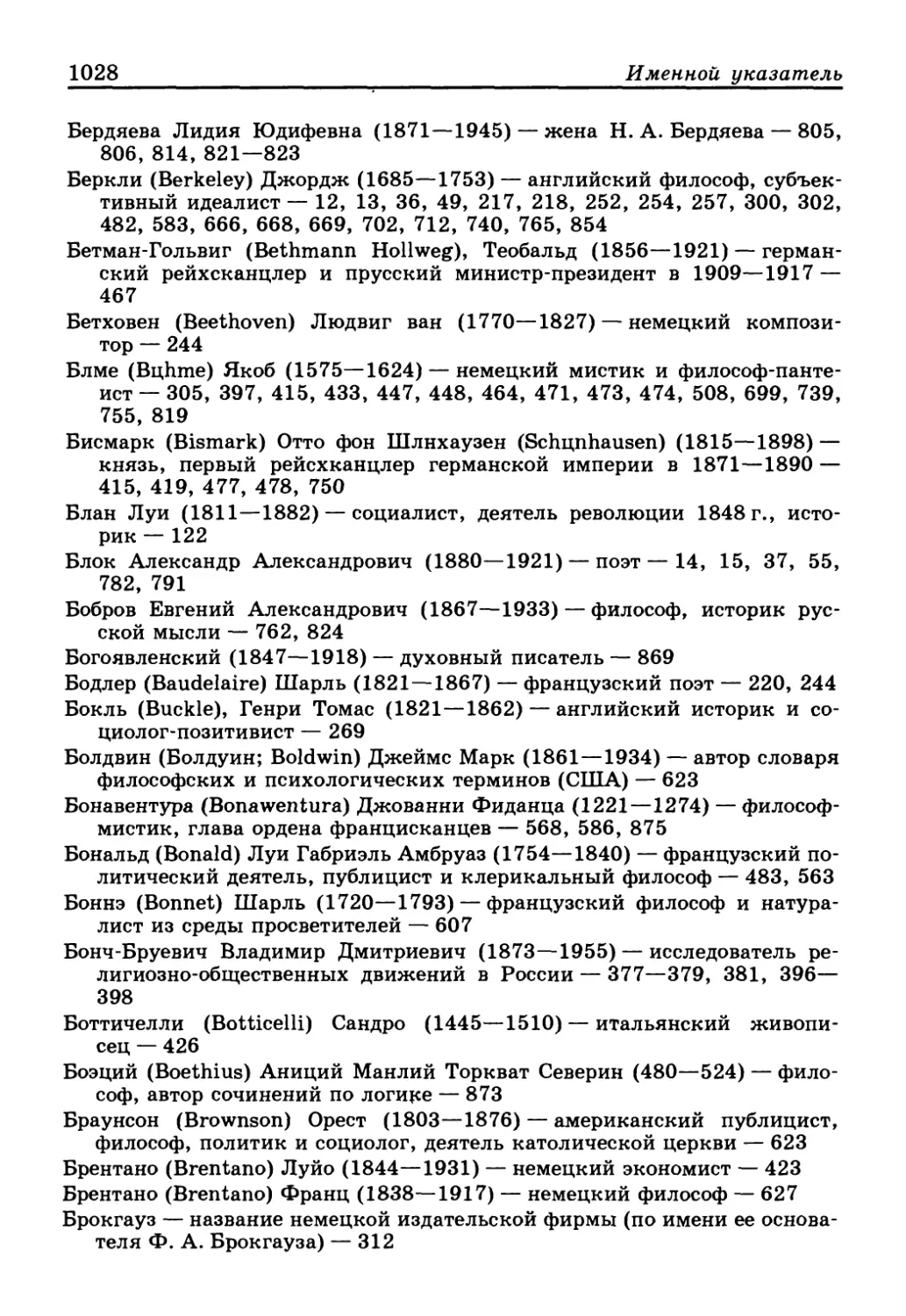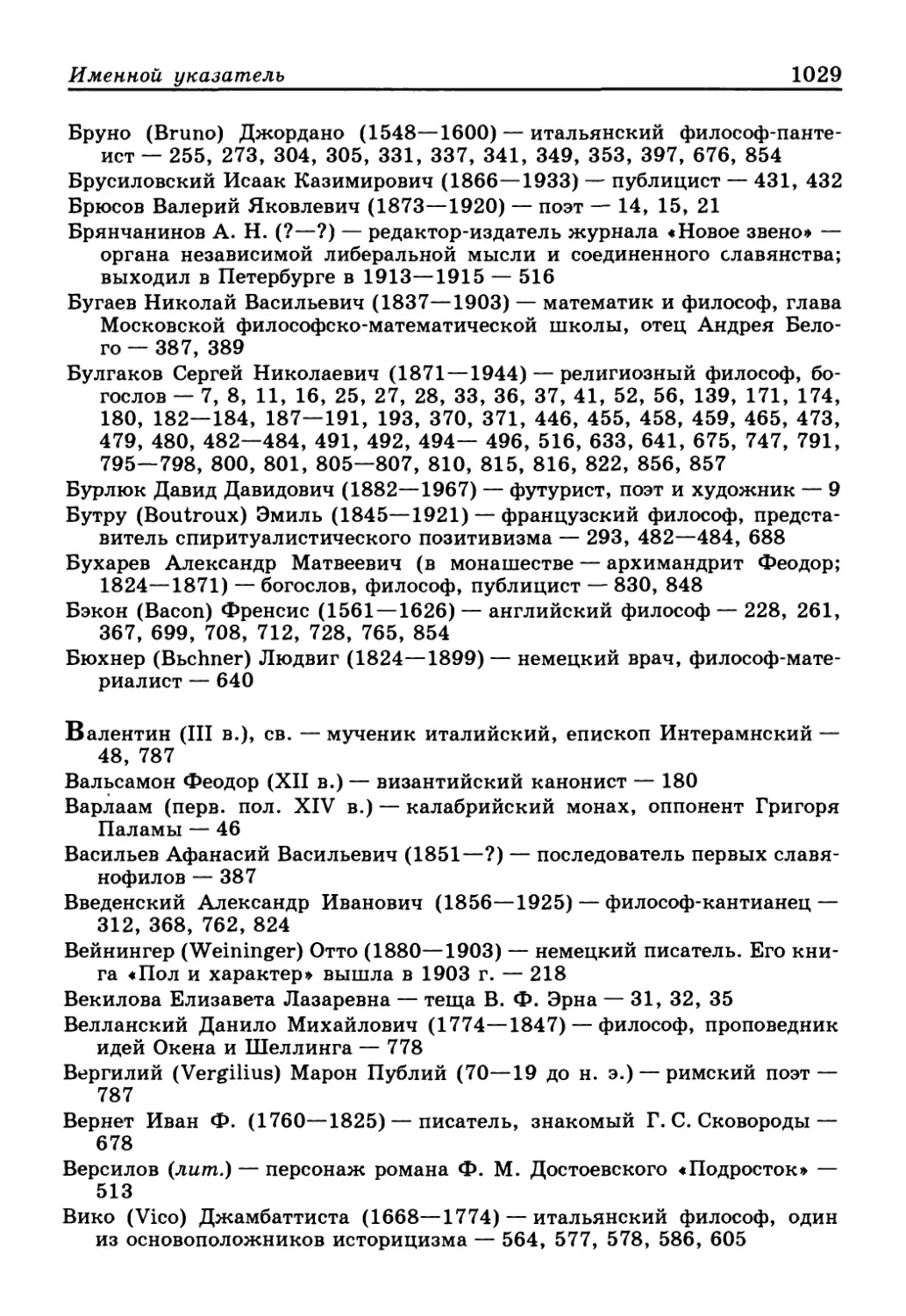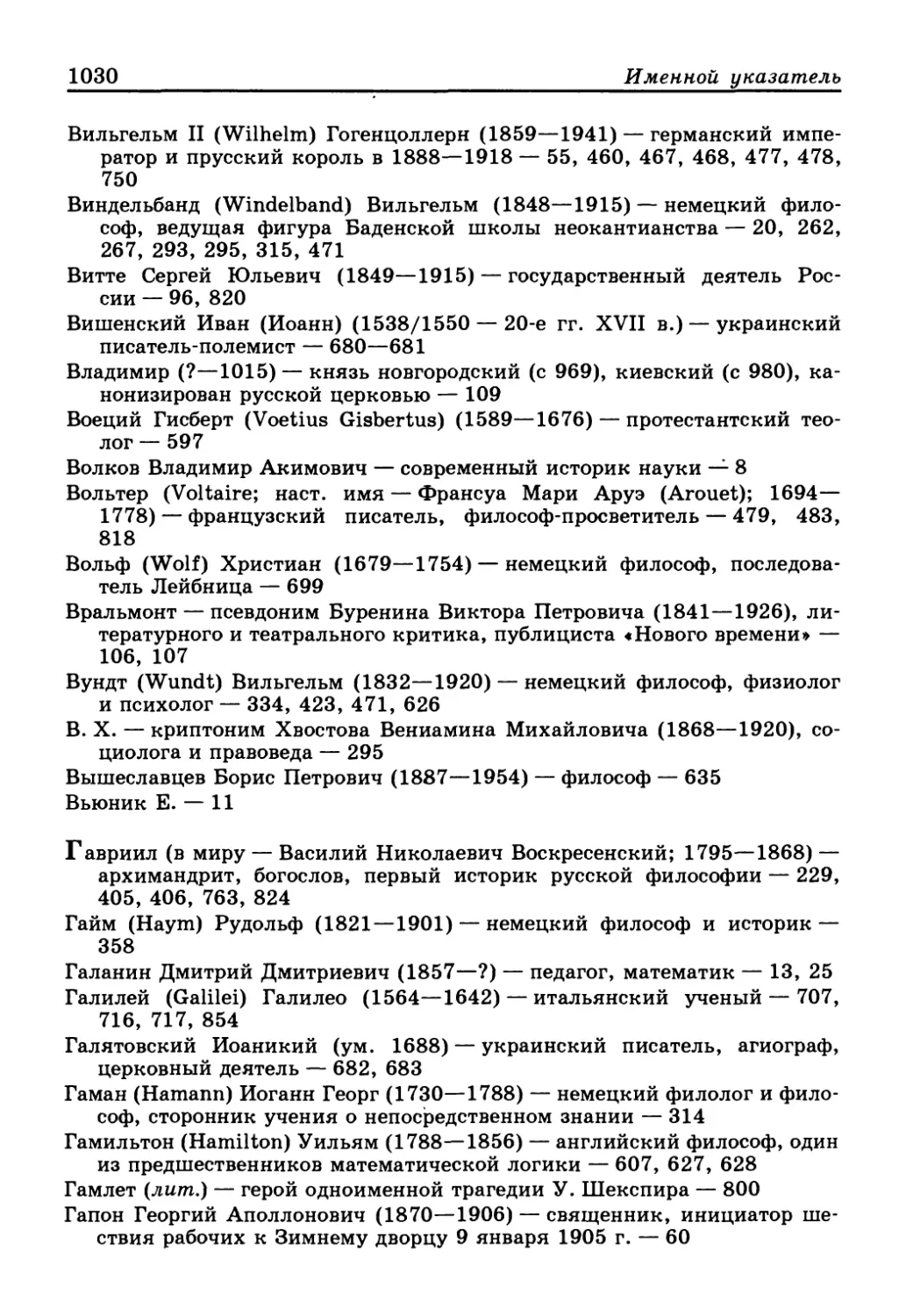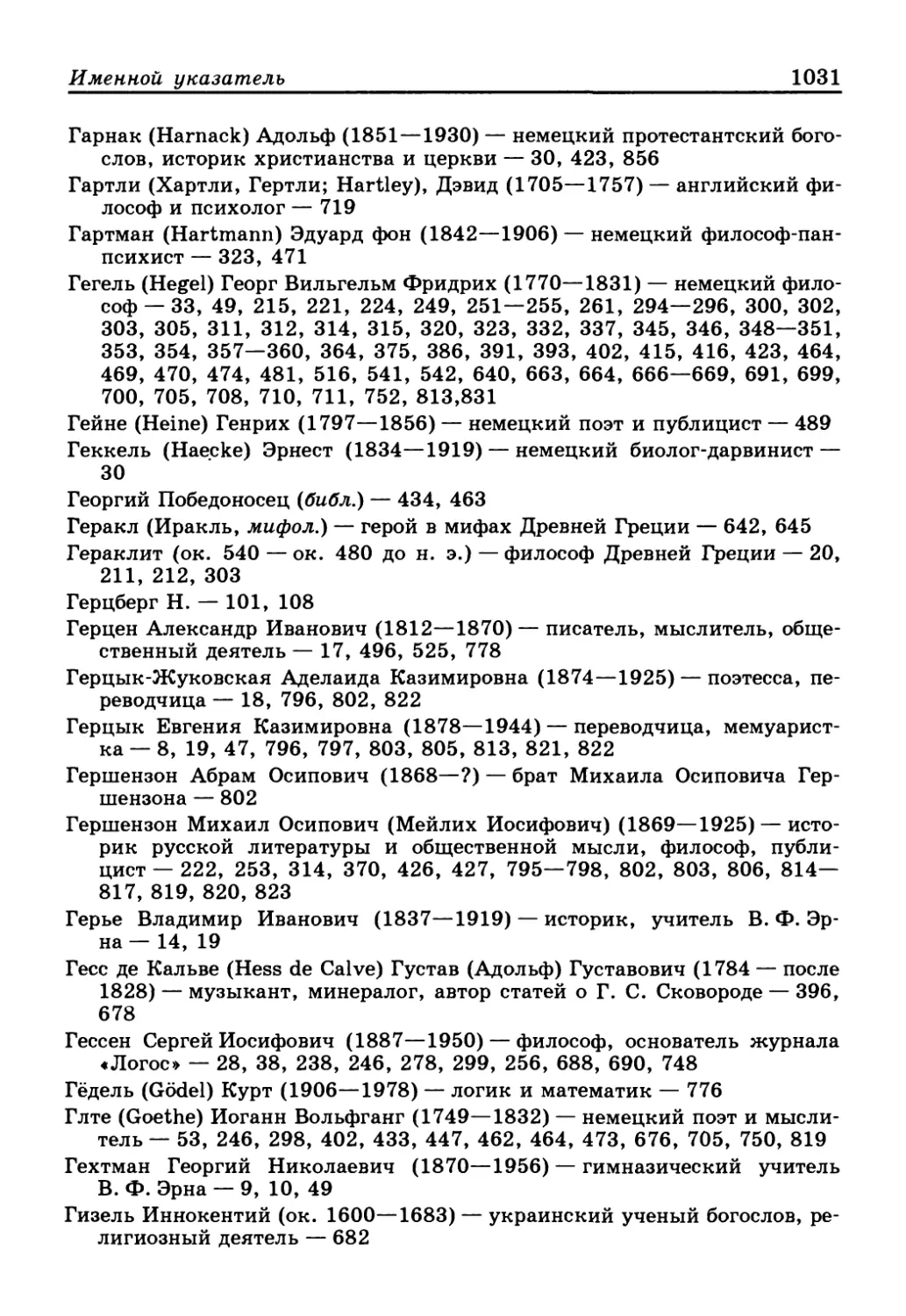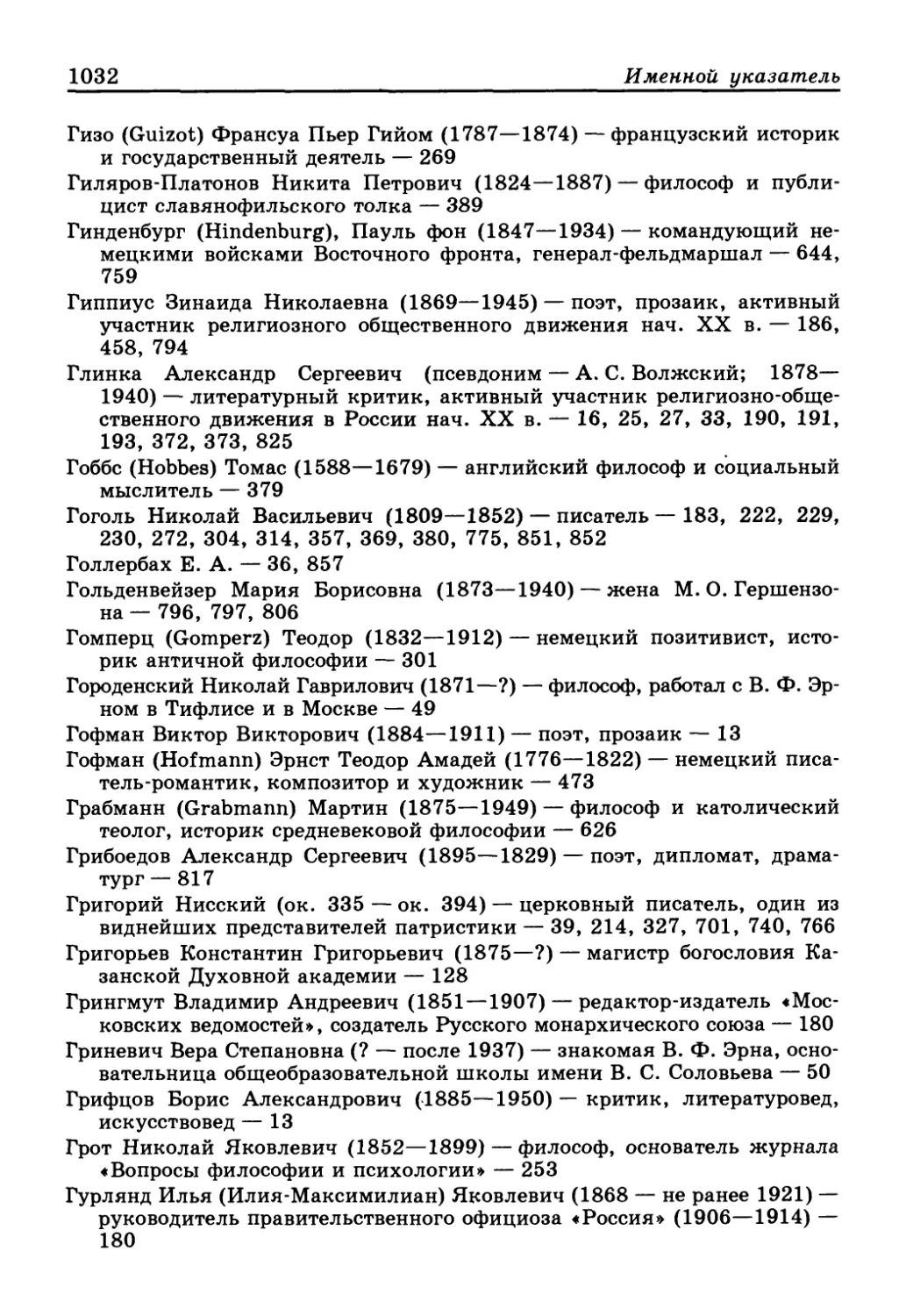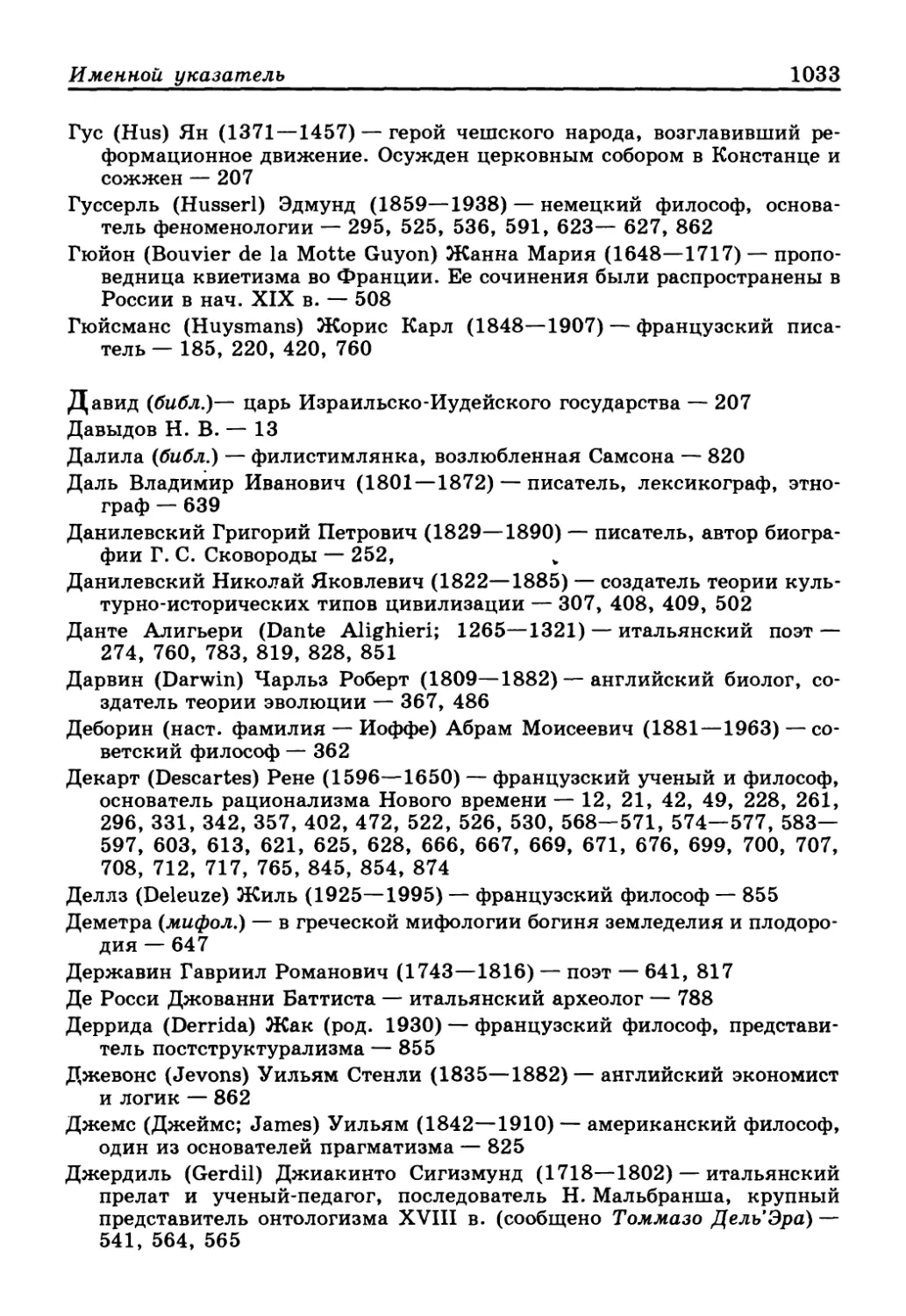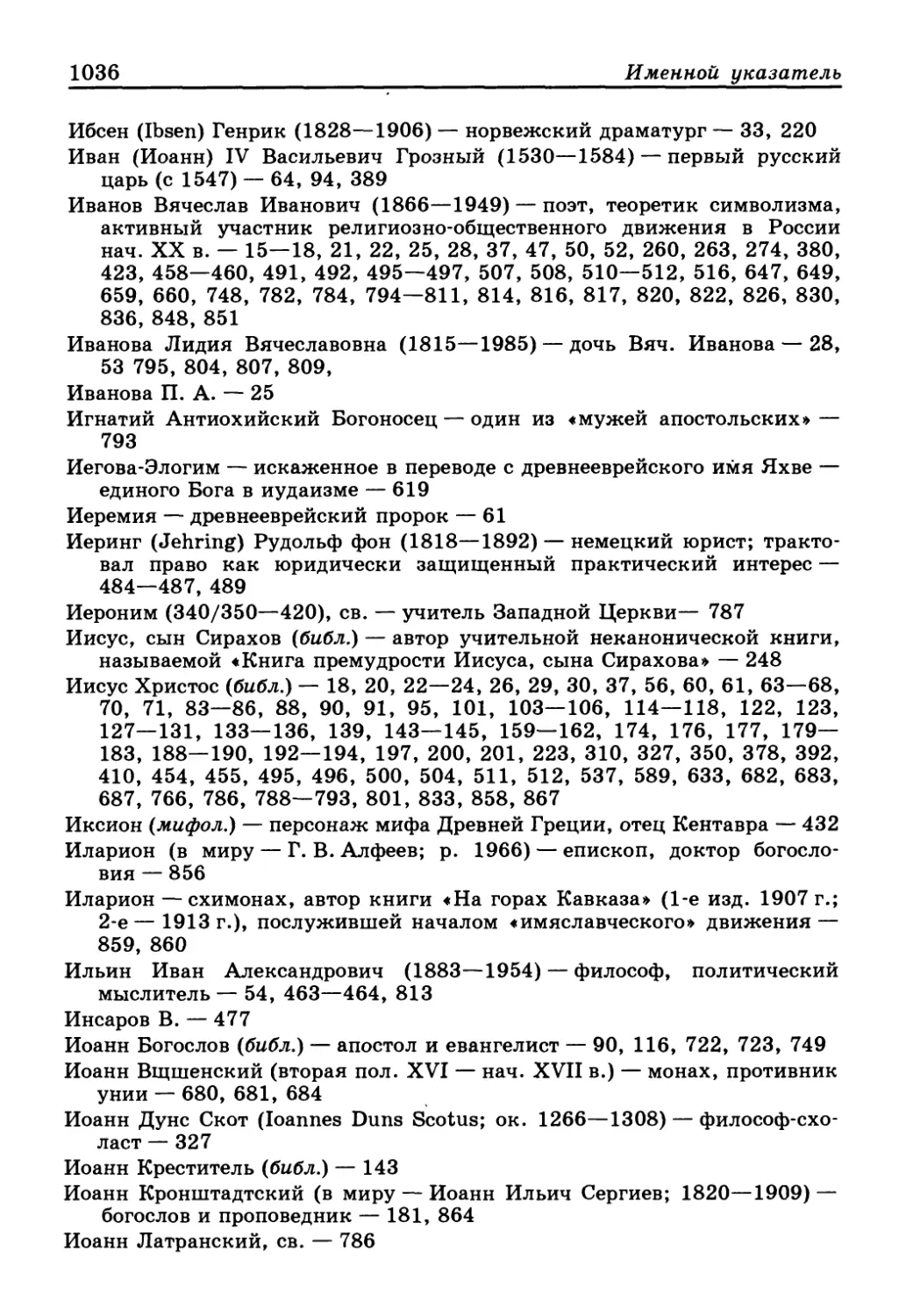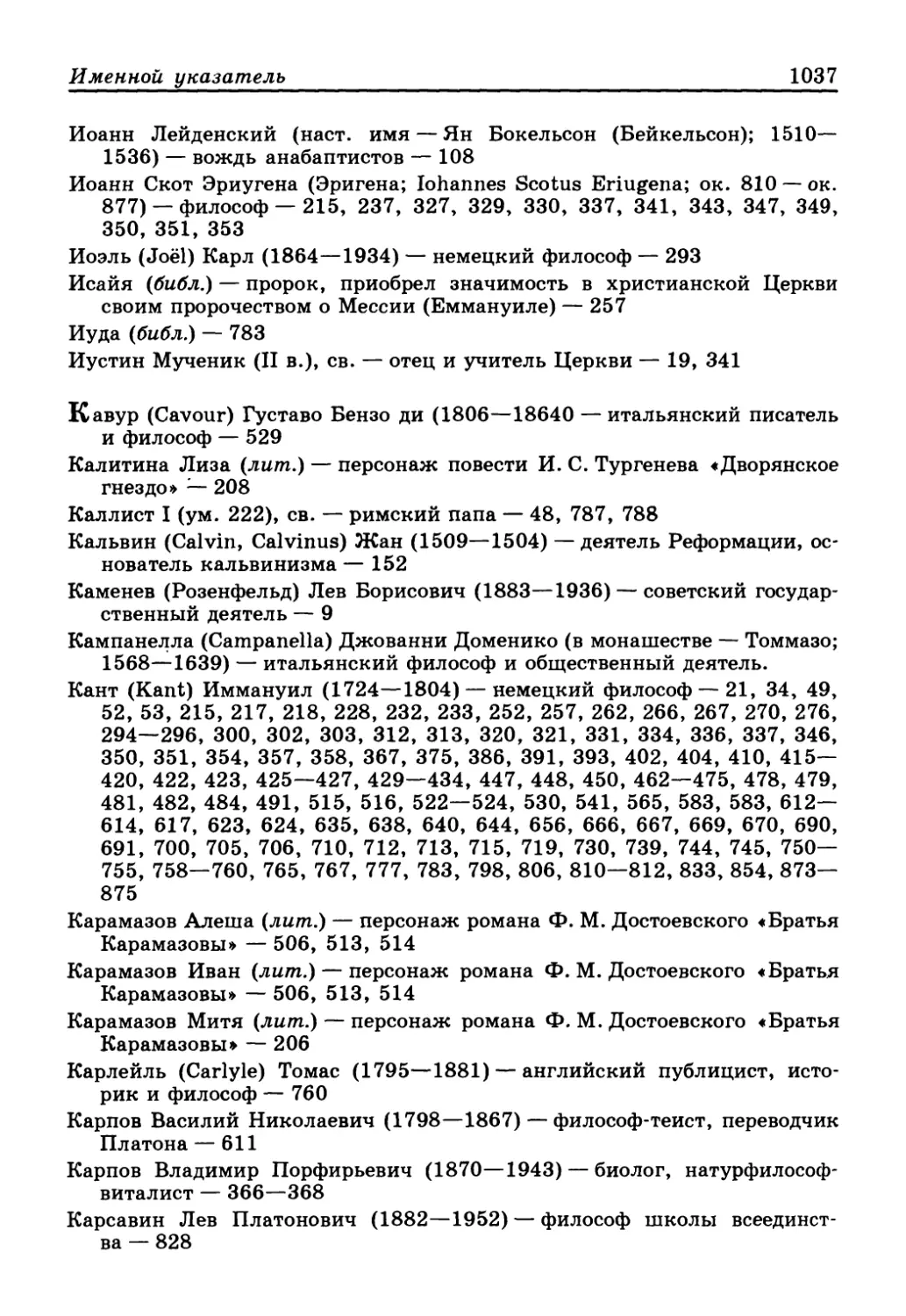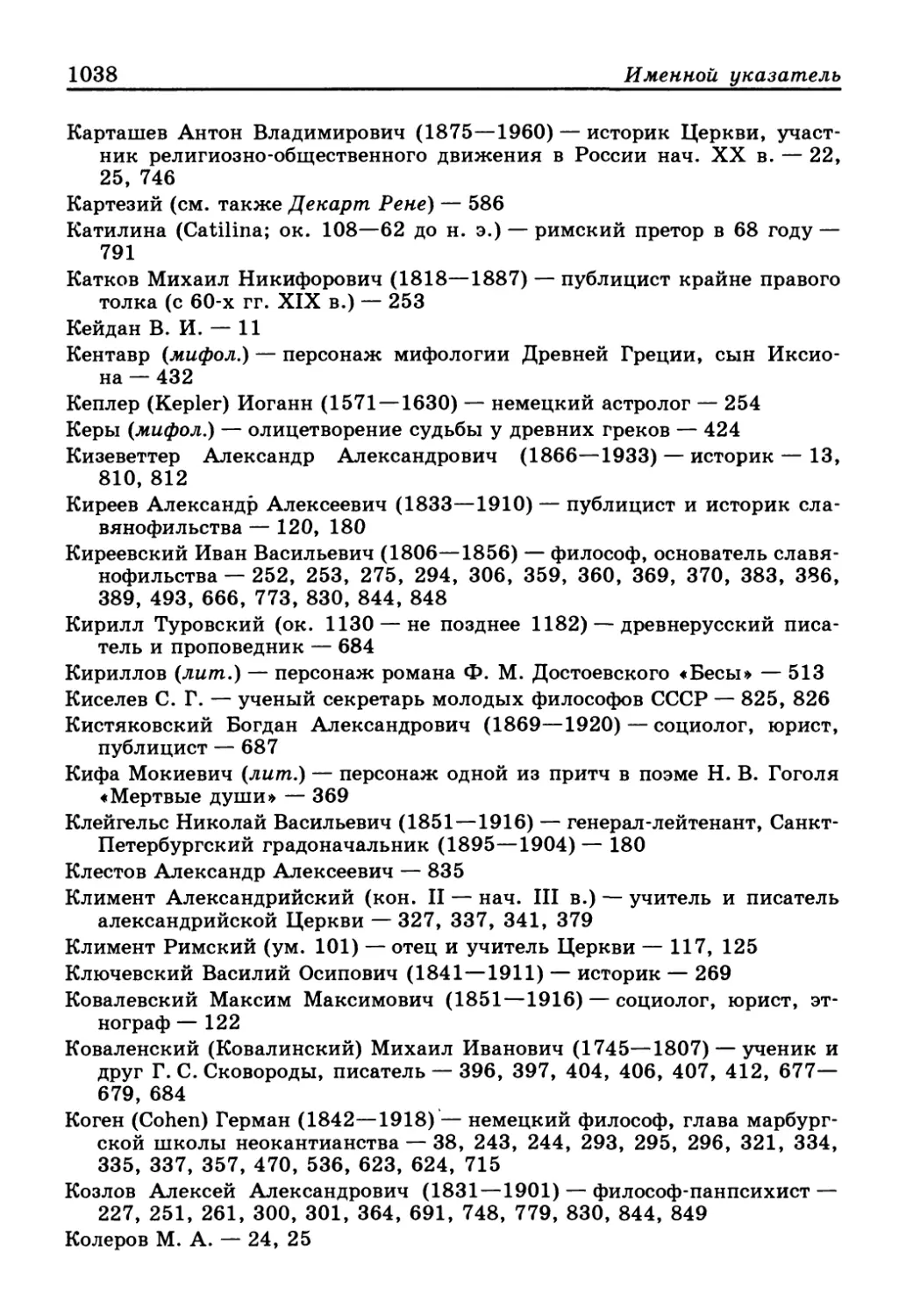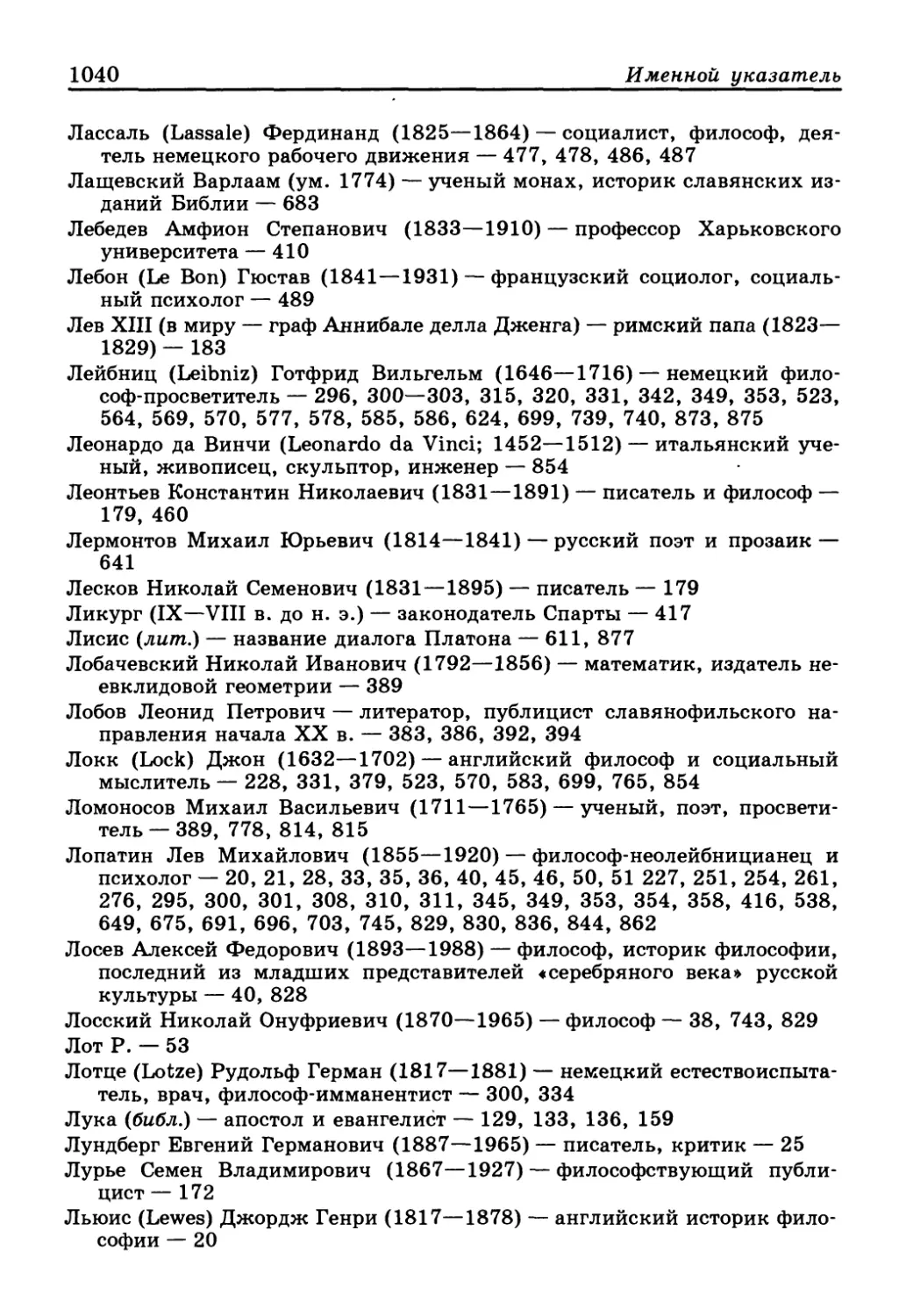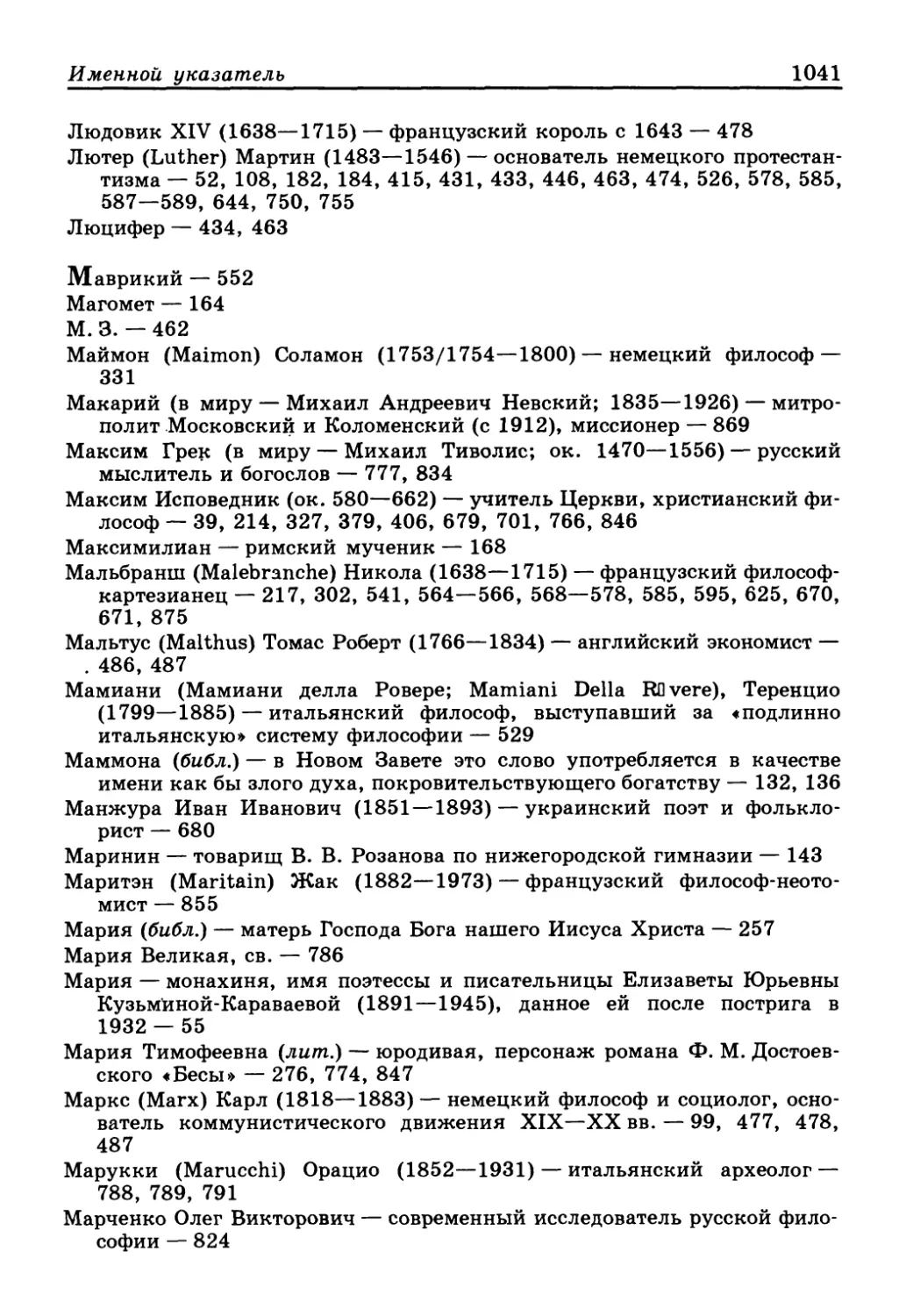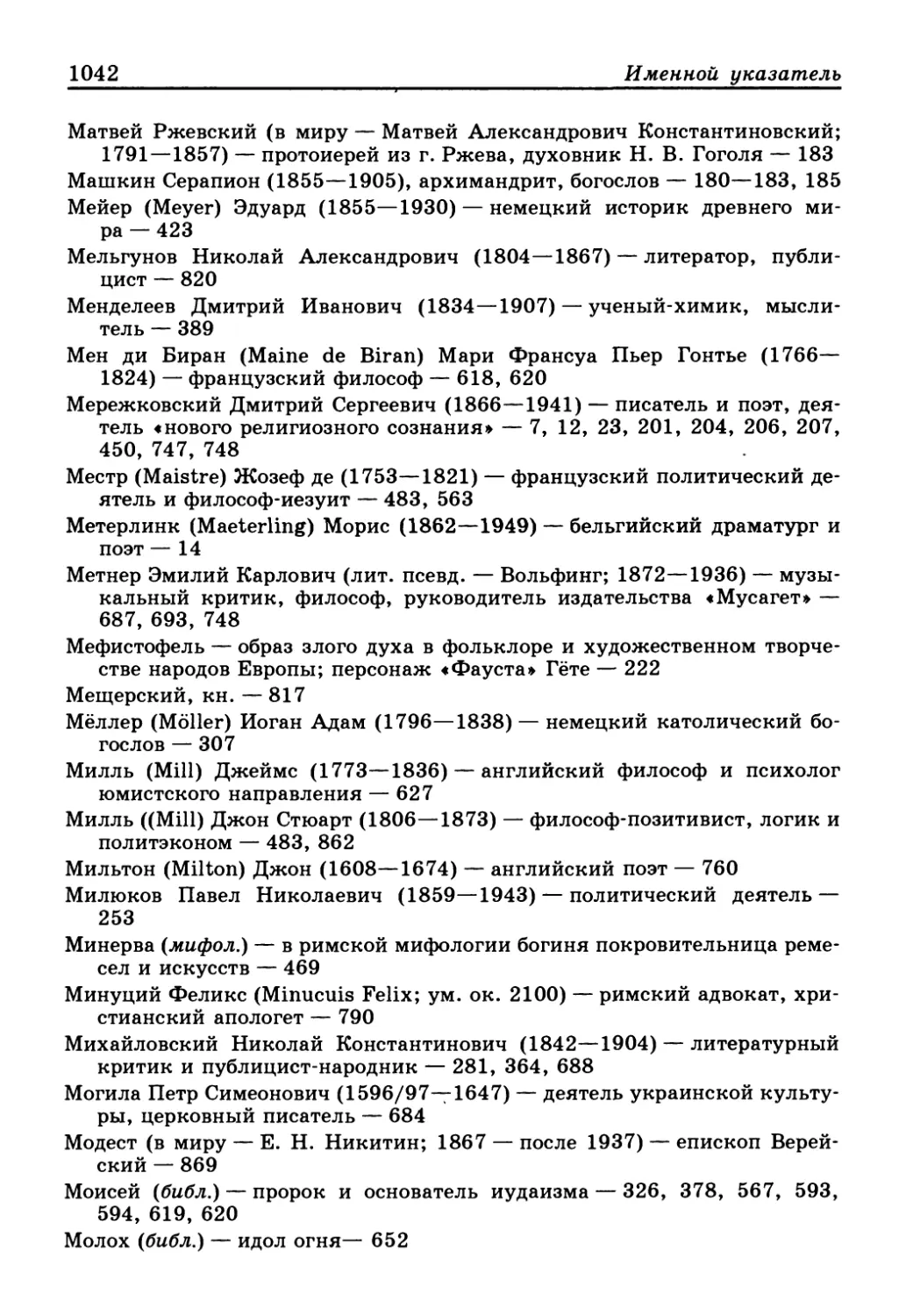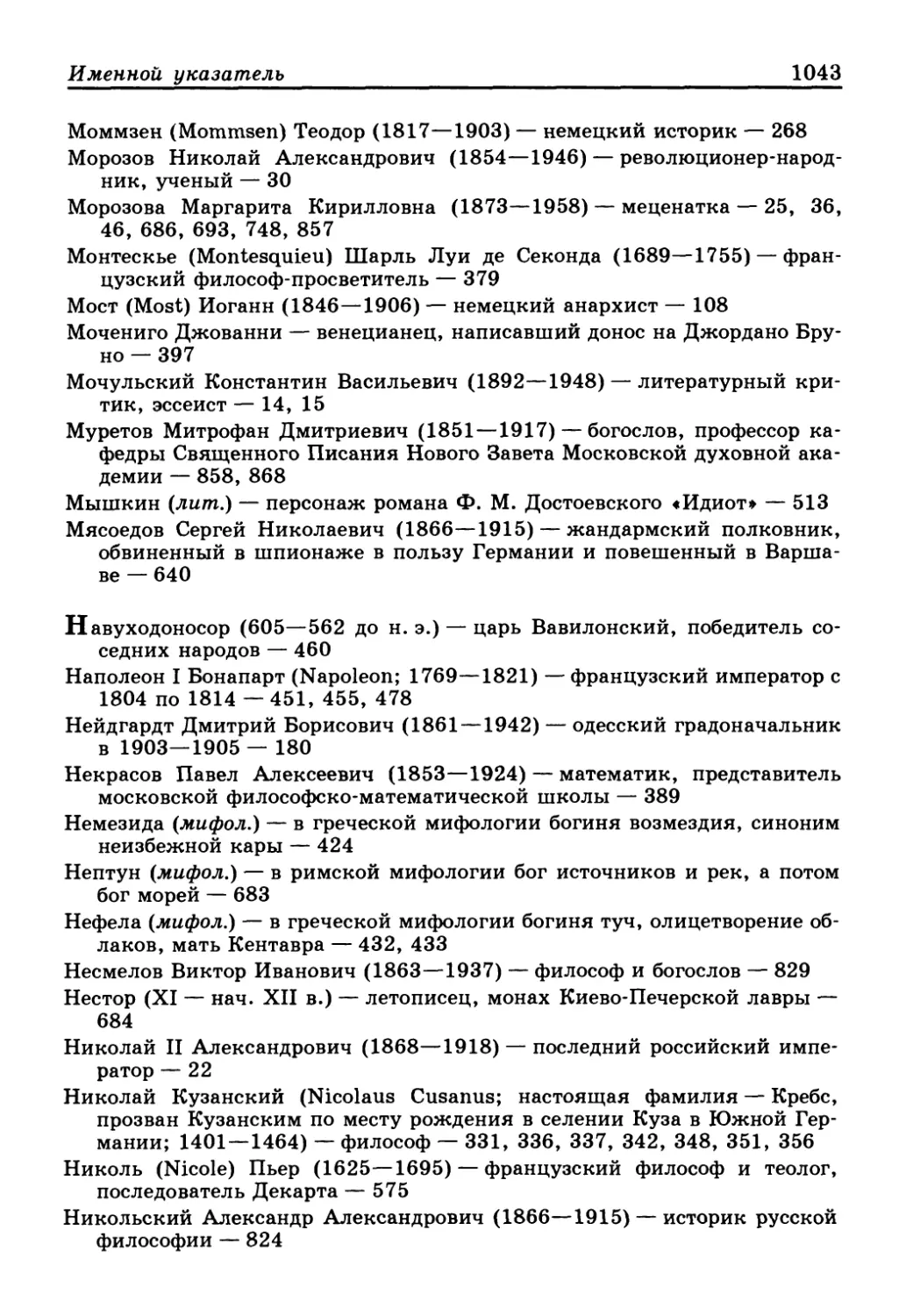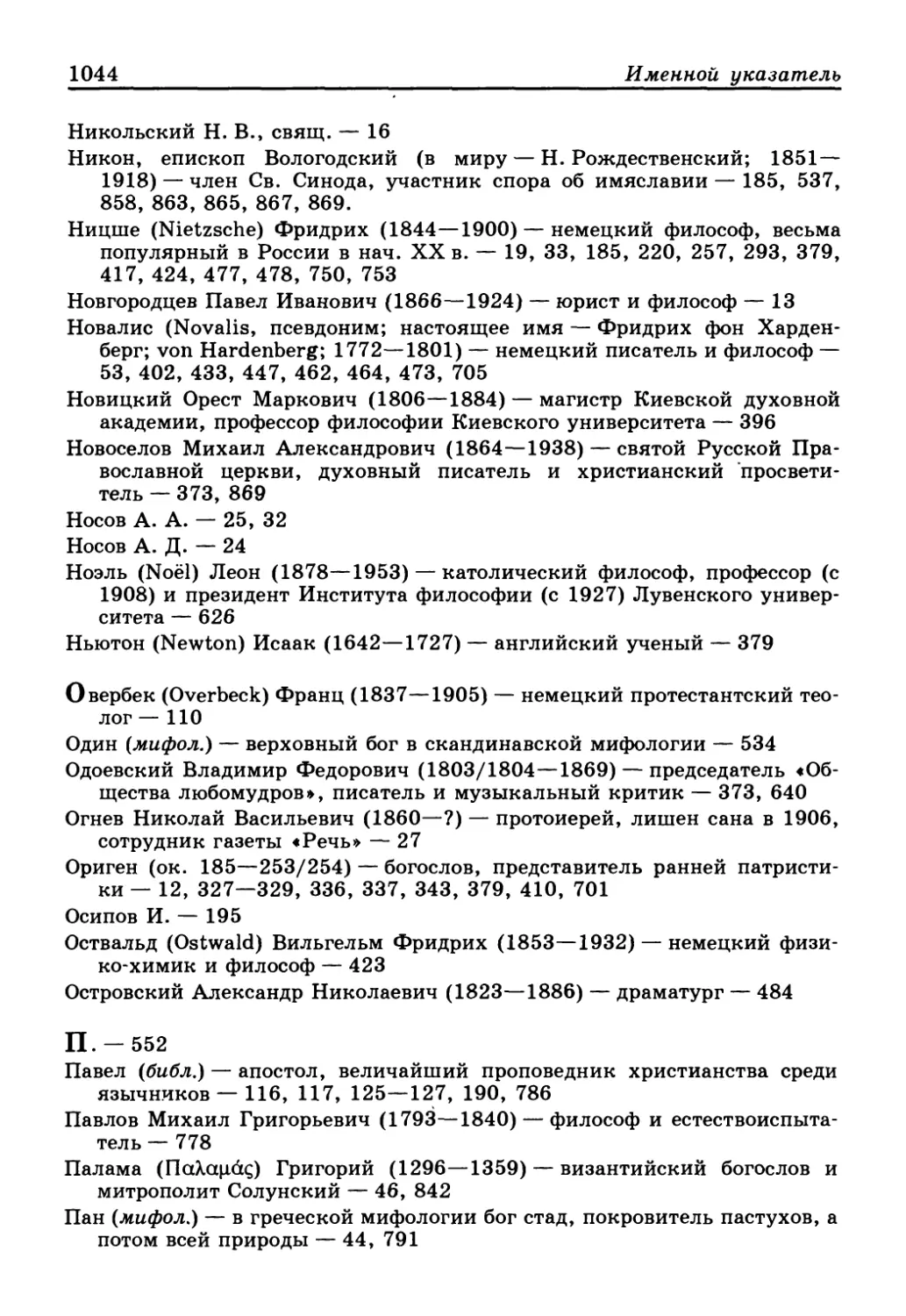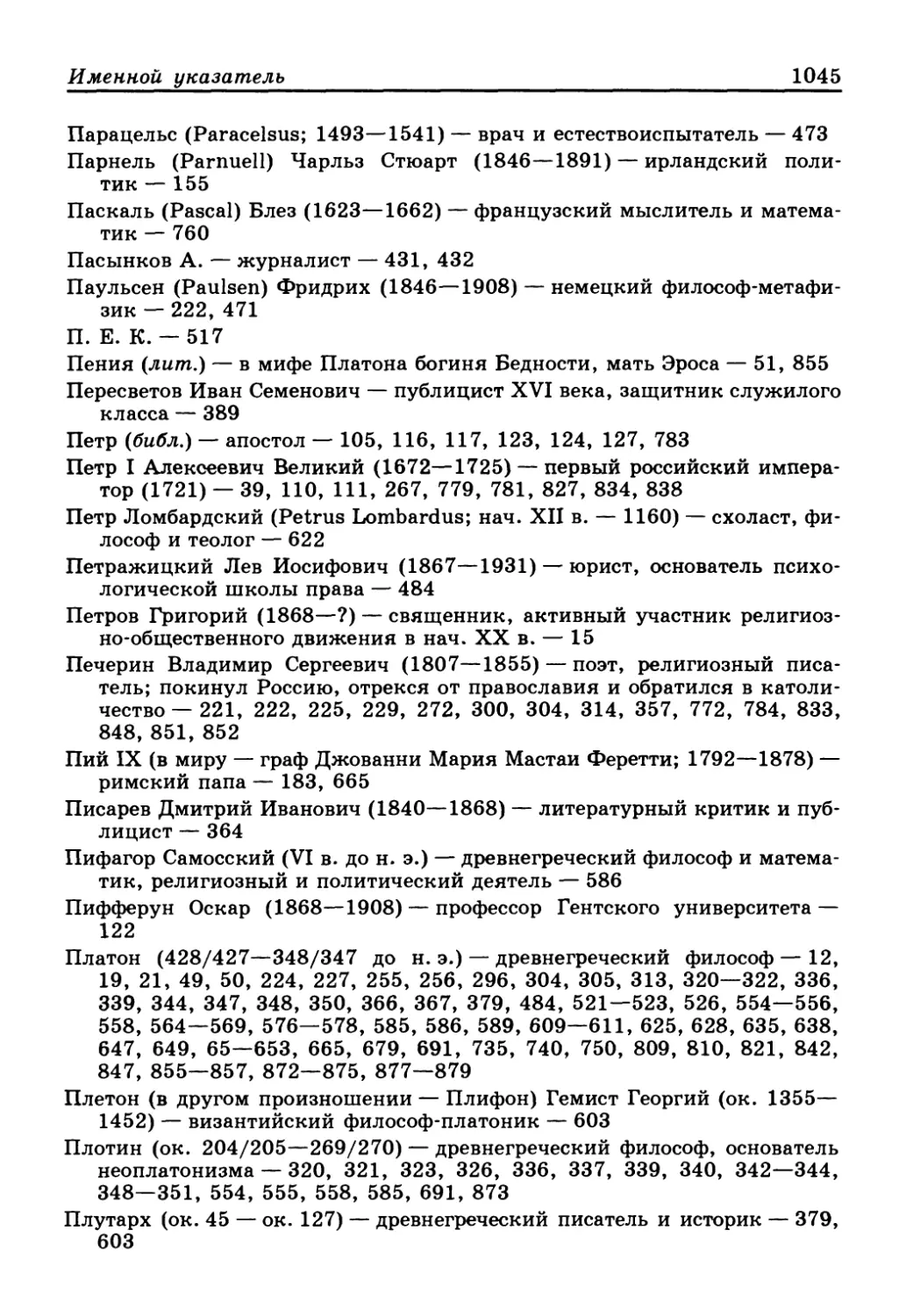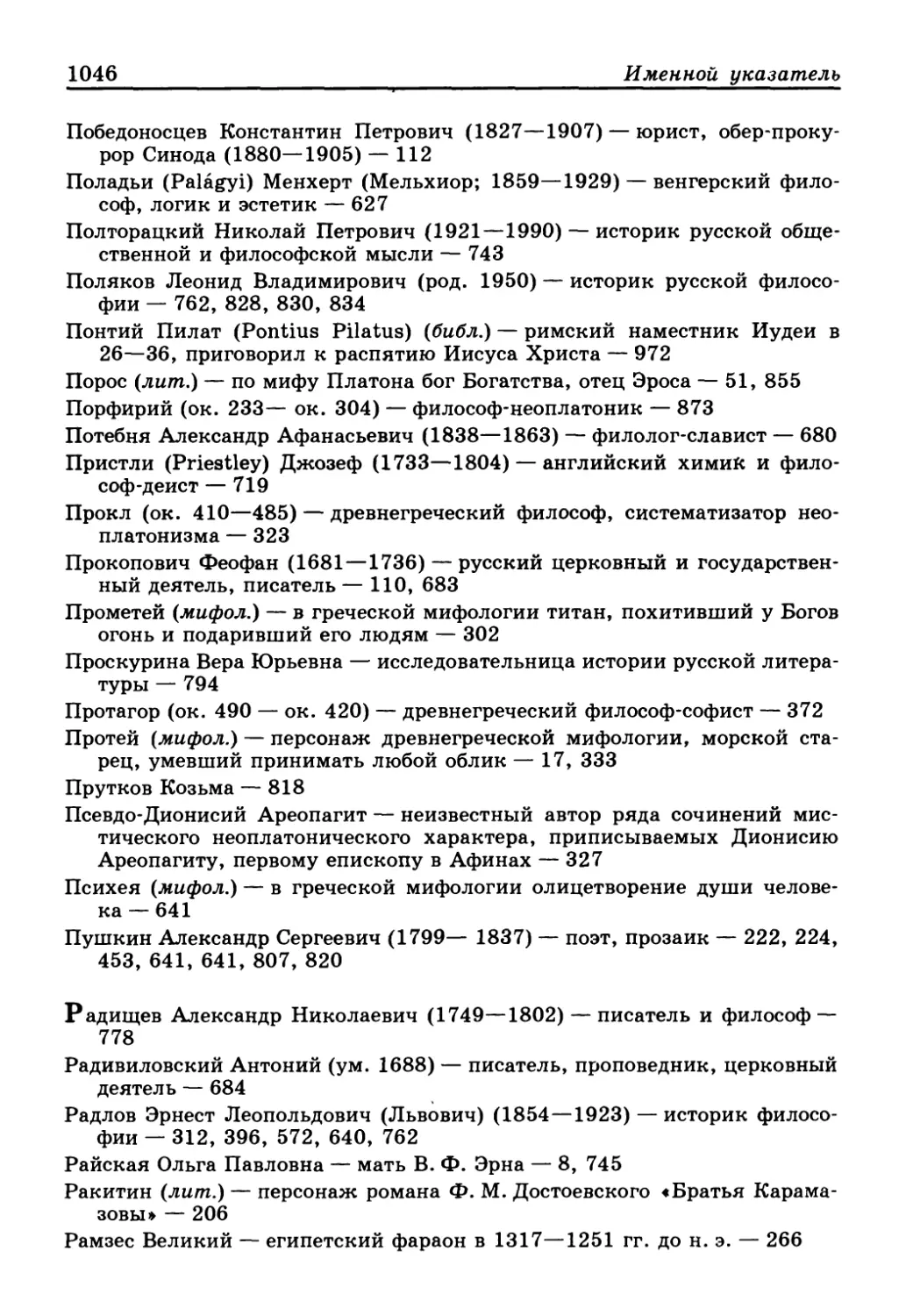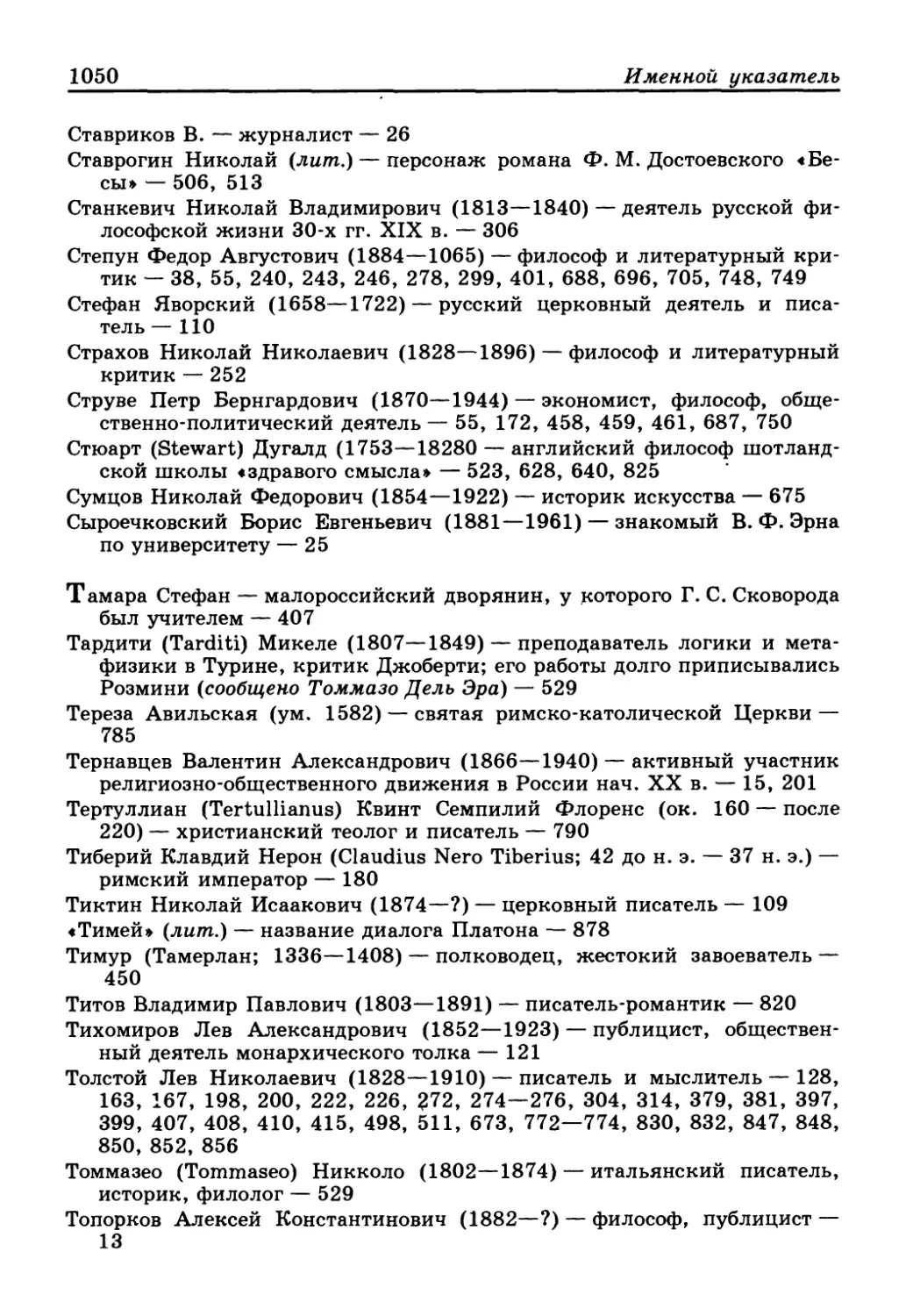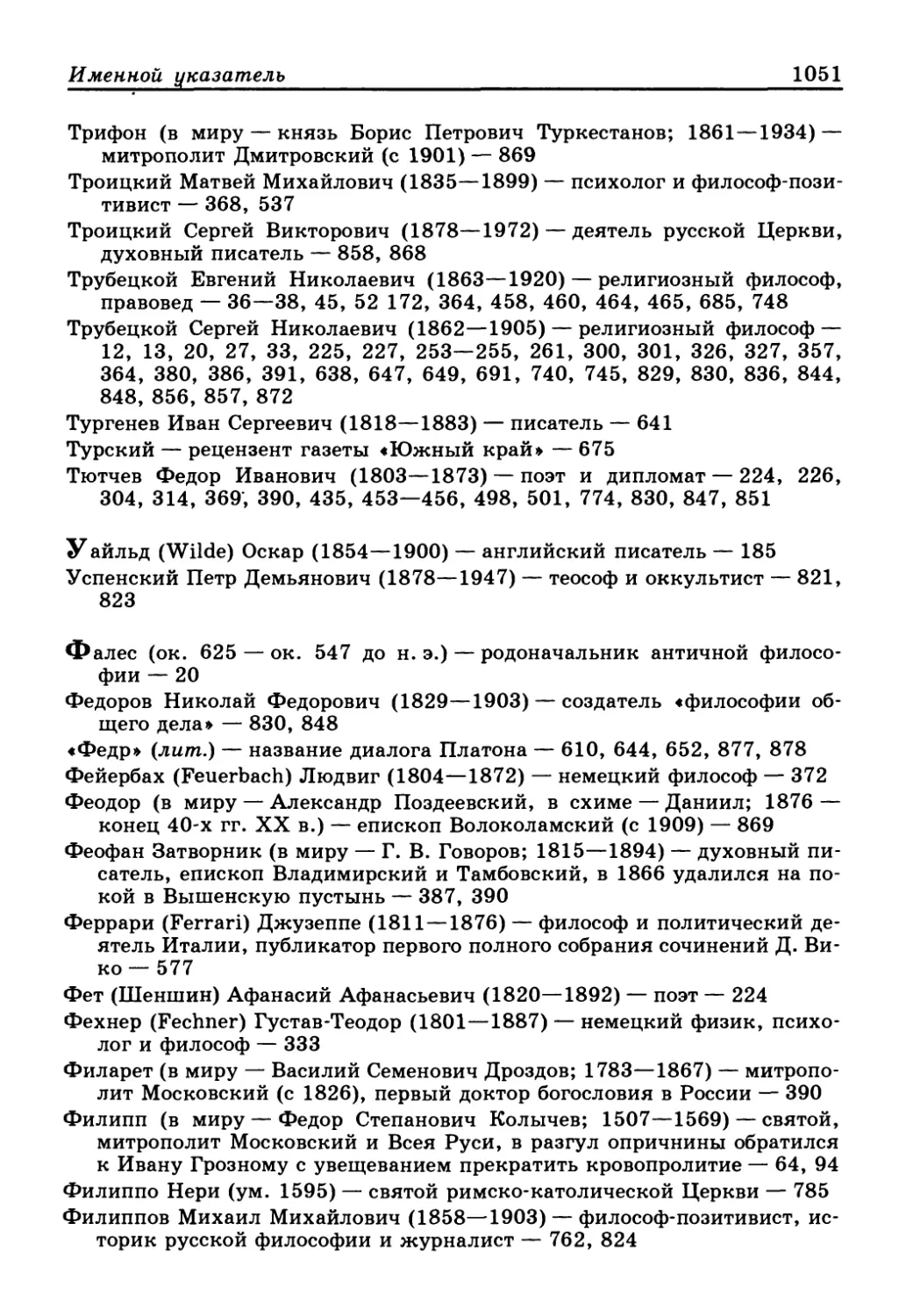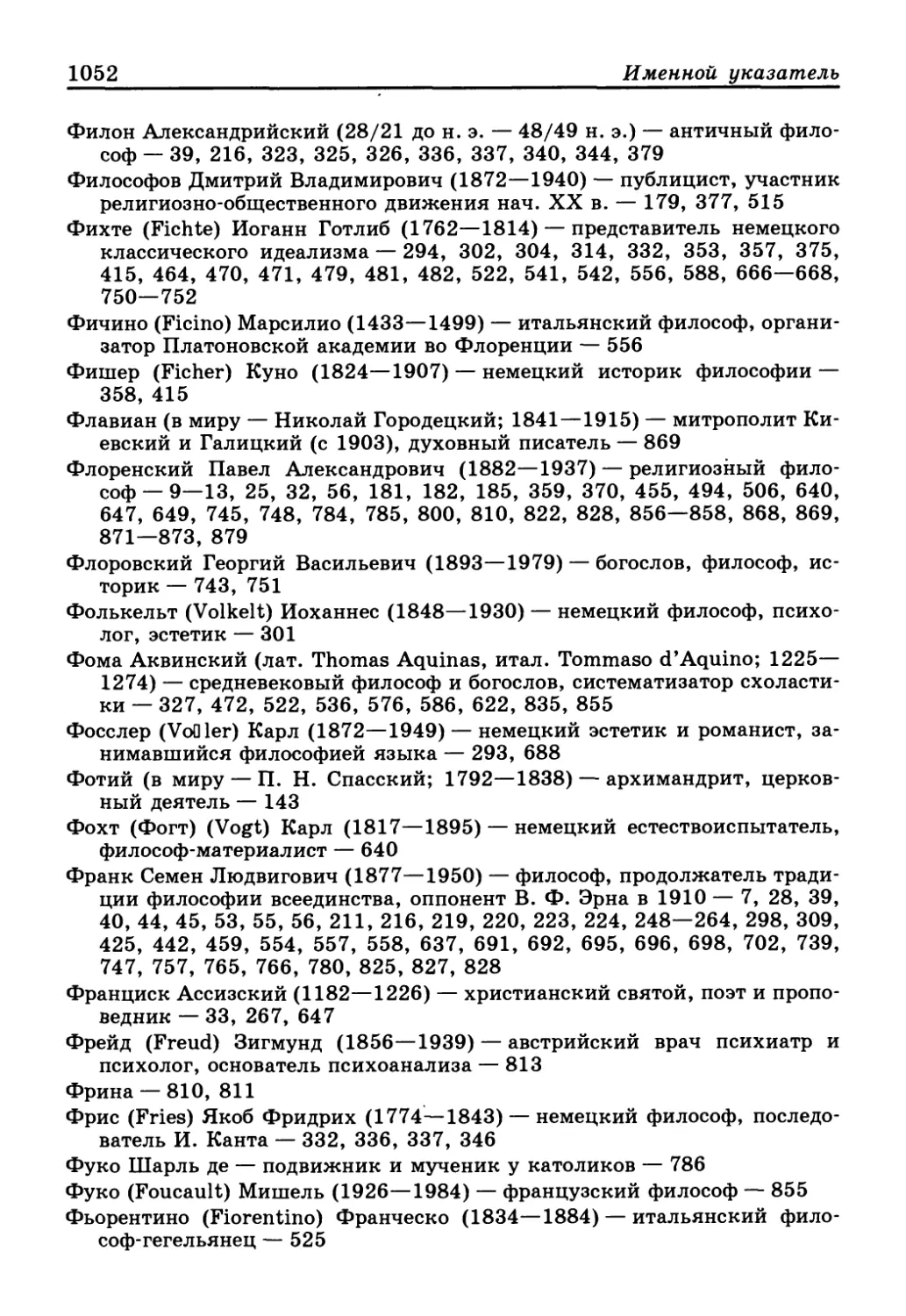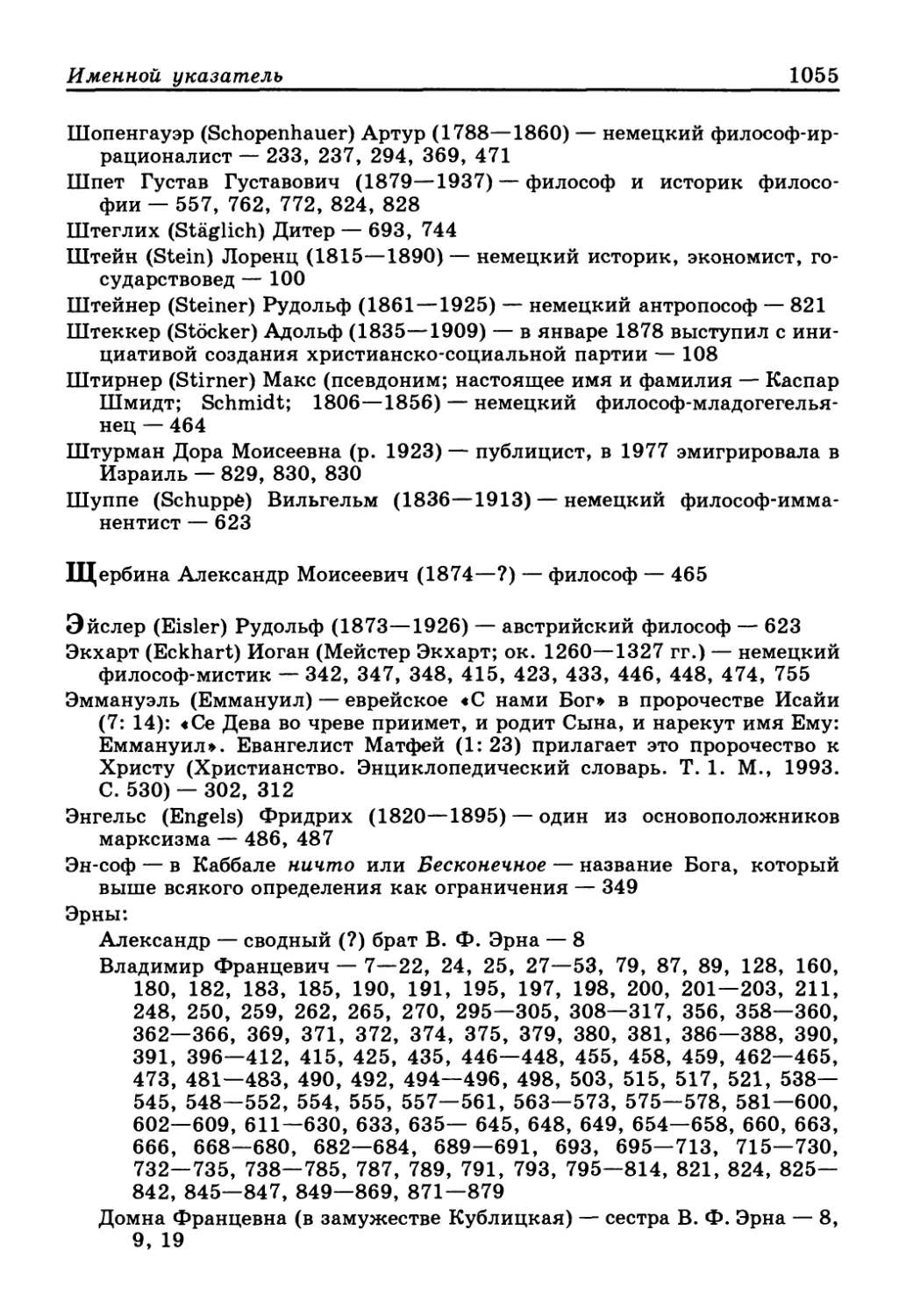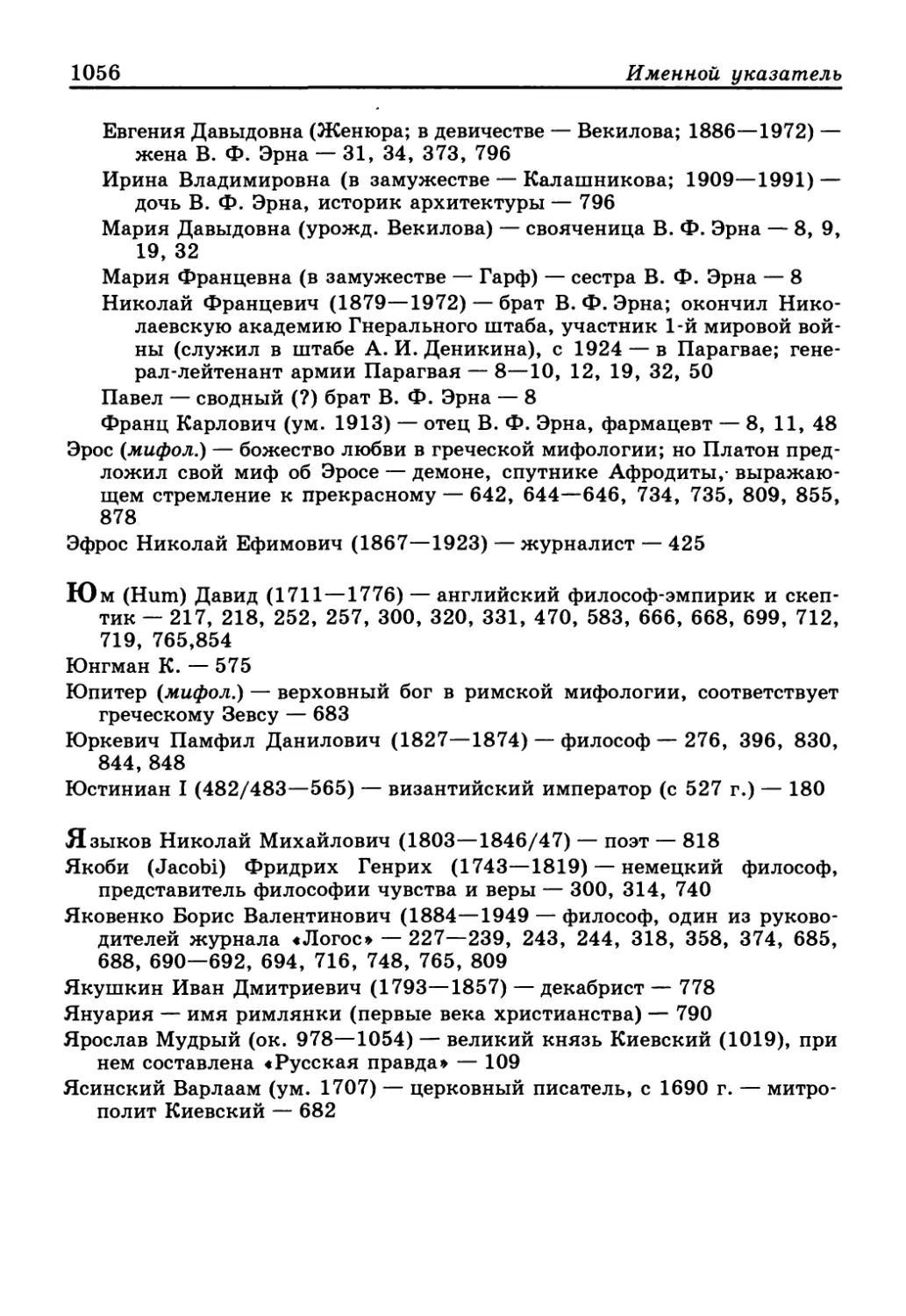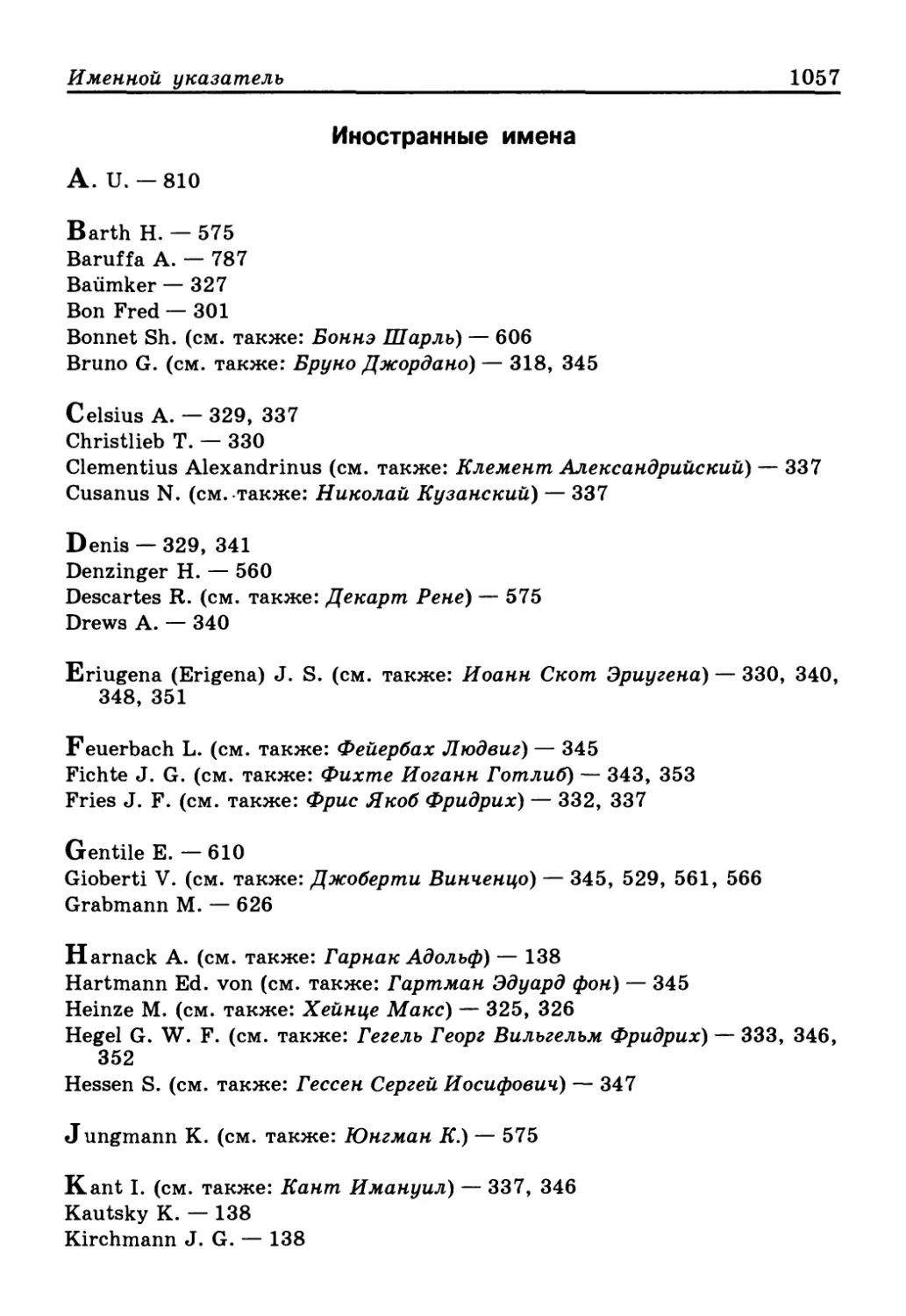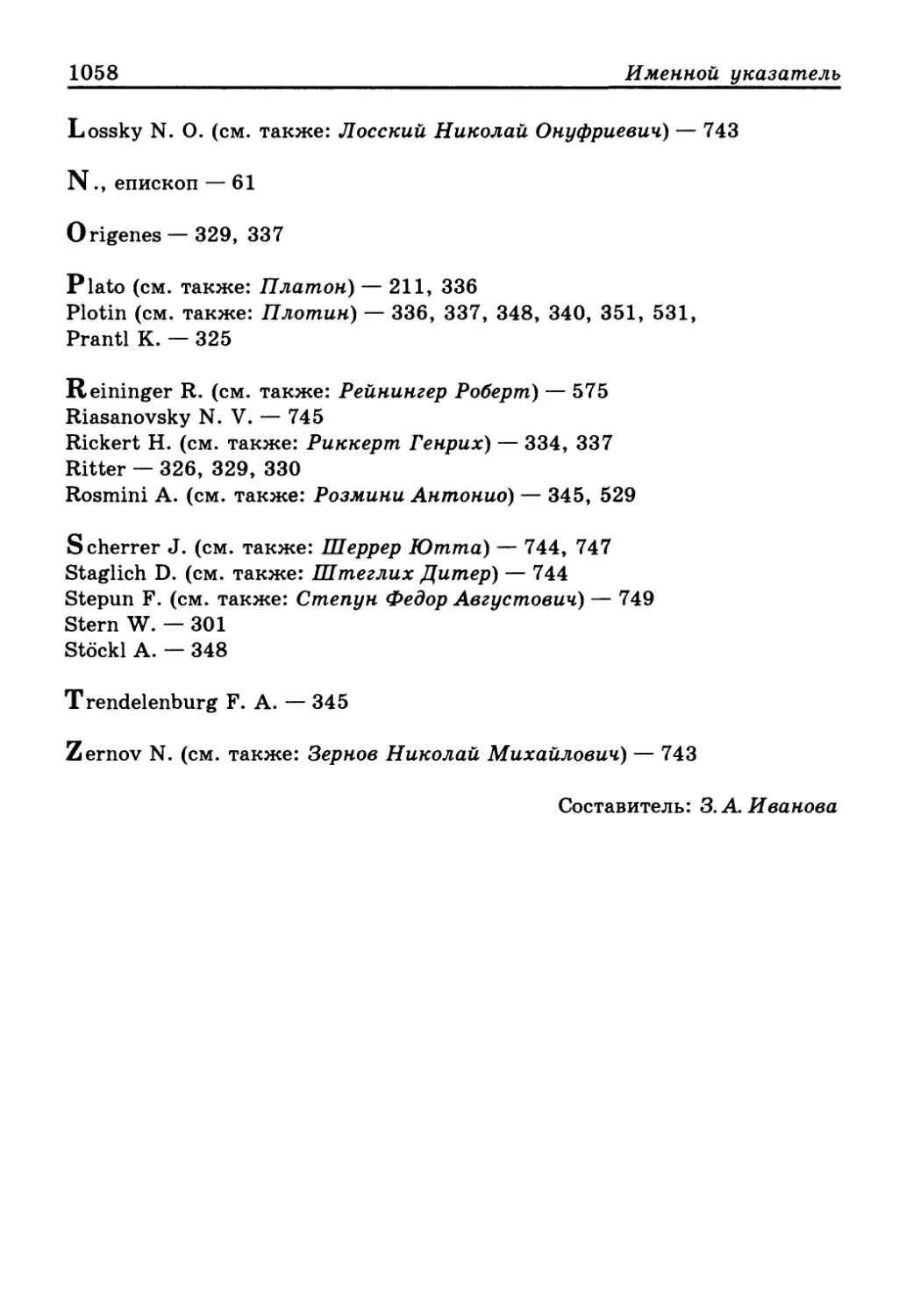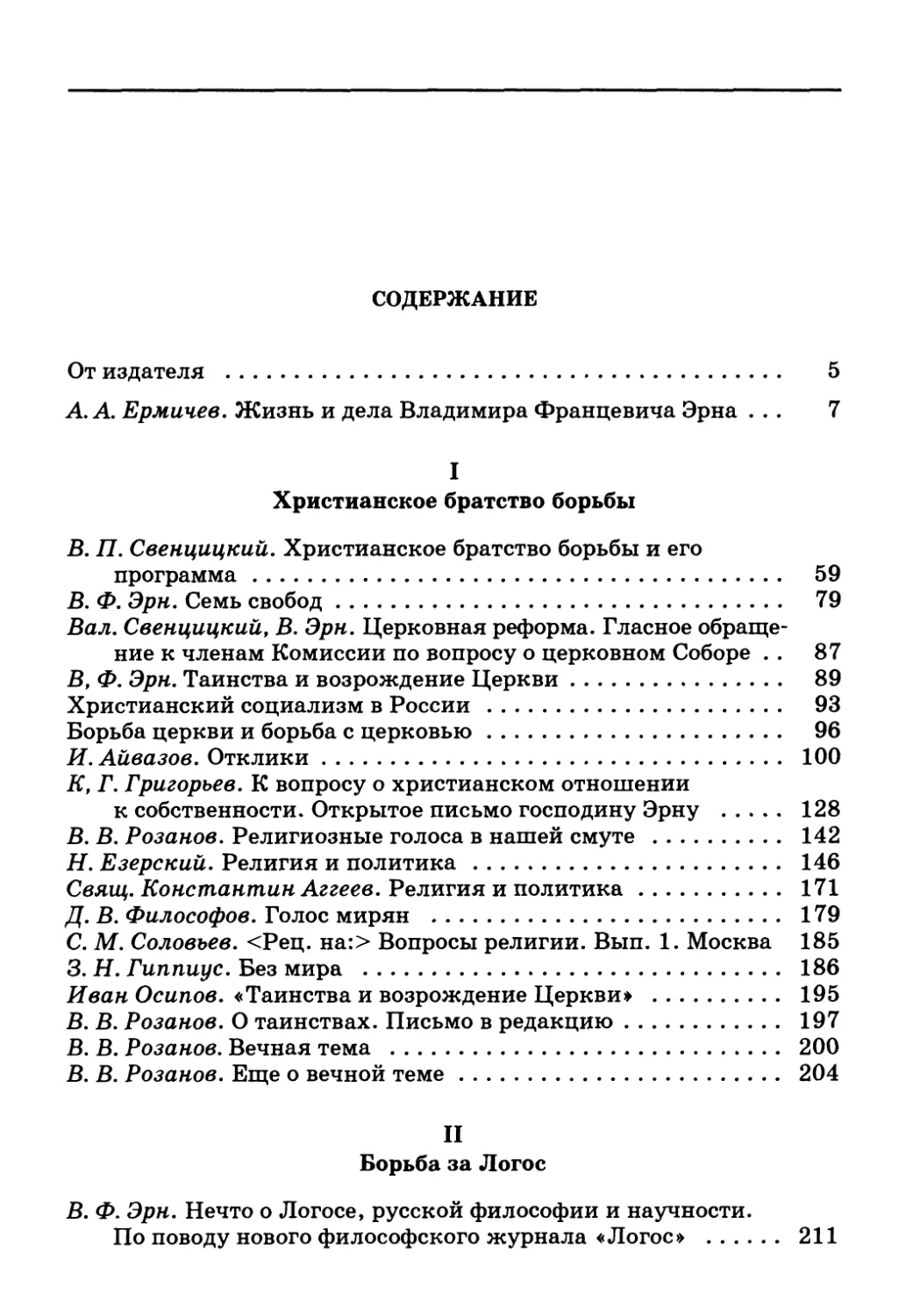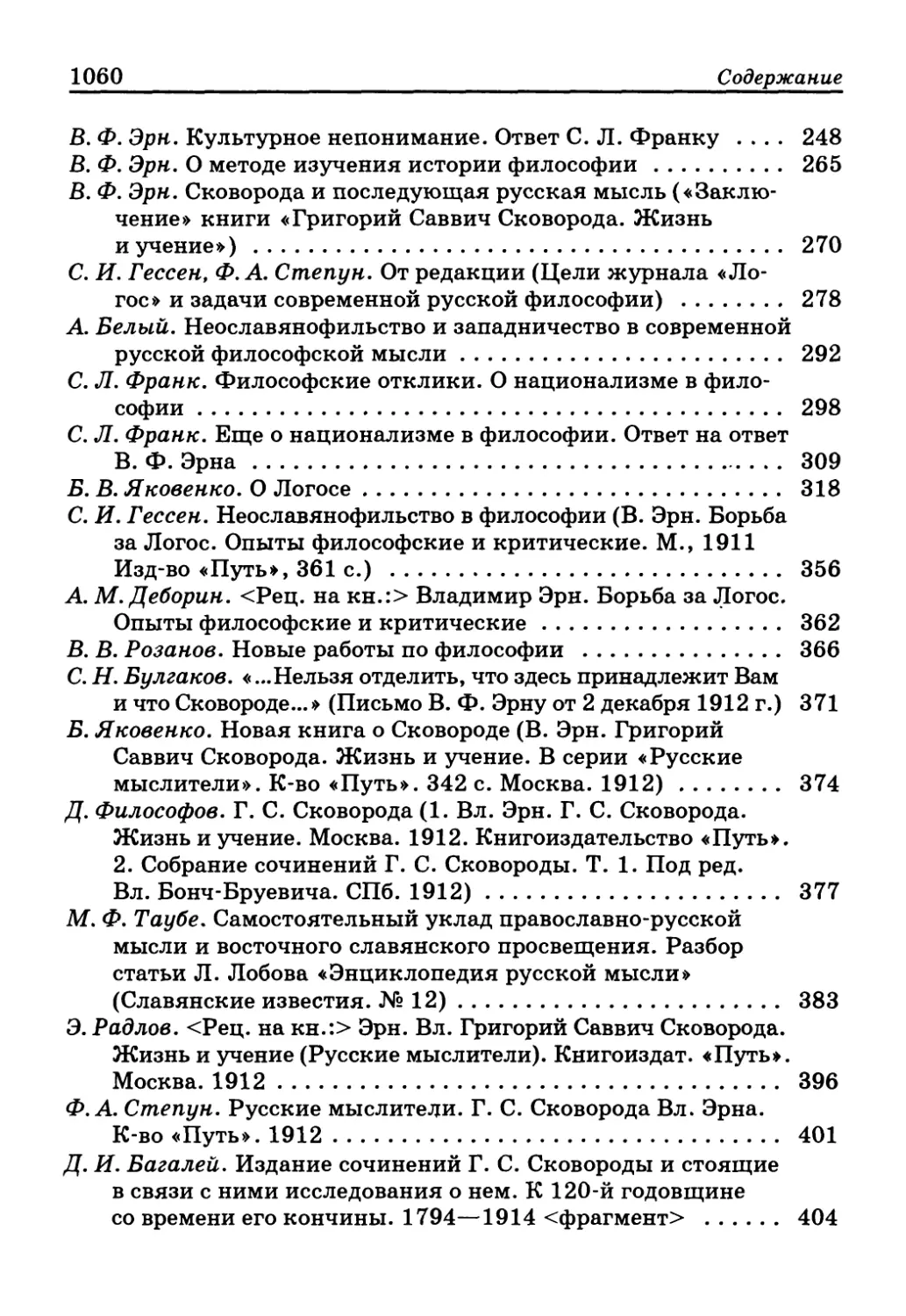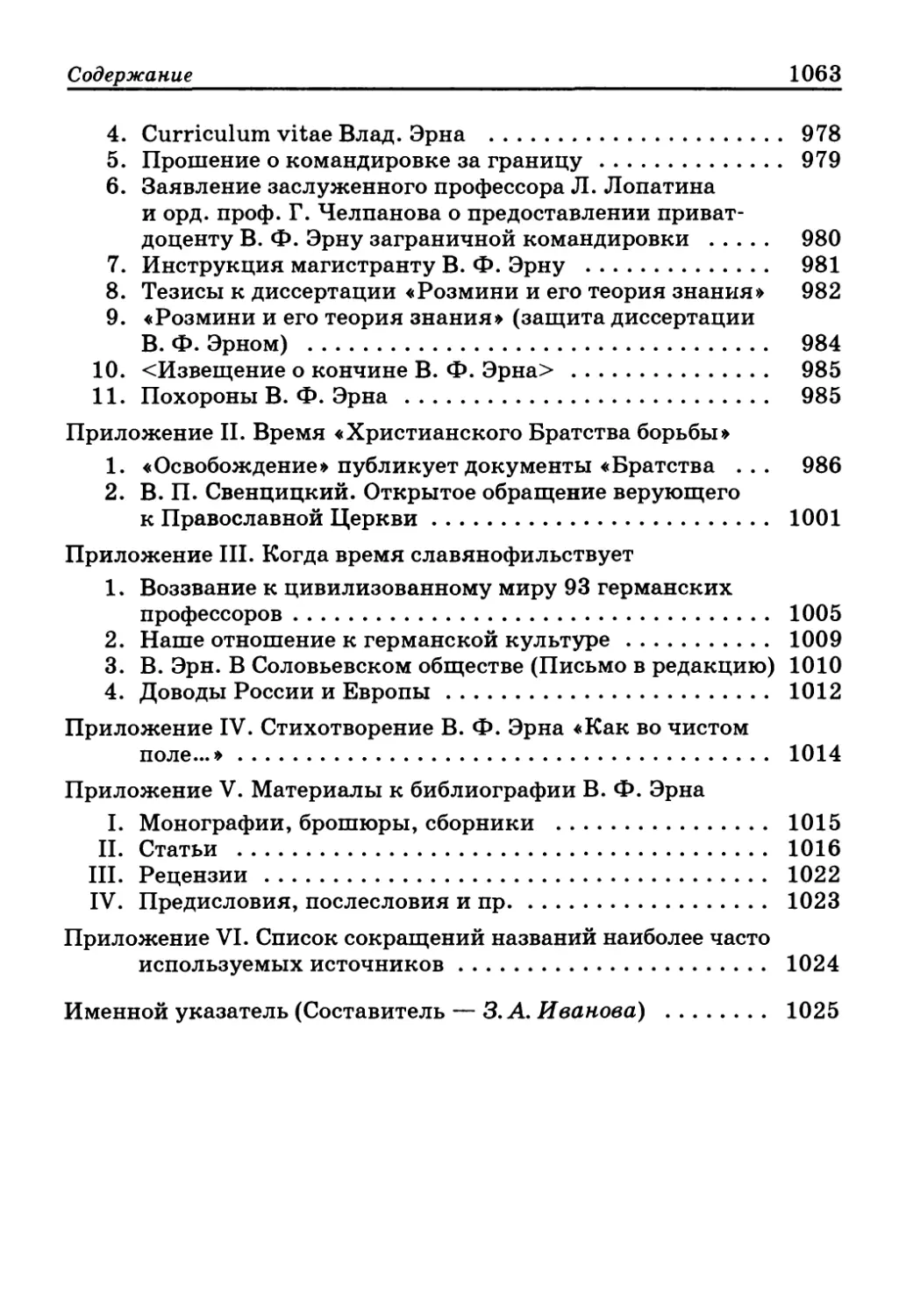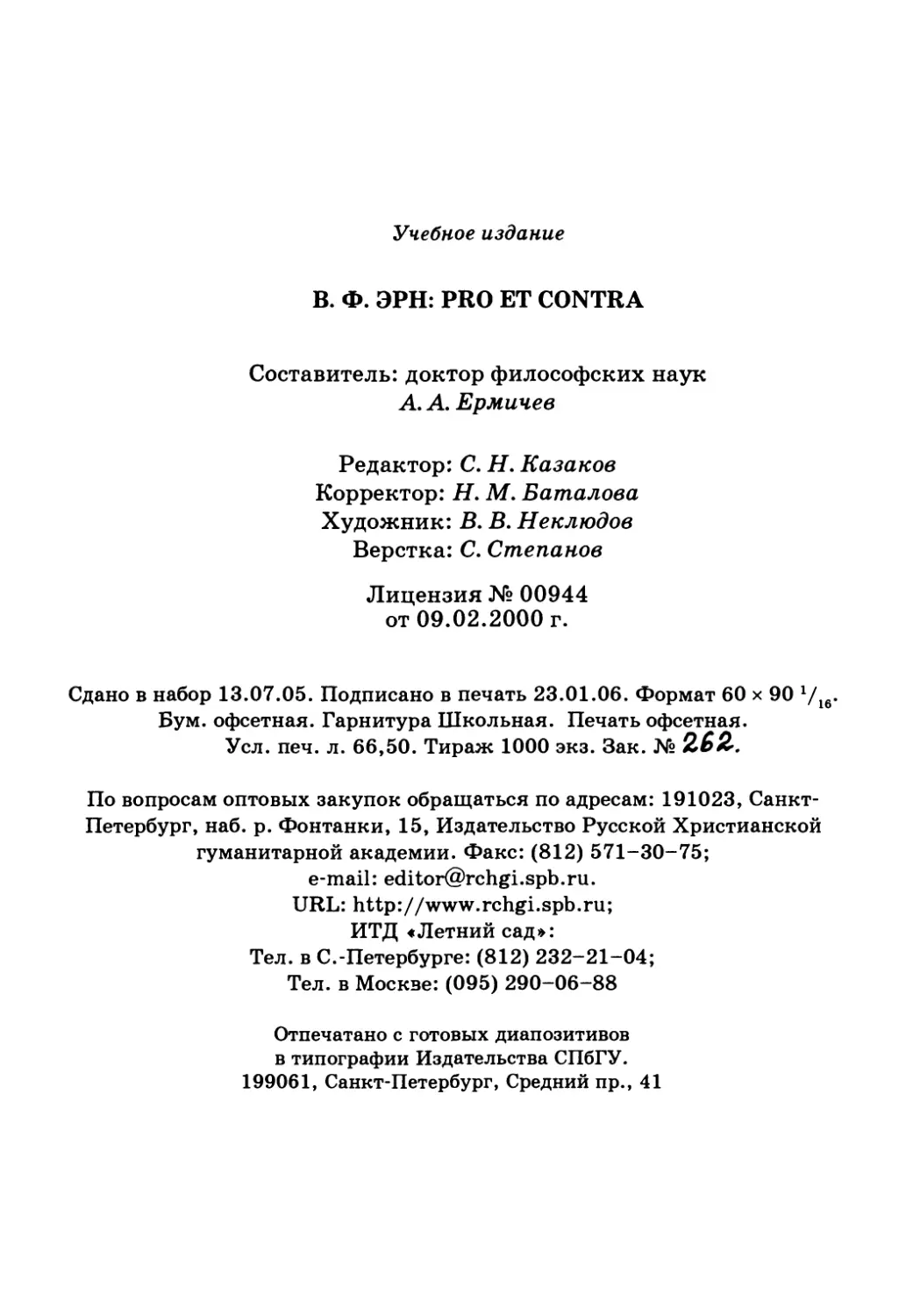Автор: Ермичев А.А. Эрн В.Ф.
Теги: история русской философии русская философия русские мыслители серия русский путь издательство русской христианской гуманитарной академии владимир эрн
ISBN: 5-88812-225-4
Год: 2006
Текст
Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»
В.Ф.ЭРН:
PRO ET CONTRA
Лигностъ и творгество Владимира Эрна
в оценке русских мыслителей и исследователей
Антология
Издательство
Русской Христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2006
Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д. К. Бурлака (председатель), А. А. Грякалов,
А. А. Ермичев, Ю. В. Зобнин, К. Г. Исупов (ученый
секретарь), А. А. Корольков, Г. М. Прохоров,
Р. В. Светлов, В. Ф. Федоров
Ответственный редактор тома
Д. К. Бурлака
Составитель:
А. А. Ермичев
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект 04—03—16026
В. Ф. Эрн: pro et contra / Сост., вступ. статья, коммент.
А. А. Ермичева. — СПб.: РХГА, 2006. — 1064 с. — (Русский
путь).
В книге собраны статьи и документы, дающие всестороннюю
характеристику жизни и творчества В. Ф. Эрна (1882—1917) — выдающегося
представителя «неославянофильства» в русской общественной и
философской мысли начала XX века.
Книга адресована специалистам по истории русской культуры и
всем, кто интересуется ее судьбами.
ISBN 5-88812-225-4
Il II III II I III II II III © ^· ^* Ермичев — составление, вступитель-
II II III III III II II III ная статьЯ> комментарии, 2006
Uli II III II I III II II III © Русская Христианская гуманитарная
Il I II III I III I III IIIII III академия, 2006
9II7 85888 I' 122259 " © «Русский путь» — название серии, 1994
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках очередную книгу «Русского Пути» —
«В. Ф. Эрн: pro et contra».
«Русский Путь» нельзя оценить как сугубо научный или учебный
проект, хотя стремление постоянно совершенствовать
научно-редакционную подготовку и ориентация на студенческо-преподавательскую
аудиторию очевидны. По существу, серия представляет собой феномен
национального самосознания, один из путей, которым русская
культура пытается осмыслить свою судьбу.
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить
русскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе,
отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. На
первом этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве символизации
национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди
России. «Русский Путь» открылся антологией «Николай Бердяев: pro
et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских
мыслителей и исследователей». Последующие книги были посвящены
творчеству и судьбам видных деятелей отечественной истории и
культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований
и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию,
оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской культуры
со стороны других видных ее деятелей — сторонников и
продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались
комментариями, помогающими современному читателю осознать
исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.
В результате перед глазами читателя предстали своего рода «малые
энциклопедии» о П. Флоренском, К. Леонтьеве, В. Розанове, Вл.
Соловьеве, П. Чаадаеве, Н. Гумилеве, М. Горьком, В. Набокове, А. Пушкине,
М. Лермонтове, А. Чехове, арх. Феодоре (Бухареве) и К.
Победоносцеве, А. Ахматовой, А. А. Блоке и др.
Академии удалось привлечь к сотрудничеству в «Русском Пути»
замечательных ученых, деятельность которых получила поддержку
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), придавшего
качественно новый импульс развитию проекта. В результате «Русский
Путь» расширяется структурно и содержательно. Итогом этого
процесса может стать «Энциклопедия самосознания русской культуры».
6
От издателя
Потребность в тематическом расширении серии более чем очевидна.
«Русский Путь» исходно замышлялся как серия книг не только о
мыслителях, но и шире — о творцах отечественной культуры и истории.
К настоящему времени открыто два новых слоя антологий: о творцах
российской политической истории и государственности, в первую
очередь о десяти российских императорах, от Петра I до Николая II (в
рамках подсерии вышла книга о Петре I, готовятся книги о Екатерине II
и Николае II), и об ученых, которые оказали трансформирующее
воздействие на национальную ментальность и развитие мировой науки
(вышли антологии о В. Вернадском и И. Павлове).
Следующий вектор расширения «Русского Пути» связан с
сознанием того, что национальные культуры формируются в более широком
контексте — мирового культурно-исторического процесса, испытывая
воздействие, как правило опосредованное, со стороны творцов иных
культурных миров. Серию «Западные мыслители в русской культуре»
РХГА открыла антологиями «Ф. Ницше: pro et contra», «Шеллинг: pro
et contra» и продолжил книгами «Платон: pro et contra», «Августин: pro
et contra», «Ж.-Ж. Руссо: pro et contra», «И. Кант: pro et contra»;
готовится сборник об Аристотеле.
Однако принципиально новым шагом, расширяющим тематику
«Русского Пути», станет переход от персоналий к реалиям. Последние
могут быть выражены различными терминами — «универсалии
культуры», «мифологемы-идеи», «формы общественного сознания»,
«категории духовного опыта», «формы религиозности».
Вокруг идей-мифологем типа «судьба», «смерть», «свобода» можно
сгруппировать действительно «звездные» суждения, что
труднодостижимо, когда речь идет об оценке персоналий, в которой всегда
присутствуют личные пристрастия и привходящие обстоятельства.
Своеобразие работы над антологиями названного типа в том, что значительная
их часть возможна только в электронной версии. Это требует
структурного расширения «Русского Пути». Таковое предполагает создание
расширенных (электронных) версий антологий и поэтапное
структурирование этой базы данных, имеющее целью сформировать
гипертекстовую мультимедийную систему «Энциклопедия самосознания
русской культуры». Поддержка со стороны Российского
гуманитарного научного фонда данной идеи и вывод системы в Международную
сеть сделает круг пользователей практически неограниченным и
поможет решить проблему доступности «Русского Пути» для
академических институтов и учебных заведений.
Очередная перспектива развития является долгосрочной и требует
значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому РХГА
приглашает к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный
проект несет в себе как научно-образовательную ценность, так и
жизненный, духовный смысл.
^5^
Α. Α. Ермичев
ЖИЗНЬ И ДЕЛА ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА
Вас, людей, ожидает великая, блестящая
будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем
скорее осуществится это будущее. Без вас,
служителей высшему началу, живущих сознательно и
свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь
естественным порядком, оно долго бы ждало конца
своей земной истории. Вы же на несколько тысяч
лет раньше введете его в царство вечной правды —
и в этом ваша великая заслуга. Вы воплощаете
собой благословение божие, которое почило на людях.
А П. Чехов. Черный монах
Имя философа знакомо подготовленному читателю, но вот
биография его известна только в общих чертах.
Тому не следует удивляться: большинство
профессиональных историков русской философии воспитаны на изучении
европейской мысли. Они приучены изучать идеи, а не их живых
носителей. Они думают, что конкретная личность с точки
зрения философского развития неинтересна... Тогда на месте Эрна
мог бы оказаться какой-нибудь Иванов или Петров...
Правда, есть и другие причины малого внимания к
биографии Эрна. Всеми признается, что он характерная фигура
русского духовного ренессанса, но не первая, не из первых.
Соответственно, нет той интенсивности в освоении исторического
материала, которая так прекрасно отзывается в современном
знании биографий Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Д. С.
Мережковского, С. Л. Франка. По своему таланту Эрн нисколько
им не уступает; однако в том они отличны от Эрна, что смогли
вполне высказаться в истории. Что касается Эрна, то по разным
причинам он поздно приступил к специальным занятиям
философией, не успев раскрыть свои возможности.
ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА
Родился В. Ф. Эрн 5 августа (по старому стилю — 17 августа)
1882 г. в городе Тифлисе. И фамилия и отчество философа ясно
говорили о его каких-то нерусских, немецких или шведских
8
А.А.ЕРМИЧЕВ
корнях. В таком своем происхождении был уверен и сам
философ и, конечно же, его знакомые, друзья и сподвижники. Но
вот через 110 лет, в 1993 г. в религиозно-философском журнале
«Начала» два москвича опубликовали архивные материалы об
B. Ф. Эрне, которые стали небольшой сенсацией в кругу
историков русской философии. Оказалось, что В. Ф. Эрн является
полнокровным русским. Из этих материалов следовало, что его
отцом был тифлисский гражданин Гавриил Андреевич
Арефьев, а матерью — Ольга Павловна Райская1. Далее выясняется,
что уже в апреле 1884 г. 28 числа (мальчику не было еще и двух
лет) его усыновил управляющий Тифлисским аптечным
складом Кавказского военного округа Франц Карлович Эрн, в
недавнем прошлом выпускник Дерптского университета. В этом
случае, захватывающе красивые концептуальные построения
C. Н. Булгакова и В. В. Розанова относительно В. Ф. Эрна как
носителя двух этнокультурных начал оказываются совершенно
неверными. Однако автор настоящей статьи заявляет, что сам
он этим документам не верит, а на основании некоторых
догадок и разговоров с людьми, которые когда-то беседовали с
дочерью В. Ф. Эрна, совершенно уверен в том, что Франц Карлович
Эрн был настоящим отцом будущего философа.
Семья Франца Карловича Эрна и Ольги Павловны Райской,
матери философа, была большой. Помимо Владимира, у них
были еще дети — сыновья Николай, Павел, Александр и две
девочки Мария и Домна. Но назвать эту семью благополучной
едва ли можно. Родители совсем не были дружны меж собой и
не скрывали этого от детей; Павел и Александр жили какой-то
другой жизнью, нежели Николай, Владимир, Мария и Домна.
Зато вот эти последние, напротив, были сердечно привязаны
друг к другу.
Родители были людьми верующими, а Франц Карлович,
похоже, еще и богомольным, бессчетное число раз призывающим
имя Божие в письмах своих к Владимиру. Тем важнее автору
настоящей статьи представляются выдержки «из письма вдовы
В. Ф. Эрна», опубликованные в 1983 г. «Вестником Русского
Христианского движения». В одном из них рассказывалось, что
в детстве у философа была русская нянька, «которая научила
его молитвам... Простая русская женщина сумела внушить
ребенку живое чувство веры. Нетронутым пронес он его через всю
1 В. Ф. Эрн: Новые документы и материалы. Публикации и
комментарии В. А. Волкова и М. В. Куликовой // Начала. Религиозно-
философский журнал. 1993. № 3. С. 129.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
9
жизнь» 2. Да, так. «Живое чувство веры» определенно было
присуще братьям Владимиру и Николаю и сестрам Марии и Домне.
В 1891 г. В. Ф. Эрн поступил во Вторую (Его
Императорского Высочества великого князя Михаила Николаевича)
гимназию города Тифлиса. Уже потом, много позже, одноклассник
В. Ф. Эрна, знаменитый П.А.Флоренский напишет: «...класс
считался выдающимся, из него вышло довольно много
деятелей» 3. Среди этих деятелей называют библиографа Е. Я. Архи-
пова (1882—1950), врача-психиатра M. М. Асатиани (1881 —
1938), футуриста, художника и поэта Давида Бурлюка (1882—
1967), выдающегося представителя русской церкви А. В. Ель-
чанинова (1881 —1934), видного революционера и советского
деятеля Л. Б. Каменева (Розенфельда) (1883—1936),
грузинского социал-демократа И. Г. Церетели (1881 —1959), наконец,
самого П.А.Флоренского (1882—1937). Этот перечень внушает
почтение. Это заставляет нас с уважением относиться к
руководителям этого замечательного учебного заведения. Можно не
сомневаться, что выпуск 1900 г. был исключительным. По
данным газеты «Кавказ» на 53 воспитанника Второй гимназии
этого выпуска пришлось одиннадцать медалей4. При тех
требованиях к медалистам этот случай говорит о многом.
Из учителей В. Ф. Эрн с особенной благодарностью
вспоминал Георгия Николаевича Гехтмана5. Уроженец Кутаиси, он
получил образование в Харьковском университете и по
окончании его в 1895 г. начал работать в Тифлисе, преподавая в его
различных учебных заведениях литературу, историю и
географию. Георгий Николаевич был интересен своим
воспитанникам, а благодарный В. Ф. Эрн потом писал в своем Curriculum
vitae: «Его (то есть Г. Н. Гехтмана. —А. Е.) влияние в смысле
возбуждения самостоятельности мысли и интереса к
серьезному исследованию — на весь класс было огромно. А для меня
лично его уроки были целой эпохой в моем внутреннем
развитии. Пробуждавшейся мысли он давал обильное содержание, а
своей обаятельной личностью давал живое и наиболее
убедительное доказательство всей важности и ценности того пути, по
2 Из письма вдовы В. Ф. Эрна // Вестник Русского Христианского
движения. 1983. № 138 (I). С. 96.
3 Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней.
Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание.
М., 1992. С. 513. Примеч. 3.
4 См.: Тифлисская хроника//Кавказ. 1900. 17 июня. № 157.
5 См. о нем: Зардалишвили Г. И. Г. Н. Гехтман//Г. Н. Гехтман.
Выдающиеся географы и путешественники. Тбилиси, 1962.
10 А.А.ЕРМИЧЕВ
которому он шел. Его преподавание подготовило меня к
университету» б. Как пишут, в гимназии Эрн был будто бы более
всего дружен с П. А. Флоренским и А. В. Ельчаниновым. Один
из младших по возрасту гимназистов вспоминал: «Мы думали о
них с почтительным уважением и даже не без некоторого
трепета». Что касается Эрна, этого «вечно сосредоточенного
искателя книг для своего духовного роста», то младшим гимназистам
он казался «довольно строгим и внешне торжественным» 7. Эти
три гимназиста (и, как пишет один из исследователей, еще и
А. Церетели) во главе с почитаемым учителем создали
кружок — не такой, в каком участники дополнительно изучали
какие-то предметы учебной программы, а работали над
большим — они вырабатывали мировоззрение! П. А. Флоренский в
своих воспоминаниях рассказывает, как готовил для членов
кружка реферат «в связи с карпентеровской и толстовской
критикой научного мировоззрения», а А. Ельчанинов прямо
пишет, что в кружке «искали пути праведного жития»8.
Мировоззрение Эрна сформировалось довольно рано, и,
кажется, к последнему классу гимназии оно обрело завершенную
форму. Это было христианское воззрение, строгое в принципах,
и тогда же — сострадательное и деятельное, движимое
чувством любви к ближнему. Вот о чем вспоминал Николай в одном
из своих писем Владимиру: «Помнишь, мы с тобой еще
мальчиками мечтали купить имение, брать туда для приюта детей,
построить школу, церковь, учить их там мастерству» 9. К
счастью, обучение в гимназии не оттолкнуло его от христианства.
В этом отношении интересно письмо юноши Г. Н. Гехтману от
30 сентября 1900 г., когда В. Ф. Эрн стал студентом
Московского университета. Он пишет так: «До прошлого года у меня было
направление аскетическое, монашеское, средневековое, если
можно так выразиться... Отношение к науке, и к исследованию
при таком мировоззрении было у меня если не враждебное, то
во всяком случае пренебрежительное... Много пришлось
пережить вследствие собраний у Вас по субботам. Я сначала боялся
утратить свои убеждения... но затем стал читать книги по
разным отраслям знания и смело пускаться в исследование
интересующих меня вопросов. Правда, религиозная точка зрения не
только осталась, но еще и утвердилась и получила теоретиче-
6 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 131.
7 Памяти о. А. Ельчанинова. Paris, 1999. С. 29.
8 Флоренский П. А. Детям моим. С. 243; Ельчанинов А. В. Записи.
Paris, 1962. С. 6.
9 ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф. К. 4. Ед. хр. 21.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
11
ское обоснование» 10. Заметки о духовном становлении Эрна-
гимназиста можно завершить одной строчкой из письма его
отца, когда 24 октября 1900 г. он сообщает в Москву:
«Директор и отец Афанасий отзываются о тебе как о нашем будущем
экзархе»11. Уже потом, в мае 1917 г., когда
Религиозно-философское общество в Москве на специальном заседании
поминало умершего философа, С. Н. Булгаков скажет: «Насколько мне
удалось узнать из разговоров с ним, всегда, по крайней мере,
уже с гимназической скамьи, когда закономерно наступает
некое духовное буйство, неверие, сомнение, он был неизменно
верующим, крепким христианином» 12.
Весной 1900 г. В. Ф. Эрн с золотой медалью заканчивает
обучение в гимназии. Распоряжением г. Главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе он зачисляется Кавказским
стипендиатом13 и едет в Московский университет поступать на
историко-филологический факультет. Красиво рассказывают о
том, как три друга — В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский и А. В. Ель-
чанинов вместе едут из Тифлиса, мечтают о встрече с
Владимиром Соловьевым, но в дороге их застает весть о кончине
философа14. В это время, время зорь русского духовного ренессанса,
грандиозный мировоззренческий синтез В. С. Соловьева
привлекал к себе все новых и новых адептов и легенда хорошо
рассказывает о том, каким было восприятие В. С. Соловьева
молодыми людьми из далекой тифлисской гимназии.
Судя по воспоминаниям, в университете Эрн — да будет так
позволено сказать! — не просто учился, а продолжил путь,
начатый в отрочестве — путь поиска истинной жизни и
Духовного самовозрастания. Быть может, значительно моделируя
ситуацию, скажу, что для продолжения обретенного пути лучшего
места, чем университет, трудно было найти: ведь невозможно
же в праведной жизни вести себя так, будто огромного мира
10 Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных
философов в письмах и дневниках... / Сост., подг. текста, вступит,
ст. и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 55.
11 Письмо Ф. К. Эрна от 25 октября 1900 г. (ОР РГБ. Ф. 348. Эрн
В. Ф. К. 4. Ед. хр. 25).
12 Булгаков С. Н. Памяти Эрна. Речь на заседании Московского
Религиозно-философского общества памяти В. Ф. Эрна. 22 мая
1917//Христианская мысль. 1917. № 11/12. С. 63.
13 См.: Циркуляр по управлению Кавказским учебным округом.
1900. №8. С. 781.
14 См.: Вьюник Е. Владимир Францевич Эрн //Литературная учеба.
1991. №2. С. 142.
12
А.А.ЕРМИЧЕВ
культуры, науки, техники и общественности просто не
существует. Насколько это осознавалось В. Ф. Эрном с первых дней
поступления в университет судить трудно. Но мы имеем очень
ценное свидетельствование П. А. Флоренского от третьего
марта 1904 г. Вот оно: «Произвести синтез церковности и светской
культуры вполне соединиться с Церковью но без каких-нибудь
компромиссов честно воспринять все положительное учение
Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с
искусством и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших
целей практической деятельности» 15. Конечно, столь прямая
формула принадлежит не Эрну, но имея в виду близость его к
П. А. Флоренскому, имея в виду контекст письма и, самое
важное, то, что мы уже знаем об Эрне после Университета, можно
смело предполагать, что он в своем мировоззрении двигался в
том же направлении одействорения христианства. Похоже, что
сама учеба стала для Эрна служением, как об этом вспоминал
Е. Архипов — книги, разговоры о Вл. Соловьеве, о курсе
философии кн. С. Н. Трубецкого, о Д. Мережковском, о бл.
Августине, Оригене и т. д. и т. п. В комнате у них висит объявление —
с просьбой не мешать занятиям. «Поговаривали даже, что они
(Эрн и Флоренский, занимавшие одну комнату в студенческом
общежитии в Миусах) спят на досках, убирая на ночь
матрацы» 16. Ну, что ж, весьма возможно. О том, что выработка
жизненной христианской позиции шла весьма непросто, мы узнаем
из одного письма Николая Эрна: «Только, Володя, не смейся
надо мной — не уходи из мира — России нужны такие честные,
умные люди как ты. Правда, в ней не все так, как хотелось бы,
но это не должно останавливать тебя, долг наш служить ей,
долг наш удалить все недоброе» 17.
Учебные интересы В. Ф. Эрна пошли по двум направлениям.
«В первые полтора года я занимался преимущественно
философией, особенно Платоном, Аристотелем, Декартом, Беркли,
Кантом и Соловьевым; а затем все остальное время посвятил
изучению всеобщей истории. Особенно подробно и на основании
источников, — добавляет В. Ф. Эрн, — я изучил историю
христианства первых двух веков...» 18 Итак, В. Ф. Эрн учился на
кафедре истории, но главным его интересом, счастливо продол-
15 Взыскующие града. С. 64.
16 Там же. С. 58—59.
17 ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф. К. 4. Ед. хр. 21.
18 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 132.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
13
женным от гимназических лет, стали философия и история
христианства, философия и религия.
Жизнь Эрна-студента протекала не только в учебных
аудиториях. Он был активным участником Историко-филологического
общества, очень популярного в студенческой и в
преподавательской среде. Достаточно напомнить, что на 1903/04 учебный год
в нем числилось только официальных, то есть
зарегистрированных его членов, триста шестьдесят человек. Руководили этим
обществом С. Н. Трубецкой и его не менее прославленные
коллеги — философ прав П. И. Новгородцев, историк А. А. Кизе-
веттер и правовед Н. В. Давыдов.
На философской секции (ею руководил известный психолог
и философ Г. И. Челпанов) в 1903 г. В. Ф. Эрн прочитал реферат
об идеях Д. Беркли. В 1903/04 учебном году В. Ф. Эрн был
секретарем общества и, надо думать, более, чем прочие студенты
был близок к его основателю и руководителю кн. С. Н.
Трубецкому - философу и другу В. С. Соловьева.
Но особенно следует отметить участие В. Ф. Эрна и его
товарищей— П. Флоренского, В. Свенцицкого и А. Белого — в
создании секции истории и философии религии, работа которой
началась в 1903 г. Среди участников ее работы мы встретим
многих, кто замечен историками культуры начала XX века —
поэта и прозаика В. В. Гофмана, искусствоведа и
литературоведа Б. А. Грифцова, педагога и математика Д. Д. Галанина,
философа и публициста А. К. Топоркова, выпускника Казанской
Духовной академии, а сейчас студента Московского
университета А. Н. Чемоданова.
О начале работы секции сохранилось любопытное замечание
в отчете Московского университета за 1905 г. Особого интереса
секция не вызвала (обычно на ее заседаниях присутствовало
15—20 человек) и — говорится в замечании — «такое
равнодушие объясняется необычностью занятий при университете
религиозными и смежными с ними» 19.
Тем не менее, и в 1903/1904 учебном году состоялось 11
заседаний (на которых дважды с докладами выступал В. Ф. Эрн;
об Иустине и о «цели и средстве») и популярность секции все
росла. В осеннем семестре следующего учебного года проведено
было восемь заседаний и уже были поданы заявки на
выступления в весеннем семестре. Теперь на секцию приходило по 50—
60 человек, а на выступление В. П. Свенцицкого о драме М. Ме-
Отчет Императорского Московского университета и речь к 12-му
января 1905 г. М., 1905. С.
14
А.А.ЕРМИЧЕВ
терлинка «Слепые» пришло даже 200 человек. Едва ли
заседания секции имели академический характер. Состав ее
посетителей красноречиво говорит об этом — «несколько диких эсеров с
проблемой мучительного "бить или не бить", анархисты толс-
товствующие, богохулители, ставшие богохвалителями, или бо-
гохвалители, ставшие с бомбою в умственной позе, посадские
академисты из самораздвоенных, кучка курсисток Герье...» 20
В воспоминаниях и в некоторых документах фигурирует
также какой-то философский кружок. Об этом А. Белый
написал так: де-«студенты-философы, чувствуя, что надо же
что-нибудь делать, ютились в кружках; в одном выбрали предметом
разбора "Критику" В. Соловьева и глава за главой грызли ее...» 21
Скорее всего, в работе кружка участвовали те же лица, кто
проявлял активность и в работе секции; таким образом, работа их
шла параллельно, видимо, пересекаясь время от времени.
Известно, что кружок собирался на квартире двух друзей — Эрна
и Свенцицкого в Обыденном переулке вблизи Храма Христа
Спасителя. Кстати, на одном из занятий, когда А. Белый читал
свой реферат «Символизм как миропонимание», присутствовал
петербургский поэт Александр Блок вместе со своей женой.
К. П. Мочульский описывает этот эпизод так: «Блок сидел
молча, мешковатый, потухший: он чувствовал себя чужим. После
собрания он сказал Белому: "Нет, не то: между этими всеми
людьми что-то есть там тяжелое". Поэт почувствовал тяжелые
драмы, которые впоследствии разыгрались в кружке» 22. Члены
кружка намеревались издавать журнал, который должен был
стать чем-то «вроде органа "ордена"»; — и, значит, они
полагали себя участниками «ордена». «Журнал, — писал А. Белому
П. А. Флоренский, — должен быть посвящен вопросам
религии, причем можно подступиться со всех сторон к ним: от
философских и мистических произведений до 'научных
исторических, включая чисто поэтические...» 23 Знакомство с А. Белым
(в декабре 1903 г.) значительно расширило круг общения Эрна.
Дело в том, что вокруг Андрея Белого и его друга Сергея
Соловьева, племянника философа, сгруппировалось небольшое
содружество поэтов, принявшее самоназванием—«аргонавты»,
«содружество это, — пишет К. В. Мочульский, — крайний фланг
символизма... Члены новой «общины» хотели строить не только
20 Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 300.
21 Там же. С. 384.
22 Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М., 1997. С. 274.
23 Цит. по примечаниям к: Андрей Белый. Начало века. С. 633.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
15
искусство, но и жизнь; как древние аргонавты, они плыли по
неведомым морям за золотым руном, хотели взорвать старый
мир и первыми высадиться на берегу страны Блаженных» 24.
Не будучи членом этого содружества, В. Ф. Эрн все же
довольно часто посещал их заседания и, наверное, мог
почувствовать настроение аргонавтов, ожидающих некоего конца старого
мира в экстатической надежде на собственное перерождение —
уже к новому миру... Аргонавты, бывало, собирались на
«средах» Павла Ивановича Астрова, юриста, общественного деятеля
и эстета, поклонника молодых поэтов. Он интересовался также
церковно-общественными вопросами и был в хороших
отношениях со свящ. Григорием Петровым, выступавшим за
обновление церковной жизни.
Среди знакомых, обретенных В. Ф. Эрном в студенческие
годы, два человека оставили особенно резкий след в его
последующей биографии. Одним из них был студент-первокурсник
историко-филологическогофакультета Валентин Свенцицкии,
à другим — поэт Вячеслав Иванов, приобретший внезапную
славу после выхода первого сборника стихов «Кормчие звезды»
в 1903 г.
Как о том свидетельствует жизненненный путь Валентина
Павловича Свенцицкого, он был талантливым, смелым и
одержимым человеком. По свойствам своего характера Свенцицкии
мог с равной мерой привлекать к себе людей определенного
склада и с той же силой отталкивать от себя других («...часть
аудитории, бывало, тупо балдеет: восторгом. Часть — плюется:
"Сомнительный шарлатан!"» — вспоминал А. Белый)25.
Пытаясь объяснить заражающее воздействие В. П.
Свенцицкого на собеседников и слушателей, В. А. Тернавцев
догадывался: «Сущность действа Свенцицкого на слушателей в том, что
он гипнотизер: он сначала молча внушает человеку, а потом
уже обращается к нему со словом, так что слушателю
кажется, что все это — его собственные мысли, что Свенцицкии идет
к нему навстречу, а не тянет за собой; в этом суть всякого мо-
рочения и ведьмовства»26. Андрей Белый писал о том же:
«...опыты с самогипнозом, с гипнозом ближайших, ему
поверивших, грубо проделывал он...»27 Как бы то ни было, многие
Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. С. 274.
Андрей Белый. Начало века. М. 1990. С. 301.
Встречи с А. В. Тернавцевым // Вестник Русского студенческого
христианского движения. 1984. Кн. 142 (III). С. 66.
Андрей Белый. Начало века. С. 300.
16
А.А.ЕРМИЧЕВ
серьезные, умудренные жизнью люди (например, С. Н.
Булгаков или А. С. Волжский-Глинка) поверили В. П. Свенцицкому,
и студент В. Ф. Эрн — тоже. Письмо, в котором Эрн сообщает
своему тифлисскому другу А. В. Ельчанинову о знакомстве со
Свенцицким, буквально пронизано восторгом от встречи с ним:
«Бог послал мне счастье сблизиться с ним. Это человек
необыкновенный. В его присутствии чувствуешь свою мелочность,
ограниченность и пошлость, так же как чувствуешь себя в церкви.
Возбуждается страстное желание очиститься, подняться — а к
нему чувствуешь благоговение, восторг» 28. Эрн одним духом
выговаривает о «громадной умственной силе» нового друга, о
его «нравственной силе» и даже — о его художественном
даровании. Несколько позже Эрн напишет, что «с этим человеком
(т. е. со Свенцицким. — А.Е.) я сошелся очень близко, узнал его
хорошо и преклонился перед ним вполне. Кроме горячего
почитания — я испытываю к нему самую живую любовь. От
сближения с ним я обновился ... » 29
Новые друзья поселяются вместе, и С. Н. Булгаков потом
вспомнит о большом кресте, стоявшем в их комнате.
С 1905 г. В. Свенцицкий становится представителем крайне
левого крыла в движении за обновление русской церкви
(«Христианское братство борьбы», «Голгофские христиане»), роль
которого еще не может считаться вполне исследованной.
Когда он «вошел в силу», выступая от имени
«Христианского Братства Борьбы», то «Московские ведомости» с тревогой
писали: он, Свенцицкий, — «не бессодержательный
либеральный болтун». Газета назвала его не только «фанатиком своего
дела», но даже «громадной демонической силой». «Кто слышал
его, тот поймет, что через два-три года эта немощная фигура, с
горящими как уголь глазами, с напряженным властным
голосом, будет лозунгом для безумных последователей.
Революционный психоз заразителен, — а при религиозном изуверстве
особенно «свенцицканство» — страшная опасность» 30.
Революционеризм «Христианского Братства борьбы»
готовился В. П. Свенцицким еще в университете. В «Начале века»,
рассказывая о работе уже упомянутого философского кружка,
А. Белый сообщает, что на каком-то из заседаний «в
унылейшей комнате, густо набитой тужурками, взбитыми мрачно вих-
28 Взыскующие града. С. 60.
29 Там же. С. 64.
30 Никольский Н.В., свящ. «Свенцицканство» // Московские
ведомости. 1906. 23 февраля. № 309. С. 3.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
17
рами власатых студентов с проблемою ("бить или не бить")...
Свенцицкий вещал: "Эта бомба — небесный огонь, низводимый
пророками, соединившими веру первохристианских отцов с
протестующим радикализмом Герцена!"» 31.
Пожалуй нужно говорить о пагубном влиянии В. П. Свен-
цицкого на Эрна. Речь идет не о том только, что Эрн
«преклонился перед ним вполне», не о том, что он стал «переводчиком
«святых вопияний» Свенцицкого на «ясный язык», или «да-
дискалом от Валентина» 32 (а работы В. Ф. Эрна времени
«Христианского Братства Борьбы», конечно же, очень-очень близки
выступлениям Свенцицкого). Утверждая это, я имею в виду то
обстоятельство, что знакомство с В. Свенцицким повернуло
Эрна к религиозно-общественной деятельности. Несомненно, что
христианско-революционная деятельность на несколько лет
оторвала Эрна от академических занятий.
Другим знакомым В. Ф. Эрна, которого он приобрел в
студенческие годы, стал поэт Вячеслав Иванов. Начало их знакомства
выпадает, по-видимому, на весну-лето 1904 г., когда Вяч.
Иванов, живший тогда еще в Швейцарии, приезжал в Москву,
чтобы напрямую установить контакт с русскими литераторами.
Здесь поэт вполне вкусил славы и почти единогласно был
признан лидером русского символизма «...Летом пара (это Андрей
Белый пишет об Иванове и его жене Л. Д. Зиновьевой-Аннибал)
исчезла в Швейцарию, куда поехал и Эрн, где скрепилася
парадоксальная и бестолковая дружба фанатика от православия с
этим Протеем» 33. Принимать всерьез это замечание Белого едва
ли нужно. Ни парадоксальной, ни бестолковой дружбу Эрна и
Иванова называть нельзя. Оба относились друг к другу с
большим уважением и любовью и тому имеется великое множество
свидетельств.
За недостатком места ограничусь только двумя из них. В
первом письме Эрна Вяч. Иванову и его жене Л. Д.
Зиновьевой-Аннибал, написанном сразу же после более близкого знакомства с
ними в Швейцарии, говорилось: «С особенным чувством
благодарности и теплой признательности пробегаю памятью ряд
"бываний" у Вас. В высшей степени ценю и чувствую ту
настоящую доброту, с которой Вы относились ко мне все время. Как-
то неожиданно Вы мне встретились и сразу стали такими близ-
31 Андрей Белый. Начало века. С. 300.
32 Так в своих воспоминаниях « Начало века» назвал В. Ф. Эрна
Андрей Белый (С. 301).
33 Андрей Белый. Начало века. С. 354.
18
А.А.ЕРМИЧЕВ
кими и дорогими. Я полюбил и люблю Вас от всего сердца. Не
осудите, что мне хочется это Вам сказать» 34. Второе
свидетельство — общеизвестный факт, что В. Ф. Эрн долгое время, а
иногда даже со всей семьей, жил в Москве в квартире Вяч.
Иванова и там же скончался.
Сама тема «Вяч. Иванов и Вл. Эрн» еще станет когда-нибудь
предметом особого исследования. Я ограничусь только
указанием на несомненную близость их позиций в толковании
символического миропонимания, отношения христианства и
античности, понимании характера русской культуры и места России в
мировом процессе. Мне кажется правильной подсказка Е. Гер-
цык о том, что идейная близость Вяч. Иванова и Вл. Эрна
изначально определилась общим интересом к «сплаву христианства
с античностью» 35. Обнаружение такого сплава согласно мнению
этих двух мыслителей могло преобразить религиозную и иную
жизнь России. «В православии Эрна не было ничего от мрачного
византийства — он просто верил, что на русской земле
преображенным Христовым светом зацветает та же солнечная
религиозная стихия Эллады» 36. Не то же ли мы знаем от Вяч.
Иванова? И даже больше — не теми ли ожиданиями был проникнут
весь «серебряный век» русской культуры?
Теоретическое союзничество Вяч. Иванова и Вл. Эрна нашло
свое выражение во множестве печатных и устных выступлений
и одного и другого. Это, разумеется, не исключало споров меж
ними. Как на особый предмет спора, мемуаристы и
исследователи указывают на вопрос о возможном единстве православия и
католицизма. И тем не менее... Вячеслав Иванов специально
отмечает, что влияние на него Эрна было большим, нежели
влияние Вл. Соловьева37. А как оценивал Эрн творчество Вяч.
Иванова мы узнаем из одного письма Аделаиды Герцык. Она пишет
своей сестре Евгении об одном из визитов Эрна: «С первых слов
он (то есть Эрн. —А. Е.) начал ссылаться на него (Вяч.
Иванова. — А. £.), и потом много раз к нему возвращался и говорил о
нем так, ставил на такую высоту, как никто. По значению для
будущих поколений, для будущего творчества, по гению
замысла и гениальности воплощения считает его выше Соловьева,
14 ОР РГБ. Ф.342. Иванов В. И. К. 40. Ед. хр. 1.
15 Герцык Е.К. Воспоминания. М., 1996. С. 176.
16 Там же.
17 Альтман М. С. Разговоры с Ивановым // Ученые записки
Тартуского государственного университета. Вып. 209. Труды по русской
и славянской филологии. XI. 1968. С. 309.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
19
выше Ницше, говорит, что он классик как Платон, его книга
"По звездам" будет настольной и т. д.» 38
В университете Эрн постоянно обращается к своему
духовному опыту, отмечая в письмах точки нового роста. Думается, что
постоянное желание взглянуть на себя со стороны было
вызвано еще желанием быть на высоте того уважения и упований,
которые возлагали на него и отец, и брат Николай и сестры
Мария и Домна. Семнадцатого ноября 1903 г. он пишет А. В. Ель-
чанинову: «Основные мысли своего мировоззрения я ухватил, и
начинаю понемножку их развивать», и добавляет: «Если будет
время, то в этом году три основные мысли я изложу, если не в
деталях, то в существенных чертах. Очень уж это меня
соблазняет» 39. Вот так! Три основные мысли, а не четыре, не две, не
одна! Интересно, каковы они? А 12 апреля следующего года Эрн
снова пишет своему другу в Петербург. «В последние две
недели набросал свои мысли о вере в людей, пришедшие мне летом;
поглощен этим, потому что увлекли меня мысли и показались
очень важными» 40.
Право, все это непосредственно, наивно и хорошо. И даже
В. В. Розанов, встретившийся с В. Ф. Эрном и В. П. Свенциц-
ким в январе 1905 г., восхитился: «...я был очарован их словом,
энтузиазмом... Они страшно чисты душою и жизнью» 41.
В 1904 г. В. Ф. Эрн заканчивает Московский университет и
в сентябре того же года его научный руководитель профессор
В. И. Герье ходатайствует «об оставлении» его на кафедре
всеобщей истории с целью подготовки талантливого специалиста к
профессорскому званию. Дипломной работой В. Ф. Эрна было
сочинение о Святом Иустине — выдающемся
философе-мученике, отце и учителе Церкви II века.
Уже сейчас понятно, что выбор такой темы не бь!л случаен
ни в отношении уже миновавших занятий, ни в отношении
ближайшего будущего. Во всяком случае позднейшая проповедь
В. Ф. Эрном философии логизма (о чем будет речь далее),
сознательное самоопределение в качестве христианского философа,
вполне гармонирует с таким выбором. Иустин в своей
апологетике христианства тоже обращается к античной философии,
полагая ее подготовительной ступенью к принятию
христианства. Эта идея станет для В. Ф. Эрна одной из основных.
38 Герцык Е. К. Воспоминания. С. 176.
39 Взыскующие града. С. 63.
40 Там же. С. 64—65.
41 Розанов В. В. Религиозные голоса в нашей смуте // Маленькая
газета. 1906. 18 апреля. №84. С. 2.
20
А.А.ЕРМИЧЕВ
Потом, окончательно выбрав дорогу философского
исследования, В. Ф. Эрн с особенно благодарностью будет вспоминать
своих учителей — кн. С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина.
С. Н. Трубецкой был выдающимся представителем русской
философии всеединства (в чем он продолжал и развивал дело
своего учителя и друга В. С. Соловьева), замечательным
историком развития античной философской мысли и автором истори-
ко-богословского исследования «Учение о Логосе в его истории»
(1900). Главная идея этого исследования заключалась в
утверждении, что греческая философия была «детоводительницей ко
Христу». При этом С. Н. Трубецкой воздает должное св. Иусти-
ну как автору этой идеи. Тема дипломной работы В. Ф. Эрна
заставляет думать о близких отношениях его с кн. С. Н.
Трубецким. Это тем позволительнее, что в последний год обучения
в Университете В. Ф. Эрн был секретарем упомянутого
Историко-филологического общества, которым руководил С. Н.
Трубецкой. Ученый обладал редким даром, о котором рассказывал
Андрей Белый. В своих воспоминаниях, посетовав на скуку в
университетских аудиториях, он продолжал: «Был
исключением курс философии, читанный нам Сергеем Трубецким; этот
длинный, рыжавый, сутулый верблюд с фасом мопса на
кафедре вспыхивал: из некрасивого делался обворожительным; он не
судил по Льюису, Новицкому, Целлеру иль Виндельбанду;
купаясь в источниках, заново переживая Гераклита, Фалеса или
Ксенофонта; бросая указку, он импровизировал над
материками, их, а не "школу" вводя в поле зрения курса. В стиле таком
он вел и семинарий свой по Платону; мы, взявши диалог,
осилив источники, в ряде живых рефератов и прений знакомились
с мыслью Платона; профессор не гнул линии, лишь дирижируя
логикой прений...»42 Потому-то и Эрн в предисловии к своей
докторской диссертации о Джоберти напишет проникновенные
слова о С. Н. Трубецком: «В своей работе, подчас неблагодарной
и трудной, я не раз восстанавливал в своей памяти светлый
образ кн. С. Н. Трубецкого, из уст которого в продолжении
четырех лет я имел счастье слышать живое слово, единственное по
своей наглядности и проникновенности, об античной
философии, — в устах которого Платон вырастал до размеров
вселенских, превращаясь в непревзойденного дальнейшим развитием
философии учителем современной мысли. Учение об Эросе,
передаваемое с истинным философским горением и духовной окры-
ленностью, открывало перед слушателями новые кругозоры и
Андрей Белый. Начало века. С. 383.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
21
непередаваемо тонко оплодотворяло мысль новыми
возможностями»43. Другим человеком, кого В. Ф. Эрн признательно
считал своим учителем в философии, был Лев Михайлович
Лопатин, главный представитель лейбницианско-персоналисти-
ческого направления русской метафизики 80—90-х гг. XIX
века, один из организаторов философской жизни в России конца
XIX — начала XX вв. В. Ф. Эрн пишет, что преподавание
Л. М. Лопатина (он читал курсы философии и психологии, а
кроме того, вел семинарии по философии нового времени — по
Декарту, Спинозе и Канту) «давало больше, чем простое
увеличение сведений, и больше, чем школьную дисциплину мысли: оно
вводило в живую атмосферу ежеминутно на деле являемого
умственного творчества и приучало относиться к философии как к
делу, в котором первым условием является внутренняя
заинтересованность и внутренний подход к объекту» 44.
Однако возможностью ученой карьеры (которую Эрну давал
университет) он на этот раз не воспользовался. Осенью 1904 г.
В. Ф. Эрн едет в Швейцарию. Что послужило целью его
поездки, автор настоящей статьи затрудняется сказать; возможно,
путешествие в Европу было родительской наградой сыну,
который радовал их своими успехами и примерным поведением...
Новый 1905 г. В. Ф. Эрн встретил в семье Вячеслава
Иванова. Поэт писал В. Я. Брюсову об этом: «Мы вздумали написать
ex tempore стихи, и вот что написал Эрн В. Ф.» 45 Это были
стихи ожидания, стихи о том, как в какой-то
«жданный-гаданный» год встанут к новой жизни «покойнички превеликие» —
богатыри, пророки и святые угодники, которые завершались
так:
Ой, ты гой-еси
Новый год!
Ты скажи, скажи нам
Правду истинную
Уж не ты ли тот год
Жданный-гаданный!
Жданный-гаданный год наступил для России страшным
девятым января. Скорее всего, события в Петербурге и какая-то
связь с кругом московских друзей потребовали скорого возвра-
43 Эрн В. Ф. Философия Джоберти // Ученые записки Московского
императорского университета. Отдел историко-филологический.
1916. Вып. 44. С. V—VI.
44 Там же. С. VI.
45 Иванов Вяч.И. Собр. соч. Т. 2. Брюссель, 1975. С. 690.
22
А.А.ЕРМИЧЕВ
щения Эрна в Россию. 23 января 1905 г. он пишет прощальное
письмо семье Иванова: «Дорогие, любимые Лидия Дмитриевна
и Вячеслав Иванович! До свиданья. Я не могу оставаться, еду в
Россию. Там люди сейчас слишком нужны. Не успел к Вам
зайти потому, что нужно спешить. Благослови Вас Бог за все, что
Вы сделали мне. Христос с Вами!» 46
Так закончились ученические годы Владимира Эрна. В
августе 1904 г. ему исполнилось двадцать два года. Судьба отмерила
ему еще неполных тринадцать лет, и в оставшиеся тринадцать
лет уложились главные события его личной и общественной
жизни и начался зримый рост как философа.
Согласившись со словами его друга С. А. Алексеева-Асколь-
дова, что «нельзя не удивляться внутреннему богатству тех
замыслов, которые он успел вложить на том кратком
промежутке...»47, можно было бы к этому добавить несколько слов: не
только замыслов, но и свершений.
«ХРИСТИАНСКОЕ БРАТСТВО БОРЬБЫ»
Девятого января 1905 г. на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга была расстреляна мирная демонстрация рабочего
люда, пришедшего просить Николая II о своих нуждах. Русское
общество взорвалось негодованием, горечью и желанием
сопротивления самоуверенному и эгоистичному самодержавию.
Но не так оценило трагические события руководство
православной церкви. 14 января Святейший Синод принял послание
своим «возлюбленным чадам», в котором именуя
произошедшее «беспорядками рабочих», объясняя их причину
подстрекательством со стороны «людей злонамеренных» и даже
«подкупами со стороны врагов России». В послании не было ни слова
сочувствия семьям убитых.
С этого события начался последний срок существования
самодержавной и православной России и все русские люди с
разной степенью глубины поняли и почувствовали приближение
последних времен.
«Девятое января высекло искру решимости у Эрна и Свен-
цицкого» 48, — так написал А. В. Карташов о главной причине,
46 ОР РГБ. Ф. 109. Вяч. Иванов. К. 40. Ед. хр. 1. Л. 3—4.
47 Аскольдов С. А Памяти Владимира Францевича Эрна//Русская
мысль. 1917. Кн. V—VI. С. 131.
48 КарташевА.В. Мои ранние встречи с отцом
Сергием//Православная мысль. Париж. 1951. Вып. VIII. С. 47.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
23
по которой два молодых человека приступили к организации
сопротивления такому порядку вещей, когда христианская
церковь, явно отступая от заветов Спасителя, вступает в союз с
бесчеловечным политическим и социальным строем. Два
верных друга идут для этого к уважаемым иерархам Москвы и,
убедившись, что последние просто боятся выступить в защиту
заветов Спасителя, едут в Петербург, чтобы найти союзников у
духовенства столицы... Там повторились московские сцены-
Иерархи ужасались, сочувствовали и, по-видимому, глубоко
презирая себя за трусость, твердили одно: «у меня на такие
подвиги сил нет... Вы молоды — поработайте».
В церковных кругах они союзников не нашли и пошли к
петербургской интеллигенции, к той части ее, которая увлеклась
идеями «нового религиозного сознания», долженствующего
сменить «историческое христианство». То был круг
Д.С.Мережковского, В. В. Розанова и журнала «Вопросы жизни».
Молодые люди понравились столичным хозяевам — своей чистотой,
наивностной уверенностью, что все в жизни должно
совершаться по заветам Христа. Тем не менее, и в этом кругу боевые
предложения москвичей были отвергнуты.
Но они были упрямы. Вернувшись в Москву, они
продолжили работу по организации сопротивления союзу православия и
самодержавия и создают «Христианское Братство Борьбы»49.
49 По-видимому, в отечественной печати первая информация о
возникновении «Братства», была дана газетой «Биржевые
ведомости» от 27 марта 1905 г. (№8742. С. 2). Она помещена в рубрике
«Хроника», никак не озаглавлена и начинается словами: «Нам
прислана интересная программа "Христианского братства
борьбы". Оно возникло среди передовой части духовенства:
профессоров духовных академий, преподавателей семинарий, и к нему
примыкают уже силы из сельского и городского духовенства, а также
разные лица всех сословий, болевшие из-за упадка христианства и
церковности». Продолжение информации таково: «На верхах
духовенства выдвинули выбор и утверждение нового пожизненного
патриарха. На низах — борьба за освобождение во имя
воплощения в жизнь основных заветов Христа...
...Пока этот союз частный, никем не утвержденный,
рассчитывающий свои победы "на духе истины" и могучей силе слова и
убеждения, без каких-либо насилий».
В русской революционной зарубежной прессе сообщение о
возникновении «Христианского братства борьбы» и даже некоторые
материалы нового объединения были опубликованы в следующих
газетах: в эсеровской «Революционной России» (от 15 марта 1905 г.
в № 61), в большевистской «Вперед» (от 23 марта в № 11), в мень-
24
А.А.ЕРМИЧЕВ
Первым актом новой организации стало распространение
«Воззвания к православным христианам», которым верующих
предупреждали — церковь, поддерживающая мучителей народа,
предалась в руки Антихриста.
Братство было одной из многих революционных
организаций, возникших в великой смуте 1905—1907 гг. Она обзавелась
типографией, выпускала листовки и газеты
антиправительственного содержания; ее участники шли в рабочие забастовки,
пропагандируя правду Христову. Естественно, что их листовки
уничтожались, газеты запрещались, а участник Братства
подвергались административным и даже судебным
преследованиям. Многие акции членов этой организации носили подрывной
антиправительственный характер. В январе 1907 г. В. Ф. Эрну
и ряду его друзей было предъявлено обвинение по
политической статье 103, которая грозила им каторгой. Правда, два суда
над Эрном (который в 1906 г. опубликовал брошюру «Что
нужно крестьянину?») состоялись лишь годы спустя: первый в
марте 1910 г., а второй — в феврале 1911 г., и оба они оправдали
молодого публициста.
Однако имеющиеся данные о «Братстве» таковы, что
оставляют без ответа многие вопросы. Скорее всего, «Братство» не
было нелегальной организацией, но и легализоваться оно,
наверное, не могло. Оно просто заявило о себе и существовало в
условиях революционного хаоса, когда законом стал явочный
порядок. Трудно сказать что-то определенное и о членстве в
Братстве. Был дуумвир (по удачному выражению М. А. Колеро-
ва), т. е. союз двух ярких и энергичных молодых людей, и,
когда кто-то попадал в поле их притяжения, то по необходимости
этот последний становился участником революционного
сообщества. Потому можно понять современных исследователей,
которые затрудняются в определении организационного
статуса «Братства» Один из них, А. Д. Носов, заявляет: «В настоящее
время мы вряд ли выясним истинную ситуацию с
"Христианским Братством борьбы": была ли это тщательно
законспирированная нелегальная организация со своим уставом и
зафиксированным списком участников, — или же вся "организация"
заключалась в воспаленном воображении и пламенных речах
шевистской «Искре» (от 5 апреля в №96; здесь была дана
неподписанная статья «Борьба в церкви и борьба с церковью») и,
наконец, в либеральном «Освобождении» (от 19 июля за № 73 было
помещено несколько документов ХББ).
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
25
В. П. Свенцицкого» 50. Похоже рассуждает М. А. Колеров:
«Вполне может быть, что ХББ — лишь фальсификация, создавшаяся
усилиями Свенцицкого и Эрна, но именно Свенцицкии и Эрн
желали, чтобы их деятельность вписывалась в некий план ХББ,
и именно Свенцицкии и Эрн стояли за описываемыми ниже
проектами. И значит, ничто не избавит эти проекты от клейма
ХББ» 51.
Вот с этим и должно согласиться. Общественные акции,
ознаменованные именем «Братства» были непререкаемой
реальностью русской жизни. Непререкаемо существует дуумвир
Свенцицкого и Эрна и работающие с ними их товарищи, которых
теперь можно называть членами «Братства» — были все-таки
реальностью русской жизни; потому-то исследователи и
называют членами Братства (в разной степени активности, на
различных временных отрезках) Андрей Белый, Д. Д. Галанин,
А. В. Ельчанинов, П. А. Иванова, Е. Г. Лундберг, Б. Е. Сыроечков-
ский, П. А. Флоренский, В. Д. Шер. Большим был круг
сочувствующих Братству (это естественно; тогда все сочувствовали
врагам самодержавия), а среди них были такие яркие личности
как С. Н. Булгаков, С. А. Волжский (Глинка), М. К. Морозова —
всех не назовешь...
Уже названный М. А. Колеров находит, что собственно
политическая активность этой организации прекратилась уже в
1905 г., а далее под маркой ее шли многочисленные
издательские инициативы Свенцицкого и Эрна. Среди этих инициатив
были организация «Религиозно-общественной библиотеки» —
серии брошюр соответствующей тематики, выпуск газет «Встань
сиящий!» (Тифлис) и «Стойте в свободе!» (Москва); обе, скорее
всего, в партнерском сотрудничестве с голгофскими
христианами, выпуск сборников «Вопросы религии» (1906 и 1908 гг.).
Помимо этого, «Братство» издавало еженедельник «Век» с
приложением «Церковное обновление» (видимо, с обновленческой
«группой 32-х священников» (1907)) и журнал «Живая жизнь»
(два номера: один в 1907 г., а другой — в 1908 г.) Свенцицкии и
Эрн выпустили два номера «религиозно-анархического жур-
нальца» (по выражению А. В. Карташева) «Взыскующие
Града», которые и были запрещены к распространению.
50 Носов А. А. К цензурной истории религиозно-общественной печати
в России (1905—1906)//Вопросы философии. 1996. №3. С. 38—
39.
61 Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская
печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб.,
1996. С. 234—235.
26
А.А.ЕРМИЧЕВ
Естественно, раз уж в основании «Братства» лежит
инициатива двух товарищей, то едва ли оно могло существовать долго.
Многие причины могли прекратить его деятельность; даже,
допустим, естественная усталость молодых людей от
необходимости везде успевать, но... произошло нечто уж совершенно
неожиданное. О В. П. Свенцицком говорили ужасные вещи — де,
он путал общественные деньги с собственными, соблазнял
невинных девиц и что-то еще... Печально, но слухи оказывались
вполне правдивыми. Историки нашли подтверждение им в
полицейских архивах (а полиция была внимательна к
деятельности В. П. Свенцицкого), да и сам В. П. Свенцицкий выдал себя
романом «Антихрист. Заметки странного человека». Роман
этот — он появился осенью 1907 г. — обнаружил в складе ума и
характера его автора совершенно дикие, темные глубины. По
форме своей роман предложен в виде исповеди главного героя.
В глазах окружающих он является ревностным христианином
и высоконравственным человеком. Но на самом деле герой
знает о себе другое; ему абсолютно безразлично то, что он делает;
он не знает различия между добром и злом и потому не знает
вины, не испытывает раскаяния ни за какой поступок. Да, им
восхищаются милые девушки; но ведь никто не знает, что он
проделывает с ними в своем воображении. Более того, в душе
героя постепенно нарастает злоба на все хорошее, чистое,
светлое... Он все чаще вспоминает Антихриста и в какой-то момент
ощущает себя им, призванным сказать людям, как они
ошибались, веруя в Христа воскресшего. Нет вечной жизни, есть
только смерть, нет идеалов, есть только страх смерти и
безобразие ее. И Антихрист — пророк духа смерти. «Я нередко прямо
теряю и не понимаю разницы между живой речью и печатным
талантливым произведением», — писал обескураженный
рецензент. «Талантливая книга так же, а иногда и ярче, трепещет
душой писавшего... Речь идет о судорогах незаурядной души...
...Автор и хочет и не хочет, чтобы (в герое. —А. Е.) видели его
собственное лицо и его собственную смятенную и
ужаснувшуюся душу» 52.
Наверное, можно было и раньше догадаться о строе мысли
В. П. Свенцицкого, и об этом догадывались. Одна из его часто
повторяемых идей такова: «Уничтожьте искушения и
помыслы — и не будет ни одного святого». Ее он выразил в своем
выступлении в Петербургском Религиозно-философском обществе
Ставриков В. Антихрист // Слово. 1908. 9 (22) апреля. № 427. С. 3.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
21
14 февраля 1908 г., и корреспондент газеты «Речь» хорошо ее
запомнил53.
Но по выходе романа окружение Свенцицкого испытало что-
то вроде шока; тем более, что за его героями многие угадывали
себя. Негодование было общим. Что касается Эрна, то он сразу
же по выходе романа в свет предпринимает попытки разрыва со
Свенцицким, понимая при этом, что «духовный кризис
Валентина — есть кризис и всех тех дел, с которыми Валентин связан
кровно (а это значит почти всего нашего дела)» 54. Разрыв
прежних отношений затянулся, но, в конце концов, состоялся.
Распад дуумвира одновременно стал концом «Христианского
Братства Борьбы». В июне 1908 г. вышел второй — и он же
последний — номер совместного предприятия Свенцицкого и
Эрна — журнала «Живая жизнь». «С прекращением "Живой
жизни" можно говорить о полном исчезновении ХББ» 55.
Кошмарный скандал закончился изгнанием Свенцицкого из
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. На
его заседании 17 ноября 1908 г. ему было предложено «выйти
из состава общества». Официальное заявление Совета Общества
было подписано также Эрном56.
Автор настоящей статьи полагает, что крушение «Братства»
и разрыв со Свенцицким был на пользу В. Ф. Эрну и русской
философии в целом. Наконец-то стала исчезать полная
поглощенность Эрна религиозно-общественными делами да еще
такими которые граничили с политикой и уже однажды привели
его на скамью подсудимых... Начался поворот к
научно-исследовательской работе. В том же 1908 г., когда состоялся разрыв
со Свенцицким, он ходатайствует перед
историко-филологическим факультетом о разрешении держать магистерский
экзамен по философии.
Тем не менее, имея в виду значимость «Братства» в
религиозно-общественном движении России начала XX века, просто
необходимо оценить личное и практическое и теоретическое
участие В. Ф. Эрна в том предприятии. Оно было большим и
вполне равноценным участию Свенцицкого. Систематический свод
его дел едва ли возможен, но известно о том, что он вел перего-
53 [Огнев Н.] В религиозно-философском обществе // Речь. 1908. 19
февраля (3 марта). № 42. С. 5.
54 Взыскующие града. С. 155.
55 Колеров М. А. Не мир, но меч. С. 276.
56 См. РачинскииГ.А.у кн. Трубецкой E.H., Булгаков С. Н., А.
Волжский (Глинка), Эрн В. Ф., Ельчанинов А. В. Письмо в редакцию //
Русское слово. 1908. 21 ноября (4 декабря). С. 4.
28
А.А.ЕРМИЧЕВ
воры с издателями и владельцами типографий, каким-то
образом распоряжался издательскими деньгами и даже работал с
ручным прессом (чтобы печатать листовки) и расклеивал на
улице эти листовки.
В страдные дни на революционной ниве В. Ф. Эрна и
поразила болезнь, которая потом свела его в могилу. Н. В. Иванова,
дочь Вячеслава Иванова, вспоминает: «Он (т. е. В. Ф. Эрн. —
А. Е.) рассказывал, как в студенческие годы в Москве он
соединился с друзьями, такими же, как и он, революционерами. Они
наняли сарай, где работали и спали на дощатом полу с
большими щелями. Там он страшно разболелся и нажил себе
хронический нефрит» 57.
Что касается теоретического вклада в концепцию «Братства»,
то я не стал бы говорить об Эрне как о «дадискале» Свенцицко-
го. Эрн умел быть самостоятельным, как это
засвидетельствовано его спорами с Л. М. Лопатиным, С. Л. Франком, СИ. Гессе-
ном и др.
Нельзя не признать, что Свенцицкий в противоположность
сдержанному Эрну был более заметен, но совпадение суждений
в дуумвире было, скорее, результатом совместно выработанных
позиций. Основное в выступлениях Эрна времени «Братства» —
это проблема осуществления Вселенской церкви, оцерковления,
христианизации жизни.
В сущности, то было проблемой должного в жизни, и она-то
объясняет преимущественное внимание Эрна, во-первых, к
церковным вопросам, а, во-вторых, к вопросам философии истории.
В отличие от ведущей группы петербургских «богоискателей»
«братчики» (и, конечно же, Эрн) заняли четкую позицию
защиты православия от попыток модернизации ее догматических и
мистических оснований. Для Эрна православная церковь — не
исторична, а всегда современна, что, конечно, не исключает
необходимость реформирования церковной жизни —
освобождения ее от государственной опеки и демократизации ее жизни.
По характеристике Н. А. Бердяева, для того направления
«нового религиозного сознания», которое представлял Эрн,
«характерна неутомимая жажда возврата, бегства от
современности в материнское лоно Церкви, вечное обращение в
христианство, которое никогда не может быть завершено» 58. Справед-
7 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М. 1992. С. 51.
8 Бердяев H.A. Возрождение православия (о. С. Булгаков) //
Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. 3: Типы Религиозной мысли в России.
Париж, 1989. С. 583.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
29
ливость этой характеристики сполна демонстрируется двумя
выступлениями В. Ф. Эрна — «Таинства и возрождение Церкви»
и «Историческая церковь». Не мудрствуя лукаво, Эрн
ссылается на неизменную сущность церковного таинства, признание
чего делает ненужными споры об «истинной» и «исторической»
церкви. «Для верующего церковь одна, как один Христос, и
всякие попытки разделить Церковь и Христа для него
кощунственны» 59.
Пафос христианизации жизни определил характер
«социализма» в эрновских выступлениях. Общественная
собственность возможна только в христианском обществе. В таком
обществе нет ни твоего, ни моего. Здесь все — Божье и общее.
«Материальные средства и имущество должны из загородок
стать мостами и путями сообщения и общения и образовать
коррелят тем духовным связям и тому единению внутреннему,
которые устанавливаются между всеми верующими,
живущими в общине» 60.
Остается вопрос практический — как сделать христианские
нормы всеобщими. Здесь «братчики» и Эрн тоже
последовательны: во-первых, использовать все средства современной
политической борьбы (помимо насильственных средств, которые
приводят к гибели людей) для политического и социального
освобождения: во-вторых, демократизация церковной жизни —
отделения церкви от государства, введение выборности во внут-
рицерковной жизни, что сделает жизнь общины «свободным
религиозным творчеством».
При таких условиях церковный приход может стать
основной ячейкой не только культурной, но и
социально-экономической жизни.
Догматический характер молодой мысли Эрна очевиден
прямо-таки при беглом просмотре его статей. Его рассуждения
сводятся к следующему. Все нынешние прогрессисты-социал-
демократы, эсеры и анархисты — допускают три абсолютные
посылки: что-де в их социализме проявляется объективный
закон истории; что-де, следовательно, ими поставленная цель и
есть объективно определенная цель и что, значит, намеченный
путь к этой цели вполне выверен.
Эрн В.Ф. «Историческая церковь»//Эрн В. Ф. Соч. М., 1991.
С. 270.
Эрн В. Ф. Христианское отношение к собственности // Русская
философия собственности (XVII—XX вв.). СПб., 1993. С. 209.
30
А.А.ЕРМИЧЕВ
Сам Эрн полагает, что такого оправдания прогресса — на
уверенности, что имеется объективный смысл нашего
существования — недостаточно. Как же тогда понять и оправдать
страдания человечества, которыми сопровождается прогресс? Как в
ужасе не отвернуться от него? Потому только возможно
принять прогресс и даже активно способствовать, что мы знаем о
бывшем когда-то жертвенном подвиге Христа, смертью своею,
искупившего будущие грехи человечества. «Нужно
почувствовать и увидеть в совершающемся зле страданий лик Христа» 61.
Принимать прогресс можно и даже необходимо, ибо мы знаем
Бога, мы знаем его воплощение в человеке, мы знаем историю
как богочеловеческий процесс. Только теперь прогресс получает
свою верную интерпретацию; он есть взаимодействие миров
свободы и необходимости чуда и закона благодати и греха. Теперь
следует указание на его дискретный характер (история есть
перерывы постепенности) и финальное завершение (история идет
к концу через учащающиеся и более страшные ее перерывы).
Христианская интерпретация прогресса разрешает коренной
вопрос последней цели человеческого существования —
достижения полной свободы — не только свободы от государства или
капитала, но и свободы от «нелепых, жестоких и мертвых
законов всего теперешнего природного строя». Это означает, что
«мы должны освободиться от двух вещей: от господства над
нами времени и господства над нами смерти».
Примечательно, что такая позиция встраивается в его — по
самоопределению — «абсолютно цельное и абсолютно
непротиворечивое» мировоззрение.
Прислушаемся к Эрну. Критикуя научные исследования
религиозных феноменов, также как «Сущность христианства»
А. Гарнака, «Откровение в грозе и буре» Н. А. Морозова,
взгляды на христианство Э. Геккеля он пишет: «Историческое
исследование, опирающееся на сумму фактов, выверенные источники
и т. п., в конечном счете, зависит от той суммы
положительных и догматических предпосылок, на основе которых
совершается техника исследования. И одно и то же свидетельство,
один и тот же факт будут значить и показывать диаметрально
противоположное...» 62
Вот еще одно удивительное суждение Эрна: «...Нужно
сначала решить, возможно ли богочеловечество, затем принять или
отвергнуть действительность воплощения Бога в людях и толь-
Свенцицкий В. П., ЭрнВ.Ф. Взыскующие града. М., 1906. С. 31.
ЭрнВ.Ф. Значение «Жизни Иисуса»; Се. К.Аггеев. Ложь —
исторический закон. СПб., 1907. С. 67.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
31
ко тогда получится почва для исторического исследования» .
Поэтому-то, нисколько не рисуясь, в своем выступлении в
Петербургском Религиозно-философском обществе 3 февраля 1908 г.
Эрн заявляет: «объективно убедительным я могу быть
исключительно для тех, которые принимают мою предпосылку и
разделяют мое мировоззрение после принятия этой веры. А до
принятия этой веры никаких реальных доказательств быть не
может» 64. Разумеется, против возможности построить
непротиворечивую логику при неких допущениях заранее принятых за
истинное, возражать никак нельзя.
Лихорадка революционеризма «Христианского Братства
Борьбы» наконец минула.
Потом В. Ф. Эрн «осуждал этот период своей молодости», но
ни в событийном, ни в теоретическом плане его нельзя
отделять от последующего, последнего времени его биографии —
видного деятеля русской религиозно-культурной жизни
Москвы (да, пожалуй, и всей России), ученого-исследователя,
публициста-патриота в годы Второй Отечественной войны.
Имея в виду событийную сторону жизни философа,
связавшую годы «Братства» с последующими, в первую очередь
нужно назвать венчание с Евгенией Давыдовной Векиловой и их на
редкость счастливую семейную жизнь, а затем организацию
Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева.
Я настаиваю на такой последовательности — не
хронологической, и не по рангу общественной значимости... Бесприютному
В. Ф. Эрну, бывшему частым свидетелем тягостной ситуации в
родительском доме, человеку с неопределенным положением,
нужны были люди, которые бы понимали его и подбодряли на
деятельность. С надеждой на счастье он вошел в большое
семейство Векиловых и не ошибся. Здесь все любили и уважали
братьев Эрнов. «Да, моя дорогая Женюра, — напишет своей дочери
Е. Л. Векилова — ты права, наши Эрны талантливые, славные
люди»65. Сестра и братья Евгении Давыдовны вполне
разделяли мнение своей матери.
Один из исследователей рассказывает, что «со своей будущей
женой, дочерью подполковника в отставке, В. Ф. Эрн
познакомился в 1903 г. в Царских Колодцах (Тифлисская губерния) на
63 Там же. С. 7.
64 Прения по докладу В. Ф. Эрна «Идея христианского прогресса» на
6 собрании Санкт-Петербургского Религиозно-философского
общества 3 февраля 1908 г. Цит. по рукописи (РГАЛИ. Ф. 2176. Оп. 1.
Ед. хр. 8. Л. 1 —17), предоставленной О. Т. Ермишиным.
65 ОР РГБ. Ф. 348. К. 1. Ед. хр. 47. Л. 32.
32
А.А.ЕРМИЧЕВ
свадьбе своего брата, Николая Францевича, и сестры Е. Д.
Веки ловой, Марии Давыдовны» 66. Молодые люди полюбили друг
друга, но на пути к семейной их жизни были серьезные
препятствия, которые, слава Богу, благополучно разрешились... Одно
из них — в православии брак со свояченицей дозволялся в
исключительных случаях — удалось обойти. Другим
препятствием была неприязнь родителей Эрна к семейству Векиловых. Но
терпеливая настойчивость жениха и разумная позиция
замечательной матери невесты Елизаветы Лазаревны Векиловой,
позволили преодолеть его. Молодые отвоевали свое право на
счастье и, кажется, в этом браке более всего повезло Владимиру
Францевичу. Молодые супруги любили друг друга и вместе
радовались радостью родителей, когда они заботились о
подрастающей дочери. Вот с какими словами В. Ф. Эрн обращается к
своей жене в одном из писем, спустя три года после венчания:
«Если есть у меня что-нибудь действительно подлинное в жизни,
так это любовь к тебе. Ты источник моей беспрестанной
радости, благословение моей жизни, моя отрада и мой покой. С
такими тихим чувством я думаю о тебе всегда» 67. Таких признаний
Эрна можно привести множество.
Другое событие, которое в биографии философа связало время
«Братства» с последующим — это организации
Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева и работа в нем.
Общество это возникло благодаря инициативе членов
«Христианского Братства Борьбы», но скоро переросло теоретические
рамки «Братства»», по-настоящему став центральным
предприятием по выработке религиозно-философских идей в России
начала XX века. Исследователь этого времени А. А. Носов
подчеркивает: «Особую роль в образовании МРФО проявили, судя по
всему, Эрн и Свенцицкий, при участии Белого и
Флоренского» 68. Примечательно, что работа Общества (еще только
замышляемого, еще формируемого) начинается с реферата Эрна.
«Четвертого мая, — пишет П. А. Флоренскому близкий тогда ему
А. Белый, — Эрн читает реферат о собственности у Христофоро-
вой (в то же время мы приурочили ко дню этого чтения
собрание будущего общества памяти Вл. Соловьева)...» 69 В мае же
А. Белый участвует в религиозном диспуте в уже формирующем-
Взыскующие града. С. 36. Примеч. к 7-му письму.
Там же. С. 226—227.
Носов А. А. От «соловьевских обедов» к религиозно-философскому
обществу // Вопросы философии. 1999. №6. С. 89.
См.: Там же. Цит. по статье А. А. Носова, указанной выше.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
33
ся РФО (Диспут происходил в доме Шеров в 1-м Зачатьевском
переулке, и этот адрес стал потом адресом Общества), а в
середине мая В. Ф. Эрн сообщал А. Белому о том, что в работе
Общества согласились принять участие С. Н. Трубецкой и Л. М.
Лопатин.
В принципе можно считать, что регулярная работа общества
началась с мая 1905 г., хотя официальная регистрация его
состоялась лишь в октябре следующего, 1906 г. При этом автору
приятно указать на то, что именно В. Ф. Эрн от лица 18
учредителей общества — а среди них числились К. М. Аггеев, С. Н.
Булгаков, А. В. Ельчанинов, Л. М. Лопатин, В. П. Свенцицкий,
Г. А. Рачинский — подает Московскому градоначальнику
прошение о регистрации и открытии Общества. Естественно, что
В. Ф. Эрна следует признать одной из ведущих фигур —
инициаторов создания этого общественного объединения.
Общество существовало вплоть до лета 1918 г. Еще не
подсчитано, сколько раз собирались его участники для обсуждения
самых разных проблем, о которых затем написал Н. С. Арсень-
ев: «...Какое богатство тем и тоном представляло это «соловьев-
ское общество... <...> Масса интересных лиц, большой подъем
религиозного, научного и философского интереса, глубоко
искренние и вдохновенные выступления С. Н. Булгакова (его
председателя) в защиту христианства против марксистского
грубого нигилизма, богатство тем — "Брандт" Ибсена,
Франциск Ассизский, христианство и социальный вопрос, Владимир
Соловьев в ранний период своего философствования,
средневековая мистика, Гегель как мистик, Ницше и христианство,
античная религиозность, смысл жизни с христианской точки
зрения и т.д., а — главное — огромная культура и умственная
чуткость и некий динамизм духовный <...> все это
оплодотворяло и зажигало» 70.
Личное участие В. Ф. Эрна в работе Общества и как
организатора, и как теоретика велико. Со дня основания Общества он
был членом Совета и по необходимости решал вопросы
обустройства его повседневной жизни (организация заседаний,
приглашение гостей и докладчиков и т. п.). Вот, например, С. Н. Булгаков
сообщает своему доброму другу А. С. Волжскому: «Религиозно-
философское общество мы с Владимиром Францевичем думаем
открыть в ноябре; в этом году юбилейные заседания о
Хомякове и Соловьеве будут...» 71
70 АрсеньевН.С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт-на-
Майне, С. 63—64.
71 Взыскующие града. С. 284.
34
А.А.ЕРМИЧЕВ
Коротко напомню еще об одном факте. Книгоиздательство
«Путь», сыгравшее огромную роль в формировании так
называемого неославянофильства в русской мысли десятых годов
XX века, было, как известно, своеобразным филиалом
Московского Религиозно-философского общества. В таком случае,
участие Эрна в работе Общества естественно продолжалось работой
в «Пути».
Что касается теоретического вклада Эрна в работу Общества,
то, по некоторым данным72, доклады В. Ф. Эрна не менее
одиннадцати раз ставились на заседаниях Московского РФО, не
говоря уже об участии его в обсуждениях иных выступлений.
Наибольший интерес у публики вызвали его доклады о Гр.
Сковороде, которого он представил отцом самобытной русской
философии, и инвективы времени войны, в частности,
знаменитый демарш 6 октября 1914 г. «От Канта к Круппу». Связь этих
выступлений с тем, что Эрн публиковал в период
«Христианского Братства Борьбы» лежит на поверхности. И в первом и во
втором случае Эрн «исходит от Бога», то есть занимает
определенную позицию вероисповедничества в философии.
Вместе с тем можно говорить об изменении эмоциональной
окраски его речей. В первый период своей
литературно-общественной деятельности Эрн, вслед за своим кумиром В. С.
Соловьевым, ставит задачу «оправдать веру отцов» современным
освободительным движением, то во второй период состоялось
более глубокое понимание этой задачи. Теперь цель Эрна
заключается в теоретическом оправдании веры отцов,
воинствующей ее защите от посягательств западной цивилизации.
«...ПРОЛЕТАЮ ЖИЗНЬ В КАКОЙ-ТО
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ СТРЕМИТЕЛЬНОСТИ... »
Начиная с 1908 г., то есть после краха «Братства» и
венчания с Е. Д. Векиловой, жизнь В. Ф. Эрна меняется
существенным образом. У него есть семья и он снова должен был искать
свой путь. Из «субъекта» любви он превратился в «объект», и
это налагало на него особую ответственность; к тому же
молодая пара ждала рождения ребенка. Эрн очень хотел домашнего
тепла, близости с дорогими ему людьми, но как все это
устроить? Нужна была какая-то общественная и бытовая
стабильность и материальная обеспеченность. Жизнь Эрна пошла по
двум главным направлениям.
См. статью А. В. Соболева в «Историко-философском ежегоднике-
92» (М., 1994. С. 108—111).
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
35
Первое — это обеспечение нужной стабильности. Эрн мог
достичь ее только через профессорскую карьеру. Она не сулила
богатства, но на приемлемом уровне обеспечивала семью и,
самое главное — не мешала, а, напротив, помогала реализовать
его учено-философские амбиции. Он хорошо осознает этот
второй план своего профессионального роста и, сдавая
магистерский экзамен, тогда же упорно выясняет принципы своего
видения мира. Постепенно вызревает материал, который затем
раскроется статьями «Природа философского сомнения»,
«Нечто о "Логосе", русской философии и научности» и доклад
«Исходный пункт теоретической философии».
Другое направление его деятельности — это все-таки
общественная работа. Эрн не отказался от нее и продолжает ее
активно, с присущим философу бойцовским темпераментом. Но
на этот раз то было не партийно-общественной работой, как
ранее («Христианское Братство Борьбы», группа 32-х, журналы
«Век» и пр.), а общественно-культурной — в рамках
Московского Религиозно-философского общества и в
книгоиздательстве «Путь».
Итак, для начала нужно было сдать магистерский экзамен, и
в феврале 1908 г. Е. Л. Векилова пишет своей дочери: «Я очень
довольна, что дорогой Володя пожелал готовиться к экзаменам.
Ты знаешь, я не честолюбива, но не знаю почему, мне отрадно
думать, что мой Володичка займет кафедру по философии» 73.
Но это только звалось так — экзамен. На деле же это было
изнуряющим штудированием огромного количества литературы,
чтобы выдержать перекрестный допрос на семи экзаменах, два
из которых были на знание древних языков — латыни и
греческого. (Эрн жаловался в письмах: «...приходится в две недели
одолеть 300 страниц латинского и греческого текста...»; «...на
шее у меня сидит Аристотель и погоняет Сенекой...» 74)
Первый экзамен он сдает 21 апреля 1909 г., а последний — в
марте следующего года. Надо сказать, что уложился Эрн в
весьма краткий срок; обычно экзамен затягивался на года полтора-
два, а то и дольше. По окончании его Владимир Францевич
спешит порадовать Евгению: оказывается, Челпанчик (так он зовет
расположенного к нему профессора Г. И. Челпанова)
рассказывал Бердяевым о своем разговоре с Л. М. Лопатиным, в котором
оба они «сошлись в удивлении перед той легкостью, с которой я
73 Письмо Е. Л. Векиловой В. Ф. Эрну (ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф.
К. 1. Ед. хр. 47. Л. 31).
74 Взыскующие града. С. 250.
36
А.А.ЕРМИЧЕВ
держал экзамен. Они были поражены, как я в короткий срок
успел не только ознакомиться с нужным материалом, но и
самостоятельно к нему отнестись, обо всем иметь свое
собственное мнение... Они с Лопатиным решили, что вот теперь у них
найден "заместитель" и они спокойно свои кафедры могут
оставить мне» 75.
Теперь, чтобы претендовать на должность приват-доцента
Университета, ему нужно было прочитать две пробные лекции
для студентов. 11 мая 1910 г. он их прочитал. Одна называлась
«Беркли и имманентная философия», а другая — «Природа
философского сомнения».
Он снова пишет жене: «После лекции сейчас же Лопатин с
Челпанчиком в один голос сказали: дайте нам Вашу лекцию
для юбилейного номера "Вопросов философии и психологии".
Я, конечно, с радостью согласился. Лопатин взял мою рукопись
и сам, оставив экзамены, свез в редакцию, дал распоряжение
немедленно набрать... Это радостно и почетно видеть как
старики, заслуженные старики, обнимают юнца ...» 76
Пожалуй, с 1910 г. начинается новая, более широкая
известность Эрна. Сброшен тяжкий груз экзамена, успешное чтение
пробных лекций; он становится (в октябре 1910 г.)
приват-доцентом, ему твердо обещана поездка за границу. «...Кажется,
почва под ногами становится действительно твердой и
прочной», — он отмечает это уже весной77. Все что сделано, очень
важно лично для Эрна; этим начинается путь к профессорству.
Но для новой жизни Эрна — общественного деятеля главным
стало другое. В Религиозно-философском обществе выделяется
группа «путейцев». Такое название закрепилось за членами
редакционной коллегии книгоиздательства «Путь», созданного
М. К. Морозовой и Е. Н. Трубецким в 1910 г. Помимо них в
редакционный комитет входили Г. А. Рачинский, С. Н. Булгаков,
Н. А. Бердяев и В. Ф. Эрн78.
Если Общество можно было именовать дискуссионным
клубом, то цели «Пути» были более определены, более, так
сказать, сосредоточенны. Они заключались в осмыслении русской
75 Взыскующие града. С. 255.
76 Там же. С. 267.
77 Там же. С. 258.
78 О книгоиздательстве «Путь» и «путейцах» см.: Голлербах Е. А.
Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках
новой русской идентичности. СПб., 2000.
79 Взыскующие града. С. 646.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна 37
национальной идеи, и значит, в долге формирования
национального самосознания как фундаментальной основы
динамичного развития русской государственности и культуры. Путейцы
осознавали, что они находятся только в начале этого трудного
пути, равно как и то, что достижение указанной цели требует и
решительности и осторожности. Требование решительности
понуждало путейцев не чуждаться утверждений государственно-
политического и церковного характера (поскольку
православная церковь осознавалась как цементирующая сила народного
сознания); требование осторожности ориентировало их на
сохранение национальных традиций и ценностей культуры в той
мере, в какой эти ценности в конечном счете восходят к
религиозной реальности. Составными идеологии «Пути» были
православие (находившееся в творческом союзе с конституционной
монархией в решении социальных и иных задач),
политический и социально-ориентированный либерализм и, наконец,
патриотизм или «здоровый национализм»,
противопоставленный национализму самодержавия и правых партий, равно как
космополитизму и интернационализму левых. Такая позиция
позволяла надеяться на гибкое урегулирование отношений с
католической и протестантской, и — тогда же — буржуазной
Европой. Принципом такого регулирования могло и должно
было быть следование таким «положительным идеалам,
которые мир действительно мог бы принять как благовествование
грядущей славы, добра и свободы в Христе Иисусе»79. Отсюда
вытекала и общая религиозная (и тогда же — социально-
культурная задача) России: «послужить в мысли и в жизни
всестороннему осуществлению вселенского христианского
идеала» 80.
Идеологическая установка издательства была названа в свое
время неославянофильской. Как и первые славянофилы,
«путейцы» считали православие дееспособным принципом
строительства культуры, но, в отличие от своих прародителей, новые
славянофилы прошли через социальное христианство В. С.
Соловьева и хотели видеть Россию обновленной и в политическом
и в правовом ее устройстве.
Разумеется, следует видеть индивидуальный, специфичный
вклад каждого из участников группы (и Эрна тоже) в
осуществлении общей задачи, но задача-то оставалась все-таки общей,
все-таки единой. И напротив, принадлежность к исполнению
Сборник статей о В. Соловьеве С. Булгакова, В. Иванова, кн. Е.
Трубецкого, А. Блока, В. Эрна. Брюссель, 1994. С. 3.
38
А.А.ЕРМИЧЕВ
такой задачи, принадлежность к «общему делу» придавала
авторитетность индивидуальным выступлениям. Известностью,
даже, быть может, славой, внезапно пришедшим к
начинающему философу летом-осенью 1910 г., он, конечно же, обязан
своей принадлежностью к этой неославянофильской группе,
впрочем, находившейся тогда в фазисе становления.
Что же так возвысило Эрна, что же произошло летом 1910 г.
в Москве? Как раз в те дни, когда Эрн готовился к пробным
лекциям, в издательстве «Мусагет» появился изящно изданный
«международный ежегодник по философии культуры» под
названием «Логос». Журнал был создан русскими выучениками
немецкой неокантианской школы.
Московские религиозные философы встретили его появление
настороженно. Все, что было связано с именем Канта, было им
подозрительно: немецкий философ ограничил бытие только
посюсторонним; слабому человеку он оставлял Бога лишь по
нравственным соображениям. А москвичи были
максималистами, отрицая не только позитивизм, но и идеалистическую
метафизику. Естественно, «Логос», похвалявшийся Марбургом и
Фрейбургом, был признан очевидным противником истины.
«Коген, Авенариус, Скрябин — все это вариации на одну и ту
же тему — "смерть и время царят на земле"; вопреки Соловьеву
они смерть и время "зовут владыками"; ужасно мало теперь
людей с крыльями, способных взлететь над временем. И эту
свою неспособность выдают за философию!» — писал Е. Н.
Трубецкой81. Но, помимо всего, «Логос» нарочито
пренебрежительно оценил русскую религиозную философию, совсем не
распознав в ней стремление понять истину живого Бога. Два юных
и бойких редактора «Логоса» — ими были СИ. Гессен и
Ф. А. Степун — в редакционной статье безапелляционно
заявляли, что на настоящий момент русская философия не состоя-
81 Взыскующие града. С. 205. Издательство «Путь» даже готовило
сборник по современным проблемам гносеологии, чтобы
разоблачить гносеологистов (См.: Взыскующие града. С. 415, 426, 480,
492), а С. А. Аскольдов, прочитав материалы о IV Международном
философском конгрессе в Болонье, объясняет Эрну, почему он
нашел «зловредным» выступление Н. О. Лосского на конгрессе:
«Зловредность сию усматриваю в подчеркнутом гносеологизме (в
противовес психологизму). Этот гносеологизм начинает меня сильно
раздражать: я скоро, кажется, перестану переносить равнодушно
такие невинные слова, как "теория знания". Все это немцы
развели схоластику. То ли дело француз Бергсон жарит прямо без
всякой гносеологии и недурно выходит, даже почти гениально, можно
сказать».
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
39
лась. Она возможна, но в случае, если Россия освоит дары
немецкой философии, «все попытки философского творчества,
игнорирующие это наследство, вряд ли могут быть признаны
безусловно значительными и действительно плодотворными... Мы
по-прежнему, желая быть философами, должны быть прежде
всего западниками» 82.
«Необоснованные притязания»,
«презрительно-пренебрежительные взгляды на русскую действительность»,
самодовольство этой философской диверсии — все возмущает Эрна. Он
незамедлительно реагирует на выход нового журнала и пишет
большую, на четыре печатных листа, статью «Нечто о Логосе,
русской философии и научности. По поводу нового философского
журнала "Логос"». Он выступил в защиту русской религиозной
философии. Она — истина потому, что имеет своими предками
Филона Александрийского, Дионисия Ареопагита, Григория
Нисского и Максима Исповедника, потому, что знает о
Божественном разуме. Она есть национальное выражение
философии логизма. Эрн смело прочерчивает ее основные принципы —
существенная религиозность, онтологизм и персонализм и
противопоставляет их принципам европейского секуляризованного
разума — рационализму, меонизму и имперсонализму.
Противоречия этих принципов являются не выражением
противоположности культур Запада и Востока, а выражением иной, более
жгучей противоположности — культуры и цивилизации. И на
Западе возможно увидеть культуру, но доминирует здесь
цивилизация. Что касается России, то она «существенно
православна». Кровь ее «мистической наследственности оплодотворена
скрытыми семенами созерцательных и волевых достижений
великих Отцов и подвижников Церкви» 83. Однако в той мере, в
какой в Россию со времен Петра Великого проникла западная
культура, она становится полем битвы принципов ratio и Ло-
yoç'a. Теперь перед русской философией стоит одна задача:
«раскрыть Западу безмерные сокровища восточного
умозрения» 84 и, разумеется, победить в этой борьбе.
Эрн упорен и искусен в отстаивании найденных принципов.
Он — да будет так позволено сказать! — наголову разгромил
С. Л. Франка, рискнувшего ввязаться с ним в полемику на
страницах «Русской мысли» (кн. 9и10за1910г.)и впечатляюще
82 От редакции // Логос. Международный ежегодник по философии
культуры. 1910. Кн. первая. С. 13.
83 ЭрнВ.Ф. Соч. С. 82.
84 Там же.
40
А.А.ЕРМИЧЕВ
выступает на заседаниях Московского и Петербургского
Религиозно-философских обществ, разделяя их участников на
сторонников и противников своей позиции. «...В нашем
столкновении, — пишет он жене, — столкнулось что-то историческое, то,
что сто раз уже сталкивалось в нашей истории...» 85
Следует со всей решительностью заявить о выдающемся
значении этого демарша Эрна. Я приведу еще один отрывок из его
письма жене от 6 октября 1910 г. «Пришлось много бегать,
заседания, разговоры, обсуждения, посещения и т. д. <...>
Работать нужно очень много. Везде железо горячо и везде нужно
ковать. Ставится издательство, составляется курс, и, к моему
изумлению, мысли, брошенные мною в статье о Логосе,
породили целый ряд личных откликов и то тут, то там, то с одним, то
с другим приходится столкнуться то в полемической сшибке,
то в интимном разговоре. Я могу с радостью констатировать:
как-то очистилась атмосфера» 86.
Автор видит три аспекта значения выступления Эрна. Во-
первых, стало ясно, что основная линия развития русской
философии «серебряного века» идет в борьбе и взаимодействии
религиозных философов и так называемых трансценденталис-
тов. В социально-культурном плане это противопоставление
раскрывается в терминах «неославянофильства» и
«неозападничества». Во-вторых, в нем была сформулирована концепция
русской национальной философии, которую Эрн «проверил»
своей поэтической монографией о Григории Сковороде. Эта
концепция стала моделью для иных, более поздних утверждений
нашего философского «самобытничества» (А. Лосев, С. Л. Франк
и др.). В-третьих, в нем Эрн с предельной ясностью выразил
собственное философское кредо. В своих построениях он опре-
деленйо «исходит из Бога», а не восходит к Нему, тогда же
настаивая на философии как знании особого рода, отличного и от
искусства и от религии.
В октябре того же удачного 1910 г. его университетские
наставники и покровители Лев Михайлович Лопатин и Георгий
Иванович Челпанов рекомендовали нового преподавателя к
командированию за границу для работы над магистерской
диссертацией. В своем заявлении Совету факультета они писали:
«В. Ф. Эрн представляет из. себя уже определенную величину в
русской философской литературе. Человек многосторонней
начитанности и даже учености, живой и даровитый писатель, с
85 Взыскующие града. С. 289.
86 Там же. С. 286.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
41
твердыми, ясно сложившимися убеждениями, он заставляет
многого ждать от себя в будущем. Напечатанные до сих пор
статьи его невольно обращают на себя внимание искренностью
своего тона, и оригинальностью взглядов, и диалектической
тонкостью аргументации»87. Здесь же называлась тема будущей
магистерской диссертации— «всестороннее рассмотрение
проблемы познания, как в ее историческом, так и в ее
систематической нормальной постановке» 88.
Масштаб поставленной задачи, безусловно, грандиозен; ведь
не нужно забывать, что гносеология в те годы была центром
внимания всей европейской мысли. Но так же безмерен
энтузиазм молодого ученого: «Мне нужно ужасно много прочесть. Тот
путь, на который уже определенно вступила моя мысль, —
требует внимания ко всему, и у меня усилилась жажда узнать
возможно больше во всех отраслях знания. Все, что я читаю
сейчас, только распаляет мою жажду, и когда я сколько-нибудь
удовлетворю ее, — я и не предвижу. Больше, чем когда-нибудь
чувствую потребность учиться, т. е. посильно и созерцательно
воспринять в себя опыт человечества. Я чувствую, что то, что я
должен сказать, должно быть высказано в соответствующей
форме — мне нужно утончить свое зрение и закалить свое
оружие...» 89
Тему диссертации одобряет С. Н. Булгаков. Отвечая на какое-
то полученное от Эрна письмо, он раскрывает его, молодого
философа, понимание замысла этой темы: «Радуюсь я <...> очень
Вашей радости в работе и самому вашему замыслу. Философия,
особенно гносеология, как орудие христианской апологетики
(я беру это в само утилитарном смысле) так нужна теперь для
"малых сих", пробивающихся к вере сквозь колючую изгородь
неокантианства в разных его разветвлениях. Конечно, не
гносеология родит веру, но некоторые шаги к ней. Тому, кто
неспособен перепрыгивать, удобнее пройти с гносеологическим
костылем в руках. Я, конечно, понимаю, что для Вас работа имеет,
прежде всего, самостоятельное религиозное значение (курсив
мой. — А. £.), и менее всего в ней Вы думаете о пользе
претыкающихся, но польза будет и для них. Дай Вам Бог сил и таланта
совершить это благое дело»90. Итак, работа по гносеологии, по
замыслу Эрна, имеет и должна иметь самостоятельное
религиозное значение; Эрн хочет гносеологически оправдать веру отцов.
87 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 135.
88 Там же.
89 Взыскующие града. С. 286—287.
90 Там же.
42
А.А.ЕРМИЧЕВ
Для диссертации было сделано много. Вернее было бы
говорить, что все, написанное Эрном, наращивало новые и новые
слои его теоретического исследования. Весь материал
располагался в некую цельность, хотя магистральная линия такой
работы в первую очередь отмечается тремя главными статьями —
«Природа философского сомнения», «Исходный пункт
теоретической философии» и, наконец, «природа мысли». Последняя
из названных работ увенчивала постепенно построяемое здание
эрновских соображений, а «Исходный пункт теоретической
философии» образовал их несущую конструкцию
Задача его заключалась в том, чтобы показать возможность
философии как особого рода знания, самостоятельной отрасли
высокого ведения. Главным шагом к разрешению этой задачи
станет выяснение вопроса об исходном пункте рассуждающей
мысли, о «точке» оперевшись на которую мысль может начать
свои построения, следуя своим внутренним нормам...» 91 Но что
может стать такой точкой? Только «некоторая вечная,
неистребимая сверхфактическая и сверхотносительная сущность
мысли» 92. Философ имеет дело с мыслью как таковой; только здесь,
в недрах логического самосознания философия получает свое
окончательное бытие.
Опыт такого поиска дал Декарт, и он, этот опыт, по мнению
Эрна, неудачен. Во-первых, последовательно проведенная идея
Бога-обманщика (а Декарт совершенно нелогично превратил ее
в шутку) делает ratio химеричным. Во-вторых, формула cogito
ergo sum недостоверна с жизненно-практической точки зрения.
В конце концов «только переходя в трансцендентное, человек
перестает fieri (становиться. —А. Е.) и начинает в подлинном
смысле esse (существовать. —А. £.)». Наконец, в-третьих, — и
это главное — Декарт рассматривает мысль как объект, хотя
она никогда не может быть объектом, всегда являясь субъектом.
Теперь Эрн прорабатывает прекрасную перспективу,
открывающуюся в борьбе с позитивизмом, прагматизмом и иного
всякого рода фактопоклонством. Если мысль может мыслить себя
как объект, то как субъект, она подпитывается чем-то более
основательным, нежели все основания любого из ее содержаний.
Эрн говорит о напряженности сомнения, присущего философии
и, собственно, делающей размышления философским. В этом
91 Эрн В. Ф. Исходный пункт теоретической философии // Эрн В. Ф.
Соч. М., 1991. С. 136.
92 Эрн В.Ф. Природа мысли//Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Март. С. 509.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
43
сомнении, разбивающем вдребезги правильность фактичности,
открывается «realiora непостижимой действительности» 93.
«Всякая философия, всякая система воззрений (а не чистых
аффектов), всякая (не патологическая) интуиция есть непременно
группа... суждений о том "нечто", которое всем предстоит, о том
X, о той неизвестной "действительности", в которой все
находится... и в отнесении к чему все обретает смысл» 94. Познание
есть акт «сопричастности извечно сущему Логосу» 95, так как
«Логос как начало человеческого познания не есть Логос
другой, отличный от Логоса существенно-божественного. Это тот
же самый Логос, только в различных степенях осознания» 96.
Вот такая мысль, питаемая «непостижимым», легко
справится с идеей Бога-обманщика и химерического бытия.
Есть два варианта разрешения этого казуса.
Первый из них предлагается допущением логической
природы идеи Бога-обманщика. «...При таком положении
Абсолютное со своим Всемогущим гипнозом попадало бы в одну из
категорий мысли, и мысль имела бы в этом случае совпадение с
объектом, полную ему соответственность» 97. Мысль как
таковая не лишается ни грани реальности.
Второй вариант возможен, если сказать, что идея
Бога-Обманщика не носит логической природы, что она для мысли
непроницаема. Эрн на это отвечает вполне определенно: «Все
мыслимое — существует. Если я мыслю иррациональную идею,
то я мыслю наличным ее содержанием, которое, естественно,
подчинено моей мысли» 98.
Все же окончательно дуализм мысли-субъекта и мысли-
объекта снимается признанием «непостижимого» в качестве
источника любого из содержаний мысли-субъекта. Это диктует
своеобразный императив философской этики: «Философ выше
пристрастий и выше всякой партийности... У философа должно
хватить внимания на все, он должен все взвесить и если из
всего Божьего мира, из всего Космоса он остановится на одном, в
этом одном он должен обрести все. «Εν και πάν! — вот един-
Эрн В. Ф. Размышления о прагматизме // Эрн В. Ф. Соч. С. 28.
Эрн В. Ф. Природа философского сомнения // Эрн В. Ф. Соч. С. 60.
Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Апрель. С. 823.
Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Эрн В. Ф.
Соч. С. 79.
Эрн В.Ф. Исходный пункт теоретической философии. С. 151.
См.: Там же. С. 154.
44
А.А.ЕРМИЧЕВ
ственный лозунг философа. Между единством философского
выбора и космическим Паном не может быть никакого
антагонизма. Всякая измена единству есть гибель цельности,
логичности и простоты» ".
Основная идея «Природы мысли» состоит в утверждении, что
истина доступна человеку лишь в той мере, в какой он осознает
себя «в бытийной истине Космоса», когда «человек
приобщается к полноте логической истины, ознаменовываемой символом
сверхмирного брака Агнца с Церковью» 10°. Прогресс познания
есть не что иное, как построение в себе подлинного человека,
представленному в своем образцовом виде христианскими
подвижниками. Для человека овладение истиной означает не что
иное, как «реальное» овладение божественной и вечной идеей
всего сущего» 101.
Онтологическое понимание познания противостоит
психологизму, который Эрн истолковывает как человеческую
субъективность, управляемую обстоятельствами пространства и
времени. Логический дискурс управляется этими обстоятельствами,
но содержательная природа его диктуется мертвым законом
тождества. Чтобы избегнуть его мертвящего действия следует
признать, что «в основе всех выводимых истин должны лежать
истины усмотрения все равно какого — опытного или
неопытного характера» 102, т. е. интуиция. Если она неопытного
характера, то она — вера.
Мы имеем крепкую, хорошо скоординированную
конструкцию философии логизма, которая при своей более
основательной проработке не уступила бы какой-либо иной конструкции;
например С. Л. Франка. Однако такой проработки не
последовало. Готовые фрагменты большой работы не были востребованы,
и Эрн в сознании современников и последователей остался не
более, чем «неистовым Роландом» славянофильства.
Обещанная им диссертационная работа из теоретической, из
гносеологической превратилась в историко-философскую.
Произошло вот что. Развернутое наступление Эрна против
философии европейского рационализма вызвало нарекания не
только со стороны «Русской мысли» или авторов «Логоса» (в
99 Эрн В.Ф. Природа мысли//Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Март. С. 509.
100 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Апрель. С. 814.
101 Там же. С. 829.
102 Эрн В. Ф. Природа мысли//Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Март. С. 520—521.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
45
сборнике «Взыскующие града» часто упоминаются
«столкновения между христианами и неокантианцами)» 103, но и многих
москвичей — даже тех, кто восхищались талантом молодого
соискателя ученой степени. После одного из выступлений в
Религиозно-философском обществе Эрн сообщил жене: «Позавчера у
меня с Лопатиным было жаркое столкновение. Я-то молчал,
говорил почти исключительно он. Но, видимо, его здорово
зарядили всякие Котляревские, Хвостовы и даже, как
подозреваю, князь, интригуют ужасно. Явно и злостно перевирают» 104.
Очевидно, что в отношениях Л. М. Лопатина и В. Ф. Эрна
пробежала какая-то трещинка. Вероятно, причиной ее
появления стали различные оценки природы ratio у учителя и
ученика, а скорее всего, сама манера ученика говорить о серьезном с
пафосом публициста; этот пафос мешал четкости,
определенности научного философского суждения. Возникшую ситуацию
вполне проясняет характеристика философского мышления
Л. М. Лопатина, которую дает С. Л. Франк. «Ему (т. е.
Лопатину. — А.Е.) принадлежит большая в России особо существенная
заслуга отстаивания прав и достоинства философского разума,
чистой мысли. Но, продолжает С. Л. Франк, Лев Михайлович
слишком резко противопоставлял "разум" и "веру", при
отсутствии чутья к сверхрациональному интуитивному источнику
ratio, он все же хотел выразить Абсолют в рациональных
формах». Все это, заключает Франк, «придает его философии
односторонний рационалистический оттенок» 105. Позиция ученика
Лопатина в его публицистическом выступлении «Нечто о
Логосе» по-другому, но столь же одностороння. Для Эрна «ratio есть
результат схематического отвлечения. Рассудок Ивана, Якова и
Взыскующие града. С. 347.
Там же. С. 291. Упомянутые в письме «всякие» — это Сергей
Андреевич Котляревский (1873—1940) — историк, правовед, видный
деятель кадетской партии, активный участник работы Московского
Религиозно-философского общества; Вениамин Михайлович
Хвостов (1868—1920) — социолог и правовед, профессор юридического
факультета Московского университета (в знак протеста против
нарушения автономии университета в 1914 г. вышел в отставку),
автор первой резко критической заметки о только что вышедшем
первом номере журнала «Логос» (см.: Московский еженедельник.
1910. 1 мая. №17. С. 57—60); Князь — это кн. Е.Н.Трубецкой.
Между тем анти-«логосовская» статья В. Ф. Эрна была
опубликована в «Московском еженедельнике» благодаря настойчивости
Е. Н. Трубецкого, о чем В. Ф. Эрн и сообщил своей жене (см.
Взыскующие града. С. 277).
Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 425.
46
А.А.ЕРМИЧЕВ
Петра берется в среднем разрезе... <...> Тщательно избегая
индивидуальных отклонений, мы получаем безличную, отвлеченную,
мертвую схему суждения, называемую ratio» 106. Этот пассаж
Эрна не могут извинить реверансы философа перед
диалектикой как «божественным орудием мысли» 107.
Но в том — то и дело, что исследование этого «божественного
орудия мысли» было еще впереди, а отношения ухудшались
«Левон жесток к Эрну, и вообще к нашему делу, ужасно» — так
пишет М. К. Морозова, имея в виду и неудачу Эрна при
исполнении им корректорской работы над сборником статей Л. М.
Лопатина и недоверчивое отношение Лопатина к вероисповедни-
честву «путейцев» 108.
В мае 1912г. Л.М.Лопатин, выступая в качестве патрона
молодого философа и редактора «Вопросов философии и
психологии», сообщает Эрну (который уже был в Риме), что журнал
отклонил его статью «О природе мысли»: «...В целом в ней так
много недоговоренного, и она вызывает столько недоумений,
что напечатание в ее теперешнем виде было бы, как мне
кажется, даже и не в Ваших интересах». Но, пишет Лопатин, прежде
чем вынести окончательный приговор статье, он хотел бы
ознакомиться с дальнейшим ходом рассуждений Эрна. Тем не
менее, уже сейчас профессор советует ему «предметом
магистерской диссертации сделать одну из тех интересных исторических
тем, которые, как Вы пишете, наметились для Вас... В
результате получился бы труд и легче выполнимый, и представляющий
большее внутреннее единство» 109. Делать было нечего — Эрна
донимала болезнь и он не мог позволить себе роскошь
отстаивания своих планов. Он принимает рекомендацию Лопатина.
Два года (с 29 апреля 1911 г. по 18 апреля 1913 г.) Владимир
Францевич с Евгенией Давыдовной и дочерью Ириной проводит
в Италии, сделав основным предметом исследования творчество
католических мыслителей — Антонио Розмини-Сербати (1797—
1855) и Винченцо Джоберти (1801—1852). Они оппонировали
друг другу как идеалист и метафизик, психологист и онтоло-
гист, а Эрн настаивает на типичности этой дилеммы для всей
истории европейской мысли после возникновения
христианства — от спора Паламы и Варлаама до споров нынешних гно-
сеологистов и онтологистов в России и выступлений русских
106 ЭрнВ.Ф. Соч. С. 78.
107 Там же. С. 122.
108 Взыскующие града. С. 372.
109 Там же. С. 460—461.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
47
монахов на Афоне в защиту имяславия. Сам Эрн утверждает,
что психологизм ведет ко всяческого рода философским и
религиозным блужданиям. Человек самоопределившийся вне
присутствия в Божественном бытии неминуемо неполон, нецелен и
поэтому неспособен к истине. Только путь В. Джоберти — онто-
логиста открывает человеку возможность «прямой
соотнесенности наших религиозных чувств с Божественным существом»
так как исходит из полного соединения Бога и мира в Сыне
Божьем» п0.
Два года, проведенные в Италии, были временем упорного
труда и спокойного семейного счастья. «Живем мы очень
уединенно и это во многих смыслах полезно и хорошо», — сообщает
Эрн А. Ельчанинову. Разумеется, они иногда скучали по
России, по русским делам, по друзьям: уединенная жизнь хороша
для «духа», но «душе» иногда очень хочется людей, близких и
дорогих» 1П. Правда, была почта, и друзья приезжали в Италию
и жили здесь — Бердяевы, новая семья Вячеслава Иванова.
Эрна, как и всегда, у Ивановых принимали сердечно.
Дружба философа и поэта только крепла. Лидия, дочь поэта
вспоминает: «В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в
два являлся к нам Эрн и начинались между ним и Вячеславом
интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной
темой римских разговоров была апология католичества со
стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна»112.
Очень содержательными сведениями дополнила эти
воспоминания Евгения Казимировна Герцык: «Потом приходил Эрн,
молодой московский ученый, писавший в Риме диссертацию о
философе Джоберти. С ним вливалась к нам волна
влюбленности в первохристианский Рим и воинствующая ненависть ко
всей современной Европе — равно к марксизму, к
неокантианцам, к Ватикану. Он верил только в монашеский восток...
Вячеслав Иванович слушал его, посмеивался, похаживал,
останавливался у окна... Искусный спорщик, сейчас он не принимал
вызова Эрна. "В сущности, ведь мне совсем неверно быть belli-
quex, быть волевым", — говорил он мне потом» 113.
Главным результатом итальянской поездки — в планах
бытовом и профессионального роста — стали подготовленные дис-
110 Эрн В. Ф. Спор Джоберти с Розмини // Известия Тифлисских
Высших Женских Курсов. Кн. 1. Тифлис, 1914. С. 20.
111 Взыскующие града. С. 372.
112 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 51.
113 Герцык Е.К. Воспоминания. С. 134.
48
А.А.ЕРМИЧЕВ
сертации. Но для философа Эрна двухлетнее пребывание в
Италии дало возможность новых размышлений о христианской
истории. «Здесь уже почва становится священной», — здесь все
расширяет кругозор и научает тому, чего нельзя найти ни в
каких книгах» — Сообщает Эрн в «Письмах о христианском
Риме» 114. Он видит историю Рима, как она «осела» в улицах и
зданиях современного города, выстраивает их пространственную
сорасположенность в некую последовательность во времени и
признается в исторической оправданности своего
«славянофильства»: мы принадлежим к Европе Восточной... «У нас иная,
более благородная (нежели у Западной Европы. —А. Е.) линия
культурных преемств. Корни нашей культуры восходят дальше
античного Рима... Через Византию, через великих греческих
Отцов Церкви, через платонические традиции восточного
богословия, мы прямо и непосредственно связаны с древней
Элладой и с той Благороднейшей культурой — по отношению к
которой гордый и властный Рим был зависимым учеником...» 115
Таков первый тезис Эрна. Но был и второй тезис, утверждающий
единые онтологические корни христианской культуры
православной России и Европы». Посещая катакомбы Св. Валентина
и Св. Каллиста, он убеждается, что «каждый рисунок, каждая
надпись катакомб определенно говорит о живой и полной
церковности первохристианства, о непрерывной преемственности
православного предания, восходящего непосредственно к
Апостолам» П6. Один из авторов увидел в «Письмах» свидетельство
тому, как в России в начале XX века пересеклось действие двух
оспаривающих друг друга сил: конфессиональной
обособленности и поиска вселенскости. «Здесь Рим прекращает свою
многовековую тяжбу с Первым — в Риме первохристианством» 117.
В. Ф. Эрн возвращается на родину в апреле 1913 г., и Тифлис
был первым городом, куда направилась его семья. Отец
философа Франц Карлович Эрн скончался 10 марта незадолго до
возвращения сына домой.
Возможно, это обстоятельство сыграло главную роль в том,
что В. Ф. Эрн стал ходатайствовать о месте приват-доцента на
Тифлисских Высших Женских курсах. Хлопоты закончились
114 ЭрнВ.Ф. Письма о христианском Риме//Наше наследие. 1991.
№2. С. 120.
115 Там же.
116 Там же. С. 125.
117 Зелинский В. Безмолвная тайна христианства // Наше наследие.
1991. №2. С. 126.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
49
скоро и вполне успешно. Курсы испытывали потребность в
преподавательских кадрах: наверное, известность Эрна и
рекомендации работавших здесь Г. Н. Гехтмана и А. В. Ельчанинова
только ускорили положительное решение Совета. Уже 31 мая
он был избран на кафедру древней философии. 23 сентября это
решение было утверждено попечителем Кавказского учебного
округа, и на следующий день речью В. Ф. Эрна «Спор Джоберти
и Розмини» для 90 слушательниц начался новый учебный год.
Владимир Францевич ведет два лекционных курса —
«Введение в философию» и «Историю древней философии» и
практические занятия по ним. Здесь под его руководством
курсистки читают и комментируют «Трактат о началах человеческого
знания» Беркли и обсуждают сочиненные ими рефераты о
Сократе, Платоне, Аристотеле и т. д.
По программе «Введение в философию» мы можем судить о
концептуальной основательности лекций. Изложив задачи
курса, Эрн предлагает материал его в такой последовательности:
«Понятие философии. Логос и Эрос. Неизбежность их
постоянного синтезирования. Природа философского сомнения. Деление
философии. Гносеологическая проблема». Далее он предполагал
рассказывать о сенсуализме и необходимости рационального
начала, а в рационализме выделял три его формы —
догматический рационализм (Декарта), критический (Канта) и
абсолютный (Гегеля). Помимо того, он говорил об «основных чертах
рационализма: меонизме, имперсонализме, статизме»,
завершал этот рассказ о научной философии — о когенианстве, рик-
кертианстве, имманентизме и гуссерлианстве и всему этому
(вместе с сенсуализмом и идеализмом) противопоставлял ло-
гизм Платона, патристики, Мальбранша, Джоберти и Вл.
Соловьева, подчеркивая их онтологизм, персонализм и динамизм.
К сожалению, автор не располагает сведениями о том,
насколько успешной была преподавательская работа философа и
только констатирует, что она была временным эпизодом в его
карьере. Москва не отпускала Эрна, и это было так естественно:
идеи, друзья, дела — все было там. Он не мог не наведываться в
Москву и, более того, должен был вернуться туда — хотя бы
для того, чтобы публиковать свою диссертацию и устраивать
дела по ее защите. В отчете о работе Тифлисских Женских
курсов за 1914/15 учебный год сообщалось, что философы Н. Г. Го-
роденский и В. Ф. Эрн покинули курсы, а вместо них один из
вождей грузинского символизма Григол Робакидзе читает
необязательный спецкурс о «Новейших течениях в русской
философии».
50
А.А.ЕРМИЧЕВ
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В хлопотах о диссертации, для чего нужно было приезжать в
Москву, Эрн останавливается у своей знакомой В. С. Гриневич,
а с мая 1914 г. живет на квартире Вяч. Иванова на Зубовском
бульваре. Помощь поэта, который всегда готов был ее
предоставить, на этот раз оказалась особенно кстати — наступили
горячие дни выхода книги об А. Розмини и начались разговоры о
конкретной дате защиты диссертации. Потом он намерен
положить много сил на заработок; нужно будет перевезти семью из
Тифлиса, прикупить какие-то вещи... «...Я мечтаю, чтобы мы
зажили, наконец, все вместе и своим собственным домом...» 118
Хорошо было бы получить кафедру в Московском
университете, но этому противится Л. М. Лопатин; поэтому Эрн думает о
провинции — Киеве, Харькове или Одессе.
Но летом 1914 г. в жизнь Эрнов и Векиловых ворвались
грозные события мировой войны.
Пятнадцатого июля Австро-Венгрия, под прямым давлением
кайзеровской Германии, объявляет войну Сербии, и вскоре весь
мир втянулся в ее водоворот. Для России война началась 19 июля.
О катастрофических последствиях ее для России, всего
русского народа, и для двух русских семей никто, разумеется, не
догадывался. Война воспринималась как чрезвычайное событие
мировой важности, но общество жило уверенностью в победе
над испытаниями и надеждой на послевоенное братское
единство европейских народов. Но пока наступило время проверки
на прочность самой «русскости», религиозно-культурных
устоев России, и ни Соловьевское общество, ни «путейцы», ни
любая другая общественная группа не могли остаться в стороне от
событий.
Что же говорить об Эрне, о духовно близком ему брате
Николае, о шуринах Векиловых, которые героически сражались на
полях Второй Отечественной войны? Я уверен, что Эрн, если бы
мог, и сам принял непосредственное участие в войне... Но...
жизнь продолжается и во время войны, и обычная деятельность
Эрна идет своим чередом. 1 марта 1915 г. он защищает свою
магистерскую диссертацию о Розмини119, вмешивается в спор
118 Взыскующие града. С. 625.
119 Своей жене В. Ф. Эрн рассказывал о защите так: «Диспут вышел
очень удачным против всякого ожидания. После щедрых похвал,
к которым присоединился и мой второй оппонент, Лопатин в
течение двух часов нападал на меня, но корректно, с большим уваже-
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
51
об «имяславии», готовит к завершению книгу о Джоберти и
думает о работе над Платоном: «...мысль углубиться и
погрузиться в Платона по уши и в греческий язык — для меня мечта» 12°.
Путеводная звезда научного исследования Эрна все та же —
логизм или динамический христианский онтологизм. Обе его
диссертации трактуют о становлении этой идеи в итальянской
философии. Только она позволяет решить задачу создания
философии жизни, жизни вот этого, конкретного человека. Эрн
полагает, что при таком типе сознания, который, с одной
стороны, осмыслен онтологизмом, а, с другой, им предлагается,
будут сняты перегородки между личностью, миром и Богом.
Историческим источником подобного рода универсального и,
тогда же, конкретно-жизненного философского мировоззрения
у Эрна выступает Платон, в творениях которого Эрос, сын
Пении и Пороса — бедности и богатства, связывает человека и
Бога. Об этом Эрн пишет в своей незавершенной работе
«Верховное постижение Платона».
Тем же пафосом онтологизма проникнуты две публикации
Эрна об «имяславческих» спорах. Он определенно утверждает
Имя Божье как теофанию, явленность Бога человеку.
Но, разумеется, общественное звучание обретают не эти
исследования философа, а его публицистика, чему Эрн отдается
вполне. Слово, единственно доступное Эрну оружие военных
действий, он использует во всю силу своего писательского
дарования. «Пишу со страстью и Бога молю, чтобы мне удалось во
весь голос сказать то, что сейчас нужно прокричать на всю
Россию, даже на весь мир. Дал бы мне только Бог сил справиться с
трудностью и важностью темы» 121 — рассказывает он жене о
замысле цикла статей о славянстве, германизме и европейской
культуре.
Однако то замечательно, что военная публицистика не
перечеркивала научных планов философа, не выводила Эрна из
главного русла философских поисков истинного основания бы-
нием ко мне, и я каждое возражение легко и без всякого труда
отвечал...» (Взыскующие града. С. 623). Однако, судя по газетному
отчету (см. приложение в настоящем издании), все было не так
гладко. Напротив, оппоненты были резко критичны. Лопатин
говорил не только об отсутствии «общей и широкой исторической
перспективы», но даже об «отсутствии собственного
самостоятельного философского анализа», о чем он и поведал читателю в
большой статье в «Вопросах философии и психологии».
Взыскующие града. С. 625.
Там же. С. 593, 594.
52
А.А.ЕРМИЧЕВ
тия. Правильнее будет сказать, что она стала иллюстрацией и
нередко конкретизацией давно выношенной мысли о различии
жизни, организованной ratio и организованной Λσγος'οΜ. Его
патриотическое кредо, в сущности, уже сформулировано, у
него, у этого убеждения, имеется солидное обоснование, и это
убеждение нужно только сказать во весь голос: «Внутренней
осью европейской войны» — более того, современных мировых
событий, является «столкновение духа Германии и духа
России», цивилизации и христианской культуры. «Гордая,
материальная, внешняя идея германская сталкивается с
смиренною, духовною и внутреннею идеей русскою»122. «Наступает
время, когда Россия должна сказать свое мировое слово... Она
выступает в роли вершите л ьницы судеб Европы, и от ее
мудрости, от ее вдохновения и решимости будет зависеть вся
дальнейшая история мира» 123. Прочие, иные силы войны, — говорит
Эрн, — находятся на периферии войны меча и креста, Германии
и России124. Сугубо русское дело в согласии с русской
славянофильской традицией превращается у Эрна в дело вселенское.
6 октября 1914 г. в Большом зале Политехнического музея в
Москве яблоку негде было упасть. Религиозно-философское
общество, представленное на трибуне Г. А. Рачинским, В. Ф. Эр-
ном, кн. Е. Н. Трубецким, Вяч. Ивановым и С. Н. Булгаковым,
высказывает свое мнение о смысле начавшейся войны. В. Ф. Эрн
выступает с речью «От Канта к Круппу», в которой прямо
возложил ответственность за немецкий милитаризм на немецкую
науку, на философию Канта, на лютеранство, то есть на
культуру Германии. Теоретическое обоснование этого дикого
утверждения он продолжил в выступлении «Сущность немецкого
феноменализма» — де, кантовский феноменализм является самым
совершенным воплощением духа немецкой культуры и
философским осмыслением протестантизма, основоположник
которого, Лютер «перерезал живое духовное питание немецкого
организма небесною женственностью Пресвятой и Пренепороч-
ной Девы-Матери» 125. Теперь понятно, что немцы
самоопределились как народ, существующий только в единственной
реальности посюстороннего, природного (а не религиозного) мира,
где законом стала грубая материальная сила. Из-за спины
милитариста Круппа выглядывает гуманист Кант.
122 Эрн В. Ф. Меч и крест // Эрн В. Ф. Соч. С. 297.
123 Там же. С. 301.
124 См.: Там же. С. 297.
125 Там же. С. 325.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
53
Лидия Иванова вспоминает: «В академических кругах
огромный скандал: Владимир Эрн напечатал статью "От Канта к
Круппу", где доказывает, что диалектическое развитие
философии Канта неизбежно приводит к войне. Возмущение в
университете. Вся карьера Эрна была испорчена и ему грозил
остракизм. Он смело продолжал стоять на своем» 126.
Действительно, скандал был всеобщим, Возмущала научная
неосновательность Эрна, который «редуцировал» всю
германскую культуру до Круппа. Возмущала тональность речи Эрна.
Один из оппонентов говорил, что «совершенный В. Ф. Эрном
"пересмотр" германской культуры напоминает по своей
жесткости и грубой прямолинейности жесткость и прямолинейность
германцев-при разрушении Реймского собора» 127.
Все-таки автор настоящей статьи хочет заступиться за Эрна.
Совсем не соглашаясь с его «редукцией», он указывает на
оправдывающие философа обстоятельства. Во-первых, в
подобного рода грехах была замечена интеллектуальная элита всех
воюющих сторон. Выдающиеся немецкие ученые стеной встали
на защиту варварства своей любимой армии и так же дружно
клеймили русских варваров128. Напротив, французы — А.
Бергсон, Л. Доде и Р. Лот, не сговариваясь с Эрном, обвиняли в
войне всю немецкую культуру. Во-вторых, надо же видеть нечто
здравое в позиции Эрна, что позволило ей подвинуться в
сторону более взвешенной постановки вопроса. Разве при
феноменализме нет опасности деидеализации общественной жизни?
Релятивизации ее норм? Помимо того, выступая в ноябре того же,
1914 г. в Петрограде, Эрн уже выделил в немецкой культуре
линию, обозначенную именами Гёте и Новалиса (правда, не в
качестве основной), а позже не затруднялся говорить о
«подлинном золоте германского духа» 129, имея в виду мистическую
и религиозно-гуманстическую традицию немецкой культуры.
Можно думать, что здесь он соглашается со своим антагонистом
Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 58.
Наше отношение к германской культуре//Утро России. 1915.
16 января. № 16. С. 4.
См. «Воззвание к цивилизованному миру 93 германских
профессоров» в Приложении к настоящему изданию.
На изменение позиции Эрна указал С. Л. Франк в статье «О
поисках смысла войны», напечатанной в том же номере «Русской
мысли», где были опубликованы выступления участников вечера в
Политехническом музее (1914. Кн. 12). Выражение «подлинное
золото германского духа» см.: ЭрнВ.Ф. Соч. С. 353.
54
А.А.ЕРМИЧЕВ
И. А. Ильиным, желавшим «выбрать из немецкой культуры то,
что в ней общечеловечно, глубоко или просто здорово...» 13°
Наконец, в-третьих, — и это становится понятным при учете
изменения позиции Эрна, — в своих выступлениях он не только
патриотически защищал родную страну, но утверждал
большее — невозможность безрелигиозной культуры,
безрелигиозного существования человека. Это составляет главное
содержание его выступлений военного времени.
Другая, тоже главная тема его выступлений — утверждение
противоположности типов культур: одного, стоящего под
законом «ухождения от Отца», проникнутого «пафосом человекобо-
жеского сознания и чисто феноменалистическои культуры» и
другого, стоящего под знаком «мирового возвращения к Отцу»,
проникнутого «пафосом утверждения трансцендентизма,
пафосом онтологических святынь и онтологической Правды» 131.
Говоря о первом типе, он имеет в виду «германство» в культуре,
«германство» возможное повсюду и даже в России. Но говоря о
русской культуре, Эрн более осторожен. Он говорит о «двувоз-
растной русской культуре», хотя и единой «по духу, по
глубинному устремлению». Он находит прекрасные слова для
характеристики этих двух возрастов. Старая русская культура, культура
допетровской ломки, вся проникнута онтологизмом. «Ее
особенность — фантастическая узорчатость сказочно-детского
воображения в соединении с эллинской чистотою тонко-волнистой
линии, и все — в строгом тоносе таинственной иератичности,
почти литургичности». Для Эрна эта культура имеет статус
«особого утонченного духовного классицизма» 132. Новая,
послепетровская русская культура тоже онтологична, но ее
религиозный онтологизм уже не дан, как это было раньше, а — задан
как «родимая цель». «Умершие зерна первой фазы»
прорастают в новой русской культуре как «проблески нового всемирного
сознания» 133.
Следовательно, и в отношении к Европе, и в отношении к
современной России Эрн ставит одну задачу — воскрешения и
отстаивания онтологических начал культуры, культивирование
«всемирного сознания». Русские всегда находили убедительные
и вдохновляющие слова о временах, «когда народы, распри
позабыв, в единую семью соединятся».
130 Ильин И. А. Духовный смысл войны. М., 1915. С. 36
131 ЭрнВ.Ф. Время славянофильствует//Эрн В. Ф. Соч. М., 1991.
С. 390, 388.
132 Там же. С. 387.
133 См.: Там же.
Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна
55
Беда Эрна, равно как всего ренессанса заключалась в том,
что между их идеями и реальной жизнью существовала
большая пропасть, тогда редко кем сознаваемая134. Ренессанс верил
звездам, а не компасу и нам, уже знающим о поведении народа-
богоносца в годы революции, подчас неловко читать эрновские
гимны «русской шири и духовности». Ф. А. Степун, прошедший
горнило войны, покалеченный ею, лечившийся в московском
госпитале, попадает на заседание Религиозно-философского
общества, слушает очередной доклад и не может скрыть своего
недоумения и раздражения. В разговорах о поле, эросе,
Платоне, Софии и прочем, соглашается Степун, «есть и своя глубина,
и своя красота, и своя историко-философская правда». Но ему,
фронтовику, «глубоко чужд такой метод мышления», когда
возвышенная мистика оказывается в непосредственном
соседстве с реальной политикой и бытом войны135.
Автор не знает, как встретил Эрн веселье Февральских дней,
и скорее склонен думать, что они могли только очень сильно
встревожить публициста-патриота. Косвенным свидетельством
такому предположению может служить письмо П. Б. Струве,
пригласившего В. Ф. Эрна к сотрудничеству в создаваемом им
еженедельнике «Русская свобода», целиком посвященном
обличению разлагающих тенденций революции136.
В московской газете «Утро России», с которой Эрн долго
сотрудничал, он дает небольшую статью «Победа или отпор?». Он
поражен «мирнообновленческими» выступлениями лидеров
новой России, которые лепечут об «отпоре врагу» а не о
решительном с ним бое, бое до победы. Его возмущает, что демократы
именуют царизм последним оплотом реакции в Европе, хотя,
конечно, ясно, что еще существует и яростно сражается
Вильгельм. Его удивляет, что революционеры, вчера еще так
решительные во внутренней политике, ныне так вялы и
бездейственны в политике внешней. Он заключает статью со свойственной
ему логичностью: «Либо у нас нет правды, которую мы
защищаем перед Вильгельмом, — тогда нужно положить оружие
совсем и не проливать крови вовсе, — либо правда у нас есть, и
134 Об этом писали многие; например, Н. А. Бердяев в своем
«Самопознании», Ф. А. Степун в статье «Памяти Андрея Белого», мать
Мария в воспоминаниях о Блоке.
135 Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000.
С. 123—124.
136 См.: ОР РГБ. Ф. 348. К. 3. Ед. хр. 71. Оценку журналу дает
С. Л. Франк в сборнике «Непрочитанное... Статьи, письма,
воспоминания» (М., 2001. С. 484).
56
А.А.ЕРМИЧЕВ
тогда войну мы должны нести как священный долг и служение
высшим принципам и, конечно, всеми силами духа хотеть наи-
возможно сильнейшего торжества этих принципов» 137.
А повседневное не отложить. На второе мая была назначена
защита диссертации о В. Джоберти. 24 апреля В. Ф. Эрн
получает письмо из Петербурга от С. Л. Франка. Прослышавший о
том, что Эрн ищет кафедру в каком-либо провинциальном
университете, Франк подсказывает: имеется место в Казанском
университете; оклад — 3000 руб., а, кроме того, 30—40% этой
суммы будут доплачивать — за дороговизну жизни. «Был бы
рад и за Вас и за Казанский университет, если бы мне удалось
Вас сосватать», — завершал свое письмо Семен Людвигович138.
Но двадцать девятого апреля 1917 г. Владимир Францевич
умирает. Привожу полностью содержание небольшой записки
С. Н. Булгакова, отправленной в тот же день из Москвы в
Сергиев Посад.
«Суббота, 29 апреля 1917 года
Дорогой о. Павел!
Сегодня в 1 час дня Владимир Францевич скончался. Я был
там всего за полчаса до смерти и его видел. Началась хрипота, и
я думал, что это лишь начало агонии, но конец последовал с
неожиданной быстротой. Он был в беспамятстве. Сегодня же в
5 часов утра он был приобщен св. Тайн о. Владимиром
Воробьевым. Похороны предполагаются на вторник, оттягиваются
ввиду извещения родных.
Храни Вас Христос и присных Ваших! Люб<ящий> Вас
СБ.»139
В. Ф. Эрн был похоронен 1 мая 1917 г. на Дорогомиловском
кладбище города Москвы. Отпевали его в церкви Знамения на
Зубовской площади.
В Москве шли первомайские демонстрации — Россия
втягивалась в очередной виток революционной смуты.
<^^s>
137 Эрн В. Ф. Победа или отпор? // Утро России. 1917. 23 марта. № 78.
С. 2.
138 0р ргБ φ 348. К. 3. Ед. хр. 94.
139 Переписка священника Павла Александровича Флоренского со
священником Сергеем Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 38.
I
ХРИСТИАНСКОЕ
БРАТСТВО БОРЬБЫ
^^
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
Христианское братство борьбы
и его программа*
В феврале 1905 года в России организовалось
Христианское братство борьбы1. В заграничной, как русской, так и
иностранной печати о деятельности Братства появились
чрезвычайно отрывочные и неточные сведения. Между тем
в настоящее время, когда среди духовенства, народа и
верующей интеллигенции начинает пробуждаться религиозная
жизнь, а с нею и стремление к христианской
общественности, является существенно необходимым более близкое
знакомство с деятельностью и задачами Братства.
Христианское братство борьбы — это первая попытка
создать в России христианскую политическую организацию, и
потому в истории религиозного движения оно должно быть
особенно отмечено. В недалеком будущем из «подпольной»
организации оно, несомненно, перейдет на путь легального
развития и, быть может, займет видное, даже
первенствующее место в ряду народных политических партий. Таким
образом, знакомство с деятельностью и задачами Братства
представляет не только исторический, но и злободневный
интерес.
Настоящий очерк составлен по самым точным данным и
документам, которые были предоставлены мне лицами,
близко знакомыми с деятельностью Братства.
B.C.
* Доклад, читанный в Москве, в Религиозно-Философском Обществе
памяти Вл. Соловьева 21 ноября 1905 года.
60
В. П. СВЕНЦИЦКИИ
I
События девятого января застали христиан врасплох.
Нельзя сказать, чтобы кровавая расправа на улицах
Петербурга была для них совершенно неожиданна, напротив, многие в
отдельности предчувствовали неизбежные кровопролития,
предугадывали все ужасы грядущей русской жизни, но у них не
было выработанных, вполне сознательных религиозных основ
для того, чтобы занять подобающее место в начавшемся
движении. События девятого января сделали невозможной
дальнейшую неопределенность. Они требовали немедленного и
решительного участия в начавшейся борьбе. За свободу или против
ее, но необходимо было от слов перейти к делу. Острая
неотложность момента вскрывала всю ту беспомощность, в
которой находились христиане в вопросах общественных. Веруя во
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, измученные
неудовлетворенной жаждой истинно церковной жизни,
христиане почувствовали с небывалой силой, что им не у кого
спросить, как отнестись к освободительной борьбе и ко всей
сложности тех вопросов и явлений, которые с ней связаны. Можно
было узнать мнение лишь отдельных представителей
духовенства, часто друг другу диаметрально противу по ложные, — но
Церковь, голос которой только один и мог успокоить
христианскую совесть, дать полную внутреннюю уверенность в
Господней правде совершаемой работы, — Церковь спросить было
нельзя.
Между тем некоторые представители духовенства
самозванно, будто бы от лица Церкви, говорили языком явно
враждебным Христу. События надвигались; темные силы начинали
явно и дерзновенно распоряжаться там, где должно было
действовать святое откровение Церкви; казалось, наступали дни,
когда безмолвие Церкви становилось равносильным отречению
от Христа, а вместе с тем, казалось, близилось время
окончательной мировой катастрофы.
Трагический образ Гапона, начавшего Христову работу с
истинно пастырским дерзновением и кончившего призывом,
недостойным ни пастыря, ни христианина, черносотенная
агитация части духовенства с Синодом во главе, трусливое молчание
либеральных священников, которые, пользуясь авторитетом,
могли бы возвысить свой голос, и искренняя беспомощность
тех из духовенства, которые рады были жизнь свою отдать для
спасения Церкви и родины, но не знали, как действовать им,
чтобы принести настоящую пользу, — все это доказывало
Христианское братство борьбы и его программа
61
страшное смятение, роковые внутренние процессы,
эмпирически проявляющиеся как кровавые знамения грядущих
последних времен. Ждать становилось невозможным.
И вот небольшая группа лиц решилась обратиться к
некотором епископам Русской Церкви с воззванием, в котором
указывалось бы на необходимость немедленно, не дожидаясь, когда
надвигающаяся буря стихийно охватит всю русскую жизнь,
написать окружное послание в защиту всех справедливых
христианских требованиях, выдвинутых освободительным
движением, и тем встать впереди движения, сделать его
христианским, сведя на нет силы революции.
Воззвание было написано, и депутация отправляется к
епископу N., с которым и ранее имелись частные общения2.
Вечером, в монастырских покоях епископа произошло чтение
воззвания христиан. В нем говорилось, что страна гибнет, что
самодержавная власть истерзала народное тело, что Церковь
одна может спасти страну и епископы обязаны в этот момент
почти открытого дьявольского искушения выступить с
окружным посланием. Они должны сказать, что Церковь никакими
государственными целями не может оправдать убийств, что
она не может благословлять неограниченной власти, ибо
всякая власть ограничена законами Божиими, не может
связывать христианскую совесть присягой и поддерживать учение,
что надо исполнять всякое приказание верховной власти, хотя
бы явно безбожное, как, например, истязание безоружных
людей. — Воззвание кончалось словами: «Господи, отыми робость
из сердец служителей Твоих и дай им дерзновение исповедать
святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Епископ сначала отнесся к прочитанному явно враждебно.
С нескрываемой иронией он сказал:
— Пламенные словеса... Пророк Иеремия... Я бы очень
желал, чтобы это было где-нибудь напечатано!
Но затем произошел долгий и знаменательный разговор.
Этот разговор раскрыл депутатам тот внутренний мир,
который стоит за молчанием представителей Церкви. Епископ
начал с иронии, но кончил почти исповедью. На резко и прямо
поставленный вопрос, что молчать в настоящую минуту, не
обличать безумную власть, забывшую Христа и в своих зверствах
кощунственно прикрывающуюся авторитетом церкви, —
равносильно отречению от Христа, он с видимой внутренней
борьбой сказал:
— Да, это отречение от Христа.
— Значит, вы отрекаетесь от Христа? — сказали депутаты.
62
В. П. СВЕНЦИЦКИИ
— Да, отрекаюсь, потому что я слаб, я связан, я связан
какими-то цепями, как связана вся Церковь.
Депутаты ушли. На прощание он сказал им:
— Я желаю вам добра. Будьте осторожны. Если пойдете к
другим епископам, имейте в виду, что можете на такого
попасть, который и за полицией пошлет.
Через несколько дней депутаты с воззванием отправились в
Петербург. В Петербурге они имели совещание с группой лиц,
принадлежащей к высшему петербургскому духовенству; там
повторилось почти буквально то же, что и в Москве. С первых
же слов враждебное, почти презрительное отношение к
прочитанному, затем долгий разговор и горькие признания, почти
покаяние.
— Устал, — сказал один из присутствовавших, — я устал,
не могу, у меня на такие подвиги нет сил. Я, как утомленная
птица, думаю об одном — сесть и отдохнуть, а вы молоды,
поработайте.
Из его слов вполне определенно выяснилось, что к высшему
петербургскому духовенству обращаться совершенно
безнадежно3. Для депутатов становилось очевидно, что придется начать
деятельность другими путями.
II
В феврале месяце в Москве произошло очень немноголюдное
собрание христиан, на котором, совместно с прибывшими из
Петербурга, было решено открыть деятельность Христианского
братства борьбы и был выработан краткий проект программы
Братства4. Этот проект затем подвергся переработке в
Петербурге, совместно с представителями г. Киева, и окончательная
редакция его такова:
«Христианское братство борьбы имеет целью активное
проведение в жизнь начал Вселенского Христианства. Эти начала,
введенные историческим христианством в сферу
индивидуальной жизни, до сих пор не были сознательно положены в основу
общественных отношений. В общественных отношениях до сих
пор осталась не раскрытой "правда о земле", лежащая в самой
сущности христианского учения. Раскрыть эту правду и
действенно осуществлять вселенскую правду Богочеловечества во
всемирно-историческом процессе и есть общая задача Братства.
Своеобразие и исключительность настоящего исторического
Христианское братство борьбы и его программа
63
момента сами собою определяют ближайшие, частные задачи
Братства, необходимо вытекающие из общей основной.
Эти задачи суть:
1. Борьба с самым безбожным проявлением светской
власти — с самодержавием, кощунственно прикрывающимся
авторитетом Церкви, терзающим народное тело и сковывающим
все добрые силы общества.
2. Борьба с пассивным состоянием Церкви в отношении
государственной власти, в результате чего Церковь идет на
служение самым низменным целям и явно Кесарю предает Божье.
3. Утверждение в социально-экономических отношениях
принципа христианской любви, содействующего переходу от
индивидуально-правовой собственности к
общественно-трудовой.
Братство призывает к совместной Господней работе всех
верующих во Христа без различия исповеданий и
национальностей ввиду того, что борьба с безбожной светской властью
имеет смысл не только национальный, но и вселенский».
В период, когда вырабатывалась программа Братства
Святейший Синод издал свое знаменитое послание, повторивши
клевету о подкупе русских рабочих5. Воззвание, с циничной
откровенностью обнаружившее, до какого полицейско-охрани-
тельного состояния дошла видимая историческая Церковь или,
точнее, ее высшие представители. Не понять тех сил, которые
двигали рабочими, когда с пением «Отче наш» они шли к
царскому дворцу, позорно оклеветать великое освободительное
движение, по силе самопожертвования и по громадности
значения которому не было равного в мире, — это было каплей,
которая, казалось, должна была переполнить чашу гнева
Господня. Вавилонская блудница открыто готова была воссесть на
престоле и творить мерзости до срока. А в народе уже
начинался зловещий гул, как отзвук брошенной клеветы.
Забастовщики и изменники — становились равнозначащими словами.
Необходимо было распространить в народе, особенно в городском,
наиболее восприимчивом населении, ответ на воззвание
Синода. Одним из наилучших средств для распространения этого
ответа члены Братства сочли расклейку воззваний на улицах.
Воззвание было написано, город разделен на 10 участков.
Ночью члены Братства отправились развешивать его по улицам.
На листках воззвания стоял большой черный крест, и
составлено оно было в следующих выражениях:
«Синод обратился к вам с увещанием не заводить в
государстве смуты, не быть заодно с внутренними врагами и тем не
64
В. П. СВЕНЦИЦКИИ
служить японцам. Не таких слов ждали все
истинно-православные люди в настоящее тяжелое время. Кому неизвестно, какие
грабительства и притеснения творят царские слуги. Они и
ослабили Русскую землю, потому что измучили народ. А когда
петербургские рабочие, с пением "Отче наш", шли умолять царя
выслушать об их нуждах, в них стали стрелять солдаты и
убили около 3000 человек и ранили более 5000 своих же братьев-
христиан... И после этого Синод, забыв истинную
Апостольскую Церковь, увещевает вас, а не тех, кто довел вас до
крайности, кто губит Русскую землю и зверски убивает наших
братьев. В такие минуты все ждали, что Церковь возвысит
свой голос против обезумевшей власти, забывшей, что Царь
всех Царей — Господь, и что царская власть ниже воли
Господней, подобно тому, как митрополит Филипп обличал царя
Иоанна Грозного, измучившего народ опричниной. Митрополит
Филипп говорил...» Дальше приводились слова св. Филиппа.
Во время развески никто из Братства задержан не был.
На некоторых улицах воззвания провисели до следующего
дня, и около них все время толпился народ.
Перед Христианским братством борьбы с первых же шагов
вставала громадная и бесконечно сложная задача, с одной
стороны, дать религиозно-философское обоснование христианской
общественности, с другой — от теории перейти к практике,
воздействуя на духовенство, интеллигенцию и народ в
указанном направлении. Эта задача усложнялась недостатком людей,
ограниченностью денежных средств и массой технических
затруднений; для того чтобы пропагандировать свои идеи среди
широких слоев населения, необходимо было обзавестись своей
тайной типографией. Это стоило больших денег и связано было
со всевозможными препятствиями. Покуда разрешался вопрос
о типографии, Братство не откладывая приступило к
формулировке теоретических начал своей деятельности. Вот
центральное положение этой теории:
«Христос был Богочеловек. Он вочеловечился и принял
плоть. Искупая ее Своей Пречистой Кровью, Он не отделился
от нее, а остался в ней и с ней, потому что связан с ней
"нераздельно и неслиянно", потому что пришел не упразднить ее, а
освятить. Преобразивши ее на Фаворе и освободивши ее от
рабства смерти Своим Воскресением, Он положил начало "обоже-
нию плоти" (выражение св. Антония В.), которое закончится
"Новой Землей, в ней же правда обитает" (2 Петр. III, 13).
Этим Он дал вечный образ поведения и указал путь, по
которому должен идти каждый христианин. Каждое отдельное лицо
Христианское братство борьбы и его программа
65
для того, чтобы становилось возможным Царство Божие
"внутри" него, должно побеждать в себе похоть плоти и облекать
тело свое во Христа, приуготовляя его к славе и нетлению. Но,
по основному учению Евангелия, человек не может
рассматриваться как самодовлеющий, не связанный с другими атом. Он
только один из бесчисленных членов великого и единого
целого, собирательного индивидуума Церкви. Эта Церковь
объективное Царство Божие, осуществляясь и водворяясь в душе
всего человечества, должна победить похоть плоти уже не
отдельного лица, а всего человечества, и облечь тело — уже не
тело отдельного лица, а тело всего человечества, — во Христа и
сделать его Невестой Христовой. Эта плоть и тело, не будучи
телом и шштью отдельных лиц, является результатом
взаимодействия последних, основанного на потребностях тела и плоти,
а это и есть, прежде всего, отношения экономические,
общественные и государственные. Значит, человечество,
становящееся Церковью, для осуществления в себе Царства Божия
должно бороться со своею похотью и побеждать свою плоть, т. е.
животворить и проникать Духом Христовым отношения
экономические, общественные и политические; да изобразится и в
них Христос и да будет Бог во всем. Таким образом, из
действительной веры во Христа, вочеловечившегося и
пришедшего во плоти, с неизбежной внутренней последовательностью
вытекает для каждого христианина обязанность принимать
самое деятельное участие в общественной и политической жизни
страны и здесь, в той самой области жизни, от которой с
отшельническим ужасом отвертывалось историческое
христианство, — действенно осуществлять вселенскую правду Богочело-
вечества».
Это обращение, называвшееся «О задачах Христианского
братства борьбы», было разослано почти всем русским
епископам и многим представителям духовенства в Москве,
Петербурге, Киеве, Владимире, Воронеже, Тифлисе, Харькове и
других городах.
Наконец с большим трудом Братству удалось поставить
свою небольшую типографию. Немедленно же было приступле-
но к изданию обращения к войскам, как самой спешной и
неотложной задаче. Дело подвигалось довольно медленно, так как
типография помещалась под Москвой. Кроме того, печатать
нужно было не на машине, а ручным прессом, и в довершение
всего физический труд, за недостатком людей, ложился на тех
же, кто должен был быть литераторами, философами и
богословами. Как бы то ни было, через некоторое время воззвание
66
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
к войскам было напечатано в количестве 4000 экземпляров. Вот
полный текст этого «Воззвания»:
Братья Христиане!
Страшный и тяжелый грех на вашей душе. По приказанию безбожной
светской власти усмиряете вы «бунтовщиков», убиваете и мучаете их.
Самое ужасное то, что, убивая своих братьев христиан, вы не приносите
покаяния, думаете, что поступаете хорошо. Это не наше дело, — говорите
вы, — начальство велит, оно и ответит перед Богом, — а мы обязаны
слушаться. Не так говорили апостолы и святые мученики христианские,
когда начальство заставляло их отрекаться от Христа и кланяться идолам.
Не говорили они тогда: поклонимся, отречемся, а там пускай начальство
отвечает.
Господь Иисус Христос велел любить друг друга, велел молиться за
врагов, как сам он молился на кресте за распинавших Его. А вы теперь
убиваете не только врагов своих на войне, — но и друзей своих — рабочих
и крестьян в городах и деревнях. Вам говорят — они бунтовщики, сами
виноваты, — заставляюсь стрелять и бить их. Но разве уж так виноваты
голодные крестьяне, когда они берут хлеб у помещиков, проживающих в
городе десятки тысяч рублей в год, или рабочие, не знающие отдыха,
измученные работой, когда они просят прибавки жалования и сокращения
рабочего времени? Почти все вы сами крестьяне, сами знаете, как тяжело
жить и в деревне, и на фабрике, как и рад бы не бунтовать, да велит
нужда. А если они и виноваты, то разве есть такая вина, за которую можно
убивать людей? Вспомните, как воины хотели взять Иисуса Христа в Геф-
симанском саду. Неужели эти воины были меньше виноваты, чем
несчастные рабочие, просящие кусок хлеба? И вот когда апостол Петр выхватил
меч, чтобы зарубить нечестивых воинов, Господь сказал: «Возврати меч
твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут».
Начальство приказывает, — говорите вы, а Господь велел слушаться
начальства. Да, велел. «Всякая душа властем предержащим да
повинуется», — сказал апостол. Но нигде не сказал он, что начальства нужно
слушаться больше, чем Бога. Вы должны слушаться начальства, но до тех
пор, покуда это начальство не требует от вас противного воли Божией.
Апостол знал, что такие случаи будут, и сказал верующим, — если
потребуют от вас противное вашей совести и закона Иисуса Христа, отвечайте:
«аще праведно есть пред Богом вас послушати, паче нежели Бога», т. е.
разве хорошо слушаться вас, начальников, больше, чем Бога, и не велел
слушаться начальства, если оно требует безбожного дела. А разве убивать,
хотя бы и бунтовщиков, не безбожное дело? Кто выше, Бог или царь со
своими слугами? Один у вас Господь — Царь Иисус Христос. И потому,
если царь или слуги его велят делать то, что не велел Господь, — вы
должны слушать Господа, ибо нельзя служить двум господам. Подумайте
только, вдруг на землю пришел бы Христос, стал бы учить, начальству не
понравилось бы и оно приказало вам расстрелять Его. Кого бы вы
послушались? Неужели царя земного, а не Царя небесного? Но ведь Христос
приходит на землю и теперь в виде голодных и обиженных людей. Вы не
Христианское братство борьбы и его программа
67
помогаете им, вы стреляете в них, — вы стреляете в Христа. Вы
отрекаетесь от Него. И Господь оттолкнет вас и скажет: «Так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». Страшный, великий
грех убивать людей, — виноваты они или не виноваты, все равно. Никто
не имеет власти кроме Бога лишать человека жизни. Царь ослеп от своей
власти и встал на Царя небесного. Он велит вам нарушать святую
заповедь: не убий, и велит убивать христиан. Вы не должны делать этого, не
должны слушать начальников, если они требуют безбожного дела, не
должны помогать царю отступнику. Должны служить одному Царю и
Господину Иисусу Христу.
Вас будут безбожные слуги царств мучить и убивать, — но блаженны
те, кто примет страдания за Христа и за правду Его: «Блажены вы, когда
будут позорить вас, гнать и всячески неправильно злословить за Меня;
радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах — так гнали и
пророков,* бывших прежде вас». Без ропота умираете вы на войне за царя
земного, ужели вы побоитесь умереть за Царя небесного и под угрозами
казней станете убивать своих братьев. Нет, еще крепка в вас Христова
вера. Не побоитесь вы мучителей и безбоязненно, по примеру великих
служителей христовых, смело скажете царским слугам, когда они будут
заставлять вас стрелять в беззащитных бунтовщиков: Господь не велит, не
пойдем, — ибо все взявшие меч мечом погибнут».
Воззвание к войскам было распространено по преимуществу
среди петербургских войск, частью во Владимире и немного в
Киеве. В общем разошлось до 3500 экземпляров.
Кроме того, было отпечатано в нескольких тысячах
экземпляров обращение к крестьянам. Написано оно было в том же
духе, как и обращение к войскам. В нем говорилось, что
русский народ терпит все ужасы за грехи свои, но что
недостаточно сказать: «грешен», а надо еще и покаяться в своих грехах, а
для этого прежде всего надо знать свой грех. На русском
народе три греха: любовь к Кесарю больше, чем к Богу, поглощение
государством Церкви, и война на Дальнем Востоке.
«Братство» затем считало важным ознакомить со своей
программой возможно широкую часть интеллигенции. С этой
целью было написано обращение «к обществу» и разбросано по
ящикам для писем и газет в Москве, Петербурге, Киеве,
Воронеже и др. городах.
В конце мая, с целью ознакомить во всех подробностях с
задачами Братства один из членов его предпринял поездку в
некоторые провинциальные города где читал рефераты о
программе Братства. Представители крайних партий относились к
программе Братства с большим интересом, признавая за ним
большую потенциальную силу. Соглашались, что верующая
часть народа, которая представляет большинство в настоящее
68
В. П. СВЕНЦИЦКИИ
время, только на религиозной почве и может присоединиться к
освободительному движению.
За четыре месяца своего существования, с конца января до
конца мая, Братству, несмотря на крайнюю малочисленность
его членов, удалось выработать себе более или менее
определенную практическую программу, по возможности ознакомить
с нею духовенство и общество и через посредство печатных
листков проникнуть в широкие народные массы. Но главная задача
Братства — непосредственного, личного воздействия на народ
была не осуществлена. Между тем в одном из фабричных
уездных городов началась грандиозная стачка. Случай выступить с
проповедью христианской программы был чрезвычайно
благоприятный, и Братство направило туда одного из своих членов
для проповеди. Перед проповедником вставала истинно
христианская задача пробудить в тех, кто боролся за личную жизнь,
за личное благополучие, идею о борьбе ради правды
Христовой. Превратить стачку за хлеб насущный в подвиг борьбы с
теми, кто, эксплуатируя труд, оскверняет мир — этот Храм
Господень, делая его домом торговли и вертепом разбойников.
Усилия одного лица, разумеется, не могли изменить
характера всей стачки, но кое-чего в этом направлении удалось
достигнуть. Представитель Братства не мог влиять на
организованных рабочих и, разумеется, не старался влиять на те или
другие резолюции, — они нисколько не менялись бы от самого
коренного, внутреннего изменения тех психологических
мотивов, которые выдвигали эти требования. Против требований
как таковых возражать было нечего, т. к. Братство всецело к
ним присоединялось. Представитель Братства выступал как
проповедник. В силу своих личных недостатков, слабости
голоса, делавших его почти не слышным на воздухе, он не мог
говорить перед большой аудиторией, но среди небольшого числа
рабочих его слушали и понимали.
Содержание этих проповедей было приблизительно таково:
жизнь рабочих, голодная, беспросветная, в грязи, нищете,
бесправии — это сплошное вековечное страданье. Человек,
истинный храм Божий, превращен в бездушную машину. Безбожные
сытые люди воруют его труд, и затаптывают душу его в грязь,
оскверняется человек, а вместе с тем оскверняется, уродуется
и великий храм Христов. Не за улучшение своего положения,
не за личную счастливую жизнь должны бороться
забастовщики, а во имя Христово, как на святой подвиг, мученически
должны они идти на защиту опозоренного Христа. Своими му-
Христианское братство борьбы и его программа
69
чениями в течение десятков лет они выстрадали себе право
изгонять торгующих из Храма.
Во время таких речей, когда за гулом, доносившимся с
улицы, было плохо слышно, рабочие иногда брали говорившего к
себе на руки, чтобы яснее долетали слова, многие крестились,
а бывало, что и становились на колени...
Опыт этот с наглядностью показал, какая бесконечная
религиозная энергия хранится в простом народе. Братству
представлялось неотложно важным немедленно же направить
проповедников и в другие места. Недостаток людей связывал по
рукам, ибо дальше словесного сочувствия религиозно
настроенные люди не шли, и Братство, в смысле количества активных
деятелей, не увеличивалось. С большим трудом одному из
членов Братства удалось направиться в Курскую губернию, где он
и провел около двух недель, переходя из деревни в деревню.
Речь всюду была одна: народ должен стать свободен от
цепей, — но он должен освобождаться от них во имя свободы
Христовой, и тогда не безумная ненависть, а великая любовь
загорится в сердцах тех, кто борется за свободу; и если теперь
все-таки так много правды несут те, кто борется за
освобождение народа, то какая же великая сила, непреодолимая мощь
была бы в борьбе, когда она совершалась бы во имя свободы
Христовой. Слушатели относились вначале речи недоверчиво,
даже враждебно, но всегда заинтересовывались, дослушивали
до конца, совершенно меняли отношение и говорили:
— Чудной человек, — откуда ты такой взялся, помоги тебе
Бог. — При этом иногда давали деньги: помяни за упокой. На
одной железнодорожной станции, когда путешествие было
почти окончено, член братства был избит ломовым извозчиком.
Это произошло во время разговора с железнодорожными
служащими. Стоящий вблизи извозчик, до которого доносились
только обрывки слов, вдруг бегом подбежал к говорившему и
несколько раз ударил его кулаком в грудь. Это был
единственный случай явной ненависти, и то больше по недоразумению.
О деятельности Братства с осени по многим причинам
покуда говорить не приходится, но уж из того беглого обзора,
который мы дали здесь в общих чертах, намечается характер
деятельности Братства. Эта деятельность, конечно, покудова не
подлежит оценке: перед нами лишь первые робкие шаги. Да и,
признаюсь, я лично слишком сочувствую Братству, чтобы
сохранить беспристрастность в оценке его деятельности.
Несомненно одно: Братство встало на новую, самостоятельную
дорогу — ив этом его неоспоримая заслуга. К нему в нелегальной
70
В. П. СВЕНЦИЦКИИ
литературе пытались применить термин «христианского
социализма» — но самого беглого знакомства с деятельностью и
программой Братства достаточно, чтобы увидать, как не подходит
к нему это определение. В центре всего для братства стоит
Христос. Вселенская Церковь — вот то, к чему стремится оно в
каждом своем политическом действии, таким образом, не во
внешних условиях полагает Братство все значение и силу
прогресса. Идея Богочеловечества, чуждая тому, что привыкли
разуметь под «христианским социализмом», положена в
основу деятельности Братства.
Особенно важно и знаменательно появление такой
организации в наше время еще вот почему. За последнее время среди
духовенства замечается несомненное брожение, пробуждается
долго спавшая религиозная совесть, является потребность
искупить тяжелые, многолетние грехи. Духовенство хочет идти и
ищет дороги. Но в нем слышно много слабости и робости. Его
пугает то, к чему внутренно обязывает совесть. В такой момент
велик соблазн принять «ни холодное ни горячее» христианство
как более «легкое», как ближайший переход от долгого сна.
Умеренное, безжизненное «фельетонное» христианство, без
подлинного религиозного вдохновения, уже начинает душить
своей мертвою рукой начавшееся движение, представители его
уже готовят удобный склеп, где могла бы спокойно уснуть
встрепенувшаяся было христианская совесть. Вот потому так и
важно, что раздался наконец дерзновенный, горячий голос
христиан. От такого голоса все настолько отвыкли, что он
кажется почти безумным. Ведь в чем угодно можно упрекать
Братство но про него никто не скажет, что оно ни холодное ни
горячее.
Может быть, в его взглядах и деятельности есть частные
ошибки и заблуждения, — слишком великая задача встала
перед горстью людей, — но в том огне, который загорелся в этих
людях, несомненный залог великой, подлинной, грядущей
огненной правды.
ПРОЕКТ КРАТКОЙ ПРОГРАММЫ
ХРИСТИАНСКОГО БРАТСТВА БОРЬБЫ
/
Введение
1) В основу всех человеческих отношений должны быть
положены Христова любовь и Христова свобода.
Христианское братство борьбы и его программа
71
2) Идеал полной и всецелой правды людских отношений не
должен полагаться только в будущее, как это делается
рабочими партиями, а осуществляться теперь же, немедленно, всеми
верующими во Христа. Вся правда должна теперь же быть
реализована среди верующих, но верующими будут не все.
3) Христиане совершенно не принимают того
количественного представления о прогрессе, которое господствует в
современном мировоззрении, по которому благополучие и обеспеченность,
являющиеся теперь достоянием некоторых, по достижении
цели станут достоянием всех, и тогда настанет Царство
всеобщего благоденствия.
4) Христиане имеют свое представление о прогрессе,
коренным образом отличающееся от мирского. Этот прогресс —
качественный, идущий вглубь а не вширь. Количественное
развитие его является чем-то производным и обусловливается
развитием качественным.
5) Реализация полной правды в жизни верующих есть
необходимый момент этого христианского прогресса. Она послужит
началом той окончательной дифференциации, той последней и
обязательной борьбы зла с добром, о которой говорится в
Апокалипсисе.
6) Всеобщего благополучия, по глубочайшей вере
христианской, на этой земле никогда не будет. Всеобщего благополучия
никакой социализм дать не может, ибо никакой социализм не
властен над законами природы, из которых наиболее
неустранимый и наиболее беспощадный — закон смерти.
7) Христианство идет по пути преображения слепых и
мертвых законов природы в благодатный строй Царствия Божия и
по вере христианской «Последний же враг истребится, —
смерть» (1 Кор. XV, 26). В пределах истории последняя цель
христиан — это явление «жены, облеченной в солнце» (Апок.
XII, 1). Церковь откроется верующим как Невеста Христова,
готовящаяся к браку Господином своим.
8) После этого — начало уже вечного царствования
Христова на новой земле и под новыми небесами. (2 Петр. III, 13). Это
и есть окончательная, за пределы истории выходящая цель
христианского прогресса.
9) Христианский прогресс есть процесс богочеловеческий.
Действует и Бог, и человек. Человек свободно совершает
работу Господню, а Господь подает ему нужную силу и указывает,
что нужно делать и как. Поэтому христианский прогресс есть
дело и человека. Его усилиями, его свободной сыновней
работой человечество приближается к своей запредельной цели.
72
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
10) Пришло время сознательно послужить этому
приближению. Ибо «время близко» — мы вступаем в окончательный,
апокалиптический период всемирной истории. Это говорил
уже Достоевский. Об этом недавно во всеуслышание сказал
Вл. Соловьев, неясным предчувствием и тревогой об этом
полны все движения нашего времени и вся современная
литература, отражавшая их.
11) На теперешнем поколении лежит колоссальная задача
найти конкретные пути осуществления полной правды в
жизни верующих и тем при содействии Духа Святого положить
начало концу — концу господства зла и смерти.
12) Одним из безусловно необходимых путей к этому
является создание христианской общественности, выработка и
нахождение форм христианского общественного служения.
Последнее предполагает наличность определенной и конкретной
практической программы. Дальше сказано, как рисуется эта
программа Христианскому братству борьбы.
ПРОГРАММА
/
Часть общая
1) У всякой практической программы должен быть
непременно конечный и окончательный идеал. Только он может дать
цельность, последовательность и единство разнородной в своих
частях программе, и только он может объединить различный
действия различных лиц, ставя и указывая им единую цель.
2) Для Братства таким идеалом всех человеческих
отношений (в частности, политических, общественных и
экономических) является Церковь. В ней одной возможно полная
реализация свободы Христовой, т. е. свободы от всего внешнего и
реализация полной Христовой любви. А действительное
осуществление свободы любви есть полная правда человеческой жизни.
3) В Церкви Христовой должна быть воплощена вся
полнота истины. Поэтому всякое человеческое учение, всякое
человеческое действие или переживание, в котором содержится
хотя крупица истины, в Церкви должны быть превзойдены.
В осуществленном виде, в живой наличной деятельности в
Церкви всегда должно быть больше, чем даже то, что справедливо
намечается в самых крайних запросах и требованиях (а не в
осуществленном виде) у различных направлений, партий и
отдельных людей.
Христианское братство борьбы и его программа
73
4) Поэтому, в частности, вся та правда, которая находится в
представлении анархистов о государственном строе или в
представлении социалистов об экономическом, должна быть
реализована в Церкви.
5) Всякая власть одного человека над другим, покоящаяся
на чем-либо внешнем (на богатстве, происхождении, традиции,
внешнем авторитете и т. д.), с христианской точки зрения
является безусловно недолжной и недопустимой и потому в
церковной жизни подлежит полному упразднению. В христианских
общинах должен быть осуществлен полный идеал безвластия.
Отношения между членами общин должны определяться
исключительно внутренними, глубочайшими, Богом
заложенными, индивидуальными свойствами и теми дарами Духа
Святого, который будет излит от Бога на верующих.
а) Этим самым внутри общин должны уничтожаться и все
темные следствия государственной жизни. Должны
уничтожиться суды и тюрьмы и какое-нибудь участие в войне.
Продолжая жить в государстве, верующие будут исполнять лишь
те требования, который не противоречат их вере, и потому они
должны навсегда и безусловно отказываться от несения
воинской повинности.
6) Управление всеми делами общины должно основываться
на принципе выборности. В выборах реализуется основная черта
общинной жизни — общение. Священнослужители всех
степеней — через выборы в свободном согласии всех членов общин —
будут находить необходимую основу для своего пастырского
служения.
б) Богослужение в христианских общинах должно
определяться непосредственным вдохновением и свободным
религиозным творчеством.
а) Оно должно приблизиться к жизни, так чтобы жизнь
верующих со всеми запросами, со всеми глубочайшими и
задушевными стремлениями литургически в нем отражалась,
находила бы в нем высшее освящение и оправдание. Богослужение
должно проникнуться жизнью для того, чтобы вся жизнь стала
молитвою.
б) Подлинное общение в молитвах должно повести к тому,
что в церковных общинах должны ощутительно проявиться
дары Духа Святого, дар чудес, дар пророчеств и живые новые
откровения.
в) В этой атмосфере художественные силы верующих
развернутся на полной свободе во всю свою ширь и жизнь
верующих облечется в новую, еще не виданную миром красоту.
74
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
7) Находя свое высшее выражение в общении молитв,
единство и единение верующих должно осуществляться и в полном
общении имуществ. Всякая частная собственность у верующих
должна быть превзойдена. Внутренно от нее освободившись,
верующие должны жить в полном общении, владея всем
сообща.
Для полного общения необходимо:
а) Чтобы земля, переставши быть чьей-нибудь, стала
Господней и по возможности пользование ею было предоставлено
всякому, кто пожелает вложить в нее личный труд или
поработать на ней совместно с семьей или со своими товарищами.
б) Чтобы все прочие орудия производства в виде фабрик и
различных промышленных, ремесленных и торговых
заведений находились в распоряжении всей общины.
в) Чтобы уничтожена была в среде верующих навсегда и
совсем эксплуатация одними труда и рабочей силы других.
Должно быть общение и в труде, труд — стать общим во
исполнение слов апостола: «не трудящийся, да не есть»,
справедливым, т. е. сообразоваться с природными задатками и
наличными силами всех, на кого он будет возлагаться, и религиозным,
т. е. для верующих труд должен быть не эмпирическим
общественным занятием, а работой Господней, производимой с
молитвой и религиозным одушевлением.
г) Чтобы все результаты совместного и общего труда — все
продукты производства стали общими, т. е. распределялись
любовно и справедливо «смотря по нужде каждого» (Деян. 11.
45). «Чтобы была равномерность» (2 Кор. VIII, 13—14).
II
Часть специальная
А. ПРОГРАММА ЦЕРКОВНАЯ
1) Установление выборного начала при замещении всех
должностных лиц в Церкви. Выборными должны быть:
епископы, священники, диаконы и весь причт.
2) Выборы должны производиться всеми верующими.
Всеобщность выборов требуется а) во-первых, свободой, ибо только
при всеобщности выборов будут устранены все внешние
влияния, при посредстве которых ответственные должности
руководителей в Церкви занимаются совершенно неподходящими
людьми, б) и во-вторых, любовью, которая открывает, что
самый последний прихожанин такой же член церкви и такой же
сын Божий, как и все остальные.
Христианское братство борьбы и его программа
75
3) Епископы могут избираться только из священников.
Священники же, диаконы и другие лица причта выбираются из
всех верующих. Причем монахи всех степеней не имеют
никаких преимуществ пред другими верующими. Они избираются
на совершенно равных правах со всеми мирянами.
4) Относительно священников и диаконов выборное начало
должно вступать в действие постепенно, за смертью или по
другим причинам замещается уже не назначением, а
выборами. Что же касается епископов, то все они теперь же должны
быть удалены со своих мест на покой, во исполнение точных
слов предписания апостольского: «Аще который епископ,
мирских начальников употребив, чрез них получает епископскую
в Церкви власть, да будет извержен и отлучен и все
сообщающиеся с ним» (Прав. 30).
На освободившиеся кафедры епископов должны быть
произведены соединенными усилиями всего духовенства и всех
верующих епархии — новый епископ из священников или монахов,
заявивших себя истинными служителями Христовыми, или
даже прежний епископ, если он занимал должность с честью,
может быть переизбран.
5) В соответствии с введением выборного начала должно
быть совершенно реформировано дело духовного образования.
Все существующие школы, от высших до низших, должны
быть уничтожены или же превращены в светские — никакого
специального отношения к подготовке пастырей не имеющие.
Для избранных же священников и диаконов должны быть
открыты годичные курсы, приноровленные к специальной
подготовке для пастырского служения.
6) Необходимо немедленное уничтожение духовной цензуры
и предоставление полной свободы всякому желающему устно и
письменно проповедывать и распространять свои религиозные
взгляды.
7) Материальная сторона обеспечения духовенства переходит
всецело в руки прихода. С государством должны быть порваны
все связи, которые налагают какие-нибудь внешние
обязательства и мешают внутренней свободе действия и, таким образом,
проведено полное отделение Церкви от государства. Это
отделение выражается:
а) В отказе от какого бы то ни было покровительства
государственной власти. Церковь должна потребовать, чтобы
отменены были все карательные законы за так называемые
религиозные преступления.
б) В отказе от принятия Церковью присяги у отбывающих
воинскую повинность, поступающих на высшую и государ-
76
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
ственную службу, а также отказ от принятия присяги в суде.
Для верующих присяга излишня, ибо они и без того лгать не
могут, а для неверующих она — кощунство.
в) В отделении Церкви от школы. Свое религиозное
воспитание подрастающие поколения должны получать в храме, и
воспитание это должно быть свободным, не связанным ни с
каким принуждением.
8) Все монастырские имущества должны перейти в руки
всей Церкви. При монастырях должно быть оставлено самое
необходимое Содержаться все монахи должны своим личным
трудом. Эти имущества идут: а) на построение новых храмов во
всех местах России, где это необходимо; б) на обеспечение
приходской общинной жизни; в) оставшийся излишек — на
народное образование и на дела общественной благотворительности.
Кроме того, все дальнейшие пожертвования в монастыри
должны отдаваться всей Церкви.
9) Для произведения всего этого в жизнь должен быть
созван всероссийский Церковный собор как из представителей
духовенства, так и из представителей мирян (с правом
решающего голоса): а) все заседания собора должны быть открытыми
для всех желающих; б) подробный отчет каждого заседания
должен печататься в специальных, бесплатных изданиях,
которые могут получаться каждым желающим на месте (т. е. в
том городе, где собор будет происходить) и во всех городах и
деревнях России; в) серия заседаний по одному вопросу должна
быть отделена от другой серии по другому вопросу некоторым
промежутком времени, для того чтобы поднятые в прошлом
заседании вопросы и постановления по ним могли быть
обсуждены печатью; г) во все продолжение совещаний каждым
желающим может быть подано заявление или свое мнение по поводу
обсуждаемых вопросов, для чего избираются из состава
присутствующих на соборе особые комиссии.
10) Созванию собора должны предшествовать
разнообразные подготовительные работы: а) организация на местах
епархиальных съездов, при участии мирян, с правом решающего
голоса; б) Обсуждение всех вопросов, подлежащих
рассмотрению собора в печати и т. д.
Б. ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКАЯ
1) Стоя по отношению к верующим на точке безусловного
идеала, долженствующего быть воплощенным теперь же
немедленно, Братство по отношению к неверующим или иначе
Христианское братство борьбы и его программа
77
верующим будет предъявлять требования в виде программы-
минимума.
2) Эта программа в узком смысле практическая,
определяется взаимоотношением безусловных христианских норм, с
изменчивыми условиями данного момента и данного места, а
потому и программа будет подвижной и будет принимать новые
формы в зависимости от достигнутых результатов.
3) Ее содержание будет определяться реальными нуждами и
потребностями живущего теперь поколения и потому Братство
по отношению к находящимся вне Церкви будет всегда стоять
на почве так называемой реальной политики. В данной момент
эта программа такова:
4) Ввиду отсутствия в настоящее время правительства,
сколько-нибудь гарантирующего выполнение назревших и
неотложных нужд всей страны, Братство считает необходимым
немедленный созыв Учредительного собрания, обладающего
полнотой суверенной власти.
5) Выборы в Учредительное собрание должны производиться
на основах всеобщего (без различия вероисповедания,
национальности и пола) и равного избирательного права с прямой и
закрытой подачей голосов. Пропорциональное
представительство, для обеспечения прав меньшинства.
6) В Учредительном собрании Братство считает нужным
отстаивать демократическую республику. Со своей точки зрения
Братство мотивирует это религиозной необходимостью в корне
уничтожить в народе языческое отношение к власти, к царю
как помазаннику Божию. Такое отношение Братство считает
одним из основных грехов русского народа и одной из главных
причин паралича Церкви.
7) В соответствии с основной реформой государственного
строя необходимы:
а) амнистия всех без исключения пострадавших за
политические и религиозные убеждения (аграрные волнения,
беспорядки в войсках и т. д.);
б) немедленная отмена всех ограничительных узаконений и
снятие военного положения со всех мест, где оно еще
сохранилось;
в) учреждение независимого гласного суда, равного для
всех, с несменяемыми судьями, немедленная отмена смертной
казни;
г) неприкосновенность личности, жилищ, почтовой
корреспонденции, свобода совести, слова, печати, собраний, союзов,
стачек, право петиции;
78
В. П. СВЕНЦИЦКИЙ
д) реформы местного и городского самоуправления на
основах всеобщего избирательного права;
е) признание за отдельными нациями права на
самоопределение;
ж) введение всеобщего бесплатного и обязательного
народного образования.
В. ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
1) Проповедуя и осуществляя среди верующих полное
уничтожение частной собственности и переход к общему и
любовному владению землей и орудиями и продуктами производства,
Братство, как и в области политической, по отношению к
неверующим предъявляет экономическую программу-минимум,
составленную по тем же соображениям.
Эта программа такова:
а) реформа всей налоговой системы, в смысле развития
прямых налогов насчет косвенных и установление прогрессивного
подоходного и поимущественного обложения;
б) переход всех земель государственных, удельных,
кабинетских, монастырских, церковных и частновладельческих в
собственность всего народа и в распоряжение демократически
организованных сельских общин, территориальных союзов
общин, на началах уравнительного пользования;
в) введение восьмичасового рабочего дня и широкое
развитие фабричного законодательства; установление минимума
заработной платы, государственное страхование — на началах
самоуправления страхуемых. Законодательная охрана труда во
всех отраслях производства. Гигиеническая обстановка труда.
Выборность фабричных инспекторов. Профессиональная
организация рабочих и участие профессиональных союзов в
установлении внутреннего распорядка фабрик.
<S=^s^
€^
Β. Φ. ЭРН
Семь свобод
ι
Семь свобод — что это такое?
В тех странах, где правительство существует не для того,
чтобы держать народ в темноте и порабощении, а также не для
того, чтобы помогать богатым и сильным угнетать слабых и
бедных — за каждым из подданных, безразлично, какой он
веры, какой национальности и какого имущественного
положения, — признаются некоторые неотъемлемые права.
Свободное пользование этими правами и называется
гражданскими свободами.
Таких неотъемлемых, основных прав семь. Я буду
перечислять и объяснять, — это:
1) Во-первых, — неприкосновенность личности, которая
означает, что никто, никакое начальство не смеет понапрасну
оскорблять ни одного из граждан, не смеет никого подвергать аресту
без суда. При этом суд должен являться выборным и
совершенно независимым от начальства.
2) Во-вторых, — свобода совести, которая означает, что
всякий волен думать и верить так, как указывает ему его совесть,
а вовсе не так, как хочется тем или другим лицам,
почитающим, что они знают всю истину. Бога нужно чтить сердцем,
т. е. свободно, ибо «где дух Господень, там и свобода» — сказал
апостол, и можно ли в дела веры вносить принуждение?
Пусть каждый чтит Бога по-своему, пусть каждый верит по
своему разумению. И пусть те, кому много дано, кого Господь
вразумил больше, поучают других, делятся с ними своими
познаниями — но, поучая и просвещая, пусть действуют
убеждением, а не принуждением.
3) В-третьих и в-четвертых, — свобода слова и печати,
которые означают, что каждый волен говорить, писать и печатать
80
Β. Φ. ЭРН
все, что думает, и все, во что верует. Без этих свобод не может
быть и свободы совести, ибо могу ли я свободно искать Бога,
если тем людям, которые больше меня знают о Боге и правде,
станут зажимать рот и не позволять говорить ничего вслух?
Конечно нет. У кого мне тогда узнать правду? Поневоле
придется слушать тех, кто любит неправду больше, чем правду.
Поэтому свобода слова нужна для того, чтобы была свобода
совести, а свобода совести необходима, чтобы было свободное
служение Богу. Значит, свободное служение Богу необходимо
требует того, чтобы была полная свобода слова.
И нечего бояться, что этой свободой воспользуются люди
недобрые и станут распространять заведомую ложь.
Напрасный страх! Всегда найдется достаточно умных и добросовестных
людей, которые при помощи этой же самой свободы слова
разоблачат ложь и восстановят во всей силе правду. И тогда
правду будет знать уже не один человек, а целое множество — все,
кто по неведению увлекся на короткое время ложью. Истина
не боится очной ставки с ложью и для того, чтобы всегда
торжествовать, вовсе не нуждается в помощи городовых,
жандармов и всяких начальств. Истина сама в себе носит силу, она
сильнее всякой лжи уже потому, что она истина. В слове Бо-
жием так и сказано: «велика истина и все одолевает».
Кроме того, свобода слова необходима и для того, чтобы
поменьше было в стране беззакония и произвола, чтобы
начальники не могли творить своих насилий и обманов в тишине и
без огласки. Осудит судья невиноватого, превысит
какой-нибудь начальник свою власть, совершив беззаконие, — кто
заступится за пострадавших? Кто раскроет неправду и расскажет
всем, как было дело? — только печать, только свободное слово.
А узнавши про беззаконие чрез свободное слово, все честные
люди и постараются сделать так, чтобы такие судьи и
начальники были отставлены от своих должностей. Таким образом,
свободное слово может много пользы принести для
истребления лжи и для водворения на земле Божьей правды.
5) В-пятых, — свобода собраний, которая обозначает, что все
люди имеют право собираться во всех местах и в каком угодно
количестве для совместного обсуждения разных вопросов и
всех своих дел. Без свободы собраний не может быть
настоящей свободы слова, а значит, и всего того, что с нею связано.
Положим, вышел из деревни или из города человек в
поиски за правдой и стал странствовать по белу свету, смотреть,
как люди живут и чем люди живут. Вот, много повидавши и о
многом почитавши, возвращается он на родину, и если он из
деревни, станет рассказывать мужикам все, о чем слышал, что
Семь свобод
81
видел. Бывалого человека, да еще искавшего правду,
интересно и нужно послушать, и конечно, слушать его соберутся не
один человек, а целая кучка.
Вот уже и собрание!
А если он из города, так в городе его соберется слушать не
кучка, а целое множество, потому что людей в городе много.
Значит, получится собрание многолюдное. Ну а что, если
свободы собраний не будет, если собираться вместе законом не
будет разрешено — у кого же тогда узнавать правду? У кого и
каким путем узнавать, как люди живут, где вера какая — где
лучше всего умеют чтить Бога? Значит, опять-таки без свободы
собраний не может быть свободы совести, без которой не может
быть и свободного, нелицемерного служения Богу.
Кроме того, если не будет свободы собраний — так что ж
могут сделать честные люди, когда узнают про судью или про
начальника какого-нибудь, что они совершили беззаконие? Раз
они не могут собраться — так они не могут выяснить дела, не
могут и предпринять что-нибудь сообща. А без этого тот судья
и начальник будут по-прежнему сидеть на местах и творить
беззакония. Так что свобода собраний нужна и для того, чтобы
люди честные и правдивые получили силу над людьми
недобрыми, которые свои темные дела творят с большим удобством,
когда нет огласки и когда их никто не может уличить,
обличить и потребовать к ответу.
6) В-шестых, — свобода союзов, которая означает, что если
для какой-нибудь цели — религиозной, образовательной или
промышленной, некоторым людям, все равно многим или
немногим, нужно соединиться вместе на долгое время, т. е.
образовать союз, товарищество или братство, — то препятствовать
этому государственные власти никак не должны.
Соединяться в союзы особенно важно рабочим и вообще всем
тем, кто находится в принижении, в нужде и в зависимости от
всяких хозяев. Хозяева всегда норовят выжать последние
соки. Хозяевам всегда все равно, есть ли какая-нибудь радость
в жизни у тех, кто на них работает, грамотны ли они, сыты ли
их дети, имеют ли они возможность хоть немного подумать о
пище духовной, поискать самостоятельно правды Божией, —
хозяевам это все совершенно безразлично. Им нужны лишь
рабочие руки, приносящие им громадные доходы, а до всего
остального им нет никакого дела. Рабочие могут быть в грязи,
в нищете, в полном невежестве, могут умирать, наконец, от
болезней, от нездорового и чрезмерного труда, который их старит
и губит преждевременно, — хозяин для них ничего не
предпринимает и ничего не сделает.
82
Б. Φ. ЭРН
Бедным людям приходится самим о себе думать и своими
собственными силами добиваться мало-мальски сносного
существования, и вот для этого им прежде всего нужно действовать
сообща, объединяться в союзы. Каждый бедняк в отдельности
против хозяина бессилен: он ничего не может сделать, потому
что хозяин всегда может рассчитать и прогнать его, и
жаловаться на хозяина будет некому. Но если рабочие или вообще
зависимые люди образуют союз да устроят между собой
круговую поруку, так чтоб стеною стоять друг за друга, — то вот они
уже и сила. Сила такая, что хозяину непременно придется с
ней считаться не так бесцеремонно, как с каждым в
отдельности. Ему поневоле придется уступать то в том, то в другом, и
таким путем люди зависимые и трудящиеся могут добиться
очень многого, завоевать себе право на достойное
существование и освободиться наконец от необходимости думать лишь о
хлебе насущном.
7) В-седьмых, — свобода стачек, которая означает, что
рабочие на фабриках, все служащие в торговых, городских и
общественных заведениях и вообще все подневольные люди, — в тех
случаях, когда условия их труда становятся чрезмерно
тяжелыми, — имеют право объявить забастовку, не неся за это
никакой ответственности перед государственной властью.
Свобода стачек совершенно необходима всему трудящемуся
люду, ибо без нее и свобода союзов не принесет ему той пользы,
которую она может и которую должна принести.
Стачка есть самое сильное и действенное средство в борьбе
свободных союзов трудящихся и рабочих за человеческие
права. Хозяин не зависит от одного рабочего, взятого в
отдельности. Откажется такой один рабочий — ну и пускай! Хозяину
ничего. Но если откажутся работать все вместе как один
человек — то вот уж хозяину и совсем не ничего. Ему очень даже
это чувствительно, потому что каждый день забастовки
приносит ему громадные убытки. Прогнать всех он не может, — это
значило бы остановить работу слишком надолго, что уж совсем
не выгодно; вот и придется ему с союзом, объявившим стачку,
вступать в переговоры, разговаривать, как человек с человеком
и, конечно, выполнить их требования, которые союз к нему
предъявит. Таким образом,, для того, чтобы деятельность
союзов могла быть успешной и плодотворной, необходимо, чтобы
наряду с свободой союзов была признана законом и свобода
стачек. Ведь если эта свобода не будет признана по закону, тогда
в каждую стачку будет вмешиваться государственная власть, —
полиция и администрация будут своею силою подавлять стач-
Семь свобод
83
ку, а ведь в союзе с полицией и казаками хозяевам и
фабрикантам не трудно будет одержать верх над забастовщиками,
как бы единодушны ни были эти забастовавшие!
Так что свобода стачек нужна для всех трудящихся людей
так же, как и все остальные «свободы».
Итак, неприкосновенность личности, свобода совести,
свобода слова, печати, собраний, союзов, стачек — вот те семь
основных и неотъемлемых прав, те «семь свобод», которые должны
быть признаны за всеми подданными государства без всякого
исключения.
II
Казалось бы, что может быть яснее того, что все эти семь
свобод настоятельно нужны людям? Как рыбе вода, человеку
нужна свобода. Чем больше свободы — тем больше человек
может развернуть в себе те силы, которые даровал ему Бог. А без
свободы человек чахнет и может лишь прозябать, может лишь
желать и жаждать жизни, а вовсе не жить. Правду искать
можно только в свободе. Правдою жить и Богу служить можно
только в свободе — ну разве не ясно, что без свободы быть
человеку нельзя?
И вот, однако, находится много людей, которые на свободу
клевещут, которые говорят, что добиваться свободы не нужно
и что те люди, которые ее добиваются, — «крамольники» и
«мятежники».
Хуже всего то, что, клевеща на свободу, такие люди хотят
оправдать свою клевету ссылками на Слово Божие, хотят
показать, что за них стоит Евангелие, Сам Христос.
Тяжело бывает смотреть и слушать, когда люди стараются
искажать правду, но если они при этом прикрываются
авторитетом Евангелия — то это становится совсем невыносимым.
Нужно громко сказать, что они кощунствуют, что они лгут и в
Евангелии для себя могут найти лишь осуждение. Евангелие
освящает свободу. Евангелие настойчиво требует, чтоб люди
жили в свободе. Устами своих апостолов оно заповедует всем
христианам: «Не делайтесь рабами человеков. Стойте в
свободе, которую даровал вам Христос...»
Это значит, нужно быть свободным во всем, в каждом
движении своем в мысли, в слове, в действии. У христианина ни
одного поступка не должно быть такого, который не выливался
бы свободно из сердца. Он не должен сносить ничего, что так
или иначе порабощает его волю и заставляет делать не то, что
84
Β. Φ. ЭРН
зовет его делать его христианская совесть. Эта внутренняя
свобода христианина должна относиться ко всем случаям его
жизни и выражается, между прочим, в «гражданских» свободах.
Христова свобода бесконечно больше всяких гражданских
свобод; но, включая в себя гражданские свободы, как свою
маленькую частичку, она требует того, чтоб были у христиан и
гражданские свободы, чтоб христиане имели всегда при себе и
«семь свобод». И если христианам заповедуется большая
свобода, то точно так же заповедуются и эти маленькие — потому
что из большой Христовой свободы оне вытекают сами собой.
И Сам Христос своим примером освятил и эти маленькие
свободы и показал, что посягать на них — преступно и
противно Его заветам.
Один священник очень хорошо это разъяснил.
Когда пришел манифест 17-го Октября, которым
признаются за всем населением России (пока только) пять свобод —
неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний
и союзов, — некоторые стали спрашивать его, не противоречат
ли эти свободы вере. Тогда священник сказал (я передам
только смысл его слов):
«Эти свободы не только не противоречат вере — а требуются
и устанавливаются Самим Христом. Вот рассудите сами.
Первой свободой считается неприкосновенность личности. Но
разве Христос не объявил громко на весь мир и навсегда этой
самой "неприкосновенности" на суде у первосвященника? Когда
услужливый раб ударил Христа по щеке за то, что Христос
ответил первосвященнику неугодное — что сделал Христос?
Христос сказал ему: "Если я сказал худо, покажи, что худо, а если
хорошо — что ты бьешь Меня" (Ин. XVII, 23), т.е., другими
словами, люди не имеют права налагать руки на тех, кто не
провинился против правды. Нужно показать и доказать сначала,
что человек провинился, и только потом можно его
подвергнуть наказанию.
Личность же человека, который не делает ничего худого, —
неприкосновенна. И значит, те люди и те государственные
власти, которые не признают этой Христом завещанной
неприкосновенности личности, — действуют самовластно и идут против
ясно выраженной воли Христовой.
Вторая свобода, о которой говорится в манифесте, — это
свобода совести. Но разве не ясно, что эта свобода сквозит через
каждое слово Евангелия? Христос никому не навязывал своего
учения силой. Он говорил; люди свободно приходили и
слушали Его — и одни принимали учение Его, а другие отходили
Семь свобод
85
прочь. И Христос никогда не делал ни одного движения, чтоб
этих отходящих удержать при себе насильно. Он даже не хотел
творить иногда чудес для того, чтоб ими не насиловать волю
тех, кто внутреннего влечения к Его учению не имел. Он не
хотел, чтоб Его слушали потому, что "ели хлеб и насытились"
(Ин. VI, 26). Он хотел, чтоб и к Нему приходили свободно, и
значит, все власть имущие люди, которые думают
поддерживать веру гонениями, всякими стеснениями и
принуждением, — все обольщаются и, думая служить Христу, нарушают
Его заветы.
Нужно ли говорить, что и свобода слова Евангелием
освящается? Все учение Свое, из которого вышло спасение миру,
Христос проповедывал, т. е. излагал устно перед собиравшимися
слушать Его людьми. Христос Сам воспользовался полной
свободой слова для утверждения Своего учения — и разве не
значит это, что всем христианам Он заповедует любить и почитать
эту свободу, потому что невозможно даже представить, как без
этой свободы могло бы услышать человечество благую
Евангельскую весть. И апостолы, когда старейшины и начальники
вздумали запретить им "проповедывать об Иисусе" прямо
сказали им, что они не будут повиноваться, т. е., другими
словами, что они не признают никаких внешних стеснений свободы
слова.
Четвертая свобода, объявленная в манифесте, — это свобода
собраний. Пусть представят себе только, чем были все
проповеди Иисуса Христа? Он удалялся в пустыню, и к Нему
собирался народ, чтобы послушать его, — ну разве же это были не
собрания? Он останавливался на улице города или в селении, и
опять-таки со всех сторон подходил народ, жаждущий слушать
его, разве и это были не собрания? Значит, свобода собраний
была необходима для того, чтобы люди глубже и шире могли
воспринять то, чему пришел научить на землю Христос. И
апостолы так поступали. Они сейчас же после Вознесения
произносят проповеди при тысячном стечении народа, и
распространение христианства по всему миру, вся проповедь о приближении
Царствия Божия состоит в том, что апостолы и проповедники
приходят в языческий город, собирают вокруг себя народ и
начинают учить и говорить о Христе. Вот как, значит, свобода
собраний с самого начала глубоко срослась с христианством.
Первые христиане всегда считали, что они имеют право
собираться свободно, и если языческая государственная власть
запрещала им это — они собирались тайно, но все же собирались.
Настолько право собраний им было необходимо!
86
Β. Φ. ЭРЫ
Свобода союзов тоже признается Евангелием. Ведь Христос
с самого начала из всех, кто внимал Ему, выделил 12
апостолов и с ними жил в особенной близости. Они составили нечто
вроде общины — начало будущей Вселенской Апостольской
Церкви. Но ведь это и был своеобразный союз. Они
соединились все для одной божественной цели — жить в истине и для
истины, и потом с течением времени к ним присоединялись все
новые и новые члены.
Вот и выходит, что всем пяти свободам — о которых
говорится в манифесте 17-го Октября — находится основание в
Евангелии, и одному нужно удивляться — как это мы,
христиане, столько веков живем, а до сих пор не узнали, что значат
эти свободы, и не осуществили их в жизни...»
Так ответил священник на обращенный к нему вопрос.
Нужно прибавить только, что он ничего не сказал о стачках.
Это действительно не всем сразу ясно, могут ли христиане
принимать участие в забастовках и должны ли они вместе с
другими свободами добиваться и свободы стачек? Мы говорим, что да,
христиане могут принимать участие в стачках, и они должны
добиваться свободы стачек, но разъяснять этого мы здесь не
будем, — потому что этому вопросу мы посвятим отдельную
книжку, которая будет называться «Забастовки и забастовщики».
То, что сказано священником, очень ясно показывает, как
лживы и близоруки те, кто желает именем Евангелия
отнимать у миллионов людей необходимые им «свободы» и громит
всех стремящихся к этим свободам, называя их хульными
именами. Евангелием освящаются эти свободы; Евангелием
освящаются самоотверженный труд и заботы лучших русских людей,
которые вот уж столько лет не щадя своей жизни работают над
тем, чтобы и Россия стала страной свободной, чтоб и в России
можно было верить, искать Бога и правду — на полной свободе
жизнь свою устраивать так, как требует одна лишь чистая
совесть. Усилия этих лучших людей уже стали давать плоды.
В России начинается новая жизнь. Манифестом 17-го Октября
признаны уже 5 свобод из тех семи, о которых сказано выше, и
теперь забота всех русских людей должна состоять в том,
чтобы добиться признания и остальных двух свобод. Нужно, чтоб
у каждого русского человека были все семь свобод, ибо только
тогда может проснуться весь русский народ и начать строить
по-новому, по Божьему, всю свою жизнь.
^^
Вал. СВЕНЦИЦКИЙ и В. ЭРН
Церковная реформа
Гласное обращение к членам Комиссии
по вопросу о церковном Соборе
Подготовительные работы по созыву в России церковного
Собора поручены Вам, г. г. члены комиссии1.
Зная, что в числе вас находятся люди, к которым мы
привыкли относиться с доверием и уважением, и потому полагая,
что вам будут нужны всякие указания, могущие сделать вашу
деятельность действительно плодотворной и нужной, мы
позволили себе сказать ясно и определенно, что ждет от вас
русское общество и русский народ, что вы можете и что Вы пред
Богом должны немедленно сделать.
Церковный Собор, сделавшийся в наши дни религиозно-
нравственной необходимостью, конечно, не может быть долгом
какой-нибудь частной группы церковного общества; будучи
церковным — он должен быть делом всей Церкви. Каждый
сознательный и живой член Церкви должен внести сюда долю
своего призвания и своих дарований. Запросы и большие
[пропуск в тексте. Вероятно — и малые. —А.Е.] как они
понимаются самою Церковью, т. е. всеми верующими, взятыми в
совокупности, должны быть представлены на Соборе в чистом и
неискаженном виде.
Для этого необходимо, чтобы еще до начала Собора эти
вопросы — эти большие [пропуск в тексте. Вероятно —
вопросы.— А. Е.] оформились; чтобы потребность в Соборе была
осознана всей массой верующих и чтобы Собор был лишь
голосом — лишь выражением чего-то гораздо большего —
пробуждающейся и пробудившейся церковной жизни.
Скажем прямо и откровенно, Вы, г. г. члены комиссии, не
имеете никакого права вершить судьбами будущего церковного
Собора. Не церковная власть вас призвала, не церковным наро-
88
Вал. СВЕНЦИЦКИИ и В. ЭРН
дом облечены вы полномочиями, не Святой Дух вдохновляет
вас каждого лично на это дело. Одна лишь случайность,
личные связи и сила неразумной традиции поставили вас во главе
дела, на которое вы имеете право не больше, чем всякий из
верующих. Остерегайтесь поэтому воспользоваться случайностью
вашего положения, не вздумайте, что вы в самом деле имеете
власть что-нибудь связать или что-нибудь разрешить. Знайте,
что в таком случае вы заранее осудите себя на религиозное
бесплодие и свою работу лишите какого бы то ни было церковного
минима.
У вас есть только один путь, и если вы христиане, если вы
считаете действительно братьями всех живущих верою во
Христа, вами могут быть сделаны только один шаг и только одно
действие, которые, однако, могут иметь колоссальное
последствие. Вы можете и Вы должны потребовать у тех, кто вас
призвал, немедленного уничтожения какой бы то ни было
духовной цензуры. Вы должны требозать и настаивать, чтобы за
каждым из верующих было признано право без всяких
стеснений печатно обсуждать все вопросы, касающиеся церковного
Собора, чтобы без всяких препятствий могли
организовываться на местах кружки, устраиваться собрания, чтения,
публичное обсуждение, съезды по районам и съезды всероссийские —
все для той же единой цели — для пробуждения церковной
мысли, церковного сознания, церковной жизни —
пробуждения безусловно необходимого для того, чтобы стал возможным
самый Собор.
Вы должны потребовать, чтобы выяснять все преграды и все
препятствия, и если вас слушать не станут, если вам скажут:
это не ваше дело, если реакционная вакханалия захочет надеть
намордник и на вас, то вы немедленно же должны выйти из
состава комиссии, заявив, что для пробуждения церковных сил
нужна прежде всего свобода.
Вспомните, что вы стоите у дела, которого ждали с
напряжением целые поколения подвижников веры, которого смутно
жаждут все лучшие элементы русского народа, и найдите в
себе силы и мужество сделать то, чего требует от вас ваша
христианская совесть:
Требуйте свободы для церкви или уйдите, чтобы не быть
сообщниками гасителей Духа\
^^
^^
Β. Φ. ЭРН
Таинства и возрождение Церкви
Вопрос о таинствах — один из самых важных вопросов
христианского сознания. А между тем его всегда предпочитают
обходить каким-то загадочным молчанием. Точно боятся, что из
неизвестности, его окружающей, могут подняться такие
призраки, которые страшны нашему слишком дневному сознанию,
или же встанут такие трудности, разрешить которые нам не
под силу.
Я ничего не могу сказать о таинствах по существу. Ясные по
чувству, с которым я их принимаю, они не ясны мне слишком
во многом со стороны их догматического содержания и
философского значения. Моя общая вера в таинство не сознана
мною самим. Но есть один пункт в этой вере, который
подчеркну лея в моем сознании, может быть, с полной и окончательной
ясностью. И об этом-то несомненном для меня пункте мне
хочется сказать несколько слов для того, чтобы, если возможно,
вызвать обмен мнений и сделать его уже достоянием общим.
За последние годы у нас появилась немногочисленная, но
значительная по своим литературным силам группа людей,
которые утверждают, что роль «исторической» Церкви, «Церкви
Петровой» — уже сыграна и должна появиться новая
Церковь, — «Церковь Иоаннова», которая будет не преемственным
продолжением «Церкви Петровой» а творением новым,
свободным созданием Духа Святого1. В связи с этим основным
верованием, насколько я мог уловить его по литературным
обмолвкам и в частных разговорах, о таинствах утверждается, что в
этой грядущей Церкви и таинства будут новые.
Недавно в одном небольшом собрании лицо, близкое к этой
группе, сделало о таинствах несколько утверждений именно в
этом духе. Это меня заволновало. И в ответ на утверждения эти
90
Β. Φ. ЭРН
у меня в душе поднялось очень много и обозначилось то, во что
я верую с полным сознанием и несомненностью.
Таинства — это та единственная абсолютная точка в нашей
наличной церковной жизни, от которой идет прямая и
непрерывная (т. е. непрерывающаяся в нашей земной конкретной
действительности) нить к самым источникам христианства; в
них светится подлинный свет святой, Соборной и Апостольской
Церкви, которая была в силе и правде на земле в апостольский
век. История христианства — это постепенное и все большее
отпадение от Христа, угашение духа христовой свободы и
умирание правды Христовой жизни. При апостолах вся жизнь
освящалась Церковью и была проникнута духом Христа. Уже
в I веке началось двоение. Жизнь христиан расщепилась на две
части, на ту, которая была в Церкви, и другую, которая
оставалась вне Церкви и строилась уже не по христианским
принципам, а по принципам языческим. В первый век первая часть
была бесконечно больше второй. Двоение было у единиц, у лиц
вроде Анании и Сапфиры, вроде Симона Волхва, — и тех, кого
ап. Иоанн называет «не нашими» 2. Но во второй и особенно в
третий и четвертые века соотношение между этими частями
становится резко другим. Вторая часть становится значительно
больше первой. Первоначальное общение имуществ заменяется
раздельным владением. Перестает действовать пророческий
дух, и учителя и священники по призванию Божьему
сменяются учителями и священниками по должности, — образ Христа
из доброго Пастыря, несущего на раменах своих заблудшую
овцу, каким рисовали его детски несовершенными штрихами
на стенах катакомб, превращается в византийской живописи в
строгий Лик Страшного Судии, жестокого и беспощадного, как
какой-нибудь восточный деспот, и т. д. и т. д., и это все
является показателем того, что жизнь церковная суживается,
полнота ее убывает, все новые и новые стороны жизни уходят из
Церкви, и наконец наступает время, (точно его определить
нельзя), когда из всей первоначальной полноты остается
только одно — это таинство. И эта единственная святыня бережно
и успешно охраняется всеми живыми силами, что остались в
Церкви, от всех покушений на нее, и как нетронутая,
никакими приступами врага Церкви невзятая твердыня — проносится
через все девятнадцать веков, и вот теперь мы обладаем ею так
же, как обладали ею христиане первых веков. Повторяю — это
единственная точка. Все остальное из жизни церковной, кроме
этого одного безусловного и непобедимого пункта, угасло и
растерялось в потоке истории. Князь мира сего завоевывал одну за
Таинства и возрождение Церкви
91
другой области жизни церковной, расхищал достояние Божие,
но тут предел победам его — ибо тут и находится камень —
основание той Церкви, против которой бессильны и сами врата
адовы. Все завоевано им, но таинства эти — тот остров подлинной,
хотя и сокровенной жизни в бушующем море истории
человечества, который не могли и не смогут размыть никакие бури.
И отсюда должны начаться новые завоевания Церкви. Новая
проповедь и новое, уже окончательное обращение
человечества.
Говоря так о таинствах, я говорю не о том, что таинства
только в идее таковы, о том, что они фактически и реально
(т. е. в обстановке нашей земной действительности)
переживаются именно так целым сонмом верующих людей. Поэтому мы
не мечтаем только о них, желая, чтоб они были такими, а они
у нас уже есть, находятся в реальном обладании нашем. И
сделать так, чтоб этого не было, мы даже не можем. Мы можем
сами лишиться таинств, но сделать так, чтоб таинства
лишались люди, (может, таящиеся в молчании — неизвестности),
которые переживают их подлинно христиански, это — ни в чьих
силах.
И вот когда речь идет о характере возрождения Церкви, — и
вопрос ставится так, что придет новая, по существу новая,
Церковь, которая не находится в преемственной связи с той
Церковью, которая есть и была, (само собой разумеется, не Церковь
официальную имеем в виду мы), то этим отвергается та наша
вера в таинство, потерять которую для нас значило бы потерять
все и лишиться всего.
Мы чаем, что грядущая Церковь преобразит всю нашу
жизнь. От теперешнего богослужения не останется камня на
камне, — вся жизнь будет твориться Духом Святым. Каких-
нибудь форм той новой жизни мы предугадывать и не смеем.
Форм, как форм, и не будет. Ибо в грядущей церковной жизни
будет та цельность, при которой не может быть самого различия
на форму и содержание. Поэтому и формы таинств не могут
остаться теми же, что и сейчас. Формы изменятся, но сущность
останется, и преемственность между Церковью теперешней и
Церковью возрожденной мы мыслим не в тех формах, что
непременно должна быть какая-нибудь внешняя эмпирическая
связь между таинствами грядущими и таинствами
теперешними, а так, что члены уже возрожденной Церкви, свершая,
положим, таинство Евхаристии (пусть в совершенно новых и не
похожих на теперешние формах), так же истинно будут
вкушать Пречистое Тело и Пречистую Кровь Христа, как истинно и
92
Β. Φ. ЭРН
подлинно вкушаем мы в нашем теперешнем таинстве
Евхаристии. Но раз наше вкушение Тела и Крови Господней есть
безусловно истинное и подлинное, тогда новое вкушение, в
возрожденной Церкви, по существу не будет отличаться от нашего.
Сущность останется та же. Правда, подлинная и безусловная,
как в том, так и в другом вкушении, есть правда одна, ибо двух
безусловных и подлинных правд быть не может. Тогда и
преемственность Церкви грядущей с Церковью настоящей
устанавливается самым нераздельным образом единством и
подлинностью этой правды. Но это заставляет решительно отвергнуть
самую концепцию о Церкви Петровой и Церкви Иоанновой.
В этой статье я ничего не доказываю. Ибо в этой области
доказывать нельзя ничего. Я только в связной форме излагаю
факт своей веры, приводя те внутренние основания, которыми
вера эта тверда. Я бы очень просил, чтобы те лица, которые
стоят на точке зрения, мною здесь отвергаемой, высказались о
своей вере с возможной ясностью и откровенностью. Ибо
потребность в разрешении этого, чуть ли не самого трудного
пункта в вопросе о путях возрождения Церкви становится с
каждым днем все настоятельней.
^^©
^v^
Христианский социализм в России
Насколько расширилось в современной России
общественное движение и насколько сильно сказывается повсюду в
самых разнообразных формах влияние социалистической
пропаганды — свидетельствуют печатаемые нами ниже документы.
Первый из них представляет собой печатное воззвание,
расклеенное на улицах Москвы в ночь с 16 на 17 февраля. Второй —
заявление программного характера от выпустившей это
воззвание группы. Авторы стоят на точке зрения «христианского
социализма», которая так чужда, далека и непонятна для нас, не
расположенных «вливать вино новое в мехи старые», ибо и
мехи разорвутся, и вино может пролиться понапрасну. Но, как
признак времени, оба документа характерны. Приводим здесь
их полностью; заметим, кстати, что вверху расклеенного
воззвания в подлиннике изображен большой черный крест.
ВОЗЗВАНИЕ
Православные христиане\
Синод обратился к вам с увещеванием не заводить в
государстве смуты, не быть заодно с внутренними врагами и тем не
служить японцам. Не таких слов ждали все
истинно-православные люди в настоящее тяжелое время. Кому не известно,
какие грабительства и притеснения творят царские слуги? Они
ослабили русскую землю, потому что измучили народ. А когда
петербургские рабочие с пением «Отче Наш» шли умолять
царя выслушать об их нуждах, в них стали стрелять солдаты и
убили около 3000 человек и ранили более 5000 своих же
братьев христиан <...> И после этого Синод, забыв истинную
Апостольскую Церковь, увещает вас, а не тех, кто довел вас до
крайности, кто губит Русскую землю и зверски убивает наших
братьев. В такие минуты все ждали, что Церковь возвысит свой
94
Христианский социализм в России
голос против обезумевшей власти, забывшей, что царь всех
царей — Господь, и что царская власть ниже воли Господней,
подобно тому, как митрополит Филипп обличал царя Ивана
Грозного, измучившего народ опричниной. Митрополит Филипп
говорил: «О, Государь, мы здесь приносим жертвы Богу, а за
алтарем льется невинная кровь христианская. Отколе солнце
сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы цари благочестивые
возмущали собственную державу столь ужасно. В самых
неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие
к людям, а в России их нет. Достояние и жизнь граждан не
имеют защиты. Везде грабеж, везде убийства — и совершаются
именем Царским. Ты высок на троне, Но есть всевышний
судья наш и твой. Как предстанешь на суд его, обагренный
кровью невинных?»
Православные христиане! Перед вторым пришествием по
слову Божию «мерзость и запустение станет на святом месте»,
т. е. большая часть Церкви христианской предастся в руки
Антихриста. Воззвание Синода, поддерживающее мучителей
христианского народа, свидетельствует, что время близко! Так
не искушайтесь же воззванием Синода, ибо на нем явная
печать Антихриста!
ЗАЯВЛЕНИЕ
В России организовалась новая политическая партия,
именующаяся Христианским братством борьбы.
Братство имеет целью активное проведение в жизнь начал
вселенского Христианства.
Эти начала, введенные историческим христианством в сферу
индивидуальной жизни, до сих пор не были сознательно
положены в основу общественных отношений. В общественных
отношениях до сих пор осталась нераскрытой «правда о земле»,
лежащая в самой сущности христианского учения.
Раскрыть эту правду, действительно осуществлять
вселенскую правду Богочеловечества во всемирно-историческом
процессе и есть общая задача Братства.
Своеобразие и исключительность настоящего исторического
момента сами собой определяют ближайшие, частные задачи
Братства, необходимо вытекающие из общей основной.
Эти задачи суть:
1) Борьба с самым безбожным проявлением светской
власти — с Самодержавием, кощунственно прикрывающимся авто-
Христианский социализм в России
95
ритетом Церкви, терзающим народное тело и сковывающим
все добрые силы общества.
2) Борьба с пассивным состоянием Церкви в отношении
государственной власти, в результате чего Церковь идет на
служение самым низменным целям и явно Кесарю предает Божье.
3) Утверждение в социально-экономических отношениях
принципа христианской любви, содействуя переходу от
индивидуально-правовой собственности к общественно-трудовой.
«Братство» призывает к совместной Господней работе всех
верующих во Христа без различия исповеданий и
национальностей ввиду того, что борьба с безбожной светской властью
имеет смысл не только национальный, но и вселенский.
Христианское братство борьбы
P. S. Более полные разъяснения по поводу вышеизложенной
программы будут даны Братством в ближайшем будущем.
^^©
^^
Борьба церкви и борьба с церковью
Реакционеры из «Гражданина» и «Московских ведомостей»
отнеслись отрицательно к идее о созыве Поместного собора,
предложенной Витте и поддержанной «смиренными» отцами
из Синода1. «Чем желательнее эта реформа, писали "Мос<ков-
ские> в<едомости>", тем нежелательнее поспешное,
необдуманное ее осуществление в настоящее, именно, столь смутное
время». А это значит, что, по мнению «Моск<овских> вед<о-
мостей>», осуществление реформы в той форме, какую она
может принять сейчас, нежелательно ни в настоящее, ни в
будущее время.
И по понятным причинам «Моск<овские> ведом<ости>»
наравне с г. Витте хотели бы сделать духовенство опорой
самодержавия, но в то время как Витте торопится организовать
духовенство сейчас, считаясь с возможностью созыва Земского
собора, в котором он надеется заставить представителей
духовенства плясать под дудку бюрократии, «Моск<овских> ве-
дом<остей>» и «Гражданин» самую мысль о созыве Земского
собора считают совершенно недопустимой... конечно, «в
настоящее, столь смутное время» 2.
Не может также реакционная пресса не видеть, что
придуманный г. Витте способ спасания самодержавия ведет из огня в
полымя. Ведь в Поместный собор тоже надо будет выбирать,
надо будет пережить предвыборную агитацию, а в «настоящее,
столь смутное время» это куда как не безопасно. Не могла
реакционная пресса не прислушаться к тем голосам, которые
шли из среды самого духовенства и из среды мирян и которые
давали очень недвусмысленную оценку действительному
положению вещей. Мечта или действительность — это стремление
Витте объединить все православное духовенство около
всероссийского митрополита? Мечта, утопия — отвечали
многочисленные голоса, раздавшиеся из разных концов России. Они
говорили, эти голоса, что в современном православном духовенстве
Борьба церкви и борьба с церковью
97
нет такого крупного интереса, который соединил бы его в один
цельный организм, а, наоборот, есть причины для
разъединения, для внутренней борьбы. И прежде всего — это
противоположность между черным и белым духовенством, между
высшей и низшей иерархией, между аристократами и плебеями.
И стоило лишь газетам заговорить о возможности собора, как
отовсюду посыпались жалобы на привилегированное
положение черного духовенства, повсюду и везде оттесняющего на
задний план многочисленную рать священников наших сел и
городов. Эти голоса говорили далее, что церковная реформа
невозможна без привлечения на церковный собор мирян,
которые «в настоящее, столь смутное время» не замедлят
потребовать для себя определенных гарантий. Выбор духовных лиц
приходом — вот к чему могло прийти церковное движение.
Но опасность лежала еще глубже. Можно ли было при
настоящих условиях, т. е. при условиях всеобщего
революционного брожения, рассчитывать на то, что церковное движение
останется в намеченных пределах? Не естественно ли было
ожидать, — и опять многочисленные голоса подтверждали
справедливость такой мысли, — что передовые элементы
обществ перешагнут и за эту грань и потребуют гарантий против
возможной эксплуатации церкви вообще, потребуют
избавления от ее гнета и мракобесия, т. е. логически придут к
требованию отделения церкви от государства?
Все это было в перспективе: на соборе — борьба черного
духовенства с белым и борьба мирян с духовенством, а вне
собора — борьба радикальных партий против господства церкви.
И реакционная пресса принялась быстро тушить начинавший
разгораться пожар, встретив, как и следовало ожидать,
поддержку в обер-прокуроре Синода, а через него и в восседающем
на царском престоле манекене.
Ясно, что эта семейная драма между различными
представителями мира реакции, между защитниками старых
отживающих идей только расстраивает ряды наших врагов, подкапывает
силы гнусного самодержавного режима. Церковь чувствует,
что и она устремляется в ту же пропасть, в которой суждено
погибнуть самодержавию, и пытается на склоне дней своих
отделить свои судьбы от судеб самодержавия. Но тщетно! Ни
церковь вообще, ни русско-православная церковь в частности не
создали и не могли создать элементов для борьбы с
современным самодержавием, борьбы, ведущейся под влиянием
совершенно других лозунгов, ничего общего с интересами и учениями
церкви не имеющими. Попытка придать этой борьбе сколько-
98
Борьба церкви и борьба с церковью
нибудь религиозный характер не может уже привлечь в
революционную армию ни одного нового бойца и должна кончиться
полнейшим фиаско.
Напомним, как позорно вели себя представители церкви
после 9-го января и в других подобных случаях, когда кулак и
нагайка занимались успокаиванием волнующихся обывателей.
Вспомним, что главным импульсом к нынешнему движению
духовенства послужило то обстоятельство, что совет министров
решил дать некоторые права старообрядцам. Церковь, жившая
до сих пор угнетением иноверцев, вдруг увидела перед собой
опасность появления свободного конкурента. Многие добрые
люди любили повторять до очень недавнего времени, что наша
промышленность — тепличный цветок, поддерживаемый
только попечениями правительства. События последних месяцев
показали, как глубоко ошибались эти «добрые» люди. Как
только наши промышленники заметили, что правительство
начинает заигрывать с рабочими на их счет, они очень ясно дали
понять этому правительству, что они сумеют воздать око за око
и зуб за зуб, что они будут указывать рабочим на «политику»
всякий раз, когда правительство будет стараться толкать
рабочих на путь узкой «экономики». В этом сказалось несомненное
сознание своей силы. А как поступила официальная церковь?
Она не посмела сказать, что будет вместе с представителями
других гонимых религий завоевывать права, а стала
ходатайствовать об особой новой специальной привилегии для себя.
Но, скажут нам, не все служители церкви стоят на этой
точке зрения. Нам, наверное, укажут на новую партию,
именующуюся «христианским братством борьбы» и ставящую себе
следующие цели: 1) «борьбу с безбожными проявлениями
светской власти», 2) «борьбу с пассивным состоянием церкви в
отношении к государственной власти, вследствие чего церковь
идет на служение самым низменным целям и предает дело бо-
жие», и 3) «утверждение в социально-экономических
отношениях принципа христианской любви».
Значит мы ошибались: в церкви не все обстоит так гнило,
как мы предполагали. Она способна создать партию борьбы.
А средства этой борьбы?.. «Принципы христианской любви»!
Как будто маловато! «Социальные принципы христианства
оправдывали древнее рабство, прославляли средневековое
крепостничество и, в случае надобности, готовы взять под свою
защиту и угнетение пролетариата, правда сделав при этом
печальную мину. Социальные принципы христианства проповедуют
необходимость существования господствующего и угнетенного
Борьба церкви и борьба с церковью
99
класса, причем в заботах о последнем они высказывают
благочестивое пожелание, чтобы первый отличался
благотворительностью. Социальные принципы христианства переносят
прекращение всех мерзостей на небо и этим самым оправдывают
продолжение этих мерзостей на земле. Социальные принципы
христианства признают все подлости угнетателей по
отношению к угнетенным или справедливым наказанием за
первородный грех и другие подобные грехи, или испытаниями, которые
Господь в своей бесконечной благости ниспосылает на своих
избранников. Социальные принципы христианства
проповедуют трусость, презрение к самому себе, унижение, покорность,
смирение — словом, все качества канальи, а пролетариат,
который не хочет позволить, чтобы с ним обращались как с
канальей, нуждается в своем мужестве, в своем сознании
собственного достоинства, своей гордости и в своей независимости гораздо
больше, чем в своем хлебе. Социальные принципы
христианства отличаются лукавством, а пролетариат —
революционностью3. Так писал Маркс в сороковых годах прошлого столетия,
прибавив при этом, что, сверх этого, «социальные принципы
христианства» за свое восемнадцативековое развитие не
совершили ничего путного. Навряд ли кто-нибудь станет
утверждать, что за последние 60 лет что-нибудь в этом отношении
изменилось. А еще менее найдется охотников искать этот прогресс
у представителей нашей официальной церкви.
<^^s>
—£^2н
И. АИВАЗОВ
Отклики
Христианское братство борьбы. — Задачи Братства. —
Его воззвания: «к епископам русской Церкви», «к войскам»
и «к крестьянам». — Группа христиан. Ее воззвание:
«к духовенству и всем, считающим себя христианами»*
Наше время характеризуется сильным развитием у нас
разных общественных групп **, которые, сплотившись,
предъявляют от своего имени к Русскому государству и к Русской Церкви
те или иные требования, намечают тот или иной ряд реформ;
словом, выступают с разнообразными и обширными програм-
Редакция получает статьи по вопросам политического характера.
Ввиду того, что наш журнал, как духовный, должен по своей
задаче и программе стоять на страже церковно-религиозных
интересов, особенно в наше страдное для жизни Церкви время, мы не
имеем возможности печатать таких статей. От рассмотрения
политических и общественных событий с библейской и канонической
точек зрения не отказываемся. Будем принимать работы,
исключительно стоящие на почве истинно-христианской церковности. —
Ред.
Строго организованных политических партий в
западноевропейском смысле у нас, слава Богу, еще нет. Но образование
социально-политических групп все же свидетельствует о том, что мы уже
вступили в ту стадию государственной жизни, которую Западная
Европа начала проходить с 40-х годов XIX-го стол<етия>, когда в
противовес государству как форме человеческого общения вместо
права личности было выдвинуто новое право — право общества,
откуда и все современные политические учения, благодаря
преимущественно Лоренцу Штейну, получают социальную окраску
(«Русск<ое> госуд<арственное> право» Н. Коркунова. Т. I. С. 93—
95).
Отклики
101
мами переустройства, нередко радикального, политической,
социальной и церковной жизни в Российской империи в целях
общего блага всех ее подданных. Одни, по примеру своих
западных учителей, ведут борьбу, главным образом, с
существующим строем политико-экономической и общественной жизни
в России под флагом христианства и посему обосновывают свои
требования на божественном откровении; другие, наоборот,
открыто сбрасывают с своих реформационных программ и теорий
всякую божественную санкцию как якобы вредную, потому
что каждая-де религия, и особенно христианская, отвлекает
мысль человека от земли к «мифическому» небу и тем лишает
его возможности направить все свои силы на устройство
единственно реального для него рая — это «рая на земле» (Бебель,
представитель германской крайней социал-демократии).
Последнего рода реформаторы обосновывают свои требования на
quasi-научных данных, на доводах ума, погруженного в глубь
веков, в изучение исторической жизни народов: «скажите
прямо, взывает германский социал-демократ Мост к рабочим, что
вы отрекаетесь от Церкви, соберитесь под знаменем науки,
которая отвергает всякие суеверия» *.
Нам, апологетам и пастырям Православной Церкви, нельзя
быть только зрителями всего, ныне происходящего у нас на
Руси; нельзя укрыться под плащ столь любезной многим
фразы: «моя хата с краю, я ничего не знаю»!.. Нет, нам нужно
внять ропоту быстро и шумно катящихся с Запада волн,
взбаламутивших наше великое море — Русь до дна!.. Нам нужно
броситься в эти волны и, если не разбить их, смирив их ропот,
то, по крайней мере, спасти возможно большее число
утопающих и захлебывающихся мутью их. Ведь Русь зародилась,
возросла и образовалась в мощную державу под сенью
Православной Церкви; она тесно связала себя с нею узами духовной
дщери. Русский народ в подавляющей массе и доселе знает
Русь только православную. Да и помимо этих, чисто местных
мотивов Православная Церковь еще имеет принципиальную,
всемирную задачу, завещанную ей Христом, — это стать
совестью народов, наложить печать христианства на все стороны и
проявления человеческой жизни на земле, пропитать духом
христианства не только личные, но и общественные стихии
человечества, восстановить Богочеловеческую связь не только
индивидуально, но и собирательно**. Путем насаждения Цар-
* Герцберг Н. Рабочий вопрос и социализм. Пб., 1905. С. 96—97.
** Соловьев B.C. Духовные основы жизни. 3-е изд. С. 158—159.
102
И.АИВАЗОВ
ства Божия — «Царства не от мира сего» в мире сем, в
индивидуальной, социальной и политической жизни человека,
Православная Церковь должна приготовить последнего к высшему
блаженству, к вступлению в Царство Божие на небесах, в это
«лучшее» для человека «отечество», где он уже не будет
чувствовать себя, как на земле, странником и пришельцем (Евр.
11, 13—16).
По указанным соображениям нам невозможно молчать в то
время, когда образовавшиеся на Руси под разными названиями
многочисленные общественные группы рьяно берутся за
осуществление намеченных мною задач Церкви в границах ее
земного существования и прежде всего за насаждение Царства
Божия на земле помимо Церкви и вне ее, или если и призывают
ее к сотрудничеству, то не иначе как после коренной реформы
ее собственного существования, согласно начертанной ими
программе. От такого отношения к Церкви искажается и самая
идея возвещенного Евангелием Царства Божия на земле и
средства к ее осуществлению в деятельности упомянутых
общественных организаций, как искажена открытая миру
Евангелием идея «свободы, равенства и братства», начертанная
девизом на знамени первой французской революции и вошедшая
в символ современной культуры, но, к сожалению, сдвинутая с
основы христианского миросозерцания или обоснованная на
псевдохристианстве.
На этот раз мы остановимся на критическом очерке двух
общественных организаций, недавно возникших на Руси под
флагом христианства, — это «Христианское братство борьбы»
и «Группа христиан» *.
Христианское братство борьбы возникло и ютится, очевидно,
в нашей «Северной Пальмире». Своею задачею оно поставило
«активное проведение в жизнь начал вселенского
христианства» *. Задача, как видим, великая и далеко еще не
осуществленная в жизни христиан, где в изобилии произрастают
терновник и репейник, не приносящие ни смоквы, ни винограда,
ни вообще доброго плода (Ев. Мф. гл. 7, ст. 16—18). Значит,
было из-за чего организоваться особому Братству. И мы с своей
* См. отпечатанный на пиш<ущей> машине лист с изложением
«Задач Христианского братства борьбы». Для характеристики
братства мы будем пользоваться и его подпольными воззваниями,
отпечатанными на пиш<ущей> машине и на типографском станке,
под названиями: «К епископам русской церкви», «К войскам» и
«К крестьянам».
Отклики
103
стороны готовы были бы сказать ему: «Бог в помощь!..» И
даже горячо пожелать, чтобы с той же практическою целью у нас
под сенью Церкви явилось побольше братств, содружеств,
союзов, групп и пр., если бы дальнейшее и подробное знакомство
с «началами вселенского христианства», содержимыми
братством, и с средствами проведения этих «начал» в жизнь,
практикуемыми братством, не заставило нас высказать совершенно
обратное пожелание, чтобы Господь избавил православную
Русь от подобных названному братству учреждений, так как и
без них много плевел на русском поле, много сынов лукавых в
нашей отчизне...
В самом деле, что разумеет Братство под «вселенским
христианством»? Об этом в «Задачах Христианского братства
борьбы» читаем следующее:
«Начала вселенского христианства не только не
осуществлены, но даже просто не сознаны целиком во всем объеме
историческим христианством. Историческое христианство во всех
своих конкретных разветвлениях, от русского православия и
римского католицизма до самых крайних сект протестантизма,
восприняло и самым действенным образом ввело в сознание
отдельных людей одну сторону Евангельского учения: это учение
о том, что "Царство Божие внутри вас есть". Царство Христово
есть царство свободного единения, чистоты и света, и потому
всякий, хотящий войти в него, должен прежде всего
очиститься сам, должен скинуть с себя ветхого человека и облечься в
нового, должен переродиться, извлечь и спасти душу свою из
мира греха и злой жизни. Таким образом, личное
перерождение, очищение своего индивидуального сознания и спасение
своей души — вот центральная и единственная идея
исторического христианства. Все остальное — дела любви, устроение
своей личной жизни на христианских началах, доброе
отношение к другим людям, — все это историческим христианством
рассматривается как простое и необходимое следствие из
внутреннего перерождения*.
Все это так, все это правда от начала до конца; но это далеко
не вся правда, возвещенная Христом, и кто ее выдает за всю
правду и видит в ней начало, середину и конец и учит так
других — тот явно погрешает против слова Божия и лжет на
полноту Христовой истины. Это делает теперешнее христианство.
* И в Евангелии читаем: «ищите же прежде Царства Божия и
правды Его и это все приложится вам»; «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Мф. 6, 33; Лк. 17, 21).
104
И.АИВАЗОВ
Оно забыло другую сторону Евангельского учения, забыло, что
Царство Божие не только факт внутренней жизни,
переживаемый отдельным сознанием наедине с собой и Богом, но и —
о чем вещает чуть ли не каждая строчка Нового Завета — факт
мировой, вселенский. Царство Божие, неприметно войдя
внутрь человека, его усилиями должно раскинуться на то, что
вне его. Своим благодатным строем оно должно победить и
преобразить всю злую природную жизнь во всех ее проявлениях,
от сферы индивидуального сознания и человеческих отношений
до космического зла, царящего в природе. Евангелие должно
быть проповедано «всей твари». Христос заповедал апостолам:
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мк. 16, 15), ибо «вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне, ожидая откровения сынов Божиих» (Рим. 8, 19—21).
Историческое христианство забыло этот завет и, проповедуя, что то
и то нужно для того, чтобы вступить в Царство Божие,
совершенно угасило в себе всякие живые представления о том, что
же такое это Царство Божие*. С этим вместе оно поддалось
страшному уклону от Христа и безусловно истинную идею о
необходимости для вступления в Царство Божие, прежде всего
лично переродиться — исказило в ложную и
антихристианскую идею «самоспасания» **, которая и пользуется самым
широким распространением.
А между тем вопрос этот ясен. Сами собой принимают
конкретную форму обязанности, вытекающие из этой стороны
Евангельского учения. Их много, очень много, и все они
забыты «историческим христианством». Мы будем говорить только
об одном ряде таких обязанностей, сознание которых и
определяет деятельность Братства. Христос был Богочеловек. Он во-
человечился и принял плоть. Искупая Своею пречистою
кровью, Он не отделился от нее, а остался в ней и с ней, потому
что связан с нею «нераздельно и неслиянно», потому что при-
* То «историческое христианство восприняло и самым
действительным образом ввело в сознание людей одну сторону Евангельского
учения: это учение о том, что «Царство Божие внутрь вас есть»; то
уже оно «угасило в себе всякие живые представления» о том, что
же такое это Царство Божие?! Как все это вяжется в голове «брат-
чиков»?!
* Идея «самоспасания», как и «самолюбия», только тогда является
ложною, когда сдвинута с евангельской основы. Но та же идея
может быть и евангельскою, когда человек на любви к себе
научается истинной любви и «ближнего»: «возлюби ближнего твоего,
как самого себя».
Отклики
105
шел не упразднить ее, а освятить. Преобразивши ее на Фаворе
и освободивши ее от рабства греху Своими страданиями и от
рабства смерти Своим воскресением, Он положил начало «обо-
жению плоти» (выражение св. Антония В<еликого>), которое
закончится «новой землей*, в ней же правда обитает» (2 Петр.
3, 13). Этим он дал вечный образ поведения и указал путь, по
которому должен идти каждый христианин. Каждое отдельное
лицо, для того чтобы становилось возможным Царство Божие
«внутри» него, должен побеждать в себе похоть плоти и
облекать тело свое во Христа, приуготовляя его к славе и
нетлению. Но, по основному учению Евангелия, человек не может
рассматриваться как самодовлеющий, не связанный с другими
атом. Он только один из бесчисленных членов великого и
единого целого, собирательного индивидуума Церкви. Эта
Церковь, объективное Божие, осуществляясь и водворяясь в душе
всего человечества, должна победить похоть плоти уже не
отдельного лица, а всего человечества и облечь тело, — уже тело
не отдельного лица, а всего человечества, — во Христа и
сделать его невестой Христовой. Эта плоть и тело, не будучи телом
и плотью отдельных лиц, является результатом
взаимодействия последних, основанного на потребностях тела и плоти, а
это и есть прежде всего отношения экономические,
общественные и государственные. Значит, человечество, становящаяся
Церковь, для осуществления в себе Царства Божия, должно
бороться со своею похотью и побеждать свою плоть, т. е.
животворить и проникать Духом Христовым отношения
экономические, общественные и политические, да изобразится и в них
Христос, и да будет Бог вся во всем. Таким образом, из
действительной веры в Христа, вочеловечившегося и пришедшего
во плоти, с неизбежной внутренней последовательностью
вытекает для каждого христианина обязанность принимать самое
деятельное участие в общественной и политической жизни
страны и здесь, в той самой области жизни, от которой с
отшельническим ужасом отвертывалось историческое
христианство, действенно осуществлять вселенскую правду Богочелове-
чества. Это и является общей задачей Братства».
Мы нарочито сделали полную выдержку из «Задач
Христианского братства борьбы», чтобы читатель не заподозрил нас в
передержке мыслей Братства.
* Не только «новой землей», но и «новым небом», которые будут
существенно отличны от «нынешних небес и земли» (2 Петр. 3, 7—
13).
106
И.АЙВАЗОВ
Нельзя прежде всего не отдать Братству должной дани
удивления за его уменье писать по вопросу первостепенной для него
важности крайне туманно и расплывчато. Вся приведенная
нами тирада посвящена, в сущности, выяснению одной
элементарной мысли, что «вселенское христианство», начала
которого «Братство» намерено активно проводить в жизни, требует от
каждого христианина не ограничиваться насаждением Царства
Божия только внутри себя, но деятельно, притом совокупно с
другими членами Церкви и от имени последней, осуществлять
его и вне себя — во всем человечестве, оживотворяя и
пропитывая духом Христовым все отношения человеческой жизни:
экономические, общественные и политические. С последнею
целью христианин должен-де принимать самое активное
участие во всех проявлениях жизни своей страны. Таковы «начала»
нового «вселенского христианства», якобы впервые
открываемые миру Братством, как исчерпывающие всю полноту
Христовой истины, всю правду, возвещенную Христом.
Против этих «начал», в их «общем» изложении «Братством»,
возражать в принципе нечего; наоборот, необходимо признать
их полное согласие с духом евангельской правды. Но что
удивительно, так это заявление Братства, что оно, излагая азбуку
христианства, выступает в этом случае чем-то вроде Колумба!
Если вышеупомянутые «начала» и являются для кого новою
Америкою, так разве только для Братства, этого в своем роде
воскресшего после девятнадцативекового сна помпейца...
Обвинение Братством исторического христианства, от русского
православия и римского католицизма до самых крайних сект
протестантизма, в том, что оно якобы «не сознало», «забыло»
обязанность каждого христианина, как и совокупности
христиан — Церкви пропитывать духом Христовым экономическую,
общественную и политическую жизнь человечества, кажется
настолько несуразным и для самого Братства, что оно просто-
напросто заплетается, подобно буренинскому «Сумасбродию
Вральмонту» 2, и противоречит само себе, когда обосновывает
на словесном фундаменте это обвинение. В самом деле, то
Братство заявляет, что историческое христианство «не сознало»
вышеуказанной обязанности христиан, то только «забыло» ее, то,
наконец, «рассматривает ее как простое и необходимое
следствие из внутреннего перерождения» человека!..* Как все это
Ниже мы увидим, что «Братство» уже борется с неправильным, по
его мнению, освящением русской Церковью экономической,
общественной и политической жизни своей страны. Это далеко не то
Отклики
107
укладывается в обличительной голове «братчиков»
—отказываемся понять?! Как можно «забыть» то, чего «не сознал»?!
Как можно далее «забытое» и «не сознанное» (?!)
рассматривать?! Право, скорее поймешь, как это у «Вральмонта»: «на
затылке чихающий нос»..., как это он кричит: «в мраке солнца
и в свете ночей»!.. При всей своей сумбурности и помпезности
«Вральмонт» все же человек откровенный и сознается, что
«мелет он»... К сожалению, «Братство» и этого качества лишено!..
Необходимо заметить, что приведенное обвинение
«Братством» исторического христианства и противоположение оному
нового «вселенского христианства» — не что иное, как
неудачный, по своему туманному и общему изложению, компендий
прошумевшего недавно «новопутейства» с его «Новым
Вселенским Христианством — Религиею Конца»3. Только там, у
лидеров «новопутейства», начала «нового вселенского
христианства» изложены не так бесцветно обще, что под ними
подпишется каждый христианин; будь то православный, католик
или протестант, а выступают с своею, ясно очерченною
физиономией), с каковою и можно серьезно считаться. В свое время
на страницах «Мисс. Обозр.» мы с достаточною подробностью
разобрали4 все «новопутейские» обвинения, взведенные от
имени «нового вселенского христианства» на христианство
«историческое», в том числе и предъявленное в «Задачах
Христианского братства борьбы» *; посему сейчас не будем
повторяться. Впрочем, необходимым считаем добавить, что в своем
обвинении исторического христианства, как православного,
так равно католического и протестантского, «Братство»
обнаружило, сознательно или бессознательно — это другой вопрос,
круглое невежество в знакомстве с проявлениями религиозного
сознания христиан: православных, католиков и протестантов,
имеющими значение церковное, а не индивидуальное. Так
разве история христианских церквей не свидетельствует о том,
что с того времени, как всепоглощающее могущество
античного государства было подорвано появлением и развитием новой
формы общения людей, не только независимой от государства,
же, что русская Церковь якобы « забыла» или «не сознала» самой
необходимости «действенно осуществлять вселенскую правду Бо-
гочеловечества» в этой области жизни?! Иное дело «забыть» или
«не сознавать», а иное дело неправильно осуществлять что-либо!..
* См. «Мисс<ионерское> обозр<ение>» 1903 г. №8, 14, 16, а также
брошюру «Новое Вселенское Христианство — Религия Конца».
Харьков, 1904.
108
И.АИВАЗОВ
но и указавшей ему границы его властвования над людьми, —
Церкви Христовой, последняя в Западной Европе, в лице
католицизма, старалась не только пропитать духом Христовым,
как понимал его католицизм, все проявления экономической,
общественной и политической жизни христианских стран, но
даже присвоить или узурпировать себе непосредственное
материальное властвование над этими сторонами жизни людей!
Или, быть может, протестантизм заявил себя принципиальным
противником религиозного освящения общественной и
политической жизни государства? Какая наивность! Разве
провозглашенный Лютером в области религии принцип сопротивления
власти и равенства всех христиан не пропитал насквозь все
общественные и политико-экономические стороны жизци
западноевропейских государств?! А законное дитя протестантизма —
баптизм, религиозная система которого вскоре превратилась в
социально-коммунистическую и подарила мир «королевством
Сиона» во главе с «пророком» Иоанном Лейденским?!5 Но
обратимся к нашему времени. Просмотрите переведенную с
немецкого брошюру: «Задачи Церкви и ее внутренней миссии
ввиду современной экономической и социальной борьбы» *, где
Евангелическая церковь полагает свою задачу в том, чтобы
«вся земная жизнь и в особенности экономическая и
общественная стороны ее проникнуты были евангельским духом»...
Вспомните Адольфа Штекера, придворного проповедника в
Берлине, члена палаты и рейхстага, как он старался
организовать рабочую партию, основанную на христианских началах,
что вызвало необузданный отпор со стороны
социал-демократического члена рейхстага Моста, ярого противника
христианства**. Так же, если не более, несправедливо обвинение
Братством и русского православия. Известно, что в допетровское
время православная Церковь запечатлевала духом Христовым
все стороны экономической, общественной и политической
жизни Руси, так что допетровская Русь справедливо может
быть названа по преимуществу церковной. Образование,
которое в то время получал и богатый купец, и бедный крестьянин,
и вельможный боярин, и сам царь московский, являлось
исключительно церковным, а это объединяло мировоззрение
разных слоев русского общества по вопросам бытовым, обществен-
* Эта брошюра представляет собою * записку центрального комитета
для внутренней миссии немецкой Евангелической церкви» и
заслуживает внимания.
** См.: Герцберг Н. Рабочий вопрос и социализм. С. 96.
Отклики
109
ным и государственным и давало Церкви мирное орудие для
всестороннего влияния на жизнь всея Руси, сверху донизу.
И это влияние вне всякого сомнения. В Древней Руси, говорит
Н. И. Тиктин, «задача духовенства была трудна и
разнообразна... Князья во всех важнейших вопросах внутренней и
внешней политики советуются с духовенством, предоставляют его
ведомству и юрисдикции множество предметов и лиц, по
существу своему не имеющих прямого отношения к Церкви,
открывают свободный доступ влиянию духовенства в самые
внутренние сферы народного быта, приближают к духовенству
народную жизнь, преимущественно с тех сторон, на которых
сильнее запечатлелись следы язычества и старого быта и
которые всего менее могли быть изглажены мерами гражданскими,
внешними (напр<имер>, весь семейный быт со всеми
отношениями, из него вытекающими, со всеми преступлениями,
нарушающими его святость и чистоту, подчинен был ведомству и
суду Церкви)... Духовенство, вследствие особых прав, ему
предоставленных, было замешано почти во все интересы страны,
принимало живейшее участие в делах законодательства,
управления и суда»... * С древнейших времен русские князья —
Владимир и Ярослав Мудрый уже совещаются с духовенством по
всем важным делам своего княжения. Получивший в то время
свое начало известный «Освященный собор» 6, из которого затем
в Московской Руси выработался Земский собор, имел
огромнейшее значение в общественной и политической жизни не только
княжеской, но и царской Московской Руси. Лучше всего
участие православной Церкви в мирских делах Руси обрисовано
московскими послами, которые в 1610 г. говорили полякам:
«Изначала у нас в русском царстве так велось: если великие
государственные или земские дела начнутся, то великие
государи наши призывали к себе на Собор патриархов, митрополитов
и архиепископов (т. е. «Освященный собор») и с ними о всяких
делах советовались, без их совета ничего не приговаривали».
Совершенно справедливо посему И.С.Аксаков замечает7:
«Русское государство лучшими сторонами своего бытия, своим
внутренним единством, целостью и крепостью духовной
обязано именно Церкви, и иерархи православные были в то же
время и главными зиждителями нашего государственного строя и
величия, но им противно было политическое властолюбие» **.
* Тиктин Н. И. Византийское право как источник Уложения 1648 г.
и новоуказных статей. Одесса, 1898. С. 19.
** Аксаков Я. С. Т. IV. С. 723.
110
И.АИВАЗОВ
Известный Ю. Ф. Самарин говорит, что «русское государство
возникло и разрослось под сенью единства народной веры и
Церкви и что это начало вынесло Россию из ужасного кризиса
междуцарствия» *. История русская свидетельствует, пишет
проф. Бердников, что православная Церковь спасала престолы
царей, заботилась о прочности этих престолов, о крепости
самодержавия... ** Нисколько не преувеличивая, можно сказать,
что православная вера в России была общественным и бытовым
началом и проникала собою историческое бытие русского
народа; что без разумения духовно-исторического элемента России
невозможно ясное разумение самой России и ее, по-видимому,
чисто внешних, даже политических обстоятельств***. Все это
подмечали даже иностранцы, как, например, немецкий
профессор Овербек. Но, к сожалению, Братство совершенно
игнорирует данные истории и предпочитает парить в облаках, хотя
бы для собственного самоуслаждения... Мы не станем
утверждать, что православная Церковь и в Петровской России осталась
со своим прежним влиянием на все стороны жизни русского
народа. Напротив, со времен Петра I, как совершенно
справедливо замечает проф. И. С. Бердников, Русское государство
освобождает себя от воспитательного влияния Церкви, не желает
иметь ее советником и ментором в своих делах и даже находит
нужным подчинить Церковь своим видам и сделать из нее
послушное орудие в их достижении. Принижение духовенства до
полного лишения голоса в делах общественных и
государственных, конечно, сопровождалось и потерею должного влияния
Церкви на религиозно-нравственное воспитание народа и
отразилось на прочности коренных устоев общественного порядка,
в том числе и самодержавия****. Но во всем этом Церковь
неповинна. Никогда она не отказывалась от прав
«Освященного собора» в императорской России... Напротив, всегда и ныне
скорбит о лишении ее этих прав... Возврат их Церкви и благо
России, и дух народа русского, и благо самого самодержавия...
Лучшие сыны Церкви ясно и решительно заявляли, что
государство в принципе не имеет законных оснований к
изолированию Церкви от влияния на ход общественной и политической
* Самарин Ю. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880.
С. 214.
** Бердников И. С, проф. Краткий курс Церк. права Прав<ославной>
Церк<ви>. Казань, 1903. С. 298.
*** Аксаков И. С. Т. IV. С. 52.
**** Бердников И. С. Указ. соч. С. 295—298.
Отклики
111
жизни в нем. Христианское общество, пишет И. С. Аксаков,
для которого государство служит внешним покровом,
средством и формою общежития, не может допустить со стороны
этой формы такого отношения к высшим нравственным целям
своего общественного существования, которое не хотело бы с
ними считаться; не может в своем общественном организме,
облеченном в государственную форму, признать другой души,
другого нравственного идеала, кроме той души и того идеала,
которые оно само влагает; не может дозволить, чтобы эта
форма, это государство творило бы само себя кумиром (как то было
в языческом мире). Начало государственное должно в
общественном сознании состоять в отношении нравственного
подчинения к духовному, высшему для человека началу.
Христианство, читаем у В. С. Соловьева, придя в мир, чтобы
спасти мир, спасло и высшее проявление мира — государство,
открыв ему истинную цель и смысл его существования — это
добровольное служение высшей цели — т. е. Царству Божию.
Оно призывает государство к борьбе с злыми силами мира под
знаменем Церкви и требует, чтобы оно проводило в
политическую и международную жизнь нравственные начала,
постепенно поднимало мирское общество до высоты церковного идеала,
пересоздавало его по образу и подобию церкви Христовой.
Представитель власти в христианском государстве не есть
только обладатель всех прав, как языческий кесарь, — он, главным
образом, есть носитель всех обязанностей христианского
общества по отношению к Церкви, т. е. к делу Божию на земле.
А Церковь должна освящать и чрез посредство христианского
государства преобразовывать всю естественную, земную жизнь
народа и общества. В другом месте тот же В. С. Соловьев
пишет*: «Чтобы возродить все человечество, христианство
должно проникнуть не только его личные, но и общественные
стихии. Богочеловеческая связь должна быть восстановлена не
только индивидуально, но и собирательно. Как божественная
стихия имеет свое собирательное выражение в Церкви, так
чисто человеческая стихия имеет подобное же выражение в
государстве, и, следовательно, богочеловеческая связь выражается
собирательно в свободном сочетании Церкви и государства,
причем это последнее является уже как христианское
государство». Если же у нас ныне, со времен Петра I, наоборот, т. е.
государственное христианство или государственная церковность,
то каждый знает, что это вопреки религиозному сознанию пра-
* Соловьев B.C. Духовные основы жизни. 3-е изд. С. 158—159.
112
И.АЙВАЗОВ
вославной Церкви, в совокупности ее пастырей и пасомых.
Знаменитый государственный муж, стоящий на страже
интересов государства в православной Церкви, ясно и неоспоримо
заявляет: «можно ли ожидать, чтобы Церковь — не говорю уже
католическая, а Церковь какая бы то ни была — согласилась
устранить из сознания своего гражданское общество, семейное
общество, человеческое общество — все то, что разумеется в
слове "государство"? С которых пор положено, что Церковь
существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять
монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и
процессий? Нет, все это — лишь малая часть той деятельности,
которую Церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание:
научите вся языки. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на
земле людей для того, чтобы люди, среди земного града и
земной семьи, соделались не совсем недостойными вступить в град
небесный и небесное общение. При рождении, при браке, при
смерти — в самые главные моменты бытия человеческого,
Церковь является с тремя торжественными таинствами, — а
говорят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить
народу уважение к закону и к властям, внушить власти
уважение к свободе человеческой, — а говорят, что ей нет дела до
общества! Нет, — нравственное начало единое. Оно не может
двоиться, так чтобы одно было нравственное учение частное,
другое общественное; одно — светское, другое — духовное.
Единое нравственное начало объемлет все отношения —
частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая сознание
своего достоинства, никогда не откажется от своего законного
влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до
гражданского общества» *.
Остается к этим словам великого деятеля государства и
Церкви присоединить лишь горячее пожелание, чтобы русское
государство, особенно в наше смутное время, вскоре вступило на
этот, веками у нас освященный и вытекающий из идеи
христианского государства путь отношения к православной Церкви.
Сказанного нами здесь вполне достаточно для того, чтобы
стала ясной грубая несправедливость Братства по отношению к
историческому и, в частности, православному христианству,
что последнее якобы забыло обязанность «действенно
осуществлять вселенскую правду богочеловечества» в
экономической, общественной и государственной жизни людей. И мы
посоветовали бы Братству с «отшельническим ужасом» отвер-
* Победоносцев К. П. Моск<овский> сборн<ик>. М., 1901. С. 10.
Отклики
113
нуться от явной клеветы на историческое христианство и
показать нам свой настоящий облик, настоящую причину своего
озлобления на историческое и особенно на православное
христианство. Эта-то причина и выступает пред нами рельефно там,
где Братство от «общей» задачи своей практической
деятельности переходит к указанию задач «частных». Здесь мы видим,
что Братство негодует на православную русскую Церковь не за
то, что последняя якобы в принципе против своего участия в
общественной и политической жизни России, а за то, что она это
участие проявляет в нежелательном для Братства духе. Но это
уже особая статья, и об этом мы поговорим в скором времени.
От общей задачи «Христианского братства борьбы» мы
переходим к рассмотрению его частных задач, где так ярко
сказалась физиономия «Братства».
В ряду этих частных задач первой задачей Братства является
«борьба с самодержавием». Самодержавие, по заявлению
Братства, на русском народном теле оказывается «бесконечно»
ужасным, злокачественным нарывом, который отравляет и
парализует собой все отправления народной жизни». Ни о каких
действительных улучшениях, ни о каком оздоровлении
общественного организма, пишет Братство, не может быть речи
раньше, чем не вскрыть этот нарыв. И потому, заключает Братство,
борьба с самодержавием выдвигается в число первых по
времени задач Братства.
Такое легковесное порицание Братством русского
самодержавия в точности скопировано с подпольных изданий
многочисленных у нас комитетов Российской
социал-демократической рабочей партии и Российской социал-революционной
партии. В самом деле, почему Братство не постаралось
обосновать свой взгляд на русское самодержавие на данных русской
партии, русского государственного права и особенно на
мировоззрения русского народа? Ведь ни для кого не тайна, что
русский народ чтит в самодержавном царе своего «царя-батюш-
7CZ/», «царя-кормильца ». Наш многомиллионный крестьянин
знает и хорошо знает, что только благодаря царю-батюшке
порвалась на Руси цепь великая и десятки миллионов кровных
русских людей получили возможность быть людьми... Только
от царя-батюшки русский народ и ждет к себе действительно
отеческого, а не наемнического отношения. И никакие
софистические ухищрения Братства не похитят из сердца народного
этой веры и надежды. И что взамен этого предложит Братство
русскому человеку? Политический строй западноевропейских
114
И.АИВАЗОВ
государств с их «оздоровленным общественным организмом»!..
Но ведь и на Западе теперь увидели, что поколебалась вера в
парламентаризм как в универсальное средство от всех недугов
политической и общественной жизни человека. К чему же
одевать русского человека, да еще в его же доме, в дырявую
галошу? Разве с той только целью, чтобы в целые одеться самому!
Тогда понятны потуги Братства на похуление исторического
сокровища русского народа — самодержавия. Только
самодержавие, опирающееся на честный голос и чистую совесть
народных представителей, способно стоять неодолимой
преградой на пути к наглому и безнаказанному обирательству русского
народа разными политическими проходимцами.
Борьбу с самодержавием Братство намерено вести, главным
образом, двумя путями: с одной стороны, оно будет обличать
перед всем народом, во всех классах общества религиозную
неправду самодержавия, а с другой — примыкая к другим
партиям, будет бороться с самодержавием как с злой политической
и общественной силой и работать на установление в России
свободного конституционного режима.
В чем же, по мнению Братства, состоит религиозная
неправда самодержавия? Об этом мы узнаем из послания Братства
к «епископам русской Церкви» и отчасти из его воззваний: к
«войскам» и к «крестьянам». В послании «к епископам
русской Церкви» названное Братство обращается к предстоящему
на Руси Поместному собору с просьбою освободить
религиозную совесть мирян от страшного соблазна. Сущность этого
«соблазна» такова:
По определению закона самодержавная власть
неограниченна. Император Всероссийский есть монарх самодержавный и
неограниченный. Это — выражение закона, и значит, смысл его
обязателен для всякого подданного Российской империи.
И значит, когда в самые торжественные минуты богослужения
нас приглашают молиться за самодержавного царя, мы
должны молиться за него как за неограниченного монарха. А между
тем мы не только не можем молиться за неограниченного
монарха, но и решительно не можем просто его признавать, ибо
такое признание есть явное отступничество от Христа и
продажа своей христианской свободы. Почему — это видно из
дальнейшего. Признавать по совести царя своим
неограниченным государем — это значит признавать, что он может делать с
признающим так все, что захочет (ибо власть его неограниче-
на), может приказать ему все, что хочет, и он должен
повиноваться всякому приказанию, каково бы оно ни было, согласно
Отклики
115
обещанию, ибо обещание дано было по совести. Значит, если
царь прикажет поклониться идолу или совершить
богохульство, то и тут признающий царя своим неограниченным
государем должен будет повиноваться согласно обещанию...
Признание царя самодержавным равносильно утрате всякой свободы.
Признавший царя своим неограниченным государем тем самым
окончательно теряет возможность служить Христу; ибо такое
признание заключает в себе потенциальное утверждение, что в
случае возникновения дилеммы — царь или Христос — нужно
стоять за царя, а не за Христа. Признавший царя
неограниченным государем навсегда и окончательно выбирает себе
господина; но выбрав в действительности одного господина, он уже
теряет свободу и возможность служить всякому другому, т. е. не
может служить и Христу, ибо сказано Христом: «никто не
может служить двум господам» (Мф. 6, 24).
Таким образом, каждый акт согласия на признание
неограниченной царской власти равносилен утверждению в далеких
логических следствиях отпадения от Христа, т. е. признание
самодержавия есть скрытое (а для тех, кто сознает это, и явное)
отступление от Христа; и значит, с христианством такое
признание абсолютно несоединимо и религиозною совестью
неприемлемо.
На это могут сказать, что самая дилемма — царь или
Христос — невозможна, ибо царь, по вере церковной и народной,
является помазанником Божиим и исполнителем не своей
воли, а воли Самого Бога. Но те, кто так утверждают, пусть
зададут себе по совести такой вопрос: тем, что царь помазанник
Божий, отнимается ли у него возможность и отпасть от
Христа? Если не отнимается, тогда сказанное выше сохраняет всю
свою силу. Если же отнимается, если признается что царь не
только благочестив, но и выше возможности погрешить, т. е.
выше всякого греха, тогда получается уже нечто совсем
неподобающее. Вся условность человеческого существа снимается с
царя, он становится безусловным абсолютом, человекобогом,
богом. Остается воздвигать ему алтари и кадить фимиамом,
воздавая божеские почести, как это делали в древнем
языческом Риме. А в Писании сказано: «да не будут тебе бози инии
разве Мене». Наша Церковь считает за ересь папизм, но тут
больше папизма, тут языческий необузданный цезаропапизм,
открытое поклонение «гению» императора, забвение святой
крови всех мучеников первых времен христианства, и больше
того: тут уже совершается поклонение еще не пришедшему
Зверю, ибо в самом принципе самодержавия лежит возмож-
116 И.АЙВАЗОВ
ность Антихриста. Это понято народным религиозным
сознанием. Изучающие раскол знают, как много места в нем
занимает ужас пред антихристианским наклоном самодержавной
власти (значит, может быть и христианская самодержавная
власть?..).
Чувствуя, очевидно, слабость влияния на народный ум
своих рассудочных доводов в отвержение самодержавия, Братство
далее пытается подкопаться под веру народную в
самодержавие путем тенденциозного разбора библейских оснований
«культа» самодержавной власти.
Часто, пишет Братство в том же послании «к епископам
русской Церкви», приводят слова ап. Петра: «будьте покорны
всякому человеческому начальству, для Господа: Царю ли, как
верховной власти, правителям, от него поставленным для
наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Петр.
2, 13—14). Из этого заключают: раз ап. Петр заповедует
покорность всякому человеческому начальству, то значит и
покорность самодержавному царю. Сколько лжи и отступничества в
таком формально правильном заключении, видно из
следующего. Когда тому же самому ап. Петру «начальники,
старейшины, книжники, первосвященники и прочие из рода перво-
священнического» (Деян. 4, 5—6) приказали «не учить об
имени Иисуса» — что сделал ап. Петр? Повиновался ли во
исполнение своих же слов: «будьте покорны всякому
человеческому начальству»? Конечно нет. Вместе с ап. Иоанном —
«столпом Церкви», он сказал: «судите, справедливо ли пред
Богом слушать вас более, нежели Бога» — и отказался
повиноваться. В другой раз на второе запрещение Петр, вместе с
другими Апостолами (значит, это голос всех апостолов) сказал еще
яснее и резче: «должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам» (Деян. 5, 29). Значит, ап. Петр учит нас
повиноваться человеческому начальству не всегда и не безусловно, а
только тогда, когда приказания этого начальства не
противоречат нашей совести, и больше того — своею жизнью ап. Петр
учит нас быть непокорными и открыто не повиноваться
человеческому начальству, когда оно запрещает делать то, что мы
считаем нашим религиозным долгом. И значит, у ап. Петра мы
можем найти не защиту самодержавия (всякого ли?1), а
совершенно ясный завет открыто заявить и исповедать религиозную
неправду самодержавия и отказаться его признавать (sic!).
Другим библейским местом, на котором Братство
останавливает свое внимание, служат известные слова ап. Павла в его
послании к Римлянам (13, гл. 1—2).
Отклики
117
Если, пишет далее Братство, словами ап. Петра
злоупотреблять невозможно ввиду ясных других его слов, то, быть может,
хоть с видимостью правдоподобия можно недобросовестно
использовать следующие слова ап. Павла: «всякая душа властем
предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не от Бога...»
(Рим. 13, 1—2. Стоило бы выписать и дальнейшие слова
ап. Павла!). К счастью, и этого сделать нельзя ввиду одного
несомненного и бесспорного факта: как признает Церковь, ап.
Павел, говоря словами мужа апостольского Климента Римского,
«мученически засвидетельствовал истину пред правителями»
(Поел. Клим, к Кор. 5 гл.), т. е. вместе с другими мучениками
погиб за то, что отказался воздать императорской власти
божеское поклонение. Этот факт прежде всего значит, что тот же
самый апостол, который говорил: «несть бо власть, аще не от
Бога», не только не считал возможным исполнять всякое
приказание этой, по его же словам, Богом установленной власти,
но даже открыто не повиновался ей и не слушал известных ее
приказаний, за что и поплатился мученичеством. Этим ап.
Павел учит, что из того, что власть установлена Богом, вовсе
нельзя заключать, что она не имеет пределов, является
неограниченной и может прикрывать все, что угодно. Фактом своего
мученичества апостол указывает, что императорскую власть в
качестве неограниченной, т. е. посягающей на то, что ей не
принадлежит, он не признавал. А если мы скажем, что в этом
направлении, т. е. в мученичестве, он, Богом вдохновенный святой
апостол, поступал не по случайным соображениям, а
действовал, как он считал должным действовать, то, значит, в его
непризнании неограниченной императорской власти лежит
прямой завет всем верующим так же, как и он, ее не признавать и
открыто заявлять о своем непризнании. Если же мы вспомним,
что в этом непризнании ап. Павел был не одинок, а с ним
вместе не признавали целые тысячи святых мучеников и
запечатлели свое непризнание мученической кровью, то получится,
что вся эта святая кровь ставит нам тот же завет, что и святые
апостолы: во имя Христа отказаться от признания нашей
теперешней неограниченной царской власти — самодержавия.
Выводы, к которым приходит Братство на основании
высказанных соображений, таковы:
Самодержавие абсолютно неприемлемо христианскою
совестью. Сознательное признание его равносильно отступничеству
от Христа, и потому Русская Церковь, не искушая более
долготерпения Божия, должна первым своим сознательным и
воистину церковным, т. е. Христовым действием сделать исповеда-
118
И.АИВАЗОВ
ние «истины пред правителями», т. е., другими словами — на
предстоящем Соборе необходимо именно Церкви потребовать
от царя отказа от самодержавия и сделать это исключительно
во имя религиозных соображений. Этим мы вовсе не говорим,
что Церковь не должна была и не должна теперь бороться с
самодержавием и как со злой политической и общественной
силой. Но только делать это она должна не чрез духовенство, а
чрез мирян, ибо «каждый должен служить сообразно с тем
даром, который получил от Бога (sic!). На церковном Соборе,
созванном для устроения Церкви, мотивировка может быть
только религиозная. Итак, вот чего мы ждем от Собора прежде
всего. Только совершив это, Собор получит действительную
свободу, без которой совершенно немыслима сознательная
работа по устройству Церкви на канонических основаниях.
Вот все, что могло сказать Братство в обличение
религиозной неправды русского самодержавия. Те же мысли, но в более
популярной форме, оно проводит и в воззваниях «к
крестьянам» и «к войскам», призывает тех и других «не служить
царской власти, богохульно называющейся самодержавной... не
идти на войну и не усмирять бунтовщиков... не убивать
японцев, а молиться за них, как за врагов»...* Все это уснащено
ссылками на общеизвестные тексты из Св. Писания Нового
Завета с присоединением к ним известных миссионерам
толкований.
Мы с целью полностью привели вышеизложенные доводы
Братства, направленные против самодержавия, чтобы при
разборе оных нас кто-либо не заподозрил в передержке мыслей
Братства.
Итак, Братство считает признание царя за самодержавного
и неограниченного монарха несовместимым с религиозною
совестью христианина, потому что такое признание является
для последнего якобы «явным отступничеством от Христа и
продажею своей христианской свободы*. Но так ли? Где
основания для подобного утверждения? Как мы видели, Братство
черпает их в рассудочных соображениях, в рассуждении о том,
что такое «неограниченная* власть. По мнению Братства
неограниченный государь может делать с признающим его по
совести за такового «все, что захочет*, может приказать ему
«все, что хочет*, и последний должен повиноваться «всякому
* Нам пришлось убедиться на основании многих бесед с солдатами,
что пропаганда таких идей широко развилась в наших войсках на
Дальнем Востоке.
Отклики
119
приказанию», каково бы но ни было, будет ли то приказ
«поклониться идолу, или совершить богохульство» или т. п.
Посему-де признание царя за неограниченного монарха и является,
по мнению Братства, равносильным утрате всякой свободы.
Нельзя не подивиться наивности «братских» рассуждений и
неверности сделанных им выводов. Прежде всего необходимо
заметить, что Братство задалось целью бороться с русским
самодержавием. Посему ему нужно было сперва доказать, что
неограниченная власть русского царя, по существу своему и на
основании действующих в России законов, является именно
такой, какой выставило Братство вообще «неограниченную»
власть. Между тем Братство главное оставило в стороне, а
пустилось в абстрактные рассуждения о «неограниченной» власти,
как будто вопрос о том, что именно с такими свойствами
является на Руси самодержавная власть, не подлежит сомнению!..
Да при том и в этой абстрактной области Братство, попросту
говоря, напутало, смешав не только неограниченность
абсолютную, свойственную Богу, с условною, доступною человеку,
но и с произволом. Власть произвольная действительно
основана на «хотении», игнорирующем мотивы нравственного
порядка и чувство законности, на которые опирается в идее своего
существования власть неограниченная. И смешивать власть
произвольную с властью неограниченною, как то делает
Братство, по меньшей мере неосновательно. Но оставив счеты
Братства с казуистикой, посмотрим, действительно ли
«самодержавная и неограниченная» власть русского монарха
несовместима с религиозною совестью христианина, как будто
лишающая его христианской свободы?
Что такое «неограниченность» власти русского царя? Есть
ли эта «неограниченность абсолютная, самодовлеющая, или же
условная, почерпающая свою жизненность извне! Для
решения этого вопроса обратимся к Основным Законам Российской
империи. В ст. 1-й читаем: «Император Российский есть
Монарх самодержавный и неограниченный. — Повиноваться
верховной Его власти не только за страх, но и за совесть Сам Бог
повелевает». Здесь власть русского монарха выступает пред
нами с тремя свойствами, — она является верховной,
самодержавной и неограниченной*; иначе, русскому монарху принад-
* По толкованию лучших юристов, выражения «самодержавный» и
«неограниченный» означают одно и то же и употреблены вместе
для большей ясности (см.: Коркунов U.M. Русск<ое> госуд<ар-
ственное> право. Т. I. 1904. С. 203—204).
120
И.АИВАЗОВ
лежит высшая в государстве власть и притом вся темнота
государственной власти — власть законодательная, судебная и
управительная, сосредоточена в его руках*. Необходимость
повиновения такой власти закон, что особенно важно, объясняет
повелением не самого монарха, как в абсолютных монархиях,
а Бога — «Сам Бог повелевает». Следовательно, власть русского
монарха не самодовлеющая, а в своем происхождении и
содержании поставляется законом в зависимость от велений закона
Божия. Посему русский самодержец, если и «неограниченный
монарх», то не в абсолютном смысле этого слова, а в условном,
т. е. не ограниченный волею подданных Российской империи и
всецело зависимый от Бога во всех своих действиях. Как
нельзя лучше полная зависимость русских монархов от Бога
сказывается в глубоком по своему значению обряде венчания
их на царство**. По вступлении на престол над русским
царем, в заранее объявленное по соизволению его время,
совершается, как и над его августейшею супругою, священное
коронование и миропомазание. Местом священнодействия служит
московский Успенский собор. Самое священнодействие
совершается по особому чину православной Греко-Российской
Церкви, в присутствии представителей от высших государственных
установлений и от всех сословий империи. Прежде
коронования государь на вопрос московского митрополита: «како веруе-
ши? » — отвечает произнесением вслух собравшихся
представителей государства и пред лицом Церкви православного Символа
веры, а затем уже, по облачении в порфиру, получает из рук
святителя венец, возлагает его себе на главу и, по
воспринятой скипетра и державы, увенчанных крестом, «призывает —
говорит закон (примечание 2-е к ст. 36 Закон Основн.) — Царя
Царствующих, в установленной для сего молитве с
коленопреклонением, да наставить его, вразумить и у править в
великом служении, яко царя и судию царству Всероссийскому, да
будет с ним приседящая Божественному Престолу
Премудрость и да будет сердце его в руку Божию, во еже вся устроити
к пользе врученных ему людей и к славе Божией, яко да и β
день суда его непостыдно воздаст ему слово». Итак, русский
* См.: Коркунов Н.М. Русск<ое> госуд<арственное> право. Т. I.
1904. С. 200; Дружинин Н.П. Общепон<ятное> законоведение.
М., 1898. С. 163—165.
* См.: Киреев А. Краткое изложение славянофил<ьского> учения.
СПб., 1896. С. 37—38; Дружинин Н.П. Общепон<ятное> законо-
вед<ение>. С.166.
Отклики
121
монарх публично, пред Церковью и народом, связует себя
послушанием православной Церкви Христовой и только после
сего (ст. 13-я и 41-я Осн. Зак.) получает от Бога чрез пастыря
Церкви корону, снова и с поразительною ясностью исповедуя
Бога своим Царем, Наставником и Судиею, вручившим ему
великое царское служение к пользе людей царства Всероссийского
и к славе Божией. Посему-то царь на Руси признается «Богом
избранным» и действует «Божиею поспешествующею милое-
тию» *.
Если же воля русского монарха в своих проявлениях и в
своем существе всецело ограничивается волею «Царя
Царствующих», если русский монарх принимает от Бога великий
жребий царскрго служения только «к пользе врученных ему людей
и к славе Божией», то ясно, он не должен, нравственно не
может в силу этих полномочий делать с своими подданными
«все, что захочет»у не может приказать им «все, что хочет»,
хотя бы «поклониться идолу, или совершить богохульство»,
как не может лишить их и «христианской свободы»].. Нет,
русский монарх в силу своей власти не может, оставаясь
русским монархом, заставить своих подданных «поклониться
идолу, или совершить богохульство», потому что «Царь
Царствующих», волю Которого он призван исполнять, ясно сказал: «не
сотвори себе кумира и не поклоняйся ему» и еще: «не хули
имени Моего пред народами». И если бы что-либо подобное
случилось на Руси с монархом, то он перестал бы в совести
народа быть «Божьим слугою», что то же, перестал бы быть на
Руси монархом. Совершенно справедливо говорит Л.
Тихомиров: «Монарх несет в своем царствовании лишь службу Богу.
Такой власти народ подчиняется безгранично, в пределах ее
Божия служения**, т. е. пока монарх не заставляет подданного
нарушать воли Божией и, следовательно, сам перестает быть
слугою Бога» ***. Когда воля монарха выйдет из подчинения
воле Божией, тогда она перестает быть обязательной для его
подданных. Это краеугольный камень русского самодержавия.
«Воля Отца Небесного... польза людей царства Всероссийского
и слава Божия», или, как говорит митр. Филарет, «святость
власти и союз любви между государем и народом» — вот
печать, которою должны быть запечатлены все веления русского
Коркунов Н. М. Русск<ое> госуд<арственное> право. Т. I. С. 208—
236.
Курсив мой.
Тихомиров Л. Монархическая государственность. Ч. 1. С. 112.
122
И.АЙВАЗОВ
монарха8. Недаром известный французский социалист Луи
Блан в своей «Revue du Progrès» писал: «Необходимо, чтобы
власть получила узаконяющую ее санкцию со стороны
свободно выраженной воли всех граждан или же рассматривалась
как воля Господа Бога. Выбирайте одно из двух: народ или
папу!» И действительно, все защитники власти,
делегированной от народа как суверена, признают, что такою делегациею
уничтожается взгляд на монарха как на «небесного
помазанника», как на получившего свою власть от Бога*. Здесь уже
абсолютом является единственно воля народная, совершенно
исключающая всякий другой источник власти, кроме
коллективной воли всех граждан. Божественное начало сменяется
чисто человеческим; гарантией благополучия граждан являются
не этически-религиозные обязательства власти пред Богом, а
чисто правовые, юридические акты договорного характера с их
мертвою и человеческою «правдою», с порабощением
сильными мира сего слабых, так как голос первых в наше
развращенное время при избрании правителей легко порабощает голос
последних. Вот здесь-то и происходит настоящее подавление в
людях христианской свободы, настоящее порабощение в
людях христианской совести. Подчинение индивидуума власти
происходит уже не за совесть, а за страх.
Из сказанного мною о «неограниченности» власти русского
монарха сама собою вытекает глубокая несправедливость
другого упрека Братством царю, по которому признание его
«неограниченным» якобы равносильно «отступничеству от
Христа». К такому заключению «Братство» приходит на том
основании, что «признавший царя неограниченным государем
навсегда и окончательно выбирает себе господина; но, выбрав
в действительности одного господина, он уже теряет свободу и
возможность служить всякому другому, т. е. не может служить
и Христу, ибо сказано Христом: "никто не может служить
двум господам"» (Мф. 6, 24). Жалкое недомыслие! Ведь
Христос говорил о невозможности служить двум господам, не
имеющим между собою ничего общего и даже исключающим друг
друга, — это «Богу и мамоне». Но русский самодержец разве
своею волею исключает волю Бога? Разве он не исповедует
Бога своим «Царем, Наставником и Судиею», разве не отдает
сердце свое «в руку Божию» и не считает себя лишь «Божиим
* См. статью проф. M. М. Ковалевского «К истории избирательного
права» (с. 360) в приложении к соч<инению> проф. Пифферуна
«Европейские избирательные системы».
Отклики
123
слугою»? А если так, что неоспоримо, то можно ли сколько-
нибудь серьезно говорить, что избравший себе царя господином
не может уже служить другому господину — Христу?! Ведь
царь потому только и признается «господином», что исполняет
волю не свою, а «Господина господь», или «Царя Царей» —
Бога. Верховная власть в мире одна — это Божья, и однако
Писание повелевает покоряться и царю как «верховной власти», но
только для Господа (1 Петр. 2, 13). Что же: или и ап. Петр
учил «отступлению от Христа»?! И какою «наивностью»
дышит заявление Братства, что в случае дилеммы: царь или
Христос признавший царя «неограниченным государем» должен
стоять за царя, а не за Христа!.. Да почему же? Ведь русский
монарх признается неограниченным только волею подданных,
но слугою Божиим. Следовательно, если возникнет дилемма:
царь или подданный, то необходимо стать за Царя; но, по
здравой логике, отсутствием которой страдает Братство, при
дилемме: царь или Христос, что то же: слуга или господин,
необходимо стать за Христа, Которого сам русский монарх публично
исповедал своим «Царем и Судиею». Возможность означенной
дилеммы мы в принципе допускаем, так как считаем
противным христианскому сознанию тип древнеримского «кесаря»,
наделенного атрибутами Бога*. По долгу справедливости,
почему бы Братству не взглянуть на тех защитников
«народничества», которые боготворят коллективную волю граждан. Но
тут уж Братству пришлось бы бичевать самого себя. И
замечательна близорукость Братства: оно почему-то только в
«принципе самодержавия» допускает возможность Антихриста, только
в самодержавной власти допускает антихристианский наклон,
как бы не видя, что парламентаризм явно отверг и именно в
принципе Божественную санкцию власти, а истинное
самодержавие, разумею русское, наоборот, в принципе поставило себя
в полную зависимость от Бога!..
Перейдем теперь к разбору «братской» критики библейских
оснований «культа» самодержавной власти. Здесь уже мы
сталкиваемся с типичною сектантскою манерою обращения с
текстом Св. Писания: то же насилие над мыслью текста, то же
урезывание и подтасовка текстов!..
Прежде всего Братство приводит слова ап. Петра, впрочем,
не вполне в точной передаче: «будьте покорны всякому
человеческому начальству, для Господа Царю ли, как верховной вла-
* См. нашу книгу «Орловск<ий> мисс<ионерский> съезд в связи с
вопросом о свободе совести» (1901. С. 99—100, 103—104).
124
И.АИВАЗОВ
сти, правителям от него поставленным (правителям ли, как от
него посылаемым?) для наказания преступников и для
поощрения делающих добро» (1 Петр. 2, 13—14). Из этого, рассуждает
Братство, защитники самодержавия заключают: «раз ап. Петр
заповедует покорность всякому человеческому начальству, то
значит и самодержавному царю». Да, скажем мы: «и
самодержавному царю*. Напрасно только Братство приписывает такое
заключение «защитникам самодержавия», когда его сделал сам
ап. Петр, который к словам: «будьте покорны всякому
человеческому начальству, для Господа» — добавил: «Царю ли, как
верховной власти». А «верховная» власть в России разве не
есть «самодержавная»?* Значит, покорность «верховной» —
самодержавной власти русского царя повелевают христианам
не только «защитники самодержавия», а и великий ап. Петр.
Но, конечно, как мы и раньше сказали, такая покорность
происходит только при условии подчинения монарха воле «Царя
Царствующих», что и разумел ап. Петр в словах: «для
Господа». Покорность самодержцу есть покорность Господу, его
пославшему; а противление самодержцу является противлением
Богу (Рим. 13, 1—2). Покорность самодержавному царю, ясно
заповеданную ап. Петром, Братство силится ослабить и даже
отвергнуть указанием на два случая, когда ап. Петр отказался
повиноваться «человеческому начальству», сказав: «судите,
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога»
(Деян. 4, 19), и в другой раз: «должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29). Казалось бы, что если в
словах ап. Петра здесь видеть отрицание человеческой власти,
то всякой, а не только самодержавной, как то хочется
Братству. Но ничего такого ап. Петр не говорил. Он только выяснил
мысль о необходимости «слушать и повиноваться Богу больше,
нежели человекам». Высшая власть в мире, которой все, в том
числе и человек подчинен, — это власть Бога. Бог — источник
человеческой власти. Последняя не должна выходить из
повиновения Богу; в случае же дилеммы: Бог или человек, совесть
христианина должна стоять за повиновение Богу. Вот что
старался ап. Петр выяснить в вышеприведенных словах.
Никакого отрицания человеческой власти вообще, и в частности
власти «верховной» — самодержавной, мы не находим не только у
ап. Петра, но и нигде в Св. Писании. Единственно, о чем
твердит нам Божественное Откровение, — это необходимость для
* И в «Основ<ах> зак<онодательства> Росс<ийской> имп<ерии>»,
ст. 1, то же читаем.
Отклики
125
нас повиновения «предержащим» властям, в том числе и
«верховной власти Царя»; а для властей необходимость
повиновения воле Божией, необходимость быть слугами Божиими.
Такой же смысл имеет и другое библейское место, взятое
Братством из послания ап. Павла к Римлянам: «всяка душа
властем предержащим да повинуется. Несть бо власть, аще не
от Бога»... (13 гл. 1—2 ст.)*. По мнению Братства, и эти слова
нельзя использовать в защиту самодержавной власти.
Замечательно, что Братство совершенно уклоняется от анализа
мысли, заключающейся в словах ап. Павла к Римлянам (13, гл. 1 и
2 ст.), а силится вывести излюбленное им отрицание
самодержавия из того факта, что-де ап. Павел «мученически
засвидетельствовал истину перед правителями» (1-е поел, к Коринф.
Св. Климента, еп. Римск., гл. V). Ап. Павел, рассуждает
Братство, погиб за то, что отказался воздать императорской власти
божеское поклонение. Значит, заключает Братство, апостол не
считал возможным исполнять всякое приказание этой, по его
же словам, Богом установленной власти; более того, он
открыто не повиновался ей и не слушал известных ее приказаний.
Своим мученичеством, по мнению Братства, ап. Павел учит,
что из того, что власть установлена Богом, вовсе нельзя
выводить, что она не имеет пределов, является «неограниченной» и
может приказывать все, что угодно. В смерти ап. Павла
Братство видит завет всем верующим не признавать
«неограниченной императорской власти», как не признал ее сам апостол.
Посему оно и призывает «во имя Христа отказаться от
признания нашей (русской) теперешней неограниченной царской
власти — самодержавия.
Сколько в рассуждениях Братства беззастенчивой лжи и
сознательных подтасовок!.. Прежде всего удивителен этот скачок
от языческого римского кесаря к православному самодержцу!..
Ведь ап. Павел имел дело не с русским же царем?! И русский
царь не римский же кесарь?! «Представитель власти в
христианском государстве, пишет В. С. Соловьев, не есть только
обладатель всех прав, как языческий кесарь, — он, главным
образом, есть носитель обязанностей христианского общества по
отношению к Церкви, т. е. к делу Божию на земле»... «В
языческом мире, — говорит И. С. Аксаков, — не существовало вне
государства высшего идеала общежития; государство было
* Очевидно, Братство не пожелало сделать полную выписку проци-
тованных им 1-го и 2-го стихов, так как уж слишком ясно они
изобличают ложь Братства!..
126
И.АЙВАЗОВ
для него выражением высшей истины. Само в себе имеющее
цель, само для себя существующее, само олицетворенное
божество, такое государство (каковым был Рим) стало уже
немыслимо в мире христианском. Христианство, открыв человеку и
человечеству высшее призвание вне государства и высший
идеал вселенского единства в Церкви, отвело государству
настоящее, подобающее ему место, ограничило его значение
значением "царства от мира", указало предел "кесарю", одним словом,
поставило над кесарем Бога и провозгласило то высшее,
божественное начало, которому подчинена личная совесть и
правящих и управляемых, а следовательно, подчинено нравственно
и государство и всякий иной вид человеческого общежития.
В наши дни именно на Западе мы видим попытку "кесаря"
раздвинуть пределы того, что ему отведено, и захватить то, что
принадлежит "Богови". Он не мирится с мыслью, что над ним
есть Бог — Царь Царствующих; он не терпит над собою
никакого высшего начала и стремится поэтому вытеснить Бога,
Церковь, а с ними и душу и совесть, заменить их
исключительно "правовым порядком"... внести правовое, юридическое,
государственное начало повсюду»... *
Не ясно ли, что между римским кесарем и вообще той
властью, с которою имел дело ап. Павел, и властью русского
самодержца непроходимая пропасть!.. Кесарь отверг «Бога» и
признал превыше всего себя самого. Получив власть от Бога, он,
подобно нашим прародителям, захотел сам стать Богом и
объявил себя таковым, т. е. никем не ограниченным властелином,
воля или хотение которого абсолютный закон. В его лице
власть действительно в самом существе своем богопротивна,
антихристова, как исключающая верховенство воли Божией,
или власти Царя Царей. Конечно, подчинение такой власти
ап. Павел отверг, потому что абсолютно неограниченным
признавал только Бога, от которого получили право на
существование все высшие человеческие власти — эти слуги Божий,
установленные им для насаждения в мире добра (Рим. 13,
гл. 1—2 ст.). Вслед за ап. Павлом и все христиане должны
отвергнуть, хотя бы ценою мученичества, власть римского
«кесаря», но никак не верховную власть самодержца, которая, как
сказано выше, «не ограничена» лишь волею граждан, но
всецело ограничена волею Бога. Никогда русские самодержцы не
посягали, по самому существу своей власти, на Божье; никогда
* См. нашу брошюру «Орловск<ий> мисс<ионерский> съезд в связи
с вопрос<ом> о своб<оде> совести» (с. 99, 100, 103).
Отклики
127
не объявляли законом «свое хотение» и не требовали себе
божеского поклонения. «Не мне, не мне, скажет он, а имени
Твоему, Господи», так как я исповедал Тебя своим Царем, а себя
Твоим слугою. И такой власти ап. Павел повиновался, и такую
власть, делегированную от Бога, он заповедал нам в послании
к Римлянам, как и ап. Петр в своих посланиях, почитать и ей
повиноваться. «Бога бойтесь. Царя чтите», чтите «как
верховную власть» и притом «для Господа», говорит ап. Петр (1 Петр.
2, 13—17 ст.). «Всякая душа да будет покорна высшим властям,
вторит ап. Петру св. ап. Павел, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13, 1—2). И мы
знаем, что языческий мир, отвергнув власть как Божие
установление, тем навлек на себя осуждение, погубив против своей
воли самочинную власть «кесаря» и созданное ею на глиняных
ногах величие Римской империи.
Из всего доселе сказанного, в противовес «выводам»,
сделанным Братством из разобранного нами его обличения
религиозной неправды самодержавия, следует заключить, что
русское самодержавие вполне приемлемо христианскою совестью
как свято оберегающее христианскую свободу, приводящее ко
Христу и согласное с библейским учением о власти.
^^Э-
^5^
К. ГРИГОРЬЕВ
К вопросу о христианском отношении
к собственности
Открытое письмо господину Эрну
Милостивый Государь!
С живейшим интересом и полным вниманием я прочитал
Вашу статью «Христианское отношение к собственности»,
помещенную в 8—9 (1905) книгах журнала «Вопросы жизни»1.
Вы затронули в своей статье чрезвычайно важную проблему
христианской совести и жизни, дали ей прямую и отчетливую
постановку, бесстрашно и с увлекательной искренностью
сделали окончательные выводы. Для меня особенно дорого в Ваших
мыслях то, что Вы обсуждаете вопрос и в мистическо-цер-
ковном порядке, т. е. связываете его с живой душой
христианства. Здесь же именно и то оригинальное, что отличает Вас от
гр. Л. Н. Толстого, с которым Вы одинаково смотрите на
христианское отношение к собственности. Все это не может не
волновать каждого, прочитавшего Вашу статью, и если я буду
единственным или одним из немногих Ваших читателей,
которые обратятся к Вам письменно, то виной тому будет, во
всяком случае, не содержание Вашего этюда.
Высказанные Вами мысли, Ваше решение проблемы
возбуждают множество вопросов, заставляют желать многих
разъяснений. Однако остаюсь в пределах письма и прошу Вашего
внимания к немногому о немногом, но, по моему мнению,
самом важном. Это самое важное, о чем я пишу Вам,
заключается в Вашем убеждении, будто Евангелие безусловно отрицает
личную собственность и необходимо приводит христиан к
общению имуществ. Мне кажется, что здесь Вы уклонились от
евангельской истины. Попытаюсь кратко проверить Ваши
шаги на почве первоисточников нашей веры.
Чтобы сделаться новым творением в Царстве Божием, чтобы
всецело отдаться Христу, нужно освободиться от всего, что
К вопросу о христианском отношении к собственности 129
препятствует душе безраздельно служить Божественному
Жениху. Если любовь к отцу или к матери влечет меня к измене
Христу, если око мое или рука моя соблазняют меня отступить
от Него, я должен «возненавидеть» своих родителей, отнять
члены моего тела и бросить их от себя (Лк. XVI, 26; Мф. XVIII,
8—9). Я должен отречься даже от самого себя. Высказав эти
мысли, Вы делаете из них такой вывод: «но если нужно
отречение от всего, то, значит, и от личной собственности». Для
большей основательности вывод подкрепляется разъяснением:
«существенный признак собственности "мое" в противоположность
всякому другому вносится... психическим моментом,
присвоением, внутренним постановлением предела, границы и
препятствия для другого. А уж фактическая сила и этот психический
момент отчуждения и огораживания материализует и
овеществляет так, что другой уже фактически натыкается на
физическую невозможность пользоваться вещью — собственностью
другого. Живой нерв собственности имеет своим «седалищем»
сознание. И раз он тут уничтожен, — собственность
рассыпается, как ожерелье с перерезанной ниткой. Собственность
подобна жидкости, которая сдерживается стенками сосуда... И раз
порыв ко Христу разбивает эти стенки, то уже от
собственности не останется ничего. Она растекается в разные стороны, и
неутомимость человеческой нужды впитывает ее всю» (с. 249—
251).
Мне кажется, что возможно и вполне законно иное
понимание важнейших пунктов в ходе Ваших рассуждений, которое и
ведет к иному взгляду на отношение к собственности.
Я вполне согласен с Вами, что для всецелой жизни со
Христом нужно освободиться от всего, что может отвлечь душу от ее
Единого Бога. Но что значит эта евангельская истина? Должен
ли я непременно уйти от родителей, вырвать око, уничтожить
самого себя? Нет. Здесь прежде всего предлагается
христианину духовным актом внутреннего усилия воли создать в себе
чувство свободы от того, что влечет его от Христа. На место
чувства зависимости от притягательной силы соблазнов в
христианине должно водвориться чувство уверенной в себе любви
ко Христу, непоколебимой, неуклонной и индифферентной к
соблазну. И если он приобрел такую внутреннюю свободу, то
она сохранит его от измены Христу и в царстве соблазнов, и он
будет любить отца и матерь во Христе, и он будет служить
своими очами и руками делу Божию, и сам будет жить не для
себя, а для Бога. Значит, когда сыновняя любовь, очи и руки
не препятствуют жизни во Христе, то: люби отца и матерь,
130
К. ГРИГОРЬЕВ
укрепляй тело и всеми силами служи Богу твоему. И лишь в
том только случае, когда у христианина недостает силы
создать внутреннюю свободу от соблазна без внешнего удаления
причины соблазна, то пусть он уйдет от соблазнительного, пусть
внешним образом освободится от него, чтобы вдали от
соблазнов воспитать в себе свободу от них. Эта внутренняя свобода
самая надежная и неотъемлемая защита против
соблазнительных влияний, от которых внешним образом невозможно и
уклониться, особенно если жить на миру. Поэтому она более всего и
желательна для христианина, и к ней он стремится после
внешнего удаления от причины соблазна. Внешнее удаление
есть только вспомогательная, временная педагогическая мера
для тех, кто в ней нуждается.
Если это так, то отсюда получаются и по отношению к
собственности не те выводы, какие сделаны Вами. Когда
христианин чувствует наряду с преданностью ко Христу преданность и
к собственности, к своему имуществу и переживает чувство
зависимости от своего имения, то пусть он сделает усилие воли,
уничтожит чувство зависимости, приобретет уверенную в себе
свободу от своего имения. Достигнув этого, он может спокойно
служить имуществом своим Богу и братьям. Но если
собственность, находясь в твоих руках, мощно соблазняет тебя
пользоваться ею для себя самого, то удались от соблазна, отрекись от
имущества своего, чтобы не служить двум господам. И это
отречение не есть принципиальное осуждение собственности и
безусловный отказ от нее, а только педагогическое средство,
обусловленное характером индивидуума. После победы над
чувством зависимости от имущества христианин снова может,
трудясь, приобретать и во имя Божие помогать нуждающимся.
Может быть, Вы скажете, что внутренняя свобода должна
выражаться и вовне, чтобы быть свободной до конца. Да, но
как? Здесь свобода не отрицательная только, а и
положительная, соединенная с господством над тем, от власти чего
свободен. Здесь царственная свобода сынов Божиих и друзей Христа.
Не тот истинно свободен, кто скрылся от своего притеснителя,
а кто победил его, подчинил его себе и управляет им. И
христианин призван господствовать со Христом над плотью, миром и
собственностью. А чтобы осуществить свободное господство над
собственностью, нужно иметь ее и управлять ею. И вот это
свободное христианское господство над собственностью, над
имуществом и должно выражаться в использовании имением на
благо общее. Момент господства в христианской свободе и Вы
отметили, но слабо, не подчеркнули его, не разъяснили. Поэто-
К вопросу о христианском отношении к собственности 131
му-то у Вас даже пояснительные примеры употреблены такие,
в которых нет указания на индивидуальное распоряжение
имуществом. Вы представляете дело так: убил христианин в своем
сознании чувство собственности, и она «рассыпается»,
«растекается», «и неутомимость человеческой нужды впитывает ее
всю». Нет, не рассыпается, не растекается, не разбирается
нуждающимися, а христианин сам лично и самостоятельно
раздает имущество по своему усмотрению, кому сколько
нужно. Это не придирка к словам. Нет. Здесь Ваши слова заслоняют
момент христианского господства над имуществом и
самостоятельного личного распоряжения над собственностью,
заслоняют принцип индивидуализма, который кладет особый
отпечаток на самый идеал и на норму христианского отношения к
собственности. Чтобы не возвращаться к этой теме и не
повторяться, я позволю себе здесь же сказать еще несколько слов.
В своей статье Вы представляете христианина совершенно
оторванным от имущества. Мне же кажется, что Евангелие
весьма ясно ставит христианина в положительное отношение к
собственности, заповедует ему лично распоряжаться
приобретенным, служить имением во имя Бога ближнему. В
Евангелиях много таких наставлений: благотворите, взаймы давайте,
подавайте милостыню, напой жаждущего, накорми голодного,
одень нагого. Ведь все эти наставления обращены к личности,
к индивидууму, и христианин может их выполнить только
путем личного, самостоятельного употребления того, чем он
владеет. Евангелие предполагает существование собственности и
со своими наставлениями обращается к собственникам. При
этом оно вовсе не отрывает христианина от имущества, а учит
его, как он должен пользоваться собственностью. Тот же, кто
известным образом пользуется приобретенным как орудием,
тот не отрекается, не удаляется от него. И христианин, по
Евангелию, не отрывается от имущества, а сам лично и
самостоятельно при свете богопросвещенной совести
распоряжается им. Это совсем не то, что христианин отрекается от
собственности и она рассыпается.
Вы оправдываете свою мысль о том, что «порыв ко Христу»
соединен с отрицанием собственности*, еще ссылкой на «пси-
* Для очевидцев Христа «порыв к Нему» сопровождался
присоединением к числу спутников Его, переходивших с Ним из города в
город, из селения в селение. Такой образ жизни сам по себе мог
отрывать от домов и имени. Но в настоящее время «порыв ко
Христу» не связан с этим образом жизни.
132
К. ГРИГОРЬЕВ
хологию собственности». Мне кажется, что эта ссылка также
не достигает цели. Разве христианин не может говорить «мое»
в отличие от чужого? Разве ему непозволительно думать и
чувствовать, что у него есть свои руки и ноги? Что тут
безнравственного? Другое дело, когда он переживает свое имение как
имение для себя. Но это касается уже употребления
собственности, своекорыстное пользование которой строго порицается
Евангелием. Чувство собственности в христианстве не
искореняется, но сильно ограничивается и просвещается сознанием,
что все прежде всего и в собственном смысле принадлежит
Богу, по воле которого «человек владеет землей» (Быт. I, 28),
как управитель, обязанный править по мысли своего
Господина. Что же касается существующего насильственного
ограждения собственности, то в настоящее время оно обусловлено
нравственной грубостью людей. Но вполне мыслимо общество, где
собственность ограждается уважением к личности и
общественным мнением. В таком обществе я не буду наталкиваться
и «на физическую невозможность пользоваться вещью
другого», ибо здесь может быть только нравственная невозможность.
Но нравственность вообще и евангельская в особенности
заповедует: «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» (Мф. V, 42).
«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» — эти слова Спасителя содержат как раз почти все
то, что я хотел выразить в предыдущих строках, т. е. мысль о
христиански-свободном личном распоряжении собственностью.
Развивая свой взгляд на христианское отношение к
собственности, Вы находите опору для него в целом ряде евангельских
изречений. Прежде всего — в словах Спасителя: «не можете
служить Богу и Мамоне» (Мф. VI, 24). Конечно, христианин
должен быть свободен от служения Мамоне. Но если он не
может и не должен иметь Мамону своим господином, как не
может он быть двоебожником, то это не значит, что он не может
иметь Мамону своим слугой. Опять-таки христианин должен
быть не только свободным от «сокровищ на земле», но и
господином над ними, должен подчинять их чрез себя воле своего
единого Бога.
По-видимому, гораздо более, чем изречение о Мамоне,
говорят в Вашу пользу слова Спасителя богатому юноше, которые
Вы здесь же приводите. Опираясь на них, Вы решительно
заявляете, что «освобождение от имущества и раздача его
нуждающимся является безусловно необходимым для всякого
христианина... Имущество — собственность мешают, а потому с ними
К вопросу о христианском отношении к собственности 133
и нужно расстаться, расстаться, чтобы быть свободным»
(с. 252). Не осмеливаюсь решительно опровергать Вашего
понимания Христова ответа юноше, но не могу и присоединиться
к нему. Беседа Спасителя с юношей представляет собою один
из таких эпизодов евангельской истории, которые имеют
своеобразную индивидуальную обстановку. Юноша — человек
своеобразного характера и темперамента; Христос мог иметь по
отношению к нему особые намерения. Вполне возможно, что
юноша (который после ответа Спасителя «отошел с печалью»)
был именно таким человеком, который для освобождения от
привязанности к богатству нуждался во внешнем
освобождении от имущества, в хирургической операции. Поэтому
Спаситель и предложил ему продать имение, предложил как
лекарство, как педагогическое средство. Возможно и то, что Иисус
Христос хотел взять этого чистого (Мк. X, 20) и пылкого (Мк.
X, 17) юношу с Собою как ближайшего ученика, чтобы потом
поручить ему дело благовестил. У всех синоптиков2 записаны
слова Спасителя юноше: «приходи, последуй за Мной, взяв
крест» (Мк. X, 21; Мф. XIX, 21; Лк. XVIII, 22). С
ученичеством же, с путешествием из города в город, из веси в весь,
владение имуществом было несовместимым. Все это дает повод
сомневаться в том, что предложение Спасителя юноше имеет
значение общеобязательного правила.
Точно такую, но несомненно общеобязательную заповедь мы
имеем в словах Иисуса Христа, обращенных ко всем:
«продавайте имения ваши и давайте милостыню (Лк. XII, 33)». Вот из
этих слов можно смело, по-видимому, сделать вывод, что
«освобождение от имущества и раздача его нуждающимся является
безусловно необходимым для всякого христианина». Но
содержат ли они в себе действительно мысль об отрицательном
отношении к собственности?
Я не имею ни малейшего намерения ослаблять прямой и
ясный смысл Христова изречения. Мне известно, что в
древнейшем сирийском тексте Евангелий, открытом в 1892 году, 33,
XII Лк. начинается даже так: «продавайте все, что имеете (по-
немецки: verkaufel alles, was ihr habt)...» И все-таки я думаю,
что здесь нет отрицания собственности. Ведь Иисус Христос не
говорит: оставьте, покиньте все, что имеете, отрекитесь,
освободитесь от всякого прикосновения и отношения к тому, что
доселе принадлежало вам, принципиально откажитесь от
всякой собственности, от такого или иного употребления ее. Если
бы Он высказался в таком смысле, то не осталось бы никакого
сомнения в том, что Он безусловно отрицает распоряжение соб-
134
К. ГРИГОРЬЕВ
ственностью. Но Он говорит только «продавайте имения ваши
и давайте милостыню», т. е. говорит об известном личном
употреблении имущества. Личное же распоряжение
собственностью предполагает как факт существование собственности и
даже (косвенно) санкционирует этот факт.
Здесь Вы можете заметить, что если христианин, по
заповеди Спасителя, раздаст все, то он навсегда останется без
собственности. Итак, христианин — без собственности.
Однако мы знаем, что Евангелие заповедует человеку в
течение всей жизни, изо дня в день, из года в год помогать
нуждающимся, давать милостыню, благотворить. Чтобы помогать,
нужно иметь, нужно приобретать, нужно трудиться. Говоря о
собственности, Вы не упоминаете о труде, источнике
собственности. А ведь христианин должен трудиться, чтобы иметь и
помогать. И вот истинный христианин представляется мне в
таком виде: он постоянно и усердно трудится, «делая своими
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»
(Ефес. IV, 28), приобретает «хлеб насущный» себе, а остальное
отдает нищим. Можно ли сказать, что этот христианин
безусловно без собственности? Выражает ли образ его жизни
безусловное отречение от собственности? Думаю, что нет. Здесь
есть пользование орудиями труда, здесь есть известное личное
распоряжение продуктами труда. Наличность всего этого ясно
указывает, что христианин даже фактически не без
собственности. Нечего уже говорить о том, что он и принципиально не
против собственности, ибо во всех Евангелиях и у апостолов
нет ни звука о собственности как таковой. Там говорится
только об известном употреблении собственности. Во времена
Иисуса Христа собственность существовала. Но Он ничего не сказал
о принципиальной стороне этого факта, не осудил и (прямо) не
одобрил принципа личной собственности. Он учил лишь о том,
как должно пользоваться собственностью, строго осуждая тех,
которые безбожно и бесчеловечно пользовались ею для себя
только, и заповедуя служить ею Богу и людям. Евангелие не
убивает принципа собственности и заповедует известное
пользование ею. Рассматриваемые слова Спасителя также не дают
права думать иначе.
Конечно, когда в мире есть нищета, то христианин не может
иметь достатка и даже должен, если попросят, отдать свою
последнюю одежду. При существовании нищеты собственность
христианина фактически является quantité négligeable. Или,
говоря Вашими словами: «сколько же дней, вернее, сколько
часов просуществует этот достаток, т. е. частная собственность,
К вопросу о христианском отношении к собственности 135
если каждого брата и каждую сестру, которые наги и не имеют
пропитания, обогреть, напитать и сделать так, чтобы они не
нуждались в том, что "потребно для тела"»? Во-первых,
достаток не то же, что частная собственность. Даже нищий может
считать собственностью свои лохмотья. Во-вторых, — и это
главное, — если христианин по требованию обстоятельств
(окружающей нищеты) даже совсем отказался бы от
собственности, то это не значило бы, что он принципиально отказался
от нее (мы же рассуждаем принципиально). А раз принцип не
отвергнуть, то при изменившихся обстоятельствах он законно
получает и осуществление. Вполне можно представить
человечество, в котором нет нуждающихся братьев и сестер, и среди
такого человечества христианин будет иметь даже достаток и
пользоваться им по своему христианскому усмотрению.
Все это дает мне основание сказать, что в 33, XII Лук. нет
мысли об обязательном и безусловном «освобождении
христианина от имущества», а есть лишь указание на обязанность
раздавать (лично, активно) имущество нуждающимся (если они
есть).
Личное пользование собственностью не отрицается и в тех
8 стихах VI главы Евангелия от Матфея (25—32), на которые
Вы ссылаетесь. Вполне возможно, что Вы встречали таких
людей, которые замалчивают евангельское место, стыдятся,
конфузятся, в глубине души думая, что ведь это наивно и даже
совсем невозможно. Но на самом деле здесь нет ничего
конфузного даже для представителей исторического христианства,
умеющих читать Евангелие. Сами Вы толкуете это место так:
«для уподобления лилиям необходимо перестать думать о том,
что есть и что пить, не заботиться о завтрашнем дне, а
возможно ли при таком состоянии быть связанным с собственностью?
Конечно, нет. Вот почему Христос непосредственно за словами:
«посмотрите на лилии полевые», говорит: «продавайте имения
ваши и давайте милостыню» (с. 254).
Разумеется, Вы не станете отрицать того элементарного
правила экзегетики, по которому для истинного понимания какого-
нибудь места в Евангелии необходимо иметь в виду совокупность
всех евангельских изречений, так или иначе касающихся того
же предмета. И вот я припоминаю здесь слова Молитвы
Господней: «хлеб наш насущный даждь нам днесь» и заповеди
Спасителя: «ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам» (в той же VI гл. Мф., ст. 33), давайте
милостыню, благотворите, взаймы давайте, кормите алчущих,
одевайте нагих. Зная и помня это, как я могу подумать, что
136
К. ГРИГОРЬЕВ
Спаситель мог учить полной лилейной беззаботности по
отношению к тому, что есть и во что одеться. Да если я не буду
заботиться об этом, то чем я накормлю голодного, одену нагого?
Однако, несомненно, что те восемь стихов не вымышлены.
Попытаемся же снова прочитать их. В первом из них слова: «не
заботьтесь для души вашей», в последнем: «потому что всего
этого ищут язычники». Затем, непосредственно после 32 стиха:
«ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам (это, т. е. что есть и во что одеваться).
Общая же тема речи Спасителя указана в 15, XII Лук.:
«смотрите, берегитесь любостяжания» и в 24, VI Мф.: «никто не
может служить двум господам... не можете служить Богу и
мамоне». Смысл слов Христа о лилиях открывается в полном
согласии с заповедью о помощи ближним! Спаситель порицает и
отвергает языческую заботу человека о пище и одежде «для
души своей», любостяжательную заботу, при которой «пища
и одежда» являются мамоной, богом, господином человека.
Христианин должен с корнем вырвать из своего сердца такую
заботу и с лилейным равнодушием относиться к языческой
суете. Но это не значит, что христианину совсем не следует
заботиться об условиях своего существования. Нет, он должен
заботиться об осуществлении Царства Божия, а к этому царству
уже прилагается, как непременный спутник Царствия, то, что
есть и во что одеться. Спаситель не умолчал об этом
«придатке» Царствия как заслуживающем полного лилейного
равнодушия, но упомянул о нем как достойном внимания. Ясно, что
Он безусловно не отрицает попечения о пище и одежде, но учит
смотреть на это как на одну только второстепенную сторону
великой заботы христианина о Царстве Божием, получающую
свой смысл и значение от этой святой заботы. Попечение
христианина о пище и одежде здесь утверждается, но просвещается
особым, не языческим, а религиозно-христианским светом.
Христианин, ищущий Царствия Божия и правды его и
вдохновляемый своим религиозным призванием, с помощью Божи-
ей, трудится, приобретает, и вот у него «хлеб насущный» для
себя и для раздачи другим. Остается присоединить сюда то, что
я сказал по поводу 33, XII Лук., и окажется, что личное
пользование собственностью нисколько не отрицается и
смыслом отрывка из VI Мф. Нет нужды упоминать, что в 25—32, VI
Мф. прямо и непосредственно о собственности ничего не
говорится.
Для усиления своего понимания слов Спасителя о
подражании лилиям Вы приводите еще и другие священные изречения:
К вопросу о христианском отношении к собственности 137
«Горе вам, богатые... Горе вам, пресыщенные», а также и 1—6,
V Иаков... Но здесь уже совсем ясно говорится только о
богатстве и об его эгоистическом употреблении, которое строго
осуждается во всем Новом Завете. О собственности же тут
ничего нет.
Ваше резюме: «личной собственности у верующих быть не
должно» говорит более, чем следует сказать по смыслу
Евангелий. Евангелие дает право только на такой вывод: «безбожного
и своекорыстного пользования собственностью быть не
должно». К этому нужно прибавить, что всюду в Евангелии
заповедуется христиански-самостоятельное личное распоряжение
собственностью *.
Попутно скажу несколько слов и о Ваших «богословских
соображениях» в пользу отрицания собственности. Рассматривая
собственность с точки зрения учения о благодати, Вы лишь
слегка касаетесь мысли о самодеятельности христианина в
деле спасения. Однако и по Вашему мнению, человек в деле
спасения не есть только пассивный орган Божией благодати.
Он и сам участвует в совершении спасения. Значит, не может
быть и того вывода, какой Вы делаете: «мы не должны
почитать своими даже нравственные успехи, на которые клали
личный подвиг, как же при этом, при такой вере (а кто в это не
верит — тот не христианин) мы можем почитать действительно
своим какое бы то ни было имущество, даже приобретенное
личным трудом» (с. 256)? Спасение — дело Богочеловеческое, а
там, где две природы, там две и воли. Даже у самого
Богочеловека — две воли. И вывод здесь должен быть таким: мы считаем
совершение спасения делом Божиим и нашим, а потому можем
почитать и личное имение Божиим и нашим, то есть
находящимся в нашем христианском распоряжении.
По учению Евангелий и апостольских творений, не
распоряжение собственностью есть ид о л ос лужение, а «любостяжание
есть идолослужение» (Клос. III, 5; Ефес. V. 5). Евангельское
же пользование собственностью есть, по моему мнению,
истинное богослужение, как богослужением является то, когда кто-
нибудь ест, или пьет, или иное что творит во славу Божию (Кор.
X, 31).
Мне кажется, что Вы в своих суждениях о христианском
отношении к собственности везде упускаете из виду или недо-
* За такое именно самостоятельное распоряжение собственностью
христианин и будет давать ответ на последнем суде (Мф. XXV,
34—45).
138
К. ГРИГОРЬЕВ
статочно подчеркиваете все то в Евангелии, чем
санкционируется индивидуальность, ее самостоятельность и
самодеятельность по отношению к собственности. То, что Вы оставляете в
тени, я выставляю на свет.
По связи с этим я иначе, чем Вы, смотрю и на историю
общения имуществ в общине иерусалимских христиан.
Вы с своей точки зрения, недостаточно обнимающей
христианский индивидуализм, логично, ярко, блестяще вскрываете
нравственно-психологическую сторону иерусалимского
общения имуществ. Вы пишете: «С имущества спадают скрепы
психического закрепощения его непременно за отдельными
лицами, из затверделого и омертвелого оно снова делается живым и
текучим, и разве не ясно, что, как всякая жидкость, оно
естественно по законам тяготения направится туда, куда будет
наклон, остановится там, где будут выбоины и изъяны, и
наполнит их? Другими словами, не ясно ли, что оно распределится,
как говорится в Деяниях, между всеми, «смотря по нужде
каждого»?.. Раз у них была одна душа и одно сердце, то и
имущество у них было одно, у всех общее, никому в отдельности не
принадлежащее» (с. 261, 264). И на вопрос, каково должно
быть отношение к собственности в среде верующих, Вы
отвечаете: «верующие, отрешившись от частной собственности,
должны перейти к полному общению имуществ* (к. м. с. 266). Вот,
по Вашему мнению, норма и идеал.
Прежде всего замечу, что собственность не разливалась, «не
разбиралась» нуждающимися, a раздавалась им. Причем в
Деяниях как-то неотчетливо рассказывается об этом факте:
неясно: апостолы ли только или вообще особые уполномоченные
распределяли общественное имущество, или и каждый
верующий лично также мог давать нуждающимся. С достоверностью
неизвестно и то, у всех ли иерусалимских христиан было
общение имуществ. Поэтому-то специалисты и называют эту
историю неясной (A. Harnack). Но другая сторона факта, о которой
Вы умолчали, вполне очевидна. Именно у иерусалимских
христиан было общение в потреблении продуктов труда и не было
у них коммунизма в сфере труда и производства (Kautsky3).
Ввиду этого иерусалимское общение, возведенное в норму и
идеал, вовсе не обязывает к полному общению имуществ.
Но можно ли считать иерусалимское общение имуществ
нормой и идеалом?
Это факт, что в других первоначальных христианских
общинах не было такого общения имуществ, какое было в
Иерусалиме. Хотя, разумеется, и вне Иерусалима было немало хрис-
К вопросу о христианском отношении к собственности 139
тиан, готовых все отдать нуждающимся. Как же апостолы
относились к отсутствию «общения»? Ни один из них не
предлагал ни одной общине и ни одному кружку христиан следовать
примеру иерусалимских братьев. Между тем их заботы о
бедных, их участие в благотворительности давали прямой повод
сделать такого рода предложение. Не ясно ли, что они не
считали иерусалимский строй хозяйственных отношений нормой,
чем-то должным, идеальным. Они учили только, чтобы «когда
страждает один член, сострадали и другие» и чтобы «один
носил тяготы других, и так исполнялся бы закон Христов» и т. п.
Почему же апостолы не возводили иерусалимского общения
в норму и в идеал?
Можно думать, что их останавливали практические
неудобства иерусалимского общения. Коммунизм потребления в
Иерусалиме не мог быть прочным, потому что необходимо
должен был наступить момент, когда все оказалось проданным и
потребленным. Он привлекал к общине нищих со всех сторон и
подрывал сам себя. Мы знаем, что это «общение»
просуществовало недолго, и иерусалимские христиане скоро стали
обращаться за помощью к другим церквам. Вернее же всего,
апостолы потому не санкционировали иерусалимского общения, как
общеобязательного, что они были апостолы Христовы и пропо-
ведывали «закон Христов». Никто не может доказать, будто
Иисус Христос проповедывал общение имуществ. В Евангелиях
нет ни одного наставления в коммунистическом духе.
Наоборот, там везде выступает личное распоряжение
собственностью. И апостолы как верные ученики Спасителя не признали
«общения имуществ» нормой и идеальным образцом общинной
жизни*. Если же ни Спаситель, ни апостолы не делали этого, то
всякий другой, кто призывал и призывает христиан к полному
общению имуществ, высказывает только свое личное мнение.
И тот, кто не последует такого рода мнению, не должен
считаться дурным христианином. Такой христианин во имя
Евангелия и истинного понимания апостольской истории
совершенно вправе не соглашаться с Вашим: «мы согласно Евангелию и
живому примеру первенствующих христиан»... должны
считать идеалом полное общение имуществ. Такой христианин с
полным правом может не соглашаться и со словами г. Булгако-
* И вообще не следует забывать, что условное осуществление идеала
в известной среде и в известный исторический момент
(«иерусалимское общение») не может заступить место и получить значение
самого идеала, данного в Евангелии.
140
К. ГРИГОРЬЕВ
ва об идеале Союза христианской политики: «он, союз, может
остановиться только на идеалах анархического коммунизма,
который мы находим в первых христианских общинах»
(Вопросы жизни. 1905, IX, 359)» 4.
Евангелие не связано с какой-нибудь определенной
общественно-хозяйственной организацией, и дух его, воплощаясь в
жизни, может отливать для себя различные формы при
посредстве здравого разума христиан. Христианство дает силу Божию
и религиозно-нравственный конечный идеал Царствия Божия.
Евангелие ничего не говорит о социально-экономических
организациях и типах, и вот в то время, как эти организации и
типы возникают и исчезают, Евангелие — вечно. Тот же, кто
хочет разрешить вопрос о наилучшей во всех отношениях
хозяйственной организации христианского общества, тот
должен, внимая Евангелию, призвать на помощь науку и
жизненный опыт. Причем Евангелие, по моему мнению, скажет ему,
что оно не отрицает частной собственности и учит пользоваться
ею во имя Бога на пользу ближним. Оно на стороне
индивидуума в вопросе о распоряжении собственностью и на стороне
общества в вопросе о цели собственности. Евангелие
индивидуалистично и социалистично. Наука предлагает нам много
социально-экономических теорий, программ и идеалов. Которые из
них более соответствуют духу Евангелия? Которые ведут
человечество к благу? Каждый христианин решает эти вопросы
своим личным разумом и совестью. Да и все ли возможные типы
социально-экономических организаций исчерпаны из глубины
неведомого? Не появятся ли еще новые, доселе неизвестные?
Во всяком случае, на высокой ступени моральной и
материальной культуры вполне возможно общее благополучие при
сохранении частной собственности.
Перечислю in loco uno5 Ваши главные уклонения от
евангельской истины. Вы трактуете вопрос о христианском
отношении к собственности так, как будто Евангелие принципиально
высказывается о собственности. Между тем Евангелие ничего
не говорит о собственности как таковой и учит только о том,
как христианин должен пользоваться собственностью.
Поэтому-то в Евангелиях и нет отрицания собственности. Вы почти
не обращаете внимания на все то в Евангелии, что предполагает
и санкционирует христианско-личное распоряжение
собственностью. Вы забываете о христианине как энергичном
труженике, деятеле в человечестве и в мире. Вы односторонне толкуете
священные тексты. Вы не вполне обнимаете своим
наблюдением факт иерусалимского общения имуществ и делаете на осно-
К вопросу о христианском отношении к собственности 141
вании его неверный вывод о «полном общении» как норме. Вы
не принимаете к сведению того, что во многих первоначальных
христианских общинах не было коммунизма, и того, как к
этому относились апостолы. Все эти ошибки и пробелы и
отразились на Ваших тезисах: 1) личной собственности у
христианина не должно быть, 2) идеалом христианского общества должно
быть полное общение имуществ.
Я не имел в виду дать в этом письме полного очерка того
положения, в каком должна находиться собственность в
христианском обществе. Я имел возможность набросать лишь
несколько штрихов, которых не нашел в Вашем этюде. Сделать
это я счел нужным особенно потому, что в настоящее время
идейного и социального брожения в нашем отечестве такое или
иное решение христианской проблемы о собственности может
иметь важные практические последствия.
^^
В. В. РОЗАНОВ
Религиозные голоса в нашей смуте
Года 2—3, может быть, 4—5 назад среди московского
студенчества выделилось несколько человек, горячо ищущих
религиозной истины. Тут были математики, естественники,
юристы; филологов почему-то, кажется, не было ни одного. Были
уже и кончившие университет, и продолжавшие еще учиться.
Среди коренных русских фамилий попадались немецкие и
польские: но все они были православные, т. е. это были внуки
и правнуки обрусевших немцев, поляков, литовцев. Они
завязали связи с ректором и некоторыми профессорами Московской
духовной академии; приезжали сюда, в Петербург, искать
«советов», «разъяснений» и указаний у ректора здешней духовной
академии, епископа Сергия (теперь епископ Финляндский),
известного своим образованием, мягкостью и кротким
христианским духом. Среди рядового студенчества они выделялись
большею начитанностью, знанием иностранных языков; некоторые
из них побывали за границею и в юго-славянских землях;
некоторые же получили степень магистра такого-то «права» или
такой-то «математики» (чистой или прикладной). Но
удивительнее было то, что рассказывалось об их жизни: со всем
фанатизмом молодости они кинулись на путь «буквального»
исполнения евангельских заветов Спасителя и, как первые
христиане, или подражая им (не думаю, чтобы «подражая»), —
спали чуть не на досках, соблюдали посты или во всяком
случае еду и питье сократили до наименьшего; женщин не
касались, и вообще, так же старались по части «умерщвления
плоти», как и пламенного проповедничества. Явление это среди
учащихся не было для меня совершенно новым. В гимназии, в
Нижнем Новгороде, я помню моего товарища Маринина,
который, живя в бедной, но не очень бедной семье, спал не только
на досках, но и подбивал доски гвоздиками — «подражая Хри-
Религиозные голоса в нашей смуте
143
сту»... Был чист душою, как дитя; тоже был начитан; и все
старался исполнить «буквально». Замечательно это стремление
у нас, русских, к «буквальности» — от старообрядцев до
университета.
Двоих из этих молодых людей я видел и слышал в приезд их
в Петербург год назад. И как и многие другие, я был очарован
их словом, энтузиазмом, верой вот в эту «буквальность», будто
все можно исполнить «по букве и до конца», «как сказал
Христос». С историей они не считались. С действительностью не
считались. Для них точно ничего и не было, никого и не
рождалось между мучениками римских цирков и их собственною
готовностью «хоть на муку». На мой старый возраст, однако,
они подействовали талантом, но не подействовали убеждением:
и я только улыбнулся на их разные «призывы». Передо мною
точно воскрес мой добрый Маринин с его праведною душою, с
его неопытностью. Помню, тот все улыбался и глаза светились
радостью (восторгом?). Эти были старше, с бородами, угрюмее,
грознее, печальнее. Видно было только, что и они страшно
чисты душою и жизнью. «Как дело обернется: не вышло бы из
нас печальной памяти Фотиев», — подумал я про себя.
Не в моем духе эта пугающая, грозящая, постящаяся
религиозность. Не понимаю, какая непременная связь всего этого с
Богом? Вспомнили бы эти юноши Христа, который «ел с
мытарями и блудницами», в противоположность Иоанну
Крестителю, который «питался акридами и диким медом в пустыне».
Уж если настаивать на «буквальности», то я сказал бы
молодым людям, что они идут «по пути Иоанна Крестителя», но
«на путь Христа» даже не вступили: на тот «путь», где прежде
всего развязаны узы «субботы», т.е. точности, формализма,
внешности и господства формул, обрядности и закона. Словом,
«братаясь с мытарями и блудницами», даже вероятно сам
принадлежа к ним, я не был потрясен «пророческим видом»
приезжих из Москвы. Но не могу скрыть, что на других они
производили очень сильное впечатление. «Этот вид пророка» всегда
обаятелен, и особенно когда он соединен с молодостью и
окружен молодежью же, порывистой, самоотверженной, готовой к
страдальчеству. И опять же мне приходилось слышать, что
личное влияние этих молодых людей в Москве очень сильно.
Между прочим они сильно действуют и на священников.
Главное — «пост и молитва», и такое сочетание с математикой!..
Один из этого кружка, г. Вал. Свенцицкий, в недавней
книжке «Полярной звезды» напечатал «Открытое обращение
верующего к православной Церкви»:
144
В. В. РОЗАНОВ
«Я не могу молчать... Я жажду голоса Церкви, я
исстрадался, не слыша его. И я, слабый в своем одиночестве, — ибо все
мы без Церкви одиноки, — но веруя и исповедуя невидимую
святую соборную и апостольскую Церковь, — теперь решаюсь
воззвать к ее голосу».
Далее, в оправдание своей дерзости «воззвать», он говорит
слова, пожалуй служащие интимным исповеданием не только
его лично, но и всего этого кружка, который я
охарактеризовал выше:
«Если вы веруете в Христа, и Церковь для вас — не мертвый
звук, а живое тело Его, если вы не на словах, а всем существом
своим поняли, что весь смысл жизни в том, чтобы облечься во
Христа и облечь в Него мир, чтобы каждое дыхание наше
свершалось во имя Его — "да будет Бог вся во всем", — то вы»,
и т. д., «должны» то-то и то-то.
Подчеркнутые мною слова и есть credo энтузиаста, сколько
я могу судить не по напечатанному «обращению» теперь, а по
тому, что привелось изустно услышать от него в его приезд в
Петербург.
Отвечу на этот пафос так: самому облечься во Христа — еще
можно, да и то туда не уместится ни математика, ни
юриспруденция, ни вообще университет. Ведь кружок молодых людей
в сущности «разорвал с наукою», выйдя на религиозный путь:
и что из того, что они не «ругают» науки, не «отрицают» ее?
Они к ней похолодели, перестали ею заниматься; так что
очевидно, если бы они, положим, не с университета, а еще с 3-го
класса гимназии стали «облекать себя во Христа», то они вовсе
и не попали бы в университет, в них не развилось бы самого
любопытства к науке, заинтересованности ее вопросами: а в
этом все и дело, в заинтересованности, в пытливости
умственной. Где она — Христос как бы еще не рождался; а где
Он родился — потухла наука; не буду спорить, может быть,
потухла, как головешка перед солнцем, но во всяком случае
«потухла», в этом все дело, и следовательно, призыв нового
апостола «облечься во Христа, да будет Бог вся во всем* есть или
риторика, чего я не хочу сказать — а во всяком случае
неопытная юношеская фраза, которую более опытный ум может
оттолкнуть в сторону с самым презрительным видом. Ведь в том
и трагедия европейской истории или, пожалуй, трагедия
самого христианства, что «мир не умещается во Христа», не по злу
своему (не зло же наука?), но по разнице объемов. Чему нас и
научает монастырь, откуда роковым образом и появились
монастыри как искусственная и болезнетворная, страдальческая,
Религиозные голоса в нашей смуте
145
нудная попытка «усекнуть» человека и «отсечь» в нем многое
натуральное и идеальное, хотя бы и доброе (наука), но, однако,
никак не входящее в Христа и, следовательно, не могущее
«облечься» в Него. Нужно и индивидуальному человеку родиться
как-то не очень пылким, не очень любопытствующим, не быть
очень счастливо поставленным в семье, чтобы лет в 17, минуя
науку, забавы, игры и любовь, свернуть одиноко и угрюмо на
путь «пустынницы»? А как всему-то миру, целой цивилизации
начать «усекаться», каковое «усекновение» составляет, к
великому прискорбию, сущность «об л екания во Христа», как об
этом непоколебимо учит вся Церковь, все столпы ее,
светильники, руководители и устроители. Таким образом, невозможна
и неисполнима главная нотка московских энтузиастов,
интимный их всех порыв. Просто он ложен, уродлив для мира,
страдателен для него. И между тем они приходят, и в частности
г. Свенцицкий «взывает к Церкви» во имя любви к человеку и
миру: это другая половина их столь же несомненного пафоса.
Отсюда, из необдуманности и несогласованности двух струн,
двух нот, в душе их получается надломленность, какофония
и прямая фальшь в их голосе. У человека сильного, искреннего
и глубокого (каким я его видел) «призыв» прозвучал вяло и
бессильно; на него, наверное, никто не ответит: но как
«призывающий» очень верит в себя и в свое слово, то взамен
ожидаемого и не получаемого «голоса церковного» я дам ему простой
писательский ответ, из которого он увидит, до какой степени
невозможна его позиция. И все, что именно с этой позиции он
будет говорить, неизменно останется лишенным простоты,
ясности и даже полного чистосердечия. Бывают такие
положения...
<^^
^^
H. ЕЗЕРСКИЙ
Религия и политика
Кризис, всколыхнувший всю русскую жизнь до самого дна,
не мог, естественно, не коснуться одной из сторон не только
русской, но вообще человеческой жизни, и религиозный
вопрос все чаще ставится перед нынешним поколением не в
догматической, а чисто практической форме: каково должно быть
отношение общественного движения к религии и обратно.
Во всей области запутанных вопросов современности едва ли
найдется один, который вызывает больше разногласий, ибо
самые противоположные политические стремления стараются
опереться на религиозный авторитет и на те чувства, которые
вызываются в человеке религиозным воодушевлением. Может
быть, самым характерным отличием современной русской
революции от французской 1789 года является отсутствие того
антирелигиозного течения, которое замечалось тогда:
большинство политических деятелей игнорируют религию вовсе,
но нет, кажется, ни одного, который поставил бы себе задачей
истребить ее, и напротив, есть целая группа, которая пытается
установить прямую связь христианской религии с
политическим и социалистическим движением. Это терпимое
отношение к религии тем более замечательно, что официальные
представители господствующей Церкви заявили себя в большинстве
такими угодливыми слугами властей предержащих, так
безропотно поддавались вмешательству их в дела веры и допустили
такую бесцеремонную эксплуатацию религии в интересах
старого порядка, что психологически была бы понятна даже
слепая вражда к самой религии из-за ее недостойных
представителей.
Однако такой вражды не замечается, и это дает возможность
спокойно и объективно исследовать вопрос о взаимоотношении
двух великих факторов общественной жизни и прогресса
человечества: религии и политики. Исследование это нам представ-
Религия и политика
147
ляется полезным, потому что, во-первых, мы полагаем, что
религиозному движению предстоит еще видная роль в судьбах
человечества, во-вторых, некоторые публицисты,
увлекающиеся идеей немедленно обратить религию в орудие социальной
политики, неправильно понимают взаимоотношение обеих и
рискуют этим повредить и той и другой. Смешивать две эти
вещи была всегда тьма охотников, но ничего, кроме вреда для
человечества, от этого не выходило.
I
Мы оставляем, понятно, в стороне метафизический вопрос
об отношении религии к другим сторонам человеческой мысли,
об ее объективном и субъективном основании; мы берем
религию как конкретный факт, достаточно известный и в его
историческом развитии, и в его психологическом содержании. Мы
пока отвлекаемся от какой-либо положительной религии и
будем говорить лишь о религии вообще, переходя впоследствии к
тем частным осложнениям, какие вносит в вопрос конкретное
содержание христианства. Религия в настоящее время
интересует нас как фактор социальной эволюции, а та фаза
эволюции, какая происходит на наших глазах, не только придает
особый практический интерес вопросу, но поможет разобраться
и в нем.
Мы понимаем под религией известное мировоззрение,
объясняющее, с одной стороны, общий строй мироздания, доходя
до его основного начала и конечных целей, и с другой
стороны — положение человека в этой системе мира, его отношение
к первоисточнику всего и, в зависимости от этого, конечную
цель, его назначение на земле, откуда уже вытекает
практическая часть религиозного учения — ряд нравственных
предписаний, определяющих как обязанности человека по отношению
к высшей силе, началу всех начал, так и его поведение в
течение земной жизни, идеал, который он должен себе ставить, и
способы, которыми он должен его осуществлять. Не всякая
религиозная система дает ответы на все эти вопросы: греческая
государственная религия не указывала человеку никакого
идеала, а сама христианская религия дает весьма смутный ответ о
цели мироздания вне вопроса о спасении человечества, но вся
очерченная область несомненно принадлежит религии, и чем
далее, тем, конечно, будут выработаннее религиозные системы,
тем полнее и возвышеннее будут ответы на эти вопросы.
148
H. ЕЗЕРСКИИ
Кроме своего сверхъестественного источника, на который
ссылаются все религии, и недоступности поверки их основных
положений рациональным путем, религии отличаются от
научных и от философских систем, во-первых, обширностью своего
содержания, ибо религия не останавливается ни перед какими
преградами, которые задерживают логическую мысль или
опытное исследование, а во-вторых, религия делает из своих
положений немедленные практические выводы, имеющие характер
обязательности. Правда, метафизика старается иногда ответить
на самые основы проблемы знания, но, покидая твердую почву,
она создает системы, имеющие не более достоверности, чем
религия, а между тем невыгодно отличается от нее тем, что, не
ссылаясь на сверхчувственный авторитет, не в состоянии
заставить признать достоверность своих построений, а, делая из них
практические выводы, вынуждена ограничиться
благожелательными советами, не имея власти требовать их исполнения.
Из сущности религии вытекают некоторые важные для
нашего предмета следствия. Во-первых, религия берется ответить
на все вопросы, охватить человека целиком, регулировать всю
его жизнь. Во-вторых, религия все свои требования
предъявляет в категорической, не допускающей споров и изменений
форме. В-третьих, религии культурные, имеющие выработанную
систему морали (а такие только религии имеют теперь
практическое значение), обращаются к человеку как личности,
требуют от него индивидуальных усилий, все свои идеальные цели
проводят через личность, и в этой личности религия
затрагивает самые глубокие струны, обращается к не поддающимся
внешнему воздействию интимным сторонам человеческой
личности, находят свою точку приложения в человеческой
совести. Именно благодаря тому, что религия проникает всего
глубже, охватывает человека безраздельно, она способна вызвать
в человеке такое воодушевление, вести его на такие подвиги,
какие он неспособен совершить под влиянием иных
побуждений. Поэтому даже когда подобные подвиги совершаются по
каким-нибудь иным, не религиозным мотивам, состояние
человека, способного под влиянием идеи на подвиг, склонны всегда
сравнивать с религиозным в хорошем или дурном смысле
(фанатизм, мученичество, миссионерство). И действительно, когда
настроение, вызванное в человеке идеей нерелигиозного
свойства, доходит до той высоты, на которой она охватывает его
всецело и ведет к самопожертвованию, эта идея принимает все
характерные признаки религиозной идеи: беспрекословное
преклонение перед нею, нетерпимость к другим идеям, стремле-
Религия и политика
149
ние не только свою личную жизнь подчинить ей, но и весь мир
переделать сообразно ей.
Если брать не крайние проявления, где один порядок
явлений начинает переходить в другой, то из сопоставления
характерных особенностей религиозной жизни и политической
вытекают важные практические последствия.
Религия берет на себя задачу ответить на основные, вечные
вопросы мира и жизни; политика — на вопросы общественной
жизни, которые она притом рассматривает с точки зрения
конкретных условий данного общества и данного момента.
Поэтому политическое учение никогда не может так всецело
захватить человека, не может удовлетворить его основных запросов,
ибо сами политические учения являются уже производным
продуктом известного религиозного, философского или
научного мировоззрения, а чаще — смешение всех этих элементов.
Если находятся люди, которые всецело довольствуются
политической жизнью и находят в ней полное удовлетворение, то
это лишь доказательство известной духовной ограниченности,
невнимания к коренным вопросам бытия, к тем основам, на
которых сознательно или бессознательно строятся
политические убеждения. Вследствие зависимости политических теорий
от некоторых основных положений, доказательство которых
лежит вне области политической мысли, политика обречена
играть подчиненную роль. Политическая система есть попытка
приложения общих начет к данным общественным условиям,
как бы эти начала ни были добыты — логическим, опытным
или сверхчувственным путем. Как истины производные,
политические учения несомненно ограниченнее, чем
общефилософские или религиозные, но не только потому, что вместе с
опровержением основного мировоззрения должны сами собой пасть
опирающиеся на него политические убеждения, а также
потому, что политика ближе к жизни, чем метафизическая теория
или религиозное учение, она берется проводить нечто
непосредственно в жизнь и потому обязана считаться с
действительным положением общества. Жизнь не допускает
осуществления идей в чистом виде, хотя бы даже эти идеи были добыты
путем опытного знания, ибо выводы науки представляют все-
таки отвлечение, общие схемы развития, которые никогда и
нигде в чистом виде не осуществлялись. Религиозные идеи,
как наиболее широкие и стремящиеся охватить все стороны
человека, труднее всего применимы к жизни и потому требуют
целых веков для того, чтобы войти в жизнь, и притом сильнее
всего искажаются при своем осуществлении.
150
Я. ЕЗЕРСКИИ
В этом кроется первая опасность смешения религиозных и
политических задач. Политика служит между прочим и для
проведения религиозных идеалов в жизнь (кроме идеалов на
политику влияют и многие другие факторы). Если позволено
будет так выразиться, политика является той пружиной,
которая передает толчок из идейной области в практическую, но
которая вместе с тем смягчает и регулирует этот толчок. Те же
идеи, которые проповедуются религией, могут входить и в
политическую программу, но получают здесь иную постановку.
Разница между религиозной и политической формой
выражения идей так же велика, как между художественной и научной
обработкой одной и той же темы. Так как цели отчасти
совпадают, то является неудержимое стремление подчинить, политику
религии и перенести в первую религиозные требования
целиком, чем как будто обеспечивается полное достижение
религиозного идеала. Но забвение различных задач обеих приводит
лишь к тому, что искажаются и религиозная чистота учения, и
практическая целесообразность и жизненность политической
программы. Если религиозные проповедники обращаются в
политиков и превращают свои нравственные заповеди в
законопроекты, то как бы они ни старались сохранить чистоту
учения, — невозможность провести идеал, проповедуемый религией,
во всей чистоте берет свое, цельность и идеальная высота
теряют свой блеск и свое обаяние от соприкосновения с жизнью и,
стремясь к практическому успеху, религиозные политики
жертвуют далекими и вечными интересами своего учения.
Насколько чистота учения тускнеет от внесения его в водоворот
политической борьбы — это доказывает вся история христианской
церкви, и характерно, что то же явление происходит с
нерелигиозными утопическими учениями, которые для некоторых
заменяют теперь религию: одно участие в парламентской
деятельности непримиримым социалистам кажется уже изменой
принципам, и с своей сектантской точки зрения они правы,
ибо, несомненно, жизнь требует от политического деятеля
компромиссов, которые недопустимы для строгого идеалиста.
С другой стороны, политическая программа, стремящаяся
провести идеалистические требования целиком, вынуждена
задаваться такими целями, которые недостижимы даже для
самодержавного повелителя, ибо все попытки самых абсолютных
правителей перекроить народ по своему идеалу всегда
оканчивались неудачей. Забирая слишком высоко, программа теряет
твердую почву под ногами, отрывается от жизни и, непосильно
напрягая и разбрасывая силы той партии, которая берется за
Религия и политика
151
ее осуществление, мешает ей принести ту пользу, на какую она
была бы способна. Мало того, такая политика дискредитирует
самые идеи, которым служит, ибо внушает убеждение, что эти
идеи вовсе неосуществимы, тогда как неудача их зависела лишь
от неумелого и поспешного введения их в жизнь, без
подготовки того фундамента, на котором они могли бы быть упрочены,
а в политической области крушение таких идеалистических
партий ведет к господству их противоположности —
узко-практической политике, преследующей лишь корыстные интересы
отдельных общественных групп.
Вторая опасность, какая возникает от перенесения в область
политики религиозных принципов и задач, связана с
абсолютным характером религии. Религия не терпит раздела ни с кем,
она дает то, что считает за абсолютную истину, и потому не
может допустить какого-нибудь равноценного учения, не
может позволить своим сторонникам служить одновременно двум
господам, принимать из одного учения одно, из другого другое.
Такой эклектизм совершенно противоречит духу религии, и
когда он появляется, он знаменует упадок не только данной
положительной религии, но религиозного чувства и мышления
вообще. Те нравственные правила, которые преподает своим
сторонникам религиозное учение, также являются
абсолютными, непререкаемыми требованиями в силу того, что они
исходят от высшего в мире авторитета. Отсюда наклонность всякой
религии к нетерпимости, которая в известном смысле
составляет ее неотъемлемую часть. «Аз есмь Господь Бог твой, да не
будут тебе бози инии разве мене», — это общий принцип всех
религий, и религия может считать себя удовлетворенной
только тогда, когда всецело и безраздельно царит в душе человека.
Безраздельное господство религии необходимо, потому что
только оно обеспечивает то единство мысли и чувства, которое
составляет силу истинного религиозного воодушевления.
Всякое сомнение в истинности религии, колебание между двумя
божествами или двумя учениями уже раздробляет
религиозную энергию, вносит смуту и разлад в душу, заставляет
человека, пошедшего за проповедником, озираться назад, вспоминать
о других обязанностях и заботах и не дает ему того мира
душевного, который обещает религия, из-за которого она привлекает
к себе последователей. Сосредоточить всю духовную жизнь
вокруг одного верования, подчиниться одному нравственному
принципу, направить всю энергию человека на одну цель —
в этом задача религии и в этом ее сила. Всякий компромисс
только затемняет эту задачу, обессиливает в корне религиоз-
152
H. ЕЗЕРСКИИ
ный энтузиазм. Поэтому никакая религия не может
обнаруживать терпимости к другой вере, но пока борьба остается в
нравственной области, она никакого отталкивающего характера не
приобретает: слово убеждения, единственное ее оружие и в
случае отпадения или неправоверия последователя, самое сильное
наказание, применимое к нему, — отлучение от общества
верующих, как вообще нарушение правил какого-либо союза лиц,
преследующих одни цели, влечет за собой исключение из этого
союза. Однако указанное свойство религии таит в себе опасный
зародыш, который немедленно дает себя чувствовать, как
только религиозная проповедь переходит поставленные ей границы
и обращается в политическую пропаганду. Абсолютность
требований и нетерпимость к посторонним учениям переносится
тогда в политическую область. Во имя того, что религиозное
учение опирается на высший авторитет, она требует себе в
государственной области исключительных прав, а высокая цель
пересоздания человечества по принципам религии дает
сторонникам оправдание в применении самых крутых мер воздействия
против всех, несогласных с ними. Политические противники
становятся уже не равноправными, одинаково уважаемыми
сторонами; напротив, одни считаются правоверными,
остальные — еретиками, и часто секты, бывшие долго на положении
еретиков, достигнув власти, сами становятся в положение
преследователей (Кальвин). К прежним мерам духовного
воздействия прибавляется новое — государственное принуждение,
т. е. насилие, и близоруким сторонникам кажется, что от этого
сила их церкви или секты возросла. Наоборот, она
уменьшилась, потому что, взяв новое оружие, она покинула старое,
единственное ей свойственное. Одновременное осуществление
задач религии словом и мечом психологически невозможно.
Действующие мечом, во-первых, отталкивают от себя массу,
видящую насилие со стороны представителей религии, и, во-
вторых, сами начинают полагаться исключительно на силу
меча. Это средство кажется идущим прямее к цели, чем
медленная проповедь, оно с виду внушительнее, и потому всякий
союз с государственной властью неизменно и немедленно
начинает развращать то религиозное общество, которое вступило в
него. Падение христианской Церкви начинается с того
момента, как римский император взял ее под свое покровительство:
богаче имуществом, беднее добродетелью — так
характеризовали ее в византийскую эпоху Отцы Церкви. В свою очередь
политическая жизнь страдает не менее от такого
противоестественного союза. Вся нетерпимость, на какую способна только
Религия и политика
153
религия, применяется в политических спорах. Противники
объявляются не только врагами, а исчадиями диавола, с
которыми все средства дозволены. Отлучение от Церкви кажется
слишком слабым наказанием, или, правильнее: отлученного от
Церкви считают невозможным держать и в политическом
союзе — государстве, и не только изгоняют, а сжигают. Никакая
свободная политическая жизнь становится невозможна, и
вмешательство политиков, воодушевленных религиозным
фанатизмом, доходит до такого мелочного вмешательства в
обыденную жизнь, как запрещение печь плум-пудинги, которым
ознаменовали свое господство английские пуритане времен
Кромвеля. Применяя вместо нравственного осуждения
физическое насилие, подобная сектантская политика сеет, вместо
любви и почтения к религии, ненависть и компрометирует не
только свою религию, но религию вообще. Антирелигиозное
движение XVIII века отчасти вызывалось драгонадами
католической Церкви.
Третье и самое опасное для религии последствие от
вторжения в область политики заключается в том, что теряется из
виду основная задача ее. Религия всегда обращается к личности,
от нее требует известных действий или, наоборот, воздержания
и может считать свою задачу исполненной, когда отдельная
личность сознательно подчинит свою жизнь этим требованиям.
Ходячее представление о сущности христианского учения как
проповеди спасения души выражает неполно и вульгарно одну
из основных черт не только христианского, но и всякого
культурного религиозного учения: буддизм или магометанство не
менее стремятся доставить верующему райское блаженство
или забвение нарваны и содержать ряд нравственных правил.
В древних государственных религиях, наприм<ер> греческой
и римской, имеется та же черта, с тем лишь различием, что
нравственные правила исчерпываются ритуалом, а забота о
спасении личности заменена заботой о благополучии домашнего
очага, племени, города или государства. Именно поэтому в древних
государствах возможно было такое тесное единение
государства и религии, и именно в словах Христа: «воздайте
кесарево — кесарю, а божие — Богу» заключался капитальный
переворот, внесенный в мир христианством. Непонимание этих
слов и отзвук языческого мировоззрения в византийских
императорах повел к искажению задач православной Церкви, к
забвению истинного характера религии во всей ее чистоте. Работа
над личностью человека, посредничество между нею и Богом
составляет основную задачу христианской Церкви, и мы не мо-
154
H. ЕЗЕРСКИИ
жем себе представить теперь религии, которая отвергла бы эту
задачу, потому что сознательная человеческая личность уже не
может рассматриваться никаким учением, как простая клетка
общественного организма. Если экономический материализм
склонен смотреть на человека как на простой продукт
экономических условий, то это лишь одно из противоречий его
догмы с идеальными требованиями свободного развития
личности, какие он же себе ставит, и в практической области это
противоречие приводит к другому: возлагая надежду на
экономическую эволюцию как на единственный фактор прогресса,
партия, разделяющая это учение, однако, занимается усерднее
всех других партий распространением своих взглядов и
вербовкой сторонников, придавая преувеличенное значение
численному превосходству партии.
Всякая политическая партия, несомненно, действует
помощью привлечения в себе членов, путем убеждения лиц, но это
лишь в целях завоевания политической власти. Привлечение
членов является только оружием, главной же целью остается
проведение принципов партии в жизнь через посредство
государственной власти. Привлечение членов имеет значение,
только поскольку эти члены являются в государстве
полноправными, и только при господстве всеобщего и равного голосования
является необходимость привлекать к себе большинство
населения. Этого абсолютного большинства не имеет ни одна
господствующая партия, потому что всегда масса избирателей
вовсе воздерживается от того, чтобы проявлять свою волю, а среди
противников встречаются разные течения, которые разбивают
голоса оппозиции и тем доставляют власть относительно
сильнейшей партии, иногда сильной не числом голосов, а составом
членов или материальным богатством. К этому завоеванию
власти направлены усилия всякой политической партии,
причем в конституционной стране власть завоевывается в
открытом избирательном бою, а в неконституционной — при помощи
придворных интриг, а иногда кровавых переворотов. Все, что
партия делает, направлено к этой цели, в ней смысл
существования партии, и только с момента получения власти
развертывается она во всю ширь, только тогда может она осуществлять
свою программу. Достоинство личностей, составляющих
партию, интересно для нее, только поскольку от их талантов
зависит успех партии и, напротив, от их ошибок и злоупотреблений
может пострадать ее репутация. Даже искренность убеждений
не играет первой роли. Известный обязательный нравственный
уровень, который поддерживается во всех порядочных партиях
Религия и политика
155
путем исключения недостойных членов, является уже
уступкой этически-религиозным воззрениям, и даже когда доходит
до крайности, например в деле исключения Парнеля из партии
за прелюбодеяние, нравственная тенденция является
элементом, привнесенным со стороны, чуждым политической
программе партии. Мы не хотим этим выразить осуждение такому
привнесению, напротив, мы считаем необходимым подчинить
и политическую борьбу известным нравственным принципам,
но тут уже политическая сторона отходит на второй план,
больше того, страдает, как в деле Парнеля, и оттого завзятые
политики очень часто снисходительно смотрят на
нравственные проступки своих сочленов ради интересов партии.
Сочетать нравственную чистоту с успешным преследованием своих
партийных целей составляет весьма трудную тактическую
задачу всякой партии.
В религиозном обществе — Церкви, секте, коммуне —
нравственное достоинство личности выдвигается на первый план,
во-первых, потому что именно об усовершенствовании
личности и хлопочет религия, к этому направлены все ее учреждения,
а во-вторых, она не имеет иного способа осуществить свой идеал
в жизни, как при помощи личностей. Так как ее задача чисто
нравственная и таковы же орудия борьбы (пока она не
исказилась от союза с светской властью), то она не может рассчитывать
на какое-либо внешнее воздействие, на иной способ
пересоздать человечество, как медленным путем проповеди и
добровольной организации его на новых началах. Нет того момента,
когда увеличение числа сторонников давало бы право
религиозному обществу подчинить остальных, неверующих, своей
дисциплине, во имя своей религии переделывать ту часть
человечества, хотя и меньшинство, которая добровольно не вошла в
церковную ограду. Пересоздание мира по идеалу религии
может последовать, только когда она обратит действительно все
человечество.
Разумеется, такой путь пересоздания человечества очень
долог и труден, и политика тем опасна для религии, что она
соблазняет ее перспективой легкой победы: завоевать власть
даже в конституционном государстве, конечно, легче, чем
убедить всех граждан примкнуть к данной церкви. Казалось бы,
что как только будет завоевано достаточное число голосов для
образования сильной партии в парламенте, задача церкви или
секты сразу облегчается, ибо она приобретает новое оружие.
Оставим в стороне случаи, когда религиозная партия прибегает
к грубому насилию, — об этом говорено выше. Здесь дело идет
156
H. ЕЗЕРСКИЙ
о строго-конституционном оружии светского законодательства,
согласного с волей народа, т. е. большинства или того, что
принимается в данную минуту за большинство политических
граждан. И это конституционное оружие так же вредно для
религии, как грубое насилие. Во-первых, в существе государства
заключается принцип принуждения, поэтому самый
конституционный закон будет все-таки насилием по отношению к
несогласным с ним. Потребности современного государства не
позволяют обойтись без этого насилия, в нем «политическая
необходимость» нынешнего человечества, и отрицание его
является следствием одностороннего увлечения идеалистической точкой
зрения, применением к политике мерки религии. Но оставаясь
на точке зрения религии, нельзя не признать полную
недопустимость этого принуждения, непозволительность проведения
религиозных идей путем чуждого им по природе политического
механизма. Ни от одного человека не имеет права религия
требовать жертв и стеснений иначе, как по добровольному и
искреннему убеждению. И всякое такое принуждение, повторяем,
сделает ненавистным имя религии тем, кто ее еще не исповедует.
Не меньшее зло в употреблении политического механизма
в целях достижения задач религиозной общины заключается
в механичности такого способа действия. Даже по отношению
к своим сторонникам религиозное общество должно проявлять
величайшую осторожность в принуждении, потому что только
те предписания религии или духовной власти будут
исполняться, которые соответствуют убеждению большинства. Есть
случаи, когда практическая потребность заставляет членов одной
общины держаться какого-нибудь однообразного образа
действий, наприм<ер>, ставить известные условия вступления в
общину, распоряжаться имуществом общины, определять свое
отношение к внешнему миру: но в этих случаях сама община
функционирует как политическое учреждение, все эти вопросы
для нее сравнительно второстепенны. Но имея в руках орудие
светской власти, духовное общество всегда будет склонно
разрешать путем парламентских актов такие вопросы, которые
вовсе не подлежат такому способу решения, ибо для общества
и для его руководителей проще пустить в ход законодательную
машину, чем перевоспитывать своих сторонников. Поэтому
даже в государстве, где большинство населения принадлежит к
одному исповеданию, дела веры и Церкви должны быть строго
отделены от светских дел; тем более это необходимо в
государстве с разноверным населением и в период брожения и
переустройства народной жизни.
Религия и политика
157
Поэтому нам представляется противоречием в принципе
говорить о религиозной политической партии, в самом названии
заключающей соединение несовместимых начал. В тот день,
когда религиозное движение сводится к образованию
политической партии, оно переходит на иную, низшую ступень и
признается в своем бессилии действовать только религиозным
способом. Интересно отметить, что в эпоху своего процветания ни
одна религия, ни одна церковь не обнаруживает желания стать
политической партией. Эта мысль возникает только или у
слабых религиозных течений, которые не надеются достигнуть
преобладания путем одной проповеди или не имеют на это
терпения, или же у религиозных церквей и сект в минуту
начинающегося упадка, когда политическая власть, добытая тем или
другим путем, может поддержать искусственно еще некоторое
время их существование, давая им возможность избежать тех
реформ, которые требуются для настоящего возрождения
религиозной жизни. Преследование политических задач,
вовлечение в круг политической борьбы со всеми ее повседневными
заботами и дрязгами, которых не может избежать партия,
играющая роль в парламенте, способны только заглушить истинное
семя религии, как тернии евангельской притчи. А постоянное
соприкосновение с другими партиями, среди которых
приходится отвоевывать себе место, соблазняет к употреблению тех
же средств борьбы, как и они, и роняет ниже прежнего уровня
нравственную чистоту церкви, вместо того чтобы вести ее
вперед. История клерикальных партий на Западе со всеми их
интригами достаточно известна, чтобы о ней говорить.
Антисемитизм является одним из самых уродливых, но характерных
порождений этого противоестественного смешения задач
религии и политики.
II
Все вышеизложенные общие замечания могут быть
применены и станут более понятны от проверки на произведенной у
нас в настоящее время попытке образовать религиозную
политическую партию. Мы говорим не о союзе церковного
возрождения, который задается скромными целями реформы Церкви
и является партией только внутри церкви, а о Христианском
братстве борьбы.
Его тем более интересно взять за образец, что оно
совершенно чуждо всяких клерикальных тенденций. Выставляя на сво-
158
H. ЕЗЕРСКИЙ
ем знамени евангельские принципы, оно не примыкает ни к
какому существующему вероисповеданию, во всяком случае не
обладает узкостью ни одного из них. Искренность его
основателей стоит вне всякого сомнения и засвидетельствована теми
гонениями, каким уже подверглось Братство, а широта целей,
какие оно себе ставит, стремление привести в связь
религиозное движение с освобождением трудящихся масс, социализм
искренний, а не показной, как у католических социалистов,
делает это Братство достойным внимания, несмотря на его
незаметную пока роль в нашей общественной жизни. Ошибки,
которым оно, по нашему мнению, поддалось, могут тем
убедительнее показать неверность самого его понимания
взаимоотношения религии и политики, которые оно хочет сблизить. Мы
подчеркиваем, что оно пока не заняло видного места в ряду
русских политических партий, ибо оно во многом так близко
подходит к народному мировоззрению и иногда идеи его
встречают в народе такой живой отклик, что мы нисколько не
удивимся, если оно, несмотря на слабую по своей двойственности
платформу, будет расти и укрепляться.
Отсутствие постоянного органа партии, разбросанность идей
ее по отдельным брошюрам мешает в точности составить себе
представление о партии и приобрести твердую почву для
критики. Однако можно с несомненностью сказать, во-первых, что
это одна из освободительных «левых» партий. С искренним
пафосом говорят авторы Братства о современном положении
России, клеймят наравне с правительством ту официальную
Церковь, которая освящала угнетение народа и сама довела
себя до полного бесправия и растления. Мало того, Братство
можно даже отнести к крайним левым партиям, как одну из
социалистических партий. Его сознательно и ясно
выставленная цель — создать политическую партию для проведения в
жизнь принципов Евангелия, в котором основатели Братства
видят религиозное освящение социализма и демократизма.
Центральный пункт его программы — отрицание на
основании Евангелия частной собственности и соответственное
требование социалистической перестройки общества. Отмена
частной собственности вносится в программу Братства уже не как
секты, а как политической партии. На этом примере рельефно
выясняется и основная тенденция Братства и главная его
ошибка; поэтому мы на нем остановимся подробнее.
Исследовать подробно отношение христианской Церкви к
праву собственности не входит в нашу задачу, но мы все-таки
отметим, что само Евангелие не дает категорического ответа на
Религия и политика
159
вопрос о допустимости собственности и, во всяком случае,
подходит к вопросу совсем с другой стороны, чем современный
социализм. Стремление решать конкретные политические задачи
было так чуждо Христу, ни минуты не упускавшему из виду
свою особую цель, что он отклонял от себя решение
практических вопросов, как тогда, когда фарисеи пытались втянуть его в
национальную распрю, предложив вопрос о законности уплаты
податей римскому кесарю, так и в том мало известном случае,
когда один еврей просил его разделить ему с братом
наследство: «Кто поставил меня судить или делить вас?... Берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его
имения» (Лк. 12: 13—15). Предостережение нравственного
характера, которое сопровождало отказ от вмешательства в
мелкие повседневные дела, только сильнее оттеняет
действительную точку зрения Евангелия на собственность. Христос не
считал ее абсолютно недопустимой, но видел в ней опасность
для нравственного совершенства человека и неоднократно
подчеркивал, как неважны для самого собственника те блага,
какие может дать ему богатство. Он несомненно был не менее
решительный враг буржуазности, чем современные социалисты,
но потому, что она развращает прежде всего самого обладателя
богатств, делает его негодным для Царствия Небесного. Он
протестовал против собственности, но не только во имя
обделенных ею, а еще более во имя нравственных задач человека, и не
мог бы помириться с собственностью и буржуазностью, даже
если бы общее богатство достигло такой высоты, что каждый
член общества имел бы все необходимое: самое стремление к
улучшению своего материального положения вызывало
неодобрение, на основании чего обеспеченные люди лицемерно
проповедовали народу, что он не должен мечтать о лучшей доле, а
быть довольным посланной от Бога нищетой. Не столько
отрицание собственности, сколько пренебрежение к ней проходит
красной нитью в Евангелии, но рядом с этим имеются прямые
предписания, вытекающие из заповеди любви к ближним:
«просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» (Мф. 5: 42). Обязанность помогать всем, вплоть до
отдачи последней рубашки, достаточно подчеркнута в
Евангелии, наконец, одно место заключает в себе нечто, что может
быть понято и как принципиальное отрицание права
собственности, а именно совет богатому юноше: «если хочешь совершен
быть, иди и продай имение твое и раздай нищим и будешь
иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной»
(Мф. 19: 21). Обязанность отдавать все для помощи братьям
160
H. ЕЗЕРСКИЙ
и признание, что совершенство достижимо лишь при
отсутствии всякой собственности, практически ведет к
уничтожению собственности в идеальной христианской общине, и этот
вывод правильно сделал г. Эрн в своей брошюре о
«Христианском отношении к собственности» 1. Можно бы сказать, что
христианство заставляет смотреть на свою собственность как
на чужую и не дорожить ею, как это указано в подавшей повод
к таким нелепым толкованиям притче о неправедном
управителе. Но здесь и лежит различие между отрицанием
собственности в христианстве и в социализме. Христианство нападает не
столько на принцип собственности, сколько на
злоупотребление ею, на алчность, буржуазный эгоизм и накопление
богатств, против которого Отцы Церкви гремели обличениями не
менее социалистов. Требования, чтобы непременно все
имущество было общее, чтобы ни один не получал больше другого,
отрицания какой бы то ни было, хотя бы мелкой,
собственности, в Евангелии нет. Напротив, совет богатому юноше,
начинающийся словами: «если хочешь быть совершен»,
показывает, что сам Христос не решался ставить как обязательное для
всех требование, отречение от собственности, а вводил его
лишь как высший христианский идеал. Несомненно, что с
достижением христианским обществом этого идеала собственность
сама собой упраздняется, но здесь лежит второе отличие
христианства от социализма — упразднение собственности
выдвинуто как обязанность собственников, а не как право народа, и
все достоинство отречения от собственности заключается в
добровольности отречения, целью же отречения служит не новое
устройство общественного порядка, а прямое сокращение забот
о материальных благах: материальному богатству
противопоставляется не материальное равенство, а материальная
бедность: отвергни все и приходи, следуй за мной, награда за это
ждет тебя на небесах. Эта черта настолько очевидна в
Евангелии, что она повела, во-первых, к идеализированию нищеты
ради нищеты в некоторых сектах и монашеских орденах, во-
вторых, к тому механическому, бездушному, даже
эгоистическому благотворению, которое раздает милостыню не ради того,
чтобы помочь бедному, а чтобы купить богатому царство
небесное. Полного отрицания собственности в христианстве не
проводилось, и если ссылаются на самые первые годы
существования христианской общины, то здесь возводят в принцип то, что
фактически могло осуществиться в тесном кружке первых
последователей. Наказание смертью христианина Анании, которое
придает характер обязательности общности имущества, после-
Религия и политика
161
довало, как совершенно ясно видно из рассказа автора
«Деяний», лишь в возмездие за обман; укор апостола «Чем ты
владел не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли
власти находилось?» (Деян. 5: 4) показывает, что даже тогда,
в самые первые времена, отдача имущества была делом
добровольной жертвы, а не обязательством, и за одно нежелание
отдать свое состояние христианин не мог подлежать
ответственности перед общиной. Основатели христианства оказались
лучшими психологами, чем все последующие сектанты, которые
пытались ввести обязательный коммунизм, и чем современные
нам христианские социалисты.
Неправильное толкование евангельского учения как
категорического отрицания собственности составляет лишь половину
их ошибки; другую половину составляет стремление перенести
в практическое требование конечный идеал христианства. К
этому случаю применимо все, что выше сказано про невозможность
пересаждать прямо в политическую программу религиозные
идеалы, и история христианства лучше всего это доказывает.
Первоначальное общение имуществ могло практиковаться,
пока общество последователей Христа ограничивалось тесным
кружком лиц; с дальнейшим движением христианства оно
исчезло и заменилось взаимопомощью отдельных церквей,
буржуазным учреждением, по мнению современных социалистов.
Христианские секты, возводившие коммунизм в правило, не
вышли из узкого круга приверженцев. Человечество не
доросло до такой формы общежития, и даже в века искреннего и
живого воодушевления христианскими идеалами у массы
последователей не хватало нравственной высоты последовать совету,
данному богатому юноше. С этим свойством человека
приходилось считаться даже в пределах христианской Церкви, тем
более приходится считаться государству, господствующему не
над одними правоверными христианами.
При величайшем религиозном подъеме, может быть, можно
было бы отменить право собственности, но в следующий же
момент эта собственность начала бы возрождаться под
давлением человеческой природы. Чтобы упразднить собственность,
необходимо было бы не только преобразовать организацию
производства, но переделать человеческую психику. Собственность
до сих пор служила стимулом прогресса, увеличения народного
богатства, и пока человечество не может обойтись без этого
стимула, он не может быть упразднен никаким законодательным
или религиозным учреждением. Христианство задается целью
преобразовать психику, выдвигая нравственные потребности
162
H. ЕЗЕРСКИИ
в противовес материальным, но только постепенное влияние его
на членов христианской общины может довести их до
отречения от собственности. Невозможность отмены теперь же этого
института настолько очевидна, что ни одна социалистическая
партия, кроме максималистов, не ставит этого требования в
своей практической программе. И христианским социалистам
приходится или сохранять целость и чистоту евангельского
учения, как они его понимают, и тогда задаваться явно
несбыточными целями в политике, или принимать в соображение
условия политической жизни, идти на обычный в политике
компромисс, и тогда терять ту цельность и последовательность
выполнения требований христианства, которым они хотят
выделить себя из общей массы вялых или вовсе лицемерных
последователей Христа, чтущих его лишь устами. Высокая и
симпатичная цель оживления христианской жизни в духе первых
веков сбивается и обращается в утопию, потому что попала на
несоответственный ей путь политической агитации.
Слабость программы христианских социалистов не в этом
только одном, и противоречивость ее лежит глубже. Она
приближается к социалистическим партиям не одним отрицанием
права собственности; по всей терминологии, по основной точке
зрения на общественные отношения, это — та же марксистская
программа, но основанная на цитатах из Евангелия. Вот в этом
и заключается величайшая несообразность, угрожающая
сделать бесплодным все новое движение религиозной мысли.
Марксизм представляет спорное, но во всяком случае
цельное учение, не просто политическую программу, а особое
мировоззрение с своей наукой и философией. Из этого построения
нельзя вырывать программы и нельзя заимствовать тактики
партии без тех научных и этических положений, на которых
она основывается. Программа социал-демократии вытекает из
марксовского учения о смене капиталистического строя
социалистическим, которая должна произойти, во-первых,
благодаря естественному развитию хозяйственных отношений и
крушению капиталистического строя под гнетом его внутренних
противоречий, ço-вторых, непосредственным созидателем
нового строя должен быть политический насильственный
переворот, диктатура пролетариата. Нравственное совершенство
личности решительно ни при чем в этой теории общественного
переворота. Напротив, личность признается продуктом
общественных, в частности, производственных отношений.
Совершенно чуждо этой доктрине и отрицание физического насилия,
проповедуемое Евангелием. Кто ударит тебя в одну щеку, под-
Религия и политика
163
ставь ему и другую, — эта заповедь до такой степени
расходится с самыми основными принципами всякой, а тем более
революционной политики, что в устах политика может возбудить
только недоумение и насмешку. Л. Толстой, с непреклонной
последовательностью проводя свою проповедь злу, дошел
совершенно логично, с его точки зрения, до полного отрицания
политики, до пассивного анархизма. Люди, стоящие на почве
Евангелия, не могут смотреть на человеческую личность как
на механический продукт условий производства, а потому
простое развитие хозяйственной эволюции человечества им ничего
не обещает. Они не могут и проповедовать насильственное
изменение существующих отношений, ибо, даже выводя из
Евангелия полное отрицание собственности, они не могут в нем
найти ни малейшего оправдания насильственного низвержения
нынешнего порядка вещей; нужно поставить все христианское
учение вверх ногами, чтобы из требования раздать другим свое
имение вывести право этих других взять его себе насильно, не
дожидаясь раздачи. Тому, кто находит, что народ не может
дожидаться добровольной раздачи имений богачами, приходится
в подкрепление своих требований ссылаться уже не на
Евангелие.
В этом последнем вопросе — о способе осуществления
христианского идеала — еще более, чем в вопросе о программе,
Христианское братство борьбы отклоняется от своей основы и
запутывается в самых явных несообразностях. Перед
христианским политиком стоит вопрос о насилии как способе
общественной борьбы, и в особенности он обострен теперь, когда
насилие кажется единственным средство^ свергнуть тот гнет,
какой тяготеет над народом. Г. Свенцицкий занялся этим
вопросом, но к каким же результатам он пришел? По его мнению,
насилия между христианами недопустимы, но «христиане
могут и должны прибегать к насилию в отношении неверующих
(понимая это слово в нашем смысле)» («Вопросы религии»,
вып. I, с. 37)2. Решение вопроса более чудовищное, чем даже
то, какое давала католическая Церковь, ибо у нее, по крайней
мере, был объективный признак — крещение, принятие
учения Церкви — для отличия своих и чужих; г. же Свенцицкий
отделяет козлищ от овнов по совершенно неопределенному,
произвольному признаку христиан «в нашем смысле» и затем
благословляет, неизвестно на основании какого евангельского
положения, всякое насилие над «неверующими», то есть над
всеми, кто будет несогласен с членами Христианского братства
борьбы! Несомненно, такой призыв «бей неверных» мог вы-
164
Я. ЕЗЕРСКИЙ
рваться у г. Свенцицкого только по недоразумению, и он его
впоследствии возьмет обратно, не желая уподобляться
Магомету; но тогда перед ним вновь встанет так плохо решенный им
вопрос: разрешается ли христианам насилие, и если нет, то
каким способом будет действовать Христианское братство
борьбы?
III
Каким же образом следует разграничить сферу религии и
политики, каковы должны быть взаимные отношения обеих?
Что могут они дать друг другу?
Из всего предыдущего изложения уже вытекает, что мы
придаем самостоятельное значение религии как фактору и
индивидуальной, и общественной жизни. Мы считаем совершенно
несостоятельным сведение религиозных явлений к
бессознательному отражению экономических явлений, к идеологии
общественных классов. Все попытки доказать это на исторических
примерах были основаны на грубом игнорировании сложных
психических процессов и на явной натяжке исторических
фактов: одна и та же христианская религия попеременно является
то идеологией обездоленных классов, то порождением и
средством закрепления господства имущих классов, причём она
оказывается в равной мере слугой и капиталистического, и
феодального строя, и византийского императорского владычества.
Соприкасаясь со всеми сторонами человеческой жизни,
испытывая на себе влияние и экономических, и всяких других
отношений, доводимая своими собственными слугами часто до
полного извращения, религия тем не менее занимает
совершенно самостоятельное место в человеческой психике и в истории.
Та сила, которая создает ее, проистекает из своеобразной
потребности человеческого духа и по вышеописанным уже
причинам является одной из величайших сил истории. Нет
никакого основания считать эту силу, которая способна сдвигать
горы, исчезнувшей в человечестве, ибо и теперь мы наблюдаем
вспышки религиозного чувства, например, в наших духоборах,
повторивших если не историю древних мучеников, то
сектантов времен Реформации. Всем этим попыткам не хватает
только оригинальности, недостает одной объединяющей идеи,
которая слила бы в одно все разрозненные ручьи религиозной
жизни. В русском народе более, чем в каком-либо из
европейских, сильна эта наклонность к религиозному способу восприя-
Религия и политика
165
тия идей, и не только потому, что он невежествен, а по особому
складу национального ума и характера, отчасти, может быть,
по близости к азиатскому Востоку с его пытливостью в
разрешении основных вопросов мира и недостатком упорства в
ежедневной политической борьбе.
Но признавая важное значение религиозного фактора в
общественной жизни, необходимо отграничить его от
политического, во избежание тех злоупотреблений именем религии,
какие происходят от смешения обоих и в обеспечение самой
религии правильного и соответственного ее истинной природе
развития.
Взаимоотношение и вместе различие религии и политики
сводится, по нашему мнению, к тому, что политика берет
человеческие личности как готовый материал и из них старается
построить наиболее соответственное их потребностям здание
государственного и общественного устройства. Религия же
перерабатывает самый материал; она не довольствуется тем, что
находит, и не приспособляется к уровню личного развития, а
напротив, старается поднять этот уровень на высшую ступень.
Политические учреждения должны удовлетворять
требованиям людей, в них входящих; религиозные учреждения требуют
сами от вступающих в них, чтобы они удовлетворяли
требованиям религии, на которой основывается данное учреждение, —
церковь, секта или община. Несомненно, что религия и в
особенности конкретное религиозное учреждение, преследующее
практические задачи, должно считаться с природой людей и с
их современным уровнем развития. С другой стороны, политик
может и должен задаваться целью улучшить человечество,
расположить свой план общественного устройства так, чтобы,
опираясь на существующий уровень развития личности и этим
приобретая устойчивость, он поощрял развитие лучших сторон
человека и открывал возможность непрерывного прогресса в
общественных учреждениях, как только повышения уровня
человечества это позволит. В этом одно из главных достоинств
демократических свободных учреждений. Но религия в первом
случае не должна унижаться до компромиссов,
противоречащих ее основным требованиям, не должна освящать
учреждения и приемы политической деятельности, преграждающие
путь к той идеальной высоте, куда религия желает вести
человечество; в свою очередь политическая власть не должна, под
риском остаться бесплодной, брать целиком нравственные
требования идеального характера и превращать их в обязательные
законы, когда для них нет еще достаточного основания в умах
166
H. ЕЗЕРСКИИ
и в условиях общественной жизни. Было бы тщетно
проповедовать чистое метафизическое представление о Божестве среди
народа, не имеющего еще иного, кроме мифологического,
представления о природе, и было бы бесцельно декретировать
законом вечный мир на таком уровне развития общественных
учреждений, когда государство не может быть застраховано от
нападения соседей, а каждый гражданин от нападения
разбойников. Идя навстречу друг другу, религия и политика не
должны, однако, ни на минуту упускать из виду свои специальные
задачи и переходить границы той области человеческой жизни,
которая отмежевана каждой из них.
Равным образом они не должны заимствовать друг у друга и
способов действия. Религия обращается к личности и может
пользоваться только духовным оружием личного убеждения,
ибо если она задается целью пересоздать личность, то только
этим оружием может проникнуть достаточно глубоко в душу
человека, чтобы произвести в ней переворот. Всякое усиление
религиозного воздействия путем внешнего законодательства,
т. е. внешнего давления, дает лишь кратковременный внешний
эффект и достигает кажущегося успеха ценою отречения от
своей сущности; грубое прикосновение к личности заставляет
ее замыкаться и навеки отталкивает от той религии, которая
подвергла личность насилию в самом интимном деле совести.
Поэтому религия должна безусловно и навсегда отвергнуть
всякое насилие, в какой бы форме оно ни производилось, какими
бы предлогами ни оправдывалось. Принуждение неизбежно
связано с законодательной деятельностью, составляет
отличительную черту юридической жизни народов, и потому никакое
законодательство, хотя бы самое демократическое, не должно
брать на себя того, что является делом веры. В этом смысле
религия анархична, ибо живет и действует в такой области
человеческого духа, куда никакая власть не может и не должна
проникать. Кроме обеспечения полной свободы совести и
религиозных сообществ с целью добровольного осуществления
задач религии, закон ничем не может помочь религии. Не
положительную, а только отрицательную услугу должен он ей
оказать, устранив внешние препятствия к ее развитию. В этом
смысле можно признать, что религия заинтересована в
установлении свободного политического режима, потому что
только при нем может быстрее всего развиваться. Даже самый
деспотический образ правления не составляет препятствия для
распространения новой религии, но вред его заключается в
том, что он требует от нее излишних жертв, а главное, накла-
Религия и политика
167
дывает на религию своеобразный отпечаток или суровой
борьбы, или полного отречения от внешнего мира, в котором
религия не встречает ничего, кроме вражды и притеснений. На все
историческое христианство наложила печать отвращения от
мира та борьба, какую ему пришлось выносить в течение трех
первых веков своего существования. Нежный росток
пробуждающегося религиозного движения может быть смят и
искривлен как грубым давлением, так и неумелой поддержкой: это
надлежало бы помнить всем тем, кто видит в настоящем какие-
либо задатки будущего расцвета религии и желал бы помочь
религиозному возрождению.
Политик, однако, не может ограничиваться только теми
мерами воздействия, какие свойственны религии. Он не может
«морализировать» с высоты престола или с парламентской
трибуны; общественная жизнь требует известного внешнего
устройства, которое должно быть охраняемо от покушений на него,
хотя бы внешнею силою. Некоторые вопросы народной жизни
слишком остры и настоятельны, чтобы можно было ждать
разрешения их от медленной эволюции умов, тем более что в иных
случаях несогласие одного члена общества может парализовать
усилия всех остальных: защита труда не может быть
предоставлена на добрую волю фабрикантов, потому что один
эксплуататор своей конкуренцией заставляет и всех остальных
капиталистов применять свои способы выжимания дохода из рабочих.
Народная нужда может требовать помощи в большем размере и
быстрее, чем это согласятся сделать идеалисты-собственники,
и не благотворительность, а общественное благо имеет в виду
законодатель, поддерживая голодного и безработного.
Проблема сопротивления злу ставится в политике иначе, чем в
религии, потому что политический деятель имеет уже перед собой
унаследованное от предков зло, потому что самое государство
основывается на принуждении, и пока не доказана
возможность его отмены, до тех пор будет речь только о том, в какую
сторону направить меч закона, кого им надо охранять. Полное
отрицание принудительного начала по рецепту Льва Толстого
может быть проведено в жизнь только в далеком будущем, а
пока оно представило бы только поощрение зла.
Близорукость, лишающая учение Толстого практической
применимости к жизни, показывает лучше всего, к каким
неудачным результатам может прийти даже такой мыслитель
при игнорировании различия задач религиозного движения и
политической деятельности.
168
H. ЕЗЕРСКИЙ
Особенно трудным является вопрос о взаимном влиянии
обоих факторов, ибо они непрерывно приходят в соприкосновение
друг с другом. Влияние положительное сказывается в том, что
политика всегда имеет в себе примесь идеализма, а этот в свою
очередь берется из области философской мысли или
религиозных верований. Но так как работа мысли и чувства идет
независимо от политических учреждений, то первые продвигаются
далеко вперед, когда политические учреждения еще застыли в
старых формах. Отсюда вековечная борьба между ними:
политика прогрессивных партий вдохновляется идеалами весьма
близкими к религиозным, даже когда они не имеют
сверхчувственного авторитета, и всегда консервативные партии бросают
своим противникам этот упрек в утопичности, фантазерстве.
Найти надлежащую меру порывам к идеальному будущему,
переложить утопию в политическую программу есть дело,
требующее величайшего такта, и на нем должна доказать свою
творческую способность политическая партия, берущаяся за
ломку старого во имя лучшего нового.
Задерживающее влияние религии на политику сказывается
в том, что есть политические принципы и приемы, которые
религия может безусловно отвергнуть и этим оказать давление на
политическую область. Так как религия имеет дело с
личностью, а политику делают также личности, то волей-неволей в
своей политической деятельности они могут войти в
столкновение с своей религией, и для них, не как для политических
деятелей, а как для отдельных личностей, возникает вопрос о
примирении противоположных требований. Такое противоречие
усматривали истинные христиане еще в XVI в. между рабством
и Христовым учением о братстве (Башкин), между
обязанностями солдата и последователя религии мира и любви (римский
мученик Максимилиан), а для древних христиан таким же
роковым вопросом было столкновение официальных
обязанностей языческого жертвоприношения с поклонением единому
Богу.
Религия по своей абсолютной природе не может допускать
компромиссов, Церковь не может разрешать во имя
политических потребностей то, что категорически запрещается ее
учением. Отсюда всегда проистекала двойная опасность: или Церковь
идет на этот компромисс ради того, чтобы сохранить свое
обеспеченное положение, — тогда она обращается постепенно в рабу
светской власти, что случилось у нас; или она требует
исполнения своих заповедей вопреки светским законам, но тогда она
увлекается на путь борьбы с светской властью, переходя в этой
Религия и политика
169
борьбе сама к светскому оружию насилия, и постепенно эта
борьба из идейной превращается в простое соперничество с
светской властью из-за господства над толпой. Этим путем
пошла католическая Церковь. Только первоначальное
христианство нашло правильное решение задачи: оно исполняло все
светские законы, пока они не шли вразрез с христианской
совестью, и отвечало решительным сопротивлением всему, что
противоречило религиозным требованиям, но давало отпор не
насилием, а пассивным сопротивлением вплоть до
мученичества. А так как все римское государство было пропитано
идеями и обычаями, противными духу христианства, то
христианское общество пришло в силу непримиримости обоих начал к
тому, что мы теперь назвали бы бойкотом государства,
замыкаясь в своем кругу и создавая рядом и внутри римского
государства новую организацию, основанную на одном нравственном
авторитете, но настолько могучую, что она пережила железную
империю и в период всеобщего развала, во время переселения
народов была единственным учреждением, уцелевшим от
погрома, сохранившим и престиж, и способность руководить
населением там, где с политической точки зрения, казалось,
воцарилась полная анархия.
Итак, религия должна преследовать свои особые задачи
своими же духовными способами, и несмотря на кажущуюся
слабость этого воздействия, оно глубже и прочнее политического.
Религия определяющим образом влияет и на политику.
Поскольку дает ей общие директивы, идеалы и контролирует ее
принципы и приемы борьбы. Но, обратно, религия никогда не
должна поддаваться влиянию политики, стремиться к
политической власти, заимствовать у политических партий их
оружие и служить их целям. Единственное, что она может
требовать от светской власти, это предоставление ей той свободы,
какая вообще должна быть дана всякому проявлению
человеческой мысли и энергии.
Политические деятели, являясь членами известных
религиозных обществ, должны по самому существу религии
повиноваться голосу своей веры более, чем политическим потребностям,
они будут, естественно, в своей политической деятельности
защищать интересы того исповедания, к какому принадлежат,
но ни минуты не должны упускать из виду вечных задач
религии из-за временных интересов своих единоверцев. Возможно
объединение людей разных партий и классов для защиты
угрожаемого вероисповедания, каковую задачу сперва взял,
например, на себя германский центр, но не может и не должно быть
170
H. ЕЗЕРСКИИ
специальной религиозной партии для служения делу религии
при помощи орудия государственной власти. Тем менее
допустимо делать религию орудием служения политическим
партиям, будь то реакционные или революционные. Брать готовую
программу политической партии и прилеплять к ней
религиозный ярлык не значит придать ей всю ту силу, какою может
обладать религиозное движение, вытекающее из независимого
и глубокого религиозного одушевления. Искусственно
возбуждать это воодушевление для чисто политических целей не
приведет ни к каким полезным результатам и только подорвет
престиж религии, во имя которой делаются такие опыты. В этом
отчасти повинно Христианское братство борьбы, поддавшееся
искушению самым примитивным способом обратить религию
на службу освободительному движению. Оно не проделало
необходимой самостоятельной переработки религиозного учения,
не вывело из него стройно продуманного воззрения на
существующие общественные отношения и на задачи религии, а
перенесло целиком в свое религиозное мировоззрение программу
и часть идей существующих партий, не позаботившись
примирить возникшие отсюда противоречия. Оно идет обратным
порядком, не от религии спускаясь к политике, а от последней
восходя к религии.
Живое религиозное движение может возникнуть только из
глубины чисто религиозного одушевления; оно должно
отвлечься от политической полемики и служить не злобе дня, а
вечным запросам человеческого духа. Только тогда может оно
глубоко всколыхнуть человечество и оказать существенное
влияние на его историю. Возможно ли такое движение в
настоящем, есть ли для него те психические и исторические условия,
которые создают успех таких движений, найдется ли в душе
современного человека источник религиозного вдохновения
достаточно сильный, чтобы оплодотворить засохшее поле
религиозной жизни, — это покажет будущее.
^^
<Ξ^
Свящ. Константин АГГЕЕВ
Религия и политика
ι
«Смешивать две вещи (религию и политику) была всегда
тьма охотников, но ничего, кроме вреда для человечества, от
этого не выходило». Эти слова г. Езерского в январской книге
«Рус<ской> мысли» можно было бы дополнить1. Немало
находилось лиц, которые стремятся разъединить эти «великие
факторы общественной жизни и прогресса человечества», но такое
обособление никогда не выходило за пределы печатной бумаги.
И сам автор, при несомненно одушевляющей его попытке резко
отмежевать задачи религии и политики, не раз констатирует
их неразрывную связь. «Религия берет на себя задачу ответить
на основные, вечные вопросы мира и жизни; политика — на
вопросы «общественной жизни, которые она притом
рассматривает с точки зрения конкретных условий данного общества и
данного момента» — так противополагает г. Езерский одно
другому... «Поэтому, — читаем дальше, — политическое учение
никогда не может так всецело захватить человека, не может
удовлетворить его основных запросов, ибо сами политические
учения являются уже производным продуктом известного
религиозного, философского или научного мировоззрения»
(курсив наш)*. В том-то дело, что политическое учение является
продуктом религии, что фактически религия и политика
неразрывны, и в равной мере нужно говорить против полного
смешения их, как и против попыток разъединить их...
Не так давно бывшая полемика по тому же вопросу на
страницах «Полярной звезды» и «Московского еженедельника»
еще более поучительна. С. Н. Булгаков, автор «Неотложной
задачи» организации «христианской партии», совершенно чуждой
* С. 108; см. также с. 124, 126.
172
Свящ. Константин АГЕЕВ
клерикализма, обскурантизма и прочих призраков прошлого,
но воодушевленной христианской верой и во имя этой веры и
идеалами демократии «социализма», встретил резкого
противника в г.Лурье в его статье «Сектантство и партийность»2.
В противовес Булгакову, Лурье требует «устранения из
собственно политической борьбы тех высших ценностей, которые
являются высшим благом культурного человека» (с. 35). И сам
же на следующей странице призыв к совместной и солидарной
работе мотивирует такими словами: «будем помнить, что в
опасности наша культура, в опасности нравственные устои
общежития, в опасности лучшие и ценнейшие блага человека.
Будем помнить об "умопостигаемом мире" всего пережитого и
добытого человечеством ценою неимоверного напряжения и
неисчислимых страданий...» Но разве не видно, что это
одухотворение практической деятельности «умопостигаемым миром»
совершенно не мирится с речами об «устранении из
политической борьбы высших ценностей»?
Примирительные статьи П. Б. Струве и кн. Е. Н. Трубецкого
только яснее подтверждают нашу мысль3.
Невозможное фактически, противоположение религии и
политики сопровождается обыкновенно неправильным
пониманием того и другого фактора. Религия обычно мыслится в
своем чистом виде, политика же — в определенных эмпирических
формах, все недостатки которых возводятся в непреложный
закон... Этой чисто методологической ошибкой, с одной
стороны, и не совсем правильным, по крайней мере, не полным
пониманием религии, с другой, — страдает статья г. Езерского в
первой своей части.
Понимая под религией «известное мировоззрение,
объясняющее, с одной стороны, общий строй мироздания, доходя до
его основного начала и конечных целей, и с другой стороны,
положение человека в этой системе мира», автор из этого
определения делает такие выводы. «Во-первых, религия берется
ответить на все вопросы, охватить человека целиком,
регулировать всю его жизнь. Во-вторых, религия все свои требования
предъявляет в категорической, не допускающей споров и
изменений форме. В-третьих, религия обращается к человеку как
личности, требует от него индивидуальных усилий, все свои
идеальные цели проводит чрез личность...» (с. 107—108).
Последний вывод автор с особой настойчивостью подчеркивает и
дальше (с. 112).
Одностороннее, чисто рационалистическое понимание
религии г. Езерского требует дополнения в своих выводах — и имен-
Религия и политика
173
но в том пункте, которому он придает особое значение. Всякая
религия вводит в систему своих правил регулирование
отношений отдельного человека к другим людям. Отношения эти
принимают форму определенного с точки зрения данной религии
уклада правовой и экономической жизни общества. И задачей
религии служит не только воздействие на отдельную личность
и ее индивидуальный мир, но и формирование соответственно
своим началам общественного социального строя. То правда,
что без личного осуществления невозможно установление тех
или иных общественных норм жизни. Но, зная воспитательное
значение для отдельного человека последних, религия требует
введения их независимо от того, проведены ли начала их в
жизнь всеми членами общества. Пред нами член общества, сам
лично достигший идеальной высоты нравственного развития.
И в то же время «религия (этого человека) не будет считать
свою задачу исполненной», если общественный строй,
выражающийся в законах — писанных и традиционных, совершенно
не соответствует ее началам: она заставит его приложить свои
старания к установлению требуемой гармонии. Еще конкретнее.
Ни один истинно религиозный человек в эпоху, напр<имер>,
нашего крепостного права не мог даже умственно успокоиться
в сознании исполненного долга, хотя бы сам «сознательно
подчинил свою жизнь требованиям религии»: он должен был
считать своею религиозною обязанностью заботиться об
уничтожении этого института, отрицаемого религией... Мучение совести,
достоевское сознание своей виновности — вот что составляло и
составляет основное настроение лучших
религиозно-настроенных людей в такого рода эпохи.
После сказанного дополнения согласимся на время с
определением религии и выводами из него, данными г. Езерским.
Есть ли место на данной почве для противоположения религии
политике? Не трудно видеть, что все «выводы» автора
применимы и к последней. Политика в своем идеале также
стремится регулировать всю жизнь человека, требования предъявляет
в категорической форме и также обращается к личности
человека. Не противоположение, а только различие между
большим и меньшим, между принципом и его осуществлением в
пределах известного времени и пространства устанавливается
собственными же словами автора. Отрицанием религии
является подчинение ее политике: таким отрицанием, — яркий
пример, — служит подчинение у нас Церкви государству, но
возведение политики на степень религиозного долга сообщает ей и
необходимое воодушевление, и широту перспектив по пути по-
174
Свящ. Константин АГЕЕВ
стоянного улучшения и прогресса. От такого «смешения»
религии и политики, конечно, кроме добра произойти ничего не
может.
Сказанное в отношении религии вообще с особенной силой
применимо к христианской вере. Религия христианская не
есть только известное миропонимание, — но более того: жизнь
в общении с Богом. Христианская религия есть жизнь во
Христе. Делаясь безраздельно ветвью Виноградной Лозы (Ин. XV),
христианин свою жизнь во всех ее проявлениях отдает на
воображение в себе Христа, делается, по слову апостола, «новою
тварью» в Нем. Христианин не может обособить от влияния
Христа ни одной сферы своей жизни. Точнее сказать: вся
жизнь ученика Христа служит осуществлением религиозного
начала, богочеловеческим процессом. Таким проведением в
пределах времени и пространства религиозных начал должна
служить и политика.
Что и говорить, — нужно помнить о различии для
христианина религии и политики! Первая — область вечного. Вторая
имеет временные и преходящие формы. Но именно в силу
проникновения религией политики последняя и является
постоянным прогрессированием от одного вида к другому. И тот вечный
неизменчивый идеал, который служит «закваской»
политической жизни, который определяет собою самый факт изменения
ее и характер постепенно изменяющихся форм, создает нечто
устойчивое и общеобязательное для всех исповедников его
(идеала) в сфере временного... Позволяю себе здесь последнюю
мысль иллюстрировать одним недавним литературным
примером. В начале прошлого года на страницах «Церковного
вестника» помещена была статья П. П. Кудрявцева на тему,
схожую со статьей г Езерского, но превосходящая последнюю и
своим пониманием религии, и раздельностью мысли4. Вопрос
решался в направлении различения религии и политики.
Читаешь статью г. Езерского, невольно вспоминаешь мысли г.
Кудрявцева. В нынешнем году вышли, уже отмеченные в
литературе нашей, очерки того же автора «По вопросам церковно-
общественной жизни» 5. Если немного продлить линии
последних, мы совпадем с «Неотложной задачей» С. Н. Булгакова и
с... Христианским братством борьбы, к которому, как нам
известно, автор относится с знаком вопроса. Так, выражаясь
словами С. Н. Булгакова, идеалы демократии и социализма
являются обязательным требованием христианства при сознании
различия религии и политики.
Религия и политика
175
II
«Не может быть сомнения, что Христианское братство
борьбы стоит на ложном пути, и если бы освободившаяся русская
Церковь пошла по этому пути, то получилось бы то же, что
теперь, только на другой — на левой стороне... Девиз —
"работайте во имя христианской общественности" и грозит при своем
последовательном проведении привести к низведению религии
к политике... Христианское братство борьбы хочет нас сделать
политически левыми, и в этом его великая ошибка. Только
понявши эту ошибку и отказавшись от нее, вожди этого братства
могут стать вождями церковного возрождения». Так пишет
мне один искренно религиозный корреспондент после
прочтения статьи г. Езерского.
Можно еще, по слухам, вкривь и вкось судить о
Христианском братстве борьбы... Но совсем непозволительно, имея под
руками точный доклад о нем, так неправильно
характеризовать Братство, как делает это г. Езерский, — ив этом главный
грех его статьи... * Благодаря именно такого рода статьям
создается совершенно неправильное представление о кружке лиц,
которых с непростительной развязностью архиепископ
Волынский Антоний в своих «знаменитых» записках, поданных
Синоду, величает просто революционной бандой...6 И знакомство
автора с членами Братства, в «искренности которых он не
сомневается», только усугубляет его вину.
«Центральный пункт программы Братства, — говорит г.
Езерский, — составляет отрицание на основании Евангелия частной
собственности и соответственное требование социалистической
перестройки общества» (с. 116). Братство «приближается к
социалистическим партиям не одним отрицанием права
собственности; по своей терминологии, по основной точке зрения на
общественные отношения, это — та же марксистская программа,
но основанная на цитатах по Евангелию. Вот в этом и
заключается величайшая несообразность... Христианское братство
поддалось искушению самым примитивным способом обратить
религию на службу освободительному движению. Оно не
проделало необходимой самодеятельной переработки религиозного
учения, не вывело из него стройно продуманного воззрения на
существующие общественные отношения и на задачи религии,
Все нижеследующее основано на брошюре «Христианское братство
борьбы и его программа» (М.: Изд. Религ.-общ. библиотека, 1906.
Сер. 1. №2).
176
Свящ. Константин АГЕЕВ
а перенесло целиком в свое религиозное мировоззрение
программу и часть идей существующих партий, не позаботившись
примирить возникшие отсюда противоречия. Оно идет обратным
порядком, не от религии спускаясь к политике, а от последней
выходя к религии» (с. 120, 126). Вот поистине ужасные
обвинения, которые предъявляет к молодой организации г. Езер-
ский!
Ужасные, но совершенно не соответствующие правде!
Программа Братства имеет две части весьма неравномерного
значения: первую, в который жизненный нерв его, нужно считать
основною, принципиальною, вторую — прикладною,
указанием тех путей, коими в данный переживаемый нами момент
осуществляется идея Братства. Если бы цитируемая нами
брошюра не была конфискована, по обычному у нас недоразумению,
нам оставалось бы отослать читателя к ней. Теперь
вынуждаемся привести из нее основные пункты: ясно будет всякому,
какая огромная пропасть лежит между социализмом
марксистского толка и социализмом Братства:
1) В основу всех человеческих отношений должны быть
положены: Христова любовь и Христова свобода.
2) Идеал полной и всецелой правды людских отношений не
должен полагаться только в будущее, как это делается
рабочими партиями, — а осуществляться теперь же, немедленно,
всеми верующими во Христа. Вся правда должна теперь же быть
реализована среди верующих, но верующими будут не все.
3) Христиане совершенно не принимают того
количественного представления о прогрессе, которое господствует в
современном мировоззрении, по которому благополучие и обеспеченность,
являющиеся теперь достоянием некоторых, по достижении
цели станут достоянием всех и тогда настанет царство всеобщего
благоденствия.
4) Христиане имеют свое представление о прогрессе,
коренным образом отличающееся от мирского. Этот прогресс
качественный, идущий вглубь, а не вширь. Количественное развитие
его является чем-то производным и обусовливается развитием
качественным.
5) Реализация полной правды в жизни верующих есть
необходимый момент этого христианского прогресса. Она служит
началом той окончательной дифференциации, той последней и
обязательной борьбы зла с добром, о которой говорится в
Апокалипсисе.
6) Всеобщего благополучия, по глубочайшей вере
христианской, на этой земле никогда не будет. Всеобщего благополучия
Религия и политика
177
никакой социализм дать не может, ибо никакой социализм не
властен над законами природы, из которых наиболее
неустранимый и наиболее беспощадный — закон смерти.
7) Христианство идет по пути преображения слепых и
мертвых законов природы в благодатный строй Царствия Божия и
по вере христианской «последний же враг истребится — смерть»
(1 Кор. 15: 26). В пределах истории последняя цель христиан —
это явление «жены, облеченной в солнце» (Ап. 12: 1). Церковь
откроется верующим как Невеста Христова, готовящаяся к
браку с Господином своим.
8) После этого — начало уже вечного царствования
Христова на новой земле под новыми небесами (2 Пет. 3: 13). Это и есть
окончательная, за пределы истории выходящая, цель
христианского прогресса.
9) Христианский прогресс есть процесс богочеловеческий.
Действует и Бог и человек. Человек свободно совершает работу
Господню; а Господь подает ему нужную силу и указывает, что
нужно делать и как. Поэтому христианский прогресс есть дело
и человека. Его усилиями, его свободной сыновней работой
человечество приближается к своей запредельной цели.
10) Пришло время сознательно послужить этому
приближению. Ибо «время близко» — мы вступаем в окончательный,
апокалиптический период всемирной истории. Это говорил уже
Достоевский. Об этом недавно во всеуслышание сказал Вл.
Соловьев, неясным предчувствием и тревогой об этом полны все
движения нашего времени и вся современная литература,
отражающая их.
11) На теперешнем поколении лежит колоссальная задача
найти конкретные пути осуществления полной правды в
жизни верующих и тем, при содействии Духа Святого, положить
начало концу — концу господства зла и смерти.
12) Одним из безусловно необходимых путей к этому
является создание христианского общественного служения.
Последнее предполагает наличность определенной и конкретной
практической программы.
Практическая программа более или менее совпадает с
программой социализма.
Если можно в чем винить Братство с точки зрения
«реальной политики», то именно в том, что его программа — сплошь
религиозное восприятие мира. И между тем социализм,
который г. Е<зерский> называет «марксистской программой» и
программой братства, — отношение антиподов, отношение Христа
и Антихриста. Можно ли после этого говорить о механическом
178
Свящ. Константин АГЕЕВ
приклеивании религиозного ярлыка к чисто
социал-демократической программе, в чем винит г. Езерский Братство?!
Христианское братство борьбы хочет нас сделать политически
левыми». Да. И именно потому, почему христианская религия ведет
к идеалам демократии и социализма, почему к тем же по
существу идеалам в своем последовательном развитии приводит
помянутая нами книга «По вопросам церковно-общественной
жизни». Но, что особенно важно, путь здесь не от политики
к религии, как по непонятным основаниям утверждает г.
Езерский, а как раз наоборот — от религии к политике... «Девиз
"работайте во имя христианской общественности" приводит
при своем последовательном проведении к низведению религии
к политике». Это так, если христианская общественность
является самостоятельным принципом. Но обвинение падает, если
мы читаем слова 12 п.: «одним из безусловно необходимых
путей (к осущ. п. 11) является создание христианской
общественности...»
Центр тяжести Братства, сказали мы, лежит в первой части
его программы. Вторая часть сообразована не только с
принципами первой, но и с требованиями момента... Здесь есть пункты,
с которыми можно не согласиться, как не согласен с
некоторыми и автор этих строк. Но, я думаю, никто из членов Братства
не считает их непреложными...
Чтобы яснее указать тот «гибельный» путь, на котором
стоит Братство, г. Езерский трактует о нем по статьям... гг. Эрна и
Свенцицкого, помещенным в различных изданиях... Я думаю,
на это ничто не дает права. Иное дело программа Братства.
Иное дело, напр<имер>, статья г. Свенцицкого о насилии
(«Вопросы религии», вып. I)7, с которою не можем согласиться
и мы... Но об этом должна быть отдельная речь.
^5^
^s^g>
Д. В. ФИЛОСОФОВ
Голос мирян
Предсоборная комиссия временно, по случаю летних
вакаций, прекратила свои занятия1.
Долго ли продлится это отдохновение обремененных
трудами членов комиссии — сказать трудно, не зная точно, когда
начнется сезон. Известно, что в России времена года теперь
совершенно спутались. Пожалуй, никаких «времен» у нас
больше нет. Наступило безвременье, полярная, беспросветная зима.
Все замерло и замерзло. Зима, впрочем, имеет свои хорошие,
гигиенические стороны. Все вонючие лужи подмерзают, и
кажется, что живешь в чистом воздухе. Один из последних
славянофилов, Константин Леонтьев, который из ведомства цензуры
перекочевал прямо в Оптину пустынь, советывал даже
русскому правительству брать пример с «Дедки-морозки». «Надо, —
говорит он, — заморозить русскую культуру. Это предохранит
Россию от разложения». Он давал мудрый совет. Только
морозом наше правительство и спасалось. А как началась — после
японской войны — оттепель, пошли такие, по выражению
Лескова, «фимиазмы», что только нос затыкай!
Вероятно, и предсоборная комиссия рассчитывает, что зима
будет бесконечная, а потому и не торопится с возобновлением
своих занятий. Время терпит. Реформы нужны только при
оттепели. А пока что можно заняться производством
мороженого. Это дело знакомое, обычное.
И началось гонение на духовенство, на то духовенство,
которое, забыв, по мнению наших иерархов, заветы Христа,
кощунственно восстало против смертной казни. Говорят, что в
суздальской монастырской тюрьме произведен ремонт и приготовлены
вновь отделанные помещения для новых жильцов. В Думе
священники столь много говорили и волновались, что им не вред-
180
Д. В. ФИЛОСОФОВ
но отдохнуть; отдыхают же и члены предсоборной комиссии!
Они тоже утомились. Признаться, они имеют право на отдых.
Столько важных вопросов решили. Профессора блеснули своей
эрудицией, присяжный поверенный Кузнецов написал столько
докладов, что, кажется, их и не перечесть. Генерал Киреев
поразил всех своим богословским образованием (а еще говорят о
неспособности наших генералов!), а г. Нейдгардт очень
тактично и уместно, как и все «истинно русские люди», вроде Гринг-
мута, Клейгельса, Гурлянда и многих других, упомянул при
обсуждении вопроса об отношении Церкви к государству о...
своих верноподданических чувствах. Таким кратким, но сильным
заявлением ограничилась вся роль этого члена предсоборной
комиссии из мирян. Хорошо, что в состав комиссии.были
приглашены «миряне»!2
К сожалению, миряне «неприглашенные» менее тактичны.
Их голос звучит несколько иначе, чем голос гг. Киреева и Нейд-
гардта. Их лира настроена не так весело и мирно.
Недавно несколько таких «бестактных» мирян выпустили
сборник своих статей, под общим заглавием «Вопросы
религии» 3.
В то время как в предсоборной комиссии выволакивают на
свет Божий из-под груды пыли разные «эклоги», преют о
теории «пяти чувств», умиляются перед премудростью Феодора
Вальсамона, который хитро сплел в один узел Христа... с
императором Тиверием, «оглашенные» миряне занялись вопросами
более жгучими. Одна статья (В. Свенцицкого) посвящена
христианскому отношению к власти и насилию, другая (С.
Булгакова) — отношению Церкви к культуре и государству, третья
(В. Эрна) — церковному возрождению и т. д.
Темы все колючие. И нельзя сказать, чтобы трактовались
они мирно и благодушно. Правда, Вальсамоны и тому
подобные авторитеты в их рассуждениях роли не играют. Они все
больше ссылаются на одну довольно распространенную книгу,
цитировать которую члены предсоборной комиссии упорно
избегают. Я говорю о... Евангелии.
В сущности, члены предсоборной комиссии поступают
тактично. Уж очень Евангелие несовместимо с Вальсамонами,
Юстинианами, смертной казнью и военно-полевыми судами...
Кроме статей, так сказать, теоретических, в сборнике
помещена любопытнейшая биография одного русского инока,
архимандрита Серапиона (Машкина), скончавшегося 20 февраля
1905 года в Оптиной пустыни. Он родился в 1855 году в
зажиточной дворянской семье. Образование получил в морском учи-
Голос мирян
181
лище. В 1876 году вышел в отставку в чине мичмана и
поступил вольнослушателем на естественный факультет, который и
окончил в 1884 году. Затем шесть лет Мошкин пробыл на
Афоне. Вернувшись оттуда, он поступил в Московскую духовную
академию и по окончании ее был удостоен степени кандидата
богословия. С 1900 года он жил на покое в Оптиной пустыни.
По жизни это был настоящий подвижник. Автор статьи о нем,
П. Флоренский, приводит целый ряд фактов, ярко
иллюстрирующих жизнь, или вернее, житие, этого святого человека. В нем
как-то удивительно соединялась высокая культура ума — он
был выдающимся математиком и оставил большой
философский труд — с христианским смирением, с душевной ясностью
и простотой. Но ведя чисто затворническую жизнь, соблюдая
во всех мелочах строгий монастырский устав, упорно работая
над своей философской книгой, о. Серапион вместе с тем живо
интересовался миром и тем, что в нем делается.
Вот, напр<имер>, что он писал Флоренскому 3 февраля
1905 г. по поводу Московской духовной академии.
«Академия не частный человек, а общественный институт.
И что может быть дозволено частному человеку, то не может
быть дозволено общественному учреждению. Или, может быть,
наши "отцы" смотрят на академию как на учреждение не
общественное, а государственное? В самом деле, что такое как не
измена Иисусу воздаяние "Божьего Кесарю"? Наши же "отцы"
воздают и Божье Кесарю. И учат так людей. А что это
действительно так, не трудно убедиться: фактов хоть отгребай» И
далее о. Серапион приводит «факты». «Нет, я не согласен быть
архиереем, — пишет он дальше, — и если бы предложили, то
отказался бы: совесть моя запрещает мне быть полицейским на
месте пастыря Христовых овец».
Особенно огорчает благочестивого инока о. Иоанн
Кронштадтский. В сборнике напечатаны два письма Серапиона к о.
Иоанну, в которых он властно обличает средневековые идеалы этого
популярного батюшки. «Вы говорите, — писал он 5 декабря
1904 г., — что печать долго домогалась полной свободы и,
наконец, достучалась, что прежде она была нередко беспутна, а
теперь больше. Позвольте вас спросить, что, собственно, вы
называете "беспутством печати"? Неужели этим именем вы
называете стремление всех лучших людей России вспомнить святые
заветы великой эпохи царствования императора Александра II,
его освободительного периода? Не может же быть, чтобы вы
могли считать крепостничество христианским идеалом».
И дальше:
182
Д. В. ФИЛОСОФОВ
«С одной стороны, свобода слова, свобода общественного
мнения... с другой — рабское молчание общества, вместо
жизни — одни мертвые канцелярские проволочки и подпольные
протесты, злые, так как они сдавлены. На какой стороне
Христос? Ясно как Божий день: на первой, так как где дух Христов,
там и свобода».
Надо прочесть всю интересную статью Флоренского, чтобы
оценить по достоинству замечательную личность этого
выдающегося православного монаха. Естественно, что он должен был
кончить свою жизнь «на покое», не у дел.
Вероятно, книга «Вопросы религии» не встретит сочувствия
в официальной Церкви. Слишком ярко христианское
настроение авторов, не вмещающееся в рамки православия. А вместе с
тем группа людей, издавшая сборник, обольщает себя
иллюзиями, что голос ее будет услышан, и если Церковь его не
услышит, то исключительно «по злонравию». Думается, что это
величайшее заблуждение. Православие имеет свою историю и
свою метафизику, присущие только ему одному, как
специальной форме исторического христианства. Требовать реформы
православия, не считаясь с его историей и метафизикой,
нелогично. И если бы наша Церковь, послушав Булгакова, Эрна,
Свенцицкого и др., произвела бы все требуемые ими реформы,
из которых первая — разрыв ее связи с абсолютизмом, то она
перестала бы быть православной, так же как католическая
Церковь стала бы лютеранской, если бы последовала за
Лютером. Поэтому реформа православия невозможна. Сознают ли
это сотрудники сборника? Они предъявляют, с точки зрения
церковной, чисто революционные требования и думают, что
Церковь может на них пойти, не отказавшись от себя. Пора же
наконец признать, что историческое христианство своей
общественности не имеет, и если оно выходит из монастыря в мир,
то оно фатально благословляет цезаря, все равно, в форме ли
цезаризма или папства.
Этого не видят или не хотят видеть Булгаков и его
товарищи. То, что они говорят, могут говорить лишь люди,
вышедшие из данной исторической Церкви. Оставаясь же внутри ее,
они сами себя обессиливают и приходят к абсурду. Поэтому,
как ни благородны пожелания участников сборника, как ни
искренен их гнев, все их начинание, мне кажется, останется
бесплодным до тех пор, пока они не выяснят точно и ясно
своего отношения к православию. О. Серапион ушел из мира, и
нельзя не видеть, что православен он был только как инок, как
аскет. Общественность же его была не церковная и, уж конеч-
Голос мирян
183
но, не православная. То же, в сущности, замечается и у
издателей сборника. Они страдают от компромиссов и по долгу
религиозной совести призывают к неуклонному проведению в
жизнь заветов Христа. Этот призыв, особенно у Эрна и Свен-
цицкого, звучит порою так строго и с такой властностью, что
напоминает давно знакомый голос... отца Матвея Ржевского,
того самого, который заставил Гоголя сжечь вторую часть
«Мертвых душ»! Идеал личной святости у них тот же, что и в
православии, т. е. аскетизм, но вместе с тем они пытаются создать
и теократический идеал, т. е. религиозную общественность, и
здесь коренным образом они расходятся с Церковью. Булгаков
хочет примирить православие и культуру, так сказать,
втиснуть культуру в православную Церковь. Но в какой мере это
осуществимо? Знаменитый «Силлабус» Пия IX, того папы,
которого Ренан иронически называет «гениальным», очень верно
и точно выражает отношение исторического христианства к
гуманизму4. В этом «Силлабусе» все предано проклятию, а
социализм наравне с «библейскими обществами» и «либеральным
католицизмом» — названы «чумой» (sic!). Многих обольстила
энциклика Льва XIII по рабочему вопросу (Rerum novarum), и
началась пропаганда так называемого «католического
социализма» 5. Но это все иллюзии. Если церкви приспособляются к
«духу времени», то исключительно с целью воспользоваться
новым оружием, для вящего торжества своих реакционных
идеалов.
Сам Свенцицкий восстает против «фельетонного», как он
говорит, христианства, против либеральничанья нашего
духовенства. Он считает это «полуистиной». Его требования гораздо
радикальнее. Но если так, то как же он может возлагать свои
надежды на реформу православия, требовать, чтобы оно
благословило освободительное движете? Здесь какое-то зияющее
противоречие. Отдельные личности из православной Церкви,
например тот же Серапион, могут это сделать, но Церковь как
целое на это совершенно неспособна. Несмотря ни на что,
«Силлабус» есть общественное profession de foi и католичества, и
православия. Известное послание Синода после девятого
января или недавнее пастырское послание митрополита Антония —
русская иллюстрация к католическому «Силлабусу» 6.
Как этого не сознают Булгаков и его сотоварищи — уму
непостижимо.
Или они пророки «вселенского» христианства, и тогда они
не имеют права ставить знак равенства между христианством и
историческими формами его воплощения (католичество и пра-
184
Д. В. ФИЛОСОФОВ
вославие) или они чада православной Церкви, тогда вся их
проповедь — иллюзия, а их надежды на церковный Собор
совершенно фантастичны.
Когда августинский монах Лютер начал свою борьбу с
злоупотреблениями католической Церкви, он был
приблизительно так же настроен, как и Булгаков с сотоварищами. Известно,
чем кончилась эта борьба. Католичество созвало Тридентский
собор, на котором были упорядочены некоторые уже слишком
соблазнительные приемы Церкви, а Лютер, преданный
анафеме, пошел своей дорогой.
Наш Собор будет, по всей вероятности, вторым Тридентом7.
В лучшем случае, он уменьшит консисторское взяточничество
и пьянство деревенских псаломщиков. И так же, как русское
общество идет напролом своей дорогой, так же и Булгакову с
сотоварищами надо идти до конца своей дорогой.
1906
<^^Э
^5^
С. M. СОЛОВЬЕВ
<Рец. на:> Вопросы религии. Вып. 1. Москва
«Теп лох ладная семинарщина» — название, гораздо более
подходящее к сборнику, чем «Вопросы религии» х.
Действительно, ни о каких настоящих вопросах и речи нет в
сборнике. Все метафизические и исторические проблемы,
вставшие перед современным сознанием, уже заранее решены
авторами сборника. Из этих «данных начал» они развивали
свои немногосложные и однообразные теории и читать их после
Гюисманса, Оскара Уайльда, Ницше, Владимира Соловьева —
просто невыносимо. Наивное противопоставление
христианства — язычеству, веры — суеверию может занять только
подростков. Пресловутый «синтез», упоминаемый чуть ли не на
каждой странице, ведет свое происхождение отнюдь не от
метафизической системы Соловьева, а от слабых эклектических
систем оптимизма. В этой куче, куда г.г. Флоренский и Эрн
свалили без разбора Софокла, Машкина, Бебеля и прочих, все
смешалось в одном пошлом безразличии.
«Вопросы религии» — книга не только ненужная: эта
книга — вредная. Немногих соблазнит черносотенность Никона;
слишком ясно, что она не имеет ничего общего с
христианством2. Но теплохладная пошлость г. Эрна и компании
липким комом наседает на драгоценный ковчег церковной истины.
-@^
3. H. ГИППИУС
Без мира
1906
Мне думалось сначала написать о двух московских
сборниках, вышедших почти одновременно: «Свободная совесть»*
(вып. II) и «Вопросы религии». Но я, кажется, напишу только
о втором. И во втором-то многое мне непонятно; самый же
смысл существования первого, «Свободной совести», — его
живое лицо, — окончательно от меня ускользает. Пришлось бы
утверждать, что ни смысла, ни живого лица у этого сборника
нет; а я этого не хочу. Я знаю многих участников его как
людей талантливых и значительных; если данные их статьи и не
из лучших — то это еще ничего не значит. Я смысла
соединения их, в одной тяжелой книжке под одной серой обложкой
«Свободной совести», не понимаю, —и лучше не буду никого
судить, оставляя это на совести участников. Может быть,
С. Соловьев и А. Белый знают, где и чем их произведения
связаны с длинной дамской повестью о храбром генерале,
любящем розы, и его героической дочери, защищавшей крепость во
время усмирения Кавказа и поддержавшей честь полка2; я этой
связи не вижу и лгать не хочу, что вижу. Не вижу в
«сборнике», в его факте — никакого «дела», ничего «общего». Оттого и
не могу ничего писать.
«Вопросы религии»... это, прежде всего, действительно
сборник, собрание людей, связанных между собой одной нитью.
Если не одним пониманием (это мы сейчас увидим, одним ли
пониманием они связаны), — то, во всяком случае, одним-
словом. Слово это — христианство. В кратком предисловии
сборника сказано, что «отдельные статьи внутренне будут
объединяться общностью христианского мировоззрения*. И до-
Без мира
187
бавлено: «Но при этом авторам предоставляется полная свобода
для выражения индивидуальных мнений и даже разногласий
по вопросам второстепенной важности». Общность
«христианского» — (то есть одного и очень определенного) —
мировоззрения (то есть миропонимания, всепонимания) — вот чем
связаны участники сборника, как они думают.
Действительно, при такой крепкой связи, такой
всеохватывающей общности не страшны частные, личные разногласия.
Но что называют участники сборника «вопросами
второстепенной важности»? Вопросы о насилии, об аскетизме, об
устроении общественной жизни, ее идеале и завтрашней практике по
пути устремления к идеалу, — что это, важные или неважные
вопросы? Должны ли они решаться, или хоть ставиться, не
разногласно у людей одного и того же миропонимания? Или они
столь второстепенны, а круг «христианского миропонимания»
так узок, что вопросы эти, естественно, решаются
индивидуально, каждый по-своему, за чертой?
Нет, конечно, нет. Авторы сборника «Вопросы религии» —
люди глубокие, талантливые и — это главное! — искренние.
Они искренно убеждены, что вопросы эти не второстепенны.
Они искренно верят, что объединены для решения вопросов
христианством и что христианство есть известное понимание
мира. Они это говорят — и я верю, что они так верят. Верю в
веру — но не в факт. Потому что если б объединяло их не слово
«христианство», а одно и то же миропонимание, один и тот же
взор на жизнь и на мир, одно и то же ощущение и
восприятие, — не было бы в сборнике таких одиноких, одинокомуча-
ющихся людей, ставящих самые важные, самые глубокие
человеческие вопросы, и одиноко, различно, по-христиански — но
по-своему, только по-своему, их разрешающие.
Книга начинается статьей В. Свенцицкого «Христианское
отношение к власти и насилию», а кончается Булгаковым:
«Церковь и социальный вопрос». Весь сборник посвящен
отношению христианства к общественности; слишком ясно, что для
авторов это не второстепенное нечто, а самое главное, самое
важное; тут-то и жаждут они едино действия, веря в свое
единомыслие. Булгаков последнее время пишет почти
исключительно о созидании устоев для «христианской общественности». Он
верит в нее мягко, трепетно, оптимистически, нежно, любовно;
ему кажется, что вот-вот, еще немного — и она уже тут, уже
все есть. Он почти прав, потому что в своей, очень
христианской, мягкости ему немного и нужно. Церковь христианская, в
частности православная, истинная во всем, и вечная, — в дан-
188
3. H. ГИППИУС
ный момент истории еще чего-то не поняла, еще держится,
внешними своими проявлениями, за самодержавие, — но она
поймет, вот сейчас поймет, и все будет хорошо. И добрые,
прогрессивные священники будут служить в храмах, —
окруженных «внешним двором» — миром, «христианской» мирной
жизнью, государством, — конечно, самым тоже «христианским»
на социальных началах. Это будущее христианское устройство
Булгаков представляет себе непременно с «внешним двором»,
много раз настаивает на «внешнем дворе». Выражение он взял
«от Писаний»: он любит тексты, особенно из апостолов, но на
этот раз он взял Апокалипсис. И неудачно. Ибо там говорится:
«...а внешний двор храма исключи и не измеряй его; ибо он дан
язычникам: они будут попирать святой город сорок два
месяца».
В самом деле, какая же христианская общественная жизнь с
«внешними дворами» и внутренними притворами? Но что
делать, Булгаков истинно христиански мягок. И в сборнике он
доводит, последовательно, мягкую ширину свою до полного
разъединения, даже до противоположения Церкви и Жизни,
устраняя в жизни всякое действие, делание, всякий реальный
шаг. Действие его заключается лишь в «религиозном
пропитывании» того положения, в котором христианское сознание тебя
застало. Если ты фабрикант, если ты чиновник, если ты
офицер, прими это без протеста, не ломай; — «оставайся в том
звании, в каком призван», приводит Булгаков цитату из послания
и добавляет: только пропитывай дело свое христианским
духом. Дальше в терпимости кажется нельзя идти. Сам автор
оговаривается: «В таком отношении иные усмотрят
"оппортунизм и приспособляемость"»... Он хочет отклонить от себя это
обвинение, не изменяя, однако, высказанному. О, конечно, это
не «оппортунизм», не «ленивое, холодное, боязливое»
отношение к делу. Это только искренний, свой взгляд на мир, и
сообразно своему темпераменту принятое слово «христианство».
Это нисколько не мешает Булгакову искренно (лично и
уединенно) верить во Христа. В этом смысле Булгаков, несомненно,
был и остается христианином.
А вот другой, так же искренно, может быть, более пламенно
верующий во Христа, — Свенцицкий. Как же он, идя из своего
миропонимания, освещает, эти не второстепенные, а самые
первостепенные вопросы? Если у Булгакова — христианская
мягкость, нежность и терпимость, у Свенцицкого —
христианская суровость, беспощадность, резкость, часто похожая на
жестокость. Тихих мечтаний Булгакова он, вероятно, и не слы-
Без мира
189
шит. За словами его так и чудится строгий коричневый лик со
сжатыми бровями, с тяжким золотым нимбом, мерцающим в
лампадных лучах. «Кто не отрешится от этого, и от того, и еще
от этого... тот недостоин Его» — вот что говорит все время Свен-
цицкий. И говорит так, что мягкие, нежные христиане вроде
Булгакова непременно должны пугаться и трепетать, — когда
он говорит. Пока говорит. Он для них не убедителен, но —
внушителен. А по-своему он прав не больше, а ровно столько же,
так же, как и они. Он в той же мере, такой же действительный
«христианин».
В статье своей Свенцицкий, доказав как-то психо-философи-
чески, малоубедительно, но сложно, что насилие и убийство —
две вещи совершенно разные, что можно, признавая насилие
(над плотью, это заметьте!), не признавать убийства, кончает
совсем не по-булгаковски, и даже наоборот: «Да, христиане
могут и должны прибегать к насилию в отношении
неверующих (понимая это слово в нашем смысле*).
Насилие христиан должно быть направлено не на
насильственный привод ко Христу, а на ограничение той похоти,
которая растлевает человечество. А потому христиане могут и
должны бороться с экономическим гнетом насильственными
(курсив подлинника) приемами, забастовками и т. д. <...> во
имя Христово, во имя изгнания из тела человеческого
развращающих его сил <...> и когда Церковь отделится от
государства, она должна будет начать с неверующими борьбу против
существующего капиталистического строя».
Таково заключение статьи. Раньше (с. 17) Свенцицкий,
подчеркивая, выразил очень верную мысль: «Никакое
христианское государство немыслимо». Он думает, что если бы весь мир
сделался «христианским», то не было бы вовсе государства,
а была бы одна Церковь. Пока же Церковь должна бороться
с «внешними» насильственными мерами. Да, уж тут не до того,
чтобы всякий фабрикант, как и рабочий, оставались мирно
тем, что они есть, исподволь пропитывая свою жизнь
христианским духом! Не до ожидания близкого пришествия добрых,
сознательных священников! Напротив, Свенцицкий называет
«церковное либеральничанье» — «полуистиной» и сурово его
осуждает.
Хорошо, так что же все-таки делать и как мыслить
христианину? По Булгакову или по Свенцицкому? Они оба претендуют
* Т. е. не то что не крещеные, а только не такие «христиане», как
Свенцицкий, не такие же точно.
190
3. H. ГИППИУС
на христианское мировоззрение. Мало того, они оба почему-то
считают, что они в одной и той же христианской Церкви, и
даже именно православной. Какое же миропониманье у
Церкви? Булгакова или Свенцицкого? С кем же она? Или где она?
Впрочем, к Церкви мы вернемся, а пока взглянем
добросовестно внутрь сборника, нет ли все-таки у Булгакова
единомышленника; нет ли хоть двух, если не трех, с одинаковым
«миропониманием».
Вот методист Эрн. Это очень умный человек; не писатель;
несомненно тоже верующий. Он скромно озаглавил свою
статью «О приходе», — но пишет явно о христианской общине,
как обособленной единице, подробно развивает ее
экономическое положение, требуя все время «общения имуществ» —
земли, орудий производств и т. д. Он опирается всей тяжестью, со
многими ссылками и текстами, на первые века христианства,
на первые общины апостольские. Со 132 страницы перевернем
листы до 314. Булгаков пишет: «Мы отрицаем в самой идее
церковно-хозяйственные общины, которых мы не знаем и в
первые века христианства, и так учит об этом и ап. Павел,
требовавший, чтобы каждый оставался в том звании, в котором
призван (1 Кор. 7: 2), рабов оставлявший по-прежнему рабами,
а господ господами»... и т. д. Выписывать далее не стоит, далее
идет уже столько же против Эрна, как и против Свенцицкого с
его насильственной борьбой.
Но у Эрна есть в сборнике и еще противник. Еще один
верующий христианин, еще один, из «объединенных тем же
мировоззрением». Это Волжский. О, не методист Эрн, не мягкий
христианин Булгаков, и не Савонарола-Свенцицкий — это
пламенный и слабый мистик, мятущийся и беспомощный,
любящий и отвергающий, жаждущий и сомневающийся, спасенный
и погибающий. Литературу, слова как плоть ее, — он
чувствует больше всех других и с трогательной горечью рвется к ней.
Если сказать, что он не верит во Христа, что он не
«христианин» в этом смысле, — то кто же верит? В то время как Свен-
цицкий зовет верующих к насилию над неверующими,
Булгаков как тактику прописывает «пропитывание» и как идеал
рисует себе храмы и «внешние дворы», Эрн обсуждает
устройство общин, отрицаемых в принципе Булгаковым, и неизменно
подкрепляет свои доводы ссылками на первые века: «И так
было в Церкви Апостольской, но так должно быть и в
Возрожденной Церкви» (с. 124). «Так и было в Церкви Апостольской»
(с. 134), — пока все это происходит, Волжский с надеждой
отчаяния протягивает руки к соловьевскому и даже, может быть,
Без мира
191
за-Соловьевскому идеалу «религиозного целого свободной
теократии» и тут же, не заметив, опрокидывает Эрна со всеми
его опорами... «Христианское действование, — говорит
Волжский, — не может быть возвращением к опыту первых
христиан; религиозный опыт — в истории, а история не возвращается.
Религиозно-христианское делание, "христианская политика" не
может быть повторением дела первых христиан еще и потому,
что оно уже сделано, новое должно претворить его в себя вместе
с претворением вековой культуры, и осложнено живым
предвкушением, только еще чаемого, обетованного»... Кончает
Волжский «трагизмом противоречий» и говорит, что трагизм,
«внутренне принятый» — «глубочайший трагизм христианства
в жизни — трагизм аскетизма по преимуществу». «Только
здесь, только в аскетическом трагизме возможен подъем» над
правдой жизни к совершенству правды Христовой.
Это куда темнее, чем «приходы» Эрна, забастовки Свенциц-
кого, благодушная святая нежность Булгакова, но ведь это
тоже «христианское мировоззрение», и оно опять совершенно
иное, даже исключающее все другие из данных совершенно так
же, как и оно исключается любым; хоть эрновским, хоть бул-
гаковским. Страннее же всего, что и Волжский тоже считает
свое аскетическое христианское мировоззрение единственным
«истинно христианским», ибо присущим сердцу единой
истинной христианской Церкви, и опять той же, — православной.
Господи, да что же тут происходит? Неужели одиночество
этих людей такое последнее, такое страшное, что они даже не
видят в лицо того, кто стоит рядом, никто никого не слышит?
Или слышат лишь звук одного произносимого всеми слова —
«христианство», иногда еще «Церковь»? И вот они, для
религиозного соглашения, довольствуются общим словом: а то
согласие, которое ими бессознательно ощущается и которое и свело
их вместе, — совершенно простое, чисто человеческое,
совершенно внерелигиозное согласие: единодушный протест русских
интеллигентов против устаревших, непереносимых более, форм
русской государственной общественности. Тут они и согласны,
а далее, — при вопросе во имя чего протест, — начинается и у
них, как во всяких обыкновенных кружках и соединениях, —
разногласия личностей: один склонен больше к перманентной
революции, другой к постепенным реформам, третий... еще к
чему-нибудь, и так до бесконечности.
Держась их точки зрения, приняв их взгляд на Церковь как
на носительницу истины и единого истинного
миропонимания, — нельзя, невозможно признать, что все христиане сбор-
192
3. H. ГИППИУС
ника «Вопросы религии» к ней принадлежат. Принадлежит
только который-нибудь один. Они не могли бы сами с этим не
согласиться, если б захотели выслушать друг друга. Не
изменив своей точки зрения, они не имеют никакого ни внешнего,
ни внутреннего права, и ни малейших оснований считать себя
сынами какой бы то ни было одной матери.
Но это основание имею я.
И я действительно смотрю на них как на соединенных и
религиозно, соединенных «христиански» — в той единственной
точке, в которой только и возможно «христианское»
соединение: в вере каждого в Личность Христа. Понимая христианизм
таким образом, можно допустить, что они — сыны одной и той
же, не православной непременно, а всякой «Церкви»,
исповедующей веру во Христа. Если, конечно, соединение людей в
одной этой точке, в личной вере в Единую Личность Христа,
соединение, еще не обусловливающее общего отношения к
миру, еще не дающее никакого на мир и человечество
определенного взора, — может быть названо Церковью.
Да, всякому из христиан, о которых мы говорим, дорог
Христос — дорога и мировая человеческая история. Они хотят
соединить Христа с историей мира, оправдать историю перед
Христом. Но это с их христианством невозможно. Они хотят
«возродить» христианство, «восставить» христианскую
Церковь. Уж если надо «возрождать» и «восставлять» — значит,
признают и они, что «христианство» умирает, падает. В
истории, значит, пошло что-то не то, не туда, и давно уже. Так давно
началось это «падение» христианской Церкви, и так это
общеизвестно, что в любом учебнике можно прочитать спокойную
фразу: «Когда же вскоре благодатные дары в церкви
прекратились»... Прекратились! До Соборов, чуть ли не во времена
апостолов — прекратились! Что же, все человечество так
«развратилось», что смело истину, шутя победило ее, и вера в сердцах
оскудела, и праведников не стало? Нет, отнюдь нет. И вера не
оскудела, и праведники были и есть. Только «Церковь» и
оскудела, т. е. собрание, соборность верующих, — а верующие живы
и целы. Если не предаваться досужим мечтам о чудесном
«возрождении» Церкви, — то человеку, упорно верующему в
«христианство», остается проклясть весь исторический путь
человечества чуть не со второго века и затем, отойдя, погибать вместе
с какой-нибудь «Церковью» из погибающих: католической,
православной — безразлично.
А между тем (неужели так трудно это увидеть) ведь нам
дано, не умаляя истины Христа, не отнимая ни единой черты
Без мира
193
от веры в Его Божественную Личность, и даже именно из этой
веры исходя, — не только оправдать историю, но признать, что
иною она и не могла быть. Почему не хотим мы взглянуть
правде в глаза? Почему не хотим мы сказать себе раз и навсегда:
не «не удалось» христианство, но христианства общего,
общественного, всечеловеческого, церковного в высшем смысле, —
не было, не могло и не может быть, потому что христианство
не церковно? Я не знаю, я не могу постичь, — что отнимет у
христианства, то есть у человека с личной, искренней верой во
Христа, — у Булгакова, у Свенцицкого, у Волжского, —
признание, что «христианство» и есть именно полная, личная вера
в одну Божественную Личность? Если мы скажем, что Христос
открыл нам только эту необходимейшую «правду о личности»,
«правду о человеке», которая не есть еще соединение
отдельных людей, познающих лишь себя и Единого, в одно новое
тело, если мы скажем, что Христос — только Путь к такому
соединению всех, — умалит ли это Христа? Христианство не
церковно, но оно — путь к Церкви, путь самоуглубления в
одинокой еще, личной вере, — и этому пути человеческая история
не изменила. Она верно послужила Христу, верно и
неприкосновенно пронеся Его истину сквозь двадцать веков, углубляя
ее, воплощая ее в каждой отдельной верующей душе. Церкви
Христовой, только Христовой, начинающейся Христом и
заключающейся Им Одним, — быть не может, потому что
Христос только там, где Отец и Дух, где полнота; истинная Церковь
и есть полнота. Почему, если мы на мертво воспринимаемый
догмат о Троице взглянем живо, реально, если скажем, что
Церковь, соединение отдельно верующих, подлежит
воплощению лишь в пришествии Духа, которого пошлет Сын, и
который «будущее возвестит нам»; почему, если мы возьмем
Христа лишь как истину, жизнь и путь к церкви, — мы умалим
Христа?
И пусть не возражают мне, что в христианской Церкви — не
мертвый догмат о Троице, а сама Троица. Достаточно капли
трезвости, капли искренности, чтобы признать, что во всех
христианских церквах всегда был и поныне жив только один
Христос, об Отце же и Духе лишь упоминается. Весь трепет,
вся молитва, все сердце каждого верующего были отданы
только Христу. И это благо. Если же не так, если права «Церковь»
существующая, утверждая себя истинной Церковью всечелове-
чества, ибо уже во времена апостольские сошел на нее Дух,
излилась благодать, — то не в этом ли утверждении последняя
гибель христианства и Христа, победа над ними истории? По-
194
3. H. ГИППИУС
тому что если в те времена уже исполнилось обетование «о
будущем», уже излилась вся благодать, — то ведь она и иссякла.
«Прекратились в церкви благодатные дары». Чего же и откуда
ожидаем мы еще, если все уже было — и перешло? Тогда
конец, тогда воистину «тщетна и вера ваша» в живого Христа,
нынешние христиане! Но не тщетна вера, ибо не церковно
учение «Церкви» о Духе. Был путь, было воздыханье, чаянье и
надежда в каждой отдельной верующей душе, — а исполненья
не было еще. Был только залог его: одинокая крепкая вера, —
живая — в Одного Христа.
Но с одним Христом, взяв Его за единственную
неподвижную точку, — мы еще не имеем ни мира (космоса), ни
человечества. Мы принуждены смотреть на них, относиться к ним
вне круга нашей веры, внерелигиозно. На личной вере во
Христа еще нельзя построить никакого мировоззрения, тем более
общего. Обманывать себя можно, но ничего из этого не
выходит, как мы только что видели. Стараться «возрождать»
христианскую, в частности, православную «Церковь»—может
быть, и можно, но для этого уже следует сойти в ее последние
глубины, в ее истинное сердце — в подвижничество, в
схимничество, — с откровенностью отвернувшись от мира, презреть
времена и путь, нам во времени данный и во времени
пройденный. Возвратиться к уединенному совместному житью
углубляющих свою личную веру праведников. Снова, самим,
начинать оконченное, делать сделанное, — и сделанное так велико,
так прекрасно! Неужели не послужило оно нам, неужели
оказалось нам не нужным, точно и вовсе его не было? Отрицая и
эту историю, — «как бы не оказаться нам богопротивниками?»
Я не могу верить, однако, чтобы порыв людей, верующих во
Христа, к созданию «религиозной общественности» так и
разлился бесплодно в бесплодных попытках найти
общественность «христианскую». Самая жажда «Церкви»—общности,
соединенности людей не без Христа, а со Христом, — эта
жажда есть уже показатель путей и времен.
Только надо, идя, смотреть не назад, а вперед.
^^^
^^
Иван ОСИПОВ
«Таинства и возрождение Церкви»
Под таким заглавием в № 9 «Церк<овного> обн<овления>»
была помещена статья В. Ф. Эрна.
Статья исполнена глубокого религиозного интереса. Речи о
возрождении Церкви праздны, если в ней не сохранилось ни
одной святой точки. Тогда нечему возрождаться; Церковь
исчезла, ее надо создавать вновь.
Но если в Церкви сохранился хотя бы один святой уголок,
речь о церковном возрождении получает реальное значение.
Тлеющую искру нужно раздуть в яркое пламя — и цель
достигнута.
Святую точку в Церкви В. Ф. Эрн видит в таинствах.
Постановка вопроса глубоко религиозная. Нигде так ярко не
выступает в Церкви божественная сила, нигде так рельефно не
свидетельствуется вера христиан, как в таинствах.
Автор ничего не доказывает, а только свидетельствует свою
веру; положение и с этой стороны исполнено живого интереса.
Но в нас статья г. Эрна вызывает некоторые недоумения.
Г. Эрн признает таинства Церкви.
Г. Эрн относится отрицательно к официальной Церкви.
Мы старались под χ и у — (таинства и официальный)
подставить реальные величины и на основании статьи могли прийти
только к постановке вопроса: где кончается признание и где
начинается отрицание?
Признать таинства значит признать весьма много. Это яснее
можно видеть на отдельных таинствах.
Возьмем крещение. Крещение — таинство, следовательно,
г. Эрном признается. Но крещены решительно все члены
официальной Церкви. Объем действия таинства совпал с
пределами официальности. Единственная неповрежденная точка
церковности разрослась до периферии официальной Церкви.
196
Иван ОСИПОВ
Что же реально будет означать отрицание официальности
при ее встрече с действием крещения? Все ли крещеные
признаются, или часть их отрицается, какая и почему? Все ли в
крещеном признается, что и почему? Где критерий для
проведения точной границы между освященным крещением и
определенным официальностью? До тех пор, пока эта граница не
проведена, еще нет подлежащего, над которым можно
трудиться всякому ревнителю возрождения.
Не менее затруднений возникает и с таинством священства.
Рукоположены решительно все священники и епископы
официальной Церкви, до членов Св. Синода включительно.
Утверждение, что таинство есть лишь там, где оно переживается, еще
не решает вопроса. Требуется произвести фактическое
распределение между священниками посвященными и
рукоположенными, или же в психологии священника провести границу
между переживаниями священства и переживаниями
сродными и инородными. Признающему таинство священства трудно
решить вопрос даже о своем собственном христианском
достоинстве. Положим, я данное таинство переживаю, но по моей
вере в этом переживании, хотя и иначе, должен участвовать и
совершающий его священник, между тем, быть может, для
меня нет возможности убедиться ни в том, было ли здесь
переживание с другой стороны, и есть ли налицо даже подлинное
священство. Еще труднее здесь решать вопрос о других, если у
нас есть склонность решать его отрицательно. Какое я могу
иметь право утверждать что-либо с положительностью о моем
брате, когда духа человеческого никто не знает, кроме его
самого? И что, например, мирянин может утверждать о таинстве
священства, когда он его реально не пережил?
Не меньшие трудности создаются и прочими таинствами, о
которых мы умолчим.
Не нащупывается ли кроме таинств еще какой то
мистический остаток, который один только и даст возможность
разрешить все недоумения, вызываемые вопросом о таинствах?
Одно же признание таинств как единственной точки
соборной церковности кажется, не в состоянии вывести нас из круга
официальной церковности.
^^
В. РОЗАНОВ
О таинствах
(Письмо в редакцию)
Что с волнением написано — то и волнует. Прочел
прекрасную, полную последовательности и тревог статью
г. Эрна «Таинства и возрождение Церкви». Многие строки тут
хотелось вычертить на камне: да, одна нить, до самой
древности идущая — в таинствах. Прочее — история о т-
п а д е н и я...
Чудные мысли, но недоконченные. И да не осудят меня
читатели и редакция, что я отвечу на них торопливо, отрывочно,
«не умно», но кое-что...
1) «Отпали, отпадали»: Боже, да кто же это ведший в
отпадения? «Исторические обстоятельства»? Но они толкают туда и
сюда, влево и вправо, вперед и назад. Нет, тут, в словах
Эрна, — факт, а не объяснение. Темно это, страшно... Но
констатирует факт г. Эрн верно: точно, «история
христианства есть процесс отпадения от Христа». А мы так ею
гордимся... Сколько томов написано, и все «в похвалу».
2) «Таинства», «я верю в них»... Прекрасна всякая вера. Но
вот вопрос:
a) Почему же они не действуют? Повенчались — ссорятся,
причастились — завтра грешат. Нет, в самом деле, почему как
будто в них мало силы? Напр<имер> (лично испытал),
первые месяцы брака — самые неуклюжие, неудобные,
ломкие: ссоры всякий момент вспыхивают, раздражение
(супругов друг на друга) — постоянно. После все улегается и
становится гораздо мягче, удобнее. «Слежались, приноровились». Не
удивляться ли, что в «слежались, сжились, приноровились»
содержится более силы, чем в церковном таинстве
брака.
b) Пусть мне простит редакция и напечатает письмо мое в
виде «голоса со стороны», но дозволит высказать протест и
недоумение: «таинство покаяния» я совершенно отвергаю и в него
не верю, находя, что в центральном пункте его,
разрешения грехов, произносится ложь, как (увы, скорбная мысль,
но что же мне делать, если я не умею отвязаться от нее) и в
большинстве слов, формул, «смиренно» произносимых
церковнослужителями. Священник произносит:
198
В. РОЗАНОВ
«И аз, недостойный иерей, властию мне данною
отпускаю» (грехи) и проч.
Мне кажется, слова эти — «аз, недостойный иерей», —
неискренни. Тогда бы он не имел духа развязать грехи. Ведь
«развязать грехи» — больше царевой власти. И священники
действительно верят, что они разрешают грехи: а
потому слова их о «недостоинстве» суть эта обычная личина
смирения («мы, смиренные члены Синода, отлучаем Толстого»
и проч.), ни малейше не выражающая самоощущения,
самочувствия их; а потому я-то, видящий эту обычную и всегдашнюю
их личину, для меня лично донельзя противную, в таком
ужасном моменте, когда душа грешника (сам испытывал) вся в
слезах и раскрыта, — отвергаю это «таинство» и в существе и в
процедуре. Ну, не могу видеть в таинстве лжи, «для виду
произносимых» слов и проч.
с) Далее, я давно начал соображать, что в «таинстве
покаяния» Церковь прощает «грехи» собственно ей неинтересные и
не нужные, где ее существо и особенно привилегии не
затрагиваются. Я давно об этом писал и напоминаю: девушка в
слезах, кается, что у нее «так себе» прижиты ребенок, «в обиду
Церкви» — без венчания. Ну, конечно, священник «разрешил
грех»: но лишь — по шаблону, чтобы «не портить
правила», как не «портят супа». На самом деле Церковь как «бо-
гозданное учреждение», universalis Ecclesia, вот эта
«святая, соборная и апостольская» ни малейше, конечно, ей не
«отпускает греха» и выражает это в том осязательном
отказе, какой девушка, девочка наивная, находит, если она
придет в консисторию и со слезами любви и восторга скажет:
— Батюшка-то... простил! А так была грешна! Тоска
задавила душу, а теперь — ничего. И тятька с мамкой улыбнулись.
Соседи — тем дела нет. Сделайте же так, чтобы ребенок был
мой, моим именем и прочее звался, и без всякого
порицания, ибо порицание было до покаяния, а после
«разрешения» греха какое же порицание...
Девушка говорит еще гораздо наивнее и трогательнее, чем я
написал. Так, что люди бы расплакались. Но вот эта «святая,
соборная и апостольская» темнеет в лице:
— Этого нельзя. Ты обидела Церковь, не испросив
у нее согласия, не послушав ее голоса, преслушав прещения...
Не могу! не могу! Прости мы теперь и тебя, что же будет?
Кто же будет у нас венчаться...
Все это я написал очень скудно и плохо, в 4 часа ночи и
безгранично усталый, — но читатель дополнит и дорисует мое
слово и согласится с тем тезисом его, что Церковь прощает только
О таинствах
199
ей «ненужные грехи», что потрепал Ванька Машку, или украл
вот, или обсчитал рабочего хозяин. Это все — на стороне, и вот
такие грехи «на стороне» Церковь прощает; или там
риторические, «неверие» и проч., отчего «прибытку церковного не
убавляется». Но где затрагивается имущество Церкви, не
материальное, а вот эти привилегии власти, авторитета,
значительности и проч., и проч., и проч., — там Церковь прощает
«укромно в уголке» (в исповедальне), чтобы «не портить
правила», «не портить супа»; но на самом деле несерьезно ничего не
прощает, негодует, презирает грешника и его грех.
Ну, на этой почве много «Марий» удавилось, и я прерываю
речь, вероятно надоевшую читателям.
По всем этим мотивам я «таинство покаяния» совсем
отвергаю.
d) Не увлечен ли г. Эрн действительно изумительною
трогательностью слов, сопровождающих «таинства»... Не увлечен ли
он их эстетикою? Пусть об этом даст ответ в своем сознании.
Это - страшно важно: ибо эстетика — это еще не истина...
Сколько «таинств»? Церковь учит — семь. Вот мне
кажется возможным найти, при внимательном
наблюдении, еще случаи таких «возрождений души», «укрепления
души», «просветления совести», которые далеки от
рационального объяснения и слишком явны в благодетельном значении
своем, чтобы отвергнуть в них присутствие «религиозного
таинства». Здесь мы можем встретить страшное, страшное (от
непривычки, новизны или предрассудка), но и самое
обыкновенное, за чем, может быть, когда-нибудь будет признано
значение «таинства».
Я не знаю и говорю поэтому: «может быть». Я определенно
наблюдал среди нас, русских, не совершающих
никогда церковных таинств и не ходящих
никогда в церковь — людей столь изумительной доброты
душевной, чистоты поведения и вообще всего благоустройства
жизни, что не могу понять и допустить, чтобы они обходились
вовсе без «благодати Божией». Как же она на них сходит?
Где? Не применимы ли сюда слова: «Дух веет, иде-же хо-
щет»... Я не настаиваю, но иногда мне кажется, что при добром
устроении сердца как будто вся жизнь, самая жизнь есть
уже «таинство», «благодать», или что-то находящееся под
постоянным ее веянием, в ее обладании. Так и рвется слово:
«Бог — всяческая, и — во всем».А ведь Бого-п рисутстви-
е м, Бого-у ч а с τ и е м определяется и существо «таинства».
^^
В. В. РОЗАНОВ
Вечная тема
В «Живой жизни» 1, очень интересном и прекрасно
составляемом новом религиозном журнале, начавшем издаваться в
Москве*, помещена интересная статья г. Эрна «Социализм и
проблема свободы»2. О «социализме» и «проблеме свободы» я
пропустил, не интересуясь ими, но в конце статьи натолкнулся
на рассуждение о смерти, об умирании. Это так хорошо и
значительно, что ничего более веского, грустного,
религиозно-мучительного я не читал после «Смерти Ивана Ильича» Толстого.
Мой образ мысли совершенно противоположен образу мысли
г. Эрна. И мне хочется сказать ему, как другу-автору (лично я
его не знаю, но всякий задушевный автор становится другом
читателю), следующее письмо-исповедание:
— Вы так боитесь смерти? Она вас так пугает своим
образом, своей бессмысленностью, своею болью и печалью, что, —
кажется вам, — человек не может быть счастлив, пока он
смертен, и что даже ни о чем, кроме смерти, он и не может думать
серьезно в своей жизни... Вы говорите это пространно, длинно,
гораздо лучше, чем я, но, вкратце, вы говорите именно это...
Вы хотели бы бессмертия, «воскресения там, за гробом», и
указываете, что это «обещает нам воскресение Христа»...3
Мне это не кажется так.
Прежде всего, «воскресение Христа» ничего не обещает нам.
Он — Бог, мы — люди: из «воскресения» Бога ничего не
вытекает для человека. Бог мог воскреснуть, а человек, может
быть, и не может воскреснуть? Не знаю. Меня «воскресение
Христово» не убеждает, что я воскресну... В идеях г.г. Эрна,
* Редакция некоего г. Руковича (Москва, Тверская ул., дом
Олсуфьева). Цена 5 руб., сельским священником учителям и учащимся
скидка 10%. Главные сотрудники г.г. Свенцицкий, Эрн и Ельча-
нинов.
Вечная тема
201
Вл. Соловьева, Мережковского, Тернавцева, которые все
указывают на «Воскресение Христово», говоря, что там
содержится некое обещание и нам, я не нахожу связности. От большего
и разнородного нельзя заключать к меньшему и
неоднородному. «Бог» и мир сотворил, а я — не могу.
Хотел ли бы я очень воскресения? Не знаю. Ведь есть и
очень мучительное в жизни, стыдное. Мы воскреснем «со всем
в себе», а не «по-хорошему»... Как же тогда? Не лучше ли быть
совсем забытым, исчезнуть? Не знаю, что лучше, что больнее.
Говорят: «все всем будет прощено», или: «все воскреснем со
стыдом и поэтому никому не будет стыдно». Не знаю, хорошо
ли и это: такое было бы печальное зрелище. Да и это взаимное
прощение,, «потому что все преступники»... бррр...
Я почти не желаю воскресения, или желаю с тем, чтобы
быть только с Богом и без «других»... Без свидетелей и
очевидцев. Я бы желал «воскреснуть» и не «для Бога» в богословском
смысле, а чтобы продолжать помнить и продолжать любить
тех, кого знал и любил на земле. В последнем анализе «земля»
для меня все: сужу потому, что без воспоминания «о земле» и
«земных людях» я решительно не хочу «воскреснуть». Не
имею интереса к «воскресению»...
Так думаю. Может быть, скверно, но так думаю.
Самый «Бог» для меня какая-то сумма узнанных,
встреченных, милых людей, удлиненная, бесконечная, но — она... Я
путаюсь, неясен, чувствую это. Без «этих людей» сам Бог для меня
как-то не нужен, т. е. «тот» Бог, какой-то огромный,
огромный, и чужой, и страшный или там «наказывающий», что ли...
Это так огромно и далеко, что я не умею ни любить «этого
огромного», ни не любить. Ничего. Если Он хочет меня за это
«наказать» — пусть...
Я очень мал. За что Богу меня наказывать? Не знаю.
Бороться со мною, победить меня, искалечить меня, «сжечь
огнем»? Не знаю, не знаю. До того «не знаю», что не боюсь.
Быть вечно с памятью о милых людях, — да, это манило
бы... Другого, пустого, с «обнажением» и «свидетелями», я не
хотел бы. Но если будет такой всемирный скандал, ну, что
же... Зажмем глаза руками. Не будем смотреть. Не осудим друг
друга. Не заставит же Бог нас плевать друг на друга, не
устроит такой всемирной плевательницы.
Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет.
Просто, я думаю, умрем... Отчего это так страшно, отчего
нам всю жизнь об этом думать, отчего «при наличности
смерти — все радости не в радость» (тезис г. Эрна)?
202
В. В. РОЗАНОВ
Эрн, положим, через три года потеряет имущество, какое
имеет: неужели же из-за этого ему не идти сегодня в
кухмистерскую обедать? Будет голодно — он будет голодать; но когда
можно быть сытым, почему же не быть сытым? Не понимаю.
Эта философия мне кажется туманною. Мне кажется, г. Эрн
одевает смерть мистицизмом, а жизнь он мистицизмом не
одевает. Мистицизм имеет свойство все удлинять, расширять,
простирать «куда-то», «обесконечивать»... Увитая мистицизмом
«смерть» и представляется бесконечною, огромною, всезакры-
вающею. Но ведь с таким же правом и жизнь может
потребовать себе мистического одеяния, и под его покровом она
представится еще неизмеримо бесконечнее смерти, бесконечнее
смыслом своим, драгоценностью своею, милостью своею тем,
что она жила, и чем и почему мила.
Хотите «мистицизм» — туда, берите (или допускайте) его и
сюда. А если вы жизнь, еду, довольство, литературу признаете
только «маленькими эмпирическими фактами», то позвольте
мне и на смерть взглянуть, что вот я «простужусь, будет
воспаление легких, поколет в груди, покашляю и — умру». Только.
Почему не только? Эмпирический факт смерти не длиннее
всякого эмпирического факта в жизни, а мистический факт
смерти гораздо короче и проще факта жизни под углом
мистического на нее воззрения.
Мне кажется, наше дело на земле просто: делай хорошо свое
дело. И больше — ничего! Никаких страхов, опасения «за
будущее». Делал хорошо свое дело: а «там» счет может быть
представлен «с пристрастием» или без пристрастия. Если без
«пристрастия», то мне и «там» будет хорошо, потому что за что же
будет худо?!! А если «с пристрастием»: то это исключает самую
идею «суда» и кассирует «судию» (именно как судию) и
открывает возможность «черт знает чего такого», и в таком случае я
об этом ни думать не хочу, ни бояться этого не хочу, и вообще
все считаю в «ничто».
Итак, работа здесь — вот и все! И никакого беспокойства, ни
страха за «там». Если здесь хорошо (исправно), то и «там»
хорошо; а если «там» — ничего, то это тоже ничего. Пожили.
Любили. Трудились. Осмысливали, многое осмыслили. Как это
хорошо было, счастливо, радостно. Сколько я радостей
пережил, когда писал книгу «О понимании» (очень длинную)4.
Сказать, что это «ничто» и будто смерть «поглотит все»
—чепуха. Не поглотит же она моей бывшей радости (когда писал
книгу «О понимании»), да и вообще ничего она не поглотит,
потому что и нельзя ей ничего поглотить, кроме вот той неде-
Вечная тема
203
ли, когда я «простужусь и начну кашлять» и проч. Ну и пусть
возьмет ту неделю. Это так же просто, как то, что сегодня у
меня не было денег и я не пообедал.
Может быть, я глуп и мое рассуждение глупо? Может быть.
Но я написал книгу «О понимании» (5 лет сидел за одной
книгой) и не постигаю, почему я глупее Эрна. Может быть, мы все
не умны? Вероятно. Но для чего эту «вероятность» тянут в
черную темную сторону — не понимаю же. Оставьте все, как есть.
Не тяните ни туда, ни сюда. Есть черное, есть светлое. Смерть,
конечно, тяжела, но радость жизни бесконечнее ее. Сами
говорите, что смерть «бессмысленна». Ну, а о жизни никак этого
нельзя сказать, а все «осмысленное» конечно длительнее,
сложнее «бессмысленного». Что такое «бессмысленное» на конце
«осмысленного»? Точка. Ну и пусть ставится эта «точка» после
прекрасной книги, какою была наша жизнь.
Эта книга мудрая (у всякого). Это книга сладкая. Это книга
горькая. И святая, и грешная. Бесконечная книга! Ничего (во
всем мироздании) нет столь великого, неоцененного, дорогого,
лучшего из лучшего, чем обыкновенная жизнь обыкновенного
человека. Только по отношению к ней я чту и так называемое
Св. Писание (кажется, и все так делают), и таким образом она
для меня и есть Св. Писание, реальное Священное Писание.
Будем, друзья, жить хорошо, — и авторы-друзья, и
читатели-друзья! Не будем всматриваться в это «там», в
анализировать, что есть «точка»? Будем внимательнее, с великою
страстью, с великим благоговением всматриваться в «здесь»... Если
бы я был великим иереем, все молитвы я положил бы на
«здесь», «сюда»... Я сотворил бы религию «здесь» и
«здешнего»: и уверен, тогда бы нас гораздо лучше судили и «там», если
вообще есть «там» суд, что, впрочем, и не интересно, раз уже
все положено «здесь»...
Будь, человек, хорош: и оставайся спокойным в отношении
страхов и здешних, и «тамошних». Для тебя равно хорошо и
«все» и «ничего». И что будет дано, то и прими с радостью.
Умру? Умру. Страшно? Не страшно. «Бог будет судить, Бог
засудит...» Не сможет, не за что; а если все-таки «осудит» и «не
за что», то какой же и почему же он для меня «Бог», — и, я
думаю, это просто маленький «бог» маленьких попов, судящий
дела мирские, как они судят «дела» в консистории. Слишком
антроморфично и даже консисторо-морфично. Перед этим я не
питаю испуга, а все другое или неясно, или хорошо.
-ê^
В. В. РОЗАНОВ
Еще о вечной теме
Д. С. Мережковский в газете «Свободные мысли» иг. Свен-
цицкий в «Живой жизни» нападают на меня, — не скажу с
гневом, но с большою мукою сердца, — за мои приблизительно
отрицательные мысли, — или, точнее «не интересующиеся»
мысли касательно судьбы нашей за гробом1.
На ту же тему (судя по ссылкам Мережковского) писали и
другие. Но меня в особенности тронули частные письма, с
теплыми, милыми укорами, получаемые в значительном числе и
отсюда, и из-за границы.
Так хотелось бы их всех благодарить за участие, пожать
руки как братьям, и Свенцицкому, и Мережковскому...
Но что же мне делать, если я не то что не верую, а в самом
деле не интересуюсь, что будет «там?» Конечно, теперь я могу
быть в иллюзии, потому что здоров. Имея в виду теперешнее
состояние, опираясь на него только — конечно, я не вправе был
бы писать того, что писал. Но лет восемь назад, вследствие чего-
то съеденного, у меня произошло, как объяснял проф. В. Н. Со-
ротинин потом — «отравление головного мозга птомаинами» 2,
и я впал в обморок, — причем врач, следивший за пульсом,
говорил, что не мог его прощупать, т. е. что сердце почти
остановилось. В безмерной слабости я, однако, думал. Думал, что
вот — умираю.
Я был не дома. В это время я только думал о том, как будут
испуганы мои домашние, когда меня принесут мертвым домой.
И мне было очень печально за них. Также я беспокоился о том,
что будет с ними потом, без меня, с одними. Что им будет
тяжело и трудно существовать, — это меня очень томило.
Было вообще печально, «нехорошо».
Боли я не чувствовал, была только слабость, — ужасная,
неописуемая! Мысли были не затемнены, не спутаны. Текли
тихо и не вяло.
Eiue о вечной теме
205
У меня не было никакого беспокойства о душе своей. Ни
малейшей тревоги о «там». Ни о «суде», ни о «награде» я не
думал; ни — хотел их, ни — не хотел. Ничего.
Верил ли я тогда в Бога и теперь верю ли? Об этом надо
условиться. Когда я размышляю о Боге, пишу о Нем и (как
кажется) чувствую Его — мне тепло, хорошо, уютно. Все «по мне» и
«собой доволен». Таким образом, «религиозная идея» есть
какая-то «естественная для меня идея», при которой я как бы
«закругляюсь», становлюсь «полным», мне нечего желать,
меня ничто не мучит, я сыт. А когда очень уходишь «в суету»
и «мирское» — то становится скучно. Впрочем, оговорюсь:
размышления или слова о «мирском» и «суете», у меня по
крайней мере, деотделимы от постоянного как бы вездеприсутствия
Божия в этих самых мелочах, в самой этой «суете», и я
особенно люблю маленькие житейские дела, ибо общение с ними и
участие в них есть моя постоянная религия, и от этого я так
«сыт» на маленьких делах и чувствую себя в совершенной
гармонии, когда нахожусь в гармонии с ними. «Безбожная суета»
для меня наступает, когда я сержусь, соперничаю с кем-нибудь
или когда желал бы славы и проч. Но Бог дал мне спокойствие,
и я этим не томлюсь: кроме редчайших случаев, когда я
чувствую себя несчастным, безбожным, как бы болеющим.
Если такое постоянное и общее самочувствие и самосознание
есть «религия», то я религиозен. Но если этого мало и под
«религиозностью» понимается что-то конвульсивное, какая-то
судорога души, взывания, вопли, слезы, тоска, отчаяние,
невыразимые умиления — то во мне этого нет; но, мне кажется, эти
состояния суть более психиатрические, чем религиозные: и
«Бог» в них, очень может быть, является только «навязчивою
идеею» и проч., а не Тем, Кого мы видим и знаем спокойным и
простым сознанием, спокойною и простою душою.
Я отношусь к Богу спокойною и простою душою, и вот ею я
Его люблю, что и без Него не мог бы жить. Если этого мало — у
меня больше нет. Но мне это достаточно.
Я позволяю себе сказать все это или исповедоваться во всем
этом, потому что, судя по письмам и печатным статьям,
множество людей чрезвычайно этим тревожатся, этим озабочены;
озабочены этим «общим вопросом», как чем-то «своим»,
личным и дорогим.
В частных письмах все это сказалось прекрасно и не
утилитарно. Видно, что идея «бессмертия души» и «Бога» важна
сама по себе, драгоценна и возлюбленна сама по себе, без
«прикладных последствий»... Я с прискорбием читаю и у Свенциц-
206
В. В. РОЗАНОВ
кого, и у Мережковского строки о какой-то, если можно
выразиться, «прикладной религии». Впрочем, «прикладною
религией)» уже был озабочен Достоевский. Достоевский,
Мережковский, Свенцицкий, — все они говорят: что же будет на земле,
в людских отношениях, если люди утратят великую идею
загробного существования?
Ощупываю себя, сознаю все свое прошлое и отвечаю: да
ничего не будет.
Чем я стал, какие я злодеяния совершил, утратив «великую
идею»? Да никаких особенных и чрезвычайных. Был не очень
хорош «при идее» и после нее не стал нисколько хуже. Это я
отчетливо знаю тем внутренним, молчаливым сознанием,
которое не обманывает, не лукавит.
Но все люди — как я: отчего же они станут хуже, на случай
потерянной «идеи»? Не понимаю. Нет доказательств.
Мережковский говорит, что тогда придут «мистические
хулиганы» и настанет пора всеобщего одичания, зверства,
аморальности. То же повторяет Свенцицкий: «Откуда тогда будет
жалость к людям? Тогда врач, чем заботиться о спасении
новорожденного, или о помощи роженице, — сядет на лихача и
прогуляет лишний рубль». — «Без Бога, — говорит Ракитину
устами Мити Карамазова Достоевский, — ты, подлец, набьешь на
говядину цену в лишний гривенник и купишь себе на прибыль
каменный дом».
Как известно, под Ракитиным Достоевский вывел
известного Елисеева, одного из редакторов «Отечественных записок».
Этот Ракитин-Елисеев никакого дома себе не нажил, был,
правда, «материалист-атеист», но чрезвычайно великодушный
человек, умевший прощать обиды, и иногда, как мне
рассказывали, — обиды и «прискорбия» чрезвычайные... А главное, он о
Федоре Михайловиче никакой обиды не сказал: а Федор
Михайлович какую о нем сатиру написал!?3
Наконец, вот теперь мы живем при повышенных ценах на
говядину: ее набили именно «верущие в загробную жизнь»
мясники-торговцы.
«Веровавшие в загробную жизнь» сидели вокруг костров,
когда на них горел человек, горел Сервет в Женеве,
Савонарола во Флоренции, и сколько, сколько в Испании, в Германии!
Все кричали:
— Больно! Жжет! Развяжите веревки! Дайте водицы!
«Веровавшие в загробную жизнь» молчали и не трогались.
— Именем Бога! Именем вечных мук, вечной награды —
спасите нас!
Еше о вечной теме
207
Те молчали.
Так о чем же мы будем говорить с Дмитрием Сергеевичем, с
Федором Михайловичем и со Свенцицким? Темы наши вчера
доказаны, и нужно истинно «мистическое хулиганство», чтобы
перерешать их сегодня на гробах Гуса, Савонаролы, Сервета...
Сперва воскресите тех, и вот тогда я и воскликну с вами:
«Осанна сыну Давидову», и все прочее «по Требнику»4, и уж
прибавлю: «вечная жизнь здесь и там, вечная и блаженная».
А пока я все вижу и слышу вокруг «со святыми упокой» и
обещания чего-то и кому-то «на завтра»...
— Придут хулиганы!..
Но я говорю, что они были.
— Придут без веры в загробную жизнь!..
Но я указываю, что именно творчески, т. е. с бесконечною
верою, разрисовали «будущую жизнь» те самые люди, которые
видели страдание человеческое, вот сейчас, перед главами,
осязательно, ослепительно: и хоть могли бы, но ничего не
захотели сделать, чтобы его погасить!
Не произнесли даже слова, не то чтобы дать работы,
потрудиться...
В заключение к пожелательным, или, лучше сказать,
«нежелательным» своим мыслям мне хочется прибавить одно чисто
теоретическое соображение. Да загробная жизнь, так цветисто
разрисовавшаяся в монастырях христианских, и вообще так
колоссально начавшая расти с началом новой эры, девственно-
аскетической, не есть ли иллюзорное перенесение «туда» тех
естественных возможностей и ожиданий, какие обычно
осуществляются и должны осуществляться здесь, на земле? В
Библии — молчание о «жизни будущего века». Но Библия — вся в
рождениях, там все и постоянно рождают. Как только это
«закрылось» и проведена была религиозная черта поверх
рождений, так сказать закупорившая их, так воображение, мечта,
сердце и потянулись «туда». «Там» будет вечная жизнь, «там»
мы насладимся сладостью, нас там окружат ангельские лики,
которые ведь суть — по живописи и представлению — какие-то
новорожденные иди недавно рожденные младенцы.
Все «там»...
Но это оттого, что здесь нечестиво (как я думаю) отказались
от рождения живых, настоящих, «как следует» детей.
Самое появление и рост монастырей и монашества, может
быть, здесь имеет глубочайшее объяснение: «стесним все здесь,
откажемся от всего здесь — и начнем расти туда»... Выше стена
монастыря, стена вокруг меня: и шире развигаются «райские
208
В. В. РОЗАНОВ
видения». Так розы выростают на могиле... Земля — могила;
в небе — розы. Нет, хуже: чем земля могильнее, тем розовее
небо... Но, Боже: как ^ке быть при этом представлении, как
могло и имело силы человечество жить при бесспорной мысли,
овладевшей им или ему навязанной, что «человек живет на
земле для того только, чтобы умереть» (Лиза Калитина)5, что
самое его появление на землю есть что-то случайное, не
самоценное, почти не нужное и «грешное». Уже монах Владимир
Соловьев, в начале «Критики отвлеченных начал», цитировал
безбожно:
Кто б ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее — не жить!
О чем говорили, или, лучше сказать, «стенали» и все
монашествующие тысячу лет. Переборая это, — чуть-чуть, еле-еле
тянулась жизнь. В Греции, на протяжении 500 лет, сколько
было сотворено! А на Волге, во всем приволжском бассейне
тысячу лет тянулось одно «прозябание»; «жили-были», ни себе,
ни другим не на радость. Ведь есть мысли радующие и ростя-
щие, и есть мысли печальные и заглушающие. Ужасно, когда в
самые аксиомы жизни входит такое заглушение; когда это
становится народно, пословицей... Когда это «бежит по улице» и
«знает каждая бабушка». Но «роза на небе», связанная с
«могилою здесь», есть именно такая народная и убивающая идея.
Как я сказал, — ее родник монастырь; или и обратно: самый
монастырь родился для ее культа. Тут взаимно работалось:
факт над идеею и идея над фактом. Все это я не умею лучше
объяснить, как сравнив с тем, что однажды удивленно
рассматривал в детстве. Это — беленькая, тоненькая, чахлая малинка-
прутышек, выросшая у нас в саду, в бане, куда случайно
занесло зернышко. Какая она была жалкая, несчастная! Тянулась к
окошку из темного уголка своего, но как бессильно! Не
принесет она, бедная, плода; не сорвут его дети, не порадуются ему.
А живет, есть жизнь! Как трагично, — если подумать с точки
зрения мировой метафизики. «Кто за эту малинку Богу
ответит?» Вот с этим случайным и ошибочным заносом семени,
откуда проистекло несчастие и чужая чахотка, — только я и
умею сравнить роль в мире и внутреннюю собственную
сущность идеи, проистекшей из «нерождения здесь» и
заключающейся в уверенности, что будем жить «там»...
^^
Il
БОРЬБА ЗА ЛОГОС
^^
Β. Φ. ЭРН
Нечто о Логосе, русской философии
и научности
По поводу нового философского журнала «Логос»
Έστι 'δ, ώς έμοι δοκεΐ, ου περί ονόματος
ή αμφισβήτησις.
Plato. Res p<ublica> VII, 533 D1
На обложке изображение Гераклита, орнамент из Партенона
и крупными греческими буквами написано «Λόγος» *.
Что это?
* Напечатано в №29—32 «Моск<овского> еженед<ельника>». Эта
статья вызвала много ожесточенных недоумений, отчасти
выраженных печатно. Ввиду центральности затронутой темы я
считаю нужным, кроме перепечатки своего ответа на первую статью
С. Л. Франка (Р<усская> м<ысль>. 1910. IX), сделать еще
несколько примечаний, которые имеют цель подчеркнуть прямой
смысл моих утверждений и устранить те странные
перетолкования, которые г. Франк (очевидно, прослушав мой «ответ»)
продолжает развивать в своем ответе на мой ответ (Р<усская> м<ысль>.
1910. XI). Некоторые примечания направлены против статьи А.
Белого «Неославянофильство и западничество в современной русской
философской мысли» (Утро России. №247). Все теперешние
примечания и для отличия от прежних помечены буквами P. S. (Post
scriptum). Я хотел бы подчеркнуть, что статья эта носит беглый
характер, потому что написана *по поводу». Но взгляды, в ней
выраженные, развиваются мной и не в первый и (надеюсь) не в
последний раз. Поэтому опрометчиво поступают те критики, которые
считают ее за какое-то окончательное credo, к которому ничего не
может быть добавлено. Слишком ясно, что это не систематический
трактат по всем вопросам теоретической философии, а критическая
статья, опирающаяся на ряд философских, исторических и
гносеологических положений, здесь же высказанных. Я считаю, что
критика всегда опирается, сознательно или бессознательно, на поло-
212
Β. Φ. ЭРН
Читаю статью за статьей, за крупным шрифтом мелкий, за
мелким рецензии, за рецензиями анонс второго выпуска и
широкие обещания дальнейших многочисленных благодеяний
варварскому народу русскому — и с изумлением вижу, что
обманут во всех своих ожиданиях: никакого Гераклита,
никакого Лоуос'а, ни одной пылинки с священного Партенона.
Из-под греческой маски, наскоро и неловко одетой, всюду
красуется знакомое: Made in Germany.
Чтобы попасть в Афины, необходимо «перелететь»
на крыльях лебединых
Двойную грань пространства и веков...2
Это далекое и трудное путешествие составителям нового
философского альманаха показалось, очевидно, «несовременным».
«Крыльям» они предпочли билеты II класса, «двойной
грани» — русско-немецкую границу, античным Афинам —
современные Фрейбург, Гейдельберг, Марбург, Вюрцбург и прочие
университетские города несвященной Германской империи.
Запасшись там философическими товарами самой последней
выделки, они приехали в Россию и тут, окруженные варварством,
почувствовали себя носителями высшей культуры,
обладателями той единой, в себе согласной, столь блестяще в Германии
разработанной, научной философии, во имя которой все бывшее
в России объявляется не бывшим, все настоящее не настоящим,
а будущее признается лишь в той мере, в какой философская
Россия успеет запастись германскими фабрикатами и
преодолеть ими, как неким лекарством, свою хаотическую,
стихийную иррациональность.
Мы вовсе не против свободы «передвижения». Всякий волен,
особенно в период «Lehrjahre» и « Wander j ahre » 3, вояжировать
как угодно. Фрейбург предпочитать Афинам, Марбург —
Александрии. Но к чему маскарад? К чему греческая маска —
величайшего значения — на малозначительном современном
немецком лице?
Скажу больше: я даже не против маскарада. При хорошем
режиссере и маскарад может быть интересен, значителен,
нужен. К сожалению, за бледной греческой маской, впопыхах
надетой, составители «Логоса» являют лицо угрюмое,
неоживленное, скованно-проповедническое. У них нет свободы движе-
жителъные воззрения и сильна лишь в той мере, в какой сильны
эти воззрения. Вот почему параллельно с критической частью у
меня идут утверждения.
Нечто о Логосе, русской философии и научности
213
ния, талантливой легкости проявления. Расин тоже маскарад.
Но его «Федра», несмотря на всю «ложноклассичность», по
справедливому признанию Достоевского, изваяна из мрамора4.
Составители «Логоса» с первой же строчки забывают о
греческой маске и «маскараде» и с заученной тяжеловесностью
наставляют, выговаривают, учат, морализируют, зарывают в
могилу живое. Они ничего не творят, ни в одной из статей не
дают ощутить in ас tu того, о чем говорят. Бесконечные
пожелания отмежевывания, подходы, приготовления — а к чему, не
ясно. Это «что» — к которому все составители «Логоса»
готовятся и приступают и о котором непрерывно говорят в «будущей
форме» — о котором мечтают и воздыхают,— это таинственное
«что» ни разу не воплощается в форму раздельных,
философски ясных и уловимых положений. Оно так и остается
невысказанным. Но это невысказанное «что» рисуется воображению
авторов «Логоса» грандиозным, колоссальным,
монументальным, и оно-то и питает тот пафос пренебрежения и
презрительного невнимания, который пышно цветет даже в
десятистрочных рецензиях или в пятистрочных примечаниях. Они
воспевают еще не выстроенные укрепления «научной
философии», прославляют их еще не осуществленную
несокрушимость и, как бы в гипнозе, не замечают смешного
несоответствия между тем, что ими действительно сказано, и тем, что
им хотелось бы сказать, но что, к сожалению, ими не только не
сказано, но даже и не намечено к философскому выявлению в
сколько-нибудь определенных чертах. А между тем пыл
воинственного пренебрежения соразмерен не тому, что ими сказано,
а тому, что ими не сказано, и это составляет самую
неприятную сторону «Логоса». Не будь этих необоснованных
притязаний, не будь этих презрительно-пренебрежительных взглядов
на русскую действительность в ее прошлом и настоящем —
появление «Логоса» можно было бы только приветствовать:
появился философский альманах с определенно немецким
направлением, с девизом «научная философия». Ну и слава Богу!
Ура не закричим, но читать будем с удовольствием. К
сожалению, весьма скромному и безобидному содержанию «Логоса»
претенциозно предпосылается огромная вывеска, бледные,
ничем не замечательные статьи вставляются в ярко
притязательные рамки, очередной номер обыкновенного философского
журнала, даже не талантливый по выполнению, искусственно
раздувается самими авторами до степени культурного события,
до степени нового важного факта в историческом самосознании
России. Это может вызвать иллюзии, а иллюзии, как иллюзии,
214
Β. Φ. ЭРН
всегда нежелательны. Вот почему, вместо того чтобы
ограничиться краткой рецензией, мы пишем статью и подвергаем
«Логос» разбору, которого смело могло бы не быть, если бы
составители «Логоса», следуя своим собственным принципам,
ограничились только «рациональным» и не привнесли в свое
предприятие «иррациональных» —чтобы не сказать —
нерациональных мотивов.
I
Начнем с «маски». Многим она может показаться по
существу безобидной. Логос так Логос — не все ли равно? Что
касается до меня, то если бы мне насыпали между зубов целую
горсть песку и заставили его жевать, то эту операцию я бы
перенес с большим спокойствием, чем священное имя Логос на
обложке нового альманаха.
Альманах под названием «Логос» появляется в центре
России, живущей религией Слова, религией Логоса. Почти две
тысячи лет православный Восток таинственно носит в себе
святыню религии Слова. Эта святыня утверждена и раскрыта
подвигом величайших святых, начиная с апостолов и фиваидских
пустынников и продолжая (но не кончая) таким молниеносным
свидетелем Слова, как св. Серафим5. В глубочайшем,
иератическом молчании скрыта эта святыня. Она вся под землей. Как
подземная она могла и даже должна была остаться неизвестной
для тех, кто существующее мерит простыми, так сказать,
физиологическими глазами. И то, чего не видит этими глазами,
считает за несуществующее. Но эта динамическая подземная
святыня православия была не раз в истории Востока предметом
статического философского созерцания. Невидимые лучи этой
святыни озаряли видимым светом горные вершины
христианского умозрения. Если, по терминологии Востока, πάντων
τελειότατη ή των αγίων φιλοσοφία6, то следующую (вниз) ступень
философского совершенства занимают те, кто эту последнюю,
уже осуществленную мудрость — σοφίαν κατ' ένέργειαν —
созерцали умом, издали, как Обетованную землю. Из массы великих
творцов и создателей умозрительного богословия Востока назову
более крупных и замечательных: это неизвестный автор «Арео-
пагитик», св. Максим Исповедник, св. Григорий Нисский*7.
* P. S. Андрей Белый почему-то уверен, что, по моему мнению,
«частные начала логической философии осмыслены в греческой филосо-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
215
И тут нельзя с достаточной силой <не> подчеркнуть один
замечательный факт: как только философская мысль
христианского Востока подходила к созерцанию подземной святыни
православия — она мгновенно и сознательно вступала в живую
стихию Логоса. С юношеской силой и неповторимой
свежестью, осознанной эллинскими мыслителями, Логос становится
неотъемлемой частью христианского сознания и, углубляясь,
преображаясь на православном Востоке, раскидывается в
широковетвистое, пышное дерево глубочайшего умозрения. Когда
один из самых крупных философов Запада Эригена создает
свою систему, которая вызывает невольное изумление в
большинстве исследователей как непостижимое «чудо IX века», —
то это объясняется только тем, что Эригена с гениальной
чуткостью оценил совершенное в области мысли Востоком и
приник с священной, жадностью к «libam sacro Graecorum nectare
fartam» 8. И вся эта мудрость — сознательная и принципиально
осмысленная философия Логоса.
Если составители «Логоса» могли и должны были не знать
мудрость Слова в высшем ее аспекте — в энергии чистого
подвига и существенного усвоения Предвечной Истины, если они
с своей точки зрения имели условное право игнорировать эту
мудрость как несуществующую, — то они обязаны были знать
фии и завершены в трудах восточных Отцов Церкви». Ни о какой
завершенности у меня не было речи и, главное, не может быть
речи, ибо по основоположениям христианской философии Логос
усвояется и осознается в богочеловеческом процессе истории, т. е.,
другими словами, ни в каком пункте истории (помимо личности
Богочеловека) не может быть абсолютного усвоения и осознания
Логоса, и логизм поэтому может быть мыслим в завершении лишь
за гранями истории. Творческая задача для философа-логиста в
каждый момент истории положительно беспредельна, как
беспредельна жизнь, и как жизнь не может быть завершена в гранях
времени, так не может быть завершено и творческое осознание задач
и путей жизни. Скажу А. Белому, завершенностью, т. е. дурною
статичностью, хотела быть (по своему заданию) философия Канта.
Ибо, если б «Критика чистого разума» была произведением
удавшимся, последующим философам не нашлось бы уже творческого
дела. Им бы осталось только довести до технического
совершенства форму критической философии, которая в своем содержании
установлена (по мысли Канта) раз навсегда и незыблемо. Вообще
каждый философ-рационалист, вследствие дурной отвлеченности,
его проникающей, является завершителем, дальше которого идти
некуда. Эта черта особенно резко проявляется в Гегеле, который с
исключительной ослепленностью мнил свою философию
окончательным и предельным звеном в самосознании Абсолютного Духа.
216
В. Φ. ЭРН
о философии Логоса. Пусть философия эта в своем
историческом развитии и значении исследована слишком недостаточно,
во всяком случае далеко не соответственно своим истинным
размерам. Пусть внутренняя суть философии Логоса остается
непонятной большинству современных исследователей. Но уж
не настолько она не исследована, чтобы философски
образованному человеку нашего времени могло бы быть неизвестным,
что такое Логос. История Логоса в античной философии
исследована с достаточной полнотой. Христианская философия
Логоса — вот что выяснено действительно мало. Но самый факт
дальнейшего и богатого развития античного зерна Логоса на
христианской почве настолько известен, что стал трюизмом*.
Почему же составители нового альманаха остановились на
названии «Логос»? Звучное слово? Хорошая вывеска? Но
позволительно ли даже в самой юношеской погоне за звучным
словом заходить так далеко? Что общего между «Логосом»
Музагета9 и Логосом, имеющим свою определенную, более чем
двухтысячелетнюю историю в философском сознании
человечества? И если ничего общего нет, допустимо ли хотя бы с
точки зрения литературных приличий игнорировать эту более чем
двухтысячелетнюю историю тем, кто считает себя
преимущественными носителями философской культуры и сторонниками
не какой-нибудь, а строго научной философии? Культурность
должна воспитывать уважение к тысячелетним культурным
фактам, а научность требует, чтобы слова и термины, в
которых факты эти закрепились, без всякой нужды, фантастически
не употреблялись в качестве простой литературной маски.
* P. S. С. Франк говорит, что «античный Логос есть безличная
логико-метафизическая сила» и «не может быть отождествляем без
весьма больших ограничений с личным христианским Логосом».
Я говорю не о тождестве христианского Логоса с античным, а о
развитии (и богатом развитии) христианского умозрения из
античного зерна Логоса. Что же касается безличной
логико-метафизической силы, то я за невозможностью в примечании производить
историческое исследование укажу С. Франку, что он совершенно
забывает 1) учение о Логосе стоиков, 2) учение о Логосе Филона.
У первых Логос отождествляется с Божеством, у второго Логос
становится личным посредником между Абсолютным и миром.
Поэтому христианское умозрение развивается с такою же
органичностью из античного зерна, как из желудя — дуб. Поэтому нет и
пропасти между античностью и христианским умозрением
(которую хотел бы видеть г. Франк), пропасти, действительно
отделяющей новую философскую мысль от античности.
Нечто о Логосе, русской философии и научности
217
Логос в кавычках исчерпывается без остатка идеями
кантианства. Эпигон эпигонов, он с юношеской порывистостью бегает
по старым дорожкам, проложенным гением Канта и
трудолюбием немцев второй половины XIX века, обращенным в любимые
места философических прогулок для всех, кто философскую
одаренность отождествляет с способностью и наклонностью к
ежедневной 10-часовой кабинетной работе.
Кантианство есть завершение рационализма. В некоторых
пунктах своего личного мировоззрения Кант преодолевал
рационализм, и этими поворотами в глубине философии Канта
гениально воспользовался Шеллинг, пытавшийся из пустыни сухого
и узкого рационализма вывести философскую мысль Европы
«в широкое поле объективной науки».
Но кантианство (а не мировоззрение Канта) всецело
умещается в рамки рационализма. Его единый принцип —
своеобразно осознанный, самодержавный ratio, который в новой
философии кладется во главу угла и становится единственным органом
философского исследования.
Ratio есть попытка неверного и не всецелого
самоопределения мысли. Живая стихия мысли, обладающей
действительной автономией внутреннего, ничем внешним не обусловленного
самоопределения, — в концепции рационализма превращается
в мертвую схему суждения, лишенную всякой активности,
всякого внутреннего «начала движения». «Рассудок не судит,
судит лишь воля»10. — Эта формулировка Мальбранша ярко
вскрывает самую сущность рационалистической концепции
мысли. Будучи сам в себе неподвижен, лишенный внутренней
жизни, не совпадающий с действительной сущностью мысли,
ratio ведет лишь призрачную жизнь в сознании новой
философии как некая аберрация, как неосуществленная попытка
неудавшегося самоопределения. Но, будучи сам в себе призрачен,
ratio, становясь единственным господином и нераздельным
владыкой философского сознания Нового времени, постепенно
разрешает всю совокупность действительности в призрак, в
непонятно закономерную иллюзию. Последовательно развивая
начала, заложенные в самой сущности нового европейского
мышления, Беркли принужден признать материальную
субстанцию несуществующей. Последовательно развивая принципы
философии Беркли, Юм с неизбежной логичностью приходит к
признанию, что душевная субстанция не существует
совершенно так же, как и материальная. Ratio в своем
последовательном завоевании европейской мысли приводит, таким образом,
к пышному, яркому расцвету универсального меонизма. Этот
218
Β. Φ. ЭРН
расцветший в Беркли и Юме меонизм принципиально и
окончательно закрепляется в трансцендентализме Канта*.
Итак, составители «Логоса», примыкая к традициям
главного русла европейского мышления, всецело находятся во власти
двух основных принципов всей новой философии, нашедших в
кантианстве свое завершение — первый явный, всепроникающий
принцип — рационализм, второй из него вытекающий, тайный
и скрытый, но столь же всепроникающий принцип — меонизм.
Как же относится к этим двум принципам Логос восточного
умозрения, т. е. единственный подлинный Логос, ибо история
философской мысли не знает другого?
Основным тенденциям европейского мышления Λόγος
античный и Λόγος восточнохристианского умозрения можно
противопоставить как прямую противоположность.
Ratio есть результат схематического отвлечения. Рассудок
Ивана, Якова и Петра берется в среднем разрезе. Нивелируется
то, что всем присуще, чем рассуждают все и всегда, и,
тщательно избегая индивидуальных отклонений, мы получаем
безличную, отвлеченную, мертвую схему суждения, называемую ratio.
Принцип составления этой схемы — количественный.
К осознанию Λόγος^ приходят совершенно иным путем.
Потенциально присущий всем, он актуален далеко не у всех и
далеко не всегда. Чтобы δυνάμει öv Логоса перешло в ενεργεία öv11,
необходима та интенсификация сознания, на которую
способны лишь гений и вдохновение. Но потенция гения и
вдохновения присуща каждому человеку, ибо, по справедливому
утверждению Вейнингера, каждый может быть гениальным в
отдельных жизненных проявлениях12. Логос — это не средний
разрез, это вершина сознания. Это не отвлечение, это
восхождение по ступеням все большей конкретности. Это — не начало,
в безразличии которого тонут все многообразия личности, это
живая стихия, в которой личность раскрывается и
углубляется. Внутренний принцип Λόγος'а — качественный.
Но эта противоположность между Λόγος'ом и ratio
стушевывается перед противоположностью еще более глубокою.
Существо Λόγος^ состоит в его божественности. Это не
субъективно-человеческий принцип, а объективно-божественный.
Λόγος — это предвечное определение Самого Абсолютного. Бог,
* О принципиальном меонизме новой философии я говорю в статье
«Беркли как родоначальник современного имманентизма». О
рационализме подробнее см. «Исходный пункт теоретической
философии».
Нечто о Логосе, русской философии и научности 219
непостижимый в своем существе, Бог, возвышающийся над
всякой мыслью и именем, Бог, о Котором можно сказать, что
Он есть, но не что Он есть, Бог, непостижимость Которого даже
над новой землей грядущего Царства навеки раскинется
таинством нового неба, — Бог христианства изначально был
Логосом έν αρχή ην ό Λόγος13. Предвечно сущее Слово, Которое Само о
Себе говорит: Аз есмь сый14, явилось тем творческим
принципом, в Котором и Которым сотворено все существующее.
Вселенная, космос, есть раскрытие и откровение изначально
сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир в
самых тайных недрах своих «логичен», т. е. сообразен и
соразмерен Логосу, и каждая деталь и событие этого мира есть
скрытая мысль, тайное движение всепроникающего божественного
Слова. Логос как начало человеческого познания не есть Логос
другой, отличный от Логоса существенно-божественного. Это
тот же самый Логос, только в разных степенях осознания.
Человек, поднимающийся к «логическому» сознанию, т. е.
приходящий к сознанию в себе Логоса, уничтожает разрыв
между мыслью и сущим (разрыв — фатальный для ratio), ибо
себя сознает как божественно-Сущее. Здесь действительно
осуществляется перипатетическое το αυτό έστι το νοοϋν και νοούμε -
νον15. Отсюда коренной и универсальный онтологизм в
философии Логоса, черта колоссальной важности. Для приверженцев
философии Слова самое понятие Истины онтологично. В
противоположность меоническому рационализму, говорящему о
каком-то призрачном соответствии чего-то с чем-то (как
показывает Лосский, доктрина «соответствия» проникает и
трансцендентальную философию Канта), восточное умозрение
признает истину — бытием в Логосе, т. е. бытием в Истине, каковое
бытие возможно лишь чрез становление Логосом, чрез
благодать существенного усвоения Слова. (Таково гносеологическое
значение религиозного термина θέωσις16. Отсюда та совершенно
чуждая и непонятная новому философскому сознанию Запада*,
* Я говорю лишь о новом философском сознании Запада, а не
вообще о Западе. Католичество так же * динамично» и так же
«логично», как и православие. В православии только начало Лоуос'а
более осознано, и потому католичество для философии более сырой
материал.
P. S. Вот существенное отличие мое от славянофильства,
которое так упорно не хочет заметить С. Франк. Церковно признавая
католицизм, я религиозно признаю самые основы европейской
культуры, ибо культура Европы почти во всех своих высших
моментах теснейшим образом связана с католицизмом. На «Западе»
220
Β. Φ. ЭРН
но глубоко последовательная в себе динамическая теория
познания, по которой степень познания соответствует степени
напряженности воли, степени существенной устремленности
к Истине и по которой в лестнице Богопознаиия, т. е. познания
Сущего, далеко всех превышают герои и подвижники духа —
святые.
Онтологизм восточного умозрения свое осуществление
находит в прагматике христианского подвига, а подвиг есть
глубочайшее раскрытие и утверждение всех творческих и
существенных сторон личности, этого ядра космической жизни.
Мы видим, что бездной разделены ratio и Λόγος. Их можно
только противополагать. Меонический рационализм
составителей «Логоса» коренным и принципиальным образом ничего
общего не имеет с логизмом и онтологизмом действительной
философии Λόγος'а. И ставить марку Λόγος'а на
рационалистическом предприятии — это значит обнаружить или отсутствие
всякого музыкального слуха, или отсутствие серьезной
осведомленности в истории философии.
я отрицаю не жизнь, не историю, не великие культурные
достижения — как настойчиво не понимает меня С. Франк, а лишь
рационализм — начало, по моему мнению, антикультурное.
Рационализм связан с механической точкой зрения. Последняя питает
техническую промышленность и все более механизирующийся
склад жизни, отрывающийся от космических условий
существования. Истинной культуре грозит величайшая опасность во всем
мире (в том числе и в России). Культура поглощается прогрессом
материальной цивилизации. Западная жизнь, так же как и жизнь
России, не развивается нормально, а ввергается в кризис, с
каждым днем растущий, в хаос, с каждым днем увеличивающийся. Я
не верю в окончательную победу хаоса. Но думаю, что состояние
культуры в мире сейчас таково, что не может внушать никаких
иллюзий. Общий механистический темп жизни, обусловленный
торжеством рационализма, глубоко враждебен культуре, и
замечателен факт, что последние гении Запада, напр. Гюисманс, Ницше,
Бодлэр, Ибсен, с величайшей враждой относятся к современности.
Я признаю решительно все титанические и часто одинокие
вершины западной культуры и совершенно отрицаю ту серединную,
гниющую и разлагающуюся цивилизацию (ее так много и в России),
которая, по моему глубокому убеждению, есть законное и
необходимое детище рационализма. Меньше чем когда-нибудь
полуслова, полулозунги могут чему-нибудь сейчас помочь. И я считаю
поэтому, что только «логизм», понятый в самом глубоком и самом
широком смысле, может быть признан истинным и действенным
лозунгом не только в борьбе за философскую истину, но и в
трагической борьбе за культуру.
Нечто о Логосе, русской философии и научности
221
II
Я намеренно остановился подольше на «маске». Это не
придирка к неудачному заглавию. Это раскрытие корня целого
ряда недоразумений.
Новому альманаху предпосылается 16 страниц «от
редакции». В этих 16 страницах редакция «Логоса», естественно,
формулирует свои основные тенденции и старается дать отчет в
мотивах всего издания.
Для того чтобы оправдать немецкий характер журнала,
редакция «Логоса» сочла себя вынужденной наскоро
расправиться с прошлым русской философской жизни. В результате этой
расправы получается, что русская мысль никогда не была
свободной, что русская философия — это «постоянное рабство
при вечной смене рабов и владык», что единственный русский
философ Вл. Соловьев был не философ, а только лишь личность
(!). Словом, бедные скифы ничего интересного в области
философии не представляют, и для того чтоб со временем они могли
что-нибудь из себя представить, им необходима
школьно-немецкая выучка. Составители «Логоса» проникнуты
возвышенным чувством культуртрегерской миссии и готовы без конца
учить, учить и учить.
Обойдем молчанием «тактическую» сторону этого
редакционного предисловия. Лучше молчание, чем гнев и
взволнованность.
Будем говорить по существу.
Если б рационализм был единственной формой, а меонизм
единственным содержанием философской мысли, если б новая
европейская философия была единственным типом
философствования, редакция «Логоса» была бы совершенно права. В
России действительно нет оригинальных и крупных
представителей меонического рационализма. Это факт любопытный и
замечательный. В России обольщались и увлекались
фосфорическим блеском западной философии — всегда таланты
второстепенные и третьестепенные. В схоластическом меонизме, в
путах которого бьется европейская мысль, интересная именно
этой своей борьбой, для русского сознания есть какая-то непе-
реваримая горечь, есть что-то абсолютно неприемлемое. С
колоссальной жаждой бежал из России на Запад гениальный
В. С. Печерин. Он попадает в Берлин в самый блестящий
период германского умозрения. Он с жадностью и восторгом
впивает в себя мудрость одного из величайших представителей
меонического рационализма — Гегеля.
222
Β. Φ. ЭРН
«Мощный дух времени, дух европейской образованности
осенил меня своими крылами; я слышу его повелительный
голос. Теперь я могу отдохнуть и после рабочих ремесленных
дней отпраздновать воскресенье науки в богослужении идеям.
И сколько содействует такому развитию дух общественного
мнения, обнаруживающийся в книгах и журналах, и особенно
преподавание здешних профессоров, которое основано на идеях и
насквозь проникнуто идеями!»
И все эти восторги тонут в безмерности русской тоски. Через
два года углубленной и страстной мысли Печерин пишет своим
друзьям:
«Верьте мне, господа: даже и в философии (к. п.) немцы
пошлый народ» *.
Русская философия занимает среднее место между
философской мыслью Запада, находящейся в неустанном течении и
порыве, и философской мыслью Востока, парящей в орлиных
высотах и находящейся в неустанной напряженности
вдохновенного созерцания. Русская философская мысль должна
раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения.
Россия занимает исключительное положение. Она изнутри
существенно православна. Все тело народное проквашено
религией Слова. Наша кровь мистической наследственностью
оплодотворена скрытыми семенами созерцательных и волевых
достижений великих Отцов и подвижников Церкви. Так, Чехов,
сознанием живший вне всякой религии, во внутреннем τόνος'β
своих художественных созерцаний существенно православен.
И в то же время Россия существенно культурна**. Чтобы
держаться в пределах темы, буду говорить лишь о философии.
* «Пошлый» —здесь слово подходящее. Меонизм родственен врагу
всякого бытия — Мефистофелю. А сущность Мефистофеля, как
правильно говорит Паульсен в своем этюде о Мефистофеле,
исчерпывается одним словом: «пошлость» 17. О В. С. Печерине см.
прекрасную книгу М. О. Гершензона «Жизнь В. С. Печерина». В этой
книге М. О. Гершензон, можно сказать, так же «открывает»
русской читающей публике Печерина, как несколько лет тому назад
он блестяще открыл Чаадаева.
** P. S. Говоря это, я имел в виду очень простую истину: народ,
который дал Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Соловьева
и т. д., вышел из стадии стихийного варварского существования
и вернуться к нему уже не может. В этом смысле Россия
существенно вкусила культуру и имеет ее уже внутри себя, т. е. неотъемлемо
и необходимо. Тот же самый смысл имеют мои слова о
существенной православности России. Народ, который дал св. Сергия
Радонежского, св. Серафима Саровского и множество великих святых,
Нечто о Логосе, русской философии и научности
223
«Философий нынче столько же, — говорит о немецкой
философии один из авторов "Логоса", — сколько философов;
каждый считает себя руководителем "нового" и притом
единственно ценного направления. Друг с другом нынешние немецкие
философы считаются лишь постольку, поскольку находят друг
в друге опору, одинаковый образ мыслей» (с. 251).
Тот же автор в другой статье говорит: «После возвращения к
Канту немецкая философия расщепилась на множество
отдельных тенденций, из которых каждая полна самонадеянности и
философского самодовольства» (с. 199).
Чрезвычайно характерные признания! В какой разительной
противоположности с этим слабым интересом друг к другу
находится напряженное внимание всех русских философов к
западной мысли! Историческая конкретность философии Вл.
Соловьева и величайший интерес его ко всем изгибам европейской
мысли, взятой во всем ее многообразии, — я смело говорю —
существенно пронизан религией Слова, точно так же как
отдельный человек, раз уверовав в Христа и имея в жизни своей
несколько ярких и абсолютных проявлений веры,— уже существенно
пронизан христианством, и как бы ни далеко была от христианского
идеала его жизнь, сколько бы ни грешил и ни падал он,— он по
существу христианин — христианин, хотя и грешник. Поэтому
нет и тени национальной гордости в моих тезисах о существенной
культурности и существенном православии России. Это просто
факты.
С. Франк указывает на непобедимую стихию зла, дикости и
темноты, за которую ответственна та же Россия», и считает это
каким-то аргументом против меня. Не понимаю. Во зле лежит весь
мир, а не одна Россия, и вопрос о том, где больше непобедимой
стихии зла, дикости и темноты — в культурнейших странах:
Англии, Франции и Германии или в малокультурной России, —
по моему глубокому убеждению, есть вопрос абсолютно не
разрешимый для сколько-нибудь критической мысли. Конечно,
картофеля едят в Америке больше, чем в России, в Швейцарии больше
грамотности, чем в России, и т. д. Но если мы говорим не о
картофеле или более развитых «культурных» привычках, а о
непобедимой стихии зла, дикости и темноты, то, конечно, при полном
отсутствии измерительных приборов, при полном отсутствии самой
возможности таковых — критическая мысль никогда не может
исходить из положения, будто в России ^непобедимой стихии зла»
больше, чем в других странах. Непобедимая стихия зла есть
результат универсально космического греха, а не
национально-русского и потому есть общее всем народам. Посему, говоря о русской
философии, я вовсе не обязан был говорить о том, что есть не
специфически русское, а общечеловеческое.
224
Β. Φ. ЭРН
совершенно беспримерны во всей истории философии*.
Соловьев не историк. Историки чистые, конечно, превосходят
Соловьева точностью и детальностью своей исторической
осведомленности. Соловьев — гений философского творчества, создавший
обширнейшее и законченное философское миросозерцание. Кто
же из философов Запада, сколько-нибудь равный ему по
величине, может быть поставлен с ним рядом по насыщенности
своей мысли всем прошлым философии? Историки как таковые
воспроизводят историю мысли механически, внешне. У
Соловьева с несравненною силой усвоение прошлого становится
внутренним — организуется. Невольно вспоминаются слова
Достоевского о Пушкине. Как в Пушкине поражает
исключительная способность перевоплощения, необычайная отзывчивость ко
всем своеобразиям веков и пространств — в этом и состоит все-
человечность поэзии Пушкина, — так в Соловьеве поражает
гениальная легкость, с которой он понимает почти с полуслова
целые мировоззрения, и необычайная многосторонность
мотивов и интересов его философской мысли. Все мышление Соло-
Р. S. С. Франк спрашивает: а Гегель? Отвечаю: в смысле всечело-
вечности своей философии Гегель уступает В. Соловьеву в двух
отношениях.
Во-первых, мысль Гегеля, рационалистическая в своем τόνός'β,
не могла с такой открытостью, как у В. Соловьева, обогащать
себя и умудрять себя вдохновениями поэтов. Та изумительная
легкость, с какой В. Соловьев, все время стоя на почве своих общих
философских концепций, переходил к блестящему и тонкому
истолкованию поэзии Тютчева, поэзии Пушкина, поэзии Фета,
совершенно чужда Гегелю.
Во-вторых, — и это самое главное, к чему бы ни подошла мысль
Гегеля, к Платону ли, к греческой ли философии вообще, или
к чему-нибудь другому, — она оставалась конкретной, отзывчивой
и всечеловечной лишь на первых своих ступенях. В подходе к
историческому объекту Гегель гениально-всечеловечен. Но стоило
его мысли подойти вплотную к историческому объекту — как
начиналась своеобразное окисление: мысль Гегеля, точно облив
живой объект мертвой водой, в дальнейших стадиях рассуждения
возносилась в дурную отвлеченность, забывала все усвоенное в
первые моменты — ив результате никто так не меонизировал
конкретной действительности, как Гегель. В. Соловьев не вполне был
свободен от указанного основного порока — Гегелевой мысли. Но в
общем, в целом он его преодолевал. Его мысль и в своих
результатах оставалась верной той живой сложности, которая была ею
усмотрена в начальных стадиях рассуждения. Поэтому
историческая конкретность мысли В. Соловьева много сильнее, чем
историческая конкретность мысли Гегеля.
Нечто о Логосе, русской философии и научности
225
вьева извнутри проникнуто пламенным стремлением к всече-
ловечности.
Глубокое внимание к западной мысли, исключительная
заинтересованность всеми продуктами философского творчества
Европы и в то же время, можно сказать, субстанциальная про-
низанность религией Слова, роднящей нас с «логизмом» вос-
точнохристианского умозрения, — вот что составляет поистине
оригинальную почву русской философской мысли, почву,
которая объясняет и все особенности русской философии от
Сковороды* до кн. С. Н. Трубецкого и открывает для дальнейшего
философского творчества в России безбрежные перспективы.
Историческое столкновение ratio и Лоуос'а, неминуемое и
неизбежное, может произойти лишь в России. Ибо Россия
своей культурностью ввела и продолжает все в большей степени
вводить в себя европейское начало рационализма**, проника-
В первой же строчке редакционного предисловия делается
крупная ошибка (весьма характерная!): «Впервые проснувшись к
самостоятельной жизни, русская философская мысль в лице
романтиков-славянофилов* и т. д. Это, конечно, заблуждение. Первым
русским мыслителем был Г. С. Сковорода (1722—1794). Сочинения
его изданы, о нем написано с десяток статей (из которых несколько
помещены в «Вопр<осах> фил<ософии> и псих<ологии>», кн. 23,
24, 25). Чем же объяснить, что редакция «Логоса» при всей своей
научности так плохо представляет себе историю того, над чем
творит суд? Затем до славянофилов созидается мистическое, но очень
законченное мировоззрение M. М. Сперанского, отрывочные, но
чрезвычайно важные «Философ<ические> письма» П. Чаадаева и
начинается философская «Жизненная драма» В. С. Печерина.
P. S. Странно, что мне противополагают утверждение: «Русская
философская мысль развивалась в зависимости от Запада» (А.
Белый). Я не думаю этого отрицать. К этому утверждению, абсолютно
мной не отвергаемому, я прибавляю другое: развиваясь в
зависимости от Запада, русская философская мысль тем не менее имеет
существенно-оригинальный leit-motiv: устремленность к логизму.
Чтобы отрицать эту часть утверждения, действительно мной
делаемого, мои противники должны бы были исторически и конкретно
указать отсутствие в русской мысли тех признаков логизма,
которые я выставил. Ведь и западная мысль развивалась в
несомненной и глубокой зависимости от античной. Простой факт этой
зависимости означает ли неоригинальность новой мысли по сравнению
с античной? Конечно, нет! Мои критики непрерывно облегчают
себе задачу и, упрощая меня на свой лад, возражают, собственно,
не мне, а против тех случайных, со мною не связанных мыслей,
которые в них непроизвольно, лишь по законам ассоциаций
вызываются действительными моими утверждениями.
226
Β. Φ. ЭРЫ
ющего собой всю новую культуру Европы; своей религией
существенно и неотъемлемо внедряла в себя восточное начало
божественного Λόγος'а. В мире жить эти две враждебные друг
другу стихии не могут. И кто со вниманием оглянется на наше
прошлое, тот увидит, что вся русская философская мысль,
которая захватывает и великих создателей нашего
художественного слова, представляет из себя различные моменты в
развитии уже начавшейся борьбы между ratio и Λόγος'ом. И только с
точки зрения этой борьбы может быть осмыслено наше
прошлое и правильно осознаны наши обязанности перед
грядущим.
В органическом соответствии с оригинальностью почвы
русская философская мысль характеризуется тремя основными и
яркими тенденциями.
1. Форма и содержание мысли нераздельны. Мысль,
которая игнорирует свои содержания, силясь от них отвлечься, и
которая в силу самой природы своей никогда не может этого
сделать, впадает в ложную отвлеченность от жизни,
отрешенность от сущего, т. е. состояние меонизма. Русская
философская мысль в противоположность этому рационалистическому
стремлению к дурной отвлеченности была всегда существенно
конкретна, т. е. проникнута онтологизмом, естественно
вытекающим из основного принципа Λόγος^. Эта онтологическая
конкретность русской мысли проявляется двояким образом:
а) с одной стороны, она достигает мировых всечеловеческих
вершин в глубоко философском творчестве Тютчева,
Достоевского, Толстого. Она же обусловливает любопытную черту:
отсутствие систем. Всякая система искусственна, лжива и как
плод кабинетности меонична. Меоничность в философии
Вл. Соловьева проявляется именно там, где он, оставляя путь
интуиции, обольщается миражом систематичности. И наиболее
меоническим русским философом был Чичерин, ratio которого,
первенствуя, стремилось к универсальной систематичности.
Русские мыслители заняты самой мыслью, а не ее
искусственным обрамлением. Вот почему такой громадный ум, как
Хомяков (который при желании мог создать десятки «систем»),
раскрывает себя в размышлениях о сущности православия. Вот
почему блестящая, яркая мь!сль Чаадаева осуществляет себя в
философии истории (русской и всемирной) и молчит о другом.
б) с другой стороны, эта жизненная конкретность русской
мысли в борьбе с меонизмом нового европейского мышления
делает ряд замечательных попыток защитить принципиальный
онтологизм от всех нападок ratio и поразить ratio его же оружи-
Нечто о Логосе, русской философии и научности 227
ем. Я имею в виду глубокий анализ идеи причинности в
«Положительных задачах философии» Л. М. Лопатина, тонкою
защиту этим же самым мыслителем онтологической точки зрения
как в основных, так и частных вопросах психологии, анализ
идеи бытия, данный Козловым, и оригинальное обоснование
«конкретного идеализма» кн. С. Н. Трубецким, автором
прекрасного философско-исторического исследования «Учение о
Логосе» 18.
Принципиальным онтологизмом проникнуто как
изумительно цельное мировоззрение «русского Сократа» Г. С. Сковороды,
так и всеобъемлющее, универсальное миросозерцание
«русского Платона» — В. С. Соловьева.
Если мы прибавим к этому, что отдельные направления
нового западноевропейского рационализма (материализм,
позитивизм и в значительной мере Кант) были подвергнуты
уничтожающей и детальной критике в русской философской литературе,
то станет окончательно ясным, что онтологизм русской
философской мысли проявился с неоспоримою ясностью*.
2. Λόγος — принцип объективно-божественный. Осознание
Лоуос'а есть сознание Божества. Всякое осознание Лоуос'а
поэтому существенно религиозно. Отсюда второй основной чертой
русской философской мысли является глубокая и коренная
религиозность. Объяснить эту религиозность соображениями по-
* P. S. Во втором выпуске « Логоса» помещена статья г. Яковенко об
новой итальянской философии19, одна из сильных ветвей которой
именует себя онтологизмом. Составители «Логоса» говорили мне,
что этой статьей опровергается моя характеристика русской
философской мысли. Я отвечаю на это, что статьей г. Яковенко ничего
не опровергается.
Во-первых у г. Яковенко своим формальным, сухим изложением
не превосходит того изложения, которое дается в «Истории новой
философии» Ибервега20. Из него совершенно не явствует, что
онтологизм итальянских мыслителей действительно и существенно
похож на онтологизм русских мыслителей
Во-вторых, если даже отвлечься от изложения г. Яковенко и
представить себе, что некоторые итальянские мыслители
проникнуты действительным онтологизмом, то это абсолютно не
противоречит моим основным утверждениям и скорее подтверждает и
усиливает мою мысль, чем ограничивает и ослабляет. Ибо, как я уже
говорил, католицизм для меня так же «логичен» и так же
динамичен, как православие. Если итальянские философы онтологичны —
то это говорит только о том, что они проникнуты католической
стихией, роднящей их с тем логизмом, который умопостигаемо
обусловливает онтологизм и русской философской мысли.
228
Β. Φ. ЭРН
сторонними — это значит ничего не понимать. Это значит
обвинять целый народ в лице крупнейших носителей его сознания
в скрытом, упорном лицемерии.
На Западе есть немало философов глубоко религиозных —
всякий гений так или иначе религиозен. Но их религиозность
коренится в их личности, а не в самом принципе их
философствования. Этот принцип, т. е. ratio, безрелигиозен: поэтому
философы западные в своей религиозности прибегают или к
системе двойной бухгалтерии (Декарт, Бэкон, Локк), или к
системе принципиальной несоединимости религии с философией
(Кант). Единственным философом Запада, делавшим
гениальные, героические попытки пробиться из отрицательного
рационализма к положительному «логизму», был Шеллинг, кстати
сказать, совсем не изученный и почти замолчанный на Западе.
Но Шеллинг, и этого нельзя забывать, находился под
влиянием Баадера, тяготевшего — как это ни странно — к
православию, — Баадер открыл Шеллингу немецкую мистику, которая,
как и вся средневековая мистика Европы, находится в
зависимости от христианской мистики Востока. Таким образом,
существенный «логизм» этой мистики Шеллинг косвенным
образом почерпал с Востока.
Но то, что косвенным образом повлияло на гениального
Шеллинга и открыло новые возможности перед европейской
мыслью, — это самое было исторической почвой, взрастившей
всю русскую философскую мысль. И русская философская
мысль, существенно устремленная к «логизму», должна была
быть не случайно, а существенно религиозной.
Приводить пример религиозности русской мысли и как бы
доказывать эту религиозность — это значит ломиться в
открытые двери. Вне всякой религии у нас остаются лишь таланты
второстепенные и третьестепенные — не творцы и созидатели,
а передатчики и «просветители».
3. Λόγος как принцип божественный для своего усвоения
человеческим сознанием предполагает ту динамическую
теорию познания, которая высшее осуществление свое находит в
прагматике христианского подвига. В свершении этого подвига
безмерное значение святых. Но всякое, даже самое отдаленное
и приближенное, сознание Лоуос'а предполагает как свое
необходимое условие сверхобычную напряженность личной жизни,
повышенное онтологически-жизненное самосознание.
Мудрость Слова не может быть дана помимо личности. Она
раскрывается через личность и в личности. Всякое усвоение Лоуос'а
связно поэтому с внутренней борьбой, с вольным подвигом,
Нечто о Логосе, русской философии и научности
229
напряженность которого приводит в движение и этим
движением выявляет самые глубокие и обычно скрытые стороны
Духа.
Отсюда становится понятной третья яркая и основная черта
русской философской мысли. Это то, что можно назвать
персонализмом русской философии, т. е. подчеркнутая
значительность личности ее творцов и создателей.
Г. С. Сковорода, полный священного огня «теомант» (как
его называют Хиждеу и арх. Гавриил21), гораздо значительнее
и больше своих глубоко оригинальных и замечательных
философских творений. Печерин или Гоголь не написали ни
единого «философского» произведения, но жизнь Печерина
проникнута такой огромной мыслью, такой сознательной идеей, что
философская значительность этой жизни превышает целые
томы самых блестящих сочинений. Последние годы жизни
Гоголя, в которых разыгрывается его религиозная драма (а корни
этой драмы во всей его жизни), полны огромной философской
глубины. Субстанция мысли неизменна. Мысль остается мыслью
независимо от того, выковывается ли она на «медленном огне
теоретического размышления» или же, облитая кровью,
страдальчески извлекается из самых душевных недр. В
самодовольстве пребывают те, кто думает, что мысль действительна
только за кабинетным столом. Когда Слово, проникая внутрь,
завладевает всей полнотой человеческих переживаний, оно
выражает себя не пером и не одними устами, а божественной
глубиной и мукой искания, соразмерного значительности
мысли — индивидуализирующего эту мысль и движущего всею
жизнью избранника.
От этого мысль не затемняется, как думают рационалисты, а
углубляется, не гибнет, а растет.
Печерин и Гоголь ничего «философского» не написали
Достоевский и Соловьев написали много гениальных томов. И что
же? Личность и у Достоевского, и у Соловьева высится над
всеми их творениями, остается неисчерпанной, хранящей
по-прежнему тайну, которую не могут вместить никакие слова и
намекнуть на которую может только слово поэта или художника.
Оценивать поэтому русскую философскую мысль только
тем, что сказано и написано, не принимая во внимание
богатейшие обертоны тайн и намеков, ее проникающих, это все
равно что оценивать начатую статую только по видимой форме
и по количеству металла, в ней заключенного, игнорируя
громадность невидимого замысла и богатство предстоящих
возможностей.
230
Β. Φ. ЭРН
Персонализм русской мысли имеет существенный, а не
случайный характер. Тайны Сущего раскрываются в недрах
личности. Божественное Слово, проникая всего человека, по
существу не может всецело выразиться в том, что в человеке не есть
все, — т. е. в сознании. Сознание, даже творческое,
гениальное, в некоторых отношениях поражено афазией22, ибо тишину
нельзя выразить никаким звуком и молчание нарушается
словом. Но тишина не нарушается чувством и молчание
сохраняется в действии. Вот почему мало знать, что написали и что
сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев, нужно знать, что
они пережили и как они жили. Порывы чувства,
инстинктивные движения воли, выраставшие из несказанной глубины их
молчания, нужны не для простого психологического
истолкования их личности (так сказать, для полноты биографии), а для
углубления в «логический» состав их идей. Для рационалиста
присутствие переживания или индивидуального тона мысли
есть признак психологизма, т. е. затемненности и порабощенно-
сти мысли. Для «логиста» нижний, подземный этаж личности,
ее иррациональные основания, уходящие в недра Космоса,
полны скрытым Словом, т. е. Λόγος'ом. Логос надземный, т. е. уже
воплощенный в слове, питается непрерывно логосом
подземным, т. е. еще не воплощенным, и личность, в своих вершинах
достигая логоса надземного, в своих мистических основаниях
погружена в те темные глубины Сущего, которые
потенциально насквозь «логичны», насквозь проникнуты потенцией
Логоса, ибо «без Него ничего не начало быть из того, что начало
быть» 23.
Логос, примиряя правду крайнего и абсолютного
индивидуализма с принципиальным универсализмом (органическое
сочетание этих двух крайностей абсолютно невозможно в
рационализме), требует существенного внимания не только к мысли,
звучащей в словах, но и к молчаливой мысли поступков,
движений сердца, к скрытой мысли, таящейся в сложном,
подвижном рисунке индивидуального лица.
Итак, вот три черты, оригинально характеризующие
русскую мысль: онтологизм, существенная религиозность,
персонализм.
В истории новой философии и в современности русская
философская мысль прочно заняла совершенно особое,
исключительное место. Это факт внутренний, но уже свершившийся.
Земля не перестала двигаться оттого, что схоластики XVI
столетия были убеждены в противном. И факт оригинальности и
Нечто о Логосе, русской философии и научности
231
значительности русской философской мысли не может
превратиться в «меон» оттого, что схоластики XX в. очень хотят его
замолчать.
III
«Мысль наша никогда не была вполне свободной и вполне
автономной. Основные принципы русской философии никогда
не выковывались на медленном огне теоретической работы
мысли, а навлекались в большинстве случаев уже вполне
готовыми из темных недр внутренних переживаний» (с. 1, 2).
Редакции «Логоса» «темные недра внутренних
переживаний» представляются, очевидно, в виде огромного мешка, в
котором «готовыми* хранятся «принципы», убеждения, чувства
и движения воли. Если хозяину какого-нибудь мешка, напр<и-
мер> Хомякову, хочется возыметь какую-нибудь
«философию» — или собственно мировоззрение, ему не нужно ни о чем
думать, не нужно никакого напряжения теоретической мысли
(думают и мыслят только в Германии!); ему достаточно
запустить руку в мешок своих собственных переживаний, нащупать
там среди прочих «готовых» вещей «православие», и
православие в полном вооружении, как Афина из головы Зевса,
появляется на Божий свет и становится основой мировоззрения
Хомякова.
Нужно иметь огромную смелость, чтобы в стране
Достоевского с такой решительностью провозгласить теорию «мешка
готовых переживаний». Я просто теряюсь и не знаю, чему
больше удивляться: глубине ли психологических концепций
или смелости, с которой на основании этих концепций
редакция «Логоса» утверждает, что славянофильство, напр<имер>,
«глубоко значительный принцип синтеза» превратило «в
мрачную деспотию взаимно порабощенных сторон духа, в деспотию
озлобленных и завистливых рабов* (с. 2).
«Но так оно и должно было быть: освобождают только
свободные» (с. 3). Т. е., другими словами, рабство славянофилов
было закоренелым и коренным. Они по существу были рабы, а
не просто порабощены. Ибо «освобождают только свободные».
Если вместо освобождения философия принесла славянофилам
порабощение, то именно потому, что они не были
«свободными». Обладая безмерной свободой суждения (бумага все терпит),
редакция «Логоса» не находит свободы мысли и в Соловьеве, а
все остальные направления русской философии характеризует
232
Β. Φ. ЭРН
как «постоянное рабство при вечной смене рабов и владык»
(с. 5).
Итак, несвобода, вечная порабощенность, завистливое
рабство — вот какими чертами характеризует редакция «Логоса»
русскую философскую мысль.
С точки зрения стерилизованного трансцендентализма в
этих суждениях, быть может, и есть какой-нибудь смысл, но с
точки зрения восточного понятия о Λόγος'е все заявления
редакции «Логоса» о свободе мысли, которая будто бы
отсутствует в России и процветает в Марбурге и Фрейбурге,
представляются сплошным недоразумением.
Что такое свобода мысли? Возможно ли самое понятие
свободы мысли с точки зрения рационализма?
Постараемся отвлечься от публицистической окраски,
приданной редакцией «Логоса» своим заявлениям и очевидно
рассчитанной на какой-то «раек»; будем говорить лишь о
существе дела.
Существо дела необычайно любопытно, можно сказать,
парадоксально, и странно, что оно до сих пор остается как-то в
тени.
Свобода мысли, автономия мысли... чьей мысли, какой
мысли? На этот вопрос кантианство с его принципиальным
дуализмом дает очень странный ответ.
Всякое содержание сознания для Канта и кантианства есть
только явление. Если весь внешний опыт феноменализируется
чрез необходимое отнесение к пространству, то с такой же
необходимостью и безызъятностью феноменализируется и весь
внутренний опыт чрез неизбежное отнесение к времени. Но
всякое содержание сознания, будучи только явлением, всецело
подпадает под власть универсальной категории причинности.
Причинность же связана с необходимостью, т. е. с отсутствием
свободы.
Спрашивается, в каком смысле употребляется редакцией
«Логоса» выражение «свобода мысли»?
Ведь мысль есть одно из данных внутреннего опыта, одно из
содержаний сознания — как же она может быть свободна?
Проблематическое понятие свободы может быть прилагаемо
только к «вещам в себе», только к ноуменам, и если в мысли
ничего ноуменального нет, если она только феноменальна, то
свобода ее так же призрачна, как свобода камня, «свободно»
падающего к земле. Не познавшие этой призрачности могут в
сладком самообмане называть мысль свободной. Но ведь
кантианцы прозрели в истинную, т. е. только феноменальную природу
Нечто о Логосе, русской философии и научности
233
всякой человеческой мысли, — как же они могут говорить о
свободе мысли?
В их устах это только риторика, некрасивое
либеральничанье, нефилософский пафос оратора, привлекающего на свою
сторону ложными обещаниями, которых он не в силах
выполнить.
Если бы кантианство обладало философской искренностью,
оно должно было бы давно объявить, что мысль человеческая
принципиально несвободна, никакой автономией не обладает и
всякие разговоры о мнимой свободе мысли есть überwundener
Standpunkt24.
Когда Шопенгауэр признал за мыслью свободную силу
коренного прозрения, то это была громадная (хотя и гениальная)
непоследовательность, совершенно разрушившая самые основы
теории познания Канта. Эта сила коренного прозрения
предполагает ту метафизическую свободу мысли, которая абсолютно
недопустима с точки зрения кантовской философии, ибо
метафизическая свобода мысли может обозначать только то, что не
все содержание сознания феноменально, что внутренний опыт
в своих корнях ноуменален.
Итак, редакция «Логоса» не могла говорить о свободе
человеческой мысли, т. е. о свободе той мысли, которая дана во
внутреннем опыте людей, — одним из созданий которой
является философия. О какой же другой мысли могла говорить
редакция «Логоса»? О мысли «трансцендентальной»? О той
мысли, которая никем не переживается (ибо всякое переживание
феноменалистично), которая ни одному человеку не дана (но
ведь составители «Логоса» люди — значит, и им
трансцендентальная мысль не дана, т. е. неизвестна) и о которой поэтому
на человеческом языке нельзя сказать ничего (а ведь редакция
«Логоса» хочет говорить все же на языке человеческом)!
Но допустим нелепость. Допустим, что понятие такой
трансцендентальной, никем не переживаемой, никому не данной ме-
онической мысли — возможно. Чему поможет это допущение?
Пусть эта мифическая трансцендентальная мысль свободна.
Какое дело до этой свободы нам, людям! Как может наша
человеческая философия, напр<имер>, немецкая или русская, быть
свободной или несвободной, если человеческая мысль по
существу никогда не может быть трансцендентальной? Если
«трансцендентальная мысль», становясь достоянием человеческого
мозга, перестает быть чистой и, так сказать, «пачкается» оттого,
что ее мыслит человек, то трансцендентальная мысль транс-
цендентна сознанию и человек принципиально не может стать
234
Β. Φ. ЭРН
обладателем трансцендентальной мысли, т. е., значит, никогда
не может обладать реальной и не словесной свободой мысли.
И раз проникновение «трансцендентальной мысли»
невозможно ни в один человеческий мозг, почему же делать какое-
то особое исключение для русской мысли, почему «мрачную
деспотию завистливых рабов» не распространять на всю
философскую мысль, и на немецкую, и на античную?
Если русская мысль несвободна только потому, что
несвободна всякая человеческая мысль, на каких основаниях
редакция «Логоса» бросает обвинения в несвободе как
специфическую особенность именно русской мысли? Раз мысль несвободна
у всех и лишена автономии принципиально, тогда в категорию
завистливых и озлобленных рабов должны, конечно, попасть и
все участники «Логоса», но тогда какой смысл во всем
предприятии?
Совсем иное понимание свободы мысли вытекает из
восточного понятия о Λόγος'е. Здесь мысль человеческая признается
истинно свободной, подлинно автономной, ибо мысль
человеческая, поскольку она логична, т. е. поскольку она
освобождается от порабощенности ассоциациями и от мнимой логичности
ratio (это освобождение необычайно трудно и требует
напряженного восхождения), — в существе своем божественна.
Чтобы достигнуть божественного ядра мысли, нужна
напряженность мышления. Не всякая мысль божественна, но всякий
имеет потенцию божественной мысли. Мысль свободна
отрицательно в стремлении к божественному своему ядру, в
постоянном недовольстве всем данным и неосмысленным. Мысль
свободна и положительна, когда, достигнув высот, начинает
парить в напряженности актуального созерцания. Эта свобода
мысли уже абсолютна, ибо здесь мысль становится
ноуменальной, извечно рожденной и навеки негибнущей, natura creata
creans остается внизу, и мысль сознает себя живой творческой
частью великой natura creata creans25.
Мысль, поскольку она логична, тонична, т. е. напряженна,
активна. В своей напряженности достигая Лоуос'а, она находит
в себе ту положительную свободу, которая принадлежит ей по
существу как ноумену, как живой части Сущего, как «вещи в
себе».
Только с этой точки зрения можно признать
действительную свободу человеческой мысли, и только с этой точки зрения
может быть обосновано самостоятельное и царственное
существование философии как «безусловно независимой и в себе
уверенной деятельности человеческого ума» (В. Соловьев). Ра-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
235
ционализм же, принципиально отнимающий у мысли всякую
свободу, этим самым принципиально низводит философию в
степень служанки, «ancillae», — и навсегда отнимает у мысли
самую возможность безусловно независимой деятельности.
Редакция «Логоса» с наивностью смешивает две абсолютно
различные вещи: освобожденность мысли от всякого
содержания (что означает смерть мысли, т. е. свободу от мысли) и
свободную силу мысли одолевать и усвоять себе какое бы то ни
было содержание.
Оригинальных представителей мысли, стремящейся к
освобождению от всякого содержания, мы в России действительно
не находим. Мы уже говорили об этой черте. Если редакция
«Логоса» считает это отсутствием свободной и автономной
мысли в России, то это показывает, как догматична и узка точка
зрения нового журнала и как мало он сознает истинный смысл
своих собственных воззрений.
Русская философская мысль, проникнутая логизмом, всегда
сознавала существенную свою свободу и никогда не нуждалась
в том, чтобы ее кто-нибудь «освобождал». Уже первый русский
философ Сковорода прекрасно понимал существенную
метафизическую свободу мысли и в духе восточного учения о Λόγος'β,
обосновывающего эту свободу, говорил:
«Всякая мысль подло, как змия, по земле ползет; но есть в
ней око голубицы, взирающее выше вод потопных на
прекрасною ипостась истины*, т.е., другими словами, внутреннее
око мысли сквозь призрачную феноменальность жизни
свободно умеет прозреть «прекрасную ипостась» истинно Сущего
(объясняю, следуя самому Сковороде).
Только тот, кто освобождается из рационалистического
миража и ощущает в себе in actu «око голубицы», т. е. «логизм», —
только тот может с философским правом без пустого бренчания
словами говорить о существенной свободе мысли. Вне понятия
о Λόγος'β свобода мысли немыслима. Всякие разговоры о
свободе мысли в пределах рационалистического мировоззрения есть
только игра словами.
IV
Редакция «Логоса» скорбит, что в России нет «философской
традиции», и вместе с миссией освобождения русской
философской мысли она хочет возложить на себя миссию создания в
236
Β. Φ. ЭРЫ
России прочной «философской традиции». Задача почтенная;
только как ее понимать?
Что такое философская традиция? не есть ли это contradic-
tio in adjecto26. Только что редакция «Логоса» говорила
торжественно о безусловной свободе философской мысли, и теперь
вдруг традициях Какая же это свобода, если мысль
начинающего философа, вместо того чтобы быть безусловно свободной,
вместо того чтобы ко всему подойти самой, будет двигаться в
тех или иных направлениях, предопределенных традицией!
Если традиция есть действительная традиция, т. е. если она
что-нибудь начинающему философу действительно передает, то
это переданное не есть уже собственное приобретение философа
и, значит, в этом переданном его мысль индивидуально не
свободна. Значит, тогда традиция и свобода мысли — враги, ибо
сила традиции и сила свободной мысли находятся в отношении
обратно пропорциональном. Чем больше первой, тем меньше
второй, и чем больше второй, тем меньше первой. Из этого
парадокса выход только один. Для того чтобы, воспринимая
переданное, т. е. подчиняясь культурной традиции, философ
оставался индивидуально свободным (а вне индивидуальной свободы
свобода немыслима), для этого необходимо, чтобы была свобода
социальная, т. е. чтобы был — метафизически был —
свободный носитель культурной или философской традиции —
социальный индивидуум, органическим членом которого являлась
бы отдельная личность, в данном случае личность философа.
Свобода социального индивидуума, не только воспринимающего
достижения отдельных своих членов — человеческих
личностей, но и хранящего их в живом «внутреннем» виде и тем
сохраняющего их от омертвения, — только эта свобода
метафизически обусловливает возможность преемственного культурного
творчества с сохранением индивидуальной свободы.
Философская традиция при таком понимании является не
внешне, а внутренне данным. Результаты преемственных
достижений философ находит не вне, не в книгах, не в школьном
преподавании, а в себе, в метафизической глуби своего
существа, и школа, книги, все внешнее являются только поводом
для осознания этой глуби и без нее оставались бы абсолютно
непонятными и не могущими быть воспринятыми.
Этот социальный индивидуум, живущий в тайниках
истории (а история истекает из таинственных глубей природной
жизни), есть природа как Сущее, т. е. та natura creata creans,
которая является творческим центром космической жизни. Но
этот же социальный и космический индивидуум в своем послед-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
237
нем внутреннем определении есть Церковь, которая свыше
рождается в недрах космической жизни и, воинствуя,
становится вторым, организующим и творящим новое, центром
Вселенной.
Такова точка зрения философии Лоуос'а. Нужно ли говорить,
что она неприемлема для сторонников и поклонников ratio?
Что она существенно противоречит меонизму, которым
проникнут рационализм в своих воззрениях на социальную и
космическую жизнь? Но вне этой точки зрения невозможно обосновать
понимание культуры как дела свободы. Понятие творчества
становится иллюзорным, ибо что значит творчество, если оно
есть только перераспределение уже данных и готовых
элементов, причем перераспределение это предопределяется как в
своем общем направлении, так и во всех деталях? На каких
основаниях этот процесс предопределенного
перераспределения называют творчеством? Зачем играть словами?
Понятие традиции вне онтологического понимания
социальной и космической жизни радикально противоречит свободе, а
вне свободы какая же культура?
Мы видим, что только традиция, понимаемая во внутреннем
смысле, может быть началом культурным и философским.
Редакция «Логоса» понимает традицию узко, как какую-то
школу, как непрерывную внешнюю линию прямой и
преемственной передачи в сфере сознания, что возможно только в секте, в
кружке, в оторванной и замкнутой единице. На самом деле
традиция бесконечно шире и глубже, ибо предметом передачи
является весь опыт человечества, и, кроме того, передается
этот опыт не из рук в руки непременно, а иногда через головы
нескольких поколений, иногда же через века и тысячелетия.
Так Шопенгауэр рецепирует буддизм, отделенный от него
тысячелетиями, так Эригена философски воспринимает
восточную мистику православия, отделенную от него веками,
пространством и гранями совсем иной культуры. Но Шопенгауэр и
Эригена воспринимали буддизм и православную мистику
преимущественно сознанием, во всяком случае сознательно; есть
же традиция внутренняя, подземная, подсознательная,
которая, будучи непрерывной внутри, прерывна извне и вместо
школьной зависимости дает ряд культурных явлений,
развивающихся в совершенной независимости друг от друга.
Присутствие этой внутренней традиции доказывается тем, что в
явлениях, не имеющих никакой внешней зависимости друг от
друга, обнаруживается поразительное внутреннее единство.
238
Β. Φ. ЭРН
Редакция «Логоса» обвиняет русскую мысль в отсутствии
философской традиции; но если мы взглянем на русскую мысль
с только что развитой точки зрения, мы увидим, что обвинение
это совершенно неправильно, ибо внутреннее единство русской
философской мысли, о котором мы говорили раньше,
несомненно. Соловьев совсем не знал Чаадаева и почти слово в слово
писал то же, что писал Чаадаев. Многие кровные мысли, потом
с различными вариантами повторявшиеся последующими
русскими мыслителями, выражены Сковородой ярко и выпукло.
Кто станет изучать русскую мысль, того поразит любопытный
факт: русские мыслители, очень часто разделенные большими
промежутками времени и незнанием друг друга,
перекликаются между собой и, не сговариваясь, в поразительном согласии
подхватывают один другого.
Итак, свободная традиция, которая есть не что иное, как
внутреннее метафизическое единство человечества, мыслимо
только с точки зрения философии Лоуос'а. Рационализм же
совершенно не в силах, оставаясь при своем меонизме, сочетать
традицию с свободой и обосновать таким образом возможность
культуры. Редакции «Логоса», желающей сделать свой
журнал «международным ежегодником по философии культуры»,
не мешало остановиться на этих вопросах и, прежде чем
предаваться миссионерству и обращению «неверных», сделать хоть
неудачную попытку: философски обосновать с точки зрения
рационализма возможность тех задач, которые она на себя
возлагает.
V
Того, кто даже бегло пробежит «Логос», поражает
любопытная черта.
Все участники «Логоса» (одинаково, как Риккерт из
Оренбурга, так и Гессен из Петербурга и Яковенко из Рима) —
правоверные и увлеченные сторонники мифа о научности. Все
они лежат распростертыми ниц перед меоническим,
вышедшим из недр позитивизма идолом.
Новое время, вообще говоря, очень мифологично. Те, кто
думают, что время мифов прошло, что только античность и
средневековье в своей младенческой наивности отдавались во
власть мифологии — что Новое время из-под власти этой
освободилось, — жестоко ошибаются. В Новое время мы видим
возникновение целого цикла мифов, целого ряда мифологем, и все
Нечто о Логосе, русской философии и научности 239
различие, колоссальное и существенное, этих мифов и этих
мифологем от античных и средневековых заключается только
в перемене знака положительного на отрицательный. Миф
античный и миф средневековый онтологичны, мифы Нового
времени меоничны.
Категория мифа нормальна и неизбежна, и потому не миф
как миф может быть предметом критики с точки зрения «ло-
гизма», а его внутренняя ценность, его сообразность Λόγος'γ,
его символический, ознаменовательный смысл. В мифах
Нового времени (которые, кстати сказать, ждут своего
исследователя) нас поражает не «мифичность», а меонизм, ибо меонизм не
«логичен» и потому бессилен, безумен и гибелен.
Я не могу сейчас исследовать происхождение мифа о
научности: я постараюсь только вскрыть его принципиальную
противоречивость и выяснить его логическую невозможность.
«"Логос" <...> будет стремиться разрабатывать
научно-философским методом все эти области» (общественность, искусство,
религию) (с. 11); «мы <...> должны тщательно различать
между научной философией в настоящем смысле слова и общим
культурным фоном, дающим материал философскому
исследованию» (с. 14).
«"Логос" будет резко отмежевываться от всякой
ненаучной философии» * (с. 15).
«Как ни достойны удивления, — говорит Кронер о
Бергсоне, — непоколебимая отвага мысли и оригинальное отношение
к философским проблемам, но тем не менее такое построение,
выдающееся благодаря личности автора, не может считаться
научным решением проблемы» (с. 114).
«...Чтобы в хаосе современной множественности
философских построений разглядеть общую сущность и даже
значительный прогресс в уяснении задачи и разрешении проблем единой
и нераздельной научной философии, необходимо встать на
твердую философскую почву, на ту философскую почву,
которая впервые позволила и позволяет ныне всякому желающему
уразуметь общую сущность и общий смысл всего двухтысяче-
летнего развития философии, т. е. на почву кантовской
трансцендентальной философии, являющейся самосознанием
философского мышления вообще» ** (с. 200—201, Яковенко, Рим).
* Курсив везде наш.
* Я нарочно привел целиком эту неуклюжую длинную фразу как
образчик языка, каким выражаются составители «Логоса».
Конструкция фразы немецкая, а не русская.
240
β. Φ. ЭРН
«...Если выбрать детерминантою своего отношения к книге
Белого строго научную и прежде всего гносеологическую
точку зрения, то книгу придется назвать ненаучной» (с. 281, Сте-
пун. Москва).
Во всех этих цитатах с бесспорной и категорической
ясностью говорится о какой-то строго научной философии, единой
и нераздельной, которая резко противополагается философии
ненаучной и с точки зрения которой редакция «Логоса» сыпет
свои суждения о русской философской мысли.
Нам кажется необычайно странным, что эта центральная
для «Логоса» идея остается совершенно неразвитой. Наиболее
смело и резко составители «Логоса» говорят о научной
философии в придаточных предложениях, мимоходом, беглог глотая
слова, и философски выяснить, что они понимают под этим
странным соединением слов, даже и не пытаются.
Итак, для анализа этой центральной идеи «Логоса» нам
остаются только придаточные предложения. Мы имеем только
несколько выражений, буквальным смыслом которых и будем
руководиться в своей критике.
В выражении «научная философия» соединяются в одно
понятие два различных и обособленно существующих явления:
наука и философия. Как первая, так и вторая вполне
определенны и бесспорны в своей фактической данности. Поэтому,
взятые в отдельности, они не возбудили бы в нас никакого
подозрения. Можно очень разно понимать как науку, так и
философию, но данность их как объектов не подлежит сомнению.
Нас поражает соединение этих двух понятий, и мы
утверждаем, что нет реального объекта, соответствующего этому
сложному, искусственно составленному понятию, и не только
нет, но и не может быть, как не может быть реального
объекта, соответствующего искусственно составленному понятию,
«зеленой добродетели» или «кубической музыки», хотя
добродетель и зеленые цвета существуют в отдельности друг от
друга, так же как существуют в отдельности музыка и кубические
предметы.
Что значит слово «научный»? Состав этого термина не
логический, а только психологический. Это прилагательное от
существительного «науки». Но существует ли наука? Будем
употреблять слова в логически строгом смысле. Науки, т. е. единой,
всеобщей науки, — не существует.
Существуют науки, т. е. отдельные, частные науки:
математика, филология, археология. Спрашивается: из частных
понятий этих отдельных наук можно ли путем логического отвлече-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
241
ния и обобщения создать логически правильное и определенное
понятие «науки вообще*?
Если бы участники «Логоса» шли действительно
философским путем, они должны были бы прежде всего задать себе этот
вопрос. Они должны были бы представить логический анализ
методов каждой из существующих наук и как результат
сравнительного обобщения данных этих отдельных анализов найти
общее понятие науки вообще. К сожалению, они необычайно
далеки от такого трудного и, по нашему мнению,
невозможного предприятия. Они совершенно не задаются этим вопросом и,
усвоив себе лишь психологически значимые стереотипы,
совершенно не представляют всей логической трудности, чтобы не
сказать невозможности таких выражений, как «научная
философия».
Но если слово «научный» — фиктивно, т. е. бессмысленно и
логически неправомерно, то так же бессмысленно и логически
неправомерно выражение «научная философия».
Участники «Логоса», очевидно, путаются и, высоко подымая
знамя научности, не замечают, что размахивают одним
древком, не украшенным никакой «тряпкой».
Основной вопрос можно формулировать так: каждая наука в
своем роде научна, т. е. каждая наука имеет свою
специфическую форму научности: так, математика математична, биология
биологична, лингвистика лингвистична, археология археоло-
гична. Но математика не может быть лингвистична и биология
археологична. Общее, что объединяет эти отдельные науки,
есть не логически полученное объективное понятие научности,
а психологически образованное, субъективное понятие
научного духа, того научного духа, «нежнейшим цветком» которого,
по мысли «Логоса», должна являться философия (с. 6). Но если
мы спросим: научен ли этот научный дух, т. е. научен ли τόνος
научности, — то отрицательный ответ несомненен. Наука
научна, но τόνος науки сверхнаучен.
И даже если бы мы допустили, что логически правильное и
определенное понятие «научности вообще» было возможно,
какие элементы этого понятия можно было бы правомерно
перенести на философию? Никакую часть материального
содержания этого понятия на философию перенести абсолютно нельзя,
ибо материя какой бы то ни было философии дана сверхэмпири-
чески, материя же каждой науки дана эмпирически. И потому
по материальному содержанию науки и философия
существенно различны. Значит, на философию может быть перенесена
только чистая форма научности. Но чистая форма, как указа-
242
Β. Φ. ЭРН
но Аристотелем, не может быть мыслима как действительность.
Она только возможность, потенция. Но возможность, таящая в
глубине своей те или иные формы научных «действительно-
стей», есть то же, что и научный дух, порождающий и
обусловливающий собой realia отдельных наук. Но мы сказали уже,
что дух науки, τόνος научности, сверх- или вненаучен, т. е. не
научен.
Для рационализма дело проиграно. Философия никогда не
может быть научной, в том внешнем порабощающем смысле, в
каком придается термину «научность» участниками «Логоса».
Но есть у этого термина внутренний, свободный смысл.
Понятие научности, как мы видели, не может быть составлено
логическим путем. Но значит ли это, что оно только психологично?
Для сторонников ratio — да, абсолютно да. Оно только
психологично и как психологичное не заключает в себе ничего
«логичного». Для сторонников Лоуос'а дело представляется в ином
виде.
Понятие «научности» тонично. Тоническое не есть ενεργεία'7
логическое. Но оно не есть только субъективное,
психологическое, человеческое; τόνος научности совпадает с τόνος'οΜ
логичности, а так как истинно логическое есть божественное,
ноуменальное, объективное, то и τόνος логичности не есть только
человеческое и субъективное. Его природа — двойственная
природа посредствующего платоновского демона — Эроса. Эрос
ни Бог, ни человек, ни πενία, ни πόρος28. Мысль, одержимая
Эросом, перестает быть только человеческой и, заражаясь
божественным, сама становится божественной. В мысли,
одержимой Эросом, божественное не дается просто как что-то
внешнее и готовое, но нисходит и, заражая собой, внутренно
усвояется и одолевается как задача, как подвиг.
Τόνος научности, не будучи, таким образом, принципом
только человеческим, носит в себе потенцию объективности.
Только свободным порывом подвига и вдохновения можно этой
объективностью овладеть. Понятие «научности», полное
глубокого внутреннего содержания, с точки зрения философии
Лоуос'а, совпадает, таким образом, с понятием логичности, т. е.
с понятием того xovoç'a, который внутренно присущ всем
процессам человеческой мысли, находящейся в стремлении и
становлении. Но отношение здесь обратное. Не мысль становится
ценной, оттого что становится «научной», а наука становится
ценной, оттого что реализует и укрепляет в человечестве
«логичность», коренным образом осознаваемую философией. Итак,
философия должна стремиться не к научности, а к объективно-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
243
сти. Философия первороднее науки не только во времени, но и
в идее.
Для того чтобы сделать нагляднее общую мысль о
невозможности «научной философии» в внешнем рационалистическом
смысле слова, я приведу еще два соображения, имеющих не
только психологическую, но и логическую ценность.
Г. Яковенко говорит о какой-то «единой и нераздельной
научной философии». Я называю подобный способ выражения
меоническим мифологизированием, ибо еще не существующий
предмет своей личной веры и своего личного стремления г.
Яковенко мифологически переносит в эмпирическую
действительность и хочет заставить других поверить в существование того,
что существует пока не realiter, а лишь терминологически, т. е.
nominaliter29.
Единой «научной философии» не существует. Существует в
Германии несколько философий, из которых каждая притязает
на исключительную «научность», отрицая научность своих
соперниц.
Прежде чем говорить о «единой и нераздельной научной
философии», участникам «Логоса» не мешало бы разобраться в
чрезвычайно странном факте взаимно-научного поедания.
Метафизики могут спорить (их споры могут смешить лишь
толпу), ибо объект метафизики многогранен и бесконечен. Они все
могут быть правы в своих глубочайших утверждениях.
Мыслима и возможна точка зрения, при которой все постижения (а не
искусственные построения) метафизиков образуют нечто
единое и музыкально-согласное. Но как могут разноречить и
взаимно отрицать представители научной философии — это нам
совершенно непонятно.
По Степуну, «строго научная» точка зрения совпадает с
точкой зрения гносеологической (с. 281). А гносеология, по
Яковенко, есть кантовская трансцендентальная философия,
являющаяся «самосознанием философского мышления вообще» (с. 201).
Итак, строго научная точка зрения есть точка зрения
трансцендентальная. Но, во-первых, трансцендентальных точек
зрения не одна, а несколько: на нее притязают Коген, Риккерт,
имманентизм, расходящиеся между собою. Во-вторых,— и это,
конечно, важнее, — эта пресловутая трансцендентальная точка
зрения ничего трансцендентального в себе не заключает.
В самом деле, один из трансцендентальных философов,
Риккерт, говорит:
«Теоретическая философия, или то, что называют логикой,
теорией познания и т. п., исходит из культурного блага "на-
244
Β. Φ. ЭРН
уки". В науке окристаллизовались в течение исторического
развития теоретические ценности истины, и только исходя из
науки, сможем мы к ним подойти» (с. 41). То же на с. 133
говорит Гессен.
Мысль другого трансцендентального философа, Когена, г. Яко-
венко формулирует так:
«Трансцендентальная философия ориентируется на факте
науки» (с. 203).
Факт науки, таким образом, абсолютно должен быть дан,
чтобы трансцендентальная философия могла начать свою
работу ветряной мельницы, чтобы «праздные гуляки
интеллектуального мира» (выражение Бодлера) могли начать свои
трансцендентальные похождения. Факт науки, факт «культурного
блага» необходим трансцендентальным философам как своего
рода трамплин, оттолкнувшись от которого они взлетают «на
воздух» и потом, паря в безвоздушном пространстве,
чувствуют себя философами не только трансцендентальными, но и
«научными», ибо очутились в пространстве благодаря
трамплину фактической науки.
Что нужно быть хорошим философическим гимнастом, чтобы
проделывать то, что делают «в воздухе» Коген или Риккерт, —
это несомненно, но так же несомненно и то, что философия,
исходящая из факта, не может быть трансцендентальной, ибо
все, исходящее из факта, становится фактичным, т. е.
эмпиричным, всецело обусловленным условностью своего исходного
пункта. Если наука факт, то факт и искусство, факт и религия,
факт и природа, факт и все, что нами переживается. В качестве
факта все это логически равноценно, и философия, исходящая
из факта 9 симфонии Бетховена, не менее
«трансцендентальна», чем философия Когена.
Идея трансцендентальности есть идея фиктивная, мыслью
неосуществимая, т. е. немыслимая, и если создаются
«трансцендентальные» философии, то только потому, что ее творцы,
окутав себя туманом слов, проделывают фокус. Производя ряд
заклинаний, они показывают, что все существующее не может
быть исходным пунктом философии. Чтобы не запачкаться,
чтобы быть «чистыми», им нужно что-то другое. Внимание
читателя отвлечено. Тогда они говорят: мы исходим не из
факта треугольника, а из идеи треугольника, régie du triangle30,
т. е. из тех внутренних закономерностей, которые мыслятся в
идее треугольника. Фокус свершен. Все существующее, т. е.
онтологическое, разрежается и дереализируется до той
степени, когда глазу простого смертного оно кажется несуществу-
Нечто о Логосе, русской философии и научности
245
ющим. Это quasi несуществующее производит впечатление
истинной трансцендентальное™. Этого достаточно. Получается
«строго научная» трансцендентальная философия.
Фокус, т. е. момент передергивания, совершается в фразе:
мы исходим не из факта треугольника, а из идеи
треугольника. Всмотритесь в эту фразу и вы увидите ясно скачок. Что
такое факт треугольника, из которого трансцендентальная
философия не исходит? Это есть наша человеческая, фактическая
идея треугольника, из которой она исходит! Факт
треугольника дан нам в виде нашей идеи треугольника. Спрашивается, из
чего исходит трансцендентальная философия: из той идеи
треугольника, которая нами, людьми, имеется, или из этой идеи
треугольника, которая нами, людьми, не имеется? Если
первое — исходный пункт трансцендентальной философии не
трансцендентален. Если второе — мы отказываемся ее понимать.
Мы не знаем, из чего она исходит. Ее исходный пункт есть ens
rationis31, т. е. она ни из чего не исходит.
Исходный пункт философии или везде, или нигде. Или
мысль исходит из себя самой и тогда философия может
начаться в каком угодно пункте действительности, или же мысль в
каком угодно своем содержании неавтономна и тогда
исходного пункта у философии нет, ибо нет самой философии.
Мнимый трансцендентализм участников «Логоса»
подтверждает мнимую «научность» их философии, и кто еще
недостаточно в этом убедился, тот пусть прочтет следующие
утверждения, встречающиеся непрерывно на страницах «Логоса»:
На с. 3 философия названа «достойной хранительницей
высшей правды».
На с. 7 редакция «Логоса» упрекает современную философию
эпигонов за то, что, «разрабатывая завещанное ей наследство
творческой эпохи, она как бы боится его последней глубины и
тщательно избегает касаться робкой мыслью своей тех
откровений вечности, которыми светятся великие создания
творческих времен».
«Тайные судьбы вели разные народы разными путями все к
той же цели» (с. 11).
«Выделяя вечный смысл великих систем наших предков,
мы включаем их в себя, а тем самым и себя в непрерывную
нить вековой традиции <...> мы охватываем тем самым всю
бесконечность мирового разума и проникаем в глубь
божественного Логоса» (с. 16).
Подчеркнутые выражения — для всякого ясно — и не
трансцендентальны, и не научны. Они полны чистейшей трансцен-
246
Β. Φ. ЭРН
дентной метафизики, и не простой метафизики, а
мистической.
«Великие силы истории» (с. 42), «заложенные в объектах
культуры ценности» (с. 40), «культурное благоо наука, в
которой в течение времен окристаллизовываются теоретические
истины» (с. 40), вот обрывки тщательно скрываемой метафизики
Риккерта.
Гессен на с. 153 с чувством полной трансцендентальности и
научности высказываемого говорит: «Гете <...> не мудрствуя
лукаво, действительно владел тем последним синтезом
жизни, к которому они (романтики) хотели прийти путем разума».
Я, мистик, думаю, что только Провидение знает, владел или
не владел Гете «последним синтезом жизни», — но
оказывается, что трансцендентальная философия, очевидно «строго
научным» путем проникая «в глубь Божественного Логоса»,
знает об этом так же прекрасно, как само Провидение, и Гессен,
утверждающий абсолютную несказанностъ переживания,
умеет, однако, свою трансцендентально-научно-лшс/тшчес/сг/ю
интуицию о Гете выразить с столь категорической ясностью. В
талантливой, но совсем не «трансцендентальной» и не «научной»
статье Степуна «Трагедия творчества» на с. 173 говорится:
«В конце концов, все вопросы истории решаются в
отдельных и одиноких человеческих душах. Душой романтизма был
безусловно Фридрих Шлегель». С этим утверждением можно
согласиться, можно и спорить. Но при чем тут «строго научная
точка зрения», при чем тут «трансцендентальная философия»?
Такие мистические усмотрения, такие трансцендентно-мета-
физические утверждения на страницах «Логоса» встречаются в
самом обильном количестве. И если я привел наудачу
несколько таких утверждений, то не для того, чтобы обратить
внимание на случайные обмолвки авторов «Логоса». Возьмите какое
угодно архитрансцендентальное и архинаучное исследование
современного философа, и философский анализ без труда
вскроет и в исходном пункте и в дальнейшем развитии
гносеологических построений целые ряды самых произвольных и
догматических утверждений, и эти утверждения образуют
скудную, противоречивую, трусливо скрытую, неискреннюю и
потому дурную приват-метафизику каждого
«трансцендентального» и каждого «научного» философа. Нередко эта скрываемая
приват-метафизика не заключает в себе ничего
положительного и вся исчерпывается ненавистью и скрытой злобой к
объектам метафизики открытой, искренней и откровенной.
Нечто о Логосе, русской философии и научности
247
Тоска по не существующему, т. е. не сущему, есть
романтизм, и потому участников «Логоса», зачарованных меоном
«научной» философии, мы вправе назвать мечтательными
романтиками неосуществимой «научности».
В заключение скажу, что, подвергая «Логос»
принципиальному и длинному разбору, я чувствовал, что за этим журналом
стоит почти вся современная немецкая философия, и потому
все сказанное в этой статье, имея более принципиальный смысл,
чем простой критический анализ нового журнала, mutatis
mutandis32 относится к современным немецким властителям...
маленьких дум.
^^
^^
Β. Φ. ЭРН
Культурное непонимание
Ответ С. Л. Франку
Прежде, нежели исследуешь, не
порицай, узнай прежде и тогда упрекай.
Премудрость Иисуса сына Сирахова1
Две черты бросились мне в глаза при чтении «Философских
откликов» * С. Франка, посвященных разбору моей статьи о
Логосе: раздраженность и глубокое невнимание к моей мысли.
Утеряв присущий ему объективизм, С. Франк, несомненно,
переходит границы, относя к совершенно неизвестному ему
человеку слова «наивность», «огульность», «развязность», «ослеп-
ленность», «слабое знакомство с западной философией».
Культурная совесть Франка, по моим предположениям, уже должна
начать его мучить за несомненное нарушение правил
учтивости — и я, полагаясь на это, могу обойти молчанием весь
взволнованный τόνος его статьи.
Я остановлюсь на второй черте невнимании к моей мысли.
В своей статье я высказываю ряд идей, из которых, кажется,
ни одна не попала в сферу внимания моего критика. Точно
боясь взглянуть, С. Франк проходит мимо решительно всего
положительного содержания моей статьи. Он бьет тревогу, может
быть, что-то верно почуяв, но весь его «отклик» —
встревоженный призыв кого-то обратить внимание на опасность, а не
личное столкновение С. Франка с тем, что он считает враждебным
себе и культуре.
«Отклик» его не философский, а публицистический. Он дает
не идейный разбор моей статьи, а старается рядом эпитетов
* Русская мысль. 1910. Сентябрь.
Культурное непонимание
249
и периферических, случайных набегов на внешнюю форму
моей мысли дать почувствовать кому следует культурный вред
моего направления «Все пустяки в сравнении с вечностью». Не
важно, что написал обо мне С. Франк. Важно то, что
животворные идеи логизма при малейшей попытке воплотиться
возбуждают глухую вражду, слепую критику, патетическое
непонимание. Тут что-то глубокое и фатальное.
Сначала я постараюсь освободить свою мысль от искажений
С. Франка, затем перейду к существенным недоумениям С.
Франка, так сказать, лежащим в характере самой темы.
I
Существует фатальная связь между рационализмом и
схемой, по внутренней необходимости своей совершенно подобная
той связи, которая существует между логизмом и символом.
Будучи сам схемой, т. е. созданием схематической мысли,
ratio существенно схематичен. В предлежащей
действительности для него «понятно» только рациональное, т. е. то, что
может быть приведено к схеме математической, динамической,
механической, произвольно им избранной. В схему
геометрического следования ratio Спинозы пытается заключить всю
сложность космогонического процесса. Схемой
математической формулы пытается Гегель объяснить реальное движение
планет. Осознанный схематизм рассудка легализуется
«Критикой чистого разума». В порабощенности схемой — корень всех
искажений. Взнузданная рационализмом мысль совершенно
бессильна перед действительностью. Оторванная от
последней, она может оперировать только схемой. Рационализму
действительность дана может быть только в схеме и ровно
настолько, насколько в схеме она умещается. А так как рассудок
склонен считать себя единственным законным владыкой
сознания, то он с мнимо логической принудительностью стремится
действительность «сократить» и сделать себе сообразной.
Ratio С. Франка, доминируя в его сознании — над живым и
конкретным рядом моих мыслей, проделывает то же самое, что
делает всякий ratio, встречаясь с чуждой ему и не
охватываемой им действительностью. Первая задача С. Франка — меня не
понять. Чувствуя враждебность предлежащего ему ряда
мыслей, С. Франк обороняется прежде всего схемой. Боясь
посмотреть прямо в глаза в чуждую, но волнующую его цепь идей, он
250
Β. Φ. ЭРН
прежде всего набрасывает на нее свою схему, что-то привычное
для себя, и, уложив меня в схему, борется не со мной, а со
схемой, не с действительными моими мыслями, а со
схематическим отображением их в своем ratio Differentiam specificam2;
т. е. конкретное и характерное в моей статье он игнорирует
абсолютно, весь увлеченный желанием втиснуть меня в какой-
нибудь genus proximum3, т. е. что-то знакомое его сознанию и
доступное для его критики. Отсюда неосторожные обвинения,
взводимые на меня С. Франком.
Прежде всего «национализм».
Мы знаем соловьевскую терминологию. И знаем, какой
предосудительный смысл имеет поэтому обвинение в национализме.
Хорошо или плохо, но в своей статье я дал чисто философский
ряд мыслей. Можно резко критиковать философскую
основательность моих концепций, но с первого слова давать им оценку
с чуждой философии общественной точки зрения и, так сказать,
сразу бить по нервам читателя мнимо опасными следствиями
идейно-враждебного и опасного пока только для С. Франка
направления — это значит находиться во власти того
примитивного и варварского отношения к чисто философскому понятию
теоретической истины, которое так остроумно подверг критике
Н. А. Бердяев в своей статье «Интеллигентская правда и
философская истина»4. Этот «навык» интеллигентского мышления
прежде всякого теоретического обсуждения давать
общественную квалификацию — навык, сказавшийся в достаточной мере
у С. Франка, оказал моему критику плохую услугу. Он
обусловил построение схемы, которая неминуемо вызвала
необходимость, с одной стороны, досказать то, чего я не говорил, так
сказать, продолжить мои мысли в направлении принятой
схемы, а с другой — существенно извратить даже то немногое, что
из статьи моей попало в сферу сознания моего критика.
Желая исследовать «механизм искажения», я остановлюсь
на обеих чертах критики С. Франка.
«Статья Эрна — сплошной панегирик русской философской
мысли, сплошное осуждение всего нового философского
сознания Запада. Такого огульного и безмерного национального
самомнения в области философии нам до сих пор не приходилось
встречать».
Здесь все преувеличено и дополнено.
Обсуждение не есть осуждение. Критикуя начала
западноевропейской мысли, я исполняю священную задачу философа
критиковать все, с чем он философски не согласен. Неужели
С. Франк хочет отсутствия философской критики? Превращая
Культурное непонимание
251
мое принципиальное обсуждение в свое «сплошное
осуждение», С. Франк дополняет меня, и от этого дополнения я
совершенно отказываюсь.
Еще сильнее дополняющая функция схематизирующей
мысли С. Франка сказывается в «сплошном панегирике».
Русская философская мысль имеет для меня не первичную,
а производную ценность. Абсолютно данное моего
мировоззрения — восточнохристианский логизм. Русская мысль дорога
мне не потому, что она русская, а потому, что во всей
современности, во всем теперешнем мире она одна хранит живое,
зацветающее наследие антично-христианского умозрения. Я
ценю русскую мысль за ее верность философскому началу
всемирного значения, и вся моя характеристика русской философии,
столь поразившая С. Франка, есть обоснованная историческим
изучением попытка доказать существенно новый и
оригинальный в сравнении с Западом leit-мотив русской мысли:
устремленность к логизму. С. Франк поражается, как можно
противополагать Лопатина, Козлова и Трубецкого гениям западной
мысли. Но это противоположение — фантазия С. Франка. Мое
противоположение иного характера. Я противополагаю
западноевропейское начало ratio антично-христианскому началу
Лоуос'а, причем убежден, что носители первого начала по
творчеству и гениальности много уступают носителям второго
начала. Русскую мысль я противополагаю западной по качеству, а
не по количеству, и считаю, что русская мысль в современном
духовном состоянии мира занимает совершенно особое место не
потому, что тот или иной русский мыслитель столь же
гениален, как Гегель, а потому, что принцип философствования
русских философов (между которыми есть и гении) существенно
отличен от принципа философствования западноевропейских
мыслителей Нового времени. Каким образом в этих простых,
исторически обоснованных мыслях С. Франк усмотрел
ослепленный национализм, я совершенно не могу понять и, думаю,
не поймет сам С. Франк при вторичном внимательном чтении
моей статьи. Какой может быть национализм в философски
осознанном предпочтении античной философии и восточнохри-
стианского умозрения блестящей, отвлеченной, бесплодной
мысли новой Европы?
Примером схематического искажения моей мысли со
стороны С. Франка может служить дальнейшая его фраза:
«Пользуясь старинным, давно заржавевшим и пришедшим
в негодность славянофильским орудием и резким
противопоставлением западной "рассудочности" восточной "цельности",
252
Β. Φ. ЭР Η
он (т. е. Эрн) рубит сплеча, уничтожая Канта, Беркли, Юма,
самого Гегеля» и пр.
С. Франку, не воспринимающему моей мысли, нужно ее
обезличить, и он вспоминает славянофильскую формулу
противоположения, совершенно отличную от моей. Я противополагаю
два познавательных начала: ratio и Λόγος, а не две культуры:
Россию и Запад. Мое противоположение есть результат
гносеологического анализа. Противоположение славянофилов —
результат философско-исторических соображений. Я ничего не
говорю о России и Западе вообще, я говорю о частном вопросе:
о западноевропейском рационализме и о русской философской
мысли, исторически и многократно засвидетельствовавшей
свою существенную пронизанность стихией логизма. Против
конкретной формы моего противоположения С. Франк не
нашел ничего возразить. Его критика устремлена на то, что, по
соображениям С. Франка, я должен был бы сказать, но чего я
фактически не говорил и по основоположениям моей мысли
сказать не могу. Кроме того, рубить сплеча Канта, Беркли,
Юма не входило в мою задачу, и принимать мои обоснованные
слова о принадлежности Канта, Беркли, Юма, Гегеля к
западноевропейскому рационализму за «рубку сплеча» — это значит
иметь своеобразное представление о рационализме как о
каком-то самоопускающемся на его представителей топоре. Честь
изобретения этого представления, не лишенного забавности,
всецело принадлежит С. Франку.
Для вящего умаления моей мысли, сопоставив меня с
славянофилами, С. Франк выбирает самые уничижительные слова
для характеристики славянофильского «оружия»:
«пришедшее в негодность», «давно заржавевшее». Я бы просил С.
Франка указать хоть одно сочинение на русском или иностранном
языке, где бы философские концепции славянофилов (И.
Киреевского и А. Хомякова) были подвергнуты сколько-нибудь
детальной и достаточной критике. Мысли И. Киреевского и
А. Хомякова о познании как о целостном процессе, в котором
синтетически принимают участие все стороны духа, не только
не подвергнуты критике, но даже и не восприняты критиками
славянофилов. Полемика В. Соловьева с славянофилами имеет
специальный характер*, а в «Критике отвлеченных начал» в
* В письме к Н. Н. Страхову (Письма, т. I, с. 59) В. Соловьев ясно
говорит, какие мотивы обусловливают резкость его полемики с
славянофильством: «Но вот эта книга (Данилевского) вдруг
становится специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих
Культурное непонимание
253
своем учении о тройственном характере всякого акта познания
В.Соловьев6 развивает существенно те же мысли, которые с
достаточной ясностью были наброшены И. Киреевским и А.
Хомяковым*. Говорить о славянофильстве как о чем-то
конченном и безусловно превзойденном могут только те, кого
удовлетворяет критика г.г. Милюковых. Вообще, наши старые идейные
споры должны быть существенно пересмотрены, и я укажу на
ряд блестящих исторических исследований М. О. Гершензона,
которыми это благое дело основательно и систематически
начато. Удовлетворяться тем, что сказано и замолчано партийными
борцами, не могут все заинтересованные прежде всего в
теоретической истине
Теперь о трех культурных слезинках С. Франка, т. е. о
Спинозе, Гегеле и Соловьеве. Я не могу назвать иначе культурную
обидчивость С. Франка: каждое слово критики он принимает
за прямую обиду культурному человечеству. Среди обвинений,
сыпящихся на меня, он спрашивает:
«Меонична ли философия Спинозы, величайшего и
классического рационалиста в точном смысле этого слова,
философия, в основе которой лежит понятие sausa sui8 "то, сущность
чего предполагает существование"?»
О Спинозе в своей статье я не сказал ни слова. На вопрос же
С. Франка отвечаю самым решительным: да, меонична.
погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу. Когда в
каком-нибудь лесу засел неприятель, то вопрос не в том, хорош
или дурен лес, а в том, как бы его получше поджечь».
Итак, В. Соловьев в своем «Национальном вопросе» и не ставил
себе задачей решать вопрос, дурны или хороши славянофильские
взгляды (особенно философские), а просто сокрушал ребра
«Каткову и К°». Совершенно сочувствуя В. Соловьеву в этом сокрушении
ребер «глупцам и мерзавцам», я никак не могу сочувствовать
С. Франку, принимающему (очень удачные) полемические выпады
В. Соловьева за историческое исследование о русской философии.
Не могу не заметить, что с Сковородой, напр<имер>, как можно
заключить из одного письма к Н. Я. Гроту (Письма, т. I, с. 91),
В. Соловьев ознакомился (или хотел ознакомиться) всего лишь
<в> 1895 г., т. е. уже после того, как полемика его с «назадняка-
ми»5 была окончена.
* Это не моя только мысль. Л. М. Лопатин в своей статье о кн. С. Н.
Трубецком (в кн. 81 «Вопр<осов> филос<офии> и псих<ологии>» 7)
говорит: «Соловьев и кн. С. Н. Трубецкой резко расходились с
славянофилами по целому ряду вопросов церковных, исторических,
политических, общественных, но в вопросах отвлеченной
философии, особенно во взглядах на природу и условия человеческого
знания, они оставались с ними на одинаковой почве».
254
Β. Φ. ЭРН
Во-первых, то или иное начало мышления овладевает
сознанием с исторической постепенностью. Так, механическая
точка зрения торжествует в формулированных Кеплером законах
движения планет, но сам Кеплер еще полон иных точек
зрения. Спиноза, проникаясь картезианским рационализмом,
сохранил в своем мировоззрении чисто личные иррациональные
моменты, с одной стороны, с другой — влияние своих
предшественников по пантеизму. Онтологичен Спиноза только в
иррациональных моментах своего мировоззрения и меоничен в
моментах, где рационализм его одолевает.
Во-вторых, всякий термин должен браться критиком в том
установленном смысле, в каком он определенно берется
критикуемым. В статье «Беркли как родоначальник имманентизма»,
напечатанной до разбора «Логоса», я совершенно определенно
устанавливаю значение слова меонический. Кардинальный,
конституирующий его признак (по содержанию) — отрицание
природы как Сущего. Употребляя термин в означенном смысле,
я говорю: Спиноза в своей философии меоничен, ибо отрицает
природу как Сущее своим смешением природы с Богом. Deus
sive natura. Бог или природа! Творческое и Сущее в природе
для Спинозы есть Бог, пантеистически понимаемый, а не Она
Сама. Для Спинозы природа не самостоятельна по
отношению к Богу и потому не есть Сущее наряду с Богом, т. е.
природы как самостоятельного Сущего нет.
Природа для Спинозы геометрична, механична, мертва и
потому призрачна. В Спинозе борется исконно-онтологический
темперамент еврея с меоническим началом философствования,
и формально побеждает второе Спиноза, говорит Л. М. Лопатин
в лекциях по новой философии9: уничтожает вселенную в Боге,
а потом Бога превращает в отвлеченный порядок вещей.
Шеллинг в своем историческом приговоре над Спинозой отмечает
«безжизненность системы Спинозы, бездушие формы, бедность
понятий и выражений, неумолимую резкость определений».
Признаю правомерность спора с таким пониманием и
совершенно отрицаю правомерность риторических восклицаний С.
Франка, прикрашенных мистическим «прозрением» в низкую
степень моей научной подготовки.
Вторую культурную слезинку С. Франка — обиду за Гегеля —
я разбирать не буду. Нужно доказывать не меонизм Гегелевой
мысли, всеми признанный, а ее онтологизм. Onus probandi10
здесь лежит на С. Франке. Что для Гегеля все сущее
разрешается в мысль, которая определяется как самодвижущееся
понятие, — это бесспорное данное истории философии. Л. М.
Лопатин, научные заслуги которого признает и С. Франк, в своей
Культурное непонимание
255
тонкой критике системы Гегеля говорит: Гегель уничтожил
подобие трансцендентности, еще оставшееся в системе
тождества Шеллинга. «Для него абсолютное только отвлечение
рассудка, вселенная — призрак, выросший из призрака, странная
игра абстрактного понятия с самим собой* *. Что из
античной диалектики усвоил Гегель — это вопрос, и если Гегель
проникнут меоническим пафосом диалектики греческих софистов,
то ему в существе дела чужд онтологический пафос
диалектики Сократа—Платона.
Третья слезинка — неожиданно за Соловьева. Она связана с
мелочью, чрезвычайно характерной. Встретив у меня
выражение «русский Сократ» (Г. Сковорода), «русский Платон» (В.
Соловьев), С. Франк переживает тяжелую эстетическую эмоцию.
Что за безвкусица! — говорит он, — к тому же натяжка.
С. Франк не вовремя эстетичен. Эстетическое оскорбление
его культурным нервам не было бы нанесено, если бы он был
внимателен и... осведомлен. Внимательность перед ним
обнаружила бы, что инкриминируемые выражения поставлены у
меня в кавычках. Кавычки обозначают, что употребляемое в
них слово или цитата (таково обычное значение кавычек), или
не всецелое выражение мысли автора (так употребляют
кавычки многие современные авторы, из которых укажу, напр<и-
мер>, на нашего замечательного современника В. В. Розанова).
Осведомленность же сразу подсказала бы С. Франку, что
«русский Сократ» выражение не мое. Для всех изучающих
Сковороду это своего рода terminus technicus11, ибо, во-первых,
сохранилась молитва Сковороды, просившего для России Сократа,
которым он, по молитве судя, хотел сознать себя **, во-вторых,
статья Хиждеу о Сковороде***, в некотором отношении дол-
* Полож<ительные> задачи философии. Ч. I. С. 242.
* «Отче наш, иже еси на небесех. Скоро ли ниспошлешь нам
Сократа, который бы научил нас наипервее познанию себя, а когда мы
себя познаем, тогда мы сами из себя вывьем науку, которая будет
наша, своя природная. Да святится имя Твое в мысли и помысле
раба Твоего, который замыслил умом и пожелал волею стать
Сократом на Руси».
* Телескоп. 1835. Ч. б12. С. Франк предпочитает сблизить Сковороду
с Д. Бруно или с Спинозой, что совсем неудачно. Очевидно, следуя
очень мало основательной статье г-жи Ефименко «Философ из
народа», С. Франк говорит о совершенно мнимом влиянии Спинозы
на Сковороду, которое не подтверждается ни одним
положительным свидетельством и по духу является совершенно ни на чем не
основанным. Хиждеу в своей интересной (по замыслу) статье и
психологичнее, и документальнее.
256
Β. Φ. ЭРН
женствующая быть признанной первоисточником, построена
на проведении параллели между Сократом и Сковородой,
причем употребляется самое выражение «русский Сократ» *. То,
что могло бы быть безвкусным в моих устах, очень вкусно
звучит в устах Сковороды и Хиждеу, говоривших старинным,
сильным и в то же время наивным языком. Выражение
«русский Платон» ** не вызвало печальных эстетических эмоций в
С. Франке. Но зато он обиделся. Обиделся за Соловьева. «Что
касается до обозначения Соловьева "русским Платоном", то
вряд ли оно совместимо с свободным уважением к этому
великому русскому мыслителю, который сам сознавал
недостаточность теоретического обоснования своей философии и уже на
краю могилы задумал восполнить этот пробел». Я теряюсь.
Как, что, почему? Оттого, что Соловьев жил, развивался, рос —
оскорбительно сопоставлять его с Платоном? Plato scribens
mortuus est15 — говорит древность. И в каждом новом диалоге
Платон восполнял пробел своей философии. Платон весь в
становлении и порыве. При чем же тут «совместимость с
свободным уважением к Соловьеву, который и пр.». С. Франк привел
ту черту, которая сближает В. Соловьева с Платоном, пребывая
в уверенности, что констатировал какую-то существенную
разницу
•к-к-к
Телескоп. 1835. Ч. 6. С. 21.
Это выражение есть также намек. Так, в молитве Сковороды
говорится: «И кто будет по нашем Сократе нашим Платоном?» Из
русских, а может быть, и европейских мыслителей В. Соловьев ближе
всех к Платону по темпераменту. Великолепная статья В.
Соловьева «Жизненная драма Платона»13 написана поистине с лирической
силой, говорящей, насколько личная философская драма Платона
была близка личной философской драме В. Соловьева. Кн. С. Н.
Трубецкой, знаток Платона и близкий друг В. Соловьева,
засвидетельствовал редкую конгениальность этих двух мыслителей в
предисловии ко второму тому «Творений Платона» (с. IV)14.
Кстати, какой смысл имеют многочисленные выписки из Вл.
Соловьева, которыми С. Франк украсил конец своей статьи? Если
С. Франк — не соловьевец, если я могу признать себя соловьевцем
лишь в размере стихотворений Вл. Соловьева, какую логическую
ценность имеют ссылки С. Франка на букву некоторых частных
суждений В. Соловьева, к тому же высказанных в пылу полемики,
к тому же совершенно не обоснованных? P. S. С. Франк
недостаточно обратил внимание на последнее примечание. Философски
оно совершенно достаточно. Оно точно указывает, почему в
приведенных г. Франком цитатах из Соловьева я не нашел никакой
логической убедительности (философ считается прежде всего с
логикой). В Соловьеве — при всей колоссальности его дела и его
Культурное непонимание
257
У С. Франка есть еще целый ряд совсем маленьких слезинок
о Беркли, Юме, Спенсере, Авенариусе и вообще
мнимо-онтологическом «реализме» новой и новейшей философии. Я не имею
возможности, т. е. места, стереть все эти слезинки. Мне
приходится быть кратким до безумия. Во имя этой краткости я
употребляю меру, которая, быть может, своей торжественностью
подействует на С. Франка.
Я клянусь, торжественно клянусь Афродитой-Уранией,
Дианой Эфесской, Аполлоном Музагетом, что уважаю новую
европейскую мысль не меньше, чем С. Л. Франк. И доказываю
это тем, что считаю ее за сильного, могущественного и,
главное, живого своего врага, тогда как С. Франк вписал ее в
каталог объективных и безусловных культурных ценностей, sit
venia verbo17 поставил под стекло в книжный шкаф и сердится,
когда в этом шкафу роются всякие Эрны.
Кончая первую часть ответа, посвященную лично С.
Франку, я не могу не указать С. Франку, что В. С. Соловьев в своих
стихах ничего не говорит о Канте. «Прекрасное стихотворение
Иммануэль», в котором приводятся «известные слова»:
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно, —
ничего общего не имеет с Кантом. Соловьев говорит о себе
(обращаясь во втором лице), а не о Канте. С. Франк введен в
заблуждение заглавием. Но ведь это не имя Канта, а еврейское
«С нами Бог», вошедшее в пророчество Исайи о Деве Марии.
«И нарекут имя Ему Еммануил, что значит с нами Бог» (Ис. 7:
14). Еммануила Исайи С. Франк принял за Иммануила Канта,
личности — необходимо отметить немногочисленные, но
несомненные lapsus'bi. Так, напр<имер>, все, что написал он о Ницше,
читается сейчас с тяжелым чувством. Он, конечно, прекрасно
понимал размеры Ницше и его значительность и тем не менее, говоря о
Ницше, только острил и только высмеивал. Если бы я уподобился
г. Франку и в современном споре о Ницше стал опираться на букву
глубоко несправедливых суждений Вл. Соловьева о Ницше, мне бы
с правом могли указать, что мнение В. Соловьева в данном вопросе
не представляет никакого интереса, ибо продиктовано
смешливым, полемическим настроением и основано на явном невнимании
к Ницше. Мнение Соловьева о ценности философских идей
славянофильства очень похоже на мнение его о * словесности» Ницше.
Оно опровергается тем одним фактом, что в своей теории
познания В. Соловьев явно славянофильствует. О теории познания В.
Соловьева см. мою статью в первом сборнике издат<ельст>ва
«Путь», посвященном В. Соловьеву16.
258
Β. Φ. ЭРН
и это, конечно, забавная, но характерная ошибка*. Но таким
же приблизительно «Иммануилом» является и все понимание
С. Франком высказанных в статье моей мыслей.
II
У меня очень мало места. Я должен быть сжатым
непомерно, потому что на протяжении нескольких страниц мне нужно
выяснить два существенных вопроса.
Первый вопрос о «рациональном» в логизме. «Я стираю
всякое различие между религией и философией; моя скрытая
мысль — что не нужно никакой философии; я советую гордо
замкнуться в национальной русской мысли» — вот ряд
положений, вычитанных С. Франком в моей статье. Но это —
«способ Иммануила»!
Ничего подобного я не говорю. Я говорю как раз обратное и
надивиться не могу искажающей силе схематизации С. Франка.
Я говорю: русская философская мысль, умопостигаемо
занимая среднее место между новою мыслью Запада, находящейся
в неустанном течении и порыве, и мыслью Востока, царящей в
орлиных высотах напряженного созерцания, ознаменована
началом великой встречи этих двух враждебных потоков. Я
постулирую и считаю совершенно неизбежной всестороннюю и
универсальную битву между этими двумя
исконно-враждебными и не могущими ужиться вместе началами. Говоря о битве, о
всестороннем сражении, я, конечно, имею в виду битву чисто
философскую, сражение чисто теоретическое. (Я писал статью
не для детей и потому не подчеркивал столь простых и понят-
* P. S. С. Франк думает, что эта ошибка совсем нехарактерна и
ничего постыдного в себе не заключает. Насчет постыдности говорить
не буду, но на характерности настаиваю. Так не понимать поэзии,
до такой степени перетолковывать совершенно прозрачный смысл
приведенного двустишия — совершенно непозволительно для
культурного философа, каким хочет утверждать себя г. Франк. Ведь
поэзия нежнейший цветок культуры, в поэзии культура находит
свой интимный язык, и тот, кто не владеет этим языком, для того
закрыто самое главное в культуре. Изучить все новые языки и все
древние и не усвоить себе единого и величайшего из языков —
язык поэтов, — это значит остаться очень далеко от истинной
культуры. В данном случае характер непонимания слишком явен и
поразителен. Стихотворение, в котором В. Соловьев с лирической
документальностью исповедует свой логизм, приводится г. Франком
как доказательство близости В. Соловьева к рационализму.
Культурное непонимание
259
ных вещей.) Для того чтобы могла осуществиться битва,
абсолютно необходимо, чтобы ratio и Λόγος встретились лицом к
лицу, чтобы оба врага были налицо, иначе битва никак не
получится. Новая философия Запада Логоса не знает и по
основоположениям своим не может счесть его за философского врага.
Не будучи в состоянии увидеть, осознать врага, западная
философская мысль, естественно, и не может осуществить
постулируемую мною решительную борьбу.
Задачей русской философской мысли, задачей, исторически
обоснованной, я считаю осуществление решительной встречи.
Оба начала, и ratio и Λόγος, русская мысль имеет внутри себя,
имеет не как внешне усвоенное, а как внутренно ее раздирающее.
Безусловное, всестороннее, историческое, внутреннее
изучение новой европейской философии вытекает из моей мысли с
абсолютною категоричностью. Усвоение это — исторический
долг русских философов, ибо решительность и плодотворность
борьбы с ratio прямо пропорционально силе его усвоения. Я
совершенно убежден, что серьезность и категоричность моего
требования — знать мысль Запада — много превосходит
отвлеченное требование. С. Франка из какой-то культурной
вежливости усвоять то, что внутренно нам, может быть, совсем не
нужно. К тому же сознание Логоса в русской философской
мысли совершается под почти непрерывным,
исторически-благодетельным реактивом западноевропейского рационализма, и
в этом втором смысле детальное усвоение всех болей и
противоречий рационализма нам необходимо для того, чтобы
присущий нашей мысли логизм переходил из δυνάμει öv в ενεργεία öv18.
Не поняв мою мысль, исказив ее своими неосторожными
дополнениями, С. Франк в конце концов основывается на по-сво-
ему истолкованном и мне вовсе не принадлежащем
соотношении между «рациональным» и «логичным». Ухватившись за
одну мою мысль (смысл которой я сейчас раскрою), признав ее
за ошибку и моментально обозвав ее крайней «наивностью»,
С. Франк говорит:
«Одно из двух: или ratio действительно может обосновать
онтологизм, и тогда конструкция Эрна несостоятельна; или же
это по существу невозможно, и тогда указанные русские
философы непоследовательны и, стало быть, их попытки с
философской точки зрения совсем не замечательны».
Дилемма, обязательная для С. Франка ввиду произвольно
им понятого отношения между ratio и Λόγος'οΜ, совсем не
обязательна для меня, понимающего отношение это по-иному.
Я постараюсь объясниться, насколько это возможно, под
дамокловым мечом «краткости».
260
Б. Φ. ЭРН
Есть ли ratio нечто такое, чем Λόγος может быть правомерно
восполнен? Есть ли ratio нечто такое, что мыслью,
определяющей себя Λόγος'οΜ, так сказать, пропущено и что поэтому
мыслью, желающей определить себя с безусловной полнотой,
должно быть в себя воспринято?
С. Франк, порабощенный схемой, хочет прописать мне
ограничительное понимание Лоуос'а, будто дискурсивно-логическое
исключено из моей концепции.
Для меня дискурсивно-логическое есть абсолютно
необходимая и невыключимая часть целого Лоуос'а, но именно часть,
а не все целое.
Для меня Λόγος как метафизическое целое разбивается в
человеческом сознании на три аспекта: Λόγος космический,
Λόγος дискурсивно-логический, Λόγος божественный.
Λόγος космический открывается в натуральных религиях, в
искусстве, в неиссякающем и в наши дни бьющем творчестве
поэтов слова, звука, линии, цвета, ритма.
Λόγος небесный открывается в христианской религии в
неиссякающем подвиге титанического существенного
просветления воли (напр<имер>, безмерное по величию явление в
русской истории — св. Серафим Саровский).
Λόγος дискурсивно-логический, подчиненный формально
принципу логической очевидности, материально же связанный
со всеми данными опыта, открывается в философии.
Собственная область философии есть Λόγος дискурсивно-логический, и
по форме философия безусловно подчинена всем нормам
дискурсивно-логического мышления. Для меня поэтому
диалектика есть сама по себе божественное орудие мысли, и искусство
логически опрокинуть противника есть то, что Вяч. Иванов так
удачно назвал «веселым ремеслом и умным веселием». Но по
содержанию философия музыкально и неразрывно связана как
с Λόγος'ом космическим, так и с Λόγος'ом божественным, ибо
задача философии — привести к мысленному единству, т. е.
к единству теоретической мысли, безусловно все данные
человеческого опыта.
Итак, область и задачи философии для меня резко
отмежевываются как от религии, так и от искусства. Жизнь
искусства — в непрерывном творческом созидании того, что весь мир
открыло бы в абсолютном единстве эстетического
переживания; жизнь религии — в непрерывном творческом подвиге того
просветления воли, которое открывает в мире хаоса и зла
абсолютное морально-религиозное единство Добра; жизнь
философии — в непрерывных творческих попытках охватить целое
мира в единстве теоретической мысли.
Культурное непонимание
261
Значит, я принимаю ratio? Нисколько. Для меня ratio не
есть то же, что дискурсивно-логическое. Дерево для своей
жизни нуждается как в корнях, уходящих в землю, так и в листве
и цветах, купающихся в небесной лазури; и гибнет, если ствол
его отделить от корней и ветвей.
Новая философия Запада, определив с самого начала
принципом своего философствования ratio, во имя этого принципа
стала уже с Декарта и Бэкона подрубать как корни живого
дерева человеческой философии, так и ветви. Этот процесс
двойного отрыва (от Земли и от Неба), предопределенный самой
концепцией ratio, проходит исторически этапы все большего
развития и достигает своих вершин в монументальной
философии немецкого идеализма. Гегель окончательно валит дерево,
ток живых и творящих сил прекращается, и гордое здание
европейской философии рушится с катастрофической силой. Вся
дальнейшая философия Европы есть попытка оживить
умершее: пустить новые ростки из уже мертвого ствола. Отсюда
беспримерное падение философии после Гегеля, развитие
схоластики и эпигонства. Шеллинг, сделавший героическую попытку
пустить корни и завоевать небо, — т. е. пытавшийся перевести
весь поток европейской философии в существенно новое русло
(логизма), — был фактически (но не логически) побежден
Гегелем, остался гласом вопиющего и был, так сказать, завален
падением гегельянства.
Итак, ratio для меня — не дискурсивно-логическое в мысли
как таковое, а принципиальный отрыв этого дискурсивно-ло-
гического — из целого разума, и, так как отрыв этот открывает
бездну, — заполнение бездны рядом меонических мифов, из
которых центральные: миф о Природе и миф о человеческом «Я».
Поэтому ratio совершенно чужд Λόγος'у и ни в каком смысле
принят им быть не может. В западноевропейском рационализме
есть бесконечно много поучительного и масса живых моментов,
но как ценность, так и поучительность западноевропейского
рационализма может быть вскрыта и, так сказать, обнаружена
претворением, а не простым усвоением.
То мнимое противоречие, которое видит в моих словах
С. Франк, исчезает.
Русская философская мысль, мною охарактеризованная как
бессильная творить в стихии рационализма, как творящая
только в стихии логизма, — в лице А. Козлова, В. Соловьева, Л.
Лопатина и кн. С. Трубецкого имеет принципиальных и сильных
защитников онтологизма, развивших (особенно Л. М. Лопатин)
по чисто дискурсивному методу убийственную аргументацию
против главных пунктов рационалистической мысли Европы.
262
Β. Φ. ЭРЫ
Вместо того чтобы меня обвинять в уничтожении
философии, лучше бы С. Франк прочел третью главу моей статьи, где
я мотивированно утверждаю, что безусловная
самостоятельность философской мысли может быть признана только в ло-
гизме и совершенно исключается рационализмом. Т. е.
рационализм просто не имеет права говорить об автономии и свободе
человеческой мысли.
Теперь второй вопрос: о культуре.
Мне просто забавно смотреть, как С. Франк чистосердечно
счел себя рыцарем культуры, мною будто поруганной, и
старается, опустив забрало, крепко прижав к сердцу щит, поразить
обидчика своей «Прекрасной Дамы».
С. Франк забывает характер обиды. Дело в том, что я
обижаю не истинную и благородную культуру с тайным, скрытым
Ликом, — я не хочу только безобразную Альдонсу С. Франка
признать за прекрасную Дульцинею. Вина моя только в этом.
Во-первых, Франк искажает меня, говоря обо мне как о
ценителе только национально-русского. Скажу ему, что из мировой
культуры я поклоняюсь древности, Средним векам, поклоняюсь
всей новой культуре Запада в той ее огромной и колоссальной
части, которая не обеспложена рационализмом (сюда я отношу
прежде всего искусство Запада). Мой «ослепленный
национализм», мое вандальство сказывается только в одном: в
философском непризнании западного рационализма.
Во-вторых, — что самое главное — разница между мной и
С. Франком не в том, что С. Франк сторонник культуры, а я
представитель варварства, а в том, что мы разно понимаем куль-
ТУРУ: С. Франк в духе Риккерта, Виндельбанда и прочих
«культурных» философов Запада утверждает культуру как
отвлеченное начало. Понимая ее статически, он считает возможным
проецировать культурные ценности в некую область, «идеже
несть печали и воздыхания» 19. В этой меонической среде
выявляется определенная надвременная цена каждой культурной
ценности. Говоря грубо, Кант, попав в этот умопостигаемый
музей культурных ценностей, оценен С. Франком в
определенную цифру: напр<имер>, в 2000. Если Эрн, забыв совсем о
существовании культурного музея, подходя к Канту как к
живому лицу, оценивает его философски ниже 2-х тысяч, С. Франк,
один из хранителей Музея, приходит в ужас и называет Эрна
уже не философом, а... националистом.
Эта гербаризация живых цветов культуры для меня
абсолютно неприемлема, ибо в таком Музее носится трупный
запах. Тут так безнадежно, что живому человеку дышать нечем.
Культурное непонимание
263
Я бы сказал: тут засушенный Аполлон и нет животворного
Диониса. Не будучи в состоянии развить своих мыслей, я только
укажу на Вяч. Иванова, мыслителя огромной, пленительной
глубины, ослепительного мастера слова, который в наши дни
развил* динамическое понимание культуры как явления,
находящегося в синтетической зависимости от творческой
стихии жизни. Вяч. Иванов дает четкую формулу: «всякая
культура по отношению к стихии (жизни) есть модус по отношению
к субстанции*. Точно говоря о С. Франке, он тонко
высмеивает тех, кто думает, «что культура — рассадник духовных
овощей, уравненные грядки прозаических огородов, и все ручное
и регулярное, и зарегистрированное, и целесообразное на своем
отведенном и огороженном месте, полный реестр так
называемых объективных ценностей и столь же полный инвентарь их
наличных объективации; в общем, скорее дрессура, чем
культура, — хотя уже и самое имя "культура" достаточно сухо и
школьно и по-немецки практично и безвкусно, потому что
отрицает все самопроизвольное и богоданное и утверждает лишь
саженое, посеянное, холеное, подстриженное, выращенное и
привитое» **.
* По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1910.
** С. Франку неясно, какое отношение к нему имеют мои слова о
культуре. Но тут же он приводит доказательство правильности
моих суждений. Он говорит, что, по его глубочайшему убеждению,
европейская культура * воплотила и выявила некоторые вечные
ценности». Я бы спросил С. Франка: в чем воплотила, где
выявила? Другими словами, что из себя представляет та среда, в
которой воплотились и выявились вечные ценности европейской
культуры? Если среда эта эмпирична, она не может вместить вечного.
Ибо все эмпиричное подчинено времени и в этом смысле не вечно.
Для того чтобы ценности культуры могли быть вечными,
необходимо, чтобы среда их выявления и воплощения была
сверхэмпирична, т. е. вневременна. Я и задаю вопрос С. Франку: как он
понимает эту среду, это метафизическое «где» и «в чем» культуры, —
меонически или онтологически! Основываясь на его статье
«Проблема власти», я решительно думаю, что он склонен в этом случае
к меонизму. Ибо он признает бессубъективность, бездушность
междупсихических явлений власти и «призрачность объективного
характера той безличной силы, которая властвует над людьми»
(Фил<ософия> и жизнь. 102 с, 10720). Культура такое же
«междупсихическое» явление, как и власть, и я вправе думать, что С. Франк,
меонически трактуя власть, должен столь же меонически ответить
на более общий вопрос о метафизическом «где» и «в чем»
культуры. В этом еще более убеждает меня то, что С. Франк, формально
защищая в своих статьях онтологизм, нигде не говорит о природе
264
Β. Φ. ЭРЫ
С истинно риккертианским пафосом С. Франк эмфатически
говорит, что я «дерзостно попираю вечные ценности
европейской мысли». Я не привык играть словами. Слово «вечный»,
т. е. абсолютный, я никогда не отнесу к ценностям культуры.
Вечна и абсолютна ценность не культуры, а жизни,
творящей культуру. Культура ценна постольку, поскольку она
созидается Жизнью, ищущей и становящейся. Культура — полный
чудес сателлит жизни, подобный Луне, живущей лишь
Солнцем. Для С. Франка культура είδωλον, для меня — είκώνη23, и я
счел бы себя истинным кумиропоклонником, если б не почитал
того, что иконой культуры лишь знаменуется, что безмерно
больше культуры — без чего культура превращается в
бездушный мертвящий фетиш.
И уж если говорить о дерзостном попирании, то я скажу,
что музейное понимание культуры как отвлеченного начала,
искусственно измышленное кантианством и поддерживаемое
С. Франком, есть самое радикальное отрицание культуры,
какое только возможно. Этот утонченный вандализм гораздо
страшнее всех изуверств над культурой, пережитых миром в
эпоху нашествия варваров.
Варвары с стихийной дикостью убивали тело культуры, но
сами, зачав, породили из себя богатейшую и глубочайшую
культуру Средних веков.
Кантианство, с трансцендентальной готовностью строя музеи-
гробницы для тела культуры и составляя каталоги ценностей,
посягает на душу культуры, ибо принципиально, безжалостно
рвет связи между культурой и творящими недрами
космической Жизни.
<^^s>
как о независимом Сущем. А между тем онтологический ответ на
заданный мною вопрос может быть только один: метафизическое
♦где» и «в чем» культуры есть anima mundi21, т. е. явление
культуры не бессубъектно. Все достижения культуры вечно живы в
живом космическом лоне naturae creatae creantis22. Не признавая
природы как Сущего, С. Франку остается на мой вопрос ответить
меонически. Но меоническая точка зрения мыслима лишь как
трансцендентальная у т. е. как кантовская и кантианская, поэтому
не с полемическими только целями, а и по существу я указываю
С. Франку на зависимость его * культурно философских»
утверждений от кантианства.
^^
Β. Φ. ЭРН
О методе изучения истории философии
Тому, кто захотел бы написать историю русской
философской мысли, придется побеждать немало трудностей.
Трудности эти двоякого рода: общественно-психологические
и философско-методологические.
Тип скитальца, чуждого родной стране, до сих пор жив в
нашей крови. В огромной массе русской интеллигенции,
поставляющей рядовых работников журналистики, науки и
культуры вообще (а рядовое всегда количественно
преобладает), живет постоянная, неискоренимая подозрительность ко
всему своему. Двухвековое ученичество у Запада создало
особую, глубоко залегшую складку в нашей общественной
психологии. Мы заранее, так сказать априорно, до всякого
фактического исследования, склонны отдавать предпочтение всему, что
не наше, преклоняться перед чужим, восхищаться и
увлекаться всем пришедшим издалека. У нас не хватает внимания к
нежным оригинальным и обильным всходам нашей
собственной культуры, и можно смело сказать, нет другой культурной
нации в мире, которая бы так мало сознавала свои духовые
богатства, так мало ценила возможности ей предстоящие, как
Россия.
Русская философская мысль имеет не только гениальных и
талантливых представителей, она в корне, в основной
тенденции свой существенно оригинальна. В целом мировой
философии русская мысль занимает особое место, свойственное ей как
явлению sui generis (своеобразному), как созданию творческого
духа. Но мы до сих пор не имеем ни одной книги по истории
русской философии и очень мало исследований и даже статей,
посвященных отдельным русским мыслителям. Для многих
само соединение слов «русская философия» кажется
странным, потому что они никогда не слыхали, что в России более
266
Β. Φ. ЭРН
столетия существует оригинальная философская мысль. Из
всех русских мыслителей больше всего посчастливилось
Соловьеву. О нем кое-что знают в широкой публике; о нем написано
немало хороших статей; но и ему не посвящено ни одной
монографии, в которой его многогранный гений получил бы
целостное освещение, не искаженное случайностью точки зрения.
Нужно ли говорить, что положение такое ненормально? Нужно
ли говорить, что пренебрежение к своему прошлому и
настоящему, основанное на незнании и невежестве, есть одна из
самых печальных черт нашей общественной психологии?
Кто хочет восстать против традиции малодушного
самопренебрежения и систематического самозабвения, тот встретит
неизбежное равнодушие и неизбежное невнимание. В этом
невнимании, заранее чувствуемом, заранее предусматриваемом, и
состоит общественно-психологическая трудность быть
историком русской философской мысли. Но трудность эта более или
менее легко победима. Предрассудки не должны приниматься
в расчет. Стесняя лишь внешним образом, они не могут
воздействовать на внутреннюю свободу исследования, которое идет
своими путями в полной независимости как от общественной
атмосферы, так и от возможного равнодушия и невнимания.
Гораздо серьезнее трудность вторая — философско-методо-
логическая.
Каким методом пользоваться? Какую общую точку зрения
положить в основу исследования?
История общая не имеет свой методологии. Ее только что
хотят или хотели бы иметь, и нет до сих пор ни одной
философии, которая бы осмыслила и сделала возможной ту теорию
исторического познания, которой бессознательно пользуются
все историки и осознать которую до сих пор не могут ни
историки, ни философы. Теория познания Канта, несмотря на всю
противоречивость свою царящая в современной философии,
является грандиозной попыткой философского обоснования
естественнонаучного познания. Проблему же исторического
познания она игнорирует и не может не игнорировать, ибо с
точки зрения кантовской философии историческое познание по
существу невозможно. Познание естественнонаучное есть для
Канта продукт приложения категорий и правил рассудка к
сырому материалу ощущения. Что соответствует этому в
историческом познании? Какой сырой материал ощущений может
быть констатирован нами в наших представлениях о Цезаре
или Рамзесе Великом? Применением каких общих категорий
мы можем прийти к познанию неповторимой и единственной,
О методе изучения истории философии
267
не данной нам ни в каком теперешнем нашем опыте личности
Петра Великого, Сократа или Франциска Ассизского? Или
познание это невозможно (но ведь оно есть, в таком же смысле,
как есть естественнонаучное познание), или же возможность
его обоснования должна быть связана с философией,
принципиально отличной от философии Канта. Виндельбанд и за ним
Риккерт подходят к этой проблеме, оставаясь в узких пределах
теории познания Канта. Вот отчего весь результат их
рассуждений сводится к формулировке различия между науками номо-
тетическими и науками идиографическими, но они не дают и
по общему смыслу своих воззрений не в силах дать
положительного обоснования философской возможности идиографи-
ческого, т. е. исторического познания.
В мою задачу сейчас не входит развивать свои взгляды на
теорию исторического познания. Сказанным я лишь отмечаю,
что до сих пор нет сколько-нибудь разработанной теории
исторического познания. А так как сознательная методология,
строго соответствующая духу и своеобразию исторической
науки, может вырасти лишь на почве уже созданной теории
исторического познания, то в исследовании характера и значения
русской философской мысли нельзя руководиться
какой-нибудь готовой методологией. Химик или физик, приступая к
какому-нибудь частному анализу, должен подчиняться строго
определенным методам. Таких методов у нас нет — это мы
должны сказать, если хотим быть философски искренними.
Мы сами должны создать руководящую точку зрения, т. е. тот
общий метод, с помощью которого будем разрабатывать все
относящиеся к нам материалы.
Эта руководящая точка зрения есть у каждого историка.
Отсюда неизбежный субъективизм всякого исторического
исследования. Одни сознательно, другие бессознательно
скрывают свои общие точки зрения. Но от этого субъективизм только
увеличивается. Ибо вместо общего субъективного освещения
мы тогда получаем искаженное восприятие и в искаженном
восприятии уже субъективно истолкованными те элементы, те
сырые и мелкие факты, из которых создаются более общие
картины исторического воспроизведения. Отсутствие общей
точки зрения всегда мнимо и потому гораздо боле опасно, чем
наличность самых субъективных, но сознательно высказанных
общих принципов исследования.
Материалы становятся материалами только при наличии
какой-нибудь точки зрения. И при абсолютном отсутствии
точки зрения понятие материала не может быть в таком же стро-
268
Β. Φ. ЭРН
гом и абсолютном смысле, как не может быть цвета при
абсолютном отсутствии глаз. Эта точка зрения, разная у разных
историков, предваряя всякое изучение и будучи неизбежным
условием данности исторического материала, не может быть ни
доказана самим этим материалом, ни отвергнута. Ее
доказательность во внутренней ее силе, в философской ее правде и
объективности; в этом смысле нет и не может быть такого
исторического исследования, которое было бы внешне обязательно
для всех в своих результатах. И слепы, философски
неотчетливы те историки, которые так называемым документальным
исследованием хотят установить или отвергнуть какие-нибудь
метафизические или религиозные факты. Кому эти факты
внутренне даны, тот видит их и в лежащем перед ним сыром
материале. Кому они не даны, тот их не видит. Нужно бросить
раз и навсегда наивные препирательства в плане так
называемого документального исследования и понять, что глаза разно-
устроенные неизбежно будут разно видеть и то, что для
одного — самый настоящий факт, для другого — самый настоящий
не факт. Как для глаза, не вооруженного микроскопом, не факт
то, что является самым позитивным и самым объективно
данным фактом для глаза, вооруженного микроскопом, так точно
историк, лишенный, например, эстетической
проницательности, при нахождении какой-нибудь вазы или обломка древнего
бога совершенно не в состоянии увидеть те факты эстетической
одаренности или бездарности, примитивности или высокой
развитости, о которых прямо говорят эти остатки историку
эстетически проницательному. У кого же субъективизма
больше? Конечно, у историка эстетически непроницательного, ибо
действительность является ему в более обедненном виде, чем
историку эстетически проницательному, ибо он лишен органов
восприятия того, что фактически дано не менее реально, чем
микроскопические подробности, видимые вооруженным и
невидимые невооруженным глазом.
Итак, метафизические или религиозные факты даны
внутренне, а не внешне. Это не они извлекаются из материала
истории, а материал принимает ту или другую форму в
зависимости от той или иной данности этих фактов. Не данности этих
фактов быть не может. Они всегда даны, даны всем, только в
различной форме. Точка зрения сознательная или
бессознательная, обязательно присущая каждому историку, непременно
заключает в себе скрытую или явную, откровенную или
лицемерную метафизику и ту или иную систему верований. Момм-
зен верит в цезаризм — это одновременно и политическая докт-
О методе изучения истории философии
269
рина, и верование; Белох верит в примат экономики; Бокль
или Гизо в прогресс. Если мы возьмем такого глубоко
талантливого и всесторонне одаренного историка, как В. О. Ключевский,
местами производящего впечатление гениальности, мы найдем
у него целую систему связных социологических и философско-
исторических утверждений, положенных в основу изложения
и неприемлемых для историков другого социологического
направления или других философско-исторических взглядов.
Говоря о коренной субъективности метода, я
принципиально отличаю от него технику исторического исследования,
которая, включая в себя субъективные моменты (например,
суждения о достоверности тех или иных сообщений), носит в общем
характер сравнительной объективности. Такие правила, как в
исследовании должен быть использован весь доступный
материал, или: каждое утверждение и историка должно находиться
в согласии с удостоверенными материалами, или: излагая
чье-нибудь воззрение, историк все время должен опираться на
подлинный текст, — эти элементарные правила относятся к
технике исследования, обязательной для всех, и при самом
строжайшем выполнении всех технических правил исследования
вопрос о методе остается совершенно открытым.
Общая точка зрения, таким образом, во всяком
историческом исследовании внеисторична, т. е. вненаучна.
Отождествляя метод с общей точки зрения, я следую
смыслу греческого слова μέθοδος. Это слово значит: в сопутствии
каких идей нужно рассматривать материал, какая общая
мысль должна освещать тьму и хаос сырых данных. От
освещения и от точки зрения зависит тот вид, в котором предстанет
перед историком сырье документов, а этот вид определит
способ дальнейшей обработки. Метод поэтому есть детализация
общей точки зрения и конкретное осуществление на
материалах тех способов виденья, которые уже потенциально вложены
в саму точку зрения. Так, самые строгие методы
естествознания суть детализация общей механической точки зрения, и
как, с одной стороны, лишаются смысла вне этой точки
зрения, так, с другой стороны, будучи лишь развитием этой точки
зрения, неизбежно дают результаты, во всех частях ею
предопределенные.
Итак, обрисовать метод — это все равно, что обрисовать
общую точку зрения.
^^
Β. Φ. ЭРН
Сковорода и последующая русская мысль
(«Заключение» книги «Григорий Саввич Сковорода.
Жизнь и учение»)
Природность Сковороды, его глубокая и благочестивая
верность своей натуре украсила его духовный облик не только
чертами творческой оригинальности и подлинного
своеобразия, но и сделала его родоначальником русской философской
мысли, духовным зачинателем и основоположником всех
крупных последующих умственных течений в русском обществе.
Обыкновенно производят русскую мысль из немецких
источников. Начало русской мысли видят в славянофилах,
которых ставят в прямую зависимость от немецкой
«романтической философии». Мы теперь видим, насколько поверхностен
этот взгляд. Русская философская мысль имеет свою туземную
подпочву, которая находится в прямом соприкосновении с
логистической философией Отцов Церкви и почти никакого
отношения не имеет к рационалистической философии новой Европы.
Своеобразная русская философия в лице Сковороды выступила
на свет Божий за много десятилетий до рождения
романтической философии в Германии и на несколько лет предшествует
пробуждению Канта из «догматического сна». В дальнейшем
русская мысль вступила в плодотворное взаимодействие с
западной мыслью, под ее реактивом глубже и все бездоннее стала
сознавать духовные сокровища своего народа и своей веры, но
в этом взаимодействии она была уже самостоятельным членом
отношения, явлением sui generis, зародившимся творчески и
самостоятельно на русской почве.
Что Сковорода не был случайным явлением в истории
русской мысли, каким-то умопостигаемым ее анекдотом, ни с чем
не связанным и ни к чему не приведшим, показывает
замечательный и бесспорный факт глубокого духовного сродства
между Сковородой и дальнейшей русской мыслью и
постоянного их идеального совпадения. То, что Сковорода не стоит в
эмпирической связи с последующей русской мыслью, только силь-
Сковорода и последующая русская мысль
271
нее это подчеркивает. Мне уже приходилось указывать*, что
русские мыслители, разделенные эпохами и незнанием друг
друга, перекликаются между собой. На примере Сковороды
этот тезис подтверждается с полной наглядностью.
Разъяснение этого пункта будет лучшим заключением к нашему
исследованию жизни и мировоззрения Сковороды.
Сковорода — это та природная национальная стихия,
свойствами которой обусловлено произрастание божественных
семян Логоса, оплодотворяющего нашу народную душу. Ряд
великих святых, идущих в глубь веков, свидетельствует о силе и
обширности божественных посевов. Участвует и родит в них
сама народная душа. В Сковороде наступает некоторый новый
момент. Прдпочвенная таинственная сила православной
святыни дает в нем первый росток, обращенный к миру,
направленный на текущий поток истории. Впервые в России
пробуждается разум философский как отдельная способность, вызываемая
к жизни усложнением условий и нашего национального бытия,
и необычайной, все растущей сложностью истории всемирной.
Пришли времена, когда философия становится силой, и
чрезвычайно важно для жизни народа, какой силой станет в нем
разум философский, — хаотизирующей или организующей,
направленной против святыни народной или по-рыцарски ей
служащей. Что разум новой Европы определил себя
рационалистически, т. е. враждебно к мистическому началу, которым
жила и потаенно продолжает жить Европа, — об этом мы
говорили уже в «Введении». В лице Сковороды происходит
рождение философского разума в России; и в этом первом лепете
звучат новые, незнакомые Европе ноты, объявляется
определенная вражда рационализму, закладываются основы
совершенно иного самоопределения философского разума.
Значение Сковороды как родоначальника русской
философской мысли не только огромно, но и показательно. В
Сковороде проводится божественным плугом первая борозда,
поднимается в первый раз дикий и вольный русский чернозем. И в этом
черноземе, в этой земляной народной природе Сковороды мы с
удивлением видим основные черты, характеризующие всю
последующую русскую мысль. После него восстает ряд великих,
гениальных творцов русской мысли. Его «примитивное»
мировоззрение почти во всех частях (за исключением его мыслей о
Библии) перерастается, разрывается по всем швам, и все же,
* В статье «Нечто о Логосе, русской философии и научности». См.
сборник «Борьба за Логос».
272
Β. Φ. ЭРН
как ни замечательны эти новые претворения, как ни далеко
уходят новые достижения, — в них почти в полном виде можно
констатировать субстанцию Сковородиной мысли и Сковороди-
ной душевной природы. Сковорода умирает в истории русской
мысли лишь на мгновение, целое его мысли дробится лишь для
того, чтобы ожить в новой силе и подняться в новые, более
высокие культурные измерения.
Основная черта глубокого духовного родства между
Сковородой и последующей русской мыслью есть странничество.
Страннический посох, столь серьезно взятый Сковородой и уже
им не выпускаемый на продолжении 28 лет, до самой смерти,
есть подлинный символ всей русской мысли,
ознаменовывающий самую благородную и самую глубокую ее черту. У нас
есть странники в полном внешнем смысле этого слова. Пече-
рин, жизнь которого увлекательно рассказана М. О. Гершензо-
ном, оставляет науку, друзей, родину в расцвете своей богато
одаренной природы и без всякой заботы о хлебе насущном
пускается в безоглядное странствие по Западу в поисках своего
идеала. Декадентский поэт Добролюбов, выпустив книжку
стихов, вдруг на наших глазах исчезает в безмерных далях России
и вновь появляется на горизонте, уже опрощенный до степени
первобытного русского странника. Толстой, 73-летний старик,
к удивлению всего культурного мира, уже отвыкшего от таких
явлений, неожиданно уходит из дома и замышляет также
пропасть в родимых и смиренных пространствах. Но эти яркие
примеры странничества внешнего отступают на второй план
перед огромным фактом странничества внутреннего, которым
проникнута вся творческая русская мысль. Тревожность
мысли Гоголя, Соловьева и особенно Достоевского —
непревзойденной вершины нашего самосознания — совершенно нова для
современной Европы. Эта специфически русская тревога в своих
высших явлениях ощущает с силою исторический лёт
времени, эпох, сознает страннический, переходный и преходящий
характер всей земли, всего мира и начинает чувствовать
Апокалипсис как живую книгу Истории, которая перелистывается
на наших глазах. Сковорода первый снимается с насиженных
мест новоевропейской истории, первый устремляется в
будущее, первый исходит из Египта материальной механической
цивилизации и отдается поискам Нового, Вечного,
Непреходящего.
Из этой основы вытекают и все другие черты духовного
родства между Сковородой и последующей русской мыслью. Их
очень много. Я скажу только о главных и коренных.
Сковорода и последующая русская мысль
273
Взяв посох, Сковорода странствует не только по Украине и
Малороссии. Его страждущий дух странствует по всей
Вселенной, по всей совокупности бытия, в поисках непоколебимого
Камня, истинной «Петры» умопостигаемого
покоя—«сладчайшего муста1 Вечности». В лице Сковороды русская мысль
делает какой-то значительный поворот, принимает некоторое
основополагающее решение, берет направление, которого более
уже не покидает.
Новоевропейская мысль, все более рационализирующаяся, с
неизбежностью подчиняется во всех моментах своих категории
внешности. Все становится чистым объектом. Сам субъект,
отрываясь от вселенского бытия, разрешается в недоступный
предмет познания, в серию внешних для познающего разума
определений. Начиная с Д. Бруно, новая европейская мысль
все «внутреннее» в мировоззрении античном и средневековом
выворачивает во внешнее. Интимную, религиозную и
поэтическую бесконечность средневековых небес Д. Бруно мятежным
порывом превращает в дурную и мертвую бесконечность
мировых пространств. Цельную, божественно полную
бесконечность человеческого духа рационализм новой Европы уродливо
искажает в частную, раздробленную, оторванную от человека и
потому внешнюю для него бесконечность одного рассудка и в
конце концов одних только мертвенных и пустых рассудочных
форм.
Сковорода решительно становится на точку зрения прямо
противоположную: он всю ценность придает только
«внутреннему» и обесценивает абсолютно все «внешнее». Исторический
вывих мысли, характеризующий переход от Средних веков к
Новому времени, Сковорода пытается вправить, — по крайней
мере, делает в этом направлении замечательную попытку.
И дальнейшая русская мысль остается упорно верной этому
основополагающему решению Сковороды.
Интериоризм мысли Сковороды в противоположность
неизбежному экстериоризму новоевропейского рационализма
находит принципиальное выражение прежде всего в его
символизме. И этот символизм становится одним из самых глубоких
принципов русской мысли. Цельное поэтическое
мировоззрение, полное откровений и постижений, с гениальностью
возводится Тютчевым на принципе чисто символическом. К стихам
Тютчева, обличившим невидимый мир метафизической
реальности в самые напряженные моменты своей мысли, прибегает
Достоевский не только как к любимым цитатам, а как к неким
мистическим формулам, как к уже воплощенному слову и ело-
274
Б. Φ. ЭРН
ву священному. В минуты настоящих видений Соловьев, когда
в нем немотствовал («как идиот») схематический разум
«внешности», весь покоряется принципу символическому и может
выразить свои мистико-поэтические прозрения лишь в слове
художественном. В эстетико-философских статьях Вяч.
Иванова этот исконный символизм находит достойного теоретика и
ставится в связь с реалистическим, существенным символизмом
Средних веков (Данте) и с мистическим символизмом
древнегреческого мифа. Этот ряд глубоких творческих трансформаций
символического принципа бесконечно далеко уходит от
Сковороды. И все же Сковорода первый сделал решительный шаг и
первый в Новое время вернул символу серьезное значение.
Символизм Сковороды, как мы показали, логически
вытекает из его антропологизма. Антропологизм есть истинный
корень символизма. Человек есть центр и малое «всё» мира. Все
разгадки и загадки в человеке. Отсюда вытекает задача
внутреннего, метафизического изучения человека. Эта задача с
непревзойденною гениальностью разрешается в русской
художественной литературе и достигает мировых вселенских вершин
в творчестве Достоевского и Толстого. Здесь тот узел, которым
неразрывно и навсегда связана русская мысль с
художественным творчеством. Это вечная и благодатная спайка разума
поэтического и разума философского в русской мысли.
Рационализм в разрыве с разумом поэтическим привел к созданию тех
отвлеченных дисциплин, которые называются
экспериментальной и всяческой другой «психологией». Логизм, как
внутренне проникнутый принципом символическим, обуславливает
в русской мысли поразительный расцвет
художественно-философского испытывания глубин и метафизических свойств
человеческой души. И тут опять мы видим глубокое родство со
Сковородой. В своей антропологии Сковорода отчетливо отделяет
человека эмпирического от человека умопостигаемого и в
исследовании и овладении последним видит высшую и главную
цель своей философии. Что же как не ослепительное блистание
этого умопостигаемого человека в трагической тьме грешной,
преступной жизни запечатлевает высшей духовной красотой
творения Достоевского? Что же как не это возносит его
пламенный антропологизм на всемирно-историческую высоту?
Черты духовного родства между Сковородой и последующей
русской мыслью идут еще дальше. Сковорода первый в новой
философии заговаривает о «целом человеке», о том целостном
духе, в котором отдельные эмпирические стороны душевной
жизни (чувства, воля, разум) ставятся в гармоническую связь с
Сковорода и последующая русская мысль
275
ноуменальным единством и с метафизическими свойствами
человеческой личности. В поисках этой всем духом возжажданной
целостности Сковорода в морали приходит к глубокому
формулированию принципа сродности. Весь пафос славянофилов, все
их богословские, философские и политические идеи
сознательно подчиняются двум верховным принципам: принципу
целостности духа и принципу сродности. Первый принцип с
особенной силой вдохновляет Киреевского, второй — Хомякова. Все
дело славянофилов есть не что иное, как грандиозное
применение ко всему русскому народу, ко всей русской истории того
самого принципа сродности, который с таким сократическим
упорством Сковорода прилагал в сфере индивидуальной по
отношению к себе самому и ко всем, кто с ним приходил в
соприкосновение. Мы имеем и промежуточные звенья. Так, в сочинении
«Ольга Православная», вышедшем из-под пера какого-нибудь
ученика Сковороды, приводится такая молитва Сковороды:
«Отче наш, иже еси на небесех. Скоро ли ниспошлешь нам
Сократа, который бы научил нас познанию себя, а когда мы себя
познаем, тогда мы сами из себя вывьем науку, которая будет
наша, природная» *. «Наша, природная наука», т. е. наше,
отвечающее глубочайшим чертам народного духа самосознание,
было заветной и священной мечтой славянофильства. Кроме того,
статья Хиждеу о Сковороде, напечатанная в 1835 году, по
своему тону, воодушевлению и идеям явно упреждает
славянофильство2. Это показывает, между прочим, насколько
славянофильство было явлением кровно русским и насколько зависимость
его от немецкой романтической философии носит характер
вторичный и периферический. Тайным отцом
славянофильства был Сковорода.
С принципом целостности, выставленным Сковородой,
связана в русской мысли глубокая черта пренебрежительного
отношения к кабинетному, отвлеченному знанию и постоянный
протест против идола научности. В этом одинаково сходятся
славянофильство, Соловьев и Толстой. Великий протест
Толстого против «научничества» есть прямое продолжение мыслей
Сковороды. Идея цельного знания обусловливает у Соловьева
великолепную критику отвлеченных начал. Философская
критика гегельянства и в лице его всякого рационализма и у
славянофилов положительной своей основой имеет живую
интуицию целостного духа. Но первым сознательным глашатаем и
философом целостности был Сковорода. Характерно, что мож-
* Телескоп. 1835. Ч. 76.
276
Β. Φ. ЭРН
но констатировать совпадение и в деталях (впрочем,
чрезвычайно существенных). Так, учение Сковороды о сердце как
центре и целостном начале душевной жизни повторяется Юр-
кевичем и становится у него основой первой в России глубокой
критики Канта, повлиявшей на Соловьева, а через Соловьева
отразившейся и на Л. М. Лопатине. И тут опять мы видим
органический рост и плодотворное развитие тех самых идей,
первые ростки которых находим у Сковороды.
Наконец, укажу еще на одну черту, менее показуемую, но
зато более важную. Мы видели, что Сковорода в высших
моментах своего философского созерцания заговаривал о
женственной сущности мира, о таинственном отношении его к Деве,
превосходящей разум премудрых. Это прозрение есть
глубочайшая основа новой чисто русской метафизики. В высших
моментах своего творчества Достоевский загадочно заговаривает о
том же. Марья Тимофеевна в «Бесах» «по-наивному»
рассказывает: «Богородица что есть, как мнишь?» «Великая мать, —
отвечаю, — упование рода человеческого». — «Так, — говорит, —
Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том
для человека заключается радость» 3. Соловьева можно назвать
философом вечной женственности, до такой степени
мистическое содержание «Трех свиданий» лежит в основе всего
философского дела и есть скрытый фундамент не только его эротики,
эстетики и поэзии, но и гносеологии, метафизики и
катастрофических «Трех разговоров» *.
О кровной связи всего многочастного целого русской мысли
со Сковородой свидетельствует и тот замечательный факт, что
не только высшее моменты мысли Сковороды имеют свое
продолжение в дальнейшей истории, но и низшие. Его гностицизм
возрождается у Соловьева; его близорукость в понимании
сущности зла расцветает теократическим искушением, которое с
такою властью чаровало мысль Соловьева до конца 90-х годов.
Бессознательное отталкивание Сковороды от Церкви, стоящее
в противоречии с высшим разумом его же собственного
мировоззрения, повторяется в невысказанной трагедии жизни
Толстого. Этот великий гений внутренне надламывается от того же
самого, что удерживало Сковороду от высшего высветления и
не давало ему окончательно вспыхнуть и загореться
вселенским светом.
* См. об этом мою статью «Гносеология В. С. Соловьева» в первом
сборнике издательства «Путь».
Сковорода и последующая русская мысль
277
Сопоставления можно было бы умножить. Но для всякого
беспристрастного читателя уже должна стать ясной вся
значительность жизненного дела и мысли Сковороды.
Сковорода стоит у самого порога русской мысли. Он первый
и творчески начинает то, что потом гениально растет,
множится и цветет. Блеск и величие последующего нимало не должны
заслонять его скромную, но героическую фигуру и отнимать у
него хоть частицу славы и признания, которые ему подобают.
Сковорода имеет специфическую прелесть примитива, чары
соединения гениальности с наивной и целомудренной
скованностью культурных форм, и эта прелесть, как неповторимая,
навсегда останется за ним.
^^©
—е^э
С. И. ГЕССЕН, Ф. А. СТЕПУН
От редакции
(Цели журнала «Логос» и задачи
современной русской философии)
Безусловно независимая и в себе уверенная
деятельность человеческого ума есть
собственная стихия философии. Невозможно
произвести чего-нибудь истинно великого в какой бы
то ни было сфере человеческой деятельности,
если нет полной уверенности, что именно эта
сфера есть самая важная и достойная, что
деятельность в ней имеет самостоятельное и
бесконечное значение.
Владимир Соловьев1
I
СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ РАСПАД
И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Впервые проснувшись к самостоятельной жизни, русская
философская мысль в лице романтиков славянофилов жадно
устремилась навстречу всеобъемлющему, все стороны жизни
и мысли охватывающему синтезу. Это стремление, казалось,
столь роднило ее с духом всякой подлинной философии, с
неустанным стремлением ее к завершению и системе. Но,
сознательно стремясь к синтезу, русская мысль бессознательно
двигалась в направлении к хаосу и, сама хаотичная, ввергала в
него, поскольку ею владела, и всю остальную культуру России.
Причина этой трагической подмены коренилась, а быть может,
и все еще коренится в том основном факте, что мысль наша
никогда не была вполне свободною и вполне автономною. Основ-
От редакции
279
ные принципы русской философии никогда не выковывались
на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались
в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр
внутренних переживаний.
Лишь частным случаем этого общего правила является и
основное заблуждение славянофильской
школы. Свое всеобъемлющее единство она тоже не создала
как принцип в процессе теоретического мышления, а просто
вскрыла как основной факт внутренней жизни. Но единство
как данность внутренней жизни есть нечто совершенно иное,
чем единство как заданность теоретической мысли.
В первом случае оно есть темный иррациональный корень,
единящий всю полноту наших переживаний. Во втором случае
оно есть кристально-ясная сфера рационального объединения
всех мотивов общекультурного и в особенности философского
творчества.
Делая единство жизни критерием подлинной философской
работы, славянофильство роковым образом приходило к
слишком скорому приятию синтеза, к подмене единства заданного
уже готовым единствам. Но, двигаясь по линии этой подмены,
славянофильство неминуемо должно было двигаться и к
отрицанию бесконечной прогрессивности истории во всех областях
культуры.
Не давая этим областям, так сказать, до конца вызреть в
процессе свободного развития, оно глушило их
преждевременным вовлечением во всеобъемлющее единство, превращая тем
самым глубоко-значительный принцип синтеза из свободного
союза, основанного на всестороннем признании отдельных
областей культуры во всей их многообразной особенности, в
мрачную деспотию взаимно порабощенных сторон духа, в деспотию
озлобленных и завистливых рабов. Так, призванная по всему
существу своему к разграничению и освобождению отдельных
областей культуры и духа, философия являлась в лагерь
русских романтиков началом насилующим и порабощающим. Но
так оно и должно было быть: освобождают только свободные.
Порабощенные мстят порабощением. А философия
славянофильства была, как мы видели, всецело пленена жизнью. У нее
заимствовала она свое основное понятие иррационального
единства. Ей она должна была служить. От нее требовали не
самостоятельного рационального творчества, а лишь рацио-
280
С. Я. ГЕССЕН, Ф. А. СТЕПУ H
нальной санкции господства иррационального. Так снова
становилась она, достойная хранительница высшей правды, в
зависимое положение средневековой прислужницы.
Владимир Соловьев наиболее ярко воплотил в
своем творчестве это основное противоречие истории русской
мысли. Никто отчетливее его не сознавал значения автономии и
бескорыстия философии «как уверенной в себе деятельности
ума человеческого». Никто яснее его не видел философской
бесплодности славянофильского погружения в хаос и
необходимости прихода к подлинному зрячему синтезу, никто глубже
его не понимал причин отсутствия в России истинной
философии и никто не произносил более убедительных слов в защиту
свободной философской мысли, а тем самым и в защиту
освобождения всей культуры от одностороннего господства
сменяющихся направлений. Но преодолев, таким образом, сознанием
своим все главные противоречия славянофильской романтики,
Владимир Соловьев всем бессознательным творчеством своим
остался до конца погруженным во внутренние путы этой
школы. Органическое, так сказать, славянофильство Соловьева
сказывается в неубедительности и несостоятельности его
философской концепции, неубедительности, коренящейся в том
факте, что для Соловьева, так же как и для славянофильства,
сфера рационального мышления совершенно не является в
конце концов сферой подлинного творчества. Творчество
Соловьева всецело уходит в темные корни его иррациональных
переживаний. Его же рациональные построения носят отнюдь не
творческий, а лишь пассивно повествовательный характер. Sub
specie ценности теоретической истины Владимир Соловьев едва
ли создал нечто новое и значительное. Его система бесконечно
важна лишь как условная транскрипция или сигнализация
новой полноты и глубины переживаний. Как прозрачны и ясны
ни казались бы основные понятия философской системы
Соловьева по сравнению с теоретическими положениями его
предшественников, примат жизни и подвластность теоретической
мысли остаются все же главными признаками ее.
Но если более философское мистическое течение русской
мысли, даже в лице таких своих представителей, как
Соловьев, ясно сознавших задачи философии и независимый характер
ее, не смогло положить начала прочной философской
традиции, то в еще большей степени то же можно сказать о пози·
тивистическом течении русской мысли,
От редакции
281
относившемся к философии большей частью не только
скептически, но прямо-таки нигилистически. Тут не только не было
сознания автономии философии, но даже прямо
провозглашалась необходимость подчинения ее иным, главным образом,
этическим и политическим ценностям.
Правда, требования эти почти всегда облекались в форму
научных истин, так что могло казаться, что лишь чистое знание
являлось единственною целью наших позитивистов. Но это
формальное признание автономной мысли только прикрывало еще
больше полное порабощение ею. Под знаком этого признания
от философии требовали не только служения иным ценностям,
но и теоретического оправдания чужого господства. Основное
противоречие русской мысли — противоречие сознаваемой
цели и подсознательного тяготения, — породившее у наших
мистиков полную невозможность прийти к зрячему синтезу,
воскресало, таким образом, в противоположном лагере в
противоречии провозглашавшегося абсолютного господства разума и
фактического пленения его посторонними истине мотивами.
Пытавшийся примирить это противоречие Михайловский своим
понятием двуединой правды только закрепил его. Основному
противоречию нашего позитивизма он только придал
рациональную формулировку, аналогичную той, в которой
Владимир Соловьев рационально закрепил основное противоречие
нашего мистического течения. Быть может, эта смена
односторонних направлений, из которых каждое притязало на
исключительное господство, имела не с философской, а с
общекультурной точки зрения большой внутренний смысл и нередко
приносила благие результаты. С каждым новым
направлением выдвигался какой-нибудь новый элемент культуры,
который, встречая обыкновенно на девственной почве нашей
безусловное сопротивление и непонимание, дорастал, однако, в
этой борьбе до полного своего значения и более или менее
общего признания. Но какой бы смысл ни имело это
непостоянство направлений и легкость забвения в иных отношениях, для
философии с ее стремлением к полному синтезу такая смена
господствующих направлений могла всегда означать только
постоянное рабство при вечной смене рабов и владык: кроме
самих себя, т. е. представленных ими культурных мотивов,
направления эти ничего ценного в философском отношении дать
не могли, философски они оставались бесплодными.
Современный культурный распад означает
не столько сознание неправильности требований, предъявляв-
282
С.И.ГЕССЕН, Φ. А. СТЕПУ H
мых к философии со стороны разных направлений и
нарушающих ее автономию, сколько отсутствие какого бы то ни было
ясного и неглубокого направления. Но в этой пустоте налично-
стей чуется наличность каких-то возможностей. Наше время
снова волнуется жаждою синтеза. Это великая надежда наша,
но это и грозящая нам опасность. Острее, чем когда-либо, надо
нам помнить, что на страже русского синтеза раз навсегда
поставлен темною волей судьбы темный и иррациональный хаос.
Надо помнить, что за поспешным приятием скороспелого
синтеза неминуемо последует, а отчасти уже и последовало, еще
большее разочарование в философии, в науке и вообще в
бесконечном значении какой бы то ни было культурной
деятельности. Смутную, но несомненно подлинную потребность в синтезе
и системе, столь живо ощущаемую ныне всеми, нам надо
заботливо направить по могучему и широкому руслу мировой
культуры. Философия как рациональное знание, ведущее к научно
доступному единству, может и должна сыграть в этом
отношении далеко не последнюю роль. Но для этого прежде всего
необходимо сознать культурное и освобождающее значение ее.
Философия прежде всего учит, что синтез
должен быть целью, а не исходным пунктом культурных
исканий. Первозданное единство иррациональных переживаний
превращает она в идею единой научной системы. Она
разграничивает многообразные области культуры, ставит пределы их
требованиям и запросам, указывает каждой ее особое место и
делает тем самым каждую вполне свободной в пределах ею же
осознанных границ. Так противополагает она слепому синтезу,
основанному на рабстве то тех, то иных областей духа, их
свободный и прочный союз. Эта мысль глубокой связи между
понятием границы и свободы составляет одну из наиболее
важных в культурном отношении мыслей критицизма, а потому
она должна неминуемо стать неотъемлемым достоянием всей
послекантовской философии. Чрезмерным притязаниям в
течение долгого времени порабощенных мотивов, разного рода
духовным протестам и следующим за ними духовным реакциям,
постоянному приливу и отливу враждебных, борющихся друг с
другом сил — необходимо противопоставить идеал основанной
на взаимном признании полноты культуры. Надо понять, что
как культурное государство не может существовать без
внутренней свободы своих граждан, так и подлинный философский
синтез должен неминуемо требовать полной свободы развития
всех тех отдельных мотивов, которые лишь в совокупности со-
От редакции
283
ставляют лик подлинной культуры. Но для того чтобы
философия могла занять в отношении культуры это единственное
соответствующее ей положение, разграничивающее и
освобождающее силы, нужно прежде всего сознать то особое положение,
которое она сама занимает в системе культурных ценностей.
Надо бескорыстно предоставить ей полную свободу
саморазвития и самоопределения, ибо философия — нежнейший цветок
научного духа, и она особенно нуждается в сознании
бескорыстности ее задач. Лишь по выполнении этих условий сможет она
стать самостоятельным фактором культуры и выполнить
возлагаемую на нее роль. Удовлетворяет ли, однако, современная
философия подобным требованиям? В состоянии ли она
оправдать возлагаемые на нее надежды?
II
СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ РАСПАД
И ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЦИЗМА
Мы переживаем теперь, по-видимому, эпоху не только
общекультурного, но, в частности, и философского
распада. И притом не только в России, но и на Западе. Жалобы
на эпигонский характер современной философии,
александрийское настроение безысходности и тоски по новому,
сильному, жажда порыва и системы сменяются скептицизмом,
разочарованием в философии, как в абсолютном, рациональном
знании, сомнением в возможности синтеза и системы. Все
более и более распространяющийся прагматизм является
философским выражением этого настроения неудовлетворенности и
сомнения в силе рационального мышления; он явно
провозглашает конечное и подчиненное значение философского знания,
призывая к темному хаосу первичных и субъективнейших
переживаний. Кажущаяся смелость его выступлений не в
состоянии скрыть подлинной сути питающего его настроения,
настроения отчаяния и тоски. Он является протестом, реакцией
против эпигонства современной философии, которая, забывая
запросы живой, конкретной личности, удовлетворяется миром
ею же созданных абстракций, протестом против
игнорирования философией последних вопросов и ее неустанного вращения
в сфере предпоследних проблем. И действительно,
предпоследний характер трактуемых философией тем резко бросается в
глаза: разрабатывая завещанное ей наследство творческой
эпохи, она как бы боится его последней глубины и тщательно из-
284 С. И. ГЕССЕН, Ф. А. СТЕПУ H
бегает касаться робкою мыслью своей тех откровений вечности,
которыми светятся великие создания творческих времен.
Всюду много тонкой абстрактной работы, много ума и вдумчивой
осторожности, но ни на чем не лежит печати глубокой
гениальности и действительной мудрости. Всюду интересные тонкие
люди, оригинальные мастера философии, но нигде, даже и в
контурах, не намечается великой и мощной личности.
Но так ли уж действительно бесплодна современная
философская мысль? Можно ли эпигонство нашего времени
приравнивать к тому бесплодному эклектическому эпигонству
александрийской поры, которое предшествовало не новому
возрождению, а еще более глубокому падению философского
духа? Есть в общем два вида эпигонства: эпигонство
эклектическое и эпигонство школ.
Первое беспринципно. Вначале оно признает историю, но, не
имея никаких критериев оценки, оно вырождается в крайний
историзм, т. е. безусловное признание всего прошлого,
независимо от породившей его обстановки. Оно не видит в прошлом
пути к настоящему; не решаясь судить его, оно стремится его
консервировать. Фактическая истина, схоластический спор об
авторитетах заменяют спор по существу. Автономии
философского духа нет и в помине, живая истина подчинена мертвой
учености, правильной цитировке текстов. Лучшие из эпигонов
еще те, которые истину стремятся подчинить принципу
красоты. Трагически влюбленные в прошлое, они очарованы
застывшей красотой его великих творений. Самодовлеющая
законченность и успокоенность исторических памятников всецело
приковывает их внимание к себе и мешает двигаться дальше.
И те и другие одинаково не понимают истории, той
специфической силы времени, которая старые мысли делает в иной
обстановке совершенно иными. Те и другие, любя прошлое, не
верят в будущее; любя свершенное, не верят в свершение и тем
самым приходят к полной пассивности и элегической
разочарованности. Наступает пресыщенность историей, и недавний
беспринципный историзм быстро переходит в противоположную
крайность: в столь же беспринципный модернизм. Вневремен-
ность прошлого только подменяется вневременностью
настоящего, и безусловное признание истории переходит тем самым в
столь же безусловное ее отрицание. От забвения ждут чуда
новых зачатий и новых рождений, сильного слова, что положило
бы конец безысходности эпигонства. Но воспитанные на гото-
От редакции
285
вом, на безусловном признании уже данных истин, эклектики
и эстеты слишком быстро удовлетворяются в поисках за новым
подменой и фальсификацией его, ибо по-прежнему нет
автономии философского духа, и научная истина подчинена чуждому
ей Богу новизны.
Но ведь не такой в общем характер носит современное
эпигонство. Не эклектики и эстеты определяют тип эпохи.
Развитие школ есть основная черта современной философии.
Если эклектическое эпигонство беспринципно, то эпигонство
школ излишне принципиально. В противоположность дутой
безразличной полноте эклектизма оно узко и односторонне. Оно
исчерпывает заданные творческой эпохой возможности,
развивает до конца и последовательно определенные мотивы, в
творческую эпоху не расчлененные и сплетенные вместе. Тонко
чеканя и разграничивая понятия, делит оно в прекрасно
оборудованных мастерских отдельных философских школ
великое наследие минувшей эпохи и обнаруживает скрытые в
ней возможности во всей их резкой односторонности. Стройное
и красивое единство великих творений прошлого
превращается, правда, таким образом, в груду разностремящихся проблем
и разнохарактерных стремлений. Наследство прошлого
уничтожается тем самым как завершенное творение, но зато
удерживается, не в пример эпигонству эстетическому, как живое
творчество повседневной работы. Достигается стройность и
резкость понятий, совершенствуется техника абстрактного
мышления, глубже чем когда-либо постигается наследие
творческих времен, договаривается все недосказанное, вскрываются
несознанные противоречия, ставятся новые задачи.
Сокрушая таким образом единство завещанного и
превращая его в многообразие и соперничество мотивов, школьное
эпигонство неминуемо приходит к сознанию лишь
относительного и предварительного характера своей работы и с полным
сознанием и во всеоружии знания и силы своей, обретенной в
анализе прошлого и в борьбе с ним, решительно ставит вопрос
о новом единстве творческого будущего. Так достигает оно в
конце концов, быть может, уродливыми усилиями своими,
того, что для эпигонства эстетического осталось бы навек в
пределах недосягаемой для него красоты.
286
С. И. ГЕССЕ Η, Φ. А. СТЕПУ H
III
ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
И ЦЕЛИ «ЛОГОСА»
Для современной философии, изжившей оставленное ей
более счастливыми предками наследство и жаждущей нового
синтеза, возникает задача предварительной критики, которая
бы разграничила и освободила порабощенные в борьбе школ
мотивы. Этот новый критический синтез должен быть для
философии тем, чем философия является для всей культуры: в
более узкой сфере здесь повторяется вполне аналогичное
отношение. В противоположность дутой полноте эклектизма и
односторонней традиции школ необходима зрячая
полнота представленных различными школами
мотивов. Ни один из них не должен пропасть даром для
будущего строительства. А для этого прежде всего необходимо
дать общий культурный отчет в завершающейся теперь работе
школ. «Логос» и ставит себе эту задачу подведения итогов
минувшего школьного развития в отличие от уже существующих
философских журналов (так называемых «архивов»),
обслуживающих повседневную школьную работу. В этом смысле «Логос»
антидогматичен. Он не является поборником какого-нибудь
определенного философского направления. Объединяющим
моментом его деятельности является общее настроение,
выражающееся в общем сознании задач современной философии и
путей, ведущих к их достижению.
Односторонность современных школ тесно связана с их
односторонней ориентированностью на какой-нибудь одной
специальной науке или группе наук, ведущею обыкновенно к
выбрасыванию за борт целого ряда философских проблем. Необходимо
связать потому философскую традицию со всею полнотой
специального знания: не в смысле позитивистического
растворения философии в науке, игнорирующего самостоятельность
философской традиции и тем самым нарушающего ее
автономию, а в смысле признания самой наукою глубокой
необходимости философского удовлетворения мотивов всех областей
специального знания. Приглашая в качестве ближайших своих
сотрудников представителей специальных наук, «Логос» тем
самым надеется способствовать столь необходимому союзу
философии со специальным знанием. В этом
направлении преодоления одностороннего характера
современных школ следует, однако, пойти и еще дальше. Как ни ценна
От редакции
287
сама по себе гносеологическая постановка философских
проблем, односторонний теоретический характер современной
философии несомненно обусловлен почти исключительной
ориентированностью ее на факт науки. Между тем для действительного
и бесспорного преодоления ограниченности современного
эпигонства необходимо, чтобы философская мысль вобрала в себя
не только полноту специально научных мотивов, но также и
мотивы остальных областей культуры —
общественности, искусства и религии.
«Логос» и будет стремиться разрабатывать научно-философским
методом все эти области, запросы и нужды которых должны
получить надлежащее философское удовлетворение. И тут он
опять-таки рассчитывает на помощь со стороны
представителей этих областей культуры, признающих самостоятельное
значение научно-философской разработки культурных
проблем. Утверждая самодовлеющую ценность философского
знания и стремясь к полноте культурных мотивов во всем их
многообразии, сборники «Логоса» определяются, таким образом,
как сборники по философии культуры.
Но подлинный синтез, которого мы теперь ждем, должен
быть основан не только на полноте школьных,
специально-научных и общекультурных мотивов. От него не должны
ускользнуть и все национальные особенности
философского развития. Тайные судьбы вели разные народы
разными путями все к той же цели. Эти разные пути дали
отдельным нациям различные средства работы, развили
различные силы и способности духа. При этом безразлично, будем ли
мы чисто эмпирически видеть в национальных особенностях
философского творчества простой лишь продукт исторического
развития, или, возводя национальный момент в сферу
метафизического бытия, видеть в них проявление народного духа. Для
нас вполне достаточен несомненный эмпирический факт
существования индивидуально-различных национальных
философских традиций. Чтобы занять бесспорное сверхнациональное
значение, система будущего должна будет вобрать в себя все те
живые мотивы мышления, которые почему-либо
обнаружились в той или иной национальной философской традиции. Это
не значит, конечно, что и сам «тот синтез станет вне
национальной жизни, т. е. окажется сверхнациональным. Безусловно, он
будет так же глубоко национален, как в свое время глубоко
национальна была и система Гегеля, имевшая однако
сверхнациональный смысл и сверхнациональное значение только потому,
288
С.И.ГЕССЕН, Φ. А. СТЕПУ H
что вобрала в себя все громадное идейное наследство,
завещанное ей иными нациями. Понятый таким образом
сверхнационализм, требующий многообразия национального творчества,
одинаково отличается как от космополитизма, уничтожающего
индивидуальные особенности исторического развития наций,
так и от узкого национализма, игнорирующего превышающее
значение единого и цельного культурного человечества. Имея в
виду как свою главную цель собрание материала для будущего
систематического творчества, «Логос» и будет международным
в указанном смысле. Каждое отдельное издание его (русское,
немецкое, а также и другие предполагаемые) будет стремиться
к опознанию и развитию соответствующей философской
традиции. Разные издания «Логоса» не будут поэтому простым
переводом друг друга, а будут скорее приспособляться к
индивидуальным особенностям развития философской мысли отдельных
народов. Общность цели и настроения будет выражаться в
«основных статьях», которые будут печататься параллельно во
всех национальных изданиях «Логоса». «Специальные» же
статьи будут обслуживать более детальные философские
проблемы, более интимные вопросы национальных культур и
потому в общем не будут переводиться на другие языки.
Для русского «Логоса» в этом отношении
неминуемо возникает целый рад вопросов и сомнений величайшей
важности. Возникает прежде всего вопрос, была ли у нас и
имеется ли в настоящий момент русская философская
традиция. Двадцать лет тому назад Владимир Соловьев отрицал
наличность ее. (статья «Россия и Европа» в «Национальном
вопросе»). Изменилось ли теперь положение к лучшему? Об этом
можно много спорить. Но именно этот самый факт
возможности спора указывает на то, что если за последнее десятилетие
и появились в России глубоко серьезные философские
исследования, то все же бесспорной, прочно установившейся традиции
у нас нет. Мы по-прежнему, желая быть философами, должны
быть прежде всего западниками. Мы должны признать, что
как бы значительны и интересны ни были отдельные русские
явления в области научной философии, философия, бывшая
раньше греческой, в настоящее время преимущественно
немецкая. Это доказывает не столько сама современная немецкая
философия, сколько тот несомненный факт, что все
современные оригинальные и значительные явления философской
мысли других народов носят на себе явный отпечаток влияния
немецкого идеализма; и обратно, все попытки философского
От редакции
289
творчества, игнорирующие это наследство, вряд ли могут быть
признаны безусловно значительными и действительно
плодотворными. А потому, лишь вполне усвоив себе это наследство,
сможем и мы уверенно пойти дальше. Но если, таким образом,
в вопросе о фактическом состоянии русской философии мы в
общем сходимся с крайними западниками, мы расходимся с ними
по вопросу о возможности у нас самостоятельной философской
традиции. Мы глубоко верим в будущее русской философии, а
также в то, что основанное на безусловном усвоении западного
наследства философское творчество наше неизбежно вберет в
себя имеющиеся у нас своеобразные и сильные культурные
мотивы, обнаружившиеся пока лишь в области художественного
и мистического творчества, и тем самым бесконечно обогатить
мировую философскую традицию.
В этом приобщении русской культуры и
выраженных в ней оригинальных
мотивов к общей культуре Запада русское издание
«Логоса» видит одну из своих главных международных задач.
Ибо связанное с этим расширение культурного кругозора и
вместе с тем материала философского творчества сможет
оказаться крайне плодотворным и в области научной философии,
поставив научно-философской мысли Запада совершенно
новые задачи. Но именно потому мы и должны тщательно
различать между научной философией в настоящем смысле этого
слова и общим культурным фоном, дающим материал
философскому исследованию. Мы не должны удовлетворяться
последним и игнорировать необходимость западной науки. Но мы
не должны также, игнорируя выдвигаемые русским
культурным развитием задачи, ограничиваться простым только
усвоением западной философии. Простое ученичество и усвоение
невозможно: мы учились достаточно уже у Запада, и если все
дело было бы в плохом учении, то следовало бы совершенно
отчаяться в возможности у нас когда-либо какой-нибудь
философии. Нужно ученичество органическое, не просто лишь
усваивающее, но вместе с тем и двигающее вперед. Нужно усвоение
через творчество и творчество через усвоение. Вот главное
условие создания у нас собственной философской традиции.
Поэтому несомненно, что либо у нас ее совершенно не будет,
либо она будет безусловно русскою. Оба эти факта неизбежно
совпадут, как в свое время совпали они в Греции, во Франции,
в Германии. А для этого прежде всего необходимо сознание
независимого и самодовлеющего значения философского знания,
290
С. И. ГЕССЕН, Ф. А. СТЕПУН
как то опять-таки показывают примеры Греции и Германии,
где самостоятельная философская мысль пробудилась
одновременно с сознанием бескорыстности научного духа и с
освобождением философии из ее подчиненного состояния. В отсутствии
этого сознания, а не в плохой выучке, и заключается причина
нашей философской немощи, как то впервые сознал Соловьев.
Поэтому, имея в виду создание и упрочение русской
философской традиции, мы ни в коем случае не должны ставить себе
целью русскую философию во что бы то ни стало. Такая цель
исходит из посторонних философии соображений народного
достоинства и оригинальной философии как необходимого
атрибута культурной народности. Она нарушает, таким образом,
принцип автономии философии, подчиняя ее инородной ей
ценности нации. Практически она ведет к слишком
поспешному удовлетворению малым, бесплодному выдумыванию своих
систем во что бы то ни стало, к замене русской философии ее
фальсификацией. Такое чрезмерное легковерье, которому не
всегда было чуждо наше славянофильство, может оказаться
вреднее западнического безверия. Вся наша забота должна
исключительно принадлежать теоретической истине, философии
как таковой. Если же есть в стихии русского духа нечто свое и
глубоко оригинальное, то оно неминуемо появится и в сфере
философского творчества. Так, лишь в атмосфере полной
националистической беззаботности будет положено прочное
основание русской философской традиции. В противном же случае
нарочито национального творчества мы всегда останемся
только русскими людьми, но никогда не станем русскими
философами.
Тщательно отмечая все действительно выдающиеся явления
русской философской мысли и подвергая
научно-философскому освещению оригинальные мотивы русского философского
развития, «Логос» будет, однако, резко отмежевываться от
всякой ненаучной философии. Весьма вероятно потому, что в
русском издании «Логоса» вначале будет преобладать западный (в
особенности немецкий) материал. Быть может, будущее нашей
философии изменит это соотношение и русское издание
«Логоса» сделается русским не только по своим целям, но и по
своему материалу. Но и в этом последнем случае одну из основных
своих задач русское издание «Логоса» будет видеть в том,
чтобы путем статей, посвященных отдельным философским
школам, а также путем частных обзоров философской литературы
постоянно держать русского читателя в курсе
современных философских учений Запада.
От редакции
291
Чтобы это ознакомление с Западом носило более глубокий и
прочный характер, русское издание «Логоса» будет отводить
возможно больше места философско-историческому взгляду на
прошлое западной мысли. Такое систематическое
освещение творений предков, в связи с
аналогичными исследованиями основных явлений русской
культуры, поскольку они могут иметь философское значение, отвечает
также и другим вышеочерченным целям «Логоса». В
противоположность критике исторической, стремящейся к простому
воспроизведению прошлого, систематическая критика
выделяет то вечное значение его, те непременные элементы, без
которых неосуществимо систематическое творчество будущего. Это
не историзм, безвольно скитающийся среди теней отошедшего
прошлого и подчиняющий философию эстетическим ценностям
давности, — это все та же философская работа, направленная
к самостоятельному отысканию постоянных элементов истины.
Так или иначе относясь к прошлому, мы то или иное творим
в настоящем. Выделяя вечный смысл великих систем наших
предков, мы включаем их в себя, а тем самым и себя в
непрерывную нить вековой традиции.
Сознавая и созидая по мере сил своих всю полноту
школьных, культурных и национальных мотивов как всеобъемлющую
полноту общечеловеческой традиции, мы охватываем тем
самым всю бесконечность мирового разума и проникаем в глубь
божественного Логоса.
<^5^
^^
А. БЕЛЫЙ
Неославянофильство и западничество
в современной русской
философской мысли
Покойный Владимир Сергеевич Соловьев выставил когда-то
лозунг самоопределения русской философской мысли: вопрос о
том, быть ли ей национальной или вненациональной, русской
или западной, — он решил в сторону Запада.
Западноевропейская мысль развивалась в борьбе со схоластическим
догматизмом; в такой догматизм впала, естественно, религиозная
философия; лозунг философии Запада есть мысль об ее автономном
развитии. «Если наша философская мысль обнаруживает
теперь мистическое направление, — пишет Соловьев в
"Национальном вопросе", — то она, наверное, никаких плодов не
принесет* 1. Нам чрезвычайно ценно заявление философа-мистика
о необходимости автономного философского развития; сам он
стоял на той точке зрения, что путем освобождения от извне
привнесенной мистики философская мысль чисто
рациональным путем приходит к осознанию своей деятельности как
проявления Божественного Логоса. Связь философии с религией
устанавливает он не путем внешнего насилия, совершаемого
над ratio, а путем рационального осознания самого ratio как
части Логоса; всякое иррациональное суждение о задачах и
судьбах русской философии, на основании желания ее видеть
иррациональной, ему должно было претить. Присягновение
русской философской мысли традиции Запада вовсе не есть
закрепощение ее, как русской мысли, чуждыми формами.
Единственная традиция западной философии есть основное
убеждение самых разнообразных представителей ее течений
(все равно — метафизиков, позитивистов, идеалистов) в
самостоятельности задач самой философии, независимое от
смежных дисциплин познания и творчества.
Неославянофильство и западничество...
293
Говорить о самобытности русской философии и
противополагать ее западной — значит противополагать автономии
гетерономию, независимости — зависимость. Нет ни немецкой, ни
русской философии; есть только философия: самобытность — в
приеме обоснования, а не в самом обосновании.
Эти простые соображения родятся невольно по поводу
любопытной полемики, возникающей вокруг русских философских
выпусков «Логоса», являющихся ветвью международного
журнала того же имени2.
Русская редакция «Логоса» задается целью знакомить
русскую публику с выдающимися мыслителями Запада не только
путем изложения их мировоззрений, но и путем печатания их
статей; в первых двух выпусках впервые для русского
читателя печатаются прекрасные статьи Виндельбанда, Риккерта,
Зиммеля, видного, но вовсе у нас неизвестного, эстетика Иона-
са Кона, замечательного итальянского ученого Бенедетто Кро-
че, Фосслера, Карла Иоэля (автора блестящей работы «Ницше
и романтизм») и др. «Логос» дает прекрасные обстоятельные
обзоры немецкой, английской и итальянской философии; в
числе постоянных сотрудников «Логоса» значатся лучшие
философские силы Германии. Казалось бы, следовало радоваться
тому, что наш бедный философской литературой книжный
рынок обогащается столь ценным и хорошо обставленным
предприятием.
Не тут-то было. Уже первый выпуск «Логоса» вызвал
ожесточенные нападки. На кого же? На философию Риккерта,
Виндельбанда, Когена, на самую постановку философских проблем
в Германии? Нет: ожесточенные нападки обрушиваются на
15 страничек редакционного заявления3. Игнорируются с
лишком 250 страниц оригинального философского творчества (Рик-
керт, Бутру, Фосслер и др.); «Логос» объявляется ненужным,
негодным предприятием; и все из-за 15 страничек
предисловия. В чем же заключается «ересь», проповедуемая
редакторами «Логоса»? Что волнует и исполняет негодования
мужей-философов?
Редакционное заявление «Логоса» открывается цитатой из
Владимира Соловьева: «Безусловно независимая и в себе
уверенная деятельность человеческого ума есть собственно стихия
философии»4. В этой цитате — явное признание Соловьевым
автономного значения философии; западноевропейская
философия лозунг этот и пытается осуществить. Редакция «Логоса»
проводя начала независимой единой философии, в этом смысле
присягает западноевропейской традиции. Западничество «Ло-
294
А. БЕЛЫЙ
госа» принимается противниками в узком смысле этого слова.
В желании провести взгляд на задачи независимой философии
русского философа-мистика Вл. Соловьева усматривается
кощунственное посягательство на достоинство самобытной
русской философии.
На почве чисто отвлеченного спора о задачах и методах
философии по-новому воскресает спор славянофилов и
западников.
Но национальность, и по мнению редакторов «Логоса»,
влияет на способ обоснования той или иной философской истины,
объективной, вненациональной; западничество русской
редакции «Логоса» сказывается лишь в указании на то, что в
германской философии строго разграничена область разработки
той или иной логической истины от самой логической истины;
чистая философия касается лишь этой последней области:
потому-то она и вненациональна.
Сфера разграничения этих двух областей есть сфера
разграничения психологии от теории знания; и поскольку впервые
задачи теории знания отчетливо формулированы Кантом,
постольку задачи научной философии, если таковая возможна,
связаны с углублением и всесторонним изучением задач
кантианской философии; редакция «Логоса» признает, что
стремление философии стать наукой законно; понятно, что различные
оттенки кантианских течений преимущественно представлены
в «Логосе».
Оппоненты «Логоса» на этом основании объявляют задачи
«Логоса» схоластическими, а редакторов «Логоса» — потряса-
телями основ русской национальной мысли.
Изучение кантианской литературы есть вредная ересь;
Киреевский, Хомяков — выше Канта.
Но позвольте!
Кант дал нам три капитальных исследования5, вызвавших в
новейшей философской литературе десятки блестящих и
кропотливых работ, посвященных разработке и дальнейшему
исследованию задач Канта; кроме того, Кант дал толчок
философскому творчеству Фихте; из Фихте и Шеллинга вырос Гегель;
Канта по-своему пересказал Шопенгауэр и т. д. Объявляя
кантианство вредной ересью, следует, оставаясь
последовательным, признать за ересь всю философию Запада, поскольку она
стремится к автономии.
Социал-демократия так и поступает; она ставит в
зависимость творчество мысли от социальных условий своего времени.
Неославянофильство и западничество...
295
Русская философская мысль в ее чистом виде (не считая
художественных образов) развивалась в зависимости от Запада;
самая идеология славянофильства получила мощный толчок к
развитию от системы Гегеля. Мысль о самобытности
национальной философии пришла с Запада. И вот теперь эта самая
мысль обрушивается на Запад; философствующие
неославянофилы рубят ветку, на которой сидят.
Где у нас чисто логическое опровержение задач Канта, где у
нас работы, опровергающие разработку этих задач? У нас есть
несколько блестящих страниц из Вл. Соловьева («Кризис
западной философии», «Критика отвлеченных начал») да
Лопатин («Положительные задачи философии»); перед нами
блестящая диалектика опровержения Канта — ряд остроумных
догадок о дефектах кантовской философии, не могущих,
конечно, перевесить самого Канта; далее, современное
неокантианство в самой философии Канта лишь видит проблему; она
комментирует, детализирует Канта; исторически Кант
переходит в целый ряд школ; даже блестящее опровержение Канта не
есть еще опровержение кантианства.
Между тем русские философы-славянофилы даже не
опровергают Канта; они просто довольствуются заявлением об его
несостоятельности; и на этом основании вовсе не считают
нужным ответить на ряд задач современной философской мысли:
Коген, Риккерт, Зиммель, Гуссерль, Виндельбанд попросту
бойкотируются; ученики и последователи их вышучиваются.
И противовесом десяткам философских трудов является
голословное утверждение, что эти труды — схоластика.
Только этим приемом борьбы объяснима почти ненависть,
которая дышит из строк «В. X.», разделывающего «Логос» на...
десяти строках недопустимой по тону рецензии («Московский
еженедельник » ).
Совершенно другого рода нападки г. Эрна («Нечто о
"Логосе", русской философии и научности». «Моск<овский> ежене-
д<ельник>», №29, 30, 31 и 32). В пространной статье г. Эрн
отказывает философам «Логоса» в праве употреблять понятие о
Логосе в смысле принципа деятельности чистого разума;
органическая философия по г. Эрну есть философия Логоса; Логосу
как внутренне-реальному логическому принципу
противопоставляется ratio; логизму г. Эрн противополагает рационализм;
в последовательном проведении принципа рационализма
смысл философии Запада; этот смысл — пустой смысл;
западноевропейская философия лишена живого содержания; ее
задачи в увенчании бессмыслицы бытия противопоставлением ему
лестницы пустых схоластических понятий; этой пустоте при-
296
А. БЕЛЫЙ
писывается ценность и истинность; все же содержание жизни
относится к бессмыслию и хаосу. Не только современное
кантианство, но и Гегель, Кант повинны в рационализме. Но ratio
(разум) — не Логос; истинные начала логической философии в
смысле г. Эрна осмыслены в греческой философии, в Платоне,
неоплатониках и завершены в трудах восточных Отцов
Церкви; философии Логоса есть в смысле г. Эрна только теософия,
принцип восточного религиозного догматизма
противопоставлен, как принцип органический, всей философии Запада, как
рационализму.
Парадоксально, но честно, смело, законченно проводит грань
г. Эрн между Востоком и Западом.
Итак: Восток или Запад?
Оставаясь на точке зрения г. Эрна, мы должны отказаться
от всей новейшей философии; с Декарта до Когена философия
Запада пуста и бессодержательна; Лейбниц, Спиноза, Кант, не
говоря уже о великих позитивистах и идеалистах, только
демоны, соблазняющие души. Безрелигиозная философия не имеет
права на существование. Но если это так, то где искать
принципа логической деятельности? В психологии, логике, теории
знания этого принципа найти нельзя; в науке — тем менее.
Итак, принцип религиозной философии есть откровение,
философский догмат — символ; иерархия идей — иерархия высших
существ, открывающихся человеку. Вот невольный вывод из
крайней позиции самого крайнего представителя
неославянофильской тенденции в русской философии; и этот вывод очень
ценен.
Основывая логическую деятельность на мистическом
откровении, мы к самим философским системам подходим с другой,
противоположной стороны; всякая философия есть продукт
мистического творчества; догматы ее — символы; до чисто
логической истины такой философии нет дела; истинное есть
ценное; а ценность есть живо переживаемая религиозная связь
между Богом и человеком.
Для того чтобы оправдать такой крайний взгляд на задачи
философии, следует принципиально решить вопрос об
отношении мистики и религии к теории знания; для этого мы должны
знать принципы образования и исторической эволюции
религии, для этого мы должны иметь законченную теорию знания,
как систему логических понятий. К такой системе и идет
современная западная философия.
А пока такой системы нет, как нет в нас живого и
деятельного переживания религии, пока суждения о сущности
религиозного творчества в догматизме суть лишь рационализирование
Неославянофильство и западничество...
297
иррационального, вопрос об отношении между чистой логикой
и чистой религией еще не может быть решен; это вопрос хотя
бы и близкого будущего, но будущего. И потому-то чистая
логика должна развиваться своими путями, как и чистая
религия должна быть пережита, а не объявлена философией, хотя
бы восточной, как того хочет г. Эрн.
Вопрос об отношении между Западом и Востоком есть
вопрос об отношении чистой религии к чистой философии,
которая ни восточна, ни западна, а едина. Мы говорим о западной
философии лишь постольку, поскольку в ней нащупываем
стремление возвыситься над четырьмя горизонтами;
кантианство в этом смысле есть полюс, откуда все стороны
простираются либо на юг, либо на север, но где нет ни востока, ни запада.
Стремление восточной русской философии быть философией
основано на смешении; религиозно-творческие символы такой
философии извне покрываются рационалистическими
терминами; чисто религиозный пламень в такой философии гаснет,
распространяя дым и чад на область логической истины ни
религиозной, ни безрелигиозной, но внерелигиозной по существу.
Если философия есть только стремление к мудрости и если
это стремление к истине утоляется только в религии, то самое
это стремление проходит известные стадии, строго
разделенные методами подхождения к истине, где область логической
истины есть предпоследняя область скитаний, а область самой
истины (религиозной) есть цель этих скитаний; если бы это и
было так, невозможно смешивать последнее, заветное, с
предпоследним, формальным: религиозная логическая истина — ни
логическая истина, ни религиозная также; религиозная
логическая истина — вовсе не истина; и стремление видеть в
национальной русской философии прежде всего религиозную
философию есть стремление подорвать и убить самую философию в
том виде, в каком хотел ее видеть покойный Вл. С. Соловьев.
Точка зрения неославянофилов, выраженная столь крайне и
резко в полемике г. Эрна против «Логоса», стала бы
неуязвимой, если бы религия открыто в ней была бы
противопоставлена философии; но этого противопоставления все еще нет:
чистой философии противопоставлена философия смешанная (как
бы полурелигиозная или рационализированная религия);
крайнему Западу противопоставлен все еще средний Восток.
Позиция неославянофилов представляет собою не броню, а
сплошную брешь, в которую Запад входит открыто; русское
славянофильство есть не Восток, а только средний Запад.
^^
^^
С. Л. ФРАНК
Философские отклики
О национализме в философии
Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
Des Menschen allerhöchste Kraft...
So hab ich dich schon unbedingt.
Гёте
И силой разума и права —
Всечеловеческих начал —
Воздвиглась Запада держава.
В л. Соловьевх
В «Московском еженедельнике» (№ 29—32) помещена
статья В. Ф. Эрна «Нечто о Логосе, русской философии и
научности». Статья носит подзаголовок: «По поводу нового
философского журнала "Логос"» и непосредственно посвящена критике
этого журнала. Автор, однако, понял свою задачу весьма широко:
для того чтобы оценить журнал «Логос», общая цель которого
есть насаждение в России научной философии в
западноевропейской форме, он считает необходимым дать
принципиальную оценку западноевропейского и русского философского
творчества. Благодаря этому статья В. Ф. Эрна приобретает
общее значение, далеко выходящее за пределы критического
отзыва о данном литературном явлении. Возбуждаемые ею общие
вопросы, как и ответ, который она на них дает, интересны и
заслуживают внимания совершенно независимо от того, как
относиться к целям нового философского журнала и к их
фактическому осуществлению.
Общий смысл критического отзыва Эрна сводится к тому,
что цели и пути журнала «Логос» совершенно несостоятельны,
так как он стремится насадить в России низшую,
рационалистическую форму философии, укрепившуюся в
западноевропейском мышлении, тогда как Россия в своей религии и при-
Философские отклики. О национализме в философии
299
мыкающей к ней философии обладает уже подлинной, высшей
формой философского творчества, единственно
заслуживающей наименования «философии Логоса». Дело, следовательно,
не в том, что русская редакция «Логоса» («Логос», как
известно, есть международный журнал, и русское его издание есть
лишь одна ветвь общего литературного предприятия) плохо
выполнила свою задачу, не в том, что свою мудрость она
почерпнула не в Афинах, а в «Марбурге и Фрейбурге»2, но в
«смешном несоответствии между тем, что... действительно сказано»
журналом, и тем, что ему «хотелось бы сказать»,—которое
Эрн находит в первой книжке журнала. В нашу задачу отнюдь
не входит защита фактического характера этого журнала и тех
тенденций, которые в нем доминируют. Более того, мы лично
разделяем нелюбовь Эрна к господствующим формам
современной немецкой философии, оказавшим такое сильное влияние
на редакцию Логоса; нельзя не признать, что современное
неокантианство довольно бедно, формалистично и
малоплодотворно и что в некоторых своих проявлениях, как, например, в
«Марбургской школе», оно вырождается в совершенно
бесплодную и бессодержательную схоластику. Некоторые
ядовитые замечания Эрна о некритическом увлечении редакции
Логоса немецкими «философскими товарами самой последней
выделки» по существу кажутся нам вполне правильными*.
Однако дело, повторяем, совсем не в этом. Оставляя в стороне
вступительные замечания Эрна, направленные
непосредственно на критику журнала, и вчитываясь в его общую
историко-философскую оценку русского и западноевропейского
миросозерцания, приходишь к убеждению, что если бы «Логос»
редактировали не гг. Гессен и Степун, а писатели, которые по
силе мышления не уступали бы классическим философам
Запада, — суждение Эрна о ценности такого журнала в России по
существу не изменилось бы. То, что Эрн отвергает, есть не
только «философские товары самой последней выделки» и не
только все кантианство, а вообще все «новое философское
сознание Запада», которое, будучи, по его мнению, проникнуто
внутренне несостоятельным началом ratio, совершенно чуждо
идее Логоса, нашедшей себе яркое выражение только в русской
религии и философии.
* В философском отношении, впрочем, на одном уровне с таким
некритическим увлечением стоит то огульное отрицание
современной немецкой философии и развязное уничтожение ее в
нескольких строках, образец которого представляет рассуждения Эрна.
300
С. Л. ФРАНК
Статья Эрна — сплошной панегирик русской философской
мысли, сплошное осуждение всего «нового философского
сознания Запада». Такого огульного и безмерного национального
самомнения в области философии нам до сих пор не
приходилось встречать. Пользуясь старинным, давно заржавевшим и
пришедшим в негодность славянофильским оружием — резким
противопоставлением западной « рассудочности » восточной
«целостности», — он рубит сплеча, уничтожая Канта, Беркли,
Юма, даже Гегеля (исключение делается для одного только
Шеллинга, корни философии которого усматриваются в
восточной мистике) и возводя на неведомую доселе высоту русских
философов, начиная с Сковороды и кончая Лопатиным,
Козловым и Серг. Трубецким. Гегель, например, который из всех
философов Нового времени, быть может, полнее всего
использовал античные идеи и глубже всего проникся пафосом
античного Логоса, есть для Эрна лишь один из представителей
«рационалистического меонизма», и он с удовольствием применяет к
нему несправедливые и неблагодарные слова Печерина, что
«даже в философии немцы пошлый народ». Из характеристики
Эрна следует, что западная философия, проникнутая началом
ratio, сплошь «меонична» (т. е. иллюзионистична или чужда
бытию), за исключением одного только Шеллинга. Эта идея, к
сожалению, сама западного происхождения: как известно, она
принадлежит Якоби. Это не мешает ей, впрочем, быть
совершенно неверной. «Меонична» ли философия Спинозы,
величайшего и классического рационалиста в точном смысле этого
слова, — философия, в основе которой лежит понятие causa
sui, «то, сущность чего предполагает существование»? И разве
не рационализму мы обязаны попытками «онтологического»
доказательства бытия Божия, которые, как бы их ни ценить,
свидетельствуют о страстном стремлении разума прийти к
бытию? Меонична ли философия Лейбница и Лотце? Странно
также, что «меонизм», по признанию Эрна, расцвел в философии
Беркли и Юма, которая, во всяком случае в качестве
эмпиризма, не может быть типичным продуктом начала ratio.
Наконец, сам Эрн весьма наивно опровергает свою конструкцию: он
отмечает в русской философии «ряд замечательных попыток
защитить принципиальный онтологизм от всех нападок ratio и
поразить ratio его же оружием» (в лице сочинений Лопатина,
Козлова, С. Трубецкого). Но если русским мыслителям удается
с помощью ratio защитить и возродить онтологизм, значит
ratio не необходимо приводит к «меонизму». Или
чудодейственная сила национального духа способна превращать меони-
Философские отклики. О национализме в философии
301
ческий яд ratio в бальзам «онтологизма»? Одно из двух: или
ratio действительно может обосновать онтологизм, и тогда
конструкция Эрна несостоятельна; или же это по существу
невозможно, и тогда указанные русские философы
непоследовательны и, стало быть, их попытки с философской точки зрения
совсем не замечательны. Но фактически рациональное
обоснование реализма (или «онтологизма») совсем не составляет
привилегии русской философии. Самая глубокая его форма
принадлежит Спинозе, его развивал Шеллинг, примыкая не к
восточной мистике, а к философии того же Спинозы и
Лейбница, в наше время оно проводится Спенсером, Авенариусом,
английской метафизической школой3; поэтому, при всем
уважении к научным заслугам указанных русских философов, никак
нельзя утверждать, что им одним удалось чудесное
уничтожение мнимо неизбежной связи между ratio и меонизмом*.
Я не буду останавливаться на столь резко подчеркиваемой
Эрном противоположности между ratio и Логосом, понятие
ratio намечено у него, как мне кажется, недостаточно
отчетливо. Но, конечно, нельзя отрицать коренного различия между
чисто рациональным познанием, которое руководится
исключительно безличными логическими критериями, и познанием
мистически-интуитивным, которое сознает свои источник как
* Нужна вообще высочайшая степень национального ослепления
или же весьма малое знакомство с западной философией, чтобы
всему «новому европейскому мышлению» противопоставлять труды
Лопатина, Козлова, С. Трубецкого. Ведь, с одной стороны, Козлов
и, по крайней мере, отчасти и Лопатин — лейбницианцы, С.
Трубецкой же в области самостоятельных философских построений
успел дать только наброски. С другой стороны, всецело признавая
научное значение этих русских мыслителей, нельзя же забывать,
что на Западе и даже в той же Германии появляется и в настоящее
время немало столь же замечательных работ, проникнутых по
существу теми же тенденциями. Укажу из числа немецких
философских произведений только последних лет на книгу Stern'a «Person
und Sache», обосновывающую виталистическую онтологию, на
«Weltanschauungslehre» Генриха Гомперца, которая содержит
меткую критику кантианства и «идеологизма», и на талантливую
борьбу с господствующими предрассудками идеалистической
гносеологии в книге Fred Bon'a. «Die Dogmen der Erkenntnisstheorie».
Из более старых современных немецких философов достаточно
упомянуть имена Гартмана и Фолькелыпа, чтобы для всех хоть
немного осведомленных лиц стало бесспорным, что критика
кантианского «меонизма» и защита «онтологизма» не есть что-либо
неслыханное в современной германской философии.
302
С. Л, ФРАНК
реальную божественную силу и себя самого как живое общение
с Божеством. Однако историческое распределение этих двух
понятий у Эрна чрезвычайно упрощенно и отчасти даже
совершенно неверно. Можно, конечно, также согласиться и с тем,
что начало Логоса выражено в новой западной философии в
общем слабее, чем в античной философии и в восточном
религиозном умозрении Но, во-первых, большинство классических
философов Нового времени не только фактически
осуществляло интуицию, но и сознательно придавало ей значение, по
существу тождественное с значением античного логоса. Я не
говорю уже о мистиках вроде Мальбранша. Но разве Спиноза не
утверждал, что истинное познание совершается через
соучастие человеческой души в Боге? Разве Лейбниц не признавал
представление метафизической основой бытия? Разве Фихте,
Шеллинг, Гегель, а отчасти уже и Кант не приписывали духу
метафизико-религиозного значения? О Канте, по крайней
мере, Вл. Соловьев в своем прекрасном стихотворении
«Эммануэль» сказал известные слова:
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно4.
Разве даже субъективный идеализм Беркли не завершался
метафизическим спиритуализмом, по существу тождественным
с мистическим учением Мальбранша, которое в свою очередь
тесно связано с умозрением бл. Августина? Один из самых
даровитых и широкообразованных мыслителей современной
Германии — Дильтей — полагает даже, что весь принцип новой
философии предуказан мировоззрением бл. Августина, в
котором совершился переход от античного натурализма к духовной
углубленности нового сознания, созданной христианством, и
впервые было открыто значение внутреннего мира. С другой
стороны, по меньшей мере столь же достоверно, что начало
ratio присутствует в античной философии и существенно
определяет ее характер. В истории философии составляет азбучную
мысль, что античная философия впервые утвердила и
воплотила веру в чистое мышление как основу миросозерцания и что
история античной философии есть собственно история
возникновения рациональной науки. Даже самый вдохновенный и
наиболее религиозно настроенный мыслитель древности —
Платон — не удовлетворяется одним мистическим экстазом,
презирает людей, которые не могут привести рациональных
оснований своих мнений, и считает диалектику, искусство
разграничения и определения понятий, огнем Прометея и высшим
Философские отклики. О национализме в философии
303
даром богов. И разве логика, это самопознание и
самоутверждение отвлеченного ratio (что не мешало этой науке, кстати
сказать, заимствовать свое название от понятия Логоса),
открыта не в Афинах, а где-нибудь «во Фрейбурге или Марбур-
ге»?
Вообще говоря, начало ratio характеризует не какую-либо
отдельную ветвь или историческую эпоху философии: оно есть
конститутивный признак понятия философии. Философы
могут быть мистиками и рационалистами (в узком, точном
смысле этого слова), эмпиристами и скептиками, но если они —
философы и хотят строить философию, то все они рассуждают и
доказывают, осуществляют божественное искусство
диалектики, т. е. оперируют отвлеченными понятиями и опираются на
логические нормы. В этом отношении нет разницы между
античной и новой, западной и восточной философией.
«Безусловно независимая и в себе уверенная деятельность человеческого
ума есть собственная стихия философии... Для великих и
долговечных созданий в области философии прежде всего нужно
верить в самозаконную и неограниченную силу человеческого
ума, в безусловное превосходство чистого мышления над всеми
прочими видами деятельности». Это говорит не Кант и не Рик-
керт, это говорит «восточный» философ-мистик Вл. Соловьев5
и, конечно, говорит просто потому, что понимает, что
собственно значит слово «философия». И в этом же отношении
существует непроходимая пропасть между философией и религией,
а следовательно, и пропасть между античным и христианским
пониманием Логоса, которую Эрн совершенно напрасно
старается уничтожить. И с научной, историко-философской точки
зрения, и с религиозной точки зрения самого христианства
неизбежно признание, что христианское понимание Логоса
внесло нечто принципиально новое и чуждое в это античное
понятие; с того момента, как Логос из безличной
логико-метафизической силы превратился в конкретную божественную
личность и ипостась, и «Слово стало плотью», античный Логос
сменился существенно новым понятием, как бы тесны ни были
исторические нити, соединяющие последнее с его античным
предшественником. Как бы сильно ни отличалась новая
философия от античной, христианское богословие отличается от нее
еще больше. Логос Гераклита все же ближе к Спинозе,
Лейбницу, Шеллингу и Гегелю, чем к православию. Это суждение,
конечно, само по себе нисколько не предрешает вопроса о
сравнительной ценности западной философии и восточной религии,
а просто констатирует исторический факт.
304
С. Л. ФРАНК
Построение Эрна, в сущности, стирает всякое различие
между философией и религией. Когда он утверждает, что русская
философская мысль «всегда конкретна», когда он видит
признак высшей природы русской философии в том, что в ней
отсутствуют системы, когда он причисляет к составу русской
философии не только поэтические творения Тютчева, Достоевского,
Толстого, но даже личную жизнь Гоголя или Печерина, не
написавших, по его же словам, ни единого философского
произведения, и именно в личном, невыявленном и невыявимом
характере русской мысли усматривает ее величайшее
философское достоинство *, — то, конечно, всякое определенное понятие
философии как самобытной и своеобразной духовной
деятельности совершенно исчезает. Это приблизительно равносильно
тому, как если бы, восхваляя какую-либо национальную
литературу, сказать, что хотя в данной стране появилось мало
поэтических произведений, но жители ее склонны к интересной,
богатой и романтической жизни; или, рассуждая о народном
образовании, отметить, что, несмотря на безграмотность
населения, оно очень талантливо. Яснее и проще было бы, если бы
Эрн прямо сказал: России не нужна никакая философия, ибо
она имеет религию и богатую мыслями литературу, которые
более ценны, чем всякая философия. Такое суждение вызвало
бы, конечно, протест всех философов и ценителей философии,
которые хотели бы, чтобы глубина и богатство русской
философии стояли на уровне русской литературы и религиозной веры;
но оно было бы вполне ясно и неопровержимо: contra principia
negantem disputari non potest6. Но при чем же тут журнал
«Логос», при чем различие между античной и новой, западной и
русской философией?
Если бы Эрн прямо выразил скрытую мысль всего своего
рассуждения, именно, что религия есть лучшая замена всякой
философии, ему не пришлось бы, для возвеличения русской
философии, прибегать к тем натяжкам и преувеличениям,
которые производят такое тягостное впечатление в его статье.
Так, Сковороду он называет «русским Сократом», а Вл.
Соловьева— «русским Платоном». Замечательный русский самоучка
* Здесь, кстати сказать, опять обнаруживается ослепленный
национализм: неужели можно считать исключительной особенностью
русских мыслителей, что они были не кабинетными учеными, а
живыми, глубокими личностями, духовное богатство которых не
исчерпывается их писаными творениями? А Джордано Бруно,
Спиноза, Фихте — неужели они были бездушными сочинителями
систем?
Философские отклики. О национализме в философии
305
Сковорода, творец своеобразного пантеистического
мировоззрения, сложившегося, быть может, не без влияния спинозизма,
может быть уподоблен Якобу Бёме, в лучшем случае —
Джордано Бруно, но называть его русским Сократом значит впадать
в безвкусицу, лишь немногим меньшую той, которую
обнаружил г. Русанов, недавно на страницах «Русского богатства»
уподобив Сократу Чернышевского7. Что касается до
обозначения Вл. Соловьева «русским Платоном», то вряд ли оно
совместимо с свободным уважением к этому великому русскому
мыслителю, который сам сознавал недостаточность
теоретического обоснования своей философии и уже на краю могилы
задумал восполнить этот пробел. Столь же безмерно и потому
безвкусно следующее утверждение Эрна: «Историческая
конкретность философии Вл. Соловьева и величайший интерес его
ко всем изгибам европейской мысли во всем ее многообразии —
я смело говорю — совершенно беспримерны (курс, подл.) во
всей истории философии». Это приводится в доказательство
исключительной культурности русской философской мысли;
но «смелость» этого утверждения не пропорциональна его
основательности. На вопрос Эрна: «кто же из философов Запада,
сколько-нибудь равный ему по величине, может быть
поставлен с ним рядом по насыщенности своей мысли всем прошлым
философии?»—покойный русский мыслитель, со
свойственной истинным философам добросовестностью, вероятно,
ответил бы указанием на одного из своих учителей — Гегеля,
который еще никем не был превзойден в искусстве конгениального
понимания истории философии. Для Эрна же Гегель, этот,
можно сказать, почти единственный вдохновитель
национально-русской философии, есть лишь «рационалистический мео-
нист», заслуживающий презрения и ни к чему не пригодный с
точки зрения «русской философии». И если пример Соловьева
справедливо напоминает Эрну мысль Достоевского о всечело-
вечности русского духа, то эта мысль странно звучит посреди
рассуждения, доказывающего коренную несостоятельность
всей «новой философской мысли» Запада.
Вообще у Соловьева есть чему поучиться нашим новейшим
философским славянофилам, считающим себя его учениками
или продолжателями. Соловьев, конечно, не почерпнул своей
мудрости в Марбурге и Фрейбурге, и его нельзя обвинить в
легкомысленном презрении к русской духовной культуре. Однако
в «Национальном вопросе» он решительно и достаточно
убедительно разрушил национальное философское самомнение. Эти
страницы, очевидно, имела в виду русская редакция «Логоса»,
306
С. Л. ФРАНК
когда она ссылалась на авторитет Соловьева в своем суждении
о низком состоянии чистого философского знания в России.
Пишущему эти строки уже пришлось цитировать эти слова
Вл. Соловьева, но их положительно необходимо еще раз
напомнить в момент, когда ненавистная Соловьеву
националистическая гордыня пытается укрепиться в философии.
«За последние два десятилетия, — писал Соловьев в 1884 г.
(и повторял во 2-м изд. в 1888 г.),—довольно появлялось в
России более или менее серьезных и интересных сочинений по
разным предметам философии. Но все философское в этих
трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ничуть не
похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже.
Никаких действительных задатков самобытной русской
философии мы указать не можем: все, что выступало в этом
качестве, ограничивалось одною пустою претензией... Прекрасно
понимая и усваивая чужие философские идеи, мы не
произвели в этой области ни одного значительного творения,
останавливаясь, с одной стороны, на отрывочных набросках, а с
другой стороны, воспроизводя в карикатурном и грубом виде те и
другие крайности и односторонности европейской мысли» (На-
ц<иональный> вопр<ос>. 2-е изд. С. 131—132)8.
Упомянув, далее, о влиянии гегельянства на русскую мысль
в 30-х и 40-х годах, Соловьев замечает: «Странно сказать: это
философское движение избранных умов, начавшись с таким
блеском и одушевлением, кончилось — по крайней мере для
философии — ровно ничем». Отметив раннюю смерть вождя
философского кружка, Станкевича, он продолжает:
«Другой выдающийся мыслитель, И. В. Киреевский (сначала западник
и гегельянец, потом славянофил), пришел в своих философских занятиях
к тому выводу, что истинная мудрость и подлинное знание находятся
исключительно только у аскетических писателей православного Востока.
Друзья его надеялись, что он извлечет из этого глубокого источника новую
восточную философию, чтобы победоносно противопоставить ее
обветшавшим умозрениям гнилого Запада. Но все дело ограничилось одним
голословным утверждением; аскетическая философия осталась в своем старом
виде в кельях афонских и оптинских монахов и не превратилась в основу
нового славяно-русского просвещения... В сущности верное, но слишком
"суммарное" и беглое отрицание германской метафизики в трех или
четырех журнальных статьях, да ничем не оправданное требование новой
восточной философии — вот и все, что мы имеем с этой стороны» (Там же.
С. 132—133).
Описав далее отказ западнической части кружка от
философии ради социальных идей и позднейшее падение интереса
Философские отклики. О национализме в философии
307
к философии и увлечение материализмом и позитивизмом,
Соловьев указывает, против Данилевского, что эта
«западническая подражательность» распространялась и на
славянофильскую философию.
«Славянофильские мыслители не имели в этом отношении особенного
преимущества, ибо все их руководящие философские и богословские идеи
могут быть найдены частью у французских писателей, как Ламенне, Бор-
да-Демулен и др., частью же и у немцев, как Сарториус, Мёллер*. Да и в
тех случаях, когда они "западным" заблуждениям противопоставляли
"восточную" истину, эта истина являлась не в виде живой и деятельной
философской мысли, а в виде простой ссылки на мудрость старых мистических
и аскетических писаний, с которых они собирались — да так я не
собрались — стряхнуть пыль веков» (с. 135).
Эту фактическую характеристику Соловьев дополняет
указанием на причины такой слабости русской философской
мысли. Опираясь на приведенное выше указание, что вера в чистое
мышление есть необходимая основа и условие философии,
Соловьев отмечает характерное для «чисто русского даровитого
человека» «глубокое презрение к отвлеченным,
умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения к
нравственной и материальной жизни» (с. 136). Конечный
вывод Вл. Соловьева таков:
«Таким образом, если наша философская мысль обнаруживает теперь
диетическое направление, — ничего более определенного о ней пока
сказать нельзя, — то она наверное никаких плодов не принесет на почве
нашего национального мистицизма. Этот последний (свойственный,
впрочем, не исключительно русским, а и другим полудиким народам Востока)
самыми крайностями своими свидетельствует, конечно, о некоторых
силах нашей духовной натуры, которые при иных условиях, при более
правильном и глубоком развитии просвещения и образования в народе, могли
бы принести хорошие плоды (по крайней мере, в области
религиозно-нравственной). Во всяком случае несомненно только одно: мистическое
настроение этого рода в соединении с безграничным недоверием к
рациональному элементу человеческой и мировой жизни, составляет умственную
почву, решительно неблагоприятную для развития всякой самобытной и
наукообразной философии» (с. 138, курс. подл.).
Эти суждения Вл. Соловьева я привожу совсем не в качестве
незыблемого авторитета: быть может, Вл. Соловьев ошибался в
своей оценке русской философии. Но они, по меньшей мере,
доказывают, что скорбь о низком состоянии философской мыс-
* Соловьев делает здесь примечание: «Если потребуется, я берусь
подтвердить это цитатами».
308
С. Л. ФРАНК
ли в России может проистекать не из одного лишь увлечения
«немецкими философскими товарами самой последней
выделки» и что можно одновременно глубоко понимать и почитать
ценные стороны восточной религиозности и русского
национального сознания, но вместе с тем смиренно признаваться в
слабости русской философской культуры. В этом последнем
отношении мнение русской редакции «Логоса», очевидно,
совпадает с мнением Вл. Соловьева (ведь никто не будет утверждать,
что с 1888 года состояние русской философии существенно
изменилось, хотя она и обогатилась отдельными ценными
трудами). Но гораздо важнее, чем сама оценка русской философии,
представляется приводимая Соловьевым причина ее низкого
состояния: эта причина есть, коротко говоря, то самое презрение
к ratio, в котором Эрн видит условие исключительной глубины
русской философии. Все, что Соловьев говорит о философии
Киреевского, о голословности и неубедительности ее основной
мысли, буквально применимо к рассуждению Эрна; разницу
можно усмотреть разве только в одном: Соловьев не
представлял себе, чтобы можно было настолько отождествить
непосредственную религиозную жизнь с теоретической философией, что
отпадет даже само требование и искание русской философии и
она будет объявлена уже завершенной.
Подлинным традициям русской философии, как и русской
культурной мысли вообще, — одним из лучших представителей
которой является Вл. Соловьев, — мы останемся более верны,
если сохраним в нашей душе смирение и будем по-прежнему
учиться у Запада, чем если мы, по совету Эрна, гордо
замкнемся в «национальной» русской философии. Конечно,
прискорбно, когда молодые русские философы поклоняются каждому
слову Риккерта или Когена и не читают Вл. Соловьева и
Лопатина или не замечают их философского значения. Но, быть
может, еще более прискорбно то националистическое
самомнение, которое в оценке национальной философии не знает меры
и перспективы и дерзостно попирает вечные ценности
европейской мысли.
Возвращаясь, в заключение, к журналу «Логос»,
необходимо сказать: худо ли, или хорошо его редакция поняла и
выполняет его задачу, сама эта задача — содействие развитию в
России философской культуры в тесном общении с философской
жизнью Запада заслуживает безусловного одобрения и
всяческого поощрения.
^^
С. Л. ФРАНК
Еще о национализме в философии
Ответ на ответ В. Ф. Эрна
Всякий спор может быть плодотворен, интересен и, главное,
осмыслен, лишь если он ведется по существу, если в нем
сталкиваются два противоположных воззрения, а не слова или
чувства. В таком споре не по существу В. Ф. Эрн упрекает меня;
я нахожу этот упрек совершенно незаслуженным и думаю, что
с большим правом мог бы обратить его против моего
почтенного противника. Что касается «раздраженности» и
«взволнованности», то я предоставляю читателю, который пожелал бы
сравнить мою статью в сентябрьской книжке «Русской мысли»
с ответом Эрна, судить о том, кто говорит более спокойно и
объективно — я или В. Ф. Эрн. Моя «культурная совесть» не
позволяет мне также взять назад чисто объективные мои
указания, что некоторые суждения Эрна огульны и
неосновательны и что его оценка западной и русской философии вытекает
либо из национальной ослепленности, либо из недостаточной
осведомленности. Если, однако, некоторые из моих оценок
показались Эрну лично обидными, то, хотя я не могу признать
себя объективно виновным, я весьма сожалею об этом и прошу
у него извинения. Я тем более имею право рассчитывать на
снисхождение В. Ф. Эрна, что в отношении «неучтивости» Эрн
в своем ответе, во всяком случае, возместил мне сторицею.
К сожалению, я не нахожу в ответе В. Ф. Эрна разъяснения
тех недоумений, которые вызвала во мне его статья. В. Ф. Эрну
представляется, что весь спор основан на моем «непонимании»
и на произвольном перенесении мною его философских идей на
публицистическую почву; если бы дело обстояло так, то не
стоило бы и отвечать мне. Упрек в неумении отличать
философские оценки от публицистических, в «примитивном и
варварском» отношении к теоретической истине, в замене принци-
310
С. Л. ФРАНК
пиального обсуждения каким-то доносом о
неблагонадежности — этот упрек я считаю совершенно незаслуженным ни
данной моей статьей, ни моей общей литературной деятельностью.
Признаюсь, при чтении статьи Эрна во мне зашевелились
и недоумения действительно публицистического характера;
утверждения Эрна, что «Россия существенно культурна», что
она «занимает исключительное положение», так как «все тело
народное проквашено религией Слова», и русская мысль
«субстанциально пронизана» этой же религией (Моск<овский>
еженед<ельник>. № 30), показались мне теоретически
ложными, а потому и практически опасными перед лицом той
властной и как будто непобедимой стихии зла, дикости и темноты,
за которую ответственна та же Россия; и мне невольно
вспомнилась глубокая мысль Вл. Соловьева, что Россия стоит на
перепутье между «Востоком Ксеркса» и «Востоком Христа» *. Но
эту публицистическую сторону вопроса, чрезвычайно важную
саму по себе, я совершенно сознательно оставил и оставляю в
стороне, как не связанную непосредственно с рассуждениями
Эрна. Спор же велся мною именно на той почве, на которую его
поставил своей статьей Эрн: на почве философско-историче-
ской. Я не остановился специально на чисто философской
стороне вопроса, на гносеологическом или метафизическом
различии между ratio и Логосом, во-первых, потому, что это
различие не обосновано, а лишь намечено Эрном и служит у
него только отправным пунктом его рассуждения, и,
во-вторых, потому, что, несмотря на философские разногласия
между мной и Эрном, некоторые теоретические тенденции его идей
я разделяю: я сам защищал в литературе «онтологизм» против
«меонизма» *, признаю философское значение интуиции и
односторонность рационализма, и, как я отметил в полемической
своей статье, вместе с Эрном неудовлетворен современным
неокантианством. В интересах плодотворности и ясности спора
мне необходимо было отграничить одну сторону вопроса,
обсуждение которой требовало сложного анализа и могло бы
оставаться спорным, от другой стороны, в которой заблуждение
Эрна было мне совершенно ясно и о которой можно говорить
независимо от первой: это есть именно философско-историче-
* В статье «Личность и вещь» (Русская мысль. 1908. № 11),
перепечатанной в сборнике моих статей «Философия и жизнь». Из этой
же статьи, кстати сказать, Эрн мог бы узнать, что я еще задолго до
возникновения нашего спора признавал философское значение
Л. М. Лопатина, а не только теперь «начинаю его признавать».
Еще о национализме в философии
311
ские или историко-философские тезисы Эрна, которые образуют
центральную мысль его рассуждения. Я утверждал и
утверждаю, что — как бы ни относиться к различению между ratio и
Логосом — историческое и национальное распределение этих
начал у Эрна односторонне и отчасти совершенно неверно; я
утверждал и старался доказать примерами, что нельзя всю
новую западную философию подводить под начало ratio, что
нельзя также всю античную философию лишать этого начала
и, наконец, что нельзя русскую философию и количественно, и
качественно оценивать так, как это делает Эрн, т. е.
усматривать в ней что-то беспримерное в новой философии и
независимое от западного философского творчества.
Для опровержения этих моих указаний В. Ф. Эрну
следовало бы либо обнаружить общими соображениями
несостоятельность моей мысли, либо же доказать, что все приведенные
мною примеры неверны, так как даже одна отрицательная
инстанция уничтожает положительное утверждение,
высказанное в общей форме. Взамен этого Эрн говорит о «слезинках»,
которые я будто бы проливаю над отдельными именами
западных философов, подробно останавливается на отдельных
частных вопросах, но даже не затрагивает общей мысли, которую
они у меня доказывают. Что я, вместо того чтобы рассуждать,
проливаю слезы, обижаюсь, эстетически оскорбляюсь и т. п. —
эту субъективную оценку моих мнений я оставляю на совести
В. Ф. Эрна. Отвечу вкратце на частные возражения Эрна, чтобы
поскорее вернуться к общему предмету спора. Как признание
Спинозы «меонистом», так и не вполне с этим гармонирующее
отнесение его онтологизма лишь на счет его национального
темперамента я считаю одинаково неправильным. Указание,
что у Спинозы бытие вещей растворяется в Боге и в этом
относительном смысле исчезает, — это указание принадлежит не
русскому философу Лопатину, а западному философу Гегелю,
который первый заменил обычное обвинение Спинозы в
атеизме упреком в «акосмизме»; здесь, кстати говоря, Эрн снова
впадает в хроническое у него недоразумение, признавая
достоянием русской мысли то, что было высказано на Западе. Но
даже допуская «акосмизм», его надо отличать от «меонизма»,
и совершенно явственный элемент «онтологизма» у Спинозы
основан не только на его темпераменте, но и на чисто
рационалистической вере его в совпадение логической истины с
реальностью — на том «онтологическом аргументе, который
составляет общеизвестную принадлежность рационализма. Онтологизм
Спинозы должен для Эрна уясниться уже из того, что система
312
С. Л. ФРАНК
Шеллинга органически и сознательно восприняла в себя
спинозизм (приводимому Эрном критическому отзыву Шеллинга о
Спинозе можно было бы противопоставить совершенно иного
рода отзывы того же Шеллинга). Что же касается идеи Бога
у Спинозы, то я могу сослаться на защиту ее «онтологистом»
В л. Соловьевым против кантианца проф. А.И.Введенского2.
Впрочем, Эрн сам признает спорность этого вопроса, а о моих
мнимых «слезах» серьезно говорить не приходится. Гегеля я не
называл «онтологистом», а лишь указал на связь его идей с
античной философией и, в частности, с идеей Логоса;
односторонность характеристики Гегеля в построении Эрна ясна, во-
первых, из того, что Гегель глубже всех отметил
относительность рассудочных форм мышления и необходимость их
преодоления, и, во-вторых, из общеизвестного и никем доселе
неоспариваемого факта огромного влияния Гегеля на русскую
философскую мысль, одинаково и западников, и
славянофилов; предлагаемое же теперь Эрном сближение Гегеля с
греческой софистикой для меня — да и не для меня одного —
настолько неожиданно, что я предпочитаю воздержаться от его
обсуждения; впрочем, я рад, что Эрну удалось найти «меони-
ческий пафос» в античной философии — это дает надежду, что
он при случае найдет «онтологический пафос» и в новой.
Вполне спокойно принял я и торжествующее уличение меня Эрном
в неправильном отнесении стихотворения «Эмману-эль» к
Канту. Хотя я хорошо знаю смысл и буквальное значение слова
«Эмману-эль» (оно ясно уже из самого текста стихотворения),
я не нахожу в таком толковании ничего нелепого или
невозможного и знаю, что не я один, но и многие другие, отнюдь не
невежественные лица, его придерживаются; кроме вполне его
допускающего хода мыслей в самом стихотворении, меня
убеждало в моем толковании также и то, что дата
стихотворения совпадает с временем работы Соловьева над статьей о
Канте для «Словаря» Брокгауза (1894)3; объективных и абсолютно
непререкаемых критериев для решения этого вопроса само
стихотворение не дает, и формально я имел бы возможность
отстаивать свое понимание. Считаю, однако, долгом
добросовестности сообщить, что личный друг и биограф покойного философа,
проф. Э. Л. Радлов, к мнению которого я теперь обратился,
нашел, что стихотворение действительно не относится к Канту.
Я не нахожу, чтобы вопрос был этим окончательно решен, и
скорее склоняюсь все же к прежнему своему мнению; но я вполне
допускаю возможность ошибки с моей стороны, не усматривая
в ней, однако, ничего постыдного для меня и сколько-нибудь
Еще о национализме в философии
313
«характерного», но, главное, какое же это имеет значение для
общего предмета нашего спора? Что о Канте Вл. Соловьев во
всяком случае думал иначе, чем Эрн, это ясно хотя бы из
следующего его суждения: Кант «возвел философское мышление
на высшую (сравнительно с прежним состоянием) ступень, с
которой оно никогда уже не может сойти» (Соч. Т. IX. С. 149,
статья «Кант» из словаря Брокгауза). А что о всем отношении
между русской и западной философией Вл. Соловьев имел
мнение, прямо противоположное суждению Эрна, — на это мое
указание Эрн, к великому моему удивлению и сожалению, по
существу ничего не ответил. Наконец, я продолжаю находить
неуместным и вводящим в соблазн обозначения «русский
Сократ» и «русский Платон» в применении к Сковороде и
Соловьеву; кто бы ни употребил первый эти обозначения, в
контексте рассуждения Эрна они производят впечатление невыносимо
преувеличенной оценки обоих русских мыслителей:
уподоблять хотя бы и очень крупные величины русской философии
гениям, влияние которых измеряется тысячелетиями и всем
объемом мировой культуры, — по меньшей мере неудобно.
Но довольно об этих частностях, которые сами по себе,
повторяю, не имеют ни малейшего значения и важны лишь как
примеры общей мысли. Отвечу еще на некоторые возражения
Эрна более общего характера: 1) Что элемент национализма,
в плохом смысле, окрашивает рассуждения Эрна, это не я
выдумал, а ясно для всякого, кто прочтет статью Эрна. Россия и
русская мысль признается, по крайней мере для настоящего
времени, единственной хранительницей истинной философии.
Слова Эрна, что «обсуждение не есть осуждение» и что он
признает в западном рационализме достойного врага, ничего не
меняют по существу. В философии есть только один враг —
заблуждение; признать что-либо заблуждением значит
теоретически осудить. Ничуть не сомневаюсь, что критика и
осуждение есть священное право философии, но когда осуждению
подвергается не отдельная мысль или направление, или автор,
а все многовековое и бесконечно многообразное содержание
новой западной мысли, то тут действует уже не философская
критика, а — я должен повторить свою оценку — либо
национальное пристрастие, либо малая осведомленность. Объявлять
всю новую западную мысль «бесплодной*, как это делает еще в
своем ответе Эрн, кажется мне с философской точки зрения
прямо чудовищным. Столь же мало меняет дело разъяснение
Эрна, что тщательное изучение западной философии он считает
условием борьбы с ней. Я полагаю, что вряд ли я подал повод
314
С. Л. ФРАНК
моему противнику думать, что я приписываю ему желание
ввести в России запретительную цензуру для иностранных книг
по философии. Но разве исключительно отрицательное
отношение ко всей западной философии не означает по существу
стремления «замкнуться» в началах национальной (или
«восточной») мысли? 2) Если, как теперь разъясняет Эрн, «Логос»
объемлет и дискурсивное мышление и если «собственная
область философии есть Логос дискурсивно-логический», то как
мог Эрн причислять к русской философии личную жизнь Пече-
рина и Гоголя и поэтические произведения Тютчева,
Достоевского и Толстого? Как мог он говорить, что русская философия
состоит не из систем, а из невыявимых личных переживаний?
При таком, действительно точном понимании философии
отпадает три четверти того, что Эрн к ней причислил в России, и
остающееся слишком мало, чтобы позволить столь резкое
качественное ее противопоставление западной философии. 3) Я не
считаю философские теории славянофилов лишенными
значения и ценю относящиеся сюда работы М. О. Гершензона. Но,
во-первых, я полагаю вместе с Соловьевым, что они далеко не
так оригинальны, как это думает Эрн (их главный западный
источник я усматриваю, кроме Гегеля, в Якоби и косвенно в
Гамане, а также в последнем периоде творчества Фихте, когда
Фихте — о чем не мешает здесь упомянуть — поставил свое
умозрение в связь с Логосом Иоаннова Евангелия и резко
противопоставил идеальный объект рационального знания
иррационально данному бытию). Во-вторых, и это самое важное, я
считаю действительно оружием, пришедшим в негодность, их
философско-историческое построение, в существенных чертах
воспроизводимое Эрном и приписывающее западной мысли (и
жизни) только недостатки, восточной и русской — только
достоинства. Это построение опровергнуто лучше всего Вл.
Соловьевым. Что основная мысль Эрна чем-либо существенным
отличалась бы от славянофильского разграничения между
«рассудочностью» и «целостностью» и не коренилась бы в нем —
в этом Эрн меня не убедил. 4) Все, что говорит Эрн о моем
понимании культуры, я должен оставить без ответа, ибо это не
имеет решительно никакого отношения к теме нашего спора.
Есть ли для меня культура музей, гербарий или огород,
оцениваю ли я Канта на какие-либо цифры, все это, — независимо
даже от степени уместности и плодотворности такого рода
полемики — лежит за пределами того конкретного
историко-философского вопроса, о котором мы спорим, и мне мало
понятно, зачем Эрн так подробно на этом останавливается, тем более
Еще о национализме в философии
315
что он сам жалуется на необходимость быть кратким и
оставляет без ответа самое существенное в нашем споре. Кажется,
единственный повод, который я дал для его подробного
обсуждения моего понимания культуры, есть мои слова о «вечных
ценностях европейской мысли». Что европейская мысль (или
культура, хотя я не упомянул этого слова) не произвела или
сотворила, а воплотила и выявила некоторые вечные ценности,
есть мое глубочайшее убеждение, и я не могу найти в нем
какой-либо игры слов. И в сплошном отрицании результатов этой
мысли я не могу не видеть пренебрежения к тому, что в них
есть общечеловечески ценного. Причисление же меня к
поклонникам Виндельбанда и Риккерта, после того, как я
открыто заявил, что все неокантианство меня не удовлетворяет,
может быть только полемическим приемом, в оценку которого я
не вхожу.
Я резюмирую сущность нашего спора и в кратких тезисах
укажу на существенные мои недоразумения, оставшиеся без
ответа:
1. Я указал, что идея античного Логоса и «онтологизм»
присущи новой западной философии, и отметил ряд имен, начиная
со Спинозы и Лейбница, вплоть до современных немецких
реалистов и критиков кантианства. Эрн не ответил на мою общую
мысль и возражал только относительно Спинозы и Гегеля.
2. Я указал, далее, что античный Логос есть безличная
логико-метафизическая сила и не может быть отождествляем без
весьма больших ограничений с личным христианским Логосом
и что, следовательно, пропасть между древней философией и
православием более велика, чем между древней и новой
западной философией. Это указание также осталось без ответа.
3. Я отметил, что построение Эрна, причисляющее к
составу русской философии личную жизнь русских людей и
произведения русских поэтов, лишает понятие философии всякого
точного значения. Это указание приобретает, как я уже
указал, еще большую силу, если сам Эрн теперь видит признак
философии в дискурсивно-логическом мышлении,
4. Я привел мнение Вл. Соловьева, что русская философия
всецело зависит от западной и что наш крайний мистицизм
есть почва, неблагоприятная для развития философии. Этого
указания Эрн по существу не коснулся.
5. Я отметил, что глубина и богатство личной духовной
жизни не составляет какой-либо привилегии русских
мыслителей, а присущи и западным, а также, в частности, что
суждение Эрна о «совершенно беспримерной* в истории философии
316
С. Л. ФРАНК
исторической конкретности мышления Соловьева более смело,
чем основательно, и подтвердил свою оценку примерами. Это
указание осталось без ответа.
Summa summarum: все существенные мои указания,
пытавшиеся вскрыть неосновательность и националистическую
пристрастность мысли Эрна о сплошной «меоничности» новой
западной философии, о беспримерности и огромном
принципиальном значении специфически-русского умозрения в составе
новой мысли и о безусловной противоположности между
русской и западной философией — все эти указания оставлены
Эрном без ответа.
Все это я говорю совсем не к тому, чтобы «уличить» Эрна
или отстоять свою правоту, а лишь чтобы отметить, что Эрн в
своем ответе не коснулся самых существенных пунктов спора и
не обосновал своей позиции. Спор между нами и после его
ответа не свелся к моему «непониманию» или моей
тенденциозности, а сохраняет всю свою силу и остроту. Так как я сослался
на подтверждающее мою основную мысль мнение Соловьева, то
это есть скорее спор не между В. Ф. Эрном и мной, а спор
между философским славянофильством Эрна и философским
универсализмом В. Соловьева, к которому я в этом отношении
всецело примыкаю. Вл. Соловьеву еще в юности было «ясно, как
дважды два — четыре, что все великое развитие западной
философии и науки, по-видимому, равнодушное и часто
враждебное к христианству, в действительности только вырабатывало
для христианства новую, достойную его форму» *. Точно так
же в «Кризисе западной философии» он говорит, что
«необходимые результаты западного философского развития
утверждают, в форме рационального познания, те самые истины, которые
в форме веры и духовного созерцания утверждались великими
теологическими учениями Востока» (Соч. Т. I. С. 143, курс,
подл.). И с этим суждением вполне согласуются те
убийственные для конструкции Эрна мнения о русской и западной
философии, которые я в моей статье цитировал из «Национального
вопроса» и с которыми Эрн, как мне кажется, обязан был так
или иначе сосчитаться, ибо они исходят от общепризнанно
крупнейшего и истинно национального философа, традиции
которого, по-видимому, хочет поддерживать Эрн. Этот
философский универсализм Соловьева есть лишь отражение его
религиозного и культурного универсализма, и он прямо
противоположен той позиции ожесточенной борьбы с Западом, кото-
* Юношеские письма Вл. Соловьева // Русск<ая> мысль. 1910. № 5.
Еще о национализме в философии
317
рую занял и защищает В. Ф. Эрн. Я бы и не начинал спора с
В. Ф. Эрном, если бы не увидал в его рассуждениях какое-то
возрождение «национализма в философии», философски
ложного и вредного. Ответ Эрна не убедил меня, что я ошибался и,
думаю, не убедит и других; принципиальный и важный спор о
том, должны ли мы в сфере философии (как и в других сферах
культуры) бороться на смерть с Западом или, напротив,
стремиться к единению с теми «всечеловеческими началами», на
которых, по мысли Соловьева, «воздвиглась Запада
держава», — этот спор нельзя устранить насмешками над своим
противником или ссылками на его нежелание или неспособность
понимать чужую мысль.
^5*^
^^
Б. В. ЯКОВЕНКО
О Логосе
Quelli filosofi hanno ritrovata la sua
arnica Sofia, li quali hanno ritrovata questa
unite. Medesima cosa a fatto e la Sofia, la verità,
la unita.
Giordano Bruno1
ВСТУПЛЕНИЕ
§ 1. На всей современности лежит печать одного общего
недуга — недуга расщепленности и разрозненности сознания. От
него страдает, конечно, и философское сознание. С одной
стороны, замечается стремление жить за свой счет, пренебрегая
традицией и уже накопленными философскими богатствами.
С другой стороны, и в противовес этому слышится призыв
к старине, к прежнему, при полном презрении к настоящему.
Оба эти болезненные проявления современной философской
жизни, разумеется, тесно связаны друг с другом: они
вызывают друг друга, следуют друг за другом, опираются друг на
друга, как и все иные противоположности. Там, где господствует
поверхностное оригинальничанье, естественно, пробуждается
потребность в прошлом, признанном и фундаментальном. Там,
где воцаряется традиционализм, со всеми своими
предрассудками и уже осознанными ошибками, должно, разумеется,
возникнуть тяготение к оригинальному, новому. И нигде,
пожалуй, этот двойственный недуг не был так силен и беспощаден,
как у нас в России. От крайнего увлечения немецким
идеализмом русское философское сознание балансировало к столь же
крайнему религиозному философизму; от этого
самопотопления в религиозном переживании оно резко перебросилось к по-
О Логосе
319
зитивистическому оригинальничанию и пренебрежению всем
старым; и вот, возмущенное философской поверхностностью
позитивизма, оно в последние десятилетия с новым увлечением
взывает к религиозным настроениям, обрекая все остальное,
как ересь, на умственное сожжение. Между тем совершенно
ясно, что оригинальность и традиционность не должны
находиться в антагонистическом отношении. Ведь только там и
возможна подлинная оригинальность философского творчества,
где она является детищем всего предыдущего развития, где она
творчески пользует все то, что было уже сделано, и на прочном
и традиционном фундаменте возводит новое, доселе еще
невиданное здание. И наоборот, только там и возможен здоровый
традиционализм, где он знаменует собою полноту основных
мотивов философского творчества и через то служит прочной
базой для нового развития. Подлинные философские
новшества тесно связаны с прошлым; они прямо-таки растут из него.
Подлинный философский традиционализм тесно связан с
грядущим; он прямо-таки требует его и, стало быть, предрекает
будущее. Тому лучшее свидетельство — сама история
философской мысли, ибо все действительные создания философского
творчества обусловлены дружественным сотрудничеством
обоих мотивов, тогда как во времена упадка философского
творчества оба мотива находятся в глубочайшем антагонизме. Таким
образом, только в интимной связи современности с прошлым,
только в их обоюдном взаимодействии и взаимопособлении
заключается истинная гарантия плодотворности
философствований.
§ 2. Да и как может быть иначе? Философия, по самому
существу своему, есть нечто единое. Философия есть знание
абсолютного. Такой она всегда была и всегда будет — во всех
одеждах, во всех формулировках, при всех обстоятельствах, во все
времена. Разнообразие систем, доходящее зачастую до их
взаимовраждебности, нисколько не вредит этому единству; скорее,
наоборот, оно его обусловливает. Ибо подлинное единство есть
единство множественного. И именно такое интимное единство
множественных мотивов представляет собою философия.
История философии наглядно показывает постепенный рост этого
единства в форме непрерывного выявления все новых и новых
его мотивов. Опираясь на все предыдущие, каждая подлинно
новая система философии выдвигает на первый план какой-
либо новый момент, одинаково со всеми другими необходимый
для полноты общего философского единства. Этот процесс
выявления необходимых моментов философского знания есть
320
Б. В. ЯКОВЕНКО
процесс установления философии как науки. Когда это
свершится и философия выступит как вполне сложившаяся наука,
все множественные исторические моменты получат значение
систематическое, и на место исторического единства
непрерывности станет систематическое единство гомогенности. То, что
свершила каждая подлинная система философии исторически,
получит систематическую цену в философской науке; каждый
исторически явленный прогресс в познании абсолютного
обнаружится тогда как особый и необходимый момент самого
абсолютного. Разумеется, не всякое философское переживание
обладает таким значением, не всякое философствование
представляет собою интимный момент единой сущности философии.
Есть философствования, созидающие на почве уже содеянного
новые здания: таковы системы Платона, Плотина, Спинозы,
Лейбница, Юма, Канта, Гегеля; они подготовляют в своей
множественности будущее научное единство философии. Но
имеются и иные философствования, возникающие в философском
сознании не из интимных, внутренних побуждений
философского творческого развития, а по мотивам, совершенно
посторонним этому последнему; эти философствования чужды
подлинной философии; они предлагают новое, не оперев его на старое;
они вызывают тени старого, не обновив его духом сделанных
завоеваний. Такова, например, философская современность,
живущая впроголодь, или за счет призрачной оригинальности,
или за счет обветшалых, хоть когда-то и властных, идей. Эти
философствования, конечно, не нарушают принципиального
единства подлинной философии, ибо им нет места в ряду
единых в своей множественности моментов подлинной
философской спекуляции. Их значение чисто отрицательное. Они по·
казывают, чего должно остерегаться философское мышление,
сознающее свою преемственность и свой непосредственный
долг.
§ 3. Если потому в моменты, подобные современности,
раздаются голоса о кризисе или распаде философии, то они либо
неправдоподобны и заблуждаются, либо явно имеют в виду не
самую философию, а временные философские переживания. И,
на самом деле, философия не знает кризисов; более того, она
чужда им принципиально, по самому существу являемого ею
единства множественного. Кризисы переживаются
философствованием; философия остается всегда и повсюду сама собою в
своем неустанном самоутверждении и саморазвитии. И это
подтверждается уже тем, что в моменты объявленного духовного
распада философия всегда двигалась вперед, обретая новый
О Логосе
321
элемент своего множественного единства. Так, из софизма
родилась система Платона, из александрийского эклектизма и
крайней мистики вышла система Плотина, из поверхностного и
отчаявшегося популяризма воспрянула система Канта и, наконец,
из современного шатания и раздора высвобождается система
Когена. Философия не знает ни скачков, ни кризисов, будучи
совершенно постепенным и неустанным обнаружением своего
объединенного абсолютностью множества. Кризисы и скачки
переживаются философствованием, переживаются тогда, когда
оно уклоняется с торного пути философской спекуляции и
отдает дань посторонним мотивам. Потому только там, где
философствование поднимается до сознания полноты философских
тенденций, только там оно осуществляет в себе новый шаг
философского творчества. И наоборот, переживая кризисы,
обращаясь вспять или открывая мнимо неведомые еще страны,
философствование удаляется от подлинного философского пути,
переставая быть адекватным требованиям единой философии-
науки. И в наше время эта отщепленность философствования
от философии чувствуется с небывалой еще силой.
Данный очерк предназначается к тому, чтобы показать
исконное единство философского познания. И для этого он
избирает ту проблему, которая молчаливо либо высказанно всегда
стояла в центре философских размышлений. Философия как
познание абсолютного всегда была сосредоточена на вопросе о
том, как абсолютный принцип относится к преходящему и
временному; ибо абсолютное только тогда и абсолютно, когда
уясняет и обосновывает собою все. Этот вопрос был
сформулирован античным миром как проблема Логоса и затем передан
дальнейшей философии. Вполне понятно, что данный очерк
именно на проблеме Логоса хочет показать единый ход
развития философской мысли и тем положить конец мнениям,
нарушающим равноценность подлинных философских систем.
И для этого сначала будет произведено историческое рядополо-
жение характернейших философских систем, а затем им будет
дана систематическая оценка.
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЯДОПОЛОЖЕНИЕ
§ 1. Античная философия. А) Философская мысль получила
самостоятельное и независимое существование в тот момент,
когда перед умом человеческим ясно и раздельно была постав-
322
Б. В. ЯКОВЕНКО
лена проблема сущего. В этой проблеме философски было
выражено основное убеждение человеческого ума в том, что
существо вещей вечно и самодейственно, убеждение, первоначально
почерпнутое из темного и несознанного еще самонаблюдения и
наивно распространенное по аналогии на все сущее. Почти
с первых же шагов своих философская мысль увидела, что
таким всеопределяющим собою сущим никак не может быть
непосредственно данное и переживаемое. И тогда между сущим
и непосредственно данным пролегла в глазах философской
мысли глубочайшая пропасть: рядом с сущим встало
кажущееся, рядом с абсолютным — относительное. Это изначальное
философское понимание действительности было исторически
закреплено и классически выражено элеатами, особенно Пар-
менидом. Вместе с тем была предопределена судьба всей
последующей философии: чтобы познать сущее, философская мысль
должна была так или иначе объяснить из него непосредственно
данное, так или иначе избавить себя от чисто отрицательного и
нестерпимого противопоставления абсолюта и релятива. Таким
образом, философия была предопределена стать и быть
философией Логоса, философией примиряющего абсолютность и
относительность начала. И действительно, в ответ элеатам
Гераклит пытался обосновать систему материалистического логизма,
согласно которой относительное являлось простым
обнаружением порождающего его сущего — Логоса. Этим была
установлена другая крайность, столь же мало удовлетворяющая, как
первая. И потому вполне естественно, что, достигнув своей
зрелости, античный философский дух дал две системы чисто
примирительного характера. Если терминологически учения
Платона и Аристотеля и не отмечены понятием Логоса, то по
смыслу своему они сосредоточиваются как раз на проблеме
Логоса, т. е. объединяющей абсолютное и относительное силы.
Принято считать обоих представителями яркого дуализма. Это
так же неверно, как стараться сделать из них выраженных
монистов. Односторонними крайностями не характеризуются
создатели философских систем. И Платон и Аристотель искали
полноты мотивов. Потому их учения монодуалистичны, а
основной проблемой является проблема объединения
первоначально разрозненных принципов. Это основное направление их
мышления сквозит повсюду: у Платона — ив диалектическом
учении о бытии и небытии, и в гносеологическом учении о
математическом познании, и в космическом учении о мировой
душе; у Аристотеля — ив теистическом учении о Боге, и в
метафизическом учении об имманентности формы и материи, и в
О Логосе
323
телеологическом понимании мира. Обе системы одинаково
озабочены одной и той же проблемой Логоса, хоть и выражают ее
в иных терминах и не сосредоточивают в понятии единой
силы. И лучшим доказательством тому являются последующие
учения стоиков и Филона, вырастающие всецело на их плечах
и при этом уже явственно и терминологически
сосредоточивающие философскую проблему на понятии единой
примирительной силы Логоса. Но у стоиков и Филона проблема Логоса
находит снова одностороннее (или монистическое, или
дуалистическое) разрешение. И это вызывает к жизни философскую
систему Плотина, собирающую в себе все мотивы античного
философствования и разрешающую основную философскую
проблему снова монодуалистически. Центральность проблем
Логоса и здесь не подлежит сомнению, несмотря на
терминологическую нефиксированность и множественное истолкование
примиряющей крайности силы. Она обнаруживается здесь и
теистически, и метафизически, и космологически, и
гносеологически, и телеологически. И в этом смысле система Плотина
являет собою наиболее полное, а в диалектических одеждах,
приданных ей искусной рукою Прокла, и наиболее
систематическое изложение основных мотивов античной философии*.
Ввиду того что предполагаемое повсюду учение о Логосе свое
наиболее точное и наиболее типичное выражение нашло в
односторонних учениях стоиков и Филона, данный очерк, по
самой задаче своей, должен остановиться на них подробнее.
В) Абсолютное и относительное соединяются у стоиков
потому, что первое является подлинным началом последнего.
Абсолютное, как Логос, проникает собою все сущее материю,
мир, человека И, первым делом, абсолютное есть начало не
только формы, но и материи. В материи оно обнаруживает себя
пассивно и алогично, чтобы затем на ней и в связи с нею
обнаруживаться как Логос. Этот Логос есть, во-первых, действенный
принцип, оформляющий материю в гармонический мир: ratio
faciens2 τό ποιούν3. Но при этом он немыслим отдельно от
материи, более того, он по самому существу своему материален,
являясь ή του ολου ψυχή4, материализированной пневмой, τό-
* Такое значение Плотина чувствовал уже Гегель. См. его
«Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» в «Sämtl. Werke» (XV.
S. 37—68) (о Прокле см. там же, S. 71—92). Совершенно же ясно и
определенно высказал его Гартман в своей «Geschichte der
Metaphysik» (1890. S. 106—176).
324
Б. В. ЯКОВЕНКО
voç'om5 вещей, огнем, всепроникающим вселенную. Таким
образом, во-вторых, Логос представляется тончайшей материей.
Как материальная первосила, он образует собою весь мир и
является, в-третьих, самим миром, id est mundo6. Но так как мир
гармоничен и одухотворен, Логос должен быть божественным
началом, разумом, одухотворяющим материю и руководящим
вселенной. И в этой своей роли Логос есть, в-четвертых, νους,
κοινός της φύσεως λόγος7, rector custosque universi8. В мертвой и
неподвижной материи Логос является, в-пятых,
оплодотворяющим началом: λόγος σπερματικός9; из него, как из семени,
размножается вселенная через посредство его агентов: λόγοι
σπερματικοί10. А эти сперматические логосы в своем оплодотворении
материи порождают отдельные вещи. Распространяя свою
власть на всю вселенную, Божественный Логос
обнаруживается, в-шестых, как полнейшая и непреоборимая необходимость
вещей: Ειμαρμένη п как великая всепричинная и всепричиняю-
щая законность. Но, мало того, эта абсолютная необходимость
Логоса есть, в-седьмых, определяющий и мир и Бога, все
сущее, fatum12, ανάγκη13. Случай и свобода исключаются из
вселенной. Зла и недостатков нет в Боге как в целом. Они
присущи лишь частям в силу специфических свойств самих этих
частей. В общей же атмосфере Божественного Логоса они
необходимы, как и все, и нисколько не нарушают вселенского
фатума. Более того, они целесообразны, так как тогда только
совершается доброе и хорошее, когда его вызывает к жизни
противостоящее ему зло. Само по себе это зло не имеет ни
силы, ни значения. В человеческой душе Божественный Логос
обнаруживается внутренно как λόγος ένδιάθετος14, внешне как
λόγος προφηρικός15. Он заложен в душе человека изначала, но
развивается в ней постепенно под влиянием восприятий.
Созрев, человеческая душа поднимается в своем разуме до Бога.
И в этом смысле, в-восьмых, Логос является внутренним
законом человеческой жизни, в котором человек достигает своего
самосознания и в котором человеку заповедан истинный
нравственный закон. Однако если с космической точки зрения
человек и подчинен всецело мировому закону необходимости,
если в целом ducunt volentem fata, nolentem trahunt16, то все
же в интимном уголке человеческой души существует свобода
выбора и поступка и возможность зла и несчастья. От самого
человека зависит добродетельно сообразовать свои действия с
живущим в душе его законом Логоса или, нарушая
божественные предписания, погрязать во зле, пороке и чувственности.
Таков глубоко последовательный космически и столь непосле-
О Логосе
325
довательный этически и религиозно материалистический
пантеизм стоиков*.
С) Абсолютное и относительное объединяются у Филона
потому, что между ними промежутствует ряд более абсолютных
или более относительных сил, а среди них господствующая над
ними и поставляющая их сила Божественного Логоса.
Абсолютное — Бог, есть существо всереальное и совершенно
трансцендентное и миру, и человеку, и познанию Несомненно
только его существование, его всесовершенство и творческий
примат его надо всем. Все остальные категории приложимы
к Богу только отрицательно. И в соответствии с этим Бог
обнаруживается и в мире, и в человеке лишь косвенно, через свою
первосилу, через свое Слово, через Логос. Этот последний
является, первым делом, образователем мира, живой действенной
сущностью, заключающей в себе первообраз мира и человека.
Как άρχέτυπον παράδειγμα17, как Ιδέα Ιδεών18, как όπος ιδεών19 он
содержит в себе целый мир идей, мир родов и видов,
вселенную в ее первичной идеальной задуманности; другими словами,
множественность в ее идеальнейшем единенстве и первоедин-
ство в его идеальном множестве. Но как действенная сущность,
как орудие творения Логос не только несет в себе
предначертание будущего мира, но и способность привести ее в исполнение,
он реализует умопостигаемый мир идей в мир действительных
вещей, будучи πατήρ λόγων20, распределителем сил,
внутренним мерилом вещей. Образуя мир, Логос является, далее, и его
охранителем и поддержателем. Как основной закон мира он
проникает собою весь мир, повсюду распространяя свое
божественное господство, все наполняя собою (omnia implens). Он
знаменует собою высший вселенский разум, премудрость Бо-
жию, сообщенную миру, общее место всех сил, руководящих
миром, общую связь вещей и внутреннюю сущность мира,
который является как бы его одеждой. Мир есть отпечаток,
истечение Логоса, видимый Логос, большой божественный человек
(μέγας άνθρωπος). Особенно близкое отношение имеет, далее,
Божественный Логос к человеческой душе. В нем человеческие
души имеют свой прямой источник, свой прообраз. Этот
прообраз изливается в них через посредство идеального или
небесного человека, с которого они отпечатаны и к которому стремят-
* См.: Heinze. Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie
1872. S. 79—172; Prantl. Geschichte der Logik im Abendlande. I.
1855. S. 401—496; Zeller. Die Philosophie der Griechen. II 1 abth.
3 aufl. 1880. S. 26—363.
326
Б. В. ЯКОВЕНКО
ся. Таким путем Логос становится идеалом, целью
человеческого существования. В уподоблении Логосу только может
достичь человек и бессмертия, и счастья. Создав людей по образу
своему и подобию, Логос является и их охранителем, и
руководителем. Тут обнаруживается его громадное нравственное
значение. Созданный по образу и подобию Божию свободным,
человек оттягивается злым, небожеским принципом материи
к земле, к низинам; более того, человек грешит и нуждается
в сверхъестественной помощи для своего очищения. В ответ на
это Логос является провозвестником и носителем Божеской
милости. Он обнаруживается при этом как высшая
добродетель, как высший нравственный закон, как высшая мудрость
Божьего Слова, как Божественный ангел, ниспосланный в
мир, как совесть разума, освещающая душу человека. Все
посреднические функции несет на себе Логос, космические столь
же, сколь и этические. Он причастен обеим крайностям, и
абсолютной Божественности, и относительности мира вещей:
ή μεταξύ φύσις θνητού και άθανάτον νένους21. И в этой своей роли
он является то как кормчий, то как наместник, то как второй
Бог, то как слуга Божий, то как передатчик, то как вестник, то
как священник, то как представитель народа иудейского, то
как слабый Свет, то, наконец, как Моисей. Через Логос творит
Бог мир и человека, чтобы через него же возвратить мир в лице
человека обратно в лоно свое*. Таков дуализм Филона,
соединяющий в себе древнееврейский монотеизм с греческими
космическими и онтологическими идеями.
§ 2. Христианская философия. А) В системе
неоплатоников, созданной Плотином и диалектически оформленной Про-
клом, античный мир спел свою лебединую песню. К этому
времени повсюду — в жизни, в науке, в религии — все рушилось.
Был полный распад ума, сердца и воли. В философии
скептицизм, мистицизм и эклектизм одинаково толкали к
импрессионизму. Мысль стала служанкой чувств и искала
удовлетворения в апокалиптических выдумках гностиков. Через Филона
монотеизм еврейского народа вступил в соединение с
отмирающим политеизмом, давая по себе самые странные и
причудливые сочетания. И вполне естественно, что в этом хаосе ума и
чувств родилось ожидание новой жизни, новой религии, новой
* См.: Heinze. Die Lehre vom Logos. S. 204—297; Трубецкой С.
Учение о Логосе // Собр. соч. Т. IV. 1906 (см. гл. о Филоне); Ritter,
Geschichte der Philosophie. VI. 1834. S. 408—492; Zeller. Die
Philosophie der Griechen. III. 2 abth. 3 aufl. 1881. S. 338—418.
О Логосе
327
философии. На всех сердцах, на всех умах лежала печать
неотступных чаяний, все груди томились по чему-то — не то по
прошедшему, не то по грядущему. И как бы в ответ на эти
чаяния Христос принес новый мир на землю. В его всепокоря-
ющей проповеди Богосознания и Богочеловечества ум и
чувство воспряли с новой силой*. И философия, вслед за другими,
жадно прильнула к этому чудесному источнику новой жизни.
Сначала робко и подражательно, она все более и более
раскрывалась на новой почве, оживляя свои старые идеи новым духом
учения Христова. Так возникла христианская философия, едва
намечающаяся в четвертом Евангелии и проповедях апостола
Павла, уже явственно обнаруживающаяся в творениях первых
Отцов Церкви и, через Климента Александрийского, впервые
явно и пространно систематизирующаяся в трудах Оригена.
Здесь снова чисто философски поставлена проблема
абсолютного, здесь снова она выражается в проблеме Логоса. Этим
предрешается вся дальнейшая судьба христианской философии:
она либо все больше и больше погружается в подлинную
философскую спекуляцию, все более и более проникаясь античным
духом, как это имеет свое место у Григория Нисского, Псевдо-
Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Скота Эриуге-
ны**, либо она постепенно отстраняется от философской
спекуляции, сосредоточиваясь на обосновании чисто церковных
догм и на мнимо-философском развитии чисто религиозных
учений, как то имеет свое место отчасти у Августина,
явственно у Ансельма и всецело в средневековой схоластике,
завершившейся мнимо-философским интеллектуализмом Фомы Ак-
винского и безграничным номинализмом Дунса Скотуса. Из
этих двух течений только первое, т. е. христианская
философия Восточной Церкви, может претендовать на истинно
философское значение, так как второе, сделав из философии
простую служанку религиозно-этической догматики, тем самым
наложило на весь период Средневековья афилософский
отпечаток. Потому данный очерк остановится только на первом
течении, на более дуалистической системе Оригена и на более
монистической системе Эриугены.
* Все это неподражаемо представлено в прекрасной и в своем роде
единственной книге кн. С. Трубецкого «Учение о Логосе» (с. 313—
454).
* Обычно говорят «Скот Эригена», но это не соответствует истине.
Об этом см.: Baümker // Jahrbucher für Philosophie und speculative
Theologie. 1893. S. 342.
328
Б. В. ЯКОВЕНКО
В). Абсолютное и относительное находят свое объединение
у Оригена в акте творения мира, совершаемом Богом из
вечности через Сына и Духа Святого. Бог един в своей троичности;
троично только его первопроявление. Бог-Отец, из которого (έξ
αύτοϋ)22 все становится, неделим, прост, пребывающ в своей
самости. В мире он обнаруживается не субстанциально, а
действенно и в провидении. Уму человека он доступен лишь в
прирожденной ему божественной милости. Чтобы постичь эту милость,
человек должен отряхнуть все земное, отрешить все земные
признаки. В этом отрицании всего преходящего Бог
обнаруживается человеку через своего Сына, сам по себе будучи высшим
благом, подлинным сущим (ό Άυτοθεός)23. Сын Божий, через
которого (ОС αύτοΰ)24 все созидается, сохраняется и управляется,
есть высший свет, высшая жизнь, живое Слово Божие, Άυτό-
λογος, Άυταλήθεια, ιδέα ιδεών25. Рожденный, несотворенный,
единосущий Отцу, он совечен ему и сосубстанциален; он сын
по участию, а не по милости; он не создан из ничего. Но,
будучи, подобно Отцу своему, бесконечно един, он в
противоположность ему и множествен как идея идей. Πολλά αν αγαθά ό Σω-
τηρ26. Через него Бог творит мир. In hoc ergo principio, id est in
Verbo, Deus coelum et terram fecit27. Он нисходит от Бога к
вещам и времени. И потому он все же не равен Богу-Отцу по своей
Божественности. Бог есть благо, Сын — только образ доброты:
он не само благо, он только благ. Бог есть πρώτος δημιουργός28,
источник Божественности, Сын же — лишь источник разума,
только блеск Божьей славы, только луч Божьей мощи. И,
подобно Сыну, Дух Святой, в котором (εις αυτόν)29 все находит
свою цену и который есть αυτό Πνεύμα30, хоть и совечен и
сосубстанциален Отцу и Сыну, уступает Богу в силе; уступает в
ней даже Сыну. Он только как бы материя Божьих милостей.
В нем находит свое субстанциальное осуществление исходящее
от Отца и управляемое Сыном милосердие Божие. В Сыне
своем и через Духа творит Отец от века и из ничего
субстанциально чуждый ему мир. Он творит его вечно и в одном акте. Но,
бесконечное в Боге, это творение становится в себе самом
конечным. Сотворенный первоначально совершенным,
духовным, небесным, мир в первородном грехе теряет эти качества
(так как они были сообщены ему случайно, а не по существу).
С грехопадением его первичная духовная, нетелесная
материальность становится телесной, а чистый дух превращается в
связанную с телом душу. Это перерождение созданий не есть
новый акт творения, а простая трансформация, хоть и не пре-
дуставленная в плане творения, но предвиденная Богом. Со-
О Логосе
329
зданный мир един, множественны лишь его перемены. Вместе
с материализацией духа возникает и мир материальных вещей,
примененных к новому существованию падшего духа предведе-
нием Божьим. Так, небесный Иерусалим превращается в ле-
ствицу все более и более материальных форм. Но согрешивший
человек, с одной стороны, сохранил в душе своей
интеллигибельное чувство Бога, αϊσθησις ουκ αισθητή31, разумность. С
другой стороны, велика милость Божья, и он послал человеку
Искупителя. Жизнь мира есть возвращение человека Богу; история
мира есть воспитание человека Богом через Логос. В Логосе
Бог стал Человеко-Богом, чтобы человек вернулся снова к
Богу. Всякая душа по существу своему бессмертна. Всякая душа
воскреснет. И дьявол должен возродиться в духе, ибо зло не
безгранично. Тогда настанет всеобщее спасение, и человек узре-
ет Бога без посредников. Небесный Иерусалим восстановится.
Таково учение Оригена, безграничный спиритуализм
вселенной, приводящий диалектически религиозное начало к его
концу, а религиозный конец к его началу*.
С) Абсолютное соединяется с относительным у Эриугена,
изливаясь тварственно в мир вещей (Deus enim et supra omnia
et in omnibus est32. Единый в себе, Бог троичен в лицах. Сам по
себе, как Бог-Отец, он выше всего и больше всего (super vel plus-
quam)33. Он абсолютно бесформен и прост. Он примиряет все
противоречия и в этом смысле nihilum non immerito vocitatur34.
Бог не знает своей сущности, и в этом незнании он лучше всего
познает свою сущность, ибо остается безусловно единым. В
Сыне своем рожденном и несотворенном полагает Отец начало
всему. Сын Божий, Слово Божье, Логос, есть и вторая
Ипостась, и идея мира. В нем Божественное единство становится
множественно. Дух Святой, третья Ипостась, выполняет то,
что творит Отец через Сына, т. е. мир бытия. Этот мир,
творимый Отцом в Логосе от века и из ничего, т. е. из себя самого до
творения, первично идеален и духовен. В него изливается Бог
через Логос. Мир есть ставший Бог. Он отличается от Бога
лишь как следствие от причины. Потому Бог не был раньше
создания мира, а мир безусловно необходим и единствен, как
единственно возможное проявление Божественной причины.
Идеальный мир общ; через диалектику отрицания он раскры-
* См.: Origenes. Contra Celsus. VI. 64, 65; I, 48; In Iohan. II. 1; I. 22;
Selecta in Psalmum. CXXXV f. 883; De principiis. I. гл. 2. § 4; V.
гл. 6. § 2. См. также: Denis. De la philosophie cTOrigene. 1884.
P. 63—406; Ritter. Geschichte der Philosophie. V. 1841. S. 465—564.
330
Б. В. ЯКОВЕНКО
вается в мире конкретных родов и видов. Содействием
идеальных сущностей (форм) первичного мира, представляющих
собою как бы первоначальную материю мира, создается земной
мир тел. Этот мир положен Богом из вечности во времени и,
стало быть, имеет начало. В этот мир изливается Бог, в нем
обнаруживается через Логос из своего первичного и
сверхпонятного Ничтожества, ибо Бог есть переполнение Доброты.
Изливаясь в конкретный мир, Бог есть все: и творец, и сотворенное.
Non duo debemus intelligere Deum et creaturam, sed unum et ip-
sum35. Но в то же время Бог выше мира, не исчерпываясь
нисколько в творении. Бог создал человека по образу и подобию
своему. Как и Бог, человек не знал себя, был подлинно духовно
наг. И тело его было духовное, небесное. То был идеальный,
типичный человек. В нем, как в микрокосме, были
предначертаны все другие творения. В своей свободной воле человек
согрешил. Тело его материал изировалось, предначертанный в
нем мир оделся в телесность, а духовные глаза человека
раскрылись, и познал он себя самого, свою духовно-телесную
наготу. Так в грехе родилось самосознание и материальный мир
вещей. Падение человека не изменило первичный план
Божественного творчества; оно только придало ему новую земную
окраску; ибо мир все равно должен был вернуться к Богу в
силу самого диалектического порядка в самопроявлении Творца.
Deus est igitur principium medium et finis36. Падение человека
вызвало только необходимость милости Божией и Искупителя.
Через страдания вочеловечившегося Логоса мир освободился
от зла, которое невечно. Творчество кончится и наступит рай.
Следствия вернутся к причинам, тело одухотворится, а души
снова подымутся в Царствие Небесное. Они образуют там
иерархию духовных существ по своей чистоте и близости Богу.
Зло исчезнет совершенно; но не исчезнет наказание, вечно
сохраняющееся в аду самосознания содеянного зла. Таково
теистическое учение Эриугены, столь склонное к пантеизму
неоплатоников и так энергично бегущее от него в христианское
учение Церкви*.
§ 3. Философия XIX столетия. А) Из цепей
схоластического сна философия пробуждается под влиянием трех
мотивов: обоснования подлинно научного знания, восстановления
* De divisione naturae. I. 11, 14, 15, 68, 72; П. 32; III. 17, 19, 20;
IV. 5. Ср.: Christlieb. Leben und Lehre des J. Scotus Erigena. 1860.
S. 128—435; Ritter. Geschichte der Philosophie. VII. 1844. S. 206—
296.
О Логосе
331
античной философии, живого чувства истинной сущности
христианства. Эти три мотива поразительно ясно выступают на
протяжении всей новой философии от Ренессанса и до Канта.
Особенно ясны они у Николая Кузанского, Бруно, Декарта,
Спинозы и Лейбница. Но с течением времени первый из них,
мотив научного познания, постепенно заявляет о себе все
сильнее и сильнее, выражаясь философски в проблему познания.
Тому свидетельство — поиски Декарта нового метода,
геометрическое изложение системы Спинозы, психологические
исследования Локка, Юма и шотландской школы и неустанное
стремление Лейбница создать scientia universalis37. Этот мотив
свое чистое, свободное и от космизма и от эмпиризма
выражение получает только у Канта. И этим создается новая эпоха
философии. В противоположность метафизикам центр
философствования переносится с вещей на познание, в котором
только и доступны вообще вещи; в противоположность эмпири-
стам утверждается, что познание не есть психологический
процесс, а есть наука, система чисто объективных положений. На
этой новой почве самостоятельного познания Кант решает
старую проблему абсолютного. Абсолютное, вещь в себе,
недоступно по своей сущности. Равно недоступна сама по себе и чистая
материя. В сфере познания и бытия и абсолютное, и материя
обнаруживаются лишь во взаимосочетании, создавая мир
явлений, мир вещей, и отсвечиваясь в нем только идеально, в
качестве бесконечно далеких трансцендентальных идей. Нисходя
со своих небес, абсолютное проявляется в связи с материей как
наделенная синтетической силой оформления (категориализа-
ции), трансцендентальная апперцепция, сознание вообще, а
материя в связи с формами как пространственно и временно
данное восприятие. В подведении восприятий под категории
заключается смысл познания и вещей. Материальная
чувственность восприятий делает для человека невозможным
полное постижение мира и идеальным — путь к совершенной кате-
гориализации. Мир доступен нам всецело только с формальной
стороны, а не по своему содержанию. Только в моральном
сознании мы поднимаемся до полного постижения абсолютного,
освободившись от чувственности; и только в эстетическом
созерцании открывается нам совершенное примирение формы и
содержания, идеала и реальности. Дуализм тесно связан у
Канта с монистическими стремлениями. И это не замедлило
обнаружиться тотчас же. Соломон Маймон в своем замечательном
учении критического скептицизма еще более подчеркнул
пропасть, разверзающуюся между формой и материей, распростра-
332
Б. В. ЯКОВЕНКО
нив материальную неопределенность даже на
естественнонаучное познание. Наоборот, Фихте старался привести форму и
материю к одному знаменателю, отодвинув их принципиальную
разницу на самый край системы, но не будучи в состоянии
совершенно избавиться от этой изначальной двойственности
абсолютного и относительного. Оба направления характернее
всего запечатлелись в учениях Фриса и Гегеля. Потому данный
очерк остановился на них в отдельности.
B) Абсолютное, по Фрису, есть разум. В нашем человеческом
познании разум этот, сам по себе, отсвечивается в качестве
трансцендентальной идеи Божества — Первопричины, являясь
недостижимым идеалом. В связи с материей нашего познания
абсолютный разум обнаруживается чисто отрицательно, ибо
неадекватен в своей трансцендентности ни одному
имманентному определению. Между такими отсветами абсолютного
разума и реально имманентной относительностью чувственных
данных заключается атмосфера нашего познания и нашего
мира явлений. Она характеризуется стремлением открыть в
каждом данном чувственности непосредственное и
обязательное познание и этим, с одной стороны, проникнуть ближе к
разуму, а с другой стороны, рассудочно оформить
субъективный материал чувств. Наше познание чисто рефлективно. Оно
направлено на рассудочное истолкование и обоснование
преходящих ощущений и восприятий. Совершенное проложение
такого обоснования чисто идеально для человеческого
познания, ограниченного и временно и пространственно материалом
чувств. Для человека оно фиксируется в идеале сознания
вообще. В своем постоянном контакте с чувственным материалом
это сознание тоже случайно и требует обоснования на
абсолютном идеале intellectus architypus38; только в воле и
религиозном переживании переступаем мы негативные рамки познания
и постигаем Божество как реальный принцип, открывающийся
нам не спекулятивно, а эстетически. Таков антропологический
дуализм Фриса, обостривший заложенные в Канте начатки
метафизической психологии и негативной теологии*.
C) Абсолютное для Гегеля есть сама сущность, самый смысл
относительного; его закон и его становление. Оно есть само
относительное в его цельности. Разум есть и рассудок, и чувствен-
* Fries. Neue oder antropologische Kritik der Vernunft. 2 Aufl. 1831.
I. S. 232 ff., 273, 298, 331 ff.; II. 10, 17, 41, 44 f., 78 f., 83, 139,
150 ff., 173, 179 ff., 216 ff., 272—291, 316—342; III. 159 ff., 230—
258, 361 ff.
О Логосе
333
ность. Он есть и понятие, и вещь. Потому он выше их всех,
заключая их всех в себе в качестве своих моментов. Он есть и
свое начало, и свой собственный конец. Он есть и каждое из
своих проявлений, и все они вместе. Он есть самодовлеющая,
в-себе-себя-и-для-себя полагающая идея, абсолютный метод,
абсолютная наука, абсолютное познание. И в этом своем
самобытии он есть абсолютная самодиалектика, абсолютное
саморазвитие. Он есть бесконечно-конечный круг самоопределений:
в своем первом определении он предрекает уже свое последнее
проявление; а в этом последнем он уже снова начинает
определяться. В каждом моменте своем он весь и ни в каком из них
не исчерпывается. Это — бесконечноглавая гидра, неуловимый
Протей. Он начинается в неначинании; в себе, как в чужом;
в бытии, как в ничто. Он начинает извне, чтобы стать в себе;
трансцендентно, чтобы быть имманентным. Из ничто, из
полного хаоса и несуществования переходит он к бытию, так как
бытие его уже предопределено в его первичном ничтожестве.
Из бытия он диалектически развивается в сущность, из
сущности в понятие; в понятии он достигает самосознания, т. е.
поворота к себе самому, а через ряд новых диалектических
переходов — своего высшего идейного совершенства. В идее
абсолютный разум возвращается к себе самому, исполнив собою
всю массу диалектического бытия. И в этой высшей
исполненное™, в этой высшей самотождественности он снова
становится ничто именно потому, что есть все что-то. Таков конкретный
идеализм Гегеля, в искусной диалектической форме его
«Логики» повторяющий то абсолютное саморазвитие разума, которое
в более эмпирических одеждах выступает в «Феноменологии» *.
Современная философия. А) Высота и «сверхчеловечность»
гегелевской системы, внешне облеченной еще вдобавок в сухую
схоластическую форму диалектики, ее невероятное
высокомерие и претензия на безусловную гегемонию отвратили от нее
умы и вместе с новым расцветом научного мышления вызвали
к жизни материалистическую метафизику. Эта последняя
быстро сменилась так называемой критической или
гипотетической метафизикой спиритуализма в системах Фехнера, Гарт-
* Hegel. Sämtl. Werke. Bd. I: Philosophische Abhandlungen. 1845.
S. 19, 22 f., 24 ff., 33, 42, 45 ff., 63, 70, 90 f., 165 f., 168 ff., 174 ff.,
184 f., 190 f., 195 ff., 207 f., 218 ff., 239, 264 f.; Bd. III:
Wissenschaft der Logik. S. 6 ff., 20 ff., 29 ff., 35 f., 40 f., 43 f., 54 f., 59—
74, 263—379, 394; Bd. IV: Dasselbe. S. 120—161, 185—199, Bd. V:
Dasselbe. S. 5—31, 35—75, 118, 262—274, 304—319, 327—353.
334
Б. В. ЯКОВЕНКО
мана, Лотце и Вундта. Но гипотетизм этой метафизики, по
самому существу своему двусмысленный, не мог удовлетворить
философский дух. Одновременно небывалый рост научных
знаний требовал пересмотра проблемы познания. И философия
возвратилась поэтому к Канту. В результате всех этих
движений возникло новое течение, стремящееся в новой форме дать
систему Канта, использовав все, что было сделано с тех пор и
философией, и наукой, и всеобщей культурой. Это движение,
носящее имя трансцендентального идеализма, свое наиболее
характерное проявление нашло в двух учениях: в дуалистическом
телеологизме Риккерта и монистическом идеализме Когена.
В) Абсолютное, по Риккерту, лежит совершенно за
пределами бытия и познания в качестве трансцендентного
долженствования или трансцендентной, в себе независимой ценности.
В познании и бытии оно проявляется в форме категориальной
необходимости, идеально обосновывающей собою бытие и
познание, в виде системы идеальных форм, конститутивно
определяющих объективную действительность. Эта действительность
слагается из категориальной формы и чистой материи в акт
познавательного признания трансцендентного
долженствования. Такой акт идеален человеческому познающему сознанию,'
так как оно ограничено в своей деятельности рефлективной
работой в понятиях. Объективная действительность является для
него идеальной задачей со своей категориальной стороны и
абсолютной и недостижимой идеей со стороны своего
содержания. Эта идеальность фиксируется термином «сознания
вообще», которым запечатлевается категориальная идеальность
познавательного акта по сравнению с обычным
рассудочно-чувственным познанием. «Сознание вообще» является, таким
образом, промежуточным звеном между абсолютной
трансцендентностью и совершенной материальной относительностью:
оно стоит посредине между Божественным познанием, в
едином акте имеющем весь мир, и человеческим познанием,
распадающимся на бесконечное множество временных актов; оно
стоит, далее, посредине между абсолютной формой и
абсолютной материей, и, наконец, оно соединяет своей формальной
идеальностью высшую трансцендентную форму и мир
вещественного бытия *.
* Rickert. Gegenstand der Erkenntniss. 1904. S. 110 ff., 125 ff., 142—
158, 168 ff., 175—183, 185—203, 205 ff., 223 ff. См. также:
Rickert. Zwei Wege der Erkenntnistheorie // Kantstudien. XIV. Hef. 2.
1909.
О Логосе
335
С) Абсолютное есть для Когена внутренний принцип,
двигатель и совершитель относительного. Сущее есть чистое
познание, чистая научность. Научность же есть закон, метод.
Потому абсолютное есть законность законности, методичность
методичности. И в этом своем значении оно строит предмет,
конкретное бытие, через свои самоположения, чистые
суждения и чистые категории. Построяя свой предмет, абсолютное
познание построяет самого себя и в своей построяемости задано
себе как абсолютная задача, как абсолютная проблема
относительного. Можно сказать одновременно, что абсолютное есть и
сама предметность и сама проблематичность, и само бытие и
само бывание. Оно есть безусловный и в себе замкнутый круг
чистого познания. В самопостроении абсолютное начинает
суждением построения, т. е. самопоставлением себя из ничто, как
того, что раньше всякого что-то. Дальнейшим шагом является
самопоставление математическое, знаменующее собою
основной базис чистой научности. За математическим суждением
следует естественнонаучное, созидающее субстанциальную,
законную и целесообразную предметность. В целесообразности
абсолютное полагает себя как понятие, т. е. как законченный в
своей проблематичности предмет, и указует в этом
самоосознании абсолютным своей собственной предметной
проблематичности путь назад, к исходным началам, который и совершается
в модальном суждении, возвращающем предметность обратно
к основополагающей ее необходимости самопорождения из
ничто. Таким образом, абсолютное и относительное совпадают
у Когена в безусловном и бесконечном монизме чистого
движения чистого познания*.
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
§ 1. А) Три основных типа философской мысли были
только что рядоположены исторически в их на первый взгляд столь
глубокой, принципиальной разности. И нельзя лучше отметить
эту бросающуюся в глаза их различность, как обозначив их
именами космизма, теизма и гносеологизма. Действительно!
Античная философия глубоко проникнута стремлением
понимать все сущее как космический Логос или представляющий
собою всю вселенную, или ее в себе обосновывающий. Этому
* Logik der reinen Erkenntniss (System der Philosophie). I. 1902.
S. 10—34, 41—62, 65—77, 86, 267—332, 341, 428—445, 499—320.
336
Б. В. ЯКОВЕНКО
соответствует сосредоточие греческой философской мысли на
интеллектуальном созерцании, которому Плотин в своем
учении о θεωρία39 дал самое полное и законченное выражение.
С этим в связи стоит и то, что Платон увенчал здание своей
философии чисто космическим изложением ее в «Тимее».
Христианская философия, в противоположность античной, питается
из источника Христова Богосознания, из Логоса супранатура-
листического, спириту ал ьного, Божественного. Не в
созерцании, а в вере и делах, в религиозном сопереживании Богочело-
вечества видит она путь к Богу. И мир представляется ей не
столько в космическом, сколько в религиозно-этическом
освещении, будучи результатом Доброты и Милосердия Божия.
Христианство видит в мире проявление сверхкосмического,
личного Бога: на место космической силы Логоса оно ставит
божественную личность Сына Божия, т. е. Логос теический.
Наконец, Новое время сосредоточивается на проблеме
познания, из нее и в ее терминах решая все остальные проблемы.
Место античного космического и христианского теического
Логоса здесь занимает внемирный и безличный Логос основных
принципов познания. И уже из этого Логоса одинаково
объясняются и космос, и Божество.
В) Это бросающееся на первый взгляд различие основных
исторических типов философствования по существу своему,
однако, совсем не принципиально, чисто внешне, только
исторично. И это сейчас же обнаруживается при более
обстоятельном и существенном сличении указанных типов. На самом деле!
Выросшее на плечах Канта и Фриса и особенно ясно
характеризующее собою весь современный дуализм учение Риккерта о
сознании вообще представляет его себе как
идеально-формальное единство познавательной множественности, с одной
стороны, категориально-логически обосновывающее мир вещей, а с
другой — черпающее свою категориальную силу в
трансцендентном, запознавательном первоисточнике. Ориген и Николай
Кузанский наделяют теми же свойствами Божественное слово,
одинаково причастное и миру и Богу и одинаково от них
удаленное в своей срединности. В нем Бог полагает идеально
множественный мир; в нем же идеально задает миру задачу Бого-
человечества. Платон, Филон и Плотин соединяют Бога и вещи
при помощи космической духовной силы, обозначаемой то как
мировая душа**, то как Логос. В этой силе идеально предна-
* Plotini Enneadis. Ill, 8.
** Plato. Timeus. 39, 40, 47—54; Plotini Enneadis. VI. 4, 5.
О Логосе
337
чертан мир вещей; в ней единое распространяется во
множестве, и в ней же положен его обратный путь в первоначальное
единство. И сознание вообще, и Слово Божие, и мировая душа
означают собою одно и то же обоснование (то логическое, то
религиозное, то космическое) единства множественного и
множественности единства. В них одинаково временное
появляется из сверхвременного; в них одинаково временное
возвращается в свой сверхвременный источник. В них одинаково
человеческое сознание получает и свой прототип, и свой идеал.
Одинаково рядом с ним абсолютное полагается как
запредельный и неопределимый первоисточник, а мир вещей — как
преходящий, временный и относительный мотив мироздания.
И одинаково в связи с ними в качестве основного метода
философствования выдвигается отрицательный метод — будь то
метод отмышливания или трансцендентальная психология Рик-
керта, антропологическая критика Фриса, субъективная
дедукция Канта, отрицательная теология Кузанского,
отрицательные поиски Божества Климента и Оригена и
отрицательный путь аскетизма Плотина, формулирующий в себе все
греческие искания*. И то же самое обнаруживается при сличении
учений монистических! Коген, опираясь всей тяжестью своего
учения на Гегеля, воссоединяет абсолютное и преходящее в
одной и той же логической и всеобосновывающей силе чистого
познания, развивающей из себя самопроизвольно все
содержание вещей и мира. Спиноза и Бруно — первый в форме перво-
субстанции, второй в форме Божественной высшей души
мира — находят то начало, саморазвитием которого
определяется все остальное. Эриугена ту же самую функцию сообщает
Слову Божию, Божественному Логосу, проводящему
абсолютное Божественное начало в мире и распространяющему его в
вещи. Наконец, стоицизм устанавливает тот же самый взгляд,
объясняя все сущее из материально-духовной силы Логоса.
Чистое движение, диалектический метод, мировое одушевление
и организация, геометрическое развитие,
объективно-диалектическое самопроявление и материалистическая эманация —
таковы различные выражения одного и того же внутреннего
* Rickert. Gegenstand der Erkenntniss. S. 11 ff., 20 ft, 142 ff.; Zwei
Wege der Erkenntnisstheorie // Kantstudien. XIV. 2; Fries. Neue
oder antropologische Kritik der Vernunft. Bd. I; Kant. Kritik der
reinen Vernunft, Vorrede zur 1 Aufl. X—XI; Cusanus. Opera. Paris,
1514: De docta ignorantia. I. S. 3, 17; De conjectunbus. I. S. 1; Cle-
mentius Alexandrinus. Stromb. V. 11; Origenes. Contra Celsus. VI.
62, 65; Plotini Enneadis. III. 8; V. 3, 5; VI. 9.
338
Б. В. ЯКОВЕНКО
процесса образования мира вещей одной и той же основной
первосилой. Абсолютное повсюду характеризуется при этом
как положительное, таящее в себе все будущее развитие мира
ничто. А мир вещей получается повсюду установлением
наиболее конкретных содержаний, образуемых постепенным
саморазвитием одной и той же основной силы. Эта последняя повсюду
провозглашается совершенно имманентной вещам. Ее
трансцендентность сохраняется повсюду лишь в смысле
бесконечности ее саморазвития, бесконечной возможности обнаружения в
вещах. Почти во всех монистических учениях устанавливается
возврат основной силы через конкретные вещи к себе самой.
И повсюду в себе самой она открывается чисто отрицательно,
отрицанием всех земных и вещных предикатов.
С) Таким образом, и в своих дуалистических, и в своих
монистических учениях космизм, теизм и гносеологизм
оказываются по существу своему идентичны. Один и тот же смысл, раз
положенный в основание философской спекуляции,
продолжает существовать в различных словесных одеждах. Этот
тождественный смысл заключает в себе и тождественную проблему
промежутствующего и всепримиряющего Логоса, и ее
тождественное разрешение, и тождественный метод, и
тождественную заключительную систему. Различно только освещение,
придаваемое спекуляции эпохой и иными жизненными
мотивами. В самых отвлеченнейших своих проявлениях философия
полна еще воспоминанием о том, как Бог в Сыне создал мир,
как человек согрешил и познал наготу и как Сын Божий, воче-
ловечившись, вернул падшего к его Божественному
первоисточнику. И наоборот, уже в самых религиозных и субъективней-
ших философских переживаниях, чтобы не сказать: в самом
Богосознании и Богочеловечестве Христа, звучит и
предрекается объективно-диалектическая природа сущего. В этом
глубочайшем единстве философского духа с бесподобной ясностью
сказывается то великое систематическое значение, которым
обладает античное учение о Логосе, законодательно
предопределив собою существеннейшее содержание всей последующей
философии. Но различные способы выражения одного и того
же смысла не перестают быть различными оттого, что в них
выражается тождественное содержание. И систематическое
значение античного Логоса может лишь тогда быть понято во
всей своей полноте, когда и эта историческая и внешняя
различность получит систематическую оценку.
§ 2. А) В то время как античная философия возникла из
стремления космически постигнуть природу сущего, христиан-
О Логосе
339
екая мысль родилась в сопереживании человеком Христова
Богосознания и Богочеловечества, в религиозной вере и
практическом осуществлении ее в поступках. В христианстве
нашло свое обновление и свое успокоение разложившееся сердце
античного человека. Но за сердцем всегда стоит ум, тоже
требующий своего удовлетворения. Христианство должно было
удовлетворить и его. Однако, будучи
религиозно-практическим, неспекулятивным по своей сущности, оно не могло этого
сделать своими силами. Вполне естественно поэтому, что оно
обратилось к той философии, которая уже утвердилась в умах
человеческих, — к философии античной; тем более что
Филоном и гностиками уже были сделаны подобные же попытки
спекулятивного обоснования религиозной веры греческой
спекуляцией и уже был выработан соответствующий этой задаче
аллегорический метод интерпретации религиозных писаний в
терминах и образах античной философии. Из такого
взаимоприспособления христианского религиозного переживания с
его догматическими вероучениями, с одной стороны, и античной
философской спекуляции — с другой, выросло то, что принято
называть христианской философией. Христианская
философская спекуляция широко использовала и Платона, и стоиков,
и Плотина, пытаясь воссоединить в одно целое и разум, и веру.
В) Но этот синтез был в то же время и величайшим
компромиссом. И это яснее всего обнаруживается в учении о Логосе.
Согласно античному взгляду Логос есть или сила, являющая
себя в каждом предмете, в каждой вещи, или сила, стоящая
между абсолютно сущим и относительностью вещей и равно
отличная как от того, так и от другого. Логос стоицизма, с
одной стороны, Логос Филона — с другой, — тому лучшие
примеры. И тот же смысл имеет мировая душа и у Платона, и у
Плотина. Наоборот, христианское вероучение в Богосознании
Христа провозглашает равенство и сосубстанциональность
Логоса Богу, а вместе с тем облекает великой тайной создание
Богом мира через своего Сына. В то время как для стоиков и
Филона между Логосом и миром вещей хоть и огромная, но
конечная разница, в христианском сопереживании между
миром земли и Сыном Божиим пролагается неимоверная
дистанция, а самое соприкосновение Логоса с миром объясняется
величайшей милостью Божьей. И в то время как античная
философия стремится все обосновать разумно, христианское
вероучение отсылает к вере и религиозному самоутверждению.
Христианская философия потому и компромиссна, что
соединяет в себе оба эти диаметрально противоположные мотива.
340
Б. В. ЯКОВЕНКО
Так, во всех ее учениях Божественный Логос одновременно
провозглашается и второй Ипостасью, и идеальным принципом
множественности*. Как вторая Ипостась, он единороден Отцу
и представляет собою символ веры, недоступный никаким
объяснениям разума. Как идеальный принцип
множественности вещей, он является вполне разумным началом конкретного
мира. Соединяя эти два понимания Логоса воедино,
христианская философия нарушает их истинный смысл, так как вторая
Ипостась, а через нее и Бог-Отец, приобщаются миру вещей и
становятся доступными человеческому разуму в самой своей
глубочайшей таинственности. И наоборот, идеальный принцип
мира, а через него и сам мир вещей, будучи рассматриваем как
Сын Божий, теряет всю свою философскую ясность, облекаясь
в одежды религиозной таинственности. И на самом деле, как
может Бог, создающий мир вещей в Сыне, оставаться к нему
непричастным, как может он сам не быть в мире? Это или
тайна; тогда достаточно христианской религии и незачем
христианской философии. Или это философское учение; но тогда, во
избежание компромисса и конфликта, нужно исходить из
чисто философских начал, а не из символов веры. Христианская
философия избирает средний путь и вполне естественно
попадает в жесточайший конфликт веры и разума. Она принимает
целиком космическое учение о Логосе античной философии;
но, чтобы сделать его более соответствующим своим
религиозным вероучениям, она придает ему более спиритуальный
характер. Космический Логос, оставаясь космической силой,
приобретает еще свойство личного Божественного проявления.
Этим христианская философия только довершает дело, начатое
Филоном и Плотином **, но нисколько не изменяет по существу
философски-космической природе античного Логоса. И именно
потому, что философски ею не вносится ничего нового в
античную спекуляцию, она не может быть и не должна быть
признаваема за сколько-нибудь самостоятельную философскую
формацию.
С) Да и как может быть иначе! Христианство всем телом
своим опирается на религиозное переживание, в переживаниях
* См.: Eriugeni Opera: De divisione naturae. IL 22, 36; III. 9, 36; V. 8,
20, 25, 36; Homilia in prologum S. Evangelii secundum Iohanem.
P. 287.
"* См. об этом прекрасную, хотя и немного одностороннюю,
модернизирующую учение Плотина книгу: Drews. Plotin und der Untergang
der antiken Weltanschauung. 1907.
О Логосе
341
Тайн Божиих черпает свои силы, к верующему переживанию
сводит все свои рассуждения. Наоборот, философия
основывается на разуме. В свои начала она может только тогда
поверить, когда убедится в их полнейшей разумности, когда с них
снимается последняя тень таинственности и
чудодейственности. Вера философская есть вера, обоснованная разумом; вера
христианская есть вера, разум обосновывающая. И это глубоко
принципиальное различие! Вполне естественно, что
христианская философия, поскольку христианская, излагает на
языческом античном языке догмы веры, а поскольку философская,
выражает на языке религиозного переживания высшие истины
античного разума. Неадекватность таких методов совершенно
очевидна. И это нашло свое историческое выражение в том, что
Церковь сознала извращение, вносимое античной спекуляцией
в христианское сознание, и отвергла учения Оригена и Эриуге-
ны как еретические, раз и навсегда прекратив возможность
того взгляда на античное учение о Логосе, который устами
св. Иустина Мученика, Климента Александрийского и даже
Абеляра провозглашал античный Логос прямым
провозвестником христианского*. И философия в свою очередь, уже в лице
Бруно, повернула резко в сторону от догматов веры, чтобы
всецело определяться действиями разума**. Если в Новое время
теизм христианской философии подает свой голос в общем хоре
философских течений, то, во-первых, он выступает, уже почти
совсем облекшись в спекулятивные одежды и потеряв свою
связь с религиозным переживанием, а, во-вторых, этим он
нисколько не уничтожает основного своего противоречия,
благодаря более адекватной философской терминологии только
подчеркивая его. Ибо, как и у типичнейшего и наиболее
философского представителя христианского теизма, у Эриугены, в нем
наблюдается постоянное качание между вечным и тварным,
единым трансцендентным и множественным земным, качание,
не разрешающееся в подлинную и непрерывную систему и
заключающее в себе еще старый, непобедимый конфликт.
Потому будет вполне справедливо отказать так называемой
христианской философии теизма в самостоятельном философ-
* См. об этом: Denis. De la philosophie d'Origène. 1884. P. 10; Stoekl.
Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. I. S. 244—247.
* См., например, замечательный сатирический диалог Бруно
«Cabbala del cavallo pegaseo con l'aggiunta delPAsino cillenico. Opere ita-
liane. II. Dialoghi morali» (ed. G. Gentile. 1908).
342
Б. В. ЯКОВЕНКО
ском значении. Философски она повторяет античную
спекуляцию, лишь внешне приспособив ее к своим религиозным
нуждам. Христианское учение о Логосе во всех своих философских
(нерелигиозных) моментах есть простое повторение учения о
Логосе античного, и притом повторение, извращенное чуждым
античному миру мотивом религиозности. Христианская
философия есть потому философски явление отрицательное, ибо она
представляет собою компромиссную и конфликтную
транскрипцию философии античной и языческой. В этой последней
спрятан весь ее философски-систематический смысл. Таким
образом, различие между античной и христианской философией в
философском отношении падает. Христианская форма
античной философии по сущности своей не есть форма философская,
а форма афилософская. С систематической точки зрения
философия остается античной на протяжении всего Средневековья.
Этим огромное систематическое значение античного учения о
Логосе подчеркивается с новой силой. Вместе со своим
отличительным признаком — космизмом — оно продолжает
доминировать в чисто философских спекуляциях вплоть до Ренессанса
и далее. Тому лучшее свидетельство — учения Экхарта,
Николая Кузанского, Декарта, Спинозы и Лейбница.
§ 3. А) В противоположность христианской философии гно-
сеологизм родился из того же самого источника, что и
античная философия, из стремления разумно понять и объяснить все
сущее, нигде не ссылаясь на основания, чуждые требованиям
разума. Но при этом сходстве основного стремления, основного
источника и основных критериев философствования велико все
же различие между космизмом греков и современным гносео-
логизмом. Ибо первый определяет сущее как вещь, исходя из
чувственно-непосредственного созерцания космоса; тогда как
второй полагает основание сущего в духе, отправляясь от
феноменологического анализа познавательного акта. И это не тот
субъективный дух, который совершенно еще космически
выступал у Плотина и христианских философов, облекаясь в
космические одежды живой личности, и не тот субъективный дух,
который у английских эмпиристов превращал всю вселенную в
комплекс эмпирических психических переживаний. Нет! Это
дух объективный, познанный путем гносеологического анализа
познавательного акта, как объективная и принципиальная
основа и законность содержательного состава познавательных
актов (а не их психического бывания). Объективный дух, из
которого и в котором объясняет гносеологизм все сущее, есть
заключающееся в рамках субъективного процесса познавания
О Логосе
343
объективное, абсолютное познание*. Ни внешняя познающему
разуму вещь непосредственного созерцания, ни облекающее
собою субъективно весь познавательный смысл познавательное
переживание не могут служить положительным основанием
сущего. Ибо сами по себе они оба субъективны и преходящи.
Потому искать сущее возможно только и только в объективном
содержании познавательного процесса. И потому сущее есть (и
только может быть) само абсолютное познание. Таким образом,
на место античного космического Логоса в новой философии
становится объективный духовный принцип, не мнимо, а
подлинно познанный в его глубочайшей и всеопределяющей
сущности.
Этим основной смысл античного космизма освещается
совсем с новой стороны, а подлинное его существо не только не
нарушается, но, наоборот, выявляется с новой и небывалой
еще силой. И это особенно ясно в двух отношениях. Прежде
всего, античный Логос был запечатлен грубым и наивным
антропоморфизмом: он представлял собою абсолютно живую
вещную силу, повелевающую вселенной, созидающую мир,
причиняющую вещи. В этом философски высказывалась та наивная
и некритическая самопроекция в мир являющихся вещей, на
которой было построено все миропонимание первобытного
человека, вся его мифологическая «теория» сущего.
Бессознательно воспринимая в себе самом субстанциальное постоянство
как действенный источник и стремясь одновременно объяснить
себе постоянный смысл изменчивых явлений, первобытный
человек естественным наивным образом определил существо
вещей по образу и подобию своей действенной сущности.
Греческая философия только выразила это в форме философской
спекуляции: ее космизм груб и неподдельно антропоморфичен.
В своем новом освещении сущего, равно удаленном и от
внешне созерцаемой вещи, и от субъективно воспринимаемой
самодейственности, гносеологизм Нового времени освобождает раз
и навсегда философию Логоса от этого наивного космического
антропоморфизма. Не внешняя космическая сила (хотя бы даже
оспиритуализированная, как, например, у Плотина, Оригена
или Эриугены), а объективный, абсолютный в-себе-сущный
дух есть начало, основа и двигатель всего сущего. И не в
созерцании внешних вещей, равно как и не в наблюдении
субъективных психических переживаний, должно искать истинный
* Fichte. Sämtl. Werke. П. S. 12—77; Nachgelassene Werke. II. S. 96,
310.
344
Б. В. ЯКОВЕНКО
смысл Логоса, а в гносеологическом анализе познанных вещей,
познанных переживаний, одним словом — в объективном
познавательном содержании. Логос есть действительная
объективно-логическая сила, чуждая каким бы то ни было
олицетворениям, тем более грубому космическому антропоморфизму.
Но, кроме этого последнего, античный Логос запечатлен еще
другим спекулятивным дефектом: будучи космической силой,
он является отдельным существом, равно отличным и от Бога,
и от мира. Космос греческой философии глубоко
плюралистичен даже там, где Логос выступает в единственном числе и где
он проникает собою все вещи*. Тому пример — философия
стоиков, распадающаяся на множество логосов, то более
духовных, то более материальных. И христианский теизм не
побеждает этой космической разрозненности, так как она остается в
нем в форме принципиального космического отличия Сына Бо-
жия и от Отца, и от духовных созданий. Гносеологизм одним
взмахом уничтожает в принципе эту разрозненность, находя в
себе самом подлинный диалектический источник всего сущего.
В гносеологическом анализе познания античный
субстанциональный Логос открывается в своей спаивающей воедино все
познавательные моменты функциональности. Объективный
абсолютный дух не есть ни космическая сила, ни психическая
субъективная самодейственность. Объективный абсолютный дух
есть сила невещная и безличная, сила чисто объективная,
логическая. И потому объективный дух ни с кем иным не
вступает ни в какие ни в материалистические, ни в
субъективно-личные связи: он сам везде и повсюду, всему являясь основанием и
все из себя порождая. Так на место античной космической
разрозненности моментов становится подлинная непрерывность
сущего. Деантропоморфизируя античный Логос, гносеологизм
в то же время внутренне объединяет его. А ведь это значит, что
в гносеологизме Логос находит и более адекватное, и более
систематическое выражение! И достаточно сравнить
дуалистические и монистические учения современности с
соответствующими греческими, чтобы убедиться в этом совершенно. Так,
обособленный, космически отрезанный от других сил Логос
Платона, Филона и Плотина приобретает у Риккерта в лице
«сознания вообще» значение внутренно связного состава
категориальных форм, объединяющих около себя весь смысл познания,
всю сущность мира вещей, их идеальным и систематическим
* Этот дефект вызван к жизни крайним субстанционализмом
Аристотеля. См. его «Метафизику» (VII. 1—9).
О Логосе
345
обоснованием. Этот Логос отличается от абсолютного и
относительного не как отдельная промежутствующая между ними
сила, а как большая или меньшая познавательная идеальность
или категориальность, уступающая бесконечно абсолютному и
превосходящая бесконечно относительное и тем их в себе
подлинно объединяющая. Так распадающийся на множество
отдельных материальных сил Логос стоиков или мировая душа
Бруно, одухотворяющая материю и в силу этого ее уже
предполагающая и от нее обособленная *, превращается в руках Когена
в единую, саморазвивающуюся и систематически
самораскрывающуюся логическую функцию чистого познания. Греческий
космический натурализм изгнан одним взмахом кантовского
гения раз и навсегда из области философии.
В) Но по самому своему происхождению из анализа
познавательного акта гносеологизм должен был облечься в такие
внешние формы, что ум, воспитанный на вещном образном
космизме, с трудом мог воздержаться от обвинения его в
субъективизме, в сведении сущего на субъективные переживания
и, стало быть, в иллюзионизме. Вместе с тем связанный с
гносеологическим анализом переход от более образного,
предметного изображения сущего к изложению более принципиальному,
формальному и безличному должен был с той же
неизбежностью вызвать обвинение в абстрагизме**. Между тем все
подобные обвинения идут мимо сущности гносеологизма,
сосредоточивая свое внимание на внешних формах его проявления и на
его терминологии и в конце концов сводятся к простым
недоразумениям. Ибо, во-первых, гносеологический анализ
познавательного акта играет в гносеологизме только предварительную,
пропедевтическую роль: на его обязанности лежит расчистка
* См.: Bruno G. Opère italiane. I: Dialoghi metafisici. Ed. Gentile. 1907.
P. 173 sg., 298, 330 sg., 355 sg., 406 sg.
'* В этом направлении идет критика гносеологизма и, особенно,
Гегеля у Feuerbach'a (S. Werke. IL S. 185—243), y Ulrici (Ueber Princip
und Methode der Hegel'schen Philosophie. 1841; Das Grundprincip
der Philosophie. Th. 1845. S. 674 ff.), y Tredelenburg'a (Logische
Untersuchungen. 1862. S. 36—129), y Ed. v. Hartmann'a (Geschichte
der Metaphysik. II. 1900. S. 207—246), Rosmini (Saggio storico-cri-
tico sulle catégorie e la dialettica. 1883. P. II), Gioberti (Introductio
alio studio délia filosofia. 1846, пересыпанный критикой Гегеля),
Соловьева (Собр. соч. Т. I. С. 59 ел., 96 ел., 105 ел., 116, 125 ел.,
253, 275, 289 ел., 302 ел., 314 ел., 363 ел., 370; т. И. С. 266 ел.,
293 прим.), Лопатина (Положительные задачи философии. I. 1886.
С. 215—268; II. 1891. С. 79—99, 124—145, 224 ел., 238 ел).
346
Б. В. ЯКОВЕНКО
путей к системе, к систематике объективных начал познания,
к метафизике абсолютного знания. Таков подлинный смысл
Кантова различения между критикой и метафизикой,
субъективной и объективной дедукцией и т. п. * Этот смысл с еще
большей ясностью выступает у Фриса, в его различении
антропологической критики и метафизики, и у Риккарта, в
разграничении трансцендентальной психологии и
трансцендентальной логики. Гносеологический анализ служит преддверием к
онтологии. И только такой онтологический смысл имеет у
Канта синтетическое единство трансцендентальной апперцепции **,
а у Риккерта сверхиндивидуальное познающее сознание
вообще, так как они служат объективно-логическими основаниями
вещей, бытия, сущего. Во-вторых, субъективизм
гносеологического идеализма сосредоточивается всецело в терминологии, да
и то на первых порах. Кто, слыша из уст Канта слова:
чувственность, сила воображения, рассудок, разум и т. п., берет их в их
докантовской эмпирической или метафизической
психологичности, тот упускает просто из виду их подлинный кантовскии
смысл, их предназначение выражать
метафизически-онтологическую философию, а не только субъективно-критический
анализ, тот обнаруживает просто нежелание отделить в данном
случае пшеницу от плевел и все сваливает в одну кучу***.
Самый основный термин гносеологизма — сознание — по своему
подлинному содержанию далек от психологического
субъективизма. И тому лучшее доказательство — замещение его у
Фихте абсолютным знанием, у Гегеля абсолютной идеей, У Когена
чистым познанием. Таким образом, обвинение в субъективизме
и иллюзионизме неприменимы к гносеологическому учению о
сущем, так как оно имеет дело не с психическими
переживаниями, а с объективным содержанием абсолютного знания.
В-третьих, на таком же невнимательном отношении к существу
гносеологизма основывается и обвинение его в абстрагизме. Ибо
дуалистический гносеологизм Канта, Фриса и Риккерта в полном
согласии с дуализмом античным, например с учением
Аристотеля****, исходит из разделения формы и материи, признания
* См.: Kant. Kritik der reinen Vernunft. Vorrede zur 1 Aufl. X—XI,
XIV; Vorrede zur 2 Aufl. XXXV—XXXVIII. S. 24—28, 109, 869, 878.
** См.: Hegel. Sämtl. Werke. Bd. I: Philosophische Abhandlungen.
S. 18—50.
*** Ср.: Natorp. Zur Frage nach der logeschen Methode//Kantstudien.
1902.
**** Ср.: Метафизика. VII. 3, 8, 9, 10, II; VIII. 2—6.
О Логосе
347
их за основные принципы мира и познания и из сосредоточия
философских интересов лишь на форме. Шаг за пределы
античной философии делается гносеологизмом лишь в том смысле,
что он очищает античное понимание формы от ее космической
антроморфизации и представляет ее как идеально логический
базис бытия и познания. В этом сказывается не пристрастие к
абстрактности, а только более адекватное изложение сущности
античного Логоса — его идеальной формальности (αυτός ό Λόγος
Платона) *. Дуалистический гносеологизм настолько мало
абстрактен, что с особенным интересом относится к проблеме
индивидуального, стараясь и его высказать в чисто логических
формах и таким путем ввести в сферу Логоса, который в своем
космическом увлечении часто совсем забывал о логической
правоспособности индивидуального**. Дуалистический гносео-
логизм не абстрактен, а формален, и в этом он является лишь
достойным продолжателем дуализма космического. Что
касается гносеологического монизма, то он еще менее ответствен за
подобный упрек. И, во-первых, исходный пункт гегелевской
системы: ничто, из которого впервые становится что-то, не
есть, как полагают обвинители, ничто безусловное и
отрицательное. Если бы оно было таким, оно не могло бы служить
началом саморазвития, так как ничто абсолютно
отрицательное в себе замкнуто и законченно. Наоборот, гегелевское нич-
то-начало по своему единственному смыслу есть ничто,
предполагаемое первым что-то как ничто относительное, т. е. такое,
которое должно еще раскрыться и перейти в целый ряд
определений, стало быть, как ничто положительное***. В нем, в этом
* Ср.: Государство. 511 В.
** См.: Hessen. Individuelle Causalität /./ Kantstudien. XV.
*** «Der Anfang ist nicht das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem
Etwas ausgehen soll; das Sein ist also auch schon im Anfang
enthalten» (Samtl. Werke. III. S. 68). [«Начало не является чистым
ничто, но ничто должно исходить из некоего нечто; значит, в начале
уже также содержится бытие» (нем.). «Die intellectuelle
Anschauung ist für sich ein absolutes Selbsterzeugen, durchaus aus Nichts:
ein freies Sichergreifen des Lichts und dadurch Werden zu einem
stehenden Blicke und Auge» (см.: Fichte. Sämtl. Werke. II. S. 38).
[«Интеллектуальное созерцание есть для себя абсолютное
самопорождение, обязательно из ничто: некое свободное достоверное
схватывание ясности и благодаря этому возникновение
устоявшихся взглядов» (нем.)]. И после таких утверждений решаются
упрекать немецких идеалистов в абстрагизме, меонизме и пр.
Неужели не ясна совершенно родственность этих мыслей мыслям
Эриугены или Экхарта?
348
Б.В.ЯКОВЕНКО
ничто, предпослано всей системе состояние полной
неопределенности, всем своим существом требующее определения и так
его собою вводящее. К этому взгляду на гегелевское ничто
приводит и внутренний смысл диалектического развития; ибо одно
и то же абсолютное, один и тот же Логос, одна и та же идея
проникает собою все звенья этого развития, в каждом
сказываясь только отчасти, но вместе с тем в каждом постулируясь
целиком и тем предрешая появление всех следующих звеньев.
Абсолютно отрицательное ничто было бы в ряду таких
самопроявлений абсолютного Логоса жестоким диссонансом; более
того, оно не могло бы прямо-таки принадлежать к этому ряду.
С другой стороны, самополагающее себя абсолютное нуждается
в абсолютно неопределенном самоначале, без которого оно
потеряло бы внутреннюю непрерывность своего саморазвития.
Отсюда ясно, что и с общей систематической точки зрения
гегелевское ничто само по себе относительно и положительно,
что его абсолютность есть лишь абсолютность одного из
проявлений абсолютного Логоса. Наконец, то же самое и с особенной
ясностью обнаруживается в абсолютной круговратности и
бесконечной замкнутости диалектического развития: конечный
пункт всего этого развития так же относителен, как и его
начало; в своей абсолютной относительности он переходит в
абсолютную относительность начала. Это значит, что конец уже
заключает в себе снова бесконечную неопределенность начала-
ничто, и что, в свою очередь, первоначало-ничто уже таит в
своей груди первообраз всего последующего развития. В этом
своем взгляде на ничто Гегель только повторяет в чисто
гносеологических терминах, свободных от грубого космического
антропоморфизма, и учение Платона о μη öv41, изложенное им в
«Пармениде» и «Софисте» с такой ясностью*, и учение
Плотина об "Εν42 как о запредельном первоисточнике всего сущего**,
и учение Эриугены о Боге, знающем себя в незнании***, и
учение Экхарта о Боге как вечном мраке****, и учение Кузанско-
го о Боге как о ничто, в котором совпадают все различия и из
которого они все начинаются *****. В этом взгляде Гегель
находит свое гносеологическое выражение антропоморфозное уче-
* См.: Парменид. XXII—XXVII; Софист. 256—259.
** См.: Plotini Enneadis. III. 8; V. 1, 3, 5, 6; VI. 7—9.
*** Eriugena. Opera. De divisione naturae. I, 12; II, 1; III, 4, 5, 17, 19, 20.
**** Ср.: Stöckl. Geschichte der Philosophie des Mittelalters. II. S. 1098 ff.,
1109 ff.
***** Ibid. III. S. 60 f., 66 f.
О Логосе
349
ние Каббалы о Боге как Эн-соф*. Из этого же взгляда
вырастают затем различные учения, начинающие так или иначе с
ничто**. Столь же не правы, во-вторых, обвинители,
приравнивая гегелевскую идею понятию. Если бы это было так, идея не
могла бы жить полной самостоятельного развития жизнью, так
как понятие всегда предполагает субъекта, который является
его обладателем. В системе Гегеля понятие является только
одним из моментов, идея же — основным мотивом всех
моментов. То обстоятельство, что идея как бы вырастает
диалектически из понятия и сама является лишь одним из моментов
системы, не должно вводить в заблуждение, ибо такое
положение ее есть положение внешнее, а не объективно внутреннее,
положение в порядке изложения. По существу же дела все
изложение и весь порядок суть изложение и порядок идеи,
единого в себе довлеющего Логоса. Ибо идея как отдельный
момент есть лишь самообнаружение в своей высшей самости,
тогда как все остальные моменты суть самообнаружения более
поверхностные. Но во всех пребывает все та же единая идея,
все то же единое в себе абсолютное, которое самоначинается в
своем ничто, саморазвивается в бытии, сущности и понятии и
затем самозавершается в идее, т. е. в себе самом, чтобы
возвратиться снова к самоначинанию. Идея в своем целом есть все
сущее, все абсолютное, все относительное, весь Логос. Она
присутствует повсюду, все определяет собою. В ней, как в
аристотелевском разуме, все одновременно и потенциально, и
актуально***. В идее-Логосе Гегель с небывалой еще доселе силой
и ясностью дает выражение тому стремлению, которое в более
или менее космической форме живо у стоиков, Плотина, Эриу-
гены, Бруно, Спинозы и Лейбница. Наконец, в-третьих,
обвинители обычно слишком субъективно понимают диалектический
метод Гегеля. Этот последний, однако, резко отмежевывается
ото всякого субъективизма. Диалектика не есть диалектика
понятий в субъекте по отношению к их предметам вне
субъекта****. Диалектика есть диалектика идеи, т.е. объективного
смысла понятий. Для диалектики субъективное понятие есть
только один из моментов, а не определяющее начало. Для нее
* Ibid. П. S. 234 ff.
** Например, у Соловьева (Собр. соч. I. С. 318 ел.) и почти у всех
теистов Нового времени.
*** Аристотель. Метафизика. XII 5—10.
*** Как думает, между прочим, Лопатин (Положительные задачи
философии. I. С. 237 ел., 345 ел.).
350
Б. В. ЯКОВЕНКО
нет принципиального различия между формой и содержанием,
познанием и предметом, субъектом и объектом. Все они суть
проявления одного и того же диалектического развития, все
переходят друг в друга, обнаруживая свой относительный
характер. В диалектическом процессе обнаруживается не
субъективное развитие понятия, а объективно-онтологическое
развитие абсолютной идеи-Логоса. И это происходит совсем так, как
у Плотина раскрывается в бытие мира запредельный "Ev, а у
Эриугены — сверхприродный Бог-Отец, но только вне
космической расщепленности моментов общего развития и вне
антропоморфических схем. Обвинять Гегеля в абстрагизме —
значит идти против самой сущности его философии, против его
собственной борьбы с абстрагизмом понятий и против
конкретной исчерпанности его логизма. Равным образом и обвинение в
иллюзионизме неприложимо к нему, ибо никто не передавал
сущее в таком бытийном и самодовлеющем духе, как Гегель.
И кого смущает сухая и формальная передача системы в
«Логике», пусть углубится в «Феноменологию». Здесь он увидит
ту грандиозную насыщенность конкретной действительностью,
которая так характеризует диалектику Гегеля. Все вопиющие
в этом смысле против Гегеля забывают в его лице о
Божественной сущности Логоса и на место платоновского ό δη θεός ήμΐν
πάντων χρημάτον μέτρον* в большей или меньшей степени
ставят протагоровское άνθρωπος πάντων χρημάωτον μέτρον**,
субъективируя тем не только Гегеля, но и всю философию вообще.
С) Итак, через посредство гносеологического анализа
Божественный Логос получил совсем новое не космическое и не
антропоморфное в этом смысле освещение. Из Логоса вещного он
стал Логосом логическим, из Логоса восприятия — Логосом
критическим. Внешние одежды спали с него, и сущность его
обнаружилась с большей непосредственностью. То, что было
сделано Платоном и Плотином бессознательно, в лице Канта и
Гегеля достигло своего полного сознания. В Логосе античном
философская мысль получила свое существование; в Логосе
немецкого идеализма она поднялась до самосознания. То, в чем
ощущалась потребность уже у Плотина и что
религиозно-этически с такой силой было высказано проповедью Христа, а
именно: отказ от вещи и признание духа, — в системе Гегеля,
* См.: Платон. Законы. IV. 716 с. [пусть у нас мерой всех вещей
будет главным образом Бог (греч.)].
** См.: Аристотель. Метафизика. XII. 9, 1075а. [человек — мера
всех вещей (греч.)].
О Логосе
351
через посредство критики Канта, нашло свое чисто
философское, т. е. онтологически-метафизическое осуществление.
Религиозно-этическая истина — Царство Божие внутри вас —
получила, наконец, свое подлинно философское, теоретическое
существование. И освобожденная от искажающих ее внешних
образов сущность Логоса обнаружилась с небывалым еще
единством и систематичностью своих проявлений. То, о чем чаяли
только Аристотель с его замкнутым в себе νόησις νοήσεως43,
Плотин с его объединяющим в себе бытие и познание νους*,
Эриугена и Кузанский с их намечающейся объективной
диалектикой**, развернулось в цельную и законченную систему
абсолютной идеи. Онтологизм наивный, разрозненный и
личный, пройдя школу критического гносеологизма, превратился
в онтологизм внутренно-спаянный, безличный и полный
подлинной самоотчетности. В этом превращении заключается все
систематическое значение современной философии Логоса.
В нем же лежит и весь смысл античной философии. Своим
космическим взглядом на Логос античная спекуляция не только
дала философской мысли первичное существование, но и
предопределила ее к тому новому шагу, который трудами
немецкого идеализма должен был поднять философствование на
ступень самосознания. В системе Гегеля дан все тот же античный
Логос, определяющий собою существо философской мысли. И в
этом обнаруживается глубочайшее единство философского
творчества, его неугомонное и неутомимое стремление к
самобытности, чистоте и законченности. Потому тот, кто требует
отказа от немецкого идеализма и возврата к античной
философии, кто в противовес Канту и Гегелю восхищается новейшими
проявлениями античного космизма, тот не только не видит
подлинного смысла немецкой спекуляции, но прямо-таки
нарушает этим самую интимнейшую сущность философии, а
вместе с нею и прежде всего все мировое значение греческого
учения о Логосе, лишая его вселенской значимости и ограничивая
островком античного антропоморфного онтологизма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
§ 1. Однако если по сравнению с античным космизмом
немецкий идеализм является освобождением философской
мысли от антропоморфизма, то из этого еще не следует, что он чист
* Plotini. Enneadis. V. 9. [в уме (греч.)].
** Eriugena. De divisione naturae. I. 4; III. 20; IV. 4; V. 39.
352
Б. В. ЯКОВЕНКО
от всякого антропоморфизма, будучи взят сам по себе. Его
происхождение из гносеологического анализа познавательного
акта заставляет сомневаться в этой чистоте. А ближайшее
пристальное рассмотрение его основных схем убеждает в том, что в
противовес греческому космизму он преувеличил принцип
духовности. Действительно, в основание немецкого Логоса
положены антропоморфные еще схемы. Только антропоморфизм
этот в высшей степени дифференцированный, уже не
космический, а психологический. В лице основного для современного
дуализма понятия «сознания вообще» и основного для
современного монизма понятия «диалектической души» * или
«чистого движения мысли» немецкая философия повторяет еще
антропоморфное изложение сущности Логоса. И тому есть одно
глубочайшее основание: и гносеологический дуализм, и
гносеологический монизм одинаково опираются в конечном счете на
различие формы и содержания и потому в конечном счете
одинаково еще дуалистичны. Различие же формы и содержания
есть гносеологическое повторение дуализма субъекта и
объекта. Этот последний, в свою очередь, повторяет чисто
психологическое различие Я и не-Я, в котором Я сообщается
постоянство, а не-Я — преходящее и изменчивость. Таким образом,
гносеологический онтологизм приводится к той же самой
антропоморфной первосхеме, которой определяется и космизм,
превосходя последнего только в чистоте и безличности
выражения. В гносеологизме антропоморфизм достигает вершины
своей дифференциации, становясь уже только внешней формой
изложения самосознанной и неантропоморфной сущности
Логоса. Освободить же Логос от антропоморфизма совершенно не
в состоянии и гносеологизм. И это главным образом потому,
что он изначала определен наивным антропоморфическим
дуализмом. Высшее, чего может достигнуть на такой почве
философская мысль, это — гносеологическое самосознание
космического Логоса, протекающее все же в психологических схемах.
Освободить же совершенно Логос от всего постороннего здесь
нельзя потому, что он самой дуалистической постановкой
своей проблемы безнадежно предопределен к такой несвободе от
антропоморфизма. И в космизме, и в гносеологизме Логос
является примирителем разобщенных сначала моментов.
Философски такая его роль двусмысленна, ибо разобщенное не может
быть никакими ухищрениями здесь сделано единым.
Философская мысль — не химическое соединение. Чтобы Логос был
* См.: Hegel. Sämtl. Werke. V. S. 342.
О Логосе
353
действительно единым и самодовлеющим принципом, мало
диалектики: нужна полная его свобода ото всякого дуализма.
А этому препятствует общий всем эпохам философии антропо-
морфистический источник спекуляции.
§ 2. Полнейшая безнадежность философского преодоления
проблемы Логоса на почве, созданной Парменидом и
закрепленной интенционализмом Аристотеля*, нигде не выступает
явственнее, чем в наиболее дифференцированном продукте
гносеологического самосознания, в диалектике Гегеля. Вся
система последнего делится на две части: в первой все определяется
природой абсолютного, во второй все запечатлено
конкретностью и относительностью. Посредине зияет провал, тот самый
принципиальный hiatus43, над которым так божественно и так
бесконечно мучился Иоганн Готлиб Фихте**. Гегель нигде не
показал, как заполнить его: ибо hiatus этот был уже преду
ставлен в изначальном расщеплении абсолюта и релятива, формы и
содержания, субъекта и объекта, мысли и предмета. И это
старая история. Ею полна философия испокон веков. Победить
этот hiatus старались все: и Платон на разные лады в «Парме-
ниде» и «Тимее», и Аристотель в своем учении о νους44, и
Плотин в своей полудиалектической системе эманации, и Эриугена
в своей теистической диалектике, и Бруно в своем
воодушевлении мира, и Спиноза в своем геометрическом развитии перво-
субстанции, и Лейбниц в своем учении о первомонаде. И все
одинаково безуспешно в силу того, что проблема с самого
начала — первым антропоморфно-дуалистическим шагом
спекуляции — уже была сделана неразрешимой. В наше время вся
трудность и вся роковая важность проблемы вряд ли кем-нибудь
была формулирована с такой ясностью, как проф. Лопатиным.
И благодаря этому нигде, может быть, основная безнадежность
ее разрешения на почве изначального антропоморфизма не
выступает с такой всепобеждающей несомненностью, как в его
глубокой попытке вновь теистически преодолеть эту
проблему***. Ибо нет такого пункта, в котором бы философски
сошлись те, кого изначала и навеки развели в разные стороны.
И если это так для пантеизма, вселяющего Бога в каждый
отдельный момент бытия, то это еще больше так для теизма,
который недосягаемо возвышает Бога над миром. Тысячу раз
* Аристотель. Метафизика. IV. 6. 1010 Ь. 32 с.
** Fichte. Sämtl. Werke. П. S. 40, 53; Nachgel Werke. IL S. 199 f., 210
f., 217 f., 229, 276 f.
** Лопатин. Задачи положительной философии. П. С. 252—289.
354
Б. В. ЯКОВЕНКО
прав теизм в устах проф. Лопатина, протестуя против
пантеистического уничтожения Бога в явлениях. Но не противоречит
ли он сам себе, когда хочет, вопреки протесту, все же
как-нибудь связать Бога с миром и диалектически вывести землю из
Царства Небесного? Не обязан ли он, наоборот, с первыми
Отцами Церкви и св. Августином предоставить эту проблему
религиозному переживанию и вере в неисповедимые пути Божий?
§ 3. Доведя антропоморфизм до дифференцированнейшей
формы диалектического движения идеи, гносеологизм
обнаружил этим основной порок, порабощавший доселе всю
философскую мысль, а вместе с тем указал и задачу будущего. Проблема
Логоса должна быть поставлена иначе, чем она стояла до сих
пор: Логос должен быть взят не как космическое или
логическое средство соединить разрозненных антагонистов:
абсолютное и относительное, а как свободное от этой дилеммы
первоначало. Философия должна быть не философией относительного
псевдомонизма, а философией монизма абсолютного,
органического*. Все антропоморфические схемы должны быть
отброшены. Философия должна от безнадежной проблемы Логоса
снова вернуться к единой в себе проблеме абсолютного. Сущее
должно быть понято не как Логос, наполняющий собою все, а
как само это Все в своей самодовлеющей «Всещности», как
органическая система категорий, в себе и через себя
исчерпывающих всю истину, все бытие. Категориальное Все встанет
тогда с такой же простотой и непосредственностью, с какою
стояло Все во Всем и для Всего в темный, таинственный период
мифологического существования. Только тогда очертания
системы были смутны, темны, чувственны: теперь же они должны
стать отчетливы, ясны, разумны. Установить систематически
эту будущую философию есть задача трансцендентализма. В нем
сойдутся, как в едином центре, и мифологические чаяния и
античный космизм, и христианский теизм, и скептицизм Юма,
и гносеологизм Канта, и онтологизм Гегеля. Все они
отрицательны в своей односторонности и недостаточности, но вместе с
тем все, будучи поняты в этой отрицательности, могут
сослужить положительную службу. Трансцендентализм вырастает
на их плечах, чтобы, отрицая их, найти новый путь к
Абсолютному Логосу.
* Само собою разумеется, что и та «Органичность», которую
осуществил Гегель, равно и та, которой добивался Соловьев, не могут
быть, согласно всему вышеизложенному, признаны за
«Органичность» подлинную.
О Логосе
355
В трансцендентализме философия возвратится наконец к
себе самой. Из «ничто» темных мифологических
верований-помышлений родилась она к жизни в лице античного космизма и
утвердилась в своем бытии. В немецком гносеологизме она
достигла своего самосознания, побуждаемая к тому явной
недостаточностью космизма. Остается последний шаг, чтобы докончить
философские блуждания возврат к своему первоначальному
единству, заповеданный уже в самый первый момент
мифологического выступления. Философия в силу своей внутренней
природы должна была из полной темноты сначала броситься в
крайность материи, затем переброситься в крайность духа. Но
не менее она предуставлена и к тому, чтобы после этих опытов,
просветленной и обогащенной, вернуться к своему
первоначальному единству, т. е. к мифологии. Только на этот раз
мифология будет уже не темной, а критической и разумной. Такова
миссия трансцендентализма. В нем научность и мифологичность
подадут друг другу руки. Но надо помнить: научность
философская, мифологичность критическая!
И из всего этого с новой силой выступает значение
античного учения о Логосе. Им не только было предопределено учение
о Логосе современное, — им от века был предуставлен и
затребован отказ от себя самого для себя самого, для высшей формы
самостановления. В этом отрицательном значении античного
Логоса открывается все глубочайшее значение Логоса
современного и вся спекулятивная необходимость Логоса
грядущего. Логос античный должен был умереть в своем космизме,
чтобы на его могиле руками Логоса критического был возделан
Логос трансцендентальный. В первородном грехе Парменида
уже возвещалось пришествие Спасителя.
«Велика истина и превозмогает!» И видится уже нам ее
Вечный Божественный Престол. Перед вратами рая стоим мы и
скоро войдем туда. Как? Какими путями? В каких формах,
какими словами? Это все еще во мраке будущего. Но встает уже
заря, близится день. И из мрака умирающей ночи читаем мы
на челе грядущего Логоса слова философского пророка: Αυτός
ό Λόγος!46
^^
С. И. ГЕССЕН
Неославянофильство в философии
(В. Эрн. Борьба за Логос. Опыты философские и критические.
М., 1911. Изд-во «Путь». 361 к.)
Несмотря на назойливое подчеркивание автором собственной
оригинальности и значительности, книга г. Эрна, в сущности,
интересна лишь той прямолинейностью, с которой автор ее
развивает типичные для мистически-славянофильского
направления нашей философской мысли взгляды. Это — сборник статей,
объединенных, по словам автора, «пафосом борьбы» за «ло-
гизм» (так называет автор свое славянофильски-православное
мировоззрение) против отвлеченного иррелигиозного
рационализма русской философии1. Говоря, однако, конкретнее,
это — собрание полемических статей и заметок, направленных
главным образом против двух врагов: позитивистического
марксизма и группы русских философов, объединившихся в
журнале «Логос». Этот домашний характер полемики,
раздуваемый до имеющей вселенское значение «борьбы за Логос»,
лишь отчасти скрадывается двумя критическими статьями,
посвященными прагматизму и имманентной философии, а
также двумя полусистематическими-полукритическими
отрывками, исследующими «природу сомнения» и «исходный пункт
теоретической философии». Но и в этих статьях больше
полемики, нежели положительного содержания, и, как всякая
полемика, остающаяся только полемикой, «Борьба за Логос»
носит поэтому крайне неопределенный характер, совершенно не
соответствующий тому весьма резкому тону, которым она
написана.
Неославянофильство в философии
357
I
Критика западноевропейской «рационалистической» мысли
поражает своей суммарностью и неосведомленностью. Три
главных греха отличают, по мнению автора, западноевропейский
рационализм, достигших крайних своих пределов в философии
Гегеля и современного неокантианства (Коген, Риккерт). Это —
«меонизмь, т.е. разрешение бытия в иллюзию, являющееся
плодом отождествления бытия с мыслью познающего субъекта;
рационалистическое уничтожение личности, которую
современная западная философия будто бы растворяет в
отвлеченный пучок ассоциаций; наконец, иррелигиозность и
рационализм, понимающий мир в недвижных и отвлеченных понятиях:
в категории вещи. Отсюда механический детерминизм,
отрицающий свободу, и другие пороки современной западной
философии. В основе всех этих пороков лежит удаление философии от
жизни (главным образом поэзии и религии), что особенно
проявляется также в застывшем, статическом характере
рационализма. Таковы основные свойства всей западной философии
начиная с Декарта до Канта, Гегеля и современного
неокантианства. В противоположность этому философия Восточной
Церкви, а также и «вся русская философия (за исключением, в
сущности, нерусского западнического направления) онтологична,
т.е. «не отрешена от жизни», от «сущего», не отвлеченна, а
конкретна; персоналистична, т. е. «раскрывается не помимо
личности, а чрез личность и в личности», что вместе с первым
свойством особенно сказывается в отсутствии у нас системы с
необходимым для всякой системы насилием отвлеченного
понятия над живой реальностью. Философия проявлялась у нас
(слава Богу) не в системах, т. е. «за кабинетным столом», а в
личностях, «высящихся над всеми их творениями,
остающихся неисчерпанными». Вместо систем Декарта, Канта, Фихте,
Гегеля и т. д. мы имеем нечто большее: философские личности
Сковороды, Хомякова, Печерина, Гоголя, Достоевского,
Соловьева, кн. С. Н. Трубецкого и т. д., вплоть до Серафима
Саровского (впрочем, исчезнувшего при перепечатке первоначального
текста статьи в рассматриваемом сборнике). Наконец, русская
философия существенно религиозна и логична, т. е. опять-таки
цельна, не рационалистична, не схематична, не статична, а
«динамична», так как «требует творчества, непрерывного
волевого усилия, непрерывного возрастания»: она «есть сама
жизнь, жизнь in actu, жизнь крепнущая и зацветающая».
358
С. И. ГЕССЕН
Здесь не место опровергать в деталях смелую схему г. Эрна.
Она достаточно говорит сама за себя. Интересующихся вопросом
отсылаем к статье г. Яковенко (журнал «Логос», 1911, кн. 1),
где подробно показывается преемственность современной
западной философии от античной2. А также умело выясняется
роль христианского умозрения в разработке проблемы Логоса.
Для наших целей, однако, достаточно уяснить характер
критики г. Эрна на одном примере: на примере наиболее
систематичного и наиболее рационалистического (и потому наиболее
характерного) из всех западных философов — на примере Гегеля.
Как известно не только всякому, читавшему сочинения
Гегеля, но и ознакомившемуся с Гегелем по книгам Розенкранца,
или Гайма, или Куно Фишера, система Гегеля выросла из
оппозиции к рассудочной, отвлеченной философии Канта. Идея
жизни была путеводной звездой его философии. Кантовскому
идеализму он противопоставляет философию конкретной идеи,
где мысль не вне вещей, но нераздельная с вещами, охватывает
их во всей их текучести и «текуча», подвижна вместе с ними.
Гегелю же принадлежит и противопоставление живого разума
(Logos, Vernunft) недвижному рассудку (Ratio, Verstand),
сравнение философии с искусством (Differenz zwischen Fichte und
Schelling), с органическим ростом (предисловие к
«Феноменологии»)3. Философские понятия, по Гегелю (ср. хотя бы то же
самое предисловие), не должны быть бесплотны и отрешены от
действительности, но должны быть «углублены в предмет»,
«погружены в материю и ее движение». Рационализм с его
формализмом в корне отрицается Гегелем. Странно в качестве
единственного аргумента в пользу «меонизма» Гегеля, столь
противоречащего основным тенденциям гегелевской
философии, видеть ссылку на парадоксальное мнение Л. Лопатина о
Гегеле!4 По-видимому, несколько страниц в книге Лопатина да
журнальная статья о Гегеле послужили единственным
источником для смелых выводов автора о Гегелевой философии.
Таким образом, применяя формулы г. Эрна, именно философию
Гегеля, эту, по его же мнению, архирационалистичную и
архизападную философию, следовало бы признать «онтологичной»,
«динамичной», «органичной», религиозной (в религиозности
Гегеля трудно сомневаться всякому, хотя бы только
перелиставшему его «Теологические сочинения» и «Философию религии»)
и даже «персоналистичной» (ведь именно Гегелю принадлежит
учение о гении как носителе исторического процесса, —
истина, тоже вновь открываемая г. Эрном). Еще более
неожиданный результат получится, если, собравши крупицы положи-
Неославянофильство в философии
359
тельных «собственных» взглядов г. Эрна, мы спросим себя об их
происхождении. Различение между «дурной бесконечностью»
и «бесконечностью актуальной» (впрочем, г. Эрн, прочитавши
статьи Флоренского о бесконечности5, сам снисходительно
признает, что это различение Гегелево), понимание сомнения и
заблуждения как положительной движущей силы
философского умозрения и т. д. и т. д. — ведь все это крупицы со стола
Гегеля. Наконец, даже образ философии как синтеза духа
Диониса и Аполлона есть лишь бледное отражение известного места
из «Феноменологии», где истина понимается как «вакхическое
похмелье», которое вместе с тем есть ясный и простой покой.
Только этим незнанием первоисточника и можно объяснить тот
эклектический сумбур, который лежит в основе всей заносчивой
полемики г. Эрна. И немудрено: ведь г. Эрн — типичнейший
эпигон славянофильства, лишь эклектически перепевающего
эклектических учеников Гегеля (как известно, И. Киреевский
был слушателем и учеником Гегеля, влияние которого на
славянофилов вряд ли кому придет в голову отрицать).
Можно было бы без конца перечислять аналогичные
заимствования и недоразумения. Но и сказанного достаточно для
того, чтобы судить о ценности полемики г. Эрна и его
широковещательного противопоставления восточнорусского «логизма»
западноевропейскому «рационализму».
II
Но будем справедливее самого Эрна и постараемся за
эклектическими словами его уловить тот цельный дух, который
несомненно имеется в книге, т.е. «веру и любовь»,
долженствующих оправдать «пафос борьбы». Постараемся истолковать
его отрицательные утверждения более определенным образом:
так, чтобы действительно нащупать противоречия между
славянофильской и западнической философией. Тогда дело
представится нам в следующем виде. И западная, и восточная философия
одинаково стремятся преодолеть относительную и отвлеченную
ступень ratio (рассудка) и выйти к абсолюту. Но, переходя на
высшую ступень разума, или «конкретной идеи», «западная
философия» не уничтожает тем самым значения и смысла
предшествующей ступени: она ее вбирает в себя и на основе этой
воспринятой почвы строит выше свое здание. В этом смысле
западная философия традиционна и эволюционистична. Если
конкретная нравственность или любовь выше права, то это зна-
360
С. И. ГЕССЕН
чит, что она возможна лишь на основе права: чтобы достичь
высшей ступени, надо пройти предварительно и усвоить,
изжить низшее. Не то — славянофильская философия:
интуиция, «разум» выше рассудка — значит, долой рассудок (т. е.
долой науку, говоря грубо)! Любовь выше права — значит,
долой право (этот известный и на Западе вывод послужил
основанием для «патриархальной теории государства», излюбленной
также и нашими славянофилами). Славянофильская
философия, желая непосредственного перехода к абсолютной ступени,
отрицает традицию и эволюцию: если она видит абсолют в
прошлом — тогда она реакционна, если в будущем — тогда она
«катастрофична» (пользуясь термином г. Эрна). Но и в том и в
другом случае она насилует, ограничивает абсолют.тем, что,
считая его принципиально достигнутым, на самом деле
подменивает его либо уже существующей наукой, государством,
Церковью, либо тем произвольным и субъективным идеалом
государства и Церкви, который ей вздумается себе составить. В этом
смысле она абсолютична. Абсолют стоит у ней в начале
философии как нечто вполне определенное и конкретное. Понятно,
что такая философия не ведет к системе, а есть топтание на
одном месте. Она не приведет к богатству и полноте мотивов,
которые возможны только на основе воспринятия или
«снятия» предшествующего, а к ограниченности и бедности. Ей
достаточен лишь один глоток абсолюта: она сразу пьяна им и не
нуждается уже в развитии, расчленении абсолюта. «Пафос»
заменяет в этой философии разум. Пророческое одушевление
презрительно отвергает границеположение рассудка («Орос»).
«Но горе философии, желающей ограничиться одним
одушевлением... Кроме пустой широты, существует также и пустая
глубина: бессодержательная напряженность (то, что г. Эрн
называет «тоничностью»), которая, оставаясь простой силой,
не стремящейся к развитию, есть не что иное, как
поверхностность. Сила духа велика лишь постольку, поскольку она
выявляется, его глубина глубока лишь постольку, поскольку она
определяется в развитии и сливается с этим своим развитием и
выявлением». Эти слова Гегеля, направленные против шеллин-
гианства, как нельзя лучше подходят также для славянофилов
и нашего новоявленного «маленького Шеллинга».
На отрицание традиции и удовлетворение малым как на
главные характерные признаки славянофильства указывал
еще Соловьев. И. В. Киреевский пришел в своих философских
занятиях к тому выводу, что истинная мудрость и подлинное
знание находятся исключительно только у аскетических писа-
Неославянофильство в философии
361
телей православного Востока. Друзья его надеялись, что он
извлечет из этого нового источника новую восточную
философию, чтобы победоносно противопоставить ее обветшавшим
умозрениям гнилого Запада. Но все дело ограничилось одним
голословным утверждением; аскетическая философия осталась
в своем старом виде в кельях афонских и оптинских монахов и
не превратилась в основу нового славянофильского
просвещения... В сущности верное, но слишком «суммарное» и беглое
отрицание германской метафизики в трех или четырех
журнальных статьях, да ничем не оправдываемое требование новой
восточной философии — вот и все, что мы имеем с этой
стороны». С того времени, как Соловьев писал эти строки,
появилось много.интересных и значительных философских трудов в
России, но «с этой стороны» мы по-прежнему имеем лишь
суммарное отрицание и неопределенное требование. Впрочем, на
обложке мы читаем известие о будущих трудах автора, из
которых один (исторический — о Григории Сковороде) «печатается»,
другой же (систематический) еще только «готовится к печати».
Попробуем же внушить себе надежду, что слова Соловьева
скоро станут анахронизмом.
-Θ^
Α. ДЕБОРИН
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн.
Борьба за Логос
Опыты философские и критические.
Москва. 1911 г. VIII+361 стр.
Наша матушка Россия — необычайно плодородная страна.
За последние только несколько лет в этой благословенной
земле народилось столько пророков, что диву даешься. К числу
Богом «избранных» относится и г. В. Эрн. Как и подобает
пророку, он всегда торжественно настроен, пишет высоким
стилем, проповедует «открывшиеся» ему тайны с большим
жаром, изрекает страшные слова, которыми думает повергнуть в
прах врагов своих...
К счастью, мы привыкли к нашим доморощенным
апостолам и знаем цену их возвышенным проповедям. Мы знаем, что
развязность, самоуверенность, мания величия — их основные
добродетели. Хорошим тоном, господствующим в среде наших
самобытных пророков, требуется всенепременнейше
презрительное отношение к Западу и его тысячелетней культуре,
признание провиденциальной роли России в мировой истории и
противопоставление безрелигиозному, атеистическому и
рационалистическому Западу восточнохристианской философии
Логоса. Запад атеистичен, культура его покоится на
рационалистических основаниях. Только Россия живет религией Слова,
религией Логоса. «Почти две тысячи лет православный Восток
таинственно носит в себе святыню религии Слова» («Борьба за
Логос», с. 76). И так как рационалистический Запад коснеет в
невежестве, то русская философская мысль призвана раскрыть
Западу безмерные сокровища восточнохристианского
умозрения. Русская философская мысль в отличие от западной
характеризуется тремя основными тенденциями: 1) она онтологична,
т. е. жизненно-конкретна; 2) она проникнута глубокой религи-
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Борьба за Логос
363
озностью, насквозь пропитана православием и 3) отличается
персонализмом, т. е. значительностью личности творцов
русской мысли. Далее. Принципом русской философской мысли
является Логос; в то время как западная философия вся
проникнута рационализмом. Вся гниющая и разлагающаяся
цивилизация Запада есть «законное и необходимое детище
рационализма» (с. 84, примеч.). Россия пронизана религией Слова;
религией своей она внедряла в себя восточное начало
Божественного Логоса. Логизм признает, что философия имеет
ноуменальные корни, что в философе философствует нечто
сверхличное, ибо Логос есть личный посредник между Абсолютным
и миром. Логизм считает метафизически сущими и человека, и
мир, и Церковь, и Бога, между тем как рационализм отрывает
Сущее от Бога, форму от содержания, субъект от объекта.
«Существо Логоса состоит в божественности... Это не
субъективно-человеческий принцип, а объективно-божественный...
Логос, это — предвечное определение Самого Абсолютного... Бог
христианства изначально был Логосом... Предвечно сущее
Слово... явилось тем творческим принципом, в котором и которым
сотворено все существующее... Мир есть откровение
изначально сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир
в самых тайных недрах своих "логичен", т. е. сообразен и
соразмерен Логосу, и каждая деталь и событие этого мира есть
скрытая мысль божественного Слова... Логос как начало
человеческого познания — тот же самый
существенно-божественный Логос, только в разных степенях осознания... Человек,
поднимающийся к "логическому" сознанию, сознает в себе
Логос, сознает себя как божественно сущее...» Как видит читатель,
г. Эрну доступны такие «тайны», которые нам даже трудно
постичь умом нашим «маленьким логосом». Мы можем
почтительнейше выслушать апостольскую проповедь г. Эрна, но что
общего она имеет с философией, которая требует доказательств,
доказательств и еще раз доказательств?
Но хотя Россия и проникнута религиозностью, однако и она
не отличается голубиной чистотой. В Россию постепенно
проникает западноевропейская культура с ее рационализмом. Таким
образом, происходит столкновение двух начал, которое должно
неизбежно закончиться страшной катастрофой. И если верить
апостолу некультурности, победителем из этого столкновения
между рационализмом и логизмом, между западной
культурностью и восточной «некультурностью» выйдет Восток, Россия.
В конечном счете, надеется г. Эрн, восторжествуют все-таки
исконные русские начала.
364 А. ДЕБОР И H
Своеобразно понятая «сущность» русского духа не
исчерпывается, конечно, теми тенденциями, которые отмечены г. Эрном,
т. е. некультурностью, невежеством и прочими столь
желанными г. Эрну драгоценными качествами. Сущность многогранного
русского духа раскрывается не только в блещущих
оригинальностью произведениях гг. Эрнов, Бердяевых и кн. Трубецких.
Такие корифеи русской мысли, как Белинский, Бакунин,
Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Михайловский, Лавров,
Бельтов, по нашему «рационалистическому» разумению,
также имеют некоторое право считаться выразителями русского
духа, русской «сущности». Не все же Сковорода и Козлов-
Одним словом, сущность русского духа обнаруживается и в так
называемом западничестве. Борьба западничества со
славянофильством, борьба рационализма с Логосом, прогресса с
регрессом и отсталостью ведь составляет содержание русской
истории и общественно-философской мысли почти всего последнего
столетия. Конечно, и гг. Эрны являются выразителями
интересов определенных слоев русского народа и постольку именно
их философия некультурности составляет «закономерный»
оттенок «сущности» многостороннего русского духа. Но по
какому праву отожествляют свою сущность с сущностью русского
духа вообще? Их сущность действительно характеризуется
указанными г. Эрном тенденциями. Идеализируя
определенную сторону русской души, наша националистическая
философия стремится реставрировать те ценности, против которых
передовые силы России ведут неутомимую борьбу. В этих
целях необходимо ограничить сущность русского духа, дабы
объявить «вне» русского духа, т.е. «инородцами», Белинского,
Чернышевского и проч. Приемы националистической
философии ничем не отличаются от приемов националистической
политики.
В заключение необходимо прибавить, что г. Эрн
обнаруживает свое полнейшее незнакомство с западноевропейской
философией. Иллюзия самобытности объясняется, по-видимому, не
иллюзорным, а самым настоящим невежеством. Ибо в
противном случае он бы знал, что «критика отвлеченных начал»,
конкретность (онтологизм) и логизм — основные характерные
тенденции определенного направления в русской философии,
неправильно отождествляемого г. Эрном со всей русской
философской мыслью, — составляют основные моменты в
философии Гегеля и Шеллинга, под сильнейшим влиянием которых
находился учитель г. Эрна — Вл. Соловьев. А между тем против
разлагающегося и гниющего Запада г. Эрн мечет громы и мол-
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Борьба за Логос
365
нии. Но гг. Эрны имеют основание бороться против западной
культуры, — основание, конечно, не
теоретически-философское, а социально-психологическое. Только оружие гг. Эрнов —
Логос, восточнохристианское умозрение, слишком уже
устарелое и заржавелое...
«Борьба за Логос» означает борьбу против культуры.
^^
В. В. РОЗАНОВ
Новые работы по философии
С большим извинением за несвоевременность позволяем себе
обратить внимание читателей, а, в сущности, сами нуждаемся
в том, чтобы поблагодарить авторов, — за две ценные
философские работы, появившиеся этою зимою в «Вопросах философии
и психологии»: «Очерк теоретической философии Г. С.
Сковороды» одного из лучшего наших новейших славянофилов,
г. Эрна и «Натурфилософия Аристотеля и ее значение в
настоящее время» В. Карпова. Не удивляйтесь, читатель, русские
философы и псевдо-философы жадно набрасываются на новинки
германской, английской и французской философии, — на то,
что «шумит сейчас», и современным пренебрежением обходят
то, что сотворила в области философии античная мысль. У нас
нет, при восьми университетах и уже вековом преподавании в
них философии, ни одного «Очерка греческой философии»,
написанного русским профессором. Ни одной книжки «О
Платоне», ни одной книжки «Об Аристотеле». Творения Аристотеля,
бывшие века «евангелием мысли» в Европе, как, например,
его «Органон», «Метафизика», «О душе» и «Физика» —не
переведены иначе, как в отрывках или извлечениях. Словом,
здесь царит что-то совершенно варварское, невероятное, — по
лени и убожеству. Точно сруб избы, догнивающий под
дождями годы, потому что никому не понадобилось никакой избы.
На этом безлюдии и бессмыслии было истинным
наслаждением читать огромное, ясное, живое изложение философской,
или, вернее, натурально-философской системы Аристотеля. Он
был столько же ученый, в современном нам смысле знания,
сколько метафизик в смысле всех времен и народов. И до сих
пор как соединитель этих двух устремлений человеческой
мысли не имеет себе равных умов, — равных, так сказать, по
великолепию и завершенности мозговой, что ли, но общее и
точнее — духовной организации. В этом отношении и Платон, и
Новые работы по философии
367
Бэкон стоят позади его, ибо то, что было в них, — есть у
Аристотеля, а что было у целого Аристотеля — недоставало как
Платону в отдельности, так и Бэкону в отдельности. И это
простиралось не на томы, не на трактаты, а на самый метод; т. е.
не на то, чтобы Бэкон посвятил отдельные труды умозрению и
отдельные — собиранию фактов; это тоже есть, но главное, на
каждой странице и даже в каждом отдельном объяснении,
отдельном тезисе у него равно живо трепещут факт и мысль,
пример и теория, вся мощь колоссального метафизика и весь
эмпиризм зоркого, старательного и неутомимого наблюдателя
природы. Представьте себе Дарвина, странствующего на
корабле «Бигль» * и осматривающего зоологические сады, питомники
и «скотоводства» всех стран, который бы, как хламида, облек
собою умозрителя — монаха Канта, — или душу этого Канта,
внедренного в этого эмпирика Дарвина, и мы получим нечто
очень близкое к Аристотелю, давшему 1) первую
«естественную историю» и 2) первую «логику». Несоединимое —
соединилось. Соединилось один раз в истории. И совершенно
очевидно, что и сейчас, в XIX или XX веке, это «соединение» стоит
перед историком человеческой мысли и (полнее) культуры в
такой же прелести, загадке, поражающем великолепии и,
дерзнем сказать, — некоторой «умственной поэзии», как оно стояло
для мира древнего и нового, во все времена, «до нас». В старые
времена, когда мне приходилось заниматься Аристотелем, я
поражен был тою пользою, которую он приносит для
«современного человека» (верная мысль В. Карпова): всякое
физическое и физиологическое явление становилось точно прозрачнее,
умнее и полнее, когда к ним придвигались аристотелевские
категории мысли и вечные, неумолчные его вопросы, которыми,
как дробью, он колотил во всякий осязаемый и умственный
предмет. Это было удивительное впечатление. Не сомневаюсь,
что лишь полным невежеством русских умов, русской вообще
«образованности» или скорее «необразованности» в области
античной философии, величественной, отчетливой,
всеобъемлющей, и, в частности, особенно невежеством в Аристотеле, —
объясняются грубейшие у нас триумфы Дарвина, Спенсера и
Огюста Конта... Ничего подобного было бы невозможно, если
бы наши гимназии и университеты вместо программы «всего
понемножку*, «ото всего — одни верхушки* — следовали
программе: «немного — но глубоко*. В университете, окончив в
1882 г. историко-филологический факультет, я не слыхал с
кафедры самого имени Сократа, Платона и Аристотеля; это было
случайно для состава наших слушателей, вообще этого не бы-
368
В. В. РОЗАНОВ
вало. Но не характерно ли, однако, что, пройдя среднее и
высшее образование в России по отделу историко-культурных
наук, можно было во второй половине XIX века вовсе не
услышать ничего из античной философии. Мой сотоварищ Белкин,
потом заместивший на кафедре философии нашего профессора
Матв. М. Троицкого, раз сказал мне: «Знаешь, брат Розанов,
рассуждал я раз с одним врачом о душе, он мне и говорит:
"сколько тел вскрыл, сколько черепов на своем веку
распилил, — а души ни разу не нашел"». Это ему, бедному, казалось
убедительным... В том же духе он читал философию и сам,
заведя в Московском университете непостижимую «лабораторию
для психофизиологических исследований», где хотел «схватить
пальцами душу»... И конечно, тоже для множества юных, не
ведающих, что творят, душ казался « убедительным »i Конечно,
подобной ерунды, на десятки лет воцарившейся в России, в ее
литературе и печати, не могло бы и появиться, преподавай у
нас в VIII классе гимназий вместо «элементарной логики и
психологии» и «начатков богословия» — хорошее
изложение... — ну, вот хоть аристотелевской мысли, или философии
Сократа, или досократовской философии (можно бы
попеременно делать). Уже тогда, 2х/2 тыс. лет назад, понятие φύσις,
«природа» было так разложено на элементы свои, и именно так
пробарабанила «дробь вопросов» о всех умственных и физических
предметах, что гиперборейское варварство Белкина (да и
Троицкого) было бы немыслимо для знакомства с этою alte Geschichte.
Не могу не сообщить с удовольствием, что, беседуя этою
весною с почтенным Александром Ив. Введенским о философских
делах в России, — услышал от него прекраснейшее суждение:
«Я считаю совершенно необходимым, чтобы на русском языке
были даны все классические философы, и прежде всего все
греческие философы — в полном объеме и точных переводах».
Конечно, — это «альфа» самого знакомства, самого преподавания.
Так как профессор этот чрезвычайно деятелен и вообще
исполнителен, — то, можно надеяться, он так или иначе добьется
осуществления своей умной мысли. К его большим философ-
ско-педагогическим заслугам прибавилась бы еще огромная.
Для этого ученые могут и организоваться; могут взять в
сотрудничество, для компилятивных частей работы, студентов и
курсисток2.
Повторяем, труд В. Карпова превосходен, и желательно,
чтобы он появился отдельною книгою. Он, прежде всего,
«настолько» необходим для студентов и студенток филологических
факультетов.
Новые работы по философии
369
•к "к "к
Превосходен по теплоте труд Эрна о Григории Саввиче
Сковороде, украинском ходебщике-философе, который, право же,
есть «родоначальник русской философии»... Г-н Эрн готовит о
нем целую книгу, и, судя по отрывку в «Вопросах философии и
психологии» — это будет превосходная книга. Сковорода был
совершенно самобытен, совершенно самостоятелен. Его земляк
Гоголь пустил злое словцо о «Кифе Мокиевиче», которое потом
забавляло Русь целый век, и все этому «Кифе Мокиевичу»
смеялись и при всякой попытке Русского «от себя» мыслить —
указывали пальцами и злобно гоготали: «Это — Кифа Мокие-
вич». Здесь, как и всюду, Гоголь сыграл отрицательную
службу: своим «Кифой Мокиевичем» он в значительной степени
породил русских «позитивистов», «контистов», «спенсеристов»,
да и позднее «последователей Шопенгауэра и ницшеанцев», все
вообще повторяющее Запад, компилирующее Запад... Он
создал страшное «как можно свое суждение иметь» в философии
и философствующей нашей литературе. Между тем, гораздо
ранее Гоголя, прошла по той же Малороссии трогательная и
прекрасная личность Сковороды, на которую и не оглянулся
Гоголь, о которой он не собрал сведений, собирая (через
приятелей) сведения о разных базарных прибаутках. Около
Сковороды, его благородного смирения, его высокой личной
религиозности, его, прямо скажем, «нравственной святости», — и все
это при редких философских дарах, — как груб кажется
Гоголь, груб, жесток и темен. «То, чему положил начало
бездомный странник Сковорода», — говорит г. Эрн, «не только живо,
но молодо и юно в наши дни» (курсив Эрна). Темы философии
Сковороды имеют и для нас, почти через полтораста лет,
первостепенное значение. Сковорода в своих исканиях наткнулся на
сокровища, которые не изжиты до сих пор. И сокровище это
заключается в том, что символизму (вспомним гетевское: «все
видимое есть только символ невидимого». — В. Р.) Сковорода
вновь, после многих веков забвения, придал серьезное
метафизическое и философское значение, что он все мировоззрение
свое построил на принципе символическом, т. е. внутреннем,
ознаменовательном, человеческом, решительно отвергнув
принципы рационалистического схематизма, т. е. точку зрения
внешнюю, внечеловеческую, расплывающуюся в
безвоздушных и неопределенных «абстракциях». У Сковороды г. Эрн
находит предвосхищение того, что потом с такою силою и
красотой выразили Тютчев, Киреевский, Хомяков и Достоевский.
370
В. В. РОЗАНОВ
Заметим, что г. Эрн — молодой московский философ, если не
ошибаюсь, готовящийся занять кафедру философии в тамошнем
университете. Что-то в высшей степени обещающее
совершиться в этом направлении именно молодых русских умов. Гг. Эрн,
С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Флоренский, Ельчанинов, Ас-
кол ьдов, Гершензон, Цветков и еще нескольких других
говорят о каком-то втором возрождении славянофильства,
наступающем в наши дни, — о «серебряном веке» его, наступающем
после «золотого века» Киреевских—Хомякова—Аксаковых.
Против этой смелой молодежи, так верующей в волнующееся и
растяжимое, но однако одно знамя «Россия — Православие —
Старая (идеальная) жизнь», как жалки задыхающиеся в
последней злобе, но не имеющие ни слов, ни мыслей сотруднички
профессорских «Русских ведомостей» с их станом выцветших
либералов и выписавшиеся писатели «Русского богатства»,
«Современного мира» и просто «Современника», —
пытающиеся гальванизировать тело 60-х годов3. Славянофилы — верили
в «воскресение»: и им — оно дано. Но позитивисты в
«воскресение» не верили и издевались над ним: откуда же и как им
ожить?!! В 60-х годах была хороша именно «заря» возрождения;
их первые протесты и вся «весенняя» гроза их. Но прозаично
было их продолжение, затянутость; этот скучный, позитивный
их «день», самодовольный и однообразный. Ну, а о
«поэтическом вечере» не к лицу мечтать таким вообще «непоэтам»...
И этот вечер «их» — только дождлив и грязен.
^^
С. H. БУЛГАКОВ
«...Нельзя отделить, что здесь
принадлежит Вам и что Сковороде...»
(Письмо В. Ф. Эрну от 2 декабря 1912 г.)
Дорогой Владимир Францевич!
Только теперь могу добраться до письма к Вам. За это время
прочел «Сковороду» и спешу выложить Вам свое
впечатление, — прежде всего читательское, я читал книжку с
перерывами, но с неслабеющим и захватывающим интересом.
Впечатление сам Сковорода производит огромное, и так как вы
открываете для русского читателя и большой публики
Сковороду, то даже и нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам и
что Сковороде, тем более трудно мне это сказать, что я
Сковороду знаю только от Вас и через Вас, — это Ваше открытие,
как ни странно, что можно делать такие открытия!
Вам лично, бесспорно, принадлежит Ваша сегодняшняя
убежденность и энтузиазм, ясная и искусная планировка и
истолкование Сковороды, в котором я особенно ценю то, что вы
не гармонизируете и не прикрываете двойственности и в
философии, и в религии Сковороды, двойственности, благодаря
которой его своим считаете и Вы, и Бонч-Бруевич, издавший
теперь его сочинения, и Толстой, хотя последнее, по-видимому,
по недоразумению1.
Если говорить о свойствах Вашей монографии, которые с
известной точки зрения могут считаться и недостатками, то
основным является чрезмерная и густая стилизация, обилие
курсивов (не только словесных, Вам вобще свойственных, но и
логических), вообще Васнецовская манера иконографии2, это и
в биографии, и в изложении. Получается стиль бердяевской
монографии о Хомякове3. Не столько Хомяков, сколько
Бердяев о Хомякове, не столько Сковорода, сколько Эрн о Сковоро-
372
С.Н.БУЛГАКОВ
де. Если бы Сковороду знали хоть столько, сколько Хомякова,
положение было бы благоприятнее, чем теперь. С этим связано
и изложение философии Сковороды в терминах философских
построений Эрна и даже в его терминологии, например, —
символы и схемы (с мыслью о символах и схемах и их различии,
насколько я Вас понимаю, я вполне согласен), «антропологизм»,
очевидно, в смысле святоотеческом, но ведь читатель может
понять под антропологизмом и Протагора, и Фейербаха, и
Шиллера. Остается все-таки неясным отношение Сковороды
к Библии, как и место этого «символа в системе символов».
Самое ясное и центральное, на мой взгляд, учение о внутреннем
человеке. Вообще, изложению свойственна недостаточная
простота, — Сковорода велик и за себя постоит и в совершенно
простом изложении, с наименьшей стилизацией, таков мой
личный вкус, да кроме того есть некоторая растянутость, —
конденсированная краткость есть идеал изложения. Наконец,
не приемлю кое-чего в терминологии Вашей, особенно «ло-
гизм», происходящий из Божественного Логоса, ведь так можно
сказать и «бог-изм» (или как писал уже Волжский, — «бого-
фильство» — «логофильство»)4. «Изм» есть вообще
рационалистическое изделие, и логизму угрожает опасность
бессознательно стать одной из форм рационализма, с которым Вы боретесь.
Мне давно это хотелось сказать. Это уже не критика, а спор...
Вот Вам полный и, как видите, нелицеприятный отчет о
«Сковороде». А в заключение я желаю автору его доброго
здоровья и сил для выполнения своего главного труда, в котором,
я чувствую, будет сказано много важного и нужного по
вопросам философии. Забыл еще указать Вам на неисследуемую
Вами возможность того, что Сковорода мог на Западе
непосредственно или через посредство познакомиться с западными
мистиками и оккультистами, особенно же с Бёме, запах коего я
чувствую все время (и даже гностические элементы Сковороды
могут быть преломлением бемизма). В таком случае во всю
линию развития Сковороды, в его духовную генеалогию должны
быть внесены существенные поправки. И «дева» у Сковороды
могла явиться из того же источника. Что Сковорода мог иметь
знакомство с Каббалой при своем знании еврейского языка, это
более чем вероятно. Во всяком случае, здесь должны быть
произведены еще раскопки.
Очень грустно, что мне, очевидно, не удастся приехать в
Италию на святки: фактически у меня освобождается не более
2-х недель, на которые я мог бы уехать, и из них половина
уйдет на разъезды. Кроме того, мне неудобно отлучаться сей-
«...Нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам...»
373
час из дому. Когда Вы назад в Россию? М<ожет> б<ыть>,
весною удастся захватить?
У меня все время уходит на суету, лекции и т. п. Ничего не
пишу и не работаю для души, хотя, впрочем, сейчас об этом и
не жалею. Что-то в душе должно отстояться, что не просится
еще в слово.
В издательстве у нас неудачи: начали печатать «Русские
ночи» кн. Одоевского, вдруг оказывается, что есть наследники,
имеющие литературные права и могущие устроить
неприятность, а между тем их трудно даже и сыскать5. Еще не
решили, как поступить. Если отказаться от печатания, то терпим
немалый убыток по произведенным расходам.
Хорошо повидались с Волжским. Он уехал. Иногда
приползает слух о Свенцицком, который, по-видимому, на прежнем
амплуа6. Николай Александрович в Москве еще не был7. Вас
благодарит М. А. Новоселов за книгу8. Ну, прощайте! Да
сохранит Вас и Ваших Матерь Божия!
Сердечный привет Евг<ении> Д<авыдовне>, Неля
кланяется Вам обоим.
Любящий Вас СБ.
^^Э
-^^^
Б. ЯКОВЕНКО
Новая книга о Сковороде
(В. Эрн. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение.
В серии «Русские мыслители». К-во «Путь». 342 с.
Москва. 1912)
Всякая монография предполагает определенный метод
своего начертания, который служит ей и руководящим началом, и
основным критерием. Поэтому, чтобы дать правильную и
существенную оценку какой-нибудь монографической работы,
нужно прежде всего обратиться к проникающему ее методу и
постараться проверить его соответственность задачам как
данной монографии, так и монографического исследования
вообще. В настоящем случае дело облегчается тем, что сам автор
предпосылает своей работе пространное рассуждение о
применяемом им методе, так что достаточно подвергнуть оценке его
методологическую позицию, чтобы тем самым высказаться по
существу и о ценности самой монографии. Методологическая
же позиция автора заключается в следующем. История, —
говорит он, — не имеет своей методологии» (3). Всякий историк
неизбежно субъективен и исходит из внутренно данных ему
метафизических и религиозных фактов. «Кому эти факты
внутренно даны, тот видит их и в лежащем перед ним сыром
материале. Кому они не даны, тот их не видит» (5—6). Чтобы
постичь, напр., внутренний смысл русской философии и
понять философствования хотя бы Сковороды, нужно носить в
душе своей прозрение тех метафизически-религиозных фактов,
которые, по мнению автора, лежат в основании русской жизни.
Мыслитель, стоящий на иной точке зрения, — напр., на
трансцендентальной, — лишен возможности убедиться во всей
значительности и своеобразности русской философской мысли. Он
неизбежно будет по отношению к ней глух и слеп (24, 26).
Новая книга о Сковороде
375
Что подобный методологический субъективизм есть позиция
чрезвычайно опасная и шаткая, это очевидно уже само собою.
И нет ничего удивительного в том, что ее
недоброкачественность тотчас же связывается в рассуждениях и выкладках
самого автора. Дело в том, что для большей разительности своего
утверждения об оригинальном величии русской философской
мысли он противопоставляет ей мысль западную,
рационалистическую, как явление во всех отношениях отрицательное,
приписывая этой последней совершенно не соответствующие
действительности свойства. Так, он думает, что ratio, на
котором строится вся эта философия, есть «среднее
арифметическое между разумами всех людей», т. е. принцип
количественный (9), что решительно не соответствует взглядам Канта,
Фихте и Гегеля, а в равной мере и взглядам всех
представителей современного трансцендентализма. Так, затем, он упрекает
западную философию в том, что она смотрит на поэзию лишь
как на вымысел и забаву (10), чему фактическим
опровержением служит хотя бы система гегелианца Кроче, у которого
эстетика, будучи наукой о художественном познании, полагается в
основание всего его миропонимания. Так, наконец, он
обвиняет западную мысль в имперсонализме (15 ел.), тогда как все
движение немецкого идеализма есть то более теоретическая, то
более практическая проповедь философского принципа
личности и автономии, причем французский неокритицист Ренувье
прямо-таки именует свою точку зрения персонализмом.
К сожалению, вредоносное влияние усвоенной автором
методологической точки зрения не ограничивается совершенно
несправедливым обхождением его с западной философией, но с
неизбежностью сказывается и в преувеличенно
панегирическом отношении к философии русской, а в частности к
философии Сковороды. Не подлежит сомнению, что этот последний
был замечательной личностью и прожил замечательную жизнь.
Но это еще не делает его замечательным философом, как того
хочет во что бы то ни стало автор. Для того чтобы быть
замечательным философом, Сковороде не хватает ни оригинальности,
ни исторической значительности. По свидетельству самого
автора, его философские идеи являются прямой рецепцией идей
античной и христианской философии (222). С другой стороны,
Сковородой не создано ни действительной философской
школы, ни самостоятельной философской системы, чем он и
отличается от Сократа, с которым его так любят сопоставлять (141,
155). Если некоторые из живших позднее русских мыслителей
склонялись к тем же самым мыслям, что и Сковорода, то они
376
Б. ЯКОВЕНКО
обязаны были этим не ему, а непосредственному изучению
Отцов Церкви. Так что ни о какой подлинной преемственности,
конструирующей линию самостоятельной русской философии,
не может быть и речи. Тем более что подобная преемственность
сказывается в философии обычно в виде непрерывного
развития одних философских систем из других, а у нас в России,
как это признается и автором (27), ни систем, ни системы не
было дано. Таким образом, как из западной философии,
благодаря своей методологической точке зрения, автор совершенно
произвольно вынул ее внутренний смысл, так и в русскую
философию он с такой же произвольностью вдунул то, чего в ней
никогда не было. Как бы ни называть такую фантастику, —
узрением ли метафизических фактов, или еще как, — все
равно она не соответствует подлинной исторической
действительности и должна быть отвергнута всяким, кто стремится к
возможно наиболее объективному изучению и русского прошлого,
и западной философии. Мне приходилось уже говорить, что
задача издать серию монографий о русских мыслителях,
поставленная себе книгоиздательством «Путь», должна быть
приветствуема всеми силами. К сожалению, начатое ею выполнение
страдает одним существенным недостатком, который достиг в
настоящей монографии своего апогея и свободными от
которого хотелось бы видеть последующие монографии. Этот
недостаток — партийность, искажающая самую сущность
монографического исследования и превращения его либо в панегирик,
либо в филиппику. Для просыпающейся к философскому
творчеству России нужны не такие монографии, а простое, точное и
обстоятельное установление того, как у нас до сих пор
философствовали.
€^
Д. ФИЛОСОФОВ
Г. С. Сковорода
(1. Владимир Эри. Г. С. Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912,
книгоиздательство «Путь». Ц. 2 р.
2. Собрание сочинений Г. С. Сковороды. Т. I.
Под ред. Вл. Бонч-Бруевича. СПб., 1912. Ц. 4 руб.)
Когда в 1861 году появился небольшой томик сочинений
Г. С. Сковороды, произошел невероятный скандал1.
Костомарова, сочувственно отнесшегося к Сковороде, обвинили в
мракобесии. Возникла шумная полемика, и Сковороду вскоре забыли.
Им по-прежнему интересовались, главным образом, украино-
филы, которые исподволь собирали материалы для биографии
«оригинального человека и причудливого туземного
странника», но порядочного издания его сочинений не было вплоть до
1894 г., когда в столетнюю годовщину со дня смерти
Сковороды Д. И. Багалей выпустил первое научное издание сочинений
украинского философа, снабдив их обстоятельной критико-
библиографической статьей2.
Издание это давно уже разошлось. Кроме того, и оно не
отличалось полностью. Систематического положения философской
системы Сковороды в издании Багалея не было совсем. А
потому, нельзя не приветствовать попытки В. Ф. Эрна и В. Д. Бонч-
Бруевича восполнить этот пробел.
К сожалению, ни тот, ни другой не справились со своей
задачей.
Издание В. Д. Бонч-Бруевича — очень добросовестное.
Редактор тщательно сверил сочинения Сковороды с оригинальными
рукописями, и, по-видимому, предпринятое им издание будет
действительно исчерпывающим. К своему предшественнику,
Д. И. Багалею, г. Б.-Б. очень строг. Он обвиняет его в
искажении рукописи Ковалинского (биография Сковороды).
«Подобная небрежность в научном издании, — пишет он, — реши-
378
Д. ФИЛОСОФОВ
тельно недопустима, и надо удивляться Харьковскому
историко-филологическому обществу, как оно не заметило этих
колоссальных ошибок... Такое невнимательное отношение научного
общества к своему обширному изданию сильно подрывает
доверие ко всем вообще его "Трудам", что, конечно, очень жаль».
Уж очень строг г. Бонч-Бруевич! Вряд ли недосмотры в
издании сочинений Сковороды обязывают нас относиться с
недоверием ко всем трудам харьковского ученого общества!
Верим, что г. Бонч-Бруевич, относится к своему делу более
добросовестно. Не можем не поблагодарить его за крайнюю
точность в воспроизведении оригинала, за опубликование до
сих пор ненапечатанных рукописей, хранящихся в Киевской
духовной академии, Румянцевском музее и других
библиотеках.
Но этими достоинствами не устраняется основной
недостаток его начинания: странный взгляд на Сковороду,
исключительно как на сектанта и родоначальника «духовных
христиан» и «Нового Израиля»3.
Сковорода, этот странствующий философ, жизнь которого,
может быть, интереснее его сочинений, несомненно сыграл
крупную роль в истории русского сектантства. Доказательству
этой связи может быть посвящено особое исследование. Но к
изданию текста сочинений Сковороды современные русские
сектанты никакого отношения не имеют.
Г. Бонч-Бруевич начал с того, что впихнул Сковороду в
пятый том своих «Материалов к истории и изучению русского
сектантства и старообрядчества». Поставил его наравне с
баптистами, бегунами, духоборцами и потому значительно сузил
значение украинского философа4.
Этим г. Бонч-Бруевич, однако, не ограничился. Он взял на
себя смелость снабдить сочинение Сковороды крайне
странными примечаниями.
Так, например, в «сократическом» диалоге Асхан, один из
участников разговора, замечает: «Моисей преобразовал Христа,
Сына Божия». Это утверждение ничего нового в себе не
заключает, а по существу в нем нет ничего не православного. Но г. Б.-Б.
делает к нему следующее примечание: «Взгляд на
перерождение в веках Христа совершенно тот же, что и у всех сект
"духовных христиан" — "израильтян" нашего времени» (с. 127).
Прежде всего, переходить от прообраза к перерождению, по
меньшей мере, опрометчиво. Но не в том дело. Удивительно,
что г. Б.-Б. не сознает, насколько подобные примечания
безвкусны, неуместны и легкомысленны.
Г. С. Сковорода
379
Представьте себе, что какой-нибудь «ученый», издавая
«Общественный договор» Руссо, стал бы уснащать книгу
подстрочными примечаниями с цитатами из Толстого. Руссо и Толстой
величины равноценные. Потому что для читателя важны не те
выводы, какие сделали потомки Руссо из его сочинений, а
откуда сам Руссо черпал свои мысли. Родились ли эти мысли,
как Афина-Паллада, из головы Зевса, или Руссо, несмотря на
всю свою оригинальность, был сыном своего времени, одним из
звеньев в бесконечной цепи человеческого мышления. В
известном издании Дрейфуса-Бризака «Общественный договор»
сплошь усеян цитатами из Гоббса, Локка, Аристотеля,
Монтескье и т. д. Громадный труд редактора не пропал даром. Отвле-
ченнейшая из книг, благодаря комментариям, была перенесена
из безвоздушного пространства в густо насыщенную атмосферу
философской мысли, влиявшей на Руссо.
Г-ну Бонч-Бруевичу следовало или совсем отказаться от
примечаний, или показать нам источники сбивчивой мысли
Сковороды. Сковорода внимательно изучал Климента
Александрийского, Оригена, Максима Исповедника, Филона, Плутарха,
Платона, Ньютона и т. д. и т. д. Если бы г. Б.-Б. привел
«параллельные места» из сочинений вышеназванных учителей
Церкви и философов, это имело бы смысл и большое значение
для понимания Сковороды.
Конечно, такая работа не под силу г-ну Бонч-Бруевичу. Но
тогда надо быть скромнее. Не обвинять харьковское научное
общество в недобросовестности, и не уродовать Сковороду
нелепыми примечаниями. Что бы сказал г. Б.-Б. об издателе «За-
ратустры», который в выноске привел бы «параллель» с... Ар-
цыбашевым! Ницше, мол проводит в данном месте мысль,
которую впоследствии развил г. Арцыбашев.
Если г. Бонч-Бруевич старается превратить Сковороду в
современного нам новоизраильтянина (который называет г. Ели-
заветполь Иерусалимом, потому что там «Гроб Господний», а
г. Бобров Воронежской губ. Вифлеемом, потому что там
родился его вождь), — то г. Эрн превращает этого индивидуалиста-
мистика в верное чадо Церкви.
Книжка г-на Эрна — насквозь тенденциозна. Она интересна
для определения миросозерцания самого г-на Эрна,
представителя современной, православной богословской мысли, но для
беспристрастного изучения Сковороды, для ознакомления с
неясной и косноязычной философией его почти ничего не дает.
Эрн заслонил своей широкой спиной скромного Сковороду.
380
Д. ФИЛОСОФОВ
Книга Эрна начинается с вводной статьи (никакого
отношения к Сковороде не имеющей!) об основном характере русской
философской мысли и методе ее изучения.
«Русская философия, — говорит г. Эрн, — всей
значительностью своей и всем своеобразием обязана умопостигаемому
месту, занимаемому Россией в чреде времен и пространств. Живая
наследница восточного православия, Россия в таинственной
глуби своего народного существа носит нетленными и вечно
живыми религиозные и умозрительные достижения великих
Отцов и подвижников Церкви. Россия существенно
православная, и логизм восточнохристианского умозрения, внешним
образом не только в России, но и на Западе не изученный, есть
для России внутренно данное».
«Для меня, — продолжает г. Эрн, — вся русская
философская мысль, начиная со Сковороды и кончая кн. С. Н.
Трубецким и Вяч. Ивановым, представляется цельным и единым по
замыслу философским делом».
Я не знаю, при помощи каких насильственных мер г. Эрн
проведет г-на Иванова сквозь узкие врата православия. Но со
Сковородой он обратился по-свойски. Да иначе он поступить и
не мог. Умопостигаемая Россия — существенно православна.
Ее философия находится в соответствии с этой «реальностью»
(в смысле «реализма» Ансельма Кентерберийского). Выставив
такой тезис, г. Эрн должен был или отвергнуть Сковороду, или
признать его «существенно-православным».
Рассказав о пессимизме Сковороды, его душевной скуке,
этой «изжоге воли», о его жажде страдания, сораспятия
Христу, Эрн прибавляет:
«Эта жажда распятья и есть поворот от мрака к свету... Этот
порыв необычайно характерен для Сковороды. Гоголь, когда
страждущий дух его осознал свою первородную мертвенность,
в ужасе бросился к Церкви... Но Сковорода не обращается к
Церкви (курсив автора. —Д. Ф.). Он в нее верит, но он не идет
к священнику... он не подчиняет жизнь правилам духовной
гигиены... он не идет в монахи» (с. 89).
«Он необычайно верен себе, своей природе, и эта верность,
спасая его, намечает своеобразный выход его из его душевного
разлада» (с. 89).
«Ковалинский дает почувствовать какую-то сложность и
трудность в отношениях Сковороды к церковному православию.
В самом деле, самочинный аскетизм и самочинное
подвижничество очень опасны с точки зрения Церкви». «Отношения
Сковороды к Церкви не просты. Их нельзя охарактеризовать
Г. С. Сковорода
381
ни одним словом да, ни одним словом нет» (с. 111; курсив
автора. — Д. Ф.).
Казалось бы, г. Эрн тут достаточно объективен. По его
собственным словам, Сковорода «не обращается к Церкви», а
потому утверждает «церковность» Сковороды действительно
трудно. Но г. Эрн этим не ограничивается. Желая во что бы то
ни стало преодолеть эти трудности, он пишет особую главу
«Сковорода и Церковь» (с. 321—331), где запутывает вопрос до
крайности, и, благодаря величайшим натяжкам, изворотам
мысли, мягкой рукой вводит Сковороду в лоно православной
Церкви, как бы сам смущаясь необоснованностью своих
доводов.
«Сковорода искренно стремился к вселенскости.
Мартинисты, по его мнению, грешат особничеством. Какое бы то ни было
сектантство искренно им отрицается. И все же в Сковороде
чувствуется иногда если не сектант, то потенциал сектанта;
вселенскости своих стремлений он не мог довершить и
утвердить, и не мог именно потому, что его "петра" не есть
объективный, божественный камень Церкви, а всего лишь субъективный
принцип уединенно-индивидуальной жизни» (с. 326—327).
Если бы г. Эрн был менее тенденциозен, не относился к
Сковороде, как современный «просвещенный» миссионер ко Льву
Толстому, как, напр., г. Зеньковский, который великодушно
«простил» Льва Толстого (см. сборник книгоизд. «Путь», «О
религии Толстого»), он, может быть, вместо примирения Сковороды
с Церковью постарался бы нам изобразить, во всей ее глубине,
внутреннюю трагедию Сковороды. Сковорода слишком остро
ощущал вселенскую Церковь, чтобы примириться с ее
историческими, поместными воплощениями. Но г. Эрн не хочет, как,
вернее, не может признать объективной правды религиозной
драмы Сковороды. Отсюда его умалчивания и чиновничьи
отписки: с одной стороны, нельзя не признать, с другой стороны,
нельзя не сознаться, отсюда насильственное укорочение
слишком широкой для г. Эрна личности Сковороды. Может быть,
Сковорода, так же как и Лев Толстой, вовсе не нуждается в
«великодушном прощении» со стороны г. Эрна за свой «потенциал
сектантства»?
«Труды» г. Эрна и г. Бонч-Бруевича очень характерный
показатель основного греха нашей молодой культуры:
неуважения к личности, отсутствия объективности.
Сковорода достоин любви и уважения. Как человек и как
мыслитель он достоин объективного изучения. Но мы
объективности еще не научились. Желания у гг. Эрна и Бонч-Бруе-
382 Д. ФИЛОСОФОВ
вича очень добрые. Но, увлеченные своими тенденциями, они
забыли о самом Сковороде. Один подмалевал его под
современного «новоизральтянина», другой, не считаясь с его
внутренней трагедией, снисходительно потрепал его по плечу и
примирил «с Синодом».
В издании Бага лея есть погрешности. Но до сих пор оно все-
таки остается лучшим. Потому что оно построено на
правильном научном методе, потому что оно не искажает сложного
облика странствующего мистика.
^^^
^^
Μ. Φ. ТАУБЕ
Самостоятельный уклад православно-русской
мысли и восточного славянского просвещения
Разбор статьи Л. Лобова «Энциклопедия русской мысли»
(Славянские известия. № 12)
1. ПОЛОЖЕНИЕ Л. ЛОБОВА
Л. Лобов начинает статью свою «Энциклопедия русской
мысли» (Славянские известия. 1913. № 12)1 следующим
утверждением: «Русской философии как исторической системы
самостоятельной национальной мысли у нас в России пока не
существует, хотя в наличности независимой русской мысли вряд ли
даже возможно сомневаться. Мы смело можем сказать, что и у
нас есть отдельные мыслители как в сфере чисто отвлеченной
мысли, так и в области художественного творчества: у нас есть
Хомяков, Киреевский, <...> но эта мысль пока только
материал...»
Может ли русский просвещенный человек ограничиться
этим утверждением? Он должен ведать и иное. Ему надлежит
знать, что ни одна другая цивилизация не обладает такою
полнотою и цельностью мировоззрения и жизнепонимания, как
православно-русское просвещение, он должен признать, что
русское просвещение составляет единственное исключение
среди всех остальных философских систем, ибо оно обратило
самую философию в «целомудрость», т. е. в уклад цельного
объединенного и живого познания. Скажем больше: для восточного
просвещения нет другой цели, как цельность и полнота (иначе
объединенная целокупность) любомудрия, ибо цельность есть
неотъемлемое свойство самой истины.
Вот почему заявление Л. Лобова нужно понимать в том
смысле, что у нас нет выработанного, окристализованного
свода, нет всеохватывающего сочинения русского любомудрия,
384
Μ. Φ. ТАУБЕ
отделанного, обточенного и согласованного во всех частях
издания, иначе говоря, нет классического творения в
окончательной форме и художественном выражении. Но это отнюдь не
означает, что нет самой школы с обработанным цельным
мировоззрением и вполне установленным жизнепониманием.
2. СВОЙСТВА ИСТИНЫ КАК ОСНОВА
ВОСТОЧНОГО ЛЮБОМУДРИЯ
Истина только тогда может быть признана заправской
истиной, когда она выражена в возможной цельности, ибо всякая
дробная, частичная, половинчатая истина не есть заправская
истина именно вследствие своей дробности и частичности.
Половинчатая истина не есть еще истина. Конечно, если смотреть
на философию как на «дисциплину» сухого рационализма,
бездушного пантеистического имперсонализма и непрерывно
переменного эволюционного монизма, то, очевидно, такой
русской философии нет; и подобной даже приблизительной точки
зрения на суть познания мира и жизни в русском
православном просвещении и встретить нельзя. Ее и быть не может.
Такая философия есть заграничная, а не русская, такая точка
зрения непрерывной сменяемости и постоянного умирания есть
точка зрения западноевропейская, а не православно-восточная,
и она исходным началом для русского уклона мысли стать не
может. «Русская правда» требует, наоборот, яркого освещения
познания, мира и жизни с неподвижной точки
сосредоточенного, постоянного, даже вечного совершенства, а не непрестанной
изменчивости, она требует быть просвещением и освящением
жизни — «солнцем Правды» и очагом святости. Русская мысль
на страницах своего любомудрия превратиться в не русскую,
иномысленную не должна, ибо когда она будет насквозь
пропитана чужою мыслью, тогда она перестанет быть русскою,
православно-восточною.
Русское просвещение по природной сути своей, само по себе
исконно-самобытно и самостоятельно-обособленно. Оно при этом
чрезвычайно возвышенного и весьма углубленного
направления. Плоская же и поверхностная западная цивилизация
выработала и многие века насильно навязывала Востоку (в ее
непрошеном культуртрегерстве) иную, теперь устарелую, изжившую
точку зрения непрестанного прогресса, а таковую Россия
признать за свою, родную, собственную, т. е. себе свойственную
и свободную (по своему быту), очевидно, не в состоянии. Ибо
Самостоятельный уклад православно-русской мысли 385
чужое не есть свое собственное, и чужое несовершенное
(постоянно изменное) стать своим в качестве совершенной истины не
может. Православно-русское просвещение требует непременно
и обязательно одну только совершенную истину, ибо истина и
есть само совершенство, и она не терпит заблуждения и погре-
шительного, вечно неизменного колебанья. Поэтому
просвещению православно-русскому спуститься до
позитивно-рационалистического, эволюционно-прогрессивного, пантеистического,
имперсоналистического направления, доводящего познание до
бездны крайней пустоты меонизма (т. е. отсутствия всякого
бытия), и унизительно, и непристойно.
3. ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОЙ ШКОЛЫ
НА НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЫСЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Если это так, то выдвигается, естественно, весьма важный
вопрос: почему у русской интеллигенции, не говоря о
западноевропейских незнайках, могут существовать довольно твердые
убеждения, нашему утверждению противоположные; почему
нет всеобщего признания того факта, что Россия действительно
обладает цельным, самобытным, историческим укладом
русской мысли и самостоятельным построением
православно-русского восточного просвещения? Причина объясняется легко.
Российская школа и российское народное обучение послере-
форменного времени санкт-петербургского академического «де
сианс» периода немецкого преподавания — вся насквозь была
иностранного духа и немецкой закваски. Ломоносовы,
Сковороды (отчасти) — счастливые исключения. Да и теперь, чем
выше российская школа, тем менее она православна, а потому
тем менее она народно-русская. Но грех немецкого по духу
обучения в школах России не есть единственная причина, не
допускающая современному интеллигенту видеть величественный
уклад русского философского зрелого просвещения. В самом
мышлении, т. е. в самых логических построениях немецкой
у нас подражательности, есть громадное несоответствие между
иностранным складом ума и православным жизненным
укладом и пониманием русского свободного быта и его духа. В чем
заключается разница эта между цивилизациями Запада с их
плоскими и поверхностными схемами национальных мыслей
(французской и итальянской, германской и английской, и
вообще немецкой) и сверхнациональной мудростью Востока с ее
единством, цельностью и полнотою объемного построения —
386
Μ. Φ. ТАУБЕ
выяснить доказательно на нескольких страницах мудрено. Но
наметить главную суть даже в сем кратком нашем возражении
г. Л. Лобову нелишне, — даже необходимо.
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО И ВОСТОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
Логика Востока триедина, объемна, а по силам мощи
мышления динамична, т. е. творчески свободна. Между тем
современная логика европейского эволюционного мышления — дву-
стороння, дуалистична, а по силе проявления кинетична и
связно детерминична. И эта новоевропейская логика (Кант,
Гегель, Спенсер, у нас Чичерин и Вл. Соловьев) значительно
содержательнее и жизненнее древнеклассической логики язычества
(логики Аристотеля), которая по сути монистично предметна,
а по состоянию статически неподвижна. В последнее время
этот монизм все более и более приближается к нулевому
состоянию, к меонизму, например, в буддийском оккультизме.
Динамическая, творчески прерывная логика восточного
православного русского направления есть логика (вернее
сказать, металогика) духа. Гегель сознал кинетическую логику
(лучше сказать, психологику) жизненных, душевных явлений
и движений. Аристотель, праотец всякой в логике статики, дал
логику в ее первоначальном смысле, т. е. логику познания
предметных понятий как неизменных обособленностей.
Если мы твердо убедились, что логика Востока (по-нашему,
металогика, по кн. Трубецкому и Вл. Эрну — логизм) в
действительности иная в России, чем на Западе, то естественно
следует, что и русская гносеология (познаниеведение) должна
быть также иною.
Лучший выразитель основ гносеологии Запада после Канта,
без сомнения, был наш знаменитый западник профессор
Бор. Чичерин (в мистическом знании — Вл. Соловьев). Но
также бесспорно, что познаниеведение славянофильства
значительно превосходит куцую мистическую гносеологию Запада
даже в наиболее талантливом изображении Вл. Соловьева. Ибо
очевидно, что «живознание» Киреевского и Хомякова безмерно
совершеннее в сравнении с убогим «мистическим
восприятием» всех оккультических и каббалистических теорий познания
Запада. Остальные же гносеологические дисциплины
европейского мышления кантовской закваски и агностицизм спенсе-
ровского незнайства куда беднее даже познавательных гипотез
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
387
сокровенного, темного и загадочного оккультизма.
Пустопорожнее «поднезнайство» крайнего меонизма (учения о
небытии) буддийского помрачения (нирваны) ничтожнее даже
позитивного агностицизма осторожного Спенсера.
Если логика Востока (металогика или логизм) и гносеология
(познаниеведение) св. православия самобытны в России в ее
православно-русском просвещении, то и остальные составные
части (элементы) всякой философии: 1) бытиеведение
(онтология), 2) мировоззрение (космология) и 3) жизнепонимание
(биология), очевидно, будут также иными. Так и есть на самом
деле. Вся школа любомудрия славянофильства и ее
последователи, как-то: школа профессора Бугаева (московская, философско-
математического направления)2 свободно-творческого
прерывного понимания и все разновидности русского просветительного
дела — тому неоспоримые доказательства. Но чего еще нет —
это то, чтобы все части русского любомудрия были сведены,
как мы сказали, в одну окристализованную, твердо
установленную систему. Попытку, еще недостаточно обоснованную,
свести в одно целое и определить новое русское слово всемирного
обхвата и всеземного распространения для всех народов и для
всех времен пытается сделать г. Вл. Эрн. Его формулировка
общего смысла многочисленных и разнообразных систем Запада
и выражение единоцельного соборного уклада Востока весьма
проста.
На Западе дуализм соперничества и взаимного братоборства
(конкуренция, борьба за существование и т. п.) в последнее
время все более и более переходит в моноидеизм, в монологизм
и вообще в монизм, основою которых определяется теперь
весьма ясно в философском сознании Запада всеобщий меонизм
(прежний нигилизм) или чистая нирваническая мыслительная
пустопорожность («мыльнопузырность», по выражению
епископа Феофана, «пустость», по выражению Сковороды).
Русская мысль выработала цельность познания, цельномуд-
рость или (по слову Аф. В. Васильева) целомудрость соборного
развития, основою которой служит триединство нераздельной
и неслиянной единосущности.
5. РАЦИОНАЛИЗМ, МЕОНИЗМ И ИМПЕРСОНАЛИЗМ ЗАПАДА
И ЛОГИЗМ, ОНТОЛОГИЗМ И ПЕРСОНАЛИЗМ ВОСТОКА
Не будем голословны и обрисуем остов сводной системы по
Вл. Эрну как наиболее простое выражение общей основы рус-
388
Μ. Φ. ТАУБЕ
ской мировой школы мысли в ее противоположении с
недоразвитой мыслью философии Запада.
Философская методическая теория исторического познания
Запада в естественнонаучном обосновании и в позитивном
выражении дает общую точку зрения трехстороннего метода.
Какая же это общая точка зрения?
«Если, минуя детали, — пишет Вл. Эрн, — мы
сосредоточимся на главных и основных тенденциях европейской
философии, три характерных черты остановят наше внимание: это
рационализм, меонизм, имперсонализм» 3.
«Трем основным чертам новой европейской философии, —
продолжает он, — рационализму, меонизму, имперсонализму
восточное христианское умозрение противополагает; логизм,
онтологизм и существенный, всесторонний персонализм».
Все системы западной умопостигательной мысли находятся
в недрах материалистического эмпиризма и рационализма, не
исключая и тех систем, кои носят кличку спиритуализма и
оккультизма. Если искать законы и уклады восточной мысли
там, где копошится западная мысль, то труд окажется
совершенно напрасным. Русская мысль глубже, возвышеннее,
просторнее, она обретается в умовой духовной области и горит
ярким пламенем лучезарной истины.
6. ДВОЙСТВЕННОСТЬ, ПЛОСКОСТНОЕ И ПОВЕРХНОСТНОЕ
СТРОЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЗАПАДА И ОБЪЕМНОЕ
ТРЕХОСЕВОЕ ШАРОВОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВОСТОКА
Уклад, т. е. философское обобщение и построение русской
цельной мысли находится в целокупной научно-философско-
богословской мудрости, или целомудрости, а сама философия
вырастает до всеобъема любомудрия (древнее слово). Это
построение не похоже на плоскую, поверхностную идею трехчленных
систем или ходких триад западника-мыслителя психургиста
Вл. Соловьева с его претензиями достичь до им возлюбленной
Пансофии. Коренное русское построение не похоже на триаду,
потому что соловьевское трисловие по философскому значению
не что иное, как объединенная двойственность, двуличность,
двоедушность, двусторонность. Цельная мудрость русского
уклада живого знания по сущности творчески-объемна, трех-
осевая, а не капительна, не расклубленческого свойства (по
выражению Хомякова); она триедина, ибо связывает полнотою
целого многообразие и многочастность в простоту по образу
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
389
триединого прославления Бога и подобно триипостасной
мудрости. Для доказательства и подтверждения сказанного мы не
будем вспоминать об основах мудрости Ивана Пересветова
времен великого самодержца Иоанна, названного Грозным, —
Ивана Пересветова, представителя славянофильства еще в
зачаточном состоянии Московского допетровского периода (XVI век).
Мы не будем утруждать внимание читателя своеобразной
системой мировоззрения, жизнепонимания и познаниеведения
самобытного мыслителя скитальца-бессребреника Сковороды
(XVII в.).
Мы не остановимся на постепенном, быстром росте и
развитии русской самобытной жизненной системы мудрости ученых
математиков, мыслителей и естествоведов, — Ломоносове,
Лобачевском, давших новую систему понимания
сверхчувственного места (т. е. запредельного (трансфинитного) пространства
и полупространства), которая опрокинула материальную
систему пространства язычника Евклида.
Минуем коррелятивные системы проф. Менделеева и
математические изыскания в области химии проф. Алексеева и
других, — не только плоского двуотвесного направления, но и
объемного трехосного восполнения (проф. П. А. Некрасов) в области
статистики финансового правомерия и теории вероятности.
Мы не затрудним читателя изучением умовой системы
наших столпов духовного и церковного познания, как, например,
основной школьной символической книги, катехизиса
митрополита Филарета Московского и его духовных сотрудников и
подражателей.
Мы даже не затронем построения познания школы старых
обруганных и осмеянных славянофилов московского
кружка — друзей Хомякова, Киреевского, Гилярова-Платонова,
Аксаковых и Самарина с их многочисленными светлыми
последователями.
Укажем только на московскую школу математико-философ-
скую Бугаева (вышеупомянутые проф. Некрасов, Алексеев и
др.) и ее удивительно точную математическую,
арифмологическую систему творческого понимания жизни, мира и самого
познания. Школа Бугаева — фактическое доказательство
существования «исторической системы самостоятельной
национальной мысли с установившимся именем и названием». Этого
указания достаточно: русская мысль имеет своих славных
представителей.
Преемственная связь общего уклада внецерковного
богословского построения от Ивана Пересветова и Сковороды до
390
Μ. Φ. ТАУБЕ
наших дней, разрабатываемая со всех сторон полной и цельной
истины, свидетельствует бесспорно о естественном, быстром
росте русской теоретической философской науки. Но не
наступила еще пора полной оценки исторического переживания как
не довершенного, а потому постоянно изменяющегося, все еще
развивающегося русского любомудрия; да наука (в смысле
Запада) и не дождется, когда усмотрит появление обильного
всхода. После роста будет время цветения, затем плодонесение, а
там размножение самого рода. Усматривать ныне окостенение
живой истории мысли (как жизненного явления) — значит
признать, что рост уже прекратился. Не будем так думать...
Но кроме убеждения в фактическом существовании
философской школы русского любомудрия, быть может, любопытно
будет читателям знать внутреннее содержание этой школы,
основы самого уклада русского исконного и самобытного смысла.
7. ЛОГИЗМ ПРАВОСЛАВНО-РУССКОГО УКЛАДА МЫСЛИ
Постараемся кратко указать на руководящую мысль
русского философского уклада, но предварительно перечислим
условия возможности его проявления. Новая система мышления с
его новым сводом законов, «новое русское слово», по
выражению Достоевского, могли возникнуть ярко и решительно только
тогда, когда были окончательно установлены новые
логические, психологические и пневматические предпосылки
научного, философского и богословского выражения познания. Л о-
г и з м (в том смысле, как понимают λόγος кн. Трубецкой,
Вл. Эрн) русской школы и русского уклада мысли установлен
и определен научно (системно) только Хомяковым и его
московскою школою. Психологизм установлен и определен
научно (системно) только в последнее время преосвященным
епископом Владимирским и Тамбовским Феофаном, затворником
Вышенским. Пневматизм же научно (системно)
установлен в полноте в православной Церкви давно
святоотеческими писаниями (Добротолюбием), а кратко сведен в совопрос-
ный уклад катехизиса Филаретом, митрополитом Московским.
Теперь настало время, когда, изучив отрицательные
стороны лжедуховности оккультного спиритического лжеучения,
современный мыслитель имеет возможность взглянуть на
единую общую систему Хомякова, митр. Филарета и еп. Феофана
единым общим соузным (соборным) взглядом и свести эти
системы в одно единотроичное целое.
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
391
Здесь у места выписать еще раз несколько строк из трудов
Вл. Эрна и этими краткими отрывками показать, что нашу
славянофильскую точку зрения начинают разделять и мыслители
не старославянофильского стана.
Вл. Эрн пишет: «Трем основным чертам новой европейской
философии: рационализму, меонизму, имперсонализму,
восточное христианское умозрение противополагает: логизм,
онтологизм и существенный всесторонний персонализм». Мы ту же
почти мысль выражаем иными словообозначениями, но Вл. Эрн
идет в оценке западной цивилизации еще дальше нас и вместо
указываемого нами двустороннего монизма Гегеля, Канта и
всех эволюционистов и филиоквистов (Вл. Соловьева) он
устанавливает уже теперь полное падение философии Европы и
обращает ее в ничтожество, в нирвану мышления, в меонизм,
т. е. в крайний предел небытия современного европейского
философского нигилизма. Продолжим выписку: «Русская
философия всею значительностью своею и всем своеобразием
обязана умопостигаемому месту, занимаемому Россией в среде
времен и пространств (и, прибавим от себя, еще в среде
вероисповеданий всего мира). Россия существенно православна, и
логизм восточно-христианского умозрения, внешним образом не
только в России, но и на Западе не изученный, есть для России
внутренне данное. Историческим изучением логизм не
усвоить, а глубоко въевшийся в западную философскую мысль
рационализм не позволяет мыслителям новой Европы даже
увидеть врага, осознать его как внутренне данное.
С другой стороны, восточнохристианское умозрение
процветало за много веков до начала западноевропейского
рационализма, а потому, естественно, помириться не могло. Внутренне
унаследовав логизм и нося его, так сказать, в крови своей,
Россия философски осознает его. Вот основной факт русской
философской мысли». Логизм Вл. Эрна есть термин кн. Трубецкого,
мы же обозначаем то же понятие словом «металогизм».
Под логизмом нужно богословски понимать сыновство Бога
Слова, под онтологизмом — свободнотворческое начало бытия
и его проявление, а под существенным, всесторонним
персонализмом — свободное, личное, объединяющееся с близкими в
соборности, где личность не поглощается единством, а
единство не нарушает свободы личного произволения. Это
случится, когда начала и стороны познания и мудрости подчинятся
закону полноты цельности в гармонии сочетания всех
составных ее частей. Основа мышления в русском просвещении ярко
выражена в целокупности духа славянофильства.
392
Μ. Φ. ТАУБЕ
8. ЦЕЛЬНОСТЬ И СРОДНОСТЬ
ПРАВОСЛАВНО-РУССКОГО МЫШЛЕНИЯ
Весь пафос славянофилов, все их богословские,
философские и политические идеи сознательно подчиняются двум
верховным принципам: принципу цельности духа и принципу
«сродности». Эту сродность мы привыкли обозначать словом
«соборность», ибо соборность объединяет в цельность только
сродное и притом свободно и любовно (добротолюбно). Не есть
ли живое сознание и осуществление любви
междуплеменной и всеземной жизни то новое слово
русской жизни, которое по Слову Христа Спасителя станет
основою взаимных отношений всех народов земли.
9. НАШИ ПОСИЛЬНЫЕ ТРУДЫ ПО ВЫЯСНЕНИЮ СУТИ
ВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОГО
БОГОСЛОВСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Наши личные труды направлены к выяснению именно этих
вопросов обобщения. Логизм определен в научный уклад
(систему) в нашем труде «Свод основных законов мышления».
Математическое развитие понятия соборности изложено в труде
«Триединство как основа соборности и духовности». Общие
положения познания сведены в тесные рамки уклада в книге
«"Познаниеведение" (гносеология) по славянофильству».
Наконец, различие между системами философской мысли Запада и
укладом христианского любомудрия Востока устанавливаем в
труде «Дуализм Запада и триединство Востока»4. Вообще же
основа творческой мысли русско-православного понимания в
сравнении с неподвижною мыслью языческого классического
мира (Аристотелева логика) и с текучею мыслью
цивилизованного мира (гегелианская логика и кантовская категорика)
проведена нами по всем трудам нашим. Но на систематичность мы
смотрим лишь как на прием и диалектический метод
изложения, так как мы вполне разделяем опасения Хомякова
относительно зла, которое приносит излишний академизм схематизма
и систематизма. «Система всегда искусственна, — повторяет
также Вл. Эрн, — и систематичность есть не что иное, как
насильственное укладывание многообразий действительности в
прокрустово ложе данной точки зрения». Л.Лобов отрицает
стройную цельность и выработанный уклад русской философ-
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
393
ской мысли и считает необходимым собрать «энциклопедию»
этой мысли.
Наше стремление, едва начатое в исполнении, шире и
глубже механического последовательного перечисления. Оно
пытается связать все стороны познания в объединенный соборный
комплекс, в цельную, единую полноту.
Всецелое живое познание русской православной мысли
ценнее предлагаемой энциклопедичности ее собирания.
10. О ПОСТРОЕНИИ ЛЮБОМУДРИЯ ПРАВОСЛАВНО-РУССКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМ
Теперь остается пополнить этот беглый разбор мысли Л.
Лобова еще одним, пока бездоказательным утверждением. Само
построение любомудрия православно-русского просвещения
настолько же превосходнее схем и систем западного
мышления, насколько динамическая мета логика и веромыслительное
познаниеведение Востока богаче, возвышеннее и значительнее
(правоелавнее) статической логики Аристотеля, кинетической
психологики Гегеля и трансцендентальной гносеологии Канта.
И в этом деле русские же западники Б. Чичерин и Вл.
Соловьев дали самые лучшие построения западного мышления, ибо,
бесспорно, уклад, установленный Б. Чичериным в его книге
«Основания логики и метафизики» (М., 1894), живее, проще,
соразмернее мертвых формул категорических определений
Канта и кантовских попыток согласования его четырех
антиномий. Бесспорно и то, что двойная схема плоского и
поверхностного вида трехстрочных и трехстолбных табелей Вл.
Соловьева — верх искусства для построения западноевропейского
философского спиритуалистического содержания. Но эти дву-
двойственные и двутрехтройственные табели Б. Чичерина и
Вл. Соловьева, вследствие их плоского и поверхностного
очертания, не выдерживают сравнения даже с обрывком уклада
любомудрия Хомякова, оставленного им в наброске и, к
сожалению, без окончательной отделки. Выгодно и достойно
выдвигается построение Хомякова своею объемностью задания,
шаровидностью, или, вернее, шароемкостью замысла и содержания,
умовым познавательным обхватом и мыслительным
обладанием, цельным познанием.
Итак, скажем в заключение: по логике, гносеологии и
схематизации западная философия находится на запятках у
передового главенства металогики, познаниеведения объемного по-
394
Μ. Φ. ТАУБЕ
строения мудрости православно-русского просвещения. Но суть
самого главного свойства восточного любомудрия — все-таки
его цельность, единство и полнота содержания, объемность
построения и совершенство цели (идеал), ибо цель сего
просвещения есть приобщение ума и духа верующего к самой
православной Истине. Л. Лобов сего построения целокупности русского
просвещения не усматривает.
11. СЛЕПОЕ ВЕРОВАНИЕ И ЗРЯЧАЯ ВЕРА
Почему же, напрашивается последний вопрос, эта
славянофильская постановка философии цельного, живого знания
даже помимо погрешностей послепетровского народного
обучения и немецкой школы не признана всеми природными
русскими? Тут причины сложные, но главная из них в том, что
наша интеллигенция утратила почти окончательно «зрячую
веру» и увлеклась «слепым верованием», т. е. слепотой и оккульт-
ностью в вере; другие же ударились в позитивный рационализм
с твердым убеждением безверия (нигилизма), а в последнее
время многие веру свою превратили в суеверие мистицизма
и оккультизма. И пока их мрачная слепота не прозреет и кри-
воглазие не поправеет, до тех пор богатое, содержательное
любомудрие цельного и живого познания православно-русского
просвещения будет у них в загоне; они его просто не видят.
Русское исконное долго еще будет неумолимо замолчано ими.
Интеллигенция не в силах еще при отсутствии сего духовного
прозрения оценить высоту и глубину передового учения старых
славянофилов, ибо она, отсталая в развитии и ослепшая от
дурмана, утратила зрение и чутье находить даже признаки
великого русского возрождения. Чтобы правильно судить о духовной
возвышенности любомудрия Востока, нужно быть причастным
всего полнотою бытия и жизни к Православию, быть в недрах,
в лоне Православной Церкви, а не судить о ней извне и издали
с высоты горделивого, ложного всезнайства. Так же, как нельзя
судить о полноте и возвышенности содержания книги по ее
обложке или измятой оберточной бумаге, в которую запаковали
книгу. Нужно прочесть книгу, изучить ее, углубиться в нее,
тогда можно судить о ней по достоинству. Чтобы познать
святость истинной Церкви, нужно быть ее достойным сыном, быть
ее причастником.
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
395
12. ПОЖЕЛАНИЯ ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВНО-РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В настоящее время, как видно из статьи Лобова, многим
становится ясно, что самобытные течения мысли русской
философии начинают проникать и в интеллигенцию, но цельность,
полнота и художественное построение русского православного
просвещения еще мало кому ведомы.
Пожелаем, чтобы его основы, его исконная самобытность
вошли в русскую школу, в общественный обиход, а
бессознательное на вид чувство народное стало сознательным с мощно
выраженным подъемом, тогда, нет сомнения, глаза будущего
молодого поколения откроются, интеллигенция прозреет
окончательно и перед ее проясненным взором раскроется чудная,
яркая картина исконно-самобытного, издревле утвердившегося
православно-русского просвещения в полной славе, блеске
и силе.
^^
-^^
Э. РАДЛОВ
<Рец. на кн.:> Эрн Вл. Григорий Саввич
Сковорода. Жизнь и учение
(Русские мыслители). Книгоиздат. «Путь».
Москва. 1912. Цена 2 р. Стр. 342 + 1
Когда в 1861 г. впервые были изданы сочинения Г.
Сковороды (издание Лисенкова в Петербурге), Всеволод Крестовский
в «Русском слове» написал следующий отзыв: «Для кого и для
чего неизвестный издатель Сковороды издавал в свет всю эту
схоластическую ерунду, семинарскую мертвечину? Кому какое
до нее дело» 1. Это было время, когда Чернышевский
высмеивал и всячески глумился над Ор. Новицким, над Юркевичем
и вообще над всей философией. С тех пор многое изменилось.
Семинарской ерундой никто не назовет сочинения Сковороды,
скорее в произведениях Чернышевского усмотрят
тяжеловесное, грубое семинарское остроумие2. К сочинениям Сковороды
теперь относятся бережно, как это доказывает издание его
произведений проф. Багалеем и последнее издание (1913) Бонч-
Бруевичем. До последнего времени о Сковороде знали весьма
немного, а именно то, что о нем сообщил его восторженный
поклонник М. Ковалинский, Гесс де Кальве и некоторые другие.
На основании этих довольно скудных данных г. Данилевский
написал биографию Г. Сковороды, которая и до настоящего
времени сохранила значение. Г. П. Данилевский ценил Г.
Сковороду как человека, но к сочинениям его относился
отрицательно, как и Крестовский. Данилевский находил, что сочинения
Сковороды для нашего времени не имеют никакого значения.
К столетию дня смерти Сковороды занялись и жизнью, и
сочинениями его. Появилось несколько статей, посвященных его
философии; из них статья проф. Зеленогорского самая
обстоятельная.
<Рец. на кн.:> Эрн Вл. Григорий Саввич Сковорода 397
Вл. Эрн посвятил целую монографию жизни и учению Г.
Сковороды. Новых фактов биографического характера Вл. Эрн не
привел, но он использовал весьма удачно «Сад божественных
песней» украинского философа с целью изображения
внутреннего мира его, и это, может быть, лучшее, что имеется в книге.
Внешняя биография нарисована Коваленским, и к рассказу
его, написанному с большой любовью, мало что можно
прибавить. Темные стороны в биографии Сковороды так и остаются
не выясненными. Так, например, неясно, где мог приобресть
Сковорода превосходное знание древних и европейского
языков, не выяснено, с кем из ученых познакомился он за
границей; в особенности интересно было бы знать, читал ли он Якоба
Бёме, что при отличном знании немецкого языка Сковороде
было не трудно. Самый любопытный период жизни
Сковороды — это последние 28 лет его жизни, период странничества,
во время которого он успел написать большинство своих
произведений, появившихся в печати впервые лишь в 1861 году;
некоторые из них и до настоящего времени не увидели света,
несмотря на старания Багалея и Бонч-Бруевича.
Жизнь Сковороды совершенно невольно вызывает сравнение
с жизнью Л. Толстого, причем сравнение это не в пользу
последнего. Оба принадлежали к типу философов моралистов,
к типу учителей жизни, но Сковорода сумел вполне
согласовать свою жизнь с своими идеалами, чего Толстому не удалось;
оба — религиозной жизни придавали громадное значение и оба
относились к церковности холодно, если не отрицательно.
Наконец, оба видели в науке не высшую цель человеческой
жизни, но Толстой, отрицая науку, не знал ее, в то время как
Сковорода был хорошо образован, ценил науку, однако не в ней
видел смысл и цель человеческой жизни.
Вл. Эрн сравнивает жизнь Сковороды еще и с жизнью
Дж. Бруно. Это сравнение неудачно. Бруно принадлежал к
другому типу философов. Он был ученый и вовсе не моралист. Если
он пал жертвою своих идей, то вовсе не по доброй воле, а
вследствие измены своего ученика, Мочениго, выдавшего его
инквизиционному суду. Бруно вовсе не представлял нравственно
возвышенного характера, он вовсе и не стремился к
нравственному совершенству; единственная общая черта у Бруно и
Сковороды чисто внешняя — это их странническая жизнь.
Более естественно сравнивать Сковороду с Сократом,
недаром его называют «украинским Сократом».
Учение Сковороды изложено Вл. Эрном довольно
обстоятельно, насколько это было возможно при незнакомстве с изда-
398
Э. РАДЛОВ
Бонч-Бруевича, но мне кажется, что старания г. Эрна сделать
из Сковороды не только моралиста, но и философа-систематика
вряд ли особенно успешны.
Совершенно правильно, что для Сковороды ключ к
разгадкам жизни есть человек. Человек это микрокосм, поэтому
познавать человек не может иначе, как через себя. Существо
человека в его сердце, в его воле. Знание, которое не увеличивает
ценности жизни и не подымает качества бытия, есть знание
бесполезное, поэтому Сковорода не ценит науку. «Я наук не
хулю и самое последнее ремесло хвалю, одно то хулы достойно,
что, на их надеясь, пренебрегаем верховнейшую науку, до
которой всякому веку, стране и статьи, полу и возрасту для того
отворена дверь, что щастие всем без выбора есть нужное, чего
кроме ее ни о какой науке сказать не можно» (с. 220—221).
Вл. Эрн хвалит за то Сковороду, что он «сознательно вернул
серьезное значение символу и сделал символ одной из
центральных категорий своего философствования» (с. 223). Без
сомнения, язык Сковороды полон образов и символов, но всякий
символ по самому существу своему всегда имеет служебное
значение. Символ есть всегда символ чего-нибудь, а именно того,
что он обозначает. К символам поневоле приходится прибегать
философии, когда она имеет дело с трансцендентным; поэтому-
то язык мистиков всегда полон образов и символов, но все же
символ есть лишь суррогат понятия, и когда человек мыслит
ясными и определенными понятиями, тогда ему символов не
нужно.
Кроме человека, который служит Сковороде источником
для понимания макрокосма, у него есть еще и другой
источник, а именно Библия. Если Вл. Эрн утверждает, что «из
антропологизма Сковороды неизбежно вытекает символизм, а из
символизма вопрос о Библии», то в этом утверждении автора
слышится значительная доля увлечения, к которому вообще
наш автор весьма склонен. Связь между этими тремя
явлениями — познанием человека, символизмом и признанием в
Библии божественного откровения, вовсе не необходимая, и
многие философы сочетали веру в разум и веру в откровение не в
тех формах, в которых это было свойственно Сковороде.
Совершенно правильно защищает Вл. Эрн Сковороду от
возможного толкования его философии в пантеистическом
смысле. Божество есть для Сковороды глубочайшая и необходимая
основа всех трех миров, на которые он делит бытие: мира
малого, или человека, мира большого, или Вселенной, и Библии, в
которой произошло откровение и воплощение Божества. В уче-
<Рец. на кн.:> Эрн Вл. Григорий Саввич Сковорода 399
нии о Боге Сковорода придерживается взглядов Дионисия Арео-
пагита. «Высочайшее существо свойственного себе имени не
имеет».
Но ни учение о Боге, ни учение о мире не получили
окончательной формулировки у Сковороды; поэтому нет оснований на
них особенно настаивать. Совершенно иное дело мораль
Сковороды. Здесь он оригинален, здесь многое весьма замечательно.
Всем, конечно, известны его изречения вроде: «все нужное
нетрудно, а трудное не нужно», но не все знакомы с основными
понятиями учения о нравственности Сковороды. К сожалению,
Вл. Эрн хотя и вскрыл основные мотивы морали украинского
философа, но сделал это недостаточно полно. Вл. Эрн
настаивает на том, что мораль Сковороды мистична; это, без сомнения,
верно, ибо вся жизнь Сковороды и все его учение проистекает
из живой веры в Бога, верно и то, что это «практическая
мистика» (с. 288), но именно о путях этой практической мистики
хотелось бы услышать более подробное изложение. Что счастье
внутри человека, что страх Божий есть начало нравственной
жизни, а сама жизнь состоит в исполнении воли Божией, это,
конечно, должно составлять исходную точку учения
Сковороды, но как отсюда Сковорода пришел к утверждению, что мир
душевный состоит в «сродности», в следовании своей
природе — это недостаточно ясно. Это учение о «сродности»
напоминает стоическое следование природе; но у Сковороды мы
встречаемся с полемикою против равенства людей, противоречащей
духу стоического учения.
В книге Вл. Эрна, кроме изложения учения Г. Сковороды,
есть еще и рассуждение о характере новой философии и об
отличии ее от русской философии. Наш автор видит в трех
чертах характерную особенность новой философии: в
рационализме, в меонизме и имперсонализме. Два последних термина
следовало бы заменить общеупотребительными —
субъективизм и механизм. Если западная философия представляет
развитие ratio, то восточная (и русская) есть развитие Логоса.
Я не стану приводить характеристики, даваемой Вл. Эрном
Логосу. «Сущность Логоса, говорит он, метафизична, это не
субъективно-человеческий принцип, а объективно-божественный».
Из этого видно, что под Логосом наш автор разумеет принцип
мистики. Действительно, русская философия всегда питалась
мистикою, но в то же время эту мистику она понимала
совершенно рационально: так это было у Сковороды, так это было и
у Толстого и Соловьева; только Хомяков в этом отношении
стоит, может быть, особняком. Вл. Эрн большой поклонник Ско-
400
а радлов
вороды и вообще русской философии, которая, по его мнению,
только зарождается, но она обещает многое в будущем. Увы!
Есть признаки, указывающие, что героический период русской
философии, как и литературы, принадлежит прошлому. Будем
надеяться, что Вл. Эрн окажется прав, что и в будущем
русская философия даст кое-что, достойное внимания.
^^^
<Ξ^
Φ. СТЕПУН
Русские мыслители
Г. С. Сковорода Вл. Эрна
К-во «Путь». 1912 г. 342 стр. Цена 2 р.
За монографиями книгоиздательства «Путь»1 надо
признать одно большое достоинство. Это не случайные книги
случайных авторов о случайных мыслителях, — это одно целое
дело; упорная проповедь вполне определенного и в своих
корнях по крайней мере единого миросозерцания. Не соглашаясь с
миросозерцанием «Пути», мы, однако, не оспариваем его.
Миросозерцание каждого человека зависит от того места в мире, с
которого он поставлен глядеть на этот мир. Оспаривать
миросозерцание человека означает потому всегда совершенно
непосильную для философии попытку сместить этого человека с его
жизненной позиции.
Но если философия не в силах оспаривать чье бы то ни было
миросозерцание, т. е. ту перспективу, в которую жизнь
каждого человека принуждает его взять смысл и бытие мира, то она,
во всяком случае, вполне компетентна высказать свое
суждение о том рациональном процессе, который превращает
миросозерцание человека в его миропонимание, т. е. творит
философию как знание.
И вот должно отметить, что этот процесс, ведущий от
миросозерцания человека к его миропониманию, «обставлен» в «Пути»
крайне слабо; слабо и с логической и научно-исторической
точки зрения. В моих прежних рецензиях я старался доказать
правильность такого моего суждения в отношении монографии
Бердяева и Аскольдова2. Теперь мне приходится указать на
вполне аналогичное явление в работе Вл. Ф. Эрна.
Начинается работа Эрна с выяснения его точки зрения на
русскую философию и на метод ее изучения. Тут снова
высказываются те же мысли, которые г. Эрн высказывал уже не раз.
402
Φ. СТЕПУН
Русская философия существенно «логична». Наследница
античной и средневековой мысли, она в корне противоположна
«рационализму» новой западной философии. Сущность
рационализма Эрн видит во всесторонней серединности, в
принципиальной посредственности. «Ratio — это среднее
арифметическое между разумами всех людей». Рационализм есть двойное
отречение от высот Небес и глубин Земли. А потому
серединная рационалистическая философия равно чужда как
поэтическому вдохновению, так и вершинам религиозного познания.
Основными моментами в развитии рационализма Эрн считает
Декарта, Канта и Гегеля.
Что вся концепция глубоко ошибочна, мы здесь доказывать
не будем. Каждому трезвому и хотя бы только несколько
осведомленному читателю само собою ясно, что ratio Канта и
Гегеля (поскольку вообще можно о высшем философском принципе
кантианства и гегелианства говорить как о ratio) отнюдь не
есть «среднее арифметическое между разумами всех людей».
Равно известно каждому и то, что все развитие
«рационализма» от Канта до Гегеля свершалось отнюдь не путем полного
разрыва философии с поэзией и религиозною мыслью, но,
наоборот, в теснейшей связи с той и с другой. О чем
свидетельствуют Шиллер, бр. Шлегель, Новалис, Гете, Шлейермахер и
Шеллинг. Конечно, я говорю общие места, конечно, я говорю
лишь то, что и сам Эрн прекрасно знает. Но ведь и говорю я о
них не потому, что думаю, что Вл. Ф. Эрн их не знает, а лишь
потому, что уверен, что он их не хочет знать.
Совершенно также произвольны рассуждения Эрна и о
методе исторического исследования. Говоря кратко, они сводятся к
следующему: каждый историк бессознательно, но неминуемо
привносит к разрабатываемому им материалу свою точку
зрения. Лишь в ее субъективном свете данные прошлого времени
становятся вообще историческим материалом. А потому
лучшее, что может сделать историк, это осознать свой
субъективизм, свою «точку зрения», и сознательно положить ее в основу
своей научной деятельности. Конечно, проблема
объективности исторического познания, — проблема крайне трудная,
сказать о ней что-либо в рецензии — совершенно невозможно. Но
одно, думаю, все-таки ясно. Решать ее не только так, но даже
только в том направлении, в котором ее решает Эрн, —
решительно невозможно. Следующая, конечно, шаржированная,
параллель вскрывает, как мне кажется, всю невозможность. Все
люди бессознательно грешат. А потому лучшее, что они могут
сделать, — это осознать свой грех и положить его в основу сво-
Русские мыслители
403
ей моральной деятельности. Едва ли такое рассуждение
убедительно!
В чем же, однако, дело? Почему Вл. Ф. Эрн всюду и всегда
творит произвол. Мне кажется, что причину надо искать в том,
что сила убежденности Эрна в правде интуитивизма отнюдь не
соответствует глубине и широте его интуиции.
Все оговоренные недостатки не помешали, однако, Вл. Ф. Эр-
ну написать в общем очень хорошую монографию о Сковороде.
Конечно, нарочитая подостланность всего изложения
философии Сковороды философией самого Эрна исказила несколько
образ украинского мудреца и сняла остроту некоторых проблем
его жизни и мысли. Так, например, «оправославив» Сковороду,
Эрн должен был окрестить очень острую для Сковороды
проблему вечности зла и материи «метафизическою нелепостью»,
должен был превратить один из наиболее сложных и
запутанных узлов всей философской концепции Сковороды в простое
недоразумение (с систематической точки зрения), в «упрямую
волю», в самоутверждающийся антицерковный
индивидуализм (с точки зрения психологической) (с. 262—266).
Но все же монография хорошо продумана, последовательно
изложена, написана живым языком и овеяна безусловно
большой любовью к Сковороде, образ которого воспринят, быть
может, и не совсем центрально, но, без сомнения, целостно.
^^©
^^
Д. И. БАГАЛЕЙ
Издание сочинений Г. С. Сковороды
и стоящие в связи с ними исследования о нем
К 120-й годовщине со времени его кончины. 1794—1914
<фрагмент>
Наконец Г. С. Сковорода благодаря харьковскому изданию
его сочинений дождался обоснованного признания своей
исключительно важной роли — родоначальника русской
философии — со стороны специалиста и историка русского
философского движения.
В 1912 году в Москве вышла книга В. Эрна «Русские
мыслители. Г. С. Сковорода. Жизнь и учение», 342 страницы. Она
представляет во всяком случае выдающееся явление в
литературе о Г. С. Сковороде и потому на ней нужно остановиться
несколько подробнее. Г. Эрн находит необходимым сделать
прошлое русской философской мысли предметом тщательного
и беспристрастного исторического исследования. Сковорода в
этом отношении особенно поучителен. Его философия
складывается в стройное целое тогда, когда германская мысль, от
которой многие ведут родословие русской мысли, только
зарождается (Кант). Свою книгу г. Эрн делит на две части: одна
уясняет жизнь Сковороды в связи с внутренним ходом его
самоопределения, другая — его мировоззрение. Но жизнь его
теснейшим образом связана с философий: первая не может быть
правильно понята без второй, и наоборот. Главным материалом
и для 1-й, и для 2-й части книги г. Эрна послужили изданные
под моею редакцией Харькозским историко-филологическим
обществом сочинения Г. С. Сковороды, биографические
материалы и мое введение. Указав на это издание, г. Эрн замечает:
«Это прекрасное издание, снабженное обстоятельной критико-
библиографической статьей, распадается на две части. В
первой помещены "Житие" Ковалинского и "Письма" Сковороды
Издания сочинений Г. С. Сковороды
405
(чрезвычайно важный материал); во второй — большинство из
сохранившихся сочинений Сковороды. На это издание мы
будем делать постоянные ссылки...» (с. 35). И действительно,
автор широко использовал мое издание, дополнив его, где было
нужно, и другими источниками и пособиями из литературы о
Г. С. Сковороде. И я как редактор этого издания чувствую
большое нравственное удовлетворение по поводу того, что оно,
несмотря на свою неполноту, дало возможность г. Эрну так
широко и всесторонне поставить вопрос о жизни и
миросозерцании Г. С. Сковороды. Интересно отношение г. Эрна к основному
источнику наших сведений о жизни (и притом не только
внешней, но — что еще важнее — и внутренней) Г. С. Сковороды —
биографии, составленной М. И. Ковалинским. «Рассказ Кова-
линского, говорит он, прост, мягок, задушевен и фактически
безусловно достоверен. Но он недостаточно полон. Безусловно,
он нуждается в разработке. Ограничиваться одним рассказом
Ковалинского и считать все сообщаемое другими лицами и не
встречающееся в рассказах Ковалинского за недостоверное или
сомнительное (как это склонен делать проф. Бага лей) нет
никаких оснований... Не отвергая ни единой черточки в
жизнеописании Ковалинского, мы должны образ и психику Сковороды
углубить и разработать по весьма характерным данным,
встречающимся в сочинениях самого Сковороды». Здесь маленькое
недоразумение. Я совершенно согласен с г. Эрном в
необходимости углублять и дополнять сообщения Ковалинского по
сочинениям Сковороды и особенно по его письмам. Скажу более
того: г. Эрн едва ли не первый * использовал драгоценный в этом
отношении материал (письма Г. С. Сковороды) и дал нам на
основании совокупности данных внутреннюю историю его
жизни. Но я считаю себя обязанным критически относиться к
подчас темным и сбивчивым известиям, не подтверждаемым
другими свидетельствами, и устранять сомнительные тексты. И сам
г. Эрн ведь отвергает свидетельство арх. Гавриила об усвоении
Г. С. Сковородой германской философии, ибо об этом не
говорится ни в одном из первоисточников (с. 63), но вопреки моему
резкому отзыву считает страницы, посвященные арх.
Гавриилом Сковороде, прекрасными, совершенно не теряющими
своего значения от того, что арх. Гавриил опирается в своем
изложении главным образом на Хиждеу. Особенно же высоко он
Выражаюсь так осторожно, потому что у меня смутно
вырисовывается воспоминание о появлении в последнее время статьи о
Сковороде, которая останавливается главным образом на его письмах.
406 Д. И. БАГ АЛЕЙ
ценит самый замысел арх. Гавриила1. Я также высоко ставлю
замысел арх. Гавриила и все же должен, к сожалению,
заявить, что мое наблюдение о том, что «вся оценка философской
деятельности Сковороды (с. 39—70) представляет негласное и
притом буквальное заимствование из Хиждеу» остается в силе
(Изд. Харьк. ист.-филол. общества, с. XXVII). Что же касается
самого Хиждеу, на котором основывался арх. Гавриил, то и в
отношении его остаются неопровергнутыми высказанные мною
сомнения в достоверности приведенных отрывков из
сочинений, приписываемых им Сковороде, но до нас не дошедших.
(Изд. Харьк. ист.-фил. общ., с. XXIII—XXIV). Пользуясь
главным образом изданием Харьковского
историко-филологического общества, г. Эрн сверх того привлек для изучения и три из
не напечатанных рукописей Г. С. Сковороды, хранящихся в Ру-
мянцевском музее в Москве — «Потоп Змиин», «Жену Лотову»,
«Икону Алкивиадскую». Таковы первоисточники,
положенные г. Эрном в основу его интересного труда. Обратимся теперь
к обозрению его содержания. Часть 1-я (о личности) делится на
XII глав: I) пролог на небе, II) пролог на земле, III) годы юности
и учения, IV) заграничное странствие, V) неопределенность,
VI) основные черты душевного склада, VII) жизненное решение,
VIII) дружба с Ковалинским, IX) страннический посох, X)
учительство и писательство, XI) последние годы, XII) смерть.
Основываясь на характеристике личности Сковороды у Ковалин-
ского, г. Эрн открывает в нем подвижника истины и правды,
приверженца не рационализма, a Xoyoç'a, в основе которого
лежало учение восточных Отцов Церкви — Максима Исповедника
и др. Последний высказал мысль, что в природе открывается
такая же истина, как и в Писании; этим разрешается и
проблема Сковороды. «Концепция Максима Исповедника — об
откровении в природе, говорит г. Эрн, дает нам возможность
метафизически понять и принять Сковороду в его подлинном, целом и
неискаженном виде». Но тело его родилось в стране варварской
(?) полукультуры, в стране стихийной природности (в
Малороссии — это по терминологии г. Эрна). Отсюда
противоположность двух его стихий: универсальность и провинциализм, но,
несмотря на свою казацкую плоть, он сумел подняться выше
рационализма, преодолев ratio своего века античнохристиан-
ским началом Xoyoç'a». Затем г. Эрн рассказывает о
заграничном путешествии Сковороды, его начитанности и характере
познаний (Сковороду влекла античность и патристика); в
выборе материала его характеризует самостоятельность и
благородство вкуса. Далее г. Эрн останавливается на поре неопределен-
Издания сочинений Г. С. Сковороды
407
ности в жизни Сковороды — это был период одиночества,
обращения внутрь себя — пребывание в Переяславском училище
и у помещика Тамары. Основные черты душевного склада
Г. С. Сковороды за это время г. Эрн очень удачно
характеризует, опираясь на ipsissima verba2 Сковороды — его «Сад
Божественных песней». Здесь, справедливо замечает г. Эрн, данные
огромной внутренней ценности сочетаются с точностью
датировки. Многие стихотворения помечены местом и временем
написания... Это лирика Сковороды, торжественная, величавая
и правдивая. Это духовные песни, предназначавшиеся для
пения и музыки. «Сад Божественных песней» открывает
мятущуюся скорбную душу Сковороды. Выход из мрака к свету он
находит в жажде распяться в себе самом, в самоочищении, в
борении. Он предался любомудрию и остановился наконец на
определении своего жизненного пути, которое вытекало из
чистой идеи его существа. Важным моментом является дружба
Сковороды с его учеником М. И. Ковалинским. Г-н Эрн, на
основании их переписки, устанавливает характер этой дружбы и
ее исключительно важную роль в жизни Сковороды. В лице
Ковалинского Г. С. Сковорода приобрел первого ученика и
адепта, последователя, кандидата блаженнейшей своей
христианской философии. Важные последствия этой дружбы
выразились в двух крупных фактах: 1) составлении Ковалинским
биографии Сковороды и 2) в посвящении ему Г. С. Сковородою
целого ряда трактатов. С 1766 по 1794 год тянется
страннический образ жизни Сковороды, соединенный с учительством.
Г-н Эрн правильно определяет роль Сковороды термином
«старца», но есть и еще одна, более близкая, по нашему мнению,
аналогия его — со странствующими «мандроваными» дьяками,
учителями. Интересно сопоставление у г. Эрна «ухода» в
странствование Г. С. Сковороды и Л. Н. Толстого, причем он отдает,
и не без основания, решительное предпочтение подвигу старчи-
ка Г. С. Сковороды; самая резкая разница в том, что Л. Н.
Толстой ушел умирать, а Г. С. Сковорода — жить, и жил он после
своего ухода почти аскетом 28 лет! Значение его подвига
приближает его к Сократу. Его учительство пошло по трем руслам
и выразилось: 1) в составлении философско-богословских
трактатов и литературных произведений, 2) в переписке с друзьями
и 3) в устных беседах. Интересно вдумчивое изображение г. Эр-
ном всех этих трех видов деятельности Г. С. Сковороды.
Интересно его тонкое наблюдение, что «свои сочинения Сковорода
сознательно предназначал исключительно для друзей своих.
Он писал по-дружески, интимно. Он вообще не публицист, не
408
Д. Я. БАТАЛЕН
социальный борец, не религиозный реформатор. Сражаться с
людьми и порядками он вовсе не хочет... Борьба его внутренняя,
напряженность ее — чисто духовная. В нем самом свершается
непрерывная духовная брань... И самая диалогическая форма,
излюбленная Сковородой, диктуется взволнованным душевным
состоянием Сковороды... Вот отчего сочинения свои Сковорода
хотел видеть исключительно в руках своих друзей. Только
друзьям можно было иметь эти сколки души. И мысль Сковороды
можно распространить и на настоящее время. В лабиринт
мыслей Сковороды можно проникать лишь сочувственным
вниманием, и тот, кто и теперь без дружественной расположенности
станет читать писания Сковороды, вряд ли восчувствует
скрытую в них красоту, вряд ли сумеет восстановить цельный образ
его философской мысли». Эти слова характерны для
отношения к Г. С. Сковороде самого г. Эрна, — оно во многих случаях
восторженное; а эта восторженность отражается и на самом
изложении автора, которое отличается живостью, проникнуто
чувством, что не мешает автору, однако, делать наблюдения,
высказывать меткие суждения. В писательской деятельности
Сковороды г. Эрн различает три момента — конец 60-х годов,
мотивом которого является идея самопознания, 70-е годы,
когда он сообщает другим сокровища достигнутого им внутреннего
мира, и 80-е годы, посвященные проблеме Священного
Писания. Но здесь нет эволюции взглядов: самопознание — корень
и ствол, душевный мир — плоды и ветви, умозрение о Книге
книг — вершины того же мощного дерева. Влияние Сковороды
осязательно сказалось в создании вокруг него сложившейся и
ему приписываемой апокрифической литературы. Г. Эрн
говорит: проф. Д. И. Багалей с совершенной очевидностью доказал
непринадлежность «Правды Веры» Сковороде, но это
переработка миросозерцания Сковороды в идеалистическом направлении.
Автор «Ольги православной» истолковывает Сковороду в
славянофильском духе. Г. Эрн сопоставляет далее письма Г. С.
Сковороды и Л. Н. Толстого и дает правильную, на наш взгляд,
характеристику переписки Г. С. Сковороды с его друзьями.
Описанием последних лет жизни и смерти оканчивается
одухотворенная, проникновенная биография Сковороды, написанная
г. Эрном. Она представляет 6 этом отношении полную
противоположность биографии его, некогда написанной Г. П.
Данилевским: то был очерк внешней жизни, а это внутренняя история
человека.
2-я часть труда г. Эрна посвящена уяснению мировоззрения
Г. С. Сковороды и так же, как и первая, состоит из 12 глав:
Издания сочинений Г. С. Сковороды
409
I) вступительные замечания, II) антропологическая точка
зрения, III) hieroglyphica, emblemata, symbola, IV) проблема
Библии, V) учение о внутреннем человеке, VI) учение о мире, VII) о
Боге, VIII) мистическая мораль, IX) прикладная мораль, X)
педагогические идеи, XI) Сковорода и Церковь, XII) заключение:
Сковорода и последующая русская мысль. Вначале г. Эрн
останавливается вкратце на литературе вопроса о философии
Сковороды и высказывает здесь положение, с которым нельзя
согласиться, как это видно уже из моего краткого нынешнего
критико-библиографического очерка, — «мысль Сковороды,
говорит он, его философское мировоззрение игнорировалось почти
всеми. Мы можем назвать только одну статью Зеленогорского,
серьезно и с достаточным знанием обсуждающую философию
Сковороды, но и Зеленогорский больше говорит о
заимствованиях, тогда как у Сковороды есть своя собственная
центральная мысль» (с. 209). Это очень строгая и едва ли справедливая
оценка предшествующей литературы.
В частности, совершенно неверно утверждение г. Эрна, что
две статьи А. Я. Ефименко написаны в таком же духе, как и
биография Г. П. Данилевского, который не придавал цены
философским трудам Г. С. Сковороды. На такой точке зрения не
стоял, как мы видели, никто из исследователей Сковороды за
последние 20 лет, наоборот, все почти (и я в том числе)
подчеркивали органическую связь его учения с жизнью и
останавливались на его философии. Нет надобности приводить
доказательства этого положения — настолько оно бесспорно. Г-н Эрн
правильно исходит из самого Сковороды, чтобы определить
мысли его. Первою наиболее характерною чертою его
воззрений он считает так названный им его антропологизм — или
самопознание: вес у Сковороды в самом человеке. Человек — это
микрокосм; в нем метафизически вся вселенная, в нем и Бог.
Этим определяется и его отношение к знанию, к науке:
Г. С. Сковорода отрицает знание, но не всякое, а оторванное от
жизни. А знание, нужное для жизни, — это христианская
философия. В нем существенную роль играет символика Сковороды,
вытекающая из его антропологизма. У него основа мышления
символическая, кроме того, эмблемы играют и важную
вспомогательную роль. Особенно заметно это проявляется в
трактатах, посвященных Библии. Библия имеет центральное
значение для философского сознания Сковороды. Объяснять это
одним влиянием Отцов Церкви невозможно: Сковорода вносит
в отношение к Библии страстную личную ноту; его влечет к ней
непреодолимая тайная сила; специально ей он посвящает три
410
Д. И. БАТАЛЕН
своих трактата. В них он развивает мысли о трех мирах —
великом, символичном и малом микрокосме; каждый же из них
состоит из материи и формы.
Г-н Эрн решительно восстает против мнения о рационализме
Сковороды и отрицании Библии в духе XVIII века или Л. Н.
Толстого. Он сопоставляет места из сочинений Сковороды,
подавшие повод к такому неправильному мнению, с выдержками из
Оригена, идя здесь по пути, указанному еще А. С. Лебедевым.
Вообще здесь г. Эрн углубляется в вопрос и дает несколько
ценных заключений и наблюдений, точно так же, как и в главе о
внутреннем человеке; в этом учении он видит органический
синтез Платона с Библией и называет Сковороду христианским
платоником. Излагая учение Сковороды о мире, г. Эрн
отмечает в нем как бы пантеистическое смешение Бога с миром, но
прибавляет, что он в действительности принципиально далек
от пантеизма. У Сковороды г. Эрн отмечает несколько таких
уклонов в сторону — это недостатки в общем цельной и ясной
системы его мышления. Глубоко проникает г. Эрн и в учение
Сковороды о Боге, приводя здесь, как и всюду, массу выдержек
из сочинений Сковороды; здесь он отмечает мысль его о Бого-
воплощении не только в Евангелии, но и в Библии и идею
преображения мира и о Богочеловечестве Иисуса Христа. Мораль
Сковороды он делит на мистическую и прикладную. Г-н Эрн не
согласен с теми, кто прежде всего видел в Сковороде моралиста;
по его мнению, в нем сильнее философ-теоретик (что, впрочем,
отмечалось и ранее). Между этикой и метафизикой Сковороды
глубочайшая связь. Величайшее благо человека, его счастие —
внутри его. Л. Н. Толстой проповедывал неделание, Кант —
отвлеченный долг, Сковорода — внутреннего человека. Каждый
человек должен, по мысли Сковороды, искать свою идеальную
форму: «ищи, говорит он, расцвета своей природы». Но в
Сковороде жил и темперамент настоящего моралиста — отсюда его
прикладная мораль, для выражения которой он находит свои
слова и его речь, «сохраняя все время принципиальный
характер, становится здесь особенно своеобразной, страстной,
дышащей убежденностью и пафосом его личности». Высшее
счастие — в душевном мире, а этот последний — в сродности, в
последовании своей природе, своим склонностям. Сковорода не
отрицает ни науки как таковой, ни государства, ни культуры.
В этом смысле он бесконечно далек от Л. Н. Толстого. Он
отрицает не культуру, а ее извращение у тех, кто входит в
несвойственную ему стать и тем наносит вред не только себе, но и всему
обществу. «Воином кто рожден, говорит он, дерзай, вооружай-
Издания сочинений Г. С. Сковороды
411
ся. Многократно я тебе говаривал, что тебе или тому быть
священником или монахом не по природе; но чтобы сказать, что
священство или монашество стать вредна, никогда сего не
было».
На этом построены и педагогические идеи Сковороды: он был
против обезьянства в воспитании и независимо от Руссо
проповедовал, что главное — природа и потому нужно действовать на
сердце. Далее г. Эрн старается уловить отношение Сковороды к
Церкви и находит, что оно отличалось некоторой
неопределенностью. «Целый ряд фактов, говорит он, свидетельствует, что
между Сковородой и Церковью не стояло никаких
принципиально непроходимых преград. В полном согласии с этими
фактами находятся суждения Сковороды о Церкви, до нас
дошедшие». Он враждебно настроен не против монашества вообще, а
против современного ему монашества. Он искренно стремился
ко вселенскому началу. Какое бы то ни было сектантство им
искренно отрицается. «И все же, прибавляет г. Эрн, в
Сковороде чувствуется иногда если не сектант, то потенциал сектанта»
(с. 326). Но если Сковорода искренно отрицал какое бы то ни
было сектантство, в том числе и мартинизм, то где же тут
основание для потенциал-сектанта? Мне кажется, что г. Эрн
употребил здесь, стремясь к образности речи, просто неудачное
выражение: он только хотел сказать, как и говорит в действительности,
что «вселенскости своих стремлений он не мог довершить и
утвердить» (с. 326). В заключение г. Эрн останавливается на
связи учения Сковороды с последующею русскою философскою
мыслью. Несмотря на отсутствие формальной связи между
Сковородой и последующими русскими философами, он
устанавливает внутреннюю их объединяющую связь — λόγος:
русские мыслители, разделенные эпохами и незнанием друг друга,
перекликаются между собой. Г. С. Сковорода — родоначальник
русской философской мысли. «В лице Сковороды происходит
рождение философского разума в России; и в этом же первом
лепете звучат новые, незнакомые новой Европе ноты,
объявляется определенная вражда рационализму, закладываются
основы совершенно иного самоопределения философского разума.
Основная черта глубокого духовного средства между
Сковородой и последующей русской мыслью есть странничество...» Но
есть и целый ряд других сходных черт. Г-н Эрн здесь
несколько увлекается и считает Сковороду даже родоначальником
русского славянофильства, но для этого, конечно, нет
достаточных оснований, ибо та книжечка «Ольга православная», где
высказаны славянофильские мысли, Сковороде не принадле-
412
Д. И. БАГ АЛЕЙ
жит, а была ли она написана кем-либо из учеников Сковороды,
также решительно неизвестно. Интересно заключение г. Эрна о
значении Сковороды. «Сковорода стоит у самого порога русской
мысли. Он первый и творчески начинает то, что потом
гениально растет, множится и цветет. Блеск и величие последующего
нимало не должны заслонять его скромную, но героическую
фигуру и отнимать у него хоть частицу славы и признания,
которые ему подобают. Сковорода имеет специфическую
прелесть примитива, черты соединения гениальности с наивной и
целомудренной скованностью культурных форм, и эта прелесть,
как неповторимая, навсегда останется за ним» (с. 342).
Автор разобранного нами труда не свободен от подчас
рискованных утверждений, но они вытекают из глубокого изучения
Сковороды и благородного увлечения его жизнью и
философией. Г-н Эрн ставит эпиграфом 2-й части своего сочинения
изречение Сковороды: «Совершенно человека видит и сердце его
любит, кто любит мысли его» — и этот эпиграф вполне
применим к его собственному труду о Сковороде. Никто так глубоко,
как он, не проникал во внутреннюю жизнь Сковороды и в его
мысли, и это потому, что они близки и симпатичны автору; и
его самого со Сковородой сближает λόγος этого последнего.
Многое из того, что говорит г. Эрн о Сковороде, высказывалось
и ранее, но он сам продумал и проработал труды Сковороды и
кроме того выразил все это в оригинальном стиле — ярком,
колоритном, далеком от антикварного сухого изложения.
Энтузиаст Сковорода нашел себе энтузиаста биографа в лице Ковалин-
ского, а теперь энтузиаста интерпретатора в лице г. Эрна. Книга
г. Эрна читается с захватывающим интересом и знакомит с ним
широкую публику. Сковорода получил теперь признание
историка русской философской мысли в качестве русского, а не
только малороссийского или украинского философа.
Открылось ему место и во всемирной философии.
Ill
ВРЕМЯ
СЛАВЯНОФИЛЬСТВУЕТ
^-^
Β. Φ. ЭРН
От Канта к Круппу
ι
От Канта к Круппу... Почему Канта? Почему к Круппу?1
Я начинаю с Канта как с величайшей вехи в манифестации
германского духа. У Канта есть предки; главные: Экхарт, Лютер,
Бёме. Но у меня нет времени говорить, как один из них
порождал другого. Я только скажу, что не этот пункт возбуждает
споры. Недавно все были согласны в том, что великая германская
культура едина и непрерывна. Мы слышали много
убежденных речей, утверждавших, что самые последние школы
немецкой философии исполнены мировых, а не только германских
традиций. Больше того, мы все знали, что философ
абстрактной идеи, Гегель, воскурил фимиам диалектического
признания перед прусскою государственностью, а его блестящий
ученик Куно Фишер низко и многократно склонял свою седую
голову перед делом Бисмарка. И знавшие это не удивлялись.
Но вот налетает война. Под мягкой шкуркой немецкой
культуры вдруг обнаружились хищные кровожадные когти.
И лик «народа философов» исказился звериной жестокостью.
Малин и Лувен, Калиш и Реймс2 вызвали бурю негодования,
и все разом, дружно решили, что немецкая культура — одно, а
зверства — другое, что Кант и Фихте столько же повинны
в милитаристических затеях прусского юнкерства, сколько
Шекспир и Толстой, и потому: да здравствуют Кант и Гегель,
и да погибнут тевтонские звери!
Моя речь — самый страстный протест против этого
упрощенного понимания всемирной истории. Я сразу скажу свои тезисы
и затем перейду к доказательствам. Я убежден, во-первых, что
бурное восстание германизма предрешено Аналитикой Канта; я
416
Β. Φ. ЭРН
убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны глубочайшей
философичностью; я убежден, в-третьих, что внутренняя
транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и
фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого
германского духа в орудиях Круппа. Само собой разумеется, в
краткой речи я должен ограничиться самыми общими
характеристиками и остановиться на пунктах лишь самой
существенной важности.
Острие Кантовой мысли, нашедшей свое крайнее и
бесстрашное выражение в первом издании «Критики чистого разума»,
сводится к двум принципам: к абсолютной феноменалистично-
сти всего внешнего опыта и к абсолютной феноменалистично-
сти всего опыта внутреннего; из этих двух принципов,
установленных в трансцендентальной Эстетике и трансцендентальной
Аналитике, сами собой вытекают два радикальнейших
положения: 1) никакой ноумен, т. е. ничто онтологическое, не
может встретиться в нашем внешнем опыте, и 2) ничто
ноуменальное, т. е. относящееся к миру истинно Сущего, не может
быть дано и реализовано в нашем внутреннем опыте. А так как
кроме внешнего и внутреннего опыта нет никаких иных путей
познания, то «Критика чистого разума» оказалась
всемирно-историческим глашатаем чистейшей формы абсолютного имма-
нентизма. Конечно, в Канте жили остатки платонического
трансцендентизма, и эти остатки: идеи умопостигаемой
свободы и понятие «вещи в себе». Но эти платонические
реминисценции Канта абсолютно не вяжутся с его основными
принципами. Что понятие вещи в себе некритично и произвольно, это
было блестяще раскрыто Фихте; что идея умопостигаемой
свободы есть совершенный non-sense с точки зрения абсолютной
феноменалистичности внутреннего опыта, это должно быть
ясно для всякого, кому не лень только подумать. Внутренний
опыт, сплошь и безызъятно подчиненный феноменологической
форме времени об одном измерении, конечно, никак не может
вместить в себя ноумена свободы*.
Основные принципы кантовского феноменализма были
несокрушимой осью всего дальнейшего движения немецкой
мысли: Фихте окончательно разонтологизировал Природу. Гегель
с безудержностью понял все бытие как абсолютный процесс.
Наконец, полувековая коллективная работа новейшего канти-
* Подробнее я говорю об этом в работе: Природа мысли // Богосл<ов-
ский> вестн<ик>. 1913. Ср. также: Критика кантовского понятия
истины. Сборник в честь Л. М. Лопатина. М., 1911.
От Канта к Круппу
417
анства дружно установила универсально-имманентистские
тезисы. Напротив, платонические реминисценции, столь
характерные для личности Канта и столь противоречащие основам
его философии, имеют в дальнейшем движении немецкой
мысли смысл придаточных предложений. В немецком идеализме
много платонизирования, особенно в зрелом Шеллинге,
которого уже никто не хотел слушать, но это платонизирование не
имеет онтологических корней в исходных и основных линиях
немецкой мысли и потому всегда поражено безземною,
безосновною немощью люциферианского романтизма. Феноменализм
Канта для немецкой мысли есть прочное и «научное»
достояние, несокрушимое, железобетонное завоевание германского
духа. Платонические же реминисценции — мечтательные
остатки старонемецкого благодушия.
Транскрипция верховных достижений «Критики чистого
разума» в плане исторического самоопределения немецкого
народа сама собою намечалась с фатальною необходимостью.
Нужно помнить, что в атмосфере протестантизма с его безусловным
приматом «разумности» кантовская фиксация сил и
способностей разума была событием чрезвычайной церковной важности.
Один немецкий историк совершенно правильно констатирует:
«"Критика чистого разума" имела для нас, немцев, почти такое
же значение, какое для французов революция 1789 года»3.
Высшим и самым гениальным представителем разума целой
расы с категоричностью установлена была некая первичная
истина о самых первичных до-опытных и до-действенных формах
разумного сознания. Все историческое и традиционное, все
инстинктивное и природное, все вдохновенное и благодатное тем
самым принципиально отменялось в своем абсолютном
значении и ставилось под контроль и тяжелую руку феноменалисти-
ческого первопринципа. О, Кант недаром чувствовал законода-
тельственный характер своего разума! Хотел он предписывать
законы Природе, поистине же стал Ликургом выступающего
на всемирную сцену германского духа.
Феноменалистический первопринцип Канта в историческом
самоопределении немецкого народа неизбежно должен был
сгуститься в весьма определенные и конкретные вещи. Если
внутренний и внешний опыт действительно лишен всяческого
контакта с ноуменом, т. е. с миром истинно Сущего, тогда ноумену
нет никакого места ни в теоретическом представлении
человека о совокупности мировой жизни, ни в практической
деятельности, взятой во всех ее проявлениях. Крик Ницше: «der alte
Gott ist todt» 4 есть явный анахронизм. Старый Бог умер, гиль-
418
Β. Φ. ЭРН
отинирован был в лабиринте Трансцендентальной Аналитики.
Палачом старого и живого Бога был Кант, и с тех пор сложное
и титаническое явление немецкой культуры было лишь всегер-
манским приобщением к потрясающей тайне богоубийства,
свершившегося в неисследимых глубинах немецкого духа.
Джоберти, с поразительной для своего времени меткостью,
называет Канта чистейшим психологистом, mero psicologista*,
это значит: контакт разума с Сущим, т. е. с Богом, был
«законодательно» перерезан именно Кантом.
В плане истории теоретическое богоубийство как априорный
и общеобязательный для всякого «немецкого» сознания
принцип неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и
власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех
царств земных и всех богатств земных в немецкие руки. Если
весь внешний опыт абсолютно феноменалистичен, тогда на
арене истории ничего не значит святыня, ничего не значит
подлинная онтологическая Справедливость, ничего не значит
Божественный Промысел. Первым великим всходом кантовского
посева был величественный расцвет феноменалистических наук
в Германии. Эти науки интересовались решительно всем, кроме
Истины**, и бессознательно превратились в систематическую,
методологическую и грандиозную разведку всех мировых и
духовных условий для грядущего торжества германского духа.
С другой стороны, если феноменалистичен и внутренний опыт,
тогда все императивы и максимы морали неизбежно
превращаются в количественный принцип гимнастического увеличения
«силы воли». Онтологическое и безусловное качество воления
отбрасывается как überwundener Standpunkt5.
Категорический императив Канта по своей абсолютной
формальности не мог оказать никакого сопротивления. Он говорил
эмфатически, с величайшей силой: «Ты должен», но что
именно должен — он этого никак не мог выговорить. Раскаты
кантовского «Du sollst» гремели в воздухе и... никого не убивали.
Немцы так свыклись с этим безобидным атмосферическим
явлением, что иные из них пытались использовать его с
практическими целями. Известный последователь Канта, возвышенный
Виндельбанд, на выборах говорил: «Категорический императив
заставляет меня голосовать за национал-либералов». Se non è
* Ср. мою статью: Критика новой философии у Джоберти // Вопр<о-
сы> фил<ософии> и пс<ихологии>. 1914.
"* См. об этом мою статью: Природа научной мысли // Бог<ослов-
ский> вестн<ик>. 1913.
От Канта к Круппу
419
vero, è ben trovato!6 Во всяком случае, линия от пустого катего-
ризма Канта к энергетизму промышленно-научно-философско-
го напряжения германской нации очевидна. Германский народ
в своем целом понял себя как феномен, пусть грандиозный, но
все же только феномен, и стал планомерно осознавать себя в
биологических категориях.
Но от биологии один шаг к зоологическим следствиям.
Убиение Сущего в воле, совершенное Кантом, постулировало
крайнее развитие волевой мускулатуры, а убиение Сущего в разуме,
совершенное им же, раскидывало прельстительную арену для
проявления этой мускулатуры: для германского сознания со
всего мира были сняты онтологические запреты и высшие
предназначения, и географическая карта Земли предстала
германскому воображению огромным и сладким «меню»
невиданного и неслыханного в истории мирового пиршества. Но для
этого нужно было мускулатуру воли и внутренних напряжений
одеть несокрушимой броней милитаризма*. Восстание
германизма как военный захват всего мира, как насильственная
мировая гегемония manu militari7 коренится, таким образом,
в глубинах феноменалистического принципа, установленного
в первом издании «Критики чистого разума». Этим самым
оправдывается мое первое убеждение о закономерной и
фатальной зависимости перехода немецкой нации в модальность все-
мирно-милитарных манифестаций от феноменалистическои
философии кенигсбергского Ликурга.
II
Теперь мне предстоит раскрыть второе мое убеждение: о
глубочайшей философичности орудий Круппа. Да не подумает кто-
нибудь, что я хочу иронизировать. Я отношусь к этому тезису
с величайшей серьезностью. Уже из сказанного раньше
намечается глубокая связь орудий Круппа с немецкою философией.
Если немецкий милитаризм есть натуральное детище Кантова
* Т. Циглер в своей «Истории умственных и общественных течений
XIX века» определенно проговаривается о роли Бисмарка в
немецком самосознании: «В нашей национальной жизни и в нашем
чувствовании Бисмарк, этот гигант по силе воли и деятельной
энергии, является решающим узлом, влияние которого мы ощущаем
в самых недрах философского творчества» (СПб., 1901. С. 10), —
и явление которого, добавим от себя, было подготовлено в тех же
философских недрах немецкого народа.
420
Β. Φ. ЭРН
феноменализма, коллективно осуществляемого в плане истории
целою расою, то орудия Круппа — суть самое вдохновенное,
самое национальное и самое кровное детище немецкого
милитаризма. Генеалогически орудия Круппа являются, таким
образом, детищем детища, т. е. внуками философии Канта. Но это
заключение силлогистично. Материально оно не наглядно, и
чтобы сделать его наглядным, я подойду к вопросу с другой
стороны.
Кто изучал историю стилей, того должно было всегда
поражать глубокое и строгое соответствие между стилем данной
эпохи и ее скрытой душой. Насколько мы знаем историю,
везде мы констатируем неистребимую потребность человечества
бессознательно, почти «вегетативно», запечатлевать свою
скрытую духовную жизнь в различных материальных образованиях.
Одним из чистейших образцов самого подлинного запечатления
духа в материи является средневековая готика. В Реймсском
соборе или в Notre Dame de Paris мы имеем каменную
транскрипцию несказанного тоноса старого французского
католичества. По башенкам, статуям, химерам, сводам, колоннам и
ковровым vitraux 8 готических святынь мы можем, вслед за Гю-
исмансом9, проникать в самые глубокие тайники
средневековой религии. И вовсе не нужно, чтобы эти материальные
облачения духа известной эпохи или известного народа были
непременно феноменом эстетическим или, попросту говоря,
были «прекрасны». Иногда и самое крайнее, отпечатлевшееся в
материи «безобразие» бывает точнейшим и нагляднейшим
выявлением скрытых духовных реальностей. Не в красоте дело, а
в чем-то другом. Тут важно установить живой мост между
«внешним» и «внутренним», нащупать живую ткань, по которой
происходит кристаллизация внутренних энергий во внешние
материальные формы.
Орудия Круппа с этой точки зрения являются безмерно
характерными и показательными Если бы даже мы не
установили связи Кантова феноменализма с немецким милитаризмом,
то, смею думать, мы могли бы проделать обратный путь: от
милитаризма к феноменализму. Для очень внимательного и
пристального глаза анализ крупповских пушек, без всяких
мистических прозрений, должен был бы с несомненностью
показать, какое основное, глубинное жизнечувствие, могущее
легко быть выраженным в терминах философских,
характеризует народ, эти орудия создавший. Заметьте, орудия Круппа
суть безусловная вершина германской промышленной
техники. Если рассматривать их «материю», то ее строение окажет-
От Канта к Круппу
421
ся беспредельно тонким, замысловатым и — если можно так
выразиться — сгущенно-интеллектуальным. Нужно было
крайнее, беспримерное развитие физики, механики, математики и
строительной техники для того, чтобы создать эти гигантские
истребители. Нужна была солидарная совместная работа
поколений ученых, промышленников и государственных деятелей
для того, чтобы их осуществить. Мало того, нужен был еще
некий тайный национальный consensus, некое глубинное,
расовое самоопределение воли. Ведь техника Германии по своей
глубочайшей научности и теоретической обоснованности, по
отзывам знатоков, занимает первое место в мире. Конечно, для
завоевания этого первенства недостаточно было усилий
отдельных частных лиц, нужно было какое-то мощное коллективное
произволение. В крупнейших орудиях Крупна первенствующая
в технике Германия доходит до некоего человеческого предела.
Странно сказать, эти орудия почти неперевозимы, почти что
выходят за границы практической годности, почти что
невозможны в смысле неосуществимой разорительности. Если
отвлечься от всякой оценки этих чудовищ и сосредоточиться
лишь на колоссальных суммах человеческой энергии, в них
вложенной, то мы должны прийти к парадоксальному выводу:
по количеству затраченных сил, по солидарности
коллективного творчества орудия Круппа безусловно превосходят такое
беспримерное, казалось бы, проявление коллективного,
многовекового созидания, как средневековая готика.
Но еще более показательным является качество энергии,
реализованной в орудиях Круппа. Заложенная в них сущность,
их энтелехия10 и душа, необычайно красноречива по своему
совершенно обнаженному смыслу. Прежде всего, она
необыкновенно уверена в себе, самонадеянна и горда. Она блестит и
лоснится не только внешней шлифовкой и чистотою работы, но и
вся преисполнена бесспорностью математических вычислений,
аподиктичностью строгого расчета и необходимостью
непреодолимых разрушительных действий. Вот почему немцы столь
слепо и столь фатально уверились в своих еще не
осуществившихся победах. Орудия Круппа были для них всенемецкими,
национальными a priori всего военно-политического «опыта»,
долженствовавшего развернуться перед ними. Владея секретом
этих орудий, немцы как бы «антиципировали» основные линии
надвигавшихся событий и уверились в том, что в их руках —
самый глубинный принцип того кантовского
«законодательства», коим с неизбежностью весь сырой материал грядущих
потрясений должен был быть оформлен категориями и «схема-
422
Β. Φ. ЭРН
ми» основных вожделений пангерманизма. Они даже стратегию
подчинили орудиям Круппа!
И это могло случиться только потому, что энтелехийная
сущность орудий Круппа совпала с глубочайшим
самоопределением немецкого духа в философии Канта. Ибо кроме гордой
самонадеянности энтелехия орудий Круппа как своей основной
чертой характеризуется самопогруженностью,
самозамкнутостью, абсолютной практической самозаконностью. Орудия
Круппа суть чистейший вид научно и технически организованного
«бытия для себя». Глубинное самоопределение немецкой нации
находит в них свое крайнее и наиболее грозное выражение. Фе-
номеналистический принцип «аккумулируется» в
орудиях Круппа в наиболее страшные свои сгущения и становится
как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого
разума в больших масштабах всемирной гегемонии.
Разрушительность гигантских снарядов Круппа, их дикая насильствен-
ность логически вытекает из их феноменалистической
сущности. Международное право, верность данному слову, святыни
религии, человеческая честь — все это абсолютно
«превзойденные точки зрения». Феноменализм для своего распространения
не нуждается в добром согласии или в убеждении народов,
подлежащих процессу немецкой феноменализации. Орудия
Круппа — слишком живое, не требующее никаких оправданий
явление превозмогающей силы и правды феноменалистического
принципа, взятого an und für sich11. Поэтому в Сионе
немецкого феноменализма, где святое святых есть «Критика чистого
разума», орудия Круппа занимают почетное и логически
необходимое место. Кант в самых характерных и оригинальных
моментах своей философии диалектически постулирует
Круппа, Крупп в самых гениальных созданиях своих дает
материальное выражение феноменалистическим основоначалам Кан-
товой философии. Таким образом, оправдывается и мое второе
убеждение о глубочайшей философичности орудий Круппа.
III
Какой же вывод вытекает из двух установленных тезисов?
Вывод огромный, составляющий как бы ключ к духовному
смыслу разразившегося европейского катаклизма. Из
установленных тезисов мы должны вывести прежде всего, что
переживаемая нами война, беспримерная по своим размерам и по
своему ожесточению, есть в своей глубочайшей духовной сути
От Канта к Круппу
423
столкновение всемирно-исторических начал. Немецкий народ в
этом столкновении, так же, как и народ русский, а может быть,
и все союзные нам нации, мобилизовал решительно всю
наличность своего духовного и материального бытия. За
блиндированною стеною, которая вдруг укрыла от всего мира
германский народ, мы должны без всякого малодушия чувствовать
великий ряд величайших имен, созидавших в продолжение
столетий «культуру», абстрактное поклонение перед которой у
нас распространено до сих пор. От Экхарта к Канту шел
великий процесс внутреннего осознания германской идеи. От Канта
началась сложнейшая реализация осознанной идеи в плане
исторического бытия. И весь этот процесс есть нечто единое и
непрерывное, приводящее вплотную, с логической
необходимостью, к Круппам и Цеппелинам. Сами немцы прекрасно
чувствуют эту «круговую поруку» в манифестациях своего духа.
Под заявлением о безусловном тождестве германской культуры
с германским милитаризмом подписывается цвет немецкой
науки и немецкой философии12. Такие громкие и почтенные име-
на, как Гарнак, Брентано, Шмоллер, Э. Мейер с одной
стороны, а с другой — Вундт и Оствальд сами собой подписываются
под тем констатированием существенной однородности и
единого замысла германской культуры, которое я пытался сделать
в настоящей речи. То, что сами немцы усердствуют в
подтверждении моего истолкования духовных корней современной
войны, является последней, неожиданно экспериментальной
проверкой справедливости основных моих тезисов.
Теперь, в заключение, позвольте сказать мне несколько слов
об оценке того, что до сих пор я описывал как беспристрастный
историк. Картина бурного вакхического восстания германизма
во исполнение глубинной национальной мечты представляется
мне не только величественной и потрясающей, но и глубоко
трагической и полной вселенского смысла В зрелище современной
Германии, над коей невидимая десница уже начертала мене,
текел, фарес13, мы видим, по меткому уподоблению Вяч.
Иванова, все элементы античной трагедии14. Греки с
непревзойденной глубиной чувствовали, что в основе трагической гибели
лежит некая скрытая, часто неведомая вина, и одной из любимых
завязок трагедии, естественных и почти осязательно ясных,
была для греков ύβρις, по-русски — надменность, спесь,
направленная не против людей, а против богов. "Υβρις и составляет
корень германской трагедии. Метафизическая спесь, впервые
явленная Экхартом, проникает наиболее оригинальные отделы
«Критики чистого разума». В Гегеле она раскидывается гени-
424
Β. Φ. ЭРН
альным пожаром. В истекающем кровью Ницше переходит в
трагическое безумие. И это безумие, как я четыре года тому
назад доказывал,.— закономерно, фатально*. За ΰβρις неизбежно
следует ατη, т. е. помрачение разума, трагическое затмение
светлых сил разумения. Этому соответствует в германском народе
переход ко всестороннему феноменалистическому
самоопределению. Германское безумие проходит формы научные,
методологические, философские и наконец срывается в
милитаристическом буйстве. Величайшие счетчики мира вдруг просчитались
по всем счетам и, сделав ряд «сумасшедших» дипломатических
и стратегических промахов, ринулись прямо под меч карающей
Немезиды. Медленно или быстро опустится этот меч, мы не
беремся сказать. Во всяком случае, он уже занесении приход
Керы, т. е. окончательной гибели, составляющей третий и
последний момент трагедии, верим, не так уж далек.
И это величавое трагическое зрелище, в котором участвует
in corpore16 чуть ли не стомиллионный народ, имеющий за
спиной своей века напряженной и интенсивной культуры, полно
глубочайшего вселенского смысла. Путь германского народа,
приводящий к неминуемой катастрофе, есть достояние и
внутренний опыт всего человечества. Люциферианские энергии с
крайним напряжением, особенно в последнем столетии,
сгрудились в немецком народе — и вот, когда теперь нарыв
прорывается, все человечество в согласном порыве ощущает
всемирно-исторический катарсис.
Будем же дружно молить великого Бога браней, ныне
взявшего в крепкие руки Свои будущее всего мира и будущее
народа нашего, о двух вещах:
О том, чтобы славные войска наши своею духовною мощью
и великим покровом Пречистой опрокинули и погнали перед
собой бронированные немецкие рати.
О том, чтобы катарсис европейской трагедии был пережит
нами во всей глубине и чтобы мы навсегда преодолели не
только периферию зверских проявлений германской культуры, но
и стали бы свободны от самых глубинных ее принципов, теперь
разоблачающихся для тех, кто имеет очи видеть и уши
слышать.
^^^
* Борьба за Логос. М., 1911. С. 341—34515.
^5^
Β. Φ. ЭРН
Сущность немецкого феноменализма *
Моя речь «От Канта к Круппу» была посвящена вопросу о
непрерывности в развитии немецкой культуры. Она вызвала
много недоумений**.
Я не скажу, чтобы все недоумения были одинаково
обоснованы. Во всяком случае, некоторая часть их мне
представляется относительно справедливой. В краткой речи сколько-нибудь
исчерпать столь огромную тему, как связь философии Канта с
современным германством, — конечно, невозможно. Моя
задача была скромнее: я стремился лишь к постановке этой жгучей
темы и к обоснованию ее возможности. Мне кажется, цель эта
мною достигнута. Задача моей теперешней речи опять-таки
скромная и минимальная. Мне хотелось бы прибавить один
существенный штрих к картине, нарисованной в предыдущей
речи, и этот штрих будет заключаться в истолковании и
объяснении того феноменализма, который составляет ядро
теоретической философии Канта и который в своей односторонности
неизбежно приводит к Wille zur Macht1 и к блиндированным
мечтам о всемирной гегемонии. Кроме того, мне хотелось бы
сделать несколько маленьких замечаний, к одному из коих я
непосредственно и перехожу.
* Эта речь была произнесена в Петрограде 26 ноября и в Москве
29 января в Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе памяти
Вл. Соловьева. См. отчет в «Утре России» («Спор о германской
культуре». 1915. № 31).
** Евг. Адамов // Киевская мысль. Октябрь; Эфрос Н. Кант и Крупп //
Речь. Октябрь; Франк С. Л. О поисках смысла войны // Русская
мысль. XII; Рысс П. От Владимира Соловьева к Владимиру Эрну //
День. 27 ноября; Рубинштейн М. Виноват ли Кант? // Русск<ие>
вед<омости>. 1915. № 33) и т. д.
426
Β. Φ. ЭРН
I
Прежде всего, установление линии, идущей от Канта к
Круппу, есть чисто теоретический анализ. С анализом можно
не соглашаться, против анализа можно ссылаться на
«отрицательные инстанции» — но нельзя анализ рассматривать как
практическое посягательство на общепризнанные ценности.
Подумать страшно, до какого духовного рабства мы можем
дойти из самых возвышенных и мнимо либеральных побуждений,
если мы отвергнем право исследователя вынимать музейные
ценности даже самой высокой духовной культуры из-под
стеклянных колпаков и рассматривать их по существу, как живые
силы. Слишком скоро волнующиеся от такого испытательского
отношения к великим именам пусть успокоятся от следующего
простого различения. «Безумно» и «дико» войти в музей и
изрезать, например, «Весну» Боттичелли; и в то же время в высокой
степени разумно и совсем не дико подвергать дело Боттичелли
теоретическому анализу и утверждать, напр., что глубоко
искренен и пленительно задушевен он в картинах на темы античные
и манерен и религиозно бессилен в картинах на темы
христианские. Критика есть критика, и ставить пределы свободному
исследованию это значит решительно отказаться от настоящего
испытывания вещей, которое особенно опасно оставлять в
такие ответственные и такие подъемные эпохи, как наша.
Второе маленькое замечание исчерпывается упоминанием о
двух любопытных фактах. Через две недели после
произнесения речи «От Канта к Круппу» телеграф принес известие, что
философский факультет Боннского университета избрал
докторами honoris causa Круппа и директора крупповских заводов
Аусенберга. Моя речь как бы предвидела, т. е. предсказала, это
событие и обосновала его диалектически, а так как по самому
позитивному критерию истинного знания savoir c'est prévoir2,
то это предвидение необходимого философского затмения у
интеллектуальных верхов современного германизма должно
быть сочтено всяким беспристрастным человеком за косвенное
указание верности моих философских «вычислений», хотя бы
даже сразу они и не казались принудительно убеждающими.
Другой факт заключается в том, что, несмотря на открытую
полемику против моей основной мысли, такой вдумчивый и
осторожный писатель, как М. О. Гершензон, в своей статье «Уроки
войны» признается, что «в грубом и глупом материализме
немецких властей» «есть какое-то странное соответствие с
новейшими немецкими учениями по теории познания» 3. Под новей-
Сущность немецкого феноменализма
427
шими немецкими учениями по теории познания можно
разуметь прежде и больше всего имманентизм, риккертианство, ко-
генианство — т. е. школы неокантианские. Но школы
неокантианские исторически и формально связаны с Кантом, и, таким
образом, объективной логикой М. О. Гершензон вынужден
признать, что немецкие зверства, т. е. «Крупп» «имеет какое-то
странное соответствие» с Кантом, по крайней мере с тем
Кантом, который породил «новейшие немецкие учения по теории
познания». Если избрание Круппа доктором философии звучит
пикантно и для многих неожиданно, то и невольное признание
Гершензона не лишено острого и глубоко симптоматического
значения.
Перейдем теперь к разъяснению феноменализма.
II
Чтобы раскрыть сокровенный и корневой смысл
феноменализма, я прибегну к описанию его глубочайшей сущности в
терминах внутреннего опыта. Слова внутреннего опыта
понятны всем, и в то же время они составляют настоящее ядро самых
отвлеченных философских понятий, что все больше и больше
подчеркивают историки философии. Всякое познание есть
взаимоотношение субъекта с объектом. Субъект — это тот, кто
познает, объект — то, что познается. Иначе, субъект есть
активная форма познания, объект — формируемая материя. Как
активная форма субъект есть начало мужское; как
формируемая материя объект или действительность есть начало
женское*.
Мужское и женское могут вступать между собою в
многоразличные отношения. И иные из этих отношений нормальны,
естественны, энтелехийны, иные же — неестественны,
ненормальны, уродливо односторонни. Мужское может совершенно
не считаться с глубинной сущностью и внутренним бытием
женского, тогда мы будем иметь насилие мужского начала над
женским, некое внешнее порабощение женского начала. Во-
вторых, мужское начало, увлекаясь дурными сторонами
начала женского и льстя его губительным склонностям к
неопределенности и двусмыслию, может вступать с ним в недолжное
соотношение взаимного порабощения и взаимной связанности.
* Это понимание познания обосновывается в моей работе «Природа
мысли» (Бог<ословский> вестн<ик>. 19134.
428
Β. Φ. ЭРН
Если первый случай есть простое насильничество, то второй
случай может быть назван неодухотворенным донжуанством.
В-третьих, мужское и женское могут вступать в различные
формы земного брака, освященного Небом и в то же время не
изживающего ни всей глубины и тайны начала женского, ни
всей силы и энергии начала мужского. В этом случае женское
естество впервые опознается и признается в своей священной
сути и утверждается навеки в аспекте страдного и блаженного
материнства. В-четвертых, и это последнее и предельное
взаимоотношение, формы земного брака могут быть признаны
частичными и предварительными. Под их священными
покровами открывается новая и глубинная невестность женского
естества и влюбленность мужского, и подлинное и абсолютное
соединение между ними переносится в беспредельную заисто-
рическую сферу непостижимого брака Агнца с Церковью.
Было бы очень легко все виды соотношения между
познающим субъектом и познаваемой действительностью
расклассифицировать по только что набросанной схеме. Я же применю
эту схему лишь для разъяснения и раскрытия интересующего
нас понятия.
III
Феноменализм происходит от слова φαίνεσθαι, по-русски —
являться. Явление в нашем земном опыте есть пункт
соприкосновения или встречи познающего с познаваемым. Казалось бы,
эта встреча может быть мыслима по нашей схеме во всех
четырех возможностях. К сожалению, философия, которая
обыкновенно называется феноменалистической, с исключительным
фанатизмом замыкается в первые две возможности и знать
ничего не хочет о возможностях последних. Историческую силу
феноменалистическая философия получает в Новое время, и
здесь она имеет две формы: наивную форму английского
эмпиризма и французского энциклопедизма, которые изживают в
постепенном развитии различные виды преходящих,
легкомысленных связей между познающим субъектом и
познаваемою действительностью, и форму ученую, «критическую» в
философии Канта, которая с изумительным пафосом возводит
в перл создание конкубинат5 между познаваемой
действительностью и познающим субъектом и своим отрицанием самой
возможности нормальных отношений между «мужем» и
«женою» — узаконяет самые низкие формы блудных отношений,
Сущность немецкого феноменализма
429
вплоть до насильнического разрушения Реймсского собора
снарядами крупповских орудий.
Сущность Кантова феноменализма заключается в том, что
процесс частичного отрицания и меонизации познаваемой
действительности *, совершавшийся в философии XVII и XVIII
веков, находит у него решительное обострение. Познаваемую
действительность он объявляет всю и без остатка творимой и
созидаемой познающим разумом, непознаваемая же
действительность разрешается у него в чистую проблематичность, в
трансцендентальный Grenzbegriff6. Поскольку что-нибудь
познается, постольку оно создается, и вне разумного созидания
предмета не может быть никакого познания. In abstracto этим
дается гносеологическая формула и завет такого чистого на-
сильничества над действительностью, при котором
женственная сущность сущего начисто отрицается и не признается. Она
существует лишь как предмет овладения лишь для
осуществления конкубината и действительна только в нем и поскольку
он совершается. У Канта этот акт маскируется паутинными
формами чувственности и паучиными категориями, и все же
деревянный грохот схоластической терминологии и нарочитой
абстракции не может заглушить печального жужжания
попавшей в эти сети и умирающей в них действительности.
С большою гордостью Кант выставил притязание быть
третейским судьей между враждующими течениями
предшествующей ему философии. С непоколебимою уверенностью он
надел на себя цепь судьи и право или неправо, но произнес свой
решительный приговор. Различные нелады между субъектом и
действительностью, которые неизбежны были при
гносеологическом «донжуанстве» английского эмпиризма и картезианско-
лейбницианского рационализма, Кант, применяя всю полноту
судебной власти, решил раз навсегда прекратить формальным
провозглашением развода на веки вечные между разумом и
действительностью. Кант был слишком деспотичен, для того
чтобы покровительствовать «легкомысленным связям». С
другой стороны, он был слишком обуреваем традициями новой
философии, для того чтоб признать формы священного брака и
существенную невестность мира. Ему оставалась только одна
дорога: сделав постановление о запрещении брака, устремиться
к такому безбрачному овладению действительности, при
котором были бы исключены всякие моменты подлинного
соединения с объектом. Пафос Sturm und Drang'a7, как это ни странно,
О процессе меонизации ср. мою книгу «Борьба за Логос».
430
Β. Φ. ЭРН
нигде и никогда не достигал такого безграничного обострения,
как в Критике чистого разума. Это было абсолютно
«гениальное» предприятие. Если София Арну в духе времени называла
брак «таинством прелюбодеяния» 8, то Кант это изречение
универсализировал, вознес к снежным истокам национальной
мысли и отсюда напоил им многоводные реки дальнейшей
немецкой философии. Из судьи, сам того не замечая, Кант сделался
блюстителем совокупности отдельных наук. В этом бездушном
цикле отдельных обессмысленных дисциплин женственная
действительность в своих различных закрытых ликах
отдавалась на удовлетворение эротических стремлений научного
метода. Философ же в люциферическом «бесстрастии» занимался
магией первоначального созидания различных
ликов.действительности для работы над ними «научного метода». Вся
действительность, т. е. весь orbis scientiarum9 со всей
деятельностью в нем отдельных наук в последнем счете обратились таким
образом в марионеточное марево, вызываемое из не-бытия
всемогущей волей трансцендентальной апперцепции10, под коей,
как «под таинственной холодной полумаской»п, мелькают
знакомые черты исконного принципиального безбрачника и
абсолютного холостяка.
IV
Но, несмотря на эти строгие постановления, Кант не
оставлял своего романа с метафизикой. Он, в самом глубинном
замысле своем ее окончательно уничтоживший, не переставал о
ней говорить в терминах чрезвычайно странного
патологического эроса. Из этого эроса и возник целый ряд в корне
испорченных систем метафизики, из коих самая последняя и самая
грандиозная есть мечтательное восстание позитивнейшего с
виду народа на чудовищно-фантастическое предприятие.
Для меня несомненно, что неслыханное (Кант с полным
правом подчеркивает совершенную новизну своего дела)
искажение отношений между познающим субъектом и познаваемою
действительности не могло быть единоличным делом Канта,
несмотря на всю его исключительную гениальность.
Философия Канта была не чем иным, как литературной
транскрипцией тех сдвигов и перемещений, которые перед тем бытийствен-
но совершились в самых глубоких недрах немецкой нации.
Если мы укажем, в чем состояли эти сдвиги, мы разъясним
последний уследимыи мистико-исторический корень Кантова
Сущность немецкого феноменализма
431
дела, закономерно приведший к крупповским манифестациям
современного германизма.
Философии Канта в немецком духе предшествовало некое
глубинное расстройство того, что может быть названо половым
моментом национально-коллективной жизни. Отношения
между отдельным субъектом и действительностью могли вылиться
в классическую форму Кантовой философии только потому,
что в порядке исторического самоопределения немецкий народ
несколькими веками раньше возвел в догму аномалию
отвлеченной мужественности и отрицание положительной
женственной сущности. Через год после своего возвращения из Рима ав-
густинский монах Мартин Лютер со всей безудержностью, ему
свойственной, перерезал живое духовное питание немецкого
организма небесною женственностью Пресвятой и Пренепороч-
ной Девы-Матери, и с тех пор начались трагические
блуждания немецкого духа, через «Критику чистого разума»
пришедшего к современному гордому предприятию: чистым насилием
и одной лишь люциферической, отвлеченно-мужеской
техникой своей культуры захватить власть над народами и овладеть
Землей.
Вопрос, позволит ли Земля насильнику овладеть своею
святою сущностью,— и решается на полях сражения.
V
Среди возражений, которые мне пришлось читать о моей
мысли, одно поразило меня своею забавною серьезностью.
«В самом деле, — говорит г. Пасынков, — почему же Кант с
его туманностью и распыленностью, с его системою,
плавающей в "хоре стройном светил", с его ирреализацией земного,
предметного, стал вдруг и земным, и реальным». «Между
культурой Канта, глаза которого были устремлены к Плеядам,
и германским милитаризмом ничего общего не может быть» *.
Слова о «туманности» очень характерны. Их повторяет
другой «критик», г. Брусиловский. «Кант, — говорит он, —
вершина, с которой при всем обволакивающем ее тумане
расстилаются чудные, притягивающие дали...» **
Я не знаю, о каких горах говорит г. Брусиловский, о
трансцендентальных или действительных. Всякий, кто бывал в го-
* Сарацения//Бирж<евые> вед<омости>. 27 ноября.
* От Канта к Круппу//Речь. 1 декабря.
432
Β. Φ. ЭРН
pax, знает, что присутствие тумана уничтожает всякие дали.
Если туман редок и легок, остается виден лишь ближайший
передний план. Если тяжел и густ, то не видно уже ничего.
Эллины глубоко понимали опасную сущность «тумана». Когда
Иксион в святотатственном порыве захотел овладеть Герою,
Зевс подсунул ему богиню Нефелу (Облако), и от этого
любопытного брака родилось чудовище — Кентавр. Я не спорю
против того, что вершина Кантовой мысли действительно покрыта
туманом, но, если мы не предпишем себе, чтоб наше
рассмотрение кантовского тумана заволакивалось туманом и само было
туманным, мы не должны особенно удивляться тому, если
диалектическое исследование вместо риторических «далей»
увидит в вершине Кантовой мысли те самые мрачные пещеры,
наполненные туманом, в коих зародился чудовищный Кентавр
современного германизма. И тогда многочисленное потомство
этого кентавра — мелкие blonde Bestien12 — окажутся в
ближайшем духовном родстве с туманной вершиной немецкой
мысли.
Чтоб покончить с туманом г. Брусиловского и перейти к
Плеядам г. Пасынкова, я скажу, что сущность кантовского
«тумана» как раз и состоит в ирреализации земного. Меонизация
внутреннего и внешнего опыта, уничтожение светлых,
расчленяющих и организующих онтологических форм
действительности, свойственное глубочайшему духу философии Канта, и есть
не что иное, как фабрикация меонической туманности, в себе
самой несуществующей и в то же время поглощающей все
существующее. Насильственный процесс ирреализации земного
по светлым законам Олимпа бросает в объятия ирреализирую-
щего тот самый туман (или «Нефелу»), из которого рождается
меонический монстр — германский милитаризм. Сама же
немецкая мысль ввергается в огненное вращение Иксионова
колеса13.
Что же касается до Плеяд, на которые устремлен был взор
Канта, то одно простое упоминание их ровно ничего не
доказывает. Кант с пафосом говорит о звездном небе, но вряд ли
найдется другой философ, который бы с такою силою, как Кант,
обездушивал и обессмысливал звездное небо. Вечную славу
звездных пространств, священно переживаемую древностью,
Средними веками и православием, стали расхищать философы
Нового времени, и это расхищение до предела своего было
доведено именно Кантом. Для Канта звездное небо — только
явление чувственности, только голый феномен, беспредельная,
холодная пустота, астрономическая карта. Если бы его действи-
Сущность немецкого феноменализма
433
тельно волновало звездное небо и он чувствовал его священную
значительность и его горний, внутренний смысл, он должен
был бы отринуть туман, который вырастал из его
феноменализма и чрез который он попадал в объятия Нефелы. От
созерцания Плеяд ничего не родилось в философии Канта, а от
вершинного «тумана» — весь запутанный железный ее остов, с
которого начинается господство германской идеи в истории.
А. Белый остроумно подчеркнул несовместимость звездного
неба и феноменализма.
Вдали иного бытия
Звездоочитые убранства...
И вздрогнув, вспоминаю я
Об иллюзорности пространства14.
VI
Теперь, в заключение, позвольте мне сделать еще одно
небольшое последнее замечание, которое (если только оно будет
услышано!) должно установить правильную перспективу на все
вышесказанное.
Я старался установить линию от Канта к Круппу; я указал
мимоходом, что у Канта есть предки: Экхарт, Лютер, Бёме. Эту
линию я рассматриваю как магистраль, т. е. как большую,
широкую и торную дорогу в историческом развитии и в
историческом выявлении германского начала. Но магистралью,
имеющей огромное и первенствующее значение для внешней
судьбы народа, ее прокладывающего, отнюдь не исчерпываются
все пути духа в том же самом народе. Кроме указанной
магистрали мы имеем еще в немецком народе иные линии духовного
развития и иные преемства. Эти линии исторически
малодейственны и тем не менее полны внутренней глубочайшей, я бы
сказал, вселенской значительности. Я имею в виду прежде
всего чистейшую не только в классическом, но и религиозном
смысле линию старой немецкой музыки, а затем светлые
вершины немецкой поэзии: Шиллера, Гете, Новалиса.
Мне не хотелось бы, чтоб моя духовная борьба против
магистрали: Экхарт, Кант, Крупп, была ложно истолкована как
отрицание только что упомянутых благороднейших линий в
манифестациях германского духа. Моя вражда не против
субстанции немецкого народа, а против его дурной, чудовищной
модальности, в которую он оказался теперь вовлеченным своим
70-миллионным составом. И я хочу надеяться, что победа Рос-
434
Β. Φ. ЭРН
сии будет не простым сокрушением германского могущества,
но и освобождением лучших сторон немецкого духа из-под ига
тяжелой, сокрушительной магистрали. Я верю, что и здесь
должна проявиться с особым духовным сиянием освободительная
миссия православной России. Наше чудесное воинство, подобно
своему святому патрону — Георгию Победоносцу, — должно
поразить насмерть германского Дракона лишь для того, чтобы
освободить его пленниц; среди же пленниц этих находятся не
только народности, порабощенные тевтонским засилием, но и
порабощенная магистралью, отдавшаяся Люциферу и духам
злобы поднебесной душа самого германского народа.
^^^
^^
Β. Φ. ЭРН
О Царьграде
ι
В 1878 году Достоевский писал: «Рано или поздно
Константинополь будет наш». — «Да, Золотой Рог и
Константинополь — все это будет наше... И во-первых, это случится само
собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло
еще и теперь, то, действительно, время уже близко; все к тому
признаки; это выход естественный, это, так сказать, слово
самой природы» *.
Эти слова нельзя назвать пророческими. Это просто
глубокое чувствование назревших задач и великих путей России,
такое глубокое, что Достоевский утеривал связь с
современниками. Нужно было почти четыре десятка лет для того, чтобы
предвосхищение Достоевского стало одеваться плотью и
кровью и становиться понятным и действенным на большой дороге
истории. И еще был один человек — Тютчев, который
проникал так же глубоко, как и Достоевский, в самое острие
Восточного вопроса, и так же глубоко оставался непонят и даже
осмеян современниками и ближайшими поколениями.
И вот то, что с позором было заклеймено как фантастика и
мечтания, в наши дни вдруг, «вулканически», становится
самым жгучим вопросом нашей реальной политики. События
*сами собою», как и предчувствовал Достоевский, слагаются
так, что вопроса о Константинополе мы теперь миновать уже не
смогли бы, не смогли бы, даже если бы захотели. Уже не мы
ставим вопрос, а сам ход истории повелительно тянет нас к
ответу и к немедленному действенному, фактическому
разрешению огромной вековой проблемы. И в связи с изменившимися
историческими условиями вопрос о Константинополе интересу-
436
Β. Φ. ЭРН
ет теперь не одних «пророков» и не одних поэтов. О Босфоре
и Царьграде читаются многочисленные лекции «реальными»
политиками различных партий и направлений, так что по
вопросу о Константинополе начинает формироваться русское
общественное мнение, которое заключает в себе такую большую
силу и такую властность, что Англия и Франция, все прошлое
столетие мешавшие России овладеть Константинополем,
теперь решились уступить и признать ошибочность своих
прежних страхов и своей прежней политики.
И опять тысячу раз прав Достоевский, и опять торжествует
глубина его художественно-религиозного зрения. Кругом него
слышался насмешливый шепот. У всех перед глазами была
Европа, Европа, сплоченная глухой враждою к России.
Достоевскому говорили: «Большинство европейских держав не позволит
России подойти к Царьграду». «Но что такое большинство
европейских держав? — спрашивал Достоевский. — Определимо
ли даже оно в настоящую минуту? Все считают Европу...
Европой, т. е. такой же Европой, какой была она с разными
вариациями во все столетие... Между тем как Европа с часу на час не
та становится теперь, что была даже назад тому полгода... Дело
в том, что мы именно накануне самых величайших и
потрясающих событий и переворотов в самой Европе, и это без всякого
преувеличения (курсив подлинника). Да, Европу ждут
огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается верить
в них, считая осуществление их как бы чем-то
фантастическим» 2.
Пусть Достоевский ошибался в деталях. Но у него было
глубочайшее постижение, которое отделяло его от современников:
он видел в Европе катастрофические линии ее генезиса и
становления, он смотрел на Европу с чувством совершенной
самостоятельности планетных путей России и, проникая в
подземные силы Европы, понимал, что сама Европа представляет из
себя вулкан и в своих собственных недрах таит величайшие
неожиданности и «невероятные» перевороты.
Вот это-то чувство и было «гениальным» у Достоевского. Он
не обманывался статическою внешностью европейской
истории, видимою «благоустроенностью» Европы и ее видимым
«благополучием». Ему совершенно чужда была та повальная
тоска о Европе, которая царила не только среди его
современников, но царит еще до сих пор. Он вышел один в поле и
победил. «Величайшие и потрясающие события», которых ждал
он, случились. Мы увидели их теперь собственными глазами.
Европа разделилась, раскололась, распалась надвое. Сплочен-
О Царьграде
437
ное большинство европейских держав стало друг против друга
враждебными, непримиримыми лагерями. Германия восстала
на Европу, в Европе восстали на Германию. Этот потрясающий
раскол внутри Европы поставил Европу в новые и
неожиданные отношения к России. Все, что было честного,
онтологического, религиозного в Европе, оказалось вдруг другом России.
Франция, Англия и Бельгия внутренно, по правде и совести,
оказались подлинными союзницами России в мировом
столкновении, и... прорицание Достоевского у всех на глазах стало
близиться к осуществлению.
Новая группировка сил и новые мировые отношения
диктуют солидарность Англии и Франции с Россией в вопросе о
Константинополе и проливах. Борьба слишком грандиозна, и
участие России слишком решающе в военных действиях, чтобы
теперь кто-нибудь стал мешать нам вступить в новый,
долгожданный период нашей истории...
II
Для чего же нам нужен Константинополь? Многие говорят,
что нам нужен, собственно, не Константинополь, а проливы,
причем некоторые добавляют, что без Константинополя
владение проливами недействительно, и потому с проливами мы
должны получить и Константинополь. Рассуждение вполне
правильное, поскольку в нем подчеркивается неразрывная связь
Константинополя с проливами и уничтожается странное, кое-
где встречающееся мнение о том, что мы можем
удовольствоваться одним Константинополем без проливов.
Настаивающие на проливах имеют в виду главным образом
экономическую необходимость для России свободного выхода к
мировым торговым путям. И нужно сказать, что выход этот
действительно нам необходим. Россия не может остаться без
этого выхода. Ее колоссальный организм начнет задыхаться от
отсутствия мировых просторов. Нужно подчеркивать это без
конца и перед русским общественным мнением, и перед
нашими союзниками. Для того чтобы не вышло потом никаких
недоразумений и никаких новых столкновений, все должны знать,
что Россия бесконечно тверда и сознательна в своем желании
овладеть Царьградом, что она вся от низов до верхов
понимает, что теперь наступает решительный момент, и тогда перед
огромной и авторитетной силою народного нашего решения,
несомненно, должны будут смолкнуть все силы, которые глухо
438
Β. Φ. ЭРН
и тайно хотели бы воспрепятствовать нашему правому
движению к Босфору и Царьграду.
И все же решающим моментом для нас является не
экономическая необходимость и даже не политические цели,
открывающиеся с Царьграда, а нечто гораздо более высокое и
императивное. Русский народ, по основной и глубочайшей вере своей,
никогда не может признать первенства низших стихий жизни
над высшими, первенства политики и экономики над
последними духовными целями своего существования. Владение Царь-
градом может получить высшую повелительность, которая
заставит замолчать всех наших противников лишь в том случае,
если в своем движении на Босфор мы не изменим святыне
народной веры и не извратим должных и нормальных отношений
между высшим и низшим, между относительной правдой
наших политических и экономических потребностей и
безусловными велениями нашего духовного призвания.
И опять это прекрасно понимал Достоевский. Он говорил:
«Константинополь должен быть наш не с одной только точки
зрения знаменитого порта, пролива, "средоточия вселенной",
"пупа земли"; не с точки зрения давно осознанной
необходимости такому огромному великану, как Россия, выйти, наконец,
из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка,
на простор, дохнуть вольным воздухом морей и океанов». «Не
один только великолепный порт, не одна только дорога в моря
и океаны связывают Россию столь тесно с решением судеб
рокового вопроса, и даже не объединение и возрождение славян...
Задача наша глубже, безмерно глубже. Мы, Россия,
действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного
христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле,
для единения его. Одним словом, этот страшный восточный
вопрос, это — чуть ли не вся судьба наша в будущем. В нем
заключаются как бы все наши задачи, и, главное,
единственный выход наш в полноту истории. В нем и окончательное
столкновение наше с Европою, и окончательное единение с нею,
но уже на новых, могучих, плодотворных началах».
III
Трудно наметить лучше основные линии духовных задач
и высших духовных целей, связанных для России с Царьгра-
дом. Достоевский в немногих проникновенных словах сказал
все, что нам нужно знать и чувствовать о Царьграде. Расшиф-
О Царьграде
439
ровать его мысли в свете величайших потрясений настоящей
войны уже не трудно.
Овладение Царьградом, если оно осуществится, будет
означать для нас, во-первых, конец петербургского периода нашей
истории, во-вторых, новое, синтетическое отношение к
Западной Европе. И эти два факта стоят в полнейшей связи друг
с другом и внутренне друг друга обусловливают.
Можно сказать, петербургский период нашей истории уже
кончился, кончился 19 июля, в момент, когда Германия
объявила нам войну. В общем небывалом подъеме, под грохот
сражений родилось новое чувство России — чувство новой России.
То «средостение» между народом и властью, которое было
отличительной чертой петербургского периода и уничтожить
которое не в силах было «освободительное движение»,
проникнутое лозунгами отвлеченного западничества, — разом рухнуло.
Власть во всех своих торжественных актах и в воззвании к
Польше, в отмене продажи вина, в твердой решимости до
конца понести бремя колоссальной борьбы, — оказалась в
чудесной гармонии с глубоким самоопределением народной воли.
Народ, без различия сословий и состояний, даже без различия
политических мнений и группировок, жертвенно принял и
понял войну как свое собственное дело, и от этого все основные
факты русской жизни с 19 июля текут в существенно новом,
непетербургском русле, и никакие силы не могут вернуть этой
грандиозной реки вспять в старое русло. В одном действии,
запечатленном кровью и подвигом, Россия явила свою
всенародность, свою внутреннюю и органическую объединенность; все
наблюдатели в один голос говорят: «Эта война народная», и
серые солдатские массы, блестящее офицерство, высший
командный состав, земские и городские организации и, наконец,
мирный тыл всего этого громадного дела в каком-то решительном,
незабываемом опыте почувствовали взаимную обусловленность
и внутреннее единство всех разрозненных прежде сторон и
«углов» русской земли. Словом из «Петербургского периода» мы
уже вышли, — вынесла нас история; мы можем дальше идти
лишь вперед, а впереди, как «единственный выход наш в
полноту истории», — перед нами Царьград.
Царьград для нас прежде всего символ всестороннего
духовного творчества. Глубочайший опыт войны, кончая со старым,
должен быть началом созидания новых свободных форм жизни,
адекватных этому опыту. Святыня народной веры и народных
гонений должна определительно повлиять на всю совокупность
жизненных отношений. Не только в политике и экономике, не
440
Β. Φ. ЭРН
только в социальных отношениях, но и на вершинах культуры,
устремившейся ко вселенности, должны занять решающее
положение духовные особенности нашего народа, который до сих
пор опекали, учили, «пропагандировали», но с внутренним
голосом которого считались очень мало. Если Царьград станет
нашим, в нем начнется подлинно народный период нашей
истории.
IV
И это стоит в самой тесной связи с нашим новым
отношением к Европе и новым отношением Европы к нам. И
эти.отношения тоже уже родились в вихре военных потрясений.
Разделившись надвое, Европа одной стороною своею стала против
нас, как ожесточеннейший враг, который заставляет нас
делать военные потрясения таких масштабов, каких доселе не
знала наша история. Другою же стороною Европа внутренно
сошлась с нами в искренности и в той глубокой солидарности,
каких тоже доселе не знала наша история. Впервые Европа
стала видеть Россию в ее истинном виде, а Россия впервые
может опереться твердо на Европу и делать вместе с нею единое
дело. Словом, мы имеем налицо то, что Достоевский называл
«и окончательным столкновением нашим с Европою, и
окончательным единением с нею». Впрочем, «окончательное
единение» для нас лишь пока начинается, мы только вступаем в
него, и для того чтобы оно протекало «на новых, могучих,
плодотворных началах», нужно, чтобы внешнее русло нашей
истории переместилось, и тут Царьград опять должен сыграть
громадную роль.
Культурно, религиозно, исторически и географически Царь-
град есть тот пункт, в котором встречаются Восток и Запад.
Петербургский период, совершенно необходимый в нашей
истории как период подготовительный, создал у нас уродливое
отношение к Западу. Запад брался отвлеченно, вне его онтологии,
вне его религиозных основ. Мы учились преимущественно у
того Запада, с которым сейчас находимся в смертной борьбе.
Кроме наших отечественных захолустьев мы ухитрились
создать особый, тоже чистороссийский, западнический
провинциализм, который у нас имеет большое распространение в
интеллигентских массах. Мы брали Запад в его провинциальности, в
его местных и временных ограничениях, в его частных, иногда
глубоко «приватных» моментах и универсализировали заим-
О Царьграде
441
ствования, превращая их во вселенские нормы-законы,
которым должны повиноваться небо, земля и преисподняя.
Царьград потребует от нас преодоления нашего болезненного
отношения к Западу. То новое, что уже родилось в настоящей
войне, должно развиться, углубиться и окрепнуть. Запад и
Восток должны встретиться в Царьграде своими глубочайшими
религиозными руслами, встретиться творчески во
взаимоочищении и во взаимовосполнении. Только тогда разрешится
славянский вопрос и, в частности, реализуется во внешних планах
истории наше действительное примирение с Польшею. В Царь-
граде Запад будет столько же давать, сколько и получать,
столько же учить, сколько поучаться, столько же напоминать о
себе, сколько и вспоминать себя самого. Чтобы сказать одним
словом: в Царьграде должен произойти мировой Симпозион
между Востоком и Западом, и только если случится он,
сможем мы повторить ответственнейшие слова Достоевского:
Царьград «единственный выход наш в полноту истории*, а
так как «полнота истории» ожидается и постулируется всею
стенающею тварью, то выход этот не человеческая только идея,
а «слово самой природы*.
<^^s>
€^^
С. Л. ФРАНК
О поисках смысла войны
Мировая война, которая была навязана русскому
государству извне, против его воли, еще в гораздо большей мере
явилась неожиданностью для общественного мнения и в известном
смысле застала врасплох сложившееся и господствовавшее
умонастроение интеллигентных кругов общества. В Германии
общественное мнение десятилетиями упорно и систематически
воспитывалось в идее войны, в понимании необходимости и
национальной важности войны; едва ли не для всех без
исключения немецких граждан — начиная с детей, у которых «игра
в солдатики» была поставлена как серьезное воспитательное
дело, и кончая множеством ученых и общественных деятелей,
сознательно посвятивших себя пропаганде расширения
военного могущества страны, — идея войны была идеей привычной,
понятной, популярной, укорененной в самих основах
миросозерцания; и события показали, что и резко оппозиционные
круги немецкого общества в этом отношении не составляли
исключения. Совсем иначе в России. По множеству причин, которых
мы не будем касаться, война представлялась среднему русскому
мыслящему человеку чем-то ненормальным,
противоестественным, несовместимым со всеми привычными идеями и потому
чем-то почти невозможным. Тревожные признаки сгущения
политической атмосферы все же не ощущались во всей их грозной
реальности, и мысль, что внезапно могут исчезнуть все
привычные, казалось бы, вечные формы мирной культурной жизни и
смениться ожесточенной и беспощадной международной
резней, казалась чем-то почти столь же невероятным, как
столкновение земли с кометой.
К счастью для нас, эта неподготовленность нашего
интеллектуального миросозерцания к войне не имела никаких
практически вредных последствий, ибо она была отодвинута куда-то
О поисках смысла войны
443
на задний план и лишена действенного значения другим,
внезапно и со стихийною силою пробудившимся началом нашей
духовной жизни: здоровым инстинктом национального
сознания, непосредственным единодушным порывом национальной
воли. Независимо от всех наших рассуждений и мыслей эта
война сразу и с непоколебимой достоверностью была
воспринята самой стихией национальной души как необходимое
нормальное, страшно важное и бесспорное по своей правомерности
дело.
Но это разногласие между непосредственным национальным
чувством и господствующими понятиями нашего
мировоззрения — разногласие, духовные плоды которого вряд ли еще
сказались тецерь во всей своей значительности, — поставило нас
перед насущно необходимой и для большинства мучительно-
трудной задачей идейного оправдания войны, отыскания ее
нравственного смысла. Мы не хотим этим сказать, что самый
вопрос об «оправдании войны» объясним только из этой
психологической обстановки. Указанные психологические условия
объясняют лишь, почему этот вопрос именно в России
вызывает повышенный интерес и мучительно переживается весьма
широким кругом людей. С объективной точки зрения вопрос
этот сохраняет свою значительность, есть подлинная историко-
философская проблема, конечно, совершенно независимо от
того, по каким причинам он привлекает к себе внимание.
Нижеследующие краткие соображения, навеянные
значительными и интересными размышлениями о «смысле войны»,
высказанными членами московского Религиозно-философского
общества1, не имеют своей задачей дать какое-либо
окончательное решение существа вопроса о «смысле» переживаемых
нами мировых событий. Они имеют гораздо более скромную
цель — наметить некоторые общие условия правильного
решения и тем предостеречь от односторонних или неправомерных
его освещений.
Вопрос об оправдании войны, об ее объективном,
общечеловеческом смысле заключает в себе одну коренную антиномию,
одно необходимое сплетение разнородных и сталкивающихся
мотивов. Оправдать войну значит доказать, что она ведется во
имя правого дела, что она обусловлена необходимостью
защитить или осуществить в человеческой жизни какие-либо
объективно-ценные начала. Но объективно-ценные значит: ценные
одинаково для всех. Таким образом, оправдать войну значит
найти такие ее основания, которые были бы обязательны для
444
С. Л. ФРАНК
всех. Но так как война начата и ведется каждой из борющихся
сторон, очевидно, по противоположным мотивам, так что
фактически одна сторона считает благом то, что для другой
представляется злом, то найти оправдание войны значит для
каждой из борющихся сторон усмотреть истину на своей стороне и
ложь — а тем самым злую или, по крайней мере, ослепленную
волю — на стороне противника. Если бы речь шла об
относительной правде, об оправдании с точки зрения своих частных
интересов, то дальше не о чем было бы и говорить. И есть
многие люди, которые сознательно останавливаются на такой
относительной точке зрения и искание абсолютной истины в этом
вопросе считают или «метафизикой» в дурном смысле слова,
или даже отсутствием непосредственного, здорового
патриотического чувства. Каждая сторона защищает свои интересы, и
для каждой ее интересы суть бесспорное, самоочевидное,
абсолютное благо, а все прочее — одни пустые разговоры. Такая
точка зрения имеет в себе некоторую долю истины. Ее
моральная ценность состоит в том, что она именно отграничивает
относительную правду от абсолютной, т. е. что она очищает
эгоизм от ложного ореола абсолютной ценности, который ему
часто придается, и подчеркивает возможность отстаивать свои
интересы, сохраняя уважение к противнику, без обязательного
слепого самопревознесения и поношения врага. Однако именно
действенно на такой точке зрения устоять невозможно. Без
веры в абсолютную, объективную нравственную ценность, а не
только относительную, утилитарно-эгоистическую ценность
своей цели психологически невозможны ни то самоотвержение
и напряжение действенной воли, которое необходимо в столь
трудном и мучительном деле, как война, ни — что еще
важнее — моральная ответственность за участие в бедствиях,
которые несет с собой война. Поэтому действенно этот
скептический релятивизм необходимо превращается в свою собственную
противоположность; мысль об относительности оценки
исчезает из сознания, воля целиком сосредоточивается на интересах
только своих, приписывает им абсолютное значение, и тогда
возникает та готтентотская мораль, для которой своя польза
есть уже тем самым, без всяких особых оправданий,
абсолютное благо, а чуждая польза — абсолютное зло. Нет надобности
разъяснять противоречивость этой позиции. Как можно
требовать от противной стороны отказа от защиты ее эгоистических
интересов, раз эгоизм возведен в объективный принцип?
Очевидно, оправдание войны не может опираться на чьи-либо
частные интересы, а должно опираться на интересы или блага об-
О поисках смысла войны
445
щечеловеческие, которые одинаково ценны и обязательны для
всех. Оправдать войну можно, лишь приведя такие аргументы,
с которыми противник обязан был бы согласиться. Конечно,
фактически, т. е. психологически, нет надежды добиться
общего признания для какого-либо оправдания войны. Очевидно, во
время самой войны сознание одной стороны — той именно,
которая заблуждается, — будет в плену этого заблуждения и
будет невосприимчиво к истине. Но это нисколько не меняет того,
что истина сама по себе в этом вопросе, как и всюду, только
одна, т. е. одинакова для всех. И эта истина восторжествует,
когда пройдет пора ослепления. В ожидании этого времени
каждая из сторон имеет право веровать в свою правоту,
поскольку она искренно убеждена, что добросовестно и
беспристрастно обсудила вопрос. Но действительная, подлинная
истина, конечно, только одна, и мы с своей стороны верим и
убеждены, что она именно на нашей стороне, что именно мы,
а не наши противники, боремся за правое дело и за
уничтожение зла.
Но тут именно возникает трудность, в силу которой и
обнаруживается тот антиномизм в проблеме оправдания войны, о
котором мы выше говорили. Если оправдать войну значит
показать, кто в ней прав и кто виноват, кто является
выразителем начала добра и кто — начала зла, то в какой мере и в
каком смысле нация вообще может признать себя как целое
носителем злого начала, подлежащего уничтожению? Мы
говорим «может» опять не в психологическом смысле. Мы ставим
вопрос: может ли, с объективно-нравственной стороны, нация
признать себя выразителем зла, т. е. есть ли вообще такое
положение, в котором нация обязана и вправе прийти к такому
выводу? Поскольку при этом имеется виду, что нация должна
признать себя как целое, т. е. само существо своего бытия и
своей воли, злом, подлежащим уничтожению, поставленный
вопрос, очевидно, допускает только отрицательный ответ. Если
уже отдельный человек не имеет не только обязанности, но и
права уничижать себя, признавать свое бытие, самое
субстанцию или энтелехию своей жизни злом и мириться с своим
уничтожением, то тем более — целая нация. Не только
фактически, но и морально нация не может считать свое бытие
недоразумением, признать своеобразие своей жизни и воли,
создающее из нее именно особую нацию с своими особыми интересами
и оценками, злом, не находящим оправдания перед лицом
общечеловеческой правды. Это, по-видимому, ясно само собой
и не требует особых доказательств; однако это положение в из-
446
С. Л. ФРАНК
вестном смысле сталкивается с задачей объективного
оправдания войны, из которого вытекает, что одна сторона — именно
неправая — обязана признать свое дело, свою национальную
волю неправой.
В этом именно и заключается та антиномия в проблеме
оправдания войны, которую мы хотели отметить. Эта
антиномия, конечно, не неразрешима, т. е. не есть в строгом смысле
слова антиномия. Но она указывает на сплетение в этой
проблеме разнородных нравственных мотивов, и из нее явствует,
какое решение проблемы заранее должно быть признано
ложным. А именно всякое оправдание войны, смысл которого
сводится к тому, что сама сущность одной из борющихся сторон
признается выражением абсолютного блага, а другой —
выражением абсолютного зла, заранее должно быть признано
ложным. В этом, думается нам, основной дефект той
славянофильской концепции войны, которая развита преимущественно в
речах С. Н. Булгакова и В. Ф. Эрна. Мы оставляем здесь в
стороне все побочные вопросы. Мы не касаемся даже легко
напрашивающегося недоумения, каким образом война, в которой на
нашей стороне стоят Франция и Англия, может еще быть
охарактеризована как борьба России с Западом или — в отношении
аналогичной философской концепции Эрна — аналогичного
сомнения: если источник зла, с которым мы боремся в этой
войне, есть «имманентизм» и «феноменализм» германской мысли,
то как нам быть с родственными течениями позитивизма и
эмпиризма у наших союзников, Англии и Франции? Мы вообще
исключаем из обсуждения все партийные, публицистические и
философские споры, как бы они важны ни были сами по себе.
Мы берем это «славянофильское» построение лишь в его общем
замысле. По существу речь Эрна, кстати сказать, даже не
соответствует ее эффектному заглавию: «От Канта к Круппу»; она
должна была бы называться «от Майстера Экхарта и Лютера к
Круппу». А это значит: «от существа немецкой национальной
культуры — или, как говорит Эрн, от германской идеи — к
Круппу, т. е. ко всему злу современной Германии». Мы опять
оставляем в стороне всю историческую, научную — выражаясь
мягко — сомнительность этого построения, например,
необъяснимость с этой точки зрения, почему именно теперь, через
шестьсот лет после Майстера Экхарта, впервые обнаружилось
на практике зло, корни которого имеют такую долгую историю.
Мы обращаем внимание только на одно: вывод из этого
понимания — все равно, высказывается ли он, или не
договаривается — сводится к признанию, что тем злом, против которого мы
О поисках смысла войны
447
боремся в этой войне и которое хотим одолеть, является само
существо немецкого духа, немецкого гения. Может ли такое
понимание вообще быть объективно-истинным? Независимо
даже от того, что никакая война, сколь бы успешной ее ни
мыслить, не может истребить ни самого немецкого народа, ни тем
самым его национального лица, — такое понимание в
религиозном смысле кощунственно; оно означает осуждение, признание
негодным самих основ национального бытия, тогда как всякое
национальное бытие — как и бытие индивидуальной
личности — в своих последних корнях, в самом своем бытии должно
мыслиться одним из многообразных проявлений Абсолютного.
Такая концепция, которая находит источник зла в самой
основе национального духа противника, не может быть ничем
иным, как ложной абсолютной санкцией своего субъективного
пристрастия; для противника она неизбежно неубедительна,
ибо никто не может и не должен отречься от себя, признать
злом свою национальность как таковую. Более того: для немцев
не могло быть лучшего оправдания, чем уяснение, что их
поведение, теперешнее направление их воли и сознания
непосредственно обосновано в существе их национального
миросозерцания и религиозно-нравственного сознания: ибо перед каждой
нацией, как перед личностью, стоит высший завет:
«осуществляй самого себя»!*
* Нужно отметить, что в публичной лекции на ту же тему,
прочитанной в Петрограде 25 ноября2, В. Ф. Эрн внес значительное
дополнение, которое существенно изменяет самую его мысль. Наряду
с основным течением «германской идеи», против которого он
восстает, он отметил и совсем иное направление, назвав его
представителями Гете и Новалиса, и даже объявил борьбу с «имманентиз-
мом» борьбой за освобождение германской души. Это дополнение,
однако, обязывает к весьма радикальной переработке всего
замысла историко-философской концепции Эрна. Прежде всего, «имма-
нентизм» оказывается совсем не тождественным с «германской
идеей» как таковой. Затем пришлось бы существенно изменить
генеалогию, а отчасти и оценку этого направления: напомним лишь,
что Новалис считал себя последователем Бёме, которого Эрн
считает предшественником Канта — и тем самым Круппа. Не вдаваясь
по существу в обсуждение возникающих здесь сложных вопросов,
мы ограничиваемся здесь одним только выводом: если Бёме мог
породить и Канта, и Новалиса (как и Шеллинга), то это значит,
что «имманентизм» может быть обозначением самых разнородных
умонастроений — от глубочайших религиозно-мистических
умонастроений до чистого безрелигиозного позитивизма и
«феноменализма». Если принять во внимание вытекающие отсюда необходи-
448
С. Л. ФРАНК
Вывод, вытекающий отсюда, ясен сам собою: отыскание
смысла войны, в чем бы оно ни заключалось, должно быть
подчинено общему требованию, чтобы та правда, во имя которой
ведется война, была действительно общечеловеческой, равно
необходимой не только нам, но и нашему противнику. Мы
должны понимать эту войну не как войну против национального
духа нашего противника, а как войну против злого духа,
овладевшего национальным сознанием Германии, и — тем самым —
как войну за восстановление таких отношений и понятий, при
которых возможно свободное развитие всеевропейской
культуры во всех ее национальных выражениях. Мы должны искать
идею войны только в том, что смогут и должны будут признать
и сами наши противники, когда у них раскроются глаза и они
поймут то заблуждение мысли и воли, в которое они впали.
Это, конечно, не значит, что нельзя искать более глубоких
исторических и духовных корней этого заблуждения, что
явления зла, которые воочию обнаруживает современная Германия,
должны быть признаны историческими случайностями или
ответственность за них должна быть возложена только на
отдельных людей. Нет, это есть несомненно злая воля, за которую
ответственна вся нация и не только в ее нынешнем поколении.
Проследить духовные источники этой злой воли не только
исторически интересно, но и практически необходимо для
осознания подлинного смысла передаваемых событий; в речах В.
Иванова и кн. Е. Трубецкого с разных точек зрения, но в общем,
думается нам, одинаково правильно намечены духовные
источники этого зла. Но эти источники — как бы глубоко они ни
были заложены — не могут быть тождественны с корнями, с
метафизической основой национальности нашего врага. Это
немые поправки, то мысль Эрна можно было бы редактировать так,
чтобы она заключала несомненную долю истины; ибо источник
современного зла германской культуры заключается в
идолопоклонстве, в обожествлении земных интересов и ценностей, а источник
этого идолопоклонства заключен в соединении религиозного
инстинкта с безрелигиозным позитивистическим миросозерцанием;
и поскольку Кант (но во всяком случае не Экхарт и Бёме!)
соучаствовал в воспитании этого противоестественного умонастроения,
позволительно связывать его с уродствами современной немецкой
общественной мысли. Но и эта связь требовала бы еще
существенных оговорок! — Существенный, сложный и тонкий вопрос о
духовных корнях современного германского умонастроения, надеемся,
еще будет подвергнут обсуждению на страницах «Русской
мысли».
О поисках смысла войны
449
возможно уже потому, что эта метафизическая основа, как и
произрастающая на ней многосложная национальная культура,
никогда не может быть сведена к какому-либо одному
направлению, выражена в одной формуле. Все вообще попытки
логического определения сущности национального духа
рационализируют сверхнациональную полноту бытия и тем незаконно ее
суживают. И поскольку корни национального бытия
выражаются в своеобразном, присущем нации, религиозном
умонастроении, последнее как таковое, т. е. по своему общему духу,
тоже не может быть просто заблуждением и злом. Всякое общее
религиозное умонастроение, имеющее многовековые традиции
и выросшее из самой души народа, необходимо заключает в
себе некоторую относительную, частную правду и потому не
может само по себе быть признано ответственным за злую волю
нации. Поэтому источники зла в национальной жизни должны
всегда мыслиться лишь как заблуждения, в которые впала
нация, как ложный путь, по которому она пошла и необходимый
отказ от которого впервые вернет нацию к тому, что есть в ней
истинного и в подлинном, внутреннем смысле жизнеспособного.
«Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident!»3 Эти слова
немца Гете мы можем спокойно повторять, ибо этот немец —
не наш враг. Скорее наоборот: мы несем на нашем знамени эти
слова против современной Германии, вина которой, быть
может, в том и состоит, что она забыла эти слова, потеряла
всякое понимание религиозного мировоззрения, из которого они
истекают, и, отрекшись от своих великих мудрецов, предалась
соблазну безыдейного и безрелигиозного национального
самомнения. Война идет не между Востоком и Западом, а между
защитниками права и защитниками силы, между хранителями
святынь общечеловеческого духа — в том числе и истинных
вкладов в него германского гения — и его хулителями и
разрушителями. Лишь в этом сознании можно обресть истинное
оправдание великой европейской войны.
€^
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
О религиозной лжи национализма*
Война с милитаризмом, война с войною — таков
желательный для нас, должный смысл настоящей войны. Но таков ли
смысл данный, действительный?
Против милитаризма как ложной культуры выставляется
принцип культуры истинной, всечеловеческой. Но принцип
этот оказывается на наших глазах отвлеченным и
бездейственным. Никогда еще, за память европейского человечества, не
бывало такого попрания самой идеи культуры всечеловеческой.
Утверждение, будто бы Германия — страна малокультурная,
легкомысленно и невежественно. Связь Канта с Крупном
сомнительна. Но если какая бы то ни была культура может
привести к тому, к чему привела Германию, то сама культура —
палка о двух концах. В настоящей войне она не с варварством,
а с иною культурою борется, — кажущаяся истинной — с
кажущейся ложной. А чтобы отделить ложную от истинной, в
ней самой, по-видимому, нет мерила абсолютного.
Существо культуры сверхнационально, всемирно.
Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей.
Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться
непременно всемирно. Много было великих народов с великой
историей, но чем выше были эти народы, тем были и
несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности
соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и
Чингисханы, пролетели, как вихрь, по земле, стремясь завоевать
вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую
великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему
соединению. (Достоевский, «Великий Инквизитор»).
* Печатаемый здесь доклад был помещен в лит<ературно>-полит<и-
ческом> еженедельнике «Голос жизни» за 1914 г. (№4. С. 2).
О религиозной лжи национализма
451
Эта потребность — одна из главных движущих сил древнего,
дохристианского человечества. Ассирия, Мидия, Македония —
неудачные попытки всемирного соединения. Первая удача —
Рим. Tu regere imperio, Romane, memento, — в этом сущность
Римской империи. Рим есть мир, и «римский мир», pax roma-
na — воистину «мир всего мира». Таков первый момент
всемирного соединения внешнего, государственного, как будто
вечного, а на самом деле мгновенного равновесия, как будто
непоколебимого, а на самом деле неустойчивого. Нашествие
варваров, по преимуществу германцев, — своего рода
национальная реакция против римского единства, возвращение к
национальной самобытности племен, — разбивает изнутри это
внешнее единство Римской империи, как теплые вешние воды
разбивают ледяную кору.
Второй момент — всемирное соединение уже не внешнее, а
внутреннее, во имя не человеческого, а Божеского Разума,
Логоса. Отвлеченная идея человечества впервые воплощается в
Церкви вселенской, и «Римский мир» становится миром Божи-
им — pax Dei. Но тут же в самой Церкви происходит смешение
двух несовместимых начал — церковного и государственного.
Вот почему и это второе соединение, второй «мир всего мира»
оказывается непрочным. Опять национализм вторгается в
единство всемирное, но уже не изнутри, а извне, и раскалывает
его сначала на две половины — Восточную и Западную
церковь, — потом на множество национальных, поместных
церквей. В этом смысле Реформация, не случайно германская, есть
второе «нашествие варваров».
Третий момент — (Великая французская революция и
неизбежный вывод из нее) — Наполеоновская империя, новое
возрождение древнего единства римского. Объявляя целью
завоеваний своих «le reigne de la raison humaine» — царство
человеческого, только человеческого разума, Наполеон совпал с
Робеспьером. И в третий раз национализм разрушает единство
всемирное: борьба за национальную самобытность против
Наполеоновской империи, (т. е. в последнем счете против
революции приводит к Священному Союзу, к злейшей реакции.
Наконец, четвертый момент, пока не осуществленный в
истории, — революционный социализм. Сейчас мы видим воочию
только беспомощность его как начала объединения всемирного.
Настоящая война — продолжение «отечественных»,
«освободительных» войн с Наполеоном (1812—1815 гг.), — по
внешности тоже освободительная, «народная», война с империализмом
Германии, выразившимся будто бы исключительно в «прусской
452 Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
j
военщине». Но это именно только по внешности: в
действительности существует неразрывная связь между империализмом и
национализмом не в одной Германии, но и у всех ее
противников. У всех современных европейских народов под пеплом
национализма тлеет огонь империализма, в большей или
меньшей степени: тут количественная, а не качественная разница.)
Что же такое национализм? Утверждение национальной
правды, частной и относительной, как абсолютной, всеобщей
и всечеловеческой. «Deutschland, Deutschland über alles!» или
«Разумейте языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог» (т. е. с нами
с одними и больше ни с кем), — эти два лозунга одинаково
кощунственны. Национализм (лицемерно,) словесно
утверждает, — искренне, деятельно исключает все другие
национальности, кроме своей: если национальная правда абсолютна, то она
исключительна, единственна, ибо не может быть двух
абсолютов.
С патриотизмом, с чувством родины, национализм не
совпадает метафизически. В плоскости духовной, внутренней,
понятие родины шире, чем понятие государства: самое живое,
личное в быте народном не вмещается в бытии государственном.
В плоскости материальной, внешней, понятие государства
шире, чем понятие родины: в одном государстве может быть
много народов, много родин. Это значит, что патриотизм может
быть и внегосударственным: у современных поляков и евреев
нет государства, но есть родина. Существо национализма
всегда государственно. Но существо самого государства
сверхнационально. Понятие нации вмещается в понятие государства,
но не обратно: много наций может входить в одно государство.
Нет столь малой державы, которая не стремилась бы сделаться
«великою», на счет других меньших. Неизбежный
метафизический предел государственности — «великодержавность»,
(империализм,) нация, утверждающая свою частную,
относительную правду, как абсолютную и всечеловеческую.
Вот почему национализм, (метафизически связанный с
империализмом,) по природе своей (хищен,) воинствен и
завоевателен.
(Нет национализма без империализма. Под вечным
предлогом защиты своего отечества он вечно нападает на чужое,
беззащитное. Глаза у него «завидущие», руки «загребущие». Ех
ungue leonem, по когтям узнается лев или волк:
национализм — волк в овечьей шкуре.
Борьба с национализмом — главная задача русской
интеллигенции. Кажется, ни в одной стране, ни в одну эпоху борьба эта
О религиозной лжи национализма
453
не велась так непримиримо. От Чаадаева до Вл. Соловьева
русское «западничество», борьба со славянофильством, и есть не
что иное, как борьба с национализмом. «Да будет проклята
всякая народность, исключающая из себя человечность!» — этот
завет Белинского — завет всей русской общественности.)
В этом смысле Петр Великий — наш первообраз: первый
западник, он в то же время самый русский из русских людей.
И как бы ни смешивал он идеи национальной с
государственной, сущность его остается сверхнациональною, всемирною. То
же — в Пушкине и во всей русской литературе; народность
возвышается в ней до Бесчеловечности.
Тяжкий грех славянофильства — мнимое признание,
действительное отрицание всемирности. Одно из главных свойств
русского славянофильства — мягкотелость, бескостность,
неумение или нежелание доводить мысль до конца,
договаривать, ставить точки на i. Вот эту-то недоговоренную мысль и
обнажает в кристально ясной, математически точной формуле
Тютчев, самый бесстрашный и последовательный из русских
славянофилов. Он вкладывает кости в тело, ставит точки на i.
Логика его беспощадна: стоит принять посылки, чтобы сделать
неизбежные выводы.
Сущность революции, — утверждает Тютчев, — есть
человеческое я, ставящее себя на место Бога; «самовластье
человеческого л, возведенное на степень политического и социального
права ». Сущность эта — антихристианская, « антихристова »,
ибо «антихрист» и есть человек, поставивший себя на место
Бога «человекобог».
Таковы посылки, а вот и выводы.
Сущность европейского Запада — революция,
антихристианство, т. е. абсолютная ложь, а человеческое общество,
построенное на лжи, обречено на гибель.
«Будет ли Франция иметь силу отречься от революции,
сделаться снова христианской и монархической? — спрашивает
Тютчев в 1870 г., накануне Коммуны. — Если нет, то гибель ее
неизбежна». И не только гибель Франции, но и всего
европейского Запада. «Запад отходит, все рушится, все гибнет в этом
общем пожаре. Цивилизация убивает себя своими
собственными руками», — предсказывал он еще в 1848 г. И в 1873 году,
после Коммуны: «что-то вроде размягчения мозга у целой
нации... Состояние близкое к идиотизму... Судорога бешенства
овладела Европою... Целый мир стал воплощенной ложью»...
Последнее слово Запада — «слово Иуды, который, продав
Христа, очень умно рассудил, что ему остается одно: удавиться».
454
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Все вообще славянофилы ненавидят Запад, может быть, не
менее Тютчева, но стыдятся, робеют и сами не знают, что
делают, когда с медвежьей ловкостью сгоняют муху со лба спящего
друга булыжником. Тютчев знает. Правда, для него это только
«игра ума», но что для него игра, то для других дело.
Все мысли Достоевского о «человекобожестве» революции
почти дословное повторение Тютчева.
Люди стыдливо скрывают тайну своего рождения: так
славянофилы скрывают ненависть к Западу. Тютчев обнажил этот
стыд, и если нагота оказалась чудовищной, то вина не его, а
того учения, которое он проповедует.
Человекоубийственная ненависть — таков стыд
славянофильства, обращенный к Западу, а вот и другой стыд, обращенный
к России.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Это значит: Христос благословил Россию, а все остальные
народы проклял. «Russland, Russland über alles». —
«Разумейте языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог», с нами с одними и
больше ни с кем.
В мире только две силы: Россия и революция. «Между тою
и другою не может быть ни договоров, ни сделок: что для
одной жизнь, то для другой смерть. От исхода их борьбы зависит
вся будущность человечества... Над громадным крушением
Запада всплывает еще более громадная Русская Держава святым
ковчегом... Кто дерзнет усумниться в ее призвании?»
Не верь в святую Русь, кто хочет, —
Лишь верь она себе самой!
«Ну вот, мы в схватке со всей Европой» (в 1854 году,
накануне Севастополя). Это "заговор"». «В истории не бывало
примеров гнусности, замышленной и совершенной в таком
объеме»... Ополчение Европы против России — ополчение самого
«антихриста» против Христа:
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы.
Дело идет о последней борьбе всего западноевропейского
человечества с Россией. Очень возможно, что Россия погибнет.
Но если бы случилось, что погибнет не она, то уже не с Россией
придется иметь дело Западу, а с чем-то исполинским и оконча-
О религиозной лжи национализма
455
тельным, чему еще нет имени в истории. Предсказание
Наполеона на Св. Елене: «через 50 лет Европа будет революционною
или казацкою» (т. е. русскою) на наших глазах исполняется.
Революция и Россия — «море и утес»: волны бьют об утес,
разбиваются и, рано или поздно, присмиреют окончательно.
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою,
Вновь уляжется волна.
Вся Европа под пятою России. Или, как Хомяков
предсказал:
И другой стране смиренной
Бог отдаст судьбу вселенной,
Меч земли и гром небес.
(От такого смирения, пожалуй, сам диавол не отказался бы.
Но всего бесстыднее открывает Тютчев наготу
славянофильства именно там, где оно всего стыдливее, — в вопросе о
религиозном смысле самодержавия.
Власть царя — и мирская, и церковная вместе — власть от
Бога, помазание Божие; царь не только царь — глава
государства, но и первосвященник, глава Церкви, наместник Христа,
папа, хотя и обратный, потому что в Риме церковь становится
государством, а в России государство — Церковью. В этой
противоположности двух теократии, восточной и западной,
заключается главная мысль Достоевского, который идет дальше всех
славянофилов; но и он до конца не доходит. Тютчев дошел до
конца.
О будь же, царь, прославлен и храним,
Но не как царь, а как наместник Бога,
т. е. как папа Третьего Русского Рима.
Он божеством себя провозгласил.
Вдруг притча родилась и в мир вошла, — мог бы сказать
Тютчев о нем же, о русском царе — первосвященнике.
Между тем как новые «славянофилы» (Булгаков, Бердяев,
Эрн, Флоренский и прочие «веховцы») косноязычно
мямлят, — Тютчев говорит внятно: самодержавие и православие
связаны, как внешность и внутренность, форма и содержание,
тело и дух; самодержавие — апокалипсис православия;
православие в самодержавии исполняется; разорвать их значит
убить.)
456
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
И, наконец, последний вывод: русская всемирная империя.
«Нельзя отвергать христианскую империю, не отвергая
христианской церкви: оне обоюдны (corrélatifs). Церковь, освящая
империю, ее себе приобщила и сделала ее окончательною
(абсолютною)». Единая вселенская церковь — единая вселенская
империя.
Ее восстановлению должны содействовать два великих дела:
в области светской — образование Греко-Славянской империи;
в области духовной — воссоединение церквей, или, вернее,
поглощение западной церкви восточною.
Империя существовала всегда, только меняла властителей.
Четыре империи: Ассирийская, Персидская, Македонская,
Римская. С Константина Равноапостольного начинается пятая
окончательная, христианская; ее завершение — Россия.
(Что значит «христианство» этой христианской империи,
видно из того, как Тютчев решает судьбы входящих в нее
народов.
«Или быть Польше, или России». А так как, разумеется,
быть России, то Польше не быть: уничтожить ее, раздавить
«под гигантскою пятою», и не ее одну, но и Австрию, Италию,
Германию, — все «богомерзкие народы». Давить и душить, —
в «одной руке распятие и нож», — как говорит он о Первом — и
мог бы сказать о третьем Русском Риме. Человекоубийство под
знаменем Христа; царство «Зверя» под знаменем царства
Божьего.)
Византийская реставрация Тютчева, эта драгоценная ткань,
оказалась непригодною для русской политики: дело обошлось
дешевле. (Но на полинялой тряпице современного
славянофильского национализма, если всмотреться в него, можно
узнать тот же византийский узор— «орлики да крестики», как
на златотканой ризе Тютчева. Он вскрывает самую сущность
того, что выдается и по сей день за «русский стиль», «русский
дух».) Тютчев не лучше и не хуже других славянофилов: он
только правдивее всех.
(В настоящей войне происходит торжество
славянофильского национализма, окончательно выродившегося в
«зоологический патриотизм». Вот почему исконная задача русской
общественности — борьба с национализмом — сейчас труднее и
ответственнее, чем когда-либо.)
Борьба велась доныне в позитивной плоскости. Но
окончательное преодоление славянофильского национализма
возможно только в той плоскости, где сам он движется, а именно —
в религиозной.
О религиозной лжи национализма
457
(В этом отношении польская интеллигенция может быть
сейчас могущественной идейной союзницей интеллигенции
русской. В учении польского мессианизма вопрос об отношении
национальной правды к человеческой поставлен религиозно,
т. е. именно так, как должна была и не сумела поставить его
русская интеллигенция.
Польский мессианизм наиболее противоположен русскому
славянофильскому национализму. Сущность идеи
мессианской — не хищное насильственное господство одного народа над
всеми другими, а служение, самоотречение, страдание,
жертва. «Кто из вас хочет быть господином, да будет всем слугою;
кто хочет быть первым, да будет последним».
Великие страдальческие судьбы Польши — небывалая
всемирно-историческая Голгофа. Ни один народ так не страдал,
кроме народа Божьего, народа Мессии по преимуществу, —
Израиля. Польша и есть новый Израиль, воистину новый народ
Божий. Идея жертвенного служения воплотилась в нем, как
ни в одном из христианских народов. Россия страдала за
Европу; Польша страдает за Россию. «Язвами ее мы исцелеем».
В этом смысле польский народ — воистину народ «богоносец».
Лучшее лекарство от застарелой русской болезни
славянофильского национализма — польский мессианизм, жертвенное
служение народа высшей правде всечеловеческой.
Вот почему совершающееся ныне духовное сближение
Польши с Россией может быть спасением обоих народов. «Еще
Польша не сгинула» — да прозвучит в наших сердцах как
вечный завет: «Еще Россия не погибла».
Вместе погибали — вместе и спасемся.)
^?S!^
^^
3. H. ГИППИУС
Скажите прямо!
Очень интересна последняя, декабрьская, книжка «Русской
мысли» *. Она стоит пространного обсуждения, но пока мы
хотим отметить, в нескольких строках, самое примечательное.
Это примечательное — собрание статей, лекций, публичных
чтений той группы неославянофилов (?), которую мы кратко
привыкли называть группой «москвичей». Ничего не
определяет это название, но тем оно и хорошо. По совести, назвать
«москвичей» славянофилами нельзя, не вполне точно;
национал-либералами — тоже; «славянофильствующими либерало-
националистами», скорее, но уж очень это длинно и в конце
концов смутно. Между тем достаточно сказать «москвичи» и
назвать хоть одного из них, любого, — тотчас понятно, о ком
идет речь; и за первым именем — С. Н. Булгакова, что ли, —
встанут в памяти другие — Е. Трубецкой, Эрн, Вяч. Иванов,
Рачинский и т. д. — даже вспомнится кстати П. Струве, хоть
он и не «москвич».
Они — все разные; если бы даже и не подчеркивали сами,
что разные, никто бы в этом не усомнился; однако внутренняя,
не сразу определимая связь их, общность, так значительна, что
разность порою отходит на второй план. У них одинаковый
стержень, и только нитки, наглухо обматывающие стержень,
разных цветов.
Кроме того, у одних больше ниток, не скоро доберешься до
стержня, у других он сквозит.
Статьи, о которых идет речь, все написаны на одну и ту же
тему — о текущих событиях. Авторы говорят разным языком,
подходят к событиям как будто с разных сторон. Разные
разматываются нитки. Голубые, розовые, золотые... шелковые,
бумажные... И вдруг мелькнет деревянная белизна стержня,
у всех одинаковая: и у неподвижно-трезвого Е. Трубецкого, и у
Скажите прямо!
459
хладнокровно-увлекающегося В. Эрна, и у
старчески-стремительного, пылкого Рачинского, и у кудреватого, ни пред какими
большими буквами не останавливающегося Вячеслава Иванова,
нашего «иеро-политика» (не я, а один наивный поклонник
недавно окрестил его так). Скажу больше: даже в
заключительной статье П.Струве2, написанной внушительно (он всегда
внушителен, говорит ли об экономике, империализме или
«Святой Руси»), — та же подозрительная белость мелькает,
хотя П. Струве держит палку за другой конец.
Что же такое этот стержень, эта палка, эта связь? Может
быть — религия? Все они — люди религиозные, не естественно
ли, что, и с разных сторон подходя к событиям, они все будут
оценивать их с религиозной точки зрения? Да, это так; а все
же сказать «религия» — сказать слишком мало. И само слово
чересчур общее, и палка длиннее. Она одна, — поэтому
П. Струве, начиная со своего конца, доходит-таки до «Святой
Руси», хотя мы все знаем, как мало дела уважаемому
профессору до чьей бы то ни было святости. По этому же самому, с
противоположного конца идя, доходят и «москвичи» — Эрн,
Булгаков и другие — до Струве. Палка одна...
Тут дело не в религии «вообще», а следовательно, и не
только в религии. С общерелигиозной точки зрения, Франк,
например, в своем спокойно-объективном, «исключающем все
партийные, публицистические и философские споры» возражении
называет построения «москвичей» «кощунственными» (с. 129,
«Р<усская> м<ысль>», декабрь). Прав или не прав Франк —
мы в это входить не станем сейчас, потому что мы вообще не
судим, а только отмечаем и исследуем.
Определить же самую суть, стержень, на котором держатся
построения «москвичей», можно, лишь взяв этот стержень в
обнаженном и цельном виде. Именно таков он у последнего
«москвича» — Сергея Соловьева. Соловьева нет в «Русск<ой>
м<ысли>», его не было на знаменитом собрании «Московского
р<елигиозно>-ф<илософского> о-ва», где прочтены были речи
остальных «москвичей». Но он читал в других местах, он
выпустил брошюру «К войне с Германией» 3 его взгляды
кристально чисты; за эту чистоту, за суровую честность слов, за то, что
главного стержня он не обматывает никакими индивидуально-
цветными нитками, — за это и недолюбливают его, и
сторонятся от него гибкие, слегка трусливые «москвичи».
С. Соловьев в высшей степени честен пред самим собой; он
презирает всякие разматывания, наматывания, заматывания,
всякое виляние, всякое либеральничанье, — словом, всякое
460
3. H. ГИППИУС
приспособленье к чему-нибудь, потакание, попустительство
ради личных настроений, свойств, склонностей и вкусов. То,
что он говорит, — стройно, цельно и сильно, хотя очень старо и
всем известно. В цельности всегда своя сила.
Соловьев берет: веру, Церковь православную (во всей ее
суровой, неизменяемой полноте), Белого Царя (опять во всей
православной полноте) и Святую, именно Святую Русь как единую
«наследницу Византии, которая была столбом правильного
вероучения». Из этих трех открытых приятии с волшебной
последовательностью вытекают все положения С. Соловьева, все,
до одного, его слова. Он с правом говорит и о днях Дм.
Донского, и о «гробах Сергия и Гермогена», и о Царьграде, и о
верховной мощи и призвании России, с правом пишет «На взятие
Львова»:
Ты все ждал, чтоб из-за Зоручи
Подошли к тебе, как тучи,
Рати Белого Царя...
да соберется весь русский народ
Под стяг державный
Звоном Пасхи православной...
И конечно, «Вильгельм — это Навуходоносор», и конечно —
«нам нельзя было дышать от немцев, мы не могли молиться...
созидать свою культуру, так роскошно расцветшую в XVII
столетии», и конечно—«теперь переламывается русская
история»...
Повторяю, логически строгая и чистая красота построений
Соловьева принуждает меня поставить его головой выше всех
других «москвичей». Булгаков в конце своих «Русских дум»
приходит к тем же точно словам-выводам, как и Соловьев, точь-
в-точь: «Россия — сверхкультура и сверхгосударственность,
апокалиптическая теократия Белого Царя» 4 и т. п., однако со-
ловьевских предпосылок он не делает, а лепечет вначале что-то
о капитализме. Скромные предостережения от «излишнего
национализма» у Трубецкого, путаные «хорошие слова» Рачин-
ского, таинственные глаголы Вяч. Иванова о «таинстве», о
«вселенском деле» войны, все это — нитки разноцветные,
мазанье, попустительство, между тем суть дела сама по себе
такова, что требует строгости, определенности, суровой
обнаженности от всяких чуждых укращений. Достоевский ничего не
замазывал; Конст. Леонтьев не болтал о
национал-либерализме, а шел до конца. Не сравнивая значений личностей, скажу,
Скажите прямо!
461
что и Соловьев, — один, — идет до конца так же смело, так же
праведно.
Что касается П. Б. Струве, то я, пожалуй, ошибся, сказав,
что он начинает с другого конца. С другой стороны, но не с
конца, а со средины. И соответственно останавливается; далее
«Святой Руси» (в очень поверхностном понятии) не идет.
Конечно, и это для него много. Мы слишком хорошо помним, что
П. Б. Струве если и признает религию, то как дело чисто
индивидуальное, privat-sache5. Церковь же признает он лишь
«обывательскую», по его выражению. Теперь он дошел до святости.
Но не отвернется ли Соловьев от струвьевской «Святой Руси»,
«правду» которой Струве хочет подпирать «силой»
Всероссийской империи? Струве-то искренне думает, что «правда» может
«возобладать», только если внедрить ее «силой», но не один
Соловьев, пожалуй, и Булгаков остановится пред таким
«идеалом». А Струве именно как идеал святости предлагает нам
взаимопомощь «правды» и «силы».
Если мы выделим Струве, вообще представителя срединно-
сти, то группа «москвичей», о статьях которых мы говорим,
представится нам очень ясно: это — люди разнообразно
одаренные, разные по личным склонностям, слабостям,
биографическим привычкам, но сплоченные единостью ясной, и по существу
не терпящей компромиссов, идеологией. Они с малодушием
(невольным?) прячут ее, покрывая словами, — эстетическими,
этическими, либеральными, какие кому ближе. Но слова
отстают от нее; нет-нет — она мелькнет, только искаженная,
обессиленная — бездейственная.
Соловьев обнажил ее первичные устои, взял ее во всей
полноте, со всеми концами и началами. Он за нее отвечает.
А «москвичи»? Пока они не соберутся с силами и с духом, не
примут ответственности за собственную идеологию, они так и
останутся просто «москвичами», просто людьми, по-разному
талантливыми, которые что-то говорят — не то разное, не то
общее; чего-то хотят — не то хорошего, не то худого; а может
быть, и ничего не хотят, и все это — так, одни
безответственные словеса «под настроением».
^^
-β^
M. 3.
Спор о германской культуре
(В Религиозно-философском обществе
памяти Вл. Соловьева)
Доклад В. Эрна «От Канта к Круппу» вызвал, как известно,
уже целую литературу и весьма ожесточенные споры в
философских кругах.
Заседание соловьевского общества, состоявшееся третьего
дня, было посвящено обсуждению дополнительной части
доклада В. Эрна «От Канта к Круппу» — разбору «сущности
немецкого феноменализма», но по существу оно явилось
продолжением предыдущего заседания, на котором выступали так
называемые «германофильствующие» * (термин, за который на
Эрна обиделись весьма многие)*.
Доклад В. Эрна о сущности немецкого феноменализма, с
одной стороны, еще более усилил внешнюю схематичность его
отрицаний и утверждений, а с другой — ввел некоторые весьма
существенные поправки в его оценку германской культуры
вообще. Отрицая в своем дополнительном докладе еще более
резко головную магистраль развития немецкого духа — Канта и
его последователей, он все же признает и утверждает старую
немецкую музыку и светлые вершины немецкой поэзии — Гете
и Новалиса. Эта «малая дорога» германского духа для него
полна глубочайшей и вселенской значительности.
Но сущность германского духа, по мнению В. Эрна,
характеризуется не этими исторически малодейственными линиями
развития, а главной магистралью немецкой культуры, на
которой полновластно царит Кант и его последователи. Чтобы
понять неразрывность линии от Канта к Круппу, необходимо
понять сущность кантовского феноменализма.
* В * Утре России» этому заседанию был посвящен подробный отчет.
Спор о германской культуре
463
Феноменализм происходит от слова φανεσθαι — являться.
Явление в нашем земном опыте есть пункт соприкосновения
или встречи познающего с познаваемым. Как познается объект
субъектом в феноменализме Канта?
По Канту, поскольку что-нибудь познается, постольку оно
создается, и вне разумного созидания предмета не может быть
никакого познания. Если мы примем, что субъект — активная
форма познания — есть начало мужское, а формируемая
материя, как действительность, есть начало женское, то мы
должны сказать, что кантовское познание есть такая форма насиль-
ничества над действительностью, при которой женственность
сущего начисто отрицается и не признается. Кант утвердил
навсегда развод на веки вечные между разумом и
действительностью. Философия Канта в люциферическом «бесстрашии»
занялась магией первоначального созидания различных ликов
действительности для работы над ними «научного метода». Вся
действительность превратилась, таким образом, в
марионеточное марево, вызываемое из небытия всемогущей волей
познающего.
Не только Кант виновен в этом извращении нормальных
отношений между познающим и познаваемым. Еще августин-
ский монах Мартин Лютер перерезал живое духовное питание
немецкого организма небесною женственностью, и с тех пор
начались трагические блуждания немецкого духа, через
«Критику чистого разума» Канта шедшие к безумной и горделивой
цели: чистым насилием завладеть властью над народами и
Землею.
В. Эрн верит, что наше воинство, подобно своему святому
патрону Георгию Победоносцу, должно поразить насмерть
германского дракона лишь для того, чтобы освободить его
пленниц; среди же пленниц этих находятся не только народности,
порабощенные тевтонским засильем, но и порабощенная,
отдавшаяся Люциферу и духам злобы душа самого германского
народа.
Таково понимание Эрном кантовского феноменализма и той
магистральной линии развития германского духа, которая
приводит к материальному осуществлению философского насилия
над действительностью, т. е. к пушкам Круппа.
Это то понимание Канта и послужило главной мишенью для
оппонентов г. Эрна. С большой и страстно-возбужденной
речью выступил И. А. Ильин, которого председательствовавший
Г. А. Рачинский не раз останавливал за резкие выпады
нефилософского порядка против В. Эрна.
464
М.З.
Есть такие глухие и слепые, спор с которыми, по мнению
Ильина, едва ли явится продуктивным. Они льстят народу,
называя только его народом Божиим, и отрицают истинность
и значительность всего чужого. Тех, кто спорит с ними, они
называют хулителями и изменниками своему народу или
«зеленой молодежью». Они не желают ничего доказывать, ибо
«доказывать» — дело немецкое, и истина, по их мнению, не доказу-
ется, а рассказуется. Вот почему страх и сомнение охватывают
Ильина, когда он решается спорить с этими людьми.
Это вступление И. А. Ильина сразу же создает напряженную
атмосферу в зале. «Германофильствующие» торжествующе
улыбаются, председатель волнуется, хмурится кн. Е. Н. Трубецкой
и только один В. Эрн остается спокойным.
От аргументов «страха и сомнения» И. А. Ильин переходит
все же к аргументам чисто философского свойства.
Докладчик не знает Канта, ибо в его докладе нет «ни одного
верного слова». Кант только утверждает, что все теоретическое,
научное познание чувственно по материалу и что Божие не
может быть понято в чувственном опыте. Хотя «вещь в себе» по
Канту и не познается, но все же она присутствует в элементах
его познания. Докладчик смешал Макса Штирнера с Кантом.
Никакого разрыва между субъектом и объектом у Канта нет,
и Кант не был феноменалистом, так же как и Гегель, Шеллинг
и Фихте.
В. Эрн отвечает И. А. Ильину и подчеркивает, что вера в свой
народ не есть еще бахвальство и гордыня. Каждый народ имеет
свою святыню, и утверждение этой святыни еще не есть
превозношение.
Кн. Е. Н. Трубецкой выражает прежде всего сожаление, что
прения приняли такую необычайную и нежелательную для
Религиозно-философского общества форму. По существу же он
находит также, что докладчик недозволительно упростил
Канта. Действительно ли Кант чужд онтологичности? А Фихте с
его утверждением абсолюта духа? Наконец, пафос могущества
современной Германии есть признак не феноменализма, а
онтологизма. Докладчик забыл немецких мистиков Якоба Бёме,
Баадера и других с их подлинной религиозностью. Почему,
наконец, признавая Гёте, Новалиса, докладчик считает только
Канта магистральной линиею, а их — побочными и не
характерными для развития германского духа? В забвении крупных
ценностей германского духа и есть основной грех докладчика.
В. Эрн возражает кн. Е. Н. Трубецкому. Если бы он писал
монографию о Канте, то он бы учел все его многообразие. Но
Спор о германской культуре
465
ему нужно было найти острие кантовской философии. Этим
острием и является кантовский феноменализм.
Возникает весьма острый спор между Эрном и Трубецким,
принимающий форму диалога.
А. М. Щербина доказывает, что докладчик все время
выделял феноменализм Канта из всей его многообразной системы и
не обратил должного внимания на его этику и категорический
императив.
С. Н. Булгаков становится в защиту В. Эрна. У каждого есть
свой Кант, и действительно, у него есть своя «онтология». Но
как развивает Кант эту онтологию? В сторону злейшего
отрицания божественности сущего. Всякая действительная
онтология, по мнению Канта, суеверие. Все главное русло
германского духа есть протестантский разрыв с Богом, и в этом мировая
значительность германской трагедии. Борьба титанов против
Бога присуща глубинным истокам германского духа, и наша
борьба с этим человеческим восстанием против святынь есть не
«националистическое» устремление, а насущное национальное
и религиозное дело.
За поздним временем большинство записавшихся ораторов
не могло высказаться, и прения переносятся на следующее
собрание.
Заседание привлекло много членов общества и оставило
после себя сильное впечатление. В спорах о сущности германской
культуры заключена задача не только разрушительная, но и
созидательная, но только переоценка германской культуры, но
и должная оценка культуры русской. С этой точки зрения
необходимо пожелать, чтобы дальнейшая работа
Религиозно-философского общества сошла с узкой тропинки «От Канта к
Круппу» на большую и широкую дорогу нашего национального
мирочувствования и миропонимания. Переоценка
господствовавшей до сих пор у нас немецкой философии — дело весьма
нужное и полезное, но если согласиться с тем, что Крупп
является выразителем сущности германской культуры, то
действительная переоценка этой культуры и философии совершается
там, на полях сражения, нашим доблестным воинством.
Нам же здесь предстоит другая задача. Воздвигнуть «на
месте новом» достойную обитель для нашего национального духа.
Для этого прежде всего необходимо обратиться к залежам
нашего национального творчества и к изучению тех богатств,
которые оставили нам наши предшественники.
^^s>
€^
M. M. РУБИНШТЕЙН
Виноват ли Кант?
Страшно, когда совершается преступление, но еще ужаснее,
когда преступление хотят оправдать, подвести под него
известный идеологический фундамент. Такое потрясающее
впечатление произвело на культурный мир воззвание немецких
ученых1. В итоге этого выступления немецких ученых, отпавших
от лучшего содержания культуры, всплыл на поверхность
вопрос о борьбе уже не против Германии, а против какой-то
особой германской культуры, обвиненной в зверствах и
проступках военной Германии. Эту особую культуру тесно связали с
именем великого кенигсбергского философа и обрушились на
Канта, кощунственно поставив его имя рядом с поставщиком
42-сантиметровых орудий, Круппом.
Философские споры должны решаться на страницах
специальных изданий, но мы решаемся говорить о них в общей
прессе потому, что данный вопрос, кажется нам, имеет значение не
для философов, а для широких кругов читателей. Верно ли,
что в печальных фактах военно-немецкого вандализма повинна
вся прошлая немецкая культура? Вправе ли мы видеть в
современной борьбе войну против какой-то особой германской
культуры, или же мы поступим справедливее, взяв лучшее в
германской культуре под свою защиту от ослепленных злобой
германских ученых и наших собственных воинственных
теоретиков? Виновен ли Кант? И чему он учил в действительности?
Повод к осквернению философии Канта подал его
феноменализм — тот самый феноменализм, по поводу которого сломано
столько копий на философском поле. Канту поставили в упрек,
что он рассматривает мир как явление, что, поскольку речь
идет о познании (но и только о познании), мы сами создаем тот
объект, который мы познаем. Вещей в себе мы не знаем, и как
объект познания они для нас отпадают совсем. Это, по мнению
одного из наших доморощенных толкователей Канта и предста-
Виноват ли Кант?
467
вителей религиозно-философского течения, открывает простор
произволу субъекта; и вот, опираясь на неслыханное
искажение Канта и игнорируя всякие преграды, этот своеобразный
истолкователь решительно шагнул за пределы всякого
здравого смысла и объявил Канта повинным в немецких зверствах,
так как именно он — немец — дал повод смотреть на все как на
продукт субъекта, как на марионеток, — уже не просто в руках
субъекта, а в руках немецкого субъекта. Мы лишены
возможности рассмотреть вопрос с философской стороны на столбцах
газеты, для опровержения этой чудовищной нелепости. Но,
пожалуй, в этом и нет особой нужды.
К чему это сокрушительное «истолкование» Канта как
родного брата. Бетмана-Гольвега и Вильгельма? К чему оно, когда
у него есть прямые указания и речи, рисующие его отношение
к событиям, подобным современным, — все, что нужно для его
правильного понимания? И это не случайные цитаты, а труды,
к которым неуклонно ведет все его миросозерцание, и прежде
всего его этика. Ведь даже в ожесточенной борьбе, и с точки
зрения противника, нельзя обвинять за мнимые помыслы,
игнорируя собственные слова и фактическое учение мыслителя.
А в них мы находим непримиримого идейного врага того, что
совершила Германия.
В самом деле, Кант выявил и утвердил умопостигаемый
характер, возвеличил субъекта не для того, чтобы предоставить
ему произвол, но чтобы возложить на него всю тяжесть
непреклонной^ не знающей отступлений и смягчений моральной
ответственности, человек, и притом человек вообще, для
него не только не марионетка, не «пушечное» мясо, он —
носитель нравственного закона, он — абсолютная ценность, он —
самоцель. Пусть читатель заглянет в имеющиеся на русском
языке «Основоположение к метафизике нравов» и в «Критику
практического разума». Там Кант с непреклонной твердостью,
почти с нежизненным ригоризмом говорит, что никакие иные
интересы, никакая нужда не могут оправдать нарушения
велений нравственного закона. Как бы это ни было выгодно или
важно личности, от нравственного закона не может быть
никаких отступлений.
Для Канта ясно, что пусть лучше погибнет человек,
материя, лишь бы осталось незапятнанным его моральное
достоинство. В ответ на «Not kennt kein Gebot» («нужда не считается с
правилами») современных вершителей судеб Германии Кант от
первого и до последнего слова говорит о том, что моральное
«веление» (Gebot) не знает и не должно считаться ни с какой нуж-
468
M. M. РУБИНШТЕЙН
дой (Not), т. е. Кант диаметрально противоположен этому
развратному принципу. Категорическое веление (императив), эта
душа этики Канта, поражает как громом современных
германцев с их государственным цинизмом. Оно гласит: «Поступай
так, чтобы ты пользовался человечеством как в твоем
собственном лице, так и в лице всякого другого человека всегда
одновременно как целью, и никогда не смотри на него как на простое
средство», или «поступай так, чтобы максима, руководящая
твоей волей, могла бы во всякое время вместе с тем служить
принципом всеобщего законодательства».
Так говорит настоящий, не «выведенный» на посмешище
толпы немецкий философ. Таких цитат, прямо противоположных
механизации, противоположных принципу «Not kennt kein
Gebot», можно привести много с каждой страницы его
этических трудов. На оправдание отступления от морали, на ссылку,
что Германия не могла, например, не нарушить нейтралитета
Бельгии, Кант отвечает грозным, лаконическим выражением,
когда речь идет о следовании нравственному закону: «Du kannst,
denn du sollst». Ты можешь (не отступать от нравственного
закона), потому что ты должен (повиноваться ему). Кант не
допускает никаких ссылок на «нужду», — таков истинный Кант.
Но есть ведь и более прямые указания на то, что мог бы
сказать Кант о текущих событиях. В «Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht» 2 (Populäre Schriften, S. 218,
изд. Kantgesellschaft) он говорит: «Пока государства
затрачивают все свои силы на свои эфемерные (eiteln), насильственные,
завоевательные цели и таким образом постоянно
задерживают устойчивое усилие к достижению внутреннего образования
своих граждан, до тех пор нельзя ждать, что граждане будут не
только цивилизованы, но и морализованы. Читая эти строки,
можно было бы подумать, что Кант здесь имел в виду именно
Германию Вильгельма. Германия Вильгельма и Круппа и Кант
здесь оказываются прямо противоположными.
Загляните еще в книжечку Канта «Вечный мир», чтобы
увидеть подлинного Канта, а не «выведенного» философским
насилием, — Канта, так резко расходящегося с Вильгельмом
во взглядах на постоянную армию. Вот что говорит он о
международном вероломстве и нарушении нейтралитета (вспомним
Бельгию):
«Ни одно государство в войне с другим не должно
позволять себе таких враждебных действий, которые сделают
невозможным взаимное доверие при будущем мире» (с. 7). Таким
духом насыщена вся книжечка Канта, посвященная вопросу
Виноват ли Кант?
469
о «вечном мире». Для него вечный мир «не бессодержательная
идея, но задача... которая все ближе и ближе подходит к
своему решению». И это понятно, потому что он везде, над всем
ставит общечеловеческие идеалы, «идею человечества». В своей
«Педагогике» он выставляет как основной принцип требование:
«Дети должны быть воспитаны соответственно не
современному, но будущему, возможно лучшему состоянию человеческого
рода, т. е. соответственно идее человечества и всей полноте его
предназначения». В «Antropologie» (изд. Kirchmann, 256) он
определяет жизненную задачу человека идеей «сделать себя
достойным человечества*. Там же, с. 239, он называет
презрение ко всему иностранному «гордой грубостью»; на с. 245 он
ставит в уцрек испанцам, что они не знакомятся с другими
народами; на с. 248 он хвалит современных ему немцев за
отсутствие национальной гордости, за гостеприимство в
отношении иностранцев...
Так думал Кант действительный, не «истолкованный» в
угоду толпе, Кант — учитель гуманности и правды. Мы не
согласимся застыть на Канте, мы должны дать свое в
миросозерцании, не осквернение Канта — не путь, а разрушение пути к
правде; это — акт в подлинном духе воинствующего
германизма. Разве не учит нас пример германских шовинистов, что это —
путь преступления, гибели, самоуничтожения! Если упрекать
немцев справедливо, то для этого есть один путь: это — не
грязнить Канта и того, что они дали миру вообще, и поставить
им в вину забвение заветов своих лучших людей, и прежде
всего заветов великого Канта. К сожалению, к горькому
сожалению, сова Минервы, — как говорил Гегель, — часто начинает
свой полет только в сумерках. И вот ученые Германии пошли в
хвосте событий. Они в интересах солидарности и ложно
понятых интересов позабыли о лучшем, что у них есть. Дело не в
германской культуре потому что истинная квинтэссенция
культуры одна, а в отпадении от нее, в измене ей. На долю
России выпало великое счастье бороться за международное
право и справедливость, и нам надо желать не только внешних
побед, но нам жизненно важны внутренние, культурные
победы. Вот почему можно от души пожелать, чтобы вандальские
акты, подобные недавнему набегу на Канта, никогда не
повторялись.
-€^
H. А. БЕРДЯЕВ
К спорам о германской философии
Практическая манифестация германизма в нынешнюю
войну остро поставила вопрос о духовных истоках германской
культуры. А так как философия занимает центральное место
в германской культуре, то возгорелись споры о германской
философии. Возгорелась борьба в московском
Религиозно-философском обществе, и сосредоточилась она вокруг выставленного
В. Эрном тезиса, что агрессивный германский милитаризм есть
детище германского философского феноменализма1. Для Эрна
крайним феноменализмом является не только философия
Канта, но и философия Фихте, Шеллинга и Гегеля. Сторонники
германской философии очень решительно возражали. В этих
спорах чувствовались обычная склонность к схематизму и
упрощению и недостаточное внимание в индивидуальности
духовной действительности. Всего более поражает, что враги
философии Канта обнаруживают в его толковании рабскую
зависимость от неокантианцев. Для них Кант — совершенно то же
самое, что Коген. Но Кант несоизмеримо более сложен и богат.
Неверно характеризовать философию Канта как феноменализм.
Для Канта «Критика практического разума» не менее
существенна, чем «Критика чистого разума», и внутренно определяет
последнюю. Настоящим, последовательным и крайним
феноменалистом был Юм, и феноменализм характерен для
английской, а не для германской философии. В германской
философии всегда была своя онтология и метафизика. Германский
дух — существенно метафизический, и даже сама германская
гносеология, к которой все более сводится философия
последнего времени, — метафизика, сколько бы ни отрицали это сами
гносеологи. И сам феноменализм в германской философии есть
лишь разновидность исконной германской метафизики. Для
германской философии существен и характерен волюнтаризм.
К спорам о германской философии
471
Волюнтаризм же есть особая онтология. Волевой порыв
сознавался германским духом как основа бытия. Волюнтаризм
играет определяющую роль в философии Канта, в его учении о
практическом разуме, об автономии личности, о царстве
свободы. Тот же волюнтаризм есть и у Фихте, у Шеллинга., у
Шопенгауэра, у Гартмана и Древса, Вундта и Паульсена, Виндельбан-
да и Риккерта и мн. др. Волюнтаристические мотивы были уже
даны в старой германской мистике. Раскрытие истины о
волюнтаризме было миссией германской мысли, и она выполнила
ее с односторонностью и крайностью. Германский дух почуял
темный волевой источник бытия, начало иррациональное,
Urgrund. Немецкая философия по-разному, вплоть до Риккерта
и Ласка, раскрывала иррациональное, и в этом она продолжала
дело германской мистики, открывшей бездну в природе самого
Божества (Якоб Бёме). Гносеологический рационализм был
лишь обратной стороной волюнтаристического
иррационализма. И новейшая германская философия, все более мельчайшая,
бессильна была выйти из тисков основного противоречия
иррационального и рационального. Но сама постановка, не
решение, а постановка проблемы иррационального, — заслуга
германской мысли. Этим путем имманентно и до конца
изживалась трагедия познания.
Неисследимый и вечно убегающий от нашего познания
остаток иррационального, безосновного, темного, убиение всякой
индивидуальной жизни в рационализированном познании —
трагедия познания, которую германский дух силен был
раскрыт, но бессилен преодолеть. Это — внутреннее расщепление
в познании, разрыв субъекта и объекта, переживание смерти в
познании. Мистики учат о прохождении через момент
духовной смерти. Это прохождение через духовную смерть есть и в
путях познания человека. Первоначальное целостное
священное знание должно быть разрушено. Расщепление и
дифференциация неизбежны. Невозможно остаться в первоначальном
познавательном благополучии и благодушии, утверждать
изначально здоровое тождество субъекта и объекта. Философия
Канта и есть гносеологическое выражение имманентной*
трагедии познания, прохождение через смерть в познании как
момент развития. В этом я вижу основной смысл кантианства.
* Термины * имманентный» и * трансцендентный» я употребляю в
динамическом, а не в статическом смысле. Статически философия
Канта — трансцендентная, но динамически она есть прохождение
через имманентную трагедию познания.
472
H.A. БЕРДЯЕВ
И от кантовской трагедии познания можно идти только вперед,
нет хода назад, к благополучию докантовского рационализма,
докантовского соответствия познающего субъекта с
познаваемым объектом. Мы не видим истины в кантовской философии,
для нас неприемлем Кант. Но Декарт еще менее приемлем, чем
Кант, но Фома Аквинский и Аристотель еще менее
приемлемы, чем Декарт. Есть неотвратимый процесс развития,
свершения судеб философии в пути от Фомы Аквинского через
Декарта и Канта к нашему времени. Это — процесс секуляризации
познания, параллельный процессу секуляризации всех сфер
культуры. С знания снимается трансцендентная санкция,
которая давала гарантии философии Фомы Аквинского и делала
ее священной. Знание вступает на имманентный, внешне не
гарантированный путь. Так утверждается автономность
познающего субъекта, которая оказывается для него трагической.
Познающий как бы выпал из недр бытия, и начались его
блуждания. Но эти испытания познания были необходимы,
славянофильская философия не хотела считаться с трагедией познания.
Она хотела остаться при первоначальной цельности и
сохранить за философией трансцендентно-религиозную санкцию.
Она утверждалась в познавательном благополучии и в
расщеплении видела лишь отпадение и грех. Но грехопадение лежит в
самих истоках свободного имманентного познания. В познании
есть люциферианское начало. Философия Канта и была
выражением грехопадения в познании, отпадения от
первоначальной цельности. Это не делает ее истинной и не побуждает нас
за ней следовать, но сообщает глубокий смысл философии
Канта в мировых путях познания. Философия Канта должна быть
преодолена. Должен быть найден выход из тех тисков, в
которые попала германская философская мысль. Но нельзя
удерживать мысль в первоначальной цельности, предшествующей
трагедии познания. Из философии Канта и из тисков
рационального и иррационального должен быть найден
имманентный выход. Германский волюнтаризм, заключающий в себе
частичную истину, сам по себе не находит выхода. В нем
заложено семя насильничества. Германский иррационализм всегда
остается несоизмеримым с германским рационализмом. Лишь
признав имманентность познающего бытию и бытийственность
самого познания, философия может выйти на новый путь.
Следует избегать слишком упрощенных схем о германском
духе и германской философии. Германская культура очень
сложна, и в ней есть несколько линий. А начал уже
вырабатываться неославянофильский трафарет о германской филосо-
К спорам о германской философии
473
фии. Имманентизм и феноменализм, отрицание Софии,
оторванность от женственного начала, от земли, от природы — вот
что считают существенным для германского духа и для
германской философии. Об этом постоянно говорят Булгаков, Эрн и др.
Старые славянофилы видели рационализм и дробление духа в
западной философии. Новейшие славянофилы выставляют
более специфизированные тезисы о германской философии. Грех
имманентизма заложен еще в старой германской мистике. Вся
история германского духа — мистика, протестантизм,
классический философский идеализм, и новейшая философия есть
сплошное отпадение от Истины, от Церкви, от земли, от
природы. Великие творческие силы пропали даром, пошли на
служение неправд. Становится почти жутко. В неославянофильских
тезисах о германизме есть что-то верное, схвачены некоторые
черты германской мысли. И, несмотря на это, есть какая-то
большая неправда в оценке германского духа, неправда
убивающего, истребляющего, ненавистнического схематизма.
Нужно совершенно забыть о Якобе Бёме, об Ангелусе Силезиусе, о
Фр. Баадере, о романтиках, о Гете, Гофмане и Нова лисе, чтобы
утверждать, что в германском духе не было встреч с Софией.
Великие откровения о Софии были в германской мистике, и
учение Якоба Бёме о Софии — высочайшая вершина в познании
Софии. А великого безумца Гофмана образ Софии,
вечно-двоящийся, манил так страстно, как никого и никогда. И можно ли
сказать, что нет природы у Парацельса, у Бёме, у Шеллинга?
Германия не только протестантская, но и католическая страна.
Нельзя характеризовать германский дух по одному Канту, и
даже не Канту, а неокантианству. Неокантианство —
небольшое явление, и не следует быть так завороженным им.
Неокантианство есть эпигонство и упадок. Величие германского духа
и его миссию в мире нужно искать в германской мистике —
явлении, исключительном по своей силе. И великая германская
философия — детище мистики, как и великие явления
германского искусства. Германский дух — односторонен, в нем есть
своя ограниченность. В славянском духе скрыты большие
богатства. Но в германском духе были свои подлинные
откровения. Германский имманентизм — явление сложное и глубокое.
Это плод мистической зрелости, религиозной автономии
человека. И следует подчеркнуть, что именно кантианство всего
менее можно назвать имманентизмом *. Кантовская философия
и кантовская религия — трансценденты, а не имманентны.
* Если брать его в статическом разрезе.
474
H.A. БЕРДЯЕВ
Это — крайнее утверждение дистанции между человеком и
Богом и божественной действительностью. Довольно бедная
религия Канта была традиционным трансцендентным теизмом.
Учение о вещи в себе, о непознаваемости ноуменов, разрыв
субъекта и объекта — все это трансцендентизм, а не имманен-
тизм. Имманентизм упирается в глубину мистики,
трансцендентизм — в поверхность позитивизма. Нельзя видеть в Канте
тип чисто имманентной мысли. Именно в Канте было много
трансцендентного.
Можно установить связь новой германской философии с
старой мистикой. Так, например, в «бессознательном» Гартмана
чувствуется Urgrund Бёме, Gottheit Экхарта, которая глубже
Бога. Все иррациональное и волюнтаристическое в германской
философии восходит к древней мистике, открывавшей темный
исток бытия. Германизм бесконечно сложнее и индивиду ал ь-
нее, чем это кажется создателям упрощенных схем,
изобличающим его отпадение от древней истины. Познавать можно
лишь через любовь. Ненавистью можно увидеть лишь
искаженные лики. И нельзя праведно решить вопроса о германской
мистике, о протестантизме, о германской философии, о Лютере
и Бёме, о Канте и Гегеле под гул пушек, в пылу национальных
и политических страстей, на улице и площади. Тут нужно
интимное углубление.
Вполне допустимо и плодотворно устанавливать расовые
типы мышления. Культура глубоко национальна и через
национальный свой характер достигает общечеловеческого.
Германская раса мыслит своеобразно и совсем по-иному, чем мыслит
раса латинская или славянская. Мышление латинское —
догматично или скептично и всегда ясно, всегда пронизано
лучами южного солнца. Мышление германское — критично и несет
на себе печать метафизического севера; оно добывает свет во
тьме, погружаясь в глубину духа. Мышление славянское —
существенно нравственное, практически-религиозное, оно ищет
истину, спасающую мир и людей, истину, неотделимую от
правды. Достижения истины возможны через расовое
мышление, всегда своеобразное и односторонне ограниченное. Разным
народам предназначено раскрывать разные стороны истины.
Но всякое достижение истины по существу сверхнациональное
и сверхрасовое. Нельзя истину оценивать и обсуждать с точки
зрения расы, ее особенностей и ее действий в истории.
Психология расы очень интересна, но психология расы не может
быть оценщиком истины. Скрыта очень большая опасность в
установлении типов расового мышления и расовой культуры.
К спорам о германской философии
475
Истина легко может стать игралищем национально-расовых
страстей. Все достижения германской мысли могут быть
объявлены ложью только потому, что они германские. Так, воля к
борьбе и победе над расой может обернуться равнодушием к
истине и правде. У нас недавно еще немецкую философию
считали хорошей и истинной потому уж, что она — немецкая*.
Теперь ее считают плохой и ложной тоже потому, что она —
немецкая. Наши славянофильствующие философы
устанавливают тип германской философии, германской религии,
германской мистики, который признают греховным и ложным потому
уже, что он — германский. Против этого нужно решительно
возражать. Нельзя истину так подчинять национальному
принципу. Это уже совсем недопустимый психологизм, который
должен привести к полному упразднению философии. Так,
например, пробуют утверждать, что германская мысль всегда
есть имманентизм (в философии, религии, мистике), а всякий
имманентизм есть непременно германизм. Имманентизм
оказывается греховной особенностью германской расы. Таким
методом вопрос об истинности или неистинности имманентизма,
по существу не связанный с национальностью и возникавший
тогда уже, когда не народилась еще германская культура,
растворяется в борьбе национально-расовых страстей. Я думаю,
что можно и должно воевать с германской расой, но
невозможно и недопустимо объявлять войну достижением истины в
германской мысли. А ведь трудно предположить, что в германской
мысли нет достижений истины. Не может быть такой
отверженной, Богом проклятой расы, в которой все было бы
греховным и ложным. Неверно и то, что германская мысль всегда
есть имманентизм. Я уже указывал, что самая характерная для
германизма философия Канта — не имманентна. В германской
мысли достаточно было и трансцендентизма. И само
лютеранство не может быть названо имманентным типом религиозности.
Но остается еще вопрос, в какой мере имманентизм есть истина,
как и всякая истина, независимая от рас и национальностей?
Нельзя отмахнуться от вопроса об истинности имманентизма
тем, что выругать его германизмом. Проблема имманентизма,
как и всякая проблема, должна быть совершенно освобождена
от проблемы расовой.
* Тут я имею в виду не отдельных русских мыслителей, которые и
раньше относились отрицательно к германской философии, а
свойства русского характера.
476
H.A. БЕРДЯЕВ
Наше мышление не должно быть нарочито и надуманно
русским, искусственно избегающим всего германского. Это была
бы большая несвобода, недостаток непосредственной
творческой национальной силы. Германцы совсем не думали о том,
чтоб быть непременно имманентистами, феноменалистами
и волюнтаристами; они свободно мыслили из своей глубины.
И я думаю, что наша русская'мысль существенно и глубоко
отличается от германской. Перед нею стоят иные задачи, иной
дух ее вдохновляет. Наши достижения истины и правды так
же общечеловечны и всемирны, как и в расе германской и
латинской. И мы наиболее национальны, наиболее русские, когда
ищем из своей глубины правды и истины, а не тогда, когда
только русское провозглашаем истинным и праведным, а
германское — ложным и греховным. Настоящая ложь и настоящий
грех германизма — это попытка монополизировать и
национализировать истину и правду, объявить истину германской, а
правду — выражением германской силы. Это есть у
Чемберлена, Древса и других идеологов германизма. На этой почве
развивается безумное самомнение. Тут германский волюнтаризм
вырождается в голое, ничем не ограниченное «хочу». Не дай
Бог нам походить на германцев в этом их национально-волевом
уклоне. Германцы, сознавшие себя единственно избранной,
высшей и чистой расой, обладающей полнотой истины,
совершенно непереносимы, в них нужно стрелять из пушек. Расовое
самомнение и самовлюбленность отвратительны. Германцы
духовно пали на этой почве, и они должны пройти через
нравственное и материальное унижение. Не будем им подражать.
И будем свободны в своих оценках германской философии,
свободны от рабской зависимости и ученической подавленности и
свободны от ненависти и погромного отрицания. Такая
положительная или отрицательная зависимость всегда есть
бессилие. Сила же дается страстной устремленностью к истине и
бесстрашием в переживании трагедии познания, согласием на
познавательное неблагополучие.
<^^
€^
В. ИНСАРОВ
«Нейтралитет» науки
Рядом с упреками по адресу кайзера, прусского юнкерства и
всех практиков и идеологов современной Германии в последнее
время не только на страницах бульварной печати, но и
солидных печатных органов слышатся выпады по адресу германской
философии, германской юриспруденции и других научных
дисциплин, нашедших себе полное и всестороннее выражение
именно в Германии. В современной мировой трагедии, говорят,
виноваты не явные и невидимые, земные и подземные
экономические силы современной Германии, не интересы ее
господствующих классов — аграриев, крупной буржуазии и юнкерства, —
в современной мировой трагедии виноват какой-то особый,
спокон веков существующий германский дух, какая-то особая
германская психология... а поэтому — на скамью подсудимых
великих германских мыслителей и философов, как выразителей
этого особого духа!
В результате великих мертвецов выкапывают из могил, с
ожесточением и ненавистью забрасывают их полемическими
стрелами, применяя к ним все приемы нечестной борьбы, как-
то: приписывают им то, чего они не говорили, извращают их
мысли, делают из их суждений нелепые выводы. Кант
становится на одну доску с Круппом, Ницше — с Вильгельмом II,
Лассаль и Маркс — с Бисмарком. Но ведь центральным
фокусом этической системы Канта является положение: человек и
человечество никогда не должны быть средством, а всегда
только целью; «Крупп» же и все идеологи милитаризма говорят
диаметрально противоположное: человек и человечество
должны быть всегда средством для блага государства; молоху
милитаризма и родной государственности может быть все принесено
в жертву — не только человеческая жизнь, но и человеческая
личность, не только человеческая личность, но и все человече-
478
В. ИНСАРОВ
ство со всей его культурой. (Fiat iustitia, pereat mundus!l) Ницше
и Вильгельм II! Но ведь Ницше проповедывал идею
сверхчеловека, ведь Ницше кровью своего сердца и соком своих нервов
осуждал современного человека, человека — мещанина,
человека — машину, человека — раба (который позволяет,
применительно к современной Германии, кайзеру делать с ним что
угодно); ведь Ницше вполне, можно сказать, пал жертвой идеи о
свободном человеке будущего; Вильгельм же II только неудачно
копирует французского короля Людовика XIV и французского
императора Наполеона I; Ницше учил, что человек сам должен
быть господином своей собственной морали и собственной
совести; Вильгельм же II проповедует господство над чужой
моралью и чужой совестью; Ницше учил, что «человек — это я» (ессе
homo)2, Вильгельм же II повторяет вместе с Людовиком XIV:
«Государство это я!», —Лассаль и Маркс—и рядом Бисмарк!
Но ведь Лассаль и Маркс учили, что классовая борьба, которая
является реальным, непреодолимым фактом далекого прошлого
и современности, которая является исторической
необходимостью, — эта классовая борьба приведет к будущему строю,
основанному на равенстве и справедливости; Бисмарк же, в
противоречии с... идеей Лассаля и Маркса, проповедовал маленькую
идею борьбы за прусскую государственность, борьбы «кровью
и железом».
Итак, если в чем можно сравнить Канта с Круппом, это в том,
что и тот и другой говорили, что «человек должен»; если в чем
можно сравнить Ницше с Вильгельмом II — это, что тот и
другой говорят о «я»; если в чем можно сравнить Лассаля и Маркса
с Бисмарком — это в том, что все они говорили: «нужно
бороться». Аналогия — не доказательство — это уже стало избитой
истиной, но такой аналогический способ мышления, в
результате которого получается целый ряд суждений, где логические
подлежащие тождественны, а логические сказуемые
диаметрально противоположны, такая аналогия приводит к явному
логическому абсурду. И не может не привести: аналогия
должна родиться свободно, естественно; если же аналогию стараются
вымучить из себя, если стараются во что бы то ни стало
приспособить ее к заранее предвзятой мысли, то получится не только
логически ошибочное, но и явно безрассудное, патологическое,
бред. И действительно, один только патологический бред мы
слышим в речах публицистов и философов, господствующих на
страницах печати. До чего только они не договариваются!
Германская техника приносит много бедствий человечеству; но
систематичность в созидании орудий и средств истребления достиг-
«Нейтралитет» науки
479
ла высшей степени своего развития именно в Германии — а
посему долой все систематическое! долой систематическое
мышление, — германская философия выбрасывается за борт, как
вредное; если бы зашла речь о производстве, то, мысля
последовательно, они должны были признать вредным
систематическое урегулированное производство, а здоровым —
производство, основанное на конкуренции, производство хаотическое,
приводящее к промышленным кризисам и потрясениям — тем
более что идея систематизации производства была впервые
научно обоснована великими германскими умами. Я не хочу
теперь спорить по существу, я не хочу доказывать, что является
более ценным в истории отвлеченной философской мысли:
систематическая философия Канта, или эклектизм Кузена; я
полагаю, что inter arma tacent не только leges, но также tacet scien-
tia3 — научные и философские споры должны быть отложены
до того времени, когда прекратится бряцание оружием и
утихнет гром пушек; я хочу только указать, к каким абсурдным
последствиям приводит искусственная аналогия. Ведь исходя
из аналогического способа мышления, германцы времен
наполеоновских войн должны были обвинять во французском
деспотизме великих мыслителей и просветителей Франции,
основываясь на том, что в сочинениях Вольтера и Руссо существует
элемент принудительной государственности. Но по такому пути
не пошел великий философ и патриот Германии: Фихте
призывал нацию к объединению для созидания, а не разрушения; по
такому пути, я уверен, не пошел бы Владимир Соловьев, если б
он был жив. По такому пути пошли только те наши
современные проповедники религиозного созидания, которые были
раньше марксистами, затем от марксизма перешли к Канту, от
Канта к имманентной философии, от имманентной философии
к религиозному мистицизму, от мистицизма к церковному
православию... и здесь они не почили на лаврах: теперь они
проповедуют коалицию православия и католичества против
протестантства, они во что бы то ни стало стремятся придать современной
войне окраску религиозной войны, т. е. хотят повернуть колесо
истории на пять веков назад.
Но в чем же состоит сущность того «дьявольского»
германского духа, который теперь сажают на скамью подсудимых как
главного виновника переживаемой нами мировой трагедии? —
Самым строгим судьей является С. Н. Булгаков: прежде всего
он распространительно толкует понятие «германский дух»,
считая его только высшей ступенью развития «европейского
духа», и именно последний он считает источником всех бед
480
В. ИНСАРОВ
и ужасов, всех катастроф настоящих и грядущих4.
«Необходимо», говорит Булгаков, «глубоко проникнуться сознанием
духовной связности и некоторого единства этой новоевропейской
цивилизации и ее духа, чтобы в ныне совершающемся ощутить
не просто войну, отличающуюся лишь небывалой обширностью
своего театра и кровопролитностью, но и кризис новой истории,
и неудачу дела новоевропейской цивилизации. Ее творческое
начало есть, конечно, дух нового европейского человека (курсив
автора), как он определился в своем отрыве от мистического
центра, в отходе от Церкви и общей секуляризации,
рационализации, механизировании жизни: внерелигиозный гуманизм
и иссушивший, обеднивший и обмирщивший христианство
протестантизм суть два основных русла для этого духовного
потока, который становится все более могучим по мере удаления
от первоначальных истоков».
«Пафос новоевропейской цивилизации», говорит Булгаков
в той же статье («Русские думы», Русская мысль, XII),
«состоит в отречении от своего церковного прошлого, как презираемого
«средневековья», в своеобразном духовном футуризме. Печатью
этого футуризма, который имеет много различных ликов в
новой истории, отмечено самосознание нового человека:
отвлеченное «просветительство», рационализм, эгоцентризм,
материализм теоретический и практический и, наконец, капитализм,
сопровождаемый своей неизбежной тенью — социализмом, как
социологическая проекция того же духа, таковы всем
знакомые черты новоевропейской цивилизации. И порождением
этого футуристического духа является и современная
футуристическая война, руками германцев кощунственно посягающая на
священные памятники и провозглашающая культ силы». И что
же нужно делать, чтобы воскресить мир? Из слов Булгакова
явствует, что нужно стереть с лица земли всю европейскую
культуру — и материальную, и умственную, и религиозную.
Но ведь после этого останется пустота! — Нет, говорит
Булгаков, мир спасет Россия. Никто не сомневается в великой
будущности России. Но в чем она выразится? «Не следует
определять, — говорит Булгаков, — в чем должно выразиться это
творческое призвание России <...> одно несомненно, что
историческое творчество родится из сердца народного, сердце же
России в православии, а потому и русское творчество, как это
хорошо ведомо было Достоевскому, есть раскрытие и
осуществление потенций русского православия».
Воскресают старые времена, старые песни: «Запад сгнил, ех
oriente lux» 5 — ведь о том же твердили на протяжении целого
«Нейтралитет» науки
481
XIX века славянофилы всех видов и толков, славянофилы —
философы, поэты, публицисты и политики. И спорить с такой
идеологией, идеологией, оперирующей исключительно в
области веры и фантастики, значит повторять изжитое, давно
преодоленное.
Глубже пытался проникнуть в сущность «германского духа»
другой судья современности г. Эрн6. По мнению последнего,
германский дух наглядно проявил себя в философии Канта:
отрицая ноумен, т. е. онтологическое, т. е. Сущее, т. е. бытие
само по себе, признавая абсолютную феноменалистичность
всего нашего внешнего и внутреннего опыта, «Критика чистого
разума» оказалась глашатаем чистейшей формы абсолютного им-
манентизма. Правда, Кант признавал понятие «вещь в себе», но
в этом состояло его основное противоречие, блестяще раскрытое
Фихте. «Основные принципы кантовского феноменализма»,
говорит Эрн в своей ст. «От Канта к Круппу» (Русск<ая> мысль.
XII) «были несокрушимой осью всего дальнейшего движения
немецкой мысли: Фихте окончательно разонтологизировал
Природу, Гегель с безудержностью понял все бытие как
абсолютный процесс. Наконец, полувековая коллективная работа
новейшего кантианства дружно установила универсально-им-
манентистские тезисы. Феноменализм Канта для немецкой
мысли есть прочное и научное достояние, несокрушимое
железобетонное завоевание германского духа». А отсюда по
аналогии г. Эрн заключает: если Сущее, иначе говоря «все», не
существует как ноумен, т. е. само по себе, а существует только как
феномен, т. е. для нас, — то значит: все дозволено, ибо все
существует только для вас, — отсюда следует, что германская
философия является идеологией германского милитаризма. «Если
весь внешний опыт абсолютно феноменалистичен, тогда на арене
истории ничего не значит святыня, ничего не значит подлинная
онтологическая Справедливость, ничего не значит
божественный Промысл. — С другой стороны, если феноменалистичен и
внутренний опыт, тогда все императивы и максимы морали
неизбежно превращаются в количественный принцип
гимнастического увеличения «силы воли».
Я не стану спорить по существу поставленных здесь
проблем, но у всякого, кто мало-мальски знаком с историей
философской мысли, появится вопрос, какая же существует связь
между германской идеалистической философией и
специфически германским духом — ведь «имманентизм» и
«феноменализм», этот «смертный грех» германского идеализма, ведет
свое происхождение от совсем не германского, а английского
482
В. ИНСАРОВ
сенсуализма, ведь Кант и Фихте являются потомками Беркли и
Локка: если германский идеализм учит, что сущее само по себе
не существует, существует только наше познание сущего, то
английский сенсуализм учит, что существует только наше
ощущение сущего — в методологии мышления нет никакой
разницы — тот же «имманентизм», тот же «феноменализм», тот же
субъективизм. И не только предки, но и потомки не причастны
к германскому духу: так, современная физика и физиология в
значительной степени построены на «имманентизме» и
«феноменализме» — а положительная наука ведь, наверно, не
связана с чьим-нибудь национальным духом. А поэтому если кого
следует посадить на скамью подсудимых, то только известный
философский и научный метод мышления, метод уж не
национальный, а интернациональный.
Но наиболее рельефное представление о том, к чему
приводит философское пустомыслие, можно получить, сопоставив
ст. г. Эрна и Булгакова с статьей известного французского
философа Э. Бутру «Германия и война» (Вестник воспитания.
1914. № 9). Последний ставит вопрос о связи между немецкой
культурой и немецким варварством и путем разбора немецкой
метафизики выясняет, что «если немцы бессовестно нарушают
в своих приемах в данной войне законы цивилизованного
мира, то это делается не вразрез с их высокой культурой, но,
наоборот, во имя этой культуры». «Германская цивилизация»,
говорит Э. Бутру, «развивалась в духе антагонизма к
греко-римской цивилизации. Если первая избрана Богом, значит, другая
должна быть им отвергнута. Следовательно, самосознание
немецкого народа, осуществленное во всей своей силе, есть
божественное самосознание». В чем же заключается сущность того
учения, которое утверждает, что все немецкое истинно? —
«Это нам объясняют немецкие метафизики и гораздо
очевиднее, чем мы привыкли думать. Сущность этого учения —
оппозиционное отношение ко всему тому, что признается истинным
классической и греко-латинской мыслью. Последняя старается
познавать все истинно человеческое и ставит человека выше
всех других существ; она отыскивает способы, которые
приводили бы к тому, чтобы в человеческой жизни возвышенное
преобладало над низменным, разумное над
бессознательно-импульсивным, истина над грубой силой, добро над злом. Она
поставила себе задачей развивать нравственную силу, способную
смягчать материальную силу и управлять ею». И вот мы
видим, как Э. Бутру, сам того не замечая, желая оспаривать
божественность, т. е. безгрешность самосознания немецкого народа,
«Нейтралитет» науки
483
утверждает божественность, т. е. безгрешность самосознания
своего родного французского народа (как Булгаков утверждает
божественность самосознания русского народа). Ведь Бутру
прекрасно знает, что и во французской действительности, и в
французской философской мысли были темные пятна, ведь он
прекрасно знает, что вслед за эпохой просветительной
философии и революции наступила эпоха Реставрации и католической
философии, вслед за Вольтером и Руссо, проповедниками добра
явились Бональд и Жозеф де Местр, проповедники явного зла.
Но в том-то и дело, что если книги имеют свою судьбу, то
также имеют свою судьбу известные идеи; такую именно судьбу
имеет идея мессианизма, основанная на вере в исключительное
призвание своей родной национальности, стоящая совершенно
вне сферы нормального разума и рассудка, эта идея приводит к
полной аберрации мысли, к явному интеллектуальному и
психологическому дальтонизму.
«Ученики греков, — говорит в той же статье Э. Бутру, —
знали только свет человеческого разума; германский же гений
обладает высшей силой, которая проникает в тайны
абсолютного и божественного. И вот что открыл этот
сверхчеловеческий разум: небытие, материя, зло были несправедливо
обесценены и уничтожены классической мыслью, признававшей
бытие, духовную силу, добро. Что был бы свет без тени, на
фоне которой он становится еще явственнее? Можно ли признать
за подлинное "я", если бы не существовало где-либо "не-я",
которое ему противополагалось бы? Зло не менее необходимо, чем
добро в высшей симфонии целого».
Итак, если г. Эрн видит основное зло германского гения в его
«феноменализме», т. е. в разрыве разума с Сущим, Бутру видит
сущность германской цивилизации в материализме, т. е.
контакте разума с Сущим; если Эрн выводит германскую
утилитарную мораль из феноменалистического мышления, то Бутру
выводит ее из материалистического мышления; и если Эрн
считает германский идеализм «без роду и племени», то Бутру
таковым считает германский материализм и утилитаризм. А между
тем немецкий философский материализм и немецкое
естествознание являются только следствием вековой эмпирической,
позитивной и материалистической мысли в Англии и Франции, а
германская утилитарная мораль ведет свое происхождение от
великих теоретиков английского утилитаризма — Бентама и
Джона Стюарта Ми л ля. — И наоборот, та неудовлетворенность
наукой и стремление найти спасение в религии, то, о чем
теперь столько говорят русские и французские философы, тот же
484
В. ИНСАРОВ
Булгаков и тот же Бутру — о, horribile dictu7, ведет свое
происхождение именно из Германии: я не буду говорить о немецких
мистиках и романтиках, я замечу только, что этот вопрос был
впервые поставлен Кантом в его «Критике практического
разума» — ив результате сверхопытный трансцендентный,
метафизический мир, обреченный было в «Критике чистого разума»,
воскрес из мертвых и снова был призван к существованию.
Таким образом, рационализм преодолел сам Кант, а затем его
преодолевали в течение всего XIX века германские кантианцы
и неокантианцы, развивая и углубляя основную мысль своего
учителя. И если теперь Бутру говорит, что у германцев одна
только «высшая сила — наука, которая подчиняет нам природу
и увеличивает нашу власть до бесконечности», если теперь
Булгаков говорит, что «Германия последовательно, методически и
серьезно принесла в жертву кумиру механизма и рационализма
исконные национальные свои добродетели», то мы видим в
этом не только философскую недобросовестность: в их лице мы
видим не только «Иванов, не помнящих родства», но людей,
совершающих самое страшное из преступлений, духовное
«отцеубийство» — «убийство» тех, которые взрастили их
собственное религиозное мышление, которые воспитали их собственное
религиозное сознание.
Вместе с германской философией подвергается ожесточенной
бомбардировке другая научная дисциплина, обстоятельно
развившаяся в Германии; это юриспруденция. Здесь опять, говорят,
жестокая германская действительность является продуктом
жестокости германского духа, создавшего в лице великого
юриста Иеринга теорию: сила есть право; эта теория, говорят,
является идеологией милитаризма, она санкционирует войну, мало
этого — она оправдывает сопровождающие ее жестокость и
безумие, и это повторяют не только фельетонные публицисты, но
и выдающиеся историки, которым, казалось, не пристало
уподобляться купчихе Островского и как огня бояться таких
страшных слов, как «жупел», «металл» и т. п. Итак,
действительно ли столь чудовищна теория Иеринга, действительно ли
она имеет отношение к современному милитаризму,
действительно ли она является продуктом какого-то особого,
исключительного германского духа? Мимоходом одно формальное
замечание: «друг мне Платон, но больший друг мне истина», — как
мне известно, за исключением небольшой группы молодых
юристов, придерживающихся психологической теории права
Л. И. Петражицкого, большинство русских юристов являются
сторонниками теории великого германского юриста Иеринга.
«Нейтралитет» науки
485
Указывая на цель как на основной элемент права, Иеринг
находил, что главное содержание цели дает интерес: действие без
интереса психологически невозможно, в созидании права
главную роль играет не разум, а воля; критериумом права
представляется не отвлеченная истина, а социальная польза. Но ведь
современное общество состоит из классов, а интересы
различных классов диаметрально противоположны? В ответ на это
идеалисты и утописты советовали и советуют примирить,
солидаризировать противоречивые классовые интересы,
оставляя неприкосновенным классовый институт как таковой;
Иеринг же указывал, что только тот класс, который обладает
силой, экономической и политической, осуществляет право в
собственных интересах; право есть политика силы. И с точки
зрения правды-истины — не правды-справедливости, которая
имеет отношение к области морали и этики, а не науки, —
Иеринг был прав: он явился идеологом господствующего
класса. Как трезвый мыслитель, он теоретически осмыслил и
осветил то, что инстинктивно понимал и чувствовал тот класс,
идеологом которого он является. И практические результаты такого
понимания права со стороны господствующего класса и его
идеологов налицо: в зависимости от силы того или другого класса
эволюционирует государственное и административное право
современных государств (большее или меньшее влияние народа
на законодательство, характер этого влияния, социальное
законодательство, степень политической свободы); в зависимости от
силы того или другого класса эволюционирует гражданское
право современных государств: так, современное гражданское
право до сих пор защищало главным образом интересы имущих
классов; теперь, под влиянием пробуждения самосознания и
силы со стороны экономически угнетенных классов,
замечаются в гражданском праве тенденции к реформаторству:
намечаются реформы в области обязательственного права, семейного,
наследственного. — Вот в чем смысл и сущность теории Иерин-
га: всякая правовая идеология, как бы возвышенна, этична и
справедлива она ни была, остается воздушной отвлеченностью
до тех пор, пока не будет иметь за собой силы определенного
общественного класса, готового бороться за воплощение этой
идеологии в действительность, готового защищать и отстаивать ее
всюду и везде.
И следует обратить особенное внимание на то, что, защищая
свою теорию о силе и праве, Иеринг имел в виду нормальное
государственное и гражданское состояние; что касается
международных вопросов, то они были вне пределов его компетенции.
486
В. ИНСАРОВ
Но и в этой области оправдывается его положение: сила есть
право, на войне сильный всегда побеждает слабого. Вот пример:
до возникновения переживаемой нами мировой войны на
стороне Германии была сила, на стороне Франции — право;
Германия хотела войны, Франция не хотела. Наконец война стала
фактом реальной действительности: Германия, реализируя
свою силу, стремится во что бы то ни стало освятить ее
санкцией права; Франция, отстаивая свое право на национальное и
политическое единство, стремится превратить его в силу. Не
может быть никакого сомнения, что исход войны будет в пользу
Франции: право Франции превратится в силу, а сила Германии
в фикцию, но победит сила и только сила.
Итак, мы видим, что нет ничего чудовищного в теории
Иеринга, в его теории нет санкции милитаризма. Вообще в его
теории, как чисто научной, нет субъективной оценки (что
хорошо и что плохо), есть только объективный диагноз (что есть).
А если назвать милитаристом всякого, кто утверждает, что
сила всегда побеждает, то самыми крупными идеологами
милитаризма следует признать Мальтуса и Дарвина, потому что и
тот и другой смотрели на жизнь как на арену жестокой борьбы
за существование и систематически обосновали ту мысль, что в
жизненной борьбе побеждают наиболее сильные.
Поэтому нет ничего удивительного, что ту же точку зрения,
какую защищал буржуазный идеолог Иеринг, отстаивал также
борец за идею рабочего класса Фердинанд Лассаль
(впоследствии ее научно обосновывал Энгельс в своем «Antidiiring'e» и
Антонио Лабриола в своем трактате о «Материалистическом
понимании истории»)8. По мнению Лассаля, конституция, т. е.
право есть не продукт отвлеченного разума и абстрактной
идеологии, а «соотношение общественных сил», иначе говоря,
право является не чем иным, как политикой силы; и обладает
правом, говорит Лассаль, только тот, кто всегда готов защищать
его от всяких посягательств извне. Правда, между идеологией
Иеринга и идеологией Лассаля есть большое различие, но это
различие то же, какое существует между буржуазными
экономистами и марксистами по вопросу о ценности капитализма:
пока вопрос идет о непреодолимости и неизбежности развития
капитализма в настоящем, буржуазные экономисты и
марксисты, стоя на одной и той же объективной точке зрения
исторического сущего, а не должного, отстаивают одну и ту же мысль —
против народников и субъективистов, вообще сторонников
идеи отвлеченной справедливости и взгляда на социологию
исключительно как на «ценность»; когда же вопрос заходит о
«Нейтралитет» науки
487
судьбах капитализма в будущем, пути расходятся: в то время,
как буржуазные экономисты, следуя заветам Адама Смита,
Рикардо и Мальтуса, смотрят на капитал как на категорию
абсолютную, вечную, марксисты, следуя заветам Маркса и
Энгельса, смотрят на него как на категорию переходную,
историческую. Точно так же Иеринг полагал, что при всяком
общественном строе право будет определяться силой: он был идеологом
господствующего класса; Лассаль же учил, что право
обусловливается силой только при определенных общественных
отношениях, рождающих соответствующую этим отношениям
классовую и индивидуальную психологию; когда же, выражаясь
языком символов, люди будут жить «по предписанию разума»,
то и право будет определяться «одной только мощью разума».
Лассаль был идеологом угнетенного класса, идеалы которого не
в настоящем, а в будущем.
В истории развития правовой мысли теория Иеринга
является поворотным пунктом от старых воззрений к новым и
поэтому занимает в ней выдающееся место: являясь реакцией
позитивизма против идеалистического направления и метафизики в
праве, эта теория сыграла такую же роль в юриспруденции,
как позитивизм Конта в философии, как дарвинизм в
биологии, как марксизм в социологии. А говорить о том, что эта
теория является продуктом исключительно германского духа, не
выдерживает критики ни с исторической, ни с философско-пси-
хологической точки зрения. О том, что «каждый человек имеет
столько права, сколько мощи», еще за несколько веков до
Иеринга учил в своем «Политическом трактате» (Гл. И. Об
естественном праве) Спиноза9; «из этого следует, — продолжал
он, — что право и строй природы, под которым все люди
рождаются и большей частью живут, не запрещают ничего, кроме
того, чего никто не хочет и никто не может — ни распрей, ни
ненависти, ни гнева, ни хитростей, и ни одно влечение не идет
вразрез с ним». С таким мужеством говорить людям правду в
глаза мог только.величайший проповедник величайшей
морали, человек, которому совершенно чуждо столь свойственное
человеческой психике лицемерие. «Каждая естественная вещь, —
говорит Спиноза, — имеет от природы столько права, сколько
имеет мощи для существования и действования. <...>
Естественное право всей природы и, следовательно, каждого
индивидуума простирается дотоле, доколе простирается их мощь.
<...> Если бы с человеческой природой дело обстояло таким
образом, что люди жили бы по предписанию разума и не
уклонялись в сторону, то право природы, поскольку оно рассматрива-
488
В. ИНСАРОВ
ется как свойственное человеческому роду, определялось бы
одной мощью разума». И нам, действительно, «хочется, чтоб
все направлялось по предписанию нашего разума». Но жизнь,
как видно, не сообразуется с желаниями людей: от желания до
реальности, от должного до сущего целая пропасть. «Ив
результате, — признается Спиноза, — люди следуют скорее
руководству слепого желания, чем разума: и потому естественная
мощь или право людей (курсив Спинозы) должны дефиниро-
ваться не разумом, но тем влечением (appetitu), которое
определяет их к действию и которым они стараются сохранить себя».
Если в своей «Этике» Спиноза учил о нравственно должном, то
в своем учении о праве он говорил о том, что есть.
И на ту же точку зрения по отношению к праву стал
впоследствии великий французский мыслитель Жан-Жак Руссо.
В своем знаменитом «Общественном договоре» 10, в главе «О
праве сильнейшего» Руссо говорит: «Никогда самый сильный не
бывает достаточно силен, чтобы всегда быть повелителем, если
он не превратит свою силу в право, а повиновение — в долг.
Отсюда — право сильнейшего, по-видимому, право,
употребленное в ироническом смысле, а в действительности возведенное в
принцип. Но объяснят ли нам когда-нибудь это слово? Сила —
это физическая мощь; я не вижу, какая мораль может быть
результатом ее проявлений. Уступить силе — акт необходимости,
а не воли; самое большее — это акт осторожности. — Допустим
на минуту это мнимое право. Я говорю, что из этого произойдет
только невообразимая галиматья, так как, раз сила создает
право, следствие изменяется вместе с причиной; всякая сила,
превышающая предыдущую, наследует и ее право. Раз только
можно безнаказанно не повиноваться, это можно делать
законно, и так как самый сильный всегда прав, то дело только в том,
чтобы суметь стать самым сильным. Что же это за право,
которое погибает, когда прекращается сила? Если нужно
повиноваться насильно, нет необходимости повиноваться по долгу,
и как только нас не заставляют силой повиноваться, мы более
и не обязаны делать это. Мы видели, следовательно, что это
слово "право" ничего не прибавляет к силе; оно здесь ничего не
обозначает».
Наконец, венцом всех этих систем является теория
англичанина Дарвина — грандиозное философско-биологическое
обоснование той же теории, которую защищали Спиноза и Руссо:
в борьбе за существование, являющейся основным фактором
жизни, как растительной, так и животной, вымирают наиболее
слабые, а выживают наиболее приспособленные, т. е. сильные.
«Нейтралитет» науки
489
Дарвинизм впоследствии стали применять к социологии —
явился целый ряд социологов-дарвинистов, прямолинейных
и не прямолинейных, как среди немецких, так и французских
и английских ученых.
Итак, мы видим, то воззрение, что теория Иеринга является
продуктом исключительно германского духа, не выдерживает
никакой критики с исторической точки зрения; но оно не
выдерживает также критики с философско-психологической точки
зрения: во-первых, та теория, что политический строй данной
страны, ее право, ее наука являются продуктом специфически
национального духа, эта теория потеряла всякий кредит в
науке; во-вторых, такая теория приводит к оригинальным
парадоксам: вот, например, французский психолог Лебон в своей
книге «Психология масс и народов» и с помощью исторических
фактов доказывает, что французская психика (не немецкая, а
французская!!) восприимчива к деспотизму: в доказательство
он приводит примеры из истории дореволюционной Франции,
а также послереволюционной; он упоминает якобинство,
бонапартизм, орлеанизм. Но ведь мы имеем совсем другое
представление о французском народе, ведь мы знаем, что французы,
по словам Гейне, любят свободу как невесту — бурно и
страстно, в то время как немец, выражаясь словами того же Гейне,
любит свободу как жену, а англичанин — как бабушку, ведь
мы знаем на самом деле, что французы — самый свободный по
своему психическому складу народ в мире не только в
политике, но и в других областях жизни. — Такова судьба
парадоксальных мыслей, такова судьба парадоксальных теорий!!
Нет ни одной страны, нет ни одного народа, нет ни одного
человека, которые бы не принимали активного или пассивного
участия в переживаемой нами мировой трагедии. И нет ничего
удивительного, что даже высшие представители науки и
искусства всех стран и народов не смогли остаться нейтральными и
отнеслись к переживаемым событиям с известным
национальным пристрастием. Но есть одна великая, я скажу,
величайшая держава мира, по отношению к которой следует
соблюдать строгий нейтралитет, — это наука: никто не имеет права
объявлять войну науке, философии и искусству данного народа
только потому, что они созданы гением врага. Довольно и того,
что гибнет материальная культура, труды веков и поколений, —
пусть хоть духовная культура останется неприкосновенной.
~ê^
H. A. БЕРДЯЕВ
Эпигонам славянофильства
I
За всю мою литературную деятельность я никогда не
вступал в личную полемику, никогда не отвечал на
многочисленные на меня нападки, не восставал литературно даже против
явного искажения моих мыслей. Я всегда был
принципиальным противником личной полемики, никогда не верил, что она
может способствовать выяснению истины и что она может быть
поучительной для читателей, — и для В. Эрна* я не считаю
нужным делать исключение. Только идейный спор считаю я
достойным писателя и мыслителя. Возможны еще интимно-
психологические разговоры, но они предполагают большую
тонкость, сложность и интуитивную одаренность. Скажу
только, что Эрн совсем не осведомлен о моей литературной
деятельности и о моем духовном развитии. Но мой спор с Эрномг и его
идейными соратниками о славянофильстве и русском
национальном сознании может иметь большое значение, — он очень
актуален в нынешний час истории. И я хочу сказать Эрну, как
этот спор нужно вести, чтобы он был интересен и важен не
только для нас и наших домашних счетов. К сожалению,
полемическая статья Эрна носит совершенно личный характер.
В ней ничего не сказано по существу о тех мыслях, которые я
высказал в своей статье «О "вечно-бабьем" в русской душе» **.
Никакого принципиального спора нет. Эрн ничего мне не
возразил. Он применил старый и испытанный прием унизить
личность противника, подорвать к нему доверие.
* См. его статью против меня: Бирж<евые> вед<омости>. 30 января.
** Бирж<евые> вед<омости>. 14 и 15 января.
Эпигонам славянофильства
491
В настоящее время такой дует ветер, что очень легко быть
славянофилом и националистом. Но я, много лет писавший о
национальном сознании и высоко оценивший значение
славянофильства в истории нашего самосознания (я написал книгу о
Хомякове2), теперь переживаю то, что Вл. Соловьев переживал
в 80-х гг., когда он писал свой «Национальный вопрос к
России»3, — мне неприятно плыть по ветру, и я вижу опасность
для России от такого плавания. Также и расправа с Кантом в
данный момент мне кажется слишком выгодной и легкой. Я не
последователь германской философии и давно уже вскрывал ее
грехи*, но погром германской философии сейчас может быть
слишком улично популярен4. Суд над Кантом должен
твориться вне уличного шума и базарных страстей.
Как русский человек, любящий свою родину, болею и о том,
что в русской душе есть «бабье». И я хочу для своей родины и
для ее великого будущего, чтобы в ней креп мужественный дух
и чтобы она освободилась от внутреннего и внешнего рабства.
Даже в бунте против России может быть больше русского, чем в
доктринерском преклонении перед Россией Эрна! Бакунин был
более русским по духу, чем Эрн со своим доктринерским
славянофильством. Философическое письмо Чаадаева, в котором он
сказал страшные вещи о России и отрицал ее, как никто
никогда не дерзал отрицать, было русским делом, великим актом
русского самосознания. Непонятно, почему Эрн идейный
вопрос о необходимости для России мужественного духа перевел
на чисто личную почву и превратил в вопрос о моей
мужественности или женственности. Мужественная ли у меня природа
или не мужественная, это не имеет прямого отношения к тому
моему твердому сознанию, что русскому народу необходима
мужественность и что ему не хватает мужественности в его
отношении к государству. Когда я писал статью «О "вечно-бабьем" в
русской душе», меня интересовала судьба России, и сам
Розанов интересовал меня как отражение некоторых черт, которые
есть и в самой России и которые опасны для России. И я считал
плодотворным и интересным спор о России и ее судьбе, о
мужественном и женственном в русской душе, а не обо мне и не об
Эрне. Я не делал личных сопоставлений Булгакова, В. Ивано-
* Еще в 1904 г. я напечатал в «Вопр[осах] филос[офии] и
психологии]» статью «О новом русском идеализме», в которой
противополагал онтологизм русской философии трансцендентализму
философии немецкой.
492
H.A. БЕРДЯЕВ
ва * и Эрна с Розановым. Я умею делать индивидуальные
различия и хорошо знаю, как мало походит Эрн на Розанова. Но
я думаю, что общественно и сверхлично Булгаков, В. Иванов
и Эрн попадают в то же течение, тот же
национально-стихийный порыв ветра, что и Розанов. Если бы они имели смелость
до конца раскрыть свои религиозно-общественные и
религиозно-государственные верования и упования, то это стало бы
ясно. Но у них не хватает на это смелости. Может быть, Эрн
лично и очень мужествен, это меня не касается, но его
сознание о России совсем не мужественное. Его несут события, и он
склоняется перед стихией и ставит ее выше личности, ее воли
и активности. В национальном самосознании природное у него
преобладает над лично-человеческим.
II
Совсем не понятно, почему Эрн обвиняет меня в том, что я
ничего существенно не сказал о православии, и требует, чтобы
я прямо сказал, что я имею против православия. В моей статье
ничего о православии не говорилось, кроме указания на то, что
с православием Розанов ничего общего не имеет и связан с ним
лишь бытовыми грехами православных людей. Тема моей
статьи совсем иная. Напрасно Эрн думает, что задеть его значит
задеть православие. Православие, как великая мировая сила, и
доктрина Эрна — вещи совершенно несоизмеримые. Чувствую
Эрна не столько православным, сколько протестантским
пиетистом, методистом или спасенным баптистом. Религиозность
его — совсем не русская. Такой безоблачности не бывает на
нашем русском небе. В Эрне нет ни русского смирения, ни
русского бунта. Важен духовный тип-человек, его мироощущение.
И вот тут боюсь, что у Эрна слишком мало православного
и русского. Ничего плохого в этом нет, но не нужно всем
колоть глаза своим православием и славянофильством.
Эрн совершенно невпопад заговорил о православии, о
котором и речи не было, вместо того, чтобы говорить о вопросах, о
которых, действительно, была речь в моей статье. Эти вопросы
я и хотел бы поставить Эрну, как и Булгакову и В. Иванову.
Первый вопрос, затронутый в моей статье, очень важен для
судьбы России, и спор о нем очень желателен. Это — вопрос
* Должен оговориться, что В. Иванов как поэт и теоретик искусства
стоит выше всего этого, вне всех этих направлений.
Эпигонам славянофильства
493
о том, должно ли быть и может ли быть в России возрождение
славянофильства? Я выставляю такой тезис: славянофильство
и западничество одинаково должны быть преодолены в
творческом национальном самосознании. Этот тезис я решительно
высказал уже в своей книге о Хомякове *5. Вся история русской
мысли XIX века была наполнена распрей славянофильства и
западничества, и через распрю эту в муках рождалось наше
национальное сознание. Но и славянофильство, и западничество
были еще выражением национальной незрелости. В
славянофильских и западнических идеологиях был какой-то
провинциализм, который должен быть преодолен. Уже В. Соловьев
делает огромный шаг вперед по сравнению со славянофилами и
западниками. И я хотел бы продолжать его традицию в
национальном вопросе. А в прошлом Чаадаев мне не менее дорог,
чем Киреевский и Хомяков.
Значение нынешних мировых событий для русского
сознания я понимаю, прежде всего как конец старого
славянофильства и старого западничества, как начало новой эры. После
мировой войны старое противоположение Востока и Запада
потеряет свое значение. Россия окончательно войдет во
внутренний круговорот жизни Европы и раскроет для Европы свои
великие духовные потенции. И те, которые хотят сохранить и
возобновить старое славянофильство, по моему убеждению,
тянут Россию назад и вниз. Все основные тезисы
славянофилов — об исключительном значении восточного христианства
по сравнению с западным, об отношении к западной культуре,
об отношении народа к государственной власти, о связи
религиозного призвания России с ее бытовым укладом, — должны
быть радикально пересмотрены и изменены новым
национальным сознанием. Эрн, по-видимому, думает, что нужно
выбирать: или славянофильство, или «Кизеветтер», третьего
ничего нет6. Я вижу в статьях Эрна, Булгакова, В. Иванова
реставрацию дурного славянофильства, не вечного, а ветхого в
славянофильстве. И в этом я вижу большую опасность для
России, с которой нужно бороться, подобно тому как Вл. Соловьев
в 80-е годы видел большую опасность в националистическом
вырождении славянофильства. Славянофильство теперь может
быть лишь упадочным, а упадочность может отравить трупным
ядом. То, что было ценного и непреходящего в
славянофильстве, давно уже отделилось от славянофильской оболочки и
живет самостоятельной жизнью. И в нынешний исторический
* См.: «А. С. Хомяков». Изд. «Путь».
494
H.A. БЕРДЯЕВ
час, когда мы ждем нового для мировой жизни, реставрация
славянофильства есть духовная реакция, реакция в
глубочайшем смысле слова. Последствия этой реакции немедленно дают
себя знать на практике. Пусть Эрн и его единомышленники
прямо выскажут свои тезисы по вопросу о славянофильстве,
ничего не прикрывая и не замалчивая. Пусть до конца выскажут
свои упования. Не нужно либеральных условностей, которые
остались, как привычка, приобретенная в том обществе, в
котором приходилось жить и с которым они не решаются порвать.
III
У С.Булгакова в статье «Родине», напечатанной в начале
войны в «Утре России», проскользнуло что-то более последнее,
более окончательное7. Потом, по-видимому, он сам этого
испугался. Но хорошо было бы раскрыть до конца то, что там было
сказано лишь в виде лирических возгласов. Тут я подхожу к
другому основному вопросу, поднятому моей статьей, вопросу
об отношении русского народа к государству. Национальная
зрелость и возмужалость русского народа есть также и его
государственная зрелость и возмужалость, т. е. окончательное
сознание того, что русское государство есть «ныне»
государство, государство русского народа, выражение всенародной
власти и силы. Государство не есть предмет поклонения и
мнения, не есть даль и высь, не есть инородная сила, которой
нужно служить, а есть функция народной жизни, имманентное
выражение народной воли. Розанов проповедует поклонение,
почти обоготворение государственной власти как мистического
факта и мистической силы. И в этом есть что-то характерно
русское и опасное. Этот уклон есть и у Булгакова, и у многих
выразителей «русского направления». В этом обнаруживается
не мужественное отношение к государству и власти, вечный
русский соблазн покорности и растворения, отдания себя
чужой воле. Эту проблему можно выразить философски: нужно
ли традиционное религиозное освящение государственной
власти или имманентное человеческое развитие? Первый путь я
считаю ложным в период возмужалости народа и для России
опасным. По этому пути движется «направление» Булгакова,
Эрна, св. П. Флоренского. Они ищут в государстве священства
по аналогии со священством в Церкви, для них
государственная власть есть ангельское начало. Этому решительно нужно
противопоставить понимание государственной власти как нача-
Эпигонам славянофильства
495
ла человеческого, со всей относительностью природно-истори-
ческого процесса.
Это путь секуляризации государства, снятия с него
трансцендентного освящения во имя имманентного его
преобразования и преображения в общественность, освящаемую изнутри
человеческого духа и через его творческую активность.
Булгаков мечтает о «теократии белого царя». Это путь религиозного
сервилизма, поддерживающего и сервилизм общественный. Об
этом нужно открыто говорить и спорить. Трансцендентное
освящение государственной власти есть состояние младенчества и
источник рабства. Духовная зрелость переходит к имманентно-
свободному освящению общественной и государственной
жизни из глубины духа. Духовная эмансипация личности в России
должна порвать связи и узы, налагаемые на дух человеческий
религиозным материализмом, обоготворением
объективно-телесного, материально-относительного, как абсолютного. Вся
относительная материальная и историческая жизнь должна
быть свободна, автономна, должна направляться религиозно-
имманентно, а не религиозно-трансцендентно, духовно, а не
литературно. Для трансцендентного сознания
государственность остается тем, чем была «конница» для Розанова на
тротуаре. Для имманентного сознания — мы сами конница. Вот
проблема, поставленная мною, и это важнее мелких счетов
Эрна. Тут есть серьезная вражда, столкновение разных духов.
Хотят ли Булгаков, Эрн, В. Иванов, чтобы русский народ
невестился по отношению к государственной власти или хотят,
чтобы русский народ сам был мужем, сильным и властным, по
отношению к земле своей? Вот мой вопрос.
С этим связано и то, как должно относиться к России, к
родине? Я думаю, что отношение Эрна к России есть создание
себе идеала и кумира. Религиозно недопустимо говорить, что
русская душа предвечно уже обручена с Женихом своим
Христом. Обручение с Христом русской земли еще впереди, это —
задача, а не факт, не данность. Святая Русь — религиозный
идеал, а не идол и не кумир. Человек — свободен и душа
России свободна и потому стоит перед ней творческая задача, дело
ее активности.
Если судьба России предрешена и нет для нее опасности
падения, то нет свободы, и перед активной волей ее не стоит
никакой задачи и никакого идеала. Так идеалы подменяются
идолами. Онтологическое утверждение предвечного обручения души
России с Христом есть источник духовной реакции,
пассивности и расства. Вл. Соловьев вопрошал Россию, каким она хочет
496 H.A. БЕРДЯЕВ
быть Востоком. «Востоком Ксеркса или Христа?» И это было
истинно христианское вопрошание. Утверждение же Эрна —
истинно мусульманское. Прикрытое платонизмом поклонение
России как факту и силе есть сотворение себе кумира. Это
серьезная помеха на пути мужественного осознания великих задач
России, великих идеалов, к осуществлению которых она
призвана, на пути созидания новой лучшей России. Как
противоположно это чувство любви к заложенной в душе России жажде
совершенства и правды! Эрн, Булгаков, Иванов, как и Розанов,
чувствуют родину исключительно как мать, т. е. хотят любить
ее безответственно. Но, по прекрасному выражению Герцена,
родина есть дитя. И только любовь к родине как дитяте есть
любовь ответственная, любовь мужественная и творческая.
Любовь к родине — матери есть наше исходное, кровное,
подсознательное, не доктринерское, а любовь к родине — дитяти
связана с нашим мужественным сознанием и с нашей творческой
активностью. И еще один вопрос ставлю я нашим
неославянофилам. Может ли апокалиптическое признание России,
связанное с конечным периодом мировой истории, быть обосновано на
ее историческом бытовом укладе, церковном, национальном и
общественно-государственном? Не предполагает ли всякая апо-
калиптичность и конечность катастрофический отрыв? Не в
России ли страннической, скитальческой, духовно голодной
заключены потенции великого мирового призвания? Думаю,
что с бытовым благодушием старого славянофильства мы уже
ничего общего иметь не можем.
<^5^
-<Ξ5-£Η
Вяч. ИВАНОВ
Живое предание
Говорят о возрождении славянофильства и в примерном
перечне «неославянофилов» (или, как обзывает их
Н.А.Бердяев, — «эпигонов славянофильства») провозглашают и мое имя.
Я не ищу этого славного памятью былых его носителей
родового титула, но не боюсь и связанных с ним подозрений,
прилепившегося к нему odium'a*. Я просто не знаю, отвечает ли
состав моих взглядов этому наименованию. Во всяком случае,
крайняя нелюбовь моя к положениям, могущим казаться
двусмысленными, побуждает меня, последовав обращенному ко
мне приглашению, выяснить мое отношение к лозунгам,
признаваемым славянофильскими, и этим удовлетворить
настойчивое, по-видимому, желание и Н. А. Бердяева и лиц, ему
вторящих, — желание вывести на свежую воду наши «реакционные»
стремления, таимые под «прогрессивною» маской**.
ненависти (лат.).
«Реставрация славянофильства есть реакция в глубочайшем
смысле слова. Последствия этой реакции немедленно дают себя знать на
практике. Пусть прямо выскажут свои тезисы о славянстве,
ничего не прикрывая и не замалчивая... Не нужно либеральных
условностей» (Бердяев Н. Эпигонам славянофильства // Бирж<евые>
вед<омости>. 1915. 18 февраля. — «Если бы они имели смелость
до конца раскрыть свои религиозно-общественные и религиозно-
государственные верования и упования, то это стало бы ясно. Но у
них не хватает на это смелости» (Там же). — «Автор справедливо
указывает, что новейшие эпигоны славянофильства, выступая под
прогрессивным флагом, в сущности, зовут туда же, куда зовут
представители открытой реакции... Они не могут предъявить ему
отвода взаимного непонимания» и пр. (Русские ведом<ости>.
1915. 21 февраля (о статье Бердяева)2.
498
Вяч. ИВАНОВ
Да и то сказать: окажись в самом деле в общем
идеологическом запасе, с которым мы вступаем в новую созидательную
эпоху, открываемую нам войною, некое славянофильское
наследие или, если угодно, некие пережитки славянофильства,
весьма уместно в этом наследии или пережитках разобраться
толком: в них может найтись нечто или высокоживотворное,
или крайне вредоносное,— а может быть, и то и другое зараз.
Вот Вл. Эрн самим заглавием своей острой книги о войне1
утверждает: «время славянофильствует», — время, заметьте, а
не люди, т. е. смысл событий, сила вещей, разум истории. Как
же относится к этому сверхличному разуму наш разум
личный, к этому стихийному движению наше свободное
самоопределение?
II
Что именно служит критерием славянофильства, — этого
никто в точности, по-видимому, не знает. Между тем, если мы
не хотим злоупотреблять этим именем, нам надлежит
условиться о критерии. Повторяю, что я нисколько не желал бы,
чтобы старинному умонастроению или пафосу было
искусственно сообщаемо подобие жизни, которая бы не заключалась
внутренне в нем самом. Но убежден, что не умерло и не умрет
то существенное в славянофильстве, что можно означить
словами: вера в святую Русь. Однако со мной нелегко согласятся,
что эта вера и есть критерий истинного славянофильства, что
все остальное не составляет его отличительных признаков и
должно быть сочтено за временные и преходящие оболочки
простого и всегда себе равного зерна. Не согласятся и потому,
что вера эта кажется общим достоянием как славянофилов, так
и весьма многих из их противников. Но здесь мне приходится
удивить не одного читателя своеобразием своих расценок и
распределений, признавшись, что Вл. Соловьев, например, в моих
глазах славянофил quand-même, а Лев Толстой в самом
существе своем — западник.
Что же такое «вера в святую Русь»? Прежде всего — вера.
Верить можно только в то, чего прямо не видишь и не
осязаешь, чего и доказать нельзя. Всякий знает, что есть церковь
как организация вероисповедного коллектива; между тем
нужно быть верующим, чтобы произносить в Символе веры слова
«верую в Церковь». Итак, вера в Русь есть утверждение бытия
Руси как предмета веры. Ее исповедует Тютчев, говоря: «в Рос-
Живое предание
499
сию можно только верить». Земля русская и русский народ
принимаются здесь не как очевидность внешнего опыта, но как
сущность умопостигаемая. Бытие, им приписываемое, не есть
только существование в явлении, но метафизическая
реальность. Славянофильство прежде всего — метафизика
национального самоопределения, и притом — метафизика
религиозная: Русь умопостигаемая есть Русь святая.
Соблазнительно ли, что старинная идеология
славянофильства испытала могущественное влияние метафизики
германской? Но ведь и прекрасный лебедь, прослывший на птичьем
дворе Гадким Утенком, только от лебедей научился, что есть на
свете лебеди и что лебедь он сам. Суть дела не в том, что
воздействие шло из Германии, а в том, что у западных наших соседей
оказалась метафизика. Не замедлил, однако, открыться для
славянофильства и другой, чистейший источник умозрения —
в метафизике восточно-церковной, хранящей
неприкосновенным древнее предание платонизма, и только проникновение к
этому источнику дало славянофильской идее внутреннюю
мощь, незыблемые глубинные устои. Во всяком случае,
позитивизму, материализму и другим направлениям мысли,
отрицающим ноуменальное в явлении и реальность идей, нечего
было делать со славянофильскою метафизикой. Для
беспримесного западничества Русь была только феноменом, и вера в нее
значила совсем другое, чем для славянофилов: это была
запечатленная героическими усилиями любви надежда на ее грядущее,
свободное бытие, благоденствие, величие, культурное
процветание, — быть может, твердая уверенность в этом предстоящем
расцвете. Душа России для западника — понятие
психологическое, не онтологическое; она — эмпирический характер
народа. Глазам славянофила русская душа предстоит как
мистическая личность, для которой все исторические, бытовые,
психологические определения суть только внешние облачения,
временные одежды плоти, преходящие модальности ее
сокровенного, бессмертного лика, видимого одному Богу.
III
Что сокровенный лик Руси — святой, это есть вера
славянофилов, и в самой этой вере нет национального надмения. Она не
исключает чужих святынь, не отрицает иных святых ликов и
народных ангелов в многосвещнике всемирной Церкви, в
соборности вселенского богочеловеческого тела. Напротив, она логи-
500
Вяч. ИВАНОВ
чески их предполагает, ибо зиждется на признании общего
закона мистической реальности народных лиц.
Должно оценить по достоинству характерную черту нашего
славянофильства, что никогда не переступало оно едва
приметной границы, отделяющей вышеописанную веру от так
называемого мессианизма, никогда не отождествляло богоносного
призвания Руси с притязаниями боговоплощения. Русский народ
мыслится богоносцем так, как богоносец, по православному
учению, и всякий человек, имеющий воскреснуть во Христе и
неким таинственным образом обожествиться (θεώσις). Но
только древнему Израилю дано было родить Мессию. С другой
стороны, вера в святыню умопостигаемого лика предрешает
жертвенную готовность отвергнуться ради него от всех, земных,
изменчивых и тленных обличий и личин; ибо только святая
Русь — подлинная Русь, Русь же не святая — и не Русь
истинная.
Здесь умозрение, обостряясь до интуиции и возгораясь неиз-
рекаемым опытом сердца, находит себе созвучное
подтверждение в заветных верованиях народа: замыкается круг, и
мудрость духовных вершин национального сознания встречается и
совпадает с вещими предчувствиями народной души. Поиски
Руси невидимой, сокровенного на Руси Божьего Града, церкви
неявленой, либо слагаемой избранными незримыми
строителями из незримого им самим камня на Святой горе, либо таимой
в недрах земных, на дне ли светлого озера, в серединных ли
дебрях, на окраинах ли русской земли, не то за Араратом, не то
за другими высокими горами, — эти поиски издавна на Руси
деялись и деются, и многих странников взманили на дальние
пути, других же на труднейшее звали, не пространственное, но
духовное паломничество. Так, святая Русь, становясь
предметом умного зрения, как в бытийственной тайне сущая,
являлась созерцателям этой тайны чистым заданием, всецело
противоположным наличному, данному состоянию русского мира.
«Не имамы зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем».
IV
Но тут именно славянофильство и кажется наиболее
уязвимым. Разве все его стремления не клонились именно к
возведению града, здесь пребывающего? Не хотели ли славянофилы
уверить нас именно в том, что здесь пребывающий град и есть
град чаемый, прикрепить нас и прилепить сердцем к русской
Живое предание
501
данности, как к Руси святой? Так думает большинство, и,
чтобы показать несправедливость этого приговора, нужно
рассмотреть содержание обвинения по существу и степень его
приложимости к представителям славянофильства — исторически.
Мы сделаем это с тою краткостью, какую предписывают
границы статьи.
Утверждение мистической реальности, просвечивающей
сквозь видимое, может соблазнять к отрицанию последнего,
как облака, застилающего истинное бытие,— к отрицанию
теоретическому, обесценивающему низшую реальность, и к
отрицанию практическому, побуждающему проклясть всю земную
действительность во имя того божественного, что она собою
заслоняет. .
Это есть уклон не мысли только, но и сердца; но повинны в
нем были разве лишь немногие «отщепенцы» в народе из всего
множества «взыскующих Града». Огромное большинство
твердо верило, что, хотя бы на Руси грехов было, «что на сосне
смолы», тем не менее Русь святая и Церковь невидимая
неотделимы от видимой и грехом оскверненной Руси: они — ее душа,
корень, глубь, и никогда не переводящиеся на лице земли
русской, хоть и неведомые миру, святые служат живою связью
между этими глубинами и наружною поверхностью, живым
залогом, что внутренний лик земли нашей просияет из глуби
сквозь искаженные грехом черты обличья тленного.
Не иначе чувствует это соотношение между умопостигаемою
сущностью и явлением живая любовь: на вечное в любимом
устремляет свой взор истинная любовь, но это вечное провидит
в самом временном, малом и смертном и все оправдывает в
последнем, кроме греха, как чего-то чужого и не принадлежащего
к его подлинной сущности; зато все, от греха очищенное, как
бы ни казалось оно случайным, принимает и утверждает и
этим приятием, оправданием и утверждением приобщает к
бессмертию. Истинно русское мироощущение всецело зиждется
на предварении в сердце тайны всеобщего воскресения.
Поэтому чисто славянофильскую «установку» взгляда на Русь
выразил Тютчев словами, к ней обращенными:
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Вот это сквозящее и тайно светящее и есть святая Русь, и
кто любит ее, кто ее взыскует, необходимо будет любить и то,
502
Вяч. ИВАНОВ
через что она, сквозя, светится и светит, кроме греха, не
дающего ей светиться и светить.
Полюбит он ее и в ее «скудной природе», и «бедных
селениях», и в ее женственно-благоухающей нежности, и в ее
мужественной царственности, — не в одних только духовных лучах
ее, но и в ее сиротливой тоске и материнской ласке. Полюбит
он всю ее самобытность, все ее своеобразие и загадочную,
несравненную единственность; ибо так хочет любовь, знающая и
утверждающая в любимом его единственность, и такова тайна
любви, что в единственном и через единственное открывается
для нее всеобщее и вселенское.
V
С исторической точки зрения о славянофильстве можно
сказать, что в нем самом диалектически совершилось преодоление
первоначального пристрастия к национальной феноменологии
(это пристрастие называют теперь «провинциализмом»), —
пристрастие, которое заключало в своих расценках много
опасностей и много неправды, — прежде же всего ставило его в одну
плоскость с феноменологическим западничеством, так что спор
велся о преимуществе тех или иных культурных форм, а не о
проблеме национальной онтологии, — почему и теперь многие
думают, что дедовский спор решен естественным ходом
событий, что, как нет более прежнего западничества, ибо
завершилось ученичество наше и Россия вошла в целостный состав
Европы, так умерло и славянофильство и, умерев, не оставило
в нас своей бессмертной души.
Этот грех славянофильства кажется мне последствием
исходной зависимости его идеологии от источников не чисто
духовного опыта. Но вскоре все славянофильство обосновывается
на идее церкви, оценивает Русь по степени ее верности
церковной правде и останавливается на пороге жертвенного
отречения от всего лишь феноменологически русского. После этого
наблюдается момент реакции в пользу чистой феноменологии;
представители этой реакции (как Данилевский) являются
отступниками от внутренней святыни славянофильства,
поскольку в своем забвении церковного и вселенского смысла русской
идеи становятся на почву национализма биологического и
усматривают в русском деле борьбу за историческое
преобладание определенного «культурного типа».
Живое предание
503
Славянофильство казалось бы внутренне опровергнутым,
само себя упразднившим, если бы все живое в нем, его
содержание вселенское и онтологическое, его религиозный смысл,
его мудрое сердце, — в теснейшей и живейшей связи с
утверждением феноменологической особенности русского
национального воплощения, понятой, однако, — что правильно отмечает
Вл. Эрн, — не как статический строй застывших и косных
форм, а как вечно живая текучесть осуществления и
пресуществления во времени, — если бы все это подлинное и вечное,
как теургическое начало народного сознания, не было спасено
гениальнейшим и еще не понятым, а порою и смрадно
поносимым творчеством и пророчеством Достоевского, которым
доселе живем и дышим и о котором доселе не сговорились,
славянофил ли он или уже нет, — почему и ученики его не умеют
сказать про себя определительно и недвусмысленно, кто они
такие — славянофилы или нет.
VI
Что в этом строе идей усматривает Н. А. Бердяев (который
должен же был его продумать) нарочито «женского», мне
непонятно. Кто, отойдя в сторону, хотел бы осмеивать это
умонастроение, должен был бы скорее увидеть в нем донкихотскую
влюбленность в Дульсинею, либо вовсе отсутствующую, либо
примечтавшуюся под грубым обличием Альдонсы3. Но все,
кажется, давно признали, что Дон-Кихот по-своему прав; и вовсе
не смешным представляется нам сказочный герой,
домогающийся руки ужасной на вид, недугом искаженной царевны,
тайна которой открыта его сердцу, — и вот, когда ведет он
невесту венчаться, безобразная пелена спадает с нее и об руку с
ним стоит желанная царь-девица. Обретение невесты,
высвобождение сокровенной реальности из плена окутавших ее чар
есть всегдашний и коренной мотив мужеского действия, — но
Бердяев подозревает в славянофильствующих совсем иной
душевный и волевой строй.
Их иконопочитание русских народных начал религиозного
предания и мистического опыта мнит он идолопоклонством,
имманентный опыт иконопочитания смешивает с
трансцендентным опытом рабского обоготворения кумиров. Поистине его
призыв ко всеобщей «секуляризации», под каковою разумеет
он снятие «трансцендентной санкции» со всех сфер жизни и
культуры так, чтобы безрелигиозными стали и философская
504
Вяч. ИВАНОВ
мысль, и художественное творчество, и быт, и семья, и
государство, пока не найдет человек в себе самом их «имманентного
освящения», — призыв этот есть не что иное, как
иконоборство, естественное для религиозного нигилизма, но на почве
миросозерцания христианского и мистического мыслимое как
твердо занятая позиция лишь при условии коренного отрыва
личности от символического начала церковного мирострои-
тельства*.
Но подойдем к проблеме ближе, представим ее более
осязательною. Главный упрек Бердяева «эпигонам» сводится к
тому, что они продолжают и питают дурной славянофильский
навык «невеститься» по отношению к государственной власти
как началу мужественному и потому трансцендентному
женственной стихии русской души. Оставляя в стороне не идущий
к делу вопрос, есть ли действительно эта черта женской
влюбленности и воли к покорствованию в нашем народном
характере или ее вовсе нет (я лично думаю, что существенно ее нет,
эмпирически же она, к сожалению, зачастую проявляется), —
нельзя не видеть, что славянофильству приписана она лишь
вследствие ложного истолкования его всегдашних стремлений.
Именно западническому строю мысли свойственно
противоположение народу органов власти как самостоятельного и
чуждого организма, — каковое противоположение искони было
душою западного либерализма и демократизма. Ведь и вырос этот
либерализм и демократизм из борьбы между народом и дер-
жавством, основанным на завоевании, так что развитие форм
народной свободы было на Западе последовательным ходом
политического раскрепощения. Прагматическое значение этой
западнической концепции очевидно: поскольку
действительность требовала и от нас усилий раскрепощения, это
представление о власти было практически полезно при всей своей
теоретической спорности.
Славянофильству свойственно было полярно
противоположное воззрение на природу власти: оно защищало теорию ее
имманентности народу, и именно этот государственно-правовой
имманентизм, представляющийся Бердяеву по недоразумению
столь спасительным, был в высшей степени опасен для судеб
нашей действительной свободы.
* Чтобы быть вполне вразумительным, напомню, что церковное
построение мира символично, поскольку все формы жизни, церковно
утверждаемые, благословляются в низшей сфере сообразно их
соотношениям с бытием мира невидимого. Так, брачный союз
жениха и невесты освящается заветом «быть во Христе и во Церковь».
Живое предание
505
Но опасен лишь потому, что заключал в себе приманку
теоретического оправдания существующих отношений; мог же
обернуться и совсем иначе, чем, между прочим, объясняется
постоянная правительственная недоверчивость к
славянофилам. В самом деле они положили в основу своего
государственного права не феодальный (он же договорный), а римский
принцип — принцип «депозиции» народной воли в руки лица
или лиц, призванных ко власти. Другими словами, они
предпосылали своим построениям утверждение народного
суверенитета, видели в монархии монархически самоопределившееся
народоправство.
Впрочем, демократическая резкость этой предпосылки
смягчалась религиозною окраской представления о народе.
Полнота свободы народной этим не умалялась, но вносился в понятие
державства, народным избранием установленного,
религиозный момент: снятие с себя соборною совестью последней
ответственности перед Богом в определении провиденциальных
путей народной истории, которое поручалось церковью тому, кто
укреплялся на это мировое дело ее таинственным помазанием.
В этом круге исконно русских представлений о царстве, о царе
как сыне церкви и о народе как свободной семье ее нет места
ни для мнимого «жениховства», ни для цезаропапизма,
спорадические уклонения к которому пресекались самим разумом
вещей и внутренним здоровьем нашего народного и
государственного тела даже в ныне заканчивающийся петербургский
период нашей истории, когда государственная власть, как это
живо чувствовали славянофилы, пыталась самоутвердиться по
отношению к земле трансцендентно.
VII
Ясно, что национально-религиозная концепция
желательного роста нашей политической свободы формулируется на языке
живого предания славянофильской идеи, — как готовность,
и воля народа к соответствующему ступени его исторического
возраста приятию на себя все большей и наконец полной
религиозной ответственности за судьбы отечества; и только в этом
смысле можно приветствовать осуществление того, что
Бердяев называет «имманентной санкцией» в сфере государства.
Вообще же должно сказать, что подобно тому, как христианство
ложно толкуется и переживается равно в категории чистого
трансцендентизма, как и в категории исключительного имма-
506
Вяч. ИВАНОВ
нентизма, — так и всякая имманентная санкция оправдывает и
возводит на новую ступень сознания всякую трансцендентную,
и в этом обогащенном и совершенном синтезе одинаково
упраздняются односторонности и несовершенства как
первоначальных положений чистого трансцендентизма, так и той антитезы,
которую Бердяев описывает как всеобщую секуляризацию.
Славянофилы и западники — наши старшие братья, а мы,
узнавшие в православии * свою свободную родину и родину всей
свободы, мы, верящие в Русь святую, как в Русь вселенскую,
мы — былые «русские мальчики» Достоевского, сверстники
Алеши Карамазова, выбравшие его в детской игре своим
Иваном-царевичем. Алеша — символический собирательный тип,
который напрасно считают невыясненным и о котором стоит в
другой раз повести беседу, — тип людей нового русского
сознания, напророченный Достоевским и им порожденный. И
потому если определять представителей того умонастроения,
которое продиктовало эти строки, то назвать бы — «алешинцами»!
Бердяев с «алешинцами» быть не хочет; его «Иван-царевич» —
едва ли не Николай Ставрогин, — не такой, конечно, каким он
оказался в изображении своего собственного создателя и,
нужно думать, по Бердяеву, исказителя, но субстанциально тот же,
только исправленный и подновленный.
^^
* Ввиду соблазна прискорбных недоразумений, предметом которых
служит имя «православие», не лишним почитаю определительно
заявить hominibus bonae voluntalis4, что означаю этим священным
именем, как и надлежит нееретику, — духовное, а не житейское,
вечное и вселенское в местном и временном, а не местное и
временное в его исторической замкнутости и эмпирической
относительности. Соборное Христово Тело Церкви святых, божественные
Таинства, кафолический догмат, священное и литургическое предание,
дух богочувствования, хранимый в преемстве сердечного опыта
отцом, — все это достойно именуется православием. Но неправо
означаются тем же именем — бытовое предание, культурный стиль,
психологический строй, внешний распорядок церковного
общества. Упомяну кстати, что эстетический критерий церковности,
о котором говорит о. П. Флоренский в глубокомысленной книге
«Столп и утверждение Истины», кажется мне опасным своею
зыбкостью, он, несомненно, оправдывается в глубинах мистической
жизни и на высотах платонического созерцания, но может
оказаться пагубным в истолковании культурно-феноменологическом.
^^
H. А. БЕРДЯЕВ
Омертвевшее предание
ι
Предание может быть живым, действенным и для нашего
времени. Но предание может быть и окостенелым,
омертвевшим и мертвящим. Нередко даже слова великого предания
звучат безжизненно и мертво, ничего не вызывая, кроме
воспоминаний. Предание оправдано как живая, творческая энергия.
Но как воспоминание, ныне уже бессильное творить жизнь, оно
не может претендовать на руководительство жизнью. И
поистине много есть в предании окостеневшего и стеклянного:
мертвыми устами повторяются мертвые уже слова. Статья Вяч.
Иванова «Живое предание» *, написанная в ответ мне, произвела
на меня впечатление подновленной стилизации старого,
омертвевшего уже славянофильства. Слова не звучат уже живыми,
не энергичны и не динамичны. В. Иванову не удалось передать
чувства живого предания. Он старается писать в стиле старого
славянофильства. И так «мертвели уже многие старые мысли и
слова, что давят статью одного из крупнейших современных
поэтов тяжестью, с трудом преодолимой. Трудно
почувствовать, что славянофильство продолжает жить в статье В.
Иванова. Статья эта поражает своей отвлеченностью, она не связана с
конкретным славянофильством, повторяет славянофильские
идеи, но совершенно не сообщает славянофильского чувства
жизни. А настоящее, некогда живое славянофильство было
прежде всего складом души, жизнеощущением, преданием
семейным и национально-бытовым, а потом уже доктриной и
идеологией. Я думаю, что славянофильство сыграло огромную
роль в истории нашего национального самосознания. И верю,
что в славянофильстве было что-то непреходящее и что от него
* См.: Бирж<евые> ведомости. 18 марта.
508
H.A. БЕРДЯЕВ
и доныне остались живые семена. Славянофильство было
идейно значительнее западничества. Но славянофильство — сложное
явление, от него идут разные линии. Конечно, и Вл. Соловьев
идет от славянофильства, а не от западничества, хотя он был
жестоким критиком вырождающегося славянофильства.
Но от славянофилов осталось и мертвое предание, мертвые
понятия и слова. И от этой ядовитой мертвечины мы должны
во что бы то ни стало освобождаться и очищаться. Живая,
творческая энергия всякого идейного направления никогда не
выражается в повторении идей, доктрине и учении этого
направления. Энергия эта — семена новой жизни. Продолжать
живое, творческое дело славянофилов и Достоевского — значит
развивать и растить брошенные ими семена, идти не только
дальше их, но и преодолеть их, иногда даже сжечь их.
Повторять же учения, доктрины и платформы означает верность
мертвому, а не живому преданию.
В. Иванов дает такое отвлеченно-метафизическое
определение славянофильства, при котором исчезают всякие различия
и противоположения. Если славянофил — всякий, кто верит в
умопостигаемую, ноуменальную душу России, в ее
метафизическую реальность, то не только я — решительный
славянофил, но славянофил всякий, кто не стоит на почве позитивизма
и феноменализма. Признавать нацию метафизической
реальностью, организмом, скрытым за текучими феноменами
национальной жизни, может и «западник». Метафизиком и
мистиком может быть и не славянофил. Русское мистическое
движение начала XIX века было «западническим», а не
«славянофильским». И движение это оставило след в народной
религиозной жизни*. С другой стороны, В. Иванов слишком
хочет связать свое определение славянофильства с платонизмом,
с платоновским миром идей.
Это совсем не характерно для конкретного славянофильства,
которое обосновывалось более исторически, чем
отвлеченно-метафизически.
Увлечение платонизмом — результат современных
философских настроений, совершенно чуждых славянофилам.
Слишком силен был в них бытовой уклад, связь с исторической на-
* До сих пор среди русских сектантов духовных христиан,
религиозных искателей из народа читают «масонскую» мистическую
литературу александровской эпохи. Я сам встречал мистиков из
народа, которые зачитываются мадам Гюйон, Бёме и т. п. книгами в
«масонских» переводах.
Омертвевшее предание
509
циональной плотью. Современные мистические настроения
совершенно неприменимы к славянофилам. Славянофилы — не
мистики и не знали мистиков. Это были люди крепкие земле,
бытовики, привязанные ко всему исторически-конкретному, с
большим запасом трезвости в настроении, рациональности в
мышлении.
Достоевский — человек совсем другого склада, другого типа,
другой эпохи. Он уже не славянофил в точном смысле слова,
хотя и пользовался многими омертвевшими
славянофильскими понятиями. В славянофильстве не было ничего
катастрофического, не было апокалиптических настроений, которые так
характерны для Достоевского и Вл. Соловьева*. Это вновь
народившееся катастрофическое чувство жизни окончательно
отрезывает нас от славянофилов и делает невозможным возврат
к их бытовому благополучию и к их крепкой почвенности.
II
В. Иванов вслед за славянофилами и Достоевским видит
сокровенный лик России, ее умопостигаемую сущность, как
святую Русь. Пусть греховна Россия феноменальная, но Россия
ноуменальная остается святой, страной святых, живущей
идеалами святости. Идея «святой Руси» давно уже потеряла свою
свежесть и ароматность. Она становится все более и более
отвлеченной, из нее уходит жизнь. Предание о святой Руси — не
живое уже предание. Невозможно отрицать того, что цветом
религиозной жизни русского народа были великие святые и
подвижники. Образ св. Сергея Радонежского играет
определяющую роль в русской истории. И еще не так давно, уже в
XIX веке из недр религиозной жизни русского народа был
явлен образ ослепительно белой святости Серафима Саровского.
Святость была первоосновой духовной жизни русского народа,
как и всякого христианского народа. Наши святые —
национально своеобразны, они — русские. Но в святости нет ничего
специфически и исключительно русского. Святые были во всех
христианских странах, святость была цветом жизни
христианских народов. Италия явила образы и лики святости, самые
потрясающие и самые пленительные, и она, конечно, имела право
осознать себя святой Италией. Святость есть что-то исходное,
основоположное в истории христианских народов.
* Отсылаю к моей книге «А. С. Хомяков» (изд. «Путь»).
510
H.A. БЕРДЯЕВ
История христианской души должна пройти через
подвижничество и святость. Но невозможно видеть в святости и святых
особенное и исключительное призвание русского народа.
Святая Русь подлинно существует и имеет корни в жизни
народной. Но не только Русь свята, не только на Руси есть святость и
святые. В святости нет ничего исключительно и по
преимуществу русского. Христианский народ сознает свой сокровенный
лик как святой на известной ступени своего религиозного
развития. Но в последние века святость идет на понижение,
святых все меньше и меньше, и идеалы святости померкли. Россия
не составляет из этого исключения. Русь давно уже перестала
сознавать себя как святую, и это не феноменально только, а
существенно, ноуменально. Святая Русь была глубоко связана с
Русью бытовой, была ее опорой. Ныне слова о «святой Руси»
мертвеют, не утверждаются силой самой жизни. Центр
тяжести духовной жизни переносится во что-то другое.
Для В. Иванова как будто бы существует дилемма: или
поверить в «святую Русь» как метафизическую реальность России и
с ней связать миссию России, или признать Россию литофено-
меном, и отвергнуть ее великое призвание. Но такой дилеммы
вовсе не существует. Можно увидеть иной лик России и в ином
увидеть ее призвание. И я не менее В. Иванова утверждаю, что
в Россию можно только верить. И подобно тому, как
славянофилы верили в святую Русь, я верю в Русь пророческую, в Русь
взыскующую Града Грядущего, Русь странническую. Русь
пророческая, взыскующая, странническая и есть сокровенная,
умопостигаемая сущность России. В этом Русь исключительно
своеобразна и не похожа ни на одну страну мира. Только в
русском народе есть это искание во всем абсолютного и конечного,
эта неудовлетворенность относительным и средним, эта
пророческая и апокалиптическая настроенность. И я верю в
пророческое призвание России, в исключительное ее назначение
раскрыть религиозно-новое в конечный период мировой истории.
В исключительность России и ее миссии я верю не менее,
чем славянофилы, но по-иному. Я не имею возможности
обосновать и развить свои мысли в небольшой статье. Я только
делаю противопоставление одной веры другой*. Скажу еще,
что национализм мне всегда представляется чем-то не русским,
скорее западническим, чем славянофильским. Национализм
уподобляет нас всем народам Европы, и он существует у нас, как
* См. мою брошюру «Душа России» (изд. Сытина). Прочитано как
публичная лекция.
Омертвевшее предание
511
существует капитализм и т. п. явления. Вопреки В. Иванову
я думаю, что Л. Толстой — до глубины русский, что в нем нет
ничего западнического и что Россия невозможна без Л.
Толстого. Религиозные и нравственные искания Толстого, его бунт
против всемирной истории, его абсолютные оценки жизни, вся
судьба его — великое явление русского духа, мировое по своему
значению. И факт существования Л. Толстого имеет большее
значение для судьбы России, чем государственное ее могущество.
Толстовское отрицание национальности более национально,
чем все национальные теории. Л. Толстой не мыслил о России,
а был Россией. Ноуменальная душа России всегда жертвенная
и отрекающаяся. Жизненная судьба Александра Добролюбова,
бывшего декадента, ныне странника, более характерна для
сокровенного лика России, чем жизнь православно-оседлая,
принимающая все славянофильские доктрины и платформы.
III
Разъяснения В. Иванова об отношении славянофильства к
государственной власти лишь подтверждают то мое убеждение,
что для всякого славянофила государственная власть обладает
трансцендентной религиозной санкцией. То, что говорит В.
Иванов об имманентности власти народу, есть игра словами
«имманентный» и «трансцендентный». Можно сказать, что всякое
принятие «трансцендентного» делает его «имманентным». Но
на этой формальной почве мы не сдвинемся с места. Остается
острый вопрос: имеет ли власть священно-божественное или
природно-человеческое происхождение?
Можно ли вводить феномен государственной власти в природ-
но-социальное развитие? Славянофильский взгляд на природу
власти я считаю в корне ложной абсолютизацией
относительного, распространением абсолютных категорий на природно-исто-
рический процесс, закрепощение духа материей. Это —
порождение религиозного материализма, скрепляющего абсолютную
и духовную жизнь с относительными и материальными
явлениями. Взгляд этот ведет к смешению Царства Божьего с
царством кесаря, к воздаянию Божьего кесарю. Секуляризация,
которая так не нравится В. Иванову и всем неославянофилам,
есть исполнение слов Христа: «Воздайте кесарево кесарю, а
Божье Богу». Христос разделил «Божье» и «кесарево» и
секуляризировал царство кесаря. Царство кесаря есть весь этот отно-
512
H.A. БЕРДЯЕВ
сительный, природный, материальный мир, в котором царит
закон необходимости, а не благодатная свобода Христова.
Секуляризация имеет своей обратной стороной освобождение
духовной жизни от оков материальной необходимости. Она
провозглашает истину и правду о том, что относительное —
относительно, а не абсолютно, что кесарево — не божественно.
Стремление к секуляризации государства, семьи, хозяйства,
науки и искусства есть не только отпущение их на свободу, но
и стремление к правде и отвращение ко лжи. Правда же
превыше всего. Вот этот пафос правдолюбия и просматривают
современные славянофилы. Их не душит лживость внешней, зримой
жизни. Они держатся за условную ложь, за слова, утерявшие
содержание, хотя и вполне искренно.
Меня поразило, что В. Иванов считает возможным
повторить старую славянофильскую теорию, давно опровергнутую
историей и потерявшую всякое правдоподобие, о том, что на
Западе власть была результатом завоевания, а у нас в России —
она чисто народного происхождения. Природа власти в России
так же мало отличается от природы власти на Западе, как
русская община мало отличается от общины всех стран и народов.
Особенности России нужно искать в ее духе, а не в
государственных и экономических формах, которые очень
однообразны повсюду на земле. Придавать непреходящее религиозное
значение текущим государственным и экономическим
явлениям значит находиться в стадии религиозного натурализма,
которым и грешили славянофилы. Секуляризация есть
торжество свободы и правды. Религиозное освящение всей жизни
должно идти извнутри, а не извне. Жизнь должна внутренно
святиться и светиться, а не внешне освящаться и освещаться.
Так раскрываются пути для человеческой активности и
человеческого творчества.
Остается совершенно непонятным, почему В. Иванов видит
иконоборство в призыве к секуляризации. Могу уверить В.
Иванова, что я совсем не иконоборец и ни в чем никогда не
обнаружил склонности к иконоборчеству. Я противник религиозного
материализма, но я решительно стою на почве религиозного
символизма. Иконы, культ и вся «плоть» религиозной жизни
имеют для меня глубокое символическое значение.
Секуляризация не может быть направлена против символизма, она лишь
освобождает от абсолютизации материально-относительного, от
объективно-предметного реализма в религиозном сознании. Все
эти проблемы требуют радикального пересмотра, их нельзя
решать традиционно и упрощенно. Вся материальная, объектив-
Омертвевшее предание
513
но-предметная жизнь — лишь символы и знаки духовной
жизни и духовных путей человека. Но человеческий дух может
попасть в рабство к собственной объективации, может принять
объективно-предметный мир за окончательную
онтологическую реальность. Тогда начинаются рабство и упадок и
творческая жизнь замирает. В старом религиозном сознании
материальные предметы господствуют над человеческим духом и
мешают свободному движению. Вот почему нужна
секуляризация, за которой скрыт процесс религиозного развития.
IV
В. Иванов делает попытку создать платформу и программу
из образа Алеши Карамазова и образует новый термин «але-
шинцы». Но самый большой недостаток образа Алеши именно
в том, что его так легко превратить в платформу и программу,
что у самого Достоевского он был проповедью и моралью.
Алеша показателен для великих исканий Достоевского, но
художественно он ему не удался, он выдуман. Не в Алеше нужно
искать великих достижений Достоевского, его подлинных
прозрений и откровений. Можно ли сравнить Алешу с волнующим
и потрясающим образом князя Мышкина, — настоящим
откровением христианского дионисизма? Достоевскому не дано было
дара художественно воспроизводить и религиозно проповеды-
вать здоровье. Достоевский открыл, что в болезни, а не
здоровье, виден свет, достигается божественное. «Здоровым» трудно
понять и оценить Достоевского. Он никогда не писал о
здоровых, ясных, простых, безоблачных. Славянофильское здоровье
и Достоевский — несоизмеримы, никогда не встречаются. И я
думаю, что «алешинцы» — люди духовного здоровья — чужды
«достоевщины». Сам Алеша как проповедь здоровья, полноты
и выхода из «достоевщины» не убедителен. И не те близки
Достоевскому, его глубине, кто следует за его проповедями и
применяет его платформы и доктрины, как Л. Толстому не
толстовцы близки. Трагедия индивидуальной судьбы, болезнь духа
Раскольникова, Ставрогина, Кириллова, Версилова, Ивана
Карамазова — вот где раскрывается глубина Достоевского. Из
Ставрогина нельзя сделать программы, и в этом его значение.
В романах-трагедиях Достоевского были пророческие
прозрения, художественные, психологические и
религиозно-метафизические откровения. Вот где настоящий Достоевский, а не в
моральных проповедях и национально-церковных доктринах.
514
H.A. БЕРДЯЕВ
Доктринерское возрождение славянофильства проповедует
теоретическое здоровье, предшествующее светоносной болезни
духа, пережитой и открытой Достоевским. Но здоровье это —
мертвое, безжизненное. Видеть сущность Достоевского в Алеше
и «Дневнике писателя» значит пройти мимо революционного и
катастрофического дела Достоевского. Я знаю, что Достоевский
хотел много нового вложить в Алешу. Но это не удалось ему.
Алеша не имеет волнующей жизни. И я слишком пережил
Достоевского, чтобы быть «алешинцем». Славянофильство все еще
в первоначальном здоровье и нелепости, в натуральном
хозяйстве духа, до катастрофического расщепления духа, до
трагедии Достоевского. И оптимизм современных неославянофилов,
подогретый войной, их идиллический взгляд на русскую
историю и русскую действительность отталкивают меня, как
бессознательная ложь и прикраса, как недостаточная искушенность
трагедий жизни личной и исторической, пошатнувшей старые
кумиры и разрушившей старые иллюзии.
^5^
^5^
Д. ФИЛОСОФОВ
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Меч и крест
Москва. 1915. Ц. 40 к.
Выступления и выходки г-на Эрна в свое время вызвали
известный шум.
Его знаменитая речь «От Канта к Круппу» имела даже успех
скандала. Но вскоре об Эрне замолчали. Все поняли, что эта
напыщенная чепуха никакого значения не имеет. Правда, г. Эрн
продолжал отбиваться от своих противников, всячески
старался раздуть значительность своей риторики и в различных
малораспространенных изданиях вроде «Русского звена» изрекал с
прежним пафосом свои глубокие мысли1. Но никто не обращал
на него внимания. Надо иметь много досуга, пребывать в
праздности, а главное — ни одним боком не соприкасаться с
современной мировой драмой, чтобы находить усладу в
словоизвержениях нашего доморощенного философа.
Опечаленный образовавшимся вокруг него «заговором»
молчания, г. Эрн собрал в одну кучу все свои военные писания,
издал их отдельной книжечкой. Авось о нем опять вспомнят.
Шаг очень опрометчивый. Книжечка — не что иное, как
жалкий холмик, даже без креста, над мертвым, разлагающимися
фразерством.
Прежде всего, эту книжечку невозможно читать. Особенно
теперь. До такой степени она бесстыдна, нецеломудренна.
Столько в ней холодных, отвлеченных кощунств, соединенных
с непроходимым непониманием совершающихся событий.
В эпоху торжествующего Евлогия и наших
просветительно-полицейских опытов в Галиции2 она имела еще известный смысл,
давая необходимый запас философско-националистической
бутафории для наших «червонно-русских» администраторов. Но
теперь эта бутафория превратилась в никому не нужный хлам.
Более того, от эрновского «размаха» веет какой-то ноздревщи-
516
Д. ФИЛОСОФОВ
ной. Нездоровой издевкой. И если бы у г-на Эрна была бы хоть
капля душевного такта, он поспешил бы изъять свою жалкую
книжонку из продажи. Но у отвлеченных головных Гегелей и
Шеллингов «из скифов» душевного такта быть, конечно, не
может.
Наш московский скиф с немецкой фамилией серьезно
воображает, что для сегодняшней России крайне важно знать, чем
отличается «позиция» г-на Эрна от позиции Булгакова,
Вячеслава Иванова, Розанова, в чем заключается его несогласие с
Бердяевым. Герои Боккаччо во время чумы забавляли себя
милыми, не всегда приличными новеллами. Наши московские
риторы даже на это неспособны. Они «забавляют» друг друга
тягучей, нудной схоластикой, философскими
словоизвержениями, в которых на десять слов по крайней мере одиннадцать
иностранных...
Всех статей в сборнике двенадцать. Все они одинаково
скучны, бездарны и противны. Но одна из них превосходит все
меры дозволенного приличия и не может быть названа иначе,
как кощунственно-бесстыдной. Это—«Голос событий»,
напечатанная в покойном «Русском звене» г-на Брянчанинова3. Для
«реальных политиков» и эта статья не более как кабак слов
дурного тона, но для людей религиозно настроенных, а именно
к ним обращается наш московский скиф, этот «голос событий»
просто невыносим. Любая баба, свято почитающая
таинственную «Прасковею-Пятницу» и боящаяся мести избу по
пятницам, в тысячу раз праведнее и чище, нежели московский ритор,
позволяющий себе ради красоты слога и вящего патриотизма
посягать на великую народную святыню, на образ Вечной
Матери и Вечной Девы. Не привожу цитату. Не настолько же
«одурел» г-н Эрн, чтобы не понять, о чем я говорю.
^5^
€^
Π. Ε. К.
<Рец. на кн:> Владимир Эрн. Время
славянофильствует. Война, Германия,
Европа и Россия
М., 1915
Маленькая брошюра, всего в 48 стр., но удивительно
интересная по содержанию, а главное — по настроению, с каким
написана. Это — две лекции, сказанные автором по поводу
текущей войны. В обширной уже литературе, вызванной войной,
брошюра г. Эрна (вместе с его сборником «Меч и Крест») —
заметное явление. Цель лекций — показать, что ураган войны
обнаружил такие стороны в строе культурной жизни Европы,
которые давно предчувственно угадывались славянофилами.
Современная война — не частный конфликт двух
конкурирующих политических сил, а борьба — коренная, глубокая и
огненная — двух миросозерцании, двух мыслей или, как
выражается сам автор, борьба подлинной Европы с ее двойником
(Германией). Пьяный, нервический вандализм Германии,
благословляемый руками жрецов немецкой науки, литературы и
философии, — германство с Лувеном, Реймсом, с зверствами,
грабежами, пытками, возведенными в принцип, это, конечно,
не Европа, это — ее ужас, тем более страшный и
отвратительный, что он есть всего лишь неумолимо строгий логический
вывод из предпосылок материальной безбожной культуры,
в добровольное рабство которой давно был отдан весь
европейский Запад. Это кошмарный призрак духовной смерти, который
заставил Европу очнуться от сна, всмотреться в себя и с
содроганием понять, к какой бездне может вести культура без Духа
Жизни (= религии). Европа, подлинная Европа поняла себя в
этой войне и всем напряжением своего духовного гения
воскресила в себе забытое было чувство благоговейного уважения
518
П. Ε. К.
к вечным ценностям духа. В этом моменте ощутилось глубокое
внутреннее единство Европы с Россией, которая «сошлась с
Европой на общем почитании святынь». «Война совершила
процесс дифференциации внутренней двойственности Европы
до внешнего разделения на шуйцу и десницу европейского
человечества», и в этом процессе России выпадает
всемирно-историческая миссия (о которой говорили славянофилы) увлечь
культурно благородную Европу от человекобожеской стихии
под тихий кров Отца Небесного. — Все эти мысли выражены
автором с таким пламенным одушевлением, что читать
брошюру без волнения положительно нельзя.
<^^Э
IV
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ИТАЛЬЯНСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
<s^
Β. Φ. ЭРН
Спор Джоберти с Розмини *
Есть споры всемирно-исторического значения. Аристотель
стал оспаривать учение Платона об идеях. От его возражений
загорелся пожар, который горел все Средневековье в страстных
столкновениях номинализма с реализмом. Зарево этого
пожара, освещающее борьбу рационализма с сенсуализмом XVII и
XVIII вв., до сих пор не погасло, и против всякого ожидания в
наши дни мы видим явные признаки возрождения
платонического реализма. Еще более значительные споры в эпоху
вселенских соборов о высших вопросах христианского богословия,
с особенною страстью бушевавшие пять веков, отнюдь не
погасли с седьмым вселенским собором, нашед себе продолжение, с
одной стороны, в мировой распре между католичеством и
православием, с другой — в непрерывной борьбе церковного
учения с бесчисленными сектантскими новообразованиями. В
России примером такого великого спора с содержанием вселенским
может служить столкновение западничества с
славянофильством — столкновение, которое в последнее десятилетие с
новой остротой начинает занимать мыслящую Россию.
Спор Джоберти с Розмини принадлежит к этой категории
споров. Несмотря на скромный, чисто философский характер,
он полон универсальности и всеобщего значения. Его
специфический интерес в том и заключается, что в малом он таит
величайшее и в частных, главным образом гносеологических,
формах говорит о том, что касается не только всех наук и всех
философских дисциплин, но и всей совокупности жизни.
Несмотря на замкнутость сфер, в которой он развертывается, в
нем явственно пульсирует вселенская значительность, и нужно
удивляться пристрастности немецких историков новейшей фи-
* Речь, прочитанная на годичном акте Т<ифлисских> В<ысших>
Ж<енских> курсов 24 сентября 1913 года.
522
Β. Φ. ЭРН
лософии, совершенно неосведомленных об этом споре и малой
рачительности итальянцев, объятых дурным национализмом и
часто пренебрегающих истинными сокровищами своего
национального гения.
Чтоб ввести в острие спора Джоберти с Розмини,
необходимо сказать несколько предварительных слов о каждом из этих
мыслителей.
I
Антонио Розмини Сербати, аристократ по происхождению,
священник по сознательному жизненному решению, в 1830 г.
выпустил в Риме капитальное трехтомное сочинение,
посвященное главным образом вопросам гносеологическим: «Новый
опыт о происхождении идей» (Nuovo Saggio sull' origine délie
idee). Первый том этого замечательного произведения
посвящен сполна историко-критическому анализу всей
предшествующей мысли. В первый раз мыслитель, призванный созидать и
творить, относится с таким вниманием к истории философии.
Розмини этим как бы подчеркивает, что его философия отнюдь
не хочет, подобно философии Декарта, рвать с прошлым и
начинать все свои построения сызнова. Напротив, во всей
истории философии он видит назревание одной основной апории, и
его замысел так приступить к ее разрешению, чтоб были
приняты во внимание решительно все аспекты и все оттенки ее,
отмеченные совокупными усилиями всех философов на
протяжении всей истории философии. Он проходит через Канта,
вовсе не исходя из него, и даже такой пристрастный критик, как
гегельянец Спавента, признает, что Розмини первый в истории
итальянской философии усвоил Канта во всем объеме. Но Кант
не заслоняет для Розмини всей истории философии, как это
получилось у Фихте» Усваивая Канта вполне, Розмини усваивает
также вполне Платона и Аристотеля, Августина и Фому Аквин-
ского. «Summa» Ангела для него не менее настольная книга,
чем «Критика чистого разума» 1. Поэтому он в гораздо большей
степени, чем представители немецкого идеализма, должен быть
признан завершителем и крайним синтетическим пунктом всей
европейской мысли, т. е. не только новой, но и средневековой и
даже отчасти античной. Но как ни широк охват Розмини, форма
его философии, даже против его воли и замысла, существенно
новая, а не средневековая и не античная. Как ни хотелось
Розмини стать примирителем всех традиций мировой философии
Спор Джоберти с Розмини
523
и путем планомерного объединения их создать непоколебимую
и вечную систему истины, sistema délia verita, все же основа
этого величавого синтеза у него новая философия, которую он,
несмотря на всю критику, все же считает высшей формой
мысли и потому с помощью ее и для нее перерабатывает традиции
мысли средневековой и античной. Поэтому Розмини можно
назвать одним из величайших моментов в философском
самосознании нового Запада. Как он ни тянется к Востоку, как ни
благоговеет перед Платоном, как ни хочет принять в себя все
достижения святоотеческой мысли — соединить Восток и Запад
существенным преодолением рационализма ему не удается, и он
в самой основе учения утверждает Запад против Востока. Эта
основа сводится к следующим положениям (если только
возможно сколько-нибудь адекватно передать в нескольких словах
то, чему сам Розмини посвящает десятки огромных томов).
Во-первых. Основная апория заключается в вопросе о
происхождении идей. В самом деле, познание состоит из суждений.
Суждения состоят из соединения подлежащего и сказуемого.
Всякое сказуемое есть идея общая. С другой стороны, общее
может получиться лишь через суждение. Другими словами,
суждение невозможно без того, что получается в его результате.
Или иначе: суждение невозможно без общего, общее же
невозможно без суждения.
Во-вторых. Общее или идеи не выводимы из ощущений.
Философы, которые ограничиваются одними ощущениями,
грешат «недостатком объяснения». К этой категории относятся
Локк, Кондильяк, Рид, Смит, Стюарт. С другой стороны, есть
философы, которые допускают слишком много для объяснения
идей — это Платон, Аристотель, Лейбниц, Кант. Платон и
Лейбниц все знание, т. е. все идеи признают врожденными. Кант не
признает прямо врожденными формы разума. Но зато
допускает их в слишком большом количестве: 12 категорий, 3 идеи
разума, 2 формы чувственности.
В-третьих. Если мы сопоставим трудность с попытками ее
частичных разрешений, то увидим, что, с одной стороны, нельзя
последовать за Локком с его продолжателями, ибо они не дают
никакого решения основной трудности, с другой, нельзя
последовать и за вторым рядом мыслителей, ибо они в избытке
объяснения как бы хватили через край. Незачем признавать
врожденными все идеи, если из врожденности одной основной
идеи можно вывести без труда все остальные. Точно так же
множественность кантовских форм при ближайшем анализе
может быть сведена к совершенному единству.
524
Β. Φ. ЭРН
В-четвертых. Чтобы ответить на вопрос, что это за единая
форма и что за основная идея, достаточно обратить внимание на
характер идеи бытия. Нет суждения, в которое бы не входила
эта идея. Это наиболее общая и наиболее основная категория.
Если мы хотим понять ее в ее настоящей универсальности, мы
должны отделить понятие бытия от понятия реальности.
Реальное или наличное есть лишь часть бытия, и потому реальное
бытие не может быть признано основной формой. Мы мыслим
не только то, что есть, но и то, что может быть в самом
широком смысле слова т. е. и то, что может быть реализованным и
то, что может никогда не осуществиться в форме наличной
реальности и что тем не менее является вполне мыслимым.
Следовательно, основной формой должна быть признана идея
бытия неопределенного (idea dell'essere iudeterminato) или
сущее возможное (l'ente possibile).
В-пятых. Сущее возможное характеризуется следующими
чертами: объективностью, идеальностью, простотою,
единством, универсальностью, необходимостью, неизменностью,
вечностью и, наконец, неопределенностью. Характеризуемое
этими чертами сущее возможное не может произойти ни из «я»,
понимаемого психологически, ни из «не-я», понимаемого
физически. Оно может быть признано лишь эмпирически
непроисшедшим т. е. врожденным, привходящим в человека свыше, и
потому, в противоположность первому психологическому
(primo psicologico), может быть названо первым идеологическим
(primo ideologico).
В-шестых. Сущность возможного сущего познается сама
собой и через себя самую. Все же остальное познается при
помощи нее и через нее. Поэтому сущность сущего может быть
названа формой разумной души (forma dell'anima iutelligente)
или короче — формой самого разума. А так как форма эта
вопреки Канту объективна и познает истину, а не что-нибудь
другое, то сущность возможного сущего должна быть признана
формой истины.
Наконец, в-седьмых: сущее, своею сущностью
конституирующее разум человека, является светом разума (il lume délia
ragione), — тем самым светом, коим просвещается всякий
человек, приходящий в мир. Но свет, просвещающий разум
человека, хотя и божественен по своей сверхэмпиричности — тем не
менее не есть само Божество, и сущее возможное ни в каком
случае не может быть отождествлено с Логосом христианства.
Логос, т. е. Бог, конкретен в высочайшей степени, сущее же
возможное неопределенно и неконкретно. Это различение чрез-
Спор Джоберти с Розмини
525
вычайно важно, ибо им обосновывается различие во всех
областях мысли порядка натурального и порядка супранатураль-
ного.
Таковы вкратце тезисы Розмини. Западный характер мысли
Розмини лишь подчеркнется, если мы скажем, что
современный немецкий логик Гуссерль, прославившийся своей борьбой
с психологизмом, неведомо для себя самого движется в
фарватере розминианских идей. Его бессубъектное, не
онтологическое царство чистой логической истины разительно схоже с
поссибилизмом2 Розмини.
II
В то время как Розмини строил свою идеологическую
систему, туринский священник Винченцо Джоберти, четырьмя
годами моложе Розмини, совершенно независимо от него
приходил ко взглядам много более радикальным. В долгие годы
своего изгнания, сначала в Париже, затем в Брюсселе,
Джоберти с сосредоточенностью истинного гения обдумывал систему
воззрений, которая почти во всех отношениях расходилась с
основными тенденциями не только XIX века, но и всего Нового
времени. Первый абрис своей философии он дал в конце
тридцатых годов в «Теории сверхъестественного» (Teorica del sovra-
naturale), но истинным расцветом его писательской
деятельности были 40-е годы. Силою своего энтузиазма, красноречием
вдохновения и блеском литературных форм, наперекор всем
стихиям, он, политический изгнанник, живущий уроками в
средних учебных заведениях, становится в Италии самым
читаемым автором и, по признанию беспристрастных историков,
получает своеобразную духовную диктатуру почти на всем
полуострове. Его многотомные произведения читаются нарасхват,
выдерживают по нескольку изданий и вызывают несказанный
энтузиазм. Противник Джоберти, гегельянец Фьорентино через
25 лет с живостью говорит: «Чарующие страницы Примата
Джоберти были романом нашей юности, и даже теперь я не
могу забыть сладких чувств, им пробужденных». Джоберти
читали с большим энтузиазмом, чем у нас некогда читали
Герцена. Но парадокс его необыкновенной славы заключался в том,
что он, проповедуя идею политического объединения,
предпослал этой проповеди обширные философские произведения,
в которых боролся со всем духом Нового времени. Начало его
влиянию положили именно эти сочинения, но в них он являет-
526
Β. Φ. ЭРН
ся откровеннейшим приверженцем Церкви, решительным
мистиком, смелым и порывистым метафизиком. В этом отношении
он представляет почти полную противоположность — антитезу
Розмини. Если Розмини является как бы завершителем новой
философии чрез принятие в себя всех тенденций
новоевропейского мышления, то Джоберти становится в решительную и
неслыханную оппозицию ко всей новой философии, взятой на
всем ее протяжении. Ложью он считает самый принцип новой
философии. Он объявляет, что вся новая философия
безнадежно больна психологизмом (psicologismo). Как в медицине
название болезни связывается с именем ученого, ее открывшего и
впервые исследовавшего, так понятие психологизма как
особой, чрезвычайно важной категории философской критики,
должно быть навсегда связано с именем Джоберти.
Психологизму Джоберти дает самое широкое и в то же время философски
точное определение. Под психологизмом он разумеет все
философские системы, коих исходным пунктом берут психические
данные, или факт человеческой науки, или какие-нибудь
абстракции, а не то, что логично само по себе, т. е. абсолютное в его
конкретной умопостигаемости. Мистико-историческим корнем
психологизма он считает мятеж Лютера против католичества, а
первым глашатаем протестантского принципа в области
теоретической философии — Декарта, в силу чего Декарт становится
bête noire3 Джоберти, и уж он не пропускает случая высмеять
Декарта раскрытием логических промахов его мышления, и
делает это всегда со вкусом и с большим остроумием. Новая
философия, которую он знал не хуже Розмини, для него всегда
объект для нападения, и исключение он делал лишь для одного
Мальбранша, доктрина которого о видении всех вещей в Боге
вдохновлена Августином и вдохновителем Августина —
Платоном. В своей оппозиции новому философскому Западу
Джоберти отчасти опирается на святоотеческую мысль и на Платона,
но больше всего на собственный гений, и через это его
самосознание, которое может быть названо самосознанием идеального
Востока, получает особенно интересный вид, ибо почти
отрешается от культурно-исторических влияний и становится фактом
чисто философского характера. Основные тезисы Джоберти
самым кратким образом можно изложить так:
Во-первых. Дурной психологизм новой европейской мысли
должен быть преодолен путем нахождения истинного
онтологического начала человеческой мысли. Если различные науки
представляют из себя цепи мыслей, которые так или иначе
могут быть соединены между собой, то основной вопрос филосо-
Спор Джоберти с Розмини
527
фии состоит в разыскании первого звена всей массы
переплетающихся цепей. Первое сверхпсихологическое звено может
быть найдено лишь вне человека, взятого в его эмпирии и вне
всего человеческого. Оно должно быть
существенно-онтологическим, относиться к миру божественно-сущего.
Во-вторых. Это звено должно удовлетворять двум
требованиям: требованию абсолютности и сверхпсихологичности и
требованию внутренней очевидности, интуитивной ясности для
человеческой мысли. Другими словами, это звено должно быть
синтезом логичности с онтологичностью. Оно должно быть не
чем иным, как идеальной формулой (formola ideale), которая
как формула должна быть суждением, т. е. состоять из трех
элементов: подлежащего, сказуемого и связки.
В-третьих. Формула должна объединять в себе все, ибо
она — основа всего познаваемого. И в то же самое время она
должна иметь ту же конструкцию, что и все познаваемое т. е.
быть идеальным организмом, внутренне законченным и
абсолютно-осмысленным. Подлежащим формуле может быть лишь
Сущее, ибо 'Сущее начало всего и без него все не может быть
взято всецело. Вторым членом формулы должно явиться тогда
все — минус Сущее, т. е. существующее. Третий член должен
носить такой характер, чтоб сущность двух первых членов не
искажалась наличностью третьего, т. е. чтобы эта наличность,
конституирующая взаимоотношение между основными
членами формулы, вытекала из самой природы понятия Сущего и
понятия существующего. Такой характер носит понятие
творения.
В-четвертых. Итак, вся формула в своей всецелости будет
следующей: Сущее творит существующее. L'Ente créa l'esisten-
te. Это суждение внутренно очевидное, ибо все существующее
из сущего, что так хорошо передается предлогом ех в
латинском слове exister е. С другой стороны, всякого рода
пантеистические взаимоотношения между сущим и существующим
уничтожают понятие Сущего. Единство сущего и
существующего, не уничтожающее абсолютной самостоятельности
сущего и не превращающее существующее в сущее, может быть
мыслимо лишь как творение.
В-пятых. Идеальная формула, будучи логичной, в то же
самое время онтологична. Ибо суждение, составляющее
формулу, не есть суждение человеческое. Наш дух в этом случае не
судья, а простой свидетель истины, которая не из него исходит.
Автор первичного суждения, слышимого нами непосредственно
в интуиции, само сущее, которое, полагая себя перед нашим
528
Β. Φ. ЭРН
умом, говорит: Я есмь необходимо. Это объективное слово, в
коем основание всей очевидности и всей достоверности
приходит к нам от постижимого в Сущем, т. е. от самого Сущего в его
абсолютной идеальности. Сущее открывает себя нашей мысли,
и так как оно интеллигибельно, то оно нами понимается,
поскольку полагает себя, и полагает себя, поскольку понимается.
Идеальность и реальность абсолютно отожествляются.
В-шестых. В этой первоначальной интуиции мы имеем дело
с одной стороны, с божественным суждением, ибо Сущее
говорит: Я есмь, с другой — с божественным фактом, ибо Сущее
творит существующее. Первое есть основа всякого знания,
второй основа природы. Благодаря этому вся энциклопедия
человеческих наук зиждется на круги божественной идеальности, и
формула — составляющая первое звено в цепи человеческих
знаний — является одновременно и актом божественного
откровения, и актом божественного творения, поскольку самые
условия откровения вызываются божественным творчеством.
Таковы в кратких словах тезисы Джоберти. Стоит только
сравнить их с тезисами Розмини, чтобы увидеть их
разительную противоположность. Итальянские историки,
занимающиеся спором между Джоберти и Розмини, а также розминианцы
совершенно не понимают сущности этого спора, и потому для
них спор этот интересен лишь как биографический факт,
отчасти даже прискорбный, и Сольми, например, готов считать
его простым препирательством, ссорой. Но из одного
сопоставления тезисов явствует, что между авторами их неминуемо
должна была возгореться борьба, ибо здесь встретились два
мировых принципа.
И борьба действительно возгорелась.
III
Я не буду говорить о внешней стороне интересующего нас
столкновения. Скажу только, что первый враждебный выпад
был сделан Розмини в рецензии на сочинение Джоберти
«Теория сверхъестественного». Джоберти без всякого отношения к
этой рецензии высказал несколько существенных замечаний о
«Новом опыте» Розмини в одном из больших примечаний
своего фундаментального сочинения «Введение в изучение
философии» (Iutroduzione alio studio délia filosofia). Это очень
раздражило розминианцев, в среде которых складывался настоящий
культ Розмини, живой и в наши дни, и один из них, Микеле
Спор Джоберти с Розмини
529
Тардити, профессор математики Туринского университета, в
1841 году выпустил сочинение «Письма розминианца к
Джоберти» (Lettere d'un rosminiano a Vincenzo Gioberti) —
носившее характер прямого нападения. В Джоберти вдруг проснулся
полемический энтузиазм, и он в несколько дней написал
первый том «Философских заблуждений Антонио Розмини» (Degli
errori filosofici di Antonio Rosmini). Тардити, литературно
совершенно раздавленный этим патетическим натиском, тем не
менее продолжал свои письма, а Джоберти, раздраженный
молчанием Розмини, который некогда на несколько страниц
Мамиани ответил целым томом в 400 страниц, а теперь на том
серьезнейших возражений не отвечал ничего, — Джоберти в
каком-то литературном неистовстве один за другим написал
второй и третий томы «Заблуждений Розмини», причем в конце с
неудержимой веселостью перешел в диалогическую форму и
заставил препираться забавнейшим образом свою идеальную
формулу с возможным сущим Розмини. Полемическое
воодушевление было настолько сильно в Джоберти, что он не
удовольствовался и этой трилогией, и в его бумагах найдены
Сольми и недавно опубликованы еще гепталогия, т. е. семь
диалогов на ту же тему. Хотя в полемику вступили и другие роз-
минианцы, Томмазео, Густаво ди Кавур — брат
государственного деятеля, а также Бароне, выступивший с примирительной
тенденцией, — тем не менее в этой полемике больше всего
досталось Тардити. Он стал мишенью, так сказать, «попутного»
остроумия Джоберти на протяжении всех трех томов, и его
положение, — положение обыкновенного смертного между
заспорившими Казбеком и Шать-горою — было самым незавидным.
К сожалению, чтобы не удлинять слишком речи, я должен
оставить в стороне блеск редкого остроумия, проявленного
Джоберти в этом столкновении и нисколько не уступающего
остроумию Влад. Соловьева, которое сделало столь популярной
полемику его с выродившимся славянофильством в 80-е
годы, — и сосредоточиться на главных моментах спора.
Прежде всего Джоберти включает Розмини в общую скобку
новоевропейского психологизма. Он говорит, что для того,
чтобы раз навсегда устранить недоразумения он, Джоберти,
различает в философии Розмини два слоя — один чрезвычайно
логичный и строго связанный с основным учением о возможном
сущем, и другой, совершенно с ним не связанный и ему
противоречащий слой здравой католической философии. Джоберти
готов преклониться перед мудростью многих доктрин Розмини,
основанных на психологическом опыте или на данных катехи-
530
Б. Φ. ЭРН
зиса, но его интересуют в Розмини не эти доктрины, а его основ*
ной принцип, провозглашение которого Розмини считает
чрезвычайным событием в философии, а розминианцы — началом
новой философской эры. Этот основной принцип по существу,
несмотря на маску христианских выражений, является
тождественным с принципом новой философии, провозглашенным
Декартом и продолженным Кантом. «Розмини, — говорит Джо-
берти, — с необходимостью должен быть признан
психологистом, ибо он отказывает в реальности непосредственному
объекту интуиции, ибо он определенно отрицает идеальное видение в
Боге, ибо он утверждает, что идея, предстоящая человеческому
познанию, нумерически отличается от идеи божественной. Вы,
розминианцы, отвечаете на это: нет, ибо Розмини допускает
свет, называемый им божественным, и, по его мнению,
сообщенный людям, ибо он допускает идею в истинном смысле
объективную, воспринимаемую непосредственно и нумерически
единую для всех сотворенных умов. Вы спрашиваете, может ли
быть назван психологистом человек, исповедующий такую
доктрину? Конечно, не может. Но этот человек прекрасно может
исповедывать одновременно эту доктрину и доктрину ей
противоположную, совершенно не замечая их абсолютной
несоединимости. Это и делает Розмини. Можно не десять, а сто раз
говорить и повторять, можно на протяжении целых томов
доказывать, что единственным и непосредственным предметом
человеческого знания является не Сущее конкретное, реальное,
субстанциальное и безусловное, а чистая абстракция, простая
форма, расплывчатая общность, — словом, нечто лишенное
всякой реальности и существования, нечто чуждое
божественной природе и присущее лишь человеческому разуму. И потом,
когда против этой доктрины толпой восстают возражения и
нужно на них что-нибудь отвечать, — Розмини начинает
утверждать, что его сущее хотя и не существует вне разума, тем не
менее не есть модификация разума, что его сущее хотя и не
конкретно, но в то же время и не абстрактно, не реально — и
объективно, не есть Бог и не человек не божественно и тем не
менее может быть названо божественным...»
В этих основных колебаниях Джоберти видит подлинную
зависимость Розмини от главных традиций новой философии и
с ехидством приводит стишки Лафонтена.
Je suis oiseau; voyez mes ailes.
Je suis souris; vivent les rats!4
Розмини, как и всю новую философию, необходимо
поставить перед дилеммой: «Сущее идеальное (т. е. высший принцип
Спор Джоберти с Розмини
531
знания) есть или тварь, или Творец». Тут нет середины, и если
б к ней хотел прибегнуть Розмини и искусственно отыскать ее
подобно тому, как он нашел в новом опыте нечто среднее между
бытием вне разума сущим и бытием как модификацией
разума, — то спор бы усугубился, перестав быть чисто
философским. Ибо, так как идея не есть ничто, а есть некоторая вещь,
то она непременно должна быть или сотворенной или несотво-
ренной; допустить третий род вещей, которые бы не были ни
сотворены, ни не сотворены, — это значит впасть в формальную
ересь и высказать нечто совершенно безбожное. Тут не поможет
обычная розминианская ссылка на различие между идеальным
порядком знания и реальным порядком вещей, ибо, даже
оставив в стороне невозможность один абсурд излечивать другим,
что часто делает Розмини, — это гомеопатическое средство
окажется совершенно негодным в области умозрительных наук.
Тщетность этого маневра ясна уже из того, что все знания как
некоторые нечто должны входить или в классы необходимого,
или в классы случайного, т. е. относиться или к Творцу, или к
твари». Идеальное сущее, повторяет Джоберти, есть некоторое
свойство, атрибут, принадлежность Творца или же
какое-нибудь качество твари. В первом случае дух наш, имея объектом
непосредственной интуиции идеальное сущее, должен
необходимо иметь некоторую интуицию Бога, ибо все свойства и
принадлежности Бога не отличаются реально от божественной природы,
даже когда различаются реально между собой, как, напр<и-
мер>, божественные ипостаси. Поэтому если идеальное сущее
есть божественная интеллигибельность, или иначе Слово или
Логос Бога, то нельзя иметь интуиции идеального сущего без
интуиции божественной природы, поскольку она
интеллигибельна или поскольку она существует в ипостаси Слова». Во
втором же случае, т. е. если идеальное сущее есть нечто
сотворенное или какая-нибудь принадлежность твари, — то
необходимо вытекает следствие, что первичное понятие, первая
истина, основа всего познаваемого есть нечто конечное, случайное,
относительное, сотворенное — совершенно как в психологизме,
который так пугает Вас, розминианцев. И Вас нисколько не
спасет утверждение, что Ваше сущее есть не модификация
разума, а нечто объективное, находящееся вне разума. Даже уступив
Вам это, что, впрочем, противоречит Вашим же собственным
принципам — я не вижу для Вас никакой пользы в подобной
уловке. Ведь если эта идеальная объективность есть тоже нечто
сотворенное, то ее отличие от человеческого духа ничего не
будет означать. Как ни украшайте Ваш принцип, как ни возвели-
532
Β. Φ. ЭРН
чивайте его, он всегда останется чем-то сотворенным,
случайным, конечным и потому неспособным служить абсолютной
основой и абсолютным принципом всякого знания. Итак, я
объявляю Розмини, говорит Джоберти, за чистейшего психологиста
в основных принципах. Он прибегает к онтологическим
паллиативам только для того, чтоб скрыть от читателей и от самого
себя печальные выводы из его системы. Психологизм занимает
по существу и формально логически большую часть сочинений
Розмини. У Розмини нет истинной онтологии. Он способен
только «онтологизировать», ontologizzare.
IV
Какие же выводы вытекают из основного принципа
Розмини? Джоберти прямо теряется в выражениях. Выводов,
раскрывающих слабость основного принципа Розмини, масса,
бездна. Нуллизм (nullismo — меонизм), скептицизм, релятивизм,
сенсуализм, номинализм, эманатизм5, наконец, арианизм6 —
все это, как из «идеи матери», с необходимостью вытекает из
психологизма. Так как Розмини по общим мотивам своего
философствования совершенно убежден в несостоятельности всех
названных «измов», то внимание Джоберти направлено лишь
на выяснение связи между принципом Розмини и этими
следствиями. Несмотря на обилие всяких наименований, выводы из
учения о возможном сущем, извлекаемые критикой Джоберти,
легко могут быть сгруппированы в три отдела: выводы
гносеологические, выводы метафизические, выводы богословские.
Наиболее важны выводы гносеологические, ибо они наиболее
принципиальные и лежат в философской основе выводов
метафизических и богословских. В гносеологическом отношении из
учения о возможном сущем вытекает абсолютный скептицизм.
Розминианцы любят говорить, что их неопределенное бытие
есть отображение Сущего абсолютного. Сущее абсолютное есть
как бы духовное Солнце, а их бытие есть свет, из него
истекающий; что свет этот, хотя и сотворенный, предполагает свет не-
сотворенный и без него не можем существовать. Но, возражает
Джоберти, все эти метафоры могут лишь затемнить трудность,
скрытую в этом пункте, а отнюдь не разрешить ее. Ведь если
неопределенное бытие есть лишь отображение т. е. копия и, так
сказать, портрет Сущего реального и абсолютного, то откуда же
розминианцы знают, что отображение это правильно? Более
того, откуда они знают, что оно есть отображение? Нельзя
Спор Джоберти с Розмини
533
знать, портрет ли данное изображение, если мы не знаем в
подлиннике лицо, которое он изображает, еще менее можно знать
похож ли этот портрет, если мы не можем сравнить его с
оригиналом. Значит, нужно быть в состоянии сопоставить сущее
возможное с сущим реальным, чтоб знать, схожи ли они между
собою. Но как же могут сделать это розминианцы, если им, по
их собственному признанию, не дано воспринимать сущее
реальное в себе самом, если все, что они знают о нем, основано на
сущем возможном. Розминианцы, следовательно, верят в
сущее реальное потому, что их удостоверяет в нем сущее
возможное, в истинность же и правдивость (veracita) сущего
возможного они верят потому, что оно коренится в сущем реальном.
Другими словами, посылками они доказывают следствия,
следствиями же посылки. Такому очевидному circuius vitiosus7 мог
бы позавидовать сам Декарт! По Розмини выходит, что
абсолютный принцип знания, Бог в своей идеальности, или скорее
идеальность, поскольку она конкретно существует в Боге, есть
не первый, а второй момент гносеологии, причем этот второй
момент обусловлен первым, а первый сам по себе не абсолютен,
т. е. и все, что мы можем знать о втором моменте, обусловлено
неабсолютностью первого, и вся абсолютность второго для нас,
таким образом, исчезает. Розмини, следовательно, не может
найти абсолютной основы для знания. Но знание без
абсолютной основы есть та докса древних, которая является
необходимым следствием скептических принципов. Розмини вместе с
последователями своими настроены религиозно и потому,
исповедуя ложный принцип, вовсе не хотят следствий, которые
целым гнездом скрыты в их принципе, но если б явился розмини-
анский Фихте, и отбросил словесные облачения, развил во всей
наготе принцип Розмини, — сам Розмини должен был бы
прийти в ужас. Выводы метафизические тесно связаны с выводами
гносеологическими. Если все, что мы знаем об Абсолютном есть
не что иное, как выводы из неабсолютных принципов — ибо
непосредственного знания Бога Розмини не допускает, — тогда
выходит, что все наши теоретические представления о Боге
состоят из элементов посюсторонних и тварных и ими
исчерпываются. Но в таком случае не мы являемся образом Божиим,
который дает нам возможность постигать божественное, а
представления о Божестве созидаются по образу и подобию нашему.
Но так как было бы слишком грубо подобие наше, взятое
психологически, переносить в Абсолютное, что, впрочем, делалось
в язычестве, то мы должны представлять Божество по наиболее
удаленному от нас образу тварности т. е. космологически, и та-
534
Β. Φ. ЭРН
ким образом сливать в дурное единство — Сущее и
существующее, Бога и мира, Творца и тварь. А это будет пантеизм,
необходимо связанный с тем или другим видом эманатизма. Джоберти
так часто повторяет это, что у него даже создается формула:
«Пантеизм есть законный и необходимый корролларий
психологизма». Розмини не видит, что его принцип в существе
тождествен с принципом послекантовского немецкого идеализма и
приводит к тем же печальным следствиям. У христианства нет
врага более ужасного, чем новый немецкий идеализм.
Немецкие школы, популярные по всей Германии, с необыкновенным
искусством борются с христианством, делают все возможное,
чтоб уничтожить его и, кажется, весь цивилизированный мир
вернуть к язычеству для того, чтоб отмстить за древнее,
поражение культа Одина8. Можно сказать, что почитание Одина
возрождается в современной Германии под маской философии и
критики, и тот пантеизм, который вначале господствовал в
грубых формах скандинавской мифологии, теперь восстановляется
в привлекательных культурных формах науки и философии.
Джоберти называет это безумием и с пророческим пафосом
восклицает, что если Италия проникнется этими учениями, ее
ждет духовное обнищание, и светильник христианства, не
могущий угаснуть, будет сдвинут с места, где он стоял
тысячелетия, и передан другим народам. Горе, говорит Джоберти, тем,
кто будет безразлично смотреть на это разрушение истины в
Италии, — и он особенным полемическим воодушевлением
нападает на Розмини, потому что Розмини основами своей
философии как бы расчищает почву для будущего господства
пантеистических доктрин в Италии.
Но поссибилизм Розмини имеет разрушительные следствия
не только в области гносеологии и метафизики. Из него
вытекают определенные ложные выводы и в области богословия,
выводы искажающие основные догматы христианства.
Розмини называет идею неопределенного бытия — то сотворенной, то
несотворенной и свет, которым она просвещает всякого
человека, приходящего в мир, то подлинно божественным, а то лишь
«так сказать» или «почти божественным». В этой
двойственности, унаследованной Розмини от всей новой философии, можно
констатировать явный уклон к арианству. Если свет основной
идеи признается сотворенным и лишь «так сказать,
божественным», и в то же время ставится своим происхождением в
прямую связь с божественным Словом, тогда Сын Божий, или
вторая божественная ипостась, должна быть признана принципом
тварным, и арианское учение о подобосущии самым недву-
Спор Джоберти с Розмини
535
смысленным образом должно проникнуть в розминианское
богословие. Обыкновенно розминианцы с торжеством возражают,
что вот должно было проникнуть, на самом деле не проникло,
но Джоберти на это отвечает, что эта богословская невинность,
покупается ценою непоследовательности, а эта цена для тех,
кто хочет быть философом, уж слишком дорогая. Арианское
учение об Όμοιούσιον9 логически содержится как
теологическое следствие — в самом принципе психологизма, а как бого-
словствуют розминианцы вопреки логике, это их частное дело.
Итак попытка Розмини измыслить нечто среднее между
Богом и человеком, между Творцом и тварью, между сущим и
существующим должна быть признана неудачной. Для того, чтоб
избавиться от всех бесчисленных зол психологизма,
недостаточно пробавляться паллиативами, нужно заново перестроить
всю философию на начале подлинно онтологическом.
Этим логически кончаются возражения Джоберти.
V
Мы не можем входить в обсуждение причин, почему
Розмини не отвечал непосредственно на столь внушительную
критику Джоберти. Лишь через пять лет после начала полемики он
опубликовал в Filocatollico10 вторую половину своего трактата
«Джоберти и пантеизм». Но и этот трактат при ближайшем
рассмотрении не является настоящим ответом. Розмини
пытается перебросить обвинение в пантеизме к Джоберти,
доказывая, что из принципов Джоберти тоже вытекает пантеизм. Так
это или не так, от этого сила поставленных Джоберти вопросов
нисколько не уменьшится. Если даже идеальная формула
Джоберти может быть истолкована пантеистически, то это вовсе не
значит, что Розмини, идущий по следам новой философии, не
повинен в психологизме. В защиту Розмини мы можем только
сказать, что в момент нападения Джоберти, в нем зрели
огромные философские труды (вышедшие лишь посмертным
изданием), и монументальный очерк второй углубленной системы
Розмини, в заметной степени вызван гениальной полемикой
Джоберти. Здесь мы находим явные следы того, что Розмини
внутренно сосчитался с возражениями Джоберти и так или
иначе пытался ответить на его апории. Замечательно, что Розмини
и Джоберти лично не знали друг друга и встретились лишь
в 1848 году. В этом знаменательном для Италии году Джоберти,
недавно вернувшийся из изгнания, становится премьер-мини-
536
Β. Φ. ЭРН
стром пьемонтского правительства и вместе с другими своими
коллегами вызывает Розмини в Турин для того, чтоб возложить
на него миссию привлечь папу к федерации против Австрии.
С этого момента личные отношения Розмини и Джоберти
становятся сердечными и полными взаимного уважения, но
разногласие остается во всей силе и только усугубляется еще тем, что
оба великих философа не стояли неподвижно на месте своих
былых позиций. Как Розмини, так и Джоберти в последний
десяток лет своей жизни производят фундаментальную
перестройку своих систем и еще дальше расходятся друг от друга.
Да, разногласие остается. Остается именно потому, что оно
носит типический характер. Спор Джоберти с Розмини,
окончившийся логическим триумфом Джоберти для всякого
знакомого с историей философской мысли, не может явиться
неожиданным. Если бы Джоберти был лучше знаком с историей
мысли, он бы увидел, что за пять веков до его разногласий с
Розмини на православном Востоке разгорелся и прошел все
диалектические фазы великий спор о Фаворском свете11. И он с
удивлением должен был бы констатировать, что не только
сущность этого спора, но даже самая терминология изумительно
близки к его собственному спору с Розмини. Больше того, он
увидел бы, что в своей аргументации против Розмини он мог
бы много заимствовать у св. Григория Паламы и его
последователей паламитов, бывших тончайшими диалектиками, а в Вар-
лааме12, выходце из Италии и последователе Фомы Аквинского,
он бы должен был признать все основные пункты столь
ненавистного ему розминианства.
Типичность изложенного мной спора еще лучше
доказывается параллелями из современных философских и религиозных
столкновений. Так, в конце XIX столетия в немецкой
философии совокупными усилиями многих логиков осознается
проблема психологизма, и как единственное средство против него
провозглашаются или подновленные формы неокантианства
или же гуссерлевская идея чистой логики. Нельзя не
подчеркнуть любопытного факта. Как руководители борьбы с
психологизмом в Германии, так их ученики: французские, русские и,
увы, даже итальянские — ничего не знают о столкновении
Джоберти с Розмини, не знают, что честь открытия проблемы
психологизма, честь острой и универсальной ее постановки
принадлежит не немецкой философии, а итальянской, не Когену,
Риккерту или Гуссерлю, а Винченцо Джоберти.
Другая параллель еще любопытнее и важнее. Мы все глухо
слышали о догматических спорах, вдруг взволновавших древ-
Спор Джоберти с Розмини
537
ний Афон, о спорах, которые нашли живой отклик по всей
России и которые вызвали столь печальную и грубую расправу со
стороны уполномоченных Синода. Это спор об имени Божием13.
Позиция имеборцов, теоретиками которой выступают
архиепископы Антоний и Никон и профессор Троицкий, до
чрезвычайности схожа с позицией розминианцев. Как розминианцы
отрицают несотворенность и сверх-тварность «умного света»,
конституирующего наш разум как способность познания, а не
способность незнания, так точно имеборцы отрицают
несотворенность и сверхтварность имени Иисусова, а имеславцы, пока
базирующиеся лишь на внутреннем опыте и несознавшие
философски своей позиции во всей глубине, подобно тому как
Джоберти отстаивал несотворенность идеи и ее
непосредственную открытость разуму человека, — борются за несотворенную
божественность имени Иисуса и его непосредственную и
благодатную действенность в целостности внутренней жизни
человека. Параллелизм идет далее. Имеславцы, подобно Джоберти,
указывают на целый ряд разрушительных следствий из име-
борческого принципа, и следствия эти как раз те же самые, что
и следствия, извлеченные критикой Джоберти из основного
принципа Розмини; только они не носят специфических форм
гносеологии и универсальны по содержанию. А именно: первое
следствие относится к религиозному гнозису и означает
релятивизм религиозного чувства, т. е. отсутствие прямой
соотнесенности наших религиозных чувств с божественным
Существом и, следовательно, их полный односторонне-человеческий
субъективизм; следствие второе относится к области
религиозной метафизики и означает неполную воплощенность Бога во
плоти, т. е. отсутствие подлинного соединения небесного и
земного, божественного и человеческого посюстороннего и
потустороннего в имени Богочеловека. Следствие третье относится к
области религиозной мистики и означает метафоризм
центрального таинства пресуществления хлеба и вина, вносящий
совершенное расстройство в практически-религиозную жизнь.
Эти параллели можно было бы умножить, но и сказанное
достаточно подчеркивает типичность возражений Джоберти,
выставленных против Розмини, и их внутреннюю живучесть.
Джоберти забыли, забыли несправедливо, и ему в скором
времени, надеемся, предстоит блестящее возрождение и
плодотворное действие в полную меру на философскую и
религиозную мысль современности.
^^
Л.ЛОПАТИН
По поводу сочинения В. Ф. Эрна
«Розмини и его теория знания. Исследование
по истории итальянской философии
XIX столетия»
В. Ф. Эрн в своем исследовании «Розмини и его теория
знания» дает характеристику личности, судьбы и
гносеологических воззрений одного из наиболее выдающихся итальянских
философов XIX века — Антонио Розмини Сербати. В введении
автор рассматривает положение вопроса о Розмини в западной
историко-критической литературе, делает краткий очерк
явлений итальянской философии до Розмини и старается дать общее
определение места Розмини среди других европейских, и в
частности итальянских, философов. В первой главе («Жизнь и
личность Розмини») содержится биография Розмини,
перечисляются и кратко характеризуются его произведения и живыми
чертами изображается его личность. Во второй главе («Введение в
идеологию») автор излагает критику Розмини учений его
предшественников по первому тому его «Нового опыта о
происхождении идей». В третьей главе («Очерк идеологии Розмини»)
излагаются гносеологические воззрения Розмини, также по «Новому
опыту», с немногими ссылками на некоторые другие сочинения
Розмини. Глава оканчивается несколькими критическими
замечаниями автора, указывающими на недостатки гносеологии
Розмини. Четвертая глава («Спор о психологизме») посвящена
спору Розмини с другим знаменитым представителем
итальянской мысли в XIX веке — Джоберти. Точнее говоря, эта глава
представляет изложение критических замечаний Джоберти
против идеологии Розмини, причем для уяснения их смысла
автор излагает общее философское миросозерцание Джоберти.
Автор всецело примыкает к критике Джоберти, изобличающей
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания...» 539
«психологизм» Розмини и требующей онтологического
обоснования гносеологии, и думает, что эта критика произвела
глубокий переворот во взглядах Розмини, хотя сам Розмини и не
признавал этого. В пятой главе («Онтологическое обоснование
идеологии») автор излагает гносеологию Розмини в ее
позднейшей стадии, по сочинению Розмини «Теософия». Наконец, в
заключении автор формулирует свой приговор о
гносеологических построениях Розмини: они не были удачны, но значение
философии Розмини в том, что он «прошел некоторый
типический путь в своем идеологическом строительстве» (с. 296) и
содействовал пробуждению весьма важных вопросов.
В. Ф. Эрну принадлежит несомненная и большая заслуга
детального ознакомления русской читающей публики с
взглядами мало известного у нас в России мыслителя,
оригинального и тонкого, в свое время пользовавшегося, по крайней мере у
себя на родине, огромным авторитетом. В. Ф. Эрн глубоко
изучил произведения Розмини, очень многочисленные,
чрезвычайно обширные, по своему изложению трудные и далеко не
всегда ясные. Г. Эрн вообще превосходный знаток итальянской
философии во все эпохи ее развития, и это помогает ему
хорошо ориентироваться при обсуждении идей Розмини. Нельзя
также не отметить чрезвычайно живого и даже пылкого
отношения у автора к принципиальным проблемам, которые
пытался разрешить Розмини. Воззрения Розмини представляют
для него не только исторический интерес, он принимает их к
сердцу по их существу и горячо спорит с Розмини, защищая
против него абсолютный онтологизм Джоберти. Все это делает
исследование г. Эрна интересным вкладом в текущую
философскую литературу.
Тем не менее нужно сознаться, что в книге г. Эрна бросаются
в глаза и некоторые крупные недостатки. Самый главный
между ними заключается в некоторой ограниченности и
субъективной прихотливости его плана и метода. Странным
образом исследование ведется как бы вне всякой исторической
перспективы. Я нисколько не сомневаюсь, что внутри-то она у
автора есть, — она иногда даже сквозит в его отдельных
замечаниях, — но беда его сочинения в том, что она почти всецело
остается только внутри автора. Он не делает сколько-нибудь
законченных или хотя бы только мотивированных попыток
объяснить, под какими влияниями сложились взгляды
Розмини и какая именно связь и зависимость существует между его
учениями и учениями его предшественников и современников.
В этом отношении автор ограничивается лишь мимоходными
540
Л. ЛОПАТИН
и сравнительно редкими высказываниями своих личных
мнений; полное исключение делает он только для Джоберти, — об
его влиянии на Розмини он говорит очень много. Но тут-то
особенно резко и отражается отсутствие у автора общей
исторической перспективы. Я уже не говорю, что при этом вопрос об
исторических условиях первого возникновения философской
системы Розмини нисколько не затрагивается: автор
привлекает влияние Джоберти, чтобы объяснить перемены в
философских идеях Розмини в течение его жизни. Не менее важно то,
что при том одиноком положении, в которое у него поставлен
Джоберти, в ум читателя невольно закрадывается сомнение: не
преувеличивает ли В. Ф. Эрн роли Джоберти? При дальнейшем
развитии своей системы не испытал ли Розмини и еще чьих-
нибудь влияний, кроме Джоберти, — ведь он же был страшно
начитан? Как учесть влияние одного философа, совсем не
поставив вопроса о возможном влиянии других философов, —
тем более что сам Розмини влияния на себя Джоберти не
признавал, и что они все-таки остались навсегда весьма далекими
друг от друга по своим взглядам? Но, конечно, тут вопрос не об
одном Джоберти и его значении. Как вообще понять и научно
оценить философа, не рассмотрев со всею серьезностью
влияний, под которыми слагалось и образовывалось его
миросозерцание в своем целом? Как тогда вообще сказать, — что в его
учении принадлежит ему самому и что в его взглядах не его!
Правда, вместо собственных соображений о том, какие
явления предшествующей и современной философии могли оказать
определяющее влияние на образование воззрений Розмини,
В. Ф. Эрн дает изложение критических замечаний Розмини о
разных гносеологических теориях. Но не говоря уже о том, что
одно никак не может заменить другого, и это изложение
лишено необходимой полноты, притом в наиболее существенных
пунктах. Остановлюсь на одном примере: каждого
исследователя гносеологии Розмини, мне кажется, должен прежде всего
занимать и беспокоить вопрос об основном источнике и
критерии познания в системе Розмини, — о его идее чистого,
возможного, неопределенного бытия в ее загадочном логическом
составе. Ее логическая мотивировка у Розмини так неясна и
даже противоречива, она сама предполагает так много
недосказанных предпосылок, а в то же время она так могущественно
владеет умом Розмини и он так настойчиво сосредоточивает в
ней все свои объяснения, — что неизбежно закрадывается
мысль о каких-то очень сложных влияниях, вызвавших
возникновение этой идеи, а может быть, и о внутренней борьбе
По поводу сочинения В.Ф.Эрна «Розмини и его теория знания...» 541
с этими влияниями, которая, так сказать, кристаллизовалась в
этой идее. Невольно при этом представляется Мальбранш с его
идеей умопостигаемого пространства, непосредственно
созерцаемого нами, из которой как бы выкраиваются для нас все
познания о действительности. И Мальбранш, несомненно,
пользовался высоким авторитетом в итальянской философии XVIII в.
и имел среди итальянских философов этой эпохи очень
популярного и влиятельного последователя в лице Джердиля. И
Розмини знал их обоих и оспаривал их. Почему же автор совсем на
них не остановился? (О Джердиле, если не ошибаюсь, он
мимоходом упоминает в своем труде всего один раз.) Почему совсем
не изложена критика Розмини учения Мальбранша? Быть
может, она бросила бы для читателя некоторый свет на
своеобразную позицию Розмини в гносеологии. С другой стороны, само
собой бросается в глаза некоторое сродство замысла Розмини с
попытками немецких идеалистов (Фихте, Шеллинга, Гегеля)
свести все положения знания к единому, всеопределяющему
принципу. В частности, невольно припоминается Гегель,
видевший в чистом, неопределенном бытии точку исхода для
диалектического построения всех умозрительных категорий и всех
законов науки. Почему же автор не передал критики Розмини
основных учений немецкого идеализма? Ведь тут дело идет не
только об идее бытия, и во многих других пунктах (хотя бы в
вопросе о последовательных стадиях внутренней эволюции
природных форм) у Розмини ясно обнаруживается влияние
немецкой идеалистической философии. Оттого предшествовавшие
исследователи обыкновенно серьезно останавливались на
отношении Розмини к немецкому идеализму. В. Ф. Эрн
сознательно уклоняется от этого пути и старается оправдать свое
решение. Это оправдание выливается в очень категорическую
форму. Он говорит (с. 82, примеч. 2): «В его (Розмини)
позднейших сочинениях находится целый ряд критических замечаний
против Фихте, Шеллинга и Гегеля. Мы останавливаемся на
Канте потому, что сам Розмини прошел лишь через Канта, к Фихте
же, Шеллингу и Гегелю относился как равный к равным, ибо
когда он знакомился с ними, его система уже была готова...»
Я решаюсь спросить: почему г. Эрн думает, что система
Розмини была тогда уже готова? Тем более что дело здесь идет
именно только о знакомстве, а не о детальном изучении сочинений
немецких идеалистов. Для самого глубокого влияния иногда
бывает достаточно самого поверхностного знакомства и даже
вовсе не из первых рук. (Исторические примеры: Белинский
как один из виднейших представителей гегелизма в России,
542
Л. ЛОПАТИН
или отношение схоластиков-реалистов к Платону. — Изучали
ли они его?) Между тем я спрошу: может ли быть, чтобы до
Розмини совсем не дошли взгляды немецких идеалистов в
эпоху создания его системы? Ссылка на них и разбор их воззрений
встречаются уже в «Новом опыте» и в «Возрождении
итальянской философии». По определению автора, Розмини делается
самостоятельным философом между 1828—1830 гг. (с. 20), стало
быть, незадолго до смерти Гегеля, через 14—15 лет после
смерти Фихте и в эпоху, когда Шеллинг уже давно завершил цикл
своих трудов идеалистического типа. Розмини был человек
тонкообразованный, чрезвычайно начитанный, принадлежавший к
самому культурному кругу. Возможно ли, чтобы до него совсем
не доходило (в подлиннике или в передаче — это даже не
важно) то, чем умственно жила вся Германия? В. Ф. Эрн говорит,
что он относился к Фихте, Шеллингу и Гегелю как к равным.
Что же из этого? Гегель тоже относился к Шеллингу как к
равному, — он был его старшим товарищем, — это не помешало
ему испытать от него очень сильное влияние. Но главное, как
можно говорить о готовой системе Розмини в начале его
философской деятельности, когда сам автор исследования именно
доказывает, что система его не была готовым статическим
продуктом, что она развивалась и менялась? Правда, г. Эрн тут все
относит к влиянию Джоберти; но я уже говорил о том, какой
шаткий вид получает это мнение, раз все другие возможные
влияния вынесены за пределы исследования.
Таким образом, по отношению к вопросу о влиянии на
философию Розмини предшествующих философских учений, у г. Эр-
на можно только найти изложение критических замечаний на
них самого Розмини, а иногда нет и такого изложения.
Понятно, что кругозор его изысканий чрезвычайно суживается.
Суживается он и с другой стороны: почему-то г. Эрн совсем
уклоняется от последовательной попытки самостоятельного
критического анализа воззрений Розмини по их существу.
Через это метод его приобретает характер чрезмерно
повествовательный. Например, изложению идеологии Розмини он
посвящает около ста страниц (с. 43—145). А своим критическим
замечаниям на нее отдает только 17 страниц и при этом
оговаривается, что (с. 145) его возражения против Розмини имеют
характер только дополнительный, что он высказывает лишь
такие замечания и соображения, которых нет в критике
Джоберти. Тут автор делает четыре или пять возражений против
Розмини, в наибольшей своей доле, как мне кажется,
основанных на недоразумении: он настойчиво выдвигает (с. 149, 150,
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания...» 543
151) малопонятный и логически немотивированный запрет по
отношению к самой задаче Розмини, — объяснить состав
человеческого опыта из его онтологических и психологических
условий (с. 44), — и предъявляет ему странное требование вывести
все содержание его гносеологии и даже самое существование
разумного духа и единство в нас субъекта чувствующего и
постигающего чисто априорным путем из отвлеченной идеи
неопределенного бытия (с. 149, 150, 151), хотя сам Розмини
никогда подобной задачи себе не ставил. Впрочем я, может быть,
чего-нибудь здесь не понимаю: рассуждения г. Эрна
облекаются в такие загадочные формы, они так неясны и в то же время
так категоричны, что читатель перед ними невольно теряется,
и мне не хотелось бы пускаться в детальные препирательства
по такому смутному вопросу. Мне важно то, что его
собственный анализ «Нового Опыта» ограничивается соображениями,
высказанными на с. 145—162. Далее идет повествование о
различных перипетиях в спорах между Джоберти и школой
Розмини и им самим по поводу психологизма, дается краткий
очерк жизни Джоберти, излагаются основы философии
Джоберти [главным образом его идеальная формула (с. 199, 172)]
затем излагаются возражения Джоберти против
миросозерцания Розмини и ответы на них Розмини, и этим оканчивается
обширный отдел книги, посвященный гносеологии «Нового
опыта».
Я никак не думаю, чтобы такая подмена самого себя
личностью Джоберти была уместным и удачным выходом при
решении задач исследования. Пускай автор во всем согласен с
Джоберти, все же, мне кажется, было бы лучше, если б он стал на
более принципиальную точку зрения и определенно выяснил
свои общие критерии. Как ни блестяща критика Джоберти, его
возражения против Розмини так тесно слиты с его
метафизическими и религиозными предпосылками, что отдельно от них
в значительной своей доле теряют свою силу и смысл. Чтобы
сделать приговоры Джоберти более убедительными, надо было
возможно более приблизить к нему читателя и со всею
наглядностью обнаружить философскую правомерность его
философского миросозерцания. В. Ф. Эрн и пытается это сделать, но я
не решусь сказать, что это ему удалось. Возьмем хотя бы его
толкование идеальной формулы. По его изложению выходит
(с. 169—170), что у Джоберти основоположным утверждением
философского знания, абсолютно и непосредственно
очевидным и все другое определяющим, является суждение: сущее
творит существующее, — или в переводе на простой язык: Бог
544
Л. ЛОПАТИН
творит мир. Я уверен, что многие из читателей должны прийти
в большое недоумение пред этим превращением догмата о
творении мира в непосредственно очевидную и убедительную
аксиому всякой науки. Как могли бы существовать атеисты, как
могли бы существовать учения хотя и признающие Бога, но при
этом отрицающие творение мира из ничего, если б это творение
было такой же самоочевидной аксиомой, как 2x2 = 4, или
часть меньше целого? Что за странное начало философского
построения! А между тем мне представляется, что подлинная
мысль Джоберти в этом пункте допускает и менее
парадоксальное толкование. У него, скорее, выходит, что идеальная
формула обладает непосредственной достоверностью только с точки
зрения высшей интуиции. Напротив, с точки зрения
логической, идеальная формула представляет лишь выводную истину
и является синтезом двух других положений, которым можно
приписать уже непосредственную несомненность. 1) Сущее
необходимым образом есть (Primum verum). 2) Фактически дано
существование, т. е. раскрытие бытия в конечных, зависимых
и случайных формах (этим выражается Primum factum —
наличность реализации Божественного творчества). Джоберти
полагает, что примирение и связь между этими двумя истинами
мы находим лишь в идее творения. Я не буду настаивать, что и
в таком толковании все оказывается ясным. Но, по крайней
мере, в нем нет прямых несообразностей.
Еще более приходится жалеть, что В. Ф. Эрн, так подробно
изложив гносеологию Розмини, не дал в своей книге даже
самого общего очерка философской системы Розмини в ее целом.
Казалось бы, его должно было побуждать к тому уже то
соображение, что большинство русских читателей не имеет об учении
Розмини никакого ясного представления. Как заставить
понять и оценить часть системы, совсем не ознакомив с самой
системой? Я не говорю уже о том, что гений Розмини
выражается особенно ярко и оригинально в некоторых онтологических
положениях его философии: достаточно напомнить его учения
о времени, пространстве, движении, материи, а также
лежащее в основе его своеобразного идеализма тонкое различение
между полным и неполным существованием тварей, — т. е. их
бытием в себе, как существуют животные, люди, чистые духи,
и бытием в другом, как существуют, например, пространство и
материя. С другой стороны, у Розмини гносеология теснейшим
образом связана с его общим философским миросозерцанием:
если можно сказать, что философия Розмини во всех своих
разветвлениях обосновывается из начал его гносеологии, то не ме-
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания...» 545
нее справедливо было бы утверждать и обратное, что
гносеология Розмини насквозь проникнута чисто метафизическими и
религиозными предпосылками. Я, например, совершенно
уверен, что коренное предположение его гносеологии о
врожденной нашему уму чистой идее бытия вообще, или
неопределенного бытия, или возможности получает объяснение только в
свете его религиозно-метафизических воззрений, а вне их имеет
до невероятности темный и произвольный вид. По отношению
к этой идее я прямо не могу постигнуть, как автор
исследования не заметил, что тут мы имеем у Розмини не что-нибудь
само по себе разумеющееся и понятное, но что здесь лежит
очень важная проблема, которую если не разрешить, в
гносеологии Розмини все окажется тусклым? Он не делает ни одного
шага, чтобы от себя сколько-нибудь подготовить усвоение этой
загадочной идеи читателями. Она появляется у него с первых
страниц изложения идеологии Розмини в качестве
неотразимого критерия ценности гносеологических теорий: в этом
качестве она выдвигается уже на с. 45—48, при оценке учения
Локка, и продолжает фигурировать в образе исчерпывающего
мерила всех гносеологических построений прошлого на целом
ряде страниц, везде сильно понижая убедительность
приговоров излагаемого автора. Читатель с нетерпением ждет, когда
В. Ф. Эрн наконец перейдет к изложению гносеологических
взглядов самого Розмини и тогда растолкует ему, что именно
означает та идея бытия, которою все измеряется и все судится.
Однако надежды его обманываются самым жестоким образом:
обращаясь к самому Розмини, г. Эрн с невозмутимым
догматизмом продолжает излагать соображения Розмини (с. 84—93),
спокойно закрывая глаза на заключающиеся в них
двусмысленности. Я готов согласиться, что при общей точке зрения
Розмини возникновение этих двусмысленностей
представляется довольно естественным; но тем более на авторе исследования
лежала обязанность их отметить и ориентировать в них своих
читателей. И мне кажется, задача эта не так уж трудна. Бытие
есть самое отвлеченное, но потому и самое бессодержательное
из наших понятий, — оно указывает не какие-нибудь частные
признаки предмета, а только то, что предмет есть. Но именно
поэтому при внесении в понятие бытия каких-нибудь
определенных моментов, которых по его прямому значению в нем
нет, — мы неизбежно его суживаем и тем извращаем смысл его
простого применения. В своем отвлеченном, чистом смысле
бытие принадлежит всем категориям существующего от самых
высших до самых низших и обозначает только то, что выража-
546
Л. ЛОПАТИН
ется словами: есть, существует. Мы говорим: есть Бог, есть
красота, есть правда, и мы говорим: есть ощущение боли, есть
ощущение радости, есть ошибка, есть сапоги, есть деньги. Во
всех этих случаях словом есть мы просто обозначаем
наличность, данность чего бы то ни было и в каких бы то ни было
отношениях. Таким бытием обладают и вещи, и факты, и
состояния, и свойства, и совершенства, и недостатки. И мы очень
хорошо знаем, что бытие в этом смысле вовсе не есть что либо
реально (нумерически) тожественное во всех нас и во всех
вещах, не есть оно и какая-нибудь за нами стоящая основа, из
которой бы мы все выделялись. Может быть, такое
тожественное во всех вещах начало и существует, может быть,
существует и их всевыделяющая основа, но не о них мы говорим, когда
говорим есть о каждой вещи в отдельности. Но можно и
ограничить этот первоначальный смысл понятия бытия. Можно
назвать бытием только бытие субстанциальное или даже бытие
абсолютное, противополагая такое бытие, как истинное,
всякому другому, как ложному. Этого никак нельзя запретить, и
философы постоянно это делают. Но беда в том, что мы никак
не можем отказаться от слов есть и нет в их обычном
значении. И вот, если мы недостаточно различим наш высший
философский смысл понятия бытия от его общеупотребительного
значения — и будем зараз иметь в мысли их оба, мы рискуем
впасть в величайшие несообразности и поставить пред собою
весьма сложные, бесплодные и ненужные проблемы.
Мне кажется, что главный промах в основных рассуждениях
Розмини заключается в постоянном смешении самых
разнообразных смыслов идеи бытия. С одной стороны, Розмини
определяет бытие как наиболее общее свойство всех вещей (с. 84),
причем, однако, понимает эту общность в духе схоластического
реализма, как присутствие в вещах чего-то одного и себе
тожественного. С другой стороны, он понимает бытие как бытие
объективное и независимое от наших ощущений и восприятий
(с. 87). В других случаях бытие отожествляется с бытием
субстанциальным (с. 45—46). И наконец, доминирующее значение
идеи бытия для Розмини, вытесняющее все другие,
заключается в ее смысле как идеи о бытии абсолютном: это ясно видно из
принципиального выведения свойств идеи бытия у Розмини
(с. 87—88) и из всего положения идеи бытия в его гносеологии.
Такое разнообразие значений уже само по себе является
источником весьма серьезных антиномий (как, например,
абсолютное бытие рассматривать как свойство вещей). Эти трудности
усугубляются, когда идея бытия отожествляется с идеей чистой
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания.,.» 547
возможности: для ясного понимания только возможность
бытия и само бытие как уже данное для мысли находятся в
отношении явного взаимного отрицания. Трудности растут еще
более, когда мы видим, что свойства бытия как содержания идеи
о бытии переносятся на самую эту идею как мысль об этом
содержании. Таким образом, на пути логического или
гносеологического анализа идея неопределенного бытия оказывается
тусклым клубком несовместимых значений.
Между тем она получает гораздо более понятный и
определенный вид, когда обратимся к общефилософскому
миросозерцанию Розмини и, в частности, к его учению о человеке и к
учению о Боге. Для Розмини идея бытия есть тот Божественный
свет, который дан нашей непосредственной интуиции с самого
нашего рождения и которым освещаются и направляются все
процессы нашего понимания. Правда, это еще не сам Бог, —
Бог недоступен человеческому созерцанию в непостижимых
глубинах своей внутренней жизни, — но это есть нечто
присущее Богу, — это есть то Божественное, которое только может
вместить человеческая мысль при своей ограниченности. В
своей «Теософии» Розмини учит, что идея бытия есть
универсальная форма содержания созерцаний Божественного разума,
самим этим разумом отвлеченная от этих созерцаний и в этом
абстрагированном виде сообщенная разуму человеческому.
Через это она становится идеальным, внутренним мерилом и
основным стимулом всех актов человеческого сознания. Ее
помощью в нашей мысли загорается представление о
нечувственном, в себе независимом и самостоятельном, вечном,
неизменном, и она предстоит нашему пониманию с такою неотразимою
убедительностью, что мы вырываемся из пут субъективного
хаоса наших ощущений и чувственных восприятий, приводим все
содержание нашего сознания на суд этого свыше нам данного
идеала и отсюда получаем начало все формы нашего познания и
все определения познаваемых вещей: мы только тому можем
приписать какую бы то ни было действительность, что
примиряется с этим идеалом и как-нибудь отвечает ему. Это
верховное мерило истины есть идея бытия и притом бытия
самостоятельного, а в то же время оно есть идея бытия неопределенного,
потому что конкретное содержание Божественной жизни
человеку недоступно. С другой стороны, его можно назвать и идеей
возможности, потому что в нем заключается условие
возможности всяких данных содержаний как в человеческом, так и в
Божественном разуме.
548
Л. ЛОПАТИН
В. Φ. Эрн излагает метафизическую характеристику идеи
бытия в пятой главе своей книги, когда излагает «Теософию»
Розмини, но при этом утверждает, что эта характеристика
возникла только в эпоху написания «Теософии» под
непосредственным влиянием спора Розмини с Джоберти, а что до этого
идея бытия была простым результатом гносеологического
анализа (с. 243). Я решаюсь настаивать, что этого положения
автор совсем не доказал. Не буду спорить — в частностях
метафизическая характеристика идеального бытия у Розмини, может
быть, и менялась, и во всяком случае она получила полное и до
конца развитое выражение в «Теософии». Но чтобы до
«Теософии» у Розмини в идее бытия не подразумевалось никаких
метафизических предпосылок — это неправда. Против этого
говорят факты: уже в первых произведениях Розмини, когда
никакого спора с Джоберти у него еще не было, уже говорится
о врожденности идеи бытия, о ее непосредственной
интуитивной данности и об ее благороднейшей сущности, как света, не-
сотворенного в себе, но который может быть назван
сотворенным по той частной форме, в которой он светит человеку, и как
принадлежности Бога (с. 101—102). Наконец, объяснению
автора можно противопоставить важный внутренний признак:
при чисто гносеологическом истолковании идеи о бытии
получается нечто крайне скудное, смутное, противоречивое и
непонятное в своем логическом значении; напротив, при ее
метафизическом истолковании является теория, у которой нельзя отрицать
ни оригинальности, ни последовательности, ни своеобразной
содержательности.
Нельзя также не упрекнуть автора исследования за
избранную им форму изложения взглядов Розмини. Розмини писал
очень много и очень многословно, нередко загромождая
развитие своей мысли натянутыми тонкостями и схоластическими
дистинкциями и подразделениями. Казалось бы, для
исследователя тем самым диктуется единственно возможный путь при
передаче идей Розмини: он должен занять центральное
положение и обращаться ко всем сочинениям Розмини, отбрасывая
в них несущественное, но зато выдвигая вперед основные
пункты его учения, во всей полноте относящейся к ним
аргументации, в каких бы сочинениях элементы этой аргументации ни
содержались. Лишь тогда могла бы получиться законченная и
определенная схема гносеологии Розмини. Между тем г. Эрн
поступил как раз наоборот: он, конечно, не мог детально
изложить всех сочинений Розмини, — для этого потребовались бы
целые томы; но он избрал из них два — «Новый опыт» и «Тео-
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания...» 549
софию» — и постарался их передать с возможной дословностью.
Это в особенности относится к «Новому опыту»: его изложению
автор книги посвящает около 100 страниц. Однако «Новый
опыт» состоит из трех томов, — поэтому, чтобы пересказать их,
пришлось очень сжимать их содержание: на одной своей
странице г. Эрну приходится излагать 3—5—10, а то и более
страниц Розмини. Понятно, что при таком приеме сжимания
отчетливость мысли Розмини, и без того довольно темной,
выигрывает мало. Особенно досадно, что такой прием
распределяется между отделами сочинения Розмини довольно
равномерно: он применяется и там, где дело идет о несущественных
мелочах, и там, где решаются самые основные вопросы для
системы Розмини. Я думаю, что, между прочим, от этого идея о
бытии получила в передаче г. Эрна такой смутный облик. С
другой стороны, от того же глубокие и оригинальные объяснения
Розмини принципов субстанциальности и причинности
выливаются у г. Эрна в такие бледные и тусклые формы. В самом
деле, мысль Розмини в решении этого вопроса чрезвычайно
проста. Кратко говоря, он рассуждает так: мыслить можно
только сущее, и только ему мы можем приписать реальность.
Поэтому все другое: свойства, состояния, изменения, —
должны относиться к сущему и выражать его, — иначе они
превратятся в пустые абстракции. То же самое прилагается и к
действиям всякого рода: действие мыслимо лишь тогда, когда
дано сущее действующее, в нем себя реализующее; но сущее
действующее, по отношению к вызываемому им действию,
называется причиной его; итак, нет действия без причины. Но, с
другой стороны, всякое состояние, всякое происшествие,
всякое событие протекают также в сущем, зависят от него,
определяются им, выражают его, и без него их совсем бы не было.
Следовательно, в общем смысле слова, и они суть действия
сущего. А это значит, что все происходящее вообще должно иметь
причину. Мы имеем здесь аналитическую, универсальную
истину, и из различных видов ее приложения получается частное
значение принципов субстанциальности и причинности.
Посмотрим, как в изложении г. Эрна выводится та же
истина. Он говорит на с. 104: «Выражение: всякое происшествие
имеет производящую причину, можно совершенно адекватно
выразить словами: "невозможно мыслить происшествие без той
причины, которая его произвела". Эта невозможность есть не
что иное, как противоречивость понятия беспричинного
происшествия. В самом деле, сказать: "то, что не существует,
действует" противоречиво, ибо воспринимать действие вне бытия —
550
Л. ЛОПАТИН
это значит воспринимать, не воспринимая. Ведь первый
принцип говорит: "Предмет мысли есть бытие" и без бытия
невозможно ничего мыслить. Понятие же беспричинного
происшествия и есть как раз то, что не существуя действует. Таким
образом, принцип причинности выводится без труда». Едва ли
многие между читателями «без труда» поймут это
рассуждение; едва ли им покажется убедительною фраза: «Понятие
беспричинного происшествия и есть как раз то, что не существуя
действует». Что же тут действует? Происшествие? Понятие?
И почему «не существуя»? Через несколько страниц г. Эрн
опять возвращается к обоснованию истины причинности, но
едва ли более удачно. Он говорит (с. 113): «Действие же мы
можем воспринимать или как произведенное нами, или как
нами не произведенное. В первом случае связь между
причиной и действием нам очевидна. Во втором она не только
очевидна, но и необходима. Ибо действие, по основному принципу
разума, мыслится нами как некоторая принадлежность сущего
(una cosa appartenente ad un ente) и, следовательно, необходимо
предполагает сущее». Почему «в первом случае связь между
причиной и действием нам очевидна. Во втором она не только
очевидна, но и необходима»? И почему: ибо? Вот как у него
изложен ход мысли, по существу далеко не темный, и в таком
важном вопросе!
Ограничение изложения философии Розмини лишь двумя
его сочинениями влечет за собою и еще один серьезный
недостаток разбираемого труда. Автор видит в психологизме
наиболее существенную особенность и в то же время коренной порок
гносеологии Розмини; и тем не менее он не сделал никакой
последовательной попытки ознакомить читателя с интересной
и оригинальной психологией Розмини. Между тем, казалось
бы, вредоносные последствия психологизма должны
находиться в некоторой зависимости от того, как именно будем мы
смотреть на душу человека. Мне, напр<имер>, странно, каким
образом г. Эрн, столь горячо настаивающий в одном из своих
критических замечаний (с. 151) на полном отсутствии у
Розмини перехода от идеального к чувственному, мог совсем пройти
молчанием учение Розмини об основном чувстве как
гармонической параллели нашей интуиции идеального бытия, которая
как бы содержит схемы для применения идеальных
определений?
Указанные мной недостатки, в моих глазах, значительно
понижают научную ценность рассматриваемой работы, но,
конечно, они не лишают ее принадлежащих ей положительных ка-
По поводу сочинения В.Ф.Эрна «Розмини и его теория знания...» 551
честв. Иногда мне кажется, что главная ошибка автора
заключается в заглавии его труда: если бы его назвать не
«исследованием по истории итальянской философии», а «критическим
исследованием» и озаглавить его не «Розмини и его теория
познания», а, напр<имер>, «Спор Розмини и Джоберти о
психологизме», многие из моих возражений отпали бы или, по
крайней мере, получили другой вид. Я от души желаю, чтобы
В. Ф. Эрн продолжал знакомить русскую публику с
оригинальными представителями итальянской мысли. Такой
превосходный и глубокий знаток итальянской философии может многое
сделать в этом направлении. Но невольно приходится также
желать, чтобы в будущем, при разработке новых тем, он не
слишком сужал свой кругозор и применял более широкие
методы.
^5^
^^
п.
<Рец. на кн.:> В. Эрн. Розмини
и его теория знания
М. 1914 г., стр. 296. Ц. 1 р. 80 к.
В основе гносеологической теории Розмини, итальянского
монаха, основателя «ордена розминианцев» (начало XIX в.),
лежит идея «неопределенного бытия»: «Если мы возьмем,—
говорит Розмини, — конкретную идею нашего друга Маврикия
и постепенно станем отвлекать от нее один признак за другим,
то в конце концов мы придем к идее такого бытия, в котором
внимание наше не фиксирует ни одного определенного
свойства, которое берется в чистой возможности и дальше которого
идет абсолютное ничто, неосуществимое мыслью и потому не
могущее стать содержанием мысли». Идею неопределенного
бытия Розмини считает врожденной, но понятием
врожденности Розмини, — по справедливому замечанию г. Эрна, — «вводит
нечто совершенно постороннее идее неопределенного бытия».
«Что такое врожденность? — спрашивает г. Эрн. — Можем ли
мы этому слову приписать уловимый смысл, оставаясь в
пределах строго очерченного понятия неопределенного бытия?..
Врожденность, чтобы быть реальной для человека, должна
быть обставлена целым рядом условий эмпирического
характера... она предполагает определенную психическую и
физиологическую конституцию». Далее г. Эрн доказывает, что Розмини
мало-помалу все дальше и дальше отходил от своей «идеи
неопределенного бытия», приближаясь все более и более к
«психологизму». В этом г. Эрн прав: в целом гносеологическая
теория Розмини не более как малоинтересная попытка в духе
декартовой философии; и те неизбежные противоречия, в
которые он при этом впал, показывают лишь несостоятельность
всякой трансцендентной теории познания. Но г. Эрну понадо-
<Рец. на кн.:> В. Эрн. Розмини и его теория знания
553
билось, конечно, не для этого потревожить забытую тень
итальянского монаха: причину такого внимания нужно искать
единственно в стремлении московского приват-доцента к
возрождению средневековых форм мышления; он противопоставляет
Розмини Джоберти как представителя чисто онтологической
точки зрения, без всякой примеси зловредного
«психологизма». «Гносеология, — говорит он, — необходимо требует
онтологического обоснования, т. е. перехода к метафизике».
Но онтологический метод, с которым мы встречаемся уже
у Платона (припомним его доказательство бессмертия души:
«Так как душа есть принцип жизни, то она, по самому существу
своему, исключает противоположность, смерть»), добившись
общего признания в философии Средних веков, получил затем
смертельный удар от руки одного кенигсбергского мудреца (в
чем заключается одна из исторических заслуг Кантовой
философии, каковы бы ни были ее недостатки), и не г. Эрну
гальванизировать его труп. Философское развитие давно уже пошло
другим путем, и этот путь — путь эмпиризма.
^5^
^^
С. Л. ФРАНК
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Философия
Джоберти
Изд. «Путь». Москва. 1916. Стр. VI+351. Ц. 3 руб.
Исследование В. Ф. Эрна о философии Джоберти, — в
отношении к которому его предыдущая книга о теории знания
Розмини, по признанию самого автора, имеет значение лишь
«исторического введения» — принадлежит, бесспорно, к числу
интереснейших и самых значительных работ по истории
философии не только в русской, но и в новейшей западной
литературе. Достижения историко-философского знания всецело
зависят от уровня систематического философского знания, от
глубины подхода к философским проблемам по существу.
Поэтому то углубление философской мысли, которое мы
переживаем в настоящее время, необходимо ведет и к пересмотру
историко-философских знаний, к открытию заново забытых или
непонятных систем прошлого. Укажем лишь на два:
начинающееся более глубокое понимание существа философии
Платона, на открытие огромной систематической ценности
философии Плотина, на такое же открытие великих мыслителей в
составе средневековых философов, которые доселе тонули в
бесформенно-смутном общем понятии «схоластиков», и т. п. Книга
В. Ф. Эрна о философии Джоберти принадлежит именно к
таким историко-философским открытиям, которые стали
возможными лишь в силу широты философских горизонтов,
раскрывающихся новейшему подъему философской мысли. В. Ф. Эрн в
известном смысле впервые открывает философию Джоберти,
мало кому вообще известную и еще менее оцененную. В лице
Джоберти автор обнаруживает едва ли не величайшего
представителя и родоначальника (для XIX века) того онтологизма и
антипсихологизма, под знаком которого стоит — или, вернее,
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Философия Джоберти 555
к осуществлению которого стремится — новейшая
философская мысль. Это открытие имеет отнюдь не один лишь
исторический интерес: в лице Джоберти мы имеем, как убедительно
показывает автор, не какого-либо робкого зачинателя наших
нынешних, новейших идей, а мыслителя смелого и глубокого,
сразу поднявшегося на такую высоту, на которую мы теперь
только начинаем восходить. Для философского образования нет
ничего вреднее самомнения текущего дня, наивной веры в
беспрерывный прогресс науки, — веры, в силу которой последние
новинки сегодняшней философии уже заранее кажутся
значительнее и глубже всего, созданного ранее. Напротив, мы
должны не только знать с точки зрения исторической ориентации
наших предшественников, но и по существу учиться у таких
мыслителей, как Платон, Плотин, бл. Августин и многие
другие; и к таким необходимым наставникам современной
философии после исследования В. Ф. Эрна, несомненно, должен быть
причислен и Джоберти, глубина, основательность и сила мысли
которого поистине поразительны.
Вместе с тем исследование В. Ф. Эрна имеет и большое
историко-философское значение. Оно прекрасно показывает
непрерывность и значительность платонической традиции в
философии и может служить как бы ценной главой той, еще не
написанной, общей истории платонизма, необходимость
которой начинает теперь так остро ощущаться, опять-таки в связи
с систематическими достижениями и проблемами новейшей
философской мысли.
Блестяще написанная книга В. Ф. Эрна дает редкое и ценное
сочетание горячего философского темперамента, личной
внутренней заинтересованности автора в его теме с
основательностью, трезвостью суждений и большой эрудицией. Недостаток
большинства прежних философских выступлений автора —
в которых именно страстность темперамента и односторонность
философской позиции вредили справедливости оценок и
искажали объективные перспективы — не чувствуется или почти
не чувствуется в этой его работе. Лишь в одном пункте
обнаруживается еще некоторая предвзятость автора: воспроизводя
уверенно-отрицательное отношение Джоберти к немецкому
послекантовскому идеализму, автор старается, с своей стороны,
усилить этот антагонизм, по-прежнему давая этому идеализму
(за вычетом Шеллинга) огульно-суммарную отрицательную
оценку. Между тем эта оценка, бесспорно, в настоящее время
устарела, и как раз с точки зрения онтологизма Джоберти было
бы чрезвычайно важно уяснить пункты глубокого его сходства,
556
С. Л. ФРАНК
наприм<ер>, с позднейшим учением Фихте, раскрытым тоже
лишь в наше время (учение Джоберти о различии между
Сущим и существующим, преодоление психологизма и даже
учение о творении имеет очень глубокие параллели себе в
позднейшей системе Фихте).
Еще одно критическое замечание. Излагая глубокое учение
Джоберти о «сверхразумном» начале, автор находит его
источник лишь в Платоне. Конечно, Платон есть первоисточник
этого учения, но у него оно едва намечено. Между тем это есть
одно из главных учений новоплатонизма и в особенности
центральный пункт системы Николая Кузанского (аргументация
Джоберти почти буквально совпадает с учением Кузанского о
docta ignorantia). Влияние новоплатонизма вообще и его
первого систематического возрождения в новую эпоху у Николая
Кузанского в частности на философию итальянского
Возрождения (например, на Марсилио Фичино) несомненно; и здесь есть
поэтому возможность прямой генетической связи с учением
Джоберти, исследовать которую было бы весьма ценно. Но и
помимо возможности чисто генетической связи ощущается,
как некоторый пробел, отсутствие сопоставления учения
Джоберти (в особенности идеи «универсальной диалектики» в
последней его фазе) с общим философским течением супрарацио-
нализма (учением об «отрицательном богословии», «единстве
противоположностей» и пр.). От этого более широкого
освещения, быть может, несколько ослабело бы впечатление
оригинальности философии Джоберти, но было бы, думается, еще
яснее обнаружено ее истинно универсальное значение.
<^5^
-<^£н
Г. ШПЕТ
Философия Джоберти
(По поводу книги В. Эрна «Философия Джоберти»*)
...ведь в наше время исследования не
в чести (они заменены «учеными»
работами), да и кому охота ломать копья из-за
того, что лица деятелей и лики событий
бесконечно давнего времени слегка или
неслегка «перекошены» в изображениях того
или иного писателя нашего времени.
Владимир Эрн1
В. Ф. Эрн — талантливый представитель вполне
определенного направления нашей философии. Всякое новое его
произведение, однако, должно интересовать нас не столько со стороны
Преждевременная смерть вырвала из рядов нашей
славянофильствующей философии ее самого прямолинейного представителя.
В. Ф. Эрн скончался накануне уже назначенного диспута по
поводу его сочинения о философии Джоберти. Моя статья об этой
книге была написана задолго до этого, и я не счел нужным изменять
ее содержание, за исключением тех возражений или недоумений,
ответить на которые или устранить которые мог бы, по моему
мнению, только сам автор, — эти места я просто выбросил из своей
статьи. Я не отказался вовсе от напечатания своего философского
мнения о работе Эрна, потому что, во-первых, считаю, что за
многие философские грехи Эрна ответственно все направление нашей
философии, к которому принадлежал Эрн, а во-вторых, центр
тяжести у меня перенесен все же на оценку «философии» самого
Джоберти. Что о философии Джоберти и о книге Эрна возможны
суждения и оценки прямо противоположные тем, которые я
высказываю, читатель может видеть из след. замечаний С. Франка:
«Исследование В. Ф. Эрна о философии Джоберти <...>
принадлежит бесспорно к числу интереснейших и самых замечательных
работ по истории философии не только в русской, но и в новейшей
западной литературе». — «В лице Джоберти автор обнаруживает
едва ли не величайшего представителя и родоначальника (для
558
Г. ШПЕТ
общих идей этого направления, сколько, во-первых, со стороны
их развития и углубления, а во-вторых, со стороны
индивидуального места, которое занимает Эрн в названном направлении.
Эрн относится отрицательно к современной западной
философии, преимущественно разрабатывающейся в Германии,
Англии и Франции, и, поэтому, его симпатии к итальянской
философии сами по себе уже показательны. Хотя и здесь ему
привлекательны не современные итальянские философы, а
философы пусть не отдаленного, но прошлого, тем не менее его
работы в этом направлении следует только приветствовать. За
Эрном останется честь писателя, впервые в широком масштабе
введшего в наш философский обиход идеи совсем особого типа
национальной философии2. Первая книга Эрна в этой области
«Розмини и его теория познания», правда, во многом оставляла
неудовлетворенным, — нет в ней исследования, и нет в ней
внутреннего напряжения. Эрн — писатель слишком
субъективный, и, по-видимому, ему трудно было излагать автора, с
которым он не солидарен. Новая книга Эрна «Философия
Джоберти» (М., 1916), интереснее, хотя, на мой вкус, предметы обеих
книг находятся в обратном отношении: Розмини —
философски сильнее, под готов леннее и оригинальнее Джоберти.
Обе книги со стороны метода сходны. Обе они по
преимуществу характера реферирующего, с утомительным подчас
множеством цитат из излагаемого автора, но все же в книге Джоберти
больше самостоятельности. Своих философских симпатий и
антипатий Эрн вообще не скрывает, но философские мысли его
едва уловимы; однако и в этом отношении книга Джоберти
содержательнее. Хотя и в очень общих формах, но Джоберти
«обсуждается» и некоторые неопределенные очертания самого Эр-
XIX века) того онтологизма и антипсихологизма, под знаком
которого стоит — или, вернее, к осуществлению которого стремится —
новейшая философская мысль», — «...мы должны не только знать
с точки зрения исторической ориентации наших
предшественников, но и по существу учиться у таких мыслителей, как Платон,
Плотин, бл. Августин и многие другие; и к таким необходимым
наставникам современной философии после исследования В. Ф.
Эрна, несомненно, должен быть причислен и Джоберти, глубина,
основательность и сила мысли .которого поистине поразительны».—
«Блестяще написанная книга В. Ф. Эрна дает редкое и ценное
сочетание горячего философского темперамента, личной внутренней
заинтересованности автора в его теме с основательностью,
трезвостью суждений и большой эрудицией» (Русская мысль. 1916.
Сент.; Критич<еское> обозр<ение>. С. 3—5; Франк С. Вл. Эрн.
Философия Джоберти. Изд. «Путь». М., 1910. VI + 351. Ц. 4 р.).
Философия Джоберти
559
на обрисовываются. Указание на реферативный характер
изложения Эрна не следует рассматривать непременно как упрек.
Пожалуй, «педагогически» это — полезный прием, когда
автору приходится знакомить читателя с совершенно новым для
последнего мыслителем, — близкий к подлиннику реферат и
само обилие цитат, может быть, облегчат для некоторых
читателей проникновение в дух и стиль излагаемого философа. До
известной степени в этом состояла задача Эрна. Выполнил ли
он эту задачу до конца, дал ли он точное и объективное
изображение философии Джоберти? Я думаю, что нет, не дал. Этим
определяются намерение и характер последующего изложения.
I
Новая книга Эрна написана напряженно, местами
риторически приподнято и образно, хотя иной раз образность автора
удовлетворит, может быть, не всякому вкусу*. Эта
напряженность, по крайней мере при первом чтении книги, захватывает,
книга читается легко и с интересом, хотя с самого начала
чувствуется несоответствие между восторженным отношением
автора к Джоберти и действительным значением итальянского
философа: римско-католическая Альдонса у автора
превращается в кафолическую Дульсинею. Книга требует повторного
чтения, — тогда читатель освобождается от суггестии автора, —
и, отдав должное его увлечению, может более независимо
оценить философию Джоберти. Отрицательной стороной такого
метода изложения является то, что при повторном чтении
преувеличения автора легко могут вызвать со стороны читателя
стремление преуменьшить значение Джоберти, что также было
бы несправедливо, — философское дарование Джоберти не
велико, но тем, что у него было, Джоберти воспользовался в
полной мере.
Эрн сам характеризует свою книгу как
историко-философское исследование, и задачи, которые он ставит себе в связи с
этим, чрезвычайно обширны: Джоберти должен быть освещен
не только на фоне итальянской философии, но и на фоне всей
общеевропейской философии; в особенности, подчеркивает
автор, его интересует Джоберти как момент в истории платониз-
* Напр<имер>: «С истинно платоновской хваткою, с высоты
онтологических созерцаний Джоберти стремительно <...> переходит...»
(с. 133); «Он хвалит и одобряет немецкую философию в пику
французской...» (79); «умозрительная импотентность» (219); и т. п.
560
Г. ШПЕТ
ма. «Винченцо Джоберти, — говорит он, — является одним из
чистейших, ярких и, я не боюсь сказать, гениальных
представителей великого платонического "рода" мыслителей» (с. 2).
Конечно, никакое историческое исследование не может
обойтись без философского анализа соответственных понятий и
проблем, ибо историко-философское исследование не есть простое
реферирование чужих мнений. Тем более вправе мы ожидать
философского анализа от такого исследования, которое
задается столь широкими целями. Поэтому работа Эрна должна быть
подвергнута двоякому рассмотрению: со стороны
историко-философской и собственно философской. К
историко-философскому освещению вопроса я отношу не только вопрос о влияниях и
условиях, при которых складывалась философия Джоберти, но
также вопрос о точной и нелицеприятной интерпретации
сочинений самого Джоберти. Эту задачу Эрн также имеет в виду,
когда признает, что должен «в изложении взглядов Джоберти
возможно ближе придерживаться точных его выражений» (с. 17).
Из краткой биографии (с. 23—57), предваряющей у Эрна
изложение философских взглядов Джоберти, видно, что по
окончании университета в 1823 г. Джоберти принимает священство,
а в 1825 г. становится преподавателем Туринского
богословского училища. Из того же источника мы узнаем, что Джоберти
через 23 года по окончании университета выпускает большое
сочинение, направленное против иезуитов, но ни в ком не
вызывает еще сомнения в своем католическом правоверии;
«травля против него началась позже» (с. 45). К сожалению, автор
уже не сообщает, как, когда и почему началась эта «травля», —
возникла она на почве политической только, или в основе
расхождения Джоберти с официальною Церковью лежали
теоретические и, может быть, философские разногласия? Он упоминает
только, что еще в 1848 г. папа (Пий IX) благоволил к
Джоберти, а «в 1850 г. все сочинения его попадают в Index» (с. 54).
Наконец, из других источников мы можем узнать, что
декретом от 18 сентября 1861 г., т. е. при том же папе, были
осуждены «Errores Ontologistarum» 3, и, как видно из содержания
названных в этом декрете «ошибок», они составляют отступления
онтологизма от традиционных теоретических основ
католического вероучения*. —Казалось бы, при таких данных первой
* Denzinger H. Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declaratio-
num de rebus fidei et morum. Ed. X. 1908. P. 447. — Затем в 1862 и
1866 гг. «онтологизм» вновь был подвергнут осуждению со
стороны римской курии.
Философия Джоберти
561
и прямой обязанностью автора было выяснить отношение
философских основ католицизма и философии Джоберти. Это
существенно важно, даже независимо от каких-либо теоретических
вопросов, а просто как историко-философский факт. Но
католицизм также основной факт и опора всей философии Джоберти;
здесь — тот центральный пункт, с которого можно обозреть всю
философию Джоберти как в целом, так и в частностях, отсюда
можно уразуметь смысл всего его философского дела и
значение каждой детали в нем. Притом же католицизм для
Джоберти не есть нечто предполагаемое, не есть высказанная
предпосылка, а напротив, везде с этого начинается и к этому сводится
его мысль. Для философского исследования, разумеется,
католицизм важен не как религиозное настроение, чувство или
верование, а как теоретическое понятие, на которое автор
опирается, из которого исходит и к которому хочет привести читателя.
Ключ ко всей философии Джоберти, кажется мне, лежит в
последней главе его «Введения» *, на которое главным образом
опирается и Эрн в своем изложении, заглавие этой главы само
собою открывает основную тенденцию философии Джоберти:
«О согласии идеальной формулы с откровенной религией»
(cap. VIII). Откровенная религия в католической
интерпретации — источник, критерий и вдохновение всей философии
Джоберти. Роль и положение философии, таким образом, ярко
предопределены; интерес могут вызывать только частности и
подробности, так как только в них при такой постановке
вопроса может обнаружиться оригинальность автора. Я приведу
несколько показательных для Джоберти сентенций из названной
главы, они сразу покажут читателю, с каким философским
тоном он имеет дело.
«Итак, все содействует в Христианстве тому, чтобы было
установлено верховное господство Идеи (значение Идеи, с
прописной буквы, см. ниже) над душами и над учениями, чтобы
в дух было вложено истинно философское предрасположение
и чтобы он был приучен к нему. То, что образует дарование
и определяет призвание философа, вовсе не есть вольная
свобода мыслить и рассуждать; но, конечно, уважение к Идее как
высшей и повелевающей норме; так как всякая наука
выражает идеальную гармонию, а философия есть главная наука, то
является делом слишком не подобающим работать в них при
анархии интеллекта. Если кому-нибудь покажется, что я слиш-
* Introduzione alio Studio délia Filosofia per Vincenzo Gioberti. T. I—
IV. Opère T. V—VIII. Napoli, 1846—1847.
562
Г. ШПЕТ
ком часто повторяю эту мысль, я могу ответить, что я стараюсь
повернуть и показать ее со всех сторон, потому что я считаю ее
самым важным из того, что нужно провозглашать в наши дни.
Она является истиной высочайшего значения специально для
философских наук, которые не могут быть научным
исследованием, если не составляют прежде религии... Но философия не
может пользоваться Идеей, если она не приняла ее от слова
откровения, через посредство той дисциплины, которая имеет
откровение собственным и непосредственным предметом. Такая
дисциплина есть теология, которая в научном отношении, как
протологическое и универсальное слово, и по достоинству, как
божественное слово, стоит выше философии и всякой
человеческой науки. Я уверен, что рациональное умозрение придет,
когда достигнет зрелости, добровольно исповедует и напишет на
челе универсальной методики: научное старшинство и научная
неприкосновенность теологии, соответственно
неприкосновенности религии в порядке познания и верховной власти в
порядке моральном и гражданском... Как Бог повелевает вселенной и
не может быть судим своим созданием, так религиозная наука
не может быть критикуема другими: автономия разума и
абсолютная независимость философии — нечестивы и абсурдны»
(Intr. IV, 47).
К этому пришел Джоберти, но, как и следует ожидать от
того, кто отрицает автономию разума и подчиняет философию
богословию, он с этого и начинает. Своеобразно же поэтому сам
Эрн понимает задачи философии, когда он, только представляя
Джоберти своему читателю, уже говорит о нем: «Джоберти
возвращает нас к большому, "царскому" пути вселенских
философских исканий» (Предисл.). «Царского» пути в философии
вообще нет, но, между прочим, есть пути клерикальные, — не
точнее ли было бы именно так и назвать путь Джоберти?
Эрн — знаток философии Джоберти, но сам Джоберти,
думается мне, лучше понимал себя, и он прямо говорит: «Тот, в ком
католическая религия вызывает отвращение и гнев, хорошо
сделает, если обратится к другим и не будет читать моего
сочинения» (I, Proem., 16). Нужно, след<овательно>, знать, как
Джоберти относится к католичеству и как он его понимает,
чтобы понять его самого. Для того чтобы представить читателю
Джоберти в его истинном виде, приведу несколько цитат из
того же Proemio.
«Истина сама по себе — едина, неизменна, неделима.
Католицизм, будучи истинным моральным и религиозным
совершенством, обладает теми же качествами; настолько, что от него
Философия Джоберти
563
ничего нельзя отнять и к нему ничего нельзя прибавить, не
разрушая его. Тот, кто верил бы в поучения Церкви с совершенной
верой, за исключением одной-единственной статьи, не был бы
больше католиком, чем тот, кто отверг бы все учение» (Ibid.
16). Истина католицизма санкционирует, однако, не только
мораль и веру, но также знание и философию. «Во всяком
случае, — говорит он — я считаю католическую религию не только
допустимым учением, но благосклонной снисходительности
современных эклектиков, но единственным учением, имеющим
научную ценность в материях спекулятивных, единственным
философским учением, единственным, что может
способствовать гражданскому прогрессу: и я далек от того, чтобы считать
принципы старой теологии устаревшими, использованными и
исчерпанными, я считаю их более новыми, более свежими и
более плодотворными, чем те теории, которые помечаются
годом, в котором они зарождаются» (Ibid. 47). Философия, по
Джоберти, иначе не возможна, как на основе религии.
«Философия, — провозглашает он, — невозможна, если она не
основывается на религии и не руководится ею; религия —
основание, она же и кровь строения» (Ibid. 26). Теперь не покажется
неожиданным и то определение цели философии, которое мы
находим у Джоберти: «Истинная философия имеет целью
открыть научно Бога, примирить через посредство знания дух с
религией, и ее можно определить как восстановление
божественной идеи в науке» (Ibid. 39).
Отсутствие исследования вопроса об отношении Джоберти к
школьной католической философии лишается нужной
убедительности соображения Эрна, когда он, вопреки мнению
некоторых исследователей, доказывает ошибочность того утверждения,
которое ставит взгляды Джоберти в зависимость от так
называемой философии реставрационного католичества первой
четверти XIX века (Де Местра, Бональда, Ламенне и др.) (с. 120—
130). Мне кажется, этот вопрос может быть убедительно решен
только прямым сопоставлением тех пунктов, в которых
отступали от официальной Церкви французские неокатолики, с
одной стороны, и Джоберти, с другой стороны. Эрн, между
прочим, пишет: «Во-первых, Джоберти заявляет, что "прежде чем
приступить к богословию, с тринадцатилетнего возраста он
стал философствовать с полною свободою", во-вторых, первыми
философскими авторами, им прочитанными, были Бонне и
Кондильяк. Из этого следует, прежде всего, что чтение
неокатолической литературы могло составить второй ряд впечатлений,
а не первый, и воспринималось к тому же хотя и молодым со-
564
Г. ШПЕТ
знанием, но сознанием, философски себя уже определившим,
ибо сенсуализм был отвергнут Джоберти самостоятельно при
первом же ознакомлении с ним, и отвергнут во имя
онтологизма» (с. 122). Но ведь тут и существенно знать, что же
составляло у Джоберти «первый ряд». На что он опирался, опровергая
сенсуализм? На чем «уже» определилось его философское
сознание? Он философствовал с тринадцатилетнего (!?) возраста,
но определенные философские убеждения его мы знаем только
из сочинений, вышедших через 15—17 лет по окончании
университета, и эти сочинения обнаруживают определенные историко-
философские симпатии автора, которые потом сам Джоберти
передает в следующей генеалогии своих взглядов: «Я, — говорит
Джоберти, — не считаю, что эти первые понятия найдены мною,
потому что в порядке идеальном абсолютное открытие
невозможно; все дело у нас, бедных людей, сводится к объяснению с
помощью рефлексии, через посредство слова, зародышей
данных интуитивным познанием. Слово, которое пробудило во мне
эти первые предчувствия, было словом религии (переданным во
многих местах Писания и специально в тетраграмме) и
некоторых блестящих христианских философов, между которыми я
ссылался только на Мальбранша, Бурсье, (который в своем
трактате Action de Dieu отводит самое главное место понятию
Сущего) и Джердиля, который с большим талантом защищает
августинское учение, возобновленное Мальбраншем, против его
оппонентов» (Errori, I, 62). Итак, теперь Джоберти как
установившийся философ — сторонник Мальбранша*, а «уже
определился» он, очевидно, богословием. Но опять-таки, в каком же
отношении стоит мальбраншизм Джоберти к католическому
богословию? И в каком лице Джоберти выступает против
неокатолицизма: в лице старокатолика или в лице мальбраншиста?
Не многим больше дает книга Эрна для уяснения других
исторических влияний в философии Джоберти, и это относится
как к тем философским течениям, которым Джоберти
сочувствовал, так и к направлениям, против которых он выступал.
Что касается первых, то Эрн относит к ним, кроме Платона,
также Августина, Мальбранша, Лейбница и Вико (с. 135).
У каждого из них Джоберти заимствует, по формулировке
автора, одну какую-либо сторону из философского мировоззрения.
Но тщетно было бы искать в книге обстоятельного и
самостоятельного анализа соответственных отношений. От этого изло-
* Как известно, Мальбранш в определении Бога придерживается
именно «тетраграммы» (Ср.: Разыск<ание> ист<ины>. II, 18)4.
Философия Джоберти
565
жение Эрна прежде всего и делает впечатление, что автор
непомерно преувеличивает оригинальность Джоберти, хотя,
разумеется, настоящее историко-философское исследование не
нанесло бы никакого ущерба Джоберти, но принесло бы большую
пользу истории философии. Вместо собственного
историко-философского разъяснения вопроса Эрн излагает
историко-философские взгляды самого Джоберти. Не говоря о том, что такой
«метод» историко-философского исследования ни в коем случае
не может быть сам по себе оправдан, Эрн, кроме того,
обнаруживает изумительное доверие к историко-философским
характеристикам Джоберти, хотя, как будет видно из
нижеследующего, его собственные симпатии не всегда совпадают со вкусами
Джоберти, так что ему приходится не раз то смягчать, то
обострять суждения самого Джоберти.
Но исчерпывают ли четыре вышеназванных мыслителя те
положительные влияния, под которыми сложился «огромный
платонический синтез философии Джоберти» (с. 135)? Не
стоит, может быть, останавливаться на частностях и побочных
влияниях, но речь идет об основном и принципиальном. Мне
кажется, что и при этом ограничении темы следовало бы
остановиться, например, на шотландской философии и на Канте,
которых Эрн вовсе игнорирует*, или, напр<имер>, на Джерди-
ле, не стесняя себя той полустраничкой общих соображений,
которые ему уделяет Эрн и которые тем не менее способны
вызвать недоумения, так как в них мы узнаем, что Джердиль
стойко боролся «за платоническую сущность учения Мальбран-
ша» (с. 107). Видеть в «учении Мальбранша» «платоническую
сущность», во всяком случае, не только удачный каламбур, но
и интересный историко-философский взгляд**, который,
однако, не может удовлетворить, пока он не обоснован, а бросается
мимоходом. Но существеннее, может быть, что если бы Эрн
остановился на Джердиле, он должен был бы коснуться вопро-
* Очень точно определяет свое отношение к шотландской философии
и к Канту сам Джоберти в след<ующих> словах: «Но если
онтологическая наука логически может найти основания только в себе
самой, ум может быть подготовлен к ней до известной степени
исследованиями психологическими. В этом отношении, я думаю,
итальянская молодежь найдет помощь более верную и более
сильную у себя на родине и в шотландской школе, чем у немцев, за
исключением Лейбница и отчасти Канта» (Introd., Proem. 27).
* Имею в виду не только спорность вопроса о платонизме
Мальбранша, а следовательно и Августина, но и односторонность всего
христианского истолкования Платона.
566
Г. ШПЕТ
са и о католицизме Мальбранша, а след<овательно>, и о
католицизме мальбраншиста Джоберти. Однако именно влияние
ортодоксального католицизма не указано среди перечисленных
влияний! И, я думаю, это сделано со стороны Эрна совершенно
неосновательно, так как Джоберти, перечисляя условия,
которым удовлетворяет его теория «идеальной формулы» и
которым не удовлетворяет учение Розмини, говорит и о
католицизме. Речь идет о том самом месте из Джоберти, на которое
опирается в вышеприведенном перечислении Эрн*. Джоберти
здесь прямо утверждает, что его названная теория «связывает
философию с христианством... и с католицизмом...» И далее,
здесь же он говорит, что эта теория «распространяет понятие
шотландской философии (il concetto skozzese) <...>, и согласует
его с тем, что есть здравого в платоновской идеологии;
примиряет новое учение с учениями некоторых католических школ;
<...> и, наконец, основывает реализм схоластиков на
непоколебимой почве, связывая настоящее состояние науки с учением
св. Августина, который может рассматриваться как научный
основатель ортодоксального умозрения». Таким образом, из
одного этого уже ясно, как обширны пробелы
историко-философского исследования Эрна.
Но и переходя к тому, что есть у Эрна, мы во многом
останемся неудовлетворенными.
Платону Эрн придает особое значение и постоянно говорит о
«платонизме» Джоберти. На меня же производит впечатление,
что Джоберти недостаточно знал ** Платона и плохо его
понимал. Но сколько я мог уловить из отдельных замечаний самого
Эрна по этому поводу, он стоит на точке зрения такого
понимания Платона, которое я едва ли могу разделить, и след<ова-
тельно>, всякий спор на эту тему был бы теперь бесполезен.
Это, конечно, не обязывает меня вовсе молчать о платонизме
Джоберти. Ниже мне еще придется касаться этого вопроса;
здесь ограничусь только некоторыми общими указаниями.
За исключением одного места (о котором речь ниже), Эрн не
дает определенных указаний ни на слова, ни на мысли
Платона, развитие которых можно было бы встретить у Джоберти.
С другой стороны, собственные замечания Джоберти о Платоне
переданы Эрном недостаточно полно и недостаточно точно. Так,
* Opère di V. Gioberti Degli Errori filosofici di A. Rosmini per V. Gio-
berti. Napoli, 1845. T. II. P. 53.
** Впрочем, это, кажется, не важно — Эрн утверждает: «Джоберти
был платоником до изучения Платона» (130 прим.).
Философия Джоберти
567
приводимые Эрном соображения Джоберти о Платоне на с. 90
и взятая из Предисловия Джоберти к его сочинению «Del Buo-
no» 5, — кажется, единственный случай, что Джоберти
сравнительно пространно высказывается о Платоне, — много теряют
как материал для характеристики платонизма Джоберти, когда
убеждаешься, что этот материал представлен односторонне.
Здесь опущены многие отрицательные отзывы Джоберти о «ге-
теродоксии» Платона, а приведенные смягчены. Джоберти
пишет: «Vero è ehe le attinenze ontologiche dell Idea col mondo sono
presso Platone infette di panteismo», — Эрн переводит:
«Несомненно, онтологическое взаимоотношение мира Идей с
Космосом у Платона носит несколько пантеистический характер»
(Del Buono, XVI; Эрн, 93). Здесь не только смягчение в
переводе слова sono infette, но и прямая ошибка в переводе слова Idea
через «мир Идей», ибо у Джоберти Idea (с большой буквы)
тожественна Сущему, и дуализм, который таким образом
подчеркивает Джоберти, есть дуализм теологический, т. е. дуализм не
«мира идей» и «мира действительности», а Творца мира и
материала, из которого Он мир создал, т. е. самая неприемлемая
для Джоберти как католика точка зрения. Мне и кажется,
основной задачей Эрна должно было быть, если он хочет сделать
из Джоберти «платоника», исследование вопроса: как же
можно примерить юдаизм с платонизмом? — как может платоник,
ставший, следовательно, на точку зрения платоновского
дуализма, принять Моисея и следующее ему христианство?
С своей точки зрения, Джоберти последовательно назвал
дуализм Платона «абсурдным дуализмом» («una dualita assurda»),
но Эрн переводит — «коренной дуализм» (Ibid.). И самое
худшее, может быть, то, что Эрн обобщает положительные отзывы
Джоберти об этике Платона в оценку всей философии Платона
(с. 92; resp. Del Buono, p. XIX).
В действительности, философия Платона у Джоберти хотя
и ставится довольно высоко, но Джоберти прекрасно понимает,
что с христианством она не легко согласуется; он исправляет
поэтому Платона через христианство, не забывает при каждом
случае подчеркнуть его гетеродоксию и ставит, разумеется,
всякое ортодоксальное христианское учение выше Платона.
Схоластика, напр<имер>, по его мнению, в некоторых отношениях
заслуживает более имени «истинной философии», чем Платон
(Intr., Proem. 10); один из основных его упреков по адресу со-
цинианизма6 состоит в том, что последний сводит мудрость
Христа к ограниченной мудрости Сократа и Платона и
подставляет в результате на место славной и адекватной Идеи католи-
568
Г. ШПЕТ
ческого христианства несовершенную и темную идею
языческой философии (Intr., II, 38)*. Чтобы дать читателю материал,
между прочим и для суждения о платонизме Джоберти, я ниже
приведу ряд цитат из Джоберти, вырисовывающих достаточно
ярко его учение об идеях, —сколько в них «платоновского»,
читателю заметить будет не трудно.
В философии Нового времени кумиром Джоберти является
Мальбранш. Остановимся на нем. «Учение Мальбранша, —
говорит Эрн (135), — о непрерывном творении и о видении всех
вещей в Боге внутренно усвоивается мыслью Джоберти и лишь
расширительно понимается в общем контексте его
откровенного и безусловного [!] платонизма». И еще: «Мальбранш
замечателен тем, что свой платонизм не хранит только, как Ансельм и
Бонавентура, а пытается пустить в рост и творчески утвердить
посреди возобладавших учений антиплатонического
картезианства» (с. 105). «Откровенный и безусловный платонизм»
Джоберти, как и «платоническое ростовщичество» Мальбранша,
оставим теперь в стороне. Спросим о другом: почему Эрн так
доверяет Джоберти, когда последний решительно отделяет
Мальбранша от Декарта? Неужели он не видит поводов сомневаться
в таком выделении Мальбранша и ему нечего сказать по поводу
явно пристрастных и полемических утверждений итальянского
патера? Эрн утверждает, что Джоберти внутренно усвоил
теорию Мальбранша о «непрерывном творении». Но, я думаю, что
и до Мальбранша было немало мыслителей, у которых
Джоберти мог бы почерпнуть эту идею, и между ними — Декарт **.
Ниже мы еще остановимся на странном превознесении
Мальбранша за счет Декарта у Джоберти, сейчас не можем, однако,
не высказать по крайней мере самого общего сомнения. Как
можно, напр<имер>, игнорировать тот основной факт, что если
Мальбранш — прямой последователь Августина, то и Декарт в
отправном пункте своего философствования был так
поразительно близок Августину? Мальбранш удачно совместил авгус-
тинизм и картезианство как раз в том пункте, который
заставляет Джоберти называть Декарта «психологистом», но почему
же Эрн не показал, что в такой же мере нужно было бы назвать
«психологистами» и Августина, и Мальбранша? Ведь историко-
философские исследования не остановились после того, как
Джоберти высказал свои взгляды, и, мало того, именно иссле-
* Ср. отзывы Джоберти. о Платоне ниже, с. 325.
** В порядке метафизическом ср. его третье «Метафизическое
размышление», в порядке физическом — Principia, II, 36.
Философия Джоберти
569
дования последних десятилетий упорно подчеркивают
«гносеологический» характер философии Мальбранша. Почему же Эрн
не привел ни одного аргумента против этого? Я лично не
сомневаюсь, что Мальбранш, как и Декарт и Августин, были
метафизиками хорошего рационалистического тона, но нельзя
игнорировать, что все они, и Мальбранш в особенности, начинают с
исследования сознания для определения условий и начал
познания. Нужно же дать себе и читателю отчет в том, чем разнится
принципиальный анализ сознания от психологического, и
тогда только можно с правом называть хотя бы того же
Мальбранша— «психологистом» или «философом».
Значение Мальбранша Эрн изображает на полутора
страничках следующим образом. Он приводит цитату из Джоберти,
кончающуюся фразой: «Этим учением Мальбранш завоевывает
место продолжателя истинной, онтологической науки и через
Бонавентуру, Августина и неоплатоников восходит к Платону»
(105)*, и затем продолжает: «Сам Кузен невольно признает это,
считая, впрочем, положительную особенность Мальбранша
недостатком. Он говорит: "Нужно различать две эпохи в
картезианстве: первую эпоху, когда метод Декарта, несмотря на свою
новизну, остается непонятым, и вторую эпоху, когда
мыслители пытаются действительно овладеть спасительным путем".
Мальбранша (и Лейбница) Кузен относит к первой эпохе». —
Тут не совсем ясно, что же «это» признает Кузен, и совсем не
ясно, почему «сам Кузен» выступает в качестве решающего
авторитета? Откуда взята цитата из Кузена, этого несколько
запоздалого авторитета для нашего времени? Эрн никаких
указаний на этот счет не дает, а читателю нужно самому
потрудиться, чтобы найти ее у Джоберти (Introd. I, 116). Именно
Джоберти упрекает современных философов в том, что они
вместо того, чтобы выводить метод из принципов, хотят вывести
принципы из метода, каковая ошибка, по его мнению, идет от
Декарта и квалифицируется как «психологизм». «Кузен, —
говорит далее Джоберти, — явно признает ее, вменяя, однако,
недостаток в достоинство»; затем у Джоберти идет цитата из
Кузена, которая начинается словами: «Дух, который... отличает
Декарта от всех его предшественников... есть дух метода», и
кончается словами: «Анализ мысли — вот в чем картезианский
* Буквальный перевод гласил бы: «благодаря этому учению он
становится продолжателем истинной науки и через посредство св. Бона-
вентуры, св. Августина и александрийцев, восходит к Платону»
(Introd. I, 61).
570
Г. ШПЕТ
метод»; вслед за сим Джоберти пишет: «И, восхвалив Декарта
за этот его прием, он (т. е. Кузен) прибавляет: "Можно
различить две эпохи в картезианской эре: одна, где метод учителя,
несмотря на его новизну, не признается, однако, другая, где
стараются выйти на этот спасительный путь. К первой
принадлежат Мальбранш, Спиноза, Лейбниц; ко второй — философы
XVIII века"».
Одно из двух: в рассматриваемом пункте Эрн хотел сказать,
как сам Джоберти характеризует свое отношение к Мальбран-
шу, или он берет это рассуждение и ссылку на свою
собственную ответственность. В первом случае Эрн дает повод к
серьезным недоумениям. «Невольное признание» Кузена приводится
здесь как аргумент в пользу Мальбранша перед Декартом, но
во-первых, Джоберти не это хотел доказать ссылкой на Кузена,
как видно из предыдущего, а во-вторых, Джоберти было бы
очень неприятно слышать, что он одобряет такое место из
Кузена, где Мальбранш разделяет «положительную особенность» с
нелюбезным почтенному патеру Спинозою, как можно
предположить это на основании того, что тому же Кузену весьма
достается от Джоберти за такое сопоставление Мальбранша и
Спинозы (ср. Intr. II, Nota 34, p. 166 ss.). Правда, Эрн смягчает
мысль Кузена, выбросив имя Спинозы, но тогда весь этот
пассаж он берет на свою ответственность. Конечно, желательно бы
услышать более современный авторитет в делах истории
философии, чем «сам Кузен», но Кузен так Кузен, только хочется
спросить: как же Эрн, ссылаясь на «самого Кузена», проглядел
одну повторяющуюся у него мысль, которая исключает
возможность характеризовать приводимые теперь Эрном слова, как
«невольное признание»? Если к «первой эпохе» картезианства
Кузен относит Мальбранша, Спинозу и Лейбница, то кто
принадлежит ко второй? Прежде всего Локк, а остальное ясно само
собою! Ясно, как дойти от cogito ergo sum до самого Кузена с
его столь откровенным признанием «психологизма» *, но также
должно было быть с самого начала ясно, что опасно призывать
именно Кузена** против Декарта. Джоберти это хорошо
понимал, обвиняя самого Кузена в декартовском «психологизме» ***.
* См., например, его: Premiers Essais de Philosophie. 3-е ed. 1855.
P. 216; ср.: P. 224—225.
* Ср. например, его: Histoire générale de la Philosophie. 11-e éd.
1884. P. 476.
* Вся философия Джоберти, и в особенности его учение о творении и
о Боге, находится в оппозиционном соответствии с философией
Философия Джоберти
571
Вслед за приведенными выше словами Эрн пишет: «Маль-
бранш картезианствует лишь в частностях, в принципах же
своей философии, в ее основном духе он решительно преодолевает
Декарта». Доказательство этого тезиса у Эрна состоит из двух
частей. Во-первых, он приводит аргумент Джоберти (Intr. I,
143): Мальбранш исходит не из непосредственного факта — я
мыслю, следовательно, существую, — как Декарт, а
превращает его в силлогизм: небытие не обладает свойствами, — я мыслю,
следовательно, существую; а положение небытие не обладает
свойствами равносильно положению Сущее есть. Как
справедливо поясняет Джоберти, Мальбранш здесь расходится с
картезианством, даже там, где он претендует быть картезианцем.
Аргументация Джоберти поражает своей слабостью. Допустим,
что положение «небытие не обладает свойствами» есть первая и
самоочевидная истина и может быть большей посылкой
силлогизма, но откуда приобретена меньшая посылка «я мыслю»?
Она так же первична и очевидна, как и большая, и это
одинаково для Мальбранша и Декарта. А тогда из-за чего же шум?.. Но
вся суть в том, что этот силлогизм вообще сомнителен, ибо
заключает в себе явно quaternio terminorum7, при определениях
Джоберти в особенности. Допустим, что, действительно,
положение небытие не обладает свойствами = Сущее есть, тогда, по
Джоберти, бытие Сущего, т. е. Бога, должно определяться как
essere, а бытие «я» определяется как existerе, — какую же цену
имеет весь силлогизм? Как логически перейти от абсолютного
бытия к бытию действительному? По пути этого перехода
неизбежно встретятся все те затруднения, с которыми так тщетно
боролся рационализм, напр<имер>, у Спинозы. В итоге, более
все-таки прав Джоберти, считая, что Мальбранш разошелся с
Декартом в этом пункте, но не прав Эрн, говоря, что
Мальбранш «в основном духе философии решительно преодолевает
Кузена. Эрн не только не поставил возникающего из этого
историко-философского вопроса, но даже не указал на такую тесную
связь Джоберти и Кузена. Упомянув о сочинении Джоберти,
которое посвящено критике религиозного учения Кузена, Эрн
заявляет: «Но ввиду малого интереса, представляемого не оригинальной
философией Кузена, я оставляю без рассмотрения критику
Джоберти, на нее направленную» (с. 87, прим.). Но по этой же причине
«малого интереса, представляемого не оригинальной философией»
можно было бы оставить «без рассмотрения» всю философию
Джоберти!.. Или, может быть, Эрн думает, что, только критикуя
«неоригинальную философию», и Джоберти начинает представлять
«малый интерес»?..
572
Г. ШПЕТ
Декарта». Может быть, и сам Эрн почувствовал
недостаточность приведенной аргументации, потому что он во второй
части рассматриваемого пункта подкрепляет ее: «В самом деле,
Мальбранш говорит: "Доказательства бытия Бога и Его
совершенств, построенные на идее бесконечности, нам присущей,
суть доказательства простого зрения. Мы видим, что
существует Бог, если мы видим бесконечность, ибо необходимое
существование уже заключено в идее бесконечности, или, точнее
мы, можем видеть бесконечное лишь в нем самом". Этим самым
методологически обосновывается онтологизм» (с. 105—106).
Кроме цитаты из Мальбранша, остальное в этом отрывке
принадлежит Эрну. Эту же цитату приводит у себя и Джоберти*.
Но, разумеется, не это придает ей вес и смысл. Она должна
быть разъяснена из контекста самого Мальбранша. И
действительно, глава, содержащая в себе эту цитату, могла бы дать
немало полезного для историко-философского исследования о
Джоберти, но она интересна и не только исторически**.
Вопреки интерпретации Джоберти—Эрна Мальбранш здесь ясно и
недвусмысленно утверждает: «Первое, что мы познаем, это —
существование нашей души; все акты нашего мышления суть
неопровержимые доказательства его; ибо то, что действительно
мыслит, действительно есть нечто, — это вполне очевидно».
Достигаем мы этого знания не путем вывода, а путем
непосредственного созерцания (интуиции), и это знание до такой
степени надежное, что если бы даже Бог захотел нас обманывать, «то
и тогда, — утверждает Мальбранш, — я был бы убежден в том,
что он не может обмануть меня в том моем познании, которое
основывается на простом созерцании, каково, напр<имер>,
познание: я существую, ибо я мыслю; дважды два есть четыре».
Напротив, умозаключение может легко повести к
заблуждениям, и для гарантии против них требуется еще убеждение в том,
что Бог нас не обманывает. «Чтобы быть вполне убежденным в
том, что самые достоверные науки, как-то: арифметика и гео-
* См.: Intr. I, 144. Я потому отмечаю несамостоятельность Эрна в
исторических цитатах, что, 1) хочу подчеркнуть его слепое доверие
к Джоберти, а 2) хочу опровергнуть его утверждение, которое
гласит: «путем параллельных ссылок мы старались показать редкую
историко-философскую насыщенность умозрительных теорий
Джоберти» (с. 327). Под «параллельными ссылками» я понимаю
самостоятельные историко-философские указания, а не
воспроизведение указаний самого Джоберти.
"* Кн. VI, ч. II, гл. 6. — Разыскания истины Николая Мальбранша.
Пер. Е. Б. Смеловой под ред. Э. Л. Радлова. СПб. Т. II. С. 368 ел.
Философия Джоберти
573
метрия, суть и самые истинные науки, необходимо прежде
познать Бога и знать, что Он не обманщик; ибо иначе очевидность в
этих науках не будет полна и можно с ними не соглашаться. То,
что Бог не обманщик, необходимо узнать простым созерцанием,
а не умозаключением, ибо умозаключение всегда может
оказаться ложным, если мы допустим, что Бог обманщик. — Все
общепринятые доказательства бытия Божия и свойств Его,
выведенные из бытия и совершенств Его тварей, по-моему, имеют
тот недостаток, что они не убеждают разума через
непосредственное созерцание. Все эти доказательства суть рассуждения,
правда, сами по себе убедительные; но, будучи рассуждениями,
они как таковые неубедительны, — стоит нам предположить,
что существует какой то злой дух, обманывающий нас» (с. 370).
Теперь ясна и цитата, приводимая Джоберти-Эрном, я только в
ней исправил бы перевод Эрна и вместо «построенные на идее
бесконечности» перевел бы буквально: «выведенный из идеи,
которую мы имеем о бесконечном», (tirées de l'idée que nous
avons de l'infini — deducta ex idea infiniti quam habemus*,
чтобы таким образом оставить в неприкосновенности
картезианский «психологизм» Мальбранша и в этих его словах. Все это у
Мальбранша завершается прекрасною мыслью: «Все эти
истины (т. е. существование Бога и Его правдивость)
представляются путем простого созерцания уму внимательному, хотя,
по-видимому, мы и рассуждаем здесь; эти рассуждения, однако,
нужны лишь для того, чтобы изложить эти истины другим». —
Это в высшей степени интересно и важно, тем более что как раз
в этой главе Мальбранш резюмирует свои положительные
взгляды на природу познания. Обращу внимание на следующие
философски важные моменты в изложенном, (а) Мальбранш
совершенно так же, как и Декарт, исходит из анализа
сознания, — тут для них обоих первое. Если, как думает Джоберти,
Декарт — психологист, то психологист и Мальбранш. Но
существеннее всего то, что не с тем наивным определением
психологизма, которое дает Джоберти, можно разрешить, где у Декарта
и Мальбранша психологизм и где его нет. Теологизм Джоберти
не менее психологистичен, чем спиритуализм Декарта или
Мальбранша. Критерием различия психологизма от
непсихологизма служит не то, что на месте cogito Джоберти ставит Бога,
а то, как берется здесь для анализа само сознание: как сознание
фактическое или сущное? В самом же переживании Бог, —
если только Он не есть «акт» или «форма» сознания, — являет-
* Лат. пер.: De Inquirenda Veritate. Genevae, 1689. P. 457.
574
Г. ШПЕТ
ся такою же трансцендентностью, — хотя бы и sui generis 8, —
как и человек; (Ь) Ссылка на «простое зрение» не имеет
никакого значения, так как она никак не исключает «доказательства».
Формула Мальбранша, приведенная мною, имеет классический
характер и с разъяснения ее следовало бы начинать всякую
методологию. Вы можете прийти к своей истине каким угодно
путем, но раз вы хотите убедить в своей истине других, вы
вынуждены «рассуждать», т.е. в конце концов тем, или иным
способом доказывать. Самая свободная теория
непосредственного усмотрения истины, след<овательно>, всякий интуитивизм
вяжется, таким образом, самым естественным путем с логикой
и ее законами; даже намеренный «алогизм» есть одна из форм
убеждения и доказательства, как намеренный методизм в
познании есть его свободно выбранный путь, от которого человеку
предоставлено отказаться, когда он пожелает. Вот почему и
Мальбранш мог «видеть» Бога, и тем не менее «доказывать»
Его бытие*, (с) И его доказательство «из идеи бесконечного»,
действительно, есть картезианское доказательство и по методу
и по содержанию. Напомню только следующее рассуждение
Декарта: «Я подразумеваю под словом Бог субстанцию
бесконечную, вечную, неизменную, независимую, всеведущую,
всемогущую, создавшую и породившую меня и все остальные
существующие вещи (если они действительно существуют). Эти
преимущества столь велики и возвышенны, что чем
внимательнее я их рассматриваю, тем менее кажется мне вероятным, что
эта идея может вести свое происхождение от меня самого.
Следовательно, из всего сказанного мною раньше, необходимо
заключить, что Бог существует. Ибо, хотя идея субстанции будет
находиться во мне потому, что я сам субстанция, все-таки я,
существо конечное, не обладал бы идеей субстанции
бесконечной, если бы она не была вложена в меня какой-нибудь дей-
* Если бы Мальбранш в этом пункте «решительно преодолел
Декарта», едва ли он написал бы нижеследующее поучение: «Легко
узнать истину или ложность обвинений, направленных против
г-на Декарта; его сочинения легко найти и очень легко понять,
если только быть способным ко вниманию. Прочтите же его
сочинения, чтобы иметь другие доказательства против него, чем
простые слухи, и, надеюсь, если их прочтут и подумают над ними
хорошенько, его не обвинят более в атеизме, а, напротив, будут
уважать всем тем уважением, которого заслуживает человек,
доказавший очень простым и очевидным способом не только бытие
Бога и бессмертие души, но множество других истин, которые
были неизвестны до него» (Разыскания истины. Т. П. С. 105).
Философия Джоберти
575
ствительно бесконечной субстанцией. — И я не должен думать,
что постигаю бесконечное не при помощи истинной идеи, а
только через отрицание того, что, конечно, подобно тому как я
понимаю покой и мрак через отрицание движения и света.
Наоборот, я ясно вижу, что в бесконечной субстанции находится
больше реальности, чем в субстанции конечной, и
следовательно, понятие бесконечного в некотором роде первее во мне, чем
понятие конечного, т. е. понятие Бога первее понятия меня
самого...» *
Итак, in summa summarum9, я не вижу, чтобы
вышеприведенное утверждение Эрна о том, что Мальбранш «решительно
преодолевает Декарта», ему удалось обосновать. Единственно,
с чем я согласился бы, что все-таки Мальбранш не настолько
картезианец, насколько, напр<имер>, Арно и Николь, которых
Эрн весьма решительно относит в число «блестящих
писателей», «не искусившихся картезианством и оставшихся
верными церковному онтологизму» (106).., Арно и Николь!?..
Вслед за разобранным отрывком Эрн приводит еще цитату из
Джоберти, где последний ставит на вид Мальбраншу неясно
Метафизические размышления. Рус. пер. С. 48—49 (Oeuvres de
Descartes / Ed. par Simon. P. 89—90). Ср.: Frinc. I, § 20, 27, 30, где
Декарт ссылается на «естественный свет». Известно, какая это
запутанная проблема, но самым несомненным мне в ней
представляется сопоставление этого понятия в порядке метафизическом с
гносеологическою (психологическою) интуицией (intuitus). Из
новейших работ о Декарте ср. по этому поводу: Barth H. Descartes
Begründung der Erkenntnis. Bern, 1913. S. 38. Рейнингер называет
теорию познания Декарта «теологией познания»; «ее
обоснование, — говорит он, — даже в антропологическом аргументе, —
безусловно (durchaus) онтологично» (S. 57). «Философия познания
Декарта, — по его словам, — есть попытка объяснить возможность
рационального познания из связи человеческого мышления с
сверхиндивидуальным разумом творческой силы (Reininger R.
Philosophie des Erkennens. Lpz., 1911. S. 64). К. Юнгман резюмирует
след<ующим> обр<азом> декартовское доказательство бытия Бо-
жия: «eich erfahre in mir die Idee Gottes; dies ist eine innere,
unmittelbare Erfahrung und darum unbezweifelbar. Denkmoglich
bleibt nun nur die eine Annahme, diese Idee repräsentiere ein
unabhängig von meinem Geiste existierendes, unendlich vollkomenes
Wesen, von dem ich mich in meiner Existenz abhangig erkenne. Kann
ich Gott an sich auch nicht erkennen, die Annahme seiner Existenz
ist sachlogisch unabweisbar, also logisch notwendig, unbezweifelban»
(Jungmann K. René Descartes. Lpz., 1908. S. 59)10. Я не предлагаю
верить безусловно Рейнингеру или Юнгману, но думаю, что Эрн
мог бы и Джоберти доверять меньше.
576 Г. ШПЕТ
проведенное различие между интуитивной и рефлексивной
идеей Сущего. Но если Мальбраншу можно простить этот грех, то,
может быть, можно быть снисходительнее и к Декарту? В этом
смысле очень полезно, что Эрн привел эту цитату. Я не стал бы
только переводить «precessori» через «последователи», а
перевел бы «предшественники», и очень просто отнес бы в число
этих предшественников и Декарта. — За этой цитатой следует
опять цитата из Джоберти, — хотя ни кавычками, ни
указанием страницы она не отмечена (Intr. II, 168), — о том, что
«теория идеального видения» у Мальбранша есть «целая
философия». К этому присоединяется самостоятельное слово Эрна об
«грандиозности» мальбраншевского «наброска» этой теории,
потом прямая ссылка на Джоберти (Intr. II, 169), предваряемая
словами: «Кузен, "сделавший своей родине печальный подарок,
завезя в нее немецкий пантеизм", не умеет понять Мальбранша
и просматривает платоническое существо его философии, и это
заставляет Джоберти сказать сильное слово...» (106). «Это» ли
заставляет Джоберти «сказать сильное слово», решить трудно,
ибо в указанном месте (Intr. II, 169) Джоберти об этом не
говорит, а если Эрн нашел такой мотив у Джоберти в каком-либо
другом месте, то почему он, как историк философии, не
отметил, что мальбраншевская «теория идеального видения» — как
раз и не может быть отнесена к «платоническому существу» его
философии. И тогда Эрн сошелся бы во взглядах с Джоберти,
так как последний считает «теорию идеального видения»
необходимым дополнением к Платону, а след<овательно>, никак не
«платоническим существом» *. И вот этим кончается
изображение Мальбранша и отношения к нему со стороны Джоберти.
* Эрн. С. 106: «Теория идеального
видения в идее своей есть
целостная философия; она содержит в
себе учение о природе,
происхождении и закономерности знания.
К сожалению, она не развита и по
сравнению с тем, чем она могла
бы быть, — это только набросок,
но набросок грандиозный, ибо
умозрение делает в нем
действительный шаг вперед. Кузен,
"сделавший своей родине печальный
подарок, завезя в нее немецкий
пантеизм", не умеет понять
Мальбранша и просматривает
платоническое существо его фи-
Джоберти. И. Р. 168: «Теория
идеального видения есть целая
философия; она есть необходимое
дополнение (il compimento neces-
sario) учения Платона, св.
Августина, св. Фомы и более здравой
части александрийской
философии; она содержит в себе полную
систему о природе,
происхождении и закономерности нашего
знания...»
Р. 109: «Повторяю, теория
Мальбранша далека от научного
совершенства (см. слева) <...>
пойти с нею в сравнение. И Кузен,
сделавший своей родине печаль-
Философия Джоберти
577
Лейбницу уделяется еще меньше (с. 107—108), чем Маль-
браншу; об историко-философском исследовании здесь не
может быть и речи; недоумениям есть место, но ограничусь
одним: на каком основании Эрн утверждает дважды в этих
нескольких строчках, что Лейбниц «кафоличен», а Декарт не
кафоличен? Оснований Эрн не приводит. Так думал Джоберти?
Оснований не приведено. Так думал бы Джоберти, если бы знал
различие, которое мы делаем между «католическим» и
«кафолическим»? Едва ли, так как для него как католика это
различие не имело бы, вероятно, смысла; едва ли бы он сомневался,
что «католическое» и «кафолическое» — одно.
Не буду останавливаться и на Вико, — ему автор уделяет
больше места (2V2 стр., с· Ю8—111 *), — так как в книге есть
более важные вещи, на которых нужно остановиться. От одного
только вопроса не могу воздержаться: Джоберти постоянно
цитирует Вико, Эрн указывает три стороны, которые были
«дороги Джоберти в Вико» (с. 109), — как же он потом утверждает:
«Кроме исторической зависимости от целого ряда мыслителей
онтологического направления, Джоберти в вольном порыве
своего философского творчества встречается с самыми трудными и
неясными постижениями Вико и Платона, вовсе не зная об
этом (курсив мой), и продолжает их в тех вершинных их идеях,
которые были не восприняты историею и оставались безусловно
под спудом» (с. 327—328).
лософии, и это заставляет
Джоберти сказать сильное слово:
"Повторяю, — говорит он, что
теория Мальбранша далека от
научного совершенства, но даже
если ее взять такой, какова она
есть, то во французской
философии мы не найдем решительно
ничего, а во всей современной
философии очень мало, что
могло бы пойти с нею в сравнение"».
* Кроме того, в приложении к книге: « Экскурсы: Суждения Вико о
Декарте» (с. 836—338). Назначение этого «экскурса» мне не ясно.
Эрн приводит едва шестую часть суждений Вико об Декарте: это
само собою делает его освещение этого вопроса неполным и
односторонним, не говоря уж о том, что в приведенных отрывках
интерпретация Эрна очень спорна. Собрать суждения Вико о Декарте
и дать исчерпывающее освещение вопроса не трудно, пользуясь
«Tavola analitica» в миланском издании Дж. Феррари (2 ed. Vol. 1.
P. 262—263)и.
ный подарок в виде немецкого
пантеизма (il tristo dono del pan-
teismo germanico) и объявляющий
себя эклектиком, т. е.
собирателем цветков различных систем
(del fior dei vani sistemi),
посвятил этим тонким мыслям только
несколько строк, в которых он
даже не показал знания автора, о
котором рассуждает».
578
Г. ШПЕТ
II
Рассмотренные нами вопросы о предшественниках Джоберти
входят у Эрна под заголовком «Предания истинной
философии» в главу «Проблема психологизма», но, собственно, только
первая часть этой главы «Критика новой философии» подходит
под общее название главы. Здесь Эрн прослеживает отношение
Джоберти к отвергаемым им философским течениям, которые
и подводятся под титул психологизма. Можно было бы
пожелать здесь прежде всего точного уяснения этого термина путем
теоретического анализа тех определений, которые встречаются
у Джоберти. К сожалению, несмотря на то, что потом (с. 225 ел.)
Эрн высказывает целый ряд теоретических соображений по
поводу этого понятия, названного уяснения мы у него не
находим. Правда, Эрн подходит к разъяснению психологизма в
упомянутой «Критике новой философии» иным путем: путем
историко-философского анализа этого понятия. Таким методом
можно было бы удовлетвориться до известной степени; читатель
в конце концов сам мог бы сделать соответствующие
обобщения. Но и здесь мы встречаемся с тем же своеобразным
соединением у Эрна большого доверия к Джоберти, с одной стороны,
и стремления «исправить» его, с другой, — соединением,
которое так мешало ясности в уже рассмотренном отделе.
Основателем (il fondatore) современного психологизма и ге-
теродоксии12, по Джоберти, является Декарт, а за Декартом и
вся новая философия, исключение из коей представляют, как
мы видели, Мальбранш, Лейбниц и Вико. Отношение Джоберти
к Декарту поэтому очевидно, заслуживает особенного
внимания. Но, разумеется, и в додекартовской философии не все
приемлемо для Джоберти при его церковно-католической
прямолинейности и ортодоксальности. Эрн делает попытку в качестве
предшественников декартовского психологизма представить
Аристотеля и Лютера, причем он излагает свои взгляды так,
что дает повод думать, будто того же мнения держится и
Джоберти. Так как я не во всем согласен с толкованием Эрна, то
воспроизведу сперва для освещения последующего то
разделение философии, которое дает сам Джоберти.
Ход его мысли, предваряющей это разделение, такой*:
«Первоначальный и главный предмет философии, — говорит он, —
есть Идея, непосредственная цель (termine immediate)
умственной интуиции. Этим словом, узаконенным Платоном в фило-
* Intr. И. Сар. 3. Р. 3 ss.
Философия Джоберти
579
софском языке всех цивилизованных народов Европы и
принимаемым мною в смысле аналогичном платоновскому, я хочу
обозначить отнюдь не понятие наше, и не какую-либо
сотворенную вещь или свойство, а абсолютную и вечную истину,
поскольку она представляется в интуиции человека» (II, р. 3).
«Идея не доказуема, а ее нужно допустить как некоторую
первоначальную истину». «Идеальный признак, который, будучи
эквивалентен доказательству, заменяет его, есть очевидность.
Очевидность есть умопостигаемость (l'lntelligibilita) вещи; и
так как Идея есть Умопостигаемое, то она оказывается
очевидной сама собою» (р. 4). «Очевидность не исходит от духа, но
входит в него и его проникает: приходит извне, а не извнутри:
человек ее цолучает, не производит, он причастен ей, а не автор
ее» (р. 5). «Мысль отражается в себе самой и удваивается, так
сказать, в рефлексии, через посредство знаков; последние
являются орудием, которым пользуется дух, повторяя в себе
самом интуитивную работу, или, точнее, интеллектуально
копируя идеальную модель» (р. 6). «Эта рефлексивная работа духа
есть философия; ее можно, след., и определить как
последовательную экспликацию первого идеального понятия» (Ibid.).
«История, вера и разум сходятся в доказательстве того, что
отец рода человеческого был создан Богом с даром слова.
Первоначальное слово, будучи божественным, быАо совершенно
и выражает Идею сполна... Первая идиома былаюткровением; и
божественное откровение есть слово Идеи, т. е. Идея,
говорящая о себе самой и выражающая самое себя», (р. 7). —
«Общества имеют душу, тело, а потому и лицо, как индивиды... Идея
есть душа вселенского общества (délia societa universale), и вид
человеческий есть известным образом тело Идеи... Идея,
действительно, есть душа душ, жизненный принцип всякого
организма, всякой гармонии, всякого сотворенного порядка, и
внутренняя, высшая, всеобщая форма существований» (р. 9). —
«Хотя понятие Идеи не может быть уничтожено совсем, оно
может быть затемнено, и оно было затемнено с самых первых
времен, в силу тех же причин, которые наносили ему ущерб
впоследствии и с недавнего времени привели философские
науки в то состояние упадка, в котором они находятся еще по
настоящее время... Состояние рефлексии противно природе, и
размышляющий человек есть испорченное животное (Руссо)...»
(р. 10) «...Христианство <...> есть совершенное восстановление
первобытного состояния человека и руководство его к его
конечному состоянию» (р. 13). — «Нужно различать два
человеческих рода, один — по природе, другой — по благодати... Пер-
580
Г. ШПЕТ
вый есть материальное общество скорее тел, чем душ, так как
ему недостает целостности идеального принципа. Второй есть
духовное общество, собор умов, организованных Идеей и тесно
объединенных в одно тело <...> Человеческий род,
восстановленный сверхъестественно, путем духовного избрания и
рождения, есть Церковь; последнюю можно в этом отношении
определить как последовательную реорганизацию человеческого
рода, разделенного грехом и воссоединенного благодатью,
посредством идеального единства» (р. 14—15). «Таким образом,
хотя Церковь не есть актуально род человеческий, он есть
Церковь потенциально, и он антиципирует в ней небесные
прерогативы... Полнота Идеи, как выяснится это в течение нашего
рассуждения, есть привилегия католицизма; поэтому он есть
единственный органический принцип, который может
преобразовать род человеческий» (р. 16). «Церковь есть
персонифицированная Идея и облеченная в одежды внешнего и чувственного
тела, которое ее представляет и которое, представляя ее, причаст-
но ее интимной очевидности и освещается ее блеском» (р. 17).
«Если Церковь есть преобразование человеческого рода, то
некатолик становится в состояние эксцентрическое, вне своего
естественного условия, и морально исключен из собственного
рода; по отношению к Идее это — человек без закона,
необщественный, дикий, и соответствует в порядке интеллектуальном
тому, чем был бы в порядке материальном человек,
вскормленный и воспитанный вне всякого общества» (Ibid.)
«Католическая иерархия есть организация разных глав и частных общин
под единым и высшим вождем. И так как эта иерархия есть
единый организм, который, последовательно развертываясь и
расширяясь, может осуществить моральное единство всего
вида, то отсюда следует, что ее видимый глава есть органический
принцип, от которого зависит будущее единство мира. Перво-
священническая власть поэтому есть духовное и избранное
отцовство, необходимое для образования единства великой
человеческой семьи, как материальное отцовство объединяет частные
семьи; и как среди многих народов, пользующихся уже благом
католических установлений, есть один, который заслуженно
гордится тем, что занимает центр столь обширного целого; так
в этом отношении несомненно, что Италия, содержа в своем
лоне принцип морального единства мира, есть нация-мать
человеческого рода» (р. 18). — «Церковное общество сохраняет
божественное сокровище, передавая его от поколения к поколению,
и выявляет его в слове. Дефинитивные формулы,
составляющие слово Церкви, содержат implicite всю истину, но по боль-
Философия Джоберти
581
шей части они обнимают в слове explicite только интегральные
элементы, которые, будучи собраны вместе, устанавливают то,
что я называю полнотою Идеи» (р. 20). «Наука, выявляющая
рациональные элементы, есть философия; наука,
раскрывающая элементы сверхрациональные, есть теология, которую
можно назвать откровенной или положительной. Философия и
теология, соединенные вместе, образуют совершенную
идеальную науку» (р. 20). «Полнота идеальных элементов, которые
составляют основание и предмет спекулятивных наук, требуют
двух вещей: 1) чтобы такие элементы были получены из
откровения, через поддержку традиции; 2) чтобы традиция могла
оказать свое влияние и была, след<овательно>, сохранена и
выражена каким-нибудь иерархическим и непрерывным
учреждением, первое звено которого связано с откровением» (р. 25).
Я не поскупился на цитаты из Джоберти, потому что хотел не
только возможно яснее представить основания того разделения
философии, к которому мы должны перейти, но также
представить читателю подлинный стиль и настоящую философию
итальянского патера. Приведенные отрывки, на мой взгляд,
вполне достаточно уясняют «прагматическое» отношение
Джоберти к философии, — видны источники его собственного
пафоса, равно как и ценность его философского замысла.
Приведенные цитаты сами по себе дают уже достаточно для общего
освещения «философского» облика Джоберти. Перейдем
непосредственно к его разделению философии, которому, кстати
отметить, Эрн приписывает совершенно неподобающее
значение, уверяя читателя, что джобертиевская «концепция двух
магистралей поражает своим размахом, своею философско-ис-
торическою глубиною и меткостью основной своей мысли», что
«легкость, с которой Джоберти развязывает «узел»
сложнейших исторических перипетий философии и разлагает их
причудливую ткань на две основных и простых (в смысле простых
химических элементов) нити: нить онтологизма и нить
психологизма, запечатлена большим мастерством и несомненным даром
исторической дивинации» (с. 111). Во всем этом верно,
кажется, только указание на «легкость», с которой Джоберти
расправляется с историей философии.
«Историограф философии, — говорит Джоберти, — больше
всего должен иметь в виду эту связь философских учений с
откровением через посредство дефинитивных формул, адекватно
выражающих идеальные истины. Все системы делятся на два
класса; и являются традиционными или антитрадиционными,
смотря по тому, связываются они с откровением, путем тради-
582
Г. ШПЕТ
ционного слова, или расходятся с ним; и ортодоксальными и
гетеродоксальными, поскольку они соглашаются с
определительной и иерархической формулой или расходятся с ней,
соответственно порядкам откровения, от которых они берут начало,
допуская или отвергая их» (Intr. II, 26). Системы
традиционные и ортодоксальные затем делятся еще на два вида: системы
прогрессивные, где сохраняется также научная традиция, и
регрессивные, где нить научной традиции прерывается;
системы гетеродоксальные, утеряв традицию религиозную, не могут
сохранить научной, а потому все они ретроградны (Ibid.).
Теперь в свете этого разделения для нас станет ясным
отношение Джоберти к различным течениям новой философии. Всю
христианскую философию он делит на три эпохи: эпоха Отцов
церкви, схоластики и период современной науки (II, 28).
Первая эпоха — ортодоксальна и прогрессивна; вторая содержит
ряд ортодоксальных систем реализма и ряд гетеродоксальных
систем номинализма; третья эпоха дает небольшое число
изолированных ортодоксальных философов и множество
гетеродоксальных (Ibid.). Философы последней эпохи, отвергая Идею как
данное нам, рассматривают истину как создание собственного
ума и начинают философию с «чувственного восприятия»; эту
гетеродоксию можно определить как «подстановку
чувственного на место умопостигаемого, как первого принципа, от
которого движется философия». (II, р. 28). Чувственное бывает или
спиритуальным и внутренним, или материальным и внешним;
особый вид спекулятивной гетеродоксии поэтому состоит в
«подстановке внутреннего чувственного на место
умопостигаемого, в качестве первого принципа, и психологической
рефлексии на место разума, в качестве главного или, по крайней мере,
начального орудия философии. — Эту систему, которая
исходит из внутреннего чувства, чтобы из него извлечь и соорудить
все человеческое познаваемое, подобает обозначить именем
Психологизма... Я определяю, следовательно, Психологизм,
как систему, которая выводит умопостигаемое из чувственного
и онтологию из психологии» (II, 29).
Из этого последнего определения исходит и Эрн в своем
изложении (с. 67), но оно у него не ясно, так как всех
предшествующих, приведенных здесь нами рассуждений Джоберти Эрн не
рассказывает своему читателю. В конце концов, и сам Эрн,
может быть, благодаря этому упущению делает странное на
первый взгляд утверждение, что Джоберти, — и притом «как
истинный платоник» (!?) — «в общих вопросах онтологической
психологии занимает позицию определенно выраженного спи-
Философия Джоберти
583
ритуализма» (с. 235). Оговорки, — «в общих вопросах»,
«онтологической психологии», — которыми Эрн старается придать
неопределенность своему утверждению, мало помогают, если
иметь в виду только что приведенное определение психологизма
у Джоберти, так как оно, как очевидно, подводит под
психологизм прежде всего всякого рода спиритуализм*. Но у Джоберти
есть еще одно определение психологизма, более
соответствующее вышеизложенным предпосылкам его критики
философских учений, это определение гласит: «Всякая система, которая
помещает принцип познаваемого в чем-нибудь, что, собственно
говоря, не есть Бог, необходимо есть система
психологистическая: хотеть найти третье решение в этом случае так же
абсурдно, как допустить что-нибудь, что субстанциально но
отличается от Творца и творения» **. Имея в виду это определение,
можно было бы, конечно, допустить и «спиритуалиста» в лоно
ортодоксальной философии, нужно только, чтобы он верил в
Иегову и в Папу... Но вся суть в том, что Джоберти убежден,
что психологизм и, следовательно, спиритуализм есть
философия гетеродоксальная по существу. Как совмещал Джоберти в
себе свой онтологизм, т. е., точнее, теологизм, и спиритуализм,
это — тайна, которую Эрн столь же мало раскрыл, как и тайну
«истинно платоновского» спиритуализма!..
Во всяком случае, после приведенного определения
психологизма, которое имеет в виду прежде всего всякого рода
спиритуализм, Джоберти непосредственно переходит к Декарту.
«Распространение, — утверждает Джоберти, — если не первое
введение, психологизма, который теперь владеет, несмотря на
некоторые противоположные примеры, философией всего
цивилизованного мира и составляет современную гетеродоксию,
должно быть приписано Рене Декарту» (Intr. II, 29; ср. Эрн,
68). Философия, исходящая из картезианских принципов,
делится, по Джоберти, на 5 школ или классов: философия самого
Декарта; философия Локка; философия Спинозы, немецких
пантеистов и отчасти Беркли; философия Канта и французских
сенсуалистов, начиная с Кондильяка; и наконец, абсолютные
скептики с Юмом во главе (с. 46—47). Остановимся только на
* Джоберти допускает весьма компрометирующее включение
спиритуализма в «сенсизм» 13, но, нужно согласиться, во многих
отношениях — весьма правильное. Возникновение и история
французского спиритуализма (начала XIX в.) — лучшее тому доказательство.
** Errori I, 125—126: <Ogni sistema que colloca il principlio dello scibile
in una cosa, ehe propriamenfe parlando non e Dio, e necessariamente
psicologistico...» (Курсив мой).
584
Г. ШПЕТ
Декарте как родоначальнике всей этой гетеродоксии. «Декарт, —
говорит Джоберти, — сенсист в принципах и в методе; в
принципах, потому что он устанавливает в качестве первой истины,
чувственный факт сознания (il fatto sensibile délia coscienza), в
методе, так как он идет от психологии к онтологии, не пройдя
противоположного пути. Действительно, психологизм и сен-
сизм тожественны: психологизм есть сенсизм в применении к
методу, сенсизм — психологизм, примененный к принципам.
Приметы этого класса философов суть: 1) претензия создать
новую философию; 2) отказ от религиозной и научной традиции;
3) предварительный скептицизм; 4) желание основать
онтологию на психологии, и отсюда необходимость совсем отвергнуть
прежнюю психологию, установленную на онтологических
данных; 5) рассмотрение внутреннего чувства как первой истины;
6) научное преобладание, данное в личности человека, и, сле-
д<овательно>, автономия духа, анархия идей, абсолютная
свобода мысли в порядке философском и религиозном, и
гражданская вольность (la licenza civile), которая из этого проистекает»
(Intr. И, 46).
Теперь физиономия самого Джоберти и смысл его
психологизма читателю ясны. Выходит, что психологизм — весьма
соблазнительная вещь. Но не меняет ли Эрн облик Джоберти, не
разъясняя читателю, в чем же, собственно, антипсихологизм
Джоберти, не показывая, какие подчас нефилософские мотивы
вооружают Джоберти против Декарта, и утверждая вместо
этого, что Джоберти философию Декарта и психологизм вообще
«опровергает не во имя догматических взглядов католичества,
не по критериям несходства его с религиозными убеждениями,
а по чисто философским мотивам, во имя иного, более
высокого, по его мнению, принципа философствования, который
называется у него обыкновенно онтологизмом» (с. 61).
Вместо теоретического анализа психологизма в толковании
Джоберти Эрн хочет установить исторические корни
декартовского психологизма, но изображает при этом мысль самого
Джоберти не совсем точно. «Но мистико-исторический корень
психологизма, — говорит он, — нужно искать дальше и
глубже, чем в картезианстве» (с. 68). Что касается «мистического»
корня, то, наверное, это именно так: я думаю даже, он уходит
куда-нибудь в глубины, предшествующие сотворению мира.
Интереснее поэтому просто исторические корни, как более или
менее доступные нам. И Эрн, по-видимому, не отказывается от
этого изыскания. Он утверждает: «Исторически само
картезианство есть явление производное. И обусловлено оно двумя ду-
Философия Джоберти
585
ховными течениями. С одной стороны, психологизм возникает
уже в системе Аристотеля, поскольку Аристотель себя
противопоставляет Платону и критикует последнего, с другой стороны,
свою мощь и власть над новоевропейским сознанием
психологизм получает вследствие религиозной реформы Лютера»
(с. 68). Исторически тут, разумеется, очень интересный факт:
Декарт, который стремился освободить философию от
аристотелевской непогрешимости, оказывается, имел в его лице своего
предшественника, и тот же Декарт, который писал «я ни за что
не хочу издавать сочинения, в котором самое малейшее слово
могло бы не понравиться Церкви», оказывается, заражен Люте-
ровой ересью. Так как две страницы, занятые у Эрна
доказательством этого его исторического тезиса, почти сплошь
состоят из цитат, то может явиться вопрос: не есть ли это опять
крайнее доверие Эрна к Джоберти? Но на поверку выходит,
что, как я сказал, мысли Джоберти здесь переданы не вполне
точно.
Абзац об Аристотеле состоит из трех цитат, но последняя, —
кстати, неясно откуда взятая автором, — говорит только о
номиналистах, две первые — об Аристотеле и номиналистах (вторая
цитата разбита на две части, между которыми вставлено
пояснение Эрна, основанное, впрочем, на словах самого Джоберти).
Первая из них взята из предисловия Джоберти к его
сочинению «Del Buono», и по контексту ее (р. XX) видно, что Джоберти
противопоставляет здесь Платона и Аристотеля в их этическом
учении, так что видеть в этом указание на то, что Аристотель
является предшественником Декарта в его психологизме,
никак нельзя. Кроме того, цитата не переведена Эрном до конца,
конец же ее гласит: «...и было возобновлено (дело Аристотеля)
в наши дни Антонио Розмини и его школой», — вот, а о
Декарте ни слова. Вторая цитата называет Аристотеля «гетеродоксом
и психологистом» (у Эрна слово eterodosso осталось непереве-
денным), но опять не сказано ничего об его отношение к
Декарту, а что же удивительного, что Джоберти находит у Аристотеля
«психологизм», раз Аристотель был не только гетеродоксом, но
даже просто язычником. Очевидно, что если Эрн, знаток
Джоберти, не нашел у него более ясных для своей мысли цитат, то
их и нет. Но зато есть у Джоберти иные места, которые
обнаруживают иное отношение его к Аристотелю, чем то, которое
изображает Эрн. Джоберти определенно противопоставляет Декарта
и Аристотеля и вводит последнего в ряд своих героев
философии: Платон, Аристотель, св. Августин Лейбниц, Мальбранш
(Intr., Proem, 47); Платон, Аристотель, Плотин, Августин, Во-
586
Г. ШЛЕТ
навентура, Фома (в противопоставлении Декарту) (Intr. II, 31);
Пифагор, Платон, Аристотель, св. Августин, Лейбниц, Вико
(Del Buono, p. 3); «И когда я сравниваю философские труды
этого писателя с "Диалогами" Платона, "Метафизикой"
Аристотеля, "Троицей" св. Августина, и "Summa" Аквината, я не
нахожу ничего, что можно было бы поставить в параллель его
высокомерию, — разве только примерную простоту его
почитателей. Картезий, я повторяю, был великим математиком; но он
был самым плохим философом» (II, 41—42). Наконец, вот
недвусмысленная оценка Аристотеля у Джоберти: «Прочтите
только "Метафизику" Аристотеля, и вы увидите, сколько тут
глубоко трактуется или, по крайней мере, указывается этим
великим философом вопросов, которые в наши дни не только
остаются без внимания, но игнорируются и даже не
предчувствуются большинством тех философов, в руках которых, так
сказать, находится наука и которые являются признанными
учителями ее... Обширные размеры и, т<ак> сказ<ать>,
энциклопедические и колоссальные пропорции философии были
сохранены даже в Средние века, насколько допускала грубость
эпохи, благодаря верховному авторитету, который тогда имел
Аристотель, и благодаря широте католической Идеи» (II, 43—
44). Обратно, что могло не нравиться Джоберти у Аристотеля,
то должно было этому «истинному платонику» не нравиться и у
Платона, как он сам это и изображает: «Одним из самых
древних заблуждений философии, без сомнения, было
пренебрежение к догме творения; это лишило поразительные гении
Платона и Аристотеля счастья постигнуть вполне истину и оказало
фатальное влияние на все части их учения с их извращенной и
абсурдной гипотезой вечной материи (colla prepostera е assurda
ipotesi della materia eterna). Но эта ошибка не была даже
первой; она проистекает из ложного метода (del metodo vizioso),
именно из извращения идеальной формулы, как мы увидим
ниже» (Intr. II, 108). Отчего же Эрн не считает, что «мистико-
исторический корень психологизма» лежит в Платоне?..
«Другим историческим корнем психологизма философского
(psicologismo filosofico), — говорит Эрн, — Джоберти считает
психологизм религиозный (psicologismo religioso)» (с. 69). Это
утверждение звучит не столь парадоксально, но, разумеется,
требует, прежде всего, углубленного философского анализа,
которого цитаты из Джоберти не заменяют. Кроме того, цитируя,
Эрн несколько «смягчает» выражения Джоберти и не всегда
верен контексту:
Философия Джоберти
587
Эрн, с. 69: «Не думая, что
разрушают Идею, протестанты
даже, по-видимому,
утрировали ее перегружением области
непостижимого, как это ясно
из их догматов о
предопределении, о рабствующей воле, о
вере без дел и т. п. Но
принципы реформы, ее методы
неизбежно вели к искажению
Идеи, а затем и к ее
отрицанию. Лютеранское учение есть
теологический психологизм
(psicologismô teologico). И если
протестантизм сначала
хранил в себе большую часть
церковной онтологии, то затем,
верный своему принципу и
логике, должен был необходимо
придти к подавлению
традиционных инстинктов и к
господству одного
психологистически определившего себя
разума*.
То, что Лютер сделал в
области богословия, то Декарт
сделал в области философии.
Поэтому "Декарт главный
извратитель новой философии (il
corruttor principale). Он
установитель ложных принципов
и сквернейшего метода"» **.
* II, 87, II, 36, II, 35 1, 133, 26;
** II, 35 [? — I, 63!].
** «Anzi, non ehe menomore Tide«
cando, per dir cosi, il sovrintell
Джоберти, Introd. II, 35
(букв, пер.): Напротив, они не
только не принижали Идеи,
они известным образом
возвеличивали ее, перегружая, так
сказать, сверхумопостигаемое,
как явствует из их учений о
фатальном предопределении,
рабствующей воли, о вере без
дел и т. п. Поэтому даже в
самых тяжелых заблуждениях
Лютер и его приверженцы
сохранили идеальный гений
своего племени.
Но принципы реформы и ее
метод вели прямо к
искажению Идеи и, след<овательно>,
к ее отрицанию. Лютеранское
учение было теологическим
психологизмом, не познавшим
себя самого, но сохранившим
в значительной части
исконную католическую онтологию,
не замечая ее противоречия
собственным принципам.
Действительно, желая
непосредственно обратиться к писанному
выражению идеальной
истины, т. е. к откровению, без
помощи слова, т. е. Церкви, и
уничтожая вместе с традицией
пятнадцати столетий
историческую непрерывность Идеи,
Лютер делал по отношению к
Христианству то, что первые
схизматические жрецы
языческой древности делали по
отношению к первоначальному
откровению ***.
60, II, 138; Ges. Ill, 451.
, l'esagerarono inuncerto modo, cari-
gibile, come apparisce dai loro dogmi
588
Г. ШПЕТ
Приведенную же Эрном последнюю цитату читатель найдет
не по прямому указанию: И, 35, а совсем в другом месте (I, 63),
и в другом контексте, след<овательно>, с другим «поэтому».
Там сказано: «Французские философы прошедшего столетия
примкнули к психологическому принципу Декарта, но
отказываются от его онтологических выводов; между тем как Фихте и
другие, отвергая скептическую основу психологии их учителя
(Канта), сохранили его мораль, которая у них есть истинная
онтология. — Декарт поэтому главный извратитель философии
Нового времени, автор ложных принципов и наихудшего
метода, который привел ее к разрушению...» Ясно, что здесь речь
идет не об отношении Лютера и Декарта. Это все-таки
характеризует тон «исследования» Эрна: исчезает настоящий
Джоберти, каким должен он предстать перед научным, а не
апологетическим судом.
Сама по себе мысль Джоберти об отношении между
религиозным направлением эпохи Реформации и новой философией
очень интересна, и жалко, что Эрн не развил ее, а оставил в
таком скомканном и упрощенном виде. С одной стороны, во
всяком случае, этого вопроса не должен обходить историк, раз он к
нему подошел. Есть поверхностное мнение, будто новая
рационалистическая философия обязана своим рационализмом
протестантству. Это мнение отражает на себе одинаково как
историческую неосведомленность, так и нефилософскую
тенденциозность. Нужно серьезно поставить обратный вопрос: как
религиозное сознание и теология нового времени принимали
рационалистический характер под влиянием новой науки в
философии? **
délia predestinazione fatale, del servo arbitrio, délia fede senza le
opère, e altri somiglianti. Perchio anche in mezzo agli errori piu
gravi, Lutero e i suoi fautori conservarono il genio ideale della loro
slirpe. Ma i principii della riformB, e il suo metodo, all'alterazion
deiridea, e quindi alia sua negazione, dirittamente conducevano. La
dottrina luterana era un psicologismo teologico, ignaro di se, ehe ser-
bava tuttavia in gran parte 1 antica ohtologia cattolica, senza addarsi
della sua ripugnanza coi propri principii». И т. д.
Моя статья была уже написана, когда я нашел такую же
постановку вопроса в новой книге: Спекпгорский Е. Проблема социальной
физики в XVII столетии. Т. П. Киев, 1917. Отд. П. Гл. III. С. 188—
375. На основании действительного изучения эпохи автор
утверждает, что «вопреки ходячему мнению, протестантство до XVII века
не только не носило рационалистического характера, но, напротив,
противилось рационализму, как философскому, так и
религиозному...» Неверно, будто рационализм философии и науки XVII века
Философия Джоберти
589
У Джоберти его мысль все-таки развита лучше. Он пытается,
по крайней мере, освоить ее в более широком историческом
масштабе, о чем Эрн не сообщает читателю уже прямо в ущерб
Джоберти. Последний исходит из сознанной в свое время
необходимости реформы Католической церкви (II, 34 ss.). В этом
направлении были, по его мнению, предприняты три гетеродок-
сальных реформы; из них две религиозных и третья —
философская. «Религиозное заблуждение XVI века, прежде чем
найти применение в философии благодаря Декарту, приняло две
различных формы, сообразно различным характерам народов,
у которых оно утвердилось» (II, 35). В Германии мы встречаем
уже названный теологический психологизм Лютера и его
последователей. Второй вид религиозного психологизма
Джоберти обнаруживает на собственной родине, в Италии. «Оба Соци-
но, — говорит он — довели до совершенства протестантский
принцип, применяя его к разрушению христианской
онтологии, как Лютер воспользовался им для ниспровержения
католических обрядов и порядков» (II, 37). В некоторых
отношениях дело социнианизма представляется ему печальнее самого
лютеранства. «Социнианизм, — говорит он, — отвергая
идеальное и откровенное сверхумопостигаемое, затемняет, в силу
логической необходимости, умопостигаемое, лишает его той
чистоты и совершенства, которыми изобилует евангельское учение,
сводит мудрость Христа к тесной мере Сократа и Платона и
подставляет в результате на место блестящей и адекватной
Идеи католического христианства несовершенную и туманную
Идею языческой философии» (II, 38). В целом положение вещей
характеризуется следующим образом: «Первый шаг по пути
заблуждения был сделан немцами; второй — итальянцами;
третий и последний был делом французов...» (Ibid.). Тут выступает
уже философия Декарта. — Теперь, мне кажется, позиция
«истинного платоника» Джоберти — яснее; легче, в частности,
теперь понять и оценить его отношение к Декарту.
«Там, где Лютер хотел быть религиозным реформатором, —
замечает Эрн, — Декарт хотел быть философом, и потому его
дело подпадает под аргументы философского порядка и подле-
обязан своим возникновением протестантской мысли. Только во
второй половине XVIII в. «протестантство радикально переработы-
вается началами как субъективного, так и объективного
рационализма» (с. 294—295). Мне кажется только, что работа Спекторско-
го не полна в том отношении, что он, отдавая много схоластике,
мало уделяет мистическим источникам протестантства.
590
Г. ШПЕТ
жит логическому рассмотрению» (с. 70). Такому подходу к делу
нельзя не сочувствовать, а потому очень жаль, что Эрн не
применил этого принципа к рассмотрению философии Джоберти и,
в частности, по поводу отношения Джоберти к Декарту.
Увлеченный апологетическими целями, он и здесь неточно
изображает самого Джоберти, и, — что еще большее упущение, — не
поднимает своего голоса историка философии и философа
против явно пристрастного и несправедливого Джоберти. Он
только цитирует, но не анализирует. Конечно, это делает честь
Эрну, что он стремится выбрать из клерикального арсенала
Джоберти лишь философские аргументы, но зато он не дает
русскому читателю истинного облика этого противника
«свободной мысли» (см. выше, с. 323), а делая вид, что аргументы
Джоберти не вызывают сомнений, он совершает грех и перед
самой философией.
Если я правильно понимаю Эрна, то он придает значение,
главным образом, пяти аргументам Джоберти, на которых я по
порядку и остановлюсь. 1) «Декарт начинает с сомнения. Он
его называет методическим и в то же время универсальным».
Джоберти сомневается в правильности такого начала. «Кто
начинает с сомнения, тот должен и кончить им, ибо вершина
познавательной пирамиды должна быть однородной с ее
«основаниями» (71). Убийственное «ибо»!.. Но почему Эрн не привел
другого аргумента Джоберти против скептицизма Декарта, —
аргумента не столь убийственного, но весьма характерного для
Джоберти: «Методически процесс и абсолютное сомнение,
которое Картезий предпосылает своей философии, никаким
образом не могут быть согласованы с католическими принципами»
(Intr. I, 134). Пусть Декарт сам называет себя католиком!.. Эрн
ссылается на Владимира Соловьева (с. 70, примеч. 2)14,
который пришел «к такому же отрицанию принципов декартовской
философии», как и Джоберти, при этом Эрн указывает: «ср.
также VIII, 177» (Собр. соч. Соловьева). Но именно на этой
странице Соловьев доказывает, что методическое сомнение «не есть
праздная игра ума», и, между прочим, говорит, что «...этим
сомнением не только полагается начало философского процесса
проверки наших мнений, но и обусловливается желанный
конец его, который никак не будет простым возвращением к
прежнему верованию, а должен выразиться в новом лучшем
понимании мира, не только формально более осмысленном, но и по
существу глубоко преобразованном. Я не могу заранее ручаться
за такой результат будущей философии, но знаю только, что
без предварительного сомнения во всех догматических взглядах
Философия Джоберти
591
он совершенно невозможен». Итак, кому же верить? Или,
может быть, Вл. Соловьев также несогласуем с «католическими
принципами » ?..
2) Второй аргумент (с. 71—72) можно формулировать как
«первенство метода перед принципами». Не нужно придавать
этому аргументу принципиального значение и сопоставлять,
напр<имер>, с новокантианскими тенденциями к панметодиз-
му. Эрн просто, мне кажется, придал здесь большее значение,
чем оно того заслуживает, замечанию Джоберти по поводу уже
знакомого нам (см. выше) «признания» Кузена. В сущности же
речь идет все о том же психологизме Декарта: дух метода
отличает Декарта от его предшественников, заявляет здесь
Кузен. — В чем состоит этот метод? В «анализе мысли», — отвечает
Кузен («L'analyse de la pensée, telle est done la méthode
cartésienne») (Intr. I, 116). Упрекать Декарта в психологизме,
разумеется, не трудно. Но вопрос этот не так прост, и тут Эрну
представлялся прекрасный случай обнаружить свою компетенцию
историка философии, показав, что есть в самом деле
психологизм и в каких пределах вообще имеет смысл говорить о
психологизме Декарта. Эрн утверждает, что «у Джоберти был
несомненный дар особого, эйдетического зрения» (с. 241). Но как
же тогда проницательный Джоберти не доглядел, что в cogito
Декарта наряду с психологизмом есть утверждение подлинного
эйдетического начала данных сознания? Откуда у самого Эрна
эта модернизация платоновского слова εϊδος, как не от самого
тонкого аналитика сознания нашего времени? Эрн сам
утверждает: «Феноменологический метод Гуссерля, стремящийся
проложить робкие пути к узрению идеальной сущности явления,
Джоберти должен был бы приветствовать как здоровую
"интенцию", как некоторое пробуждение конкретно-применяемой
метафизической способности» (228). Что же такое у Гусерля «узре-
ние идеальной сущности явления», как не эссенциальная
давность сознания? Я согласен с тем, что именно от
эйдетической данности cogito нельзя заключать к собственному
реальному существованию, но точно так же и по тем же основаниям
нельзя этого делать от признания идеальной сущности Иеговы,
как делает Джоберти, иначе нам было бы позволено заключать
и от идеальной сущности, напр<имер>, числа 13 к реальному
бытию «вещи 13». А потому Декарт много проницательнее
Джоберти, когда он прямо к сущности Бога относит и его
бытие. Но трудно думать, что как это бытие, так и наше
собственное, равным образом и эйдос его, могут быть предметом
философского анализа и в то же время могут быть даны помимо
592
Г. ШЛЕТ
сознания, — а отказаться от того, что предмет анализа дан
через сознание, можно разве только под угрозой разойтись с
«католическими принципами»...
3) Третий аргумент составляет развитие той же мысли с
большей определенностью, так что философия Декарта прямо
упрекается в субъективизме. И этот упрек имеет за собою некоторое
основание, но и здесь Эрн не обнаруживает беспристрастия
историка. Вместо того чтобы слепо доверять Джоберти, ему
следовало бы обратиться к самому Декарту и показать, что именно
Джоберти меньше всего имеет права кипятиться на эту тему,
так как если Декарт и берется перейти ко всем вещам от своего
«я», то все же одно исключение у него есть. И это
исключение — тот самый иудейско-католический Бог, ad maiorem glo-
riam15 которого Джоберти клевещет на Декарта, ибо иначе как
клеветой нельзя назвать рассуждение Джоберти, к которому
так доверчиво отнесся Эрн:
Джоберти (Intr. II, 39—40,
Эрн, 72):
«...если бы кто сказал: моя
душа мыслит, следовательно,
она есть, он выразил бы
некоторым образом общую,
независимую, абсолютную истину;
но кто, наоборот, начинает,
говоря: я мыслю,
следовательно, я есмь, тот
сосредоточивает истину в собственной
индивидуальности, и прививает ее,
так сказать, к личности
философа. Верно, во всяком случае,
то, что Декарт открыто
уверял, что не желает
устанавливать энтимему, разрешимую в
силлогизме, а желает
выразить простой первичный факт;
потому что в противном
случае он должен был бы
подразумевать необходимое и общее
положение: то, что мыслит,
есть. Напротив, Картезий
полагает корень истины в себе
самом и выводит бытие из
собственной мысли, как если бы
Декарт. Метафизические
размышления, с. 29: «Я есмь, я
существую (je suis, j'existe), —
это достоверно; но сколько
времени?
Столько, сколько я мыслю;
ибо возможно и то, что я
совсем перестал бы
существовать, если бы я окончательно
перестал мыслить. Я теперь
не допускаю ничего, что не
было бы необходимо истинным.
Следовательно, я, строго
говоря, только мыслящая вещь,
т. е. дух или душа, или разум,
или ум. Все это — термины,
значение которых прежде
было мне неизвестно. Итак,
я — истинная и действительно
существующая вещь. — Но
какая вещь? Вещь, которая
мыслит, как я уже сказал».
С. 49; «Наоборот, я ясно
вижу, что в бесконечной
субстанции находится больше
реальности, чем в субстанции
конечной, и, следовательно,
Философия Джоберти
593
понятие бесконечного в
некотором роде первее во мне, чем
понятие конечного, т. е.
понятие Бога первее понятия меня
самого...»
он говорил; я есмь абсолютная
истина*. И так как он
выражает принцип всего
познаваемого, персонифицируя его в
себе самом и говоря в первом
лице, он сравнивает себя с
Богом Моисея,
провозгласившим: Аз есмь сый».
Последнюю фразу цитаты из Джоберти Эрн не приводит, а
между тем это — хорошо знакомый не в одной Италии пример
«духовной» критики... И хотя Эрн утверждает, «что за все
Новое время самым критическим философом был Джоберти
(с. 241), тем не менее он «смягчает» иногда острие джобертиев-
ской критики:
Джоберти (Intr. II, 140): «Он
(Декарт) и не подозревает
даже, 1) что чувство собственного
существования не может быть
мыслимо без некоторой общей
и абстрактной идеи; 2) что
всякая общая и абстрактная идея
предполагает некоторую
универсальную и конкретную
идею и 3) что так как
универсальная и конкретная идея
есть идея Бога, то отсюда
следует, что в Боге, а не в чувстве
собственного существования,
надлежит полагать первую
Истину и что поэтому первое
понятие в порядке
познавательном тожественно с первой
вещью в сфере реальности».
Ну, конечно, сказать «сущее» не так «критично», как
«Бог», — неужто и сам Эрн нашел, что столь «критическое»
утверждение «объективного» принципа заслуживает
смягчения?
4) Четвертый аргумент состоит в том, что Декарт «берет
случайный факт я есмь и на нем хочет строить науку о Сущем»
Эрн (72—73); «Он и не
подозревает даже, что 1) чувство
собственного существования
не может быть мыслимо без
общей и абстрактной идеи
бытия, 2) что всякая общая и
абстрактная идея предполагает,
что в сущем, а не в чувстве
собственного существования,
надлежит полагать первую истину
и что поэтому первое понятие
в познавательном плане
должно быть тожественным с
первою реальностью в плане
действительности» (курсив мой).
* «Io sono il vero assoluto» — Эрн переводит: «я есмь сущий» (с. 72).
594
Г. ШПЕТ
(с. 73). Это историко-философское открытие Эрн высказывает,
по-видимому, за свой страх, но за отсутствием доказательств я
против него спорить не стану*, а обращу внимание на
аргументацию Джоберти, которую приводит Эрн: «кто исходит из
факта, тот не может добраться до истины, ибо факт относителен и
случаен, истина же в своей основе необходима и безусловна».
Этот аргумент так нравится Эрну, что он потом приводит его
против новокантианского трансцендентализма (с. 226). Я не
поклонник этой формы трансцендентализма и не намерен здесь ее
защищать, но думаю, что упрек Эрна основан на
недоразумении, или, может быть, на пристрастном пренебрежении к
современной философии. Здесь указываю на это с другой целью:
раз это — аргумент такого всеобщего значения, то почему Эрн
не применил его к Джоберти? Или видение и слышание
Моисея: Аз семь сый, не было фактом? Но ведь если даже Моисей
или автор Исхода здесь сфантазировал, все-таки мы имеем дело
с фактом прежде всего. Во всякой интерпретации откровение
столь же фактично, как в любой опыт эмпирической
действительности. И если Бог Джоберти — не действительный Бог
действительного мира, а только идея, то его есть с чем поздравить:
«только идея», т. е. идея, которая не была бы идеей чего-
нибудь, — только тогда не есть понятие, лишенное смысла, когда
этим словом обозначают отсутствие этого чего-нибудь. Я ясно
вижу все трудности, которые проистекают из утверждения
действительности Бога, т. е., совершенно верно, Его относительности, и
случайности, а в то же время Его абсолютности и
безусловности. Но раз вы утверждаете такие coincidentia oppositorum, вы
обязаны принять на себя и все бремя осмысления их. Сказке,
что мы в познании должны исходить из Бога как абсолютной
действительности, пожалуй, еще поверит ребенок, но сказке,
что мы в действительном познании исходим из такого начала,
не поверит и ребенок, если он сколько-нибудь сообразителен.
Смысл речей Джоберти иной: можно ссылаться на факт
откровения, о котором повествует Библия, но не сам по себе этот факт
есть исходный пункт, а его идея, — в этом факте она только,
можно сказать, экземплифицировалась. А потому все учение о
Иегове как об абсолютном принципе нужно брать в порядке
идеальном. Несомненно, что и Эрн ценит в «онтологизме»
Джона этой же странице есть заключенные в кавычки, т. е. чьи-то, не
Эрна, совершенно фантастические соображения о * естественном
свете» у Декарта. Так как Эрн не указал, откуда взято это
суждение, то я его также оставляю без обсуждения.
Философия Джоберти
595
берти именно этот «платонический» подход к делу. Но вот тут
мне и кажется, что все это не такая уж хитрая вещь, чтобы ее
не могли сообразить «трансценденталисты», и точно так же в
духе «платонизма» они могут ответить Эрну, что на факте
науки они ориентируются не затем, чтобы в нем найти
историческое обоснование для своей философии, а чтобы через него
усмотреть самое идею науки и научности. Выходит, подводя итог
всему сказанному, что рассматриваемый аргумент не так
страшен, и Декарт им не посрамлен, ибо не трудно видеть, что,
«исходя из факта», он не на факте строит свою философию, а на
его идеальном смысле. Но только Декарт был куда
«платоничнее» Джоберти, когда видел, что мало признать идею Бога, а
нужно еще показать, что она реально осуществляется, в виде
Творца и Вседержителя, или, на его языке, надо «доказать»,
что Бог существует, — хотя бы путем столь противоречивого
утверждения, что абсолютному присуща действительность в
полноте его совершенств, — иначе было бы еще хуже:
пришлось бы думать, что абсолютное, как совершеннейшее и сущее
не эмпирически, след<овательно>, не действующее, — ибо идея
и пылинки с места не сметет, — творит нашу эмпирическую,
несовершенную, только в действии существующую
действительность... Худо ли или хорошо, но Декарт и об этом подумал...
5) Последний аргумент как раз и относится к
«доказательству» Декартом бытия Божия, — таким образом «Сущее
становится вторым моментом его философии, и первенство «Сущего
сознательно и определенно устраняется тем, что существование
Бога получает аргументативный характер и выводится из
достоверности первого принципа» (с. 75). Об этом частично уже
шла речь при обсуждении отношения Джоберти к Мальбраншу.
Доверяя тут Джоберти, Эрн, пожалуй, больше еще погрешает
как философ, чем как историк философии. Он должен был бы,
кажется мне, так или иначе посчитаться с тем простым, но
действительным против софистики положением, что pr. cognoscen-
di отнюдь не обязано совпадать с pr. essendi, и что,
следовательно: а) в порядке бытия Бог может оставаться «первым», а в
порядке познания хорошо, если он уже «становится вторым
моментом», в) что раз он сам не является, — по крайней мере,
не является каждому из нас, — ex machina, как только
откроются наши познавательные очи, то да позволено будет к Его же
славе «доказывать» Его бытие.
Это далеко не все из того, что Эрн повторяет вслед за
Джоберти против Декарта, но и этого достаточно, чтобы оправдать
мое утверждение, что Эрн, апологизируя Джоберти, не выпол-
596
Г. ШПЕТ
нил долга историка философии по отношению к Декарту*. Но
он его не выполнил и по отношению к Джоберти, так как и не
попытался вскрыть истинные причины такого ожесточения
Джоберти против французского философа. Между тем эти
причины не лишены действительного историко-философского
интереса. Джоберти прежде всего католик, все остальное —
приложение, — тут его сила и слабость. На философию он смотрит
«прагматически», ибо не потому он католик, что к этому ведет
его философия, а, обратно, будучи католиком, он ищет такой
философии, которая лучше подходила бы к догматам
ортодоксального католицизма, и ищет-то он только потому, что
римская курия в его время еще не догадалась объявить своим
официозом Ангелического доктора1*. Как католик, Джоберти
прежде всего ищет опоры в откровении и, естественно, видит
своего врага в сенсуализме и спиритуализме. Вся современная
ему французская философия, «идеология» и спиритуализм,
являются для него непримиримыми врагами. Кузен, против
которого он усердно воюет, не уставал повторять, что современная
философия идет всецело от Декарта. В таком толковании
истории философии Джоберти совпадает с Кузеном и... inde ira17.
Как католик, Джоберти — теист и сторонник идеи творения ех
nihilo18. Но пантеизм Спинозы вышел из картезианства, и, как
узнал Джоберти из того же Кузена, современная ему немецкая
философия обнаруживает пантеистические тенденции, и
опять... inde ira. Наконец, Джоберти как католик — ортодокс,
всякая «гетеродоксия» — не только заблуждение ума, но и
моральный порок, и вот на Декарта сыпятся уже не возражения, а
прямо обвинения. К уже приведенному выше добавлю еще один
пример «самого критического» суждения Джоберти: «Рене
Декарт, хотя француз и католического исповедания, был, быть
может, не зная того, гетеродоксом по склонности и принципам
<...> Что Декарт склонялся к протестантству, доказывается его
преимущественным расположением к Голландии и Швеции и
некоторыми местами из его сочинений; но главным образом его
методом сомнения и исследования, который есть философское
применение религиозного способа действий новаторов» (Intr. II,
60). Он не верит собственным признаниям Декарта о его
уважении к Церкви и стремится доказать, как мы видели, несогласу-
емость его учения с «католическими принципами». Почтенному
* Между прочим, Эрн недоволен «кузеновским истолкованием
Декарта* (с. 72, примеч. 2), но отчего он не заметил, что Джоберти
опровергает Декарта именно в кузеновской интерпретации, и
отчего он не попытался восстановить «истинного» Декарта?
Философия Джоберти
597
патеру не по нраву свобода исследования в области принципов
философии, и он питает понятное нерасположение к Декарту,
искавшему этой свободы. «Но спекуляция философа, —
возражает он самому себе, — должна быть свободна, а тут она
связывается религиозными догматами. Я отвечаю, — устраняет он
собственное возражение, — что она должна быть свободна в
рассуждении, в дедукциях; но она не должна быть и не может
быть свободна, что касается принципов и дела интуиции.
Религиозная догма в философии относится к принципам; нелепо для
них требовать свободы. Я знаю, что Декарт и вся современная
философия, идущая от него, требовала введения исследования
и, след<овательно>, свободы выбора принципов; но я покажу в
своем труде, насколько эта задача неразумна и смешна» (Intr.
Proem., 10—11). В своей ярости Джоберти идет дальше... и
заходит слишком далеко. Декарт, по его взглядам, не только
теоретически несостоятелен, он уничтожает также фундамент
морали и религии... (I, 136—137)*. И Джоберти
свидетельствует о своей солидарности с декретом Конгрегации Индекса,
направленным против сочинений Декарта (Ibid. 143).
Эрн говорит о Джоберти: «Его отношение к новой философии
характеризуется двумя чертами: принципиальностью и
новизною» (с. 60); а на мой вкус, оно мало чем отличается в смысле
принципиальности и новизны от небезызвестного критика
Декарта Гисберта Воеция, — католик Джоберти может протянуть
руку этому протестанту...
III
Вторая часть книги Эрна, под заголовком «Основы
онтологии», излагает положительное содержание философии
Джоберти. Она составлена по уже знакомому нам методу, и только
последняя глава этой части, «Смысл онтологизма Джоберти в
связи с проблемами современной философии» (с. 217—248),
представляет собою оценку Джоберти и обнаруживает
самостоятельную работу автора, и потому заслуживает особенного
внимания; в смысле самостоятельного творчества это вообще самая
интересная глава в книге. Мы сперва остановимся, однако, на
изображении Эрном «онтологизма» Джоберти, или, правильнее
было бы говорить, как уже ясно из предыдущего, его теологиз-
* «Dunque il metodo dubitatno del Descartes, nmovendo ogni certezza
fisica e speculatiia, e crollando ogni vero, dall esistenza del propno
ammo in fuon, svelle di nécessita le fondamenta della morale, e quelle
della religione» 19.
598
Г. ШПЕТ
ма: первое познание невозможно, по его мнению, без
откровения, «теология, след<овательно>, в силу этого, — говорит
он, — а никак не психология, должна была бы быть
преддверием (un preliminare) онтологической науки» (Intr. II, 59).
Так как весь рассматриваемый отдел (с. 141—217) почти
сплошь состоит из цитат, то первое, что обращает на себя
внимание, это — большая свобода Эрна в передаче их на русский
язык. Эрн сам отмечает, что ввиду отсутствия у нас литературы
о Джоберти он почитает своим долгом «в изложении взглядов
Джоберти возможно ближе придерживаться точных его
выражений» (с. 17), но, кажется мне, он не осуществляет этой
задачи. Примеры будут ниже. Сейчас я хочу сделать только одно
замечание, повод к которому дают переводческие колебания
Эрна. Есть целый ряд терминов у Джоберти, которые Эрн
передает удивительно непостоянно. Так напр<имер>, cosa у него то
вещь, то реальность (с. 141, 142); tutte le cose — реалии (sic!
с. 141) и действительность (с. 142); psychologicamente — то
психологически, то идеологически (с. 143); l'Intelligibile — умопо-
стигаемость (с. 146), идеальное (с. 177), разумное (с. 167, 176),
идея (с. 176), постижимость (с. 206); intuitivo — божественное
(с. 147); dogma supremo — философия творения (с. 194); и т. п.;
ср. также — le verita razionali — идеальные истины (с. 68); sci-
bile — идеальное (с. 78); sensitivi — психологостические (ib);
и т. п. Это может свидетельствовать прежде всего о том, что
переводчик хочет подчеркнуть тот или иной оттенок понятия,
смотря по контексту, но тогда следовало в скобках повторять
термин оригинала. Но если дело именно в этом, то не вправе ли
мы заключить о чрезвычайной приблизительности мышления
Джоберти и неустановленности его понятий? Эрн дает повод
так думать, но у меня, по крайней мере, сложилось другое
впечатление от Джоберти. Он — необычайно беден
терминологически; его плоская и ординарная мысль движется в весьма
ограниченном круге понятий; жалкое количество проблем, которые
он задевает, не дает повода расширить этот круг, — если он и
наталкивается на новые вопросы, то все же стремится разрешить
их с уже готовым запасом терминов *, располагаемых по весьма
* См. гл. 3 и 4 этого отдела книги Эрна, где неумение Джоберти
выйти за пределы десятка собственных терминов становится просто
смешным, ибо производит впечатление, что весь философский
словарь нашего философа исчерпывается тремя магическими
словами: Сущее, творить, существующее. Словесную бедность Джоберти
отчасти признает и Эрн: «...писатель в нем ниже мыслителя и
мыслитель отяжелен несколько несоответствующими ему,
сравнительно малыми средствами словесного выражения» (225).
Философия Джоберти
599
примитивным и несложным схемам. И только в полемике,
которую неустанно ведет Джоберти со всяким инакомыслящим,
«гетеродоксом», его словарь, — хотя и не в терминологическом
отношении, — сразу обогащается. Если мое впечатление верно,
то к «стилю» Джоберти будет ближе тот перевод, который
точно будет воспроизводить его терминологию со всем угнетающим
однообразием ее. В нижеследующем читатель найдет материал
для проверки и этого моего впечатления».
Сущность «онтологизма» Джоберти раскрывается из анализа
его «идеальной формулы» (Intr. II, cap. 4), которая есть не что
иное, как основоположение всей его философии. «Я называю
идеальной формулой предложение, — так начинает он главу, —
которое выражает Идею ясно, просто и точно, при посредстве
суждения. Так как человек не может мыслить, не рассуждая
(scnza giudicare), то ему не дано мыслить Идею, не составляя
(senza fare un giudizio) суждения, коего выражение есть
идеальная формула» (Intr. II, 67). Что такое — «Идея», мы видели
из приведенных мною цитат из Джоберти, поэтому не трудно
теперь понять это его определение. «Построение идеальной
формулы, — далее говорит он, — связано с исследованием того,
что я называю Первым философским» (ib. 68). Это Первое
философское, составляющее «принцип и единственное основание
всего реального и познаваемого», заключает в себе, как в
тожестве «Первое онтологическое» и «Первое психологическое»,
т. е. первую вещь и первую идею, — первое в порядке бытия, и
первое в порядке познавательном. — Таково «критическое»
вступление Джоберти. Тщетно читатель будет недоумевать,
почему Идея выражается одной формулой, а не двадцатью пятью;
почему pr. cognoscendi обязано, вопреки очевидности,
совпадать с pr. essendi или fiendi; почему в «Идее» с прописной
буквы отожествляется «вещь» и «идея» с малой буквы; и т. п., —
«самый критический философ» нового времени молчит об этом,
как и его первый русский почитатель, который только
переводит (с. 142) определения Джоберти с итальянского на
русский. — Семнадцать идей единого Первого насчитал сам
Джоберти, но тринадцать из них он отвергает в силу того, что они
не могут быть психологически первоначальными, из
оставшихся четырех — три, потому что они вторичны, как
относительные, и, таким образом, остается действительно всего одно, —
Сущее (l'Ente) (Intr. Π, 69). Читатель должен верить, что оно
психологически первоначально и безотносительно, — иначе ему
грозит участь Декарта и позорная кличка «гетеродокса». Эрн,
во всяком случае, подчинился этому долженствованию.
600
Г. ШЛЕТ
Дальше, как увидим, Эрн обнаруживает большую
независимость от Джоберти. По вопросу о том, как же мы приходим
к установлению идеальной формулы, Эрн сообщает: «Первое
философское как Сущее, реальное должно быть исходным
пунктом идеальной формулы» (с. 145, курсив мой). Но откуда это
«реальное», так невинно, в запятых, между прочим, вдруг
проникшее в наше рассуждение? Или «cosa» потому и стал
«реальностью», что нужно было подготовить это «реальное»? Сам
Джоберти куда смелее: fiat, и Сущее стало «реальным»!.. До
сих пор мы знали, что «первая вещь» есть Первое
онтологическое, т. е. это «начало» того действительного порядка вещей,
который мы в просторечии зовем миром и к которому, как часть
к целому, принадлежим. Если само Абсолютное, как одну из
идей Первого философского, мы признали относительным, то
тем более относительна эта «первая вещь» нашего
действительного мира. Мы ухватились за Сущее только потому, что в ней
никакой относительности нет, мы в нем признали тем самым
чистую идею. Как же теперь эта идея оказывается реальным?
Или «реальное» не значит действительное, нас окружающее?
Но одно из двух: или Сущее — реально, и тогда оно
относительно, или Сущее — идеально, тогда оно безусловно, но только не
реально. Выход из этой дилеммы известен: есть два мира —
данный, иллюзорный, «представление», и «реальный» за ним,
трансцендентный. Сущее — трансцендентно, и в этом смысле —
реально и безусловно. Прекрасный выход для того, кому не
жаль репутации не то что «самого критического философа», но
даже просто заурядного критика, но ведь Джоберти, во-первых,
так накричал на «психологистов», что как будто неловко ему
теперь прикрывать свою наготу плащом субъективного
идеализма, а во-вторых, он обещал нам, что Сущее есть также Первое
психологическое, а трансцендентное, как Первое
психологическое, есть чудо, в которое и не всякий католик поверит. Это
чудо Джоберти изображает след<ующим> обр<азом>: «Идея
Сущего, как мы ее разъяснили, содержит некоторое суждение.
Невозможно, чтобы дух имел первоначальную интуицию
Сущего, не признавая, что Сущее есть; ибо в противном случае бытие
было бы ничем, и реальное Сущее не было бы реальным; что
неприемлемо. И реальность Сущего не обнаруживается в духе как
нечто случайное, относительное, что может не быть, а
напротив, как необходимое, абсолютное, и такое, противоположность
чему ни мыслима, ни осуществима» (Intr. II, 78—79 *). Назван-
* С некоторыми неточностями эта цитата приводится Эрном на с. 145.
Философия Джоберти
601
ное суждение, таким образом, выражается в словах: «Сущее
необходимо» (ib). Итак, с одной стороны, Сущее — реально, а, с
другой, необходимо по закону противоречия
(«противоположность немыслима»), т. е. только мыслимо, — таково
непритязательное описание Сущего у Джоберти. Но как же от мыслимос-
ти перейти к реальности?..
Как видит читатель, мы уже вступили на путь гносеологии,
и если гносеология Джоберти действительно желает быть не
католической, а кафолической, — какой ее желает видеть
Эрн, — то было бы в высшей степени важно, чтобы Джоберти
показал, как эта «первоначальная интуиция», невзирая на
противоречивые атрибуты Сущего, просветляет не только
католические, но и еретические головы? Ответ Джоберти не лишен
остроумия, и, как многое остроумное, мысль Джоберти проста:
человеческий дух — ограничен и потому легко может впасть в
психологизм и гетеродоксию, посему Джоберти заставляет
сперва философствовать самого Бога, — («L'autore del giudizio pri-
mitivo, ehe si fa udire dallo spirito nelPatto immediato deH'intu-
ito, e l'Ente stesso; il quale, ponendo se medesimo al cospetto della
mente nostra, dice: io sono necessariamerite». — Intr. II, 79)20, —
а человеку остается только слушать, верить и потом
рассказывать услышанное своими словами. Бог, как автор
первоначального суждения, говорит: Я еемь необходимо; дух тут «не судья»
[еще бы!..], а только «свидетель и слушатель» (testimonio e udi-
tore). Это «выслушивание» есть «первоначальная интуиция»,
которую дух может только формулировать в суждении «Сущее
есть необходимо», не обнаруживая при этом своей воли и
свободы, как он это делает в других суждениях. Но произнося свое
суждение: «Сущее есть», очевидно, дух уже выходит из
первоначального интуитивного транса, «философствует» уже не Бог,
а сам человек. Этот второй гносеологический момент Джоберти
характеризует как момент рефлексии. Тут опять может быть
произвольность, субъективность и человечность (И giudizio
riflesivo e volontario, subbiettivo, umano)21, но нужно только,
чтобы оно было простым повторением (la semplice ripetizione)
суждения интуитивного, и тогда оно останется «законным и
имеет объективную ценность» (è legittimo e ha un valore obbiet-
tivo) (Intr., II, 79—80; Эрн, 146—147). Ну а если человек
услышит одно, а скажет другое, и, как знать, не грешит ли этим
сама Католическая церковь? Но больше того, как заставить
человеческий дух, обнаруживающий иногда удивительные
порывы своеволия, быть «просто свидетелем и слушателем»? Если
он захочет вступить в дальнейшее собеседование с Богом и рас-
602
Г. ШПЕТ
спросить Его о некоторых весьма крупных неудобствах
созданного Им мира? Нельзя! — потому что «если бы дух был дефини-
тиром, а не простым зрителем, первое суждение, основа всякой
достоверности и всякого другого суждения, было бы
субъективно и скептицизм был бы неизбежен» (Intr., II, 79; Эрн, с. 146).
Такова обратная сторона всякого догматизма: он непременно
ведет к скептицизму! Никто не обязан верить Моисею и его
диалогу у горы Хорив23, а потому если бы наш «самый
критический философ» (Нового времени) был прав, ничего не
оставалось бы, как предаться скептицизму...
Самое интересное в гносеологии Джоберти — его учение об
интуиции. Оно не покажется глубоким или оригинальным, если
сопоставить его с презентативизмом шотландской философии, —
напротив, Джоберти прочно усвоил самое слабое утверждение
Рида: отожествление сознания и «внутреннего чувства», — тем
не менее некоторые частности в нем могут представлять свой
интерес. Творческие или вообще активные способности
человеческого духа здесь никак не проявляются, он до такой степени
пассивен, что нельзя даже сказать, что он «воспринимает»
Сущее или Бога. Сущее само философствует и наполняет своей
философией человеческий дух. Не ясно только, ограничивает
Сущее свои сношения с человеком тем, что внушает ему
противоречивые предикаты о Себе, или оно может «набить» его, —
как набивают чемодан вещами, — всяческими достоверными
познаниями? Или, наконец, философия самого Сущего
кончается с провозглашением своего: Аз есмь? И далее, стоит ли
заниматься философией, если в конце концов никакой
активности допущено быть не может? Ведь самый заурядный патер
может обнаружить в себе джобертовскую интуицию, и самый
тонкий и свободный ум может оказаться только психологистом
и еретиком. Правда, активности человеческого духа Джоберти
предоставляет всю область рефлексии, но ведь это — область
самой здравой рациональной логики, т. е. область
«произвольного, субъективного и человеческого», в результате всегда мало
достоверного. Является искушение отвоевать хотя бы
некоторую свободу и активность также для интуиции. Эрн поддается
этому соблазну, и здесь он обнаруживает независимость,
о которой я выше упомянул:
Джоберти, Intr, II 79: Эрн, с. 146:
«Дух как субъект интуиции, «Дух, как субъект интуи-
видя Сущее как свой объект, ции, созерцая Сущее как свой
Философия Джоберти
603
созерцает с ним автономию, объект, созерцает и свою авто-
которая ему присуща...» * номию...»
Так, по Эрну, вопреки Джоберти, дух не только «свидетель и
слушатель», он обладает при этом «автономией», хотя и не
весьма широкой... Не на этом ли основании Эрн потом след.
образом характеризует акт познания по Джоберти: «Без
специфической активности не может состояться познание, не может
случиться то событие, которое характеризуется встречею
субъекта и объекта, соединением постижимого с постигающим»
(с. 237). С другой стороны, мне кажется, Эрн не в соответствии
с Джоберти смягчает активность рефлексии, сводя ее к простой
функции «усвоения» (с. 148). На самом деле, у Джоберти
«рефлексия» работает довольно активно, и, воззвав на откровение
Сущего, на: Я есмь, — Ты еси, она совершает только первый
свой акт. За ним следует второй акт рефлексии, возвещающий
истину уже не самому Сущему, a urbi et orbi23: Он есть или
Сущее творит существующее**.
При точном различении понятий «интуиции» и «рефлексии»
нельзя не заметить сходства между основными мыслями
Джоберти и некоторыми сторонами учения Канта. Кант, подобно
Джоберти, задумал преодолеть Декарта и рационализм: он
отверг их утверждение, что у нас есть единственный «орган»
познания — разум, и допустил их два: чувственность и рассудок,
способность интуиции и способность понятий. Причем
характеризуются, как известно, эти «источники познания» у него весь-
* «Lo spirito intuente vedendo PEnte come suo obbietto, contempla seco
l'autonomia, ehe gli e propria...»
* Даже в изобретении диалога между Богом и человеком Джоберти
не так нов, как может показаться. Нужно только припомнить
следующее разъяснение по поводу «ты еси» у Плутарха; «К каждому
из нас, сюда приходящему, Бог, как бы приветствуя, обращался:
Познай себя, — что есть ничто иное, как — здравствуй. Мы же с
своей стороны в ответ Богу говорим: Ei, — ты еси, — воздавая
таким образом истинное, правдивое, единственное единственному
подобающее приветствие сущего (бытия — του Είναι)» (Ει apud Del-
phos. Vol. VII. Lips., 1777. P. 539) — По содержанию же, мне
кажется, теория Джоберти имеет своим источником некоторые идеи
Кампанеллы. К сожалению, Эрн вовсе не касается этого источника
философии Джоберти. Впрочем, не следует забывать, что мысль о
том, что более совершенное нисходит в человеческую душу только
от более же совершенного бытия, есть общая и распространенная
мысль среди итальянских неоплатоников эпохи Возрождения,
исходя от Георгия Гемиста Плетона.
604
Г. ШПЕТ
ма сходно с тем, как они характеризуются у Джоберти:
чувственность пассивно принимает, рассудок наводит порядок*.
Сходны у них в некоторых отношениях и результаты,
проистекающие из этого дуализма. Разуму у Канта делать нечего, и
когда Кант доходит до трансцендентного, у него выступает на
сцену воля и вера; Джоберти боится разума, — ибо он-то и
претендует на «абсолютную свободу мысли в философии и
религии»,— и также разрешается сверхпостижимым и верою в
него. И не случайно Джоберти питал такую симпатию к этике
Канта. Зато в желании вывести все знание из одной «идеальной
формулы» Джоберти, очевидно, приближается к Фихте. Нельзя
не пожалеть, что Эрн не воспользовался случаем исследовать
вопрос о влиянии Канта на Джоберти. Мы еще скажем об этом
несколько слов, когда познакомимся с учением Джоберти о
«сверхумопостигаемом» и с тем, как у него получается
формула: Сущее творит существующее.
Посредником, благодаря которому содержание интуиции
становится предметом рефлексии, по Джоберти, является
слово, выражающее эту интуицию: «Между первичным
божественным суждением и вторичным человеческим суждением, т. е.
между интуицией и рефлексией (cioe fra Tintuito е la rifflessi-
one), посредствует слово, благодаря которому интуитивная
истина становится доступна размышляющей способности, и
человек в состоянии повторить себе самому и другим суждение
Бога» (II, 80; Эрн, с. 150, — с пропуском подчеркнутых мною
слов). В названном суждении, т. е. в суждении: Сущее есть, —
продолжает Джоберти, — мы имеем принцип идеальной
формулы, но так как эта формула, как предложение, должна состоять
из трех различных понятий, то нужно теперь найти новую
формулу, которая совпадала бы с названным суждением, но
состояла бы из трех понятий. Такое совпадение необходимо, ибо
иначе мы имели бы не одну идеальную формулу, а две. Отсюда
требование: найти такое понятие, которое, с одной стороны,
существенно (sostanzialmente) отличалось бы от понятия Сущего,
Как формулирует Эрн мысли Джоберти: * Разум и чувственность
при коренном различии друг от друга имеют и объекты, коренным
образом различающиеся» (с. 161). На той же стр. Эрн говорит:
«Онтологическое разъяснение раскрывает корень этой самой
способности (разума) и ее отношение к первоначальной и всеопределяющей
интуиции». Но раскрыть «корень разума» и составляет задачу
«Критики чистого разума»; также сам Кант сопоставляет
трансцендентальную философию с онтологией. — см.: Kr. d. г. V. 873 В.
Философия Джоберти
605
а с другой стороны, имело бы с ним внутреннюю связь. Такое
понятие Джоберти видит в понятии существования (esistenza, II,
80)*, из определения которого (см. Эрн, с. 152) следует, что
идея существования не может существовать сама по себе, а
необходимо относится к другой идее, как действие к причине. Такой
идеей-матерью может быть только Сущее (II, 82). Дух,
рассматривая существование как действие, ищет причину, в которой
видит новое действие более высокой причины, и т. д., пока не
дойдет до причины абсолютной и по своей природе
необходимой. Такой причиной и является Сущее (р. 82). Поскольку идея
причины применяется и к Сущему, она должна браться чисто и
абсолютно, т. е. быть первой и действующей причиной. Как
первая, она не есть действие другой предшествующей причины;
как действующая, она производит не только форму и
модальность своих действий, но и всю их субстанциальность. Она есть,
следовательно, Первая причина и Первая субстанция. «Первая
и действующая причина должна быть творческой (курсив мой),
потому что, если бы она не была таковой, она не могла бы
обладать этими двумя свойствами» (р. 83). — Таким
незамысловатым и малооригинальным путем Джоберти подвел нас к новому
выражению идеальной формулы. Разъяснив ближе понятие
творения (И, 83—87; см. Эрн, с. 172—173), Джоберти
возвращается к идеальной формуле (II, 88) и, провозгласив ее: Сущее
творит существующее, делает след. заключение: «В этом
предложении Идея выражается понятием творящего Сущего,
заключающего в себе понятия существования и творения; поэтому
эти два понятия косвенно участвуют в Идее и в интегральных
элементах формулы, которая ее выражает. Идея Сущего есть
принцип и органический центр формулы; идея творения в ней
есть органическое условие: три понятия, воссоединенные
вместе, образуют идеальный организм... Как субъект идеальной
формулы (Сущее) содержит implicite24 суждение: Сущее есть,
* Эрн настаивает на чрезвычайной важности различения Сущего и
существующего. Ему, конечно, должно быть известно, что это
различение играло весьма видную роль прежде всего в
схоластической, затем в рационалистической философии и, — не говоря уж о
Гегеле, — играет ее в некоторых течениях современной
философии, что оно так истолчено критикой, что места в нем живого не
осталось, между тем он только отмечает что Вико "бегло набросал"
его, а у Джоберти оно «приобретает универсальный характер...»
(с. 153) Оперировать теперь над этим различением и не давать
читателю историко-философского и теоретического анализа его,
значит ничего не давать.
606
Г. ШПЕТ
так предикат (творящее существования) содержит другое
суждение: существование суть в Сущем» *.
Из того, какое место занимает понятие творения в идеальной
формуле, можно уже догадаться, что оно должно играть
видную роль в теориях Джоберти. Однако, в высшей степени не
ясное само по себе, и у Джоберти это понятие нисколько не
уясняется. Напротив, с самого же начала Джоберти прячется за
агностическую загородку, делая самый разговор на эту тему
бесплодным. Эрн посвящает целую главу («теория
сверхразумного и учение о творении», с. 160—179) вопросу о творении, но
также цели на достигает. Вместо того чтобы подвергнуть
понятие теоретическому анализу, сопоставить с другими понятиями
и теориями, Эрн хочет помочь делу количеством цитат из
Джоберти. Но что делать, если у самого Джоберти нет ясности и
критического анализа? Мне кажется даже, что Эрн еще больше
затемняет Джоберти, не подвергнув критическому анализу
одно важное для Джоберти, — следовательно, и для нашего
понимания Джоберти, — понятие и делая неправильное
историческое сопоставление теории Джоберти.
Эрн совершенно основательно излагает учение Джоберти о
творении в связи с его теорией сверхпостижимого. Прав Эрн и в
том своем утверждении, что, пользуясь этой теорией как
«философским основанием», Джоберти «нисколько не смущается
его темной и таинственной стороной» (с. 169). В похвалу
Джоберти я сказал бы еще больше: он и здесь остается
последовательным «онтологистом», — не желая отвечать за слабость
своей философской мысли и возлагая ответственность на самого
Бога. Ибо раз первичная интуиция есть такое дело, в котором
Ему самому благоугодно нам открыться, то кто же виноват, что
Он остается потом «сверхпостижимым»?.. Подход Джоберти к
вопросу логически весьма непринужден: могут сказать, говорит
* «Come il sogsetto délia formola ideale (l'Ente), contiene implicita-
mente il giudizio: l'Ente e, cosi il predicate (cresnte le esisfenze),
contiene un altro giudizio: le esistenze sono nell Ente» (II 88). —
Ha c. 158 Эрн сообщает: «В самом деле, идеальная формула,
состоящая из трех членов, согласно всему предыдущему рассуждению,
получает следующий вид. Сущее (первый член — подлежащее)
творит (третий член — связка) существующее (второй член —
сказуемое)». Нужно отметить, что Эрн совершенно точно
воспроизводит мысль Джоберти, приводя этот «анализ» (ср., напр<имер>,
классификацию наук Джоберти), но меня поражает, что он ни
словом не обмолвился о логическом достоинстве такого логического
анализа!..
Философия Джоберти
607
он (Intr. II, 83), что, с одной стороны, теологи и философы,
допускающие идею творения, считают ее величайшей тайной (un
mistero altissimo), непостижимой догмой (un dogma incompren-
sibile), с другой стороны, ее не знали древние философы (tutti i
filosofi antichi l'ignorarono), a многие современные отвергают;
да и если бы творение было разумно очевидно (razionalmente
evidente), пантеизм не владел бы умами... Ответ Джоберти:
понятие творения не яснее и не темнее других понятий,
участвующих в идеальной формуле. Всякое идеальное понятие имеет два
лика — умопостигаемый и сверхумопостигаемый (Гuna intelli-
gibile е l'altra sovrintelligibile); одно предполагает другое, как
свет и тьма. «Темнота Идеи есть сверхпостижимое; оно
воспроизводится во всякой части идеального мира и находится в
понятии Сущего, как в понятии творческого акта. И как понятие
Сущего есть корень и принцип других идеальных понятий, так
непроницаемость Сущего есть корень и принцип других
темнот; отсюда, чтобы выразить немыслимый элемент, мы
пользуемся именем сущность (per esprinnere l'elemento inescogitabile,
ci serviamo del nome di essensa)» (II, 83).
Таким образом, из «сущности» Джобертн хочет сделать
ширму, в тени которой можно было бы скрыть свою философскую и
историческую слабость. Что же мы знаем о вещи,
спрашивается, если мы не знаем того, что для нее существенно? Этим
определением «сущности» только наглядно опровергается
убеждение Эрна в «редкой историко-философской насыщенности
умозрительных теорий Джоберти» (Эрн, с. 327). И в античной
философии, и в средневековой, и в новой* «сущность»
понималась как то, что доступно разуму, что не выводимо, а
непосредственно дано разуму, как первое в вещах, что противостоит
случайному, акциденциям. Что же мы знаем о Сущем, о Боге как
существенно сущем, если его сущность выше постижения? Ка-
* Очень ярко определение Спинозы: «Ad essentiam alicuius rei id
pertinere dico, quo dato res necessano ponitur et quo sublato res
necessario tollitur; vel id, sine quo res, et vice versa quod sine re nee
esse nee concipi potest» (Eth. II, Def 2)25. — Видное исключение —
Николай Кузанский. Наоборот, непостижимость и непознаваемость
Бога как Абсолюта, Безусловного и пр. в качестве положительного
учения — весьма распространенный вид ignorantiae doctissimae.
С др<угой> ст<ороны>, учение о непостижимости Абсолютного,
как критическое учение (напр<имер>, у Гамильтона) — весьма
плодотворно. — Из знакомых Джоберти авторов Бонне утверждал:
«Nous ne connoissons done point l'Essence reelle des choses...»
(Bonnet. Essai analyt. T. I. 2 ed. 1769. P. 197)26.
608
Г. ШПЕТ
кую ценность имеет теория творения у Джоберти, если его
повествование об этом — только акциденция Сущего с
непознаваемой сущностью?.. И странно, когда Эрн утверждает, что у
Джоберти «понятие творения впервые (!!) берется эйдетично, а
не догматично, — универсально, а не фактично, — кафолично,
а не традиционно» (с. 171). Какой же это эйдетизм, где
«сущность», — «непознаваемый элемент»? Наоборот, понятие
творения у Джоберти берется не эйдетически, а эмпирически, — но
только, так как в «восприятии» он его не мог найти, он нашел
его в «фантазии». Вся его теория творения и есть
гносеологическая (= психологическая) фантазия на библейскую тему.
Больше всего в разъяснении нуждалась бы онтологическая
сторона вопроса. К сожалению, Эрн не счел нужным ни
разъяснить понятие сущности с этой стороны, ни исправить его, но,
столкнувшись в одной цитате с ним, передает всю цитату в
таком виде, что можно только предположить, что он не согласен
с Джоберти. Речь идет об онтологическом превосходстве
сверхумопостигаемого над умопостигаемым (la maggioranza ontologi-
са del sovrintelligibile sull intelligibile).
Джоберти (Intr. IV, 12): Эрн (с. 167):
«...это превосходство проис- «Это преобладание основы-
текает из того, что сверхумо- вается на том, что сверхразум-
постигаемое много обширнее ное больше разумного, содержа
умопостигаемого, и из того, в себе его логический прин-
что оно образует логический цип: Метафизическое понятие
принцип последнего. Сверх- сущности как чего-то такого,
умопостигаемое, рассматрива- что недоступно мысли, потому
емое в этом двойном отноше- что выходит за ее границы и в
нии к умопостигаемому, дает то же время логически содер-
начало метафизическому по- жит принцип ее мыслимости,
нятию сущности. Сущность, рождается из этого двойного
следовательно, есть непозна- аспекта сверхразумного»,
ваемое вещи, которое
рассматривается как более обширное,
чем познаваемое, и как
принцип его» *.
«...la quale (la maggioranza) dériva dall'essere il sovrintelligibile piu
ampio assai deirintelligibile, e dal costituire il principio logico di es-
so. Il sovrintelligibile, considerato in questo doppio rispetto verso
rintelligibile, da origine al concetto metansico di essenza. L'essenza e
adunque l'inconoscibile délia cosa, considerato, come piu esteso del
conoscibile, e principio di esso».
Философия Джоберти
609
Вольностью своего перевода Эрн достигает того, что
откровенно агностический характер рассуждений Джоберти сильно
смягчается, а Эрн получает право говорить о «положительном
характере» учения Джоберти о сверхумопостигаемом. И он
даже задается вопросом об исторических корнях
положительного значения сверхумопостигаемого. На этот раз Эрн, однако,
не обнаруживает своего обычного доверия к
историко-философским познаниям Джоберти, а пытается ответить на вопрос
самостоятельно. «...Несомненно, прежде всего и больше всего, —
говорит он, — мы должны указать на Платона» (с. 168—169), у
которого «мы встречаем» «положительную идею
сверхразумного, обыкновенно игнорируемую исследователями». Затем
следует указание двух весьма известных мест из Платона.
Первое из них, — поистине locus classicus27, а не
«игнорируемая» идея, — Эрн вводит замечанием: «Сущности у Платона
признаются последним пределом знания». Это замечание
двусмысленно, поскольку уже заставляет предполагать, будто, по
Платону, «последний предел знания» еще не есть последний
предел бытия. Дело было бы яснее, если бы Эрн указал, по
крайней мере, кем это признается? Он предпочитает, однако,
просто опровергать: «Но идея блага "не есть сущность, но
силою и достоинством выше пределов сущности, έπέκεινα τής
ουσίας πρεσβεία καί δυνάμει ύπερέκηνος" (υπερέχοντος?)». На это
сравнение, как известно, Главкон рассмеялся и ответил: «Απολλον,
δαιμόνιας υπερβολής»28, чем побудил Сократа искать других
сравнений... Но дело даже не в этом: какая вообще может быть
почва для сравнения Джоберти с Платоном? У Джоберти сперва
сам Бог внедряет в нас интуицию своего бытия и творения Им
существующего, а затем оказывается, что это бытие в
преобладающей части лежит выше постижения, и это
сверхумопостигаемое, как непознаваемое в вещи (l'inconoscibile délia cosa), есть
сущность Сущего, — никакое остроумие не станет восходить
здесь к Платону как источнику, и абсолютно не ясно, какая
здесь может быть аналогия с разумно-постигаемым солнцем-
благом? И во всяком случае, ясно, что сопоставлять идею
платоновского «блага» с «непознаваемым» Джоберти, нет оснований,
ибо двух толкований не может быть в определении «места»
этой идеи у Платона, как νοητός τόπος (509 D)29, и ее самой как
τοϋ όντος τό φανότατον (518 С)*30. Может быть, слепой или
ослепленные и не видят ее, но это не значит, что «непознаваемость»
* Ср. также 517 С: «εν τε νοητω αυτή κνρία άλήθειαν και νουν παραοχο-
μενη, καί ότι δεί ταύτη ν ίδείν τόν μέλλοντα έμφρόνως πράξειν ή ίδια ή
δημοσία»31.
610
Г. ШПЕТ
составляет ее сущность. Главное же, не следует забывать всего
хода рассуждения у Джоберти: признав «творение»
существенным для Сущего, он, не умея объяснить это понятие, скрывает
его за идеей непознаваемости сущности. Но именно идеи
творения сам Джоберти не мог найти ни у одного из древних
философов (tutti filosofi antichi l'ignorarono)*. «Платонизм» здесь
можно было бы навязать Джоберти только против его
собственной воли.
Вторая ссылка на Платона непосредственно следует за
вышеприведенной цитатой: «В описании своего высшего постижения
"занебесной области" Платон говорит, что положительная и
божественная сущность бессмертия, открывающаяся чистому
переживанию экстаза, недоступна никакому рассуждению ούδ έξ
ενός λόγου λελογισμένου, и мы, недостаточно постигающие
истинную природу Бога — ούτε ίκανως νοήσαντες θεόν, — должны
остановиться перед живым порогом, поставляемым самим
Сущим — άλλα ταϋτα μέν δη, όπη τω θεψ φίλον, ταύτη έχέτω τε καί
λεγέσθω» (с. 168—169; ср. также с. 297).
Не буду останавливаться на том, что видно из простого
сопоставления обеих ссылок, т. е. что между ними нет ни связи, ни
единства мысли, что тем более не видно, с какой стороны вопрос
о бессмертии имеет отношение к учению Джоберти о творении
и сверхумопостигаемости Сущего. Но, мне кажется,
интерпретация Эрна и сама по себе неприемлема. В главе XXV «Федра»
Платон (в речи Сократа) хочет перейти к тому, что следует
сказать об идее души *, и тут, уподобив ее окрыленной колеснице
и возничему, вдруг задается вопросом, каким образом возникли
самые названия и понятия «смертный» и «бессмертный»: «πή
δη ούν θνητόν καί άθάνατον ξωον εκλήθη, πειρατέον» (246 В). Засим
следуют ответы: Душа, утерявшая крылья, соединяется с
земным телом, и это соединение получает название смертного
существа: «θνητόν τ έσχεν έπωνυμίαν άθάνατον δέ ούδ έξ ενός λόγος
λελογισμένου, άλλα πλάττομεν ούτε ίδόντες ούτε ίκανώς νοήσαντες
* См. выше, с. 345. Intr. 11, 88, и еще раз то же? р. 84: «I filosofi
Gentili trasandarono е dimenticarono il dogma délia creazione...»32
* Для «души» собственно у Платона нет идеи, подобно тому, как она
есть для чувственно данного. Как правильно замечает Зибек, само
родство ее с идеями предполагает ее отличие от них (Siebeck.
Geschichte der Psychologie I, 1, S. 187). Ср.: Phaed. 79 A; Resp 611 E.
Но душа сопоставляется с идеей, как «форма», подобная эйдосу —
Phaed. 103 Ε. — Phaedr 246 А, — не противоречит этому, так как,
обратившись здесь к «идее» души, Платон на самом деле
переходит к мифу (значение этого мифа см.: Stewart. The Myths of Plato.
P. 306—395).
Философия Джоберти
611
θεόν, άθάνατόν τι ξώον, έχον μεν ψυχήν, έχον δε σώμα, τόν άε( δε
χρόνον ταύτα ξυμπεφυκότα» (246 C-D). Т. е. это значит:
бессмертное получило название не в силу какого-либо (ουδέ είς = ne unus
quidem) разумного основания (λόγος λελογισμένος = ratio recte
conclusa), а мы вымышляем (πλάττω = fingo), не видав и как
следует не уразумев Бога, какое-то бессмертное существо, имеющее
душу, имеющее тело, вечно связанные друг с другом. — Мысль
Платона, следовательно, ясна: имя «бессмертного» прилагается
к необоснованному антропоморфическому представлению о
Боге, — таково вульгарное представление о «бессмертном», от
которого возникло ходячее понятие и имя его, понимание же
бессмертного у самого Платона, как известно, совершенно иное.
Таким образом, здесь и речи не может быть о «положительной
и божественной сущности бессмертия, открывающейся чистому
переживанию экстаза», и здесь Платон, след<овательно>, не
дает «описания своего высшего постижения "занебесной
области"» . Что касается «живого порога, поставляемого самим
Сущим», будто бы выраженного в словах: «άλλα ταϋτα μέν»
и т. д., — (кстати, имеющего продолжение: τήν δ αίτίαν... λάβο-
μεν)33, — то... то с таким же успехом можно было бы известное
русское выражение: «Ну тебя к Богу!» интерпретировать как
выражение религиозного пафоса любви к ближнему и единения
с Сущим!..*
* В примечании к этому выражению Эрн поясняет: «Несмотря на
несколько (!?) провербиальный34 характер последнего выражения,
в философии Платона ему приписывается особый интимный
смысл в связи с теорией истины, как Дружбы между
постигающим и постигаемым. Lys. 212. D-Ε». По моему мнению, ссылка на
«Дружбу» Лисиса никакого отношения к делу здесь не имеет, но
говорить определеннее об этом не приходится, так как Эрн не
показал этот «особый интимный смысл»... На с. 321 Эрн пишет:
«Общую схему откровения Платон дает в "Лисисе". "Любимое
любящему должно быть дpyжecтвeннo,,; "нет... любителей [мудрости?..],
если не отвечает им любовью мудрость". Активный ответ самой
мудрости на любовь любителя мудрости и есть та форма
взаимодействия между ищущим постижения и открывающимся Сущим...» и
т. д. В примеч. ссылка опять: «Lys. 212 Ε; 212D». Но ведь Сократ
здесь говорит также о том, что нет любителей лошадей, если не
отвечает любовью лошадь, также перепелов, собак, вина и пр. ...
«Схема откровения»?!. Сам Сократ этот путь характеризует
словами: ούκ ορθώς έξητουμεν35, но зато не вполне удачный русский
переводчик Платона проф. Карпов во Введении к диалогу «Лизис»
обронил суждение: «Тут скользит легкий намек на то, что истинный
философ бывает обратно любим мудростью (р. 212 D)» (Сочинения
Платона. Ч. IV. С. 233—234).
612
Г. ШПЕТ
Так-то у Эрна получается ответ на вопрос: «откуда Джоберти
заимствовал основную идею своей теории сверхразумного и на
что опирался, поставляя в связь сверхразумное с
первоначальной интуициею» (с. 168). Этот платонический экскурс Эрна,
однако, тем интереснее, что это — случай, где Эрн не повторяет
слова Джоберти, а производит самостоятельное исследование.
И вот теперь я опять высказываю сожаление по поводу того,
что Эрн не указал другой, на мой взгляд, более поучительной
исторической параллели. Я уже отмечал выше некоторые
пункты соприкосновения между Кантом и Джоберти. Теперь
Джоберти сам подчеркивает некоторые моменты параллелизма, не
лишенные интереса. Дело ведь не в том, что Бог непостижим
или не до конца постижим, — труднее найти тех, кто
утверждал бы Его полную постижимость, — а дело в утверждении
Джоберти, что «сверхумопостигаемость» Сущего,
непознаваемый элемент в Нем, есть Его сущность Именно в этом пункте
своеобразие Джоберти, — в том, что он утверждает
одновременно, что «сущность есть непознаваемое в вещи» (rinconoscibile
délia cosa) в «принципе познаваемого» (Intr. IV, 12), «источник
всех свойств, какие находятся в объектах» (Ibid. 13), Сущее как
причина, творящая существующее. Ведь это и есть не что иное,
как пресловутая вещь в себе в кантовском понимании, — в этом
пункте Кант такой же онтологист, как и Джоберти; Кант —
сенсуалист и психологист только по отношению к миру явлений,
т. е. по отношению к существующему. Сам Джоберти заявляет,
что «идея того, что простирается за эти границы (за границы
умопостигаемого), и идея непостижимых для нас оснований
Сущего, называется сущностью, если рассматривается вещь
сама по себе (la cosa in se stessa), и сверхумопостигаемым, если
имеется в виду наша способность познания» (Intr. IV, 66).
Разница с Кантом у Джоберти больше всего терминологическая:
как ни неудачна терминология Джоберти, у Канта она еще
хуже: интеллигибельное у него непостижимое и разум —
неспособность познания. Сам Джоберти следующим образом
изображает свое отношение к Канту в этом вопросе:
«Сверхумопостигаемое, в смысле субъективной природы своего принципа и в
непроницаемой реальности своего объекта, поистине есть
ноумен Иммануила Канта, и основа единственной
трансцендентальной философии, какая явилась бы возможной для
человеческого духа» (Intr. IV, 14). Только, по мнению Джоберти, — с
которым нельзя тут не согласиться, — Кант построил свою
систему на смешении умопостигаемого и сверхумопостигаемого
и приписал первому то, что присуще второму. Но в применении
Философия Джоберти
613
к сверхумопостигаемому все же оно, как «недостижимая
реальность (realta inarrivabile), соответствует ноумену, а как
субъективное понятие — трансцендентальному критической
философии» (Ibid.). Но кантовские субъективные формы имеют лишь
видимость объективную, а объективность
сверхумопостигаемого удостоверяется объективностью умопостигаемого. «Но вне
этого различия, — признает сам Джоберти, — тожество между
обоими понятиями, в критицизме и у нас — совершенное...»
(Ibid.). «Общая идея, дающая первой Критике Канта ее
основание, сама по себе верна: ошибка состояла в том, что он
приписывает разуму качество, которое присуще только высшей и
сверхразумной способности» (Ibid.). Немецкий философ сбился
с пути истины, смешав предмет откровенной теологии с
метафизикой и субъективировав умопостигаемое, которое само по
себе объективно*.
Мне нет надобности следить дальше за защитой Джоберти
своей позиции, хотя в некоторых пунктах, — особенно по
отношению к этике Канта, которую Джоберти также одобрял, —
она представляет интерес в смысле уяснения самого Джоберти.
Собственно, это должен был сделать Эрн **. Мне же важно было
отметить некоторые совпадения Джоберти с Кантом, чтобы тем
самым сказать, что у Джоберти с его сущностью вводятся все
те великие недоразумения, которые раскрыты критикой у
Канта, т. е. помимо противоречивости в самом понятии, прежде
всего, принципиальный агностицизм, а вместе с ним и самый
неуклюжий вид скептицизма. Сомнение Декарта есть даже не
метод в строгом смысле, а просто методологически допустимая
и оправдываемая фикция; его сомнение есть фиктивное
сомнение. У Джоберти гносеологически скептицизм — результат его
философствования, а онтологически — принцип. Разорвав с
Декартом и с рационализмом в лице его лучших представителей,
Джоберти отсюда легко уже сближался с Кантом. Его фикцией
является уже не что иное, как его интуиция. Как и Кант,
отвергнув разум, он должен был под покровом
психологистических и биологических суррогатов его искать себе убежища
* Интерпретацию Канта у Джоберти мы оставляем, разумеется, на
ответственности автора; нас интересует только факт, как и в чем
обнаруживается сходство идей Канта и Джоберти, даже помимо
его интерпретации.
** И это тем больше, что Эрн сам требует: «С Кантом Джоберти
должен был бы посчитаться гораздо серьезнее уже по одному тому,
что он ставит его бесконечно выше Декарта» (с. 114).
614
Г. ШПЕТ
и приюта, — «вера» и «инстинкт» составляют тот туман, в
котором можно скрыть любое уродство! Сюда скрылся в конце
концов Кант, сюда же прячет свои концы Джоберти:
«постижение сущности, — говорит он, — есть скорее верование в нечто
непознаваемое, чем восприятие ее разумом, и способность,
производящую верование, нужно понимать скорее как инстинкт,
нежели как ответвление общей способности познания».
«Способность, которая заставляет нас верить в реальность
неизвестных сущностей, я называю сверхразумом (Sovrintelligenza)»
(см. Эрн, с. 163). «Сверхразум, — комментирует Эрн, — верою
обличает сущности» (с. 166). Это не только скептицизм, —
постоянная оборотная сторона веры, — это также самый грубый и
самый примитивный психологизм, ибо психологизм
определяется вовсе не тем, что на место Бога или Сущего как предмета
философского исследования ставится сознание, а тем, что
темный эмпирический факт переживания провозглашается
последним, не подлежащим дальнейшему анализу принципом.
Скептицизм Джоберти принципиально в этом отношении не
отличается от скептицизма, напр<имер>, того же Юма, потому
что они в критический для себя момент обращаются к
психологическому факту верования и биологическому факту
инстинкта; вопрос о предмете после этого становится второстепенным.
IV
Я не имею возможности здесь, да и не считаю делом
продуктивным следить за дальнейшим применением идеальной
формулы Джоберти. С ее и Божьей помощью на протяжении двух
десятков страниц он не только сокрушает своих философских и
теологических противников, но еще разрешает по пути 8
философских проблем, да каких: о необходимом и случайном, об
умопостигаемом, о существовании тел, об индивидуации, об
очевидности и достоверности, о происхождении идеи, о
суждениях аналитических и синтетических, о природе
умозаключения!.. С такой же легкостью потом (cap. V) он на протяжении
30 с. разрешает проблемы классификации и методологии
математики, логики и морали, космологии и эстетики. Эрн
знакомит читателя с первой группой вопросов в главе под громким
заглавием: «Расчленение идеальной формулы в систему
принципов» и со второй — в главе «Опыт новой классификации
знаний». Изобразить всю полноту мысли Джоберти здесь можно
было бы на нескольких страничках, но так как Эрн делает из
Философия Джоберти
615
этого «большие» проблемы, а я на каждом шагу расхожусь
с ним, то я ограничусь лишь одним вопросом: отношением
идеальной формулы и принципа достаточного основания, который
Эрн также помещает в «расчленении идеальной формулы».
Останавливаюсь именно на этом вопросе по причине его тесной
связи с основным для Джоберти понятием «творения».
Вопрос об отношении того или иного философа к принципу
достаточного основания всегда представляет особый интерес,
так как этим одним уже решительно определяется отношение
данной философии к положительной философии. Дело не в
простом отрицании или признании принципа, а в его
понимании. Сам принцип достаточного основания, в конце концов,
есть принцип понимания; в его собственном свете поэтому
определяется и все направление философской системы, и важно,
выступает ли она как система отношений субъективных или
рациональных, эмпирических или идеальных, формальных
или онтологических, фатальных или свободных и т. п. Как
понимает это дело Джоберти, и что сделал для решения вопроса
Эрн?
Эрн поднимает его дважды, но анализа входящих в него
понятий не дает ни в первом, ни во втором случае. Впервые он его
поднимает в связи с учением Джоберти о творении, второй
раз — в «расчленении идеальной формулы». Однако и то
немногое, что сказано, таким образом, Эрном, способно вызвать
недоумение, так как не понятно, как согласуются три версии,
в которых выступает у него принцип основания. Один раз он
утверждает: «понятие творческой причинности возникает из
синтеза принципа достаточного основания с понятием
подлинного Сущего (курсив мой), тогда как причинность
механическая является неизбежной чертой мысли, исходящей из
существующего» (с. 156), и на той же странице: «Понятие
безусловного творческого акта формально может быть выведено из
подлинного понятия Сущего путем синтеза Лейбницева
принципа достаточного основания с принципом противоречия*
(курс. мой). Но ведь не одно и то же — синтез принципа
основания с понятием Сущего как понятие творческой причинности,
и синтез принципа основания с принципом противоречия, как
вывод из понятия Сущего. Другой раз (3-я версия) он говорит:
«К высшим принципам знания Джоберти относит, прежде всего,
принцип противоречия и Лейбницев закон достаточного
основания. Оба они содержатся в идеальной формуле» (с. 181), т. е.
уже не в понятии Сущего, а в формуле: Сущее творит
существующее. Которое же есть мнение Джоберти?
616
Г. ШПЕТ
Джоберти говорит (Errori, I, Эрн переводит (с. 156):
62—63): «Но если с этим отождеств-
«...и так как я уже отоже- лением идеального Сущего с
ствил с идеальным Сущим принципом противоречия син-
принцип противоречия, мне тезировать отождествление
пришло на ум, что если ото- Сущего с принципом доста-
жествить с ним таким же об- точного основания, замкнутое
разом принцип достаточного в Себе Сущее сразу превратит-
основания, непроизводитель- ся в творческое начало»,
ное Сущее становилось
творцом, и пантеизм разрушался
тем самым принципом,
который, казалось ему,
благоприятствовал» *.
Такой ли перевод привел к «синтезу», или, решив, что у
Джоберти «синтез», Эрн так перевел, но ясно, что сам
Джоберти дело представлял не точно так, как изображает Эрн. Между
тем мнение Джоберти ясно: Бог есть источник как возможности
(принцип противоречия), так и действительности (принцип
основания). Сообразно этому и далее Джоберти признает, что
принцип противоречия устанавливает необходимость
«логическую, метафизическую, абсолютную, безусловную», а принцип
достаточного основания — «относительную, гипотетическую,
условную» (Errori, И, 66; Эрн, с. 181). Все это очень
напоминает рационалистическую докантовскую онтологию, но
удержаться на этой почве Джоберти не удается. «Принцип достаточного
основания, — говорит он, — разделяется на два принципа, один
из них относится к разумному основанию (ragione), и другой —
к причине вещи, а вместе они объединяются в протологиче-
ском принципе творения» (Ibid.). Эрн прямо переводит здесь
«alla ragione» — «к логическому основанию»; и на этот раз его
интерпретация имеет основание, но зато в таком случае Эрн не
прав, называя «принцип основания», как его понимает
Джоберти, «Лейбницевым» (Эрн, с. 181, 156), так как лейбницев-
ский принцип так «разделен» быть не может, как его делит
Джоберти, не говоря уж о том, что вообще квалификация его
как логического принципа или требует особого объяснения,
«...е siccome ю aveva gia immedesimato coll'Ente ideale il principio di
contraddizione, maccorsi ehe identificando con esso nello stesso modo
il principio délia ragion sofficiente, l'Ente improduttivo diventava
creatore, e il panteismo era distrutto da quel medesimo principio ehe
pareva favoreggiarlo».
Философия Джоберти
617
или просто неправильна. Все это у Джоберти — влияние опять-
таки кантовского истолкования «достаточного основания».
Напротив, он расходится с Кантом дальше, когда утверждает, что
«аксиома основания стоит во главе всех суждений
синтетических и аподиктических». Кант тут лучше понимал дело и, как
видно из его писем к Рейнгольду, предусмотрел «опасность», к
которой приводит такое обоснование синтетических
суждений*. Непонятно также, как у Джоберти принцип
необходимости «относительной, гипотетической, условной» «стоит во
главе» аподиктических суждений. Никаких разъяснений Эрн к
этому не дает, если не считать «разъяснением» стремление
скрыть в тумане «сверхумопостигаемого» всякую трудность в
разрешении философских проблем. Так, по поводу априорных
синтетических суждений Эрн замечает: «Правда, онтологизм
так же бессилен указать положительные основания связи
между подлежащим и сказуемым, как и психологизм, но зато он
понимает разумный смысл этой невозможности и потому
логически ее обосновывает» (с. 189). Это очень остроумно, но и
только, а для философа этого качества мало...
В принципе основания содержится также принцип, как мы
видели, «реальной причины». Опять — большое количество
проблем, и опять — критерий, по которому можно определить
истинное место всякой философии. Но и опять:
Джоберти (Errori, II, 66): Эрн (с. 181):
«Из принципа рождается «Из принципа причинности
идея силы, вокруг которой рождается понятие силы, ко-
вращается вся динамическая торое должно быть поставлено
философия, основанная Лейб- в центр современного умозре-
ницем, но тем не менее дет- ния и которое воистину может
екая, принимая во внимание стать центром лишь при усло-
столетнее блуждание совре- вии соотнесения с идеальным
менной мудрости; эта идея, типом зиждительной силы
мне кажется, предназначена творческого акта»,
начать лучшую эпоху для
спекулятивных занятий, лишь
бы только они возвратились на
добрый путь. Прототип идеи
силы, будучи сведен к
творческому акту, может быть дан
* Разъяснение этого вопроса см. в моей книге * История как
проблема логики» (Ч. I. Гл. 2. § 6. С. 208 ел.).
618
Г. ШПЕТ
только идеальной формулой; а
хотеть искать ее в
абстрактном и чисто логическом
понятии, как делает Лейбниц, или
в сотворенном конкретном
человеческой воли, как на
нашей памяти делал Мен-де-Би-
ран, есть, кажется мне,
причина, по которой
спекулятивный динамизм до сих пор
не принес тех плодов, которые
можно было бы от него
ожидать».
У Эрна — значительно короче, но яснее — у Джоберти. По
существу же оба, вызывают недоумения, хотя в разные.
Предсказание Джоберти внушает опасность насчет его намерения
ввергнуть нас опять в дебри оказионализма. Императив и возможность
Эрна, напротив, соблазнительны и более современны: будем, как
Бог, — вопрос только в том, как с Ним «соотнестись»?.. Во
всяком случае, общее между обеими концепциями, по-видимому,
то, что прототипом или «идеальным типом» нашего понятия
силы, как производящей причины, нужно считать акт
божественного творения. Это утверждение заслуживает особого
внимания не только по своему содержанию, но — и это даже
особенно — методологически. Может быть, со стороны теологического
онтологизма, каким является философия Джоберти, только
последовательно стремиться рассматривать земные дела по
образу небесных, но та же последовательность тогда требует,
чтобы все теории, построения, выводы и практические следствия
такого рассмотрения не притязали на земное признание.
Между тем такова всегда была, — может быть, почти всегда, но я
исключений не знаю, — тенденция богословских систем
философии; есть она и у Джоберти. Идея, например, воплощается в
Церкви с папой во главе, не «небесным», а земным, «живым,
настоящим»; ортодоксия и гетеродоксия не только
философские направления, a Imprimatur36 или Index librorum prohibito-
rum37, — «живой, настоящий» и т. д. Печальная роль
философии в устроении земли по «идеальному типу» неба в том, что
она должна служить какой-то посредницей, «комиссионером»,
в ведение которого отдается все «познаваемое», а только
инструкции она получает от «сверхпостижимого». Философия,
совершенно так же должна устраняться от комиссионных поруче-
Философия Джоберти
619
ний неба, как она должна остерегаться предприимчивости
инженеров, — Джоберти и Спенсеры, аббаты и инженеры, одинаково
готовы сделать из нее рабу, хотя и для разной работы. Оберегая
свою свободу, философия должна в самом начале отстранять
всякие предложения «сделок», как со стороны богословия, так
и со стороны техники. Во всех же заверениях о «тожестве
философии и религии» (Эрн, с. 218), об их «параллелизме» (с. 205),
и т. п. ничего нет для философии ни почетного, ни доброго.
Последним вершителем и разрешением всех вопросов у
Джоберти служит «сверхумопостигаемое», — и прекрасно, но пусть
он не впутывает этих решений в «постижимое», ибо с трудом,
может быть, но здесь мы разберемся и без его помощи. Я не
против всякого рода небесных теорий вообще и свободы их
высказывания, — даже если им место в Индексе глупости, — но я
против того, чтобы благоустроение неба навязывалось земле.
Можно говорить сколько угодно о «сверхпостижимом», — но
нельзя заставить думать, что этим разрешается хотя бы
малейшая земная загадка. А что касается энтузиазма, с которым
преподносятся богословские банальности, то в этом деле им не
уступят и позитивистические банальности, — «Бог создал мир из
ничего» можно произнести с таким же апломбом, как и «Мир
есть движение атомов», и одинаковую ценность имеют выводы:
из первого, что нужно устраивать церковный приход и не
отделять Церкви от государства, а из второго, что нужно питаться
рыбою, чтобы быть умным и хорошим. Все это дела —
нефилософские.
В конкретном применении к Джоберти это значит: пока он
говорит о творении как о причинности в мире
«сверхумопостигаемого», тут ему и книги в руки, — Иегова ли или Элогим38, —
это в конце концов может быть даже интересно. Но при чем
здесь «достаточное основание» и «закон причинности»? А если
Бог создал мир, не имея к тому достаточного и разумного
основания и, вопреки всякому закону причинности, действительно,
из ничего, — на то Его святая воля, но из этого не следует, что
наш мир нужно толковать по образу Божественного каприза.
Да и как мы можем пользоваться этим образцом или
«идеальным типом»? Прежде всего, он «непознаваем», но допустим,
что все происходило так, как рассказывает Моисей, а за ним
Джоберти. Тогда мы признаем, что воля Бога всемогуща, —
захотел и все сделано, — но какой же это для нас «идеальный
тип», когда и волосы на нас растут помимо нашей воли?
«Силу» и «причину» мы должны, по Джоберти, мыслить не по
типу, предлагаемому Лейбницом и Мен-де-Бираном, а по типу,
620
Г. ШЛЕТ
предлагаемому Моисеем, — если таково наше первое понятие
о причине, то почему так чуждо земным делам пресловутое ех
nihilo? Творение и причина — вещи от начала до конца разные.
То же относится к закону разумного достаточного основания.
В аспекте творения мир создан самым сверхразумным образом,
но даже самый божественно настроенный человек не найдет
достаточного основания в том, что «сотворенные существования»
болеют, или что для того, чтобы обладать св. Софией, нужны
кровавые гекатомбы. Еще в другом отношении наша
причинность обладает признаками, которых нет в божественном
творении: Джоберти нам рассказывает, согласно с иудейско-христи-
анской традицией, что творение относится к сущности Бога,
т. е., выходит, и хотел бы не творить, да не может. В этом
единственно, по-видимому, Его воля ограничена. «Сотворенные
духи» тут свободнее: не все мы можем причинить, но, если
захотим, то кой от чего и воздержимся. — Итак, может быть, и
Лейбниц не прав, может быть, и Мен-де-Биран не прав, но
Джоберти, утверждая, что «протипом идеи силы» является
творческий акт Бога, сказал просто нелепость.
Хочется мне остановиться на этом вопросе и с другой
стороны. Для того, чтобы говорить о прототипе понятия причины, к
этому прототипу так или иначе нужно прийти, — в опыте ли
мы его встретим, или придем к нему из эйдетического анализа
опытных примеров. Тот факт, что нам сообщает об этом
Моисей, дела не меняет, он-то должен был испытать это, и, след<о-
вательно>, можно спрашивать: как вообще «человеческий дух»
приходит к названному «прототипу»? Ведь если он
присутствовал при творении, так сказать, соприсутствовал возникновению
мира, то он сам не сотворен. Но дело было не так: «Сущее, —
говорит Эрн, — произнося свое суждение, свершает акт
откровения, причем субъект откровения, или то, чему откровение
совершается, т. е. человеческая интуиция, вызывается сущим из
абсолютного небытия и впервые созидается в акте
самооткровения Сущего и для него» (с. 159). Итак, своим «Иегова» Бог
вызывает человека из небытия, но как — об этом человек не
может ничего сказать, раз он не был до своего бытия. Если он
пытается пролить на свой переход от небытия к бытию какой-
нибудь свет рефлексии, то образцом для него как раз является
собственная воля и причинность, а не божественная. Конечно,
аналогия — не надежный метод, но вот тут и обнаруживается
важный факт. Раз это внушено человеку в первой интуиции,
как разъясняет Джоберти, и человек «воспринял» это, то тем
самым утверждено, что есть какое-то единство и общность меж-
Философия Джоберти
621
ду сознанием Бога и сознанием человека. И если теперь мы
захотим это сознание наследовать принципиально, то мы
вернемся... к Декарту, иначе есть полное основание думать, что
«человеческий дух», при всем своем энтузиазме в утверждении
«идеальной формулы», просто фантазирует. Есть, впрочем, еще
выход: если принципиальный анализ сознания — дело трудное
и с ним не укроешься в «сверхумопостигаемое», то остается
апеллировать к «сверхъестественным» состояниям сознания
вроде «экстаза», «сошествия благодати» и т. п. Но ведь это —
психологизм, избежать коего можно только одним путем:
найти следы актуальных экстравагантных переживаний в инакту-
альном фонде сознания. Но тут мы опять приходим к
требованию принципиального анализа сознания... Не больше ли тогда
соответствует достоинству философии, не желающей
выполнять комиссий богословия, брать прототип всех понятий, в том
числе и понятий причины и разумного основания, не из
Ветхого Завета, а из самого сознания их?
Последняя глава второй части книги Эрна «Смысл
онтологизма Джоберти в связи с проблемами современной
философии» — самостоятельная глава, в которой подводятся итоги и
даются оценки. Правда, сам Эрн определяет задачу этой главы,
как задачу «не столько критическую, сколько истолкователь-
ную» (с. 218), но, как увидим, «критика» у него есть, хотя и не
по отношению к Джоберти.
Пять признаков, по Эрну, характеризуют философию
Джоберти. 1) «Исходным пунктом» философии Джоберти является
субъективно-объективный момент тожества философии и
религии» (с. 218). — Это не вполне точно. Более точная формула
Джоберти гласит: «идеальная и католическая наука обнимает
философию и теологию, и поэтому она — единственная
совершенная дисциплина в порядке рационального познания» (Intr.
II, 109). Тогда и признак этот можно было бы формулировать,
мне кажется, точнее: Исходным пунктом, как и завершающим,
философии Джоберти является его католицизм. 2) Историко-
философское противопоставление психологизма и онтологизма
(с. 219). Опять, мне кажется, как видно из предыдущего
изложения, точнее было бы сказать — противопоставление гетеро-
доксии и ортодоксии. 3) Универсальная борьба с психологизмом
(с. 221). Это — верно, только не следует забывать, что
антипсихологизм у Джоберти — понятие отрицательное и
исключающее всякий не католический теизм, ибо хотя Джоберти
говорит: «всякая система, помещающая принцип познаваемого в
чем-нибудь, что, собственно говоря, не есть Бог, необходима
622
Г. ШПЕТ
психологистична» (Errori, I, 125)*, тем не менее едва ли он
признал бы магометанского Бога принципом всего
познаваемого. 4) Последовательно проведенный онтологизм (с. 222).
Точнее, снова теологизм. 5) «...всю философию Джоберти можно
назвать философией творческого акта, и универсальный
креационизм обозначить как пятую черту его системы» (с. 223).
Разуметь под этим нужно, конечно, философию божественного
творческого акта, иначе возможны недоразумения: можно
подумать, что философия Джоберти с какой-нибудь стороны
похожа на бергсонианство или динамический спиритуализм, чего
на деле нет. Термин «креационизм» более или менее подходит,
хотя и может дать повод: (а) к мысли, что Джоберти — деист
той формы, которая обозначалась именем креационизма; но
Эрн, впрочем, и не сделал попытки показать, что Джоберти
теист, так что, может быть, он и имел в виду обозначить это
родство Джоберти с деизмом; (Ь) к мысли, что Джоберти заодно с
Ансельмом, Фомою, Петром Ломбардским выступал против
теорий предсуществования и традиционизма; но опять-таки Эрн
не разъяснил, как творятся души, по Джоберти, так что и тут
его название, может быть, намеренно. — Эрн приглашает «к
более подробному рассмотрению двух пунктов мировоззрения
Джоберти: его антипсихологизма и креационизма» (с. 225).
Я остановлюсь еще на первом, тем более что и сам Эрн потом
находит, что ему «остается сказать несколько слов о
креационизме Джоберти», (с. 244), — этой «исключительной черте» его
онтологизма (с. 222).
К современному понятию психологизма, по мнению Эрна,
понятие психологизма у Джоберти относится как целое к части
(с. 225). Это верно с той стороны, что не все учения, которые не
делают Бога своим принципом, в современной философии будут
названы психологистическими, но зато богословствующие
философы, наверное, будут отнесены к психологистам в
подавляющем большинстве, ибо и они по чести должны бы сказать:
πλάττομεν άθάνατόν τι ξώον κτλ39.
Далее Эрн различает два типа современного
антипсихологизма: «Первый тип есть антипсихологизм трансцендентальный,
второй — антипсихологизм логический. Первый тип
представлен неокантианскими школами, между собою расходящимися,
а именно школою Когена, Риккерта, отчасти Шуппе, второй —
школой Гуссерля» (с. 225)**.
* См. выше, с. 322.
'* В примечании Эрн пишет: «невыясненность термина "психологизм"
в современном мышлении хорошо подчеркивается справками в
Философия Джоберти
623
Положение, отведенное Эрном Шуппе в этой
классификации, более чем сомнительно, но еще сомнительнее, конечно,
сама классификация: как же можно противополагать
«трансцендентальный» и «логический»? Как будто Коген в логике не
антипсихологист, и как будто Гуссерль в философии не транс-
цен денталист!?. Или Эрн думает, что «трансцендентализм»
специально кантовское и новокантианское достояние? Но, не
уходя далеко за примерами, он мог бы в тех же «Пролегоменах»,
которые цитирует на следующей странице, найти: «Ибо то, что
носит это название (т. е. трансцендентальной философии), есть,
собственно, часть метафизики, тогда как настоящая
трансцендентальная философия должна еще вывести возможность
метафизики и, следовательно, должна ей предшествовать»
(Пер. Соловьева, с. 36). Ну, так вот, может быть, эта, по Канту,
не настоящая трансцендентальная философия и есть самая
настоящая?.. И тогда получается то, что никак не согласуется с
разделением Эрна: именно потому-то и логика должна быть
антипсихологистической, что того требует
антипсихологистическая философия. Я — не сторонник трансцендентализма Канта
и новокантианцев, но тем более не могу, в интересах историко-
философской справедливости, не отметить странных приемов
«критики» этого вида трансцендентализма у Эрна. Дав
неправильное определение и разъяснение трансцендентального
метода, — о чем у нас уже была речь (см. выше, с. 332 ел.), — Эрн
ссылается на Канта (с. 226, прим.): «У Канта можно найти
много мест, подтверждающих нашу мысль. Всего определеннее он
высказывается в "Пролегоменах": "Нам не нужно здесь искать
простой возможности таких (априорных) положений, т. е.
спрашивать, возможны ли они. Ибо есть достаточно таких
положений, и притом данных, действительно, с бесспорною
достоверностью, и так как наша теперешняя метода должна быть
аналитическою, то мы и начнем с признания, что такое
синтетическое, но чистое разумное познание действительно суще-
словарях: Krug... 1883 (?) Baldwin..., Eisler...»40. Но в словаре
Круга вовсе ничего не говорится о психологизме; Эйслер дает свое
определение и перечисляет целый ряд других определений и имен,
как психологистов, так и их противников, в числе коих назван и
Джоберти; Болдвин указывает два типа психологизма, из коих
первый характеризуется в определении американского
последователя Джоберти Браунсона. Итак, рекомендательная справка
только заставляет спросить: почему Эрн вам ничего не сообщил о Бра-
унсоне? А вопрос этот тем более законен и интересен, что,
по-видимому, Браунсон весьма «исправляет» Джоберти...
624
Г. ШПЕТ
cmeyem" (Пер. Вл. Соловьева. М., 1905. С. 31—32». Но вместо
того, чтобы ставить точку после «существует», Эрн должен
был поставить точку с запятой и продолжить фразу Канта по
тому же переводу: «Но затем, однако, мы должны исследовать
основание этой возможности и спросить: как возможно это
познание, с тем чтобы мы могли из принципов его возможности
определить условия его употребления, его объем и границы»
(курсив Канта). Кроме того, Эрн должен был пояснить, что
значат в его цитате из Канта слова: «здесь» и «теперешняя»,
каковое пояснение выражается следующей краткой цитатой из
Канта: «В "Критике чистого разума" относительно этого вопроса я
приступил к делу синтетически, именно так, что я делал
исследование в самом чистом разуме, и в самом этом источнике
старался определить по принципам как элементы, так и законы
его чистого употребления. Эта работа трудна и требует от
читателя решимости вдумываться мало-помалу в такую систему,
которая не кладет в основании ничего данного, кроме самого
разума, и старается, таким образом, не опираясь ни на какой
факт (курсив мой), развить познание из его первоначальных
зародышей» (Ibid. 29—30). А если бы после этого Эрну
пришлось отказаться от своего возражения против
«трансцендентализма», то... от этого Джоберти не потерял бы, как не
приобретает он при наличности такого «аргументе» в книге Эрна.
Эрн находит «несколько больше общего у Джоберти со
вторым типом современного антипсихологизма» (с. 228), — т. е. с
чем же: с «логизмом» или с «Гуссерлем»? Если первое, то он
также «больше общего» должен иметь с Когеном, например!
Если второе, то я как раз сказал бы обратно: имеет еще меньше
общего!* Эрн поясняет свою мысль: «Выводя свой эйдетизм нз
Лейбница, Гуссерль оставляет ту магистраль, которая является
господствующей в Новое время, и присоединяется к той линии,
на которой, по Джоберти, свершается истинный прогресс
умозрения в Новое время и сохраняется живая связь с нетленными
достижениями Платоновой философии» (с. 228), и тут Эрн
делает ссылку на мою книгу «Явление и смысл». Но я не утверж-
* Собственные измышления Джоберти о логике вконец вздорны и не
заслуживают даже обсуждения. (Эрн их излагает на с. 212—213).
Для любителей курьезов приведу определение логики как
искусства у Джоберти: логика есть « искусство восходить познанием к
Сущему, нисходить от него к существующему и ментально
реконструировать идеальную формулу, коей сама логика есть повторение»
(Intr. Ill, 17; ср. Эрн, с. 212). Искусство, вероятно,
душеспасительное...
Философия Джоберти
625
дал и не давал повода к утверждению, что Гуссерль может
«присоединиться» к «магистрали», которую одобряет
Джоберти, ибо не понимаю «магистрали» Гуссерля без «атеистов» и
«еретиков» Декарта и Спинозы. Что касается его связи с
Платоном, то такова, действительно, моя интерпретация Гуссерля,
сам же Гуссерль осторожнее, и, по-видимому, не без оснований.
Ему делали «упрек» в том, что он возвращается к
«платоновскому гипостазированию» идей или сущности, такой упрек он и
признает несправедливым*. Я же настаиваю на платонизме
Гуссерля, потому что и по отношению к Платону такой «упрек»
считаю несправедливым. Гипостазирование платоновских идей
я считаю неоплатоническим и в особенности христианским
извращением Платона, начатым, впрочем, еще легкою рукой
Аристотеля. Теперь, как же сопоставлять Джоберти с
Гуссерлем через Платона? Платона, по моему наблюдению, Джоберти
знал недостаточно глубоко, преимущественно из вторых рук,
принимал его в «понимании» Августина и Мальбранша.
Конечно, и это все-таки платонизм, и я не затрудняюсь отнести
Августина в Мальбранша к положительной философии, но
платонизм Гуссерля, по-моему, тем и ценен, что он освобождается,
наконец, от пресловутого существования, resp. видения идей в
Боге и, надеюсь, мы доберемся до признания настоящего
здорового Платона. Выше я привел достаточно материала для того,
чтобы компетентный читатель мог составить суждение о
«платонизме» Джоберти и его действительном замысле. Но,
кажется мне, достаточно одного следующего афоризма Джоберти,
чтобы не сомневаться в том, кто перед нами: «и как, по
прекрасному учению Платона, св. Августина в Мальбранша, дух
видит идеи в Боге, т. е. в самой Идее; так, по католической
науке, дух созерцает Идею в Церкви, потому что Идею нельзя
помыслить без содействия слова, а христианское слово есть
единственно чистое и адекватное отражение (la riflessione)
идеального мира» (Intr , II, 109).
Интересно дальше, что назвав антипсихологизм Гуссерля
логическим, Эрн говорит о «феноменологическом методе
Гуссерля» (с. 228). Но как же феноменологический метод подходит
под термин «логический антипсихологизм?». Ведь, право же, у
Гуссерля кроме переведенного на русский язык и цитируемого
Эрном 1-го тома «Логических исследований» есть еще
некоторые сочинения!.. «Кроме того, — рассуждает Эрн, — гуссерли-
янский антипсихологизм в своей отвлеченной логичности, с точ-
* Ср. его «Ideen», S. 40.
626
Г. ШПЕТ
ки зрения основных идей философии Джоберти, должен был бы
быть обвинен в дурном статизме, создающем неизбежный
тупик и тот переход к новой утонченной схоластике, который
правильно был отмечен одним исследователем как характерная
черта антипсихологизма Гуссерля» (с. 228). Видно, нашим
отечественным мыслителям все еще ближе философские extem-
poralia41 Вундта, что они так охотно повторяют вундтовскую
квалификацию «Логических исследований» Гуссерля!*42 «Один
исследователь», на которого ссылается Эрн, С. А. Алексеев
находит у Гуссерля «чистейшую схоластику бесконечных
подразделений и дизъюнкций, не только что никому и не для чего не
нужных, но совершенно бесполезных и для самого Гуссерля,
который в конце концов утопает в нагроможденных им самим
тончайших различениях и подразделениях, не делая из них
никакого употребления» (Эрн, с. 229, прим.)44· Какого же
«употребления» ждет г. Алексеев? Стрелять нужно этими
«различениями» или доказывать бытие Бога или подготовлять
революцию?.. Это различения, увы, только теоретические, и раз
они сделаны, они уже «употреблены». Или самих различений и
делать ненужно? Но это вопрос... не только вкуса, а, как гласит
некое вполне «схоластическое» изречение: discernit sapiens res
quas confundit asellus...45 Эрн находит еще у Гуссерля «дурной
статизм», который противополагается «эйдетическому
энергетизму Джоберти (с. 229). Что у Гуссерля нет «эйдетического
энергетизма», с этим я согласен, ибо «эйдос», конечно, не
мотор и не паровоз, но что значит «статизм», и притом «дурной?»
Статизм, и коррелативно динамизм, вообще суть способы
подхода к вещам, некоторые приемы мысли, но, я думаю,
некоторым вещам соответствует статический подход, другим —
динамический, однако один другого не исключают. В упрек та или
иная квалификация может превратиться только тогда, когда по
существу динамическое изображается только статически, или
обратно. Так, напр<имер>, я считаю серьезным упреком по
адресу Эрна, что, взявшись за историко-философскую тему в
своей работе о философии Джоберти, он именно от исторического
ее освещения уклонился, полагаясь во всем на Джоберти, — это
* Но, разумеется, ничего нельзя иметь против серьезных попыток
сопоставления Гуссерля (а также Вюрцбургской школы
психологов)43 с схоластикой не в одиозном, а в историческом смысле.
Такое сопоставление делал лувенский философ Ноэль в * Revue пео-
scolastique de philosophie» (1910). Ср.: Grabmann M. Der
Gegenwartswert der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen
Philosophie. Wien, 1813. S. 49.
Философия Джоберти
627
статизм, где нужен динамизм; он уклонился и от
диалектического анализа философских понятий Джоберти, — опять
статизм. Но почему будто бы «отвлеченная логичность» Гуссерля
есть статизм, непонятно: если это действительно «отвлеченная
логичность», то какой ей быть, ей принципиально присуща
статичность, а если это — «феноменологический метод», о котором
упоминает Эрн, то, боюсь, что квалификация этого
«антипсихологизма» как статического есть вещь, которую трудно было бы
доказать, а высказывать такое суждение без доказательства —
весьма неосмотрительно. Впрочем, на с. 230 (прим.) Эрн как
будто мотивирует свое мнение: «Статизм антипсихологизма
Гуссерля связан с его исключительным математизмом» *.
Однако как же согласовать этот мотив хотя бы со следующим, на-
пр<имер>, заявлением Гуссерля: «Трансцендентальная
феноменология как дескриптивная наука о сущностях относится к
совершенно иному основному классу (eine total andere
Grundklasse) эйдетических наук, чем математические науки» **; или
со следующим: «В философии нельзя давать дефиниций, как
в математике; всякое подражание математическим приемам в
этом отношении не только не плодотворно, но ошибочно и
сопряжено с вреднейшими последствиями (ist... verkehrt und von
schädlichsten Folgen») ***.
Между тем если бы Эрн не игнорировал
историко-философских источников самого Джоберти и если бы он внимательнее
отнесся к современной философии, в частности к названной им
«феноменологии», он не делал бы таких неосновательных
замечаний по адресу «логического антипсихологизма», и мог бы
извлечь из Джоберти интересную для истории философии
XIX века страничку. Современная феноменология вышла, как
известно, из австрийской школы психологов, во главе которой
стоял Фр. Брентано. Отличительная черта ее в том, что, в
противоположность германской психологии, она уделяла большое
внимание английской и шотландской психологии, в частности
Милю и Гамильтону. Многие ее характерные черты заставляют
и в феноменологии видеть исторического преемника в особенно-
* Эрн ссылается при этом на Поладьи (Palagyi) (называя его Па-
лагий), а Поладьи в указанном месте говорит об общем
формалистическом течении современной логики, а в своем последующем
изложении он также опирается только на 1-й том «Логических
исследований».
** Ideen. S. 141.
*** Ibid. S. 8.
628
Г. ШПЕТ
сти шотландской философии*. Джоберти почерпал свои
аргументы против кондильяковского «сенсизма» и против
картезианства, откуда только можно было при его плохом знакомстве с
историей философии. Как немецкую философию он изучал по
Кузену, так шотландскую философию он изучал по ее
французским проводникам, — по тому же Кузену, по Руайе-Колару, —
открывшему поход против Кондильяка на почве шотландской
философии, — ив особенности, по Жуфруа, переводившему на
французский язык Рида и Д. Стюарта. Спиритуалистические и
психологические выводы этих своих наставников Джоберти не
разделял; психологистические выводы шотландской
философии не может принять и антипсихологизм феноменологии. Вот
интересная почва для сравнения. Укажу только один, но
важнейший пункт в этом вопросе, на котором, кстати,
иллюстрируется философская слабость и несамостоятельность Джоберти.
Джоберти отрицал психологизм, но ошибки, идущей от
Рида, он назвать не мог. Эту ошибку прямо назвал Гамильтон.
Она состоит в том, что Рид считал «сознание» особой
способностью «внутреннего восприятия» наряду, след<овательно>, с
другими «способностями», а не всеобщей характеристикой и
условием. Определяя психологизм как учение, всегда сводящееся к
«сенсизму» (см. выше, с. 321 ел.), хотя бы и внутреннего
чувства, Джоберти одним определением этим уже становился сам
на почву психологизма. Если бы Джоберти заметил то, что
заметил Гамильтон, он не только был бы предшественником
современного антипсихологизма, но иначе оценил бы всю
философию, и в особенности философию Платона и Декарта, а равным
образом и учение своего соотечественника Розмини о
«возможном», и самое главное, он не мог бы оставаться «онтологис-
том». — Что же ему помешало сделаться действительным
предшественником современного антипсихологизма? Почему
Джоберти отдал предпочтение онтологизму и теологизму перед
философией? Ответы здесь могут быть разные, но в основу их
нельзя не положить католицизм Джоберти, а еще глубже,
может быть, здесь лежит коренная антиномия европейской
мысли: миф и докса или философия и знание?
Третья часть работы Эрна «Завершение системы» (с. 249—
330) основывается, в значительной части, на сочинении Джо-
* Между прочим, именно Гамильтон определяет первую описательную
часть философии как феноменологию, которая * ограничивается
собственно фактами, доставляемыми в сознание, которое
рассматривается исключительно в себе самом» (Lectures on Metaphysics. V. I.
P. 124).
Философия Джоберти
629
берти «Protologia», которого я не видел, и потому тут мое
суждение о «Философии Джоберти» подходит к концу.
На с. 282—283 Эрн предупреждает: «Глубокомысленный
опыт метафизики истории, лежащий в основе второй
философии Джоберти, требует от излагающего, творческого
истолкования, ибо он образует "подземный" слой мысли Джоберти, более
им подразумеваемый, чем выявляемый, более очерчиваемый
намеками и выводимыми следствиями, чем прямыми
определениями». След<овательно>, судить об этой части иначе, как
путем сравнения с самим Джоберти, невозможно*. Между тем
если разобранное мною не было «творческой интерпретацией»,
то легко представить, почему теперь автор сам принуждает
воздержаться рт суждения об этой части его книги.
Что общая моя оценка Джоберти радикально расходится с
оценкой Эрна, в этом читатель уже достаточно убедился, и ни в
каких резюме это не нуждается. Что касается книги Эрна, то я
все же думаю, что в целом она может оказаться полезной.
Она — не совершенна, но, думается, ее промахами не
затушевывается вполне облик Джоберти. Я сожалею, что книга бедна
историко-философским и критическим освещением, но, как я
указывал, может быть, для «первого ознакомления»
повествовательный метод имеет свои достоинства. Ведь не только
потому может быть интересен Джоберти, что нас интересует история
западной философии. В различных индивидуальных и
национальных образцах ее мы знакомимся с путями и приемами, из
которых одни могут нам пригодиться как положительные
указания, другие как испробованные и оказавшиеся негодными, —
путями, заводящими в тупик. Едва ли путь Джоберти
соблазнит многих, но важно знать этот путь, чтобы его не повторять.
Философия Джоберти в особенности поучительна в этом
отношении не потому только, что Джоберти — слабый
мыслитель, — я не вижу, чтобы Эрн, при всей своей философской
одаренности, значительно подвинулся вперед по пути Джоберти, —
а потому, прежде всего и главным образом, что Джоберти не
ценил философию самое по себе, а ценил ее как средство
укрепления своих вероисповедных, церковно-политических и
политических убеждений. Эрн сам не счел нужным познакомить
читателя с этическими и эстетическими теориями Джоберти,
* Только предупредительности В. Ф. Эрна, любезно
предоставившего в мое распоряжение собственные экземпляры цитированных
мною сочинений Джоберти, я обязан тем, что ближе познакомился
с этим представителем «молодой Италии».
630
Г. ШПЕТ
соглашаясь с Сольми, что соответствующие работы Джоберти
«принадлежат к самому слабому из всего, что написано
Джоберти» (с. 216, прим.). Эрн это сделал напрасно, потому что
таким образом можно было бы лучше проверить плодотворность
теоретической философии Джоберти. Для себя я не
сомневаюсь, Эрн произвел эту проверку и все-таки не изменил своей
оценки Джоберти... Но если в самом деле Джоберти может
выдержать серьезное испытание философской критики, то зачем
же у Эрна этот приподнятый тон? Зачем апология и
панегирик?.. Тут уже я вижу не столько личные качества Эрна,
сколько характер целого направления нашей философской мысли,
ярким представителем которой он является.
Мне лично этот тон тем более кажется неподходящим, что не
может быть спора о философской «величине» Джоберти. Но
какой здесь может быть критерий? Не является ли такое решение
делом субъективных склонностей и собственного философского
самоопределения? Наверное! Но есть один признак, который
сразу ставит под отрицание значительность философа и его
учения: это — подчинение философии не-философским целям и,
след<овательно>, решение философских задач сообразно
практическим, — преимущественно политическим и религиозным, —
идеалам. Провозглашение гетерономии философии может
исходить от большого писателя, великого человека, крупного
политического деятеля, религиозного реформатора, но все они этим
провозглашением выносят решительно осуждающий приговор
самим себе как философам и своей философии. Джоберти
произнес себе свой приговор (см. выше, с. 302): «автономия разума
и абсолютная независимость философии — нечестивы и
абсурдны»... Чему же должна быть подчинена философия? —
Катехизису, читатель!.. «Катехизис есть вся онтология народа и детей,
и он должен быть основою онтологии ученых, если они не хотят
стать ниже детей и народа» (Intr. II, 62).
^^
ν
IN MEMORIAM
^5^
Сергей БУЛГАКОВ
Памяти друга (В. Ф. Эрн)
Как всегда нежданная и жданная, скосила тебя ранняя
смерть. Выбит из седла рыцарь с знаком креста на груди. Таков
он был — крест и латы, лилия и железо. Была в нем
серафическая чистота и пленительная ясность, которую знали и видели
друзья, но облекала железная броня воли, убежденности,
спокойной твердости, и ее-то видели многие, иногда только ее. Так
шел он трудным, неблагодарным путем, не пригибаясь и не
приспособляясь, с какой-то детской прямолинейностью; так
служил он, как умел, русской мысли, русской культуре,
русской идее. И жизнь отметила его неуступчивую верность своей
наградой: она сделала его неудачником, почти дон-кихотом.
И он оказался достоин своего жребия, ибо нес и свою тяжелую
болезнь, и это неудачничество светло и мужественно, не
ожесточаясь, но принимая за естественное последствие своего
служения. Люди видели спокойную, тяжелую поступь и кованые
латы, и немногие знали, какое сердце было под этой
кольчугой, какой свет исходил из этого сердца, какая радость светила,
какая детскость таилась...
Мы знаем, какое богатство невыполненных замыслов,
проработанных тем, нерассказанных созерцаний унес ты в могилу.
Но верим и знаем вместе с тобой, что никогда не исчезает в
мире духовная сила. И если уходит из редеющих рядов наших
воин Христов от трудного часа, значит, отозван. Таинство
смерти, ныне свершившееся, не пошатнет эту веру, и печаль
нераздельно сливается с радостью за воина, прошедшего до
конца трудный путь. Знаю, что так ты умел чувствовать
смерть. И хочется над этим гробом сказать словами великого
634
Сергей БУЛГАКОВ
твоего одноименника, коего чтил ты как своего философского
учителя, Владимира Соловьева:
Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови;
Все кружась исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви1.
<^5^
^^
Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Памяти В. Ф. Эрна
Смерть Владимира Франциевича Эрна есть большая утрата
для духовной жизни России. У нас немного людей с таким
религиозным рвением прокладывающих пути духовного
самоопределения нации. Упрямо и деятельно отстаивал В. Ф. свои идеи,
самостоятельно и своеобразно поддерживая традиции
славянофильства.
Как философ, он защищал течение мистического
платонизма, освещая его идеями Отцов Церкви. Он считал, что наша
самостоятельная русская философия должна быть христианским
платонизмом, стоящим в позиции, враждебной к
западноевропейскому рационализму, гегелианству и кантианству.
Истолкование Платона через Канта и через немецкую философию
казалось ему глубоко неправильным, и он искал других путей,
ведущих к истинному Платону, и нашел их в итальянской
философии.
Таким путем он пришел к изучению Розмини и Джоберти, и
дал о них два ценных исследования, тем более ценных, что эти
философы совсем неизвестны в России и мало известны в
Германии и во Франции.
Но главной задачей своей научной жизни В. Ф. ставил
написать оригинальное русское исследование Платона, к которому он
всегда и шел как к конечной цели. К сожалению, он успел дать
только одну первую статью о Платоне, которая появится
посмертно в «Вопросах философии и психологии» *.
У Платона В. Ф. считал центральным правильное
истолкование Логоса и всегда боролся с рационалистами за истинное
понимание Логоса. Так возникла его книга «Борьба за Логос».
В своем стремлении утвердить и показать самобытность
русской философской мысли В. Ф. открыл жившего в XVIII веке,
забытого русского философа-самоучку, Сковороду, и написал
о нем монографию.
636
Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Из его ранних статей должна быть особо отмечена статья,
помещенная в «Русской мысли» под заглавием «Идея
катастрофического прогресса», написанная за семь лет до войны и во
многом оказавшаяся пророческой2.
Все, кто посещал заседания Религиозно-философского
общества имени Вл. Соловьева, помнят, конечно, выступления
В. Ф. Эрна, вызывавшие порою горячие споры своими
упрямыми и резкими формулировками. Но В. Ф. Эрн был тем редким
типом спорщика, которым никогда не возражают лично,
самолюбиво, обидчиво. Он защищал всегда только идею, а не себя.
Поэтому после спора его оппоненты чувствовали к нему какую-
то особенную непобедимую симпатию. Он был человеком
кристальной, ангельской души, и она светилась в его глазах, даже
когда он спорил и негодовал.
^^
^^
С. Л, ФРАНК
Памяти В. Ф. Эрна
В расцвете творческих сил неожиданно скончался в Москве
выдающийся философ и публицист, один из оригинальнейших
и ярких умственных деятелей нашего времени Владимир Фран-
цевич Эрн. Пишущий эти строки испытывает личную
нравственную потребность послать последнее прости усопшему
мыслителю и напомнить о его больших, еще недостаточно оцененных
заслугах перед русской наукой и общественностью. Мне
приходилось не раз скрещивать шпаги с В. Ф. Эрном в идейном
поединке. Это не помешало нам, при личном знакомстве, ощутить
нашу духовную солидарность и войти в дружеское общение,
память о котором мне теперь особенно дорога. Как личность
В. Ф. Эрн принадлежал к тем исключительно привлекательным
натурам, которые невольно трогают и возбуждают любовь к
себе: с пылкостью нравственного темперамента, с идейной
нетерпимостью, часто доходившей до фанатизма, он сочетал
личную незлобивость, очаровательную мягкость, доброту и
радушие к людям.
Как мыслитель и публицист В. Ф. Эрн был, как говорится,
вылит из цельного куска: им владела, его вдохновляла одна
идея, которой он посвятил всю свою недолгую жизнь. То была
глубочайшая вера в духовное призвание России, в особое
слово, которое призвана сказать миру Россия. Он был одним из
самых ярких и талантливых представителей нового,
возродившегося за последнее десятилетие русского славянофильства.
Его публицистическая деятельность началась в
революционные 1905—1906 годы, когда он вместе с некоторыми своими
единомышленниками основал Братство христианской борьбы;
кружок этот мечтал об обновлении Церкви через слияние
православно-христианских идеалов с идеями демократии и
социализма. В ряде философско-публицистических статей,
собранных позднее в книге «Борьба за Логос» (1911), он отстаивал
достоинства восточно-православного умозрения, которое он
638
С. Л. ФРАНК
противопоставлял, как цельное и живое знание, критицизму и
рассудочности западной философии. Теми же идеями
проникнуто его интересное исследование о первом русском философе
Сковороде («Григорий Сковорода. Жизнь и мышление». «Путь».
1912). Публицистическая деятельность В. Ф. Эрна достигла
высшего расцвета в первый год войны. С необыкновенной
чуткостью и остротой он всем своим существом прочувствовал и в
блестящих статьях исповедал идейный смысл военного
столкновения с Германией; его нашумевшая речь «От Канта к Круп-
пу» была лишь доведенным до парадоксальности
преувеличением правильного в своей основе сознания зависимости
германского хищнического империализма от духовного упадка
и материалистического уклона германской культуры
(Относящиеся сюда литературно блестящие статьи представлены в
сборнике его статей «Крест и меч» и в брошюре «Время
славянофильствует». 1915 г.).
Своими собственными путями он шел и в своей научной
деятельности. Его религиозное миросозерцание, как и влияние
кн. С. Н. Трубецкого, учеником которого он был, влекло его к
античной философии. Он мечтал, как о научной задаче всей
своей жизни об углубленном уяснении смысла философии
Платона. Он успел осуществить лишь приступ к этой задаче, написав
два исследования по истории итальянской философии XIX
века, корни которой, через философию эпохи Возрождения,
восходят к платонизму. Это — «Розмини и его теория знания» и в
особенности глубоко задуманная и блестяще написанная книга
«Философия Джоберти» (1916) — ценнейший вклад в историю
платонизма.
Горячее, глубоко идейное религиозно-нравственное и
патриотическое воодушевление Эрна, его живая вера в духовную мощь
России и его редкий дар вдохновенного слова были бы так
нужны в эти тяжкие, трагические дни, когда вся судьба родины
зависит от углубления нравственного чувства и
патриотического сознания. Теперь, когда тяжелые уроки жизни научают нас
понимать ложность, более того, безнравственность плоского
рационалистического космополитизма, когда мы начинаем всем
сердцем чувствовать, что путь ко всечеловеческому братству идет
не через отрицание, а через укрепление национальных
культур, проповеди Эрна, быть может, суждено было бы сыграть
большую историческую роль. Тем тяжелее провожать в могилу
молодого, еще полного сил борца за духовное возрождение России.
<^5^
<Ξ^
В. В. Розанов
Памяти Владимира Францевича Эрна
Русская литература и философия понесли большую утрату в
лице скончавшегося на днях в Москве Владимира Францевича
Эрна. Он умер в полном расцвете жизни, всего тридцати пяти
лет, и кончина его вызовет в Москве не только сожаление,
даже не одну скорбь, но и рыдания. До того весь очерк
личности его был прекрасен, исключителен, до того, наконец, он был
необходим сложившемуся в Москве кружку молодого
славянофильства, коего он был одним из возродителей, защитников и
пропагандистов. Человек огромной логики, обширнейших
знаний, и знаний редких, в которые немногие заглядывали, он
вместе с тем весь пылал живым ощущением действительности,
связями с трепетом текущей минуты. Немец по роду и
племени, он был определенно враждебен немецкой культуре,
немецкой образованности, немецкой философии, как совершенно его
собрат по духу, Владимир Даль, собиратель пословиц и говоров
на Руси. Эрн, точно так же как и Даль, весь врос в русскую
землю, и слаще русской почвы не находили на земле его немецкие
корни. Глядя на лица, как Даль и Эрн, дивишься близорукости
Бисмарка и двух Вильгельмов, вообразивших, что в
«будущности русские и Россия станут навозом для немецкого гения».
Как бы не так: да русский природный человек, при всем
алкоголе в его крови, при всей халатности, лени и прочая, и прочая,
настолько острее противных колбасников, настолько
талантливее, шире, сердечнее и упоеннее всяческими упоениями, и
худыми, и здоровыми, что, конечно, никто еще не видывал
русского человека, переродившегося в брандербуржца, а немцев,
переродившихся в москвичей, до такой степени
переродившихся, что их от всего брандербургского тошнило, — сколько
угодно. Опасно немцам сближаться с русскими, потому что русская
утробушка немедленно переваривает их и обращает в русскую
кровь, в русское мясо, в русскую душу.
640
В. В. РОЗАНОВ
И дело очень просто: русская душа широкая, а немецкая
душа узкая. Широкое в узкое не влезет, а узкое в широкое влезает.
Русские добрее, русские ласковее немцев. Какое же сомнение,
что русские их сильнее. Сближайтесь, сближайтесь, господа
немцы; посмотрим, кто кого съест, кто для кого будет
пассивным навозом. Вы еще не имеете ни одного Иванова, который бы
обратился во Франца Вильгельмовича Иванова, лютеранского
вероисповедания и с юнкерскими прусскими идеями: а мы уже
имеем Владимира Даля, перекрестившегося из бусурман в
православие, Климента Зедергольма, перешедшего в русское
монашество, теперь полуславянофила Петра Бернгардовича Струве,
и вот полного и пылкого славянофила Владимира Францевича
Эрна. Так что у нас, у русских, в кармане уже лежит, а у
немцев ничего от русских в кармане не лежит. Куда же этим узким
немецким душонкам с русской душой соперничать. Русская
душа бесконечна и идет к Богу, немецкая выше Unter den
Linden не поднимается. Из немцев еще стал горячим русским
патриотом Эрнест Львович Рад лов. Да вообще культурно и духовно
русские везде побеждают немцев. У нас только в дипломатике,
войне и в торговых договорах выходит «не очень». Но это мы
поправим, раз уж наш дух сильнее немецкого.
Громадные труды В. Ф. Эрна открыли для русских
совершенно новую область философии: именно открыли им
итальянскую метафизику в лице двух великих мыслителей, Розмини и
Джоберти. Каждому из них он посвятил по обширному
исследованию. Слово это совершенно новое на русской почве, на
которой мы до сих пор жалко топтались между Бюхнером и
Гегелем, между Карлом Фохтом и Кантом. С этою противною и всем
надоевшею немецкой традициею давно пора кончать. Довольно
с Немцев, что они забрали нашего Мясоедова1, и незачем им
забирать русские философствующие головы.
Родился Эрн в Тифлисе, где в конце 90-х годов прошлого
столетия сформировался целый кружок славянофилов, из
которых назовем, кроме Эрна, еще Флоренского, Цветкова
(классически издал «Русские ночи» кн. Одоевского) и Ельчанинова.
Так русские березки красиво сплелись с кипарисами юга.
Вечная память Эрну! Вечная ему благодарность каждого
русского сердца. Всегдашняя наша историческая ему любовь.
^5^
С. H. БУЛГАКОВ
Памяти В. Ф. Эрна
(Речь в заседании Московского религиозно-философского
общества памяти В. Ф. Эрна 22 мая 1917 года)
Человек, уходящий из мира, оставляет за собой свои дела,
но уносит живую тайну своего лица, загадку своей духовной
личности в ее единственности и неповторимости. И невольно
хочется на этих первых поминках ушедшего друга, когда
свежа еще душевная рана, говорить не о «вкладе» и деле, не об
идейных заслугах, но о нем самом. Нужен не панегирик, но
внимательное всматривание и любовное вслушивание в музыку
его души. Хочется, хотя робко и неумело, запечатлеть черты
его лица, зарисовать духовный контур. Задача трудная и
деликатная, к которой приступаешь робея, но только об этом я и
хотел бы сегодня говорить.
Индивидуальная стихия всегда многосложна и многослойна.
В духовном облике В. Ф. Эрна особенно явственно выступали
два слагаемых, две краски, которые, не смешиваясь, лежали
рядом и своими переливами давали живописную игру. Может
быть, это были и две смешавшиеся крови, — одна явно
нерусская, — В<ладимир> Ф<ранцевич>. По фамилии и по отцу
происходил из шведского рода, — другая же русская, точнее,
славянская. Смешение кровей не только дает таланты, как об
этом свидетельствуют биографии большинства русских
писателей (Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тургенев
и др.), но их до известной степени и определяет: что
получилось бы из Жуковского, если бы отнять у него мечтательную
созерцательность турецкой Шахерезады, а у Пушкина его
арабскую огненность, у Лермонтова шотландскую сумрачность?
В Эрне шведское начало было волевое, определяющее
эмпирический характер, в отличие от духа, Психею. Общественный
642
С. H. БУЛГАКОВ
деятель, борец и полемист, рыцарь и крестоносец в нем
принадлежали к шведскому ордену. Напротив, вдохновенный
созерцатель святой Руси, чтитель Афродиты и Эроса — славянин по
крови и душе. И однако первое неразрывно соединялось со
вторым, а второе укрывалось под защиту первого. Однажды на
выставке Чурляниса, увидав его картину «Мысль», я был
поражен, до чего она выражает эту особенность духовного облика
Эрна: из-под тяжелой брони какого-то несокрушимого
чугунного массива светится белое, чистое, ясное, кроткое и мудрое
пламя.
Духовному облику Эрна была свойственна черта глубокого
внутреннего спокойствия и уверенности: казалось, он не знал
сомнений; быть может, и потому, что не умел сомневаться. Он
был бесстрашен: и быть может, не потому только, что не знал
страха, но не знал и страшного. Он был незлобив и чист: и быть
может, не потому только, что побеждал грех духовным
подвигом, но и потому, что грех не имел над ним соблазняющей
своей власти, а на своем духовном пути он не встретился со злом.
Как Иракль переходя от подвига к подвигу, от чудовища к
чудовищу, в сущности оставался ребенком — исполином как
Зигфрид, сердцем чистый, der heilige Ihor1, Владимиру Франце-
вичу была присуща какая-то первозданная, полученная им при
рождении простота и ясность сердца, благодаря которой его
путь был кремнист, но ясен и прям. В нем не было ни
сложности, на изломов. Он нашел себя сразу не ища, был дан себе.
При своем благородстве и чистоте, исключавших у него самую
возможность пошлого, низкого, при совершенно
исключительной способности к дружбе, при таланте дружбы он мог
проявлять некоторую слепоту именно к началу зла в человеке, и
тяжело за это платился. Зато бессильна оказывалась против него
тягость жизни с ее пошлостью и грязью: она иногда его
омрачала, но лишь как легкая рябь кристально-прозрачную
глубину.
В этой душе не было трагического раздвоения или надрыва,
гамлетизма и изнурительного самоанализа, как негде было
поместиться и подполью: она была ясна и проста и целостна,
пребывая как бы в состоянии до грехопадения. Мало того. Наблюдая
его более 10 лет и сопоставляя мне известное из более раннего
прошлого, я должен не без некоторого удивления признать, что
Вл<адимиру> Ф<ранцеви>чу было вообще несвойственно
развитие, если под этим понимать перемену, выявление и опознание
себя во времени, чрез движение в нем. Конечно, всякая
индивидуальность в кривой своего пути выявляет свою собственную
Памяти В. Φ. Эрна
643
орбиту, и ее можно духовно увидеть, синтезируя время, как
черты живого лица. Но, по-видимому, при этом есть два типа:
один определяющийся по горизонтали, временным
выявлением, а другой — по вертикали, углублением изначально уже
данных черт. В<ладимир> Ф<ранцевич> более приближался ко
второму типу. Насколько мне удалось узнать из разговоров с
ним, всегда, по крайней мере уже с гимназической скамьи,
когда закономерно наступает некоторое духовное буйство,
неверие, сомнение, он был неизменно верующим, крепким
христианином. И с тех пор, как я его узнал (около 1904 года), я нашел
в нем, юноше, все те идеи и мотивы, которые потом
обнаруживались в его творчестве. Они созревали и углублялись, но не
изменялись. Ранняя смерть, безжалостно перервав нить его
трудов, унесла много недосказанных и невысказанных слов, но,
думается, не было слов несказанных, кроме того, что
несказанно и несказуемо. Люди потеряли от этого, но в его духе было
уже зарождено — и не только зарождено но и родилось то
существенное, для чего он был призван, душа узнала и нашла самое
себя Я подхожу здесь к интимнейшей и ответственнейшей
точке этого определения, где можно ссылаться только на свое
личное самоощущение. Но оно говорит: смерть В<ладимира>
Ф<ранцеви>ча была трагически преждевременной лишь в
смысле эмпирических свершений, она вырвала из строя Борца
самого смелого и мужественного. Но духовный смысл ее как-то
начинаешь понимать без протеста: он для себя уже созрел. И он
был настолько бесстрашен, чтобы смелым порывом веры
первым из дружеского круга ринуться в те врата, перед которыми
все еще трепетно останавливается сердце. Он там передовой,
ибо уже совершил для себя в пределе земного все земное. Он не
терял времени на блужданья, он сразу нашел себя и начал себя
утверждал. Время для него было сгущенным, а потому
оказалось и коротким. Конечно, так судить можно только post
factum; никогда человеческая мудрость не в состоянии определить
тот момент, когда созреет голос духовный. Но совершившееся
понимается так.
Всматриваясь в духовное лицо В<ладимира> Ф<ранцевича>,
все яснее начинаешь различать эту его шведско-славянскую
двойственность. И самое замечательное здесь то, что она дает
и сложный метафизический возраст, и сложную половую
характеристику. Шведская психия его, этот негибкий,
прямолинейный, почти жесткий характер отличается полной
возмужалостью, и это бросалось в глаза с особенной силой в его
юношеский возраст, когда эта волевая оболочка казалась порой
644
С. Я. БУЛГАКОВ
забронированностью, непроницаемостью, граничащей с
глухотою. Атлетическая мускулатура воли, дававшая ему такое
спокойствие силы, воспринималась в нем как нечто нерусское,
чуждое женственному, зыблющемуся, расплывающемуся
нашему облику. И кроме того, мне всегда казалось, что эта защитная
броня есть нетворческое начало в его духе, а только служебное
и притом иногда вяжущее. Напротив, дух Вл<адимира> Ф<ран-
цеви>ча, источник его творчества и вдохновений, светильник
мира и радости, имел бесспорно юношеский, почти отроческий
возраст, соответствующий поре окрыленности и горения. Это,
по платоновскому «Федру», та пора, когда пробиваются перья
крыльев души и испытывается эротический зуд2. И именно эта
юность духа делала В<ладимира> Ф<ранцеви>ча
философским поэтом Эроса и Афродиты.
Начало волевой мужескости, соответствующее в нем
шведской стихии, имеет само по себе подпочвенное сродство с
германским женоненавистничеством, безженностью, небрачностью,
насильничеством германского духа. Оно давало Вл<адимиру>
Ф<ранцеви>чу возможность внутреннего опыта для опознания
того протестантского начала, сущность которого состоит в
отрыве от души мира, Вечной Женственности, что
обнаруживается в неверии в Богоматерь и всяческом иконоборчестве. Его
увидал, понял и возненавидел — конечно, духовной
ненавистью — Вл<адимир> Фр<анцеви>ч, как только осознал себя.
В германском соблазне он познал величайшую духовную
опасность для русской души. И позже, когда эта опасность стала
ясна для всех с началом войны, он только резче и решительней
выявил это свое знание, засвидетельствовав, что Германия
закономерно движется от Лютера чрез Канта к Круппу.
Германская стихия вампиризма и насильничества есть мужская сила,
не умеряемая и не увлажняемая женским началом,
разъединенность обоих начал, духовная безбрачность. Отсюда это
мироощущение призрачности, идеализма и соотносительного с
ним механического материализма. Вот почему Кант
соотносителен Круппу и Гинденбургу, — идеализм торжеству
механизма и милитаризма. Все это Вл<адимиру> Ф<ранцеви>чу
открывалось не только чрез изучение истории философии и
культуры, но и чрез внутренний опыт, я готов сказать, чрез его
шведскую кровь, которая одновременно и родственна с
германской, тронута ее протестантской тинктурой, но вместе с тем и
отлична от нее: здесь есть вражда кровных родственников,
духовно разошедшихся в разные стороны, но сохранивших
способность видеть и понимать друг друга изнутри.
Памяти В. Φ. Эрна
645
В частности, наибольшее отталкивание вызывало в Эрне то
своеобразное мужское хлыстовство, оргиазм силы и насильни-
чества, пьяность человечности в протестантской религии, в
философии, в науке, в технике, в войне, какая составляет
наиболее глубокую черту внешне трезвого германства. Это
хлыстовское исступление и есть пафос германского милитаризма,
воли к власти, к миродержавству, мировой его Drang. И
именно это мужское хлыстовство Германии соблазняет, одуряет
Русь чрез ее стихию женского хлыстовства, на которую оно
действует, как пожарный на кухарку. По-разному может
титуловать себя эта русская Матрена: неокантианство, марксизм,
большевизм, ленинство и т. д.3 Все это русские мухи,
бьющиеся в паутине немецкого паука. И вот эту-то паутину с
прямолинейностью, до известной степени заставляющей вспомнить и о
германской крови, хотел разорвать и прорвать В<ладимир>
Ф<ранцеви>ч всеми способами. Он делал это и чрез историю
философии: ибо писал ли он о Сковороде или Джоберти, или
прагматизме, или о чем угодно, все это имело один пафос: надо
бороться с новейшим варварством, осуществляемым в
Германии. Это же в популярной форме он развивал в публицистике
последних лет, времени войны. Тем же самым органом, каким
он любил и благословлял античную, средневековую и русскую
культуру, он враждовал и боролся с германской или, шире,
новоевропейской. Если мерить по минувшим эпохам, то он был
романтический реакционер; если же по духовным
учреждениям, то он опередил «новое время» и был для него поэтому
чужд.
Мужское и возмужалое начало в Эрне было воинствующим,
делало его неистовым Ареем, Гераклом, не боящимся никаких
Лернейских гидр4. Но не оно, на мой взгляд, было источником
его прозрений и созерцаний, не это делало его вдохновенным
чтителем Афродиты и глашатаем Эроса, и не оно открывало его
душе сокровища русской души и ее христианские святыни,
солнечное явление преподобных Сергия и Серафима. То было
другое, юношеское начало, которое находилось даже в
некоторой связанности у первого; различие возрастов обеих стихий
души было причиной какого-то несоответствия, некоторой
дисгармонии в облике Эрна. Двоилось и от него впечатление в
зависимости от того, какая из двух стихий сильнее
воспринималась. И этот юноша, нежный, чистый, целомудренный имел
очень юный, почти отроческий возраст, соответствующий поре
едва пробуждающейся любви, когда созерцаются уже явления
Афродиты и вырастают крылья для эротических взлетов, но
646
С. Я. БУЛГАКОВ
настоящая любовь еще не испытана. Афродита является как
мечта, остается трансцендентным видением, созерцанием, и
крылатый бог узнается в наступлении юношеского экстаза.
Чтобы договорить свою мысль до конца, с риском ее огрубить,
я скажу, что это пора самого раннего жениховства, однако еще
до брачного возраста. Здесь не достигнута брачность духа,
вполне раскрывавшего свою полярную раздвоенность, и
притом все-таки остается преобладание мужской стихии, Арея,
который только созерцает, но не познал Афродиту. Суровое и
жесткое начало возмужалой мужественности умерялось и
парализовалось в Эрне этой юностью, но и эта юность была тоже
мужская. Здесь есть нечто античное Платоно-Алкивиадов-
ское, — этом однополом складе души, и это показывает, что
влечение Вл<адимира> Ф<ранцевича> к античности тоже
имело своеобразную эротическую основу в строении души.
Но эта чистая, светлая, эротическая юность, вопреки и в
противоборстве с возмужалой мужескостью, сделала его
философию эротическою или, что то же, сделала его поэтом в
философии или чрез философию. Она открывала ему таинства
природы, являла ее как вселенскую Афродиту, как космическую
Церковь и вплотную подводила его к тайне женского начала в
божественном его лике. Есть какой-то глубокий смысл не
только в том, что В<ладимир> Ф<ранцевич> высшим замыслом
своей жизни, который согревал изнутри и осмысливал все его
работы, почитал книгу об Афродите Небесной, но также и в
том, что ему не дано было ее написать: если верна
вышеизложенная характеристика, то он оставался от нее всегда на
неощутимом и, однако, реальном, непреходимом расстоянии, —
созерцал и любил, но извне, трансцендентно, сам оставаясь
однопол (насколько это вообще возможно). Если выразиться на
языке А. Н. Шмидт, то приходится сказать, что он был
мужской нечетный дух, сложного возраста, юношески возмужалый
одновременно лет примерно семнадцати и сорока5.
Мне кажется, что к тайне русской души и откровениям
русской стихии Вл<адимир> Ф<ранцевич> подходил из
православия и чрез православие, а не наоборот. Потому, между прочим,
в его православии были сильнее подчеркнуты тона вселенского
христианства, нежели русской национальной веры: языческая
русская стихия, то, что можно назвать в нас православное
язычество или языческое православие, не было для него раскрыто
в равной степени, но именно это делало его отзывчивей и чутче
к европейской культуре, делало его органически западнее. И в
душе его совершилось одно событие, имеющее не биографиче-
Памяти В. Φ. Эрна
647
ское только, но культурно-историческое, духовное значение:
в нем эллинская стихия встретилась с русско-православной
и осознала себя с нею в духовном родстве. Обнажилась
сокровенная глубина православно-русской природы и оказалось, что
на дне ее бьет ключ чистейшего эллинства, что не только
православие мы приняли из Византии, но и душу как-то сроднили с
Элладой. Оказалось, что православные русские и суть новые
Эллины, хоть о том почти еще не ведущие. Осознание этого
сродства, которое было совершенно чуждо старому
славянофильству с его местным национальным самосознанием, есть дело
нашего поколения, совершилось на наших глазах, чрез наших
сверстников, современников: это Вяч. Иванов, свящ. П. А.
Флоренский, В д. Ф. Эрн. Конечно, это назревало уже в предыдущем
поколении, у отцов наших: Вл. Соловьева с кн. С. Н.
Трубецким чрез философию, в Φ. М. Достоевском, конечно, связанном
здесь с Пушкиным чрез некое элевзинское посвящение в
таинства Деметры, а еще отдаленнее от Сковороды. Речь идет здесь,
конечно, не о влиянии идей и не об эллинизме как увлечении
классическими древностями и их изучения (здесь, конечно,
впереди стоит все же Германия), но о восприятии эллинского
духа как начала живого и культурно животворного. То, о чем я
говорю здесь, есть почти предчувствие и многим покажется
увлечением, пусть так. Но лишь в этом свете получает свою
надлежащую оценку и явление Эрна с его усиливавшейся тягой к
Платону и эллинству, с его моноидеизмом о Платоновой музе,
с его видением Афродиты. Он был один из первых русских
эллинов в душе и есть явление вещее, пророческое для будущего
русской культуры. И это вовсе не языческий ренессанс, какой
пережил Запад, не отречение от христианства под предлогом
классицизма, но исполнение православия и его правды, ибо
античность есть языческий ветхий завет по отношению к
христианству, а более всего к эллинскому православию. И живое
мистическое русское православие должно рано или поздно
опознать себя и с этой стороны. И что самое замечательное, одним
и тем же души, тою же ее глубиной он постигал и откровения
эллинства, и светоносную белизну святости Серафимовской, и
музыку видений Беато Анжелико, и гимн Франциска
Ассизского, и все это сливалось в его душе в мировую симфонию, в
хвалу миру и его Славе, Славе земли Невесте Неискусомужной,
Деве Матери, коей языческий иероглиф благочестивые эллины
начертали в сложном образе Афродиты — Деметры. И что
самое важное, это соединение в нем было не программа, не
доктрина, но духовная реальность, факт истории духа, который мы
648
С. H. БУЛГАКОВ
и должны достойно постигнуть. То, о чем говорит «новое
религиозное сознание» теоретически программно, здесь в известной
мере становилось уже фактом. Явление Эрна есть уже одно из
таких свидетельств сдвига, происходящего в религиозных
недрах мира, назревающих новых откровений о святой плоти,
Царстве Духа, пришествии Утешителя. И жизнь, и смерть его
утешают нас этим утешением ибо приоткрывают даль
всеобщего мирового Утешения.
И в первом моем впечатлении при первом знакомстве при
жизни его, и в последнем восприятии от мертвого лика
одинаково ощущалось веяние белого, аполлинического луча, на нем
игравшего. Что-то было здесь неуловимое, то, о чем сказано в
Книге: «побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто получает» (Апок. 2:7).
^^
Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ
Памяти Владимира Францевича Эрна
Солнце — Сердце.
Вяч. Ивановλ
Милый друг! Я думал, что сказать о тебе в этот вечер,
посвященный твоей памяти. Но из слишком многих воспоминаний,
которые я мог и должен был бы рассказать здесь, я не умею
выбрать какое-нибудь одно, — мысль разбегается и тщетно
силится остановиться, ограничив себя. Сам знаешь: когда
приходится разбирать вещи любимого умершего с тем, чтобы на
память себе удержать одну, остальные же раздать, — труден
выбор. Но то вещи. А воспоминания — они ближе к сердцу,
и уединить внимание на одном — кажется обидой для других;
как признать их худшими? Но может ли у меня не быть
многих воспоминаний? Долгое время нашего знакомства, а потом
и дружбы свидетельствует противное. Ведь мы с тобой учились
вместе со второго класса гимназии, часто бывали друг у друга,
прожили в одной комнате университетские годы и в
дальнейшем часто виделись и гостили один у другого; вместе
увлекались мы многим, самым дорогим для нас, вместе
воспламенялись теми мечтами, из которых потом выкристаллизовались
наши позднейшие жизненные убеждения; вероятно, немного
есть мыслей, которые не прошли чрез совместное обсуждение.
Наша общая жизнь была насыщена и философскими
интересами, и горячим чувством близости; мы прожили нашу дружбу не
вяло, — и восторгаясь и ссорясь порою от перенапряжения
юношеских мыслей. Мы вместе бродили по лесам и по скалам
преимущественно, вместе читали Платона на горных
прогалинах и на разогретых солнцем каменных уступах. Вместе же
ценили мы благородный пафос кн. С. Н. Трубецкого и острую
критичность Л. М. Лопатина, подсмеиваясь над лжеучеными
650
Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ
притязаниями важных наших философских сотоварищей. И мы
взаимно наблюдали, часто не говоря о том, ломки, тайные
надломы в недрах души друг друга, и оба скорбели, в бессилии
помочь, и оба уповали на иные силы помощи, из Вечности.
Удивительно ли, милый друг, что у меня нет решимости из
этой сплошной картины воспоминаний, из этих сплетающихся
в одно целое впечатлений солнечного зноя, горячих скал,
серых, грязно-зеленоватых и ржаво-красных лишаев, глубоких
синих далей, тонкой каменной резьбы полуразрушенных
древних храмов, выжженных полей, карабкающихся где-нибудь по
кручам коз, темной синевы небес, сухого ковыля, летящего в
горячем ветре, воздуха, окутывающего строгим благовонием
богородичной травки, горной полыни и мяты, ломких
иммортелей и других горных трав, и наконец, потоков слепящего
света, — удивительно ли, если из всех этих впечатлений,
сплетшихся с впечатлениями от тебя в неразрывное целое, я не
нахожу в себе решимости вырывать отдельные случаи. Не от
недостатка, а от избытка не решаюсь и не буду пробовать.
Лучше я расскажу тебе об одном новом впечатлении в связи
с твоим отходом отсюда. В Субботу 29 апреля текущего 1917
года я служил воскресную всенощную у себя, в церкви Красного
Креста2. Запели стихиры на «Господи воззвах», и тут напало на
меня странное состояние, внешне как будто оцепенение, что ли,
и временное забвение всего, что было кругом. Сколько длилось
это оцепенение, я не знаю, — вероятно, не долго, потому что до
окончания стихирь я уже пришел в себя и заметил, что мои
глаза мокры от слез. Внутренно оно было и полно содержания и
как бы длительным. Мне представлялся ряд ярких, почти как
сновидческие образы, быстро проносящихся видений,
воспоминаний нашего с тобою знакомства, наши прогулки, наши
разговоры, все наше общение. Они развертывались, как лента
жизни, я не помню их порядка, но помню, что среди видений был
ты мальчиком, еле знакомым еще со мною, несущим по
солнечной улице под мышками кур, которыми ты занимался тогда с
тою же безраздельностию, с какою впоследствии отдавался
всякому порыву. Мне представились и другие твои увлечения,
твои беседы, твои борения, слезы твои, когда тебя обижали, —
все твое или к тебе относящееся. Мне представилась, словом,
вся твоя жизнь, насколько я знал ее, последовательная и
вместе — в едином созерцании.
Но в содержательности многообразной картины твоей жизни
мне чувствовалась одна первичная интуиция. Все впомнившее-
ся о тебе относилось к солнечным дням, к жаркому времени
Памяти Владимира Францевича Эрна
651
Закавказья, в особенности к знойному и ослепительному лету.
Твой образ рисовался моему воображению, если это было
только воображение, в воздушной перспективе прозрачно глубокого
горного воздуха, в ослепительном, как только на горах бывает
ослепительно, знойном солнце. Я не помню, вспоминался ли
ты мне в комнате или среди зимней природы, но если это и
было, то не задело сознания: все яркое, запечатлевшееся было
пронзено лучами солнца, вихрем неслись воспоминания и еще
более быстрым вихрем срастворенные с образами мысли.
Словно что-то искалось. Но как только было сказано это слово
«пронзено солнечным лучом» — мысль нашла себя. А, так вот
что!
Вихрь замедлил свое течение. Мне вспомнился тогда твой
последний приезд ко мне в Посад на Масляной этого года, когда
ты только что окончил свою статью о Платоне и перед сдачею в
печать привез прочитать ее и посоветоваться о ней. Помню,
как ты отмечал значительность для тебя этой работы, —
первой главы или части из предполагавшейся книги о Платоне.
Ты говорил, что считаешь себя ничего до сих пор не
написавшим и что это первая работа твоя, которая почти адекватно
выражает твою мысль и которую ты признаешь за удавшуюся
тебе. Ты считал, что до сих пор ты не существуешь как
писатель и лишь этой работой вступаешь на писательское поприще.
Но отмечал ты и то, что в этой первой части твоего труда уже
содержится вся суть твоей книги и что книга должна быть
проработкою и оплотнением тех мыслей, которые уже высказаны
здесь, в этом вступлении. Потому-то тебе и хотелось совместно
обсудить эту первую главу, предупреждая этим
неправильности в сложении книги. При этом мне хорошо запомнилось твое
утверждение, что основное в этом исследовании — интуиция
Платона — после многих поисков и изучений далась тебе
ВДРУГ, летом 1916 г. в Красной Поляне, среди гор, и что эта
интуиция определяет весь план и характер твоей книги.
Впрочем, не трудно было запомнить это: ведь ты мне несколько раз
говорил по приезде из Красной Поляны, а, кажется, и писал
оттуда, что лето 1916 г., — последнее твое лето, — открыло тебе
Платона, ибо ты нашел его первичную интуицию. А открыл,
ибо сам пережил нечто подобное. Да и теперь, в это последнее
посещение Посада, ты, уже с отравленным организмом и
жестокою головною болью, несколько раз повторил мне то же.
Со стороны формальной, мысль, развиваемая тобою, —
общая нам обоим мысль, неоднократно обсуждавшаяся нами, —
а именно, что философские воззрения Платона суть диалекти-
652
Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ
ческая проработка его биографически-личного мистического
опыта. Но если так, рассуждал ты, то и характер всей мысли
Платона определяется каким-то исходным опытом, впервые
введшим Платона в Царство вечного бытия и в зачатке
содержащего всю систему мысли Платона. Таковы, по крайней мере,
были твои рассуждения. Я сейчас не хочу спорить с тобою по
поводу того, как спорил отчасти и тогда, ибо они важны для
меня как твои. И вот если был такой первоопыт Платона,
такое посвящение его, то естественно было тебе искать в его
диалогах и самоличного свидетельства Платона об этом первоопыте,
в его точной и подлинной записи. Открыть эту запись значило
для тебя найти дверь, вводящую в мысль Платона, в ту дверь,
чрез которую Творец системы сам вошел в нее; это значило для
тебя оглядеть систему Платона с той единственной точки
зрения, в ее истинной перспективе, с какой впервые увидел ее, в
ее целом, сам философ. Эту первичную запись платоновского
посвящения и, следовательно, первичное изложение
платоновской мысли в ее целом ты нашел в «Федре», в том, что ты
назвал «солнечным посвящением Платона». По твоему
убеждению, именно в той самой конкретной обстановке, которая
изображена с протокольной точностью в диалоге «Федр»,
Платон пережил там же изображенное экстатическое состояние от
ослепительных лучей полуденного солнца Аттики, среди
раскаленных скал и выжженных полей. В этом экстазе, или
«солнечном восхищении, άρπαγμός ηλιακός» Платон воспринял
светоносно солнечную природу горнего мира. Так был открыт
Платонизм. Все, что говорил ты в пути, значительно и важно и
для Платона, и для тебя самого, ибо твое исследование о
Платоне, несмотря на замкнуто объективный характер изложения,
было явно автобиографично и явно опиралось на лично
пережитое. То же, чего ты не договаривал о Платоне, еще более
характерно для тебя. Ты не видел ночной стороны платонизма,
ты отрицал его дионисийство; и я тогда много спорил с тобою
насчет этого, имея в виду Платона. Теперь я не стану спорить,
имея уже в виду тебя: увы, жизнь показала, что я был прав.
Автобиографическая сторона твоей работы в
односторонне-солнечном истолковании Платона болезненно задела меня и,
может быть, по преимуществу педагогически я тогда спорил с
тобою, желая отвлечь тебя несколько в сторону. Нельзя жить с
сердцем, пронзенным одною только солнечностью; там, где нет
творческого мрака пещерных посвящений, Солнце-Аполлон
сжигает и губит, переходя в Молоха. И как ты не мог понять,
что солнечное восхищение, тобою описанное, уже есть, в своей
Памяти Владимира Францевича Эрна
653
односторонности, нарушение мистического равновесия, уже
есть солнечная смерть. Я помню, что формально ты
соглашался со мною, но мои слова не доходили до твоего сознания, а
между тем ты знал гибельность солнечного воспарения, знал
на опыте и как-то не считался с ним. Ведь ты помнишь тот
опыт, который открыл тебе понимание Платона: в июле 1916
года, кажется 25-го числа, т.е. как раз «на макушке лета», по
народному выражению, на Анну-зимоуказницу, ты
поднимался из Красной Поляны на вершину Ачишхо. Снежные
твердыни, залитые потоками всепобедного солнца, которое в горах, и
в особенности на этот раз, сияло как-то исступленно, вызвали в
тебе солнечное восхищение, как сам поведал ты. И уже после,
когда впечатление ослабло, — осенью, ты рассказывал об этом
созерцании, как об «ужасном», «потому что», говорил ты,
«невозможно видеть такую красоту и не умереть». И этот круг
твоих мыслей, вращаясь в тебе полусознательно, облекся в
взволновавший тебя сон, виденный за некоторое время до смерти.
Ты видел себя держащим в левой руке свое сердце, которое
надо было тебе пронзить чем-то острым, что было у тебя в
правой, — пронзить как-то необычайно осторожно, ибо от успеха
этого все зависело. Это острое, думается мне, — была стрела
Аполлона. И, как бы перекликаясь с твоим солнечным
восхищением на Ачишхо, отвечает ему твой сон, виденный ровно
16 лет тому назад в Тифлисе 25-го же июля. Мне смутно
вспоминается та тревога, с которой ты мне рассказывал тогда о нем,
и его содержание. Но я имею возможность воспроизвести
современную запись его, найденную мною в твоем дневнике. Вот
она: «25-го июля 1900 г. Сегодня я видел страшный сон. Я был
осужден каким-то образом на самоубийство. Я отлично
понимал, что мне приходится расставаться с этою жизнью и
переселяться в иной мир, но я был как-то мрачно спокоен. Я отлично
представлял себе, как я подставлю холодное дуло револьвера
к сердцу и в одно мгновение спуском курка лишу себя жизни.
В той жизни я был уверен. Мелькала мысль о своих грехах, и я
чувствовал приступы отчаяния от того, что я не могу загладить
своего прошлого. Тогда я порывался умолять того, от кого
зависела моя жизнь, но ужасная мысль, что это напрасно,
останавливала меня. Тогда я вспоминал о всепрощении Бога, о
благости и милости Его и в мысли этой находил твердый источник
утешения... <...> Пред смертию я должен был попрощаться с
папой и мамой. В слезах я поцеловал папу, но папа, занятый,
кажется, чтением письма (брата) Коли, не обратил особенного
внимания на меня, попрощался со мной, будто я шел в город.
654
Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ
Мама перекрестила меня трижды, но слез не было. Потом я
остался один с мыслию о неизбежности скорой смерти. Ужасна
эта мысль. Я чувствовал, что меня давило что-то в грудь, я уже
начал покоряться необходимости, как вдруг я почувствовал,
что начинаю просыпаться... Что это значит?.. (Я никогда почти
снов не вижу)».
Переживая твою жизнь в кратчайший срок, я почувствовал,
что вся она была путем к радостно-восторженному пронзению
своего сердца солнечным лучем, и плакал я не о тебе, а о нас, в
тебе нуждающихся. Я не хочу сказать: «Ты сделал, что мог
сделать». Напротив, наблюдая тебя с детства, я весьма
определенно знаю, что ты принадлежал к числу тех, которые являют
собою прямую противоположность скороспелым гениям. Ты
развертывался с величайшею постепенностию и чрезвычайно
медленно. Знаю также и то, что ты действительно не успел
проявить своих возможностей и только-только начинал
входить в зрелый возраст, и я не буду утешать себя и друзей
ложными утешениями, будто бы ты достаточно поработал, ибо не
сомневаюсь, что в порядке историческом в нашем общении,
для нашей общей работы ты только теперь вступал в меру
твоего настоящего плодоношения. Но есть иные порядки и иные
расчеты. И в этой иной плоскости я слышу тебя говорящим:
«Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». А если готово,
то я не могу и не должен удерживать тебя от воспарения к иным
светам, предварениями которых готовился ты к последнему
восхищению.
На этом внутреннем решении прервался поток моих образов
и мыслей, но вместе с тем возникла полная уверенность, что
эти минуты были вызваны во мне тобою, уже не дождавшимся
моего решения. Вернувшись домой после службы и некоторых
дел я прочел полученную в мое отстутствие телеграмму,
поданную 29-го в 5 часов 23 минуты: «Эрн умер».
^^
С. АСКОЛЬДОВ
Памяти Владимира Францевича Эрна
29 апреля в Москве, почти накануне предполагавшейся
защиты своей докторской диссертации, скончался философ и
публицист больших дарований — Владимир Францевич Эрн.
Вл. Фр.* принадлежал к той категории людей, которых вполне
оценивают лишь после смерти. К нему подходят слова Ницше:
«я люблю тех, кто стыдится, когда в игре выпадает кость к его
удаче, и спрашивает тогда: разве я фальшивый игрок?»2 Этот
постоянный удел утонченного душевного благородства
жизненно проигрывать во всем и, между прочим, в справедливой
оценке, несомненно, постиг и Эрна. Он был часто не в ладах с
миром. Но внутренний «лад» его души, можно сказать, поражал
своим твердым и гармоническим музыкальным строем. В
речах, во всем внешнем облике, в твердом и спокойном взгляде
его глаз чувствовалась непоколебимая уверенность
интеллектуальной и моральной совести. От столкновения с этой
уверенностью нередко приходилось его идейным врагам. А их у него
было слишком много... Сильный диалектик и остроумный
полемист, Эрн был воинствующим рыцарем веры и убеждений.
И он не только стойко защищал определенные позиции, но и
любил делать смелые наезды во враждебный лагерь.
«Надлежит сперва битися» — девиз центральной для его
мировоззрения книги «Борьба за Логос»3. Мудрено ли, что у него было
много врагов. Но неудивительно и то, что у него было очень
мало союзников. Он, как никто, умел раздражать и беспокоить
идейную благовоспитанность академических пэров, а также
любителей всякого рода примирительных и нейтральных
позиций, одинаково ласково принятых во всех лагерях и легко
обижающихся за своих многочисленных друзей. Но даже и в среде
своих идейных единомышленников Эрн временами играл роль
своего рода «неистового Роланда», воинственные порывы кото-
656
С.АСКОЛЬДОВ
рого приходилось укрощать. Характерно, что последняя
напечатанная статья Эрна (Христианская мысль. 1917. № 2) опять-
таки рыцарски-боевая, посвященная защите друга в ответ на
иронический литературный шарж-портрет4. За что же
сражался этот неутомимый боец, провоевавший и свою ученую
карьеру, и свое давно надломленное здоровье? В чем был пафос его
борьбы? По его собственному определению, он боролся с
духовной смертью современной Европы, которую видел прежде всего
в философском рационализме, принявшем в последнее время
форму критицизма и идеализма разнообразных вариаций. Но
Эрн придавал философии слишком большое значение, чтобы не
видеть в смерти философской мысли умирание духа вообще.
«Рационализм, — писал он в 1911 г., — связан с механической
точкой зрения. Последняя питает техническую
промышленность и все более механизирующийся склад жизни,
отрывающийся от космических условий существования»... «Я
признаю решительно все титанические и часто одинокие вершины
западной культуры и совершенно отрицаю ту серединную
гниющую и разлагающуюся цивилизацию (ее так много и в
России), которая, по моему глубокому убеждению, есть законное и
необходимое детище рационализма» *. Эти слова за три года до
войны были почти пророческими, поскольку они
высказывались не в общей расплывчатой форме, а относились, главным
образом, к определенному месту, признававшемуся Эрном
очагом разложения. Этим очагом он тогда признавал Германию с
ее мертвящим аппаратом критического философского метода,
который Эрн не без остроумия и не без основания уже после
начала войны поставил в параллель с аппаратом физической
смерти — пушкой Круппа. Это символическое обозначение
внутренней связи между философией и всей культурной
жизнью народа, выразившееся в словах «от Канта к Круппу», было
причиной чрезвычайной неприязни и презрительных отзывов
со стороны всех тех, кто у нас в России был в той или иной
мере носителем той же германской философии. Здесь не место
разбирать, были ли по существу справедливы посыпавшиеся на
Эрна упреки за это сопоставление Канта и Круппа.
Существенно и необходимо установить лишь то, что полемический выпад
Эрна, направленный на творца всей современной германской
идеологии и на главного вдохновителя ее духовной культуры,
представлял не какую-нибудь выходку крикливого военного
шовинизма, как это представляли некоторые его противники,
* Борьба за Логос. С. 83—84.
Памяти Владимира Францевича Эрна
657
а в существе своем задолго до войны высказанную задушевную
мысль автора. Война дала лишь повод облечь эту мысль в
обостренную драстическую формулу. Если в рационализме смерть,
то в чем же то возрождение, к которому относился
положительный пафос Эрна? Это возрождение Эрн видел в
религиозном и философском прикосновении к Логосу как живому
Смыслу Космоса, раскрывающемуся, с одной стороны, в философии
христианской (по преимуществу восточной) мистики, с другой
же стороны, воплощающемуся в быте и культуре тех народов,
которые принимают Его как высшее жизненное начало. Такого
воплощения Эрн ждал от России и отчасти видел его в ее
прошлом. В этом смысле он был славянофилом. Однако его
славянофильство было гораздо более «космополитичным» и, так
сказать, раскинутым на широкой территории пространства и
времени. Для Эрна Логос христианского откровения уже
присутствовал в иной форме обнаружения и в эллинской
культуре и философии, главным образом, Платона. Но и позже
Россия не одна объявлялась Эрном духовной причастницей этого
Логоса. В этом отношении он чувствует себя погруженным в
древние слои родной духовной культуры даже в Риме, о чем
ярко свидетельствуют его печатавшиеся в «Богословском
вестнике» «Письма о христианском Риме».
Оглядывая литературно-общественный путь Эрна, нельзя не
удивиться внутреннему богатству тех замыслов, которые он
успел вложить на том кратком промежутке, который был ему
отмерен судьбой. Тотчас по окончании университета и даже,
кажется, еще студентом Эрн литературно выступает («Вопросы
жизни», 1905г.) по вопросам христианской общественности в
духе христианского коммунизма. До 1909 г. он вместо
открывающейся ему «академической карьеры» со всею страстностью
отдается пропаганде новых общественных начал религиозной
жизни. Он выступает одним из учредителей Христианского
братства борьбы в Москве, принимает самое деятельное участие
в ряде периодических изданий, посвященных
религиозно-церковной реформе («Век», «Религия и жизнь», «Церковное
обновление», «Живая жизнь»). Только весною 1909 г. он принимается
за магистерские экзамены, а в 1911г. получает заграничную
командировку на два года, которые проводит почти целиком в
Италии. Но и в этот период подготовки к профессорской
деятельности его работа далеко не концентрируется на этой одной
цели. Он пишет отдельные статьи как на философские, так и на
религиозные темы, выпускает монографию о Сковороде — одну
из лучших своих работ — и наконец только в 1913 г. принима-
658
С.АСКОЛЬДОВ
ется за свою магистерскую диссертацию о Розмини. За нею уже
очень быстро следует докторская диссертация, посвященная
Джоберти. За последние годы Эрн выпускает, кроме того,
несколько статей по национальному вопросу и о войне.
Несомненно, что эта разнообразная литературная деятельность Эрна, эта
потребность ответить на все духовные запросы текущего
момента, при необходимости в то же время осуществить все
требования академического стажа, раздробляли силы Эрна и
заставляли его делать не совсем то, что он хотел, и не совсем так, как бы
он хотел. У нас есть серьезное основание думать, что это «не
совсем то» относится даже к его обеим диссертациям,
посвященным итальянским мыслителям. При всем увлечении Эрна
итальянской философией она все же была для него переходной
ступенью к существенно новым формам и содержанию
философской мысли. Вообще не для исторических тем
предназначены были интеллектуальные силы Эрна и его философский эрос.
И несомненно, что именно с окончанием докторской
диссертации Эрн получил бы возможность перейти к более свободной и
систематической форме философского творчества. Однако этой
возможностью ему не суждено было воспользоваться. Но если
незаконченность философских замыслов и была уделом Эрна,
то мы можем все же уверенно сказать, что и в незаконченной,
эскизной форме он дал много ценного, а главное — в высокой
степени идейно динамического содержания. Все написанное Эр-
ном для нас, современников, живет и еще долго будет жить
полною внутреннею жизнью, настоятельно призывая к ответу
одних, поддерживая и двигая вперед других. Мы не
сомневаемся также, что имя Эрна часто будет литературно вспоминаться
новыми вступающими в идейную жизнь поколениями. Именно
это новое «племя младое, незнакомое», приходящее на арену
истории, несомненно, с более открытою душою по сравнению с
злободневною ограниченностью минувшего, является и более
справедливым судьей всякого общественного деятеля. Нам же,
знавшим его идейным и личным друзьям, не надо никаких
свидетельств будущего, чтобы остро почувствовать, какой
духовной опоры мы лишились со смертью Владимира Францевича,
как мало воспользовались его дружбой и как мало дали ему
своей любви и помощи на его кратком, но многозначительном
жизненном пути.
^^
Вяч. ИВАНОВ
Скорбный рассказ
На скорбные о том, как умер он, расспросы
Ты запись памяти, не тайнопись души
Читала нам в ответ; меж тем прибоя росы
У ног соленые лоснили голыши.
Как море, голос твой был тих; меж тем украдкой
Живой лазури соль кропила камень гладкий
€^
Вяч. ИВАНОВ
Оправданные
Памяти В л. Ф. Эрна
Из успокоенных обителей,
Из царства Целей, умудренные,
Вы, сонмы братских небожителей,
Светила новосотворенные,
Глядите взором опечаленным,
Лия лучи, на долы слезные:
Град Божий видите умаленным,
Вкруг стен святых бойницы грозные
Вы веру, верные, проверили,
Вы правду, правые, исправили;
Надежду вечной мерой мерили;
Любовь в горниле горнем плавили.
Познали, как земное взвесили,
Почто злой умысел сбывается;
А Божий ловчий, в темном лесе ли,
В степи ль сухой с пути сбивается.
VI
ИССЛЕДОВАНИЯ
<s^
Свящ. Алексий ШИШКИН
Мышление западноевропейское
и мышление восточное по воззрениям
В. Ф. Эрна
29 апреля с. г. неожиданно для многих, на 35 году жизни
скончался один из видных представителей русской
философской мысли, приват-доцент Московского университета по
кафедре философии Владимир Францевич Эрн. Будучи в философии
продолжателем взглядов Владимира Соловьева, он примыкал
к разряду тех русских мыслителей, которых принято
объединять в названии «неославянофилов». Из философских
произведений его наиболее известны: I. Исследование об итальянском
философе Розмини; II. Сборник философских статей под
заглавием: «Борьба за Логос»; III. Природа Мысли; IV. Природа
научной мысли — то и другое исследование помещены на
страницах журнала «Богословский вестник»; V. Г. С. Сковорода;
VI. Философия Джоберти (в «Вопросах философии и
психологии» за прошлый год) и др. *
В предлагаемой статье мы делаем попытку представить его
весьма интересные взгляды по вопросу об особенностях
мышления западноевропейского и мышления восточного и попутно
его же характеристику западной философии и русской.
О Гегеле сообщают, что он писал как-то одному из своих
друзей: «Моя земная цель достигнута, ибо, заняв должность и
приобретши милую жену, человек готов в этом мире. Это главные
статьи, к которым может стремиться индивидуум: все
остальное уже не главы, а только параграфы и примечания» *2. Как
можно видеть, для Гегеля смысл жизни без остатка исчерпы-
* Бог<ословский> вестн<ик>. 1913. Т. 1. С. 839.
664
Свящ. Алексий ШИШКИН
вался достижением целей чисто внешнего характера. Жена,
семейное счастье, должность, быть может, связанный с нею,
льстящий самолюбию почет — вот и все, что нужно было для
полного довольства этого знаменитого немецкого философа.
Если бы письмо не было датировано 1811 годом то можно было
бы подумать, что оно написано не человеком в 40-летнем
возрасте, а безусым и легкомысленным юношей. Интересно
сопоставить с этим письмом Гегеля одно из писем Вл. Соловьева,
написанное им в юношеском возрасте любимой девушке. Вот одно
место из него: «Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей
любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор. Я
люблю тебя, как только может любить человеческое существо, а
может быть, и сильнее, сильнее, чем должен. Для большинства
людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно
следовать: семейное счастье — составляет главный интерес их
жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с
каждым днем для меня становится все яснее, определеннее и
строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь.
Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать
второстепенное место в моем существовании. Я не могу отдать
тебе себя всего, а предложить меньше считаю
недостаточным»... *3
В этом письме Соловьев не говорит, в чем состоит
поставленная им себе задача. Неизвестно также, выполнил ли он ее в
своей жизни, но важно уже то, что у него была определенная
цель, которая возвышалась над интересами личной жизни. Она
ясно предстояла пред ним, и освободить себя от ее выполнения
он был не в силах. С решимостью, редко свойственной тому
возрасту, в котором было написано письмо, 20-летний Соловьев
ради выполнения поставленной им себе задачи готов был
пожертвовать всем самым дорогим для себя. В то время как письмо
Гегеля насквозь пропитано самым настоящим мещанством,
письмо Соловьева возвышенно, благородно и проникнуто
желанием жертвовать собою для осуществления целей,
возвышающихся над личными интересами.
Эта разница в характере писем русского и
западноевропейского философов — не случайное явление. Она до известной
степени является отражением того различия, какое существует
между культурой и мыслью восточной, с одной стороны, и
западной — с другой. В то время как западная философия может
* Из писем Вл. С. Соловьева Е. В. Романовой, написанных в период
времени с окт. 1871 г. по окт. 1873 г.
Мышление западноевропейское и мышление восточное
665
быть охарактеризована как процесс мысли, чуждый
заинтересованности внутренними ценностями и сосредоточенный
исключительно на решении проблем, имеющих для человека чисто
внешний характер, восточная мысль подлинную и
единственную ценность видит только во внутреннем, которое для нее
является святыней. Это не значит, что представители восточной
мысли не могут заблуждаться, — нет, нередко и они становятся
на неправильный путь в своих исканиях, но все же при этом
они руководятся не побуждениями внешнего характера, а теми
внутренними импульсами, которые глубоко заложены в их
душе. В России, например, даже материалисты, отъявленные
позитивисты и атеисты не представляют исключения в этом
отношении. Замечено, что между мыслью западной и восточной
существует какая-то грань, которая делает их несводимыми
одну на другую. В то время как от лучших представителей
античной философии на нас веет чем-то близким и родным,
изучение произведений древней философской мысли, диалогов
Платона, например, способно почти так же настраивать нашу
душу, как чтение аскетических творений, мы находим в них
то, что отвечает самым возвышенным стремлениям нашего
духа, что заставляет нас отрешаться от земли и возноситься к
небу, — знакомство с произведениями западной философской
мысли не дает нам ничего подобного. Оно не вызывает даже
отдаленного намека на те чувства, какие возникают при чтении
гениальных произведений древнегреческой философии.
Можно, конечно, поражаться гениальностью западных мыслителей,
можно приходить в изумление от той способности к
отвлеченному мышлению, в которой им, конечно, нельзя отказать, но в
то же время нельзя не заметить того, что все их философские
построения чужды нашему духу, очень редко волнуют нас, не
заставляют возвышаться над обыденным и временами даже
побуждают задавать себе вопрос: «Да к чему все это, собственно,
нужно?» Один из русских, до такой степени увлекавшийся
всем западным, что оставил даже Россию и веру, в которой был
воспитан, в конце концов должен был, однако, признать, что
западная философия есть такая же, в общем, пошлость, как и
сами ее творцы. Это был небезызвестный Печерин.
Русская философия не всегда была свободна от влияния
западной, но при этом замечательно то, что все заимствования с
Запада в области философии неизбежно переделывались на наш
собственный лад. Влияние немецких идеалистов первой
половины прошлого века, и из них особенно Шеллинга, на наших
славянофилов приходится считать несомненным фактом, однако
666
Свящ. Алексий ШИШКИН
много ли общего между философскими концепциями И. В.
Киреевского и А. С. Хомякова, с одной стороны, и системами
Гегеля, Фихте и даже Шеллинга — с другой. Если и были
мыслители на Западе, напоминавшие до известной степени наших,
вроде Шеллинга 2-го периода в Германии4 или Джоберти в
Италии, то они представляли собою исключение. То же самое, что
сказано о славянофилах, можно сказать и относительно Вл.
Соловьева. Сухие и бездушные мысли Запада, воспринятые
русской душой, своеобразно преломляются в ней и выступают в
жизнь уже в очищенном виде. Это обусловливается, конечно,
различием структуры души западных мыслителей и нашей;
в то время как представители западной мысли — плоть,
наши — дух. Впервые это различие замечено было гениальными
представителями русской мысли, славянофилами, но вполне
осознано и получило философское обоснование в трудах их
идейных преемников, одно из первых мест среди которых
принадлежит недавно скончавшемуся Вл. Фр. Эрну.
По мнению Эрна, Россия, будучи наследницей восточного
православия, всецело восприняла вместе с ним и особенности
восточнохристианского мышления, которому остается верной и
до сих пор. Те черты, которые являются характерными для
мышления восточного, отличают и оригинальную русскую
мысль. Между прочим, отчасти этим именно объясняется то
обстоятельство, что произведения западной мысли
воспринимаются нами как нечто чуждое для нас. Различие между
западным и восточным мышлением так глубоко, что примирение их
невозможно без коренного изменения какого-либо одного из
них. Это различие, как оно представляется Эрну, в самых
общих чертах можно представить в таком виде:
Новая западноевропейская философия при всем
многообразии образующих ее систем может быть рассматриваема как
нечто единое. Началом, связывающим в целое эти часто до
противоположности различные между собою системы, является т. н.
психологизм — направление, стремящееся исходным пунктом
философского умозрения сделать психические данные.
Психологизм, таким образом, стремится идеальное выводить из
чувственного и в основу онтологии положить психологию. Чуждый
как античному, так и восточному мышлению, психологизм
является детищем только новой философии и обязан своим
происхождением Декарту. В последующее затем время он
наибольшее свое развитие получает в системах Спинозы, Беркли, Юма
и находит свое завершение в философии Канта и его
ближайших последователей. В настоящее время психологизм почти
Мышление западноевропейское и мышление восточное
667
беспредельно господствует в философии Запада, и, строго
говоря, он именно обусловливает собою все различия, которые
можно наблюдать между восточным и западным мышлением. Они
всецело вытекают из него, как следствия из причины.
Полагая в основу философского знания психические данные,
из которых выводится все, что является объектом мысли,
психологизм, следовательно, исходным пунктом всякого знания
ставит человека и производит все бытие, не исключая и
высших идей разума только из одной мысли. Идея Абсолютного не
представляет в этом отношении исключения и является,
следовательно, также не более как произведением человеческого
духа. Дойдя до идеи Бога, психологизм стремится и ее поставить
основным пунктом философии наряду с принципом,
утверждающим, что сознание собственной мысли является первым
моментом философского умозрения и есть первооснова всякой
истины. Нисколько не смущаясь тем, что этот, так называемый
первый принцип новой философии, выраженный у Декарта в
виде положения «Cogito, ergo sum», — является далеко не
автономным и для своего утверждения нуждается в некоторых
предпосылках вроде признания общей и абстрактной идеи
бытия, психологизм, получив идею Абсолютного из собственного
сознания, хочет в свою очередь утвердить на ней истинность
этого сознания. Таким образом, circulus vitiosus в данном
случае настолько очевиден, что вполне заслуживает помещения в
элементарных курсах логики в качестве «классического»
примера, иллюстрирующего учение об ошибках подобного рода.
Несмотря на внутреннее противоречие, которое заключает в
себе философия Декарта, она приобретает доминирующее
положение в новой философии. Кант углубил и дал новое
обоснование декартовскому психологизму, чрез Фихте, Гегеля и отчасти
Шеллинга 1-го периода он дошел до наших дней и по сие время
является основным грехом западного мышления.
Установив в процессе мышления мнимую самозаконность
человеческого разума, новая философия с самого начала своего
возникновения определила себя как философию рационализма,
одною из наиболее характерных особенностей которой является
то, что разум берется ею не во всей своей полноте, а в том виде,
в каком он обнаруживается у большинства. Утвердив
господство количественного принципа, западное мышление не желает
считаться с качественной стороной разума, которая им
ограничивается как со стороны присущей разуму способности
поэтического постижения действительности, так и со стороны
возможного для него внутреннего, непосредственного проникновения
668
Свящ. Алексий ШИШКИН
в глубины сверхчувственного мира. Другими словами,
рационализм представляет собою не что иное, как отвлеченную и
отрешенную от жизни рассудочность.
Отождествив себя с самого начала своего возникновения с
ratio, философская мысль Запада стремится из него одного
вывести всю наличную действительность. Таким образом, выходит,
что всю бесконечную глубину мировой жизни западная
философская мысль хочет постигнуть, базируясь исключительно на
одном только человеческом сознании, причем, конечно, совсем
забывается истина как об ограниченности этого сознания, так
и о бесконечной глубине космической жизни.
Правда, рационализм в настоящее время стал как будто
вырождаться; теперь никто уже не говорит языком Фихте или
Гегеля, вместо этого можно наблюдать только жалкую пародию
на рационализм, тем не менее стремление изводить все бытие
из мышления, из одних понятий, не оставляется и до сих пор, а
это ведет к тому, что, лишая вещи жизни в себе, рационализм
превращает их в схемы или, как говорит Эрн, «в простые
категории познающего субъекта» *, а это в свою очередь
обусловливает еще одну из особенностей западного мышления — т. н. ме-
онизм.
Сущность меонизма, по мнению Эрна, заключается в том,
что все существующее объявляется лишенным действительного
бытия. Оно — призрак, μη όν, иллюзия. Материальный мир
только кажется нам существующим, в действительности же его
нет совсем. Начало меонизма, точно так же как и
обусловливающего его рационализма, следует связывать с именем Декарта,
превратившего природу в бездушный механизм. Беркли и Юм
сделали из его предпосылок надлежащий вывод, причем
первый из них считал подлинно существующим только Бога и
созданных Им конечных духов, внешний же мир был для него
бытием вторичным и производным, последний же утверждал то
же самое относительно душевной субстанции и идеи «я».
По Юму выходило, что сознания не существует, что личность
призрачна в такой же степени, как и материя, внешний мир
дан душе человека, которая в своей сущности есть не что иное,
как «пучок перцепций». Только о них одних человек может
иметь ясные представления. Перцепции связаны между собою
законами ассоциаций, в основе которых лежит Привычка. Бог,
по Юму, невыводим из чистого ratio, и поэтому есть основания
* Борьба за Логос. С. 358.
Мышление западноевропейское и мышление восточное
669
утверждать, что Его нет совсем*. Подобного рода нуллизм, как
и рационализм Декарта и Беркли, не миновал горнила Канто-
вой философии и, принципиально утвержденный ею, в
настоящее время проникает собою почти всю западноевропейскую
мысль.
По крайности сделанных выводов в этом направлении в пос-
лекантовский период особенное место принадлежит Гегелю. По
его мнению, существование вещей внешнего мира для нас
недопустимо. Они представляют собою не более как формы
познающего их разума. Следовательно, все существующее только
кажется таким, а на самом деле оно — не что иное, как чистая
мысль, призрак, по своему характеру очень напоминающий μη
όν древних софистов (Горгия). Ясно, что если бы философия
Гегеля была истинной, то реальность внешнего мира
превратилась бы в полное «ничто» **.
Ранее говорилось, что еще Юм объявил личность фантомом.
По нему она представляет собою не что иное, как «пучок
перцепций». Последующая западная мысль принципиально утвердила
невозможность ее рационального объяснения, поэтому личность,
с точки зрения западной философии, неизбежно должна быть
объявлена таким же меоном, как и внешняя действительность.
Это является самым последовательным выводом из
провозглашенной рационализмом исключительной законности принципа
количественного вместо качественного, чем урезывалась
нивелировалась и в конце концов совсем уничтожалась живая
человеческая личность. Таким образом имперсонализм, подобно
тому, как и меонизм, является прямым порождением
рационализма. Эту новую особенность западного мышления можно
характеризовать как сознательное отреченье от категории
личности, чрез замену ее категорией вещи.
Будучи сам обусловлен рационализмом, имперсонализм в
свою очередь обусловливает собою другие особенности
западного мышления. Механистическая точка зрения при
истолковании явлений космической жизни и детерминизм Запада
находятся в неразрывной связи именно с имперсонализмом. Они
суть практические постулаты его. Конечно, вещь, отрешенная
от всего индивидуального и живого, может быть признана
рациональной со стороны только ее механических свойств. Точно
так же и универсальное отрицание свободы исходные начала
* См.: Беркли и имманентная ф<илосо>фия//Борьба за Логос.
С. 40—41.
** Эрн В.Ф. Природа мысли. Бог. 1913. Т. 2. С. 110—111.
670
Свящ. Алексий ШИШКИН
берет в имперсонализме. На самом деле, разве можно говорить
о какой бы то ни было свободе, когда радикально отрицается
личность и когда механистическая точка зрения признается
единственно возможной при объяснении явлений мировой
жизни. Если Мальбранш, Кант, Шеллинг и говорили о свободе, то
их проповедь об этом не имела ровно никакого успеха, и
жалкая западная мысль до сих пор продолжает коснеть в своем
заблуждении, как будто она никогда не слышала и не знает
никакого ученья, кроме детерминизма.
Получив свое начало в борьбе с мистицизмом средневековой
философии, рационализм Запада в деле постижения
действительности, как можно было видеть, возымел желание обойтись
только человеческими средствами, но и их использовав не в
достаточной полноте. Им была забыта та истина, что если
философское познание и есть само по себе цель, поскольку оно
удовлетворяет теоретической потребности знания, то сама эта
потребность далеко не исчерпывает всего содержания жизни
человека. Восточное мышление, наоборот, стремится исходить
из глубин содержания этой жизни и имеет целью во всей
полноте обнять ее собою. Вообще говоря, восточное мышление, по
мнению Эрна, выступает совсем с другими чертами. Оно
радикально противоположно западному.
Если одной из наиболее характерных черт западного
мышления является рационализм, то восточное мышление
противополагает ему логизм. В то время как западная философия
развивается под эгидой взятого в средине и урезанного со всех сторон
ratio, восточное мышление избирает своим руководителем
разум в целом. Данный в потенции без исключения всем, он
далеко, впрочем, не одинаково обнаруживает себя у каждого
индивидуума. Для достижения высших ступеней его проявления
нужно не напряжение одной мысли только, а главным образом
непрерывное и нередко довольно продолжительное волевое
устремление с подчинением ему всех способностей духа. Путь
логизма — путь непрерывного подвига, и от степени его
совершения находится в зависимости степень познания истины.
Логизм не забывает, как рационализм, что кроме теоретической
потребности знания у человека есть еще другие потребности,
объединяемые в стремлении к высшей, всецелой, абсолютной
жизни, для которой и философия является не более как одним
из средств.
Подобно тому, как рационализм базируется на ratio, так
логизм — на Logos'e. Логос в своей сущности является началом
объективно-божественным, творящим, внутренно проника-
Мышление западноевропейское и мышление восточное
671
ющим все созданное Им. Он есть то, что может быть названо
мировым разумом, разумом Абсолютным, Разумом, на
Который опирается разум. Отсюда ясно, что и истина заключается
не в рационалистической отвлеченной рассудочности, а в
познании законов этого Абсолютного Разума и неуклонном
следовании им в жизни. Такой взгляд на истину является основным в
воззрениях Эрна. По его мнению, он есть исключительное
достояние именно восточного мышления. Итак, психологизму и
меонизму Западной философии, Восточное умозрение
противополагает онтологизм. Если в рационализме Запада неизбежен
разрыв между мыслью и Сущим, между содержанием и формой,
то в философии Logos'а, где человек сознает себя причастным
божественной жизни Сущего, подобный разрыв невозможен.
Если рационализм думает обрести истину чисто рассудочным
путем, базируясь только на данных человеческого сознания,
онтологизм видит метафизический корень истины там, «где
лежит творческая причина самой природы» в том Божественном
Начале, Которым дано бытие всему существующему. Истина и
познание с точки зрения онтологизма возможны только в
том случае, когда первое и основное звено знания находится
вне эмпирического человека и всего человеческого,
утверждается в Сущем и вместе с тем имеет отношение к человеческой
мысли, таким образом, в процессе мышления обязательно
отправление от объекта, а не от субъекта, как это наблюдается у
западных философов, за исключением разве одного только
Мальбранша*.
Эрн доказывает, что с точки зрения восточного мышления
путь логизма то же самое, что и путь подвига. Познание
истины определяется развитием высших сторон человеческого
духа, гармоническим единством и совместною деятельностью
всех его способностей под водительством веры. И чем выше
человек становится в этом развитии высших проявлений своего
духа, — а это в своей сущности есть не что иное, как процесс
Богоуподобления, — тем полнее открывается ему пребывающая
в недрах Божества Истина. Следовательно, познание Истины,
с точки зрения восточного мышления для человека, является
* Мальбранш, вопреки положению Декарта: «Cogito ergo sum»
говорит: небытие не обладает никакими свойствами. Я мыслю, значит,
я существую». Обращая в силлогизм то, что Декарт хотел считать
и первичным принципом своей философии, Мальбранш этим
самым признает бытие Сущего и на основе этой истины строит свою
философию.
672
Свящ. Алексий ШИШКИН
не чем иным, как процессом духовного возрастания его до
степени наибольшего уподобления Богу, чрез осуществление в
личной жизни начал жизни Божественной. Ясно, что при
таком понимании Истины на вершине знания должны
находиться не кабинетные ученые, «просидевшие в жизни несколько
стульев», а святые.
После этого, как говорит Эрн, не трудно видеть, что
гносеология восточного мышления, в противоположность
статичности замкнутой в пределах отвлеченной мысли западной
философии, отличается обусловливающими беспредельность познания
чертами динамизма, а это в свою очередь предполагает
глубочайшее раскрытие личности. В самом деле, если достижение
высоты ведения невозможно без восхождения посредством
подвига, а совершение подвига невозможно без известного
напряжения воли, то, конечно, это последнее невозможно помимо
раскрытия личности. Таким образом, универсальной категории
вещи западной философии, восточное умозрение
противополагает категорию личности, имперсонализму — живой и
бодрящий персонализм.
Если к этому прибавить, что вместо схематизма западной
философии восточное умозрение исповедует символизм, по
которому «весь мир есть не что иное, как лес символов,
реалистически трактуемых» * и вместо механистической точки зрения
при объяснении явлений мировой жизни и неразрывно
связанного с нею детерминизма Запада, оно избирает
противоположную ей, органическую, утверждающую философию свободы, то
все из наиболее существенного, что сказано Эрном о различи
между западным и восточным мышлением, можно считать
исчерпанным**.
Ранее, в начале статьи, кратко упоминалось, что, по
взглядам Эрна, оригинальная русская философская мысль отразила
* Борьба за Логос. С. 358—359.
* К сказанному о различии между рассматриваемыми видами
мышления можно добавить еще разве то, что западному мышлению как
будто чужда идея органической цельности и единства,
свойственная восточному мышлению. Оно хочет непременно во всем видеть
сложность. Чужда ему также черта всестороннего исследования
явлений, и оно часто забывает о внутренних факторах и бывает
склонно объяснять те или другие процессы совокупностью
внешних влияний. Между прочим, детерминизм в вопросах,
связанных с нравственностью, обусловливается тем, что для западной
мысли внутренней жизни как бы не существует, а есть только
совокупность внешних условий.
Мышление западноевропейское и мышление восточное
673
на себе черты влияния восточного умозрения и остается ему
верной до сих пор, несмотря на сильное и непрерывное влияние
на нее со стороны западноевропейского рационализма. Логизм
для русской философии есть как бы нечто внутренно данное, и
об него, как о неприступную прибрежную скалу, разбиваются
все волны влияния западной философии. В России даже в
сочинениях лиц, сознательно хотящих порвать с православием,
вроде Толстого и Чехова, например, помимо их желания и, быть
может, незаметно для них самих выступают черты логизма. Но
при всем этом нельзя, однако, утверждать, что русская
философская мыс Ль уже достигла вершин своего развития. В этом
отношении, может быть, даже она сделала только первые шаги
на этом пути, но, несмотря на это, путь, избранный ею, строго
определенный и, конечно, смело утверждает Эрн, она с него
никогда не сойдет. Мало того, русская философия в настоящее
время является единственной живой хранительницей идеалов
античного и христианского умозрения, и это дает основание
предполагает, что встреча начала Божественного с началом
человеческим — Logos'а с ratio и их борьба произойдет именно в
России. Все это ставит русскую философскую мысль на
недосягаемую высоту сравнительно с отвлеченной, бесплодной и
лишенной духа жизни мыслью Западной Европы. Можно,
следовательно, уже теперь смело утверждать, что она заслужила
себе почетное и прочное место в истории новой философии.
Таков взгляд Вл. Ф. Эрна на русскую оригинальную
философскую мысль. Это различие между западною и русскою мыслью
указывается уже не впервые в России. Еще Хомяков укорял
Канта за отвлеченную рассудочность. Уже в то время
замечалось, что «корень ошибки западной мысли заключается в том,
что рассудок, т. е. одна способность духа, принимается за
цельность духа», за разум. Еще тогда говорилось, что все «истинно
сущее и всякая действительная реальность ускользает от
рассудочного мышления». Хомяков доказывал, что истина познается
всею полнотою сил духа: верою, дошедшей до сердечного
убеждения, волею и рассудком, которые в своей совокупности
составляют разум. В противоположность западноевропейскому
рационализму под философией славянофилы разумели не одно только
стремление к удовлетворению теоретической
любознательности, но и все то, что соединялось с этим словом у древних, —
любовь к мудрости, науку жизни, добродетель. Быть
философом, по мысли славянофилов, значило не просто быть
рассуждающим человеком в западноевропейском смысле слова, а
вместе с тем и даже более того — человеком добрым. Известное
674
Свящ. Алексий ШИШКИН
нравственное настроение, особое направление воли, по их
мнению, было необходимо для того, чтобы стать действительным
мудрецом. Такого же, в общем, образа мыслей на западную и
русскую философию держался и Вл. С. Соловьев. Не помню
теперь, в котором из своих сочинений он говорит, что
абсолютный рационализм колоссально нелеп в силу того одного, что все
стремится выводить из ничего. Признавая единственным
принципом философии разум сам по себе, он не замечает, что берет
пустую, отвлеченную форму истины. По его мнению, западная
философия стоит вне непосредственной связи с жизнью.
Сосредоточившись на изучении исключительно теоретических
вопросов и считая философское (отвлеченно-рассудочное) познание за
высшее проявление духовной деятельности человека, т. е.
принимая частную цель за общую, рационализм Запада стоит на
ложном пути. Ему противоположно направление русской
философской мысли, стремящейся воздействовать на жизнь,
управлять ею и содействовать человеку в достижении верховной цели
бытия — абсолютной вечной жизни. Вообще же говоря, всю
философскую концепцию Вл. Соловьева можно рассматривать как
завет русской философии помнить учение об идеях и
стремиться всесторонне осознать законы познания. Этот завет, конечно,
всегда будет помниться русской философской мыслью.
Ручательством этого могут служить философские сочинения наших
неославянофилов и, в частности, безвременно умершего Вл. Ф. Эр-
на. Верный последователь Вл. Соловьева и славянофилов, он
завершает развитие тех взглядов, которые у них были, быть
может, только намечены. Можно сказать, что своими
философскими сочинениями Эрн в достаточной степени подготовил
арену для встречи Logos'а с ratio, осуществления чего он так
страстно всегда желал, когда был жив.
<^^
^^
Η. Φ. СУМЦОВ
Сковорода и Эрн*
Эрн, московский профессор1, в «Вопросах философии и
психологии дал ряд заметок о Сковороде2, потом собрал их,
дополнил, и в 1912 г. в Москве вышла толстая книжка о Сковороде,
в 342 стр. Рецензенты, г. Турский в «Южном крае» (1913.
№ 11275), г. Д. Дорошенко в «Раде» (1913. № 78), дали не
особенно благоприятные отзывы по причине большой
тенденциозности и значительных ошибок во взглядах на украинского
философа.
Первым делом должно отметить, что в лице Эрна объявился
горячий ученик, сторонник и последователь Сковороды3, а
поскольку Эрн для Украины совершенно посторонний человек, то
и получилось, что он не понял Сковороду, хотя и пошел за ним
вслед беспрекословно. Философия Эрна та же, что и Сковороды,
только в другой, московской одежде, с прилаживанием к
новомодному мистическому исканию Бога, Логоса, Высшего
Разума, на манер философских идей гг. Булгакова, Лопатина и
других деятелей московской школы.
Уже первая главная мысль Эрна не самостоятельная, а
сковород иновская. Он устанавливает «две попытки
принципиального самоопределения мысли, два самостоятельных метода
умственного восприятия — ratio и логос». Ratio — это нечто
среднее арифметическое из действительного разума всех людей
в той степени, что доступна человеку вообще, а логос — это
что-то значительно выше и больше, с теми корнями мысли в
древности, что лежат в глубине «древнего родимого и
зиждительного хаоса космической жизни», и одновременно
духовного заглядывания в грядущее «в экстазе созерцания»4. Ratio
Эрн отдает Западу, а логос стремится обрести для России, та-
* Это разыскание в сокращенном виде было напечатано в «JliTepa-
турно-науковом вгснике» (1918. Кн. 1. С. 41—49).
676
Я. Φ. СУМЦОВ
ким образом индивидуальную психологию вытаскивая на
простор национальных переживаний. Под этой шумной и
красочной грудою слов кроется в действительности хорошо известная
мысль Сковороды о том, что каждый человек имеет два
сердца — простое, человеческое, и вечное, божественное, и что
нужно взирать на последнее и входить в его глубины.
К «старчику» Сковороде Эрн относится с большим
почтением, но, на удивление, к тому народу, из недр которого вышел
Сковорода, он проявляет не только безразличие, а и даже
презрение. Вместо того, чтобы послушать разумного совета Гёте:
Wer das Dichten will verstehen,
Muss ins Land der Dichter gehen5,
Эрн, наоборот, по отношению к Сковороде никакого «Land» не
признает, из-за чего и получилась у него такая странная вещь,
что никчемный дикарский народ дал великого морального,
образованного человека.
Как горячо и на все лады восхваляет и славит Эрн
Сковороду, легко понять из таких его выражений: «Философия
Сковороды цельная, глубокая и оригинальная», «Сковороду отличает
редкое благородство вкуса», «Искренность, правдивость,
сердечная простота песен Сковороды вне всякого сомнения»,
«Сковорода имеет специфическую прелесть примитива, соединения
гениальности с наивной и целомудренной скованностью
культурных форм, и эта прелесть, как неповторимая, навсегда
останется за ним», «Сковорода,много превосходя Декарта
последовательностью, сделал блестящую попытку... проложить совершенно
новую дорогу», «Сковорода смело может быть сопоставлен с
двумя другими героическими типами философов — с Джордано
Бруно и с Сократом», «по страстному стремлению к истине, не
отступающему перед радикальной ломкой своей жизни, не
боящемуся суровостей и лишений тридцатилетнего скитания и
нищенства, фигура Сковороды одна из самых замечательных на
протяжении всей истории человеческой мысли, и жизнь его
есть одна из тех редких, чистых и благородных жизней,
которыми по справедливости может гордиться человечество».
Так горячо Эрн почитает и славит Сковороду, и — и ясное
дело — можно думать, что он хоть немного заинтересовался
тем народом и той школой, откуда вышел славный «старчик».
На удивление, о старой украинской школе, что воспитала
Сковороду, нет ничегошеньки, а о том народе, который его родил
и выпестовал, наплетена такая несуразица, что прямо жалость
берет за даровитого автора, который проявил себя тут столь не-
Сковорода и Эрн
677
просвещенным и неспособным, стыдно за ту российскую науку,
что может давать такие никчемные плоды. Но послушаем
самого Эрна: «Некультурность (?) почти бродячего (?) населения, не
забывшего еще свою давнюю склонность к приключениям (?),
только что начинающего оседать, сочетается с изобилием
природы». «Если душа Сковороды родилась в недрах космической
жизни (?), то тело его родилось в стране варварской (!),
полукультурной, в стране стихийной природности (?). Если формой
реального целого Сковороды было умопостигаемо-логическое,
то материей послужила грубая (?), своеобразная, стихийная (?!)
плоть малоросса-казака XVIII в.». «Наряду с орлиными
взлетами мысли <...> плоские банальные соображения. Наряду с
яркой образной поэтической речью, иногда сверкающей
молниеносною красотою, церковно-славянская загроможденность,
уснащенная "подлыми" словечками. Простонародная речь ба-
зарною (?) хаотичностью врывается в
дифирамбически-восторженный, приподнятый "тон" изложения. В мышлении
Сковороды, сильном, глубоком и стройном, есть элементы дурного
провинциализма, а в его жизни, сосредоточенной, мудрой и
праведной, дают о себе знать неукрощенные (!) капли
казацкой крови, бурлящей, тоскующей, упрямой и хаотичной».
Этаким дикарем представлял себе Эрн украинский народ
и даже сам тому изумляется, «поистине достойно великого
удивления, что сын грубой (!?) казацкой среды становится,
быть может, образованнейшим русским человеком XVIII
столетия», далее еще раз удивляется, что «при таком родстве» из
Сковороды вышел мудрый человек.
Таким способом Эрн одним махом отрезал Сковороду от
украинского народа и украинской школы, сделав его вдруг «русским
человеком». На всю его жизнь и философию Эрн смотрит через
российские очки, сравнивая с ним то Льва Толстого, то Вл.
Соловьева. Не предполагал знаменитый украинский старчик XVIII в.
такого философского товарищества из россиян XIX века6.
Удивительно, что Эрн, раз за разом пользуясь превосходным
жизнеописанием Сковороды его талантливого ученика Кова-
ленского7, проглядел то, что Коваленский говорит про большую
привязанность Сковороды к родному краю, что он Полтавщи-
ну, где родился, любовно называл матерью, а Слобожанщину,
где более всего обретался, теткою, из-за любви к ней. Еще
более интересно, — Эрн сам признает, что «Сковорода всегда
любил природный язык свой». У того же Коваленского находим
ценное указание, что Сковорода незадолго до своей смерти,
73-летним старичком, приехал к Коваленскому в его имение
678
Я. Φ. СУМЦОВ
Хотетово в 25 верстах от Орла, и как Коваленский ни
упрашивал его остаться здесь на долгую жизнь, старый и больной
Сковорода не согласился, ибо имел «всегдашнее отвращение к
краю сему». Он в скором времени собрался в новое далекое
путешествие домой, чтобы умереть на любимой ему Украине.
Совсем не ясно, с какой стати Сковорода становится у Эрна
«первым русским философом», «первым ростком»,
«родоначальником русской философской мысли» 8, если Московщина
при жизни была для него краем чужим и неприятным, если
в России его сочинения были запрещены, если ознакомление
с личностью и творениями шло по крупицам с начала XIX в.,
главным образом в малоизвестных изданиях (статьи Вернета,
Гесс-де-Кальве, Срезневского, Хиждеу). Первое издание
сочинений Сковороды 1861 г. книгопродавца Лысенкова было
небольшим и не имело распространения, так дело тянулось сто
лет до харьковского юбилейного издания 1904 г. под ред.
профессора Багалея, достаточно полного, с большой статьей
редактора.
В действительности Сковорода не «русский философ», а
украинский, и только украинский, и не «первый росток», а
последний роскошный цветок старой жизни, мировоззрения
украинского народа, его старинной словесности, давней могилянской
школы, кровный сын своего народа, его чуткое, красивое,
любезное и многодумное детище. Чтобы понять как следует
Сковороду, его мысли и чувства, нужно пристально всмотреться в
культурную жизнь украинского народа, его старую школу и
литературу. В следующих строках мы даем несколько
фактических указаний на подлинно украинскую сущность
Сковороды как личности и как философа.
Сковорода родился в селе Чернухи на Полтавщине, в
Лохвицком уезде в 28 верстах от Лохвицы.
В это время Полтавщина в административном плане была
частью Киевского наместничества, с культурной точки зрения
частью старокиевской культурной жизни.
Эрн спрашивает «чем была тогда Малороссия?» и отвечает с
презрением: «Недавно присоединенная к России, она являла
все признаки переходного быта. Отрекшись от своего удалого,
дикого (?), героического прошлого, она надевала на вольные
плечи хомут (!) гражданственности (!!)», попросту говоря, ярмо
крепостничества, стяжательства и унижения9.
Эрн, упомянув вслед за Ковалинским, что отец отдал
Сковороду в киевскую школу, и тут не утерпел, чтобы не прибавить:
«для казака этого много».
Сковорода и Эрн
679
Удивляемся, почему ж это казаку школьная наука была
«много», если казаки всегда стояли в наиближайших
отношениях со школой, щедро ей помогали и внимательно наблюдали
за ее добропорядочностью. Когда в XVII ст. много ей придали
латыни, то казаки собирались разогнать учителей и учеников,
чтобы часом не было от латыни какого вреда для православия.
Личность и философия Сковороды очень сложны.
С одной стороны, на Сковороде ярко запечатлелась жизнь
его народа — быт, словесность, школа, со всеми частными ее
приметами и особенностями, с ее схоластичностью,
символизмом, риторизмом, литературностью в форме диалогов, басен,
примеров, сравнений, библейских текстов и т. д.
С другой стороны, на Сковороде отразились влияния
античности, Библии и патристики (отцы и учители Церкви). В наши
задачи сейчас исследования этих влияний не входят, мы
можем тем легче их оставить, что в науке они обратили уже на
себя пристальное внимание двух российских профессоров
философии — харьковского профессора Зеленогорского, который
тщательно рассмотрел влияние античности (Сократа, Платона
и др.), и Эрна, который направил внимание больше на
патристику (Максим Исповедник и др.).
Нас сейчас интересует только первая, национальная струя,
которую российские ученые преднамеренно опускают, то есть
не замечают души народа и из-за этого часто не в силах
уразуметь красоту и силу души и сердца его великого сына.
Полагаясь чрезмерно на Коваленского, Эрн в разделе об
«основных чертах душевного склада Сковороды» говорит словами
Коваленского, что «дух Сковороды отдалял его от всяких
привязанностей и, делая его пришельцом, присельником,
странником, выделывал в нем сердце гражданина всемирного». Как бы
для подтверждения этой мысли сам Сковорода в басне «Щука и
рак» высказался в том же духе: «мудрому человеку весь Mip
есть отечеством, везде ему и всегда добро; ...оно ему солнцем во
всех временах, а сокровищем во всех сторонах; не его место, а
он посвящает место, не изгнанник, но странник; <...> в коей
земле пришелец, тоей земли и сын». Хотя таким образом сам
Сковорода считает мудреца «всемирным гражданином», но
лично он не подходит под такой общий аршин; красноречивые
факты его жизни противоречат его мысли, значит,
одновременно мыслям Коваленского и Эрна. У Сковороды были сильные
«привязанности» к друзьям, особенно к Ковалинскому, к
родному краю, к современной литературе; потому и в жизни, и в
сочинениях Сковорода проявляет себя «гражданином» именно
680
Я. Φ. СУМЦОВ
Украины, так как только на Украине он хорошо себя
чувствовал, а за границей, в Германии, Венгрии, в Москве, в Хотетове
близ Орла, как ни хорошо да ласково его там не принимали, он
долго не засиживался, и какой-то таинственный «дух» гнал его
домой, в родной край, под ясное небо Украины, в наиболее
милую ему Слобожанщину. Его звали на должности, привлекали
щедрыми обещаниями, чтобы он остался на севере, где столько
уже перебывало до него неверных талантливых украинцев,
а он все бросал и шел на Полтавщину или в Харьковщину.
У этого «всемирного гражданина» было чуткое украинское
сердце, что он ярко и выразил в поэзии:
Ой ты, птичко жолтобоко,
Не клади гнезда високо!
Клади на зеленой травке,
На молоденькой муравке...10
Это ж то самое чувство, которое позднее лет на сто прекрасно
отразилось в дивном стихотворении Манжуры п, слегка
доработанном проф. Потебней:
3ipoHbKa ясная, темненько1 ноч1
Завжди чужа i холодна нам здаеться,
Кв1тщ ж в степу раддють наып оч1
I сердце мов р1дне до Hei см1еться...
«Всемирный гражданин» желал «тихо скоротати милый
век» 12 и в действительности коротал его главным образом по
хуторам в объятиях природы. Эрн говорит, что Сковорода,
«превратясь в нищенствующего (!?) бродягу (!!), сделался
одним из самых замечательных русских культурных людей
XVIII в.». Здесь слишком преувеличенно, и кроме того, Эрн
совсем не понимает, что такое был на Украине «старчик». Видел
ли кто-нибудь, чтоб из «нищенствующего бродяги»
вырабатывался славный культурный человек? Такого чуда никогда не
было, а в России тем более, ибо в ней уже в XVIII веке были
заседатели, городничий и другие полицаи, которые взяли бы
«бродягу» в узы. Сковорода был старцем, а старец не бродяга,
но задумчивый религиозный человек, отчасти похожий на ман-
дривных дьяков13, деятель просвещения, который переходил
из города в город, из села в село, научая людей грамоте и
пению, пока в царствование Екатерины II мандрованным дьякам
не было запрещено вольное житье; они должны были
приписаться к церкви, сделались церковными крепостными.
Возвращаясь к украинской старине, можно найти для
Сковороды великого предшественника в лице Иоанна Вишенского14,
Сковорода и Эрн
681
который тоже писал послания с религиозно-философскими
идеями о жизни вообще, о классовых отношениях в особенности,
против панской роскоши и спеси. «Чим ти лшший од хлопа, —
спрашивал он, — албо не тая ж матергя, глина i персть, или ти
од камня утесан i не маеш кишок и слюзу холопського». Так
писал Вишенский в начале XVII века, а через полтораста лет
Сковорода писал, что «барская умность, будто простой народ
есть черный, кажется мне смешной... И как это из утробы
черного народа вылупились белые господа». Вообще, по
демократическому направлению и по выразительному крепкому слову
Сковорода — прямое продолжение Вишенского. Этот последний
является одним из его подлинных духовных предков.
Сковорода был вегетарианцем, не ел мяса; временами
употреблял добрую вишневку. В одном из его писем есть
интересное указание, что он любил не только «ангельский хлеб», как
он называл любомудрие, или философию, а порою в хорошей
компании и чарку горилки, и раз в Харькове, как он говорит,
даже «пировал и буянил» 15.
Тут снова приходит на мысль Вишенский, те строчки, где
речь идет о пьянстве монахов. «Тому небораков1 в м1сяць раз
тралиться напитися, i то без браку, що знайдет, а по насиченю
терпит, тот ку смычний и куфель оплакав и прощеше од Бога
пр1ял». Сковорода тоже признавал, что случайный вкусный
кусок и кружка вишневки не вредит «ангельскому хлебу» добра и
правды.
Философия Сковороды сурова и пессимистична. Тоска,
скука, печаль часто звучат в его сочинениях.
Ах ты, тоска проклята! О докучлива печаль!
Грызешь мене измлада, как моль платья, как ржа сталь16.
В другом стихотворении: «Нема в свт правди, правди не
зискати» 17 эта тоска не только личностна, но и народна тоже,
как отзвук народной судьбины, что видно в народной
словесности, например, в старом вирше:
Хто на CÎM cbîtî без дола вродився,
Тому CBÏT марне, як колом точився;
Лгга пливуть марне, як бистрп ржи,
Часи молоди, як дождю потоки,
Все то марне манаеть.
В другом вирше:
Пройшли лгга скоро, як бистрп ржи,
А я живу при нещаст1 через yci вжи.
BiioTb вггри в степу, запрету не мають,
1дуть мисл! в день i в но ни" — спокою не дають.
682
Η. Φ. СУМЦОВ
Удивительные вирши по красоте мысли и выражения; они
целиком соответствуют печальным стихотворениям Шевченко,
напр. «Минають дш, минають ноч1».
Рука об руку с этим индивидуальным пессимизмом идет
пессимизм гражданский, народный, выработанный отдельными
талантливыми людьми, напр. печальные песни про
чайку-беднягу, про орла и сокола и др.
Эрн думает, что символизм есть выразительная черта
философии Сковороды, и даже, не совсем кстати, зовет его отцом
философского символизма: «Сковорода первый в новое время
вернул символу серьезное значение». Исходя из этого Эрн даже
составил особый раздел под названием: «Hieroglyphica, emble-
mata, symbola». Без сомнения, Сковорода проявил .большую
склонность к символике, но здесь он только усилил, и можно
сказать, даже через край, то, что господствовало уже до него и
в народной словесности, и в литературе, особенно в XVII в. в
сочинениях Лазаря Барановича, Иоаникия Галятовского,
Иннокентия Гизеля. В середине XVII в. Лазарь Баранович уже
употреблял термин «эмблематическая поэзия». Под таким
названием он понимал сложные рисунки или «форты»
(офорты) в начале книг. Одну такую «форту» он весьма подробно
объясняет в письме Варлааму Ясинскому, это рисунок в начале
книги «Трубы словес проповедных». Очень ярко символика
запечатлелась в «Ключе разумения» И. Галятовского 1659 г.;
другие издания — 1660, 1663 и 1665 гг. — книга была весьма
распространена на Украине. В одной проповеди Галятовского
символами Христа являются корона, вечер, деньги; в другой —
символами Пресвятой Богородицы — звездочки и т. п. В том,
что касается символики, Сковорода был настоящим учеником
старой украинской школы. Среди прочего Сковорода
мимоходом упоминает некую таинственную символическую «Деву» —
женственную сущность мира. Эрну эта «Дева» напомнила
позднейшую «Богородицу — великую Матерь Земли» 18
Достоевского и вечную «женственность» Вл. Соловьева, однако вся эта
таинственная мистическая философия никакого отношения
к Сковороде не имеет. Если хорошо поискать, то мы найдем его
«Деву» в старой украинской школе и в старой словесности —
виршах, колядках, щедривках, где она сравнивается с
цветами, чаще всего с лилией. Это и есть прабабка сковородиновской
«Девы» 19.
Эрн подчеркнул любовь Сковороды к библейским текстам.
Эту склонность тот тоже взял из старой украинской школы,
более всего у Галятовского, который за сто лет до Сковороды
Сковорода и Эрн
683
уже вовсю использовал Библию и усматривал в Священном
Писании четыре смысла — буквальный, моральный,
аллегорический и анагогический. Буквальный смысл относится к
содержанию, моральный — к добрым нравам, аллегорический — к
Церкви, что воюет на земле, и анагогический — к Церкви на
небе, напр., Иерусалим имеет значение: 1) города, 2) души,
3) Церкви на земле и 4) Церкви на небе; последние три
значения символичны. Сковорода дальше развернул эти идеи,
используя Библию20.
Эрна поразила та черта в сочинениях Сковороды, что он
«благочестивые мысли облекал в формы греческой мифологии»
и одно свое стихотворение закончил словами:
Так живал афинейскш, так живал и еврейскш
Эпикур — Христос21.
Вещь удивительная, а все ж таки ее легко понять, припомнив
давних украинских писателей, напр., Галятовского, в
проповеди которого на Воздвижение крест Христов сравнен с
трезубцем Нептуна и молнией Юпитера. Такие причудливые
сравнения украинские проповедники позаимствовали в польской
литературе.
Даже в мелочах Сковорода следует за старой украинской
словесностью, напр., в сравнивании премудрости Божией с
драгоценными каменьями, как Галятовскии на сто лет раньше
построил целую проповедь на сравнении Христа с топазом,
хризолитом и т. д.
Что Сковорода уважал старую украинскую науку, об этом
свидетельствует его почтение к Варлааму Лащевскому и
Феофану Прокоповичу. «Есть cie милое твореше», писал он о
трагикомедии Лащевского «Гонимая Церковь». В другом месте он
снова уважительно вспоминает о ней и сетует, что она сгорела,
в рукописи: «О пламень, поядшш Шевскую библютеку, тате
и толик1я манускрипты, коликую гибель сотворил еси?» 22
Использовав целиком обширное стихотворение Ф. Прокопо-
вича: «Я, Боже, Тебе нову песнь... воспою», Сковорода
добавляет: «Сш стихи суть из победныя песни Феофана Прокоповича,
ректора Шевск1я Академш... Почи президентом в Синоде.
Вечная память». В этих теплых отзывах виден благодарный
ученик Киевской школьной науки. Духовная благодарность была
весьма присуща Сковороде и не раз ярко запечатлевается в его
сочинениях.
Внешние формы тоже взяты Сковородой из старой
украинской литературы, как-то: диалоги, басни, примеры, сравнения.
684
Я. Φ. СУМЦОВ
По мысли Эрна, обычная у Сковороды диалогическая форма
«диктуется взволнованным душевным состоянием». Этого мало.
Она заранее уже выработана была украинской словесностью,
в которой встречается издавна и довольно часто, в виршах, в
народных песнях, в вертепной драме. Эта литературная струя
идет с давнишних времен. Она встречается в «Слове о полку
Игореве», у Кирилла Туровского, у Нестора, вообще есть старая
украинская форма.
Сковорода часто подчеркивает свои мысли баснями. «Друг
мой, — писал он Ковалинскому, — не презирай баснослов1я!
Сей забавный и фггурный род писашй был домашнш самым
лучшим любомудрцам». В сочинениях Сковороды есть целый
сборник басен — «Харьковсшя басни» в количестве 30. Кроме
того, отдельные басни разбросаны в тексте философских
трактатов. Вообще, Сковорода широко распространил басню в
литературном употреблении в противоположность старой украинской
литературе, в которой она встречается изредка (у Вишенского,
Петра Могилы, Радивиловского).
Стихотворения Сковороды «Сад божественных песней»
стоят близко к старой схоластической литературе, отчасти
напоминают «Огородок» Радивиловского, что вышел лет на сто
раньше. Сковорода пел свои вирши, играя на сопилке или на
бандуре.
Таким образом, Сковорода своей величественной фигурой и
своими глубокими мыслями принадлежит к числу наилучших
сынов Украины. Он имеет большое значение не в том смысле,
что был, как думает Эрн, «родоначальником русской
философской мысли», а потому, что на нем ярко отразилась украинская
философия, выработанная на протяжении веков на почве
жизни и школы. Сковорода — ее наивысшее явление. В скором
времени Котляревский сыграл такую роль в изящной словесности,
с той большой разницей, что философская жизнь украинского
народа после Сковороды вскоре засохла и увяла, а литературно-
художественная жизнь, с легкой руки Котляревского, пошла
вверх, дала со временем новые великие ростки, начала более
иль менее отражать на себе философские мысли украинского
народа, стала великой защитой, крепкой обороной его слова,
народности, национального чувства и самоопределения.
^^
^5^
Б. В. ЯКОВЕНКО
Возрождение славянофильства
и самозащита неозападничества
(фрагмент из кн. «История русской философии»)
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА. —
ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ Н. А. БЕРДЯЕВА
К концу первого десятилетия XX в. процесс идейной
эволюции, начавшийся в конце прошлого века, особенно среди
известной группы русских мыслителей, достиг своей вершины
и своего предела: ряд недавних публицистов — представителей
марксистского материалистического позитивизма, или
реализма, превратились в горячих и действенных сторонников
спиритуалистической метафизики в широком смысле слова.
Наступило возрождение славянофильских воззрений, приспособленных
к нуждам времени, но лишенных одного из главных
славянофильских постулатов: самодержавия. Могло ли быть иначе,
если наступлению обновленного славянофильства
(неославянофильства) предшествовали не только совсем незадолго до того
приобретенный опыт русской революции, но и красноречивое
бичевание, которому подверг — больше всего именно в
социально-политическом отношении — поздних славянофилов,
защитников реакции и обскурантизма, Вл. Соловьев, учение и
работы которого безусловно служили главным импульсом и
идейной основой возрождения славянофильского
мировоззрения? Периодическим органом этого неославянофильства на
некоторое время стал «Московский еженедельник» Е. Н.
Трубецкого, после его закрытия с той же целью в Москве в 1906 г.
686
Б. В. ЯКОВЕНКО
М. К. Морозовой было основано специальное
религиозно-философское издательство «Путь» *. Как и в прошлом десятилетии,
на этой стадии движения во главе его стоял знаменитый
публицист и меткий эссеист, но мало склонный к
научно-систематическому творчеству Н. Бердяев2. Стремясь выполнить
обещание, данное незадолго до того и в согласии с главными
духовными потребностями времени, он, решительно сделав
центром своего собственного мышления религиозно понимаемое
понятие свободы, на его основе попытался развить религиозно-
философское мировоззрение, частично имеющее отношение к
взглядам Шеллинга и весьма близкое философии Ф. Баадера.
Принципиальное утверждение этого мировоззрения гласило:
философия может быть лишь органической функцией
религиозной жизни, религия есть жизненная основа философии,
религия питает философию реальным бытием. Только
христианская метафизика утверждает реальность бытия и реальность
путей к бытию, постигает великую тайну свободы, ни на что
неразложимой и ни к чему не сводимой, и признает
субстанцию конкретной личности, заложенной в вечности.
Христианский гнозис приводит к трансцендентному реализму, к
конкретному персонализму, к философии свободы. Разум уже не
есть рациональный интеллектуальный принцип, а тотальный,
солнечный дух в мире и в человеке. Истина не есть
отвлеченная ценность, ценность суждения. Истина предметна, она
живет, истина — сущее, существо. Знание есть бытие, живая
функция бытия, ценность его развития, акт самопознания и
самосознания универсального бытия, в котором мы принимаем
участие; значит, оно никак не является отражением бытия или
конструированием бытия, а, скорее, есть его самооткрытие,
самоопределение и самоформирование. Главная проблема
гносеологии — отношение бытия к бытию, одной функции жизни
к другим функциям мировой жизни. Свобода греха — вот
главный источник и одновременно основа тайны бытия и знания.
Действительно, свобода бытия вела к отпадению от
абсолютного разума и созданию элемента иррационального и
хаотического. Бытие заболело, и это заболевание проявилось прежде всего
в том, что все стало временным, т. е. исчезающим и
возникающим, умирающим и вновь рождающимся. В основе истории
лежит грех, и смысл истории заключается в его искуплении и
возвращении творения Творцу, в свободном объединении всех
и всего с Богом, в обожествлении всего, что остается в сфере
бытия, и в том, что в конце зло будет изгнано в сферу небытия.
Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества 687
История человечества на земле приобретает смысл только
потому, что в ее центре появился Христос: к нему и от него идет
историческое действие трагедии. Христианская религия есть
свобода во Христе. Вся церковь основывается на свободе, на
свободном общении в Любви. Внутри церкви нет ничего другого,
кроме свободы, ограниченной Любовью, или, точнее,
наполненной Любовью. Церковная мистика есть прежде всего
мистика свободы, как церковная философия есть философия
свободы.
ОБНОВЛЕННОЕ ЗАПАДНИЧЕСТВО. —
ИДЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА «ЛОГОСА»
Но до того как неославянофильство выступило таким
внешне сплоченным, оно увидело уже перед собой — якобы
созданное в силу исторической диалектики — новое западничество,
точно так же сформированное и уже продвигающееся в не
менее сплоченном строю. Эта сила состояла главным образом из
совсем новых молодых элементов, еще неопытных и
неокрепших ни в области философского мышления, ни в философской
публицистике, но прошедших уже важную школу
философского мышления на Западе, главным образом в Германии. К ним
присоединился ряд опытных ученых и публицистов,
некоторые из них, — хотя за плечами у них в
социально-политическом отношении уже было относительно длинное и сложное
идеологическое развитие (П. Струве, Б. Кистяковский) —
правда, не собирались отказываться полностью от своей общей
западнической ориентации и своего критицизма в чисто
философской области Центром неозападнического движения стал
философский журнал «Логос», начавший выходить в 1910 г. в
издательстве «Мусагет» 3, основанном в том же году стараниями
талантливого музыкального критика Э. К. Метнера-Вольфинга
(ум. в 1936 г.), главным образом с целью проповеди и развития
идеологии символизма. Программная статья, открывшая
первый номер «Логоса», содержала следующее утверждение:
основные принципы русской философии никогда не выковывались
на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались
в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр
внутренних переживаний. Основная ошибка славянофильской
школы заключалась в том, что она не создала собственного
всеохватывающего единства как принцип в ходе теоретического
688
Б. В. ЯКОВЕНКО
мышления, а просто объявила это единство основным фактом
внутренней жизни. Вл. Соловьев, хотя преодолел в своем
сознании все основные разногласия славянофильской
романтики, всем своим подсознательным творением до конца своей
жизни был погружен во внутренние затруднения этой школы.
Основное противоречие русского мышления, т. е. противоречие
между сознательной целью и подсознательным стремлением,
породившее у русских мистиков совершенную невозможность
достижения чистого синтеза, снова появилось в
противоположном лагере в форме противоречия между требуемым
абсолютным господством разума и тем, что он фактически находился
в плену мотивов, чуждых истине. Михайловский,
попытавшийся решить это противоречие и устранить его с.помощью
своего понятия двуединой истины, в действительности его
только закрепил, поскольку он придал основному
противоречию русского позитивизма лишь рациональную формулировку,
подобную той, которой Вл. Соловьев рационально закрепил
основное противоречие русской мистической философии.
Провозглашая самостоятельное значение философского знания и
стремясь к полноте культурных мотивов во всем их разнообразии,
необходимо работать над созданием истинной философской
культуры в России. В русской философии еще нет бесспорной
и прочной традиции; кроме того, мы должны признать, что
философия, бывшая раньше греческой, в настоящее время
преимущественно немецкая. А потому, лишь усвоив это
наследство, сможем и мы уверенно пойти дальше. Мы глубоко верим
в будущее русской философии, а также в то, что основанное на
безусловном усвоении западного наследства философское
творчество наше неизбежно вберет в себя имеющиеся у нас
своеобразные и сильные культурные мотивы, обнаруживающиеся
пока лишь в области художественного и мистического
творчества, «и тем самым бесконечно обогатит мировую философскую
традицию». Программа, провозглашаемая «Логосом», была
уже в первой тетради, хотя и частично, совершенно четко
выполнена. Западная мысль там была представлена сразу тремя
немецкими статьями (Риккерт, Фосслер, Кронер) и одной
французской (Бутру), а отечественное западническое мышление
(неокантианское) проявилось как в виде симпатичного
изложения духовно-идейного содержания романтизма у Ф. Степуна,
так и в виде попытки С. Гессена дать обоснование
трансцендентально-эмпирического агностицизма в размышлении на тему
«Мистика и метафизика», а также попытки Б. Яковенко по-
Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества 689
казать с помощью критического размышления о философии
Когена правомерность трансцендентального онтологизма и
необходимость борьбы с психологизмом всех направлений, т. е.
необходимость всестороннего освобождения «предмета».
НАПАДКИ В. Ф. ЭРНА И Н. А. БЕРДЯЕВА
Издание «Логоса» сразу вызвало весьма энергичные, в
высшей степени острые нападки со стороны неославянофилов в
лице самого молодого, в философии еще не имеющего больших
заслуг, но одаренного публициста и сторонника этого течения —
В. Ф. Эрна (1881 —1917). Участники «Логоса», утверждал он,
присоединяясь к традиции главного направления европейской
мысли, находятся полностью во власти обоих основных
принципов новой философии, которые были завершены в
кантианстве: во-первых, заметного и всепроникающего принципа
рационализма и, во-вторых, вытекающего из него таинственного и
скрытого, но не менее всепроникающего принципа меонизма.
Основным тенденциям европейской мысли в качестве
антитезиса необходимо противопоставить античный логос и логос
восточно-христианской спекуляции, поскольку ratio есть
результат схематичной абстракции, в то время как существо Логоса
состоит в его божественности, а истина есть бытие в Логосе,
или бытие в Истине, что возможно лишь благодаря
деятельности самого Логоса или благодаря милости существенного
усвоения Слова. Из этого возникает та динамичная гносеология,
чуждая и непонятная новому философскому сознанию Запада,
но глубоко последовательная, согласно которой степень
познания отвечает степени усилия воли, т. е. степени существенной
направленности к истине, потому на лестнице познания Бога,
т. е. познания Сущего, герои духа, или святые, далеко
превосходят всех и всякого. Историческое столкновение ratio и
Логоса, неминуемое и неизбежное, может произойти лишь в России.
В органическом соответствии с оригинальностью почвы
(наличие рационализма — через культурность и наличие Логоса —
через православность) русская философская мысль
характеризуется тремя основными и яркими тенденциями: форма и
содержание мысли нераздельны; она всегда была пронизана
онтологизмом, естественно вытекающим из основного принципа
Логоса. Вторая основная тенденция русской философской
мысли состоит в глубокой и коренной религиозности; и наконец,
поскольку мудрость слова открывается только и лишь только
690
Б. В. ЯКОВЕНКО
личности, третья основная тенденция русской философской
мысли состоит в персонализме. Все участники «Логоса» — в
одинаковой мере Риккерт из Фрейбурга, Гессен из Петербурга, Яко-
венко из Рима — ортодоксальные и восторженные сторонники
мифа научности, и все трое преклоняются перед меонским
идолом, вышедшим из лона позитивизма. Меонистический
рационализм участников «Логоса» не имеет в принципе ничего
общего с логизмом и онтологизмом истинной философии Логоса;
использовать же понятие греческого Логоса применительно к
рационалистическому предприятию значило бы проявлять или
отсутствие какого бы то ни было музыкального чувства, или
отсутствие какого-либо серьезного знания истории философии.
Возврат к логистическому мировоззрению может и должен быть
осуществлен лишь творческим способом: те метафизические
основные истины, жизнь которых продолжается в
сокровищнице христианской спекуляции, могут быть найдены лишь в
метафизике глубоко активного самосознания.
Самозащита неозападничества. Антизападничество Эрна
нашло поддержку в не менее острых и определенных нападках
Бердяева на новоиспеченных неозападников. Вся европейская
философия, по мнению последнего, страдает в своих конечных
результатах болезнью антиреализма, т. е. болезнью отделения
от бытия. Кант был гениальным выразителем серьезной
болезни в бытии человеческом, он философски формулировал
роковой разрыв с корнями и истоками бытия. Роль гносеологии в
последних плодах новейшей философии свелась к функциям
лакейским и полицейским: критическая гносеология есть
лишь выражение власти номинализма слов, всего лишь
буквоедство, и ее требования к критичности большей частью прямо
смешны. Чтобы окончательно освободиться от психологизма и
антропологизма, необходимо перейти к космической,
церковной гносеологии, утвердиться на почве соборного сознания.
Органом философствования является Божественный Логос, а не
человеческий рассудок. Мышление, усталое от болезненного
гамлетизма, должно вернуться к здравому донкихотству. Те,
которые верят в миссию России, всегда видели и будут видеть
это призвание в творческом достижении религиозного синтеза
и в жизни, и в сознании.
На страстную и замечательную философско-публицистиче-
скую атаку Эрна сразу откликнулся С. Л. Франк, который
соглашался с западничеством в его сущности, но не в его
крайних выводах и противопоставил Эрну не менее красноречивую
философско-публицистическую защиту. Начало ratio характе-
Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества 691
ризует, как утверждает Франк, не какую-либо отдельную ветвь
или историческую эпоху философии: оно есть конститутивный
признак понятия философии. Если русским мыслителям,
таким, как Лопатин, Козлов, С. Трубецкой, удается с помощью
ratio защитить и возродить онтологизм, значит, ratio не
необходимо приводит к «меонизму». Прискорбно, когда молодые
русские философы поклоняются каждому слову Риккерта или
Когена и не читают Вл. Соловьева и Лопатина или не замечают
их философского значения. Но, быть может, более прискорбно
еще то националистическое самомнение, которое в оценке
национальной философии не знает меры и перспективы и
дерзостно попирает вечные ценности европейской мысли.
Философско-научный ответ на нападки Эрна, а также
доказательство общей правомерности историко-философской и фило-
софско-исторической позиции неозападничества дал Б. В. Яко-
венко своей попыткой показать кратким, но существенным
способом именно на проблеме Логоса «первоначальное единство
философского познания» и «единый процесс развития
философского мышления вообще». Как показывает историческая
преемственность философских систем, для проблемы Логоса
самыми характерными остаются три главные эпохи
философского мышления, т. е. космизм, теизм и гносеологизм, в своих
дуалистических и монистических учениях в сущности
идентичных. Один и тот же смысл промежутствующего и всепримиряю-
щего Логоса и его тождественное разрешение, и тождественный
метод, и тождественную заключительную систему. Различно
только освещение, придаваемое спекуляции эпохой и иными
жизненными мотивами. Но дело при этом не ограничивается
единством только внешне историческим, единством
философского познания на протяжении его развития, это единство
имеет глубокий, внутренне систематизированный смысл. С
помощью гносеологического анализа Божественный Логос получил
совсем новое, не космическое и не антропоморфное в этом
смысле освещение. Из Логоса вещного он стал Логосом логическим,
из Логоса восприятия — Логосом критическим. То, что сделали
Платон и Плотин бессознательно, в лице Канта и Гегеля
достигло своего полного сознания. В Логосе античном философская
мысль получила свое существование; в Логосе немецкого
идеализма она возвысилась к самосознанию. Отсюда следует, что
всякий требующий отказа от немецкого идеализма и возврата к
античной философии, тот, кто, в противовес Канту и Гегелю,
восхищается новейшими проявлениями античного космизма,
не только не видит истинного смысла немецкой спекуляции, но
692
Б. В. ЯКОВЕНКО
и просто нарушает самую интимнейшую сущность философии,
а также все мировое значение греческого учения о Логосе.
Философия как таковая не знает ни скачков, ни кризисов, будучи
совершенно постепенным и неустанным обнаружением своего
объединенного абсолютностью множества*.
^5^^-
См.: Бердяев Н. Философия свободы. М., 1911. С. 8, 10 ел., 17,
20 ел., 27, 33, 64 ел., 70 ел., 78 ел., 80, 84, 92, 99, 101 ел., 105 ел.,
119 ел., 123 ел., 141, 149 ел., 152, 157, 214, 219, 235, 246, 248 ел.;
Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Кн. I.
М., 1910. С. 2 ел., 11 ел. ел.; Эрн В. Нечто о Логосе, русской
философии и научности // Московский еженедельник. 1910. № 29—32;
Он же. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М.,
1911. С. 79 ел., 86 ел., 90 ел., 95, 345, 355 ел.; Франк С. О
национализме философии // Русская мысль. 1910. Кн. 9. С. 164 ел.,
167 ел., 170 ел.; Яковенко Б. О Логосе // Логос. 1911. Кн. 1. С. 56—
60, 68, 76, 88 ел.
^5^
Дитер ШТЕГЛИХ
Восток и Запад. Россия и Европа
А) ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В творчестве В. Ф. Эрна решающее значение для
рассмотрения вопроса о месте России в противостоянии Востока и Запада
имел 1910 год. В том году в Москве М. К. Морозова основала
книгоиздательство «Путь». Цели издательства были вкратце
обрисованы в его программном заявлении, опубликованном в
первом сборнике, посвященном Владимиру Соловьеву*. В
центре внимания «Пути» стоит вопрос о назначении России во
всемирной истории, о ее духовном облике, призвании и задаче.
Исходя из того, что религиозная задача России состоит в том,
чтобы «послужить в мысли и жизни всестороннему
осуществлению вселенского христианского идеала» **, «Путь» хочет
прояснить предложенные вопросы посредством углубления
русского самосознания и новым пониманием прошлого России. Работа
над прошлым русской мысли, подчеркивание самостоятельной
традиции русской философии и нераздельное от христианской
догматики обсуждение философских вопросов определили
тенденцию «Пути».
Тогда же, в 1910 г., в Москве в издательстве «Мусагет»,
созданном годом ранее музыкальным критиком Э. К. Метнером,
стал выходить «Логос» — русское издание международного
журнала по философии культуры. Между «Логосом», бывшим
под влиянием неокантианской немецкой философии, и
«Путем» вскоре возникает острая полемика, которую с этой
стороны ожесточенно ведет В. Ф. Эрн. Главным пунктом
выступлений Эрна против «Логоса» стали взгляды журнала на историю
* Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. I—П.
** Там же. С. I.
694
Дитер ШТЕГЛИХ
русской философии, выраженные в редакционном заявлении в
первом томе «Логоса» *.
По словам одного из ближайших сотрудников журнала,
Бориса Яковенко, «Логос» выступил против стремления нового
религиозно-философского движения «обосновать русское
философствование всецело на религиозной догме христианства, в
частности обновленного православия, и вообще против всего его
умонастроения» **. На взгляд редакции «Логоса», в России не
существовало никакой собственной философской традиции.
«Мысль наша никогда не была вполне свободной и вполне
автономной» ***. Славянофильство, в котором русское мышление
впервые пробудилось к самостоятельности, подчинило
философию единству жизни, сделав ее тем самым пленницей жизни.
Началом философии оно положило синтез, вместо того чтобы
видеть в нем задачу, цель, достигаемую в процессе
теоретической мысли. Даже Владимир Соловьев, хотя и признавал
бесплодность славянофильской школы **** и защищал свободную
философскую мысль, не смог отказаться от иррациональных
переживаний в своих работах. «Sub specie ценности
теоретической истины Владимир Соловьев едва ли создал нечто новое и
значительное» *****. Недостаток русской философской мысли
«Логос» видит прежде всего в том, что ее основные принципы
«никогда не выковывались на медленном огне теоретической
работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже
вполне готовыми из темных недр внутренних переживаний» 6*.
Мистические направления, равно как и позитивистские,
были не в состоянии создать в России собственную
философскую традицию. Для издателей «Логоса» это означало
следующее: «Мы по-прежнему, желая быть философами, должны
быть, прежде всего, западниками» 7*. Соглашаясь с «крайними
западниками» относительно прошлого и настоящего русской
философии, «Логос», однако, верит в возможность самостоя-
* От редакции//Логос. 1910. Т. 1. С. 1—16. В сокращенном виде
это заявление появилось в первом томе немецкого издания (с. 151 —
158).
** Яковенко Б. В. Очерки русской философии. Берлин, 1922. С. 108.
*** От редакции // Логос. 1910. Т. 1. С. 1—2.
**** ПрИ этом «Логос» ссылается на главу «Россия и Европа» в работе
В. С. Соловьева «Национальный вопрос».
***** Логос. 1910. Т. 1. С. 3.
6* Там же. С. 2.
7* Там же. С. 13.
Восток и Запад. Россия и Европа
695
тельной русской философии в будущем. Для этого необходимо
освоить наследие западной философии, но не в форме простого
заимствования, а в форме дальнейшего творческого развития.
«Нужно усвоение через творчество и творчество через усвоение.
Вот главное условие создания у нас собственной философской
традиции» *. Освоение западного философского наследия
мыслится издателями «Логоса» специально как освоение немецкой
философии, так как «философия, бывшая ранее греческой, в
настоящее время преимущественно немецкая» **.
Обстоятельная рецензия В. Ф. Эрна на первую книгу
«Логоса» имеет название «Нечто о Логосе, русской философии и
научности. По поводу нового философского журнала "Логос"».
Эта статья, содержание которой выходит далеко за рамки
обычной рецензии, посвящена, главным образом, предисловию
к первой книге «Логоса», в котором выражены взгляды его
издателей на прошлое и будущее русской философии. Эрн
выступает против «этих презрительно-пренебрежительных взглядов
на русскую действительность, в ее прошлом и настоящем» ***.
Наряду с резкой критикой воззрения «Логоса» выступление
Эрна содержит первые основоположные формулировки места
русской философии в отношении философии Запада и Востока.
Кроме того, статья образует начальный пункт размежевания с
С. Л. Франком, представлявшим журнал «Русская мысль». Его
упрек Эрну в национальном самоослеплении, выдвинутый в
двух статьях — «Философские отклики. О национализме в
философии» **** и «Еще о национализме в философии. Ответ на
ответ В. Ф. Эрна» *****, увенчивается таким суждением:
«Статья Эрна — сплошной панегирик русской философской мысли,
сплошное осуждение "нового философского сознания Запада".
Такого огульного и безмерного национального самомнения в
области философии нам до сих пор не приходилось встречать» 6*.
Франк, который равно отвергает зависимость «Логоса» от
неокантианства и тогда же критикует это философское направ-
* Там же. С. 14.
** Там же С. 13.
*** Борьба за Логос. С. 75.
**** Опубликована в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. 9. Паг. 2.
С. 162—171).
***** Опубликовано в «Русской мысли» (1910. Кн. 10. Паг. 2. С. 130—
137).
6* Философские отклики. О национализме в философии // Русская
мысль. 1910. № 9. С. 163.
696
Дитер ШТЕГЛИХ
ление как «довольно бедное, формалистичное и
малоплодотворное» *, усматривает смысл своего противостояния с Эрном в
следующем вопросе: «Должны ли мы в сфере философии (как и в
других сферах культуры) бороться насмерть с Западом или,
напротив, стремиться к единению с теми "всечеловеческими
началами", на которых, по мысли Соловьева, "воздвигалась Запада
держава"»?** Эрн, в статье «Культурное непонимание. Ответ
С. Л. Франку» ***, повторяя и дополняя свое мнение, отклоняет
выдвинутые против него упреки.
В рамках полемики с двумя сторонами — с сотрудниками
«Логоса» ****и с С. Л. Франком — Эрн впервые предпринимает
обстоятельную попытку предложить свое понимание западной
и восточной философии и положения русской философии
относительно этих двух областей. В данном случае речь шла только
о попытке решения вопроса, а не о завершенной работе, что
было подчеркнуто самим Эрном*****. Но незавершенность
обсуждения темы побуждает Эрна снова заявить, что он должен
вернуться к ней, по-новому все осмыслить, глубже в нее
вникнуть и яснее изложить свою позицию.
Прежде чем мы перейдем к эрновскому пониманию
отношения России к Востоку и Западу, мы изложим его критику
«Логоса», в той части, в какой она непосредственно относится к
названию журнала. Острота полемики, которую Эрн ведет
против «Логоса», ясно показывает, с какой страстностью он
излагает свои тезисы, как он отстаивает свои взгляды. Чтобы пра-
* Философские отклики. О национализме в философии. С. 163.
** Франк С. Л. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ
B. Ф. Эрна // Русская мысль. 1910. Кн. 11. С. 137.
*** Опубликована в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. 10. Паг. 2.
C. 116—129). Снова статья была напечатана в «Борьбе за Логос».
Мы цитируем по последнему изданию.
**** Критика концепции Эрна представлена, прежде всего, рецензиями
журнала «Логос» на его работы. См. рецензии Степу на на книгу
Эрна о Сковороде (Логос. 1913. Кн. 3—4. С. 353—354), на его
статью «Гносеология В. С. Соловьева» (в рецензии на «Сборник
первый. О Владимире Соловьеве» в журнале «Логос» за 1911/1912 гг.
Кн. 2—3. С. 306); далее см. рецензии Яковенко на эрновскую
«Борьбу за Логос» (Логос. 1911/1912. Кн. 2—3. С. 296—299) и на
его статью «Критика кантовского понятия истины» в рецензии на
«Философский сборник. Льву Михайловичу Лопатину. К
тридцатилетию научно-педагогической деятельности...» М., 1911 (Логос.
1911/1912. С. 284—288).
***** Ср.: Борьба за Логос. С. 72—73. Прим. 1.
Восток и Запад. Россия и Европа
697
вильно их оценить, нужно понять, что многие утверждения
Эрна обусловлены его темпераментом.
Главным пунктом нападения Эрна на «Логос» является само
название журнала. Эрн протестует против того, чтобы
названием «Логоса» прикрывалось философское воззрение, которое
вообще не соответствует философии Логоса — как в античном,
так и в христианском видении. «Что общего между "Логосом"
Мусагета и Логосом, имеющим свою определенную, более чем
двухтысячелетнюю историю в философском сознании
человечества?» *На этот вопрос Эрн дает самый решительный ответ:
«Меонический рационализм составителей "Логоса" коренным
и принципиальным образом ничего общего не имеет с логизмом
и онтологизмом действительной философии Логоса» **.
Более того. На взгляд Эрна, под маской «Логоса» на обложке
журнала в Россию протаскивается философия немецкого
неокантианства, принципы которого диаметрально
противоположны принципам философии Логоса. «Из-под греческой мысли,
наскоро и неловко одетой, всюду красуется знакомое: made in
Germany» ***. Как велико возмущение Эрна, показывает его
следующее сравнение: «Если бы мне насыпали между зубов
целую горсть песку и заставили его жевать, то эту операцию я бы
перенес с большим спокойствием, чем священное имя Логос на
обложке альманаха» ****.
Однако эрновская критика направлена не только против
«Логоса» и связанной с ним неокантианской философии, но и
вообще против всей западной философии Нового времени.
Поэтому Эрн атакует неокантианство не только как отдельное
философское направление, но рассматривает его в широкой
исторической связи. Кантианство есть завершение
рационализма» *****. Таким утверждением Эрн переносит свою критику с
узкой области неокантианства на широкое поле
рационализма6*.
Прежде чем мы проанализируем представления Эрна точнее,
нам необходимо выяснить, в чем он видит прямую
противоположность Запада и Востока, что он понимает, говоря о них,
* Борьба за Логос. С. 79.
** Там же. С. 84.
*** Там же. С. 76.
**** Там же. С. 79.
***** Там же.
6* Что Эрн понимает под «рационализмом», мы будем толковать
далее.
698
Дитер ШТЕГЛИХ
и какое время их истории он критически рассматривает. В
разъяснениях С. Франку Эрн ясно указал, на какие области он
хочет распространить противостояние Запада и Востока. Франк
упрекал Эрна в том, что он принимает славянофильское
противопоставление западной «рассудочности» и восточной
«человечности», равно как их привычку приписывать «западной мысли
(и жизни) только недостатки, восточной и русской — только
достоинства» *.
В своем возражении Эрн очень ясно очерчивает проводимое
им противостояние: «Я противопоставляю два познавательных
начала: ratio и Логос, а не две культуры: Россию и Запад. Мое
противоположение есть результат гносеологического анализа.
Противоположение славянофилов — результат философско-ис-
торических соображений» **. При таком противопоставлении
Эрн имеет в виду не вообще Восток и Запад, т. е. вообще
культуры двух областей, а исключительно философию Запада и
философию Востока, а именно ту философию Запада, которая
исходит из принципа ratio, и ту философию Востока, которая
исходит из принципа Логоса.
Представляется, таким образом, что противопоставление
Запада и Востока ограничено узкой историко-философской
областью. Но что в действительности эта область более велика,
вытекает из того, что Эрн понимает рационализм и логизм как
временные периоды истории философии***, т. е. весьма
широко. Поэтому Эрн увидел основной принцип всей западной
философии Нового времени в самоопределении разума в форме ratio
(самоопределение разума в качестве ratio» ****), а принцип
всей философии христианского православного Востока — в
самоопределении разума в форме Логоса («самоопределение
разума в качестве Логоса» *****.
* Франк С. Л. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ
В. Ф. Эрна//Русская мысль. 1910. Кн. 11. С. 135. Ср.:
Философские отклики. О национализме в философии // Русская мысль.
1910. Кн. 10. С. 163.
** Борьба за Логос. С. 125.
*** «Рационализм» и «логизм» в нашей работе употребляются в том
смысле, какой им придан Эрном. Рационализм есть философия,
исходящая из принципа ratio; логизм — это философия,
исходящая из принципа Логоса. Значение «ratio» и «Логоса» станет
ясным из особо обсуждаемого противостояния двух принципов.
**** Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912. С. 18.
***** Там же. С. 19.
Восток и Запад. Россия и Европа
699
Теперь всю новую европейскую философию: от Френсиса
Бэкона и Декарта через английский эмпиризм, кантовскую
трансцендентальную философию и немецкий идеализм вплоть до
направлений позитивизма и неокантианства* Эрн называет
рационализмом. В утверждении ratio как их общего
фундамента Эрн усматривает принцип всех этих философских
направлений — несмотря на их очевидные различия и противоречия.
«Огромной предпосылкой всей новой и новейшей философии
является акт самоопределения философской мысли в качестве
ratio» **. У этой общей основы, в самоопределении разума в
форме ratio имеются внешние и внутренние моменты.
Относительно первых (к примеру, вопроса о врожденных
идеях) внутри отдельных школ рационализма предполагались
различные мнения. Напротив, внутренние моменты — под
ними должно, прежде всего, понимать определяющие приметы
сущности рационализма — всей философией рационализма ***
признавались единодушно. Эрн чувствует себя вполне уверенно,
определяя всю новую европейскую философию как
рационализм: «Локк или Юм — рационалисты такого же чистого типа,
как Декарт или Спиноза, и панлогизм Гегеля или
многочисленные формы позитивизма конца XIX века не менее
рационалистичны, чем философия Лейбница или Вольфа» ****. Однако Эрн
определенно и постоянно подчеркивает, что эту суммарную
классификацию западной философии Нового времени и ее
характеристику как рационалистической он рассматривает
только в отношении ее главного направления («главного русла»), ее
определяющей линии, «по которой она (т. е. «новая западная
философия») двигалась и развивалась» *****.
При этом из эрновского рассмотрения выпадают такие
мыслители, как Бёме и Баадер, потому что они отклонились от
определяющей линии новой философии и в основном
продолжали традиции античного и средневекового воззрения. В
собственном смысле их философия не кажется Эрну содержатель-
* Термин «новая европейская философия» у Эрна часто изменяется.
Так, в статье «Основной характер русской философии и метод ее
изучения» (которая является введением в монографию о
Сковороде) наряду с термином «новая европейская философия» мы видим
еще «новую европейскую мысль» и «новую европейскую
философскую мысль».
** Борьба за Логос. С. 170.
*** См.: Там же. С. 170.
**** Сковорода. С. 12.
***** Там же> с. 9. Прим. 1.
700
Дитер ШТЕГЛИХ
но новой. «Они новы, как ново все гениальное, но содержание
их старое и давно известное» *.
Подробные ограничения при обсуждении западной
философии мы находим в другом месте, когда Эрн подчиняет
рационализму всех тех философов, стоящих на магистрали новой
философии, «которая тянется от Декарта к Канту, от Канта к
Гегелю и от Гегеля к трансцендентализму наших дней» **. Этой
установкой открываются возможности (в ней не выраженные)
для существования тех философских устремлений на Западе,
которые лежат вне их основной магистрали.
Исключение, которое Эрн делает внутри рационализма для
философии Шеллинга, имеет принципиальную природу. При
решении почти всех отдельных вопросов противоположения
ratio и Логоса Шеллинг остается единственным философом
Запада, который сделал попытку отвести новую европейскую
мысль из русла рационализма в русло логизма***.
Критика Эрном Запада, как она дана в его концепции
противоположности рационализма и логизма, непосредственно
относится только к философии Нового времени. Из нее исключается
западная философия и культура Средневековья, а кроме того,
культура Нового времени «в той огромной и колоссальной части,
которая не обеспложена рационализмом», и, в особенности,
искусство****. Такое временное и содержательное ограничение
критики выявляет одно существенное для автора
обстоятельство. Западный католицизм Эрн признает церковным;
последний «так же логичен» и так же динамичен, как и православие»,
хотя и по-другому *****.
В своей специфической форме рационализм философии
Нового времени занимает совершенно исключительное
положение. Между тем зародыш такого рационализма обнаруживается
уже в древности, хотя историческую силу он обрел только в
новое время. «Никогда он (т. е. рационализм) не вырастал до
такой огромной исторической силы, как в Новое время» 6*.
Во временном плане область логизма Эрн видит значительно
более глубоко. Идея Логоса начинает развиваться в античности
* Сковорода. С. 9. Прим. 1.
** Борьба за Логос. С. 170.
*** Конкретнее о месте Шеллинга мы еще будем говорить.
**** Борьба за Логос. С. 139.
***** Там же. С. 93. Прим. 1. Ср. также: С. 83. Прим. 1. См. также:
С. 111—113.
6* Там же. С. 170.
Восток и Запад. Россия и Европа
701
и достигает своего расцвета в воззрениях христианского
Востока.
Здесь свое исключительное выражение она находит в
философии Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Григория
Нисского и «его западного ученика» Оригена*.
Если даже не предполагать никакой идентичности между
понятиями Логоса в античности и в христианстве, то остается
твердо установленным, что христианство восприняло ядро
античного понимания Логоса, углубило его и подняло на более
высокую ступень**. Таким образом, иногда Эрн
противопоставляет ratio не только Логосу христианства, но также Логосу
античности и христианства***. Он также прямо говорит об
«антично-христианском начале Логоса» ****.
Хотя главный акцент при характеристике Логоса Эрн делает
на его христианском понятии, на философии Отцов Церкви,
тем не менее он довольно часто указывает на органическую
связь христианского и античного понимания Логоса, чтобы
показать, что ratio противостоит не только философской мысли
христианства, но и мысли античности. «Христианское
умозрение развивается с такой же органичностью из античного зерна,
как из желудя — дуб. Поэтому нет и пропасти между
античностью и христианским умозрением... пропасти, действительно
отделяющей новую философскую мысль от античности» *****.
Православный Восток и труды эллинских Отцов Церкви —
вот что в первую очередь образует область логизма, но которая
должна быть рассмотрена в связи со своим происхождением, с
античной философией.
Противопоставление и сравнение двух философских
принципов — ratio и Логоса тем самым становится
противопоставлением не одновременно действующих, а двух следующих во
времени принципов. Но картина меняется, когда Эрн сужает
противопоставление западного рационализма и восточного
логизма до противопоставления рационализма Запада и логизма
русской философии. Это противопоставление занимает особое
место в изложении эрновских взглядов на сущность русской
философии®*. В этом случае Эрн тоже говорит о противополо-
* См.: Там же. С. 355, 77. См.: Природа мысли. Ч. 1. С. 501.
** См.: Борьба за Логос. С. VII—VIII, 78, 355.
*** Там же. С. 81, 124; Сковорода. С. 18.
**** Борьба за Логос. С. 124.
***** Там же. С. 79.
6* См.: С. 95—111.
702
Дитер ШТЕГЛИХ
жении западноевропейской и восточноевропейской мысли.
Однако термин Восточная Европа предлагается им крайне редко,
так как обычно им обозначается Россия, которая волей истории
становится представительницей Восточной Европы» *.
Сначала следует представить различия между ratio и
Логосом с точки зрения Эрна. После этого последует изложение
сущности и особенностей русской философии внутри
противоположения ratio и логоса. Мы будем следовать тому порядку,
которого придерживается Эрн в своей статье «Основной
характер русской мысли и метод ее изучения» **. Это сочинение,
которое было более свободно от непосредственного впечатления
полемического противостояния с издателями «Логоса» и с
С. Л. Франком и отличается большой ясностью построения
мысли, чем сборник «Борьба за Логос».
Для обсуждаемой темы в этом сборнике особенное значение
имеют статьи «Нечто о Логосе, русской философии и
научности», «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку», «Беркли
как родоначальник современного имманентизма» ***,
«Исходный пункт теоретической философии» ****, «Размышления о
прагматизме» ***** и «На пути к логизму» 6*. Далее централь-
* Природа мысли. Ч. III. С. 119. Вообще Эрн не использует какую-
либо единую терминологию для обозначения двух противостоящих
областей. Наиболее характерны для него следующие
противопоставления: Основные тенденции европейского мышления — Логос
античный и Логос восточно-христианского мировоззрения (Борьба
за Логос. С. 81); западноевропейское начало ratio —
антично-христианское начало Логоса (Там же. С. 124); мысль новой Европы —
античная философия и восточно-христианское умозрение (Там же.
С. 124); ratio новой европейской мысли — Логос античности,
давший богатые плоды на почве восточно-христианского умозрения
(Сковорода. С. 18); новая европейская философия —
восточно-христианское умозрение (Там же. С. 22); западноевропейский
рационализм — восточно-христианское умозрение (Там же. С. 23);
новоевропейский рационализм — восточно-христианский логизм (Там
же. С. 26).
** В качестве введения эта статья открывает книгу о Сковороде. ·
*** Сначала напечатана в « Вопросах философии и психологии» (1910.
Кн. 3. С. 413—436). Вновь была опубликована в кн.: Борьба за
Логос. С. 26—51. Мы цитируем по последнему изданию
**** Опубликована в кн.: Борьба за Логос. С. 143—180.
***** Сначала появилась в журнале «Московский еженедельник» (1910.
№ 17. С. 39—54; № 18. С. 31—40). Вновь напечатана в «Борьбе за
Логос» (С. 1—25). Мы цитируем по последнему изданию.
6* Эта статья образует послесловие книги «Борьба за Логос» (С. 337—
361).
Восток и Запад. Россия и Европа
703
ное место занимает работа «Природа мысли». Наряду с
монографией о Сковороде существенные перспективы открывают
сочинения Эрна «Гносеология В.С.Соловьева», «Критика кан-
товского понятия истины»* и «Природа научной мысли».
Определенный интерес вызывает докторская диссертация Эрна
«Философия Джоберти». Хотя она появилась в печати только
в 1916 г., многие части ее публиковались отдельными статьями
уже с 1914 г. Менее значительна магистерская диссертация о
Розмини, в которой Эрн ограничился описанием философии
итальянского мыслителя, отказавшись от собственной ее
интерпретации**.
РАЦИОНАЛИЗМ
Ratio и Логос являются двумя различными способами
самоопределения мысли или, как в другом месте формулирует Эрн,
самоопределения разума ***. Самоопределение мысли отвечает
на вопрос о том, «что такое мысль сама в себе, по своей
внутренней природе и в своем объективном смысле» ****.
С ответа на вопрос о том, как Эрн понимает разум (мысль),
или вообще принцип человеческого познания, начинается его
исследование противоположности ratio и Логоса. Изложение
принципа познавательной деятельности у Эрна предваряет
характеристику Логоса; ведь в своей истинной определенности
познавательный принцип и является Логосом.
Такое предварение (оно в концентрированном виде имеется в
нескольких местах книги «Борьба за Логос») нужно для того,
чтобы судить об эрновской критике ratio правильно, на
основании всей его концепции. Логос, как метафизическое целое,
согласно Эрну разделяется в человеческом сознании на три
аспекта: космический Логос, дискурсивно-логический Логос и
божественный Логос*****.
* Опубликовано в «Философском сборнике» (С. 49—61).
** Ср. со статьей Л. М. Лопатина «По поводу сочинения В. Ф. Эрна
"Розмини и его теория знания. Исследование по истории
итальянской философии XIX столетия"» в журнале «Вопросы философии
и психологии» (1915. Кн. 2. С. 268—282).
*** «Самоопределение разума» и «самоопределение мысли»—Эрн
употребляет эти термины как равнозначные и взаимозаменяющие.
Ср.: Сковорода. С. 18—19.
**** Природа мысли. Ч. I. С. 501.
***** Ср.: Борьба за Логос. С. 136.
704
Дитер ШТЕГЛИХ
Такое же положение, хотя терминологически выраженное
по-иному, содержится в «Природе мысли», где Эрн наряду с
логической мыслью, охватывающей область философии, признает
также эстетический Логос искусства и религиозный Логос
церковного самосознания*. С этим тройственным разделением мы
встречаемся в статье «Идея катастрофического прогресса».
В ней Эрн различает область знания, область искусства и область
морали, в которых осуществляется прогресс**.
Космический Логос — поясняет Эрн в одном из мест сборника
«Борьба за Логос» — охватывает область естественных религий
и искусства и открывается в творчестве художника.
Божественный Логос, который Эрн характеризует также как небесный
Логос, в христианской религии обнаруживается в подвиге
святого. Дискурсивно-логический Логос охватывает исключительно
область философии, которая формально подчинена дискурсив-
но-логической мысли, но своим содержанием соответственно
связана как с космическим, так и с божественным логосом,
потому что задача философии состоит в том, чтобы «привести к
мысленному единству, то есть к единству теоретической мысли,
безусловно все данные человеческого опыта» ***.
Этим достигается разделение областей искусства, религии и
философии. «Жизнь искусства — в непрерывном творческом
созидании того, что весь мир открыло бы в абсолютном
единстве эстетического переживания; жизнь религии — в
непрерывном творческом подвиге того просветления воли, которое
открывает в мире хаоса и зла абсолютное морально-религиозное
единство Добра; жизнь философии — в непрерывных
творческих попытках охватить целое мира в единстве теоретической
мысли» ****.
Эта установка диктует четкое разделение различных
областей Логоса как принципа человеческого познания.
Однако разделение относится лишь к форме, на основе
которой каждая из трех областей должна достичь поставленную
перед ней цель. Что же касается содержания этих областей
знания, то Эрн, напротив, выдвигает требование, чтобы
отдельные области учитывали всю область Логоса, т. е. всю
совокупность человеческого опыта. Таким образом, возникает
«музыкальная» связанность между космическим, божественным
* Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 513—514.
** Ср.: Борьба за Логос.
*** Там же. С. 136—137.
**** Ср.: Там же. С. 136.
Восток и Запад. Россия и Европа
705
и дискурсивно-логическим Логосом. Ведь материя всех трех
областей состоит из общей области человеческого опыта. Здесь
космический, божественный и дискурсивно-логический Логос
объединены в одно метафизическое целое Логоса, в целое
разума*.
Ratio и Логос различаются способами самоопределения
разума. Существенный недостаток самоопределения разума в форме
ratio Эрн усматривает в том, что в этом случае не учитывается
вся область разума. Разум не рассматривается во всем его
объеме, а в ограниченных пределах, как это фактически
свойственно большинству людей. Таким образом, рационализм
привлекает к самоопределению разума лишь «среднее арифметическое
между разумом всех людей» **.
При этом вне поля исследования остаются потенциальные
глубины и индивидуальные особенности разума. Такую же
критику рационализма Эрн продолжает в рамках своего
понимания человека. Он упрекает новейшую философию за то, что она
рассматривает только эмпирического человека. Эмпирический
человек — это «обычный человек», продукт произвольного
обобщения, получающий свое завершение в фикции
гносеологического субъекта. При подобной констатации совершенно не
учитываются ноуменальные корни человеческой сущности***.
Так разум превращается в безличную, мертвую схему
суждения. Принцип самоопределения разума в форме ratio Эрн
называет количественным принципом****. Такой вид
самоопределения «урезывает <...> качество разума с двух сторон: 1) снизу;
2) сверху. Ratio отрекается как от темных природных корней
разума, питающихся древним родимым и зиждительным
хаосом космической жизни, так и от светлых, но скрытых от боль-
* Там же. С. 136—138.
** Сковорода. С. 9. Ср. также: Борьба за Логос. С. 81. Степун в своей
рецензии на монографию Эрна о Сковороде отвергает именно эту
часть характеристики ratio: «...Ratio Канта и Гегеля (поскольку
вообще можно говорить о высшем философском принципе
кантианства и гегельянства как о ratio) вовсе не есть среднее
арифметическое между разумом всех людей... Все развитие "рационализма
от Канта до Гегеля свершалось" отнюдь не путем полного разрыва
философии и поэзии с религиозною мыслию, но, наоборот, в
теснейшей связи с той и с другой. О чем свидетельствуют: Шиллер,
Шлегель, Новалис, Гёте, Шлейермахер и Шеллинг» (Логос.
Русское издание. 1913. Т. 3—4. С. 354).
*** Ср.: Природа мысли. Ч. П. С. 830—833.
**** Ср.: Борьба за Логос. С. 81; Сковорода. С. 9.
706
Дитер ШТЕГЛИХ
шинства вершин разума, объемлемых благодатной и умеренной
лазурью неба» *.
На основании характеристики разума, предложенной в этой
главе, сразу проясняются конкретные последствия критики
разума Эрном. Ratio рассматривает дискурсивно-логическии
раздел разума не как часть, органически связанную со всей
областью разума; напротив, в ratio дискурсивно-логическии разум
рассматривается совершенно изолированно, отдельно от разума
в целом.
Из этого вовсе не следует, что ratio и дискурсивно-логическое
идентичны. Итак, ratio не есть дискурсивно-логическое «как
таковое», а просто дискурсивно-логическое в совершенно
определенной форме, а именно в его изолированности и
оторванности от всей области разума, к которой оно органически
принадлежит**.
Это изображение, относимое к рационализму вообще,
находит параллель в особой оценке трансцендентализма.
Трансцендентализм — Эрн ссылается здесь только на неокантианскую
философию Риккерта и его приверженцев *** — подходит к
целостности жизни исключительно при помощи
естественнонаучных методов, отвергая при этом религиозные и эстетические
точки зрения в качестве исходного пункта ее рассмотрения ****.
Трансцендентализм с его «меонически-статической точкой
зрения» хотя и может охватить все во всей полноте в
количественном отношении, но не в отношении качественном, так как он
отчужден от онтологического и динамического миропонимания
«sub specie эстетических и религиозных принципов» *****,
* Сковорода. С. 9—10.
** Ср.: Борьба за Логос. С. 138.
*** Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 502.
**** В выборе физико-математических наук как исходного пункта
философствования Эрн усматривает определяющую черту философии
Канта и неокантианства. Он называет это психологизмом, так как
в этом случае остается недоказанным примат естественных наук
в противовес эстетическому или религиозному исходному пункту
философствования. Ср.: Природа мысли. Ч. I . С. 505. В другом
отрывке Эрн также выступает против приоритета естественных наук:
«Ну, считаем, что <...> нет никаких оснований в пользу этого
примата» (Природа научной мысли. Ч. I. С. 171). Любая философия,
исходящая из одного факта, вообще характеризуется
психологизмом. Тем самым философия Канта также «психологична», так как
она исходит из факта науки. В этом Эрн тесно смыкается со
взглядами Джоберти. Ср.: Философия Джоберти. С. 73, 227.
***** Природа мысли. Ч. I. С. 505.
Восток и Запад. Россия и Европа
707
мысль не будет охвачена в своей «целостной совокупности»,
так как рассмотрение всех ее форм обусловливается
специфически-научной исходной точкой зрения*.
Хотя Эрн и допускает, что с точки зрения научной мысли
можно достичь абсолютной ценности, — что он признает также
и для дискурсивно-логической мысли как таковой, — но ведь
трансцендентализм исходит не из факта науки как таковой, а
только «из организованного и вырванного из совокупности
жизни и потому искаженного факта науки» **. Здесь мы
встречаем то же различие, которое Эрн проводит между дискурсив-
но-логическим как таковым и дискурсивно-логическим,
предложенным в рационалистическом толковании.
Ограничение ratio «снизу» следует понимать как отделение
его от космической области, а вместе с тем и от искусства.
Ограничение «сверху» обозначает оторванность его от космической
области и, следовательно, от религии.
Следствием отречения рационализма от космической области
стал разрыв между мышлением философов и мышлением
поэтов. Так как считают, что истина предлагается только
посредством ratio, то весь другой опыт отвергается как
иррациональный Так произошло с поэзией. Со времен Декарта и Галилея
поэзия отодвинута область иррационального и
квалифицируется как «вымысел» ***.
«Отречение от неба» определило «иррелигиозность»
рационализма. Рациональная религия или религиозный
рационализм оказали себя несбыточным сном. Рациональные
доказательства Бога, заключает Эрн, не удовлетворяют сегодня даже
«семинаристов». Кантовская «Критика чистого разума»
отчетливо показала несоединимость рационализма и религии ****.
Впрочем, Эрн признает, что на Западе существует целый ряд
философов, сущность которых исполнена глубокой
религиозности. Но Эрн тут же оговаривается, что религиозность этих
философов определена не принципом их философии, так как
принцип ratio иррелигиозен сам по себе, — а основана на
особенности их личности. Исключение в этом списке составляет
только Шеллинг, единственный из философов Запада,
делавший попытку обосновать философию на принципе логизма. Но
прежде Эрн подчеркивает, что косвенно мистика Шеллинга,
* Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 507—508.
** Там же. С. 508.
*** Ср.: Сковорода. С. 10.
**** Ср.: Там же. С. 10—11.
708
Дитер ШТЕГЛИХ
через посредство Баадера и немецкой мистики, испытала на
себе воздействие христианской мистики Востока*.
Двойное отречение от «неба и земли» приводит к сухости
и абстрактности рационализма. Тайны религии и природы
изгнаны в область иррационального. Таким образом,
рационализм установил себе границы и горизонты с обеих сторон, что
стало причиной его ярко выраженного статического начала.
«Сверху и снизу наметились заветные границы. Все, что за
ними, то иррационально, т. е. враждебно ratio и потому должно
быть отвергнуто» **.
Эрн сравнивает жизнь философии с жизнью дерева. Как
дереву необходимы корни, которые уходят в землю, и ветви и
листья, «которые купаются в небесной голубизне», так и стволу
философии, т. е. дискурсивно-логическому, необходимы корни,
т. е. связь с космической областью разума и областью
искусства, а также ветви и листья, т. е. связь с небесной областью
разума, с религией.
Необходимым следствием самоопределения разума в форме
ratio стало отделение корней и ветвей от ствола философии, ее
отделение от земли и неба, начало чему Эрн увидел в
философии Декарта и Бэкона. Процесс изоляции философии достигает
своего высшего пункта в немецком идеализме. «Гегель
окончательно валит дерево». Вся последующая философия Запада
является, в конце концов, всего лишь попыткой оживить
умершее, «пустить новые ростки из уже мертвого ствола». В этом
процессе Эрн усматривает объяснение «беспримерному
падению» философии после Гегеля, «развитию схоластики и
эпигонства» ****.
Эрн снова подчеркивает исключительное место Шеллинга,
попытавшего направить новейшую западную философию в
новое русло. Его попытка осталась безуспешной, так как он
фактически был побежден Гегелем*****. На первом этапе своего
творчества, т. е. когда его философия совпадала с духом
времени, Шеллинг был известен. Когда же в «Философии откровения»
Шеллинг придал своему основному принципу углубленную
и законченную форму, он утратил «связь с эпохой» и остался
без последователей6*.
* Ср.: Борьба за Логос. С. 94.
** Сковорода. С. 11.
*** Борьба за Логос. С. 137.
**** Там же.
***** Ср.: Там же. С. 137.
6* Ср.: Философия Джоберти. С. 18.
Восток и Запад. Россия и Европа
709
Рационализм вырвал дискурсивно-логическое начало из
целостности разума. Двойная катастрофа стала следствием этого.
Изоляция ratio приводит к меоническому толкованию мира в
рационализме и к его имперсонализму.
Меоническое воззрение — или как Эрн обычно говорит —
меонизм * — является одним из самых определяющих
признаков рационализма. Значение термина «меонизм» мы уясняем,
учитывая расширительное толкование статического начала
ratio.
Так как при самоопределении мысли рационализм
рассматривает ее только как объект, то, по мнению Эрна, он делает
мысль всего лишь предметом чисто пассивного рассмотрения.
«Живая стихия мысли, обладающей действительной
автономией внутреннего, ничем внешним не обусловленного
самоопределения, — в концепции рационализма превращается в мертвую
схему суждения, лишенную всякой активности, всякого
внутреннего "накала движения"» **.
Опознавательными признаками таким образом
определенного ratio являются пассивность и неподвижность. Итак,
динамизм, активность и автономная жизнь мысли не может быть
познана, если мысль при ее самоопределении принимается во
внимание только как объект. Динамизм, активность, жизнь
свойственны мысли только как субъекту; вот обстоятельство,
которое рационализм оставляет без внимания. Тем самым
рационализм открывает в мысли не реальные и объективные
свойства, а иные, искусственно обусловленные свойства,
которые являются результатом рассмотрения мысли в качестве
чистого объекта***. Мысль становится механизмом, который хотя
и обладает собственной структурой, но импульс к движению
получает извне, посредством воли****. Воля «побуждает ratio
делать суждения, механически приводя в действие присущий
ей автомат рассудка» *****.
Пассивность и неподвижность ratio являются следствием
неверного и неполного самоопределения мысли, которое в форме
* Термин * меонизм» происходит от греческого— «не сущий». В
соответствии с этим словом Эрн использует прилагательные «меони-
ческий» и «меоничный», передаваемые в тексте немецким
прилагательным «meonisch».
** Борьба за Логос. С. 80.
*** Ср.: Там же. С. 171—172.
**** Ср.: Там же. С. 172, примеч. 1 на с. 171.
***** Там же. С. 173.
710
Дитер ШТЕГЛИХ
ratio не соответствует действительной сути мысли и ведет лишь
«к видимой жизни в сознании новой философии» *.
Статическое начало ratio обусловлено также и другими
взглядами. Новая философия не уделяет никакого внимания
двойственной сущности человека и не понимает ее. Человек как
субъект познания является готовой конструкцией, в которой
более не существует никакой возможности изменения. Но так
как этот субъект стоит в центре познания, вокруг которого
вращается весь мир опыта, то этим и обусловлена замкнутость
познания в определенных границах, исходящая из
неподвижности центрального субъекта познания. Неподвижность
познающего субъекта обусловливает, со своей стороны,
неподвижность человеческой мысли**.
Познание движется только в том случае, если оно
направлено на истину, т. е. если в познании происходит усвоение
истины***. Даже если предположить — аргументирует Эрн, — что
учение Канта является истинным, то такое предположение
своим последствием имело бы неподвижность мысли. Учение
Канта в этом случае принималось бы за окончательную истину и
дальнейшее познание было бы немыслимо. Философия как
орудие поиска истины в этом случае прекратила бы свое
существование, так как истина в полном объеме уже содержалась бы в
трансцендентальной философии. «Процесс философского
искания останавливается, потому что завершается и овладевается
всей полнотой истины» ****.
В другом месте Эрн подчеркивает: »Вообще каждый
философ-рационалист, вследствие дурной отвлеченности, его
проникающей, является завершителем, дальше которого идти
некуда» *****.
По мнению Эрна, таковая неподвижность достигает своей
вершины в «Феноменологии духа» Гегеля, которая делает
дальнейшие шаги просто невозможным. «Абсолютное знание
Гегеля, как откровение абсолютного Духа, — стянуло в себя и
впитало абсолютно всю реальность мира. Оно одно реально, но оно
не только уже реально, но и неподвижно — ибо абсолютное
осуществлено, движения больше быть не может, потому что
* Борьба за Логос. С. 80.
** Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 108—109.
*** К этому мнению мы возвратимся при характеристике Логоса. См.
ниже.
**** Критика кантовского понятия истины. С. 59
***** Борьба за Логос. С. 78, примеч. 1 на с. 77.
Восток и Запад. Россия и Европа
711
движение — лишь в становлении, которое с достижением
должно абсолютно прекратиться» *.
Учение о познании западной философии Нового времени
полностью статично. «Познание исследуется не в живом
процессе его конкретного бытия, а на схематическом трупе мысли,
умерщвленном школьным отвлечением» **. Это учение о
познании не есть «психология», не есть изучение жизни познания, а
«анатомия», изучение мертвого тела. «Если для процессов
познания наиболее существенное и важное есть жизнь, "т. е.
живая, осмысленная наличность", то, очевидно, никогда истинная
гносеология не может удовлетвориться анатомическим
изучением познания препарата, взятого в отвлечении от самого
существенного признака всякого живого процесса жизни» ***.
Статическое начало познания, вызванное отделением мысли от
жизни и абстрагированием от действительности, является
существенным моментом меонизма новейшей философии
Запада.
Ratio, будучи само определено признаками меонизма,
становится неограниченным правителем философского сознания
Нового времени. Меонистическое, не имеющее внутренней жизни
ratio, будучи органом познания, в философии Нового времени
растворяет всю действительность в видимость и иллюзию, в
«меон», в «не сущее». Подлинную действительность, которая
не находит себе места в представлениях рационализма, ratio
провозгласил «не существующей, недействительной,
относящейся к области субъективного вымысла» ****.
Меонизм в том смысле, как его понимает Эрн, обозначает
воззрение, которое рассматривает предмет познания как «не
сущий», т. е. не имеющий автономного бытия. Объект
мыслится как мертвый предмет, не несущий в себе никакой жизни.
Для процесса познания, т. е. для отношения субъекта и
объекта, это означает только то, что данный процесс протекает
изолированно, абстрактно, вне истинного смысла вещей,
истинного содержания познания. Субъект вступает в соприкосновение
не с объектом в его ноуменальном бытии, а объектом в его
эмпирической, мертвой предметности.
* Природа мысли. Ч. III. С. 110. Об отношении Эрна к Гегелю ср.
также: Чижевский Д. И. Гегель у славян. 1961. С. 385—386.
Впрочем, отношение Эрна к Гегелю представлено здесь в его книге
«Философия Джоберти» (С. 281 и ел.; 293—194, 306, 327).
** Гносеология В. С. Соловьева. С. 193.
*** Там же. С. 193.
**** Сковорода. С. 13. Ср. также: Борьба за Логос. С. 80.
712
Дитер ШТЕГЛИХ
После такой общей предварительной характеристики мео-
низма обратимся теперь к главной причине, которую Эрн
делает ответственной за меонизм рационализма, — отрицании
природы как автономного существования.
Процесс дереализации познаваемой действительности
начинается, по мнению Эрна, с философии Бэкона и Декарта,
«блеском своих писаний как бы навсегда отделивших Новое время от
античности и Средневековья» *. Для Бэкона природа существует
не как субъект, а только как объект, который человек изучает
для удовлетворения своих нужд**. У Декарта Res existensa,
материальный, естественный мир становится чистой
протяженностью и безо всякой внутренней жизни. «Res existensa —
существенно пассивна, инертна. Но, будучи таковой, она
лишена всякой жизни в себе. Не имея же никакой жизни в себе,
природа есть чистый объект и в никаком смысле субъектом,
т. е. сущим, признана быть не может» ***.
Таким образом, как Бэкон, так и Декарт своими концепциями
способствовали «разрыву природы как сущего», не подозревая,
впрочем, о том, что они закладывают фундамент
«колоссального меонического мифа о познаваемой действительности» ****.
Затем на основе принципов, развитых Бэконом и Декартом,
Беркли совершенно естественно пришел к выводу, что
материальная субстанция не существует независимо от ее
восприятия*****. «Количественно не умножая отрицания Декарта и
Бэкона, Беркли придает ему лишь более совершенную
логическую форму» 6*. Беркли учит, что бытие вещей существует
только в восприятии нами этих вещей, а значит, внешний мир
превращается в «меон», в иллюзию7*.
Юм распространил принципы философии Беркли также и на
духовную субстанцию и логическим путем пришел к выводу,
что последняя также не существует, как не существует
материальная субстанция8*.
Наконец, трансцендентальная философия Канта являет
собой завершение меонизма. «Трансцендентализм Канта есть пос-
* Борьба за Логос. С. 26.
** Ср.: Там же. С. 8, 28; Природа научной мысли. Ч. П. С. 349.
*** Борьба за Логос. С. 28.
**** Сковорода. С. 14; ср.: Борьба за Логос. С. 28.
***** Ср.: Там же. С. 29—30.
6* Там же. С. 38.
7* Ср.: Там же. С. 42, 80.
8* Ср.: Там же. С. 80—81, 41.
Восток и Запад. Россия и Европа
713
леднее, предельное звено в отрицании природы как сущего,
творческое создание новой, чрезвычайно оригинальной меони-
ческой мифологемы» *. В его системе «трансцендентального
антропоцентризма» «абсолютным законодателем и в этом смысле
созидателем всей природы явился для Канта
трансцендентальный человек» **. От такого меонизма не могла освободиться
последовавшая за Кантом философия. Вся она полностью
находится под влиянием кантовского учения и «дышит отраженной
атмосферой универсального меонизма» ***.
Следовательно, определяющую причину меонизма ratio Эрн
усматривает «в отрицании природы как сущего» ****, т. е. в
отрицании ее собственного, самостоятельного и независимого
бытия. Насколько весомо данное утверждение, видно из того, как
Эрн применяет свои принципы к философии Спинозы.
Аргументация Эрна показывает, что определение «меонического»
недостаточно полно определяется через «не сущее». «Меоничес-
кое» всегда обозначает «не самостоятельное, не независимое от
всего остального сущее».
Для Спинозы — делает вывод Эрн — творческое заключается
в природе Бога, а не в природе как таковой. Природа в своем
отношении к Богу не самостоятельна и поэтому «не есть сущее
наряду с Богом, т. е. природы как самостоятельного сущего
нет» *****. Таким образом, доказательство меонизма
философии Спинозы кажется Эрну вполне исчерпанным.
В этом случае определение природы как самостоятельно
сущего распространяется не только на отношение природы к
человеку, но и на ее отношение к Богу, причем Бог понимается
как абсолютно сущее6*.
Какое значение Эрн придавал меонизму как характерной
черте рационализма, доказывает тот факт, что он вообще
считает меонизм главным грехом рационализма. «Основной грех
рационализма — отрыв от природы как сущего» 7*.
В разрыве с природы как сущим Эрн усматривает основание
для отделения Нового времени, с одной стороны, и античности
* Там же. С. 42. Ср. так же: Там же. С. 81.
** Там же. С. 42.
*** Сковорода. С. 15.
**** Борьба за Логос. С. 128. Ср. также: Там же. С. 26.
***** Там же. С. 128.
6* Ср.: Там же. С. 354—355.
7* Там же. С. 353.
714
Дитер ШТЕГЛИХ
и Средневековья, с другой *. Отрыв от природы как сущего
означает разрыв «с живой φύσις античности, полной органических
ειδος'οΒ творческих энтелехий, сперматических логосов и с не
менее живой натура архетипа патристики и Средневековья,
натура креата креанс, которая никак не исчерпывается тем, что в
ней открывается человеку, и которая ведет самостоятельную,
глубоко скрытую и таинственную жизнь» **.
Рационализм игнорирует истинное содержание мысли, он
абстрагируется от него, и тем самым ratio попадает «в ложную
отвлеченность от жизни, отрешенность от сущего, т. е. он
испытывает состояние меонизма» ***.
В такое состояние рационализм попадает совершенно
неизбежно. Потому что если предмет познания внутренне не
присущ мысли, то как вообще возможно его познание? «Чтобы
ответить на этот вопрос, пришлось произвести одну из самых
искусственных и насильственных операций — меонизировать
предмет, свести его на небытие» ****.
Из-за оторванности от жизни и от природы ratio только при
помощи схемы может сделать реальность доступной, и только в
той степени, в какой реальность занимает свое в
соответствующей схеме. Существует «фатальная связь между
рационализмом и схемой» *****. Из-за абстрактности и отрыва от
действительности «ratio с необходимостью вовлекается дурной своей
логикой в пустой схематизм» 6*. Без схемы действительность
остается недоступной для рацио, так как она оказывается
изгнанной в область иррационального. В самой действительности
доступным оказывается только рациональное, «т. е. то, что
может быть приведено к математической, динамической,
механической схеме, произвольно им (т. е. самим рацио) избранной» 7*.
По этой причине мир искусства, т. е. мир «реалистической
истины языка символов», остается скрытым для ratio. Догма «о
меоне природы» порождена оторванностью ratio от ее жизни8*.
Не имеют отношения к непосредственной действительности
также и естественные науки. «Естественные науки, имеющие
* Ср.: Сковорода. С. 14.
** Борьба за Логос. С. 27.
*** Там же. С. 91.
**** Природа мысли. Ч. П. С. 809.
***** Борьба за Логос. С. 121.
6* Там же. С. 340.
7* Там же. С. 121.
8* Ср.: Там же. С. 354.
Восток и Запад. Россия и Европа
715
дело с препарированными и отвлеченными от живой
действительности фактами, по существу схематичны» *.
Естествознание ничего не говорит об истинных процессах в живой
действительности. Оно способно только давать схемы, которые с некоей
условной точки зрения приводят к единству, существующему
в природе.
В разрыве между разумом и сущим, формой и содержанием
Эрн усматривает причину кризиса и бессмысленности
современной ему философии. Особенно активно Эрн выступает
против Риккерта и Когена. «Риккерт определяет переживание
(созерцание) как абсолютно иррациональное, а понятие (форму)
как абсолютно рациональное». Вследствие такого разделения
формы и содержания философия становится «внежизненной,
внедействительной» **. Но если форма не имеет отношения
к содержанию, т. е. к жизни, тогда эта последняя остается без
формы, т. е. без смысла. «Если форма (идея, понятие)
извлекается без остатка из той слитной гущи, которую мы называем
жизнью, — то жизнь, абсолютно лишенная формы (смысла,
Логоса), представляется в виде чистого хаоса» ***. При этом речь
идет не о творческом хаосе. Хаос, который имеется в виду, ведет
«к безумию, ибо нельзя с умом относиться к тому, что лишено
всякого смысла, а хаос <...> ведь и есть материя жизни,
абсолютно лишейная какой бы то ни было разумной формы» ****.
Следующей характерной чертой рационализма Эрн считает
имперсонализм. Он также является следствием неверного
самоопределения мысли в форме ratio. Так как ratio принимает во
внимание не разум в полном его объеме, то индивидуальные
особенности и потенциальные глубины мысли остаются вне
рассмотрения. Тем самым категория личного вытесняется в
область иррационального. Личность вынуждена находить
убежище в искусстве, мистике и религии*****.
Под «имперсонализмом» следует понимать отсутствие
антропологического принципа в философии. По мнению Эрна, эта
черта особенно заметна в теоретической философии Канта.
Провозглашенный гуманизмом просвещения абстрактный
человеческий принцип философии Канта доходит «до полного
отрицания человеческого начала, до низведения человека в со-
* Там же. С. 17.
** Там же. С. 340.
*** Там же.
**** Там же. С. 341.
***** Ср.: Сковорода. С. 16.
716
Дитер ШТЕГЛИХ
вершенно случайный и ненужный придаток в процессах
познания, до проставления знака равенства между человечностью и
антропоморфизмом* *.
Эрн занимается также острой критикой неокантианства.
«Современный антипсихологизм**, опираясь на традицию Канто-
вой философии, проникнут стремлением всячески
элиминировать человека; для достижения трансцендентальной чистоты
мысли ставится определенная задача: изъять фактор
человечности из всех моментов познавательного процесса» ***.
В ratio рассмотрение познающего в категории вещи заменяет
его понимание личности****. Исходя из этого, Эрн заключает:
«Но вещь, как результат отвлечения от всего живого,
индивидуального и внутреннего, может быть признана рациональной
лишь в узких пределах ее механических свойств» *****.
В своем труде «Природа научной мысли» Эрн подробно
излагает механистическое воззрение рационализма. Основу этой
работы образовала эрновская критика индуктивного метода
естественных наук. Эрн пытается показать, что «успехи»6*
естественных наук, означающие все большее познание природы,
отнимающие у нее одну ее тайну за другой, вообще не
представляют собой доказательства завершенности и неоспоримости
индуктивного метода и естественной науки как таковой7*.
Можно ли заключить из того факта, что если концепция
природы Галилея доказала свою достоверность в
естественнонаучных экспериментах, то эта концепция верна? «Другими
словами, необычайная "плодотворность" механической точки
зрения как рабочей гипотезы и как предпосылки индуктивного
метода означает ли хоть в каком-нибудь смысле действительно
механическую конструкцию Вселенной?»8* Эрн обстоятельно
* Filosofija Dzoberti. С. 240.
** Под антипсихологизмом Эрн понимает здесь неокантианство.
Конкретно он ссылается на: Яковенко Б. О теоретической философии
Когена // Логос. Русское издание. 1910. Т. 1. С. 199—249 и ел.; Он
же. Об имманентном трансцендентализме, трансцендентном имма-
нентизме и дуализме вообще // Там же. 1912/1913. Т. 1—2. С. 99—
182.
*** Filosofija Dzoberti. С. 235.
**** Ср.: Борьба за Логос. С. 357.
***** Сковорода. С. 16.
6* В оригинале кавычки.
7* Ср.: Природа научной мысли. Ч. П. С. 356.
8* Там же. С. 357.
Восток и Запад. Россия и Европа
111
занимается этим вопросом и в конце концов приходит к
отрицательному ответу.
Исследования Галилея и философия Декарта приводят к
возникновению механистического понимания мира, которое
характерно для философии Нового времени. Механистическое
миропонимание означает разрыв Нового времени со
Средневековьем. Новое время характеризуется осуществлением
«коллективного бунта человечества против божественного Замысла
всемирной истории» *. Человечество желает быть свободным
и независимым от Бога, а поэтому превращает всю космическую
сферу в некий безжизненный механизм. В определенный
момент Бог допускает возможность завоевания природы
человеком, чтобы он смог сохранить свою свободную волю, а именно
идти к божественной истине собственным путем, находить свои
решения и делать свои собственные выводы.
«Вся европейская техника и индустрия, через которые отрыв
от природы становится силой социальной и исторической, есть
не что иное, как уступленная Промыслом космическая среда,
в которой человек может реализовать свое блудное ухождение
от отца» **.
В предоставленной возможности ухода от Бога человек
может проявить свою собственную волю. Ему открыты два
возможных пути, «пути добра и зла, пути к Богу и пути от Бога».
Только при эмпирической реальности второго пути «возможно
свободное искупление человечества, т. е. история в подлинно
божественном смысле слова» ***.
С отречения от природы как сущего человечество во «всей
своей западной половине» вступает «на путь противления
сущей истине, и с этого момента начинается торжество
механистической точки зрения» ****. Механистическая точка зрения
открывает человечеству возможность для создания собственных
«исторических пространств», которое стремится к далям «вне
Бога». Космос создан так искусно, что имеется возможность
надеть на него «механистическую маску», «т.е. возможность
для мира предстать перед насильственными методами
рационалистической мысли человека — беспредельным
механизмом» *****.
* Там же. С. 359.
** Там же. С. 361.
*** Там же. С. 362.
**** Там же. С. 363.
***** Там же. С. 365.
718
Дитер ШТЕГЛИХ
Но из этого следует, что естественные науки могут изучать
не устройство мира как таковое, а только «строение вселенской
маски». Если бы этой маски не было, то космос навсегда был
бы наполнен мистическими началами, которыми изобиловали
античность и Средневековье, и тогда бы у человечества не было
бы возможности проявлять свою волю в той форме, в какой он
обнаружил ее в Новое время. Если бы речь шла не о маске,
и если бы космос действительно был бы механизмом, тогда не
было бы свободы, потому что всем бы правил детерминизм и
автоматизм*.
Далее у Эрна идет такая последовательность: для того чтобы
человек мог реализовать свою волю и тем самым свою свободу,
он должен иметь возможность создавать свои космические,
независимые от Бога пространства. Человечеству удается это при
помощи механистического воззрения. Божественная мудрость
заложила в мир возможность стать механизмом для
человечества. Но в действительности речь идет только о видимом,
кажущемся механизме («квази-механистическое строение»),
который представляет собой настолько искусное сооружение, что
рационализм был не в состоянии перешагнуть границы этой
маски и поэтому не может убедиться в своем заблуждении**.
Тем самым концепция механизма развенчивается как
иллюзия. «Успехи» естественных наук, имеющие своей опорой
механистическое восприятие, только потому имеют место, что
отпавшее человечество в определенную эпоху всемирной истории
обладает космической возможностью «изжить до конца свое
своеволие». Бог, предвидевший все будущие судьбы
человечества, уступил человечеству такую возможность ***.
Остается объяснить «успехи» естествознания с абсолютно
немеханистической точки зрения. Но как раз в этом Эрн
усматривает опровержение того взгляда, успехи механистического
естествознания с безусловной достоверностью могут быть основаны
на механизме космоса. Полагая так, Эрн приходит к
следующим результатам: «Онтологически мы не признаем механизма
ни в какой степени. Его абсолютно нет, нет ни в какой
степени, и мир в своем существе абсолютно не механистичен» ****.
Из механистического понимания мира следует
детерминистская точка зрения рационализма. Декарт подчиняет res extensa
* Природа научной мысли. Ч. II. С. 365.
** Ср.: Там же. С. 365.
*** Ср.: Там же. С. 361.
**** Там же. С. 366.
Восток и Запад. Россия и Европа
719
этой точке зрения, а духовная субстанция уже в теориях Гарт-
ли и Пристли втискивается в схему механизма. Личность же,
напротив, — параллельно с соответствующими операциями
с природой, — обозначается не существующей, так как это
сделал Юм, у которого Я превратилось в связку, пучок
изменяющихся перцепций*.
Категория вещи и связанная с ней механистическая точка
зрения способствовали детерминизму рационализма, согласно
чему вся действительность была подчинена принципу
необходимости. «Понятие свободы окончательно поглощается
понятием универсальной необходимости, подчиняющей безусловно все
процессы действительности» **.
Впрочем, Эрн признает, что Кант в своей «метафизической
философии свободы» *** попытался перейти от категории вещи
к категории личности. Продолжила это учение философия
Шеллинга. Но в конечном счете и учение Канта о свободе, и
философия Шеллинга в западной философии Нового времени
оставались «гласом вопиющего в пустыне». Эрн считает, что
раскрытые Кантом и Шеллингом возможности остались в дальнейшем
непонятыми и неиспользованными философами. Последователи
Канта опираются лишь на его трансцендентальную философию,
в то время как философии Шеллинга вообще не уделяется
сколько-нибудь существенного внимания на Западе. В
современной ему западной философии Эрн констатирует тот же
самый имперсонализм, который обнаружился и в докантианскую
эпоху****.
Раскрыв существенные признаки рационализма, обратимся
теперь к характеристике логизма.
ЛОГИЗМ
Логос также представляет собой самоопределение разума.
Существенное его отличие от ratio Эрн видит в том, что логизм
рассматривает разум не изолированно от жизни и от
действительности, как рационализм, а рассматривает разум в его пол-
* Ср.: Сковорода. С. 16.
** Там же. С. 17.
*** Здесь с особенной наглядностью очевидно то обстоятельство, что
Эрн в своей отрицательной критике философии Канта подвергает
рассмотрению только теоретическую философию.
**** Ср.: Сковорода. С. 17—18.
720
Дитер ШТЕГЛИХ
ном объеме. Это означает, что логизм учитывает также
космическую и небесную область разума. При подобном
рассмотрении разрыв с космосом и небом, с искусством и религией, с
природой как сущим и категорией личности оказывается
невозможным.
Эрну кажется, что верное определение существа
мысли*возможно, когда она рассматривается «в ее целостной
совокупности, в ее внутренней жизни, а не во внешних проявлениях* **
и когда сама мысль исследуется «в ее внутреннем бытии, в ее
абсолютных свойствах, конституирующих ее существо» ***.
Именно поэтому самоопределение должно обнаруживаться в
универсальных формах. Мысль поэта, художника, святого,
ребенка, любого человека, озаренного интуицией, точно так же
должна быть принята во внимание, как и мысль научного
работника****.
Эрн рассматривает меонизм и имперсонализм как
необходимое следствие самоопределения разума в форме ratio. И первый
и второй являются результатом такого самоопределения,
которое не охватывает всего объема мысли.
Мысль может быть схвачена в своем полном объеме лишь в
том случае, если принципу отделения от природы как сущего
будет противопоставлен противоположный принцип, а именно
возвращения к природе как сущему. «Метафизически и
по-новому осознать природу мысли — это значит преодолеть
основной грех рационалистической мысли, вернуться к Природе как
сущему. Нужно осознать мысль в Природе и Природу в
мысли» *****. Но это лишь первый шаг на пути восприятия мысли
в ее полном объеме. Второй шаг вытекает из следующего
рассуждения.
Признать природу как сущее, значит признать ее как
самостоятельно сущее. Из этого следует, что самостоятельность
природы должна осуществляться не только по отношению к
человеку, но и по отношению к Богу как абсолютно сущему. Но
подобная самостоятельность природы имеется только в том
случае, если она находится во внутреннем соответствии абсолютно
сущему. «Ибо только при внутреннем согласии Абсолютного
* « Мысль» и «разум» рассматриваются так же, как и в предыдущем
разделе, как однозначные понятия.
** Природа мысли. Ч. I. С. 507.
*** Там же. С. 509.
**** Ср.: Там же. С. 507.
***** Борьба за Логос. С 354.
Восток и Запад. Россия и Европа
721
сущего на относительную самостоятельность Природы — может
быть мыслима Природа, как самостоятельно сущее» *.
Из этого следует, что метафизические корни мысли должны
находиться еще глубже, чем в природе как сущем.
«Метафизический корень мысли в том божественном Логосе, которым
сотворено все существующее и без которого "ничто не начало
быть" из того, что начало быть». Только на этой основе можно
провести «цельное самоопределение» мысли**.
Меонизм и имперсонализм являются главной причиной
двойного разрыва рационализма с землей и небом. Так как ло-
гизм избежал этого отрыва, то для его характеристики нужны
противоположные определения. Вместо меонизма он
характеризуется онтологизмом ***, вместо имперсонализма —
персонализмом. Вследствие своего онтологизма Логосу неизвестна
оторванность от мышления поэтов. С другой стороны, такое
понимание Логоса по сути своей религиозно, так как Логос
является божественно-объективным, а не
человечески-субъективным принципом****.
Эрн характеризует самоопределение мысли в форме Логоса
как качественный принцип, так как Логос является не
усредненной величиной, подобно ratio, а «вершиной сознания» *****.
Вместе с тем Логос актуально присущ не всем людям,
возможно, вообще никому, хотя потенциально он имеется у каждого
человека. Поэтому любой человек может достичь этой вершины
познания, в пользу чего говорит способность каждого к
интенсивной работе сознания, к гениальности и вдохновению.
Путь к вершине познания, путь от возможности к
осуществлению нельзя достигнуть только потому, что ты являешься
человеком, — для этого необходим труд и пламенный подвиг.
Точно так же, как для постижения ньютоновского
миропонимания обычному человеку, кому еще неизвестны его
принципы, необходимо проделать гигантскую работу, так и «для того,
чтобы из косного и грубого фактически данного человеческого
* Там же. С. 355.
** Там же. С. 355.
*** Мы применяем термин онтологизм в тех случаях, когда ему не
дается иного определения (например, в связи с Джоберти), при этом
исключительно в смысле, понимаемом Эрном. Его значение
явствует из следующего представления.
**** Ср.: Борьба за Логос. С. 82, 93; см. также: Сковорода. С. 20.
***** Борьба за Логос. С. 82.
722
Дитер ШТЕГЛИХ
разума сделать тончайший орган чуткого постижения
безмерного созерцания космоса, нужна работа и нужен пламень» *.
После рассмотрения этих общих признаков Логоса
обратимся к более подробной характеристике его онтологизма. При
этом Эрн исходит из понятия Логоса у Иоанна.
Бог христианства, непостижимый в своей сущности, и есть
изначально Логос. Логос есть вечное определение абсолютного.
Он является принципом, в котором и через которого создано все
существующее. Мир, космос представляют собой откровения
изначально сущего слова. Оттого, что мир является
откровением Логоса, он внутренно логичен, т. е. он соответствует Логосу
и пронизан им, так как «без него ничего не начало быть из того,
что начало быть». (Ин. 1:3)**. «Каждая деталь и событие этого
мира есть скрытая мысль, тайное движение всепроникающего
божественного Слова» ***. Логос является принципом,
имманентным всем вещам. Одновременно с этим он существует также и
в себе. «Сотворенный в Нем мир символически знаменует
ипостась Сына, уходящую в присносущую тайну Божества» ****.
Логос как принцип человеческого познания не является
принципом, существенно отличающимся от божественного
Логоса. «Это тот же самый Логос, только в разных степенях
осознания» *****.
Эрн применяет термин «Логос» в двух значениях,
во-первых, как принцип человеческого познания и, тем самым, как
самоопределение разума, противоположное ratio, а во-вторых,
как божественный принцип, как второе лицо Божественной
Троицы, как смысл сущего вообще. В работе Эрна «Природа
мысли» разным значениям соответствуют различные термины.
Человеческий принцип познания получает в этой работе
обозначение «логическая мысль» в отличие от термина «Логос»,
понимаемый в данном произведении почти исключительно как
смыслонесущая форма бытия6*.
* Сковорода. С. 19. См. также: Борьба за Логос. С. 81—82;
Гносеология В. С. Соловьева. С. 196.
** Борьба за Логос. С. 97.
*** Там же. С. 82.
**** Сковорода. С. 20.
***** Борьба за Логос. С. 82.
6* Мы присоединяемся к этому термину, ранее употребленному Эр-
ном. Конкретное значение термина «Логос» становится очевидным
из контекста.
Восток и Запад. Россия и Европа
723
Когда человек достигает осознания Логоса в самом себе, он
осознает себя как Божественно-сущее. Тем самым устраняется
пропасть между мыслью и сущим, которым характеризуется
рацио. «Отсюда коренной и универсальный онтологизм в
философии Логоса, черта колоссальной важности» *.
Даже понятие истины в логизме квалифицируется
онтологически. Поэтому истина обозначается как «бытие в Логосе, т. е.
бытие в истине, каковое бытие возможно лишь через
становление Логосом, через благодать существенного усвоения
Слова». Познание истины становится возможным лишь через
понимание своего бытия в истине**.
В «Природе мысли» Эрн подробно рассматривает
онтологический характер истины***. Исходным моментом является
утверждение свободы истины как предпосылки истины вообще.
«Истина всецело и абсолютно свободна. Слово Евангелия: Познайте
истину и истина сделает вас свободными — имеет не только
религиозный, но и онтологический смысл. Вне свободы не может
быть истины» ****.
Свобода логической мысли обозначает абсолютное
внутреннее единство формы и содержания. Это единство может быть
достигнуто только в том случае, если материя мысли не
является чем-то внешним по отношению к форме. Нельзя
рассматривать материю мертвой, не имеющей в себе жизни. «Материя
мысли должна быть возведена к одному корню с формами
мысли, неисследуемом и премирном единстве с ними* *****.
В логизме материя не завоевывается формой насильственно,
как «меон», лишенный жизни. Тем более материи присуща
метафизическая свобода, благодаря чему она имеет возможность
выбора идеальной формальной энергии мысли, которая, со сво-
* Борьба за Логос. С. 83.
** Там же. С. 83. Ср. также: Сковорода. С. 20.
*** Понятие истины, «этой идеальной цели и скрытой сущности
всякой логической мысли» (Природа мысли. 4.1. С. 516), является
решающим критерием для характеристики природы логической
мысли. Определение признаков понятия истины идет,
следовательно, одновременно с определением природы мысли. Ср.:
Природа мысли. Ч. III. С. 120. Исходя из этого, выявленные
впоследствии признаки истины следует оценивать одновременно и как
сами отличительные черты логической мысли.
**** Природа мысли. Ч. I. С. 519. Изречение из Евангелия от Иоанна
служит практически девизом работы «Социализм и проблема
свободы». См.: Борьба за Логос. С. 181.
***** Природа мысли. Ч. И. С. 803.
724
Дитер ШТЕГЛИХ
ей стороны, ищет материю, определенную для нее. Тем самым
связь между формой и материей становится свободной
встречей, которая происходит не в одностороннем, а в двустороннем
порядке. «Встреча материи и формы мысли есть встреча живая,
двусторонняя, а не односторонняя, и истина их соединения
абсолютно соразмерна идеальной двусторонности этой встречи» *.
Здесь отчетливо дано различие между тем, как Эрн понимает
меонизм и как он понимает онтологизм.
Меоническое воззрение отрицает самостоятельное бытие
материи, содержания мысли. Содержание подчинено форме, оно-
не имеет существования в себе, а живет благодаря ей, будучи
ею оформлено. Так как сама форма определяет содержание, то
складывается одностороннее отношение воз действия, формы на
содержание мысли. В онтологическом воззрении отношения
складываются иначе. Содержание мысли есть сущее, оно
обладает самостоятельным автономным бытием. Но при этом
содержание мысли не является пассивным предметом формы, чтобы
быть подчиненным ей. Отношение между формой и
содержанием складывается, напротив, к взаимному подведению их
к единству и к поискам их обоюдной определенности.
Материя мысли в ее изначальной свободе и в ее потаенной
жизни в себе есть так называемая «умопостигаемая невест-
ностъ» **. Их абсолютное единство с формой мысли
проясняется только в конкретном символе сверхмирного, по ту сторону
свершающегося брака Агнца и Церкви. Только в этом символе
возможна абсолютная двойственность и взаимная свобода в
единстве материи и формы мысли***.
Материя логической мысли состоит из космоса, из всего во
всем его целом. «Весь космос, вся жизнь в ее бесконечных
многообразиях есть содержание мысли, ее материя» ****, а
именно не вне, а внутри мысли *****. Форма логической мысли есть
универсальный смысл бытия, Логос.
* Природа мысли. Ч. П. С. 804.
** Там же. С. 806.
*** Ср.: Там же. С. 806.
**** Там же. С. 808
***** Помимо познания, Эрн видит предмет, заключенный в рамки
новейшей философии Запада. Истина рассматривается здесь как
соответствие познания и предмета. Однако если предмет берется вне
познания, то соответствие между обоими может иметь внешний и
случайный характер. Ср.: Природа мысли. Ч. И. С. 809. Ср. также
подробный анализ Эрна понятия истины в философии Канта в
сочинении Эрна «Критика кантовского понятия истины» (С. 82 и ел.).
Восток и Запад. Россия и Европа
725
Так как истину следует рассматривать как свободное
единение абсолютно общего содержания с абсолютно общей
формальной энергией формы мысли *, то Эрн приходит к следующему
предварительному определению истины: «Истина как явление
свободы может быть поэтому мыслима лишь как сущее, как
онтологический процесс вселенского и абсолютного соединения
всего содержания космической жизни, которое потенциально
есть все содержание мысли, со всей целостностью логических
форм мысли, т. е. с универсальным и абсолютным смыслом
вселенского бытия, с его логосом» **. Свободы мысли можно
достичь лишь в том случае, если признавать материю и форму
мысли в их универсальном бытии. Из характеристики свободы
мысли следует, что «истина свободна и потому существенна,
онтологична, бытийна* ***.
Свобода мысли коренится в самостоятельности и в свободном
бытии двух сторон мысли, материи, то есть совокупного все и
формы, т. е. Логоса. Человек принимает участие в объективном
процессе соединения совокупного все и Логоса на основе своей
ноуменальной природы, своего сознания. Его личная свобода
состоит в том, что в «ноуменальном единстве его личности»
содержится как особая материя, так и особая форма мысли.
Соединению вселенной с Логосом здесь соответствует соединение
индивидуальной материи духовной жизни человека с
индивидуальной формой его личности****.
«Логическая мысль всегда субъектна *****, т. е. логическая
мысль не является только объектом. Из этого следует, что
процесс логической мысли означает особенность мыслящего
субъекта. Любое действие логической мысли, воспроизводящее все
новую картину мира, имеет своим результатом изменение
бытия самого познающего. «Всякий акт логической мысли есть
некоторое онтологическое изменение самого познающего*6*.
Ведь человек не оторван и не отрезан от своих мыслительных
актов, он изменяется с каждым новым актом мышления, и
каждый раз в новом мыслительном акте он познает в себе
новый аспект7*.
* Ср.: Природа мысли. Ч. И. С. 806.
** Там же. С. 808.
*** Там же.
**** fja ноуменальную природу человека мы выходим в следующем
разделе. См. ниже, с. 81—85.
***** Ср.: Природа мысли. Ч. П. С. 810—811.
6* Там же. С. 811.
7* Там же. С. 812—813.
726
Дитер ШТЕГЛИХ
Теперь мы вплотную подошли к окончательному
определению онтологического характера истины. Истина онтологична,
поскольку она представляет собой свободное единство всего
содержания мысли, космоса, со всеми формами мысли, с
Логосом. Это является первой частью определения. Помимо того,
истина онтологична и в том смысле, «что она есть свободное и
существенное соединение материи душевной жизни человека с
умопостигаемой и цельной идеей его личного существа» *.
Соединение это не есть внешнее соответствие двух полюсов, а
является «некоторым новым творческим видом бытияъ. Истина
человека всегда равнозначна смыслу, точно так же, как истина
мира равнозначна мировому смыслу. «Истина человека есть
истинное бытие человека, а истина мира есть истинное бытие
мира. Поэтому истинное знание может быть только истинным
бытием». Предпосылкой познания истины является бытие в
истине. «Лишь овладевая бытийной истиной своего существа и
через это участвуя в бытийной истине космоса, человек
приобщается к полноте логической истины, ознаменовываемой
символом сверхмирного брака Агнца с Церковью» **. Так
онтологически характеризуется понятие истины.
Онтологическое понимание истины требует подлинного
единства формы и содержания мысли, мира и Логоса. Чтобы такое
соединение стало возможным, необходимо, чтобы
божественный Логос воплотился в мире и соединился бы с ним. Таким
образом, слово во плоти является последним основанием
свободы человеческой мысли***.
В общем и целом понятие онтологизма, как оно трактуется
у Эрна, характеризуется следующими признаками.
Материя мысли, т. е. вся познанная действительность,
является самостоятельно сущей, она есть носительница автономного
бытия. Такое понимание Эрн выражает посредством терминов
« онтологический », « онтологичный » и « бытийный ». Субъект
познания не отделен от своего объекта или предмета познания.
Таким образом, отношение между субъектом и объектом носит
не внешний, а внутренний характер. Связь формы и
содержания не является неким насильственным актом порабощения
содержания формой, а становится обоюдным свободным
соединением двух компонентов.
* Природа мысли. Ч. И. С. 814.
** Там же. С. 814.
*** Ср.: Там же. С. 814—815.
Восток и Запад. Россия и Европа
727
Онтологизм в значении Эрна, по меткому определению Зень-
ковского, значит «насыщенность бытием, живая связь с ним» *.
При этом необходимо иметь в виду, что речь идет о
характеристике процесса познания, или — что одно и то же — о
характеристике поиска истины.
С этой точки зрения онтологизм означает, что познание
человека направлено не только на явления и эмпирические
предметы, а, помимо того на истинное бытие вещей, независимо от
их эмпирической данности.
Человек обретает истину не в эмпирической данности
объекта, а в его ноуменальном бытии.
В противоположность статической гносеологии
рационализма теория познания логизма является динамической, так как
она не замкнута в границах и горизонтах ratio, созданных
отрывом дискурсивно-логического от целостного разума.
Если кто-то хочет постигнуть безграничность Логоса, «кто
хочет беспредельности видения, кто стремится к
неограниченности актуального созерцания, тот должен не просто идти, а
восходить» **. Восхождение означает, что усвоение Логоса идет
через волю, т. е. практически, а не через интеллект, не
теоретически. Чем сильнее напряжение воли, тем более высок уровень
познания, соответствующий действительной устремленности к
истине***.
Такое восхождение может обрести свое осуществление
только «в прагматике христианского подвига, явленной миру
бесчисленными святыми и мучениками христианской идеи» ****.
«Онтологизм восточного умозрения находит свое
осуществление в прагматике христианского подвига» *****. Поэтому самую
высокую ступеньку на лестнице, ведущей к истине, к познанию
Бога и сущего, занимают святые, а не ученые и философы.
Динамическая теория познания и связанная с ней оценка
подвига святых являются результатом христианской
антропологии, которую Эрн развивает в «Природе мысли». Путь
к познанию истины можно сравнить с восхождением на «гору
истины» 6*. В основе этого библейского образа истины лежит
двойственное понимание сущности человека.
* Русские мыслители и Европа. С. 220.
** Сковорода. С. 20.
*** Ср.: Борьба за Логос. С. 84.
**** Сковорода. С. 21.
***** Борьба за Логос. С. 84.
6* Ср.: Природа мысли. Ч. И. С. 829.
728
Дитер ШТЕГЛИХ
К проблематике двойственной природы сущности человека
Эрна ведет противопоставление дискурсивного мышления и
интуитивного понимания. Эрн критикует философию Нового
времени, которая отождествляет дискурсивное и логическое и в то
же время не признает творческую интуицию как логическую
форму, равноценную дискурсивному*.
Завершенной формой дискурсивного мышления является
силлогизм. Он есть «вечное и замкнутое тождество заключения
с посылками» **. Это делает процесс и развитие познания
невозможным, так как заключение не выходит за рамки материи,
данной в посылках. Силлогизм, образующий основу всего
дискурсивного мышления, в своей исходной точке и на первых
стадиях нуждается в интуиции, так как начальные посылки
без интуиции совершенно невыводимы. «Их материальная
истинность должна быть не выведена, а усмотрена* ***.
Эрн не признает индуктивный метод, который хочет
преодолеть неподвижность дедукции, в качестве логической формы.
«Индукция <...> не есть форма логической мысли» ****.
Индукция в том виде, как она развивается у Френсиса Бэкона,
нелогична, потому что в ней имеется логический скачок, а именно
скачок от единичных случаев к всеобщему закону *****.
В своей оценке дискурсивного мышления и индукции Эрн
приходит к следующему результату: «Силлогизм орудием
познания быть не может. Силлогизмом ничего не постигается и
ничего не приобретается. Индукция же формально
неправильна, не есть орган логического расширения познания» 6*.
Интуиция не может быть рассмотрена как момент,
подчиненный дискурсивному, она должна быть определена как
совершенно независимая форма логической мысли. Вся жизнь,
всякое движение имеют своим источником интуицию. Этим
признаком интуиции указывается на выделяемый Эрном
исключительный динамизм логического мышления.
Теперь Эрн переносит на процесс познания свои
представления о прерывистом характере истории, о котором он возвестил
в своем сочинении «Идея катастрофического прогресса»7*:
* Ср.: Там же. С. 816—817.
** Там же. С. 817.
*** Там же. С. 818.
**** Там же. С. 820.
***** Ср.: Там же. С. 819—820.
6* Там же. С. 822.
7* См. выше, с. 34—37.
Восток и Запад. Россия и Европа
729
«Дискурсивность бесконечна лишь той дурной бесконечностью,
которая есть голое и пустое отрицание конца. Интуитивность
бесконечна, актуальна, как абсолютно полное единство, как
цельная и законченная безмерность* *.
Так возникает взаимодействие прерывного и непрерывного,
подобное тому, что Эрн считал характерным для истории.
Дискурсивный момент логической мысли прерывается интуицией,
он приобретает материальную полноту и поднимается на
качественно новую ступень.
Интуиция не только формально логична, но логична и
материальна. Благодаря этому свойству логическая мысль
перекидывает мост к своему источнику, божественному Логосу.
Потому что «логичность в материальном смысле есть
сопричастность извечно сущему Логосу бытия, вкушение и
приобщение божественного Слова вселенной* **.
Оба полюса, дискурсивный и интуитивный, соединены в
человеке. «Человек не был бы существом разумным, способным
на логическое расширение своих знаний, на творческие и
персональные акты познания» ***, если бы логическая мысль была
только дискурсивна. «Человек был бы существом
божественным, всецело и актуально созерцающим, неподвластным
процессу и истории и рабству времени» ****, если бы логическая
мысль была только интуитивна.
Наличие обоих компонентов в человеке свидетельствует о
глубоком дуализме его сущности. «Ритмическая смена
творческой, свободной мощи и дискурсивного рабского бессилия есть
кардинальная черта логической мысли человека» *****. Здесь
снова проясняются взгляды Эрна, которые он высказывал уже
в полемике с позитивизмом: человек может быть посредником
между эмпирическим и ноуменальным миром6*.
Тем самым Эрн различает эмпирическую и надэмпириче-
скую сущность человека7*. Эмпирическим человеком является
* Природа мысли. Ч. И. С. 823.
** Там же. С. 825.
*** Там же. С. 823.
**** там же>
***** Там же. С. 824.
6* См. выше, с. 28—29, 31—34.
7* Это различие Эрн выдвигает в качестве характерного признака в
философии Сковороды: «В своей антропологии Сковорода
объективно отделяет человека эмпирического от человека
умопостигаемого, а также в исследовании и овладении последним он видит
высшую и главную цель своей философии» (Сковорода. С. 338).
730
Дитер ШТЕГЛИХ
человек, «взятый в ограниченности и оторванности его
посюсторонней эмпирии». Сверхэмпирический человек — это
человек «во всей неизмеримости и ноуменальности его существа» *.
По Эрну, недостаток новой философии, которая
придерживается некоего «абстрактного гуманизма», заключается в том,
что, рассматривая исключительно эмпирического человека, она
оставляет без внимания его двойственный характер**. Тогда
вся познанная человеком действительность точно так же будет
носить эмпирический характер. Замкнутость на
посюстороннем, эмпирическом, обусловливает «обесчеловечение истины»,
потому что в истине для человека просто не остается места***.
Такая последовательность неизбежна потому, что для
эмпирического человека истина, определяемая ноуменальным
характером, недоступна ****, и такому человеку не дано перешагнуть
свои эмпирические границы.
Эрн отклоняет представление Канта, согласно которому
внутренний опыт времени выступает в качестве априорного,
формального условия*****. Вместо этого он утверждает, что
все реальное в сознании человека поднимается над временем и
всегда находится в полном соответствии к ступеням
реальности. «Все, что реально в сознании, тем самым надвременно и
сверхвременно, но ровно постольку реально» 6*. В конечном
результате это означает следующее: «То, что абсолютно реально,
тем самым абсолютно возвышается над временем, т. е.
абсолютно вечно» 7*.
Во внутреннем опыте имеется только относительное, но не
абсолютное господство времени, потому оно не может
окончательно уничтожить реальное. Не все во внутреннем опыте
человека является преходящим. Истинное бытие, человеческое
сознание, в своих ноуменальных корнях способно победить вре-
* Природа мысли. Ч. II. С. 833.
** В другом месте Эрн повторяет данную точку зрения, причем он
ссылается только на трансцендентальную философию. «
Трансцендентальная философия в своих начальных моментах
психологизирует человека, безучастно феноменолизирует весь его состав»
(Философия Джоберти. С. 236).
*** Ср.: Природа мысли. Ч. П. С. 827—829.
**** «То, что истинно, уже тем самым сверх-эмпирично, сверх-фактич-
но и сверх-относительно» (Природа мысли. Ч. I. С. 510).
***** Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 524—527.
6* Там же. С. 527.
7* Там же. С. 528.
Восток и Запад. Россия и Европа
731
мя. «Преодолевать же время может лишь бытие истинное,
метафизически пребывающее, и сознание человеческое может
торжествовать над временем, лишь утверждая себя в своей над-
временной истине, в своих ноуменальных корнях, в своей
метафизической природе» *. С каждым актом логической мысли
человек поднимается над своими эмпирическими границами
и тем самым побеждает время.
Деятельность логической мысли всегда представляет
направленное движение, стремящееся к обретению истины. «Акт
логической мысли всегда есть движение мысли и направление
этого движения есть направление мысли и направление этого
движения — к истине» **. Здесь снова указывается на
динамический элемент мысли, занимающий центральное положение
в характеристике логической мысли.
Так как любой человеческой мысли дана возможность —
хотя, впрочем, не всегда осуществляемая — стремиться к истине
и тем самым побеждать время, — то основа человеческой
мысли должна иметь ноуменальные корни.
«Сознание, усвояющее истину и к ней способное, должно
непременно иметь ноуменальную основу, умопостигаемую
природу, и только в силу этих качеств может быть органом
логической мысли, торжествующей над потоком психических
явлений» ***.
Тем самым восстанавливается связь между истиной и
человеком, отсутствующая в философии, которая принимает во
внимание лишь эмпирическую сущность человека, поскольку
между эмпирическим человеком и истиной не существует никакой
связи. Философия же, которая отдает должное также и
ноуменальному характеру человека, напротив, должна прийти к
следующему результату: « Истина человечна, потому что человек
абсолютен, универсален, логичен, сроден Самому
Божеству» ****.
Истина человечна, т. е. доступна человеку, потому что корни
человечества уходят в недра божественной сущности. Истина
доступна человеку в той степени, в какой он приближается к
своим божественным источникам. Богоподобие человека
содействует, таким образом, доступу человека к истине*****.
* Там же. С. 529.
** Там же. С. 530.
*** Там же. С. 531.
**** Природа мысли. Ч. И. С. 833.
***** Ср.: Там же. С. 834.
732
Дитер ШТЕГЛИХ
Сознание двойственного характера человека дано в
откровении слова, ставшего плотью. Этим была преодолена пропасть
между эмпирическим и ноуменальным человеком. Идея
человека, таким образом, получила дополнение, нашедшее свое
выражение в «идее внутреннего человека». Эта идея родилась в трудах
отцов и учителей Церкви, в христианском «подвижничестве»
и кристаллизации христианского учения*.
Идея внутреннего человека, идея умопостигаемой, духовной
личности ** создает совершенно новый фундамент для
антропологии и представляет собой нечто абсолютно новое в истории
философских идей. Это новое по отношению к философии
Платона, Аристотеля и неоплатонизма состоит в том, что
ноуменальная сущность человека воспринимается не как нечто
безличное и общее***, а классифицируется как индивидуальное
и личное. «Индивидуальность опознается в ее неисследимой,
божественной глубине. Все тайны мира ставятся в соотношение
с тайной личности» ****.
Учение о человеке как микрокосме развивается; человек
является также «микротеосом», т. е. не только малым миром, но
еще и малым Богом. «Человек есть образ Божий*. К принципу
«мироподобия» человека добавляется новый момент —
принцип «богоподобия» человека*****.
Христианское учение «об умопостигаемой божественности
человеческого лика» 6* может считаться исходным пунктом
антропологического воззрения Эрна.
Второй шаг состоит в том, чтобы определить признаки
ноуменальной сущности человека. Ноуменальная сущность
человека характеризуется «идеей софийности человека». «София есть
идеальное и вечное место человека в Боге* 7*.
Под этим понимается предмирное состояние человека, то
место, которое он занимал «до начала веков, искони», когда он
находился в непосредственном касании с Божественной
премудростью8*. Вследствие грехопадения человек утратил это со-
* Ср.: Там же. С. 835.
** Ср.: Там же. С. 835—836.
*** Ср.: Там же. С. 836—837.
**** там же# с. 837. В этом утверждении звучит выделение личности
человека, персонализма философии Логоса.
***** Ср.: Природа мысли. Ч. П. С. 837.
6* Там же. С. 838.
7* Там же. С. 839.
8* Ср.: Там же. С. 838.
Восток и Запад. Россия и Европа
733
стояние «софийности». Благодаря милости умалившегося
Слова человек «в христианском зоне истории» возвратит себе свое
место, которое он имел до начала мира*.
Из онтологического определения истины следует, что для
человека познание истины означает «бытийное возвращение*
на свое вечное место у Бога. Такое возвращение осуществляет
предмирная слава человека и «вводит человека в обладание
своим умопостигаемым ликом, сокровенно пребывающим в
Софии» **.
Обретение истины означает возвращение «ниспадшей
индивидуальности в свое софийное состояние» ***, возвращение
человека к своему идеальному и вечному месту в Боге. Этот путь
возвращения проходит не только само интеллектуальное
познание, а также и сам человек во всей полноте его духовной
жизни.
Органом познания истины является не только интеллект,
или только чувства, или одна только эмпирическая воля
человека, но и весь человек****. Поэтому крестьянин, не умеющий
ни писать, ни читать, в своем внутреннем бытии может быть
намного ближе к истине, чем какой-либо философ *****.
На основе дуалистической сущности человека, его
эмпирической сущности и его «софийности» Эрну удается выделить
очень важный признак в рамках своей концепции, а именно
динамизм теории познания.
Актом логической мысли является движение мысли к
истине. Путь к истине ведет от эмпирической к ноуменальной
личности человека. Каждый шаг на ступенях по этому пути
открывает «новую картину мира». Все открывающиеся горизонты
и границы снова преодолеваются. Так преодолевается
статический элемент абстрактного гуманизма, который знает только
эмпирического человека и поэтому не может подняться на
«гору истины»6*.
Отдаление человека от истины соответствует степени
удаленности его эмпирической сущности от сущности ноуменальной.
Задача человека, отсюда следующая, и состоит в том, чтобы
преодолевать эту внутреннюю удаленность. Внутренний путь
* Ср.: Там же. С. 839.
** Там же. С. 840.
*** Там же. С. 842.
**** Ср.: Там же. С. 841.
***** Ср.: Там же. С. 842, примеч. 1.
6* Ср.: Там же. С. 829—830.
734
Дитер ШТЕГЛИХ
человека от одного своего Я к своему другому Я состоит в
непрерывном поиске своего идеального места «в мире и в Боге».
Здесь нет никакой неподвижности, существует лишь
непрерывное движение.
«Человек осуществляет истину лишь в странствии, в
поисках, в движении, в становлении» *.
Начало такого воззрения проявляется уже в сочинении Эрна
«Исходный пункт теоретической философии». Эрн отрицает
принцип Декарта «cogito ergo sum», так как человек не «есть»
в подлинном смысле слова, он только «становится». «С
христианской точки зрения также всякий человек только fit, а не est,
ибо для каждого возможно и спасение, и погибель». Только
переходя в трансцендентное, человек перестает fieri и -начинает
esse» **.
Познание истины динамично. «Путь от человека внешнего
к внутреннему, от перстного к софийному — в движении,
становлении, творчестве и иллюзии; т. е. познание истины
глубочайшим образом обусловлено динамикой бытийного
становления» ***.
Утверждение динамического характера познания является
важным моментом эрновской концепции. Именно этим
моментом в гносеологию вводится положение о первенствующей роли
святых в познании.
«Степень познания соответствует степени напряженности
воли, усвояющей истину. И на вершинах познания находятся
не ученые и философы, а святые» ****.
Флоровский очень метко описал данную точку зрения: «Так
вводится момент подвига и подвижничества в самое познание.
Гносеология открыто превращается в аскетику и учение о
духовной жизни».
Прежде чем мы ближе рассмотрим роль святых, нам
предстоит заняться понятием Эроса, которому отводится особое
место в рамках динамической теории познания.
В понятии София, предмирном, ноуменальном состоянии
человечества, содержится понятие священного Эроса. Через
любовь Бога, умалившегося ради человека, через слово, ставшее
* Природа мысли. Ч. III. С. 107.
** Борьба за Логос. С. 154, примеч. 1.
*** Природа мысли. Ч. III. С. 108.
**** Сковорода. С. 20.
***** Пути русского богословия. С. 489.
Восток и Запад. Россия и Европа
735
плотью, Эрос вошел в человека и напомнил ему его предмирное
состояние, Софию.
Благодаря божественному Эросу человек начинает
стремиться к своему высшему благу, основанному на его предмирном
состоянии в Боге, на его «софийности», утраченной вследствие
своего грехопадения *.
Священный Эрос пробуждает в человеке любовь к Софии, к
своей «ноуменальной родине», к своему идеальному месту во
вселенной и в Боге. Церковь стала новым центром для
человечества, охваченного священным Эросом. В ней осуществляется
восхождение человека к Богу. Она становится носительницей
«нового вида священного Эроса, коллективного Эроса мира и
человечества, встающих и выходящих на зов божественного
Жениха» **.
Будучи одержимой Эросом, мысль перестает быть только
человеческой, она заражается Божественным. «В мысли,
одержимой Эросом, божественное не дается просто, как что-то внешнее
и готовое, но нисходит и, заражая собой, внутренно усвояется
и одолевается, как задача, как подвиг» ***.
Христианский Эрос нашел свое самое яркое выражение в
«христианском подвижничестве». Святые являются самыми
высшими представителями христианского Эроса, осененные
божественным Эросом, который охватил их ндивидуальную
сущность, их видение, их волю и их личное ядро, очистив все в
аскетическом и напряженном подвиге*****.
Христианское «подвижничество», монашество его
основателя, святого Антония, осуществляет синтез основополагающих
задач античной философии. «Христианское подвижничество
есть чистейшая и глубочайшая метафизика, небывалый в исто-
* Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 112.
** Там же. С. 113.
*** Борьба за Логос. С. 113.
**** От христианского Эроса, согласно Эрну, следует отличать
«натурально-языческую стихию Эроса». Этот вид Эроса нашел свое
высшее выражение у Платона. В учении об Эросе воззрение Платона
указывает на динамику познания. Эрн признает, что в своем
«эмпирическом содержании» оно является ограниченным, так как
Платон не был знаком с «софийностью» человека, которая
проистекает из христианского учения. Ср.: Природа мысли. Ч. III.
С. 112; см. также: Гносеология В. С. Соловьева. С. 194.
***** Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 114; см. также: Гносеология В. С.
Соловьева. С. 194.
736
Дитер ШТЕГЛИХ
рии вид энергетической онтологии* *. В гротах фиваидских
отшельников возникает новый центр философии, «Фиваида».
«Начавшись в Ионии и Великой Греции, главный поток
великого эллинского умозрения протекает через Афины в
Александрию и отсюда течет в Фиваиду* **.
Вся деятельность Отцов Церкви в последующее время
основана на этой революции. Христианское учение благодаря
деятельности его носителей — святых, становится единым, целостным
образованием. Христианское « подвижничество » поднимает
главную проблему античной философии — дуализм, и решает
этот вопрос совершенно по-новому. Принимая во внимание
отпадение человечества от Бога и безмерную греховность мира, с
одной стороны, и, с другой стороны, тайну безмерности
человеческого духа, тайну «софийности» человека, христианское
учение находит предмирное единство двух компонентов. В
динамизме подвижничества на первом месте как безусловная задача
и долг, как основоположный фундамент стоит опознанная
возможность единства***.
В прагматике христианской аскезы дан ответ на загадку
дуализма, поставленную античной философией. Земля и небо
сведены в сверхъестественном единстве. «Небо и земля
примиряются — этот новый духовный факт становится основой того
таинственного периода в жизни человечества, который
называется Средними веками» ****.
Философская идея христианской динамики монашества
в Фиваиде составляет второй зрелый период в истории
философской мысли, следующий за периодом эллинского
мировосприятия. Фиваида является центром и основой всеобщей
духовной жизни Средневековья. Новая философия начинается с
раскола с Фиваидой, с раскола, в котором христианский Восток
не принимал участия, сохранив верность Фиваиде *****.
Из этого центрального положения, которое занимает
христианский подвиг в логизме, следует персонализм философии
Логоса, так как «подвиг есть глубочайшее раскрытие и
утверждение всех творческих и существенных сторон личности, этого
ядра космической жизни» 6*. Таким образом, Логос характери-
* Природа мысли. Ч. III. С. 115.
** Там же. С. 115.
*** Ср.: Там же. С. 116.
**** Там же. С. 118.
***** Ср.: Там же. С. 118.
6* Борьба за Логос. С. 84.
Восток и Запад. Россия и Европа
737
зуется как принцип, в котором может раскрыться и обрести
глубину личность*.
Личность занимает в логизме центральное положение, так
как логизм охватывает все существующее в категории
личности. Бог, вселенная, Церковь, человек — все это понимается
в рамках категории личности, причем модус личного
существования человека бесконечно приближен к модусу существования
Бога, вселенной и Церкви. Но «человек в глубочайшей тайне
своего личного бытия, в непостижимом зерне своей
индивидуальности гораздо ближе и существеннее постигает модус
существования Бога и Мира», чем через мертвое понятие
предметности**.
Онтологическая истина не может быть безличной,
абстрактной и безжизненной. «Она может быть лишь высшим
принципом жизни, абсолютной конкретностью, безусловною
личностью. Если сущая Истина не могла бы сказать про себя "Я есмь"
истина, путь и жизнь, разумея под "Я" всю совокупность
духовно-телесной жизни человека, — для человека не было бы
перехода к сущей истине» ***.
Логос делает действительность доступной не при помощи
схемы, как это есть при ratio. Сущность Логоса не схематична,
а «тонична» ****, напряженна и активна. Тон, который Эрн
определяет как «тембр внутренней напряженности» *****,
является областью, в которой может свободно раскрыться личность.
Свобода логической мысли основана на напряженности и
стремлении к божественному и ноуменальному ядру мысли. В своем
стремлении к божественному ядру, в постоянной
неудовлетворенности всем налично данным мысль свободна в
отрицательном смысле. Но она обладает свободой и в положительном
смысле. «Мысль свободна и положительна, когда, достигнув высот,
начинает парить в напряженности актуального созерцания» 6*.
Здесь мысль уже достигла ноуменальной и абсолютной
свободы.
Обязательной предпосылкой тому, чтобы Логос как
божественный принцип стал доступным человеческому сознанию,
является чрезвычайное напряжение личной жизни, некоторое
* Ср.: Там же. С. 82.
** Сковорода. С. 21.
*** Природа мысли. Ч. И. С. 815.
**** Эрн образует это прилагательное от греческого «τόνος».
***** Сковорода. С. 21. Ср. также: Борьба за Логос. С. 103.
6* Борьба за Логос. С. 102.
738
Дитер ШТЕГЛИХ
«повышенное онтологически-жизненное самосознание» *.
Любое усвоение Логоса сопряжено с внутренней борьбой, с
«вольным подвигом». Поэтому усвоение Логоса невозможно вне
области личности. Мудрость слова «раскрывается через личность и
в личности» **.
Персонализм, т. е. утверждение антропологического
принципа и выделение категории личности, завершает учение Эрна
о логизме.
D. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ
К РАЗДЕЛУ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
РАЦИОНАЛИЗМА И ЛОГИЗМА
Изложенное противопоставление рационализма и логизма
показывает, что у Эрна сравнение Востока и Запада ограничено
анализом этих двух принципов познания. Сравнение новейшей
философии и философии антично-средневековой проводится не
только в форме историко-философского исследования этих двух
областей. Оба периода определяются различными принципами
познания. Как в новейшей, так и в античной и средневековой
философии Эрн констатирует единый характерный для них
принцип и таким путем приходит к противопоставлению ratio
как принципа философии Нового времени и Логоса —
принципа философии античности и Средневековья.
Необходимость сравнения принципов рационализма и
логизма определяется двумя важными моментами: во-первых,
положительной оценкой антично-средневековой философии,
а во-вторых, напротив, отрицательной оценкой новейшей
философии, которая зачастую напоминает суд над последней.
Категорическое утверждение единственного общего
принципа в применении и к философии Нового времени, античной и
средневековой философии таит в себе опасность ошибочного
обобщения и одностороннего насильственного их объединения.
С особенной наглядностью эти особенности исследования
Эрна прослеживаются в характеристике новейшей философии.
Эрн вынужден соединить различные философские течения
Нового времени согласно одному-единственному принципу.
Подобное равнозначно тому, как если бы мы предложили один
некий общий принцип, связующий основные направления фи-
* Борьба за Логос. С. 95.
** Там же.
Восток и Запад. Россия и Европа
739
лософии XVII и XVIII вв. — французский рационализм и
критицизм Канта; при этом, — что касается рационализма и
эмпиризма, — речь вообще идет о противоположных направлениях.
Чтобы сделать такое единообразие доказательным, Эрн
вынужден в арсенале привлеченных философских направлений
подвергать критике лишь отдельные составляющие их учения.
Совершенно очевидно такое намерение обнаруживается на
примере эрновского подхода к философии Канта, когда за
пределами рассмотрения остались его этика и эстетика. С какой-то
узкой точки зрения Эрн причисляет философию Спинозы к мео-
низму, причем в другой связи он вынужден признать, что в
философии Спинозы, конечно же, с достаточной четкостью
прослеживаются и онтологические моменты*.
Следствием такового подхода становится не только
фрагментарность исследования некоторых философских направлений,
но даже игнорирование тех направлений и таких мыслителей,
которые в эрновскои трактовке рационализма не смогли найти
себе места или если и могли, то только со значительными
концептуальными утратами. Так, например, при изучении
новейшей философии были оставлены вне поля зрения Бёме и Баадер,
как философы, относящиеся якобы к периферии новейшей
философии, что следует из одного замечания Эрна, оброненного
им как бы между прочим. Совершенно отсутствует
рассмотрение философии Лейбница, которого он назвал просто
рационалистом в том значении, которое ему придал Эрн. При этом Эрн
даже не затруднил себя доказательством этого утверждения,
хотя С. Франк подверг сомнению справедливость подобного
обозначения**.
Между тем именно отношение Эрна к Лейбницу могло бы
представить большой интерес, так как в концепции Джоберти,
также различающего *** две философские линии развития —
психологизм и онтологизм****, философия Лейбница
причисляется к области, которая противопоставляется как
французскому рационализму, так и кантианской философии *****.
Изучение Эрном концепции Джоберти заставляет ожидать, что
* Подробнее к одностороннему рассмотрению философии Канта
и Спинозы мы возвратимся в процессе изучения сочинения под
названием «От Канта к Круппу» (см. ниже, с. 127).
** Философские отклики. О национализме в философии. С. 165.
*** Онтологизм в смысле Джоберти нельзя идентифицировать с
термином, используемым Эрном.
**** Ср.: Философия Джоберти. С. 61.
***** Ср.: Там же. С. 87, 102, 107—108, 135.
740
Дитер ШТЕГЛИХ
именно оценка Лейбница итальянским философом побудила
Эрна пересмотреть собственную квалификацию Лейбница.
Необходимо указать еще на одну черту в суждениях Эрна о
западной философии. В рамках рационализма Эрн отводит
особое место философии Шеллинга. Правда, Эрн мало обращает
внимания на то, что Шеллинг в своей поздней мистической
философии подвергает критическому рассмотрению новейшую
философию, равно и тому, что он крайне мало обращает внимание
на критические выпады Фридриха Генриха Якоби по
отношению к новейшей философии. Поскольку воззрения Шеллинга и
Якоби позволяют обнаружить тот факт, что рационализм
подвергнут критике в философии Запада, то, значит, подобная
критика не может считаться прерогативой философии *.
Определение логоса как единого принципа античной
философии и восточно-христианского воззрения значительно теряет
в своей весомости, так как Эрн, при характеристике Логоса, в
общем, не подкрепляет свои представления
историко-философской аргументацией, если не принимать во внимание
немногочисленные ссылки на Платона и восточных отцов церкви, в
первую очередь на Григория Нисского. Впрочем, Эрн делает
оговорку, что в античной и в христианской философии понятие
не может быть одинаковым. Он говорит только о дальнейшем
органическом развитии античного зерна в христианской
философии**. Эрн указывает и на то, что уже в античной
философии имелись элементы рационализма, которым он, впрочем, не
придает большого исторического значения. Отступление от
историко-философского взгляда при характеристике логизма
объясняется только тем, что Эрн способен определить признаки
философии логизма лишь на основе собственного взгляда,
который в своих основных моментах базируется на христианском
учении.
Узкое рассмотрение Эрном рационализма остается объяснить
неким актуальным поводом, благодаря которому он начинает
свою*** критику рационализма. Сначала критика западной
* К этому утверждению Эрна мы еще вернемся в следующем разделе
(см. ниже, с. 98, 108).
* Связь между античным и христианским пониманием Логоса вне
сомнения. Ср.: Хейнце М. Учение о Логосе в греческой
философии, 1872 (новое изд.: Аален 1961. С. 330—331). Ср. также:
Трубецкой С. Н. Учение о Логосе и его истории. М., 1900.
'* Сочинения «Размышления о прагматизме» (1910) и «Беркли как
родоначальник современного имманентизма» (1910) появились,
впрочем, уже незадолго до издания «Логоса».
Восток и Запад. Россия и Европа
741
философии ограничивается критикой неокантианства,
преимущественно гейдельбергской и марбургской школы.
Односторонность его критической позиции по отношению к западной
философии в целом объясняется тем, что Эрн вообще идентифицирует
принцип неокантианства с принципом новейшей философии.
Следовательно, с самого начала рассмотрение философских
учений, предшествующих неокантианству, ограничивается, так
как широкое пространство новейшей западной философии
рассматривается на основе относительно узкого поля
неокантианства.
Противопоставление ratio и Логоса необходимо завершить
несколькими общими замечаниями. При этом в первую
очередь, мы будем опираться на вступительные и завершающие
высказывания Эрна в его произведении «Борьба за Логос».
Логизм является философией, считающей Логос своим
основным принципом. Логос означает разум, имманентно
пронизывающий живую и конкретную действительность. «Логос есть
лозунг, зовущий философию от схоластики и отвлеченности
вернуться к жизни, не насилуя жизни схемами...» * Логос
представляет собой глубокое единство познающего субъекта и
познаваемого объекта. Это изначальное единство было открыто
греческой философией и в большой мере получило свое
дальнейшее развитие в христианстве.
Рационализм является философией, определяющей в
качестве своего принципа ratio. Ratio, в свою очередь, является
формальным рассудком, оторванным от бесконечного многообразия
жизни.
Противоположность обоих принципов проявляется в том
числе и в следующих противоположно-исключающих
утверждениях:
1. Рационализм охватывает целый мир в рамках категории
предмета, логизм же, напротив, в рамках категории личности.
Из этого следует 2. Механистическая точка зрения и
детерминизм для рационализма и органическое понимание
космической и человеческой жизни и философия свободы для логизма.
Категория предмета, обедненной в себе жизни, приводит к
3. меонизму рационализма, которому он противопоставляет
онтологизм логизма.
4. Схематизму и 5. Нормативности рационализма, которому
противопоставлены символизм и тонизм логизма.
* Борьба за Логос. С. VII.
742
Дитер ШТЕГЛИХ
6. Непрерывному взгляду рационализма на историю логизм
противопоставляет прерывное понимание истории.
7. Наконец, учение о познании рационализма статично,
логизм же, напротив, — динамичен*.
Представленное сопоставление Логоса и рационализма
показывает то, что Эрн описал эти семь противоположных по
содержанию утверждений не в равной степени подробно. Многие
моменты противопоставления упомянуты лишь вкратце.
Наиболее полно представлено противопоставление меонизма и
онтологизма, а также учение о статической и динамической
теории познания.
Перевод с немецкого
Г. М. Шапошниковой, А. А. Ермичева
^^
* О таком сравнении см.: Борьба за Логос. С. 357—360.
-^s^-
Ютта ШЕРРЕР
Неославянофильство и германофобия:
Владимир Францевич Эрн*
В плеяде русских мыслителей начала XX века, эпохи,
которая характеризуется как «ренессанс» или «серебряный век»
русской культуры, Владимиру Францевичу Эрну принадлежит
видное место. Однако до настоящего времени его работы
привлекали мало внимания. Не совпадают даже биографические
данные, приведенные в классических работах по истории
русской философии (В. В. Зеньковский, Г. Флоровский, Н. О. Лос-
ский, Н. Зернов**). В составленном Н. П. Полторацким и
опубликованном в США сборнике статей о русских религиозных
мыслителях XX века В. Ф. Эрну посвящен короткий и
малосодержательный очерк А. Ровнера ***; в защищенной в ФРГ док-
Статья представлена специально для «Вопросов философии» и
является несколько переработанным вариантом доклада,
прочитанного в Париже на симпозиуме по неославянофильству в январе
1978 г. Опубликована впервые в: Revue des études slaves. Paris,
LII/3. P. 297—309. Она лишь намечает границы темы. Более
углубленный анализ феномена неославянофильства (в контексте
религиозно-философских тенденций, проявившихся у части
интеллигенции в период Первой мировой войны), в том числе перемен в
умонастроении русского общества накануне войны, должен стать
предметом другой работы.
См.: Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955.
С. 227—233; Он же. История русской философии. Париж, 1950.
Т. II. С. 459; Флороввкий Г. Пути русского богословия. Париж,
1937. С. 489; Lossky N.O. History of Russian Philosophy. Ν. Y.,
1951. P. 326—328; Zernov N. The Russian Religious Renaissance of
the Twentieth Century. London, 1963. P. 103—105 (Зернов H.
Русское религиозное возрождение XX века (пер. с англ.). Париж, 1974).
См.: Ровнер А. В. Ф. Эрн // Русская религиозно-философская мысль
XX века. Сб. статей / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург,
1975. С. 383—391.
744
Ютта ШЕРРЕР
торской диссертации Д. Штеглиха труды Эрна исследуются в
основном в философском плане, без обращения к общественно-
политическим характеристикам его окружения*. В моих
предыдущих работах лишь частично затронута область интересов и
деятельности Эрна, его возникшая на волне революционных
событий 1905 г. попытка сформулировать концепцию русского
христианского социализма, основанного на принципах русского
православия**.
Недостаток внимания, уделявшегося до сих пор В. Ф. Эрну,
отнюдь не свидетельствует о второстепенности его взглядов
и трудов. Напротив, во многих отношениях Эрн является
представителем своей эпохи, глашатаем ее духа, особенно в том, что
касается попытки объединить философию и религию с целью
создания религиозной метафизики, — попытки, нашедшей в то
время самое яркое выражение в деятельности различных
религиозно-философских обществ Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева. В любом случае Эрн в этом историческом контексте
предстает неоспоримо оригинальным.
Я хотела бы сделать отправной точкой именно те
особенности его воззрений, которые в свое время способствовали
известности Эрна в России. Если видение национального
самосознания и связанные с ним требования к национальной философии
некоторые современники воспринимали с подозрением,
называя «эрновщиной», то философ С. А. Аскольдов предсказывал
его взглядам долгую жизнь. Размышления Эрна о германской
философии, особенно философии Канта, привели его в конечном
итоге к сведению проблематики отношений Востока и Запада,
России и Европы к единственной антитезе: Россия — Германия,
или, как он это символически обозначил,— к
противопоставлению «меча» и «креста» (один из наиболее важных и
известных сборников его статей называется «Меч и крест» ***).
* См.: Staglich D. Vladimir F. Ern (1882—1917). Sein philosopisches
und publizistischen Werk. Bonn, 1967 (неопубликованная
диссертация).
** См.: Scherrer J. Die Petersburger Religiös-philosophischen Verein-
ingungen. Die Entwicklung des religiösen Selbstverstandnisses ihrer
Intelligence a — Mitglieder l (1901 — 1917). В.; Wiesbaden, 1973.
S. 143—152, 338—341; Scherrer J. Intelligentsia, religion,
revolution: premieres manifestations d'un socialisme chrétien en Russie.
1905—1907//Cahiers du Monde russe et soviétique. XVII. 1976. 4.
P. 427—466; XVIII. 1977. 1—2. P. 5—32.
** См.: Эрн В. Φ. Меч и крест. Статьи о современных событиях. М.,
1915.
Неославянофильство и германофобия
745
Я хочу рассмотреть этот образ Германии, представление о ней
Эрна именно в период 1914—1915 гг. Вызывающее заглавие его
основной статьи на эту тему — «От Канта к Круппу» * —
позволяет думать, что речь идет об одном из памфлетов,
порожденных началом Первой мировой войны и проникнутых духом
воинственности и шовинизма. На самом деле это заглавие
символично, оно показывает, какое значение придавал Эрн
органической связи философии с культурной жизнью народа в целом.
Эрн синтезирует здесь в концентрированной форме делавшиеся
им в течение нескольких лет попытки отмежеваться от
философского влияния Запада, воплощаемого Германией, для тою,
чтобы создать в России собственную философию на
национальной основе, т. е. философию религиозную и затем
христианскую. Несомненно, что Первая мировая война способствовала
восприятию отношений между православной религиозной
мыслью и немецкой философией как явления крайне
парадоксального, как и утверждалось всегда славянофильской мыслью**.
Нам же это позволяет уточнить точку зрения, согласно которой
философское и идеологическое начала концепции Эрна
находятся на пересечении направляющих славянофильской мысли
как таковой.
Чтобы показать, как развивалась и постепенно
кристаллизовалась эта мысль, необходимо прежде всего определить место
философии Эрна среди духовных устремлений того времени,
вписать как его самого, так и его малодоступные работы, а
также всю его деятельность в более широкий контекст.
Владимир Францевич Эрн родился в 1882 г. в Тифлисе (его
отец Франц Карлович — по л у швед, по л у немец, лютеранин;
мать — Ольга Павловна Райская — полурусская, полуполька,
православная). После окончания гимназии Эрн изучал в 1900—
1904 гг. философию в Московском университете. Наибольшее
влияние на него оказали профессора С. Н. Трубецкой и Л. М.
Лопатин. В то время его связывала тесная дружба с В. П. Свен-
цицким, П. А. Флоренским, А. В. Ельчаниновым, а также с
С. М. Соловьевым и Андреем Белым. Последнему, между
прочим, мы обязаны большей частью сведений о жизни и
деятельности Эрна, хотя в некоторых случаях они вызывают сомнения.
На основе этого дружеского кружка, интересы которого были
* См.: Эрн В.Ф. От Канта к Круппу//Русская мысль. 1914. №12.
С. 116—124. Под тем же названием в сб.: Меч и крест. С. 20—34.
** См.: Riasanovsky N. V. Russian and the West in the Teaching of the
Slavophiles. Cambridge (Mass.). P. 207—208.
746
Ютта ШЕРРЕР
связаны прежде всего с религиозными и философскими
проблемами, в качестве непосредственного отклика на события 9
января в Москве в феврале 1905 г. было образовано Христианское
братство борьбы. Настоящими основателями и выразителями
главной идеи этого Братства — создать специфически русский
христианский социализм, другими словами, социализм,
базирующийся не только на общехристианских догматах, но и на
более частных особенностях русского православия, — были Эрн
и его ближайший друг Валентин Павлович Свенцицкий.
«Два Аякса — Эрн и Свенцицкий, ярко разнились по
темпераментам, — вспоминает в своих мемуарах богослов А. В. Карта-
шев. — Эрн — сын немца, весь был ученость, разум,
строжайший морализм. Высокий, с бледным безбородым, никогда не
улыбающимся лицом, в обычном для того времени черном
сюртуке, он казался протестантским пастором какой-то
морализирующей секты, являя собою пример протестантского пафоса в
православии. Его друг-сподвижник Свенцицкий, судя по
фамилии, польского происхождения, невысокий, блондин с
большими серо-голубыми глазами, напряженно и требовательно на
всех смотрящими, какой-то едва сдерживающий себя
Савонарола, готовый разразиться обличениями, анафемами, повести
толпу в бой. Тип теократа-фанатика, латинского стиля» *.
Вместе они выработали главные пункты программы
Христианского братства борьбы, так же как и основные элементы,
составляющие тот социализм, который отвечал бы замыслам
Братства. Несмотря на то что далеко не всегда можно
различить, кому ид двух авторов принадлежат та или иная мысль,
некоторые из этих основных идей представляют для нас
интерес в силу их исключительной важности для духовного и
идеологического развития Эрна.
Настоящая христианская общественность, предполагающая
полное упразднение частной собственности, должна занять
место государства, даже если это последнее будет основываться на
принципах христианской политики. Прототипом христианской
общественности является, как говорит Эрн, коммунизм, на
принципах которого строились общины первых христиан.
Русское православие, которое должно вновь обрести свой
первоначальный дух, привнесет в этом случае наряду с принципом
соборности необходимую базу для решения социальных проблем.
* Карташев A.B. Мои ранние встречи с о. Сергием Булгаковым//
Православная мысль. Труды Православного богословского
института в Париже. Вып. IX. М., 1953. С. 47—55.
Неославянофильство и германофобия
747
Любовь, свобода личности, идея церковной общины, основанной
на коллективной собственности, так же как столь характерный
для православия апокалиптический элемент, делают Россию
местом, предназначенным для осуществления вселенской
истины богочеловечества. Вместе с Владимиром Соловьевым
основатели Христианского братства борьбы рассматривают историю
как поступательное движение богочеловечества, а прогресс в
истории — как богочеловеческий процесс, в котором
равнозначны действия Бога и человека, он может быть реализован лишь
подлинной общиной, религиозной и христианской, которая
возможна только в России. Усилия либерального духовенства,
направленные в 1905—1906 гг. на то, чтобы добиться реформ в
структуре Православной церкви, разоблачаются как
«либеральное христианство» или даже как «фельетонное
христианство» и противопоставляются апокалиптической и
революционной концепции «подлинного» христианства и «подлинного»
православия*.
Мы не располагаем информацией о существовании
Христианского братства борьбы после 1907 г.; вообще известно очень
немного документов, касающихся его деятельности, поскольку
эта организация была вынужденно подпольной. У нее не было
даже своих печатных органов в настоящем смысле этого слова.
К тому же напечатанные документы, как, например,
программа, часто конфисковывались с момента их выхода в свет. Самая
первая статья Эрна, «Христианское отношение к
собственности», была подготовлена в рамках деятельности этой
организации и опубликована в номерах за август и сентябрь 1905 г.
журнала «Вопросы жизни» **, который послужил точкой
соприкосновения Эрна с группой Мережковского и Розанова, с одной
стороны, и с группой Булгакова, Аскольдова и Франка — с
другой. Булгаков изложил в этом журнале свою концепцию
христианского социализма, которая привела к его временному
сближению с Эрном и Свенцицким, хотя благодаря его марксистскому
прошлому и экономическому образованию его идеи в
социально-экономической сфере были более конкретными, нежели
идеи Эрна и Свенцицкого, вследствие чего их пути вскоре
разошлись. Другие статьи Эрна, написанные в этот период,
появлялись в недолговечных журналах, таких как «Век», «Церков-
* Детальный анализ деятельности Христианского братства борьбы
см.: ScherrerJ. Intelligentsia, religion, revolution...
* См.: Эрн В. Христианское отношение к собственности//Вопросы
жизни. 1905. №8. С. 246—272; №9. С. 361—382.
748
Ютта ШЕРРЕР
ное обновление», «Живая жизнь», «Религия и жизнь»,
«Северное сияние» и других, возникавших в связи с попытками
обновления в кругах прогрессивного православного духовенства,
а также в кругах интеллигенции, занятой религиозными
проблемами. С этого времени Эрн в своих религиозных идеях очень
четко отделяет себя от неохристианства Мережковского и от
центра его деятельности, Санкт-Петербургского
религиозно-философского общества. На одном из заседаний этого общества
философ С. А. Аскольдов (сын философа-панпсихиста А. А.
Козлова) проводит разграничение между сторонниками «нового
религиозного сознания», стремящимися основать новую
универсальную религию и совершенно новую церковь, т. е. группой
Мережковского, и приверженцами «старого» религиозного
сознания, такими как Эрн и Свенцицкий (к ним присоединяется и
сам Аскольдов), ищущими обновления православного
христианства исходя из принципа соборности *. Именно эта идея наряду
со стремлением вернуть метафизику к ее религиозным истокам
и развить таким образом религиозную философию в духе
Владимира Соловьева была положена в основу при образовании
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева в
Москве. Эрн входит в это общество с момента его возникновения
(конец 1905 — нач. 1906 г.). Членами-основателями его были
С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, В. П. Свенцицкий, П. А.
Флоренский и, позднее, Вяч. Иванов и Н. А. Бердяев. Ряд статей
Эрна продолжает рефераты, прочитанные членами общества,
деятельность которого оказала значительное влияние на его
интеллектуальное развитие. В сильной степени воздействовали
на него и идеи, исходившие от издательства «Путь»,
отличавшегося четко славянофильской направленностью. Это
издательство, с которым он тесно сотрудничал, было основано в 1910 г.
Маргаритой Кирилловной Морозовой, поддерживавшей
Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева в Москве,
и служило распространению взглядов его членов.
Дальнейший жизненный путь Эрна не может быть понят без
обращения к полемике между издательством «Путь» и русским
вариантом международного журнала «Логос», выходившего
в 1910—1915 гг. в издательстве «Мусагет». «Логос»
представляли Э. К. Метнер, Ф. А. Степун, С. И. Гессен и с 1911г.—
Б. Яковенко. Именно в споре с «Логосом», полагавшим, что
* См.: Аскольдов С. А. О старом и новом религиозном сознании //
Записка С.-Петербургского религиозно-философского общества.
СПб., 1908. С. 1—28.
Неославянофильство и германофобия
749
«философские изыскания в конечном итоге должны привести к
наднациональному слиянию их результатов», и в соответствии
с этим ратовавшим за «наднационализм в философии» *, Эрн
формулировал свои собственные философские идеи. Эти
последние основывались на категорическом отрицании неокантианства
и, далее, всей современной западной философии, что в конце
концов должно было привести к утверждению самостоятельной
русской философии. «Редакция "Логоса", — вспоминает один
из ее старейших членов-основателей Ф. А. Степун, — была в
постоянном конфликте с Эрном, будь то на заседаниях
Религиозно-философского общества или в библиографическом разделе
нашего журнала. В своей устной и письменной полемике Эрн
пытался доказать, что мы, представители научной философии,
порвавшие с древней христианской традицией, не имеем ни
малейшего права оперировать понятием Логос, взятым у Иоанна
Богослова, и профанировать его. Этот тезис находил живейший
отклик в православных ушах» **.
Сборник статей «Борьба за Логос», вышедший в 1911 г. в
издательстве «Путь», а также ряд работ о В. С. Соловьеве и Г. С.
Сковороде *** ярко свидетельствуют о философских идеях Эрна и о
его стремлении раскрыть оригинальность русской философской
мысли. В то же самое время Эрн готовится к университетской
карьере. В 1914 г. он заканчивает свою магистерскую
диссертацию и в 1916 — докторскую: обе были посвящены итальянским
религиозным философам XIX века, первая — Антонио Розми-
ни, вторая — Винченцо Джоберти****. Интерес Эрна к этим
философам был вызван в первую очередь тем, что их труды
доказывали возможность существования «онтологизма» и в
рамках западной культуры. «Онтологизм» для Эрна — это возврат
к бытию, к природе, к реальности вечной и подлинной,
возврат, который возможен в конечном итоге только через
церковь. Этот «онтологизм» реализуется религиозной культурой
Востока в большей степени, чем культурой Запада. Эрн проти-
* Предисловие к немецкому изданию * Логоса» (Т. I. 1910—1911.
С. II).
** Stepun F. Vergangenes und Unvergängliches. Aus meinem Leben
1884—1914. München, 1947. S. 300—301.
*** См.: Эрн Β. Φ. Гносеология В. С. Соловьева//О Вл. Соловьеве.
Сборник первый. М., 1911; Он же, Г. С. Сковорода. Жизнь и
учение. М., 1912.
*** См.: Эрн В.Ф. Розмини и его теория знания. Исследование по
истории итальянской философии XIX столетия, М., 1914; Он же.
Философия Джоберти. М., 1916.
750
Ютта ШЕРРЕР
вопоставляет ему распространенный в западной мысли
психологизм, т. е. явный индивидуализм, особенно развившийся
после Реформации. В 1916 г. Эрн был избран членом Московского
психологического общества. Он предполагает работать над
большим трудом о Платоне как представителе восточного
онтологизма — трудом, прерванным его ранней смертью: он
скончался от нефрита 29 апреля 1917 г.
Начиная примерно с 1910 г., его озабоченность проблемами,
связанными с религией и Церковью, а также его интерес к
социализму отодвинулись на второй план, уступив место
размышлениям о роли России в противостоянии Востока и Запада.
Разразившаяся Первая мировая война придала этому
антагонизму новую остроту: критика Эрном Западной Европы теперь
ограничивается в основном критикой духовных и культурных
основ Германии. Кульминации эта критика достигает в докладе
Эрна «От Канта к Круппу», с которым он выступил на
публичном заседании Религиозно-философского общества памяти
В л. Соловьева 6 октября 1914г., а также в сборнике статей
«Меч и крест» и в брошюре «Время славянофильствует. Война,
Германия, Европа и Россия» *.
«Доклад "От Канта к Круппу" получил наибольший
резонанс потому, что он выразил открыто и громко то, что под
влиянием войны многие думали и чувствовали», как об этом
говорит Зеньковский **. Устанавливавшее связь между философией
Канта и немецкой жаждой власти заглавие доклада, который
сразу был опубликован в «Русской мысли» П. Б. Струве, само
по себе являлось вызовом, даже если иметь в виду, что с
началом первой мировой войны в русской журналистике
распространена была практика сопоставлений, исходя из которых
выводили историю Германии и ее фатальный характер. В этом
отношении показательны некоторые заглавия: «От Лютера
к Фихте», «От Лютера к Ницше», «От Гёте к Бисмарку», «От
Фихте к Вильгельму II», «От Фихте к варварам» и т. д. Среди
всех этих заглавий «От Канта к Круппу» несомненно было
самым ярким, поскольку выражало нагляднейшие антагонизмы.
Как свидетельство анекдотического порядка можно привести
тот факт, что не прошло и пятнадцати дней после доклада
Эрна, как Круппу и директору заводов Круппа Аусенбергу было
присуждено звание доктора honoris causa факультета филосо-
* См.: Эрн В.Ф. Время славянофильствует. Война, Германия,
Европа и Россия. М., 1915. С. 5—48.
* Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. С. 233.
Неославянофильство и германофобия
751
фии Боннского университета; этот факт Эрн не без
удовольствия огласил на следующем заседании
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева*.
Но каков смысл вызывающих положений Эрна, как нужно
понимать его следующие утверждения: 1. Трансцендентальная
аналитика (в «Критике чистого разума») предопределила
«взрыв германизма»; 2. Орудия Круппа «полны глубочайшей
философичности»; 3. Эти две составляющие являются
выражением одного и того же германского духа: философия Канта есть
его внутренняя транскрипция, пушки Круппа — транскрипция
внешняя **.
Можно ли предположить, что Эрн, «мыслитель с
темпераментом бойца», как сказал о нем Флоровский***, просто-напросто
позволил себе чересчур увлечься на этом заседании Соловьев-
ского общества, посвященном войне, первом после начала
военных действий? Были ли утверждения Эрна просто
преувеличенным выражением крайней позиции, направленным против тех,
кто и после разрушений Лувена и Реймса продолжал считать,
что немецкая культура, Кант и Фихте — это одно, а злодеяния
прусских юнкеров — нечто другое? Отнюдь нет. Смысл его
высказываний был совсем иным: «Моя речь — самый страстный
протест против этого упрощенного понимания всемирной
истории»,— говорит он,****. Чтобы доказать свое положение
о том, что прямая линия ведет от философии Канта к
производству пушек Круппа как конкретному выражению германского
милитаризма, Эрн предлагает философскую интерпретацию
проблемы, слишком сложную для того, чтобы изложить ее здесь
полностью. Однако, чтобы понять функционирование
идеологической системы Эрна и, следовательно, его видение Германии,
следует выделить ее основные элементы.
«Критика чистого разума» Канта приводит к двум
принципам: 1) абсолютная феноменалистичность всего внешнего опыта
и 2) абсолютная феноменалистичность всего опыта
внутреннего. Тем самым и всякий внешний опыт, и всякий опыт
внутренний относятся исключительно к феноменам, откуда следует,
что, во-первых, никакой ноумен, т. е. ничто онтологическое, не
может быть воспринят нашим внешним опытом, и, во-вторых,
* См.: Эрн В. Ф. Сущность немецкого феноменализма //■ Меч и крест.
С. 37.
** См.: Эрн В. Ф. Меч и крест. С. 21.
*** Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 489.
**** Эрн В. Ф. От Канта к Круппу // Меч и крест. С. 21.
752
Ютта ШЕРРЕР
ничто ноуменальное, т. е. относящееся к миру истинно сущего,
не дано в нашем внутреннем опыте и не может быть
реализовано в нем. А так как, кроме внешнего и внутреннего опыта,
никаких путей для незнания нет, то «Критика чистого разума»
оказывается и «всемирно-историческим глашатаем чистейшей
формы абсолютного имманентизма» *.
«Критика чистого разума» Канта становится для Эрна и
причиной смерти Бога (в сознании немецкого духа). Коль скоро
опыт, внутренний и внешний, лишен всякого контакта с
ноуменами, то он лишен и отношения к истинно сущему, к Богу. Нет
больше места для Бога в представлениях человечества
о полноте сущего. Своим феноменализмом Кант прервал связь
между разумом и Богом **.
В нашу задачу не входит решение вопроса о том, справедлив
ли Эрн в своей интерпретации Канта, когда он представляет
последнего как автора или инициатора имманентной
философии (в отличие от философии трансцендентной), которая
ограничивает себя познанием возможного опыта, или же его оценка
оказывается грубым упрощением и искажением системы
Канта. Здесь важно только констатировать, что всю историю
Германии Эрн интерпретирует, исходя из своего собственного
толкования Канта.
Фундаментальные принципы феноменализма Канта были
для Эрна определяющей осью всего последующего развития
немецкой мысли через Фихте и Гегеля (который, поняв все бытие
как абсолютный процесс, сослался в своих построениях на
прусское государство) до современного неокантианства.
Согласно интерпретации Эрна, эти фундаментальные принципы
определяли не только духовную жизнь Германии, но и ее культуру
и цивилизацию. «Феноменализм Канта для немецкой мысли
есть прочное и "научное" достояние, несокрушимое,
железобетонное завоевание немецкого духа» ***. По Эрну,
феноменализм Канта имеет то же значение для немцев, что и революция
1789 г. для французов. Больше того, дух немецкого
протестантизма своим безусловным приматом «разумности» придает кан-
товской фиксации сил и способности разума характер явления
исключительного по своей важности для Церкви****.
Фундаментальный феноменалистический принцип Канта или вер-
* Эрн В. Ф. От Канта к Круппу. С. 21—22.
** См.: Там же. С. 24.
*** Там же. С. 23.
**** См.: Там же.
Неославянофильство и германофобия
753
шинные достижения «Критики чистого разума» становятся,
таким образом, историческим самоопределением немецкого
народа. «Германский народ в своем целой понял себя как феномен,
пусть грандиозный, но все же только феномен, и стал
планомерно осознавать себя в биологических категориях» **.
Но для Эрна Кант — это также «палач прежнего живого
Бога». Крик Ницше «прежний Бог умер» — очевидный
анахронизм. Кант давно уже гильотинировал прежнего Бога в
лабиринте своей трансцендентальной аналитики Именно поэтому он
несет ответственность за немецкий милитаризм Такое
уничтожение образа трансцендентного Царства Божия порождает
мечту о земном имманентном царстве с присущими ему насилием и
властью человека Но поскольку это «теоретическое богоубий-
ство» есть априорный и общеобязательный, в особенности для
«немецкого» сознания, принцип, то желание овладеть всеми
осязаемыми благами превращается для Германии в
специфическую мечту об осуществлении владычества над всеми
богатствами земли***.
Основывая земное, имманентное царство, Кант в то же время
предлагал ученым и техникам средство осуществления такого
независимого от Бога царства, в котором человек полностью
господствовал бы над природой. Таким образом, он открывал
путь слепым силам немецкой науки и техники «Первым
великим всходом кантовского посева был величественный расцвет
феноменалистических наук в Германии. Эти науки
интересовались решительно всем, кроме Истины...» ****. Не чувствуя себя
связанной со святыней, с «онтологической справедливостью», с
Божественным Провидением, немецкая наука и техника любой
ценой наращивают свою продукцию, чтобы достичь с помощью
орудий Крупна апогея индустриального и технического
развития, причем не только в Германии, но и во всем мире.
Но от «биологического» самоопределения немецкого народа,
о котором говорилось выше, до зоологизма, до взрыва
германизма — всего один шаг. Так как с уничтожением реального
абсолюта онтологические запреты и высшие предначертания
исчезают из немецкого сознания повсюду, где бы оно ни
находилось, то географическая карта мира была раскрыта перед
немцем как огромное и сладкое меню невиданного и неслыхан-
* Там же. С. 26.
** См.: Там же. С. 24.
*** Там же. С. 25.
754
Ютта ШЕРРЕР
ного в истории мирового пиршества *. Именно в результате
этого, по Эрну, неизбежен милитаризм.
Если германский милитаризм воспринимается как
«натуральное детище» кантианского феноменализма, коллективно
осуществляемого в плане истории, то орудия Круппа
представляют собой для Эрна «самое вдохновенное, самое
национальное, самое кровное детище немецкого милитаризма».
Следовательно, «генеалогически» пушки Круппа являются внуками
Канта**. Тезис «От Канта и Круппу», таким образом,
становится очевидным-
Чрезвычайно высокий уровень сложнейшего производства
орудий Круппа предполагал совершенство развития физики,
механики, математики, труд целых поколений ученых,
инженеров, промышленников и государственных деятелей. Мало
того, нужен был еще, по Эрну, некий тайный национальный
консенсус и коллективная готовность, которая дает расе
глубинное самоопределение воли***. Но еще важнее этих
«внешних» усилий нации, которые были необходимым условием для
производства орудий Круппа, стало ее внутреннее
самосознание, другими словами — уверенность Германии в самой себе и в
том, что оружие находится в ее руках. На этом основывается ее
вера в возможность определить исход войны. Германия
считает, что благодаря своему оружию она обладает самым
глубинным принципом того «кантовского «законодательства», коим с
неизбежностью весь сырой материал грядущих потрясений
должен был быть оформлен категориями и «схемами» основных
вожделений пангерманизма» ****.
Подобное развитие было возможно только потому, что
самоопределение немецкой нации, символизированное орудиями
Круппа, совпало с самоопределением немецкого духа,
выраженным философией Канта. Эрн уточняет: феноменалистический
принцип «аккумулируется в орудиях Круппа в наиболее
страшные свои сгущения и становится как бы прибором,
осуществляющим законодательство чистого разума в больших масштабах
всемирной гегемонии» *****. По отношению к этому принципу
самоопределения, принимающему форму орудий Круппа,
установления международного права, верность союзническому дол-
* См.: Там же. С. 26.
** См.: Там же. С. 27.
*** См.: Там же. С. 29.
**** Там же. С. 30.
***** Там же.
Неославянофильство и германофобия
755
гу, уважение к религиозным святыням, человеческая честь
становятся «превзойденными принципами». «Феноменализм для
своего распространения не нуждается в добром согласии или в
убеждении народов, подлежащих процессу немецкой феномена-
лизации». Орудия Круппа — живое выражение власти и мощи
феноменологического принципа, или, другими словами,
немецкого феноменализма. «В Сионе немецкого феноменализма, где
святое святых есть "Критика чистого разума", орудия Круппа
занимают <...> почетное место». Но для Эрна не только Кант в
самых характерных и самых оригинальных моментах своей
философии постулирует Круппа, но и Крупп «в самых гениальных
созданиях своих дает материальное выражение феноменалисти-
ческим основоначалам Кантовой философии» *.
Таким образом, у Эрна речь идет о тождестве германского
милитаризма и немецкой культуры в целом. То, что это
духовное развитие Германии не начинается Кантом, чтобы
непосредственно прийти к Круппу, но с неизбежностью ведет к Канту
уже от Мейстера Экхарта через Бёме и Лютера, Эрн
подчеркивает в другой своей статье, которая возникла из доклада,
первоначально прочитанного 29 января 1915 г. на заседании
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева в Москве.
Она появилась в печати с характерным заглавием «Сущность
немецкого феноменализма» ** и может рассматриваться как
продолжение статьи «От Канта к Круппу». В ней Эрн частично
отвечает на критику, вызванную статьей «От Канта к Круппу».
Однако если он и вносит уточнения в некоторые из своих идей,
его прежние позиции в целом ни в коей мере не
пересматриваются. Очерчивая эволюцию феноменализма в немецкой мысли
и, как следствие, в сознании немецкого народа, а также в
процессе его самоопределения, Эрн намеревался дать «ключ к
духовному смыслу европейского катаклизма», готового
разразиться. Ссылка на Канта и косвенно на Мейстера Экхарта, на
Бёме, на Лютера в объяснении генезиса немецкого
милитаризма ясно показывает, что в понимании Эрна битва с Германией
отнюдь не сводилась к битве с милитаризмом. В его глазах
война становится просто-напросто сражением против всей
немецкой культуры. В статье «От Канта к Круппу», выходя за рамки
военного конфликта, он рассматривал войну как «столкновение
всемирно-исторических начал».
* Там же. С. 31.
'* Эрн В. Ф. Сущность немецкого идеализма // Меч и крест. С. 34—48.
756
Ютта ШЕРРЕР
В своем предисловии к сборнику «Меч и крест» Эрн уточняет
эту мысль и говорит о столкновении духа России и духа
Германии как о «внутренней оси европейской войны». Гордая,
материалистическая, внешняя идея германская сталкивается со
смиренной, духовной и внутренней идеей русской*, меч
сталкивается с крестом. Для Германии нет ничего выше меча как
грубой физической силы. Сам Бог не есть ли для немцев
выражение силы, а не правды? Для России же меч — символ
служения, а над мечом как святыня крест, и сила обретает власть не
сама по себе, а от истины, и только от истины. Поскольку в
этой войне меч в руках России освящен верой в высшую
правду, война, которую ведет Россия против Германии, приобретает
возвышенный и духовный смысл **; России пред сто дт
окончательно разрешить конфликт между двумя принципами
всемирной истории; в этом заключается всеобъемлющий смысл
войны ***.
Но не мировая война раскрыла для Эрна конфликт между
этими двумя принципами. Рассмотрение их находится в центре
его философских и публицистических сочинений начиная с
1910г., т.е. с момента, когда он как сотрудник издательства
«Путь», отстаивавшего идею самостоятельной традиции
русской философии, энергично выступает против «Логоса»,
журнала, вдохновлявшегося западной и особенно неокантианской
философией. Эрн именует эти два фундаментальных принципа
Логос и Ratio — или логизм и рационализм. Для него Логос —
это разум, который имманентно пронизывает живую и
конкретную реальность. Ratio — это формальный рассудок, оторванный
от бесконечной множественной жизни. Как онтологизм,
персонализм, философия свободы и, более того, божественный
принцип, как смысл бытия в целом. Логос — это принцип философии
христианского Востока. Ratio же как меонизм, имперсонализм,
механицизм и детерминизм есть принцип всей западной
философии в Новое время.
Касаясь этой оппозиции между Востоком и Западом, Семен
Людвигович Франк поспешил упрекнуть Эрна в том, что он
возвращается к славянофильской идее антагонизма между
западной рассудочностью и восточной целостностью,
приписывая, таким образом, все возможные достоинства русской и вос-
* См.: Эрн В. Ф. Меч и крест. Вместо предисловия. С. 5.
** См.: Там же. С. 6—7.
*** См.: Там же. С. 32.
Неославянофильство и германофобия
757
точной мысли*. Показательно ответное возражение Эрна:
противопоставляя Ratio и Логос, он противопоставляет два
познавательных начала, а не две культуры, не Россию и Запад**. Но
именно этот аргумент Эрна может рассматриваться как
характерное начало неославянофильской мысли: оппозиция между
двумя философиями или двумя цивилизациями. Антагонизм
Восток — Запад не есть, таким образом, феномен двух
различных культур, но антиномия между Ratio и Логосом. Речь идет
о двух принципах, не только фундаментально враждебных друг
ДРУГУ> но взаимоисключающих, не могущих в конечном итоге
сосуществовать. Как следствие — конфликт между этими
двумя принципами становится неизбежным***, это конфликт,
который в конце концов не может быть разрешен иначе как
военным столкновением.
С 1910 г. в своих спорах с Франком Эрн уже говорил о
необходимости решительной борьбы, битвы между Ratio и Логосом,
хотя и в плане теоретическом****. Но не становится ли чисто
философская дискуссия, которую Эрн подразумевал сначала,
беспредметной, когда у противника философская мысль и
военная акция настолько тесно слиты, что, как это показал Эрн,
одна предполагает другую и наоборот? И то, что несколькими
годами позднее Эрн мог без видимых внутренних трудностей
транспонировать эту конечную битву, по происхождению
философскую, в военный план — очевидно, не случайно.
Возможность такой «транспозиции», как кажется, уже
вырисовывается в том, что Эрн примерно около 1910 г. констатирует связь
между философским рационализмом и технической
цивилизацией, связь, которая в том, что касается Германии, ведет к
совершенствованию военного арсенала, к милитаризму*****.
Механистическая концепция рационализма, ведущая к постоянному
росту индустрии и, как следствие, ко все более и более
механизированному образу жизни, означает для Эрна, что
цивилизация, определенная как «общественная рационализация», как
* Франк С. Л. Еще о национализме в философии // Русская мысль.
1910. №1. С. 163.
** Эрн В.Ф. Борьба за Логос. М., 1911. С. 125.
*** Там же. С. 90—91.
**** См.: Эрн В.Ф. Культурное непонимание. Ответ С.Л.Франку//
Русская мысль. 1910. №9; перепечатано в сб. « Борьба за Логос»
(С. 134).
***** Об этом см., в частности: Эрн В. Ф. На пути к логизму // Борьба за
Логос. С. 339—361.
758
Ютта ШЕРРЕР
«изнанка культуры»*, постепенно захватывает все сферы
жизни. Как следствие — цивилизация все больше угрожает
культуре.
Точно так эке, как Ratio, характеризующий всю Западную
Европу, постепенно ограничивается в представлении Эрна
философией Канта, а конфликт между Ratio и Логосом, т. е.
мыслью западной и мыслью восточной, сводится к конфликту
между феноменализмом Германии и онтологизмом России, так и
отношение между философским рационализмом и технической
цивилизацией, действительное для Западной Европы в целом,
сужено, сведено к специфическому отношению между
немецкой философией и производством оружия во всем его
совершенстве.
Было бы неправомерным объяснить это уподобление только
тем что разразилась Первая мировая война и ненависть Эрна к
Германии вследствие этого возросла. Гораздо существеннее тот
факт, что под новой и современной философией Эрн
подразумевал главным образом неокантианство (это к тому же роднило
его с плеядой русских мыслителей начала XX века), и критика
неокантианства вела его к критике рационализма и его
вершины, к Канту, оставляя в тени все другие европейские
философские системы.
Задолго до Первой мировой войны Эрн уже привлек
внимание к угрозе, которая заключалась в давлении цивилизации на
культуру, в том же контексте он предсказал также, что
культура возобладает над цивилизацией. Эта его уверенность в победе
культуры над цивилизацией составляет последний пункт
нашего размышления. Речь идет о роли России как носительницы
культуры (культуртрегера), о миссии России, о русской идее,
удобный случай для распространения и победы которой
предоставила Первая мировая война.
Но что представляет собой, по Эрну, русская идея?
Схематично ее можно изложить следующим образом:
— Россия является в современной истории единственной в
настоящее время наследницей логизма, иначе говоря,
христианской восточной мысли и восточного православия.
— Россия обладает всеми данными для развития философии,
основанной на логизме, например, отсутствием философских
систем (так как логизм представляет собой синтетическое
мышление), антирационализмом, персонализмом, имманентной по
отношению к мышлению религиозностью, коллективистским
* Эрн В. Ф. На пути к логизму. С. 349.
Неославянофильство и германофобия
759
принципом общности, на котором основана вся русская
философия и который один только и позволяет философии находить
свой исток в Церкви. Отсюда вытекает, что только в России
Церковь может быть центром культуры и что только в России
подлинное самосознание может быть религиозным.
По мере вторжения в Россию западноевропейской
механической цивилизации, с XVII века, началась борьба между ло-
гизмом и рационализмом, и одна только Россия способна взять
на себя конечную духовную борьбу между Ratio и Логосом. Эта
универсальная и наднациональная задача России, согласно
Эрну, находит в Первой мировой войне поле соответствующего
масштаба.
«Время славянофильствует» — заглавие брошюры Эрна,
опубликованной в 1915 г., — становится, таким образом,
лозунгом не только борьбы, но и победы русской идеи над идеей
германской. Снова и еще более радикально, чем в «От Канта к
Круппу», Эрн разоблачает идентичность немецкого
милитаризма, персонифицированного и «прусском лейтенанте» как
национальном герое («наглое рыльце прусского лейтенанта»), и
германской духовности. Война, таким образом, есть последствие
поражения европейской цивилизации, воплощенной в
Германии: «Меч Германии занял то самое "секущее" и
уничтожающее положение, какое еще раньше философия Канта заняла по
отношению ко всей онтологии человеческого познания и
сознания. То, что в "духе" знаменует позиция Канта, то в плане
физическом пытаются сделать полчища Гинденбурга. Против
последних двинулись рати России и в физическом плане стали
кровью своею утверждать то, что в плане духовном целые века
было народной святыней. Онтологическое царство неявленной
яви, запечатленная "эфирная" действительность святой Руси —
вот что соответствует "в духе" ратному напряжению России на
тысячеверстном фронте» *.
Но чем более ненависть Эрна концентрируется на
рационализме, воплощаемом и даже персонифицируемом Германией,
тем выше он оценивает кое-какие элементы культуры Западной
Европы, которые Россия отныне готова привлечь к своей борьбе
за «вселенское дело», «вселенскую идею» **. Речь идет о всех
тех ценностях, которые если и не были поражены
рационализмом, но тем не менее оказались почти задушенными его
владычеством и доселе лишь прозябали. Другими словами, онтоло-
* Эрн В. Ф. Время славянофильствует. С. 35—36.
** Там же. С. 22—23.
760
Ютта ШЕРРЕР
гическая Европа, Европа Данте, Жанны Д'Арк, Паскаля, Гюис-
манса, Мильтона, Шекспира, Карлейля, Рескина*
притеснялась феноменалистской Германией. Благодаря войне Россия
теперь вернет ей жизнь.
Именно под руководством России эти ценности будут
использованы в борьбе с Германией. «Все онтологическое в Европе
должно было стать против Германии и ее адского замысла» **. Во
Франции, Бельгии и Англии онтологический аспект уже
торжествует (в результате разрушений, причиненных Германией,
атеистическая Франция вновь заполнила свои церкви).
Естественным следствием этой «победы» является поэтому
политический союз этих наций с Россией. Тем самым антитеза России
и Европы перекрывается антитезой Геомании и Европы.
Духовным мечом России — крестом — Европа будет спасена от
Германии, «двойника» Европы***. Россия вернет таким образом
Европе ее духовное единство. Это будет величайшая духовная
революция для Европы, далеко превосходящая по своему
значению Ренессанс и Реформацию****. Наконец, поскольку
Германия будет исключена из Европы, прояснится трагическая и
двойственная позиция славянофилов; так же, как и позиция
западников, которые из-за Германии***** никогда не могли
сказать безраздельного «да» Европе, постоянно разрываясь
между развращенным Западом и Западом — «страной святых
чудес» 6*.
Но это весьма своеобразное «философское» оправдание союза
между мировыми державами в Первой мировой войне, как и
вытекающий отсюда новый подход Эрна к Западной Европе,
олицетворяемой для него Францией, Бельгией и Англией,
выходят за рамки нашей статьи. В заключение следует
подчеркнуть, что новое видение отношений между Россией и Европой,
появившееся у Эрна, — русское дело; миссия России, которая
заключается в том, чтобы побудить Европу уйти от самой
себя, — вытекает из его размышлений о германской философии и
в особенности о философии Канта, которая «в своей
односторонности неизбежно приводит к Wille zur Macht и к блиндирован-
* См.: Эрн В. Ф. Время славянофильствует. С. 20.
** Там же. С. 36.
*** См.: Там же. С. 8.
**** См.: Там же. С. 16.
***** Там же. С. 21—22.
6* Там же. С. 46.
Неославянофильство и германофобия
761
ным мечтам о всемирной гегемонии» *. Столь же необходимо
отстаивать универсальный, наднациональный характер
возложенной на Россию задачи: быть на арене мировой войны
глашатаем и защитницей вверенного ей восточного наследия,
«антично-византийской» и христианской мысли, логизма. Сам Эрн
воспринимал свой философский труд, поиск нового
определения мышления как личный вклад в русский логизм, новую
русскую религиозную философию, основанную на восточном логиз-
ме, сохраненном Россией. Для Эрна не было другого хранителя
этого восточного наследства, кроме России. Именно в этом
смысле и с этим ограничением Эрн видит европейское
настоящее как время славянофильства, которое он определяет так:
«Под славянофильством я разумею не тленную букву
различных славянофильских доктрин, <...> а лишь животворный
вселенский дух, который явно сквозил и сиял сквозь рубища их
исторических, общественных и даже философских доктрин.
<...> Время славянофильствует в том смысле, что русская идея
всечеловечности загорается небывалым светом над потоком
всемирных событий, что тайный смысл величайших разоблачений
и откровений, принесенных ураганом войны, находится
в поразительном созвучии и в совершенном ритмическом
единстве с всечеловеческими предчувствиями славянофилов» **.
^^
* Эрн В. Ф. Меч и крест. С. 36.
* Эрн В. Ф. Время славянофильствует. С. 7.
^^^
л. в. ПОЛЯКОВ
Учение В. Эрна о русской философии
В первые десятилетия XX в. русское философское
самосознание переживает знаменательный и неизбежный для всякой
органичной философской традиции этап. Продолжая
экстенсивное развитие и порождая новые оригинальные формы, оно
в то же время становится на путь интенсивной саморефлексии
и самоопределения.
Разумеется, не может быть и речи о каком-либо
унифицированном и монотонном единообразии русской философской
саморефлексии. Поиски самоопределения — т.е. попытки
выявления корней, специфики, оригинальности, перспектив — велись
представителями различных направлений русской философии,
в идеализме — это позитивизм, неокантианство,
феноменология *. В рамках каждого из этих подходов возникала, как
правило, своеобразная концепция исторического развития и сущности
русской философии, со своим начальным пунктом и
специфическим видением ее задач и перспектив. Было, однако, нечто
общее у всех этих концепций, позволяющее (пусть условно)
заключить их в общие скобки. Дело в том, что все они, отмечая
и признавая специфику русской философии, тем не менее
исходили из признания в качестве парадигмального того или иного
типа философии западноевропейской.
Это не во всех случаях выступало явно и однозначно (как,
например, у Г. Шпета). Но сами принципы категориального
анализа истории русской философии, ее тематизации и, соот-
* См.: Бобров Е. Философия в России. Материалы исследования,
заметки. Вып. I—IV. Казань, 1902; Филиппов M. М. Судьбы русской
философии. СПб., 1904; Введенский А. И. Судьбы философии в
России. СПб., 1898; Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии.
2-е изд. Пг., 1920; Шпет Г. Очерк развития русской философии.
Ч. I. Пб., 1922.
Учение В. Эрна о русской философии
763
ветственно, оценка ее достижений и неудач — все это
неизменно строилось на западноевропейском философском фоне.
В таком контексте учение о русской философии,
разработанное Владимиром Францевичем Эрном (1881—1917),
«сознательно» определившим «свою философию как философию
христианскую» *, выступает существенно альтернативным. И не
только потому, что оно глубоко религиозно — не меньшей
религиозностью отмечена, к примеру, концепция русской
философии архимандрита Гавриила (Воскресенского)**. Очевидную
оригинальность учению В. Эрна придает то обстоятельство, что
он обращался к русской философии не как
объективно-отстраненный историограф, но прежде всего и в главном как русский
философ, не представляющий себе иного пути своего
собственного философского (и жизненного, как выясняется)
самоопределения. До некоторой степени будет даже справедливым
утверждение, что учение о русской философии есть философский
автопортрет самого В. Эрна.
Но прежде чем мы начнем знакомство с этим автопортретом,
нам необходимо сказать несколько слов о технике его
выполнения, т. е. об историко-философской методологии В. Эрна. Она,
вопреки ожиданиям, оказывается достаточно глубоко
философски отрефлексированной. Казалось бы, зачем религиозному
философу заботиться о методологической проблематике своего
учения, коль скоро оно обосновывается в конечном счете
некоторыми сверхумными интуициями, не подлежащими объективно-
опытной верификации? И тем не менее В. Эрн, начинающий
свою книгу о Г. С. Сковороде специальным введением
«Основной характер русской философской мысли и метод ее
изучения», первоначальное внимание сосредоточивает именно на
методе.
Дело в том, что, согласно В. Эрну, всякий метод
исторического (историко-философского в том числе) исследования
отмечен неизгладимой печатью «коренной субъективности» ***. Это
не означает, что В. Эрн принципиально отрицает саму
возможность историко-философского исследования. Различая «метод»
и «технику», он подчеркивает, что последняя, опираясь на
такие правила, как полнота материала, согласованность утверж-
* Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М.,
1911. С. VIII.
** См.: Ар хим. Гавриил. История философии. Ч. VI. Казань, 1840.
*** См.: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М.,
1912. С. 7 (в дальнейшем — Эрн В. Г. С. Сковорода...).
764
Л. В. ПОЛЯКОВ
дений историка с достоверным материалом, опора на
подлинный текст, «носит в общем характер сравнительной
объективности» *. Поэтому для историка философии не только возможно,
но и необходимо стремиться к максимальной объективности
в «техническом» аспекте своего исследования.
В методологическом же аспекте ситуация принципиально
иная. Метод есть «детализация общей точки зрения и
конкретное осуществление в материалах тех способов видения, которые
уже потенциально вложены в самую точку зрения» **. А сама
«общая точка зрения» представляет собой систему уже
наличных для каждого исследователя интуиции, которую В. Эрн
определяет как «откровенную или лицемерную метафизику и
ту или иную систему верований» ***. Это значит, что всякий
историк философии, даже принципиально исповедывающий
кредо абсолютного эмпиризма, в любом случае оказывается
радикально субъективен. Он не может научно, объективно
обосновать свою «общую» или «руководящую точку зрения».
Поскольку она есть принцип организации эмпирического
материала. А без этого принципа и сам материал не может
выступить как материал, что-либо доказывающий или
опровергающий.
И даже более — В. Эрн здесь абсолютно последователен, —
та или иная организация материала не может выступать как
доказательство или опровержение «общей точки зрения».
Критерий ее «доказательности во внутренней ее силе, в
философской ее правде и объективности»****. Т.е., иными словами,
она «во всяком историческом исследовании — вне-исторична,
т. е. вне-научна» *****.
Эта констатация «вне-научности» чрезвычайно важна для
В. Эрна. Таким образом он как бы изначально снимает всякую
возможность построения философии и ее истории как «науки».
Анализируя само понятие «научный», он приходит к выводу,
что оно «бессмысленно и логически неправомерно» 6*,
поскольку реально существует множество отдельных наук, но нет
науки вообще, т. е. «единой, всеобщей науки» 7*. Отсюда следует,
* Эрн В. Г. С. Сковорода.... С. 7.
** Там же. С. 8.
*** Там же. С. 7.
**** Там же. С. 5—6.
***** Там же. С. 8.
6* См.: Эрн В. Борьба за Логос. С. 111.
7* Там же.
Учение В. Эрна о русской философии
765
что столь же фиктивно понятие «научная философия»,
выдвигаемое в качестве базисного неокантианцами и
феноменологами.
Все эти тезисы В. Эрн развивает в полемической статье,
направленной против первого номера журнала «Логос». Но,
являясь элементами этой полемики, они вместе с тем образуют
своего рода переходный мост к его учению о русской философии.
Дело в том, что это учение диалектически-полемично.
Основной принцип его — контрастное противопоставление русской
философии и философии западноевропейской (начиная с
Бэкона и Декарта). Поэтому критика понятия «научная философия»
и утверждение о том, что «философия должна стремиться не к
научности, а к объективности» *, есть не просто вызов С.
Франку или Б. Яковенко, но разграничение двух путей, двух типов
философствования, не только возможных, но исторически
осуществившихся.
Тот тип философии, который В. Эрн избирает в качестве
негативного (и в логическом, и в культурологическом смыслах)
являет собой новая западноевропейская философия в своей
«магистральной» (как неоднократно подчеркивает В. Эрн)
линии: от Декарта через Канта к неокантианству XX века. Первая
и основная черта этой философии — рационализм. Это, однако,
не часть «старой дилеммы», а целостная и наиболее
универсальная черта западноевропейской философии, в равной мере
присущая как собственно «рационалистам» Декарту, Спинозе,
Канту, так «эмпиристам» Локку, Беркли, Юму.
В. Эрн считает, что все западноевропейские философы (за
исключением идущей от Средневековья линии Баадер—Шеллинг)
исходили из принципиальной гипертрофии и абсолютизации
ratio. В результате дискурсивно-логическая способность
целостного человеческого разума оказалась совершенно обескаче-
ствленной. «Философский разум новой европейской мысли»,
соблазнившись «количественным принципом» и увлеченный
борьбой с мистическим началом Средневековья», начал
отождествлять себя с ratio, который есть лишь «среднее
арифметическое между разумами всех людей» **.
Это отождествление, однако, было неизвестно, настаивает
В. Эрн, античной и средневековой культурам. Более того, в этих
культурах вырабатывался совершенно противоположный взгляд
на проблему, наиболее полно представленный в философской
* См.: Там же. С. 115.
** Там же. С. 79.
766
Л. В. ПОЛЯКОВ
традиции, обозначаемой им как «логизм». У ее истоков
находится стоическое учение о Логосе и соответствующее учение
Филона, а окончательные свои формы «логизм» обретает в
«христианском умозрении» восточно-патриотической классики
(Дионисий Ареопагит, Григорий Нисский, Максим Исповедник,
главным образом). Как полагает В. Эрн, «христианское
умозрение развивается с такою же органичностью из античного зерна,
как из желудя — дуб. Поэтому нет и пропасти между
античностью и христианским умозрением (которую хотел бы видеть
г. Франк), пропасти, действительно отделяющей новую
философскую мысль от античности» *. Именно «логизм» как
антично восточно-христианский ** тип философствования избирается
В. Эрном в качестве позитивного фона для русской философии.
«Рационализм» и «логизм» — абсолютно
взаимоисключающие философские подходы. Естественно, что
«рационализму», как первой и наиболее универсальной черте (даже дающей
название) западноевропейской философии противостоит особое,
глубоко качественное понимание разума как универсального
Логоса. Конечно, основная концепция здесь — со вторым
лицом христианской Божественной Троицы. Именно она образует
то, что В. Эрн любит определять как τόνος всякого, но в данном
случае его собственного учения. Но наряду с этим
фундаментальным отождествлением Логоса с Иисусом Христом В. Эрн
дает развернутое понимание Логоса, позволяющее сделать
вывод о его действительно радикальной противоположности
«рационализму» в этом пункте.
Логос в человеческом сознании предстает в трояком
измерении, как «космический», раскрывающий себя в «натуральных
религиях» и искусстве; «небесный», открывающийся в
христианской религии, и «дискурсивно-логический, подчиненный
формально принципу логической очевидности, материально же
связанный со всеми данными опыта». Этот последний Логос
«открывается в философии» ***. Предлагая эту экспликацию
Логоса, В. Эрн настаивает на абсолютной несовместимости ratio
и Лоуос'а. Ratio не есть дискурсивно-логическая способность, а
целостный разум отнюдь не есть нечто, лишенное этой способ-
* Эрн В. Борьба за Логос. С. 79.
** В. Эрн постоянно говорит о христианском Востоке, но лишь
поскольку в православии «начало Доуос'а более осознанно». Вообще
же католичество для него «так же "динамично" и так же
"логично", как и православие» (Там же. С. 83).
*** Там же. С. 136.
Учение В. Эрна о русской философии
767
ности. «Рационализм», принципиально вырывающий дискур-
сивно-логическое из целостной триады, радикально тем самым
обесценивает и омертвляет его. Поэтому «логизм» не может
быть дополнен «рационализмом» (как и наоборот). Либо ratio,
либо дискурсивно-логический Λόγος. Третьего, уверен В. Эрн,
не дано.
Вторая основная черта западноевропейской философии,
обозначаемая В. Эрном как «меонизм», «с диалектической
необходимостью вытекает из самой сущности рационализма» *. «Мео-
низм», т. е. «не сущность», от μη όν — не сущее, рационализма
предопределен уже самим фактом омертвления дискурсивно-
логического Логоса в ratio. Вырванный из живой целостности
вселенского Логоса, ratio распространяет процесс омертвления
на все, что оказывается объектом его познавательной
экспансии. В. Эрн констатирует, что «последовательный рост
рационализма и все увеличивавшееся сознание единодержавия и
исключительного значения ratio сопровождалось замечательным
и единственным в истории мысли процессом универсальной
систематической дереализации познаваемой
действительности» **.
Ступени этой дереализации таковы: берклианская критика
понятия «материальная субстанция», юмовское отвергание
субстанциальности «Я» и, наконец, радикальная феноменали-
зация внешнего (в форме пространственного созерцания) и
внутреннего (в форме временного созерцания) опыта,
осуществленная Кантом. Дальнейшее историческое развитие
«рационализма» целиком находится под господством этого
«колоссального меонического мифа» ***. И, утверждает В. Эрн, «если мы
всмотримся в современную европейскую философию, почти
всецело находящуюся в фарватере кантианства, мы увидим, что
вся она дышит отравленной атмосферой универсального мео-
низма» ****.
Как противоположность рационалистическому «меонизму»
В. Эрн выдвигает «коренной и универсальный» онтологизм в
философии Логоса» *****. Эта вторая
существенно-альтернативная черта «логизма» непосредственно связана с весьма
специфическим — онтологическим пониманием истины. В. Эрн ра-
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 12.
** Там же. С. 13.
*** Там же. С. 14.
**** Там же. С. 15.
***** Эрн В. Борьба за Логос. С. 83.
768
Л. В. ПОЛЯКОВ
дикально отвергает концепцию истины как соответствия, если
воспользоваться спинозовским языком, «порядка идей» —
«порядку вещей». Такая интерпретация человеческого знания как
только и исключительно познания, есть закономерный
результат абсолютизации ratio, разрушающий целостность
(логичность) человеческого духа. Рационалистической абстракции
познающего субъекта, оторванного от им же самим меонизи-
рованной реальности, противостоит в «логизме» человек,
поднимающийся к «логическому» сознанию т. е. «приходящий к
сознанию в себе Логоса» и тем самым уничтожающий
фатальный для рационализма «разрыв между мыслью и сущим» *.
Истину, которая в конечном счете есть Логос, невозможно принять
в себя. Наоборот, весь человек, в том числе и как «познающий
субъект», может и должен жить «бытием в Логосе, т. ё. бытием
в Истине» **.
Таким образом, радикально противостоящий
рационалистическому меонизму онтологизм эксплицируется В. Эрном как
«динамическая теория познания, по которой степень познания
соответствует степени напряженности воли, степени
существенной устремленности к Истине, ??? которой в лестнице Богопо-
знания, т. е. познания Сущего, далеко всех превышают герои и
подвижники духа — святые ***.
Третья важнейшая черта «рационализма» — «имперсона-
лизм». Имплицитно она уже заключена в чисто
количественном понимании как «среднеарифметического», лишенного
каких-либо качественных признаков интеллекта. «Личное
начало, — отмечает в этой связи В. Эрн, — для чистого ratio по
существу иррационально и потому все рациональное должно
быть мыслимо вне категории личности» ****. Отсюда такие
неизбежные спутники «рационализма», как подчинение всего
познаваемого «исключительному господству категории вещи» и
фактическая элиминация понятия свободы, которое
«окончательно поглощается понятием универсальной
необходимости» *****.
В «логизме» ситуация прямо противоположная, поскольку
«личность в атмосфере логизма естественно занимает
центральное место» и даже более — «логизм все существующее восприни-
* Эрн В. Борьба за Логос. С. 83.
** Там же.
*** Там же. С. 84.
**** Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 16.
***** Там же. С. 16—17.
Учение В. Эрна о русской философии
769
мает в категории личности и чистую вещность мира считает
лишь призраком» *. В логизме «Бог — Личность, Вселенная —
Личность, Церковь — Личность, человек — Личность» **.
Итак, в европейской философской традиции В. Эрн выделяет
два альтернативных типа: восточно-христианский «логизм»,
характеризуемый «онтологизмом» и «персонализмом», и
противостоящий ему западноевропейский «рационализм»,
главными чертами которого являются «меонизм» и «имперсонализм».
Каково же — в рамках зафиксированой альтернативы —
положение русской философии?
Зная автохарактеристику В. Эрна как «христианского
философа», мы можем с большой долей вероятности предположить,
что он изберет восточно-христианский логизм в качестве
парадигмы русской философии. И это действительно так. В. Эрн
однозначно утверждает: «Субстанциальная пронизанность
религией Слова, роднящая нас с "логизмом"
восточно-христианского умозрения, — вот что составляет поистине оригинальную
почву русской философской мысли» ***.
Однако одной этой констатации недостаточно, чтобы
определить специфику русской философии. Важно учесть тот факт,
что русская философия в XVIII—XX вв. существует,
«развиваясь в зависимости от Запада» ****. Русская культура и русская
философия как перекресток двух противоборствующих и
взаимоисключающих культурно-исторических потоков — такова
центральная идея В. Эрна. Он убежден, что русская философия
«всей значительностью своею и всем своеобразием обязана
умопостигаемому месту, занимаемому Россией в череде времени и
пространств» *****. Это «среднее место», где сталкивается
«органичная» христианская культура и «критичная»
западноевропейская. И это столкновение имеет, согласно В. Эрну,
глубоко внутренний, можно сказать, диалектический характер.
Оно невозможно в Западной Европе, поскольку «глубоко
въевшийся в западную философскую мысль рационализм не
позволяет мыслителям новой Европы даже увидеть врага, сознать
его как внутренно-данное» 6*. Невозможно оно было и в рамках
* Там же. С. 21.
** Там же.
*** Эрн В. Борьба за Логос. С. 90.
**** Там же. С. 91.
***** Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 22.
6* Там же. С. 23.
770
Л. В. ПОЛЯКОВ
средневековой восточно-христианской культуры по той простой
причине, что «рационализм» тогда еще не сформировался.
И вот, наконец, счастливое совпадение места и времени —
в России может (и поэтому — должна) состояться «всемирно-
историческая тяжба в области философского знания», т.е.
«свободная встреча двух исконных врагов» — ratio и Лоуос'а.
«Внутренно унаследовав логизм и нося его, так сказать, в своей
крови, — настаивает В. Эрн, — Россия философски осознает его
под непрерывным реактивом западноевропейского
рационализма». Этот «основной факт» оказывается поистине пророческим
и судьбоносным для русской философии. И В. Эрн профетиче-
ски итожит: «Историческая встреча и завершительная битва
между началом божественного, человеческого и космического
Λόγος'а и началом человеческого, только человеческого ratio
есть достояние и удел России» *.
Характерной особенностью эрновского учения является по-
стуляция русской философии в качестве органичной
целостности. «Вся русская философская мысль... представляется
цельным и единым по замыслу философским делом», — пишет
В. Эрн**. «Несомненное» для него, это внутреннее единство
раскрывается в том, что «русские мыслители, очень часто
разделенные большими промежутками времени и незнанием друг
друга, перекликаются между собой и, не сговариваясь, в
поразительном согласии подхватывают один другого» ***. В. Эрн не
хочет представлять русскую философию виде «системы»,
поскольку «системность есть не что иное, как насильственное
укладывание многообразий действительности в прокрустово ложе
данной точки зрения» ****. Кроме того, особенность русской
философской традиции в том, что в ней «мало или почти нет
систем» *****. Это обстоятельство «обыкновенно (с точки
зрения «рационалистов».—Л.П.) считается признаком
отсутствия самостоятельной русской философии»6*. Но на самом
деле ничто так ярко не подтверждает «устремленности русской
мысли к логизму», как ее не- и даже антисистемность.
Чтобы дать некоторое представление о русской философии,
В. Эрн поэтому избирает не систематизирующую «схему», а об-
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 23.
** Там же. С. 24.
*** Эрн В. Борьба за Логос. С. 107.
**** Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 27.
***** Там же.
6* Там же. С. 26—27.
Учение В. Эрна о русской философии
111
раз и даже символ огромной, лишь недавно начатой «Книги», в
которую каждый русский философ «своими писаниями и своею
жизнью как бы вписывает главу» и которая предназначена
«уже не для кабинетного чтения, а для существенного
руководства жизнью» *.
Первая глава этой «Книги», или, скорее, ее пролог, была
написана, согласно В. Эрну, украинским странствующим
философом Григорием Саввичем Сковородой (1722—1794). В. Эрн
решительно возражает против указания на славянофилов как на
родоначальников русской философии. В таком подходе он
усматривает не только хронологическую неточность, но
стремление поставить русскую философскую мысль «в прямую
зависимость от немецкой «романтической философии» **. На самом
же деле, вновь напоминает В. Эрн, русская философия «имеет
свою туземную подпочву, которая находится в прямом
соприкосновении с логистической философией отцов Церкви и почти
никакого отношения не имеет к рационалистической
философии Новой Европы» ***.
Тот факт, что «пролог» русской философии в лице Г. С.
Сковороды «не стоит в эмпирической связи с последующей русской
мыслью» ****, отнюдь не беспокоит В. Эрна. Напротив, он
считает его в высшей степени характерным и позволяющим со всей
определенностью усмотреть «замечательный и бесспорный факт
глубокого духовного родства между Сковородой и дальнейшей
русской мыслью и постоянного их идеального совпадения» *****.
Выделяя Г. С. Сковороду в качестве родоначальника русской
философии, В. Эрн настойчиво акцентирует его
философичность. На протяжении всей своей книги о Г. С. Сковороде он
утверждает одну мысль: «Сковорода был прежде всего
философом, т. е. незаинтересованным и бескорыстным искателем
теоретической Истины»6*. Эта мысль представляет собой не
просто позитивную констатацию, но и полемический ответ тем
исследователям русской философии, которые видели в
украинском мыслителе только и исключительно «моралиста» 7*. По-
* Эрн Б. Г. С. Сковорода. С. 24.
** Там же. С. 331.
*** Там же.
**** Там же. С. 332.
***** Там же.
6* Там же. С. 285.
7* Любопытно, что полемика продолжилась и после смерти В. Эрна,
когда Г. Шпет категорически заявил: «Сковорода от начала и до
772
Л. В. ПОЛЯКОВ
следнее представление явно или неявно базируется на
отождествлении «философии» с «рационализмом». Между тем Г. С.
Сковорода несомненно принадлежит к иному типу и иной
философской традиции. Называя его «христианским платоником» *,
В. Эрн явно напоминает о «логизме», во всяком случае о «той
великом платонической традиции в христианстве, которая
представлена многими великими учителями Церкви и
христианскими мыслителями» **.
Но не только типологическая определенность делает Г. С.
Сковороду философом в глазах В. Эрна. Он обращает внимание на
тот факт, что, несмотря на сильный «практический и волевой»
мотив, Г. С. Сковорода «с тем большей страстью... был
заинтересован в полном бескорыстии при отыскании объективного
смысла и безотносительной правды жизни» ***. Отнюдь не
мораль поэтому составляет «первое и единственное содержание
его мысли». На первом плане всегда и во всем — «воля к
Истине», а это значит, что в лице Г. С. Сковороды «впервые в России
пробуждается разум философский как отдельная способность,
вызываемая к жизни усложнением условий и нашего
национального бытия, и необычайной, все растущей сложностью
истории всемирной» ****.
Жизнь и мышление Г. С. Сковороды находят, согласно В. Эр-
ну, свои отзвуки во всей последующей истории русской
философии. «Подлинным символом всей русской мысли» является
«страннический посох» Г. С. Сковороды. Постоянно
странствуя, как бы «убегая» от мира***** в течение последнего
тридцатилетия своей жизни, он символически преобразует судьбы
таких разных мыслителей, как В. С. Печерин, Л. Н. Толстой,
А. М. Добролюбов. Каждый из них (раньше или позже — у
каждого свой срок) решительно порвал со своим прежним
состоянием и из талантливого ученого, всемирно известного писателя и
ультрадекадентского поэта сделался
«странником»-паломником духа.
С этим весьма характерным свойством русской мысли в
тесной связи стоит ее «интериоризм» или «антропологизм», также
конца — моралист» (Шпет Г. Очерк развития русской
философии. С. 72; ср.: С. 82).
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 250. Ср.: Шпет Г. Указ. соч. С. 74, 78.
** Там же. С. 257.
*** Там же. С. 285.
**** Там же. С. 333.
***** Не случайно на могильной плите его читалась такая
автоэпитафия: «Мир ловил меня, но не поймал».
Учение В. Эрна о русской философии
773
предвещенный Г. С. Сковородой. В противоположность
новоевропейскому рационалистическому «экстериоризму »,
направленному вовне, к вещам, русская философия, начиная со
Сковороды, решительно обращается к человеку и его внутреннему
миру. Это внутреннее странничество (внешне выраженное в
отказе от общепринятых социальных ролей и способов
самоидентификации) направлено на поиск таких идеальных для человека
состояний, как «целостность духа» и «сродность».
Осуществленное в жизни самого Г. С. Сковороды, которую В. Эрн
определяет как «огромный и глубоко интересный метафизический
эксперимент» *, это паломничество оказывается продолженным
и оригинально развитым во многих направлениях русской
философской мысли. Например, принцип «целостности» В. Эрн
обнаруживает у И. В. Киреевского, а принцип «сродности» —
у А. С. Хомякова. И вообще «все дело славянофилов есть не что
иное, как грандиозное применение ко всему русскому народу,
ко всей русской истории того самого принципа сродности,
который с таким сократическим упорством Сковорода прилагал к
сфере индивидуальной» **. В. Эрн даже не просто фиксирует
это созвучие, но определенно утверждает: «тайным отцом
славянофильства был Сковорода» ***.
Если в такой же перспективе рассматривать принцип
целостности, то окажется, что помимо его явной рецепции И. В.
Киреевским мы можем обнаружить его бытование в действие в
негативно-критической форме. «Великий протест Толстого против
"научничества", — полагает В. Эрн, — есть прямое
продолжение мыслей Сковороды. Идея цельного знания обусловливает
у Соловьева великолепную критику отвлеченных начал» ****.
В тесной связи с «антропологизмом» и «интериоризмом»
стоит такое свойство философии Г. С. Сковороды, как
«символизм». Если основная задача человека — самопознание, то,
соответственно, результаты внутренних открытий и экспериментов
духа обретают ключевой для всякого познания —
символический смысл. Нет и не может быть отчужденного,
нечеловеческого знания — в том числе и о «большом мире». «Все разгадки
и загадки в человеке. Отсюда вытекает задача внутреннего,
метафизического изучения человека» *****.
* Соответственно, философия есть «логическая запись этого
эксперимента» (Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 213).
** Там же. С. 339.
*** Там же. С. 340.
**** там же.
***** Там же. С. 338.
774
Л. Б. ПОЛЯКОВ
В этом пункте «логическая» доминанта русской философии
обнаруживается с особой и неоспоримой оригинальностью.
Органическая связь Лоуос'а дискурсивно-логического,
философского, с Λόγος'ом космическим открывает русской философии
недоступный «рационализму» путь
интуитивно-художественного постижения глубин человеческой души. В результате
задача внутреннего изучения человека «с непревзойденной
гениальностью разрешается в русской художественной литературе и
достигает мировых вселенских вершин в творчестве
Достоевского и Толстого» *.
На этом же пути русская мысль обретает и адекватный
антропологической установке на самопознание символический
язык. На «чисто-символическом» принципе, полагает В. Эрн,
возводится «цельное поэтическое мировоззрение» Ф. И.
Тютчева. И не случайно Достоевский обращается к его стихам «как к
неким мистическим формулам, как к воплощенному слову и
слову священному» **. Подобным образом Вл. Соловьев «в
минуты настоящих видений... весь покоряется принципу
символическому и может выразить свои мистико-поэтические прозрения
лишь в слове художественном» ***. Наконец, этот «исконный
символизм», имплицированный Г. С. Сковородой, обретает
в лице Вяч. Иванова «достойного теоретика и ставится в связь с
реалистическим, существенным символизмом Средних веков
(Данте) и с мистическим символизмом древнегреческого
мифа» ****.
Глубокую корреляцию усматривает В. Эрн между глухими
высказываниями-прозрениями Г. С. Сковороды о «женственной
сущности мира», о «Деве, превосходящей разум премудрых» и
аналогичными мотивами у Достоевского (Марья Тимофеевна,
называющая Богородицу «великой матерью-сырой землей» —
«Бесы»). Это прозрение, считает В. Эрн, «есть глубочайшая
основа чисто-русской метафизики», особенно ярко
представленной Вл. Соловьевым, истинным «философом вечной
женственности» *****.
В философии Г. С. Сковороды можно обнаружить, полагает
В. Эрн, и те искушения и падения, которые в дальнейшем
придется испытать русской философии. Главные из них: гности-
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 338.
** Там же. С. 337.
*** Там же.
**** Там же#
***** Там же.
Учение В. Эрна о русской философии
ПЪ
цизм и «близорукость в понимании сущности зла»
(гностическая редукция зла к добру); «бессознательное отталкивание...
от Церкви». Первое обернулось «теократическим искушением»
Вл. Соловьева, второе «повторяется в невысказанной трагедии
жизни Толстого» *.
Эта экспрессивно набросанная картина русской философии
отнюдь не претендует на полноту и систематичность. Но она
устраивает В. Эрна не только потому, что соответствует его
антирационалистической установке. Дело в том, что «все
свершенное русской мыслью есть только начало, и как бы ни было
значительно это начало, τόνος русской мысли устремлен в
будущее, и потому русская мысль, уже немало давая, обещает
большее и свой окончательный смысл может выявить лишь при
исполнений тех чаяний, которыми она проникнута со своей
колыбели и до наших дней» **.
Но, несмотря на эту явную незавершенность и
устремленность в будущее, русская философия все же может быть,
согласно В. Эрну, определена в своих главных и неизменных
чертах. Их вновь три.
Во-первых, «онтологизм», выражающий «логистическую»
ориентацию на «бытие в Истине» в противоположность
«рационалистической» установке на познание истины, трактуемой
как соответствие между знанием и познаваемой вещью».
Во-вторых, «существенная религиозность»,
предопределенная универсальной целостностью и взаимосвязью Λόγος'οΒ
«небесного» и дискурсивно-логического.
В-третьих, «персонализм », имплицированный «
онтологизмом» и определяющий философию как прежде всего
жизненную задачу, решая которую, философ осуществляет
«метафизический эксперимент», ставит уникальный опыт личностного
бытия. «Вот почему, — подчеркивает В. Эрн, — мало знать, что
написали и что сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев,
нужно знать, что они пережили и как они жили» ***.
Определив триединую сущность русской философии и связав
ее судьбы разрешением «всемирно-исторической тяжбы»
между ratio и Λόγος'οΜ, В. Эрн отнюдь не впадает в
фаталистический оптимизм. Он предчувствует всю проблематичность ее
будущего и симптоматично оговаривается, что в это будущее
«можно лишь верить», а уж «идти к нему, сознательно направ-
* Там же. С. 341—342.
** Там же. С. 27—28.
*** Эрн В. Борьба за Логос. С. 97.
776
Л. В. ПОЛЯКОВ
ляя все силы своего философствования, можно лишь под
водительством философской надежды» *. Нужно учитывать,
конечно, что для христианского философа «вера» и «надежда» не
менее (если не более) надежные гаранты, чем, например,
«естественный закон» для физика. Но все же, на мой взгляд, в
этом связывании будущего русской философии с упованием на
«веру» и «надежду» нельзя не почувствовать некоторую
«апокалиптическую» горечь. Что, впрочем, вполне «логично».
Уже одно воспроизведение историко-философского учения
В. Эрна достаточно, на мой взгляд, ясно показывает всю
сложность задачи ее критического рассмотрения. Как мы помним,
в своем методологическом «прологе» мыслитель предусмотрел,
но постарался обезопасить себя от какой бы то ни было
«научной» критики, выдвинув тезис о принципиальной
субъективности всякого исторического исследования. И было бы наивно
просто отбросить этот тезис под столь, например,
впечатляющим предлогом, как его «ненаучность», «субъективный
идеализм» или «религиозный мистицизм». Чтобы навсегда
отделаться от этого дилетантского искушения, нужно запомнить:
В. Эрн, несмотря на декларируемую религиозность, глубоко
и всесторонне эрудированный философ. Любой его текст
отличается тщательной продуманностью, выверенной логической
(в обычном смысле) строгостью и внутренней полнотой.
И в данном случае мы имеем дело с тезисом, который может
возникнуть и в рамках абсолютно научной методологии
истории философии. Дело в том, что радикальную субъективность
исторического исследования В. Эрн связывает, как мы помним,
с фактом принципиальной невозможности теоретического
обоснования исходных постулатов той «общей точки зрения»,
которая только и дает исследователю исторический материал
именно как «материал», т. е. как нечто уже внутренним
образом организованное. Трудность этого рода зафиксирована не
только В. Эрном. На языке формальной логики она выражена
в теореме Геделя о принципиальной неполноте всякой теории.
Известна она также и как парадокс «герменевтического круга».
Нашел ли В. Эрн свой собственный, оригинальный выход из
этой действительно трудной познавательной ситуации? Едва
ли. Выдвинув в качестве критериев обоснованности
исторического исследования (теории) «внутреннюю силу, «философскую
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 24.
Учение В. Эрна о русской философии
777
правду» и «объективность» *, он, в сущности, воспроизвел
рационалистические (в обычном смысле) принципы определения
истинности теории, сформулированные еще Декартом. Правда,
с одним «но». Если для рационализма «объективность»
означает хотя и не абсолютное соответствие теории действительному
«положению вещей, но, во всяком случае — как у Канта, — ее
общезначимость, то для В. Эрна нет такой обязательности. Ни
одну из исторических теорий он не может признать
единственно возможной. Следовательно, и свою собственную версию
истории русской философии он погружает в стихию
плюралистического релятивизма.
Нельзя не признать, что этот выбор предпочтительнее пути
доктринерского догматизма, навязывающего свое видение
истории русской философии в качестве единственного и абсолютно
истинного. Но очевидно, также, что в этой ситуации
постулированная В. Эрном «объективность» становится не более чем
благим пожеланием.
В связи с этим стоит и недостаточная обоснованность учения
В. Эрна о русской философии. И дело даже не в том, что оно не
во всем соответствует признаваемому им «техническому»
требованию полноты материала. Тут, в частности, может быть
оспорен начальный пункт в истории русской философии,
связываемый им с Г. С. Сковородой, а традиция русской философской
мысли могла бы быть углублена по крайней мере до XVI в.
(Максим Грек, Андрей Курбский, Зиновий Отенский). И
кстати, в начале XX в. уже публиковались исследования,
углублявшие русскую философию до периода Киевской Руси**.
Но, повторяю, дело не только в экстенсивном расширении
привлеченного В. Эрном к анализу материала (весьма вероятно,
что его связывание русской философии с
восточно-христианским «логизмом» получило бы богатое эмпирическое
подтверждение). Важнее другое — в рамках того же периода (XVIII—
XX вв.) возможна — и это полностью соответствует
релятивизму эрновской методологии — совершенно иная концепция
русской философии, базирующаяся, например, на бесспорном фак-
* См.: Там же. С. 5—6.
* См.: Безобразова М. В. Изречения св. Кирилла и послание
митрополита Никифора. СПб., 1898; Свенцицкий И. С. Начала
философии в русской литературе XI—XVI вв. Львов, 1901. О степени
разработанности этой темы в советской литературе см.: Проблемы
историко-философских исследований // Вопросы философии. 1886.
№2. С. 41—44.
778
Л. В. ПОЛЯКОВ
те тесной сопряженности русской мысли с западноевропейской
философской традицией. И если гипотетически признать
опорными фигурами в этой схеме М. В. Ломоносова и А. Н.
Радищева, то можно было бы выстроить вполне внутренне правдивую и
тоже «объективную» историю русской философии, доминантой
которой выступило бы как раз выносимое В. Эрном за скобки
собственно русского «рационалистическое», научное начало.
Во всяком случае, линия М. В. Ломоносов — А. Н.
Радищев — И. Д. Якушкин — М. Г. Павлов — Д. М. Велланский —
А. И. Герцен — Н. Г. Чернышевский, резюмирующаяся в
слишком очевидном господстве позитивизма и естественнонаучного
мировоззрения в 60—80-е годы XIX в., выглядит не менее
впечатляюще, нежели Г. С. Сковорода — славянофилы — Вл.
Соловьев — религиозная философия конца XIX — начала XX в.
И, по-видимому, еще большой вопрос (едва ли разрешимый эм-
пирико-статистическим путем), какая из этих двух линий
«более русская».
Строго говоря, полагание диалектической раздвоенности
русского философского сознания было бы вполне в духе учения
самого В. Эрна. Мы помним, что особое призвание русской
философии он видел в превращении ее в поле решающей битвы
между Λόγος'ом и ratio. И чтобы это была действительно битва,
ее участники должны быть абсолютно равноценны. Но этого
равноправия В. Эрн, судя по всему, не хочет предоставить
«рационализму».
Действительно, русская философия у него имманентно
связана с «логизмом», типологически ему наследует. На долю
«рационализма» выпадает лишь роль «реактива», т. е. чисто
внешнего стимула, побуждающего русскую философию к активному
самоопределению и самовыявлению. Правда, нужно признать,
что эта роль отнюдь не второстепенна. Как подчеркивает в этой
связи В. Эрн, «русская философия, начиная с великого "старца"
Сковороды, есть непрерывное и все растущее осознание стихии
Лоуос'а, осознание, совершающееся как результат воздействия
на русскую мысль все растущего и все более внимательного
изучения западноевропейского рационализма» *.
И тем не менее «рационалистическая» философия в России
не идентифицируется В. Эрном как собственно русская. Отсюда
вполне закономерна ее интерпретация как целиком
подражательной. Такие «неоригинальные направления русской
мысли», как материализм, позитивизм, неокантианство обречены,
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 24.
Учение В. Эрна о русской философии
779
согласно В. Эрну, «на фатальное бесплодие и невозможность
что-нибудь творчески порождать». Все они, в конечном счете,
только эхо, гулко воспроизводящее сильные и творческие
движения западной мысли» *.
Из этих характеристик достаточно ясно, что реальное,
диалектическое — с непредсказуемым результатом — столкновение
«рационализма» и «логизма» на перекрестке русской
философии — лишь очередное благое пожелание. Если «рационализм»
не интериоризируется в русской философии, не становится ее
имманентной творческой потенцией, то, разумеется, ни о
каком равном соперничестве его с «логизмом» говорить
невозможно. Все русские философы-«рационалисты» имеют
«небольшое значение». Строго говоря — и это с неизбежностью следует
из учения В. Эрна, — они не являются собственно русскими
философами. Их действительная роль в развитии русского
философского самосознания, неосознанная ими и прямо
противоречащая их установкам, состоит в том, что они «расчищают
почву» «гигантскому молоту европейского рационализма,
кующему русское самосознание на исторической наковальне,
воздвигнутой гением великого Петра» **.
По-видимому, В. Эрн сам ощущал некоторую
искусственность предрекаемой им битвы между творческим началом «ло-
гизма» и русским «эхом» западноевропейского «рационализма».
И чтобы как-то исправить положение, он частично интериори-
зирует «рационализм», связывая его не только с
«просветителями», талантами «второстепенными и третьестепенными»***,
но и с такими именами, как, например, Б. Н. Чичерин, В. С.
Соловьев, А. А. Козлов. Но и это не меняет ситуацию. Ведь двое
последних пережили рационалистическое увлечение как
«переходный момент» ****. И лишь Б. Н. Чичерин, бывший
«наиболее меоническим русским философом» *****, остается
единственным серьезным соперником «логизма».
Очевидно, что неудача, постигшая В. Эрна в попытке создания
целостной, диалектически-противоречивой и
динамично-напряженной модели русской философской мысли, была
предопределена его, так сказать, «партийной позицией» христианского
философа. «Метафизика» или «система верований», определив-
* Там же. С. 25.
** Там же. С. 26.
*** Эрн В. Борьба за Логос. С. 95.
**** Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 25.
***** Эрн В. Борьба за Логос. С. 92.
780
Л. В. ПОЛЯКОВ
шая его «общую точку зрения» как тотально-религиозную, с
неизбежностью навязала ему соответствующее
тотально-религиозное видение русской философии. Но религиозность В. Эрна
как философа проявилась и в его методологии — ярче всего,
пожалуй, в его практически полном игнорировании
социального контекста русской философской мысли. Если о
западноевропейском «рационализме» он иногда говорит в этом ключе,
утверждая, что этот тип философии закономерно возник в борьбе
новоевропейского индивидуализма против «мистического
начала Средневековья» и католической церкви*, или что «корни
рационалистического марева социальны и даже космичны» **, —
то русская философия повисает у него буквально в
безвоздушном, «космическом» пространстве.
Правда, мы помним, В. Эрн как-то глухо намекает на связь
между появлением в русской мысли собственно «философского
разума (Г. С. Сковорода) и «усложнением условий... нашего
национального бытия». Но это остается не более чем намеком.
Решающим для него во всех случаях оказывается религиозный
контекст. И, отвечая на упрек С.Франка в «национализме»,
В. Эрн имел все основания утверждать: «Какой может быть
национализм в философски осознанном предпочтении античной
философии и восточно-христианского умозрения блестящей,
отвлеченной, бесплодной мысли новой Европы» ***. Именно
так: сначала христианско-православное начало, и лишь затем и
на этом основании — русское. «Русская философская мысль, —
открыто признал В. Эрн, — имеет для меня не первичную, а
производную ценность. Абсолютно должное моего мировоззрения —
восточно-христианский логизм ****.
Ясно, что отказ от социального анализа русской философии
не есть методологический недосмотр В. Эрна. Это вполне
осознанно принятый принцип, ограничивающий его анализ в
пределах религии и философии. Даже культурологические мотивы
звучат у него скороговоркой и приглушенно — например,
определение западной «рационалистической» культуры в качестве
«критичной», а русской как «органичной», или критика
«рационализма» как антикультурного начала. И естественно,
поэтому, что на вопрос, поставленный А. Белым (и утвердительно
решенный им же) о связи учения В. Эрна со славянофильством,
* Эрн В. Г. С. Сковорода. С. 11.
** Там же. С. 13.
*** Эрн Б. Борьба за Логос. С. 121.
**** Там же. С. 123.
Учение В. Эрна о русской философии
781
автор «Борьбы за Логос» ответил отрицательно. «Я
противополагаю, — писал он, — два познавательных начала: ratio и Λόγος,
а не две культуры: Россию и Запад. Мое противоположение
есть результат гносеологического анализа. Противоположение
славянофилов — результат гносеологического анализа.
Противоположение славянофилов — результат философско-истори-
ческих соображений» *.
В этой автохарактеристике с замечательной ясностью
отражена как вся специфичность учения В. Эрна, так и его
ограниченность. Последовательно проведя религиозные принципы
своей философии, В. Эрн создал бесспорно оригинальное учение
о русской философии. Но ценой этой оригинальности оказалась
полная утрата социокультурных оснований русской
философской мысли. Разумеется, нельзя не отдать должного
поэтическому символу России как «исторической наковальни, воздвигнутой
гением великого Петра». Но думается, что фиксация процесса
становления России в обществе капиталистического типа и
выявление основных социокультурных последствий этого
процесса обещает значительно больше историку русской философии,
который задался бы целью представить ее многомерную,
целостно-противоречивую модель. Такую модель, в которой столь
безоговорочно акцентированная В. Эрном религиозная философия
заняла бы действительно принадлежащее ей, — безусловно
важное, но, конечно, не всеисключительное место.
^^s>
* Там же. С. 125.
^^
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
Безмолвная тайна первохристианства
ι
В русской культуре есть особая, таящаяся под спудом тема,
то и дело всплывающая из какой-то полной напряжения
глубины. Это тема Рима, символа, исповедания, притязания на
всемирность, но прежде всего самого города, «о котором все
толкуют, осматривать который все ездят и который так мало
понимают...» (Чаадаев). Но Рим всегда хотели понять,
разгадать загадку его почти неуловимой и необъяснимой верности
самому себе, сохраняющейся на протяжении тысячелетий.
Речь не идет о впечатлениях путешественников или
изысканиях классиков или итальянистов, но о той доставшейся и нам в
наследство «всемирной отзывчивости» и столь же
неискоренимой ревнивой самобытности, в которых тема русской всечело-
вечности схлестывается, спорит или сливается со вселенской.
Среди множества дорог, что ведут в Рим, есть и тропа русской
мысли, ее религиозного поиска, обаяния и протеста. Одни
испытывали поразительное притяжение Рима, другие
выказывали столь же упорное, почти яростное отталкивание от него.
Есть давний, еще в Древней Руси возникший римский мотив в
«русской душе»: «...над рекой времен две памяти молитв
созвучных,— двух спутников, двух неразлучных...» (Вяч.
Иванов). И все же главным всегда был спор между ними.
С тем незаглохшим, казалось, только вчера прерванным
спором в душе тридцатилетний философ Владимир Францевич
Эрн, чьи германские корни были столь питательны для
«русской идеи», прибыл в Рим весной 1911 года. «Настоящий,
некалендарный», только что оставленный век еще, по сути, не
начинался, но людей, воспитанных ритмами века минувшего,
он уже оглушал невыносимым шумом, сутолокой и запахом
автомобилей. Блок, посетивший Флоренцию двумя годами ранее,
Безмолвная тайна первохристианства
783
послал ей проклятие за предательство «тени Данта с профилем
орлиным» и того «синего сна», который снился Беато: «Умри,
Флоренция, Иуда... ». « Каменная берлинская макулатура»,
комнаты с «термосифоном», вездесущие туристы, даже сам
римский выговор — все это с первых же впечатлений как-то
враждебно наваливается и на Эрна. Но свое первоначальное
отталкивание он облекает не в ямбы, но скорее в «синтетические
суждения априори», если воспользоваться термином им
нелюбимого Канта. «Письма о христианском Риме» встречают нас
этим потоком синтетически-раздраженных суждений.
Через четыре года, во время войны, Эрн напишет статью «От
Канта к Круппу», в которой призовет русскую патриотическую
философию противостать не только крупповской стали, но и
империализму немецкого мышления. Но все же думается,
именно его, эрновская мысль, организованная и воинственная,
скорее по-кантовски подчиняла себе реальность, чем
по-славянски отдавала себя ей. С первых же шагов по римской земле он
видит ее глазами исторических и культурных воспоминаний:
Рим архаический, Рим республиканский, императорский,
средневековый, ренессансный, барочный и, наконец, современный,
тот Рим 1911 года, к которому прошедшее столетие должно
добавить еще минимум два или три: Рим муссолиниевский, Рим,
отстроенный после войны и наконец нынешний, Рим эпохи
глобализации и «смешения языков». Сегодня Эрн, вероятно, так
же отверг бы их, как он отвергает Рим, начавшийся после
Ренессанса. И только разобравшись со всеми этими слоями, он,
как бы помимо воли, изначально настроенной на борьбу с
архитектурным наваждением, на различение в Риме его «правды» и
«лжи», на освобождение греческого оригинала в римских
копиях, отдается сложному и неразгаданному единству Вечного
Города...
Не только в начале прошлого века, но и сегодня, когда
видишь, как мимо застывших, неправдоподобно античных, но все
еще гордых собой развалин Форума мчатся современные
немецкие и японские автомобили в сторону Колизея или площади
Венеции и Алтаря Родины (удивительно римский памятник
государственному тщеславию), за спиной которого
расположились старинные уютные храмы (один из которых посвящен
Петру в узах, ибо, по преданию, здесь была темница, где
Апостол провел последние свои дни перед казнью), непроизвольно
ощущаешь это внутреннее единство Рима, которое, кажется,
так никому и не удалось разрушить. Оно — не в зданиях и не в
архитектурных формах, но в самой их сочлененности, в их
784
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
включенности в особую «вечность» города, через которую течет
его история, то медлительно ласково, то грозно каким иногда
бывает течение Тибра. Оно — в самой памяти этого города,
впитавшей тысячелетия, которые неотделимы от уснувшей
латыни, неподвижности холмов, ветвей пиний, покоя и цвета неба.
Это ощущение Рима дано было передать Вячеславу Иванову:
Пью медленно медвяный солнца цвет,
Густеющий, как долу звон прощальный;
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.
II
К этой полноте прикасается по-своему и Эрн. Но для того,
чтобы найти ее, он уходит от Рима современного, Рима барокко
и вообще от Рима какой-либо истории последних 16 веков. Он
находит ее в Риме подземном, укрытом и, по сути,
метафизическом, куда, может быть, и нечасто заглядывал умеющий
наполнить себя земным, непосредственным «римским счастьем»
Вячеслав Иванов. Из четырех писем о христианском Риме
только первое посвящено Риму, встретившему его почти столетие
назад, и звучит оно несколько раздраженно.
Тот Рим давно перестал быть для Эрна христианским.
Известно, что за письма о Риме он решил приняться по совету своего
друга о. Павла Флоренского. Уже сам замысел этих писем, как,
вероятно, и совет, этот замысел пробудивший, включал в себя
момент полемический: продолжить религиозную борьбу с
Западом, — эрновскую «борьбу за Логос» — на его, Запада,
собственной территории, в его оскверненной изменой древней
апостольской столице. И действительно, славянофильская тяжба с
Римом (как и с «римским соблазном», идущим от Чаадаева,
Печерина и Соловьева, как и традиционное, давнее препирание
с протестантизмом) именно в Риме приобретала живую
интонацию, преображавшую богословские доводы в хорошую
философскую прозу. На римских улицах храмы барокко были не
только немы для православного сердца, но и подавляли его
своей духовной неуместностью и несовместимостью с
молитвенным строем Востока. Они видятся Эрну каким-то рынком
мелодраматической и крикливой религиозности, где вас хотят
пробудить, возбудить, растрогать с помощью рассудочно
выспренней или холодно сентиментальной риторики. К знакомой
православной полемике с католичеством Эрн добавляет свою
Безмолвная тайна первохристианства
785
аргументацию, изъясняющуюся «не умеющими лгать
камнями, мозаиками, фасадами церквей, базиликами, фресками,
папскими покоями».
Рим поистине христианский, подлинный, безо всяких pro et
contra, прячется под Римом победным, папским и
возрожденческим. Через несколько лет эта концепция будет развернута в
«Иконостасе» о. Павла Флоренского. «Говоря о католичестве, —
пишет он, — обычно забывают, что совсем разное дело —
Западная Церковь до Возрождения и после Возрождения, что в
Возрождении Западная Церковь перенесла тяжкую болезнь, из
которой вышла, многое потеряв...» Для умной и наделенной
даром рассудительности славянофильской критики церковный
раскол между Западом и Востоком начинается не в середине
XI века, и уж, конечно, не с бл. Августина, но лишь в эпоху
триумфального возрожденческого гуманизма, ставшего в
глазах восточного благочестия истоком всех последующих
западных ересей и измен.
Начиная с той эпохи, Запад перестал быть в христианском
смысле понятным Востоку, не заметившему ни великих
миссий — прежде всего в Китае — совпавших приблизительно с
эпохой барокко и упадка религиозности, ни великих святых
(Хуан де ла Крус, Тереза Авильская или Филиппо Нери, если
говорить только о святых эпохи Возрождения). Отчуждение
было взаимным, как, впрочем, отчасти и оскудение. Время,
которое представляется Эрну и Флоренскому временем «тяжкой
болезни», было периодом и тяжеловесного православия
Московской Руси, из которой почти ушла просветленная и
человечная святость прежних веков. Преобладание начала слишком
человеческого в верованиях одной части Европы как будто
уравновешивалось умалением «человеческого лица» в
верованиях другой. Но вправе ли мы судить о болезнях Первого Рима,
совершенно забыв о недугах Второго — пришедшего в
запустение под иноверческой властью, равно как и Третьего —
ставшего частью священного, крепко стоящего на земле царства и
породившего апокалиптический бунт раскола? Та эпоха была
временем кризиса, отозвавшегося во всем христианском мире,
но в разных его частях совершенно по-разному. И наиболее
мучительным в этом кризисе было взаимное непонимание и
неведение, казавшееся в те века окончательным.
Мыслители, вступавшие в XX век, были наследниками этого
непонимания и одновременно первопроходцами к тому более
глубоко сокрытому пласту общего наследия, которое, казалось,
было забыто предшествующими поколениями. «Письма о хрис-
786
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
тианском Риме» — как раз и есть свидетельство пересечения
этих двух духовных потоков, двух оспаривающих друг друга
сил: конфессиональной обособленности и поиска вселенскости.
Здесь Третий Рим прекращает свою многовековую тяжбу с
Первым — в Риме первохристианском.
III
В «Письмах» едва упоминается собор святого Петра, автор
этих писем проходит мимо и других великих соборов — святого
Иоанна Латранского, святой Марии Великой, святого Павла-за-
стенами, каждый из которых составляет эпоху в истории
христианского Рима. Не успевает побывать он и у Трех фонтанов,
где по преданию была усечена глава апостола Павла (предание
гласит, что после того, как римский воин отрубил апостолу
голову, она трижды ударилась о землю, и на месте каждого удара
забил чудодейственный источник). В наши дни недалеко от
Трех фонтанов обосновалась община Малых Сестер Иисуса,
нового монашеского ордена, следующего по стопам подвижника и
мученика Шарля де Фуко, старшего современника Эрна). Не
замечает Эрн и многих других христианских святынь. Чтобы
найти и описать христианский Рим, он удаляется из Рима. Он
уходит в катакомбы.
Здесь он внезапно испытывает то, что можно было бы
назвать словами о. Александра Шмемана «таинством
воспоминания». Он всем существом своим соприкасается с той
реальностью, которая дышит в этих темных коридорах и вместе с тем
живет в нем самом. «Едва мы вошли в тьму катакомбы, вдруг
нахлынуло чувство радостное, умиленное, благоговейное, ноги
сами собой опустились, и я, в несказанном восторге, стал
целовать камни и землю и плакать обильными, облегченными,
освобождающими слезами. Сбылось то, что я предчувствовал по
далеким книжным вестям. Безмолвная, почти немая тайна пер-
вохристианства вдруг безмолвно и немо открылась сердцу, и
самая суть катакомб стала такой близкой, такой родной. Я всем
существом ощутил мир, мир, превосходящий всякое
разумение, мир, который благодатными волнами бил в мою душу...»
«Таинство воспоминания», ибо оно было настоящим
познавательным или сердечным проникновением в «жилище Бо-
жие», по слову ап. Павла, (Еф 2: 22) — здесь возникло не
просто от смятения нахлынувших чувств. Оно означает прежде
всего погружение в память, причастие соборной памяти, — не
Безмолвная тайна первохристианешва
787
той памяти, где хранятся полезные и бесполезные знания, но
хранилищу души, собранию наших преданий, корням
духовных истоков и, наконец, самой христианской веры. И потому
душевный климат такого воспоминания — «чувство радостное,
умиленное, благоговейное», как говорит автор «Писем», иными
словами, благодарение. В катакомбах Эрн словно пробирается в
страну неуходящего детства всего христианского рода,
потомком которого чувствует себя и он.
IV
Что такое катакомбы? Самые известные и обширные среди
них — катакомбы святого Каллиста, но есть и другие, Доми-
тиллы, Валентина — это большие подземные кладбища в
окрестностях Рима, состоящие из нескончаемых коридоров и
галерей. Здесь нет трав, цветов, уютных холмиков и пасторального
романтизма, когда вечность и смерть как будто сглаживаются и
смягчаются, приспосабливаясь к человеческому миру. Здесь,
напротив, человеческий мир обращается в сторону вечности и
смерти и окрашивается ими.
Святой Иероним, один из великих церковных учителей
Запада, так описывает свою встречу с катакомбами в IV веке:
«Когда я был еще молод и занимался в Риме литературными
занятиями, я имел обыкновение посещать по воскресеньям
вместе- с друзьями моего возраста и моих убеждений гробницы
апостолов и мучеников, находившиеся в галереях, выкопанных
в глубине земли. В их стенах пребывали тела усопших, и тьма
была такой, что, казалось, исполнялись слова пророка: "Да
сойдут они живыми в ад!"» (Пс 55: 16).
В нескольких местах сверху струился слабый свет, немного
разгонявший ужасную тьму, но был он столь скуден, что как
будто просачивался изнутри, а не из окна. И, когда осторожно
продвигаясь вперед, я погружался в глубокую ночь, на память
мне приходили стихи Вергилия: Horror ubique animos, simul
ipsa silentia terrent", т. е. "Страх и тишина, царящие повсюду,
приводили в трепет души"» *.
Первые два века христиане еще не имели своих кладбищ.
Лишь к концу второго века они стали создавать небольшие
семейные усыпальницы вдали от городов. Второе пришествие,
которое, как казалось на первых порах, должно было вот-вот
* Цит. по: Baruffa Antonio. Le Catacombe di San Callisto. Torino, 1988.
P. 67.
788
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
произойти («ей, гряду скоро» — Откр 22: 20), скорым было не
по человеческим меркам. Могилы окружались почитанием как
земля святых, как очаги упования. Мертвые, предварившие
живых в том, чтобы, по слову апостола «разрешиться и жить со
Христом» (Фил 1: 20), владели тайной той неведомой,
обетованной жизни и могли посвятить в нее других. Места упокоения и
тела усопших, прежде всего мучеников, становились пред
вернем Царства Христова, и гнетущая тьма — одеянием
неизреченного света. Количество христиан быстро росло, усыпальницы
их множились, и в начале III века папа Зефирин поставил
дьякона Каллиста администратором большого подземного
кладбища в окрестностях Рима. По всей видимости, роль Каллиста
была отнюдь не второстепенной, коль скоро после смерти Зефи-
рина в 217 году он был избран папой. Через пять лет папа Кал-
лист погиб мученической смертью. С его именем связано
начало истории римских катакомб, которые стали не только самым
известным христианским кладбищем, но, может быть, одним
из самых впечатляющих памятников, оставшихся от первохри-
стианства.
V
Долгие века катакомбы оставались в запустении и забвении.
Непостижимо, как они вообще могли сохраниться, пережив все
войны, гонения, пожары, грабежи и нашествия, которые
римское небо видело на протяжении только последних двух
тысячелетий. В 1849 году молодой археолог Джованни Баттиста де
Росси, занимаясь раскопками христианских древностей между
Аппией и Адриатиной, обнаружил на куске мрамора почти
стершуюся надпись: nelius martyr. Де Росси нетрудно было
обнаружить недостающую часть имени. Речь шла о
Корнелии-мученике, папе III века, принявшем исповедническую кончину в
253 году и погребенном за городом в потайных пещерах. С этого
дня археолог ставит своей задачей обнаружение всех
подземных христианских захоронений древности. Его труды, на
которые ушла вся его подвижническая жизнь, легли в основу трех
увесистых томов «La Roma Sotteranea» («Рим подземный»;
1864—1877). Они открыли перед новыми поколениями
христиан дела и верования их духовных предков, запечатленные в
камнях и надгробных памятниках. Памятники эти стали, по
выражению ученика де Росси Орацио Марукки, «архивом
Церкви», той Церкви, в которой Восток и Запад еще не
противостояли друг другу.
Безмолвная тайна первохристианства
789
«Живопись, скульптура и этнографика, — говорит Марук-
ки, — дают нам драгоценнейший материал, который может
рассказать об обычаях и образе жизни ранних христиан и о
перенесенных ими гонениях. Они говорят нам также о глубоком
тождестве веры первых веков с тем символом веры, который
мы сегодня исповедуем» *.
Лишь следуя немым знакам этого кладбища, не имея
никаких иных документов, мы можем проникнуться духом и жиз-
нечувствием древних неофитов, первооткрывателей веры
Христовой. Удивительно, что ни один из существенных ее смыслов
или образов не исчез и сегодня. Умерли некогда живые языки,
река времен унесла с собой «народы, царства и царей», целые
цивилизации обрели свое последнее тесное пристанище лишь
на страницах учебников истории, но все то, во что верили, на
что уповали люди тех лет, оживает, просыпается или
«вспоминается» заново во всяком приходящем в Церковь поколении
христиан. Оно как будто рождается вновь из каких-то вечных,
единых для всех начал, исходящих из нераздельного истока
христианской памяти. Момент этого нового рождения
открывается и Эрну, когда — не книжно, не письменно, но бытийствен-
но и сокровенно — он вдруг словно узнает себя в уповании и
подвиге, вере и исповедничестве той невозвратной эпохи.
«Я всем существом ощутил мир, мир, превосходящий
всякое разумение, мир, который благодатными волнами бил в мою
душу из этой массы безвестных, смиренных могил. Близкие
останки ребенка таким победным уверением говорили, что нет
смерти, нет печали и воздыхания, есть одна беспримесная,
беспредельная радость».
VI
Эти могилы, эти темные стены источали ту же радость,
которая вошла в мир вместе с вестью о Воплощении, принесенной
Ангелами вифлеемским пастухам. Радость была о том, что Бог
так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного,
чтобы Он отправился за падшим человеком, как пастырь
отправляется за потерянной овцой. Возможно, и образ Пастыря
Доброго в виде юноши в античном хитоне с мягкими чертами лица,
с овцой на плечах, чрезвычайно распространенный в христиан-
* Marucchi Orazio, prof. Le catacombe ed il potestantesimo. Roma,
1911. P. 66—67.
790
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
ской живописи первых веков, ставший знаменитым в храме
Галла Плачида в Равенне, родился именно в катакомбах.
В те годы, когда пещеры за городом становились
христианскими кладбищами, историческое присутствие Иисуса из
Назарета было еще слишком близким (хотя две сотни лет для той
веры, для той эпохи были уже далеким прошлым), но еще
более близким, еще более духовно осязаемым было Его
неминуемое возвращение в силе и славе. Эта сила «грядет скоро», чтобы
воздвигнуть из земли усопших, начиная от первого человека,
Адама;_эта слава станет спасением и судом, на который не
придут лишь те, кто уже прославлен Господом. Вера, столь горячая
в ту эпоху, снимала со смерти ее холод, тяжесть, проклятье.
«Весь род человеческий воскреснет, — говорит Тертуллиан в
"Апологии", — каждый даст отчет, что хорошего и худого
сделал он в этом мире; теперь перед ним неизмеримая вечность.
Не будет ни смерти, ни повторяющегося воскресения; мы будем
теми же, что и сейчас — вовсе не другими — всегда с Богом,
слуги Божий, облеченные одеянием вечности».
Здесь, в катакомбах можно было ощутить, что воскресение
не было отвлеченной идеей, сухим предметом догматики,
фанатического «верую, ибо абсурдно». Нет, оно было причастием
некой реальности, превосходящей всякое разумение и вместе с
тем интимным, трепетным и по-своему домашним. В нем была
своего рода славная, ликующая неизбежность, подобная той,
что царит во всей природе.
«Посмотри, как вся природа, утешая нас, говорит о будущем
воскресении! — это слова другого апологета, Минуция
Феликса. — Солнце заходит и появляется вновь, звезды закатываются
и возвращаются, цветы умирают и оживают, деревья
осыпаются и вновь зеленеют: семена погибают и всходит свежая зелень.
Для тела эта жизнь то же, что зима для деревьев; под мнимой
гибелью скрывается жизненная сила. Зачем торопишься,
желая возрождения и возврата в самой середине зимы? Мы
должны подождать весны и для тела».
Смерть обещала прохладу после гнетущего земного зноя,
избыток жизни, освобождение от попечений житейских. В
надгробных надписях катакомб матери в просят своих умерших
детей молиться о них, уверенные, что скоро встретятся с ними
в небесной радости. Здесь друзья, похоронив замученного
своего товарища, не скрывают своей зависти к славному его концу
и посмертной участи.
«О, Януария, прими прохладу вечности и молись за нас».
«Пребывая в мире, молись за нас».
Безмолвная тайна первохристианства
791
«О, Савватий, мирная душа, молись за братьев твоих и товарищей».
«Дионисий, невинный малыш, ты покоишься среди святых; помяни в
святых твоих молитвах ваятеля и начертателя (сих письмен)».
«О, Аттик, почивай в мире в твердой вере о твоем спасении и
непрестанно молись о грехах наших».
Выписываю эти надписи наугад из экземпляра книги Орацио
Марукки «Катакомбы и протестантизм», побывавшей в руках и
у самого Эрна. Многое здесь подчеркнуто им самим. В
«Письмах» есть тонкое наблюдение, что христиане унесли в
катакомбы всю красоту мира, что они «ограбили» мир. «Жизнь одних
была смертью других, и как только началось таинственное
передвижение мировой стрелки, сначала в подземные катакомбы,
а затем еще. дальше — в умопостигаемые катакомбы
христианского подвига, в духовную Фиваиду, возраставшую на Востоке,
язычники с ужасом возвестили смерть великого Пана,
действительно и реально в них происшедшую».
VII
«Когда родился Христос, перестало биться сердце Рима.
Организм монархии был так громаден, что потребовались века
для того, чтобы все члены этого тела перестали судорожно
двигаться; на периферии почти никто не знал о том, что
совершилось в центре. Знали об этом только люди в катакомбах» (Блок.
«Катилина»).
И все же — утверждает С. Булгаков в своем очерке о перво-
христианстве («Два града»), написанном несколькими годами
ранее, — «древний мир в эпоху появления христианства, хотя и
был болен, но еще не собирался умирать. Напротив, многое из
того, что современное человечество любит и ценит в своей
культуре, — литературу, философию, науку, искусство,
политику — он найдет и здесь».
Прибавим сюда и почти безукоризненный римский порядок,
до сих пор вызывающий зависть у любителей «острых блюд» и
жесткой руки, пусть и подточенный, однако с такой
червоточиной еще можно было стоять века. Как же случилось, что вера
рыбаков, бродяг, рабов, сомнительной репутации женщин,
всякого рода неудачников и, как бы мы сказали сегодня, бомжей,
шатающихся по разным весям и верованиям, победила всю
невероятную мощь этой древней империи, как и всех империй
мира, которые будут рождаться и распадаться в истории?
Словно весть о воскресении подрубила корни старого языческого
792
Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
мира. И мир бессознательно это почувствовал и принялся
мстить этой вести. И на свой лад мстит до сих пор.
Отсюда — начало гонений. Что было их потаенной
причиной? Вспомним разговор Христа и Пилата: «Я на то родился и
на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине;
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему:
Что есть истина? И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал
им: я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин 18: 37—38).
Первоначально для сознания, олицетворявшего римскую
государственность, в христианстве не было особой вины.
Дозволялось молиться кому угодно, кого угодно чтить, любым богам
приносить жертвы. Не забывая при этом еще одно божество —
римского кесаря, официально обожествленного декретом
Сената. Никакая запредельная истина, в отличие от конкретного
ритуала, не притязала на принудительность. Но вот того
предписанного ритуала христиане никак не могли совершить, как
не могли, не отрекаясь от спасения души своей, сделать этот
символический жест, никем ни во что не ставимый: скажем,
сжечь пучок травы перед каменной статуей. И тогда лояльные
мирные граждане, становясь отказчиками и «атеистами»,
оказывались чуть ли не главными врагами государства. И оно
теряло вдруг всякое благоразумие и трезвую голову. Простое
неучастие в государственном культе почему-то будило зверя в
римской черни и приводило в бешенство императоров, даже
оставивших о себе добрую память как о мудрых и достаточно
гуманных правителях. Дело было не только в отказе поклониться
идолу, изделию рук человеческих. Если «разум Рима» охотно
допускал «многообразие религиозного опыта» и всяческих
учений, из этого многообразия выраставших, «сердце Рима», как и
всего языческого мира, не могло вынести той единственной
истины, которая была заключена в человеческой Личности,
несущей в себе весть о Воскресении. Эта Личность и ее весть
изнутри посягали на всю пирамиду ценностей этого мира, на весь
строй его чувств и доктрин, на его волю к земной власти и
представление о будущей жизни как о царстве теней, на его
гедонизм, скептицизм, стоицизм, эмпиризм, синкретизм, политеизм
и воинские добродетели. Странным и по-своему
отталкивающим было учение о Боге, возлюбившем мир и пославшем Сына
Своего, «чтобы мир не погиб, но имел жизнь вечную». Потому
что мир вовсе не хотел той вечной жизни, как не хотел такого
Бога, который не требовал жертвоприношений, не добивался
договорных отношений, но лишь просил сыновней любви.
Гонения на христиан не были только политическим актом, но и ча-
Безмолвная тайна первохристианства
793
стью религии этого мира, желавшего гибели и отстаивавшего
свое право на уничтожение, и потому гибель христиан в цирке
или под ударами меча становилась для него своего рода
зловещей мистерией, в которой, по догадке ее устроителей, жертвы
и палачи становились причастниками небытия и уничтожения.
Но и для самих христиан их мученичество было прологом к
мистерии радостной, актом благодарения, евхаристическим
соединением со Христом. «Я пшеница Божия, пусть измелют
меня зубы зверей, чтобы стал я чистым хлебом Христовым», —
писал святой Игнатий Антиохийский, препровождаемый в Рим
на арену цирка. Мученики были для древних христиан
воинами и свидетелями грядущего Царства, обещанного Христом и
Им уже реально явленного. Ибо каждый усопший, как и
всякий живой, исповедующий свою веру, был для христиан
частичкой единого Тела Христова. Таким Телом — единым
мистическим Телом Христовым — была и Церковь, и катакомбы,
христианское кладбище, где все покойники почитались
святыми в Боге, были одним из воплощений этой Церкви, одним из
особо отмеченных и благодатных мест ее присутствия на этой
земле. Присутствия временного, до того, как Христос освободит
людей от уз греха и смерти и не призовет их «из тьмы в чудный
Свой свет» (1 Пт 2: 9).
«Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разреши-
вый...» — как поется в Последовании об усопших.
VIII
«Письма о христианском Риме» кажутся незавершенными.
Мы не знаем, собирался ли Эрн продолжать их. Но в них есть
связующая цельность или скорее внутренняя цель, которая,
какой бы ни была воля их автора, оказалась достигнутой. Его
встреча с Вечным Городом, опрокинутым в современность,
современность, которая длится со времен Возрождения, как
будто подводит итог славянофильской полемике с католичеством.
За ней должна открыться новая страница, посвященная общей
памяти о Риме непреходящем, о Риме мучеников, остающемся
одной из первых икон Небесного Иерусалима. Ибо в глубине
этой памяти хранится та «безмолвная тайна» неделимого
христианского наследия, которая «не отнимется от нее».
^^
Вера ПРОСКУРИНА
Рукописный журнал «Бульвар и Переулок»
(Вячеслав Иванов и его московские собеседники
в 1915 году)
Появление рукописного журнала «Бульвар и Переулок» тесно
связано с культурно-исторической ситуацией первой военной
зимы 1914/15 года. Начавшаяся война, с одной стороны,
обнажила всю разность взглядов, всю глубину противоречий,
имевших место внутри московской интеллектуальной элиты, вызвав
и шумные публичные заседания, и темпераментные журналь-
но-газетные схватки С другой стороны, ситуация слома,
катастрофы как никогда усилила взаимное притяжение, привела
в действие центростремительные силы, почти подсознательное
желание объединиться перед лицом надвинувшейся опасности.
Этот парадокс и нашел свое отражение в стихийно возникшем
журнале, объединившем и укрывшем под сенью идеи Дома
нескольких философов и литераторов, связанных узами
дружеских, семейных отношений.
Война обозначила конец петербургского периода русской
культуры. Само переименование города было воспринято в
эсхатологическом плане. Этот конец почувствовала 3. Гиппиус,
определившая новую расстановку сил в своем стихотворении
«Петроград» (написано 14 декабря 1914 года), «славянщина
убогая» (то есть Москва) победила «прекрасно-страшный
Петербург», и вся надежда теперь возлагается на знаменитый
петербургский символ:
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Москва в эти годы делается явным средоточием русского
философского движения, притягивая к себе все новые и новые
лица. Из Петербурга «бегут» —в Москве поселяются прочно,
обосновываются семейно. Так произошло, например, с Н. А. Бер-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
795
дяевым, уехавшим в 1907 году из Петербурга сначала в деревню,
потом в Париж (заграница здесь зачастую выступает как некое
«чистилище») и наконец оказавшимся в Москве (с 1908 года).
В Москве он обретает свой круг общения, с Москвы начинается
«религиозный» этап жизни и творчества Н. А. Бердяева.
Характерен и симптоматичен переезд в Москву в 1913 году Вяч.
Иванова, в 1912 году он покидает Петербург и едет за границу,
а оттуда (не без влияния жившего в Москве и близко
сошедшегося с Ивановым в Риме В. Ф. Эрна) — в Москву.
Семантика пространственного перемещения была очевидна:
это и прощание с башенным «дионисийством», и сознательное
погружение в сферу «любомудрия» Именно так осознал свой
«исход» из Петербурга H.A. Бердяев, бессменный председатель
на ивановских «средах». Описывая свою дружбу с
В.Ивановым, он все же счел необходимым добавить: «У меня нарастало
глубокое разочарование в литературной среде и желание уйти
из нее. Мне казался Петербург отравленным» 1. Нечто сходное
было и в чувствах Иванова, покинувшего Петербург. Его дочь,
Л. В. Иванова, проницательно угадала значение переезда в
Москву: «Башенный период кончился. Наступила совершенно новая
пора жизни. У меня было ощущение, точно рассеялась та туча
и тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже и в
радостные минуты. Точно наступило утро» 2.
Как и для Бердяева, для Иванова приезд в Москву был
одновременно и возвращением к старым друзьям. 26 января 1913
года М. О. Гершензон, дружеские отношения с которым у Иванова
завязались еще с 1908 года, писал поэту: «Дня 4 как приехал
в Москву Бердяев, все такой же молодой и славный; не стареет,
не замыкается, не черствеет; я его очень люблю. Старые
приятели все Вас с любовью помнят, и сходясь мы каждый раз
вспоминаем Вас. Не забывайте же и Вы нас»3. Большинство
будущих участников «Бульвара и Переулка» входило в более
широкий круг — издательства «Путь», московского Религиозно-
философского общества и т. д. Однако теперь, в канун войны,
сложился особый, так сказать, интимный кружок философов и
литераторов, спаянных не столько общностью взглядов,
сколько личными, домашними связями. Так, например,
показательно сообщение Гершензона (в письме к брату, А. О. Гершензону,
от 13/26 января 1914 года): «А вчера вечером шумно спорили у
нас до третьего часа Вяч. Иванов, Булгаков, Жуковский,
Эрн, — крик стоял» 4. Непременным членом дружеских
посиделок и организатором собственных jour fix'oB был H. А. Бердяев.
К ним вскоре присоединился и давний знакомец всех, приехав-
796
Вера ПРОСКУРИНА
ший из-за границы в октябре 1914 года Л. И. Шестов. Сюда,
конечно же, необходимо добавить и сестер Герцык — поэтессу,
переводчицу А. К. Герцык-Жуковскую, жену Д. Е.
Жуковского, философа, участника сборника «Проблемы идеализма», а
также Е. К. Герцык, переводчицу, автора критических статей и
талантливых мемуаров. Постоянными участницами собраний
были и жены — Вера Шварсалон, жена Вяч. Иванова, Л. Ю.
Бердяева (обе — авторы «Бульвара и Переулка»),
М.Б.Гольденвейзер, супруга М. О, Гершензона, писавшая талантливую
прозу (см. ее рассказ «Призывы» в «Русской мысли» за 1917 год,
кн. 3—4).
Печатным источником сведений об этом неофициальном
сообществе являются известные воспоминания Е. К. Герцык. Она
пишет о том, что в кругу московских философов (она называет
их «наш старый кружок») резко обозначилось «двоякое
отношение к событиям на войне и в самой России: одни старались
оптимистически сгладить все выступавшие противоречия,
другие сознательно обострили их, как бы торопя катастрофу».
Первые, как выяснилось, «жительствуют на широких
бульварах», это «оптимисты» — Вяч. Иванов, Булгаков, Эрн. Другие
же, «предсказывающие катастрофу, ловящие симптомы ее —
Шестов, Бердяев, Гершензон — в кривых переулочках, где
редок и шаг пешехода». Квартира сестер Герцык «символически
объединяла Переулок и бульвар, вход с переулка, а от
Новинского бульвара отделял всего только огороженный двор, и окна
глядели туда» 5. В этой же главе воспоминаний, символически
названной «Кречетниковский Переулок (1915—1917)», Е. К.
Герцык пишет: «Посмеялись. Поострили. Затеяли рукописный
журнал "Бульвары и Переулки". <...> Собрались через неделю
читать написанное у нас» 6. Она же указала на то, что был
подготовлен первый номер, она же выразила надежду, что эти
«листки» у кого-нибудь сохранились.
В воспоминаниях Герцык много неточностей, однако главное
она запомнила. Центральная дефиниция — «бульварники» и
«переулочники» — указана была точно. Действительно,
общение этого содружества имело отчетливые пространственные
рамки. Арбат и примыкающие к нему бульвары — вот тот
новый культурный локус, в котором разворачивался сюжет
московской жизни. Это прежде всего Зубовский бульвар, где
проживали Ивановы, у которых в то время остановились В. Ф. Эрн
с женой Е. Д. Векиловой и дочерью Ириной (дом 25). Здесь же
по соседству обитали Булгаковы (Зубовский бульвар, дом 15). С
другой стороны — Никольский Переулок (дом 13), место про-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
797
живания семьи Гершензона («декадентский», как называет его
Е. Герцык, особнячок Е. Н. Орловой), Новоконюшенный
Переулок, где в доме № 14 снимали квартиру Шестов и его семья,
Большой Власьевский Переулок (дом 14), где в 1915—1922
годах снимали квартиру Бердяевы. Впрочем, в начале 1915 года
Бердяевы временно остановились у Жуковских-Герцык —
в Кречетниковском переулке (дом 13), месте, промежуточном
между бульварной и переулочной частью Арбата.
Арбатский локус с его антиномией бульвара и переулка
послужил основой для создания московского топографического
мифа. Результатом этого мифотворчества и стал домашний
рукописный журнал «Бульвар и Переулок», замысел которого
возник, судя по всему, зимой 1915 года. Материалы этого
журнала — те самые «листки» — действительно сохранились в
фонде М. О. Гершензона Российской государственной библиотеки.
Здесь имеется и неопубликованная пояснительная записка
жены Гершензона, М. Б. Гершензон (урожденной
Гольденвейзер): «Зимой 1915/16 года в небольшом кругу московских
писателей возникла мысль о шутливом домашнем журнале. Первый
номер этого журнала, названного "Бульвар и Переулок",
действительно был составлен и прочитан на одном jour fix'е.
Каждый автор читал свое произведение» 7. Здесь же имеется другой
вариант того же сообщения: «В 1915 году писатели, жившие
в районе Арбата и бульваров (Новинского, Смоленского,
Пречистенского), затеяли шуточный рукописный журнал "Бульвар
и Переулок'Ч8. Гершензон, признанный собиратель
неопубликованного в истории русской культуры, отвел себе роль
хранителя этого журнала. Автографы содержат следы его помет —
везде проставлены имена авторов сочинений, проведена
нумерация в каждой статье, добавлены некоторые примечания.
Среди материалов журнала имеется объявление о выходе
«Бульвара и Переулка», написанное Ю. Балтрушайтисом,
близким Иванову и его семье поэтом9. Выразительна двойная
дефиниция издания: оно, с одной стороны, названо
«критико-догматическим органом самообозрения», а с другой — «журналом для
семейного чтения». Первая дефиниция целила в полемический
характер журнала, становящегося ареной для взаимных
шутливых «разбирательств» и автопародий. Вторая — говорила об
эзотеризме издания, о его духе «für Wenige», о его сугубо
внутреннем пользовании. Здесь же указывались имена участников.
Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, М. Гершензон, С. Н.
Булгаков, Л. Шестов, Жуковский; последним в списке упомянут
сам Ю. К. Балтрушайтис. Среди текстов действительно имеют-
798
Вера ПРОСКУРИНА
ся сочинения Иванова, Бердяева, Эрна, Гершензона; однако
сочинений Булгакова, Шестова и Жуковского обнаружено не
было — вероятно, они и не были написаны.
Семантика названия журнала—«Бульвар и Переулок» —
многозначна. С одной стороны, в названии отразилась реально-
бытовая ситуация — в издании участвовали писатели и
философы, жившие в переулках Арбата (Бердяев, Гершензон, Шестов)
и на примыкавших к ним бульварах (Иванов, Эрн, Булгаков). С
другой стороны, противостояние бульвара и переулка отражало
полемическое противостояние позиций участников журнала,
разность точек зрения в разгоревшейся на страницах
периодики схватке.
Событием, которое послужило точкой отсчета «бульварно-
переулочного» мифа, стал вечер в Политехническом музее,
устроенный 6 октября 1914 года московским
Религиозно-философским обществом. Помимо прочих, с докладами выступили
С. Н. Булгаков — «Русские д1умы», Вяч. Иванов — «Вселенское
дело» и В. Ф. Эрн — «От Канта к Круппу». Последнее
выступление сделалось сенсацией — размах обсуждения, шквал
откликов в печати были отчасти сопоставимы с полемикой вокруг
сборника «Вехи». Общая антигерманская направленность
заседания в словесных эскападах темпераментного полемиста
получила заостренно-парадоксальную форму. То, что Иванов
именовал кризисом германской культуры («натяжение сил без их
внутреннего высветления», желание «устроиться» при
отсутствии высших ценностей10), у Эрна превращалось в единый —
ложный — путь развития, заданный всем ходом германской
цивилизации. Реформация, протестантизм, философия Канта
оказывались виновниками современного милитаризма:
произошло «убиение Сущего в воле» и «убиение Сущего в разуме»,
как назвал это Эрн11. Для убежденного антикантианца Эрна,
еще в 1910 году выступившего против журнала «Логос»12,
современная история представала в виде арены битвы между
Ratio (Запад) и Логосом (Россия), и здесь на помощь России
мобилизовывался весь арсенал славянофильской риторики.
«Время славянофильствует», —прокламировал Эрн в своей
одноименной лекции на закрытом заседании
Религиозно-философского общества 29 января 1915 года13.
Позиция Иванова была тоньше, сдержанней, содержала она
и ряд существенных корректив по отношению к воззрениям
В. Ф. Эрна. Осенью 1914 и в начале 1915 года в его лире
зазвучали славянофильские ноты; обращаясь к России, он писал:
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
799
...И на вселенские весы
Бросая подвиг достославный,
Своей стыдишься ты красы,
Своей не веришь правде явной14.
Стихотворения, подобные этому («Недугующим»), дали
повод Н.А.Бердяеву упрекнуть Иванова в письме от 30 января
1915 года: «Вы стали перекладывать в стихи прозу Эрна» 15.
Однако славянофильство Иванова всегда побеждалось
внутренним эстетизмом, и эта укорененность в толщах мировой
культуры, это «очарование отраженных культур», по
выражению Бердяева, оттеняли эрновскую публицистическую однопла-
новость. Особое качество ивановского славянофильства не
могли не почувствовать критики. Характерно, что, ругая Эрна, ему
неизменно противопоставляли Иванова. Так, критик Евг.
Адамов в ненавистной Эрну газете «День», резко отозвавшись о «ге-
лертерско-шовинистических изысканиях г. Эрна» (в связи с его
докладом «От Канта к Круппу»), не без иронии, но и с
нескрываемым восхищением написал об Иванове (по поводу его
доклада «Вселенское дело»). «Бесподобна была речь Вяч. Иванова.
Он весь в ней: тончайшим образом отточенное лезвие сарказма
и пышное великолепие торжественного пафоса, грустный
аромат ладана...» 16 В той же газете, весьма важной для будущего
«бульварно-переулочного» мифа, критик Петр Рысс в статье
«От Владимира Соловьева к Владимиру Эрну» не без злорадства
предлагал Эрну «учиться» у Вяч. Иванова17.
И во «Вселенском деле», и в «Славянской мировщине», и в
«Живом предании», и в очень показательной статье «К
идеологии еврейского вопроса» Иванов продемонстрировал, что
обладание такой, как у него, культурной памятью может служить
противоядием от националистического или шовинистического
соблазна славянофильства. Для него «тело христианства»
никогда не было равно одному лишь православию. Он внес
существенную поправку и к воззрениям старого славянофильства, и
к суждениям Эрна, говоря о России не как о «ретроспективной
утопии», а как о «Руси умопостигаемой», высвобождающей
свою «сокровенную реальность» «из плена опутавших ее чар»
(«Живое предание»)18. Россия Иванова—«мистическая
личность», а не «эмпирический характер народа» 19. Христианство
для Иванова — это не один мир (православие), противостоящий
всем другим. Христианство Иванова — это православие +
католицизм, противостоящие как единое реформаторскому, протес-
тантско-германскому миру. Это особенно ясно прозвучало в его
статье «Шекспир и Сервантес», где «неостывшей» испанской
800
Вера ПРОСКУРИНА
душе Сервантеса («плод испанской верности католической
церкви») противопоставлялась фигура шекспировского Гамлета,
«загадочного принца», «пришедшего... из протестантского
университета Германии»!20
К голосам Эрна и Иванова присоединился и голос С. Н.
Булгакова (см.: Война и русское самосознание. М., 1915), однако
его выступления не сыграли той провоцирующей роли, какова
была роль Эрна и Иванова. Главным же в этом определившем
расстановку сил в «Бульваре и Переулке» сюжетном
треугольнике оказалось противостояние Иванова и Эрна, с одной
стороны, и Н. А. Бердяева — с другой.
Н. А. Бердяев немедленно поднял перчатку, брошенную
«неославянофилами». Сначала, в статье, посвященной В. В.
Розанову и его книге «Война 1914 года и русское возрождение»,
он язвительно высмеял эту «женскую» готовность
славянофилов склониться перед грубой военной силой («О "вечно-бабьем"
в русской душе»); здесь он слегка задел всех троих — Иванова,
Эрна, Булгакова, предупредив об опасности возрождения
«слишком временного» и «старого» в славянофильстве, не
служащего делу мира, а лишь разжигающего страсти и злобу21.
Затем, в ожидании своего скорого приезда в Москву (январь
он провел в харьковском имении — Люботине), он 30 января
1915 года пишет письмо Вяч. Иванову, выдержанное в
характерном для него стиле энциклики: «Вы все хотели, чтобы я
сказал Вам откровенно, что я мыслю о Вас. И вот я скажу Вам,
хотя и недостаточно пространно. Думаю я прежде всего, что Вы
изменили заветам свободолюбия Лидии Дмитриевны, ее
мятежному духу. Ваш дионисизм, Ваш мистический анархизм, Ваши
оккультные искания, все это, очень резкое, было связано с
Лидией Дмитриевной, с ее прививкой...»22 Обвинение в измене
«заветам» умершей жены Иванова — Л. Д. Зиновьевой-Анни-
бал — было жестоким, однако Бердяев здесь, в частном письме,
продолжал развивать ту же мысль о «женском» начале
славянофильства, уже апробированную на Розанове: «О Вас
я очень сильно чувствую вот что: тайна Вашей творческой
природы в том, что Вы можете раскрываться и творить лишь через
Женщину <...> Вы слишком любите легкое, отрадное,
условное, в Вашей природе есть оппортунизм <...> У Вас нет
религиозного дара свободы <...> И в Вашей природе есть робость,
которая лишь внешне прикрывается дерзновением. Вы всегда
нуждаетесь во внешней санкции. Сейчас Вам необходима
санкция Эрна или Флоренского. <...> В православии Вы ищете
теперь легкой и приятной жизни, отдыха, возможности все при-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
801
нять. И это усталость в Вас, духовное истощенье от ложных
опытов дерзанья. <...>Я не люблю в Вас религиозного
мыслителя. <...> В Вас слишком много было всегда игры. Вы
необычайно даровиты в игре. И сейчас Вы очень привлекаете и
соблазняете в минуты игры. Но думается мне, что Вы никогда не
пережили чего-то существенного, коренного в христианстве.
Я чувствую Вас безнадежным язычником, язычником в самом
православии Вашем. И как прекрасно было бы, если бы Вы
оставались язычником, не надевали на себя православного
мундира. <...> Вашей природе чужда Христова трагедия, мистерия
личности, и Вы всегда хотели переделать ее на языческий лад,
видели в ней лишь трансформацию эллинского дионисизма.
<...> Вы совсем не могли бы жить и религией Христа. <...> Но
культ Богоматери очень Вам подходит, сердечно нужен Вам
для жизни, для мистических млений. И свое языческое чувство
жизни Вы теперь прилаживаете к церкви, как к женственности
и земле»23. Резко противопоставив себя Иванову, Бердяев
заключал: «Я — "еретик", но в тысячу раз больше христианин,
чем Вы — "ортодокс". <...> Я объявляю себя решительным
врагом Ваших нынешних платформ и лозунгов. Я не верю в
глубину и значительность Вашего "православия"»24.
Полемический запал Бердяева оттеняется финалом
письма — с предвкушением скорых дружеских встреч,
«поцелуями» и пр.! Само это письмо Бердяева Вяч. Иванову —
свидетельство как серьезных расхождений двух мыслителей, так и
глубокой внутренней общности, основанной на единстве
культурного кода, с помощью которого и велся диалог.
Между тем полемика разгоралась. Ареною ее стала газета
«Биржевые ведомости», где 30 января 1915 года была
опубликована статья В. Ф. Эрна «Налет валькирий» — ответ на
помещенную ранее здесь же статью Бердяева о Розанове. Работа
Эрна строилась под девизом: «Н. А. Бердяев мне друг», но
«истина» дороже! Защищая себя (а заодно Иванова с Булгаковым)
от обвинений в «женственности» «русской души», якобы
культивируемой славянофилами, Эрн использует все средства — от
откровенной издевки над «мужественной душой» Бердяева до
патетических заклинаний: «В то время как русская душа в
титанической борьбе с колоссальными армиями трех государств
являет один за другим величайшие подвиги беззаветного
мужества...»25
Бердяев не оставил Эрна без ответа: 18 февраля 1915 года на
страницах «Биржевых ведомостей» появляется его отповедь
«Эпигонам славянофильства». Парируя обвинения Эрна и отде-
802
Вера ПРОСКУРИНА
лив позицию Иванова от остальных «неославянофилов»
(«Должен оговориться, что В. Иванов как поэт и теоретик искусства
стоит выше всего этого, вне всех этих направлений» 26), Бердяев
продолжает настаивать на опасности возрождения старого
противостояния славянофильства и западничества, видя в их
реставрации «национальную незрелость» 27. Полемизирует он и с
Булгаковым, усматривая в его «теократии белого царя» «путь
религиозного сервилизма» 28. Бердяев в эти месяцы как никогда
темпераментен — одна за другой летят в печать пылкие
филиппики в адрес «неославянофилов» — в ответ на статью Иванова
«Живое предание» (18 марта 1915 года) полетит гневная работа
Бердяева — «Омертвевшее предание» (8 апреля 1915 года)...
Другие участники кружка, например Гершензон и Шестов, в
разгоревшейся полемике были на стороне Бердяева. Так,
Гершензон печатно выступил против Эрна, хотя и отметил ряд
«странных соответствий» между «материализмом» немецких
властей и современной немецкой философией29. 7 февраля
Гершензон писал брату, А. О. Гершензону: «Не я один: вижу, так
же томится Шестов, да и другие. Война поглотила все мысли и
желания. Ходят друг к другу без дела, сидят подолгу, хотя о
войне редко говорится. Шумят только кое-кто из
славянофильствующих философов, напр<имер> Эрн, затеяли газетную
полемику вульгарного тона и тем оживляют себе
существование» 30.
В начале февраля 1915 года в Москву приезжает Бердяев с
женою и останавливается в доме Жуковских-Герцык в Кречет-
никовском переулке. Близость всех троих в этот момент —
Бердяева, Шестова, Гершензона — очевидна. Их частые визиты
друг к другу фиксирует в своих письмах-дневниках Гершензон.
Так, например, 15 февраля 1915 года он записывает: «Вчера
вечером у нас были Бердяевы и Шестов, сидели до 11/2 ч.
ночи»31.
Позиция Шестова была вполне очевидной, хотя прямого
участия в этой полемике он не принимал. Однако характерен его
рассказ о сильном впечатлении, которое на него произвела
редкостная схожесть русской и немецкой печати в это время:
«Начало войны застало меня в Берлине, я возвращался из
Швейцарии в Россию. Пришлось ехать кружным путем, через всю
Скандинавию до Торнео и потом через Финляндию в Петербург.
В Германии, конечно, я читал только немецкие газеты. И до
самого Петербурга я, собственно, принужден был питаться
немецкими газетами, так как не знаю ни одного из
скандинавских наречий. И только когда стал приближаться к России, мне
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
803
попались русские газеты. И каково было мое удивление, когда
я увидел, что слово в слово русские газеты повторяют то, что
писали немцы. Только, конечно, меняют имена. Немцы
бранили русских, упрекали их в жестокости, своекорыстии, тупости
и т. д. Русские то же говорили о немцах. Меня это поразило
неслыханно, и я вдруг вспомнил библейское повествование о
смешении языков»32. Война подтвердила самые скептические
предчувствия мыслителя — он увидел крушение «гигантской
башни европейской культуры», общий, и России в том числе,
кризис. Его нежелание видеть «особость» России и ее
«вселенское дело» дало основание для полемической клички, которую
он получил в «бульварно-переулочном» кружке,
«беспочвенник» (с новым наполнением иронически переосмысленного
названия его старой книги «Апофеоз беспочвенности»).
Итак, в начале 1915 года оформился круг участников
домашнего журнала «Бульвар и Переулок», а внутри его — две
антагонистические «партии». Причины складывания этой
«неформальной общности», этой домашней академии (наподобие
общности итальянских гуманистов с их «академиями»33)
пыталась проанализировать Е. К. Герцык: «Но что же объединяло
таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон,
Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как
были в прошлом, например, кружки славянофилов и
западников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то
более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась
взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и
ценностей старого мира, против иллюзий и либерализма, но
вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда
казавшейся последним словом?» 34 Только большой запас
прочности, основанный на не объявленном, но ясно ощущавшемся
всеми участниками кружка единстве культурного языка,
позволил осуществиться столь экстравагантному предприятию,
как «Бульвар и Переулок», затеянному в самый разгар
полемики начала 1915 года.
Бульварно-переулочный миф нашел свое воплощение в
рисунке Е. С. Крутиковой, предназначавшемся для обложки
журнала: под сенью дерева, на углу дома, от которого лучами
разбегаются в противоположные стороны бульвар fr Переулок,
встречаются Кот и Собака. Изящный рисунок тушью и
карандашом отразил всю полноту символики названия журнала.
Прежде всего, урбанистический пейзаж с изображенными
бульваром и переулком закреплял то, что сами участники хотели де-
804
Вера ПРОСКУРИНА
монстрировать: провозглашалось создание некоего
литературного «урочища» с четкой арбатской локализацией. Во-вторых,
противостояние Кота и Собаки должно было символизировать
противостояние внутри кружка. С одной стороны, это общее,
« родовое », обозначение « бульварников » и « переулочников »,
с другой — это обозначение двух конкретных представителей
тех двух полюсов полемики, о которой шла речь выше.
Кот — всегдашний символ Вяч. Иванова. «Кот был тотемом
нашей семьи», — писала Л. В. Иванова, рассказывая о
домашних творческих «предприятиях» Ивановых. В их числе —
содружество с девизом «Лапа об лапу» и гербом, где, помимо
прочего, два кота подавали друг другу лапу36. Сама Л. В. Иванова в
письмах к родным часто подписывалась «Курлыков» 37. В
шуточной домашней газете «Пуля Времен» (изготавливаемой уже
позднее, в 1926 году, в Италии) Л. В. Иванова помещала
портреты Иванова с собственной подписью «Курлыков», а одно из
«стихотворений» в той же газете (будто бы взятое из переводов
Ивановым Алкея) звучало таким образом:
«— Брысь...»38.
Вообще, стихия шуточной игры, имен-тотемов, взаимного
пародирования, характерная для дома Ивановых, во многом
повлияла и на атмосферу «Бульвара и Переулка».
Собака — не менее очевидный и легко узнаваемый символ
Н. А. Бердяева. Известно, что Бердяев нежно любил своих
собак39 и в самом себе находил нечто «собачье», например,
«исключительную чувствительность к миру запахов»: в
«Самопознании» он писал: «Я хотел бы, чтобы мир превратился в
симфонию запахов» 40. Сходство самого внешнего облика
философа с собакой обострялось во время болезненных тиков. А.
Белый выразительно описывал эту ситуацию: «...не удержавшися,
с головою бросался он (Бердяев. — В. 77.) в разговорные
пропасти; разрывался тогда его красный рот (он страдал нервным
тиком); блистали в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью,
кусаяся, зубы его... сжимал истерически пальцы под
разорвавшимся ртом; чтобы спрятать язык, припадал всей кудлатою
головою к горошиком задрожавшим пальцам...»41 Агрессивно-
наступательный характер Бердяева в сочетании с этими
внешними особенностями его облика послужил «материалом» для
полемического «имени» — Собака, — неоднократно
обыгрываемого в текстах «Бульвара и Переулка»: так, в частности, в
статье Эрна «Бульварная Пресса и Переулочные Точки Зрения»
местом обитания Бердяева названа «Собачья Площадка» (в
действительности Бердяев там не жил).
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
805
Наконец, древо в центре картинки Крутиковой — это своего
рода Arbor Mundi. Ясно, что всему изображенному придавался
универсально-космический характер. Кот и Собака — это
пародийное переосмысление известного противостояния позиций; в
бульварно-переулочных текстах происходила перекодировка
«серьезных» вопросов в иронический и намеренно сниженный
план. Тем самым как бы снижался накал полемического
противостояния, растворявшегося в домашних, шутливых терминах
кружкового метаязыка.
Известный мастер портретных силуэтов, Е. С. Крутикова и
здесь, на обложке «Бульвара и Переулка», воспроизвела
силуэты символов — Бердяева и Иванова. Хорошая осведомленность
в ситуации кружка объясняется ее довольно тесными связями
со всеми участниками домашнего журнала42.
Хроника событий, связанных с возникновением журнала,
может быть восстановлена с достаточной долей вероятности.
Н. А. Бердяев, приехавший с супругой Л. Ю. Бердяевой в
Москву в первых числах февраля 1915 года, останавливается у
сестер Герцык, предполагая пробыть там несколько недель. Однако
в середине февраля, на улице, он падает и ломает ногу —
результатом чего стало то, что Бердяевы застревают в Москве на
два месяца. Е. К. Герцык вспоминала: «В один из первых дней
Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания,
поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он до-
спаривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то
философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в
лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые
навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все
обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым,
которых захватил шовинистический угар» 43. Вот тогда-то,
скорее всего, и намечаются контуры «Бульвара и Переулка» с
«нейтральной» зоной в доме сестер Герцык, объединивших
противостоящие стороны. Тогда и сочиняется объявление о выходе
журнала со списком участников: характерно, что отнюдь не все
лица, перечисленные Балтрушайтисом, оказались реальными
авторами журнала. Первоначальная схема потом несколько
видоизменилась. Косвенные данные могут служить
подтверждением того, что это объявление относится к числу первых
сочинений «Бульвара и Переулка». Балтрушайтис упоминает
«сорный ящик», служащий заменой «почтового». Однако в
статье В. Ф. Эрна «Бульварная Пресса и Переулочные Точки
Зрения» уже вовсю функционирует этот «сорный ящик», из кото-
806 Вера ПРОСКУРИНА
j
рого им извлекается заключительная шарада. Статья же Эрна
датируется в связи с упоминанием конкретной даты: на Столбе
помещено «новое московское издание» от 16 февраля 1915 года!
Видимо, сочинение Эрна относится к одному из ближайших
дней после этого числа. Поскольку там же идет речь и об
обложке журнала «Бульвар и Переулок» (об изображенном там
Коте), можно с уверенностью сказать, что и рисунок Круглико-
вой к середине февраля 1915 года был уже сделан.
Вероятно, что и стихотворение Вяч. Иванова «Бедный
викинг» было написано в числе первых «бульварно-переулочных»
сочинений: в нем отразилось «свежее» восприятие полемики
вокруг доклада Эрна «От Канта к Круппу». Скорее всего к
февралю-марту 1915 года можно отнести и сочинение М. О. Гер-
шензона «Теория словесности», построенное на обыгрывании
уже сложившейся оппозиции Бердяев — Иванов. Во всяком
случае, оно было написано до отъезда Бердяева (апрель 1915
года), поскольку сама стилистика статьи свидетельствует о ее
ориентации на произнесение (см. такие ораторские приемы,
как апелляция к явно слушающим текст Булгакову и Шесто-
ву). С другой стороны, трудно предположить, что Гершензон
зачитывал этот текст в отсутствие его главного персонажа —
Бердяева, которому были адресованы достаточно иронические
сентенции автора.
Рассказ В. Шварсалон «Самсон и Да лила» был написан в
марте 1915 года: в нем запечатлелся рассказ о том, как «в
первых числах марта» «человек на костылях» вышел из дома
№ 13, т. е. речь идет о выздоровлении и одном из первых
выходов из дома Н. А. Бердяева.
Статья самого Н.А.Бердяева «Бульвар и Переулок
(Размышление о природе слов)» имеет точную дату — «Лета 1915,
апреля 27 дня». Она и по внутренней установке является
завершающей, подводящей итоги и вскрывающей некую философию
сложившейся оппозиции «бульвара» и «переулка». Сочинения
Л. Ю. Бердяевой написаны тоже уже не в Москве, а в Люботи-
не; сохранилось ее письмо, адресованное М. О. Гершензону и
датированное, как и статья Бердяева, 27 апреля 1915 года:
«Посылаю Вам, дорогой Михаил Осипович, мои "труды" для
"Бульвара и переулка"...»44. Таким образом, хроника создания
журнала несколько корректирует и воспоминания Е. Герцык, и
мемуарную запись М. Б. Гершензон: история «Бульвара и
Переулка», растянутая в пространстве и во времени, не являлась
продуктом одного jour flx'a; скорее, это был достаточно
протяженный этап, общий для всех участников журнала и оказавший
заметное влияние на творческий путь большинства из них.
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
807
Одним из первых, как выше было отмечено, появилось
стихотворение Вяч. Иванова «Бедный викинг». Стихотворение это
не было опубликовано и прошло почти незамеченньм в истории
культуры начала XX века. В своих воспоминаниях Л. В.
Иванова по памяти приводит из него одно четверостишие, замечая,
что в стихотворении Иванов «в шутку» «применил» к В. Эрну
поэму А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» 45.
Выбор источника для пародического использования был не
случаен. «Бедный рыцарь» Пушкина — одно из наиболее
актуализированных в сознании мыслителей начала XX века
сочинений поэта. О нем в эти годы размышлял С. Н. Булгаков, давший
анализ двух вариантов «Бедного рыцаря» в статье «Вл.
Соловьев и Анна Шмидт»46. Для Вяч. Иванова это стихотворение
Пушкина было ключевым: о нем он писал в статье «Шекспир и
Сервантес», и в работе «Достоевский. Трагедия — Миф —
Мистика», и в статье «Два маяка» 47.
Надо сказать, сама личность В. Эрна каким-то образом
коррелировала с пушкинским героем. Благодаря религиозной
одержимости и полемическому темпераменту, Эрн
воспринимался современниками с удивительным стилистическим
однообразием. «Воинствующий рыцарь веры и убеждений» —
формула Аскольдова из его некрологической статьи здесь наиболее
репрезентативна48. Любопытно, что самая внешность Эрна
вызывала «рыцарские» ассоциации. Так, например, в
воспоминаниях Е. Я. Архиппова, друга Эрна, глава, посвященная
философу, носит заглавие «Крест и лилия». Мемуарист пишет:
«Вглядываясь в скандинавски-светлые черты его лица, уже
тогда можно было различить два определивших его облик
начала: светлая суровость рыцаря-крестоносца и сила тонкого
духовного благоухания, идущего от лилий его чистого сердца» 49. Этот
же рыцарский ореол был закреплен за Эрном и в кружке
московских философов. Об этом писал, в частности, в своей буль-
варно-переулочной статье и Бердяев, намекая на скандинавское
происхождение Эрна: «Вспомни, сколь бесстрашно выступили
вы в защиту матери-земли <...> обнаружив при сем истинно
рыцарскую отвагу, происхождения явно не русского».
Легкий сдвиг в названии стихотворения — «Бедный викинг»
вместо «Бедного рыцаря» — переключал стихотворение в сферу
комического. Однако ни пародически использованный текст
Пушкина, ни сама фигура Эрна не подвергались комическому
снижению. Иванов и не собирался осмеивать своего
ближайшего друга, столь значимого для него. Известно, как оценивал
Иванов роль Эрна в собственной жизни: «...больше, чем Влади-
808
Вера ПРОСКУРИНА
мир Соловьев, на меня влиял Владимир Эрн» 50. Влияние Эрна
на Иванова не прошло незамеченным: вспомним упреки
Бердяева Иванову в том, что тот живет теперь «под санкцией Эрна» 51.
Напротив того, жизнь и духовная биография Эрна,
зашифрованная в строках стихотворения, берутся под защиту, а
осмеянию подвергаются враги Эрна.
Некоторые детали контекста позволяют точно расшифровать
этот эзотерический текст, рассчитанный на узкий круг
домашних друзей, без труда понимающих, о чем идет речь.
Приват-доцентская судьба Эрна взрывается неким «умозре-
ньем» — о нем говорится в первых строфах стихотворения.
Иванов имеет в виду концепцию Логоса, страстным адептом
коей и был Эрн, «положивший» много лет на «борьбу за
Логос». Появление в 1910 году на горизонте отечественной
философии нового альманаха «Логос», ориентированного на
германскую традицию, вызвало бурный протест Эрна, усмотревшего
кощунство в использовании некоторых столь близких ему
символов52. Само название альманаха — Логос — казалось Эрну
невозможным, оно связывалось с восточной, православной
традицией. Вся теория Логоса в понимании Эрна противоречила
западной, в первую очередь, германской школе философии.
В 1910 году Эрн выступил с резкой статьей против
германофильского «Логоса» — «Нечто о Логосе, русской философии и
научности (По поводу нового философского журнала
"Логос")»53. Именно отсюда, от борьбы с «кантианами»
(неокантианцами «Логоса»), ведет Иванов начало духовной биографии
Эрна.
В стихотворении есть и прямые реминисценции из этой
антикантианской статьи Эрна. Иванов упоминает «пески
гносеологии», заключая в эту фразу двойную отсылку. Во-первых, к
выразительнейшему пассажу из вышеупомянутой статьи против
«Логоса». В самом ее начале Эрн писал. «Логос так Логос, — не
все ли равно? Что касается до меня, то если бы мне насыпали
между зубов целую горсть песку и заставили его жевать, то эту
операцию я бы перенес с большим спокойствием, чем
священное имя Логос на обложке нового альманаха» 54.
«Кегельбан», вроде бы неожиданно появившийся в
следующей строфе, являл собой также изысканную реминисценцию:
И в песках гносеологии,
Где, устроив кегельбан,
Метил шаром Метод строгий
В «данности» фата-морган...
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
809
Взята она была Ивановым уже из арсенала противников
Эрна. Представители «Логоса» объявляли себя
последователями «строго научной» философии («Метод строгий» у Иванова!).
Выступление Эрна с критикой сильно задело «кантиан».
Практически без очередного выпада против Эрна не выходило ни
одного тома «Логоса». Одним из обвинений в его адрес было
утверждение, что он сражается не с реальными мыслителями
«Логоса», а с фантазиями, не имеющими к ним никакого
отношения. Так, в рецензии на книгу Эрна «Борьба за Логос» Б. Яко-
венко, упрекая автора в недобросовестности его инсинуаций,
писал: «Своих противников создает себе он (Эрн. — В. П.) сам:
это все какие-то манекены. А борьба с ними производит
впечатление игры в кегли, сам он сделал их, сам расставил и сам же
расстреливает, "надсаживая грудь"»55.
Слова о «"данности" фата-морган» — с взятым в кавычки
термином «данность» — тоже отсылают к статье Эрна «Нечто
о Логосе, русской философии и научности». Протестуя против
оксюморонного, с его точки зрения, выражения «научная
философия», Эрн писал: «Можно очень разно понимать как
науку, так и философию, но данность их как объектов не
подлежит сомнению. Нас поражает соединение этих двух понятий, и
мы утверждаем, что нет реального объекта, соответствующего
этому сложному, искусственно составленному понятию...» 56
Таким образом, «данность» объекта изучения представителей
«Логоса» оказывается иллюзией, или «фата-морганой», как
метафорически выразил это Вяч. Иванов.
Строки стихотворения об Эросе и Сковороде, запомнившиеся
Л. В. Ивановой, отсылали к вышедшей в 1912 году в
издательстве «Путь» монографии Эрна «Григорий Саввич Сковорода.
Жизнь и учение», — к той ее главе, где излагалось учение
Сковороды об Эросе в связи с его книгой «Наркисс». В жизненном
пути и учении Сковороды Эрн обнаруживал зарождение
философии истинного логизма, заключавшейся в постепенном
восхождении, в постоянном «напряжении воли» и
«устремленности к Истине». Иванов буквально в деталях передал один
фрагмент из эрновского описания философии Сковороды: «Но
такова была устремленность этого великого чудака к Истине,
так высоко он взбирался в своих постижениях, что издали ему
рисовалась неясньми контурами небесная мудрость святых...» 57
Интерес Эрна к Сковороде был обусловлен и его своеобразной
переработкой учения Платона об Эросе. «И влюбленность
Платона, — писал Эрн, — превращается у Сковороды в
самовлюбленность, и мудрый, которого посетил Эрос, становится блаженным
810
Вера ПРОСКУРИНА
самолюбцем, Наркиссом» 58. Таким блаженным самолюбцем, по
Эрну, и был Сковорода.
Таинственные буквы на щите викинга — A. U. — вводят уже
новую грань творческих исканий В. Эрна. Ближайшие друзья
знали, что Эрн напряженно работает над книгой об Афродите
Урании (отсюда A. U.) — над замыслом, лишь отчасти
реализовавшимся в его статье «Верховное постижение Платона»59.
С. Н. Булгаков назвал свой некрологический очерк об Эрне
«Афродите-Деметре. Памяти В. Ф. Эрна», где рассказал, что
«самой интимной мечтою» философа «была книга об Афродите
Небесной, лике Вечной Женственности, открывшемся эллин-
ству» 60. В кругу Иванова этот замысел был предметом
постоянных бесед, о чем, в частности, свидетельствуют письма Эрна
Иванову; так, например, в письме от 8 июля 1914 года Эрн
с иронией пишет: «Анапа — прескверный городишко с
очаровательным морем, очень способствующим размышлениям об
Афродите Урании...» 61
Неудивительно, что наиболее адекватное толкование букв
A. U. принадлежит, как явствует из комментария к
стихотворению, некоему р. Firenze. Firenze — это Флоренция. А «первый
астроплатоник и иеро-софист нашего времени» — это отец
(padre — р.) П. Флоренский, мастер изощренных толкований,
тонкий знаток и ценитель Платона62.
Два следующих «толкования» актуализируют два пласта
культурно-философской полемики, участником которой был
Эрн. Упоминание редакции «Логоса», якобы
интерпретирующей буквы A. U. как нетерминологическое «междометие», —
ироническая отсылка к известной полемике Эрна с «кантиана-
ми». Имя же профессора Кизеветтера и латинская
транскрипция все того же доклада «От Канта к Круппу» вновь переносят
сюжет к событиям последних месяцев 1914 года и начала
1915-го: А. А. Кизеветтер в статье «Россия и Европа» выступил
против «славянофильствующих сирен», задев Эрна и его
нашумевший доклад63.
Таковы были детали культурно-исторического контекста,
послужившего основой для стихотворения Вяч. Иванова. Однако
вся ситуация полемики в преломлении домашнего журнала
иронически остраняется: стихотворение «Бедный викинг»
объявляется Ивановым «не подлинным историческим документом»,
а одним из «ядовитых порождений» литературы «памфлетов».
Иванов укрылся здесь за двойной маской. Само стихотворение
«сообщила Фрина» —знаменитая «гетера», прославленная, по
преданию, Апеллесом, изобразившим ее в виде Афродиты, вы-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
811
ходящей из моря (для храма Асклепия в Колосе). Комментарий
же к самому стихотворению представил «поверенный в делах
Фрины». Но цепь опосредовании, «белкинская» игра с
отсылкой к одухотворенной античности на этом не заканчивались.
Гетера Фрина — это анаграмма, заключающая имя
персонажа, которому и было посвящено само стихотворение: Эрн.
Великолепный знаток греческой анаграмматической поэзии, один
из первых поэтов, активно использовавших этот прием, Иванов
таким образом внес заключительный штрих в создание
шутливой апологии Эрна.
Своеобразным дополнением к стихотворению Иванова
служило сочинение самого В. Ф. Эрна «Бульварная Пресса и
Переулочные Точки Зрения». Здесь была развернута своего рода
«картина мира», описанная с позиции «бульварочника». Эрн
прочерчивал и явную, по его мнению, традицию, к которой
возводился сам замысел журнала «Бульвар и Переулок»: «С Башни
я спустился на Бульвар...» Друзья-«переулочники»
объявлялись им представителями «совсем другой Породы» (развитие
оппозиции Кота и Собаки!). Вся «переулочная» тема в его
сочинении проходит под знаком агрессивного и «угрожающего»
индивидуализма — сплошных Точек Зрения, «дерзаний».
Последний термин адресовался Бердяеву, постоянно упрекавшему
Иванова в отсутствии в его мироощущении прежней дионисий-
ской «дерзости», а также и Л. Шестову, вся философия
которого была разоблачением «покорностей» и защитой
«дерзновений» (см. цикл его афоризмов «Дерзновения и покорности»64).
Однако не только полемика с «переулочниками» была
зашифрована в тексте статьи Эрна. В качестве персонажей
пародийных «объявлений» выступали все его
литературно-философские оппоненты. В первую очередь — в первом «объявлении» —
фигурируют противники Эрна в «германской» теме. «Дживеле-
говский пер<еулок>» — указывает на А. К. Дживелегова,
историка, литературоведа, театроведа. В контексте того времени,
однако, важны оказались другие его заслуги. Дживелегов —
крупнейший знаток Германии, автор двухтомной «Истории
современной Германии», вышедшей в 1908—1910 годах. В 1915
году он выпустил брошюру «Немецкая культура и война» (в серии
«Война и Культура»), где — в противовес эрновским слишком
прямым схемам (от Канта к Круппу) — дал детальный,
построенный на конкретных фактах анализ политической,
исторической, культурно-философской ситуации в Германии последнего
столетия. Он указал на реальные причины и предпосылки тота-
812
Вера ПРОСКУРИНА
литарной и милитаризованной идеологии, приведшей *к войне.
Либерально-кадетский взгляд на столь «огненные» для Эрна
вопросы, пафос объяснения, а не проклятия в адрес
Германии, — все это было чуждым и враждебным, с точки зрения
Эрна.
Другой антагонист — Е. Адамов, постоянно выступавший на
страницах петроградской газеты «День» с разоблачением
«грехов национализма» в серии статей «Московские письма»65.
Это — откровенный враг В. Ф. Эрна, не скупившийся на брань
и издевки в его адрес. Именно поэтому в «седьмом объявлении»
появляется упоминание газеты «День» с пометой «Тут же:
Первый русский словарь ругательств». Эрн был просто «мальчиком
для битья» в этой газете, его обвиняли и в «шовинизме» (все
тот же Евг. Адамов66), и в «научно-детской надменности» в
сочетании с неумением «осилить» Канта (статья Петра Рысса «От
Владимира Соловьева к Владимиру Эрну» 67).
В эту же группу «врагов» попадает и «Александр
Александрович Донерветтер»: речь идет об А. А. Кизеветтере.
Пародийная кличка (от немецкого ругательства «Donnerwetter!» —
«черт возьми!») историка и публициста, члена ЦК кадетской
партии связана с его выступлениями против Эрна на страницах
«Русских ведомостей». В статье «Россия и Европа» (8 января
1915 года) он обрушился на Эрна: «Мы боремся не с Европой,
а с Германией, мы боремся не с Германией Канта, а с
Германией Круппа (теперь находятся шутники, утверждающие с
высоты философских кафедр, что Кант и Крупп — родные братья по
духу...)»68. Затем, позднее, в статье «Литературные отголоски
войны. Мечты о Царьграде» (15 февраля 1915 года), он снова
разразился филиппикой против «книжной
абстрактно-мистической идеологии и фразеологии», неизбежно приводящей
к «глухому тупику» и «византийщине» 69. Адресат обличений,
Эрн, не желая отвечать в печати «шестидесятнику» Кизеветте-
ру, «засидевшемуся гимназисту», по его едкой формулировке
(см. «Налет валькирий»), дал пародическую отповедь
противнику в своей «бульварно-переулочной» статье. В «седьмом
объявлении» наряду с газетой «День» речь идет и о газете «Русские
ведомости», редакция которой находилась в Чернышевском
переулке. Обе ненавистные Эрну газеты — «День» и «Русские
ведомости» (где помимо Кизеветтера против философа выступали
и другие авторы70) объединены общим титулом — «Краткое
руководство для составления либеральных доносов».
Все «объявление второе» —с выразительным адресом «1-й
Ильинский пер<еулок>», с «д<омом> Фрейда» и указанием
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
813
«спросить Ивана Александровича» — отсылает к еще одному
оппоненту Эрна и «ненавистнику» всего арбатского кружка
писателей и философов И. А. Ильину. Философ И. А. Ильин, всю
жизнь занимавшийся немецкой философией, Гегелем, сам
«неогегельянец», страдал нервным расстройством, психозом, от
которого лечился в Вене у знаменитого психоаналитика. Е. К. Герцык,
рассказывая о контактах Ильина с кругом ее философских
друзей, писала о странных припадках ненависти, которую изливал
Ильин на ту или иную жертву; она же сообщала: «Знакомство
с Фрейдом было для него (Ильина. — В. П.) откровением: он
поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-
то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и
фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов» 71.
Фраза этого же объявления «Только устно!» адресует к
ситуации также вполне угадываемой: 29 января 1915 года В. Ф. Эрн
прочел свою первую лекцию цикла «Время славянофильствует»
на закрытом заседании Московского Религиозно-философского
общества, где Ильин выступил против докладчика с яростной
критикой. К нему же, судя по всему, относится и «объявление
четвертое»; на это, в частности, указывает (помимо общей
атрибутики — «немецкая улица», «исконно-русский тупик») фраза:
«Обезвреженные (по известному методу "денационализации")
вытяжки из Канта и Гегеля». В 1915 году Ильин выпустил
брошюру «Духовный смысл войны» (в ней, вероятно, отразился
общий пафос его устного антиэрновского выступления), где
соединились патриотичское морализаторство, бесконечные
цитаты из Гегеля и предложение селекции германской культуры:
«...выбрать из немецкой культуры то, что в ней общечеловечно,
глубоко или просто здорово...» 72
«Героем» «пятого объявления» стал Н.А.Бердяев.
Описывая его «вегетарианскую столовую», Эрн комически сопрягает
творчество и быт. Так, в меню «духовного стола» входят «душа
России всмятку» (прямая отсылка к названию известной
брошюры Бердяева «Душа России», выпущенной в серии «Война и
культура» в начале 1915 года), а также «салат из антиномий»
(излюбленный прием построения ряда сочинений философа и в
особенности актуальный для вышеупомянутой брошюры). Адрес
«столовой» — «Собачья Площадка, что у Николы-на-Ямах» —
был понятен только узкому кругу ближайших друзей
Бердяева. Выше уже было сказано о кружковом топосе,
запечатленном наименованием «Собачья площадка». Вторая часть
адреса — «Никола-на-Ямах» —отсылает к ряду эпизодов биографии
философа.
814
Вера ПРОСКУРИНА
Прежде всего Эрн намекает на посещения Бердяевым
трактира «Яма», где тот, как известно, встречался с народными
мыслителями73. Но не только это. Не случайно «Ямы»
упомянуты во множественном числе. Здесь Эрн имел в виду и
пресловутое падение Бердяева — событие, ставшее одной из главных
«мифологем» «бульварно-переулочного» творчества. К
Бердяеву, конечно, относится и фраза из «объявления шестого»: «ор-
топедируем хромые доказательства».
Само же «объявление шестое» — собирательный образ «пе-
реулочников». Помимо Бердяева, здесь можно обнаружить и
зашифрованного посредством фразы «помогаем выходить из
калош» М. О. Гершензона. Речь идет о дружеской помощи Гер-
шензона А. Белому, оказавшемуся в тяжелом моральном
положении после публикации статьи «Штемпелеванная калоша»
(Весы. 1907. № 5), злобно нападавшей на идеи мистического
анархизма, исповедуемые петербургскими символистами —
и Ивановым в том числе. В то время к практически
подвергнутому общественному остракизму писателю обратился Гершекзон
с предложением участвовать в журнале «Критическое
обозрение» и писать рецензии в духе «Штемпелеванной калоши» 74.
Стрелы метились здесь и в Л. Шестова: «безболезненно
извлекаем оставшиеся корешки и осколки». Шестов фигурировал
в сочинениях журнала как человек «без корней», без «почвы».
Не случайно в списке «врачей» у Л. Ю. Бердяевой также обыг-
рывалась эта же метафора — Шестов там имеет характерную
профессию: «Зубной врач. Специальность: вырывание корней».
Указание на «швейцара» в том же «объявлении» Эрна — с
намеком на недавнее швейцарское место жительства Шестова —
лишь дополняет и подкрепляет созданный Эрном пародийный
образ.
Сочинение Эрна — продукт эзотеричной кружковости, плод
домашних, овеянных «местным» колоритом шуток. Ситуация
интеллигентских вечеров подчеркивается шарадой,
приведенной в конце сочинения. Ее разгадка — Котляревский75 — вновь
обыгрывает идею журнальной заставки Крутиковой —
антиномию Кота и Собаки, основного мифа журнала.
Оппозиция Иванов — Бердяев оказалась в центре статьи
М. О. Гершензона «Теория словесности», опыте шутливой, но
вместе с тем удивительно тонкой философии языка76.
Эпиграф из «Письма о пользе стекла» М. В. Ломоносова
задавал тон всей статье, отсылая к традиции филологических
«забав», шутливых азбук, персонифицирующих буквенные значе-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
815
ния, вроде ломоносовской сценки «Суд российских письмен,
перед Разумом и Обычаем, от Грамматики представленных».
Восходящая к античным образцам и имевшая массу
европейских подражаний, традиция шутливых грамматик была, без
сомнения, учтена Гершензоном. Само же имя Ломоносова должно
было придать новой, кружковой «теории словесности»
иронический оттенок высокой учености, повысить статус разговора о
«словах» до статуса разговора о «естествах».
Следуя пародийно-игровой установке журнала «Бульвар
и Переулок», Гершензон насыщает текст домашней семантикой,
легко узнаваемыми в кругу друзей намеками. «Рискуя навлечь
на себя церковное осуждение С. Н-ча», то есть С. Н. Булгакова,
он рассматривает «стекло» — реальность слова и фразы, их
имманентное бытие — как ничуть не меньшую ценность, нежели
«минералы» — их трансцендентный смысл77. Гершензон берет
себе в союзники «Л. Н.» — Л. Н. Шестова, проведя тонкую
параллель между ним и последователями древнегреческого
мыслителя Евгемера, связывавшего возникновение культа богов с
обожествлением реальных древнейших царей. Эта короткая
отсылка к «эвгемеристам» вскрывала, по всей видимости, целый
пласт дискуссий в кругу московских мыслителей. Именно
Шестов в своих «дерзновениях» пытался заглянуть «за» сказанное
в Священном Писании, увидеть «там» «величайшую тайну», не
«придуманную» евреями, а «доставшуюся» им каким-то иным
способом, не доступным современным теориям познания78.
Вся преамбула к дальнейшему развертыванию сюжета
носила, конечно, чрезвычайно эзотерический характер: сжатые в
несколько намеков отсылки к имевшим место спорам внутри
кружка будут впоследствии изъяты Гершензоном из второй
редакции статьи послереволюционного времени: в новой
ситуации они уже не могли быть вполне понятны79.
В качестве формулы описания стиля Гершензон берет фразу,
рассматривая ее как семью со своим укладом, особой логикой
внутренних связей и отношений. В идее семьи и связанной с
ней идее жизнестроительства писатель видел спасительное
начало, противостоящее как хаосу внешних событий, так и
раздирающему личность хаосу внутреннего «дионисийства». Этот
акцент на идее семьи был адекватен общей установке «Бульвара и
Переулка» — журнала «для семейного чтения», объединившего
под предполагаемой обложкой семейные пары.
Образцовая грамматика не обходится без латинского
примера. Гершензон тоже приводит латинское изречение, чтобы
проиллюстрировать соответствие между стилем и нравами: лапи-
816
Вера ПРОСКУРИНА
дарность и простота этой фразы, где нет «ни одной глагольной
особы», свидетельствует о тогдашней «чистоте нравов»!80
В этом контексте и развертывается сопоставление стиля
писаний Иванова и Бердяева. За описанием «холостяцкой» фразы
Бердяева встает личность самого автора. Говоря о «сухости»,
«бедности внутренней задушевностью», Гершензон имеет в
виду не только стиль автора, но и саму личность. Любопытно,
что характеристика Гершензона совпадает с автометаописани-
ем, данным Бердяевым в «Самопознании»: «Многие замечали
эту мою душевную сухость. <...> В эмоциональной жизни души
была дисгармония, часто слабость... Самая сухость души была
болезнью» 81. Отсюда — попытка выйти из собственных
душевных невзгод: «оттого одно и то же речение пытается чрез две
строки завести себе новую фразу, и также не с большим
успехом, и чрез пять строк оно же, уже с некоторым остервенением,
в третий раз повторяет ту же попытку, и так без конца».
Описание фразы-семьи Иванова тоже глубоко иронично.
Фраза Иванова — это античный симпосион, где гости и хозяева
«вкушают поэзию и мудрость». Апелляция к античному началу
предвосхищает три опыта характеристики мира Иванова в
статьях трех его ближайших друзей, участников «бульварно-пере-
улочного» сообщества — С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Шестова.
Так, С. Булгаков увидел в Иванове прежде всего «живого
вестника из античного мира», указав на заслугу Иванова в
«раскрытии христианского смысла эллинской религии»82. О тяготении
к эллинской культуре, преломленной культурой
«упадничества», писал и Л. Шестов, не без иронии почти повторяя слова
Гершензона о культе «избранных слов» у Иванова83. Н.
Бердяев, явно отталкиваясь от мнений всех троих — Гершензона,
Булгакова, Шестова, — будет уточнять: Иванов — «человек
эллинистической», а не эллинской эпохи (то есть «вторичного», а
не «первичного бытия»)84.
Гершензон дает описание поэтического языка Иванова, и
здесь важнейшим является взятое в своей неповторимой
обособленности Слово. Если фраза Бердяева — функция мысли, то
фраза Иванова — свободное единение самодостаточных Слов.
Если в характеристике стиля Бердяева Гершензон
сосредоточился на описании взаимоотношений между членами фразы, то
на «пиру» у Иванова он занят их восторженным
разглядыванием: «именитый символ», «благородная метафора», «ветхие
мнихи». Каждое Слово здесь — гость на пиру, прибывший из
дальних стран; оно овеяно ароматом далеких и разных куль-
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
817
тур. В то же время каждое слово не случайно, оно отобрано
в соответствии с «тайным замыслом».
Однако в картину античного симпосиона Гершензон вносит
иронические штрихи, смещая характеристику в сторону
пародии: гости на пиру у Иванова способны поддержать разговор «о
Логосе и о матерьях важных». Примечательна здесь введенная
в текст перефразировка цитаты из комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума» — реплики Репетилова, описывающей собрания
«секретнейшего союза» в Английском клубе:
Напрасно страх тебя берет,
Вслух, громко говорим, никто не разберет.
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Бейроне, ну о матерьях важных.
Эта ироническая отсылка, конечно, не случайна. В
изысканном и высокомудром симпосионе проступают черты некоей
«говорильни», в которой Слово превращается в самоцель, в предмет
любовного смакования. Такое «пиршественное» отношение к
культуре, при всем его обаянии, не могло уже устроить Гер-
шензона, ощущавшего в словесных яствах привкус яда85.
Знаменательна в этой связи еще одна цитата в финале гер-
шензоновской статьи: «...каждое существительное — не
существительное, а Глагол, именно "глагол времен, металла звон"...»
Формула взята из знаменитой оды Г. Р. Державина «На смерть
Мещерского». Гершензон явно рассчитывал на то, что
эта цитата позволит соотнести описание пира у Иванова с
содержанием державинской оды, посвященной торжеству смерти:
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.
Тема смерти достигает семантической остроты в картине
прерванного пира:
Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались крики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.
Так сквозь пиршественное веселье, явленное в ивановском
симпосионе, Гершензон прозревает грядущую катастрофу, конец
культуры. Эта маленькая статья в журнале «Бульвар и
Переулок» окажется прологом к тому известному спору о культуре,
который выльется в скором времени в «Переписку из двух
углов».
818
Вера ПРОСКУРИНА
Сочинение Бердяева «Бульвар и Переулок (Размышление о
природе слов)» — опыт изощренной пародийной стилизации.
Взяв эпиграфом знаменитый афоризм Козьмы Пруткова
«Смотри в корень!» и повторив его в тексте статьи («Сию нить,
любезный читатель мой, даю я тебе...»), он недвусмысленно указал на
значимость выбранного образца. Назидательно-фамильярный
рассказчик, от лица которого ведется все повествование, также
заставлял вспомнить именно традицию прутковской игры,
чрезвычайно высоко оцененной и явно любимой другим
русским философом — Вл. Соловьевым, отдавшим дань симпатии
литературной личности Козьмы Пруткова86.
Однако афоризм был не только знаком литературной
традиции, на которую опирается автор: Бердяева действительно
интересуют исторические корни философии «Бульвара». Здесь он
вырисовывает некий собирательный образ русского мыслителя
рубежа XVIII—XIX веков, достаточно ветреного, переходящего
от одного увлечения к другому — с «духом легкомысленным
и раболепным», как он сам выражается. Отсюда — нарочитая
стилизация языка, первого метафизического языка,
зарождавшегося у истоков «русской идеи»: «уединенные долы»,
«воображение, сий услужливый раб», «вретища всемирного
Вавилона» и т. д. Отсюда и соответствующая фамилия, выбранная
Бердяевым в качестве литературного псевдонима, —
Любомудров — также ориентированная на истоки русского
«любомудрия».
Любопытно, однако, что, рисуя картину умственных исканий
на заре XIX столетия, Бердяев придает ей те черты, которые
вызывали его постоянные критические оценки.
Несамостоятельность русской мысли, ее «покорность» западным
влияниям, ее переменчивость — все те же упреки звучат в его работах,
посвященных «русской идее» 87.
В духовной биографии героя Бердяева возникает новый
этап — меняется стилевой регистр повествования,
подчеркнутый цитатой; Бердяев пишет: «Вспомни, как вчера почитал
каждую строку Вольтера за новую скрижаль завета, а завтра
целовал туфлю его Святейшества папы». Иронически
перефразированная строчка из стихотворения H. М. Языкова «К
Чаадаеву» (1844) («Ты лобызаешь туфлю пап») отсылает читателя к
эпохе полемики западников и славянофилов.
Отсылка к последним служит переходом к событиям
недавнего времени, и здесь появляется фигура нынешнего «бульвароч-
ника» — «эрноподобного». Бердяев не скупится на перечень
грехов, свойственных современным «обитателям бульваров».
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
819
Однако нынешним далеко до «широты» прежних.
Современный «обитатель бульваров» увлечен лишь «идеей отечества» и с
пафосом отстаивает «голубиную чистоту и преданность
отечеству русской полиции и интендантов». В своем «исступлении»
он «обрушивается» на «сограждан», «осмелившихся возражать
против столь опасных и бурных проявлений патриотических
чувств...». Использует Бердяев и известный упрек
славянофилам в «нерусском» происхождении их патриотизма, искусно и
ядовито намекая здесь к тому же на скандинавское
происхождение Эрна.
Однако и философия «Переулка» не выглядит у Бердяева
более привлекательной. Переулок, противостоящий
Бульвару, — символ дерзкого индивидуализма. Здесь собрались
ниспровергатели в лице определенно очерченных Шестова, Гер-
шензона и самого Бердяева. В Переулке «можно провозгласить
«нет» всем «да»: Бердяев имеет в виду Л. Шестова, борца с «са-
моочевидностями», создателя «отрицательной философии».
Показательно, что позднее Гершензон применит к Шестову
ставшую расхожей в кружке формулу: «Твои статьи говорят только
"нет" людской мысли; ты должен пояснить, что в них напрасно
стали бы искать изложение твоего положительного
мировоззрения, оно не ищет положительной формулы...»88
В Переулке, как повествует далее Бердяев, можно «обозвать
Прекрасную Даму — бабой». Это — автометаописание,
отсылающее к собственной статье «О вечно-бабьем в русской душе».
Там Бердяев не без сарказма замечал: «В самых недрах
русского характера обнаруживается вечно-бабье, не
вечно-женственное, а вечно-бабье»89.
Вспоминая это время, Бердяев писал в «Самопознании»:
«...У меня не было того, что называют культом вечной
женственности и о чем любили говорить в начале XX века,
ссылаясь на культ Прекрасной Дамы, на Данте, на Гёте. <...> Но мне
чуждо было внесение женственного и эротического начала в
религиозную жизнь, в отношение к Богу. Мне ближе была идея
андрогина Я. Бёме, как преодолевающая пол. Одно время у
меня была сильная реакция против культа женственного
начала» 90. Вероятно, и суждение о «распылителе космоса» также
относится к самому Бердяеву, как и сентенция о потрясении
«основ человеческого благополучия». Первое — о «космосе» —
связано с отрицанием Бердяевым идей «космизма». В своей
книге «Смысл творчества» он писал во «Введении»: «"Мир сей"
не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности
и вражды, атомизация и распад живых монад космической
820
Вера ПРОСКУРИНА
иерархии» 9l. Идеи свободы и бунтарства (см. главу II
«Самопознания», где есть специальный раздел «Бунтарство») Бердяев
всегда понимал как важнейшие для его жизни и философии.
Наконец, в Переулке можно «провозгласить, что во всем
мире есть, был и пребудет один лишь писатель — Пушкин».
Речь идет здесь о М. Гершензоне, в эти годы вырабатывающем
свою концепцию «мудрости Пушкина» 92. За свое пушкиньян-
ство Гершензон уже тогда получил прозвище «Пушкинзон» 93.
В финале статьи оба «проспекта жизни» — Бульвар и
Переулок — Бердяевым решительно отвергаются. Истинным же
признается бегство «на лоно природы» в согласии с
«естеством». Последний призыв к друзьям последовать его совету
заставляет предположить еще один вероятный источник для
столь изысканной стилизации, какую предпринял Бердяев в
своей статье. В 1914 году факсимильным способом была
переиздана книга В. Г. Вакенродера, переведенная еще в 1826 году С. -
П. Шевыревым, В. П. Титовым и Н. А. Мельгуновым под
названием «Размышления отшельника, любителя изящного». Идея
мудрого отказа от жизни в кругу философов — «разумников»,
как называет их автор, стремящихся пересоздать мир по
«умственным законам», создание некоего «завета жизни мудреца»,
переданное в форме разговора с друзьями, — все это
романтическое жизнетворчество сказалось и в сочинении Бердяева.
Утонченное изящество старинного языка философской прозы,
колоритность «старомодного» стиля, возможно, оказались
притягательны и для Бердяева, безусловно знакомого с этой
книгой.
Некоторые материалы журнала строились на пародийном
обыгрывании тем и жанров прессы военного времени: это была
игровая сублимация газетных впечатлений 1915 года.
Особенно показателен «рассказ из военного времени»
В. К. Шварсалон, жены Вяч. Иванова94. Рассказ озаглавлен
«Самсон и Далила в генеральском мундире», а посвящен не
названному, но легко узнаваемому Бердяеву. Смысл названия
рассказа становится понятным лишь при сопоставлении с
газетной продукцией того времени: так, в «Биржевых ведомостях»
(для всего московского кружка это была «своя» газета — не
проходило недели без печатного выступления там кого-либо из
них) за 1 марта 1915 года появилась статья «Самсон и Далила»,
посвященная умершему графу С. Ю. Витте. Нелепость названия
статьи (за подписью Vox), неуместная мифологичность, видимо,
и привлекли внимание сочинительницы. Повернув его в нужную
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
821
сторону, В. Шварсалон создала образец комического травести-
рования, где язык газеты оказывался кодом для изображения
внутренней жизни кружка.
За анекдотическим случаем, описанным сочинительницей,
встают реалии вполне реконструируемой ситуации. «В первых
числах марта из дома № 13 одного из небольших переулков по
Новинскому бульвару вышел человек на костылях, в пальто
защитного цвета...», — начинает свой рассказ В. Шварсалон.
Дом № 13 — это дом сестер Герцык, где в эти месяцы проживал
сломавший ногу Бердяев. Сам он описан сочинительницей с
почти портретной точностью. «Густые черные кудри», сверкание
«черных глаз», костыли, а главное — «в пальто защитного
цвета, но не совсем определенной формы». Это пресловутое пальто
Бердяева запечатлел в своих воспоминаниях и Андрей Белый,
рассказавший о частых встречах с «Николаем
Александровичем, шествующим по Арбату в своем обычном сером пальто»95.
В. Шварсалон обыгрывает и заикание Бердяева. В ответ
генералу, принявшему Бердяева на костылях за раненого и
спросившему о месте ранения, Бердяев произносит: «в пере...
в пере...», имея в виду злосчастный Переулок. Генерал же
понимает иначе: «в Перемышле!» Именно в эти месяцы шла осада
форта Перемышль, и название его не сходило с газетных
страниц. В. Шварсалон спародировала и военную цензуру, из-за
которой газеты выходили с белыми страницами или с точками,
обозначавшими цензурное изъятие. В ее рассказе кульминация
столкновения генерала с Бердяевым заменена
многочисленными точками. Появляющаяся в финале рассказа «жена человека
в пальто защитного цвета» — это, конечно же, Л. Ю. Бердяева,
жена Н. А. Бердяева.
Газетный жанр послужил моделью и для сочинения Л. Ю.
Бердяевой «Врачи и лечебницы», где в качестве врачей
человеческих душ фигурировали московские философы (за
исключением антропософа Р. Штейнера и петербуржца П. Д. Успенского).
Само название адресовало к постоянному рекламному отделу
ряда газет. Тонкая диагностика философских методов
комическим образом накладывалась на газетное клише. Так,
например, открывающий список Эрн характеризован «методом
онтологическим» (в связи с его полемикой против гносеологизма
«кантиан»); ироническое упоминание «народной медицины»,
бань, трав отсылает к его неославянофильским выступлениям.
«По всем специальностям» — звучит издевкой над широтой его
увлечений — от Платона и В. Джоберти до Розмини и Сковороды.
822
Вера ПРОСКУРИНА
«Вольнопрактикующий» и не служивший тогда Бердяев
обрисован вполне в соответствии с «бульварно-переулочной»
спецификой: он «секуляризирует» болезни. Поскольку же в
качестве «болезни» в списке выступает погруженность в
религиозную проблематику («одержимость» и «беснование»
Флоренского означают в контексте всего сказанного высокую степень
этой «погруженности»), Бердяев, выступавший за свободу
творчества, в том числе и религиозного, против клерикализма,
оказывается специалистом по «секуляризации».
«Гипнотизм», «магнетизм» Иванова обыгрывают, вероятно,
и его оккультные увлечения, и его редкий дар притягивать к
себе людей, неоднократно отмечаемый мемуаристами. Увлечение
концепциями ритма, собственные поэтические изыскания
(поэзия вообще здесь, видимо, зашифрована терминами «пар»,
«эфир») объясняют дальнейшую «специализацию» Иванова.
Д. Е. Жуковский, философ-ученый, с «естественнонаучной
подкладкой» всех его сочинений, назван «доктором Гейдельбер-
гского университета»: он действительно несколько лет прожил
в Германии.
Характеристика Шестова как человека без почвы и без
корней — общее место кружкового языка. Не случайно и в другом
сочинении Л. Бердяевой «Мысли и недомысли мудрых людей»
(гораздо менее удачном!) Шестов определен следующей
сентенцией: «Гм! Почва... Зачем им почва? Я и без почвы проживу...
Предрассудок... »
Флоренский и его «ассистент» С. Булгаков — специалисты
по «одержимости» (см. выше) — метафора религиозности.
Однако Булгакова отличают «более хозяйственные» методы —
намек на его «Философию хозяйства».
Две сестры Герцык отмечены своими личностными
характеристиками — «истонченность» Е. Герцык и «задушевность»
А. Герцык-Жуковской. Личные качества А. Белого, его
«сумасшедшее» поведение и манера выступать дали повод для
иронической характеристики.
Любопытна «специализация» Г. А. Рачинского, «директора
гидропатической лечебницы», «председателя общества
Спасения на водах». Философ Рачинский являлся председателем
московского Религиозно-философского общества, Л. Бердяева
в данном определении имеет в виду шутливое наименование
общества как места пролития «воды» — словесных диспутов.
С другой стороны, здесь обыгрывается и библейское толкование
воды как очищающей от скверны и воды крещения —в связи со
Рукописный журнал «Бульвар и переулок»
823
связанностью почти всех перечисленных философов с
деятельностью Религиозно-философского общества.
Теософ и оккультист П. Д. Успенский назван «гомеопатом»,
исцеляющим от «мании чудесного». Л.Бердяева целит в его
многочисленные мистические сочинения, которые, по ее
шутливой характеристике, способны произвести обратное
воздействие — отлучить от интереса к тому, о чем они сами написаны.
М. О. Гершензон — специалист по психической хирургии.
Свойственный ему «психологизм» (как в творчестве, так и в
личном общении) и морализаторство (отсюда— «выпрямление
искривлений характера») порой раздражали Н.А.Бердяева.
Так, в частности, в письме к Гершензону от 29 сентября 1917
года он писал: «Я считаю совершенно недопустимым суд над моей
нравственной личностью и сыск в душе моей, которые ты
признаешь для себя возможным публично производить. <...> Ты
это делаешь уже не в первый раз...» 96 Л. Ю. саркастически
зафиксировала это личное свойство мыслителя и писателя.
Сочинения Бердяевой, видимо, одни из последних текстов
«Бульвара и Переулка»: написаны они, как известно, уже в
имении под Харьковом. Псевдоним сочинительницы —
Филантропов — также согласуется с псевдонимом Н. Бердяева
(Любомудров) в апелляции к традиции значащих фамилий.
Журнал «Бульвар и Переулок» — чрезвычайно
выразительный памятник культурного быта 1910-х годов. Введение
материалов журнала в научный оборот позволяет восстановить
домашний, неофициальный пласт литературно-философского
движения эпохи. До последнего времени это движение
воспринималось главным образом в своих публичных, обращенных
к читателю формах — где «последние вопросы» обсуждались
с предельной серьезностью, подчас с полемическим запалом
и одноплановой патетичностью.
Между тем в атмосфере домашней литературной игры
происходило то, что не было возможным на публичном ристалище.
Серьезные вопросы переключались в игровой план,
происходило их своеобразное ироническое остранение. Тем самым
снималось конфронтационное напряжение и обнажались связующие
основы, позволяющие арбатским философам и литераторам,
при всех их внутренних расхождениях, ощущать и осознавать
себя единой культурной средой, говорить с разных позиций, но
на одном языке.
^^
^^^
О. В. МАРЧЕНКО
Владимир Эрн и его концепция
русской философии
За Эрном останется честь писателя,
впервые в широком масштабе введшего в
наш философский обиход идеи совсем
особого типа национальной философии.
Густав Шпет
Эпиграф к предлагаемому тексту взят из работы Г. Г. Шпета,
посвященной разбору книги В. Ф. Эрна о Винченцо Джоберти1.
Говоря об особом типе национальной философии, Шпет
ближайшим образом имеет в виду философию итальянскую, так
называемый католический модернизм в Италии, исследованию
которого Эрн посвятил много времени и сил. Однако в более
широком смысле эти слова Шпета можно и должно отнести
также к стремлению его друга прояснить и утвердить в
общественном сознании идею своеобразия философии русской.
Именно в этом и заключается, по сравнению с
предшественниками —■ архимандритом Гавриилом (Воскресенским), Я. Н. Ко-
лубовским, Е. А. Бобровым, М. М. Филипповым, В. В. Чуйко,
А. И. Введенским, А. Никольским2, — принципиальная
новизна и радикальность замысла Эрна. Оригинальность его подхода
заявлена первым же тезисом. «Русская философская мысль
имеет не только гениальных и глубоко талантливых
представителей, она в корне, в основной тенденции своей существенно
оригинальна. В целом мировой философии русская мысль
занимает особое место, свойственное ей как явлению sui generis, как
созданию творческого духа» (Сковорода. С. 2)3.
Замечу, что дело здесь не только в том, что в первые
десятилетия XX века русское философское сознание, продолжая
экстенсивное развитие, «становится на путь интенсивной
рефлексии и самоопределения» 4. Не менее важно и то, что в это время
Владимир Эрн и его концепция русской философии 825
мировая философская мысль усиленно продумывает проблему
плюральности опыта и знания. И название знаменитой работы
Уильяма Джеймса, переведенной на несколько языков,
«Многообразие религиозного опыта» 5, вполне может быть одним из
центральных символов эпохи. Над многообразием
национальных форм и стилей философствования размышляют Пьер
Дюгем, Макс Шелер, позднее — Стефан Харрасек, у нас —
В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, А. С. Глинка-Волжский и др., все
они пытаются выявить особенности британской, французской,
немецкой, польской, русской мысли6. И тот факт, что
создатель весьма своеобразной и глубокой концепции русской
философии был одновременно и замечательным исследователем еще
одной философской традиции, итальянской, значим и
показателен.
Об этом стоит лишний раз напомнить, поскольку вокруг
философских взглядов Эрна вообще и его концепции русской
философии в частности накопилось, к сожалению, слишком много
досадных недоразумений.
Вот пример одного из них, довольно характерный. «...В
целом Эрн до конца жизни стоял на позиции неприятия западной
философии (в особенности немецкой) и необходимости ее
преодоления в русской мысли. Он остался сторонником изоляции
России от западного влияния, национальной культурной
замкнутости — остался в плену своей схемы, не в силах
освободиться от нее. Дальнейшее историческое развитие показало
несостоятельность идей изоляции национальной культуры, которые
препятствуют реализации творческих потенций, заложенных в
каждом народе», — писал в 1989 г. ученый секретарь
Ассоциации молодых философов СССР, адъюнкт Военно-политической
Академии им. В. И. Ленина С. Г. Киселев7.
Здесь что ни слово, то неточность, преувеличение,
недоразумение или попросту неправда. По сути, повторяются, почти
через восемьдесят лет, сомнительные критические замечания,
высказанные в адрес Эрна С. Л. Франком. Именно Франк, по
заказу П. Б. Струве, предупредительно усмотрел в
рассуждениях Эрна призыв замкнуться в «национальной русской
философии», отметив «то националистическое самомнение, которое в
оценке национальной философии не знает меры и перспективы
и дерзостно попирает вечные ценности европейской мысли»8.
Оказывалось, что позиция Эрна — это позиция «ожесточенной
борьбы с Западом». «Я бы и не начинал спора с В. Ф. Эрном, —
сетовал Франк, — если бы не увидал в его рассуждениях какое-
то возрождение "национализма в философии", философски
826
О. В. МАРЧЕНКО
ложного и вредного»9. Эти «замечания» высказаны в
конкретной ситуации русской политической и культурной жизни
начала 10-х гг. Опыт «дальнейшего исторического развития», под
которым, надо полагать, понимается Октябрьская революция,
диктатура пролетариата и последующая практика
социалистического строительства, не воспрепятствовал Киселеву в своей
«перестроечной» статье воспроизвести сомнительные
инвективы сотрудника «Русской мысли», сдобрить их
мелодраматическими интонациями.
«Во время Первой мировой войны занимал по существу
шовинистическую позицию», — читаем об Эрне в еще одной
статье 10. Замечу, что позиции представителей враждующих сторон
в период военного конфликта, тем более масштаба мировой
войны! — не могут описываться посредством понятий «шовинизм»
(«национализм») — «космополитизм» («интернационализм»).
Для этого существуют более адекватные понятия
«оборончество» и «пораженчество». Эрн, русский философ, чьи братья
сражались офицерами на фронтах Первой мировой войны,
занимал четкую позицию «оборончества». Впрочем, кроме
упомянутых, существовал в России и третий, ленинский, проект —
превращения «пролетариями всех стран империалистической
войны в войну гражданскую».
Следующий текст Эрна, написанный как раз в годы Первой
мировой войны (он направлен против статьи Льва Шестова,
демагогически упрекавшего Вяч. Иванова в... «западничестве»!),
недвусмысленно проясняет отношение философа к идеям
«изоляции национальной культуры», «культурной замкнутости»,
«национализма» и т. п.
«Россия за все свое историческое существование никогда не
была отделена от Европы и всегда находилась с нею в живом,
органическом единении. Только единение это было тонким,
особенным, исключительным. Конкретно жизненные связи с
Византией и живое наследие святоотеческой мысли ставило
Россию в условия прямой преемственности от древнейшей и
благороднейшей культуры Европы и культуры эллинов, от
которой средневековый и новый Запад был отделен крепкой
перегородкой романизма, т. е. культуры Древнего Рима. И Древняя
Русь, тончайшими нитями связанная с благодатной "Эдемской"
почвой древнейшей Эллады, отмечена изумительными по
своему внутреннему значению параллелями с высшим расцветом
духовной культуры Европы в Средние века и в первые дни
Ренессанса. В иконописи, — в этом сложном плоде целого уклада
жизни и особой целостной системы духовной культуры — в ико-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
827
нописи, значительность которой мы, потерявшие память
потомки, начинаем разгадывать только теперь, после столетий
неправедного пренебрежения, мы имеем вселенски-огромную и
таинственную параллель западной готике. А в Андрее Рублеве,
по художественной гениальности "равновеликом" самым
великим представителям Ренессанса — мы находим еще более
таинственную цельность Востока и Запада, "непостижимое"
единство новейшего и древнейшего, — одно из самых светлых
пророчеств нашей истории. После Петра начинается более
грубый период общения с новым Западом, преимущественно с
Западом протестантским и с Западом германским. Тут в наших
связях с Европою наступает величайшая путаница, которая
разрастается от выступления малокультурных "западников",
ставивших фатальный знак равенства между культурой
Германии и культурой Европы и "отрывавших" Европу новую от
Европы древнейшей. <...> Как встарь, так и ныне полной,
вселенской жизнью мы можем жить, лишь находясь в органическом
единении с Европою, и кто хочет нас "отделять" от Европы, кто
взывает к "замкнутому" национализму — тот отрывает нас от
мировых просторов <...> и склоняет Россию к гибельному
уединению. Европа Европе — рознь — ив Европе нам дорого все,
что дружит со святынями, коими живет наша душа: и та
Европа, которая встала на борьбу со зверем, выходящим из бездны,
на челе которого смрадными буквами написано "презрение ко
всем святыням", есть не то, что наша союзница и временная
помощница, — а есть мы сами в нашем глубочайшем существе
и в нашем всечеловеческом лике» и.
Этот, возможно, последний опубликованный текст Эрна не
слишком известен, и потому я позволил себе процитировать
столь обширный фрагмент. В нем очень четко расставлены все
акценты в понимании Эрном проблемы «Россия и Запад».
Важно, однако, подчеркнуть, что этой позиции Эрн придерживался
постоянно. И еще в 1910 г. на упрек С. Л. Франка в
«национализме» вполне определенно отвечал: «Русская философская
мысль имеет для меня не первичную, а производную ценность.
Абсолютно данное моего мировоззрения —
восточно-христианский логизм. Русская мысль дорога мне не потому, что она
русская, а потому, что во всей современности, во всем теперешнем
мире она одна хранит живое, зацветающее наследие антично-
христианского умозрения. <...> Какой может быть национализм
в философски осознанном предпочтении античной философии и
восточно-христианского умозрения блестящей, отвлеченной,
бесплодной мысли новой Европы?» (Соч. С. 112). Кроме того,
828
О. В. МАРЧЕНКО
Эрн настаивал на том, что его противопоставление «логизма» и
«рационализма» является противопоставлением
принципиально философского, а не социокультурного характера. «С.
Франку, не воспринимающему моей мысли, нужно ее обезличить,
и он вспоминает славянофильскую формулу
противоположения, совершенно отличную от моей. Я противополагаю два
познавательных начала, ratio и Логос, а не две культуры: Россию
и Запад. Мое противопоставление есть результат
гносеологического анализа. Противоположение славянофилов — результат фи-
лософско-исторических соображений. Я ничего не говорю
о России и Западе вообще, я говорю о частном вопросе: о
западном рационализме и русской философской мысли, исторически
и многократно засвидетельствовавшей свою существенную про-
низанность стихией логизма» (Соч. С. ИЗ)12. Эрн также
неоднократно утверждал, и в этом его позиция несколько
отличалась от взглядов, скажем, А. С. Хомякова, П. А. Флоренского,
позднее Л. П. Карсавина, А. Ф. Лосева, что онтологично не
только православие, но и католицизм; отсюда интерес к Данте,
а также исследование итальянской философии, имеющее целью
подтвердить это положение13.
Все это ни в коем случае не означает, что к философским
построениям Эрна и его концепции русской философии нельзя
предъявить серьезных претензий, однако для начала неплохо
было бы представить саму эту концепцию более или менее
адекватно.
Далее. Приводя слова Густава Шпета об эрновских идеях
«совсем особого типа национальной философии», я хочу
подчеркнуть еще один существенный момент. Момент, который, как
оказывается, не был воспринят даже самыми
благожелательными исследователями. Читая, в частности, работу Л. В.
Полякова, нельзя не обратить внимания на то, что автор понимает
эрновскую «русскую философию» лишь как некий «проект»,
«прогноз», «обещание». Отсюда указание на «профетичность»
эрновской концепции — следующий вывод: «...Реальное,
диалектическое — с непредсказуемым результатом —
столкновение "рационализма" и "логизма" на перекрестке русской
философии— лишь очередное благое пожелание». Более того, «в
этом связывании будущего русской философии с упованием на
"веру" и "надежду" нельзя не почувствовать некоторую
"апокалиптическую" горечь» 14. Отнеся последнее замечание целиком
к специфике авторского «вчувствования», отмечу, что Эрн, в
самом деле, неоднократно утверждал: «Я не говорю, что русская
мысль достигла своего апогея и уже прошла весь цикл своего
Владимир Эрн и его концепция русской философии
829
развития; напротив, с моей точки зрения, все свершенное
русской мыслью есть только начало, и как бы ни было
значительно это начало, τόνος русской мысли устремлен в будущее <...>»
(Сковорода. С. 27—28). Возражая Андрею Белому, говорящему о
завершении «логической» философии в святоотеческих
творениях, Эрн терпеливо разъяснял, что «по основоположениям
христианской философии Логос усвояется и осознается в бого-
человеческом процессе истории, т.е., другими словами, ни в
каком пункте истории (помимо личности Богочеловека) не
может быть абсолютного усвоения и осознания Логоса, и логизм
поэтому может быть мыслим в завершении лишь за гранями
истории. Творческая задача для философа-логиста в каждый
момент истории положительно беспредельна, как беспредельна
жизнь, и как жизнь не может быть завершена в гранях
времени, так не может быть завершено и творческое осознание задач
и путей жизни» (Соч. С. 74—75). И тем не менее Эрн
решительно подчеркивает, что русская философия во всем ее
принципиальном своеобразии есть не «проект» и «обещание», но
реальность, явленная вполне сущностно и определенно. И достойно
сожаления, что для многих «самое соединение слов "русская
философия" кажется странным, потому что они никогда не
слыхали, что в России более столетия существует оригинальная
философская мысль» (Сковорода. С. 2).
Сходного мнения придерживался и Н. А. Бердяев, когда
в своей знаменитой «веховской» статье «Философская истина
и интеллигентская правда» писал: «Особенно печальным
представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции
познакомиться с зачатками русской философии. А русская
философия не исчерпывается таким блестящим явлением, как
Вл. Соловьев. Зачатки новой философии, преодолевающие
европейский рационализм на почве высшего сознания, можно
найти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно крупная фигура
Чичерина, у которого многому можно было бы поучиться.
Потом Козлов, кн. С. Трубецкой, Лопатин, Н. Лосский, наконец,
мало известный В. Несмелов — самое глубокое явление,
порожденное оторванной и далекой интеллигентскому сердцу почвой
духовных академий» 15. Примечательно, что и Бердяев не
избежал упреков, сходных с предъявляемыми Эрну; так, Дора
Штурман в своей посвященной «Вехам» статье пишет:
«Слишком часто в отношении к столь непредсказуемому и, по
определению, свободному роду творчества, как философия, Бердяев
употребляет понятия долженствования,
правильности-неправильности и т. п. <...> Но внедрение "правильного" способа ми-
830
О. В. МАРЧЕНКО
ропостижения («правильной» философии) — не миссия
философа. Это другая специальность»16. (Такое впечатление, что
Д. Штурман говорит о «Кратком очерке истории ВКПб»!)
Однако и в том, и в другом случае, из благородных, очевидно,
побуждений, упускается из виду, что Эрн и Бердяев размышляют
над особенностями русской философии, опираясь на уже
имеющийся опыт этой философии. Как и Бердяев, Эрн создает
свою концепцию отечественной мысли, анализируя
философские сочинения, созданные на протяжении почти полутора веков
Г. С. Сковородой, П. Я. Чаадаевым, И. В. Киреевским, А. С.
Хомяковым, А. М. Бухаревым, П. Д. Юркевичем, А. А. Козловым,
В. С. Соловьевым, Н. Ф. Федоровым, С. Н. Трубецким, Л. М.
Лопатиным, Вяч. И. Ивановым (не говоря уже о произведениях
Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова).
Вспомним, что 10-е гг. XX в. продолжили этот ряд десятками
блестящих имен. «В истории новой философии и в
современности русская философская мысль прочно заняла совершенно
особое, исключительное место. Это факт внутренний, но уже
свершившийся» (Соч. С. 91).
Рассуждения Полякова и Штурман о свободе-несвободе и
предсказуемости-непредсказуемости, все это, говоря словами
Эрна, «некрасивое либеральничанье» не имеет отношения к сути
дела еще и по той простой причине, что Эрн и Бердяев говорят о
русской философии в ее основных чертах, т. е. ставят себе
задачей описание особого типа философии (и эта задача осознается
обоими мыслителями очень четко: «В русской философии есть,
конечно, много оттенков, но есть и что-то общее, что-то
своеобразное, образование какой-то новой философской традиции,
отличной от господствующих традиций современной европейской
философии»: Бердяев17; «Я не говорю, чтобы не было
разногласий. Разногласия есть, и немалые, но разногласия эти
диалектического характера, и снимаются более глубоким синтетическим
устремлением»: Эрн (Сковорода. С. 25)). А тип— это
умозрительно схваченный инвариант, явленный в многообразии
частных вариантов, и, как таковой, инвариант (конечно,
необходимо описание его с должной степенью глубины и точности)
присутствует в живом процессе в прошлом, настоящем и
будущем. Правомерно оспаривать, таким образом, не соотношение
инварианта и вариантов, типа и его частных проявлений
(логически эти отношения хотя бы в первом приближении ясны), но
саму возможность национальной типологии в такой сфере
духовной деятельности, как философия. Но этого последнего ни
Поляков, ни Штурман как раз не делают.
Владимир Эрн и его концепция русской философии
831
Попробуем теперь обозначить узловые моменты концепции
русской философии Эрна в ее специфике.
О первом таком моменте я, собственно, уже говорил, и
сейчас его нужно лишь подчеркнуть. Своеобразие Эрна в том, что
он создает концепцию (выявляя сущностные, типические
черты, «основной характер» 18) исторически уже явленной
оригинальной русской философии (а не просто «русской философии»
и тем более не «философии в России»). Таким именно подходом
к истории отечественной мысли Эрн принципиально
отличается от своих предшественников и современников, да и многих
последующих историков отечественной философии19.
Эта эрновская новация — в качестве принципиальной
установки, той самой «общей точки зрения», о которой я говорил,
рассматривая его «герменевтику» — целенаправленно образует,
отбирает и структурирует рассматриваемый материал.
«Неоригинальные направления русской мысли (материализм,
позитивизм, теперь неокантианство), будучи страстными отголосками
западноевропейских философских настроений, каким-то роком
обречены на фатальное бесплодие и невозможность что-либо
творчески порождать», — отмечает «любопытный факт» Эрн
(Там же). Философия подражательная не остается вне
исследовательского интереса Эрна, но основное внимание его
сосредоточено на тех русских мыслителях, в учении которых, по его
мнению, присутствуют творческие, оригинальные идеи, и сами
начала философствования которых качественно отличаются от
магистрального направления новоевропейской философии,
именуемого «рационализмом». «Русская мысль в современном
духовном состоянии мира занимает совершенно особое место не
потому, что тот или иной русский мыслитель столь же
гениален, как Гегель, а потому, что принцип философствования
русских философов (между которыми есть и гении) существенно
отличен от принципа философствования западноевропейских
мыслителей Нового времени» (Соч. С. 112).
С этим пристальным вниманием к коренному принципу
философствования русских мыслителей связана и еще одна особей-
ность эрновской концепции, на которую почему-то не обращают
внимания исследователи. Будучи философом академического,
институционального типа (а не, скажем, философствующим
публицистом или каким-нибудь «свободным художником»), Эрн
профессионально обращался к продумыванию основных
моментов традиционной философской проблематики. Напомню, что
его работы посвящены тематизации понятия «научное знание»
(«Природа научной мысли»), исследованию природы мышле-
832
О. В. МАРЧЕНКО
ния («Природа мысли»), философскому «сомнению» как
имманентному компоненту мышления («Природа философского
сомнения»), фундаментальному вопросу о «началах» мышления
(«Исходный пункт теоретической философии»), проблематиза-
ции понятия «истина» («Критика кантовского понятия
истины») и др. Эрн имел все основания подчеркивать, что
важнейшее для него противопоставление новоевропейского ratio и
антично-христианского Логоса есть результат не
культурно-исторических соображений, но именно гносеологического анализа.
И характерно, скажем, что в своем споре с «логосовцами» он
упрекает их не в чем ином, как в теоретической
непродуманности понятий «научная философия», «свобода мысли»,
«философская традиция», «исходный пункт» теоретического мышления
и т. п., что парадоксальным образом приводит к привнесению в
«рационалистические» рассуждения представителей «научной
философии» откровенно «нерациональных» и
«иррациональных» мотивов (Соч. С. 74 ел.). Полемические выступления Эрна
всегда имеют фундаментом основательную проработку
общефилософской проблематики. И очень важно, что в истории
русской мысли Эрна интересует не некая около-философская и тем
более не вне-философская, но именно
традиционно-философская проблематика: теория знания, онтология, антропология
и т.д., имеющая, на его взгляд, у оригинальных русских
философов своеобразное (отличное от «рационалистического»)
решение. Поэтому, скажем, Эрн решительно отказывается видеть
в Г. С. Сковороде просто «моралиста» и внимательно исследует
его философские идеи, выделяя в принципиальном
антропологизме украинского мыслителя аспекты онтологический,
гносеологический и морально-практический. Крупная работа о
В. С. Соловьеве посвящена исследованию такой важной
проблемы, как специфика его гносеологии. В творчестве Л. Н.
Толстого, исполненном подлинной философичности, Эрн анализирует
деструктивное столкновение (а точнее — сосуществование) «ло-
гизма» гениального, достигающего всечеловеческих вершин
художника — с плоским «рационализмом»
проповедника-моралиста («Толстой против Толстого»). И концепция оригинальной
русской философии в качестве главного компонента включает
описание специфики работы «механизма» именно
философского мышления, общего для целого ряда внешне непохожих друг
на друга мыслителей.
Следующий важный момент, который надлежит отметить,
касается вопроса хронологических рамок «оригинальной
русской философии».
Владимир Эрн и его концепция русской философии
833
Здесь нужно выделить два аспекта. Прежде всего, Эрн
вносит, как известно, существенный корректив в привычные
представления о начале оригинальной русской мысли.
Полемизируя с авторами «Логоса», он обращает внимание на то, что
русская философия начинается отнюдь не со славянофилов и не
имеет истоком немецкую романтическую философию. «Русская
философская мысль имеет свою туземную подпочву, которая
находится в прямом соприкосновении с логистической
философией Отцов Церкви и почти никакого отношения не имеет к
рационалистической философии Новой Европы» (Сковорода.
С. 331; Соч. С. 85). Первым оригинальным русским философом
был Г. С. Сковорода, написавший свое первое философское
сочинение, диалог «Наркисс» (1769—1771гг.) задолго до
основных работ Канта и тем более немецких романтиков. Далее Эрн
говорит (чего не отмечает ни один исследователь) и о «школе»
Сковороды, т. е. о его учениках и последователях, которые
оставили философские сочинения, написанные под явным
влиянием личности и идей украинского «старчика». Эрн
напоминает, что одно из этих сочинений, «Правда веры», опубликовано
Д. И. Багалеем; имеются также указания И. И. Срезневского
и А. Хиждеу на существование ряда других: «Книжечка о
любви до своих, нареченная Ольга Православная», «Мученики во
имя Христа», «Грешники», «Исповедь и покаяние», «Путь к
вечности», «Мрак мира» (Сковорода. С. 175—177). И хотя
имена авторов нам неизвестны, «факт остается фактом: сочинения
Сковороды не только усердно переписывались и
перечитывались, но и возбуждали мысль его учеников к самостоятельному
философствованию» (Там же. С. 177). Затем Эрн обращает
внимание также и на то, что еще до славянофилов создается
мистическое, но очень цельное мировоззрение М.М.Сперанского20,
«Философические письма» П. Я. Чаадаева21 и начинается
философская «жизненная драма» В. С. Печерина22 (Соч. С. 85).
Если эрновское положение о Г. С. Сковороде как
«родоначальнике русской философской мысли» общеизвестно
(поскольку подкреплено фундаментальной монографией «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М., 1912)), то другой аспект
проблемы хронологических рамок оригинальной русской
философии неожиданно оказался в тени и не был серьезно
воспринят исследователями. Этот второй аспект заключается в том,
что оригинальная русская философия, по Эрну, есть философия
Нового времени — и только Нового времени Хронологические
рамки оригинальной русской философии, если оставаться на
почве эрновской концепции, принципиально не могут быть эк-
834
О. В. МАРЧЕНКО
стенсивно расширены вглубь веков, как это, к примеру,
предлагает Л. В. Поляков. Отмечая, что эрновское «связывание
русской философии с восточно-христианским "логизмом"
получило бы богатое эмпирическое подтверждение», автор пишет:
«...Тут, в частности, может быть оспорен начальный пункт в
истории русской философии, связываемый и с Г. С.
Сковородой, а традиция русской философской мысли могла бы быть
углублена по крайней мере до XVI в. (Максим Грек, Андрей
Курбский, Зиновий Отенский)» 23. Это замечание
свидетельствует лишь о невнимании исследователя к основной эрновской
характеристике оригинальной русской философии или,
повторяю, о нежелании отнестись к ней серьезно. Подчеркну еще
раз: согласно Эрну, оригинальная русская философия — это
философия Нового (и последующего) времени, и никакого
иного24.
Именно в этой связи Эрн говорит о специфической «двувоз-
растности» русской культуры. Первая фаза ее — исполненная
религиозного онтологизма (логизма) культура допетровской
Руси с ее «строгим тоносом таинственной иератичности, почти
литургичности», достигающая своих высот в старой русской
архитектуре и иконописи. В их утонченном «духовном
классицизме» находит свое живое продолжение эллинская культура
(подобно тому как на Западе, в странах романских, находит свое
продолжение культура римская). Вторая фаза начинается
эпохой Петра Великого, время активного проникновения в Россию
новоевропейской, преимущественно протестантской, культуры
и ее философского коррелята — новоевропейского
«рационализма», Между этими двумя фазами, тем не менее, существует
фундаментальная преемственность. «В новой русской
культуре — та же проникнутость религиозным онтологизмом, только
из данности он превратился в задание, из исходного пункта в
конечный, из основы и корня в "родимую цель", в желанную
энтелехию» (Соч. С. 387; см. также цитированный выше
фрагмент работы Эрна «О великолепии и скептицизме...»). Этот
онтологизм и должен быть явлен, но уже в новой, дискурсивно-
вербальной форме: наступает время философии. «Впервые в
России пробуждается разум философский как отдельная
способность, вызываемая к жизни усложнением условий и нашего
национального бытия, и необычной, все растущей сложностью
истории всемирной» (Сковорода. С. 333).
Но не означает ли это, что оригинальная русская
философия, дискурсивно являя в Новое время исконный религиозный
онтологизм, есть тем не менее философия средневековая по сво-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
835
ему типу (как склонен, по-видимому, полагать А. А. Клёстов25)?
На этот вопрос со всей определенностью следует ответить
отрицательно. Эрн не случайно говорит о рождении в России
философского разума именно как отдельной способности, а о самой
философии как особом роде знания, «самостоятельной отрасли
высокого ведения», которая не должна быть ancilla theologiae,
подобно тому, как это зачастую имело место в Средние века
(впрочем, по Эрну, философия не должна быть и ancilla scien-
tiae, как в ряде современных учений) (Сковорода. С. 333; Соч.
С. 136, 144). Ведь еще В. С. Соловьев размышлял в свое время
над принципиальными недостатками средневековой мысли,
например, на заключительных страницах «Критики отвлеченных
начал». Здесь он отвечает на вопрос: почему, последовательно
отвергая как отвлеченно-рациональный принцип философии (в
пределе своем, гегельянстве, приводящий к системе понятий
без всякой действительности), так и отвлеченно-эмпирический
принцип положительной науки (приводящий в позитивизме к
системе фактов без всякой внутренней связи), человеческий ум
тем не менее не может просто вернуться к «Сумме теологии»
Аквината или учению восточных Отцов Церкви? «Дело в том,
что при всех своих достоинствах эта теология лишена двух
признаков, необходимо входящих в полное понятие истины: во-
первых, она исключает свободное отношение разума к
религиозному содержанию, свободное усвоение и развитие разумом
этого содержания; во-вторых, она не осуществляет своего
содержания в эмпирическом материале знания. В этой
величественной системе религиозных истин недостает свободного развития
человеческого разума и богатого знания материальной
природы, а между тем то и другое необходимо. <...> ...Раз дано
мышление и опыт, раз наш субъект относится ко всему не только
мистически, но также рационально и эмпирически, абсолютная
истина должна проявиться и в этих отношениях, должна
распространяться и на них, должна стать истиною разума и опыта;
в противном случае она уже не будет абсолютною. <...>
...Следовательно, задача не в том, чтобы восстановить традиционную
теологию в ее исключительном значении, а, напротив, чтобы
освободить ее от отвлеченного догматизма, ввести религиозную
истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать
ее в данных опытной науки <...>» 26. Эти размышления,
разумеется, не прошли мимо внимания Эрна, и он совершенно
справедливо подчеркивает, что уже «родоначальник» оригинальной
русской мысли Г. С. Сковорода был «прежде всего философом,
т. е. незаинтересованным и бескорыстным искателем теорети-
836
О. В. МАРЧЕНКО
ческой Истины». Любящий церковные обороты и имеющий
непреодолимую склонность к библейским текстам, Сковорода —
«глубоко светский человек. Он природен, а не церковен»
(Сковорода. С. 285, 43). Оригинальная русская философия — это
светская философия, философия Нового времени (отличная,
правда, от западноевропейской в ряде существенных
моментов).
Следующий важный аспект эрновской концепции (о котором
я отчасти уже говорил) заключается в том, что русская
оригинальная философия представляет собой органическую
целостность. При естественном индивидуальном различии
конкретных ее представителей их мышление «направляется» единым
глубоким синтетическим устремлением. «Для меня, — пишет
Эрн, — вся русская философская мысль, начиная со Сковороды
и кончая кн. С. Н. Трубецким и Вяч. Ивановым,
представляется цельным и единым по замыслу философским делом. <...>
Несмотря на "пафос расстояния", отделяющий Вл. Соловьева от
славянофилов, или Лопатина от Вяч. Иванова, между всеми
(повторяю, оригинальными) русскими мыслителями есть
какой-то "тайно обмененный взгляд". Что-то единое видится и
предчувствуется всем представителям русского философского
самосознания, и диалектика, искание жизнью, европейская
образованность, варварская стихийность, чудачество и трагизм
личных переживаний — все различными путями ведет к
одному, и все различными тонами вливается в одно симфоническое
целое» (Сковорода. С. 24—25). Речь идет, что важно, не об
обычной школьной традиции, осуществляющей непрерывную
прямую «внешнюю» передачу в сфере сознания. Эрн говорит о
традиции внутренней, «подземной», подсознательной, которая
«будучи непрерывной внутри, прерывна извне и вместо
школьной зависимости дает ряд культурных явлений,
развивающихся в совершенной независимости друг от друга. Присутствие
этой внутренней традиции доказывается тем, что в явлениях,
не имеющих никакой внешней зависимости друг от друга,
обнаруживается поразительное внутреннее единство» (Соч. С. 98).
Только существованием такой внутренней традиции
объясняется тот факт, что русские мыслители, разделенные временем и
порою имеющие самые приблизительные представления друг о
друге, «перекликаются» между собой тематически и
концептуально (Сковорода. С. 332). «Соловьев совсем не знал Чаадаева и
почти слово в слово писал то же, что писал Чаадаев. Многие
кровные мысли, потом с различными вариантами повторяющи-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
837
еся последующими русскими мыслителями, выражены
Сковородой ярко и выпукло» (Соч. С. 98)27.
Но что стоит за отмеченной внутренней традицией, чем она
образована и поддерживаема? Этот вопрос подводит к
центральному пункту эрновской концепции русской философии, ее
эвристическому ядру. Эта целостность, эта единая
устремленность оригинальной русской философии в лице ее конкретных
представителей, эта внутренняя традиция имеет некую
«подпочву», опирается на фундаментальный «механизм», работа
которого определяет целостность и историческую устойчивость
феномена в его своеобразии. «Русская философия <...>, —
утверждает Эрн, — всей значительностью своею и всем
своеобразием обязана умопостигаемому месту, занимаемому Россией
в чреде времен и пространств. Живая наследница Восточного
православия, Россия в таинственной глуби своего народного
существа носит нетленными и вечно живыми религиозные и
умозрительные достижения великих отцов и подвижников
Церкви. Россия существенно православна, и логизм
восточно-христианского умозрения <...> есть для России внутренне данное. И
в то же время Россия приобщена к новой культуре Запада. <...>
"Критичность" новоевропейской культуры философским
коррелятом имеет рационализм. "Органичность" христианской
культуры находит свое оправдание и завершение в логизме. Но
рационализм существенно враждебен логизму. <...> Всемирно-
историческая тяжба в области философского сознания может
быть сформулирована так: ratio против Λόγος'а — Λόγος против
ratio; и вселенская задача философии сводится к всестороннему
и свободному торжеству одного из начал над другим. <...>
Русская философская мысль, занимая среднее место, ознаменована
началом этой свободной встречи, столь необходимой для
торжества философской истины. Внутренне унаследовав логизм и
нося его, так сказать, в своей крови, Россия философски
осознает его под непрерывным реактивом западноевропейского
рационализма. Вот основной факт русской философской мысли.
Историческая встреча и завершительная битва между началом
божественного, человеческого и космического Логоса и
началом человеческого, только человеческого ratio есть достояние и
удел России» (Сковорода. С. 22, 23; ср.: Соч. С. 82, 85, 86 и др.).
Приведя эти известные строки28, мы должны неспешно и
обстоятельно рассмотреть существо эрновской мысли.
Я хотел бы обратить внимание на то, что Эрн, показав
предварительно наличие «туземной подпочвы» и тем самым
скорректировав общераспространенное мнение о зависимости рус-
838
О. В. МАРЧЕНКО
ской философии от философии западноевропейской, нисколько
тем не менее не отрицает самого факта такой зависимости.
Более того, влиянию новоевропейской мысли на генезис русской
философии отводится в концепции Эрна важнейшая,
конструктивная, роль. Однако обычное указание на зависимость и
влияние еще не говорит ни о чем конкретном, замечает Эрн, и не
позволяет показать специфику феномена оригинальной русской
философии. «Ведь и западная мысль развивалась в
несомненной и глубокой зависимости от античной. Простой факт этой
зависимости означает ли неоригинальность новой мысли по
сравнению с античной? Конечно, нет!» (Соч. С. 85).
Существуют, очевидно, разные формы влияния и зависимости. И если
говорить о русской философии, то фактор воздействия западной
мысли на русское сознание исключительно велик по своему
эффекту и ответной реакции. В самом деле, русская культура во
второй ее фазе переживает глубокое и обширное влияние
Запада, проникающее во все жизненно важные области. «С Петра
Великого, принуждением Промысла и истории, взрослый
русский человек посылается на учебу новому Западу. <...> С тех пор
в России брошены семена новой культуры. <...> Западная
культура с Петра Великого перестала быть для нас
трансцендентной. Она влилась в нас и дальше будет продолжать вливаться
<...>» (Соч. С. 387, 389). Такое же мощное воздействие
осуществляется и в сфере мысли, — с этого времени и по сей день для
русского сознания характерно пристальное внимание к
западной философии, «исключительная заинтересованность всеми
продуктами философского творчества Европы» (Соч. С. 85).
Это — не просто «влияние» или «заимствование», о чем любили
и любят писать многие историки отечественной философской
традиции, это нечто иное. Воздействие новоевропейского
«рационализма» Эрн уподобляет гигантскому молоту, кующему
«русское самосознание на исторической наковальне,
воздвигнутой гением великого Петра» (Сковорода. С. 26). «Рационализм»
захватывает русское сознание в самой его глубине, тревожит
что-то чрезвычайно важное в нем, дотрагивается до его
сущностного нерва, — порождая специфическую ответную реакцию.
«В схоластическом меонизме, в путах которого бьется
европейская мысль, интересная именно этой своей борьбой, для
русского сознания есть какая-то непереваримая горечь, есть что-то
абсолютно неприемлемое» (Соч. С. 82).
Что стоит за этой неприемлемостью, отторжением,
конфликтностью? После проделанного ранее анализа можно вполне
определенно сформулировать эрновскую мысль следующим обра-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
839
зом. Эта проблематичность восприятия обусловлена
столкновением двух разных типов духовного опыта29: тяжбой между
«коренными и глубочайшими основами человеческого сознания»
(Сковорода. С. 24), актуализированными в глубине одного
сознания, русского, в силу его специфической «двувозрастности».
Опыт новоевропейский есть опыт человека, впервые
полагающего себя лишь как здешнее, эмпирическое, посюстороннее
существо, вся деятельность которого направлена на
осуществление в мирском, «земном» плане — ив нем полностью
исчерпывающемся . Новоевропейская философия, « рационализм »
есть (мистифицированное) осмысление в понятиях и
категориях именно этого опыта среднеевропейского человека.
«Культура нового Запада с Возрождения идет под знаком откровенного
разрыва с Сущим и ставит себе задачей всестороннюю внешнюю
и внутреннюю секуляризацию человеческой жизни. <...> Новая
культура Запада проникнута пафосом ухождения от небесного
Отца, пафосом человеческого самоутверждения, принимающего
человекобожеские формы, пафосом разрушения всякого транс-
цендентизма, пафосом внутреннего и внешнего
феноменализма» (Соч. С. 388). Другой опыт, опыт традиционной
христианской культуры (который, по мнению Эрна, проникает всю душу
России), полагает существо человека в его неразрывной связи с
Абсолютом-Логосом, космосом (эпифанией божественного
Логоса) и «внутренним человечеством»
(Логосом-Софией-Церковью). В этом случае предельным земным осуществлением
человека является подвижник, святой, подвигом просветления воли
(обожение) восстанавливающий единство земного и небесного.
Проникая в традиционную «почву», внутренней данностью
которой является опыт святости («Фиваида»), «рационализм»
при всей своей рефлексивной, понятийно-категориальной
разработанности и утонченности — а во многом благодаря этой
последней — вызывает в русском сознании «возмущение»,
дискомфорт, проблематизацию. Это не конфликт двух философий,
поскольку философия на этой стадии одна, новоевропейская, в
России же пока присутствует лишь «опыт» в неявленном,
«запечатленном», до-рефлексивном состоянии (философия логизма,
напомню, есть явление античности и средневековья).
Оригинальная русская философия, рождающаяся в таком столкновении
и противостоянии, есть сам конфликт, сама борьба двух
различных интенций — ratio и Λόγος'а — в недрах единого
сознания, — уже в рефлексивной форме. Это своего рода
герменевтический процесс, процесс осознания, выявления, понятийной
актуализации «родного» опыта логизма — под благотворным
840
О. В. МАРЧЕНКО
воздействием новоевропейского ratio. «...Сознание Логоса в
русской философии совершается под почти непрерывным
исторически-благодетельным реактивом западноевропейского
рационализма, и в этом <,..> смысле детальное усвоение всех болей и
противоречий рационализма нам необходимо для того, чтобы
присущий нашей мысли логизм переходил из δυνάμει ον ενέργεια
ον [из возможности в действительность]» (Соч. С. 120). В этом
герменевтическом процессе «чужая» философская традиция,
вошедшая «принуждением Промысла и истории» в сердцевину
духовной жизни России, выполняет
конструктивно-провоцирующую роль, задевая сущностный нерв «родного» опыта. Это
приводит, с одной стороны, к о-предел-ению самих оснований
чужой традиции, проблематизации и пониманию их.о-(т)-гра-
ниченности, с другой стороны — к мощному творческому
движению поиска, выявления и осознания иных, «родных»
оснований. Такой двунаправленный акт осуществляется посредством
разработанного и разрабатываемого философского
инструментария.
Из данной характеристики видно, что «рацио» для русского
сознания не является чем-то вроде «внешнего стимула»30;
напротив, «рацио» интериоризируется в устроении русского
сознания в качестве, подчеркну еще раз,
конструктивно-провоцирующего момента. Борьба, столкновение происходят не между
двумя сознаниями, внешними по отношению друг к другу, но
внутри одного сознания, порождая его креативность и эврис-
тичность. Западная культура врывается в традиционный ритм
русской жизни, и борьба этих двух начал «становится
внутренним вопросом русского сознания и русской совести» (Соч.
С. 388). То же относится и к русской мысли: «Оба начала, и
ratio и Λόγος, русская мысль имеет внутри себя, имеет не как
внешне усвоенное, а как внутренне ее раздирающее» (Там же.
С. 120).
Борьба «рацио» и Логоса в недрах русского философского
сознания, будучи частью общего процесса взаимодействия
традиционной русской культуры и культуры новоевропейской, и
образует, «фундирует» органическую цельность оригинальной
русской философии, создавая тематически-концептуальную
преемственность («внутреннюю традицию») поисков ее
конкретных представителей. Процесс этот имеет, по Эрну, вполне
определенную и знаменательную направленность. Основной
пафос русской культуры во второй ее фазе — «пафос мирового
возврата к Отцу, пафос утверждения трансцендентизма, пафос
онтологических святынь и онтологической Правды» (Соч.
Владимир Эрн и его концепция русской философии
841
С. 388). И первая глубоко русская реакция на воздействие
новоевропейской культуры (помимо слепого подражания,
некритической увлеченности, безликого западнического
«просветительства» и т. п.) — палинодия (покаяние, μετάνοια)31, отказ от
дальнейшего у хождения от народной святыни. Палинодия,
провозглашаемая голосами лучших представителей
культурного самосознания. «В России <...> с этих голосов начинается
новое течение, ибо с голосами солидарна народная глубина, а в
народной глубине несокрушимая твердыня духа — Фиваида»
(Там же. С. 389). Эта энергичная и полная творчества
палинодия возглашается и главными героями русской философской
мысли (Сковорода. С. 26). В борьбе ratio и Лоуос'а рождается
основоположное решение. «Вся моя характеристика русской
философии <...>, — писал Эрн, — есть обоснованная
историческим изучением попытка доказать существенно новый и
оригинальный в сравнении с Западом leit-мотив русской мысли:
устремленность к логизму» (Соч. С. 112). Стоит заметить, что
дело здесь, конечно же, не в этнической «русскости». И,
разумеется, не в абсолютной новизне такого типа мышления. «Я
ценю русскую мысль за ее верность философскому началу
всемирного значения <...>», — неустанно подчеркивал Эрн, тем самым
ограничивая своеобразие русской философии с ее
устремленностью к логизму рамками Нового (и последующего) времени с
его магистральным западноевропейским «рационализмом».
«В лице Сковороды происходит рождение философского
разума в России» (Сковорода. С. 333). Что означает это
утверждение Эрна? «В лице Сковороды русская мысль делает какой-то
значительный поворот, берет направление, которого более уже
не покидает» (Там же. С. 335). Специфическим для русской
философии является именно этот поворот, некая новая интенция
мышления. Русский философский разум создается этим
поворотом, конституирует себя в основных чертах этим креативным
актом. Сам этот акт является, конечно, актом волевого и
интеллектуального выбора каждого конкретного мыслителя, начиная
с самого раннего этапа. «В наивной, даже примитивной
форме, — пишет Эрн, — в сковородиновском "лепете" звучат
новые, незнакомые новой Европе ноты, объявляется
определенная вражда рационализму, закладываются основы совершенно
иного самоопределения философского разума» (Там же). До-
рефлексивная, до-логическая основа русского мышления
заключена в «Фиваиде», опыте бытийного возрастания человека на
пути к предельному своему осуществлению, выражающемуся в
христианском подвижничестве, святости. И специфический по-
842
О. В. МАРЧЕНКО
ворот родившегося в послепетровской России философского
разума, его основная для Нового времени конституирующая
направленность, креативная интенция, заключается в ином,
нежели в Западной Европе, отношении к святости. «...Разум
новой Европы определил себя рационалистически, т. е.
враждебно к мистическому началу, которым жила и потаенно
продолжает жить Европа <...>» (Там же). Разум новой России — в
результате свободного — подчеркнем это! — решения,
безусловно независимого и в себе уверенного мышления — определяет
себя логически, ставя во главу угла именно это, «отвергнутое
строителями», мистическое начало. Тем самым оригинальная
русская философия открывает в метафизической глубине
русского сознания, продолжает и творчески развивает, то самое
умозрение, которое «начала великая Эллада, которое
продолжил христианский Восток и которое было почти совершенно
устранено с магистрали философской мысли новой Европы»
(Соч. С. 290).
Переходя теперь от рассмотрения общих характеристик
своеобразия русской философии к вопросу о том, в чем конкретно
проявляется это своеобразие, эта устремленность русской
мысли к логизму, сделаю одно предварительное замечание.
С формальной точки зрения Эрн изложил эту часть своего
учения несколько «разбросанно», не совсем центрально, без
должной степени структурности и желательной
последовательности. Однако и здесь его взгляды отличаются основательной
продуманностью, концептуальностью и сущностным
внутренним единством. Я попытаюсь изложить их в более
систематичном виде32.
Коль скоро фундаментальной характеристикой
оригинальной русской философии является ее устремленность к логизму,
основные моменты логизма будут так или иначе, частично,
фрагментарно, а затем все более глубоко и последовательно реа-
лизовываться в построениях русских философов. Поэтому
представляется целесообразным в максимально сжатом виде дать
описание логизма, как его концептуально представлял Эрн.
Логизм есть учение о божественном Логосе как источнике
бытия и мышления, восходящее к античному онтологизму Парме-
нида и Платона, развитое Аристотелем и неоплатониками и во-
церковленное усилиями отцов и учителей Церкви периода
догматических движений, в «ареопагитиках», в энергетизме
Григория Паламы. Философия отнюдь не есть дело только
индивидуальное и личное, она имеет ноуменальные корни.
«Философ не только сам философствует, но и в нем философствует
Владимир Эрн и его концепция русской философии
843
нечто сверхличное». Мысль получает свое истинное бытие не от
некой внешней ей данности, «факта», как-то:
субстанциальность «я», «чистое восприятие», психологическое переживание,
«факт научного знания» и т. п., но в осознании своей
абсолютной сверхфактичной, сверхпсихологичной, сверхчеловеческой
природы. Цельный разум, философское знание возможно
постольку, поскольку человеческая мысль коренится в недрах
трансцендентного божественного Разума, одновременно
имманентного всему, «сочувственно» проникающего сущее своими
творческими энтелехиями-энергиями. Логос как
посредствующее в творении начало, форма форм, целокупность смыслов
есть «коренное и глубочайшее единство постигающего и
постигаемого, единство познающего и того объективного смысла,
который познается». Логос в своем космическом аспекте
открывается человеку через эстетическое переживание в натуральных
религиях и искусстве, в их символическом и ритмическом строе;
божественный аспект открывается в христианстве (подвиге
«просветленной воли») как второе Лицо пресв. Троицы; аспект
дискурсивно-логический открывается в философии. Будучи
дискурсивна по форме, эта последняя синтетична по
содержанию, приводя к единству теоретической мысли все данные
человеческого опыта. Характерное для «рацио» понимание
истины как соответствия понятия предмету (самим же «рацио» и
пред(под)ставляемым), в логизме сменяется пониманием
истины как динамического осознания субъектом своего бытия-в-Ис-
тине. Познание человека подчинено динамическому принципу
«метафизического эха», оно обусловлено онтологией его
собственного личного субъектного бытия. Философ, собственно, не
устанавливает истину, напротив, сама Истина (Логос)
устанавливает философа, позволяя мышление, давая в Себе место
самовозрастающему в духовном подвиге человеку. Отсюда следует,
что философ не творец истины и еще менее ее соглядатай.
Философ — свидетель Истины, мужественный Ее исповедник.
Поэтому на вершине христианского гносиса находятся святые.
Место, занимаемое в трансцендентализме аналитикой
сознания, принадлежит в логизме описанию динамики духовного
возрастания личности, лествицы христианского подвига.
Практическое осуществление человеком своей ноуменальной идеи,
извечной о себе мысли Бога («внутреннее человечество») есть
обожение, причащение Логосу как Софии. Логизм
предполагает глубочайшее раскрытие личности, поскольку в нем «Бог —
Личность, Вселенная — Личность, Церковь — Личность,
человек — Личность»: в тайне своего личного бытия, в своей беско-
844
О. В. МАРЧЕНКО
нечной индивидуальности человек постигает модус
существования Бога и мира.
Первой важнейшей чертой, а точнее, тенденцией,
характеризующей оригинальную русскую мысль в ее устремленности к
логизму, является онтологизм. В этом принципиальном
онтологизме следует выделить ряд аспектов.
Прежде всего, оригинальная русская философия — это
метафизика, т. е. учение о сверхчувственных первопринципах
бытия. «Экспериментальная метафизика» Г. С. Сковороды с его
идеями «внутреннего человека» и «сродности», историософия
П. Я. Чаадаева, идеи «цельного знания», в котором принимают
участие все стороны духа, «соборность» И. В. Киреевского и
А. С. Хомякова, рассуждения последнего о сущности
православия, глубокие построения П. Д. Юркевича, концепция
всеединства В. С. Соловьева, «конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого,
онтологический персонализм и онтологическая психология
Л. М. Лопатина, — это все именно метафизика, утверждающая
метафизически сущими Бога, природу, церковь, культуру,
человека, мышление33.
На этой основе в русской философии и разворачивается
принципиальная критика универсального «меонизма»
новоевропейской философии. Это и отталкивание Сковороды от блестящего,
но плоского рационализма французского Просвещения XVIII в.,
и критика гегельянства славянофилами, кантовского
трансцендентализма Юркевичем, материализма, позитивизма и иных
«отвлеченных начал» А.А.Козловым, Соловьевым,
Лопатиным, С. Н. Трубецким и др.
Другой аспект онтологизма, утверждающего «безусловное
первенство онтологического ряда над всеми мыслимыми
рядами», обнаруживается в особом взгляде на соотношение теории
бытия и теории познания. В противовес новоевропейскому
«гносеологизму» оригинальная русская философия утверждает
онтологическую обусловленность гносеологии: теория познания
может быть построена только в рамках теории бытия, не
наоборот. Отдельная же, самодостаточная гносеология
принципиально невозможна, поскольку субъект есть прежде всего субъект
бытийствующий, и лишь потом — и поэтому — познающий. Это
соотношение онтологии и гносеологии принципиально
присутствует уже в целостности экзистенции и мышления у
Сковороды, жизнь которого есть бесстрашный метафизический
эксперимент, а философия — логическая запись этого эксперимента
(Сковорода. С. 213). Но с особой рефлексивно-аналитической
силой эта установка реализуется в учении Соловьева. «Первое,
Владимир Эрн и его концепция русской философии
845
что бросается в глаза в гносеологии Соловьева, это то, что он
совершенно не признает абсолютной, в себе замкнутой
самодовлеющей теоретико-познавательной дисциплины. Он никогда и
не пробовал становиться на схоластическую и в корне
фиктивную точку зрения, столь модную среди современных
гносеологов, будто гносеология есть абсолютно самостоятельная область
мысли, не нуждающаяся ни в каких положениях общего
философского характера»34.
Онтологизм, далее, проявляется и в специфической форме
самой гносеологии. Коль скоро познавательный акт есть
прежде всего событийный акт, захватывающий человека в его
ноуменальном существе, то русская философия утверждает
динамическую теорию познания. Само понимание истины онтологично,
истина есть бытие-в-истине, существенное усвоение Логоса,
возрастание в нем. Для того, чтобы истинно знать, нужно
истинно быть. «Степень познания соответствует степени
напряженности воли, степени существенной устремленности к Истине. <...>
В лествице Богопознания, т. е. познания Сущего, далеко всех
превышают герои и подвижники духа — святые» (Соч. С. 80).
Этот аспект онтологизма подробно рассматривается в
монографии о Сковороде и в статье о гносеологии Соловьева. «Как
истинный философ, он (Сковорода. — О. М.) с жизнью своей
проделал то, что хотел проделать с мыслью своей Декарт. Если
Декарт методическим сомнением решил избавить
теоретическую мысль свою от господства традиции и предрассудков и для
этого, усомнившись во всем, пытался хотя бы на время
оставить мысль наедине с самою собой, то Сковорода отважился на
нечто более решительное и грандиозное: он отверг всякое
готовое содержание жизни (а не только мысли) и, усомнившись во
всех путях, решил прежде всего остаться с самим собой,
овладеть своим "я" и создать себе такую жизнь, которая бы всецело,
во всех частях своих, вытекала (т. е. логически следовала) из
чистой идеи его внутреннего существа». Этот
экзистенциальный эксперимент осуществляется sub specie святости как
бытийного и эпистемологического горизонта35. «...Такова была
устремленность этого великого чудака к Истине, так высоко он
взбирался в своих постижениях, что издали ему рисовалась
неясными контурами небесная мудрость святых, и он подходил к
величайшим прозрениям философов христианского подвига»
(Сковорода. С. 99, 43). Если же говорить о Соловьеве, то именно
динамическая концепция познания составляет, по Эрну,
целевое ядро его гносеологии. Анализируя соловьевскую идею
теургии («организация действительности в смысле ее претворения
846
О. В. МАРЧЕНКО
и преображения в идеальный космос существенной красоты»),
Эрн акцентирует внимание на двух этапах ее понимания в
творчестве Соловьева. Первый, ранний этап «Критики отвлеченных
начал» и даже еще «Трех речей в память Достоевского»,
характеризуется несколько отвлеченным эстетизмом: под теургами
Соловьев понимает прежде всего творцов-художников. Однако
на втором этапе, времени «Трех разговоров», акцент
переносится уже на подвижников и святых. «Тот идеальный космос,
который теургически созидается историей человечества, есть
живая в себе сущая Идея, то есть, по Соловьеву же, некое
существо, имеющее непременно свой особенный Лик и свою
собственную действительность. Таким образом, теургическая
деятельность возможна лишь в Церкви и через Церковь».
Несомненно, отмечает Эрн, что переход к динамике в гносеологии
у Соловьева лишь намечается, сделаны самые первые шаги, но
эти шаги значимы и принципиальны для русской мысли. «...И
если говорить о каких-либо заветах, которые оставил Соловьев
русским философам, — то гносеологический завет Соловьева
нужно сформулировать так: "не забывайте учения об идеях и
помните, что первая очередная задача русской философской
мысли — это понять, сознать и выяснить динамическую
сторону познания"»36.
Следующий аспект онтологизма, который я условно назову
здесь софийным космизмом (у самого Эрна такого выражения
нет), нужно выделить специально, поскольку он находится
в центре внимания философа как существеннейший компонент
его учения и вообще логизма в прошлом и будущем. Опираясь
на идеи преп. Максима Исповедника, Эрн подчеркивает
важность «самобытного и ответственного положения
восточно-христианского умозрения»: Природа есть Откровение,
равноправное Откровению писаному. И потому первостепенная задача
логизма (русской философии) — осознать Природу как
самостоятельно Сущее, — причем не только по отношению к человеку,
но и в известном смысле по отношению к Богу, Абсолютно
Сущему. В отличие от меонистического «рационализма» с его
категориями вещности, механицизма и детерминизма, осознание
Природы в логизме осуществляется в категориях личности,
органичности и свободы.
Эта тема, — показывает Эри, — присутствует в русской
мысли в самых ее истоках, уже в размышлениях Сковороды о сути
«макрокосма», — надо признать, не без противоречий и
гностических уклонов. «Метафизическая основа Вселенной в
близорукие минуты смешивалась Сковородой с Самим Богом, его "На-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
847
тура" явно пантеизировалась. Но в более вдохновенные и
подъемные минуты, которым, конечно, всегда принадлежит
первенство, Сковорода в какой-то странной, но, несомненно,
творческой интуиции презирает таинственную основу мира в
Деве, "превосходящей разум премудрых". Белесоватое пятно
пантеизма разрывается сверкающими линиями, и Сковорода
как бы против воли своей устанавливает и метафизическую
самостоятельность мира, т. е. его отличие от Бога, и его
подлинную божественность» (Сковорода. С. 270).
Это интуитивное сковородиновское прозрение женственной
сути мира, — по убеждению Эрна, — есть «глубочайшая основа
новой чисто-русской метафизики» (Там же. С. 341). И в высших
моментах своего творчества Ф. М. Достоевский загадочно
говорит о том же самом. Речь идет о знаменитом фрагменте в
романе «Бесы», рассказе юродивой хромоножки Марьи Тимофеевны
о ее беседе со старицей: «"Богородица что есть, как мнишь?" —
"Великая мать, — отвечаю, упование рода человеческого". —
"Так, говорит, богородица — велика мать-сыра земля есть, и
великая в том человека заключается радость"» 37.
Наконец, Соловьева можно назвать философом вечной
женственности, поскольку мистическое содержание «Трех
свиданий», как обстоятельно доказывает Эрн, лежит в основе всего
его философского и поэтического миросозерцания,
специфически отражаясь в онтологии, гносеологии, эстетике, эротике
и т. д. «Первый после Платона Соловьев делает новое громадное
открытие в метафизике. В море умопостигаемого света,
который безобразно открылся Платону, Соловьев с величайшей
силой прозрения открывает определенные черты вечной
женственности»38.
В подтверждение этой эрновской характеристики русской
философии, в основе которой лежит интуиция Природы как
живого бытия, Субъекта, устремленного к тайному своему
Лику, можно было бы привести большой и достаточно
разнообразный материал, но это выходит за рамки настоящей работы39.
Еще один аспект онтологизма оригинальной русской
философии заключается в ее существенной конкретности,
насыщенности бытийным, жизненным содержанием. Ярче всего эта
жизненная конкретность реализуется в исполненном глубокой
философичности творчестве Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого.
Отсюда же и заметное в русской мысли недоверие к так
называемому «кабинетному» знанию, оторванному от реальной
жизни с ее конкретными проблемами и задачами40, отталкива-
848
О. В. МАРЧЕНКО
ние от отвлеченной «научности», — в чем сходятся Сковорода,
славянофилы, Соловьев, Толстой (Соч. С. 86—87). «Великий
протест Толстого против "научничества" есть прямое
продолжение мыслей Сковороды» (Сковорода. С. 340). С этим связано и
почти полное отсутствие систем в русской философии, в чем
Эрн видит не недостаток, но, напротив, достоинство:
«отсутствие систем есть глубокомысленный признак устремленности
русской мысли к логизму» (Там же. С. 27). Любая система
всегда искусственна и потому лжива, стремясь вместить
бесконечное многообразие живой жизни в ряд более или менее
произвольно выстроенных схем. Систематизм и схематичность
присущи «рационализму». «Меоничность в философии Вл.
Соловьева проявляется именно там, где он, оставляя путь
интуиции, обольщается миражом систематичности. И наиболее мео-
ничным русским философом был Чичерин, ratio которого,
первенствуя, стремился к универсальной систематичности»
(Соч. С. 86). Русская мысль в ее устремленности к логизму
характеризуется не внешней систематичностью, но внутренней
объединенностью созерцания, данной многим мыслителям.
«Монолитная цельность Сковороды, осуществившего гармонию
исключительного соответствия характера с τόνος'οΜ и деталями
его миропостижения, пронизанность жизни Печерина одною
идеею, гранитная крепость убеждений Хомякова, музыкальное
единство поэтических и философских прозрений Вл. Соловьева,
делающее поэзию его лучшим компендиумом его философии,
единый и светлый образ кн. С. Н. Трубецкого, одухотворенно
учившего, одухотворенно жившего и умершего смертью
немногих избранников, наконец, драгоценная цельность эстетико-фи-
лософского миросозерцания Вяч. Иванова, органически
выросшего из его "умозрительной" лирики, эти черты дробятся и
переливаются с меньшей яркостью и на других представителях
русской мысли, — Киреевском, Бухареве, Юркевиче, Федорове,
стоящих как бы в тени смирения» (Сковорода. С. 27).
Наконец, еще один аспект онтологизма выражается в
принципиальном нерасторжимом единстве разума поэтического и
разума философского в русской мысли. «Космос в целом есть
великое откровение божественной Мысли. <...> И весь мир есть
не что иное — как "лес символов", реалистически трактуемых».
Разорванное в рационализме41, это единство есть характерная
черта логизма вообще, который внутренне пронизан принципом
символическим. «Вернуться в Природу как Сущему,
метафизически осознать себя в ней — это значит <...> радостно разбить те
искусственные преграды, которые воздвигнуты между мыслью
Владимир Эрн и его концепция русской философии
849
философов и мыслью поэтов, <...> философски осознать
реалистическую правду символов, которыми говорило, говорит и
будет говорить всякое истинное искусство» (Соч. С. 288, 291 —
292). И если говорить о русской философии, то парадигмой для
нее, как показывает Эрн в своем анализе гносеологии
Соловьева, является не научное познание и не трансцендентальная
философия, но «смиренное творчество поэта, любовно пестующего
живые предрасположения живого человеческого слова»; в соло-
вьевской идее цельного знания уже «ощущения играют роль
живого сочувственного материала, который сам как бы
подсказывает и внушает познающему свой идеальный образ...» 42.
Единство поэтического разума и разума философского, этот
реалистический символизм чрезвычайно важны, и Эрн уделяет
этим аспектам особое внимание, поскольку в них наряду с
онтологизмом отражается и вторая основная тенденция
оригинальной русской философии — персонализм.
«Мудрость Слова не может быть дана помимо личности. Она
раскрывается через личность и в личности» (Соч. С. 88—89).
И хотя модусы личного существования Бога, мира и Церкви,
напоминает Эрн, бесконечно превосходят модус личного
существования человека и от него безмерно отличны, тем не менее
они постигаются более адекватно и существенно не в понятиях
внешнего опыта, отвлеченной «вещности», но в опыте
внутреннем, опыте личного бытия человека (Сковорода. С. 21). В
качестве опыта, в котором только и дается бытие, выступает, таким
образом, опыт внутренний (Эрн именует это интериоризмом
русской философии, т.е. ее обращенностью к «внутреннему»,
метафизическому, умопостигаемому человеку).
Так понятый персонализм выражается в антропологизме,
который уже Сковородой решительно ставится в центр своего
учения. Человек как метафизически Сущее есть малое «всё»
мира, в нем метафизически реально и полно присутствует
Вселенная. И поэтому всякое познание есть по сути самопознание.
«Для Сковороды ключ ко всем разгадкам жизни, как
космической, так и божественной, есть человек, потому что все вопросы
и все тайны мира сосредоточены для него в человеке. Не
разгадав себя, человек не сможет ничего понимать в окружающем;
разгадав же себя до конца, человек проникает в самые глубокие
тайны Вселенной» (Там же. С. 214—215).
Этот антропологизм специфически преломляется в
размышлениях А. А. Козлова: анализируя идею бытия, он показывает,
что субъект есть интегральная и абсолютно не выделяемая из
нее часть.
850
О. В. МАРЧЕНКО
На новой ступени рефлексии тот же антропологизм, по
мнению Эрна, разрабатывается в гносеологии Соловьева: «Познание,
по Соловьеву, есть творческое претворение хаоса чувственных
впечатлений зиждительной идеей, открываемой
метафизическим воображением, — претворение, совершаемое на основе
мистической подсознательной веры, постигающей существенную
субстанциальность и бытийственность познаваемого. <...>
Познание <...> возможно потому, что сам познающий субъект
есть, во-первых, сущее, во-вторых, идеальная сущность,
в-третьих, начало творчески действующее. Как идеальная сущность,
познающий субъект содержит в себе потенциально идеи всего
существующего, и познание становится возможным чрез
осознание своей идеальной сущности» 43.
Вытекающая отсюда задача внутреннего, метафизического
изучения человека с непревзойденной силой решается в
русской художественной литературе, достигающей всемирных
высот в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. «Здесь
тот узел, которым неразрывно и навсегда связана русская
мысль с художественным творчеством. Это вечная и
благодатная спайка разума поэтического и разума философского в
русской мысли» (Сковорода. С. 338).
Уже Сковорода отчетливо отделял человека «внешнего»,
эмпирического, от человека «внутреннего», метафизического.
«Что же как не ослепительное блистание этого
умопостигаемого человека в трагической тьме грешной, преступной жизни,
запечатлевает высшей духовной красотой творения
Достоевского? Что же как не это возносит его пламенный
антропологизм на всемирно-историческую высоту?» (Сковорода. С. 338).
Л. Н. Толстой, несмотря на рационалистическую природу своей
идеологии, именно в художественном творчестве,
испытывающем глубины человеческой души, пребывал в стихии
онтологизма44.
Поскольку, далее, точка зрения антропологизма состоит
в стремлении истолковать Вселенную в терминах не внешней
«вещности», но в терминах конкретного и живого внутреннего
опыта человечества, то на первый план в русской мысли
выходит проблема символа. Символ, по своей природе синтетический
и конкретный, снимающий различие внутреннего и внешнего,
сохраняет цельность и многозначность живого внутреннего
опыта. Сковорода, вернув символу серьезное значение, сделал
его одной из центральных категорий своего философствования.
И вслед за ним символизм становится одним их самых
глубоких принципов русской мысли. «Цельное поэтическое мировоз-
Владимир Эрн и его концепция русской философии
851
зрение, полное откровений и постижений, с гениальностью
возводится Тютчевым на принципе чисто-символическом. К стихам
Тютчева, облачившим невидимый мир метафизической
реальности в самые напряженные моменты своей мысли,
прибегает Достоевский не только как к любимым цитатам, а как к неким
мистическим формулам, как к уже воплощенному слову и
слову священному. В минуты настоящих видений Соловьев, когда
в нем немотствовал ("как идиот") схематический разум
«вещности», весь покоряется принципу символическому и может
выразить свои мистико-поэтические прозрения лишь в слове
художественном. В эстетико-философских статьях Вяч. Иванова
этот исконный символизм находит достойного теоретика и
ставится в связь в реалистическим, существенным символизмом
Средних веков (Данте) и с мистическим символизмом
древнегреческого мифа» (Сковорода. С. 223, 224—226, 337).
Эта персоналистическая тенденция с ее интериоризмом,
антропологизмом, символизмом, связкой поэтического и
философского разума и задачей внутреннего метафизического изучения
человека — и потому важнейшей, незаместимой философской
ролью художественной литературы, — понимается Эрном и еще
в одном весьма специфическом, но очень «логическом» аспекте.
Персонализм русской философии — это еще и подчеркнутая
значительность личности ее творцов и создателей (Соч. С. 89).
«Λόγος как принцип божественный для своего усвоения
человеческим разумом предполагает ту динамическую теорию
познания, которая высшее осуществление свое находит в прагматике
христианского подвига, — поясняет Эрн это необычное
понимание персонализма, вновь и вновь обращаясь к своей
фундаментальной идее "Фиваиды". — В свершении этого подвига
безмерное значение святых. Но всякое, даже самое отдаленное и
приближенное, сознание Λόγος*а связано поэтому с внутренней
борьбой, с вольным подвигом, напряженность которого
приводит в движение и этим движением выявляет самые глубокие и
обычно скрытые стороны духа» (Там же. С. 88—89). Г. С.
Сковорода, Φ. М. Достоевский, В. С. Соловьев; личность каждого из
них больше и значительнее тех произведений, которые они
написали; личность их неисчерпаема и в глубинной тайне своей
не может быть выражена в слове. В. С. Печерин и Н. В. Гоголь
не писали ничего «философского», но их жизнь проникнута
сознательной идеей огромной глубины и оттого имеет
философскую значительность и значимость. Персонализм русской
мысли, подчеркивает Эрн, носит не случайный, а существенный
характер: Логос проникает всего человека, и потому не может
852
О. В. МАРЧЕНКО
выразиться всецело в некой его части, лишь в сознании. «Вот
почему мало знать, что написали и что сказали Гоголь,
Достоевский или Соловьев, нужно знать, что они пережили и как они
жили». Это требуется не для психологически-биографических
целей, но для углубления в логический состав их идей,
укорененных и в иррациональных основаниях личности,
проникнутых тем не менее потенцией Логоса. Поэтому, в частности, Эрн
так много внимания уделяет описанию жизни и личности
Сковороды: выявление борьбы стихийно-иррационального начала
его души с просветляющим началом Логоса помогает уяснению
его философии. «Когда Слово, проникая внутрь, завладевает
всей полнотой человеческих переживаний, оно выражает себя
не пером и не одними устами, а божественной глубиной и
мукой искания, соразмерного значительности мысли
индивидуализирующего эту мысль и движущего всею жизнью
избранника» (Там же. С. 89).
Какие же настроения и переживания характерны для
русских мыслителей в целом? Странничество, утверждает Эрн, есть
подлинный символ всей русской мысли. Идет ли речь о
«внешнем» странничестве В. С. Печерина, «уходе» А. М. Добролюбова
и Л. Н. Толстого, странничестве «старчика» Г. С. Сковороды,
метафизическом, «внутреннем» странничестве Н. В. Гоголя,
В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского, — этим фундаментальным
настроением проникнуты все значительные русские
мыслители. «Тревожность мысли Гоголя, Соловьева и особенно
Достоевского, — непревзойденной вершины нашего самосознания, —
совершенно нова для современной Европы. Эта специфически-
русская тревога в своих высших явлениях ощущает с силой
исторический лёт времен, эпох, сознает страннический,
переходный и преходящий характер всей земли, всего мира и начинает
чувствовать Апокалипсис как живую книгу Истории, которая
перелистывается на наших глазах» (Сковорода. С. 335). Эта, как
сейчас бы сказали, экзистенциальная тревога, тоска, «ревность
по дому», апокалипсичность, то ощущение, которое выражено в
знаменитом стихе Псалтыри: «странник я на земле», взыскание
Безусловного, Вечного, Абсолютного — коренная черта
значительных русских мыслителей, проявляющаяся, как пишет Эрн,
в чувствах, мыслях, поступках, словах, во всем строе личности,
и даже в молчании. «Логос, примиряя правду крайнего и
абсолютного индивидуализма с принципиальным универсализмом
(органическое сочетание этих двух крайностей абсолютно
невозможно в рационализме), требует существенного внимания не
только к мысли, звучащей в словах, но и к молчаливой мысли
Владимир Эрн и его концепция русской философии
853
поступков, движений сердца, к скрытой мысли, таящейся в
сложном, подвижном рисунке индивидуального лица» (Соч. С. 90).
Все это подводит к третьей черте, свидетельствующей об
устремленности оригинальной русской философии к логизму.
Это глубокая и коренная религиозность. (Соч. С. 87). Можно
легко заметить присутствие этой черты во всех
вышеприведенных характеристиках русской мысли, наличие ее в
многочисленных цитатах из произведений Эрна. И это естественно, поскольку
три основные тенденции — онтологизм, персонализм и
религиозность, обусловлены разворачиванием в русском мышлении
единого фундаментального принципа. Поэтому следует
зафиксировать эту черту, сделав лишь самые необходимые пояснения.
Говоря о коренной и глубокой религиозности русской
философии, Эрн менее всего имеет в виду личную религиозность
русских мыслителей: если бы подразумевалась только личная
религиозность, это противоречило бы всей его концепции. Ведь
личная религиозность присуща и многим представителям
новоевропейского рационализма («всякий гений так или иначе
религиозен»), — но ratio как первоначало философствования
безрелигиозен принципиально — как начало человеческое и
только человеческое. И в случае с русской философией речь
идет не о субъективно-психологических установках того или
иного автора, но об объективной характеристике самого
принципа мышления.
Восточно-христианская мистика, логизм, напоминает Эрн,
есть историческая почва, взрастившая всю русскую философию.
И потому существенно вне религии в России остаются таланты
второстепенные, не творцы и созидатели, но «передатчики»
и «просветители». Напротив, А. П. Чехов, к примеру,
сознанием своим живший вне всякой религии, во внутреннем «тоносе»
своих художественных созерцаний существенно православен
(Там же. С. 82)45. И русская философия, устремленная к
логизму, не случайно, но существенно религиозна, ибо религиозен
сам первопринцип ее мышления (Там же. С. 87). Логос —
принцип объективно-божественный, а не
субъективно-человеческий, и осознание Логоса есть осознание Божества. Всякое
осознание Логоса поэтому существенно религиозно.
Завершая реконструкцию эрновской концепции
оригинальной русской философии, напомню, что Эрн приложил много
усилий для изучения и описания еще одного национального
типа философствования — итальянского. Однако вывод,
который был сделан философом в результате такого анализа, иной:
854
О. В. МАРЧЕНКО
в отличие от состоявшейся русской оригинальной философии,
философия итальянская после Розмини и Джоберти под
напором новоевропейского — прежде всего германского —
«рационализма» отказывается от творческого утверждения своей
национальной мысли и превращается в арьергард последних
умственных движений Европы. Одну из причин,
воспрепятствовавших делу построения итальянской национальной
философии, Эрн видел в глубоком исконном раздвоении внутри
самой итальянской мысли. Несмотря на наличие ряда крупных
итальянских платоников, в эпоху Возрождения
новоевропейский «рационализм» делает первые шаги именно на
итальянской почве. Пантеизм Спинозы, этот королларий
картезианства, предвосхищается Джордано Бруно. Механистическое
естествознание гениально намечено Леонардо да Винчи и
находит принципиальное и законченное выражение у Галилея. Па-
оло Сарпи предвосхищает как эмпиризм Бэкона и сенсуализм
Локка, так и идеализм Беркли и скептицизм Юма.
Примечательно, показывает Эрн, что внутренняя денационализация
итальянской мысли, со второй пол. XIX в., органически и
исторически связана с тем внешним, шовинистическим
национализмом, так характерным для новейшей Италии с ее
империалистическими мечтаниями.
Так или иначе, в своей основе описываемый механизм, в
каждой культуре свой, имеет существенно герменевтический
характер. Сложное взаимодействие гетерогенного культурного
опыта, внутреннее столкновение в рамках национального
сознания разноприродных интуиции приводит к процессу
осознания и понятийно-категориального продумывания ряда частных
оснований как универсальных, в согласии с «энтелехией»
данной культуры. С этим связано всегда специфическое, проблема-
тизирующее прочтение чужой философской традиции вообще и
любого философского текста в частности. Это — не
«объективное» прочтение (таковое попросту невозможно), но именно
«субъектное», герменевтически-активное, интерпретирующее,
сочувственное или конфронтационное. Именно при таком
«заинтересованном» (т. е. образуемом своими проблемами) вопро-
шании текст впервые раскрывает доселе дремавшие в нем
смыслы, и именно такое вопрошание регенерирует креативность
текста. Неверно (и непродуктивно) было бы утверждать, что
русские мыслители, к примеру, «не поняли» Декарта или
Канта, — они поняли его так, как могли понять только они,
открывая в картезианстве и кантианстве новые смысловые измерения
и грани. Понятый окончательно и навсегда философ — мертв.
Владимир Эрн и его концепция русской философии
855
Такого рода процесс неизбежно имеет характер
кругообразного движения. Это постоянно возобновляемое возвращение ad
fontes продуцирует новый смысл, который, будучи храним
традицией, всегда оказывается впереди («не назад к логизму, — не
уставал повторять Эрн, — но вперед к логизму!»). Именно
таким смыслопорождающим кругообразным, «эротическим»
(Эрос, сын Пороса и Пении) движением является обращение
Маритена и Жильсона к «вечной философии св. Фомы»,
Гегеля — к вбиранию, вовлечению всей европейской традиции в
понятийно-категориальный строй своего мышления, Соловьева —
от исторически и логически выявляющихся отвлеченных начал
к положительному всеединству, Эрна — к Платону и восточной
патристике, Хайдеггера — к досократикам (с радикальной
деструкцией европейской метафизики), Рорти — к софистике.
Точно такой же характер носит движение Фуко от «знания»
к «заботе», Делёза — от «глубины» к «поверхности», Дерри-
да — от Единого-Логоса-Бытия-как-присутствия к Материи-
хоре-Иному как радикальной гетерономности, тотальной ина-
ковости, различению-различанию-рассеиванию-отсрочке.
Это именно европейский проект, проект единого неустанного
усилия, имеющего целью «снятие» наличествующих,
устоявшихся, мумифицированных оппозиций и опосредовании, —
усилия, порождающего самим актом такого «снятия» новые
оппозиции и опосредования, поскольку сама культура — это
иерархия (цепь, круг, «ризома» и т. п.) опосредовании. Это
перманентное и неостановимое выдвижение маргинального в
центр46 и отсылка центрального на периферию, постоянная
проблематизация своих оснований и первопринципов,
преобразование субстанциального, абсолютного (нерефлектируемого)
бытия в бытие осмысленное (или хотя бы затронутое,
отмеченное мыслью) и потому уже относительное в ряду других относи-
тельностей, залог движения, экспансивности, креативности
европейской культуры. Философия «есть то, что одно только и
имеет внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем
другим знаниям. <...> ...Философ — не виртуоз ума, но
законодатель»47. Это, подчеркнем еще раз, единый фундаментальный
проект, в котором оригинальная русская философия, выводя в
центр провинциальный и маргинальный для Нового времени
«логизм» и подавляя, оттесняя на периферию «рационализм»,
имеет свое, особое место, регенерируя скрытые смысловые
потенции антично-христианского умозрения, прочитывая им
новую философскую и культурную ситуацию — и наоборот.
^^
En. ИЛАРИОН
В. Φ. Эрн об имяславии
Одной из крупных фигур в стане ученых имяславцев был
В. Ф. Эрн, видный религиозный мыслитель, историк
философии и публицист. Без рассмотрения его публикаций 1914—
1916 годов наш обзор имяславских споров был бы неполным.
Владимир Францевич Эрн (1882—1917) с молодости
увлекался идеями Платона и Владимира Соловьева. После
окончания в 1904 году историко-философского факультета
Московского университета оставлен при кафедре всеобщей истории, где
впоследствии стал доцентом и профессором. В 1906-м в
Германии слушал лекции А. Гарнака. Религиозно-философская
проблематика находилась в центре научного внимания Эрна. Среди
его ближайших друзей — священник Павел Флоренский,
В. П. Свенцицкий, А. В. Ельчанинов, С. Н. Булгаков, Андрей
Белый. В 1905 году Эрн становится активным участником
подпольного религиозно-философского общества Христианское
братство борьбы, ставившего своей задачей создание русского
христианского социализма, основанного на идеалах соборности,
христианской общественности и всеобщей любви. В 1906 году
Эрн участвует в основании московского
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, а в 1907-м — в создании
при нем Вольного богословского университета. В 1910 году Эрн
вместе с С. Н. Трубецким, Г. А. Рачинским, Н. А. Бердяевым
и С. Н. Булгаковым участвует в организации московского
книгоиздательства «Путь». В этом издательстве выходят основные
труды Эрна — о Владимире. Соловьеве, Григории Сковороде,
Л. Н. Толстом и других мыслителях. Важное место в
становлении философского мышления Эрна занимает его полемика
в 1910-е годы с русским неокантианством и идеями
«германизма», которым он противопоставляет русскую философию,
органически усвоившую платонизм через наследие восточной пат-
В. Φ. Эрн об имяславии
857
ристики. В годы Первой мировой войны Эрн в многочисленных
статьях на религиозно-философские темы продолжает
развивать антигерманскую тему, а также работает над трудом
«Верховное постижение Платона (введение в изучение Платоновых
творений)» (труд остался незаконченным). В 1914 году Эрн
защищает магистерскую диссертацию, в 1916-м заканчивает
докторскую (которую не успел защитить). Преждевременная смерть
Эрна от нефрита прерывает его научные труды*.
Имяславской проблематикой Эрн заинтересовался уже в
1913 году. В августе этого года он выступил с предложением
подготовить коллективный сборник статей об имени Божием в
издательстве «Путь». Некоторые сотрудники «Пути», в
частности Г. Рачинский и С. Булгаков, горячо поддержали идею,
однако Е. Трубецкой отнесся к ней настороженно и убедил
владелицу издательства М. К. Морозову в нецелесообразности такой
публикации**. Тогда Эрн берется за перо сам. В 1914 году он
начинает работу над «Письмами об имяславии», задуманными
как апология имяславского учения в противовес позиции
Святейшего Синода, однако успевает опубликовать только два
письма (оба с подзаголовком «письмо первое»), содержащие
вводные замечания***. В 1917 году он публикует «Разбор
Послания Святейшего Синода об Имени Божием» ****.
Работы Эрна по имяславию, несмотря на их незаконченный
характер, имеют важное значение для истории имяславского
спора: они вносят существенный вклад в осмысление имясла-
вия с философской и богословской точек зрения. Дискуссия
* Биография Эрна изложена по: Кондаков И. В. Эрн Владимир
Францевич//Культурология XX век. Энциклопедия. СПб., 1998.
Том И. С. 398—400. См. также: Булгаков С.Н. Памяти В. Ф.
Эрна//Христианская мысль. Киев. 1917. Ноябрь—декабрь. С. 60—
68; Флоренский Павел, священник. Памяти Владимира Францеви-
ча Эрна//Христианская мысль. Киев. 1917. Ноябрь—декабрь.
С. 69—74.
** Подробнее об этом см. в: Голлербах Е. Религиозно-философское
издательство «Путь» (1910—1919) // Вопросы философии. 1994. № 2.
С. 151—152.
*** Эрн В. Около нового догмата (Письма об имяславии). Письмо
первое. Предварительные замечания // Итоги жизни. М., 1914. № 22—
23. С. 4—9; Эрн В. Спор об Имени Божием. Письма об имяславии.
Письмо 1-е: происхождение спора//Христианская мысль. 1916.
№9. С. 101—109.
**** Далее цитируется по изданию: Эрн В. Разбор Послания
Святейшего Синода об Имени Божием //Начала. 1995. № 1—4. С. 53—88.
858
En. ИЛАРИОН
вокруг философской базы имяславия, начатая Флоренским и
Муретовым в 1912 году, была Эрном продолжена и углублена1.
Кроме того, Эрн был первым, кто взялся за труд подробного
рассмотрения Послания Святейшего Синода от 18 мая 1913
года и выступил с серьезной критикой его основных богословских
предпосылок. Остается только сожалеть, что философ не успел
довести начатое дело до конца.
Первая публикация Эрна, посвященная теме имени Божия,
называется «Около нового догмата». Она появилась в июле
1914 года и содержит реакцию философа как на сам спор
вокруг почитания имени Божия, так и на обсуждение этого
вопроса в российской прессе. В имяславии Эрн видит
«нарождение нового церковного догмата», а в имяславцах—«воинов
Христовых и исповедников славы Имени Божия». Эрн
критикует как крайних противников имяславия вроде архиепископа
Никона, так и его защитников из среды либеральной
интеллигенции, таких как Бердяев: «Епископ Никон хочет одного
смирения без дерзновения, Н. А. Бердяев хочет одного дерзновения
без смирения2. Но истины не хотят оба». Истинными
учителями смирения и дерзновения, по мнению Эрна, являются не
Никон и не Бердяев, а афонские иноки, выдвинувшие
«незамеченную доселе богословами догматическую истину о том, что Имя
Божие есть Бог». В заключение своей статьи, имеющей сугубо
предварительный характер, Эрн говорит: «Итак, нас интересует
больше всего объективная сущность споров об Имени Божием.
Все остальное должно приложиться само собой. Важно
выяснить, на чьей стороне Истина, важно сознать, кто
подвижнически защищает святыню, а кто ее нарушает <...>» *. Дальше
«заявления о намерениях» Эрн в данной статье не идет.
Спустя два года, в 1916 году, Эрн публикует статью «Спор об
Имени Божием», где говорит о значимости вопроса о почитании
имени Божия для современного человека. В отличие от
Троицкого, видевшего в имяславии «явление религиозного
атавизма» **, Эрн считает, что «вопрос об Имени Божием потрясающе
современен». Этот вопрос метафизически и религиозно
«является скрытым и пока что невидимым фокусом всех лучей
Истины, разрозненно сверкающих в различных волнениях и алкани-
ях современного духа». Он «беспредельно глубоко отвечает на
целый ряд отрицаний европейской истории и, таким образом,
* Эрн В. Около нового догмата. С. 4—9.
* Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор //
Русский инок. 1914. № 9. С. 549.
В. Φ. Эрн об имяславии
859
является великим и достойным моментом не человеческой, а
божественной диалектики вселенской жизни» *.
Спор, развернувшийся на Афоне вокруг темы почитания
имени Божия, по мнению Эрна, не был случайным явлением.
Причиной этого спора Эрн, вслед за имяславцами, считает не
книгу «На горах Кавказа», а рецензию на нее инока Хрисанфа
и последующие публикации архиепископа Антония
(Храповицкого)3. В этих публикациях афонцев поразил «развязный,
грубый и часто хульный язык имяборствующих» **, резко
отличающийся от привычного для них языка святоотеческого
богословия. Святые Отцы, как бы ни различались между собой,
всегда говорили об Имени Божием со страхом и трепетом,
пишет Эрн. Это отношение они унаследовали от богослужения,
являющегося «наиболее непосредственным (в эмоциональном
смысле) выражением церковного самосознания», напоенного
«величайшим, трепетным литургическим благоговением к
Имени Божию» ***. Достаточно сравнить писания имяборцев с
высказываниями Отцов Церкви об Имени Божием, чтобы в самом
тоне почувствовать глубочайшую пропасть, отличающую
святоотеческое отношение к Имени Божию и отношение
имяборствующих ****.
Книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа», по мнению
Эрна, не вносит ничего принципиально нового в святоотеческое
понимание имени Божия. Более того, у Илариона вообще нет
«своих» слов: он главным образом пересказывает слова и
мысли общепризнанных учителей Церкви, святых и подвижников.
Новым моментом в книге схимонаха Илариона является та
настойчивость, с которой в ней выдвигается на первый план сила,
могущество и спасительность Имени Божия. В этой
настойчивости, считает Эрн, есть «какая-то огромная, внутренняя
значительность, что-то провиденциальное и относящееся к самым
глубоким потребностям современной религиозной
жизни» *****.
В плане духовного бытия, в коем сходятся в невидимый узел
многочисленные нити нашей душевной жизни, книга о.
Илариона есть не простое литературное явление, а громадное
событие, означающее новый этап в ходе церковной истории, — пи-
* Эрн В. Спор об Имени Божием. С. 103.
** Там же. С. 102.
*** Там же.
**** Там же. С. 102—103.
***** Там же.
860
En. ИЛАРИОН
шет Эрн. — Нам представляется, что в книге о. Илариона
невидимо и неслышно свершилось какое-то сгущение исконно
благоговейного отношения Церкви к Имени Божию, сгущение,
предваряющее и вызывающее кристаллизацию догматического
осознания истины этого отношения. Нам хочется сказать: Да
будут благословенны горные пустыни Кавказа за то, что в них
впервые было расслышано какое-то внутреннее слово, идущее
свыше, что они ответили первым призыванием, волнующим
эхом на зов, раздавшийся в небесных сферах! Их ответ,
преломленный чистой поверхностью молитвенного опыта, является
поистине изумительным и чудесным в двух отношениях. Во-
первых, по своему внутреннему смыслу, во-вторых, по своей
чрезвычайной действенности *.
Если отношение схимонаха Илариона к Имени Божию было
проникнуто благоговейным трепетом, то его критики,
напротив, стали относиться к Имени Божию «бесчинно,
интеллигентски опустошенно, нигилистически». Они противопоставили
имяславскому пониманию «меоническую концепцию Имени
Божия», которую стали вводить «туда, где раньше в
продолжение веков и веков царила безмолвная, священная онтология
культа». Именно тогда внутренняя взволнованность афонских
иноков «стала переходить во внешние столкновения и волнения
в среде монашествующей братии, что вызвало сначала
вмешательство русского посольства, а затем и достопамятное,
историческое выступление Синода» **.
Это выступление Эрн подвергает подробному анализу в
«Разборе Послания Святейшего Синода об Имени Божием»,
опубликованном незадолго до смерти философа. По мнению Эрна,
Синод мог реагировать на афонские споры двумя способами: либо
вынести вопрос на всеправославное соборное обсуждение, либо
«взяться за положительное богословское исследование вопроса
и так его творчески разрешить, чтобы верующие действительно
могли научиться точной Истине о почитании Имени Бо-
жия» ***. Синод выбрал наименее удачный путь: не рассмотрев
вопрос по существу, он поспешно высказался по поводу того
понимания, которое счел ошибочным, думая тем самым
закрыть тему. «Два иерарха, известные своим страстным
вмешательством в политические дела, и один преподаватель духовно-
* Там же. С. 103.
** Там же. С. 104—105.
** Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием.
М., 1917. С. 6—7.
В. Φ. Эрн об имяславии
861
го училища, решительно ничем не известный, написали три
полемических статьи, и эти частные и случайные мнения трех
православных христиан, благодаря связям и влиятельности
двух из них, сделались теми докладами, кои были положены
в основу Синодского Послания об Имени Божием» *.
Говоря о содержательной стороне Послания, Эрн прежде
всего отмечает:
«Первая черта богословствования Синода — это бросающееся
в глаза отсутствие богословской мысли <...> Никакого
исследования по существу вопроса об Имени Божием мы в Послании не
находим <...> Второй чертой нельзя не признать определенно
светский характер всех его рассуждений. В своих
контраргументах Синод опирается не на святоотеческую мысль, не на
мысль святых и подвижников, а на некую философию
придуманную; причем <...> философия эта, естественно, не
нуждается ни в каких обоснованиях, ни фактических, ни логических.
Достаточно кивнуть в ее сторону, даже не называя ее по имени,
чтобы все сразу делалось ясным и, главное, твердо
установленным <...> И вот, опираясь с полнейшей и твердой уверенностью
на "философию", составители Послания прежде всего хотят
представить себя людьми необычайного просвещения,
безусловно идущими в уровень с "веком", своих же противников
выставить любителями мрака и невежества <...> Если причиной
волнений было только невежество, то почему же Синод отнял
возможность у всех кандидатов, магистров и докторов
российского богословия дружным хором, по всем журналам, со всех
кафедр, со всех амвонов унять невежество низшей братии и
потушить начавшийся пожар многоводной рекой блистательной
богословской учености и богословского всеведения. Тогда бы
вышло всенародное торжество российского духовного
просвещения и, уж конечно, не пришлось бы прибегать к той
пресловутой "пожарной кишке", которой засовестился даже
"подведомственный" редактор "Колокола"!4 <...> Не показывает ли
явно прозвучавший голос некоторых высокопросвещенных
российских богословов, что, допусти Синод свободное и
беспрепятственное созревание соборного мнения Русской Церкви об
Имени Божием, — все наипросвещеннейшее в России подало бы
руку простецам Афонцам и вместе с ними восстало бы против
того господствующего у нас духовного по л у просвещения,
которое является и полухристианством, полу церковностью,
полуправославием? И не этого ли испугался Синод? <...> Не от того
* Эрн В. Разбор Послания... С. 8.
862
En. ИЛАРИОН
ли сначала запретил исследовать вопрос об Имени Божием, а
потом, только себя одного не лишив голоса, преподнес
верующим полемическое философствование двух иерархов и одного
преподавателя духовного училища?» *
Позиция «просвещенности», занятая Святейшим Синодом,
подвергается Эрном резкой критике. По его мнению, «с своим
"просвещением" Синод запаздывает по крайней мере на
четверть века, ибо научное сознание современности давно ушло от
той наивной догматичности, которая процветала тогда, когда
составители Послания сидели на школьной скамье. Научное
сознание в последние десятилетия пережило глубочайший кризис
и внутренне надломилось, открыв почти во всех областях
ведения такую сложность, которая решительно отменяет старые,
простые, уверенные в себе "квадратные" ответы» **. Автор
обвиняет Синод в номинализме и позитивизме, в следовании
принципам «Логики» Милля *** — тем принципам, которые были
опровергнуты еще при жизни Милля Джевонсом **** и
впоследствии Гуссерлем *****, а в русской литературе — Л. М.
Лопатиным. В трудах этих мыслителей произошло полное
преодоление эмпиризма и номинализма Милля:
«Искусственный разрыв между словом и реальностью,
между именем и вещью, составлявший сущность Миллевой теории,
преодолевается имманентным развитием логики в конце
XIX столетия, и на наших глазах совершается своеобразное
и крайне показательное возрождение антиноминалистического
реализма в понимании сущности умственных процессов, и от
него только шаг до глубокой реабилитации самого принципа
слова и его антиноминалистической интерпретации На наших
глазах происходит внутренняя, вызванная имманентным
развитием логики и гносеологии, отмена тех общих
наивно-догматических точек зрения, которые легли в основу недавней
полосы русского "просвещения", и в каком отношении находятся
новые, более серьезные концепции логиков и гносеологов к
вопросу об Имени Божием — это еще вопрос, и вопрос большой,
посильному разрешению коего мы в свое время посвятим нема-
* Там же. С. 4, 10—13.
** Там же. С. 14—15.
*** Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и
политэкономист, автор «Системы логики» (1843).
**** Джевонс Уильям Стенли (1835—1882) — английский экономист.
***** Гуссерль Эдмунд Густав Альбрехт (1859—1938) — немецкий
философ, основатель феноменологии.
В. Φ. Эрн об имяславии
863
ло страниц. Во всяком случае, мы можем сказать, что
теоретические основы индифферентизма русского просвещенного
большинства в отношении к вопросу об именах суть достояние
позавчерашнего дня науки, самой наукой давно пережитого;
и потому вопрос об Имени Божием, который с этим
позавчерашним днем совершенно несоизмерим и может быть даже
очень соизмерим с актуальнейшим и динамическим зерном
глубоких исканий научного "сегодня" — является своего рода
судом над остылостью и отсталостью русского просвещенного
большинства и над дурной привычкой многих русских людей
жить остывшими результатами чужой мысли <...>» *.
Ошибочные теоретические посылки ведут синодальных
богословов, в частности архиепископа Никона, к такой
антихристианской теории молитвы**, которую Эрн описывает как
«молитвенный субъективизм». Согласно этой теории, «...в
напряженнейшие и высшие мгновения сердечного горения
человек не выходит из замкнутой сферы своего сознания. Он только
"представляет" Бога, и силится воображением своим слить и
отождествить произносимое сердцем Имя Божие с Самим
Богом, но эти процессы воображаемого и молящейся душой
производимого слияния отнюдь не приводят к реальному
именованию Самого Сущего Бога. Синод утверждает, что дальше этого
воображаемого отождествления молитва идти не может, что
отождествление это "только в молитве, только в нашем сердце,
и это зависит только от узости нашего сознания, от нашей
ограниченности", молитвенно призываемый нами Бог вовсе не
тождествен объективно с Богом Сущим. Уже из этой формулировки
становится ясным, что между этой просвещенной теорией
Синода и православием нет ничего общего, ибо молитва — душа
православия, эта же теория абсолютно разрушает молитву и не
оставляет от православного опыта камня на камне. В самом
деле, молящийся, по учению семи иерархов, не выходит из
сферы своего сознания. Значит, в молитве он один, одинок.
Значит, молитва есть настроение одинокой души, благочестивые ее
эмоции. И как бы жарка ни была молитва, как бы ни
умилялось и ни горело сердце, здесь нет двух, нет единения человека
с Богом, а есть односторонний процесс различных душевных
переживаний, с различными физиологическими
сопровождениями (слезами, жестами и молитвенными словами)» ***.
* Эрн В. Разбор Послания... С. 15—16.
** Там же. С. 19.
*** Там же. С. 18.
864
En. ИЛАРИОН
Причина такого понимания молитвы Синодом заключается,
по мнению Эрна, в искусственном разрыве связи между именем
Божиим и Самим Богом, введенном синодальными
богословами. Молящийся, призывая имя Божие, не «представляет» Бога,
как то кажется архиепископу Никону, не пытается вызвать к
жизни умственный образ Бога, созданный своей фантазией, а
«зовет и именует Самого Сущего Бога». Истинное разделение
существует не между именем Божиим и Богом, а между
молящимся и именем Божиим: это разделение и преодолевается
молитвой, и преодолевается именно потому, что имя Божие
объективно связано с существом Божиим*. Разделив
нераздельное, Синод в то же время сливает неслиянное: отрицая
тождественность имени Божия с Богом вне нашего сознания, он
тем не менее настаивает на том, что в молитве мы
отождествляем Бога с Именем Божиим.
Синод говорит: «Мы не отделяем Его Самого (т. е. Бога) от
произносимого Имени, Имя и Сам Бог в молитве для нас
тождественны. О. Иоанн [Кронштадтский] советует и не отделять их,
не стараться при молитве представлять Бога отдельно от Имени
и вне его». Другими словами, мы своей волей магически
должны создавать иллюзию тождества, которого на самом деле нет.
По совету Синода, молящийся из субъективных материалов
своего сознания должен строить умственный идол Бога или,
иначе говоря, кантовскую регулятивную, но не
конститутивную, идею высшего Существа и молитвенно разгораться перед
собственным своим созданием, обливаясь слезами перед
«высоким» идеалистическим своим вымыслом**.
Далее Эрн затрагивает одну из любимых своих тем, обвиняя
Синод в «германизме», точнее — в следовании кантовской фе-
номеналистической антропологии. Эта антропология, по
мнению Эрна, «фатально и необходимо приводит к борению с
Именем Божиим». Сущность феноменализма можно определить
как «имяборчество», т. е. как «отрицание внутренней "откры-
тости", доступности, именуемости, реальной достигаемости и
умственной постижимости существа познаваемого нами и
окружающего нас со всех сторон бытия». Встав на кантианские
позиции, Синод не мог прийти к иным выводам, чем те, что
содержатся в его Послании. Но, оказавшись «невольными слугами
и бессознательным орудием германского духа», синодальные
богословы противопоставили себя той православной духовно-
* Там же. С. 20.
** Там же. С. 21.
В. Φ. Эрн об имяславии
865
сти, которая была характерна для русских монастырей Афона.
Спор афонских иноков с Синодом, по словам Эрна, стал «первой
схваткой православного духа России с протестантским духом
Германии» *.
В Послании Синода и в докладах, которые были положены
в его основу, Эрн видит непоследовательность, выражающуюся
в наличии в нем взаимоисключающих положений. С одной
стороны, настойчиво проводится мысль о номинальности Имени
Божия, о том, что оно является продуктом человеческого
сознания. С другой стороны, говорится: «Имя Божие свято и досто-
поклоняемо»; оно «божественно, потому что открыто нам
Богом». Если Имя Божие условно и номинально, отмечает Эрн, то
оно не может быть святым и божественным; если же оно
божественно и открыто нам Богом, то оно не есть наша умственная
продукция, не может быть мыслимо как элемент нашего
мышления: «Если Имя Божие открыто нам Богом, то это прежде
всего значит, что Имя Божие есть не одна из многочисленных
данностей нашего сознания, а безусловный дар свыше,
открывающийся нашему сознанию не как нечто ему принадлежащее
и им имеемое, а как некое непостижимое и непредвиденное
действие Божественной щедрости, разрывающее мрак нашего
эмпирического греховного сознания и всех категорий его
явлением неизреченного и существенного света Самого
Божества» **.
Ветхозаветное учение о славе Божией, по мнению Эрна,
коренным образом противоположно позитивизму таких
богословов, как архиепископ Никон. Упоминаемое Никоном тождество
Имени Божия и славы Божией в Ветхом Завете должно было
бы напугать и сразить архиепископа, но он «глубочайшее, та-
инственнейшее и вполне определенное учение Библии о славе
хочет свести к тем же номиналистским банальностям и к той
же плоскости обыденного позитивизма, каким проникнута вся
его спешно созданная "теория" имени» ***.
«Неужели можно допустить, что арх[иепископ] Никон,
столь учительно и властно настроенный, не знает, что Библия
пронизана с книги Бытия до Апокалипсиса неизреченно
таинственной, беспредельно глубокой, поистине «озаряющей
смыслы» онтологической мыслью о славе? Неужели он не знает, что
в христианской литургике, в песнопениях, в аскетической ли-
* Эрн В. Разбор Послания... С. 25.
** Там же. С. 28.
*** Там же. С. 31—32.
866
En. ИЛАРИОН
тературе, в житиях святых, у величайших из христианских
поэтов священное имя слава сверкает такой многоцветной
радугой величайших и предельных озарений, перед которой
меркнет слава всех других имен человеческой речи? И неужели так
сильна над ним власть протестантской науки, совершенно
закрывающей понимание Библии, что он видя не видит, слыша
не слышит и читая не разумеет? » *
Разбирая аргументы Синода против учения имяславцев об
Имени Божием, Эрн приходит к выводу о том, что они
«оказываются сотканными либо из сплошных недоразумений, либо из
прямых искажений богооткровенного учения» **. Крайне
несостоятельным представляется Эрну, в частности, аргумент о том,
что признание имени Божия Богом ставит Бога в «зависимость
от человека»:
«...Мы спросим: допускать, что Бог нераздельно присущ
вину и хлебу, пресуществляемым в Тело и Кровь Господню за
каждой обедней, — не значит ли это ставить Бога в зависимость
от человека? Между Св. Дарами и Именем Божиим существует
изумительный и существенный параллелизм. Сила и свойства
как Св. Даров, так и святейшего Дара Имени Божия —
совершенно объективны, и ни от каких субъективных условий, ни от
какой человеческой душевности не зависимы. В силу этой
самой независимости, коренной и Божественной, и получается та
видимая "зависимость", которой напрасно искушается Синод,
грубо ее толкуя и не разумея тонкой силы вещей духовных.
Именно потому, что Имя Божие, так же как и Кровь, и Тело
Господни — есть безусловный дар, и ни в какой степени не есть
оно данное человеческого сознания, ни одно из его созданий,
именно поэтому Имя Божие, так же как Св. Дары, доступно
каждой душе и открыто перед всяким сознанием, независимо
от его нравственных и душевных свойств. Отсюда возможность
злоупотребления. И если Синод под "зависимостью" разумеет,
что Имя Божие именно своей объективностью становится
открытым перед злой человеческой волей и, благодаря своей
онтологической независимости от ее хороших свойств, попадает как
бы в эмпирическую зависимость от ее дурных устремлений, то
ведь эта зависимость совершенно подобна "зависимости от
человека" Св. Даров. Тела и Крови Господней можно причащаться
недостойно. Больше того: из молитвы перед принятием Св. Тайн
явствует, что можно поведать тайну врагам, и мы знаем, что
* Там же. С. 32.
** Там же. С. 38.
В. Φ. Эрн об имяславии
867
в истории бывали самые мрачные злоупотребления этими
возможностями (черные мессы). Но эти возможности только
подчеркивают безусловно объективный характер таинства
Евхаристии — и больше ничего» *.
Аргумент о том, что имяславское учение об Имени Божием
ведет к «механике повторения» молитвы Иисусовой, также
представляется Эрну несостоятельным. Имяславцы,
подчеркивает философ, ничего не говорят о механическом повторении
молитвы. У Булатовича встречается мысль о том, что, «хотя
и не сознательно призовешь Имя Господа Иисуса, то все-таки
будешь иметь его в Имени Своем со всеми Его Божественными
свойствами» **.
«Но ведь между несознательностью и механикой нет ничего
общего, — восклицает Эрн. — Глубины бессознательности —
это глубины неисповедимой человеческой души, созданной по
образу Божию. Мы знаем, что очень часто человек в своих
бессознательных свойствах и в "тайных воздыханиях сердца"
бывает бесконечно выше, глубже и чище своего сознания. Мы знаем,
что нередко в глубине бессознательности у человека теплится
вера в Бога и тоска по правде Его, когда все сознание его
заполнено враждой против Бога и убежденным отрицанием Его.
Поэтому, если и несознательно призовешь Имя Господа Иисуса,
если сердце тайным движением и по темному инстинкту
потянется ко Христу и заставит уста призывать спасительное Имя
Его, в то время как сознание, увлеченное потоком и суетой
жизни, будет обращено совсем на другое, — и тогда
милосердный Господь может особенно явно коснуться призывающего
Его несознательно и через несознательность его просветить
Своим светом и его сознание. И тогда сознание будет спасено
бессознательностью. Христианство нигде не учит, чтобы спасало
только одно сознание. Бессознательность может быть спасаема
сознанием, — но и сознание может быть спасаемо
бессознательностью!» ***
Наконец, Эрн ставит ключевой вопрос о том, является ли
имя Божие энергией Божией. В решении этого вопроса ему по
могает сравнение имени Божия с чудотворной иконой,
сделанное архиепископом Никоном. Это сравнение, как подчеркивает
Эрн, несовместимо с представлением о номинальности и
условности имени: такое сравнение означает, что сам Никон припи-
* Эрн В. Разбор Послания... С. 34.
** Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 104.
*** Эрн В. Разбор Послания... С. 37.
868
En. ИЛАРИОН
сывает Имени Божию некую реальность. «Чудотворная икона
существует в двойном смысле: и как реальность эмпирическая,
и как реальность духовная. Если Имя Божие подобно
чудотворной иконе, значит — оно действительно, а не номинально
в двойном смысле: и в смысле эмпирического существования
(в сознании человечества), и в смысле духовной реальности
(как точка приложения Божественной энергии)» *. Впрочем,
сам Эрн считает (и в этом повторяет Булатовича), что Имя
Божие выше чудотворной иконы: «Имя Божие, как отображение
Существа Божия в Самом Боге — есть уже не икона, а нечто
безмерно большее, не точка приложения Божественной
энергии, а сама энергия in actu**, в ее премирной Божественной
славе и (по отношению к человечеству) в благодатном и
неизреченном ее богоявлении (теофании)» ***.
Вопрос о том, является ли имя Божие энергией Божией, как
мы помним, был по-разному решен СВ. Троицким и автором
Послания Синода: первый признал имя Божие энергией
Божией, второй не признал. Это расхождение в самом центральном
пункте, по мнению Эрна, является достойным наказанием
составителей Послания «за их неправое и нечестивое борение с
Именем Божиим» ****.
Как видим, критика Эрна в адрес Святейшего Синода была
весьма резкой. Некоторые его суждения представляются
несбалансированными: стремление увидеть в синодальных
богословах злостных хулителей Имени Божия, а в имяславцах героев
битвы за славу этого Имени приводит Эрна к преувеличениям,
натяжкам, к односторонней оценке происходившего.
Рассматривая труды Эрна по имяславию, нужно, кроме того,
учитывать их предварительный, вводный характер: Эрн намеревался
писать большую философскую работу об Имени Божием и в
своих публикациях 1914—1916 годов лишь нащупывал подход к
теме, которую надеялся осветить более глубоко и всесторонне.
Несмотря, однако, на указанные недостатки, публикации
Эрна по имяславскому вопросу имели в описываемый период
весьма важное значение для создания философской базы имя-
славия. Вслед за Муретовым и Флоренским, Эрн развивал тему
«христианского платонизма», который им противопоставлялся
позитивизму и рационализму кантовского толка. Публикации
* Там же. С. 29.
** В действии (лат.).
*** Эрн В. Разбор Послания... С. 30.
**** Там же. С. 38.
В. Φ. Эрн об имяславии
869
Эрна, кроме того, внесли заметный вклад в изменение общего
климата вокруг имяславцев: представив спор о почитании
Имени Божия как столкновение русского и германского духа, Эрн,
несомненно, способствовал росту симпатий к имяславию в
российском обществе, настроенном в те годы крайне негативно по
отношению ко всему германскому.
Приведенные в настоящей главе сведения подтверждают,
что, благодаря вмешательству Государя в дело имяславцев и
отчасти благодаря вниманию Думы к их правовому
положению, а также благодаря широкой общественной поддержке,
в 1914 году в деле имяславцев происходит перелом, и в течение
1914—1916 годов общественное мнение окончательно
становится на их сторону. Среди союзников имяславия по разным
причинам оказываются богословы, философы, литераторы, поэты,
общественные деятели, политики. Для большинства политиков
левого толка защита имяславия становится одним из пунктов
программы по борьбе с господствующей Церковью и царским
режимом.
Среди иерархов Российской Церкви в этот период нет
единодушия по отношению к имяславцам. Одни иерархи, такие как
митрополит Киевский Владимир, архиепископы Волынский
Антоний, Новгородский Арсений и Финляндский Сергий,
бывший Вологодский Никон, епископ Елисаветградский Анатолий,
относятся к имяславцам крайне негативно. Другие, в
частности, митрополиты Московский Макарий и Киевский Флавиан,
епископы Верейский Модест, Волоколамский Феодор,
Дмитровский Трифон, относятся к имяславцам скорее сочувственно,
причем некоторые (как, например, епископ Модест) своего
сочувствия не скрывают. Разногласия наблюдаются даже внутри
Синода, из-за чего в решениях Синода имеет место некоторая
непоследовательность и двусмысленность.
В 1914—1916 годах, несмотря на затишье в имяславских
спорах, продолжается работа по созданию философской базы
имяславия. Временно умолкают прежние защитники имяславия из
числа «высокопросвещенных российских богословов»
(Флоренский, Новоселов). В то же время возникают новые яркие имена
(Эрн). Вся эта работа приведет к новому всплеску богословия
Имени Божия в трудах Лосева и Флоренского в 20-е годы (о чем
будет сказано в следующей главе).
Добавим, что описываемые процессы происходят на фоне
растущего в стране недовольства деятельностью государственных
структур, усиления революционных настроений. Продолжает
870
En. ИЛАРИОН
стремительно падать авторитет высшей церковной власти в
лице Святейшего Синода; вновь, как и в 1905 году, звучат голоса,
призывающие к церковной реформе. Накануне созыва
Всероссийского Поместного собора для многих становится очевидным,
что синодальная форма управления Церковью изжила себя,
как изжило себя и то богословие, на котором Синод строил
защиту своих позиций.
^5^
<s^
О. Т. ЕРМИШИН
О понимании платонизма
(В. Ф. Эрн и свящ. Павел Флоренский)
Среди друзей и знакомых свящ. Павла Флоренского было
много выдающихся и известных людей. Со многими из них
Флоренский сблизился уже в годы учебы и преподавательской
деятельности в Московской духовной академии, но вместе с тем
он имел друзей, отношения с которыми пронес с детства через
всю жизнь. К таким друзьям относился философ В. Ф. Эрн
(1882—1917), о духовной общности с которым сам Флоренский
свидетельствовал: «Вместе увлекались мы многим, самым
дорогим для нас, вместе воспламенялись теми мечтами, из которых
потом выкристаллизовались наши позднейшие жизненные
убеждения; вероятно, немного есть мыслей, которые не прошли
чрез совместное обсуждение» *.
С 1892 г. П. А. Флоренский и В. Ф. Эрн учились в одном
классе 2-й тифлисской гимназии. В седьмом классе они (вместе с
А. В. Ельчаниновым) организовали гимназический кружок,
в котором обсуждали религиозные и философские проблемы.
В 1900 г. после окончания гимназии друзья отправились в
Москву и поступили в Московский университет: Эрн — на
историко-филологический факультет, Флоренский — на
физико-математический. В студенческие годы Эрн и Флоренский жили
в одной комнате, в студенческом общежитии на Большой
Грузинской улице. По воспоминаниям Е. Я. Архипова, комната
друзей находилась на 4-м этаже, на ее стене висело письменное
обращение к посетителям не отнимать время у хозяев комнаты,
так как почти все время Эрн и Флоренский посвящали научным
занятиям. После окончания университета в 1904 г. Флоренский
поступил в Московскую духовную академию и переехал в
Сергиев Посад, но и в дальнейшем не терял связи с Эрном и
регулярно встречался с ним.
872
О. Т. ЕРМИШИН
Как Эрн, так и Флоренский в университете испытали
влияние С. Н. Трубецкого. Вспоминая своего учителя, Эрн писал,
что из уст Трубецкого «в продолжение четырех лет я имел
счастье слышать живое слово, единственное по своей наглядности
и проникновенности, об античной философии, — в устах
которого Платон вырастал до размеров вселенских, превращаясь в
непревзойденного дальнейшим развитием философии учителя
современной мысли» 2. Именно под влиянием Трубецкого
античная культура в целом и платонизм в частности стали для
Эрна и Флоренского философскими и духовными идеалами.
О платонизме Флоренский написал две свои знаменитые
работы — «Общечеловеческие корни идеализма» (1908) и «Смысл
идеализма» (1915). Общая позиция Флоренского заключалась в
том, что платонизм и идеализм предельно сближались,
мировоззрение Платона получало религиозное истолкование. В
лекции 1908 г. Флоренский сделал первый и очень важный шаг к
пониманию платонизма. Он попытался выяснить источник,
«корень» платоновского учения и увидел его в мистическом
миросозерцании, магических представлениях об окружающем
мире. Основной аргумент Флоренского в защиту своей точки
зрения сводился к тому, что платонизм и мистическое народное
сознание имеют один идеал цельного знания и единство
мировоззрения («реальное единство есть единство самосознания»).
Такой подход Флоренского к исследованию платонизма основан
на религиозном мироощущении и представлении о мире как
одушевленном целом, связанном невидимыми силами
(«энергиями вещей»).
Высшая реальность скрыта за видимыми явлениями —
такой взгляд на мир был известен еще задолго до Платона и
лежал в основе всех магических и культовых действий. «Двойною
жизнью» жили все религиозные сообщества древнего мира —
как жрецы, маги и предсказатели, так и обычные люди.
Колдуны или кудесники, считал Флоренский, в своей практике
подражали идеальному миру, соединяли идеальное с реальным. Их
знание имело причиной религиозный экстаз, восторг. Таким
образом, магия и платонизм обладают единым
происхождением, или второе есть диалектическое продолжение первого. С
религиозным смыслом платонизма Флоренский также связывал
значение имени как мистической личности человека («сгустка
благодатных или оккультных сил»). Общие интуиции русского
философа относительно сущности платонизма получили
логическое развитие в работе «Смысл идеализма», но прежде в
течение семи лет (1908—1915) Флоренский читал в Московской ду-
О понимании платонизма
873
ховной академии лекции об античной философии, в которых
доказывал основную идею о взаимосвязи первобытного
религиозного миросозерцания и первых философских учений в
Древней Греции3.
«Смысл идеализма» — это в общем определенный итог,
который Флоренский подвел в результате семилетних
историко-философских исследований. Для Флоренского было очевидно, что
платонизм имеет непосредственно религиозное происхождение,
поэтому он «и шире учения Платона, и глубже его, хотя в
Платоне нашел себе лучшего из выразителей»4. Иначе говоря,
Платон оформил те интуиции, которые существовали в античном
религиозном сознании, но вместе с тем изобрел универсальный
язык, адекватный религии. По мнению Флоренского,
платонизм вышел за рамки философского учения, стал символом
религиозного мировоззрения, «указующим перстом от земли к
небу» 5. Платонизм начал развиваться: от идеализма Платона
к идеализму Аристотеля, далее к синтезу Плотина,
размышлениям Порфирия и Боэция, средневековым спорам об
универсалиях... Там, где Флоренский дал лишь исторический эскиз, так
как ему был важен смысл идеализма, а не его многовековое
прошлое, Эрн продолжил исследование в том же направлении и
написал «историю платонизма» на примере двух итальянских
мыслителей XIX в.
Магистерскую диссертацию Эрн посвятил итальянскому
философу Антонио Розмини (1797—1855), о котором писал: «Все
дело Розмини можно охарактеризовать как гениальную
попытку воскресить в изощренных формах мышления XIX столетия
основное ядро платонизма»6. В главе «Введение в идеологию»
Эрн доказывал, что оригинальные идеи Розмини были
подготовлены его критическим анализом философии Нового времени.
Розмини полагал, что многие философы неверно решали
проблему бытия, так как для ее решения использовали
философские идеи, мало объясняющие сущность проблемы. При этом
Розмини философским эталоном считал Платона и с точки
зрения платонизма критически оценивал философские
направления Нового времени (сенсуализм, кантианство и т. д.). Эрн
замечал: «Сравнивая три системы: Платона, Лейбница и
Канта, — Розмини в одном отношении отмечает регресс, в другом —
прогресс»7. Регресс — это увеличение субъективизма, прогресс —
более простое и последовательное объяснение философской
проблемы бытия. По мнению Эрна, для уничтожения
философского регресса необходимо обосновать объективность познания и
решить проблему врожденного знания.
874
О. Т. ЕРМИШИН
Для Розмини, как замечал Эрн, идея бытия являлась
отправной точкой для философских построений. Согласно
общему мировоззрению Розмини идея бытия не имеет чувственного
происхождения и не основана на чувстве личного
существования. Идея бытия есть часть всех других идей, или, по
убеждению Розмини, врожденная идея нашей души. Розмини считал,
что «идея есть не что иное, как возможность вещи, ее мысли-
мость, и так относится к реальности вещи, выражаемой словом,
как потенция относится к акту» 8.
Из идеи бытия Розмини выводил идеи субстанциальности,
причинности, времени. По его мнению, идея бытия включает
акт субъекта, направленный на бытие, и само бытие, которое
воспринимается посредством разума. Таким образом,
«идеология» Розмини — это онтология, которая включает в себя
теорию познания и восприятия. Розмини пытался построить
систему, в которой множественность идеальных форм выводилась из
одного принципа.
Монизм Розмини являлся попыткой найти нечто среднее
между Платоном и Кантом. Эрн полагал, что эта попытка не
удалась и привела к противоречиям. Ошибка Розмини, по
мысли Эрна, заключалась в неосознанном введении в философскую
систему элементов рационализма и субъективизма. Розмини не
удалось последовательно развести формы идеального бытия и
субъективного познания, так как влияние на него философии
Нового времени слишком велико. Эрн замечал: «Кант или
Платон, — вот два скрытые пункта, между которыми борется,
затрачивая огромные усилия, мысль Розмини, и то утверждается
на одном пункте, то явно стремится перейти к другому»9.
Эрн, развивая критику по отношению к Розмини, обращается
к полемической точке зрения другого итальянского мыслителя,
Винченцо Джоберти (1801 —1852). Русский философ разделял
во многом мнение Джоберти о противоречащих друг другу
«идейных слоях» в философии Розмини. Психологизм Розмини
оценивался Джоберти как продолжение ведущей к пантеизму
философской традиции Декарта и Канта. По убеждению Эрна,
выход из философских противоречий Розмини мог быть только
в последовательном онтологизме.
Эрн считал, что Розмини создал труд «Теософия» во многом
под влиянием Джоберти и его критики. Однако, Розмини
попытался лишь найти компромисс и не смог ответить на все
вопросы Джоберти. С точки зрения Эрна, идеальное бытие в
философии Розмини — абстракция, обусловленная психологизмом.
Розмини, боясь отождествить свою философию с онтологизмом
О понимании платонизма
875
Джоберти, создал противоречивую концепцию, в которой
сочетался онтологизм с психологизмом. Рассуждения Эрна
сводились к тому, что позиция Джоберти более правильна и
последовательна, чем у Розмини. Эрн замечал: «Та самая пропасть,
которую, борясь с онтологизмом Джоберти, Розмини хочет
утвердить между высшим принципом познания и Сущим,
неизбежно приводит Розмини к решительному исповеданию
пантеизма в самых глубоких моментах своей онтологии» 10.
Явное предпочтение Джоберти перед Розмини делает
понятным выбор Эрном темы для докторской диссертации
«Философия Джоберти» (1916). Во введении к докторской диссертации
Эрн предложил типологию, согласно которой в философии
существуют два предмета мысли. Одни мыслители ограничены
сферой понятий, рассудочной формой мысли. Традицию
понятийного мышления Эрн связывал с Аристотелем, а в Новое
время — с Кантом. Другие мыслители в качестве предмета мысли
выбирают идеи. Их отличительная особенность — интуитивное
познание, результат которого не складывается в единую
картину или систему, так как акты интуиции раздельны, дискретны.
У мыслителей второго типа понятия играют второстепенную
роль, а идеи определяют основу философского мышления. По
определению Эрна, философы, имеющие дело с идеями, — это
платонический «род» мыслителей, так как основателем этого
«рода» является Платон.
Эрн воспринимал Джоберти именно в контексте
платонизма — как гениального платоника XIX в. и как борца с
антиплатоническими учениями Нового времени. «Философское дело»
Джоберти заключалось в попытке возродить платоническую
традицию и в критике новой рационалистической философии.
По мнению Джоберти, «драма» философии в Новое время имеет
причину в торжестве психологизма, когда идеальное выводится
из чувственного. Психологизм берет начало в учении Аристотеля
о существовании идей посредством форм, затем получает
значительный импульс в религиозной Реформации и философское
оформление — в философии Декарта и картезианстве.
Джоберти находил картезианские принципы и в немецком идеализме.
С его точки зрения, Кант лишь создал усовершенствованную
систему картезианства, в основе которой лежит глубокий
скептицизм. Рациональному психологизму Джоберти
противопоставлял онтологизм, который для него символизируют Платон,
Августин, Ансельм Кентерберийский, Бонавентура, Мальбранш,
Лейбниц. Эрн подчеркивал, что Джоберти понимал платонизм
не как учение Платона, а как особый тип мышления, «как все-
876
О. Т. ЕРМИШИН
ленское начало в истории философии» п. С точки зрения
Джоберти, в истории философии существуют два магистральных
направления: онтологизм, игравший ведущую роль в
античности и Средневековье, и психологизм, возобладавший в Новое
время. Такой концепцией Джоберти, по выражению Эрна, «из
прошлого человеческой мысли сумел создать своеобразную
философскую проблему» 12.
Продолжая традицию платонизма, Джоберти предложил
теорию сверхразумного бытия, согласно которой человеческий
разум имеет сверхрациональную основу. Сверхразумное по
своей природе иррационально, и поэтому основным методом в его
постижении является интуиция, а возможности рефлексии
ограничены результатами интуитивных актов и их анализом.
Положительно Эрн оценивали синтез философии и религии,
предложенный Джоберти. При этом Эрн отмечал, что в
мировоззрении Джоберти сущность как философии, так и религии
сохраняется, а их объединение дает новую более целостную
форму. Такой синтез сам Эрн считал идеальной целью, к
которой должна стремиться философия. Антипсихологизм
Джоберти также был близок Эрну, видевшему в психологизме одно из
главных проявлений западного рационализма.
Однако самое важное философское достоинство Джоберти,
по мнению Эрна, заключалось в онтологии, в которой делался
акцент на идею творения. «Сущее творит существующее» —
формула Джоберти, трактующая платонизм в духе
универсального креационизма. Другое отличие Джоберти, отмеченное Эр-
ном, — это жизненность его философского мировоззрения,
чуждость отвлеченным абстракциям. Эрн писал: «То платоновское
око души, которому коренным образом открывается область
умозрительного знания, было для Джоберти не построяемою
схемою, и даже не конкретным образом, а безусловно данным
его внутреннего опыта, чертою его духа; живою реальностью
его зрения на все существующее» 13. Именно такое жизненное
понимание философии отстаивал Эрн, который
противопоставлял его отвлеченному рационализму.
Если первоначально Джоберти в основном занимался
интерпретацией платонизма, то в конце жизни он применил
онтологические идеи к метафизике истории. Раскрытие динамико-он-
тологической сущности истории в поздней философии Джоберти
Эрн считал исключительно оригинальным явлением в истории
философии. Христианскую идею истории Джоберти дополнил
онтологией: трансцендентное понималось как смысл и цель
истории. Синтез, универсализм, религиозный подход к решению
О понимании платонизма
877
теоретических проблем — принципы Джоберти, которые
близки и понятны Эрну, видевшему в интерпретации платонизма
верный путь к созданию целостного философского
мировоззрения.
В предисловии к «Философии Джоберти» Эрн писал:
«Работа над Розмини и Джоберти становилась для меня особенно
привлекательной как работа над историей платонизма и
воспринималась мною как необходимые студии и предварительные
исследования к той работе о Платоне, которая с университетской
скамьи рисовалась мне самою крупною целью моих научных
стремлений» 14. Итоговой работой Эрна стало «Верховное
постижение Платона» (1917), не оконченное из-за смерти автора. Эрн
постарался показать Платона мыслителем, пережившим
состояние религиозного откровения и открывшим для человечества
широкую духовную перспективу. Эрн замечал, что «пещера
навсегда стала внутренней реальностью человеческого духа» 15.
Символом высшего откровения, пережитого Платоном, Эрн
считал солнце — источник света и образ истины. Поскольку
постижение Платона находилось на грани словесного выражения,
то древнегреческий философ использовал символический прием
для передачи своих состояний. Познание Высшего Блага для
Платона связано с радостью и восторгом, и поэтому Эрн
центральным диалогом, в котором выражено «солнечное
постижение», считал «Федр». Без анализа «Федра», по мнению Эрна,
трудно понять мировоззрение Платона, его жизненный и
идейный смысл.
Пифагорейцы, к учению которых Платон был близок,
почитали солнце, и пифагорейский культ является ключом к
объяснению «Федра». По утверждению Эрна, Платон передает в «Фед-
ре» состояние гелиолепсии, т. е. одержимости солнцем. Как
в мифе о пещере человек поворачивается от теней к свету, так
и Платон перешел от обычного состояния ума к «солнечному
постижению», а затем описал этот переход в «Федре».
Не избегает Эрн и своего излюбленного противопоставления
истинной и ложной философии. Платонизм для него
противоположен «феноменализму» и «эмпиризму», выраженным в
речи Лисия. Отсутствие онтологии, абсолютизация видимых
явлений («теней») — это, считал Эрн, философия «пещерников»,
к которой относится рационализм Нового времени, и прежде
всего кантианство. Соответственно такому пониманию Эрн
строил свой анализ на сравнении сократовской точки зрения с
мнениями «пещерников». Он писал: «Платон божественно
враждовал с небожественными и доксическими представления-
878
О. Т. ЕРМИШИН
ми об Эросе, которые в его время стали заслонять самую
сущность этого темного и загадочного бога» 16. В понимании Эроса и
его значения Эрн продолжил отечественную
историко-философскую традицию — в частности, В. С. Соловьева, считавшего
«эротический период» отдельным и важным этапом в духовной
эволюции Платона.
Поскольку работа Эрна о Платоне осталась незаконченной,
то можно только по начальному фрагменту попытаться понять
общий замысел исследования. Для этого необходимо обратить
внимание на подзаголовок «Введение в изучение Платоновых
творений» и задать вопрос «Почему для Эрна главной в
качестве введения является тема Эроса?». Эрн понимал платонизм
как религиозно-философское учение и свою точку зрения он
собирался обосновать и представить в виде последовательного
изложения, анализируя диалоги Платона. Эрос — посредник
между Богом и человеком, небом и землей. Исходя из этого,
Эрн понимал Эрос как главное религиозно-философское
понятие, связующее религиозную онтологию и антропологию. Он
считал одной из личных особенностей Платона целостность
мировоззрения, в которой видел основу «единственного в истории
философии универсализма и несравненного по ширине
"кафолического", вселенского духа его умозрений» 17. Платон
построил целостное философское мировоззрение, в котором мир
религиозно оправдан, а божественное и человеческое образуют
неразрывную онтологическую связь. В изложении этого
мировоззрения Эрн вслед за «Федром», вероятно, обратился бы к
анализу «Тимея» и «Государства», и можно только сожалеть о том,
что работа была прервана смертью. Однако исследование Эрна
о Платоне все же имеет большое значение самой постановкой
проблемы — заданный вопрос оказался не менее значим, чем
ответ. «Верховное постижение Платона» Эрна, как и «Смысл
идеализма» Флоренского, открыли широкие перспективы в
изучении платонизма как религиозно-метафизического учения.
Платон в интерпретации Эрна предстал не только мыслителем,
повлиявшим на развитие мировой философии, но и
обладателем религиозной истины, которая является мировоззренческой
основой платонизма.
Платонизм интересовал Эрна прежде всего как один из
источников христианской философии. В статье «Природа мысли»
Эрн писал: «В священном Эросе христианства
натурально-языческая стихия Эроса, нашедшая свое выражение в Платоне,
претворяется и пресуществляется подобно тому, как
пресуществляется и освящается и весь античный гуманизм» 18. В антич-
О понимании платонизма
879
ной философии был ярко выражен дуализм, который
разрешился в христианстве метафизическим единством Бога и
человека. Философия Нового времени отрекается от
метафизического единства на основе гуманистического самоутверждения, и
поэтому позиция Эрна, в сущности, сводится не к
противопоставлению Запада и Востока, а к типологии философской
мысли, в которой христианско-платонический тип познания
принципиально отличается от рационального.
В некрологе «Памяти В. Ф. Эрна» (1917) Флоренский больше
всего писал о работе «Верховное постижение Платона». Он
вспоминал последнюю встречу с Эрном, который тогда сказал,
что исследование о Платоне — его первая удавшаяся работа,
адекватно выражающая мысль. Флоренский признал, что ему и
Эрну была одинаково близка мысль — «философские воззрения
Платона суть диалектическая проработка его биографически-
личного мистического опыта»19. Однако Флоренский, споря
с Эрном, считал идею «солнечного восхищения» слишком
односторонней для цельного понимания платонизма, так как в
древнегреческой культуре также существовало дионисийство,
«ночная сторона платонизма». С точки зрения Флоренского,
религиозный языческий экстаз («солнечное» откровение) и
«темная» мистика («творческий мрак пещерных посвящений») —
две стороны платоновского учения, которое складывается из
диалектического синтеза противоречий. В. Ф. Эрн и свящ.
Павел Флоренский, хотя расходились в отдельных мнениях,
разделяли общее убеждение, что платонизм был мистической
«дверью», через которую человечество нашло путь к
осмыслению религиозного мировоззрения.
^^
КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ
I
ХРИСТИАНСКОЕ БРАТСТВО БОРЬБЫ
В. П. Свенцицкий
Христианское братство борьбы и его программа
Предлагаемый текст представляет собой подготовленное для печати
выступление В. П. Свенцицкого на заседании
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 21 ноября 1905 г. В форме
брошюры оно появилось в Москве в начале 1906 г. в серии
♦Религиозно-общественная библиотека», которую Христианское братство
борьбы стало издавать с помощью книжного магазина Д. П.
Ефимова. На ближайшие два года были запланированы три серии
книжек: * для народа», «для интеллигенции» и «переводная». (См.:
Колеров М.А. Издания Христианского братства борьбы//Новое
литературное обозрение. 1993. № 5. С. 299—308.)
Свенцицкий Валентин Павлович (1882—1931) — видный деятель
социально-христианского движения в России в начале XX века, один из
создателей Христианского братства борьбы и Религиозно-философского
общества памяти Владимира Соловьева; публицист. Он был незаурядной и
крайне противоречивой личностью; по воспоминаниям А. В. Карташе-
ва — «тип теократа-фанатика латинского стиля» (Карташев А. В. Мои
ранние встречи с о. Сергием // Православная мысль. Paris, 1951. Вып. 8.
С. 49). В сознании В. П. Свенцицкого, видимо, имелся мощный пласт
декаданса, что отразилось в его романе «Антихрист, или Записки странного
человека» (1908), в котором он убеждал читателя в праведности греха,
осознание которого — через покаяние — ведет к истинной жизни.
За неблаговидные поступки, несовместимые с членством в Религиозно-
философском обществе, он был исключен из него. Согласно запискам
Московского охранного отделения, «в 1907 году Свенцицкий оказался
совершенно дискредитированным в глазах названного общества, так как
выяснилось, что, с одной стороны, совершена им растрата общественных
денег, а с другой стороны — открылись любовные похождения его,
несоответствующие роли проповедника...» (цит. по: Колеров М.А. «Не мир, но
меч». Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма»
до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 269).
Расставшись с кругом лиц, ранее бывших близкими ему и
участвовавших в деятельности Христианского Братства Борьбы, В. П. Свенцицкий
Комментарии и примечания
881
сблизился со старообрядческим епископом Михаилом и св. Ионой Брих-
ничевым. Они участвуют в религиозном движении, часто обозначаемом
как голгофское христианство. Активисты его мнили, будто это
движение — вполне народное, выше и вне всяких партий. Главный тезис его
таков: «Мир еще не спасен; он будет спасен тогда, когда каждый станет
равным Христу. Каждый христианин должен взойти на свою Голгофу;
каждый в ответе за муки этого мира и должен принять их на себя так же,
как сделал это Христос» (Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и
революция. Хельсинки; М., 1998. С. 251). Голгофой была революция.
Некоторые биографы пишут о тайном побеге В. П. Свенцицкого за
границу, о том, что «годы, проведенные в изгнании, привели мятущегося
интеллигента к переосмыслению всей предыдущей жизни, стали отправной
точкой на пути к нравственному очищению — через боль страдания и
глубокое покаяние.
Выбор был сделан. Свенцицкий, оставив все "мудрствование", всецело
предает свою жизнь Христу и Его церкви». Свидетельством тому стала
книга «Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских
гор», пронизанная «глубоким пониманием сути христианской жизни и
христианского подвига» (Диакон Леонид Калинин. Предисловие //
Протоиерей Валентин Свенцицкий. Диалоги. М., 1995. С. 7).
Революция 1917 г. избавила В. П. Свенцицкого от иллюзий
христианского социализма. Он принимает священство и участвует в гражданской
войне на стороне белых. В.советское время был подвергнут репрессиям.
Умер в ссылке в деревушке Тракт-Ужет под Тайшетом 7 (20) октября 1931 г.
1 О возникновении Христианского братства борьбы А. В. Карташев
написал так: «9 января высекло искру решимости у Эрна и Свенцицкого.
Они двое составили ядро образованного ими Христианского братства
борьбы» (Карташев А. В. Мои ранние встречи с о. Сергием. С. 48).
Организация возникла в феврале 1905 г. и уже «к лету того же года исчерпала
свою политическую энергию, уступив место многочисленным
издательским инициативам Эрна и Свенцицкого... С прекращением "Живой
жизни" (последний номер этого журнала вышел в январе 1908 г.—А. Е.)
можно говорить о полном исчезновении Христианского братства борьбы»
(Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 227, 276).
В одной из своих корреспонденции В. П. Свенцицкий так рассказал
о политической работе своей организации:
«Братство по возможности реагировало на все выдающиеся явления
текущей жизни. По поводу послания Синода, — ночью по улицам
Москвы был расклеен ответ Синоду, по поводу избиения грузинского
духовенства — было написано и распространено среди духовенства главнейших
городов обличительное слово, призывающее заступиться за неслыханное
насилие все забывшей администрации. Когда начались черносотенные
расправы, Братство ходило по церквам, всюду, где можно, призывая к
покаянию, останавливая разгоравшуюся "во имя Христово" безумную
злобу.
Когда начались забастовки в Иваново-Вознесенске и других местах,
Братство, несмотря на крайнее малолюдство своих членов, — все-таки
направляли туда их с целью сделать забастовку более дружной, дать ей
моральное содержание, пробудить дух не борьбы за личное улучшение жиз-
882
Комментарии и примечания
ни, а дух мученического подвижничества, дух борьбы за имя Христово»
(Христианская общественность. «Христианское братство борьбы» //
Народ. Ежедневное издание. Киев, 1906. 6 (19) апреля. № 3. С. 4).
2 Этим епископом мог быть Антоний (в миру — М. С. Флоренсов), с
которым многие участники Братства были духовно связаны (см.:
Иванова Е. В. Флоренский и Христианское братство борьбы // Вопросы
философии. 1992. №6. С. 160).
3 У составителя нет сведений о том, кто из петербургских иерархов
мог беседовать с участниками Братства. Но вот В. В. Розанов в статье
«Религиозные голоса в нашей смуте» (она включена в настоящий сборник)
пишет, что москвичи «приезжали сюда, в Петербург, искать "советов",
"разъяснений" и указаний у ректора здешней духовной академии,
епископа Сергия (теперь епископ Финляндский), известного своим
образованием, мягкостью и кротким христианским духом». Епископ Сергий (в
миру Иван Николаевич Страгородский) был ректором Академии в 1901—
1905 гг. С 1943 г. — патриарх Московский и всея Руси. Умер в 1944 г.
4 Об обстоятельствах создания «Братства» см.: Белый А. Начало века.
М., 1990. С. 494—497; Карташев А. В. Мои ранние встречи с о.
Сергием//Православная мысль. Paris, 1951. Вып. 8; Иванова Е. В.
Флоренский и Христианское братство борьбы // Вопросы философии. 1992. № 6;
Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 225—278.
5 «Послание Св. Синода по поводу беспорядков рабочих»
«возлюбленным чадам святой православной российской церкви» было принято 14
января 1905 г. В нем указывалось на «великое бедствие», переживаемое
дорогим отечеством, — на кровопролитную войну с язычниками-японцами,
чтобы отстоять свое «историческое призвание» «насадительницы
христианского просвещения на Дальнем Востоке», и говорилось о доблести
русских солдат.
Однако самое важное в Послании еще только следовало: дескать,
нас посещает «новое горе — горшее первого». «В столице и в других
городах России начались стачки рабочих и уличные беспорядки. Люди
русские, искони православные, от лет древних навыкшие стоять за веру,
царя и отечество, подстрекаемые людьми злонамеренными, врагами
отечества домашними и иноземными, десятками тысяч побросали свои
мирные занятия, решились скопом и насилием добиваться своих будто бы
попранных прав, причинили множество беспокойств и волнений мирным
жителям, многих оставили без куска хлеба, а иных из своих собратий
привели к напрасной смерти, без покаяния, с озлоблением в сердце, с
хулой и бранью на устах» и проч. и проч. «Всего прискорбнее, что
происшедшие беспорядки вызваны и подкупами со стороны врагов России и
всякого порядка общественного» и т. д. (см.: Церковный вестник. 1905.
20 января. № 3. С. 85—86).
В. Ф. Эрн
Семь свобод
Впервые вышла отдельной брошюрой в 1906 г. в Москве в серии
«Религиозно-общественная библиотека» (Серия П. № 5. С. 16).
Комментарии и примечания
883
Вал. Свенцицкий и В. Эрн
Церковная реформа.
Гласное обращение к членам Комиссии
по вопросу о церковном Соборе
Впервые: Народ. Ежедневное издание. Киев, 1906. 2 (15) февраля.
№1. С. 4.
Газета «Народ» выходила в Киеве в начале 1906 г. (всего 7 номеров) по
инициативе С. Н. Булгакова и его единомышленников (в числе которых
был В. Ф. Эрн), близких идеям христианского социализма. В
редакционном заявлении говорилось: «Исходя из идеалов вселенского христианства
и вместе с Вл. Соловьевым полагая, что христианская правда должна
проникать не только личную жизнь, но и область общественных отношений,
мы будем отстаивать народную свободу, раскрывать неправду
капиталистической эксплуатации и современных земельных отношений, а также
настойчиво бороться против национальной вражды. Мы добиваемся
преодоления недолжного отделения религии от жизни, унаследованного
нами от предыдущей исторической эпохи, когда сложилась внерелигиоз-
ная и духовно-мертвая общественность, а ей противополагалась
лжехристианская проповедь человеконенавистничества тупой реакции и
насилия». Подробнее об истории газеты см.: Колеров М. А. «Не мир, но меч».
Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех»
(1902—1909). СПб., 1996. Роспись содержания газеты см.: Колеров М.А.
«Идеалистическое направление» и «христианский социализм» в
современной печати... // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник
за 1999 г. М., 1999. С. 383—387.
1 Во исполнение пожелания Николая II (высказанного им 27 декабря
1905 г.) о «благовременности некоторых преобразований в строе нашей
отечественной Церкви» Святейший Синод своим решением 14 января
1906 г. принял решение о создании Предсоборного Присутствия для
предварительного рассмотрения вопросов, намечаемых к обсуждению на
Соборе. Работа Комиссии по вопросу о церковном соборе началась 14 марта
1906 г. и длилась до 13 июня, чтобы возобновиться 1 ноября.
Окончательно работа Комиссии прекратилась через полтора месяца, 15 декабря
1906 г.
Состав семи секций Предсоборной Комиссии Высочайше
утвержденного присутствия для разработки вопросов, подлежащих
рассмотрению на Поместном Церковном Соборе, опубликован в журнале «Церков-
но-общественная жизнь» (1906. 24 марта. № 14. С. 518—519). В составе
Комиссии трудились как архиереи и клирики, так и миряне —
профессора духовных школ и знатоки богословских вопросов.
Вплоть до Февральской революции 1917 г., несмотря на
многочисленные тревожные сигналы, свидетельствующие о необходимости
скорейших преобразований в церковной жизни, царь оставался глух к голосу
Церкви. Она оказалась неподготовленной к позитивной реакции на
общероссийскую катастрофу 1917 г.
Собор был открыт только 15 (28) августа 1917 г., уже после
свержения монархии, благодаря решительным мерам Временного правитель-
884
Комментарии и примечания
ства. Во время работы первой сессии Собора (с середины августа по
начало декабря 1917 г.) произошла Октябрьская революция.
Настоящее * гласное обращение» В. П. Свенцицкого и В. Ф. Эрна
характеризует позицию Христианского братства борьбы в отношении к
русской церкви, нуждающейся в реформах управления. В нем
подчеркнут момент широкого участия мирян в церковной жизни.
О работе Соборного Присутствия см.: Фирсов С. Л. Русская Церковь
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). Б./м., [2000]. С. 216—251.
В. Ф. Эрн
Таинства и возрождение Церкви
Впервые: Церковное обновление. Бесплатное приложение к
еженедельнику «Век». 1907. 4 марта. №9. С. 65—66.
С ноября 1906 по март 1907 г. вышло 18 номеров этого издания (о
журнале «Век» см. примечания к статье К. М. Аггеева «Религия и
политика»). Что касается публикуемой статьи В. Ф. Эрна, то о ней автор
написал своему другу А. В. Ельчанинову: «Эта статья, я думаю, ответит на
твое желание "основоположительных и серьезных" статей. У меня она
написалась вдруг» (Взыскующие града. Хроника. С. 130).
1 «Церковь Петрова», «историческая церковь» и «Церковь Иоанно-
ва», «новая церковь»—этим противопоставлением подчеркивается
различие московских и петербургских богоискателей. Учение о «Церкви
Иоанновой», или «новой церкви» Д. С. Мережковский разрабатывал
много лет, начиная с 90-х гг. XIX в., и противопоставление ее
«исторической», «Петровой церкви» становится его главной темой.
По его соображениям, «историческая церковь», «Церковь Петрова»,
исключает возможность живого развития учения Христа, так как она
слишком аскетична, игнорирует развитие культуры и общественности,
устремлена к небесному, забыв о том, что Христос и есть земное
воплощение Творца. Д. С. Мережковский ожидает второго пришествия Христа:
правда о земле (культуре, общественности) и правда о небе (радикальное
изменение природы человека в направлении ее обожения) наконец-то
соединятся в Церкви III Завета, в «Церкви Иоанновой». Евангелист Иоанн
с особой силой внушал людям любить друг друга, и «любить не словом
или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Так, по Д. С.
Мережковскому оказывается, что «Новая церковь» есть «святая общественность».
О рождении этой идеи у Д. С. Мережковского см.: Письма Д. С.
Мережковского к П. П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М. Ю.
Кореневой // Русская литература. 1991. № 2, 3).
2 Анания и Сапфира — имена лиц, упоминаемых в книге Деяний
апостольских. Анания — один из обратившихся в христианство вследствие
проповеди апостольской. Вместе со своей женой Сапфирой утаил деньги,
предназначенные для апостолов. Они солгали не человеку, а Богу, и,
обличенные во лжи Святому Духу, пали бездыханными (см.: Библейская
энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891
(репринт — 1990).
Комментарии и примечания
885
Симон Волхв — современник апостолов, основатель
существовавшей еще в III в. секты симониан, или елениан (по имени его спутницы
Елены). По общему мнению древних христианских писателей, он был
родоначальником гностицизма и всех ересей в церкви. См.: Христианство.
Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995.
Христианский социализм в России
Впервые: Революционная Россия. Центральный орган партии
социалистов-революционеров. 1905. 15 марта. №61. С. 8—9. Подпись
отсутствует.
Газета издавалась за границей с января 1901 по октябрь 1905 г. В ней
публиковались материалы по вопросам программы и тактики эсеровской
партии, а также освещались события российской общественной жизни,
относящиеся прежде всего к революционному движению (см.:
Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия.
М., 1996).
Публикуемая заметка, по-видимому, является первым извещением
русских читателей за границей о Христианством братстве борьбы.
Помимо «Революционной России» о Христианском братстве борьбы
сообщили большевистская газета «Вперед» (1905. 10 (23) марта. № 11),
меньшевистская «Искра» (1905. 5 апреля. №96) и либеральная газета
«Освобождение», руководимая П. Б. Струве (1905. 6 (19) июля. № 73).
Борьба церкви и борьба с церковью
Впервые: Искра. Центральный орган Российской
социал-демократической рабочей партии. 1905. 5 апреля. № 96. С. 2. Подпись
отсутствует.
Газета издавалась за границей с декабря 1900 по октябрь 1905 г.
Девяносто шестой номер вышел при меньшевистской редакции (Г. В.
Плеханов, Ю. О. Мартов, Л. И. Аксельрод и др.).
1 По просьбе премьера С. Ю. Витте профессора Санкт-Петербургской
Духовной академии составили записку «О современном положении
Православной Церкви», в которой признавалось, что в результате петровской
церковной реформы церковное управление превратилось в одно из « колес
государственной машины», что привело к изгнанию духа соборности из ее
жизни. Чтобы Церковь вполне отвечала своему призванию, она должна
вернуться к каноническим нормам управления (восстановление
патриаршества и пр.).
Согласно телеграмме Российского телеграфного агентства: «22
марта состоялось заседание Святейшего Синода, на котором в окончательной
форме был решен вопрос о введении патриархата в России и созыве для
избрания патриарха Всероссийского духовного собора».
2 В редакционном * Дневнике» газеты-журнала ♦Гражданин» (1905.
27 марта. № 25) выражалось недоумение по поводу торопливости приня-
886
Комментарии и примечания
тия решения о церковной реформе. Собор нужен, писал автор, но «нужнее
гораздо более, во имя Божие и любви к русскому народу» добросовестная
подготовка к нему, «дабы собор не мог быть ареною прений между
слепым и зрячим, между глухим и слышащим» (с. 21).
«Московские ведомости» опубликовали 25 и 26 марта 1905 г.
статью «Церковный переворот», из которой и взята приводимая «Искрой»
цитата. Однако, чтобы быть точным, следует указать, что сами
«Московские ведомости» в данном случае цитируют одного из руководителей
Братства взыскующих христианского просвещения Михаила
Александровича Новоселова (из его выступления в газете «Русское дело» от 24
марта).
3 Цитируется статья Карла Маркса «Коммунизм газеты "Reinische
Beobachter"» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 204—205).
И. Айвазов
Отклики
Впервые: Миссионерское обозрение. 1905. №11. С. 321—333;
№12. С. 602—615.
«Миссионерское обозрение» — ежемесячный журнал, выходивший
в Петербурге с 1896 г. С 1905 г. имел подзаголовок «Журнал
внутренней миссии». Издавал многочисленные приложения. Постоянно
занимал «правые», консервативные общественно-политические
позиции.
Айвазов Иван Георгиевич (1872—1964) — богослов, публицист,
миссионер. Закончил Казанскую духовную академию. Исполнял обязанности
противосектантского миссионера в ряде епархий. Работал в Московской
духовной академии (1912/13 уч. г.) и до 1917 г. в Санкт-Петербургской
духовной академии. Был сотрудником и редактором журналов «Голос
церкГви» (1912—1916) и «Душеполезное чтение» (1915—1917).
1 О Христианском братстве борьбы см. примечания к выступлению
B. П. Свенцицкого «Христианское братство борьбы и его программа».
Автор ошибается, полагая, что Христианское братство борьбы «ютится» в
Санкт-Петербурге. Что касается «Группы христиан», то речь идет о так
называемой «группе 32-х» столичных священников. Она начала свою
деятельность вскоре после Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. В марте
того же года группа подает столичному митрополиту Антонию записку
«О неотложности восстановления канонической свободы Православной
Церкви в России», опубликованную вскоре в журнале Петербургской
духовной академии «Церковный вестник» (1905. 17 марта. № 11).
«Воссоздать раннехристианский идеал церковной жизни, при котором
восторжествует несколько наивно понимаемая соборность, — вот приоритетная
цель тогдашних обновленцев» — такими словами характеризует цель
«группы 32-х» современный исследователь (см.: Фирсов С. Л. Русская церковь.
C. 321).
Осенью 1905 г. группа стала называть себя «Союзом церковного
обновления» или «Союзом ревнителей церковного обновления». Иногда
Комментарии и примечания
887
этот Союз называли «Братством». На декабрь 1905г. Союз насчитывал
60 человек. В 1906—1907 гг. он издавал еженедельник «Век» с
приложением «Церковное обновление». Устав Союза церковного обновления был
опубликован в этом приложении (1906. 12 ноября. № 1), а программа — в
журнале «Век» (1907. 17 июня. №23).
Члены Христианского братства борьбы тесно сотрудничали с
«группой 32-х». Так, например, в «Церковном обновлении» сообщалось, что на
собрании Братства Ревнителей церковного обновления 22 января 1907 г.
В. П. Свенцицкий выступил с докладом «Ценность личности с
христианской точки зрения (1907. 4 февраля. № 5), а В. Ф. Эрн выступал там 2 марта
с рефератом «О жизненной правде» (1907. 11 марта. № 10). А. В. Карта-
шов в письме к 3. Н. Гиппиус от 21 марта 1907 г. пишет, что
«Свенцицкий и компания все более берут "Век" в свои руки» (Взыскующие града.
Хроника. С. 135). Группа прекратила свою деятельность в 1907 г. См.
также примечания к ст. К. М. Аггеева «Религия и политика».
2 Буренин Виктор Петрович (1841 —1926) — литературный и
театральный критик и поэт. «Сумасбродный Вральмонт, прямой и законный
потомок по духу знаменитого Аксентия Поприщина, претендента на
испанский престол» — одно из издевательских имен, которыми В. П.
Буренин подписывал свои стихотворные сатиры. См., к примеру, его книгу
«Горе от глупости. Драматическая сатира. Чтение в обществе "Бедлам-
Модерн". Поэтические Козероги и Скорпионы» (СПб., 1905).
3 «Новопутейство* с его « Новым Вселенским Христианством —
Религией Конца* — так автор именует религиозно-общественное
движение, связанное с деятельностью Религиозно-философских собраний в
Петербурге в 1901—1903 гг. Инициаторы собраний печатали их протоколы
в журнале «Новый путь». Первые лица «новопутейства» —Д. С.
Мережковский, 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философов — разделяли идею развития
христианства, венцом чего было бы Христианство III Завета.
4 См.: Айвазов И. «Новый путь» в его отношении к старым путям и к
православной Церкви // Миссионерское обозрение. 1903. № 8. С. 1214—
1219; № 14. С. 478—487; № 16.
5 Иоанн Лейденский (наст, имя Иоанн Бокельсон; род. в Лейдене
ок. 1509 — казнен в 1536) — руководитель анабаптистской коммуны в
г. Мюнстере, который провел целый ряд
уравнительно-коммунистических реформ. Жизнь в городе была организована по принципу общины,
которая была названа «Новым Израилем», «королевством Сиона».
6 Е. Е. Голубинский, рассматривая первый (Киевский, или
домонгольский) период истории Русской Церкви, пишет: «На больших съездах
князей, при постановлении договоров особенной важности, митрополит с
собором епископов и игуменов считались необходимыми как высшие
свидетели ненарушимости даваемых обязательств» (см.: Голубинский Е. Е.
История Русской Церкви. Т. 1. Первая половина тома. М., 1880. С. 52—
453). Возможно, И. Айвазов имеет в виду собор, созванный во Владимире
в 1211 г. Всеволодом III, на котором решался вопрос о разделе его
владений между сыновьями. Некоторые историки видят в этом событии
прообраз земских соборов XIV и XV вв. и даже первый росток русского
государственного демократизма. Впрочем, другие просто отрицают факт такого
собора.
888
Комментарии и примечания
7 Далее цитируется статья И. С. Аксакова «Об основах и типе
народной школы», сначала напечатанная в газете «Русь» 16 октября 1882 г.
8 См. составленную Б. Н. антологию «Государственное учение
Филарета, Митрополита Московского» (3-е изд. М., 1888. С. 19, 11).
К. Григорьев
К вопросу о христианском отношении к собственности.
Открытое письмо господину Эрну
Впервые: Православный собеседник. Казань, 1906. Кн. I. С. 263—
279.
«Православный собеседник»—официальное издание Казанской
духовной академии. Журнал выходил с 1855 по 1917 г.; с 1858 г. с
периодичностью раз в месяц. Первоначальная цель его
основания — полемика с раскольниками. Другим направлением его
публикаций стали исследования мусульманства и буддизма. С
началом XX в. диапазон его статей становится значительно шире за
счет исследования процессов в современном западном
христианстве, а также месте и положении православия в жизни русского
общества. В виде приложения журнал давал «Творения
древнерусской литературы», «Деяния вселенских и поместных соборов»,
«Просветителя» Иосифа Волоцкого, «Зерцало очевидное» Ивана
Посошкова, «Против Цельса» Оригена и др. С 1869 г. в журнале
печатались «Протоколы Совета Академии», отзывы на
диссертации. Выдающимися авторами журнала были канонист И. С. Берд-
ников, историк Русской Церкви П. В. Знаменский, профессор
нравственного богословия А. И. Гренков, профессор кафедры
истории и обличения западных исповеданий В. А. Керенский,
философы В. И. Несмелое и M. Н. Ершов и др.
Григорьев Константин Григорьевич (1875—?) — доцент по кафедре
«Введения в круг богословских наук» Казанской духовной академии.
По окончании обучения в Академии в 1901 г. был оставлен при ней в
качестве профессорского стипендиата. Снискал себе научный авторитет
рядом исследований, из которых следует назвать «Критический этюд о
лекциях проф. Берлинского университета А. Гарнака под заглавием
"Сущность христианства"» (Харьков, 1903), «Разбор мнений
представителей современного социализма о происхождении христианства» (Казань,
1903) и др. На степень магистра богословия он представил диссертацию
«Христианство в его отношении к государству по воззрению Л. Н.
Толстого» (Казань, 1904), успешно защитив ее 30 ноября 1904 г. Довольно часто
выступал на страницах еженедельника «Церковно-общественная жизнь».
1 Журнал «Вопросы жизни» (редакторы С. Н. Булгаков и Н. А.
Бердяев) выходил в Петербурге в 1905 г. В нем С. Н. Булгаков выступил с
инициативой создания Союза христианской политики, говоря потом об
этом замысле как о «несколько измененной идее легального "Братства
борьбы"» (см.: «Взыскующие града». Хроника. С. 73). В «Вопросах
жизни» В. Ф. Эрн опубликовал свою первую статью «Христианское
отношение к собственности».
Комментарии и примечания
889
2 Так называют первые три Евангелия — от Марка, Матфея и
Луки — из-за общности их содержания.
3 Автор в данном случае ссылается на исследования Адольфа Гарнака
(1851—1930), немецкого протестантского богослова, автора трехтомной
«Истории догматов», «Сущности христианства» и издателя «Текстов и
исследований по истории древнехристианской литературы». Другим
автором, к кому обращается К. Григорьев, является немецкий марксист Карл
Каутский (1854—1938), книга которого «Из истории культуры.
Платоновский и древнехристианский коммунизм» вышла в 1905 г. в русском
переводе.
4 Цитируется ставшая широко известной статья С. Н. Булгакова
«Неотложная задача», в которой давалось обоснование возможности и
необходимости Союза (т. е. партии. —А. Е.) христианской политики.
5 in loco uno (лат.) — в одном месте.
В. В. Розанов
Религиозные голоса в нашей смуте
Впервые: Маленькая газета. 1906. 18 апреля. № 84. С. 2.
«Маленькая газета» выходила в Петербурге с 1 января по 23
апреля 1906 г. В. В. Розанов опубликовал в ней также статью «Медики
в психологии» (о книге И. Сикорского «Всеобщая психология и
физиогномика» ).
Розанов Василий Васильевич (20.04(2.05).1856 — 5.02.1919) —
философствующий публицист и писатель. «Даже среди яркого разнообразия
русской религиозно-философской мысли конца XIX — начала XX века
произведения Розанова заметно выделяются своей "взрывчатостью", не
ослабевающей с годами актуальностью и оригинальностью... Его острая,
живо пульсирующая, антиномичная мысль, проявившаяся в бесконечном
многоголосии книг, журнальных статей, газетных фельетонов,
выступлений на религиозно-философских собраниях, частных писем, с трудом
поддается систематизации — не только из-за хаотичности розановского
наследия, но и из-за того, что ее невозможно выразить в категориях
логики без утраты очень существенного: авторской интонации, ощущения
индивидуальности. У Розанова, в отличие от большинства пишущих, нет
расстояния между душевным переживанием и словесным воплощением»
(Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика // В. В. Розанов:
pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 5—6). Из последней литературы о
В. В. Розанове см.: Фатеев Б. А. «С русской бездной в душе».
Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002.
Предметом публикуемой статьи стало «Открытое обращение
верующего к Православной Церкви», напечатанное в двухнедельном журнале
«Полярная звезда» (14 номеров, вышедших с 15 декабря 1905 по 19 марта
1906 г.). Журналом руководил П. Б. Струве, а тон изданию задавали
кадетские авторы. «Обращение» В. П. Свенцицкого см. в Приложении.
Знакомство В. В. Розанова с В. Ф. Эрном произошло в январе 1905 г.,
когда последний вместе с В. П. Свенцицким приехал в Петербург, чтобы
убедить столичных иереев и интеллигенцию из круга « нового религиозно-
890
Комментарии и примечания
го сознания» выступить с протестом против действий Святейшего Синода,
который в своем послании от 14 января фактически оправдал расправу с
рабочими на Дворцовой площади. Андрей Белый в воспоминаниях *
Начало века» рассказал об этом знакомстве так: «В. В. Розанов, нагло
помалкивая и блистая очками, коленкой плясал; он осведомился пребрезг-
ливо:
— "Свентицкий... Поляк вы?"
— "Эрн — немец?"
— "По происхождению — да".
— "Поляк с немцем".
И выплюнул: по отношению к Синоду:
— "Навозная куча была и осталась; раскапывать — вонь подымать;
навоняет в нос всем... И только...» (Белый А. Начало века. М., 1990.
С. 494—495).
Однако лично к В. Ф. Эрну В. В. Розанов относился вполне дружески, а
когда молодой мыслитель после 1910 г. вполне проявил себя публицистом
неославянофильского толка, то В. В. Розанов не раз с похвалой отзывался
о нем. Он числил В. Ф. Эрна среди «молодых московских славянофилов»,
к которым относил П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Ф. К. Андреева,
С. А. Цветкова, М. А. Новоселова, В. А. Кожевникова, к каждому из
которых он относился с постоянной симпатией. Своеобразными центрами
неославянофильства в Москве были Религиозно-философское общество
памяти Владимира Соловьева, «Кружок ищущих христианского
просвещения» (известный как «новоселовский») и книгоиздательство «Путь».
Н. Езерский
Религия и политика
Впервые: Русская мысль. 1907. Кн. I. Январь. С. 106—126.
«Русская мысль» — ежемесячный научный, литературный и
политический журнал. Издавался с 1880 г. В 1907—1918 гг. редактором
журнала был выдающийся общественный деятель, политический
мыслитель, философ и публицист П. Б. Струве. Современники
часто называли журнал «кадетским», подчеркивая партийную
принадлежность редактора и многих его сотрудников; сам же редактор
стремился избегать политического «направленства» для журнала;
впрочем, сама жизнь продиктовала журналу позицию «вехов-
ства» — феномена либерального консерватизма. В журнале
выступали практически все выдающиеся представители философии и
литературы «серебряного века». (См.: Гапоненков Α. Α.,
Клейменова С. В., Попкова Н. А. «Русская мысль. Ежемесячное литературно-
политическое издание». Указатель содержания за 1907—1918 гг.
М., 2003.) В этом журнале В. Ф* Эрн опубликовал 3 статьи.
Езерский Николай Федорович (12.12.1870—?) — деятель народного
образования в Пензенской губернии, депутат I Государственной думы от
кадетской партии, публицист. Его выступление в «Русской мысли» стало
одним из эпизодов происходившего в русском обществе обсуждения
злободневной темы о взаимных отношениях религии и политики. В свою
Комментарии и примечания
891
очередь, эта тема была одним из участков обсуждения других, более
широких вопросов — о культуре и религии, о путях преобразования России.
«Русский духовный ренессанс» возникает на обсуждении и попытках
практического разрешения этих вопросов.
Статья Η. Ф. Езерского инициировала дискуссию в руководимом
Е. Н. Трубецким * Московском еженедельнике» об отношении этих двух
областей жизни. На нее откликается В. П. Свенцицкий, давший в № 26—
27 статью «На разных берегах». Здесь же высказывается Е. Н.
Трубецкой: «С того же берега. По поводу статьи В. П. Свенцицкого». Он же
выступил со статьей «К вопросу о дозволенном и недозволенном в политике»
(8 сентября. № 35). Ему в № 43 ответил Г. Д. Векилов: «Проблема
христианской общественности», а потом снова взял слово руководитель
журнала: «К вопросу о единой христианской партии. Ответ Г. Векилову»
(№ 44). Кажется, дискуссия завершилась статьей С. А. Котляревского:
«Цели и средства. По поводу статей г.г. Свенцицкого и Векилова» (1907.
1 декабря. №47).
1 См. Материалы к библиографии В. Ф. Эрна в настоящем издании.
2 «Вопросы религии»—сборники (их было два; первый вышел в
1906 г., второй — в 1908 г.), изданные группой В. Ф. Эрна и В. П.
Свенцицкого, посвященные проблемам социального христианства. Н. Езер-
ский цитирует статью В. П. Свенцицкого «Христианское отношение к
власти и насилию».
Свящ. Константин Аггеев
Религия и политика
Впервые: Век. Еженедельник религиозно-общественной жизни и
политики. 1907. № 10. С. 120—122; № 12. С. 142—143.
Журнал «Век» выходил в Петербурге с 12 ноября 1906 по 8 июля
1907 г. В качестве приложения к журналу предлагалось небольшое
издание «Церковное обновление» и раз в 2 недели — выпуски
«Библиотеки "Века"». Инициатива издания журнала
принадлежала «группе 32-х» (см. примеч. к ст. И. Айвазова в наст. изд.).
Редактор-издатель В. А. Никольский (он исполнял эти обязанности
вплоть до выхода пятнадцатого номера журнала) заявил о
проводимой в издании «христианской политике», которая учитывает всю
сложность «примирения христианских воззрений с современной
культурой», требующей «церковного обновления и христианского
возрождения» — с одной стороны, а с другой — достижения не
только общедемократических, но и социалистических целей. (О
журнале см.: Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 246—268.)
Не нужно путать это издание с другим, называвшимся так же: Век.
Независимый орган печати; с № 45 — ежедневная политическая,
общественная и литературная газета. М., 1906—1907.
Редактор-издатель— С. Г. Мимиконян (см.: Взыскующие града. Хроника.
С. 121. Примеч. 3).
В. Ф. Эрн не только неоднократно печатался в этом еженедельнике
(см.: Материалы к библиографии В. Ф. Эрна в наст, изд.), но и вы-
892
Комментарии и примечания
полнял какие-то важные организационные функции. Например,
С. Н. Булгаков в одном из писем пишет: «Эрн привез из Петербурга
проект реорганизации "Века" на кооперативных началах»;
возможно, он имел право распоряжаться финансами редакции (см.:
Взыскующие града. Хроника. С. 127, 136). Во всяком случае,
публикации В. Ф. Эрна определяли идейную позицию журнала.
Аггеев Константин Маркович (1868—1921) — один из активных цер-
ковно-общественных деятелей России начала XX в. Участвовал в создании
Братства церковного обновления (сначала— « группа 32-х») и
Религиозно-философского общества в С.-Петербурге; сотрудничал в «Церковном
вестнике», «Московском еженедельнике» и журнале «Век». С 1909 г. —
магистр богословия (после защиты диссертации о К. Н. Леонтьеве).
Преподавал в гимназиях и институтах С.-Петербурга. С апреля 1917 г.—
председатель Учебного комитета при Святейшем Синоде, член Предсобор-
ного Совета и Поместного собора 1917—1918 гг. Расстрелян. красными
в Крыму.
1 См. ст. Η. Ф. Езерского в наст. изд.
2 Цитируется ст. С. Н. Булгакова «Религия и политика. К вопросу об
образовании политических партий», опубликованная в журнале
«Полярная звезда» (1906. 12 марта. № 13). В «Московском еженедельнике»
(1906. 14 октября. № 30) ему оппонировал С. В. Лурье выступлением
«Сектантство и партийность».
3 Речь идет о статьях П. Б. Струве «Несколько слов по поводу статьи
С. Н. Булгакова» (Полярная звезда. 1906. 12 марта. № 13. С. 128—130) и
Е. Н. Трубецкого «Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н.
Булгакова» (Московский еженедельник. 1906. 14 октября. № 30. С. 37—39).
4 Статья П. П. Кудрявцева называлась «Священник и политика»
(Церковный вестник. 1906. № 2, 3).
5 Книга Петра Павловича Кудрявцева, историка философии,
преподавателя Киевской духовной академии, состоит из статей, опубликованных
им в «Трудах» академии в первую половину 1906 г. «В профессорской
коллегии Киевской духовной академии он был ее совестью, и это сильнее
и ярче всего выражалось в его социально-политическом радикализме.
Радикализм этот по существу был лишь умеренным либерализмом, но на
фоне мрачно настроенных профессоров Духовной академии он был
радикалом» (Зенъковский В. В. Мои встречи с выдающимися людьми //
Записки Русской Академической группы в США. 1994. Т. XXVI. С. 47). Все
статьи книги Кудрявцева проникнуты сочувствием к процессу
обновления религиозной жизни в России.
6 На разосланную в 1905 г. Синодом правящим архиереям анкету о
возможных церковных реформах Антоний ответил четырьмя
докладными записками, в которых изложил свою позицию по вопросам состава
будущего Собора, восстановления патриаршества, а также реформы
церковной школы.
В первой из них преосвященный резко критикует «группу 32-х» и
«революционное "Общество христианской борьбы"», которое
«предъявляет Собору требование "первым делом осудить самодержавие как вполне
противоречащее христианству". Это противоречие просвещенные авторы
Комментарии и примечания
893
"воззвания к русским епископам" находят в том, что требования
самодержавного царя безусловны и что их нельзя не исполнять безнаказанно,
хотя бы они противоречили заповедям. Авторы почему-то упускают из
виду, что таковы же требования всякого правительства, наприм<ер>
французского, уже прямо направленные против религии...» Помимо этой
части мирян Антоний упоминает « доморощенных богословов "Нового
пути" — открытых нигилистов, отрицателей догматов, будущей жизни,
святых таинств, евангельских чудес, принципиальных эротоманов,
интеллигентных хлыстов...» (Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о
церковной реформе. Ч. 1. СПб., 1906. С. 112, 119). Константин Маркович
Аггеев несколько увлекся: Антоний не называет Христианское братство
борьбы * бандой».
7 См. примеч. 3 к ст. Д. В. Философова «Голос мирян».
Д. В. Философов
Голос мирян
Впервые: Товарищ. Санкт-Петербург, 1906. 3 (16) октября. № 77.
Печатается по: Слова и жизнь. Литературные споры новейшего
времени (1901—1908). СПб., 1909. С. 192—198.
«Товарищ» — ежедневная общедоступная петербургская газета,
выходившая с перерывами с 15 марта 1906 г. по 30 декабря 1907 г.
С №26 имела подзаголовок: « Политическая, литературная и
экономическая газета». Запрещена постановлением Петербургской
судебной палаты 3 октября 1908 г. Редакция объявляла своей целью
* примирение крайних партий... умиротворение страны... мирный и
постепенный прогресс страны».
Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — юрист,
литературный и художественный критик, публицист, общественный деятель. Во
время работы в редакции журнала «Мир искусства» (1898—1904)
(ведущий критик и редактор литературного отдела) сблизился с 3. Н. Гиппиус
и Д. С. Мережковским, образовав своеобразный тройственный союз,
сыгравший значительную роль в культурной и религиозно-общественной
жизни России конца XIX — начала XX в. Вместе с ними организует
Религиозно-философские собрания 1901—1903 гг. и стоит у истоков журнала
«Новый путь» (в 1903—1904 гг. был его издателем-редактором).
Активный участник работы Религиозно-философского общества в Петербурге.
См. о нем в биографическом словаре «Сотрудники Российской
национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Т. 1. Императорская
Публичная библиотека: 1795—1917» (СПб., 1995).
В отношении Д. В. Философова к сборнику ярко проявилась позиция
петербургских богоискателей, которая в целом свелась к следующему: в
рамках православия нет места для реформ, нет места для христианской
общественности. «Вся его (т. е. православия. —А. Е.) метафизика
настолько противоречит идее революции, что членам Церкви или надо уйти из
нее, или честно принять те выводы, которые вытекают из церковной
метафизики. <...> Пусть нам докажут, что последовательный социализм
или хотя бы даже "кадетизм" совместимы с православием, и тогда не
894
Комментарии и примечания
только "братство церковного обновления", но и более радикальный
"христианский союз" (С. Булгакова, Эрна, Свенцицкого и др.) будут иметь
почву под ногами, найдут целостное миросознание, приобретут единство
действий» (Философов Д. В. Церковь и революция // Век. 1907. 13 мая.
№ 18. С. 253). А вот относительно замыслов авторов сборника «Вопросы
религии» Д. В. Философов достаточно скептичен. Православие имеет
свою историю и свою метафизику, и они таковы, что «если бы наша
церковь, послушав Булгакова, Эрна, Свенцицкого и др., произвела бы все
требуемые ими реформы, из которых первая — разрыв ее связи с
абсолютизмом, то она перестала бы быть православной...» (см. предлагаемую
здесь статью Д. В. Философова).
Выступление Д. В. Философова по поводу сборника «Вопросы
религии» было одним из моментов полемики между представителями
богоискателей-петербуржцев и богоискателей-москвичей, которая захватила
своей тематикой многих (см. далее выступление 3. Н. Гиппиус, а также
полемику Д. В. Философова, В. П. Свенцицкого и Н. А. Бердяева в
журнале «Век» (1907. 13 мая. № 18; 24 июня. № 24; 1 июля. № 25)).
Возможно, что суммарной оценкой петербургских богоискателей можно считать
более позднее по времени суждение С. Н. Булгакова: «В то же время,
около 1905 года, нам всем казалось (речь идет о «крошечной группе людей,
составивших вскоре Религиозно-философское общество имени Владимира
Соловьева», т. е. в том числе о В. П. Свенцицком и В. Ф. Эрне. —А. £.),
что мы-то именно и призваны начать в России новое
религиозно-революционное движение (позднее, когда это было уже брошено нами, это было
подхвачено и опошлено декламацией Мережковского, который сделал
своей новой специальностью ноту ре-волюция-магия). Это были своего
рода "бессмысленные мечтания", которые и обличила жизнь»
(Булгаков С. Н. Пять лет // Автобиографические заметки. Дневники. Статьи.
Орел, 1998. С. 50—51).
1 Предсоборная комиссия прервала свою работу 13 июня 1906 г. См.
примеч. к письму В. П. Свенцицкого и В. Ф. Эрна «Церковная реформа.
Гласное обращение к членам комиссии по вопросу о церковном Соборе».
2 Список членов комиссии был опубликован в казанском журнале
«Церковно-общественная жизнь» (1906. 26 марта. № 14). См. также:
Журналы и протоколы высочайше учрежденного Предсоборного
Присутствия. Т. 1—4. СПб., 1906.
3 Вопросы религии. Вып. 1. М., 1906. Сборник вышел в июне 1906 г.
Его содержание составили: статья В. П. Свенцицкого «Христианское
отношение к власти и насилию»; три статьи С. Н. Булгакова: «Церковь и
культура», «Церковь и государство», «Церковь и социальный вопрос»; статья
В. Ф. Эрна «Церковное возрождение (О приходе)»; статья А. С. Глинки-
Волжского «Проблема зла у Вл. Соловьева». В сборнике была также
помещена статья П. А. Флоренского «К почести высшего звания. Черты
характера архимандрита Серапиона Машкина» и «Письма и наброски ар-
хим. Серапиона Машкина».
4 «Силлабус» — так коротко именуется важнейший документ
Римской церкви — «Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores»
(«Полное перечисление главных заблуждений нашего времени»), издан-
Комментарии и примечания
895
ный приложением к энциклике папы Пия IX «Quanta cura». В нем
преданы осуждению и проклятию важнейшие научные, политические и
общественные течения и идеи Нового времени.
5 «Rerum novarum» — название энциклики папы Льва XIII,
опубликованной в 1891 г. В ней провозглашалась необходимость сотрудничества
классов и создания рабочих организаций в рамках наличного строя в
целях улучшения социального положения трудящихся.
6 Послание Синода. — Речь идет о «Послании Св. Синода по поводу
беспорядков рабочих» от 14 января 1905 г. (см. примеч. 3 к публикации
«Христианский социализм в России».
Что касается послания митрополита Антония (Вадковского), то,
возможно, речь идет о «Письме первенствующего члена Святейшего
Синода, высокопреосвященного Антония, митрополита С.-Петербургского, к
епархиальным преосвященным», опубликованном, в частности, в
еженедельном журнале «Церковный вестник» (1906. 31 августа. №35). В нем
он писал: «На нас лежит обет соблюдать и твердо держать мир церковный
и всякими мерами отвращать всё противное правам власти верховной,
пользе и безопасности государственной». Он говорит о том, что для
борьбы с врагами Церкви и государства требуются «не одни внешние меры
государственного псрядка, но более всего меры нравственного
христианского воздействия». Его письмо приурочено к выборам в I
Государственную думу.
На это письмо отреагировал не только Д. В. Философов, но и
некто г. Юзефович (Московские ведомости. № 228), председатель
«соединенного собрания» всех киевских правых партий. Он упрекнул митрополита
Антония в том, что последний не разъяснил, кто же конкретно являются
врагами Церкви и государства.
7 Тридентский собор состоялся в 1543—1563 гг. На нем победили
сторонники непримиримой борьбы с Реформацией.
С. М. Соловьев
<Рец. на:> Вопросы религии. Вып. 1. Москва
Впервые: Перевал. 1906. №2. С. 70—71.
«Перевал. Журнал свободной мысли» — ежемесячное литературно-
общественное издание. Выходил в Москве с ноября 1906 (№ 1) по
октябрь 1907 г. (№ 12). Его редактором был С. А. Соколов
(литературный псевдоним — Сергей Кречетов), поэт, владелец
символистского издательства «Гриф». Целью журнала было «объединение
свободного искусства и свободной общественности».
Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт-символист,
переводчик, специалист по античной литературе, религиозный публицист,
активный участник литературной и религиозно-общественной жизни России,
племянник Вл. С. Соловьева, троюродный брат А. Блока.
Чрезвычайно резкая — единственная в таком роде! — рецензия на
сборник (чего только стоит выражение «теплохладная пошлость г. Эр-
на»!—А Е.) не помешала автору позднее в предисловии к своей книге
«Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция» (предисловие поме-
896
Комментарии и примечания
чено 1923 г.) высоко оценить В. Ф. Эрна как исследователя творчества
В л. С. Соловьева.
Превосходная статья о С. М. Соловьеве принадлежит П. П. Гайденко.
Она называется «Об авторе и его герое» и помещена в качестве
послесловия к книге С. М. Соловьева «Владимир Соловьев: Жизнь и творческая
эволюция» (М., 1997. С. 383—422).
1 О сборнике «Вопросы религии» см. примечания к ст. Д. В. Фило-
софова. Выражение «теплохладная (семинарщина, пошлость)» идет не
только от библейского (Апок. 3:15—16), но, возможно, в полемических
целях повторяет написанное В. П. Свенцицким в его статье
«Христианское отношение к власти и насилию» (Вопросы религии. Вып. 1). Здесь
В. П. Свенцицкий пишет «о современном церковном движении как о
либеральном христианстве, а последнее определил как жалкую
полуистину, как полу прохладное, либеральное христианство, в котором нет ни
правды Божией, ни правды человеческой».
2 Речь идет о Никоне (в миру — Н. Рождественский), епископе
Вологодском (с 25 апреля 1906 г.). Одно время известностью пользовалась его
статья «Самодержавие по образу Божия Вседержительства» (Московские
церковные ведомости. 1906. № 4). Будучи членом Государственного
Совета, позднее, в 1915 г., в ноябрьском номере «Голоса церкви» он
опубликовал статью «Правые и левые», в которой первых характеризовал как
праведников, а вторых изображал грешниками.
3. Н.Гиппиус
Без мира
Впервые: Весы. Ежемесячник искусств и литературы. 1907. № 1.
Январь. С. 57—65.
«Весы» — литературный и критико-библиографический журнал,
который выходил в Москве в издательстве «Скорпион» в 1904—
1909 гг. Руководил журналом В. Я. Брюсов, сделавший его одним
из центром литературной жизни России «серебряного века».
Журнал придерживался символистского представления о литературе
и подчеркивал религиозные, мистические и метафизические перво-
основания искусства. (См.: Журнал «Весы» (1904—1909 гг.):
Указатель содержания / Сост. Т. В. Игошева, Г. В. Петрова. Под ред.
Н. А. Богомолова. Великий Новгород, 2002.)
Гиппиус Зинаида Николаевна (8 (20). 11.1869 — 9.9.1945) — поэтесса,
литературный критик, прозаик.
Совместно с Д. С. Мережковским, В. В. Розановым, В. А. Тернавцевым
выступила в качестве инициатора Религиозно-философских собраний
1901—1903 гг.; выдающийся теоретик «нового религиозного сознания» и
активный участник работы петербургского/петроградского Религиозно-
философского общества.
Критикуя «Вопросы религии», 3. Н. Гиппиус, как и Д. В. Философов,
тоже недовольна слабым метафизическим оснащением общественных
устремлений авторов: «то согласие, которое ими бессознательно ощущает-
Комментарии и примечания
897
ся и которое свело их вместе, — совершенно простое, чисто человеческое,
совершенно внерелигиозное согласие: единодушный протест русских
интеллигентов против устаревших, непереносимых более форм русской
государственной общественности».
1 «Свободная совесть. Литературно-философский сборник» — вышел
двумя книгами в Москве в конце 1905 и в сентябре 1906 г. Редактором-
составителем был Павел Иванович Астров (1866—1918) — юрист, член
Московского окружного суда, публицист. Он предоставлял свою квартиру
для собрания кружка «аргонавтов». В сборниках печатались В. П. Свен-
цицкий, А. Белый, Б. П. Вышеславцев, Г. А. Рачинский, Эллис (Л. Л. Ко-
былинский) и др. Надо согласиться с 3. Н. Гиппиус: «Не вижу в
"сборнике", в его факте — никакого "дела", ничего "общего"». Оглавление
сборников см.: Колеров М. Индустрия идей. Русские
общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887/1947. М., 2000.
О сборнике «Вопросы религии» см. примечания к ст. Д. В. Филосо-
фова «Голос мирян».
2 3. Н. Гиппиус упоминает рассказ А. Г. Коваленской «Розы».
Александра Григорьевна Коваленская (1829—1914) — детская писательница,
бабушка одного из «аргонавтов», поэта и публициста СМ. Соловьева —
участника сборников «Свободная совесть» и друга Андрея Белого.
Иван Осипов
«Таинства и возрождение Церкви»
Впервые: Век. 1907. 1 апреля. № 13. С. 154—155.
Статья Ивана Осипова — это реакция на выступление В. Ф. Эрна
«Таинства и возрождение Церкви» (см. в наст. изд.). В. Ф. Эрн собирался
отвечать Ивану Осипову и другим корреспондентам, отреагировавшим на
его статью (см.: Взыскующие града. Хроника. С. 139, 143).
В. В. Розанов
О таинствах. Письмо в редакцию
Впервые: Век. 1907. 6 мая. № 17. С. 233—235.
В. Ф. Эрн писал: «Розанов привел меня в умиление. Изумительно
искренняя и точная передача своих мыслей и чувствований» (Взыскующие
града. Хроника. С. 143). Однако легко заметить, что «мысли и
чувствования» В. В. Розанова совсем другие, чем у В. Ф. Эрна. Для В. В. Розанова
«таинством» выступает сама жизнь.
В. В. Розанов
Вечная тема
Впервые: Новое время. 1908. 4 (17) января. № 11427. С. 3. Недавно
опубликована в сб. работ В. В. Розанова «Во дворе язычников» (Ро-
898
Комментарии и примечания
занов В. В. Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1999.
С. 359—362).
* Новое время» — одна из самых известных русских газет.
Основана в 1868 г.; с 1876 г. ею руководил Алексей Сергеевич Суворин
(1834—1912), выдающийся журналист и книгоиздатель. У прогрес-
систски-радикально настроенных читателей газета имела
репутацию * рептильной», 41 правой», 4i черносотенной» и пр.; тем не менее
круг ее читателей был велик. Закрыта на другой день после
Октябрьской революции. В. В. Розанов стал постоянным автором
газеты с 1896 г.
Предлагаемая статья В. В. Розанова, равно как и другие его статьи,
помещенные в первом разделе Антологии, — свидетельства не столько
4i3a» или 4:против» В. Ф. Эрна, сколько характеристики 4(религиозности»
самого Розанова, обоготворившего саму жизнь и ее ядро — пол.
1 41 Живая жизнь» — религиозно-общественный журнал, выходивший
в Москве в 1907—1908 гг. (два номера в ноябре—декабре 1907 г. и два —
в январе 1908 г.). Его руководителями были инициаторы и активисты
Христианского братства борьбы, которые, как пишет современный
исследователь, хотели «спасти дело Христианского братства борьбы»,
превратив его основателей в «мозговой центр... критического сознания
современности» (Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 271). «Авторы программы
"Живой жизни" пытались максимально насытить ее признаками всех
религиозных направлений, отозваться аллюзиями на все знаки: тут был и
Третий Завет Мережковского, и "религиозная практика" Христианского
братства борьбы, и первохристианство, и социализм, и "умозрение"
профессиональной философии» (Там же. С. 270—271).
Роспись публикаций четырех номеров журнала см.: Исследования
по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 г. / Под ред. М. А. Колеро-
ва. СПб., 1999. С. 398—400.
Продолжением этого журнала стал сборник «Религия и жизнь» (М.,
1908). Роспись его содержания см.: Колеров М. Индустрия идей. Русские
общественно-политические и религиозно-философские сборники (1887/
1947). М., 2000.
2 Статья В. Ф. Эрна «Социализм и проблема свободы» публиковалась
в № 2 «Живой жизни» (1907. 20 декабря. С 40—87). Затем статья вошла в
книгу «Борьба за Логос» (М.: Путь, 1910).
3 Восьмая глава статьи В. Ф. Эрна «Социализм и проблема свободы»
суммирует авторскую позицию, которая так заинтересовала В. В.
Розанова. Приводим ее целиком.
«Итак, смерть еще больше, чем время, лишает людей всякой
свободы. Если я — приговоренный к смерти, если через определенное время от
меня в этом мире ничего, кроме лопуха, не остается, о каком же
освобождении человечества через меня может быть речь? Я, на котором лежит
призвание утвердить в нашем мире необходимости — царство свободы, по
истечении нескольких лет против всякого моего желания выкидываюсь
за шиворот из этого мира явлений. Что же при таких условиях я могу
сделать? Ровно ничего. Если смерть будет господствовать вечно, если она
без всяких усилий будет всегда целыми массами высылать за пределы
Комментарии и примечания
899
мира явлений всех агентов из царства свободы, желающих путем
революции свергнуть царство необходимости, — тогда, очевидно, дело свободы,
дело реального освобождения человечества нужно считать проигранным
окончательно. Смерть делает совершенно призрачным и мнимым всякое
утверждение свободы на нашей земле. Но в таком случае перед нами
ставится новая дилемма: или свобода, или смерть.
Если считать смерть неуничтожимой и такой, которая всегда будет
торжествовать свою победу над человеком, тогда с мыслью об
освобождении нужно расстаться совсем. Свобода и смерть несоединимы абсолютно,
потому что смерть есть величайшее из всех возможных видов рабства.
Если же верить в возможность победы над смертью, если стоять на
почве мировоззрения, которое принципиально считает смерть фактом,
господство которого будет сломлено, — только тогда можно вложить
истинный смысл в понятие свободы, только тогда можно оправдать идею
свободы делания, без которой, как я показал уже раньше, говорить об
освобождении является делом бессмысленным.
Таким образом, если рассмотрение субъективного отношения к
смерти привело нас к выводу, что оно осмыслено может быть лишь при
допущении факта бессмертия^ то рассмотрение объективного значения
смерти привело нас к выводу, что для того, чтобы осмыслить процесс
освобождения и сделать возможным водворение свободы в царстве
причинности и обусловленности, необходимо признать возможность уничтожения
смерти как внешнего факта.
Из всех религий одно христианство всегда дерзало не только
мечтать о будущей победе над смертью и временем, но и религиозно
базировать эту величайшую из всех надежд человечества на уже свершившемся
факте победы над смертью — на светлом Христовом воскресении. Победил
смерть Христос.
И нужно же, наконец, понять, что нет свободы ни личной, ни
общественной, ни космически-вселенской вне радостной и всепобедной веры в
воскресшего Господа и Бога нашего Иисуса Христа!»
4 Полное название первого (и последнего!) очень большого философ-
ско-теоретического труда В. В. Розанова, которым он мечтал определить
себя в качестве философа-профессионала, таково: «О понимании. Опыт
исследования природы, границ и внутреннего строения науки как
цельного знания» (М., 1896). Современный исследователь В. В. Бибихин
оценивает его в статье « Время читать Розанова» (дана предисловием к
переизданию книги Розанова в московском издательстве «Танаис» в 1996 г.).
См. также более раннюю статью того же автора: Бибихин В. В. К
метафизике Другого // Начала. Религиозно-философский журнал. 1992. № 3.
С. 52—65).
В. В. Розанов
Еще о вечной теме
Впервые: Новое время. 1908. 22 февраля (6 марта). № 11476. С. 3—4.
Недавно опубликована в сб. работ В. В. Розанова «Во дворе языч-
900
Комментарии и примечания
ников» (Розанов В. В. Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюки-
на. М., 1999. С. 362—366).
1 Для Д. С. Мережковского тема бессмертия его Я, вечной жизни
преображенной плоти была фундаментально важна. Сжато и выразительно
он изложил ее в статье «О воскресении» (Живая жизнь. 1907. 27 ноября.
№ 1). На заметку В. В. Розанова «Вечная тема» Д. С. Мережковский
откликнулся большой статьей «Мистические хулиганы» (Свободные
мысли. 1908. 28 января. № 38. С. 2). «Что такое хулиганство? В эстетике это
уже не вообще "сапоги", а "мои сапоги выше Шекспира"; в этике — "мне
все позволено"; в религии — "во мне все божественно; я Бог и нет иного
Бога, кроме меня". Розанов думает, что нет бессмертной души. "Так
думаю, — говорит он, — может быть, скверно, но так думаю"». Д. С.
Мережковский комментирует: «Вот сущность мистического анархизма:
может быть, скверно думаю, но это не важно, важно от, что Я—Я—Я так
думаю; а ежели — Я, то хорошо и скверное, потому что Я — красота, Я —
истина, Я — мера всего». Когда же Розанов говорит: «Оставьте все, как
есть. Не тяните йи туда, ни сюда», то Д. С. Мережковский просто
захлебывается от негодования: «Но ведь это древняя, вечная заповедь всей
черносотенной, мещански-хулиганской религии: Дубровины, Меньшиковы
только и хлопочут о том, чтобы "оставить все, как есть", всякую
существующую мерзость возвести в перл создания...» и пр.
Что касается В. П. Свенцицкого, то, скорее всего, В. В. Розанов
отвечает на его выступление «В защиту "максимализма" Бранда» (Живая
жизнь. 1907. 20 декабря. № 2). В. П. Свенцицкий излагает свою позицию
так: спасение мира покупается ценой побежденной смерти. Вот —
главное. «В этом — всё. Иного я не приму. На ином не успокоюсь. Или все —
или ничего!» А вот В. В. Розанов — это неверующий; а тогда: «Все
долой!», «Все прах!». «Будьте же сыном праха. Не принимаете Бога, — так
не принимайте же и мира сего».
Полемическая схватка между этими оппонентами — не последняя.
В петербургском Религиозно-философском обществе 14 февраля 1908 г.
В. П. Свенцицкий читал доклад «Мировое значение аскетического
христианства», а В. В. Розанов 12 марта отвечал ему выступлением «О
христианском аскетизме».
2 Профессор Военно-медицинской академии Соротинин (видимо,
опечатка в газете; надо — Сиротинин) Василий Николаевич (1855 или
1856—1934) говорил В. В. Розанову об «отравлении головного мозга
птомаинами», т.е. трупными ядами, образующимися при гниении белков.
Эти птомаины могут быть в испорченных мясных и рыбных продуктах.
3 См. «Братья Карамазовы» (Ч. 4. Кн. 11. Гл. IV «Гимн и секрет»).
По словам Дмитрия Карамазова, Ракитин-Елисеев «в Петербург
собирается... в отделение критики, но с благородством направления... Может
пользу принесть и карьеру устроить».
4 Требник — название богослужебной книги, содержащей молитвы и
священнодействия, которые совершаются в особых случаях по нужде
одного или нескольких христиан. Молитвы и священнодействия, большей
частью таинства, называются требами (см.: Полный православный
богословский энциклопедический словарь. Т. И. Репринт. М., 1992).
Комментарии и примечания
901
5 См.: Тургенев И. С. Дворянское гнездо. Гл. 26.
6 В данном случае В. С. Соловьев « безбожно цитирует» строфу из
стихотворения Дж. Г. Байрона «Эвтаназия», возможно, в собственном
переводе. Вероятнее всего, В. С. Соловьев встретил эту строфу на языке
оригинала во втором томе книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» (гл. 46: «О ничтожности и страданиях жизни»). В. В.
Розанов, видимо, полагается на свою память и ошибается, назвав «Критику
отвлеченных начал», в которой, дескать, имеется такая цитата. На самом
деле эта цитата содержится в работе В. С. Соловьева «Философские
начала цельного знания» (см.: Соловьев В. С. Поли. собр. соч. и писем: В 12 т.
Соч. Т. 2. М., 2000. С. 211, 370).
II
БОРЬБА ЗА ЛОГОС
В. Ф. Эрн
Нечто о Логосе, русской философии и научности.
По поводу нового философского журнала «Логос»
Впервые: Московский еженедельник. 1910. 24 июля. №29. С. 32—
40; 31 июля. № 30. С. 30—40; 7 августа. № 31. С. 34—44; 14
августа. №32. С. 34—42. Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения / Сост.,
подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Антоновой. Примеч. В. И. Кей-
дана и Е.В.Антоновой. М., 1991. С. 71—108 (примеч.: С. 540—
544. В примечания внесены небольшие изменения).
«Московский еженедельник» — общественно-политическое издание,
выходившее с 7 марта 1906 г. до 28 августа 1910 г. Редактором-издателем
был Е. Н. Трубецкой. Издание было неофициальным органом Партии
мирного обновления, хотя редакция не раз подчеркивала его внепартийный
характер. Журнал уделял значительное внимание вопросам культуры,
религии и философии. В этом журнале появилась первая
неодобрительная рецензия на «Логос» — «международный ежегодник по философии
культуры» (1910. 1 мая. № 17). Рецензия принадлежала профессору
Московского университета, социологу и правоведу В. М. Хвостову.
О журнале «Логос» см. примеч. к ст. С. И. Гессена и Ф. А. Степуна «От
редакции (Цели журнала «Логос» и задачи современной русской
философии)».
1 Впрочем, по-моему, нечего спорить о названии (греч.). — Платон.
Государство. VII. 53 D // Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968—1970. Т. 3. Ч. 1.
С. 345).
2 Соловьев В. С. А. А. Фету (19 октября 1884 г.).
3 Lehrjahre (нем.) — годы учения; Wanderjahre (нем.) — годы
странствий. Имеются в виду романы Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»
и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821—1829).
902
Комментарии и примечания
4 Слова Достоевского, о которых вспоминает Эрн, таковы: «Каковы у
него <Расина> женщины! Пойми его. Расин не был гений; мог <ли> он
создать драму! Он только должен подражать Корнелю. A Phèdre? Брат!
Ты бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая
природа и поэзия. Ведь это шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а
не из мрамора» (Достоевский Ф.М. Письма. Т. I. 1832—1867. М.; Л.,
1928. С. 59).
5 Фиваидские пустынники — христианские монахи-отшельники,
поселившиеся в IV—V вв. в пустынной местности Фиваида в Египте. Св.
Серафим Саровский (1759—1833) — иеромонах Саровской пустыни, один из
наиболее почитаемых представителей русского старчества. В миру —
Прохор Мошнин, выходец из старинного курского купеческого рода.
6 Самая совершенная — философия святых (греч.).
7 Неизвестный автор «Ареопагитик»—ΠсевдоДионисий Ареопагит
(V — начало VI в.) — христианский неоплатоник, опубликовавший под
именем Дионисия Ареопагита (афинянина, члена Ареопага, упомянутого
в «Деяниях апостолов», 17: 34) сочинения (4 трактата и 10 посланий), где
представлен неоплатонический вариант синтеза христианства с
языческой философией. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита получило
официальное признание в византийском православии первоначально благодаря
его интерпретации византийским мыслителем и богословом Максимом
Исповедником (ок. 580—662). Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) —
церковный писатель, один из виднейших представителей восточной
патристики, самый крупный философ каппадокийской школы.
8 К чаше, наполненной священным нектаром греков (лат.).
9 «Мусагет» — московское книгоиздательство, основанное в 1909 г.
3. К. Метнером на деньги немецкой меценатки X. Фридрих; издательство
стало организационным центром русских символистов. Об отношениях
между мусагетцами и группой Логоса см.: Безродный М.В. 1) Из истории
русского неокантианства. Журнал «Логос» и его редакторы // Лица.
Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 372—402; 2)
Издательство «Мусагет»: групповой портрет на фоне модернизма//Русская
литература. 1998. №2. С. 119—131.
10 Мальбранш Н. Разыскания истины. Т. I. 1903. С. 25.
11 Δυνάμει öv (греч.) — возможное сущее; ενεργεία öv (греч.) —
действительное сущее.
12 Вейнингер Отто (1880—1903) — австрийский философ; известен
своей книгой по критике культуры «Geschlecht und Charakter» («Пол и
характер») (1903).
13 «В начале было Слово» (греч.) — Ин 1:1.
14 Я есть сущий (церк.-слав.) — Исх 3:14.
15 Мыслящее и постигаемое суть едины (греч.).
16 Θέωσις (греч.) — обожение, обожествление.
17 Паульсен Ф. Шопенгауэр. Гамлет. Мефистофель. Три очерка из
истории пессимизма / Пер. с нем. С. Н. Зелинской. Киев, 1902.
18 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. I. М., 1886;
4. П. М., 1891; Козлов A.A. Беседы с Сократом (4-я — 6-я) // Свое слово.
Комментарии и примечания
903
Киев, 1889. №2. С. 5—110; Трубецкой С.Н. Учение о Логосе и его
истории. 1900.
19 Яковенко Б. Итальянская философия последнего времени // Логос.
1910. Вып. 2. С. 259—285.
20 Ибервег Фридрих (1826—1871) — немецкий историк философии.
Эрн упоминает здесь книгу, написанную Ибервегом в соавторстве с
Максом Гейнце, — «История новой философии в сжатом очерке» (Grundriss
der Geschichte der neuen Philosophie) (СПб., 1890; 2-е изд.: В 2 вып.—
СПб., 1898—1899).
21 Хиждеу А. Григорий Саввич Сковорода//Телескоп. М., 1835.
Ч. XXVI—XXVII; Архимандрит Гавриил, История философии в России.
Ч. 6. Казань, 1860.
22 Афазия — нарушение речи, возникающее при локальных
поражениях коры левого полушария мозга.
23 Неточная цитата из Ин. 1:2: «...без Него ничто не начало быть, что
начало быть».
24 Überwundener Standpunkt (нем.) — преодоленная (устаревшая)
точка зрения; отжившая идея.
25 Natura creata non creans (лат.) — природа сотворенная нетворящая;
natura creata creans (лат.) — природа сотворенная творящая — понятия,
введенные в европейскую философию И. С. Эриугеной в трактате «De
divisione Naturae» («О разделении природы»), где он говорит о
существовании четырех природ: первая — природа несотворенная творящая — Бог
как источник мирового процесса; вторая — природа сотворенная
творящая — совокупность идей божественного ума, в соответствии с которыми
и посредством которых происходит сотворение мира материальных,
конкретных вещей; третья — природа сотворенная нетворящая —
материальный мир; четвертая — природа несотворенная нетворящая — Бог как
цель и результат мирового процесса.
26 Contradictio in adjecto (лат.) — противоречие в определении.
27 Ενεργεία (грея.) — филос: осуществленная действительность,
энергия, сила в действии.
28 Πενία (грен.) — бедность; πόρος (грен.) — изобилие. В античной
традиции Порос — олицетворение богатства; Пения — олицетворение
бедности. Миф о рождении Эроса от Пении и Пороса вымышлен Платоном.
29 Realiter (лат.) — реально; nominaliter (лат.) — номинально.
30 Régie du triangle (φρ.) — правило треугольника.
31 Ens rationis (лат.) — мыслимо сущее.
32 Mutatis mutandis (лат.) — изменив то, что требует изменения;
внеся необходимые изменения; с соответствующими изменениями.
В. Ф. Эрн
Культурное непонимание
Ответ С. Л. Франку
Впервые: Русская мысль. 1910. № 10. С. 116—129. Печатается по:
Эрн В. Ф. Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Ан-
904
Комментарии и примечания
тоновой. Примеч. В. И. Койдана и Е.В.Антоновой. М., 1991.
С. 109—126.
Настоящая статья В. Ф. Эрна является ответом на выступление
С. Л. Франка «Философские отклики. О национализме в
философии», опубликованном в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. IX.
С. 162—171).
Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ и общественный
деятель, участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи»
(1908), «Из глубины» (1918), вместе с П. Б. Струве редактировал
общественно-политические еженедельники «Полярная звезда» и «Свобода и
культура», член редакции «Русской мысли». «Определяющим для
мировоззрения Франка является стремление рационально выразить
сверхрациональную сущность реальности, подвести под метафизику всеединства
надежный логико-гносеологический фундамент» (см.: Русская
философия: словарь / Под общ. ред. М. А. Маслина. М. 1995).
По воспоминаниям С. Л. Франка, его статья по поводу выступления
В. Ф. Эрна «Нечто о Логосе, русской философии и научности» была
написана при следующих обстоятельствах: «Московский
славянофильствующий философ Эрн выступил с резкой критикой этого начинания
(имеется в виду издание «Логоса».—А.Е.), доказывая, что античная идея
"логоса" унаследована только восточной церковью и через нее русской
мыслью, потому русским нет нужды учиться у немецкой и вообще
европейской философии, опустошающий рационализм которой основан
именно на оторванности ее от начала "логоса". Я сам к тому времени
окончательно преодолел "кантианскую" стадию своего развития, а тем более был
далек от "риккертианства" и иных видов новейшего немецкого "новокан-
тизма"; все умонастроение русских новокантианцев было мне чуждо
(хотя я и опубликовал одну статью в «Логосе»). Но полемика Эрна задела
гораздо общую проблему; она была возрождением славянофильской
критики западного духовного мира вообще; П. Б. (Струве. —А. Е.) предложил
мне возражать Эрну, что я и сделал; из этого завязался между нами обмен
полемическими статьями» (Франк С. Л. Непрочитанное... Статьи, письма,
воспоминания. М., 2001. С. 466—467).
Реакция В. Ф. Эрна на статью С. Л. Франка была мгновенной. Он
писал своей жене: «...Франк, очень задетый моей статьей (речь идет о статье
в «Московском еженедельнике»), будет мне отвечать в "Русской мысли".
Что он — я очень рад! <...> Я ничего не имею против померяться силами с
"культурным философом" Франком. Мне приятно и то, что "Русская
мысль", закрывшая двери предо мной (когда я хотел поместить в «Р<ус-
ской> м<ысли>» Беркли и т. д.), теперь принуждена будет писать статью
обо мне. Эти честные либералы-кадеты всегда так. Мне не дают писать, а
обо мне писать принуждаются. Меня это потешает. Я тут не я, а идея.
Когда идеи им враждебны, они давят, а когда враждебные им идеи
возбуждают общественный интерес, — они волей-неволей принуждены
давать место. Силе внешней они уступают. Ну, Бог с ними!» (Взыскующие
града. Хроника. С. 277).
11 сентября 1910 г. он закончил работу над ответом С. Л. Франку под
названием «Культурное непонимание». «Конец самый ехидный», —
писал он жене.
Комментарии и примечания
905
С. Л. Франк завершил полемику своим ответом «Еще о национализме
в философии» (Русская мысль. 1910. №11). В. Ф. Эрн, издавая сборник
своих статей «Борьба за Логос» (М., 1911), снабдил текст двух своих
статей дополнительными примечаниями, договаривая то, что не успел
сказать своему оппоненту.
Известная отстраненность С. Л. Франка от стихии русской мысли,
ощущаемая, на мой взгляд, в двух полемических статьях 1910 г.,
исчезает в его более поздних исследованиях 20-х гг., таких как «Сущность и
ведущие мотивы русской философии», «Русское мировоззрение», «Русская
философия, ее характерная особенность и задача». Здесь не только
оценка русской философии, но и анализ ее содержания сближают С. Л.
Франка с В. Ф. Эрном.
Что касается личных отношений С. Л. Франка с его оппонентом, то о
них С. Л. Франк рассказывает в своей некрологической заметке «Памяти
B. Ф. Эрна» (см. наст. изд.).
1 Сирах. 11:7.
2 Differentiam specificam (лат.) — специфическое отличие, видовое
отличие — признак, отличающий предметы одного вида от предметов
других видов, входящих в один и тот же род.
3 Genus proximum (лат.) — ближайший род — непосредственно более
широкий класс предметов, в который в качестве вида входят
рассматриваемые предметы.
4 Эрн имеет в виду статью Н. А. Бердяева «Философская истина и
интеллигентская правда», опубликованную в сборнике «Вехи» (М.,
1909).
5 Соловьев B.C. Письма /Под ред. Э. Л. Радлова. Т. I. СПб., 1908.
C. 59 (курсив В. Ф. Эрна); см.: Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал.
Гл. XLV «Вера, воображение и творчество как основные элементы всякого
предметного познания»//Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
С. 717—734.
6 Causa sui (лат.) — причина себя; в философской системе Спинозы,
субстанция — причина самой себя.
7 иНазадняки* — часто употреблявшееся В. С. Соловьевым
ироническое обозначение реакционеров, противопоставлявших лозунгу
прогрессистов «вперед» лозунг «назад».
8 Лопатин Л. М. Князь С. Н. Трубецкой и его общее философское
миросозерцание // Вопросы философии и психологии. 1906. № 1. С. 49.
9 Лопатин Л.М. Лекции по истории новой философии. 4.1. М.,
1914.
10 Onus probandi (лат.) — бремя доказывания.
11 Terminus technicus (лат.) — технический термин.
12 Plato scribens mortuus est (лат.) — Умирая, Платон писал.
13 Хиждеу Б. Григорий Саввич Сковорода//Телескоп. М., 1835.
Ч. XXVI—XXVII.
14 См.: Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 582—625.
15 Творения Платона / Пер. с греч. В.Соловьева. Т. 2. М., 1903.
Предисловие С. Н. Трубецкого.
906
Комментарии и примечания
16 Sit venia verbo (лат.) — с позволения сказать.
17 Эрн В. Гносеология В.С.Соловьева. — Издательство «Путь». Сб. I:
О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 129—206.
18 Из «возможно сущего» в «действительно сущее» (греч.).
19 «Там, где нет печали и вздохов» (церк.-слав.) — неточная цитата из
кондака 8 гласа (Чин погребения). Полный текст в русском переводе: «Со
святыми упокой, Христе, душу раба Твоего там, где нет ни болезней, ни
печалей, ни вздохов, но жизнь бесконечная».
20 Έιδωλον (греч.) — идол; εΐκώνη (греч.) — икона, образ.
21 Статья «Проблема власти» помещена в сборнике статей С. Л.
Франка «Философия и Жизнь. Этюды и наброски по философии культуры»
(СПб., 1910).
22 Anima mundi (лат.) — душа мира.
23 Природа сотворенная творящая (греч.).
В. Ф. Эрн
О методе изучения истории философии
Впервые: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М.:
Книгоиздательство «Путь», 1912. С. 1—29. Публикуемый
материал представляет собой фрагмент «Введения» к книге «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение». Название фрагмента дано
составителем.
Книгоиздательство «Путь» возникло в марте 1910 г. по инициативе
М. К. Морозовой и кн. Е. Н. Трубецкого. Задача издательства —
попытаться дать ответы на современные запросы русского самосознания: «Что
такое Россия, в чем ее святыня и задача?» Предисловие к «Сборнику
первому: О Владимире Соловьеве» можно рассматривать как декларацию
издательства о своих намерениях: «Перед нами ставится вопрос не об одном
только ее (т. е. России. —А.Е.) государственном бытии и экономическом
благосостоянии, но и обо всем ее духовном облике, о ее призвании в
мировой истории... "Путь" <...> ставит вне вопроса и сомнения общую
религиозную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни
всестороннему осуществлению вселенского христианского идеала.
В таких мыслях и чувствах приступая к своему делу, оно желает в
меру сил и возможности послужить углублению русского самосознания».
О работе издательства см. исследование Е. А. Голлербаха «К
незримому граду. Религиозно-философская группа "Путь" (1910—1919) в
поисках новой русской идентичности» (СПб., 2000). В нем дана обстоятельная
информация о значительном участии В. Ф. Эрна в работе издательства.
Автор книги, характеризуя идеологии «путейцев», пишет, что ее
составляющими были православие, народность и либерализм, а в целом она
может быть квалифицирована как идеология христианско-либерального
национализма.
Издательство «Путь» предприняло выпуск книжной серии «Русские
мыслители», в которой были даны «духовные портреты крупнейших
Комментарии и примечания
907
представителей русской религиозной мысли и русского самосознания».
В этой серии вышли книги Н. А. Бердяева об А. С. Хомякове, С. А. Ас-
кольдова о его отце, А. А. Козлове, и В. Ф. Эрна о Г. С. Сковороде.
В. Ф. Эрн приступил к изучению творчества Г. С. Сковороды,
по-видимому, еще в 1908 г., когда в журнале «Северное сияние» (1908. №1.1
ноября) появилась его первая публикация об этом странном мыслителе.
При возникновении издательства «Путь» появилась возможность издать
книгу, и в переписке В. Ф. Эрна 1910—1912 гг. имя Г. С. Сковороды
упоминается в связи с открывшимися возможностями издать книгу об
украинском «старичке» (см.: Взыскующие града. Хроника. Именной
указатель).
О Григории Саввиче Сковороде (1722—1794) существует огромная
литература. Авторитетный современный исследователь его творчества
О. В. Марченко указывает лишь на некоторые издания: Багалш Д. I.
Украшьский- мандрований ф1лософ Гр. Сав. Сковорода. Харк1в: Держ.
вид-во Украши, 1926 (2-е изд.: Khîb: Орш, 1992); Чижевський Д.1.
Ф1лософ1я Г. С. Сковороди. Варшава, 1934 (переизд.: Харьков: Акта,
2003); Лощиц Ю. М. Сковорода. М.: Молодая гвардия, 1972; Барабаш Ю.Я.
«Знаю человека...» Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М.:
Худож. лит., 1989; Ушкалов Л. В., Марченко О. В. Нариси з ф1лософп
Григор1я Сковороди. Харьк1в: Основа, 1993; Hrihoryi Savyc Skovoroda: An
Anthology of Critical Articles. Edmonton; Toronto, 1994; Ушкалов Л. В.
Григорш Сковорода i антична культура. Харк1в: TOB «Знания», 1997;
Ушкалов Л. В. Укра1нске барокове богомислення. Cîm етюд1в про Григо-
р1Я Сковороду. Харк1в: Акта, 2001, и др.; см. также ценное изд.: Два
столгття сковороддяни: б1блюграф1чний довщник / У к л.: Л. Ушкалов,
С. Вакуленко, А. Евтушенко. Харюв: Акта, 2002 (отражено 2203
позиции). Число работ непрерывно растет, но до сих пор ни одна серьезная
работа об украинском мыслителе XVIII в. не обходится без опоры на
книгу русского философа XX в.
Что касается «Введения» к книге В. Ф. Эрна о Г. С. Сковороде под
названием «Основной характер русской мысли и метод ее изучения», то
содержание его сначала было «проговорено» В. Ф. Эрном 13 октября 1910 г.
в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева, а потом
22 ноября в петербургском Религиозно-философском обществе.
Впечатления автора от московского обсуждения доклада были самые
положительные; они были усилены отзывом С. Н. Булгакова, который подчеркнул
историческое значение выступления В. Ф. Эрна против неокантианства
(см. письма В. Ф. Эрна жене от 14 и 22 октября 1910 г. в: Взыскующие
града. Хроника. С. 287, 289). Однако в Петербурге докладчик встретился
с серьезными возражениями, исходящими от С. И. Гессена,
подытоженными им в следующем пассаже: «По существу доклад Эрна повторяет
буквально мысли Киреевского о необходимости преодоления западной
философии через обращение к восточной мудрости. Но всякое повторение
есть ослабление мысли. А уже Соловьев указывал на то, что вместо
благих пожеланий и ссылок на неизвестную еще мудрость следовало бы
обратиться к изучению этой мудрости. Но отряхнуть пыль с древних
фолиантов труднее, нежели говорить о превосходстве восточной философии над
западной» (см.: Речь. 1910. 25 ноября (8 декабря). №324. С. 4).
908
Комментарии и примечания
1 Ecrasez l'infâme (φρ.) — «Раздавите гадину!» — знаменитое
восклицание Вольтера, обращенное к католической церкви и вообще к
христианским церковным организациям. См.: Вольтер. Бог и люди. Статьи,
памфлеты, письма: В 2 т. Т. 1. М., 1961. С. 2, 261, 291.
2 δυνάμει öv (греч.) — возможное сущее; ενεργεία öv (греч.) —
действительное сущее.
3 Εν αρχή ην ό Λόγος (греч.) — в начале было слово (Ин. 1:1).
4 палинодия (от др.-греч. παλινωδία — повторная песня; в лат.
традиции — palinodiam canere, 'отрекаться') — в русской
религиозно-философской традиции — отречение, отказ от своих слов, связанное с покаянием.
5 Габиталиционная диссертация И. Канта, защищенная им в 1775 г.,
называлась * Новое освещение первых принципов метафизического
познания».
6 «Судьба философии в России» Александра Ивановича Введенского,
профессора Санкт-Петербургского университета, философа-кантианца —
это его выступление при открытии Петербургского философского
общества 31 января 1898 г. Оно было напечатано в журнале «Вопросы
философии и психологии» (1898. Кн. 42 (II)). В выступлении, в частности,
говорилось: «Конечно, наша философия, как и вся наша образованность,
заимствованная». Статью «От редакции» (В. Ф. Эрн называет ее
«Введением») в первой книге «Логоса» (1910) см. в наст. изд.
В. Ф. Эрн
Сковорода и последующая русская мысль
(«Заключение» книги «Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение»)
Впервые: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М.:
Книгоиздательство «Путь», 1912. С. 331—342.
1 Муст — виноградное и вообще плодовое, ягодное сусло, сок, морс
(см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).
2 Статья Б. Хиджеу «Григорий Саввич Сковорода» была напечатана в
ч. 26 и 27 московского журнала «Телескоп» в 1835 г.
3 См.: Достоевский Ф.М. Бесы. Гл. IV «Хромоножка», раздел V.
С. И. Гессен, Ф. А. Степун
От редакции
(Цели журнала «Логос» и задачи современной русской философии)
Впервые: Логос. Международный ежегодник по философии
культуры. 1910. Кн. 1. С. 1—16. Подзаголовок статьи предложен
составителем.
Журнал был создан в 1910 г. дружеским кружком русских (СИ. Гес-
сен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко, Н. Н. Бубнов) и немецких (Р. Кронер,
Г. Мелисс, А. Руге) студентов, обучавшихся в Гейдельберге и Фрейбурге.
Их начинание одобрил Г. Риккерт. Журнал задумывался как
международное издание, имевшее несколько национальных редакций, связанных
Комментарии и примечания
909
между собой единой интеллектуальной стратегией — обнаружение того,
как сверхнациональный разум культуры находит свое воплощение в
культурах национальных — и, кроме того, публикацией основополагающих
статей какого-либо национального издания во всех других изданиях.
Грандиозный план создания национальных редакций был осуществлен
лишь частично: существовали немецкая, русская и итальянская
редакции.
Выходу «Логоса» предшествовал сборник «О мессии.
Культурно-философские очерки» («Vom Messias. Kulturphilosophischen Essaye») (1909), в
котором наряду с констатацией культурного кризиса, охватившего
Европу, было выражено ожидание «нового первосвященника ценностей
древних и вечных» и упование на Россию, где, как думалось авторам,
«пророческая тоска о новой правде звучит сильнее, чем на Западе» (Степун Ф.А.
Бывшее и несбывшееся. 2-е изд. (I—II). Лондон, 1990. С. 177).
Русский вариант журнала выходил в Москве в издательстве «Муса-
гет» и в Петербурге в книгоиздательстве М. О. Вольфа в 1910—1914 гг.
Сначала в редколлегию вошли С. И. Гессен, Э. К. Меттнер и Ф. А. Степун,
затем к ним присоединились Б. В. Яковенко и В. Э. Сеземан. На титульном
листе первого номера журнала сообщалось, что «ближайшее участие» в
нем принимали В. И. Вернадский, Б. А. Кистяковский, Н. О. Лосский,
П. Б. Струве, С. Л. Франк и другие видные представители русской мысли.
За четыре года появилось 7 номеров журнала. Значительное место в
журнале занимал библиографический отдел, знакомивший с состоянием
европейской и отечественной философской литературы.
Главной теоретической установкой русского «Логоса» было
требование «кристально-ясной сферы рационального объединения всех мотивов
общекультурного и, в особенности, философского творчества», т. е.
создания всеобъемлющей системы рационально осмысляемой культуры. Такая
установка вошла в резкое противоречие со сложившейся практикой
русского религиозного философствования начала XX в. Оно было космо-, тео-
и антропоцентричным и вероисповедным, в то время как новоявленный
«Логос» был культуроцентричен и рационалистичен. Соответственно
можно различить культурно-исторические позиции сторон: русские
философы образовали партию «неославянофилов», «неозападниками» стали
инициаторы «Логоса».
«Логос» сразу же приобрел репутацию неокантианского журнала (см.:
Франк С.Л. «Новая книга "Логоса"» //Русская молва. 1913.
8(21)января. № 28), что во многом было справедливо, но не во всем. Высокий
профессионализм, совершенная техника философствования в рамках гносео-
логизма — вот первое условие объединения авторов «Логоса». Этого
можно было достигнуть, опираясь на все ценное, что накоплено в
мировой философии и в особенности в европейском идеализме XIX в. Но это не
исключало, а даже, напротив, предполагало философское
самоопределение каждого из инициаторов «Логоса» и, в частности, в поисках
гносеологически апробированной метафизики.
«Логос» в первом же номере заявил об отсутствии в России традиции
собственно философии, философии автономной деятельности
самодовлеющего разума. Русская философия в том виде, как она существовала для
«Логоса», была оценена им отрицательно. Впрочем, «Логос» надеялся,
что, поучившись у европейцев, особенно у немцев, русские внесут свой
910
Комментарии и примечания
вклад в развитие философии как «верховной науки, существенно единой
во всех ее эпохальных и национальных разновидностях».
Критическая философия и в классической, и в неокантианской
формах не была новостью для России. Но появление «Логоса» как журнала
относительно сплоченной группы сторонников научно-идеалистической
философии, конечно же, изменяло философскую ситуацию.
Так, первый номер «Логоса», и особенно декларация С. И. Гессена и
Ф. А. Степу на (авторство редакционной статьи установлено М. В.
Безродным), спровоцировали В. Ф. Эрна на выступление «Нечто о Логосе,
русской философии и научности», в котором была предпринята попытка
самоопределения философских и культурных принципов ratio и Лоуос'а.
В 1925 г. Б. В. Яковенко возобновил издание «Логоса» в Праге, но
вышел только один его выпуск.
Об истории журнала см. библиографический указатель Б. В.
Емельянова и А. А. Ермичева «Журнал "Логос" (Москва—Петербург, 1910—
1914 — Прага, 1925) и его редакторы» (Екатеринбург, 2002). Помимо
вступительной статьи здесь дана полная роспись содержания русского
издания журнала, литературы о нем и библиография работ СИ. Гессена,
В. Э. Сеземана, Ф. А. Степуна и Б. В. Яковенко (на русском языке).
Гессен Сергей Иосифович (1887—1950) — философ-неокантианец,
ученик Г. Риккерта. «Существенную черту современного неокантианства»
видел в том, что это учение «ввело иррациональный момент в
философский рационализм», тем самым придав ему «динамический бесконечный
характер». С. И. Гессен был инициатором организации международного
ежегодника по философии культуры «Логоса» и редактором его русского
издания, активным участником работы Религиозно-философских обществ
в Москве и Петербурге. Со временем интересы С. И. Гессена сместились
на социально-культурное, «прикладное» применение философии.
Широко известна его книга «Основы педагогики. Введение в прикладную
философию» (Берлин, 1923). Более подробно о нем см.: Валицкий А. Сергей
Гессен: философ в изгнании // Гессен СИ. Избр. соч. М., 1999.
О противостоянии сторонников научного идеализма и приверженцев
религиозной философии СИ. Гессен писал в статьях «Обзор русской
литературы по философии за 1913 и 1914 годы» (Библиотекарь. 1915.
Кн. III—IV), «Обзор русской философской литературы во время
революции» (Новая русская книга. Берлин, 1923. № 3/4) и «Новейшая русская
философия» (Ruch filosoficky. 1923. № 1). Перевод на русский язык см. в
христианском религиозно-философском альманахе «Преображение»
(СПб., 1994. №2).
Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, близкий славяно-
фильско-соловьевскому учению о положительном всеединстве, писатель,
литературный и театральный критик, мемуарист, один из организаторов
журнала «Логос». О своей позиции члена редакции позднее писал так:
«Задачей русского "Логоса" было подведение методологического
фундамента под научно, по нашему мнению, малоозабоченную русскую
философию, как религиозно-интуитивного, так и марксистско-догматического
характера (Старые — молодым. Мюнхен, 1960. С. 92). В своих
прекрасных воспоминаниях «Бывшее и несбывшееся» сообщает множество
интереснейших сведений об истории журнала.
Комментарии и примечания
911
В вынужденной эмиграции занимался в основном философией и
социологией русской культуры. Один из идеологов «Нового града» — журнала
социального христианства в русском зарубежье.
1 В качестве эпиграфа авторы используют высказывание В. С.
Соловьева из статьи последнего «Россия и Европа», включенной им в первый
выпуск его «Национального вопроса в России». Здесь, рассмотрев
особенности русского национального характера, В. С. Соловьев пришел к выводу,
что в данной действительности, при данных условиях нет «никаких
положительных задатков или хотя бы сколько-нибудь определенных
вероятностей <...> для великого и независимого будущего России в области
мысли и знания» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 348, 349).
А. Белый
Неославянофильство и западничество
в современной русской философской мысли
Впервые: Утро России. 1910. 15 октября. №274. С. 2.
«Утро России» — ежедневная общественно-политическая газета.
Выходила в Москве с сентября—октября 1906 г. до апреля 1918 г.
Пользовалась популярностью у читателя благодаря ярко
выраженному оппозиционному направлению. Издавалась на деньги
фабриканта и банкира П. П. Рябушинского, который хотел видеть в ней
«орган прогрессивной и либеральной части московской купеческой
массы». Газета была «внепартийным органом прогрессивной
деловой мысли».
Андрей Белый (наст, имя и фам. — Борис Николаевич Бугаев;
14 (26).10.1880—8.1.1934) — прозаик, поэт, критик, литературовед,
мемуарист, один из выдающихся представителей «серебряного века»
русской культуры. С лета 1904 г. начинает испытывать особый интерес к
«точному» знанию, теоретической философии, психологии, работает над
теоретико-познавательной системой символизма. Место прежних
«учителей жизни» — Соловьева и Ницше — в 1905—1906 гг. занимают И. Кант
и философы-неокантианцы (Г. Коген, Г. Риккерт); в кантовской
философии Белый ищет выхода из духовного кризиса, пути преодоления
«широковещательных апокалиптических экстазов» (Лавров А. В. Белый //
Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
С. 227). А. Белый был одним из организаторов издательства «Мусагет»,
при котором выходил журнал «Логос».
В своих воспоминаниях «Начало века» и «Между двух революций»
дал множество острых и часто спорных характеристик В. Ф. Эрна.
1 Вольное цитирование В.С.Соловьева. См.: Соловьев В·С.
Национальный вопрос в России // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. Философская
публицистика. М., 1989. С. 349.
2 Андрей Белый называет следующие статьи, опубликованные в
первых двух книгах «Логоса»: В. Виндельбанда «Философия культуры и
трансцендентальный идеализм (кн. 2), Г. Риккерта «О понятии филосо-
912
Комментарии и примечания
фии» (кн. 1), Г. Зиммеля «К вопросу о метафизике смерти» (кн. 2), И. Кона
«Страннические годы Вильгельма Мейстера» (кн. 2), Б. Кроче «О так
называемых суждениях ценности» (кн. 2), К. Фосслера «Грамматика и
история языка: к вопросу об отношении между "правильным" и "истинным"
в языкознании» (кн. 1); К. Иоэля «Опасности современного мышления»
(кн. 2). В первой книге был дан обзор Б. В. Яковенко «О современном
состоянии немецкой философии», а во второй — его же обзор «Итальянская
философия последнего времени».
3 Ожесточенные нападки, о которых пишет А. Белый, — это рецензия
В. X. [Хвостова В. М.] в журнале «Московский еженедельник» (1910.
№ 17. 1 мая. С. 58—59) и, конечно же, выступление В. Ф. Эрна «Нечто о
Логосе, русской философии и научности. (По поводу нового философского
журнала «Логос»)» в № 29—32 того же журнала.
4 См.: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С.
Соч.: В 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 348.
5 «Три капитальных исследования» И. Канта — это «Критика
чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика
способности суждения» (1790).
С. Л. Франк
Философские отклики. О национализме в философии
Впервые: Русская мысль. 1910. Кн. IX. Сентябрь. С. 162—171.
Об обстоятельствах появления этой статьи см. примечания к ст.
В. Ф. Эрна «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку».
1 С. Л. Франк двумя эпиграфами противопоставляет две социально-
культурные позиции. Первый эпиграф из «Фауста» Гёте в переводе
звучит так: «Только презирай наивысшую силу человека — разум и науку, и
тогда ты всецело мой». В «Фаусте» эти слова принадлежат Мефистофелю.
Другой эпиграф — из стихотворения В. С. Соловьева «Ex Oriente Lux» —
«С Востока свет».
2 ...свою мудрость она почерпнула не в Афинах, а в чМарбурге и
Фрейбурге...* — С. Л. Франк упоминает противопоставление,
предложенное В. Ф. Эрном. Афины — символ и источник философской мудрости, к
которому припадает истинно русская христианская философия Логоса.
Марбург и Фрейбург — университетские города Германии, где
образовались две ведущие школы неокантианства, на которые сознательно
ориентировалась редакция «Логоса».
3 Английская метафизическая школа — речь идет об английском
неореализме, представителями которого были Дж. Э. Мур, Б. Рассел,
Ч. Д. Броуд и др.
4 Эта нелепица дорого обошлась С. Л. Франку. Его оппонент
безжалостно высмеял ее в статье «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку».
5 См.: Соловьев B.C. Национальный вопрос в России. С. 348.
6 С отвергающим принципы нечего спорить (лат.).
Комментарии и примечания
913
7 См.: Русанов Н. Чернышевский в Сибири // Русское богатство. 1910.
№3—7.
8 См.: Соловьев B.C. Национальный вопрос в России. С. 345.
С. Л. Франк
Еще о национализме в философии
Ответ на ответ В. Ф. Эрна
Впервые: Русская мысль. 1910. Кн. XI. Ноябрь. С. 130—137.
1 См.: Соловьев B.C. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.
С. 80—81. С.Л.Франк ссылается на стихотворение «Ex Oriente Lux»
(«С Востока свет»), последняя строфа которого звучит так:
О Русь! в предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
2 См. статью А. И. Введенского (1856—1925) «Об атеизме в
философии Спинозы» в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897.
Кн. 37) и ответ на нее В. С. Соловьева «Понятие о Боге. В защиту
философии Спинозы» в следующей, 38-й книге того же журнала.
3 Статья В.С.Соловьева «Кант» помещена в XIVтоме
Энциклопедического словаря Ф.А.Брокгауза и И.Е.Ефрона (СПб., 1895. С. 321—
339).
Б. В. Яковенко
О Логосе
Впервые: Логос. Международный журнал по философии культуры.
1911. Кн. 1. С. 57—92.
Яковенко Борис Валентинович (24.5(6.6).1884—16.1.1949) —
философ, один из организаторов журнала «Логос» и постоянный его автор.
В семи книгах журнала, вышедших в 1910—1914 гг., опубликовал десять
статей и обзоров и около сорока рецензий. Помимо «Логоса» он активно
публиковался в журналах «Вопросы философии и психологии»,
«Северные записки» и в газете «Русские ведомости».
Определенно можно утверждать, что Б. В. Яковенко взял на себя
основную тяжесть полемики с русской религиозной философией, предложив
ряд статей с критикой Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А.
Флоренского, В. Ф. Эрна (см.: Материалы к библиографии Б. В. Яковенко //
Яковенко Б. В. Жизнь и философия Иоганна Готлиба Фихте. СПб., 2004).
Собственную философскую позицию Б. В. Яковенко следует характеризовать
как интуитивно-критическую плюралистическую метафизику. Его
реализованное тяготение к метафизике Сущего как множества весьма сближает
философа с некоторыми важными содержаниями философии
всеединства, что дало основание С. Н. Булгакову положительно оценивать фило-
914
Комментарии и примечания
софскую работу своего оппонента. Вот что он пишет В. Ф. Эрну: «Я ни
разу, кажется, не писал Вам о своих впечатлениях за этот год от встреч со
Степпуном и особенно с Яковенко, с которым мы не раз вели
философские споры. Впечатление это становится все более положительным, в том
смысле, что они, особенно Яковенко, которого я считаю философским
талантом, идут своим путем, который хотя и уводит их от нас, но есть путь
философских исканий и искренности, — это, во всяком случае, не чета
Гессену и разной неокантианской мелочи. <...> Во всяком случае,
неокантианские штаны свои Яковенко и Степпун, по-моему, разорвали
окончательно и обречены на новые искания» (Взыскующие града. Хроника.
С. 451).
На вышедшую в 1911г. в издательстве «Путь» книгу В. Ф. Эрна
«Борьба за Логос. Опыты философские и критические» Б. В. Яковенко
отреагировал очень плохой, бессодержательной, но большой по объему
рецензией (Логос. 1911—1912. Кн. 2—3). Главное в ней — обвинения в
невежестве и некомпетентности, предъявляемые им В. Ф. Эрну. «Своих
противников создает себе он сам: это все какие-то самодельные манекены.
А борьба его с ними производит впечатление игры в кегли: сам он сделал
их, сам расставил и сам же расстреливает...» И Пирса-то он не читал, и
Шуппе-то исказил, и Риккерта не так понял, и проч., и проч.
Но вот статье Б. В. Яковенко «О Логосе» инициаторы журнала
придавали большое принципиальное значение. Это, в частности, следует из
статей СИ. Гессена «Неославянофильство в философии» (см. в наст, изд.)
и Б. В. Яковенко «Тридцать лет русской философии (1900—1929)»,
опубликованной на немецком языке в журнале «Der Russische Gedanke»
(Jahrgang 1. Heft III), где он писал: «...принципиальное оправдание
трансцендентального идеализма как гносеологической метафизики
осуществляется им (т. е. Яковенко) с помощью сравнительного анализа проблемы
Логоса, проходящей через всю историю философии...» (цит. по:
Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 852).
См. также в наст. изд. фрагмент из книги Б. В. Яковенко «История
русской философии» (М., 2003).
1 Эпиграфом к статье избраны слова Джордано Бруно: «Те философы,
которые нашли это единство, обрели себе подругой мудрость. Одно и то
же — мудрость, истина, единство».
2 ratio faciens — основание качества (лат.).
3 το ποιούν — качество (греч.).
4 ή τον δλου ψυχή — всецелой душой (греч.).
5 τόνος— напряжение, тонос (греч.).
6 id est mundo — то есть миром (лат.).
7 νους, κοινός της φύσεως λόγος— ум, общий природный логос (греч.).
8 rector custosque universi — правитель, оберегающий мир (лат.).
9 λόγος σπερματικός — семенной логос (греч.).
10 λόγοι σπερματικοί— семенные логосы (греч.); «осеменяющие» мир
идеи, из которых произрастает космическая связь и идивидуальные
существования (Плотин).
11 Ειμαρμένη — подразумевается μοίρα — судьба, рок (греч.).
Комментарии и примечания
915
12 fatum — судьба, рок (лат.).
13 ανάγκη — рок, судьба, необходимая причина (греч.).
14 λόγος ένδιάθετος — слово внутреннее (греч.).
15 λόγος προφηρικός — слово произносимое, изустная речь (греч.).
16 ducunt volentem fata, nolentem trahunt — желающего (идти) судьба
ведет, нежелающего — тащит (лат.).
17 άρχέτνπον παράδειγμα — архитипический первообраз (греч.).
18 Ιδέα ιδεών— идея идей (греч.).
19 τόπος ιδεών—место идей (греч.)·
20 πατήρ λόγων — отец логосов (греч.).
21 ή μεταξύ φύσις θνητού και άθανάτον νένονς — и порядки природы
смертной, и роды бессмертные (греч.).
22 έξ αυτού — из себя (греч.).
23 о Άντοθεός — сам Бог (греч.).
24 δι" αυτού— вне себя (греч.).
25 'Λυτόλογος, Άυταλήθεια, ιδεών—сам Логос, сама Истина, идея идей
(греч.).
26 Πολλά äv αγαθά à Σωτήρ — многие блага Спасителя (греч.).
27 In hoc ergo principio, id est in Verbo, Deus coelum et terram fecit —
В этом, следовательно, первоначально в Слове, Бог сотворил небо и землю
(лат.).
28 πρώτος δημιουργός— первый демиург (греч.).
29 εις αυτόν— в себе (греч.).
30 αυτό Πνεύμα — сам Дух (греч.).
31 αΐσθησις ουκ αισθητή — ощущение неощущаемое (греч.).
32 Deus enim et supra omnia et in omnibus est — ибо Бог есть и над всем
и во всем (лат.).
33 super vel plusquam — сверх даже большего (лат.).
34 nihilum non immerito vocitatur — по справедливости ничем не
называется (лат.).
35 Non duo debemus intelligere Deum et creaturam, sed unum et ipsum —
не два следует мыслить: Бог и творение, но одно и целое (лат.).
36 Deus est igitur principium medium et finis — Бог, следовательно, есть
начало, середина и конец (лат.).
37 sciencia universales — универсальная наука (лат.).
38 intellectus architypus — архитипический интеллект, разум, понятия
которого являются прообразами предметов (лат.).
39 θεωρία—созерцание (греч.)·
40 μη δν— небытие (греч.).
41 Έν— единое (греч.).
42 νόησις νοήσεως— мышление мышления (греч.).
43 hiatus — пропасть (лат.).
44 νους — разум (греч.).
45 Λυτός ô Λόγος — сам Логос (греч.).
916
Комментарии и примечания
СИ. Гессен
Неославянофильство в философии
(В. Эрн. Борьба за Логос. Опыты философские и критические.
М., 1911. Изд-во «Путь», 361 с.)
Впервые: Речь. 1911. 5 сентября. №243. С. 4. Печатается по:
Гессен СИ. Избр. соч. М., 1999. С. 71—77.
«Речь» — ежедневная политическая, экономическая и литературная
газета, орган Конституционно-демократической партии. Выходила
с 1906 по 1917 г. Принадлежала к числу хорошо
информированных изданий. С 1908 г. в газете был расширен отдел, посвященный
литературной, художественной и театральной жизни. СИ. Гессен
напечатал в газете несколько статей и большое количество
небольших рецензий на философскую литературу.
Об этой заметке СИ. Гессена С. Н. Булгаков отозвался более чем
оригинально и грубо: «На днях пошлю Вам (т. е. В. Ф. Эрну. —А. Е.) ругань
на Вас С. Гессена в "Речи"; это махровый чеснок» (Взыскующие града.
Хроника. С. 409).
1 «Борьба за Логос. Опыты философские и критические» — сборник
статей В. Ф. Эрна, ранее опубликованных в журналах «Московский
еженедельник», «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль»,
«Живая жизнь», «Богословский вестник» и др. Книга вышла в
книгоиздательстве «Путь». В. Ф. Эрн рассказывал, что свой сборник он
предложил издательству в сентябре 1910 г. и «его приняли с полной охотой,
даже сочувствием. <...> Разбросанное будет собрано воедино и моя
"литературная личность" будет "закреплена". Кроме того, мне приятно
покончить со всеми этими набросками для того, чтобы спокойнее приступить к
созиданию в больших масштабах. Издать эту книгу и Сковороду, затем
уехать за границу (для работы над диссертацией по итальянской
философии. — А.Е.) — вот поистине лучшее, что я могу придумать для себя как
писателя» (Взыскующие града. Хроника. С. 279—280).
2 Речь идет о статье Б. В. Яковенко «О Логосе» (Логос. 1911. Кн. 1.
С. 57—92).
3 Упоминаются работы Г.-В. Ф. Гегеля «Различие между системами
философии Фихте и Шеллинга в соотнесении с работами Рейнгольда,
имевшими целью облегчить обзор состояния философии в начале
XIX столетия» (1801; на русском языке опубликована в № 13—15 «Кан-
товского сборника» за 1888—1890 г.) и «Феноменология духа» (1807).
4 «Парадоксальным» СИ. Гессен называет следующее мнение Л. М.
Лопатина о Гегеле: для него-де «абсолютное есть только отвлечение рассудка,
вселенная — призрак, выросший.из призрака, странная игра
абстрактного понятия с самим собой» (см. в наст. изд. статью В. Ф. Эрна «Культурное
непонимание»). Пожалуй, можно согласиться с оценкой С. И. Гессена.
5 В статье «Идея катастрофического процесса» В. Ф. Эрн делает
ссылки на «важные и глубокие» статьи П. А. Флоренского «О символах
бесконечности», «Об одной предпосылке мировоззрения» и «О типах
возрастания».
Комментарии и примечания
917
A. М. Деборин
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Борьба за Логос.
Опыты философские и критические. М. 1911. VIII + 361 стр.
Впервые: Современный мир. 1911. №12. С. 369—370. Печатается
по первой публикации.
«Современный мир» — ежемесячный литературный, научный и
политический журнал, выходивший в Петербурге с 1906 г. Был
преемником журнала «Мир Божий» (1901—1906 гг.). После революции
1905—1907 гг. выражал социал-демократическую,
меньшевистскую общественно-политическую позицию. В отделе публицистики
и науки выступали Г. В. Плеханов, В. Д. Бонч-Бруевич, Л. Мартов,
Л. И. Аксельрод-Ортодокс и др. Закрыт советской властью в 1918 г.
Деборин (наст. фам. Иоффе) Абрам Моисеевич (1881—1963) — видный
советский философ-марксист, участник революционного движения в
России. Будучи в эмиграции, учился на философском факультете Бернского
университета. С 1907 г. — меньшевик; в философских дискуссиях внутри
революционного движения выступал с критикой махизма и кантианства
с позиций диалектического материализма. В «Современном мире»
опубликовал несколько статей и ряд рецензий на книги А. А. Богданова,
Г. С. Сковороды, В. С. Соловьева, В. М. Хвостова, П. С. Юшкевича и др.
B. В. Розанов
Новые работы по философии
Впервые: Новое время. 1912. 21 июня (4 июля). № 13029. С. 4.
«Вопросы философии и психологии» — журнал Московского
психологического общества. Выходил с ноября 1889 по апрель 1918 г. Русская
философия конца XIX — начала XX в. абсолютно непредставима без этого
издания. На протяжении почти 30 лет существования журнала на его
страницах сменились и сосуществовали три поколения русских философов,
условно обозначаемых как старшее, у которых ко времени появления
журнала философские взгляды уже сложились (например, В. С. Соловьев,
Л. М. Лопатин или братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие), среднее, вступившее
в философскую жизнь в последние годы XIX и в первые годы XX в.
(Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский). Возможно, В. Ф. Эрна
можно причислить к младшему поколению, начавшему свою творческую
деятельность в первом десятилетии XX в.; к этому поколению можно отнести
и оппонентов В. Ф. Эрна — инициаторов журнала «Логос» С. И. Гессена,
Ф. А. Степуна, Б. В. Яковенко.
Провозгласив поначалу равную терпимость ко всем философским
направлениям, журнал очень скоро стал трибуной русской религиозной
философии.
В работе журнала приняли участие 332 автора. В. Ф. Эрн принадлежал
к числу наиболее продуктивных авторов журнала. Здесь он опубликовал
13 статей. Упоминаемая и оцениваемая В. В. Розановым статья « Очерк
918
Комментарии и примечания
теоретической философии Г. С. Сковороды» (1911. Кн. 110 (V)) была
продолжением статьи «Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды»
(1911. Кн. 107 (II)). Статья В. П. Карпова « Натурфилософия Аристотеля и
ее значение в настоящее время» была напечатана в кн. 109 (IV) и 110 (V)
журнала за 1911 г.
Что касается отношения В. В. Розанова к журналу, то оно было весьма
неоднозначным и противоречивым и, скорее, все же отрицательным.
Однажды он даже написал: «...все сотрудники "Вопросов философии и
психологии" только и делали, что толкались у ног того же Вундта (немецкий
психолог и философ.—А.Е.) и других его соотечественников, снимали
сапоги и надевали сапоги на немецкую философическую ногу». И все же
в начале своей литературной деятельности, еще не отказавшись от мечты
стать философом-профессионалом, В. В. Розанов опубликовал в нем 3
статьи.
1 Чарлз Дарвин путешествовал на корабле «Бигль» с 183Гпо 1836 г.,
занимаясь геологией земной коры. Наблюдая разнообразие видов
животных и растений, а также признаки их сходства, ученый пришел к выводу
об эволюционном характере возникновения и развития организмов от
одной или нескольких простейших органических форм.
2 Современный исследователь жизни и творчества В. В. Розанова
B. А. Фатеев пишет: «Несмотря на то, что Розанов был не слишком силен
в классических языках, это не помешало ему со временем взяться в Ельце
(Розанов жил в Ельце в 1887—1891 гг. —А. £.), вместе с П. Д. Первовым,
коллегой-классиком <...> за перевод большого трактата Аристотеля
"Метафизика". <...> Позднее перевод первых пяти книг (т. е. глав)
"Метафизики" был напечатан в петербургском "Журнале Министерства народного
просвещения"» {Фатеев В. А. «С русской бездной в душе».
Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2003. С. 84—85.
3 Речь идет о журналах общедемократической и
социал-демократической направленности — «Русском богатстве» (1876—1918),
«Современном мире» (1906—1918) и «Современнике» (1911—1915).
С. Н. Булгаков
«...Нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам и что Сковороде...»
(Письмо В. Ф. Эрну от 2 декабря 1912 г.)
Впервые: Взыскующие града. Хроника частной жизни русских
религиозных философов в письмах и дневниках С. А. Аскольдова,
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др.
М., 1997. С. 496—497.
Булгаков Сергей Николаевич (16 (28).6.1871 — 13.7.1944) —
экономист, философ и богослов, публицист, общественный деятель.
В. Ф. Эрн познакомился с ним около 1904 г. К этому времени
C. Н. Булгаков уже приобрел известность в общественных и научных
кругах, пройдя эволюцию «от марксизма к идеализму» и, через осмысление
духовного потенциала русской литературы (А. И. Герцен, Ф. М.
Достоевский, В. С. Соловьев), к христианской метафизике и к православию (не
Комментарии и примечания
919
ранее 1907 г.). Активный участник общественно-политической,
культурной и религиозно-общественной жизни России конца XIX — начала XX в.
Соавтор сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1908), «Из
глубины» (1918). Издатель христианско-социалистической газеты «Народ»
(Киев, 1905); редактор (вместе с Н. А. Бердяевым) журнала «Вопросы
жизни» (1905), депутат II Государственной думы. Сотрудничал с
Христианским братством борьбы, выступил с инициативой Союза христианской
политики (более подробно см.: Колеров М.А. «Не мир, но меч»).
Осмысливая опыт русской революции, решительно занял
консервативно-монархическую позицию и, отстранившись от общественной деятельности,
сосредоточился на философском, социально-научном и литературном творчестве.
Был дружен с В. Ф. Эрном, постоянно поддерживал его.
С началом Первой мировой войны С. Н. Булгаков переживает восторг
национально-мессианских ожиданий, полностью разделяя взгляды
B. Ф. Эрна на сущность происходящих событий. С творчеством В. Ф. Эрна
он связывал очень большие надежды на развитие русской философии,
тяжело переживая раннюю смерть друга.
В. Ф. Эрн почему-то обиделся на С. Н. Булгакова за это письмо, о чем
мы узнаем из сообщения последнего А. С. Глинке: «От Эрна я имел
письмо, огорчившее меня его тяжелым состоянием и его подозрительностью,
или нетерпимостью, что ли, по поводу очень дружеских критических
замечаний о "Сковороде". Он пишет и о придирчивости, и об
отчужденности и подобном. Вы достаточно знаете и его и меня, чтобы понять»
(Взыскующие града. Хроника. С. 501—502).
1 В. Д. Бонч-Бруевич (1873—1955) — известный историк религиозно-
общественных движений в России, издавший в 1912 г. первый том
«Собрания сочинений» Г. С. Сковороды; большевик. Л. Н. Толстой,
разумеется, большевиком быть не мог. Об интересе Л. Н. Толстого к творчеству
Г. С. Сковороды имеется множество свидетельств, в частности,
написанный писателем рассказ «Г. С. Сковорода», в котором Л. Н. Толстой
отметил: «Сковорода учил, что святость жизни только в делах*.
2 Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец и
иконописец, прославившийся своими росписями Владимирского собора в
Киеве. С. H. Булгаков высоко ценил его творчество (см. его статью «Васнецов,
Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой: параллели» в сб. «Литературное
дело»: СПб., 1902. С. 119—139).
3 Имеется в виду изданная в «Пути» книга Н. А. Бердяева «Алексей
Степанович Хомяков» (1912).
4 Составителю не удалось выяснить, где об этом писал А. С. Волжский
(Глинка).
5 Е. А. Голлербах сообщает: «Чтобы выпустить книгу в свет,
издательству пришлось срочно разыскать родственников Одоевского,
установить с ними "личные и неофициальные отношения" и получить
разрешение на готовящуюся публикацию» {Голлербах Е.А. К незримому граду.
C. 209).
6 Возможно, С. Н. Булгаков упоминает о продолжающихся
революционных увлечениях В. П. Свенцицкого, связанных с его участием в
движении Голгофских христиан.
920
Комментарии и примечания
7 Речь идет о Николае Александровиче Бердяеве. В начале декабря
1912 г. он был в имении родителей своей жены, Л. Ю. Бердяевой, на
хуторе Бабаки Харьковской губ. (см.: Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия.
Oakland, USA, 1993. P. 144—145).
8 Новоселов Михаил Александрович (1864—1938) — духовный
писатель, публицист, издатель серии книжек «Религиозно-философская
библиотека» (1902—1917), которые «ставили целью воцерковление русского
общества, прежде всего молодежи» (см. о нем: Русские писатели. 1800—
1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999). Им был организован
«Кружок ищущих христианского просвещения», в работе которого
принимал участие В. Ф. Эрн. В «Религиозно-философской библиотеке» издана
работа В. Ф. Эрна «Разбор послания Святейшего Синода об Имени
Божьем» (1917). В советское время М. А. Новоселов не раз был репрессирован
и в конце концов убит сталинскими палачами.
Б. Яковенко
Новая книга о Сковороде
(В. Эрн. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение.
В серии «Русские мыслители». К-во «Путь». 342 с. Москва. 1912)
Впервые: Русские ведомости. 1913. 20 февраля (5 марта). №42.
С. 5. Печатается по первой публикации.
«Русские ведомости» — общественно-политическая газета
либерального направления, одна из старейших и крупнейших в России. Издавалась с
1863 по 1918 г. в Москве. О газете существует большая литература (см.
библиографию в справочнике: Политические партии в России. Конец
XIX — первая треть XX века. М., 1996. С. 531—532). М. Осоргин пишет:
«Среди дыма отечества, который часто застилал глаза, "Русские
ведомости" стояли передовой крепостью просвещенного европеизма, в которой
было хорошо укрыться от натиска азиатчины» (Осоргин М.
Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 193).
За время с 1911 по 1914 г. Б. В. Яковенко опубликовал в этой газете
13 статей и заметок и 20 рецензий на философскую литературу.
Д. Философов
Г. С. Сковорода
(1. Вл. Эрн. Г. С Сковорода. Жизнь и учение. Москва. 1912.
Книгоиздательство «Путь».
2. Собрание сочинений Г. С. Сковороды. Т. 1.
Под ред. Вл. Бонч-Бруевича. СПб. 1912)
Впервые: Речь. 1913. 20 мая (2 июня). № 135 (2447). С. 3.
Печатается по первой публикации.
1 « Сочинения Г. С. Сковороды в стихах и прозе» в издании И. Т. Ли-
сенкова вышли в Санкт-Петербурге в 1861 г. На книгу появилась рецензия
впоследствии известного романиста Всеволода Крестовского, выдержан-
Комментарии и примечания
921
ная в резко критическом агрессивно-уничижительном духе в отношении
Г. С. Сковороды (Русское слово. 1861. № 7); автор вменял тому в вину
нелюбовь к свободе, обскурантизм и проч. Ему отвечал историк Н. И.
Костомаров в своем журнале «Основа» (1861. №7); полемика продолжалась
некоторое время.
2 Первое научное издание сочинений украинского философа:
Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф.
Д. И. Багалеем. Юбилейное изд. (1794—1894 г.). С портретом его, видом
могилы и снимками почерка. Харьков: Тип. Губерн. правл., 1894. Книга
вышла как седьмой том «Сборника Харьковского
историко-филологического общества». Следующим изданием стало «Собрание сочинений
Г. С. Сковороды», подготовленное историком религиозно-общественных
движений в России В. Д. Бонч-Бруевичем (Т. 1. СПб., 1912).
3 Духовные христиане — понятие, введенное в науку для
обозначения религиозных сект, возникших в XVII—XVIII вв. К ним относят хрис-
тововеров, духоборцев, молокан и некоторых других.
*Новый Израиль» — одна из сект, возникшая в хлыстовстве,
сектантском вероисповедании, согласно которому возможно прямое общение
человека со «святым духом» и воплощение последнего в праведных людях.
4 Баптисты — одна из разновидностей протестантизма. Возникли в
начале XVII в. в Голландии. В XIX в. баптистские общины появились в
России.
Бегуны — принадлежавшие к бегунскому, странническому толку в
старообрядчестве. Появились в конце XVIII в. Основной упор в
вероучении делался на «конец света».
Духоборы, духоборцы — секта, возникшая во второй половине
XVIII в. Историю представляли как борьбу сынов Каина («рабов плоти и
греха») и Авеля («борцов за дух»).
5 «Сборник второй. О религии Льва Толстого» был выпущен
книгоиздательством «Путь» в 1912 г. В. В. Зеньковский опубликовал в нем
статью «Проблема бессмертия у Л. Н. Толстого». В. Ф. Эрн тоже принял
участие в сборнике статьей «Толстой против Толстого».
Μ. Ф. Таубе
Самостоятельный уклад православно-русской мысли
и восточного славянского просвещения
Разбор статьи Л. Лобова «Энциклопедия русской мысли»
(Славянские известия. № 12)
Впервые: Прямой путь. Ежемесячный научно-политический и
литературный журнал. Издание Русского Народного Союза Михаила
Архангела. 1913. Вып. 8. Август. С. 117—127.
Журнал выходил в Санкт-Петербурге в 1909—1914 гг. С 1911 г. его
издателем был В. М. Пуришкевич — политический деятель крайне
правого толка, в данном случае представлявший Палату (т. е.
руководящий орган) упомянутого выше Союза Михаила Архангела. Эта
политическая организация возникла в 1908 г., отделившись от
черносотенного Союза русского народа.
922
Комментарии и примечания
Таубе Михаил Фердинандович, барон (1855—1924) — математик,
философ, поэт и публицист, теоретик позднего славянофильства, активный
деятель право-монархического движения, член Главного Совета Союза
Русского Народа (с 1912 г.), член Совета Русского Собрания (с 1913 г.),
сотрудник ряда монархических изданий (журналы «Мирный труд»,
«Прямой путь», газеты «Русское знамя», «Голос русского» и др.)·
Литературный псевдоним — М. Ватутин. (Сообщил А. Д. Степанов.)
1 Лобов Леонид Петрович — публицист еженедельной (с 1912 г.)
политической, общественной и литературной газеты «Славянские
известия», издаваемой Санкт-Петербургским Славянским благотворительным
обществом. В указанной статье (1913. 3 февраля. №12(5)) Л.П.Лобов
убежден в «наличности русской национальной мысли». Однако в том
виде, в каком она существует сейчас, она образует всего лишь материал
для будущей русской философии; она «не приведена еще в известность
настолько, чтобы мы могли на ней основать наше национальное
развитие». В частности, наш «умозрительный материал» тонет в «массе чисто
литературного материала». Нужно выделить эти «умозрительные
материалы» и создать нужную нам «энциклопедию русской мысли».
Μ. Ф. Таубе ответил Л. П. Лобову статьей «Самобытная русская
философия» (14 апреля. № 22). В ней говорилось, что отсутствие подобной
энциклопедии совсем не означает, что союз, синтез русской, славянской
мысли не найден; он, этот синтез, существует и лежит в основе
русско-восточного (славянского) просвещения. Он получил выражение в единстве
трех свойств русской «мудролюбивой мысли», которые заметил В. Ф. Эрн:
1)логизм, 2) онтологизм и 3) персонализм. Эту статью он тоже подписал
псевдонимом М. Ватутин.
2 Московская философско-математическая школа — группа
философствующих математиков Московского университета, стремившихся
осуществить «философско-математический синтез на основе идей аритмологии
и монадологии» (см. статью о ней СМ. Половинкина в малом
энциклопедическом словаре «Русская философия» (М.: Наука, 1995)). Н. В. Бугаеву
принадлежат основополагающие идеи школы.
3 Здесь и далее М. Ф. Таубе цитирует книгу В. Ф. Эрна «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М.: Путь, 1912).
4 Μ. Ф. Таубе называет следующие свои работы: «Свод основных
законов мышления. Логика, психология, металогика» (СПб., 1909);
«Триединство как основа соборности и духовности» (СПб., 1910); «Дуализм Запада
и триединство Востока» (Харьков, 1910); «Познаниеведение соборного
восточного просвещения по любомудрию славянофилов» (СПб., 1912).
Э. Л. Радлов
<Рец. на кн:> Эрн Вл. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение
(Русские мыслители). Книгоиздат. «Путь». Москва. 1912
Впервые: Журнал Министерства народного просвещения. 1913.
Ч. XLVII. Октябрь. С. 261—265. Печатается по первой публикации.
♦Журнал Министерства народного просвещения» — официальное
издание. Первая его книга вышла в 1834 г., а последняя — в Том-
Комментарии и примечания
923
ске при Министерстве народного просвещения правительства
А. В. Колчака (1919). С 1899 г. редактором журнала стал Э. Л. Рад-
лов. При нем «неофициальный отдел», в котором печатались
исследования разного рода, стал весьма содержательным. В журнале была
напечатана только одна работа В. Ф. Эрна (уже после кончины
автора) (Проблема истории. По поводу диссертации Г. Г. Шпета
«История как проблема логики» // ЖМНП. 1917. № 6. С. 314—330).
Радлов Эрнест Львович (Леопольдович) (1854—1928) — философ,
литературовед, переводчик. С 1882 г. — сотрудник Публичной библиотеки в
Санкт-Петербурге; в 1918—1924 гг. — ее директор. Вел большую
преподавательскую работу в Училище правоведения, Александровском лицее, на
Высших женских курсах, в Университете (1907—1923) и др. Руководил
(вместе с Н. О. Лосским) выпусками «Новые идеи в философии» (№ 1—
17. 1912—1914). Активный участник работы Философского общества при
Санкт-Петербургском университете.
1 Э. Л. Радлов цитирует В. Крестовского по книге В. Ф. Эрна о
Сковороде (Ч. 2. Вступительные замечания).
2 Н. Г. Чернышевский, идейный вождь русских
радикалов-шестидесятников, в философии занимал позицию воинствующего примитивного
материализма. С совершенно необъяснимым высокомерием и даже
грубостью он писал о представителе киевской теистической школы О. М.
Новицком (в статье «Постепенное развитие древних философских учений в
связи с развитием языческих верований») и о другом выдающемся
философе и богослове П. Д. Юркевиче (в статье «Полемические красоты.
Коллекция первая»).
Ф. А. Степун
Русские мыслители.
Г. С. Сковорода Вл. Эрна. К-во «Путь». 1912
Впервые: Логос. 1913. Кн. 3 и 4. С. 353—354. Печатается по первой
публикации.
1 За время с 1910 по 1919 г. книгоиздательство «Путь» выпустило
45 книг русских и зарубежных религиозных мыслителей.
2 Ф. А. Степун поместил в «Логосе» рецензии на книги Н. А.
Бердяева «Философия свободы» (1910. Кн. 1. С. 231—232) и «А.С.Хомяков»
(1911—1912. Кн. 2 и 3. С. 282—284) и С. А. Аскольдова «А.А.Козлов»
(1912—1913. Кн. 1 и 2. С. 370—373).
Д. И. Багалей
Издание сочинений Г. С. Сковороды
и стоящие в связи с ними исследования о нем
К 120-й годовщине со времени его кончины. 1794—1914
Впервые: Известия Отделения русского языка и литературы
Императорской академии наук. 1914. Т. XIX. Кн. 3. С. 1—58.
924
Комментарии и примечания
Работа Д. И. Багалея носит историографический характер; в ней он
рассматривает историю публикаций творений Г. С. Сковороды и
литературы о нем — от первой статьи А. Хиждеу до современных авторов —
A. Я. Ефименко, Ф. А. Зеленогорского, А. С. Лебедева и др. Здесь дается
фрагмент работы Д. И. Багалея (с. 18—27) с анализом книги В. Ф. Эрна
Багалей Дмитрий Иванович (26.10 (7.11).1857 — 9.2.1932) —
украинский историк. С 1883 г. доцент, с 1887 г. — профессор Харьковского
университета; его ректор (1906—1910). Основные работы посвящены истории
Украины и России, а также польскому восстанию 1863—1864 гг.,
Т. Г. Шевченко и Г. С. Сковороде. В советских справочниках
подчеркивалось, что после Октябрьской революции он встал на путь сотрудничества
с советской властью и стремился быть марксистом. В этом стремлении он
изменил свою оценку книги В. Ф. Эрна. В брошюре «Украинский
странствующий философ Г. С. Сковорода» (Харьков, 1923) он писал: «И хотя
B. Эрн в своей монографии про Сковороду в 1912 году театрально
восклицал — "Эврика!", применяя к анализу этого странствующего философа
свою теорию исторического познания, но этим он еще больше окутал
туманом личность Сковороды в силу своего идеалистического подхода и из
великого революционера идеологии XVIII ст. сделал "странствующего
богоискателя, которого природа, затихая в своем злом существе, загорается
темными прозрениями и, как добрый зверь, усмиренная, ложится у
подножия церкви". Вот до чего договорилась "научная" общественная мысль
в России про Сковороду» (с. 45).
1 У В. Ф. Эрна об этом говорится так: «Αρχ. Гавриил пишет о
Сковороде с пониманием и любовью, и если принять во внимание, что арх.
Гавриил томик о русской философии напечатал в сороковых годах, невольно
почувствуешь уважение к самому замыслу, столь замечательному и
оригинальному для того времени» (Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода.
Жизнь и учение. М., 1912. С. 63—64). Это верно: писать об истории
русской философии в то время (многотомник арх. Гавриила вышел в 1839—
1840 гг.), когда еще не сложилась славянофильская философия, —
замысел такой надо признать не только оригинальным, но и дерзким!
2 ipsissima verba (лат,) — слово в слово; совершенно точно.
Ill
ВРЕМЯ СЛАВЯНОФИЛЬСТВУЕТ
В. Ф. Эрн
От Канта к Круппу
Впервые: Русская мысль. 1914. № 12. С. 114—124 (2-я пагинация).
Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Кот-
релева и Е. В. Антоновой. Примеч. В. И. Кейдана и Е. В.
Антоновой. М., 1991. С. 308—318 (примечания: с. 555—556. В
примечания внесены некоторые изменения).
Комментарии и примечания
925
Предлагаемый текст — речь, если угодно, доклад В. Ф. Эрна на одном
из заседаний Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева,
состоявшемся 6 октября 1914 г., на третий месяц после начала Первой
мировой войны. К заседанию его участники готовились тщательно,
обсуждая предлагаемые темы, пытаясь повлиять на их выбор, но соблюдая
требование свободы слова для выступавших. Е. Н. Трубецкой опасался,
«как бы не вышла ерунда: споры, и притом жгучие, сейчас недопустимы,
да и опасны; надо уменьшить коллизии, которые и все равно будут, когда
Булгаков заговорит о гниении Запада и о народе-богоносце в стиле "Русс-
ланд, Русс ланд юбер ailes", а я буду находить, что это плохой и вредный
перевод с немецкого» (Взыскующие града. Хроника. С. 594). В. Ф. Эрн,
который «ужасно сошелся» с С. Н. Булгаковым относительно взглядов на
войну, решает подвести «настоящую "мину" под всю германскую
культуру» и пугает Г. А. Рачинского одним только названием своего
выступления. И. А. Ильин сообщает, будто бы члены Религиозно-философского
общества «не позволили читать о Германии речь под заглавием
"Бронированный свищ", а заставили так озаглавить "Кризис современной
Германии"; однако, уступая Эрну, допустили подзаголовок "От Канта к Круп-
пу"» (Ильин И. А. Собрание сочинений. Дневник, письма, документы.
1903—1938. М., 1999. С. 94).
Заседание состоялось в Политехническом музее. В. Ф. Эрн писал жене:
«Мы сняли тысячную аудиторию в Политехническом и, представь, после
одного объявления и выпуска афиш — все билеты были проданы за два
дня» (Взыскующие града. Хроника. С. 600). На заседании выступили
Г. А. Рачинский, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, Вяч. Иванов, С. Н. Булгаков.
Заседание имело большой общественный резонанс. Речи выступавших
были опубликованы в журнале «Русская мысль» (1914. Кн. 12).
1 Крупп — название (по фамилии владельцев) одного из крупнейших
металлургических и военно-промышленных концернов Германии
(основан в 1911 г.); в период Первой мировой войны концерн возглавлял
Густав Крупп фон Болен (1870—1950).
2 Бельгийские и французские города, пострадавшие от варварского
обстрела германской артиллерии в первые месяцы Первой мировой
войны.
3 Циглер Т. История умственных и общественных течений XIX века.
СПб., 1901. С. 8.
4 Старый Бог умер (нем.) — Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф.
Собр. соч. Т. IX. М., 1902. С. 127.
5 Überwundener Standpunkt (нем.) — преодоленная точка зрения;
отжившая свое идея.
6 Если это и неверно, то хорошо сказано (итал.).
7 Manu militari (лат.) — вооруженной силой.
8 Vitraux (φρ., мн. ч.) — витражи.
9 Гюисманс Жорис Карл (1848—1907) — французский писатель; Эрн
имеет в виду его роман «Собор» (1898).
10 Энтелехия (греч. εντελέχεια) — понятие философии Аристотеля,
обозначающее актуальную действительность предмета, акта, в отличие от его
926
Комментарии и примечания
потенции, возможности бытия; понятие энтелехии близко к понятию
формы и целевой причины; в психологии Аристотель определяет душу
как энтелехию тела.
11 An und für sich {нем.) — в себе и для себя; само по себе.
12 Речь идет о воззвании немецких ученых «К цивилизованному
миру», в котором оправдывалась война, развязанная правительством
Вильгельма И. См. Приложение.
13 Книга пророка Даниила, 5: 25—28: «И вот что начертано: мене,
мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство
твое и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень
легким; перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам».
14 Эрн имеет в виду речь Вяч. Иванова «Вселенское дело»,
произнесенную в заседании Религиозно-философского общества 6 октября 1914 г. и
напечатанную в том же номере «Русской мысли», что и статья Эрна
(с. 97—107, 2-я пагинация). Вяч. Иванов говорит там, в частности, и о
вине «надмения» как завязке трагедии.
15 In corpore (лат.) — «всей корпорацией»; в полном составе, в целом.
16 В. Ф. Эрн ссылается на второй раздел своего послесловия к книге
«Борьба за Логос»: «На пути к логизму». В частности, в нем говорится:
«Виды безумия в современной философии различны, но существо их одно
и то же. Безумие философии Когена или Риккерта не только
коррелятивно безумию Ницше, но ничем существенным от него не отличается». Суть
безумия — в представлении, что и природа, и внутренний мир человека
отделены от понимания преградой трансцендентальности.
В. Ф. Эрн
Сущность немецкого феноменализма
Впервые: Эрн В. Ф. Меч и крест. М., 1915. Печатается по: Эрн В. Ф.
Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Антоновой.
Примеч. В. И. Кейдана и Е.В.Антоновой. М., 1991. С. 319—328
(примечания: с. 556—557).
Эта речь (как следует из примечания В. Ф. Эрна к ней) была
произнесена 6 ноября 1914 г. в Петрограде и 29 января 1915 г. в московском
Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева. О содержании
дискуссии у москвичей см. заметку М. 3. «Спор о германской культуре»
(наст. изд.).
1 Wille zur Macht (нем.) — воля к власти.
2 Savoir c'est prévoir (φρ.) — знать значит предвидеть.
3 Гершензон М.О. Уроки войны//Русские ведомости. 1914. Ноябрь.
№ 240.
4 Эрн В.Ф. Природа мысли//Богословский вестник. 1913. №3.
С. 500—531; №4. С. 803—843; №5. С. 107—120.
5 Конкубинат (от лат. concubinatus) — незаконное, блудное
фактическое сожительство мужчины и женщины.
Комментарии и примечания
927
6 Grenzbegriff (нем.) — предельное понятие. Марбургская школа
неокантианства истолковывает «вещь в себе» как задачу и предел
(предельное понятие) процесса логического определения объекта.
7 Sturm und Drang (нем.) — «Буря и натиск», литературное движение
в Германии 70—80-х гг. XVIII в. Представители «Бури и натиска»
отстаивали национальное своеобразие, народность искусства, требовали
изображения сильных страстей, героических деяний, характеров, не
сломленных деспотическим режимом. Движение названо по одноименной драме
Фридриха Максимилиана Клингера (1752—1831), написанной в 1776 г.
8 Арну София Мадлен (1740—1802) — французская актриса, оперная
певица. По-видимому, Эрн ссылается на кн.: Goncourt Ed. et Jules. Sophie
Arnould, d'après sa correspondence et ses mémoires inédits. Paris, 1877.
С. Арну славилась своим остроумием. Посмертно изданы сборники ее
афористических высказываний: Arnoldiana. Paris, 1813; Mémoires de m-11
S. Arnould. V..1—2. Paris, 1837.
9 Orbis scientiarum (лат.) — круг знаний, совокупность всех научных
знаний.
10 Трансцендентальная апперцепция — понятие философии Канта,
обозначающее единство познающего субъекта, который с помощью
рассудка конструирует (мыслит) свои объекты.
11 Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из-под
таинственной холодной полумаски...» (1841).
12 Blonde Bestien (нем., мн. ч.)—«белокурые бестии»; метафора
«сверхчеловека» у Ф. Ницше (см.: Ницше Ф. Генеалогия морали.
Памфлет. СПб., 1908).
13 Иксион, похвалявшийся своей победой над Герой, по приказу Зевса
был привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.
14 А. Белый. «Под окном» (Урна. М., 1908).
В. Ф. Эрн
О Царьграде
Впервые: Утро России. 1915. 22 марта. №80. С. 2.
Об этой статье В. Ф. Эрн писал Е. Д. Эрн: «...статья о Царьграде
напечатана сегодня в пасхальном номере, и в то же время редакция написала
статейку по поводу нее! Так что, с одной стороны, они меня ценят, а с
другой — все стараются что-то "оговорить", и глуповато выходит. Я и рад.
Этим сами они создают мне в "Утре России" автономное положение, —
и я, таким образом, никак не буду ответственен за то, что они пишут в
других отделах (иногда очень скверно)...» (Взыскующие града. Хроника.
С. 632). Текст редакционной заметки «Доводы России и Европы» см.
в приложениях.
1 См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 г. Июнь //
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981. С. 48.
2 См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. Ноябрь // Там
же. Т. 26. Л., 1984. С. 87.
928
Комментарии и примечания
С. Л. Франк
О поисках смысла войны
Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. Декабрь. С. 125—133.
Статья С. Л. Франка была опубликована в том же номере * Русской
мысли», что и выступления участников открытого заседания Религиозно-
философского общества памяти Вл. Соловьева, 6 октября 1914 г.
О позиции С. Л. Франка на время описываемых событий см. в его
книге « Воспоминания о П. Б. Струве» (Франк С. Л. Непрочитанное... Статьи,
письма, воспоминания. М., 2001. С. 476—479). Она, по словам
исследователя творчества С. Л. Франка Ф. Буббайера, в главном сводилась к
следующему: «В своей концепции национальности Франк исходит из
уверенности, что национальное самосознание произрастает из духовных основ
жизни, и явно считает, что корни германской нации те же, что и у
русской. <...> Было бы неверно отождествлять абсолютное добро с той или
другой стороной. <...> Верить, что душа другого народа по сути своей зла,
значит просто потворствовать своим субъективным интересам» (Буббай-
ерФ. С.Л.Франк. Жизнь и творчество русского философа. М., 2001.
С. 120, 119).
1 Упоминается заседание Религиозно-философского общества памяти
Вл. Соловьева 6 октября 1914 г.
2 В. Ф. Эрн выступил в Петрограде с повторением своей лекции «От
Канта к Круппу» в Тенишевском училище. Вместе с ним выступал
Вяч. Иванов, который подчеркивал, что только он один «нашел
достаточно мужества поддержать его». Информацию об их выступлении см.:
Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1914. 26 ноября. № 14518 (без
подписи). Та же газета 27 ноября дала по этому случаю критическую заметку
Л. Пасынкова «Сарацения» (№ 14520. С. 3).
3 Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident! — строки из
стихотворения И. В. Гете «Талисманы» (см.: Goethe I. W. Talismane // Goethe I. W.
West-Ostlicher Divan. Leipzig, 1948; рус. пер.: Гете И. В.
Западно-восточный диван. М., 1988. С. 8).
Д. С. Мережковский
0 религиозной лжи национализма
Впервые: Голос жизни. 1914. №4. С. 2—4. Материал
Д.С.Мережковского, представлявший собою доклад на заседании Религиозно-
философского общества 26 октября 1914 г., был подвергнут цензурным
сокращениям. В настоящем сборнике выступление Д. С.
Мережковского печатается по: Записки петроградского
Религиозно-философского общества. 1916. Вып. 6. С. 8—14. Изъятые цензурой строки в
журнальной публикации были восстановлены в «Записках». Здесь
они помечены заметными полукруглыми скобками.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (2(14).08.1865 — 9.12.1947) —
поэт, писатель, публицист, признанный глава «неохристианства» време-
Комментарии и примечания
929
ни «серебряного века» русской культуры, один из руководителей
«Религиозно-философских собраний» (1901 — 1903 гг.) и
Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге (Петрограде).
Религиозно-философское общество возникло в 1907 г. Подготовительное заседание состоялось
8 апреля. На нем был обсужден доклад В. В. Розанова «Отчего падает
православие?», а официальное первое заседание прошло 3 октября. Общество
существовало до мая 1917 г. Его целью было обсуждение актуальных
проблем общества, культуры и христианства. За эти годы состоялось более
100 заседаний с участием выдающихся представителей русской культуры
и общественности — писателей, философов, социологов, деятелей церкви
и синодального ведомства. В. П. Свенцицкий так характеризовал
участников Общества: «...собрались люди самых разных взглядов. Горячее
участие в делах Общества принимают лица философского склада, которые
еще не выяснили своего отношения к религии и не обдумали еще
собственного тона своей системы; вместе с ними есть и такие, которые,
оставаясь еще теоретиками, уже вплотную подошли в своих рассуждениях
к религиозной проблеме; рядом с ними выступают люди, всеми своими
корнями сидящие в религии, одни — в православии, другие — вообще в
христианстве, третьи — вообще в религиозности. Но эта разноголосица не
создает трений в работе, так как задача Общества — теоретически
способствовать постановке и решению религиозных проблем, обща всем
участникам Общества от В.В.Розанова до священника К. Аггеева» (см.:
Живая жизнь. 1907. № 1. С. 58).
Отношение богоискателей круга Мережковских к москвичам,
особенно к тем, кто не принимал их «христианства III Завета», а, напротив, делал
попытки возрождения «исторического» православия, было весьма
критичным. Их раздражали неославянофильство москвичей и
«национализация» православия. 3. Н. Гиппиус (по некоторым свидетельствам,
«генератор» идей круга Мережковских) записала в своем дневнике: «Москвичи
осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский,
Булгаков, Трубецкой и т. д. и т. д. О, Москва, непонятный и часто
неожиданный город, где то восстание — то погром, то — декадентство, то —
ура-патриотизм, — и все это даже вместе, все дико и близко связано
общими корнями, как Герцен, Бакунин и — аксаковская славянофилыцина».
Петербуржцы тоже активно обсуждали проблемы войны, сделав их
главными темами осенне-зимних заседаний 1914—1915 и 1915—1916 гг.
Общее, свойственное петербургским участникам обсуждений мнение
сводилось к утверждению «религиозной лжи национализма», отказу от
космополитизма во имя подлинного объединения людей в реализации
христианских общечеловеческих (и христианских) ценностей.
В прениях по выступлению Д. С. Мережковского выступили свящ.
К. М. Аггеев, А. А. Мейер, А. В. Карташев.
3. Н. Гиппиус
Скажите прямо!
Впервые: Голос жизни. Иллюстрированный еженедельник. 1915.
№3. С. 5—6.
930
Комментарии и примечания
«Голос жизни» — еженедельный литературно-политический
иллюстрированный журнал, выходивший при участии «лучших сил русской
изящной литературы, публицистики и живописи. Он претендовал на
«углубленное толкование текущих вопросов», отстаивал в своих политических
статьях «прогрессивные начала в государственной их постановке» и
допускал «принципиальные споры, поскольку они касаются философских
основ политической мысли». С 1915г. имел подзаголовок
«иллюстрированный еженедельник». С № 7 (1915. 11 февраля) указывалось, что
журнал издается «при ближайшем участии Д. В. Философова». В журнале
публиковались Г. Адамович, А. Ахматова, А. Блок, Л. Галич, С.
Городецкий и др. В 1914 г. вышло 11 номеров журнала, а в следующем, 1915-м,
он прекратил свое существование на № 26 от 24 июня 1915 г.
3. Н. Гиппиус довольно активно участвовала в журнале. В частности,
она выступила со статьей «Искажения» (1914. № 6), в которой
показывала, что лозунг «не надо немца!» звучит — в своем повседневном
звучании — как «не надо культуры!». Публикуемая здесь статья 3. Н. Гиппиус
подписана ее литературным псевдонимом «Антон Крайний».
1 Речь идет о декабрьской, 12-й книге «Русской мысли», в которой на
с. 83—132 (2-я пагинация) были напечатаны речи Г. А. Рачинского,
кн. Е. Н. Трубецкого, Вяч. И. Иванова, С. Н. Булгакова и В. Ф. Эрна,
произнесенные на открытом заседании Религиозно-философского общества
памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., и статья С.Л.Франка «В
поисках смысла войны».
2 3. Н. Гиппиус по каким-то своим причинам называет статью
П.Б.Струве «Великая Россия и Святая Русь», напечатанную в том же
номере «Русской мысли» (с. 176—180), «заключительной».
Содержательно статья действительно примыкает к выступлению в Политехническом
музее патриотически настроенных ораторов (и это отмечает 3. Н.
Гиппиус), но формально она имеет самостоятельное значение.
3 СМ. Соловьев выступал на заседании петроградского Религиозно-
философского общества 21 декабря 1914 г. с докладом «О современном
патриотизме», и петроградская аудитория отнеслась к докладу весьма
критически. Называемая 3. Н. Гиппиус брошюра СМ. Соловьева «К
войне с Германией» (М., 1914) состоит из вступительной заметки «Немецкая
опасность» (дата написания —15 августа 1914 г.) и пяти стихотворений:
«Вильгельму», «К Волыни», «К Англии», «На взятие Львова» и «Папе
Бенедикту XV». Выражаемые здесь идеи и настроение совершенно
созвучны с идеями и настроениями В. Ф. Эрна.
4 Цитируется выступление С. Н. Булгакова в Политехническом музее
6 октября 1914 г. См.: Русская мысль. 1914. Кн. 10. С. 114 (2-я
пагинация).
5 Скорее всего, 3. Н. Гиппиус вспоминает обмен мнениями с П. Б.
Струве, который состоялся у них на страницах № 5 «Русской мысли» за
1914 г. Здесь она выразила неудовольствие П. Б. Струве, который
несколько ранее, в мартовском номере, в статье «Почему застоялась наша
духовная жизнь?» назвал «общественным утилитаризмом
религиозно-философское движение Д. С Мережковского и близких ему людей. При этом
П. Б. Струве исходил из «индивидуальной творческой религиозности»
Комментарии и примечания
931
(христианство, пишет он, есть «живая личная вера в живую личность»).
Действенность миросозерцания определяется не объективной логической
связью его частей, его распространенностью в обществе и формами его
институализации, а «субъективным сцеплением» его элементов для
верующего. 3. Н. Гиппиус в «Открытом письме редактору "Русской мысли"»
(1914. № 5) оправдывает свой «утилитаризм» особым пониманием
религии: религия есть сознание связи между Богом и человечеством, а эту
связь она хочет установить посредством сакрализации каких-то
общественных процессов и институтов. П. Б. Струве в том же номере в статье
«Религия и общественность» возражает 3. Н. Гиппиус: максимум, что
может сделать верующий, — это указывать на то, что для него религиозно
неприемлемо в современном обществе.
Характеризуя религиозную позицию П. Б. Струве на этот период,
его друг С. Л. Франк писал так: «В середине своей жизни он склонялся —
может быть, под влиянием своей общей, как бы кровной связи с
немецкой культурой, — к верованиям примерно в духе немецкого либерально-
протестантского богословия» (Франк С. Л. Умственный склад, личность и
воззрения П. Б. Струве // Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 521).
М. 3.
Спор о германской культуре
(В Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева)
Впервые: Утро России. Москва. 1915. 31 января. №31. С. 5.
Печатается по первой публикации.
1 «Предыдущее заседание», на которое ссылается корреспондент
«Утра России», состоялось 15 января 1915 г. (См.: Наше отношение к
германской культуре//Утро России. 1915. 16 января. №16. С. 4). С
основным докладом выступил В. Ф. Эрн, а затем свое мнение высказывали
Е. Н. Трубецкой, Л. В. Успенский, Вяч. Иванов, С. Ф. Кечекьян, С. Н.
Булгаков, Б. А. Грифцов, С. Н. Дурылин, В. М. Турбин, Н. В. Устрялов,
Ю. В. Ключников, Б. П. Вышеславцев (см.: Русские ведомости. 1915.
16 января. № 12. С. 4). По словам газетчика, В. Ф. Эрн заявил: «Мы
находимся все время в рабском подчинении германскому культурному
экспорту. Культура превратилась в Германии в коммерческое предприятие, и к
нам ввозят и распространяют в России всякие суррогаты истинного
знания. Нам необходим свободный выбор и освобождение от германского
гипноза». Однако выступавшие вслед за В. Ф. Эрном, напротив,
подчеркивали зрелость германской культуры в отличие от русской. В частности,
корреспондент особым абзацем сообщает: «Оригинальную и резко
диссонирующую речь произнес С. Ф. Кечекьян. Необходимо опасаться не за
судьбы германской культуры, а за судьбы культуры русской. Где гарантии,
что мы осуществляем вселенское дело, а не германцы. <...> Нам
необходимо осудить не германцев, а то зло, которое кроется в каждой войне».
У московской читающей публики могло создаться впечатление о за-
сильи в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева «
германофил ьствующих», и В. Ф. Эрн публикует в «Утре России» (18 января.
№ 18. С. 6) «Письмо в редакцию. В Соловьевском обществе». Он признал,
932
Комментарии и примечания
что «германофильские речи совершенно неизбежны в атмосфере
свободного и чистого теоретического обсуждения». Он нашел, что таких было
четыре, но они были «внутренне зачеркнуты и с большим подъемом
преодолены речами других ораторов».
Но заседание 29 января (о чем идет речь в настоящем сообщении
М. 3.) показало, что «германофильствующие» не собирались сдаваться.
Об этом заседании, центром которого оказалась грубая полемика И. А.
Ильина с В. Ф. Эрном. Последний в письме к жене Е. Д. Эрн (Векиловой)
писал: «Ильин говорил мне тоном невероятной внутренней грубости. Я ему
отвечал спокойно, но несколько моментов вышло все-таки острыми. У
меня осталось большое неудовлетворение. <...> Я был очень усталый и в
умственном забытьи, и потому не всегда находил слова и лишь изредка
говорил с удачей» (Взыскующие града. Хроника. С. 613—614).
И. А. Ильин говорил в свойственной ему резкой манере и так
рассказал об этом своей двоюродной сестре Любови Яковлевне Гуревич,
известной деятельнице русской культуры конца XIX — начала XX в.: «В
середине января я обратился с вызовом к Эрну: "Кант и Крупп" должны
быть публично обсуждены. Посылаю тебе его фельетон. 29 янв.
состоялась грандиозная дезинфекция. Эрн читал доклад о феноменализме,
проблема теории познания разбиралась им так: субъект = мужчина; объект -
= женщина; знание есть соитие между мужчиной и женщиной; это соитие
может совершаться различными способами: нормальными и
извращенными; теория познания есть "половая онтология"; Кант был евнух и вел
флирт с Богом etc. Я говорил Ι1/, часа; я никогда еще никого так не
разоблачал, я перервал ему глотку. 1Согда я кончил и ушел, то у некоторых
было впечатление, что от Эрна остался один труп; в эту ночь в нескольких
домах (из публики) совсем не ложились спать. А я вернулся домой,
больной телом и душой; теперь будут бояться. Oderint, dum Metuant!
Подумай! Иванов, Эрн (они живут в одной квартире), Рачинский, Булгаков и
Скрябин — усвоили и распространяют следующее: "война" — это совсем
не так плохо, это только периферия, а центр в душе гениальных
художников, а кровь, которая на войне льется, — благо; ею мы очищаемся.
Скрябин так и говорит: все, что делается на войне, — только поводы к
космической радости. Все эти грязные болтуны привесили к войне свои
извращенные садистические и мазохистические чувствованьица и тлят
воздух; для них война — грациозное мултанское дело (ты помнишь?
вспомни!). И все это идет от Xpucmal Они — христиане: ведь это Христос
заповедал — очищаться чужою кровью и пить ее. Не чудовищно?! Всю эту
гадь — надо немедленно в окопы, под немецкие пулеметы. Иначе скоро
нечем будет дышать!» (Ильин И. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 88).
Μ. М. Рубинштейн
Виноват ли Кант?
Впервые: Русские ведомости. 1915. 11 февраля. Печатается по
первой публикации.
Рубинштейн Моисей Матвеевич (15(27).06.1878 — 3.04.1953) —
философ, психолог и педагог; выпускник Фрейбургского университета; при-
Комментарии и примечания
933
ват-доцент Московского университета (с 1912). Вполне разделял позицию
журнала « Логос» в отношении русской философии. Был убежден, что
Россия скажет свое слово в философии «не в оторванности от Запада, а в
тесной связи с ним». В журнале «Логос» опубликовал статью о
конкретном спиритуализме Л. М. Лопатина; автор публикаций о современном
состоянии философии в журналах «Вопросы философии и психологии»,
«Русская мысль» и газетах «Русские ведомости» и «Утро России».
После Октябрьской революции занимался в основном проблемами
педагогики.
В. Ф. Эрн очень резко отозвался о публикуемой статье M. М.
Рубинштейна; он писал жене: «Сегодня в "Русских ведомостях" появилась
скучнейшая статья "Виноват ли Кант?" с большими цитатами, не
относящимися к делу, и с маленькими ругательствами, относящимися ко мне...»
(Взыскующие града. Хроника. С. 620).
1 См. примеч. 12 к ст. В. Ф. Эрна «От Канта к Круппу».
2 Работа И. Канта, изданная Кантовским обществом в Германии,
называется «Идея всеобщей истории во всеобще-гражданском плане»
(1784).
Н. А. Бердяев
К спорам о германской философии
Впервые: Русская мысль. 1915. Кн. V. Май. С. 115—121.
Печатается по первой публикации.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ экзистенци-
ально-персоналистического стиля мышления, публицист, активный
участник религиозно-общественной и культурной жизни России начала XX в.
и русского зарубежья.
Ко времени знакомства с В. Ф. Эрном, которое, видимо, состоялось в
начале 1905 г., он уже стоял на позициях религиозной метафизики и
продвигался к христианству. Он писал, что весной и летом 1906 г. в нем
«совершилось нечто поистине религиозное, радикальный перелом — <...> я
поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренно освободился от
демонизма, полюбил Бога. <...> Я сделался благочестивым человеком, я
каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренно с
Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все
значительное, что способен...» (Письмо Н.А.Бердяева Д. В. Философову от
22 апреля 1907 г.//Минувшее. Исторический альманах. 9. М., 1992.
С. 307).
Н. А. Бердяев принимал активное участие в обсуждении актуальных
тогда проблем отношения «религии и общественности» и, в частности,
несколько раз выступил по этому поводу в журнале «Век». В статье
«Возрождение православия (С. Н. Булгаков)» (Русская мысль. 1916. Кн. VI) он
называет В. Ф. Эрна в числе представителей того направления
религиозного сознания, для которого «характерна неутолимая жажда возврата,
бегство от современности в материнское лоно Церкви, вечное обращение в
христианство, которое никогда не может быть завершено...» Его оценка
места В. Ф. Эрна среди других представителей этого течения несколько
934
Комментарии и примечания
противоречива. С одной стороны, Н. А. Бердяев утверждает, что «В. Ф. Эрн
плывет в том же религиозно-философском русле, что и С. Н. Булгаков, но
он недостаточно [еще] себя выразил в литературе и менее типичен, менее
связан с основными течениями русской мысли, более узок, в нем нет
тревожности Булгакова». С другой стороны, по его мнению, на религиозно-
философском творчестве С. Н. Булгакова и свящ. П. Флоренского «лежит
печать рабов божественного фатума». И первый и второй — не свободны,
утверждает Н. А. Бердяев. Напротив, продолжает он, «совершенно
свободен другой представитель православной религиозной мысли — В. Ф. Эрн.
Он утверждает свое исключительное православие из себя, из своей свободы,
и ни с чем и ни с кем на свете не считается. За религиозно-философским
мышлением Эрна чувствуется не столько оригинальный и самобытный
ум, сколько оригинальный и самобытный характер. Но в нем есть что-то
нерусское, слишком ясное и успокоенное, не мятущееся, что-то от
протестантского пиетизма, слишком доктринерское. Эрн менее интересен и
показателен для русской религиозной мысли, чем Булгаков и свящ. П.
Флоренский, хотя доктринально он один из самых крайних славянофилов»
(Бердяев Н. Собр. соч. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. Paris,
1989. С. 580—621).
Современный исследователь Л. В. Поляков указывает в ряде моментов
на сходство философских позиций Н. А. Бердяева и В. Ф. Эрна:
использование термина «меонизм» для отрицательной характеристики всего пути
новоевропейской философии, резко критическое отношение к Канту,
противопоставление западноевропейского «рацио» восточнохристианскому
«логосу», утверждение, что «науки нет, есть только науки», и др.
1 Что касается тезиса В. Ф. Эрна о феноменализме немецкой
культуры, детищем чего стал немецкий милитаризм, то Н. А. Бердяев возражал
на такой тезис в статье «Ницше и современная Германия». «В. Эрн, —
писал он, — со свойственной ему неистовой и слепой прямолинейностью
соединяет Канта с Круппом, с легкостью доктринера преодолевая все горы
и все препятствия на пути. К Канту же идет прямая линия от Экхарта и
Лютера. Это отвлеченное сокрушение германизма Эрн производит по
правилам и навыкам чисто немецкого мышления, имеющего дело с
понятиями и идеями, а не с жизнью в ее многообразии и индивидуальности. Так
приблизительно строил план войны генерал Пфуль в "Войне и мире"».
К этому своему замечанию Н. А. Бердяев в сноске добавил следующее:
«Эрн выводит Круппа из феноменализма Канта. Но более крайний
феноменализм свойственен англичанам, а поэтому в Англии должен был бы
быть Крупп» (Бердяев H.A. Ницше и современная Германия // Биржевые
ведомости. Утренний выпуск. 1915. 4 февраля. № 14650. С. 2).
В. Инсаров
«Нейтралитет» науки
Впервые: Современник. 1915. №3. Март. С. 114—126.
«Современник. Ежемесячный журнал литературы, политики, науки,
истории, искусства и общественной жизни» выходил в Петербурге в 1911—
Комментарии и примечания
935
1915 гг. В руководстве журналом с сентября 1912 по май 1913 г.
принимал участие А. М. Горький. В 1913 г. редактором журнала стал H. Н.
Суханов (Гиммер), принадлежавший к группе внефракционных
социал-демократов, близких меньшевикам-интернационалистам и сохранявших
связи с эсерами и иными неонародническими группами. Во время войны
журнал занял антивоенную, интернационалистскую позицию.
Составителю не удалось раскрыть псевдоним автора публикуемой
статьи.
1 Fiat justicia — pereat mundi! (лат.) — Да свершится правосудие,
хотя бы погиб мир!
2 Ессе homo! (лат.) — «Се человек!», «Вот человек!». «Ессе homo» —
название книги Ф. Ницше (1888), в которой проповедуется культ
сильной личности, преодолевающей моральные нормы общества.
3 Это означает: «Я полагаю, что во время войны молчат (inter arma
tacent) не только законы (leges), но также молчат науки (tacet scientia)».
4 Далее излагается и цитируется речь С. Н. Булгакова «Русские
думы», произнесенная им на открытом заседании
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914г., напечатанная в
том же году в 12-й книге журнала «Русская мысль».
5 Ex oriente lux! (лат.) — с востока свет!
6 Далее излагается и цитируется речь В. Ф. Эрна «От Канта к Круп-
пу», произнесенная им на открытом заседании Религиозно-философского
общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г.
7 horribile dictum (лат.) — страшно сказать.
8 Работа Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» сложилась из серии статей
«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»,
опубликованных в 1877—1878 гг. В ней Ф. Энгельс излагает основное
содержание марксизма в области философии, политической экономии и
социализма.
Имеется в виду работа А. Лабриолы «Об историческом
материализме», вышедшая в Италии в 1896 г.
9 «Политический трактат» — последнее и незаконченное
произведение Б. Спинозы (ум. 1677), которое рассматривается исследователями как
дополнение к одной из главных работ мыслителя «Богословско-полити-
ческий трактат» (1670, анонимное издание).
10 Полное название упоминаемого сочинения Ж.-Ж. Руссо — «Об
общественном договоре, или Принципы политического права». Работа в
первый же год своего появления (1762) выдержала десять изданий и
сразу же была запрещена во Франции и осуждена на сожжение.
11 Г. Лебон учил, что народы различаются также по психологии,
имеющей наследственный характер. Это ведет к различию мировоззрений,
следствием чего являются разного рода конфликты между ними. В работе
«Психология народов и масс» (1895; рус. пер. — 1896) Лебон
характеризует свое время как «эру толпы», господство массы, в которой личность
теряет свою индивидуальность.
936
Комментарии и примечания
Н. А. Бердяев
Эпигонам славянофильства
Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 18
февраля. № 14678. С. 2. Печатается по первой публикации.
1 Статья Н. А. Бердяева — ответ на статью В. Ф. Эрна «Налет
Валькирий» (Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 30 января. № 14642.
С. 2), которая вошла в его сборник «Меч и крест. Статьи о современных
событиях» (М., 1915; см.: Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 360—384).
Н. А. Бердяев, признавая судьбоносное значение войны и надеясь
на славную будущность России как великого Востоко-Запада, совершенно
не разделял отношения В. Ф. Эрна к событиям и выразил это в письме к
жене от 3 декабря 1914 г.: «А от атмосферы у Вяч. Иванова и Эрна у меня
осталось тяжелое и отвратительное впечатление, так совсем нельзя
говорить, я кричал от возмущения. Квасной патриотизм, бахвальство,
готовность лежать на брюхе перед городовым, отрицание фактов — все это в
размерах колоссальных. Мне даже ходить туда тяжело» (цит. по вступ. ст.
A. Б. Шишкина к публикации: Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновье-
вой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых // Вячеслав Иванов. Материалы
и исследования. М., 1996. С. 126).
Предыстория публикуемого ответа Н. А. Бердяева такова: Н. А.
Бердяев в той же газете, в двух номерах от 14 и 15 января, дал большой
анализ брошюры В. В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»
(СПб., 1915), которую назвал «блестящей и возмущающей». В ней Н. А.
Бердяев утверждал, что автор «повторяет славянофильские зады, давно уже
отвергнутые не "западнической" мыслью, а мыслью, продолжившей дело
славянофилов», в частности, В.С.Соловьевым. Эти «зады» — «старые
слова, потерявшие всякий вкус и аромат: вся русская история есть тихая,
безбурная; все русское состояние — тихое, безбурное». Из этого,
продолжает Н. А. Бердяев, «рождается инерция, которая мила вечно-бабьему
сердцу Розанова, но никогда не рождается новой, лучшей жизни». Как
B. В. Розанов тянет русских «назад и вниз», призывая русских к
«соблазну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии», так то же
самое делают С. Булгаков, В. Иванов и В. Эрн.
В ответной статье В. Эрн — и здесь нужно согласиться с Н. А.
Бердяевым— действительно «перешел на личности», посвятив всю пятую
главу иллюстрации тезиса, что дух Бердяева — исключительно
женственный, то есть «бабий»: «Дует марксизм — Бердяев — марксист» и т. п. Вот
Н. А. Бердяев и пишет: В. Ф. Эрн «применил старый и испытанный
прием унизить личность противника, подорвать к нему доверие».
2 Упоминается книга Н. А. Бердяева «Алексей Степанович Хомяков»
(М.: Путь, 1912).
3 Н. А. Бердяев обращает внимание на выступления В. С. Соловьева
«Национальный вопрос в России», в которых философ выступил
обличителем националистов и «грехов» России.
4 H.A. Бердяев, начиная со статьи «О новом русском идеализме»
(Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. 75), постоянно выступал
против «германской философии».
Комментарии и примечания
937
5 В книге об А. С. Хомякове Н. А. Бердяев пишет: «Эпоха распри
славянофильства и западничества заканчивается и наступает новая эпоха
зрелого национального самосознания. Зрелое национальное самосознание
примет всю правду славянофильства, всю святыню восточного
православия, но иное будет иметь отношение к правде западной культуры и
католичества. Зрелое национальное самосознание прежде всего утвердит в
национальной плоти и крови вселенские начала Христовой правды и
всечеловечность миссии России» (М., 1912. С. 243).
6 Возможно, что это намек на статью А. А. Кизеветтера «Россия и
Европа», в которой известный историк, член ЦК кадетской партии и
либерал-западник (конечно же, русский западник!) крайне пренебрежительно
отозвался о В. Ф. Эрне: «Теперь находятся шутники, утверждающие с
высоты философских кафедр, что Кант и Крупп — родные братья по духу,
так что трактат Канта о вечном мире оказывается не чем иным, как той
же крупповской пушкой!» (Русские ведомости. 1915. 8 января. № 5. С. 2).
7 Статья С. Н. Булгакова «Родине» была опубликована в московской
газете «Утро России» 5 августа 1914 г.
Вяч. Иванов
Живое предание
Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 18 марта.
Затем статья вошла в сборник «Родное и вселенское» (М., 1917).
Печатается по: Иванов Вяч. И. Родное и вселенское / Сост. вступ.
ст. и примеч. В. М. Толмачева. М., 1994. С. 346—352.
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, мыслитель,
филолог, переводчик, один из ведущих представителей «серебряного века»
русской культуры. Был очень дружен с В. Эрном и признавался, что
«больше, чем Владимир Соловьев, на меня влиял Владимир Эрн» (Ученые
записки Тартуского государственного университета. Вып. 209. Труды по
русской и славянской филологии. XI. Тарту, 1968. С. 309).
О дружбе двух мыслителей вспоминали многие, а С. Н. Булгаков в
декабре 1917 г., уже после смерти В. Ф. Эрна, писал в письме к А. С.
Волжскому: «Вяч. Иванов без Эрна как-то поблек, да вообще растерялся, что
ли, только поблек» (Взыскующие града. Хроника. С. 680).
В свою очередь, В. Ф. Эрн видел в Вяч. Иванове «достойного
теоретика» символизма, который поставил современный символизм (ведущий
начало от Г. С. Сковороды) в связь с существенным реалистическим
символизмом Средних веков (Данте) и с мистическим символизмом
древнегреческого мифа. Для него Вяч. Иванов — «мыслитель огромной
пленительной глубины, ослепительный мастер слова, который в наши дни
развил динамическое понимание культуры как явления, находящегося в
синтетической зависимости от творческой стихии жизни» (см. его статью
«Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку» в наст. изд.). В. Ф. Эрну
принадлежит также статья «О великолепии и скептицизме. К
характеристике адогматизма» по поводу выступления Льва Шестова «Вячеслав
Великолепный» (Русская мысль. 1916. Кн. X. Октябрь). Здесь В. Ф. Эрн
называет Вяч. Иванова «редчайшим представителем исконно-русского
европеизма» (Христианская мысль. 1917. Кн. III—IV. С. 173). Здесь уке, на
938
Комментарии и примечания
с. 176, он высказывает очень важную и для него самого мысль о третьем
Возрождении, долженствующем совершиться в России, видя в Вяч.
Иванове его предтечу: «В отношении Вяч. Иванова к античности есть черты
какой-то потрясающей новизны и такой самобытности, которые были у
зачинателей или представителей первого Возрождения древности в
католической Италии и второго Возрождения древности в протестантской
Германии и которая придает его проникновению в душу античного
человека — особую, вселенскую значительность. Если нам суждено еще жить
в истории, если борьба с германским драконом не есть вступление в
тягостную эпоху еще более грозных катастроф и еще более чудовищных
столкновений, если сбудется мечта тех, кто проводит и пророчествует третье
Возрождение в православной России, — имя Вяч. Иванова как зачинателя
гениально русского отношения к Элладе увенчается тою славою, которая
поистине ему подобает».
Статья Вяч. И. Иванова «Живое предание» является ответом на
статью Н. А. Бердяева «Эпигонам славянофильства».
1 Упоминается брошюра В. Ф. Эрна «Время славянофильствует: война,
Германия и Россия» (М., 1915), в которую вошла публицистика В. В. Эрна
военного времени.
2 В газете «Русские ведомости» (1915. 21 февраля, № 41. С. 2) в
разделе «Отклики» дан сочувственный пересказ статьи Н. А. Бердяева
«Эпигонам славянофильства». Он завершается следующим абзацем: «Критика
г. Бердяева должна звучать для представителей оспариваемых им
взглядов тем более веско и значительно, что он не является для них
представителем совершенно чуждого и враждебного им круга. Он связан с ними
общностью религиозного миропонимания, он говорит на понятном им
языке. <...> И тем более ценно совпадение практических выводов статьи
г. Бердяева с возражениями людей, исходящих из иных, чем он,
предпосылок».
3 Речь идет о двух ликах прекрасной дамы «Дон-Кихота» Мигеля
Сервантеса— «простонародной» Альдонсе и «возвышенной» Дульсинее.
4 hominibus bonae voluntatis (лат.) — для людей доброй воли.
Н. А. Бердяев
Омертвевшее предание
Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 8 апреля.
№14771. С. 2. Печатается по первой публикации.
Эта статья продолжает полемику с Вяч. И. Ивановым о социально-
культурной ценности славянофильского комплекса идей.
Д. В. Философов
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Меч и крест. Москва. 1915
Впервые: Речь. Петроград. 1915. 31 августа. № 239. С. 3.
Печатается по первой публикации.
Комментарии и примечания
939
1 Д. В. Философов ошибается; журнал, о котором он пишет,
назывался «Новое звено. Орган объединенного славянства и независимой
либеральной мысли». Он был еженедельным и выходил в 1913 (два номера),
1914 и 1915 гг. (21 номер). С 29 ноября 1914 г. имя В. Ф. Эрна значилось
в числе ближайших сотрудников журнала.
В. Ф. Эрн опубликовал в еженедельнике четыре небольших статьи.
В «Новом звене» публиковался также Вяч. Иванов («Славянская
Мировщина», № 49 от 29 ноября 1914 г.), а в одном из номеров был дан
отчет о выступлении В. Ф. Эрна и Вяч. Иванова в зале Тенишевского
училища 25 ноября 1914 г. (Новое звено. 1914. 29 ноября. №49. С. 15—16),
подписанный: «АНБ», т.е. редактором журнала А. Н. Брянчаниновым.
Правда, автор отчета критичен по отношению к тезису В. Ф. Эрна, но
разделяет мысль об опасности победы не во имя нравственного начала, а во
имя начала материального.
Раздраженность автора рецензии против журнала объясняется
постоянными выпадами «Нового звена» против кадетов, которым
симпатизировал Д. В. Философов, а в № 43 от 18 октября 1914 г. мы находим
пассаж, направленный и против Д. В. Философова: «Изо дня в день мы
читаем в "Речи" статьи и заметки (гл. обр. г. Философова), в которых,
"исходя из глубоких основ справедливости и международного права", —
наше общество призывается к охранению прав имуществ и личных всех
фатерляндцев. Напр<имер>, в номере от 14 окт<ября> читаем <...> ст.
г. Философова, яростно клеймящего "Нов<ое> вр<емя>" и "Веч<ернее?>
вр<емя?>" за несколько статей о необходимости более внимательного
отношения к г.г. "нашим немцам"» (с. 18—19). Затем сделано примечание:
«Г. Философову, как автору "неугасимой лампады", конечно, неизвестно,
что проливаемая ныне нашими солдатами кровь — это дань германскому
шпионажу!»
2 Епископ Евлогий проводил на Холмщине политику ослабления
польско-католического влияния на православное население и даже
добивался вывода Холмщины из состава Царства Польского. Это, естественно,
огорчало демократическую российскую общественность.
3 Статья В. Ф. Эрна «Голос событий» была напечатана в №47
еженедельника «Новое звено» от 15 ноября 1914 г. (с. 4—6).
П. Е. К.
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Время славянофильствует.
Война. Германия, Европа и Россия. М., 1915
Впервые: Христианская мысль. Киев, 1916. Январь. С. 174—175.
«Христианская мысль» — журнал, издававшийся Киевским
Религиозно-философским обществом. Выходил в 1916—1917 гг.
Общественно-религиозная позиция журнала была близка кругу «московских славянофилов»,
т.е. была направлена против «церковного нигилизма».
Редактором-издателем его был Василий Ильич Экземплярский (1874—1933),
преподаватель кафедры нравственного богословия Киевской Духовной академии.
С осени 1905 г., когда было организовано Киевское
Религиозно-философское общество имени Влад. Соловьева, и до 1911 г. он был его председателем.
940
Комментарии и примечания
В 1910 г. уволен из Академии. О причине увольнения В. В. Зеньковский
рассказывает так. В. И. Экземплярский в своей статье о Л. Н. Толстом
сравнил последнего с Иоанном Златоустом. Вскоре «в Государственном
Совете прот. Буткевич (проф. богословия в Харьковском университете,
крайне правый) стал защищать допустимость с христианской точки
зрения смертной казни. В. И. напечатал резкую статью против Буткевича,
подчеркивая, наоборот, недопустимость смертной казни с христианской
точки зрения. Св. Синод немедленно уволил В. И. из Академии»
(Зеньковский В. В. Мои встречи с выдающимися людьми. 4.1. Киев//Записки
Русской Академической группы в США. 1994. Т. XXVI. С. 61). Инцидент
с В. И. Экземплярским стал предметом внимания С. Н. Булгакова в его
заметке «Самозащита В. И. Экземплярского» (Русская мысль. 1912. №8.
Паг. 2. С. 39—40).
В. Ф. Эрн тоже печатался в этом журнале (см.: Материалы к
библиографии В. Ф. Эрна).
Составителю не удалось раскрыть криптоним автора публикуемой
статьи.
IV
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
В. Ф. Эрн
Спор Джоберти с Розмини
Впервые: Известия Тифлисских высших женских курсов. Тифлис,
1914. Т. 1. Вып. 1. С. 1—20.
Это издание вышло всего двумя выпусками первого тома. Высшие
женские курсы в Тифлисе были учреждены в 1909 г. и поначалу
существовали в составе историко-словесного (с отделениями историческим и
славяно-русским) и естественного факультетов. На заседании Совета курсов от
31 мая 1914 г. на кафедру истории древней философии был избран В. Ф. Эрн,
бывший тогда приват-доцентом Московского университета. Помимо
истории древней философии он читал курс «Введение в философию». В
«Отчете о состоянии Тифлисских высших женских курсов за 1914/15 учебный
год» указывалось, что в отчетном году курсы лишились нескольких ранее
работавших преподавателей, в том числе В. Ф. Эрна.
1 Упоминаются две знаменитые философские книги «Сумма
философии, об истине католической веры против язычников» (окончена в 1264 г.)
Фомы Аквинского, прозванного Ангельским доктором, и «Критика
чистого разума» И. Канта (1781).
2 поссибилизм (от лат. possibilis — возможный или от фр. possible с
тем же значением) — в «Словаре иностранных слов», изданном в
С.-Петербурге в 1902 г. под ред. А. Н.Чудинова, объясняется как обозначение
Комментарии и примечания
941
деятельности группы французских социал-демократов, которые, в отличие
от радикалов, стремились к достижению возможных реформ. В. Ф. Эрн,
говоря о Розмини, характеризует этим термином его теоретический
оппортунизм.
3 bête noire (φρ.) — страшилище, предмет ненависти.
4 Я птица, видите мои крылья?
Я мышь, да здравствуют крысы! (пер. А. Златопольской)
5 Эманатизм — термин для обозначения космологических
представлений о происхождении мира путем его истечения из Божества.
6 Арианство (здесь: арианизм) — еретическое движение, возникшее в
начале IV в. Сторонники его утверждали, что Сын не вечен, не
существовал до рождения, не был безначальным. Признать Сына «частью
единосущного» для ариан значило считать Отца «сложным, и разделяемым, и
изменяемым». В ходе полемики умеренные ариане пришли к формуле
подобосущия (Όμοιούσιον) Отца и Сына, что приближало их к
ортодоксальной формуле единосущия Отца и Сына (Όμοούσιον τω Πατρι).
7 Circulus vitiosus (лат.) — порочный круг. В логике: положение, при
котором то, что нужно доказать, молчаливо признается уже доказанным
и положено в основу рассуждения.
8 Один — верховный бог в скандинавской мифологии, бог войны,
хозяин Вальхаллы, дворца, куда попадают воины, павшие на поле битвы.
У древних германцев Одину соответствовал Вотан.
9 См. примеч. 6.
10 tFilocatollico* — название журнала, издававшегося во Флоренции с
1846 по 1848 г. С сентября 1847 г. журнал из ежемесячного стал
еженедельным. Редактором журнала был Дж. Сильвестри; журнал выходил под
эгидой архиепископа Ф. Минуччи (сообщено Томмазо дель Эра).
11 Спор о Фаворском свете — В XIV столетии на Афоне, а затем и во
всей Греческой церкви возник богословско-философский спор по вопросу
об «умной» молитве и Фаворском свете (том таинственном свете, которым
просияло лицо Господа Иисуса Христа при преображении) между Варлаа-
мом Калабрийским и его сторонниками и сторонниками преп. Григория
Синаита и преп. Григория Паламы (спор между «варлаамитами» и «пала-
митами»). Последние утверждали, что через «умную молитву» безмолвия
возможно телесными очами увидеть самобытный свет, т. е. боготворящую
благодать.
12 В «Известиях Тифлисских высших женских курсов» (1914. Т. 1.
Вып. 1. С. 19) вместо имени Варлаама напечатано Варнава. Составитель
счел необходимым исправить опечатку.
13 Спор об имени Божьем — началом его стало появление книги
схимонаха Илариона «На горах Кавказа. Беседа двух старцев подвижников о
внутреннем единении с Господом через молитву Исус Христову, или
Духовная деятельность современных пустынников» (1907). Имя Божие есть
сам Бог — таково утверждение имяславцев. Их противники говорили об
имени Божьем как простом именовании и упрекали имяславцев в ереси и
идолопоклонстве. Синод тоже выступил против имяславцев. В частности,
на его заседании 16 мая 1913 г. было заслушано три осуждающих имяс-
лавие доклада — архиепископа Антония (Храповицкого), архиепископа
942
Комментарии и примечания
Никона (в миру — Николая Ивановича Рождественского), бывшего в то
время членом Государственного совета (с 1907) и членом Святейшего
Синода (с 1912) и магистра богословия (с 1913), преподавателя Санкт-
Петербургского Александро-Невского духовного училища (19Ö1—1915)
Сергея Викторовича Троицкого.
По итогам обсуждения имяславие было осуждено в синодальном
Послании (Церковные ведомости. 1913. 18 мая).
Доклад арх. Никона под названием «Великое искушение вокруг
святейшего имени Божия» был напечатан в «Прибавлении к
"Церковным ведомостям"» (1913. № 20. С. 853—869). Там же было опубликовано
выступление С. В. Троицкого «Афонская смута» (С. 882—909). Позже
С. В. Троицкий выпустил книгу «Об именах Божиих и имябожниках»
(СПб., 1914).
В июле 1913 г. с помощью воинской команды монахов-имябожни-
ков насильственно выдворили из Афона в Россию.
Л. М. Лопатин
По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания.
Исследование по истории итальянской философии XIX столетия»
Впервые: Вопросы философии и психологии 1915. Кн. 127 (II).
Март-апрель. С. 268—282.
Настоящая статья представляет собой выступление Л. М. Лопатина
в качестве оппонента при защите В. Ф. Эрном магистерской диссертации
1 марта 1915 г. Диссертант на другой день писал своей жене: «... Лопатин
в течение двух часов нападал на меня, но корректно, с большим
уважением ко мне, и я на каждое возражение легко и без всякого труда отвечал...»
(«Взыскующие Града. Хроника. С. 623).
Тезисы к диссертации В. Ф. Эрна см.: Сухарев Ю.Н. Русская
философия: философия как специальность в России. Вып. 2. М.: ИНИОН, 1992.
С. 39—41. Информация о состоявшейся защите магистерской
диссертации В. Ф. Эрном дана в «Утре России» (1915. 2 марта. № 60. С. 4).
П.
<Рец. на кн.:> В. Эрн. Розмини и его теория знания. М., 1914
Впервые: Современный мир. 1915. Кн. 1. С. 211—212.
«Современный мир» — ежемесячный литературный, научный и
политический журнал социал-демократической политической ориентации.
Издавался в Петербурге-Петрограде в 1908—1918 гг. В отделе
публицистики и науки журнала печатались Г. В. Плеханов, В. Д. Бонч-Бруевич,
Л. Мартов, Л. И. Аксельрод-Ортодокс и другие представители русских
марксистов-материалистов и позитивистов.
Автор рецензии не установлен.
Комментарии и примечания
943
С. Л. Франк
<Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Философия Джоберти
Изд. «Путь». Москва. 1916
Впервые: Русская мысль. 1916. № 9. Раздел: Библиография. С. 3—5.
Г. Г. Шпет
Философия Джоберти
(По поводу книги В. Ф. Эрна «Философия Джоберти»)
Впервые: Мысль и слово. 1917. Кн. 1. С. 297—367.
♦ Мысль и слово» возникло по инициативе Г. Г. Шпета. Вышло 2 т.
этого издания — 1-й в 1917 г.; выходные данные 2-го— 1918—1921 гг. Это
издание — целиком детище Г. Г. Шпета. Он сам подбирал статьи, и,
видимо, это было нелегко, — ощущается какая-то незавершенность облика
состоявшихся выпусков. Много было истинно философского материала (о
С. Н. Трубецком, А. Шпире, М. Каринском, В. Соловьеве, А. Бергсоне);
1-й выпуск почти наполовину занят критикой — большими
статьями-рецензиями на книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества», В. Ф. Эрна
«Философия Джоберти», Н. О. Лосского «Мир как органическое целое» и
иными рецензиями меньших объемов; неожиданно сочетание самих по
себе замечательных авторов — М. О. Гершензон, Л. Шестов и Г. Г. Шпет.
Конечно, первую роль в определении облика журнала играл Г. Г. Шпет.
В 1-м томе им помещена большая статья «Мудрость или Разум»,
несомненно, имевшая программный характер. Она посвящена горячей защите
Разума, рациональной философии против бесформенной «восточной»
мудрости. Во 2-м томе ему принадлежит статья «Скептик и его душа»,
утверждающая теоретическую и жизненную ценность философии
рационального знания (Русская философия. Малый энциклопедический
словарь. М., 1995. С. 189).
Густав Густавович Шпет (25.3(6.4).1879 — 16.11.1937) — философ,
внесший значительный вклад в развитие идей герменевтики,
языкознания, эстетики и психологии. В 1910—1911 гг. выезжает на летние
семестры в Геттинген, становится «гуссерлианцем» и в 1914 г. публикует свою
первую большую монографию «Явление и смысл», посвященную
критическому изложению философии Гуссерля (см.: Моисеев В. Шпет//Русская
философия. Малый энциклопедический словарь). Отношение Г. Г. Шпета
к философским взглядам В. Ф. Эрна продиктовано его представлением о
положительной философии как знании. Потому его отношение к
философии как мудрости (представление, которого придерживался Эрн) сугубо
отрицательное. Это заметно в предлагаемой статье о докторской
диссертации В. Ф. Эрна. Об обстоятельствах сочинения этой статьи сам автор
рассказывает в примечании. На наш взгляд, статья, пусть и написанная
задолго до кончины В. Ф. Эрна, но опубликованная вскоре после его смерти,
все-таки должна бы быть другой. Одно дело — спорить с противником с
глазу на глаз, и совсем иное — говорить о покойном. Это, конечно, не
лицемерие, а какое-то равнодушие к ситуации. Amicus Plato, sed magic ami-
944
Комментарии и примечания
са Veritas. Сурова шпетовская оценка книги Эрна о Г. С. Сковороде:
«Книга — взвинченно-литературное произведение, а не историко-философское
исследование. Написанная с подъемом и вдохновением, эта книга —
прекрасное выражение мировоззрения самого автора, но по отношению к
Сковороде — хвалебная песнь, в которой последний рисуется читателю
таким, каким автор хотел бы видеть первого русского философа, но не
таким, каким был Сковорода реальный» (Шпет Г. Г. Очерк развития
русской философии // Шпет Г. Г. Соч. М., 1989. С. 85). При этом
теоретические расхождения не мешали Г. Г. Шпету быть знакомым В. Ф. Эрна.
1 Такого предложения в сочинениях В. Ф. Эрна составитель не нашел.
2 Подобная оценка заслуг В. Ф. Эрна вполне справедлива. Однако
следует заметить, что его интерес к итальянской философии тоже не
случаен; он — естественное следствие русской «онтологической жажды»
философа. Далее у Г. Г. Шпета идет речь о двух книгах В. Ф. Эрна. Первая —
«Розмини и его теория знания: исследование по истории итальянской
философии XIXстолетия», вышедшая в издательстве «Путь» (1914). Она
была защищена В. Ф. Эрном в качестве магистерской диссертации
1(14) марта 1915 г. Вторая книга, «Философия Джоберти», которую
автор готовил в качестве докторской диссертации, была опубликована
дважды: в «Ученых записках Московского универистета. Отдел
историко-филологический» (1916. Т. 44) и в книгоиздательстве «Путь». В
данном случае Г. Г. Шпет пользуется изданием Московского университета.
3 Errores ontologistarum (лат.) — заблуждения тех, кто рассуждает
об онтологизме.
4 У Н. Мальбранша на указанной Г. Г. Шпетом странице мы читаем:
«Несомненно, до сотворения мира был только один Бог, и Он не мог
создать мира, не имея познания и идеи; следовательно, эти идеи, которые
имел Бог о мире, не отличаются от Него Самого, и таким образом все
твари, даже самые материальные и самые земные, суть в Боге, хотя
совершенно невещественным и нам непонятным образом... Бога <...> можно
назвать всеобщим существом или просто Сущим, как он называет сам
себя» (Мальбранш Н. Разыскания Истины. СПб., 1906. Т. 2. С. 18). В книге
Исхода (3:14) Бог говорит о себе: Я есмь сущий».
Тетраграмма (или, правильнее, тетраграмматон) — это название,
данное четырем (tetra) буквам (grammata), которые в еврейской Библии
составляют имя Божье, yhwh. Многие ученые разделяют широко
принятое мнение, что тетраграмматон происходит от корня huh («быть») и
должен произноситься как Яхве («Тот, кто взывает к бытию»; ср.: Исх. 3:12
«Я буду с тобой» и 3:14 «Я есмь сущий») (см.: Теологический
энциклопедический словарь / Под ред. У. Элвелла. М., 2003).
5 «Del Buono» («О добре») — это сочинение Джоберти вышло в
Брюсселе в 1843 г.
6 Социнианство — антитринйтарное учение, получившее свое
название от имени юриста и богослова Фауста Социны и его дяди Лелия Соци-
ны (1525—1562). Социниане в основание своего учения кладут только
Священное Писание, учат, что оно написано по внушению Св. Духа, и
вполне признают его авторитет, поскольку оно не противоречит
человеческому разуму и пониманию (см.: Христианство. Энциклопедический
Комментарии и примечания
945
словарь. Т. 2. М., 1995. С. 619—620). Социниане усилили
рационалистические мотивы в антитринитаризме, переходя границы богословия в
сторону философии. Учение было распространено в Польше и Великом
княжестве Литовском. С сочинениями социниан были знакомы Локк, Ньютон,
Лейбниц, Спиноза и др. философы.
7 quaternio terminorum (лат.) — учетверение терминов, название
логической ошибки, являющейся следствием двусмысленного употребления
понятий.
8 sui generis (лат.) — своеобразный, специфический.
9 in summa summarum (лат.) — в конце концов, в конечном итоге.
10 «Я знаю в себе идею Бога; это — внутренний, непосредственный, и
потому несомненный опыт. Благодаря этому остается только
предположить, что эта идея представляет существующую независимо от моего
духа бесконечно полную сущность, от которой я независимо узнаю себя в
своем существовании. Если бы я не узнавал в себе Бога, то
предположение моего существования было бы с логической необходимостью,
несомненно, отклонено логикой вещей» (нем.).
11 *Tavola analitica* — полное название таково: «Tavola analitica délie
dottrine di G. B. Vico» («Аналитическая таблица учения Вико»). Она была
помещена в первом томе полного собрания сочинений Вико, изданных
стараниями Д. Феррари (Милан, 1837), и представляет собой некую
разновидность предметного указателя к трудам Вико (суждения, цитаты,
предметы внимания Вико в его сочинениях с указанием названий
произведений и страниц) (сообщено Томмазо дель Эра).
12 Гетеродоксия, гетеродоксалъный — термины, применяемые ниже
Г. Г. Шпетом посредством цитирования работы В. Джоберти « Введение в
изучение философии». Это — некая теоретическая позиция или принцип,
которые расходятся с « определительной и иерархической формулой»
откровения, вплоть до отказа от нее. Термины образовались соединением
слов «гетеро» (от греч. héteros — другой, иной) и «докса» (от греч. doxa —
мнение, суждение).
13 сенсизм — термин произведен от лат. sensus — чувство.
14 В этом примечании В. Ф. Эрн цитирует * Теоретическую
философию» Вл. Соловьева или, точнее, «Первое начало теоретической
философии»: « Декартовский субъект мышления есть самозванец без
философского паспорта. Он сидел некогда в смиренной келий схоластического
монастыря как некоторая entitas, quidditas, или даже haecceitas. Наскоро
одевшись, он вырвался оттуда, провозгласил: Cogito ergo sum, и занял на
время престол новой философии» (см.: Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.,
1988. С. 781—782). Латинские термины в цитате переводятся так:
сущность, чтойность, наличное бытие. Далее Г. Г. Шпет цитирует В. С.
Соловьева (с. 788 по указ. изд.).
15 ad maiorem gloriam (лат.) — к вящей славе.
16 Ангелический доктор — Фома Аквинский (1225/1227—1274),
монах-доминиканец, философ и богослов, систематизатор схоластики. Папа
Лев XIII в 1880 г. объявил его учение обязательным для католиков. Вин-
ченцо Джоберти скончался в 1852 г.
17 inde irae (лат.) — отсюда гнев.
946
Комментарии и примечания
18 ex nihilo (лат.) — из ничего.
19 Следовательно, метод сомнения Декарта, уходивший от всякой
мыслимой и естественной достоверности и уничтожавший любую
истинность существования собственного духа и того, что вне его, с
необходимостью искоренял основания морали и религии (пер. с итал. А. А. Клестова).
20 Автор первичного суждения, которое невольно, в непосредственном
действии интуиции слышит дух, — это само сущее; пребывая перед
нашим разумом, оно произносит: я с необходимостью есть (пер. с итал.
А. А. Клестова).
21 А. А. Клестов обратил внимание на неточность шпетовского
перевода. Заключенный в скобки итальянский текст следует перевести так:
«Суждение рефлексии является волевым (а не произвольным, как этом
переведено Г. Г. Шпетом), субъективным и человеческим».
22 Хорив — гора в Аравийской пустыне. При этой горе было явление
Божие Моисею в купине горящей и несгораемой; здесь Моисей ударом
жезла источил воду из скалы, здесь из среды огня Господь изрекал Закон
Израилю (Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Ни-
кифора. М., 1891; репринт — 1990).
23 игЫ et orbi (лат.) — городу и миру; на весь мир.
24 implicite (лат.) — в скрытом виде, неявно.
25 «К сущности какой-либо вещи относится, говорю я, то, через что
вещь необходимо полагается, если оно дано, и необходимо уничтожается,
если его нет; другими словами, то, без чего вещь не может существовать,
и наоборот, что не может существовать без вещи» (пер. Н. Иванцова).
26 ...Боне утверждал: «Мы совсем не знаем действительной сущности
вещей...» (φρ.).
27 locus classicus (лат.) — выдающееся место, показательная цитата.
28 Απολλον, δαιμόνιας υπερβολής (греч.) — Аполлон, как мы высоко
забрались.
29 νοητός τόπος (греч.) — область умопостигаемого.
30 του οντος τό φανότατου (греч.) — то, что в бытии всего ярче.
31 В области умопостигаемого она (идея блага) сама владычица, от
которой зависит истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет
сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни
(греч.) (пер. А. Н. Егунова).
32 В философии Джентиле догмат творения предан забвению и
пренебрежению (пер. с итал. А. А. Клестова).
33 αλλά ταύτα μεν δή, δπη τώ θεω φίλον, ταύτη έχέτω τε και λεγέσθω (греч.;
здесь дано без пропуска полным предложением) — «Впрочем, тут, как
угодно богу, так пусть и считается» (пер. Ю. А. Шичалина).
34 провербиальный (от лат. proverbium — поговорка) — вошедший в
поговорку.
35 ούκ ορθώς έζητοϋμεν (греч.) — мы шли неверным путем в нашем
исследовании (пер. С. Я. Шейнман-Топштейн).
36 imprimatur (лат.) — печатать. Употребляется в значении: можно
печатать, печатать разрешается.
Комментарии и примечания
947
37 index librorum prohibitorum (лат.) — индекс запрещенных книг,
т. е. перечень книг, которые католическая церковь запрещает читать
верующему. Первый список был подготовлен в 1559 г. С 1966 г. ведение
Индекса в прежней форме прекращено.
38 ...Иегова ли или Элогим... — именования Бога в Ветхом Завете.
39 πλάττομεν άθτάνατόν τι ζώον κτλ (греч.) — мы рисуем себе некое
бессмертное существо (пер. А. Н. Егунова).
40 Имеются в виду «Allgemeine Handwörterbuch die philosophischen
Wissenschaften» (4 т., 1827—1828) немецкого философа Вильгельма Троу-
готта Круга (1770—1842), «Dictionary of philosophy and psychology»
американца Джеймса Марка Болдуина (1861—1934) и «Wörterbuch der
philosophischen Begriffe» (Зт., 1900) австрийца Рудольфа Эйслера
(1873—1926).
41 extemporalia (лат.) — учебные упражнения.
42 Вундтовская квалификация «Логических исследований»
Гуссерля — Среди возражений Гуссерлю особого упоминания заслуживает
также специфическая позиция Вильгельма Вундта (1832—1920) — одного из
наиболее авторитетных мыслителей своего времени. Вундт считает, что
критика психологизма уже была осуществлена в 80-х гг. XIX столетия (в
первом издании его «Логики»). С целью критической оценки позиции
Гуссерля Вундт вводит понятие «логицизма» — противоположной
психологизму крайности, которая, согласно Вундту, столь же опасна для
логики, как и логика для психологии: «Психологизм стремится превратить
логику в психологию, логицизм — психологию в логику». Кроме того, с
легкой руки Вундта, по отношению к школе Брентано и к Гуссерлю стал
употребляться термин «схоластика». См.: Wundt W. Psychologismus und
Logizismus // Wundt W. Kleine Schriften. Bd. I. Leipzig: Engelmann, 1910.
(Сообщено В. П. Молчановым.)
43 В. Φ. Эрн цитирует 353 страницу книги своего друга С. А.
Алексеева (Аскольдова) «Мысль и действительность» (М., 1914).
44 discernit sapiens res quas confundit asellus (лат.) — мудрый
рассуждает о вещах, которые не различает осел.
45 Вюрцбургская школа психологов существовала в начале XX в.
Основана профессором Вюрцбургского университета О. Кюльпе. Изучала
специфику психологии мышления и, в меньшей степени, воли.
Формировалась под воздействием идей Э. Гуссерля.
V
IN MEMORIAM
С. Н. Булгаков
Памяти друга (В. Ф. Эрн)
Впервые: Русские ведомости. М., 1917. 30 апреля. №96. С. 6.
Это первый отклик С. Н. Булгакова на смерть В. Ф. Эрна. Помимо этого,
в сборнике клуба Московских писателей «Ветвь» он опубликовал статью
948 Комментарии и примечания
♦Афродита—Деметра. Памяти Владимира Францевича Эрна», а также
выступил с речью 19 мая на заседании Московского
Религиозно-философского общества, посвященном памяти умершего мыслителя.
1 Строфа из стихотворения В. С. Соловьева «Бедный друг, истомил
тебя путь...».
Б. Вышеславцев
Памяти В. Ф. Эрна
Впервые: Утро России. 1917. 30 апреля. N° 108. С. 5.
Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — философ, получивший
известность своей магистерской диссертацией « Этика Фихте. Основы
права и нравственности в системе трансцендентальной философии» (1914).
Сначала Вышеславцев был строгим защитником трансцендентального
идеализма в духе Фихте, но с чрезвычайной силой подчеркивал глубокую
устремленность Фихте к Абсолютному. Система имманентизма, по
мнению Б. П. Вышеславцева, сама выдвинула тему метафизики. Следующим
шагом философа стало выявление основной антиномии философии —
между системой и бесконечностью, рациональностью и
иррациональностью (см.: Зеньковский В. В. История русской философии. 2-е изд. Paris,
1998. Т. 2. С. 353—354).
С 1908г. Б.П.Вышеславцев был приват-доцентом Московского
университета, а с января 1917 г. — его профессором.
1 Речь идет о незаконченной статье В. Ф. Эрна «Верховное
постижение Платона», первая часть которой была опубликована в 137—138 кн.
журнала «Вопросы философии и психологии».
2 Статья В. Ф. Эрна «Идея катастрофического прогресса» была
напечатана в журнале «Русская мысль» (1907. Кн. X).
С. Л. Франк
Памяти В. Ф. Эрна
Впервые: Речь. Пг., 1917. 6 мая. № 105. С. 1—2.
В. В. Розанов
Памяти Владимира Францевича Эрна
Впервые: Новое время. 1917. 7 (20) мая. № 14771. С. 5. Подписано:
Обыватель.
Некрологическая заметка В. В. Розанова густо окрашена не только в
цвета патриотизма, но и национального самохвальства. Что касается
общей принципиальной позиции писателя в годы Первой мировой войны,
то она была близкой В. Ф. Эрну. * Конфликт с Германией Розанов
рассматривал не как обычную войну, а как столкновение германской и
славянской цивилизаций... Розанов радуется, что война снова доказала жиз-
Комментарии и примечания
949
ненность забытых было славянофильских идей. Он вспоминает извечные
споры "славянофилов" с "западниками" и утверждает, что война
подтвердила правоту сторонников самобытного пути России, отстаивавших идеал
"благочестия и чистоты"» (Фатеев В. А. С русской бездной в душе.
Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002. С. 542, 543).
1 Упоминается жандармский полковник С. Н. Мясоедов, обвиненный
в шпионаже в пользу Германии и по приговору военного суда
повешенный в Варшаве в 1915 г.
С. Н. Булгаков
Памяти В. Ф. Эрна
(Речь на заседании Московского религиозно-философского
общества... 22 мая 1917 года)
Впервые: Христианская мысль. Киев, 1917. № 11/12. С. 62—68.
1 Видимо, опечатка. Вероятно, нужно читать heilige Junior, т. е.
♦святой юноша».
2 Диалог «Федр» В. Ф. Эрн рассматривал как самый главный,
ключевой для «верховного постижения Платона» (см.: Эрн В. Ф. Сочинения. М.,
1991. С. 479).
3 русская Матрена... — С. Н. Булгаков использует образ безобразной
соблазнительницы, рябой «духини» Матрены из романа Андрея Белого
♦ Серебряный голубь».
4 Лернейская гидра — в греческой мифологии многоголовая змея,
побежденная Гераклом, одна из голов которой была бессмертной, а прочие
таковы, что на месте одной отрубленной вырастали две.
5 В книге «Из рукописей А. Н. Шмидт. С письмами к ней В. С.
Соловьева», выпущенной издательством «Путь», на с. 25 мы читаем: «Дух
бывает четный и нечетный. У нечетного духа личная идея его вся является в
одном только его свете, одной природы; у четного духа личная идея его не
может вся явиться в одном только его свете, а требует дополнения
другого существа с другим светом, другой природы. Таким дополнением всегда
бывает женский дух для мужского, и оба составляют чету. Они один без
другого не существуют...» Значит, С. Н. Булгаков полагал, что В. Ф. Эрн
не требовал «женского дополнения». Относительно двух возрастов духа
А. Н. Шмидт пишет на с. 24: «Дух, живущий во плоти, развивается
вместе со своей плотью до предела своего возраста, но, достигши его, уже не
стареется вместе с плотью, а остается моложе ее по виду, если и
продолжает жить в ней...»
Священник Павел Флоренский
Памяти Владимира Францевича Эрна
Впервые. Христианская мысль. Киев, 1917. № 11/12. С. 70—74.
Флоренский Павел Александрович (9.01.1882 — 8.12.1937) — философ,
богослов, ученый; 24 апреля 1911 г. был рукоположен в сан священника;
950
Комментарии и примечания
с 28 сентября 1912 г. по 3 мая 1917 г. — редактор журнала Московской
Духовной академии * Богословский вестник». В советское время работал
в различных культурно-просветительских учебных и производственных
учреждениях. Подвергался репрессиям. Был убит сталинскими палачами.
С гимназических лет был знаком и дружен с В. Ф. Эрном; они учились
в одном классе Второй Тифлисской гимназии, затем было совместное
проживание в Николаевском общежитии во время учебы в Московском
университете, общие лекции на историко-филологическом отделении (которые
П. А. Флоренский, будучи студентом физико-математического отделения,
усердно посещал). О круге своих друзей (в который, разумеется, входил и
В. Ф. Эрн), о замыслах своих и своих товарищей он писал в 1904 г.:
♦Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с
Церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно воспринять все
положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе
с искусством и т. д. - вот как мне представляется одна из ближайших
целей практической деятельности» (Взыскующие града. Хроника. С. 94).
Безусловно сочувствуя праведному негодованию Христианского братства
борьбы против сложившихся отношений Церкви и государства, тем не
менее принимал весьма малое участие в его деятельности (см.:
Иванова Е. В. Флоренский и Христианское братство борьбы // Вопросы
философии. 1992. №2).
Когда П. А. Флоренский получил предложение возглавить журнал
Московской Духовной академии * Богословский вестник», он писал В. Ф. Эр-
ну: «Если бы я взялся за это дело, то мне надо бы поставить журнал
живо. А я не знаю, найдутся ли для этого силы. Разумеется, если я
соглашусь, то, заручившись твердым обещанием со стороны "своих", то есть
Вас, С. Н-ча, Волжского, М. В. Новоселова, Саши и т. д. и помощи,
главным образом, по отделу литературной критики и библиографии (лите-
рат. обзоры и т.п.)». Затем, когда В. Ф. Эрн передал в журнал статью
«Природа мысли» и стал присылать «Письма о христианском Риме» (с
удовольствием принятые редакцией), П. А. Флоренский пишет снова:
«Вообще слишком много не спрашивайте меня о том, что делать для
"Б. В.". Мои мысли Вы знаете. Знаете потребность общества». И далее:
«Ругайте иезуитов сколько угодно — это полезно. По видом католицизма
ругайте наше клерикальствующее течение — это необходимо. Под видом
протестантов разделывайтесь с Тареевым и проч. — сему рукоплещу.
Хвалите Восток Макс[има] Исп[оведника], Дион[исия] Ареоп[агита],
Григория Паламу, Николая Квасилу и т. д. и т. д. — сие лобзаю. "Логос"
порицайте, сколько влезет — если выйдет шум, тем лучше: реклама "Б. В." и
слава "Логосу"» (цит. по: Андроник (Трубачев), игумен. Священник Павел
Флоренский — профессор Московской Духовной академии и редактор
«Богословского вестника» // Богословские труды. М., 1987. Т. 28. С. 301, 303).
1 «Солнце — Сердце» — название раздела книги Вяч. Иванова «Cor
ardens» (1911).
2 С 13 (26) сентября 1912 г. по 4 (17) мая 1917 г. свящ. Павел
Флоренский служил в Сергиево-Посадской церкви убежища (приюта) сестер
милосердия Красного Креста.
Комментарии и примечания
951
С. Аскольдов
Памяти Владимира Францевича Эрна
Впервые: Русская мысль. 1917. Кн. V—VI. Май—июнь. С. 133—134.
Аскольдов Сергей Алексеевич (наст, фамилия Алексеев; 25.2.1871 —
23.05.1945) — религиозный философ-панпсихист. С В. Ф. Эрном был в
дружеских отношениях (см.: Взыскующие града. Хроника). В 1939 г. С. А.
Аскольдов писал своему знакомому: «Найдите в "Вопросах философии"
статью моего покойного приятеля В. Ф. Эрна "Солнечное постижение
Платона" <...> она необычайно оригинальна и смела; когда я ее читал, я
как-то недоумевал, как же это понимать. Сейчас, вспоминая ее (плохо), —
я стою к ней гораздо ближе, и очень хотел бы перечесть, но уже не
достать» {Аскольдов С.А. Письма к А.А.Золотареву// Минувшее.
Исторический альманах. 9. М., 1992. С. 359).
1 В рубрике «Московские вести» газета «Русские ведомости» (1917.
30 апреля (13 мая). №96. С. 6) под заголовком «Кончина В. Ф. Эрна», в
частности, сообщала: «Докторская диссертация В. Ф. была посвящена
итальянскому философу Джоберти. Публичная защита диссертации была
назначена на 1-е мая... В пятницу в нашу редакцию обратились с
просьбой снять извещение о диспуте ввиду обострившейся болезни
диссертанта (нефрит), а вчера около часу дня В. Ф. Эрна не стало».
2 С. А. Аскольдов цитирует знаменитую книгу немецкого философа
«Так говорил Заратустра»: «Ich liebe den, welcher sich schämt, wenn der
Würfel zu seinem Glücke fällt, und der dann fragt: bin ich denn ein falscher
Spieler?»
3 «Надлежит сперва битися» — эпиграф книги В. Ф. Эрна «Борьба за
Логос. Опыты философские и критические» (М.: Путь, 1911).
4 С. А. Аскольдов пишет о статье «О великолепии и скептицизме.
К характеристике адогматизма» в журнале Киевского
Религиозно-философского общества «Христианская мысль» (1917. №3/4; С. А. Аскольдов
ошибочно называет второй номер). Статья была полемично направлена
против выступления Л. Шестова «Вячеслав Великолепный» (Русская
мысль. 1916. № 10). Вскоре после кончины В. Ф. Эрна в «Журнале
Министерства народного просвещения» в июньском номере вышла еще одна его
статья «Проблема истории. По поводу диссертации Г. Г. Шпета "История
как проблема логики"». Корректуру ее В. Ф. Эрн уже не читал.
5 Драстическая — произв. от греч. drastikos, drao — действую. Драс-
тическая формула — формула энергичного быстрого действия.
6 См. здесь и далее «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна».
Вяч. Иванов
Скорбный рассказ
Впервые: Свет вечерний. Oxford, 1962. Здесь печатается по:
Иванов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3.
Брюссель, 1979. С. 524.
952
Комментарии и примечания
Сборник стихотворений «Свет невечерний» был подготовлен автором
вскоре после Второй мировой войны и просмотрен им за несколько дней
перед кончиной, последовавшей 16 июля 1949 г. Стихотворения,
вошедшие в сборник, большей частью были ранее опубликованы в разных
периодических изданиях.
К стихотворению «Скорбный рассказ» в брюссельском издании на
с. 833 дано следующее примечание: «Пьеса, написанная в Москве 14
ноября 1917 г., относится к событию, случившемуся весною того же 1917 г.
В. И. тогда жил в Сочи, а в его московской квартире болел и умер старый
друг его, Владимир Эрн. Дочь В. И., Лидия, присутствовавшая при
кончине Эрна, приехала после похорон в Сочи к отцу. Стихотворение
передает ее "скорбный рассказ"».
Вяч. Иванов
Оправданные
Впервые: Свет вечерний. Oxford, 1962. Здесь печатается по:
Иванов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3.
Брюссель, 1979. С. 524—525.
См. примечания к стихотворению Вяч. Иванова «Скорбный рассказ».
К стихотворению «Оправданные» в брюссельском издании на с. 833 дано
следующее примечание: «Написано в Москве, 12 ноября 1917 г.
Первоначальное название было: "Усопшие"».
VI
ИССЛЕДОВАНИЯ
Свящ. Алексий Шишкин
Мышление западноевропейское и мышление восточное
по воззрениям В. Ф. Эрна
Впервые: Вера и разум. Харьков. 1917. №6—8. С. 798—811.
«Вера и разум» — богословско-философский журнал, издаваемый
Харьковской духовной семинарией. Теоретическая установка журнала —
«Верою разумеем». Исполнение ее подразумевало следующее: «Хорошо и
даже очень полезно для православия выставлять в ярком свете <...>
положения, безусловно верные: именно положение о том, что православие,
чуждаясь всякой наукобоязни, напротив того, любит науку и одушевляет
ее; что наука не может сталкиваться с православием» до тех пор, пока
она, «переходя границы разума, посягнет на православные догматы для
объяснения их при посредстве трансцендентальных вопросов, не
принадлежащих к сфере видимой природы» (Вера и разум. 1884. №1. С. 35).
Журнал существовал с 1884 по 1917 г.
Комментарии и примечания
953
Шишкин Алексии, священник — автор нескольких публикаций в
журнале «Вера и разум».
1 См. «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна» в наст. изд.
2 В данном случае автор цитирует примечание к статье В. Ф. Эрна
«Природа мысли». В. Ф. Эрн, в свою очередь, ссылается на книгу Куно
Фишера «Гегель, его жизнь, сочинения и учение».
3 Цитируемое место см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева/
Под ред. Э. Л. Радлова. Т. III. СПб., 1911. С. 82.
4 В философской эволюции Ф. Шеллинга выделяют четыре периода:
философии природы (натурфилософии) — 90-е гг. XVIII в.;
«трансцендентального идеализма» — 1800-е гг.; «философии тождества» — первое
десятилетие XIX в.; наконец, «философии откровения» — от середины 10-х гг.
до конца жизни (философ скончался в 1854 г.). Главная работа,
знаменующая собой второй период, — «Система трансцендентального
идеализма». Но, кажется, автор разделяет философское развитие Шеллинга иначе:
для него Шеллинг второго периода начинается после времени
трансцендентального идеализма и далее неразличимо эволюционирует в
философию откровения.
Η. Ф. Сумцов
Сковорода и Эрн
В настоящем томе текст статьи Η. Ф. Сумцова приводится по
новому изд.: Сумцов Микола. 1стор1я украшськой ф1лософсько1
думки/ Шдг., прим., ред. Н. Бордуково1//Зб1рник Харк1вського
1сторико-ф1лолог1чного товариства / Харк1вське кторико-
ф1лолог1чне товариство. 1998. X. Т. 7. (Нова сер1я). С. 149—182
(раздел «Сковорода i Ерн» занимает с. 162—171). Перевод и
примечания выполнил О. В. Марченко (Москва).
Сумцов Николай Федорович (1854—1922) — известный украинский
историк литературы, фольклорист, этнограф, сыгравший видную роль
в развитии науки, общественный деятель. Доцент (с 1878) и профессор
(с 1885) Харьковского университета. Особая и устойчивая тема научных
исследований Сумцова — старая украинская литература. Еще в 1884 г. он
подготовил к защите докторскую диссертацию, посвященную писателю и
церковно-общественному деятелю XVII в. Лазарю Барановичу, однако от
защиты ее пришлось отказаться из-за обвинений в «украинофильстве».
В 1884—1885 гг. Сумцов опубликовал серию работ, посвященных Иоан-
никию Галятовскому, Ивану Вышенскому, Лазарю Барановичу,
Иннокентию Гизелю, общей характеристике южнорусской литературы XVII в.
Исследователь старался подчеркнуть плодотворную связь школьной
литературы XVI—XVII вв. с украинским народным творчеством, роль
тогдашних культурных деятелей в борьбе за украинскую народность и
православие. Прививка в могилянский период латыни и схоластики к древу
украинской культурной жизни приводила, с точки зрения Сумцова, к
двойственному результату: с одной стороны, это было продвижением
институциональных форм европейской организации знания и академиче-
954
Комментарии и примечания
ской жизни на Восток, с другой стороны, все это становилось способом
денационализации народной культуры, определенной помехой в ее
национальном развитии.
Работа, начатая ученым в 1870—1880-х гг., не прекращалась и в
дальнейшем (см., напр.: Сумцов Н.Ф.О литературных нравах южнорусских
писателей XVII в. СПб., 1906; др.); значимый ее аспект — жизнь и
творческое наследие Г. С. Сковороды, которому Сумцов посвящает ряд
публикаций начиная с 1879 г. Одной из таких публикаций, произведших яркое
впечатление, стала резко-полемическая статья, посвященная известной
книге В. Ф. Эрна о Сковороде.
Работа Сумцова «Сковорода и Эрн», опубликованная в 1918 г., в
расширенном варианте вошла в состав большой работы «Очерки украинской
философии в 20 разделах» (1918—1922). Часть этого текста была
напечатана после смерти ученого А. Ковалинским: Сумцов Μ. Ф. 1стор1Я укра-
шськой ф!лософсько1 думки // Бюлетень Музею Слоб1дськ<н Украш1
îm. Г. С. Сковороди. 1926—1927. X. №2—3. С. 51—74.
Судьба полного текста «Очерков» доселе неизвестна (см.: Бордукова
Н. Про студии Миколи Сумцова в Д1лянщ icTopii украшсько1 ф1Лософп //
Зб1рник Харк1вського 1сторико-фхлолог1чного товариства / Харк1вське ic-
торико-фЬюлопчне товариство. 1998. X. Т. 7. (Нова серхя). С. 143—148).
Проблематичность подхода Эрна к исследованию жизни и учения
Сковороды выявилась очень рано: после выхода в 1911 г. статьи Эрна «Жизнь
и личность Григория Саввича Сковороды» друг и соратник автора С. Н.
Булгаков писал ему 30 сентября того же года из Москвы во Флоренцию:
«Между прочим, Б. Кистяковский, как "украинец", отмечает отсутствие
в Вашей статье о Сковороде украинского колорита» (Взыскующие града.
Хроника. С. 410). «Колоритом» дело не ограничивалось. Бесцеремонное
изъятие личности и творчества Сковороды из контекста украинской
культуры (в котором только и возможно адекватное понимание) и
встраивание мыслителя в сконструированную Эрном традицию развития
оригинальной русской философии — так можно в краткой форме передать суть
инвектив в адрес русского философа, сделанных
рецензентами-украинцами. Сумцов не был первым в этой критике, но, в отличие от многих, он
сделал это не только с принципиальностью «украинофила», но и с
основательностью знатока культурно-исторического материала.
Многоаспектность «битвы за тело героя» определялась целым рядом
обстоятельств. Эрну ко времени штудирования сочинений Сковороды нет
и 30-ти, он человек и мыслитель утонченной символистской культуры (в
частности, именно это позволило ему выявить и показать несомненные
тонкости сковородиновских произведений, как справедливо замечает
один из крупнейших украинистов эмиграции: Shevelov George Y.
Prolegomena to Studies of Skovoroda's Language and Style // Hrihoryj Savyé Skovo-
roda: An Antology of Critical Articles. Edmonton; Toronto, 1994. P. 122).
Сумцову к этому времени под 60, он сформировался совсем в другую
эпоху, он ученый вполне позитивистской ориентации, эмпирик,
исследующий этнос, его быт и художественное творчество, к началу XX в.
становящийся, как отмечают исследователи, сторонником идеи эволюционизма.
Отсюда его раздраженное иронизирование над всей религиозной
мистикой российских интеллектуалов начала XX в.
Комментарии и примечания 955
Сумцов исследует творчество Сковороды как эрудированный филолог
и этнограф, однако, вписывая украинского мыслителя в контекст
народной культуры, достаточно ли адекватно представлял он иные,
универсальные, измерения его философского творчества, связанные с
Библией — этим основным орудием размышлений Сковороды?
Со своей стороны Эрн, имея самые приблизительные представления об
украинской культурной традиции, дает прежде всего философский
анализ построений Сковороды, прочитывая его творчество в «большом
времени», что определяет масштабность его вопросов и выводов — и в
конечном счете заставляет едва ли не впервые посмотреть на Сковороду именно
как на философа.
И самое главное: Сумцов своими построениями представляет
украинское этноцентричное сознание, сопротивляющееся прямой и
опосредованной «русификации»; поэтому в элементарном незнании и невнимании
Эрна к собственно украинскому материалу Сумцов видит некую
сознательную русифицирующую стратегию, а отношение Эрна к украинскому
народу прочитывается как «презрение» (чувство, лично Эрну совершенно
не свойственное — и не только в подобной ситуации).
1 В. Ф. Эрн был приват-доцентом кафедры философии Московского
университета; профессором он не стал.
2 См. «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна». Отметим, что статья
В. Ф. Эрна «Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды» (Вопросы
философии и психологии. 1911. Кн. 107(11)) была переведена на
украинский язык Е. Маланюком и издана отдельной брошюрой в 1923 г.
3 Философские взгляды Эрна сложились помимо всякого влияния
Сковороды.
4 См.: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. С. 9—10, 19—20 ел.
5 Две последние строки четверостишия, которым открывается
прозаическая часть «Западно-восточного дивана» И. В. Гёте, именуемая
«Статьи и примечания к лучшему уразумению "Западно-восточного дивана"»;
в пер. А. Михайлова:
Хочешь ли понять поэта,
Так иди в его край света.
(Гёте И. В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988. С. 137).
Строки Гёте Сумцов поставил эпиграфом к своей статье 1918 г.
6 «Для нас важно спросить только: все эти российские мыслители,
которых перечисляет Эрн, а именно Киреевский, Бухарев, Юркевич,
Машкин, Федоров, Печерин, Хомяков, Вл. Соловьев, С. Н. Трубецкой,
В. Иванов и, наконец, сам Эрн со своими товарищами — это все
органическое "продолжение" Сковороды? — писал несколько раньше один из
рецензентов. — Не слишком ли смело и безрассудно протянута такая линия
развития российской философии? Во-первых, признал бы сам Сковорода
тех своих потомков, на которых указывает автор, — начиная
славянофилами и Лопатиным, а заканчивая Вяч. Ивановым — хоть бы все они и
признали его? Думаю, что нет. Но другая вещь еще важнее: тут идет все
время разговор о российской философской мысли, А что может иметь
общего с нею Сковорода — Украинец? Его психика в основе иная, нежели
у всех у них, он вырос среди иных обстоятельств, он был вольным сыном
956
Комментарии и примечания
украинской природы, не задыхался воздухом кабинетов, как все те
мыслители, — его мысль была свободна, а не "подпольна", — он не знал
никакого "блуждания", какое демонстрировала все время российская
философская мысль, не заплутался сам в себе, а был последователен от начала
до конца. Повторяю: психика в основе иная, — и иная среди прочего и
потому, что не российская, а украинская» (Федюшка М. [Рец. на: Эрн В.
Григорий Саввич Сковорода...] // Записки Наукового Товариства im. Шев-
ченка. 1913. T. CXV. Кн. 3. С. 221—222). «Г-н Эрн решительно
подчеркивает, что Сковорода — "русский философ". Издательство "Путь"
выпустило книгу Эрна в серии "Русские мыслители". В "заключении" г. Эрн
решительно "утверждает" Сковороду как "родоначальника русской
философии", "тайного отца славянофильства", выискивая в его учении
"основы русской философской мысли". Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев и
славянофилы — выросли из философии Сковороды. Словом, вся
"настоящая русская философия" (Эрн видит ее в славянофильстве) идет от
Сковороды, а "рационализм Запада" — вещь чуждая. Эта "натяжка"
принадлежит тому московскому "душохапству", которым так отличаются
москали. Где есть что путного у соседа, то "русское". И "собирание Руси",
"умножение земель", "ушкуйничество", "Ермаковщина" — все это из
области любезного московского "душохапства". Г-н Эрн хорошо знает, что
славянофильство насквозь коллективистично, а Сковорода — яркий
индивидуалист, что москали — церковники (как и сам Эрн), а Сковорода —
более чем равнодушен к официальной "Церкви" (Эрн нигде не упомянул
про «столботвореше церковное», над которым смеялся Сковорода),
москали мыслят только "миром", а Сковорода вполне скептически относится
к "толпе", положив в основу своего учения самопознание человека как
абсолютной индивидуальности. Уже стало шаблонным в характеристике
украинского народа указание на основную черту его — индивидуализм,
сосредоточенность его интересов не возле "Церкви", но возле личности
человека. Этот индивидуализм прошел по нашей истории явственно и
разрушил незначительные воздействия цивилизации — тягу к
общественному строительству, — лишив украинцев крепких коллективных форм
жизни. Украинцы не создали своего государства, своей церкви, ибо не
видят смысла больших организаций; интересы духовного
самоопределения стоят выше, а материальное принимается таким, что не выходит за
рамки элементарного, непосредственно-нужного, как свитка, торбы,
флейта и Библия у Сковороды. Из этой национальной почвы выросла
философия Сковороды, а не из московского "обозничества". Москали любят
ехать "обозом", гуртом — без этого они не могут, а украинцам и в степи
"бюова TicHOTa". И Сковороде тесно в кругу земных определений, понятий,
интересов, — поэтому он дал такую грандиозную, привольную
концепцию жизни духовной как подлинной, противоположной земной. Неужели
г. Эрн этого не увидел, изучая сочинения Сковороды?» (СрХблянський М.
Лггературне ушкуйництво. 1. * Русский мыслитель»//Украшська хата.
1913. Червень. С. 364—365)*.
7 «Жизнь Григория Сковороды» М. И. Коваленского (Ковалинского),
широко распространенный в рукописных копиях текст, написанный в кон-
* Подлое высокомерие по отношению к другому народу — вот настоящее в
националисте, будь он русским или украинцем. —Примеч. сост.
Комментарии и примечания
957
це 1794 — начале 1795 г. Впервые опубликован Сумцовым в журнале
«Киевская старина» (1886. Т. XVI. С. 103—150).
8 Представление о Сковороде как о первом русском философе,
восходящее еще к А. Хиждеу и архим. Гавриилу (Воскресенскому), столь
энергично поддержанное Эрном, оказалось весьма устойчивым в русской
традиции. Его разделял даже постоянный оппонент Эрна Б. В. Яковенко.
См. его «Очерки русской философии» (Берлин, 1922. С. 11). См. также
перевод его пражской работы 1938 г.: Яковенко Б. В. История русской
философии. М., 2003. С. 32 ел.). Именно такого рода рассуждения
вызывали нескрываемое раздражение у украинских авторов. «...Узурпация
выдающихся мужей украинских <...> становится фактом
свершившимся, — писал Е. Маланюк, переведший статью Эрна на украинский
язык. — ...В результате украинский философ Сковорода становится ныне
попросту "отцом русской философии", "первым русским философом"»
(Маланюк Е-, Передмова // Ерн В. Життя i особа Григор1я Сковороди.
С. 3, 4).
9 Статья Сумцова, — писал в 1926 г. Д. И. Багалей, — «посвящена
весьма интересному вопросу о связи Г. С. Сковороды с украинским
народом — с его жизнью, образованием, школой, словесностью и даже
мировоззрением. Статья имеет полемический характер, и ей несколько вредят
некоторые слишком острые выражения против В. Эрна. Но если
отбросить их, то мы имеем в ней — хоть и схематическое, поверхностное,
недостаточно обоснованное — решение одного из наиважнейших вопросов о
Сковороде. Главная идея статьи Η. Ф. Сумцова, что Сковорода был сыном
своего народа, совершенно справедлива, и нужно было действительно
обратить внимание на этот вопрос по поводу книжки Эрна, которая не только
его не затрагивает, а даже как бы вырывает Сковороду из национальной
украинской почвы. Прежде всего Эрн в самом деле совсем несправедливо
представляет украинский народ времен Сковороды каким-то диким,
некультурным, и тут как бы теза и антитеза — Сковорода стоял одиноко от
народа, и как высоко, по мысли Эрна, стоял Сковорода, таким низким
было в плане просвещенности положение народа украинского» (Бага-
лшД. Украшськш мандрований фьлософ Григорш Сковорода. Друге,
випр. изд. К.: Орш, 1992. С. 162).
10 Песнь 18-я из сковородиновского сборника «Сад божественных
песней, прозябший из зерн Священнаго Писания», большей частью
созданного в 1760-е гг. (См. недавнее, превосходно откомментированное
издание: Сковорода Г. Сад божественних тсень / Шдг. тексту, передм. та ком.
Л. Ушкалова. X.: Майдан, 2002). О народных мотивах стихотворения
писал один из учителей Сумцова, выдающийся филолог Александр
Афанасьевич Потебня (1835—1891): Потебня A.A. Объяснение малорусских и
сродных народных песен. Варшава, 1883. С. 237.
11 Манжура Иван Иванович (1851—1893) — украинский поэт и
фольклорист. См., напр.: Манжура И.И. Сказки, пословицы и т.п.,
записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях // Сборник
Харьковского историко-филологического общества. 1890. Т. 1, 2.
12 Заключительные строки вышецитированного стихотворения
Сковороды:
958
Комментарии и примечания
А я буду себе тихо
Коротати милый век.
Так минет мене все лихо,
Щастлив буду человек.
13 «Мандр1вны, мандровани» дьяки — странствующие дьяки; вопрос
обстоятельно рассмотрен в кн.: Барабаш Ю.Я. «Знаю человека...»
Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М.: Худож. лит., 1989.
С. 121 —152.
14 Иван Вишенский (1538/1550 — 20-е гг. XVII в.) — знаменитый
украинский писатель-полемист. Жил в Луцке и Остроге. В 70—80-е
переселился на Афон, где стал послушником, монахом, под конец жизни
аскетом-пустынником. До нас дошло 16 произведений Ивана Вишенского,
преимущественно в форме посланий: «Обличение диявола-миродерж-
ца...», «Писание до всех обще, в Ладской земли живущих», «Писание
к утекшим от православной веры епископам», «Загадка философам
латинским», «След к постижению и изучению художества...» и др.
Распространялись главным образом в рукописях как на Украине, так и в России.
См.: Вишенский Иван. Сочинения / Подг. текста, ст. и ком. И. П.
Еремина. М.; Л., 1955. Сумцов специально занимался этой темой; см.:
Сумцов Η. Ф. Иоанн Вышенский (Южнорусский полемист XVII ст.). Киев,
1885.
15 Г. С. Сковорода сообщает об этом случае в письме к Е. Е. Урюпину
от 2 июля 1790 г.: 2, 412.
16 Песнь 19-я «Сада», написанная в 1758 г. в Кавраях.
17 Нема в cbîtî Правди, Правди не зиськати,
Що тепер Неправда стала панувати.
Уже тепер Неправда сто1ть у порога,
А тая Неправда сидить кшець стола...
(Украшська народна поетична творч1сть. К., 1958. Т. I. С. 660).
«ГОсня про Правду i Кривду» — одна из самых известных песен из
репертуара украинских кобзарей и лирников, основные версии этой
песни были опубликованы еще в XIX в. Сумцов полагал, что эту песню
сочинил Сковорода (См.: Ушкалов Л. В. Григорш Сковорода i антична
культура. X., 1997. С. 41 ел.).
18 Более точно — Богородица — мать-сыра земля. Образ из романа
Ф.М.Достоевского «Бесы».
19 Сумцов изучил и систематизировал фольклорные данные о «Деве» в
исследовании: Сумцов Η. Ф. Очерки истории южно-русских
апокрифических сказаний и песен. К., 1888. С. 55—62, 159—160.
20 См. об этом: Сумцов Η. Ф. Иоанникий Голятовский. К истории
южно-русской литературы XVII века. Киев, 1884. С. 26—27. О методах сково-
родиновской интерпретации Библии см.: Марченко О.В. Эгзегеза у
Григория Сковороды: некоторые аспекты изучения // Вестник Харьковского
университета. 1991. №354. С. 86—96.
21 Заключительные строки последней, 30-й песни «Сада» Г. С.
Сковороды.
22 Имеется в виду пожар 1780 г., когда сгорела библиотека Киево-Мо-
гилянской Академии.
Комментарии и примечания
959
Б. В. Яковенко
Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества
(фрагмент из книги «История русской философии»)
Впервые: Dëjiny ruské filosofie. Praha, 1938. Печатается по:
Яковенко Б. В. История русской философии / Общ. ред. и поел ее л.
Ю. Д. Со л оду хина. М., 2003. С. 364—369. Название фрагмента
предложено составителем.
Б. В. Яковенко не раз выступал с обобщающими исследованиями
русской философии в целом и также философской ситуации в России начала
XX века. К числу таких его исследований следует отнести статьи «О
положении и задачах философии в России» (Северные записки. 1915. № 1);
« Десять лет русской философии. 1914—1924» (Логос. Прага, 1915. Кн. 1);
«Dreizich Jahre russischer Philosophie» (Der russische Gedanke. Bonn,
1930. III Heft) и книги «Очерки русской философии» (Берлин, 1922), «Fi-
losofi Russi. Saggio di storia della filosofia Russia» (Roma; Firenze, 1925—
1927).
Столкновение русской религиозной философии с неозападниками из
«Логоса» он всегда полагал весьма значимым для становления
теоретической философии в России. Столкновение обернулось плодотворным
взаимодействием: «так же как отдельные представители религиозной философии
в результате критико-гносеологической и
трансцендентально-онтологической работы кружка "Логоса" и его друзей оказались под воздействием
основных идей немецкого идеализма и даже неокантианства, некоторые
из представителей "западнического" направления испытали на себе более
или менее определенное влияние со стороны религиозных философов»
(Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 857—858). Результатом
этого стали работы Б. П. Вышеславцева, С. Л. Франка, Н. О. Лосского и др.
1 Здесь ошибка (или опечатка в оригинале книги). Действительно,
книгоиздательство «Путь» было основано после прекращения издания
журнала «Московский еженедельник», но произошло это в 1910 г.
2 Опять же, неверно называть главой этого движения («путейства»?)
Н. А. Бердяева.
3 «Мусагет» — книгоиздательство, основанное в 1909 г. литератором,
музыкальным критиком и философом Э. К. Метнером (1872—1936)
вместе с Андреем Белым и критиком Эллисом (Л. Л. Кобылинским; 1874—
1947). В центре внимания «мусагетцев» были теоретико-эстетические и
культурологические аспекты творчества. Помимо того, в развитии
культуры Э. К. Метнер настаивал на усвоении наследия немецкой
философской и художественной культуры. Издательство «Мусагет» выпускало
русский вариант журнала «Логос». Существовало до 1916 г.
Дитер Штеглих
Восток и Запад. Россия и Европа
Впервые: Vladimir F. Ern (1882—1917). Sein philosophisches und
publizistisches Werk. Ein Beitrag zur Russischen Geistesgeschichte
960
Комментарии и примечания
des beginnen den 20. Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen
Fridrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Bonn, 1967. S. 39—119.
Штеглих (Stäglich) Дитер (род. 8.II.1941) — изучал славистику,
философию и историю стран Восточной Европы в университетах Мюнхена и
Бонна, где и защитил диссертацию об Эрне в 1966 г. После защиты работал
в библиотеках университета Бонна, педагогического института в Кельне,
университета Маннхейма. С 1972 г. — главный директор библиотеки Вуп-
пертальского университета. Один из деятелей Союза немецких библиотек.
Ютта Шеррер
Неославянофильство и германофобия: Владимир Францевич Эрн
Впервые: Вопросы философии. 1989. №9. С. 84—95.
«Вопросы философии» — научно-теоретический журнал, издаваемый
с июля 1947 г. Статья об Эрне — первая в истории журнала. Редакция
сопроводила статью Ю. Шеррер и последующую за ней статью В. Ф. Эрна
«От Канта к Круппу» небольшой вступительной заметкой, в которой,
в частности, говорилось:
«Публикуя материалы, посвященные творчеству Владимира Франце-
вича Эрна (1882—1917), мы хотели бы обратить внимание читателей на
проблему, в достаточно отчетливой (даже слишком резкой) форме
поставленную философом и со временем все более обнаруживавшую свою
актуальность. Эрну удалось почувствовать и выявить некоторые глубинные
следствия философских принципов феноменализма и субъективизма,
историческая реализация которых может привести к обоснованию
тоталитарной идеологии, культа силы. Тем самым Эрн затронул "нервный узел"
современной культуры, в полной мере ощутившей бесчеловечную силу
практического воплощения этой идеологии.
Но на теоретическое исследование проблемы, осуществляемое Эрном,
влияют, как заметит читатель, националистические настроения (в целом
весьма распространенные перед Первой мировой войной и во время нее),
что приводит к стремлению "побыстрее" свести все к "германскому духу",
принципам немецкой философии. Очевидно, что проблема имеет гораздо
более общий философский и культурный смысл. Отсюда проистекает
односторонняя интерпретация Эрном немецкой классической философии:
так, совершенно не принимается в рассмотрение "практический" пафос
концепции Канта, имеющий не только евангельские, но
общечеловеческие этические корни.
Поэтому, представляя читателям концепцию В. Ф. Эрна, отметим ее
известную двойственность и противоречивость. Главное все же — понять
и объективно оценить его идеи, помня о том, что и заблуждения, когда
они становятся зеркалом эпохи, имеют интерес не меньший, чем
достижения, свидетельствуя о тревогах и поисках человеческого духа».
Шеррер (Scherrer) Ютта (род. 1942) — училась у Г. Флоровского
(Гарвардский ун-т) и И. Смолича (Европейский ун-т, г. Берлин); профессор
русской истории Высшей школы общественных наук (Париж) и Центра
М. Блоха (Берлин).
Комментарии и примечания
961
Ее первое большое исследование «Die Petersburger
Religiös-Philosophischen Vereinigungen. Die Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses
ihrer Intelligencija-Mitglieder (1901—1917)» (1973) вышло как 19-й том
«Исследований восточно-европейской истории», издаваемых Институтом
Восточной Европы при Свободном университете Берлина.
Предложенная «Вопросам философии» статья является несколько
переработанным вариантом доклада, прочитанного в Париже на
симпозиуме по неославянофильству в январе 1978 г., опубликованного впервые в
«Revue des études slaves» (Paris. LII/3. P. 297—309). Она лишь намечает
границы темы. Для журнала перевод этой статьи сделан В. И. Кейданом,
который в журнальном тексте благодарит Ирину Владимировну Эрн за
помощь в работе.
Л. В. Поляков
Учение В. Эрна о русской философии
Впервые: Религиозно-идеалистическая философия в России конца
XIX — начала XX в. М.: АН СССР. Ордена Трудового Красного
Знамени Институт философии. М., 1989. С. 85—105.
Поляков Леонид Владимирович (род. 1950) — специалист по истории
русской философии.
Вл. Зелинский
Безмолвная тайна первохристианства
Впервые: Наше наследие. 1991. № 2. Для настоящего издания
автор подготовил обновленный вариант статьи.
Зелинский Владимир — священник, литератор, переводчик. С 1991 г.
живет в Италии. Преподает русский язык и русскую цивилизацию в
Католическом университете г. Брешия. Автор нескольких книг о
православии и множества статей.
В. Проскурина
Рукописный журнал «Бульвар и Переулок»
(Вяч. Иванов и его московские собеседники в 1915 году)
Впервые: Вячеслав Иванов: новые материалы и публикации //
Новое литературное обозрение. Историко-литературная серия. 1994.
№ 10. Вып. 1. С. 173—191. Примечания автора.
Проскурина Вера Юрьевна — современный специалист по истории
русской литературы.
1 Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии).
М., 1991. С. 157.
2 Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 47.
962
Комментарии и примечания
3 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее —
ОР РГБ). Ф. 109. К. 16. № 9. Л. 9.
4 ОР РГБ. Ф. 746. К. 20. № 21. Л. 2 об.
5 Герцык Евгения. Воспоминания. Paris, 1973. С. 161—162,
6 Там же. С. 161.
7 ОР РГБ. Ф.746. К. 46. № 39. Л. 2.
8 Там же. Л. 1.
9 Ю. К. Балтрушайтис в это время завсегдатай дома Ивановых.
Дружба особенно укрепилась после пребывания летом 1914 года в Петровском,
где они были соседями (см. стихотворение Иванова, посвященное
Балтрушайтису и его жене, Марии Ивановне, — «Петровское на Оке»; см. также
ему же посвященное стихотворение «Певец в лабиринте» —Иванов
Вячеслав. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. (соответственно) 528—529 и
497—499). Иванов посвятил Балтрушайтису статью «Юргис
Балтрушайтис как лирический поэт» (в кн.: Русская литература XX века. 1890—
1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. И. М., 1915. С. 301—311). 14
сентября 1915 года Л.В.Иванова сообщала В. К. Шварсалон об обычном
вечернем круге: «К сему приходит часто Балтрушайтис (и сейчас с Вер-
ховск<им> сидячий в столовой), Эрны, Верховск<ий> и иногда
посторонний элемент» (ОР РГБ. Ф. 109. К. 26. № 7. Л. 34). Сам Балтрушайтис жил
тогда на Покровке (дом 10); см.: Вся Москва. Адресная и справочная
книга на 1915 год. М., 1915.
10 Цит. по: Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. М., 1918. С. 11, 13
(статья «Вселенское дело»).
11 Эрн В.Ф.Сочинения. М., 1991. С. 312 («От Канта к Круппу»).
12 См.: Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности (по
поводу нового философского журнала «Логос») // Московский
еженедельник. 1910. № 29—32; затем вошло в его кн.: Борьба за Логос. М., 1911.
13 Эта и вторая одноименная лекция составили книгу Эрна «Время
славянофильствует» (М., 1915).
14 Стихотворение Иванова «Недугующим» впервые было
опубликовано в: Отечество. 1916. № 6. Цит. по: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. IV.
Брюссель, 1987. С. 25.
15 ОР РГБ. Ф. 109. К. 13. № 14. Л. 18.
16 День. 1914. 10 октября. С. 3.
17 День. 1914. 27 ноября. С. 3.
18 Биржевые ведомости. 1915. 18 марта. С. 2 (утр. вып.).
19 Там же.
20 Утро России. 1916. 24 апреля. С. 2.
21 Цит. по: Бердяев Николай. Собр. соч. Т. 3: Типы религиозной
мысли в России. Paris, 1989. С. 355.
22 0р РГБ φ 109. к. 13. № 14. Л. 16.
23 Там же. Л. 16—18 об.
24 Там же. Л. 17.
25 Эрн В. Ф. Сочинения. С. 367.
26 Биржевые ведомости. 1915. 18 февраля. С. 2 (утр. вып.).
27 Там же.
Комментарии и примечания
963
28 Там же.
29 Эрн В. Ф. Сочинения. С. 320 («Сущность немецкого феноменализма»).
30 ОР РГБ. Ф. 746. К. 20. № 25. Л. 14.
31 Там же. Л. 16.
32 Шестов Лев. Что такое русский большевизм. Берлин, 1920. С. 35—
36.
33 Боткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль
мышления. М., 1978.
34 Герцык Евгения. Воспоминания. С. 162.
35 См.: Топоров В.Н. К понятию «литературного урочища»
//Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллин, 1988.
С. 61—73.
36 Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 48.
37 Там же. С. 68. См. также письмо Л. В. Ивановой к Вяч. Иванову и
В. К. Шварсалон от 15 июня 1915 года (ОР РГБ. Ф. 109. К. 25. № 56.
Л. 6).
38 Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 70. Домашнее
имя Иванова — Кот, — видимо, стало столь употребительно в обиходе
участников кружка, что уже 11 апреля 1915 года Эрн, описывая свое
путешествие в Пятигорск, как ни в чем не бывало пишет: « Расставшись
с милым задушевным Котом и очаровательной барышней...» (ОР РГБ.
Ф. 109. К. 40. №1. Л. 12).
39 Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии).
М., 1991. С. 38.
40 Там же. С. 31.
41 Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 415.
42 См., например, ее письма Вяч. Иванову: ОР РГБ. Ф. 109. К. 28. № 7;
см. также ее письмо М. О. Гершензону: ОР РГБ. Ф. 746. К. 35. № 33.
43 Герцык Евгения. Воспоминания. С. 132—133.
44 ОР РГБ. Ф. 746: К. 28. № 32. Л. 1.
45 Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. С. 51.
46 См.: Булгаков С. Тихие думы (Из статей 1911—1915 гг.). М., 1918.
47 См.: Утро России. 1916. 24 апреля; книга о Достоевском впервые
по-русски в изд.: Иванов Вячеслав. Эссе, статьи, переводы. Брюссель,
1985; Современные записки. 1937. Т. 63.
48 Аскольдов С. А. Памяти Владимира Францевича Эрна // Русская
мысль. 1917. №5—6. С. 131.
49 РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. № 38. Л. 41.
50 Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 209.
Труды по русской и славянской филологии. XI. Тарту, 1968. С. 309.
51 ОР РГБ. Ф. 109. К. 13. № 17. Л. 18 об.
52 По этому поводу Эрн писал: * Из-под греческой маски, наскоро и
неловко одетой, всюду красуется знакомое: Made in Germany» {Эрн В. Φ.
Сочинения. M., 1991. С. 72).
53 См. в этой связи прекрасную статью М. В. Безродного «Из истории
русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы): Лица.
Биографический альманах. Т. 1. М.; СПб., 1992. С. 372—407.
964
Комментарии и примечания
54 Эрн В. Ф. Сочинения. С. 74.
55 Яковенко Б. Владимир Эрн. Борьба за Логос. Опыты философские
и критические//Логос. 1911—1912. Кн. 2—3. С. 297.
56 Эрн В. Ф. Сочинения. С. 101.
57 Эрн Б.Ф.Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912.
С. 43.
58 Там же. С. 253.
59 Вопросы философии и психологии. 1917. Т. 2—3. С. 102—173.
60 Ветвь. М., 1917. С. 264.
61 ОР РГБ. Ф. 109. К. 40. № 1. Л. 11.
62 Пародийная «кличка» Флоренского, произведенная от итальянской
транскрипции его фамилии, повторится в позднейшей домашней газете
Ивановых «Пуля Времен», где «культурной частью ведал бывший
семинарист Фьоресценский» (Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце.
С. 69).
63 Русские ведомости. 1915. 8 января. С. 2.
64 См.: Современные записки. 1922. №13; 1923. №15; Окно. 1923.
№ 1 и № 2.
в5 День. 1915. 13 февраля. С. 2.
66 День. 1914. 10 октября. С. 2.
67 День. 1914. 27 ноября. С. 2.
68 Русские ведомости. 1915. 8 января. С. 2.
69 Русские ведомости. 1915. 15 февраля. С. 2.
70 См., например, статью П. Рысса (День. 1914. 27 ноября) и статью
М. Рубинштейна (Русские ведомости. 1915. №33).
71 Герцык Евгения. Воспоминания. С. 154.
72 Ильин И. А. Духовный смысл войны. М., 1915. С. 36.
73 Бердяев вспоминал: «В то время в московском трактире около
церкви Флора и Лавра (недалеко от Мясницкой) происходили по воскресеньям
народные религиозные собеседования разного рода сектантов. <...> Это
была бродячая Русь, ищущая Бога и Божьей правды. Я принял очень
активное участие в религиозных спорах и с некоторыми сектантами
вступил в личное общение. <...> Народные собрания в трактире назывались
Ямой» (Бердяев H.A. Самопознание. Опыт философской автобиографии.
С. 196—197).
74 См. письмо М. Гершензона А. Белому от 6 января 1909 года (ОР
РГБ. Ф. 25 К. 14. № 3).
75 С. А. Котляревский первоначально написал две диссертации по
окончании историко-филологического факультета Московского
университета: магистерскую в 1901 г.— «Францисканский орден и римская курия
в XIII и XIV вв.», докторскую в 1904 г. — «Ламенне и новейший
католицизм». Затем — в 1907 и 1909 году — он защитил две диссертации,
связанные с юриспруденцией, — «Конституционное право. Опыт
политико-морфологического обзора» и «Правовое государство и внешняя политика».
76 В начале 1920-х годов Гершензон решил, видимо, издать старую
статью. В измененной редакции, переписанной рукой М. Б. Гершензон,
она хранится в ОР РГБ (Ф. 746. К. 10. № 61).
Комментарии и примечания
965
77 В рассуждениях Гершензона о трансцендентности и имманентности
смысла * фразы», возможно, содержится намек на волновавшие в это время
многих участников философско-религиозного движения споры об имясла-
вии, особенно затронувшие С. Н. Булгакова, посвятившего впоследствии
этой проблеме книгу «Философия имени» (Paris, 1953).
78 В особенности это сказалось в трактовке Л. Шестовым мифа о
грехопадении. Шестов писал: «Легенда о грехопадении была принесена евреям
откуда-то извне, досталась им "по наследству" и потом уже передавалась
из поколения в поколение» (Шестов Лев. На весах Иова. Paris, 1975.
С. 230; афоризм «Sola fide»), «Эвгемерическая» трактовка некоторых
мифов Ветхого Завета печатно зафиксирована позднее. Однако ясно, что
споры на эту тему, сама логика шестовскои мысли, ищущей добраться до
«корней вещей», обнаружить за авторитетной истиной неразгаданную
и не поддающуюся рационалистическому познанию тайну, — все это дало
основание Гершензону в одном полунамеке обозначить «узловую» идею
исканий Льва Шесгова.
79 Безусловно, сняв отсылки к Булгакову и Шестову, Гершензон в
этой поздней редакции ощутил деструктуризованность статьи: пропадал
«хор», разрушался диалог, при котором непонятна становилась
домашняя семантика самого сопоставления Бердяева и Иванова.
80 Гершензон приводит латинскую фразу «Effectus stultorum magis-
ter» («Опыт дураков учит»), возводя ее к Титу Ливию. На самом деле
изречение Тита Ливия звучит иначе: «Stultorum eventus magister est»
(Ливии Тит. История. Кн. XXII. Гл. 39). Воспроизводя фразу явно по памяти,
Гершензон несколько изменил ее и опустил важнейшую связку «est» —
пресловутый «глагол», возводимый им к женскому началу. Однако
возможно, что он имел в виду более употребительную форму той же
пословицы, которая принадлежала Тациту и в которой не было этой связки:
«Experientia stultorum magistra» (Тацит. История. Кн. V. Гл. 6).
Ироническое комментирование латинских крылатых фраз — характерная черта
русской классической образованности. Не исключено, тем не менее, что
использование латинской цитаты да еще особый интерес к связке «est»
отсылали к известному разбору фразы «Pater est bonus» (где «est» — знак
сакральности) в статье Вяч. Иванова «Заветы символизма» (Аполлон.
1910. Май—июнь; вошла в кн.: Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916.
С. 128).
81 Бердяев H.A. Самопознание. С. 37.
82 Булгаков С. Сны Геи (впервые: Утро России. 1915. 30 апреля). Цит.
по: Булгаков С. Тихие думы. М., 1918. С. 135.
83 См.: Шестов Л. Вячеслав Великолепный (К характеристике
русского упадочничества) // Русская мысль. 1916. № 10. С. 80.
84 Бердяев H.A. Очарование отраженных культур (В. И. Иванов)
(впервые: Биржевые ведомости. 1916. 30 сентября). Цит. по: Бердяев H.A.
Собр. соч. Т. 3. С. 518.
85 Так, 21 октября 1913 года Гершензон писал брату о вечерах у
Иванова: «...вокруг него говорильня, а я этого не люблю» (ОР РГБ. Ф. 746.
К. 20. №19. Л. 11 об.).
86 См. об этом воспоминания В. Л. Величко в кн.: Книга о Владимире
Соловьеве. М., 1991. С. 57—61. Знаток поэзии этого круга, В.Соловьев
966
Комментарии и примечания
был автором статьи о Козьме Пруткове в Энциклопедическом словаре
Брокгауза—Ефрона.
87 См. в первую очередь книгу Бердяева « Русская идея. Основные
проблемы русской мысли XIX века и начала XX века».
88 Минувшее. Т. 6. М., 1992. С. 262 (письмо от 26 июня 1922 г.).
89 Бердяев H.A. Собр. соч. Т. 3. С. 351.
90 Бердяев H.A. Самопознание. С. 79—80.
91 Бердяев H.A. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
С.254.
92 Работы Гершензона о Пушкине стали появляться в печати еще в
конце 1900-х годов, однако с середины 1910-х годов
историко-литературные работы с установкой на разыскательский аспект сменяются серией
философских интерпретаций (см. «Умиление», «Вдохновение и безумие»),
все более определяющих характер увлечения писателя Пушкиным.
Статья 1917 года «Мудрость Пушкина» придала законченность пушкинским
штудиям — стала той основой, которая очертила облик будущей книги
«Мудрость Пушкина» (1919). Поздние статьи Гершензона о Пушкине
были собраны и изданы уже после смерти писателя в книге «Статьи о
Пушкине» (1926).
93 См. письмо Л. В. Ивановой Вяч. Иванову и В. К. Шварсалон от
21 сентября 1916 года (ОР РГБ. Ф. 109. К. 25. № 56. Л. 19).
94 Черновая редакция статьи «Самсон и Далила» хранится в архиве
Вяч. Иванова (ОР РГБ. Ф. 109. К. 47. № 25).
95 Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 414.
96 ОР РГБ. Ф. 746. К. 28. № 31. Л. 32.
О. В. Марченко
Владимир Эрн и его концепция русской философии
Впервые: Марченко О. В. Очерки по истории русской философии.
М., 2002. С. 189—230. В книге этот материал дан «Очерком XIII».
Для настоящего издания название очерку дано автором. Ему же
принадлежат примечания.
Марченко Олег Викторович — современный исследователь истории
русской философии.
1 Шпет Г. Г. Философия Джоберти (По поводу книги В. Эрна
«Философия Джоберти») // Мысль и слово. Философский ежегодник. Вып. 1.
М., 1917. С. 298.
2 См.: История философии архимандрита Гавриила. 4.6. Казань,
1840; Колубовский Я.Н. Философия у русских // Ибервег Ф., Гейнце М.
История новой философии в сжатом очерке. СПб., 1890; Бобров Е.А.
Философия в России. Вып. 1—6. Казань, 1899—1902; Филиппов М.М.
Судьбы русской философии. СПб., 1904; Чуйко В. В. Русская философия //
Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени.
СПб., 1895; Введенский А. И. Судьбы философии в России. М., 1898; Ни-
Комментарии и примечания
967
польский А. Русская духовно-академическая философия как
предшественница славянофильства и университетской философии в России // Вера
и Разум. 1907. № 2—5, 9. См. об этом несколько «сыроватую», но
информативную работу: Ваннугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-
русской». М., 1994. Исключение следует сделать, по-видимому, для ар-
хим. Гавриила, который пытался описывать русскую философию именно
как самобытное явление. Не случайно Эрн отмечает: «...Если принять во
внимание, что архим. Гавриил томик о русской философии напечатал в
сороковых годах, невольно почувствуешь уважение к самому замыслу»
(Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода: жизнь и учение. М., 1912. С. 63—
64).
Далее с указанием названия и страницы в тексте цитируются
следующие издания: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение.
М., 1912; Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991.
3 Несколько по-иному фиксирует этот аспект Л. В. Поляков (имея
в виду и более поздние концепции Э. Л. Радлова и Г. Г. Шпета): «...Все
они, отмечая и признавая специфику русской философии, тем не менее
исходили из признания в качестве парадигмального того или иного типа
философии западноевропейской. <...> В таком контексте учение о
русской философии, разработанное Владимиром Францевичем Эрном <...>,
выступает существенно альтернативным. <...> Очевидную
оригинальность учению В. Эрна придает то обстоятельство, что он обращался к
русской философии не как объективно-отстраненный историограф, но
прежде всего и в главном как русский философ, не представляющий себе иного
пути своего собственного философского (и жизненного, как выясняется)
самоопределения. До некоторой степени будет даже справедливым
утверждение, что учение о русской философии есть философский автопортрет
самого Эрна» (Поляков Л. В. Учение В. Эрна о русской философии //
Религиозно-идеалистическая философия в России XIX — начала XX в.
(критический анализ). М., 1989. С. 85—86). Однако различение
«объективно-отстраненного историографа» и «философа» — подчеркнем это —
справедливо не только в отношении Эрна. Так, Е. Н. Трубецкой, отвечая
на критику Л. М. Лопатина в адрес его работы о В. С. Соловьеве, писал:
«...Для меня учение Соловьева есть мое учение и, следовательно,
настоящее, и притом мое собственное; поэтому <...> вся задача моего
исследования заключалась в том, чтобы показать, что учение это живо, а не
мертво. <...> Задача моя — по существу не историческая; поэтому и все те
упреки Л. М. Лопатина, которые могли бы относиться к историку
Соловьева, не выполнившему своей задачи, ко мне не имеют ровно никакого
отношения» (Трубецкой E.H. Сочинения. Т. 2. М., 1995. С. 477).
Философским автопортретом, таким образом, можно считать не только концепцию
Эрна, но и соловьевскую монографию Трубецкого, а также, без сомнения,
«Очерк развития русской философии» Г. Г. Шпета (1922) и «Историю
русской философии» Н. О. Лосского (1951) — как концепции философов
par excellence.
4 Поляков Л. В. Указ. соч. С. 85.
5 Русский перевод: Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М.,
1910.
6 См.: Harrasek S. Filozofia a etnos. Lublin, 1994.
968
Комментарии и примечания
7 Киселев С. Г. Предисловие к публикации [статьи В. Ф. Эрна «От
Канта к Круппу] // Вопросы философии. 1989. № 9. С. 99—100.
8 Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 104.
9 Франк С. Л. Указ. соч. С. 119.
10 Поляков А. П. Эрн В. Ф. // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 5.
М., 1970. С. 570.
11 Эрн В. Ф. О великолепии и скептицизме (К характеристике адогма-
тизма)//Христианская мысль. 1917. №3/4. С. 180—182.
12 На этом совершенно справедливо акцентирует внимание Д. Штег-
лих (Stäglich D. Vladimir F. Ern (1882—1917). Sein philosophisches und
publizistisches Werk. Bonn, 1967. S. 44—45). см. также: Поляков Л. В.
Указ. соч. С. 104.
13 «Я говорю лишь о новом философском сознании Запада, а не
вообще о Западе. Католичество так же "динамично" и "логично", как и
православие. В православии только начало Лоуос'а более осознано и поэтому
католичество для философии более сырой материал». «Если итальянские
философы онтологичны — то это говорит только о том, что они
проникнуты католической стихией, роднящей их с тем логизмом, который
умопостигаемо обусловливает онтологизм и русской философской мысли». «Вот
существенное отличие от славянофильства, которое так упорно не желает
замечать С. Франк. Церковно признавая католицизм, я религиозно
признаю самые основы европейской культуры, ибо культура Европы почти во
всех своих высших моментах теснейшим образом связана с
католицизмом. На "Западе" я отрицаю не жизнь, не историю, не великие
культурные достижения — как настойчиво не понимает меня С. Франк, а лишь
рационализм — начало, по моему мнению, антикультурное» (Сочинения.
С. 79—80, 87, 80).
14 Поляков Л. Д. Указ. соч. С. 102, 99.
15 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909.
С. 18.
16 Штурман Д. В поисках универсального сознания. Перечитывая
«Вехи» //Новый мир. 1994. №4. С. 136.
17 Вехи. С. 18.
18 Напомню, что вводная часть монографии Эрна о Г. С. Сковороде
носит название «Основной характер русской философской мысли и метод ее
изучения».
19 «...В рамках того же периода (XVIII—XX вв.) возможна, —
"предполагает" Л. В. Поляков, — <...> совершенно иная концепция русской
философии, базирующаяся, например, на бесспорном факте тесной
сопряженности русской мысли с западноевропейской философской традицией.
И если гипотетически признать опорными фигурами в этой схеме М. В.
Ломоносова и А. Н. Радищева, то можно было бы выстроить вполне
внутренне правдивую и тоже "объективную" историю русской философии,
доминантой которой выступило бы как раз выносимое В. Эрном за скобки
собственно русского "рационалистическое", научное начало. Во всяком
случае, линия М. В. Ломоносов — А. Н. Радищев — И. Д. Якушкин —
М. В. Павлов — Д. М. Велланский — А. И. Герцен — Н. Г. Чернышевский,
резюмирующаяся в слишком очевидном господстве позитивизма и есте-
Комментарии и примечания
969
ственнонаучного мировоззрения в 60—80-е годы XIX в., выглядит не менее
впечатляюще, нежели Г. С. Сковорода — славянофилы — Вл. Соловьев —
религиозная философия конца XIX — начала XX в. И, по-видимому, еще
большой вопрос <...>, какая из этих двух линий "более русская"»
(Поляков Л. В. Учение В. Эрна о русской философии. С. 101). К несчастью,
вышеописанная «возможность» обернулась самой что ни на есть суровой
* действительностью», ибо «гипотетическую» линию прилежно
выстраивала на протяжении долгих десятилетий вся советская историография
русской философии, старательно замалчивая или откровенно
фальсифицируя как оригинальные сочинения отечественных философов, так и
историко-философские исследования В. Ф. Эрна, Е. Н. Трубецкого, Э. Л. Рад-
лова, Г. Г. Шпета, В. В. Зеньковского, Г. В. Флоровского, Н. А. Бердяева,
Д. И. Чижевского, Н. О. Лосского и др.
20 М. М. Сперанскому посвящена работа друга Эрна А. В. Ельчанино-
ва: Ельчанинов А. В. Мистицизм М. М. Сперанского (Историко-психологи-
ческий очерк) // Новый путь. 1903. №2. С.106—127. «Предисловие»
к очерку написал П.А.Флоренский, см.: Богословский вестник. 1906.
Т. 1. № 1. С. 90—93 (см. также: Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. Т. 1.
М., 1994. С. 687—689).
21 Эрн указывает на работу: Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь
и мышление. СПб., 1908.
22 Эрн опирается на работу: Гершензон М. О. Жизнь B.C. Печерина.
М., 1910.
23 Поляков Л. В. Указ. соч. С. 101, 100—101.
24 Это утверждение имеет строго контекстуальный характер
рассмотрения концепции Эрна и нисколько не касается вопроса о реальном месте
и значимости Максима Грека, Андрея Курбского и Зиновия Отенского
в истории русской мысли, как и вообще весьма сложной и дискуссионной
проблемы начала русской философии. Говоря об этой последней, стоит
привести мнение В. Шохина из его недавней статьи, посвященной
Зиновию Отенскому: « Изложение Зиновием Отенским доказательств бытия
Божия, предваряющих догматическую и сотериологическую
проблематику, позволяет видеть в нем едва ли не первого философа на Руси, если,
конечно, в самой философии видеть рациональный дискурс как
критическое исследование мировоззренческих проблем средствами логической
аргументации (а не обычную дидактику, религиозную или нравственную,
которую чаще всего принимают за «религиозную философию»)» (Русская
философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 205). Ряд
современных исследователей находит полноценную и развитую
философскую мысль уже в Киевской Руси; может быть, наиболее последовательно
у нас эту точку зрения проводит и отстаивает М. Н. Громов (см.:
Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль XI—XIX вв. М.,
1990; Громов M. Н. Структура и типология русской средневековой
философии. М., 1997).
25 Клестов A.A. О философии логизма В. Ф. Эрна и его сборнике
статей «Борьба за Логос (опыты философские и критические)» // Ступени.
1991. №2. С. 89—99.
26 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. 2-е изд. Т. 2.
СПб., б. г. С. 348, 349, 350.
970
Комментарии и примечания
27 Последнее утверждение развернуто в ряд конкретных примеров
в заключительном разделе монографии о Г. С. Сковороде: « Сковорода и
последующая русская мысль».
28 Эта характеристика сейчас становится широко известной (хотя
и плохо понятой). При этом не обошлось без недоразумений. Многие
современные авторы, пишущие на историко-философские темы,
приписывают его характеристику русской философии А. Ф. Лосеву, говоря в этой
связи о « лосевской концепции» русской философии. См., например: Кря-
нев Ю. В. Русская философия. Генезис и общие черты // Русская
философия. Методическое пособие для студентов и аспирантов. М., 1991. С. 8
(в издании имеется список литературы, но работы Эрна в нем
отсутствуют); Захара И. С. Рационализация богословской мысли в России конца
XVII — начала XVIII века // Начала. 1993. № 3. С. 103; Черткова Е.
Утопизм // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. С. 528.
29 Эта разница духовного опыта отчетливо проявилась при встрече
русских философов-эмигрантов с западными коллегами, о чем
свидетельствует, например, П. Б. Вышеславцев: «Наша встреча с западными
философами сразу же обнаружила разницу душевных и духовных установок.
<...> Нас поражал их сухой, строго дифференцированный
интеллектуализм — он все понимал, все анализировал, прекрасно устанавливал связь
идей, но неизвестно было, что они берут всерьез, что присваивают и
усваивают и излагают как интересные воззрения и комбинации идей. <...> Их
поражал и иногда раздражал наш абсолютизм, максимализм, наше
требование окончательных решений и сведение всех проблем к последнему
смыслу всего существующего. Они так долго утверждали "релятивность"
всякого знания, что, наконец, забыли, что нет релятивного без
противопоставления Абсолютному, а потом забыли об Абсолютном. Мы были
рады напомнить Западу о дорогом для нас изречении Гегеля: "Объект
философии тот же, что и объект религии". Иначе говоря, что есть
Абсолютное» (Вышеславцее Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994.
С. 156).
30 Л. В. Поляков понимает эрновскую «битву» между ratio и Λόγος*ом
как полемику между русскими философами-рационалистами» и
философами-«логистами». Вывод совершенно неверный и противоречащий
цитатам из сочинений Эрна, которые обильно приводит в своей статье Л. В.
Поляков. Подчеркну еще раз: битва между ratio и Λόγος'οΜ, согласно
основной мысли Эрна, осуществляется в России не между русскими
«рационалистами» и «логистами», — но внутри единого сознания
(разумеется, сознания каждого конкретного философа). Это не внешний диалог, но
существенно внутренний; возможности внешнего диалога достаточно
ограничены.
31 См. работу понятия палинодия как замечательной «"антиципации"
новозаветной метанойи» в эрновском анализе «Федра» (Сочинения.
С. 516, 517 и др.).
32 И Д. Штеглих, и Л. В. Поляков предлагают весьма ограниченное и
неполное описание этой части эрновской концепции, так как опираются
прежде всего на тезисные высказывания Эрна во введении к монографии
о Г. С. Сковороде и материал полемики с журналом «Логос».
Комментарии и примечания
971
33 Мысль об онтологичности и метафизичности русской философии
значительно позднее развивал давний оппонент Эрна С. Л. Франк в своих
работах «Русское мировоззрение» и «Сущность и ведущие мотивы
русской философии» (обе — на немецком языке, 1925) и некоторых других.
Тезис об онтологичности русской философии входит и в концепцию
B. В. Зеньковского, сходные идеи высказывал также и Н. О. Лосский.
Точка зрения Л. П. Карсавина уже была отмечена.
34 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева // Сборник первый. О
Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 198.
35 В 1925 г. С. Л. Франк пишет: «Понятие конкретно-онтологической
живой "истины", ставшее предметом русских духовных поисков и
творчества, приводит к тому, что русское философское мышление в своей
типично-национальной форме никогда не было "чистым познанием",
бесстрастным теоретическим пониманием мира, а всегда было выражением
религиозного·поиска святости». И далее: «У истоков русской философии
в конце XVIII века появляется фигура выдающегося народного
мыслителя Сковороды — русского Сократа, который не только свою мыслительную
деятельность, но и всю жизнь посвятил доказательству того, что
подлинное знание и жизнь в высшем понимании — одно и то же» (Франк С. Л.
Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 152, 167).
36 Эрн В. Ф. Гноселогия B.C. Соловьева // Сборник первый. О
Владимире Соловьеве. С. 198—200. Ср. у Н. О. Лосского: «...Русские
православные философы враждебно выступали против одностороннего морализма и
субъективизма. Они отводили самое видное место онтологическим
сочетаниям и изменениям в личной и вселенской жизни, ведущим к
изменениям в нравственности и психике» (Лосский Н. О. Указ. соч. С. 517).
37 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 116.
В этом ключе читали данный фрагмент романа «Бесы» Вяч. Иванов,
C. Н. Булгаков, С. А. Аскольдов и др.
38 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева. С. 134.
39 См., например, у Лосского: «Многие религиозные философы
занимаются главным образом космологическими вопросами, и их
христианство как целое приобретает космологический характер. Это особенно ясно
видно на примере софиологии — учения, чрезвычайно характерного для
русской религиозной философии» (Лосский Н.О. Указ. соч. С. 517—518).
40 Эту черту русской философии отмечал П. А. Флоренский в статье
«"К почести вышняго звания". Черты характера архимандрита Серапио-
на Машкина» (1906). См.. Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.,
1994. С. 205—226.
41 Этот принципиальный разрыв анализирует М. Хайдеггер в работе
«Исток художественного творения» (1936).
42 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева. С. 187—188.
43 Там же. С. 186.
44 См.: Эрн В. Ф. Толстой против Толстого // Сборник второй. О
религии Льва Толстого. М., 1912. С. 214—248.
45 Ср. с более общими соображениями С. Н. Булгакова о
философичности произведений А. П. Чехова (Чехов как мыслитель // Новый путь.
1904. № 11): «Чеховское настроение психологически, может быть, и свя-
972
Комментарии и примечания
занное с сумерками 80-х годов в России, философски имеет более общее
значение. Чеховым ставится под вопрос и подвергается тяжелому
сомнению, так сказать, доброкачественность средней человеческой души, ее
способность выпрямиться во весь свой потенциальный рост, раскрыть и
обнаружить свою идеальную природу, следовательно, ставится коренная
и великая проблема метафизического и религиозного сознания — загадка
о человеке» (Булгаков С. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 144—145).
Утверждение Эрна о существенном православии художественных
созерцаний Чехова представляется весьма проницательным. Стоит привести
мнение такого тонкого знатока западноевропейской и русской культуры,
как П. М. Бицилли (в статье 1930 г.): «Может показаться странным,
даже, пожалуй, кощунственным, сравнивать с Достоевским, великим
религиозным мыслителем, пророком, Чехова — "писателя без
миросозерцания". И все же я решаюсь сравнение продолжить и договорить свою
мысль до конца. Достоевский возносит нас на захватывающие дух
религиозно-философские высоты; православие вряд ли имеет в наши дни
другого столь же глубокого, сколь и пламенного истолкователя. И все же:
есть в русском православии нечто, о чем Достоевский хорошо знал, что он
всеми силами стремился передать и чего он не передал. Та именно
смиренная, тихая поэзия, тот дух кротости, всепрощения, жалости, о
котором Достоевский проповедовал и которому он был внутренне чужд. А
безрелигиозный, вообще "лишенный миросозерцания" Чехов этим духом
овеян и сообщает нам его дары. <...> ...Любопытно, что в плане
"презренной" прозы Пушкин очень напоминает Чехова. "Капитанская дочка"
светится тем же неярким, теплым, ровным светом "бытового" русского
православия, который исходит от лучших вещей Чехова. В известном смысле
эти двое — наиболее "русские" из всех русских писателей» (Бицилли П. М.
Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М., 2000.
С. 417).
46 Б. Гройс в целом ряде своих работ описывает этот процесс как
«валоризацию профанного». См.: Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.
47 Кант Я. Трактаты и письма. М., 1980. С. 331.
Еп. Иларион
В. Ф. Эрн об имяславии
Впервые: Иларион (Алфеев), епископ. Священная тайна церкви.
Введение в историю и проблематика имяславских споров. СПб.,
2002. Т. 2. С. 71—86. Публикуемый материал является одним из
разделов десятой главы исследования «Перелом в деле имяслав-
цев».
Иларион (в миру Григорий Валерьевич Алфеев; род. 1966), епископ —
с 1986 г. — послушник Виленского Свято-Духова монастыря; в 1987 г.
принял постриг. В 1991 г. окончил Московскую Духовную академию, в
1995 г. — Оксфордский университет. Доктор богословия Свято-Сергиева
Православного института (Париж). С января 2002 г. — епископ
Керченский, викарий Сурожской епархии. Автор более 150 публикаций.
Комментарии и примечания
973
1 Началом упоминаемой дискуссии считают анонимное предисловие
свящ. П. Флоренского к книге иеросхимонаха Антония (Булатовича)
«Апология веры во Имя Божие и во имя Иисус», изданной в Москве в
1913 г. В этом предисловии содержался отзыв (впрочем, без указания
имени автора отзыва. Автором же был М. Д. Муретов, профессор
Московской Духовной академии по кафедре Священного Писания и Нового
Завета) на рукопись «Апологии» и на рецензию инока Хрисанфа (на книгу
схимонаха Илариона (Булатовича) «На горах Кавказа»). И П. А.
Флоренский, и М. Д. Муретов выразили здесь свое положительное отношение к
имяславию.
2 Выступление Н. А. Бердяева в защиту творческого духа в
Православной церкви (а именно проявлением этого он и считал имяславчество)
нашло свое выражение в статье «Гасители духа», напечатанной в газете
«Русская молва» (1913. №232. 5 августа).
3 Рецензия инока Хрисанфа (Минаева) была опубликована в журнале
«Русский инок» (1912. №4. С. 71—75; № 5. С. 57—59). Что касается
выступлений архиепископа Антония (Храповицкого), то отметим здесь их
отдельные издания — «О новом лжеучении, обоготворяющем имена, и об
Апологии иеромонаха Антония Булатовича» (Почаев, 1913); «Святое
православие и имябожническая ересь» (Харьков, 1916).
4 Подведомственный редактор «Колокола» — речь идет о Василии
Михайловиче Скворцове (1859—1932), чиновнике Синода,
редакторе-издателе журнала «Миссионерское обозрение» (1896—1916) и церковно-по-
литической газеты «Колокол» (1905—1917).
О. Т. Ермишин
О понимании платонизма
(В. Ф. Эрн и свящ. Павел Флоренский)
Впервые: Энтелехия. Научно-публицистический журнал.
Кострома, 2002. № 4. С. 62—67.
Ермишин Олег Тимофеевич (род. 1966) — доктор философских наук,
старший научный сотрудник Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»
(Москва), автор монографии «Русская историко-философская мысль
(конец XIX — первая треть XX в.)» (М., 2004) и ряда статей.
1 Флоренский Я., свящ. Соч.: В 4 т. М., Т. 2. 1996. С. 346.
2 Эрн В. Ф. Философия Джоберти. М., 1916. С. VI.
3 Несколько лекций опубликованы Флоренским в журнале
«Богословский вестник» (1910, 1913) и в книге «Первые шаги философии»
(1917), рукописный текст лекционного курса хранится в архиве
священника Павла Флоренского (Москва).
4 Флоренский Я., свящ. Соч.: В 4 т. Т. 3 (2). М., 1999. С. 70.
5 Там же.
6 Эрн В. Ф. Розмини и его теория знания. М., 1914. С. 6.
7 Там же. С. 80.
8 Там же. С. 98.
974
Комментарии и примечания
9 Там же. С. 156.
10 Там же. С. 294.
11 Эрн В. Ф. Философия Джоберти. М., 1916. С. 89.
12 Там же. С. 111.
13 Там же. С. 252—253.
14 Там же. С. VI.
15 Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 465.
16 Там же. С. 520.
17 Там же. С. 521.
18 Эрн В.Ф. Природа мысли//Богословский вестник. 1913. №5.
С. 114.
19 Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. М., Т. 2. С. 349.
Приложения
^^
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Материалы к биографии В. Ф. Эрна
1. ИЗ МЕТРИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
О РОЖДЕНИИ В. Ф. ЭРНА
30 июня <12 июля> 1884 г.
По указу его императорского величества дано сие из
грузино-имеретинской святейшего правительствующего Синода конторы
управляющему тифлисским аптечным магазином статскому советнику Францу
Карловичу Эрну* в том, что вследствие просьбы о выдаче ему
свидетельства о рождении и крещении усыновленного им сына тифлисского
гражданина Гавриила Арефьева — Владимира, найдена была справка,
по коей оказалось, что в метрической книге Тифлисской Колубанской
Богородинской церкви за тысяча восемьсот восемьдесят второй год,
в первой части родившихся в статье 49-ой мужеского пола записано:
«родился пятого августа, крещен двадцать четвертого октября
Владимир; родители его: тифлисский гражданин Гавриил Андреев сын
Арефьев и законная жена его Ольга Павлова, оба православного
вероисповедания <...>».
(Центральный государственный исторический архив
г. Москвы [далее — ЦГИАМ]. Ф. 418. On. 82.
Д. 390. Л. 5—5 об. Заверенная копия)
Предлагаемые материалы (1—7) впервые были опубликованы В. А.
Волковым и М. В. Куликовой в религиозно-философском журнале
«Начала» (1993. № 3. С. 129—137).
* Франц Карлович Эрн, уроженец г. Ревеля (Эстландская губ.),
управляющий тифлисским аптечным магазином Кавказского военного
округа (с 1882 г.). выпускник Дерптского университета, был женат
первым браком на вдове тифлисского гражданина Гавриила
Арефьева — Ольге Павловне и по определению Правительствующего
Сената, состоявшемуся 28 апреля 1884 г., усыновил Владимира
(ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 82. Д. 390. Л. 10—15).
978
ПРИЛОЖЕНИЕ I
2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФ. В. И. ГЕРЬЕ ОБ ОСТАВЛЕНИИ
В. Ф. ЭРНА ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
10 <23> сентября 1904 г.
В историко-филологический факультет
Имею честь представить к оставлению по кафедре истории
Владимира Эрна и вместе с тем ходатайствую о назначении ему содержания
из министерских сумм или же какую-либо из стипендий,
находящихся в распоряжении факультета.
Проф. В. Герье
ЩГИАМ. Ф. 418. On. 82. Д. 390. Л. 20. Автограф)
3. ПРОШЕНИЕ В. Ф. ЭРНА О ПРИНЯТИИ ЕГО
В ЧИСЛО ПРИВАТ-ДОЦЕНТОВ
11 <24> мая 1910 г.
В историко-филологический факультет
Императорского Московского университета
магистра философии Владимира Францевича Эрна
Прошение
Честь имею покорнейше просить историко-филологический
факультет ходатайствовать о принятии меня в число приват-доцентов
Московского Императорского университета. Curriculum vitae * и
список научных трудов при сем прилагаю.
Владимир Францевич Эрн
ЩГИАМ. Ф. 418. On. 82. Д. 390. Л. 33. Автограф)
4. CURRICULUM VITAE ВЛАД. ЭРНА
Я родился в 1882 г. в городе Тифлисе и все время до поступления
в Университет прожил в семье. Воспитывался во 2-й Тифлисской
мужской классической гимназии, где учился хорошо не от большого
усердия, а от легкости усвоения преподаваемого. Окончил гимназию
в 1900 г. с золотою медалью. Из гимназических впечатлений учебного
* Краткая биография (лат.).
Материалы к биографии В. Ф. Эрна
979
характера было самым сильным и лучшим — уроки истории Г. П. Гехт-
мана. Его влияние в смысле возбуждения самостоятельности мысли
и интереса к серьезному исследованию — на весь класс было огромно.
А для меня лично его уроки были целой эпохой в моем внутреннем
развитии. Пробуждавшейся мысли он давал обильное содержание,
а своей обаятельной личностью давал живое и наиболее убедительное
доказательство всей важности и ценности того пути, по которому он
шел. Его преподавание подготовило меня к университету, и в
университете чрез это я время даром не терял и занимался, не разбрасываясь,
а по некоторому внутреннему плану, который сам собою наметился
моими духовными потребностями. В первые полтора года я занимался
преимущественно философией, особенно Платоном, Аристотелем,
Декартом, Беркли, Кантом и Соловьевым; а затем все остальное время
посвятил изучению всеобщей истории. Особенно подробно и на
основании источников я изучил историю христианства первых 2-х веков
и кандидатское сочинение написал о св. Иустине.
Владимир Эрн
ЩГИАМ. Ф. 418. On. 76. Д. 715. Л. 4, 17. Автограф *)
5. ПРОШЕНИЕ О КОМАНДИРОВКЕ ЗА ГРАНИЦУ
В историко-филологический факультет
Императорского Московского университета
магистранта Владимира Францевича Эрна
Прошение
Честь имею просить историко-филологический факультет
возбудить ходатайство перед Министерством народного просвещения
о командировании меня с ученою целью на два года за границу с
содержанием из сумм Министерства. Избравши темой диссертации
всестороннее рассмотрение проблемы познания, мне по ходу моих мыслей
необходимо исследовать вопрос о том, как новая европейская мысль
преобразовала античную идею <...> в свое понятие о природе. Для
этого мне нужно изучить итальянскую натурфилософию переходного
времени, мало исследованную по рукописным материалам,
хранящимся во Флоренции. Кроме того, мне необходимо исследовать
историю античного Логоса в патристике и в философии Средних веков.
Книгохранилища Парижа и Лондона, как наиболее богатые
литературой по данным вопросам, — мне представляются наиболее подходя-
* Автобиография написана в апреле 1904 г. в связи с испытаниями
в историко-филологической комиссии и представлена в комиссию
вместе с другими документами.
980
ПРИЛОЖЕНИЕ I
щими местами для работы над той частью диссертации, которая будет
посвящена изысканиям по истории Логоса. Но так как историческая
часть диссертации будет служить лишь материалом для
систематического исследования о нормальной постановке проблемы познания —
я бы считал очень желательным для себя ближайшее ознакомление
с различными направлениями современной гносеологии в Германии.
Ввиду этого, кроме библиотек Флоренции, Парижа и Лондона, я бы
хотел часть работы писать в различных университетских городах
Германии.
Владимир Эрн
ЩГИАМ. Ф. 418. On. 82. Д. 390. Л. 47. Автограф)
6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА Л. ЛОПАТИНА
И ОРД. ПРОФ. Г. ЧЕЛПАНОВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРИВАТ-ДОЦЕНТУ В. Ф. ЭРНУ ЗАГРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКИ
<Октябръ, 1910>
В Историко-филологический факультет
Императорского Московского университета
Честь имеем просить историко-филологический факультет
ходатайствовать перед Министерством народного просвещения о
командировании приват-доцента В. Ф. Эрна за границу на два года, для
написания магистерской диссертации, с содержанием из сумм Министерства.
К этому присоединяем краткие сведения о его жизни и отзыв о нем.
Владимир Францевич Эрн родился 5 августа 1882 г. в Тифлисе. 9-ти
лет поступил в Тифлисскую 2-ю Е. И. В. Великого князя Михаила
Николаевича гимназию, которую окончил в 1900 г. с золотою
медалью. Получив кавказскую стипендию, В. Ф. Эрн в 1900 г. поступил
в Императорский Московский университет на
историко-филологический факультет. Здесь занятия его распределились поровну между
историей, с одной стороны, и философией, с другой. Он участвовал во
всех практических занятиях и писал рефераты как по истории, так и
по философии. В Философской секции историко-филологического
студенческого общества он в заседании под моим председательством
прочел в 1903 г. выдающийся реферат о Беркли. В 1904 г. он удостоен
был премии за свою философско-историческую работу о Иустине
Философе. В 1904 г. В. Ф. Эрн сдал государственный экзамен и был
оставлен при университете Заслуженным] профессором] В. И. Герье по
кафедре всеобщей истории. Начав готовиться к магистерскому экзамену
по истории, В. Ф. Эрн постепенно стал сознавать свое особое
призвание к философии и в 1908 г. возбудил ходатайство в факультете о
разрешении ему держать магистерский экзамен по философии. Во время
Материалы к биографии В. Ф. Эрна
981
экзамена и подготовки к нему В. Ф. Эрн напечатал статьи: «Идея
катастрофического прогресса» (Русская мысль, X, 1909 г., написана
статья в 1906 г.), «Социализм и проблема свободы» (Живая жизнь, II—Ш,
1907 г.), разбор книги Геккеля «Мировые загадки» (Живая жизнь, I,
1908 г.), «Методы исторического исследования» (в предисловии к
переводу «Сущность христианства Гарнака». Москва 1907 г.), «Русский
Сократ», популярный очерк о жизни и философии Г. С. Сковороды
(Северное сияние, I, 1908 г.), «Размышления о прагматизме»
(Московский ежен. №16—17, 1910 г.), «Нечто о Логосе, русской философии и
научности» (Московский ежен. № 29—32, 1910 г.).
21 апреля 1909 г. В. Ф. Эрн начал сдавать магистерский экзамен и
кончил его 20 марта 1910 года, причем все испытания сдал очень
хорошо.
10 мая 1910 г. В. Ф. Эрн с большим успехом прочел 2
вступительные лекции: «Беркли и имманентная философия» и «Природа
философского сомнения».
В. Ф. Эрн представляет из себя уже определенную величину в
русской философской литературе. Человек многосторонней начитанности
и даже учености, живой и даровитый писатель, с твердыми, ясно
сложившимися убеждениями, он заставляет многого ждать от себя в
будущем. Напечатанные до сих пор статьи его невольно обращают на
себя внимание искренностью своего тона, и оригинальностью
взглядов, и диалектическою тонкостью аргументации. Темою своей
будущей магистерской диссертации В. Ф. Эрн избрал всестороннее
рассмотрение проблемы познания как в ее историческом развитии, так
и в ее систематической нормальной постановке. Для успешной
разработки этой темы В. Ф. Эрну необходимо посещение европейских
библиотек в Париже, Лондоне и Флоренции, а также возможно более
близкое ознакомление с течениями философской мысли в
современной Германии. Считаем необходимым отметить, что В. Ф. Эрн вполне
хорошо владеет новыми языками.
Заслуженный профессор Л. Лопатин
Ординарный профессор Г. Челпанов
(ЦГИАМ. Ф. 418. On. 82. Д. 390. Л. 46—46 об. Копия)
7. ИНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАНТУ В. Ф. ЭРНУ
<Октябръ, 1910>
Ввиду гносеологического характера диссертации, которую намерен
писать В. Ф. Эрн, мы рекомендуем ему прежде всего детально
ознакомиться с некоторыми течениями современной гносеологической
мысли Германии. Необходимое ознакомление со школой телеологическо-
982
ПРИЛОЖЕНИЕ I
го критицизма лучше всего произвести под руководством наиболее
крупного представителя этой школы — Риккерта5 (в Фрейбурге).
Также необходимо В. Ф. Эрну ознакомиться с новым течением логической
мысли, стремящимся к очищению логики от всякого психологизма.
Занятия под руководством Гуссерля6 (в Геттингене), наиболее ярко
сформулировавшего идею «чистой логики», будут лучше всего
способствовать этому ознакомлению.
Окончив эти занятия, В. Ф. Эрн должен поработать над
рукописными материалами, хранящимися в библиотеках Флоренции и Рима,
для того, чтоб на примере итальянских натурфилософов переходного
времени выяснить ту эволюцию мысли от античного понятия
природы к картезианскому понятию материи, которая нужна В. Ф. Эрну для
критического анализа проблемы познания, как она поставлена в
новой философии. Так как, по ходу мысли, В. Ф. Эрну предстоят
изыскания по истории Логоса в патристике и средневековой философии,
мы рекомендуем ему занятия в Национальной библиотеке (в Париже)
и в Британском музее (в Лондоне).
Заслуженный профессор Л. Лопатин
Ординарный профессор Г. Челпанов
(ЦГИАМ. Ф. 418. On. 82. Д. 390. Л. 45. Подлинник)
8. ТЕЗИСЫ К ДИССЕРТАЦИИ
«РОЗМИНИ И ЕГО ТЕОРИЯ ЗНАНИЯ»
1. В философии Розмини необходимо различать два периода:
период отвлеченной идеологии и период онтологического обоснования
идеологии. Связующим звеном между этими двумя периодами является
критика Джоберти.
2. Идеологическое построение у Розмини предваряется историко-
критическим анализом предшествующей мысли.
В основу последнего положены два принципа: принцип
«недостаточности» и принцип «излишка» в объяснении.
3. Первым принципом осуждаются системы воззрений Локка, Кон-
дильяка, Рида, Смита, Дюгальта Стюарта. Эти системы при
объяснении факта познания не проникают достаточно глубоко в основную
трудность, состоящую в том, что познание предполагает пред
существующие в разуме первичные элементы общности.
4. Вторым принципом осуждаются системы воззрений Платона,
Аристотеля, Лейбница, Канта. Эти системы, глубоко проникая в
основную трудность проблемы познания, допускают некоторый излишек
в объяснении, не вытекающий из существа идеологической проблемы.
5. Элемент общности, с одной стороны, должен быть признан
сверхопытным или врожденным; с другой стороны, сведен к
последнему минимуму и к предельной простоте.
Материалы к биографии В. Ф. Эрна
983
6. Этим условиям отвечает идея бытия, взятого неопределенно.
Идея бытия не может быть выведена ни из ощущений, ни из чувства
личного существования, ни из рефлексии Локка. Она может быть
признана лишь врожденною.
7. Для того чтобы взять идею бытия в подлинной универсальности,
необходимо отделить понятие бытия от понятия реальности. Бытие
должно быть взято как бытие возможное или как сущее возможное.
8. Сущее возможное характеризуется: объективностью,
идеальностью, простотою, единством, универсальностью, необходимостью,
неизменностью, вечностью и неопределенностью.
9. Сущность возможного сущего познается сама собою и через себя
самое. Все же остальное познается при помощи ее и через нее. Вся
множественность познавательных форм является ни чем иным, как
комбинацией, двух начал: идеи неопределенного бытия и ощущений.
10. Из идеи бытия непосредственно вытекают: общие принципы
рассуждения, элементарные идеи (единство, число, возможность,
универсальность, необходимость, неизменность, абсолютность) и основы
конкретного познания: идея субстанции и причины.
11. Идея неопределенного бытия есть несокрушимая основа
достоверности как познания вообще, так и познания конкретного. Основа
идеологии является в то же время основою критериалогии.
12. Из идеи бытия, скомбинированной с ощущениями, выводятся
идеи телесной субстанции и связанные с нею идеи времени, движения
и пространства.
13. Основной недостаток всего идеологического построения Розми-
ни заключается в отсутствии логической непрерывности в его
рассуждениях. Его дедукции то ведутся по идеальным линиям внутренней
связанности одной формы мысли с другою, то обосновываются
простым психологическим констатированием.
14. Понятие врожденности, предложенное Розмини, нарушает
основной принцип идеологии, детерминируя идею неопределенного бытия в
двойном смысле: и метафизически, и антропологически.
15. Картина Джоберти является внутренним моментом развития
розминиевской идеологии. Она раскрывает недоговоренность учения
Розмини о возможном сущем.
16. Джоберти доказывает психологический характер идеологии
Розмини, отчетливо формулирует в борьбе с ним (Л. 14) проблему
психологизма, вскрывает двойственность первопринципа Розмини,
таящего в себе ряд разрушительных следствий, и ставит требование
подвести под идеологию онтологический фундамент.
17. Второй период философии Розмини находится в зависимости
от этого требования. В главном сочинении второго периода, в
«Теософии», Розмини делает попытку онтологически обосновать свою
идеологию.
18. В этой попытке наиболее важны два пункта: учение об
исходном пункте и учение о творении. Учение об исходном пункте, с кото-
984
ПРИЛОЖЕНИЕ I
рого начинается теософическое построение, страдает внутренней
неустойчивостью.
19. Высшим пунктом в стремлении Розмини онтологически
обосновать идеологию является учение о творении, по коему
неопределенное бытие утверждается как божественная абстракция,
составляющая первый момент миротворящего акта.
20. Учение Розмини о творении лишено онтологического смысла
и является необоснованным. Ему не удается прочно утвердить
различие между Богом и божественным. В «Теософии» Розмини не
разрешает поставленного Джоберти вопроса.
21. Положительное значение Розмини заключается в типичности
его неудач. Он проходит до конца один из неизбежных путей
трактования гносеологической проблемы и тем облегчает дальнейшее ее
исследование.
(Впервые опубликовано в справочно-информационном издании,
составленном Ю. Н. Сухаревым: «Русская философия:
философия как специальность в России». М.: РАН ИНИОН, 1992.
Вып. 2. С. 39-41).
9. «РОЗМИНИ И ЕГО ТЕОРИЯ ЗНАНИЯ»
(ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ В. Ф. ЭРНОМ)
Вчера в Богословской аудитории университета, в 2 ч. дня, состоялась
защита диссертации прив.-доц. Московского университета В. Ф. Эрном
на тему: «Розмини и его теория знания», представленной им на
соискание степени магистра философии. Официальными оппонентами
выступили проф. Л. М. Лопатин и прив.-доц. А. П. Казанский.
В. Ф. Эрн в своей вступительной речи кратко обрисовал еще
совершенно неизвестное у нас, в России, философское учение Розмини, его
место и значение в истории развития итальянской философии. В этой
истории Розмини принадлежит исключительное место — его
философское наследство стало классическим и национальным достоянием
итальянской мысли. Изучение Розмини и его теории знания, будучи
само по себе делом глубоко интересным и важным, имеет для русской
философской мысли особый интерес, так как можно найти глубокое
интуитивное родство между некоторыми направлениями религиозно-
философских течений в России и философией Розмини и его школы
в Италии.
Проф. Л. М. Лопатин, признавая большую заслугу В. Ф. Эрна в
деле изучения и ознакомления широкой публики с философским
наследием Розмини, все же находит в диссертации крупные недостатки.
Первым таким недостатком он считает отсутствие в диссертации общей
и широкой исторической перспективы. В диссертации, по мнению
Л. М. Лопатина, преувеличено то воздействие и значение, которое
Материалы к биографии В. Ф. Эрна
985
имел на Розмини Джоберти, и не указано в должной степени влияние
немецкой идеалистической философии. Кроме этого, в диссертации
чувствуется отсутствие собственного, самостоятельного философского
анализа. Все это заставляет пожелать, чтобы при дальнейшей работе
В. Ф. Эрна над итальянской философией, работе весьма ценной и
нужной, им были бы применены более широкие методы философского
исследования и в должной мере сохранена широкая историческая
перспектива.
Прив.-доц. А. П. Казанский в своей речи указывает на
недостаточную разработку исторической части диссертации.
В. Ф. Эрн энергично возражал обоим оппонентам. При шумных
аплодисментах переполненной аудитории В. Ф. Эрн признан достойным
степени магистра философии.
(Утро России. М., 1915.2 марта. M 60. С. 4)
10. <ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНЧИНЕ В. Ф. ЭРНА>
Совет Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева
извещает членов общества о кончине члена совета Общества приват-
доцента Московского университета Владимира Францовича Эрна,
последовавшей 29-го сего апреля, в 1 час дня.
(Московские вести. 1917. 30 апреля (13 мая). M 96)
11. ПОХОРОНЫ В. Ф. ЭРНА
Вчера состоялись похороны скончавшегося 29-го апреля приват-
доцента Московского университета В. Ф. Эрна. На заупокойном
богослужении в церкви Знамения, на Зубовской площади, собрались
отдать последний долг покойному вдова и близкие его, много друзей
и почитателей его памяти, в том числе представители
Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, членом совета которого
В. Ф. состоял. На гроб возложены были венки от этого общества и
некоторые другие. Погребение совершено на Дорогомиловском
кладбище.
(Утро России. 1917. 2 мая. M 109)
^£^ö>
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Время Христианского Братства борьбы
1. ГАЗЕТА «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПУБЛИКУЕТ
ДОКУМЕНТЫ «БРАТСТВА»
Верующие против самодержавия
Ниже мы печатаем, как документы, заявления, исходящие от
Христианского братства борьбы, этой недавно основанной организации
русских христианских социалистов-демократов. Документы эти
имеют выдающееся симптоматическое значение для современного
политического и социального брожения в России (поэтому мы их печатаем
in extenso) и, кроме того, предвещают развитие в будущем таких
идейных течений, которые до сих пор еще слабо давали себя знать на
нашей родине. Ред.
I. О задачах Христианского братства борьбы
Христианское братство борьбы ставит целью активное проведение
в жизнь начал вселенского христианства. Казалось бы, что тут
особенного? Разве не каждый христианин ставит себе те же цели? В чем же
особенность Братства? Почему оно считает это преимущественно
своей задачей?
Дело все в том, что начала вселенского христианства не только не
осуществлены, но даже просто не сознаны целиком во всем объеме
историческим христианством. Историческое христианство во всех
своих конкретных разветвлениях — от русского православия и римского
католицизма до самых крайних сект протестантизма — восприняло и
самым действенным образом ввело в сознание отдельных людей одну
сторону евангельского учения: это учение о том, что «Царство Божие
внутри вас есть». Царство Христово есть царство свободного
единения, чистоты и света, и потому всякий, хотящий войти в него, должен
прежде всего очиститься сам, должен скинуть с себя ветхого человека
и облечься в нового, должен переродиться, извлечь и спасти свою
душу из мира греха и злой жизни. Таким образом, личное
перерождение, очищение своего индивидуального сознания и спасение своей
души — вот центральная и единственная идея исторического
христианства. Все остальное — дела любви, устроение своей личной жизни
на христианских началах, доброе отношение к другим людям — все
это историческим христианством рассматривается как простое и
необходимое следствие из внутреннего перерождения.
Все это так. Все это правда от начала до конца; но это далеко не вся
правда, возвещенная Христом. И кто ее выдает за всю правду и видит
Время Христианского братства борьбы
987
в ней начало, середину и конец и учит так других — тот явно
погрешает против слова Божия и лжет на полноту Христовой истины. Это
делает теперешнее христианство. Оно забыло другую сторону
евангельского учения, забыло, что Царство Божие не только факт
внутренней жизни, переживаемый отдельным сознанием наедине с собой
и с Богом, но и — о чем вещает чуть ли не каждая строчка Нового
Завета — факт мировой, вселенский, царство Божие, неприметно
войдя внутрь человека, его усилиями должно раскинуться на то, что вне
его. Своим благодатным строем оно должно победить и преобразить
всю злую природную жизнь, во всех ее проявлениях от сферы
индивидуального сознания и человеческих отношений до космического зла,
царящего в природе. Евангелие должно быть проповедано «всей
твари». Христос заповедал апостолам: «идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. XVI: 15), ибо «вся тварь»
совокупно «стенает и мучится доныне», обещая «откровения сынов Божьих»
(Римл. VIII: 19—21). Историческое христианство забыло этот завет и,
проповедуя, что то-то и то-то нужно для того, чтоб вступить в Царство
Божие, совершенно угасило в себе всякие живые представления
о том, что же такое это Царствие Божие. С этим вместе оно поддалось
страшному уклону от Христа и безусловно истинную идею о
необходимости для вступления в Царство Божие — прежде всего лично
переродиться — исказило в ложную и антихристианскую идею
«самоспасания», которая и пользуется самым широким распространением.
А между тем вопрос этот ясен. Сами собой принимают конкретную
форму обязанности, вытекающие из этой стороны евангельского
учения. Их много, очень много, и все они забыты историческим
христианством. Мы будем говорить только об одном ряде таких обязанностей,
сознание которых и определяет деятельность Братства.
Христос был Богочеловек. Он вочеловечился и принял плоть.
Искупая ее своею пречистою кровью, он не отделился от нее, а остался в
ней и с ней, потому что связан с ней «нераздельно и неслиянно»,
потому что пришел не упразднить ее, а освятить. Преобразивши ее на
Фаворе и освободивши ее от рабства греху своими страданиями и от
рабства смерти своим воскресением, Он положил начало «обожению
плоти» (выражение св. Антония В.), которое закончится «новой
землей, в ней же правда обитает» (2 Петр. III: 13). Этим он дал вечный
образ поведения и указал путь, по которому должен идти каждый
христианин. Каждое отдельное лицо, для того чтобы становилось
возможным Царство Божие «внутри» него — должен побеждать в себе
похоть плоти и облекать тело свое во Христа, приуготовляя его к
славе и нетлению. Но по основному учению Евангелия человек не может
рассматриваться как самодовлеющий, не связанный с другими атом.
Он только один из бесчисленных членов великого и единого целого,
собирательного индивидуума Церкви. Эта Церковь, объективное
Царство Божие, осуществляясь и водворяясь в душе всего человечества,
должна победить похоть плоти уже не отдельного лица, а всего
человечества и облечь тело, — уже тело не отдельного лица, а тело всего
988
ПРИЛОЖЕНИЕ II
человечества, — во Христа и сделать его невестой Христовой. Эта плоть
и тело, не будучи телом и плотью отдельных лиц, является
результатом взаимодействия последних, основанного на потребностях тела и
плоти, а это и есть прежде всего отношения экономические,
общественные и государственные. Значит, человечество, становящееся
Церковью, для осуществления в себе Царства Божия должно бороться
со своею похотью и побеждать свою плоть, т. е. животворить и
проникать Духом Христовым отношения экономические, общественные
и политические, да изобразится и в них Христос и да будет Бог вся во
всем. Таким образом, из действительной веры во Христа — вочелове-
чившегося и пришедшего во плоти — с неизбежной внутренней
последовательностью вытекает для каждого христианина обязанность
принимать самое деятельное участие в общественной и политической
жизни страны и здесь, в той самой области жизни, от которой с
отшельническим ужасом отвергалось историческое христианство,
действенно осуществлять вселенскую правду Богочеловечества. Это и
является общей задачей Братства.
Конкретные условия настоящего тягостного времени расчленяют
эту общую задачу и определяют ближайшие частные задачи, на
которые со всей возможной силой и направится деятельность Братства.
1. Первой задачей Братства является борьба с самой ужасной
язвой теперешней русской жизни — с самодержавием. Самодержавие на
русском народном теле является бесконечно ужасным,
злокачественным нарывом, который отравляет и парализует собой все отправления
народной жизни. Ни о каких действительных улучшениях, ни о
каком оздоровлении общественного организма не может быть речи
раньше, чем не вскрыть этот нарыв. И потому борьба с самодержавием
выдвигается в число первых по времени задач Братства, а) с одной
стороны, Братство будет обличать перед всем народом, во всех классах
общества религиозную неправду самодержавия. Признавать
самодержавие, т. е. по определению закона ничем не ограниченную власть —
является безусловно противоречащим прямым словам Евангелия о
невозможности служить двум господам. Ничем не ограниченная власть
может принадлежать только Богу, и если ее переносят на человека
и заставляют признавать как таковую, то тут совершается страшный
обман и страшное богохульство. Это богохульство является страшным
не только с уединенно-религиозной точки зрения, а еще более с точки
зрения его громадного отрицательного влияния на живую жизнь. Ибо
только широко распространенный в народе и в массах городского
населения предрассудок о том, что будто самодержавный строй
освящается самим христианством, и поддерживает еще самодержавие, уже
давно сгнившее внутри и дискредитированное в глазах всего русского
общества; б) с другой стороны, примыкая к другим партиям, Братство
будет бороться с самодержавием как с злой политической и
общественной силой и работать на установление в России свободного
конституционного режима. О том, как представляет себе последний
Братство, будет сказано в особом издании, а тут можно только сказать
Время Христианского братства борьбы
989
о самом принципе политической деятельности Братства; в) так как ни
одна достигнутая политическая форма не может быть совершенной, то
поэтому Братство ни на одной из них окончательно остановиться и
успокоиться не может. Во имя безусловного идеала христианских
отношений, открывающихся в Царствии Божием, оно всегда будет
взывать к новым лучшим политическим формам, более совершенным,
дающим все больше и больше простора для проявления всех сил
каждой отдельной личности; но взывать будет не общими рассуждениями
о безусловном идеале, а выставлением в каждый данный момент
конкретной программы новых и новых, требуемых жизнью политических
реформ.
2. Второй задачей Братства является борьба с пассивным
состоянием теперешней церкви: а) в силу причин, о которых будет сказано в
другом месте, церковь, лишась своей самостоятельности и
запутавшись в связях с государством, пошла на служение чуждым ей целям.
Переставая быть благодатной силой, носящей всегда в себе образ
абсолютного идеала, постоянно движущей жизнь вперед и зовущей все
выше и выше, теперешняя церковь не только остается совсем в
стороне от живой жизни, но даже, более того, решительно ее тормозит и
задерживает. Совершая кощунство, она санкционирует собой и своей
поддержкой самодержавный строй и, рабски унижаясь и явно
отступая от Христа, она оправдывает и покрывает собой такие
неслыханные от времен Грозного злодеяния, как события 9 января; б) кроме
того, под опекой светской власти, воздвигнув себе из духовной
цензуры человечески прочную ограду, за которую от жизни доносится
только неясный гул, она духовно уснула, успокоившись на воззрениях
и формулировках, выработанных десять столетий тому назад; жизнь
развивается, временем ставятся новые задачи, мучительно требуется
все новое и новое раскрытие христианства, а церковь, пребывая в
неустанном молчании, пропускает всю совершающуюся жизнь мимо
себя. Вот освободить церковь от опеки светской власти, снести все
искусственные ограждения и заграждения, за которыми прячется
теперешняя церковь от жизни, пробудить в ней спящие силы, поставить
ее лицом к лицу, с глазу на глаз с страшно усложнившимися
вопросами современности, — и будет стараться Братство; в) для этого
необходима коренная реформа: восстановление истинно-церковной жизни.
По учению Нового Завета, церковь лишь живой организм, в котором
клир является только одним из членов наряду с другим — мирянами,
из которых каждый облечен достоинством «царственного
священства» (1 Петр. II: 9). Историческая церковь, проникаясь мирскими
стихиями, забывала это и постепенно закрепощала церковный народ
и выводила мирян из церковной ограды. И храмы опустели, и жизнь
ушла из церкви. Для возрождения необходимо произвести
раскрепощение, необходимо снова ввести мирян в храм; первой практической
мерой является создание общинной жизни. Верующие, группируясь
около храма, должны снова стать живой единицей. Весь распорядок
должен перейти в их руки, и, прежде всего, они сами должны изби-
990
ПРИЛОЖЕНИЕ II
рать себе священнослужителя из тех, кому они верят и кого любят из
своей же среды. Этим уничтожится оторванность клира; развившаяся
и усложнившаяся жизнь через мирян будет ставить свои вопросы уже
перед церковным сознанием, и церковь должна будет по-христиански
отзываться на все явления жизни. Только так и может произойти
раскрытие «правды» о земле, лежащей в самой сущности христианского
учения. Поэтому Братство начнет работу за освобождение церковного
народа.
3. Третьей задачей Братства является борьба против социального
и имущественного неравенства, от которого живые человеческие
души или изнемогают в непосильном физическом труде без проявления
бесконечных духовных возможностей, вложенных Богом в каждую
душу, или же просто гибнут от нищеты, голода и разврата. В основе
этих явлений лежит безнравственное отношение к собственности. Эти
отношения должны быть радикально изменены: а) в сфере
индивидуально-личной жизни для каждого христианина необходимо полное
высвобождение от уз частной собственности. Рост в красоту каждой
отдельной личности, т. е. реализация внутреннего человека,
возможен только в атмосфере абсолютной внутренней свободы. Для этой
свободы нужно расстаться со всем, что связывает, — между прочим,
отречься от частной собственности. Нормой должно быть то состояние
апостольской церкви, когда «никто ничего из имения своего не
называл своим» (Деян. IV: 32); б) в сфере общинной жизни, т. е. в
отношениях между собой верующих и принадлежащих к Церкви, это
внутреннее освобождение в силу принципа любви должно принять форму
фактического отрешения от частной собственности и установления
общения имуществ. И тут нормой должно быть состояние апостольской
церкви, «когда все верующие были вместе и имели все общее»
(Деян. II: 44); в) но эти принципы вполне разрешают социальный вопрос
только для тех, кто действительно находится в Церкви и для кого
евангельские заветы имеют обязательную силу. Поэтому в отношении
тех, кто, не принадлежа к Церкви или служа мамоне больше, чем
Богу, не хотят отказаться от частной собственности и, паразитически
пользуясь ненормальностями капиталистического строя, безбожно
эксплуатируют массы трудового люда и давят неимущих — Братство не
удовлетворится одной пропагандой. Во имя оздоровления тела
человечества и преуготовления его стать «женой облеченной в солнце»
(Апок. XII: 1) Братство вместе с существующими рабочими партиями
будет фактически обуздывать социальную и экономическую похоть,
пользуясь уже испытанными и выработанными формами борьбы:
стачками, забастовками и устройством союзов. Принимая эти старые
средства (и только эти), Братство наполнит их новым содержанием и
духом — духом грядущего в славе и силе Христа, и серую борьбу за
экономические интересы превратит в теургическое делание и
религиозный долг.
Христианское братство борьбы
Время Христианского братства борьбы
991
//. Епископам Русской церкви
Теперь заговорили о церковной реформе. Надеются на созыв
поместного Собора. Газеты говорят об этом как о вопросе решенном. У всех
верующих начинает подыматься радостная уверенность, что близится
час освобождения Русской церкви от векового гнета, час наступления
истинно церковной жизни, которой у нас не было, к позору нашему,
целые столетия. Мы глубоко чувствуем всю ответственность и
важность предстоящего устроения русской церковной жизни на
канонических основаниях и потому думаем, что удачно реформа может быть
проведена лишь в том случае, если она будет действительно отвечать
на назревшие нужды и запросы, для этого необходимо, чтобы
последние обозначились и стали для всех ясными. Нужды и запросы
духовенства еще более или менее известны, но нужды и запросы мирян
неизвестны почти совсем, потому что до сих пор в церковном бесправии
своем миряне в церковной жизни не имеют никакого голоса. О
запросах мирян, об их главных ожиданиях от Собора, мы и хотим сказать
в этом послании. Мы просим внимательно выслушать нас и смотреть
только на существо дела:
1. Прежде всего, мы просим освободить нашу религиозную совесть
от страшного соблазна. В чем этот соблазн, видно из нижеследующего.
По определению закона самодержавная власть неограниченна.
«Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и
неограниченный». Это — выражение закона, и значит, смысл его обязателен
для всякого подданного Российской империи. И значит, когда в
самые торжественные минуты богослужения нас приглашают молиться
за самодержавного царя — мы должны молиться за него как за
неограниченного монарха. А между тем мы не только не можем молиться за
неограниченного монарха, но решительно не можем просто его
признавать, ибо такое признание есть явное отступничество от Христа
и продажа своей христианской свободы. Почему — это видно из
дальнейшего. Признавать по совести царя своим неограниченным
государем — это значит признавать, что он может делать с признающим так
все, что захочет (ибо власть его неограниченна), может приказать ему
все, что хочет, и он должен повиноваться всякому приказанию,
каково бы оно ни было, согласно обещанию, ибо обещание дано было по
совести. Значит, если царь прикажет поклониться идолу или
совершить богохульство, то и тут признающий царя своим
неограниченным государем должен будет повиноваться согласно обещанию. Вот
яркая иллюстрация: дословный разговор с офицерами после событий
9-го января.
— И вы могли стрелять, зная, что рабочие ни в чем не виноваты?
Офиц. Мы не могли не стрелять, потому что дали присягу
исполнять всякое приказание государя.
— Всякое?
Офиц. Да.
— И если бы царь приказал расстрелять какого-нибудь святого,
положим Серафима Саровского (ведь приказал же самодержавный
992
ПРИЛОЖЕНИЕ II
царь Иоанн Грозный задушить святого митрополита Филиппа) и вы
бы заведомо знали, что это — святой, вы бы все же расстреляли?
Офиц. Да, расстреляли бы. Мы не можем не повиноваться.
— И даже если бы случилось так, что между нами появился
Христос и государь приказал бы вам его расстрелять и вы бы знали, что это
Христос, что бы вы сделали?
Офицеры смутились, подумали немного, но потом один за другим
ответили:
«Да, стреляли бы: мы обещали государю, мы уж несвободны».
«Мы уж несвободны»... В этом все и дело. Ибо признание царя
самодержавным равносильно утрате всякой свободы. Признавшей царя
своим неограниченным государем тем самым окончательно теряет
способность служить Христу, ибо такое признание заключает в себе
потенциальное утверждение, что в случае возникновения дилеммы
царь или Христос, — нужно стоять за царя, а не за Христа.
Признавши царя неограниченным государем навсегда и окончательно
выбирает себе господина: но, выбрав в действительности одного господина,
он уж теряет свободу и возможность служить всякому другому, т. е.
не может служить и Христу. Ибо сказано Христом: «Никто не может
служить двум господам» (Мф. 6:24).
Таким образом, каждый акт согласия на признание
неограниченной царской власти равносилен утверждению в далеких логических
следствиях отпадения от Христа, т. е. признание самодержавия есть
скрытое (а для тех, кто сознает это, и явное) отступление от Христа, и
значит, с христианством такое признание абсолютно несоединимо
и религиозною совестью неприемлемо.
На это могут сказать, что самая дилемма: царь или Христос —
невозможна. Ибо царь, по вере церковной и народной, является
помазанником Божиим и исполнителем не своей воли, а воли самого Бога.
Но те, кто так утверждают, пусть зададут себе по совести такой
вопрос: тем, что царь помазанник Божий, отнимается ли у него
возможность и отпасть от Христа? Если не отнимается, то сказанное выше
сохраняет всю свою силу. Если же отнимается, если признается, что
царь не только благочестив, но и выше возможности погрешит, т. е.
выше всякого греха, тогда получается нечто уже совсем
неподобающее. Вся условность человеческого существа снимается с царя, он
становится безусловным — Абсолютом — человекобогом, богом.
Остается воздвигать ему алтари и кадить фимиамом, воздавая божеские
почести, как это делали в древнем языческом Риме. А в Писании
сказано: «Да не будут тебе бозии инии разве Мене». Наша церковь
считает за ересь папизм, но тут больше папизма, — тут языческий
необузданный цезаропапизм, открытое поклонение «гению»
императора, забвение святой крови всех мучеников первых времен
христианства, и больше того: тут уже совершается поклонение еще не
пришедшему Зверю, ибо в самом принципе самодержавия лежит возможность
Антихриста. Это понято народным религиозным сознанием. Изучаю-
Время Христианского братства борьбы
993
щие раскол знают, как много места в нем занимает ужас пред
антихристианским наклоном самодержавной власти.
Сказанного было бы довольно. Но некоторые свою явно
антихристианскую приверженность к самодержавию хотят оправдать мнимо-
доказательными ссылками на произвольно выхваченные отдельные
места из Св. Писания. Взявшись нечистыми руками, можно и снег
замарать и создать иллюзию, что снег действительно грязен. Поэтому
нужно разобрать «библейские» основания культа самодержавной
власти. Часто приводя слова ап. Петра: «Будьте покорны всякому
человеческому начальству для Господа: Царю ли, как верховной власти,
правителям от него поставленным, для наказания преступников и для
поощрения делающих добро» (I Петр. 2:13—14). Из этого заключают:
раз ап. Петр заповедует покорность всякому человеческому
начальству — то значит, и покорность самодержавному царю. Сколько лжи
и отступничества в таком формально правильном заключении, видно
из следующего.
Когда тому же самому ап. Петру «начальники», «старейшины»,
книжники, первосвященники и прочие из рода первосвященническо-
го» (Деян. 4:5—6) приказали «не учить об имени Иисуса» — что
сделал ап. Петр? Повиновался ли во исполнение своих же слов: «будьте
покорны всякому человеческому начальству?» — Конечно, нет.
Вместе с ап. Иоанном «столпом Церкви» он сказал: «судите, справедливо
ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога», и отказался
повиноваться. В другой раз на второе запрещение Петр вместе с другими
апостолами (значит, это голос всех апостолов) сказал еще яснее и резче:
«должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).
Значит, ап. Петр учит нас быть покорными человеческому
начальству не всегда и не безусловно, а только тогда, когда приказания этого
начальства не противоречат нашей совести, и больше того: своею
жизнью ап. Петр учит нас быть покорными и открыто не повиноваться
человеческому начальству, когда оно запрещает делать то, что мы
считаем нашим религиозным долгом. И значит, у ап. Петра мы можем
найти не защиту самодержавия, а совершенно ясный завет открыто
заявить и исповедать религиозную неправду самодержавия и
отказаться его признавать.
Но если словами ап. Петра злоупотреблять невозможно ввиду
ясных других его слов, то, быть может, хоть с видимостью
правдоподобия можно недобросовестно использовать следующие слова ап. Павла:
«Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть
аще не от Бога»... (Рим. 13:1—2). К счастью, и этого сделать нельзя
ввиду одного несомненного и бесспорного факта: как признает
Церковь, ап. Павел, говоря словами мужа апостольского Клемента
римского, «мученически засвидетельствовал истину пред правителями»
(Поел. Клим, к Кор. 5 гл.), т. е. вместе с другими мучениками погиб
за то, что отказался воздать императорской власти божеское
поклонение. Этот факт прежде всего значит, что тот же самый апостол,
который говорил: «несть бо власть аще не от Бога», не только не считал
994
ПРИЛОЖЕНИЕ II
возможным исполнять всякое приказание этой, по его же словам,
Богом установленной власти, но даже открыто не повиновался ей и не
слушал известных ее приказаний, за что и поплатился
мученичеством. Этим ап. Павел учит, что из того, что власть установлена
Богом, вовсе нельзя заключать, что она не имеет пределов, является
неограниченной и может приказывать все, что угодно. Фактом своего
мученичества апостол указывает, что императорскую власть в
качестве неограниченной, т. е. посягающей на то, что ей не принадлежит,
он не признавал. А если мы скажем, что в этом непризнании, т. е.
в мученичестве, он, Богом вдохновленный святой апостол, поступал
не по случайным соображениям, а действовал, как он считал
должным действовать, то, значит, в его непризнании неограниченной
императорской власти лежит прямой завет всем верующим — так же,
как и он, ее не признавать и открыто заявлять о своем непризнании.
Если же мы вспомним, что в этом непризнании ап. Павел был не
одинок, а с ним вместе не признавали целые тысячи святых мучеников и
запечатлели свое непризнание мученической кровью, то получится, что
вся эта святая кровь ставит нам тот же завет, что и святые апостолы:
Во имя Христа отказаться от признания нашей теперешней
неограниченной царской власти — самодержавия.
После этих разъяснений, за неимением места, мы не будем
останавливаться на других «библейских» основаниях языческого культа
самодержавной власти и переходим к выводам.
По указанным соображениям, самодержавие абсолютно
неприемлемо христианскою совестью. Сознательное признание его
равносильно отступничеству от Христа, и потому Русская церковь, не искушая
более долготерпения Божия, должна первым своим сознательным и
воистину церковным, т. е. Христовым действием сделать исповедание
«истины пред правителями», т. е., другими словами, — на
предстоящем Соборе необходимо именно Церкви потребовать от царя отказа от
самодержавия. И сделать это исключительно во имя религиозных
соображений. Этим мы вовсе не говорим, что Церковь не должна была
и не должна теперь бороться с самодержавием как со злой
политической и общественной силой. Но только делать это она должна не чрез
духовенство, а чрез мирян. Ибо «каждый должен служить сообразно
с тем даром, который получил от Бога». На церковном Соборе,
созванном для устроения Церкви, мотивировка может быть только
религиозная. Итак, вот чего мы ждем от Собора прежде всего. Только совершив
это, Собор получит действительную свободу, без которой совершенно
немыслима созидательная работа по устройству Церкви на
канонических основаниях.
2. Теперь перейдем к тому, какую реформу Церкви мы считаем
безусловно необходимой. Безусловно необходимо то, что сказано и
заповедано в Евангелии, и потому обратимся прежде всего к Евангелию.
Что такое Церковь по Евангелию? Церковь, прежде всего, есть
тело Христово — живой организм, отдельными членами которого
являются верующие. «Вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор.
Время Христианского братства борьбы
995
12:17). Но составляя, как и всякое тело, однообразную, бесформенную
массу, Церковь носит в себе живые расчленения. «Тело же не из
одного члена, по из многих» (1 Кор. 12:14). Эти разные члены по самому
существу своему несводимы друг на друга и один другой заменить не
могут. Если один захочет вырасти насчет других, их себе покорить и
подчинить, то это незаконно, ибо тогда вместо многообразно
расчлененного тела получился бы один член, и тело как такое исчезло.
«Если бы все были один член, — спрашивает апостол, — то где было
бы тело?» «Если все тело — глаз, то где слух, если все — слух, то где
обоняние?» (1 Кор. 12:17—19). Значит, нормальная жизнь организма
Церкви возможна только тогда, когда каждый член функционирует
по своему, развивает специфическую, ему присущую энергию и,
значит, ставит препятствия этому функционированию, стеснять его и
совсем запрещать — является совершенно невозможным со стороны
одного члена по отношению к другому. «Не может глаз сказать руке: ты
мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны» (1 Кор.
12:21—25). Что же это за расчленения в теле Христовом — Церкви,
говоря конкретно? Тот же апостол языков разъясняет это вполне: «Вы
тело Христово, — говорит он коринфской общине, — и порознь —
члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами,
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары целений, вспоможения, управления, разные
языки» (1 Кор. 12:27, 28; Римл. 12:5—8). Если мы вспомним, что
пророчествовали, чудодействовали, учили, целили и говорили
разными языками не особо поставленные апостолом люди, а все верующие
(ярким доказательством этого служить вся 14-я глава 1-го послания к
Коринфянам), т. е. миряне, то тогда становится совершенно ясным,
что наряду с апостолами, т. е. священнослужителями и
совершителями таинств, особым самостоятельным расчленением Церкви по
апостолу являются миряне. Каждый из мирян является «живым храмом
Бога» (1 Кор. 3:16), «согражданином святым и своим Богу» (Еф.
2:19), «живым камнем строящейся Церкви, обладателем святого
звания», «царственного священства» (1 Петр. 2:5, 9; Апок. 1:6) во
исполнение древних пророчеств: «Вы будете у Меня царством священников
и народом святым» (Исх. 29:6; Ис. 61:6).
При таком внутреннем соотношении между главными
расчленениями Церкви — священнослужителями и мирянами, и во внешней
церковной жизни миряне необходимо должны быть не пассивными
зрителями, а активными участниками. Так и было в Апостольской
Церкви, потому что Апостольская Церковь была живым явлением
Церкви Вселенской. Когда в иерусалимской общине жизнь
выдвинула потребность в новой должности «диаконах», которые бы «пеклись
о столах», — что сделали апостолы? Поставили ли они этих диаконов
без согласия верующих? Ничего подобного. Они собрали собрание
«множества» верующих и, объяснив им, почему явилась нужда в
новой должности, сказали: «итак, братия, выберите из среды своей семь
человек». Собрание верующих согласилось на это, как говорится в Дея-
996
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ниях, «и угодно было это предложение всему собранию». Приступили
к выборам, избрали семь человек и, избравши, «поставили пред
апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Таким
образом, в избрании священнослужителей проявилось в Апостольской
Церкви органическое единство и взаимная обусловленность двух главных
расчленений Церкви — священнослужителей и мирян,
обусловленность, необходимо вытекающая из самого существа Церкви, о
котором сказано выше. Миряне — церковный народ свободно и
самостоятельно выбирают из своей среды доверенных людей, — апостолы
рукополагают их и сообщают дары. Такое же органическое единство
проявилось и в так называемом Апостольском Соборе, когда
«апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили» (Деян. 15: 22)
поднявшиеся вопросы. Вот что говорится и заповедуется о существе
церковной жизни в Евангелии.
Но Церковь историческая постепенно забыла эти заветы, по
примеру светских властителей стала закрепощать церковный народ, лишать
его церковных прав и выводить из церковной ограды. Это длинная и
печальная история, которой касаться мы здесь не можем. Но
результаты ее налицо: церковного народа в настоящее время не существует,
живой Церкви — нет, или по крайней мере она не совпадает с тем, что
принято называть Церковью. Это положение ввиду усложнения
жизни, ввиду надвигающейся исторической грозы — становится
совершенно невозможным. Часть духовенства это почувствовала и заговорила о
реформе. Но если в духовенстве после столь долгого и позорного
молчания воистину заговорил и ожил Дух Христов, то ограничиться и
серьезно удовлетвориться теми полумерами и «заплаточками», которые
предлагаются в печати духовенством, — конечно, совершенно
немыслимо. В деле церковного строительства мирские соображения являются
совершенно неуместными, а пренебрежение «главою угла» —
Христом и Его Евангелием — есть отступничество и коллективное
повторение отречения Петра. У Церкви только один путь жизни: это Христос
и Его Евангелие, все остальное — от лукавого и есть путь смерти.
То, что заповедано в Евангелии, для Церкви Христовой должно
быть безусловной нормой, лежащей в основе церковной жизни,
каноном, определяющим существенные черты ее устройства. Конечно,
Церковь как живая носительница Духа Святого, развиваясь и
возрастая в меру возраста Христова, может и должна создавать новые
нормы. Но эти нормы никак не могут противоречить тем безусловным и
отменять их, а могут только дополнять, только находить конкретные
применения их вечной сущности и живого Духа в зависимости от
многообразия жизненных условий. Поэтому как бы ни была богата
церковная практика за все время ее исторического существования —
уклад и правила церковной жизни, выработанные ею, для нас
обязательны лишь в том случае, если они дополняют и разъясняют нормы
и каноны, данные Евангелием, и ни в коем случае, если они им
противоречат. И значит, если духовенство возревновало действительно
о Церкви, а не о своем положении, которое станет вконец незавидным
Время Христианского братства борьбы
997
при установлении в России свободного режима, то, не смущаясь
фактическим укладом обмирщенной и порабощенной государством
Церкви, — необходимо вернуться ко Христу и Его Евангелию. Как смотрит
Евангелие на существо Церкви и церковной жизни — мы сказали
выше; теперь перейдем к тому, что же именно нужно сделать, чтобы
построить нашу церковную жизнь на действительно канонических,
т. е. евангельских, основаниях.
а) Прежде всего необходимо раскрепостить церковный народ,
вернуть ему свободу церковной самодеятельности и церковного
самоопределения. Это может быть достигнуто только путем восстановления
истинно приходской жизни. Приход должен стать живой единицей,
живущей полной церковной жизнью и органически объединяющей
в себе духовенство и мирян. Для создания этого единения
необходимо, чтобы священнослужитель не являлся в приход бог весть откуда,
чужим, никому неизвестным лицом, назначенным канцелярским
путем из далекого Петербурга, а был бы по доверию избираем самою
паствою. Верующие, группируясь около храма, должны получить право
сами, на месте и из своей же среды выбирать себе в
священнослужители тех лиц, которых они знают, любят и считают наиболее
подходящими и которым они действительно могут вверить по свободному
расположению столь важную и ответственную должность. Выбранные
прихожанами лица, подготовившись к служению в течение
известного времени, рукополагаются епископом и возвращаются в свой
приход. Выбранные этим путем приходские священники,
принадлежащие к одной епархии, съезжаются вместе и избирают архиерея из
своей среды (т. е., значит, архиерей может быть женатым, что не
только противоречит, но даже требуется церковными канонами) или
из монашества. Архиереи всех епархий Русской Церкви, съезжаясь
вместе, выбирают опять из своей среды или из монашества патриарха.
Только таким путем выбранный патриарх будет действительно связан
со всей Церковью и явится истинным представителем и руководителем
ее в делах общецерковного характера, т. е. междуприходских и
междуепархиальных, с одной стороны, и в отношениях к государству, с
другой. Учреждать же патриаршество, не обновив и не построив на
евангельских началах самых низов и оснований церковного управления,
является простым закреплением того позора, который совершается в
Русской Церкви теперь, но так как это закрепление будет
сознательным действием, то, значит, это будет и новым, уже перед всеми
открытым заявлением, что для Русской Церкви господин — не Христос,
а кто-то иной. (Детально разработанный план церковного
переустройства на канонических основаниях мы представим в свое время.)
б) Материальная сторона приходской жизни переходит в руки
прихода. Все дела, связанные с доходами и расходами по храму,
ведаются особо выбранными всем приходом лицами. Обязательность
платы за требы уничтожается безусловно и взимание добровольной платы
производится не священнослужителями, а теми же доверенными
лицами. Этим прекращается невозможная в Церкви торговля и барышни-
998
ПРИЛОЖЕНИЕ II
чество — особенно сильное в деревне, — которое превращает
служителей слова и совершителей таинств в откупщиков, что имеет
результатом почти повсеместное, или враждебное, или пренебрежительное
отношение к духовенству. Кроме того, постепенно верующие должны
взять на себя не только заведывание обеспечением текущей
приходской жизни, но и содержание самих священнослужителей, так чтобы
священнослужители содержались не на счет государства, а на счет
самого же прихода. Этим подготовится важный и крупный шаг,
который рано или поздно все равно придется сделать, это — отделение
Церкви от государства, мера, которая должна быть страстно
желаемой искренно верующими. Только необходимо, чтобы отделение это
было совершено не по предложению государства, как это теперь во
Франции, а по почину самой же Церкви. Церковь не должна ждать,
пока ее отделят насильно, по мирским соображениям, оставив ее без
содержания, а должна отделиться сама, во имя Христовой свободы.
в) Когда приход станет живой единицей, а священнослужители
выборными и доверенными людьми, тогда сразу станет возможным
уничтожить коренные недостатки теперешней Церкви. С одной
стороны, в приходе верующие перестанут быть друг другу чуждыми
людьми, случайно встречающимися на богослужении и совершенно не
знающими друг друга. Храм станет центром, вокруг которого будут
формироваться новые отношения и связи. Верующие станут друг к
другу сторонами теперь нераскрытыми; из этого соприкосновения
сначала затеплятся, а потом и ярко разгорится жизнь, которая будет
интимнее и глубже, чем самая высокая индивидуально-уединенная
жизнь, и в то же время более любовная и более проникнутая
единением, чем самая высокая семейная жизнь. Из отдельных посетителей
храма — прихожан — верующие станут единой общиной, живущей
коллективной жизнью. Индивидуальные действия и поступки,
сплавляясь и очищаясь соборными переживаниями, превратятся в
религиозное делание. Одним словом, зародится общинная жизнь. Тогда сам
собой устранится среди верующих современный камень
преткновения — социальный вопрос. В каждом приходе все бедняки, калеки,
старики, сироты и все нуждающиеся станут общей тяготой и общей
заботой. Горькое станет сладким и трудное легким и, помогая им,
будут радоваться, что могут излить любовь и восполнить от своего
избытка их недостаток. И тогда можно будет сказать словами Деяний
апостольских: у множества верующих будет одно сердце и одна душа,
и никто из имения своего не будет называть своим, но все у них будет
общее; и не будет больше среди них нуждающихся, ибо всем будет
уделяться, смотря по нужде каждого. Установится полное общение
мыслей, переживаний и имуществ, как было в Апостольской Церкви;
только тогда это было потому, что близко было время, когда сам
Господь приходил и обитал среди людей, а теперь потому, что близко
уже время, когда мы увидим лицо Пресвятой Матери нашей Церкви,
и близко время, когда Господь приидет в силе и славе судить живых
и мертвых. Для общения имуществ и правильного распределения по
Время Христианского братства борьбы
999
нуждающимся необходимо, чтобы в Церкви возродилась благодать
диаконства. А так как женщинам свойственна особая мудрость к
устроению имущественных отношений, то необходимо возродить в Церкви
Апостольский институт диаконис.
г) Народ мистически связан с землей. И потому духовенство,
оторвавшись от церковного народа, постепенно перестало по-Божьему
понимать все земное. Монашество, бывшее когда-то
сильнодействующим средством, — когда было принято в большой дозе — и проникло
во все стороны церковной жизни, как и всякое лекарство, принятое в
большой дозе, стало действовать разрушающим образом и
превращаться в яд, отравляющий Церковь. Оно окончательно угасило идею
царственного священства мирян и окончательно лишило Церковь
зрения на землю. Церковь, будучи высшей руководительницей в
индивидуальной жизни, во всем остальном, в общественных и политических
отношениях, была и есть беспомощно слепа. От этой слепоты и
зависит длинный исторический ряд позорных соучастии представителей
Церкви в общественных и политических, малых и крупных
злодеяниях, соучастии, из которых последним и всем памятным было
послание Синода по поводу событий 9 января и преступное молчание всего
духовенства. А между тем возрождение церковного народа, связанное
с восстановлением истинно приходской жизни, исцелит Церковь от
этой слепоты: земля опять попадет в поле ее зрения, и восстановится
к ней истинное и должное отношение. Вся история и культура, все
вопросы, которыми мучилось человечество прошлого и которыми
болеет человечество современное, через мирян будут ставиться не перед
отдельным сознанием отдельных более или менее высоких христиан,
а пред соборным сознанием Церкви. Церковь как такая должна
пережить все, чем жили отдельные люди, и ответить на все соборне, как
истинное тело Христово, носящее в себе ум Христов. Этот ответ будет
для людей новым откровением, потому что полноты Христовой
истины мы не имеем в себе — не только в жизни, но и даже в сознании.
Кроме того, начнется общественное служение Церкви, т. е.
действенное утверждение Христовой правды в чуждых ей политических,
общественных и экономических стихиях. Верующие миряне, утверждаясь
в общинной жизни и прикасаясь в ней к идеалу
истинно-христианских отношений, понесут свой опыт ко всем стоящим вне общины и не
верующим и будут стараться всеми силами установить среди них
справедливые отношения, помогая слабым против сильных,
уничтожая безбожную эксплуатацию капиталом труда.
Итак, наши чаяния от будущего Собора сводятся к следующему:
1. Собор во имя Христово откажется признавать царя
самодержавным и потребует от царя, как от одного из верующих, отказа от
самодержавия;
2. Собор восстановит истинно-каноническую жизнь в Церкви
созданием живой церковной единицы — прихода, ведающего весь свой
внутренний распорядок и избрание священнослужителей, и
1000
ПРИЛОЖЕНИЕ II
3. На Соборе в качестве равноправных с духовенством членов
будут допущены миряне.
Последний пункт мы считаем очень важным и потому скажем о нем
в следующем обращении к епископам отдельно.
Христианское братство борьбы
III. Воззвание к военным
Братья христиане!
Страшный и тяжелый грех на вашей душе. По приказанию
безбожной светской власти усмиряете вы «бунтовщиков», убиваете и
мучаете их. Самое же ужасное то, что, убивая своих братьев христиан, вы
не приносите покаяния, думаете, что поступаете хорошо. Это не наше
дело, — говорите вы, — начальство велит, оно и ответит перед Богом,
а мы обязаны слушаться. Не так говорили апостолы и святые
мученики христианские, когда начальство заставляло их отрекаться от
Христа и кланяться идолам. Не говорили они тогда: поклонимся,
отречемся, — а там пускай начальство отвечает.
Господь Иисус велел любить друг друга, велел молиться за врагов,
как сам Он молился на кресте за распинавших Его. А вы теперь
убиваете не только врагов своих на войне, но и друзей своих, и крестьян в
городах и деревнях. Вам говорят — они бунтовщики, сами
виноваты, — заставляют стрелять и бить их. Но разве уж так виноваты
голодные крестьяне, когда они берут хлеб у помещиков, проживающих
в городе десятки тысяч рублей в год, или рабочие, не знающие
отдыха, измученные от работы, когда они просят прибавки жалованья и
сокращения рабочего времени. Почти все вы сами крестьяне, сами
знаете, как тяжело жить и в деревне, и на фабрике, как и рад бы не
бунтовать, да велит нужда. А если они и виноваты, то разве есть такая
вина, за которую можно убивать людей? Вспомните, как воины
хотели взять Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Неужели эти воины
были меньше виноваты, чем несчастные рабочие, просящие кусок
хлеба? И вот когда апостол Петр выхватил меч, чтобы зарубить
нечестивых воинов, Господь сказал: «возврати меч твой в его место, ибо все
взявшие меч мечом погибнут».
Начальство приказывает, — говорите вы, а Господь велел
слушаться начальства. Да, велел. «Всяка душа властем предержащим да
повинуется»,— сказал апостол. Но нигде не сказал он, что начальство
нужно слушаться во всем, но до тех пор, покуда это начальство не
требует от вас противного воле Божией. Апостол знал, что такие
случаи будут, и сказал верующим,.— если потребуют от вас, противное
вашей совести и законам Иисуса Христа, отвечайте: аще праведно
есть пред Богом, т. е. разве хорошо слушаться начальства, если оно
требует безбожного дела. А разве убивать, хотя бы и бунтовщиков, не
безбожное дело? Кто выше, Бог или царь со своими слугами? Один
у нас Господь и Царь Иисус Христос. И потому если царь и слуги его
велят делать то, что не велел Господь, вы должны слушать Господа,
Время Христианского братства борьбы
1001
ибо нельзя служить двум господам. Подумайте только. Вдруг на
землю пришел бы Христос, стал бы учить, начальству не понравилось бы,
и оно приказало вам расстрелять Его. Кого бы послушались вы?
Неужели царя земного, а не Царя Небесного. Но ведь Христос приходит
на землю и теперь в виде голодных и обиженных людей. Вы не
помогаете им, вы стреляете в них, — вы стреляете в Христа. Вы
отрекаетесь от Него. И Господь оттолкнет вас и скажет: «так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». Страшный,
великий грех убивать людей, — виноваты они или невиновны, все
равно. Никто не имеет власти кроме Бога лишать человека жизни;
Царь ослеп от своей власти и встал на Царя Небесного. Он велит нам
нарушать святую заповедь — не убий, и велит убивать христиан. Вы
не должны делать этого, не должны слушать начальников, если они
требуют безбожного дела, не должны помогать царю отступнику,
должны служить одному Царю и Господину Иисусу Христу.
Вас будут безбожные слуги царские мучить и убивать, — но
блаженны те, кто примет страдания за Христа и за правду Его;
«блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправильно
злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Без ропота
умираете вы на войне за царя земного, неужели вы побоитесь умереть за
Царя Небесного и под угрозами казней станете убивать своих братьев.
Нет, еще крепка в нас Христова вера. Не побоитесь вы мучителей и
безбоязненно, по примеру великих служителей Христовых, смело
скажете царским слугам, когда они будут заставлять вас стрелять в
беззащитных бунтовщиков: Господь не велит, не пойдем, — ибо все
взявшие меч мечом погибнут.
Христианское братство борьбы
(Эти материалы были опубликованы в газете
«Освобождение» № 73 от 19 июля (6 июля) 1905 г. С. 386—391.)
2. В. П.Свенцицкий
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО
К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Я не могу молчать. Но пойти на улицу, на площадь, к верующим
и любящим людям — это значит услышать их человеческое мнение,
излить душу свою перед их человеческим сердцем, узнать их
человеческий ответ. Мне нужно не то. Я жажду голоса Церкви, я
исстрадался, не слыша его. И я слабый в своем одиночестве, — ибо все мы без
Церкви одиноки, — но, веруя и исповедуя невидимую святую,
соборную и апостольскую Церковь, — теперь решаюсь воззвать к ее голосу.
Я знаю, что для многих смешно будет мое обращение. «Церкви
нет», — скажут они. Для многих оно будет безумной дерзостью: «кто
1002
ПРИЛОЖЕНИЕ II
он, чтобы спрашивать Церковь?» Но первым напомню слова
Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата Адовы не одолеют ей». Я верю,
что Церковь есть, я верю, что она пребывает хотя невидимо для глаз;
я верю, что сила Антихриста не победила и не победит ее; я верю, —
грядет час, и она, подобно жене, облеченной в солнце, откроет себя
миру во всей своей славе, во всей своей силе, во всей своей красоте.
Вторым скажу так: «Если вы веруете во Христа, и Церковь для вас
не мертвый звук, а живое тело Его, если вы не на словах, а всем
существом своим поняли, что весь смысл жизни в том, чтобы облечься во
Христа и облечь в Него мир, чтобы каждое дыхание ваше свершилось
во имя Его — "да будет Бог вся во всем", то вы должны понять
человека, который долее не хочет сносить рабских цепей условности и
компромиссов, не хочет долее прятаться под безбожную маску, называя
ее смирением, — и во имя Христово, вслух всей Церкви, хочет заявить
о своих наболевших думах.
За одну декабрьскую неделю Москва пережила ужасы, каких она
не переживала, может быть, за всю свою многовековую историю. Небо
пылало багровым заревом; ревели пушки; город стонал от ружейной
пальбы; снег пропитался человеческой кровью: в безумной
жестокости люди расстреливали друг друга; убивали детей, стариков и
женщин. Свершался великий грех. И в этом великом грехе самое
страшное было не то, что делалось, а то, во имя чего делалось.
Один солдат на мольбу опомниться, не убивать людей, сказал: «Если
велит начальство, отца родного убью, — я принял присягу». Вот в этих
словах весь ужас совершавшихся событий: кровь лилась во
исполнение клятвы Господу.
Моя христианская совесть не может примириться с этим. Клясться
именем Христовым убить отца, если прикажет начальство, это
больше, чем отречение от Христа, больше, чем терновый венец и распятие
на кресте! Такого кощунства, такого издевательства над Спасителем
не мог бы придумать и Иуда.
Я умоляю Церковь объяснить мне, спасти меня от этого кошмара,
рассеять сомнения и, если я неправ, призвать меня к покаянию!..
Я знаю, что скажут мне официальные представители Церкви.
«Всякая душа властем предержащим да повинуется, несть бо власть аще
не от Бога». Бог велел слушаться начальства! Да, велел. Но разве
Апостолы, когда им запретили учить от имени Иисуса, не сказали этим
властям от Бога: «аще праведно есть пред Богом вас послушати паче
нежели Бога»? Разве почти все апостолы не погибли за непослушание
властям? Значит, есть же границы этому послушанию! И не в том ли
эти границы, чтобы заповеди Божий ставить выше требований
человеческих и исполнять требования властей только до тех пор, пока они
не идут вразрез с заветами Христа. Ибо всякий, идущий против
Христа, — Антихрист. Так ужели христиане должны слушаться
Антихриста? Это ложь. Это хула на Духа Святого. И я утверждаю: Бог не
принимает клятвы в подтверждение готовности свершить злодеяние!
Принявших такую клятву Церковь должна немедленно освободить от
Время Христианского братства борьбы
1003
присяги и тем смыть всю ту кровь, которая пролилась именем
Христовым на святой Животворящий Крест.
Но этого мало.
Официальные представители Церкви учат, что насилие
недопустимо, что насилие преступно, с чьей бы стороны оно ни исходило, во имя
каких бы целей оно ни совершалось. Обсуждая правду и ложь
освободительного движения, они определенно и резко осуждают тактику
крайних партий. Они говорят: христианство не может благословить
насилия, а тем более убийства. Но если так, если христианство не
может оправдать убийства, с чьей бы стороны оно ни совершалось, то
Церковь должна с такой же прямотой и определенностью, с какой она
обращается к революционерам, сказать: безбожное дело совершают и
солдаты, убивая борцов за свободу.
Почему в отношении крайних партий такая определенность, такая
прямота, а в отношении властей предержащих такое преступное
молчанье?
Ведь крайние партии и не считают себя принадлежащими к
Церкви. Предписания и требования Церкви не доходят до них. Но не
больше ли обязанности у Церкви в отношении тех, кто составляет ее
стадо. Почему же Церковь обличает тех, кто открыто объявляет себя
атеистом, и рабски безмолвствует в отношении своих чад, когда они
делают то же самое? Если власти предержащая и солдаты совершают
то, что, по глубочайшему убеждению Церкви, христиане делать не
должны, — не прямая ли обязанность прежде всего обратиться
именно к ним, потому что они считают себя в лоне Церкви. Не говорите:
бунтовщики начинают первые, а потому на них больше вины. Воины
первые схватили Христа, Петр только хотел защищаться, и Христос
ему велел вложить в ножны меч.
Церковь должна властно и дерзновенно возвысить свой голос и
призвать сынов своих к покаянию. Я считаю, что Церковь обязана
немедленно же наложить покаяние на генерал-губернатора Дубасова как
одного из верующих, который был главным руководителем
совершаемых злодейств, а равно на всех тех, проливавших кровь, кто именует
себя христианами. Если же покаяние они отвергнут — отлучить от
Церкви.
Но Церковь, тело Христово, не может ограничиться этим. Грех
одного — несчастие всех. Возлагая покаяние на одного, нужно призвать
к молитве всех. А потому на всю Православную Церковь должен быть
наложен пост в знак глубокой печали о великих грехах, содеянных ее
членами, и в усиление молитв о ниспослании прощения и очищения.
У нас, при полном отсутствии приходской жизни, при
совершенном бесправии мирян, при самом кощунственном попрании соборного
начала Церкви, — я не знаю другого способа вслух обращаться к
Церкви, кроме печатного слова. Пусть все, кто сочувствует моему
«Обращению», перепечатают его в своих изданиях. Пусть все верующие,
братья и сестры мои во Христе, обсудят его между собой, — и тогда
я, — не знаю, как именно, — но получу то, о чем прошу. Я верю, что
1004
ПРИЛОЖЕНИЕ II
если мое «Обращение» действительно дойдет до Церкви,
действительно дойдет до собрания верующих, то я услышу и церковный голос.
Аминь.
Редакция «Полярной звезды» снабдила эту публикацию
следующим примечанием: Не разделяя церковных убеждений, мы охотно
даем на страницах нашего журнала место искреннему голосу
верующего православного, потрясенного неслыханными событиями
недавних дней. В этом голосе нами чувствуется истинная и глубокая
религиозность, которую всякий человек, каковы бы ни были его
убеждения, должен уважать. — Ред.
(«Обращение» В. П. Свенцицкого было опубликовано
в двухнедельном журнале «Полярная звезда» M 8
от 3 февраля 1906 г., с. 561—564.)
€^
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Когда время славянофильствует
1. ВОЗЗВАНИЕ К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ
93 ГЕРМАНСКИХ ПРОФЕССОРОВ
Как представители науки и искусства в Германии мы протестуем
перед цивилизованным миром против лжи и клевет, которыми наши
враги пытаются запятнать честь Германии в ее тяжкой борьбе за
существование — в борьбе, которую ей навязали.
Когда железная речь событий доказала, как далеки от правды
мнимые германские поражения, были пущены в ход клевета и
систематические искажения. Как глашатаи истины мы поднимаем свой
голос против них.
Неправда, что Германия виновна в возбуждении войны. Ни народ,
ни правительство, ни император не желали войны. Германия сделала
все, чтобы помешать ей; весь мир может судить об этом на основании
неопровержимых доказательств. В продолжение 26 лет своего
царствования Вильгельм II всегда выступал в защиту мира, и это всегда
признавалось даже нашими противниками. Разве не они всегда
высмеивали императора, которого называют теперь Атиллой, за его
упорные старания поддерживать всеобщий мир. Вся нация поднялась
как один человек не прежде, чем на ее границах появилась численно
превосходные неприятельские силы.
Неправда, что мы вторглись в нейтральную Бельгию. Доказано,
что Франция и Англия первые решились на вторжение, и доказано
равным образом, что это было решено с согласия Бельгии. С нашей
стороны было бы самоубийством не предупредить их.
Неправда, что жизнь и собственность отдельных бельгийцев
подвергались насилию со стороны наших солдат в тех случаях, когда это
не вызывалось крайней необходимостью самообороны. Нет и нет.
Несмотря на предупреждения, жители, залегая в окнах, стреляли из
домов в солдат. Они хладнокровно убивали и ранили медицинский
персонал, когда он исполнял свой высокий долг. Изображать немцев
преступниками за то, что они боролись с этими преступлениями и
справедливо наказывали убийц — значит до последней степени низко
искажать истину.
Неправда, что наши войска варварски поступили с Лувеном.
Разъяренные жители города напали на наших солдат и принудили их
сжечь в виде наказания часть города. Лучшая часть Лувена пощаже-
1006
ПРИЛОЖЕНИЕ III
на; знаменитая городская ратуша осталась совершенно нетронутой
благодаря величайшему самопожертвованию наших солдат, спасавших
ее от пожара. Каждый немец глубоко пожалеет, если в продолжение
этой ужасной войны погибло или еще погибнет какое-либо
произведение искусства. Однако хотя ни один народ не относится к искусству
с большим почитанием, чем мы, тем не менее мы решительно
отказываемся покупать спасенье памятников искусства ценою поражения
Германии.
Неправда, что, воюя, мы не считаемся с международным правом;
мы не совершали беззаконных жестокостей. Между тем на восточной
нашей границе земля напоена кровью женщин и детей, безжалостно
заколотых дикими русскими войсками, а на западе пули дум-дум
увечат наших солдат. Те, кто вступили в союз с русскими и сербами и
явили миру постыдное зрелище подстрекательства монголов и негров
против белой расы, не имеют права считать себя столпами
цивилизации.
Неправда, что наши противники борются только против
германского милитаризма, как они лицемерно уверяют. Они борются и
против нашей цивилизации. Без германского милитаризма германская
цивилизация давно была бы вырвана с корнем. Под его покровом она
выросла в стране, в которой в течение веков царил беспримерный
развал. Германская армия и германский народ едины, и ныне это
сознание братски объединяет немцев всех сословий, общественных
положений и партий.
Мы не можем выбить отравленное оружие — ложь — из рук наших
врагов. Все, что мы можем, — это объявить всему миру, что наши
враги лжесвидетельствуют против нас. Вы, кто знаете нас, кто вместе с
нами хранили самые святые завоевания человека, к вам мы взываем:
Имейте доверие к нам. Верьте, что мы стремимся довести эту
войну до конца так, как подобает цивилизованному народу, для которого
наследие Гёте, Бетховена и Канта так же священно, как его
собственные жизнь и очаги.
Порукой в этом наши имена и честь.
Адольф фон-Байеру профессор химии, Мюнхен.
Проф. Юстус БринкмаНу директор музея, Гамбург.
Проф. Петер Беренс, Берлин.
Иоанн Конраду профессор национальной экономии,
Галле.
Эмиль фон-Беринг у профессор медицины, Марбург.
Франц фон-Дефреггеру Мюнхен.
Вильгельм фон-Воде, главный директор Королевского
музея, Берлин.
Рихард Демель, Гамбург.
Алоиз БрандлЬу профессор, президент шекспировского
общества, Берлин.
Адольф Дейсс манн у профессор богословия, Берлин.
Когда время славянофильствует
1007
Луи БрентанОу профессор национальной экономии,
Мюнхен.
Проф. Вильгельм Дерпфелъд, Берлин.
Фридрих фон-Дун у профессор археологии, Гейдельберг.
/. /. де-Гроот, профессор этнологии, Берлин.
Альберт Эрхард, профессор католического богословия,
Страсбург.
Фритц Хабер, профессор химии, Берлин.
Проф. Пауль Эрлих, Франкфурт на Майне.
Эрнст Гекелъ, проф. зоологии, Иена.
Карл Энглер, профессор химии, Карлсруэ.
Макс Хальбе, Мюнхен.
Гергард Эссер, профессор католического богословия,
Бонн.
Проф. Адольф фон-Гарнак, главный директор
королевской библиотеки, Берлин.
Рудольф Эйкену профессор философии, Иена.
Герберт Эйленберг, Кайзерверт.
Генрих Финке у профессор истории, Фрейбург.
Эмиль Фишер у профессор химии, Берлин.
Вильгельм Ферстеру профессор астрономии, Берлин.
Людвиг Фу льда у Берлин.
Эдуар фон-Гебгарду Дюссельдорф.
Гергарт Гауптману Агнетендорф.
Карл ГауптманНу Шрейберхау.
Густав ХеллъмаНу проф. метеорологии, Берлин.
Вильгельм Германн, профессор протестантского
богословия, Марбург.
Андреас Хейслеру профессор северной филологии,
Берлин.
Адольф фон-Гильдебранду Мюнхен.
Людвиг ГоффманНу городской архитектор, Берлин.
Энгельберт Гумпердинк, Берлин.
Леопольд Граф Калькрейс, президент германского
артистического союза, Эддельсен.
Артур Кампфу Берлин.
Фриц Авг. ф. КаульбаХу Мюнхен.
Теодор Кипи, профессор права, Берлин.
Феликс Клейн у профессор математики, Геттинген.
Макс Елингеру Лейпциг.
Алоиз Кнепфлеру профессор истории искусств,
Мюнхен.
Антон Кох, профессор римско-католического
богословия, Мюнстер.
Пауль Лабанду профессор права, Страсбург.
Карл Лампрехту профессор истории, Лейпциг.
Филипп Ленару профессор физики, Гейдельберг.
1008
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Максимилиан Ленц, профессор истории, Гамбург.
Макс ЛибермаНу Берлин.
Франц фон-Лист у профессор права, Берлин.
Людвиг МанцелЬу президент Академии искусств,
Берлин.
Иозеф МаусбаХу профессор римско-католического
богословия, Мюнстер.
Георг фон-Майр, профессор политических наук,
Мюнхен.
Себастиан Меркле, профессор римско-католического
богословия, Вюрцбург.
Эдуард Мейеру профессор истории, Берлин.
Генрих Морф, профессор романской филологии,
Берлин.
Фридрих НауманНу Берлин.
Альберт Нейссер, Берлин.
Вальтер Нернсту профессор физики, Берлин.
Вильгельм Оствальд, профессор химии, Лейпциг.
Бруно Пауль, директор школы прикладных искусств,
Берлин.
Макс Планку профессор физики, Берлин.
Альберт Плену профессор медицины, Берлин.
Георг Рейке, Берлин.
Профессор Макс Рейнгардту директор германского
театра, Берлин.
Алоиз РилЬу профессор философии, Берлин.
Карл Роберт у профессор археологии, Галле.
Вильгельм Рентген у профессор физики, Мюнхен.
Макс Рубнеру профессор медицины, Берлин.
Фриц Шапер, Берлин.
Адольф фон-Шлаттеру профессор протестантского
богословия, Тюбинген.
Август ШмидлиНу профессор Священной истории,
Мюнстер.
Густав фон-Шмоллер, профессор национальной
экономии, Берлин.
Рейнгольд Зееберг, профессор протестантского
богословия, Берлин.
Мартин IIIпан, профессор истории, Страсбург.
Франц фон-Штуку Мюнхен.
Германн Зудерманн. Берлин.
Ганс Тома, Карлсруэ.
Вильгельм Трюбнеру Карлсруэ.
Карл Фолльмеллер, Штутгарт.
Рихард Фосс, Берхтесгаден.
Карл Фосслеру профессор романской филологии,
Мюнхен.
Когда время славянофильствует
1009
Зигфрид Вагнер, Байрейт.
Вильгельм Валъдейер, профессор анатомии, Берлин.
Август фон-Вассерманн, профессор медицины, Берлин.
Феликс фон-Вейнгартнер.
Теодор Виганд, директор музея, Берлин.
Вильгельм Вин, профессор физики, Вюрцбург.
Ульрих фон-Виллармовиц-Меллендорф, профессор
филологии, Берлин.
Рихард Виллыитеттер, профессор химии, Берлин.
Вильгельм Винделъбанд, профессор философии, Гей-
дел ьберг.
Вильгельм Вундт, профессор философии, Лейпциг.
(Перепечатано из брошюры Самуэля Гардена Черна,
президента института Карнеги β Питтсбурге
«Америка о виновниках войны. Ответ на "Воззвание
к цивилизованному миру 93 германских профессоров"».
Пг., 1915. С. 35—45.)
2. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРМАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
На вчерашнем заседании Религиозно-философского общества
имени Вл. Соловьева В. Ф. Эрн попытался поставить вопрос не о сущности
немецкой культуры и нашем должном отношении к ней, а о
фактическом и житейском отношении нашего общества к тому, что мы
называем «немецкой культурой».
— Все чаще и чаще, — говорил докладчик, — раздаются голоса
опасающихся за судьбы германской культуры. Плакальщики из
«Русских ведомостей» и иные печальники, с неистребимым
маниловским добродушием опасаются гибели всего «ценного» в германской
культуре. Но ведь никто и ничто не угрожает немецкой культуре по
существу. Гораздо опаснее для нее пересмотр наших отношений к ней.
Мы находились все время в рабском подчинении к
форсированному германскому культурному экспорту. Культура превратилась в
Германии в коммерческое предприятие, и к нам ввозят и распространяют
в России всякие суррогаты истинного знания. Нам необходим выбор и
освобождение из германского гипноза. Мы сами сумеем выбрать то
золото, которое есть в германской культуре. Но вопрос, где золото
и где грязь германской культуры, — есть вопрос, прежде всего,
оценки по существу. От такой оценки докладчик на этот раз уклоняется.
Последовавшие прения после вступления В. Ф. Эрна все же, вопреки
воле докладчика, перешли и сосредоточились именно на оценке по
существу.
Н. Успенский находит, что совершенный В. Ф. Эрном «пересмотр»
германской культуры напоминает по своей жестокости и грубой
прямолинейности германцев при разрушении Рейнского собора.
Необходима осторожность в оценках.
1010
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Кн. Ε. H. Трубецкой утверждает, что в нашем отношении к
германской культуре нам грозит большая опасность — наш собственный
«национализм», недооценка германской культуры. Раньше была
недооценка своего, а теперь маятник перегнулся, и получается переоценка
своего в ущерб чужому.
Вяч. Иванов, очевидно, забыв свой доклад о «вселенском смысле
войны», сделал историческую справку о культурах зрелых и незрелых.
К первым он относит культуру немецкую, а ко вторым — культуру
русскую. Первым свойственна повышенная оценка своего и принцип де-
национализма (усвоение только общего), вторым — стыд за свое,
перенимание чужого и стремление к верхушкам знания. Мы доживаем
период незрелости, в то время как Германия обладает культурой
законченной и зрелой. Уже чувствуется голод по германской культуре,
и не только у нас, а и у Франции и Англии, которые питались
германской культурой.
Оригинальную и резко диссонирующую речь произнес С. Ф. Кече-
кьян. Необходимо опасаться не за судьбы германской культуры, а за
судьбу культуры русской. Где гарантии, что мы осуществляем
вселенское дело, а не германцы? И германцы сражаются за любовь к родине
и обнаруживают при этом не тевтонскую жестокость, а римскую
доблесть. Нам необходимо осудить не германцев, а то зло, которое
кроется в каждой войне.
С. Н. Булгаков и на этот раз остался верен себе и не подчинился
тем расслабляющим настроениям, которые так ярко выразились в
речах большинства участников беседы. Вопрос идет не об отношении к
германской культуре, а об отношении нашем к нам самим, к нашей
судьбе и нашему назначению. Мы пережили европейскую культуру, и
у нас есть свой глухой зов, своя тоска к иной культуре —
религиозной. Но нам нужен наш идеал, иной, чем европейский, и от него мы
не откажемся.
Говорили еще С. Дурылин, Б. А. Грифцов и др.
В. Ф. Эрн отвечал оппонентам.
(«Утро России». Москва. 1915. 16 января. M 16. С. 4.)
3. В. Эрн
В СОЛОВЬЕВСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(Письмо в редакцию)
О закрытом заседании Религиозно-философского общества памяти
В. Соловьева, посвященном вопросу об «отношении к германской
культуре», в печать прошли не совсем правильные сведения. По отчетам
выходит так, что на заседании царили «расслабляющие настроения»,
причем под последними разумеется «германофильский» тон речей
некоторых из ораторов.
Когда время славянофильствует
1011
Ввиду того, что такое неправильное освещение может быть
подхвачено германофильскими элементами нашего общества, которые от
души могут обрадоваться мнимому германофильству, вдруг
зазвучавшему в обществе памяти В. Соловьева, я, как участник заседания,
ощущаю большую потребность сказать несколько слов о
действительном характере этого весьма интересного вечера.
Германофильские речи совершенно неизбежны в атмосфере
свободного и чисто теоретического обсуждения. Раз в русском обществе
существует германофильствование (этот начальный факт совершенно
несомненен), то германофильские точки зрения непременно прозвучат
в беседе, в которой священно соблюдается принцип свободы в
высказываниях. В вечере, о котором я говорю, характерно не то, что в нем
раздались германофильские речи (кстати сказать, весьма корректные
по форме), а то, что они совершенно потонули в речах
противоположного характера. И потонули не потому, что речей германофильских
было мало (четыре), а речей противоположного направления было
много (десять). Нет, в развитии беседы, которая шла нарастая, речи
германофильского направления были внутренно зачеркнуты и с
большим подъемом преодолены речами других ораторов.
Соловьевское общество поступило очень мудро, дав возможность
германофильствующей молодежи высказать до конца свои незрелые
и «зеленые» мысли о германской культуре. Они говорили горячо и в то
же время с величайшей внутренней неуверенностью. Они все время
прибегали к выражениям: «может быть», «а не есть ли?», «а нельзя ли
сказать?» и скорее гадали о возможной правде германской культуры,
чем утверждали о ней что-нибудь в определенной и обоснованной
форме. Поэтому от речей их получалось впечатление симптоматичное,
несмотря на ошибочность их тенденций. Их речи были разобраны в
дальнейшем течении беседы, и вряд ли я выражу только свое впечатление,
если скажу, что их случайные мысли были бесследно развеяны
могучим подъемом многих речей, в которых правда России и неправда
Германии в настоящем их столкновении, не только военном, были
утверждены и с большим красноречием, и с большей убедительностью.
Последняя линия шла нарастая. Начавшись с речи кн. Е. Н.
Трубецкого, она утвердилась прежде всего в тонкой и глубокой речи
Вяч. Иванова (в которой г. Грифцов напрасно искал какого-то
расхождения с прежней речью его «Вселенское дело», затем пламенно
поднялась вверх в задушевной, всех тронувшей речи С. Н. Булгакова
и нашла блестящую моральную транскрипцию в горячо сказанной
речи г. Вышеславцева.
Председатель, закрывая собрание, мог смело говорить о некоторых
общих положительных результатах, к которым привела беседа.
Результаты действительно получились, ибо к концу беседы определился
общий consensus, в котором германофильские высказывания
участников беседы были диалектически уничтожены.
(«Утро России». Москва. 1915. 18 января. M 18. С. 6).
1012
ПРИЛОЖЕНИЕ III
4. ДОВОДЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ
Ниже помещаемая статья г. Эрна «О Царьграде», без сомнения,
вполне отвечает духу и чувствам русских читателей. Скажем даже
более: русскому обществу не нужны какие-либо особые
доказательства на право обладания нами древней Византией. Вся Россия — от
мала до велика — инстинктом осязает это историческое свое право,
будучи готовой защищать его с оружием в руках. Поэтому аргументы,
исходящие от реальных соображений или же метафизических
построений, одинаково для нас и ценны и ??? в одно и то же время.
Но будучи очень безусловным для нас, право России на Царьград
далеко не представляется таким же безусловным в глазах Европы и мира.
С этой точки зрения позиция г. Эрна, да и других авторов,
писавших и читавших о судьбах Константинополя, рисуется нам
недостаточно твердой.
Все эти ссылки на Достоевского, на духовные особенности нашего
народа — очень интересны и ценны для нас, но какую, например,
ценность представляет для Европы пророчество нашего гениального
писателя?
Какое дело Европе до того, что при помощи Царьграда мы хотим
ликвидировать петербургский период нашей истории?
Думается затем, что если бы на заседании ??? при заключении
мира наши дипломаты стали бы доказывать, что через Царьград
Россия намерена начертать «полноту истории» и «мировой Симпозион»,
то такое заявление вызвало бы только улыбку.
Но зато стремление установить «вселенскость», несомненно,
устрашило бы даже наших союзников, только что освободившихся от
призрака германской «вселенскости».
Повторяем, мы отнюдь не хотим устранять из нашей аргументации
философию, историю и тем более религию — все это должно иметь
место, — но для Европы необходимы и более почвенные
доказательства нашего права на Константинополь.
В самом деле, возьмем историю. Разве с неменьшим правом могут
претендовать на Византию Греция и даже некоторые латинские
государства, в течение долгого времени владевшие Царьградом?
А религия? Да разве та же Греция и Болгария не православны?
Почему же только православной России должно принадлежать
чересполосное право водрузить христианский крест на Софии?..
Слияние Востока с Западом... Но ведь эту миссию с успехом могла
бы исполнить и преобразованная Турция и, наконец,
автономно-нейтральная Византия! Почему ради философии и истории не восстановить
древней Византии, благо и претендент имеется в лице французского
посла Палеолога, кажется, одного из отпрысков последней
византийской династии?
Вот контрвопросы — далеко еще не исчерпанные, — которые будут
предложены нам союзниками, если мы будем опираться в своих
домогательствах только на изысканно-отвлеченную метафизику.
Когда время славянофильствует
1013
Поэтому хоть бы в интересах этой самой метафизики — мы вполне
ее понимаем — нам в своих суждениях о Константинополе
необходимо выдвигать на первый план более твердую, более понятную для
Европы и более бесспорную для нее почву.
С этой точки зрения нам глубоко ошибочным кажется несколько
пренебрежительное отношение к аргументам экономического и
политического характера. Важности их не отрицают, нет, но им всегда
отводится как бы подсобная роль. Между тем перед деловой Европой мы
можем выступить только с деловыми, чуждыми всякой
отвлеченности понятиями.
Европа, конечно, великолепно усвоила мысль об экономической
нужде нашей в проливах, но она будет торговаться за свободу их
прохода судами всех наций.
Европа в конце концов признает и наше право на Царьград, но
даже союзники заинтересуются вопросом о форме торговли в этом
городе. Будет ли там порто-франко?
Насколько нам знакома новейшая русская литература о Царьгра-
де, все эти вопросы обходятся молчанием. Между тем в глазах
Европы только они и имеют цену.
В настоящей своей заметке, написанной по поводу статьи г. Эрна,
мы не претендуем решать все эти затронутые вопросы. Мы только
ставим их на очередь, считая, что наступила пора из области метафизики
перейти на реальную почву.
Русская печать обязана дать совершенно ясный и точный отчет
в своих домогательствах на Царьград, обосновав их бесспорными
реальными доводами. Такие доводы даны нам историей неоднократно,
и в особенности в нынешнюю войну, когда мы благодаря
сравнительно малосильной Турции очутились в искусственной блокаде, не
дающей нам возможности в полном объеме исчерпать не только
экономических, но даже и военных своих сил.
(«Утро России». Москва. 1915, 22 марта. M С.)
-^2н
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Стихотворение В. Ф. Эрна
Как во чистом поле
Во зеленом
Стоит холм-гора
Агромадная.
А под тем холмом
Спят покойнички
Превеликие:
Сам Самсон-богатырь
Купно с братией,
Царь Давид, Соломон
Со пророками
И святые угоднички
Земли русской
Упокоили в нем
Свои косточки.
И идет молва
По полям, лесам
И по всей земле
Мати — страдальной
Что придет год,
Что придет час
И разверзнется та
Гора надвое,
И восстанут
Те покойнички,
Один за другим
До последнего;
И пойдут ходить
По лицу земли
От Востока и Запада
И до Севера.
Ой, ты, гой-еси,
Новый Год!
Ты скажи, скажи нам
Правду истинную
Уж не ты ли тот год
Жданный, гаданный?
(Ранее опубликовано в «Собрании сочинений» Вяч. Иванова^ т. 2.
Брюссель. 1975. С. 690 в примечаниях к книге «Cor ardens»).
^^
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
I. МОНОГРАФИИ, БРОШЮРЫ, СБОРНИКИ
1. Взыскующим Града. М., 1906 (совместно со Свенцицким В. П.)
(Религиозно-общественная библиотека. № 1).
Содержание: I. Взыскующим Града. П. Об одном недоумении. III.
Духовный блуд. IV. Торжествующая ересь. V. Абсолютное добро и Гучков А. И.
VI. К чему ведет русская революция.
2. Как нужно жить христианам? Церковь апостольская. М.: Труд и
воля, 1906. 16 с. (Религиозно-общественная библиотека. Сер. 2.
№7).
3. Семь свобод. М.: Труд и воля, 1906. 16 с.
(Религиозно-общественная библиотека. Сер. 2: Для народа. Вып. 5).
4. Христианское отношение к собственности. 1906. 54 с.
(Религиозно-общественная библиотека. Сер. 1. № 3).
5. Социализм и общее мировоззрение. Сергиев Посад, 1907. 26 с.
6. Значение «Жизни Иисуса» // [Конволют] Эрн. Значение «Жизни
Иисуса». — Свящ. К.Агеев. Ложь — исторический закон.
[Рецензии на роман Ренана «Жизнь Иисуса»]. СПб., 1907. 15 с.
(Библиотека «Век». Вып. 5).
7. Пастырь нового типа. Μ.ι Труд и воля, 1907. 22 с. (Религиозно-
общественная библиотека. Сер. 1: Для интеллигенции. № 7).
8. «Откровение в грозе и буре». Разбор книги Н. Морозова. Сергиев
Посад, 1907. 32 с. (Отт. из № 10 «Богословского вестника» за
1907 г.).
9. Социализм и проблема свободы. М., 1908. 48 с.
10. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М.: Путь,
1911. VII+ 361 с.
Содержание: Предисловие. Размышления о прагматизме. Беркли как
родоначальник современного имманентизма. Природа философского сомнения.
Нечто о Логосе, русской философии и научности. Культурное непонимание.
Исходный пункт теоретической философии. Социализм и проблема свободы.
Идея катастрофического прогресса. Филологизирующий астроном. Методы
Составитель — А. А. Ермичев.
1016
ПРИЛОЖЕНИЕ V
исторического исследования и книга Гарнака «Сущность христианства».
«Историческая церковь». Разговор о логике с социал-демократами.
Послесловие: На пути к логизму.
11. Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. М.: Путь, 1912.
342 с. Серия «Русские мыслители».
11а. То же // Волшебная гора. Москва. Т. VII. С. 26—157.
12. Природа мысли. Сергиев Посад, 1913.
13. Природа научной мысли. Сергиев Посад, 1914. 48 с.
14. Спор о психологизме в итальянской философии. Сергиев Посад,
1914.
15. Спор Джоберти с Розмини (Речь, прочитанная на годичном акте
Тифлисских высш. женск. курсов 24 сентября 1913 г.). Тифлис,
1914. 20 с.
16. Розмини и его теория знания. Исследование по истории
итальянской философии XIX столетия. М.: Путь, 1914. 296 с.
17. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия.
М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915. 48 с. Серия «Война и
культура».
Содержание: Лекция первая, лекция вторая.
18. Меч и крест. Статьи о современных событиях. М.: Тип. т-ва
И. Д. Сытина, 1915. 104 с.
Содержание: Меч и крест. Голос событий. Великое в малом. От Канта к
Круппу. Сущность немецкого феноменализма. Автономная Армения. Острие
русско-польских отношений. «И на земли мир». Общее дело. Ненужные
рыдания. Что такое форсировка? Налет Валькирий.
19. Философия Джоберти // Ученые записки Московского
университета. Отдел историко-филологический. 1916. Вып. 44. С. 1—348.
20. Философия Джоберти. М.: Путь, 1916. VI + 251 с.
21. Разбор Послания Святейшего Синода об имени Божием. М.:
Религиозно-философская библиотека, 1917. 38 с.
21а. То же // Начала. М., 1995. № 1—4. С. 53—88.
22. Сочинения / Сост., подгот. текста Н. В. Котрелева, Е. В.
Антоновой. Вступ. ст. Ю. Шеррер. М., 1991. 575 с.
Содержание: Борьба за Логос. Меч и крест. Время славянофильствует.
Смысл онтологизма Джоберти в связи с проблемами современной
философии. Основная мысль второй философии Джоберти. Верховное постижение
Платона. Примечания. Указатель имен.
23. Борьба за Логос; Г. Сковорода. Жизнь и учение. Минск; М., 2000.
589 с.
II. СТАТЬИ
24. Христианское отношение к собственности // Вопросы жизни.
1905. Август. С. 246—272; Сентябрь. С. 361—382.
Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
1017
24а. То же // Русская философия собственности (XVII—XX вв.).
СПб., 1993. С. 194—226 (с сокращениями).
25. О движении среди грузинского духовенства // Вопросы жизни.
1905. Август. С. 273—291.
26. Церковное возрождение (О приходе) // Вопросы религии. Вып. 1.
М., 1906. С. 102—142.
27. Церковная реформа. Гласное обращение к членам комиссии по
вопросу о церковном Соборе // Народ. Ежедневное издание. 1906.
2 (15) апреля. № 1. С. 4. (Вместе с Вал. Свенцицким).
28. Москва. Троице-Сергиевская лавра // Народ. Ежедневное
издание. 1906, 5 (18) апреля. № 2. С. 3. (В рубрике «По России. От
наших корреспондентов». О выступлении П.А.Флоренского
«Вопль крови»). Подписано: Студент.
29. Гражданские свободы и христианство // Встань, спящий!
Тифлис. 1906. 7 мая. № 2. Стб. 7—13.
30. Лекция о. Михаила. Корреспонденции из Москвы // Век. 1907.
30 января. № 6. С. 75.
31. Социализм и общее мировоззрение//Богословский вестник.
1907. Т. 3. № 9. Паг. 2. С. 35—60.
32. Откровение в грозе и в буре // Богословский вестник. 1907. Т. 3.
№10. Паг. 2 С. 282—311.
(О кн. Н. А. Морозова «Откровение в грозе и буре», посвященной
исследованию Откровения Иоанна Богослова).
33. Книга о. Восторгова//Век. 1907. 14 января. №2. С. 25—26.
(Подписано: В. Э.).
34. Наша вина // Век. 1907. 21 января. № 3. С. 34—35.
35. «Христос в революции» // Век. 1907. 18 января. № 7. С. 83—85.
(Об одноименной книге Б. Демчинского).
36. Плеханов об Ибсене // Век. 1907. 18 марта. № 11. С. 133—135.
37. Свобода//Век. 1907. 15 апреля. № 15. С. 194—195.
38. О чем говорят пасхальные дни // Век. 1907. 22 апреля. № 16.
С. 214—215.
39. Христианство и мир. Ответ Д. С. Мережковскому // Живая
жизнь. 1907. 27 ноября. № 1. С. 15—46.
(На статью Д. С. Мережковского «Последний святой» в журнале «Русская
мысль». 1907. Август—сентябрь).
40. Социализм и проблема свободы // Живая жизнь. 1907. 20
декабря. №2. С. 40—87.
41. Таинства и возрождение Церкви//Церковное обновление.
Бесплатное приложение к еженедельнику «Век». 1907. 4 марта.
№9. С. 65—66.
1018
ПРИЛОЖЕНИЕ V
42. Историческая Церковь // Церковное обновление. Бесплатное
приложение к еженедельнику «Век». 1907. 18 марта. № 11. С. 81 —
83.
43. Значение «Жизни Иисуса» // Агеев К., Эрн В. Ф. О Ренане. СПб.,
1907. С. 3—10.
44. Старообрядцы и современные религиозные запросы // Живая
жизнь. 1908. 15 января. № 1. С. 9—16.
45. Из диалогов о современности: о смирении и своеволии // Живая
жизнь. 1908. 15 января. № 1. С. 37—41. (Подписано: Адлер В.).
46. Геккель о христианстве // Живая жизнь. 1908. 30 января. № 2.
С. 43—49.
47. Письмо в редакцию // Русское слово. 1908. 21 ноября (4)
декабря. № 275. С. 5. (Подписи: Г. Рачинского, Е. Трубецкого, С.
Булгакова, А. Волжского (Глинки), В. Эрна, А. Ельчанинова).
48. Русский Сократ // Северное сияние. 1908. № 1. С. 59—69.
49.0 жизненной правде//Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908.
С. 29—61.
50. Что делать? // Вопросы религии. Вып. 2. М., 1908. С. 62—91.
51. Храм или биржа? // Религия и жизнь. М., 1908. С. 11 —13.
(Подписано: В. Адлер).
52. К вопросу о современном значении старообрядчества. Из частной
переписки//Религия и жизнь. М., 1908. С. 75—82. (Записки
С. Каблукова и о. Михаила по поводу статьи В. Ф. Эрна
«Старообрядцы и современные религиозные запросы» в № 1 журнала
«Живая жизнь» за 1908 и на с. 79—82 ответ В. Ф. Эрна).
53. Христианство // Ельчанинов Α., Эрн В., Флоренский П. История
религии. М., 1909 (в соавторстве с А. Ельчаниновым).
53а. То же//Ельчанинов А,, Флоренский П., Эрн В. История
религии. М.; Париж, 2004. С. 131—164.
54. Беркли как родоначальник современного
имманентизма//Вопросы философии и психологии. 1910. Кн. 103 (III). С. 413—436.
55. Природа философского сомнения // Вопросы философии и
психологии. 1910. Кн. 105 (V). С. 309—324.
56. Идея катастрофического прогресса // Русская мысль. 1909.
Кн. 10. С. 142—159.
56а. То же // Литературная учеба. 1991. Кн. 2. Март—апрель. С. 133—
141.
57. «Утонченная Фиваида» // Московский еженедельник. 1910.
27 февраля. № 9. С. 51—54. (О докладе Н. А. Бердяева в
Религиозно-философском обществе памяти В.Соловьева 11 февраля
1910 г.) Подписано: В. Э.
Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
1019
58. Размышления о прагматизме //Московский еженедельник. 1910.
1 мая. № 17. С. 40—54; 8 мая. № 18. С. 31—41.
59. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Московский
еженедельник. 1910. 24 июля. № 29. С. 32—40; 31 июля. № 30.
С. 30—40; 7 августа. № 31. С. 34—44; 14 августа. № 32. С. 34—42.
60. Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку // Русская мысль.
1910. Кн. 11. С. 116—129.
61. Джоберти//Новый энциклопедический словарь. Т. 16. СПб.,
1910. Стб. 79—84.
62. Итальянская философия // Новый энциклопедический словарь.
Т. 19. СПб., 1910. Стб. 944—949.
63. Гносеология В. С. Соловьева // Сборник первый. О Владимире
Соловьеве. М.: Путь, 1911. С. 129—207.
63а. То же // Сборник статей о В. Соловьеве. Брюссель, 1994. С. 167—
263.
64. Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды // Вопросы
философии и психологии. 1911. Кн. 107 (II). С. 126—166.
65. Очерк теоретической философии Г. С. Сковороды // Вопросы
философии и психологии. 1911. Кн. 110 (V). С. 645—680.
66. Толстой против Толстого // Сборник второй. О религии Л.
Толстого. М.: Путь, 1912. С. 214—248.
66а. То же // Л. Н. Толстой: pro et contra. Личность и творчество Льва
Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.,
2000. С. 639—668.
67. Критика кантовского понятия истины // Философский сборник.
Льву Михайловичу Лопатину к тридцатилетию
научно-педагогической деятельности. От Московского психологического
общества. 1881—1911. М., 1912. С. 49—61.
68. Письма о христианском Риме. Письмо первое, вступительное //
Богословский вестник. 1912. Т. 3. № 11. Паг. 2. С. 561—568.
68а. То же // Наше наследие. 1991. Кн. II (20). С. 119—121.
69. Письма о христианском Риме. Письмо второе. В катакомбах
св. Валентина // Богословский вестник. 1912. Т. 3. № 12. Паг. 1.
С. 760—771.
69а. То же // Наше наследие. 1991. Кн. II (20). С. 121—125.
70. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 3. Паг. 2.
С. 500—531; № 4. Паг. 2. С. 803—843; Т. 2. № 5. Паг. 2. С. 107—
150.
71. Письма о христианском Риме. Письмо третье. В катакомбах
св. Кал л иста//Богословский вестник. 1913. Т. 1. №1. Паг. 2.
С. 101—114.
71а. То же // Наше наследие. 1991. Кн. II (20). С. 125—128.
1020
ПРИЛОЖЕНИЕ V
72. Письма о христианском Риме. Письмо четвертое. Санти-Джован-
ни-е-Паоло. Папа Дамаз // Богословский вестник. 1913. Т. 3.
№> 9. Паг. 2. С. 77—86.
72а. То же // Наше наследие. 1991. Кн. II (20). С. 128—131.
73. Об изучении философии Розмини // Богословский вестник. 1913.
Т. 3. № 10. Паг. 1. С. 381—394.
74. Антонио Розмини. Жизнь и личность Розмини // Вопросы
философии и психологии. 1913. Кн. 119 (IV). С. 514—580.
75. Природа научной мысли. I. Постановка вопроса. Тонос науки.
П. Науки и научное мировоззрение//Богословский вестник.
1914. Т. 1. № 1. Паг. 2. С. 154—173.
76. Природа научной мысли. III. Теоретическая ценность
естественнонаучных положений. IV. «Протон-псевдос» механического
естествознания//Богословский вестник. 1914. Т. 1. №2. Паг. 2.
С. 342—368.
77. Спор о психологизме в итальянской философии // Богословский
вестник. 1914. Т. 1. №4. Паг. 2. С. 347—770; Т. 2. № 5. Паг. 2.
С. 48—82.
78. Очерк теософии Розмини // Богословский вестник. 1914. Т. 2.
№> 7—8. Паг. 1. С. 535—568; Т. 3. № 9. Паг. 1. С. 119—143.
79. Основы идеологии Розмини // Вопросы философии и
психологии. 1914. Кн. 121 (I). С. 65—109.
80. Учение Розмини о достоверности и критика его идеологии //
Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 123 (III). С. 268—
299.
81. Спор Джоберти с Розмини // Известия Тифлисских высших
женских курсов. Тифлис. 1914. Т. 1. Вып. 1. С. 1—18.
82. Около нового догмата (Письма об имяславии). Письмо первое.
Предварительные замечания // Итоги жизни. 1914. 19 июля.
№22/23. С. 4—9.
83. Критика новой философии у Джоберти // Вопросы философии и
психологии. 1914. Кн. 125 (V). С. 497—518.
84. От Канта к Круппу // Русская мысль. 1914. Кн. 12. С. 116—125.
84а. То же // Вопросы философии. 1989. №> 9. С. 101—107.
85. Голос событий//Новое звено. Еженедельник. 1914. 15 ноября.
№47. С. 4—6.
86. Великое в малом // Утро России. 1914. 16 декабря. № 313. С. 4.
87. «Автономная» Армения // Утро России. 1914. 18 декабря. №2315.
С. 1—2.
88. Несколько слов о «балканских настроениях» // Новое звено.
Еженедельник. 1914. 20 декабря. №2 52. С. 12—13.
Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
1021
89. «И на земли мир...»//Утро России. 1914. 25 декабря. №322.
С. 1—2.
90. Место Розмини в истории философии // Вопросы философии и
психологии. 1915. Кн. 127 (II) С. 342—250.
91. Философия Джоберти//Вопросы философии и психологии.
1915. Кн. 129 (IV). С. 467—529; Кн. 130 (V). С. 67—99.
92. Общее дело // Утро России. 1915. 6 января. № 6. С. 2.
93. Острие русско-польских отношений//Новое звено.
Еженедельник. 1915. 17 января. № 3. С. 14—17.
94. В Соловьевском обществе. Письмо в редакцию // Утро России.
1915. 18 января. № 18. С. 6.
95. Ненужные рыдания // Утро России. 1915. 22 января. № 22. С. 4.
96. Налет Валькирий // Биржевые ведомости. Утренний выпуск.
1915. 30 января. № 14642 С. 2.
97. Что такое форсировка//Утро России. 1915. 10 февраля. №40.
С. 2.
98. Россия и Польша//Новое звено. Еженедельник. 1915. 7 марта.
№9/10. С. 19—21.
99. О Царьграде // Утро России. 1915. 22 марта. № 80. С. 2.
100. Царьград и славяно-греческое Возрождение // Утро России. 1915.
1 апреля. № 88. С. 2.
101. Серый гранит // Утро России. 1915. 9 апреля. № 96. С. 2.
102. Царьград и англо-русское сближение//Утро России. 1915.
17 мая. №134. С. 2.
103. Святая Русь и Россия // Биржевые ведомости. Утренний выпуск.
1915. 23 мая. № 14859. С. 2.
104. Германия и Европа//Биржевые ведомости. Утренний выпуск.
1915. 29 июня. № 14933. С. 2.
105. Немецкая хвастливость // Утро России. 1915. 24 октября. № 292.
С. 2.
106. Смысл онтологизма Джоберти в связи с проблемами современной
философии // Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 131
(I). С. 67—99.
107. Основная мысль второй философии Джоберти // Вопросы
философии и психологии. 1916. Кн. 132—133 (II—III). С. 125—154.
108. Жизнь и личность Джоберти // Русская мысль. 1916. Кн. 4.
Паг. 2. С. 35—60.
109. Спор об имени Божием // Христианская мысль. 1916. № 9.
С. 101 — 110.
110. На церковные темы // Утро России. 1916. 6 марта. № 66. С. 2.
111. Победа или отпор? // Утро России. 1917. 23 марта. № 78. С. 2.
1022
ПРИЛОЖЕНИЕ V
112. Верховное постижение Платона. Введение в изучение Платоновых
творений//Вопросы философии и психологии. 1917. Кн. 137—
138 (II—III). С. 102—173.
113. Проблема истории. По поводу диссертации Г. Г. Шпета «История
как проблема логики» // Журнал Министерства народного
просвещения. 1917. Часть 67. № 6. Июнь. С. 314—330.
114. О великолепии и скептицизме. К характеристике адогматизма //
Христианская мысль. 1917. № 3/4. С. 163—169.
115. [Curriculum vitae и др. документы В. Эрна]//Начала. Москва,
1993. №3. С. 131—134.
116. [Письма и отрывки из писем В. Ф. Эрна и к В. Ф. Эрну времени
1900—1917 гг.]//Взыскующие града. Хроника частной жизни
русских религиозных философов в письмах и дневниках / Сост.,
подготовка текста, вступ. статья и коммент. В. И. Кейдана. М.,
1997.
117. Записная книжка В. Ф. Эрна//Взыскующие града... М., 1997.
С. 705—716.
III. РЕЦЕНЗИИ
118. А.Филь. Виноват ли свящ. Петров? Трагедия православного
духовенства. М., 1907.—А. Гофман. Десять заповедей и имущие
классы. СПб., 1907 — Ч.Бредло. Атеизм. Изд. «Поток». СПб.,
1907 // Век. 1907. 4 марта. № 9. С. 113—114. (Подписано: В. Э.).
119. Бердяев H.A. Sub specie aeternitatis. Опыты философские,
социальные и литературные. СПб. // Век. 1907. 1 апреля. № 13.
С. 167—168. (Подписано: В. Э.).
120. Т. В. Петров. Основы общественной жизни по учению
Евангелия. М., 64 с. // Век. 1907. 10 июня. № 22. С. 339—340.
(Подписано: В. Э.)
121. Гастон Ст. Чемберлен. Явление Христа. Изд. 4-е. СПб., 1907//
Век. 1907. 8 июля. № 26. С. 419—420. (Подписано: В. Э.)
122. Из истории раннего христианства. Сб. статей Гарнака, Вольгау-
зена и Юлихера. М., 1907 // Живая жизнь. 1908. 15 января. № 1.
С. 56—57. (Подписано: В. Э.)
123. В. Вреде. Павел / Пер. с нем. под ред. Н.М.Никольского. М.,
1907 // Живая жизнь. 1908. 30 января. № 2. С. 57—59.
(Подписано: В. Э.)
124. Ив. Наживин. Мене, Текел, Фарес... // Религия и жизнь. 1907.
№ 1. С. 15. (Подписано: В. Э.)
125. Э. Бутру. Наука и религия в современной философии. М., 1910 //
Московский еженедельник. 1910. 13 марта. № 11. С. 53—54.
(Подписано: В. Э.)
Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
1023
126. T. Campanella. Le poésie. Edizione compléta. Lanciano, 1913 //
Богословский вестник. 1913. T. 2. № 6. Паг. 1. С. 390—401.
127. Paolo Sarpi. Scritti filosofici inediti. Lanciano, 1910 //
Богословский вестник. 1913. T. 2. № 6. Паг. 1. С. 401—411.
128. Эллис. Vigilemus. Трактат. М.: Мусагет//Голос Москвы. 1915.
10 января. № 7. С. 6.
129. Франческо Петрарка. Памятники мировой литературы.
Автобиография, исповедь, сонеты / Пер. М. Гершензона и Вяч. Иванова
М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915 // Голос Москвы. 1915.
5 февраля. № 29. С. 6.
130. Кн. Евг. Трубецкой. Смысл войны. М., 1914; Его же. Война и
мировая задача России. М., 1915; Его же. Национальный вопрос.
Константинополь и Святая София. М., 1915//Голос Москвы.
1915. 9 апреля. № 81. С. 6.
131. Г. А. Рачинский. Японская поэзия. М.: Мусагет // Голос Москвы.
1915. 17 апреля. № 86. С. 6.
132. Г. Шпет. Философское наследство П. Д. Юркевича. К
сорокалетию со дня смерти. М., 1915 // Голос Москвы. 1915. 24 апреля.
№ 93. С. 6.
133. Из рукописи А. Н. Шмидт. С письмами к ней В. С. Соловьева.
1916 // Утро России. 1916. 30 января (12 февраля). № 30. С. 5.
IV. ПРЕДИСЛОВИЯ, ПОСЛЕСЛОВИЯ И ПР.
134. Катакомбы и современность // Буасье Г. Катакомбы / Пер. Е.
Веки ловой. М., 1907. (Религиозно-общественная библиотека. Сер. 3.
№3). С. 3—11.
135. Методы исторического исследования и «Сущность христианства»
А. Гарнака // Гарнак А. Сущность христианства / Пер. Е. Веки-
ловой и В. Эрна. М., 1907. С. I—XXX.
^^
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Список сокращений названий
наиболее часто используемых источников
Взыскующие града. Хроника — Взыскующие града. Хроника частной
жизни русских религиозных философов в письмах и
дневниках С. А. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др. М., 1997.
Голлербах Е.А. К незримому граду — Голлербах Е.А. К незримому
граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910—
1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000.
Колеров М. А. Не мир, но меч — Колеров М.А. Не мир, но меч.
Русская религиозно-философская печать от «Проблем
идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996.
Фирсов С. Л. Русская церковь — Фирсов С. Л. Русская церковь
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.) Б. м., 2000.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абеляр (Abélard, Abailard) Пьер (1079—1142) — французский философ и
богослов — 341
Авенариус (Avenarius) Рихард (1843—1896) — австрийский философ-эм-
пириокритик — 38, 257, 301
Августин Блаженный, Аврелий (534—430) — философ и богослов, один
из отцов Церкви — 12, 302, 327, 354, 522, 526, 558, 564, 568, 569,
576, 585, 586, 625, 785, 875
Аггеев Константин Маркович (1862—1921) — священник, один из
активных деятелей религиозно-общественного движения в России XX в. —
30, 33,171
Адам (библ.) — 790
Адамов Евгений (псевд. Е. А. Френкеля) (1881—?) — журналист и
драматург — 425, 799, 812
Айвазов Иван Георгиевич (1872—1962) — публицист, богослов,
миссионер — 100
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — философ, идеолог
славянофильства — 109, 110, 111, 125, 370, 389
Александр II Николаевич (1818—1881) — российский император (с 1855),
отменил крепостное право — 181
Алексеев Владимир Федорович (1852—1919) — физико-химик — 389
Альдонса (лит.) — персонаж романа М. Сервантеса « Дон-Кихот» — 262,
503, 559
Альтман Моисей Семенович (1896—1986) — филолог, ученик Вяч.
Иванова —18
Ананий (библ.) — член первого христианского общества в Иерусалиме, за
ложь и обман, наказанный Богом внезапной смертью — 90, 160
Анатолий (в миру — Каменский Алексей; 1863—1925) — епископ Елиза-
ветградский (с 1906) — 869
Ангел ус Силезиус (Angélus Silesius; настоящее имя — Иоганн Шефлер;
1624—1677) — немецкий мистик — 473
Ансельм Кентерберрийский (1033—1109) — философ и теолог,
представитель ранней схоластики —- 327, 380, 568, 622, 875
Антихрист (библ.) — 24, 26, 94, 116, 123, 177
Антоний (в миру — Александр Ксаверьевич Булатович; 1870—1919) —
схиеромонах (с 1911), защитник и апологет «имяславия» —867, 868
* Указатель включает имена, содержащиеся во вступительной статье и в
основном корпусе сочинений предлагаемого сборника.
1026
Именной указатель
Антоний Великий (род. около 260) — святой, основатель монашества —
64, 735
Антоний (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1864—1936) —
архиепископ Волынский (с 1902), выдающийся церковный деятель,
философ, духовный писатель — 175, 859, 869
Антоний (в миру — Александр Васильевич Вадковский; 1846—1912) —
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) — 183
Апеллес (2-я пол. IV в. до н. э.) — живописец Древней Греции — 810
Аполлон (мифол.) — в греческой мифологии и религии покровитель
искусств — 257, 263, 269, 652
Арей (или Apec; мифол.) — в греческой мифологии бог войны ради войны,
коварный и вероломный — 645, 646
Арефьев Гавриил Андреевич — 8
Аристотель (384—322 до н.э.) — древнегреческий мыслитель—12, 49,
242, 322, 344, 346, 349—351, 353, 366, 367, 379, 386, 393, 472, 521—
523, 578, 585, 586, 625, 732, 842, 873, 875
Арно (Arnould) Антуан (1612—1694) — французский богослов и философ,
последователь Декарта — 575
Ар ну (Arnould) София Мадлен (1740—1802) — французская актриса —
430
Арсений (в миру — Авксентий Георгиевич Стадницкий; 1862—1936) —
архиепископ Новгородский (с 1910), духовный писатель — 869
Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977) — культуролог, философ,
эссеист — 33
Архипов Евгений Яковлевич (1882—1950) — друг В. Ф. Эрна,
библиограф — 9, 12, 807, 871
Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — прозаик и драматург —
379
Асатиани Михаил Михайлович (1881—1938) — гимназический товарищ
В. Ф. Эрна, врач-психиатр — 9
Аскольдов (наст. фам.—Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945) —
философ, активный участник религиозно-общественного движения в
России 1-ой пол. XX в. — 22, 38, 370, 401, 626, 655, 744, 747, 748
Астров Павел Иванович (1866— ?) — юрист, публицист — 15
Асхань (лит.) — сокращенное название одного из трактатов Г. С.
Сковороды, данное по имени Ахсы, дочери ветхозаветного Халева — 378
Аттик — имя римлянина (первые века христианства) — 791
Афанасий — священник, учитель В. Ф. Эрна в гимназии — 11
Афина-Паллада (мифол.)— в греческой мифологии богиня войны и
победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел — 231, 379
Аусенберг — директор заводов Круппа (времени 1-ой мировой войны) —
426, 750
Афродита-Деметра — у С. Н. Булгакова символизирует божественную
любовь и красоту (Афродита), присутствующую в плоти мира
(Деметра — имя богини плодородия) — 647, 810
Афродита-Урания (мифол.) — в греческой мифологии богиня небесной,
возвышенной любви и красоты — 257, 642, 644—647, 810
Именной указатель
1027
Аяксы (мифол.) — в греческой мифологии два героя Троянской войны —
746
Баадер (Baader) Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий
философ-мистик и теософ — 228, 473, 686, 699, 739, 765
Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932) — украинский историк,
исследователь творчества Г. С. Сковороды и издатель его работ — 377, 396,
397, 404, 405, 408, 833
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — революционер-анархист
и философ-материалист — 364, 491
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944) — русский и литовский
поэт — 797, 805
Баранович Лазарь (1620—1693) — церковный и политический деятель
Украины — 682
Бароне (Barone) Энрико (1859—1924) — итальянский историк и
экономист — 529
Башкин Матвей Семенович (сер. XVI в.) — еретик, требовал отмены
холопства как явления, несовместимого с христианством — 168
Беато Анжелико (1387—1455) — живописец раннего итальянского
Возрождения флорентийской школы — 647, 783
Бебель (Bebel) Август (1840—1913) — немецкий марксист,
социал-демократ — 101, 185
Безобразова Мария Владимировна (1857—1914) — первая русская
женщина, ставшая профессиональным философом — 777
Бейрон (Байрон; Byron) Джорж Ноэл Гордон (1788—1824) — поэт — 817
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — литературный
критик — 364, 453, 541
Белкин Алексей Сергеевич (1856—1909) — приват-доцент Московского
университета, преподаватель философии — 368
Белох (Beloch) Карл Юлиус (1854—1929) — немецкий историк
античности — 269
Белый Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича; 1880—1934) —
13—17, 20, 25, 32, 55, 186, 211, 215, 225, 292, 433, 745, 780, 804, 814,
821, 822, 829, 856
Бельтов Н. — псевдоним Плеханова Георгия Валентиновича (1856—1918),
основоположника марксизма в России — 364
Бентам (Bentham), Иеремия (1748—1832) — английский
философ-утилитарист, социолог и юрист — 483
Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941) — французский
философ-интуитивист — 38, 239
Бердников Илья Степанович (1839—1915) — специалист по церковному
праву — 110
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ экзистенци-
ально-персоналистического толка — 7, 28, 35, 36, 47, 55, 250, 364,
370, 373, 401, 455, 470, 490, 497, 503—507, 516, 685, 686, 692, 748,
794—806, 811, 813, 814, 816, 818—822, 825, 829, 830, 856, 858
1028
Именной указатель
Бердяева Лидия Юдифевна (1871—1945) — жена Н. А. Бердяева — 805,
806, 814, 821—823
Беркли (Berkeley) Джордж (1685—1753) — английский философ,
субъективный идеалист — 12, 13, 36, 49, 217, 218, 252, 254, 257, 300, 302,
482, 583, 666, 668, 669, 702, 712, 740, 765, 854
БетманТольвиг (Bethmann Hollweg), Теобальд (1856—1921) —
германский рейхсканцлер и прусский министр-президент в 1909—1917 —
467
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827) — немецкий
композитор — 244
Блме (Вцпте) Якоб (1575—1624) — немецкий мистик и
философ-пантеист — 305, 397, 415, 433, 447, 448, 464, 471, 473, 474, 508, 699, 739,
755, 819
Бисмарк (Bismark) Otto фон Шлнхаузен (Sclmnhausen) (1815—1898) —
князь, первый рейсхканцлер германской империи в 1871—1890 —
415, 419, 477, 478, 750
Блан Луи (1811—1882) — социалист, деятель революции 1848 г.,
историк — 122
Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт — 14, 15, 37, 55,
782, 791
Бобров Евгений Александрович (1867—1933) — философ, историк
русской мысли — 762, 824
Богоявленский (1847—1918) — духовный писатель — 869
Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821—1867) — французский поэт — 220, 244
Бокль (Buckle), Генри Томас (1821—1862) — английский историк и
социолог-позитивист — 269
Болдвин (Болдуин; Boldwin) Джеймс Марк (1861 —1934) — автор словаря
философских и психологических терминов (США) — 623
Бонавентура (Bona went ига) Джованни Фиданца (1221—1274) — философ-
мистик, глава ордена францисканцев — 568, 586, 875
Бональд (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз (1754—1840) — французский
политический деятель, публицист и клерикальный философ — 483, 563
Боннэ (Bonnet) Шарль (1720—1793) — французский философ и
натуралист из среды просветителей — 607
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — исследователь
религиозно-общественных движений в России — 377—379, 381, 396—
398
Боттичелли (Botticelli) Сандро (1445—1510) — итальянский
живописец — 426
Боэций (Boethius) Аниций Манлий Торкват Северин (480—524) —
философ, автор сочинений по логике — 873
Браунсон (Brownson) Орест (1803—1876) — американский публицист,
философ, политик и социолог, деятель католической церкви — 623
Брентано (Brentano) Луйо (1844—1931) — немецкий экономист — 423
Брентано (Brentano) Франц (1838—1917) — немецкий философ — 627
Брокгауз — название немецкой издательской фирмы (по имени ее
основателя Ф. А. Брокгауза) — 312
Именной указатель
1029
Бруно (Bruno) Джордано (1548—1600) — итальянский
философ-пантеист — 255, 273, 304, 305, 331, 337, 341, 349, 353, 397, 676, 854
Брусиловский Исаак Казимирович (1866—1933) — публицист — 431, 432
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1920) — поэт — 14, 15, 21
Брянчанинов А. Н. (?—?) — редактор-издатель журнала * Новое звено» —
органа независимой либеральной мысли и соединенного славянства;
выходил в Петербурге в 1913—1915 — 516
Бугаев Николай Васильевич (1837—1903) — математик и философ, глава
Московской философско-математической школы, отец Андрея
Белого — 387, 389
Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — религиозный философ,
богослов — 7, 8, 11, 16, 25, 27, 28, 33, 36, 37, 41, 52, 56, 139, 171, 174,
180, 182—184, 187—191, 193, 370, 371, 446, 455, 458, 459, 465, 473,
479, 480, 482—484, 491, 492, 494— 496, 516, 633, 641, 675, 747, 791,
795—798, 800, 801, 805—807, 810, 815, 816, 822, 856, 857
Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) — футурист, поэт и художник — 9
Бутру (Boutroux) Эмиль (1845—1921) — французский философ,
представитель спиритуалистического позитивизма — 293, 482—484, 688
Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве — архимандрит Феодор;
1824—1871) — богослов, философ, публицист — 830, 848
Бэкон (Bacon) Френсис (1561 —1626) — английский философ — 228, 261,
367, 699, 708, 712, 728, 765, 854
Бюхнер (ВьсЬпег) Людвиг (1824—1899) — немецкий врач,
философ-материалист — 640
Валентин (III в.), св. — мученик италийский, епископ Интерамнский —
48, 787
Вальсамон Феодор (XII в.) — византийский канонист — 180
Варлаам (перв. пол. XIV в.) — калабрийский монах, оппонент Григоря
Паламы — 46
Васильев Афанасий Васильевич (1851—?) — последователь первых
славянофилов — 387
Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ-кантианец —
312, 368, 762, 824
Вейнингер (Weininger) Otto (1880—1903) — немецкий писатель. Его
книга «Пол и характер» вышла в 1903 г. — 218
Векилова Елизавета Лазаревна — теща В. Ф. Эрна — 31, 32, 35
Велланский Данило Михайлович (1774—1847) — философ, проповедник
идей Окена и Шеллинга — 778
Вергилий (Vergilius) Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт —
787
Вернет Иван Ф. (1760—1825) — писатель, знакомый Г. С. Сковороды —
678
Версилов (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Подросток» —
513
Вико (Vico) Джамбаттиста (1668—1774) — итальянский философ, один
из основоположников историцизма — 564, 577, 578, 586, 605
1030
Именной указатель
Вильгельм II (Wilhelm) Гогенцоллерн (1859—1941) — германский
император и прусский король в 1888—1918 — 55, 460, 467, 468, 477, 478,
750
Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848—1915) — немецкий
философ, ведущая фигура Баденской школы неокантианства — 20, 262,
267, 293, 295, 315, 471
Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — государственный деятель
России — 96, 820
Вишенский Иван (Иоанн) (1538/1550 — 20-е гг. XVII в.) — украинский
писатель-полемист — 680—681
Владимир (?—1015) — князь новгородский (с 969), киевский (с 980),
канонизирован русской церковью — 109
Воеций Гисберт (Voetius Gisbertus) (1589—1676) — протестантский
теолог — 597
Волков Владимир Акимович — современный историк науки —1 8
Вольтер (Voltaire; наст, имя — Франсуа Мари Аруэ (Arouet); 1694—
1778) — французский писатель, философ-просветитель — 479, 483,
818
Вольф (Wolf) Христиан (1679—1754) — немецкий философ,
последователь Лейбница — 699
Вральмонт — псевдоним Буренина Виктора Петровича (1841—1926),
литературного и театрального критика, публициста «Нового времени» —
106, 107
Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий философ, физиолог
и психолог — 334, 423, 471, 626
В. X. — криптоним Хвостова Вениамина Михайловича (1868—1920),
социолога и правоведа — 295
Вышеславцев Борис Петрович (1887—1954) — философ — 635
Вьюник Е. — 11
Гавриил (в миру — Василий Николаевич Воскресенский; 1795—1868) —
архимандрит, богослов, первый историк русской философии — 229,
405, 406, 763, 824
Гайм (Наут) Рудольф (1821—1901) — немецкий философ и историк —
358
Галанин Дмитрий Дмитриевич (1857—?) — педагог, математик — 13, 25
Галилей (Galilei) Галилео (1564—1642) — итальянский ученый — 707,
716, 717, 854
Галятовский Иоаникий (ум. 1688) — украинский писатель, агиограф,
церковный деятель — 682, 683
Гаман (Hamann) Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий филолог и
философ, сторонник учения о непосредственном знании — 314
Гамильтон (Hamilton) Уильям (1788—1856) — английский философ, один
из предшественников математической логики — 607, 627, 628
Гамлет (лит.) — герой одноименной трагедии У. Шекспира — 800
Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, инициатор
шествия рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. — 60
Именной указатель
1031
Гарнак (Harnack) Адольф (1851—1930) — немецкий протестантский
богослов, историк христианства и церкви — 30, 423, 856
Гартли (Хартли, Гертли; Hartley), Дэвид (1705—1757) — английский
философ и психолог — 719
Гартман (Hartmann) Эдуард фон (1842—1906) — немецкий философ-пан-
психист — 323, 471
Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий
философ — 33, 49, 215, 221, 224, 249, 251—255, 261, 294—296, 300, 302,
303, 305, 311, 312, 314, 315, 320, 323, 332, 337, 345, 346, 348—351,
353, 354, 357—360, 364, 375, 386, 391, 393, 402, 415, 416, 423, 464,
469, 470, 474, 481, 516, 541, 542, 640, 663, 664, 666—669, 691, 699,
700, 705, 708, 710, 711, 752, 813,831
Гейне (Heine) Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист — 489
Геккель (Наеске) Эрнест (1834—1919) — немецкий биолог-дарвинист —
30
Георгий Победоносец (библ.) — 434, 463
Геракл (Иракль, мифол.) — герой в мифах Древней Греции — 642, 645
Гераклит (ок. 540 — ок. 480 до н. э.) — философ Древней Греции — 20,
211, 212, 303
Герцберг Н. — 101, 108
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, мыслитель,
общественный деятель — 17, 496, 525, 778
Герцык-Жуковская Аделаида Казимировна (1874—1925) — поэтесса,
переводчица — 18, 796, 802, 822
Герцык Евгения Казимировна (1878—1944) — переводчица,
мемуаристка — 8, 19, 47, 796, 797, 803, 805, 813, 821, 822
Гершензон Абрам Осипович (1868—?) — брат Михаила Осиповича Гер-
шензона — 802
Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович) (1869—1925) —
историк русской литературы и общественной мысли, философ,
публицист — 222, 253, 314, 370, 426, 427, 795—798, 802, 803, 806, 814—
817, 819, 820, 823
Герье Владимир Иванович (1837—1919) — историк, учитель В. Ф. Эр-
на—14, 19
Гесс де Кальве (Hess de Calve) Густав (Адольф) Густавович (1784 — после
1828) — музыкант, минералог, автор статей о Г. С. Сковороде — 396,
678
Гессен Сергей Иосифович (1887—1950) — философ, основатель журнала
«Логос» — 28, 38, 238, 246, 278, 299, 256, 688, 690, 748
Гёдель (Gödel) Курт (1906—1978) — логик и математик — 776
Глте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт и
мыслитель — 53, 246, 298, 402, 433, 447, 462, 464, 473, 676, 705, 750, 819
Гехтман Георгий Николаевич (1870—1956) — гимназический учитель
В. Ф. Эрна — 9, 10, 49
Гизель Иннокентий (ок. 1600—1683) — украинский ученый богослов,
религиозный деятель — 682
1032
Именной указатель
Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк
и государственный деятель — 269
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) — философ и
публицист славянофильского толка — 389
Гинденбург (Hindenburg), Пауль фон (1847—1934) — командующий
немецкими войсками Восточного фронта, генерал-фельдмаршал — 644,
759
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, прозаик, активный
участник религиозного общественного движения нач. XX в. — 186,
458, 794
Глинка Александр Сергеевич (псевдоним — А. С. Волжский; 1878—
1940) — литературный критик, активный участник
религиозно-общественного движения в России нач. XX в. — 16, 25, 27, 33, 190, 191,
193, 372, 373, 825
Гоббс (Hobbes) Томас (1588—1679) — английский философ и социальный
мыслитель — 379
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — писатель — 183, 222, 229,
230, 272, 304, 314, 357, 369, 380, 775, 851, 852
Голлербах Е. А. — 36, 857
Гольденвейзер Мария Борисовна (1873—1940) — жена М. О. Гершензо-
на — 796, 797, 806
Гомперц (Gomperz) Теодор (1832—1912) — немецкий позитивист,
историк античной философии — 301
Городенский Николай Гаврилович (1871—?) — философ, работал с В. Ф. Эр-
ном в Тифлисе и в Москве — 49
Гофман Виктор Викторович (1884—1911) — поэт, прозаик — 13
Гофман (Hofmann) Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий
писатель-романтик, композитор и художник — 473
Грабманн (Grabmann) Мартин (1875—1949) — философ и католический
теолог, историк средневековой философии — 626
Грибоедов Александр Сергеевич (1895—1829) — поэт, дипломат,
драматург—817
Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) — церковный писатель, один из
виднейших представителей патристики — 39, 214, 327, 701, 740, 766
Григорьев Константин Григорьевич (1875—?) — магистр богословия
Казанской Духовной академии — 128
Грингмут Владимир Андреевич (1851 —1907) — редактор-издатель
♦Московских ведомостей», создатель Русского монархического союза — 180
Гриневич Вера Степановна (? — после 1937) — знакомая В. Ф. Эрна,
основательница общеобразовательной школы имени В. С. Соловьева — 50
Грифцов Борис Александрович (1885—1950) — критик, литературовед,
искусствовед — 13
Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, основатель журнала
* Вопросы философии и психологии» — 253
Гурлянд Илья (Илия-Максимилиан) Яковлевич (1868 — не ранее 1921) —
руководитель правительственного официоза «Россия» (1906—1914) —
180
Именной указатель
1033
Гус (Hus) Ян (1371—1457) — герой чешского народа, возглавивший ре-
формационное движение. Осужден церковным собором в Констанце и
сожжен — 207
Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ,
основатель феноменологии — 295, 525, 536, 591, 623— 627, 862
Гюйон (Bouvier de la Motte Guyon) Жанна Мария (1648—1717) —
проповедница квиетизма во Франции. Ее сочинения были распространены в
России в нач. XIX в. — 508
Гюйсманс (Huysmans) Жорис Карл (1848—1907) — французский
писатель — 185, 220, 420, 760
Давид (библ.)— царь Израильско-Иудейского государства — 207
Давыдов Н. В. — 13
Далила (библ.) — филистимлянка, возлюбленная Самсона — 820
Даль Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, лексикограф,
этнограф — 639
Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, автор
биографии Г. С. Сковороды — 252,
Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — создатель теории
культурно-исторических типов цивилизации — 307, 408, 409, 502
Данте Алигьери (Dante Alighieri; 1265—1321) — итальянский поэт —
274, 760, 783, 819, 828, 851
Дарвин (Darwin) Чарльз Роберт (1809—1882) — английский биолог,
создатель теории эволюции — 367, 486
Деборин (наст, фамилия — Иоффе) Абрам Моисеевич (1881—1963) —
советский философ — 362
Декарт (Descartes) Рене (1596—1650) — французский ученый и философ,
основатель рационализма Нового времени — 12, 21, 42, 49, 228, 261,
296, 331, 342, 357, 402, 472, 522, 526, 530, 568—571, 574—577, 583—
597, 603, 613, 621, 625, 628, 666, 667, 669, 671, 676, 699, 700, 707,
708, 712, 717, 765, 845, 854, 874
Деллз (Deleuze) Жиль (1925—1995) — французский философ — 855
Деметра (мифол.) — в греческой мифологии богиня земледелия и
плодородия — 647
Державин Гавриил Романович (1743—1816) — поэт — 641, 817
Де Росси Джованни Баттиста — итальянский археолог — 788
Деррида (Derrida) Жак (род. 1930) — французский философ,
представитель постструктурализма — 855
Джевонс (Jevons) Уильям Стенли (1835—1882) — английский экономист
и логик — 862
Джемс (Джеймс; James) Уильям (1842—1910) — американский философ,
один из основателей прагматизма — 825
Джердиль (Gerdil) Джиакинто Сигизмунд (1718—1802) — итальянский
прелат и ученый-педагог, последователь Н. Мальбранша, крупный
представитель онтологизма XVIII в. (сообщено Томмазо Дель'Эра) —
541, 564, 565
1034
Именной указатель
Дживелегов Алексей Карпович (1875—1952) — историк искусства,
литературовед — 811
Джоберти (Gioberti) Винченцо (1801—1852) — итальянский философ,
предложивший синтез платоновских и гегелевских идей. Давал
философское обоснование религиозному принципу «равенства людей во
Христе» —21, 46, 47, 49, 50, 56,418, 521, 522, 525, 526, 528, 529,
532, 534—540, 543, 544, 548, 554—573, 576—578, 581—609, 612—
630, 635, 638, 645, 663, 666, 703, 706, 708, 711, 721, 730, 739, 749,
821, 824, 854, 874—877
Диана Эфесская (мифол.) — римская богиня женственности и
плодородия — 257
Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833—1911) — немецкий философ-ирраци-
оналист, один из основоположников философии жизни — 302
Дионис (мифол.) — в греческой мифологии бог виноградарства и
виноделия — 359
Дионисий — имя римлянина (первые века христианства) — 791
Дионисий Ареопагит (I в. до н. э.) — первый афинский епископ, коему
приписывается несколько известных богословских трактатов — 39,
399, 701, 766
Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь Московский (1359) и
Владимирский (1362), герой Куликовской битвы — 460
Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945?) — поэт-декадент —
272, 511, 772, 852
Доде Л. — 53
Дон-Кихот (лит.) — персонаж романа М. Сервантеса — 503
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель — 72, 177,
206, 207, 213, 222, 226, 229—231, 272, 274, 276, 304, 314, 357, 369,
390, 435—438, 440, 441, 450, 454, 455, 460, 480, 503, 506, 509, 513,
514, 647, 682, 774, 775, 807, 830, 846, 847, 850—852
Дорошенко Д. — 675
Древе (Drews) Артур (1865—1935) — немецкий философ, религиовед и
историк христианства — 471, 476
Дрейфус-Бризак (Dreyfus-Brisac) Эдмон (1850—1921) — публикатор
сочинений Ж.-Ж. Руссо — 379
Дружинин Н. П. — 120
Дульцинея (Дульсинея; лит.) — персонаж романа М. Сервантеса «Дон-
Кихот» — 262, 503, 559
Дюгем (Duhem) Пьер (1861—1916) — французский физик-теоретик,
философ и историк естествознания — 825
Евклид (Эвклид; III в. до н. э.) — математик Древней Греции — 389
Езерский Николай Федорович (1870—?) — 146, 171—177
Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — российская императрица (с
1762) —680
Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — публицист и журналист;
один из прототипов образа Ракитина в романе Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы» — 206
Именной указатель
1035
Ельчанинов Александр Викторович (1881—1934) — религиозный
публицист — 8, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 33, 47, 49, 370, 640, 745, 856, 871
Ермичев Александр Александрович (р. 1936) — современный
исследователь русской философии — 7, 742
Ермишин Олег Тимофеевич (р. 1966) — современный исследователь
русской философии — 31, 871
Ефименко Александра Яковлевна (1848—1918) — историк и этнограф,
автор статей о Г. С. Сковороде — 255, 409
ЗКанна д'Арк (Jeanne d'Arc; ок. 1412—1431) — народная героиня
Франции — 760
Жильсон (Gilson) Этьен (1884—1978) — французский
философ-неотомист — 855
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт — 641
Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1866—1943) — издатель,
переводчик — 795—798, 822
Жуффруа (Jouffroy) Теодор Симон (1796—1842) — французский
философ, ученик Кузена — 628
Зардалишвили Г. И. — 9
Зевс (мифол.) — в греческой мифологии владыка людей и богов,
верховный бог —231, 379, 432
Зедергольм Климент (в миру — Константин Карлович; 1828—1879) —
монах Оптиной пустыни — 640
Зеленогорский Федор Александрович (1839—1908) — профессор
философии Харьковского университета, исследователь творчества Г. С.
Сковороды — 679
Зелинский Владимир — священник — 48, 782
Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — философ и историк
русской философии — 381, 743, 750
Зернов Николай Михайлович (1898—1980) — историк русской
религиозной мысли — 743
Зефирин (ум. 217) — римский папа — 788
Зибек (Siebeck) Герман (1842—1920) — немецкий философ, историк
психологии — 610
Зиммель (Simmel) Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог,
работавший над проблемами культуры в духе неокантианства и
философии жизни — 293, 295
Зиновий Отенский (ум. 1568) — русский церковный писатель-схоласт,
ученик Максима Грека — 777, 834
Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866—1907) — прозаик,
драматург, жена Вяч. Иванова — 17, 22, 800
и аков Праведный (библ.) — брат Иисуса Христа; его именем
подписывают одно из посланий — 137
Ибервег (Iberweg) Фридрих (1826—1871) — немецкий историк
философии — 227
1036
Именной указатель
Ибсен (Ibsen) Генрик (1828—1906) — норвежский драматург — 33, 220
Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный (1530—1584) — первый русский
царь (с 1547) — 64, 94, 389
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, теоретик символизма,
активный участник религиозно-общественного движения в России
нач. XX в. — 15—18, 21, 22, 25, 28, 37, 47, 50, 52, 260, 263, 274, 380,
423, 458—460, 491, 492, 495—497, 507, 508, 510—512, 516, 647, 649,
659, 660, 748, 782, 784, 794—811, 814, 816, 817, 820, 822, 826, 830,
836, 848, 851
Иванова Лидия Вячеславовна (1815—1985) — дочь Вяч. Иванова — 28у
53 795, 804, 807, 809,
Иванова П. А. — 25
Игнатий Антиохийский Богоносец — один из « мужей апостольских» —
793
Иегова-Элогим — искаженное в переводе с древнееврейского имя Яхве —
единого Бога в иудаизме — 619
Иеремия — древнееврейский пророк — 61
Иеринг (Jehring) Рудольф фон (1818—1892) — немецкий юрист;
трактовал право как юридически защищенный практический интерес —
484—487, 489
Иероним (340/350—420), св. — учитель Западной Церкви— 787
Иисус, сын Сирахов (библ.) — автор учительной неканонической книги,
называемой * Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» — 248
Иисус Христос (библ.) — 18, 20, 22—24, 26, 29, 30, 37, 56, 60, 61, 63—68,
70, 71, 83—86, 88, 90, 91, 95, 101, 103—106, 114—118, 122, 123,
127—131, 133—136, 139, 143—145, 159—162, 174, 176, 177, 179—
183, 188—190, 192—194, 197, 200, 201, 223, 310, 327, 350, 378, 392,
410, 454, 455, 495, 496, 500, 504, 511, 512, 537, 589, 633, 682, 683,
687, 766, 786, 788—793, 801, 833, 858, 867
Иксион (мифол.) — персонаж мифа Древней Греции, отец Кентавра — 432
Иларион (в миру — Г. В. Алфеев; р. 1966) — епископ, доктор
богословия — 856
Иларион — схимонах, автор книги «На горах Кавказа» (1-е изд. 1907 г.;
2-е — 1913 г.), послужившей началом «имяславческого» движения —
859, 860
Ильин Иван Александрович (1883—1954) — философ, политический
мыслитель — 54, 463—464, 813
Инсаров В. — 477
Иоанн Богослов (библ.) — апостол и евангелист — 90, 116, 722, 723, 749
Иоанн Вщшенский (вторая пол. XVI — нач. XVII в.) — монах, противник
унии —680, 681, 684
Иоанн Дуне Скот (Ioannes Duns Scotus; ок. 1266—1308) —
философ-схоласт — 327
Иоанн Креститель (библ.) — 143
Иоанн Кронштадтский (в миру — Иоанн Ильич Сергиев; 1820—1909) —
богослов и проповедник — 181, 864
Иоанн Латранский, св. — 786
Именной указатель
1037
Иоанн Лейденский (наст, имя — Ян Бокельсон (Бейкельсон); 1510—
1536) — вождь анабаптистов — 108
Иоанн Скот Эриугена (Эригена; Iohannes Scotus Eriugena; ок. 810 — ок.
877) — философ — 215, 237, 327, 329, 330, 337, 341, 343, 347, 349,
350, 351, 353
Иоэль (Joël) Карл (1864—1934) — немецкий философ — 293
Исайя (библ.) — пророк, приобрел значимость в христианской Церкви
своим пророчеством о Мессии (Еммануиле) — 257
Иуда (библ.) — 783
Иустин Мученик (И в.), св. — отец и учитель Церкви — 19, 341
Кавур (Cavour) Густаво Бензо ди (1806—18640 — итальянский писатель
и философ — 529
Калитина Лиза (лит.) — персонаж повести И. С. Тургенева «Дворянское
гнездо» — 208
Каллист I (ум. 222), св. — римский папа — 48, 787, 788
Кальвин (Calvin, Calvinus) Жан (1509—1504) — деятель Реформации,
основатель кальвинизма — 152
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — советский
государственный деятель — 9
Кампанелла (Campanella) Джованни Доменико (в монашестве — Томмазо;
1568—1639) — итальянский философ и общественный деятель.
Кант (Kant) Иммануил (1724—1804) — немецкий философ — 21, 34, 49,
52, 53, 215, 217, 218, 228, 232, 233, 252, 257, 262, 266, 267, 270, 276,
294—296, 300, 302, 303, 312, 313, 320, 321, 331, 334, 336, 337, 346,
350, 351, 354, 357, 358, 367, 375, 386, 391, 393, 402, 404, 410, 415—
420, 422, 423, 425—427, 429—434, 447, 448, 450, 462—475, 478, 479,
481, 482, 484, 491, 515, 516, 522—524, 530, 541, 565, 583, 583, 612—
614, 617, 623, 624, 635, 638, 640, 644, 656, 666, 667, 669, 670, 690,
691, 700, 705, 706, 710, 712, 713, 715, 719, 730, 739, 744, 745, 750—
755, 758—760, 765, 767, 777, 783, 798, 806, 810—812, 833, 854, 873—
875
Карамазов Алеша (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы» — 506, 513, 514
Карамазов Иван (лит.) — персонаж романа Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы» — 506, 513, 514
Карамазов Митя (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы» — 206
Карлейль (Carlyle) Томас (1795—1881) — английский публицист,
историк и философ — 760
Карпов Василий Николаевич (1798—1867) — философ-теист, переводчик
Платона — 611
Карпов Владимир Порфирьевич (1870—1943) — биолог, натурфилософ-
виталист — 366—368
Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — философ школы
всеединства — 828
1038
Именной указатель
Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви,
участник религиозно-общественного движения в России нач. XX в. — 22,
25, 746
Картезий (см. также Декарт Ре не) — 586
Катилина (Catilina; ок. 108—62 до н. э.) — римский претор в 68 году —
791
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист крайне правого
толка (с 60-х гг. XIX в.) — 253
Кейдан В. И. — 11
Кентавр (мифол.) — персонаж мифологии Древней Греции, сын Иксио-
на — 432
Кеплер (Kepler) Иоганн (1571—1630) — немецкий астролог — 254
Керы (мифол.) — олицетворение судьбы у древних греков — 424
Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк — 13,
810, 812
Киреев Александр Алексеевич (1833—1910) — публицист и историк
славянофильства — 120, 180
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — философ, основатель
славянофильства — 252, 253, 275, 294, 306, 359, 360, 369, 370, 383, 386,
389, 493, 666, 773, 830, 844, 848
Кирилл Туровский (ок. ИЗО — не позднее 1182) — древнерусский
писатель и проповедник — 684
Кириллов (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы» — 513
Киселев С. Г. — ученый секретарь молодых философов СССР — 825, 826
Кистяковский Богдан Александрович (1869—1920) — социолог, юрист,
публицист — 687
Кифа Мокиевич (лит.) — персонаж одной из притч в поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые души» — 369
Клейгельс Николай Васильевич (1851—1916) — генерал-лейтенант, Санкт-
Петербургский градоначальник (1895—1904) — 180
Клестов Александр Алексеевич — 835
Климент Александрийский (кон. II — нач. III в.) — учитель и писатель
александрийской Церкви — 327, 337, 341, 379
Климент Римский (ум. 101) — отец и учитель Церкви — 117, 125
Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк — 269
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — социолог, юрист,
этнограф — 122
Коваленский (Ковалинский) Михаил Иванович (1745—1807) — ученик и
друг Г. С. Сковороды, писатель — 396, 397, 404, 406, 407, 412, 677—
679, 684
Коген (Cohen) Герман (1842—1918) — немецкий философ, глава марбург-
ской школы неокантианства — 38, 243, 244, 293, 295, 296, 321, 334,
335, 337, 357, 470, 536, 623, 624, 715
Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — философ-панпсихист —
227, 251, 261, 300, 301, 364, 691, 748, 779, 830, 844, 849
Колеров М. А. — 24, 25
Именной указатель
1039
Колумб Христофор (1451—1506) — мореплаватель — 106
Кон (Kohn) Йонас (1869—1947) — немецкий философ-неогегельянец —
293
Кондаков И. В. — 857
Кондильяк (Condillak) Этьен Бонно де (1715—1780) — французский
философ-просветитель — 523, 583, 628
Конт (Comte) Огюст (1798—1857) — французский философ и социолог,
позитивист — 367, 487
Коркунов Николай Михайлович (1853—1904) — юрист, специалист по
международному и государственному праву— 100, 119, 120, 121
Корнелий, св. — римский епископ, мученик (251—253) — 788
Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939) — историк — 45, 684, 814
Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1895) — писатель и поэт—
396
Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658) — деятель английской
революции XVII в., руководитель одной из ветвей английского
протестантизма — индепендентов — 153
Кронер (Kroner) Рихард (1884—1974) — немецкий философ, один из
инициаторов международного издания журнала «Логос» — 239, 688
Кроче (Сгосе) Бенедетто (1866—1952) — итальянский
философ-неогегельянец — 293, 375
Крупп (Krupp) — фамилия династии немецких промышленников — 34,
52, 53 415, 416, 420—422, 425—427, 431, 447, 450,462, 463, 466, 468,
477, 478, 481, 515, 538, 644, 656, 739, 745, 750—755, 759, 783, 798,
799, 806, 810—812
Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художница, график —
803, 805, 806, 814
Ксеркс (?—465 до н. э.) — царь государства Ахменидов — 310, 496
Кудрявцев Петр Павлович (1868—?) — философ, преподаватель Киевской
духовной академии — 174
Кузен (Cousin) Виктор (1792—1867) — французский философ и
политический деятель —479, 569—571, 576, 591, 596, 628
Кузнецов Николай Дмитриевич (1864—1930/1931) — юрист и богослов,
член Предсоборного присутствия (сообщено С. Л. Фирсовым) — 180
Куликова Марина Владимировна — современный историк науки — 8
Курбский Андрей Михайлович (ок. 1528—1583) — русский
политический деятель и мыслитель — 777, 834
Лабриола (Labriola) Антонио (1843—1904) — итальянский
философ-марксист — 486
Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — теоретик революционного
народничества, философ и публицист — 364
Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1782—1854) — французский
публицист и философ; один из родоначальников христианского
социализма — 307, 563
Ласк (Lask) Эмиль (1875—1915) — немецкий философ-неокантианец —
471
1040
Именной указатель
Лассаль (Lassale) Фердинанд (1825—1864) — социалист, философ,
деятель немецкого рабочего движения — 477, 478, 486, 487
Лащевский Варлаам (ум. 1774) — ученый монах, историк славянских
изданий Библии — 683
Лебедев Амфион Степанович (1833—1910) — профессор Харьковского
университета — 410
Лебон (Le Bon) Гюстав (1841—1931) — французский социолог,
социальный психолог — 489
Лев XIII (в миру — граф Аннибале делла Дженга) — римский папа (1823—
1829) — 183
Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий
философ-просветитель — 296, 300—303, 315, 320, 331, 342, 349, 353, 523,
564, 569, 570, 577, 578, 585, 586, 624, 699, 739, 740, 873, 875
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1512) — итальянский
ученый, живописец, скульптор, инженер — 854
Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — писатель и философ —
179, 460
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — русский поэт и прозаик —
641
Лесков Николай Семенович (1831—1895) — писатель — 179
Ликург (IX—VIII в. до н. э.) — законодатель Спарты — 417
Лисис (лит.) — название диалога Платона — 611, 877
Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — математик, издатель
неевклидовой геометрии — 389
Лобов Леонид Петрович — литератор, публицист славянофильского
направления начала XX в. — 383, 386, 392, 394
Локк (Lock) Джон (1632—1702) — английский философ и социальный
мыслитель — 228, 331, 379, 523, 570, 583, 699, 765, 854
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — ученый, поэт,
просветитель — 389, 778, 814, 815
Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ-неолейбницианец и
психолог — 20, 21, 28, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 50, 51 227, 251, 254, 261,
276, 295, 300, 301, 308, 310, 311, 345, 349, 353, 354, 358, 416, 538,
649, 675, 691, 696, 703, 745, 829, 830, 836, 844, 862
Лосев Алексей Федорович (1893—1988) — философ, историк философии,
последний из младших представителей « серебряного века» русской
культуры — 40, 828
Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ — 38, 743, 829
Лот Р. — 53
Лотце (Lotze) Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий
естествоиспытатель, врач, философ-имманентист — 300, 334
Лука (библ.) — апостол и евангелист — 129, 133, 136, 159
Лундберг Евгений Германович (1887—1965) — писатель, критик — 25
Лурье Семен Владимирович (1867—1927) — философствующий
публицист — 172
Льюис (Lewes) Джордж Генри (1817—1878) — английский историк
философии — 20
Именной указатель
1041
Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 — 478
Лютер (Luther) Мартин (1483—1546) — основатель немецкого
протестантизма — 52, 108, 182, 184, 415, 431, 433, 446, 463, 474, 526, 578, 585,
587—589, 644, 750, 755
Люцифер — 434, 463
Маврикий — 552
Магомет — 164
М. 3. — 462
Маймон (Maimon) Соламон (1753/1754—1800) — немецкий философ —
331
Макарий (в миру — Михаил Андреевич Невский; 1835—1926) —
митрополит Московский и Коломенский (с 1912), миссионер — 869
Максим Грек (в миру — Михаил Тиволис; ок. 1470—1556) —русский
мыслитель и богослов — 777, 834
Максим Исповедник (ок. 580—662) — учитель Церкви, христианский
философ — 39, 214, 327, 379, 406, 679, 701, 766, 846
Максимилиан — римский мученик — 168
Мальбранш (Malebranche) Никола (1638—1715) — французский философ-
картезианец — 217, 302, 541, 564—566, 568—578, 585, 595, 625, 670,
671, 875
Мальтус (Maithus) Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист —
. 486, 487
Мамиани (Мамиани делла Ровере; Mamiani Delia Rûvere), Теренцио
(1799—1885) — итальянский философ, выступавший за «подлинно
итальянскую» систему философии — 529
Маммона (библ.) — в Новом Завете это слово употребляется в качестве
имени как бы злого духа, покровительствующего богатству — 132, 136
Манжура Иван Иванович (1851 —1893) — украинский поэт и
фольклорист — 680
Маринин — товарищ В. В. Розанова по нижегородской гимназии — 143
Маритэн (Maritain) Жак (1882—1973) — французский
философ-неотомист — 855
Мария (библ.) — матерь Господа Бога нашего Иисуса Христа — 257
Мария Великая, св. — 786
Мария — монахиня, имя поэтессы и писательницы Елизаветы Юрьевны
Кузьминой-Караваевой (1891—1945), данное ей после пострига в
1932 — 55
Мария Тимофеевна (лит.) — юродивая, персонаж романа Ф. М.
Достоевского «Бесы» — 276, 774, 847
Маркс (Marx) Карл (1818—1883) — немецкий философ и социолог,
основатель коммунистического движения XIX—XX вв. — 99, 477, 478,
487
Марукки (Marucchi) Орацио (1852—1931) — итальянский археолог —
788, 789, 791
Марченко Олег Викторович — современный исследователь русской
философии — 824
1042
Именной указатель
Матвей Ржевский (в миру — Матвей Александрович Константиновский;
1791—1857) — протоиерей из г. Ржева, духовник Н. В. Гоголя — 183
Машкин Серапион (1855—1905), архимандрит, богослов — 180—183, 185
Мейер (Meyer) Эдуард (1855—1930) — немецкий историк древнего
мира — 423
Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — литератор,
публицист — 820
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — ученый-химик,
мыслитель — 389
Мен ди Биран (Maine de Biran) Мари Франсуа Пьер Гонтье (1766—
1824) — французский философ — 618, 620
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — писатель и поэт,
деятель «нового религиозного сознания» — 7, 12, 23, 201, 204, 206, 207,
450, 747, 748
Местр (Maistre) Жозеф де (1753—1821) — французский политический
деятель и философ-иезуит — 483, 563
Метерлинк (Maeterling) Морис (1862—1949) — бельгийский драматург и
поэт — 14
Метнер Эмилий Карлович (лит. псевд. — Вольфинг; 1872—1936) —
музыкальный критик, философ, руководитель издательства «Мусагет» —
687, 693, 748
Мефистофель — образ злого духа в фольклоре и художественном
творчестве народов Европы; персонаж «Фауста» Гёте — 222
Мещерский, кн. — 817
Мёллер (Möller) Иоган Адам (1796—1838) — немецкий католический
богослов — 307
Милль (Mill) Джеймс (1773—1836) — английский философ и психолог
юмистского направления — 627
Милль ((Mill) Джон Стюарт (1806—1873) — философ-позитивист, логик и
политэконом — 483, 862
Мильтон (Milton) Джон (1608—1674) — английский поэт — 760
Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель —
253
Минерва (мифол.) — в римской мифологии богиня покровительница
ремесел и искусств — 469
Минуций Феликс (Minucuis Felix; ум. ок. 2100) — римский адвокат,
христианский апологет — 790
Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — литературный
критик и публицист-народник — 281, 364, 688
Могила Петр Симеонович (1596/97—1647) — деятель украинской
культуры, церковный писатель — 684
Модест (в миру — Е. Н. Никитин; 1867 — после 1937) — епископ
Верейский — 869
Моисей (библ.) — пророк и основатель иудаизма — 326, 378, 567, 593,
594, 619, 620
Молох (библ.) — идол огня— 652
Именной указатель
1043
Моммзен (Mommsen) Теодор (1817—1903) — немецкий историк — 268
Морозов Николай Александрович (1854—1946) —
революционер-народник, ученый — 30
Морозова Маргарита Кирилловна (1873—1958) — меценатка — 25, 36,
46, 686, 693, 748, 857
Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда (1689—1755) —
французский философ-просветитель — 379
Мост (Most) Иоганн (1846—1906) — немецкий анархист — 108
Мочениго Джованни — венецианец, написавший донос на Джордано
Бруно — 397
Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — литературный
критик, эссеист — 14, 15
Муретов Митрофан Дмитриевич (1851—1917) — богослов, профессор
кафедры Священного Писания Нового Завета Московской духовной
академии — 858, 868
Мышкин (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Идиот» — 513
Мясоедов Сергей Николаевич (1866—1915) — жандармский полковник,
обвиненный в шпионаже в пользу Германии и повешенный в
Варшаве — 640
Навуходоносор (605—562 до н. э.) — царь Вавилонский, победитель
соседних народов — 460
Наполеон I Бонапарт (Napoleon; 1769—1821) — французский император с
1804 по 1814 — 451, 455, 478
Нейдгардт Дмитрий Борисович (1861—1942) — одесский градоначальник
в 1903—1905 — 180
Некрасов Павел Алексеевич (1853—1924) — математик, представитель
московской философско-математической школы — 389
Немезида (мифол.) — в греческой мифологии богиня возмездия, синоним
неизбежной кары — 424
Нептун (мифол.) — в римской мифологии бог источников и рек, а потом
бог морей — 683
Нефела (мифол.) — в греческой мифологии богиня туч, олицетворение
облаков, мать Кентавра — 432, 433
Несмелое Виктор Иванович (1863—1937) — философ и богослов — 829
Нестор (XI — нач. XII в.) — летописец, монах Киево-Печерской лавры —
684
Николай II Александрович (1868—1918) — последний российский
император — 22
Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus; настоящая фамилия — Кребс,
прозван Кузанским по месту рождения в селении Куза в Южной
Германии; 1401—1464) —философ —331, 336, 337, 342, 348, 351, 356
Николь (Nicole) Пьер (1625—1695) — французский философ и теолог,
последователь Декарта — 575
Никольский Александр Александрович (1866—1915) — историк русской
философии — 824
1044
Именной указатель
Никольский Н. В., свящ. — 16
Никон, епископ Вологодский (в миру — Н. Рождественский; 1851—
1918) — член Св. Синода, участник спора об имяславии — 185, 537,
858, 863, 865, 867, 869.
Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, весьма
популярный в России в нач. XX в. — 19, 33, 185, 220, 257, 293, 379,
417, 424, 477, 478, 750, 753
Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — юрист и философ — 13
Новалис (Novalis, псевдоним; настоящее имя — Фридрих фон Харден-
берг; von Hardenberg; 1772—1801) — немецкий писатель и философ —
53, 402, 433, 447, 462, 464, 473, 705
Новицкий Орест Маркович (1806—1884) — магистр Киевской духовной
академии, профессор философии Киевского университета — 396
Новоселов Михаил Александрович (1864—1938) — святой Русской
Православной церкви, духовный писатель и христианский
"просветитель — 373, 869
Носов А. А. — 25, 32
Носов А. Д. — 24
Ноэль (Noël) Леон (1878—1953) — католический философ, профессор (с
1908) и президент Института философии (с 1927) Лувенского
университета — 626
Ньютон (Newton) Исаак (1642—1727) — английский ученый — 379
Овербек (Overbeck) Франц (1837—1905) — немецкий протестантский
теолог — 110
Один (мифол.) — верховный бог в скандинавской мифологии — 534
Одоевский Владимир Федорович (1803/1804—1869) — председатель «
Общества любомудров», писатель и музыкальный критик — 373, 640
Огнев Николай Васильевич (1860—?) — протоиерей, лишен сана в 1906,
сотрудник газеты «Речь» — 27
Ориген (ок. 185—253/254) — богослов, представитель ранней
патристики — 12, 327—329, 336, 337, 343, 379, 410, 701
Осипов И. — 195
Оствальд (Ostwald) Вильгельм Фридрих (1853—1932) — немецкий физи-
ко-химик и философ — 423
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — драматург — 484
П.-552
Павел (библ.) — апостол, величайший проповедник христианства среди
язычников —116, 117, 125—127, 190, 786
Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — философ и
естествоиспытатель — 778
Палама (Παλαμάς) Григорий (1296—1359) — византийский богослов и
митрополит Солунский — 46, 842
Пан (мифол.) — в греческой мифологии бог стад, покровитель пастухов, а
потом всей природы — 44, 791
Именной указатель
1045
Парацельс (Paracelsus; 1493—1541) — врач и естествоиспытатель — 473
Парнель (Parnuell) Чарльз Стюарт (1846—1891) — ирландский
политик — 155
Паскаль (Pascal) Блез (1623—1662) — французский мыслитель и
математик — 760
Пасынков А. — журналист — 431, 432
Паульсен (Paulsen) Фридрих (1846—1908) — немецкий
философ-метафизик — 222, 471
П. Е. К.— 517
Пения (лит.) — в мифе Платона богиня Бедности, мать Эроса — 51, 855
Пересветов Иван Семенович — публицист XVI века, защитник служилого
класса — 389
Петр (библ.) — апостол — 105, 116, 117, 123, 124, 127, 783
Петр I Алексеевич Великий (1672—1725) — первый российский
император (1721) — 39, 110, 111, 267, 779, 781, 827, 834, 838
Петр Ломбардский (Petrus Lombardus; нач. XII в. — 1160) — схоласт,
философ и теолог — 622
Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — юрист, основатель
психологической школы права — 484
Петров Григорий (1868—?) — священник, активный участник
религиозно-общественного движения в нач. XX в. — 15
Печерин Владимир Сергеевич (1807—1855) — поэт, религиозный
писатель; покинул Россию, отрекся от православия и обратился в
католичество—221, 222, 225, 229, 272, 300, 304, 314, 357, 772, 784, 833,
848, 851, 852
Пий IX (в миру — граф Джованни Мария Мастаи Феретти; 1792—1878) —
римский папа — 183, 665
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — литературный критик и
публицист — 364
Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ и
математик, религиозный и политический деятель — 586
Пифферун Оскар (1868—1908) — профессор Гентского университета —
122
Платон (428/427—348/347 до н. э.) — древнегреческий философ — 12,
19, 21, 49, 50, 224, 227, 255, 256, 296, 304, 305, 313, 320—322, 336,
339, 344, 347, 348, 350, 366, 367, 379, 484, 521—523, 526, 554—556,
558, 564—569, 576—578, 585, 586, 589, 609—611, 625, 628, 635, 638,
647, 649, 65—653, 665, 679, 691, 735, 740, 750, 809, 810, 821, 842,
847, 855—857, 872—875, 877—879
Плетон (в другом произношении — Плифон) Гемист Георгий (ок. 1355—
1452) — византийский философ-платоник — 603
Плотин (ок. 204/205—269/270) — древнегреческий философ, основатель
неоплатонизма — 320, 321, 323, 326, 336, 337, 339, 340, 342—344,
348—351, 554, 555, 558, 585, 691, 873
Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк — 379,
603
1046
Именной указатель
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — юрист,
обер-прокурор Синода (1880—1905) — 112
Поладьи (Palâgyi) Менхерт (Мельхиор; 1859—1929) — венгерский
философ, логик и эстетик — 627
Полторацкий Николай Петрович (1921—1990) — историк русской
общественной и философской мысли — 743
Поляков Леонид Владимирович (род. 1950) — историк русской
философии — 762, 828, 830, 834
Понтий Пилат (Pontius Pilatus) (библ.) — римский наместник Иудеи в
26—36, приговорил к распятию Иисуса Христа — 972
Порос (лит.) — по мифу Платона бог Богатства, отец Эроса — 51, 855
Порфирий (ок. 233— ок. 304) — философ-неоплатоник — 873
Потебня Александр Афанасьевич (1838—1863) — филолог-славист — 680
Пристли (Priestley) Джозеф (1733—1804) — английский химик и
философ-деист — 719
Прокл (ок. 410—485) — древнегреческий философ, систематизатор
неоплатонизма — 323
Прокопович Феофан (1681—1736) — русский церковный и
государственный деятель, писатель — 110, 683
Прометей (мифол.) — в греческой мифологии титан, похитивший у Богов
огонь и подаривший его людям — 302
Проскурина Вера Юрьевна — исследовательница истории русской
литературы — 794
Протагор (ок. 490 — ок. 420) — древнегреческий философ-софист — 372
Протей (мифол.) — персонаж древнегреческой мифологии, морской
старец, умевший принимать любой облик — 17, 333
Прутков Козьма — 818
Псевдо-Дионисий Ареопагит — неизвестный автор ряда сочинений
мистического неоплатонического характера, приписываемых Дионисию
Ареопагиту, первому епископу в Афинах — 327
Психея (мифол.) — в греческой мифологии олицетворение души
человека—641
Пушкин Александр Сергеевич (1799— 1837) — поэт, прозаик — 222, 224,
453, 641, 641, 807, 820
Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — писатель и философ —
778
Радивиловский Антоний (ум. 1688) — писатель, проповедник, церковный
деятель — 684
Радлов Эрнест Леопольдович (Львович) (1854—1923) — историк
философии — 312, 396, 572, 640, 762
Райская Ольга Павловна — мать В. Ф. Эрна — 8, 745
Ракитин (лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы» — 206
Рамзес Великий — египетский фараон в 1317—1251 гг. до н. э. — 266
Именной указатель
1047
Расин (Racine) Жан (1639—1699) — французский драматург,
представитель классицизма — 213
Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — литератор,
председатель Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева
в Москве — 27, 33, 36, 52, 458, 459, 822, 856, 857
Рейнгольд (Reingold) Карл Леонард (1758—1823) — немецкий философ-
кантианец — 617
Рейнингер (Reininger) Роберт (1869—1955) — австрийский философ —
575
Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк
религии — 183
Ренувье (Renouvier) Шарль (1815—1903) — французский философ — 375
Репетилов {лит.) — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» —
817
Рескин (Ruskin) Джон (1819—1900) — английский писатель и теоретик
искусства — 760
Рид (Reid) Томас (1710—1796) — английский философ, основатель
шотландской школы «здравого смысла» — 523, 628
Рикардо (Ricardo) Давид (1772—1823) —- английский экономист — 487
Риккерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — немецкий философ Баденской
школы неокантианства — 238, 243, 244, 246, 293, 295, 303, 315, 334,
336, 344, 346, 357, 471, 536, 688, 689, 706, 715
Робакидзе Григол ( 1880—1962) — грузинский писатель, литературный
критик — 49
Робеспьер (Robespierre) Максимилиан (1758—1704) — французский
революционер, вождь якобинцев — 451
Ровнер А. Б. — 743
Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, литературный
критик, публицист — 8, 19, 23, 142, 197, 200, 204, 255, 366, 368, 492,
494, 496, 516, 639, 747, 800, 825
Розенкранц (Rosenkrantz) Иоганн Карл Фридрих (1805—1879) —
философ-гегельянец — 358
Розмини (Розмини-Сербати; Rosmini-Serbati) Антонио (1797—1855) —
итальянский религиозный мыслитель — 46, 49, 50, 521—523, 525,
526, 528, 552, 558, 566, 585, 635, 638, 658, 663, 749, 821, 854, 873—
875, 877
Ройс (Royce) Джосайя (1855—1916) — американский философ,
представитель абсолютного волюнтаризма — 521—523, 525, 526, 528—552,
558, 566, 585
Роланд (мифол.) — герой французского эпоса — 655
Романова Екатерина Владимировна (1855—?) — кузина В. С.
Соловьева — 644
Рорти (Rorty) Ричард (род. 1931) — американский философ — 855
Росси (Rossi) Джиованни Батиста де (1822—1894) — римский археолог —
788
Руайе-Коллар (Royer-Collard) Пьер Поль (1763—1845) — французский
философ-спиритуалист — 628
1048 Именной указатель
Рубинштейн Моисей Матвеевич (1878—1953) — философ, психолог и
педагог — 425,466
Рублев Андрей (ок. 1360/70 — ок. 1430) — иконописец — 827
Рукович В. А. — редактор-издатель журнала «Живая жизнь» (1907—
1908) — 200
Русанов Николай Сергеевич (1859—1939) — революционер, народоволец,
публицист и историк — 305
Руссо (Rousseau) Жан-Жак (1712—1778) — французский социальный
мыслитель и педагог — 379, 411, 479, 483, 488, 579
Рысс Петр Яковлевич (1870—1948) — публицист — 425, 799, 812
Савватий — имя римлянина (первые века христианства) — 791
Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452—1498) — монах-доминиканец,
религиозно-политический реформатор, диктатор Флоренции — 190,
206, 207, 746
Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — философ, историк,
славянофил — 110, 389
Самсон (библ.) — богатырь, сила которого была спрятана в его волосах —
820
Сапфира (библ.) — жена Анания, пораженная смертью за ложь против
Святого Духа — 90
Сарпи (Sarpi) Паоло (1552—1623) — итальянский ученый и политик,
доктор богословия — 854
Сарториус (Sartorius) Эрнст Вильгельм Христиан (1797—1859) —
немецкий протестантский богослов — 307
Свенцицкий Валентин Павлович (1882—1931) — 13, 14—17, 19, 22, 26—
28, 30, 32, 33, 59, 143, 145, 163, 164, 178, 180, 182 183, 187—190,
193, 200, 204—207, 373, 745—748, 856
Свенцицкий Илларион Семенович (1876—?) — историк русской
средневековой мысли — 777
Серафим Саровский (в миру — Прохор Сидорович Мошнин; 1760—
1833) — монах Саровской пустыни; в 1903 канонизирован — 214, 222,
260, 357, 509, 645
Сервантес Сааберда (Servantes Saawedra) Мигель де (1547—1616) —
испанский писатель — 799, 800, 807
Сервет (Servet) Мигель (1509/1511—1553) — испанский мыслитель и
врач; обвинен в ереси и сожжен — 206, 207
Сергий (в миру — Иван Николаевич Страгородский; 1867—1943) —
ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1901—1905),
архиепископ Финляндский и Выборгский (с 1905), патриарх Московский и
Всея Руси (с 1943) — 142, 869
Сергий Радонежский (в миру — Варфоломей; 1314/1319—1392) — св.,
преподобный, величайший подвижник земли русской, канонизирован
в 1452 — 222, 509, 645
Симон Волхв (библ.) — маг и чародей, из-за корысти «уверовал» в Христа
и крестился — 90
Именной указатель
1049
Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский
мудрец-философ—34, 40, 225, 227, 229, 235, 238, 253, 255, 256, 270—277, 300,
304, 313, 357, 361, 364, 366, 369, 371, 372, 374, 375, 377—382, 387,
389, 396—399, 401,403—412, 635, 638, 645, 647, 657, 663, 675-684,
696, 698—703, 705—707, 711—715, 719, 727, 729, 734, 737, 748, 749,
763, 764, 767—780, 809, 810, 821, 824, 829, 830, 832—839, 841, 844-
852, 856
Скрябин Александр Николаевич (1871/72—1915) — композитор и
пианист — 38
Смит (Smith) Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ —
487, 523
Смелова Е. Б. — переводчица — 572
Соболев А. В. — 34
Сократ (470/469—399 до н. э.) — философ Древней Греции — 227, 255,
256, 267, 275, 305, 313, 367, 368, 375, 397, 567, 589, 610, 611, 676,
679
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ—11,
12, 14, 18, 20, 31, 33, 34, 37, 59, 101, 111, 125, 177, 185, 201, 208,
221—223, 224, 226, 227, 229—231, 234, 238, 252, 253, 255—258, 261,
266, 272-276, 278, 280, 281, 288, 290, 292—295, 297, 298, 302—308,
310, 312—317, 345, 349, 354, 357, 360, 361, 364, 386, 388, 391, 393,
399, 425, 453, 462, 479, 491, 493, 495, 498, 509, 529, 590, 591, 624,
634, 636, 647, 663, 664, 666, 674, 682, 685, 688, 691, 694, 696, 703,
711, 722, 735, 799, 807, 808, 812, 818, 829, 830, 832, 835, 836, 844—
852, 855, 856, 878
Соловьев Сергей Михайлович (1885—1941) — литературный критик —
185, 186, 459—461, 745, 748—751, 755, 773—775, 778, 779, 784
Сольми (Solmi) Арриго (1873—1941) — итальянский историк и
политик — 630
Соротинин В. Н. (правильно — Сиротинин) Валерий Николаевич
(1855/1856—1934) — врач, знакомый В. В. Розанова — 204
Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — драматург Древней Греции — 185
Спавента (Spaventa) Бертрандо (1817—1883) — итальянский
философ-гегельянец — 522
Спекторский Евгений Васильевич (1875—1951) — специалист по истории
и теории социальных наук, философии религии и истории русской
культуры — 588, 589
Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский
философ-позитивист — 257, 301, 367, 386, 387
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный
деятель и философ-мистик — 225, 833
Спиноза (Spinoza, d'Ecpinoza) Бенедикт (Барух) (1632—1,677) —
нидерландский философ-рационалист и пантеист — 21, 249, 253, 254, 255,
296, 300—304, 311, 312 , 315, 320, 331, 337, 342, 349, 353, 487, 488,
570, 571, 583, 596, 607, 625, 666, 699, 713, 739, 765, 854
Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — филолог-славист и
этнограф — 833
1050
Именной указатель
Ставриков В. — журналист — 26
Ставрогин Николай {лит.) — персонаж романа Ф. М. Достоевского «
Бесы» — 506, 513
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — деятель русской
философской жизни 30-х гг. XIX в. — 306
Степун Федор Августович (1884—1065) — философ и литературный
критик — 38, 55, 240, 243, 246, 278, 299, 401, 688, 696, 705, 748, 749
Стефан Яворский (1658—1722) — русский церковный деятель и
писатель — 110
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ и литературный
критик — 252
Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, философ,
общественно-политический деятель — 55, 172, 458, 459, 461, 687, 750
Стюарт (Stewart) Дугалд (1753—18280 — английский философ
шотландской школы «здравого смысла» — 523, 628, 640, 825
Сумцов Николай Федорович (1854—1922) — историк искусства — 675
Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881—1961) — знакомый В. Ф. Эрна
по университету — 25
Тамара Стефан — малороссийский дворянин, у которого Г. С. Сковорода
был учителем — 407
Тардити (Tarditi) Микеле (1807—1849) — преподаватель логики и
метафизики в Турине, критик Джоберти; его работы долго приписывались
Розмини (сообщено Томмазо Дель Эра) — 529
Тереза Авильская (ум. 1582) — святая римско-католической Церкви —
785
Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — активный участник
религиозно-общественного движения в России нач. XX в. — 15, 201
Тертуллиан (Tertullianus) Квинт Семпилий Флоренс (ок. 160 — после
220) — христианский теолог и писатель — 790
Тиберий Клавдий Нерон (Claudius Nero Tiberius; 42 до н. э. — 37 н. э.) —
римский император — 180
Тиктин Николай Исаакович (1874—?) — церковный писатель — 109
«Тимей» (лит.) — название диалога Платона — 878
Тимур (Тамерлан; 1336—1408) — полководец, жестокий завоеватель —
450
Титов Владимир Павлович (1803—1891) — писатель-романтик — 820
Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — публицист,
общественный деятель монархического толка — 121
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — писатель и мыслитель — 128,
163, 167, 198, 200, 222, 226, £72, 274—276, 304, 314, 379, 381, 397,
399, 407, 408, 410, 415, 498, 511, 673, 772—774, 830, 832, 847, 848,
850, 852, 856
Томмазео (Tommaseo) Никколо (1802—1874) — итальянский писатель,
историк, филолог — 529
Топорков Алексей Константинович (1882—?) — философ, публицист —
13
Именной указатель 1051
Трифон (в миру — князь Борис Петрович Туркестанов; 1861—1934) —
митрополит Дмитровский (с 1901) — 869
Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — психолог и
философ-позитивист — 368, 537
Троицкий Сергей Викторович (1878—1972) — деятель русской Церкви,
духовный писатель — 858, 868
Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — религиозный философ,
правовед — 36—38, 45, 52 172, 364, 458, 460, 464, 465, 685, 748
Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — религиозный философ —
12, 13, 20, 27, 33, 225, 227, 253—255, 261, 300, 301, 326, 327, 357,
364, 380, 386, 391, 638, 647, 649, 691, 740, 745, 829, 830, 836, 844,
848, 856, 857, 872
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель — 641
Турский — рецензент газеты «Южный край» — 675
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт и дипломат — 224, 226,
304, 314, 369, 390, 435, 453—456, 498, 501, 774, 830, 847, 851
Уайльд (Wilde) Оскар (1854—1900) — английский писатель — 185
Успенский Петр Демьянович (1878—1947) — теософ и оккультист — 821,
823
Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — родоначальник античной
философии — 20
Федоров Николай Федорович (1829—1903) — создатель «философии
общего дела» — 830, 848
«Федр» (лит.) — название диалога Платона — 610, 644, 652, 877, 878
Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804—1872) — немецкий философ — 372
Феодор (в миру — Александр Поздеевский, в схиме — Даниил; 1876 —
конец 40-х гг. XX в.) — епископ Волоколамский (с 1909) — 869
Феофан Затворник (в миру — Г. В. Говоров; 1815—1894) — духовный
писатель, епископ Владимирский и Тамбовский, в 1866 удалился на
покой в Вышенскую пустынь — 387, 390
Феррари (Ferrari) Джузеппе (1811—1876) — философ и политический
деятель Италии, публикатор первого полного собрания сочинений Д. Ви-
ко —577
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт — 224
Фехнер (Fechner) Густав-Теодор (1801—1887) — немецкий физик,
психолог и философ — 333
Филарет (в миру — Василий Семенович Дроздов; 1783—1867) —
митрополит Московский (с 1826), первый доктор богословия в России — 390
Филипп (в миру — Федор Степанович Колычев; 1507—1569) — святой,
митрополит Московский и Всея Руси, в разгул опричнины обратился
к Ивану Грозному с увещеванием прекратить кровопролитие — 64, 94
Филиппо Нери (ум. 1595) — святой римско-католической Церкви — 785
Филиппов Михаил Михайлович (1858—1903) — философ-позитивист,
историк русской философии и журналист — 762, 824
1052
Именной указатель
Филон Александрийский (28/21 до н. э. — 48/49 н. э.) — античный
философ — 39, 216, 323, 325, 326, 336, 337, 340, 344, 379
Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист, участник
религиозно-общественного движения нач. XX в. — 179, 377, 515
Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762—1814) — представитель немецкого
классического идеализма — 294, 302, 304, 314, 332, 353, 357, 375,
415, 464, 470, 471, 479, 481, 482, 522, 541, 542, 556, 588, 666—668,
750—752
Фичино (Ficino) Марсилио (1433—1499) — итальянский философ,
организатор Платоновской академии во Флоренции — 556
Фишер (Ficher) Куно (1824—1907) — немецкий историк философии —
358, 415
Флавиан (в миру — Николай Городецкий; 1841—1915) — митрополит
Киевский и Галицкий (с 1903), духовный писатель — 869
Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — религиозный
философ — 9—13, 25, 32, 56, 181, 182, 185, 359, 370, 455, 494, 506, 640,
647, 649, 745, 748, 784, 785, 800, 810, 822, 828, 856—858, 868, 869,
871—873, 879
Флоровский Георгий Васильевич (1893—1979) — богослов, философ,
историк — 743, 751
Фолькельт (Volkelt) Иоханнес (1848—1930) — немецкий философ,
психолог, эстетик — 301
Фома Аквинский (лат. Thomas Aquinas, итал. Tommaso d'Aquino; 1225—
1274) — средневековый философ и богослов, систематизатор
схоластики — 327, 472, 522, 536, 576, 586, 622, 835, 855
Фосслер (VoOler) Карл (1872—1949) — немецкий эстетик и романист,
занимавшийся философией языка — 293, 688
Фотий (в миру — П. Н. Спасский; 1792—1838) — архимандрит,
церковный деятель — 143
Фохт (Фогт) (Vogt) Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель,
философ-материалист — 640
Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ, продолжатель
традиции философии всеединства, оппонент В. Ф. Эрна в 1910 — 7, 28, 39,
40, 44, 45, 53, 55, 56, 211, 216, 219, 220, 223, 224, 248—264, 298, 309,
425, 442, 459, 554, 557, 558, 637, 691, 692, 695, 696, 698, 702, 739,
747, 757, 765, 766, 780, 825, 827, 828
Франциск Ассизский (1182—1226) — христианский святой, поэт и
проповедник — 33, 267, 647
Фрейд (Freud) Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач психиатр и
психолог, основатель психоанализа — 813
Фрина —810, 811
Фрис (Fries) Якоб Фридрих (1774—1843) — немецкий философ,
последователь И. Канта — 332, 336, 337, 346
Фуко Шарль де — подвижник и мученик у католиков — 786
Фуко (Foucault) Мишель (1926—1984) — французский философ — 855
Фьорентино (Fiorentino) Франческо (1834—1884) — итальянский
философ-гегельянец — 525
Именной указатель
1053
Хайдеггер (Heidegger) Мартин (1889—1976) — немецкий философ — 855
Харрасек Стефан (1870—1952) — историк польской философии XIX в. —
825
Хвостов Вениамин Александрович (1868—1920) — социолог, правовед —
45
Хейнце (Гейце; Heinze) Макс (1835—1909) — немецкий историк
философии, литератор — 740
Хиждеу Александр (1811—1872) — молдавский писатель, фольклорист,
литературовед — 229, 255, 256, 275, 405, 406, 678, 833
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — философ, основатель
славянофильства — 33, 231, 252, 253, 275, 294, 357, 369, 370, 371, 383,
386, 389, 390, 393, 399, 455, 491, 493, 509, 666, 673, 773, 828—830,
844, 848
Хрисанф (в миру — Минаев), инок — монах Ильинского скита Афонского
монастыря, один из первых критиков имяславческого движения —
859
Хуан Крус де л а (Иоанн Креста) (ум. 1591) — святой, учитель Церкви —
785
Цветков Сергей Алексеевич (1888—1964) — публицист, литературовед,
библиограф — 370, 640
Цезарь (Caesar) Гай Юлий (102/100—44 до н. э.) — римский
полководец — 266
Целлер (Zeller) Эдуард (1814—1908) — немецкий историк античной
философии — 20
Цеппелин (Zeppelin) Фердинанд (1838—1917) — немецкий конструктор
дирижаблей — 423
Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — социал-демократ, один из
лидеров меньшевиков — 9, 10
Циглер (Ziegler) Теобальд (1846—1918) — немецкий философ и педагог —
419
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — философ и публицист — 222,
225, 226, 238, 453, 491, 493, 782, 784, 818, 830, 833, 836, 844
Челпанов Георгий Иванович (1862—1936) — русский психолог и логик —
13, 35, 40
Чемберлен (Chamberlain) Хаустон Стюарт (1855—1927) — немецкий
социолог, учил о расовом превосходстве арийских элементов в европейской
культуре — 476
Чемоданов А. Н. — знакомый В. Ф. Эрна по университету — 13
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — литературный
критик, писатель, революционный демократ — 305, 364, 396, 778
Чехов Антон Павлович (1860—1904) — писатель — 7, 222, 673, 830, 853
Чижевский Дмитрий Иванович (1874—1977) — историк философии,
филолог-славист — 711
Чингизхан (ок. 1155—1227) — монгольский завоеватель — 450
1054
Именной указатель
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — философ-гегельянец — 226,
386, 393, 779, 829, 848
Чуйко Владимир Викторович (1839—1899) — автор очерка по истории
русской философии — 824
Чурлянис (Чурлёнис) Микалоюс Константинас (1875—1911) —
литовский художник-символист и композитор — 642
ш апошникова Галина Михайловна — 742
Шварсалон Вера Константиновна (1890—1920) — дочь Л. Д. Зиновьевой-
Аннибал, третья жена Вяч. Иванова — 806, 820, 821
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт и
художник — 682
Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — литератор — 820
Шекспир (Shakespeare) Вильям (1564—1616) — английский драматург и
поэт —415, 799, 807
Шелер (Scheler) Макс (1874—1928) — немецкий философ и социолог —
825
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) —
представитель немецкого классического идеализма — 217, 228, 254, 255, 261,
294, 300—303, 312, 360, 364, 402, 415, 447, 464, 470, 471, 473, 541,
542, 555, 665—667, 670, 686, 700, 705, 707, 708, 719, 740, 765
Шер Вера Д. — знакомая семьи В. Ф. Эрна — 25
Шеррер (Scherrer) Ютта ( р. 1942) — современная исследовательница
русской мысли — 743
Шестов Лев (лит. псевдоним Иегуды Лейбы Шварцмана; 1866—1938) —
философ экзистенциального типа мышления и литературный
критик — 796— 798, 802, 803, 806, 811, 814—816, 819, 822, 826
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт и
мыслитель — 402, 433
Шиллер (Schiller) Фердинанд Каннинг Смит (1864—1937) — английский
философ — 372
Шишкин Алексий, свящ. — 663
Шлегель (Schlegel) Август Вильгельм (1767—1845) — поэт, литературный
критик и эстетик; развивал основные идеи иенского романтизма; брат
Ф. Шлегеля — 402
Шлегель (Schlegel) Фридрих (1772—1829) — немецкий философ,
теоретик иенского романтизма, критик и писатель; брат А. Шлегеля — 246,
402, 705
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих Даниель Эрнст (1768—1834) —
немецкий философ, богослов и общественный деятель, был близок к
иенскому романтизму — 402, 705
Шмеман Александр (1921 —1983) — протоиерей, церковный писатель —
786
Шмидт Анна Николаевна (1851 —1905) — нижегородская журналистка,
корреспондент В. С. Соловьева — 646, 807
Шмоллер (Schmoller) Густав (1838—1917) — немецкий экономист — 423
Именной указатель
1055
Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788—1860) — немецкий философ-ир-
рационалист — 233, 237, 294, 369, 471
Шпет Густав Густавович (1879—1937) — философ и историк
философии — 557, 762, 772, 824, 828
Штеглих (Stàglich) Дитер — 693, 744
Штейн (Stein) Лоренц (1815—1890) — немецкий историк, экономист, го-
сударствовед — 100
Штейнер (Steiner) Рудольф (1861 — 1925) — немецкий антропософ — 821
Штеккер (Stöcker) Адольф (1835—1909) — в январе 1878 выступил с
инициативой создания христианско-социальной партии — 108
Штирнер (Stirner) Макс (псевдоним; настоящее имя и фамилия — Каспар
Шмидт; Schmidt; 1806—1856) — немецкий
философ-младогегельянец — 464
Штурман Дора Моисеевна (р. 1923) — публицист, в 1977 эмигрировала в
Израиль — 829, 830, 830
Шуппе (Schuppe) Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ-имма-
нентист — 623
Щербина Александр Моисеевич (1874—?) — философ — 465
Эйслер (Eisler) Рудольф (1873—1926) — австрийский философ — 623
Экхарт (Eckhart) Иоган (Мейстер Экхарт; ок. 1260—1327 гг.) — немецкий
философ-мистик — 342, 347, 348, 415, 423, 433, 446, 448, 474, 755
Эммануэль (Еммануил) — еврейское «С нами Бог» в пророчестве Исайи
(7: 14): «Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил». Евангелист Матфей (1:23) прилагает это пророчество к
Христу (Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993.
С. 530) — 302, 312
Энгельс (Engels) Фридрих (1820—1895) — один из основоположников
марксизма — 486, 487
Эн-соф — в Каббале ничто или Бесконечное — название Бога, который
выше всякого определения как ограничения — 349
Эрны:
Александр — сводный (?) брат В. Ф. Эрна — 8
Владимир Францевич — 7—22, 24, 25, 27—53, 79, 87, 89, 128, 160,
180, 182, 183, 185, 190, 191, 195, 197, 198, 200, 201—203, 211,
248, 250, 259, 262, 265, 270, 295—305, 308—317, 356, 358—360,
362—366, 369, 371, 372, 374, 375, 379, 380, 381, 386—388, 390,
391, 396—412, 415, 425, 435, 446—448, 455, 458, 459, 462—465,
473, 481—483, 490, 492, 494—496, 498, 503, 515, 517, 521, 538—
545, 548—552, 554, 555, 557—561, 563—573, 575—578, 581—600,
602—609, 611—630, 633, 635— 645, 648, 649, 654—658, 660, 663,
666, 668—680, 682—684, 689—691, 693, 695—713, 715—730,
732—735, 738—785, 787, 789, 791, 793, 795—814, 821, 824, 825—
842, 845—847, 849—869, 871—879
Домна Францевна (в замужестве Кублицкая) — сестра В. Ф. Эрна — 8,
9, 19
1056
Именной указатель
Евгения Давыдовна (Женюра; в девичестве — Векилова; 1886—1972) —
жена В. Ф. Эрна — 31, 34, 373, 796
Ирина Владимировна (в замужестве — Калашникова; 1909—1991) —
дочь В. Ф. Эрна, историк архитектуры — 796
Мария Давыдовна (урожд. Векилова) — свояченица В. Ф. Эрна — 8, 9,
19, 32
Мария Францевна (в замужестве — Гарф) — сестра В. Ф. Эрна — 8
Николай Францевич (1879—1972) — брат В. Ф. Эрна; окончил
Николаевскую академию Гнерального штаба, участник 1-й мировой
войны (служил в штабе А. И. Деникина), с 1924 — в Парагвае;
генерал-лейтенант армии Парагвая — 8—10, 12, 19, 32, 50
Павел — сводный (?) брат В. Ф. Эрна — 8
Франц Карлович (ум. 1913) — отец В. Ф. Эрна, фармацевт — 8, 11, 48
Эрос (мифол.) — божество любви в греческой мифологии; но Платон
предложил свой миф об Эросе — демоне, спутнике Афродиты,·
выражающем стремление к прекрасному — 642, 644—646, 734, 735, 809, 855,
878
Эфрос Николай Ефимович (1867—1923) — журналист — 425
Юм (Hum) Давид (1711—1776) — английский философ-эмпирик и
скептик — 217, 218, 252, 257, 300, 320, 331, 470, 583, 666, 668, 699, 712,
719, 765,854
Юнгман К. — 575
Юпитер (мифол.) — верховный бог в римской мифологии, соответствует
греческому Зевсу — 683
Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ — 276, 396, 830,
844, 848
Юстиниан I (482/483—565) — византийский император (с 527 г.) — 180
Я зыков Николай Михайлович (1803—1846/47) — поэт — 818
Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий философ,
представитель философии чувства и веры — 300, 314, 740
Яковенко Борис Валентинович (1884—1949 — философ, один из
руководителей журнала «Логос» — 227—239, 243, 244, 318, 358, 374, 685,
688, 690—692, 694, 716, 748, 765, 809
Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857) — декабрист — 778
Януария — имя римлянки (первые века христианства) — 790
Ярослав Мудрый (ок. 978—1054) — великий князь Киевский (1019), при
нем составлена «Русская правда» — 109
Ясинский Варлаам (ум. 1707) — церковный писатель, с 1690 г. —
митрополит Киевский — 682
Именной указатель
1057
Иностранные имена
A. U.— 810
Barth H. — 575
Baruffa Α. — 787
Baiimker — 327
Bon Fred — 301
Bonnet Sh. (см. также: Боннэ Шарль) — 606
Bruno G. (см. также: Бруно Джордано) — 318, 345
Celsius А. — 329, 337
Christlieb Т. — 330
Clementius Alexandrinus (см. также: Клемент Александрийский) — 337
Cusanus N. (см. также: Николай Кузанский) — 337
Denis — 329, 341
Denzinger H. — 560
Descartes R. (см. также: Декарт Рене) — 575
Drews Α. — 340
Eriugena (Erigena) J. S. (см. также: Иоанн Скот Эриугена) — 330, 340,
348, 351
Feuerbach L. (см. также: Фейербах Людвиг) — 345
Fichte J. G. (см. также: Фихте Иоганн Готлиб) — 343, 353
Fries J. F. (см. также: Фрис Якоб Фридрих) — 332, 337
Gentile Ε. — 610
Gioberti V. (см. также: Джоберти Винченцо) — 345, 529, 561, 566
Grabmann M. — 626
Harnack А. (см. также: Гарнак Адольф) — 138
Hartmann Ed. von (см. также: Гартман Эдуард фон) — 345
Heinze M. (см. также: Хейнце Макс) — 325, 326
Hegel G. W. F. (см. также: Гегель Георг Вильгельм Фридрих) — 333, 346,
352
Hessen S. (см. также: Гессен Сергей Иосифович) — 347
Jungmann К. (см. также: Юнгман К.) — 575
Kant I. (см. также: Кант Имануил) — 337, 346
Kautsky К. — 138
Kirchmann J. G. — 138
1058
Именной указатель
Lossky N. О. (см. также: Лосский Николай Онуфриевич) — 743
Ν., епископ — 61
Origenes — 329, 337
Plato (см. также: Платон) — 211, 336
Plotin (см. также: Плотин) — 336, 337, 348, 340, 351, 531,
Prantl К. — 325
Reininger R. (см. также: Рейнингер Роберт) — 575
Riasanovsky N. V. — 745
Rickert H. (см. также: Риккерт Генрих) — 334, 337
Ritter — 326, 329, 330
Rosmini А. (см. также: Розмини Антонио) — 345, 529
Scherrer J. (см. также: Шеррер Ютта) — 744, 747
Staglich D. (см. также: Штеглих Дитер) — 744
Stepun F. (см. также: Степун Федор Августович) — 749
Stern W. — 301
Stöckl Α. — 348
Trendelenburg F. Α. — 345
Zernov Ν. (см. также: Верное Николай Михайлович) — 743
Составитель: В. А. Иванова
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя 5
A.A. Ермичев. Жизнь и дела Владимира Францевича Эрна ... 7
I
Христианское братство борьбы
В. П. Свенцицкий. Христианское братство борьбы и его
программа 59
В. Ф. Эрн. Семь свобод 79
Вал. Свенцицкий, В. Эрн. Церковная реформа. Гласное
обращение к членам Комиссии по вопросу о церковном Соборе . . 87
В, Ф. Эрн. Таинства и возрождение Церкви 89
Христианский социализм в России 93
Борьба церкви и борьба с церковью 96
И. Айвазов. Отклики 100
К, Г. Григорьев. К вопросу о христианском отношении
к собственности. Открытое письмо господину Эрну 128
B. В. Розанов. Религиозные голоса в нашей смуте 142
Н. Езерский. Религия и политика 146
Свящ. Константин Аггеев. Религия и политика 171
Д. В. Философов. Голос мирян 179
C. М. Соловьев. <Рец. на:> Вопросы религии. Вып. 1. Москва 185
3. Н. Гиппиус. Без мира 186
Иван Осипов. «Таинства и возрождение Церкви» 195
В. В. Розанов. О таинствах. Письмо в редакцию 197
В. В. Розанов. Вечная тема 200
В. В. Розанов. Еще о вечной теме 204
II
Борьба за Логос
В. Ф. Эрн. Нечто о Логосе, русской философии и научности.
По поводу нового философского журнала «Логос» 211
1060
Содержание
В. Φ. Эрн. Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку .... 248
В. Ф. Эрн. О методе изучения истории философии 265
B. Ф. Эрн. Сковорода и последующая русская мысль
(«Заключение» книги «Григорий Саввич Сковорода. Жизнь
и учение») 270
C. И. Гессен, Ф.А. Степун. От редакции (Цели журнала
«Логос» и задачи современной русской философии) 278
А. Белый. Неославянофильство и западничество в современной
русской философской мысли 292
С. Л. Франк. Философские отклики. О национализме в
философии 298
С. Л. Франк. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ
В. Ф. Эрна 309
Б. В. Яковенко. О Логосе 318
С. И. Гессен. Неославянофильство в философии (В. Эрн. Борьба
за Логос. Опыты философские и критические. М., 1911
Изд-во «Путь», 361 с.) 356
A. М.Деборин. <Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Борьба за Логос.
Опыты философские и критические 362
B. В. Розанов. Новые работы по философии 366
C. Н. Булгаков. «...Нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам
и что Сковороде...» (Письмо В. Ф. Эрну от 2 декабря 1912 г.) 371
Б. Яковенко. Новая книга о Сковороде (В. Эрн. Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение. В серии «Русские
мыслители». К-во «Путь». 342 с. Москва. 1912) 374
Д. Философов. Г. С. Сковорода (1. Вл. Эрн. Г. С. Сковорода.
Жизнь и учение. Москва. 1912. Книгоиздательство «Путь».
2. Собрание сочинений Г. С. Сковороды. Т. 1. Под ред.
Вл. Бонч-Бруевича. СПб. 1912) 377
Μ. Ф. Таубе. Самостоятельный уклад православно-русской
мысли и восточного славянского просвещения. Разбор
статьи Л. Лобова «Энциклопедия русской мысли»
(Славянские известия. № 12) 383
Э. Радлов. <Рец. на кн.:> Эрн. Вл. Григорий Саввич Сковорода.
Жизнь и учение (Русские мыслители). Книгоиздат. «Путь».
Москва. 1912 396
Ф.А. Степун. Русские мыслители. Г. С. Сковорода Вл. Эрна.
К-во «Путь». 1912 401
Д. И. Багалей. Издание сочинений Г. С. Сковороды и стоящие
в связи с ними исследования о нем. К 120-й годовщине
со времени его кончины. 1794—1914 <фрагмент> 404
Содержание 1061
III
Время славянофильствует
В. Φ. Эрн. От Канта к Круппу 415
В. Ф. Эрн. Сущность немецкого феноменализма 425
B. Ф. Эрн. О Царьграде 435
C. Л. Франк. О поисках смысла войны 442
Д. С. Мережковский. О религиозной лжи национализма 450
3. Н. Гиппиус. Скажите прямо! 458
М. 3. Спор о германской культуре (В Религиозно-философском
обществе памяти Вл. Соловьева) 462
М. М. Рубинштейн. Виноват ли Кант? 466
H.A. Бердяев. К спорам о германской философии 470
В. Инсаров: «Нейтралитет» науки 477
H.A. Бердяев. Эпигонам славянофильства 490
Вяч. Иванов. Живое предание 497
Н. А. Бердяев. Омертвевшее предание 507
Д. Философов. <Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Меч и крест.
Москва. 1915 515
П. Е. К. <Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Время
славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М., 1915 517
IV
Исследователь итальянской философии
B. Ф. Эрн. Спор Джоберти с Розмини 521
Л. Лопатин. По поводу сочинения В. Ф. Эрна «Розмини
и его теория знания. Исследование по истории
итальянской философии XIX столетия» 538
П. <Рец. на кн.:> В. Эрн. Розмини и его теория знания.
М., 1914 552
C. Л. Франк. <Рец. на кн.:> Владимир Эрн. Философия
Джоберти. Изд. «Путь». Москва. 1916 554
Г. Г. Шпет. Философия Джоберти. (По поводу книги
В. Ф. Эрна «Философия Джоберти») 557
V
In memoriam
Сергей Булгаков. Памяти друга (В. Ф. Эрн) 633
Б. Вышеславцев. Памяти В. Ф. Эрна 635
1062
Содержание
С. Л. Франк. Памяти В. Ф. Эрна 637
B. В. Розанов. Памяти Владимира Францевича Эрна 639
C. Н. Булгаков. Памяти В. Ф. Эрна (Речь на заседании
Московского религиозно-философского общества...
22 мая 1917 года) 641
Священник Павел Флоренский. Памяти Владимира
Францевича Эрна . . . 649
С.Аскольдов. Памяти Владимира Францевича Эрна 655
Вяч. Иванов. Скорбный рассказ 659
Вяч. Иванов. Оправданные 660
VI
Исследования
Свящ. Алексий Шишкин. Мышление западноевропейское
и мышление восточное по воззрениям В. Ф. Эрна 663
Η. Ф. Сумцов. Сковорода и Эрн 675
Б. В. Яковенко. Возрождение славянофильства и самозащита
неозападничества (фрагмент из книги «История русской
философии») 685
Дитер Штеглих. Восток и Запад. Россия и Европа 693
Ютта Шеррер. Неославянофильство и германофобия:
Владимир Францевич Эрн 743
Л. В. Поляков. Учение В. Эрна о русской философии 762
Владимир Зелинский. Безмолвная тайна первохристианства . 782
Вера Проскурина. Рукописный журнал «Бульвар и Переулок»
(Вячеслав Иванов и его московские собеседники
в 1915 году) 794
О. В. Марченко. Владимир Эрн и его концепция русской
философии 824
En. Иларион. В. Ф. Эрн об имяславии 856
О. Т. Ермишин. О понимании платонизма (В. Ф. Эрн
и свящ. Павел Флоренский) 871
Комментарии 880
Приложения
Приложение I. Материалы к биографии В. Ф. Эрна
1. Из метрического свидетельства о рождении В. Ф. Эрна 977
2. Заявление проф. В. И. Герье об оставлении В. Ф. Эрна
при Московском университете 978
3. Прошение В. Ф. Эрна о принятии его в число приват-
доцентов 978
Содержание 1063
4. Curriculum vitae Влад. Эрна 978
5. Прошение о командировке за границу 979
6. Заявление заслуженного профессора Л. Лопатина
и орд. проф. Г. Челпанова о предоставлении приват-
доценту В. Ф. Эрну заграничной командировки 980
7. Инструкция магистранту В. Ф. Эрну 981
8. Тезисы к диссертации «Розмини и его теория знания» 982
9. «Розмини и его теория знания» (защита диссертации
В. Ф. Эрном) 984
10. <Извещение о кончине В. Ф. Эрна> 985
11. Похороны В. Ф. Эрна 985
Приложение П. Время «Христианского Братства борьбы»
1. «Освобождение» публикует документы «Братства . . . 986
2. В. П. Свенцицкий. Открытое обращение верующего
к Православной Церкви 1001
Приложение III. Когда время славянофильствует
1. Воззвание к цивилизованному миру 93 германских
профессоров 1005
2. Наше отношение к германской культуре 1009
3. В. Эрн. В Соловьевском обществе (Письмо в редакцию) 1010
4. Доводы России и Европы 1012
Приложение IV. Стихотворение В. Ф. Эрна «Как во чистом
поле... » 1014
Приложение V. Материалы к библиографии В. Ф. Эрна
I. Монографии, брошюры, сборники 1015
П. Статьи 1016
III. Рецензии 1022
IV. Предисловия, послесловия и пр 1023
Приложение VI. Список сокращений названий наиболее часто
используемых источников 1024
Именной указатель (Составитель — 3. А Иванова) 1025
Учебное издание
В. Ф. ЭРН: PRO ET CONTRA
Составитель: доктор философских наук
А. А. Ермичев
Редактор: С. Н. Казаков
Корректор: H. М. Баталова
Художник: В. В. Неклюдов
Верстка: С. Степанов
Лицензия № 00944
от 09.02.2000 г.
Сдано в набор 13.07.05. Подписано в печать 23.01.06. Формат 60 χ 90 1/1
Бум. офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 66,50. Тираж 1000 экз. Зак. № ΖΒΖ.
По вопросам оптовых закупок обращаться по адресам: 191023, Санкт-
Петербург, наб. р. Фонтанки, 15, Издательство Русской Христианской
гуманитарной академии. Факс: (812) 571-30-75;
e-mail: editor@rchgi.spb.ru.
URL: http://www.rchgi.spb.ru;
ИТД «Летний сад»:
Тел. в С.-Петербурге: (812) 232-21-04;
Тел. в Москве: (095) 290-06-88
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии Издательства СПбГУ.
199061, Санкт-Петербург, Средний пр., 41