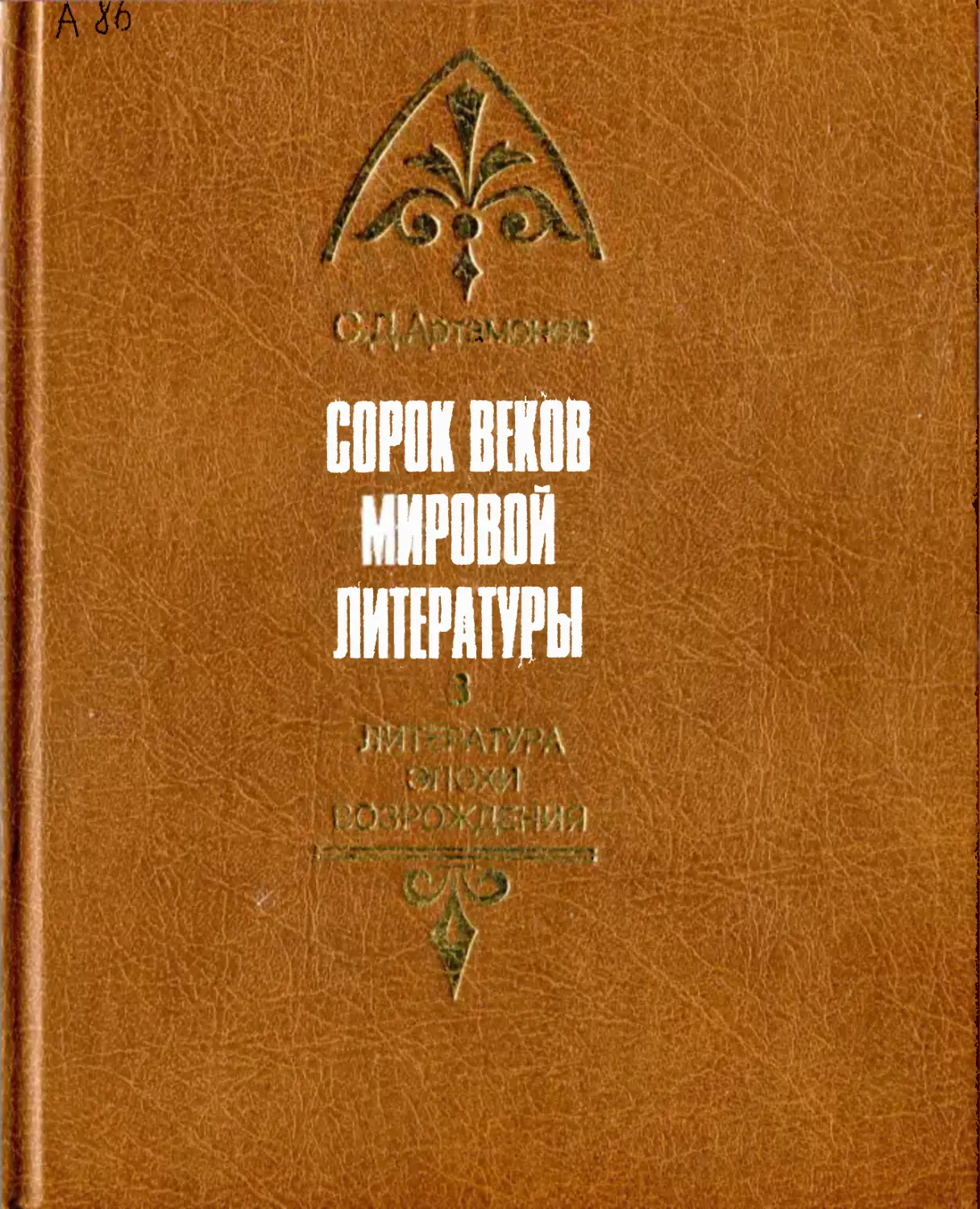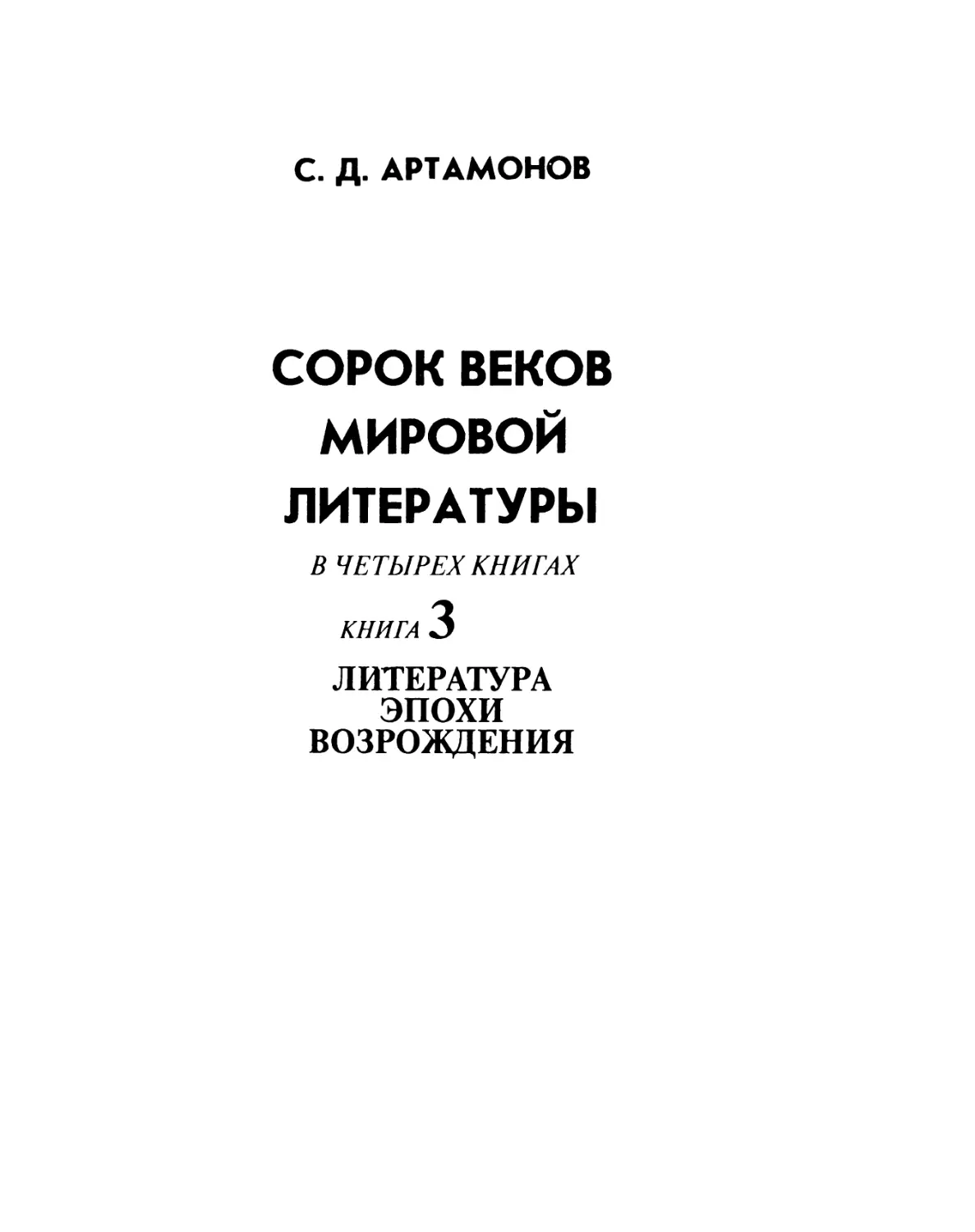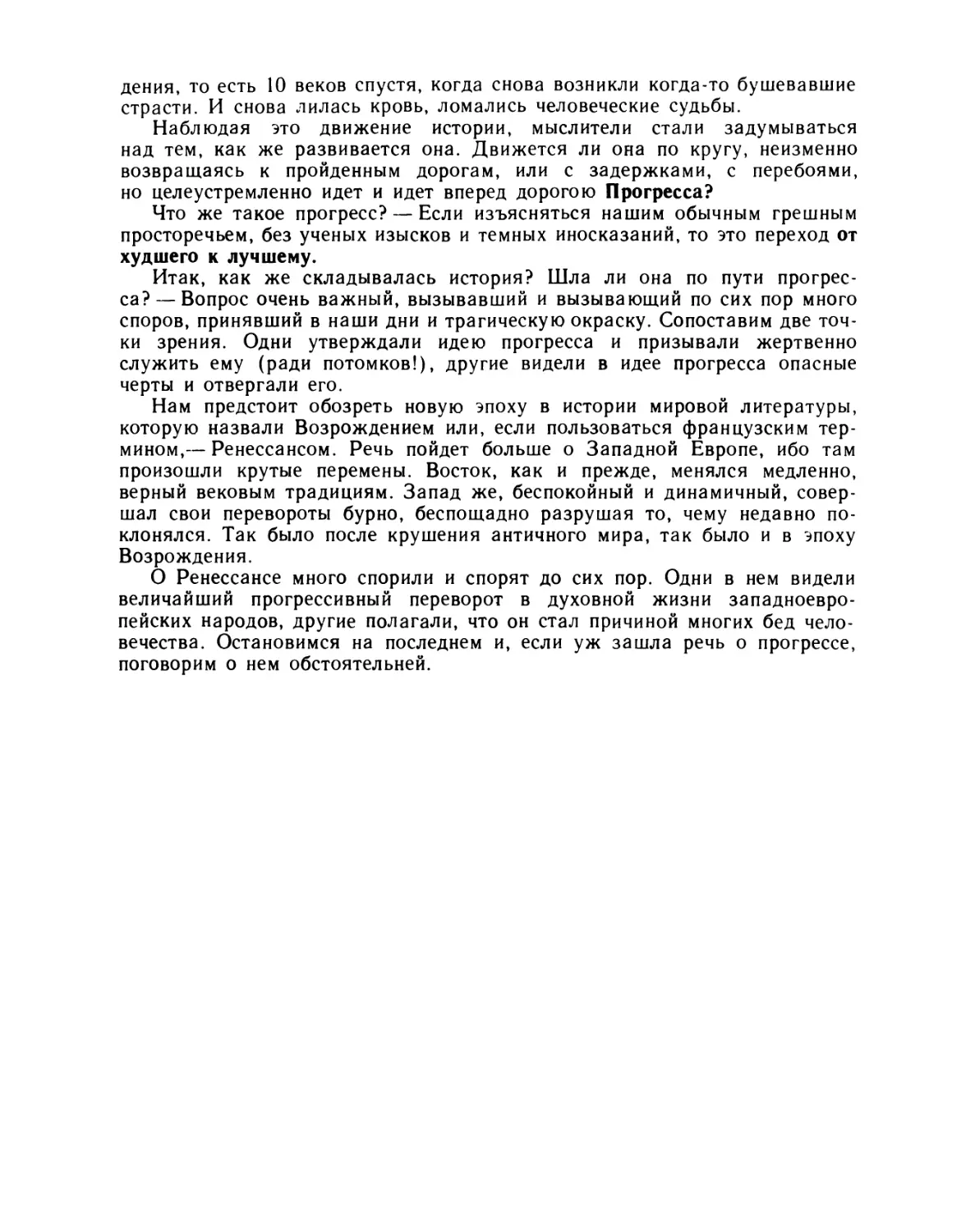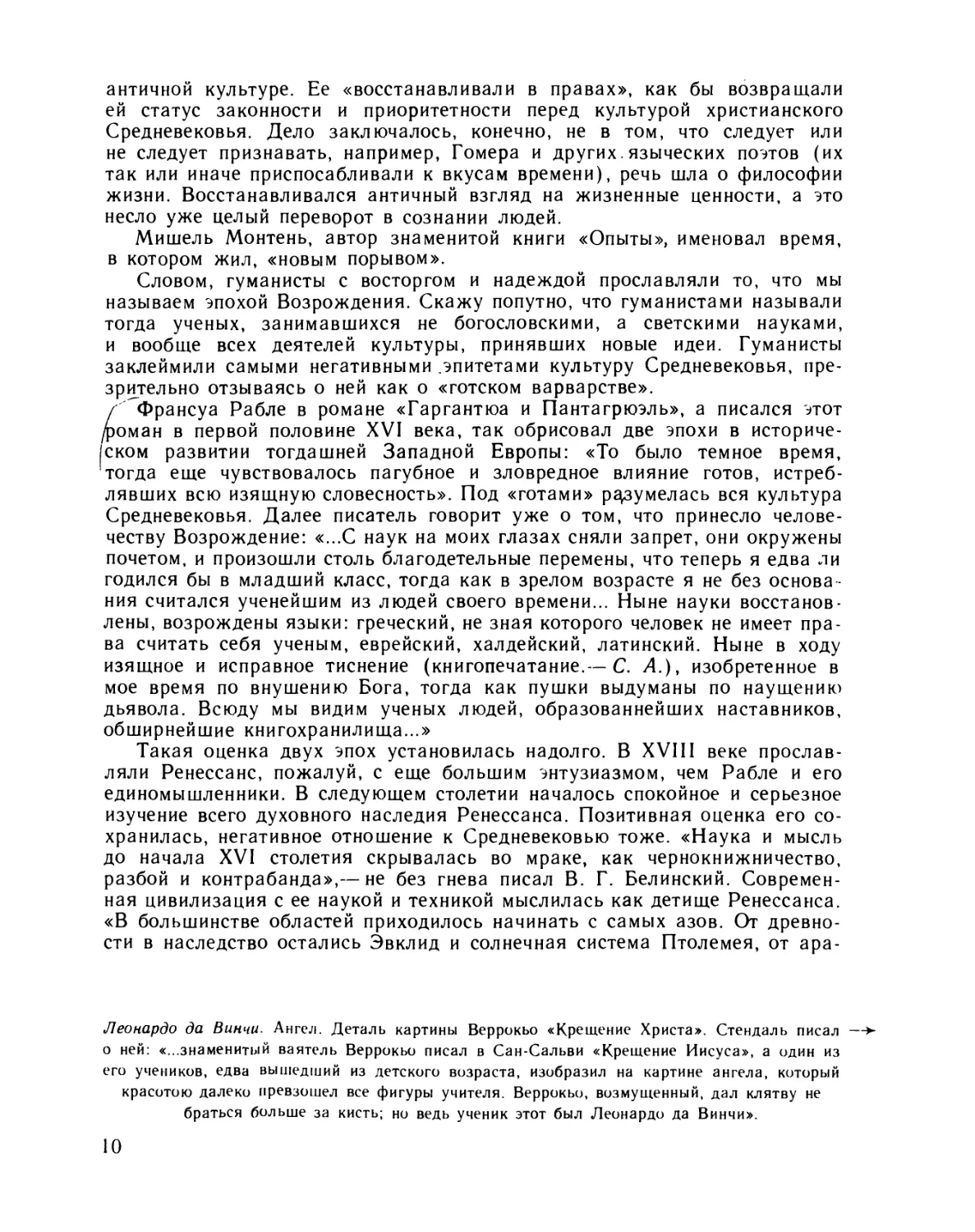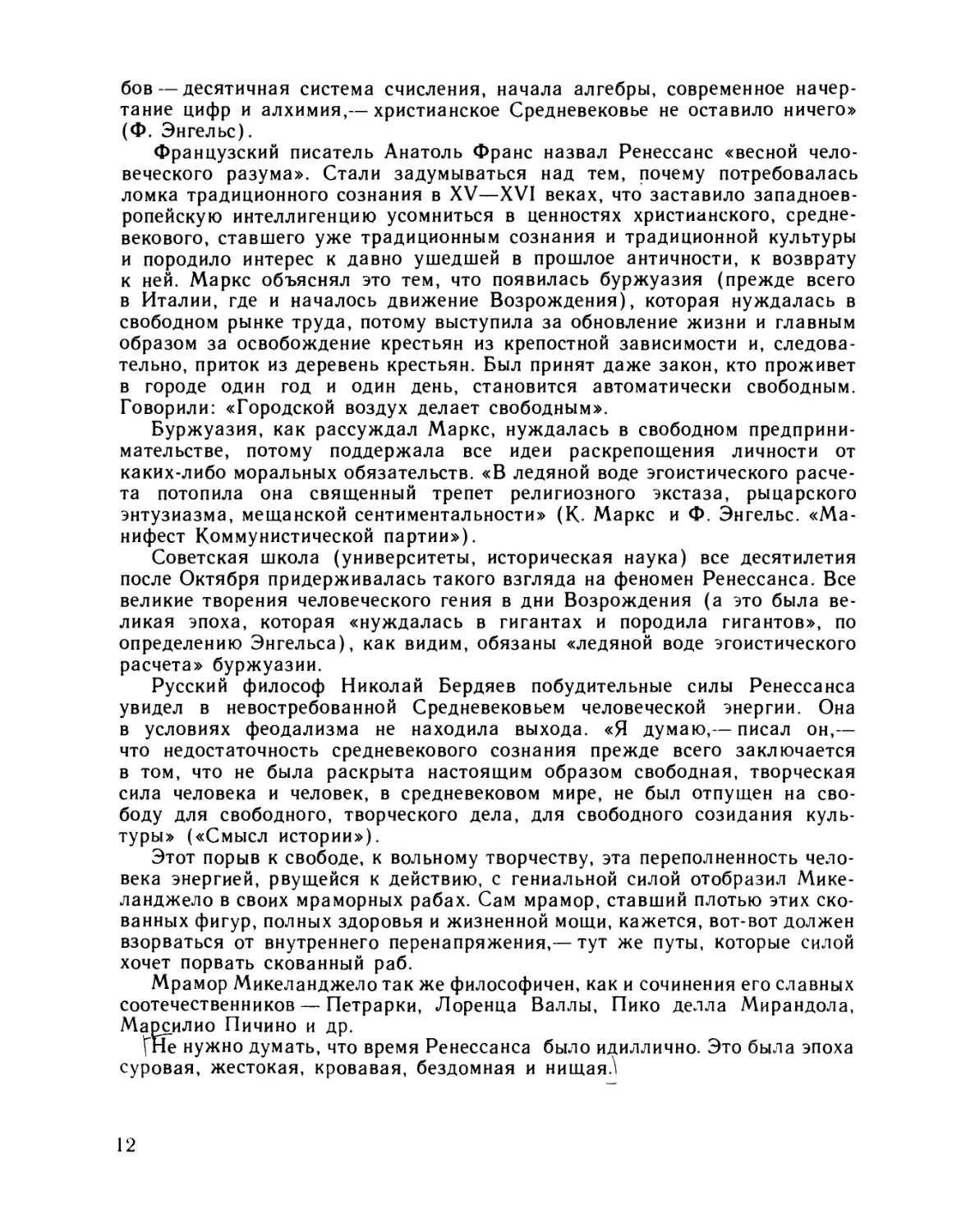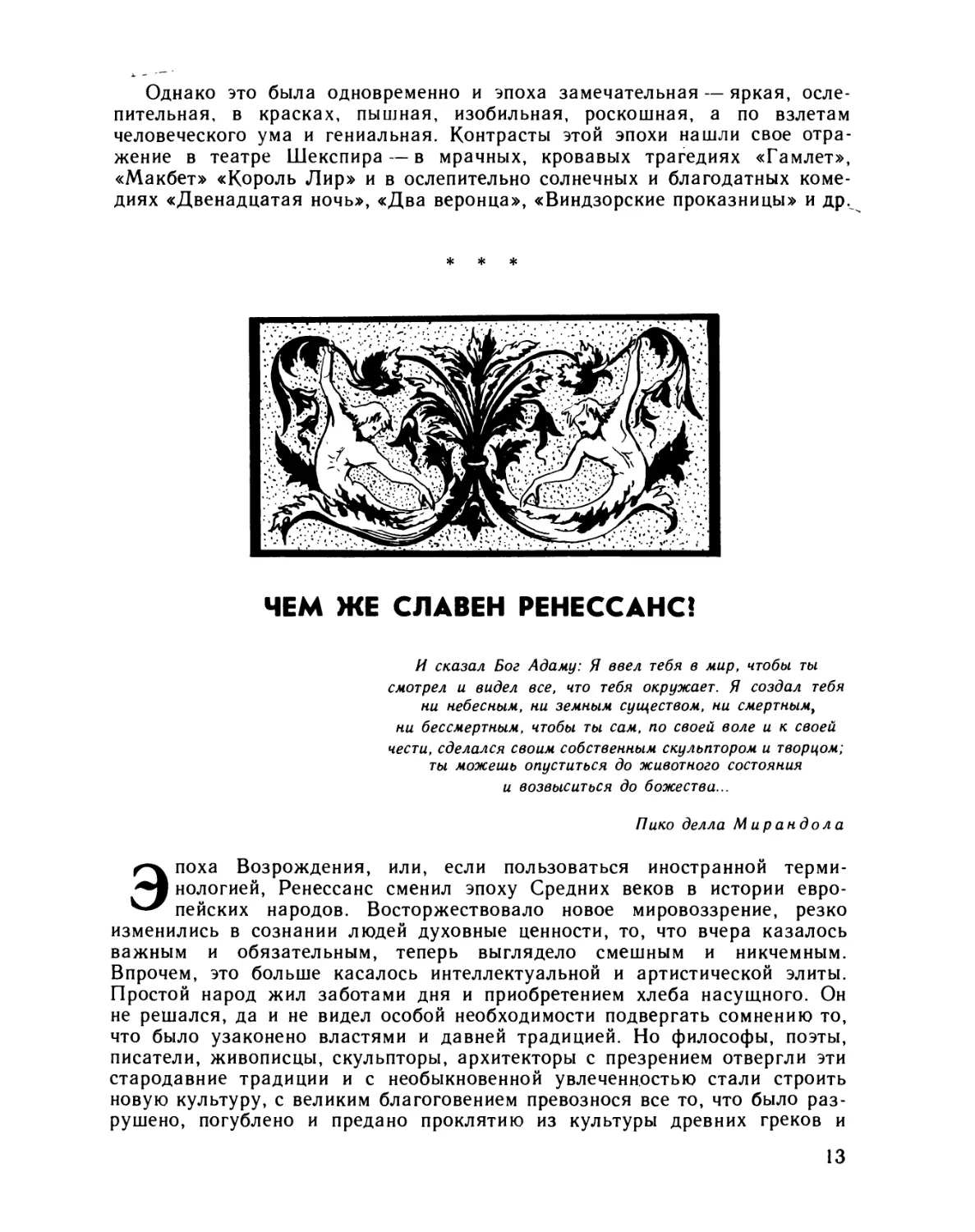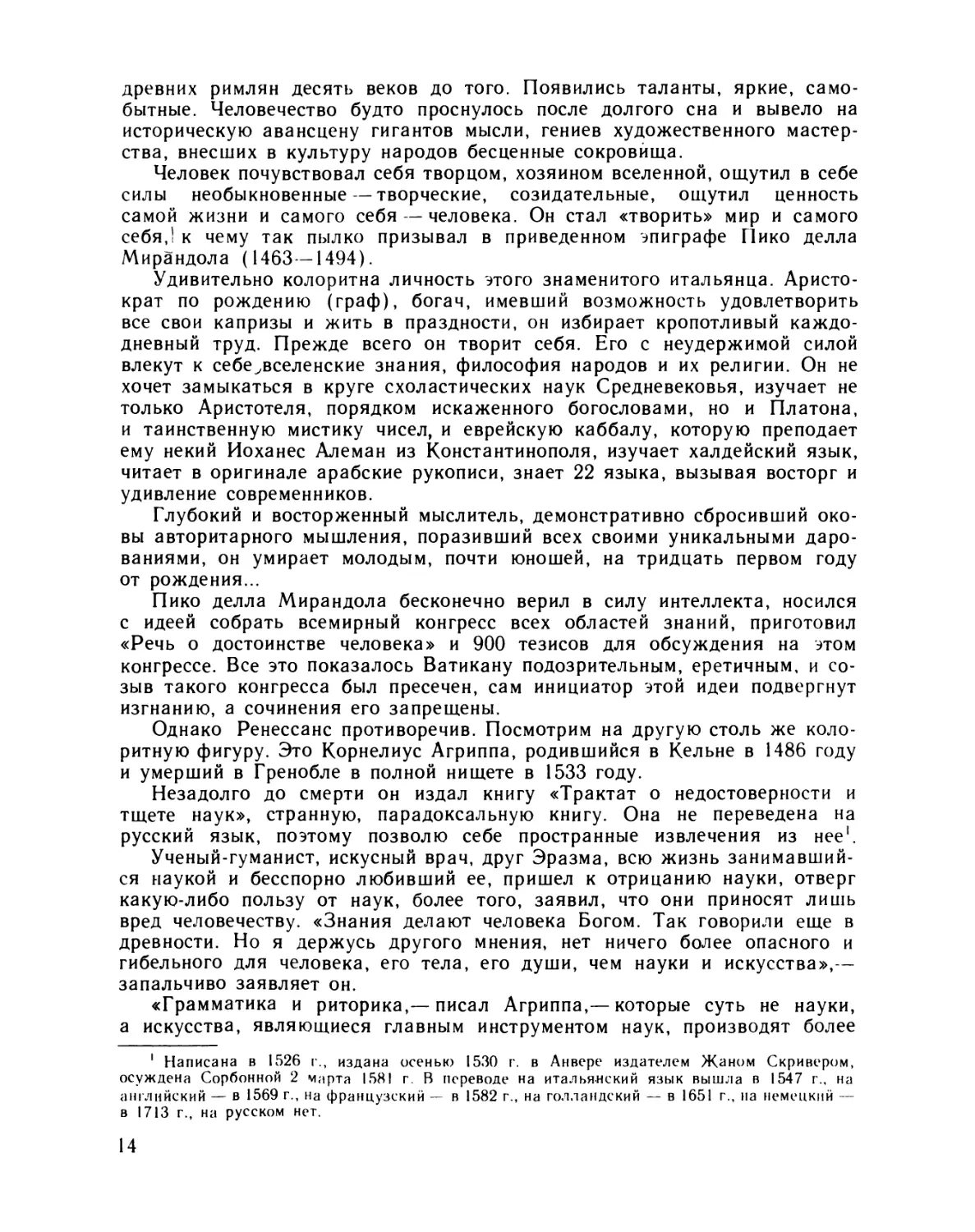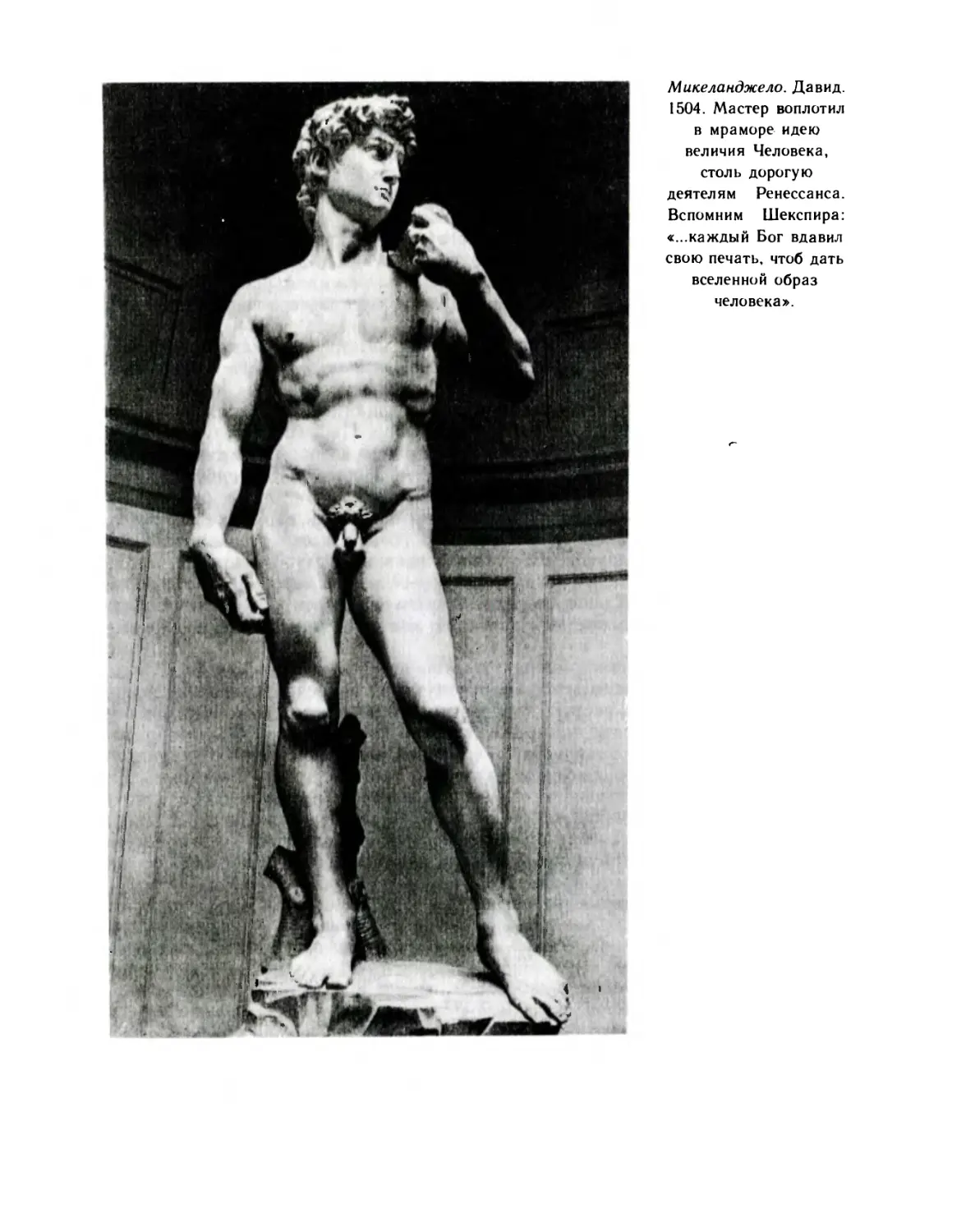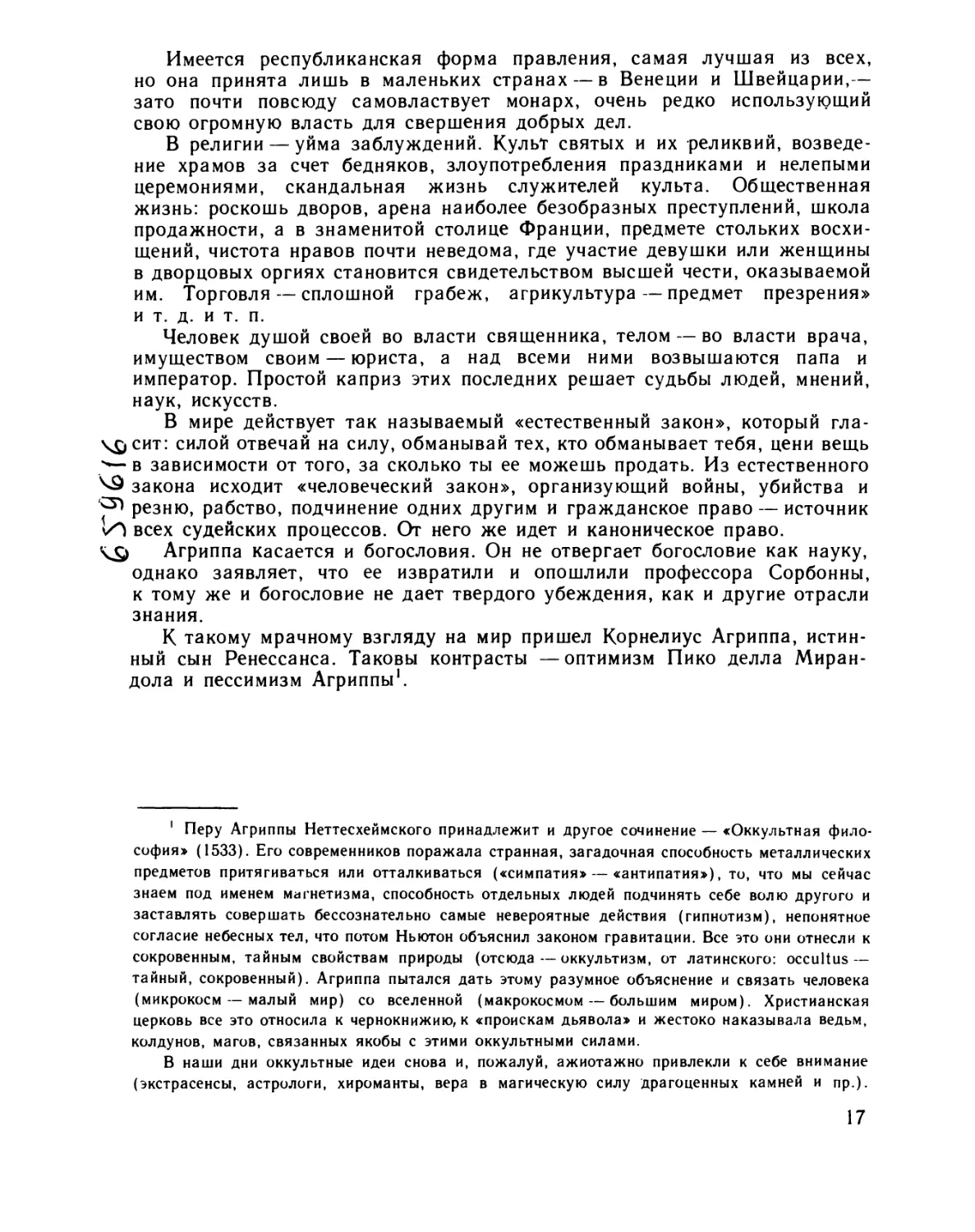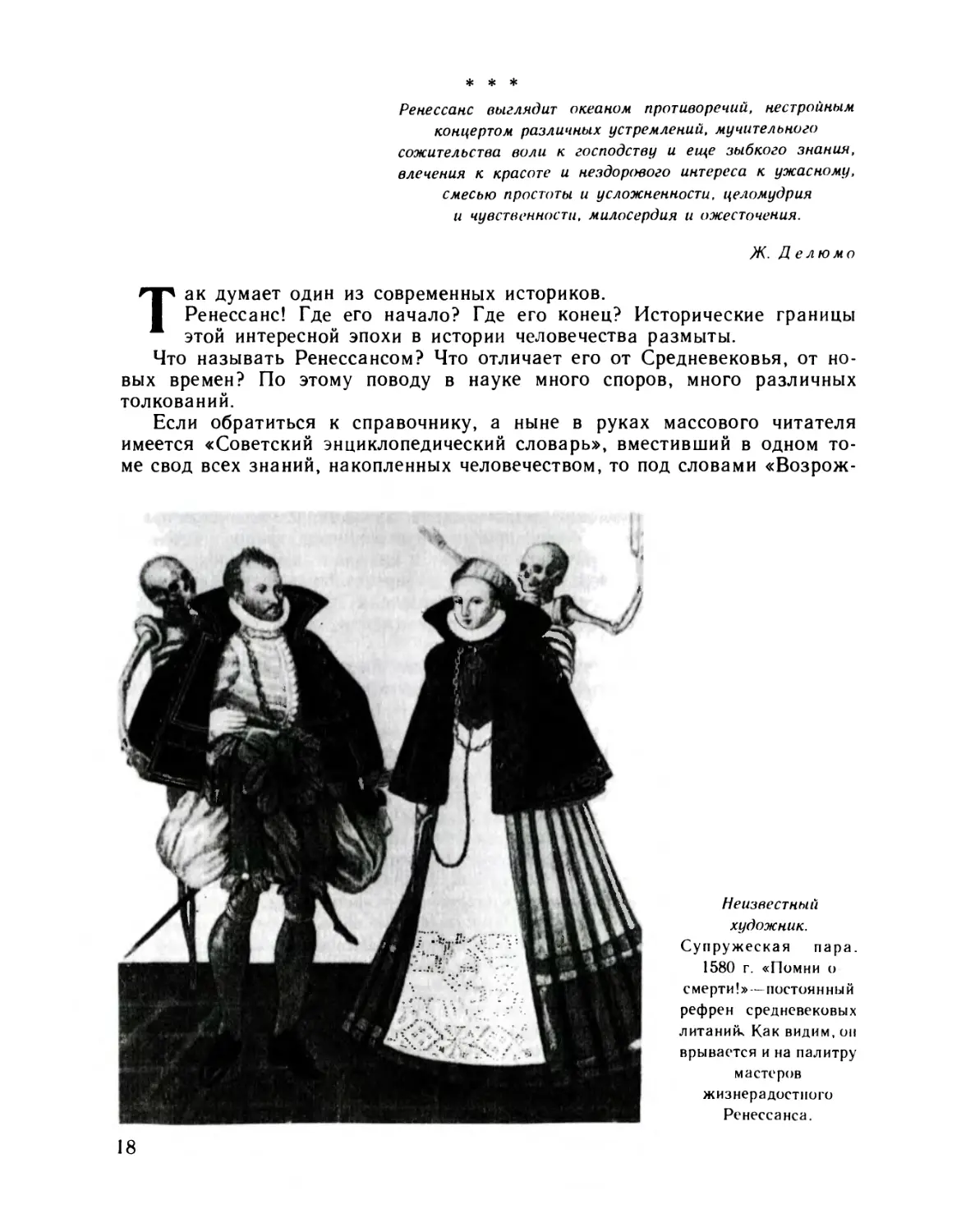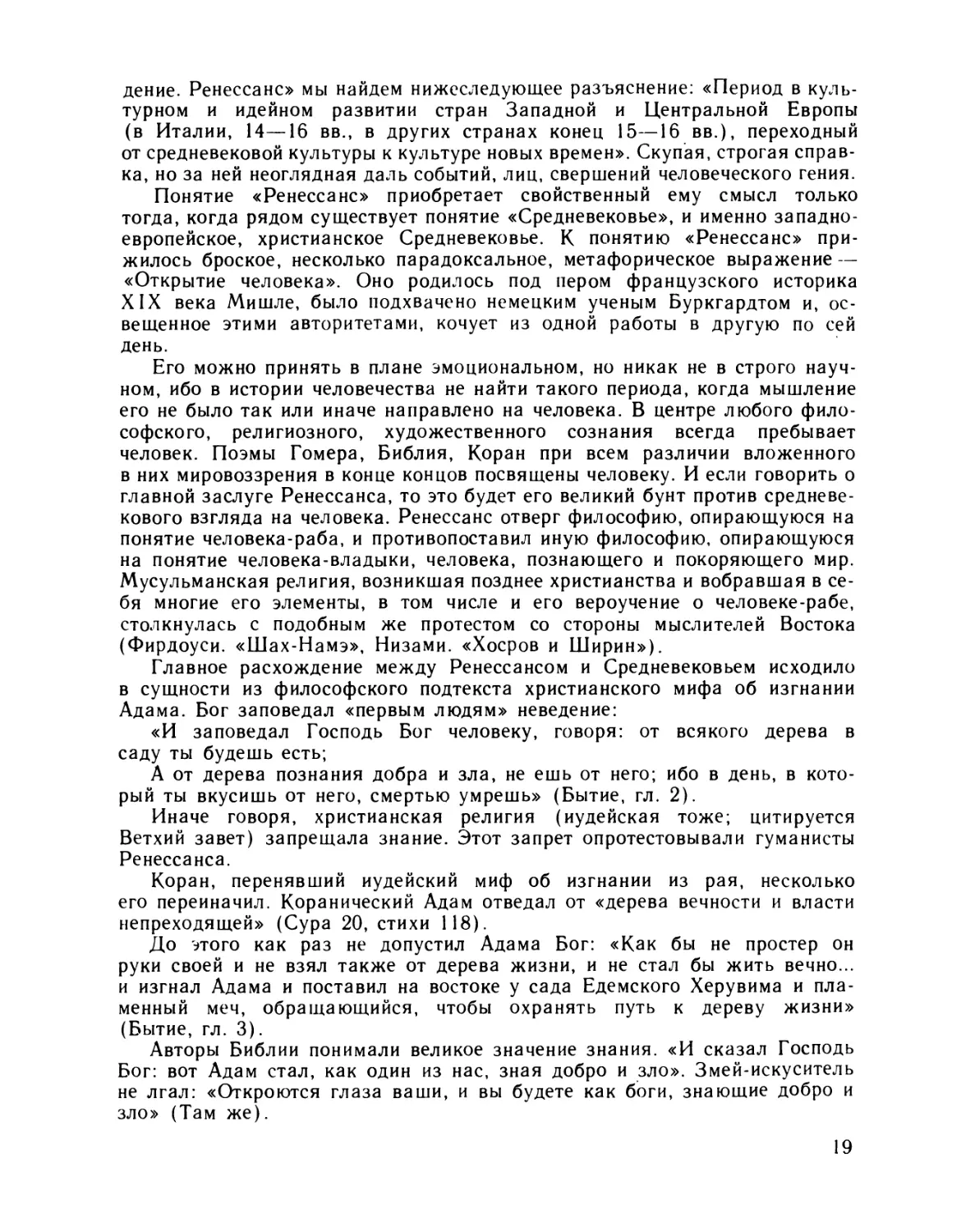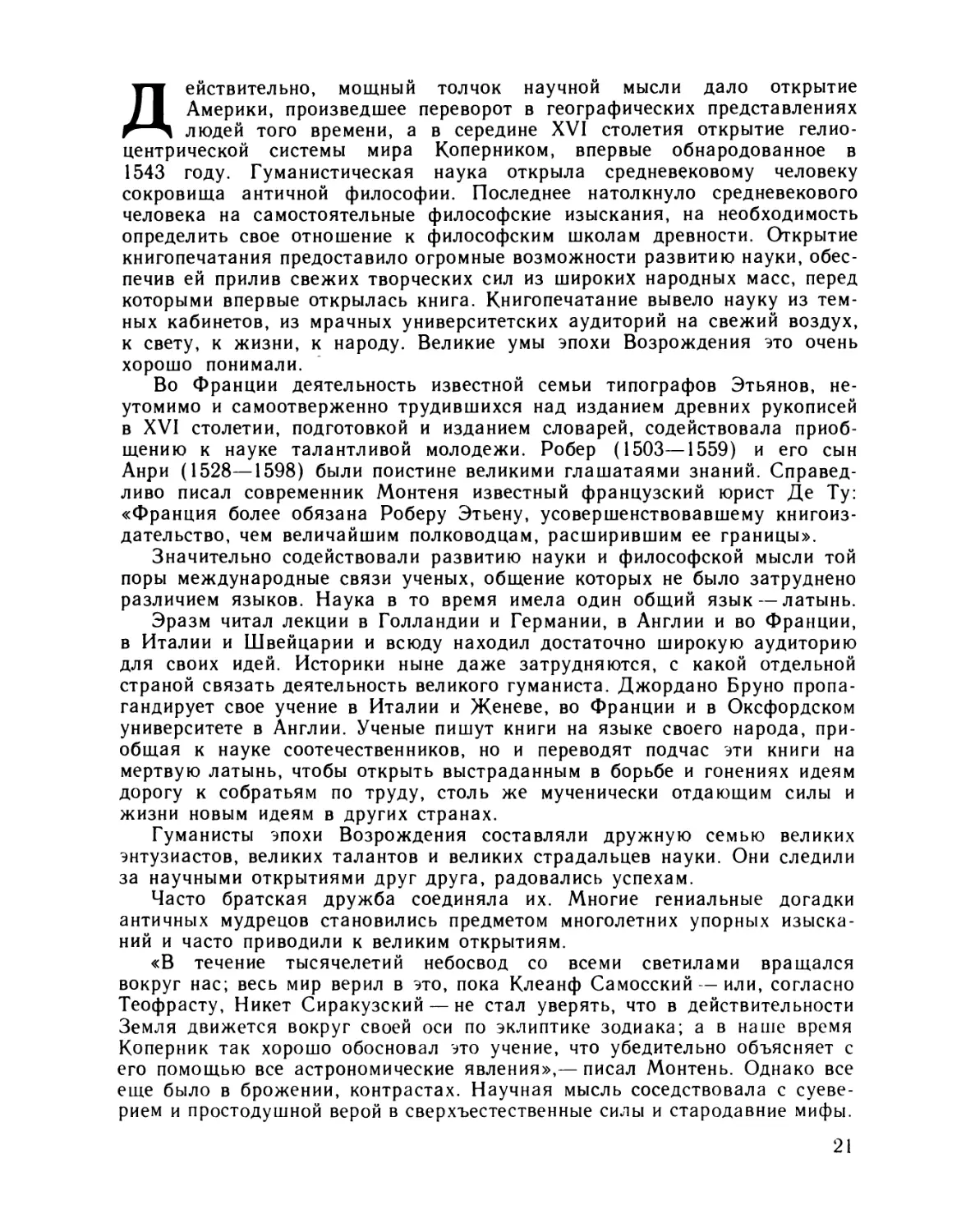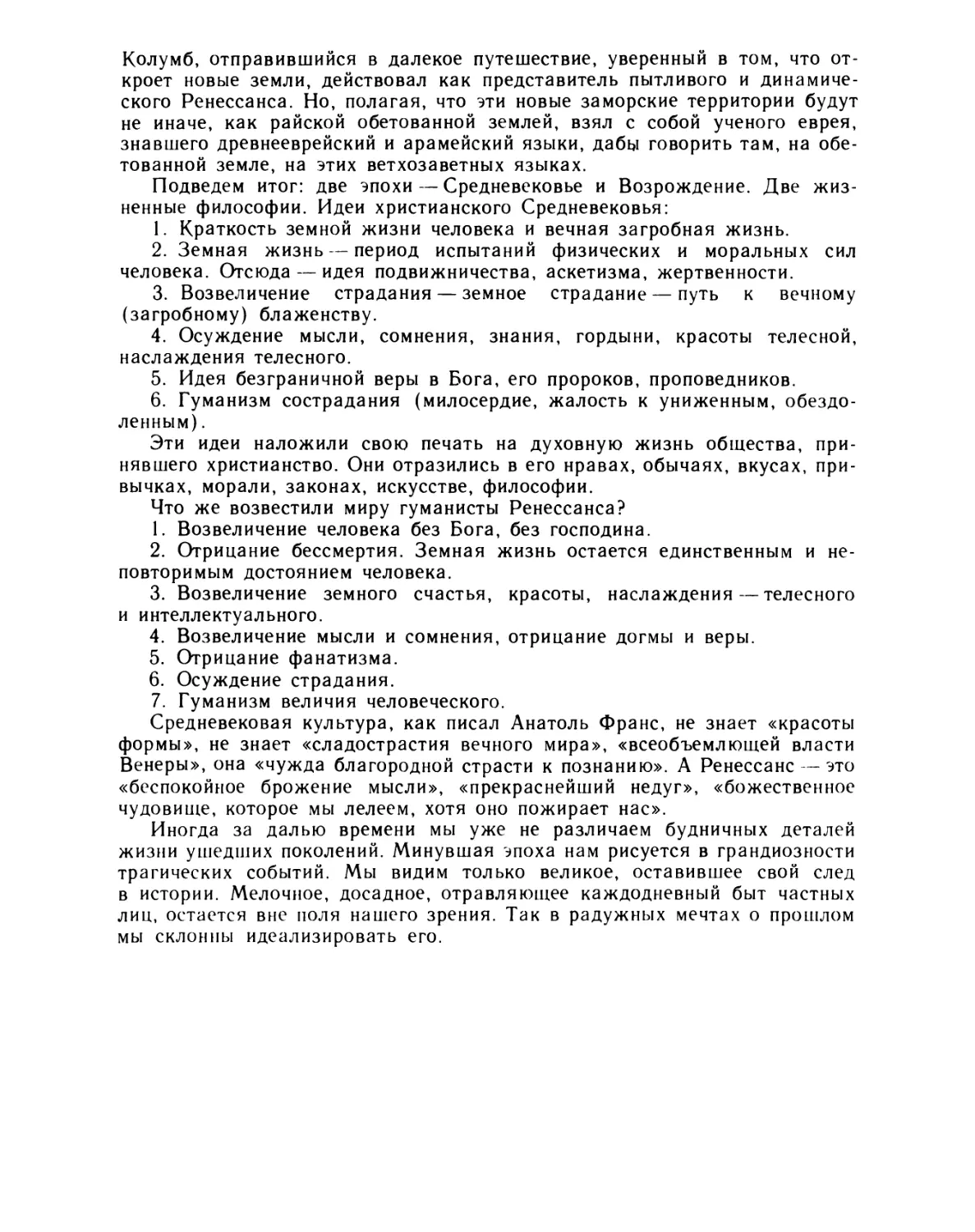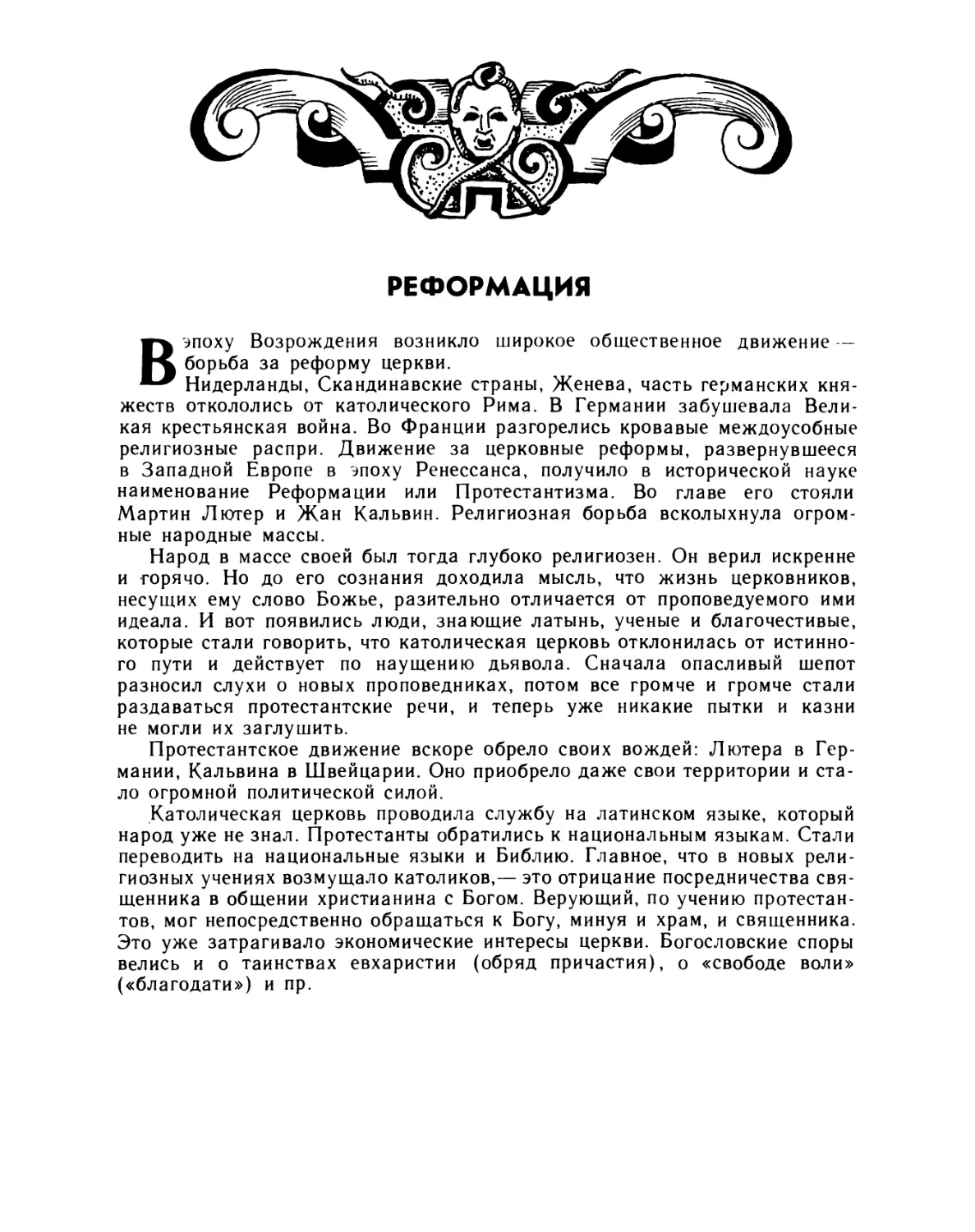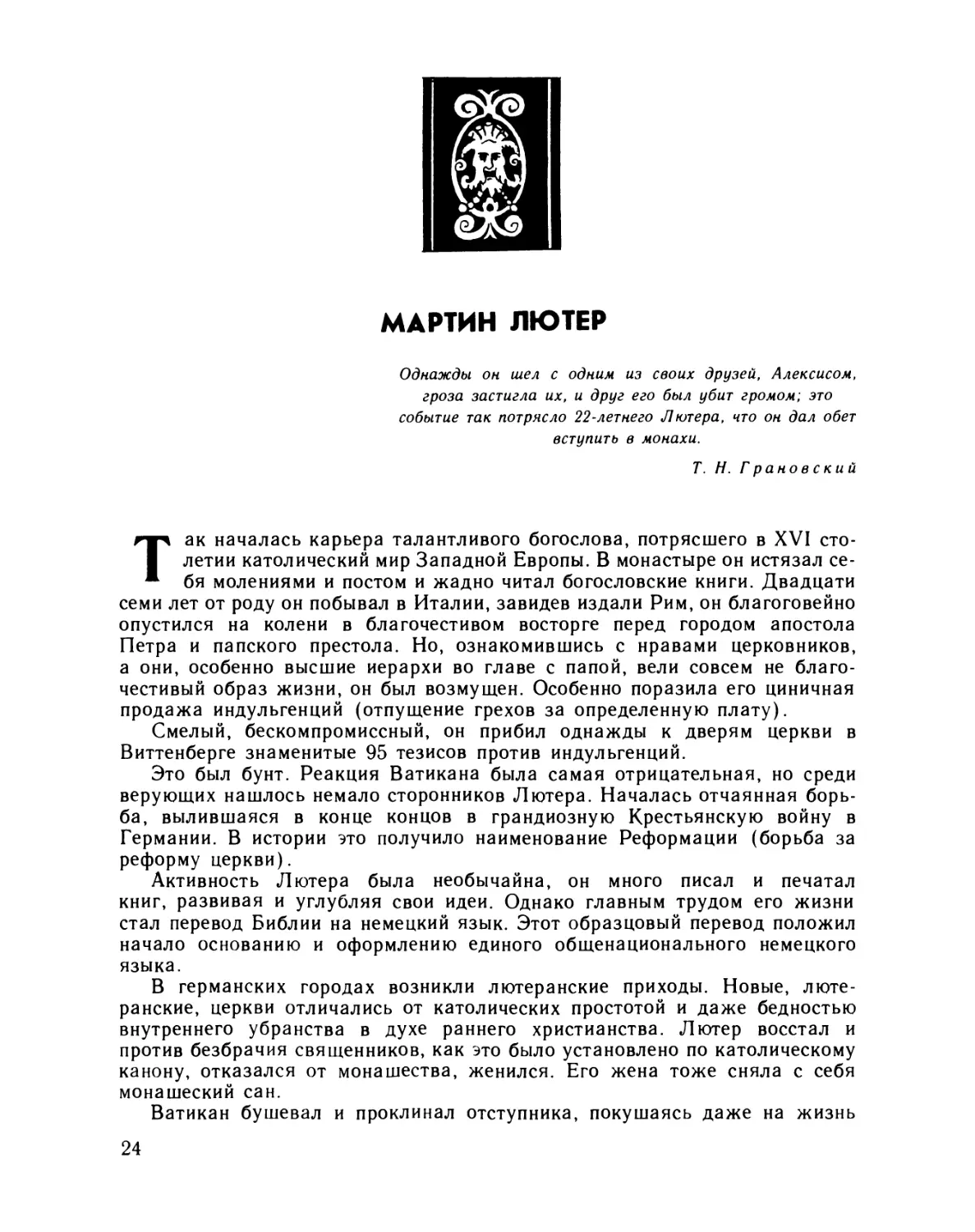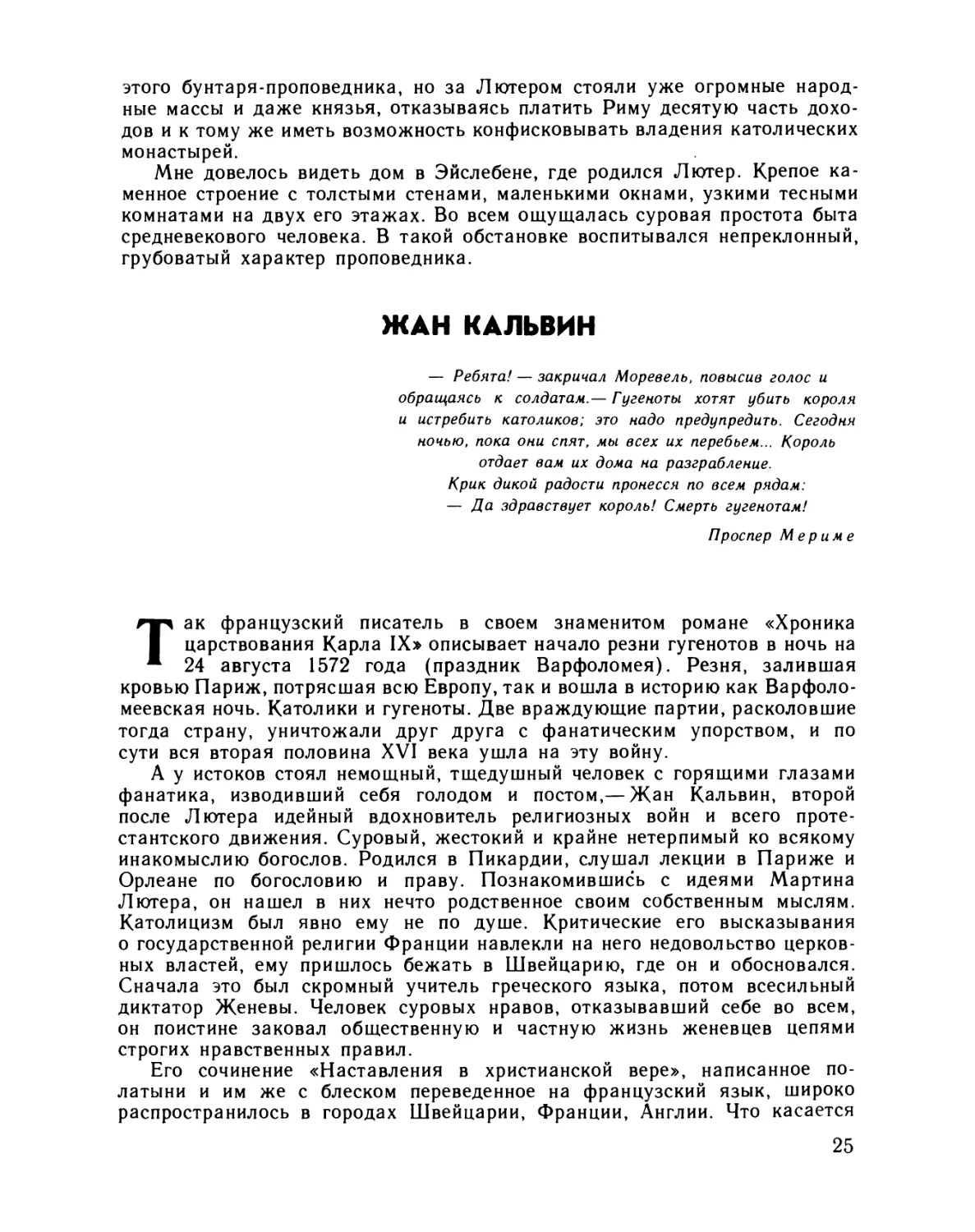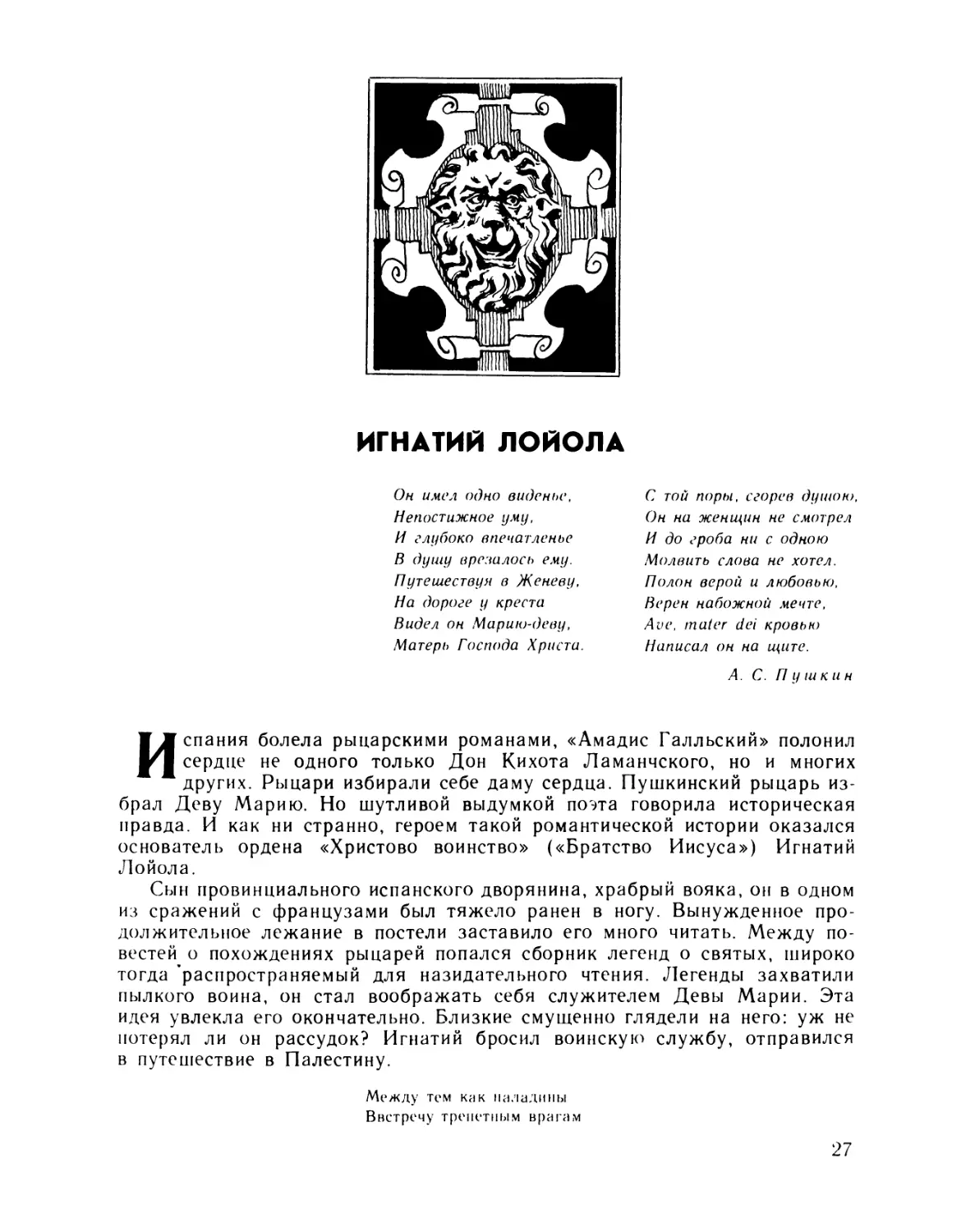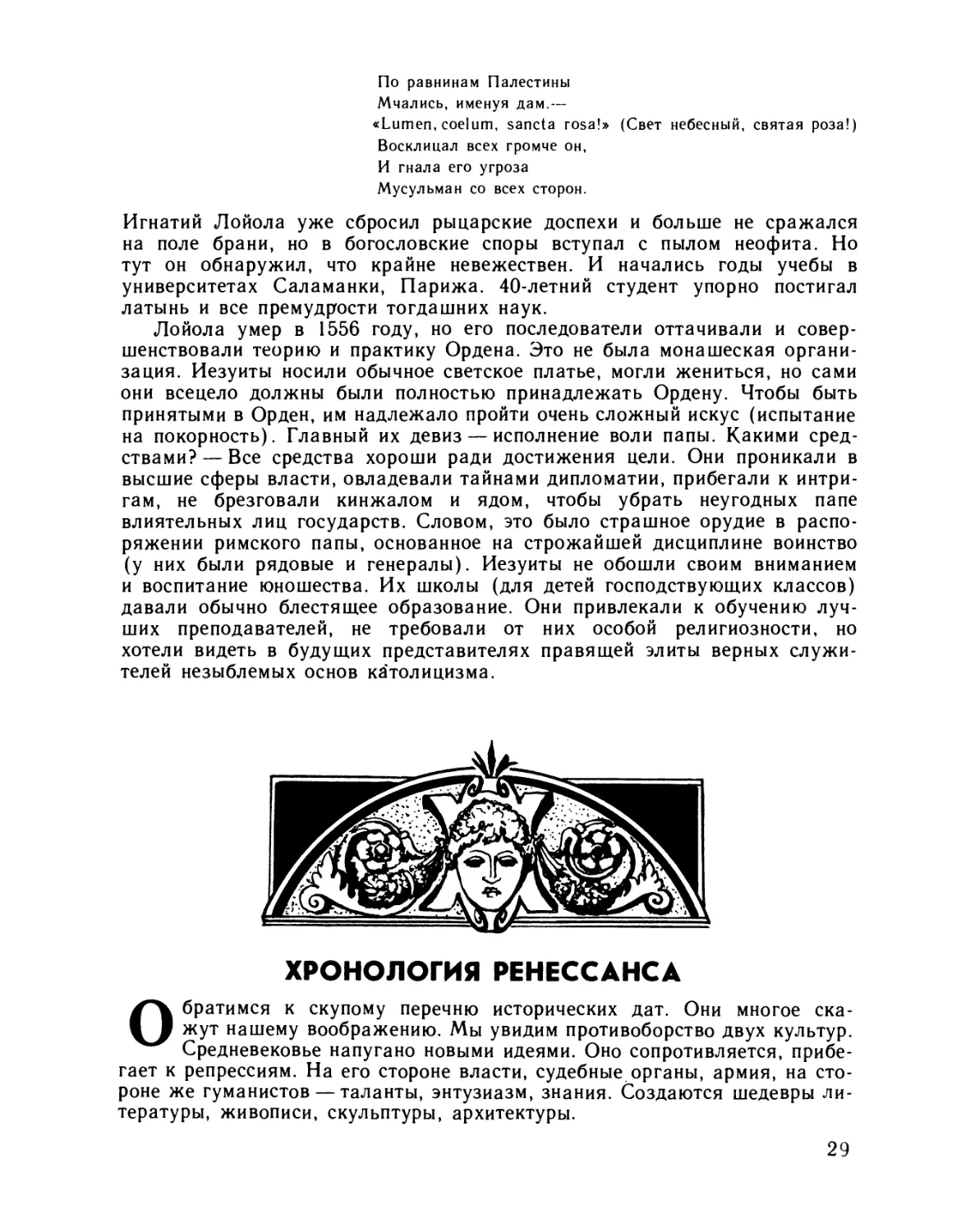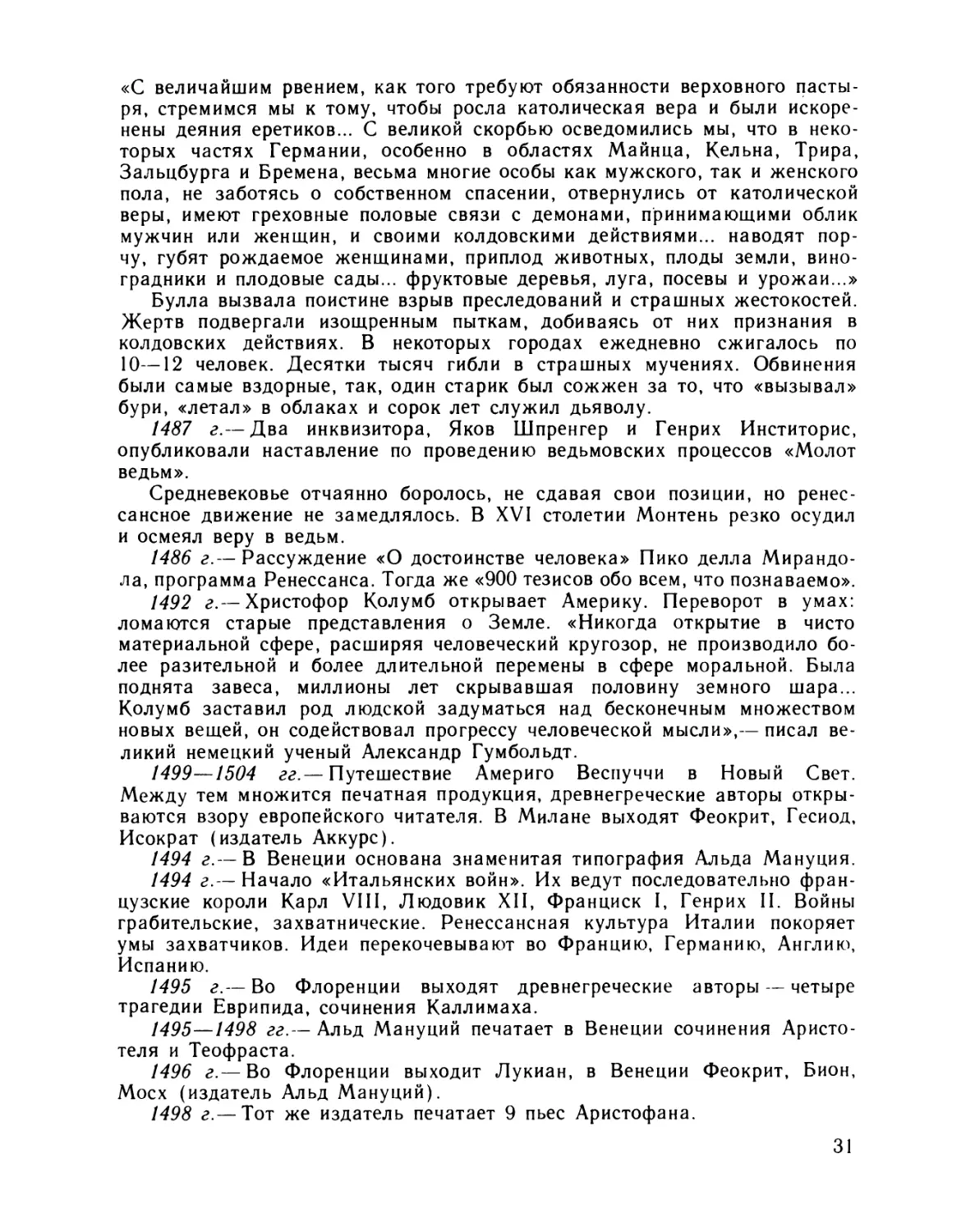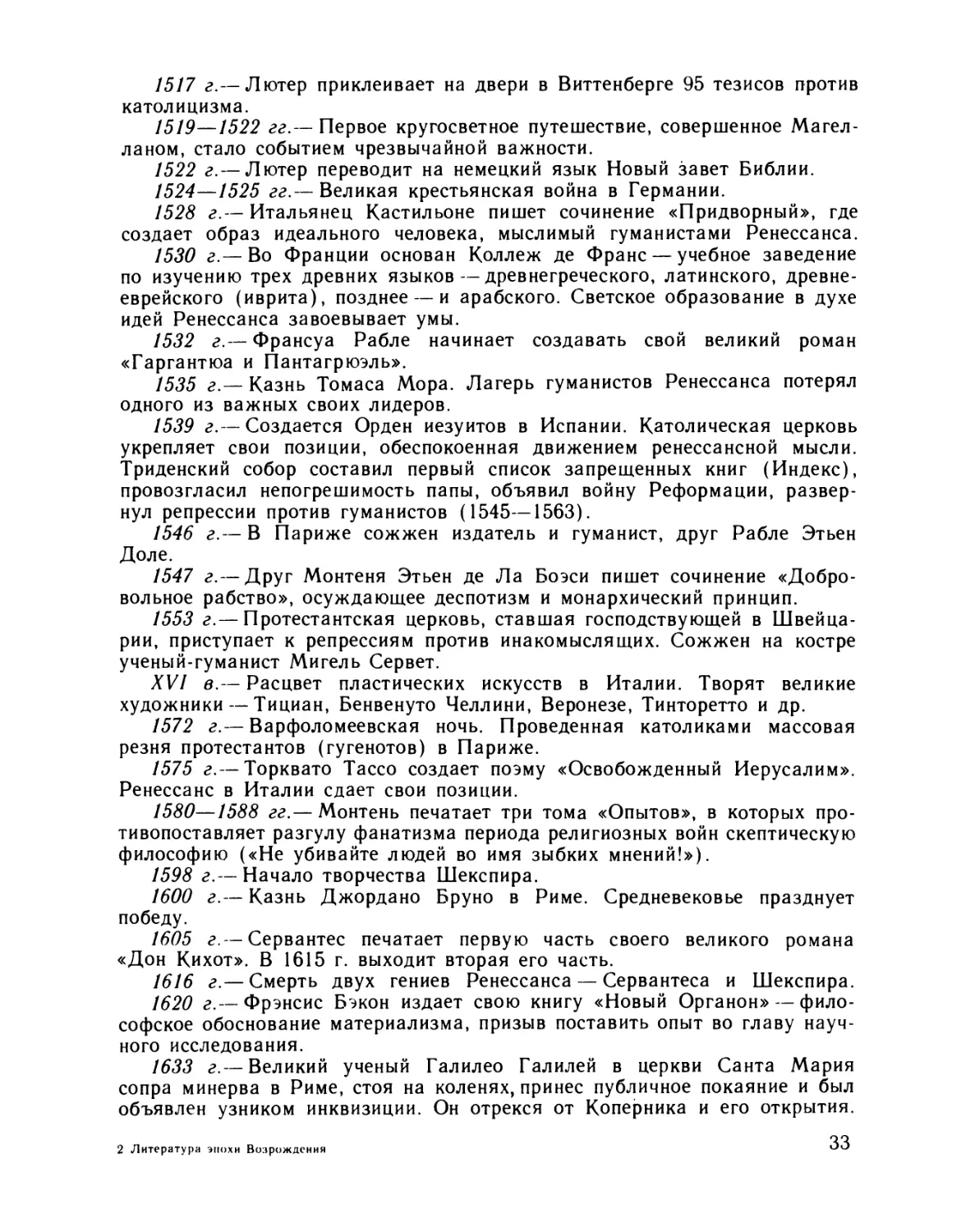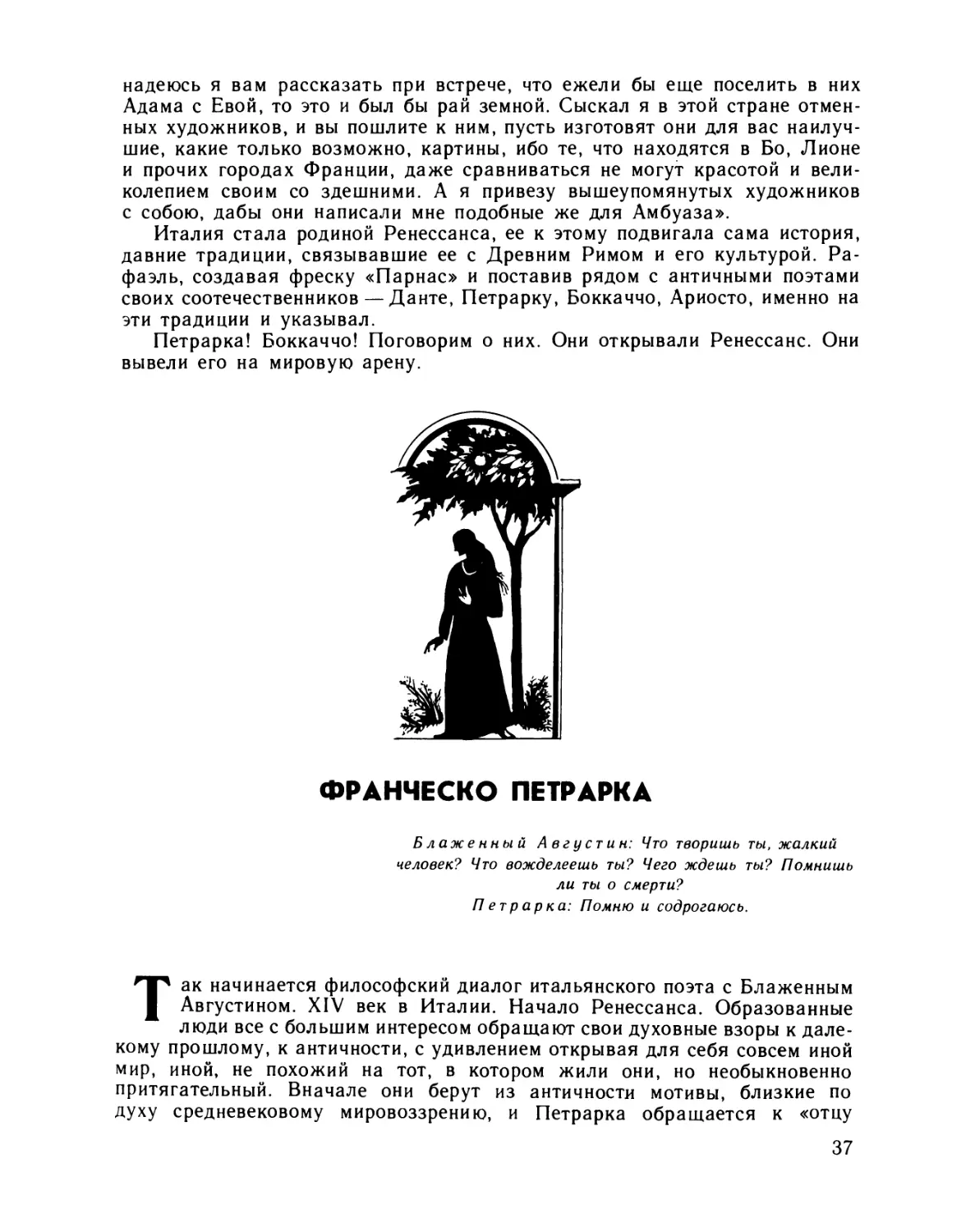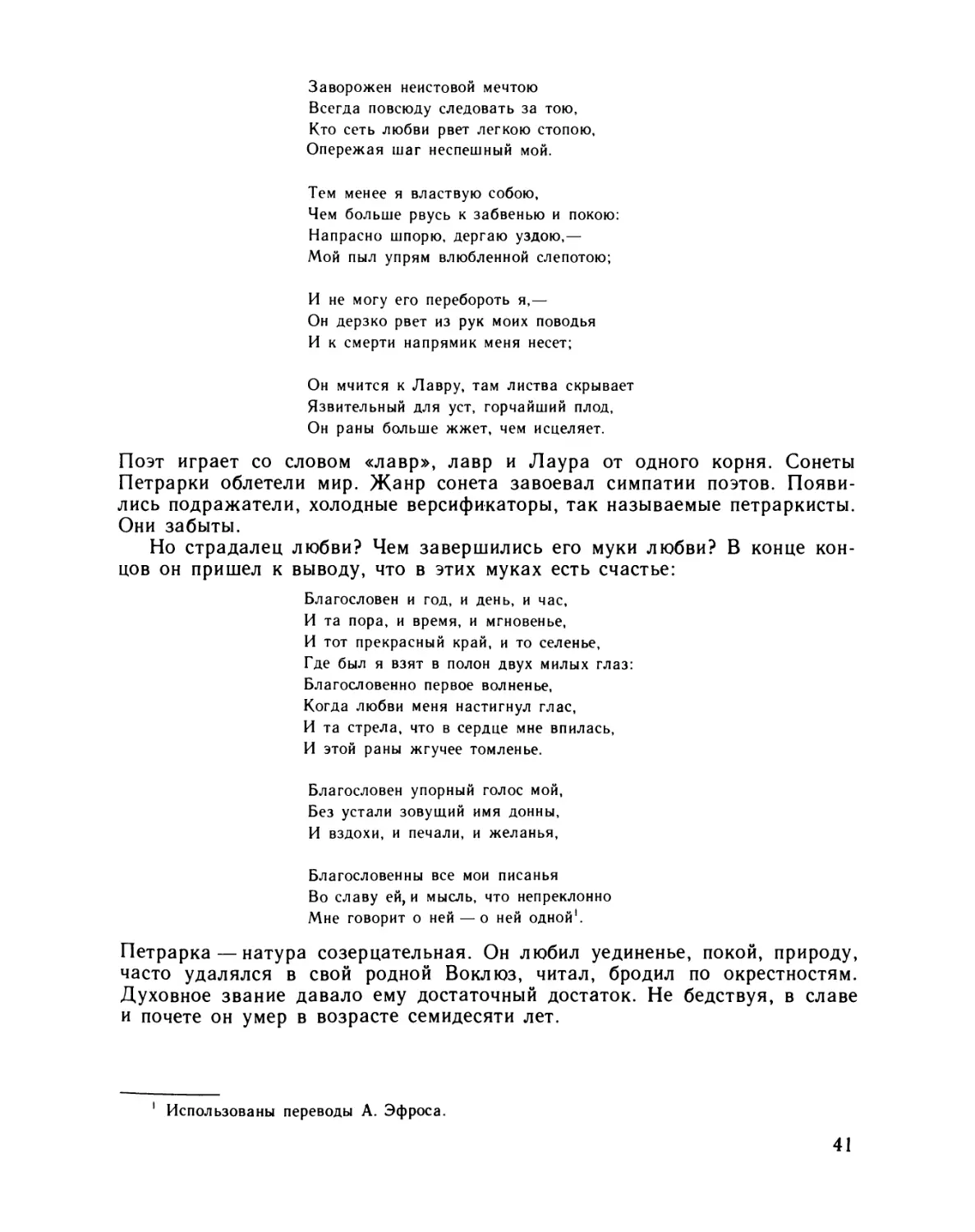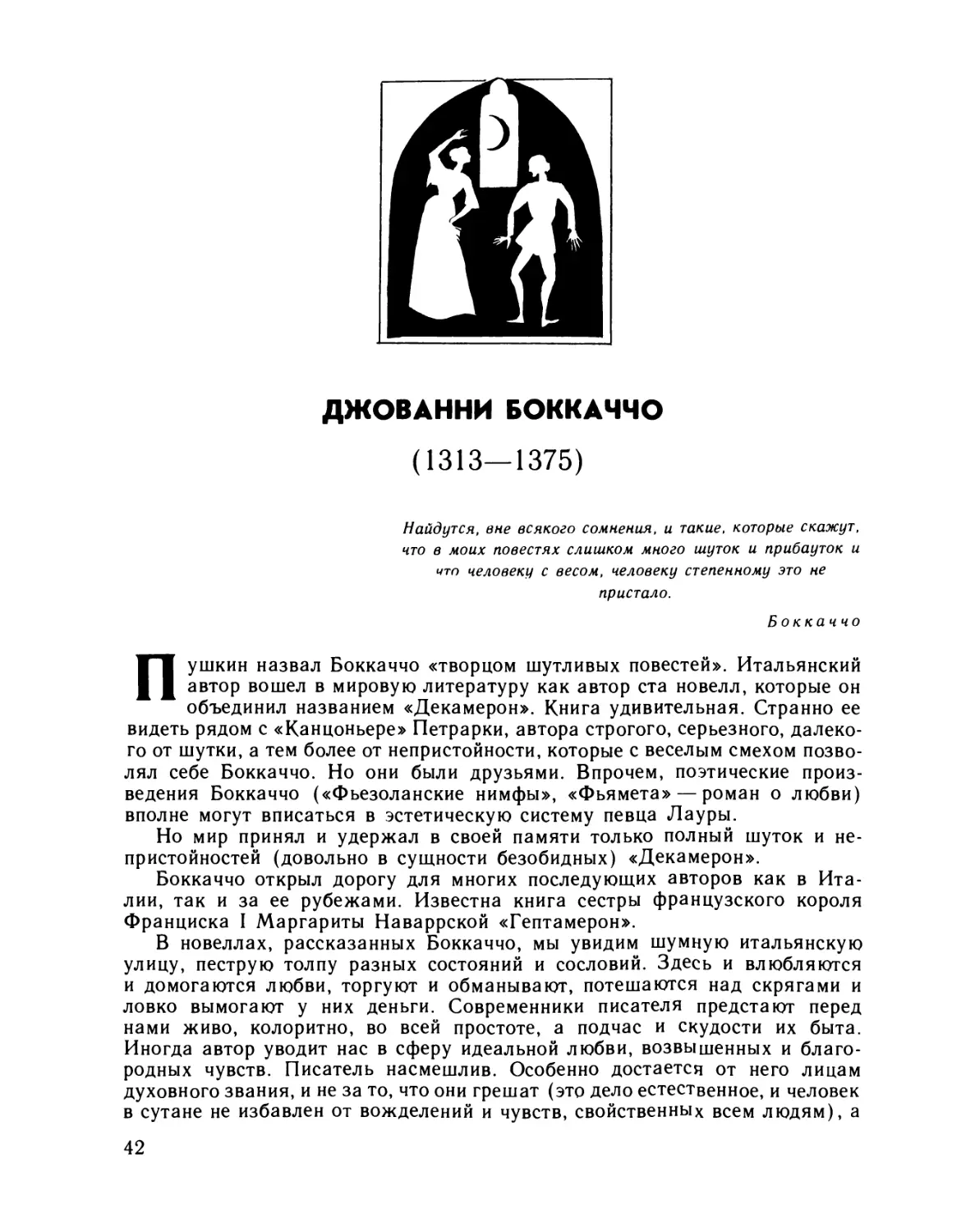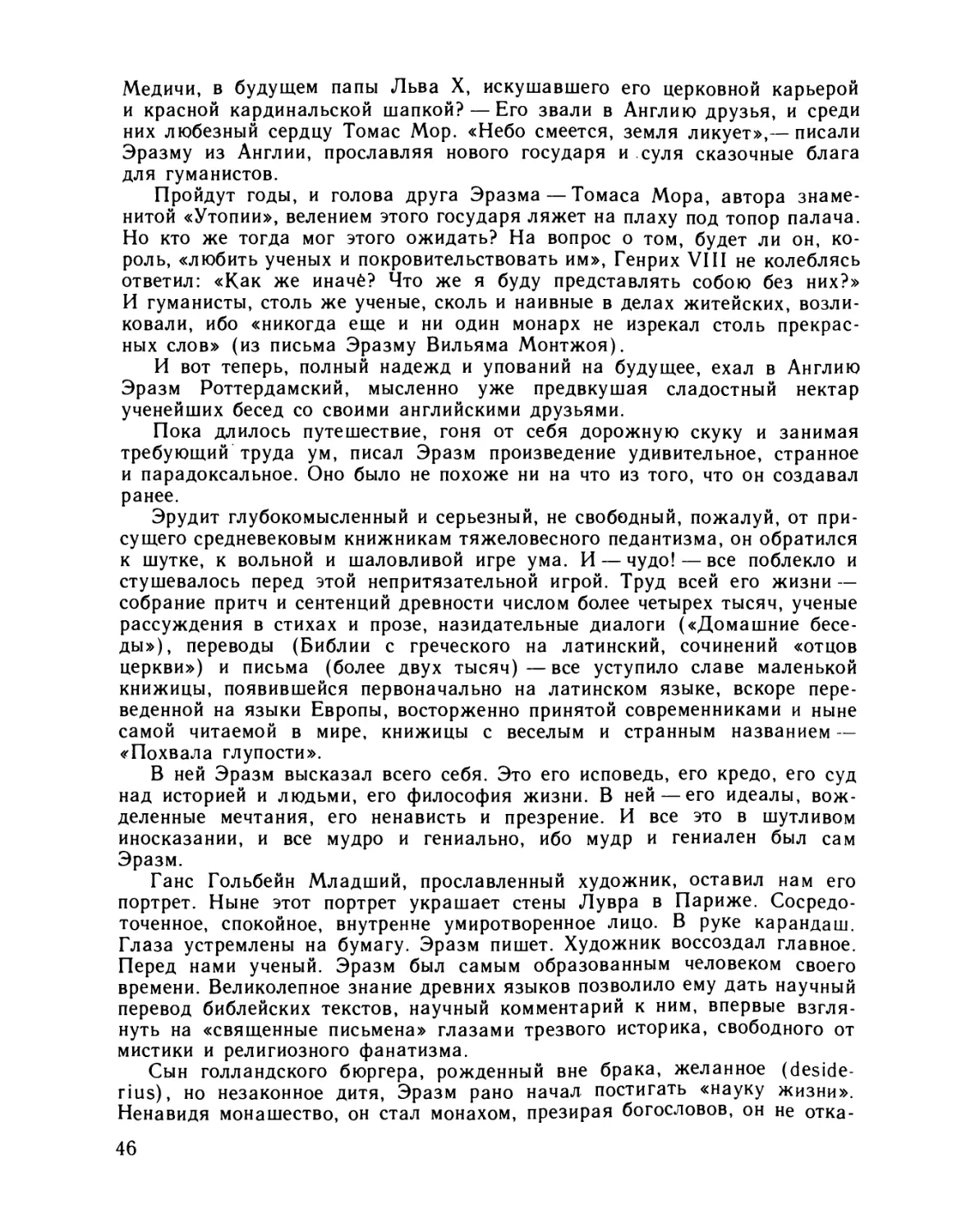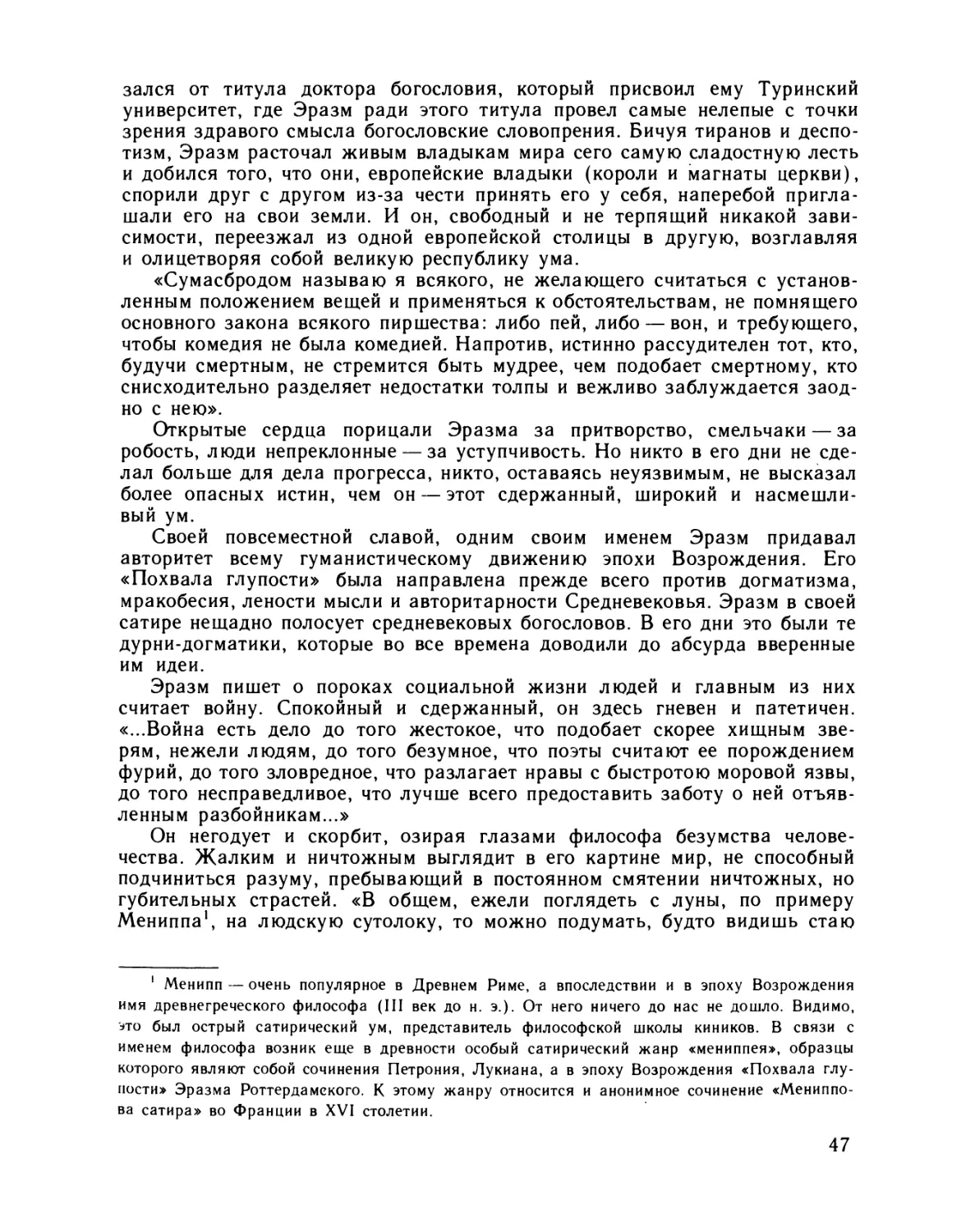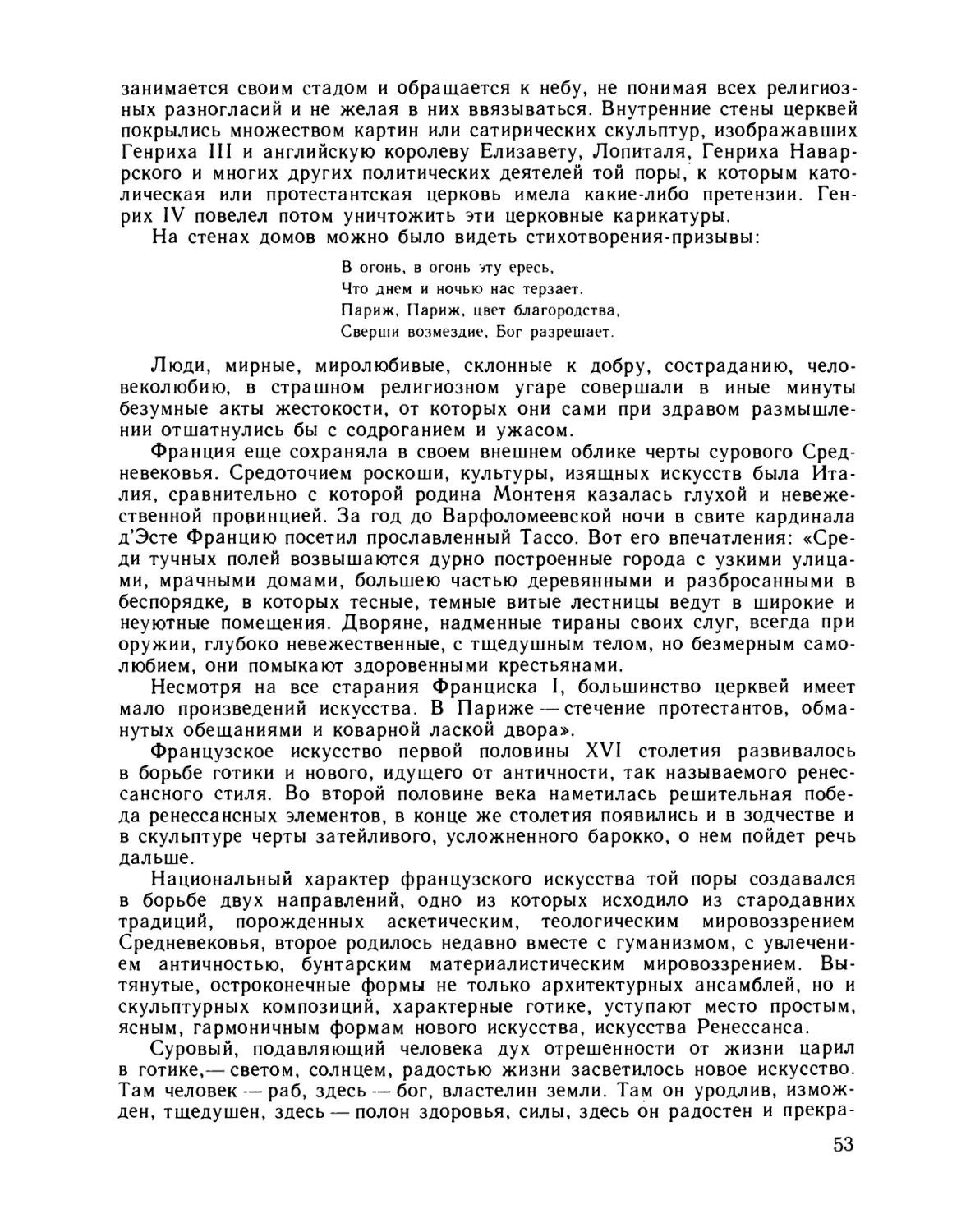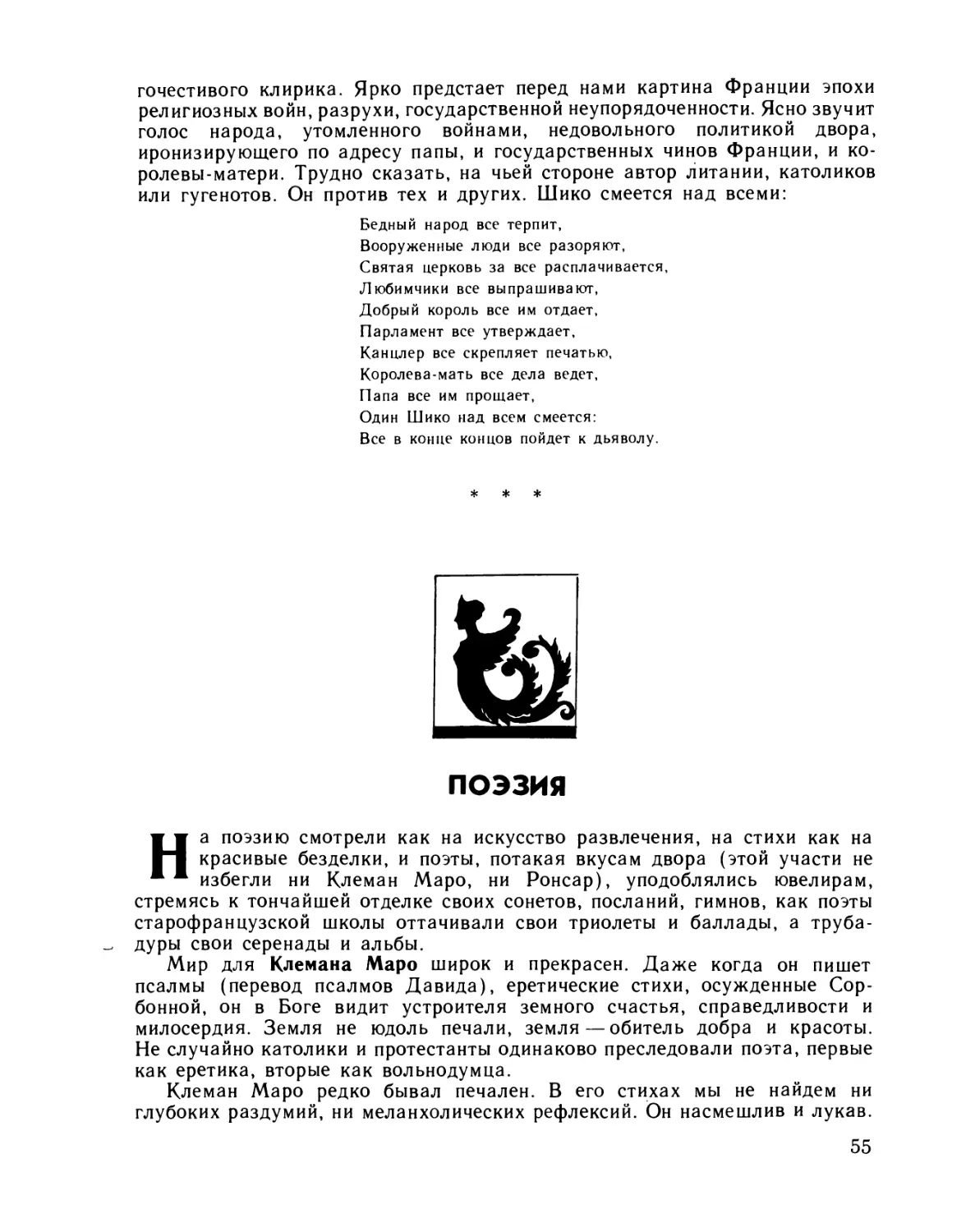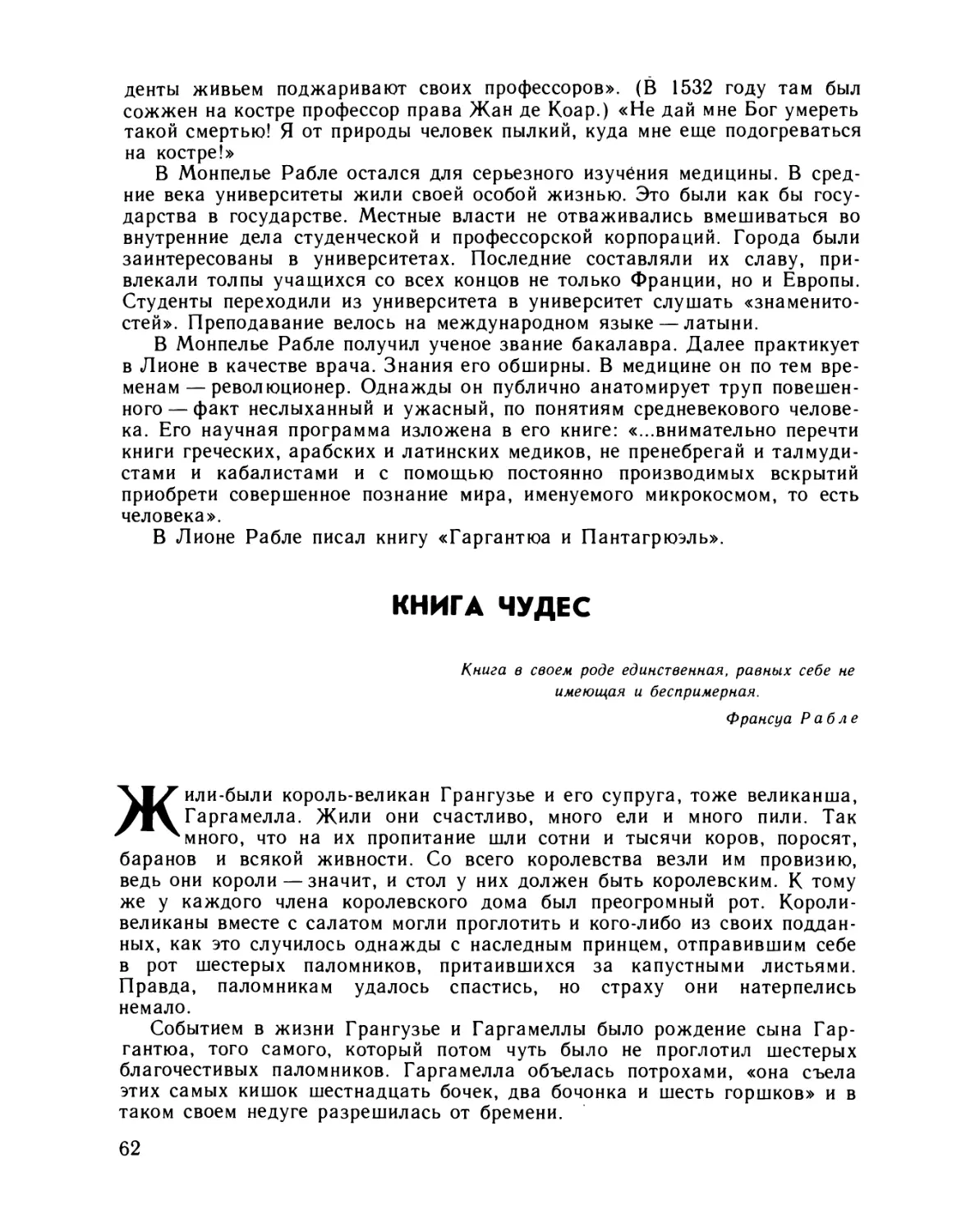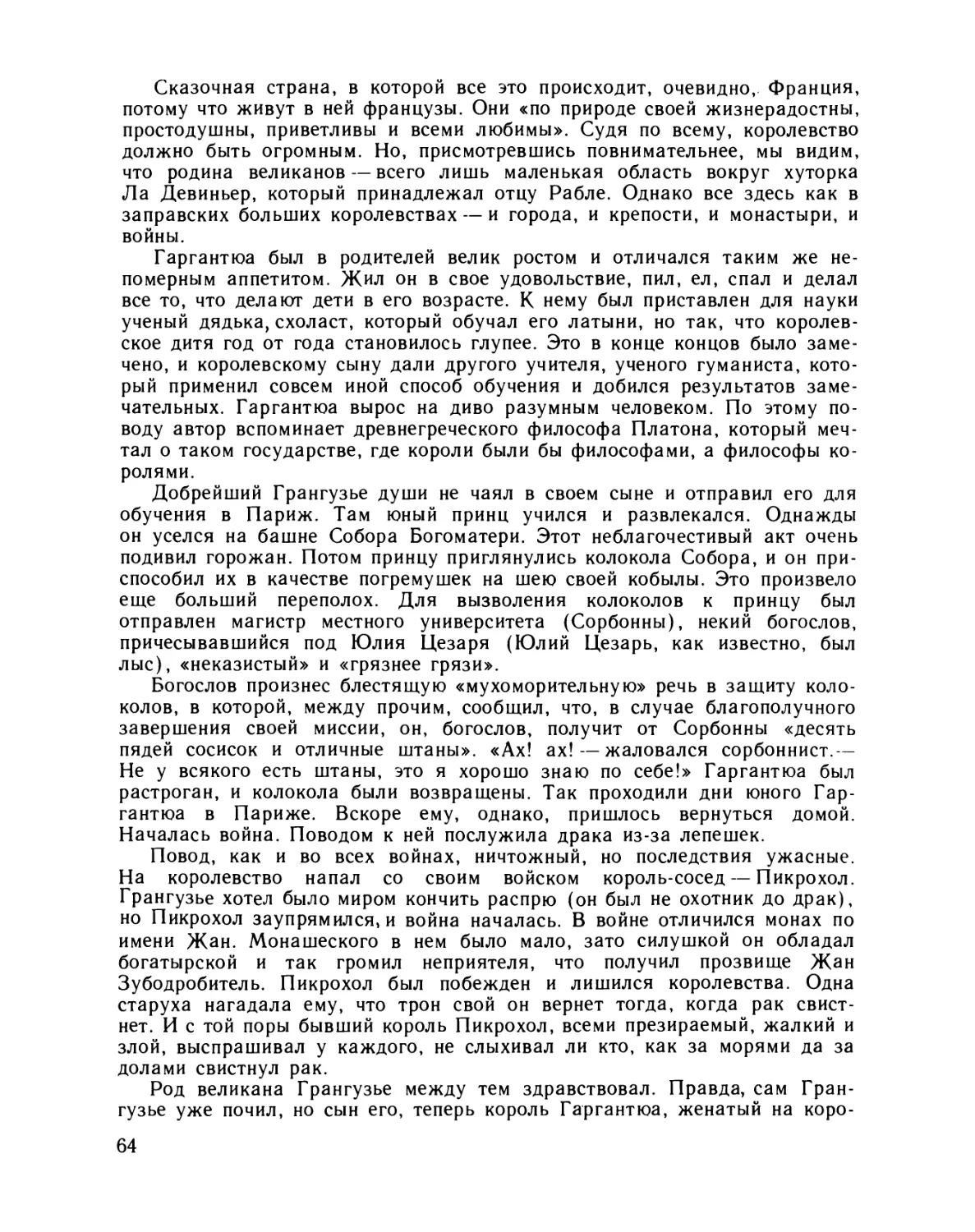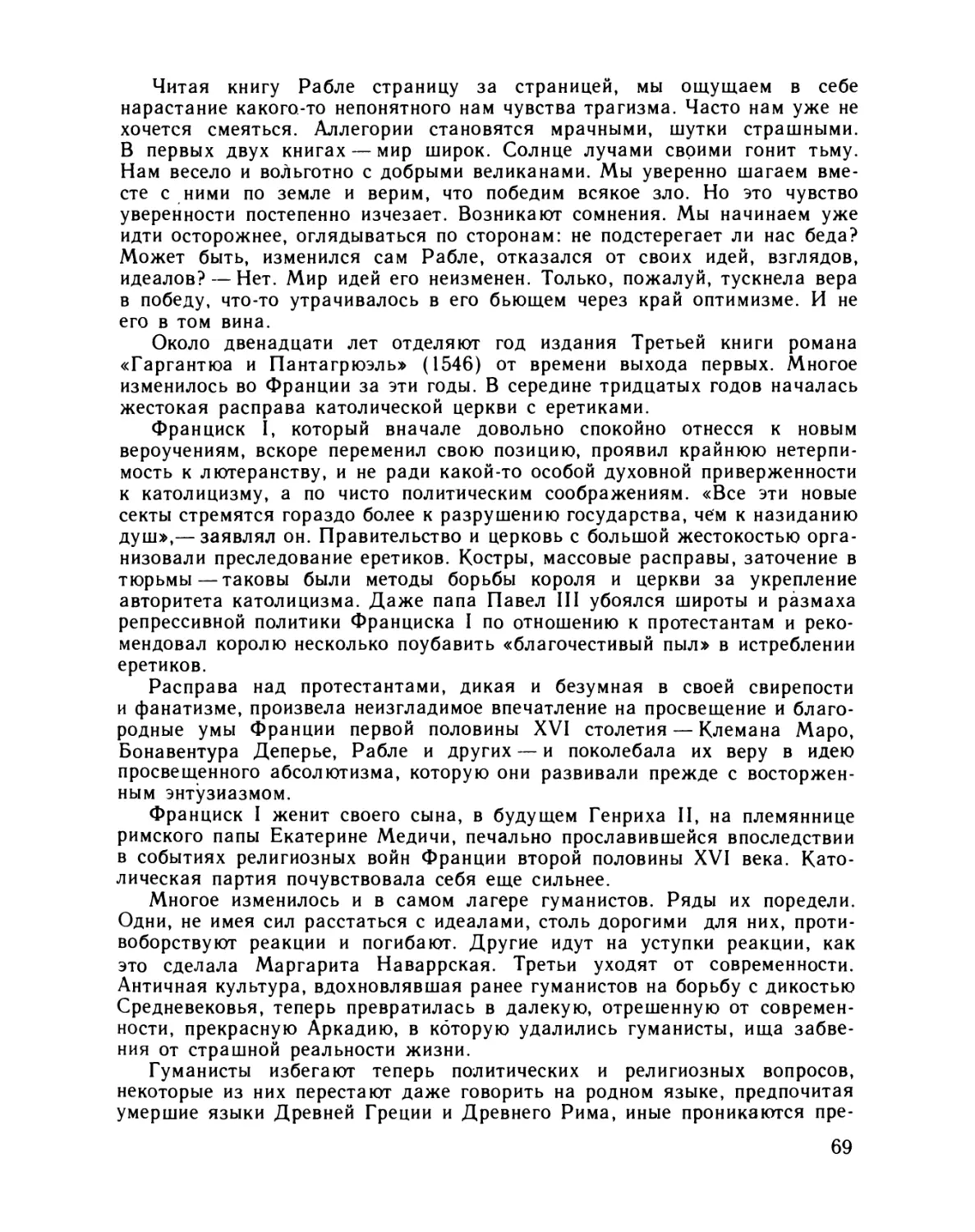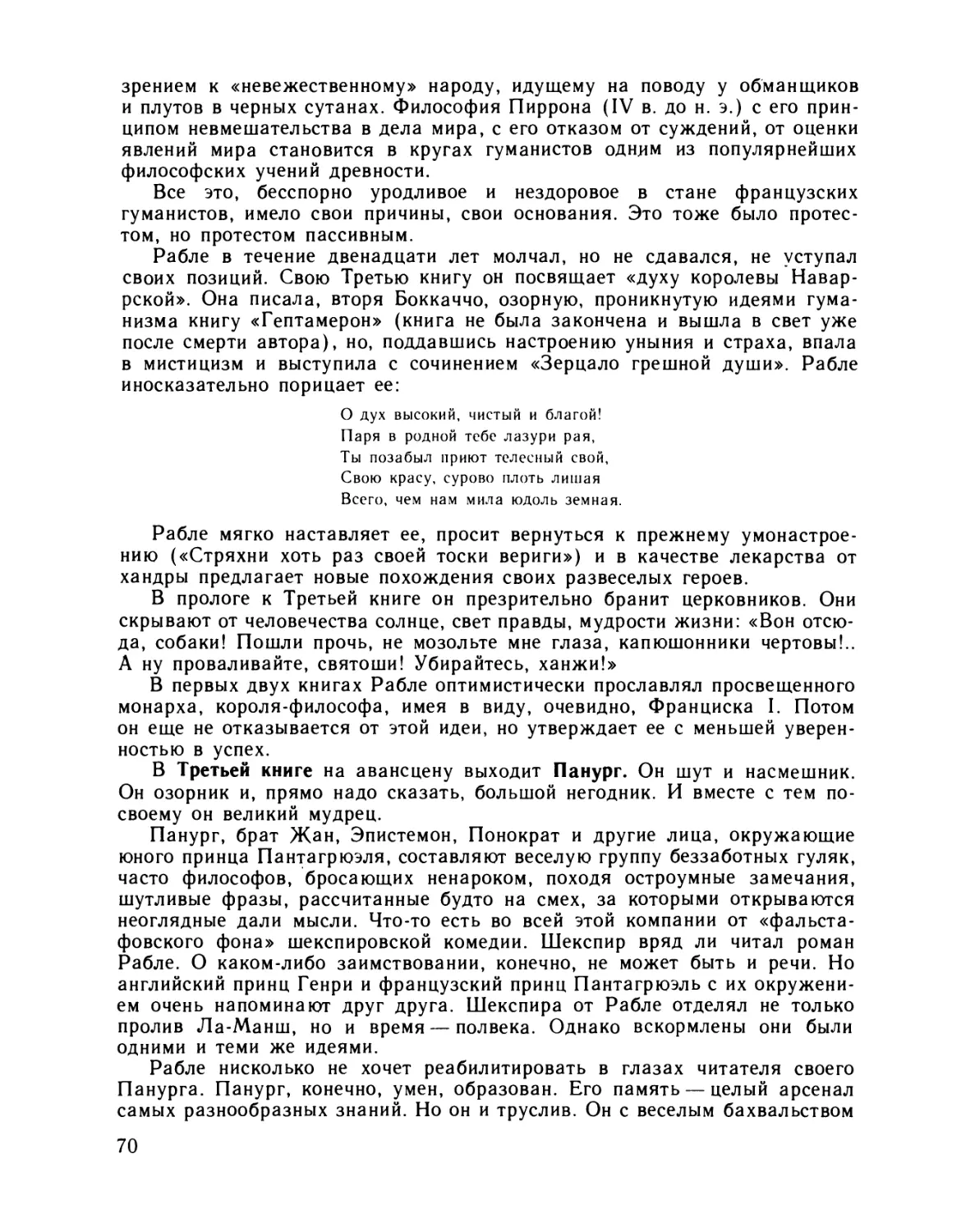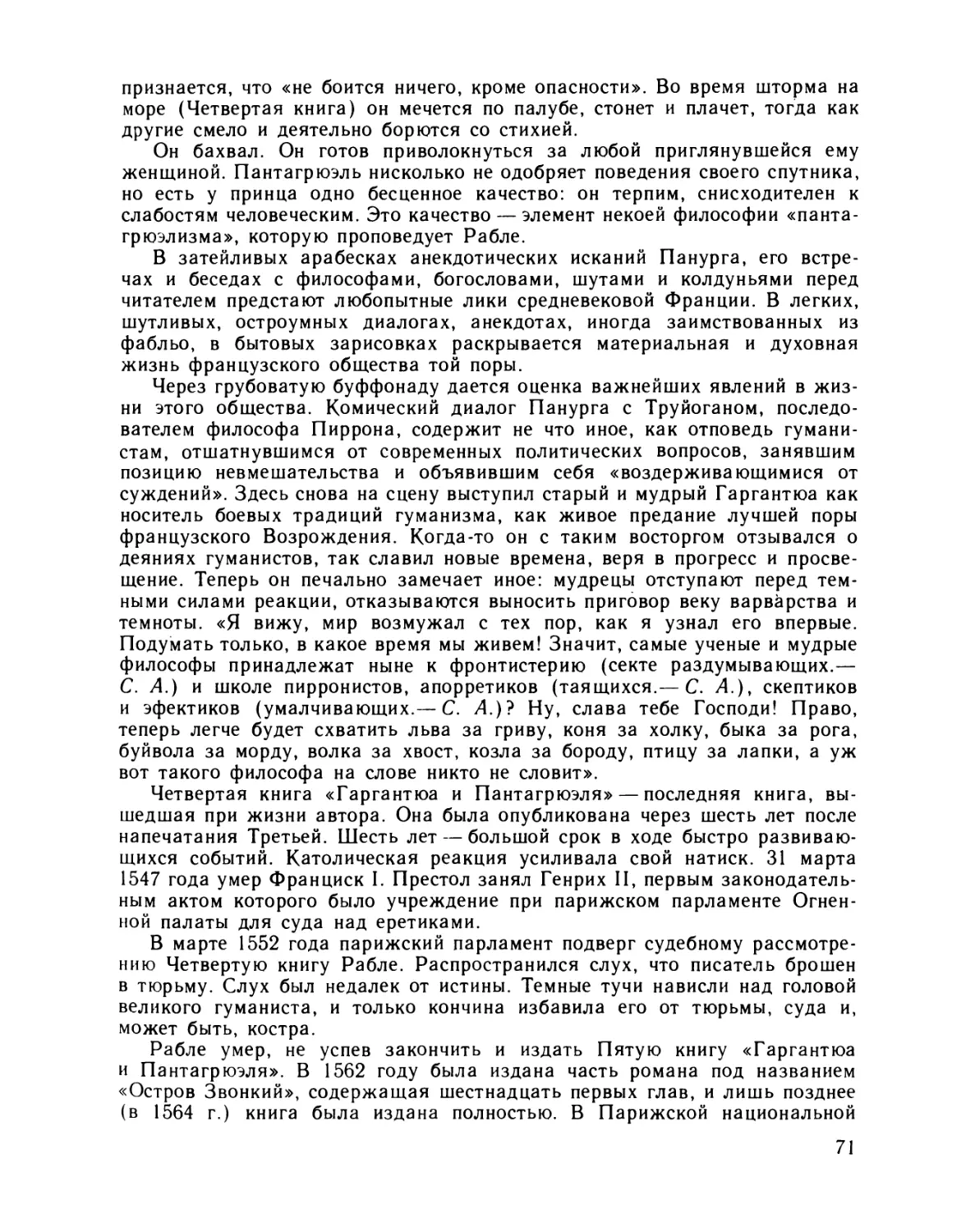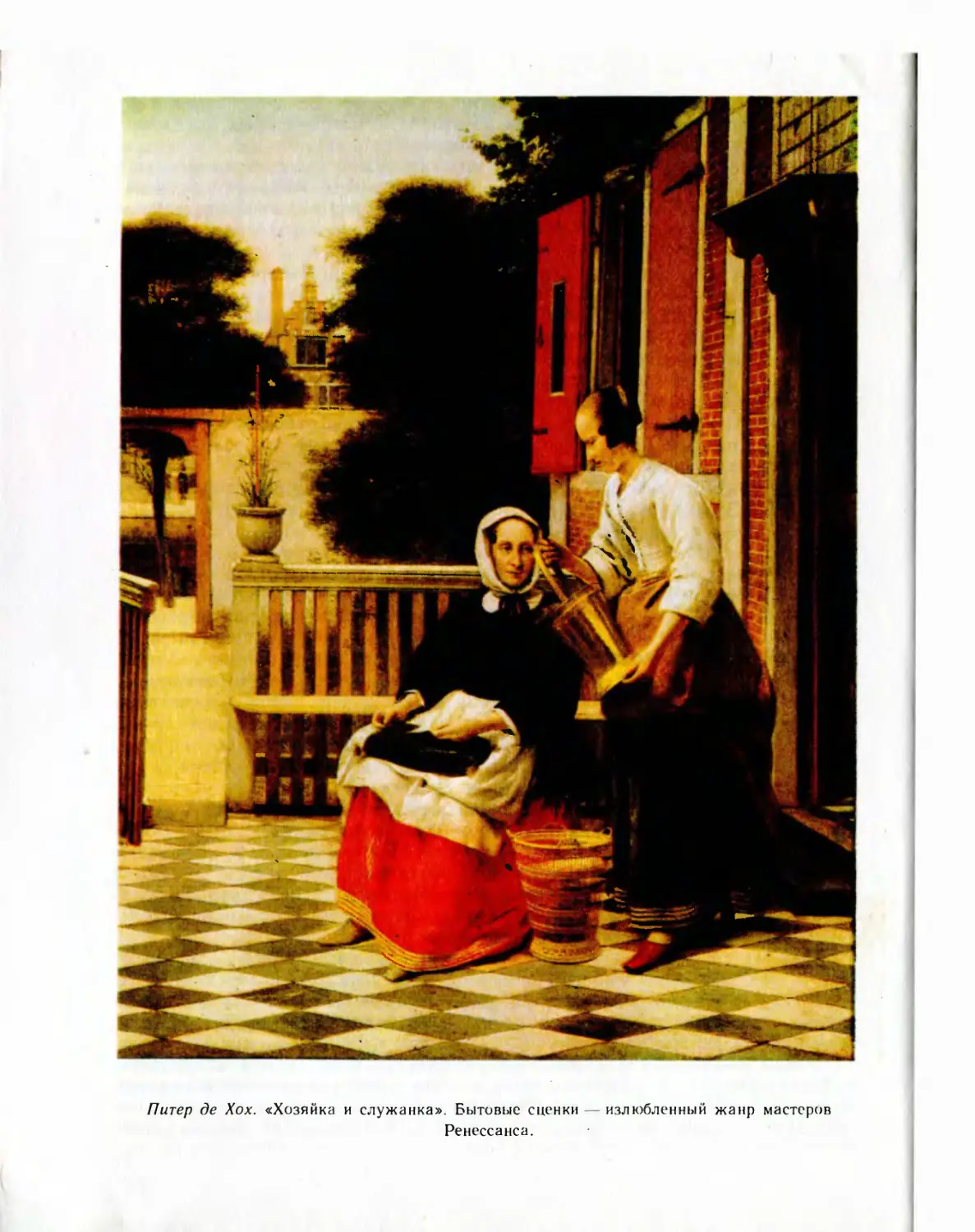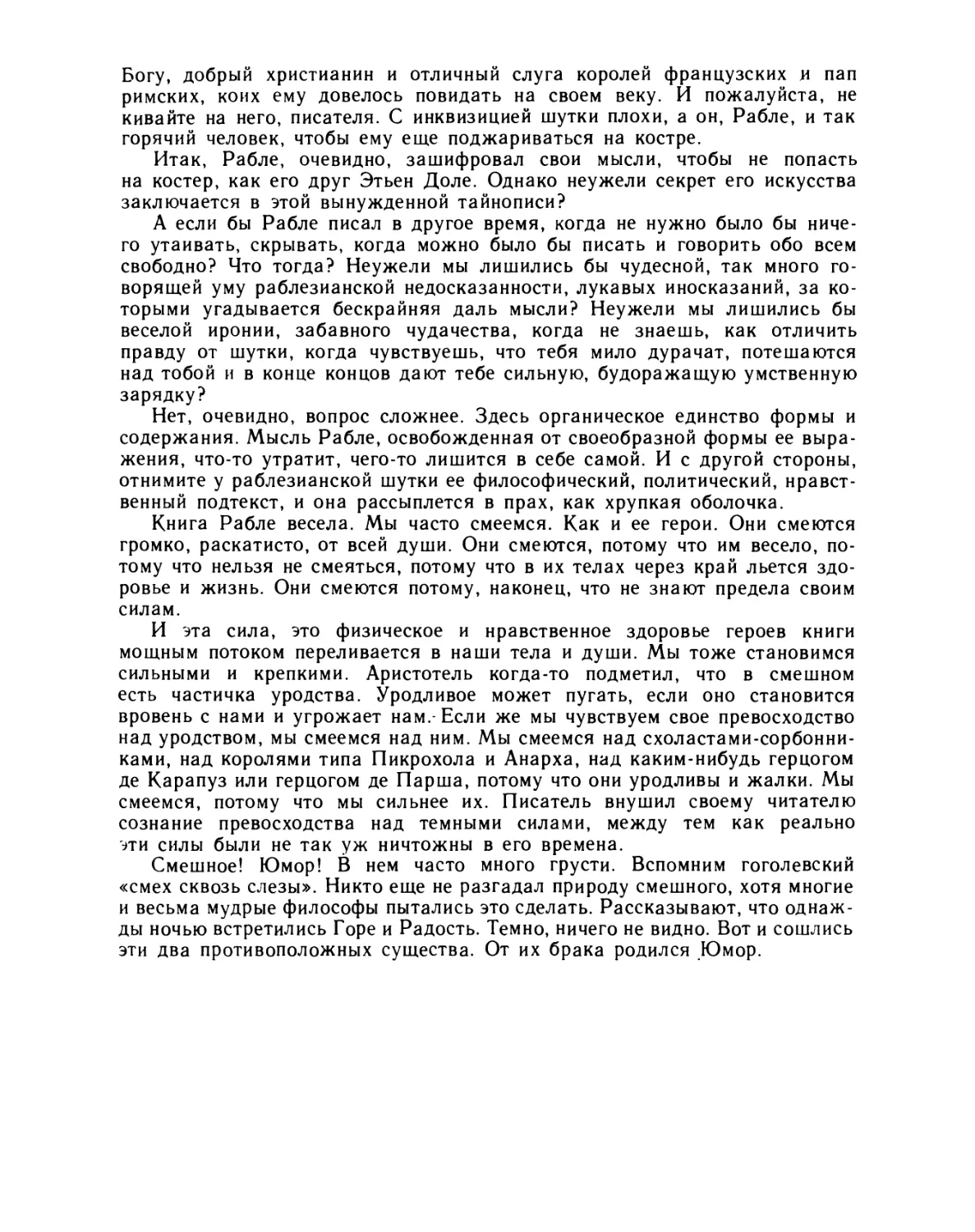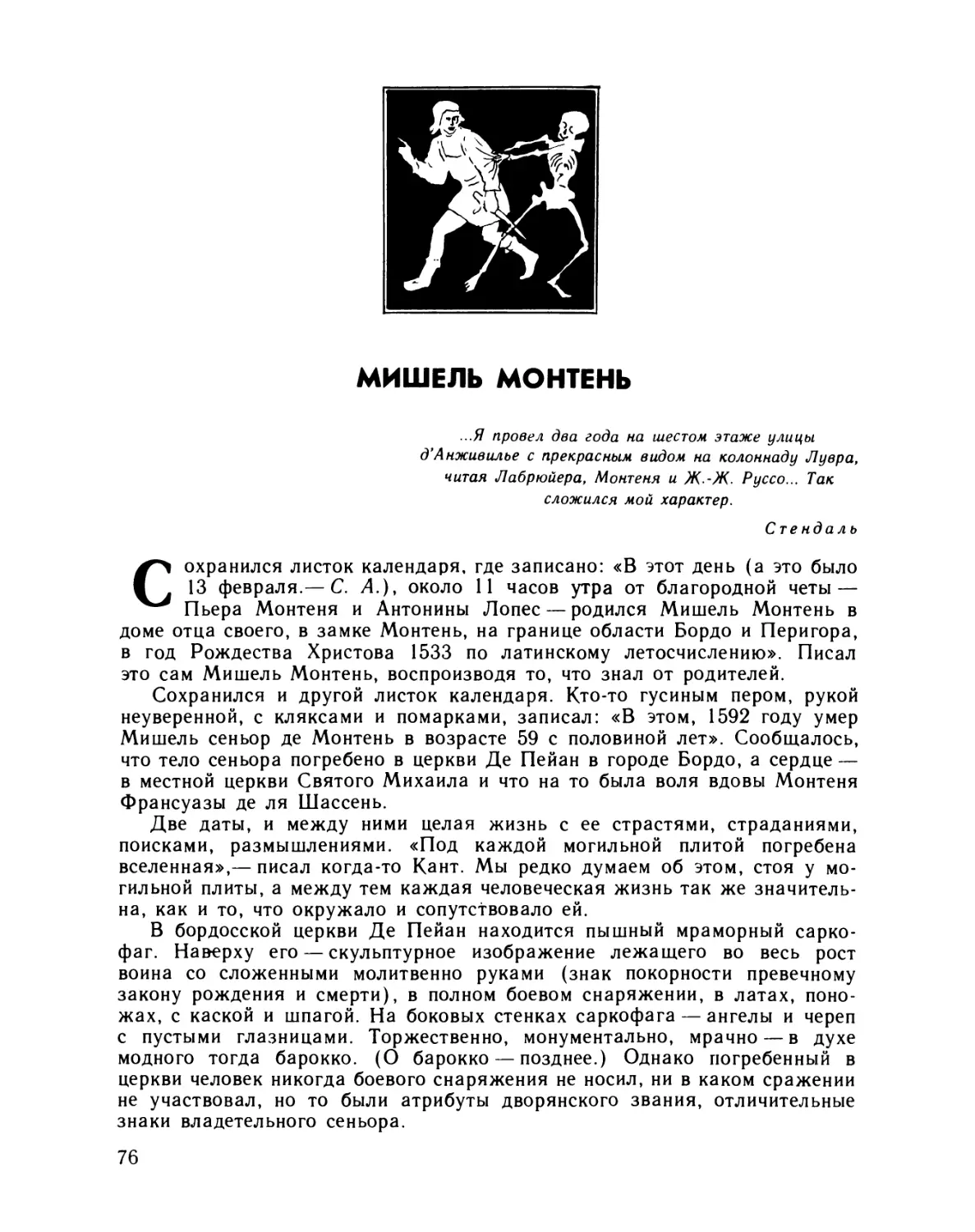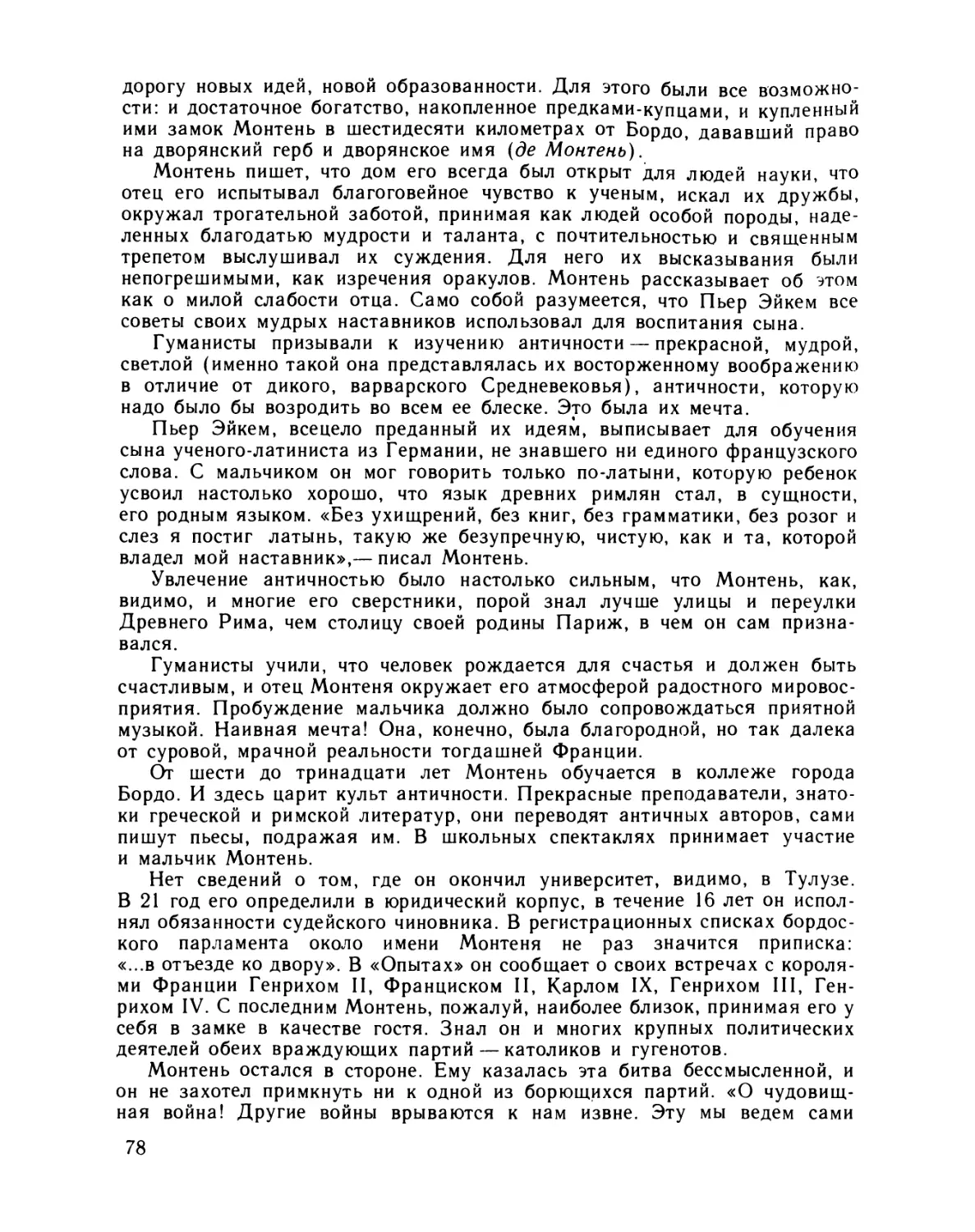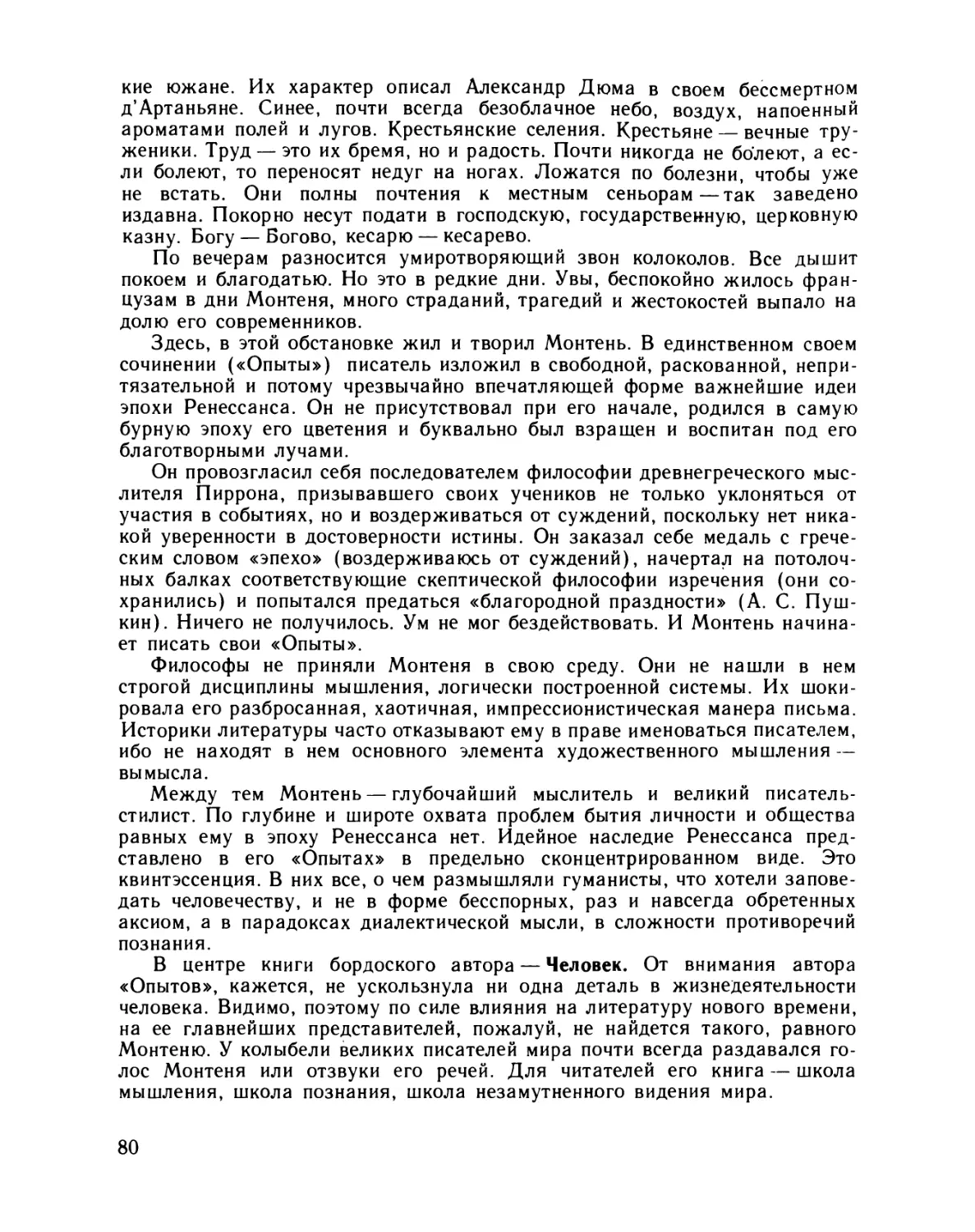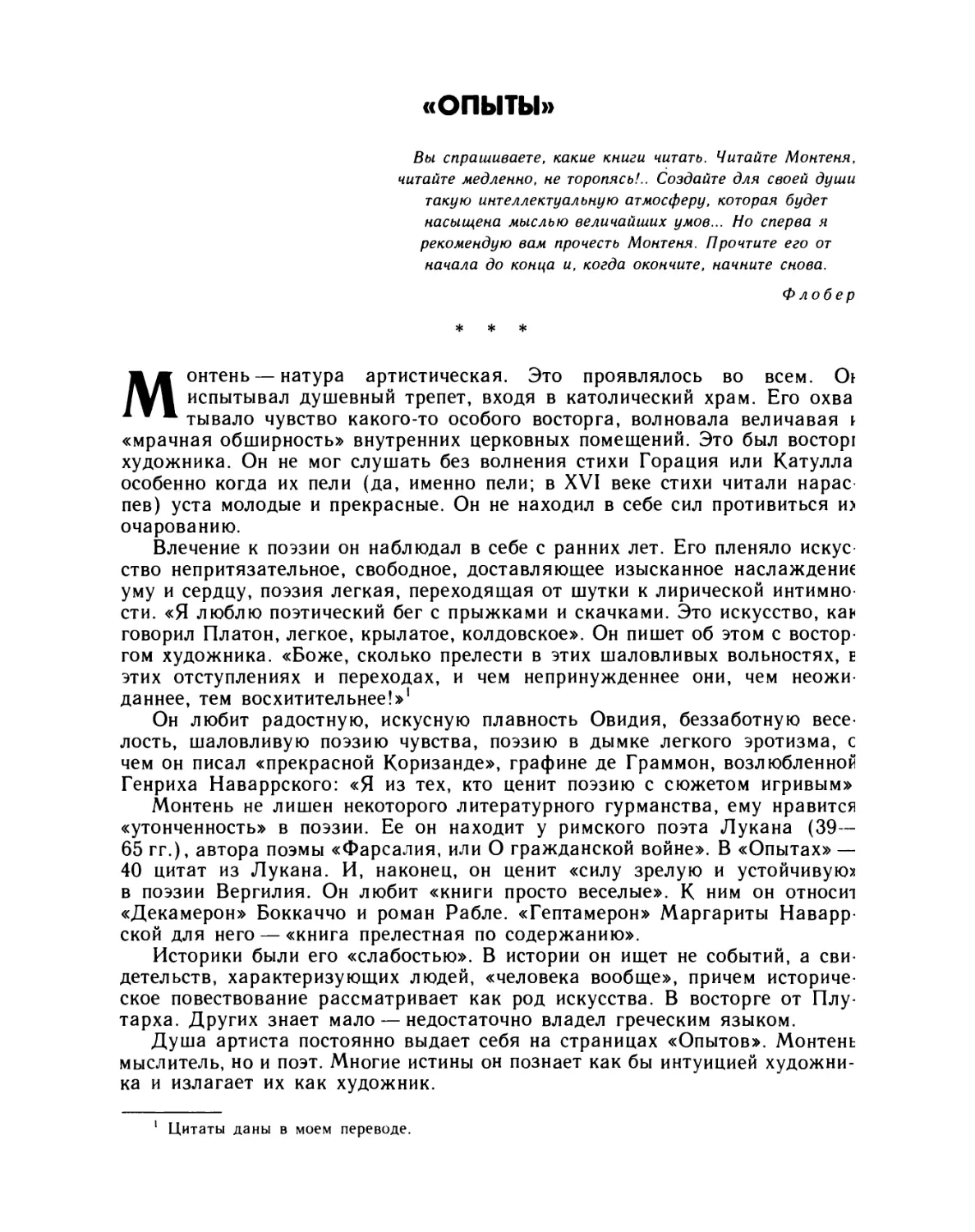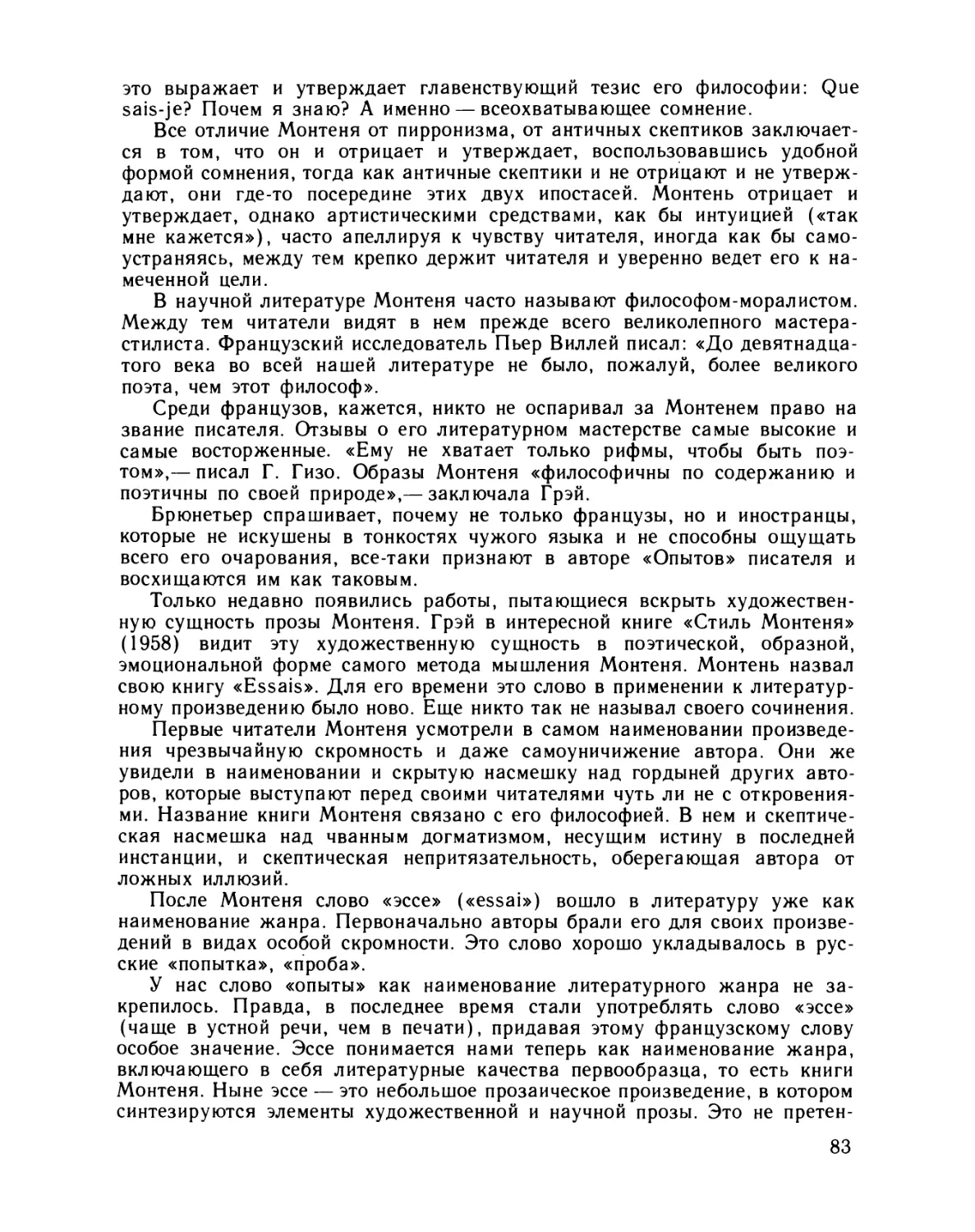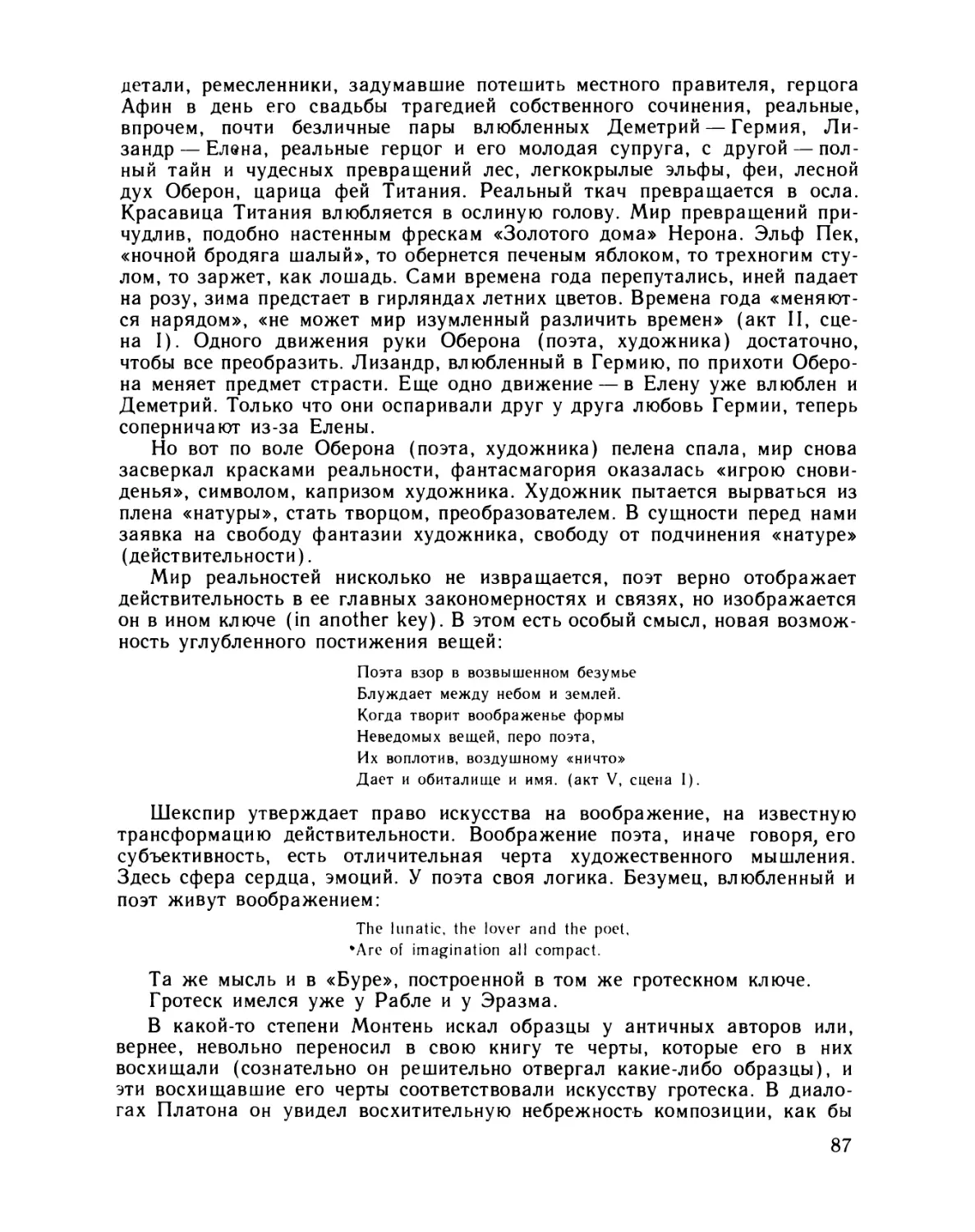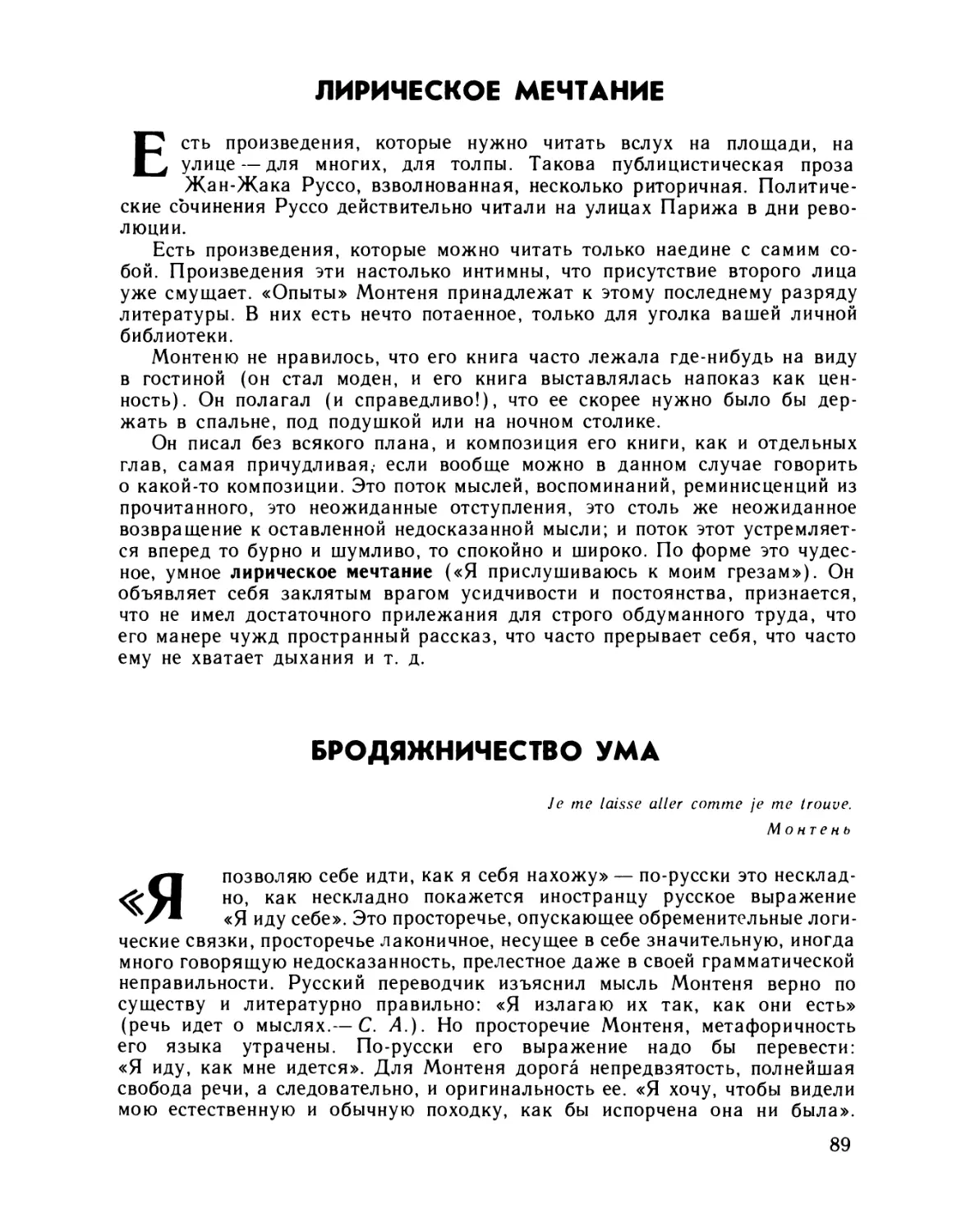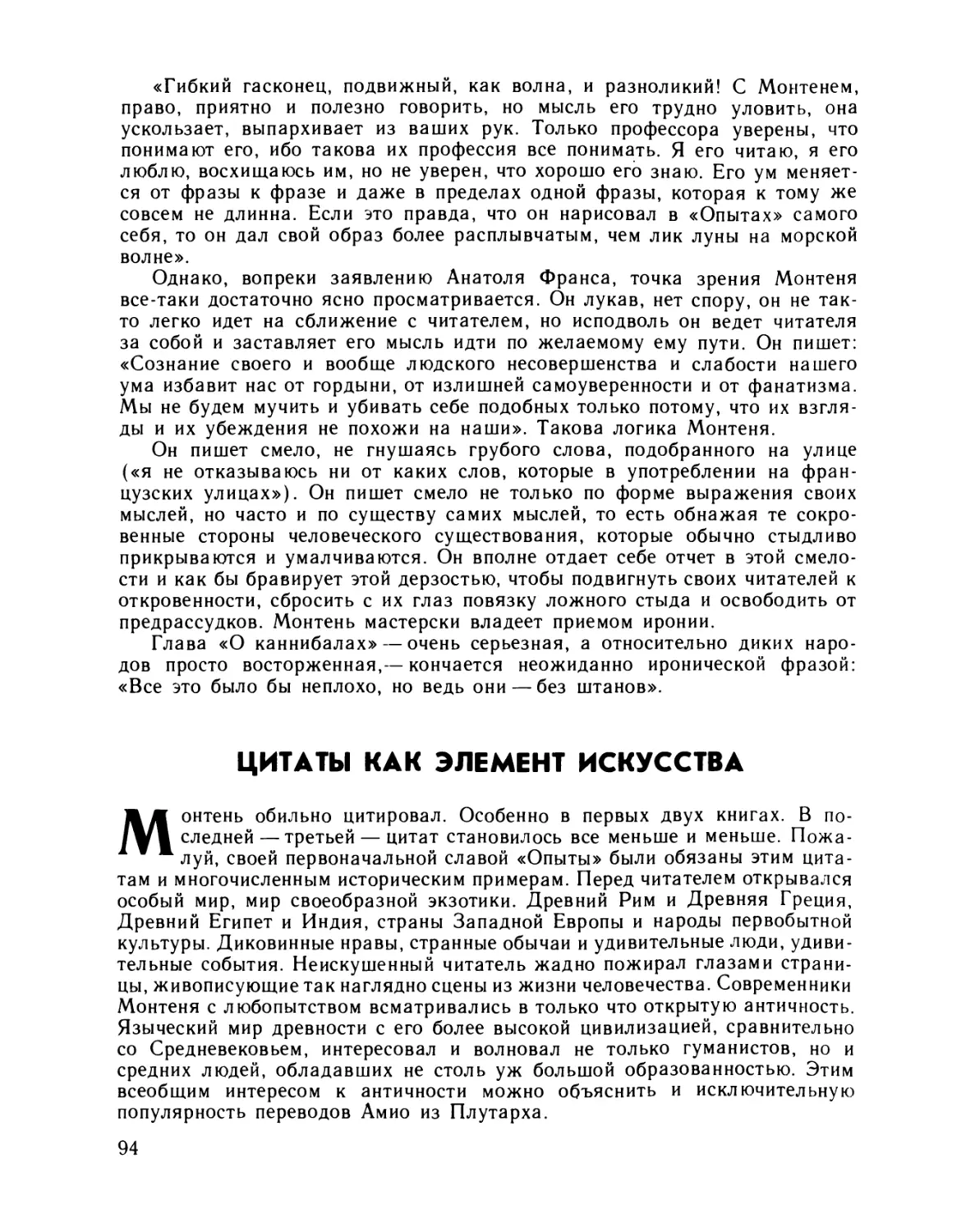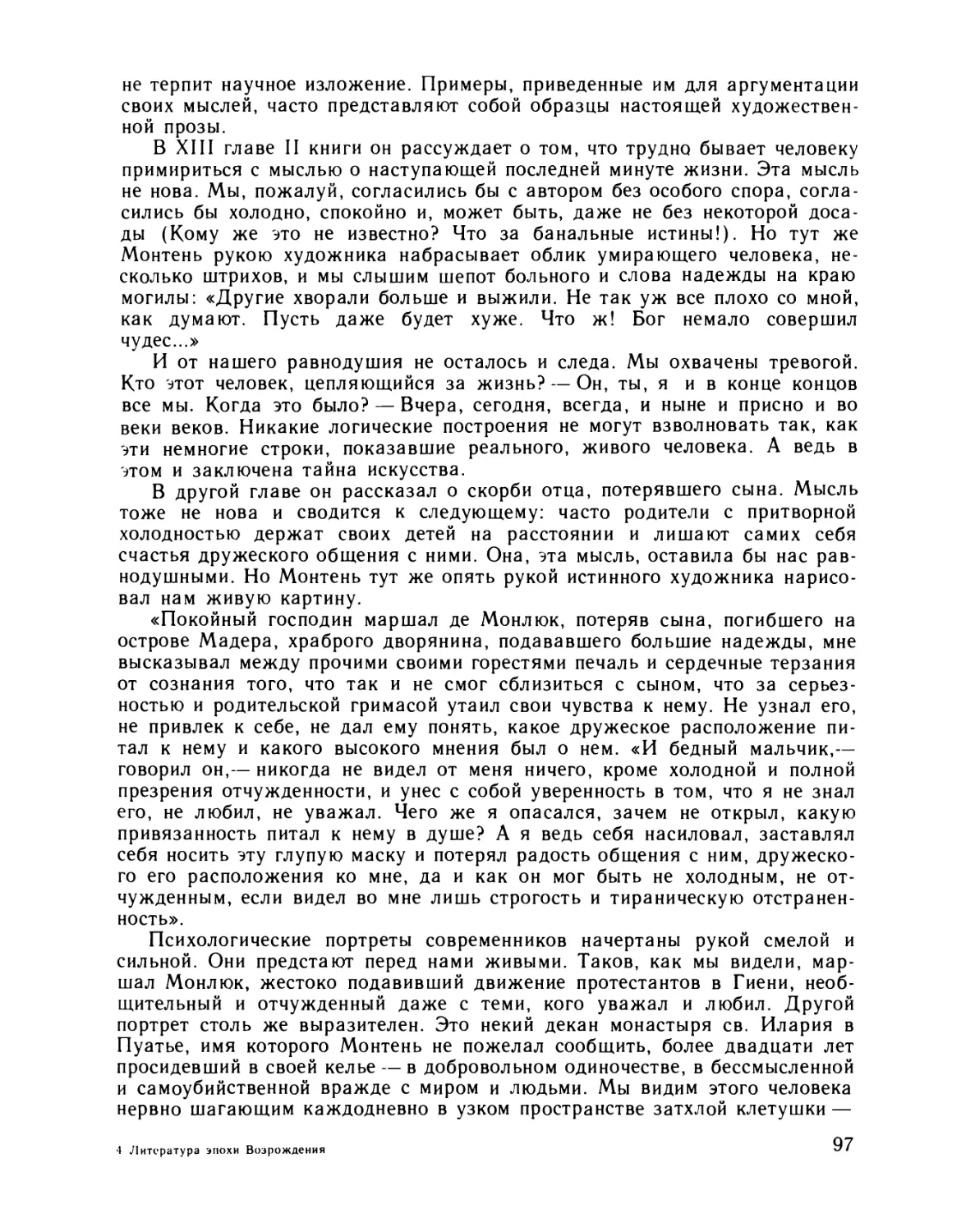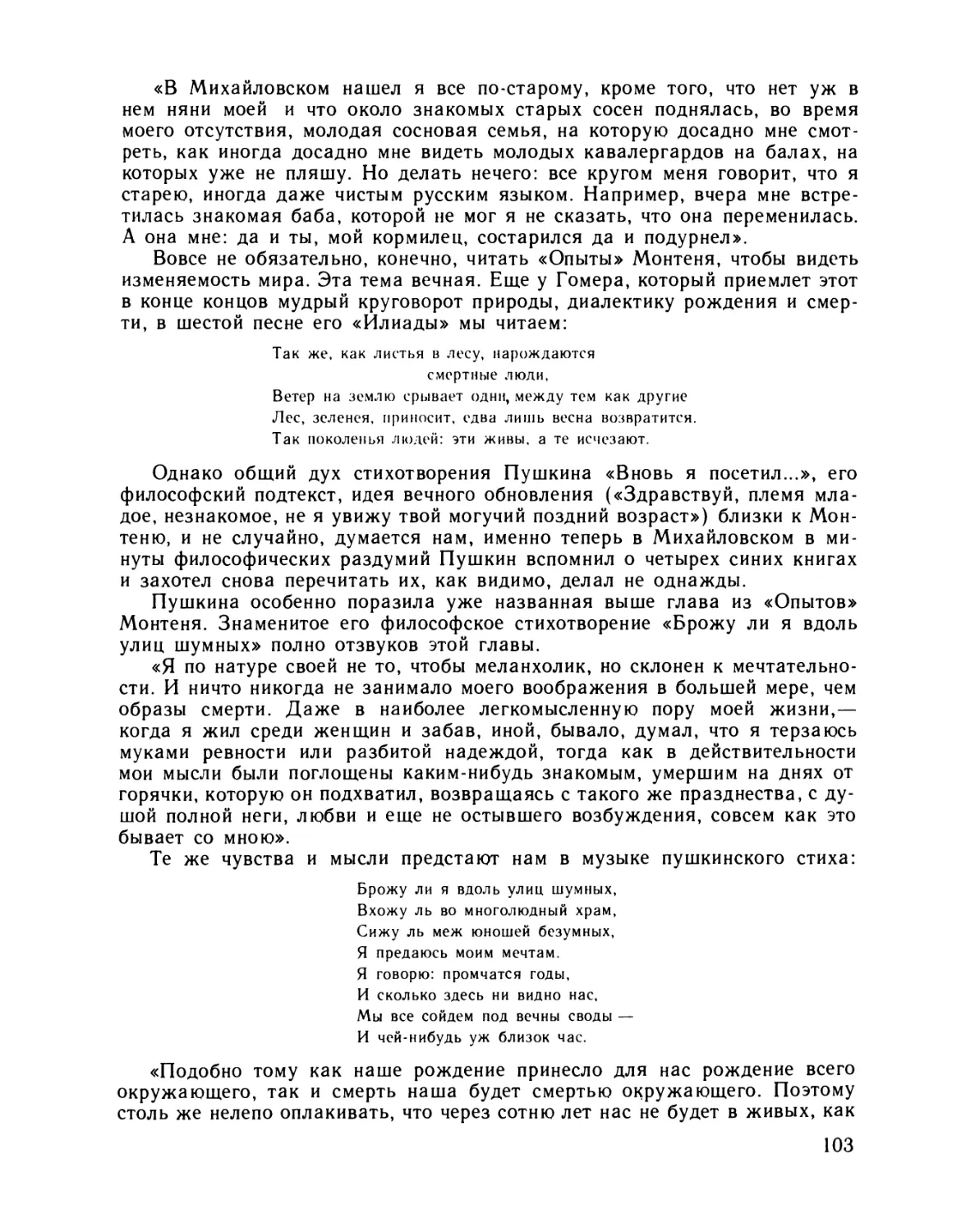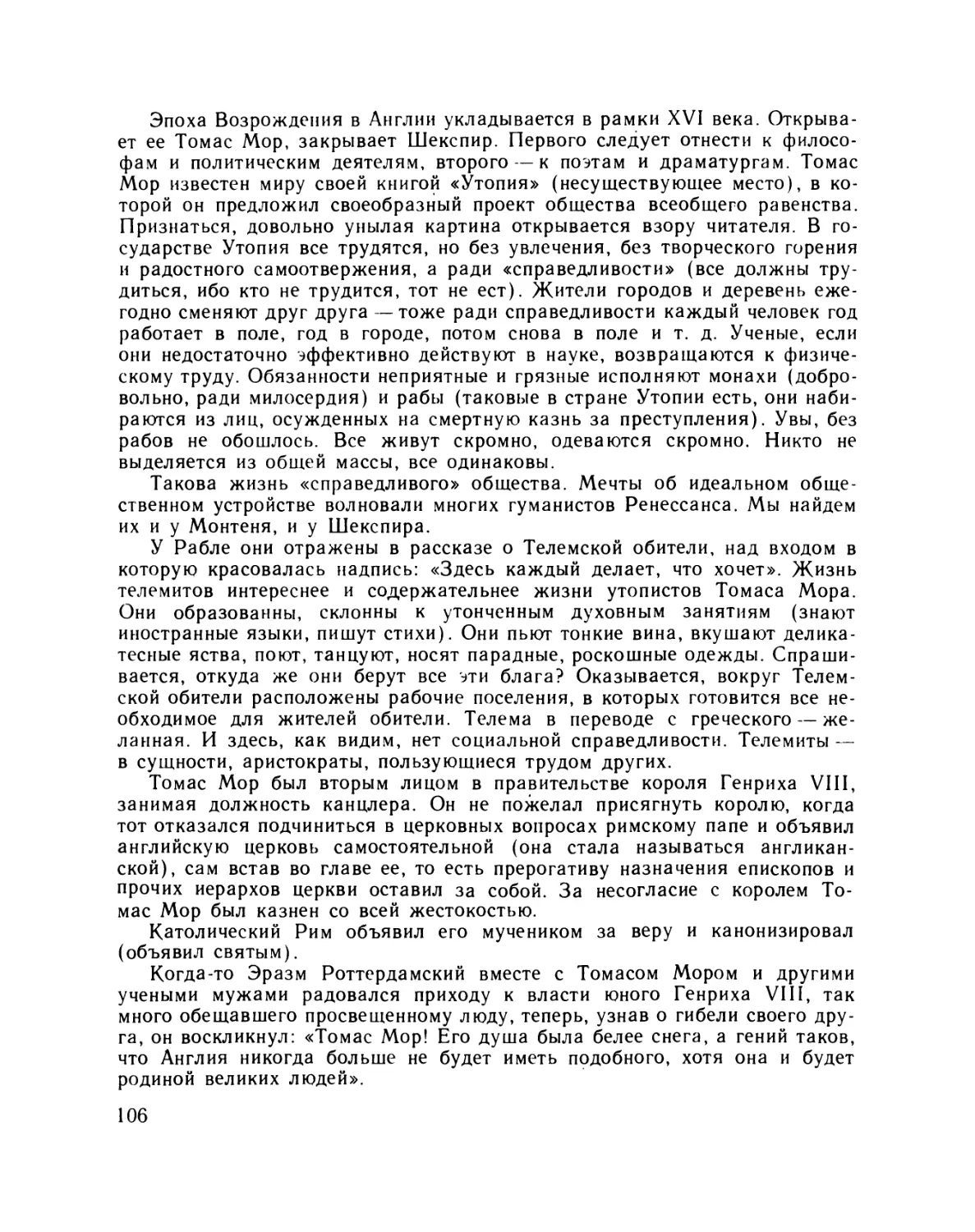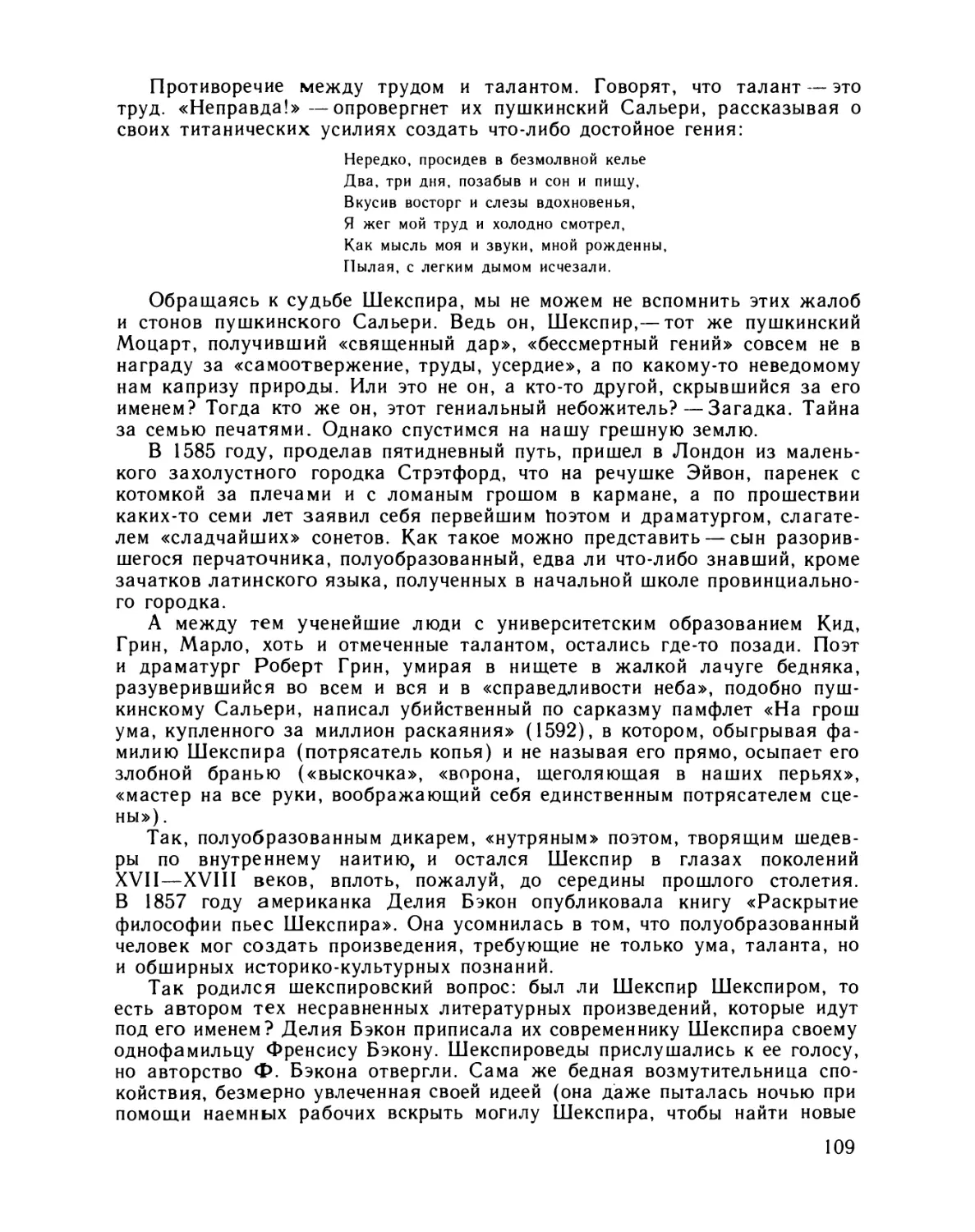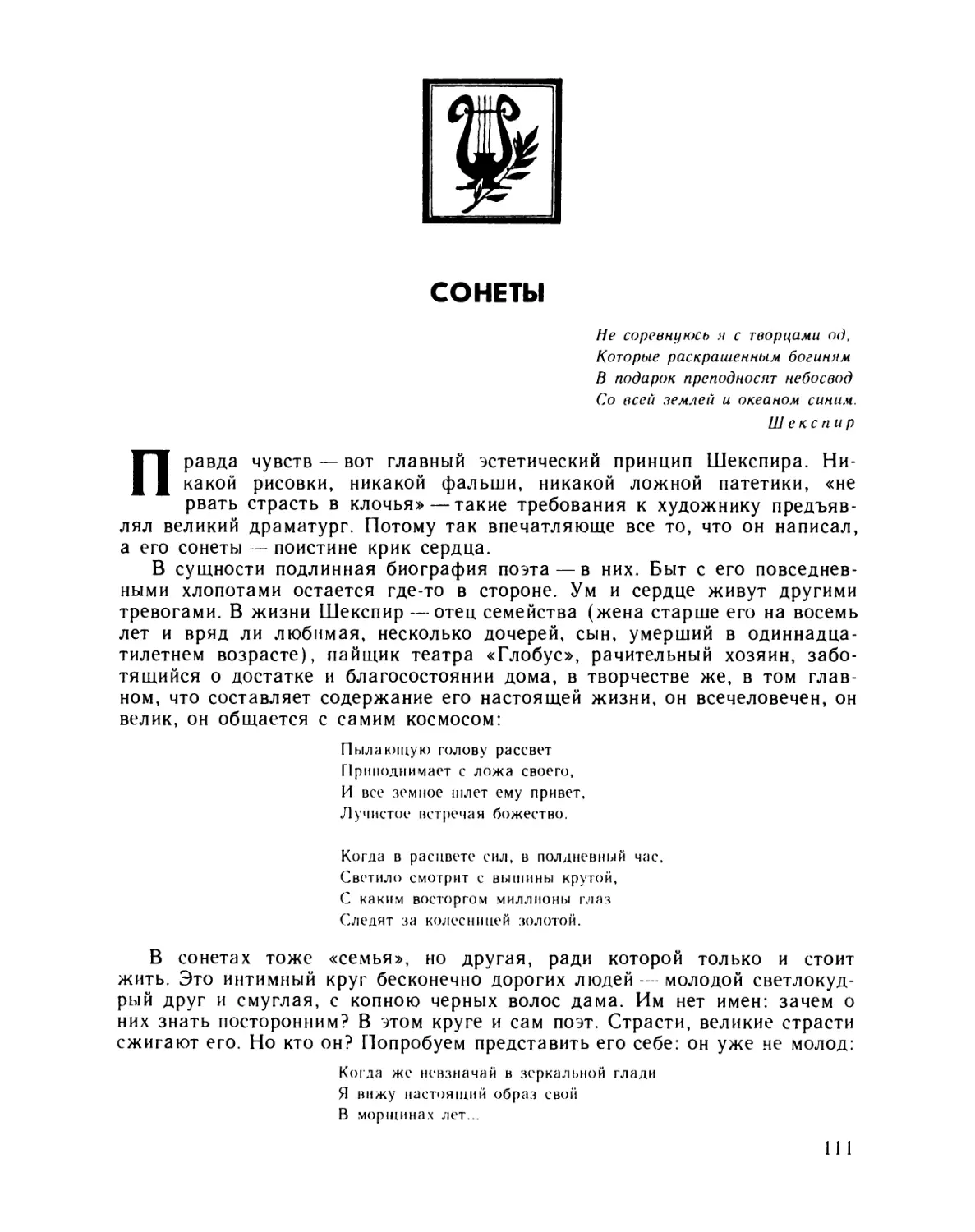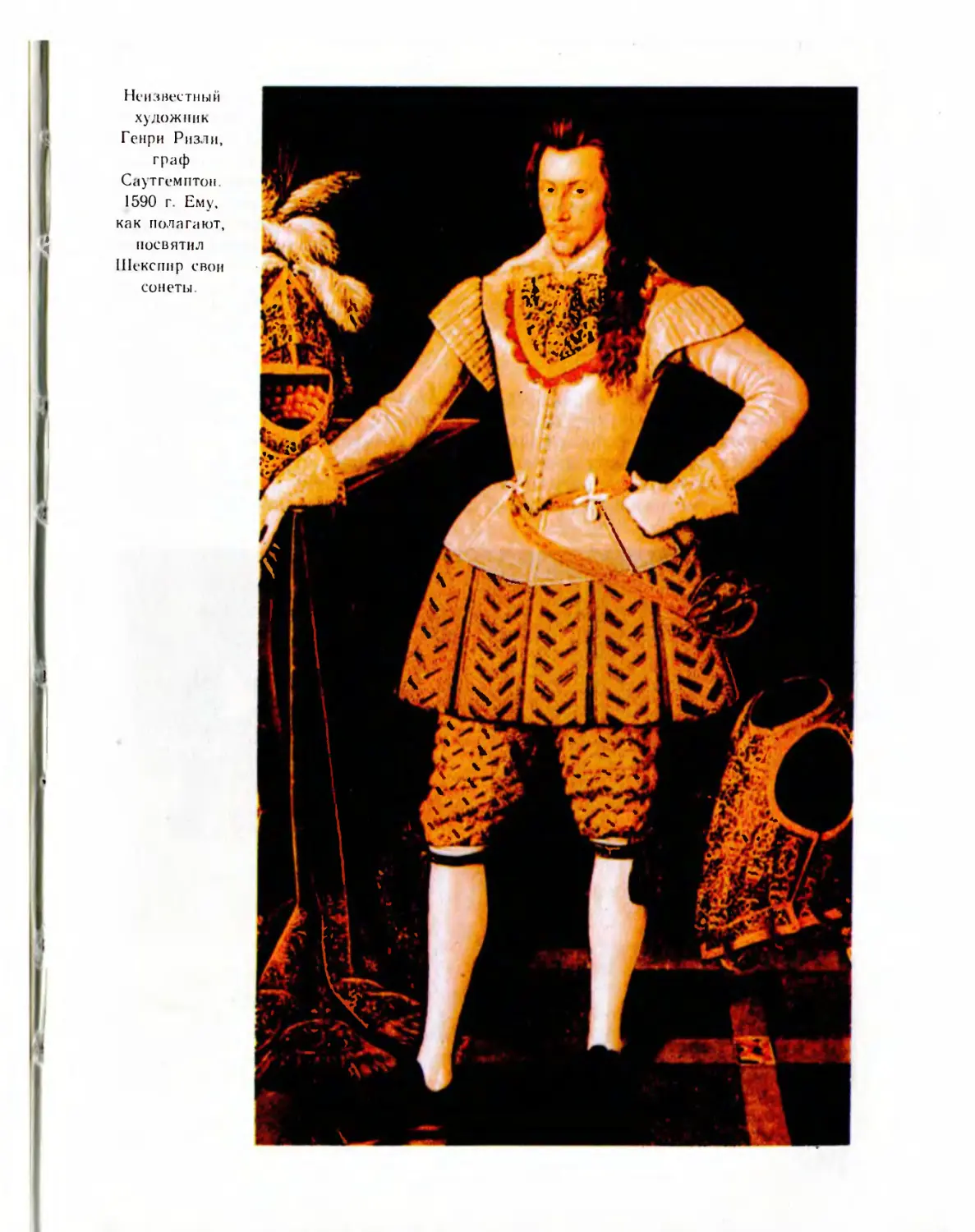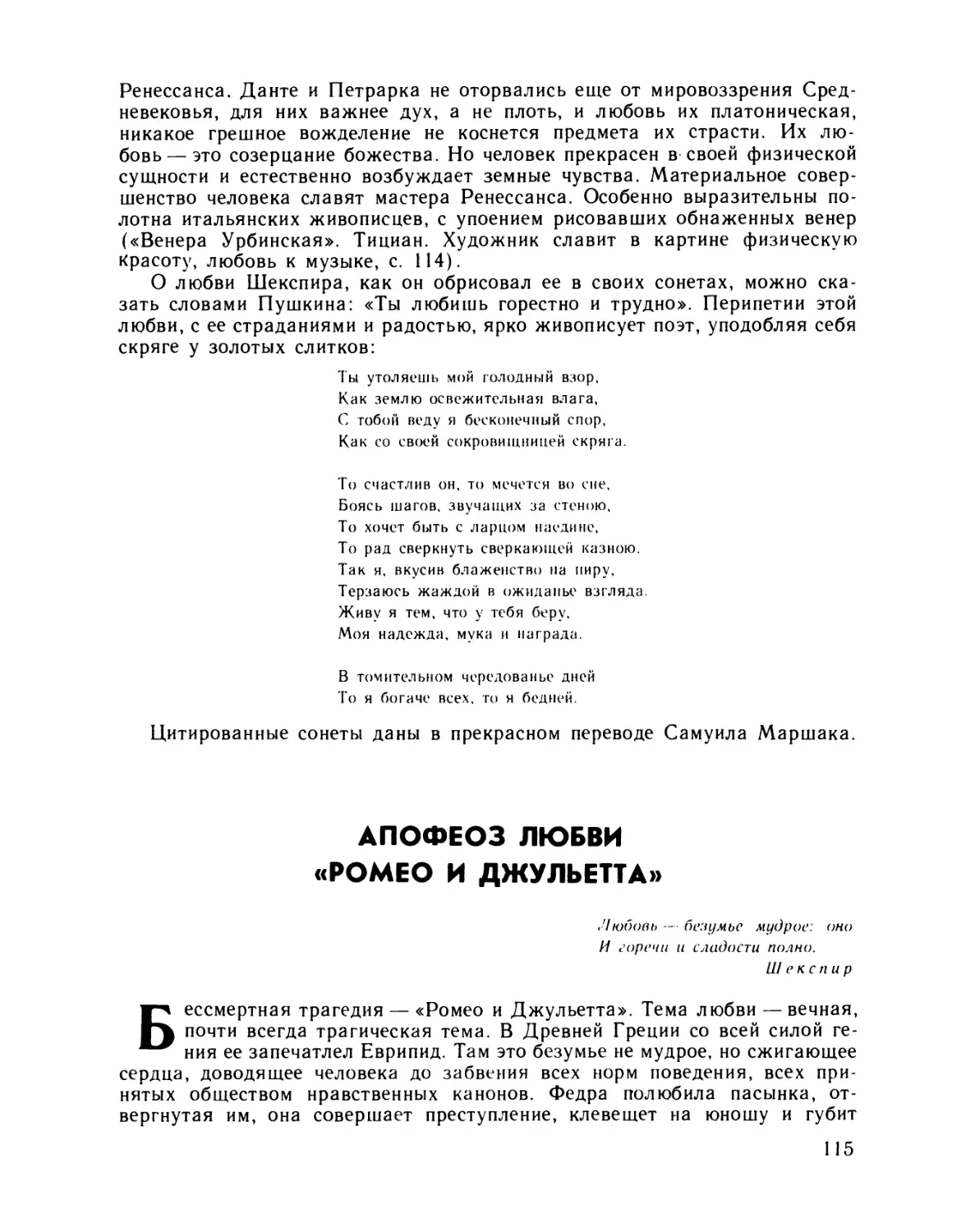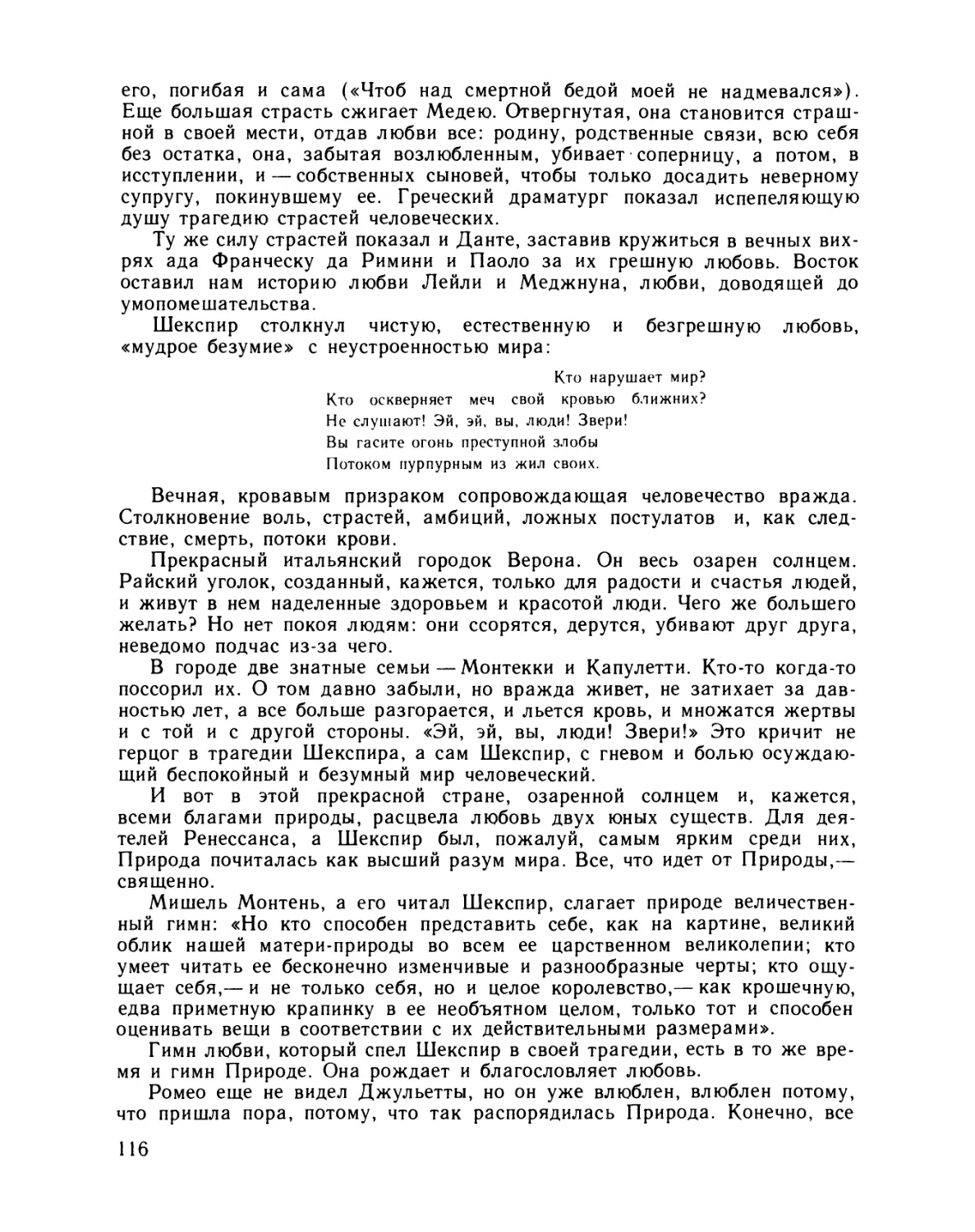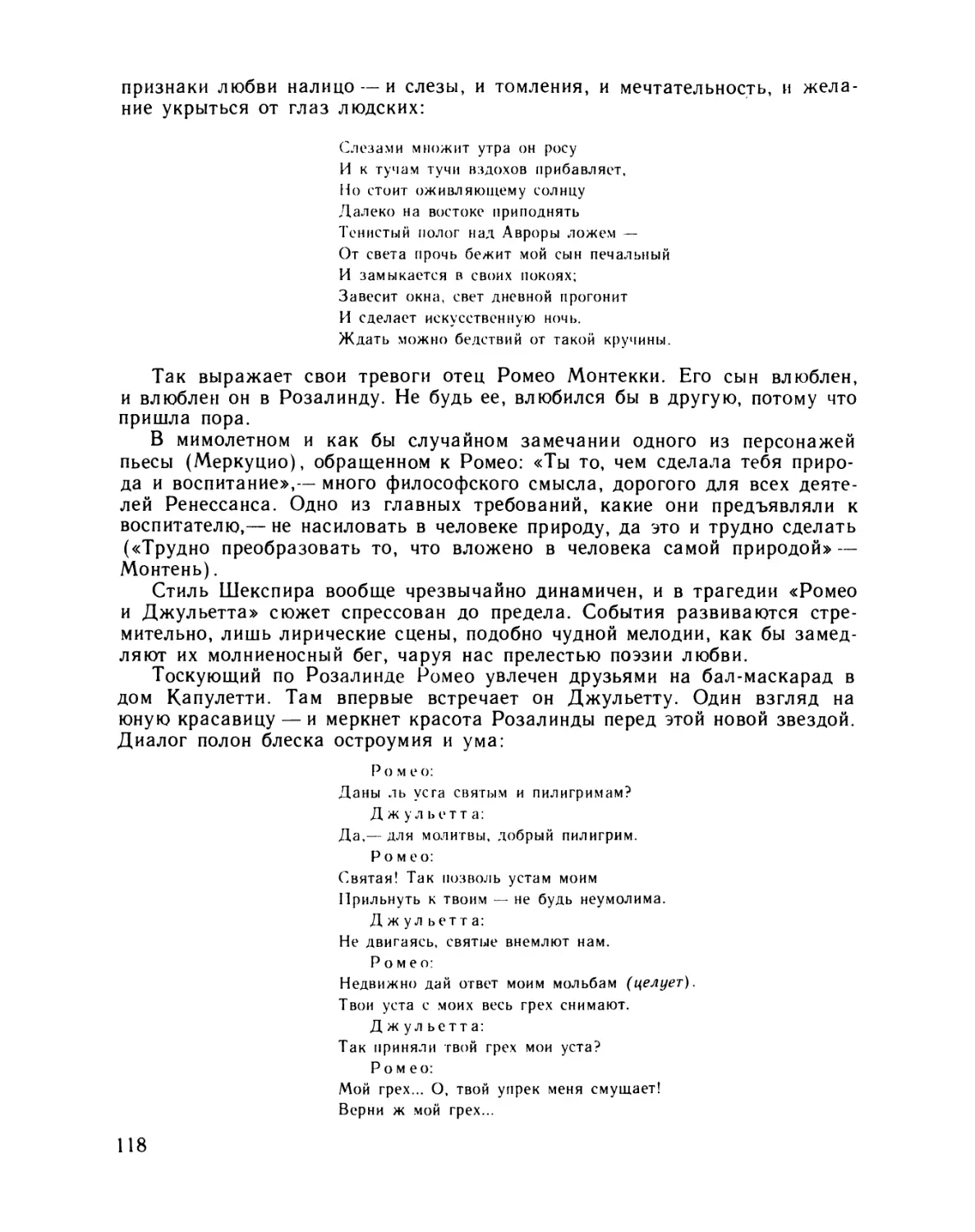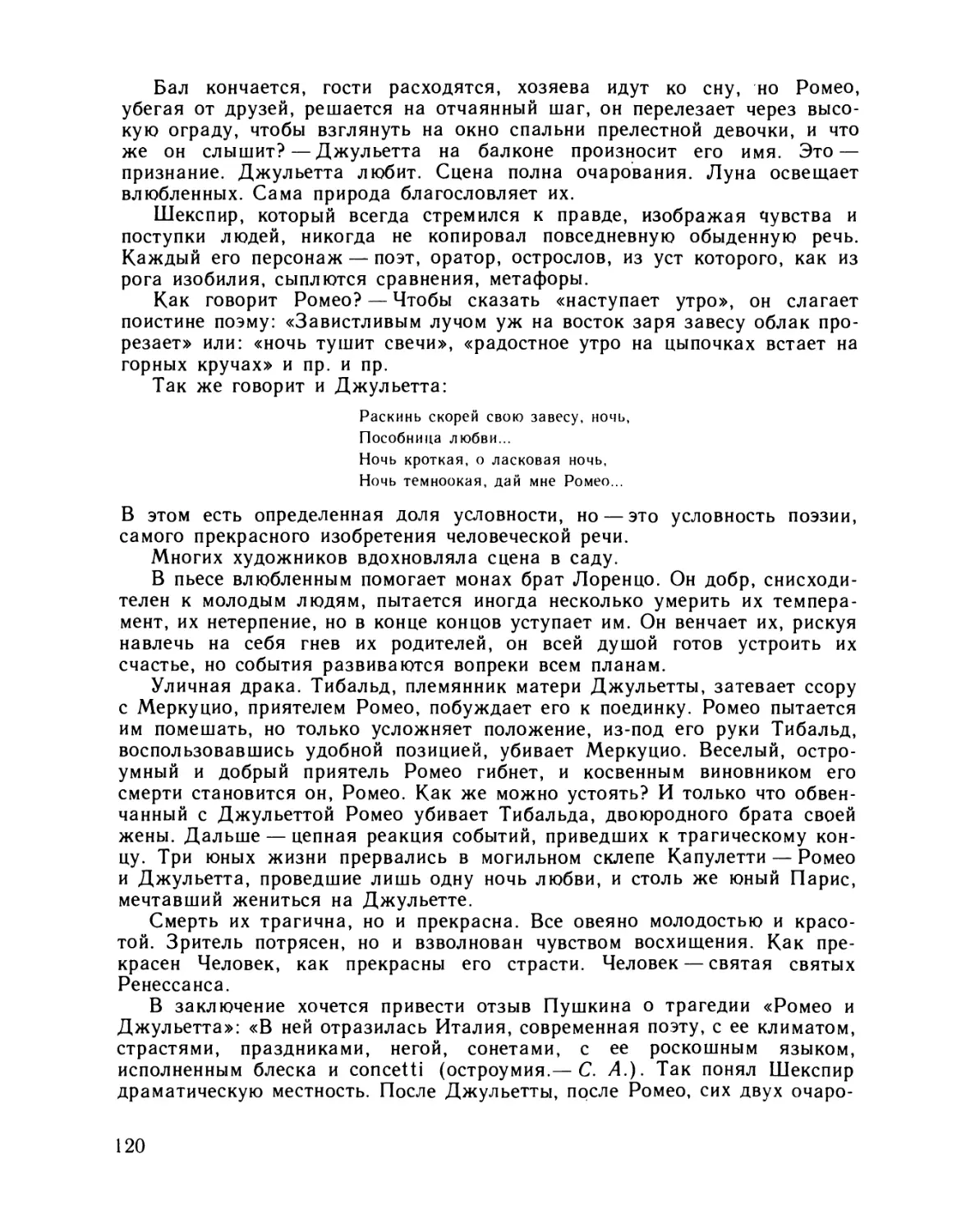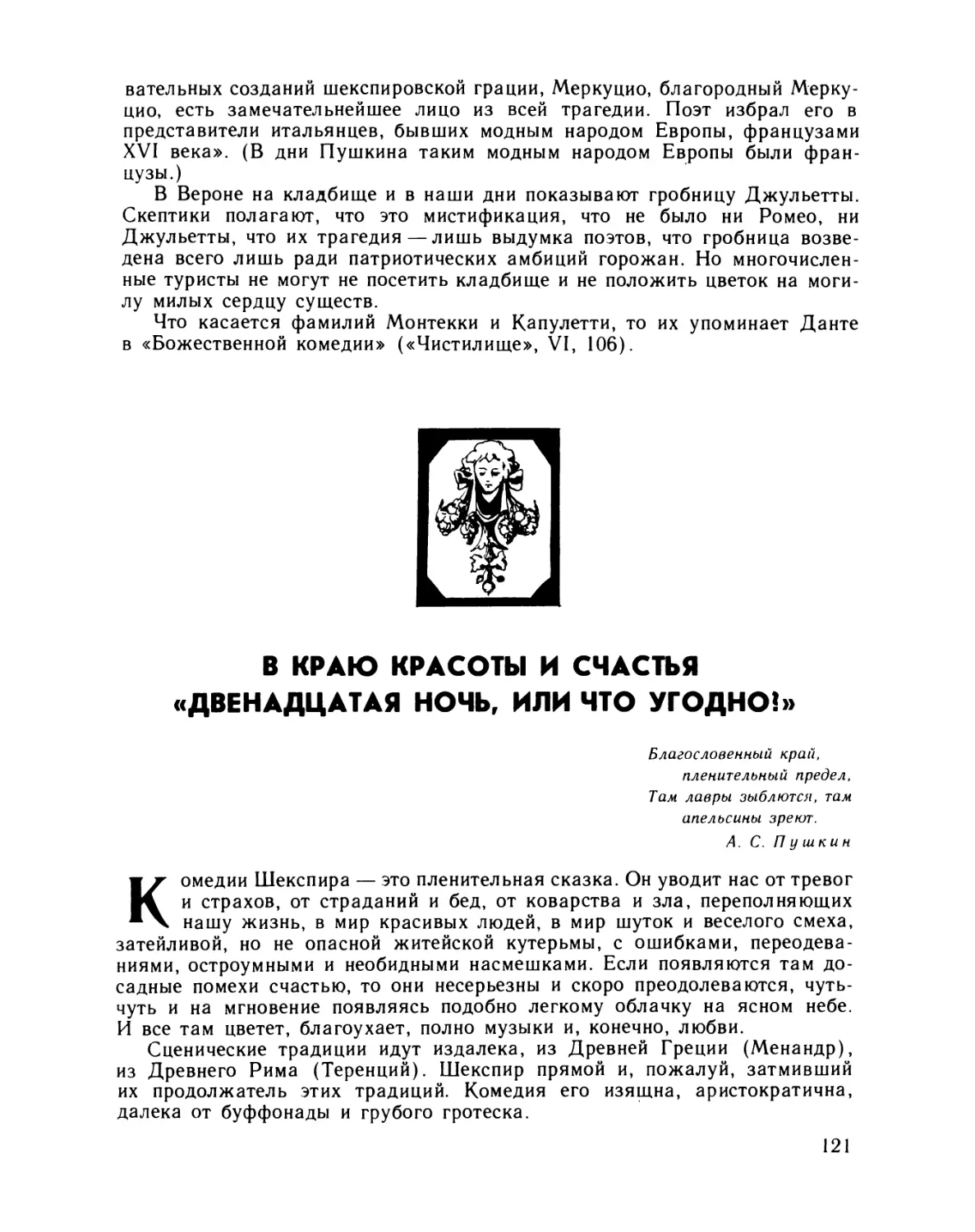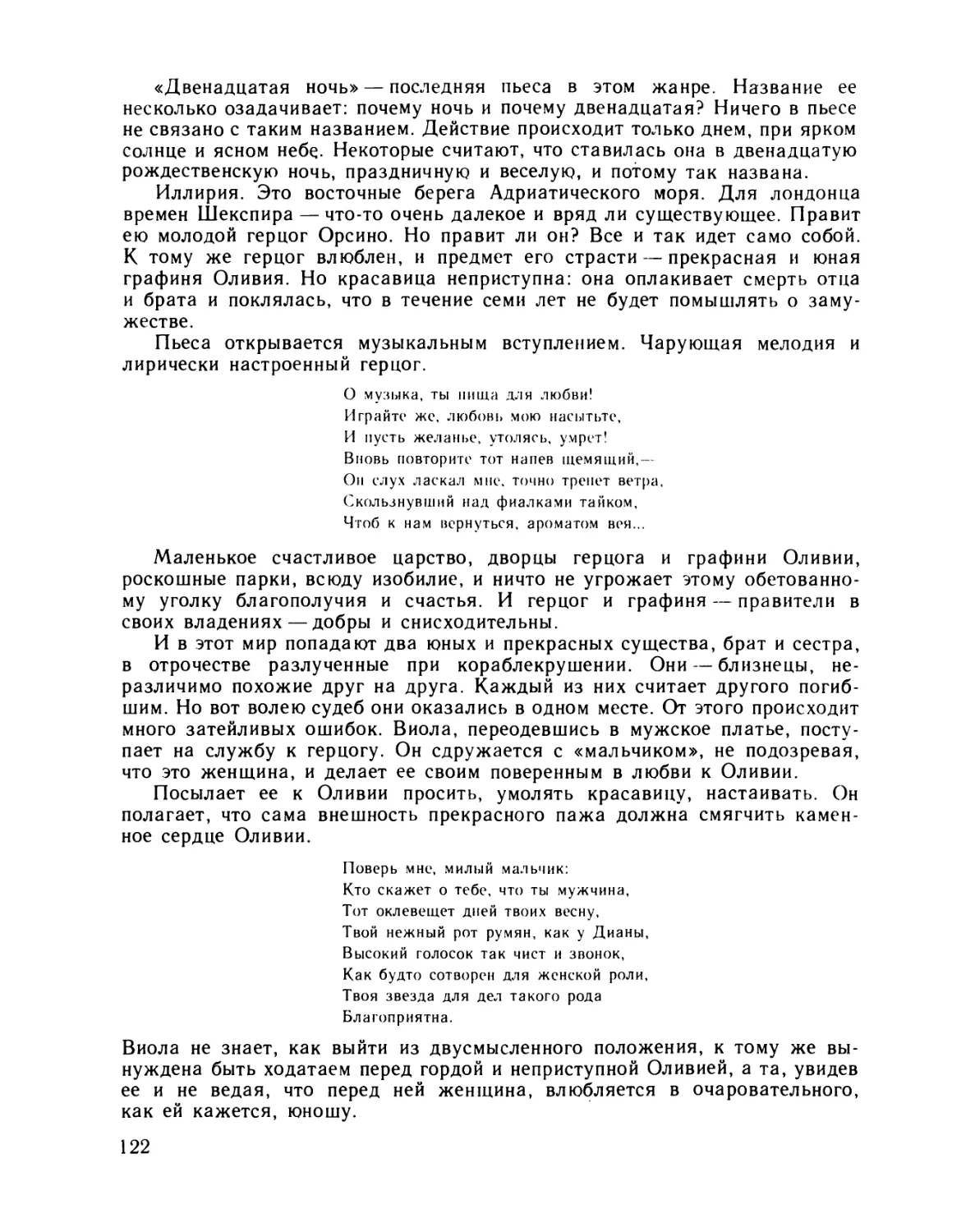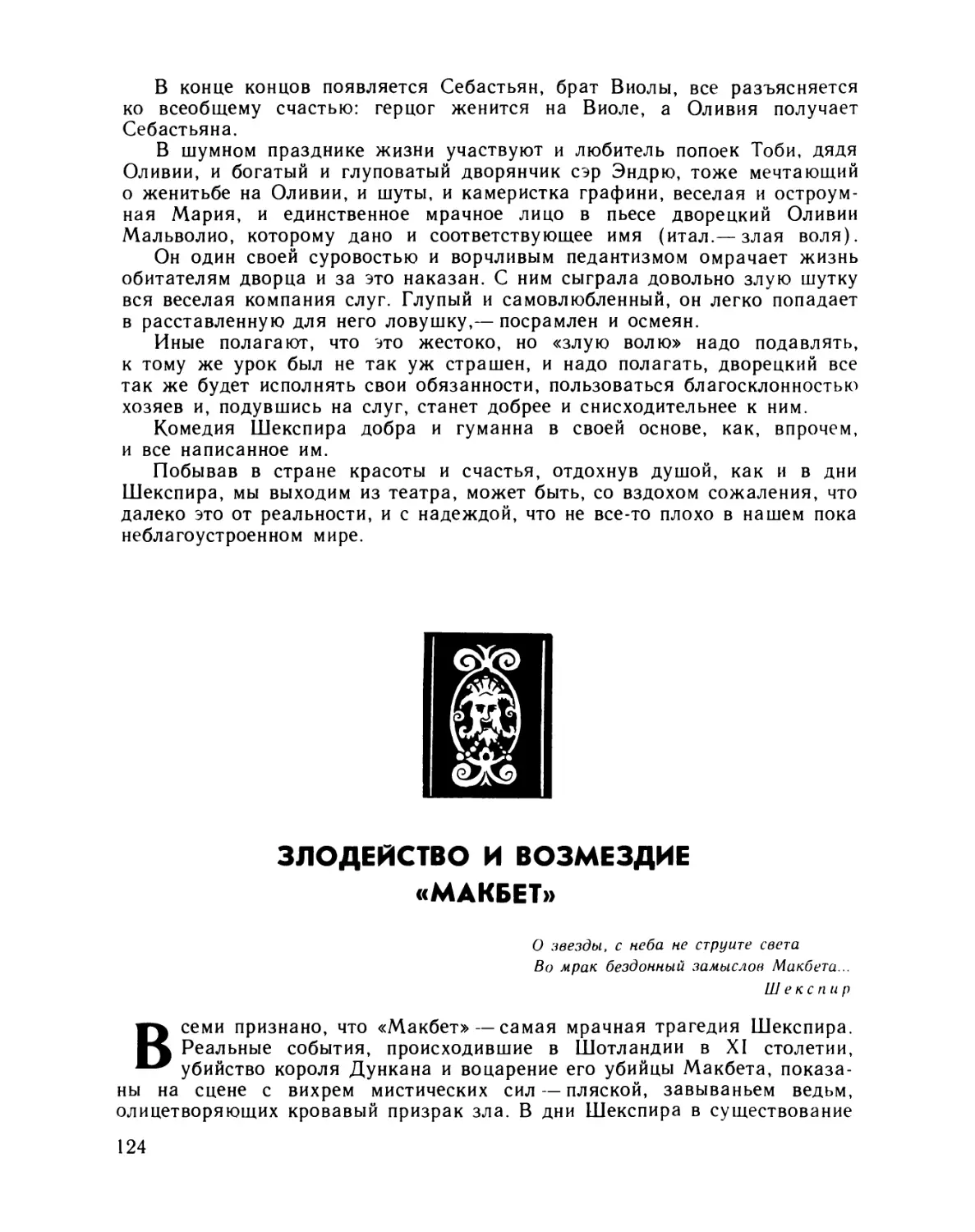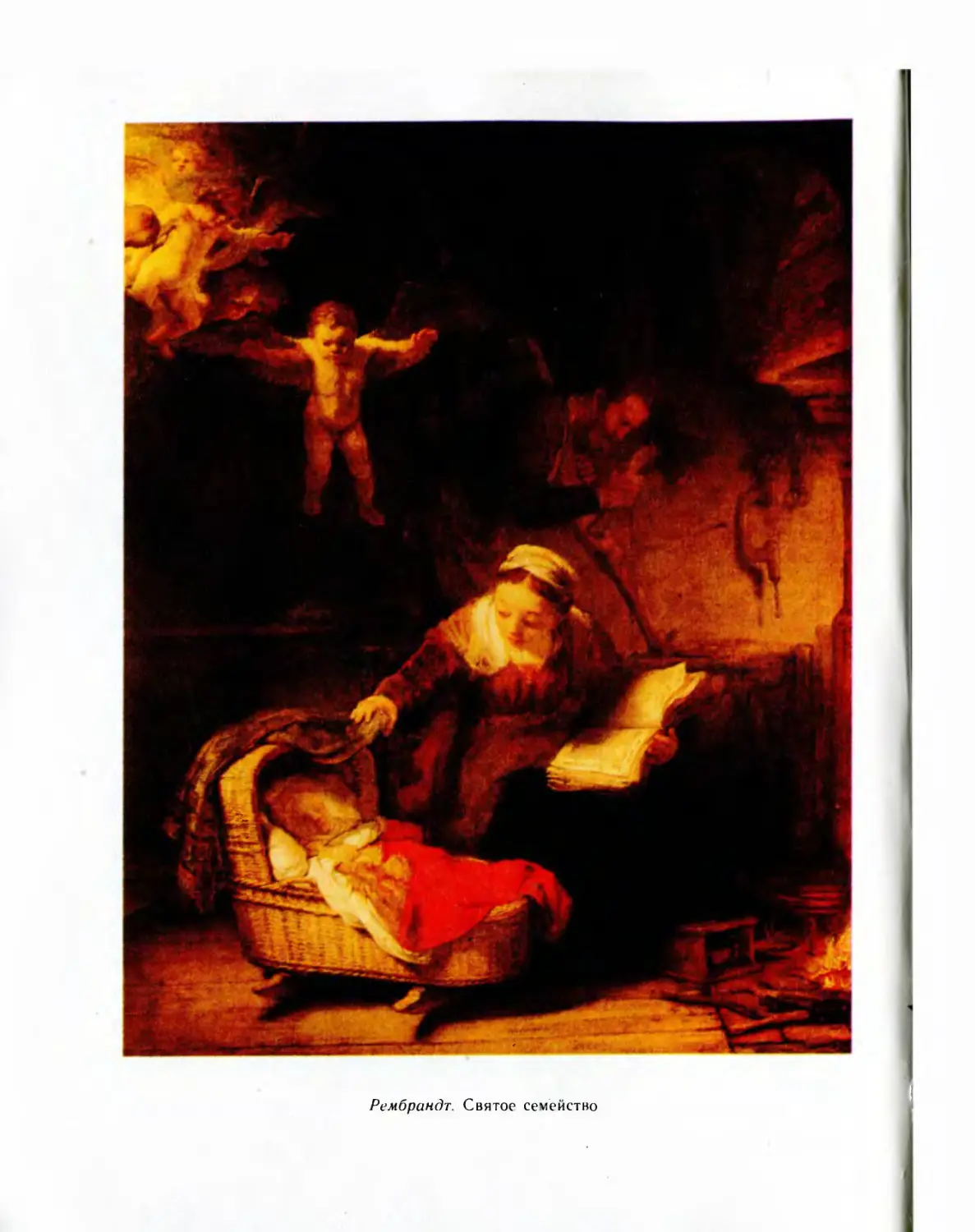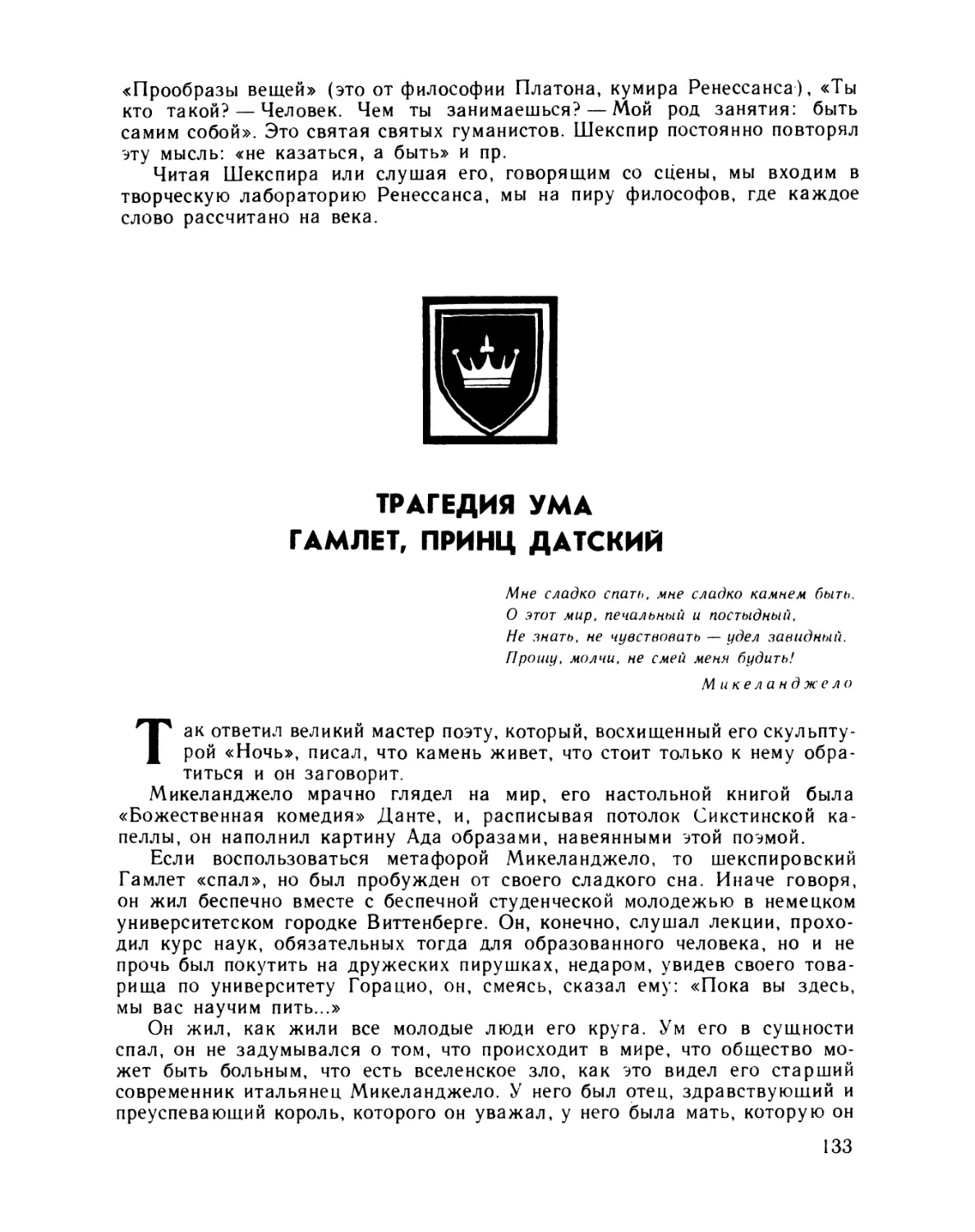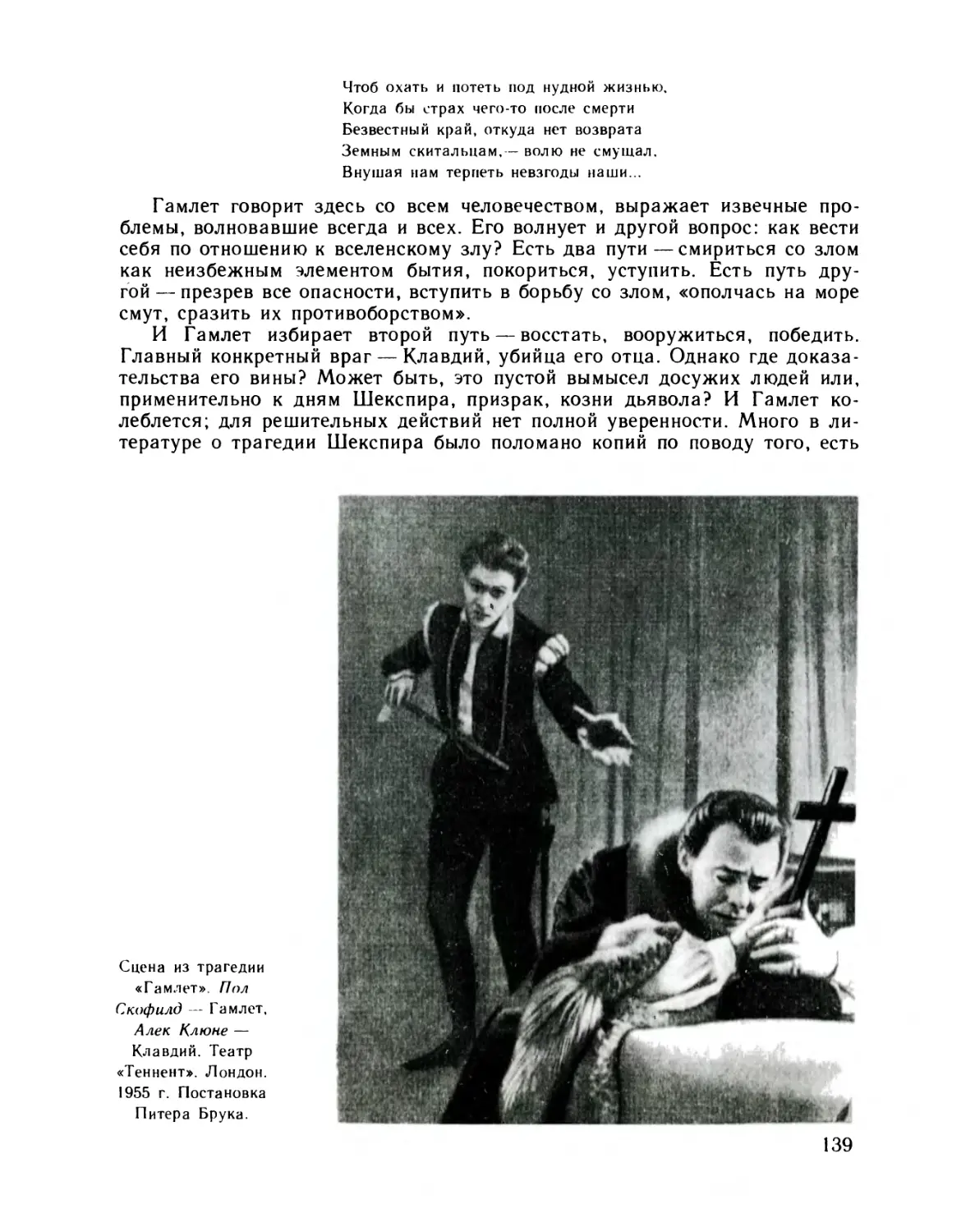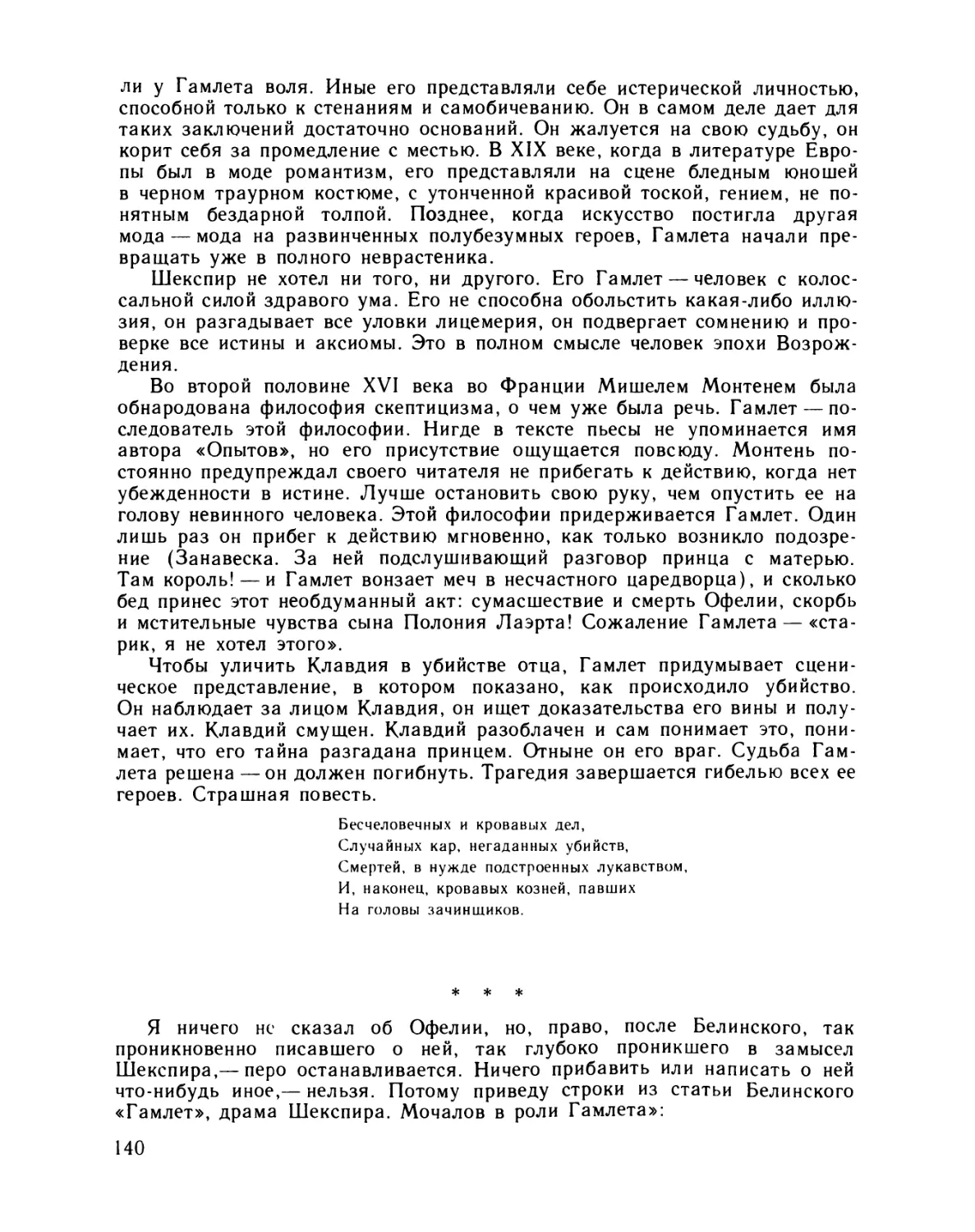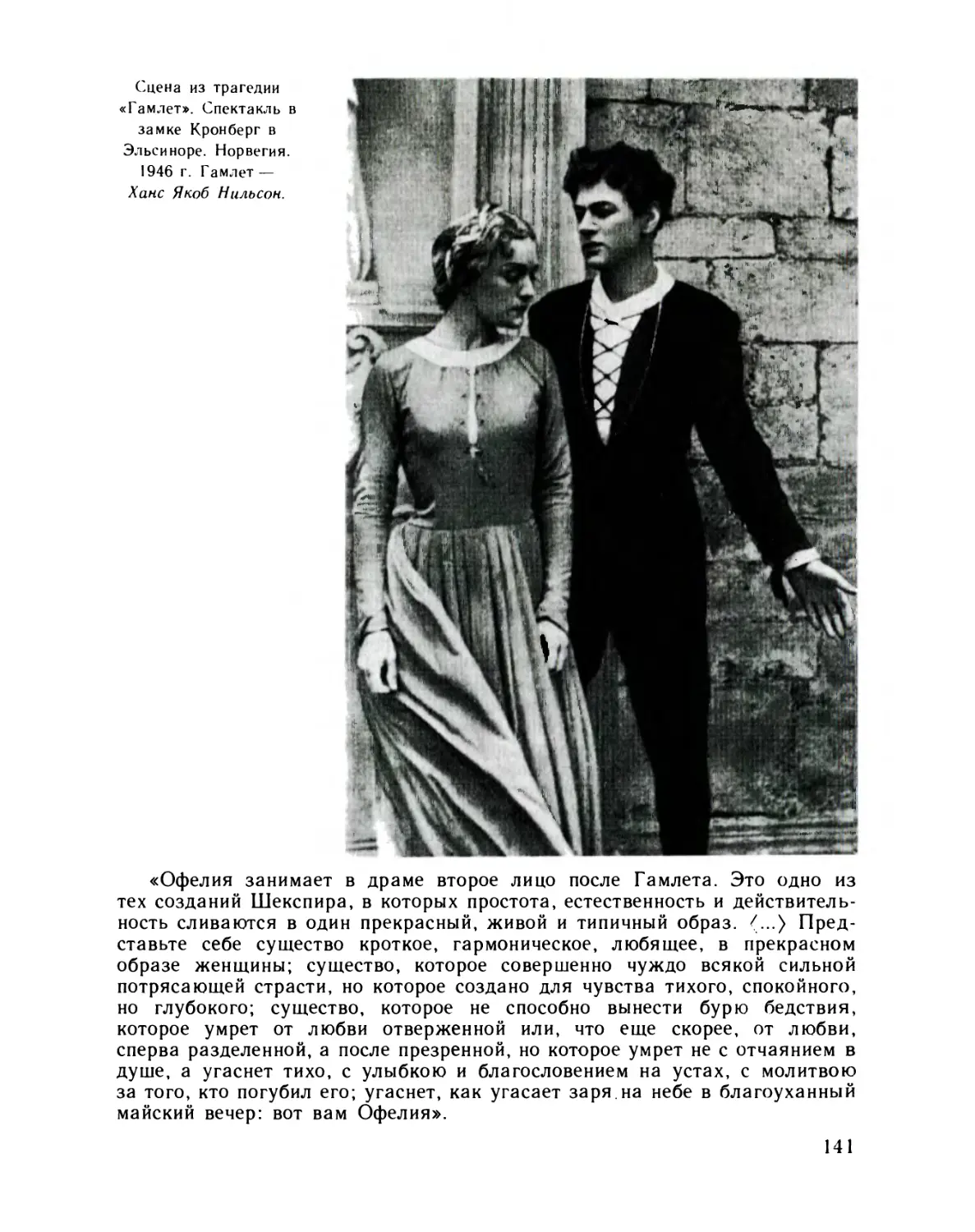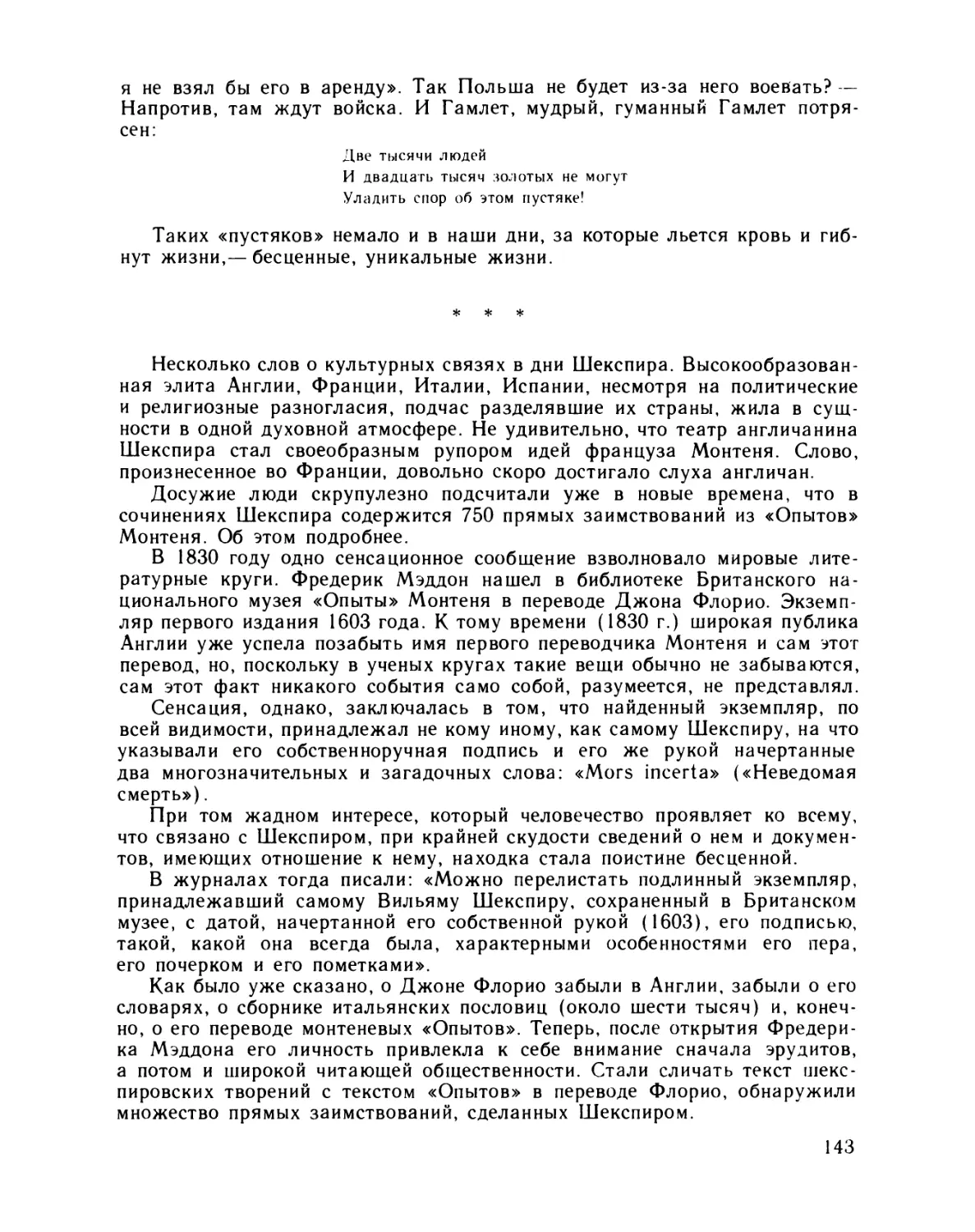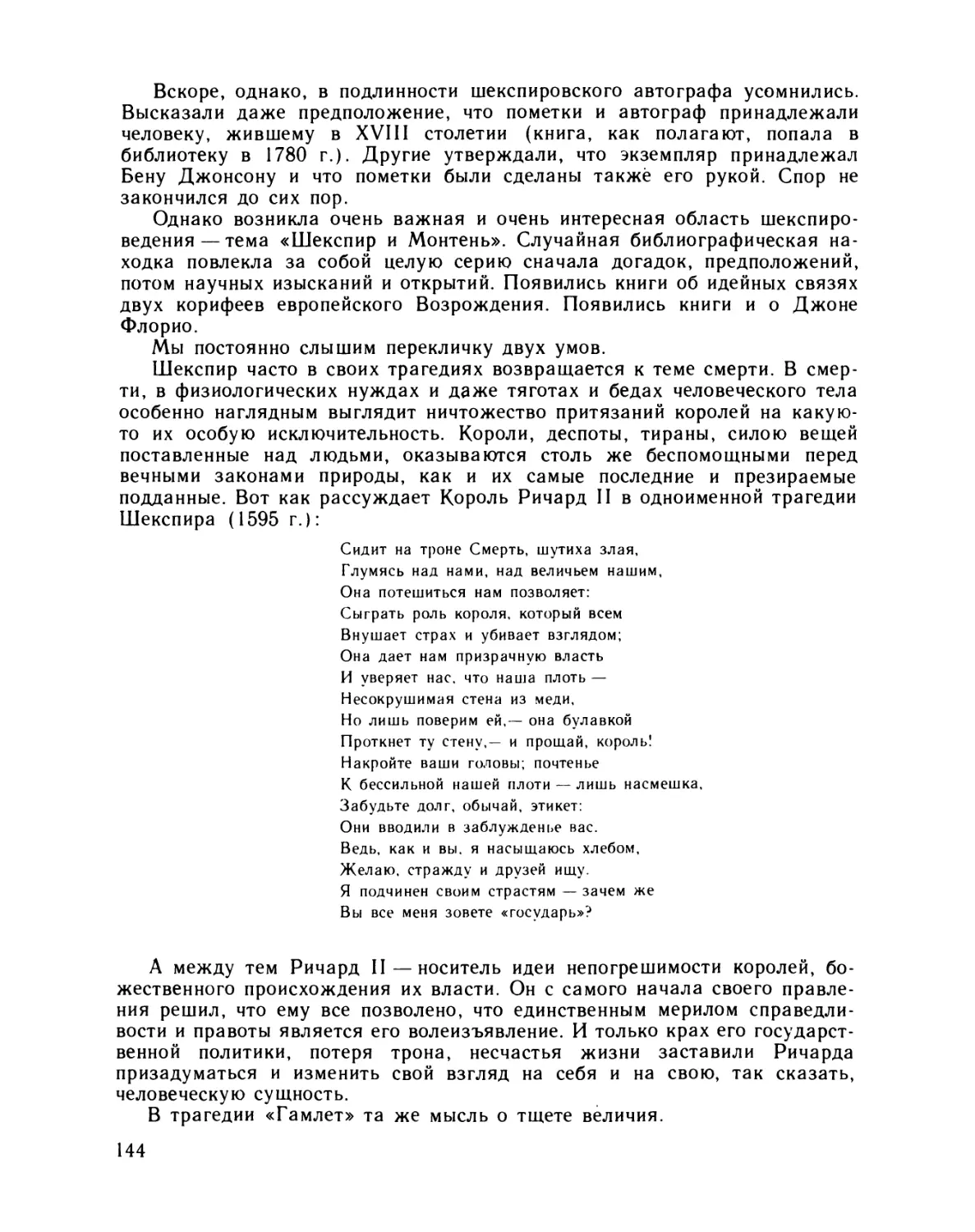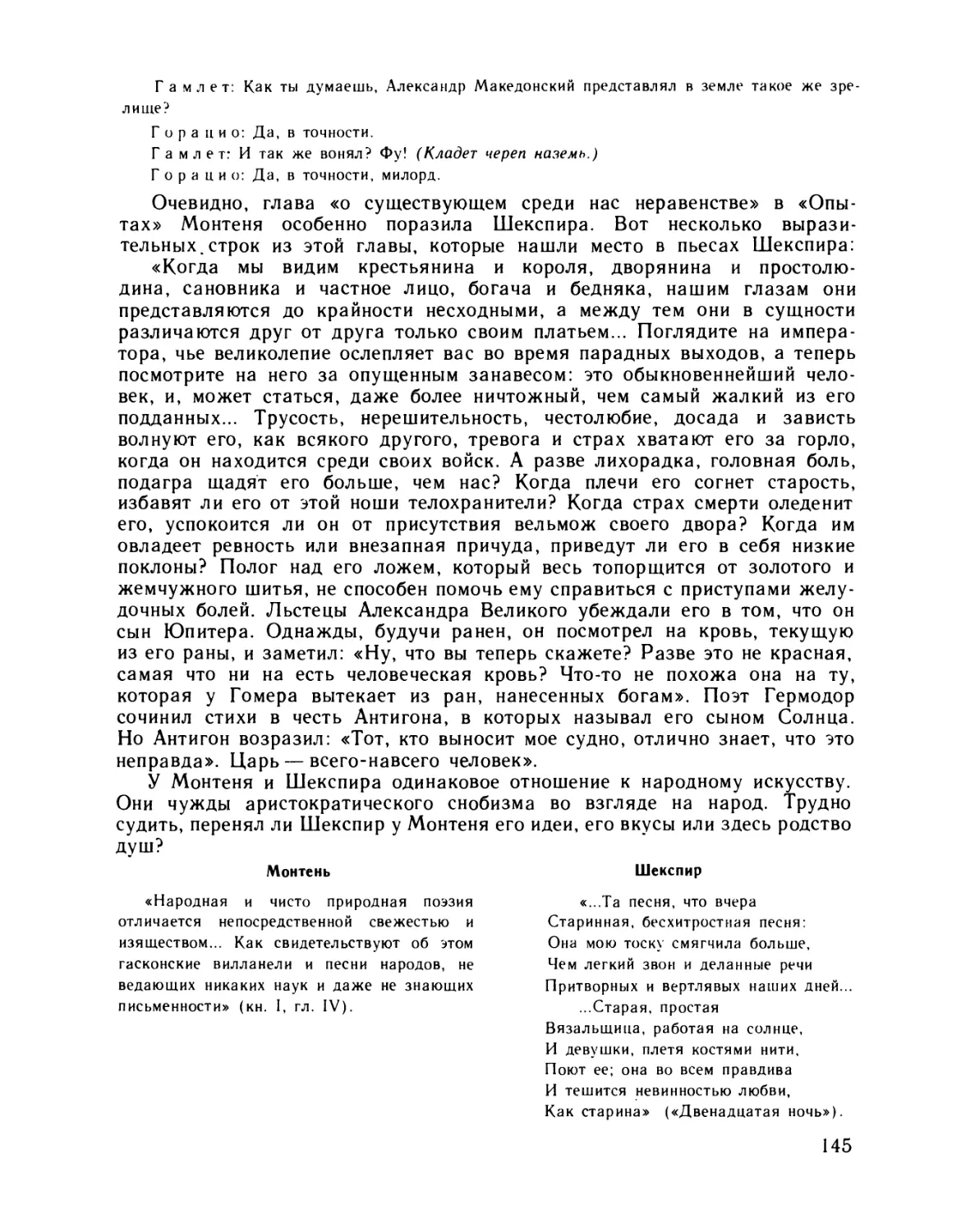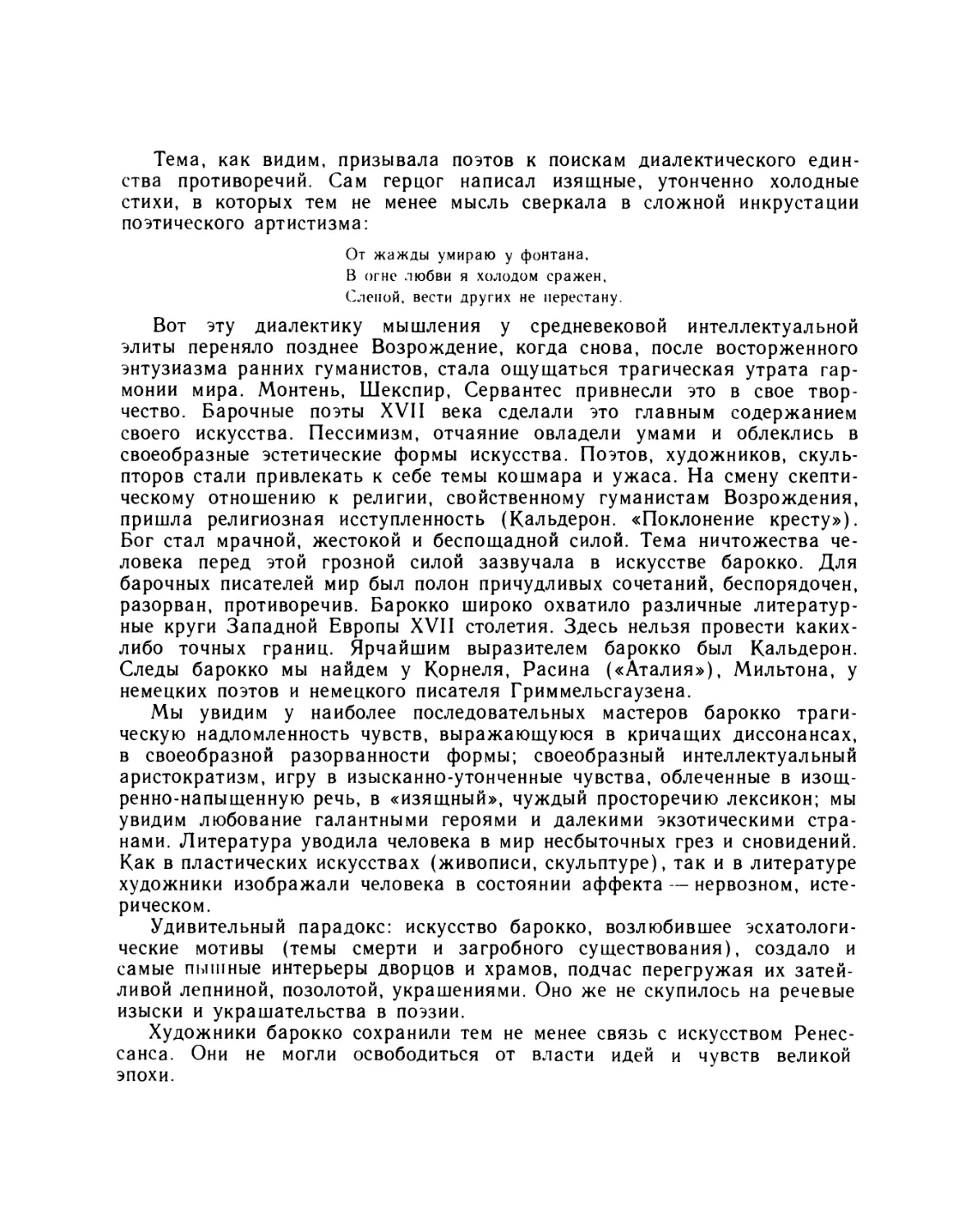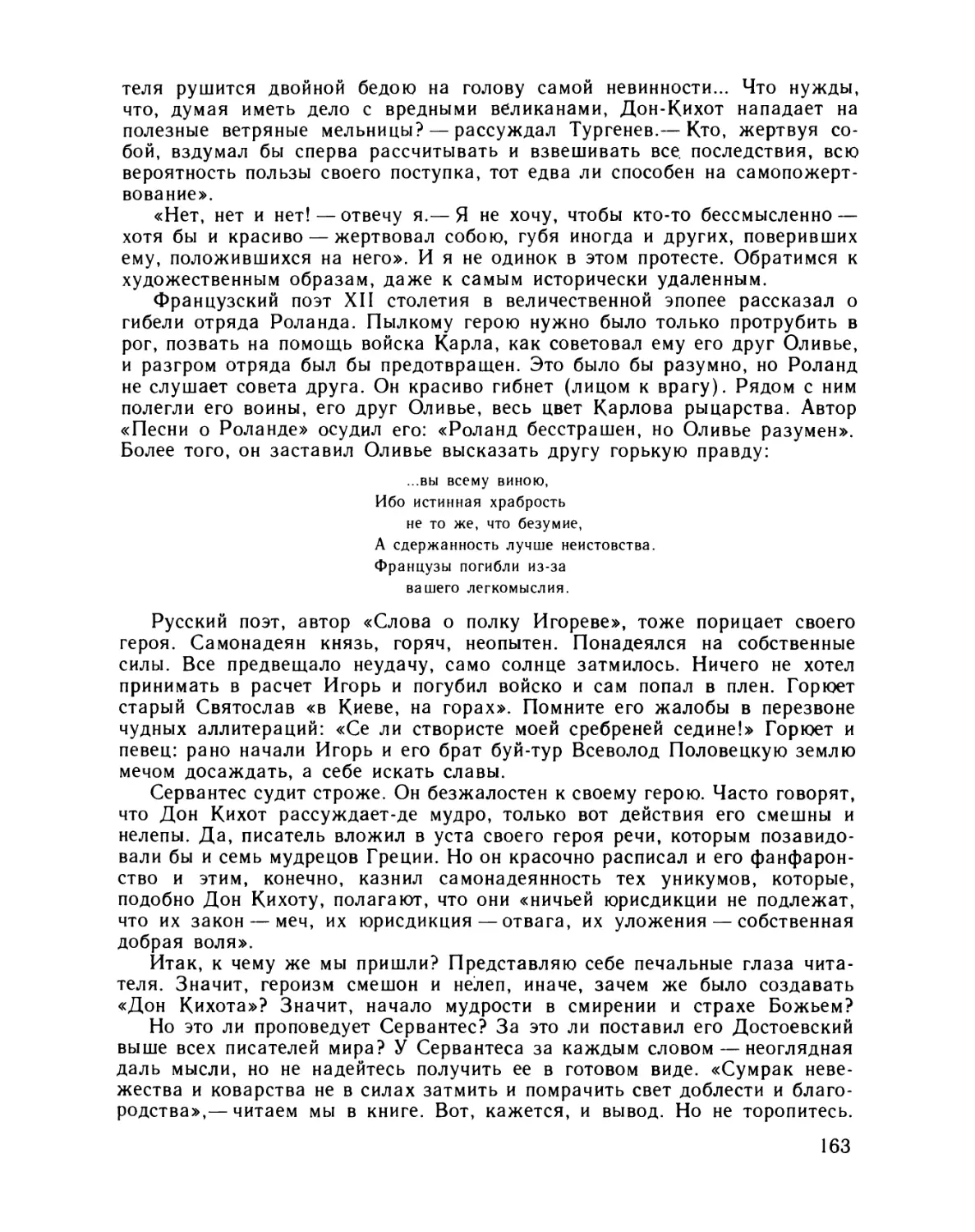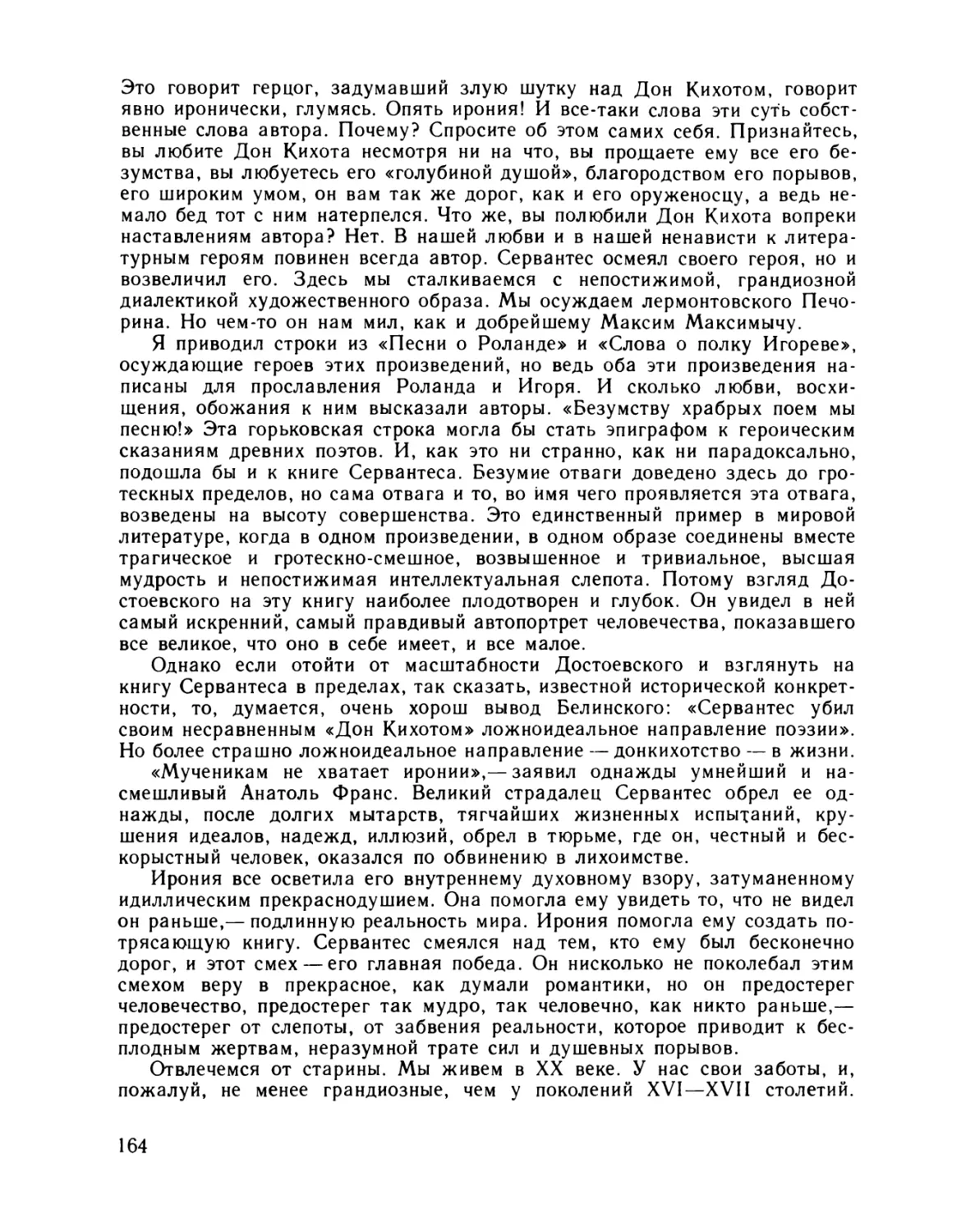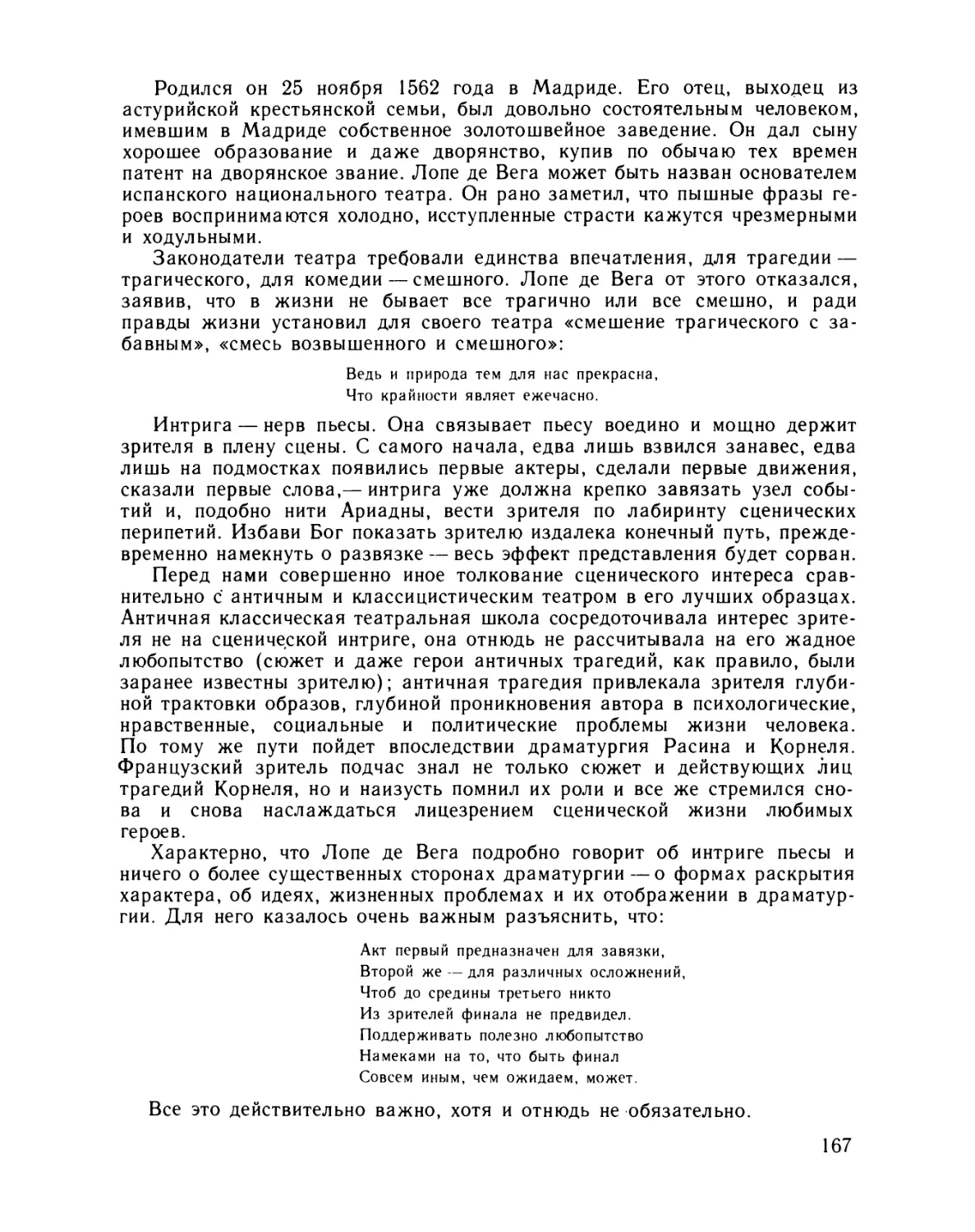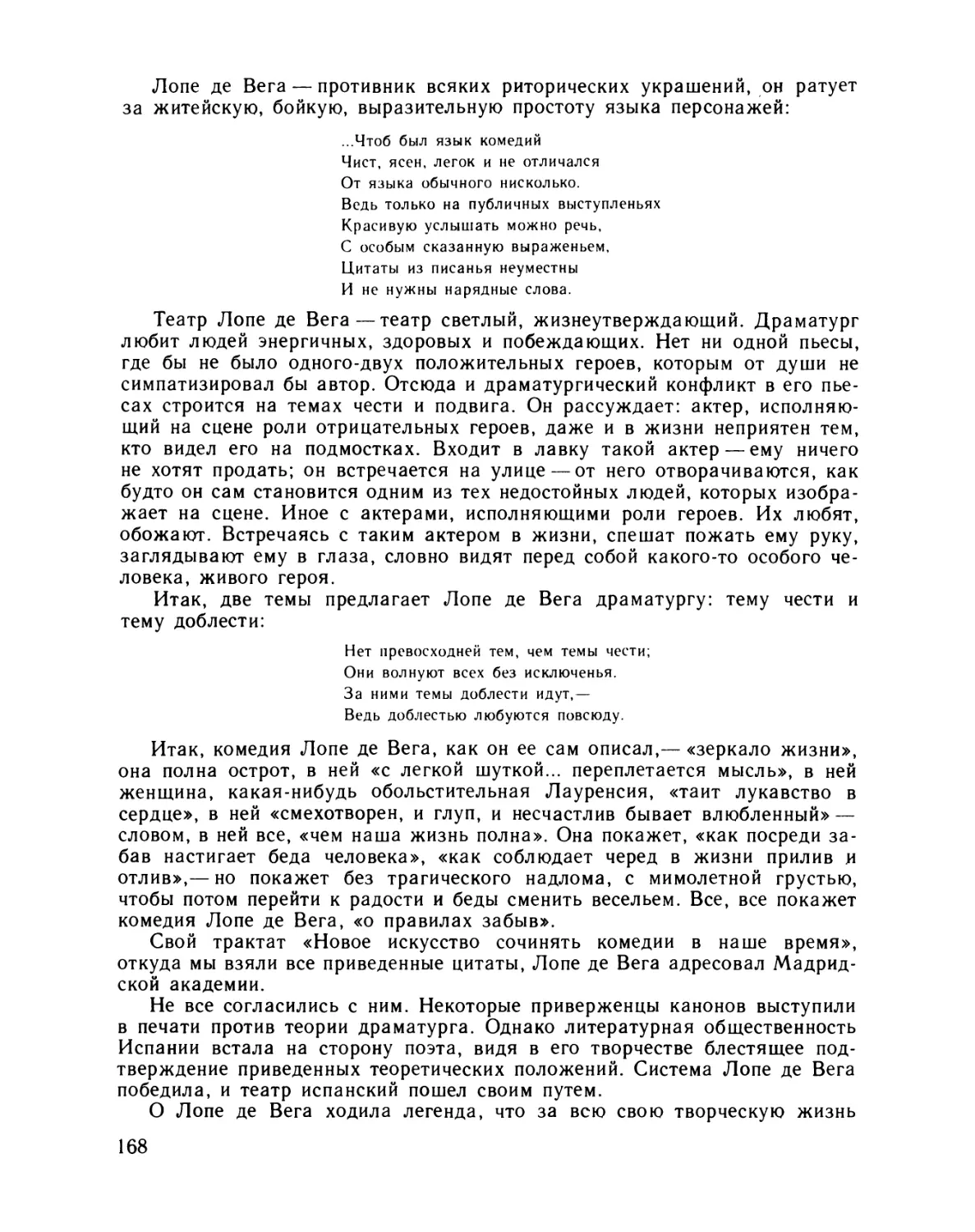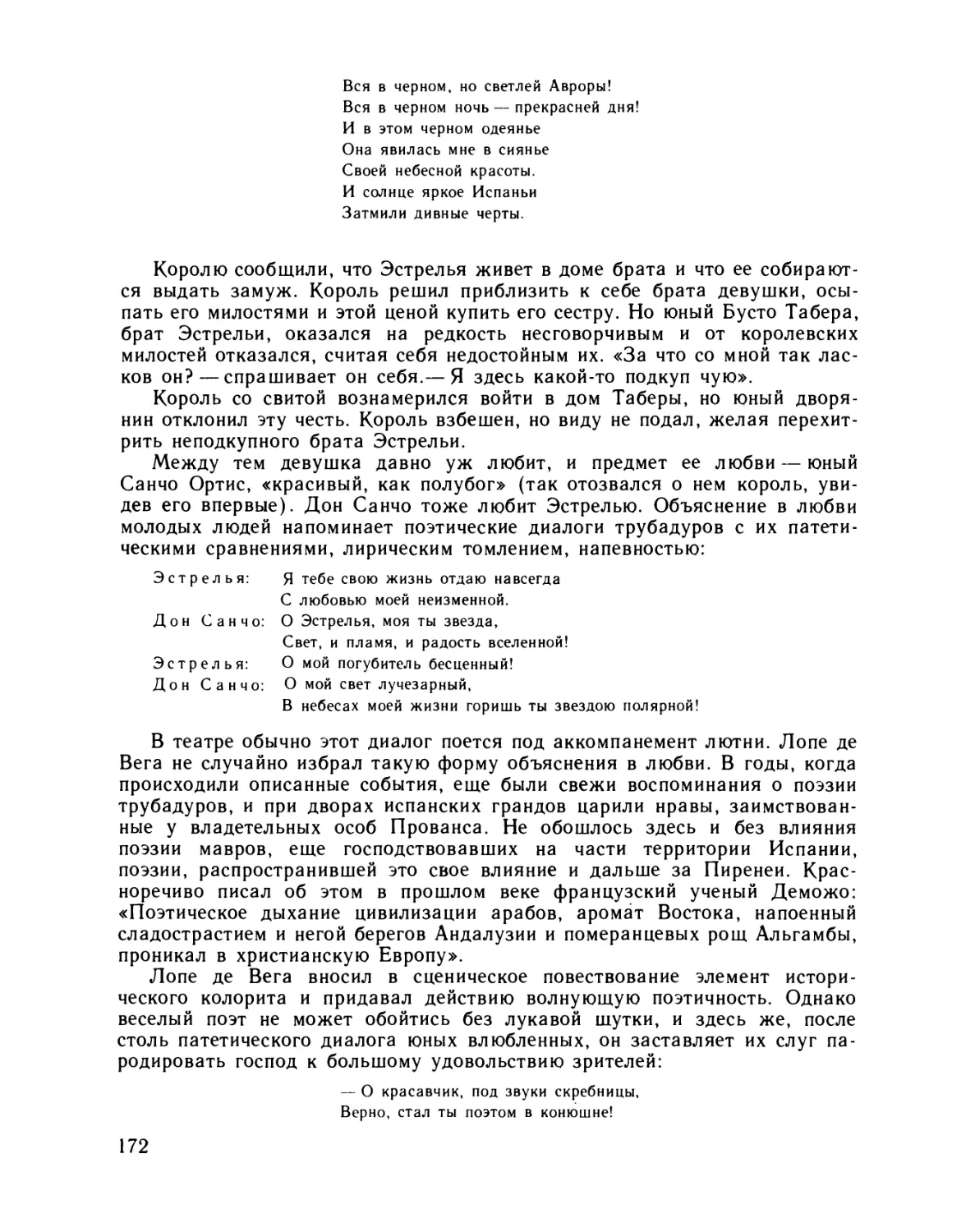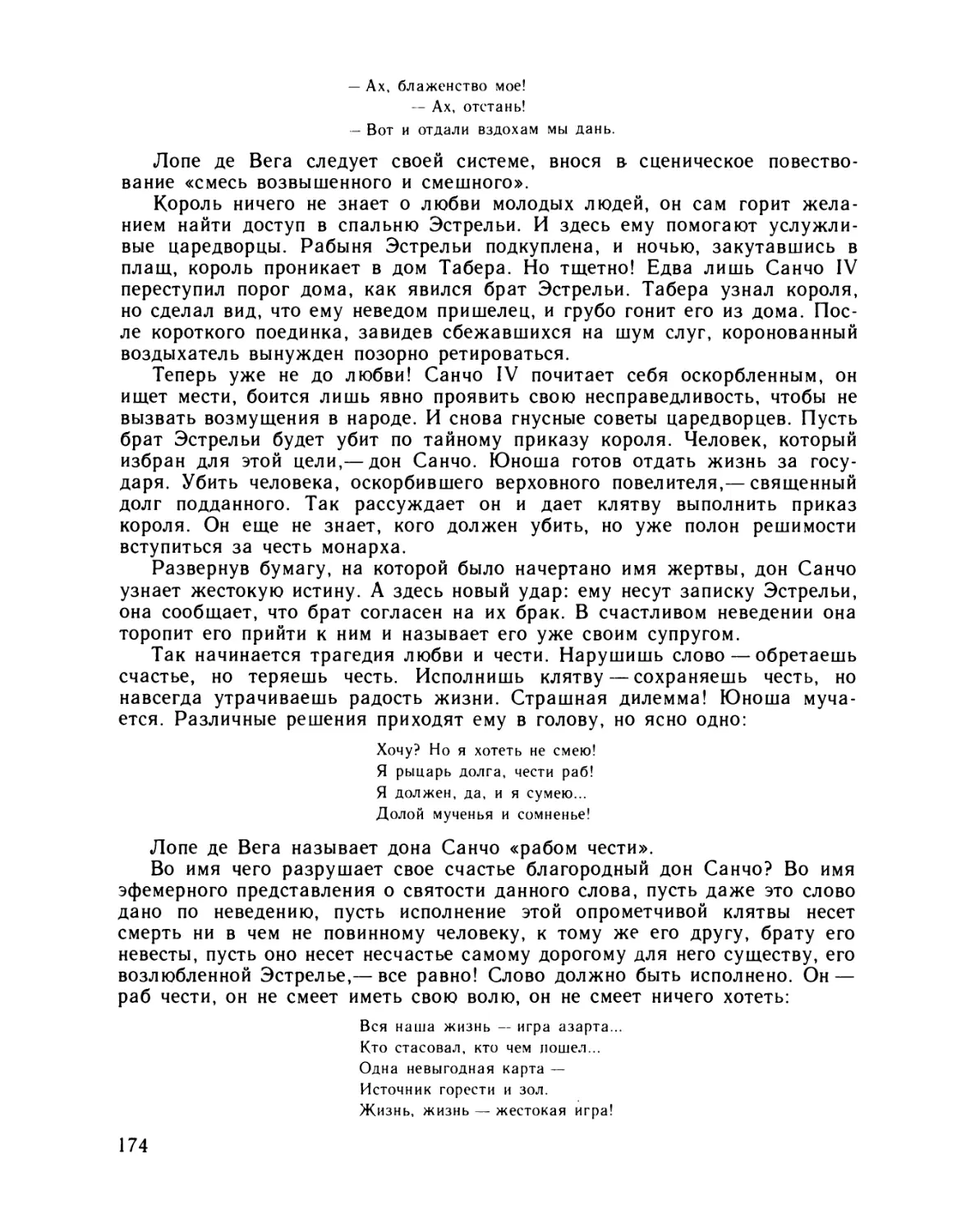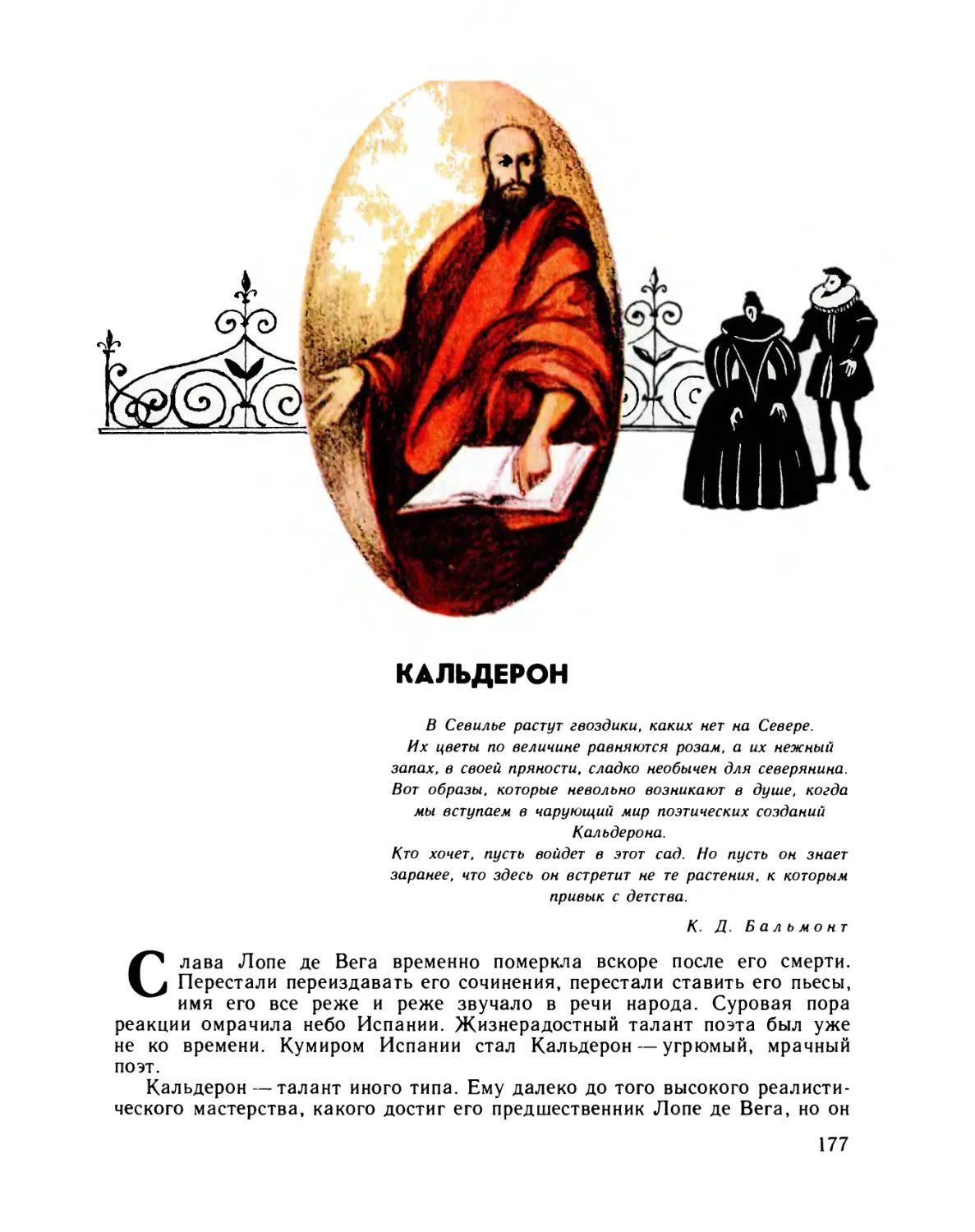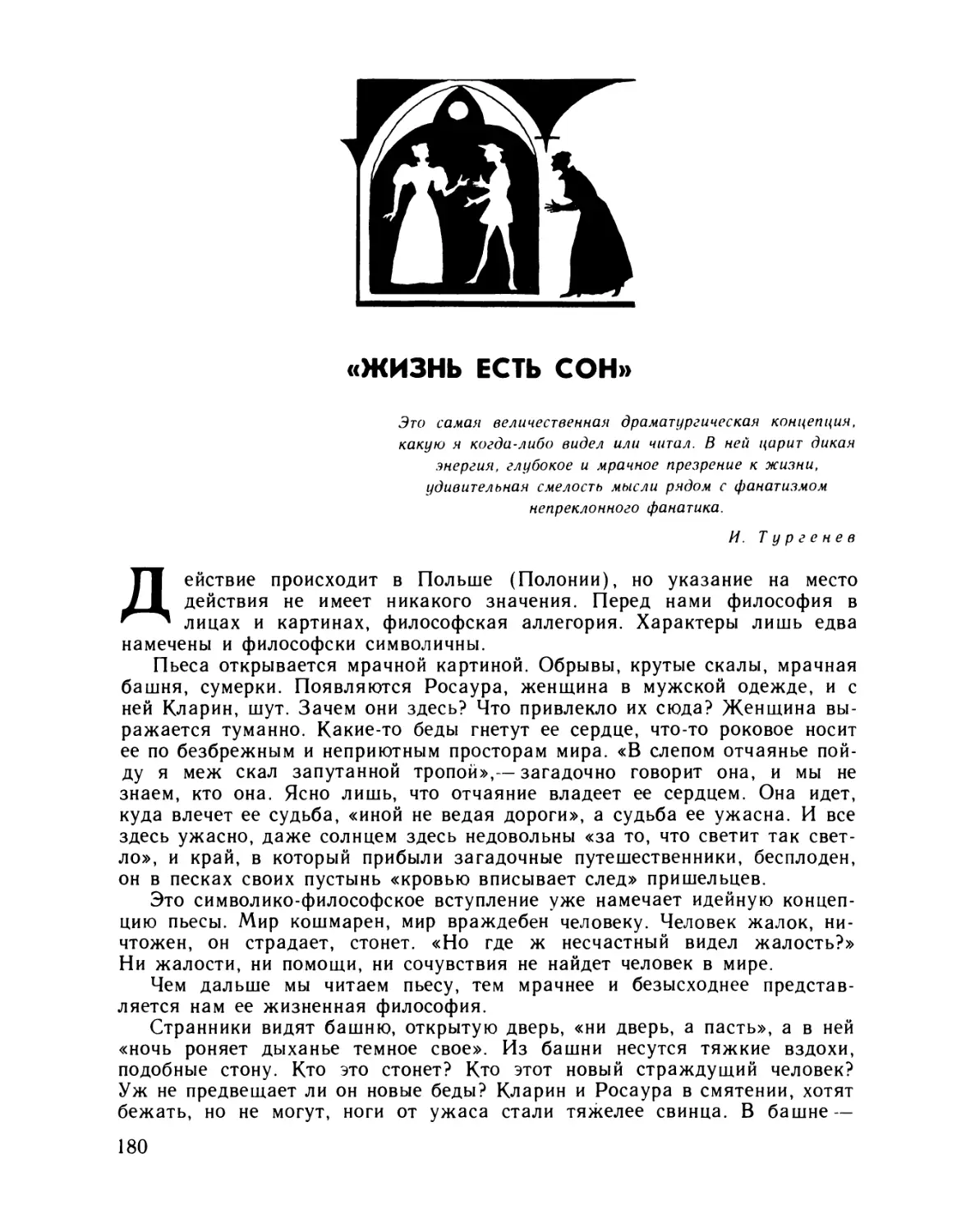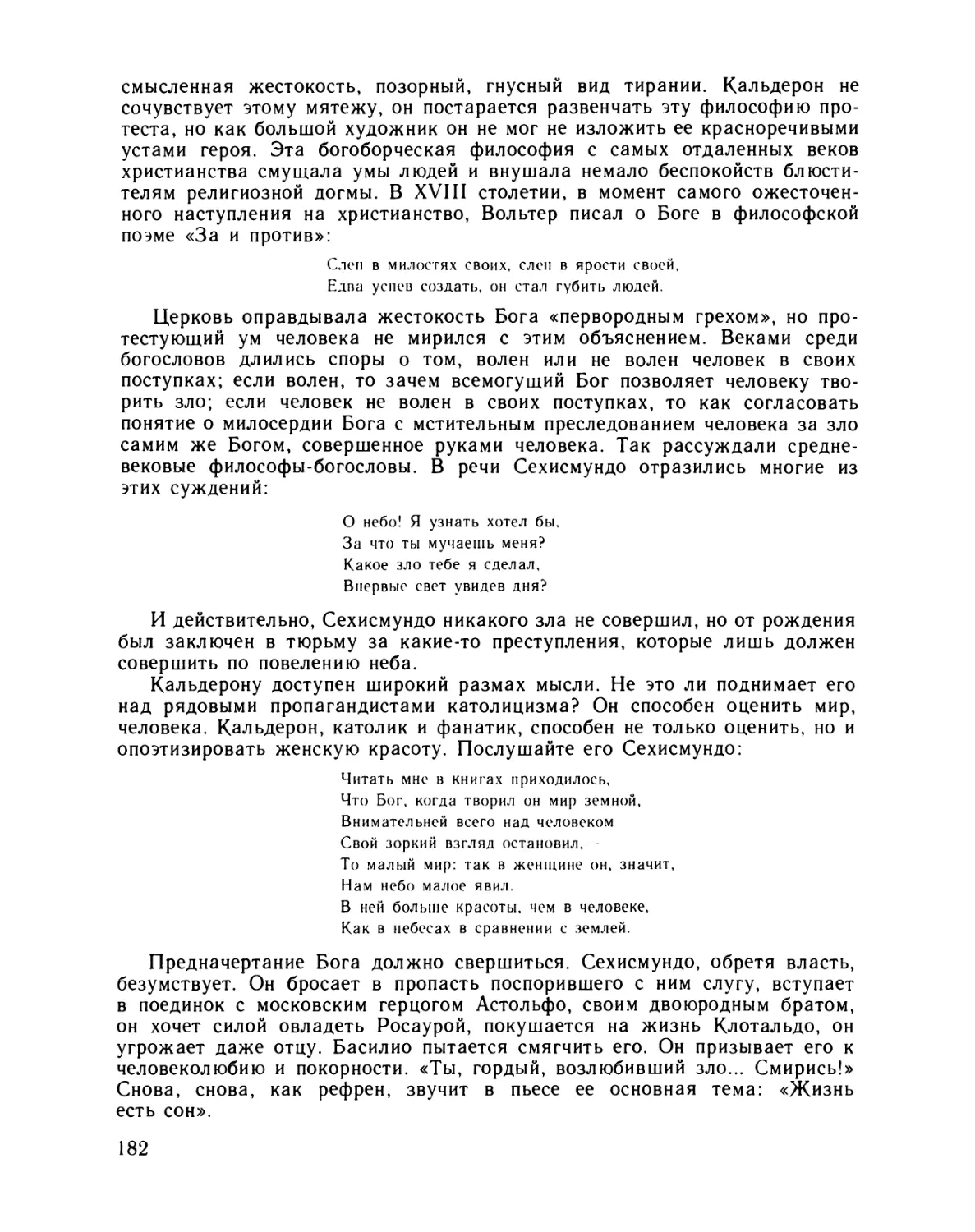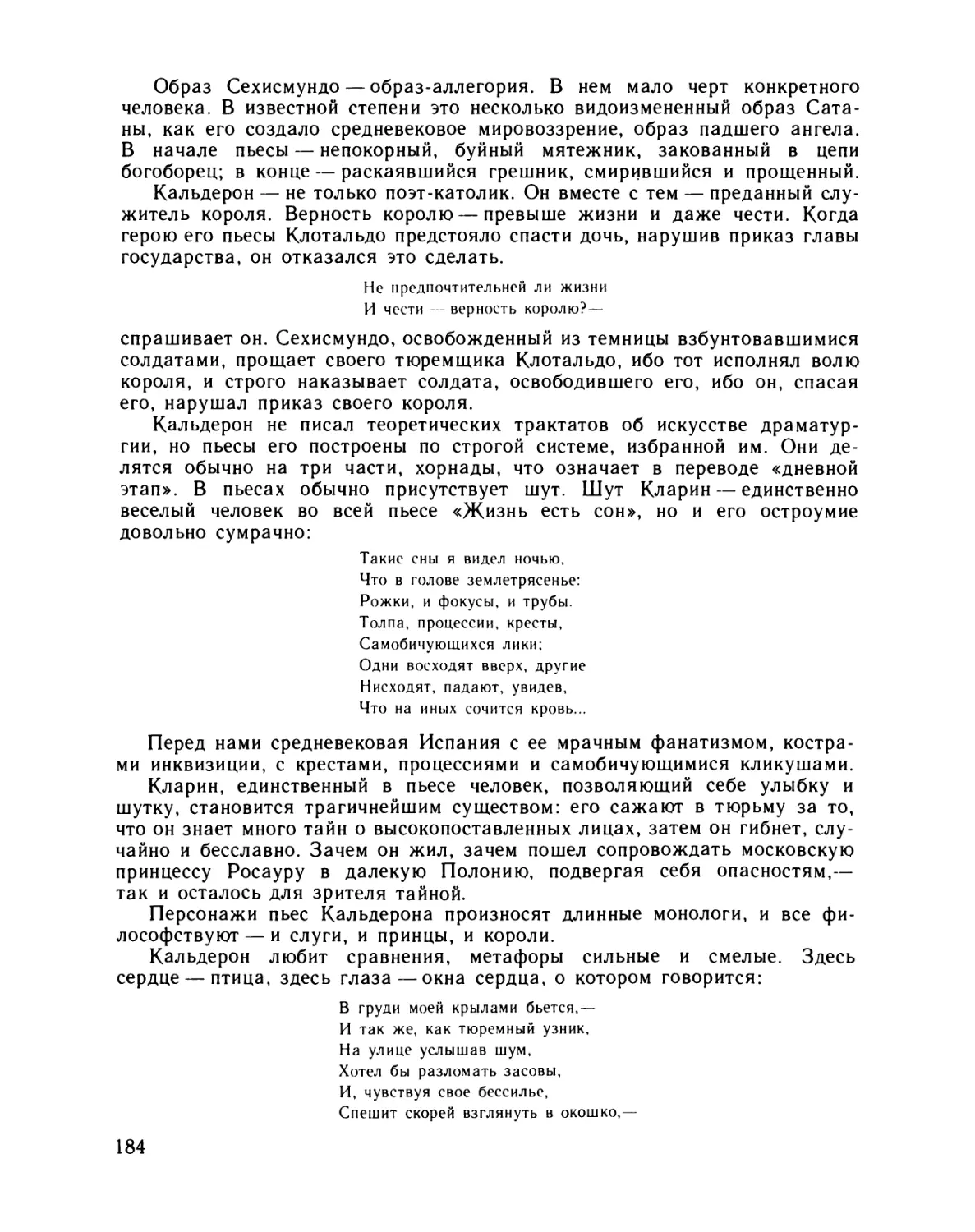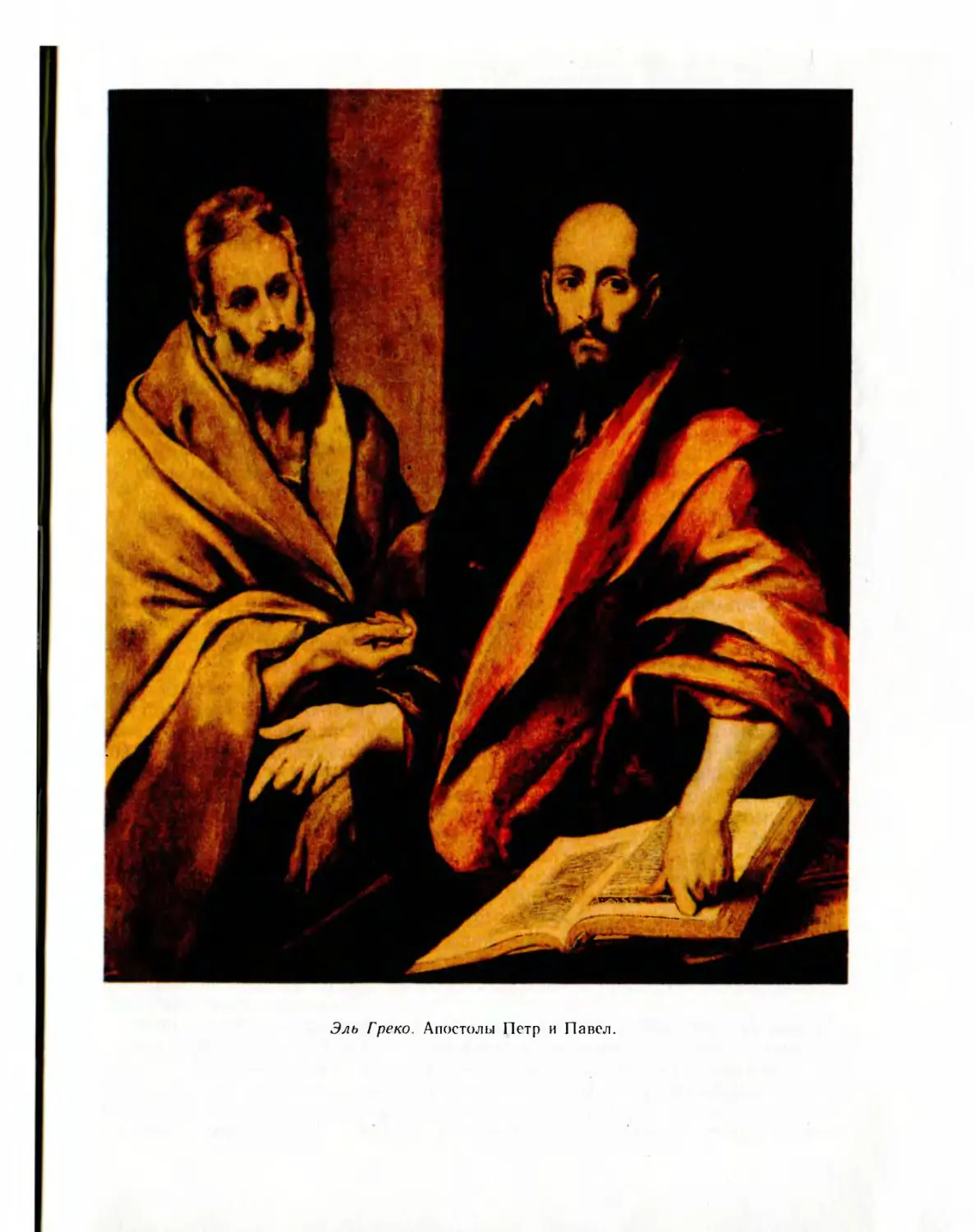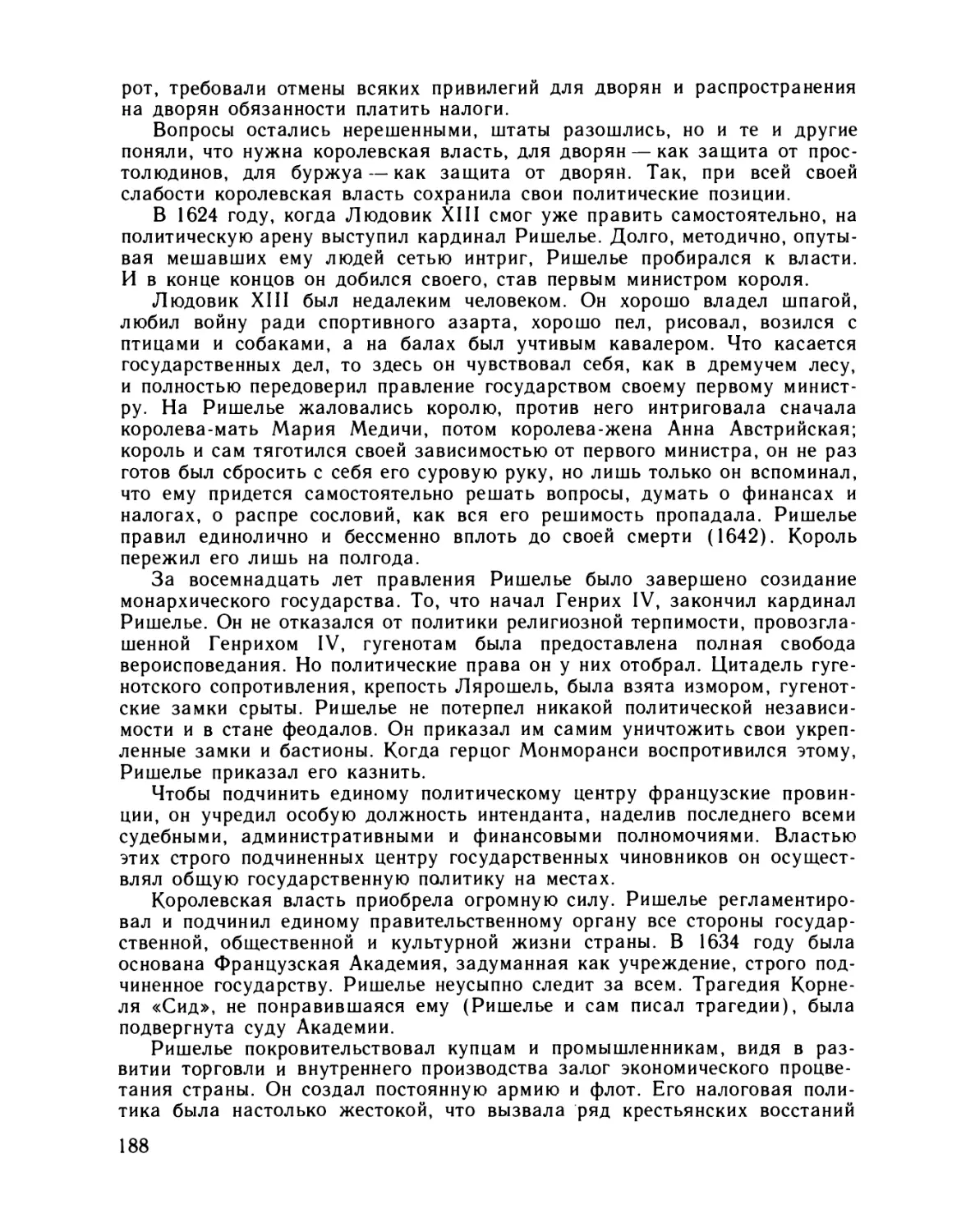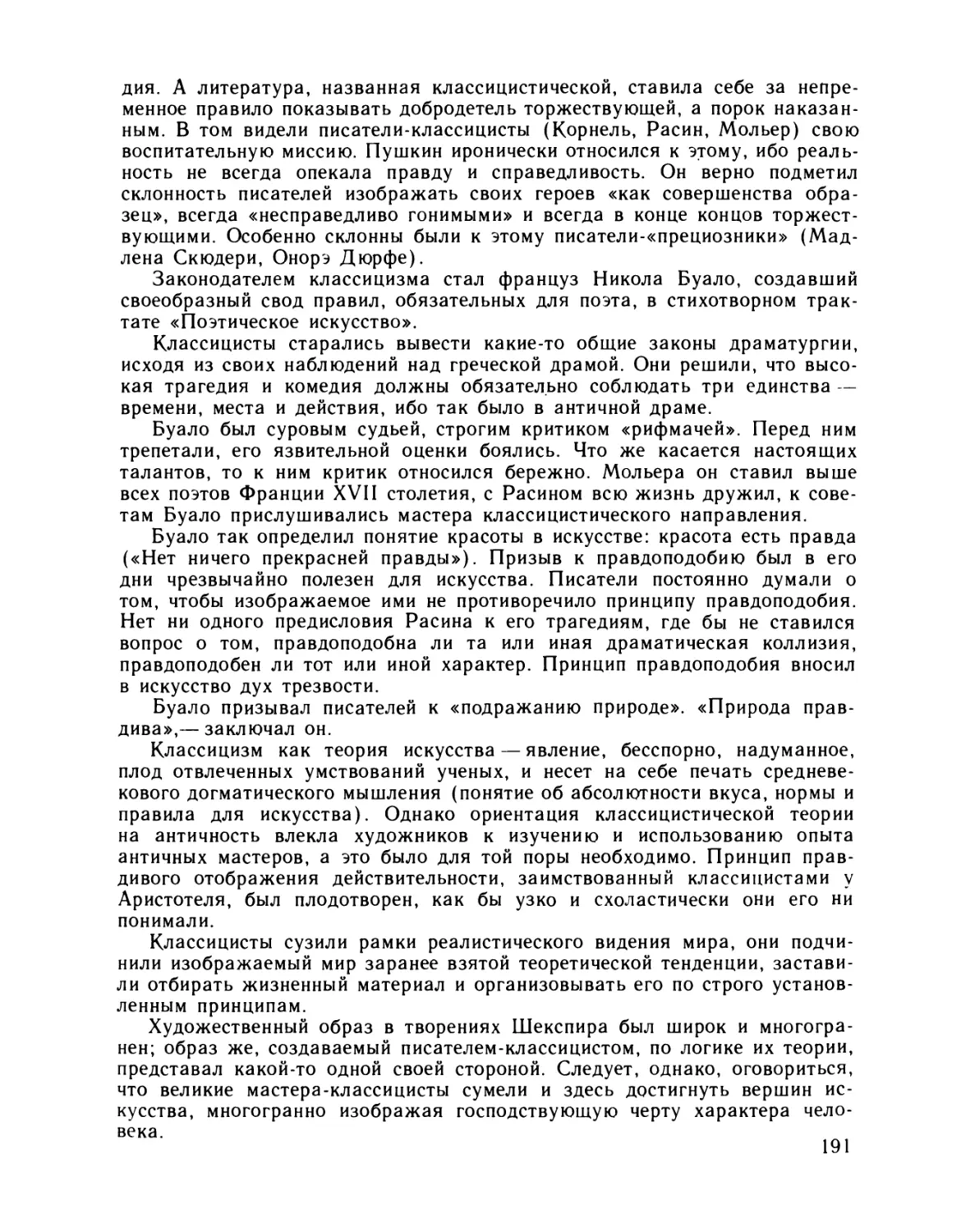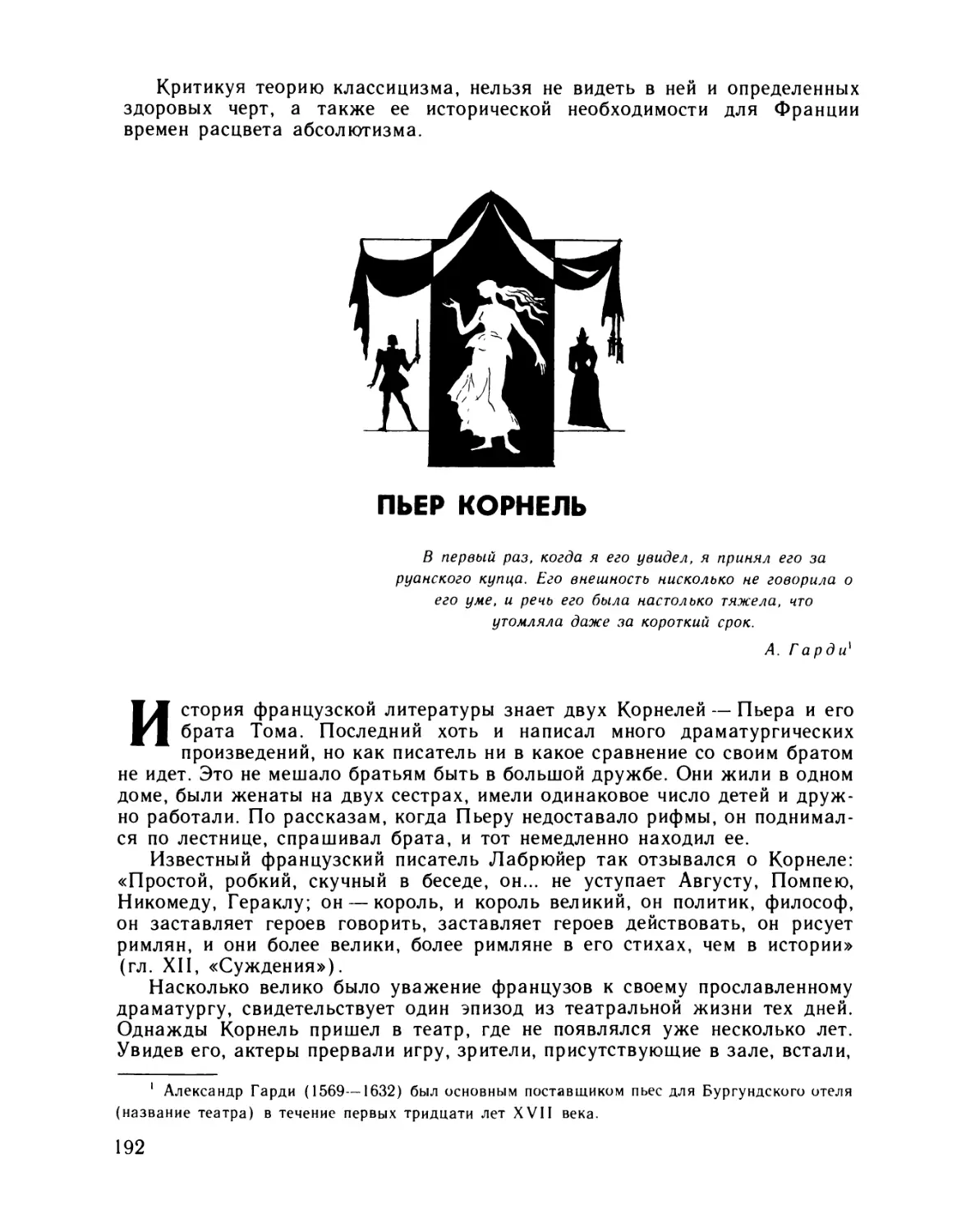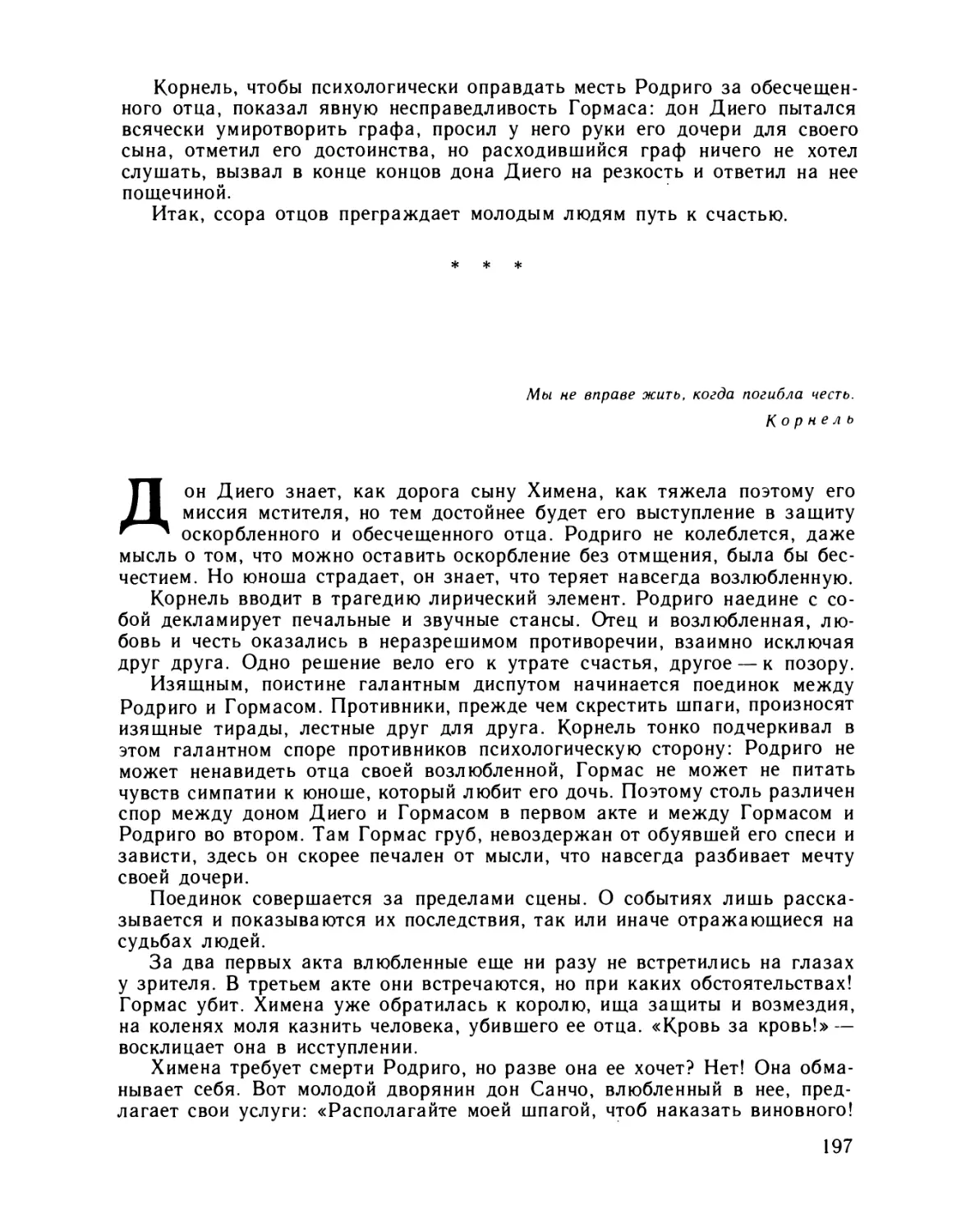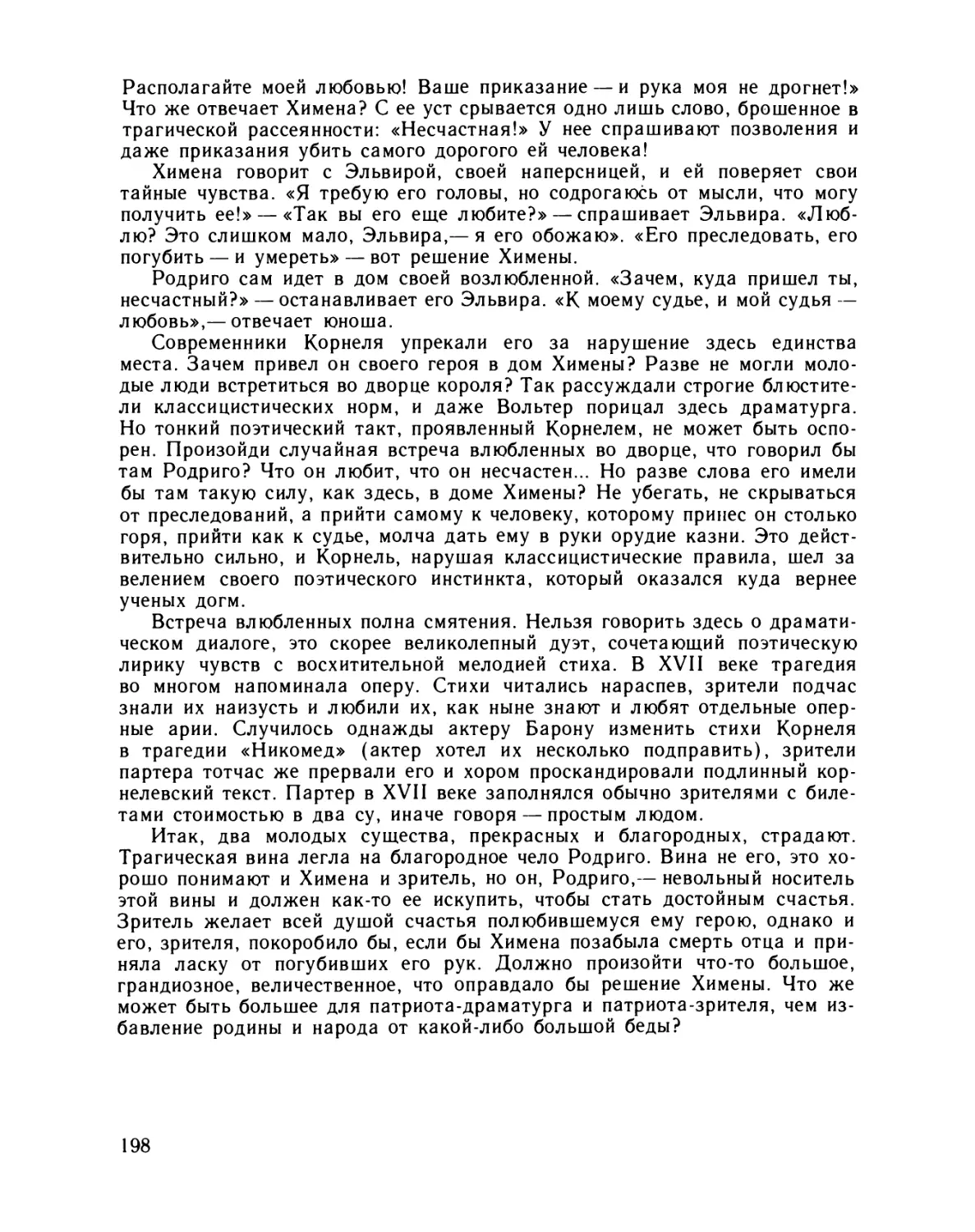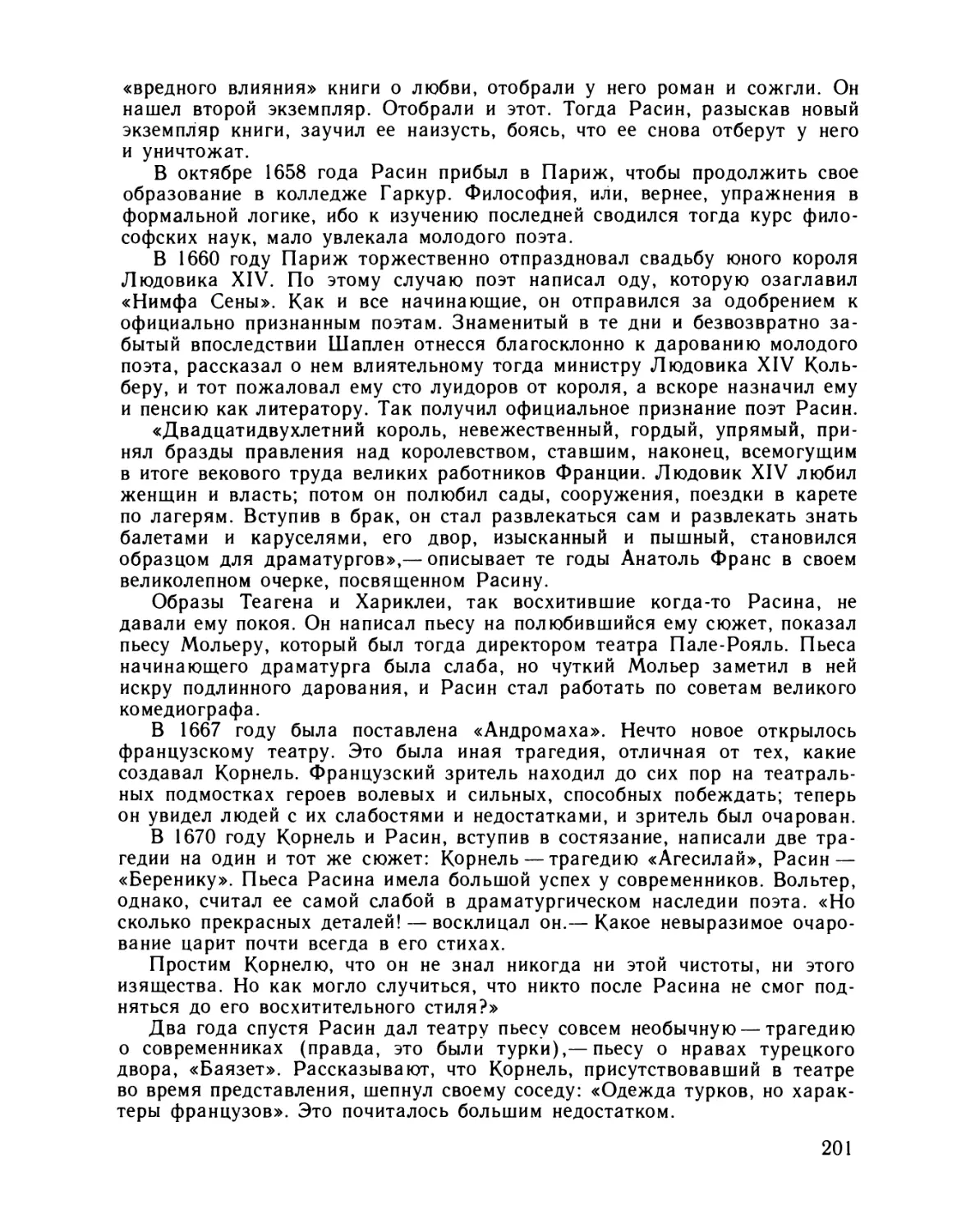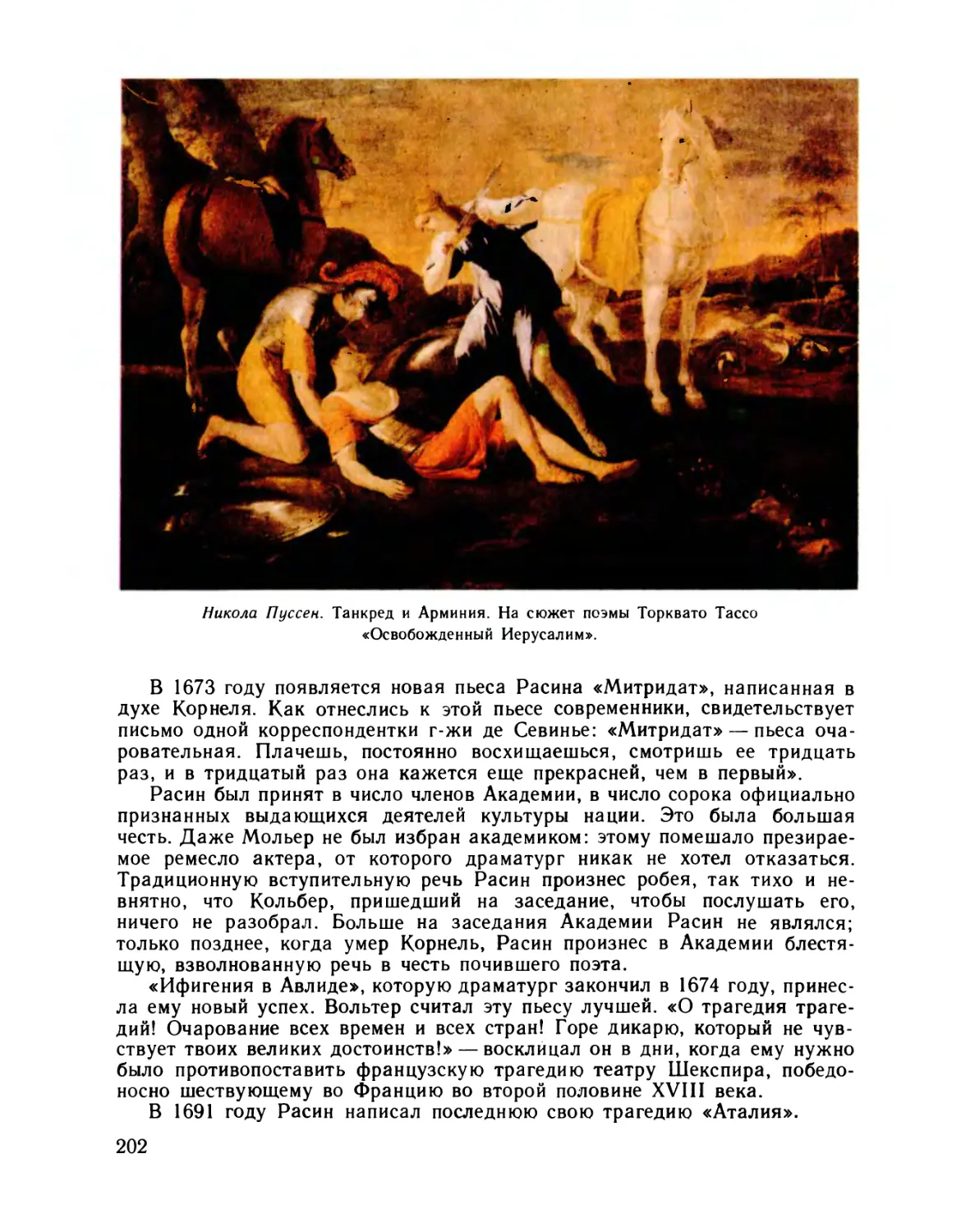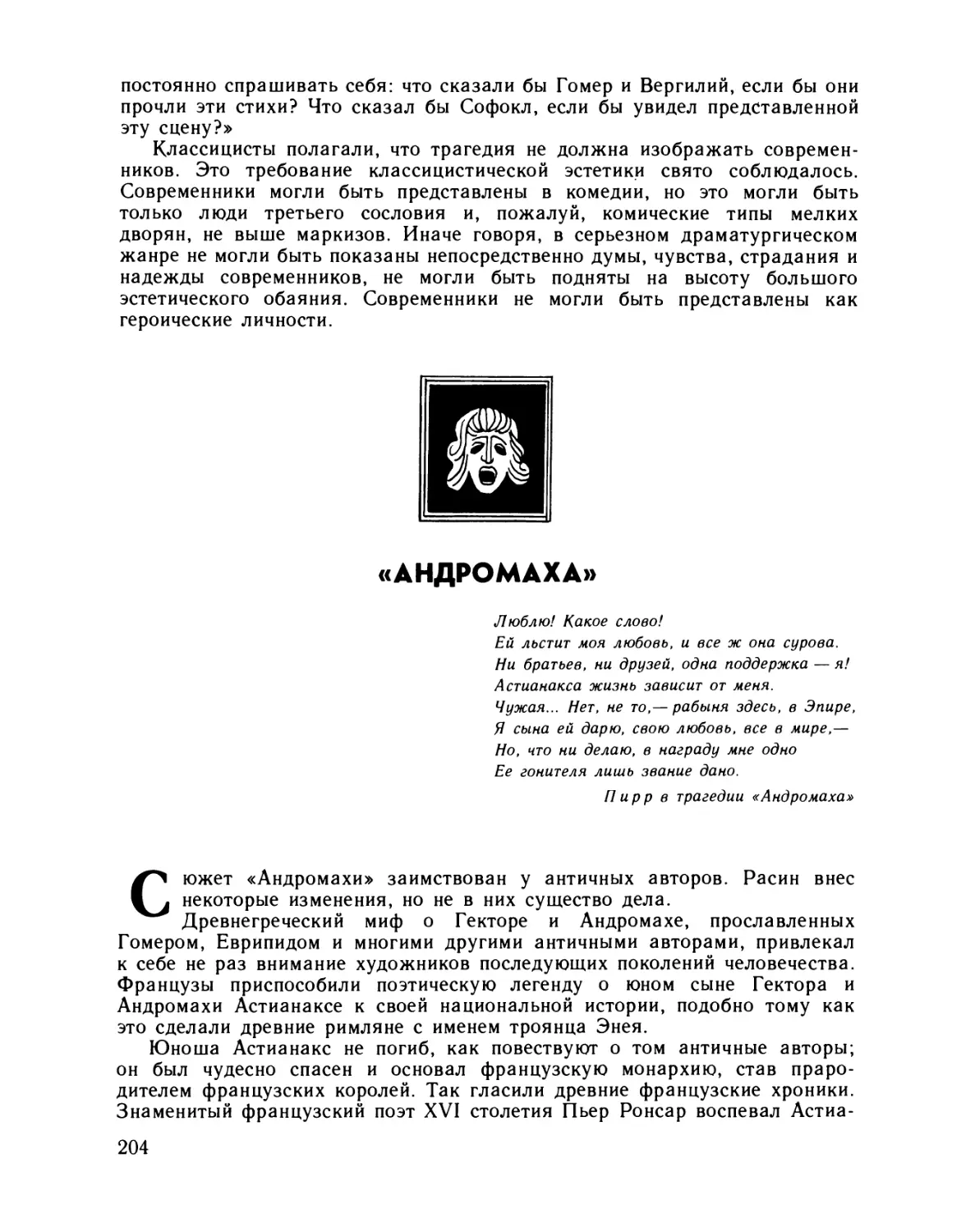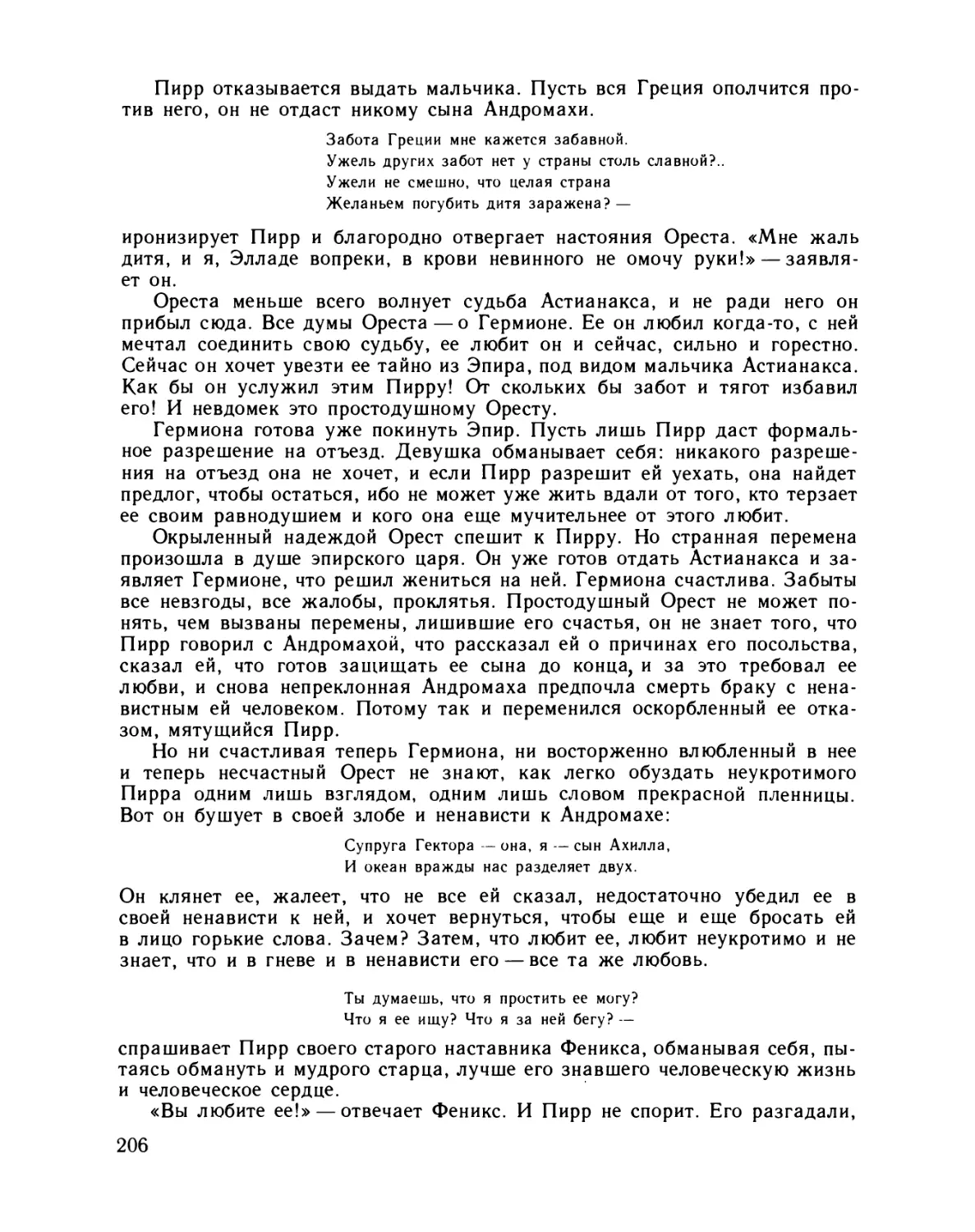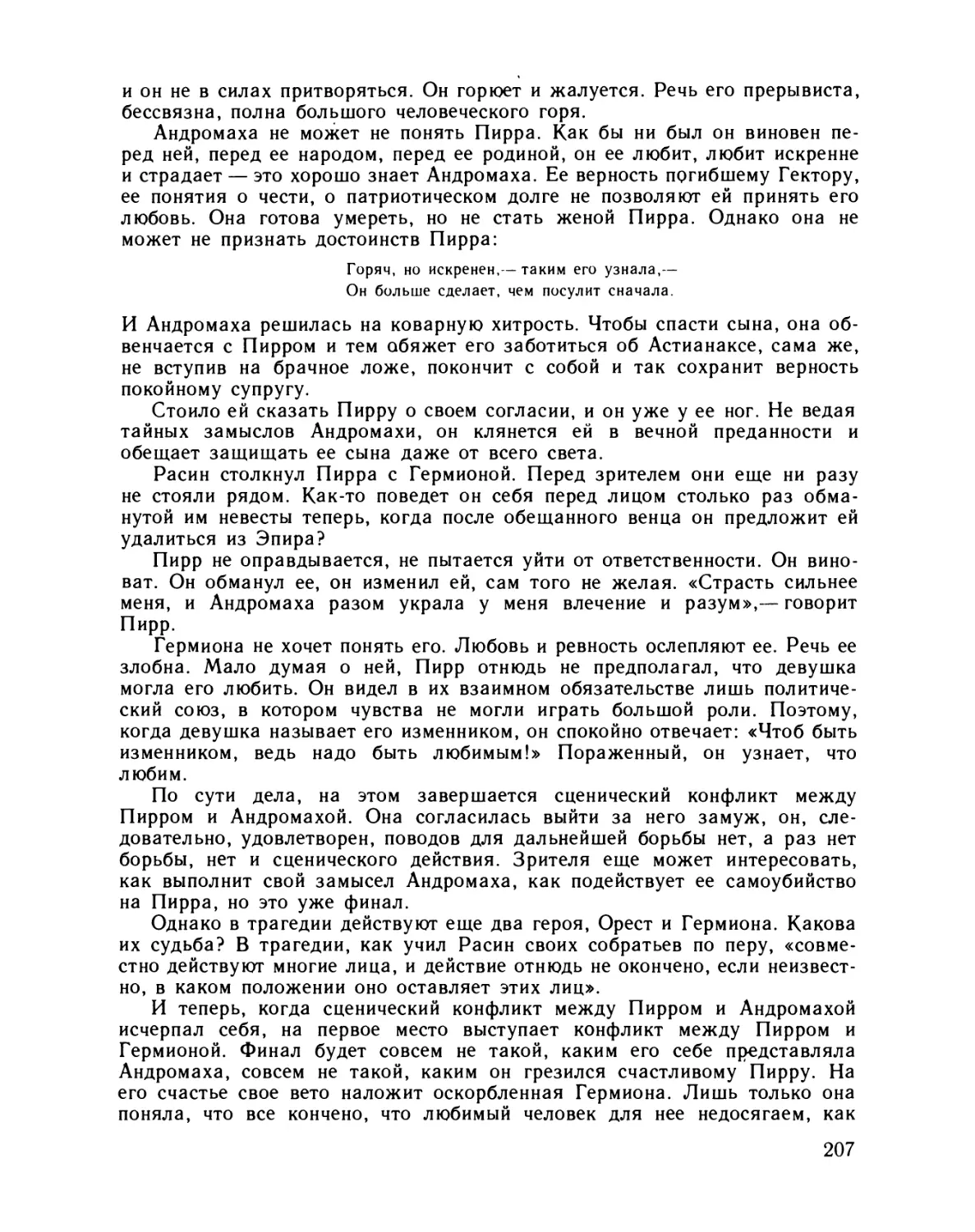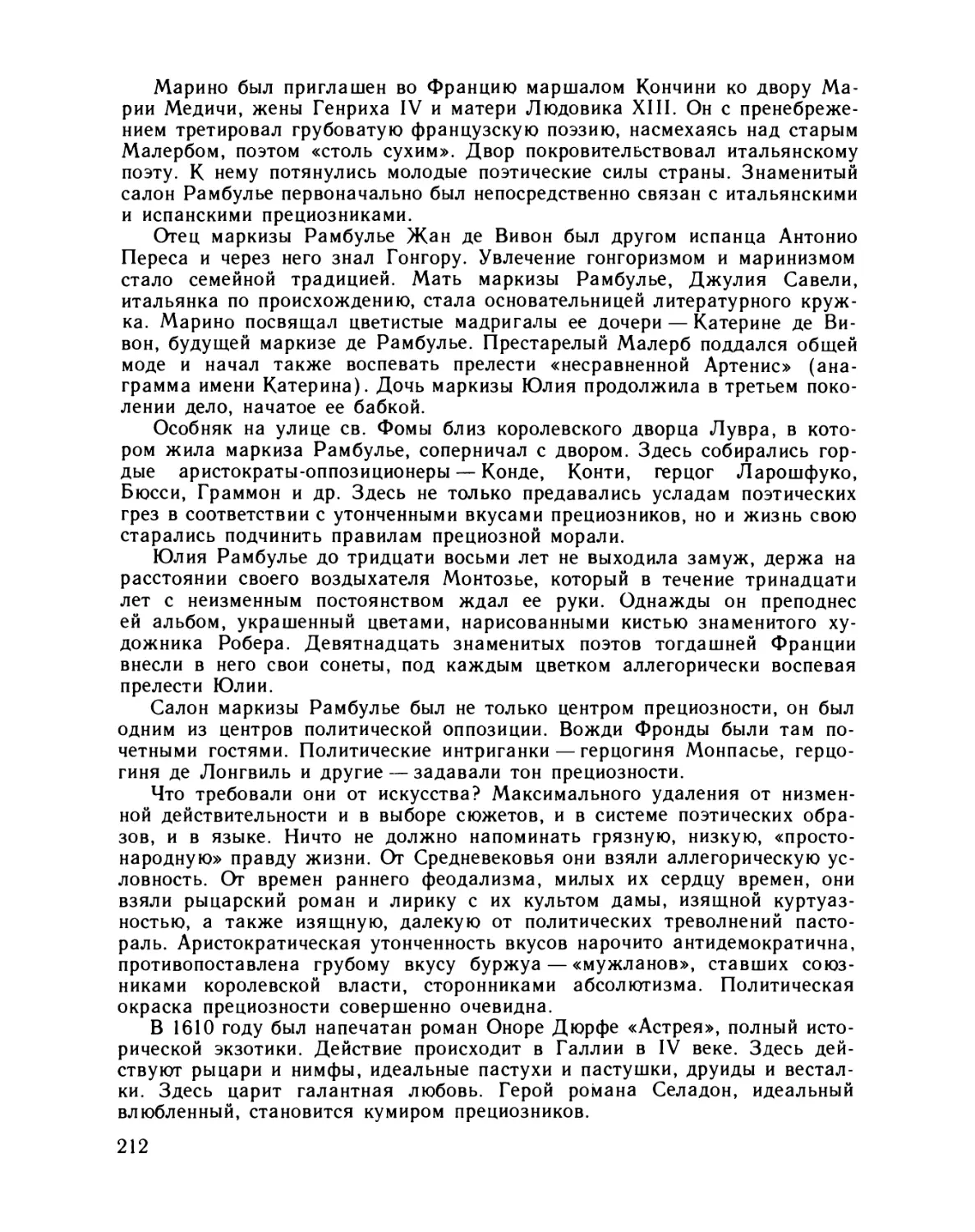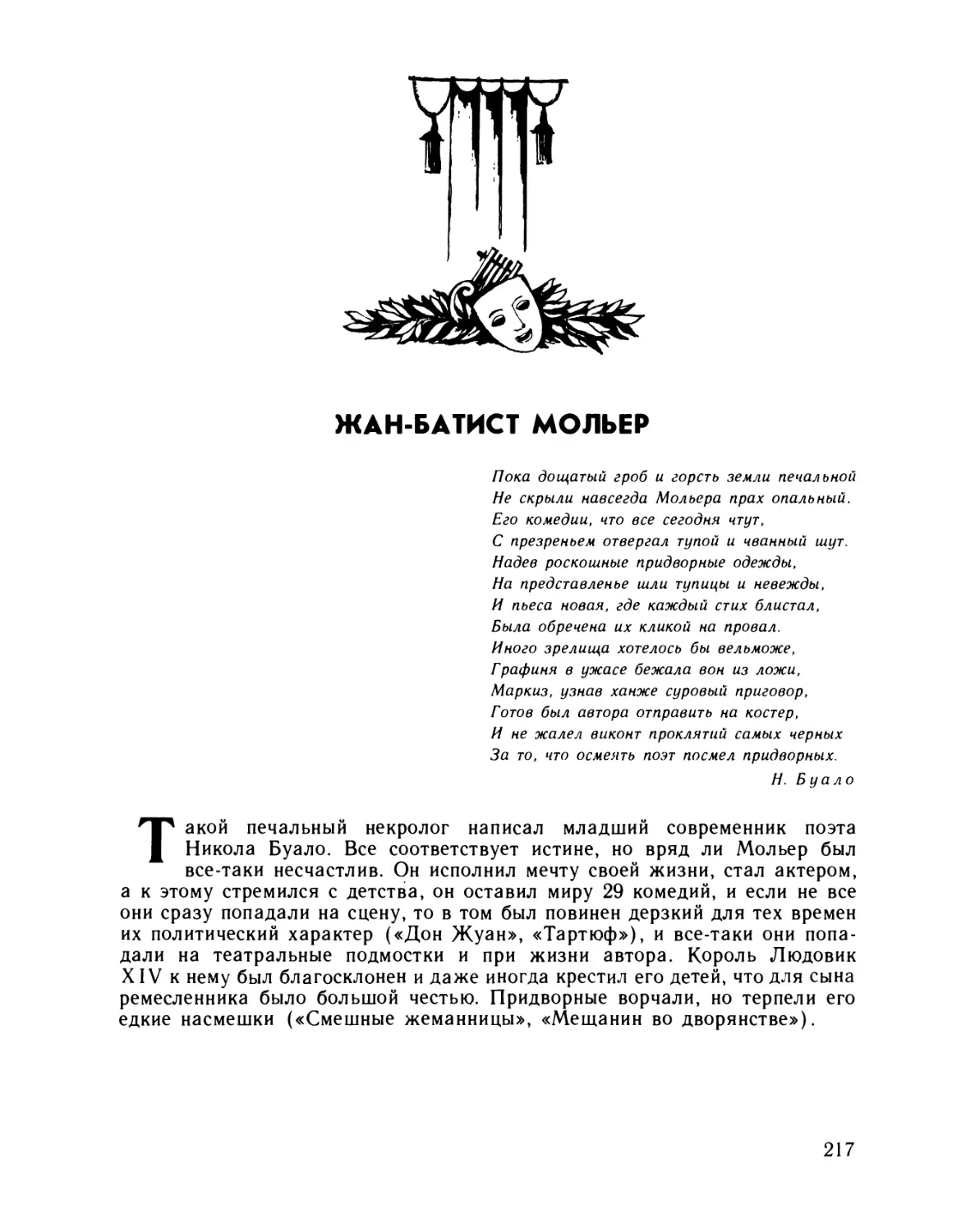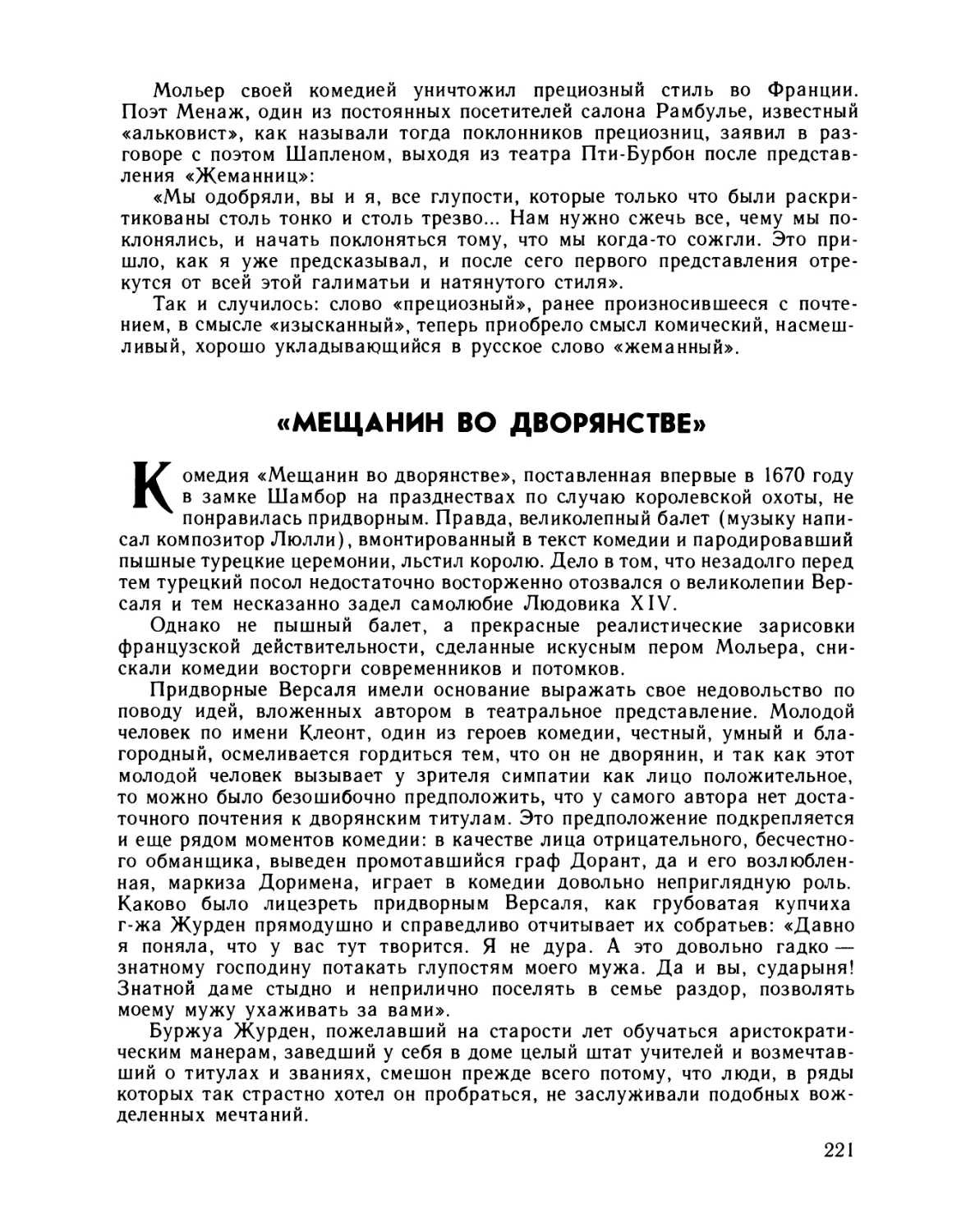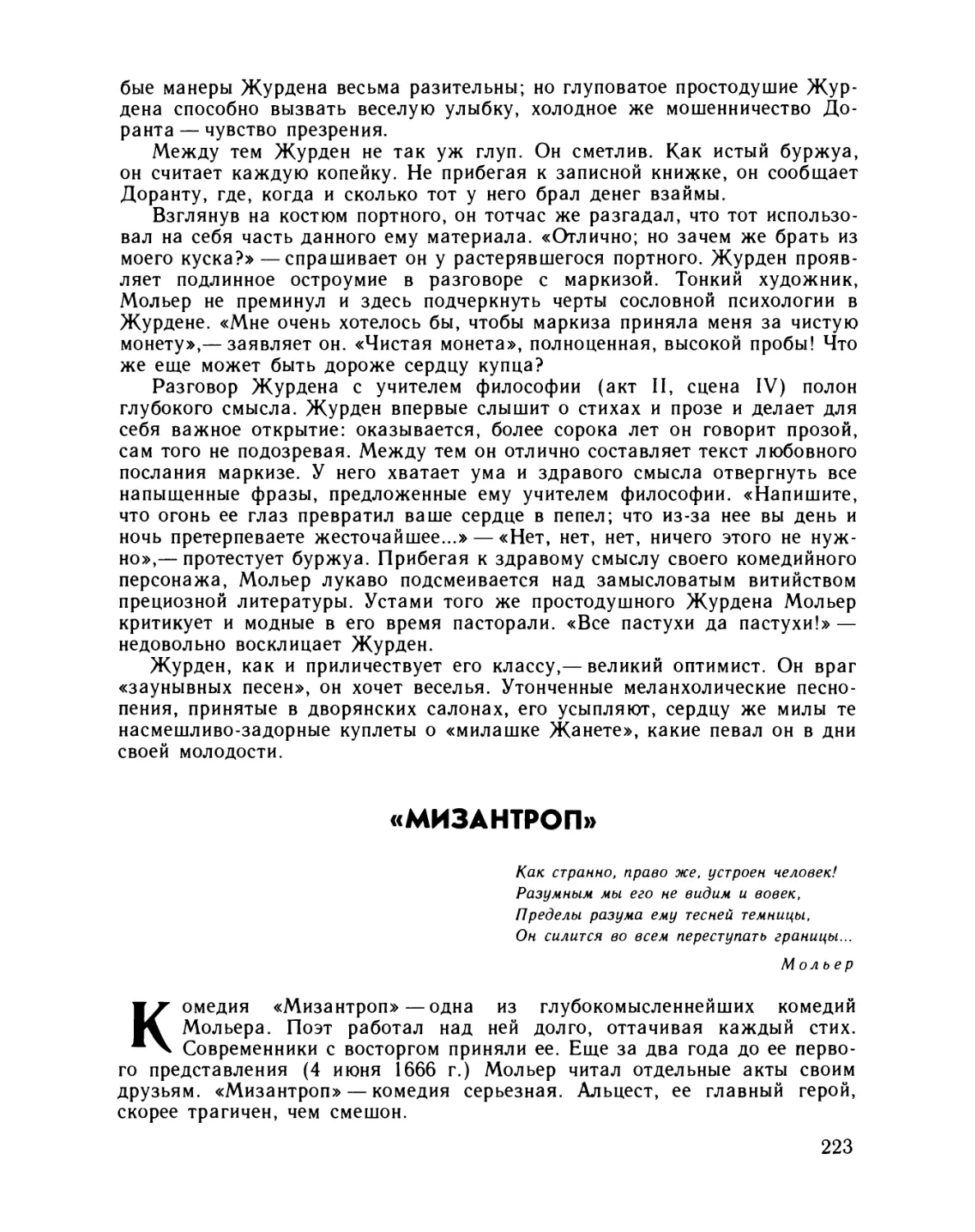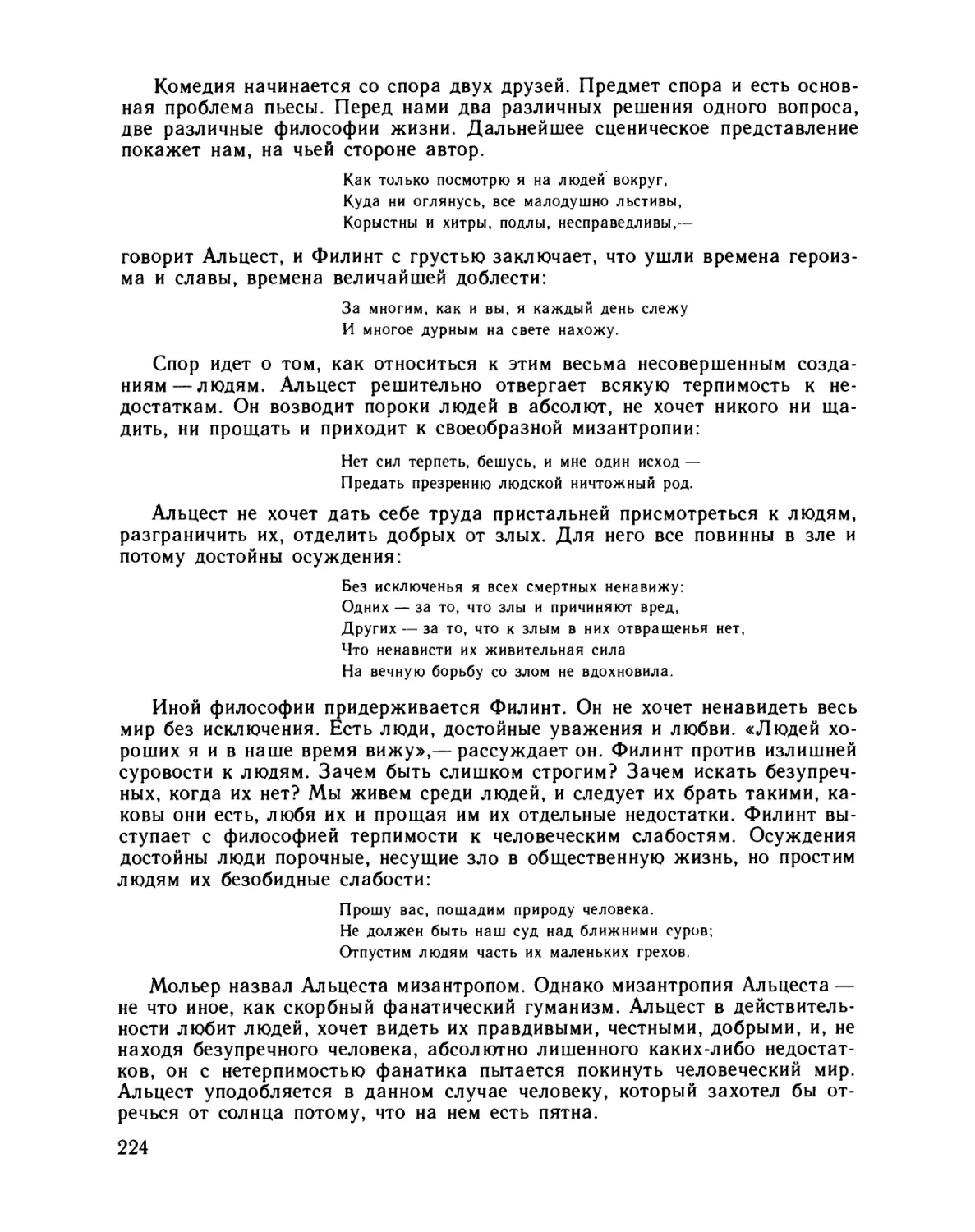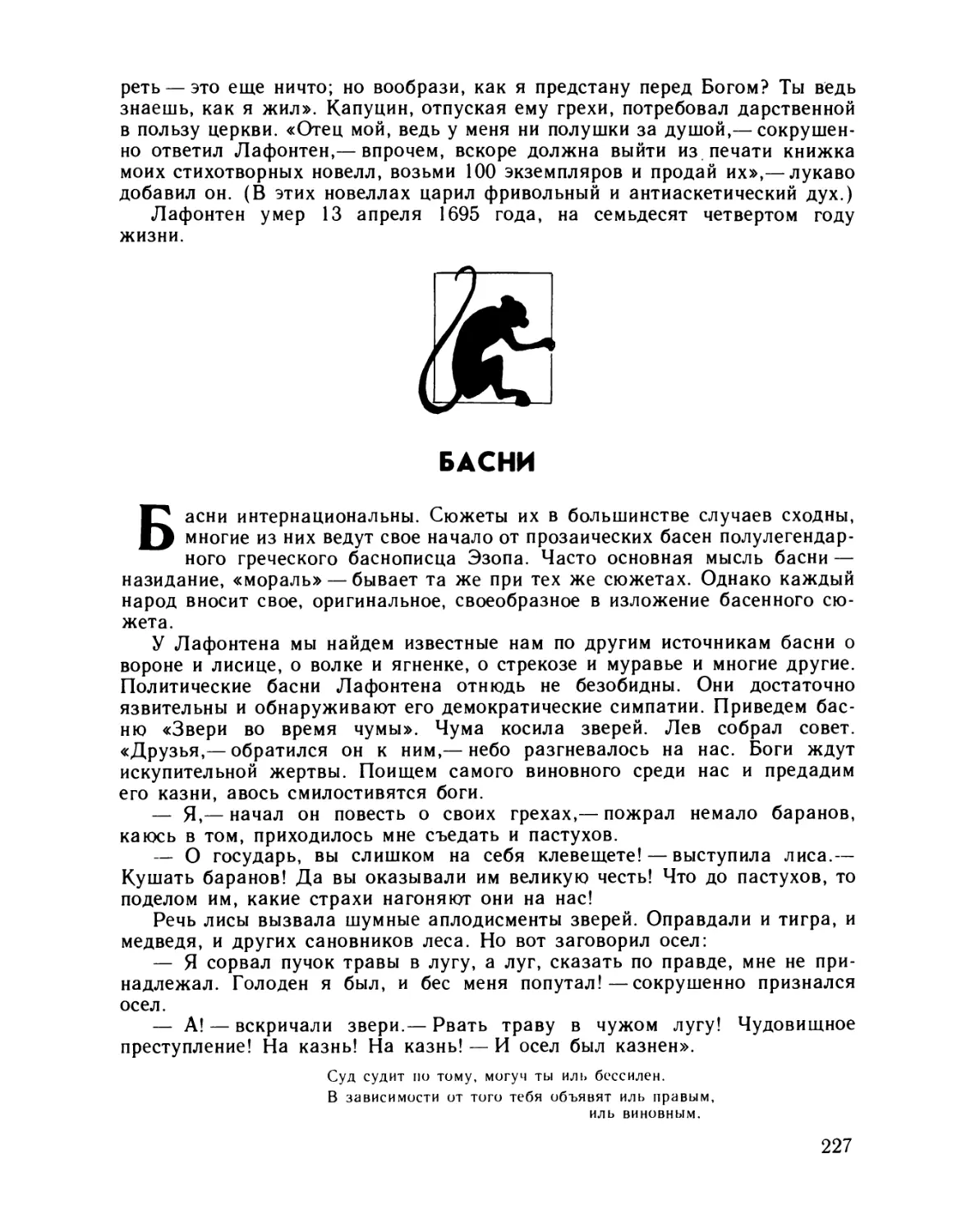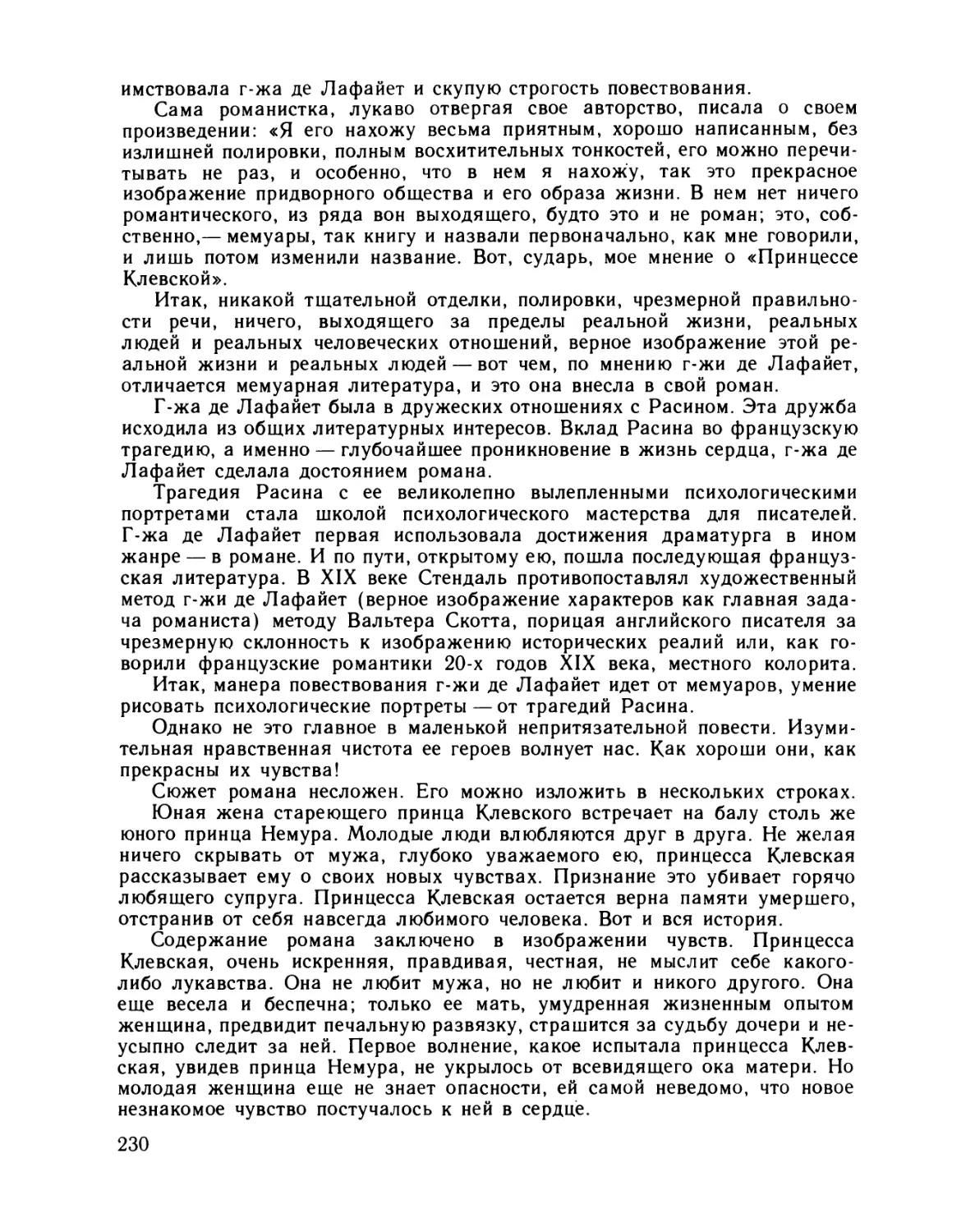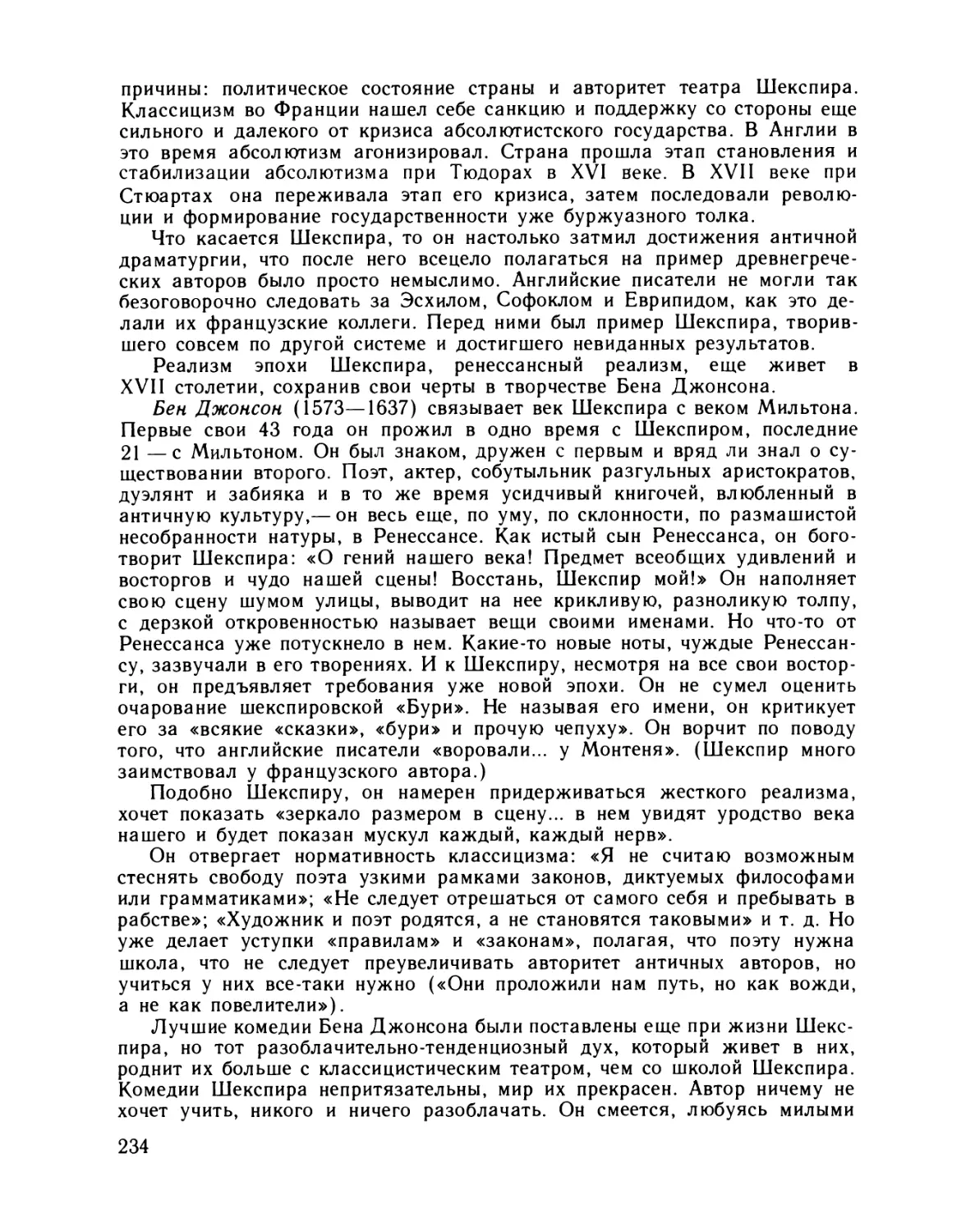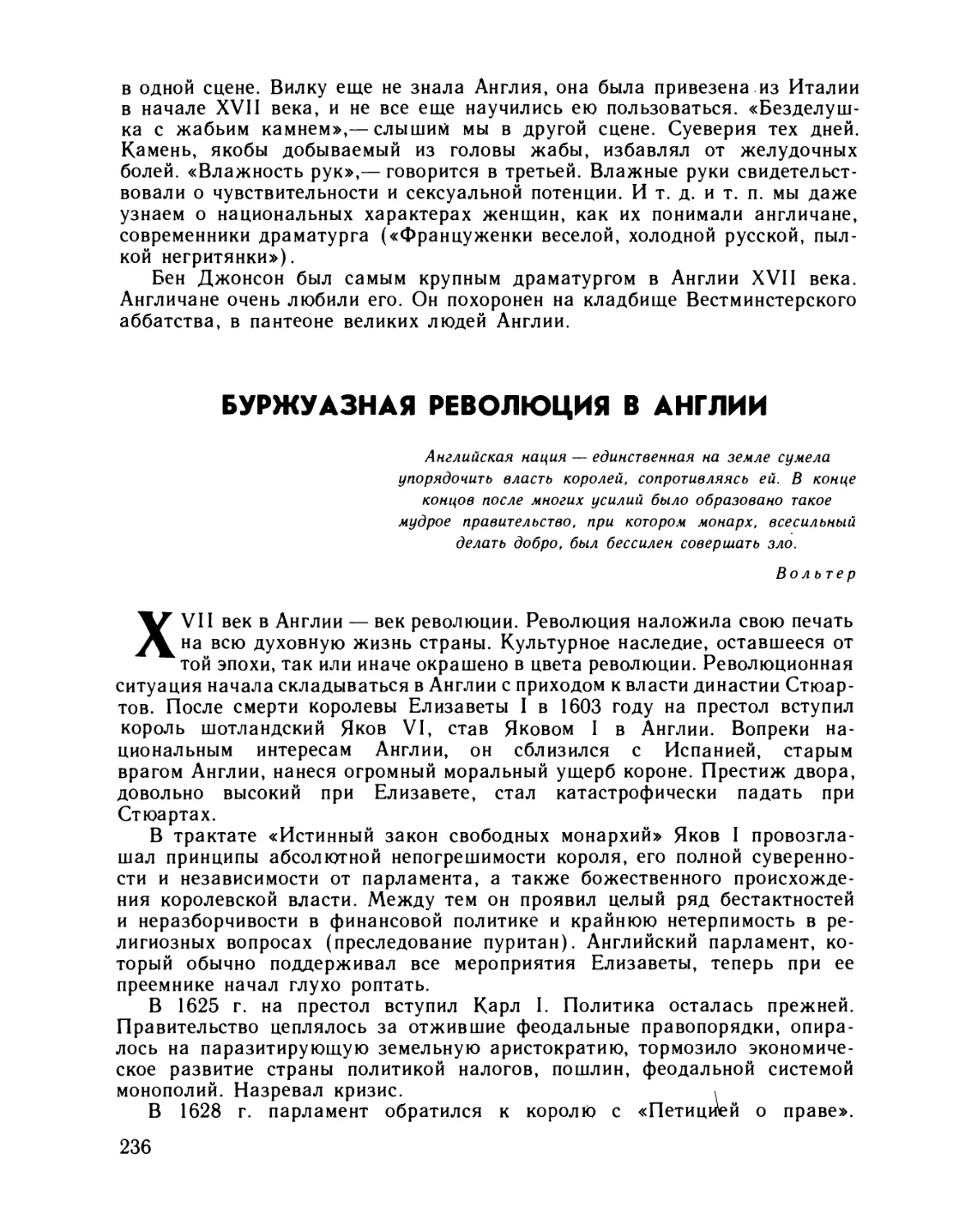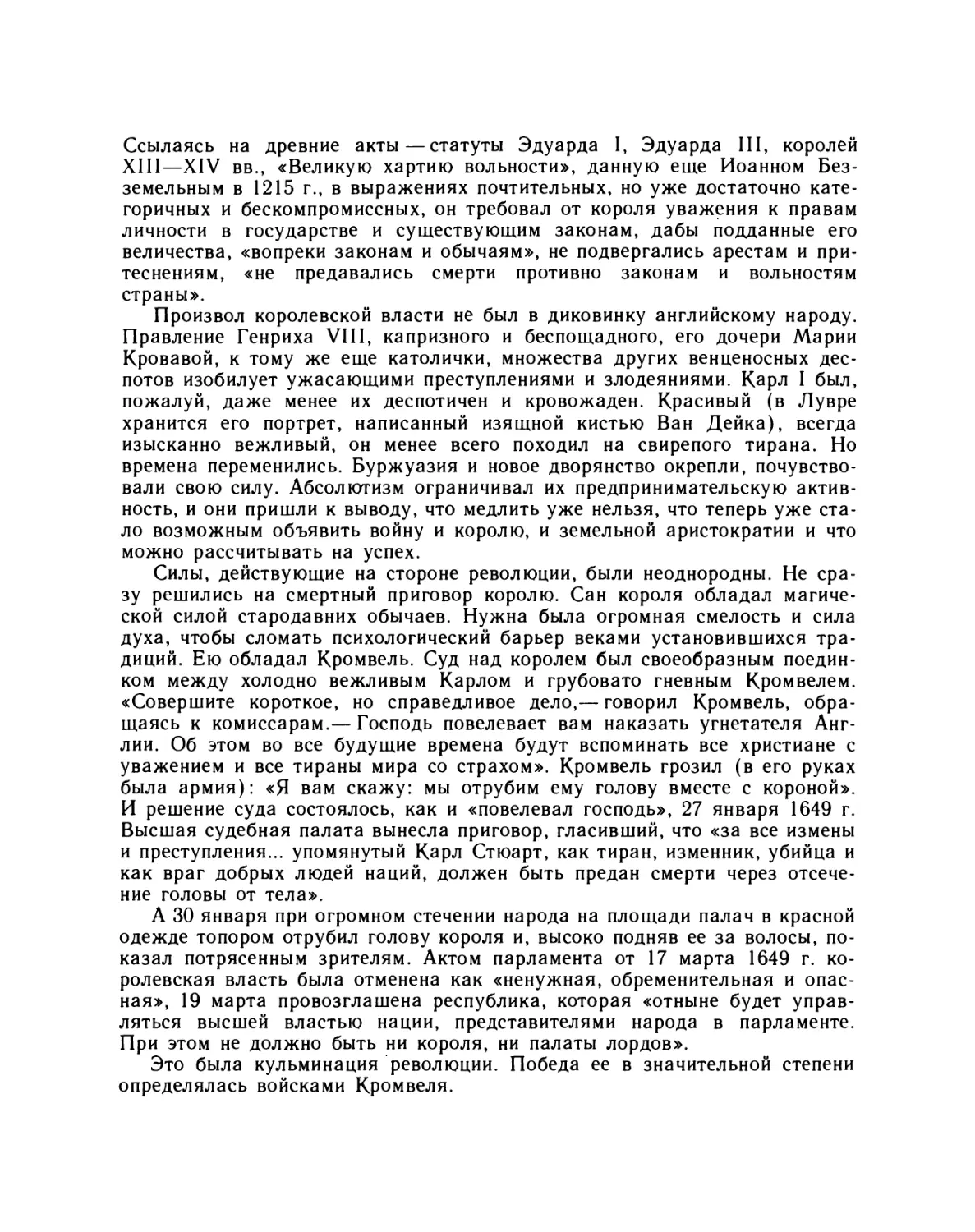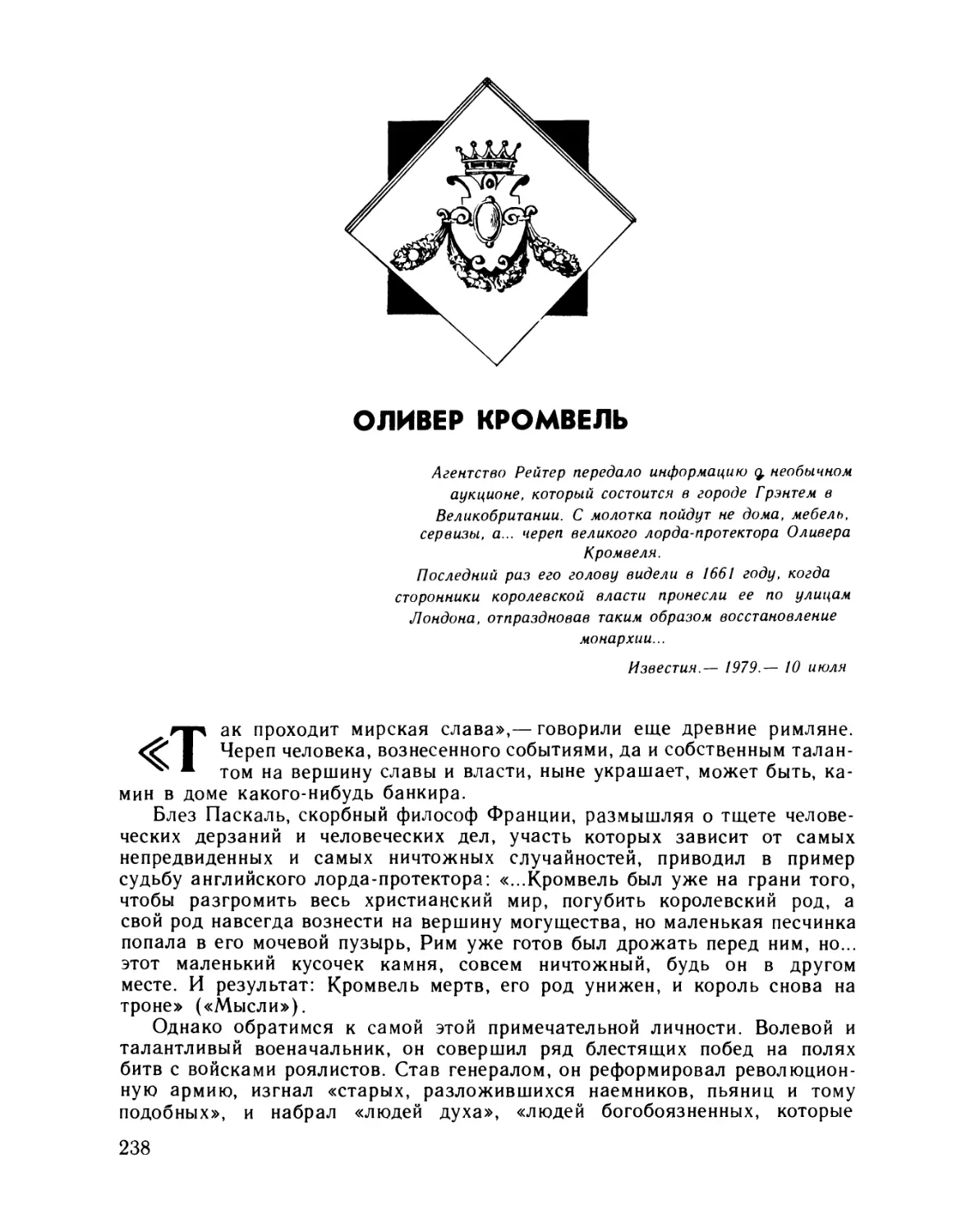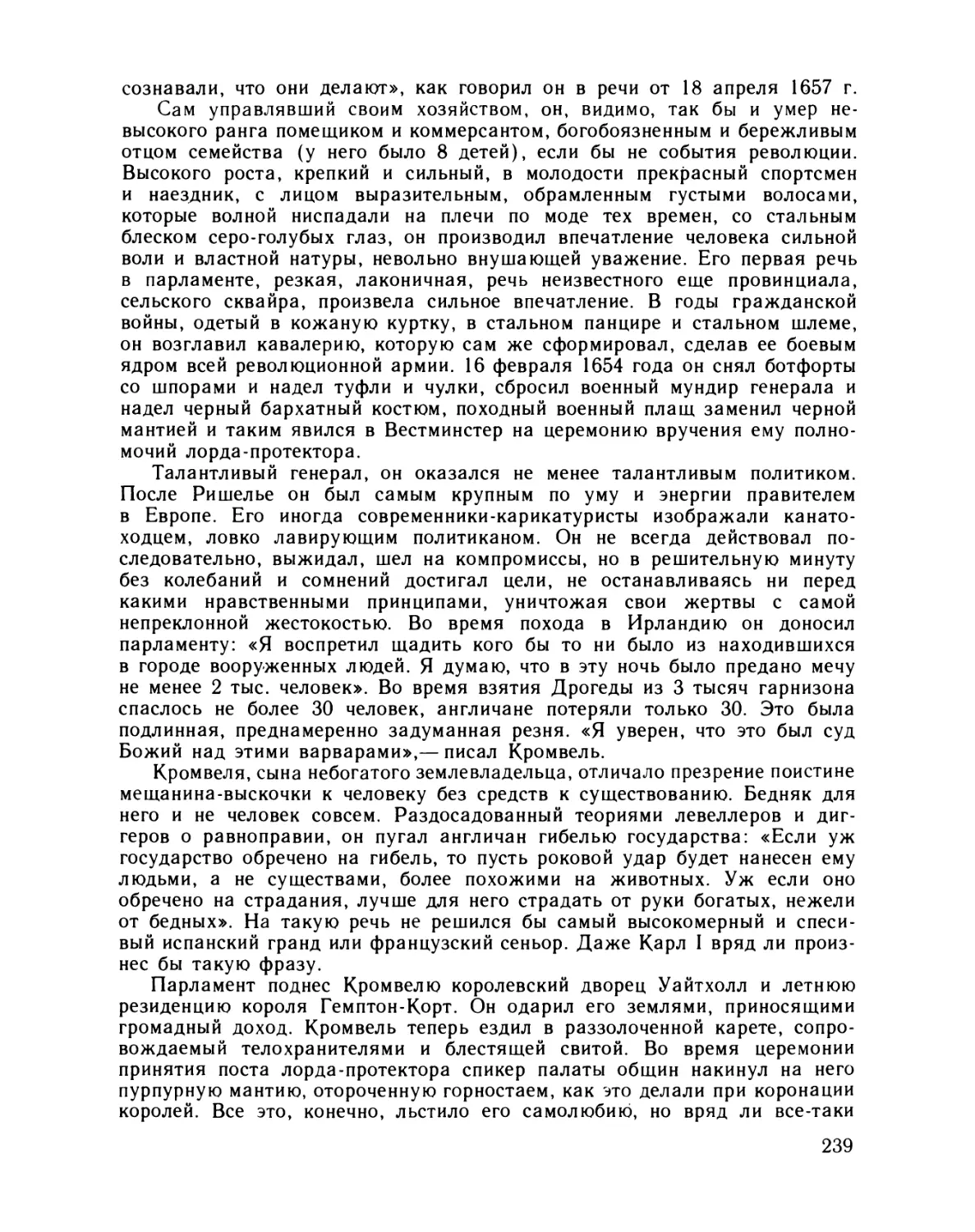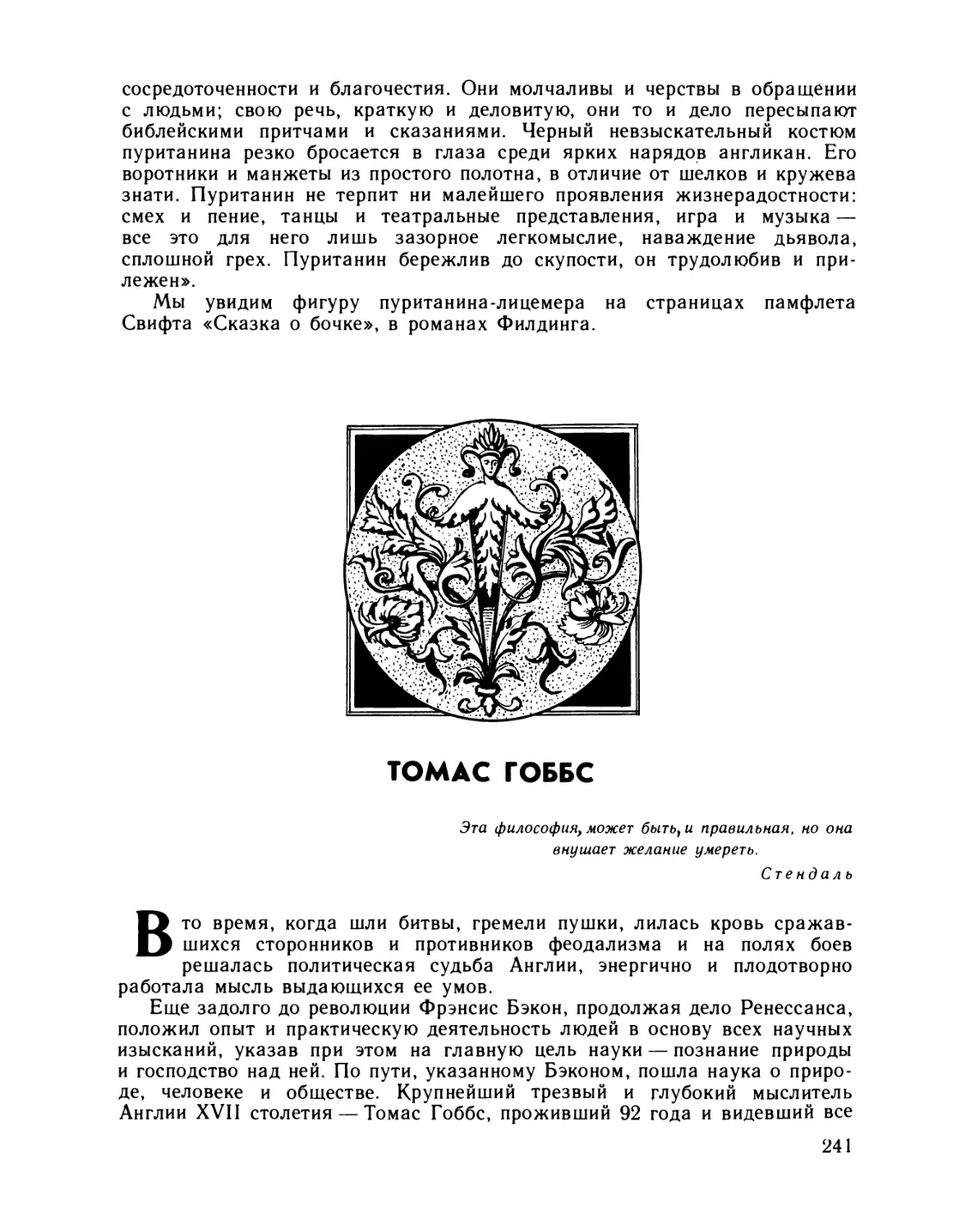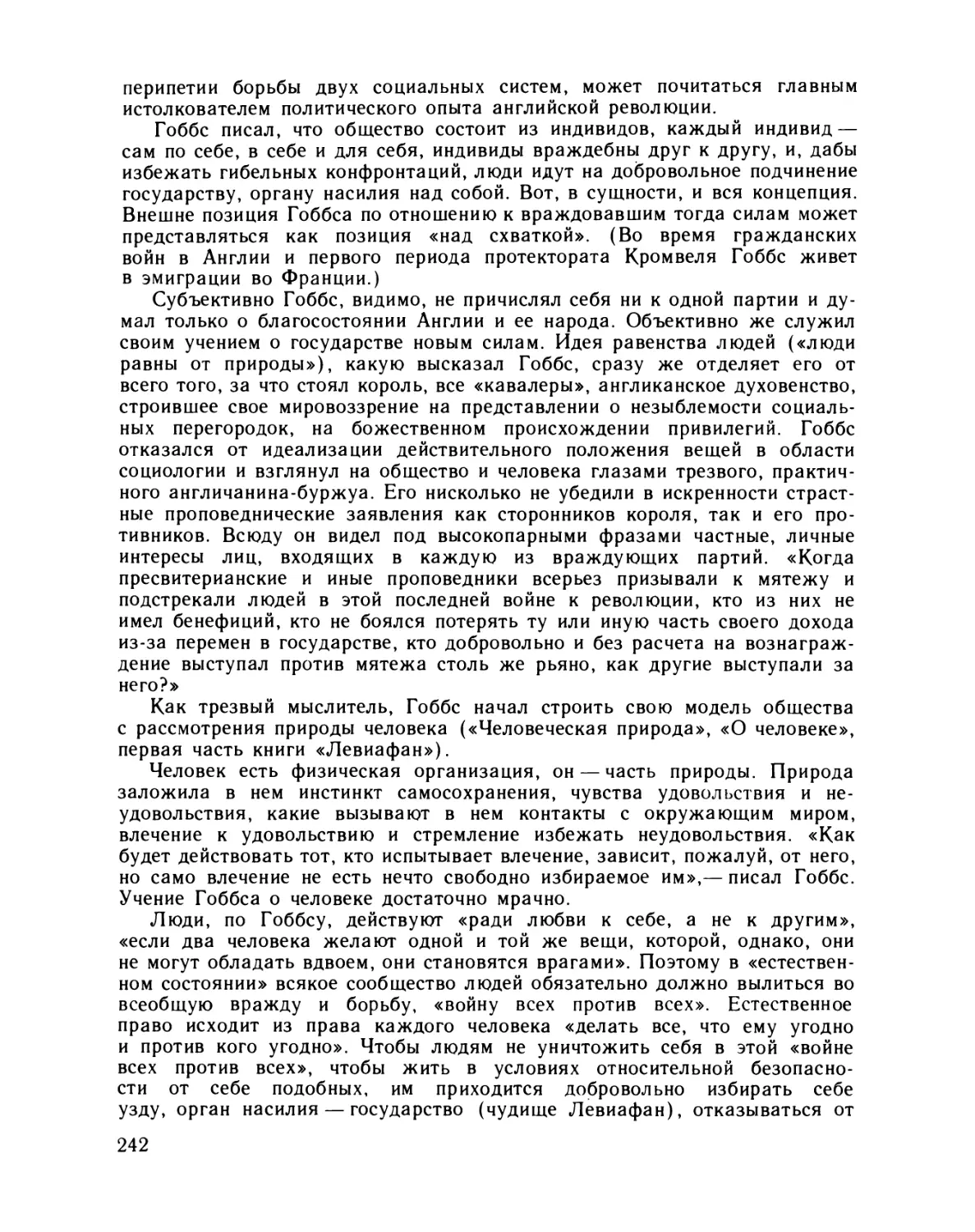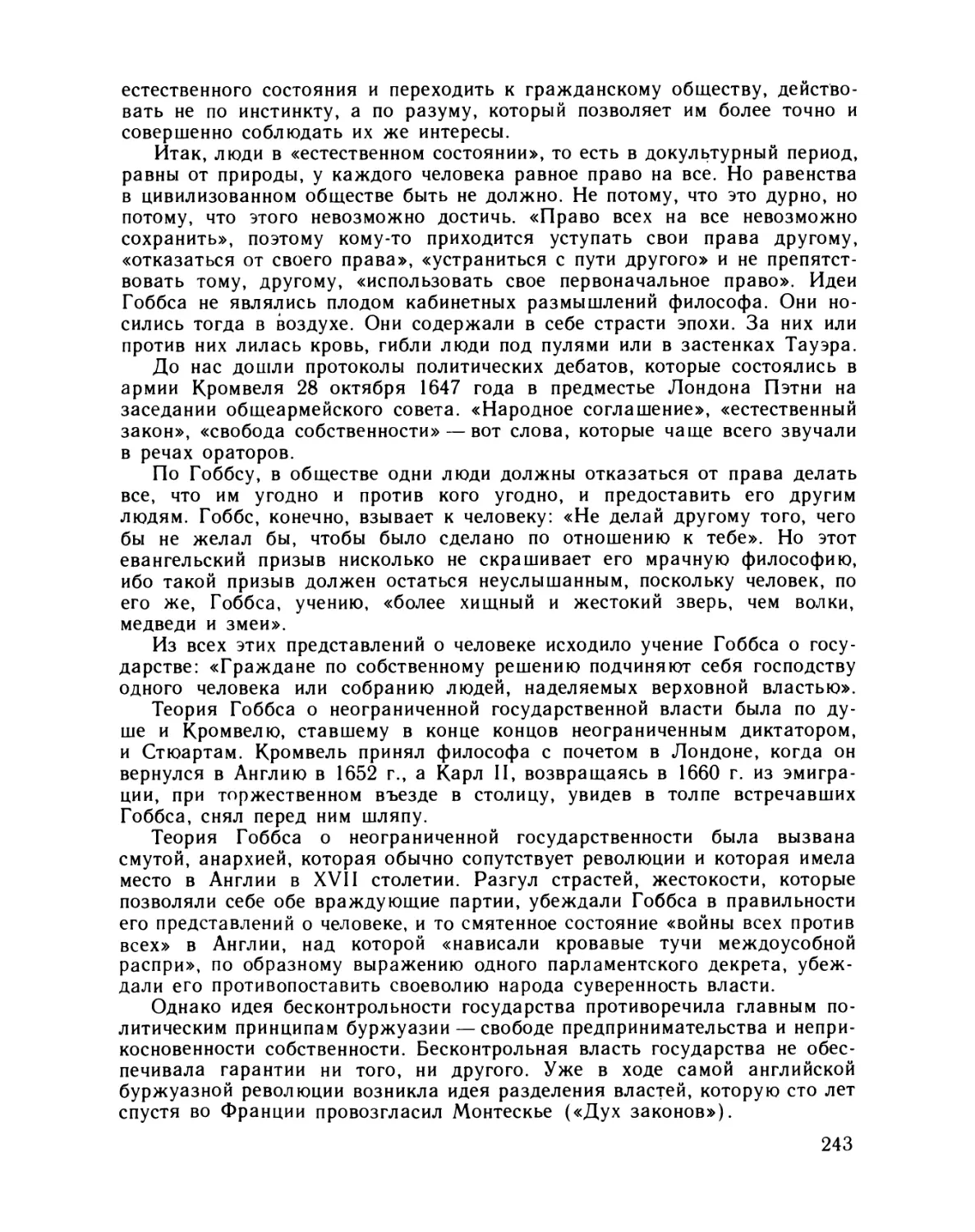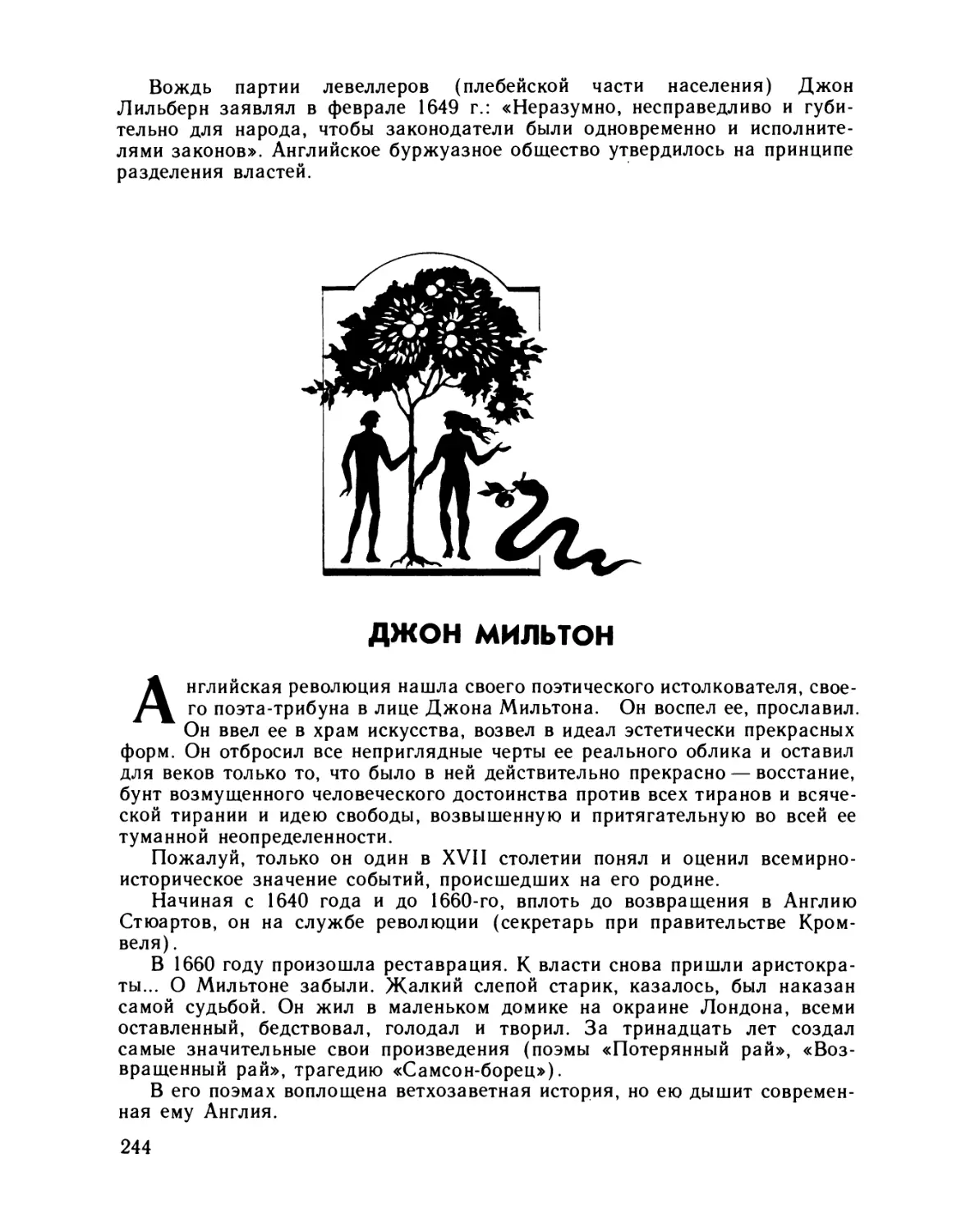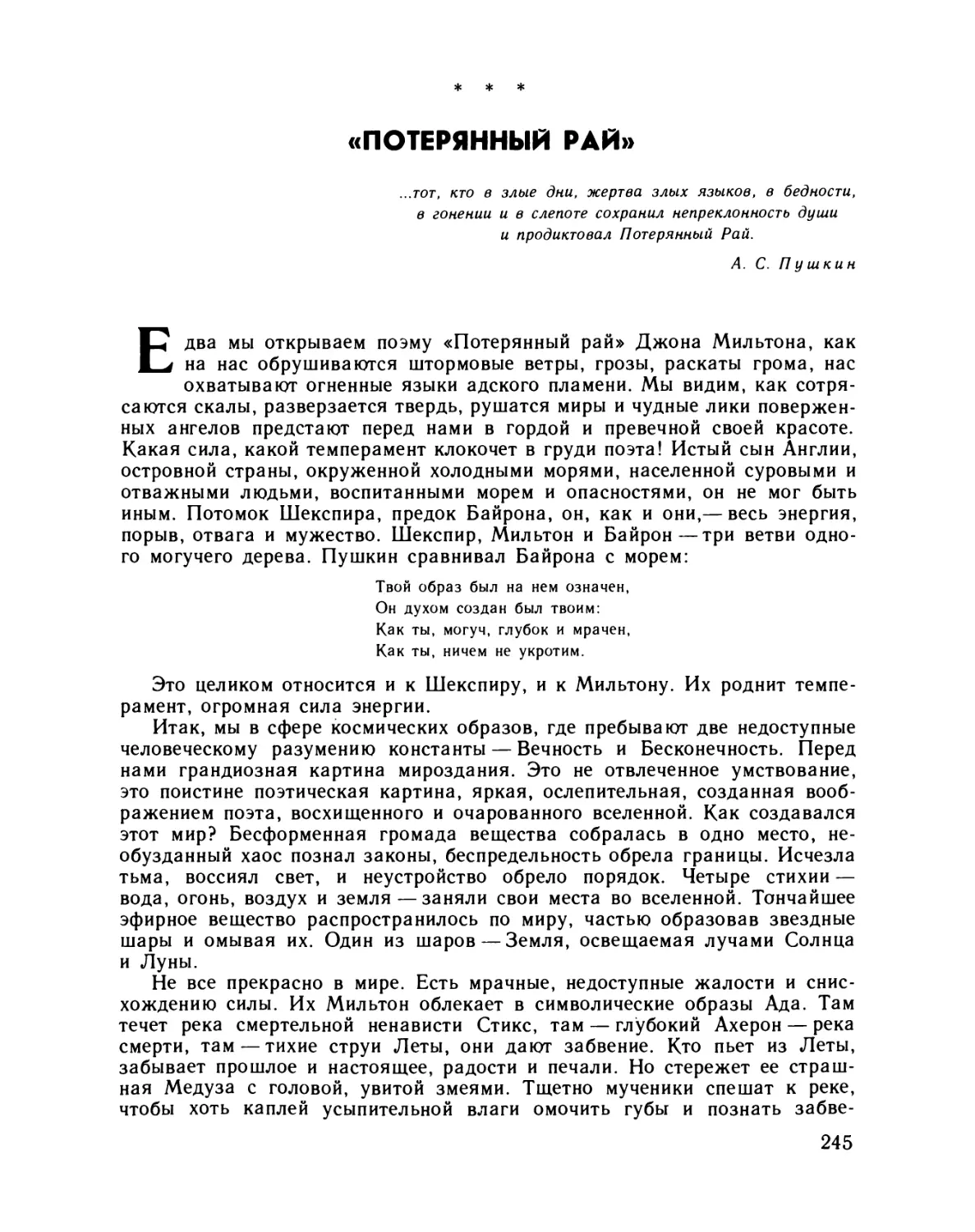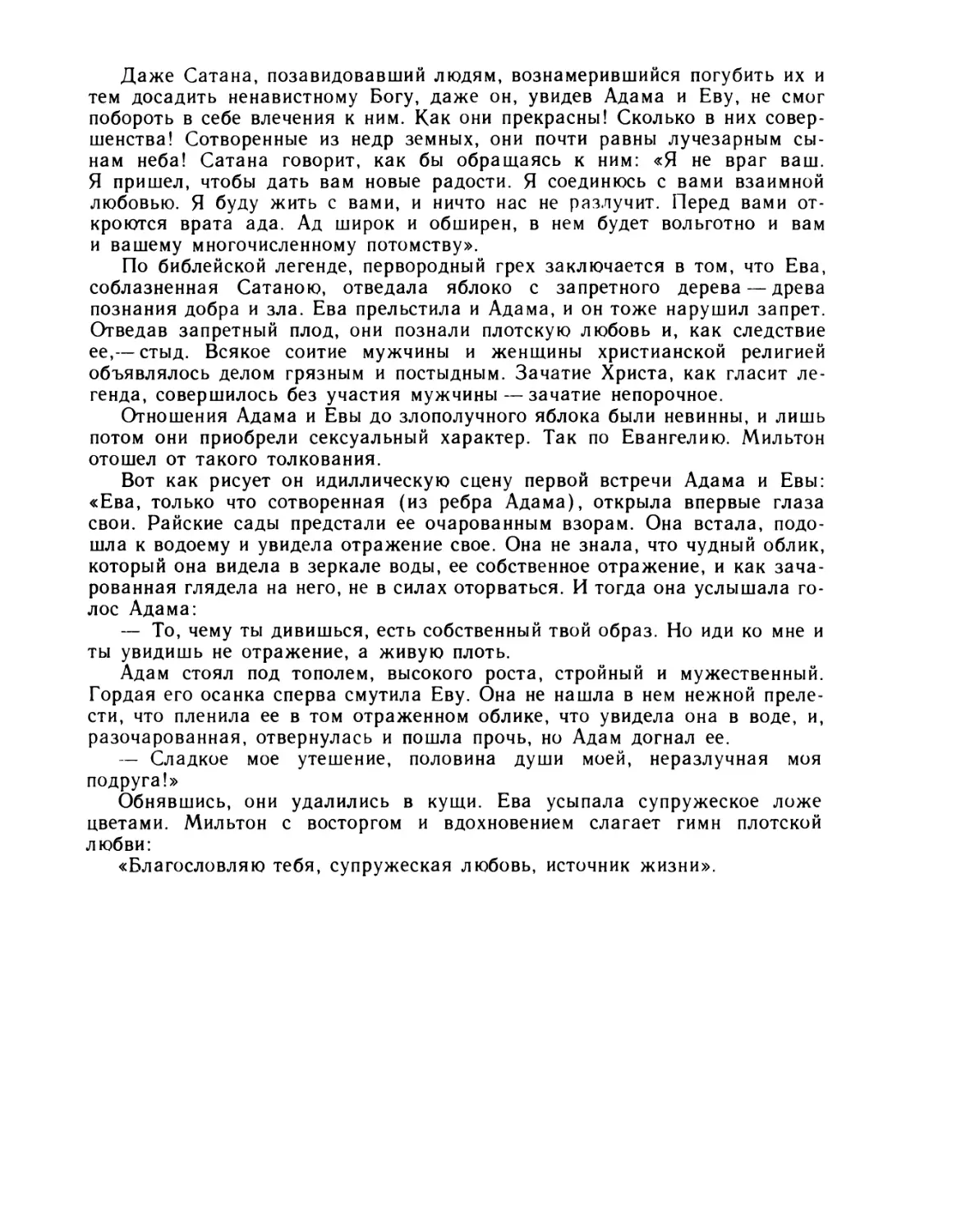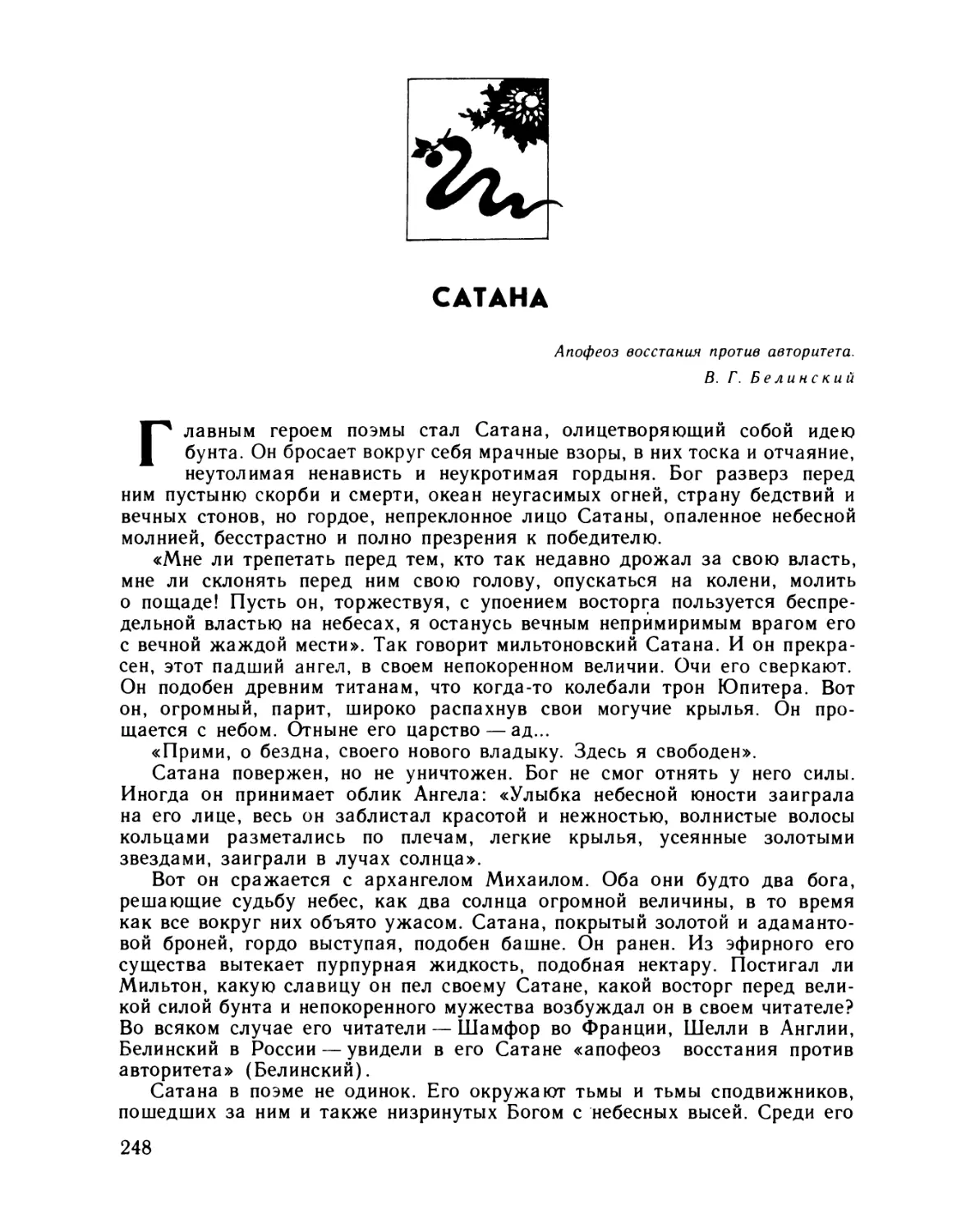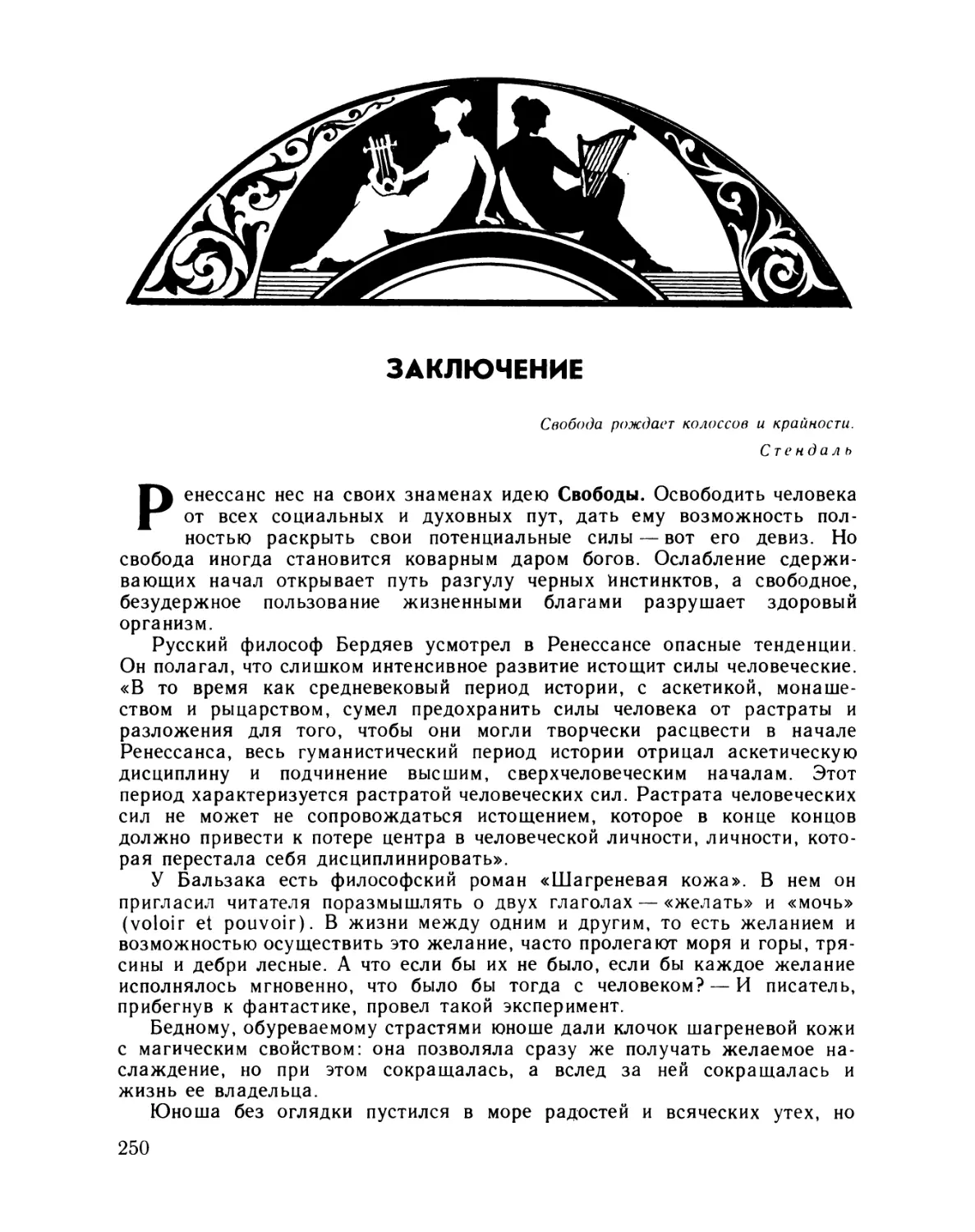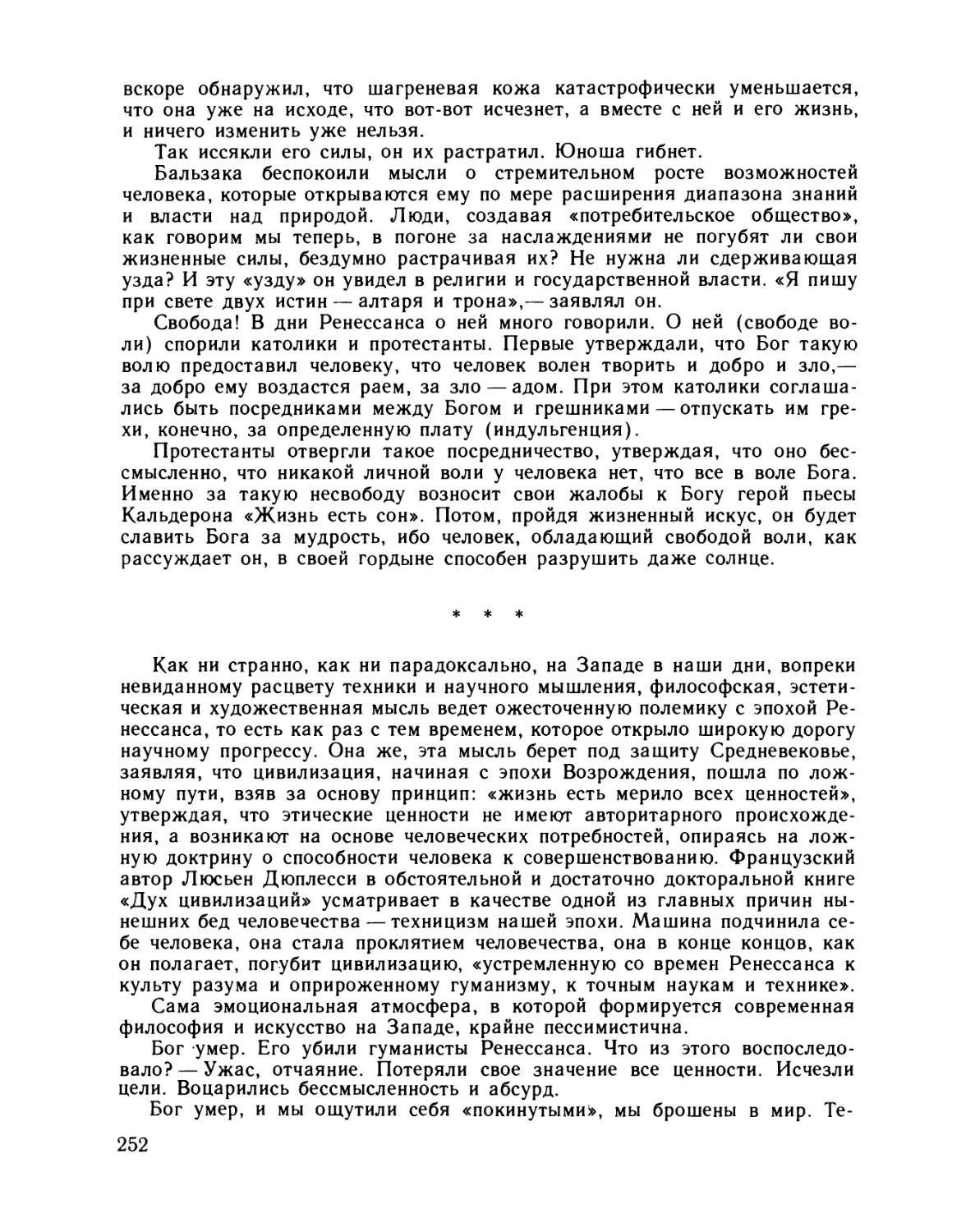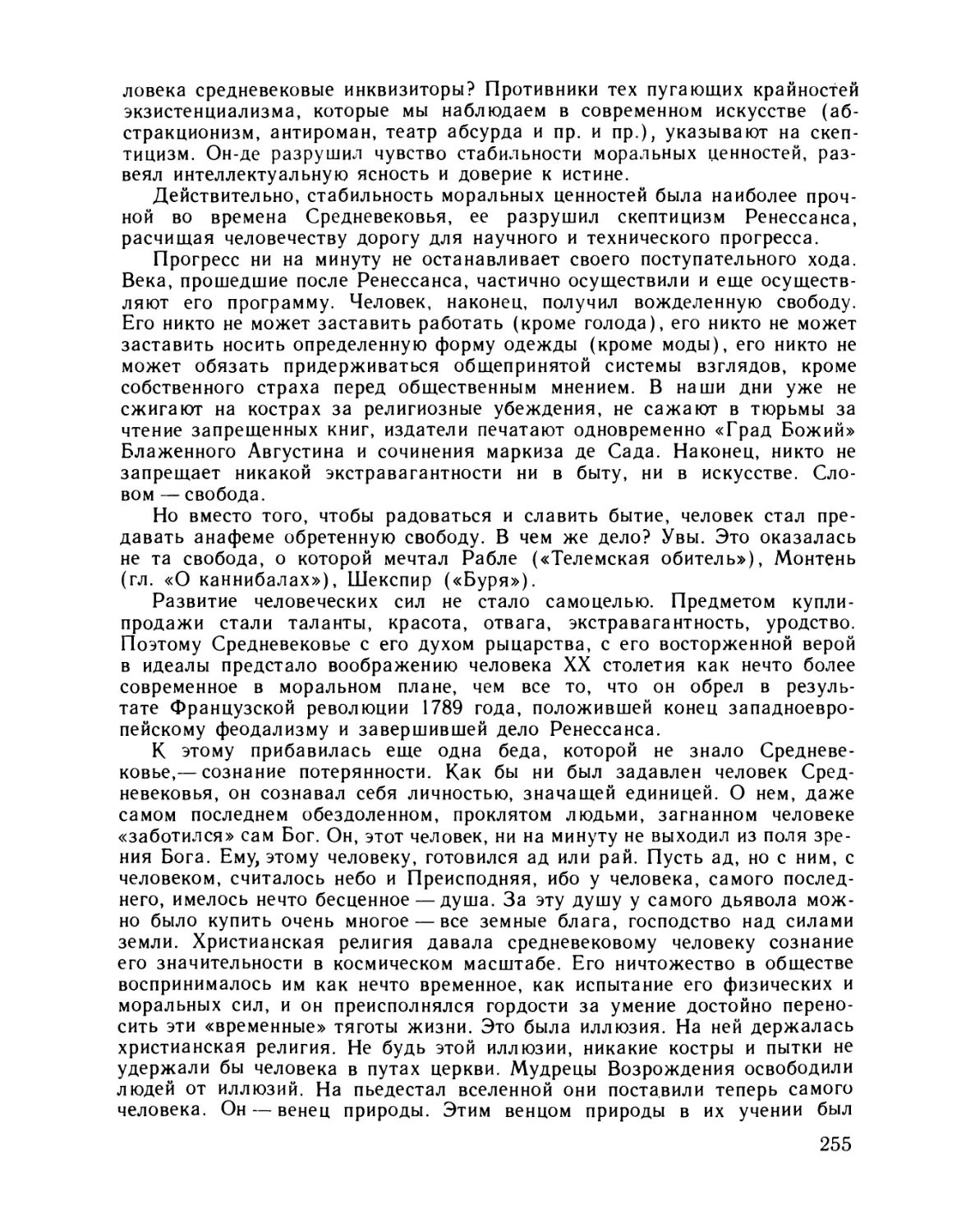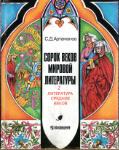Автор: Артамонов С.Д.
Теги: литература литературоведение литература v-xviii в средневековая литература эпоха возрождения
ISBN: 5-09-008000-3
Год: 1997
Текст
А #>
Ш
' -91» Щи
J
С. Д. АРТАМОНОВ
СОРОК ВЕКОВ
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ
КНИГА
3
ЛИТЕРАТУРА
ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
УДК 820/89(100-87).О
ББК 83.3(0)4
А86
Художник И. В. Данилевич
Артамонов С. Д.
А86 Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. Кн. 3. Литература эпохи
Возрождения.— М.: Просвещение, 1997.— 256 с: ил.— ISBN
5-09-008000-3.
Книга доктора филологических наук, профессора С. Д. Артамонова является треть-
ей в серии «Сорок веков мировой литературы», посвященной обзору мировой лите-
ратуры («Литература Древнего мира» и «Литература Средяих веков»). В ней расска-
зывается о шедеврах мировой литературной классики — сочинениях Сервантеса,
Шекспира, Рабле, Монтеня, Мольера, Мильтона и др.
В свободной, без строгого академизма форме автор освещает глубинные процессы
мировой культуры в ее историческом развитии.
ББК 83.3(0)4
Учебное издание
Артамонов Сергей Дмитриевич
СОРОК ВЕКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В четырех книгах
Книга 3
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Заведующий редакцией В. П. Журавлев
Редактор Е. П. Пронина
Художественный редактор А. П. Присекина
Технический редактор Л. М. Абрамова
Корректор Л. С. Вайтман
Налоговая льгота — Общероссийский клас-
сификатор продукции ОК 005-93—953000.
Изд. лиц. № 010001 от 10.10.96. Подписано
к печати 30.05.95. Формат 70X90'/i6. Бу-
мага офсетная № I. Гарнит. литературная.
Печать офсет. Усл. печ. л. 18,72+0,36 форз.
Усл. кр.-отт. 76,99. Уч.-изд. л. 18,50+
+0,48 форз. Тираж 30 000 экз. Заказ 1496.
Ордена Трудового Красного Знамени из-
дательство «Просвещение» Государствен-
ного комитета Российской Федерации по
печати. 127521, Москва, 3-й проезд Марьи-
ной рощи, 41.
Тверской ордена Трудового Красного Зна-
мени полиграфкомбинат детской литера-
туры им. 50-летия СССР Государственного
комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.
ISBN 5-09-008000-3(3)
ISBN 5-09-007998-6
е
© Издательство «Просвещение», 1997
Все права защищены
ОТ АВТОРА
Хвала вам, девяти каменам!
А. С. Пушкин
Камены! Латинское наименование греческих муз. Их девять, боже-
ственных дев, покровительниц искусств и наук, и мать их — спокой-
ная в своем торжественном величии Мнемозина, Память.
Когда оглядываешь умственным взором всю материальную и духовную
культуру — дух захватывает: как же мы богаты! Как богато Человечество!
И все это собиралось тысячелетиями, веками,— и постепенно, рачительно.
Правда, иногда, в годы странного безвременья, что-то вдруг взбудоражи-
вало людей. Они вдруг начинали неистовствовать, разрушатьсозданныесокро-
вища. Мы это видели в дни гибели античной культуры, когда падали и
разбивались грациозные греческие статуи, стройные колонны храмов, когда
сжигались бесценного содержания книги, а люди, побушевав, отбросив
старые кумиры, снова, иногда с нуля, начинали создавать и собирать
новые сокровища. Мы это видели в годы Средневековья. Потом, пробуж-
денные случаем или авторитетной личностью, люди столь же внезапно
спохватывались: «Что же мы сделали? Мы же погубили несравненную
красоту, сотворенную нашими собратьями тысячелетия или сотни лет
тому назад!» И начиналось великое паломничество в прошлое, поиск и вос-
становление утраченных богатств. Так случилось в эпоху, названную
Возрождением, Ренессансом.
История духовных исканий человечества почти всегда трагична. Люди —
иногда целые народы — безрассудно бросали свои жизни на потребу подчас
химерических идей, модных представлений о благе, убивали несогласных с
ними, истязали самих себя. Так было на стыке двух эпох (III—V вв.), двух
культур —античной, языческой с ее жизнелюбивыми идеалами и христиан-
ской, устремленной в потусторонний мир и отвергающей радости реального
мира. Противостояние этих двух культур повторилось уже в эпоху Возрож-
3
дения, то есть 10 веков спустя, когда снова возникли когда-то бушевавшие
страсти. И снова лилась кровь, ломались человеческие судьбы.
Наблюдая это движение истории, мыслители стали задумываться
над тем, как же развивается она. Движется ли она по кругу, неизменно
возвращаясь к пройденным дорогам, или с задержками, с перебоями,
но целеустремленно идет и идет вперед дорогою Прогресса?
Что же такое прогресс? — Если изъясняться нашим обычным грешным
просторечьем, без ученых изысков и темных иносказаний, то это переход от
худшего к лучшему.
Итак, как же складывалась история? Шла ли она по пути прогрес-
са?— Вопрос очень важный, вызывавший и вызывающий по сих пор много
споров, принявший в наши дни и трагическую окраску. Сопоставим две точ-
ки зрения. Одни утверждали идею прогресса и призывали жертвенно
служить ему (ради потомков!), другие видели в идее прогресса опасные
черты и отвергали его.
Нам предстоит обозреть новую эпоху в истории мировой литературы,
которую назвали Возрождением или, если пользоваться французским тер-
мином,— Ренессансом. Речь пойдет больше о Западной Европе, ибо там
произошли крутые перемены. Восток, как и прежде, менялся медленно,
верный вековым традициям. Запад же, беспокойный и динамичный, совер-
шал свои перевороты бурно, беспощадно разрушая то, чему недавно по-
клонялся. Так было после крушения античного мира, так было и в эпоху
Возрождения.
О Ренессансе много спорили и спорят до сих пор. Одни в нем видели
величайший прогрессивный переворот в духовной жизни западноевро-
пейских народов, другие полагали, что он стал причиной многих бед чело-
вечества. Остановимся на последнем и, если уж зашла речь о прогрессе,
поговорим о нем обстоятельней.
ЧЕЛОВЕК И ПРОГРЕСС
Учение о прогрессе есть, прежде всего, совершенно
ложное, не оправданное ни с научной, ни с философской,
ни с моральной точки зрения обоготворение будущего
за счет настоящего и прошлого.
Николай Бердяев
Николай Бердяев полностью отвергает учение о прогрессе. А меж
тем многие великие умы не только верили в прогресс, но восторженно
прославляли его. Верили в прогресс, в победоносные силы человече-
ского разума деятели Возрождения — Рабле и Монтень, верили в него
французские просветители Монтескье, Вольтер, Дидро. А Кондорсе посвя-
тил этой теме специальное сочинение: «Эскиз исторической картины прогрес-
са человеческого разума».
Вся философия истории Гегеля построена на идее прогресса, который
он охарактеризовал как путь к свободе. Энгельс писал о Ренессансе как
о «величайшем прогрессивном перевороте».
Бердяев пишет об идее прогресса с гневом, возмущением, ибо она, по
его мнению, требовала от человека жертвенности во имя светлого будуще-
го. Он писал: «Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каж-
дое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для
окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего
человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела... Никакое
грядущее совершенство не может искупить всех мучений предшествующих
поколений... Тот пир, который эти грядущие счастливцы устроят на моги-
лах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с
нашей стороны энтузиазм к религии прогресса — энтузиазм этот был бы
низменным».
Нельзя не разделить чувств русского философа, тем более что история
никак не опровергает его доводов: неисчислимые жертвы во имя светлого
будущего принесли поколения и народы, веря в утопическую мечту. Моря
крови, миллионов человеческих жизней стоила эта мечта.
Но грустно думать, что история движется к мрачному финалу, что
«историческое движение мчит все миры к катастрофическому факту»,
как полагает Бердяев.
5
Прогресс! Стал ли человек физически крепче, умнее, красивее, талантли-
вее своих предков? — Вряд ли. Правда, он стал жить дольше, пользуясь
достижениями медицины.
Стал ли человек добрее, нравственно чище? — Вряд ли. Страшные
жестокости по отношению к своему собрату совершал человек в древно-
сти— еще большими жестокостями отличился наш XX век: индустрия
убийства, лагеря смерти, атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Если
отнести проповеди мудреца из Назарета к нашим временам, то следует
признать явную нравственную деградацию человечества.
А искусство? Можно ли сказать, что кто-то за тысячелетия «обогнал»
Гомера, что современные поэты пишут лучше Пушкина, живописцы —
лучше Брюллова и Репина, композиторы—лучше Бетховена и Моцарта? —
В области искусства нет и не может быть прогресса.
Понятие прогресса нельзя рассматривать односторонне. Не стоит ради
него идти на жертвы, и здесь прав Николай Бердяев. Не стоит лишать
наших потомков положенного им наследства, но нет необходимости отда-
вать свои жизни ради их блага. Мы долго жили под гипнозом жертвенно-
сти, мирились с голодом, нищетой, даже с репрессиями, одушевленные
утопической мечтой, по сути дела, уничтожая свою жизнь ради будущего,
и не замечали того, что другие народы, которые, не мудрствуя лукаво,
обустраивали свой сегодняшний день, далеко обогнали нас и сделали гораз-
до больше нас для своих потомков.
Деятели Ренессанса, которому посвящена эта книга, верили в прогресс
и по мере сил споспешествовали ему. Некоторые из них шли на смерть ради
просвещения и улучшения жизни народа, как, например, Ян Гус в Чехии
или Джордано Бруно в Италии. Но они же противопоставили аскетическо-
му идеалу Средневековья идею жизни ради жизни. Однажды сосед по
имению пожаловался Монтеню: «День пропал: ничего не сделал, ниче-
го»,— «Как,— ответил ему Монтень,— разве вы не жили? Жить — это и
есть наше главное дело». Вторя ему, Пушкин писал в стихотворении
«К вельможе»:
Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил...
Вспоминаются в этой связи рассуждения Герцена. Удивительный чело-
век, покинувший родину, ради этой самой родины, ее прогресса, ради
освобождения большей части ее народа от угнетения (а это было во вре-
мена крепостничества в России), в сущности ради ее будущего и для
будущего всего человечества, он приглашает читателя жить для настоя-
щего, для своей собственной жизни, для своего личного счастья.
«...Не проще ли понять, что человек живет не для совершения судеб,
не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что ро-
дился для (как ни дурно это слово) настоящего, что вовсе не мешает
ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по за-
вещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо: они никак не
6
Боттичелли. Рождение Венеры. 1484 г.
хотят обратить внимание на то, что великое значение наше, при нашей
ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и
состоит, что пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный
нами узел, мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс
или воплотить какую-то бездомную идею».
Такой взгляд на вещи никак не входил в политическую программу Герце-
на. Это был крик души и лишь однажды вырвался из его груди как мимо-
летное сомнение в правильности выбранного пути. Не будем судить пламенно-
го революционера. Порывы души его были благородны. Он трудился для
счастья потомков. Но кто знает, чего захотят они, наши потомки? Неиспове-
димы пути Господни. Не готовим ли мы им ад чрезмерной заботой об их
благополучии? Не лучше ли обустроить жизнь своего собственного поко-
ления?
Нашей жизни краток миг,
Но он наш, он нам подарен,
Он — для нас, для нас самих.
Миг и вечность в этом даре.
«... ТЕ ГОДЫ, КОГДА ОСЛЕПИТЕЛЬНО
РАЗГОРАЕТСЯ ЗАРЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ».
АНАТОЛЬ ФРАНС
ФЕНОМЕН РЕНЕССАНСА
Это, несомненно, золотой век, который вернул свет
свободным искусствам.
Марсилио Ф и ни но
Так отозвался о своем веке, а это был XV век, знаменитый философ,
итальянец, переведший на латинский язык сочинения многих грече-
ских авторов, приобщив их к общему культурному фонду Европы.;
Французские авторы XVI века Франсуа Рабле и Гийом Бюде называли
свою эпоху «постлиминиумом» (postliminium — латинское слово, означаю-
щее восстановление в правах)1. Речь идет об отвергнутой Средневековьем
1 Римляне употребляли это слово в различных вариациях, но всегда в смысле воз-
вращения, восстановления после какой-то беды: возвращения на родину из неприятельского
плена и восстановления своего прежнего гражданского статуса и даже оживления после
смерти. Например: Post — liminio mortis animare (оживить тело мертвеца). Плен, смерть в
данном случае относились уже гуманистами Ренессанса к Средневековью, и Возрождение
означало, следовательно, оживление после смерти, восстановление после несчастий Сред-
невековья. Как видим, сам термин содержит в себе целую историко-философскую концепцию.
9
античной культуре. Ее «восстанавливали в правах», как бы возвращали
ей статус законности и приоритетности перед культурой христианского
Средневековья. Дело заключалось, конечно, не в том, что следует или
не следует признавать, например, Гомера и других, языческих поэтов (их
так или иначе приспосабливали к вкусам времени), речь шла о философии
жизни. Восстанавливался античный взгляд на жизненные ценности, а это
несло уже целый переворот в сознании людей.
Мишель Монтень, автор знаменитой книги «Опыты», именовал время,
в котором жил, «новым порывом».
Словом, гуманисты с восторгом и надеждой прославляли то, что мы
называем эпохой Возрождения. Скажу попутно, что гуманистами называли
тогда ученых, занимавшихся не богословскими, а светскими науками,
и вообще всех деятелей культуры, принявших новые идеи. Гуманисты
заклеймили самыми негативными .эпитетами культуру Средневековья, пре-
зрительно отзываясь о ней как о «готском варварстве».
/"Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», а писался этот
дюман в первой половине XVI века, так обрисовал две эпохи в историче-
ском развитии тогдашней Западной Европы: «То было темное время,
тогда еще чувствовалось пагубное и зловредное влияние готов, истреб-
лявших всю изящную словесность». Под «готами» разумелась вся культура
Средневековья. Далее писатель говорит уже о том, что принесло челове-
честву Возрождение: «...С наук на моих глазах сняли запрет, они окружены
почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли
годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основа-
ния считался ученейшим из людей своего времени... Ныне науки восстанов-
лены, возрождены языки: греческий, не зная которого человек не имеет пра-
ва считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу
изящное и исправное тиснение (книгопечатание.— С. А.)у изобретенное в
мое время по внушению Бога, тогда как пушки выдуманы по наущению
дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников,
обширнейшие книгохранилища...»
Такая оценка двух эпох установилась надолго. В XVIII веке прослав-
ляли Ренессанс, пожалуй, с еще большим энтузиазмом, чем Рабле и его
единомышленники. В следующем столетии началось спокойное и серьезное
изучение всего духовного наследия Ренессанса. Позитивная оценка его со-
хранилась, негативное отношение к Средневековью тоже. «Наука и мысль
до начала XVI столетия скрывалась во мраке, как чернокнижничество,
разбой и контрабанда»,— не без гнева писал В. Г. Белинский. Современ-
ная цивилизация с ее наукой и техникой мыслилась как детище Ренессанса.
«В большинстве областей приходилось начинать с самых азов. От древно-
сти в наследство остались Эвклид и солнечная система Птолемея, от ара-
Леонардо да Винчи. Ангел. Деталь картины Веррокьо «Крещение Христа». Стендаль писал —►
о ней: «...знаменитый ваятель Веррокьо писал в Сан-Сальви «Крещение Иисуса», а один из
его учеников, едва вышедший из детского возраста, изобразил на картине ангела, который
красотою далеко превзошел все фигуры учителя. Веррокьо, возмущенный, дал клятву не
браться больше за кисть; но ведь ученик этот был Леонардо да Винчи».
ю
бов — десятичная система счисления, начала алгебры, современное начер-
тание цифр и алхимия,— христианское Средневековье не оставило ничего»
(Ф. Энгельс).
Французский писатель Анатоль Франс назвал Ренессанс «весной чело-
веческого разума». Стали задумываться над тем, почему потребовалась
ломка традиционного сознания в XV—XVI веках, что заставило западноев-
ропейскую интеллигенцию усомниться в ценностях христианского, средне-
векового, ставшего уже традиционным сознания и традиционной культуры
и породило интерес к давно ушедшей в прошлое античности, к возврату
к ней. Маркс объяснял это тем, что появилась буржуазия (прежде всего
в Италии, где и началось движение Возрождения), которая нуждалась в
свободном рынке труда, потому выступила за обновление жизни и главным
образом за освобождение крестьян из крепостной зависимости и, следова-
тельно, приток из деревень крестьян. Был принят даже закон, кто проживет
в городе один год и один день, становится автоматически свободным.
Говорили: «Городской воздух делает свободным».
Буржуазия, как рассуждал Маркс, нуждалась в свободном предприни-
мательстве, потому поддержала все идеи раскрепощения личности от
каких-либо моральных обязательств. «В ледяной воде эгоистического расче-
та потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского
энтузиазма, мещанской сентиментальности» (К. Маркс и Ф. Энгельс. «Ма-
нифест Коммунистической партии»).
Советская школа (университеты, историческая наука) все десятилетия
после Октября придерживалась такого взгляда на феномен Ренессанса. Все
великие творения человеческого гения в дни Возрождения (а это была ве-
ликая эпоха, которая «нуждалась в гигантах и породила гигантов», по
определению Энгельса), как видим, обязаны «ледяной воде эгоистического
расчета» буржуазии.
Русский философ Николай Бердяев побудительные силы Ренессанса
увидел в невостребованной Средневековьем человеческой энергии. Она
в условиях феодализма не находила выхода. «Я думаю,— писал он,—
что недостаточность средневекового сознания прежде всего заключается
в том, что не была раскрыта настоящим образом свободная, творческая
сила человека и человек, в средневековом мире, не был отпущен на сво-
боду для свободного, творческого дела, для свободного созидания куль-
туры» («Смысл истории»).
Этот порыв к свободе, к вольному творчеству, эта переполненность чело-
века энергией, рвущейся к действию, с гениальной силой отобразил Мике-
ланджело в своих мраморных рабах. Сам мрамор, ставший плотью этих ско-
ванных фигур, полных здоровья и жизненной мощи, кажется, вот-вот должен
взорваться от внутреннего перенапряжения,— тут же путы, которые силой
хочет порвать скованный раб.
Мрамор Микеланджело так же философичен, как и сочинения его славных
соотечественников — Петрарки, Лоренца Баллы, Пико делла Мирандола,
Марсилио Пичино и др.
\пе нужно думать, что время Ренессанса было идиллично. Это была эпоха
суровая, жестокая, кровавая, бездомная и нищая.^1
12
Однако это была одновременно и эпоха замечательная — яркая, осле-
пительная, в красках, пышная, изобильная, роскошная, а по взлетам
человеческого ума и гениальная. Контрасты этой эпохи нашли свое отра-
жение в театре Шекспира — в мрачных, кровавых трагедиях «Гамлет»,
«Макбет» «Король Лир» и в ослепительно солнечных и благодатных коме-
диях «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Виндзорские проказницы» и др.
W^^TT^^T^T^^T^TTT^^
1 ^ж^-^^1вр^^Эв|Я5
1 Lj"i>—^SNt-1 ^JrSft
l^i2^Q^^^^V\^
PI
«&?Mr^J
кнмМшнМ
•'' \Jtf)^M
))^к
1Щ.
^' ■ * ч,1
Х-:-'1
^^J
ЧЕМ ЖЕ СЛАВЕН РЕНЕССАНС!
И сказал Бог Адаму: Я ввел тебя в мир, чтобы ты
смотрел и видел все, что тебя окружает. Я создал тебя
ни небесным, ни земным существом, ни смертныму
ни бессмертным, чтобы ты сам, по своей воле и к своей
чести, сделался своим собственным скульптором и творцом;
ты можешь опуститься до животного состояния
и возвыситься до божества...
Пико делла Мирандола
Зпоха Возрождения, или, если пользоваться иностранной терми-
нологией, Ренессанс сменил эпоху Средних веков в истории евро-
пейских народов. Восторжествовало новое мировоззрение, резко
изменились в сознании людей духовные ценности, то, что вчера казалось
важным и обязательным, теперь выглядело смешным и никчемным.
Впрочем, это больше касалось интеллектуальной и артистической элиты.
Простой народ жил заботами дня и приобретением хлеба насущного. Он
не решался, да и не видел особой необходимости подвергать сомнению то,
что было узаконено властями и давней традицией. Но философы, поэты,
писатели, живописцы, скульпторы, архитекторы с презрением отвергли эти
стародавние традиции и с необыкновенной увлеченностью стали строить
новую культуру, с великим благоговением превознося все то, что было раз-
рушено, погублено и предано проклятию из культуры древних греков и
13
древних римлян десять веков до того. Появились таланты, яркие, само-
бытные. Человечество будто проснулось после долгого сна и вывело на
историческую авансцену гигантов мысли, гениев художественного мастер-
ства, внесших в культуру народов бесценные сокровища.
Человек почувствовал себя творцом, хозяином вселенной, ощутил в себе
силы необыкновенные —творческие, созидательные, ощутил ценность
самой жизни и самого себя — человека. Он стал «творить» мир и самого
себя,! к чему так пылко призывал в приведенном эпиграфе Пико делла
Мирандола (1463—1494).
Удивительно колоритна личность этого знаменитого итальянца. Аристо-
крат по рождению (граф), богач, имевший возможность удовлетворить
все свои капризы и жить в праздности, он избирает кропотливый каждо-
дневный труд. Прежде всего он творит себя. Его с неудержимой силой
влекут к себе^вселенские знания, философия народов и их религии. Он не
хочет замыкаться в круге схоластических наук Средневековья, изучает не
только Аристотеля, порядком искаженного богословами, но и Платона,
и таинственную мистику чисел, и еврейскую каббалу, которую преподает
ему некий Иоханес Алеман из Константинополя, изучает халдейский язык,
читает в оригинале арабские рукописи, знает 22 языка, вызывая восторг и
удивление современников.
Глубокий и восторженный мыслитель, демонстративно сбросивший око-
вы авторитарного мышления, поразивший всех своими уникальными даро-
ваниями, он умирает молодым, почти юношей, на тридцать первом году
от рождения...
Пико делла Мирандола бесконечно верил в силу интеллекта, носился
с идеей собрать всемирный конгресс всех областей знаний, приготовил
«Речь о достоинстве человека» и 900 тезисов для обсуждения на этом
конгрессе. Все это показалось Ватикану подозрительным, еретичным, и со-
зыв такого конгресса был пресечен, сам инициатор этой идеи подвергнут
изгнанию, а сочинения его запрещены.
Однако Ренессанс противоречив. Посмотрим на другую столь же коло-
ритную фигуру. Это Корнелиус Агриппа, родившийся в Кельне в 1486 году
и умерший в Гренобле в полной нищете в 1533 году.
Незадолго до смерти он издал книгу «Трактат о недостоверности и
тщете наук», странную, парадоксальную книгу. Она не переведена на
русский язык, поэтому позволю себе пространные извлечения из нее1.
Ученый-гуманист, искусный врач, друг Эразма, всю жизнь занимавший-
ся наукой и бесспорно любивший ее, пришел к отрицанию науки, отверг
какую-либо пользу от наук, более того, заявил, что они приносят лишь
вред человечеству. «Знания делают человека Богом. Так говорили еще в
древности. Но я держусь другого мнения, нет ничего более опасного и
гибельного для человека, его тела, его души, чем науки и искусства»,—
запальчиво заявляет он.
«Грамматика и риторика,—писал Агриппа,— которые суть не науки,
а искусства, являющиеся главным инструментом наук, производят более
1 Написана в 1526 г., издана осенью 1530 г. в Анвере издателем Жаном Скривером,
осуждена Сорбонной 2 марта 1581 г. В переводе на итальянский язык вышла в 1547 г., на
английский — в 1569 г., на французский — в 1582 г., на голландский — в 1651 г., на немецкий —
в 1713 г., на русском нет.
14
Микеланджело. Давид.
1504. Мастер воплотил
в мраморе идею
величия Человека,
столь дорогую
деятелям Ренессанса.
Вспомним Шекспира:
«...каждый Бог вдавил
свою печать, чтоб дать
вселенной образ
человека».
вредные, чем полезные следствия и становятся инструментом ошибок И
заблуждений. В медицине, в юридических науках, в философии — всюду
спорные вещи, ошибки, заблуждения. Диалектика под именем логики
несет в науку лишь мрак и нелепые ухищрения ума. Искусства софистов,
мелочные измышления Раймонда Луллия — не что иное, как бесплодные
заявки на смелость. Само наблюдение над фактами жизни и знания, про-
истекающие из него, не дают уверенности в правильном понимании вещей,
ибо наблюдение связано с нашими органами чувств, а они часто весьма
недостоверные свидетели...
Поэзия — область фикции, история полна лжи. Агриппа критикует
древних хроникеров за измышления о происхождении европейских королей,
ведущих их прямо от мифического Приама».
«Наиболее верна в своих выводах математика, но, как утверждает
блаженный Августин, она не ведет к спасению, удаляет от Бога и не являет-
ся, как утверждает святой Иероним, наукой благочестия...
Во главе наук стоит арифметика, трактующая числа и их отношения.
Арифметика ответственна за безумные мечтания Пифагора о таинственном
значении числа. От арифметики идет геометрия, о которой написал и я свой
трактат, отличающийся от многих других, но не менее ошибочный, не
менее лживый и полный суеверных предрассудков...
Музыканты приписывают божественный характер гармонии. Музыка,
бесспорно, полна прелести и очарования, но это всего лишь различные
модуляции голоса и звуков. С музыкой связаны искусства танца, столь
благосклонного к любви, столь дорогого юным девам, которые вместе с ним
теряют и свою честь. Танец военный—трагическое искусство, танец теат-
ральный—подражательное искусство. И всюду ложные мнения, ложные
суждения...
Наиболее похвальна геометрия, она по крайней мере объединяет лиц,
ее изучающих, тогда как всюду царит дух противоречий и споров, но от
нее идут гибельные искусства: пирография — искусство войны; живопись и
скульптура, наполняющие наши дома и наши храмы недостойными образа-
ми, ведущими к идолопоклонству. Геометрия ведет к изучению недр при-
роды в поисках драгоценных металлов и наблюдений за звездами. Да
будут прокляты они, первое за богатство, которое оно порождает, источ-
ник стольких преступлений, второе — за ложь, которую оно несет в мир...
Астрологи, чтобы удовлетворить нечестивое любопытство, чертят круги
и фигуры, измышляют числа, с помощью которых они претендуют на
проникновение в тайны природы.
Я тоже когда-то во все это верил, но потом понял, что все это ложь
и обман...
Полны лжи физиогномистика, магия, еще более вредная тем, что дей-
ствует на темных людей.
Я долго изучал еврейскую каббалу и пришел к выводу, что в ней ничего
нет, кроме лжи и суеверий.
В философии — ничего твердого, определенного, бесспорного.
Если обозреть систему правительства, общественных режимов, религий,
коммерческих отношений, искусства агрикультуры, ведения войны, меди-
цины, юриспруденции,— какое смятение, какое смешение добрых и дурных
начал мы видим всюду!
16
Имеется республиканская форма правления, самая лучшая из всех,
но она принята лишь в маленьких странах — в Венеции и Швейцарии,—
зато почти повсюду самовластвует монарх, очень редко использующий
свою огромную власть для свершения добрых дел.
В религии —уйма заблуждений. Культ святых и их реликвий, возведе-
ние храмов за счет бедняков, злоупотребления праздниками и нелепыми
церемониями, скандальная жизнь служителей культа. Общественная
жизнь: роскошь дворов, арена наиболее безобразных преступлений, школа
продажности, а в знаменитой столице Франции, предмете стольких восхи-
щений, чистота нравов почти неведома, где участие девушки или женщины
в дворцовых оргиях становится свидетельством высшей чести, оказываемой
им. Торговля — сплошной грабеж, агрикультура — предмет презрения»
и т. д. и т. п.
Человек душой своей во власти священника, телом — во власти врача,
имуществом своим — юриста, а над всеми ними возвышаются папа и
император. Простой каприз этих последних решает судьбы людей, мнений,
наук, искусств.
В мире действует так называемый «естественный закон», который гла-
\ф сит: силой отвечай на силу, обманывай тех, кто обманывает тебя, цени вещь
>—в зависимости от того, за сколько ты ее можешь продать. Из естественного
^9 закона исходит «человеческий закон», организующий войны, убийства и
^ резню, рабство, подчинение одних другим и гражданское право — источник
yS\ всех судейских процессов. От него же идет и каноническое право.
Ss£) Агриппа касается и богословия. Он не отвергает богословие как науку,
однако заявляет, что ее извратили и опошлили профессора Сорбонны,
к тому же и богословие не дает твердого убеждения, как и другие отрасли
знания.
К такому мрачному взгляду на мир пришел Корнелиус Агриппа, истин-
ный сын Ренессанса. Таковы контрасты —оптимизм Пико делла Миран-
дола и пессимизм Агриппы1.
1 Перу Агриппы Неттесхеймского принадлежит и другое сочинение — «Оккультная фило-
софия» (1533). Его современников поражала странная, загадочная способность металлических
предметов притягиваться или отталкиваться («симпатия» — «антипатия»), то, что мы сейчас
знаем под именем магнетизма, способность отдельных людей подчинять себе волю другого и
заставлять совершать бессознательно самые невероятные действия (гипнотизм), непонятное
согласие небесных тел, что потом Ньютон объяснил законом гравитации. Все это они отнесли к
сокровенным, тайным свойствам природы (отсюда — оккультизм, от латинского: occultus —
тайный, сокровенный). Агриппа пытался дать этому разумное объяснение и связать человека
(микрокосм — малый мир) со вселенной (макрокосмом — большим миром). Христианская
церковь все это относила к чернокнижию, к «проискам дьявола» и жестоко наказывала ведьм,
колдунов, магов, связанных якобы с этими оккультными силами.
В наши дни оккультные идеи снова и, пожалуй, ажиотажно привлекли к себе внимание
(экстрасенсы, астрологи, хироманты, вера в магическую силу драгоценных камней и пр.).
17
* * *
Ренессанс выглядит океаном противоречий, нестройным
концертом различных устремлений, мучительного
сожительства воли к господству и еще зыбкого знания,
влечения к красоте и нездорового интереса к ужасному,
смесью простоты и усложненности, целомудрия
и чувственности, милосердия и ожесточения.
Ж. Д елюмо
Так думает один из современных историков.
Ренессанс! Где его начало? Где его конец? Исторические границы
этой интересной эпохи в истории человечества размыты.
Что называть Ренессансом? Что отличает его от Средневековья, от но-
вых времен? По этому поводу в науке много споров, много различных
толкований.
Если обратиться к справочнику, а ныне в руках массового читателя
имеется «Советский энциклопедический словарь», вместивший в одном то-
ме свод всех знаний, накопленных человечеством, то под словами «Возрож-
Неизвестный
художник.
Супружеская пара.
1580 г. «Помни о
смерти!»—постоянный
рефрен средневековых
литаний^ Как видим, он
врывается и на палитру
мастеров
жизнерадостного
Ренессанса.
18
дение. Ренессанс» мы найдем нижеследующее разъяснение: «Период в куль-
турном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы
(в Италии, 14—16 вв., в других странах конец 15—16 вв.), переходный
от средневековой культуры к культуре новых времен». Скупая, строгая справ-
ка, но за ней неоглядная даль событий, лиц, свершений человеческого гения.
Понятие «Ренессанс» приобретает свойственный ему смысл только
тогда, когда рядом существует понятие «Средневековье», и именно западно-
европейское, христианское Средневековье. К понятию «Ренессанс» при-
жилось броское, несколько парадоксальное, метафорическое выражение —
«Открытие человека». Оно родилось под пером французского историка
XIX века Мишле, было подхвачено немецким ученым Буркгардтом и, ос-
вещенное этими авторитетами, кочует из одной работы в другую по сей
день.
Его можно принять в плане эмоциональном, но никак не в строго науч-
ном, ибо в истории человечества не найти такого периода, когда мышление
его не было так или иначе направлено на человека. В центре любого фило-
софского, религиозного, художественного сознания всегда пребывает
человек. Поэмы Гомера, Библия, Коран при всем различии вложенного
в них мировоззрения в конце концов посвящены человеку. И если говорить о
главной заслуге Ренессанса, то это будет его великий бунт против средневе-
кового взгляда на человека. Ренессанс отверг философию, опирающуюся на
понятие человека-раба, и противопоставил иную философию, опирающуюся
на понятие человека-владыки, человека, познающего и покоряющего мир.
Мусульманская религия, возникшая позднее христианства и вобравшая в се-
бя многие его элементы, в том числе и его вероучение о человеке-рабе,
столкнулась с подобным же протестом со стороны мыслителей Востока
(Фирдоуси. «Шах-Намэ», Низами. «Хосров и Ширин»).
Главное расхождение между Ренессансом и Средневековьем исходило
в сущности из философского подтекста христианского мифа об изгнании
Адама. Бог заповедал «первым людям» неведение:
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть;
А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие, гл. 2).
Иначе говоря, христианская религия (иудейская тоже; цитируется
Ветхий завет) запрещала знание. Этот запрет опротестовывали гуманисты
Ренессанса.
Коран, перенявший иудейский миф об изгнании из рая, несколько
его переиначил. Коранический Адам отведал от «дерева вечности и власти
непреходящей» (Сура 20, стихи 118).
До этого как раз не допустил Адама Бог: «Как бы не простер он
руки своей и не взял также от дерева жизни, и не стал бы жить вечно...
и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пла-
менный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»
(Бытие, гл. 3).
Авторы Библии понимали великое значение знания. «И сказал Господь
Бог: вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло». Змей-искуситель
не лгал: «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и
зло» (Там же).
19
Знание, как видим, делает человека Богом. Но оно и проклятие для
людей. Все страдания человеческие — результат потери счастливого неведе-
ния. Знание и плотское наслаждение — вот первые грехи «первых людей».
Так полагали средневековые богословы. Они наложили запрет и на
наслаждение, на чувственную любовь, осудили красоту, все то, что цени-
лось превыше всего античным мировоззрением1.
Христианский рай уготован для покорных, самоистязающих, немощных
и слабоумных. Бессмертие (рай) в античной религии даруется физически
совершенным—сильным и прекрасным (Геракл, Ганимед и др.). Гумани-
сты Ренессанса восстанавливали систему ценностей античного мира.
ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ
Возрождение наук, расцвет изящных искусств
и открытие Америки и пути в Ост-Индию можно сравнить
с утреннею зарею, которая после долгих бурь впервые
опять предвещает прекрасный день. Этот день был
днем торжества всеобщности, который наконец наступает
после продолжительной, богатой последствиями
и ужасной ночи средних веков. Этот день ознаменован
развитием науки, искусства и стремлением к открытиям...
Г егель
1 Мусульманство не воспользовалось этой христианской анафемой физического наслажде-
ния. «Коранический рай крайне чувственен»,— пишет проф. Л. И. Климович (Ислам.—
М., 1962.—С. 76).
Любопытны суждения по этому поводу Наполеона. Сравнивая христианскую и мусульман-
скую религии, он говорил: «Наша полностью спиритуальна, магометанская чувственна.
У нас — возмездие, ад и вечные муки; у мусульман — награда: гурии с голубыми глазами,
смеющиеся рощи, молочные реки. В нашей религии — угроза. Это религия страха. Другая
наоборот — обещание и потому притягательна».
20
Действительно, мощный толчок научной мысли дало открытие
Америки, произведшее переворот в географических представлениях
людей того времени, а в середине XVI столетия открытие гелио-
центрической системы мира Коперником, впервые обнародованное в
1543 году. Гуманистическая наука открыла средневековому человеку
сокровища античной философии. Последнее натолкнуло средневекового
человека на самостоятельные философские изыскания, на необходимость
определить свое отношение к философским школам древности. Открытие
книгопечатания предоставило огромные возможности развитию науки, обес-
печив ей прилив свежих творческих сил из широких народных масс, перед
которыми впервые открылась книга. Книгопечатание вывело науку из тем-
ных кабинетов, из мрачных университетских аудиторий на свежий воздух,
к свету, к жизни, к народу. Великие умы эпохи Возрождения это очень
хорошо понимали.
Во Франции деятельность известной семьи типографов Этьянов, не-
утомимо и самоотверженно трудившихся над изданием древних рукописей
в XVI столетии, подготовкой и изданием словарей, содействовала приоб-
щению к науке талантливой молодежи. Робер (1503—1559) и его сын
Анри (1528—1598) были поистине великими глашатаями знаний. Справед-
ливо писал современник Монтеня известный французский юрист Де Ту:
«Франция более обязана Роберу Этьену, усовершенствовавшему книгоиз-
дательство, чем величайшим полководцам, расширившим ее границы».
Значительно содействовали развитию науки и философской мысли той
поры международные связи ученых, общение которых не было затруднено
различием языков. Наука в то время имела один общий язык — латынь.
Эразм читал лекции в Голландии и Германии, в Англии и во Франции,
в Италии и Швейцарии и всюду находил достаточно широкую аудиторию
для своих идей. Историки ныне даже затрудняются, с какой отдельной
страной связать деятельность великого гуманиста. Джордано Бруно пропа-
гандирует свое учение в Италии и Женеве, во Франции и в Оксфордском
университете в Англии. Ученые пишут книги на языке своего народа, при-
общая к науке соотечественников, но и переводят подчас эти книги на
мертвую латынь, чтобы открыть выстраданным в борьбе и гонениях идеям
дорогу к собратьям по труду, столь же мученически отдающим силы и
жизни новым идеям в других странах.
Гуманисты эпохи Возрождения составляли дружную семью великих
энтузиастов, великих талантов и великих страдальцев науки. Они следили
за научными открытиями друг друга, радовались успехам.
Часто братская дружба соединяла их. Многие гениальные догадки
античных мудрецов становились предметом многолетних упорных изыска-
ний и часто приводили к великим открытиям.
«В течение тысячелетий небосвод со всеми светилами вращался
вокруг нас; весь мир верил в это, пока Клеанф Самосский — или, согласно
Теофрасту, Никет Сиракузский — не стал уверять, что в действительности
Земля движется вокруг своей оси по эклиптике зодиака; а в наше время
Коперник так хорошо обосновал это учение, что убедительно объясняет с
его помощью все астрономические явления»,— писал Монтень. Однако все
еще было в брожении, контрастах. Научная мысль соседствовала с суеве-
рием и простодушной верой в сверхъестественные силы и стародавние мифы.
21
Колумб, отправившийся в далекое путешествие, уверенный в том, что от-
кроет новые земли, действовал как представитель пытливого и динамиче-
ского Ренессанса. Но, полагая, что эти новые заморские территории будут
не иначе, как райской обетованной землей, взял с собой ученого еврея,
знавшего древнееврейский и арамейский языки, дабы говорить там, на обе-
тованной земле, на этих ветхозаветных языках.
Подведем итог: две эпохи — Средневековье и Возрождение. Две жиз-
ненные философии. Идеи христианского Средневековья:
1. Краткость земной жизни человека и вечная загробная жизнь.
2. Земная жизнь — период испытаний физических и моральных сил
человека. Отсюда — идея подвижничества, аскетизма, жертвенности.
3. Возвеличение страдания — земное страдание — путь к вечному
(загробному) блаженству.
4. Осуждение мысли, сомнения, знания, гордыни, красоты телесной,
наслаждения телесного.
5. Идея безграничной веры в Бога, его пророков, проповедников.
6. Гуманизм сострадания (милосердие, жалость к униженным, обездо-
ленным).
Эти идеи наложили свою печать на духовную жизнь общества, при-
нявшего христианство. Они отразились в его нравах, обычаях, вкусах, при-
вычках, морали, законах, искусстве, философии.
Что же возвестили миру гуманисты Ренессанса?
1. Возвеличение человека без Бога, без господина.
2. Отрицание бессмертия. Земная жизнь остается единственным и не-
повторимым достоянием человека.
3. Возвеличение земного счастья, красоты, наслаждения—телесного
и интеллектуального.
4. Возвеличение мысли и сомнения, отрицание догмы и веры.
5. Отрицание фанатизма.
6. Осуждение страдания.
7. Гуманизм величия человеческого.
Средневековая культура, как писал Анатоль Франс, не знает «красоты
формы», не знает «сладострастия вечного мира», «всеобъемлющей власти
Венеры», она «чужда благородной страсти к познанию». А Ренессанс — это
«беспокойное брожение мысли», «прекраснейший недуг», «божественное
чудовище, которое мы лелеем, хотя оно пожирает нас».
Иногда за далью времени мы уже не различаем будничных деталей
жизни ушедших поколений. Минувшая эпоха нам рисуется в грандиозности
трагических событий. Мы видим только великое, оставившее свой след
в истории. Мелочное, досадное, отравляющее каждодневный быт частных
лиц, остается вне поля нашего зрения. Так в радужных мечтах о прошлом
мы склонны идеализировать его.
РЕФОРМАЦИЯ
В эпоху Возрождения возникло широкое общественное движение —
борьба за реформу церкви.
Нидерланды, Скандинавские страны, Женева, часть германских кня-
жеств откололись от католического Рима. В Германии забушевала Вели-
кая крестьянская война. Во Франции разгорелись кровавые междоусобные
религиозные распри. Движение за церковные реформы, развернувшееся
в Западной Европе в эпоху Ренессанса, получило в исторической науке
наименование Реформации или Протестантизма. Во главе его стояли
Мартин Лютер и Жан Кальвин. Религиозная борьба всколыхнула огром-
ные народные массы.
Народ в массе своей был тогда глубоко религиозен. Он верил искренне
и горячо. Но до его сознания доходила мысль, что жизнь церковников,
несущих ему слово Божье, разительно отличается от проповедуемого ими
идеала. И вот появились люди, знающие латынь, ученые и благочестивые,
которые стали говорить, что католическая церковь отклонилась от истинно-
го пути и действует по наущению дьявола. Сначала опасливый шепот
разносил слухи о новых проповедниках, потом все громче и громче стали
раздаваться протестантские речи, и теперь уже никакие пытки и казни
не могли их заглушить.
Протестантское движение вскоре обрело своих вождей: Лютера в Гер-
мании, Кальвина в Швейцарии. Оно приобрело даже свои территории и ста-
ло огромной политической силой.
Католическая церковь проводила службу на латинском языке, который
народ уже не знал. Протестанты обратились к национальным языкам. Стали
переводить на национальные языки и Библию. Главное, что в новых рели-
гиозных учениях возмущало католиков,— это отрицание посредничества свя-
щенника в общении христианина с Богом. Верующий, по учению протестан-
тов, мог непосредственно обращаться к Богу, минуя и храм, и священника.
Это уже затрагивало экономические интересы церкви. Богословские споры
велись и о таинствах евхаристии (обряд причастия), о «свободе воли»
(«благодати») и пр.
МАРТИН ЛЮТЕР
Однажды он шел с одним из своих друзей, Алексисом,
гроза застигла их, и друг его был убит громом; это
событие так потрясло 22-летнего Лютера, что он дал обет
вступить в монахи.
Т. Н. Грановский
Так началась карьера талантливого богослова, потрясшего в XVI сто-
летии католический мир Западной Европы. В монастыре он истязал се-
бя молениями и постом и жадно читал богословские книги. Двадцати
семи лет от роду он побывал в Италии, завидев издали Рим, он благоговейно
опустился на колени в благочестивом восторге перед городом апостола
Петра и папского престола. Но, ознакомившись с нравами церковников,
а они, особенно высшие иерархи во главе с папой, вели совсем не благо-
честивый образ жизни, он был возмущен. Особенно поразила его циничная
продажа индульгенций (отпущение грехов за определенную плату).
Смелый, бескомпромиссный, он прибил однажды к дверям церкви в
Виттенберге знаменитые 95 тезисов против индульгенций.
Это был бунт. Реакция Ватикана была самая отрицательная, но среди
верующих нашлось немало сторонников Лютера. Началась отчаянная борь-
ба, вылившаяся в конце концов в грандиозную Крестьянскую войну в
Германии. В истории это получило наименование Реформации (борьба за
реформу церкви).
Активность Лютера была необычайна, он много писал и печатал
книг, развивая и углубляя свои идеи. Однако главным трудом его жизни
стал перевод Библии на немецкий язык. Этот образцовый перевод положил
начало основанию и оформлению единого общенационального немецкого
языка.
В германских городах возникли лютеранские приходы. Новые, люте-
ранские, церкви отличались от католических простотой и даже бедностью
внутреннего убранства в духе раннего христианства. Лютер восстал и
против безбрачия священников, как это было установлено по католическому
канону, отказался от монашества, женился. Его жена тоже сняла с себя
монашеский сан.
Ватикан бушевал и проклинал отступника, покушаясь даже на жизнь
24
этого бунтаря-проповедника, но за Лютером стояли уже огромные народ-
ные массы и даже князья, отказываясь платить Риму десятую часть дохо-
дов и к тому же иметь возможность конфисковывать владения католических
монастырей.
Мне довелось видеть дом в Эйслебене, где родился Лютер. Крепое ка-
менное строение с толстыми стенами, маленькими окнами, узкими тесными
комнатами на двух его этажах. Во всем ощущалась суровая простота быта
средневекового человека. В такой обстановке воспитывался непреклонный,
грубоватый характер проповедника.
ЖАН КАЛЬВИН
— Ребята! — закричал Моревель, повысив голос и
обращаясь к солдатам.— Гугеноты хотят убить короля
и истребить католиков; это надо предупредить. Сегодня
ночью, пока они спят, мы всех их перебьем... Король
отдает вам их дома на разграбление.
Крик дикой радости пронесся по всем рядам:
— Да здравствует король! Смерть гугенотам!
Проспер Мериме
Так французский писатель в своем знаменитом романе «Хроника
царствования Карла IX» описывает начало резни гугенотов в ночь на
24 августа 1572 года (праздник Варфоломея). Резня, залившая
кровью Париж, потрясшая всю Европу, так и вошла в историю как Варфоло-
меевская ночь. Католики и гугеноты. Две враждующие партии, расколовшие
тогда страну, уничтожали друг друга с фанатическим упорством, и по
сути вся вторая половина XVI века ушла на эту войну.
А у истоков стоял немощный, тщедушный человек с горящими глазами
фанатика, изводивший себя голодом и постом,— Жан Кальвин, второй
после Лютера идейный вдохновитель религиозных войн и всего проте-
стантского движения. Суровый, жестокий и крайне нетерпимый ко всякому
инакомыслию богослов. Родился в Пикардии, слушал лекции в Париже и
Орлеане по богословию и праву. Познакомившись с идеями Мартина
Лютера, он нашел в них нечто родственное своим собственным мыслям.
Католицизм был явно ему не по душе. Критические его высказывания
о государственной религии Франции навлекли на него недовольство церков-
ных властей, ему пришлось бежать в Швейцарию, где он и обосновался.
Сначала это был скромный учитель греческого языка, потом всесильный
диктатор Женевы. Человек суровых нравов, отказывавший себе во всем,
он поистине заковал общественную и частную жизнь женевцев цепями
строгих нравственных правил.
Его сочинение «Наставления в христианской вере», написанное по-
латыни и им же с блеском переведенное на французский язык, широко
распространилось в городах Швейцарии, Франции, Англии. Что касается
25
последней, то в годы, когда совершалась революция XVII века, имя Каль-
вина было на знаменах сторонников Кромвеля.
Главным в идейном спектре учения женевского проповедника была
теория предопределения. Бог, как учил Кальвин, назначил людям разную
участь, одних он наделил благодатью, предназначив их к вечному блажен-
ству, других обрек на вечные страдания, ибо природа человека порочна.
Все в воле Бога. Человек может лишь желать, жадно тянуться к благодати,
ради нее исполнять строго регламентированные (Кальвин рационалисти-
чен) правила веры, мышления, морали. Человек может лишь надеяться.
И не жаловаться, не скорбеть, не сетовать на Бога! Даже тогда, когда
божественная благодать осенит недостойного человека, даже тогда, когда
отдавший всего себя и жизнь свою служению Богу окажется лишенным
благодати.
Все предопределено, все предугадано, все предначертано, кому
спастись, кому оказаться праведником, кому остаться грешником без
покаяния, осужденным на вечные муки. Человек не способен изменить свою
судьбу, и никто, ни один церковный иерарх, будь то сам папа, не сможет
это сделать. Человеку остается лишь смиренно молить Бога о милости.
Ясно, что такая теория никак не устраивала католическое духовенство,
ведь Рим бойко торговал индульгенциями и получал за них немалые день-
ги, потому как Лютер, так и Кальвин были прокляты папой.
Во Франции уже после смерти Кальвина разгорелась кровопролитная
война между католиками и гугенотами (сторонниками кальвинизма),
одним из мрачных ее эпизодов была ночь на 24 августа 1572 года.
В июле 1573 года гонец германского императора Павел Магнус рассказы-
вал русскому царю Ивану Грозному: «Король французский воевал с коро-
лем Наваррским и умыслил злодейским обычаем, чтобы с ним помириться;
помирившись, сговорил сестру свою за Наваррского короля, и тот приехал
на свадьбу, и с ним много больших людей приехало; тут король француз-
ский зятя своего, Наваррского короля, схватил и посадил в тюрьму, и теперь
сидит в тюрьме; а людей его всех до одного с женами и детьми в ту же ночь
побил и сказал, что побил их за веру, что они не его веры, побил и своих лю-
дей, которые одной веры с королем Наваррским; всего в то время побил
до 100 000».
Иван Грозный, который, как известно, не отличался особым мягкосерде-
чием, через гонца Скобельцына высказывал Максимилиану II свои сожале-
ния: «Ты брат наш дрожайший, скорбишь о пролитии крови, что у француз-
ского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе и с грудными
младенцами; христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчело-
вечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без
ума пролил».
События тех страшных дней описал Проспер Мериме в своем романе
«Хроника царствования Карла IX».
ИГНАТИИ ЛОИОЛА
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В душу врезалось ему.
Путешествуя в Женеву,
На дороге у креста
Видел он Марию-деву,
Матерь Господа Христа.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, mater dei кровью
Написал он на щите.
А. С. Пушкин
Испания болела рыцарскими романами, «Амадис Галльский» полонил
сердце не одного только Дон Кихота Ламанчского, но и многих
других. Рыцари избирали себе даму сердца. Пушкинский рыцарь из-
брал Деву Марию. Но шутливой выдумкой поэта говорила историческая
правда. И как ни странно, героем такой романтической истории оказался
основатель ордена «Христово воинство» («Братство Иисуса») Игнатий
Лойола.
Сын провинциального испанского дворянина, храбрый вояка, он в одном
из сражений с французами был тяжело ранен в ногу. Вынужденное про-
должительное лежание в постели заставило его много читать. Между по-
вестей о похождениях рыцарей попался сборник легенд о святых, широко
тогда "распространяемый для назидательного чтения. Легенды захватили
пылкого воина, он стал воображать себя служителем Девы Марии. Эта
идея увлекла его окончательно. Близкие смущенно глядели на него: уж не
потерял ли он рассудок? Игнатий бросил воинскую службу, отправился
в путешествие в Палестину.
Между тем как паладины
Ввстречу трепетным врагам
27
Тициан. Святой
Себастьян.
Художники
Ренессанса часто
изображали этого
римского юношу,
казненного за
принадлежность к
христианской вере,
причем изображали
его полным сил и
здоровья.
По равнинам Палестины
Мчались, именуя дам.—
«Lumen, coelum, sancta rosa!» (Свет небесный, святая роза!)
Восклицал всех громче он,
И гнала его угроза
Мусульман со всех сторон.
Игнатий Лойола уже сбросил рыцарские доспехи и больше не сражался
на поле брани, но в богословские споры вступал с пылом неофита. Но
тут он обнаружил, что крайне невежествен. И начались годы учебы в
университетах Саламанки, Парижа. 40-летний студент упорно постигал
латынь и все премудрости тогдашних наук.
Лойола умер в 1556 году, но его последователи оттачивали и совер-
шенствовали теорию и практику Ордена. Это не была монашеская органи-
зация. Иезуиты носили обычное светское платье, могли жениться, но сами
они всецело должны были полностью принадлежать Ордену. Чтобы быть
принятыми в Орден, им надлежало пройти очень сложный искус (испытание
на покорность). Главный их девиз — исполнение воли папы. Какими сред-
ствами?—Все средства хороши ради достижения цели. Они проникали в
высшие сферы власти, овладевали тайнами дипломатии, прибегали к интри-
гам, не брезговали кинжалом и ядом, чтобы убрать неугодных папе
влиятельных лиц государств. Словом, это было страшное орудие в распо-
ряжении римского папы, основанное на строжайшей дисциплине воинство
(у них были рядовые и генералы). Иезуиты не обошли своим вниманием
и воспитание юношества. Их школы (для детей господствующих классов)
давали обычно блестящее образование. Они привлекали к обучению луч-
ших преподавателей, не требовали от них особой религиозности, но
хотели видеть в будущих представителях правящей элиты верных служи-
телей незыблемых основ католицизма.
ХРОНОЛОГИЯ РЕНЕССАНСА
Обратимся к скупому перечню исторических дат. Они многое ска-
жут нашему воображению. Мы увидим противоборство двух культур.
Средневековье напугано новыми идеями. Оно сопротивляется, прибе-
гает к репрессиям. На его стороне власти, судебные органы, армия, на сто-
роне же гуманистов — таланты, энтузиазм, знания. Создаются шедевры ли-
тературы, живописи, скульптуры, архитектуры.
29
1307—1320 гг.— Создание «Божественной комедии» Данте, величествен-
ной эпопеи христианства, где отрицание «града земного» (Ад) и прослав-
ление «града Божия» (Рай) доведено до эстетического совершенства.
Средневековье еще полно сил, но светская мысль уже заявляет о себе:
Данте пишет «Новую жизнь» (история любви).
1304—1374 гг.—Жизнь итальянского поэта Петрарки, изучившего клас-
сическую латынь, пропагандиста античной культуры. Его пример увлек
многих его современников. Началось всеобщее увлечение древностями, со-
биранием античных рукописей, коллекционированием античных раритетов.
1313—1375 гг.— Жизнь Боккаччо, первого человека в Италии, изучив-
шего древнегреческий язык, что, надо сказать, само по себе представляло
известную оппозицию церкви. Богословский факультет Сорбонны запрещал
изучение греческого языка. Позднее в одном из монастырей, где проходили
ученические годы Рабле, у него были отняты греческие книги.
1350—1355 гг.— Создание «Декамерона» Боккаччо, где свободомыслие
доведено до сатирического осмеяния церковников. Но книга была издана
только в 1471 году. Церковная цензура была достаточно бдительна.
1350—1450 гг.—Столетие вызревания ренессансного мироощущения.
Свободомыслие постепенно крепнет и расширяется в обществе.
1431 г.— Трактат Лоренцо Баллы «О наслаждении как истинном бла-
ге». Первая философская попытка ниспровергнуть главный этический
принцип церкви — аскетизм.
1440 г.— Его же «Рассуждение о даре Константина». Разоблачение
подделки документа «дарственной», якобы дававшей римской церкви пер-
венство во всем католическом мире. (Трактат Лоренцо Баллы был
опубликован только в 1517 году.)
Сороковые годы XV века — изобретение Гуттенбергом книгопечатания.
Величайшее событие в истории культуры. «Изобретение книгопечатания,
пороха и компаса оказало такое влияние на человеческие отношения, како-
го не оказала ни одна власть, ни одна секта, ни одна звезда»,— писал
современник Шекспира Фрэнсис Бэкон.
1453 г.— Падение города Константинополя. Последний хранитель остат-
ков античной культуры, Византия, перестала существовать. Ученые греки,
захватив с собой сохранившиеся древние рукописи, бежали в Италию и на
новой родине возбудили еще больший интерес к греческому языку и к гре-
ческим древностям, они же занялись и переводами греческих авторов на
латинский язык.
1480 г.— Первая печатная книга на древнегреческом языке. Басни
Эзопа. Извлечения из Феокрита.
1481 г.— Реакция настораживается, усмотрев в распространении ан-
тичной (языческой) культуры признаки грядущего вселенского безверия.
В Испании активизируется инквизиция. Она существовала еще с XIII века,
затихая (временами) и снова возгораясь вплоть до 20-х годов
XIX века.
5 декабря 1484 г.— Булла папы Иннокентия VIII о ведьмах, известная
под названием «Суммис дезидерантес» («Summis desiderantes»). Это были
первые слова буллы. В переводе с латыни — «С величайшим рвением...».
Призыв к массовому уничтожению «ведьм», страшное по своему невежеству
и варварству деяние Ватикана. Приведу несколько слов из этой буллы:
30
«С величайшим рвением, как того требуют обязанности верховного пасты-
ря, стремимся мы к тому, чтобы росла католическая вера и были искоре-
нены деяния еретиков... С великой скорбью осведомились мы, что в неко-
торых частях Германии, особенно в областях Майнца, Кельна, Трира,
Зальцбурга и Бремена, весьма многие особы как мужского, так и женского
пола, не заботясь о собственном спасении, отвернулись от католической
веры, имеют греховные половые связи с демонами, принимающими облик
мужчин или женщин, и своими колдовскими действиями... наводят пор-
чу, губят рождаемое женщинами, приплод животных, плоды земли, вино-
градники и плодовые сады... фруктовые деревья, луга, посевы и урожаи...»
Булла вызвала поистине взрыв преследований и страшных жестокостей.
Жертв подвергали изощренным пыткам, добиваясь от них признания в
колдовских действиях. В некоторых городах ежедневно сжигалось по
10—12 человек. Десятки тысяч гибли в страшных мучениях. Обвинения
были самые вздорные, так, один старик был сожжен за то, что «вызывал»
бури, «летал» в облаках и сорок лет служил дьяволу.
1487 г.— Два инквизитора, Яков Шпренгер и Генрих Инститорис,
опубликовали наставление по проведению ведьмовских процессов «Молот
ведьм».
Средневековье отчаянно боролось, не сдавая свои позиции, но ренес-
сансное движение не замедлялось. В XVI столетии Монтень резко осудил
и осмеял веру в ведьм.
I486 г.— Рассуждение «О достоинстве человека» Пико делла Мирандо-
ла, программа Ренессанса. Тогда же «900 тезисов обо всем, что познаваемо».
1492 г.—Христофор Колумб открывает Америку. Переворот в умах:
ломаются старые представления о Земле. «Никогда открытие в чисто
материальной сфере, расширяя человеческий кругозор, не производило бо-
лее разительной и более длительной перемены в сфере моральной. Была
поднята завеса, миллионы лет скрывавшая половину земного шара...
Колумб заставил род людской задуматься над бесконечным множеством
новых вещей, он содействовал прогрессу человеческой мысли»,— писал ве-
ликий немецкий ученый Александр Гумбольдт.
1499—1504 гг.— Путешествие Америго Веспуччи в Новый Свет.
Между тем множится печатная продукция, древнегреческие авторы откры-
ваются взору европейского читателя. В Милане выходят Феокрит, Гесиод,
Исократ (издатель Аккурс).
1494 г.— В Венеции основана знаменитая типография Альда Мануция.
1494 г.— Начало «Итальянских войн». Их ведут последовательно фран-
цузские короли Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Генрих II. Войны
грабительские, захватнические. Ренессансная культура Италии покоряет
умы захватчиков. Идеи перекочевывают во Францию, Германию, Англию,
Испанию.
1495 г.— Во Флоренции выходят древнегреческие авторы — четыре
трагедии Еврипида, сочинения Каллимаха.
1495—1498 гг.— Альд Мануций печатает в Венеции сочинения Аристо-
теля и Теофраста.
1496 г.— Во Флоренции выходит Лукиан, в Венеции Феокрит, Бион,
Мосх (издатель Альд Мануций).
1498 г.— Тот же издатель печатает 9 пьес Аристофана.
31
Боттичелли. Весна. Фрагмент. 1478.
1497—1500 гг.— Васко да Гама открывает морской путь в Индию.
Представления о мире меняются. Новые страны, неведомые до того обычаи,
образ жизни других народов, иные верования вносят большие перемены
в само мышление средневекового человека.
Расцветают пластические искусства Италии: «Тайная вечеря» Леонардо
да Винчи (1498), «Святое семейство» Микеланджело (1503), «Мадонна
Конестабиле» Рафаэля (1504), «Джоконда» Леонардо да Винчи (1506).
Браманте начинает строительство собора св. Петра в Риме.
1509 г.— Микеланджело расписывает своды Сикстинской капеллы.
Эразм Роттердамский пишет знаменитую «Похвалу глупости».
1512 г.— Микеланджело создает скульптуру Моисея.
1513 г.— Итальянский писатель Макиавелли пишет свое парадоксаль-
ное сочинение «Государь» — программу деспотического правительства.
Итальянцы готовы принять тирана, лишь бы он объединил страну, постоян-
но раздираемую воинственными правителями мелких княжеств, на которые
была разделена тогда страна.
1516 г.— Томас Мор пишет книгу «Утопия» — это мечта об идеальном
обществе полного социального равенства. «Утопия» в переводе с греческого
значит «несуществующая страна». Сам автор понимал, что предлагаемый
им проект преобразования общества вряд ли когда-нибудь осуществится.
Появился «Трактат о бессмертии души» итальянца Пьетро Помпонаццо.
Автор отрицает бессмертие, заявляет, что религия есть лишь политический
и нравственный инструмент, нужный простому народу, философ же не нуж-
дается в сказках. Философы — боги на земле, живут, довольные своей
мудростью, эзотерически, то есть в своем узком кругу интеллектуалов.
32
1517 г.— Лютер приклеивает на двери в Виттенберге 95 тезисов против
католицизма.
1519—1522 гг.— Первое кругосветное путешествие, совершенное Магел-
ланом, стало событием чрезвычайной важности.
1522 г.— Лютер переводит на немецкий язык Новый завет Библии.
1524—1525 гг.— Великая крестьянская война в Германии.
1528 г.—Итальянец Кастильоне пишет сочинение «Придворный», где
создает образ идеального человека, мыслимый гуманистами Ренессанса.
1530 г.— Во Франции основан Коллеж де Франс — учебное заведение
по изучению трех древних языков — древнегреческого, латинского, древне-
еврейского (иврита), позднее — и арабского. Светское образование в духе
идей Ренессанса завоевывает умы.
1532 г.— Франсуа Рабле начинает создавать свой великий роман
«Гаргантюа и Пантагрюэль».
1535 г.— Казнь Томаса Мора. Лагерь гуманистов Ренессанса потерял
одного из важных своих лидеров.
1539 г.— Создается Орден иезуитов в Испании. Католическая церковь
укрепляет свои позиции, обеспокоенная движением ренессансной мысли.
Триденский собор составил первый список запрещенных книг (Индекс),
провозгласил непогрешимость папы, объявил войну Реформации, развер-
нул репрессии против гуманистов (1545—1563).
1546 г.—В Париже сожжен издатель и гуманист, друг Рабле Этьен
Доле.
1547 г.— Друг Монтеня Этьен де Ла Боэси пишет сочинение «Добро-
вольное рабство», осуждающее деспотизм и монархический принцип.
1553 г.— Протестантская церковь, ставшая господствующей в Швейца-
рии, приступает к репрессиям против инакомыслящих. Сожжен на костре
ученый-гуманист Мигель Сервет.
XVI в.— Расцвет пластических искусств в Италии. Творят великие
художники — Тициан, Бенвенуто Челлини, Веронезе, Тинторетто и др.
1572 г.— Варфоломеевская ночь. Проведенная католиками массовая
резня протестантов (гугенотов) в Париже.
1575 г.— Торквато Тассо создает поэму «Освобожденный Иерусалим».
Ренессанс в Италии сдает свои позиции.
1580—1588 гг.— Монтень печатает три тома «Опытов», в которых про-
тивопоставляет разгулу фанатизма периода религиозных войн скептическую
философию («Не убивайте людей во имя зыбких мнений!»).
1598 г.— Начало творчества Шекспира.
1600 г.— Казнь Джордано Бруно в Риме. Средневековье празднует
победу.
1605 г.— Сервантес печатает первую часть своего великого романа
«Дон Кихот». В 1615 г. выходит вторая его часть.
1616 г.— Смерть двух гениев Ренессанса — Сервантеса и Шекспира.
1620 г.— Фрэнсис Бэкон издает свою книгу «Новый Органон» — фило-
софское обоснование материализма, призыв поставить опыт во главу науч-
ного исследования.
1633 г.— Великий ученый Галилео Галилей в церкви Санта Мария
сопра минерва в Риме, стоя на коленях, принес публичное покаяние и был
объявлен узником инквизиции. Он отрекся от Коперника и его открытия.
2 Литература эпохи Возрождения
33
Отречение Галилея произвело более сильное впечатление на европей-
скую интеллигенцию, чем даже казнь Джордано Бруно.
Эпоха Ренессанса кончилась.
Такова история могучего умственного движения в Западной Европе в
скупом перечне дат и событий. Ренессанс имел свои особенности в каждой
стране. Они не затрагивают его сущности. Основные идейные позиции,
а главное — оппозиция Средневековью сохранялась во всех этих странах.
Но в силу тех или иных исторических условий жизни народов вырабатыва-
лись свои доминанты, иначе говоря, преимущественное развитие тех или
иных видов духовной деятельности гуманистов.
В Италии была богатая литература, однако первенство следует отдать
все-таки пластическим искусствам. В Англии Ренессанс создал театр.
Драматургия Шекспира, да и его талантливых современников (Кристофер
Марло) затмила все остальные виды искусства. Во Франции он достиг выс-
шего своего выражения в философской прозе (Рабле, Монтень).
Если касаться самой тематики литературы, то интерес писателей к тем
или иным проблемам часто диктовался политической обстановкой в их
странах. В Италии, Испании, где католицизм был достаточно крепок, а
также в Англии, где протестантская церковь утвердилась относительно
безболезненно, религиозная тема почти не коснулась литературы. Тогда как
во Франции, объятой пожаром религиозных войн, эта тема была одной из
главенствующих.
В Италии, страдавшей от политической раздробленности, и во Франции
в процессе укрепления абсолютной королевской власти, проходившего весь-
ма болезненно, политическая тема стала одной из центральных. Между
тем в Англии она проявилась достаточно умеренно и больше касалась
культа личности в общечеловеческом масштабе (трагедии Кристофера Мар-
ло «Тамерлан Великий», Шекспира «Ричард III»). В Испании политическая
тема не затронула сколько-нибудь серьезно ни Сервантеса, ни его современ-
ников.
Шедевры Рафаэля и Микеланджело затмили достижения мастеров пера.
Монтень записал в своем Итальянском дневнике: «Я был поражен зрелищем
крестьян с лютней в руках и пастушек с Ариостом на устах. Это можно уви-
деть по всей Италии». Так было в 1580 г. Итальянцы, конечно, и сейчас
помнят и чтят своего поэта. Но кто знает его за пределами Италии? Между
тем как творения итальянских живописцев, скульпторов в памяти всех.
ИТАЛИЯ
...Где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды...
А. С. П у шкин
В 1511 году Рафаэль, украшая красочными фресками апартаменты
папы Юлия II, создал знаменитую фреску «Парнас», чудесную, пол-
ную глубокой мысли картину, в которой показаны гармоническое един-
ство античной культуры и того, что нес с собой Ренессанс. Все полно жизни и
красоты. Посередине, на возвышении фигура Аполлона в окружении девяти
муз. В пышной толпе небожителей великие поэты античности и поэты новых
времен. Рядом с Гомером Вергилий и Данте, древнегреческая поэтесса Са-
фо и рядом с ней Овидий и Гораций. Здесь же и новейшие мастера —
итальянцы Петрарка, Боккаччо и Ариосто. Прозрачный воздух, нежные
краски весны — прекрасное царство поэзии.
Пользуясь своим географическим положением, связанная с мировыми
торговыми путями, Италия богатела и расцветала. Щедро вкладывались
капиталы в строительство дворцов, храмов, щедро оплачивались творения
художников, и когда правители народов, живущих севернее ее, узнавали
35
Падуя. Современный снимок.
о ее богатствах и роскоши, то возгорались желанием что-то урвать для
себя. Французские короли Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Ген-
рих II обрушивали на итальянцев свои полчища. Несказанная красота
дворцов и храмов, их интерьеров ослепляла пришельцев.
Карл VIII писал из Италии герцогу Бурбонскому: «Трудно вам вооб-
разить, до чего прекрасные сады я видел здесь, ибо, честью клянусь, о коих
36
надеюсь я вам рассказать при встрече, что ежели бы еще поселить в них
Адама с Евой, то это и был бы рай земной. Сыскал я в этой стране отмен-
ных художников, и вы пошлите к ним, пусть изготовят они для вас наилуч-
шие, какие только возможно, картины, ибо те, что находятся в Бо, Лионе
и прочих городах Франции, даже сравниваться не могут красотой и вели-
колепием своим со здешними. А я привезу вышеупомянутых художников
с собою, дабы они написали мне подобные же для Амбуаза».
Италия стала родиной Ренессанса, ее к этому подвигала сама история,
давние традиции, связывавшие ее с Древним Римом и его культурой. Ра-
фаэль, создавая фреску «Парнас» и поставив рядом с античными поэтами
своих соотечественников — Данте, Петрарку, Боккаччо, Ариосто, именно на
эти традиции и указывал.
Петрарка! Боккаччо! Поговорим о них. Они открывали Ренессанс. Они
вывели его на мировую арену.
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
Блаженный Августин: Что творишь ты, жалкий
человек? Что вожделеешь ты? Чего ждешь ты? Помнишь
ли ты о смерти?
Петрарка: Помню и содрогаюсь.
Так начинается философский диалог итальянского поэта с Блаженным
Августином. XIV век в Италии. Начало Ренессанса. Образованные
люди все с большим интересом обращают свои духовные взоры к дале-
кому прошлому, к античности, с удивлением открывая для себя совсем иной
мир, иной, не похожий на тот, в котором жили они, но необыкновенно
притягательный. Вначале они берут из античности мотивы, близкие по
духу средневековому мировоззрению, и Петрарка обращается к «отцу
37
церкви», к одному из первых христианских епископов — Блаженному
Августину, его призывает к себе в наставники.
Августин, живший на рубеже IV—V веков, оставил два произведения:
одно — полное страстей и заблуждений молодости, какие испытал он сам
(«Исповедь»), второе — суровое обличение язычества и страстная пропо-
ведь христианства («Град Божий»). Петрарка нашел в нем свое второе
«Я», так много было схожего в их духовном облике.
Диалог Петрарки, названный им «Моя тайна», раскрывает перед нами
тот кризис средневекового мировоззрения, который наметился в Италии
в XIV столетии и привел к Ренессансу.
Вопрос Августина: «Помнишь ли ты о смерти?» — был на устах всех
проповедников в Средние века. Идея ничтожества человека, краткости его
жизни, смертности, многократно повторяемая фраза «Memento mori!» вну-
шали мысли о суетности всех земных радостей, вожделений. В книге Пет-
рарки Августин поучает своего слушателя: «Чтобы презреть все обольще-
ния этой жизни, чтобы уберечь свою душу среди бешеных бурь мира, нет
ничего более действенного, как память о собственном ничтожестве и по-
стоянное размышление о смерти».
Но Петрарка влюблен. Книга написана через шестнадцать лет после
роковой встречи с Лаурой (6 апреля 1327 г.); ему тридцать девять лет, но
огонь любви по-прежнему сжигает его, и любит он земную женщину и лю-
бит по-земному. Мысль же о смерти внушает только ужас, а жизнь полна
радостей и красоты, и ее (красоту) создал Бог.
Говорили, что Петрарка—сухой рационалист, что Лаура—лицо вы-
мышленное, что ее никогда не было, что она лишь предмет для поэтических
упражнений, трудно с этим согласиться. Петрарка признается: «Тот огонь,
который меня сжигает, заставляет меня сожалеть, что я не родился бесчув-
ственным. Я предпочел бы быть неподвижным камнем, только бы не мучи-
ли меня вожделения тела».
Между собеседниками заходит разговор о сущности любви. Что любил
Петрарка в Лауре? Поэт говорит, что чем старше становилась Лаура и
краски бледнели под влиянием времени, тем больше он любил ее душу.
Недоверчивый Августин отвечает: «Ты смеешься надо мной, если бы ее
душа жила в некрасивом, уродливом теле, понравилась бы она тебе?»
Ренессанс заявляет о себе: красота мира, человека, радости реальной
жизни, наслаждение должны быть узаконены, реабилитированы, «восста-
новлены в своих правах», вспомним словечко «постлиминиумом», которым
гуманисты окрестили свои дни. Конечно, Петрарка заявляет об этом еще
робко, я бы сказал, застенчиво, дабы не шокировать чувств своих современ-
ников. А современники его обожали. Он был учен, блестяще знал класси-
ческую латынь, писал на этом классическом языке древности. Его поэма
«Африка», написанная на языке Вергилия и Цицерона, принесла ему
славу. Он был торжественно возведен в ранг поэта на Капитолии и
увенчан лавровым венком по обычаю древности. В этом сказалась и пат-
риотическая гордость римлян в дни Петрарки. Авторитет личности Пет-
рарки, его увлечения античностью способствовали распространению интере-
са к римским древностям в итальянском народе. Стали заниматься раскоп-
ками, извлечением из-под земли обломков античных скульптур, разыскани-
ем и собиранием античных рукописей.
38
А. С. Пушкин писал, что Петрарку отличали «твердость и неутомимость
духа, стремление к просвещению» и «уважение, которое умел приобрести
от своих соотечественников». Пушкин замечает при этом, что вопреки себе
Петрарка «более известен как народный стихотворец».
Как ни ценил Петрарка язык Вергилия и Цицерона, а свою книгу
«Канцоньере» написал на живом, родном итальянском языке.
* * *
Суровый Дант не презирал сонета,
Им жар любви Петрарка изливал.
А. С. Пушкин
Представим себе церковь Санта Клара. Весна. В окна льется солнечный
свет. Блеск золотых лепнин, иконы, скульптуры святых, свечи, благо-
честивая толпа. Двадцатитрехлетний юноша смотрит на двадцатилет-
нюю Лауру, пораженный ее красотой. Она уже замужем и, конечно, не заме-
тила влюбленных взглядов юноши, а это — поэт, который прославит имя ее
в веках. Так родилась любовь Петрарки.
Трудно сказать, что в «Канцоньере» (сборнике сонетов и кансон)
больше — оригинального поэтического замысла или подражания Данте с
его обожествленной Беатриче. Думается, без влияния и подражания здесь
не обошлось, но стихи так хороши, так искренни, что о первоисточнике
забываешь.
Любовь неразделенная, любовь-страдание. Что любит в незнакомке
поэт, а она все-таки так и остается прекрасной незнакомкой? — Конечно,
добродетель, изысканную сдержанность, обаятельную скромность, но ведь
прежде всего ее красоту: как тонки и изящны ее руки, как прекрасны и
нежны ее глаза, а лицо, оживленное румянцем, а слезы! О эти слезы милых
глаз, они драгоценнее всех алмазов! А ее улыбка! Сама весна расцве-
тает в них. Смотрите, как она ходит, сколько грации в ее поклоне.
То было в день, когда свет солнца гас,
Мучениям Христовым сострадая,—
Тогда меня беспечность молодая
Повергла, донна, в сети ваших глаз.
Не думал я, что можно в этот час
Ждать зов любви: я шел, не соблюдая
Дозорных мер: мгновенье — и лихая
Моя беда с мирской бедой слилась.
Меня любовь застигла безоружным:
Вел к сердцу от очей открытый путь,
Дорога слез, тропа сердечных мук.
Ни о какой взаимности не может быть и речи, да и сам Петрарка не до-
пустил бы этого, она — жена другого, и брак их священен. Но от сознания
этого муки любви не становятся меньше. Сердце распалено страстью. Лаура,
Лаура, зачем встретил я тебя?
39
А. Гольбейн. Портрет молодого человека.
Заворожен неистовой мечтою
Всегда повсюду следовать за тою,
Кто сеть любви рвет легкою стопою,
Опережая шаг неспешный мой.
Тем менее я властвую собою,
Чем больше рвусь к забвенью и покою:
Напрасно шпорю, дергаю уздою,—
Мой пыл упрям влюбленной слепотою;
И не могу его перебороть я,—
Он дерзко рвет из рук моих поводья
И к смерти напрямик меня несет;
Он мчится к Лавру, там листва скрывает
Язвительный для уст, горчайший плод,
Он раны больше жжет, чем исцеляет.
Поэт играет со словом «лавр», лавр и Лаура от одного корня. Сонеты
Петрарки облетели мир. Жанр сонета завоевал симпатии поэтов. Появи-
лись подражатели, холодные версификаторы, так называемые петраркисты.
Они забыты.
Но страдалец любви? Чем завершились его муки любви? В конце кон-
цов он пришел к выводу, что в этих муках есть счастье:
Благословен и год, и день, и час,
И та пора, и время, и мгновенье,
И тот прекрасный край, и то селенье,
Где был я взят в полон двух милых глаз:
Благословенно первое волненье,
Когда любви меня настигнул глас,
И та стрела, что в сердце мне впилась,
И этой раны жгучее томленье.
Благословен упорный голос мой,
Без устали зовущий имя донны,
И вздохи, и печали, и желанья,
Благословенны все мои писанья
Во славу ей, и мысль, что непреклонно
Мне говорит о ней — о ней одной1.
Петрарка — натура созерцательная. Он любил уединенье, покой, природу,
часто удалялся в свой родной Воклюз, читал, бродил по окрестностям.
Духовное звание давало ему достаточный достаток. Не бедствуя, в славе
и почете он умер в возрасте семидесяти лет.
Использованы переводы А. Эфроса.
41
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
(1313—1375)
Найдутся, вне всякого сомнения, и такие, которые скажут,
что в моих повестях слишком много шуток и прибауток и
что человеку с весом, человеку степенному это не
пристало.
Боккаччо
Пушкин назвал Боккаччо «творцом шутливых повестей». Итальянский
автор вошел в мировую литературу как автор ста новелл, которые он
объединил названием «Декамерон». Книга удивительная. Странно ее
видеть рядом с «Канцоньере» Петрарки, автора строгого, серьезного, далеко-
го от шутки, а тем более от непристойности, которые с веселым смехом позво-
лял себе Боккаччо. Но они были друзьями. Впрочем, поэтические произ-
ведения Боккаччо («Фьезоланские нимфы», «Фьямета» — роман о любви)
вполне могут вписаться в эстетическую систему певца Лауры.
Но мир принял и удержал в своей памяти только полный шуток и не-
пристойностей (довольно в сущности безобидных) «Декамерон».
Боккаччо открыл дорогу для многих последующих авторов как в Ита-
лии, так и за ее рубежами. Известна книга сестры французского короля
Франциска I Маргариты Наваррской «Гептамерон».
В новеллах, рассказанных Боккаччо, мы увидим шумную итальянскую
улицу, пеструю толпу разных состояний и сословий. Здесь и влюбляются
и домогаются любви, торгуют и обманывают, потешаются над скрягами и
ловко вымогают у них деньги. Современники писателя предстают перед
нами живо, колоритно, во всей простоте, а подчас и скудости их быта.
Иногда автор уводит нас в сферу идеальной любви, возвышенных и благо-
родных чувств. Писатель насмешлив. Особенно достается от него лицам
духовного звания, и не за то, что они грешат (это дело естественное, и человек
в сутане не избавлен от вожделений и чувств, свойственных всем людям), а
42
за то, что лицемерят, ханжат, строят из себя святых. «И то сказать: мона-
хи— люди хорошие... и если бы только от них не попахивало козлом, то
их общество ничего, кроме удовольствия, не доставляло бы»,— иронизирует
Боккаччо.
Почему писатель использовал в большинстве рассказов и грубоватую
откровенность и обнаженную «телесность»?
Во-первых, потому, что так мыслил, говорил, балагурил и незамысло-
вато шутил простолюдин, а к нему в первую очередь обращался автор;
Андреа-да-Кастаньо.
Портрет Джованни
Боккаччо.
43
во-вторых, в дни Боккаччо итальянское средневековое общество не чура-
лось уличных выражений, даже в высших сословиях. Правда, уже расцвел
на юге Франции прелестный цветок рыцарской галантности, семена кото-
рого ветром альбигойских войн были занесены и ко двору короля Сицилии,
и в Болонский университет, и на берега Арно, и в придворные нравы
Альбиона.
Пушкин после выхода в свет поэмы «Граф Нулин» вынужден был
отстаивать право поэта на вольную шутку, на шутливый эротический сю-
жет. И он сослался на авторитеты, на «вольные сказки Боккаччо».
* * *
Данте, Петрарка, Боккаччо наполняют своим творчеством XIV век
в Италии, что касается XV века, то он «отдыхает». Ни одного значитель-
ного имени, ни одной «звезды» на его поэтическом небосклоне не появится,
и лишь позднее засверкают таланты Ариосто с его «Неистовым Роландом»
и Торквато Тассо с его поэмой «Освобожденный Иерусалим», но за пределы
родины они не выйдут. Поэтам вообще трудно пробиться на мировую арену:
то, что на родном языке выглядит прелестью необыкновенной, на чужом,
в переводе часто посредственного человека теряет все свои краски, а иногда
становится просто нелепостью. Известен анекдот по поводу перевода
поэмы Тассо на русский язык. В оригинале речь идет о том, что один из
героев поэмы граф Готфрид Бульонский в гневе отправился в храм. Пере-
водчик это передал по-русски так: «Бульон вскипел, потек во храм». Редко-
редко иностранному автору удается обрести достойного переводчика, по-
добного В. А. Жуковскому или Самуилу Маршаку, открывшему русскому
читателю поэзию Роберта Бернса. Острословы шутят: «Перевод подобен
женщине, если она хороша, то неверна, а если верна, то нехороша».
Ничем не подивит мир итальянская поэзия и в XVII столетии. Разве
что уроженец Неаполя Марино, авантюрист, искатель приключений, привле-
чет недолгое любопытство европейского читателя к своей огромной поэме
«Адонис», в которой античный сюжет о богине, влюбленной в прекрасного
юношу, изложит в изящном обрамлении стихотворных кончетти, изящных
поэтических парадоксов.
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
Долог путь из полуденной Авзонии в туманный Альбион через го-
рода и веси средневековой Европы. Медленно, со скрипом катятся
деревянные колеса. Понуро бредут лошади, будто усыпленные рит-
мом собственных шагов, пока хлыст и зычный посвист возницы не заста-
вят их на минуту встрепенуться, перейти на рысь, чтобы потом снова впасть
в ленивую и дремотную иноходь.
Ломбардия, Шплюгенский перевал позади. Привольно раскинулась до-
лина Рейна. Поющий говор итальянцев сменился тяжеловатой речью
немцев. А путь еще далек. Какие мысли не посетят в дорожной скуке
вынужденно праздный ум седока. А седок, решивший в 1509 году пересечь
континентальную Европу, чтобы предстать перед очами нового короля
Англии, только что вступившего на престол под именем Генриха VIII, был
не кто иной, как сам Дезидерий Эразм Роттердамский, муж ученейший,
сподвижник и глава европейских гуманистов первой половины XVI сто-
летия.
Зачем покинул он тихие библиотеки Италии, где самозабвенно изучал
старинные манускрипты, стирая пыль веков с латинских и греческих литер?
Зачем оставил гостеприимный дом венецианского издателя Альда Ману-
ция? Зачем не принял соблазнительных приглашений кардинала Джованни
45
Медичи, в будущем папы Льва X, искушавшего его церковной карьерой
и красной кардинальской шапкой? — Его звали в Англию друзья, и среди
них любезный сердцу Томас Мор. «Небо смеется, земля ликует»,— писали
Эразму из Англии, прославляя нового государя и суля сказочные блага
для гуманистов.
Пройдут годы, и голова друга Эразма—Томаса Мора, автора знаме-
нитой «Утопии», велением этого государя ляжет на плаху под топор палача.
Но кто же тогда мог этого ожидать? На вопрос о том, будет ли он, ко-
роль, «любить ученых и покровительствовать им», Генрих VIII не колеблясь
ответил: «Как же иначе? Что же я буду представлять собою без них?»
И гуманисты, столь же ученые, сколь и наивные в делах житейских, возли-
ковали, ибо «никогда еще и ни один монарх не изрекал столь прекрас-
ных слов» (из письма Эразму Вильяма Монтжоя).
И вот теперь, полный надежд и упований на будущее, ехал в Англию
Эразм Роттердамский, мысленно уже предвкушая сладостный нектар
ученейших бесед со своими английскими друзьями.
Пока длилось путешествие, гоня от себя дорожную скуку и занимая
требующий труда ум, писал Эразм произведение удивительное, странное
и парадоксальное. Оно было не похоже ни на что из того, что он создавал
ранее.
Эрудит глубокомысленный и серьезный, не свободный, пожалуй, от при-
сущего средневековым книжникам тяжеловесного педантизма, он обратился
к шутке, к вольной и шаловливой игре ума. И — чудо! — все поблекло и
стушевалось перед этой непритязательной игрой. Труд всей его жизни —
собрание притч и сентенций древности числом более четырех тысяч, ученые
рассуждения в стихах и прозе, назидательные диалоги («Домашние бесе-
ды»), переводы (Библии с греческого на латинский, сочинений «отцов
церкви») и письма (более двух тысяч)—все уступило славе маленькой
книжицы, появившейся первоначально на латинском языке, вскоре пере-
веденной на языки Европы, восторженно принятой современниками и ныне
самой читаемой в мире, книжицы с веселым и странным названием —
«Похвала глупости».
В ней Эразм высказал всего себя. Это его исповедь, его кредо, его суд
над историей и людьми, его философия жизни. В ней — его идеалы, вож-
деленные мечтания, его ненависть и презрение. И все это в шутливом
иносказании, и все мудро и гениально, ибо мудр и гениален был сам
Эразм.
Ганс Гольбейн Младший, прославленный художник, оставил нам его
портрет. Ныне этот портрет украшает стены Лувра в Париже. Сосредо-
точенное, спокойное, внутренне умиротворенное лицо. В руке карандаш.
Глаза устремлены на бумагу. Эразм пишет. Художник воссоздал главное.
Перед нами ученый. Эразм был самым образованным человеком своего
времени. Великолепное знание древних языков позволило ему дать научный
перевод библейских текстов, научный комментарий к ним, впервые взгля-
нуть на «священные письмена» глазами трезвого историка, свободного от
мистики и религиозного фанатизма.
Сын голландского бюргера, рожденный вне брака, желанное (deside-
rius), но незаконное дитя, Эразм рано начал постигать «науку жизни».
Ненавидя монашество, он стал монахом, презирая богословов, он не отка-
46
зался от титула доктора богословия, который присвоил ему Туринский
университет, где Эразм ради этого титула провел самые нелепые с точки
зрения здравого смысла богословские словопрения. Бичуя тиранов и деспо-
тизм, Эразм расточал живым владыкам мира сего самую сладостную лесть
и добился того, что они, европейские владыки (короли и магнаты церкви),
спорили друг с другом из-за чести принять его у себя, наперебой пригла-
шали его на свои земли. И он, свободный и не терпящий никакой зави-
симости, переезжал из одной европейской столицы в другую, возглавляя
и олицетворяя собой великую республику ума.
«Сумасбродом называю я всякого, не желающего считаться с установ-
ленным положением вещей и применяться к обстоятельствам, не помнящего
основного закона всякого пиршества: либо пей, либо — вон, и требующего,
чтобы комедия не была комедией. Напротив, истинно рассудителен тот, кто,
будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, кто
снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заод-
но с нею».
Открытые сердца порицали Эразма за притворство, смельчаки — за
робость, люди непреклонные — за уступчивость. Но никто в его дни не сде-
лал больше для дела прогресса, никто, оставаясь неуязвимым, не высказал
более опасных истин, чем он — этот сдержанный, широкий и насмешли-
вый ум.
Своей повсеместной славой, одним своим именем Эразм придавал
авторитет всему гуманистическому движению эпохи Возрождения. Его
«Похвала глупости» была направлена прежде всего против догматизма,
мракобесия, лености мысли и авторитарности Средневековья. Эразм в своей
сатире нещадно полосует средневековых богословов. В его дни это были те
дурни-догматики, которые во все времена доводили до абсурда вверенные
им идеи.
Эразм пишет о пороках социальной жизни людей и главным из них
считает войну. Спокойный и сдержанный, он здесь гневен и патетичен.
«...Война есть дело до того жестокое, что подобает скорее хищным зве-
рям, нежели людям, до того безумное, что поэты считают ее порождением
фурий, до того зловредное, что разлагает нравы с быстротою моровой язвы,
до того несправедливое, что лучше всего предоставить заботу о ней отъяв-
ленным разбойникам...»
Он негодует и скорбит, озирая глазами философа безумства челове-
чества. Жалким и ничтожным выглядит в его картине мир, не способный
подчиниться разуму, пребывающий в постоянном смятении ничтожных, но
губительных страстей. «В общем, ежели поглядеть с луны, по примеру
Мениппа1, на людскую сутолоку, то можно подумать, будто видишь стаю
1 Менипп—очень популярное в Древнем Риме, а впоследствии и в эпоху Возрождения
имя древнегреческого философа (III век до н. э.). От него ничего до нас не дошло. Видимо,
это был острый сатирический ум, представитель философской школы киников. В связи с
именем философа возник еще в древности особый сатирический жанр «мениппея», образцы
которого являют собой сочинения Петрония, Лукиана, а в эпоху Возрождения «Похвала глу-
пости» Эразма Роттердамского. К этому жанру относится и анонимное сочинение «Мениппо-
ва сатира» во Франции в XVI столетии.
47
мух или комаров, дерущихся, воюющих, интригующих, грабящих, обманы-
вающих, блудящих, рождающихся, падающих, умирающих. Нельзя и пред-
ставить себе, сколько движения, сколько трагедий в жизни этих недолго-
вечных тварей, ибо сплошь да рядом военная буря или чума губит и унич-
тожает их целыми тысячами».
Суд Эразма над человечеством суров. Суров был и мир, в котором он
жил. В благодатной Италии, где небо так ясно и море так ласково к че-
ловеку, жили, действовали, решали судьбы людей сатанинские создания
вроде кардинала Цезаря Борджиа, причастного, кажется, ко всем порокам
и всем видам преступлений, или его сестры — правительницы Феррары,
красавицы и отравительницы Лукреции Борджиа, или, наконец, папы
Юлия II, что с мечом в руке, торжествующий и обрызганный кровью, въез-
жал в завоеванные города.
Войны опустошительные, грабительские терзали то одну, то другую
часть Европы. Религиозные распри, маскируя политические интересы, будо-
ражили народы и порождали гражданские войны. Народ погрязал в нище-
те, бесправии, невежестве. Эпидемии косили людей. Гольбейн Младший,
первый иллюстратор книги Эразма, создал кошмарные лики «Пляски смер-
ти». Средневековье предстает перед нами в его картинах во всей нищете
плоти и духа.
Впрочем, сатира Эразма не столь уж безотрадна. Эразм смеялся, а
где смех, там нет места отчаянию и ожесточению.
* * *
Похвала глупости! Как могло появиться желание хвалить глупость?
Глупость во все времена была предметом насмешек. Древние греки имели
свой «город Глупов» — Абдеру, родину Демокрита. Немцы создали целую
литературу дураков (Narrenliteratur). Незадолго до Эразма Себастьян
Брандт написал сатиру «Корабль Дураков».
У нас на Руси излюбленным героем сказок стал Иванушка-дурачок.
Лишенный тяжелодумного практицизма своих старших братцев, он весел,
непритязателен и беспечен. И в конце концов за простоту и незлобивость
свою удостоен счастья и царства.
Героиня сатиры Эразма глупость родилась на тех Счастливых островах,
где растет несеяное и непаханое, и родитель ее — Бог Плутос (богатство).
Впрочем, он «есть единственный и подлинный отец богов и людей. По его
мановению в древности, как и ныне, свершалось и свершается все — и
священное и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государствен-
ная власть, советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы,
искусства, игрища, ученые труды...».
Раскройте грандиозную эпопею Бальзака, его многотомную «Челове-
ческую комедию», разве не эту самую мысль Эразма показал он нам в
живых лицах и фактах человеческого бытия? Мысль Эразма широка, как
мир, как сама жизнь. Иногда в его вскользь брошенном замечании
узнаешь потрясающие нас идеи и образы, раскрытые уже после него, до-
веденные, так сказать, до высшей кондиции, до апогея другими гениаль-
ными умами.
48
Иероним
Босх.
«Несение
креста».
1505 г.
Деталь.
Таков
этот мир,
который
хотел
исправить
Иисус
Христос.
Глупость в сатире Эразма — не только предмет насмешек. Иногда, по-
добно герою русских сказок, она вдруг предстает перед нами совсем в ином
обличье, и мы не знаем, смеется ли автор или незлобливо и благосклонно
взирает на свою героиню. «Итак, если среди ученых счастливее других те,
которые состоят в наиболее близком родстве с Глупостью, то, без сомнения,
величайшие счастливцы—те, кто воздерживается от всякого соприкосно-
вения с науками и исполняет веления одной природы; ведь природа никогда
не заблуждается...»
Что это? Ирония человека, отдавшего всю свою жизнь науке, или
предвосхищение тех грозных нападок на цивилизацию, с которыми высту-
пит в XVIII столетии Жан-Жак Руссо, предвосхищение той страстной про-
поведи женевского мудреца, которая поэтично отзовется в творениях рус-
ских писателей («Цыганах» Пушкина и почти в каждой строке Льва
Толстого). Разве не подписался бы автор «Рассуждения о науках и искус-
ствах» под каждым нижеследующим словом Эразма? «В золотом веке
человеческий род, не вооруженный никакими науками, жил, следуя указа-
ниям одной природы. Какая, в самом деле, была нужда в грамматике,
когда у всех был один общий язык и искусство речи служило лишь для
того, чтобы люди понимали друг друга? Какую пользу могла принести
диалектика (искусство вести диспут.— С. Л.), когда не существовало не-
сходных мнений? Есть ли место риторике там, где никто не доставляет
соседу никаких хлопот? К чему знание законов при отсутствии дурных
нравов, от которых — в том нет сомнения — родились хорошие законы?».
В этой славице Эразма «золотому веку» прошлого человечества, пожалуй,
больше вожделенных мечтаний о будущем. Гуманист и ученый, он верил
в прогресс и всеми силами содействовал ему.
Много смысла, глубокого, философского, жизненного смысла в на-
падках героини сатиры Эразма на так называемого «совершенного мудре-
ца»— прообраза наших идеальных героев. Эразм издевается над неразуми-
ем стоиков, выдумавших поистине бесплотный образец человеческой добро-
детели, несуществующих совершенств личности, неких идеальных качеств,
что под стать разве что богам, словом, создавших в своем воображении
«мраморное подобие человека, застывшее и лишенное всех людских
свойств. Пусть философы, ежели им это нравится, носятся со своим мудре-
цом, пусть никого не любят, кроме него, пусть пребывают с ним вместе в го-
сударстве Платона, или в царстве идей, или в садах Танталовых! Кто не
убежит в ужасе от такого существа, не то чудовища, не то привидения,
недоступного природным чувствованиям, не знающего ни любви, ни жало-
сти, твердому камню подобного, скалам Марпесса холодным, от которого
ничто не ускользает, который никогда не заблуждается, который, подобно
зоркому Линкею1, все видит насквозь, все тщательно взвешивает, все
знает...» Это говорит героиня сатиры Эразма Глупость. Но не ее ли, в дан-
ном случае отнюдь не глупыми устами, глаголет здесь сам Эразм?
1 Линкей — герой греческой мифологии — обладал необыкновенно острым зрением. Он мог
видеть то, что находилось под землей. Тантал за оскорбление олимпийских богов был осужден
на вечную жажду и вечный голод, когда рядом находились манящие и недоступные и влага,
и пища.
50
Он смеется, лукавит, потешается над нами. Иногда в рассуждениях его
героини мы вдруг узнаем черты тех людей, с которыми во второй половине
XVI века во Франции выступит Монтень, философ-скептик: «...Заблуж-
даться— это несчастье, говорят мне; напротив, не заблуждаться — вот ве-
личайшее из несчастий! Весьма неразумны те, которые полагают, будто
в самих вещах заключается людское счастье. Счастье зависит от нашего
мнения о вещах, ибо в жизни человеческой все так неясно и так сложно,
что здесь ничего нельзя знать наверное... А если знание порой и возможно,
то оно нередко отнимает радость жизни». Не те же ли мысли высказывает и
шекспировский Гамлет! Словом, читая сатиру Эразма, мы пребываем по-
стоянно на гребне больших общечеловеческих идей, великих вопросов,
терзавших человеческую мысль и до Эразма, и после него. И кто скажет,
что все они уже решены?
Медленно совершались путешествия в средневековой Европе. Долог
был путь из Италии в Англию, и пока длился он, глубокомысленный Эразм,
«глядя на повседневную жизнь смертных», создавал свою необыкновенную,
парадоксальную и мудрую книгу. Он закончил ее уже в Англии, в деревен-
ском домике Томаса Мора, оттуда начался ее славный путь в вечность.
Через 25 лет друг Эразма Томас Мор будет казнен. Ему отрубят голову
по приказу короля Генриха VIII, восшествию на престол которого они оба
так радовались. «Я почувствовал, как будто бы вместе с Мором умер и я»,—
сказал Эразм и скоро— 12 июля 1536 года — скончался в Базеле.
Литературное наследие писателя огромно. Кроме богословских сочине-
ний, он оставил много латинских стихов. Это в его дни среди ученой братии
было престижным занятием. Любопытны его сатирические диалоги «Разгово-
ры запросто». Здесь примером ему служили сочинения Лукиана. Резко и
неприязненно отозвался о них Мартин Лютер. «На смертном одре я запрещу
своим сыновьям читать Эразмовы «Разговоры»! Он гораздо хуже Лукиана.
Он издевается надо всем на свете, прячась под личиной благочестия». Между
тем в книге немало далеких от богословских споров, милых и безобидных
сценок. Например:
Памфил. Здравствуй, жестокая, здравствуй, железная, здравствуй, адамантовая!
Мария. Здравствуй и ты, Памфил,— столько раз, сколько раз пожелаешь. А вот мое
имя ты позабыл. Меня зовет Марией.
Памфил. Надо бы звать Марсией.
Мария. Это еще почему, скажите на милость! Что общего у меня с Марсом?
Памфил. А то, что и Марсу убийство в забаву, и тебе тоже. Только ты еще бессердеч-
нее: губишь всех подряд, даже тех, кто тебя любит.
Мария. Вот тебе раз! Да где ж они, эти груды трупов? Где кровь убитых?
Памфил. Один бездыханный труп перед тобою. Взгляни-ка на меня.
$'
ФРАНЦИЯ
Францию XVI века разрывали религиозные войны. Страна разби-
лась на два враждующих лагеря, с одной стороны были сторонники
официальной, государственной католической церкви, возглавляемой
папой римским, с другой — протестантская гугенотская церковь, опирав-
шаяся на швейцарского проповедника Жана Кальвина. Лилась кровь, гиб-
ли люди, жестокостям не было конца. Своего пика они достигли в 1572 году
в Варфоломеевскую ночь — ночь резни в Париже 24 августа гугенотов
(huguenot от hu genon — мартышка).
До нас дошли гравюры и уличные плакаты, чудом сохранившиеся в
водовороте событий. Они достаточно ярко рисуют политическую борьбу
времени. Как и следует предполагать, католики в своих карикатурах зло
высмеивают гугенотов, гугеноты — католиков. Гравюра «Генеалогия гугено-
тов» изображает протестантов в виде обезьян, собак, уродов и пр.
Другая гравюра изображает казнь Михаила Сервета. Кальвин подносит
огонь к ногам Сервета, и народ в ужасе бежит к городу Константинополю
(«лучше турки, чем кальвинисты»). Протестанты в своих карикатурах
изображают папу римского как антихриста или служителя дьявола.
На другой карикатуре Лютер и Кальвин (оба протестанты) вцепились
друг другу в бороды, папа Лев X заткнул себе уши, оглушенный их криком.
В стороне мирный пастух, отвернувшийся и от папы и от его противников,
52
занимается своим стадом и обращается к небу, не понимая всех религиоз-
ных разногласий и не желая в них ввязываться. Внутренние стены церквей
покрылись множеством картин или сатирических скульптур, изображавших
Генриха III и английскую королеву Елизавету, Лопиталя, Генриха Навар-
рского и многих других политических деятелей той поры, к которым като-
лическая или протестантская церковь имела какие-либо претензии. Ген-
рих IV повелел потом уничтожить эти церковные карикатуры.
На стенах домов можно было видеть стихотворения-призывы:
В огонь, в огонь угу ересь,
Что днем и ночью нас терзает.
Париж, Париж, цвет благородства,
Сверши возмездие, Бог разрешает.
Люди, мирные, миролюбивые, склонные к добру, состраданию, чело-
веколюбию, в страшном религиозном угаре совершали в иные минуты
безумные акты жестокости, от которых они сами при здравом размышле-
нии отшатнулись бы с содроганием и ужасом.
Франция еще сохраняла в своем внешнем облике черты сурового Сред-
невековья. Средоточием роскоши, культуры, изящных искусств была Ита-
лия, сравнительно с которой родина Монтеня казалась глухой и невеже-
ственной провинцией. За год до Варфоломеевской ночи в свите кардинала
д'Эсте Францию посетил прославленный Тассо. Вот его впечатления: «Сре-
ди тучных полей возвышаются дурно построенные города с узкими улица-
ми, мрачными домами, большею частью деревянными и разбросанными в
беспорядке, в которых тесные, темные витые лестницы ведут в широкие и
неуютные помещения. Дворяне, надменные тираны своих слуг, всегда при
оружии, глубоко невежественные, с тщедушным телом, но безмерным само-
любием, они помыкают здоровенными крестьянами.
Несмотря на все старания Франциска I, большинство церквей имеет
мало произведений искусства. В Париже — стечение протестантов, обма-
нутых обещаниями и коварной лаской двора».
Французское искусство первой половины XVI столетия развивалось
в борьбе готики и нового, идущего от античности, так называемого ренес-
сансного стиля. Во второй половине века наметилась решительная побе-
да ренессансных элементов, в конце же столетия появились и в зодчестве и
в скульптуре черты затейливого, усложненного барокко, о нем пойдет речь
дальше.
Национальный характер французского искусства той поры создавался
в борьбе двух направлений, одно из которых исходило из стародавних
традиций, порожденных аскетическим, теологическим мировоззрением
Средневековья, второе родилось недавно вместе с гуманизмом, с увлечени-
ем античностью, бунтарским материалистическим мировоззрением. Вы-
тянутые, остроконечные формы не только архитектурных ансамблей, но и
скульптурных композиций, характерные готике, уступают место простым,
ясным, гармоничным формам нового искусства, искусства Ренессанса.
Суровый, подавляющий человека дух отрешенности от жизни царил
в готике,— светом, солнцем, радостью жизни засветилось новое искусство.
Там человек — раб, здесь — бог, властелин земли. Там он уродлив, измож-
ден, тщедушен, здесь — полон здоровья, силы, здесь он радостен и прекра-
53
сен. Достаточно взглянуть на знаменитые барельефы Фонтана невинных в
Париже, выполненные Жаном Гужоном в 1547—1549 годах, чтобы почув-
ствовать, какая революция произошла во французском искусстве. Нимфы-
источники, изображенные на барельефах, полны жизни. Откуда-то с моря,
с юга налетел ветер, обдал их утренней свежестью, разметал волосы.
Тонкая кисея платья затрепетала и бесчисленными складками прильнула
к горячему телу, обрисовав его прекрасные формы. Перед нами не только
новые методы и приемы мастерства, сравнительно с методом мастерства
предшествующего стиля, здесь новое мировоззрение, новое отношение к че-
ловеку, к жизни, новая философия.
Не сразу победило новое. В ряде случаев элементы готики и Ренессанса
связаны в одном архитектурном ансамбле (замок Шамбор, церковь Сент-
Эсташ в Париже, 1552 г.).
Французы познакомились с античным искусством через Италию.
Итальянские мастера, прямые наследники античного искусства и великие
продолжатели его лучших традиций, стали посредниками между антич-
ностью и художниками Германии, Англии, Франции XV—XVI столетий.
Карл VIII пригласил во Францию 22 человека для отделки Амбуазского
замка (Фра-Джокондо из Вероны, Доменико Бернабеи из Кортоны и др.).
Франциск I приглашал Франческо Приматиччио, Себастьяно Серлио. Во
Франции бывал Бенвенуто Челлини, во Франции умер Леонардо да Винчи.
Увлечение античностью, всей ее культурой стало отличительной чертой
времени в истории Франции этого столетия. Монтень, рассказывая о себе,
выражал общие тенденции:
«...Я познакомился с историей Рима намного раньше, чем с историей
моего рода. Я знал Капитолий и его план прежде, чем узнал Лувр, и
Тибр — прежде, чем Сену. У меня в голове больше сведений об образе
жизни и богатствах Лукулла, Метелла и Сципиона, чем о ком-либо из моих
соотечественников».
* * *
Французская поэзия XVI столетия, пожалуй, прежде всех остальных
видов искусства предоставила свои разнообразные эмоциональные, весьма
эффективные формы в распоряжение воюющих партий. Песни, веселые
куплеты, эпиграммы, характерные для той поры, и весьма популярные
тогда четверостишия (катрены) рождались каждодневно—легкие, летучие,
без претензии на большое искусство, часто безымянные, под впечатлением
последней новости, последнего события. Много этих злободневных, тогда
передававшихся из уст в уста стихов попало в «Журнал Летуаля»,
интереснейшее собрание документов эпохи, и дошло до нас.
Вот четверостишие, появившееся в дни Варфоломеевской ночи. Приведу
его в прозаическом переводе: «Здесь покоится (но это слово слишком по-
четно), здесь адмирал повешен за ноги, за отсутствием головы». Адмирал
Колиньи был повешен за ноги, голова была отрублена и послана в каче-
стве приношения папе римскому. Ясно, что сатирическая эпитафия вышла из
кругов католических.
Вот сатирическая литания, написанная, вероятно, рукой бедного и бла-
54
гочестивого клирика. Ярко предстает перед нами картина Франции эпохи
религиозных войн, разрухи, государственной неупорядоченности. Ясно звучит
голос народа, утомленного войнами, недовольного политикой двора,
иронизирующего по адресу папы, и государственных чинов Франции, и ко-
ролевы-матери. Трудно сказать, на чьей стороне автор литании, католиков
или гугенотов. Он против тех и других. Шико смеется над всеми:
Бедный народ все терпит,
Вооруженные люди все разоряют,
Святая церковь за все расплачивается,
Любимчики все выпрашивают,
Добрый король все им отдает,
Парламент все утверждает,
Канцлер все скрепляет печатью,
Королева-мать все дела ведет,
Папа все им прощает,
Один Шико над всем смеется:
Все в конце концов пойдет к дьяволу.
* * *
ш
поэзия
На поэзию смотрели как на искусство развлечения, на стихи как на
красивые безделки, и поэты, потакая вкусам двора (этой участи не
избегли ни Клеман Маро, ни Ронсар), уподоблялись ювелирам,
стремясь к тончайшей отделке своих сонетов, посланий, гимнов, как поэты
старофранцузской школы оттачивали свои триолеты и баллады, а труба-
дуры свои серенады и альбы.
Мир для Клемана Маро широк и прекрасен. Даже когда он пишет
псалмы (перевод псалмов Давида), еретические стихи, осужденные Сор-
бонной, он в Боге видит устроителя земного счастья, справедливости и
милосердия. Земля не юдоль печали, земля — обитель добра и красоты.
Не случайно католики и протестанты одинаково преследовали поэта, первые
как еретика, вторые как вольнодумца.
Клеман Маро редко бывал печален. В его стихах мы не найдем ни
глубоких раздумий, ни меланхолических рефлексий. Он насмешлив и лукав.
55
В его поэзии бьет живой родник народного юмора, типично французского,
легкого, чуть-чуть фривольного, но всегда нравственно чистого и доброго.
Жизнь его полна скитаний под угрозой репрессий. Доктор богословия
Буше добился осуждения поэта и заключения его в тюрьму за «ересь».
Впоследствии бездарный поэт Сагон преследовал его клеветой и грубой
бранью, а вместе с ним и черная свора жалких писак. Клеман Маро отвечал
насмешливыми стихами.
Пьер Ронсар возвестил новую эпоху в истории французской поэзии, он и
окружавшие его поэты, принявшие претенциозное имя «Плеяды», ниспро-
вергли старые поэтические авторитеты Франции, в том числе Франсуа
Вийона.
В группу входили Ж. Дю Белле, Э. Жодель, Ж. А. ле Баиф и др. В ре-
зультате их творческой деятельности во французской литературе появились
такие понятия, как сонет, элегия, ода, комедия, трагедия. Никто до них не
писал в этих жанрах. Образцами служили античные авторы и итальянские
мастера.
* * *
Плененный в двадцать лет красавицей беспечной,
Задумал я в стихах излить свой жар сердечный,
Но, с чувствами язык французский согласив,
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.
Тогда для Франции, для языка родного,
Трудиться начал я отважно и сурово,
Я множил, воскрешал, изобретал слова,
И сотворенное прославила молва.
Ронсар
Заслуга Ронсара и его последователей, пожалуй, заключалась не в том,
что они усовершенствовали родной язык. Такой подвиг был вряд ли им под
силу. Заслуга их в том, что они обратили внимание своих современников
на необходимость создания литературного языка, а он становился цементи-
рующим элементом формирующейся нации. Вопросы чистоты языка, а под
этим понималась в сущности общенациональная унификация его, стали в
результате деятельности поэтов Плеяды вопросами дня, вопросами, вол-
новавшими тогдашнюю интеллигенцию Франции.
Областническая разобщенность французского языка, следствие еще не
закончившегося процесса территориального и административного объеди-
нения Франции в XVI столетии, была весьма заметной. Деятельность поэтов
Плеяды, направленная на унификацию языка, была поэтому своевремен-
ной и необходимой.
В своих усилиях усовершенствовать французский язык поэты Плеяды
опирались больше не на особенности родной речи, не на национальный
словарный фонд, а на греческие и латинские лексиконы. Справедливо
по этому поводу писал Пушкин: «Люди, одаренные талантом, будучи по-
ражены ничтожностью и, должно сказать, подлостью французского стихо-
56
творства, вздумали, что скудость языка была тому виною, и стали старать-
ся пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая
школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славянорус-
сов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара,
Жоделя и Дю Белле остались тщетными. Язык отказался от направления
ему чуждого и пошел опять своей дорогой».
ПРОЗА
Пушкин отдавал предпочтение французской прозе XVI столетия
перед стихами того же века. «Во Франции тогда поэзия все еще
младенчествовала... Проза уже имела сильный перевес: Монтень,
Рабле были современниками Марота («О поэзии классической и романти-
ческой»). Нельзя не согласиться с великим русским поэтом: XVI век дал
Франции Маро и Ронсара, но миру — Рабле и Монтеня.
В то время, когда поэты «истощали свои силы» в поисках лучших
форм стиха, прозаики меньше всего думали о красотах стиля и старались
в непритязательной ясности изложить свои мысли, наблюдения, рассказать
о событиях и фактах, воспроизвести в точности слышанное слово, нари-
совать живую картину.
Проза устояла, не поддалась модному среди поэтов стремлению
украсить цветами латинской риторики живую французскую речь. В изве-
стной степени это произошло в силу того, что за перо в ту пору брались
люди, никак не претендовавшие на лавры писателя. Среди лучших стилис-
тов Франции той поры мы найдем ученых, таких, как Амбруаз Пзре, Бер-
нар Палисси, Этьен Паскье, Амио и др.; солдат, как Лану, Конде, и даже
Генриха IV, письма которого являются образцом великолепной француз-
ской речи; придворных Брантома и Летуаля.
Писать «красиво», с риторическими украшениями такие люди почли
бы для себя унизительным, и они писали просто, как говорили, и речь
письменная становилась образной без искусственности, яркой без нарочито-
сти, фраза короткой, иногда с красноречивыми недомолвками, легкой,
изящной, как у Амио, грубоватой и сильной, как у Лану.
57
Проза всегда была деловой, писалась не для развлечения, а для дела,
поэтому всякое украшение в ней казалось неуместным. Любопытен от-
зыв о французской прозе той поры лучшего английского стилиста
XVIII столетия лорда Честерфилда, который писал: «Простота и ясность
«Писем» кардинала д'Осса показывают, как должно писать деловые
письма. Никакая аффектация, никакой изысканный оборот не затемняет, не
затрудняет понимание предмета, всегда излагаемого ясно и просто, как того
и требуют вообще дела».
Рабле и Монтень оба были противниками риторического педантства
или «цицеронианства» (Монтень), засорения французской речи латинскими
терминами, латинскими оборотами. «Нужно говорить языком общеприня-
тым»,— писал Рабле.
Французская поэзия школы Ронсара ориентировалась на инородную
языковую стихию, французская проза Рабле и Монтеня, наоборот, черпала
свою силу в родной почве, отсюда ее «решительный перевес» над поэзией.
Бурные события религиозных войн породили в участниках этих событий
желание запечатлеть их в дневниках и мемуарах.;15тор.аял1Ш10вща^СУ1_сто-
летия-особе-нно богата мемуарамц._Они истинные представители художе-
ственной прозы той поры. В наивной простоте речи заключена яркая сила
изображения.
Великолепным памятником эпохи является художественный перевод
«Жизнеописаний» Плутарха, сделанный Амио. Какое значение для Фран-
ции той поры имели переводы Амио, свидетельствует следующее суждение
Монтеня: «Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта
книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благо-
даря его труду, мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать
по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио —
это наш молитвенник».
Книга Амио два века спустя вызывала еще восторженное восхищение.
Гете вспоминал в «Поэзии и Правде», что юношей зачитывался Амио.
Самыми значительными умами Франции XVI столетия были, бесспорно,
Рабле и Монтень. Так непохожие друг на друга, они делали общее дело.
Роман Рабле был, однако, едва лишь прочитан автором «Опытов». Мон-
тень только однажды упомянул имя Рабле, назвав его писателем «непритя-
зательно забавным».
Рабле создал жанр сатирического философского романа. Его произведе-
ние стало энциклопедией французского Возрождения первого периода.
Произведение Монтеня вобрало в себя особенности французской
прозы второй половины XVI столетия, оно одновременно и запись-дневник,
подобно дневнику Летуаля, и мемуары, как мемуары современников его,
и художественный перевод, как Плутарховы жизнеописания Амио; в нем
острая насмешка памфлетиста и глубокомысленная эрудиция Паскье или
Амбруаза Паре. И вместе с тем — это глубочайшее осмысление (творче-
ское, критическое) античной философской мысли, глубочайшее проникнове-
ние в сущность проблем и задач своего времени, своего народа, это не-
ожиданное прозрение (иногда интуитивное, почти догадка, но догадка
гениальная), прозрение истин, а истина не умирает, потому и молод еще
для нас этот умерший в 1592 году в болезнях немощного тела шестидесяти-
летний писатель.
58
ИСКАТЕЛЬ МУДРОСТИ. ФРАНСУА РАБЛЕ
Бывало, солнце не взойдет,
А уж покойный встал и пьет.
Бывало, ночь в окно глядится,
А он все пьет и не ложится.
Воспеты были им умело
Кобыла сына Гаргамеллы,
Дубина, коей дрался он,
Шутник Панург, Эпистемон,
Боец и ада посетитель,
Брат Жан, лихой зубодробитель,
И папоманская страна (страна папы.— С. А.).
О путник, с легкою душою,
Закусывая ветчиною,
Вочонок доброго вина
Над гробом сим распей до дна.
Ронсар
Такой шутливой эпитафией проводил своего соотечественника поэт,
стихи которого я привел в переводе Ю. Корнеева.
Если вы взглянете на фронтиспис некоторых изданий сочинений
Рабле, то увидите лицо человека, блаженно улыбающегося, с полузакрыты-
ми глазами, с полуоткрытым ртом, будто напевающего какую-то веселую
песенку, в состоянии сладостного опьянения, как античный Силен среди
виноградных лоз. Таким хотели представить Рабле некоторые его издатели.
Весела его книга — значит, весел он сам — весел и благодушен.
Писателей часто роднят, а то и вовсе отождествляют с героями их
книг. Анатолю Франсу было тридцать семь лет, когда он создал роман
«Преступление Сильвестра Боннара», но читатели представили себе автора
чудаковатым стариком с «доброй сутулой спиной», каким был полюбив-
шийся им герой знаменитого романа. Подобное произошло и с Рабле.
Его герои любят изрядные трапезы, не гнушаются доброй чаркой вина.
Иногда они прямо злоупотребляют чревоугодием. Ну, значит, таков и сам
автор.
59
Портрет Франсуа Рабле с
гравюры XVI века.
Lcs Oeuures*deM^lfabelais D enMcdefine
о и ct continue Ihj/toirc clesjuitls hcroiyuesde
Garjfaniua et aeJon jib PantajrweL.
В 1601 году, то есть спустя полвека после смерти Рабле, в Париже
вышло собрание «Портретов многих знаменитых людей, живших во Фран-
ции с 1500 года по настоящее время». Под номером 99 помещался портрет
Франсуа Рабле в разделе «знаменитых врачей».
Худое, скорбное лицо. Прядь седых волос, выбивающаяся из-под
широкополого мягкого берета, какие носили в то время университетские
профессора. Профессорская мантия. Отороченный мехом воротник. Длин-
ная шея, редкая борода, широкий лоб. Большие глаза. В них много света.
Но в портрете нет того, чего мы ждали, что искали в нем, той безудерж-
ной^ беззаботной веселости, какой полным-полна его книга.
Улыбка Рабле печальна. Перед нами скорее поэт, чем шут и насмеш-
ник, натура утонченная, артистическая, а между тем перо этого человека
60
создало галерею королей-великанов, хохочущих во все горло, объедающих-
ся и отправляющих свои естественные надобности с самой благодушной
и самой наивной беззастенчивостью.
Глядя в худое лицо Рабле, невольно думаешь о том, что счастье
не очень баловало его, что он никогда не обладал большими материаль-
ными благами и если столы его героев ломились от яств, то сам он не-
редко довольствовался куском изрядно зачерствевшего хлеба и кружкой
дешевого вина.
В сборнике эпитафий церкви св. Павла в Париже (сборник составлен
в XVIII в.) сказано, что Рабле умер 9 апреля 1553 года. Считают, что ро-
дился он в 1494 году, значит, в момент смерти ему было около 60 лет.
Родился он в Турени, самой благодатной, самой цветущей части Фран-
ции, в долине реки Луары, в маленьком городке Шиноне, который и поны-
не так же мал, как и во времена Рабле («Я родился в зеленом саду Фран-
ции, в Турени»,— говорит один из героев его книги). Маленькие кривые
улочки, островерхие черепичные крыши, церквушки, развалины древней
крепостной стены, развалины древнего замка Плантагенетов и Валуа.
Здесь всегда безоблачное небо, тучные виноградники, аромат садов, а на
базарной площади бочонки с вином, и лукавая шутка, и острое словцо.
Таков был Шинон.
Кем был отец Рабле? Легенды говорят разное — содержателем кабачка,
аптекарем. Большинство французских ученых сходится на том, что Антуан
Рабле, отец писателя, был местным адвокатом, владевшим недалеко от
Шинона загородным домиком, в котором и родился писатель. В конце
XVIII века домик, где он родился, видел один путешественник-археолог.
Это был последний очевидец. Ныне никаких следов от пребывания когда-
то в тех местах великого писателя не осталось.
Известно, что мать его умерла рано. С десятилетнего возраста начались
скитания его по монастырям. Он постригся в монахи, когда ему было
25 лет. Неукротимый бунтарь, неукротимый жизнелюб, собрат Эпикура и
Лукиана, надел на себя монашескую сутану в самую цветущую пору жизни.
В главе 39 его книги приведен колоритный разговор:
«— Ряса давит вам плечи, снимите ее!
— Друг мой,— сказал монах,— пусть останется на мне, ей-богу, мне
в ней лучше пьется, от нее телу веселей».
Писатель шутил, но шутки его порой были довольно язвительными и
вряд ли могли нравиться серьезным блюстителям христианской ортодоксии,
но ему прощали, подобно тому как прощают короли дерзкие остроты
своих шутов. В 52-й главе первой книги насмешки Рабле еще более резки:
«В наше время идут в монастырь из женщин одни только кривоглазые,
хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, пор-
ченые и поврежденные, а из мужчин — сопливые, худородные, придуркова-
тые, лишние рты...» И это писал монах! Впрочем, он все-таки покинул
монастырь. С котомкой за плечами, с очень скудным запасом денег, бед-
няк, почти нищий, бродил он по стране, переходя из одного университет-
ского городка в другой, жадно взирая на мир, прислушиваясь к говору
народа, подхватывая на лету хлесткие, образные словечки, народные по-
словицы. В его книге запечатлены картины и образы его скитаний. Иногда
они страшны, хоть и даны в форме веселого балагурства: в Тулузе «сту-
61
денты живьем поджаривают своих профессоров». (В 1532 году там был
сожжен на костре профессор права Жан де Коар.) «Не дай мне Бог умереть
такой смертью! Я от природы человек пылкий, куда мне еще подогреваться
на костре!»
В Монпелье Рабле остался для серьезного изучения медицины. В сред-
ние века университеты жили своей особой жизнью. Это были как бы госу-
дарства в государстве. Местные власти не отваживались вмешиваться во
внутренние дела студенческой и профессорской корпораций. Города были
заинтересованы в университетах. Последние составляли их славу, при-
влекали толпы учащихся со всех концов не только Франции, но и Европы.
Студенты переходили из университета в университет слушать «знаменито-
стей». Преподавание велось на международном языке — латыни.
В Монпелье Рабле получил ученое звание бакалавра. Далее практикует
в Лионе в качестве врача. Знания его обширны. В медицине он по тем вре-
менам— революционер. Однажды он публично анатомирует труп повешен-
ного— факт неслыханный и ужасный, по понятиям средневекового челове-
ка. Его научная программа изложена в его книге: «...внимательно перечти
книги греческих, арабских и латинских медиков, не пренебрегай и талмуди-
стами и кабалистами и с помощью постоянно производимых вскрытий
приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть
человека».
В Лионе Рабле писал книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль».
КНИГА ЧУДЕС
Книга в своем роде единственная, равных себе не
имеющая и беспримерная.
Франсуа Рабле
Жили-были король-великан Грангузье и его супруга, тоже великанша,
Гаргамелла. Жили они счастливо, много ели и много пили. Так
много, что на их пропитание шли сотни и тысячи коров, поросят,
баранов и всякой живности. Со всего королевства везли им провизию,
ведь они короли — значит, и стол у них должен быть королевским. К тому
же у каждого члена королевского дома был преогромный рот. Короли-
великаны вместе с салатом могли проглотить и кого-либо из своих поддан-
ных, как это случилось однажды с наследным принцем, отправившим себе
в рот шестерых паломников, притаившихся за капустными листьями.
Правда, паломникам удалось спастись, но страху они натерпелись
немало.
Событием в жизни Грангузье и Гаргамеллы было рождение сына Гар-
гантюа, того самого, который потом чуть было не проглотил шестерых
благочестивых паломников. Гаргамелла объелась потрохами, «она съела
этих самых кишок шестнадцать бочек, два бочонка и шесть горшков» и в
таком своем недуге разрешилась от бремени.
62
Гюстав Доре.
Иллюстрация к роману
Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль».
Королевский сын, как и полагается королевским сынам, появился на
свет необычным способом, он вылез из левого уха своей родительницы.
Автор по этому поводу вступает в серьезный разговор со своим читателем:
«Разве тут что-нибудь находится в противоречии с нашими законами,
с нашей верой, со здравым смыслом, со Священным писанием? Я по край-
ней мере держусь того мнения, что это ни в чем не противоречит Библии.
Ведь если бы на то воля Божья, вы же не станете утверждать, что
Господь не мог так сделать? Нет уж, пожалуйста, не обморачивайте себя
праздными мыслями. Ведь для Бога нет ничего невозможного, и если бы
он только захотел, то все женщины производили бы на свет детей через
уши».
Итак, королевский сын родился. Но едва он появился на свет, как
громогласно заревел: «Пить!» Это привело Грангузье (Большая глотка)
в великий восторг. Сын явно обнаруживал наследственные черты. «Какая
же она (глотка) у тебя здоровенная!» — воскликнул счастливый отец (кё
гран тю а). Так и назван был сын — Гаргантюа.
63
Сказочная страна, в которой все это происходит, очевидно, Франция,
потому что живут в ней французы. Они «по природе своей жизнерадостны,
простодушны, приветливы и всеми любимы». Судя по всему, королевство
должно быть огромным. Но, присмотревшись повнимательнее, мы видим,
что родина великанов — всего лишь маленькая область вокруг хуторка
Ла Девиньер, который принадлежал отцу Рабле. Однако все здесь как в
заправских больших королевствах — и города, и крепости, и монастыри, и
войны.
Гаргантюа был в родителей велик ростом и отличался таким же не-
померным аппетитом. Жил он в свое удовольствие, пил, ел, спал и делал
все то, что делают дети в его возрасте. К нему был приставлен для науки
ученый дядька, схоласт, который обучал его латыни, но так, что королев-
ское дитя год от года становилось глупее. Это в конце концов было заме-
чено, и королевскому сыну дали другого учителя, ученого гуманиста, кото-
рый применил совсем иной способ обучения и добился результатов заме-
чательных. Гаргантюа вырос на диво разумным человеком. По этому по-
воду автор вспоминает древнегреческого философа Платона, который меч-
тал о таком государстве, где короли были бы философами, а философы ко-
ролями.
Добрейший Грангузье души не чаял в своем сыне и отправил его для
обучения в Париж. Там юный принц учился и развлекался. Однажды
он уселся на башне Собора Богоматери. Этот неблагочестивый акт очень
подивил горожан. Потом принцу приглянулись колокола Собора, и он при-
способил их в качестве погремушек на шею своей кобылы. Это произвело
еще больший переполох. Для вызволения колоколов к принцу был
отправлен магистр местного университета (Сорбонны), некий богослов,
причесывавшийся под Юлия Цезаря (Юлий Цезарь, как известно, был
лыс), «неказистый» и «грязнее грязи».
Богослов произнес блестящую «мухоморительную» речь в защиту коло-
колов, в которой, между прочим, сообщил, что, в случае благополучного
завершения своей миссии, он, богослов, получит от Сорбонны «десять
пядей сосисок и отличные штаны». «Ах! ах! — жаловался сорбоннист.—
Не у всякого есть штаны, это я хорошо знаю по себе!» Гаргантюа был
растроган, и колокола были возвращены. Так проходили дни юного Гар-
гантюа в Париже. Вскоре ему, однако, пришлось вернуться домой.
Началась война. Поводом к ней послужила драка из-за лепешек.
Повод, как и во всех войнах, ничтожный, но последствия ужасные.
На королевство напал со своим войском король-сосед — Пикрохол.
Грангузье хотел было миром кончить распрю (он был не охотник до драк),
но Пикрохол заупрямился» и война началась. В войне отличился монах по
имени Жан. Монашеского в нем было мало, зато силушкой он обладал
богатырской и так громил неприятеля, что получил прозвище Жан
Зубодробитель. Пикрохол был побежден и лишился королевства. Одна
старуха нагадала ему, что трон свой он вернет тогда, когда рак свист-
нет. И с той поры бывший король Пикрохол, всеми презираемый, жалкий и
злой, выспрашивал у каждого, не слыхивал ли кто, как за морями да за
долами свистнул рак.
Род великана Грангузье между тем здравствовал. Правда, сам Гран-
гузье уже почил, но сын его, теперь король Гаргантюа, женатый на коро-
64
леве Бадбек (это слово на гасконском диалекте означает «Разиня»), мирно
управлял государством.
У Гаргантюа и Бадбек — сын Пантагрюэль, веселый, разумный и на
редкость добродушный. Все было бы хорошо, но некий король Анарх
возмечтал о мировом господстве и, как некогда Пикрохол, напал на коро-
левство, которым правил Гаргантюа. Финал оказался и на этот раз для
зачинщика плачевным. Анарх лишился трона и стал торговцем лука.
И снова в стране воцарился мир. Теперь в центре внимания принц
Пантагрюэль и его друзья. Среди них Жан Зубодробитель, гуманист Поно-
крат, озорник, но ученейший малый Панург и др. Веселая, шумная и,
надо сказать, умная компания. Панург задумал жениться. Женитьба —
дело простое, но каково старому холостяку решиться? А для Панурга уже
«полдень прошел». И вот начались великие сомнения. А вдруг начнет изме-
нять, а вдруг станет драться будущая супруга? Сомнения Панурга раз-
деляет вся его компания. За советом обращаются и к ученым, и к знахарям,
и к умным, и к дуракам. Нет убедительного ответа. Добрая компания ре-
шила в конце концов отправиться в далекое путешествие в неведомые стра-
ны к оракулу Божественной Бутылки.
Каких только диковин, каких чудищ не повидали они по пути! Наконец
прибыли к Божественной Бутылке, но та вместо ответа издала особый
звук, впрочем, такой, какой и может издавать бутылка: «Тринк!»
Странное, удивительное произведение! Оно живет уже пятое столетие.
Интерес к нему не ослабевает. Что же в нем особенного? — Сказка. Вымы-
сел. Фантазия. Шутки, прибаутки. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Огромный
том. И автор — ученейший человек, доктор медицины Франсуа Рабле.
Французский историк Мишле восхищался им: «Рабле более велик, чем
Аристофан и Вольтер. Так же велик, как Шекспир... Ни один из наших пи-
сателей не дал такой полной картины своего времени... Это энциклопедия.
Вот почему Рабле превосходит даже Сервантеса». Может быть, все дело
в исторических намеках, важных для историка? Может быть, потому так
восхищен историк Мишле?
Но о Рабле с не меньшим восторгом отзываются писатели, мастера сло-
ва, тончайшие художники. Вот что писал Флобер: «По-моему, высшее дос-
тижение в искусстве (и наиболее трудное) отнюдь не в том, чтобы вызвать
смех или слезы, похоть или ужас, а в том, чтобы воздействовать тем же
способом, что и природа, то есть вызвать мечты. Поэтому лучшие произ-
ведения с виду так безмятежны и так непостижимы в способах воздей-
ствия на нас. Они неподвижны, как скалы, неспокойны, как океан, полны
листьев, зелени и шороха лесов, печальны, как пустыни, лазурны, как небо.
Гомер, Рабле, Микеланджело, Шекспир, Гете мне кажутся беспощадными.
Это что-то бездонное, бесконечное, многоликое. Сквозь маленькие просве-
ты вы видите бездны — черные, головокружительные,— и вместе с тем что-
то удивительно нежное витает надо всем! Это идеальный свет, улыбка солн-
ца,— и такой покой, такой покой! А сколько силы!»
Рабле будто и не предполагал таких похвал. Он даже ждал противо-
положных мнений и уже заготовил ядовитый ответ своим хулителям: «Если
вы мне скажете: «Почтеннейший автор! Должно полагать, вы не весьма
умный человек, коль скоро предлагаете нашему вниманию потешные эти
враки и нелепицы», то я вам отвечу, что вы умны как раз настолько, чтобы
3 Литература эпохи Возрождения
65
получать от них удовольствие». Книга Рабле родилась в народе. Перво-
начально это было маленькое зернышко. Рабле взрастил его, и оно превра-
тилось в могучее дерево, ветвями своими коснулось неба, а корнями ушло
в недра земные.
Сбросим со счетов времени несколько веков и окажемся в Лионе, том
самом «ученом городе», которым так гордились французы. Места живопис-
нейшие: Рона и Сона омывают его набережные. Контуры холмов прочер-
чивают волнистую линию горизонта. Бесчисленные церкви, одна древнее
другой, вонзают в небо свои готические шпили.
Сейчас старая часть города нравится, пожалуй, только туристам (здесь
мрачновато: улицы так узки, что, думается, не разойтись и двум встречным
пешеходам, дома так черны, что, кажется, дым, копоть и пыль столетий
пропитали насквозь их массивную каменную кладку, а город так древен,
что историки не находят даты его рождения). Тогда же, в XVI столетии,
точнее в 1532 году, когда сюда прибыл тридцативосьмилетний Франсуа
Рабле, только что получивший в Монпелье ученую степень бакалавра
медицины, тогда эта ныне «старая часть» выглядела очень внушительно.
Лион XVI столетия. Жизнь здесь бьет ключом. Четыре раза в год
устраиваются ярмарки. Со всех концов Европы съезжаются купцы. Ткани,
меха, ковры, различные виды оружия и лионский шелк — все можно приоб-
рести за деньги. В дни ярмарок в ходу монеты всех стран. На улицах зву-
чит голландская, немецкая, английская речь. Здесь люди различных рели-
гиозных убеждений, но спорят не о религии, а о ценах и в конце концов
совершают коммерческие сделки. Здесь царит дух терпимости и либерализ-
ма, и лионцы стоят на страже своих свобод. Сюда охотно съезжаются уче-
ные люди всей Европы. Их привлекают типографии. Издательское дело в
Лионе поставлено на широкую ногу. В Европе известны имена трех круп-
нейших лионских издателей — Себастьяна Грифа, Франсуа Жюста, Клода
Нури. Эти три дельца печатают, конечно, и ученые сочинения, но прежде
всего то, что в дни ярмарок пользуется широким спросом — гороскопы
(к ним Средневековье питало особое пристрастие), различные толкователи
снов, альманахи назидательных историй, поучений; шумно и бойко идет
торговля книгами. Уличные торговцы, громко зазывая покупателей, пред-
лагают маленькую книжицу под неотразимым названием: «Великие и бес-
ценные хроники гиганта Гаргантюа, содержащие рассказы о его родослов-
ной, величине и силе его тела, также диковинных подвигах, кои совершены
за короля Артура, его господина».
Сохранилось каким-то чудом два экземпляра этой книжицы (год
издания 1532). На обложке мужичок с бородкой клинышком. Опираясь на
посох, он широко шагает по распаханным полям. Вид у него миролюбивый.
Литеры с точками, перекладинами, закорючками. Красная строка выделяет-
ся причудливой заставкой, первая буква переплетена цветами, веточками,
травинками.
Открываем первую страницу. На нас нисходит далекая, наивная и
легковерная старина. «Как во времена доброго короля Артура жил-был
великий волшебник Мерлин». Король Артур! Мерлин! Это герои рыцар-
ских романов. Изобретательная фантазия средневековых поэтов создала
огромное множество таких романов. В них — прекрасные дамы и верные
рыцари, фантастические замки и волшебники, добрые феи и злые демоны,
66
и изъясняются они так изысканно, что крестьянину или ремесленнику
слыхивать подобных речей не приходилось. Рыцарские романы писались
для обитателей замков. Крестьянин и горожанин читали иные книги —
развеселую поэму о похождениях хитрого Лиса (Ренара) или грубоватые,
но смешные и потешные истории — фабльо.
Читая «Хроники» о преогромном гиганте Гаргантюа, мы замечаем, что
хоть в них и названы король Артур и волшебник Мерлин, однако по духу
своему эти хроники совсем не похожи на рыцарский роман. Они изрядно
грубоваты да, пожалуй, и примитивны по способу изложения. Грангузье,
Галемель, Гаргантюа перекочевали из нехитрой народной сказки в фило-
софский роман Рабле.
Можно предположить, что издатель предложил Рабле просмотреть эти
«Хроники» и подготовить к печати. Рабле, взявшись за работу ради за-
работка, увлекся и, оттолкнувшись от незамысловатой истории о гиганте
Гаргантюа, задумал свое собственное произведение.
Лионские издатели просили Рабле сделать еще что-либо для книжного
рынка — какой-нибудь гороскоп, толкователь снов или что-нибудь подобное.
Рабле написал «Пантагрюэлистическое пророчество». Оно вышло аноним-
но, но в авторстве сомнений быть не может. Это истинный Рабле, насмеш-
ливый и веселый.
«В этом году слепые не прозреют, глухие не прослышат, немые не за-
говорят, богачи заживут лучше бедняков, а здоровые лучше больных... Зато
перемрет столько попов, что некому будет раздавать бенефиции, и кое-кто
схлопочет себе по две, по три, по четыре, а то и поболее сразу... Я предо-
ставлю другим глупым гадателям заниматься королями и богатеями, сам
же я буду говорить о простолюдинах».
И далее следуют насмешки и шутки над «величием» королей, подобные
тем, которые мы услышим потом, через семьдесят лет из уст шекспировско-
го Гамлета.
«Звезды так же мало заботятся о королях, как и о прощелыгах».
«На ноевом ковчеге Трибуле (шут короля Людовика XII.— С. А.) чис-
лился из рода кастильских королей, а Кайетт (шут Франциска I.—
С. А.) от крови царя Приама».
В 1532 году Рабле начал печатать свой роман «Гаргантюа и Панта-
грюэль». Теперь он уже до самой смерти будет прикован к нему. Это книга
всей его жизни, как «Божественная комедия» для Данте, «Фауст» для Гете.
Свою книгу Рабле писал более двадцати лет, издавая ее частями. Она
отразила эволюцию гуманистической мысли, иллюзии и разочарования
благородных поборников просвещения народа, их надежды и мечты, победы
и поражения. Перед вами проходит вся история французского гуманизма
первой половины века во всей его славе, во всем его величии.
В первых двух книгах (1532—1534) Рабле молод, как молодо все
гуманистическое движение во Франции. Все в них звучит мажорно. Здесь
ясны небеса. Здесь короли-великаны легко и свободно расправляются с
врагами всего человечества. Здесь над всем доминирует вера в победу
разумного и доброго в жизни людей. В последующих книгах, как увидим,
на авансцену выйдет беспокойное сомнение в шутовском наряде Панурго-
вых поисков.
67
Караваджо. «Амур-победитель». Картина посвящена стихам Вергилия: «Все побеждает
любовь» (Omnia vincit Amor).
Читая книгу Рабле страницу за страницей, мы ощущаем в себе
нарастание какого-то непонятного нам чувства трагизма. Часто нам уже не
хочется смеяться. Аллегории становятся мрачными, шутки страшными.
В первых двух книгах — мир широк. Солнце лучами своими гонит тьму.
Нам весело и вольготно с добрыми великанами. Мы уверенно шагаем вме-
сте с ними по земле и верим, что победим всякое зло. Но это чувство
уверенности постепенно изчезает. Возникают сомнения. Мы начинаем уже
идти осторожнее, оглядываться по сторонам: не подстерегает ли нас беда?
Может быть, изменился сам Рабле, отказался от своих идей, взглядов,
идеалов? — Нет. Мир идей его неизменен. Только, пожалуй, тускнела вера
в победу, что-то утрачивалось в его бьющем через край оптимизме. И не
его в том вина.
Около двенадцати лет отделяют год издания Третьей книги романа
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (1546) от времени выхода первых. Многое
изменилось во Франции за эти годы. В середине тридцатых годов началась
жестокая расправа католической церкви с еретиками.
Франциск I, который вначале довольно спокойно отнесся к новым
вероучениям, вскоре переменил свою позицию, проявил крайнюю нетерпи-
мость к лютеранству, и не ради какой-то особой духовной приверженности
к католицизму, а по чисто политическим соображениям. «Все эти новые
секты стремятся гораздо более к разрушению государства, чем к назиданию
душ»,— заявлял он. Правительство и церковь с большой жестокостью орга-
низовали преследование еретиков. Костры, массовые расправы, заточение в
тюрьмы—таковы были методы борьбы короля и церкви за укрепление
авторитета католицизма. Даже папа Павел III убоялся широты и размаха
репрессивной политики Франциска I по отношению к протестантам и реко-
мендовал королю несколько поубавить «благочестивый пыл» в истреблении
еретиков.
Расправа над протестантами, дикая и безумная в своей свирепости
и фанатизме, произвела неизгладимое впечатление на просвещение и благо-
родные умы Франции первой половины XVI столетия — Клемана Маро,
Бонавентура Деперье, Рабле и других — и поколебала их веру в идею
просвещенного абсолютизма, которую они развивали прежде с восторжен-
ным энтузиазмом.
Франциск I женит своего сына, в будущем Генриха II, на племяннице
римского папы Екатерине Медичи, печально прославившейся впоследствии
в событиях религиозных войн Франции второй половины XVI века. Като-
лическая партия почувствовала себя еще сильнее.
Многое изменилось и в самом лагере гуманистов. Ряды их поредели.
Одни, не имея сил расстаться с идеалами, столь дорогими для них, проти-
воборствуют реакции и погибают. Другие идут на уступки реакции, как
это сделала Маргарита Наваррская. Третьи уходят от современности.
Античная культура, вдохновлявшая ранее гуманистов на борьбу с дикостью
Средневековья, теперь превратилась в далекую, отрешенную от современ-
ности, прекрасную Аркадию, в которую удалились гуманисты, ища забве-
ния от страшной реальности жизни.
Гуманисты избегают теперь политических и религиозных вопросов,
некоторые из них перестают даже говорить на родном языке, предпочитая
умершие языки Древней Греции и Древнего Рима, иные проникаются пре-
69
зрением к «невежественному» народу, идущему на поводу у обманщиков
и плутов в черных сутанах. Философия Пиррона (IV в. до н. э.) с его прин-
ципом невмешательства в дела мира, с его отказом от суждений, от оценки
явлений мира становится в кругах гуманистов одним из популярнейших
философских учений древности.
Все это, бесспорно уродливое и нездоровое в стане французских
гуманистов, имело свои причины, свои основания. Это тоже было протес-
том, но протестом пассивным.
Рабле в течение двенадцати лет молчал, но не сдавался, не уступал
своих позиций. Свою Третью книгу он посвящает «духу королевы Навар-
рской». Она писала, вторя Боккаччо, озорную, проникнутую идеями гума-
низма книгу «Гептамерон» (книга не была закончена и вышла в свет уже
после смерти автора), но, поддавшись настроению уныния и страха, впала
в мистицизм и выступила с сочинением «Зерцало грешной души». Рабле
иносказательно порицает ее:
О дух высокий, чистый и благой!
Паря в родной тебе лазури рая,
Ты позабыл приют телесный свой,
Свою красу, сурово плоть лишая
Всего, чем нам мила юдоль земная.
Рабле мягко наставляет ее, просит вернуться к прежнему умонастрое-
нию («Стряхни хоть раз своей тоски вериги») и в качестве лекарства от
хандры предлагает новые похождения своих развеселых героев.
В прологе к Третьей книге он презрительно бранит церковников. Они
скрывают от человечества солнце, свет правды, мудрости жизни: «Вон отсю-
да, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы!..
А ну проваливайте, святоши! Убирайтесь, ханжи!»
В первых двух книгах Рабле оптимистически прославлял просвещенного
монарха, короля-философа, имея в виду, очевидно, Франциска I. Потом
он еще не отказывается от этой идеи, но утверждает ее с меньшей уверен-
ностью в успех.
В Третьей книге на авансцену выходит Панург. Он шут и насмешник.
Он озорник и, прямо надо сказать, большой негодник. И вместе с тем по-
своему он великий мудрец.
Панург, брат Жан, Эпистемон, Понократ и другие лица, окружающие
юного принца Пантагрюэля, составляют веселую группу беззаботных гуляк,
часто философов, бросающих ненароком, походя остроумные замечания,
шутливые фразы, рассчитанные будто на смех, за которыми открываются
неоглядные дали мысли. Что-то есть во всей этой компании от «фальста-
фовского фона» шекспировской комедии. Шекспир вряд ли читал роман
Рабле. О каком-либо заимствовании, конечно, не может быть и речи. Но
английский принц Генри и французский принц Пантагрюэль с их окружени-
ем очень напоминают друг друга. Шекспира от Рабле отделял не только
пролив Ла-Манш, но и время — полвека. Однако вскормлены они были
одними и теми же идеями.
Рабле нисколько не хочет реабилитировать в глазах читателя своего
Панурга. Панург, конечно, умен, образован. Его память — целый арсенал
самых разнообразных знаний. Но он и труслив. Он с веселым бахвальством
70
признается, что «не боится ничего, кроме опасности». Во время шторма на
море (Четвертая книга) он мечется по палубе, стонет и плачет, тогда как
другие смело и деятельно борются со стихией.
Он бахвал. Он готов приволокнуться за любой приглянувшейся ему
женщиной. Пантагрюэль нисколько не одобряет поведения своего спутника,
но есть у принца одно бесценное качество: он терпим, снисходителен к
слабостям человеческим. Это качество — элемент некоей философии «панта-
грюэлизма», которую проповедует Рабле.
В затейливых арабесках анекдотических исканий Панурга, его встре-
чах и беседах с философами, богословами, шутами и колдуньями перед
читателем предстают любопытные лики средневековой Франции. В легких,
шутливых, остроумных диалогах, анекдотах, иногда заимствованных из
фабльо, в бытовых зарисовках раскрывается материальная и духовная
жизнь французского общества той поры.
Через грубоватую буффонаду дается оценка важнейших явлений в жиз-
ни этого общества. Комический диалог Панурга с Труйоганом, последо-
вателем философа Пиррона, содержит не что иное, как отповедь гумани-
стам, отшатнувшимся от современных политических вопросов, занявшим
позицию невмешательства и объявившим себя «воздерживающимися от
суждений». Здесь снова на сцену выступил старый и мудрый Гаргантюа как
носитель боевых традиций гуманизма, как живое предание лучшей поры
французского Возрождения. Когда-то он с таким восторгом отзывался о
деяниях гуманистов, так славил новые времена, веря в прогресс и просве-
щение. Теперь он печально замечает иное: мудрецы отступают перед тем-
ными силами реакции, отказываются выносить приговор веку варварства и
темноты. «Я вижу, мир возмужал с тех пор, как я узнал его впервые.
Подумать только, в какое время мы живем! Значит, самые ученые и мудрые
философы принадлежат ныне к фронтистерию (секте раздумывающих.—
С. А.) и школе пирронистов, апорретиков (таящихся.— С. А.)у скептиков
и эфектиков (умалчивающих.— С. Л.)? Ну, слава тебе Господи! Право,
теперь легче будет схватить льва за гриву, коня за холку, быка за рога,
буйвола за морду, волка за хвост, козла за бороду, птицу за лапки, а уж
вот такого философа на слове никто не словит».
Четвертая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля» — последняя книга, вы-
шедшая при жизни автора. Она была опубликована через шесть лет после
напечатания Третьей. Шесть лет — большой срок в ходе быстро развиваю-
щихся событий. Католическая реакция усиливала свой натиск. 31 марта
1547 года умер Франциск I. Престол занял Генрих II, первым законодатель-
ным актом которого было учреждение при парижском парламенте Огнен-
ной палаты для суда над еретиками.
В марте 1552 года парижский парламент подверг судебному рассмотре-
нию Четвертую книгу Рабле. Распространился слух, что писатель брошен
в тюрьму. Слух был недалек от истины. Темные тучи нависли над головой
великого гуманиста, и только кончина избавила его от тюрьмы, суда и,
может быть, костра.
Рабле умер, не успев закончить и издать Пятую книгу «Гаргантюа
и Пантагрюэля». В 1562 году была издана часть романа под названием
«Остров Звонкий», содержащая шестнадцать первых глав, и лишь позднее
(в 1564 г.) книга была издана полностью. В Парижской национальной
71
I
Питер де Хох. «Хозяйка и служанка». Бытовые сценки — излюбленный жанр мастеров
Ренессанса.
библиотеке хранится рукописный текст Пятой книги, относящийся к XVI
столетию. Во всех трех названных источниках имеются значительные
расхождения. В науке существуют сомнения в том, что Пятая книга пол-
ностью принадлежит перу Рабле. Полагают, что по тексту прошлась чья-
то посторонняя рука и, по всей видимости, рука гугенота. Трудно судить,
насколько изменена рукопись Рабле, но справедливо писал Анатоль Франс:
«Я узнаю местами на ее страницах когти льва».
ИСКУССТВО РАБЛЕ
Лучший способ изгнать Дьявола, когда на него не
действует Священное писание, поднять его на смех, этого
он никак не выдерживает.
Мартин Л ютер
Думаю, что великий реформатор церкви писал об этом серьезно.
Оказывается, дьявол, сам отчаянный пересмешник, не терпел насме-
шек над собой.
В мрачные времена Средневековья безымянные авторы создавали
фабльо и шванки, веселые новеллы, смеясь над попами, рыцарями или не-
задачливыми служителями ада. Тогда же была создана комическая эпо-
пея— «Роман о Лисе». Церковь изгоняла скоморохов, но народ в них
души не чаял. В деревне или в городе на ярмарочной площади они потеша-
ли толпу. Шутки их были грубоваты, но они веселили сердце.
Смех — неотъемлемый элемент бытия человеческого. Человек — единствен-
ное живое существо, умеющее смеяться, заметил Аристотель.
Рабле — оптимист по мировоззрению, по восприятию мира, он оптимист
по своему художественному методу, по способу изображать мир. Оружие
Рабле — смех. Это не только средство уничтожения идейных врагов, но и
могучее средство утверждения жизни. Будем же смеяться, ибо смех есть
достояние сильных!
«Рабле непостижим. Его книга — загадка. Что бы там о ней ни гово-
рили. Загадка необъяснимая. Это химера. Это лицо прекрасной женщины
с ногами и хвостом змеи или какого-нибудь другого животного, еще более
нелепого. Это чудовищное смешение морали, тонкой и возвышенной, с
грязной испорченностью. Там, где он плох,— он плох до предела,—
тогда он бог черни,— там, где он хорош, он превосходен, он — совершен-
ство, он доставляет нам самые изысканные наслаждения».
Лабрюйер, писатель XVII столетия, соотечественник Рабле, мыслитель
и тончайший стилист, не захотел сказать ничего кроме этого. Он, конечно,
очень хорошо разобрался в аллегориях Рабле, иначе он не был бы Лаб-
рюйером. Он не мог понять лишь одного, как Рабле и другой знаменитый
человек XVI столетия, поэт Клеман Маро, при их уме и таланте позволяли
себе шутовство в серьезных вопросах.
Слово, брошенное однажды, понравилось, запомнилось. О загадочности
Рабле уже говорили как о чем-то совершенно бесспорном. «Рабле никто
73
не понял»,— писал в XIX веке Виктор Гюго, и все же Рабле «разгадывали»,
толковали, кто как мог.
О его книге спорили без конца, спорили более четырехсот лет. Одних
она восхищала, других доводила до исступления. Одни видели в ней
безобидное шутовство, другие — смелость мысли и глубочайшие философ-
ские прозрения. Одни порицали автора за дерзновенное посягательство
на утвержденные веками принципы жизни, другие хвалили его за это.
Словом, бранили и смеялись, проклинали и превозносили или в недоумении
разводили руками: кому же было неизвестно, что мэтр Рабле обладал по-
знаниями самыми обширными, что второго такого по уму и учености вряд
ли можно было сыскать во Франции первой половины XVI столетия, а вот,
поди же, занимался «побасенками».
Книга Рабле — поистине страна чудес. Вы будто на маскараде. Со всех
сторон на вас наступают уродливые маски. Они шумят, кривляются, хохо-
чут, издеваются над вами, вы хотите отвернуться, но вот маски сброшены,
и перед вами милые лица, причем под маской пьяницы и обжоры сам док-
тор Рабле, он протягивает вам свою руку, улыбается вам, его глаза искрят-
ся умом, веселой шуткой, и речь его полна мысли, высоких чувств и
идеалов.
«Да зачем же вам понадобился этот шутовской наряд, весь этот мас-
карад?»— спрашиваете его вы. И он, смеясь, сошлется на Сократа, кото-
рый с виду был отменно некрасив — и курнос, и со смешной повадкой, и
в одежде грубой,— но обладал «божественной мудростью», он расскажет
вам о том, что в старину были ларчики с потешными фигурками, нарисо-
ванными на них. «Но откройте этот ларец — и вы найдете внутри дивное,
бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель
изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадо-
стность неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычай-
ное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся,
путешествуют и воюют».
И все же, зачем понадобилось писателю прятать свое «дивное бес-
ценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изуми-
тельную, мужество неодолимое» и пр. и пр. в ларчик с «потешными фигур-
ками», зачем понадобилось рассказывать о «нелепостях, дурачествах и раз-
ных уморительных небывальщинах»? Разве не проще было бы прямо, не
прибегая к иносказаниям, передать читателю то, что он, писатель, назвал
«мозговой субстанцией», а именно политические, философские и нравствен-
ные идеи свои, ради чего, собственно, он и взялся за перо?
На этот вопрос Рабле не ответит. Догадывайтесь сами. Он лишь наме-
кает, что хотел бы быть «желанным гостем в любой приятной компании
пантагрюэлистов», что отличает читателей «мудрых», способных «унюхать,
учуять и оценить превосходные, лакомые книги», что пожелал бы своим
читателям «прилежного чтения и долгих размышлений».
Нет, не прост Рабле! Смеется и балагурит, будто и спроста, но глядит на
вас с ожидающей лукавинкой: догадались или нет, поняли, к чему ведет,
или мимо проехало? Конечно, его, писателя, дело сторона. Он рассказал —
и все. Читатель сам делает свои выводы. Если этот вывод опасен и крамо-
лен, то при чем тут он, писатель? Вольно ж было читателю понимать
его превратно! А он, писатель, и в мыслях такого не держал. Он, слава
74
Богу, добрый христианин и отличный слуга королей французских я пап
римских, коих ему довелось повидать на своем веку. И пожалуйста, не
кивайте на него, писателя. С инквизицией шутки плохи, а он, Рабле, и так
горячий человек, чтобы ему еще поджариваться на костре.
Итак, Рабле, очевидно, зашифровал свои мысли, чтобы не попасть
на костер, как его друг Этьен Доле. Однако неужели секрет его искусства
заключается в этой вынужденной тайнописи?
А если бы Рабле писал в другое время, когда не нужно было бы ниче-
го утаивать, скрывать, когда можно было бы писать и говорить обо всем
свободно? Что тогда? Неужели мы лишились бы чудесной, так много го-
ворящей уму раблезианской недосказанности, лукавых иносказаний, за ко-
торыми угадывается бескрайняя даль мысли? Неужели мы лишились бы
веселой иронии, забавного чудачества, когда не знаешь, как отличить
правду от шутки, когда чувствуешь, что тебя мило дурачат, потешаются
над тобой и в конце концов дают тебе сильную, будоражащую умственную
зарядку?
Нет, очевидно, вопрос сложнее. Здесь органическое единство формы и
содержания. Мысль Рабле, освобожденная от своеобразной формы ее выра-
жения, что-то утратит, чего-то лишится в себе самой. И с другой стороны,
отнимите у раблезианской шутки ее философический, политический, нравст-
венный подтекст, и она рассыплется в прах, как хрупкая оболочка.
Книга Рабле весела. Мы часто смеемся. Как и ее герои. Они смеются
громко, раскатисто, от всей души. Они смеются, потому что им весело, по-
тому что нельзя не смеяться, потому что в их телах через край льется здо-
ровье и жизнь. Они смеются потому, наконец, что не знают предела своим
силам.
И эта сила, это физическое и нравственное здоровье героев книги
мощным потоком переливается в наши тела и души. Мы тоже становимся
сильными и крепкими. Аристотель когда-то подметил, что в смешном
есть частичка уродства. Уродливое может пугать, если оно становится
вровень с нами и угрожает нам.-Если же мы чувствуем свое превосходство
над уродством, мы смеемся над ним. Мы смеемся над схоластами-сорбонни-
ками, над королями типа Пикрохола и Анарха, над каким-нибудь герцогом
де Карапуз или герцогом де Парша, потому что они уродливы и жалки. Мы
смеемся, потому что мы сильнее их. Писатель внушил своему читателю
сознание превосходства над темными силами, между тем как реально
эти силы были не так уж ничтожны в его времена.
Смешное! Юмор! В нем часто много грусти. Вспомним гоголевский
«смех сквозь слезы». Никто еще не разгадал природу смешного, хотя многие
и весьма мудрые философы пытались это сделать. Рассказывают, что однаж-
ды ночью встретились Горе и Радость. Темно, ничего не видно. Вот и сошлись
эти два противоположных существа. От их брака родился Юмор.
^^Р/^^^Н
^^^^k/ ^ ^^^^^И
ff^i
^H^. ^~^V'1H
^^^^^^^^^A i _i^B
■Г J
\^^^^Б^Л
^^^^Vi. ■!
■№(J
1уД
Hl^^H
МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ
...Я провел два года на шестом этаже улицы
д'Анживилье с прекрасным видом на колоннаду Лувра,
читая Лабрюйера, Монтеня и Ж.-Ж. Руссо... Так
сложился мой характер.
Стендаль
Сохранился листок календаря, где записано: «В этот день (а это было
13 февраля.— С. А.), около 11 часов утра от благородной четы —
Пьера Монтеня и Антонины Лопес — родился Мишель Монтень в
доме отца своего, в замке Монтень, на границе области Бордо и Перигора,
в год Рождества Христова 1533 по латинскому летосчислению». Писал
это сам Мишель Монтень, воспроизводя то, что знал от родителей.
Сохранился и другой листок календаря. Кто-то гусиным пером, рукой
неуверенной, с кляксами и помарками, записал: «В этом, 1592 году умер
Мишель сеньор де Монтень в возрасте 59 с половиной лет». Сообщалось,
что тело сеньора погребено в церкви Де Пейан в городе Бордо, а сердце —
в местной церкви Святого Михаила и что на то была воля вдовы Монтеня
Франсуазы де ля Шассень.
Две даты, и между ними целая жизнь с ее страстями, страданиями,
поисками, размышлениями. «Под каждой могильной плитой погребена
вселенная»,— писал когда-то Кант. Мы редко думаем об этом, стоя у мо-
гильной плиты, а между тем каждая человеческая жизнь так же значитель-
на, как и то, что окружало и сопу^вовало ей.
В бордосской церкви Де Пейан находится пышный мраморный сарко-
фаг. Наверху его — скульптурное изображение лежащего во весь рост
воина со сложенными молитвенно руками (знак покорности превечному
закону рождения и смерти), в полном боевом снаряжении, в латах, поно-
жах, с каской и шпагой. На боковых стенках саркофага — ангелы и череп
с пустыми глазницами. Торжественно, монументально, мрачно — в духе
модного тогда барокко. (О барокко — позднее.) Однако погребенный в
церкви человек никогда боевого снаряжения не носил, ни в каком сражении
не участвовал, но то были атрибуты дворянского звания, отличительные
знаки владетельного сеньора.
76
Неизвестный художник
XVI века. Портрет
Монтеня.
^iaitfJD*
О подлинных прижизненных занятиях погребенного больше говорит
надпись на древнегреческом языке на боковой стенке саркофага: «Он
принципы Пиррона соединил с верой в Господа нашего Христа». Как были
соединены принципы греческого философа Пиррона, жившего в 360—
270 годах до нашей эры, философа-скептика, сомневавшегося во всем и вся,
с христианством, не допускающим никакого сомнения и колебаний в вере,
представить трудно,— но мы у могилы мыслителя, философа, писателя.
И если уж говорить о символах, характеризующих личность, то здесь
уместнее была бы книга. Погребенный жил в окружении книг, дышал
атмосферой мысли, в которой и прошлое и современность в нерасторжимом
синтезе соединялись со словом «человечество».
Отец его, Пьер Эйкем, побывав в Италии в качестве офицера француз-
ских войск, повидав эту страну поэтов и художников, проникся уважением
к образованности и культуре и, далекий от литературы, со скудным запасом
гуманитарных знаний, какие могли быть у тогдашнего королевского офице-
ра, решил в сыне осуществить то, что не удалось ему самому — вывести на
77
дорогу новых идей, новой образованности. Для этого были все возможно-
сти: и достаточное богатство, накопленное предками-купцами, и купленный
ими замок Монтень в шестидесяти километрах от Бордо, дававший право
на дворянский герб и дворянское имя (де Монтень).
Монтень пишет, что дом его всегда был открыт для людей науки, что
отец его испытывал благоговейное чувство к ученым, искал их дружбы,
окружал трогательной заботой, принимая как людей особой породы, наде-
ленных благодатью мудрости и таланта, с почтительностью и священным
трепетом выслушивал их суждения. Для него их высказывания были
непогрешимыми, как изречения оракулов. Монтень рассказывает об этом
как о милой слабости отца. Само собой разумеется, что Пьер Эйкем все
советы своих мудрых наставников использовал для воспитания сына.
Гуманисты призывали к изучению античности — прекрасной, мудрой,
светлой (именно такой она представлялась их восторженному воображению
в отличие от дикого, варварского Средневековья), античности, которую
надо было бы возродить во всем ее блеске. Это была их мечта.
Пьер Эйкем, всецело преданный их идеям, выписывает для обучения
сына ученого-латиниста из Германии, не знавшего ни единого французского
слова. С мальчиком он мог говорить только по-латыни, которую ребенок
усвоил настолько хорошо, что язык древних римлян стал, в сущности,
его родным языком. «Без ухищрений, без книг, без грамматики, без розог и
слез я постиг латынь, такую же безупречную, чистую, как и та, которой
владел мой наставник»,— писал Монтень.
Увлечение античностью было настолько сильным, что Монтень, как,
видимо, и многие его сверстники, порой знал лучше улицы и переулки
Древнего Рима, чем столицу своей родины Париж, в чем он сам призна-
вался.
Гуманисты учили, что человек рождается для счастья и должен быть
счастливым, и отец Монтеня окружает его атмосферой радостного мировос-
приятия. Пробуждение мальчика должно было сопровождаться приятной
музыкой. Наивная мечта! Она, конечно, была благородной, но так далека
от суровой, мрачной реальности тогдашней Франции.
От шести до тринадцати лет Монтень обучается в коллеже города
Бордо. И здесь царит культ античности. Прекрасные преподаватели, знато-
ки греческой и римской литератур, они переводят античных авторов, сами
пишут пьесы, подражая им. В школьных спектаклях принимает участие
и мальчик Монтень.
Нет сведений о том, где он окончил университет, видимо, в Тулузе.
В 21 год его определили в юридический корпус, в течение 16 лет он испол-
нял обязанности судейского чиновника. В регистрационных списках бордос-
кого парламента около имени Монтеня не раз значится приписка:
«...в отъезде ко двору». В «Опытах» он сообщает о своих встречах с короля-
ми Франции Генрихом II, Франциском II, Карлом IX, Генрихом III, Ген-
рихом IV. С последним Монтень, пожалуй, наиболее близок, принимая его у
себя в замке в качестве гостя. Знал он и многих крупных политических
деятелей обеих враждующих партий — католиков и гугенотов.
Монтень остался в стороне. Ему казалась эта битва бессмысленной, и
он не захотел примкнуть ни к одной из борющихся партий. «О чудовищ-
ная война! Другие войны врываются к нам извне. Эту мы ведем сами
78
против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же
собственным ядом!»
Он покидает службу, уединяется в своем замке, избирает для себя
одну из башен (она сохранилась), помещает там библиотеку, спальню, ре-
шив «благосклонствовать музам в тишине», «не участвуя в волнениях мир-
ских», как пушкинский вельможа, князь Н. Б. Юсупов в Архангельском,
под Москвой.
* * *
Монтень, сей милый гений,
Вдали от катаклизм,
В тиши уединенья
Питал свой скептицизм.
То мудрый, то фривольный,
Свободный от оков,
Он потешался вольно
Над немощью умов.
Вольтер
В шестидесяти километрах от Бордо среди полей и виноградников воз-
вышается замок Монтень, правда, тот замок, который видел нашего
Монтеня от его рождения и до смерти, сгорел в 1880 году, но был вос-
становлен по первоначальному плану. В первозданном виде сохранилась
лишь угловая башня замка, где Монтень писал свою единственную, ставшую
вечной книгу, скромно названную им «Опыты». Сохранилась и церквушка
Святого Михаила. Недалеко расположен замок Мотекулон, принадлежавший
когда-то брату Монтеня Бертрану.
Юго-запад Франции. Благодатная сторона. Долина реки Гароны.
На западе плещутся волны Атлантического моря, принося освежающие
воздушные потоки в жаркие дни; на юге — горы Пиренейской гряды. Пыл-
79
кие южане. Их характер описал Александр Дюма в своем бессмертном
д'Артаньяне. Синее, почти всегда безоблачное небо, воздух, напоенный
ароматами полей и лугов. Крестьянские селения. Крестьяне — вечные тру-
женики. Труд —это их бремя, но и радость. Почти никогда не болеют, а ес-
ли болеют, то переносят недуг на ногах. Ложатся по болезни, чтобы уже
не встать. Они полны почтения к местным сеньорам—так заведено
издавна. Покорно несут подати в господскую, государственную, церковную
казну. Богу — Богово, кесарю — кесарево.
По вечерам разносится умиротворяющий звон колоколов. Все дышит
покоем и благодатью. Но это в редкие дни. Увы, беспокойно жилось фран-
цузам в дни Монтеня, много страданий, трагедий и жестокостей выпало на
долю его современников.
Здесь, в этой обстановке жил и творил Монтень. В единственном своем
сочинении («Опыты») писатель изложил в свободной, раскованной, непри-
тязательной и потому чрезвычайно впечатляющей форме важнейшие идеи
эпохи Ренессанса. Он не присутствовал при его начале, родился в самую
бурную эпоху его цветения и буквально был взращен и воспитан под его
благотворными лучами.
Он провозгласил себя последователем философии древнегреческого мыс-
лителя Пиррона, призывавшего своих учеников не только уклоняться от
участия в событиях, но и воздерживаться от суждений, поскольку нет ника-
кой уверенности в достоверности истины. Он заказал себе медаль с грече-
ским словом «эпехо» (воздерживаюсь от суждений), начертал на потолоч-
ных балках соответствующие скептической философии изречения (они со-
хранились) и попытался предаться «благородной праздности» (А. С. Пуш-
кин). Ничего не получилось. Ум не мог бездействовать. И Монтень начина-
ет писать свои «Опыты».
Философы не приняли Монтеня в свою среду. Они не нашли в нем
строгой дисциплины мышления, логически построенной системы. Их шоки-
ровала его разбросанная, хаотичная, импрессионистическая манера письма.
Историки литературы часто отказывают ему в праве именоваться писателем,
ибо не находят в нем основного элемента художественного мышления —
вымысла.
Между тем Монтень — глубочайший мыслитель и великий писатель-
стилист. По глубине и широте охвата проблем бытия личности и общества
равных ему в эпоху Ренессанса нет. Идейное наследие Ренессанса пред-
ставлено в его «Опытах» в предельно сконцентрированном виде. Это
квинтэссенция. В них все, о чем размышляли гуманисты, что хотели запове-
дать человечеству, и не в форме бесспорных, раз и навсегда обретенных
аксиом, а в парадоксах диалектической мысли, в сложности противоречий
познания.
В центре книги бордоского автора — Человек. От внимания автора
«Опытов», кажется, не ускользнула ни одна деталь в жизнедеятельности
человека. Видимо, поэтому по силе влияния на литературу нового времени,
на ее главнейших представителей, пожалуй, не найдется такого, равного
Монтеню. У колыбели великих писателей мира почти всегда раздавался го-
лос Монтеня или отзвуки его речей. Для читателей его книга — школа
мышления, школа познания, школа незамутненного видения мира.
80
«опыты»
Вы спрашиваете, какие книги читать. Читайте Монтеня,
читайте медленно, не торопясь!.. Создайте для своей души
такую интеллектуальную атмосферу, которая будет
насыщена мыслью величайших умов... Но сперва я
рекомендую вам прочесть Монтеня. Прочтите его от
начала до конца и, когда окончите, начните снова.
Флобер
* * *
Монтень — натура артистическая. Это проявлялось во всем. 0\
испытывал душевный трепет, входя в католический храм. Его охва
тывало чувство какого-то особого восторга, волновала величавая v
«мрачная обширность» внутренних церковных помещений. Это был восторг
художника. Он не мог слушать без волнения стихи Горация или Катулла
особенно когда их пели (да, именно пели; в XVI веке стихи читали нарас
пев) уста молодые и прекрасные. Он не находил в себе сил противиться и>
очарованию.
Влечение к поэзии он наблюдал в себе с ранних лет. Его пленяло искус
ство непритязательное, свободное, доставляющее изысканное наслаждение
уму и сердцу, поэзия легкая, переходящая от шутки к лирической интимно-
сти. «Я люблю поэтический бег с прыжками и скачками. Это искусство, как
говорил Платон, легкое, крылатое, колдовское». Он пишет об этом с востор-
гом художника. «Боже, сколько прелести в этих шаловливых вольностях, е
этих отступлениях и переходах, и чем непринужденнее они, чем неожи-
даннее, тем восхитительнее!»1
Он любит радостную, искусную плавность Овидия, беззаботную весе-
лость, шаловливую поэзию чувства, поэзию в дымке легкого эротизма, с
чем он писал «прекрасной Коризанде», графине де Граммон, возлюбленной
Генриха Наваррского: «Я из тех, кто ценит поэзию с сюжетом игривым»
Монтень не лишен некоторого литературного гурманства, ему нравится
«утонченность» в поэзии. Ее он находит у римского поэта Лукана (39—
65 гг.), автора поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне». В «Опытах» —
40 цитат из Лукана. И, наконец, он ценит «силу зрелую и устойчивую»
в поэзии Вергилия. Он любит «книги просто веселые». К ним он относит
«Декамерон» Боккаччо и роман Рабле. «Гептамерон» Маргариты Наварр-
ской для него — «книга прелестная по содержанию».
Историки были его «слабостью». В истории он ищет не событий, а сви-
детельств, характеризующих людей, «человека вообще», причем историче-
ское повествование рассматривает как род искусства. В восторге от Плу-
тарха. Других знает мало — недостаточно владел греческим языком.
Душа артиста постоянно выдает себя на страницах «Опытов». Монтень
мыслитель, но и поэт. Многие истины он познает как бы интуицией художни-
ка и излагает их как художник.
Цитаты даны в моем переводе.
^
•**
IF*'
r J* ^Ш
3%*
Ту
\ Ф
5* ',
У1
[i
L,
m
4F - -Шк f^
Караваджо. «Отдых на пути в Египет». 1594. Фрагмент. Музыка входила в повседневную
жизнь эпохи, мимо этой темы не прошли и художники.
Артистическая натура Монтеня проявилась во всей своей полноте в его
книге «Опыты». Здесь на каждой странице печать художественного мышле-
ния. Здесь вдохновение, свободное парение ума, здесь нет голой мысли, она
всегда окрашена чувством, здесь пластические образы, здесь художествен-
но выполненные портреты, здесь детали, живописующие целое,— и все
82
это выражает и утверждает главенствующий тезис его философии: Que
sais-je? Почем я знаю? А именно — всеохватывающее сомнение.
Все отличие Монтеня от пирронизма, от античных скептиков заключает-
ся в том, что он и отрицает и утверждает, воспользовавшись удобной
формой сомнения, тогда как античные скептики и не отрицают и не утверж-
дают, они где-то посередине этих двух ипостасей. Монтень отрицает и
утверждает, однако артистическими средствами, как бы интуицией («так
мне кажется»), часто апеллируя к чувству читателя, иногда как бы само-
устраняясь, между тем крепко держит читателя и уверенно ведет его к на-
меченной цели.
В научной литературе Монтеня часто называют философом-моралистом.
Между тем читатели видят в нем прежде всего великолепного мастера-
стилиста. Французский исследователь Пьер Биллей писал: «До девятнадца-
того века во всей нашей литературе не было, пожалуй, более великого
поэта, чем этот философ».
Среди французов, кажется, никто не оспаривал за Монтенем право на
звание писателя. Отзывы о его литературном мастерстве самые высокие и
самые восторженные. «Ему не хватает только рифмы, чтобы быть поэ-
том»,— писал Г. Гизо. Образы Монтеня «философичны по содержанию и
поэтичны по своей природе»,— заключала Грэй.
Брюнетьер спрашивает, почему не только французы, но и иностранцы,
которые не искушены в тонкостях чужого языка и не способны ощущать
всего его очарования, все-таки признают в авторе «Опытов» писателя и
восхищаются им как таковым.
Только недавно появились работы, пытающиеся вскрыть художествен-
ную сущность прозы Монтеня. Грэй в интересной книге «Стиль Монтеня»
(1958) видит эту художественную сущность в поэтической, образной,
эмоциональной форме самого метода мышления Монтеня. Монтень назвал
свою книгу «Essais». Для его времени это слово в применении к литератур-
ному произведению было ново. Еще никто так не называл своего сочинения.
Первые читатели Монтеня усмотрели в самом наименовании произведе-
ния чрезвычайную скромность и даже самоуничижение автора. Они же
увидели в наименовании и скрытую насмешку над гордыней других авто-
ров, которые выступают перед своими читателями чуть ли не с откровения-
ми. Название книги Монтеня связано с его философией. В нем и скептиче-
ская насмешка над чванным догматизмом, несущим истину в последней
инстанции, и скептическая непритязательность, оберегающая автора от
ложных иллюзий.
После Монтеня слово «эссе» («essai») вошло в литературу уже как
наименование жанра. Первоначально авторы брали его для своих произве-
дений в видах особой скромности. Это слово хорошо укладывалось в рус-
ские «попытка», «проба».
У нас слово «опыты» как наименование литературного жанра не за-
крепилось. Правда, в последнее время стали употреблять слово «эссе»
(чаще в устной речи, чем в печати), придавая этому французскому слову
особое значение. Эссе понимается нами теперь как наименование жанра,
включающего в себя литературные качества первообразца, то есть книги
Монтеня. Ныне эссе — это небольшое прозаическое произведение, в котором
синтезируются элементы художественной и научной прозы. Это не претен-
83
Рафаэль. «Афинская школа». Деталь фрески. 1511 г.
дующее на большую докторальность рассуждение, без четкого плана и
строгой логики, серьезное и вместе с тем непринужденное по форме, с эле-
ментами иронии, а иногда и лирической исповеди,— произведение легкое,
изящное, непритязательное. Теперь это уже не «проба» и не «попытка».
Этот жанр — для больших мастеров и для искушенных читателей. Слово
«эссе» уже несет в себе гордое представление о виртуозности и легкости,
о свободном, иногда прихотливом движении пера. В этом вся его прелесть
для автора, ибо ничто не мешает ему переходить от одного предмета к друго-
му, не заботясь о строгой системе изложения, о тяжеловесной логике. В этом
вся его прелесть и для читателя, ибо и он, читатель, хочет вместе с автором
наслаждаться свободным полетом мысли. «Бросать перо на ветер» —
как образно охарактеризовал Монтень эту манеру письма.
Монтень начал писать «Опыты» в 1572 году. Писал их дома в минуты
мучительной праздности, стараясь не менять написанное, что ему не всегда
удавалось. «Опыты» были первоначально как бы дневником, в который за-
носились на бумагу не события его жизни, а мысли. Монтеню хотелось по-
том по своим записям проследить свою духовную эволюцию. Видимо, этот
первоначальный план не был выдержан, хотя об этом своем намерении он
записал уже по прошествии 7—8 лет, перед самым выпуском в свет двух
первых книг. Иногда он писал сам, иногда диктовал. Надо полагать, что
уже в рукописи его записки казались посторонним чрезвычайно занима-
тельными, если его секретарь похитил некоторые листы записей.
Сначала он искренне считал, что пишет для немногих и ненадолго.
Однако это отнюдь не из соображений эзотеризма, в том смысле, в каком
понимал Стендаль творчество «для немногих», а в самом прямом значении
слов — для тех немногих близких и родных, которые его знают и пережи-
вут, и до тех пор, пока они еще будут жить после него и хранить о нем
память. А там,— как, видимо, считал он,— иным поколениям он будет уже
чужд и его записи исчезнут за ненадобностью. Только успех книги придал
ему сознание весомости его труда. Вначале он писал маленькие главки,
подобные кратким заметкам «на случай», потом, когда книга вышла из печати
и получила широкую известность, появилась забота о читателе, желание
высказаться более основательно, преподнести читателю какую-то систему
взглядов, он перешел на большие главы.
Форму своей книги Монтень сравнил с гротесками. Это очень знамена-
тельное его признание. Поскольку искусство гротеска возымело свою осо-
бую судьбу в истории художественной мысли, следует несколько подробнее
остановиться на его поэтике.
Само слово «гротеск» возникло в результате ошибки. В 1480 году в
центре Рима совершенно случайно были открыты погребенные в земле ком-
наты знаменитого дворца Нерона, известного под названием «Золотой дом»
(«Domus aurea»). Первоначально их приняли за подземные гроты. На сте-
нах комнаты были обнаружены фрески — остатки античной живописи. Эти
фрески поразили римских художников своей особой манерой письма — фан-
тастическим смешением самых разнородных элементов живого мира: частей
человеческого тела, лица, частей тела животных, реальных или измышлен-
ных, растений, предметов. Флорентийские художники, прибывшие в Рим
для отделки Сикстинской капеллы, пришли в восторг от новооткрытых фре-
сок, и весь XVI век прошел под знаком нарастающей моды на эту особую
85
форму художественного мышления, получившего наименование «гротеск»
(от слова «грот», ошибочно примененного к залам дворца).
Вокруг искусства гротеска завязалась борьба, возникли споры, созда-
лась теория гротеска. Вспомнили о Витрувии, который резко осуждал по-
добное искусство: «Все живописные темы, задуманные в подражание реаль-
ности, теперь критикуются,— по дурной моде. Сейчас зарисовывают стены
странными, экстравагантными сценами. Нельзя одобрить живопись, кото-
рая не согласуется с реальностью, нельзя хвалить то, что имеет лишь
технические достоинства, искусство исполнения». Книги Витрувия были из-
даны в переводе на итальянский язык Чезарио в 1521 году.
Вспомнили Горация, который тоже критиковал этот вид живописи.
В 1538 году появилась книга Франциско де Голланда «Четыре диалога
об античной живописи», защищающая искусство гротеска. Автор вклады-
вает в уста Микеланджело нижеследующее рассуждение: художник в сущ-
ности раб натуры, он не может изображать вещи по своему произволу,
не может, к примеру, изобразить лошадь с ногами слона, искусство же гро-
теска дает ему такую свободу, освобождает его от обязанности копировать
природу, он может перемешать в картине все лики мира, вместо лап нари-
совать крылья и пр. и пр.
Спор в конце концов принял философский характер. Какое искусство
предпочтительнее — репрезентативное или имажинативное. В наши дни этот
эстетический спор ведется вокруг понятий «отображения» и «выражения».
Сторонники гротеска ратовали за свободу художника, за право на вооб-
ражение. Монтень, однажды наблюдая, как художник, приглашенный им
для работ в его замке, заполнял свободные пространства стен причудливы-
ми рисунками, в которых сочеталась фантазия и реальность, пришел к мыс-
ли, что подобное возможно и в литературе. Его увлекло это свободное, не
знающее никаких логических пут и вместе с тем мощное движение вооб-
ражения. Какой простор, какая творческая свобода! Трезвый реализм
факта и вольный полет мысли. Заранее установленный план стесняет авто-
ра, не дает ему развернуться. Оглядка на общепринятые мнения, забота
о композиции, о гармонии целого, о стройности частей и тысячи других
препон мешают художнику творить свободно. А тут рожденное в мысли
немедленно воплощается в линию, краску. Творец выявляется сразу, каж-
дое его движение — это уже созидание.
Рука художника чертила странные и самые разнообразные фигуры, и
от этой странности и разнообразия исходило удивительное очарование.
Монтень понимал под «гротеском» ХАОС и ФАНТАСМАГО-
РИЮ. С известной долей самоуничижения (что, конечно, не следует при-
нимать за чистую монету) он писал о своих «Опытах»: «Мой ум порождает
столько беспорядочно громоздящихся друг на друга ничем не связанных
химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, на-
сколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу».
(I, VIII).
Забегая вперед, отметим, что искусство гротеска нашло свое место и
в драматургии Шекспира. Ярчайшим примером может служить его комедия
«Сон в летнюю ночь».
Здесь самое причудливое сочетание фантазии и реальности. С одной
стороны, вполне реальные, исполненные строго правдиво, до мельчайшей
86
детали, ремесленники, задумавшие потешить местного правителя, герцога
Афин в день его свадьбы трагедией собственного сочинения, реальные,
впрочем, почти безличные пары влюбленных Деметрий — Гермия, Ли-
зандр — Елена, реальные герцог и его молодая супруга, с другой — пол-
ный тайн и чудесных превращений лес, легкокрылые эльфы, феи, лесной
дух Оберон, царица фей Титания. Реальный ткач превращается в осла.
Красавица Титания влюбляется в ослиную голову. Мир превращений при-
чудлив, подобно настенным фрескам «Золотого дома» Нерона. Эльф Пек,
«ночной бродяга шалый», то обернется печеным яблоком, то трехногим сту-
лом, то заржет, как лошадь. Сами времена года перепутались, иней падает
на розу, зима предстает в гирляндах летних цветов. Времена года «меняют-
ся нарядом», «не может мир изумленный различить времен» (акт II, сце-
на I). Одного движения руки Оберона (поэта, художника) достаточно,
чтобы все преобразить. Лизандр, влюбленный в Гермию, по прихоти Оберо-
на меняет предмет страсти. Еще одно движение — в Елену уже влюблен и
Деметрий. Только что они оспаривали друг у друга любовь Гермии, теперь
соперничают из-за Елены.
Но вот по воле Оберона (поэта, художника) пелена спала, мир снова
засверкал красками реальности, фантасмагория оказалась «игрою снови-
денья», символом, капризом художника. Художник пытается вырваться из
плена «натуры», стать творцом, преобразователем. В сущности перед нами
заявка на свободу фантазии художника, свободу от подчинения «натуре»
(действительности).
Мир реальностей нисколько не извращается, поэт верно отображает
действительность в ее главных закономерностях и связях, но изображается
он в ином ключе (in another key). В этом есть особый смысл, новая возмож-
ность углубленного постижения вещей:
Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом и землей.
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто»
Дает и обиталище и имя. (акт V, сцена I).
Шекспир утверждает право искусства на воображение, на известную
трансформацию действительности. Воображение поэта, иначе говоря, его
субъективность, есть отличительная черта художественного мышления.
Здесь сфера сердца, эмоций. У поэта своя логика. Безумец, влюбленный и
поэт живут воображением:
The lunatic, the lover and the poet,
•Are of imagination all compact.
Та же мысль и в «Буре», построенной в том же гротескном ключе.
Гротеск имелся уже у Рабле и у Эразма.
В какой-то степени Монтень искал образцы у античных авторов или,
вернее, невольно переносил в свою книгу те черты, которые его в них
восхищали (сознательно он решительно отвергал какие-либо образцы), и
эти восхищавшие его черты соответствовали искусству гротеска. В диало-
гах Платона он увидел восхитительную небрежность композиции, как бы
87
Корреджо. Мадонна со
святым Себастьяном.
1520 г.
по воле случая течение всего диалога, непреднамеренность, отступления и
возвращения к покинутой нити рассуждений, словом, «чудесное искусство
отдаваться уносящему нас ветру или, может быть, уменье делать вид, что
отдаешься ему». Нечто подобное пленило его и у Плутарха — прелестная
беспечность, забывчивость, небрежность. Плутарх забывает о теме своих
рассуждений, иногда он набредает на нее как бы случайно. Он весь соткан
из странностей. Взгляните на его рассказы о Демоне Сократа («Боже, как
хороши эти мальчишеские замашки, это разнообразие, эта небрежная
свобода»).
88
ЛИРИЧЕСКОЕ МЕЧТАНИЕ
Есть произведения, которые нужно читать вслух на площади, на
улице — для многих, для толпы. Такова публицистическая проза
Жан-Жака Руссо, взволнованная, несколько риторичная. Политиче-
ские сочинения Руссо действительно читали на улицах Парижа в дни рево-
люции.
Есть произведения, которые можно читать только наедине с самим со-
бой. Произведения эти настолько интимны, что присутствие второго лица
уже смущает. «Опыты» Монтеня принадлежат к этому последнему разряду
литературы. В них есть нечто потаенное, только для уголка вашей личной
библиотеки.
Монтеню не нравилось, что его книга часто лежала где-нибудь на виду
в гостиной (он стал моден, и его книга выставлялась напоказ как цен-
ность). Он полагал (и справедливо!), что ее скорее нужно было бы дер-
жать в спальне, под подушкой или на ночном столике.
Он писал без всякого плана, и композиция его книги, как и отдельных
глав, самая причудливая,- если вообще можно в данном случае говорить
о какой-то композиции. Это поток мыслей, воспоминаний, реминисценций из
прочитанного, это неожиданные отступления, это столь же неожиданное
возвращение к оставленной недосказанной мысли; и поток этот устремляет-
ся вперед то бурно и шумливо, то спокойно и широко. По форме это чудес-
ное, умное лирическое мечтание («Я прислушиваюсь к моим грезам»). Он
объявляет себя заклятым врагом усидчивости и постоянства, признается,
что не имел достаточного прилежания для строго обдуманного труда, что
его манере чужд пространный рассказ, что часто прерывает себя, что часто
ему не хватает дыхания и т. д.
БРОДЯЖНИЧЕСТВО УМА
Je те laisse alter comme je me trouve.
Монтень
позволяю себе идти, как я себя нахожу» — по-русски это несклад-
но, как нескладно покажется иностранцу русское выражение
«Я иду себе». Это просторечье, опускающее обременительные логи-
ческие связки, просторечье лаконичное, несущее в себе значительную, иногда
много говорящую недосказанность, прелестное даже в своей грамматической
неправильности. Русский переводчик изъяснил мысль Монтеня верно по
существу и литературно правильно: «Я излагаю их так, как они есть»
(речь идет о мыслях.— С. А.). Но просторечие Монтеня, метафоричность
его языка утрачены. По-русски его выражение надо бы перевести:
«Я иду, как мне идется». Для Монтеня дорога непредвзятость, полнейшая
свобода речи, а следовательно, и оригинальность ее. «Я хочу, чтобы видели
мою естественную и обычную походку, как бы испорчена она ни была».
89
Русский переводчик и здесь постеснялся монтеневского просторечия и по-
шел даже на искажение мысли ради благопристойности: «Я хочу, чтобы
виден был естественный и обычный ход их (мыслей.—С. А.) во всех зигза-
гах». Ни о каких «зигзагах» автор не говорит.
Итак, никакой цели, никаких преднамеренных планов, никакого, даже
от себя идущего принуждения.
Нельзя говорить о какой-то заранее продуманной и принятой компози-
ции той или иной главы и тем более всего труда в целом. Те, кто пытается
сделать это сейчас, совершают ошибку. Это свободное парение ума, это
даже не просто мысли, а поток мышления. Монтень не хотел ограничивать
себя ничем. Он честно записывал ход своих «мечтаний» (mes reveries).
Иногда эти мысли теснились толпой, торопясь на бумагу, иногда они шли
ровной цепочкой, как сообщает он сам.
Сама эта принятая им система изложения освобождала его от необхо-
димости быть последовательным и доказательным. Он мог говорить все:
и то, что вынашивалось годами, и рожденное сию минуту, легкое, едва
различимое в облаке вопросов и сомнений. Эти «фантазии» (fantaisies),
эти порхающие мечты не требовали тяжеловесных аргументов, не притяза-
ли на бесспорность, не обрушивались на души читателей тяжелым грузом
докторальных истин. Они не притязали ни на что и потому обладали
поистине непреодолимой силой убеждений. Может быть, Монтень лукавил,
наперед зная эффект этого своего свободного и непринужденного разговора.
Сквозь небрежно набросанное сплетение мыслей, цитат, исторических
примеров прослеживается в книге Монтеня единая связующая идея. Вни-
мательный читатель ее видит, и на это рассчитывает автор: «Это бедный
читатель теряет нить моего сюжета, но отнюдь не я».
Иногда кажется, что никаких логических связей в его рассуждениях нет,
что мы в водовороте наплывающих на нас разных, очень важных, но часто
противоречащих друг другу мыслей. Где найти нить Ариадны, которая бы
нас вывела на свет Божий? Но? как пишет сам Монтень, всегда где-нибудь
в уголке окажется какое-нибудь словечко, отнюдь не инородное, как бы
глубоко оно ни было затиснуто. «Я делаю резкие переходы, нескромно и
бурно. Мой стиль и мой ум одинаково бродяжничают».
Монтень очень дорожит этой своей манерой письма. Это его творческое
кредо: «Каждый узнает меня в моей книге и во мне самом мою книгу».
Даже система исправлений построена на том, чтобы удалять все инородное,
не свойственное ему, и оставлять пусть неправильное, но присущее ему —
«несовершенства, которые суть во мне».
Скептическая философия требовала и особого стиля, особой манеры
речи. Прежде всего необходимо было отказаться от какой-либо категорич-
ности в самом языке. Монтень признавался, что начинал ненавидеть самые
вероятные истины, когда ему их предподносили как совершенно непрелож-
ные. Потому он возлюбил слова, смягчающие категоричность суждений,
вносящие в них малую толику сомнения: «говорят», «я думаю», «некото-
рые», «возможно», «может быть» и т. д.
Он полагает, что и детей надо учить этой манере говорить и мыслить,
давать им ответы не бесспорные, а влекущие к размышлению, к дальней-
шему изучению предмета, и того же требовать от них: «Пусть уж лучше
человек в шестьдесят лет имеет вид ученика, чем в десять — профессора».
90
СВЯЩЕННАЯ ЛАМПА ИСТИНЫ
Сент-Бёв1 остроумно раскрывает метод Монтеня, его лукавство, его тон-
кую игру с читателями: «Беря вас за руку, чаруя восхитительной бесе-
дой, он вводит вас в лабиринт мнений. Каждый раз, когда вы вознаме-
ритесь приметить какие-либо детали, чтобы ориентироваться, он вас отгово-
рит от этого, заявляя, что эта деталь всего лишь игра воображения и сомне-
ния, что вообще не нужно слишком пристально глядеть на вещи в надежде
найти выход, единственно верная вещь вот эта лампа (Сент-Бёв имеет в ви-
ду лукавое заявление Монтеня о вере как «священной лампе истины»
(sainte lampe de verite).— С. А), бросьте все остальное, этой божественной
лампы вам вполне достаточно. И вот после того, как вы вдоволь нагуля-
лись, наблуждались по тысячам закоулков и устали, он вдруг одним мигом
гасит лампу. Вы оказываетесь в кромешной тьме, и лишь тихое хихиканье
доносится до вас».
Скептицизм Монтеня предопределял и манеру его письма, и композицию
его глав, да и самих рассуждений. Если схематически изобразить манеру
его рассуждений, к примеру, в главе «О педантизме», то вот что мы увидим:
Ученость Ученость
От многих знаний От многих знаний
ум как бы засыхает. ум крепнет и ширится.
Наш вывод: Наш вывод:
Это очевидно плохо. Это очевидно хорошо.
«Так что же,— спросим мы у автора,— ученость — это зло или бла-
го?»— «На этот счет еще пребываю в сомнении»,— ответит он (J'en suis
encore doute).
Монтень, предельно ясный, умеющий говорить без обиняков, часто
блистательно неуловим. Вот-вот, кажется, вы ухватили мысль и ту магиче-
скую ниточку, которая связывает самые с виду разрозненные примеры,
ссылки, намеки,— как вдруг неожиданный пируэт, и вы снова в самом
забавном неведении того, к чему же клонит автор.
Глава XXXII первой книги озаглавлена весьма благочестиво: «О том,
что нужно осторожно судить о божественных предначертаниях». Какие же
возражения могли бы представить против этого самые ортодоксальные
католики? Но уже с первой строки вы начинаете сильно подозревать, что
название главы никак не отражает подлинной мысли автора, что здесь
милая ирония тонко мыслящего человека. Вам сообщают, что ложь и обман
лучше всего удаются в тех сферах, в которых люди менее всего осведомле-
ны. Надо полагать, это как раз относится к «божественному провидению».
Далее добавляют, что лгут больше всего алхимики, прорицатели, судейские
чиновники, хироманты, врачи. И наконец: «Я охотно присоединил бы к ним
толпы истолкователей воли Господней». Это смело. Автор, правда, оговари-
вается: если бы я осмелился. Но, во-первых, он уже осмелился и уже при-
1 Известный французский критик, основатель «биографического» метода в литературове-
дении.
91
#
4:'' ■ /jM-
Ч \
7
)
§ ,
1
Франсуа Клуэ. Портрет
Карла IX, по приказу
которого в Париже в
1572 году произошла
массовая резня гугенотов
(Варфоломеевская ночь).
> 7 Ш I
I I /Г1
I '."'
соединил церковников к обманщикам, а во-вторых, это свидетельствует о
том, что сей последний пункт небезопасен для него.
Далее опять самая благочестивая фраза, поданная в наивной просто-
те: «Христианину достаточно верить, что все идет от Бога». Как трогательно
это звучит в устах скептика, который чуть ли не на каждой странице своего
сочинения призывает к сомнению и проверке, учит не верить ничему на сло-
во. Читаем дальше. Церковники стремятся укрепить веру ссылками на пре-
успевание истинно верующих людей и, наоборот, на неблагополучие всяких
отступников. Монтень приводит в подтверждение исторические примеры
(но какие примеры!). В нужнике от желудочных колик умерли Ариан и
папа Лев. Оба еретики. Гнев Господен понятен, хотя у читателя, воспитан-
ного на скептицизме, в чем повинен Монтень, закрадывается подозрение,
что Господь здесь ни при чем, скорее всего их отравили. Но, оказывается,
92
такая же участь постигла и святого Иринея. Это уж совсем непонятно.
Богу было не за что гневаться на него. Словом, тут сам черт не разберет.
Монтень тоже разводит руками и сетует на несовершенство человеческого
разума.
В финале главы снова призыв к безоговорочной вере. «Не стоит слиш-
ком пристально глядеть на солнце, можно ослепнуть». Так образно пред-
ставляет читателю свою мысль философ, и следует цитата из Библии,
рекомендующая не тщить себя надеждой постичь премудрость Господа.
Признайтесь, мы толком все-таки не разобрались, что к чему. Нас при-
зывают не верить обманщикам, а в их стане церковники, и тут же предла-
гают безоговорочно верить в премудрость Бога, а о ней и о нем нам говорят
опять же церковники (обманщики). Далее мы узнали, что святой Ириней
погиб в нужнике (Какая некрасивая смерть! И как это Бог мог допустить
такое!), что сфера религии менее всего известна и потому более всего
пригодна для лжи и обманов.
Нет, Монтень решительно неуловим. Монтень часто начинает главу
с какой-нибудь лаконичной, афористичной фразы, которая озадачивает
нас своей новизной, оригинальностью, странностью. Мы заинтересованы.
Мысль кажется нам и дерзкой и обидной подчас для нашего самолюбия.
Противоречивые чувства, всякие «за» и «против» уже будоражат нас, мы
готовы и спорить, и слушать, и уже теперь обязательно решать для себя
поднятый вопрос, утверждать для себя или свое «за», или свое «против».
Так или иначе, но Монтень уже приковал нас к своей странице.
«Почти все наши мнения опираются на доверие или на чей-то автори-
тет». Так начинается двенадцатая глава второй книги. Пожалуй, не найдет-
ся в мире ни одного читателя, который бы без борьбы принял это утверж-
дение. Кто может согласиться с тем, что у него нет собственного мнения,
что он заимствует мнения, доверяясь или подчиняясь авторитету? — это
обидно для нашего самолюбия, мы готовы даже гневаться на дерзкого ав-
тора, который показал нам нашу собственную слабость, гневаться еще бо-
лее потому, что в глубине души мы, пожалуй, осознаем его правоту.
«Когда мы не можем достигнуть цели, мы мстим за себя тем, что начи-
наем осуждать эту цель». Так начинается седьмая глава третьей книги.
И опять мы и озадачены, и обижены. Но не щадит он и себя: он непременно
скажет о том, что знает мало и сами знания его непрочны. (Что же может
сказать скептик?) Что он часто идет вслепую, на ощупь и никогда не быва-
ет удовлетворен достигнутыми знаниями. И даль знаний его влечет, и он
различает ее смутно. В каждой фразе скептик.
Говорит ли он о воспитании — и здесь он скептик. Он заботится прежде
всего о том, чтобы ученик догматически не воспринял знаний. Учить нужно,
предоставляя свободу уму. Пусть ищет сам. Пусть спотыкается и расшиба-
ет себе нос, но ищет сам.
Монтень объяснил здесь и свою манеру беседовать с читателем. Он
ничего не утверждает, ничему не учит, он сталкивает противоположные
мнения, противоположные факты и в сфере этих противоположных мнений
и фактов оставляет читателя.
Анатоль Франс в своих лекциях о Рабле, которые он прочитал в Амери-
ке, чистосердечно признался, что не всегда понимает своего собрата по
скептицизму:
93
«Гибкий гасконец, подвижный, как волна, и разноликий! С Монтенем,
право, приятно и полезно говорить, но мысль его трудно уловить, она
ускользает, выпархивает из ваших рук. Только профессора уверены, что
понимают его, ибо такова их профессия все понимать. Я его читаю, я его
люблю, восхищаюсь им, но не уверен, что хорошо его знаю. Его ум меняет-
ся от фразы к фразе и даже в пределах одной фразы, которая к тому же
совсем не длинна. Если это правда, что он нарисовал в «Опытах» самого
себя, то он дал свой образ более расплывчатым, чем лик луны на морской
волне».
Однако, вопреки заявлению Анатоля Франса, точка зрения Монтеня
все-таки достаточно ясно просматривается. Он лукав, нет спору, он не так-
то легко идет на сближение с читателем, но исподволь он ведет читателя
за собой и заставляет его мысль идти по желаемому ему пути. Он пишет:
«Сознание своего и вообще людского несовершенства и слабости нашего
ума избавит нас от гордыни, от излишней самоуверенности и от фанатизма.
Мы не будем мучить и убивать себе подобных только потому, что их взгля-
ды и их убеждения не похожи на наши». Такова логика Монтеня.
Он пишет смело, не гнушаясь грубого слова, подобранного на улице
(«я не отказываюсь ни от каких слов, которые в употреблении на фран-
цузских улицах»). Он пишет смело не только по форме выражения своих
мыслей, но часто и по существу самих мыслей, то есть обнажая те сокро-
венные стороны человеческого существования, которые обычно стыдливо
прикрываются и умалчиваются. Он вполне отдает себе отчет в этой смело-
сти и как бы бравирует этой дерзостью, чтобы подвигнуть своих читателей к
откровенности, сбросить с их глаз повязку ложного стыда и освободить от
предрассудков. Монтень мастерски владеет приемом иронии.
Глава «О каннибалах» — очень серьезная, а относительно диких наро-
дов просто восторженная,— кончается неожиданно иронической фразой:
«Все это было бы неплохо, но ведь они — без штанов».
ЦИТАТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИСКУССТВА
Монтень обильно цитировал. Особенно в первых двух книгах. В по-
следней— третьей — цитат становилось все меньше и меньше. Пожа-
луй, своей первоначальной славой «Опыты» были обязаны этим цита-
там и многочисленным историческим примерам. Перед читателем открывался
особый мир, мир своеобразной экзотики. Древний Рим и Древняя Греция,
Древний Египет и Индия, страны Западной Европы и народы первобытной
культуры. Диковинные нравы, странные обычаи и удивительные люди, удиви-
тельные события. Неискушенный читатель жадно пожирал глазами страни-
цы, живописующие так наглядно сцены из жизни человечества. Современники
Монтеня с любопытством всматривались в только что открытую античность.
Языческий мир древности с его более высокой цивилизацией, сравнительно
со Средневековьем, интересовал и волновал не только гуманистов, но и
средних людей, обладавших не столь уж большой образованностью. Этим
всеобщим интересом к античности можно объяснить и исключительную
популярность переводов Амио из Плутарха.
94
Образованный европеец эпохи Возрождения, в сознании которого зна-
чительно поколебались устои средневекового схоластического и теологиче-
ского мировоззрения, искал ответы на многие жизненные вопросы у поэтов,
философов или государственных деятелей древности. Собственных знаний
не всегда хватало для самостоятельных исследований и поисков. Не все
хорошо знали классическую латынь. Судя по некоторым замечаниям Мон-
теня, в тех местах, где он жил, таких вообще не было. Греческий язык
знали единицы. Оставался один путь — путь посредничества. Обращались к
тем, кто изучал и знал древние языки. Духовная потребность общества
немедленно была замечена и нашла какое-то удовлетворение. Всевозмож-
ные сборники сентенций, как и переводы знаменитых античных авторов,
стали все чаще и чаще выходить из печати. Даже Монтень не всегда
обращался к первоисточникам. Он использовал сочинения своих современ-
ников: Юста Липсия, из которого заимствовал значительное количество ци-
тат, а также Жана Бодена и др.
В известной степени эта мода на «цитатники» уживалась с тем, что уже
имело Средневековье в своем книжном наследии. При том огромном авто-
ритете, которое имело книжное слово в условиях догматического мировоз-'
зрения Средневековья, цитаты и ссылка на авторитеты были главным и не-
оспоримым аргументом при всяком умствовании и рассуждении. Теперь от
«отцов церкви» и Священного писания перешли к языческим авторам.
Новое вино вливали в старые мехи. На первых порах в этом большой беды
не было. Даже глубоко оригинальные и выдающиеся произведения Ренес-
санса не избежали этой проторенной стези. Роман Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль» буквально до краев наполнен ссылками и цитатами, иногда
с серьезными основаниями, а чаще из озорства, в пародийных целях.
Среднеобразованный француз времен Монтеня воспринял первоначаль-
но его «Опыты» как увлекательное собрание сентенций и удивительных
исторических эпизодов. Монтень сам признался, что прибегал к цитациям,
уступая капризу века (la fantaisie du siecle). В первых двух книгах их
было огромное множество. Монтень прибегал подчас к фигуре умолчания,
то есть, не высказывая своего собственного суждения, нанизывал один
эпизод на другой, одну сентенцию на другую по принципу противополож-
ностей. Один пример разрушал «мораль» второго, одно высказывание на-
чисто отвергало второе и т. д. Читатель терялся. Он не находил ответа.
Его будоражили эти противоречивые вещи. Он привык к готовым форму-
лам, к готовым умозаключениям, которые принимал на веру и брал на свое
идейное вооружение. Здесь этого не было. Нужно было самому думать,
решать, искать ответа. Это было непривычно, немножко страшно,— ибо
пугала ответственность перед Богом, вера в которого еще была сильна,—
и вместе с тем удивительно увлекало. Читатель начинал творить мысль
сам, но лукавый автор только делал вид, что давал ему полную свободу,
исподволь он наблюдал за течением его мысли и незаметно направлял ее по
тому руслу, по которому текла его (автора) собственная мысль.
Вольтер высоко оценил этот метод Монтеня: «Он подтверждает свои
мысли мыслями великих людей древности, он разбирает их, вступает с ними
в спор, беседует с ними, со своим читателем, с самим собой, всегда ори-
гинальный в манере изображать предмет, всегда полный воображения,
всегда живописный и, что я люблю, всегда умело сомневающийся».
95
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Монтень взял в качестве объекта для наблюдений и размышлений че-
ловека в самом общем его значении. В том, что относится к области,
так сказать, философии человека, он не позволил себе никаких умол-
чаний, никаких домыслов, никаких привнесений.
Монтень — глубочайший психолог. Если бы ему довелось писать романы,
то он, верно, писал бы их, как Стендаль, а отнюдь не как Вальтер Скотт.
Свои наблюдения он запечатлевает по-писательски, иначе говоря, решает
психологические проблемы скорее артистически, чем научными методами.
Его книга полна многозначительных картин. Перед нами предстают или его
современники, его друзья, знакомые, соседи, или исторические лица минув-
ших эпох. Он размышляет как философ. Его теоретические посылки выдер-
жаны в рамках чистой мысли. Их же оформление дано художественным,
метафорическим, образным и часто эмоционально окрашенным языком, что
Микеланджело.
Мадонна из Брюгге.
1500 г.
96
не терпит научное изложение. Примеры, приведенные им для аргументации
своих мыслей, часто представляют собой образцы настоящей художествен-
ной прозы.
В XIII главе II книги он рассуждает о том, что трудно бывает человеку
примириться с мыслью о наступающей последней минуте жизни. Эта мысль
не нова. Мы, пожалуй, согласились бы с автором без особого спора, согла-
сились бы холодно, спокойно и, может быть, даже не без некоторой доса-
ды (Кому же это не известно? Что за банальные истины!). Но тут же
Монтень рукою художника набрасывает облик умирающего человека, не-
сколько штрихов, и мы слышим шепот больного и слова надежды на краю
могилы: «Другие хворали больше и выжили. Не так уж все плохо со мной,
как думают. Пусть даже будет хуже. Что ж! Бог немало совершил
чудес...»
И от нашего равнодушия не осталось и следа. Мы охвачены тревогой.
Кто этот человек, цепляющийся за жизнь? — Он, ты, я и в конце концов
все мы. Когда это было? — Вчера, сегодня, всегда, и ныне и присно и во
веки веков. Никакие логические построения не могут взволновать так, как
эти немногие строки, показавшие реального, живого человека. А ведь в
этом и заключена тайна искусства.
В другой главе он рассказал о скорби отца, потерявшего сына. Мысль
тоже не нова и сводится к следующему: часто родители с притворной
холодностью держат своих детей на расстоянии и лишают самих себя
счастья дружеского общения с ними. Она, эта мысль, оставила бы нас рав-
нодушными. Но Монтень тут же опять рукой истинного художника нарисо-
вал нам живую картину.
«Покойный господин маршал де Монлюк, потеряв сына, погибшего на
острове Мадера, храброго дворянина, подававшего большие надежды, мне
высказывал между прочими своими горестями печаль и сердечные терзания
от сознания того, что так и не смог сблизиться с сыном, что за серьез-
ностью и родительской гримасой утаил свои чувства к нему. Не узнал его,
не привлек к себе, не дал ему понять, какое дружеское расположение пи-
тал к нему и какого высокого мнения был о нем. «И бедный мальчик,—
говорил он,— никогда не видел от меня ничего, кроме холодной и полной
презрения отчужденности, и унес с собой уверенность в том, что я не знал
его, не любил, не уважал. Чего же я опасался, зачем не открыл, какую
привязанность питал к нему в душе? А я ведь себя насиловал, заставлял
себя носить эту глупую маску и потерял радость общения с ним, дружеско-
го его расположения ко мне, да и как он мог быть не холодным, не от-
чужденным, если видел во мне лишь строгость и тираническую отстранен-
ность».
Психологические портреты современников начертаны рукой смелой и
сильной. Они предстают перед нами живыми. Таков, как мы видели, мар-
шал Монлюк, жестоко подавивший движение протестантов в Гиени, необ-
щительный и отчужденный даже с теми, кого уважал и любил. Другой
портрет столь же выразителен. Это некий декан монастыря св. Илария в
Пуатье, имя которого Монтень не пожелал сообщить, более двадцати лет
просидевший в своей келье — в добровольном одиночестве, в бессмысленной
и самоубийственной вражде с миром и людьми. Мы видим этого человека
нервно шагающим каждодневно в узком пространстве затхлой клетушки —
4 Литература эпохи Возрождения
97
туда и сюда, туда и сюда,— постоянно покашливающим, недовольным со-
бой и людьми, позволявшим только раз в сутки своему слуге приносить
ему пищу.
АВТОПОРТРЕТ
Монтень много писал о себе, иногда даже, пожалуй, несколько навяз-
чиво, рассказывая о некоторых подробностях своей жизни и бедах
своего бренного тела, без чего, кажется, можно было бы и обойтись.
Но из песни слова не выкинешь. И каждому человеку приходится как парить
в небесах и властвовать над природой, так и чувствовать свое великое
ничтожество и пригибаться к земле под тяжестью непреложных законов той
же матери-природы. Все «саморазоблачение» Монтеня сводится в сущности
к иллюстрации того, как нужно познавать самого себя. Присматриваться,
наблюдать, выслеживать самого себя с близкого расстояния. Монтень на-
блюдал в себе, по сути дела, универсальные черты, как положительные, на
его взгляд, так и отрицательные. Цель самосознания — научиться правиль-
но жить и умирать.
Само наблюдение за собой, за своим поведением, даже за своим мыш-
лением— занятие восхитительное, по мнению Монтеня.
Монтень избрал героем своей книги себя. Он описал свою внешность:
свое лицо, свою фигуру —весь свой общий облик, свою манеру одеваться.
Он говорит о своих пышных усах, к которым пристают ароматы поцелуев.
«Когда-то, в дни юности крепкие поцелуи, сладкие, жадные, сочные, прили-
пали к ним и часами удерживались на них», о своих привычках: он любит
ходить с палкой. Он не оставляет ее, даже едучи верхом. В этом он усмат-
ривает некое изящество, особый род франтовства. Далее рисует свой духов-
ный облик. Он относит себя к уравновешенным натурам. Никаких внутрен-
них разладов он не знал. Он человек веселый, хотя и несколько созерца-
тельный. Дурное настроение и печаль противны его натуре. Он любит во-
зиться с книгами. От книг он ищет разумной занимательности и науки
самопознания. У него неодолимая тяга к истине и независимости мысли.
Писатель рассказывает о себе, не таясь и не скрывая своих недостатков,
своих мелких побуждений, не умалчивая из ложной скромности своих
достоинств. «Каждый человек несет в себе частицу всего человечества»,—
говорил Монтень. И художественный такт писателя проявился как раз в
том, что эта частица всего человечества в отдельной личности была им
показана и убедительно и неоскорбительно для других. Может быть, его
книгу следует назвать исповедью?
Однако слово «исповедь» предполагает покаяние. Это в ритуальном
значении — признание в грехах, перечень грехов — моральных изъянов.
«Исповедь» Руссо в значительной своей части — покаянная книга. Именно
поэтому нельзя назвать «Опыты» Монтеня исповедью. Монтень не кается,
он без стыда и раскаяния рассказывает о себе.
Его называют осторожным, потому что несколько раз он счастливо
миновал опасность. А это всего лишь случай. Его хвалят за смелость и
терпение, а это всего лишь результат холодных рассуждений. Он отнюдь
98
'~Ч(**гак
W ,У
i
Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы (Джоконда).
не герой, способный выдержать серьезные испытания судьбы и побороть в
себе веления страстей. Его счастье, что страсти его не так сильны, с ними
ему было легко справиться, и в том, что он не совершил больших преступ-
лений, особых заслуг нет, ему просто не хотелось их совершать. Он не пи-
тал в себе ни злобы, ни склонности к раздорам и разногласиям отнюдь не
по долгу и обязанностям, а по внутренней антипатии ко злу и пороку, по-
тому что таково было его воспитание, впечатления детства, добрые примеры
отца и родных. Отсюда следует общий вывод о целях нравственного воспи-
тания человека — разучиться злу.
Он признается в том, что он добр, но добр глуповато, уступчиво и без
всякого искусства. Он слишком любит жизнь и все живое, чтобы равно-
душно видеть гибель, смерть, пресечение жизни любого существа. Сколько
радости людям его круга приносит охота. А ему больно видеть, как пре-
следуют несчастного оленя, понимать страдания затравленного животного,
его безмолвную мольбу о пощаде.
Мягок, упорядочен в своем поведении (хотя не геройском), курс его
жизни спокоен. Он аккуратно слушает мессу, он выполняет все предписания
церкви, он не позволяет себе никаких вольностей. Жизнь течет не бурливо
и шумно, а безмятежно и ровно. Не таковы его мысли. Здесь царство иное.
Здесь смелость и дерзание, здесь случается иногда и такое, за что можно
оказаться и на костре, если заранее не предпринять своих мер.
Монтень непостоянен. Мысль, решение, чувство и само действие
зависят от многих причин, от внешних обстоятельств и внутренней жизни
его биологического существа. Менее всего он способен предаваться печали
и пассивному созерцанию. Его физические и духовные силы влекут к дей-
ствию. И тем не менее он предается и меланхолии, и созерцанию, ибо
проявить активность в политической жизни — значит включиться в борьбу
религиозных партий, на стороне одной из них, а ни одной из них он не
сочувствует. Чтобы не бездействовать, он берется за перо писателя, никогда
до того не мысля стать им, и в книге о себе раскрывает мир человеческий.
Монтень откровенен не только в своей книге, он откровенен в быту, в обще-
ниях с людьми, мягко высказывая им свои взгляды и свою оценку их дейст-
вий. Впрочем, он не станет разубеждать, если видит в своем собеседнике
беса противоречия или укоренившуюся, не знающую сомнений веру.
Монтень подчас беспощаден к себе, раскрывая все свое тайное тайных.
«Я стою перед читателем нагишом»,— говаривал он. Строгие люди осуждали
его за это. Некоторые ворчали: «Уж очень он занят своей персоной!»
В XVII столетии Паскаль писал в своих «Мыслях»: «Монтень рассказывает
слишком много побасенок и слишком много говорит о себе».
МОНТЕНЬ И ПУШКИН
«Кстати, пришли мне, если можно, «Essais de Montaigne».
4 синих книги на длинных моих полках. Отыщи...»
А. С. Пушкин из Михайловского, осень 1835 г. Жене
Мы знаем эти длинные книжные полки в последней пушкинской квар-
тире на Мойке. Мы можем сейчас найти на них эти четыре синих книги,
изданные в Париже в 1828 году. Пушкин приобрел их в том же году.
В одной из них закладка, положенная рукой поэта на странице, озаглавлен-
ной французским философом: «О том, что философствовать, это значит —
учиться умирать».
Еще в 1825 году в статье «О поэзии классической и романтической»
(она осталась незаконченной) Пушкин поминает Монтеня как лучшего сти-
листа Франции XVI столетия: «Проза уже имела сильный перевес, Монтень,
Рабле были современниками Марота».
В 1828 году, вскоре после того как дядя поэта В. Л. Пушкин опублико-
вал в «Литературном музеуме» (1827) свои афоризмы, Пушкин в вольной
шутке осмеял их: «Так писывал Сенека и Монтень».
В 1829 году, составляя предисловие к трагедии «Борис Годунов» (оно
осталось не напечатанным при жизни поэта), Пушкин сделал примечатель-
ное признание: «Как Монтень, могу сказать о своем сочинении: C'est une
oeuvre de bonne foi» (это искреннее сочинение.— С. А.).
Теперь в деревенской глуши, среди сосен и елей дремотного Михайлов-
ского парка Пушкин вспомнил о французском философе. Какие-то неве-
домые нам нити ассоциаций повлекли воображение поэта к давно прочи-
танному, может быть, уже и позабытому и вдруг с непонятной силой вос-
кресшему в памяти. «Ты не можешь вообразить, как живо работает вообра-
жение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда
никто не мешает нам думать, до того, что голова закружится».
Ничто не указывает на следы монтеневских чтений в творчестве Пушки-
на этой поры, разве что окрашенное легкой грустью признание поэта:
И сам, покорный общему закону,
Переменился я...
Трудно сказать, что больше наложило здесь свой след на мысль поэта,
философия ли Монтеня, пронизанная идеей вечного изменения всего сущего
и человека в том числе, или случайная фраза крестьянки из Михайлов-
ского.
101
Рафаэль. Мадонна в зелени. 1505 г.
«В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в
нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время
моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смот-
реть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на
которых уже не пляшу. Но делать нечего: все кругом меня говорит, что я
старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встре-
тилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась.
А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел».
Вовсе не обязательно, конечно, читать «Опыты» Монтеня, чтобы видеть
изменяемость мира. Эта тема вечная. Еще у Гомера, который приемлет этот
в конце концов мудрый круговорот природы, диалектику рождения и смер-
ти, в шестой песне его «Илиады» мы читаем:
Так же, как листья в лесу, нарождаются
смертные люди,
Ветер на землю срывает одни, между тем как другие
Лес, зеленея, приносит, едва лишь весна возвратится.
Так поколенья людей: эти живы, а те исчезают.
Однако общий дух стихотворения Пушкина «Вновь я посетил...», его
философский подтекст, идея вечного обновления («Здравствуй, племя мла-
дое, незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст») близки к Мон-
теню, и не случайно, думается нам, именно теперь в Михайловском в ми-
нуты философических раздумий Пушкин вспомнил о четырех синих книгах
и захотел снова перечитать их, как видимо, делал не однажды.
Пушкина особенно поразила уже названная выше глава из «Опытов»
Монтеня. Знаменитое его философское стихотворение «Брожу ли я вдоль
улиц шумных» полно отзвуков этой главы.
«Я по натуре своей не то, чтобы меланхолик, но склонен к мечтательно-
сти. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем
образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни,—
когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь
муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности
мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от
горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с ду-
шой полной неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это
бывает со мною».
Те же чувства и мысли предстают нам в музыке пушкинского стиха:
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
«Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего
окружающего, так и смерть наша будет смертью окружающего. Поэтому
столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как
103
и то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало
жизни другого».
Эти глубочайшие по мысли фразы поэтически отозвались в сердце
Пушкина:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
У Монтеня природа так же равнодушна. Ослепительна, великолепна и...
равнодушна. Вот как она говорит у Монтеня с человеком: «Неужели
ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обяза-
тельное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то,
значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы
наслаждаетесь, одной половиной принадлежит жизни, другой—смерти.
В день своего рождения вы в такой мере начинаете жить, как и умирать».
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
«Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю
от смерти. И я без конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день,
то возможно также сегодня». И впрямь, опасности и случайности не при-
ближают нас к нашей последней черте: и если мы представим себе, что
помимо такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому, всех боль-
ше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть
действительно всегда рядом с нами,— и тогда, когда мы веселы, и когда
горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в
сражении, и когда отдыхаем».
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
Осенняя пора, смерть матери, останки которой Пушкин привез для
погребения в земле Святогорского монастыря, навеяли эти грустные мысли
и желание почитать Монтеня, так же как в трудную минуту мы обращаемся
к другу, чтобы, как говорят, отвести душу... Слава философу, который на-
ходит отклик в сердце поэта!
АНГЛИЯ
Зпоха Возрождения в Англии совпадает с так называемым «тюдоров-
ским столетием», временем правления династии Тюдоров. Его откры-
вает Генрих VII, закрывает Елизавета I (1485—1603).
В это время шел интенсивный процесс изгнания крестьян из деревень,
у которых отнимались общинные земли для пастбищ, что порождало массо-
вое бродяжничество, жестоко караемое (за время правления Генриха VIII
были повешены десятки тысяч бездомных).
Королевская власть укрепляется, становится неограниченной, абсолют-
ной. Царит дикий произвол. Наиболее одиозной фигурой выглядит Ген-
рих VIII, о котором Диккенс писал: «...самый непереносимый мерзавец, по-
зор для человеческой природы; кровавое и сальное пятно в истории
Англии».
Деспотизм Генриха VIII был беспределен даже в личной жизни: он
шесть раз был женат. Двух своих жен он зверски казнил. Одна из них —
красавица Анна Болейн, мать Елизаветы I, правившей при Шекспире.
105
Эпоха Возрождения в Англии укладывается в рамки XVI века. Открыва-
ет ее Томас Мор, закрывает Шекспир. Первого следует отнести к филосо-
фам и политическим деятелям, второго — к поэтам и драматургам. Томас
Мор известен миру своей книгой «Утопия» (несуществующее место), в ко-
торой он предложил своеобразный проект общества всеобщего равенства.
Признаться, довольно унылая картина открывается взору читателя. В го-
сударстве Утопия все трудятся, но без увлечения, без творческого горения
и радостного самоотвержения, а ради «справедливости» (все должны тру-
диться, ибо кто не трудится, тот не ест). Жители городов и деревень еже-
годно сменяют друг друга — тоже ради справедливости каждый человек год
работает в поле, год в городе, потом снова в поле и т. д. Ученые, если
они недостаточно эффективно действуют в науке, возвращаются к физиче-
скому труду. Обязанности неприятные и грязные исполняют монахи (добро-
вольно, ради милосердия) и рабы (таковые в стране Утопии есть, они наби-
раются из лиц, осужденных на смертную казнь за преступления). Увы, без
рабов не обошлось. Все живут скромно, одеваются скромно. Никто не
выделяется из общей массы, все одинаковы.
Такова жизнь «справедливого» общества. Мечты об идеальном обще-
ственном устройстве волновали многих гуманистов Ренессанса. Мы найдем
их и у Монтеня, и у Шекспира.
У Рабле они отражены в рассказе о Телемской обители, над входом в
которую красовалась надпись: «Здесь каждый делает, что хочет». Жизнь
телемитов интереснее и содержательнее жизни утопистов Томаса Мора.
Они образованны, склонны к утонченным духовным занятиям (знают
иностранные языки, пишут стихи). Они пьют тонкие вина, вкушают делика-
тесные яства, поют, танцуют, носят парадные, роскошные одежды. Спраши-
вается, откуда же они берут все эти блага? Оказывается, вокруг Телем-
ской обители расположены рабочие поселения, в которых готовится все не-
обходимое для жителей обители. Телема в переводе с греческого — же-
ланная. И здесь, как видим, нет социальной справедливости. Телемиты —
в сущности, аристократы, пользующиеся трудом других.
Томас Мор был вторым лицом в правительстве короля Генриха VIII,
занимая должность канцлера. Он не пожелал присягнуть королю, когда
тот отказался подчиниться в церковных вопросах римскому папе и объявил
английскую церковь самостоятельной (она стала называться англикан-
ской), сам встав во главе ее, то есть прерогативу назначения епископов и
прочих иерархов церкви оставил за собой. За несогласие с королем То-
мас Мор был казнен со всей жестокостью.
Католический Рим объявил его мучеником за веру и канонизировал
(объявил святым).
Когда-то Эразм Роттердамский вместе с Томасом Мором и другими
учеными мужами радовался приходу к власти юного Генриха VIII, так
много обещавшего просвещенному люду, теперь, узнав о гибели своего дру-
га, он воскликнул: «Томас Мор! Его душа была белее снега, а гений таков,
что Англия никогда больше не будет иметь подобного, хотя она и будет
родиной великих людей».
106
Неизвестный художник. Портрет королевы Англии Елизаветы I. 1600 г. Как видим,— тема
смерти. Идея ничтожества и суетности мирской власти.
Во второй половине XVI века в Англии появились замечательные та-
ланты— лорд Сидни, поэт, автор сонетов, введший в Англию моду на этот
жанр лирической поэзии, Джон Лили — мастер остроумной, изящной
комедии, создатель трагедии ужасов Томас Кид, патетической драмы
Роберт Грин и философской трагедии Кристофер Марло.
Кристофер Марло представлял зрителю сильные, титанические ха-
рактеры, попирающие общепринятые принципы морали («Тамерлан вели-
кий», «Трагическая история доктора Фауста», «Мальтийский еврей»). Он
умер рано, двадцати девяти лет от роду, при загадочных обстоятельствах
(убит в драке. Не была ли она спровоцирована?).
ШЕКСПИР
— О небо!
Где ж правда, когда священный дар,
Когда бессмертный гений —
не в награду
Любви горящей, самоотверженья
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»
Пушкинский Сальери обвиняет небо: оно несправедливо, оно одаряет
талантом тех, кто этого не заслуживает, кто не умеет ценить в себе
этот божественный дар, тогда как другие, отдав искусству все свои
силы, упорство, труд, остаются посредственностями, пожинают жалкие пло-
ды своих подчас гигантских усилий. Одним все легко и доступно, жар-
птица славы сама летит к ним в руки, их творчество — игра. Беспечно
расточая себя, они создают вечные, бессмертные творения ума и гения.
Другим, сколько бы они ни усердствовали, все это недоступно.
108
Противоречие между трудом и талантом. Говорят, что талант — это
труд. «Неправда!»—опровергнет их пушкинский Сальери, рассказывая о
своих титанических усилиях создать что-либо достойное гения:
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Обращаясь к судьбе Шекспира, мы не можем не вспомнить этих жалоб
и стонов пушкинского Сальери. Ведь он, Шекспир,— тот же пушкинский
Моцарт, получивший «священный дар», «бессмертный гений» совсем не в
награду за «самоотвержение, труды, усердие», а по какому-то неведомому
нам капризу природы. Или это не он, а кто-то другой, скрывшийся за его
именем? Тогда кто же он, этот гениальный небожитель?—Загадка. Тайна
за семью печатями. Однако спустимся на нашу грешную землю.
В 1585 году, проделав пятидневный путь, пришел в Лондон из малень-
кого захолустного городка Стрэтфорд, что на речушке Эйвон, паренек с
котомкой за плечами и с ломаным грошом в кармане, а по прошествии
каких-то семи лет заявил себя первейшим Поэтом и драматургом, слагате-
лем «сладчайших» сонетов. Как такое можно представить — сын разорив-
шегося перчаточника, полуобразованный, едва ли что-либо знавший, кроме
зачатков латинского языка, полученных в начальной школе провинциально-
го городка.
А между тем ученейшие люди с университетским образованием Кид,
Грин, Марло, хоть и отмеченные талантом, остались где-то позади. Поэт
и драматург Роберт Грин, умирая в нищете в жалкой лачуге бедняка,
разуверившийся во всем и вся и в «справедливости неба», подобно пуш-
кинскому Сальери, написал убийственный по сарказму памфлет «На грош
ума, купленного за миллион раскаяния» (1592), в котором, обыгрывая фа-
милию Шекспира (потрясатель копья) и не называя его прямо, осыпает его
злобной бранью («выскочка», «ворона, щеголяющая в наших перьях»,
«мастер на все руки, воображающий себя единственным потрясателем сце-
ны»).
Так, полуобразованным дикарем, «нутряным» поэтом, творящим шедев-
ры по внутреннему наитию, и остался Шекспир в глазах поколений
XVII—XVIII веков, вплоть, пожалуй, до середины прошлого столетия.
В 1857 году американка Делия Бэкон опубликовала книгу «Раскрытие
философии пьес Шекспира». Она усомнилась в том, что полуобразованный
человек мог создать произведения, требующие не только ума, таланта, но
и обширных историко-культурных познаний.
Так родился шекспировский вопрос: был ли Шекспир Шекспиром, то
есть автором тех несравненных литературных произведений, которые идут
под его именем? Делия Бэкон приписала их современнику Шекспира своему
однофамильцу Френсису Бэкону. Шекспироведы прислушались к ее голосу,
но авторство Ф. Бэкона отвергли. Сама же бедная возмутительница спо-
койствия, безмерно увлеченная своей идеей (она даже пыталась ночью при
помощи наемных рабочих вскрыть могилу Шекспира, чтобы найти новые
109
М. Дройсхут. Портрет
Шекспира. Гравюра.
Титульный лист издания
сочинений поэта. 1623 г.
доказательства для своей версии), окончила свои дни в психиатрической
лечебнице.
Вопрос до сих пор не дает покоя многим искателям сенсаций. Одежды
драматурга стали примеривать к графу Дерби, графу Ретленду, графу
Оксфорду и даже королеве Елизавете. Недавно в одном нашем журнале
были опубликованы материалы с новой версией, авторство шекспировских
произведений приписывалось теперь лорду Саутгемптону1. Интерес к теме
понятен, все, что связано с великими именами, имеет притягательную силу,
тем более что в данном случае мы почти ничего не знаем достоверного из
жизни поэта и драматурга.
Справедливо писал в конце XVIII века один английский автор: «Все,
что мы знаем о Шекспире,— это то, что он родился в Стрэтфорде-на-Эйво-
не, женился, родил детей, уехал в Лондон, стал там актером, написал
пьесы и поэмы, вернулся в Стрэтфорд, составил завещание и умер».
Жизнь Шекспира обросла легендами, как это случается со всеми знамени-
тостями. Однако то, что мы знаем о нем по немногим документам (не сохра-
нилось ни одной строки, написанной его рукой), мало увязывается с ге-
ниальной фигурой, которая предстает перед нами со страниц его сочинений.
Наука в СССР 1988.- № 6.
ПО
СОНЕТЫ
Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землей и океаном синим.
Шекспир
Правда чувств — вот главный эстетический принцип Шекспира. Ни-
какой рисовки, никакой фальши, никакой ложной патетики, «не
рвать страсть в клочья» — такие требования к художнику предъяв-
лял великий драматург. Потому так впечатляюще все то, что он написал,
а его сонеты — поистине крик сердца.
В сущности подлинная биография поэта — в них. Быт с его повседнев-
ными хлопотами остается где-то в стороне. Ум и сердце живут другими
тревогами. В жизни Шекспир — отец семейства (жена старше его на восемь
лет и вряд ли любимая, несколько дочерей, сын, умерший в одиннадца-
тилетнем возрасте), пайщик театра «Глобус», рачительный хозяин, забо-
тящийся о достатке и благосостоянии дома, в творчестве же, в том глав-
ном, что составляет содержание его настоящей жизни, он всечеловечен, он
велик, он общается с самим космосом:
Пылающую голову рассвет
Приподнимает с ложа своего,
И все земное шлет ему привет,
Лучистое встречая божество.
Когда в расцвете сил, в полдневный час,
Светило смотрит с вышины крутой,
С каким восторгом миллионы глаз
Следят за колесницей золотой.
В сонетах тоже «семья», но другая, ради которой только и стоит
жить. Это интимный круг бесконечно дорогих людей —- молодой светлокуд-
рый друг и смуглая, с копною черных волос дама. Им нет имен: зачем о
них знать посторонним? В этом круге и сам поэт. Страсти, великие страсти
сжигают его. Но кто он? Попробуем представить его себе: он уже не молод:
Когда же невзначай в зеркальной глади
Я вижу настоящий образ свой
В морщинах лет...
111
Признанье это странно для нас: шекспироведы уверяют, что сонеты писа-
лись в годы 1592—1598. Шекспиру было 28—34 года. Что это, поэтическое
самоуничижение? — Не похоже. Поэт настаивает на том, что уже много
пожил, многих пережил:
В своей груди я слышу все сердца.
Что я считал сокрытыми в могилах...
Или:
Когда на суд безмолвных тайных дум
Я вызываю голоса былого,—
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.
Кто друг его? —Он молод, знатен, богат и (это уже дружеская похва-
ла) великодушен.
Великодушье, знатность, красота,
И острый ум, и сила, и здоровье...
Кто же он? Предполагают, что лорд Саутгемптон, но почему так покро-
вительственно говорит с ним актер Шекспир. Какой аристократ в те дни
потерпел бы такое? Правда, иногда поэты, пользуясь вольностью художе-
ственного слова, позволяли себе поучать царей. «Во всем будь пращуру
подобен»,— наставлял Пушкин Николая I.
Как осужденный, права я лишен
Тебя при всем открыто узнавать,
И ты принять не можешь мой поклон,
Чтоб не легла на честь твою печать.
Какой же тайной связаны они — аристократ и плебей, занимающийся
самым презираемым тогда ремеслом актера? Шекспир, всеми уважаемый в
жизни как личность — скромный, сдержанный, всегда вежливый и коррект-
ный, так по крайней мере характеризуют его те немногие отзывы его совре-
менников, которые дошли до нас,— этот человек с трагическим надрывом
совсем не придуманно, а вполне искренне признается в каких-то своих
пороках:
В тот черный день (пусть он минует нас!)
Когда увидишь все мои пороки,
Когда терпенья истощишь запас
И мне объявишь приговор жестокий,
Когда, со мной сойдясь в толпе людской.
Меня едва подаришь взглядом ясным,
И я увижу холод и покой
В твоем лице, по-прежнему прекрасном, —
В тот день поможет горю моему
Сознание того, что я тебя не стою,
И руку я в присяге подниму,
Все оправдав своей неправотою.
112
II
s
Неизвестный
художник
Генри Ризли,
граф
Саутгемптон.
1590 г. Ему,
как полагают,
посвятил
Шекспир свои
сонеты.
Восхваляя друга, Шекспир выражает основную идею Ренессанса, в
Италии провозглашенную еще Пико делла Мирандола,— величие человека.
Шекспир славит в человеке качества, отвергаемые Средневековьем,—
здоровье, физическую красоту, острый ум. Поэт не скупится на краски:
«Прекрасный облик в зеркале ты видишь», «Украдкой время с тонким
мастерством волшебный праздник создает для глаз», «Ты вырезан искусно,
как печать» и т. д. Тревожит его одно: как бы эта красота не исчезла,
поглощенная временем. Подобно заботливому отцу, он настойчиво требует
сохранить ее, повторить в потомстве:
Ты будешь жить на свете десять раз,
Десятикратно в детях повторенный,
И вправе будешь в свой последний час
Торжествовать над смертью покоренной.
Ну а смуглая дама, какова она? Ей посвящено немало сонетов. Это
не дантовская Беатриче, не Лаура Петрарки. Те для влюбленных — боже-
ство, они почти бестелесны. Возлюбленная Шекспира земная, из крови и
плоти («Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле»).
Она и в нравственном отношении небезупречна (неверна, увлекает и друга
поэта), но как магнит притягивает к себе. \\ здесь Шекспир в круге идей
Тициан. Венера Урбинская, 1538 г.
114
Ренессанса. Данте и Петрарка не оторвались еще от мировоззрения Сред-
невековья, для них важнее дух, а не плоть, и любовь их платоническая,
никакое грешное вожделение не коснется предмета их страсти. Их лю-
бовь—это созерцание божества. Но человек прекрасен в своей физической
сущности и естественно возбуждает земные чувства. Материальное совер-
шенство человека славят мастера Ренессанса. Особенно выразительны по-
лотна итальянских живописцев, с упоением рисовавших обнаженных венер
(«Венера Урбинская». Тициан. Художник славит в картине физическую
красоту, любовь к музыке, с. 114).
О любви Шекспира, как он обрисовал ее в своих сонетах, можно ска-
зать словами Пушкина: «Ты любишь горестно и трудно». Перипетии этой
любви, с ее страданиями и радостью, ярко живописует поэт, уподобляя себя
скряге у золотых слитков:
Ты утоляешь мой голодный взор,
Как землю освежительная влага,
С гобои веду я бесконечный спор,
Как со своей сокровищницей скряга.
То счастлив он, то мечется во сне,
Боясь шагов, звучащих за стеною,
То хочет быть с ларцом наедине,
То рад сверкнуть сверкающей казною.
Так я, вкусив блаженство на пиру,
Терзаюсь жаждой в ожиданье взгляда.
Живу я тем, что у тебя беру.
Моя надежда, мука и награда.
В томительном чередованье дней
То я богаче всех, то я бедней.
Цитированные сонеты даны в прекрасном переводе Самуила Маршака.
АПОФЕОЗ ЛЮБВИ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Любовь — безумье мудрое: оно
И горечи и сладости полно.
Шекспир
Бессмертная трагедия — «Ромео и Джульетта». Тема любви — вечная,
почти всегда трагическая тема. В Древней Греции со всей силой ге-
ния ее запечатлел Еврипид. Там это безумье не мудрое, но сжигающее
сердца, доводящее человека до забвения всех норм поведения, всех при-
нятых обществом нравственных канонов. Федра полюбила пасынка, от-
вергнутая им, она совершает преступление, клевещет на юношу и губит
115
его, погибая и сама («Чтоб над смертной бедой моей не надмевался»).
Еще большая страсть сжигает Медею. Отвергнутая, она становится страш-
ной в своей мести, отдав любви все: родину, родственные связи, всю себя
без остатка, она, забытая возлюбленным, убивает соперницу, а потом, в
исступлении, и — собственных сыновей, чтобы только досадить неверному
супругу, покинувшему ее. Греческий драматург показал испепеляющую
душу трагедию страстей человеческих.
Ту же силу страстей показал и Данте, заставив кружиться в вечных вих-
рях ада Франческу да Римини и Паоло за их грешную любовь. Восток
оставил нам историю любви Лейли и Меджнуна, любви, доводящей до
умопомешательства.
Шекспир столкнул чистую, естественную и безгрешную любовь,
«мудрое безумие» с неустроенностью мира:
Кто нарушает мир?
Кто оскверняет меч свой кровью ближних?
Не слушают! Эй, эй, вы, люди! Звери!
Вы гасите огонь преступной злобы
Потоком пурпурным из жил своих.
Вечная, кровавым призраком сопровождающая человечество вражда.
Столкновение воль, страстей, амбиций, ложных постулатов и, как след-
ствие, смерть, потоки крови.
Прекрасный итальянский городок Верона. Он весь озарен солнцем.
Райский уголок, созданный, кажется, только для радости и счастья людей,
и живут в нем наделенные здоровьем и красотой люди. Чего же большего
желать? Но нет покоя людям: они ссорятся, дерутся, убивают друг друга,
неведомо подчас из-за чего.
В городе две знатные семьи—Монтекки и Капулетти. Кто-то когда-то
поссорил их. О том давно забыли, но вражда живет, не затихает за дав-
ностью лет, а все больше разгорается, и льется кровь, и множатся жертвы
и с той и с другой стороны. «Эй, эй, вы, люди! Звери!» Это кричит не
герцог в трагедии Шекспира, а сам Шекспир, с гневом и болью осуждаю-
щий беспокойный и безумный мир человеческий.
И вот в этой прекрасной стране, озаренной солнцем и, кажется,
всеми благами природы, расцвела любовь двух юных существ. Для дея-
телей Ренессанса, а Шекспир был, пожалуй, самым ярким среди них,
Природа почиталась как высший разум мира. Все, что идет от Природы,—
священно.
Мишель Монтень, а его читал Шекспир, слагает природе величествен-
ный гимн: «Но кто способен представить себе, как на картине, великий
облик нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии; кто
умеет читать ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощу-
щает себя,— и не только себя, но и целое королевство,— как крошечную,
едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен
оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами».
Гимн любви, который спел Шекспир в своей трагедии, есть в то же вре-
мя и гимн Природе. Она рождает и благословляет любовь.
Ромео еще не видел Джульетты, но он уже влюблен, влюблен потому,
что пришла пора, потому, что так распорядилась Природа. Конечно, все
116
С. Бродский. Ромео. Иллюстрация. 1982 г.
признаки любви налицо — и слезы, и томления, и мечтательность, и жела-
ние укрыться от глаз людских:
Слезами множит утра он росу
И к тучам тучи вздохов прибавляет,
Но стоит оживляющему солнцу
Далеко на востоке приподнять
Тенистый полог над Авроры ложем —
От света прочь бежит мой сын печальный
И замыкается в своих покоях;
Завесит окна, свет дневной прогонит
И сделает искусственную ночь.
Ждать можно бедствий от такой кручины.
Так выражает свои тревоги отец Ромео Монтекки. Его сын влюблен,
и влюблен он в Розалинду. Не будь ее, влюбился бы в другую, потому что
пришла пора.
В мимолетном и как бы случайном замечании одного из персонажей
пьесы (Меркуцио), обращенном к Ромео: «Ты то, чем сделала тебя приро-
да и воспитание»,— много философского смысла, дорогого для всех деяте-
лей Ренессанса. Одно из главных требований, какие они предъявляли к
воспитателю,— не насиловать в человеке природу, да это и трудно сделать
(«Трудно преобразовать то, что вложено в человека самой природой» —
Монтень).
Стиль Шекспира вообще чрезвычайно динамичен, и в трагедии «Ромео
и Джульетта» сюжет спрессован до предела. События развиваются стре-
мительно, лишь лирические сцены, подобно чудной мелодии, как бы замед-
ляют их молниеносный бег, чаруя нас прелестью поэзии любви.
Тоскующий по Розалинде Ромео увлечен друзьями на бал-маскарад в
дом Капулетти. Там впервые встречает он Джульетту. Один взгляд на
юную красавицу — и меркнет красота Розалинды перед этой новой звездой.
Диалог полон блеска остроумия и ума:
Ро м ео:
Даны ль уста святым и пилигримам?
Джульетта:
Да,— для молитвы, добрый пилигрим.
Ромео:
Святая! Так позволь устам моим
Прильнуть к твоим — не будь неумолима.
Джульетта:
Не двигаясь, святые внемлют нам.
Ромео:
Недвижно дай ответ моим мольбам (целует).
Твои уста с моих весь грех снимают.
Д ж ул ьетта:
Так приняли твой грех мои уста?
Ромео:
Мой грех... О, твой упрек меня смущает!
Верни ж мой грех...
118
С. Бродский. Джульетта. Иллюстрация. 1982 г.
Бал кончается, гости расходятся, хозяева идут ко сну, но Ромео,
убегая от друзей, решается на отчаянный шаг, он перелезает через высо-
кую ограду, чтобы взглянуть на окно спальни прелестной девочки, и что
же он слышит?—Джульетта на балконе произносит его имя. Это —
признание. Джульетта любит. Сцена полна очарования. Луна освещает
влюбленных. Сама природа благословляет их.
Шекспир, который всегда стремился к правде, изображая чувства и
поступки людей, никогда не копировал повседневную обыденную речь.
Каждый его персонаж — поэт, оратор, острослов, из уст которого, как из
рога изобилия, сыплются сравнения, метафоры.
Как говорит Ромео? — Чтобы сказать «наступает утро», он слагает
поистине поэму: «Завистливым лучом уж на восток заря завесу облак про-
резает» или: «ночь тушит свечи», «радостное утро на цыпочках встает на
горных кручах» и пр. и пр.
Так же говорит и Джульетта:
Раскинь скорей свою завесу, ночь,
Пособница любви...
Ночь кроткая, о ласковая ночь,
Ночь темноокая, дай мне Ромео...
В этом есть определенная доля условности, но — это условность поэзии,
самого прекрасного изобретения человеческой речи.
Многих художников вдохновляла сцена в саду.
В пьесе влюбленным помогает монах брат Лоренцо. Он добр, снисходи-
телен к молодым людям, пытается иногда несколько умерить их темпера-
мент, их нетерпение, но в конце концов уступает им. Он венчает их, рискуя
навлечь на себя гнев их родителей, он всей душой готов устроить их
счастье, но события развиваются вопреки всем планам.
Уличная драка. Тибальд, племянник матери Джульетты, затевает ссору
с Меркуцио, приятелем Ромео, побуждает его к поединку. Ромео пытается
им помешать, но только усложняет положение, из-под его руки Тибальд,
воспользовавшись удобной позицией, убивает Меркуцио. Веселый, остро-
умный и добрый приятель Ромео гибнет, и косвенным виновником его
смерти становится он, Ромео. Как же можно устоять? И только что обвен-
чанный с Джульеттой Ромео убивает Тибальда, двоюродного брата своей
жены. Дальше — цепная реакция событий, приведших к трагическому кон-
цу. Три юных жизни прервались в могильном склепе Капулетти — Ромео
и Джульетта, проведшие лишь одну ночь любви, и столь же юный Парис,
мечтавший жениться на Джульетте.
Смерть их трагична, но и прекрасна. Все овеяно молодостью и красо-
той. Зритель потрясен, но и взволнован чувством восхищения. Как пре-
красен Человек, как прекрасны его страсти. Человек — святая святых
Ренессанса.
В заключение хочется привести отзыв Пушкина о трагедии «Ромео и
Джульетта»: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом,
страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком,
исполненным блеска и concetti (остроумия.— С. А.). Так понял Шекспир
драматическую местность. После Джульетты, после Ромео, сих двух очаро-
120
вательных созданий шекспировской грации, Меркуцио, благородный Мерку-
цио, есть замечательнейшее лицо из всей трагедии. Поэт избрал его в
представители итальянцев, бывших модным народом Европы, французами
XVI века». (В дни Пушкина таким модным народом Европы были фран-
цузы.)
В Вероне на кладбище и в наши дни показывают гробницу Джульетты.
Скептики полагают, что это мистификация, что не было ни Ромео, ни
Джульетты, что их трагедия—лишь выдумка поэтов, что гробница возве-
дена всего лишь ради патриотических амбиций горожан. Но многочислен-
ные туристы не могут не посетить кладбище и не положить цветок на моги-
лу милых сердцу существ.
Что касается фамилий Монтекки и Капулетти, то их упоминает Данте
в «Божественной комедии» («Чистилище», VI, 106).
В КРАЮ КРАСОТЫ И СЧАСТЬЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ ЧТО УГОДНО!»
Благословенный край,
пленительный предел,
Там лавры зыблются, там
апельсины зреют.
А. С. Пушкин
Комедии Шекспира — это пленительная сказка. Он уводит нас от тревог
и страхов, от страданий и бед, от коварства и зла, переполняющих
нашу жизнь, в мир красивых людей, в мир шуток и веселого смеха,
затейливой, но не опасной житейской кутерьмы, с ошибками, переодева-
ниями, остроумными и необидными насмешками. Если появляются там до-
садные помехи счастью, то они несерьезны и скоро преодолеваются, чуть-
чуть и на мгновение появляясь подобно легкому облачку на ясном небе.
И все там цветет, благоухает, полно музыки и, конечно, любви.
Сценические традиции идут издалека, из Древней Греции (Менандр),
из Древнего Рима (Теренций). Шекспир прямой и, пожалуй, затмивший
их продолжатель этих традиций. Комедия его изящна, аристократична,
далека от буффонады и грубого гротеска.
121
«Двенадцатая ночь» — последняя пьеса в этом жанре. Название ее
несколько озадачивает: почему ночь и почему двенадцатая? Ничего в пьесе
не связано с таким названием. Действие происходит только днем, при ярком
солнце и ясном неб^. Некоторые считают, что ставилась она в двенадцатую
рождественскую ночь, праздничную и веселую, и потому так названа.
Иллирия. Это восточные берега Адриатического моря. Для лондонца
времен Шекспира —что-то очень далекое и вряд ли существующее. Правит
ею молодой герцог Орсино. Но правит ли он? Все и так идет само собой.
К тому же герцог влюблен, и предмет его страсти — прекрасная и юная
графиня Оливия. Но красавица неприступна: она оплакивает смерть отца
и брата и поклялась, что в течение семи лет не будет помышлять о заму-
жестве.
Пьеса открывается музыкальным вступлением. Чарующая мелодия и
лирически настроенный герцог.
О музыка, ты пища для любви!
Играйте же, любовь мою насытьте,
И пусть желанье, утолясь, умрет!
Вновь повторите тот напев щемящий,—
Он слух ласкал мне, точно трепет ветра,
Скользнувший над фиалками тайком,
Чтоб к нам вернуться, ароматом вея...
Маленькое счастливое царство, дворцы герцога и графини Оливии,
роскошные парки, всюду изобилие, и ничто не угрожает этому обетованно-
му уголку благополучия и счастья. И герцог и графиня — правители в
своих владениях — добры и снисходительны.
И в этот мир попадают два юных и прекрасных существа, брат и сестра,
в отрочестве разлученные при кораблекрушении. Они — близнецы, не-
различимо похожие друг на друга. Каждый из них считает другого погиб-
шим. Но вот волею судеб они оказались в одном месте. От этого происходит
много затейливых ошибок. Виола, переодевшись в мужское платье, посту-
пает на службу к герцогу. Он сдружается с «мальчиком», не подозревая,
что это женщина, и делает ее своим поверенным в любви к Оливии.
Посылает ее к Оливии просить, умолять красавицу, настаивать. Он
полагает, что сама внешность прекрасного пажа должна смягчить камен-
ное сердце Оливии.
Поверь мне, милый мальчик:
Кто скажет о тебе, что ты мужчина,
Тот оклевещет дней твоих весну,
Твой нежный рот румян, как у Дианы,
Высокий голосок так чист и звонок,
Как будто сотворен для женской роли,
Твоя звезда для дел такого рода
Благоприятна.
Виола не знает, как выйти из двусмысленного положения, к тому же вы-
нуждена быть ходатаем перед гордой и неприступной Оливией, а та, увидев
ее и не ведая, что перед ней женщина, влюбляется в очаровательного,
как ей кажется, юношу.
122
Н. Хиллиард. Джорж Клиффорд, граф Кемберлен. 1590 г. Так одевались в дни Шекспира
знатные щеголи.
В конце концов появляется Себастьян, брат Виолы, все разъясняется
ко всеобщему счастью: герцог женится на Виоле, а Оливия получает
Себастьяна.
В шумном празднике жизни участвуют и любитель попоек Тоби, дядя
Оливии, и богатый и глуповатый дворянчик сэр Эндрю, тоже мечтающий
о женитьбе на Оливии, и шуты, и камеристка графини, веселая и остроум-
ная Мария, и единственное мрачное лицо в пьесе дворецкий Оливии
Мальволио, которому дано и соответствующее имя (итал.— злая воля).
Он один своей суровостью и ворчливым педантизмом омрачает жизнь
обитателям дворца и за это наказан. С ним сыграла довольно злую шутку
вся веселая компания слуг. Глупый и самовлюбленный, он легко попадает
в расставленную для него ловушку,— посрамлен и осмеян.
Иные полагают, что это жестоко, но «злую волю» надо подавлять,
к тому же урок был не так уж страшен, и надо полагать, дворецкий все
так же будет исполнять свои обязанности, пользоваться благосклонностью
хозяев и, подувшись на слуг, станет добрее и снисходительнее к ним.
Комедия Шекспира добра и гуманна в своей основе, как, впрочем,
и все написанное им.
Побывав в стране красоты и счастья, отдохнув душой, как и в дни
Шекспира, мы выходим из театра, может быть, со вздохом сожаления, что
далеко это от реальности, и с надеждой, что не все-то плохо в нашем пока
неблагоустроенном мире.
злодейство и возмездие
«МАКБЕТ»
О звезды, с неба не струите света
Во мрак бездонный замыслов Макбета...
Шекспир
Всеми признано, что «Макбет» — самая мрачная трагедия Шекспира.
Реальные события, происходившие в Шотландии в XI столетии,
убийство короля Дункана и воцарение его убийцы Макбета, показа-
ны на сцене с вихрем мистических сил — пляской, завываньем ведьм,
олицетворяющих кровавый призрак зла. В дни Шекспира в существование
124
ведьм верили, и можно представить себе, с каким содроганием сердца
тогдашний зритель воспринимал историческую картину далеких времен,
развертывающуюся перед ним на сцене.
Леди Макбет, супруга полководца, узнает, что к ним на ночлег едет
король. Давно лелеемый ею план близок к осуществлению. Она знает,
на что идет, знает, что ее муж, хоть и мечтает стать королем, страшится
кровопролития, но она его убедит, она заставит его пойти на крайние,
жестокие меры. Он «молочной незлобивостью вспоен», он «брезгует зло-
действом», но силы его укрепит она, его супруга, у нее больше воли и
решимости.
Какова эта женщина, хороша ли, дурна ли была собой, откуда она ро-
дом, какова ее дальнейшая судьба, была ли она потом на троне все 17 лет,
пока правил Шотландией ее супруг, убийца Дункана,— о том никаких
сведений у нас нет, сохранилась лишь краткая справка летописца: «Но
особенно растравляла его жена, добивавшаяся, чтобы он совершил это,
ибо она была весьма честолюбива и в ней пылало неугасимое желание
приобрести сан королевы». Одна фраза, но она воспламенила творческое
воображение Шекспира. И перед нами женщина во плоти, мы видим ее
воочию, мы слышим ее живой голос, мы ощущаем ее дыхание.
Я уже отмечал особенность стиля драматурга —он исключительно верен
реальности, речь его героев всегда убедительно натуральна, но это вместе
с тем и особая речь — речь самого Шекспира со всей ее поэтической воль-
ностью и размахом, в реальной жизни люди так не говорят, здесь в изъяс-
нения сценических персонажей вплетена искрометная речь автора. Борис
Пастернак, который много переводил английского поэта, сделал удивитель-
ное наблюдение в 1942 году, когда работал над переводом «Макбета»:
«...это чудо объективности. Это его знаменитые характеры, галерея типов,
возрастов и темпераментов с их отличительными поступками и особым
языком. И Шекспира не смущает, что их разговоры переплетаются с излия-
ниями его собственного гения. На чередовании самозабвения и внима-
тельности построена его эстетика...»
Послушаем леди Макбет. Она еще не совершила рокового шага, она
еще только готовится к нему, но сама речь ее свидетельствует о том, что
замысел ужасен, ибо в речь ее вплетены, говоря словами Пастернака,
«излияния собственного гения» Шекспира:
Ко мне, о духи смерти! Измените
Мой пол...
Устами леди Макбет драматург как бы говорит нам: женщина и убийст-
во! Женщина и злодейство! Можно ли представить такое? — Измените пол!
Меня от головы до пят
Злодейством напитайте. Кровь мою
Сгустите. Вход для жалости закройте...
И опять мы слышим голос автора — вот на что пошла эта женщина,
вот какую метаморфозу совершила она с собой: себя злодейством напита-
ла, сгустила в себе кровь, отвергла жалость.
Чтоб голосом раскаянья природа
Мою решимость не поколебала.
125
Природа! Сама природа восстает против убийства. Это ведь говорит
деятель Ренессанса.
Припав к моим сосцам, не молоко,
А желчь из них высасывайте жадно,
Невидимые демоны убийства,
Где 6 злу вы ни служили. Ночь глухая.
Спустись, себя окутав адским дымом,
Чтоб нож не видел наносимых ран,
Чтоб небо, глянув сквозь просветы мрака.
Не возопило: «Стой!»
Устами леди Макбет передан весь ужас затеваемого злодейства. Краски
сгущены до предела — и «ночь глухая», и «демоны убийства», и «адский
дым», и небо, кричащее: «Стой!»
И как динамичен, темпераментен и выразителен весь монолог! Леди
Макбет поучает -своего супруга выглядеть перед гостем приветливым,
веселым: «Будь ликом ясен», чтоб никто не догадался о замысле, нужно:
Придать любезность взорам, жестам, речи,
Цветком невинным выглядеть и...
Но тут вмешивается в ее речь Шекспир и говорит ее устами: «...и быть
змеей под ним». При всем уважении к реализму Шекспира, признаем,
что так бы не сказала сия отчаянная дама. Нет, не сказала бы: «Цветком
невинным выглядеть и быть змеей под ним». Последнее есть суд Шекспира.
Но это нисколько не снижает реальность сценического образа.
Злодейство совершено. Король Дункан убит. Его убивает полководец
Макбет, а леди Макбет приходит в спальню убитого и его кровью обмазы-
вает двух спящих слуг короля, чтобы на них пало подозрение. Ужас охва-
тывает всех, и ночь выдалась грозная, непогодливая:
Какая буря бушевала ночью!
Снесло трубу над комнатою нашей,
И говорят, что в воздухе носились
Рыданья, смертный стон и голоса,
Пророчившие нам годину бедствий
И смут жестоких. Птица тьмы кричала
Всю ночь, и, говорят, как в лихорадке,
Тряслась земля.
Это — эмоциональный фон. Сама природа бунтует, отторгает зло: оно не
совместимо с естеством.
Попомним, что пьеса создавалась для сцены. Сценический эффект вме-
шательства природы (шум бури, гроза, дождь) был, конечно, значителен.
Природа становилась как бы новым сценическим персонажем, своеобраз-
ным комментатором происходящего. В древнегреческом театре эту роль вы-
полнял хор.
Возмездье
Рукой бесстрастной чашу с нашим
ядом
Подносит нам же...
Зто говорит Шекспир устами Макбета. Преступление совершено, начи-
нается наказание. Оно — в терзаниях совести. Убийцы будут «безыс-
ходно корчиться на дыбе душевных мук». И опять это говорит сам
Шекспир устами леди Макбет. Обратим внимание на то, что возмездие бес-
страстно. Это — высшая справедливость, пред нею все равны. «Преступление
и наказание»—так назвал Достоевский один из самых трагедийных своих
романов. И там, в романе Достоевского — «дыба душевных мук» несчаст-
ного Раскольникова, и там возмездие бесстрастно. И в романе «Братья
Карамазовы» муки совести доводят Смердякова до самоубийства (думал
человек, что раз Бога нет, то, значит, все дозволено, но, оказывается, есть
«возмездие с рукой бесстрастной», оно творит свой высший суд куда
справедливей и неотвратимей, чем любой человеческий исполнитель воли
закона). Вспомним терзания пушкинского Бориса Годунова:
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою...
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
В нас живет этот нравственный закон справедливости. Великий немец-
кий философ Иммануил Кант назвал его категорическим императивом,
иначе говоря, если отойти от философской терминологии,— неукоснитель-
ным нравственным повелением сердца.
Терзания Макбета начинаются с галлюцинаций, ему являются призраки,
они садятся рядом во время пира, они кивают ему, грозят и в присутствии
других. Они являются только Макбету и невидимы для других.
Он кричит: «Сгинь! Скройся с глаз! Вернись обратно в землю!» Снова
ведьмы, они варят свои сатанинские снадобья. К ним является Макбет, они
вызывают духов. Появляются призраки. Все это игра больного воображе-
ния, но для зрителей, современников Шекспира, они реальны. Макбет-
убийца знается с нечистой силой.
А леди Макбет? Она ведь так кичилась своей стойкостью, так бравиро-
вала во зле. Леди, теперь уже королева, тоже сражена. Каждую ночь
она встает и сомнамбулически бродит по залам дворца, трет свои руки, ей
127
1
Рембрандт. Святое семейство
видятся на них пятна крови, и никак не сможет она их смыть. И это «не-
дужное сознанье», «эти письмена тоски... в мозгу» суть терзанья совести,
это — возмездие. Королева умирает, а супруг ее произносит мрачную, пол-
ную пессимистического смысла эпитафию:
Завтра, завтра, завтра,—
А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь — это только тень, комедиант,
Поясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
ОТВЕРЖЕННЫЕ
«КОРОЛЬ ЛИР»
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон...
Данте А лиг ьер и
У французского писателя Бальзака есть роман «Отец Горио», в нем
излагается в сущности та же история, что и в трагедии Шекспира
«Король Лир». Слепая родительская любовь и неблагодарные доче-
ри, которые не явились даже на похороны обобранного ими отца, а послали
ради приличия свои пустые кареты. Такова история, она нас печалит. Мно-
го еще подлости и бессердечия на свете. Король Лир вряд ли чрезмерно
любит своих дочерей, как бальзаковский отец Горио, его больше заботит,
насколько сильна их любовь к нему, потому он так легко отвергает и
изгоняет младшую дочь Корделию только за то, что она искренно призна-
лась, что супружескую любовь предпочтет любви дочерней.
Лир решил разделить государство на три части и отдать дочерям:
Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч
Хотим переложить на молодые
И доплестись до гроба налегке.
5 Литература эпохи Возрождения
129
При этом он проявляет слепоту и глупость, веря клятвенным и явно
лицемерным признаниям Гонерильи и Реганы.
Моей любви не выразить словами.
Вы мне милей, чем воздух, свет очей,
Ценней богатств и всех сокровищ мира. -
таковы заверения.
Долгие годы проведя на троне, видя жизнь лишь из окон своего дворца,
всегда окруженный льстивыми придворными, он утратил чувство реально-
сти, не понимая того, что в нем чтят короля, мы бы сказали, должность, а
не личность.
Это его и погубило. Бессердечие его старших дочерей проявилось,
как только они получили независимость от отца и власть. Вчерашний король
был просто выброшен на улицу.
Гонерилья и Регана — хищницы. Их снедает лишь одна страсть —
похоть, и предмет их вожделений один и тот же человек, побочный сын
графа Глостера, красавец Эдмонд. Тот охотно поддерживает в них эту
страсть. Коварный и жестокий, он клевещет на брата, губит отца, словом:
...предатель
Пред богами, братом и отцом...
И весь запятнан с головы до ног
Следами гнусной низости и грязи.
Все это могло бы послужить темой для сентиментальной мелодрамы.
Кстати сказать, Шекспир не первый использовал этот сюжет для сцены.
Лондонские архивы хранят записи о пьесах неизвестных авторов 1594 и
1605 годов. Сами пьесы до нас не дошли. Шекспир создал шедевр. Его
трагедия волнует целые поколения читателей и зрителей. Проходят века,
многое предается забвению под напором новых событий и идей, но пьеса
Шекспира живет, не увядает. Ее образы, ее мысли, изложенные с несрав-
ненной художественной силой, теперь уже принимают глобальные масшта-
бы. Шекспир говорит со всем человечеством.
Драматург показал, кажется, предел людской злобы и жестокости.
Особенно потрясает сцена ослепления Глостера.
Страшен мир. Злодеяния совершались всегда, а поколения XX века
они поразили в масштабах, ранее невиданных.
Мир населен злыми, коварными, эгоистическими существами, но он по-
лон и добрых, благородных, самоотверженных людей. В пьесе — это Гло-
стер, Кент, Эдгар, брат злодея Эдмонда и сын Глостера, и чистая в своих
помыслах, милая и непритязательная Корделия.
Однако есть в любом человеческом обществе особое государство или,
говоря словами Данте, «отверженные селения», где раздается никогда не
затихающий «вековечный стон». Это мир бездомных горемык, это «дно»
общества. Туда попадают по разным причинам. Кто-то где-то оступился,
нарушил какой-то запрет, упал, да так и не поднялся, не нашел в себе силы
противостоять всеобщей ненависти и презрению, кто-то по болезни, кто-то
по странному неумению жить как все, то есть подчиняясь принятой методе
поведения. Иных туда загнало преступное варварство злых людей или про-
стодушная доверчивость и слабость воли. Среди них есть и умные люди,
130
своеобразные мыслители, как, например, Сатин в горьковской пьесе «На
дне».
Шекспир не щадит наши нервы и показывает зло в ужасающей наготе,
как бы говоря нам: «Нет, нет, не отворачивайтесь, глядите, любуйтесь,
это рядом с вами, эти отверженные люди, такие же, как вы, может быть,
даже лучше вас, они так же, как и вы, хотят жить в неге и радостях!» Он
прибегает к резким, контрастирующим краскам. В своей картине жизни он,
как сказал бы Бальзак, «хватает через край», будто издеваясь над любите-
лями идиллий. Он бросает в этот мир обездоленных тех, кто жил во двор-
цах, людей, которые никогда не думали об этом мире, а может быть, даже
не знали, что он существует.
В окрестностях Лондона был дом для умалишенных. Назывался он Бед-
лам. Словечко приобрело международное хождение, как наименование хао-
са, беспорядков и всякой нечисти: «Бродяги и полоумные из Бедлама».
Они блуждают с воплями кругом.
Себе втыкают в руки иглы, гвозди,
Колючки розмарина и шипы
И. наводя своим обличьем ужас.
Сбирают подаянье в деревнях.
На мельницах, в усадьбах и овчарнях.
Где плача, где грозясь...
И вчерашний обитатель дворца юный Эдгар, сын графа, принимает
«обличье» Тома из Бедлама—сумасшедшего. Скрываясь от преследовате-
лей, он копирует тех, кто там, в Бедламе, принимает
самый жалкий вид
Из всех, к каким людей приводит бедность,
Почти что превращая их в зверей...
Шекспир не нейтрален, он дает социальную характеристику, связывая при-
чины и следствия: бедность превращает людей в животных. Подражая им,
Эдгар обмазывает лицо грязью (бедняки перестают думать о гигиене и кра-
соте лица), обматывается куском холста (у бедняков нет одежды), взъеро-
шивает волосы (знак полнейшего равнодушия к своей внешности) и полу-
голый выходит в непогоду навстречу вихрю...
В театре Шекспира одним из главных героев становится природа.
Она участвует в событиях. В лирической сцене любви Ромео и Джульет-
ты— это лунная ночь, благоуханная и прекрасная, в трагедии «Король
Лир» она враждебна к человеку, это буря, завывание ветра, колючий снег и
дождь, беззащитны перед ней бездомные люди, и среди них сам недавний
король, несчастный Лир.
Сражается один
С неистовой стихией, заклиная,
Чтоб ветер сдунул землю в океан
Или обрушил океан на землю,
Чтоб мир переменился иль погиб.
Рвет волосы свои, и буйный ветер
Уносит их, хватая и крутя.
131
Всем малым миром, скрытым в человеке,
Противится он вихрю и дождю,
Которые сцепились в рукопашной.
В такую ночь, когда не выйдут вон
Медведица, и лев, и волк голодный,
Он мечется с открытой головой
И гибели самой бросает вызов.
Подобно буре, неиствует и сам Лир, но среди смятений дождя и вет-
ра, нещадного холода не один Лир. Сколько их, бездомных бедолаг, ищут
сейчас укрыва и угрева и не находят, разве лишь смерть-спасительница на-
всегда успокоит их страждущее тело.
В своей страшной беде Лир прозревает. Его глазам открывается не-
ведомый мир несчастных и обездоленных. Он забывает о своих собствен-
ных страданиях и проникается жалостью к этим обездоленным:
Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды —
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде!
Преображение Лира облагораживает его. Перед нами теперь уже не
глуповатый, эгоистичный старик, а мудрец. Он возвысился до понимания
вселенского зла, вселенских бед. Он преобразился и душой. Увидев подлин-
ное лицо старших дочерей, он ужаснулся перед этой бездной бездушия,
но сколько неизбывного горя от утраты веры! Он так верил им, так верил!
Дочка, не своди
Меня с ума. Я более не буду
Мешать тебе. Прощай, мое дитя,
Я больше никогда с тобой не встречусь.
Но все ж ты плоть, ты кровь, ты дочь моя
Или, вернее, болячка этой плоти
И, стало быть, моя болезнь, нарыв,
Да, опухоль с моею гнойной кровью.
Я не браню тебя. Пускай в тебе
В самой проснется совесть,
Я стрел не кличу на твое чело.
Юпитеру не посылаю жалоб.
Исправься в меру сил. Я подожду.
Лир в конце концов сходит с ума—так много горя сразу свалилось
на его голову, и она не выдержала, перестала отделять реальность ото сна.
Тема безумия занимает заметное место в пьесах Шекспира. Безумие это
мудрое, и безумный Лир высказывает удивительные мысли.
В тексте пьесы постоянно присутствуют идеи, волновавшие гуманистов
Возрождения. В речах и репликах персонажей отзвуки этих идей: «Природа
выше искусства», «человек — малый мир (микрокосм)», «выпуклость все-
ленной» (к такому представлению о космосе пришла наука XX века),
132
«Прообразы вещей» (это от философии Платона, кумира Ренессанса), «Ты
кто такой? — Человек. Чем ты занимаешься? — Мой род занятия: быть
самим собой». Это святая святых гуманистов. Шекспир постоянно повторял
эту мысль: «не казаться, а быть» и пр.
Читая Шекспира или слушая его, говорящим со сцены, мы входим в
творческую лабораторию Ренессанса, мы на пиру философов, где каждое
слово рассчитано на века.
ТРАГЕДИЯ УМА
ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСКИЙ
Мне сладко спать, мне сладко камнем быть.
О этот мир, печальный и постыдный,
Не знать, не чувствовать — удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить!
Микеланджело
Так ответил великий мастер поэту, который, восхищенный его скульпту-
рой «Ночь», писал, что камень живет, что стоит только к нему обра-
титься и он заговорит.
Микеланджело мрачно глядел на мир, его настольной книгой была
«Божественная комедия» Данте, и, расписывая потолок Сикстинской ка-
пеллы, он наполнил картину Ада образами, навеянными этой поэмой.
Если воспользоваться метафорой Микеланджело, то шекспировский
Гамлет «спал», но был пробужден от своего сладкого сна. Иначе говоря,
он жил беспечно вместе с беспечной студенческой молодежью в немецком
университетском городке Виттенберге. Он, конечно, слушал лекции, прохо-
дил курс наук, обязательных тогда для образованного человека, но и не
прочь был покутить на дружеских пирушках, недаром, увидев своего това-
рища по университету Горацио, он, смеясь, сказал ему: «Пока вы здесь,
мы вас научим пить...»
Он жил, как жили все молодые люди его круга. Ум его в сущности
спал, он не задумывался о том, что происходит в мире, что общество мо-
жет быть больным, что есть вселенское зло, как это видел его старший
современник итальянец Микеланджело. У него был отец, здравствующий и
преуспевающий король, которого он уважал, у него была мать, которую он
133
любил, у него были друзья, с которыми ему было легко и весело, словом,
жизнь была простой и ясной, и не над чем было ломать голову.
И вдруг все поломалось. Не стало отца. Это, как удар молнии, ударило
в сердце. Затем новый удар — мать, так любившая мужа, так обожаемая
этим мужем, становится женой другого. Все рухнуло в сознании Гамлета,
все представления о мире, казавшемся таким ясным и светлым, растаяли,
растворились в каком-то жутком мраке:
Боже! Боже!
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!
О, мерзость! Это буйный сад, плодящий
Одно лишь семя; дикое и злое
В нем властвует. До этого дойти!
Два месяца, как умер! Меньше даже,
Такой достойнейший король! Сравнить их —
Феб и сатир. Он мать мою так нежил,
Что ветрам неба не дал бы коснуться
Ее лица. О небо и земля!
Случись это в наши дни, внезапная смерть высокопоставленного чело-
века вызвала бы различные слухи. Такое было и в дни Шекспира, но
тогда потребовался призрак. Призрак бросил обвинение, призрак смутил
душу молодого Гамлета, и ум его проснулся. Теперь мир во всей тщете
своей, во всем своем трагизме, со всем его вселенским злом открылся взору
Гамлета, превратив беспечного юношу в страждущего философа.
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать...
М. Ю. Л ер м о н т о в
Итак, ум Гамлета проснулся, вчерашний беспечный юноша стал
взрослым, у него, как у пушкинского пророка, «открылись вещие
зеницы».
Что же узрели они? — Все, кто хоть раз прочитал «Гамлета», помнят
его ответ царедворцу Полонию на вопрос, что он, Гамлет, читает: «Слова,
слова, слова».— Здесь если не полное отрицание всей духовной культуры
человечества, то отрицание значительной ее части и прежде всего, конечно,
официальной. Всюду — «слова», то есть прикрываемая словами ложь. Врут
цари и министры, врут дипломаты, врут поэты, слагающие дифирамбы в
честь сильных мира сего, врут купцы, расхваливая свой товар, врут чинов-
ники от науки, преследуя хулой и клеветой истинные научные открытия,
и огромное море книг, составляющих многочисленные библиотеки,в сущно-
сти всего лишь слова, за которыми нет мысли. Всюду амбиции, тщеславие,
желание не быть, а казаться. В этой связи примечателен ответ Гамлета
Клавдию, теперь уже не только дяде, но и отчиму: «Я не хочу того, что ка-
134
■■
Лукас Кранах. Мадонна с младенцем.
жется». Туповатому Клавдию вряд ли это понятно, он готов отнести этс
к странностям принца, к которым относит и чрезмерную, на его взгляд
тоску принца об отце. Всему есть мера, ну погоревал для приличия и ладно
зачем уж так сильно убиваться:
Являть упорство
В строптивом горе будет нечестивым
Упрямством, так не сетуют мужчины...
Два типа людей предстают перед нами, с одной стороны, «нормаль
ные», живущие как все, как большинство, то есть в мире «слов», иначе го
воря, лицемерия, раскрашенной лжи, того, что не есть, а «кажется», и <
другой — «ненормальные». Их единицы. Они хотят разломать эту оболочку
слов, открыть то, что за ними таится. Клавдий и Полоний. Все, кто окру
жает Клавдия,— «нормальные люди». Они живут в мире слов, им та!
удобнее, для них Гамлет странен, непонятен и даже, может быть, опасен
ибо он покушается на этот уютный, привычный, обжитой мир благоразум-
ной лжи. Все: и Полоний, и его сын Лаэрт, и недавние друзья Гамлете
Гильденстерн и Розенкранц, и даже милая и наивная Офелия — все они —
«нормальные» люди. Только умный и добрый Горацио, его друг, хоть и ш
идет войной на мир лжи, но понимает Гамлета.
Так рождается версия о сумасшествии принца. Он ее подхватывает \
начинает играть навязанную ему роль. В обществе всякий, выступивши*
против принятых, хоть и нелепых норм, выглядит сумасшедшим. Диссиден
ты всех времен так и воспринимались их современниками. Джордане
Бруно в глазах обывателей его дней именно таким и был, и его сожжение
на костре приняли как должное.
Гамлет понимает, что пробуждение его ума само по себе трагично. Все
заколебалось, все потускнело, и то, что раньше веселило и забавляло его
теперь кажется пустым и несносным. Послушаем, как он сам говорит с
своем душевном состоянии: «Последнее время — а почему, я и сам ж
знаю — я утратил всю свою веселость, забросил все привычные занятия
и, действительно, на душе у меня так тяжело, что эта прекрасная храмина
земля, кажется мне пустынным мысом».
Он еще хочет верить, что не все дурно на земле, что есть честные
люди, что не все ложь и фальшь, что есть и добрые чувства, и правда, \
любовь, и дружба. С какой настойчивостью он добивается правды от свои;
друзей, с какой надеждой хочет убедиться в том, что они пришли к нем]
по зову души своей, по дружескому расположению, что здесь-то по крайне*
мере нет лжи, но по их недомолвкам, по их смущенному виду догадывает
ся — их послали, они соглядатаи и осведомители его врага короля. Кака*
же это боль его сердцу!
«...Этот несравненный полог, воздух, видите ли, эта великолепная рас
кинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем,—
все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров
Что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как бес
пределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чуде
сен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как о\
похож на некоего бога! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что дл*
меня эта квинтэссенция праха».
136
Андреас Шлюттер.
Маска умирающего воина.
1699 г. Мастера барокко
часто избирали темой
своих творений человека
в состоянии аффекта.
Трагедия ума! Трагедия всего мыслящего поколения Шекспира! Кризис
умственного движения, именуемого Ренессансом. Сожжен на костре Джор-
дано Бруно, сожжен на костре приятель Рабле издатель и просветитель
Этьен Доле, запрятан в тюрьму великий ученый, надежда всего человечест-
ва Галилео Галилей и понуждаем отказаться от своих чудодейственных
открытий; новообретенный мир (Новый Свет, Америка) стал ареной неслы-
ханных злодеяний и надругательств над местными жителями ради серебра
и золота.
Сожжен на медленном огне умедленном — чтобы больше мучился)
гуманист и ученый, открывший малый круг кровообращения, Михаил
Сервет, и кем же? — Вчерашним диссидентом, преследуемым, а потом вос-
торжествовавшим в Женеве Жаном Кальвином, деятелем Реформации.
137
Начался разгул инквизиции, открылась повальная охота на ведьм, по на-
вету, доносу хватали людей и тащили их в пыточную камеру, заставляя
признаться в том, что по их дьявольскому наущению, сговору с силами ада
область постигла засуха, прошел разрушительный смерч или что-нибудь
подобное. И это в дни, казалось бы, торжества цивилизации.
Где же это великое звауие Человек? Где восторг и оптимизм ранних
гуманистов? Где гимн человеку, сложенный итальянцем Пико делла Ми-
рандола? — Человек-то,оказывается — «квинтэссенция праха».
Шекспир, один из гениальных корифеев Ренессанса, запечатлел кризис
этого самого Ренессанса, трагическое разочарование своих собратьев в си-
ле и благе разума. Однако в лице своего гениального Гамлета он и воспел
этот чудодейственный орган природы — разум.
Гамлет — интеллигент. В наши дни мыслящих людей называют, правда,
не без доли иронии, интеллектуалами. Интеллектуалом был и Гамлет.
Он умен, проницателен, широко образован. Это — натура глубокая, легко-
ранимая и артистичная. Кто-то заметил, что сочинения^ Шекспира мог бы
написать только Гамлет. И если спросить, кому из своих героев Шекспир
доверил бы свою лирическую исповедь, то он указал бы на Гамлета. Парадок-
сальная речь Гамлета очень напоминает сонеты Шекспира. 66-й сонет
прямо можно соотнести с размышлениями Гамлета о человеческом об-
щежитии.
Быть или не быть -■■ вот в чем
вопрос?
Знаменитый гамлетовский вопрос. Мир человеческий ужасен, и сама
жизнь сплетена из лжи, фальши и жестокости. Так что же делать, какое
решение принять? — Уйти из жизни? Умереть? Но что там, за пределами
земного бытия? Данте ответил на этот вопрос в своей поэме без каких-либо
сомнений—там ад, там рай. Грешников ждет ад, праведников — лучезар-
ный рай. Гуманисты Ренессанса сомневались: так ли? Может быть? Может
быть? Но кто подтвердит, ведь никто оттуда не возвращался. Говорят,
что Франсуа Рабле, умирая, воскликнул: «Я иду искать великое Быть
может», то есть узнать, что — там, есть ли там ад, есть ли там рай. Сомне-
вается и Гамлет:
Умереть, уснуть.- Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность:
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум,—
Вот, что сбивает нас, вот где причина
Того, что бедствия так долговечны!
Кто снес бы плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья.
Чинимые безропотной заслуге.
Когда б он сам мог дать себе расчет
Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,
138
Чтоб охать и потеть под нудной жизнью.
Когда бы страх чего-то после смерти
Безвестный край, откуда нет возврата
Земным скитальцам, — волю не смущал.
Внушая нам терпеть невзгоды наши...
Гамлет говорит здесь со всем человечеством, выражает извечные про-
блемы, волновавшие всегда и всех. Его волнует и другой вопрос: как вести
себя по отношению к вселенскому злу? Есть два пути — смириться со злом
как неизбежным элементом бытия, покориться, уступить. Есть путь дру-
гой— презрев все опасности, вступить в борьбу со злом, «ополчась на море
смут, сразить их противоборством».
И Гамлет избирает второй путь — восстать, вооружиться, победить.
Главный конкретный враг — Клавдий, убийца его отца. Однако где доказа-
тельства его вины? Может быть, это пустой вымысел досужих людей или,
применительно к дням Шекспира, призрак, козни дьявола? И Гамлет ко-
леблется; для решительных действий нет полной уверенности. Много в ли-
тературе о трагедии Шекспира было поломано копий по поводу того, есть
Сцена из трагедии
«Гамлет». Пол
Скофилд — Гамлет,
Алек Клюне —
Клавдий. Театр
«Теннент». Лондон.
1955 г. Постановка
Питера Брука.
139
ли у Гамлета воля. Иные его представляли себе истерической личностью,
способной только к стенаниям и самобичеванию. Он в самом деле дает для
таких заключений достаточно оснований. Он жалуется на свою судьбу, он
корит себя за промедление с местью. В XIX веке, когда в литературе Евро-
пы был в моде романтизм, его представляли на сцене бледным юношей
в черном траурном костюме, с утонченной красивой тоской, гением, не по-
нятным бездарной толпой. Позднее, когда искусство постигла другая
мода — мода на развинченных полубезумных героев, Гамлета начали пре-
вращать уже в полного неврастеника.
Шекспир не хотел ни того, ни другого. Его Гамлет — человек с колос-
сальной силой здравого ума. Его не способна обольстить какая-либо иллю-
зия, он разгадывает все уловки лицемерия, он подвергает сомнению и про-
верке все истины и аксиомы. Это в полном смысле человек эпохи Возрож-
дения.
Во второй половине XVI века во Франции Мишелем Монтенем была
обнародована философия скептицизма, о чем уже была речь. Гамлет — по-
следователь этой философии. Нигде в тексте пьесы не упоминается имя
автора «Опытов», но его присутствие ощущается повсюду. Монтень по-
стоянно предупреждал своего читателя не прибегать к действию, когда нет
убежденности в истине. Лучше остановить свою руку, чем опустить ее на
голову невинного человека. Этой философии придерживается Гамлет. Один
лишь раз он прибег к действию мгновенно, как только возникло подозре-
ние (Занавеска. За ней подслушивающий разговор принца с матерью.
Там король! — и Гамлет вонзает меч в несчастного царедворца), и сколько
бед принес этот необдуманный акт: сумасшествие и смерть Офелии, скорбь
и мстительные чувства сына Полония Лаэрта! Сожаление Гамлета — «ста-
рик, я не хотел этого».
Чтобы уличить Клавдия в убийстве отца, Гамлет придумывает сцени-
ческое представление, в котором показано, как происходило убийство.
Он наблюдает за лицом Клавдия, он ищет доказательства его вины и полу-
чает их. Клавдий смущен. Клавдий разоблачен и сам понимает это, пони-
мает, что его тайна разгадана принцем. Отныне он его враг. Судьба Гам-
лета решена — он должен погибнуть. Трагедия завершается гибелью всех ее
героев. Страшная повесть.
Бесчеловечных и кровавых дел,
Случайных кар, негаданных убийств,
Смертей, в нужде подстроенных лукавством,
И, наконец, кровавых козней, павших
На головы зачинщиков.
* * *
Я ничего не сказал об Офелии, но, право, после Белинского, так
проникновенно писавшего о ней, так глубоко проникшего в замысел
Шекспира,— перо останавливается. Ничего прибавить или написать о ней
что-нибудь иное,— нельзя. Потому приведу строки из статьи Белинского
«Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета»:
140
Сцена из трагедии
«Гамлет». Спектакль в
замке Кронберг в
Эльсиноре. Норвегия.
1946 г. Гамлет —
Ханс Якоб Нильсон.
«Офелия занимает в драме второе лицо после Гамлета. Это одно из
тех созданий Шекспира, в которых простота, естественность и действитель-
ность сливаются в один прекрасный, живой и типичный образ. (...) Пред-
ставьте себе существо кроткое, гармоническое, любящее, в прекрасном
образе женщины; существо, которое совершенно чуждо всякой сильной
потрясающей страсти, но которое создано для чувства тихого, спокойного,
но глубокого; существо, которое не способно вынести бурю бедствия,
которое умрет от любви отверженной или, что еще скорее, от любви,
сперва разделенной, а после презренной, но которое умрет не с отчаянием в
душе, а угаснет тихо, с улыбкою и благословением на устах, с молитвою
за того, кто погубил его; угаснет, как угасает заря на небе в благоуханный
майский вечер: вот вам Офелия».
141
Пьеса Шекспира—энциклопедия мудрости. Сколько ума и знания жиз-
ни открывает она нам в каждой строке ее. Послушайте, к примеру, сует-
ливого и, кажется, недалекого царедворца Полония, какие он дает настав-
ления сыну Лаэрту, отъезжающему во Францию. Здесь каждое слово
можно чеканить на бронзе. Выпишем эти наставления:
Держи подальше мысль от языка.
А необдуманную мысль — от действий.
Будь прост с другими, но отнюдь не пошл.
Своих друзей, их выбор испытав,
Прикуй к душе стальными обручами.
По не мозоль ладони кумовством
С любым бесперым панибратом. В ссору
Вступать остерегайся, но, вступив.
Так действуй, чтоб остерегался недруг.
Всем жалуй ухо, голос — лишь немногим;
Сбирай все мненья, но свои храни.
Шей платья по возможности дороже.
Но без затей — богато, но не броско:
По виду часто судят человека;
А у французов высшее сословье
Весьма изысканно и чинно в этом.
В долг не бери и взаймы не давай;
Легко и ссуду потерять и друга,
А займы тупят лезвие хозяйства.
Но главное: будь верен сам себе...
Это — наставления для всех людей и всех времен, им следовать должен
не только аристократ по рождению, какими были Полоний и его сын, это —
наставления для аристократа духа. В годы Ренессанса темой поведения
человека в обществе были заняты многие. Конечно, речь шла о предста-
вителях господствующих сословий. Каким должен быть человек в себе, то
есть по своей духовной сущности, и для других — каким он должен быть
этот идеальный человек? Итальянский гуманист Бальтазар Кастильоне
(1478—1526) написал специальное сочинение «Книга о Придворном»,
ставшее своеобразным учебником жизни для многих поколений аристокра-
тов. Физическое совершенство, красота лица и тела, образованность, ост-
роумие, красноречие должны отличать его. Шекспир в наставлениях своего
Полония изложил с умом и блеском эту программу.
Послушаем пылкого, но пока еще неопытного юношу Лаэрта, ведь и он
высказывает отнюдь не вздорные мысли, когда предупреждает свою сестру
Офелию не очень полагаться на любовные заверения принца:
Великие в желаниях не властны.
Он в подданстве у своего рожденья...
В сущности всюду устами своих сценических персонажей к нам обраща-
ется сам Шекспир, с нами беседует он, и как поучительна эта беседа. Даже
в мелких эпизодах пьесы мы находим мудрую думу драматурга. Гамлет
спрашивает, куда ведет свое войско Фортинбрас. Отвечает: в Польшу. За-
чем? — Чтобы отвоевать клочок земли. Он очень ценен? — «За пять дукатов
142
я не взял бы его в аренду». Так Польша не будет из-за него воевать? —
Напротив, там ждут войска. И Гамлет, мудрый, гуманный Гамлет потря-
сен:
Две тысячи людей
И двадцать тысяч золотых не могут
Уладить спор об этом пустяке!
Таких «пустяков» немало и в наши дни, за которые льется кровь и гиб-
нут жизни,—бесценные, уникальные жизни.
* * *
Несколько слов о культурных связях в дни Шекспира. Высокообразован-
ная элита Англии, Франции, Италии, Испании, несмотря на политические
и религиозные разногласия, подчас разделявшие их страны, жила в сущ-
ности в одной духовной атмосфере. Не удивительно, что театр англичанина
Шекспира стал своеобразным рупором идей француза Монтеня. Слово,
произнесенное во Франции, довольно скоро достигало слуха англичан.
Досужие люди скрупулезно подсчитали уже в новые времена, что в
сочинениях Шекспира содержится 750 прямых заимствований из «Опытов»
Монтеня. Об этом подробнее.
В 1830 году одно сенсационное сообщение взволновало мировые лите-
ратурные круги. Фредерик Мэддон нашел в библиотеке Британского на-
ционального музея «Опыты» Монтеня в переводе Джона Флорио. Экземп-
ляр первого издания 1603 года. К тому времени (1830 г.) широкая публика
Англии уже успела позабыть имя первого переводчика Монтеня и сам этот
перевод, но, поскольку в ученых кругах такие вещи обычно не забываются,
сам этот факт никакого события само собой, разумеется, не представлял.
Сенсация, однако, заключалась в том, что найденный экземпляр, по
всей видимости, принадлежал не кому иному, как самому Шекспиру, на что
указывали его собственноручная подпись и его же рукой начертанные
два многозначительных и загадочных слова: «Mors incerta» («Неведомая
смерть»).
При том жадном интересе, который человечество проявляет ко всему,
что связано с Шекспиром, при крайней скудости сведений о нем и докумен-
тов, имеющих отношение к нему, находка стала поистине бесценной.
В журналах тогда писали: «Можно перелистать подлинный экземпляр,
принадлежавший самому Вильяму Шекспиру, сохраненный в Британском
музее, с датой, начертанной его собственной рукой (1603), его подписью,
такой, какой она всегда была, характерными особенностями его пера,
его почерком и его пометками».
Как было уже сказано, о Джоне Флорио забыли в Англии, забыли о его
словарях, о сборнике итальянских пословиц (около шести тысяч) и, конеч-
но, о его переводе монтеневых «Опытов». Теперь, после открытия Фредери-
ка Мэддона его личность привлекла к себе внимание сначала эрудитов,
а потом и широкой читающей общественности. Стали сличать текст шекс-
пировских творений с текстом «Опытов» в переводе Флорио, обнаружили
множество прямых заимствований, сделанных Шекспиром.
143
Вскоре, однако, в подлинности шекспировского автографа усомнились.
Высказали даже предположение, что пометки и автограф принадлежали
человеку, жившему в XVIII столетии (книга, как полагают, попала в
библиотеку в 1780 г.). Другие утверждали, что экземпляр принадлежал
Бену Джонсону и что пометки были сделаны также его рукой. Спор не
закончился до сих пор.
Однако возникла очень важная и очень интересная область шекспиро-
ведения— тема «Шекспир и Монтень». Случайная библиографическая на-
ходка повлекла за собой целую серию сначала догадок, предположений,
потом научных изысканий и открытий. Появились книги об идейных связях
двух корифеев европейского Возрождения. Появились книги и о Джоне
Флорио.
Мы постоянно слышим перекличку двух умов.
Шекспир часто в своих трагедиях возвращается к теме смерти. В смер-
ти, в физиологических нуждах и даже тяготах и бедах человеческого тела
особенно наглядным выглядит ничтожество притязаний королей на какую-
то их особую исключительность. Короли, деспоты, тираны, силою вещей
поставленные над людьми, оказываются столь же беспомощными перед
вечными законами природы, как и их самые последние и презираемые
подданные. Вот как рассуждает Король Ричард II в одноименной трагедии
Шекспира (1595 г.):
Сидит на троне Смерть, шутиха злая,
Глумясь над нами, над величьем нашим,
Она потешиться нам позволяет:
Сыграть роль короля, который всем
Внушает страх и убивает взглядом;
Она дает нам призрачную власть
И уверяет нас. что наша плоть —
Несокрушимая стена из меди,
Но лишь поверим ей,— она булавкой
Проткнет ту стену,— и прощай, король!
Накройте ваши головы; почтенье
К бессильной нашей плоти — лишь насмешка,
Забудьте долг, обычай, этикет:
Они вводили в заблужденье вас.
Ведь, как и вы. я насыщаюсь хлебом,
Желаю, стражду и друзей ищу.
Я подчинен своим страстям — зачем же
Вы все меня зовете «государь»?
А между тем Ричард II — носитель идеи непогрешимости королей, бо-
жественного происхождения их власти. Он с самого начала своего правле-
ния решил, что ему все позволено, что единственным мерилом справедли-
вости и правоты является его волеизъявление. И только крах его государст-
венной политики, потеря трона, несчастья жизни заставили Ричарда
призадуматься и изменить свой взгляд на себя и на свою, так сказать,
человеческую сущность.
В трагедии «Гамлет» та же мысль о тщете величия.
144
Гамлет: Как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зре-
л и те ?
Горацио: Да, в точности.
Гамлет: И так же вонял? Фу! (Кладет череп наземь.)
Горацио: Да, в точности, милорд.
Очевидно, глава «о существующем среди нас неравенстве» в «Опы-
тах» Монтеня особенно поразила Шекспира. Вот несколько вырази-
тельных, строк из этой главы, которые нашли место в пьесах Шекспира:
«Когда мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолю-
дина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они
представляются до крайности несходными, а между тем они в сущности
различаются друг от друга только своим платьем... Поглядите на импера-
тора, чье великолепие ослепляет вас во время парадных выходов, а теперь
посмотрите на него за опущенным занавесом: это обыкновеннейший чело-
век, и, может статься, даже более ничтожный, чем самый жалкий из его
подданных... Трусость, нерешительность, честолюбие, досада и зависть
волнуют его, как всякого другого, тревога и страх хватают его за горло,
когда он находится среди своих войск. А разве лихорадка, головная боль,
подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнет старость,
избавят ли его от этой ноши телохранители? Когда страх смерти оледенит
его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им
овладеет ревность или внезапная причуда, приведут ли его в себя низкие
поклоны? Полог над его ложем, который весь топорщится от золотого и
жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желу-
дочных болей. Льстецы Александра Великого убеждали его в том, что он
сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, текущую
из его раны, и заметил: «Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная,
самая что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту,
которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам». Поэт Гермодор
сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном Солнца.
Но Антигон возразил: «Тот, кто выносит мое судно, отлично знает, что это
неправда». Царь — всего-навсего человек».
У Монтеня и Шекспира одинаковое отношение к народному искусству.
Они чужды аристократического снобизма во взгляде на народ. Трудно
судить, перенял ли Шекспир у Монтеня его идеи, его вкусы или здесь родство
душ?
Монтень Шекспир
«Народная и чисто природная поэзия «...Та песня, что вчера
отличается непосредственной свежестью и Старинная, бесхитростная песня:
изяществом... Как свидетельствуют об этом Она мою тоску смягчила больше,
гасконские вилланели и песни народов, не Чем легкий звон и деланные речи
ведающих никаких наук и даже не знающих Притворных и вертлявых наших дней...
письменности» (кн. I, гл. IV). ...Старая, простая
Вязальщица, работая на солнце,
И девушки, плетя костями нити,
Поют ее; она во всем правдива
И тешится невинностью любви,
Как старина» («Двенадцатая ночь»).
145
Город Стрэдфорд на Эйвоне.
Кажется, нет идеи, нет мысли в «Опытах» Монтеня, которая бы
не пришлась по душе Шекспиру. Поистине, они братья по духу. Все
их роднит. Философские, политические позиции их едины. Даже знаменитое
монтеневское «Что я знаю?» незримо присутствует в подтексте шекспиров-
ских трагедий. Английский драматург не навязывает нам своих решений,
он сам ставит вопросы, они нас мучат, эти великие шекспировские
вопросы, они не дают покоя целым поколениям, но не ищите у Шекспира
ясного ответа. Он, как и Монтень, уклонится.
* * *
На монтеневские реминисценции у Шекспира впервые обратил
внимание английский комментатор Кейпелл. Он в 1767 году указал на
сходство сцены из «Бури» с главой из «Опытов» «О каннибалах».
Сходство в самом деле почти буквальное. Думается мне, что это не реми-
нисценция, а прямая, чуть-чуть видоизмененная цитата. На письменном
столе Шекспира, когда он слагал речь своего мудрого Гонзало, конечно,
лежала книга Монтеня «Опыты».
146
«ЭТОТ ОГРОМНЫЙ МИР... И ЕСТЬ ТО
ЗЕРКАЛО, В КОТОРОЕ НАМ НУЖНО
СМОТРЕТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ СЕБЯ
ДО КОНЦА».
МОНТЕНЬ
ПОСТРЕНЕССАНС
XVII ВЕК
Окончен праздник. В представленьи этом
Актерами, сказал я, были духи.
И в воздухе, и в воздухе прозрачном,
Свершив свой труд, растаяли они.
Вот так, подобно этим призракам без плоти,
Когда-нибудь растают, словно дым,
И тучами увенчанные горы,
И горделивые дворцы и храмы,
И даже весь... о, да... весь этот шар земной.
И как от этих масок бестелесных,
От них не сохранится и следа.
Мы созданы из вещества того же.
Что наши сны, и сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
Так Просперо, герой трагедии «Буря» (своеобразный автопортрет
Шекспира), прощается с прекрасным временем Ренессанса, с «вес-
ной человеческого разума» (Анатоль Франс). Закончен праздник.
В 1612 году Шекспир навсегда покидал театр. Уезжал из Лондона в свой
тихий и родной Стрэтфорд. Ему было 48 лет, он проживет еще 4 года, но
уже никогда не коснется бумаги его чудодейственное перо поэта.
По-разному сложилась историческая судьба народов Западной,
Центральной и Южной Европы в XVII столетии. Перемещение миро-
вых торговых путей губительно сказалось на внутренней экономике Италии.
Некогда богатейшая страна, центр европейской и мировой культуры в
XIV, XV и частично в XVI столетиях, Италия, подвергшаяся к тому же
ряду грабительских походов интервентов, обнищала, культура ее оскудева-
ла. Только ученый Галилей, последний из могикан великой итальянской
культуры Возрождения, еще дивит мир, еще привлекает к себе взоры про-
свещенных людей его эпохи, но и он под давлением репрессий сужает поле
своей деятельности и покидает университетскую кафедру.
Примерно такое же превращение претерпела и Германия, на эко-
номическую, политическую и культурную жизнь которой губительным
образом повлияла опустошительная Тридцатилетняя война1.
1 1618—1648 гг. Ее можно назвать мировой войной XVII века. Она охватила Испанию, ка-
толические и протестантские княжества Германии, Данию, Швецию, Францию. Идеологи-
ческим обоснованием ее служили религиозные разногласия между двумя церквами — католи-
ческой и протестантской, на самом же деле к ней привели притязания дома Габбсбургов, пра-
вивших в Австрии и Испании, на мировое государство под их эгидой. Война принесла
много бед и разрушений. Особенно пострадали немцы. Вся немецкая литература века была
окрашена мотивами тоски и пессимизма. Наиболее ярко это выразилось в романе Гриммельс-
гаузена «Симплиций Симплициссимус».
148
Среди западноевропейских стран на короткий период вырвалась
вперед Испания. Захватив большие заморские колонии, выкачивая из
новооткрытой Америки золото, она быстро разбогатела и превратилась в
XVII столетии в могущественнейшую страну. Но это длилось недолго.
Приток золота из Америки прекратился, а между тем внутренняя хозяйст-
венная жизнь в стране, ее собственное производство успело совершенно
расстроиться. (В надежде на американское золото никто не хотел зани-
маться хозяйством у себя дома, и это привело к плачевным результатам.)
В конце XVI столетия у берегов Англии гибнет значительная часть так
называемой «Непобедимой армады». Нидерландская революция (1565—
1609), измотавшая Испанию и приведшая к отделению от нее северных
Нидерландов, окончательно подорвала ее могущество.
XVII век в литературной жизни Западной Европы — век Франции.
Пережив мрачные религиозные войны второй половины XVI столетия,
Франция добилась в XVII веке известной политической стабилизации.
В стране установилась абсолютистская сословно-монархическая государст-
венность в самой ее классической форме. Движение Фронды (выступления
оппозиции феодального дворянства против абсолютизма) не сыграло боль-
шой роли в жизни Франции и представляло собой лишь рецидивы того
мощного анархо-оппозиционного удара феодального дворянства, которое в
XVI столетии выступало против идеи национального объединения.
Совершившееся национальное объединение Франции дало в XVII веке
свои плоды. Широко развивается культура. Вместе с именем Де-
карта на мировую арену выходит французская философия. Корнель,
Расин создают лучшие образцы новой классической трагедии. Мольер
пишет комедии, которые после Шекспира и Лопе де Вега до появления ко-
медий Бомарше не находят себе равных в драматургии Западной Европы.
Лафонтен создает классический образец басни. Значительных успехов
достигает французская проза: афористическая (Паскаль, Ларошфуко,
Лабрюйер), мемуарная (кардинал де Ретц, герцог Сен-Симон), психологи-
ческий роман («Принцесса Клевская» госпожи де Лафайет).
События в общественной жизни Англии в XVII столетии откры-
вают новую страницу в истории человечества. Английская буржуазная
революция, совершившаяся в середине века, знаменует конец феодаль-
ной системы общественных отношений и начало буржуазной, капиталисти-
ческой системы. Прогрессивное значение этой революции для XVII и XVIII
веков трудно переоценить. XVII век в Англии выдвинул на мировую арену
двух величайших философов-материалистов — Фрэнсиса Бэкона и Гоббса.
Английская художественная литература этого периода дала миру Мильто-
на, создателя грандиозных, полных могучих отзвуков революционных
боев XVII века поэм «Потерянный рай», «Возвращенный рай» и драмы
«Самсон-борец». Революционные события в Англии XVII века ведут нас
непосредственно к XVIII веку — веку окончательного слома феодальных
порядков в странах Западной Европы.
В литературе XVII века отчетливо выделяются три художественных
направления: ренессансный реализм, несущий традиции гуманистов Воз-
рождения, классицизм и барокко. Каждое из этих направлений имело
свою эстетическую программу, резко очерченную и выражающую в довольно
отчетливой форме художественное своеобразие, присущее всему направ-
лению.
Особое место в общеевропейской культуре XVII столетия заняло
искусство барокко. Его первые симптомы проявились уже в пред-
шествующем столетии, в годы позднего Ренессанса, и само слово как
синоним чего-то мрачного, тяжеловесного появилось уже на страницах
«Опытов» Монтеня.
Еще в двадцатых годах XVI века во Флоренции среди художников
возникли новые веяния. Появился особый стиль искусства—маньеризм.
Форма как бы вышла из подчиненного положения и заявила о
своих правах на главенствующее место в произведении. Она, форма,
должна была занять внимание человека, отвлечь его взгляд на себя.
Художники начали соревноваться в стремлении подчеркнуть достоинства
самой формы, ее своеобразие, выявить виртуозность своего мастерства,
сделать ее наглядной, резко бросающейся в глаза. Маньеризм распростра-
нился по всей Италии, увлек за собой крупных мастеров (А. Бронзино,
Ф. Приматиччо, Б. Челлини, Дж. Ваязари и др.). А далее маньеризм
перешел итальянские границы и перенесся в пределы других стран. В Ис-
пании — Эль Греко, во Франции — А. Блумарт. Маньеризм дал жизнь более
широкому движению — барокко. Форма по-прежнему была на первом
плане, многоцветная, пышная, помпезная. То, что у маньеристов только
намечалось, теперь приобрело более четкие черты, уже вполне узаконило
себя в искусстве. Вычурность и виртуозность, всевозможные светотеневые
эффекты, беспокойные, вогнутые, выгнутые, капризно прочерченные линии,
изысканно криволинейные очертания, кричащие, подчас контрастирующие
краски, беспокойные линии в архитектуре, живописи, скульптуре. Резкие
движения, лица в состоянии аффекта, экстатические позы, широкие, пора-
жающие глаз и подавляющие душу композиции.
Однако то, что в маньеризме выглядело лишь капризом худож-
ника, его любованием своим искусством, в барокко прониклось новой
философией, новым взглядом на мир. Теперь форма стала выражением
этого нового содержания. Художник не любовался своей виртуозностью,
а через вычурность и контрасты выражал свое неверие в гармонию мира.
«Поднимись выше, посмотри окрест — ты увидишь — мир и безумие» —
вот трагический вывод Роберта Бертона («Anatomy of melancholy», 1521).
«Мир подобен саду, поросшему плевелом»,— скорбно бросает Гамлет с под-
мостков лондонского театра.
Это ущербное миропонимание выражал в XVII столетии барочный
стиль.
Если в пору первого цветения гуманизма человек представлялся
Рабле, Томасу Мору, раннему Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ра-
фаэлю тираноборцем Прометеем, защитником угнетенных Гераклом,
идеалом классического совершенства Аполлоном или, наконец, мудрецом,
150
Андреас Шлюттер.
Миска умирающего воина.
1699 г.
подобным Сократу, то теперь, в эпоху позднего Ренессанса, он уже выгля-
дит как Эрихтонии (юноша с божественным лицом и уродливыми ногами,
сын богини мудрости, которую изнасиловал Вулкан. См. об Эрихтонии
у Фр. Бэкона).
«Человек-Эрихтоний» предстает перед нами и в трагедиях Шекспира
(«венец природы и квинтэссенция праха»), и на страницах «Опытов»
Монтеня. Монтень и Шекспир еще живут идеями и чувствами раннего Ре-
нессанса, но прежней душевной ясности уже нет. На светлые лики богов
легли тени. Ощущение гармонии утратилось.
151
В Англии в одни годы с Монтенем писал свой роман Джон Лилли.
Его «Эвфуэс» вышел из печати одновременно с книгой Монтеня (1579—
1580). Такое же обилие цитат и ссылок на античных авторов, фразы
построены на антитезах, контрастах с использованием аллитераций и дру-
гих эвфонических приемов. Легким, грациозным, шаловливым, изящным
был Джон Лилли, как и Монтень. Ему недоставало лишь глубины,
страстности и бесконечной мудрости Монтеня.
У нас много и единодушно осуждали эвфуизм. Находя черты эвфуизма
у Шекспира, великодушно прощали ему, как грехи молодости. Н. Сторо-
женко, который серьезно изучил эвфуизм, дал ему самую отрицательную
оценку («искусственный, манерный, испещренный антитезами, метафорами
и другими литературными подражаниями язык...»1).
В дни Шекспира в литературной жизни Западной Европы процветал
Цицерон, его стиль. Риторизм был в моде. Украшательство речи считалось
обязательным для писателя. Однако только ли украшательство было у
Джона Лилли? Он назвал свою книгу «Анатомией остроумия». Но не
только в остроумии было дело, а в особой форме самого мышления.
Старая форма была слишком метафизической. Да—да; нет — нет. Теперь
мышление утончилось. Теперь стали понимать, что в «нет» есть частица
«да», а «да» несет в себе частицу «нет». Вот эту диалектику миропонимания
и нес в себе эвфуэс. В этом было что-то от постижения двойственности
явления, двойственности в едином. Ведь человек — «краса вселенной» и
«квинтэссенция праха». Эта форма мышления более тонкая, более глубо-
кая и многосторонняя, чем та, которой пользовались до того. Писатели
ощущали как бы избыток мысли. Мысль перехлестывала через края, ухо-
дила от главного в стороны, приобщая к себе множество наблюдений,
суждений, мысль мгновенно перевоплощалась, представала умственному
взору в каких-то новых ракурсах, распадалась, раскалывалась и снова
переплеталась в самых причудливых и захватывающих комбинациях. По-
тому так трудно буквально понимать и Монтеня и Шекспира.
Утонченность, изысканность самого мышления шла, пожалуй, и от сред-
невековья. В дни господства церковной идеологии думать о чем-нибудь
серьезном было опасно. Церковь буквально следила за деятельностью
умов и жестоко пресекала всякое вольномыслие. Она это делала методично
и весьма искусно. Но человеческий мозг не мог оставаться в праздности, он
искал себе поле деятельности, пищи, труда. Оставалось одно поприще —
игра. Люди интеллекта, зажатые в тисках догматизма, позволили себе
единственную радость — логические хитросплетения, по сути дела, ни к чему
не обязывающую игру. Церковь в этом им не препятствовала. Они
изощрялись в схоластических спорах, решали замысловатые логические
загадки. И в конце концов чрезвычайно утончили само мышление. В поэзии
это выразилось в своеобразной диалектике чувств. Очень интересно в
этой связи поэтическое состязание, которое предложил герцог Карл
Орлеанский в 1460 году в Блуа. Он дал в качестве темы для баллады
первую строку своего стихотворения: «Je meurs de soif a cote de la fontaine»
(«От жажды умираю у воды»).
1 «Предшественники Шекспира. Лилли. Марли». (1872 г.)
152
Тема, как видим, призывала поэтов к поискам диалектического един-
ства противоречий. Сам герцог написал изящные, утонченно холодные
стихи, в которых тем не менее мысль сверкала в сложной инкрустации
поэтического артистизма:
От жажды умираю у фонтана,
В огне любви я холодом сражен,
Слепой, вести других не перестану.
Вот эту диалектику мышления у средневековой интеллектуальной
элиты переняло позднее Возрождение, когда снова, после восторженного
энтузиазма ранних гуманистов, стала ощущаться трагическая утрата гар-
монии мира. Монтень, Шекспир, Сервантес привнесли это в свое твор-
чество. Барочные поэты XVII века сделали это главным содержанием
своего искусства. Пессимизм, отчаяние овладели умами и облеклись в
своеобразные эстетические формы искусства. Поэтов, художников, скуль-
пторов стали привлекать к себе темы кошмара и ужаса. На смену скепти-
ческому отношению к религии, свойственному гуманистам Возрождения,
пришла религиозная исступленность (Кальдерон. «Поклонение кресту»).
Бог стал мрачной, жестокой и беспощадной силой. Тема ничтожества че-
ловека перед этой грозной силой зазвучала в искусстве барокко. Для
барочных писателей мир был полон причудливых сочетаний, беспорядочен,
разорван, противоречив. Барокко широко охватило различные литератур-
ные круги Западной Европы XVII столетия. Здесь нельзя провести каких-
либо точных границ. Ярчайшим выразителем барокко был Кальдерон.
Следы барокко мы найдем у Корнеля, Расина («Аталия»), Мильтона, у
немецких поэтов и немецкого писателя Гриммельсгаузена.
Мы увидим у наиболее последовательных мастеров барокко траги-
ческую надломленность чувств, выражающуюся в кричащих диссонансах,
в своеобразной разорванности формы; своеобразный интеллектуальный
аристократизм, игру в изысканно-утонченные чувства, облеченные в изощ-
ренно-напыщенную речь, в «изящный», чуждый просторечию лексикон; мы
увидим любование галантными героями и далекими экзотическими стра-
нами. Литература уводила человека в мир несбыточных грез и сновидений.
Как в пластических искусствах (живописи, скульптуре), так и в литературе
художники изображали человека в состоянии аффекта — нервозном, исте-
рическом.
Удивительный парадокс: искусство барокко, возлюбившее эсхатологи-
ческие мотивы (темы смерти и загробного существования), создало и
самые пышные интерьеры дворцов и храмов, подчас перегружая их затей-
ливой лепниной, позолотой, украшениями. Оно же не скупилось на речевые
изыски и украшательства в поэзии.
Художники барокко сохранили тем не менее связь с искусством Ренес-
санса. Они не могли освободиться от власти идей и чувств великой
эпохи.
* * *
Тот, кто идет за кем-нибудь,
никогда не придет первым.
Леонардо да Винчи
Второе литературное направление, получившее в XVII столетии широ-
кое распространение,— классицизм, родилось в университетских кру-
гах, оно несло в себе по необходимости следы книжности. Родиной его
была Италия. Классицизм возник вместе с возрожденным античным театром
и первоначально мыслился как прямое противопоставление «варварской»
средневековой драматургии. Поэтому наиболее яркое воплощение класси-
цизм получил прежде всего в драматургии. Гуманисты эпохи Возрождения
отвергли средневековую драму, хотя она уже успела накопить некоторый
опыт и приспособиться к художественным вкусам народа.
Видя, и не без основания, в античной драме образец художественного
совершенства, они рассудочно установили некие непреложные и вечные
законы театра, исходя из тех закономерностей, которые заметили в театре
античном.
Правильность, рационалистическая строгость и логичность развития сю-
жета, скудость сценического действия, абстрактность художественного
образа, многословные диалоги и монологи, патетика речи, величественные
позы и жесты, одиннадцатисложный, нерифмованный стих — вот основные
особенности пьес, которые стали обязательны для всех последующих клас-
сицистических трагедий. Из Италии классицизм перекочевывает во Фран-
цию, в Англию, Испанию, Германию, пропагандируемый главным образом
университетскими кругами.
Классицизм первоначально выступил как теория и практика подража-
ния античному искусству. Изучение и освоение опыта античных мастеров
были и необходимы, и благотворны.
Вместе с тем классицизм нес в себе здоровое мироощущение. Ему были
чужды настроения отчаяния и пессимизма. Его роднит с Ренессансом вера
в разум.
Искусству высокого барокко и классицизма одинаково свойственна
монументальность. Кальдерон, Мильтон, Корнель, Расин одинаково влекут-
ся к грандиозному. Конфликты, на которых строятся их трагедийные
истории, всегда потрясают. Но между трагедийностью барочных авторов
и классицистов пролегает целая пропасть. Трагедия первых подавляет, вну-
шает чувство отчаяния, идею ничтожества человеческих сил. Трагедия вто-
рых возвышает, утверждает величие человека, сильного и прекрасного в
своих страданиях и гибели.
Наконец, третье направление в литературе XVII века — ренессансный
реализм. Он продолжил демократические традиции гуманистов Возрожде-
ния. Яркий представитель его —Лопе де Вега. Он противопоставил унынию,
пессимизму, отчаянию поэтов барочного направления неиссякаемую опти-
мистическую энергию своих великолепных комедий, полных солнца и жиз-
ненных сил. Лопе де Вега вместе с тем отбросил и «ученую» догму
классицистической теории, ратуя за свободное вдохновение художника и
близость его к массовому зрителю.
154
ИСПАНИЯ
На мировую арену в XVII веке вышла культура Испании. Тому помог
недолгий после открытия Америки экономический расцвет. Однако, как
было уже сказано, золото, рекой лившееся из американских колоний на
территорию Пиренейского полуострова, стало для Испании коварным да-
ром богов. Все можно было купить на золото, купить за границей. Платили
не жалея; золотые запасы Америки казались неиссякаемыми. Приходили
товары из-за границы, уплывало за границу золото, а внутреннее произ-
водство все более и более хирело. Никто не видел близкой развязки. Когда
перестало прибывать американское золото, когда не на что стало покупать
товары за границей, обратились к своим собственным ресурсам и тут толь-
ко увидели, что хозяйство Испании разрушено, что ни своего хлеба, ни
своего ремесленного производства в стране нет.
Гибель Непобедимой армады у берегов Англии в 1588 году окончательно
подорвала военную мощь страны. А там начались волнения в испанских
колониях. Войны несли новые беды. Откололись богатейшая Голландия,
Португалия.
С карты страны исчез целый ряд населенных пунктов. В провинциях
Новая Кастилия и Толедо не стало около двухсот селений, а в Старой Кас-
155
тилии — около трехсот. Все население Испании за короткий период с конца
XVI до середины XVII столетия уменьшилось на два с лишним миллиона
человек (с 8 миллионов 250 тысяч человек до 6 миллионов). Резко сокра-
тилось производство. В Севилье, например, оно уменьшилось в десять раз,
а в Толедо в 1616 году осталось всего лишь десять ткацких станков.
Однако обратимся к литературе.
4jk
СЕРВАНТЕС
Я был очень угрюм, очень зол в ту пору, когда вдруг
в прекрасной библиотеке Кле нашел «Дон Кихота»
на французском языке... Находка этой книги явилась,
может быть, величайшим событием в моей жизни.
Стендаль
апреле 1616 года в Мадриде на улице Леон в возрасте 69 лет умирал
Сервантес. Худой и бледный, с кроткой покорностью он ждал конца,
изредка вздыхая, пожимая единственной и уже костенеющей рукой
руки немногих друзей, пришедших проститься с уходящей совестью Испа-
нии, с ее последним рыцарем.
Он был спокоен. Все земные дела свои, казалось ему, он устроил. За-
вершил свой последний роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» —
роман восторженный, с возвышенной любовью, с несчастными, гонимыми
и в конце концов торжествующими влюбленными (Сервантес осмеял
рыцарский роман, но так до конца дней и не избавился от слабости к
нему). Простился с миром, вставив для этого в тот же роман несколько
скорбных строк: «Простите, радости! Простите, забавы!» Чувствительный
старец уронил при этом слезу. Какие же там радости и забавы были в
его многотрудной жизни?
Как верный католик, он заблаговременно причастился, заказал по
156
В
себе заупокойную мессу, дабы избавить родных от лишних хлопот. Как
смиренный бедняк, за несколько дней до смерти подписал пышное посвяще-
ние своего романа сиятельному вельможе, гордому обладателю многих
мирских благ, балованному ветренику и от скуки меценату графу де Лемос
и в субботу 23 апреля, обратив к окну — за ним уже плескалось весеннее
солнце — свои добрые, голубые глаза, поблекшие от бесчисленных печалей,
выпавших на его долю, скончался.
Монахи-францисканцы похоронили его на другой день, истратив на по-
хороны скудную долю приношений верующих. Еще раз спели над ним
Requiem eternam (вечный покой) и с миром позабыли о нем. Дом, где
скончался Сервантес, через какое-то время снесли, а могилу затеряли.
Восторженный и благородный Сервантес! В его сердце никогда, даже
на краткий миг, не поселялись корысть, злая мысль, недоброе чувство.
Не зная их за собой, он не умел замечать их и в других. Он шел в мир как в
обетованный край, с открытым сердцем, полным любви и романтической
иллюзии. Понадобились годы, тягчайшие испытания и самые мучительные
крушения надежд, чтобы научиться отличать мечту от действительности,
реальность от иллюзий, чтобы научиться видеть подлинную Испанию, ни-
щую и расточительную, с неустроенным бытом, с кичливыми вельможами,
с ловкими ростовщиками и с всесильной, всепопирающей церковью.
В 1569 году, представив документ о «чистоте крови», о том, что предки
его — христиане, что происхождение у него законное и никто из близких не
привлекался к суду инквизиции (анкеты были и в те времена), молодой
Сервантес был зачислен офицером в королевскую армию. 7 октября 1571
года недалеко от бухты Лепанто, что у входа в Коринфский залив, два
флота — испанский и турецкий — померялись силами. Двадцатичетырехлет-
ний Сервантес, хотя и больной и в жару, пожелал участвовать в сражении.
Три раны — одна в руку — запечатлели на нем память об этом дне. Рука
навсегда утратила способность двигаться. Но... «шрамы на лице и на груди
солдата — это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись к небу
почета»...
К «небу почета» он не вознесся, но в плену в Алжире (тогда это была
одна из провинций Оттоманской Порты), куда он попал, схваченный мор-
скими пиратами на пути в Испанию, он содержался на особо строгом режи-
ме, как раб, за которого назначен повышенный выкуп (при нем оказалось
письмо дона Хуана Австрийского, сына Карла V и главнокомандующего
испанскими войсками). Жесток и беспощаден был правитель Алжира Гас-
сан-Паша. «Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол,
третьему отрезал уши, и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе
без всякого повода».
Но сухорукий пленник внушил и ему, этому «человеконенавистнику»,
как назвал его Сервантес, невольное уважение. Дерзость взгляда, безрас-
судная храбрость пленника свидетельствовали о его несокрушимой воле,
которую не сломили ни пытки, ни цепи, ни годы (Сервантес провел в рабст-
ве 5 лет). Долгими стараниями, каждодневными хлопотами, унижениями,
мелочным скопидомством семья Сервантеса собрала нужную сумму. Нако-
нец-то, желанные края и... «небо почета»! Увы, слезы обнищавших роди-
телей и равнодушные глаза правительственных чиновников ждали его на
родине.
157
А там трудные попытки найти себе место в феодальной Испании,
ловко расставляемые сети пройдох и мошенников, в которые легко и часто
попадал бескорыстный и простодушный идальго де Сервантес Сааведра.
Старость! Унижение! Бедность! Где же «небо почета»? Сервантес ока-
зался в тюрьме по самому вздорному обвинению — в лихоимстве, растрате
казенных средств. Возможно ли это? В сентябре 1597 года он был заключен
в Севильскую королевскую тюрьму (его обманул банкир Симон Фрейре де
Лима). В 1602 году он снова за решеткой.
Не довольно ли иллюзий. «Полно, сеньоры,— молвил Дон Кихот.—
Я был сумасшедший, а теперь я здоров... Я называю бреднями то, что было
до сих пор, бреднями, воистину для меня губительными, однако с Божьей
помощью я перед смертью обращу их себе на пользу...»
В тюрьме, раздумывая о своих бедах и невзгодах, кляня возвышенную
и романтическую настроенность своей натуры, он впервые увидел в вообра-
жении долговязую фигуру своего бессмертного героя, рыцаря печального
образа, милого безумца Дон Кихота. «Для меня одного родился Дон-Кихот,
а я родился для него, ему суждено было действовать, мне — описывать;
мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару»,— писал Сервантес.
В 1605 году была опубликована первая часть романа, через десять
лет — вторая. В 1612 году первую ее часть читала уже Англия, двумя го-
дами позднее — Франция. А там и весь мир познакомился с героями вели-
кого испанца. И поныне странствуют по свету восторженный идальго и его
столь же восторженный при всей своей привязанности к земным успехам и
столь же простодушный при всем своем лукавстве оруженосец Санчо
Панса.
Проходят века, поколения людей сменяются, и каждое из них находит
что-то важное для себя на страницах бессмертной книги. Современники
писателя, пожалуй, увидели в ней лишь забавную сатиру на рыцарские
романы. Французские просветители—сатиру на феодализм, а романтики
начала XIX века — изображение извечного конфликта между мечтой и
действительностью.
Генрих Гейне с некоторой обидой говорит о том, что Сервантес «написал
величайшую сатиру на человеческую восторженность». Той же обидой за
«развенчанный романтизм» полон и отзыв Байрона.
С давних пор в литературе и жизни утвердились обидные прозвища
«Дон Кихот» и «донкихотство». Ими клеймили оторванность от жизни,
пустое прожектерство, наивные и прекрасные порывы к химерическим и
неосуществимым целям.
Однако нарицательное хождение этих словечек в нашем речевом обихо-
де не раскрывает, конечно, всей сложности и объемности идей Сервантеса,
заложенных в образе его героя. Мартин Андерсен-Нексё, говоря о Дон
Кихоте, заявил однажды: «Ни один писатель, кроме Сервантеса, не создал
человека столь великого и столь несчастного». Великий и несчастный —
вот оценка благородного безумца, сражавшегося с ветряными мельницами.
В 1860 году на одном собрании Тургенев произнес речь «Гамлет и
Дон-Кихот», Это была восторженная хвала герою Сервантеса. Тургенев
выступал в защиту идеалов, против скептицизма и нигилизма. «...Дон-
Кихот, бедный, почти нищий человек, без всяких средств и связей, старый,
одинокий, берет на себя исправлять зло и защищать притесненных (со-
158
вершенно ему чужих) на всем земном шаре». Тургенев восхищается этим
и презрительно клеймит тех, кто не понимает, не ценит высоких порывов
Дон Кихота.
«Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон-Кихо-
тов— именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны
заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию...
Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли через
весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие — и оно открывается перед
ними».
Однако в той же речи Тургенев вспоминает об иллюзиях Фурье,
который, веря в добрую волю буржуа, вызывал на свидание миллионеров
и приходил в течение многих лет в назначенное место в надежде, что такой
энтузиаст явится и принесет ему свои миллионы для переустройства со-
циального мира. Милый романтик Фурье! Нельзя не восхищаться его же-
ланием помочь всем страждущим мира, всем беднякам и обездоленным.
Но, увы, от добрых пожеланий его ни одному бедняку на свете не стало
легче, как не стало легче никому из тех, за кого вступался храбрый и бес-
корыстный Дон Кихот.
Тургенев противопоставил Дон Кихота Сервантеса Гамлету Шекспира.
Первый — рыцарь веры и энтузиазма, второй — апостол сомнения. Первый,
не размышляя, бросается в борьбу, второй колеблется, рассуждает, анали-
зирует. И его порицает русский писатель.
Думается мне, однако, что оба — и Гамлет и Дон Кихот,— явившиеся
на свет почти одновременно, выражают по замыслам их создателей одну
общую идею—мучительное раздумье о судьбах человечества и крушение
надежд гуманистов XVI столетия, их веры в победу разума и добра. Не
потому ли Гамлет слагает восторженный гимн человеку, что «в мыслях
подобен Богу», а в «движениях — ангелу», и тут же скорбно называет его
«квинтэссенцией праха»? Не потому ли Сервантес заставил нас смеяться
над благородным мечтателем Дон Кихотом? Шекспир показал трагизм в
непосредственно трагическом свете, Сервантес облек трагизм в комиче-
ские формы. Но печаль у них общая. Над их головами нависла тень
мрачной реакции. Ведь оба они были современниками Варфоломеевской
ночи, оба пережили казнь Джордано Бруно и многих других лучших умов
века. Не потому ли появилась у них мысль, что сражаться за идеалы могут
только безумцы? И Гамлет и Дон Кихот предстают взору окружающих
как сумасшедшие.
Современники вряд ли понимали философский смысл книги Серван-
теса. Им было просто смешно. Их бесконечно занимала и смешила нелепая
фигура долговязого рыцаря и его злоключения. Рассказывают, что испан-
ский король Филипп III, наблюдая из окна, как хохочет над книгой какой-то
парень, решил, что тот читает «Дон Кихота».
ДОН КИХОТ И ДОНКИХОТСТВО
Если бы человечеству пришлось отчитаться «там, где-нибудь» о своих
делах, ему достаточно было бы молча протянуть одну-единственную
книгу как высший результат своей духовной деятельности — роман
Сервантеса «Дон Кихот». Столь неожиданное и, признаюсь, удивительное за-
явление сделал однажды Достоевский. Скорбный печальник человечества,
трагичнейший писатель оценил выше всех творений книгу, полную юмора и
смеха,— не того саркастического и мрачноватого, какой нисходит на нас со
страниц сочинений Свифта, а мягкого, доброго, непритязательного, с осо-
бой, неуловимой, всепрощающей печалью. Тургенев видел в этом смехе
«примиряющую и искупляющую силу».
Для Достоевского «во всем мире нет глубже и сильнее этого сочине-
ния». Для него — «это пока последнее и величайшее слово человеческой
мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек».
О Сервантесе сказано немало хороших слов. Люди в массе своей до-
статочно наделены чувством благодарности. Правда, при жизни великого
человека они могут в рассеянности не заметить его, выдувают себе под-
час, как дети из мыльной пены, быстро лопающиеся авторитеты. Но в конце
концов они все-таки спохватываются и награждают (пусть запоздало!)
настоящих сынов человечества. Раз оценив их, они уже не расстаются с
ними, и тогда благоговению их нет предела.
В Португалии воздвигнута пышная гробница Камоэнсу. Но его останков
в ней нет. Он умер нищим, незамеченным. Похоронен в общей могиле
с горемыками-бедняками в тяжелый чумной год. Что же теперь благоговей-
но хранится в гордой усыпальнице? Пыль, собранная с тех мест, где
когда-то ступала нога великого поэта. Признание и почести пришли только
после смерти. Самые прославленные авторитеты оставили о писателе и его
книге восторженные и, конечно, красноречивые отзывы. Стендаль, как было
уже сказано, признавался, что встреча с этой книгой была, пожалуй, самым
важным событием в его жизни.
Отзыв Достоевского необычен. В словах его — нечто большее, чем
отзыв. Они властно овладевают сознанием, и каждая строка великой книги
приобретает для нас незамеченную до того, неотгаданную ранее значитель-
ность.
Так глаза подростка, беспечно глядящего в весеннее чистое небо, ста-
новятся вдруг серьезными, когда кто-то из старших, увидев, куда смотрит
он, говорит ему: «Там—бесконечность!..»
160
Сервантес и Достоевский—люди разных эпох, сыны разных народов —
в сущности удивительно похожи. Это братья по духу. Они узнали бы друг
друга в самой разноликой толпе. Есть нечто общее в их характере, в
каком-то стоическом благородстве души, в их пристальном взгляде на чело-
веческие беды, в их неяркой, неброской манере письма с каким-то глубин-
ным философским подтекстом и даже в их Личной судьбе — оба носили
кандалы, оба испытали самое страшное для всякого живого существа —
ожидание неизбежной насильственной смерти.
Потому Достоевский с полным правом мог взять из рук своего собрата
его великое творение и от себя, и от всего человечества заявить: «Вот мое
заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?»
Что же это все-таки такое, книга Сервантеса? Какое заключение о жиз-
ни содержит в себе она?
Мы знаем ее с детства. Долговязая фигура Дон Кихота, его оружено-
сец, лукавый и наивный Санчо Панса, и даже костлявый Росинант так
живо представляются нашему воображению, так близки и родны нам, будто
выхвачены из нашей собственной жизни, из виденного, пережитого нами
самими.
Комната в доме Сервантеса в Валльядолиде. (Музей).
6 Литература эпохи Возрождения
Каждая эпоха, каждое поколение и в конце концов каждый человек
берут у большого писателя что-то созвучное себе или интересное, важное
для себя.
Французские просветители XVIII века увидели в книге Сервантеса са-
тиру на феодализм. Они перестраивали мир и нуждались в поддержке
всечеловеческих авторитетов. Романтики первых десятилетий XIX века,
полные энергии, молодых сил и бунтующей тоски, обнаружили у Серван-
теса терзающую их самих идею трагического противоречия между мечтой
и действительностью.
Позднее Тургенев, как было уже сказано, интерпретировал Дон Кихота
как героя, мученика, борца за вселенскую правду, будто и не было в книге
Сервантеса насмешки над милым безумцем. «Дон-Кихот, бедный, почти ни-
щий человек, без всяких средств и связей, старый, одинокий, берет на
себя исправлять зло и защищать притесненных (совершенно ему чужих)
на всем земном шаре».
Попробуем понять Тургенева. Его пугали базаровы, с их нарочито
приземленным практицизмом, с их скептической улыбкой над «неземной
девой, идеальной любовью, детским порыванием к высокому и прекрасному,
в которых нет никакого содержания» (пользуюсь терминологией Белин-
ского). Потому Тургенев осудил Гамлета и возвеличил Дон Кихота.
Картина различных толкований идей Сервантеса очень широка и,
конечно, не может быть предметом этой книги. Философия романа столь
поучительна, столь многообъемлюща, что волновала всегда и вряд ли
когда-нибудь перестанет волновать человечество.
Много говорили о безумстве Дон Кихота. Да, он, конечно, безумен,
когда принимает ветряную мельницу за великана. Он безумен, когда, забыв
о себе, о немощах своего старого тела, бросается с героической отвагой
на воображаемого противника. И это последнее его безумие прекрасно.
Ибо героизм сам по себе прекрасен. Но он не безумен, когда говорит:
«Свобода — самый драгоценный дар неба человеку. Ничто не сравнится с
ним». Эта истина была выстрадана самим Сервантесом в плену у алжир-
ского паши. Он знал, что такое рабство. И речи его героя — речи мудреца.
Дон Кихот не безумен, когда он видит избиваемого мальчика и, движимый
благородным порывом сострадания, бросается ему на помощь. Глаза не
обманывают его на этот раз, и действия его справедливы. Но почему
вслед ему, когда он довольный собой удалялся на поиски новых подвигов,
неслись проклятия облагодетельствованного им ребенка? В чем же дело?
Какую еще роковую ошибку допустил благородный Дон Кихот? Здесь
раскрывается перед нами, пожалуй, самое потрясающее открытие Серван-
теса— противоречие между замыслом и исполнением, между актом и его
результатом.
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Говорят, что это выраже-
ние изобрел английский богослов XVII века. Хвала его уму! Но Сервантес
жил раньше. Сервантес написал скорбные по своему философскому смыслу
страницы об этом аде, какой подчас неразумные люди создают, движимые
самыми прекрасными, самыми благородными порывами.
В самом деле, так ли уж безобидны наивность и непрактичность героя
Сервантеса, как это представлялось Тургеневу? «Что нужды, что первая же
его (Дон Кихота.— С. А.) попытка освобождения невинности от притесни-
162
теля рушится двойной бедою на голову самой невинности... Что нужды,
что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон-Кихот нападает на
полезные ветряные мельницы? — рассуждал Тургенев.— Кто, жертвуя со-
бой, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все. последствия, всю
вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожерт-
вование».
«Нет, нет и нет! — отвечу я.— Я не хочу, чтобы кто-то бессмысленно —
хотя бы и красиво — жертвовал собою, губя иногда и других, поверивших
ему, положившихся на него». И я не одинок в этом протесте. Обратимся к
художественным образам, даже к самым исторически удаленным.
Французский поэт XII столетия в величественной эпопее рассказал о
гибели отряда Роланда. Пылкому герою нужно было только протрубить в
рог, позвать на помощь войска Карла, как советовал ему его друг Оливье,
и разгром отряда был бы предотвращен. Это было бы разумно, но Роланд
не слушает совета друга. Он красиво гибнет (лицом к врагу). Рядом с ним
полегли его воины, его друг Оливье, весь цвет Карлова рыцарства. Автор
«Песни о Роланде» осудил его: «Роланд бесстрашен, но Оливье разумен».
Более того, он заставил Оливье высказать другу горькую правду:
...вы всему виною,
Ибо истинная храбрость
не то же, что безумие,
А сдержанность лучше неистовства.
Французы погибли из-за
вашего легкомыслия.
Русский поэт, автор «Слова о полку Игореве», тоже порицает своего
героя. Самонадеян князь, горяч, неопытен. Понадеялся на собственные
силы. Все предвещало неудачу, само солнце затмилось. Ничего не хотел
принимать в расчет Игорь и погубил войско и сам попал в плен. Горюет
старый Святослав «в Киеве, на горах». Помните его жалобы в перезвоне
чудных аллитераций: «Се ли створисте моей сребреней седине!» Горюет и
певец: рано начали Игорь и его брат буй-тур Всеволод Половецкую землю
мечом досаждать, а себе искать славы.
Сервантес судит строже. Он безжалостен к своему герою. Часто говорят,
что Дон Кихот рассуждает-де мудро, только вот действия его смешны и
нелепы. Да, писатель вложил в уста своего героя речи, которым позавидо-
вали бы и семь мудрецов Греции. Но он красочно расписал и его фанфарон-
ство и этим, конечно, казнил самонадеянность тех уникумов, которые,
подобно Дон Кихоту, полагают, что они «ничьей юрисдикции не подлежат,
что их закон — меч, их юрисдикция — отвага, их уложения — собственная
добрая воля».
Итак, к чему же мы пришли? Представляю себе печальные глаза чита-
теля. Значит, героизм смешон и нелеп, иначе, зачем же было создавать
«Дон Кихота»? Значит, начало мудрости в смирении и страхе Божьем?
Но это ли проповедует Сервантес? За это ли поставил его Достоевский
выше всех писателей мира? У Сервантеса за каждым словом — неоглядная
даль мысли, но не надейтесь получить ее в готовом виде. «Сумрак неве-
жества и коварства не в силах затмить и помрачить свет доблести и благо-
родства»,— читаем мы в книге. Вот, кажется, и вывод. Но не торопитесь.
163
Это говорит герцог, задумавший злую шутку над Дон Кихотом, говорит
явно иронически, глумясь. Опять ирония! И все-таки слова эти суть собст-
венные слова автора. Почему? Спросите об этом самих себя. Признайтесь,
вы любите Дон Кихота несмотря ни на что, вы прощаете ему все его бе-
зумства, вы любуетесь его «голубиной душой», благородством его порывов,
его широким умом, он вам так же дорог, как и его оруженосцу, а ведь не-
мало бед тот с ним натерпелся. Что же, вы полюбили Дон Кихота вопреки
наставлениям автора? Нет. В нашей любви и в нашей ненависти к литера-
турным героям повинен всегда автор. Сервантес осмеял своего героя, но и
возвеличил его. Здесь мы сталкиваемся с непостижимой, грандиозной
диалектикой художественного образа. Мы осуждаем лермонтовского Печо-
рина. Но чем-то он нам мил, как и добрейшему Максим Максимычу.
Я приводил строки из «Песни о Роланде» и «Слова о полку Игореве»,
осуждающие героев этих произведений, но ведь оба эти произведения на-
писаны для прославления Роланда и Игоря. И сколько любви, восхи-
щения, обожания к ним высказали авторы. «Безумству храбрых поем мы
песню!» Эта горьковская строка могла бы стать эпиграфом к героическим
сказаниям древних поэтов. И, как это ни странно, как ни парадоксально,
подошла бы и к книге Сервантеса. Безумие отваги доведено здесь до гро-
тескных пределов, но сама отвага и то, во имя чего проявляется эта отвага,
возведены на высоту совершенства. Это единственный пример в мировой
литературе, когда в одном произведении, в одном образе соединены вместе
трагическое и гротескно-смешное, возвышенное и тривиальное, высшая
мудрость и непостижимая интеллектуальная слепота. Потому взгляд До-
стоевского на эту книгу наиболее плодотворен и глубок. Он увидел в ней
самый искренний, самый правдивый автопортрет человечества, показавшего
все великое, что оно в себе имеет, и все малое.
Однако если отойти от масштабности Достоевского и взглянуть на
книгу Сервантеса в пределах, так сказать, известной исторической конкрет-
ности, то, думается, очень хорош вывод Белинского: «Сервантес убил
своим несравненным «Дон Кихотом» ложноидеальное направление поэзии».
Но более страшно ложноидеальное направление — донкихотство — в жизни.
«Мученикам не хватает иронии»,— заявил однажды умнейший и на-
смешливый Анатоль Франс. Великий страдалец Сервантес обрел ее од-
нажды, после долгих мытарств, тягчайших жизненных испытаний, кру-
шения идеалов, надежд, иллюзий, обрел в тюрьме, где он, честный и бес-
корыстный человек, оказался по обвинению в лихоимстве.
Ирония все осветила его внутреннему духовному взору, затуманенному
идиллическим прекраснодушием. Она помогла ему увидеть то, что не видел
он раньше,— подлинную реальность мира. Ирония помогла ему создать по-
трясающую книгу. Сервантес смеялся над тем, кто ему был бесконечно
дорог, и этот смех — его главная победа. Он нисколько не поколебал этим
смехом веру в прекрасное, как думали романтики, но он предостерег
человечество, предостерег так мудро, так человечно, как никто раньше,—
предостерег от слепоты, от забвения реальности, которое приводит к бес-
плодным жертвам, неразумной трате сил и душевных порывов.
Отвлечемся от старины. Мы живем в XX веке. У нас свои заботы, и,
пожалуй, не менее грандиозные, чем у поколений XVI—XVII столетий.
164
Что же нам ближе: безрассудный энтузиазм Дон Кихота или осторожный
скепсис Гамлета? (Этот вопрос, кстати сказать, всю жизнь мучил Анатоля
Франса.) Может быть, однако, взять то и другое, энтузиазм и сомнение,
соединить их вместе в мудром синтезе? Скучно жить без идеалов, без вы-
соких целей, без больших порывов. Но важно не только желать, но и уметь
превратить желаемое в факт бытия, а значит — правильно увидеть реаль-
ный мир, расстановку сил, словом, не ослеплять себя энтузиазмом, а укреп-
лять им свою волю, страстно рваться к идеалу, но не терять при этом
острого и, может быть, скептического зрения.
Книга Сервантеса стала достоянием всего человечества. «Во всем мире
нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее
слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог
выразить человек»,— писал о ней Достоевский.
Хорошие книги — как элексир жизни, в них частичка вечности. Приоб-
щаясь к ним, мы обретаем эту вечность, соединяясь с теми, кто был до
нас, и с теми, кто продолжит нас в замыслах и делах.
Фернандо Свльма. Дон Кихот и Санчо Панса возвращаются домой.
165
ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
Появилось чудо природы —
великий Лопе де Вега!
Сервантес
Так воскликнул, дивясь и восхищаясь, Сервантес и, сходя в могилу
(эти строки были написаны им в 1615 году, за год до смерти), благосло-
вил своего собрата.
Светлая, жизнерадостная эпоха Возрождения, пора надежд, благих
порывов и большой веры в силы человеческого разума донесла до первых
десятилетий XVII столетия несколько своих титанов. Шестнадцать лет
жили в новом столетии Шекспир и Сервантес, половину своей жизни про-
вел в XVII столетии Лопе де Вега—талант замечательный.
Лопе де Вега—сын Ренессанса. Как сказочные герои, которые, испив
волшебного напитка, превращались в несокрушимых гигантов, великий
испанский поэт воспринял от породившей его эпохи, от ее жизнеутверждаю-
щих гуманистических идей неиссякаемую мощь роскошного, полного кра-
сок и света, беспечно рассыпавшего направо и налево свои цветы таланта.
Испанцы обожали своего национального гения. Его имя стало символом
всего прекрасного. Он был любимцем народа, им гордились. Всякий мастер,
рекламируя изготовленную вещь, обычно говаривал: «Сам Лопе не сделал
бы лучше». Лопе для испанца его времени — бог поэтического искусства;
все, вышедшее из его рук, носило печать гения.
Лопе де Вега писал легко и свободно. Словно из рога изобилия
выливались его стихи, грациозные и мелодичные. Ученые подсчитали, что
эпические поэмы Лопе де Вега насчитывают 50 тысяч стихов, что 2989 соне-
тов, написанных им, содержат 42 тысячи стихотворных строк, что коли-
чество его драматических произведений, в значительном большинстве ныне
утерянных, составляет цифру, выходящую за пределы двух тысяч. В нас-
тоящее время известно 426 комедий и более сорока так называемых «ауто»
(священных действ).
166
Родился он 25 ноября 1562 года в Мадриде. Его отец, выходец из
астурийской крестьянской семьи, был довольно состоятельным человеком,
имевшим в Мадриде собственное золотошвейное заведение. Он дал сыну
хорошее образование и даже дворянство, купив по обычаю тех времен
патент на дворянское звание. Лопе де Вега может быть назван основателем
испанского национального театра. Он рано заметил, что пышные фразы ге-
роев воспринимаются холодно, исступленные страсти кажутся чрезмерными
и ходульными.
Законодатели театра требовали единства впечатления, для трагедии—
трагического, для комедии—смешного. Лопе де Вега от этого отказался,
заявив, что в жизни не бывает все трагично или все смешно, и ради
правды жизни установил для своего театра «смешение трагического с за-
бавным», «смесь возвышенного и смешного»:
Ведь и природа тем для нас прекрасна,
Что крайности являет ежечасно.
Интрига — нерв пьесы. Она связывает пьесу воедино и мощно держит
зрителя в плену сцены. С самого начала, едва лишь взвился занавес, едва
лишь на подмостках появились первые актеры, сделали первые движения,
сказали первые слова,— интрига уже должна крепко завязать узел собы-
тий и, подобно нити Ариадны, вести зрителя по лабиринту сценических
перипетий. Избави Бог показать зрителю издалека конечный путь, прежде-
временно намекнуть о развязке — весь эффект представления будет сорван.
Перед нами совершенно иное толкование сценического интереса срав-
нительно с античным и классицистическим театром в его лучших образцах.
Античная классическая театральная школа сосредоточивала интерес зрите-
ля не на сценической интриге, она отнюдь не рассчитывала на его жадное
любопытство (сюжет и даже герои античных трагедий, как правило, были
заранее известны зрителю); античная трагедия привлекала зрителя глуби-
ной трактовки образов, глубиной проникновения автора в психологические,
нравственные, социальные и политические проблемы жизни человека.
По тому же пути пойдет впоследствии драматургия Расина и Корнеля.
Французский зритель подчас знал не только сюжет и действующих лиц
трагедий Корнеля, но и наизусть помнил их роли и все же стремился сно-
ва и снова наслаждаться лицезрением сценической жизни любимых
героев.
Характерно, что Лопе де Вега подробно говорит об интриге пьесы и
ничего о более существенных сторонах драматургии—о формах раскрытия
характера, об идеях, жизненных проблемах и их отображении в драматур-
гии. Для него казалось очень важным разъяснить, что:
Акт первый предназначен для завязки,
Второй же—для различных осложнений,
Чтоб до средины третьего никто
Из зрителей финала не предвидел.
Поддерживать полезно любопытство
Намеками на то, что быть финал
Совсем иным, чем ожидаем, может.
Все это действительно важно, хотя и отнюдь не обязательно.
167
Лопе де Вега — противник всяких риторических украшений, он ратует
за житейскую, бойкую, выразительную простоту языка персонажей:
...Чтоб был язык комедий
Чист, ясен, легок и не отличался
От языка обычного нисколько.
Ведь только на публичных выступленьях
Красивую услышать можно речь,
С особым сказанную выраженьем,
Цитаты из писанья неуместны
И не нужны нарядные слова.
Театр Лопе де Вега—театр светлый, жизнеутверждающий. Драматург
любит людей энергичных, здоровых и побеждающих. Нет ни одной пьесы,
где бы не было одного-двух положительных героев, которым от души не
симпатизировал бы автор. Отсюда и драматургический конфликт в его пье-
сах строится на темах чести и подвига. Он рассуждает: актер, исполняю-
щий на сцене роли отрицательных героев, даже и в жизни неприятен тем,
кто видел его на подмостках. Входит в лавку такой актер — ему ничего
не хотят продать; он встречается на улице — от него отворачиваются, как
будто он сам становится одним из тех недостойных людей, которых изобра-
жает на сцене. Иное с актерами, исполняющими роли героев. Их любят,
обожают. Встречаясь с таким актером в жизни, спешат пожать ему руку,
заглядывают ему в глаза, словно видят перед собой какого-то особого че-
ловека, живого героя.
Итак, две темы предлагает Лопе де Вега драматургу: тему чести и
тему доблести:
Нет превосходней тем, чем темы чести;
Они волнуют всех без исключенья.
За ними темы доблести идут,—
Ведь доблестью любуются повсюду.
Итак, комедия Лопе де Вега, как он ее сам описал,— «зеркало жизни»,
она полна острот, в ней «с легкой шуткой... переплетается мысль», в ней
женщина, какая-нибудь обольстительная Лауренсия, «таит лукавство в
сердце», в ней «смехотворен, и глуп, и несчастлив бывает влюбленный» —
словом, в ней все, «чем наша жизнь полна». Она покажет, «как посреди за-
бав настигает беда человека», «как соблюдает черед в жизни прилив л
отлив»,— но покажет без трагического надлома, с мимолетной грустью,
чтобы потом перейти к радости и беды сменить весельем. Все, все покажет
комедия Лопе де Вега, «о правилах забыв».
Свой трактат «Новое искусство сочинять комедии в наше время»,
откуда мы взяли все приведенные цитаты, Лопе де Вега адресовал Мадрид-
ской академии.
Не все согласились с ним. Некоторые приверженцы канонов выступили
в печати против теории драматурга. Однако литературная общественность
Испании встала на сторону поэта, видя в его творчестве блестящее под-
тверждение приведенных теоретических положений. Система Лопе де Вега
победила, и театр испанский пошел своим путем.
О Лопе де Вега ходила легенда, что за всю свою творческую жизнь
168
Рубенс. Портрет камеристки инфанты Изабеллы.
он не зачеркнул ни одной строки в своих сочинениях и не перемарывал
своих стихов из принципа, придерживаясь якобы взгляда, что поэзия есть
сфера вдохновения, а не труда. Поэт сам опровергает эту легенду. Один
из героев его пьесы «Овечий источник», крестьянин Менго, балагур и
весельчак, а при случае и поэт, остроумно осуждает тех, кто «сочиняет
быстро», без труда, кто
...свои стихи
В тетрадь швыряет мимоходом,
Надеясь скрыть под липким медом
Обилье всякой чепухи.
Лопе де Вега пробовал свои силы в различных жанрах. Он писал соне-
ты, эпические поэмы, подражая то Ариосто, то Торквато Тассо. В духе
последнего он создал поэму «Завоеванный Иерусалим». Пастушеский жанр
тоже был испробован им (роман «Вифлеемские пастухи»). Он написал не-
сколько новелл («Приключения Дианы», «Гусман Храбрый» и др.), лите-
ратурно-критическую поэму «Соловей», в которой называет более двухсот
имен писателей и поэтов своего времени. В соответствии с духом эпохи
он пишет и духовные стихи (сборник «Священные стихи»). Однако по
преимуществу Лопе де Вега был драматургом. Театр — вот чем он жил не
менее пятидесяти лет.
Диапазон сюжетов комедий Лопе де Вега весьма широк. Человеческая
история, национальная история Испании, особенно героические времена
реконкисты, события из жизни современников самых различных социаль-
ных слоев страны, яркие эпизоды из жизни всех народов — все это, как
яркая, движущаяся картина, живая, волнующая, говорящая, проходит
перед нашими глазами в театре Лопе де Вега.
Один из знатоков испанской литературы К. Державин писал в своей
вступительной статье к «Избранным сочинениям» Лопе де Вега: «Во вре-
мени сюжеты его комедий охватывают период от библейской истории
сотворения мира до событий современной Лопе эпохи. В пространстве они
выходят далеко за пределы Испании, переносят зрителя и в Россию, и в
Албанию, и в Венгрию, и в Богемию, и в Польшу, и в Америку. Сама
Испания представлена в драматургии Лопе почти всеми своими главными
городами и всеми провинциями и областями. Огромное количество дейст-
вующих лиц театра Лопе де Вега охватывает не только множество на-
циональностей, но и еще большее число бытовых типов, профессий, пред-
ставителей всех сословий и всех слоев общества. Универсальности образов
соответствует и универсальность языка Лопе де Вега—одного из самых
богатых в лексическом отношении писателей в мире, легко и свободно
пользовавшихся самыми различными речевыми стилями».
Если говорить о главном пафосе Лопе де Вега, об основном его ка-
честве человека и поэта, то следует прежде всего сказать о его оптимизме.
Представим себе человека, который не может знать усталости, уныния, че-
ловека вечно деятельного, энергичного. Глаза его сверкают и смотрят на
мир влюбленно, выразительное лицо постоянно меняется, отражая на себе
все движения его мысли. Говорит он быстро, и речь его, такая же энергич-
ная, как и он сам, полна значения. Он остроумен и лукав. Вот он шутит,
и острая эпиграмма слетает с его уст. Вы готовы обидеться, но добрые гла-
170
за его уже смеются, и лестный мадригал уже готов сменить лукавую и
озорную шутку — тонкий, изящный, певучий мадригал. Вы можете досадо-
вать на его беспечность, говорить ему, подавляя в себе улыбку, что когда-
нибудь нужно же быть серьезным, но он остается таким же и не любить
его, не восхищаться им нельзя.
Таков Лопе де Вега. Он не знает зрелого возраста, старости; он —
вечный юноша, его молодость, здоровье, оптимизм и исходящая от них
радость жизни неиссякаемы. Он не может ни скрыть этой радости жизни,
ни подавить ее в себе даже в минуты, когда нужно быть печальным. Мы
увидим все это в его пьесах.
Юношеское зрение всегда остро, ему доступны и далекие предметы, и
близкие; юноша всегда жадно смотрит на мир и многое видит.
В пьесах Лопе де Вега — целый мир; юноша-поэт его вам покажет, де-
лайте выводы сами; поэт может только поделиться с вами своей любовью
к жизни, к миру и к человеку. За остальной же «высокой материей» идите
к другим, к более «пожилым».
Сравнение это, может быть, несколько вольно, но кажется мне, что оно
верно отражает основную сущность творчества гениального поэта.
* * *
«ЗВЕЗДА СЕВИЛЬИ»
Нет! Погублю я жизнь и душу,
Но чести я не погублю...
Теме чести и человеческого достоинства посвящена пьеса Лопе де Вега.
Финал ее печален. Прощаясь с ее героями, мы не можем подавить в
себе грусти о судьбах человеческих, но эта грусть светла. Герои
пьесы не достигли счастья, но они победили, победила моральная стойкость,
высокое чувство человеческого достоинства. А победа в человеке человече-
ского всегда окрыляет, вселяет гордость за людей.
Действие начинается с того, что в Севилью приезжает король. Жители
города встречают его с почетом. Среди горожан король увидел необыкно-
венной красоты женщину. Это Эстрелья, прозванная звездой Севильи. Ко-
роль восхищен ею, влюблен и чуть ли уже не поэт, изливающий в звучных
стихах свои восторженные чувства:
171
Вся в черном, но светлей Авроры!
Вся в черном ночь — прекрасней дня!
И в этом черном одеянье
Она явилась мне в сиянье
Своей небесной красоты.
И солнце яркое Испаньи
Затмили дивные черты.
Королю сообщили, что Эстрелья живет в доме брата и что ее собирают-
ся выдать замуж. Король решил приблизить к себе брата девушки, осы-
пать его милостями и этой ценой купить его сестру. Но юный Бусто Табера,
брат Эстрельи, оказался на редкость несговорчивым и от королевских
милостей отказался, считая себя недостойным их. «За что со мной так лас-
ков он? — спрашивает он себя.— Я здесь какой-то подкуп чую».
Король со свитой вознамерился войти в дом Таберы, но юный дворя-
нин отклонил эту честь. Король взбешен, но виду не подал, желая перехит-
рить неподкупного брата Эстрельи.
Между тем девушка давно уж любит, и предмет ее любви — юный
Санчо Ортис, «красивый, как полубог» (так отозвался о нем король, уви-
дев его впервые). Дон Санчо тоже любит Эстрелью. Объяснение в любви
молодых людей напоминает поэтические диалоги трубадуров с их патети-
ческими сравнениями, лирическим томлением, напевностью:
Эстрелья: Я тебе свою жизнь отдаю навсегда
С любовью моей неизменной.
Дон Санчо: О Эстрелья, моя ты звезда,
Свет, и пламя, и радость вселенной!
Эстрелья: О мой погубитель бесценный!
Дон Санчо: О мой свет лучезарный,
В небесах моей жизни горишь ты звездою полярной!
В театре обычно этот диалог поется под аккомпанемент лютни. Лопе де
Вега не случайно избрал такую форму объяснения в любви. В годы, когда
происходили описанные события, еще были свежи воспоминания о поэзии
трубадуров, и при дворах испанских грандов царили нравы, заимствован-
ные у владетельных особ Прованса. Не обошлось здесь и без влияния
поэзии мавров, еще господствовавших на части территории Испании,
поэзии, распространившей это свое влияние и дальше за Пиренеи. Крас-
норечиво писал об этом в прошлом веке французский ученый Деможо:
«Поэтическое дыхание цивилизации арабов, аромат Востока, напоенный
сладострастием и негой берегов Андалузии и померанцевых рощ Альгамбы,
проникал в христианскую Европу».
Лопе де Вега вносил в сценическое повествование элемент истори-
ческого колорита и придавал действию волнующую поэтичность. Однако
веселый поэт не может обойтись без лукавой шутки, и здесь же, после
столь патетического диалога юных влюбленных, он заставляет их слуг па-
родировать господ к большому удовольствию зрителей:
— О красавчик, под звуки скребницы,
Верно, стал ты поэтом в конюшне!
172
-wtgmi*
Карло Сарачини. Святая Цецилия с ангелом. 1610 г.
— Ах, блаженство мое!
— Ах, отстань!
- Вот и отдали вздохам мы дань.
Лопе де Вега следует своей системе, внося в сценическое повество-
вание «смесь возвышенного и смешного».
Король ничего не знает о любви молодых людей, он сам горит жела-
нием найти доступ в спальню Эстрельи. И здесь ему помогают услужли-
вые царедворцы. Рабыня Эстрельи подкуплена, и ночью, закутавшись в
плащ, король проникает в дом Табера. Но тщетно! Едва лишь Санчо IV
переступил порог дома, как явился брат Эстрельи. Табера узнал короля,
но сделал вид, что ему неведом пришелец, и грубо гонит его из дома. Пос-
ле короткого поединка, завидев сбежавшихся на шум слуг, коронованный
воздыхатель вынужден позорно ретироваться.
Теперь уже не до любви! Санчо IV почитает себя оскорбленным, он
ищет мести, боится лишь явно проявить свою несправедливость, чтобы не
вызвать возмущения в народе. И снова гнусные советы царедворцев. Пусть
брат Эстрельи будет убит по тайному приказу короля. Человек, который
избран для этой цели,— дон Санчо. Юноша готов отдать жизнь за госу-
даря. Убить человека, оскорбившего верховного повелителя,— священный
долг подданного. Так рассуждает он и дает клятву выполнить приказ
короля. Он еще не знает, кого должен убить, но уже полон решимости
вступиться за честь монарха.
Развернув бумагу, на которой было начертано имя жертвы, дон Санчо
узнает жестокую истину. А здесь новый удар: ему несут записку Эстрельи,
она сообщает, что брат согласен на их брак. В счастливом неведении она
торопит его прийти к ним и называет его уже своим супругом.
Так начинается трагедия любви и чести. Нарушишь слово — обретаешь
счастье, но теряешь честь. Исполнишь клятву — сохраняешь честь, но
навсегда утрачиваешь радость жизни. Страшная дилемма! Юноша муча-
ется. Различные решения приходят ему в голову, но ясно одно:
Хочу? Но я хотеть не смею!
Я рыцарь долга, чести раб!
Я должен, да, и я сумею...
Долой мученья и сомненье!
Лопе де Вега называет дона Санчо «рабом чести».
Во имя чего разрушает свое счастье благородный дон Санчо? Во имя
эфемерного представления о святости данного слова, пусть даже это слово
дано по неведению, пусть исполнение этой опрометчивой клятвы несет
смерть ни в чем не повинному человеку, к тому же его другу, брату его
невесты, пусть оно несет несчастье самому дорогому для него существу, его
возлюбленной Эстрелье,— все равно! Слово должно быть исполнено. Он —
раб чести, он не смеет иметь свою волю, он не смеет ничего хотеть:
Вся наша жизнь — игра азарта...
Кто стасовал, кто чем пошел...
Одна невыгодная карта —
Источник горести и зол.
Жизнь, жизнь — жестокая игра!
174
Дон Санчо убивает Бусто и отдается в руки властей. Его судят. Король,
который может одним словом его спасти, медлит. Издевательски он через
послов хочет принудить юношу нарушить слово и назвать имя короля, со-
общить, что, убивая Бусто, он исполнял его повеление:
Пусть скажет искренне совсем,
Чем был он вынужден иль кем
Свершить такое злодеянье,
Иль за кого он мстить хотел.
Пусть принесет мне оправданье,
Иначе смерть — его удел.
Зачем это нужно королю?
Зачем король упорно добивается от Санчо Ортиса разоблачения тайны?
Ведь он не хочет этого разоблачения. Недоумевает некоторое время и зри-
тель, ему вначале непонятно поведение кастильского государя. Все дело в
том, что король хорошо сознает подлость своего поведения и ему стыдно
перед этим благородным молодым человеком, принявшим на себя тяжесть
его преступления. Это благородство человека его гнетет, давит, становится
мучительным укором для его собственной совести, и он хочет унизить дона
Санчо, хочет его нравственного падения. Он добивается этого даже вопре-
ки своим собственным интересам. Пусть нарушит слово, пусть проявит свою
слабость, пусть не будет таким безупречным, и это облегчит неспокойную
совесть короля. Но юноша понимает замысел виновника всех бед. Его до-
прашивает царедворец дон Аркас, по наущению которого было совершено
убийство, который, следовательно, все хорошо знает. И он требует открыть
«тайну», заклинает именем короля, обещает свободу.
Заставив юношу своими руками разрушить свое счастье, король и его
царедворец подвергают его теперь гнусной нравственной пытке. Но юноша
стоек, он будет молчать, пусть король сам найдет в себе мужество взгля-
нуть правде в глаза, пусть наберется смелости (ведь он прозывается
«смелым») признать свою вину.
Король мучается, мечется от одного решения к другому, но не в силах
признаться. Он не может допустить казни юноши. Ему не позволяет это
сделать совесть. Он пытается лаской и милостью подкупить судей, чтобы
они оправдали молодого человека. Но судьи выносят смертный приговор.
Что делать? Что делать? Тогда жалкому, преступному и слабому королю
подсказывает решение его же царедворец, участник и свидетель его пре-
ступлений (у него, очевидно, было больше мужества): «Все сказать...»
И жалкий король сдается, выдавливает из себя вынужденное признание:
Я — виновник этой смерти,
Я его убийцей сделал!
Он невинен. С вас довольно?
Дон Санчо оправдан. Но что дает ему свобода? Эстрелья любит его,
прощает ему его невольную вину, но жить вместе они не могут.
...убийца брата
Мне "не может быть супругом,
Хоть его боготворю я,
Хоть люблю его навек,—
175
говорит Эстрелья, и это «горькое решенье» считает справедливым юный
Санчо.
Еще до суда девушка требовала у короля мести, просила предоставить
эту месть ей, и трусливый король, не признавшись в собственной вине,
отдает ей дона Санчо на расправу. Правда, он говорит ей при этом, что
милосердны бывают даже звери. Какая злая ирония в устах подлеца! Лопе
де Вега всюду подчеркивает силу, мужество, бесстрашие, моральную
стойкость своих любимых героев и жалкую трусость короля, трусость даже
в его потугах на человеколюбие.
Эстрелья, выведя дона Санчо из тюрьмы, не мстит, не казнит его,
даже не бросает ему упрека. Она отпускает его, не спросив, почему он
совершил злодеяние.
Как? Ни проклятья, ни упрека?
Вели убить, убить меня!
Не мучь меня, моя святая,
Великодушием терзая
И милосердием казня.
И Санчо возвращается в тюрьму, не приняв скорбного прощения
своей возлюбленной. Характер Эстрельи обрисован сильными и правдивыми
чертами. В нем нет ни тени ханжества, холодного резонерства или исступ-
ленной истеричности. Это натура здоровая, нравственно крепкая, и ее лю-
бовь— горячая, страстная, поистине огненная любовь андалузки.
И тем не менее, даже когда выясняется моральная невиновность Санчо,
она все-таки отказывается от него. Смерть брата проложила между нею и
Санчо непроходимую пропасть. Молодые люди, созданные друг для друга,
расходятся навсегда. «О, какое благородство! И какая твердость духа!» —
восклицают царедворцы. Только слуга Клариндо не согласен с такой оцен-
кой и про себя высказывает иное мнение: «А по-моему, безумье».
Народная мораль проще, естественнее. Ее первая заповедь — счастье
человека. И если ничто не препятствует счастью — а здесь, по естественной
логике Клариндо, препятствий нет, ибо его господин дон Санчо был сле-
пым орудием в руках преступного короля,— то зачем же убегать от
счастья?
В реплике Клариндо — ключ к мыслям автора. Лопе отнюдь не на сто-
роне «рабов чести», отнюдь не сторонник сложной и запутанной нравст-
венной казуистики дворян. Но не восхищаться силой характера, моральной
стойкостью своих героев он не может. Пусть они ошибаются, пусть ими
руководят ложные принципы, но они прекрасны, эти изумительные люди!
Лопе де Вега писал до конца жизни. Он прославил свой народ, его
национальную историю, описывая легким, изящным стихом события и нра-
вы современности или строгим почерком древнекастильских летописей —
героические предания старины (пьеса «Знаменитые женщины Астурии»).
Старость поэта была печальной. Его подруга Марта Неварес, воспетая им
под именем Амарильи, ослепла и сошла с ума, его дочь ушла в монастырь,
а сын трагически погиб. Но ничто не могло сокрушить нравственные силы
великого «феникса Испании», как называли драматурга современники, и
только смерть заставила замолчать его вдохновенный голос.
176
КАЛЬДЕРОН
В Севилье растут гвоздики, каких нет на Севере.
Их цветы по величине равняются розам, а их нежный
запах, в своей пряности, сладко необычен для северянина.
Вот образы, которые невольно возникают в душе, когда
мы вступаем в чарующий мир поэтических созданий
Кальдерона.
Кто хочет, пусть войдет в этот сад. Но пусть он знает
заранее, что здесь он встретит не те растения, к которым
привык с детства.
К. Д. Бальмонт
Слава Лопе де Вега временно померкла вскоре после его смерти.
Перестали переиздавать его сочинения, перестали ставить его пьесы,
имя его все реже и реже звучало в речи народа. Суровая пора
реакции омрачила небо Испании. Жизнерадостный талант поэта был уже
не ко времени. Кумиром Испании стал Кальдерон— угрюмый, мрачный
поэт.
Кальдерон — талант иного типа. Ему далеко до того высокого реалисти-
ческого мастерства, какого достиг его предшественник Лопе де Вега, но он
177
заставил зазвучать такие струны в своей поэтической лире, которые более
всего волновали и трогали его современников. Лопе де Вега — певец жиз-
ни, но инквизиторы каждодневно на глазах у потрясенных людских толп
с торжественным церемониалом предавали уничтожению и человека, и его
светлую мечту о земном счастье. Народ, устрашенный, задумывался о
тщете жизни, о бессилии человека, о его ничтожестве перед темной, не-
постижимой, всеподавляющей силой судьбы, он содрогался при мысли о
загробной жизни, которую ему живописали церковные проповедники, и уже
не мог смеяться.
И вот явился Кальдерон и благозвучным стихом стал воспевать фило-
софию пессимизма. Нет ничего вечного на свете. Красавицы? Они «навек
уснут под покрывалом пыли». Розы? Они «расцветают, чтоб увянуть».
«Сам человек, едва открыв глаза, навек смежает веки». И «мгновенна
жизнь на свете», и годы — всего лишь мгновения, и от колыбели до моги-
лы— один только шаг1. Что же остается человеку? Страдать и покоряться.
В этом выводе — весь Кальдерон, каким он был для своих современников,
каким вошел в мировую литературу.
Дон Педро Кальдерон де ля Барка Энао де ля Барреда и Рианьо —
так звучит его полное имя. Родился в Мадриде 17 января 1600 года.
Первоначальное образование получил в иезуитской школе. Пятнадцати лет
поступил в университет в Саламанке, где прослушал курс богословия.
В первой половине своей жизни Кальдерон — человек шпаги. Он участвует
в военных походах в Италии и Фландрии, он — рыцарь ордена Сант-Яго,
участвует в подавлении мятежа в Каталонии. В молодости он не раз обна-
жал шпагу на поединках и даже однажды, посмеявшись над напыщенным
красноречием одного проповедника, был посажен в тюрьму за оскорбление
духовного сана.
Вторая половина жизни Кальдерона посвящена церкви. В 1651 году он
принял сан священника. Через тринадцать лет он уже важное духовное
лицо, почетный капеллан короля, а в 1666 году — настоятель братства
св. Петра.
Умер Кальдерон глубоким стариком в 1681 году. На его письменном
столе осталась незаконченная духовная драма (ауто).
Первые поэтические лавры Кальдерон снискал себе в 1622 году, участ-
вуя в состязании поэтов на празднике св. Исидора.
Лопе де Вега заметил его, поощрив молодой талант лестной похвалой.
В 1635 году Кальдерон получил звание придворного драматурга. Он писал
для двора пьесы и музыкальные комедии, для духовных празднеств по
заказам городских властей Мадрида—одноактные духовные представле-
ния, пьесы с библейскими сюжетами. Писал он и комедии, продолжая
традиции своего предшественника Лопе де Вега. Одна из них, «Дама-
невидимка», легкая, жизнерадостная, остроумная, шла у нас в Московском
театре имени Пушкина и воспринималась зрителями с живейшим интере-
сом. Драма Кальдерона «Саламейский алькальд» напоминает сюжетом
«Овечий источник» Лопе де Вега. Крестьянин, избранный алькальдом,
судит капитана королевской армии, обесчестившего его дочь Исабелу,
1 Сонет из пьесы «Стойкий принц».
178
судит и казнит. «Велик испанский плебей, если в нем есть такое понятие о
законности!» — воскликнул Герцен, прочитав эту пьесу.
Однако не эти пьесы создали известность Кальдерону, не они составля-
ют главную сущность его драматургического творчества. Подлинного Каль-
дерона, поэта барокко, следует искать в религиозных пьесах: «Чистилище
св. Патрика», «Поклонение кресту», «Стойкий принц», в философско-
аллегорических драмах типа «Жизнь есть сон» и «Чудодейственный маг».
Нельзя не привести здесь глубокомысленного отзыва Тургенева о драме
«Поклонение кресту». Тургенев писал: «Я всем моим существом отдаюсь
прошлому и с жадностью читаю теперь Кальдерона (само собой разумеет-
ся, по-испански); это величайший, самый антихристианский драматург.
Его (Кальдерона) «Devotion de la Cruz» есть шедевр. Это непоколебимая,
торжествующая вера, лишенная даже и тени какого-либо сомнения или
размышления, подавляет вас своей мощью и величием, несмотря на все, что
есть в этой доктрине отталкивающего и жестокого. Это уничтожение
всего, что составляет достоинство человека перед божественной волей,—
то равнодушие ко всему, что мы называем добродетелью или пороком, с
которым благодать осеняет своего избранника,— является еще новым
торжеством человеческого разума; потому что существо, решающееся с та-
кой отвагой признаваться в своем собственном ничтожестве, тем самым
возвышается до того фантастического божества, игрушкой которого оно
себя считает. И это божество есть тоже творение его руки. Но я все-таки
предпочитаю Прометея, Сатану, тип возмущения. Пусть я буду атом,—
но я сам себе владыка; я хочу истины, но не спасения и ожидаю ее
получить от разума, а не от благодати.
Тем не менее Кальдерон — гений необыкновенный, а главное дело,
мощный».
Люди не вольны в своих поступках, они — жалкие игрушки в руках
Всевышнего. Пусть в пьесе изображены сильные люди, сильные страсти,
тем разительнее их ничтожество перед всеподавляющеи и непостижимой
мощью жестокого Бога.
Бог Кальдерона — жестокий Бог. Это бог инквизиции, бог контррефор-
мации, бог католической реакции, бог, наводящий ужас. Здесь нет самого
главного для искусства—любви к человеку. Недаром Тургенев противо-
поставил сурового мистика Кальдерона Шекспиру, «самому гуманнейшему
драматургу».
С годами, однако, фанатизм Кальдерона станет менее свирепым и в его
творчестве зазвучат более мягкие тона. Его зрелая пьеса «Жизнь есть
сон» покажет всю глубину отчаяния драматурга, но идея человеколюбия
уже займет в ней свое место.
«ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН»
Это самая величественная драматургическая концепция,
какую я когда-либо видел или читал. В ней царит дикая
энергия, глубокое и мрачное презрение к жизни,
удивительная смелость мысли рядом с фанатизмом
непреклонного фанатика.
И. Тургенев
Действие происходит в Польше (Полонии), но указание на место
действия не имеет никакого значения. Перед нами философия в
лицах и картинах, философская аллегория. Характеры лишь едва
намечены и философски символичны.
Пьеса открывается мрачной картиной. Обрывы, крутые скалы, мрачная
башня, сумерки. Появляются Росаура, женщина в мужской одежде, и с
ней Кларин, шут. Зачем они здесь? Что привлекло их сюда? Женщина вы-
ражается туманно. Какие-то беды гнетут ее сердце, что-то роковое носит
ее по безбрежным и неприютным просторам мира. «В слепом отчаянье пой-
ду я меж скал запутанной тропой»,— загадочно говорит она, и мы не
знаем, кто она. Ясно лишь, что отчаяние владеет ее сердцем. Она идет,
куда влечет ее судьба, «иной не ведая дороги», а судьба ее ужасна. И все
здесь ужасно, даже солнцем здесь недовольны «за то, что светит так свет-
ло», и край, в который прибыли загадочные путешественники, бесплоден,
он в песках своих пустынь «кровью вписывает след» пришельцев.
Это символико-философское вступление уже намечает идейную концеп-
цию пьесы. Мир кошмарен, мир враждебен человеку. Человек жалок, ни-
чтожен, он страдает, стонет. «Но где ж несчастный видел жалость?»
Ни жалости, ни помощи, ни сочувствия не найдет человек в мире.
Чем дальше мы читаем пьесу, тем мрачнее и безысходнее представ-
ляется нам ее жизненная философия.
Странники видят башню, открытую дверь, «ни дверь, а пасть», а в ней
«ночь роняет дыханье темное свое». Из башни несутся тяжкие вздохи,
подобные стону. Кто это стонет? Кто этот новый страждущий человек?
Уж не предвещает ли он новые беды? Кларин и Росаура в смятении, хотят
бежать, но не могут, ноги от ужаса стали тяжелее свинца. В башне —
180
«труп живой», и башня—его могила. Он прикован к стене цепями, на нем
звериная шкура, и сам он полузверь, получеловек.
Философская аллегория раскрывается. Мир земной — тюрьма для чело-
века. Человек страдает, прикованный цепями к своей судьбе. Но почему же
должен страдать человек? В чем его вина? Какое преступление он совер-
шил? Кальдерон ответит нам на этот вопрос: вина человека в том, что он
живет на земле; «грех величайший — бытие», и преступление человека в
том, что он посмел появиться на свет; «тягчайшее из преступлений —
родиться».
Эти мысли в пьесе высказывает принц Сехисмундо, заключенный в
башне. Мы узнали, наконец, тайну происходящего на сцене. Польский
король Басилио получил некогда отчет астролога, касающийся грядущей
судьбы его сына Сехисмундо. Принц вырастет злым и жестоким. Совер-
шить страшные преступления написано ему на роду. Так предвещают звез-
ды. Король, дабы избегнуть предначертаний судьбы, помещает сына в
тюрьму и держит его там долгие годы на попечении верного Клотальдо.
Однако по прошествии многих лет у короля возникли сомнения: правильно
ли он поступил, не лгут ли звезды? И вот решено провести испытание.
Усыпленный принц перенесен во дворец, ему передана вся власть в госу-
дарстве. Как-то поведет он себя?
Сехисмундо проснулся в роскошной спальне короля. Толпы слуг испол-
няют его желания, и даже его суровый тюремщик Клотальдо является,
чтобы смиренно припасть к его ногам. Клотальдо сообщает ему тайну его
рождения. Сехисмундо возмущен: его насильно отторгли от мира, его му-
чили и терзали, из человека сделали полузверя! О, теперь он будет
мстить жестоко!
Знаменателен его разговор с королем, который пришел обнять его:
Меня ты, будучи отцом,
К себе не допускал бездушно,
Ты для меня закрыл свой дом,
И воспитал меня, как зверя,
И, как чудовище, терзал,
И умертвить меня старался...
Все символично в пьесе Кальдерона, и эта речь Сехисмундо полна
глубокой философской символики. В данном случае несчастный и безумный
принц олицетворяет собой тех мятежных грешников, которые обращают
к Богу свой протест. Бог дал людям жизнь, и он же требует от них стра-
даний; он закрыл им доступ в свой дом, то есть на небо, в рай, он терзает
их. Разве Бог не тиран, как тиран в глазах Сехисмундо его отец Басилио?
Дать жизнь и отнять счастье, не значит ли это отнять самое жизнь?
Когда бы ты мне жизни не дал,
Я б о тебе не говорил,
Но раз ты дал, я проклинаю,
Что ты меня ее лишил,—
говорит Сехисмундо своему отцу, как грешники говорят Богу. Дать
жизнь — это великое благодеяние, славный, благороднейший акт; но дать
жизнь и превращать ее в ад, в сплошное страдание — это низость, бес-
181
смысленная жестокость, позорный, гнусный вид тирании. Кальдерон не
сочувствует этому мятежу, он постарается развенчать эту философию про-
теста, но как большой художник он не мог не изложить ее красноречивыми
устами героя. Эта богоборческая философия с самых отдаленных веков
христианства смущала умы людей и внушала немало беспокойств блюсти-
телям религиозной догмы. В XVIII столетии, в момент самого ожесточен-
ного наступления на христианство, Вольтер писал о Боге в философской
поэме «За и против»:
Слеп в милостях своих, слои в ярости своей,
Едва успев создать, он стал губить людей.
Церковь оправдывала жестокость Бога «первородным грехом», но про-
тестующий ум человека не мирился с этим объяснением. Веками среди
богословов длились споры о том, волен или не волен человек в своих
поступках; если волен, то зачем всемогущий Бог позволяет человеку тво-
рить зло; если человек не волен в своих поступках, то как согласовать
понятие о милосердии Бога с мстительным преследованием человека за зло
самим же Богом, совершенное руками человека. Так рассуждали средне-
вековые философы-богословы. В речи Сехисмундо отразились многие из
этих суждений:
О небо! Я узнать хотел бы.
За что ты мучаешь меня?
Какое зло тебе я сделал,
Впервые свет увидев дня?
И действительно, Сехисмундо никакого зла не совершил, но от рождения
был заключен в тюрьму за какие-то преступления, которые лишь должен
совершить по повелению неба.
Кальдерону доступен широкий размах мысли. Не это ли поднимает его
над рядовыми пропагандистами католицизма? Он способен оценить мир,
человека. Кальдерон, католик и фанатик, способен не только оценить, но и
опоэтизировать женскую красоту. Послушайте его Сехисмундо:
Читать мне в книгах приходилось.
Что Бог, когда творил он мир земной,
Внимательней всего над человеком
Свой зоркий взгляд остановил,—
То малый мир: так в женщине он, значит,
Нам небо малое явил.
В ней больше красоты, чем в человеке,
Как в небесах в сравнении с землей.
Предначертание Бога должно свершиться. Сехисмундо, обретя власть,
безумствует. Он бросает в пропасть поспорившего с ним слугу, вступает
в поединок с московским герцогом Астольфо, своим двоюродным братом,
он хочет силой овладеть Росаурой, покушается на жизнь Клотальдо, он
угрожает даже отцу. Басилио пытается смягчить его. Он призывает его к
человеколюбию и покорности. «Ты, гордый, возлюбивший зло... Смирись!»
Снова, снова, как рефрен, звучит в пьесе ее основная тема: «Жизнь
есть сон».
182
«Быть может, ты лишь спишь и грезишь»,— неоднократно повторяют
неистовому и озлобленному юноше. Наконец, отчаявшись исправить сына,
король снова отправляет его в башню, дав ему предварительно снотвор-
ного.
И опять Сехисмундо закован цепями. Все виденное и пережитое ему
кажется сном. Только теперь он постигает тщету жизни. Зачем страсти,
зачем честолюбие, зачем поиски наслаждений, зачем даже само счастье —
ведь все это только сон! «Спит царь, и видит сон о царстве, и грезит вымыс-
лом своим», спит богач, и ему во сне видится богатство; спит бедняк, жа-
луясь на судьбу, кого-то укоряя, не зная, что жизнь жалкая его —
всего лишь сон, «и каждый видит сон о жизни».
Все стремятся к счастью, торопятся, ищут, борются, а жизнь — безумие,
ошибка, и лучший миг в жизни, миг радости, блаженства, счастья есть
всего лишь заблуждение.
Какой же вывод делает Сехисмундо? — Надо отказаться от борьбы, от
протеста и смириться:
...так сдержим же свирепость,
И честолюбье укротим,
И обуздаем наше буйство,—
Ведь мы, быть может, только спим.
Да, только спим...
Теперь Сехисмундо преображается. Ничто уже его больше не тревожит.
Он приобретает душевный покой, и когда восставшие войска освобождают
его, он неохотно идет на бой. Король Басилио вынужден покориться и
пасть на колени перед своим сыном, но Сехисмундо уже не тот, что был
вначале: он мудр, справедлив, гуманен. И все это ему дало познание той
глубокой премудрости, что жизнь есть сон.
Басилио был неправ, отторгнув сына, подвергнув его пытке одиночного
заключения. Он хотел воспротивиться судьбе, но тщетно. Он тоже проявил
ненужную гордыню. Предначертанное должно совершиться, человек бесси-
лен отвратить волю Бога. Так рассуждает поэт-католик.
Он отвечает и на тот вековечный вопрос, который волновал верующих
и сомневающихся людей: почему Бог лишил человека свободы воли? Когда
бы человек обрел полную свободу действий, он в безумной гордыне своей
перестроил бы, перекроил мир в угоду случайным прихотям, он разрушил
бы даже солнце.
Быть может, именно затем-то,
Чтоб этого не мог ты сделать,
Ты терпишь ныне столько зол,—
говорит Кальдерон устами героев своей пьесы. Эти стихи обращены к
человеку, гордому, непокорному человеку, олицетворением которого служит
Сехисмундо, восклицающий:
О, небо!
Как хорошо, что ты лишило
Меня свободы! А не то
Я стал бы дерзким исполином...
183
Образ Сехисмундо — образ-аллегория. В нем мало черт конкретного
человека. В известной степени это несколько видоизмененный образ Сата-
ны, как его создало средневековое мировоззрение, образ падшего ангела.
В начале пьесы — непокорный, буйный мятежник, закованный в цепи
богоборец; в конце — раскаявшийся грешник, смирившийся и прощенный.
Кальдерон — не только поэт-католик. Он вместе с тем — преданный слу-
житель короля. Верность королю — превыше жизни и даже чести. Когда
герою его пьесы Клотальдо предстояло спасти дочь, нарушив приказ главы
государства, он отказался это сделать.
Не предпочтительней ли жизни
И чести — верность королю? —
спрашивает он. Сехисмундо, освобожденный из темницы взбунтовавшимися
солдатами, прощает своего тюремщика Клотальдо, ибо тот исполнял волю
короля, и строго наказывает солдата, освободившего его, ибо он, спасая
его, нарушал приказ своего короля.
Кальдерон не писал теоретических трактатов об искусстве драматур-
гии, но пьесы его построены по строгой системе, избранной им. Они де-
лятся обычно на три части, хорнады, что означает в переводе «дневной
этап». В пьесах обычно присутствует шут. Шут Кларин — единственно
веселый человек во всей пьесе «Жизнь есть сон», но и его остроумие
довольно сумрачно:
Такие сны я видел ночью,
Что в голове землетрясенье:
Рожки, и фокусы, и трубы.
Толпа, процессии, кресты,
Самобичующихся лики;
Одни восходят вверх, другие
Нисходят, падают, увидев,
Что на иных сочится кровь...
Перед нами средневековая Испания с ее мрачным фанатизмом, костра-
ми инквизиции, с крестами, процессиями и самобичующимися кликушами.
Кларин, единственный в пьесе человек, позволяющий себе улыбку и
шутку, становится трагичнейшим существом: его сажают в тюрьму за то,
что он знает много тайн о высокопоставленных лицах, затем он гибнет, слу-
чайно и бесславно. Зачем он жил, зачем пошел сопровождать московскую
принцессу Росауру в далекую Полонию, подвергая себя опасностям,—
так и осталось для зрителя тайной.
Персонажи пьес Кальдерона произносят длинные монологи, и все фи-
лософствуют — и слуги, и принцы, и короли.
Кальдерон любит сравнения, метафоры сильные и смелые. Здесь
сердце — птица, здесь глаза—окна сердца, о котором говорится:
В груди моей крылами бьется,—
И так же, как тюремный узник.
На улице услышав шум,
Хотел бы разломать засовы,
И, чувствуя свое бессилье,
Спешит скорей взглянуть в окошко,—
184
Эль Греко. Апостолы Петр и Павел.
Оно, тревогу услыхав,
Не зная, что там происходит,
Спешит разведать, что случилось,
И заблестевшими глазами
Глядит из окон сердца — глаз.
Этот риторический пафос, эта приподнятая над просторечием образ-
ность создают впечатление силы чувств, перед нами как бы не люди, а
титаны с титаническими страстями.
Пушкин писал: «Кальдерон называет молнии огненными языками
небес, глаголющих земле. Мильтон говорит, что адское пламя давало
токмо различать вечную тьму преисподней.
Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно
передают нам ясную мысль и картины поэтические».
Пушкин справедливо оценил достоинство риторической приподнятости
Кальдерона. Она вызывалась творческими замыслами драматурга, в ней
следует видеть не слабосты а силу испанского поэта. «Если наши чопорные
критики сомневаются, можно ли дозволить нам употребление риторических
фигуров и тропов, о коих они могли бы даже получить некоторое понятие
в предуготовительном курсе своего учения, что же они скажут о поэтичес-
кой дерзости Кальдерона, Шекспира или нашего Державина»,— писал
Пушкин.
Кальдерон, поэт отчаяния, певец трагичнейшей дисгармонии мира,
непримиримых противоречий, любит в речи сопоставлять противоположные
вещи, взаимоисключающие понятия: «От страха я—огонь и лед»; «Я инт-
риган из интриганов, свой человек в чужом»; «Я умираю, чтоб смотреть,
но пусть умру, тебя увидев»; «Коль так расстроен инструмент, что воедино
слить желает обманность слов и правду чувства...» и т. д.
В пьесе «Жизнь есть сон» шут Кларин описывает бегущего вдали коня,
сравнивая тело коня с землей, его дыхание — с воздухом, «пену уст» —
с морскими волнами. Словом, конь, как и земля, подобен хаосу «во всей
различности своей» (и здесь дисгармония, и здесь хаос!), конь — «чудо-
вище огня, земли, морей, ветров».
Язык Кальдерона энергичный, сильный, речь напряженная, страстная, в
ней много «кинжальных» слов, как говорил его переводчик Бальмонт.
ФРАНЦИЯ
Генрих IV постепенно, шаг за шагом, сужал поле политической са-
мостоятельности феодалов и укреплял централизованную в госу-
дарственном масштабе монархическую власть во Франции.
В 1610 году король пал от руки подосланного убийцы на одной из
узких улиц Парижа. Престиж королевской власти, державшейся в значи-
тельной мере на личном авторитете Генриха IV, пошатнулся. Его сыну,
провозглашенному королем под именем Людовика XIII, было только де-
вять лет. Власть попала в руки матери несовершеннолетнего короля,
Марии Медичи, итальянки по происхождению, женщины, лишенной
каких-либо политических дарований. Регентша тотчас же окружила себя
фаворитами-авантюристами (Кончини, Люиньи), столь же бездарными в
политике, как и она сама.
Французские феодалы решили, что настал момент реванша, что можно,
воспользовавшись слабостью королевской власти, вернуть былые привиле-
гии. В 1614 году были созваны Генеральные штаты из представителей
трех сословий Франции—духовенства, дворянства и городской буржуазии.
Но снова, как и в давние времена, начались разногласия. Каждое сословие
тянуло в свою сторону. Дворяне хотели новых привилегий, купцы, наобо-
187
рот, требовали отмены всяких привилегий для дворян и распространения
на дворян обязанности платить налоги.
Вопросы остались нерешенными, штаты разошлись, но и те и другие
поняли, что нужна королевская власть, для дворян — как защита от прос-
толюдинов, для буржуа — как защита от дворян. Так, при всей своей
слабости королевская власть сохранила свои политические позиции.
В 1624 году, когда Людовик XIII смог уже править самостоятельно, на
политическую арену выступил кардинал Ришелье. Долго, методично, опуты-
вая мешавших ему людей сетью интриг, Ришелье пробирался к власти.
И в конце концов он добился своего, став первым министром короля.
Людовик XIII был недалеким человеком. Он хорошо владел шпагой,
любил войну ради спортивного азарта, хорошо пел, рисовал, возился с
птицами и собаками, а на балах был учтивым кавалером. Что касается
государственных дел, то здесь он чувствовал себя, как в дремучем лесу,
и полностью передоверил правление государством своему первому минист-
ру. На Ришелье жаловались королю, против него интриговала сначала
королева-мать Мария Медичи, потом королева-жена Анна Австрийская;
король и сам тяготился своей зависимостью от первого министра, он не раз
готов был сбросить с себя его суровую руку, но лишь только он вспоминал,
что ему придется самостоятельно решать вопросы, думать о финансах и
налогах, о распре сословий, как вся его решимость пропадала. Ришелье
правил единолично и бессменно вплоть до своей смерти (1642). Король
пережил его лишь на полгода.
За восемнадцать лет правления Ришелье было завершено созидание
монархического государства. То, что начал Генрих IV, закончил кардинал
Ришелье. Он не отказался от политики религиозной терпимости, провозгла-
шенной Генрихом IV, гугенотам была предоставлена полная свобода
вероисповедания. Но политические права он у них отобрал. Цитадель гуге-
нотского сопротивления, крепость Лярошель, была взята измором, гугенот-
ские замки срыты. Ришелье не потерпел никакой политической независи-
мости и в стане феодалов. Он приказал им самим уничтожить свои укреп-
ленные замки и бастионы. Когда герцог Монморанси воспротивился этому,
Ришелье приказал его казнить.
Чтобы подчинить единому политическому центру французские провин-
ции, он учредил особую должность интенданта, наделив последнего всеми
судебными, административными и финансовыми полномочиями. Властью
этих строго подчиненных центру государственных чиновников он осущест-
влял общую государственную политику на местах.
Королевская власть приобрела огромную силу. Ришелье регламентиро-
вал и подчинил единому правительственному органу все стороны государ-
ственной, общественной и культурной жизни страны. В 1634 году была
основана Французская Академия, задуманная как учреждение, строго под-
чиненное государству. Ришелье неусыпно следит за всем. Трагедия Корне-
ля «Сид», не понравившаяся ему (Ришелье и сам писал трагедии), была
подвергнута суду Академии.
Ришелье покровительствовал купцам и промышленникам, видя в раз-
витии торговли и внутреннего производства залог экономического процве-
тания страны. Он создал постоянную армию и флот. Его налоговая поли-
тика была настолько жестокой, что вызвала ряд крестьянских восстаний
188
(в 1636—1637 гг. в Сентонже, Ангумуа, Пуату, Гиени, в 1639 г. в Норман-
дии восстание «босоногих»), которые были со всей свирепостью подавлены.
Эта жестокость политики Ришелье была осуждена первым поэтом его
времени Корнелем, который в трагедии «Цинна» прославляет гуманные
формы правления, используя в качестве исторического примера рассказ
древнеримского писателя Сенеки о «милосердии» Августа.
Таков первый этап созидания французской сословной монархии в XVII
столетии.
После смерти Людовика XIII наступила пора, аналогичная той, которая
была в начале его правления. Его сыну Людовику XIV исполнилось всего
лишь пять лет. Королева-мать Анна Австрийская была объявлена регент-
шей. Правление взял в свои руки ее фаворит кардинал Мазарини.
Снова поднялась беспокойная знать. Последняя вспышка антипра-
вительственной оппозиции дворян получила в истории название Фронды
(так именовалась запрещенная в городе детская игра). Словечко было
как-то иронически применено к оппозиционной знати и вошло в обиход.
В течение четырех лет (1648—1652) феодальная клика, использовав недо-
вольство бедноты, вела войну против правительства. Были моменты рево-
люционного выступления городских низов (день баррикад 26 августа
1648 г.). Но в конце концов народ отошел от Фронды.
В 1661 году умер Мазарини. Двадцатитрехлетний Людовик XIV заявил,
что хочет править самостоятельно («Я буду сам своим первым минист-
ром»), и более полувека (до 1715 г.) находился у правительственного
руля.
Правление Людовика XIV следует условно разделить на два периода.
Первый период характеризуется новым, после смут Фронды, усилением
королевской власти. Король опирается на талантливых политических деяте-
лей, провозглашает политику меркантилизма (поощрения торговли и на-
циональной промышленности). Второй период известен как период упадка
монархии Людовика XIV. Король ведет ряд неудачных войн (третья война
с Голландией, 1687—1697, война за «Испанское наследство», 1701 —1714).
Король отказывается от политики религиозной терпимости и отменяет в
1685 году Нантский эдикт, изданный еще Генрихом IV и дававший гугено-
там свободу вероисповедания. Толпы гугенотов — купцов, ремесленников —
покидают страну, нанеся тем самым огромный ущерб хозяйственной
жизни.
Конец XVII века печален для Франции. Страшное перенапряжение
истощило силы народа. Крестьянство живет в ужасающей нищете.
Лабрюйер так рисует облик французского крестьянина своего времени:
«Перед вами какой-то особый вид диких животных мужского и женского
пола, распространенных в сельских местностях,— черных, с синевато-свин-
цовым цветом лица, голых, с телом, обожженным солнцем. Они прикованы
к земле. Они копаются в ней с непреодолимым упорством. Кажется,
что существа эти обладают речью, и, когда они распрямляются, видишь,
что у них человеческие лица. И действительно, это люди. Ночью они
удаляются в свои берлоги, где питаются черным хлебом и кореньями.
Они освобождают других людей от труда возделывания земли, от
необходимости сеять и собирать урожай, чтобы жить, и они заслужили пра-
во не иметь недостатка в хлебе, который сами же добывают!»
189
Расин, деликатный и мягкий человек, пытался раскрыть королю глаза
на положение вещей, подав ему «Записку о народной нищете», но вызвал
лишь гнев своевольного монарха. Король был дряхл. Вместе с ним одряхлел
и тот абсолютистский политический строй, который в начале века еще был
необходим Франции. Теперь абсолютизм уже ничего не мог дать истори-
ческому прогрессу и превратился в неповоротливую колымагу, загоражи-
вающую дорогу новым силам.
Справедливо писал французский историк прошлого столетия Гизо:
«Постарел не один Людовик XIV; не он один ослабел к концу своего царст-
вования; постарела, ослабела вся абсолютная власть».
КЛАССИЦИЗМ
Свой слог на важный лад настроя,
Бывало пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.
А. С. Пушкин
Так писали в старину. Люди не хотели видеть порок не наказанным.
Даже трагичнейший Шекспир, показывая чудовищные преступления,
ничего не смягчая, говоря о них свободно, а иногда даже позволяя
виновникам зла оправдываться перед зрителем, за что неумные люди
назвали его аморальным,— даже он всегда заносил над ними меч возмез-
190
дия. А литература, названная классицистической, ставила себе за непре-
менное правило показывать добродетель торжествующей, а порок наказан-
ным. В том видели писатели-классицисты (Корнель, Расин, Мольер) свою
воспитательную миссию. Пушкин иронически относился к этому, ибо реаль-
ность не всегда опекала правду и справедливость. Он верно подметил
склонность писателей изображать своих героев «как совершенства обра-
зец», всегда «несправедливо гонимыми» и всегда в конце концов торжест-
вующими. Особенно склонны были к этому писатели-«прециозники» (Мад-
лена Скюдери, Онорэ Дюрфе).
Законодателем классицизма стал француз Никола Буало, создавший
своеобразный свод правил, обязательных для поэта, в стихотворном трак-
тате «Поэтическое искусство».
Классицисты старались вывести какие-то общие законы драматургии,
исходя из своих наблюдений над греческой драмой. Они решили, что высо-
кая трагедия и комедия должны обязательно соблюдать три единства —
времени, места и действия, ибо так было в античной драме.
Буало был суровым судьей, строгим критиком «рифмачей». Перед ним
трепетали, его язвительной оценки боялись. Что же касается настоящих
талантов, то к ним критик относился бережно. Мольера он ставил выше
всех поэтов Франции XVII столетия, с Расином всю жизнь дружил, к сове-
там Буало прислушивались мастера классицистического направления.
Буало так определил понятие красоты в искусстве: красота есть правда
(«Нет ничего прекрасней правды»). Призыв к правдоподобию был в его
дни чрезвычайно полезен для искусства. Писатели постоянно думали о
том, чтобы изображаемое ими не противоречило принципу правдоподобия.
Нет ни одного предисловия Расина к его трагедиям, где бы не ставился
вопрос о том, правдоподобна ли та или иная драматическая коллизия,
правдоподобен ли тот или иной характер. Принцип правдоподобия вносил
в искусство дух трезвости.
Буало призывал писателей к «подражанию природе». «Природа прав-
дива»,— заключал он.
Классицизм как теория искусства — явление, бесспорно, надуманное,
плод отвлеченных умствований ученых, и несет на себе печать средневе-
кового догматического мышления (понятие об абсолютности вкуса, нормы и
правила для искусства). Однако ориентация классицистической теории
на античность влекла художников к изучению и использованию опыта
античных мастеров, а это было для той поры необходимо. Принцип прав-
дивого отображения действительности, заимствованный классицистами у
Аристотеля, был плодотворен, как бы узко и схоластически они его ни
понимали.
Классицисты сузили рамки реалистического видения мира, они подчи-
нили изображаемый мир заранее взятой теоретической тенденции, застави-
ли отбирать жизненный материал и организовывать его по строго установ-
ленным принципам.
Художественный образ в творениях Шекспира был широк и многогра-
нен; образ же, создаваемый писателем-классицистом, по логике их теории,
представал какой-то одной своей стороной. Следует, однако, оговориться,
что великие мастера-классицисты сумели и здесь достигнуть вершин ис-
кусства, многогранно изображая господствующую черту характера чело-
Критикуя теорию классицизма, нельзя не видеть в ней и определенных
здоровых черт, а также ее исторической необходимости для Франции
времен расцвета абсолютизма.
ПЬЕР КОРНЕЛЬ
В первый раз, когда я его увидел, я принял его за
руанского купца. Его внешность нисколько не говорила о
его уме, и речь его была настолько тяжела, что
утомляла даже за короткий срок.
А. Гарди]
История французской литературы знает двух Корнелей — Пьера и его
брата Тома. Последний хоть и написал много драматургических
произведений, но как писатель ни в какое сравнение со своим братом
не идет. Это не мешало братьям быть в большой дружбе. Они жили в одном
доме, были женаты на двух сестрах, имели одинаковое число детей и друж-
но работали. По рассказам, когда Пьеру недоставало рифмы, он поднимал-
ся по лестнице, спрашивал брата, и тот немедленно находил ее.
Известный французский писатель Лабрюйер так отзывался о Корнеле:
«Простой, робкий, скучный в беседе, он... не уступает Августу, Помпею,
Никомеду, Гераклу; он — король, и король великий, он политик, философ,
он заставляет героев говорить, заставляет героев действовать, он рисует
римлян, и они более велики, более римляне в его стихах, чем в истории»
(гл. XII, «Суждения»).
Насколько велико было уважение французов к своему прославленному
драматургу, свидетельствует один эпизод из театральной жизни тех дней.
Однажды Корнель пришел в театр, где не появлялся уже несколько лет.
Увидев его, актеры прервали игру, зрители, присутствующие в зале, встали,
1 Александр Гарди (1569—1632) был основным поставщиком пьес для Бургундского отеля
(название театра) в течение первых тридцати лет XVII века.
192
среди них известный полководец Конде и принц Конти. Партер приветство-
вал Корнеля бурной овацией и громкими кликами. Ложи были вынуждены
последовать его примеру.
Корнель создал «Сида» — трагедию, открывшую собой славную историю
французского национального театра, составившую поистине национальную
гордость французов. Слава пьесы была необыкновенна. Францию облетело
крылатое изречение: «Прекрасно, как Сид». В кабинете Корнеля вскоре со-
ставилась целая библиотека из печатных экземпляров трагедии в переводах
на немецкий, английский, итальянский и другие языки. Даже испанцы
перевели ее на свой язык, хотя Корнель в значительной мере использовал
в качестве источника пьесы испанского драматурга Гильена де Кастро о
юности и подвигах Сида.
В дальнейшем Корнель создает новые пьесы, но ничего лучшего сравни-
тельно с «Сидом», «Горацием», «Цинной» он не дал французскому театру.
Поэт шутил потом, говоря, что поэзия уходит от него вместе с его зубами.
Корнель брал наиболее острые, драматические моменты из историчес-
кого прошлого, столкновения различных политических и религиозных сис-
тем, судьбы людей в моменты крупных исторических сдвигов и переворотов.
Главенствующими проблемами, волновавшими поэта, были проблемы поли-
тические. Он более чем кто-либо из драматургов XVII века был поэтом
политическим. В его творческом наследии наиболее ярко и многосторонне
обрисована римская история, дававшая ему обильный материал для поли-
тических размышлений. Вольтер называл драматурга «древним римляни-
ном среди французов».
Трагедии построены часто по типу политических диспутов.
Основные персонажи — всегда короли или выдающиеся героические лич-
ности: Он не писал о простых людях, полагая, что сильные, выдающиеся
личности или лица, облеченные властью,— следовательно, свободные, неза-
висимые в проявлении своих чувств,— лучше, полнее выражают наиболее
общие человеческие черты.
Основной драматургический конфликт трагедий Корнеля — это конфликт
рассудка и чувства, воли и влечения, долга и страсти. Победа всегда
остается за волей, рассудком, долгом.
«Сид» Корнеля до сих пор в постоянном репертуаре французских театров.
Совсем недавно блистательным исполнителем роли Родриго был Жерар Фи-
лип. Мы знаем его по фильмам «Фанфан-Тюльпан», «Красное и черное» и др.
Молодой, обаятельный актер, сочетавший героическую приподнятость с ро-
мантической меланхолией. Умирая, а он рано ушел из жизни, Жерар Филип
просил похоронить его в малиновом плаще Сида.
\1Н
«сид»
У французов трагедия — это обычно ряд разговоров на
протяжении пяти актов, связанных любовной интригой.
Вольтер
Так было у Корнеля, так было и у его последователей. Однако «Кор-
нель создал школу величия души»,— сказал тот же Вольтер.
Создатель «Сида» поистине велик, и не только прелестью стиха,
мужественного, сдержанного, открывшего пораженным французам необык-
новенную выразительность и благозвучие их языка, но главным образом
поэзией высоких человеческих чувств. Герои Корнеля выше обыкновен-
ного человеческого роста. Они величавы, недаром Пушкин восклицал:
«Корнеля гений величавый...»
История испанского героя не случайно привлекла к себе французского
драматурга. Образ Сида, каким его создала народная молва, давал широ-
кий простор для дарований поэта. Посвящая свою трагедию герцогине
Эгийонской, племяннице сурового Ришелье, Корнель писал ей: «Этот живой
портрет, который представляю вам, воспроизводит героя, достойного лав-
ров, его венчавших. Его жизнь была сплошной галереей побед, его тело,
пронесенное перед армией, одержало победу после его смерти; его имя по
прошествии вот уже шестисот лет с торжеством приходит во Францию».
Из многочисленных историй, связанных с именем Сида, Корнель взял
лишь одну — историю его женитьбы. Он до предела упростил схему сюжета,
свел число действующих лиц до минимума, вынес за пределы сцены все
события, так или иначе влияющие на ход мыслей его героев, и оставил на
сцене лишь их чувства.
* * *
Акт первый. На сцене Химена, дочь богатого севильского аристократа
дона Гомеса графа Гормаса. С ней Эльвира, ее наперсница. Речь идет о
двух молодых людях, влюбленных в Химену: это Родриго Диас и дон Сан-
чо. Оба знатны, молоды и храбры, но к Родриго влечется сердце прекрасной
Химены, да и отец ее, как сообщает ей Эльвира, склоняется больше на его
сторону.
Родриго — сын благородного дона Диего и, несомненно, будет таким же
194
храбрым, как и его отец, рассуждает дон Гомес. Корнель тонко ввел эту
деталь: вчера отцы влюбленных были друзьями, сегодня станут противни-
ками. Эльвира мимоходом сообщает, что король решил избрать наставника
для своего сына и что граф Гормас, имея в виду свои заслуги перед госу-
дарством, надеется получить этот пост. Химена оставляет без внимания
последнее сообщение Эльвиры, мысль ее занята юным Родриго: все так
хорошо складывается — не предвещает ли это грядущую бурю? Случай так
резко подчас меняет ход событий, не обернулось бы большое счастье боль-
шой бедой.
Такова первая сцена. Она завязала все последующие нити сюжета:
зритель узнал о любви Родриго и Химены, о желании короля взять к сыну
наставника, а это сыграет трагическую роль в истории любви молодых
людей, и, наконец, предчувствия, высказанные Хименой, готовят зрителя к
близкой трагедии. Химена и Эльвира уходят. На сцене появляются инфан-
та, дочь короля, ее наперсница Леонора и паж.
Дочь короля с волнением наблюдает, как растет привязанность молодых
людей, и радуется и страдает.
Что заставило инфанту так близко принять к сердцу любовь Сида и
Химены? Она любит сама, любит безнадежно, мучительно, и кого же?
Юного Сида, за которого не может выйти замуж, ибо он простой дворянин,
она же — дочь короля. Но как бы ни упрекала себя инфанта, как бы ни
боролась с собой, чары любви влекут ее с силой непреоборимой. Полагая,
что только надежда питает ее любовь, она сама стремится окончательно
убить эту надежду. Женитьба Родриго может навсегда проложить непрохо-
димую пропасть между ним и ею, и влюбленная дочь короля, нося в сердце
мучительную тайну, готовит ненавистный ей брак любимого человека с дру-
гой— той, с которой он равен по общественному положению. И чем ближе
к исполнению замыслы инфанты, тем печальнее ее лицо, тем сумрачней у
нее на сердце. Облик инфанты, отодвинутый в пьесе на второй план, стоя-
щей как бы в тени событий, волнует, трогает зрителя и, хотел того автор
или нет, внушает грустные мысли о пустоте и суетности тех сословных
предрассудков, которыми люди опутали свои отношения друг с другом.
О Боже всемогущий,
Не дай торжествовать тоске, меня гнетущей,
И огради мой мир, честь огради мою!
Чтоб стать счастливою, я счастье отдаю,—
тоскует и мечется инфанта, видя в любви своей нечто порочное.
Но то, что так долго и упорно готовила инфанта, должно рухнуть,
любовь Химены и Сида должна претерпеть тяжкое и трагическое испыта-
ние. Король избрал в качестве наставника своего сына дона Диего, отца
Сида. Граф Гормас, отец Химены, оскорблен: его обошли. На сцене разыг-
рывается грубая ссора двух феодалов, яркий эпизод из истории феодальных
распрей, смут и анархии.
Ссора между двумя кичливыми феодалами заканчивается пощечиной,
которую дал граф Гормас отцу Родриго. Дон Диего схватился было за
шпагу, но она выпала из его дряхлых рук, выбитая более молодыми руками
Гормаса.
195
Неизвестный художник. Всадник.
Корнель, чтобы психологически оправдать месть Родриго за обесчещен-
ного отца, показал явную несправедливость Гормаса: дон Диего пытался
всячески умиротворить графа, просил у него руки его дочери для своего
сына, отметил его достоинства, но расходившийся граф ничего не хотел
слушать, вызвал в конце концов дона Диего на резкость и ответил на нее
пощечиной.
Итак, ссора отцов преграждает молодым людям путь к счастью.
Мы не вправе жить, когда погибла честь.
Корнель
Дон Диего знает, как дорога сыну Химена, как тяжела поэтому его
миссия мстителя, но тем достойнее будет его выступление в защиту
оскорбленного и обесчещенного отца. Родриго не колеблется, даже
мысль о том, что можно оставить оскорбление без отмщения, была бы бес-
честием. Но юноша страдает, он знает, что теряет навсегда возлюбленную.
Корнель вводит в трагедию лирический элемент. Родриго наедине с со-
бой декламирует печальные и звучные стансы. Отец и возлюбленная, лю-
бовь и честь оказались в неразрешимом противоречии, взаимно исключая
друг друга. Одно решение вело его к утрате счастья, другое — к позору.
Изящным, поистине галантным диспутом начинается поединок между
Родриго и Гормасом. Противники, прежде чем скрестить шпаги, произносят
изящные тирады, лестные друг для друга. Корнель тонко подчеркивал в
этом галантном споре противников психологическую сторону: Родриго не
может ненавидеть отца своей возлюбленной, Гормас не может не питать
чувств симпатии к юноше, который любит его дочь. Поэтому столь различен
спор между доном Диего и Гормасом в первом акте и между Гормасом и
Родриго во втором. Там Гормас груб, невоздержан от обуявшей его спеси и
зависти, здесь он скорее печален от мысли, что навсегда разбивает мечту
своей дочери.
Поединок совершается за пределами сцены. О событиях лишь расска-
зывается и показываются их последствия, так или иначе отражающиеся на
судьбах людей.
За два первых акта влюбленные еще ни разу не встретились на глазах
у зрителя. В третьем акте они встречаются, но при каких обстоятельствах!
Гормас убит. Химена уже обратилась к королю, ища защиты и возмездия,
на коленях моля казнить человека, убившего ее отца. «Кровь за кровь!» —
восклицает она в исступлении.
Химена требует смерти Родриго, но разве она ее хочет? Нет! Она обма-
нывает себя. Вот молодой дворянин дон Санчо, влюбленный в нее, пред-
лагает свои услуги: «Располагайте моей шпагой, чтоб наказать виновного!
197
Располагайте моей любовью! Ваше приказание — и рука моя не дрогнет!»
Что же отвечает Химена? С ее уст срывается одно лишь слово, брошенное в
трагической рассеянности: «Несчастная!» У нее спрашивают позволения и
даже приказания убить самого дорогого ей человека!
Химена говорит с Эльвирой, своей наперсницей, и ей поверяет свои
тайные чувства. «Я требую его головы, но содрогаюсь от мысли, что могу
получить ее!» — «Так вы его еще любите?» — спрашивает Эльвира. «Люб-
лю? Это слишком мало, Эльвира,— я его обожаю». «Его преследовать, его
погубить — и умереть» — вот решение Химены.
Родриго сам идет в дом своей возлюбленной. «Зачем, куда пришел ты,
несчастный?» — останавливает его Эльвира. «К моему судье, и мой судья —
любовь»,— отвечает юноша.
Современники Корнеля упрекали его за нарушение здесь единства
места. Зачем привел он своего героя в дом Химены? Разве не могли моло-
дые люди встретиться во дворце короля? Так рассуждали строгие блюстите-
ли классицистических норм, и даже Вольтер порицал здесь драматурга.
Но тонкий поэтический такт, проявленный Корнелем, не может быть оспо-
рен. Произойди случайная встреча влюбленных во дворце, что говорил бы
там Родриго? Что он любит, что он несчастен... Но разве слова его имели
бы там такую силу, как здесь, в доме Химены? Не убегать, не скрываться
от преследований, а прийти самому к человеку, которому принес он столько
горя, прийти как к судье, молча дать ему в руки орудие казни. Это дейст-
вительно сильно, и Корнель, нарушая классицистические правила, шел за
велением своего поэтического инстинкта, который оказался куда вернее
ученых догм.
Встреча влюбленных полна смятения. Нельзя говорить здесь о драмати-
ческом диалоге, это скорее великолепный дуэт, сочетающий поэтическую
лирику чувств с восхитительной мелодией стиха. В XVII веке трагедия
во многом напоминала оперу. Стихи читались нараспев, зрители подчас
знали их наизусть и любили их, как ныне знают и любят отдельные опер-
ные арии. Случилось однажды актеру Барону изменить стихи Корнеля
в трагедии «Никомед» (актер хотел их несколько подправить), зрители
партера тотчас же прервали его и хором проскандировали подлинный кор-
нелевский текст. Партер в XVII веке заполнялся обычно зрителями с биле-
тами стоимостью в два су, иначе говоря — простым людом.
Итак, два молодых существа, прекрасных и благородных, страдают.
Трагическая вина легла на благородное чело Родриго. Вина не его, это хо-
рошо понимают и Химена и зритель, но он, Родриго,— невольный носитель
этой вины и должен как-то ее искупить, чтобы стать достойным счастья.
Зритель желает всей душой счастья полюбившемуся ему герою, однако и
его, зрителя, покоробило бы, если бы Химена позабыла смерть отца и при-
няла ласку от погубивших его рук. Должно произойти что-то большое,
грандиозное, величественное, что оправдало бы решение Химены. Что же
может быть большее для патриота-драматурга и патриота-зрителя, чем из-
бавление родины и народа от какой-либо большой беды?
198
* * *
Во главе народного ополчения отправился Родриго навстречу вторгшим-
ся врагам. И вот уже народная молва трубит о его подвигах. Мавры раз-
биты, два короля взяты в плен, и это сделал смелый Сид. Эльвира спешит
обо всем рассказать Химене. «Кто сказал тебе все это?» — спрашивает де-
вушка у наперсницы. «Народ!» — отвечает та.
Родриго пылко и красочно рассказывает о битве. Не только дерзостную
отвагу проявили его войска, но и тонкую военную хитрость. Враг отбивался
упорно, но мог ли он сдержать яростную атаку тех, кто защищал свой
родной дом! Родриго славит безымянных героев. «О, сколько героических
актов, сколько славных подвигов остались безвестными во мраке ночи,
когда каждый был сам своим единственным свидетелем!» — восклицает он.
И самым смелым был Родриго. Это утверждают мавры, давшие юному
воину имя Сид.
Здесь пленные цари тебя назвали Сидом;
И так как в их стране Сид — значит господин,
Именоваться так достоин ты один.
Будь Сидом; этот звук да рушит все преграды,
Да будет он грозой Толедо и Гранады,—
торжественно произносит король.
Но когда Родриго — на вершине славы, когда он стал необходим госу-
дарству и народу, к королю снова является Химена и просит возмездия
за своего отца.
Корнель великолепно обрисовал эту мятущуюся сильную душу со
всей ее несобранностью и терзающими противоречиями, ставшими следстви-
ем трагического конфликта чувства и долга.
И в то же время, когда на переднем плане разыгрывается эта волную-
щая драма двух влюбленных сердец, на втором плане, подобно далекой
мелодии, вливающейся в общую симфонию, одиноко следует за ними тос-
кующая и безнадежная любовь инфанты.
* * *
Корнель пережил свою славу. Слабеет поэтическое обаяние образов,
гаснут творческие силы. Корнель не слышит уже новых голосов времени, не
видит происшедших во Франции перемен. Пришло уже иное поколение,
оно стало жить иными идеалами.
На смену приходит новый талант — Жан Расин. Корнель еще не хочет
сдаваться, он не верит, что французский зритель предпочтет «слащавых»
героев Расина его (Корнеля) мужественным героям.
Он перестал писать с 1674 года, а через десять лет, в ночь с 30 сентября
на 1 октября 1684 года скончался в возрасте семидесяти восьми лет.
ЖАН РАСИН
Писатели (во Франции класс бедный и насмешливый,
дерзкий) были призваны ко двору и задарены пенсиями,
как и дворяне... Вскоре словесность сосредоточилась
около двора. Все писатели получили свою должность.
Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями,
историограф Буало воспевал его победы и назначал ему
писателей, достойных его внимания, камердинер
Мольер при дворе смеялся над придворными... Отселе
вежливая, тонкая словесность, блестящая,
аристократическая — немного жеманная...
А. С. Пушкин
Расин родился 21 декабря 1639 года в Ферте-Милоне в семье про-
винциального судейского чиновника. Дворянство рода Расинов было
недавнее, «дворянство мантии», которое, на взгляд родовитой знати
Франции той поры, не было «настоящим» дворянством и причислялось ско-
рее к третьему сословию.
Рано потеряв родителей, Расин остался на попечении своей бабки,
которая поместила его в коллеж города Бове, а затем в школу Гранжа в
Пор-Рояле. Учителями его стали янсенисты, члены одной из религиозных
сект, оппозиционной по отношению к господствующей католической
церкви.
Благочестивые и преданные своим религиозным убеждениям монахи-
янсенисты (они были гонимы, и это не оставляло сомнений в их искрен-
ности) своим воспитанием оставили глубокий след в сознании Расина. Он
навсегда остался мечтательно-религиозным, несколько склонным к меланхо-
лии и мистической экзальтации человеком.
Расин рано полюбил поэзию. Софокла и Еврипида он знал почти на-
изусть. Греческий роман «Теаген и Хариклея», роман о нежной романтиче-
ской любви, который он прочитал случайно, его очаровал. Монахи, боясь
200
«вредного влияния» книги о любви, отобрали у него роман и сожгли. Он
нашел второй экземпляр. Отобрали и этот. Тогда Расин, разыскав новый
экземпляр книги, заучил ее наизусть, боясь, что ее снова отберут у него
и уничтожат.
В октябре 1658 года Расин прибыл в Париж, чтобы продолжить свое
образование в колледже Гаркур. Философия, или, вернее, упражнения в
формальной логике, ибо к изучению последней сводился тогда курс фило-
софских наук, мало увлекала молодого поэта.
В 1660 году Париж торжественно отпраздновал свадьбу юного короля
Людовика XIV. По этому случаю поэт написал оду, которую озаглавил
«Нимфа Сены». Как и все начинающие, он отправился за одобрением к
официально признанным поэтам. Знаменитый в те дни и безвозвратно за-
бытый впоследствии Шаплен отнесся благосклонно к дарованию молодого
поэта, рассказал о нем влиятельному тогда министру Людовика XIV Коль-
беру, и тот пожаловал ему сто луидоров от короля, а вскоре назначил ему
и пенсию как литератору. Так получил официальное признание поэт Расин.
«Двадцатидвухлетний король, невежественный, гордый, упрямый, при-
нял бразды правления над королевством, ставшим, наконец, всемогущим
в итоге векового труда великих работников Франции. Людовик XIV любил
женщин и власть; потом он полюбил сады, сооружения, поездки в карете
по лагерям. Вступив в брак, он стал развлекаться сам и развлекать знать
балетами и каруселями, его двор, изысканный и пышный, становился
образцом для драматургов»,— описывает те годы Анатоль Франс в своем
великолепном очерке, посвященном Расину.
Образы Теагена и Хариклеи, так восхитившие когда-то Расина, не
давали ему покоя. Он написал пьесу на полюбившийся ему сюжет, показал
пьесу Мольеру, который был тогда директором театра Пале-Рояль. Пьеса
начинающего драматурга была слаба, но чуткий Мольер заметил в ней
искру подлинного дарования, и Расин стал работать по советам великого
комедиографа.
В 1667 году была поставлена «Андромаха». Нечто новое открылось
французскому театру. Это была иная трагедия, отличная от тех, какие
создавал Корнель. Французский зритель находил до сих пор на театраль-
ных подмостках героев волевых и сильных, способных побеждать; теперь
он увидел людей с их слабостями и недостатками, и зритель был очарован.
В 1670 году Корнель и Расин, вступив в состязание, написали две тра-
гедии на один и тот же сюжет: Корнель — трагедию «Агесилай», Расин —
«Беренику». Пьеса Расина имела большой успех у современников. Вольтер,
однако, считал ее самой слабой в драматургическом наследии поэта. «Но
сколько прекрасных деталей! — восклицал он.— Какое невыразимое очаро-
вание царит почти всегда в его стихах.
Простим Корнелю, что он не знал никогда ни этой чистоты, ни этого
изящества. Но как могло случиться, что никто после Расина не смог под-
няться до его восхитительного стиля?»
Два года спустя Расин дал театру пьесу совсем необычную — трагедию
о современниках (правда, это были турки),— пьесу о нравах турецкого
двора, «Баязет». Рассказывают, что Корнель, присутствовавший в театре
во время представления, шепнул своему соседу: «Одежда турков, но харак-
теры французов». Это почиталось большим недостатком.
201
Никола Пуссен. Танкред и Арминия. На сюжет поэмы Торквато Тассо
«Освобожденный Иерусалим».
В 1673 году появляется новая пьеса Расина «Митридат», написанная в
духе Корнеля. Как отнеслись к этой пьесе современники, свидетельствует
письмо одной корреспондентки г-жи де Севинье: «Митридат» — пьеса оча-
ровательная. Плачешь, постоянно восхищаешься, смотришь ее тридцать
раз, и в тридцатый раз она кажется еще прекрасней, чем в первый».
Расин был принят в число членов Академии, в число сорока официально
признанных выдающихся деятелей культуры нации. Это была большая
честь. Даже Мольер не был избран академиком: этому помешало презирае-
мое ремесло актера, от которого драматург никак не хотел отказаться.
Традиционную вступительную речь Расин произнес робея, так тихо и не-
внятно, что Кольбер, пришедший на заседание, чтобы послушать его,
ничего не разобрал. Больше на заседания Академии Расин не являлся;
только позднее, когда умер Корнель, Расин произнес в Академии блестя-
щую, взволнованную речь в честь почившего поэта.
«Ифигения в Авлиде», которую драматург закончил в 1674 году, принес-
ла ему новый успех. Вольтер считал эту пьесу лучшей. «О трагедия траге-
дий! Очарование всех времен и всех стран! Горе дикарю, который не чув-
ствует твоих великих достоинств!» — восклицал он в дни, когда ему нужно
было противопоставить французскую трагедию театру Шекспира, победо-
носно шествующему во Францию во второй половине XVIII века.
В 1691 году Расин написал последнюю свою трагедию «Аталия».
202
Как-то однажды он говорил с г-жой де Ментенон о тяжелой жизни на-
рода. Г-жа де Ментенон просила его изложить поподробней его мысли
в виде памятной записки. Расин принялся за работу с усердием, искренне
печалясь о страданиях народных и надеясь хоть чем-нибудь облегчить
его беды. Записка эта, составленная обстоятельно, попалась на глаза ко-
ролю, тот перелистал ее и остался чрезвычайно недоволен. «Если он пи-
шет хорошие стихи, не думает ли он еще стать и министром?» — заявил
Людовик XIV.
Расин был напуган немилостью короля. Однажды, гуляя в версальском
парке, он встретил г-жу де Ментенон. «Это я виновница вашего не-
счастья,— сказала та,— но я верну вам расположение короля, ждите
терпеливо».— «Нет, этого никогда не будет,— ответил ей Расин,— меня
преследует рок. У меня есть тетка (монахиня, которая считала театр сата-
нинским местом и потому осуждала своего племянника-драматурга.—
С. А.). Она день и ночь молит Бога о ниспослании мне всяческих несча-
стий, она сильнее вас». Послышался стук кареты. «Спрячьтесь, это ко-
роль!»— вскричала г-жа де Ментенон. Несчастный поэт вынужден был
скрыться в кустах.
Таково было время, когда один недовольный взгляд монарха повергал
людей впечатлительных и робких, каким был Расин, в тяжкий недуг. Расин
заболел и 21 апреля 1699 года скончался. Он умер с глубокой верой в
христианского Бога, какую ему в юности внушили благочестивые настав-
ники, с глубоким раскаянием в том, что позволил себе стать драматиче-
ским поэтом, нарушив заветы Пор-Рояля. Он писал в своем завещании:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Прошу, чтобы тело мое после моей
кончины было перенесено в Пор-Рояль де Шам и погребено на кладбище
у подножия могилы Рамона. Я покорнейше молю о том мать игуменью и
монахинь, да окажут они мне эту честь, хоть признаю, что и не заслужил
ее и своей прошлой скандальной жизнью (Расин имеет в виду свою поэти-
ческую деятельность.— С. Л.), и тем, что так мало воспользовался вели-
колепным воспитанием, полученным в этом доме...»
* * *
«Жан Расин жил в то время, когда французский гений достиг всей
своей полноты, а язык, окончательно сложившийся, еще сохранял всю све-
жесть золотого века. Он учился у поэтов античности, наслаждался ими
и до конца соблюдал ту эллинскую и латинскую традицию, исполненную
красоты и разума, которая создала формы поэзии—оды, эпопеи, трагедии
и комедии. Нежность, чувствительность, его пылкость, любознательность,
даже его слабости — все располагало его познать страсти, являющиеся
сутью трагедии, и дать выражение ужасу и состраданию». Так писал о
Расине один из лучших писателей Франции конца XIX — начала XX столе-
тия Анатоль Франс.
Расин творил в лучшую пору французского классицизма, и он сам являл
собой вершину поэтических сил Франции XVII столетия. Высшие автори-
теты, судьи, истинные ценители прекрасного для Расина—древние. К ним
он обращается за советом, за поддержкой и одобрением: «Мы должны
203
постоянно спрашивать себя: что сказали бы Гомер и Вергилий, если бы они
прочли эти стихи? Что сказал бы Софокл, если бы увидел представленной
эту сцену?»
Классицисты полагали, что трагедия не должна изображать современ-
ников. Это требование классицистической эстетики свято соблюдалось.
Современники могли быть представлены в комедии, но это могли быть
только люди третьего сословия и, пожалуй, комические типы мелких
дворян, не выше маркизов. Иначе говоря, в серьезном драматургическом
жанре не могли быть показаны непосредственно думы, чувства, страдания и
надежды современников, не могли быть подняты на высоту большого
эстетического обаяния. Современники не могли быть представлены как
героические личности.
«АНДРОМАХА»
Люблю! Какое слово!
Ей льстит моя любовь, и все ж она сурова.
Ни братьев, ни друзей, одна поддержка — я!
Астианакса жизнь зависит от меня.
Чужая... Нет, не то,— рабыня здесь, в Эпире,
Я сына ей дарю, свою любовь, все в мире,—
Но, что ни делаю, в награду мне одно
Ее гонителя лишь звание дано.
Пирре трагедии «Андромаха»
Сюжет «Андромахи» заимствован у античных авторов. Расин внес
некоторые изменения, но не в них существо дела.
Древнегреческий миф о Гекторе и Андромахе, прославленных
Гомером, Еврипидом и многими другими античными авторами, привлекал
к себе не раз внимание художников последующих поколений человечества.
Французы приспособили поэтическую легенду о юном сыне Гектора и
Андромахи Астианаксе к своей национальной истории, подобно тому как
это сделали древние римляне с именем троянца Энея.
Юноша Астианакс не погиб, как повествуют о том античные авторы;
он был чудесно спасен и основал французскую монархию, став праро-
дителем французских королей. Так гласили древние французские хроники.
Знаменитый французский поэт XVI столетия Пьер Ронсар воспевал Астиа-
204
накса в поэме «Франсиада». Словом, сюжет, основанный на легенде об
Андромахе, льстил национальному самосознанию французов времен Раси-
на. О чем же рассказывает в своей трагедии Расин?
Троя разрушена. За одну ночь погиб славный город, под обломками
его или в славной сече сложили головы его защитники. Женщин и детей по
жребию, как военную добычу, разобрали победители. Андромаха и ее
сын Астианакс достались Пирру, могучему царю Эпира.
Пирр, бесстрашный воин, жестокий и непреклонный на поле боя,
суровый правитель, познал (может быть, впервые в жизни) неугасимую
страсть любви. Прекрасная пленница с печальными глазами, с истерзан-
ным сердцем, пережившим столько бед, смутила его покой, сломала его не-
преклонную волю, разрушила ту железную цельность характера, которая
необходима воину и государственному мужу. Андромаха не любит, не мо-
жет полюбить Пирра. Он сын Ахиллеса, а тот убил ее мужа. Он виновник
ее несчастий, несчастий ее народа.
О, вспомни, вспомни ночь, что длилась бесконечно,
Став для моей страны последней ночью, вечной!
Забыла ль ты, как Пирр, сверкающ и суров,
Вошел в сиянии пылающих дворцов,
Сквозь груды мертвецов шагая всех спокойней,
До самых пят в крови и призывая к бойне?
Крик победителей и побежденных крик!
Кто гибнет в пламени, кто под мечом поник,
Вокруг меня лишь смерть да зовы боевые,—
Таким передо мной явился Пирр впервые.
Вот подвигом каким он увенчал себя! —
говорит Андромаха своей наперснице Сефизе. Она не может не питать
ненависти к Пирру. А тот беснуется, терзает ее. Он то грозит, то умоляет,
то гордо требует подчинения, то, завидев слезы на глазах обожаемой
женщины, готов жалеть ее и плакать вместе с ней:
И все же, что ни день, пытается он вновь
То ужас ей внушить, то возбудить любовь,
То смертью сына ей грозит и сердце гложет,
То, слезы увидав, любви сдержать не может.
Уже несколько лет живет при его дворе Гермиона, дочь Менелая и
прекрасной Елены. Она прибыла сюда как невеста Пирра. Она любит
своего неверного жениха, страдает и ждет. И уязвленное самолюбие, и
отвергнутая любовь, и равнодушное снисхождение к ней, которое постоян-
но проявляет Пирр, терзают ее гордое сердце. Столь длительная отсрочка
свадьбы беспокоит и Менелая, ее отца, а мальчик Астианакс, живущий хо-
тя под неусыпной стражей, но мужающий день ото дня, внушает тревогу
всей Греции. Кто знает, что таит в себе этот отпрыск Гектора? Кто знает,
какие беды сулит грядущее? Не лучше ли разом пресечь опасность, убив
Астианакса? Из Греции в Эпир прибыл в качестве высокого посла сын
Агамемнона Орест и с ним его друг Пилад. Орест должен потребовать
у Пирра мальчика, чтобы увезти его и передать в руки палачей.
205
Пирр отказывается выдать мальчика. Пусть вся Греция ополчится про-
тив него, он не отдаст никому сына Андромахи.
Забота Греции мне кажется забавной.
Ужель других забот нет у страны столь славной?..
Ужели не смешно, что целая страна
Желаньем погубить дитя заражена? —
иронизирует Пирр и благородно отвергает настояния Ореста. «Мне жаль
дитя, и я, Элладе вопреки, в крови невинного не омочу руки!» — заявля-
ет он.
Ореста меньше всего волнует судьба Астианакса, и не ради него он
прибыл сюда. Все думы Ореста—о Гермионе. Ее он любил когда-то, с ней
мечтал соединить свою судьбу, ее любит он и сейчас, сильно и горестно.
Сейчас он хочет увезти ее тайно из Эпира, под видом мальчика Астианакса.
Как бы он услужил этим Пирру! От скольких бы забот и тягот избавил
его! И невдомек это простодушному Оресту.
Гермиона готова уже покинуть Эпир. Пусть лишь Пирр даст формаль-
ное разрешение на отъезд. Девушка обманывает себя: никакого разреше-
ния на отъезд она не хочет, и если Пирр разрешит ей уехать, она найдет
предлог, чтобы остаться, ибо не может уже жить вдали от того, кто терзает
ее своим равнодушием и кого она еще мучительнее от этого любит.
Окрыленный надеждой Орест спешит к Пирру. Но странная перемена
произошла в душе эпирского царя. Он уже готов отдать Астианакса и за-
являет Гермионе, что решил жениться на ней. Гермиона счастлива. Забыты
все невзгоды, все жалобы, проклятья. Простодушный Орест не может по-
нять, чем вызваны перемены, лишившие его счастья, он не знает того, что
Пирр говорил с Андромахой, что рассказал ей о причинах его посольства,
сказал ей, что готов защищать ее сына до конца, и за это требовал ее
любви, и снова непреклонная Андромаха предпочла смерть браку с нена-
вистным ей человеком. Потому так и переменился оскорбленный ее отка-
зом, мятущийся Пирр.
Но ни счастливая теперь Гермиона, ни восторженно влюбленный в нее
и теперь несчастный Орест не знают, как легко обуздать неукротимого
Пирра одним лишь взглядом, одним лишь словом прекрасной пленницы.
Вот он бушует в своей злобе и ненависти к Андромахе:
Супруга Гектора —она, я—сын Ахилла,
И океан вражды нас разделяет двух.
Он клянет ее, жалеет, что не все ей сказал, недостаточно убедил ее в
своей ненависти к ней, и хочет вернуться, чтобы еще и еще бросать ей
в лицо горькие слова. Зачем? Затем, что любит ее, любит неукротимо и не
знает, что и в гневе и в ненависти его — все та же любовь.
Ты думаешь, что я простить ее могу?
Что я ее ищу? Что я за ней бегу? —
спрашивает Пирр своего старого наставника Феникса, обманывая себя, пы-
таясь обмануть и мудрого старца, лучше его знавшего человеческую жизнь
и человеческое сердце.
«Вы любите ее!» — отвечает Феникс. И Пирр не спорит. Его разгадали,
206
и он не в силах притворяться. Он горюет и жалуется. Речь его прерывиста,
бессвязна, полна большого человеческого горя.
Андромаха не может не понять Пирра. Как бы ни был он виновен пе-
ред ней, перед ее народом, перед ее родиной, он ее любит, любит искренне
и страдает — это хорошо знает Андромаха. Ее верность погибшему Гектору,
ее понятия о чести, о патриотическом долге не позволяют ей принять его
любовь. Она готова умереть, но не стать женой Пирра. Однако она не
может не признать достоинств Пирра:
Горяч, но искренен,—таким его узнала,—
Он больше сделает, чем посулит сначала.
И Андромаха решилась на коварную хитрость. Чтобы спасти сына, она об-
венчается с Пирром и тем обяжет его заботиться об Астианаксе, сама же,
не вступив на брачное ложе, покончит с собой и так сохранит верность
покойному супругу.
Стоило ей сказать Пирру о своем согласии, и он уже у ее ног. Не ведая
тайных замыслов Андромахи, он клянется ей в вечной преданности и
обещает защищать ее сына даже от всего света.
Расин столкнул Пирра с Гермионой. Перед зрителем они еще ни разу
не стояли рядом. Как-то поведет он себя перед лицом столько раз обма-
нутой им невесты теперь, когда после обещанного венца он предложит ей
удалиться из Эпира?
Пирр не оправдывается, не пытается уйти от ответственности. Он вино-
ват. Он обманул ее, он изменил ей, сам того не желая. «Страсть сильнее
меня, и Андромаха разом украла у меня влечение и разум»,— говорит
Пирр.
Гермиона не хочет понять его. Любовь и ревность ослепляют ее. Речь ее
злобна. Мало думая о ней, Пирр отнюдь не предполагал, что девушка
могла его любить. Он видел в их взаимном обязательстве лишь политиче-
ский союз, в котором чувства не могли играть большой роли. Поэтому,
когда девушка называет его изменником, он спокойно отвечает: «Чтоб быть
изменником, ведь надо быть любимым!» Пораженный, он узнает, что
любим.
По сути дела, на этом завершается сценический конфликт между
Пирром и Андромахой. Она согласилась выйти за него замуж, он, сле-
довательно, удовлетворен, поводов для дальнейшей борьбы нет, а раз нет
борьбы, нет и сценического действия. Зрителя еще может интересовать,
как выполнит свой замысел Андромаха, как подействует ее самоубийство
на Пирра, но это уже финал.
Однако в трагедии действуют еще два героя, Орест и Гермиона. Какова
их судьба? В трагедии, как учил Расин своих собратьев по перу, «совме-
стно действуют многие лица, и действие отнюдь не окончено, если неизвест-
но, в каком положении оно оставляет этих лиц».
И теперь, когда сценический конфликт между Пирром и Андромахой
исчерпал себя, на первое место выступает конфликт между Пирром и
Гермионой. Финал будет совсем не такой, каким его себе представляла
Андромаха, совсем не такой, каким он грезился счастливому Пирру. На
его счастье свое вето наложит оскорбленная Гермиона. Лишь только она
поняла, что все кончено, что любимый человек для нее недосягаем, как
207
страшное решение сложилось в ее голове. Пирр должен умереть! Гермиона
зовет к себе Ореста. Она бушует и клянет неверного Пирра. Орудием
мщения должен быть Орест.
Влюбленный юноша готов исполнить приказ Гермионы. Он говорит,
что во главе войск подвергнет осаде Эпир и в мужественном сражении
погубит оскорбителя своей возлюбленной. Но он не так понял Гермиону.
Мстить нужно сейчас, не медля ни минуты, напасть на безоружного Пирра
в храме, в момент его торжества, и не одному, а с несколькими помощни-
ками, чтобы вернее достичь цели. Это смущает честного Ореста: это похоже
на убийство:
Я отомщу ему, но отомщу не так,—
Не как убийца, нет, но как заклятый враг.
В бою погибнет он, а не убитый сзади.
Могу ль я голову его привезть Элладе?
Мне поручение моей страной дано,
А я — я совершу убийство здесь одно?
Гермиона не хочет входить в соображения чести, порядочности, нрав-
ственных понятий Ореста, ей все равно, лишь бы Пирр был убит. Она
издевается над Орестом, называет его трусом, обещает ему свою любовь,
если он исполнит ее желание, идет на хитрость, пугая юношу тем, что если
Пирр останется жив, она не перестанет его любить:
Пока он жив, его всегда смогу простить я,
И ненависть моя рассеется, как дым.
Иль он умрет сейчас, иль будет мной любим.
И простодушный Орест верит ей, идет на все, забыв законы чести.
Он так любит ее, так верит в свое счастье и так мало знает людей, так мало
знает свою Гермиону!
Вам в жертву принесу всех ваших я врагов,
А ваших милостей — покорно ждать готов.
И Гермиона сама не знает, что будет с ней; она верит, что порадуется
гибели Пирра, что, удовлетворенная местью, станет женой Ореста. «В вас
не обману я веры»,— говорит она ему.
Пятое действие открывается монологом Гермионы. Скоро должен
погибнуть Пирр. Вот-вот рука мстителя настигнет его, и он падет окровав-
ленный и бездыханный. Пирр! Ее Пирр! Человек, которого она так любит,
ради которого столько претерпела сердечных мук! Что ж, он заслужил
смерть. Он не проявил никакой жалости, никакого участия к ее горю, ни-
какой чуткости к ней, к ее любви. Он смеялся над ней. Так пусть умрет! Кто
умрет? Пирр? И она будет его убийцей, убийцей самого дорогого ей чело-
века? Она, Гермиона, мысленно отдавшая ему все: и себя и весь мир?
Нет, никогда! Проникновенно рисует нравственную борьбу Гермионы тон-
кий психолог Расин. Он раскрывает напряженную внутреннюю борьбу, ко-
торая происходит в сознании девушки. Здесь тоже конфликт, и конфликт
большого сценического звучания.
Те, кто осуждал впоследствии классицистический театр за пристрастие
к монологам, к продолжительным речам героев, забывали подчас о том,
208
что в этих монологах содержалось само сценическое действие. Герой
исповедовался перед зрителем, вернее, оставался перед зрителем наедине
с собой, и зритель оказывался свидетелем той большой жизни, которая
всегда скрыта от посторонних глаз, жизни человеческой души, и если эта
жизнь показана правдиво, а в этом мы не можем отказать Расину, то вряд
ли зритель мог оставаться безучастным к ней.
Все произошло так, как требовала Гермиона. В храме, во время венча-
ния, Пирр был убит. Об этом приходит сообщить ей Орест. Он воодушев-
лен. Он думает, что обрадует ее, ведь она так желала мести. Но страшной
гримасой ненависти и презрения встречает его Гермиона. Орест потрясен:
ведь он исполнял ее приказ, она требовала, настаивала, торопила его. «Чу-
довище, ты мне противен!» — заявляет она с ожесточением и с чисто жен-
ской логикой объясняет ему:
Велела я, но ты, ты мог не дать согласья!
Могла просить, молить и требовать сто раз я,—
Ты ж должен был о том меня спросить опять,
И вновь ко мне прийти, верней — меня бежать.
Бедный юноша! Он был игрушкой в руках влюбленной и несчастной
девушки, она же в свою очередь — жертва своих страстей. Гермиона,
в горе о погибшем Пирре, наложила на себя руки. Орест потерял рассудок.
Таков финал. Какое страшное опустошение вносят в человеческую
жизнь страсти! И человек не в силах побороть их в себе. В жертву страсти
приносятся принципы чести (Орест), государственные интересы (Пирр) и
жизнь человеческая.
Мы помним, что герои Корнеля побеждали страсти. Они страдали,
но были сильнее страстей; побеждала воля, разум человека, человек под-
нимался над собой. Так было у Корнеля, последнего могикана героической
поры феодализма. Средневековый Роланд и корнелевский Сид в известной
мере одно и то же лицо: для того и другого моральные принципы, идея дол-
га превыше чувств. Не то у Расина. Расин был моложе Корнеля на три де-
сятилетия, но эти три десятилетия больше разделяли двух поэтов (поэтов-
современников), чем четыре столетия Корнеля и безвестного автора «Песни
о Роланде».
Какой-то перелом произошел во французском обществе. Корнель по-
терял связь со своим зрителем, он не мог понять, в чем дело. Говорили,
что Корнель утратил талант, и потихоньку смеялись над ним и жалели
его, уважая в нем кумира своих отцов. И Корнель, смущенный, обеску-
раженный, вступал в состязание с молодым соперником, старался под-
делаться под вкусы зрителя, совершал творческие ошибки и мучился,
видя их. А причина заключалась в том, что, как было уже сказано, наступи-
ла иная пора в жизни Франции; Корнель остался со своим поколением, ему
был чужд новый зритель, утративший интерес к государственным, полити-
ческим проблемам.
Корнель — певец силы человеческой, Расин — слабости. Посмотрите
с этой точки зрения на трагедию Расина «Андромаха». Есть ли в ней
хоть один сильный человек? Пирр, гордый и мужественный воин, забыл
все ради женщины и готов сражаться со всей Грецией, своей родиной,
сражаться за женщину, которая его не любит. Понимает ли он, что пове-
209
Боттичелли. «Величие
Марии». Деталь. 1483 г.
дение его недостойно? Понимает, но чувство для него дороже всех сужде-
ний холодного ума. Орест предает интересы своей родины ради Гермионы.
Идея патриотизма ему чужда. Он нарушает законы общечеловеческой
морали: убивает беззащитного, невооруженного человека и сам понимает
преступность своего поступка; но он любит, и чувство для него всего дороже.
Гермиона ничего не знает, кроме любви. Она обрекает Пирра на смерть
только за то, что он не отвечает на ее чувство. Она нисколько не заду-
мывается над вопросом о том, имеет ли она право на любовь Пирра. Она
любит, и этого довольно. Пирр обязан ее любить только потому, что
она любит его. Гермиона делает орудием своей мести простодушного
Ореста, пользуясь его слепой любовью к ней, и нисколько не задумы-
вается над тем, какое надругательство совершает над его доверчивой
преданностью ей. Любовь ее деспотична и эгоистична. Но и Гермиона —
жертва своих страстей, жалкая соломинка в бушующем море чувств.
Наконец, Андромаха. Она сильнее всех. Она предана родине, погиб-
шему мужу, сыну. Она отбивает все атаки Пирра. Ее не страшат ни
пытки, ни смерть. Но и она в конце концов сдается. Ее поражение не в
том, что она дает согласие на брак, чтобы спасти сына и умереть, не
210
став супругой своего господина; ее поражение в том, что она простила
Пирра, оценила его любовь, увидела в нем достоинства, и логика ведет
к тому, что она могла и должна была бы полюбить его.
Все действующие лица в трагедии Расина не герои в прямом зна-
чении этого слова, не героические личности; они—люди, «средние лю-
ди», как понимал их сам автор. Зритель любит их, сочувствует их горю,
прощает им, ибо они сами не ведают, что творят.
Лабрюйер, один из лучших писателей Франции второй половины
XVII века, обладавший тонким пониманием художественного своеобра-
зия поэтов, указал на те черты, которые отличают двух драматургов его
родины. «Корнель нас подчиняет своим характерам, своим идеям. Расин
смешивает их с нашими. Тот рисует людей такими, какими они должны
быть, этот — такими, какие они есть. Корнель поучителен. Расин челове-
чен: кажется, что один подражал Софоклу, второй более обязан Еври-
пиду».
ПРЕЦИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Пусть это неправдоподобно, но это красиво.
М. Горький
Нельзя не упомянуть здесь о так называемой прециозной литературе.
Слово «прециозный» происходит от французского эпитета «precieu-
se» — драгоценный.
Прециозность пришла во Францию из Испании, Италии и Англии.
Испанский поэт Гонгора, итальянский поэт Марино, английский Джон
Лилли—вот основатели западноевропейской прециозности. Изысканный
лексикон, перифразы, метафоры, утонченная цветистость речи стали модны
в литературе.
211
Марино был приглашен во Францию маршалом Кончини ко двору Ма-
рии Медичи, жены Генриха IV и матери Людовика XIII. Он с пренебреже-
нием третировал грубоватую французскую поэзию, насмехаясь над старым
Малербом, поэтом «столь сухим». Двор покровительствовал итальянскому
поэту. К нему потянулись молодые поэтические силы страны. Знаменитый
салон Рамбулье первоначально был непосредственно связан с итальянскими
и испанскими прециозниками.
Отец маркизы Рамбулье Жан де Вивон был другом испанца Антонио
Переса и через него знал Гонгору. Увлечение гонгоризмом и маринизмом
стало семейной традицией. Мать маркизы Рамбулье, Джулия Савели,
итальянка по происхождению, стала основательницей литературного круж-
ка. Марино посвящал цветистые мадригалы ее дочери — Катерине де Ви-
вон, будущей маркизе де Рамбулье. Престарелый Малерб поддался общей
моде и начал также воспевать прелести «несравненной Артенис» (ана-
грамма имени Катерина). Дочь маркизы Юлия продолжила в третьем поко-
лении дело, начатое ее бабкой.
Особняк на улице св. Фомы близ королевского дворца Лувра, в кото-
ром жила маркиза Рамбулье, соперничал с двором. Здесь собирались гор-
дые аристократы-оппозиционеры — Конде, Конти, герцог Ларошфуко,
Бюсси, Граммон и др. Здесь не только предавались усладам поэтических
грез в соответствии с утонченными вкусами прециозников, но и жизнь свою
старались подчинить правилам прециозной морали.
Юлия Рамбулье до тридцати восьми лет не выходила замуж, держа на
расстоянии своего воздыхателя Монтозье, который в течение тринадцати
лет с неизменным постоянством ждал ее руки. Однажды он преподнес
ей альбом, украшенный цветами, нарисованными кистью знаменитого ху-
дожника Робера. Девятнадцать знаменитых поэтов тогдашней Франции
внесли в него свои сонеты, под каждым цветком аллегорически воспевая
прелести Юлии.
Салон маркизы Рамбулье был не только центром прециозности, он был
одним из центров политической оппозиции. Вожди Фронды были там по-
четными гостями. Политические интриганки — герцогиня Монпасье, герцо-
гиня де Лонгвиль и другие — задавали тон прециозности.
Что требовали они от искусства? Максимального удаления от низмен-
ной действительности и в выборе сюжетов, и в системе поэтических обра-
зов, и в языке. Ничто не должно напоминать грязную, низкую, «просто-
народную» правду жизни. От Средневековья они взяли аллегорическую ус-
ловность. От времен раннего феодализма, милых их сердцу времен, они
взяли рыцарский роман и лирику с их культом дамы, изящной куртуаз-
ностью, а также изящную, далекую от политических треволнений пасто-
раль. Аристократическая утонченность вкусов нарочито антидемократична,
противопоставлена грубому вкусу буржуа — «мужланов», ставших союз-
никами королевской власти, сторонниками абсолютизма. Политическая
окраска прециозности совершенно очевидна.
В 1610 году был напечатан роман Оноре Дюрфе «Астрея», полный исто-
рической экзотики. Действие происходит в Галлии в IV веке. Здесь дей-
ствуют рыцари и нимфы, идеальные пастухи и пастушки, друиды и вестал-
ки. Здесь царит галантная любовь. Герой романа Селадон, идеальный
влюбленный, становится кумиром прециозников.
212
Прециозный роман «Великий Кир» Мадлены Скюдери был переведен
на английский, немецкий, итальянский и арабский языки. Его издатель
разбогател.
Мадлена Скюдери составила «Карту страны нежности с подробным ее
описанием», включив ее в роман «Клелия», опубликованный ею в 1654 году.
Здесь деревушка Любезные услуги, которая находится на пути из Зарож-
дающейся дружбы в Нежную признательность. Нужно пройти через Сти-
хотворные приятства, чтобы попасть в городок Нежное уважение. Путь к
нему — Дорога дружбы — продолжителен. Тот, кто заблудится, окажется у
озера Равнодушия. Здесь протекает река Сердечная склонность, впадаю-
щая в Опасное море, а за ним Неведомые страны и т. д.
Насколько модны были подобные карты, можно судить по тому, что в
том же 1654 году некий аббат д'Обиньяк составил «Карту страны Кокет-
ства».
Приведу несколько строк из романа Мадлены Скюдери «Артамен, или
Великий Кир»: «Вообразите себе саму красоту, если хотите иметь представ-
ление об этой замечательной личности: не думайте, что она похожа на Ве-
неру, как ее рисуют нам художники, для этого Венера недостаточно скром-
на, она не похожа на деву Палладу, ибо та слишком заносчива, ни на
Юнону, которая в сравнении с ней недостаточно очаровательна, ни на
Диану, эта немножко дика. Чтобы представить себе Клеомиру, отберите все
лучшее, что есть у всех этих богинь, и тогда, может быть, вы составите
себе слабое представление о ее красоте. Клеомира высока ростом и хорошо
сложена, все черты ее лица превосходны, тонкость красок ее лица не
поддается описанию, величие всего ее облика достойно восхищения, из
глаз ее исходит, я не знаю, какой-то особый свет, который внушает уваже-
ние в душах всех тех, кто на нее смотрит».
Надо полагать, автор очень хотела бы походить на свою героиню
(злая молва гласит, что она была нехороша собой), но она представила
векам тип идеальной женщины, как мыслили ее себе аристократические
круги XVII столетия. Тогда в литературе искали идеальных героев и в жиз-
ни подражали им.
Людям хочется сказки, и если ее нет в жизни, они выдумывают ее, и
чем труднее жизнь, тем больше хочется этой сказки. Не удивительно, что
весь читающий мир тогда вознесся в тот идеальный рай, который создала
талантливая романистка.
Увы, мир прециозного писателя — мир призрачный, эфемерный. Влече-
ние к нему проявилось еще во времена рыцарского романа. Сервантес,
как мы знаем, осмеял его. Пародируя идеализированные портреты героев
и героинь рыцарских романов, он вкладывает в уста Дон Кихота высоко-
парную хвалу красоте Дульцинеи Тобосской: «Ее волосы, что золотое пле-
тение, ее лоб — поле Элизиума, брови — радуга, глаза — солнце, ее щеки —
розы, губы — кораллы, зубы — жемчуг, шея из алебастра, грудь из мрамо-
ра, ее руки выточены из слоновой кости, белизна ее тела подобна снегу,
а то, что стыдливо укрывается... о, оно ни с чем не сравнимо».
Николас Хиллиард. «Юноша среди роз». Такими идиллическими картинами тешили свое
воображение писатели и поэты прециозного стиля.
ПИСАТЕЛИ-АФОРИСТЫ
ЛАРОШФУКО
Во Франции XVII столетия появилось несколько писателей-афори-
стов. Мы называем так тех писателей, которые не создавали ни рома-
нов, ни повестей, ни новелл, но лишь краткие, предельно сжатые про-
заические миниатюры или записывали свои мысли — плод жизненных наблю-
дений и раздумий.
Афоризм как литературный жанр не нашел еще ни своего историка ни
своего истолкователя. Между тем этот жанр прочно утвердился в литерату-
ре. Ларошфуко, Лабрюйер, Вовенарг, Шамфор — блестящие мастера
афоризма—создали классические образцы этого жанра. Истоки его следу-
ет искать в «Характерах» древнегреческого писателя Теофраста. Однако и
предшествующая названным писателям французская литература уже со-
здала особые художественные приемы, на основе которых родился жанр
афоризма как жанр литературный («Опыты» Монтеня). Жанр афоризма
требует огромного мастерства. Мысль его глубока и безгранична, форма
сжата до предела. Слово здесь ценится на вес золота, слово, как саморо-
док, редко и дорого. Здесь нет ничего лишнего. Лаконичность— одно из
главных достоинств афоризма.
Блестящим мастером афоризма был Ларошфуко. Аристократ, участник
Фронды, бурно проведший молодость, он на склоне лет обратился к лите-
ратуре и создал книгу «Размышления, или Моральные изречения и макси-
мы» (1665).
Ларошфуко рисует черты человека «вообще», он создает некую универ-
сальную психологию человечества, одинаково пригодную для всех времен и
народов. Этот метод абстрагирования связывает его с классицистами.
Он не верит ни в правду, ни в добро. Даже в актах гуманности и бла-
городства он склонен усмотреть скрытое недоброжелательство к людям
эффектную позу, искусную маску, прикрывающую корысть и себялюбие1!
Вот несколько примеров. Некий человек пожалел своего недруга. Как
это благородно! — скажем мы. Ларошфуко скептически улыбнется и заявит:
Напр., «Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui». («У нас
всегда достанет силы перенести страдания другого». Как видим, наблюдение злое, но, увы, час-
то справедливое.)
215
«Здесь больше гордости, чем доброты». Разве не приятно унизить своего
врага состраданием к нему? Пожилой человек хочет помочь юноше своим
жизненным опытом. Ларошфуко с горьким сарказмом бросит сардониче-
скую фразу: «Старые безумцы куда хуже молодых!», или «Старость —
тиран, который запрещает под страхом смерти все радости молодости».
Влюбленные хранят друг другу трогательную верность. Мы любуемся их
постоянством. Ларошфуко постарается рассеять наши иллюзии: «Долго
держатся за первого любовника тогда, когда не могут найти другого».
О женщинах строгих нравов он иронически отзовется: «Большинство
порядочных женщин подобны скрытым сокровищам, которые только потому
в безопасности, что их не ищут».
Есть святые слезы, слезы сострадания, печали, слезы разлуки, слезы
счастливой встречи. Для Ларошфуко нет ничего святого. И здесь он видит
следы лжи и тщеславия. «Есть слезы, которые часто обманывают и нас
самих, после того как обманули других»; «Нет ничего несноснее, чем
умный дурак»,— заявляет он. «Нет ничего более редкого, чем истинная доб-
рота; то, что называют добротой, обычно бывает лишь попустительством или
слабостью». Правит миром корыстный интерес человека, его гордость, тще-
славие, себялюбие.
Эти мизантропические наблюдения, изложенные с блеском большого
стилиста, взволновали Францию. Увы, в них часто мы узнаем себя.
Нельзя здесь обойти имя другого мастера афористической прозы —
Блэза Паскаля. Гениальный ученый, математик, физик, изобретатель, он был
к тому же одним из лучших стилистов Франции XVII века. Взгляд его на
Человека был более благосклонен, нежели у Ларошфуко. Диапазон его мыс-
лей шире. Его привлекают бесчисленные загадки мира, антиномии наших
представлений. «Трудно поверить, что Бог есть, трудно поверить, что Бога
нет, что у нас есть душа,— что ее у нас нет, что мир сотворен, что мир неруко-
творен». Паскаль задумывается над некоторыми проблемами истории, о
роли случайностей в мировых процессах. «Нос Клеопатры, будь он чуть по-
короче— облик земли стал бы иным». В самом деле, как бы сложились со-
бытия в Древнем Риме, если бы Юлий Цезарь, а потом и Антоний не полю-
били прекрасную царицу Египта?
Не раз возвращается Паскаль к теме Человека: «Человек всего лишь
тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий».
ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР
Пока дощатый гроб и горсть земли печальной
Не скрыли навсегда Мольера прах опальный.
Его комедии, что все сегодня чтут,
С презреньем отвергал тупой и чванный шут.
Надев роскошные придворные одежды,
На представленье шли тупицы и невежды,
И пьеса новая, где каждый стих блистал,
Была обречена их кликой на провал.
Иного зрелища хотелось, бы вельможе,
Графиня в ужасе бежала вон из ложи,
Маркиз, узнав ханже суровый приговор,
Готов был автора отправить на костер,
И не жалел виконт проклятий самых черных
За то, что осмеять поэт посмел придворных.
Н. Б у ало
Такой печальный некролог написал младший современник поэта
Никола Буало. Все соответствует истине, но вряд ли Мольер был
все-таки несчастлив. Он исполнил мечту своей жизни, стал актером,
а к этому стремился с детства, он оставил миру 29 комедий, и если не все
они сразу попадали на сцену, то в том был повинен дерзкий для тех времен
их политический характер («Дон Жуан», «Тартюф»), и все-таки они попа-
дали на театральные подмостки и при жизни автора. Король Людовик
XIV к нему был благосклонен и даже иногда крестил его детей, что для сына
ремесленника было большой честью. Придворные ворчали, но терпели его
едкие насмешки («Смешные жеманницы», «Мещанин во дворянстве»).
217
* * *
Жан-Батист Мольер (Поклен) родился в Париже 15 января 1622 года.
Его отец, буржуа, придворный обойщик, нисколько не помышлял о том,
чтобы дать сыну большое образование, и к четырнадцати годам будущий
драматург едва лишь научился читать и писать. Родители добились того,
чтобы их придворная должность перешла к сыну, но мальчик обнаружил
незаурядные способности и упорное желание учиться, ремесло отца не
влекло его. По настоянию деда Поклен-отец с большой неохотой определил
сына в иезуитский коллеж. Здесь в течение пяти лет Мольер с успехом
изучает курс наук. Ему посчастливилось иметь в качестве одного из учите-
лей знаменитого философа Гассенди, который познакомил его с учением
Эпикура. Рассказывают, что Мольер перевел на французский язык поэму
Лукреция «О природе вещей» (перевод этот не сохранился, и нет доказа-
тельств достоверности этой легенды).
Еще с детства Мольер был увлечен театром. Театр был его самой завет-
ной мечтой. По окончании Клермонского коллежа, выполнив все обязан-
ности по формальному завершению образования и получив диплом юриста
в Орлеане, Мольер поспешил образовать из нескольких друзей и единомыш-
ленников труппу актеров и открыть в Париже «Блистательный театр».
О самостоятельном драматургическом творчестве Мольер еще не думал.
Он хотел быть актером, и актером трагического амплуа, тогда же он себе
взял и псевдоним — Мольер. Это имя кто-то из актеров уже носил до него.
То была ранняя пора в истории французского театра. В Париже лишь не-
давно появилась постоянная труппа актеров.
Начинания Мольера и его товарищей, их молодой энтузиазм не увенча-
лись успехом. Театр пришлось закрыть. Мольер вступил в труппу бродячих
комедиантов, разъезжавшую с 1646 года по городам Франции.
Талант драматурга открылся в нем неожиданно. Он никогда не мечтал
о самостоятельном литературном творчестве и взялся за перо, понуждае-
мый бедностью репертуара своей труппы. Вначале он лишь переделывал
итальянские фарсы, приспосабливая их к французским условиям, потом стал
все более отдаляться от итальянских образцов, смелее вводить в них ори-
гинальный элемент и, наконец, совсем отбросил их ради самостоятельного
творчества.
Так родился лучший комедиограф Франции. Ему было немногим более
тридцати лет. «Ранее этого возраста трудно чего-либо достичь в драмати-
ческом жанре, который требует знания и мира, и сердца человеческого»,—
писал Вольтер. В 1658 году Мольер снова в Париже; это уже опытный
актер, драматург. За четырнадцать лет своей творческой жизни в Париже
Мольер создал все то, что вошло в его богатое литературное наследие.
Дарование его развернулось во всем блеске.
Умер он внезапно, на пятьдесят втором году жизни. Однажды во
время представления своей пьесы «Мнимый больной», в которой тяжело
больной драматург играл главную роль, он почувствовал себя плохо и через
несколько часов после спектакля скончался (17 февраля 1673 г.). Архиепис-
коп Парижский запретил предавать земле по христианским обрядам тело
«комедианта» и «непокаявшегося грешника» (Мольера не успели соборовать,
как того требует церковный устав). Около дома скончавшегося драматурга
218
собралась толпа фанатиков, пытаясь помешать погребению. Вдова драматур-
га выбросила в окно деньги, чтобы избавиться от оскорбительного вмеша-
тельства возбужденной толпы. Мольер был похоронен ночью на кладбище
Сен-Жозеф.
* * *
В предисловии к комедии «Тартюф» Мольер, отстаивая право драма-
турга, в частности комедиографа, на вмешательство в общественную жизнь,
право на изображение пороков во имя воспитательных целей, писал: «Театр
обладает великой исправительной силой»; «Лучшие образцы серьезной мо-
рали обычно менее могущественны, чем сатира... Мы наносим порокам
тяжелый удар, выставляя их на всеобщее посмеяние».
Комедия «не что иное, как остроумная поэма, обличающая человеческие
недостатки занимательными поучениями».
Итак, по мнению Мольера, две задачи стоят перед комедией. Первая
и главная задача — поучать людей, вторая и второстепенная — развлекать
их. Если лишить комедию назидательного элемента, она превратится в пус-
тое зубоскальство; если отнять у нее развлекательные функции, она пере-
станет быть комедией, и нравоучительные цели также не будут достигнуты.
Словом, «обязанность комедии состоит в том, чтобы исправлять людей, за-
бавляя их».
Комедия «Смешные жеманницы», первая оригинальная пьеса Мольера,
поставленная в Париже (18 ноября 1659 г.). Успех ее был необычаен и
объяснялся скорее не ее достоинствами, хотя мастерство драматурга про-
явилось в ней уже достаточно ярко, а тем ажиотажем скандала, который
возник в связи с этой пьесой в среде французской знати. Мольер позволил
себе осмеять салон маркизы Рамбулье, центр фрондирующей знати. Не-
слыханная дерзость новоявленного драматурга и к тому же актера (а что
могло быть позорнее ремесла актера, по понятиям тех времен?) возмутила
знать, и пьеса была запрещена, правда, всего на две недели.
Временное запрещение комедии еще более возбудило любопытство
публики. Дерзость автора была и в том, что он осмелился не только осмеять
фрондирующую знать, но и сделал это умно и талантливо. Последнего ему
уж никак не могли простить законодательницы мод.
Однако двор отнесся к пьесе благосклонно и не без интереса (как не по-
смеяться над политическими оппозиционерами!). Умирающий кардинал Ма-
зарини пожелал видеть комедию у себя во дворце. На представлении ин-
когнито присутствовал и король, юный Людовик XIV.
Осторожный Мольер не хотел возбуждать против себя ненависть опас-
ных дам и потому всячески отделял своих жеманниц от «истинных пре-
циозниц». Однако каждому в Париже был ясен намек драматурга, и в каж-
дой реплике мольеровских барышень узнавали что-нибудь из лексикона
прописных истин прециозниц.
«СМЕШНЫЕ ЖЕМАННИЦЫ»
Като и Мадлон, две мещаночки, начитавшиеся прециозных романов,
приехав в Париж, мечтают о славе госпожи де Рамбулье. Имя этой
знатной дамы не называется в пьесе, но зрители-современники пони-
мают, о ком идет речь. Девушки дают себе имена, модные в прециозных рома-
нах: Аминта и Поликсена. Девицы возмущены тем, что женихи, явившиеся
к ним с предложением, никогда не видели «карты нежности». Такую карту,
как мы помним, составила Мадлена Скюдери. «...Есть у нас близкая прия-
тельница, которая обещает привести к нам всех господ из «Собрания избран-
ных сочинений»,— говорит Мадлон. (В 1653—1662 годах несколько раз пере-
издавалось многотомное собрание избранных стихов прециозных поэтов Бен-
серада, Жоржа Скюдери, Буаробера и других посетителей салона маркизы
де Рамбулье.)
Мольер издевается над жеманницами, которые бредят «идеальностью»
и презирают «грубую материю». «Ах, Боже мой, милочка! Как у отца твоего
форма погружена в материю!» — говорит Като своей подруге.
Прециозники любят играть абстрактными понятиями. Цветистые пери-
фразы, которыми они обильно уснащают свою речь,— не что иное, как за-
мена конкретных вещей абстрактными умопостроениями. Под стать девуш-
кам-жеманницам и лакеи — Маскариль и Жодле, переодетые маркизами.
В их одежде, в манерах, в речи метко обрисованы черты щеголей XVII сто-
летия, посетителей прециозных салонов как Парижа, так и провинций
(в провинции тоже были свои салоны прециозниц, и Мольер достаточно на-
смотрелся на них, скитаясь со своей труппой по стране).
В речи мольеровских жеманниц и переодетых лакеев «любезность по-
вышает щедрость похвал», «пышность перьев» отдается «на милость жес-
токости дождливой поры», кресла — «удобства собеседования». Вместо
слова «скучать» дается пышное иносказание, а именно: «страдать от
ужасающей бескормицы в развлечениях»; вместо просторечного слова
«понюхать» — «приковать внимание обоняния» и т. д.
Вот как обращается жеманница Като к своему собеседнику: «Умоляю
вас, сударь, не будьте безжалостны к этому креслу, которое вот уже чет-
верть часа простирает к вам свои объятия: снизойдите же к его желанию
прижать вас к своей груди».
Но не только над речью и манерами прециозников смеется Мольер. Он
издевается над их ханжеством, над чопорным пуризмом, ставшим при-
надлежностью старых дев, подвизавшихся в роли бонн и гувернанток.
«Я считаю брак делом величайшей неблагопристойности: как можно вынес-
ти даже мысль о том, чтобы спать рядом с совершенно голым мужчи-
ной»,— рассуждает в комедии жеманница Като.
Кто же носитель здравого смысла среди лиц, изображенных Мольером
в его одноактной комедии? Не кто иной, как буржуа, «честный горожанин»
Горжибюс. Его устами драматург выносит приговор прециозному стилю:
«Что это за галиматья! Вот уж поистине высокий штиль!»
Молва гласит, что «истинные прециозницы» краснели за своих смешных
подражательниц, что салон Рамбулье аплодировал пьесе Мольера, но это
была хорошая мина при плохой игре.
220
Мольер своей комедией уничтожил прециозный стиль во Франции.
Поэт Менаж, один из постоянных посетителей салона Рамбулье, известный
«альковист», как называли тогда поклонников прециозниц, заявил в раз-
говоре с поэтом Шапленом, выходя из театра Пти-Бурбон после представ-
ления «Жеманниц»:
«Мы одобряли, вы и я, все глупости, которые только что были раскри-
тикованы столь тонко и столь трезво... Нам нужно сжечь все, чему мы по-
клонялись, и начать поклоняться тому, что мы когда-то сожгли. Это при-
шло, как я уже предсказывал, и после сего первого представления отре-
кутся от всей этой галиматьи и натянутого стиля».
Так и случилось: слово «прециозный», ранее произносившееся с почте-
нием, в смысле «изысканный», теперь приобрело смысл комический, насмеш-
ливый, хорошо укладывающийся в русское слово «жеманный».
«МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»
Комедия «Мещанин во дворянстве», поставленная впервые в 1670 году
в замке Шамбор на празднествах по случаю королевской охоты, не
понравилась придворным. Правда, великолепный балет (музыку напи-
сал композитор Люлли), вмонтированный в текст комедии и пародировавший
пышные турецкие церемонии, льстил королю. Дело в том, что незадолго перед
тем турецкий посол недостаточно восторженно отозвался о великолепии Вер-
саля и тем несказанно задел самолюбие Людовика XIV.
Однако не пышный балет, а прекрасные реалистические зарисовки
французской действительности, сделанные искусным пером Мольера, сни-
скали комедии восторги современников и потомков.
Придворные Версаля имели основание выражать свое недовольство по
поводу идей, вложенных автором в театральное представление. Молодой
человек по имени Клеонт, один из героев комедии, честный, умный и бла-
городный, осмеливается гордиться тем, что он не дворянин, и так как этот
молодой человек вызывает у зрителя симпатии как лицо положительное,
то можно было безошибочно предположить, что у самого автора нет доста-
точного почтения к дворянским титулам. Это предположение подкрепляется
и еще рядом моментов комедии: в качестве лица отрицательного, бесчестно-
го обманщика, выведен промотавшийся граф Дорант, да и его возлюблен-
ная, маркиза Доримена, играет в комедии довольно неприглядную роль.
Каково было лицезреть придворным Версаля, как грубоватая купчиха
г-жа Журден прямодушно и справедливо отчитывает их собратьев: «Давно
я поняла, что у вас тут творится. Я не дура. А это довольно гадко —
знатному господину потакать глупостям моего мужа. Да и вы, сударыня!
Знатной даме стыдно и неприлично поселять в семье раздор, позволять
моему мужу ухаживать за вами».
Буржуа Журден, пожелавший на старости лет обучаться аристократи-
ческим манерам, заведший у себя в доме целый штат учителей и возмечтав-
ший о титулах и званиях, смешон прежде всего потому, что люди, в ряды
которых так страстно хотел он пробраться, не заслуживали подобных вож-
деленных мечтаний.
221
Хеда. Завтрак с омаром. Здесь земные материальные блага, вполне конкретные и ощутимые.
Мольер отнюдь не противник «светскости». Он прекрасно понимал, что
культура и все связанное с ней — в руках дворянства; в комедии «Урок
мужьям» положительный герой Арист заявляет:
И школа светская, хороший тон внушая,
Не меньше учит нас, чем книга пребольшая.
Дорант в сравнении с Журденом выглядит цивилизованным человеком
перед дикарем. Мольер нисколько не шаржировал дворянина, как это он
сделал с буржуа Журденом, нарочито подчеркивая комедииность этого
персонажа. Дорант презирает Журдена, как может презирать дворянин
неотесанного «мужлана». И действительно, перед его светским лоском гру-
222
бые манеры Журдена весьма разительны; но глуповатое простодушие Жур-
дена способно вызвать веселую улыбку, холодное же мошенничество До-
ранта— чувство презрения.
Между тем Журден не так уж глуп. Он сметлив. Как истый буржуа,
он считает каждую копейку. Не прибегая к записной книжке, он сообщает
Доранту, где, когда и сколько тот у него брал денег взаймы.
Взглянув на костюм портного, он тотчас же разгадал, что тот использо-
вал на себя часть данного ему материала. «Отлично; но зачем же брать из
моего куска?» — спрашивает он у растерявшегося портного. Журден прояв-
ляет подлинное остроумие в разговоре с маркизой. Тонкий художник,
Мольер не преминул и здесь подчеркнуть черты сословной психологии в
Журдене. «Мне очень хотелось бы, чтобы маркиза приняла меня за чистую
монету»,— заявляет он. «Чистая монета», полноценная, высокой пробы! Что
же еще может быть дороже сердцу купца?
Разговор Журдена с учителем философии (акт II, сцена IV) полон
глубокого смысла. Журден впервые слышит о стихах и прозе и делает для
себя важное открытие: оказывается, более сорока лет он говорит прозой,
сам того не подозревая. Между тем он отлично составляет текст любовного
послания маркизе. У него хватает ума и здравого смысла отвергнуть все
напыщенные фразы, предложенные ему учителем философии. «Напишите,
что огонь ее глаз превратил ваше сердце в пепел; что из-за нее вы день и
ночь претерпеваете жесточайшее...» — «Нет, нет, нет, ничего этого не нуж-
но»,— протестует буржуа. Прибегая к здравому смыслу своего комедийного
персонажа, Мольер лукаво подсмеивается над замысловатым витийством
прециозной литературы. Устами того же простодушного Журдена Мольер
критикует и модные в его время пасторали. «Все пастухи да пастухи!» —
недовольно восклицает Журден.
Журден, как и приличествует его классу,— великий оптимист. Он враг
«заунывных песен», он хочет веселья. Утонченные меланхолические песно-
пения, принятые в дворянских салонах, его усыпляют, сердцу же милы те
насмешливо-задорные куплеты о «милашке Жанете», какие певал он в дни
своей молодости.
«МИЗАНТРОП»
Как странно, право же, устроен человек!
Разумным мы его не видим и вовек,
Пределы разума ему тесней темницы,
Он силится во всем переступать границы...
Мольер
Комедия «Мизантроп»—одна из глубокомысленнейших комедий
Мольера. Поэт работал над ней долго, оттачивая каждый стих.
Современники с восторгом приняли ее. Еще за два года до ее перво-
го представления (4 июня 1666 г.) Мольер читал отдельные акты своим
друзьям. «Мизантроп» — комедия серьезная. Альцест, ее главный герой,
скорее трагичен, чем смешон.
223
Комедия начинается со спора двух друзей. Предмет спора и есть основ-
ная проблема пьесы. Перед нами два различных решения одного вопроса,
две различные философии жизни. Дальнейшее сценическое представление
покажет нам, на чьей стороне автор.
Как только посмотрю я на людей вокруг,
Куда ни оглянусь, все малодушно льстивы,
Корыстны и хитры, подлы, несправедливы,—
говорит Альцест, и Филинт с грустью заключает, что ушли времена героиз-
ма и славы, времена величайшей доблести:
За многим, как и вы, я каждый день слежу
И многое дурным на свете нахожу.
Спор идет о том, как относиться к этим весьма несовершенным созда-
ниям— людям. Альцест решительно отвергает всякую терпимость к не-
достаткам. Он возводит пороки людей в абсолют, не хочет никого ни ща-
дить, ни прощать и приходит к своеобразной мизантропии:
Нет сил терпеть, бешусь, и мне один исход —
Предать презрению людской ничтожный род.
Альцест не хочет дать себе труда пристальней присмотреться к людям,
разграничить их, отделить добрых от злых. Для него все повинны в зле и
потому достойны осуждения:
Без исключенья я всех смертных ненавижу:
Одних — за то, что злы и причиняют вред,
Других — за то, что к злым в них отвращенья нет,
Что ненависти их живительная сила
На вечную борьбу со злом не вдохновила.
Иной философии придерживается Филинт. Он не хочет ненавидеть весь
мир без исключения. Есть люди, достойные уважения и любви. «Людей хо-
роших я и в наше время вижу»,— рассуждает он. Филинт против излишней
суровости к людям. Зачем быть слишком строгим? Зачем искать безупреч-
ных, когда их нет? Мы живем среди людей, и следует их брать такими, ка-
ковы они есть, любя их и прощая им их отдельные недостатки. Филинт вы-
ступает с философией терпимости к человеческим слабостям. Осуждения
достойны люди порочные, несущие зло в общественную жизнь, но простим
людям их безобидные слабости:
Прошу вас, пощадим природу человека.
Не должен быть наш суд над ближними суров;
Отпустим людям часть их маленьких грехов.
Мольер назвал Альцеста мизантропом. Однако мизантропия Альцеста —
не что иное, как скорбный фанатический гуманизм. Альцест в действитель-
ности любит людей, хочет видеть их правдивыми, честными, добрыми, и, не
находя безупречного человека, абсолютно лишенного каких-либо недостат-
ков, он с нетерпимостью фанатика пытается покинуть человеческий мир.
Альцест уподобляется в данном случае человеку, который захотел бы от-
речься от солнца потому, что на нем есть пятна.
224
Иную гуманистическую философию несет Филинт. По сути дела, перед
нами два вида гуманизма: первый, который проповедует Альцест,— гума-
низм суровый, фанатический, превращающийся в свою противоположность;
второй, проповедуемый Филинтом,— гуманизм мягкий, поистине че-
ловечный, гуманизм, постигающий человеческие слабости, исправляющий
людей не посредством презрения и насилия, а доброжелательной терпи-
мостью.
Комедия Мольера создавалась в тот год, когда французская читающая
общественность обсуждала только что вышедшие из печати «Изречения»
Ларошфуко. Писатель-аристократ, проведший свою молодость в борьбе
против королевской власти и разуверившийся в успехе своего дела, дела
возвращения милой его сердцу феодальной старины, изливал свою желчь
на человеческий род. Комедия Мольера была своеобразным откликом на
книгу Ларошфуко.
Литераторы Котен и Менаж, современники Мольера, заявили, что в
Альцесте они узнали герцога Монтозье. Анатоль Франс посвятил этой вер-
сии изящную литературную миниатюру «Диалог в аду»: «Говорят, что
Мольер списал Альцеста с себя самого и с господина де Монтозье. Но
как не схожа копия с оригиналом! Депрео (Буало.— С. А.) гордился тем,
что послужил моделью для некоторых черт этого характера, которым он
восхищался...»
Анатоль Франс много размышлял над образом Альцеста. Ему, как и
Мольеру, были глубоко чужды крайности в любой их форме. В герое его
романа «Боги жаждут» явно проступают черты комедийного персонажа
Мольера. Только комедия стала трагедией. «Боюсь, что человека всегда
ждет одно из двух: он либо преступен, либо смешон»,— пишет по этому по-
воду Франс.
Мольер нисколько не стремился опорочить своего Альцеста. Герой
комедии явно симпатичен автору, как симпатичен он и зрителю. Но
Мольер не на стороне Альцеста, он постоянно показывает поражение своего
героя. Альцест требует от людей большой силы характера, непримири-
мости в борьбе, он не хочет прощать людям никаких слабостей, а сам при
первом же серьезном столкновении с жизнью проявляет эти слабости. Он
любит Селимену, знает, что она ветрена, злоречива, не может подойти к
выработанному им умозрительному идеалу человека, знает это, негодует, но
любит ее и не в силах не любить:
Я слаб, а у нее есть дар очарованья,
Дурное в ней могу я видеть и судить,
Но все-таки ее не в силах не любить...
Он требует от возлюбленной верности, искренности и правдивости,
мучит ее своими сомнениями, подозрительностью, резок и порой даже груб
с ней. Он смел, потому что ждет от нее возражений, оправданий, верит,
что он действительно любим, и хочет лишь новых заверений, новых доказа-
тельств любви. Когда же Селимене надоело спорить с ним, доказывать свою
верность и она заявила, что не любит его,— как изменился Альцест, как
сник, как жалко запросил пощады! Из атакующего он превратился в обо-
роняющегося, пустился в отступление.
8 Литература эпохи Возрождения
225
ЛАФОНТЕН
Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни
было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем
предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся
любимцами своих единоземцев. Некто справедливо
заметил, что простодушие (naivete, bonhomie) есть
врожденное свойство французского народа; напротив того,
отличительная черта в наших нравах есть какое-то
веселое лукавство ума, насмешливость и живописный
способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители
духа обоих народов.
А. С. Пушкин
Лафонтен в житейских делах был очень простодушен, наивен, а под-
час до крайности забывчив и рассеян. Представленный королю,
аудиенции у которого он добивался, чтобы преподнести ему томик
своих стихов, он вынужден был сознаться, что забыл книжку дома. Его
фривольные новеллы, написанные в духе Боккаччо, принесли ему нераспо-
ложение церкви и короля, который одно время противился избранию поэта
в Академию.
О нем ходило много анекдотов, говорили; что он любит в мире лишь
три вещи —стихи, праздность и женщин. Последнее связывали с его
фривольными новеллами. Лафонтен не спорил и однажды, уже в старости,
писал своему другу поэту Мокруа: «Уверяю тебя, что твой лучший друг не
протянет и двух недель. Вот уже два месяца, как я не выхожу из дома,
разве только в Академию, и то потому, что это меня развлекает. Вчера, ко-
гда я возвращался, на меня вдруг напала такая слабость на Шантрской
улице, что я решил, что пришел мой последний час. О дорогой мой! Уме-
226
реть — это еще ничто; но вообрази, как я предстану перед Богом? Ты ведь
знаешь, как я жил». Капуцин, отпуская ему грехи, потребовал дарственной
в пользу церкви. «Отец мой, ведь у меня ни полушки за душой,— сокрушен-
но ответил Лафонтен,— впрочем, вскоре должна выйти из печати книжка
моих стихотворных новелл, возьми 100 экземпляров и продай их»,— лукаво
добавил он. (В этих новеллах царил фривольный и антиаскетический дух.)
Лафонтен умер 13 апреля 1695 года, на семьдесят четвертом году
жизни.
ш
БАСНИ
Басни интернациональны. Сюжеты их в большинстве случаев сходны,
многие из них ведут свое начало от прозаических басен полулегендар-
ного греческого баснописца Эзопа. Часто основная мысль басни —
назидание, «мораль» — бывает та же при тех же сюжетах. Однако каждый
народ вносит свое, оригинальное, своеобразное в изложение басенного сю-
жета.
У Лафонтена мы найдем известные нам по другим источникам басни о
вороне и лисице, о волке и ягненке, о стрекозе и муравье и многие другие.
Политические басни Лафонтена отнюдь не безобидны. Они достаточно
язвительны и обнаруживают его демократические симпатии. Приведем бас-
ню «Звери во время чумы». Чума косила зверей. Лев собрал совет.
«Друзья,— обратился он к ним,— небо разгневалось на нас. Боги ждут
искупительной жертвы. Поищем самого виновного среди нас и предадим
его казни, авось смилостивятся боги.
— Я,— начал он повесть о своих грехах,— пожрал немало баранов,
каюсь в том, приходилось мне съедать и пастухов.
— О государь, вы слишком на себя клевещете! — выступила лиса.—
Кушать баранов! Да вы оказывали им великую честь! Что до пастухов, то
поделом им, какие страхи нагоняют они на нас!
Речь лисы вызвала шумные аплодисменты зверей. Оправдали и тигра, и
медведя, и других сановников леса. Но вот заговорил осел:
— Я сорвал пучок травы в лугу, а луг, сказать по правде, мне не при-
надлежал. Голоден я был, и бес меня попутал!—сокрушенно признался
осел.
— А! — вскричали звери.—Рвать траву в чужом лугу! Чудовищное
преступление! На казнь! На казнь! — И осел был казнен».
Суд судит по тому, могуч ты иль бессилен.
В зависимости от того тебя объявят иль правым,
иль виновным.
227
Басни Лафонтена народны по своему легкому, изящному юмору, столь
свойственному французам, по здравому смыслу, вложенному в них, но они
и изысканны, галантны. Вот как, например, рассуждает лиса в басне «Волк
и Лиса» (лиса сидит в ведре на дне колодца, куда она неразумно опусти-
лась, ища какой-нибудь поживы, и теперь уговаривает волка занять ее мес-
то, ибо она-де никак не может доесть находившийся там сыр): «Мой друг,
я хочу вас попотчевать, вы видите сей предмет? Это особый сыр. Бог
Фавн его приготовил. Корова Ио дала свое молоко, даже у Юпитера, и будь
он даже болен, разыгрался бы аппетит на это блюдо». Как видим, лиса
весьма учена, очевидно, не менее ее осведомлен в античной мифологии и
волк, раз лиса обратилась к нему с подобными реминисценциями.
В баснях Лафонтена мы найдем литературные имена. Имена мольеров-
ского Тартюфа и средневекового адвоката Пателена уже используются
здесь в качестве общеизвестных нарицательных имен. «Кот и Лис, как два
маленьких святых, отправились в паломничество. То были два тартюфа, два
архипателена, две проныры...»—так начинается басня «Кот и Лис».
Басни Лафонтена философичны. В одной из них он размышляет о гении
и толпе. Эпикура на его родине считали сумасшедшим. Соотечественники
обратились к Гиппократу, знаменитому врачу, прося его излечить от без-
умия и философа Демокрита. «Он потерял рассудок, чтение сгубило его...
Что говорит он? — Мир бесконечен... Ему мало этого. Он еще говорит о ка-
ких-то атомах»,— сокрушаются простодушные абдеритяне, призывая Гип-
пократа.
Предметом басни часто бывают не только пороки людей, но психологи-
ческие наблюдения, совсем в духе Ларошфуко. В басне «Му*ж, Жена и
Вор» он рассказывает о том, как некий муж, сильно влюбленный в свою-
жену, не пользовался, однако, ее расположением. Ни лестного отзыва, ни
нежного взгляда, ни слова дружбы, ни улыбки милой не находил в жене
несчастный супруг. Но вот однажды она сама бросилась в его объятия.
Оказывается, ее напугал вор, и, спасаясь от него, она прибегла к защите
мужа. Впервые познал истинное счастье влюбленный муж и, благодарный,
разрешил вору взять все, что тот захочет. «Страх иногда бывает самым
сильным чувством и побеждает даже отвращение,— заключает свою басню
Лафонтен.— Однако любовь сильнее. Пример — этот влюбленный, который
сжег бы свой дом, чтобы только поцеловать свою даму, и вынес бы ее из
пламени. Мне нравится такое увлечение»,— добавляет автор.
В басне о «состарившемся льве» речь идет об унижении или, вернее,
границах унижения, которые способен выдержать человек. Всему есть пре-
дел, и самое страшное унижение — это оскорбление, наносимое существом
презираемым. Лев, гроза и ужас лесов, под тяжестью лет состарился, он
горюет, оплакивая свою былую мощь, и подвергается гонениям со стороны
своих бывших подданных, «ставших сильными его слабостью». Лошадь
лягнула его копытом, волк рванул зубами, бык пырнул рогом. Лев, неспо-
собный даже рычать, молча сносит и побои и обиды, покорно ожидая смер-
ти. Но вот осел направился к нему. «О, это уж слишком! — воскликнул
лев.— Я готов умереть, но подвергнуться еще твоим побоям — не значит ли
умереть дважды».
228
ПОВЕСТЬ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ЛЮБВИ
«ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ»
«Принцесса Клевская» — первый французский
роман, в котором главный интерес сосредоточен на правде
страстей.
Анатоль Франс
В 1678 году Клод Барбен, издатель Буало, Лафонтена, Расина, Ла-
рошфуко и других знаменитых писателей XVII века, напечатал ро-
ман неизвестного автора «Принцесса Клевская».
Узкий круг французской знати тотчас же отгадал автора романа в
г-же де Лафайет, уже известной тогда романистке, опубликовавшей до
того несколько своих сочинений.
Графиня де Лафайет (1634—1692), одна из постоянных посетительниц
салона г-жи де Рамбулье, была близка к прециозникам, а следовательно,
и к кругу аристократов-фрондеров. Глубокая дружба связала ее с Ларош-
фуко, одним из ветеранов дворянской оппозиции абсолютизму. Не без
влияния этого трезвого, скептически настроенного ума сложился весь стиль
романа, свободный от напыщенности прециозников.
Если говорить о литературных традициях, то роман г-жи де Лафайет
выдержан в духе мемуарных повествований. Мемуары писали в XVI столе-
тии (Маргарита Наваррская и др.). Мемуарами богат XVII век (кардинал
де Ретц и др.). Достоинство этого жанра заключается в точности описаний
при максимальной скупости изобразительных средств. Писатели-мемуари-
сты избегали риторических украшений, зато очень внимательно следили за
правильной передачей портретного сходства виденных ими исторических
лиц. Исторический анекдот, случайно брошенное кем-то крылатое словечко
жадно подхватывались мемуаристами, чтобы потом занять свое место в
своеобразной протокольной записи воспоминаний. От жанра мемуаров за-
229
имствовала г-жа де Лафайет и скупую строгость повествования:
Сама романистка, лукаво отвергая свое авторство, писала о своем
произведении: «Я его нахожу весьма приятным, хорошо написанным, без
излишней полировки, полным восхитительных тонкостей, его можно перечи-
тывать не раз, и особенно, что в нем я нахожу, так это прекрасное
изображение придворного общества и его образа жизни. В нем нет ничего
романтического, из ряда вон выходящего, будто это и не роман; это, соб-
ственно,— мемуары, так книгу и назвали первоначально, как мне говорили,
и лишь потом изменили название. Вот, сударь, мое мнение о «Принцессе
Клевской».
Итак, никакой тщательной отделки, полировки, чрезмерной правильно-
сти речи, ничего, выходящего за пределы реальной жизни, реальных
людей и реальных человеческих отношений, верное изображение этой ре-
альной жизни и реальных людей — вот чем, по мнению г-жи де Лафайет,
отличается мемуарная литература, и это она внесла в свой роман.
Г-жа де Лафайет была в дружеских отношениях с Расином. Эта дружба
исходила из общих литературных интересов. Вклад Расина во французскую
трагедию, а именно — глубочайшее проникновение в жизнь сердца, г-жа де
Лафайет сделала достоянием романа.
Трагедия Расина с ее великолепно вылепленными психологическими
портретами стала школой психологического мастерства для писателей.
Г-жа де Лафайет первая использовала достижения драматурга в ином
жанре — в романе. И по пути, открытому ею, пошла последующая француз-
ская литература. В XIX веке Стендаль противопоставлял художественный
метод г-жи де Лафайет (верное изображение характеров как главная зада-
ча романиста) методу Вальтера Скотта, порицая английского писателя за
чрезмерную склонность к изображению исторических реалий или, как го-
ворили французские романтики 20-х годов XIX века, местного колорита.
Итак, манера повествования г-жи де Лафайет идет от мемуаров, умение
рисовать психологические портреты — от трагедий Расина.
Однако не это главное в маленькой непритязательной повести. Изуми-
тельная нравственная чистота ее героев волнует нас. Как хороши они, как
прекрасны их чувства!
Сюжет романа несложен. Его можно изложить в нескольких строках.
Юная жена стареющего принца Клевского встречает на балу столь же
юного принца Немура. Молодые люди влюбляются друг в друга. Не желая
ничего скрывать от мужа, глубоко уважаемого ею, принцесса Клевская
рассказывает ему о своих новых чувствах. Признание это убивает горячо
любящего супруга. Принцесса Клевская остается верна памяти умершего,
отстранив от себя навсегда любимого человека. Вот и вся история.
Содержание романа заключено в изображении чувств. Принцесса
Клевская, очень искренняя, правдивая, честная, не мыслит себе какого-
либо лукавства. Она не любит мужа, но не любит и никого другого. Она
еще весела и беспечна; только ее мать, умудренная жизненным опытом
женщина, предвидит печальную развязку, страшится за судьбу дочери и не-
усыпно следит за ней. Первое волнение, какое испытала принцесса Клев-
ская, увидев принца Немура, не укрылось от всевидящего ока матери. Но
молодая женщина еще не знает опасности, ей самой неведомо, что новое
незнакомое чувство постучалось к ней в сердце.
230
Однажды кто-то из светских сплетников сказал ей, что принц Немур
пользуется благосклонностью принцессы крови, и не безответно. Молодая
женщина изменилась в лице. Что с ней? Почему чувства человека
ей чужого так беспокоят ее? Разве не должно быть ей это совершен-
но безразлично? Уж не любит ли она? Так приходит первое по-
стижение печальной истины. Мать, умирая, говорит ей, что давно отгадала
ее чувства к принцу Немуру, и предостерегает ее: «Вы на краю пропасти,
покидайте двор. Мужайтесь, моя дочь, не бойтесь принять по отношению к
себе самые крутые меры, как бы ужасны они вам ни казались, они будут ку-
да отраднее тех последствий, какие принесут вам галантные похождения».
Молодая женщина борется с собой, с своими чувствами, избегает
встреч с принцем Немуром, но любовь преследует ее подобно року.
Однажды в ее доме в присутствии гостей принц Немур незаметно от
всех вынул ее портрет из рамки и спрятал в кармане. Совершая эту кражу,
он невольно взглянул на принцессу Клевскую. Глаза их встретились. Что
делать? Уличить принца в краже — значит обнаружить перед всеми его
любовь; промолчать — значит самой сделаться его соучастницей, обнару-
жить перед ним свои собственные чувства. И принцесса Клевская опустила
глаза, сделав вид, что ничего не заметила.
Так произошло это первое объяснение в любви, объяснение без слов, при
всех и тайно от всех.
В другой раз, во время обычных развлечений двора, она увидела принца
Немура в страшной опасности: его чуть не сбросила с себя необъезженная
лошадь. Смертельная бледность покрыла лицо влюбленной женщины. Это-
го не могли не заметить. Принц де Гиз, давно искавший ее любви, заявил
ей с чувством уязвленного самолюбия: «Сегодня я потерял последнее
утешение — думать, что все, кто осмеливается глядеть на вас, так же не-
счастны, как и я».
Принцесса Клевская любила сильно. Побороть в себе неотразимое
влечение к принцу Немуру она не могла, но нашла в себе достаточно во-
ли, чтобы воздвигнуть непреодолимую стену между собой и любимым
человеком.
Принц Немур очень напоминает молодых героев Расина, мягких, глу-
боко честных и не способных к борьбе.
Г-жа де Лафайет обрисовала своего героя теми же красками. С са-
мого начала читатель видит в юном облике принца Немура что-то меланхо-
лическое, страдальческое. Принц любит принцессу безнадежно, не хочет ей
открыться, чтобы не лишить себя последнего счастья хоть изредка видеть
ее, слышать ее голос, обмениваться с ней двумя-тремя словами. Признание
совершилось помимо воли обоих, и все несчастны. Принц Клевский потерял
покой. Он ревнует и стыдится своей ревности, он верит жене и не может
избавиться от терзающих сомнений. Его объяснение с женой напоминает
нам патетику корнелевских диалогов: «Я не считаю себя достойным вас,
и вы мне не кажетесь достойной меня, я вас обожаю и ненавижу, я вас
оскорбляю и умоляю меня простить, я восхищаюсь вами и стыжусь этого
восхищения, и нет во мне более ни покоя, ни рассудка».
Г-жа де Лафайет приурочила жизнь своих героев ко времени правления
короля Генриха II. Однако перед нами двор, нравы и люди второй половины
XVII века. Писательница нисколько не идеализирует своих современников.
231
АНГЛИЯ ПОСЛЕ ШЕКСПИРА
Не поэзия, не проза, а театр, драматургия возглавляли в Англии
XVI и первой половины XVII столетия общенациональную культуру,
поэтому нельзя не сказать здесь о чрезвычайно важном тогда собы-
тии в стране — закрытии театров и запрещении театральных представле-
ний. Театральные нравы в Лондоне в те дни были довольно свободны.
Царила полная непринужденность и на сцене, и в зрительном зале.
И актеры, и зрители не стеснялись в выражениях.
На сцене можно было увидеть фокусника с собачкой, которая изобра-
жала «и короля английского, и принца уэльского, а как сядет на задик —
то и папу римского и короля испанского», как свидетельствует о том
«театральный сторож» в комедии Бена Джонсона «Варфоломеевская
ярмарка». Какая-нибудь миссис в комедии могла сообщить со сцены, что
можно гадать по моче, где он помочился. «На нашей сцене бывает иногда
такая же грязь и вонь, как в Смитфилде» (пригород Лондона, где проходи-
ли ярмарки, а иногда и сжигали еретиков.— С. Л.),— говорится в той
же комедии Бена Джонсона. «Там все называется своими именами»,—
писал уже в XVIII веке Вольтер об английской сцене.
О театральных нравах можно сделать заключение из анонимного «Про-
232
теста или жалобы актеров против подавления их профессии и изгнания
их из нескольких театров» (1643): «Мы даем обещание на будущее время
никогда не допускать в наши шестипенсовые ложи распутных женщин,
являющихся туда лишь для того, чтобы оттуда их уводили с собой под-
мастерья и клерки юристов, и никаких других подобного сорта женщин,
кроме тех, которые приходят со своими мужьями или близкими родствен-
никами. Отношение к табаку тоже будет изменено: он продаваться не бу-
дет... что касается сквернословия и тому подобных низостей, которые могут
скандализировать порядочных людей, а дурных людей натолкнуть на
распутство, то мы их совершенно изгоним заодно с безнравственными и
грубыми авторами-поэтами».
Церковь длительно и настоятельно боролась против театральных зре-
лищ. «Театры полны, а церкви пустуют», «Места благочестивых упраж-
нений остаются покинутыми»,— жалуется в своем «Увещании» пуританский
священник Джон Рильд (1583). В театре «царят вольные жесты, распущен-
ные речи, хохот и насмешки, поцелуи, объятия и нескромные взоры»,—
негодует некий Филипп Стеббс («Анатомия обвинений», 1583); «Там на-
рушается слово Божие и профанируется божественная религия, установ-
ленная в нашем государстве»,— заявляет лорд-мэр Лондона в 1594 году
(письмо к лорду-казначею). И т. д.
Были и защитники. Драматург Томас Нэш писал в 1592 году, что сюжеты
пьес заимствуются из английских хроник, из «могилы забвения» извлекают-
ся великие деяния предков и тем выносится порицание «упадочной и
изнеженной современности», что в пьесах «анатомируется ложь, позла-
щенная внешней святостью».
2 сентября 1642 года английский парламент закрыл театры и запретил
всякие представления, мотивируя это тем, что зрелища «зачастую выра-
жают разнузданную веселость и ветреность», в то время как надо направ-
лять свои мысли на «покаяние, примирение и обращение к Богу». Через
пять лет парламент подтвердил это постановление, выдержанное теперь
уже в более резких выражениях и предписывающее ослушавшихся лиц
(актеров) направлять в тюрьму как преступников.
В 1644 году был снесен шекспировский театр «Глобус», восстановленный
после пожара в 1613 году, в 1649 году — театры «Фортуна» и «Феникс»,
в 1655 году — «Блекфрайерс». Актеры разбрелись по стране, ушли в солда-
ты, пропали без вести, как сообщает анонимный автор XVII века.
В 1643 г. актеры составили трогательный анонимный документ: жалобу
по поводу подавления их профессии. «Мы обращаемся к тебе, великий
Феб, и к вам, девяти сестрам-музам, покровительницам ума и защитницам
нас, бедных, униженных актеров,— писали они.— Если бы с помощью ва-
шего всемогущего вмешательства мы могли бы вновь быть водворены в на-
ши прежние театры и снова вернуться к своей профессии...»
Актеры писали, что комедии и трагедии, которые они исполняли, были
«живым воспроизведением поступков людей», что порок в них наказывался,
а добродетель вознаграждалась, что «английская речь бывала выражена
наиболее правильно и естественно». Феб и девять сестер-муз, покровитель-
ниц искусств, не откликнулись. Театру был нанесен непоправимый урон.
Классицизм в его, так сказать, классической форме, какую он принял
во Франции, не мог найти себе твердой почвы в Англии. Тому были две
233
причины: политическое состояние страны и авторитет театра Шекспира.
Классицизм во Франции нашел себе санкцию и поддержку со стороны еще
сильного и далекого от кризиса абсолютистского государства. В Англии в
это время абсолютизм агонизировал. Страна прошла этап становления и
стабилизации абсолютизма при Тюдорах в XVI веке. В XVII веке при
Стюартах она переживала этап его кризиса, затем последовали револю-
ции и формирование государственности уже буржуазного толка.
Что касается Шекспира, то он настолько затмил достижения античной
драматургии, что после него всецело полагаться на пример древнегрече-
ских авторов было просто немыслимо. Английские писатели не могли так
безоговорочно следовать за Эсхилом, Софоклом и Еврипидом, как это де-
лали их французские коллеги. Перед ними был пример Шекспира, творив-
шего совсем по другой системе и достигшего невиданных результатов.
Реализм эпохи Шекспира, ренессансный реализм, еще живет в
XVII столетии, сохранив свои черты в творчестве Бена Джонсона.
Бен Джонсон (1573—1637) связывает век Шекспира с веком Мильтона.
Первые свои 43 года он прожил в одно время с Шекспиром, последние
21 —с Мильтоном. Он был знаком, дружен с первым и вряд ли знал о су-
ществовании второго. Поэт, актер, собутыльник разгульных аристократов,
дуэлянт и забияка и в то же время усидчивый книгочей, влюбленный в
античную культуру,— он весь еще, по уму, по склонности, по размашистой
несобранности натуры, в Ренессансе. Как истый сын Ренессанса, он бого-
творит Шекспира: «О гений нашего века! Предмет всеобщих удивлений и
восторгов и чудо нашей сцены! Восстань, Шекспир мой!» Он наполняет
свою сцену шумом улицы, выводит на нее крикливую, разноликую толпу,
с дерзкой откровенностью называет вещи своими именами. Но что-то от
Ренессанса уже потускнело в нем. Какие-то новые ноты, чуждые Ренессан-
су, зазвучали в его творениях. И к Шекспиру, несмотря на все свои востор-
ги, он предъявляет требования уже новой эпохи. Он не сумел оценить
очарование шекспировской «Бури». Не называя его имени, он критикует
его за «всякие «сказки», «бури» и прочую чепуху». Он ворчит по поводу
того, что английские писатели «воровали... у Монтеня». (Шекспир много
заимствовал у французского автора.)
Подобно Шекспиру, он намерен придерживаться жесткого реализма,
хочет показать «зеркало размером в сцену... в нем увидят уродство века
нашего и будет показан мускул каждый, каждый нерв».
Он отвергает нормативность классицизма: «Я не считаю возможным
стеснять свободу поэта узкими рамками законов, диктуемых философами
или грамматиками»; «Не следует отрешаться от самого себя и пребывать в
рабстве»; «Художник и поэт родятся, а не становятся таковыми» и т. д. Но
уже делает уступки «правилам» и «законам», полагая, что поэту нужна
школа, что не следует преувеличивать авторитет античных авторов, но
учиться у них все-таки нужно («Они проложили нам путь, но как вожди,
а не как повелители»).
Лучшие комедии Бена Джонсона были поставлены еще при жизни Шекс-
пира, но тот разоблачительно-тенденциозный дух, который живет в них,
роднит их больше с классицистическим театром, чем со школой Шекспира.
Комедии Шекспира непритязательны, мир их прекрасен. Автор ничему не
хочет учить, никого и ничего разоблачать. Он смеется, любуясь милыми
234
ошибками и заблуждениями своих юных героев, заранее зная вместе со
своими зрителями, что все кончится хорошо, что если и покажутся на ясном
небе небольшие тучки, то первый же ветерок их разгонит, и снова будет
сиять солнце. В его комедиях много радости и солнца, злодеи, если они и
появляются на сцене, то неопасны, их хитрости быстро раскрываются.
Совсем не то в комедиях Бена Джонсона. Они нравоучительны и язви-
тельно суровы. Это развернутые, драматически оформленные басни с их
неизменным элементом — моралью. Бен Джонсон создал в Англии комедию
характера. Особенность ее заключается в том, что под «характером» в та-
кой комедии понимается не объемная, всесторонне изображенная психоло-
гия человека, а какая-то одна черта характера, обычно выделенная, по-
казанная крупным планом, чаще всего утрированная, гипертрофированная
черта.
Когда одна-единственная страсть
Так сильно овладеет человеком,
Что все его желанья, чувства, мысли
В один поток сливает неразлучно...
Шекспир, как известно, тоже любил наделять своих героев какой-то
одной господствующей страстью (ревность Отелло, честолюбие Ричар-
да III), но эта страсть не определяет характер его персонажей. Ревность
не является свойством характера Отелло, недаром и Вольтер, и Пушкин
подчеркивали, что Отелло не ревнив, а доверчив. Тогда как скупость ста-
рика Гарпагона в комедии Мольера — не страсть, а свойство характера.
По концепции классицизма скупые скупы, и только скупы. Они скупы от
природы, изначально и вечно. Поэтому в классицистических характерах мы
никогда не наблюдаем движения, они всегда статичны.
В комедии Бена Джонсона «Вольпоне, или Лиса» (1606) показан бога-
тый и хитрый старик, притворившийся больным и умирающим. В надежде
на наследство к нему слетается вся нечисть человеческая. Фигуры мрачные
с мрачными именами: Вольторе (коршун), Корбаччо (ворон), Моска (му-
ха) — слова из итальянского языка.
Комедия Бена Джонсона, комедия характеров, является одновременно и
комедией нравов в смысле образа жизни и поведения народа. Драматург
населил свою комедийную сцену самыми различными и колоритными фигу-
рами. Перед нами оживает средневековый город, шумный, крикливый.
Здесь посетители таверн и рынка, плуты и простаки, торговки и состоятель-
ные дамы, мошенники и скопидомы, щеголи с тройными брыжами и бантом
на туфлях и бездомные бродяги в лохмотьях. Мир этот безрадостен, все
друг друга обманывают, хитрят, и алчность наполняет как души мошенни-
ков, так и их жертвы.
Пьесы Бена Джонсона (особенно трагедии, менее удавшиеся ему) пол-
ны учености. Античные имена, античные мифы, имена средневековых
богословов, алхимиков пестрят в речах его сценических персонажей. Здесь
рассуждают о Макиавелли, Жане Бодене, Монтене и др. Бытовые реалии
много говорят в наши дни историку. Европа, пережившая уже Ренессанс,
но сохранившая еще приметы Средневековья, нисходит к нам со страниц
сочинений английского автора. ^
«Надо вам учиться держать в руках серебряную вилку»,— слышим мы
235
в одной сцене. Вилку еще не знала Англия, она была привезена из Италии
в начале XVII века, и не все еще научились ею пользоваться. «Безделуш-
ка с жабьим камнем»,— слышим мы в другой сцене. Суеверия тех дней.
Камень, якобы добываемый из головы жабы, избавлял от желудочных
болей. «Влажность рук»,— говорится в третьей. Влажные руки свидетельст-
вовали о чувствительности и сексуальной потенции. И т. д. и т. п. мы даже
узнаем о национальных характерах женщин, как их понимали англичане,
современники драматурга («Француженки веселой, холодной русской, пыл-
кой негритянки»).
Бен Джонсон был самым крупным драматургом в Англии XVII века.
Англичане очень любили его. Он похоронен на кладбище Вестминстерского
аббатства, в пантеоне великих людей Англии.
БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ
Английская нация — единственная на земле сумела
упорядочить власть королей, сопротивляясь ей. В конце
концов после многих усилий было образовано такое
мудрое правительство, при котором монарх, всесильный
делать добро, был бессилен совершать зло.
Вольтер
XVII век в Англии — век революции. Революция наложила свою печать
на всю духовную жизнь страны. Культурное наследие, оставшееся от
той эпохи, так или иначе окрашено в цвета революции. Революционная
ситуация начала складываться в Англии с приходом к власти династии Стюар-
тов. После смерти королевы Елизаветы I в 1603 году на престол вступил
король шотландский Яков VI, став Яковом I в Англии. Вопреки на-
циональным интересам Англии, он сблизился с Испанией, старым
врагом Англии, нанеся огромный моральный ущерб короне. Престиж двора,
довольно высокий при Елизавете, стал катастрофически падать при
Стюартах.
В трактате «Истинный закон свободных монархий» Яков I провозгла-
шал принципы абсолютной непогрешимости короля, его полной суверенно-
сти и независимости от парламента, а также божественного происхожде-
ния королевской власти. Между тем он проявил целый ряд бестактностей
и неразборчивости в финансовой политике и крайнюю нетерпимость в ре-
лигиозных вопросах (преследование пуритан). Английский парламент, ко-
торый обычно поддерживал все мероприятия Елизаветы, теперь при ее
преемнике начал глухо роптать.
В 1625 г. на престол вступил Карл I. Политика осталась прежней.
Правительство цеплялось за отжившие феодальные правопорядки, опира-
лось на паразитирующую земельную аристократию, тормозило экономиче-
ское развитие страны политикой налогов, пошлин, феодальной системой
монополий. Назревал кризис. *
В 1628 г. парламент обратился к королю с «Петицией о праве».
236
Ссылаясь на древние акты—статуты Эдуарда I, Эдуарда III, королей
XIII—XIV вв., «Великую хартию вольности», данную еще Иоанном Без-
земельным в 1215 г., в выражениях почтительных, но уже достаточно кате-
горичных и бескомпромиссных, он требовал от короля уважения к правам
личности в государстве и существующим законам, дабы подданные его
величества, «вопреки законам и обычаям», не подвергались арестам и при-
теснениям, «не предавались смерти противно законам и вольностям
страны».
Произвол королевской власти не был в диковинку английскому народу.
Правление Генриха VIII, капризного и беспощадного, его дочери Марии
Кровавой, к тому же еще католички, множества других венценосных дес-
потов изобилует ужасающими преступлениями и злодеяниями. Карл I был,
пожалуй, даже менее их деспотичен и кровожаден. Красивый (в Лувре
хранится его портрет, написанный изящной кистью Ван Дейка), всегда
изысканно вежливый, он менее всего походил на свирепого тирана. Но
времена переменились. Буржуазия и новое дворянство окрепли, почувство-
вали свою силу. Абсолютизм ограничивал их предпринимательскую актив-
ность, и они пришли к выводу, что медлить уже нельзя, что теперь уже ста-
ло возможным объявить войну и королю, и земельной аристократии и что
можно рассчитывать на успех.
Силы, действующие на стороне революции, были неоднородны. Не сра-
зу решились на смертный приговор королю. Сан короля обладал магиче-
ской силой стародавних обычаев. Нужна была огромная смелость и сила
духа, чтобы сломать психологический барьер веками установившихся тра-
диций. Ею обладал Кромвель. Суд над королем был своеобразным поедин-
ком между холодно вежливым Карлом и грубовато гневным Кромвелем.
«Совершите короткое, но справедливое дело,— говорил Кромвель, обра-
щаясь к комиссарам.— Господь повелевает вам наказать угнетателя Анг-
лии. Об этом во все будущие времена будут вспоминать все христиане с
уважением и все тираны мира со страхом». Кромвель грозил (в его руках
была армия): «Я вам скажу: мы отрубим ему голову вместе с короной».
И решение суда состоялось, как и «повелевал господь», 27 января 1649 г.
Высшая судебная палата вынесла приговор, гласивший, что «за все измены
и преступления... упомянутый Карл Стюарт, как тиран, изменник, убийца и
как враг добрых людей наций, должен быть предан смерти через отсече-
ние головы от тела».
А 30 января при огромном стечении народа на площади палач в красной
одежде топором отрубил голову короля и, высоко подняв ее за волосы, по-
казал потрясенным зрителям. Актом парламента от 17 марта 1649 г. ко-
ролевская власть была отменена как «ненужная, обременительная и опас-
ная», 19 марта провозглашена республика, которая «отныне будет управ-
ляться высшей властью нации, представителями народа в парламенте.
При этом не должно быть ни короля, ни палаты лордов».
Это была кульминация революции. Победа ее в значительной степени
определялась войсками Кромвеля.
ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ
Агентство Рейтер передало информацию о, необычном
аукционе, который состоится в городе Грэнтем в
Великобритании. С молотка пойдут не дома, мебель,
сервизы, а... череп великого лорда-протектора Оливера
Кромвеля.
Последний раз его голову видели в 1661 году, когда
сторонники королевской власти пронесли ее по улицам
Лондона, отпраздновав таким образом восстановление
монархии...
Известия.— 1979.— 10 июля
ак проходит мирская слава»,— говорили еще древние римляне.
Череп человека, вознесенного событиями, да и собственным талан-
том на вершину славы и власти, ныне украшает, может быть, ка-
мин в доме какого-нибудь банкира.
Блез Паскаль, скорбный философ Франции, размышляя о тщете челове-
ческих дерзаний и человеческих дел, участь которых зависит от самых
непредвиденных и самых ничтожных случайностей, приводил в пример
судьбу английского лорда-протектора: «...Кромвель был уже на грани того,
чтобы разгромить весь христианский мир, погубить королевский род, а
свой род навсегда вознести на вершину могущества, но маленькая песчинка
попала в его мочевой пузырь, Рим уже готов был дрожать перед ним, но...
этот маленький кусочек камня, совсем ничтожный, будь он в другом
месте. И результат: Кромвель мертв, его род унижен, и король снова на
троне» («Мысли»).
Однако обратимся к самой этой примечательной личности. Волевой и
талантливый военачальник, он совершил ряд блестящих побед на полях
битв с войсками роялистов. Став генералом, он реформировал революцион-
ную армию, изгнал «старых, разложившихся наемников, пьяниц и тому
подобных», и набрал «людей духа», «людей богобоязненных, которые
<т
238
сознавали, что они делают», как говорил он в речи от 18 апреля 1657 г.
Сам управлявший своим хозяйством, он, видимо, так бы и умер не-
высокого ранга помещиком и коммерсантом, богобоязненным и бережливым
отцом семейства (у него было 8 детей), если бы не события революции.
Высокого роста, крепкий и сильный, в молодости прекрасный спортсмен
и наездник, с лицом выразительным, обрамленным густыми волосами,
которые волной ниспадали на плечи по моде тех времен, со стальным
блеском серо-голубых глаз, он производил впечатление человека сильной
воли и властной натуры, невольно внушающей уважение. Его первая речь
в парламенте, резкая, лаконичная, речь неизвестного еще провинциала,
сельского сквайра, произвела сильное впечатление. В годы гражданской
войны, одетый в кожаную куртку, в стальном панцире и стальном шлеме,
он возглавил кавалерию, которую сам же сформировал, сделав ее боевым
ядром всей революционной армии. 16 февраля 1654 года он снял ботфорты
со шпорами и надел туфли и чулки, сбросил военный мундир генерала и
надел черный бархатный костюм, походный военный плащ заменил черной
мантией и таким явился в Вестминстер на церемонию вручения ему полно-
мочий лорда-протектора.
Талантливый генерал, он оказался не менее талантливым политиком.
После Ришелье он был самым крупным по уму и энергии правителем
в Европе. Его иногда современники-карикатуристы изображали канато-
ходцем, ловко лавирующим политиканом. Он не всегда действовал по-
следовательно, выжидал, шел на компромиссы, но в решительную минуту
без колебаний и сомнений достигал цели, не останавливаясь ни перед
какими нравственными принципами, уничтожая свои жертвы с самой
непреклонной жестокостью. Во время похода в Ирландию он доносил
парламенту: «Я воспретил щадить кого бы то ни было из находившихся
в городе вооруженных людей. Я думаю, что в эту ночь было предано мечу
не менее 2 тыс. человек». Во время взятия Дрогеды из 3 тысяч гарнизона
спаслось не более 30 человек, англичане потеряли только 30. Это была
подлинная, преднамеренно задуманная резня. «Я уверен, что это был суд
Божий над этими варварами»,— писал Кромвель.
Кромвеля, сына небогатого землевладельца, отличало презрение поистине
мещанина-выскочки к человеку без средств к существованию. Бедняк для
него и не человек совсем. Раздосадованный теориями левеллеров и диг-
геров о равноправии, он пугал англичан гибелью государства: «Если уж
государство обречено на гибель, то пусть роковой удар будет нанесен ему
людьми, а не существами, более похожими на животных. Уж если оно
обречено на страдания, лучше для него страдать от руки богатых, нежели
от бедных». На такую речь не решился бы самый высокомерный и спеси-
вый испанский гранд или французский сеньор. Даже Карл I вряд ли произ-
нес бы такую фразу.
Парламент поднес Кромвелю королевский дворец Уайтхолл и летнюю
резиденцию короля Гемптон-Корт. Он одарил его землями, приносящими
громадный доход. Кромвель теперь ездил в раззолоченной карете, сопро-
вождаемый телохранителями и блестящей свитой. Во время церемонии
принятия поста лорда-протектора спикер палаты общин накинул на него
пурпурную мантию, отороченную горностаем, как это делали при коронации
королей. Все это, конечно, льстило его самолюбию, но вряд ли все-таки
239
следует его подозревать в излишнем корыстолюбии и тщеславии. Он видел
в себе устроителя общественного порядка, избавителя Англии от анархии.
Он жил и мыслил категориями своего класса и был самым горячим привер-
женцем принципа частной собственности, яростно ненавидя тех, кто, по его
мнению, подрывал основы этого принципа: «Когда я встречаю человека
противного мнения в этом вопросе, я мысленно готов произнести над ним
проклятие... Я готов изгнать его из пределов государства... Он недостоин
жить».
Кромвель рано начал дряхлеть и 3 сентября 1658 г. скончался в возрас-
те 59 лет. Он, видимо, очень устал и, отказываясь от лекарств и пищи, го-
ворил: «Я хочу как можно скорее уйти». В день его смерти над Лондоном
пронесся ураган невиданной силы. «Это дьявол пришел за его душой»,—
говорили недруги почившего. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве,
где хоронили и королей. Похоронили пышно и торжественно.
Но через три года, 30 января 1661 г., могилу вскрыли, извлекли из
гроба тело и подвергли казни через повешение. Вот как описал это событие
очевидец: «Утром этого дня трупы Кромвеля, Айртона и Брэдшоу были на
санках перевезены в Тайбэрн, потом вынуты из гробов, облечены в саваны
и повешены за шеи, и так эти трупы висели до захода солнца. После того
как их сняли, у трупов были отсечены головы, туловища зарыты в могилу,
выкопанную под виселицей, а головы казненных были водружены на копья
и выставлены около Вестминстерского дворца».
Религия стала острым политическим инструментом, которым орудовали
в дни революции обе противоборствующие партии. Английская буржуазия
в борьбе с аристократией использовала религиозные и нравственные чув-
ства народа, Стюарты тяготели к католицизму, отсюда страстная пропа-
ганда пуританских идей в революционной литературе. Ветхозаветные обра-
зы витали над восставшей Англией. Сама религиозность почиталась уже
признаком революционной лояльности. Недаром Кромвель говорил о «бого-
боязненных» воинах в своей армии.
Пуритане возглавили идеологическую часть революции. Они направили
острие своей критики на «иезуитских папистов» (католиков), на «еписко-
пов и испорченную часть клира, которые поддерживали обрядности и суе-
верия» ради «собственной тирании и узурпации».
Что касается нравственной пропаганды пуритан, то она опиралась на
критику распущенности, развращенности, расточительности аристократов и
прославление семейных добродетелей, религиозности, трудолюбия и береж-
ливости горожан. Отсюда декреты парламента о запрещении всяких зре-
лищ, увеселений и театральных представлений.
В дни революции появилась в Англии чрезвычайно характерная по
мыслям, поведению и даже внешнему облику фигура пуританина, вызывав-
шая впоследствии столько насмешек, сарказма и негодования со стороны
писателей и поэтов. Историк М. А. Барг начертал великолепный портрет
пуритан XVII столетия. «Их легко было узнать по той внешней суровости,
которой веяло от всего их облика. На их лице — вечная печать внутренней
240
сосредоточенности и благочестия. Они молчаливы и черствы в обращении
с людьми; свою речь, краткую и деловитую, они то и дело пересыпают
библейскими притчами и сказаниями. Черный невзыскательный костюм
пуританина резко бросается в глаза среди ярких нарядов англикан. Его
воротники и манжеты из простого полотна, в отличие от шелков и кружева
знати. Пуританин не терпит ни малейшего проявления жизнерадостности:
смех и пение, танцы и театральные представления, игра и музыка —
все это для него лишь зазорное легкомыслие, наваждение дьявола,
сплошной грех. Пуританин бережлив до скупости, он трудолюбив и при-
лежен».
Мы увидим фигуру пуританина-лицемера на страницах памфлета
Свифта «Сказка о бочке», в романах Филдинга.
ТОМАС ГОББС
Эта философия, может быть} и правильная, но она
внушает желание умереть.
Сте ндаль
Вто время, когда шли битвы, гремели пушки, лилась кровь сражав-
шихся сторонников и противников феодализма и на полях боев
решалась политическая судьба Англии, энергично и плодотворно
работала мысль выдающихся ее умов.
Еще задолго до революции Фрэнсис Бэкон, продолжая дело Ренессанса,
положил опыт и практическую деятельность людей в основу всех научных
изысканий, указав при этом на главную цель науки — познание природы
и господство над ней. По пути, указанному Бэконом, пошла наука о приро-
де, человеке и обществе. Крупнейший трезвый и глубокий мыслитель
Англии XVII столетия — Томас Гоббс, проживший 92 года и видевший все
241
перипетии борьбы двух социальных систем, может почитаться главным
истолкователем политического опыта английской революции.
Гоббс писал, что общество состоит из индивидов, каждый индивид —
сам по себе, в себе и для себя, индивиды враждебны друг к другу, и, дабы
избежать гибельных конфронтации, люди идут на добровольное подчинение
государству, органу насилия над собой. Вот, в сущности, и вся концепция.
Внешне позиция Гоббса по отношению к враждовавшим тогда силам может
представляться как позиция «над схваткой». (Во время гражданских
войн в Англии и первого периода протектората Кромвеля Гоббс живет
в эмиграции во Франции.)
Субъективно Гоббс, видимо, не причислял себя ни к одной партии и ду-
мал только о благосостоянии Англии и ее народа. Объективно же служил
своим учением о государстве новым силам. Идея равенства людей («люди
равны от природы»), какую высказал Гоббс, сразу же отделяет его от
всего того, за что стоял король, все «кавалеры», англиканское духовенство,
строившее свое мировоззрение на представлении о незыблемости социаль-
ных перегородок, на божественном происхождении привилегий. Гоббс
отказался от идеализации действительного положения вещей в области
социологии и взглянул на общество и человека глазами трезвого, практич-
ного англичанина-буржуа. Его нисколько не убедили в искренности страст-
ные проповеднические заявления как сторонников короля, так и его про-
тивников. Всюду он видел под высокопарными фразами частные, личные
интересы лиц, входящих в каждую из враждующих партий. «Когда
пресвитерианские и иные проповедники всерьез призывали к мятежу и
подстрекали людей в этой последней войне к революции, кто из них не
имел бенефиций, кто не боялся потерять ту или иную часть своего дохода
из-за перемен в государстве, кто добровольно и без расчета на вознаграж-
дение выступал против мятежа столь же рьяно, как другие выступали за
него?»
Как трезвый мыслитель, Гоббс начал строить свою модель общества
с рассмотрения природы человека («Человеческая природа», «О человеке»,
первая часть книги «Левиафан»).
Человек есть физическая организация, он — часть природы. Природа
заложила в нем инстинкт самосохранения, чувства удовольствия и не-
удовольствия, какие вызывают в нем контакты с окружающим миром,
влечение к удовольствию и стремление избежать неудовольствия. «Как
будет действовать тот, кто испытывает влечение, зависит, пожалуй, от него,
но само влечение не есть нечто свободно избираемое им»,— писал Гоббс.
Учение Гоббса о человеке достаточно мрачно.
Люди, по Гоббсу, действуют «ради любви к себе, а не к другим»,
«если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они
не могут обладать вдвоем, они становятся врагами». Поэтому в «естествен-
ном состоянии» всякое сообщество людей обязательно должно вылиться во
всеобщую вражду и борьбу, «войну всех против всех». Естественное
право исходит из права каждого человека «делать все, что ему угодно
и против кого угодно». Чтобы людям не уничтожить себя в этой «войне
всех против всех», чтобы жить в условиях относительной безопасно-
сти от себе подобных, им приходится добровольно избирать себе
узду, орган насилия — государство (чудище Левиафан), отказываться от
242
естественного состояния и переходить к гражданскому обществу, действо-
вать не по инстинкту, а по разуму, который позволяет им более точно и
совершенно соблюдать их же интересы.
Итак, люди в «естественном состоянии», то есть в докультурный период,
равны от природы, у каждого человека равное право на все. Но равенства
в цивилизованном обществе быть не должно. Не потому, что это дурно, но
потому, что этого невозможно достичь. «Право всех на все невозможно
сохранить», поэтому кому-то приходится уступать свои права другому,
«отказаться от своего права», «устраниться с пути другого» и не препятст-
вовать тому, другому, «использовать свое первоначальное право». Идеи
Гоббса не являлись плодом кабинетных размышлений философа. Они но-
сились тогда в воздухе. Они содержали в себе страсти эпохи. За них или
против них лилась кровь, гибли люди под пулями или в застенках Тауэра.
До нас дошли протоколы политических дебатов, которые состоялись в
армии Кромвеля 28 октября 1647 года в предместье Лондона Пэтни на
заседании общеармейского совета. «Народное соглашение», «естественный
закон», «свобода собственности» — вот слова, которые чаще всего звучали
в речах ораторов.
По Гоббсу, в обществе одни люди должны отказаться от права делать
все, что им угодно и против кого угодно, и предоставить его другим
людям. Гоббс, конечно, взывает к человеку: «Не делай другому того, чего
бы не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе». Но этот
евангельский призыв нисколько не скрашивает его мрачную философию,
ибо такой призыв должен остаться неуслышанным, поскольку человек, по
его же, Гоббса, учению, «более хищный и жестокий зверь, чем волки,
медведи и змеи».
Из всех этих представлений о человеке исходило учение Гоббса о госу-
дарстве: «Граждане по собственному решению подчиняют себя господству
одного человека или собранию людей, наделяемых верховной властью».
Теория Гоббса о неограниченной государственной власти была по ду-
ше и Кромвелю, ставшему в конце концов неограниченным диктатором,
и Стюартам. Кромвель принял философа с почетом в Лондоне, когда он
вернулся в Англию в 1652 г., а Карл II, возвращаясь в 1660 г. из эмигра-
ции, при торжественном въезде в столицу, увидев в толпе встречавших
Гоббса, снял перед ним шляпу.
Теория Гоббса о неограниченной государственности была вызвана
смутой, анархией, которая обычно сопутствует революции и которая имела
место в Англии в XVII столетии. Разгул страстей, жестокости, которые
позволяли себе обе враждующие партии, убеждали Гоббса в правильности
его представлений о человеке, и то смятенное состояние «войны всех против
всех» в Англии, над которой «нависали кровавые тучи междоусобной
распри», по образному выражению одного парламентского декрета, убеж-
дали его противопоставить своеволию народа суверенность власти.
Однако идея бесконтрольности государства противоречила главным по-
литическим принципам буржуазии — свободе предпринимательства и непри-
косновенности собственности. Бесконтрольная власть государства не обес-
печивала гарантии ни того, ни другого. Уже в ходе самой английской
буржуазной революции возникла идея разделения властей, которую сто лет
спустя во Франции провозгласил Монтескье («Дух законов»).
243
Вождь партии левеллеров (плебейской части населения) Джон
Лильберн заявлял в феврале 1649 г.: «Неразумно, несправедливо и губи-
тельно для народа, чтобы законодатели были одновременно и исполните-
лями законов». Английское буржуазное общество утвердилось на принципе
разделения властей.
ДЖОН МИЛЬТОН
Английская революция нашла своего поэтического истолкователя, свое-
го поэта-трибуна в лице Джона Мильтона. Он воспел ее, прославил.
Он ввел ее в храм искусства, возвел в идеал эстетически прекрасных
форм. Он отбросил все неприглядные черты ее реального облика и оставил
для веков только то, что было в ней действительно прекрасно — восстание,
бунт возмущенного человеческого достоинства против всех тиранов и всяче-
ской тирании и идею свободы, возвышенную и притягательную во всей ее
туманной неопределенности.
Пожалуй, только он один в XVII столетии понял и оценил всемирно-
историческое значение событий, происшедших на его родине.
Начиная с 1640 года и до 1660-го, вплоть до возвращения в Англию
Стюартов, он на службе революции (секретарь при правительстве Кром-
веля).
В 1660 году произошла реставрация. К власти снова пришли аристокра-
ты... О Мильтоне забыли. Жалкий слепой старик, казалось, был наказан
самой судьбой. Он жил в маленьком домике на окраине Лондона, всеми
оставленный, бедствовал, голодал и творил. За тринадцать лет создал
самые значительные свои произведения (поэмы «Потерянный рай», «Воз-
вращенный рай», трагедию «Самсон-борец»).
В его поэмах воплощена ветхозаветная история, но ею дышит современ-
ная ему Англия.
244
«ПОТЕРЯННЫЙ РАИ»
...тот, кто в злые дни, жертва злых языков, в бедности,
в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души
и продиктовал Потерянный Рай.
А. С. П у шкин
Едва мы открываем поэму «Потерянный рай» Джона Мильтона, как
на нас обрушиваются штормовые ветры, грозы, раскаты грома, нас
охватывают огненные языки адского пламени. Мы видим, как сотря-
саются скалы, разверзается твердь, рушатся миры и чудные лики повержен-
ных ангелов предстают перед нами в гордой и превечной своей красоте.
Какая сила, какой темперамент клокочет в груди поэта! Истый сын Англии,
островной страны, окруженной холодными морями, населенной суровыми и
отважными людьми, воспитанными морем и опасностями, он не мог быть
иным. Потомок Шекспира, предок Байрона, он, как и они,— весь энергия,
порыв, отвага и мужество. Шекспир, Мильтон и Байрон—три ветви одно-
го могучего дерева. Пушкин сравнивал Байрона с морем:
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.
Это целиком относится и к Шекспиру, и к Мильтону. Их роднит темпе-
рамент, огромная сила энергии.
Итак, мы в сфере космических образов, где пребывают две недоступные
человеческому разумению константы — Вечность и Бесконечность. Перед
нами грандиозная картина мироздания. Это не отвлеченное умствование,
это поистине поэтическая картина, яркая, ослепительная, созданная вооб-
ражением поэта, восхищенного и очарованного вселенной. Как создавался
этот мир? Бесформенная громада вещества собралась в одно место, не-
обузданный хаос познал законы, беспредельность обрела границы. Исчезла
тьма, воссиял свет, и неустройство обрело порядок. Четыре стихии —
вода, огонь, воздух и земля — заняли свои места во вселенной. Тончайшее
эфирное вещество распространилось по миру, частью образовав звездные
шары и омывая их. Один из шаров — Земля, освещаемая лучами Солнца
и Луны.
Не все прекрасно в мире. Есть мрачные, недоступные жалости и снис-
хождению силы. Их Мильтон облекает в символические образы Ада. Там
течет река смертельной ненависти Стикс, там — глубокий Ахерон — река
смерти, там—тихие струи Леты, они дают забвение. Кто пьет из Леты,
забывает прошлое и настоящее, радости и печали. Но стережет ее страш-
ная Медуза с головой, увитой змеями. Тщетно мученики спешат к реке,
чтобы хоть каплей усыпительной влаги омочить губы и познать забве-
245
ние, вода бежит от иссохших их уст, и нет им покоя. Ледяные пустыни,
пламенеющие горы, дышащие жаром озера, пропасти, болота, бледные тени
вечных страдальцев, стоны, плач! Здесь замирает жизнь, здесь царствует
смерть. Сюда низринул Бог восставшего Люцифера (Сатану) и его много-
численных сподвижников, восставших ангелов. Эту адскую страну омывает
мрачный океан, поглотивший Время и Пространство, огромное царство
Хаоса и первобытной Ночи, прародительницы вселенной. Картина исполне-
на мрачного величия.
Сам же Бог пребывает где-то в недоступных сферах, полных лучезар-
ного сияния. Там живет он в опаловых башнях, сапфировых крепостях. От
жилища Бога тянется золотая цепь к далекой звездочке — Земле. Земля!
Она прекрасна. Вот такою увидел ее первый человек, Адам, сотворенный
из праха Богом:
«Вижу небеса. Несколько минут гляжу на беспредельный свод. По-
буждаемый неведомой силой, встаю... Горы, долины, тенистые рощи, поля,
прозрачные источники! Слышу пение птиц. Природа улыбается мне, благо-
ухает. Радость и восторг охватывают меня. Смотрю на самого себя, на
свои руки, ноги. Вот я иду, ноги мои легкие, гибкие. Хочу говорить, и язык
повинуется мне и дает имена всему виденному мною. «Солнце,— воскли-
цаю я,— и ты, Земля, и вы, горы, долины, реки, леса, и вы, живые созда-
ния, скажите, как явился я здесь? Кто даровал мне это блаженство? Ах,
возвестите, как я могу познать это?..»
Те же чувства испытывает и подруга Адама Ева:
«Все приятно и сладостно мне — прохлада утра освежает меня, пение
птиц веселит меня. Солнце озаряет своими первыми лучами мир, играет в
росе, плодах, цветах и зелени, аромат испаряющейся влаги после дождя
услаждает мое обоняние. Прекрасна тишина наступающего вечера, и без-
молвные ночи, и голос соловья, и свет луны, и блеск огней...»
Мильтон очарован миром, он славит его красоту с какой-то трагической
болью, как человек, навсегда потерявший его и только теперь постигший,
какое сокровище он утратил. Мильтон был слеп, когда живописал много-
красочную картину мира.
«Вот ночь. Все успокоилось. Заснули звери в земных ложах своих,
птицы в гнездах, и только соловей поет любовь, и внемлющее безмолвие
наслаждается голосом его. Луна, овеянная мрачным величием, раскидывает
серебристую свою мантию. Грядет ночь. Тишина всей природы зовет к от-
дохновению. Роса сна нежно смежает отягченные вежды».
Однако превыше всех созданий природы и прекрасней — Человек.
Мильтон в духе Ренессанса прославляет его. Как бы ни корил он в послед-
них песнях своей поэмы его пороки, его несовершенства, он полон веры в
обновление человека, в торжество лучших его начал. Мильтон с восторгом
и упоением рисует физическую красоту первых людей, то есть вообще
человека:
«Они были наги, но не стыдились наготы своей. Чистота непорочности
была их одеянием. Белокурые волнистые волосы ниспадали у Евы до
самой земли и были подобны нежным лозам винограда. Величественные
кудри обрамляли гордое и мужественное лицо Адама. Он был сотворен для
глубокомыслия и мужества, она—для нежности и очаровательной преле-
сти. Он—для Бога, она — и для Бога и для человека».
246
Даже Сатана, позавидовавший людям, вознамерившийся погубить их и
тем досадить ненавистному Богу, даже он, увидев Адама и Еву, не смог
побороть в себе влечения к ним. Как они прекрасны! Сколько в них совер-
шенства! Сотворенные из недр земных, они почти равны лучезарным сы-
нам неба! Сатана говорит, как бы обращаясь к ним: «Я не враг ваш.
Я пришел, чтобы дать вам новые радости. Я соединюсь с вами взаимной
любовью. Я буду жить с вами, и ничто нас не разлучит. Перед вами от-
кроются врата ада. Ад широк и обширен, в нем будет вольготно и вам
и вашему многочисленному потомству».
По библейской легенде, первородный грех заключается в том, что Ева,
соблазненная Сатаною, отведала яблоко с запретного дерева—древа
познания добра и зла. Ева прельстила и Адама, и он тоже нарушил запрет.
Отведав запретный плод, они познали плотскую любовь и, как следствие
ее,— стыд. Всякое соитие мужчины и женщины христианской религией
объявлялось делом грязным и постыдным. Зачатие Христа, как гласит ле-
генда, совершилось без участия мужчины — зачатие непорочное.
Отношения Адама и Евы до злополучного яблока были невинны, и лишь
потом они приобрели сексуальный характер. Так по Евангелию. Мильтон
отошел от такого толкования.
Вот как рисует он идиллическую сцену первой встречи Адама и Евы:
«Ева, только что сотворенная (из ребра Адама), открыла впервые глаза
свои. Райские сады предстали ее очарованным взорам. Она встала, подо-
шла к водоему и увидела отражение свое. Она не знала, что чудный облик,
который она видела в зеркале воды, ее собственное отражение, и как зача-
рованная глядела на него, не в силах оторваться. И тогда она услышала го-
лос Адама:
— То, чему ты дивишься, есть собственный твой образ. Но иди ко мне и
ты увидишь не отражение, а живую плоть.
Адам стоял под тополем, высокого роста, стройный и мужественный.
Гордая его осанка сперва смутила Еву. Она не нашла в нем нежной преле-
сти, что пленила ее в том отраженном облике, что увидела она в воде, и,
разочарованная, отвернулась и пошла прочь, но Адам догнал ее.
— Сладкое мое утешение, половина души моей, неразлучная моя
подруга!»
Обнявшись, они удалились в кущи. Ева усыпала супружеское ложе
цветами. Мильтон с восторгом и вдохновением слагает гимн плотской
любви:
«Благословляю тебя, супружеская любовь, источник жизни».
S!
САТАНА
Апофеоз восстания против авторитета.
В. Г. Белинский
Главным героем поэмы стал Сатана, олицетворяющий собой идею
бунта. Он бросает вокруг себя мрачные взоры, в них тоска и отчаяние,
неутолимая ненависть и неукротимая гордыня. Бог разверз перед
ним пустыню скорби и смерти, океан неугасимых огней, страну бедствий и
вечных стонов, но гордое, непреклонное лицо Сатаны, опаленное небесной
молнией, бесстрастно и полно презрения к победителю.
«Мне ли трепетать перед тем, кто так недавно дрожал за свою власть,
мне ли склонять перед ним свою голову, опускаться на колени, молить
о пощаде! Пусть он, торжествуя, с упоением восторга пользуется беспре-
дельной властью на небесах, я останусь вечным непримиримым врагом его
с вечной жаждой мести». Так говорит мильтоновский Сатана. И он прекра-
сен, этот падший ангел, в своем непокоренном величии. Очи его сверкают.
Он подобен древним титанам, что когда-то колебали трон Юпитера. Вот
он, огромный, парит, широко распахнув свои могучие крылья. Он про-
щается с небом. Отныне его царство — ад...
«Прими, о бездна, своего нового владыку. Здесь я свободен».
Сатана повержен, но не уничтожен. Бог не смог отнять у него силы.
Иногда он принимает облик Ангела: «Улыбка небесной юности заиграла
на его лице, весь он заблистал красотой и нежностью, волнистые волосы
кольцами разметались по плечам, легкие крылья, усеянные золотыми
звездами, заиграли в лучах солнца».
Вот он сражается с архангелом Михаилом. Оба они будто два бога,
решающие судьбу небес, как два солнца огромной величины, в то время
как все вокруг них объято ужасом. Сатана, покрытый золотой и адаманто-
вой броней, гордо выступая, подобен башне. Он ранен. Из эфирного его
существа вытекает пурпурная жидкость, подобная нектару. Постигал ли
Мильтон, какую славицу он пел своему Сатане, какой восторг перед вели-
кой силой бунта и непокоренного мужества возбуждал он в своем читателе?
Во всяком случае его читатели — Шамфор во Франции, Шелли в Англии,
Белинский в России — увидели в его Сатане «апофеоз восстания против
авторитета» (Белинский).
Сатана в поэме не одинок. Его окружают тьмы и тьмы сподвижников,
пошедших за ним и также низринутых Богом с небесных высей. Среди его
248
приближенных языческие боги, Озирис и Изида, Мамон, Молох и др.
Ближайший его помощник — Вельзевул. Повстанцы обсуждают свое поло-
жение. Выступают с трибун важные и красноречивые ораторы. Их слова
и речи вызывают крики одобрения, рукоплескания. Все это напоминает бур-
ные заседания английского парламента в годы революции. Торжественно
встает со своего места Вельзевул. Его лицо озарено мудростью, оно дышит
неутомимой ревностью об общем благе, благе отвергнутых небом сил.
Все затихает при звуке его голоса. Он говорит о невозможности примире-
ния с Богом:
«Что может нам дать мир с небом? Темницы, цепи и лютые истязания».
Постигал ли Мильтон, что в хор падших ангелов он вплетал музыку
революции?
Образ падшего бога не раз волновал воображение поэтов. Любопытно
сравнить разные лики этих падших богов, начиная с древнегреческого Про-
метея и кончая Мефистофелем Гете. Люцифер горд, подобно Прометею,
но у него нет того благородства, какое отличает греческого богоборца.
Прометей страдает за идею справедливости, мильтоновский Сатана оскорб-
лен в своем личном достоинстве, его гордая душа не допускает того, чтобы
кто-то командовал им. Он рассуждает: «Пусть ад, но я в нем первый».
Лучше быть повелителем в преисподней, чем рабом на небесах. Он при-
влекает наши сердца, как всякая сильная, страдающая личность. В гордой
своей непримиримости он прекрасен:
...Мятежный властелин,
Осанкой статной всех превосходя,
Как башня высится. Нет, не совсем
Он прежнее величье потерял!
Хоть блеск его небесный омрачен,
Но виден в нем Архангел. Так, едва
Взошедшее на утренней заре,
Проглядывает солнце сквозь туман
Иль при затменье скрытое Луной
На пол-Земли зловещий полусвет
Бросает, заставляя трепетать
Монархов призраком переворотов,-
И сходственно, иомеркнув, излучал
Архангел часть былого света. Скорбь
Мрачила побледневшее лицо,
Исхлестанное молниями; взор,
Сверкающий из-под густых бровей,
Отвагу безграничную таил,
Несломленную гордость, волю ждать
Отмщенья вожделенного.
Перевод Арк. Штейнберга
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свобода рождает колоссов и крайности.
Стендаль
Ренессанс нес на своих знаменах идею Свободы. Освободить человека
от всех социальных и духовных пут, дать ему возможность пол-
ностью раскрыть свои потенциальные силы — вот его девиз. Но
свобода иногда становится коварным даром богов. Ослабление сдержи-
вающих начал открывает путь разгулу черных Инстинктов, а свободное,
безудержное пользование жизненными благами разрушает здоровый
организм.
Русский философ Бердяев усмотрел в Ренессансе опасные тенденции.
Он полагал, что слишком интенсивное развитие истощит силы человеческие.
«В то время как средневековый период истории, с аскетикой, монаше-
ством и рыцарством, сумел предохранить силы человека от растраты и
разложения для того, чтобы они могли творчески расцвести в начале
Ренессанса, весь гуманистический период истории отрицал аскетическую
дисциплину и подчинение высшим, сверхчеловеческим началам. Этот
период характеризуется растратой человеческих сил. Растрата человеческих
сил не может не сопровождаться истощением, которое в конце концов
должно привести к потере центра в человеческой личности, личности, кото-
рая перестала себя дисциплинировать».
У Бальзака есть философский роман «Шагреневая кожа». В нем он
пригласил читателя поразмышлять о двух глаголах — «желать» и «мочь»
(voloir et pouvoir). В жизни между одним и другим, то есть желанием и
возможностью осуществить это желание, часто пролегают моря и горы, тря-
сины и дебри лесные. А что если бы их не было, если бы каждое желание
исполнялось мгновенно, что было бы тогда с человеком? — И писатель,
прибегнув к фантастике, провел такой эксперимент.
Бедному, обуреваемому страстями юноше дали клочок шагреневой кожи
с магическим свойством: она позволяла сразу же получать желаемое на-
слаждение, но при этом сокращалась, а вслед за ней сокращалась и
жизнь ее владельца.
Юноша без оглядки пустился в море радостей и всяческих утех, но
250
;'
Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа (Мадонна с цветком).
вскоре обнаружил, что шагреневая кожа катастрофически уменьшается,
что она уже на исходе, что вот-вот исчезнет, а вместе с ней и его жизнь,
и ничего изменить уже нельзя.
Так иссякли его силы, он их растратил. Юноша гибнет.
Бальзака беспокоили мысли о стремительном росте возможностей
человека, которые открываются ему по мере расширения диапазона знаний
и власти над природой. Люди, создавая «потребительское общество»,
как говорим мы теперь, в погоне за наслаждениями не погубят ли свои
жизненные силы, бездумно растрачивая их? Не нужна ли сдерживающая
узда? И эту «узду» он увидел в религии и государственной власти. «Я пишу
при свете двух истин — алтаря и трона»,— заявлял он.
Свобода! В дни Ренессанса о ней много говорили. О ней (свободе во-
ли) спорили католики и протестанты. Первые утверждали, что Бог такую
волю предоставил человеку, что человек волен творить и добро и зло,—
за добро ему воздастся раем, за зло — адом. При этом католики соглаша-
лись быть посредниками между Богом и грешниками — отпускать им гре-
хи, конечно, за определенную плату (индульгенция).
Протестанты отвергли такое посредничество, утверждая, что оно бес-
смысленно, что никакой личной воли у человека нет, что все в воле Бога.
Именно за такую несвободу возносит свои жалобы к Богу герой пьесы
Кальдерона «Жизнь есть сон». Потом, пройдя жизненный искус, он будет
славить Бога за мудрость, ибо человек, обладающий свободой воли, как
рассуждает он, в своей гордыне способен разрушить даже солнце.
* * *
Как ни странно, как ни парадоксально, на Западе в наши дни, вопреки
невиданному расцвету техники и научного мышления, философская, эстети-
ческая и художественная мысль ведет ожесточенную полемику с эпохой Ре-
нессанса, то есть как раз с тем временем, которое открыло широкую дорогу
научному прогрессу. Она же, эта мысль берет под защиту Средневековье,
заявляя, что цивилизация, начиная с эпохи Возрождения, пошла по лож-
ному пути, взяв за основу принцип: «жизнь есть мерило всех ценностей»,
утверждая, что этические ценности не имеют авторитарного происхожде-
ния, а возникают на основе человеческих потребностей, опираясь на лож-
ную доктрину о способности человека к совершенствованию. Французский
автор Люсьен Дюплесси в обстоятельной и достаточно докторальной книге
«Дух цивилизаций» усматривает в качестве одной из главных причин ны-
нешних бед человечества — техницизм нашей эпохи. Машина подчинила се-
бе человека, она стала проклятием человечества, она в конце концов, как
он полагает, погубит цивилизацию, «устремленную со времен Ренессанса к
культу разума и оприроженному гуманизму, к точным наукам и технике».
Сама эмоциональная атмосфера, в которой формируется современная
философия и искусство на Западе, крайне пессимистична.
Бог умер. Его убили гуманисты Ренессанса. Что из этого воспоследо-
вало?— Ужас, отчаяние. Потеряли свое значение все ценности. Исчезли
цели. Воцарились бессмысленность и абсурд.
Бог умер, и мы ощутили себя «покинутыми», мы брошены в мир. Те-
252
перь мы абсолютно свободны, ведь Бога нет и нет его воли над нами, ничто
и никто свыше ни к чему нас не обязывает. Но что же нам делать с нашей
свободой? Мы одиноки, и мир враждебен нам, мы ощутили мучительную
неуверенность и свое ничтожество. (Раньше с нами был Бог и грозен и жес-
ток, но ведь и милостив.) Зачем же мы живем? — Для смерти. И жизнь в
нас так слаба, что любой ветерок может погасить ее. Раньше у нас был
Бог. Он сулил нам или ад, или рай. И был смысл в нашем существовании.
Мы жили не для смерти — эти мысли мы найдем у Хайдеггера («Бытие и
время»).
Бог умер, и все обратилось в пустоту. «Бог меня не видит, Бог меня
не слышит, Бог меня не знает. Ты видишь эту пустоту над головой: то Бог.
Ты видишь щель в двери: то Бог. Ты видишь дыру в земле: то Бог. Бог
есть молчание, Бог есть отсутствие. Бог есть одиночество людское». Эти
мысли находили мы у атеиста Сартра («Дьявол и Господь Бог»). Все
это сливается в единый хор. Главные противники идей Ренессанса —
философы экзистенциализма. «Смысл моего существования определяется
лишь тем, как я захочу мыслить себе этот смысл, моей субъективностью,
моей абсолютно свободной волей, а раз так, то теряется этот смысл вообще,
уходит из-под моих ног, я ощущаю пустоту, его нет. Моя абсолютная
свобода в сущности есть мое проклятие. Раз есть только моя субъектив-
ность, то нет «обязывающих моральных законов и императивов».—
Человек обречен (какое мрачное слово.— С. А.) на свободу. Он должен
всегда выбирать, решать. Его решения чреваты последствиями не только
для него самого, но и для других» (Сартр).
И постоянно звучит в сочинениях экзистенциалистов трагическая фраза
«Мы одиноки».
«Нет никакого долга» (Сартр), нет никаких объективных ценностей,
ибо все определяется только моей субъективностью, а это «ценность без
фундамента» (Сартр). Я могу создать иерархию ценностей и могу ее опро-
кинуть. Все в моей субъективности, а раз так, то нет никакой реальной
ценности.
Свобода! Боже, какое это ужасное проклятие, нависшее над человеком!
Дайте мне Бога, поставьте надо мною грубое насилие, верните меня в цар-
ство подчинения, чтобы я вновь ощутил над собой власть сюзерена и изба-
вился от мучительного трагизма выбора, чтобы мое существование приобре-
ло для меня вне меня сущий и не мной установленный смысл! Словом, дай-
те мне все то, что имел человек во времена Средневековья и что отнял
у него Ренессанс.
«И вдруг, внезапно свобода ударила в меня, она меня пронзила,—
природа отпрянула: я был без возраста, один, одиноким в твоем ничего не
значащем мире,— как человек, потерявший свою тень. Небо — пусто, там
нет ни Добра, ни Зла, там нет никого, кто бы мог повелевать мной»
(Сартр. «Мухи»).
Бога нет. Его убили и безвозвратно. Что же остается человеку? Видимо,
одно — «Свобода смерти» (Хайдеггер).
Откуда пришли эти загробные стенания, этот ужас человека перед
всем тем, во имя чего жили, страдали и умирали поколения — а именно,
свободы воли, свободы мысли, свободы действия. Неужели трагически
заблуждались гуманисты Возрождения и правильно понимали нужды че-
253
I
Симон де Вуз. Аполлон. Деталь. 1640 г.
ловека средневековые инквизиторы? Противники тех пугающих крайностей
экзистенциализма, которые мы наблюдаем в современном искусстве (аб-
стракционизм, антироман, театр абсурда и пр. и пр.), указывают на скеп-
тицизм. Он-де разрушил чувство стабильности моральных ценностей, раз-
веял интеллектуальную ясность и доверие к истине.
Действительно, стабильность моральных ценностей была наиболее проч-
ной во времена Средневековья, ее разрушил скептицизм Ренессанса,
расчищая человечеству дорогу для научного и технического прогресса.
Прогресс ни на минуту не останавливает своего поступательного хода.
Века, прошедшие после Ренессанса, частично осуществили и еще осуществ-
ляют его программу. Человек, наконец, получил вожделенную свободу.
Его никто не может заставить работать (кроме голода), его никто не может
заставить носить определенную форму одежды (кроме моды), его никто не
может обязать придерживаться общепринятой системы взглядов, кроме
собственного страха перед общественным мнением. В наши дни уже не
сжигают на кострах за религиозные убеждения, не сажают в тюрьмы за
чтение запрещенных книг, издатели печатают одновременно «Град Божий»
Блаженного Августина и сочинения маркиза де Сада. Наконец, никто не
запрещает никакой экстравагантности ни в быту, ни в искусстве. Сло-
вом — свобода.
Но вместо того, чтобы радоваться и славить бытие, человек стал пре-
давать анафеме обретенную свободу. В чем же дело? Увы. Это оказалась
не та свобода, о которой мечтал Рабле («Телемская обитель»), Монтень
(гл. «О каннибалах»), Шекспир («Буря»).
Развитие человеческих сил не стало самоцелью. Предметом купли-
продажи стали таланты, красота, отвага, экстравагантность, уродство.
Поэтому Средневековье с его духом рыцарства, с его восторженной верой
в идеалы предстало воображению человека XX столетия как нечто более
современное в моральном плане, чем все то, что он обрел в резуль-
тате Французской революции 1789 года, положившей конец западноевро-
пейскому феодализму и завершившей дело Ренессанса.
К этому прибавилась еще одна беда, которой не знало Средневе-
ковье,— сознание потерянности. Как бы ни был задавлен человек Сред-
невековья, он сознавал себя личностью, значащей единицей. О нем, даже
самом последнем обездоленном, проклятом людьми, загнанном человеке
«заботился» сам Бог. Он, этот человек, ни на минуту не выходил из поля зре-
ния Бога. Ему, этому человеку, готовился ад или рай. Пусть ад, но с ним, с
человеком, считалось небо и Преисподняя, ибо у человека, самого послед-
него, имелось нечто бесценное — душа. За эту душу у самого дьявола мож-
но было купить очень многое — все земные блага, господство над силами
земли. Христианская религия давала средневековому человеку сознание
его значительности в космическом масштабе. Его ничтожество в обществе
воспринималось им как нечто временное, как испытание его физических и
моральных сил, и он преисполнялся гордости за умение достойно перено-
сить эти «временные» тяготы жизни. Это была иллюзия. На ней держалась
христианская религия. Не будь этой иллюзии, никакие костры и пытки не
удержали бы человека в путах церкви. Мудрецы Возрождения освободили
людей от иллюзий. На пьедестал вселенной они поставили теперь самого
человека. Он — венец природы. Этим венцом природы в их учении был
255
каждый человек. Каждый человек есть личность, какое бы место в обще-
стве он ни занимал. Поэтому так много они сделали для морального
низведения венценосцев до уровня обыкновенных людей (Рабле, Монтень,
Шекспир).
Однако, для того чтобы каждый человек осознал себя личностью в пла-
не идей Ренессанса, необходимо было истинное царство свободы и, конечно,
большая духовная культура.
Но что же получилось на практике? Монополизированное производство,
печать, радио, телевидение стали работать на «ширпотреб», спекулируя
на низменных чувствах, культивируя инстинкты толпы, ибо массовость в ус-
ловиях высокого техницизма обеспечивала наибольший доход. И личность,
вместо того чтобы раскрывать свои индивидуальные качества, стала ниве-
лироваться, превращаться в песчинку. Войны превратили технику в орудие
массового уничтожения. Мог ли отдельный человек сознавать значитель-
ность своей личности, когда одна атомная бомба, брошенная с самолета
одним пилотом, уничтожила сотни тысяч людей? А печи, газовые камеры и
прочие ужасы фашизма?
В чем же видят спасение человечества? — Чаще такого спасения не ви-
дят вообще. Экзистенциалисты уповают на личное благородство каждого
отдельного индивидуума. Поскольку никаких объективных моральных пре-
град нет, поскольку человек не несет никакой ответственности ни перед
природой, ни перед обществом (он абсолютно свободен!), остается одно —
ответственность перед самим собой. Отсюда — «быть самим собой», этот
главенствующий принцип экзистенциалистской морали, значит быть чест-
ным, гуманным, благородным ради самого себя, своих личных, принятых на
себя нравственных обязательств.
Таковы эмоции. Не будем, однако, слишком драматизировать положе-
ние. Ренессансу не грозит моральное ниспровержение. Однако, бросая об-
щий взгляд на все, что писалось и пишется о нем, нельзя не заметить,
что восторженное прославление Ренессанса, которое наблюдалось в XVIII и
XIX веках, сменилось теперь смущенным, испытующим и беспокойным
сомнением в его ценности.
* * *
Пусть размышляют, пусть спорят философы, историки, политики о судь-
бах человечества! Ясна одна непреложная истина: эпоха Возрождения
оставила нам в наследство бесценные и несравненные материальные и ду-
ховные сокровища. Чего стоит один Шекспир! А Сервантес, Рабле, Мон-
тень, Боккаччо, Петрарка! А Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Бенвенуто Челлини и множество других!
Как богата эпоха Возрождения талантами! Как богата вообще чело-
веческая культура! Как много истинных сокровищ хранит она в себе!
Наука прозревает бесконечные дали загадок природы, разгадывает их,
совершенствует наш быт и охраняет нас от той же природы, когда она к
нам враждебна. Литература, живопись, скульптура, архитектура, музыка
украшают нашу жизнь, и будем благодарны создателям этих сокровищ!
256
СОДЕРЖАНИЕ
От автора
Человек и прогресс
РЕНЕССАНС
Феномен Ренессанса
Великие открытия
Реформация
Мартин Лютер
Жан Кальвин .
Игнатий Лойола .
Хронология Ренессанса
Италия
■' Франческо Петрарка
Джованни Боккаччо
Эразм Роттердамский
Франция
Поэзия . .
Проза . .
Искатель мудрости. Франсуа Рабле
Книга чудес .
Искусство Рабле .
Мишель Монтень
«Опыты» .
Лирическое мечтание
Бродяжничество ума
Священная лампа истины
Цитаты как элемент искусства
Психологические портреты
Автопортрет . . .
Англия
Шекспир
Сонеты ...
Апофеоз любви. «Ромео и Джульетта»
В краю красоты и счастья. «Двенадцатая
ночь, или Что угодно?»
Злодейство и возмездие. «Макбет»
3 Отверженные. «Король Лир» 129
5 Трагедия ума. «Гамлет, принц датский» 133
20
23
24
25
27
29
35
42
ПОСТРЕНЕССАНС
XVII ВЕК
Испания
Сервантес
Дон Кихот и донкихотство
Лопе де Вега
«Звезда Севильи»
Кальдерон
«Жизнь есть сон»
Франция
55
57
59
62
73
76
81
89
91
94
96
98
108
111
115
121
124
Классицизм
Пьер Корнель .
«Сид»
Жан Расин .
«Андромаха»
Прециозная литература
Писатели-афористы. Ларошфуко
у*Жан-Батист Мольер
«Смешные жеманницы»
«Мещанин во дворянстве»
«Мизантроп»
Лафонтен . .
Басни
Повесть об идеальной любви. «Принцес-
са Клевская»
Англия после Шекспира
Буржуазная революция в Англии
Оливер Кромвель
Томас Гоббс
Джон Мильтон .
«Потерянный рай»
Сатана
Заключение . .
156
160
166
171
177
180
190
192
194
200
204
211
215
217
220
221
223
226
227
229
236
238
241
244
245
248
250