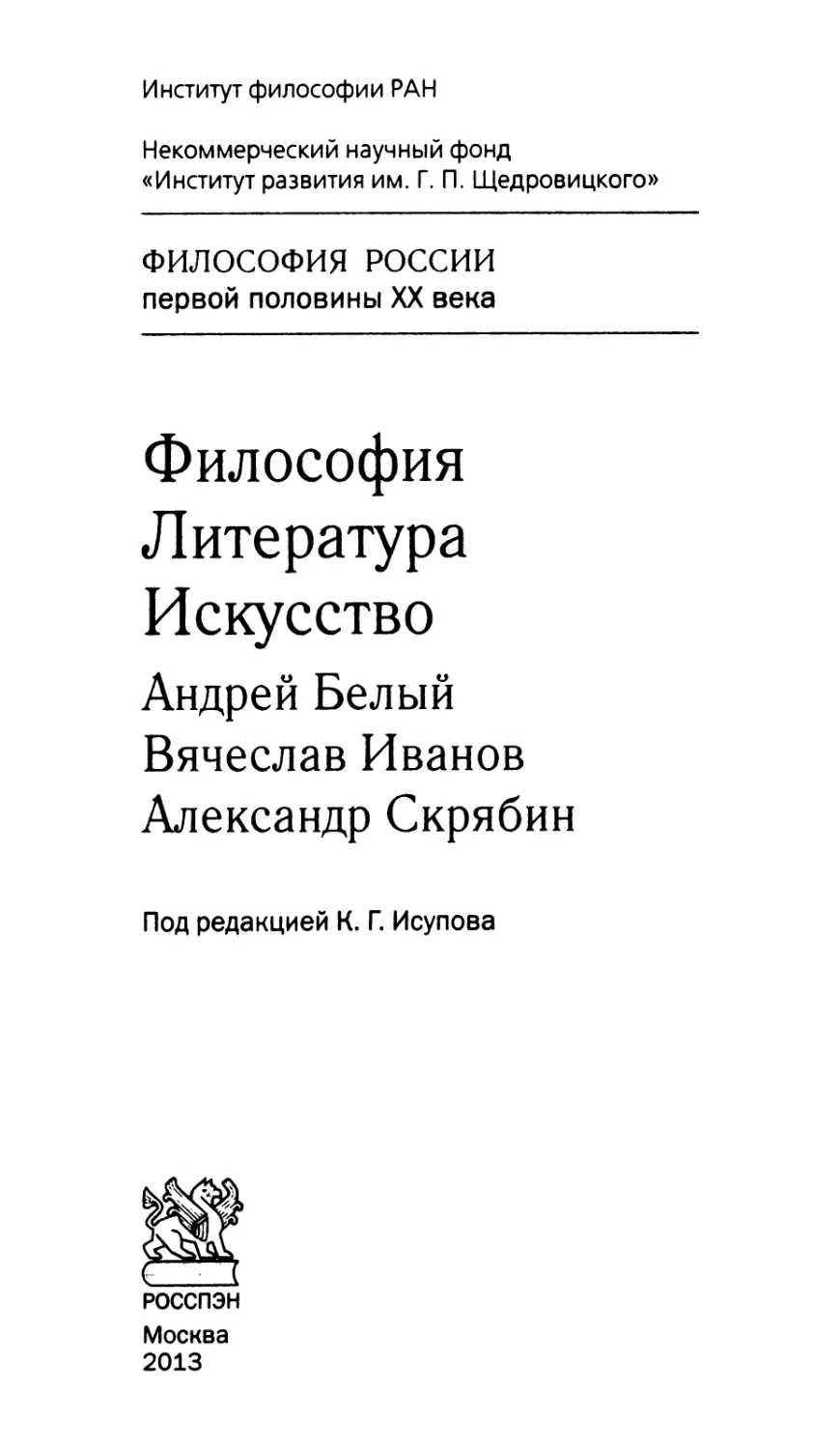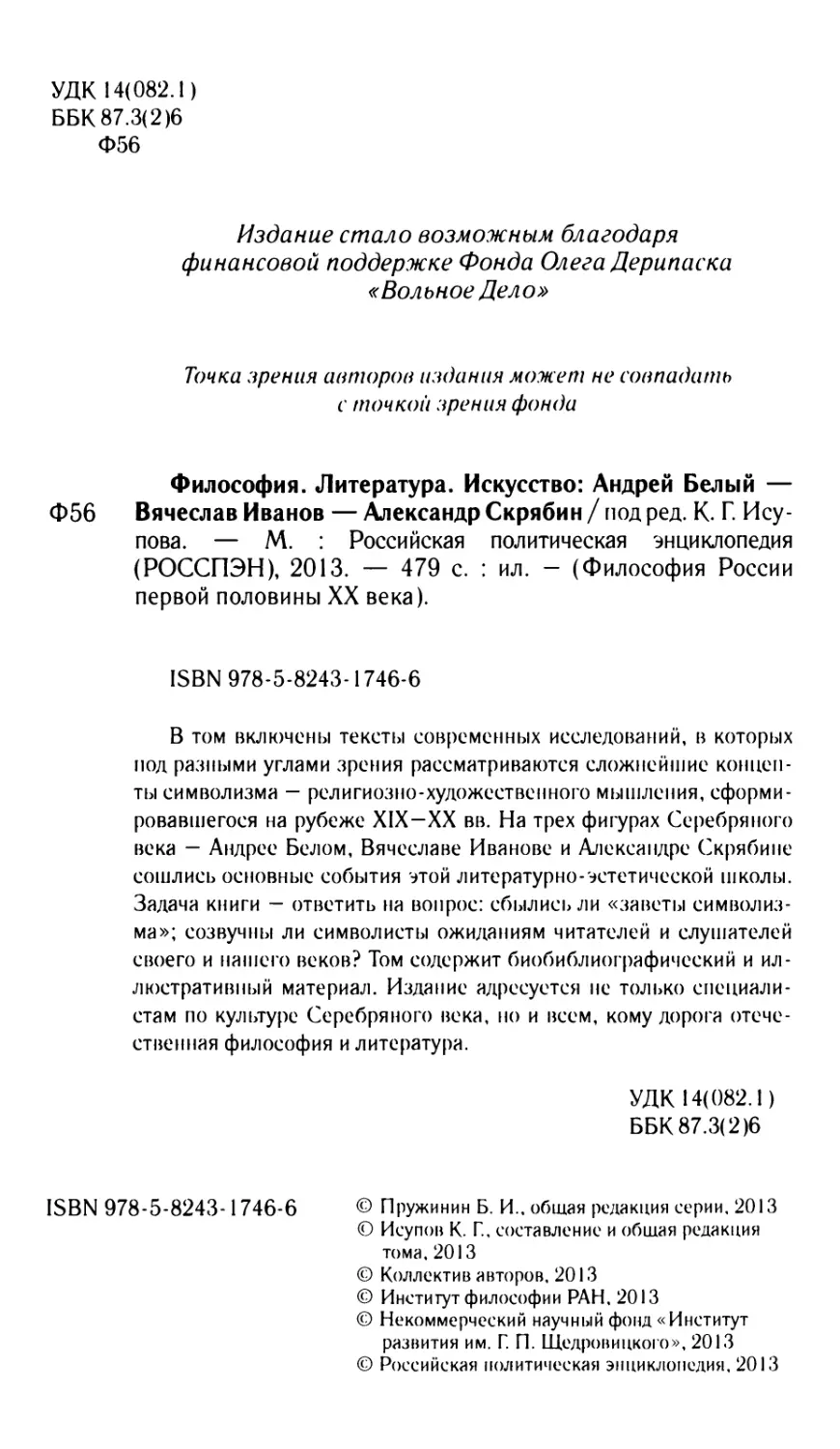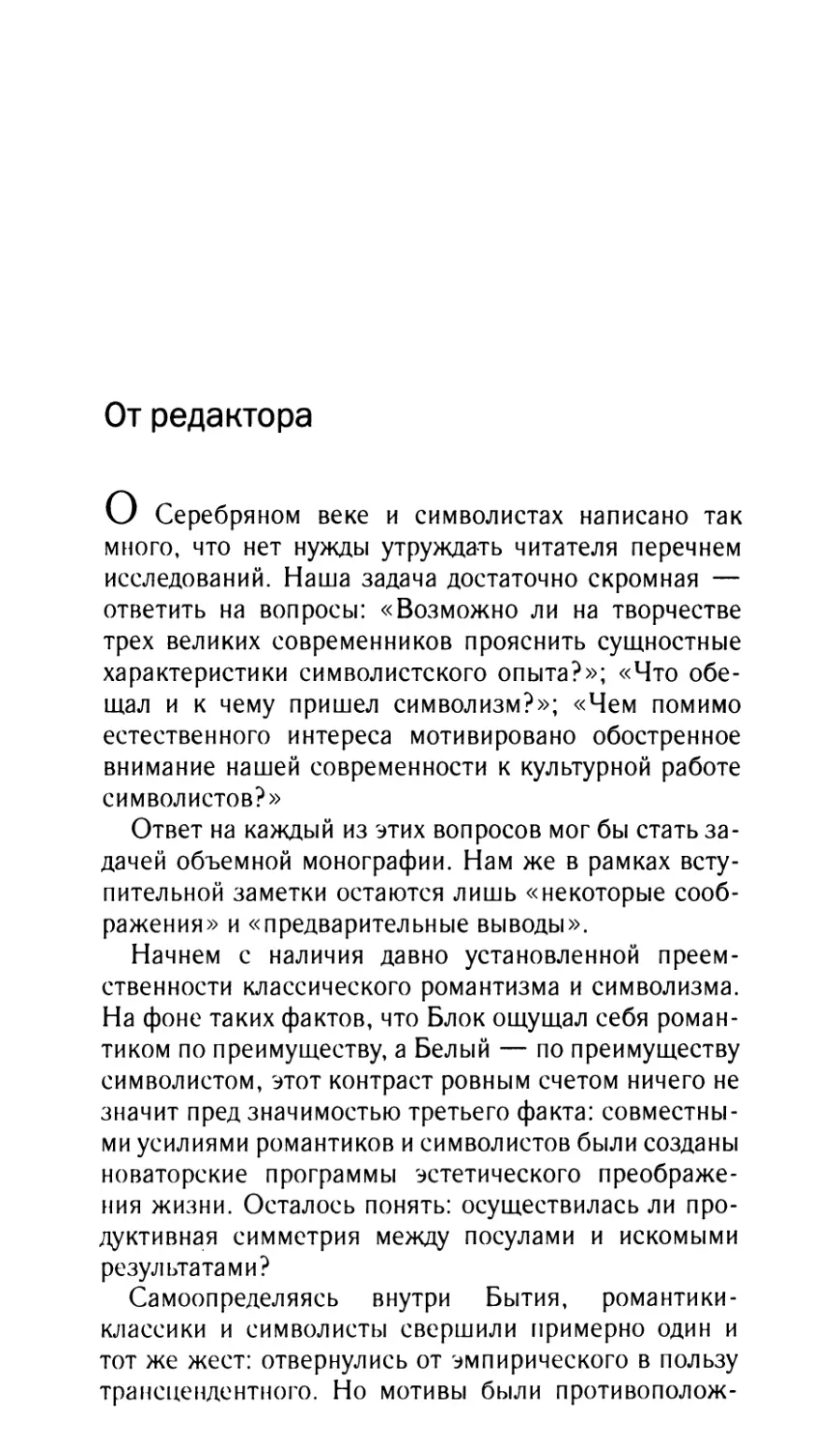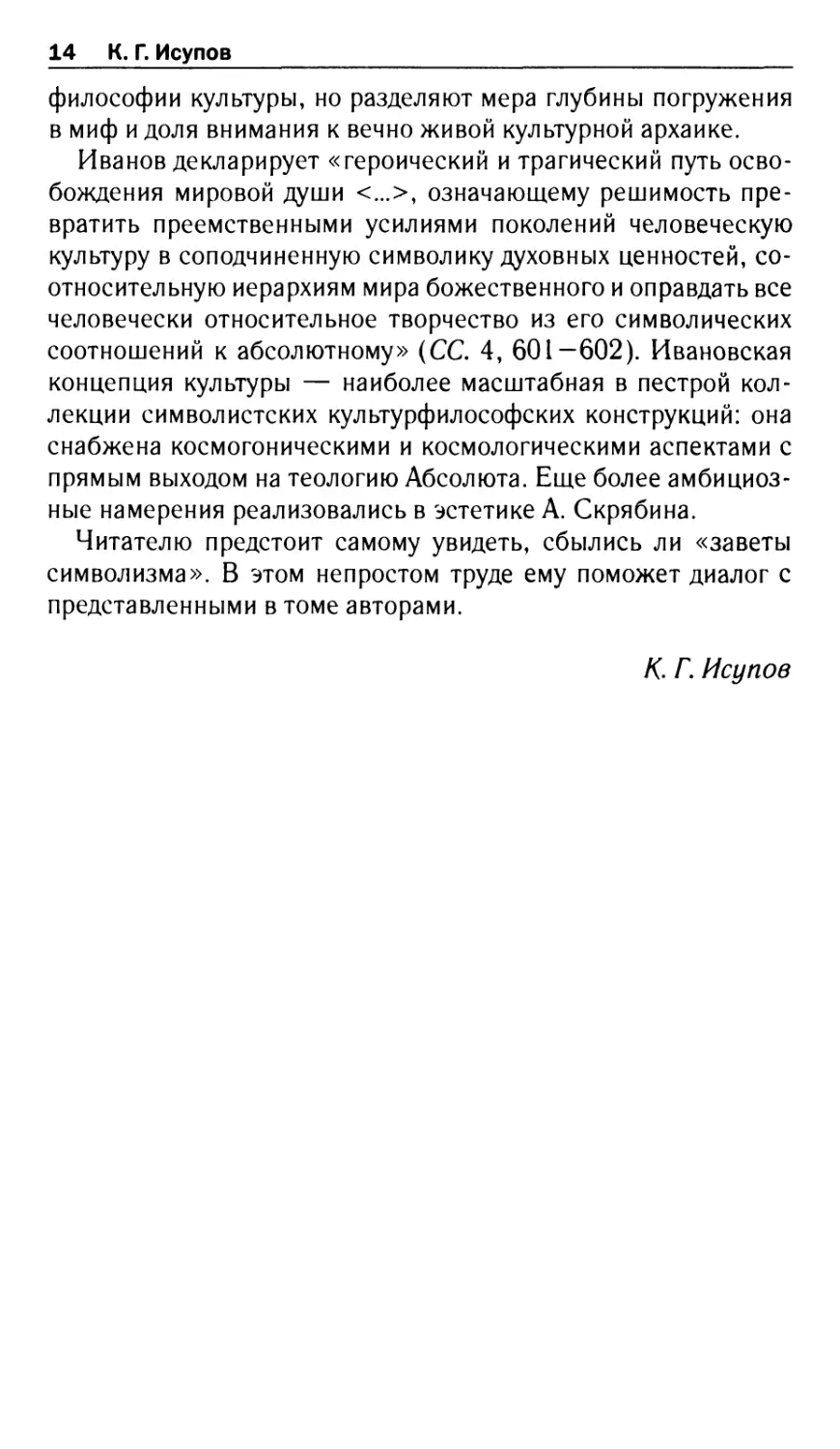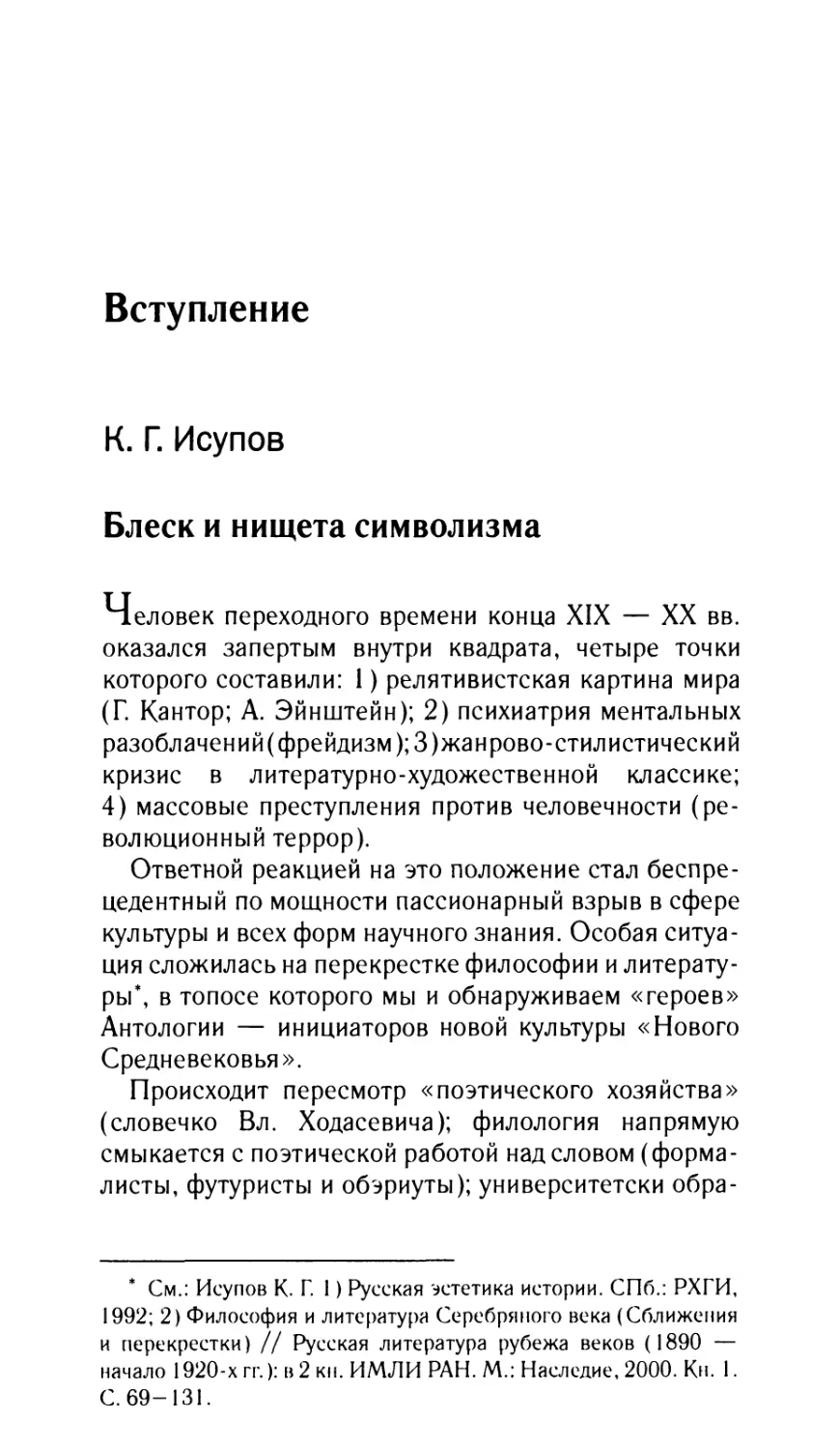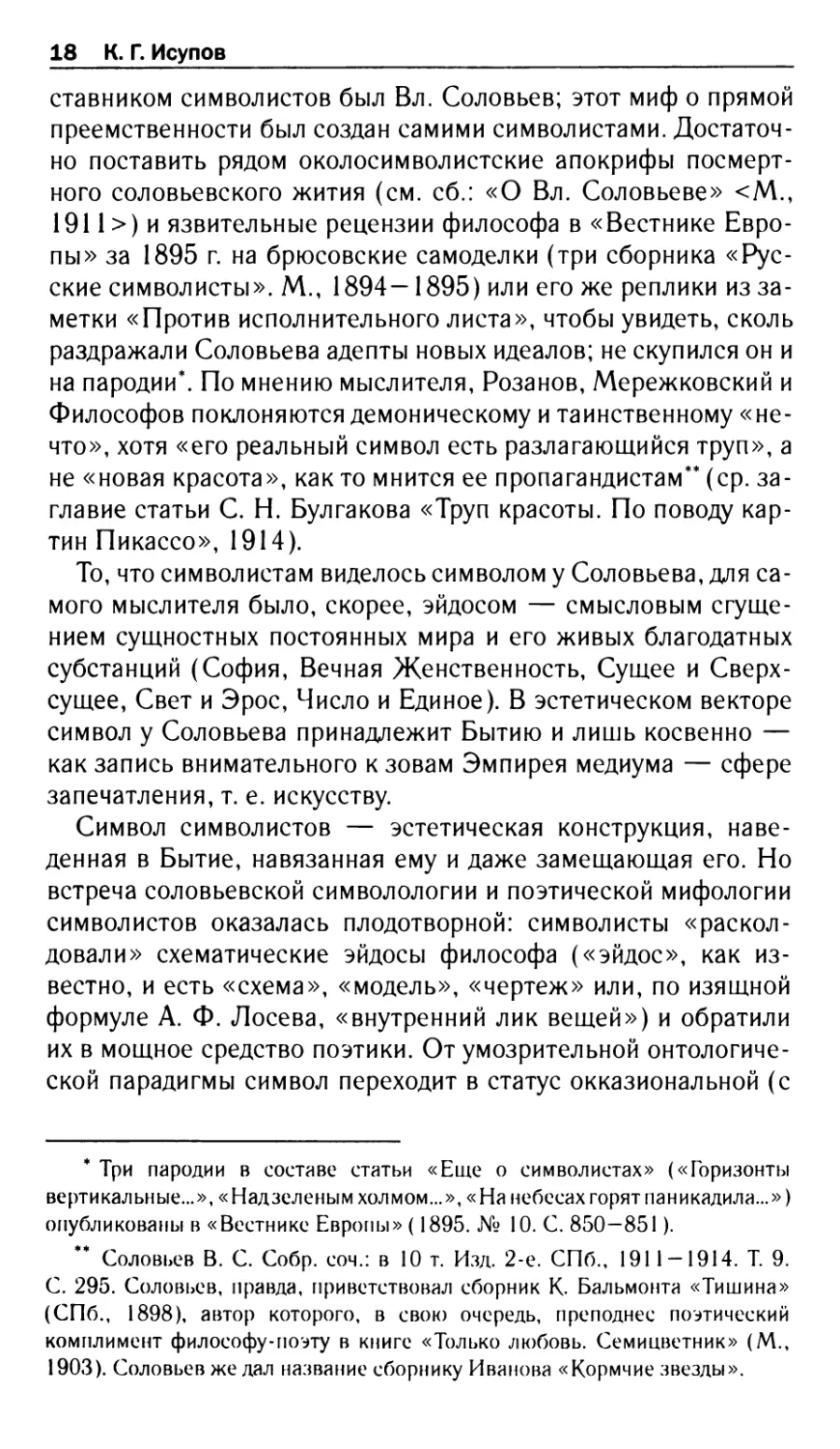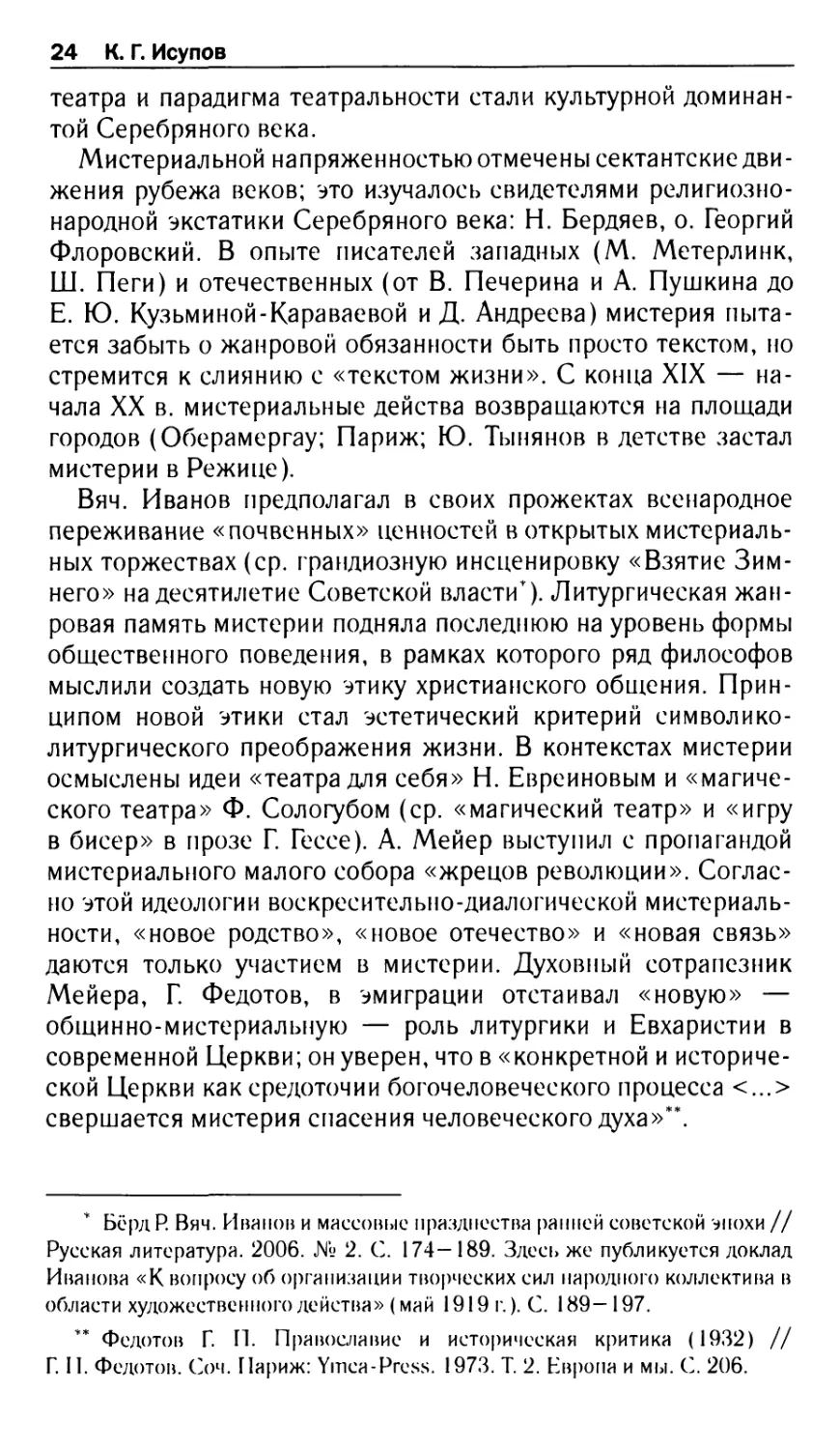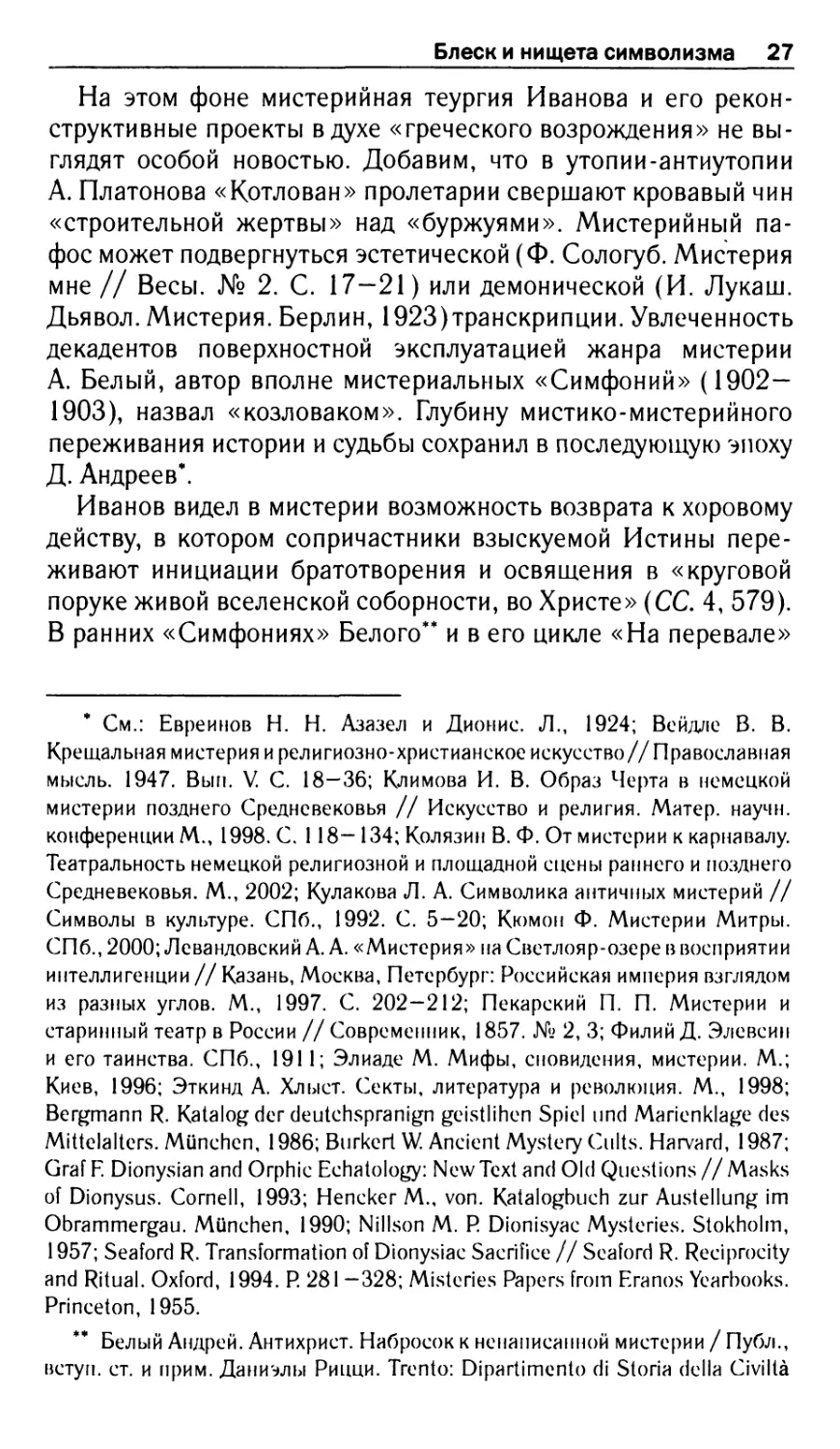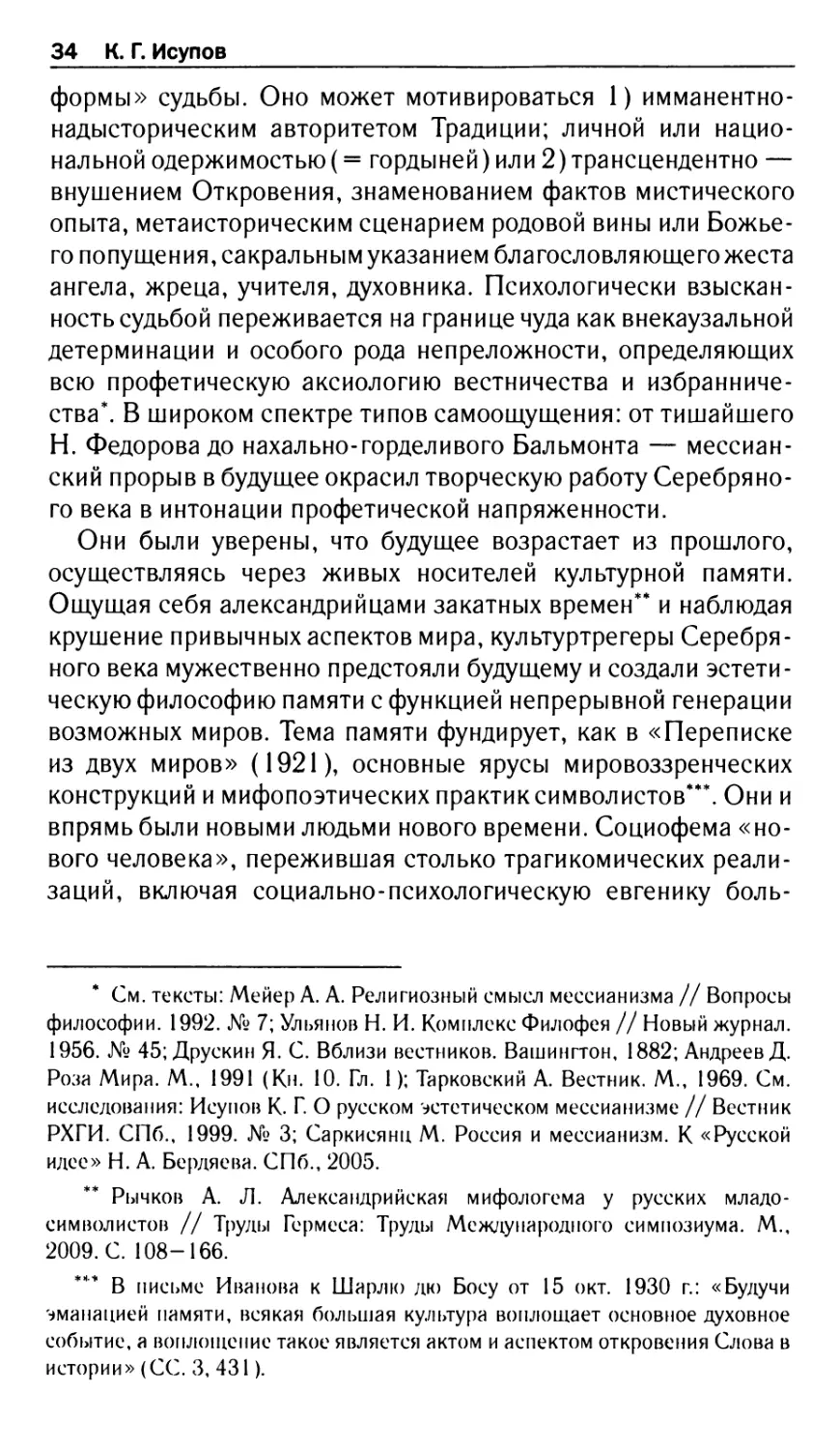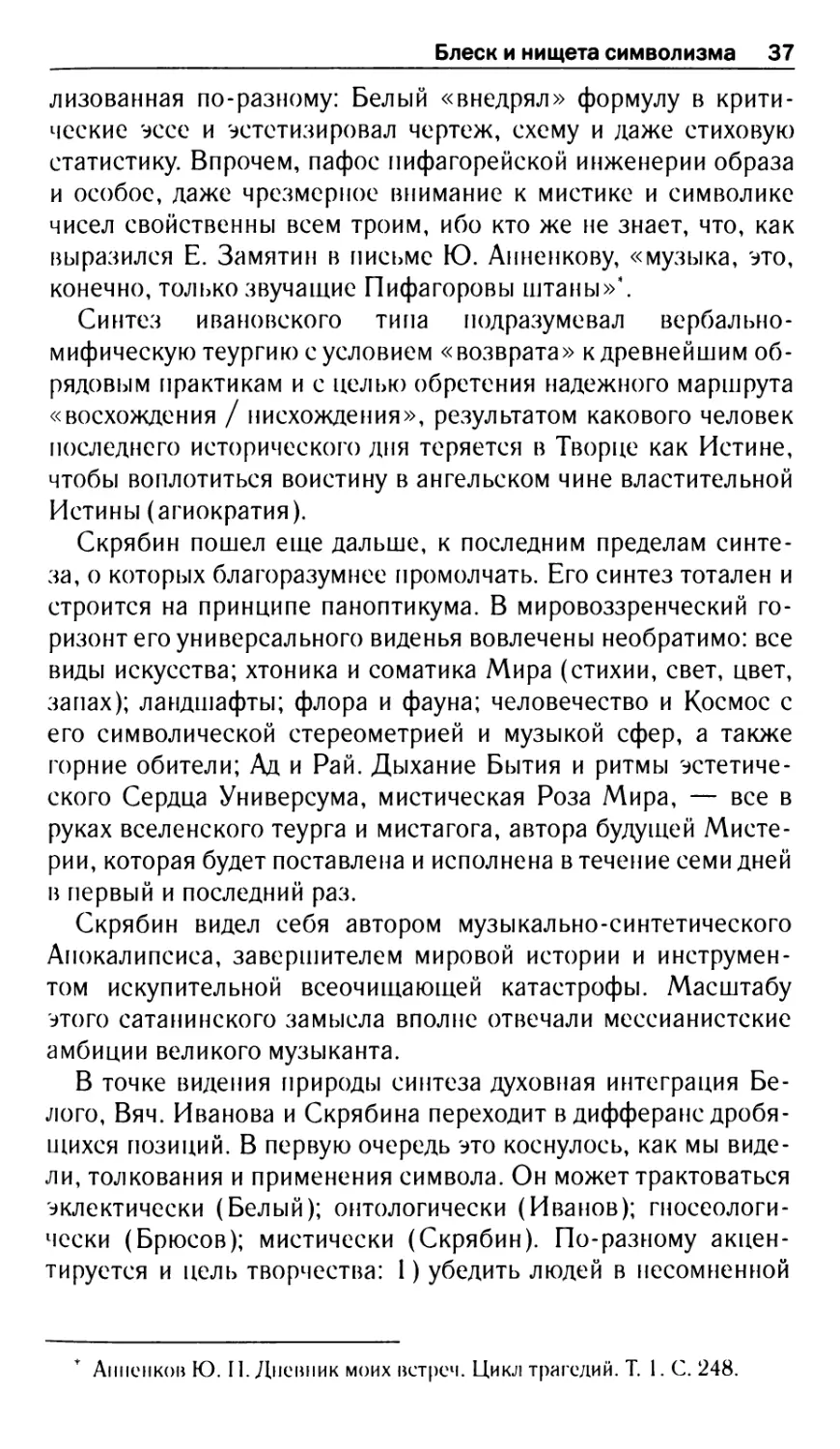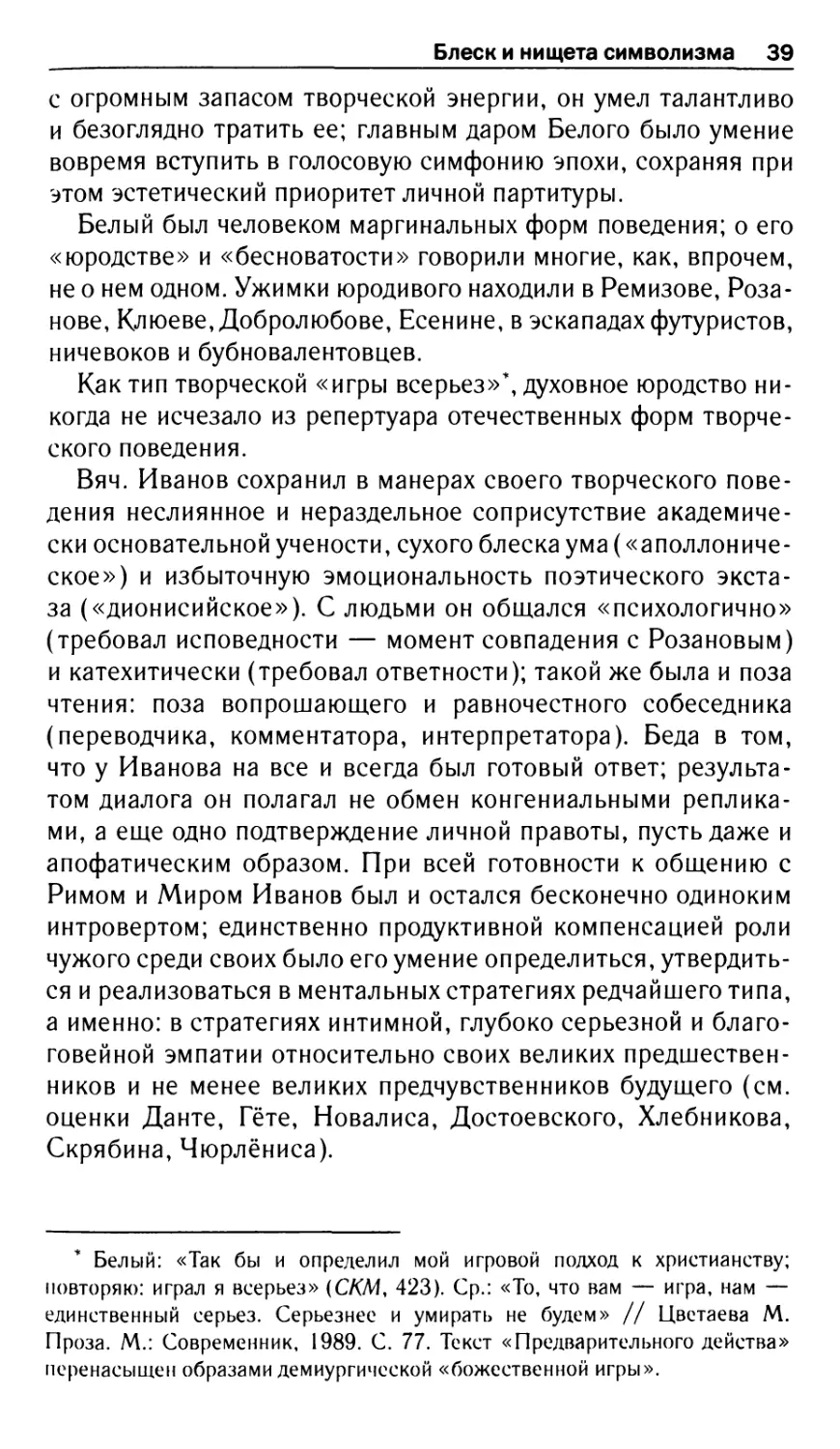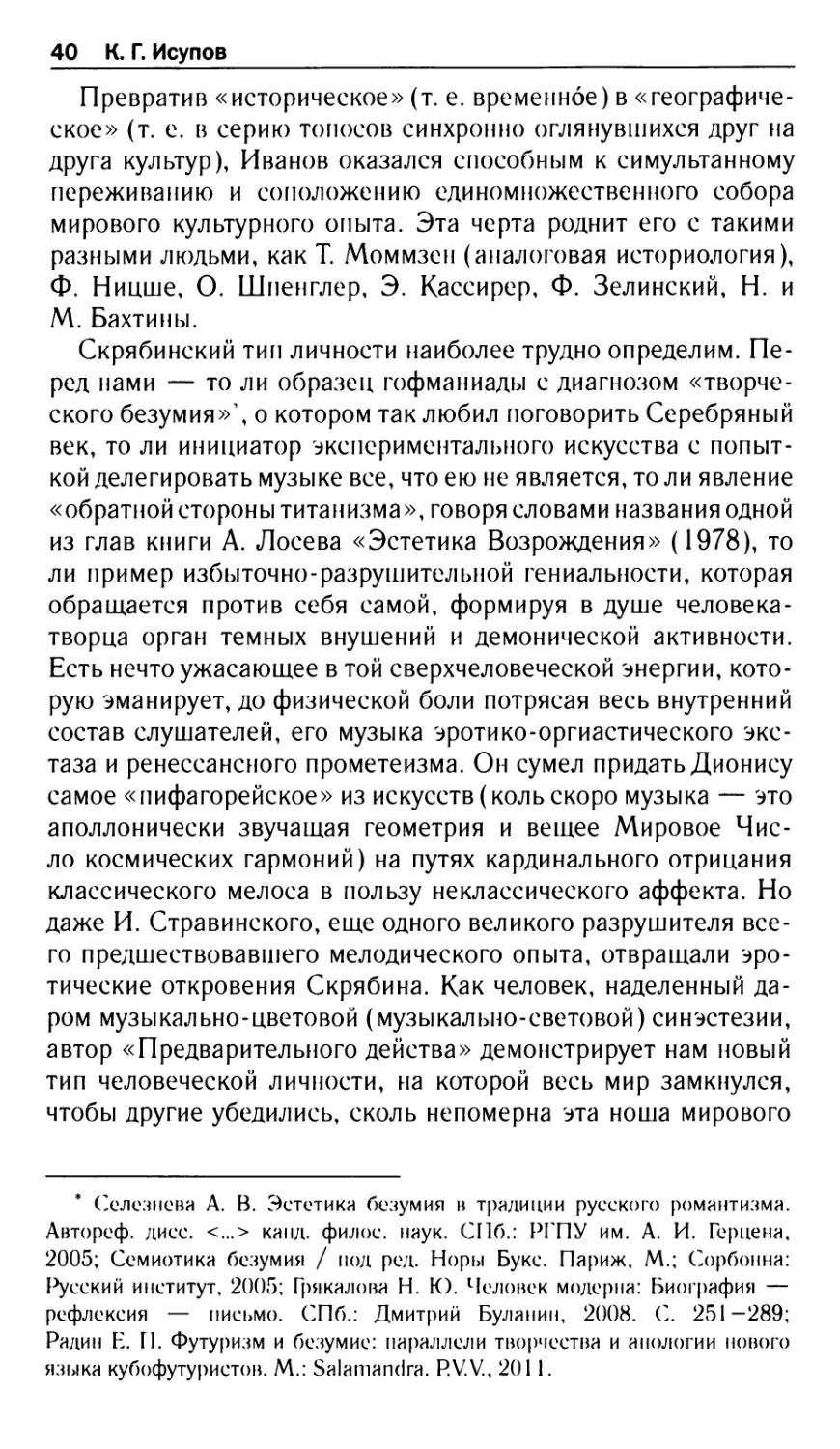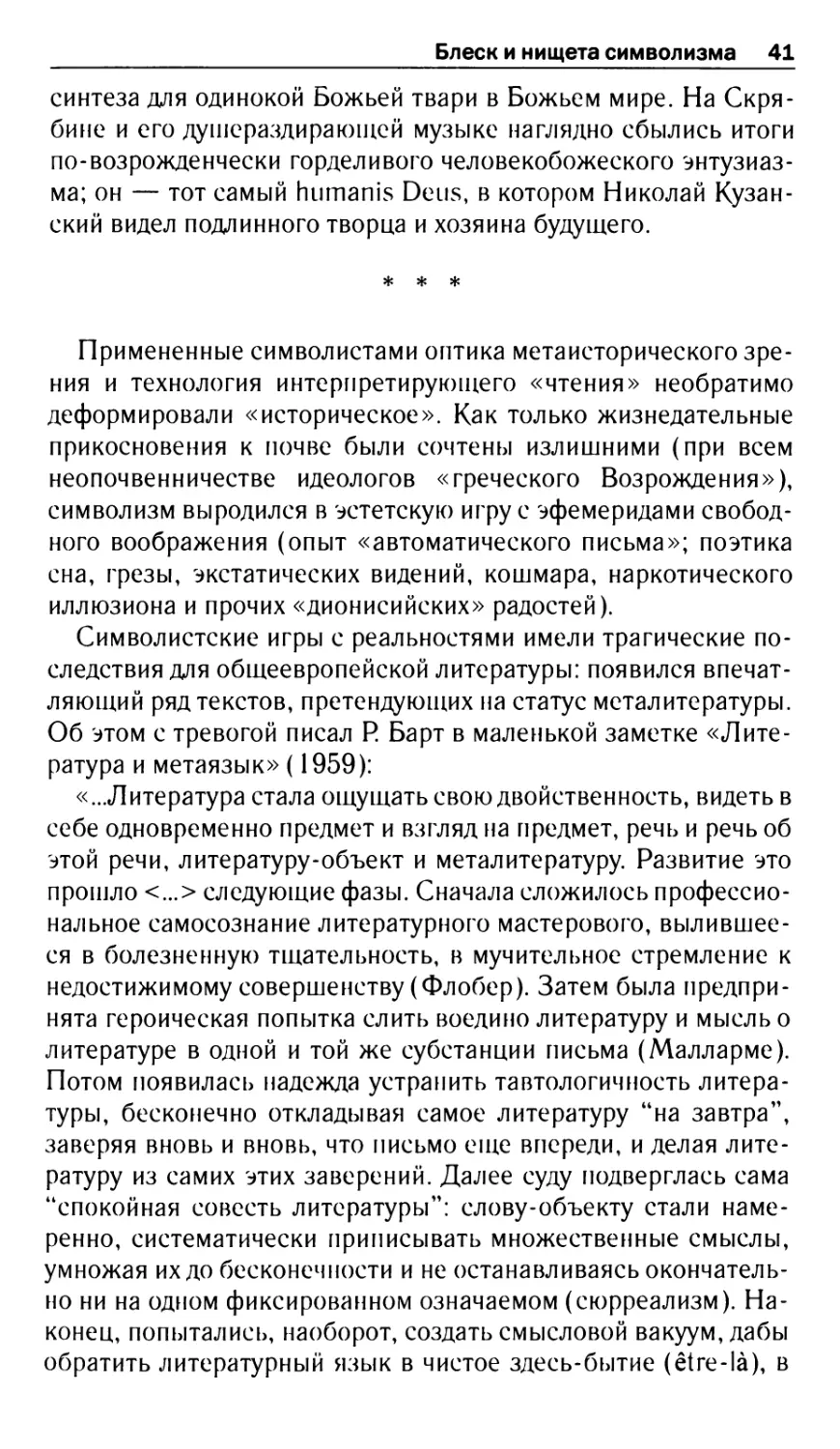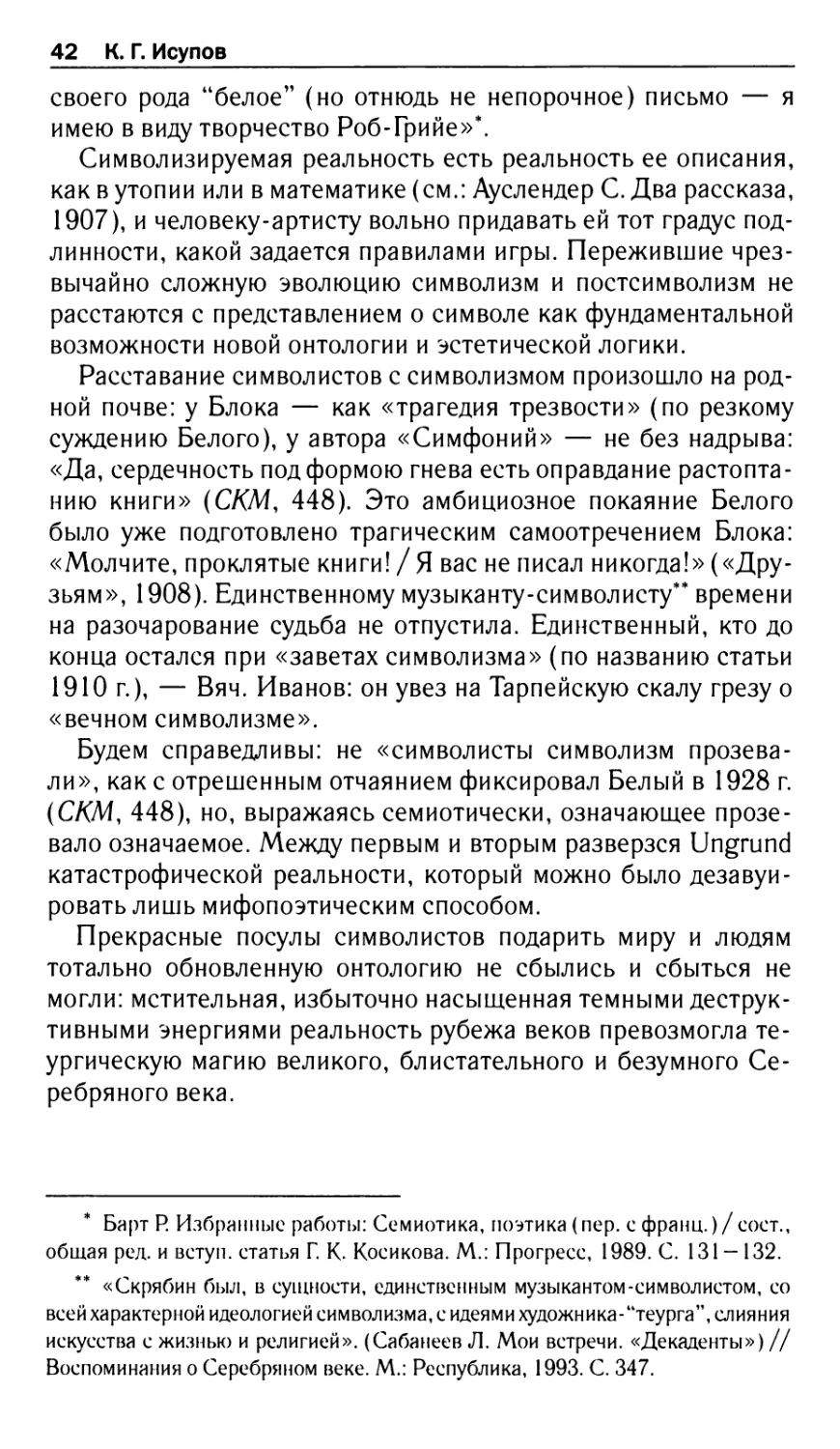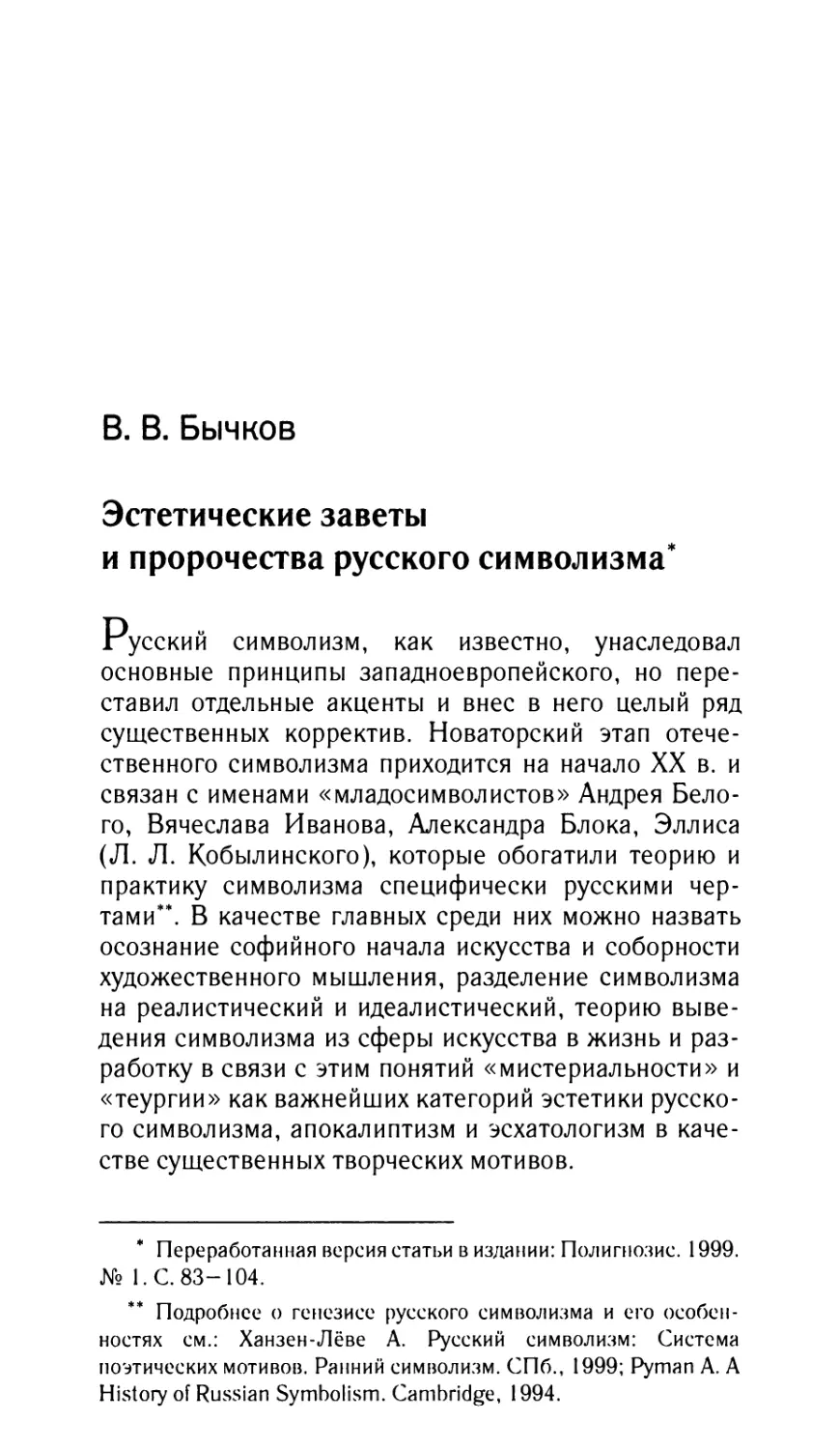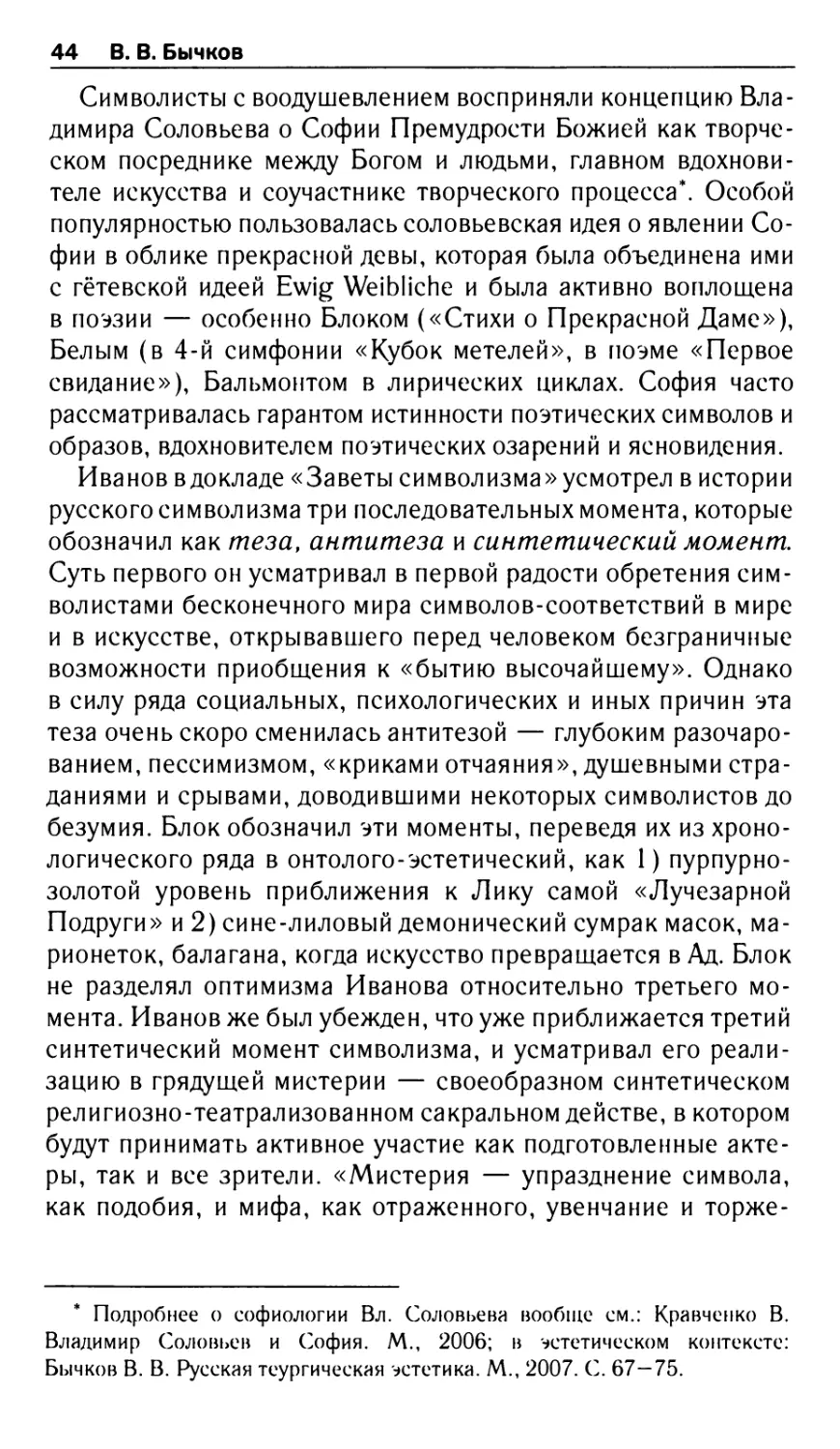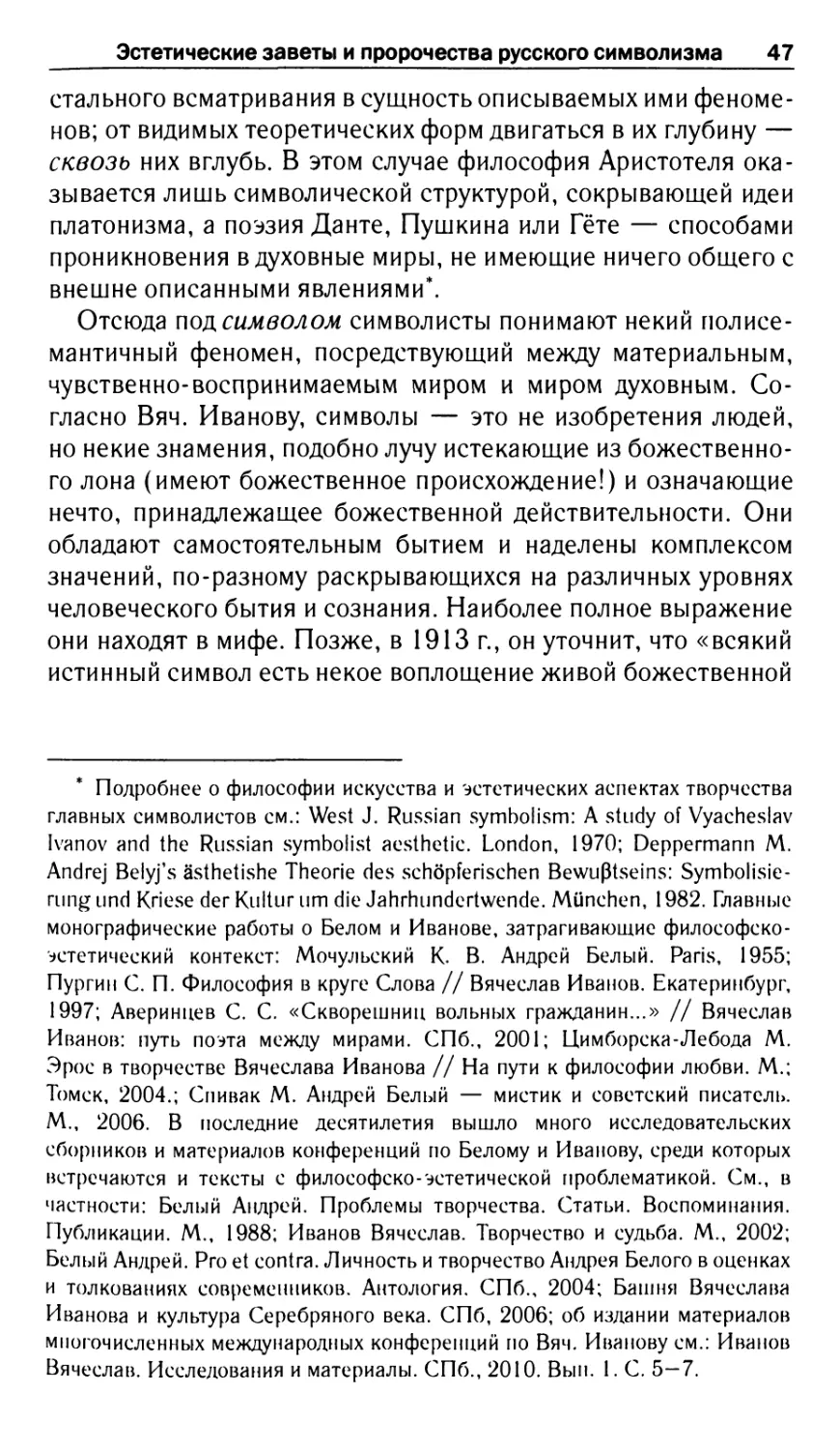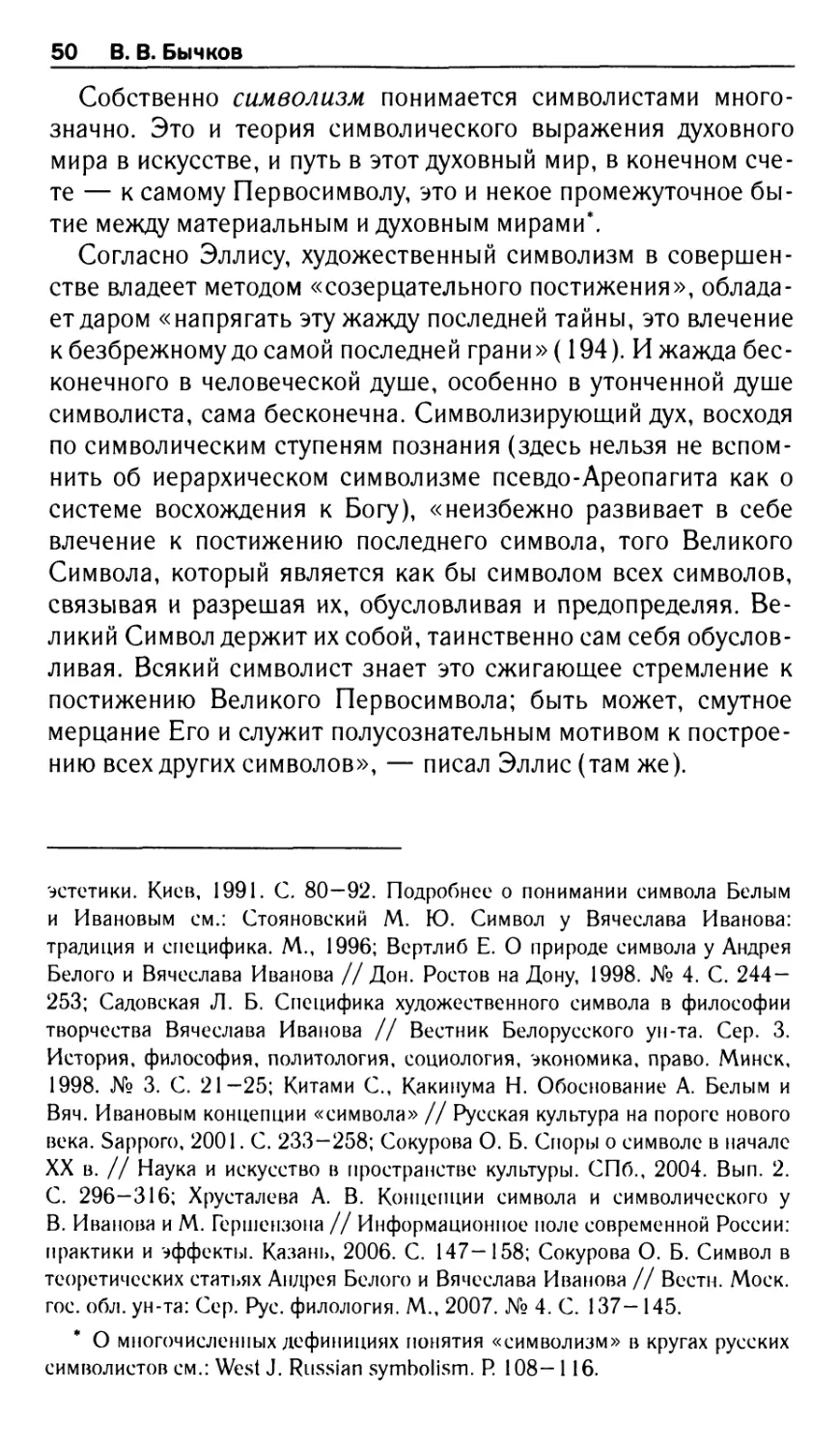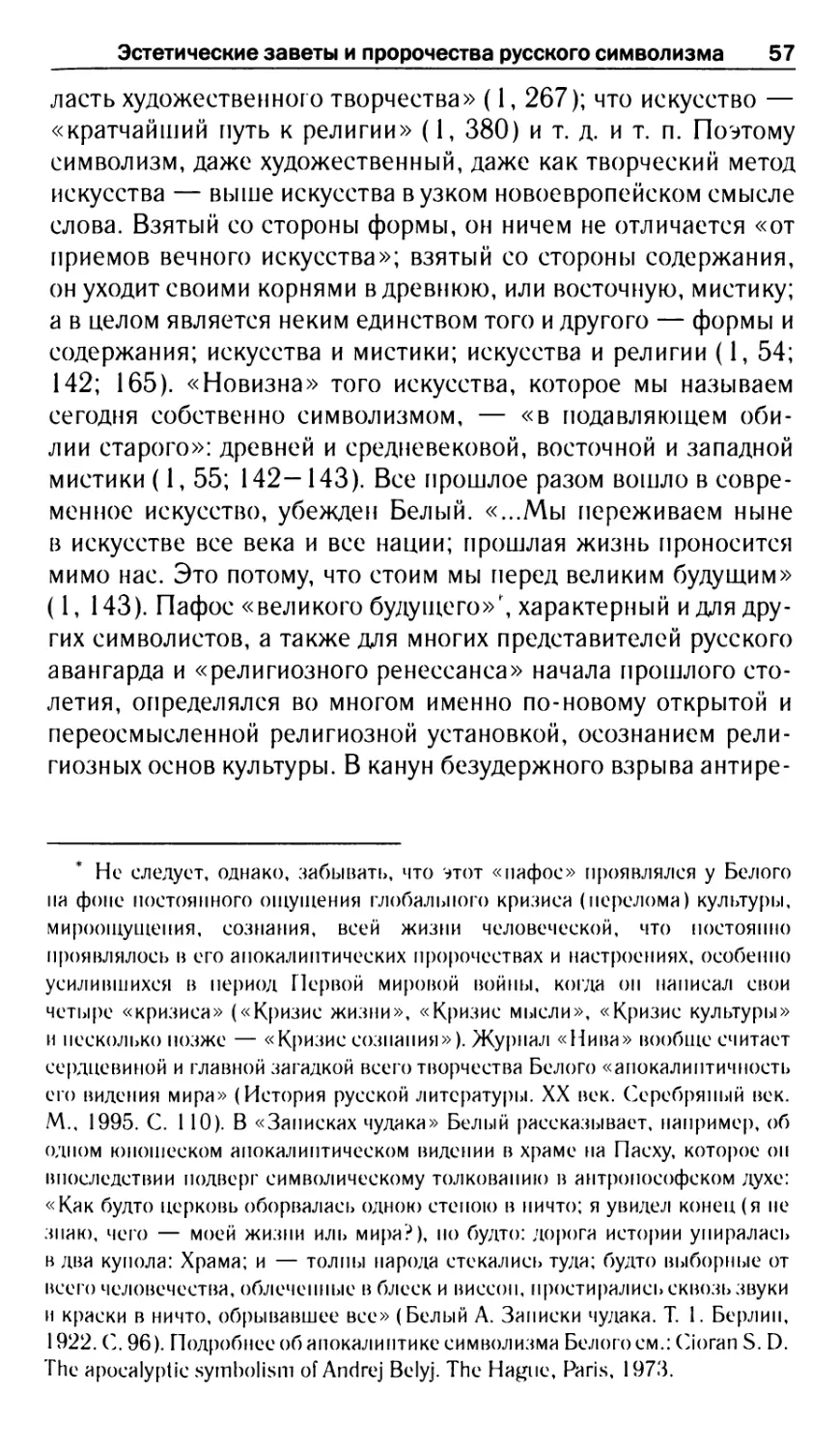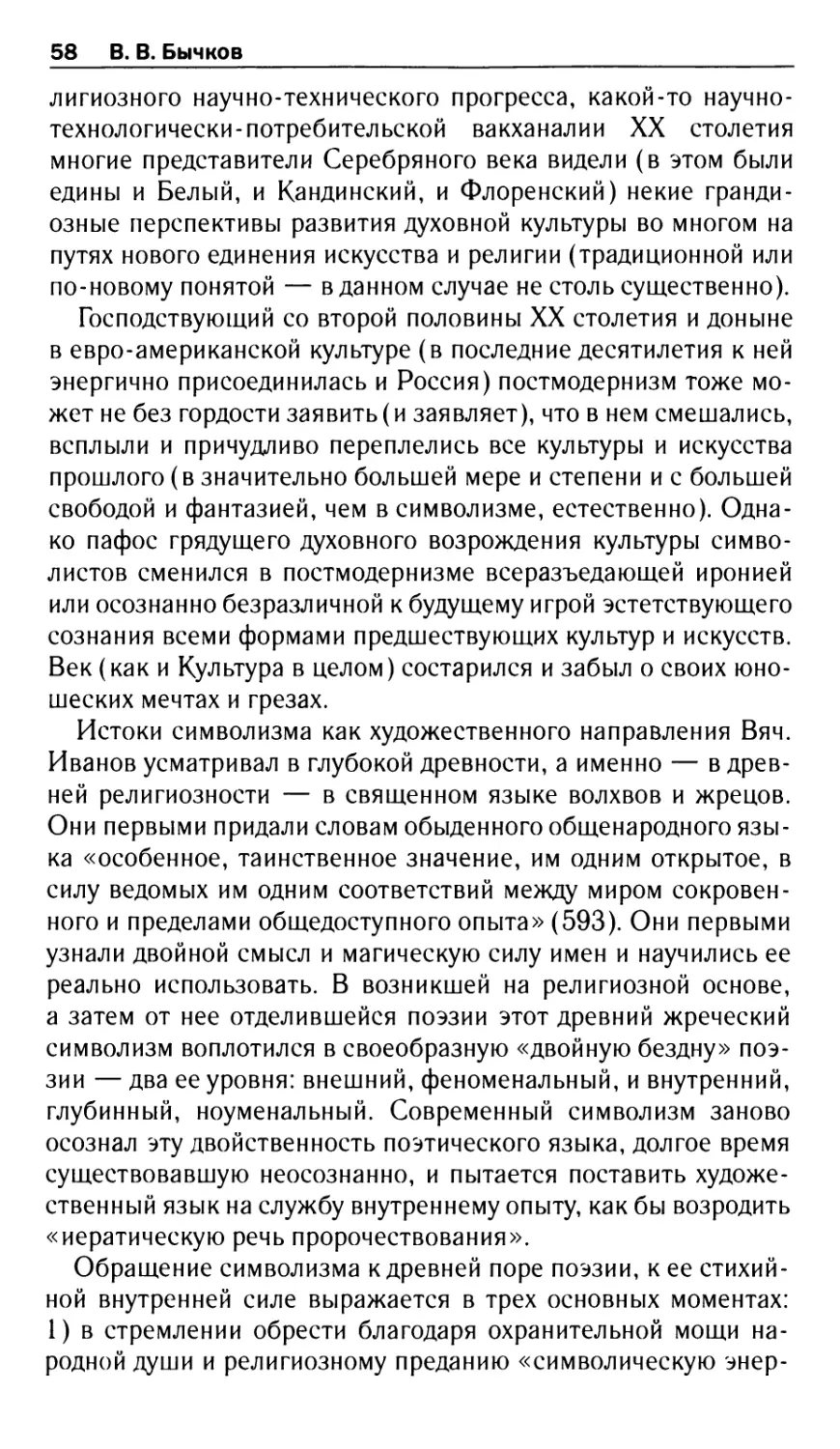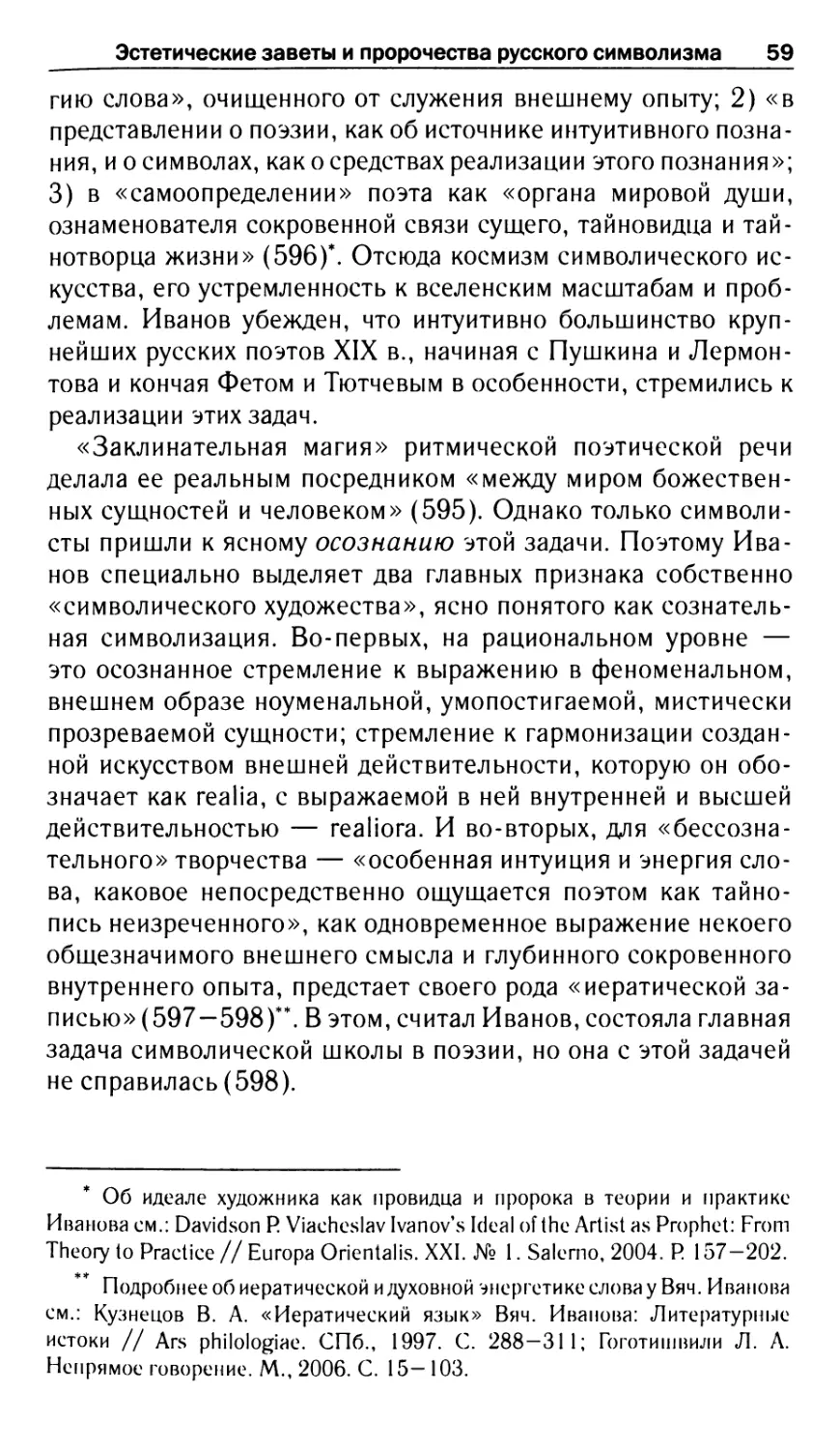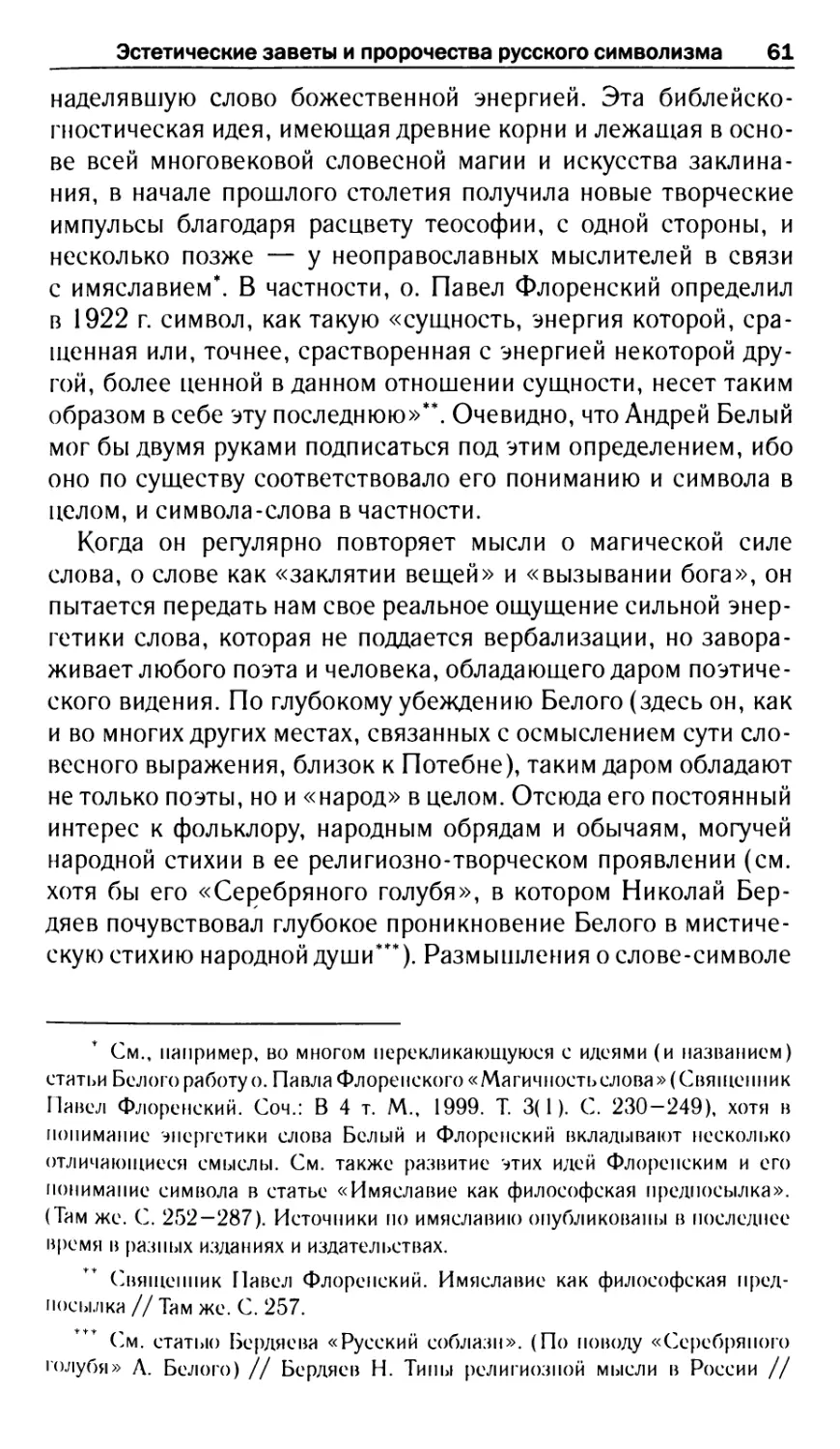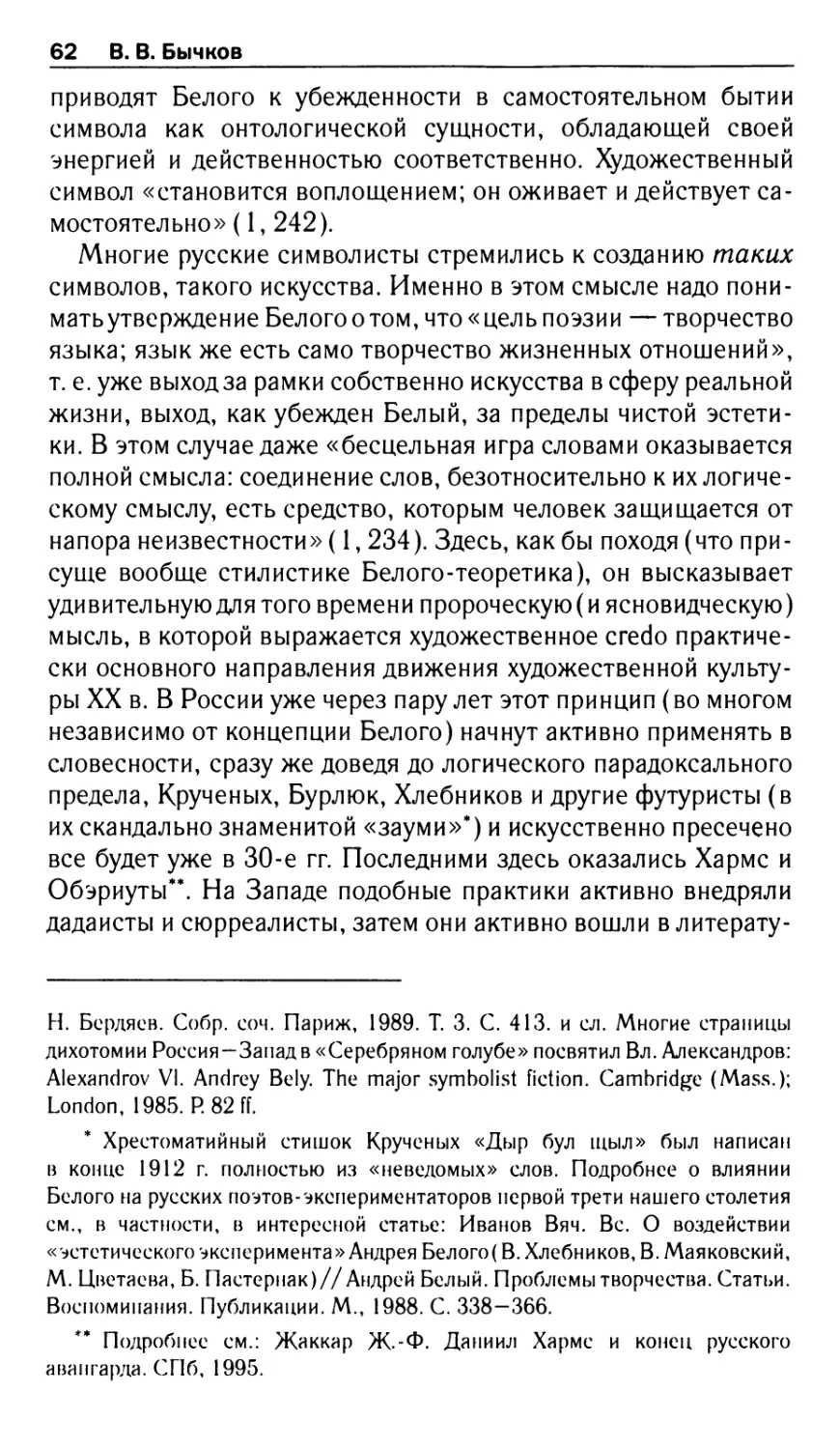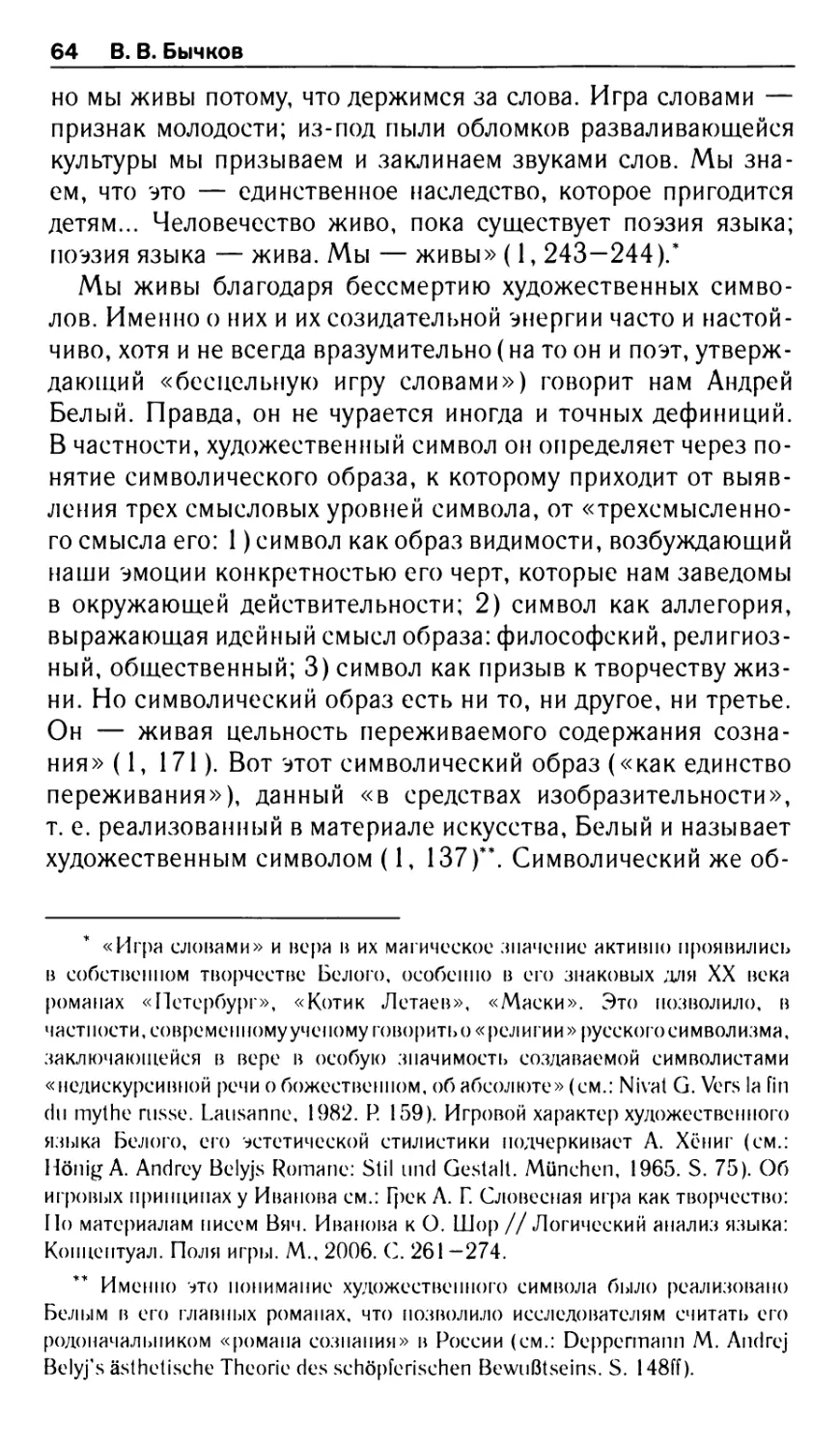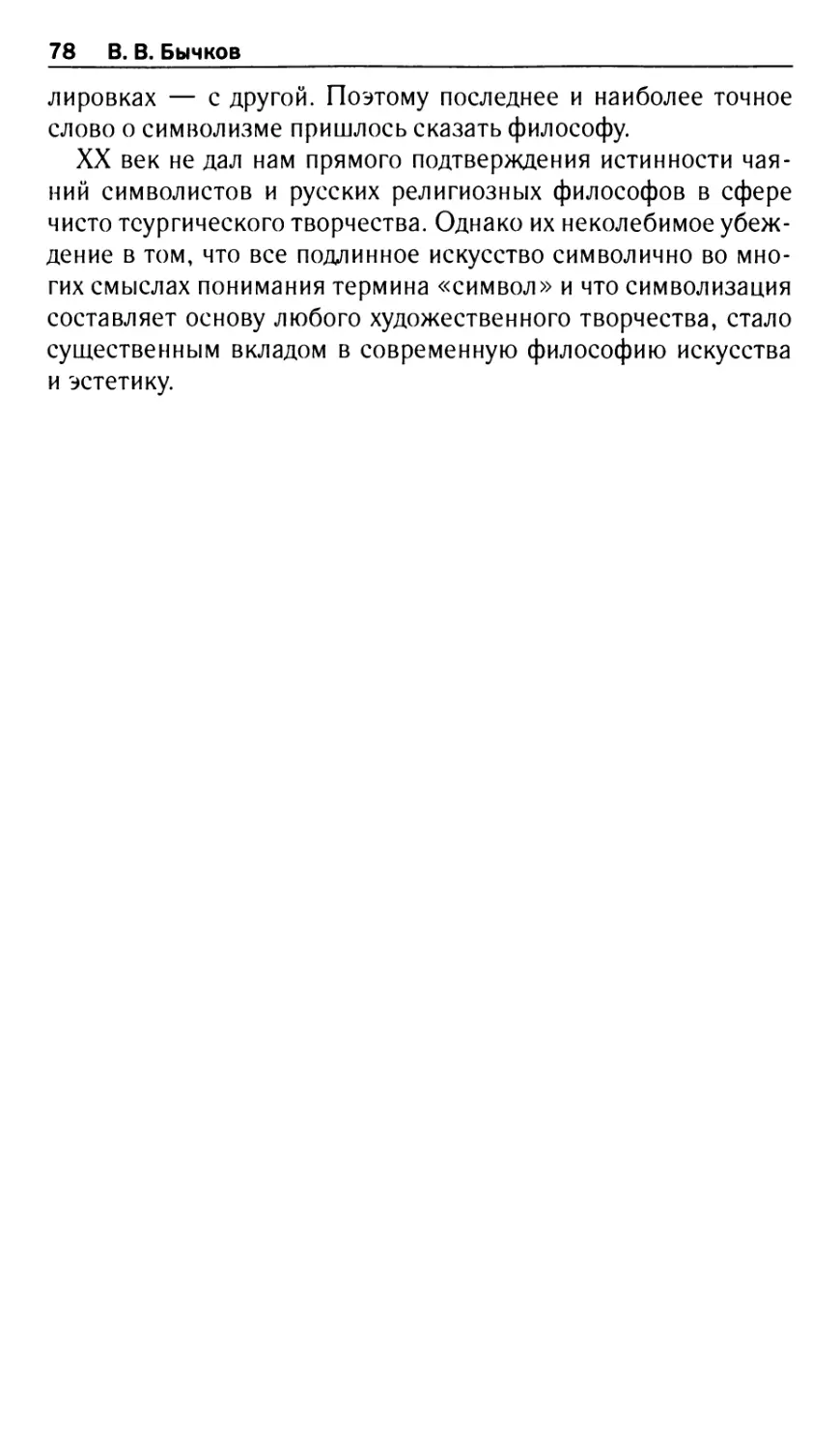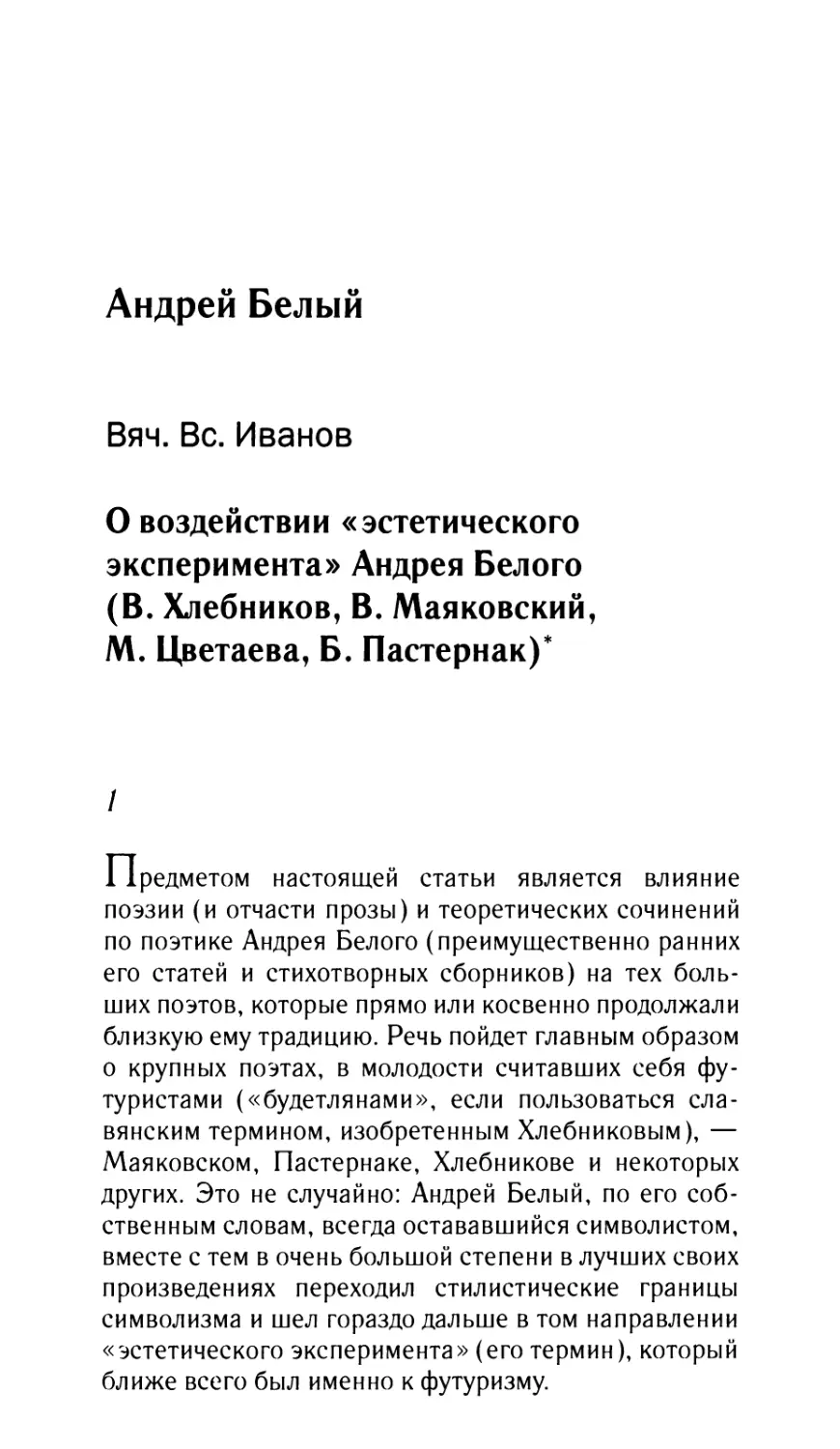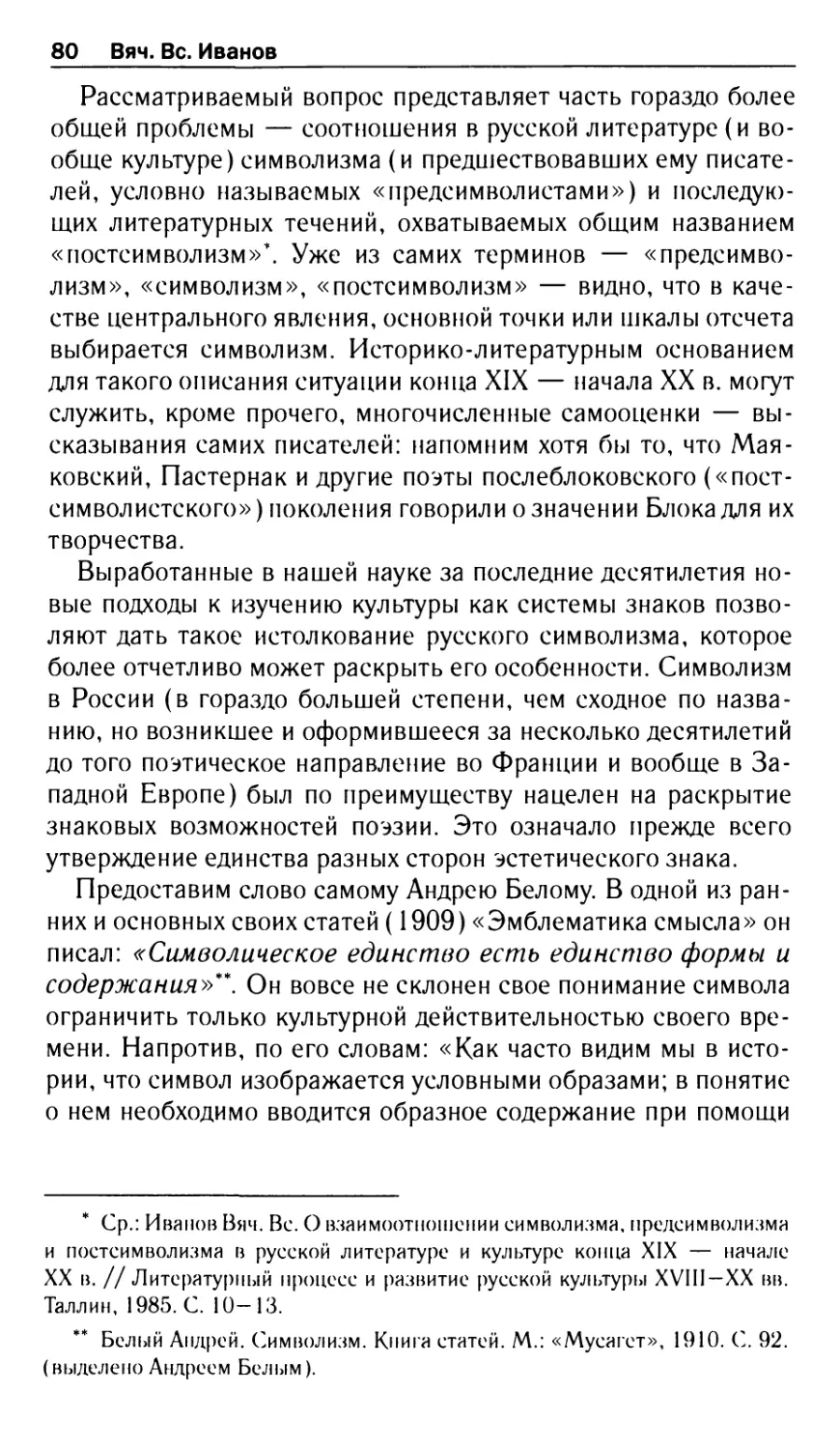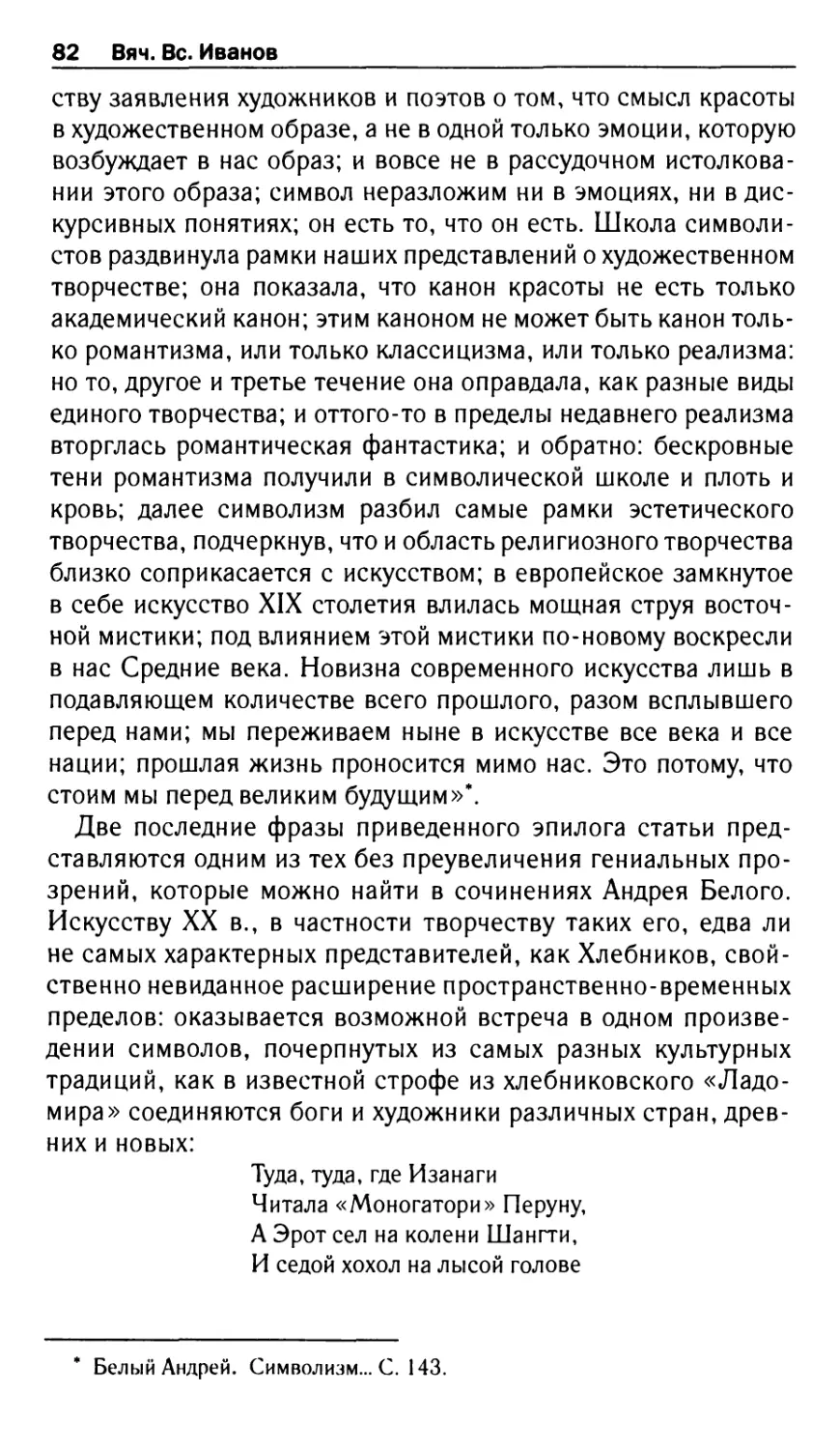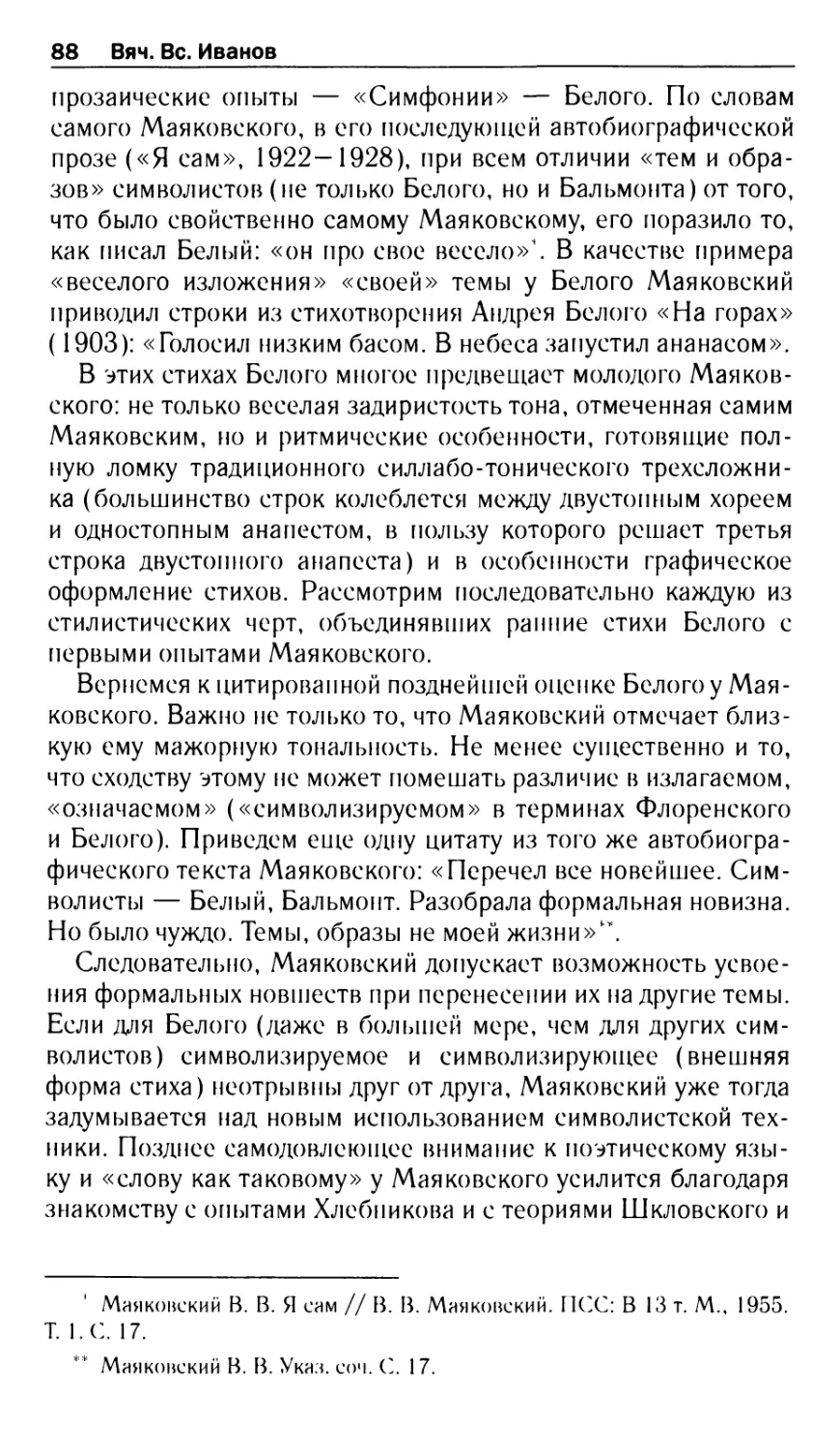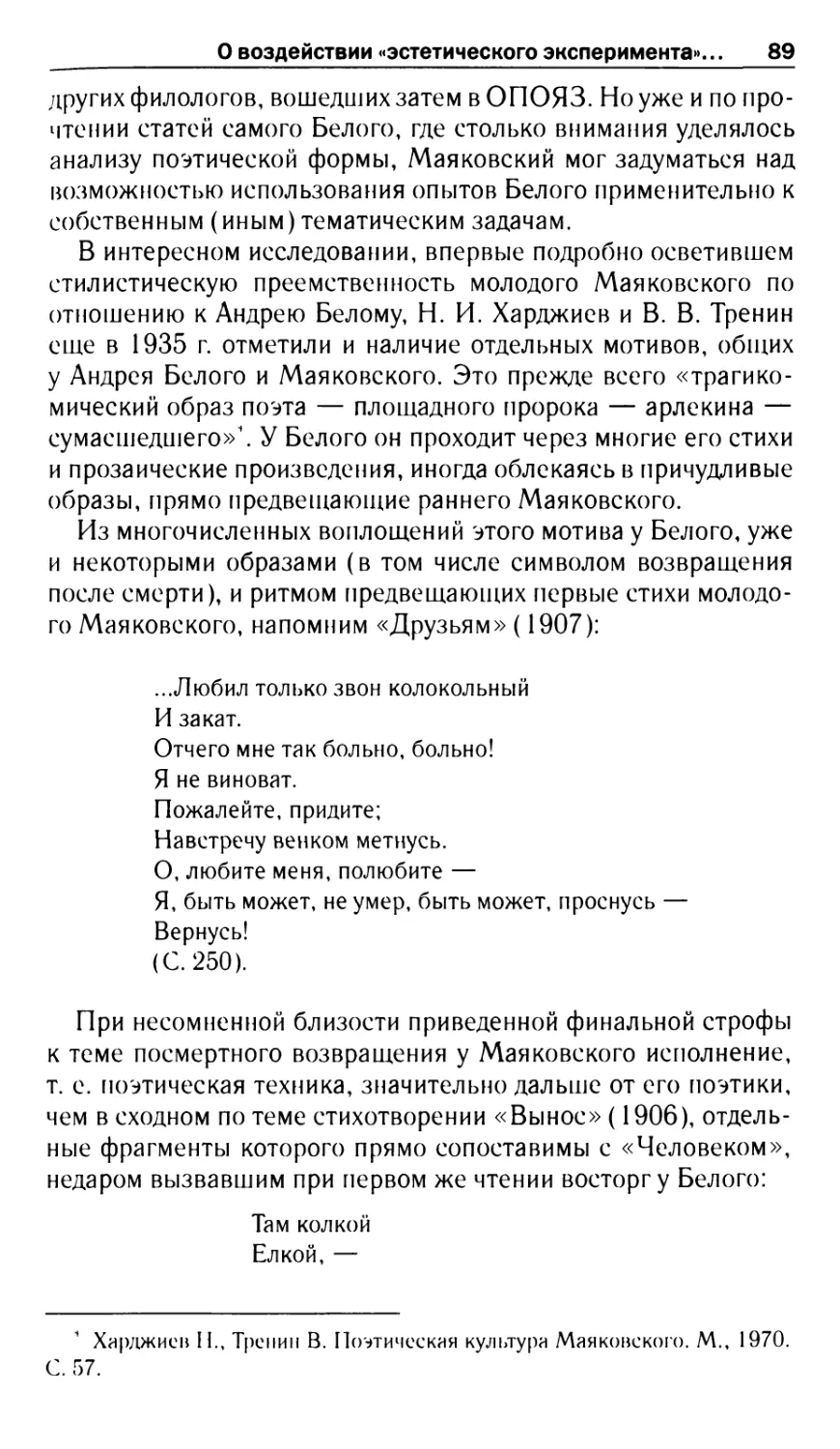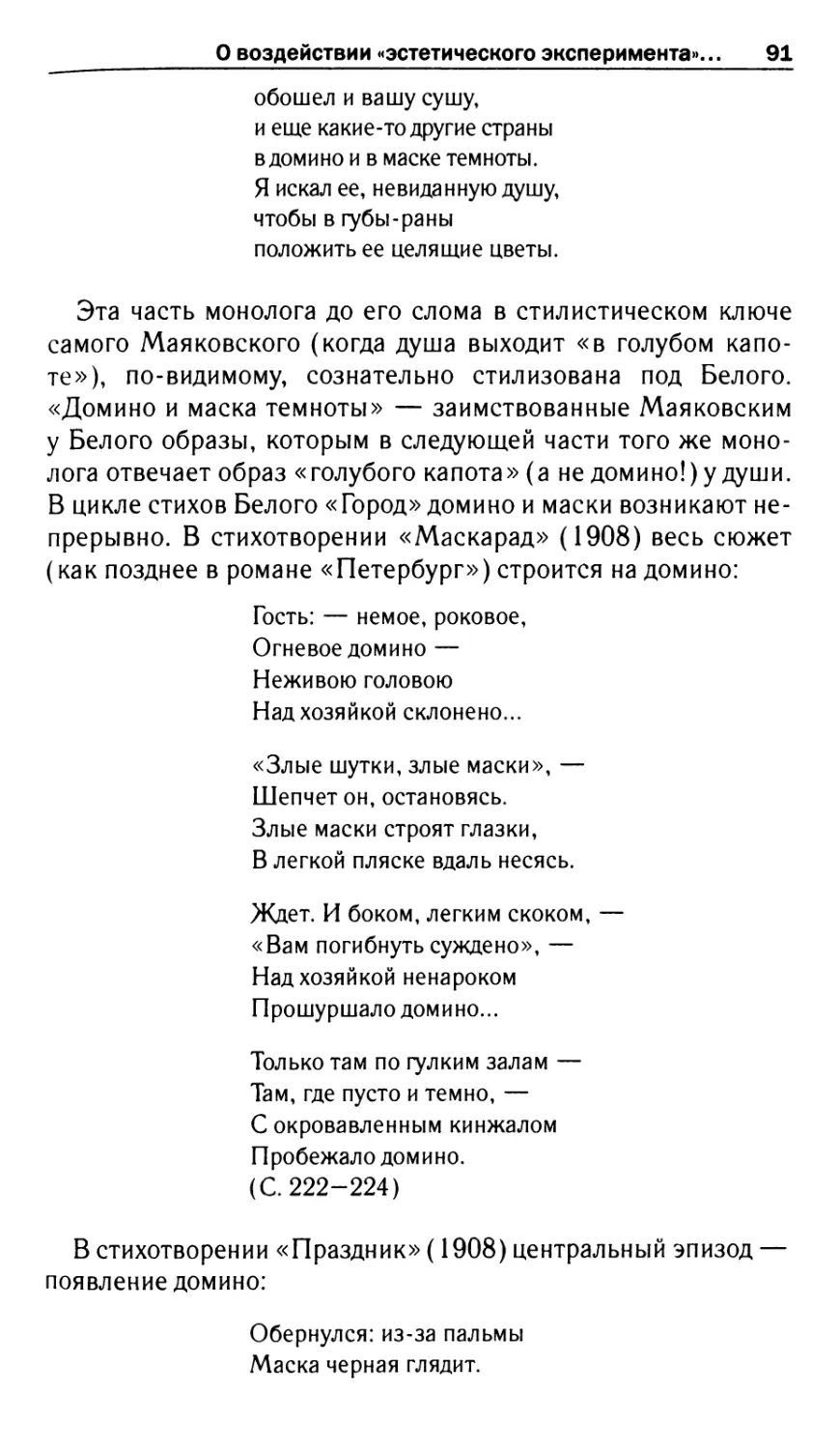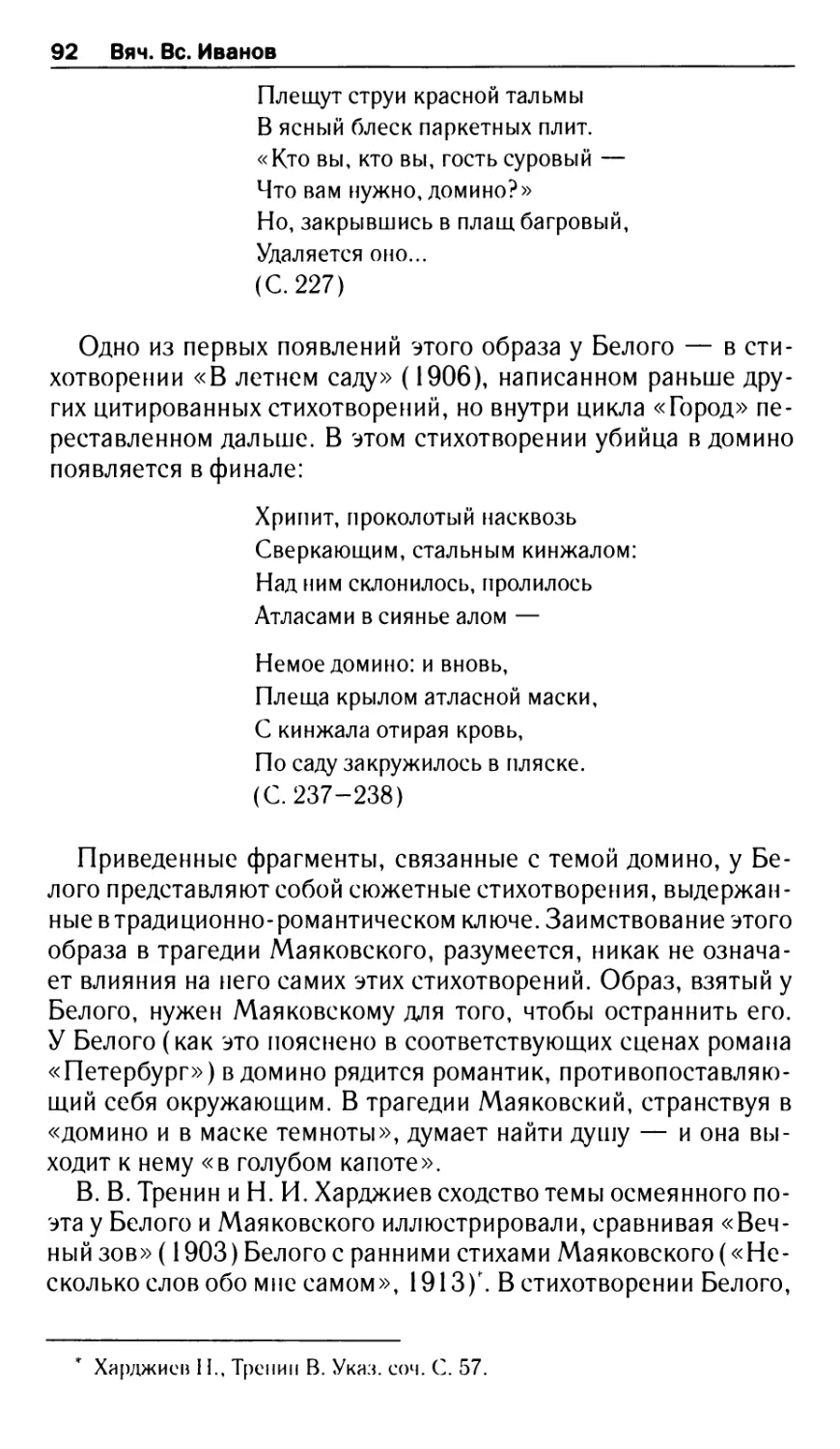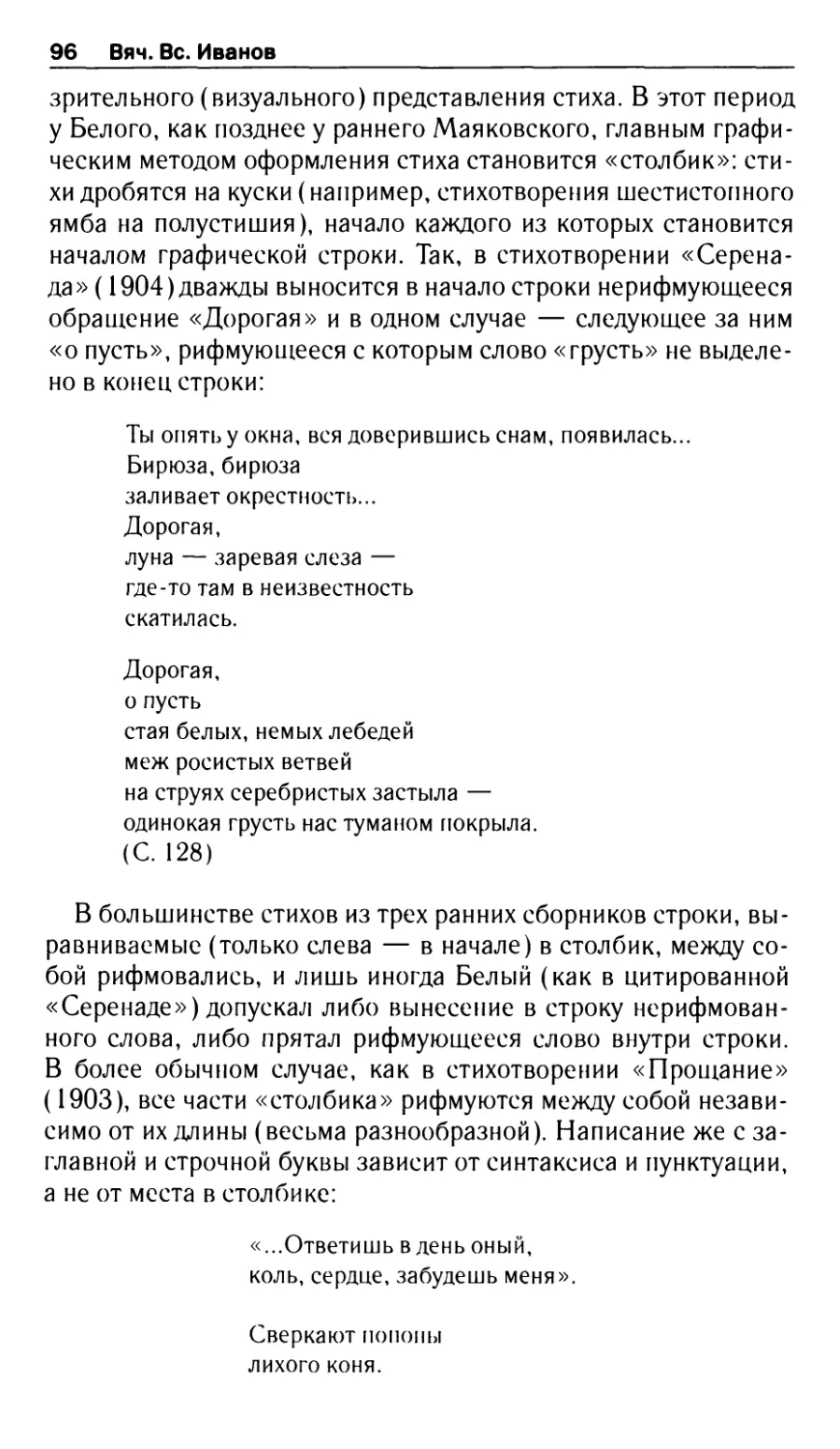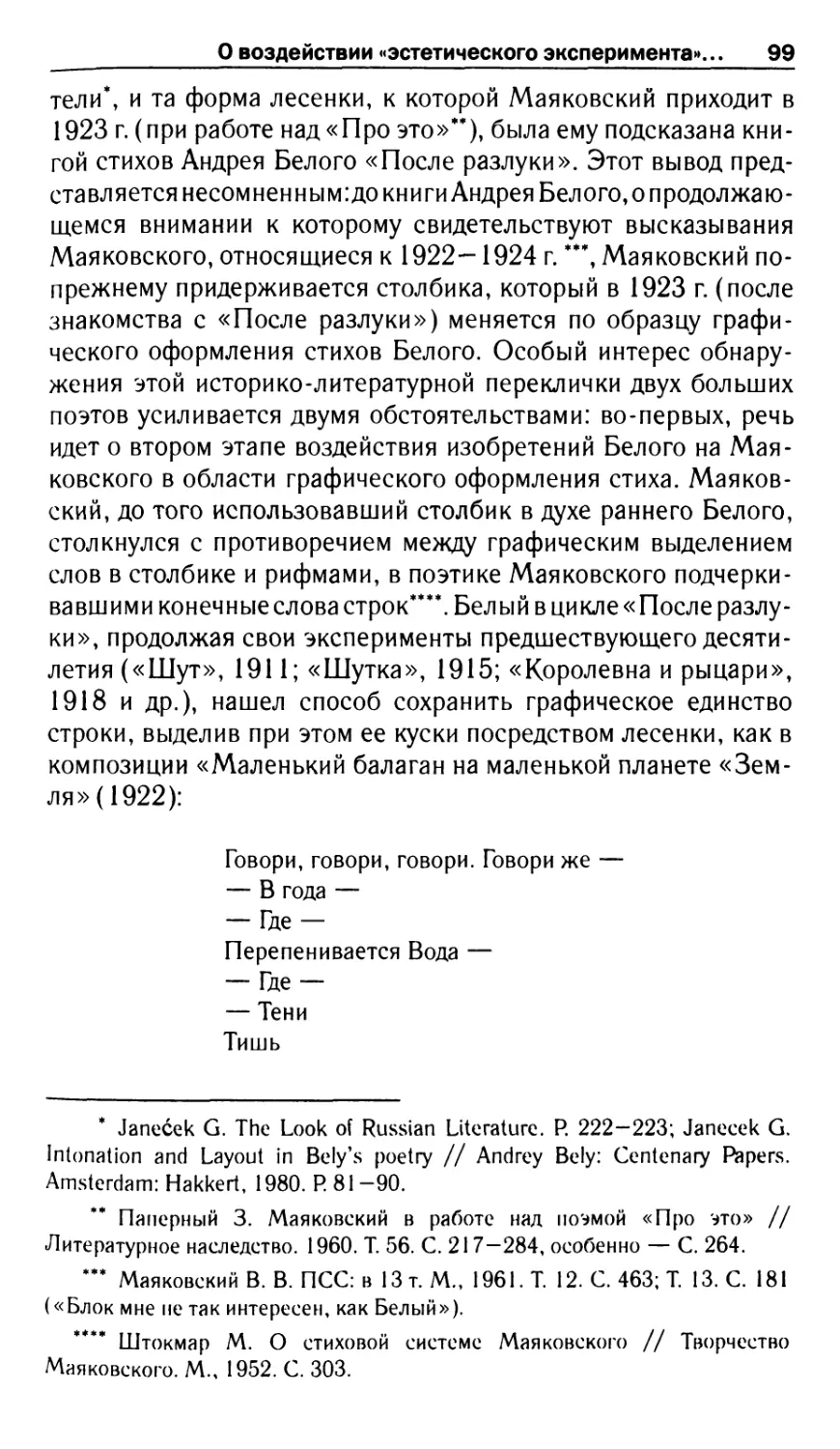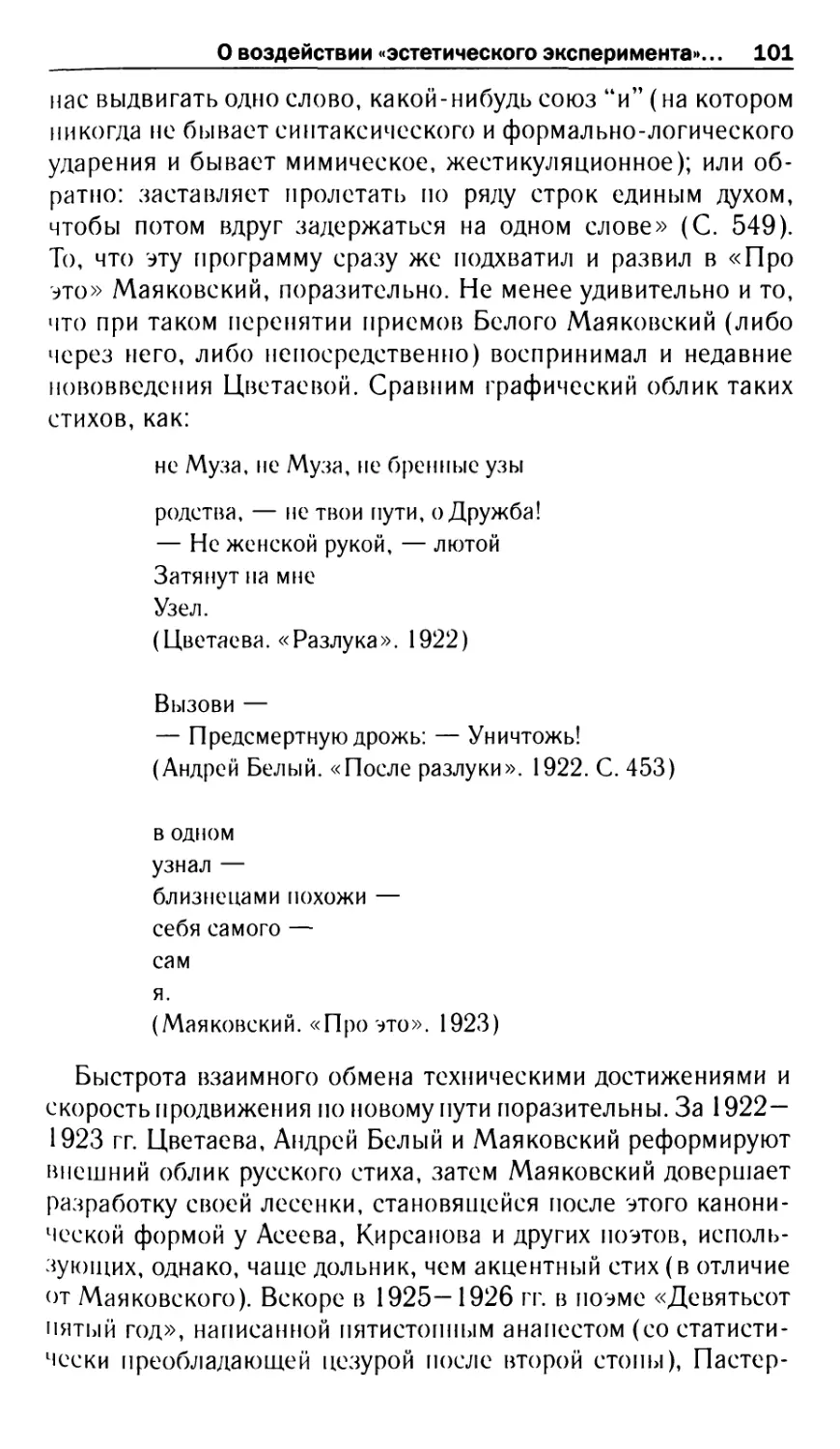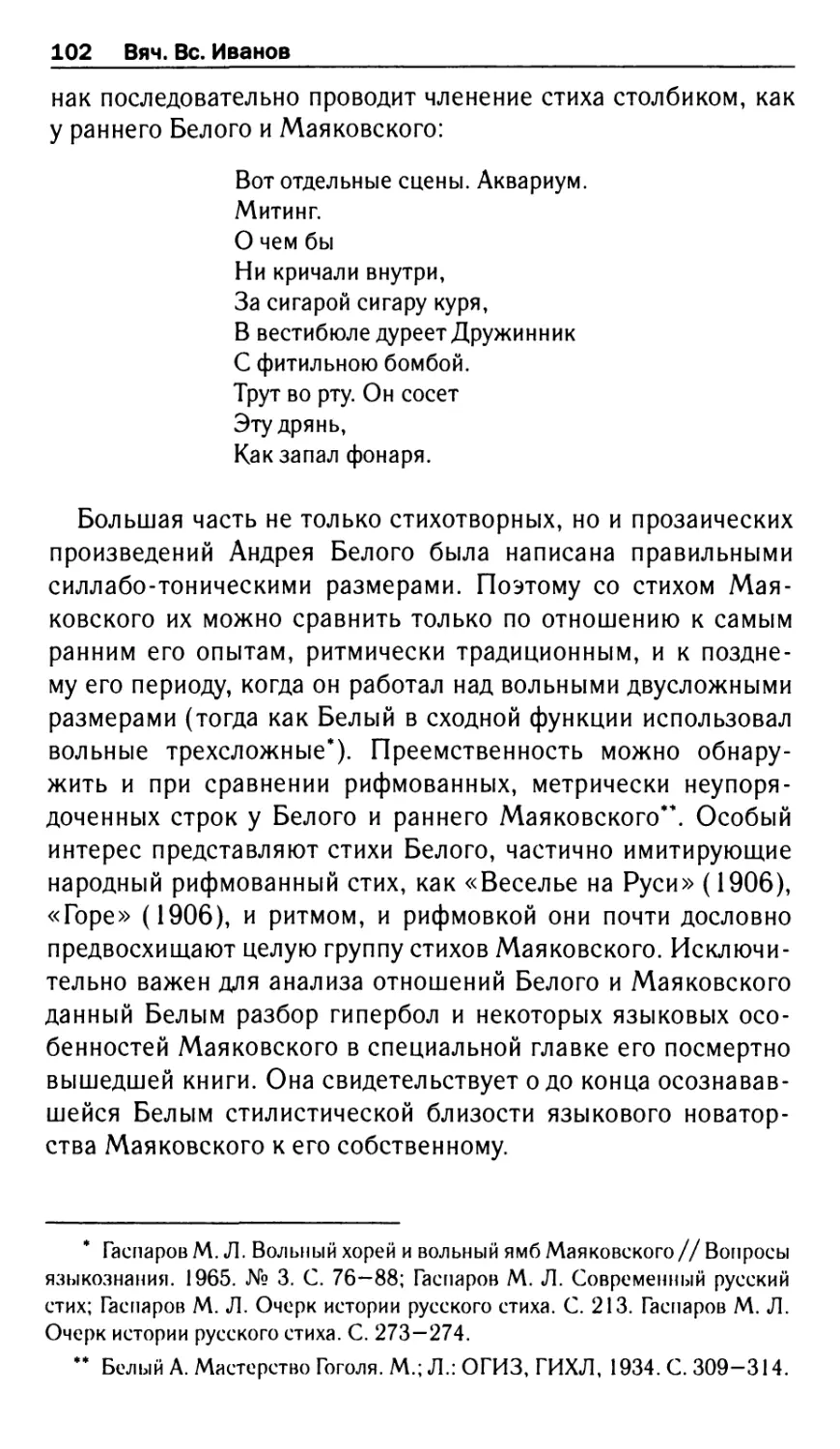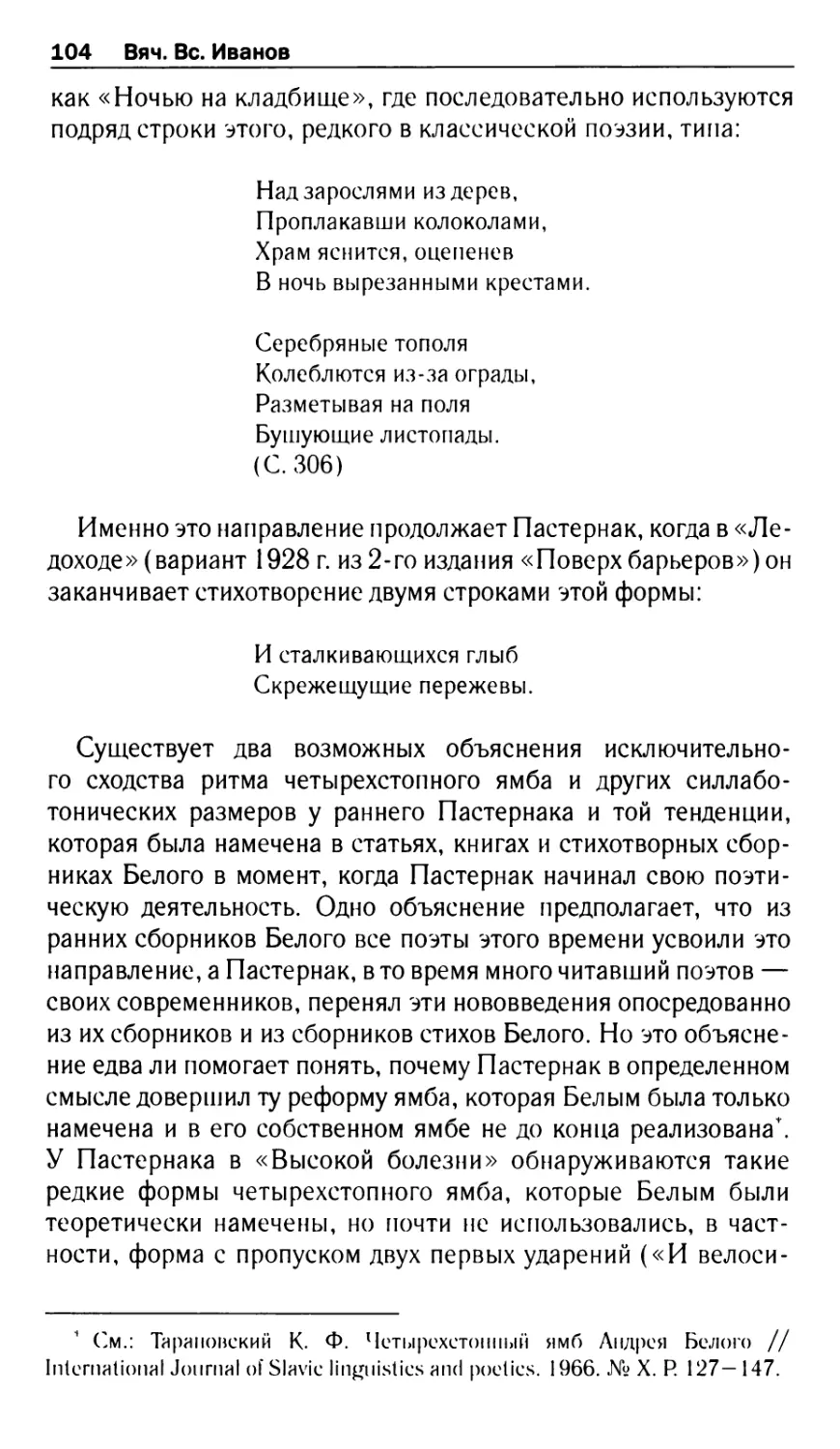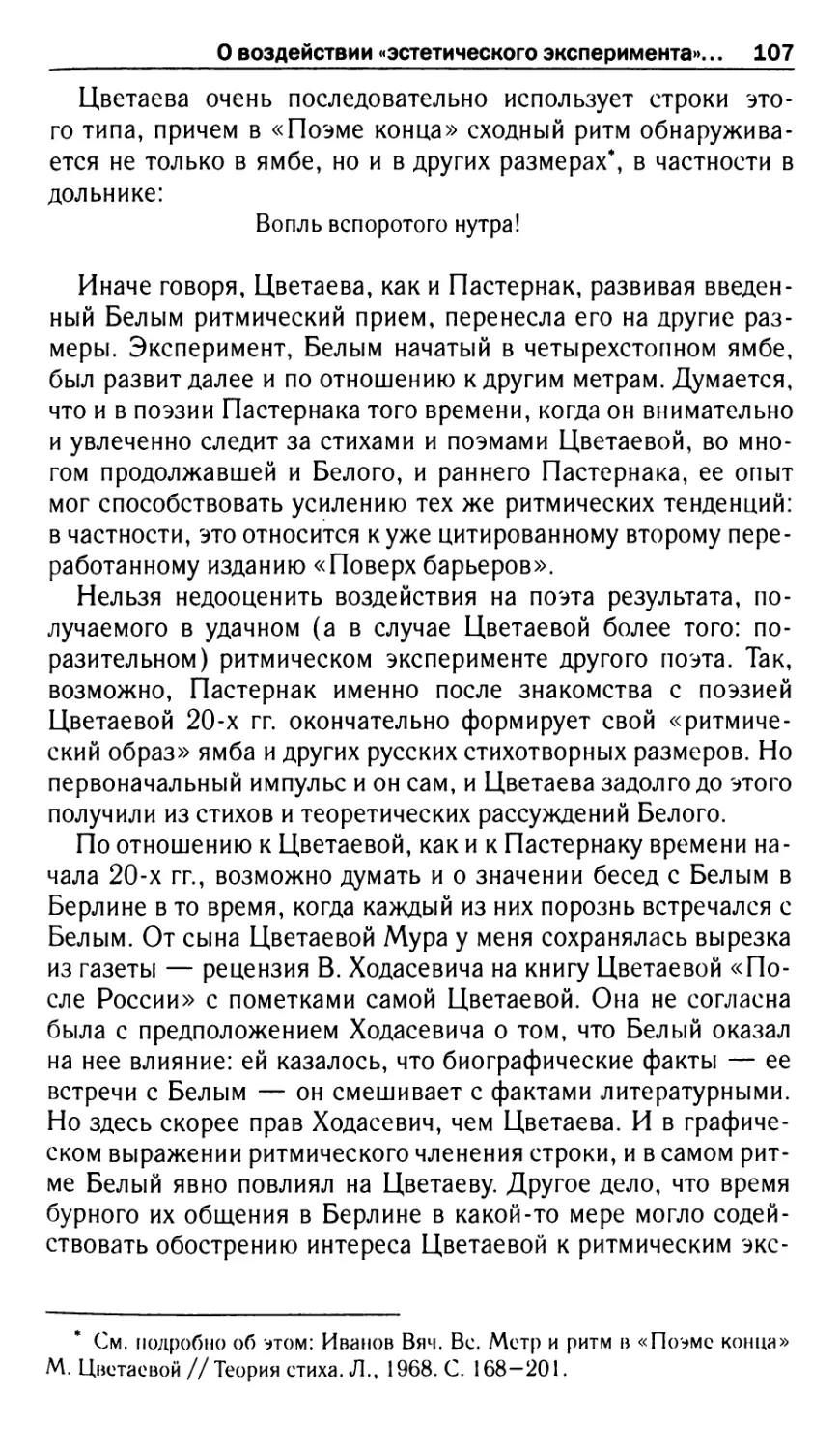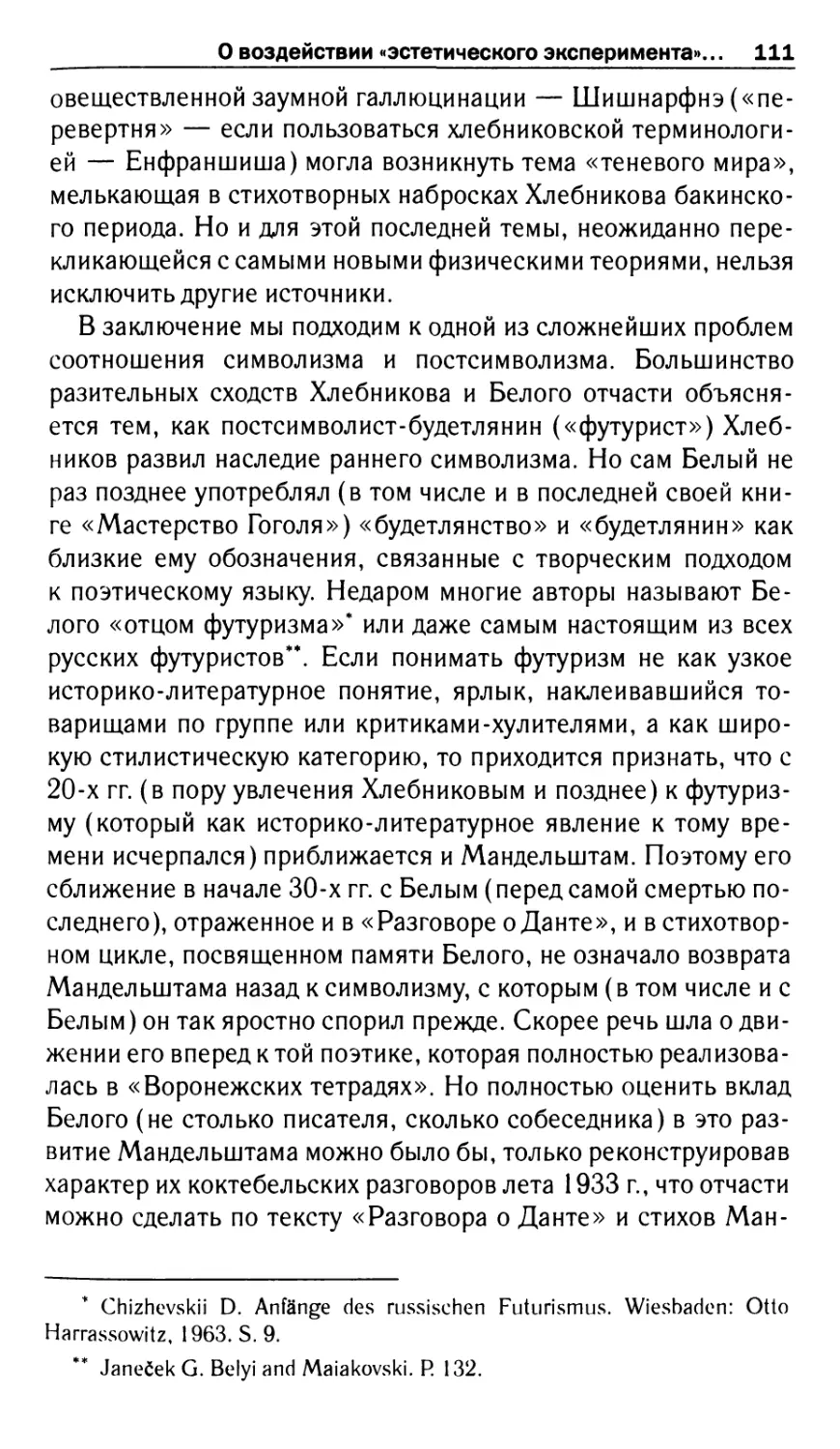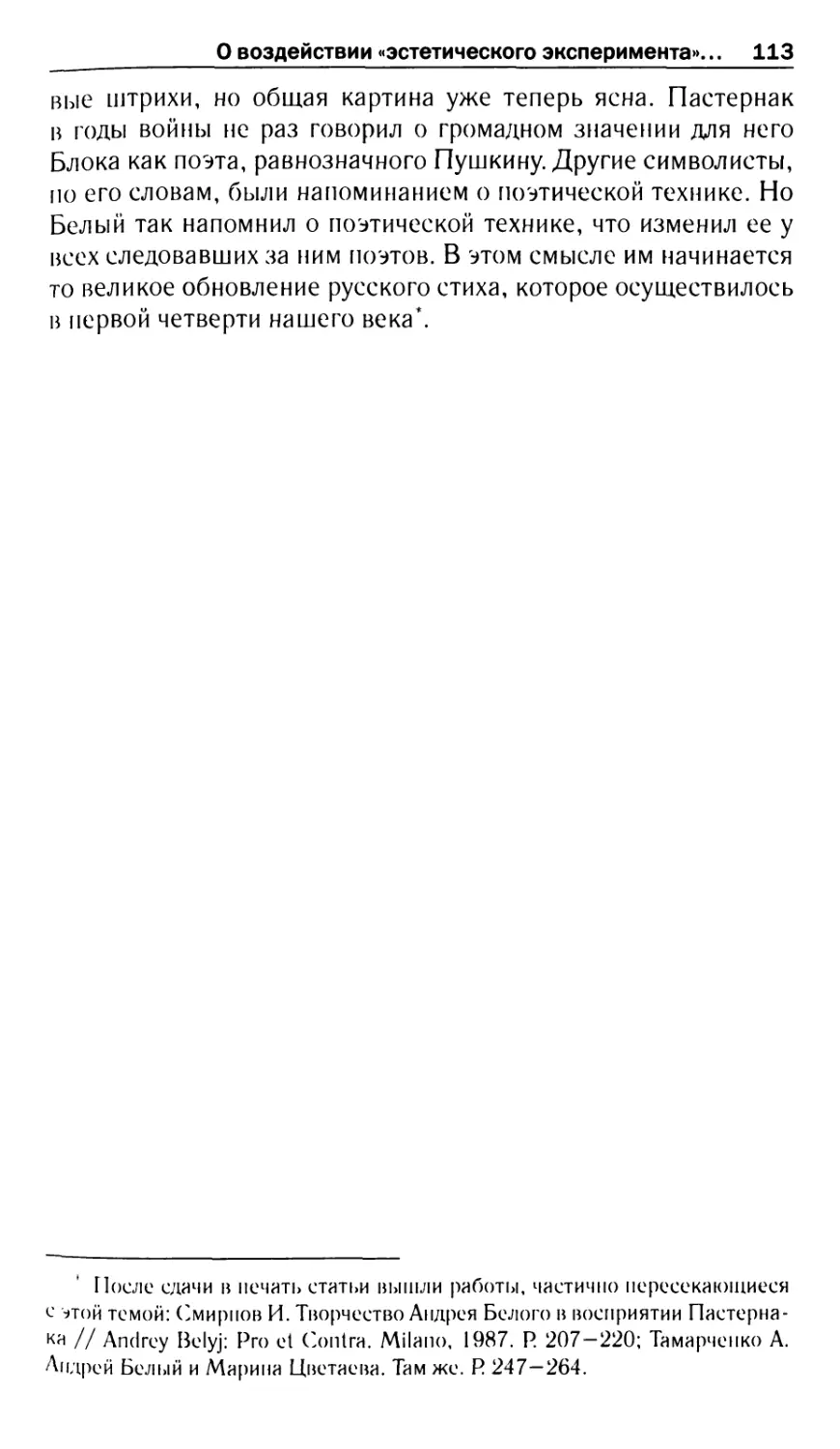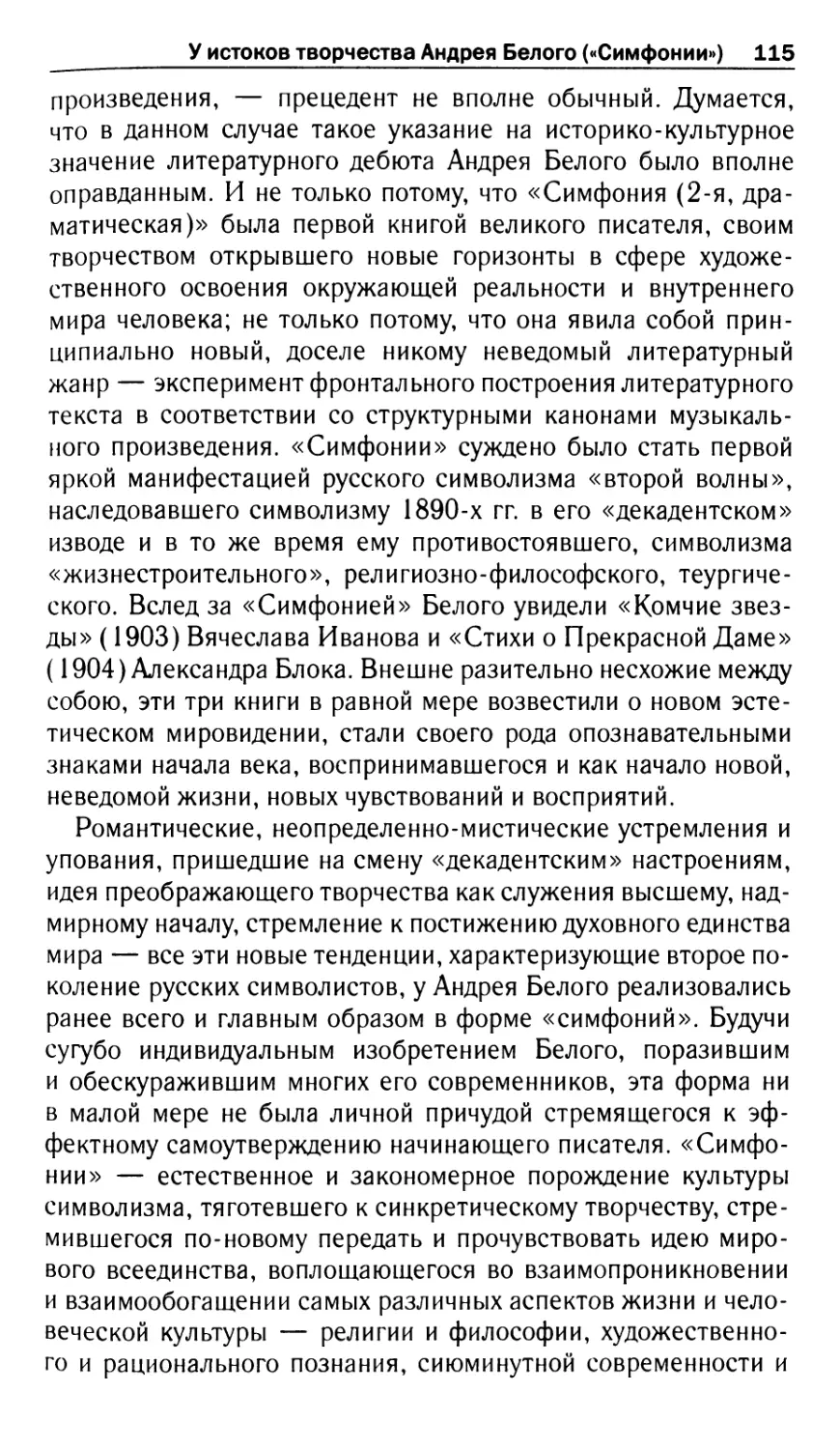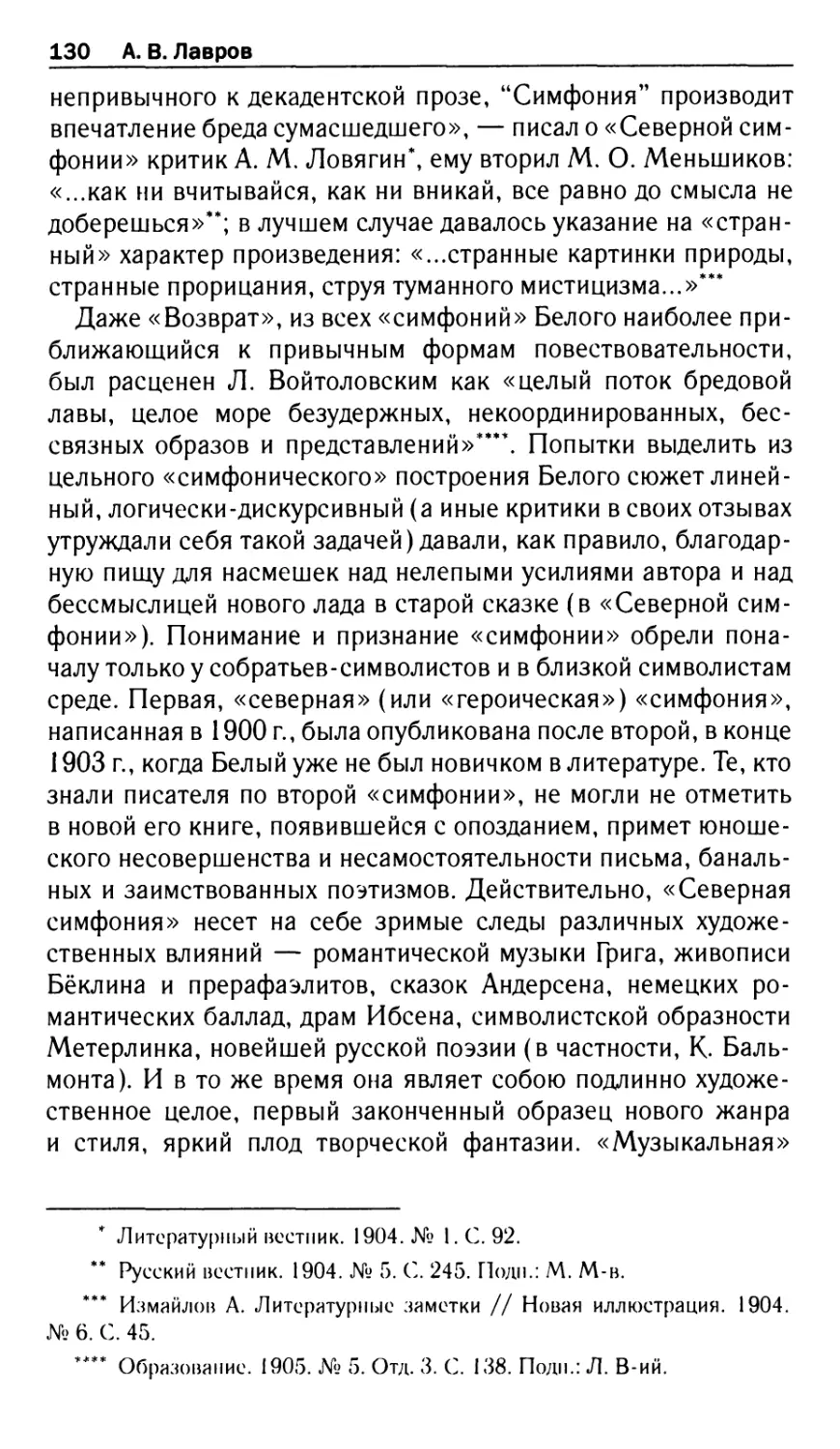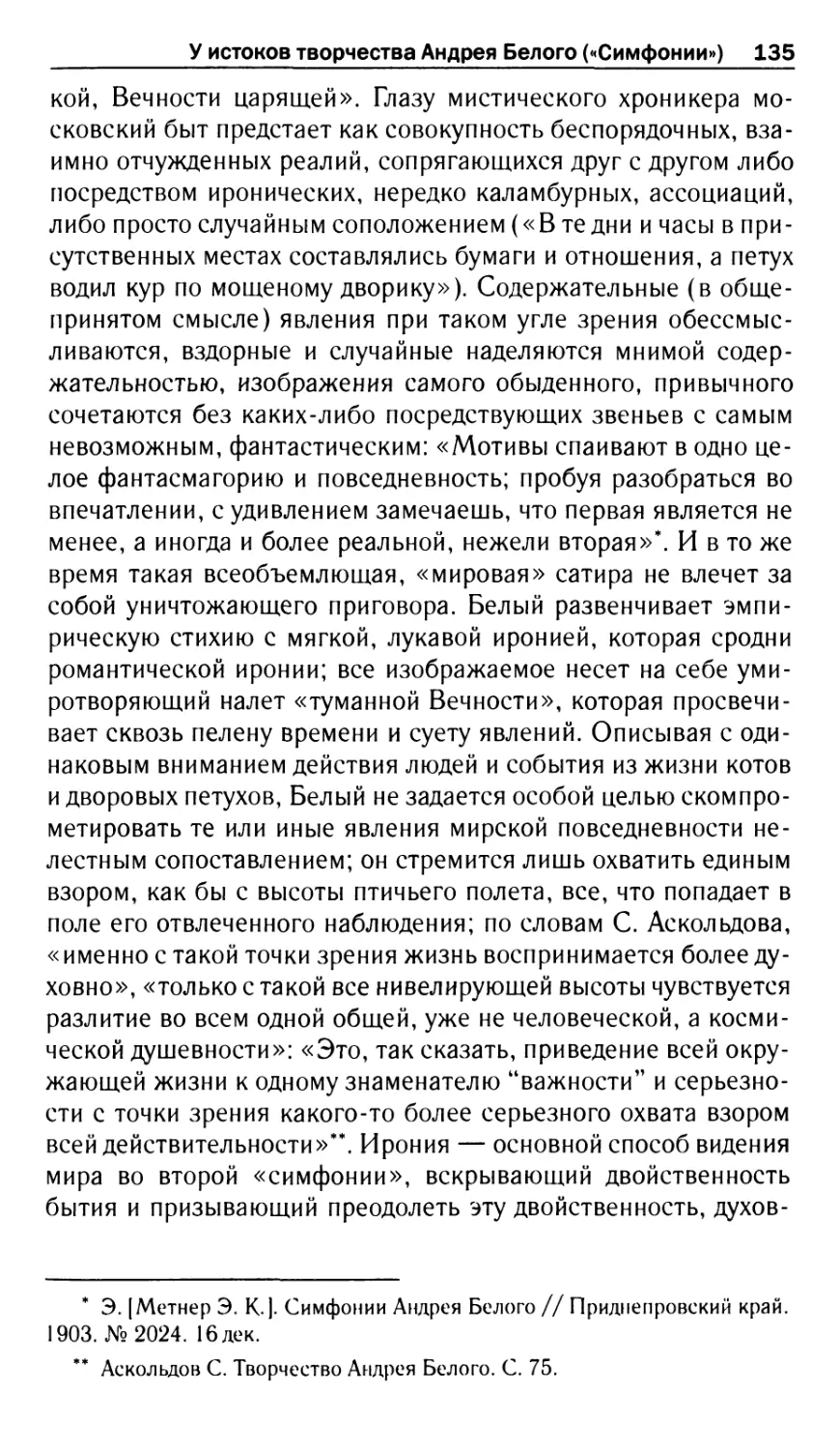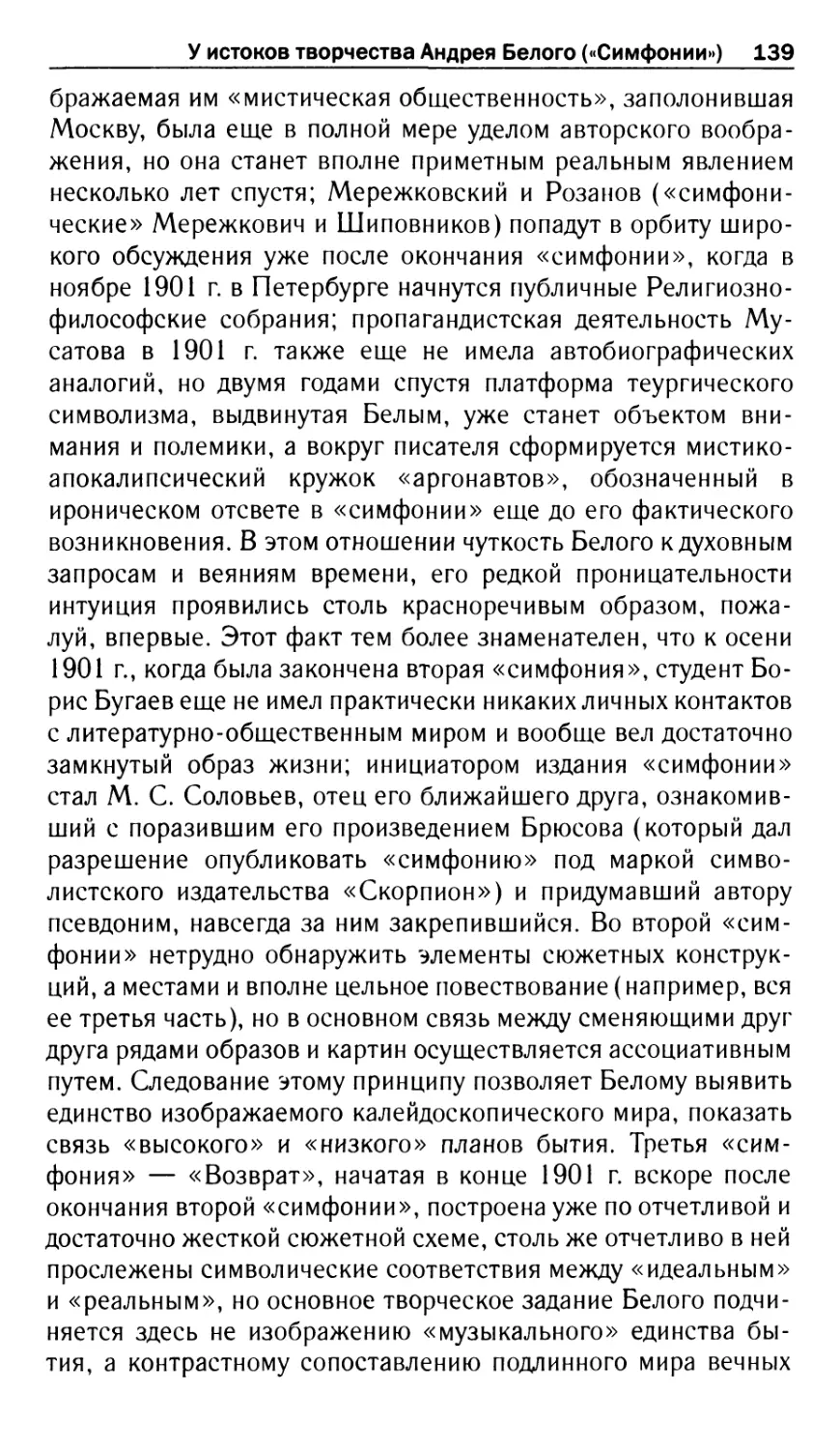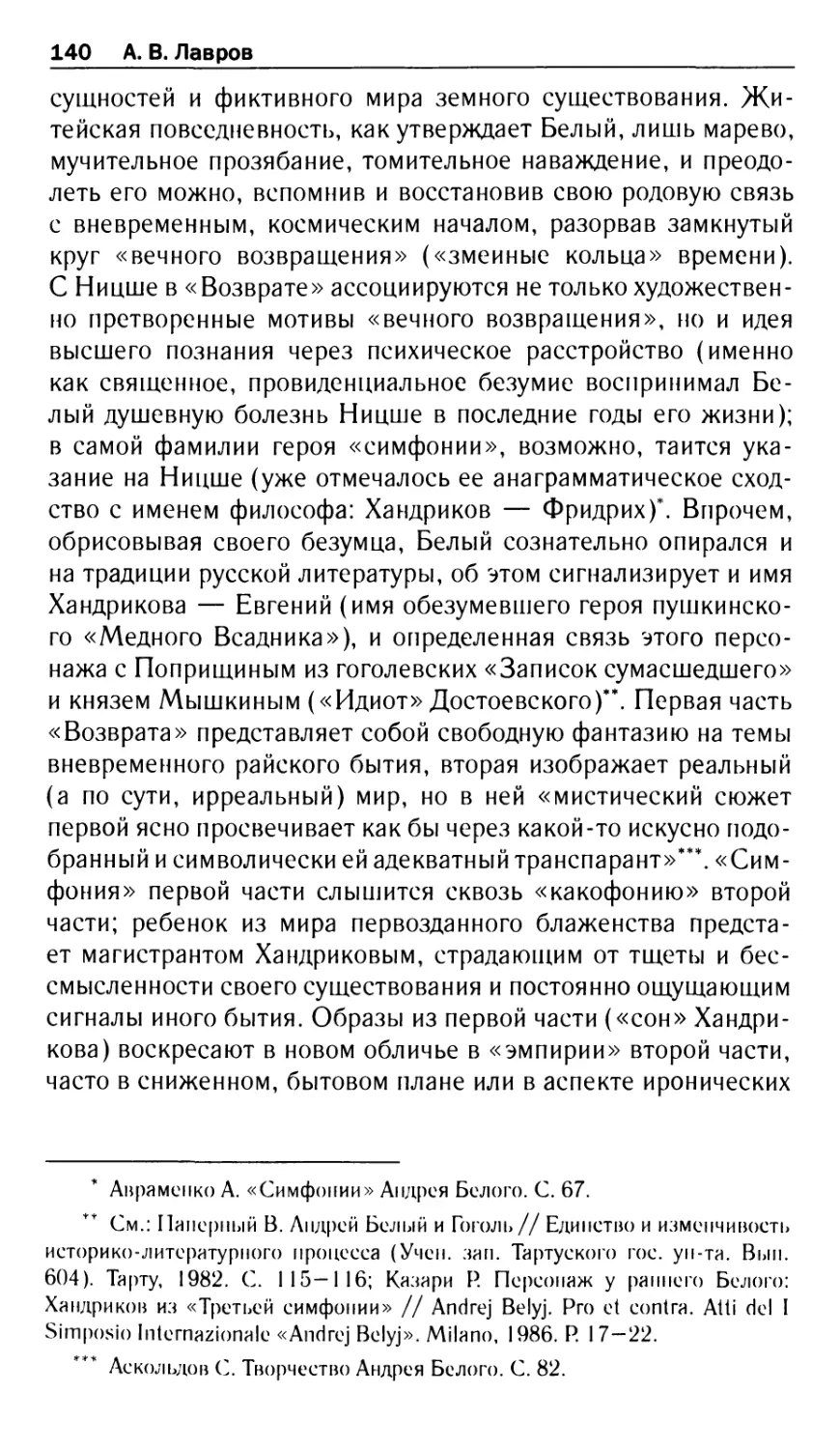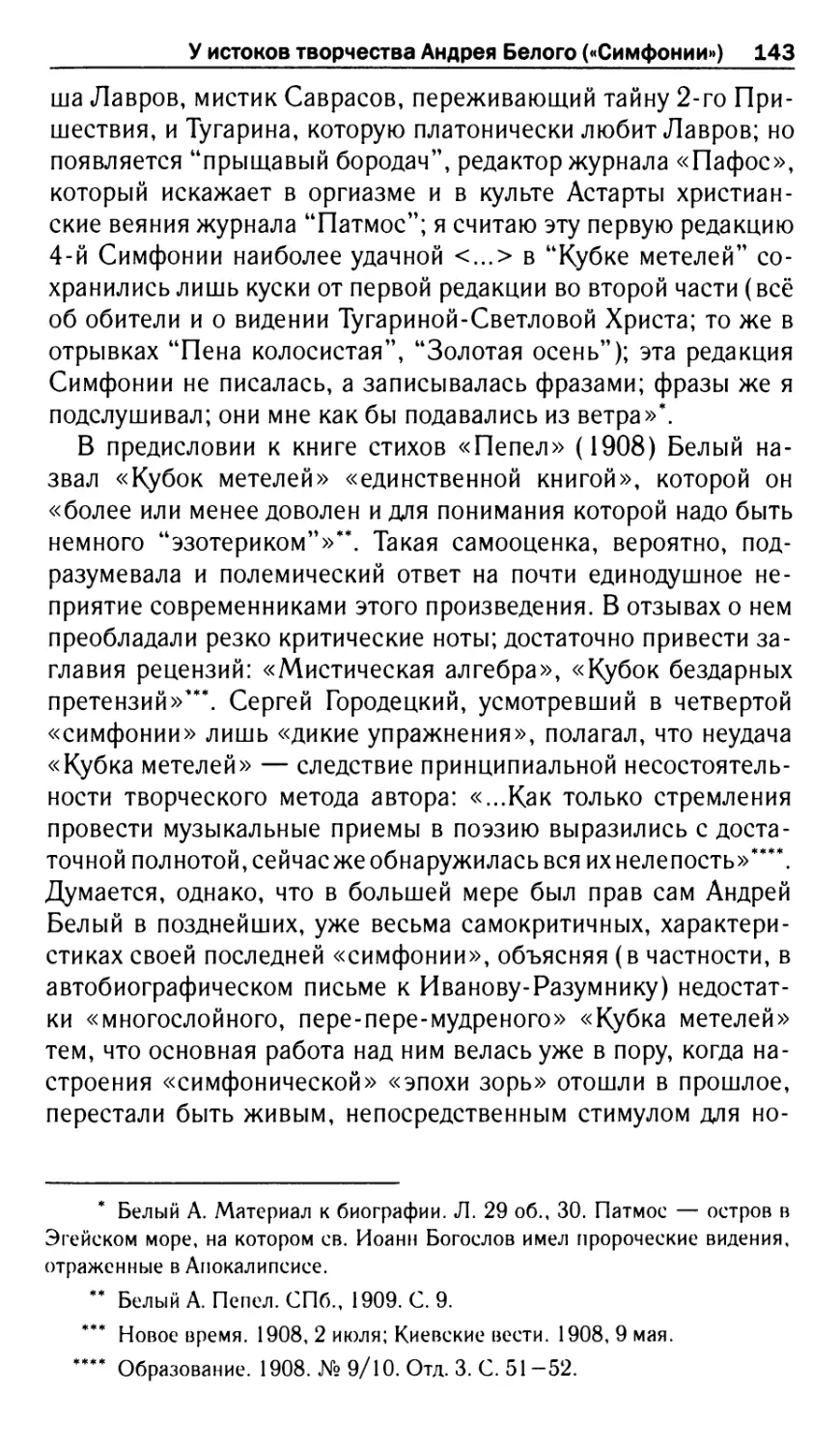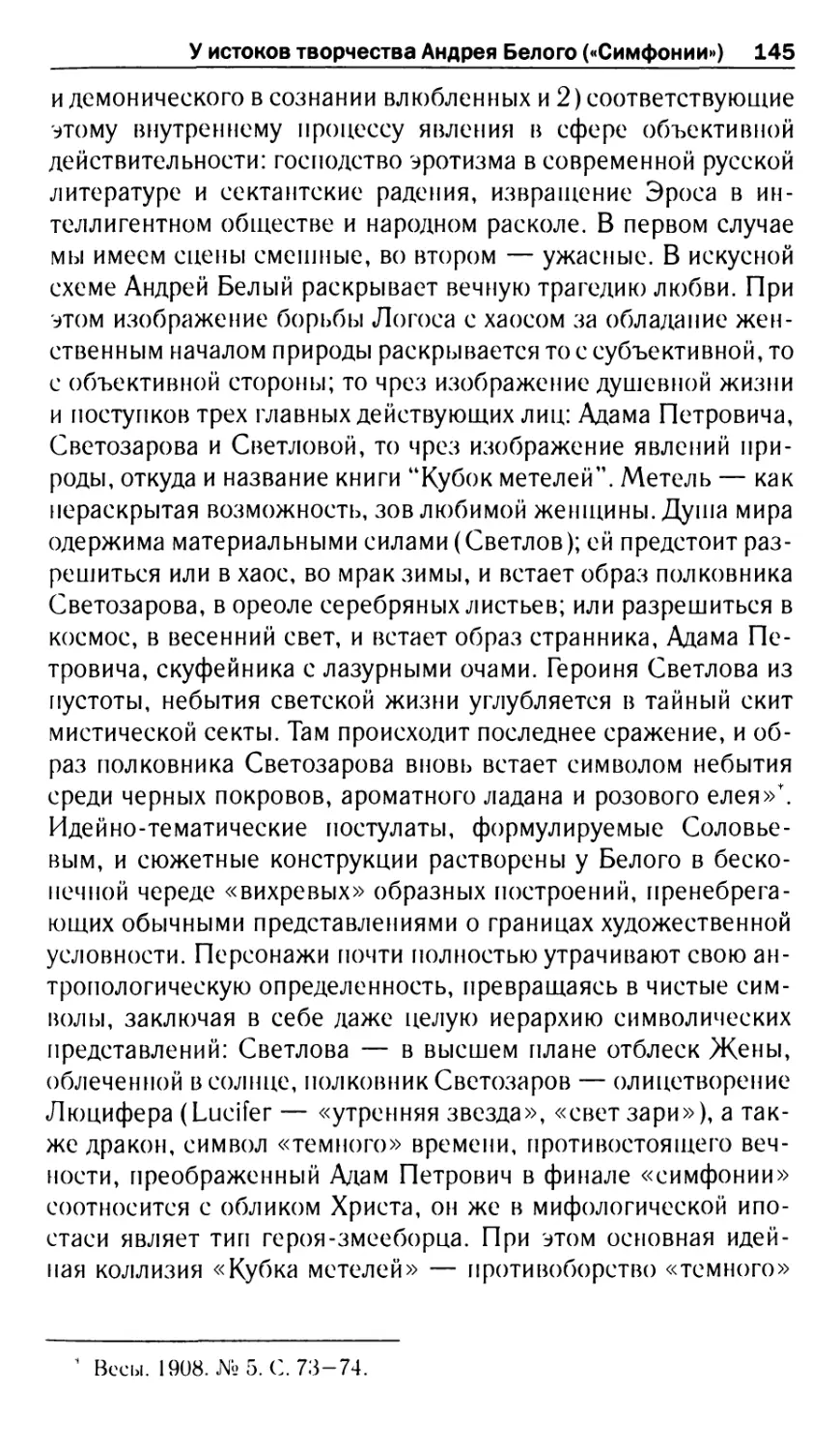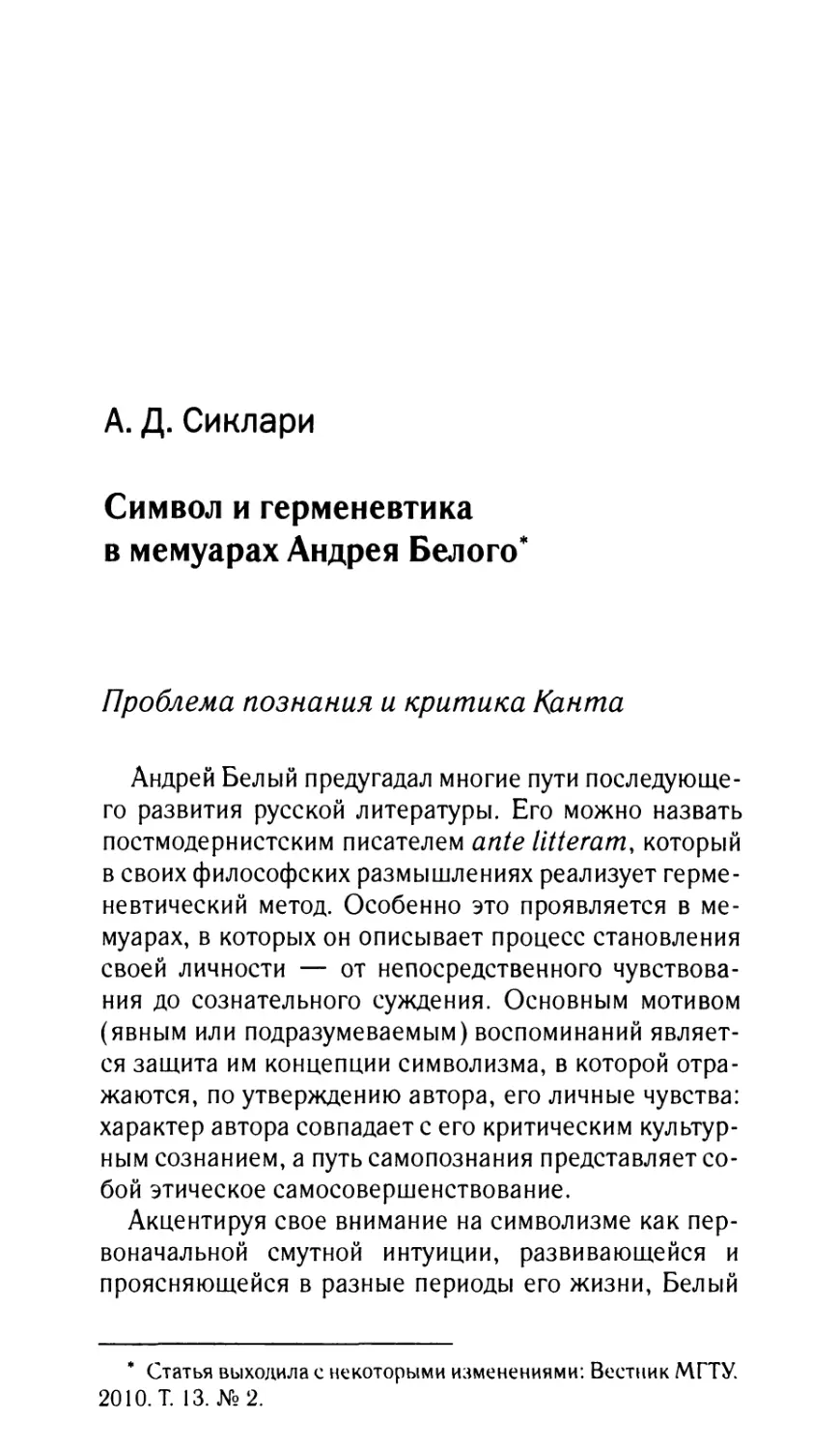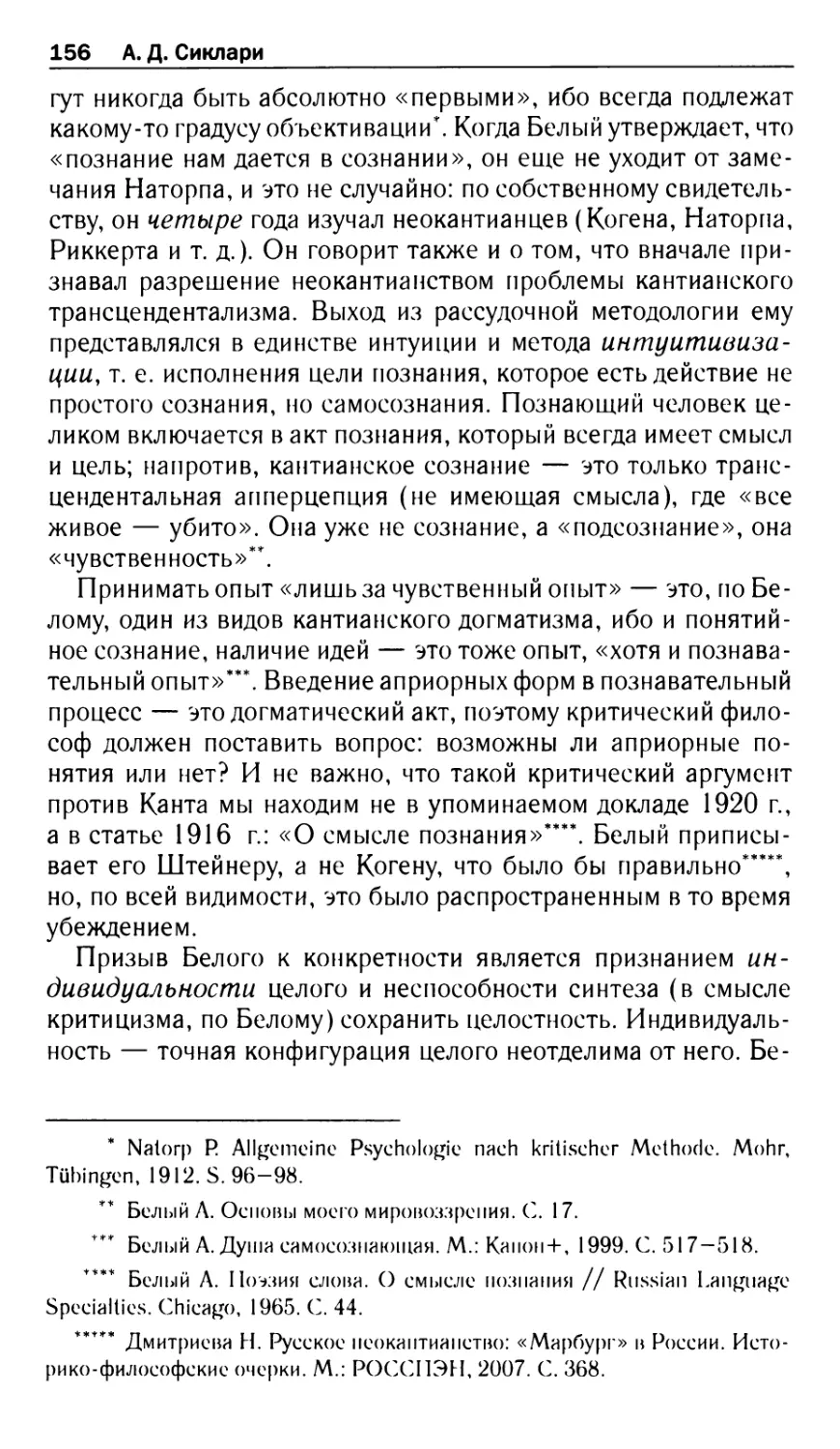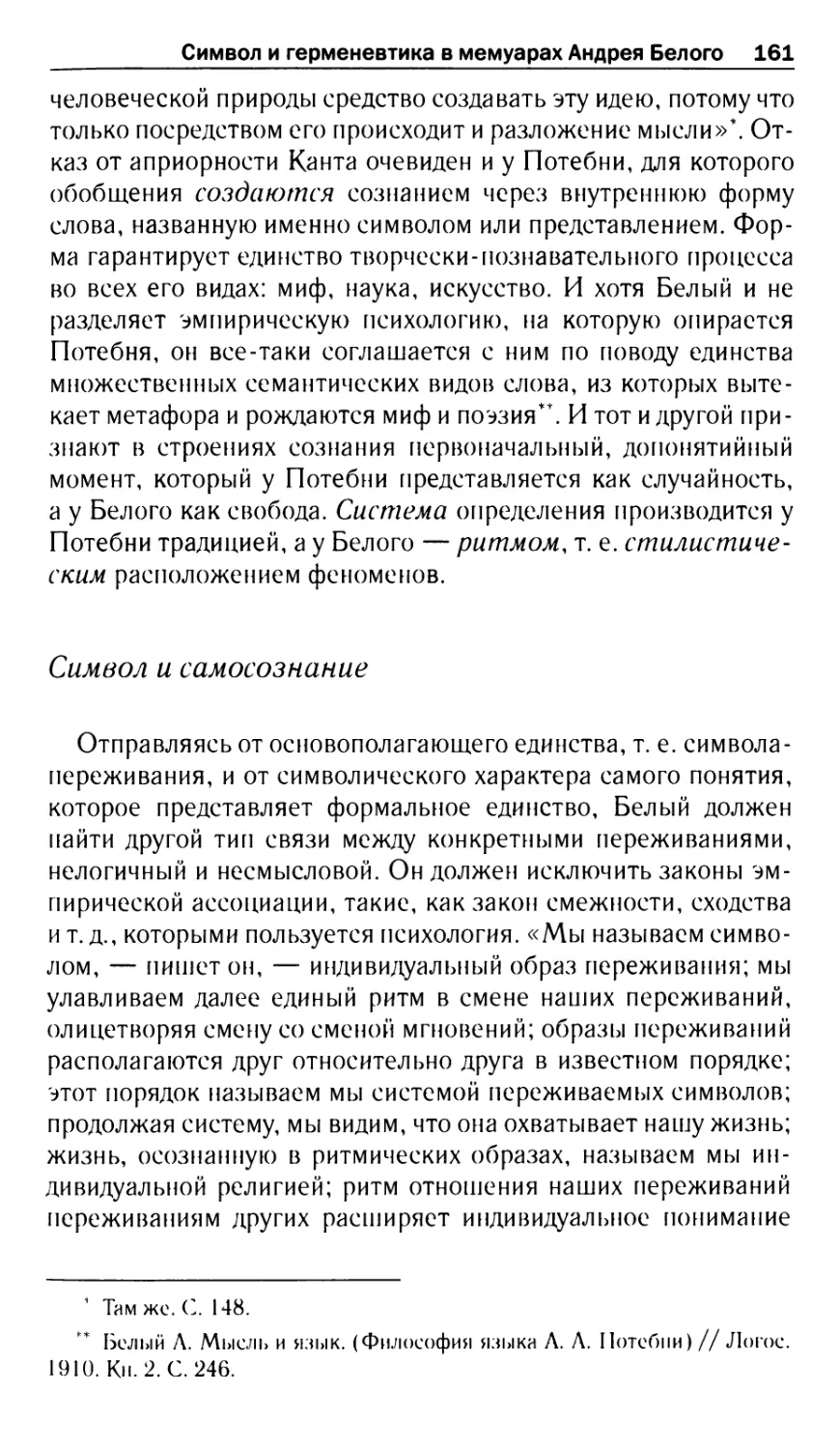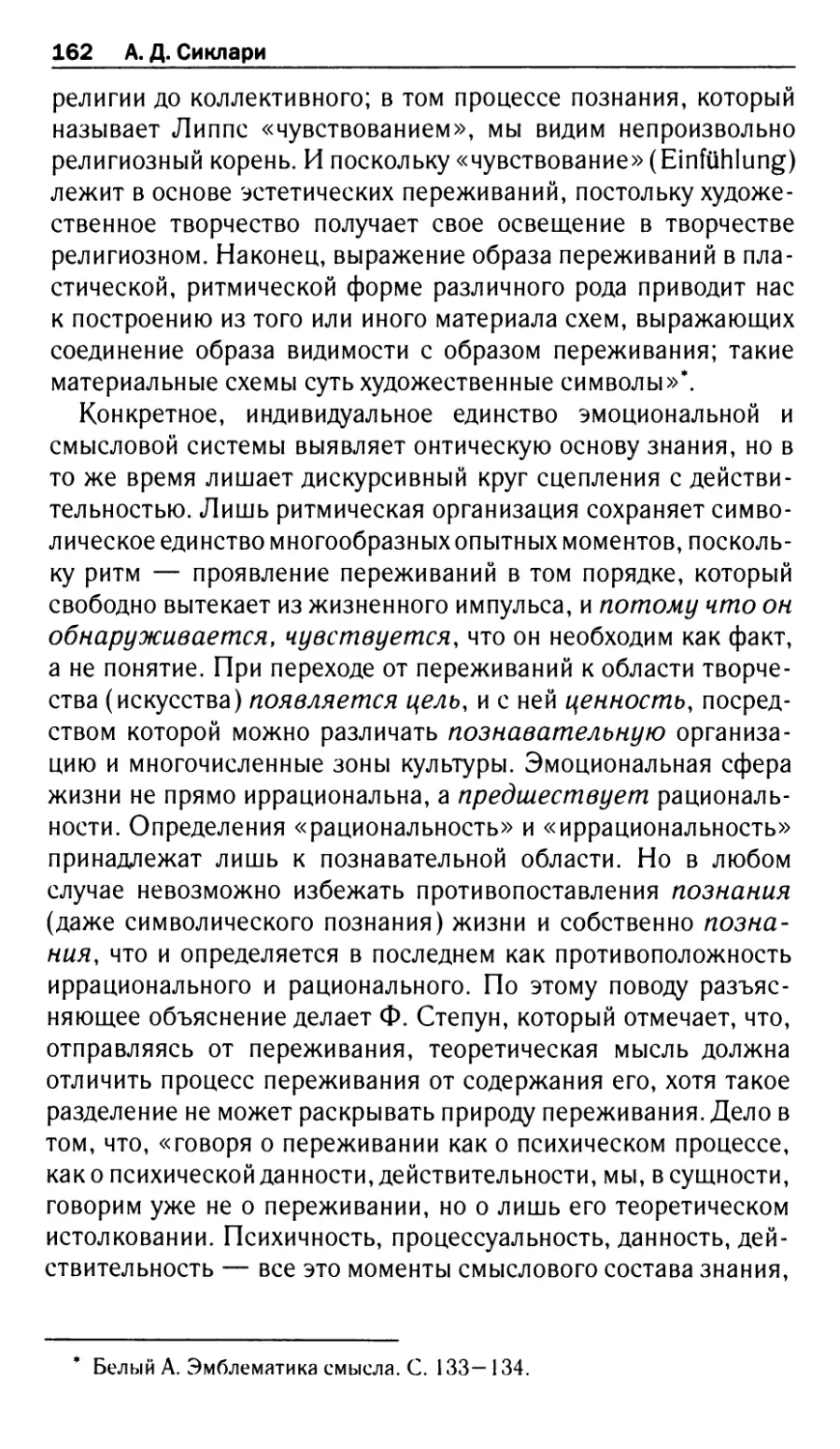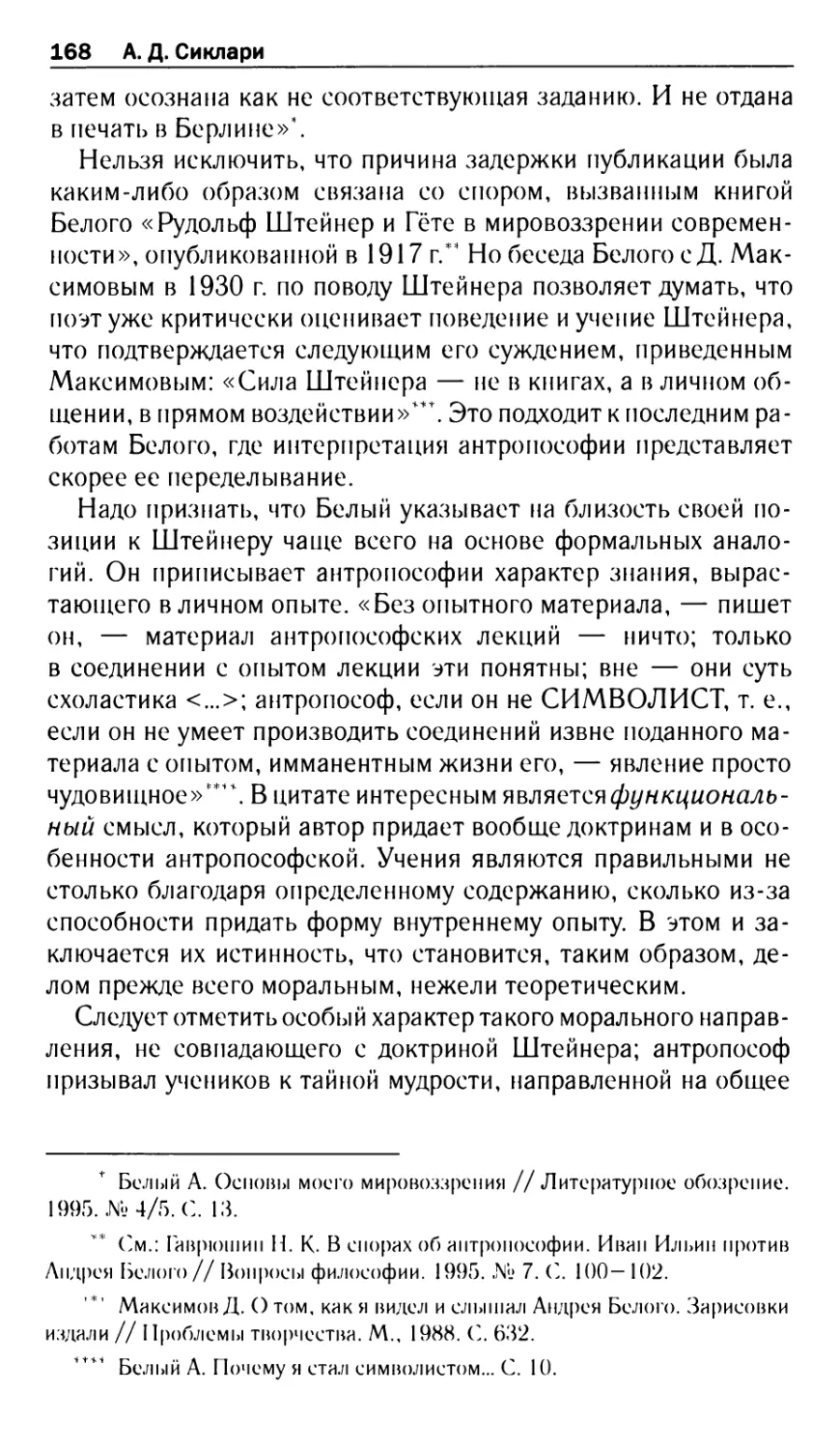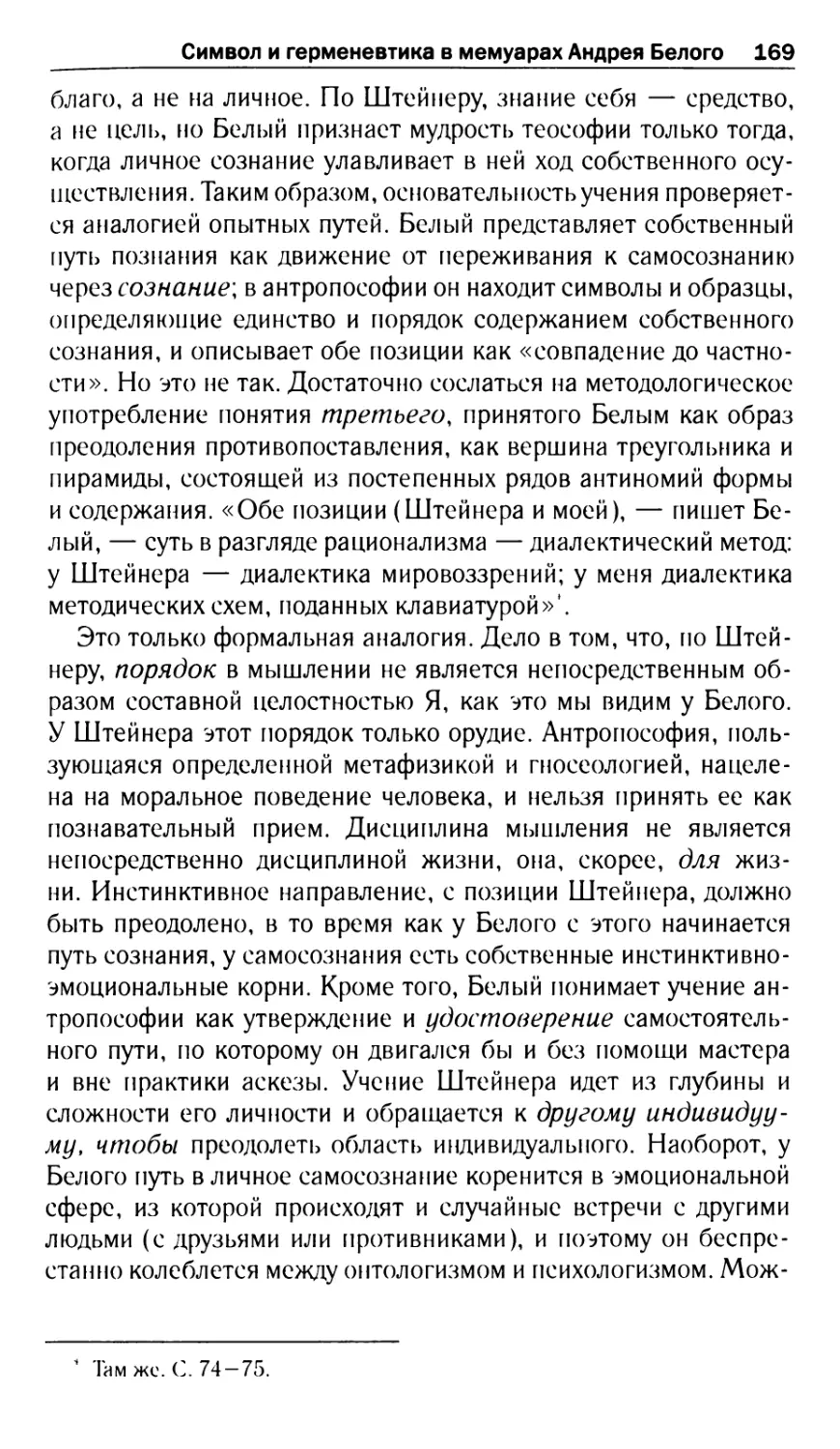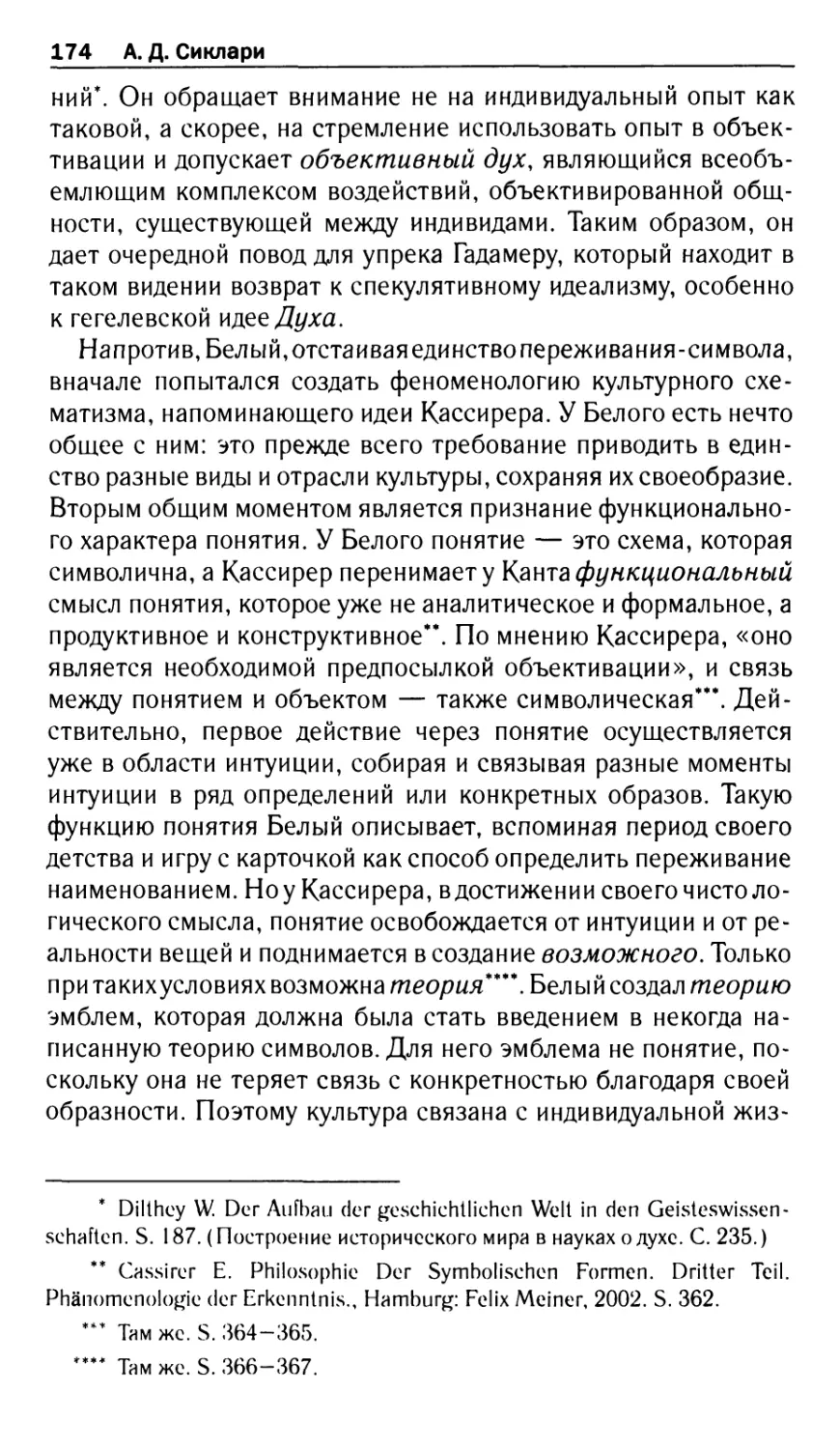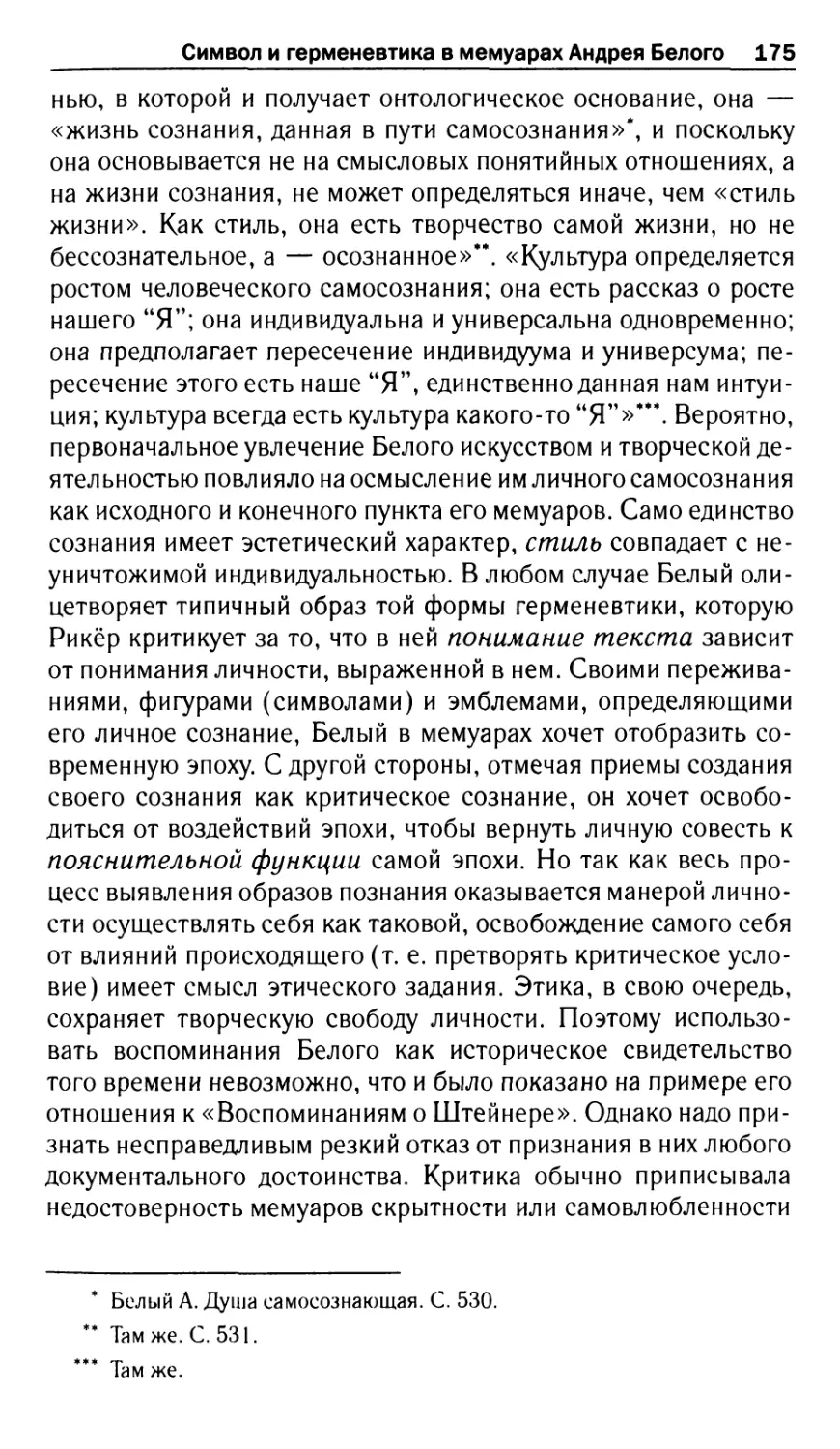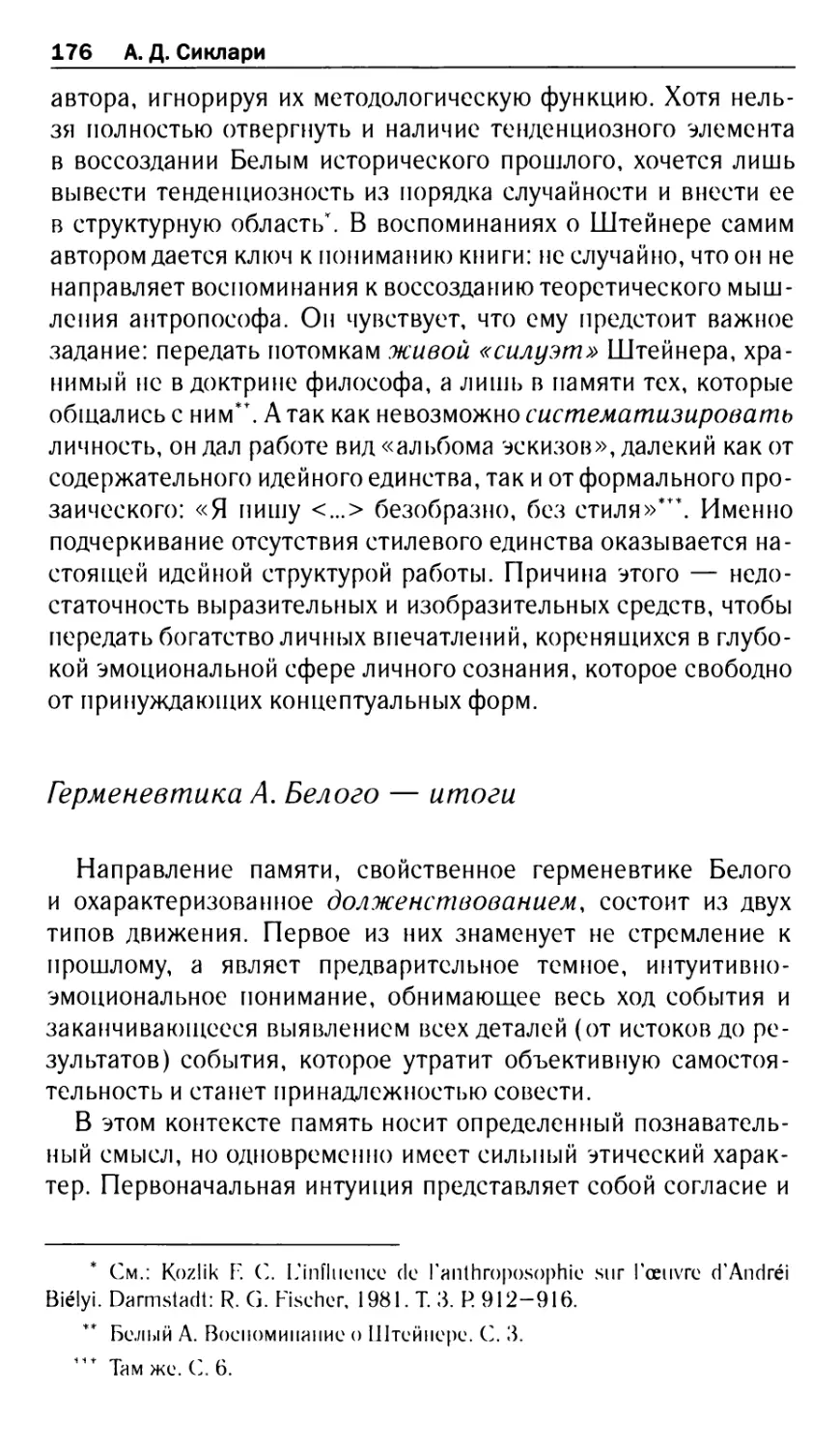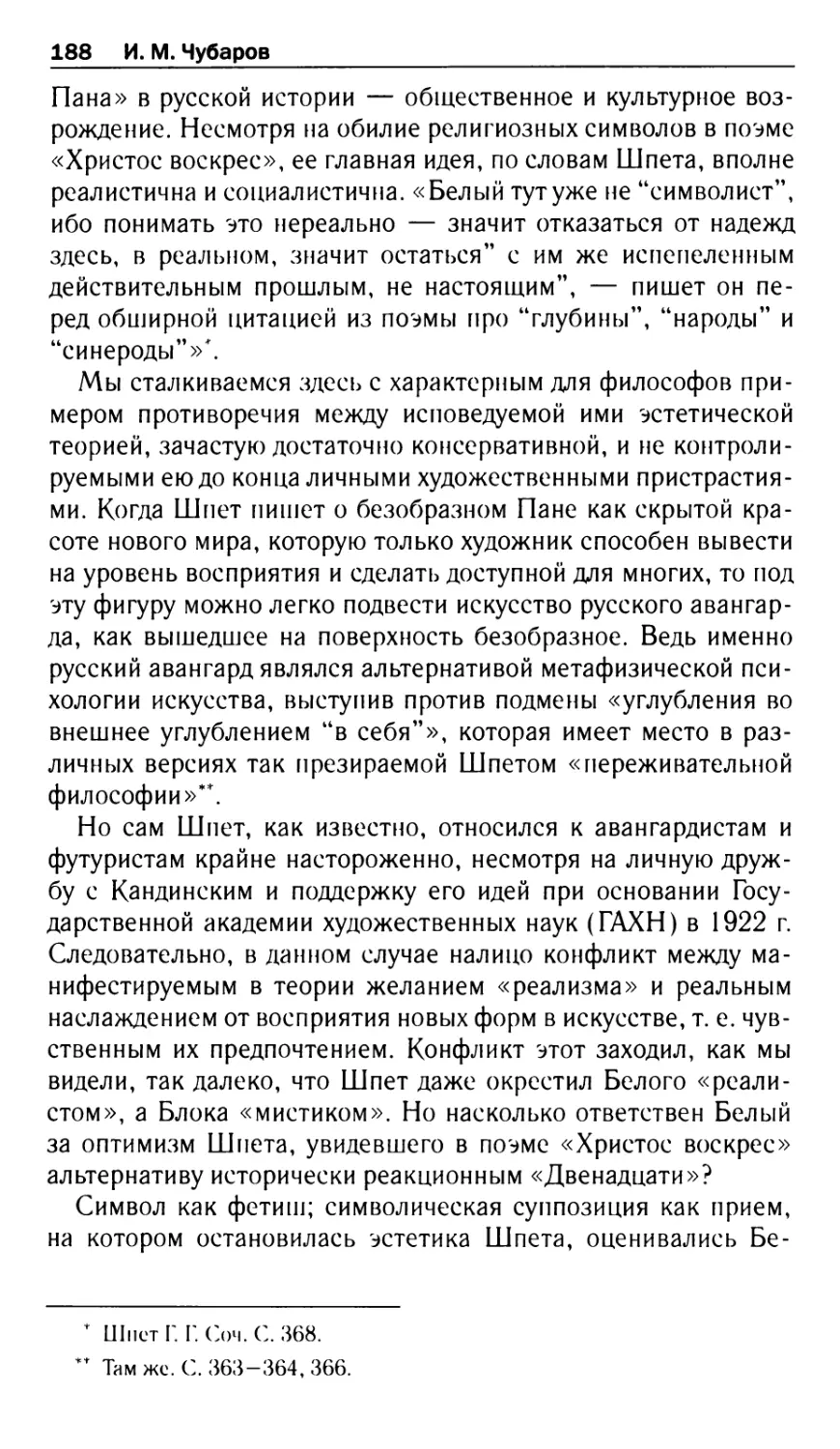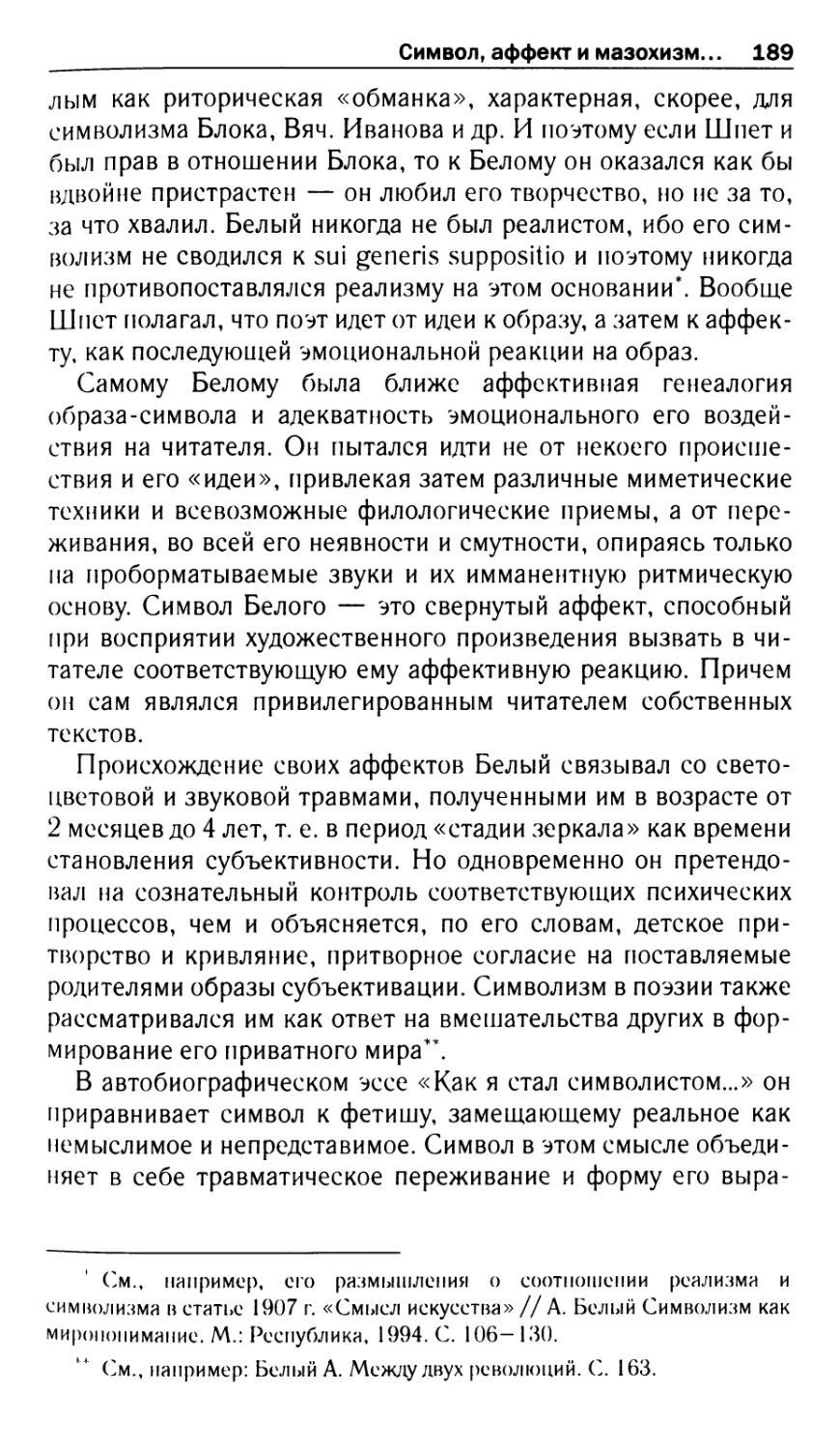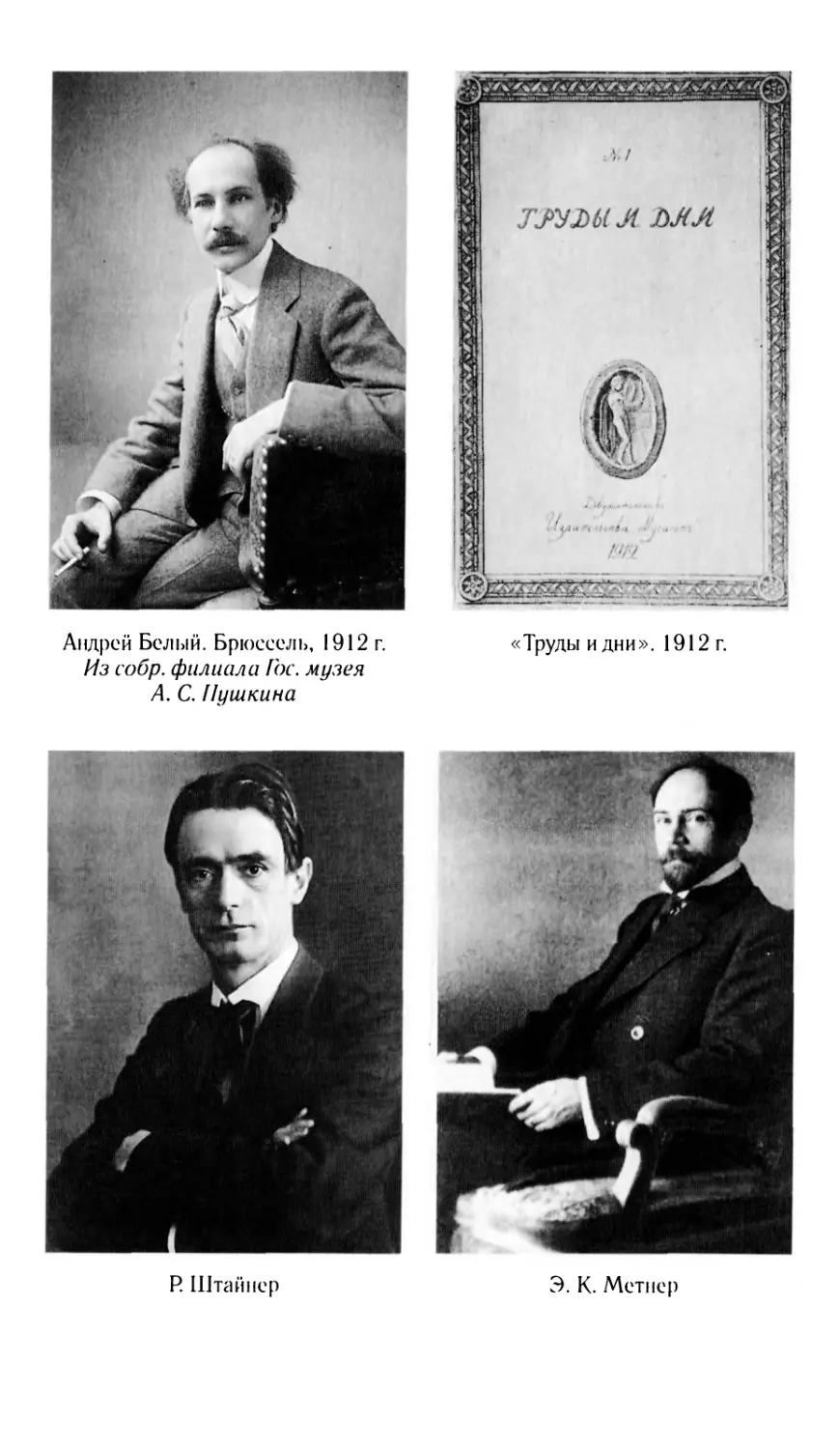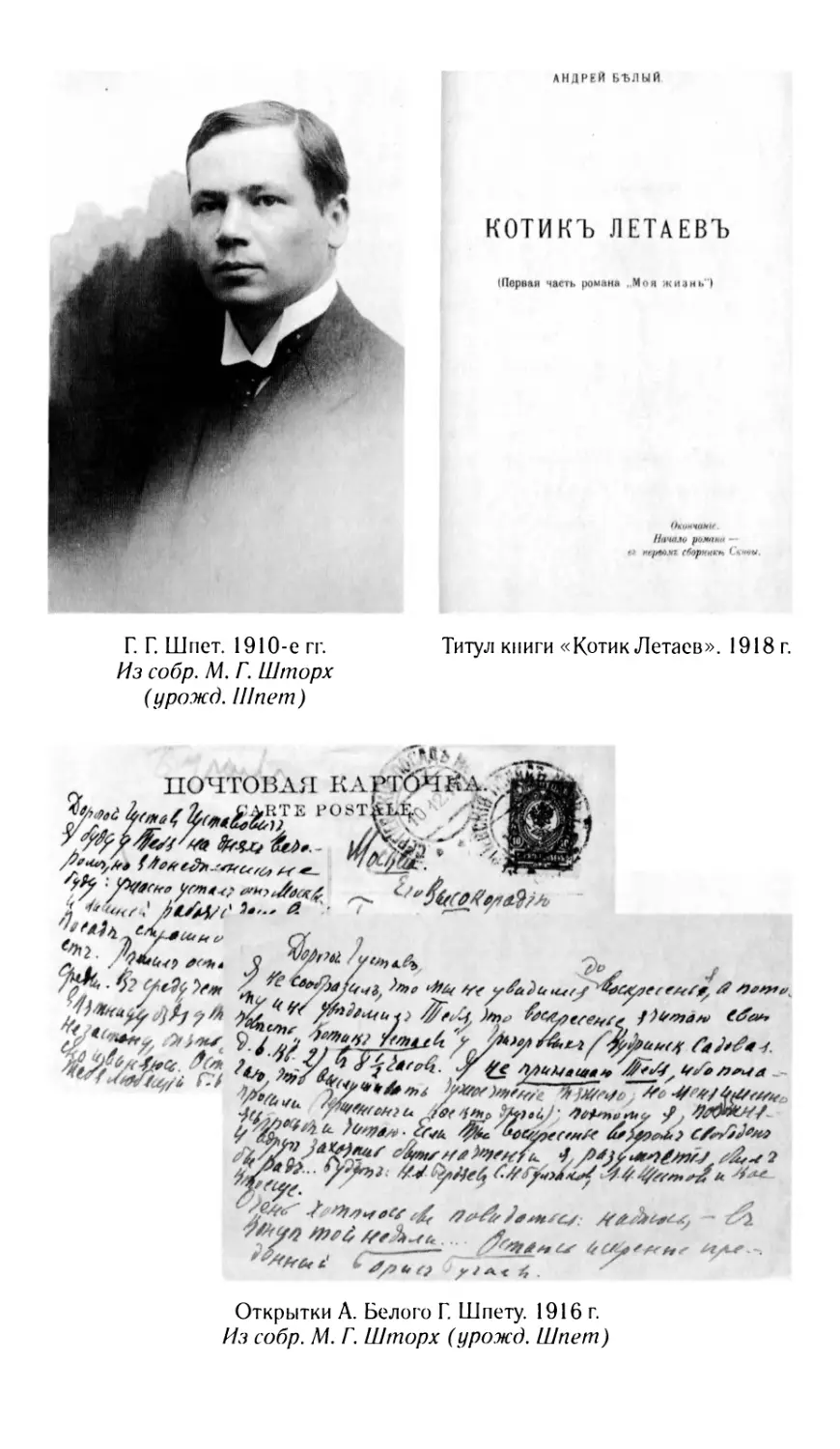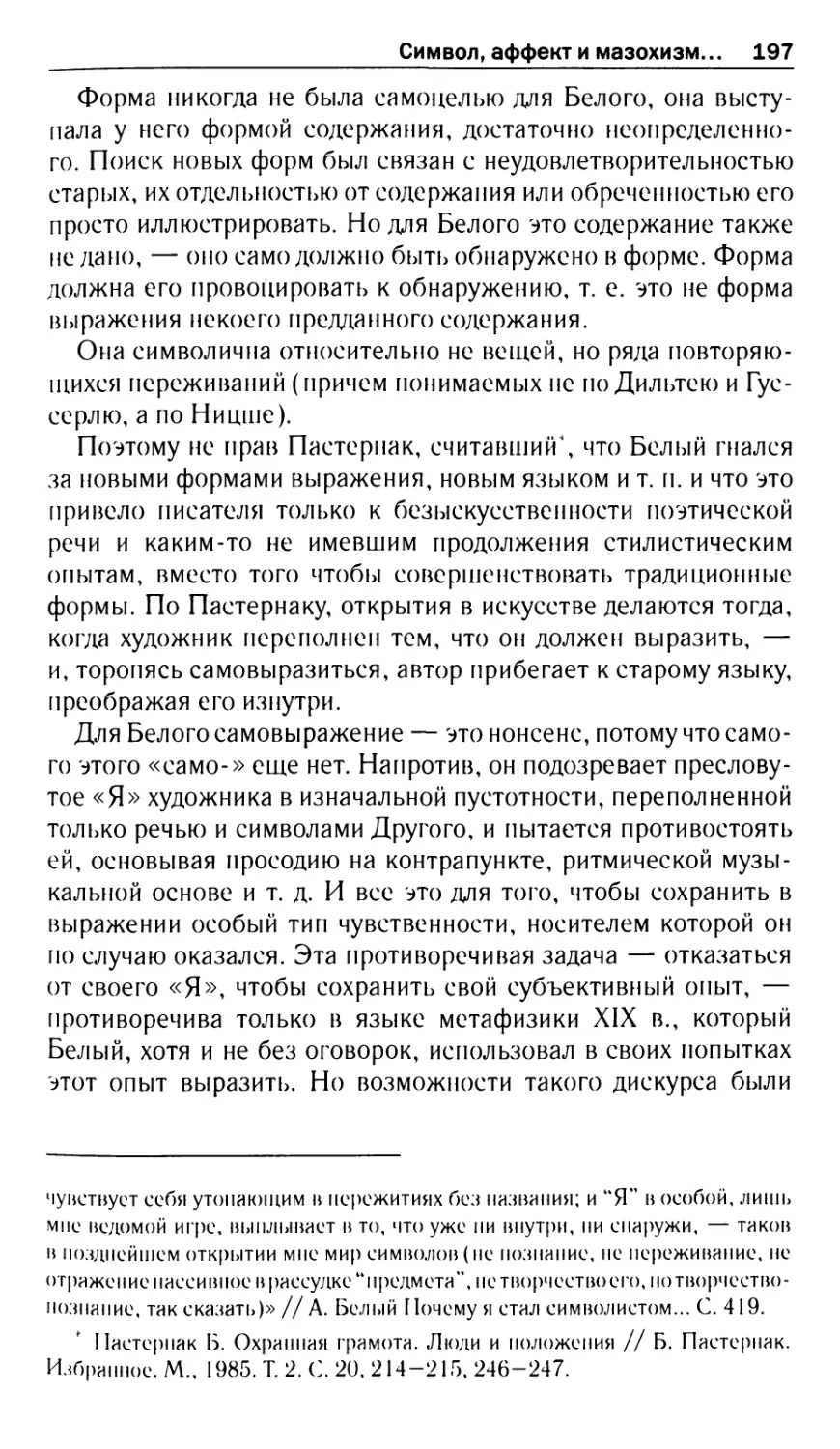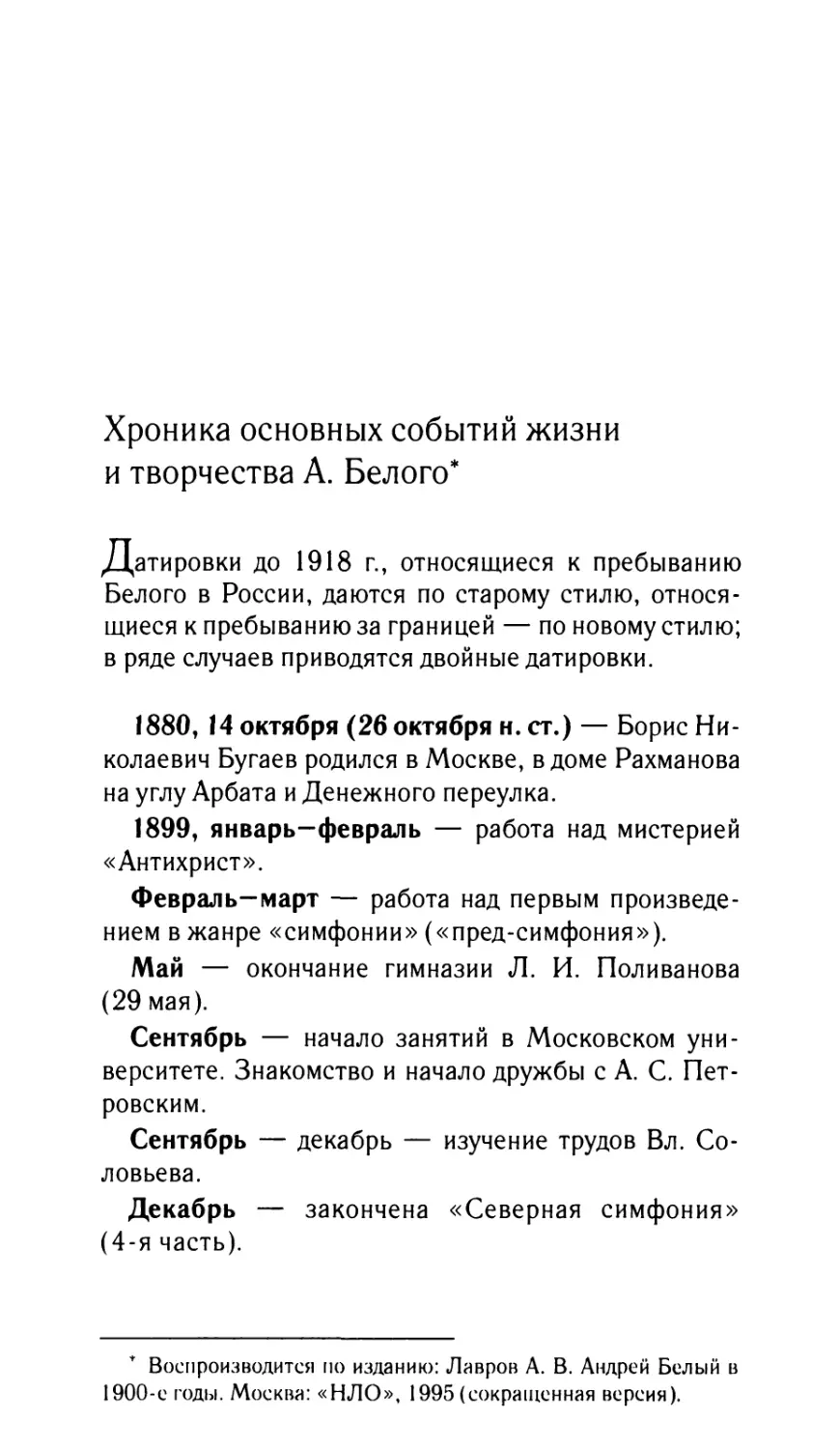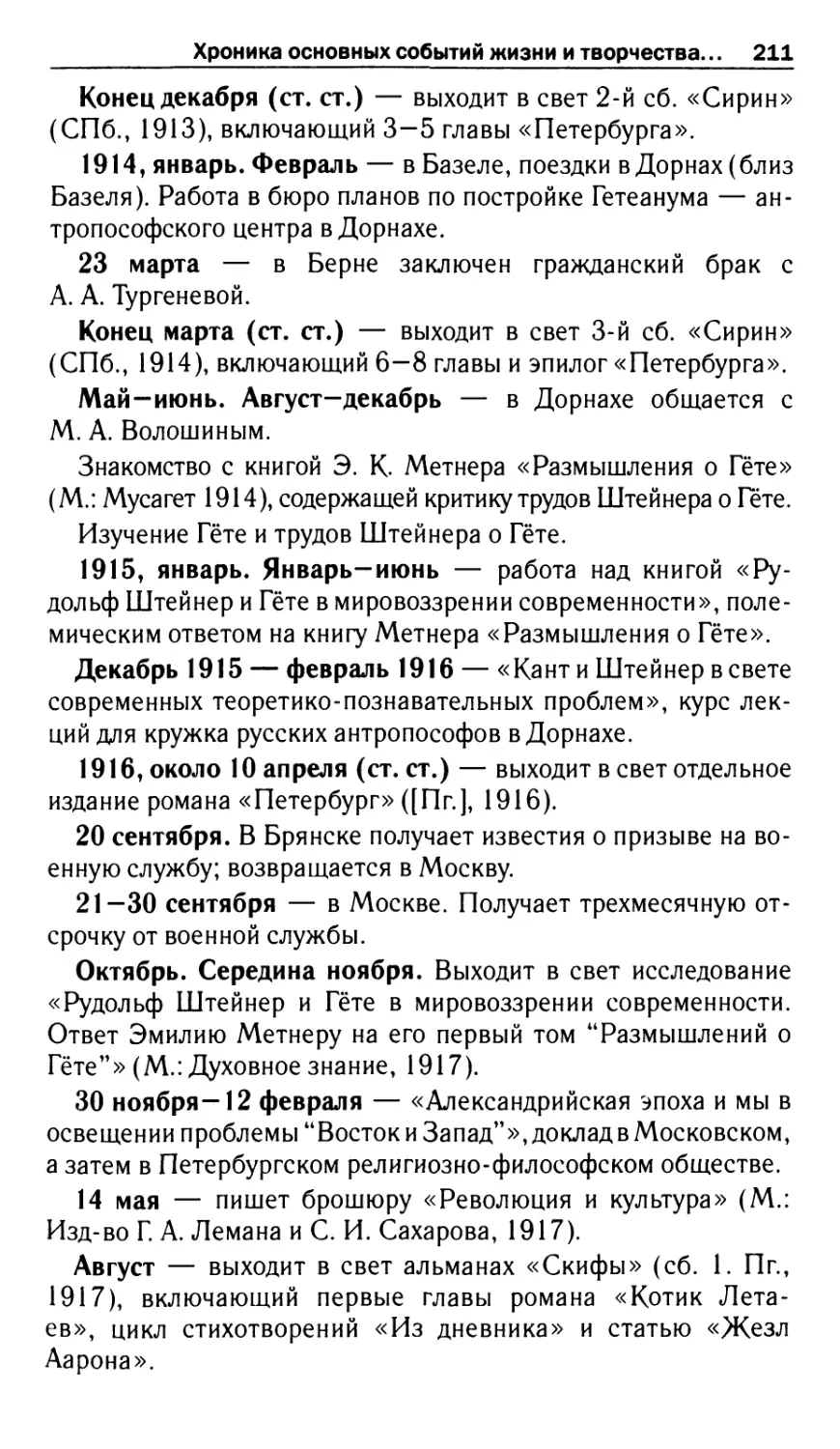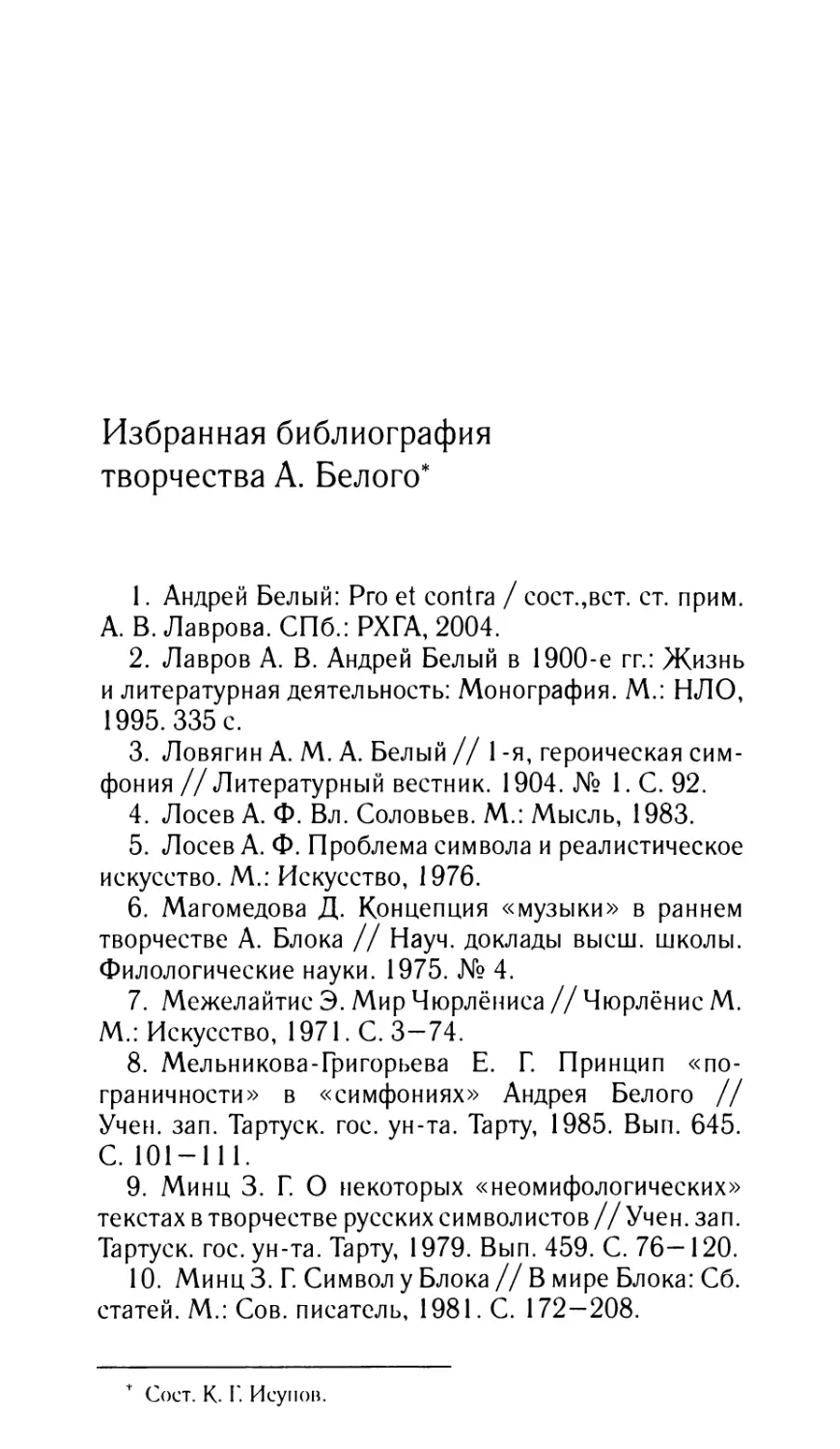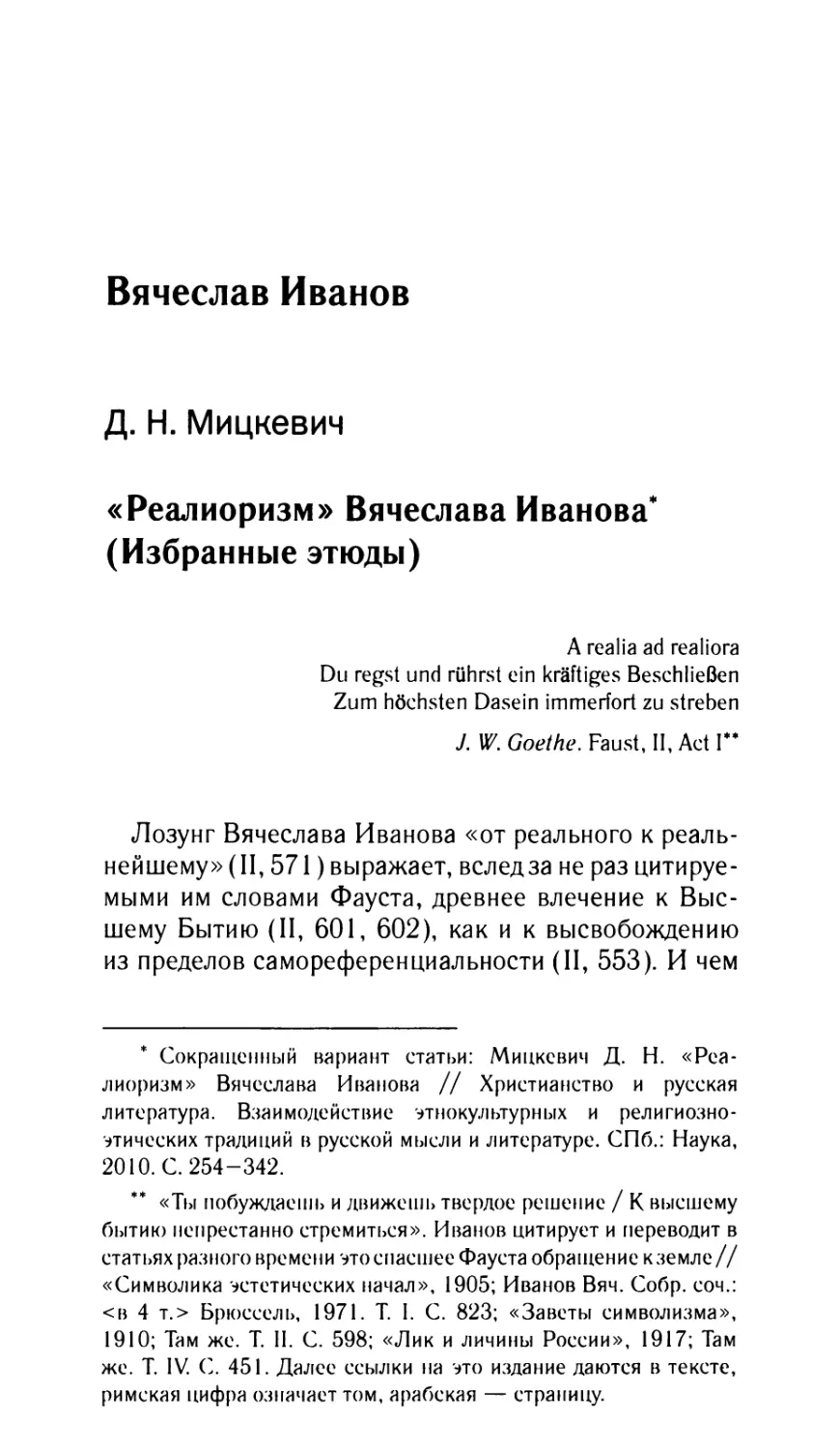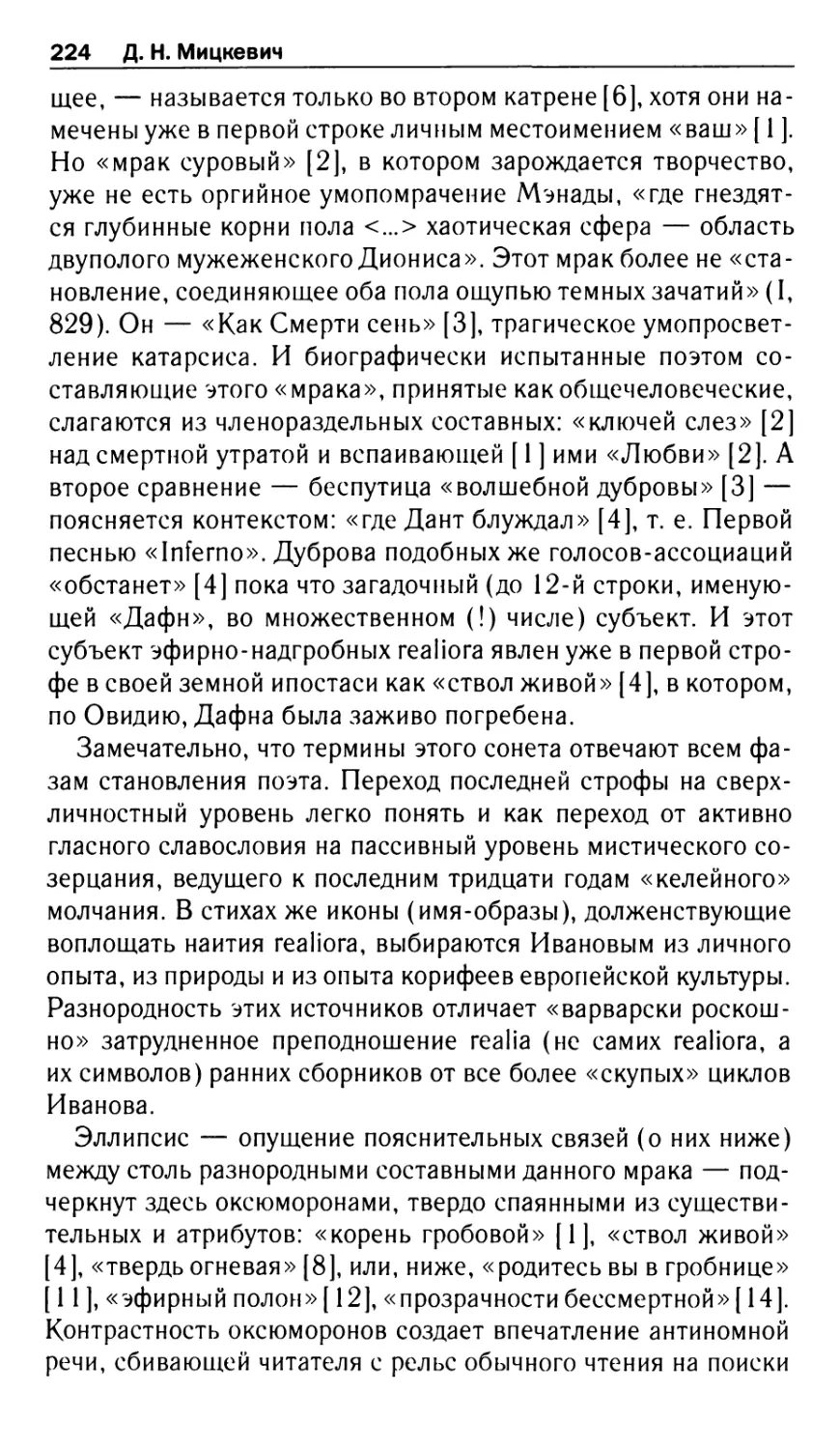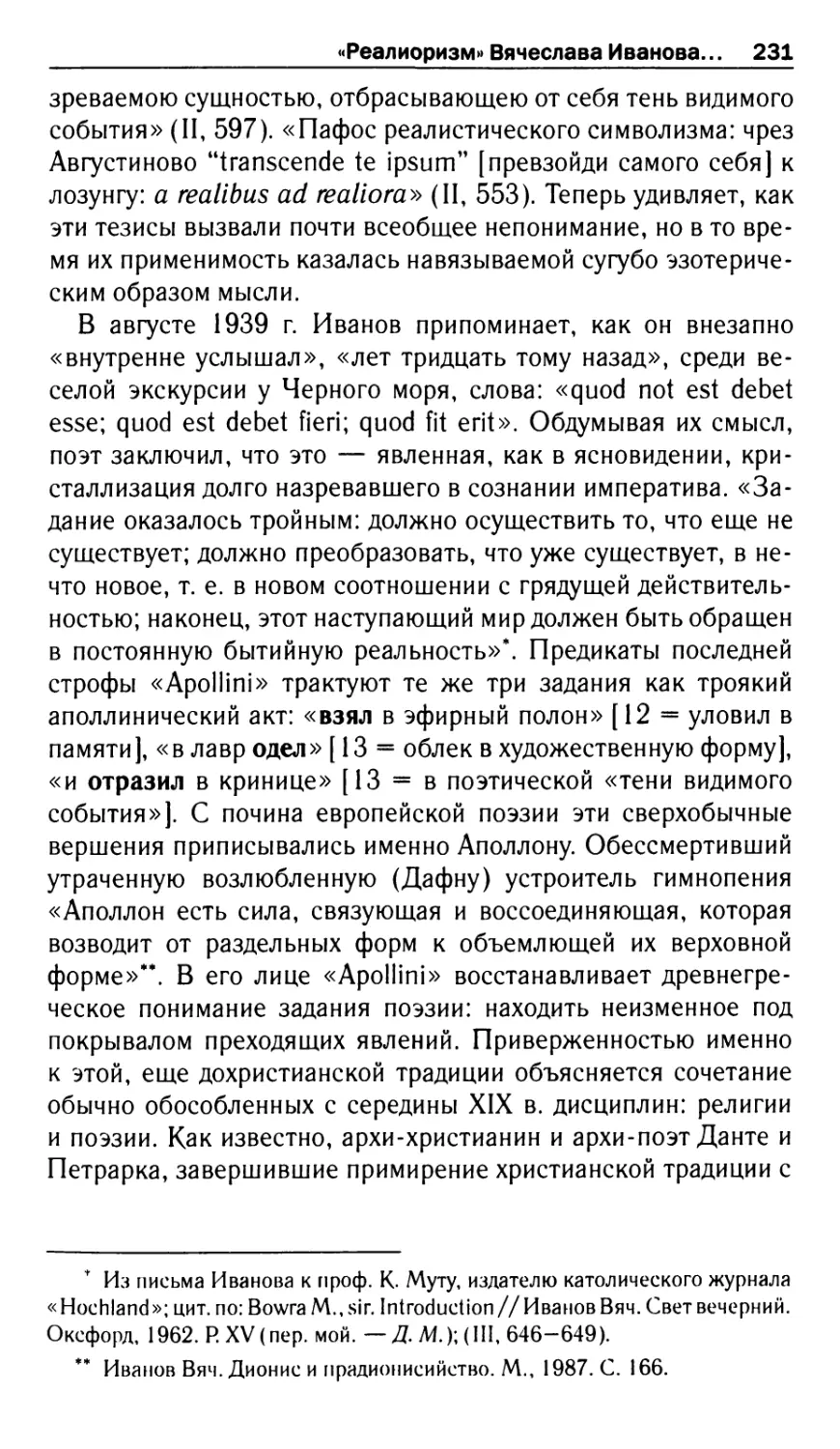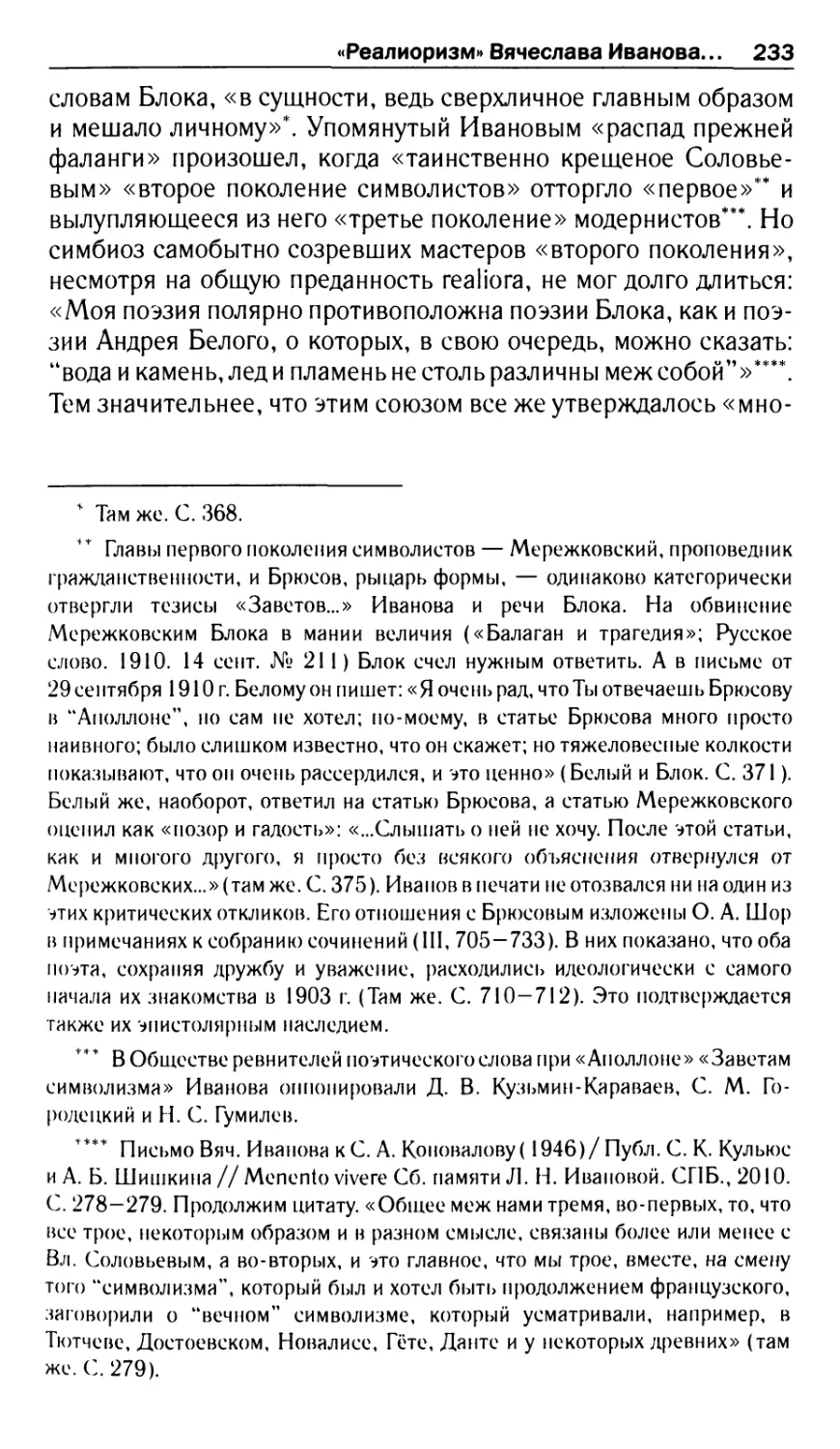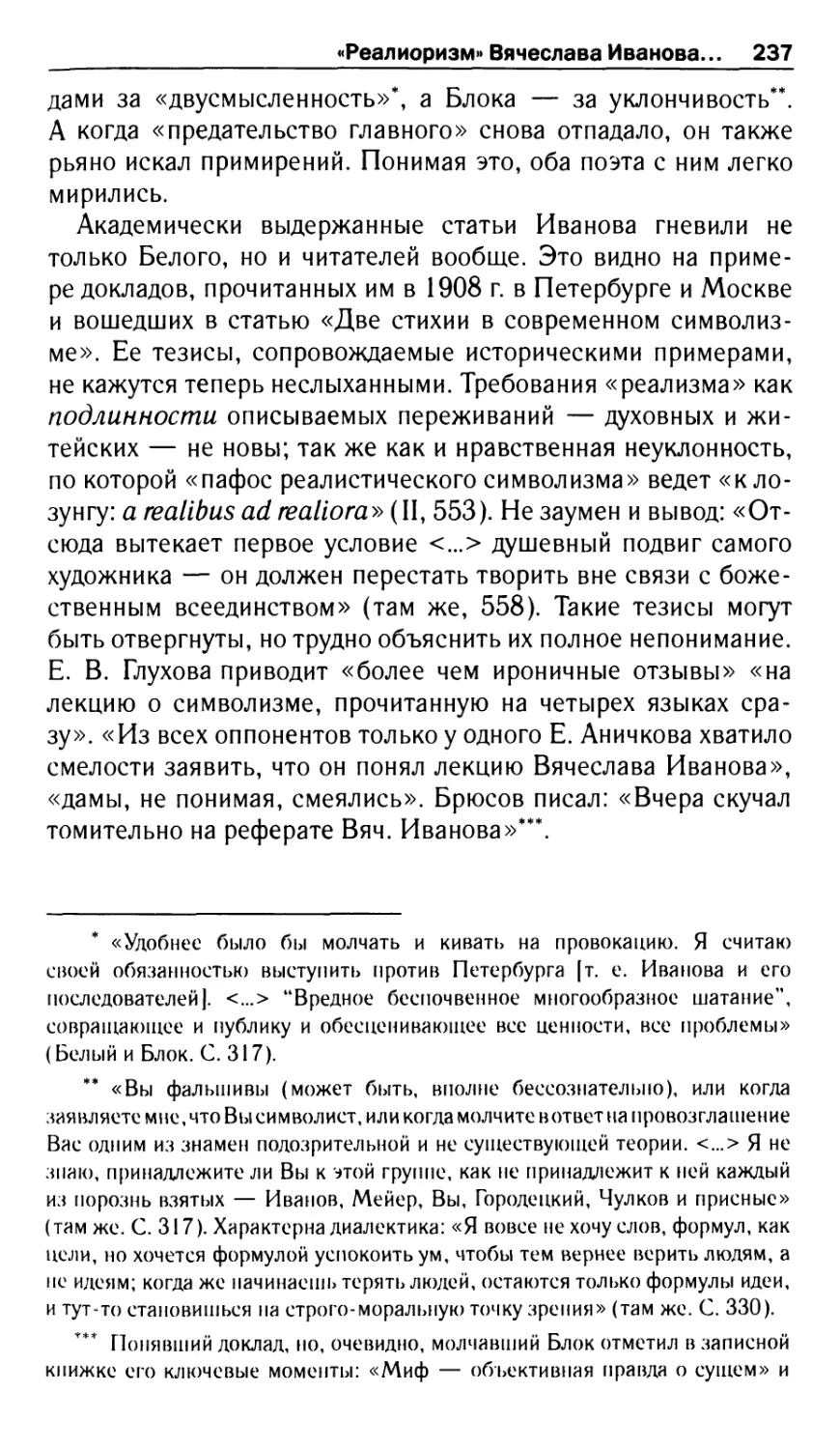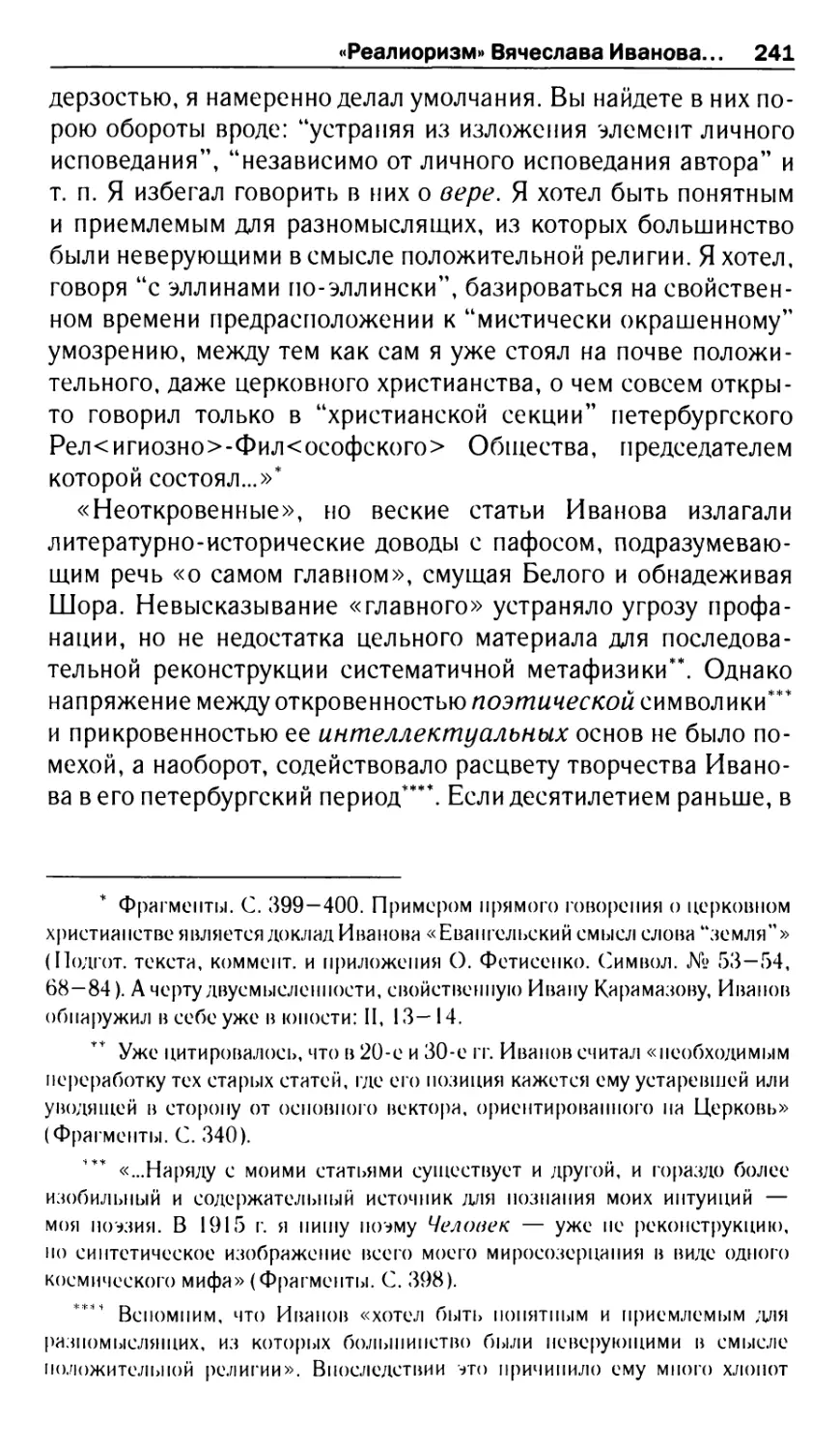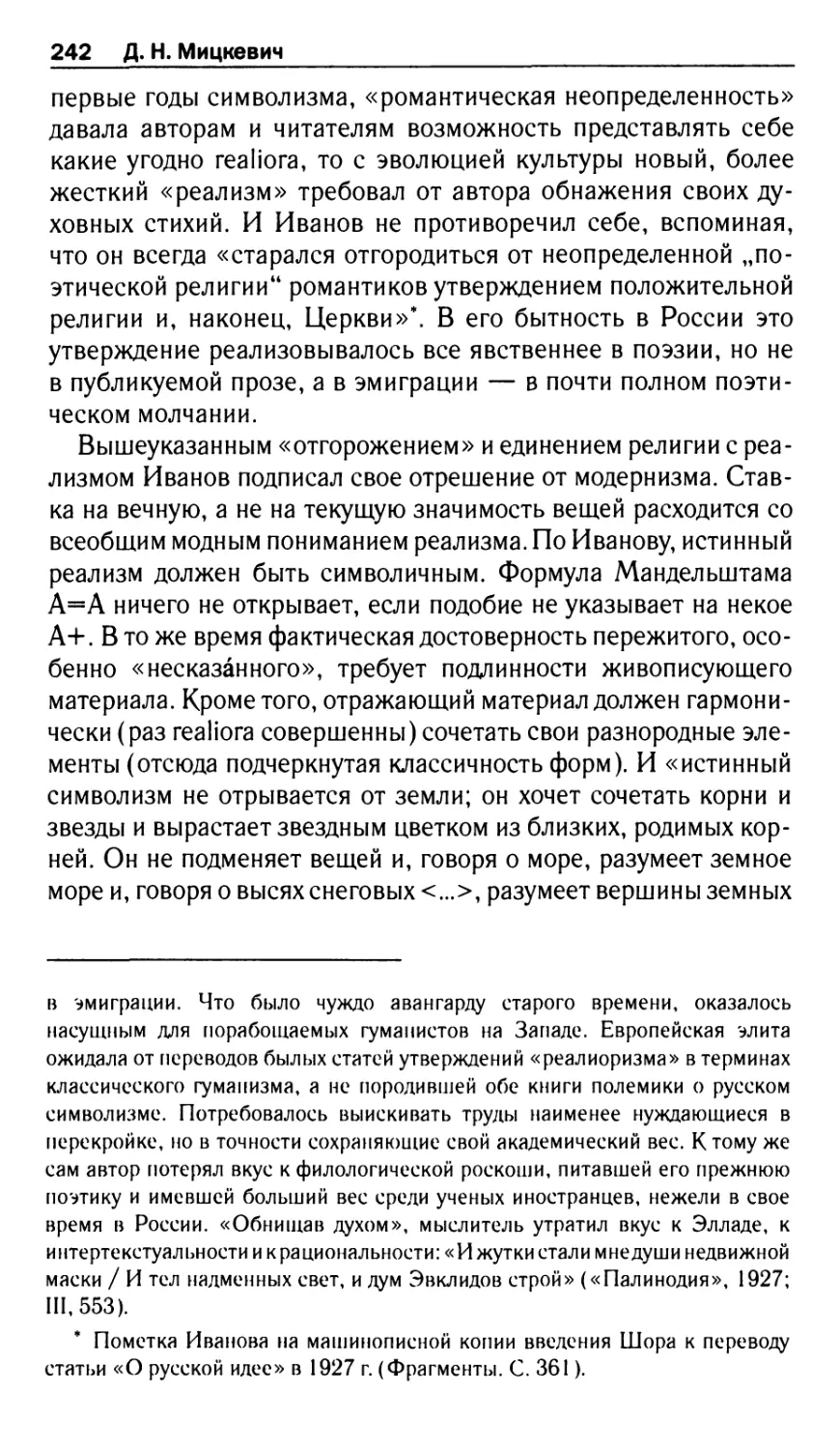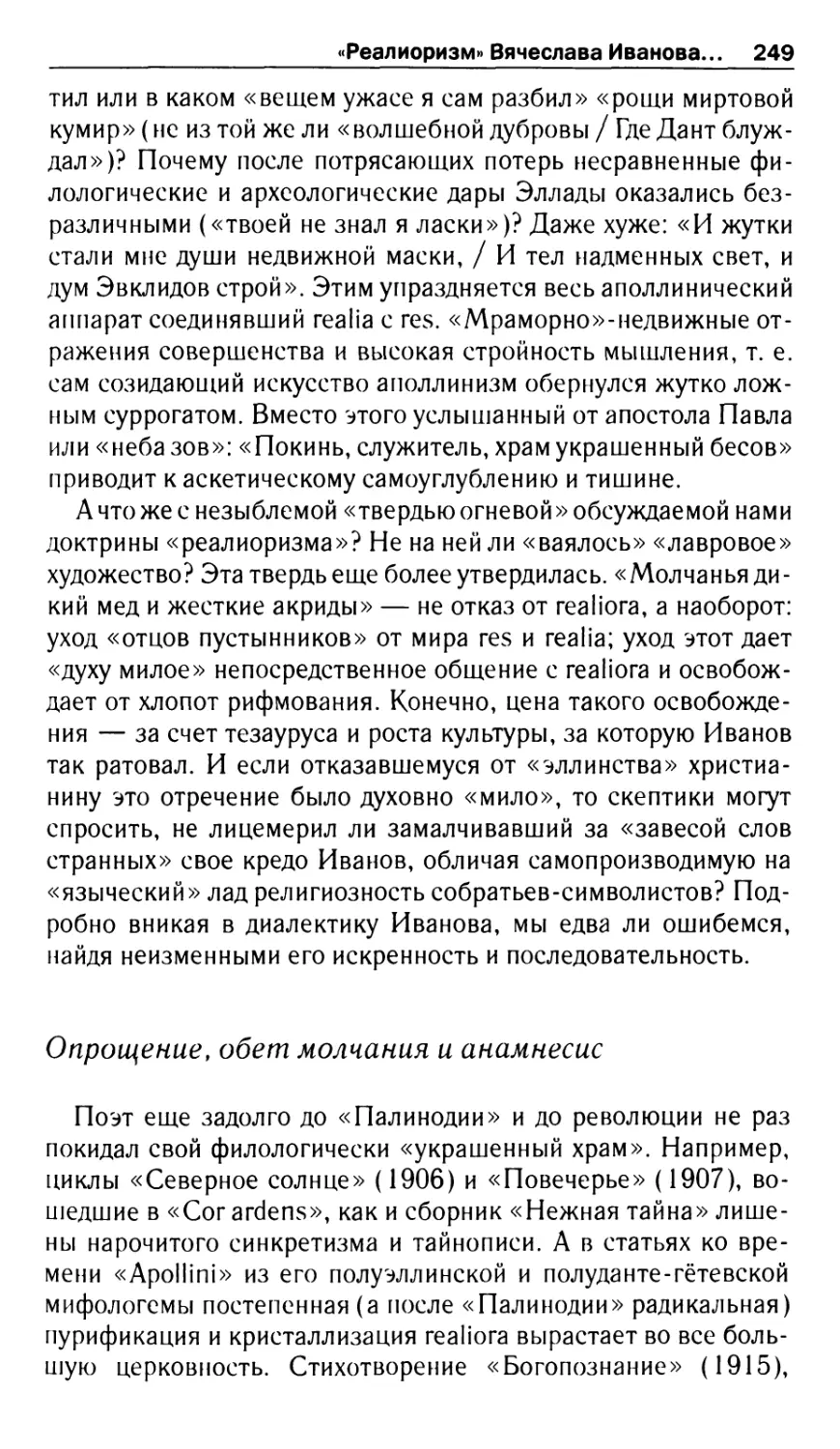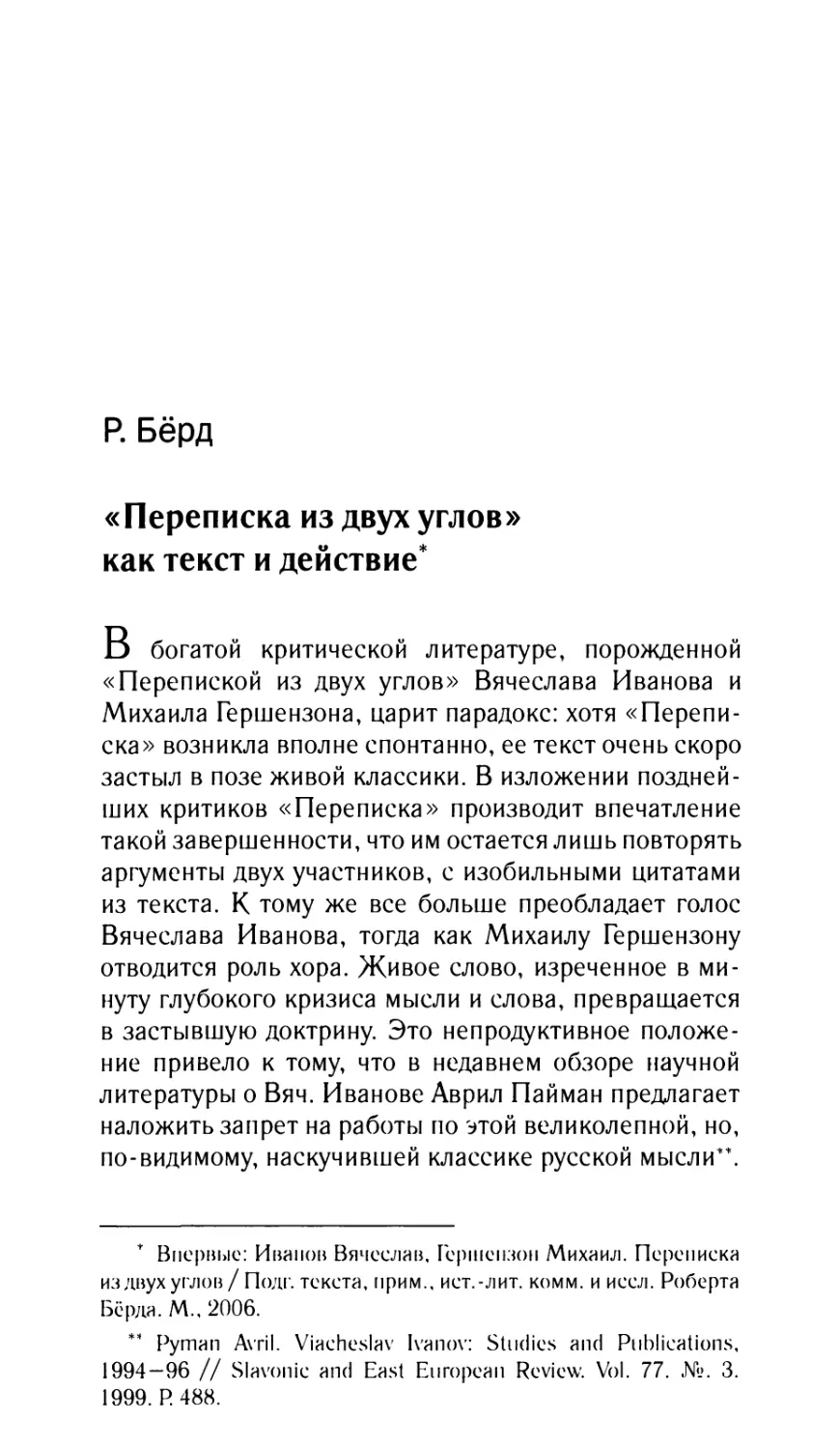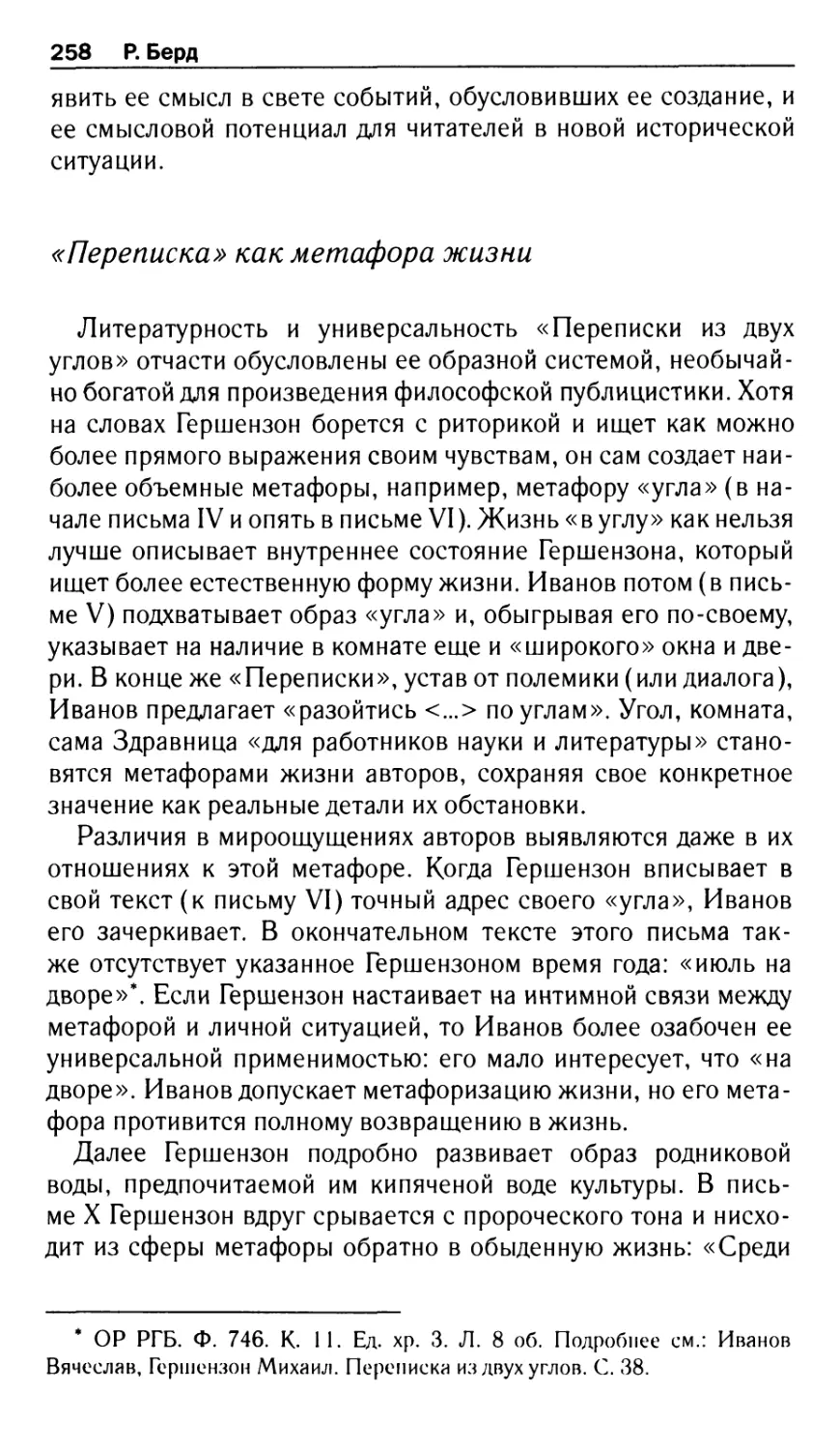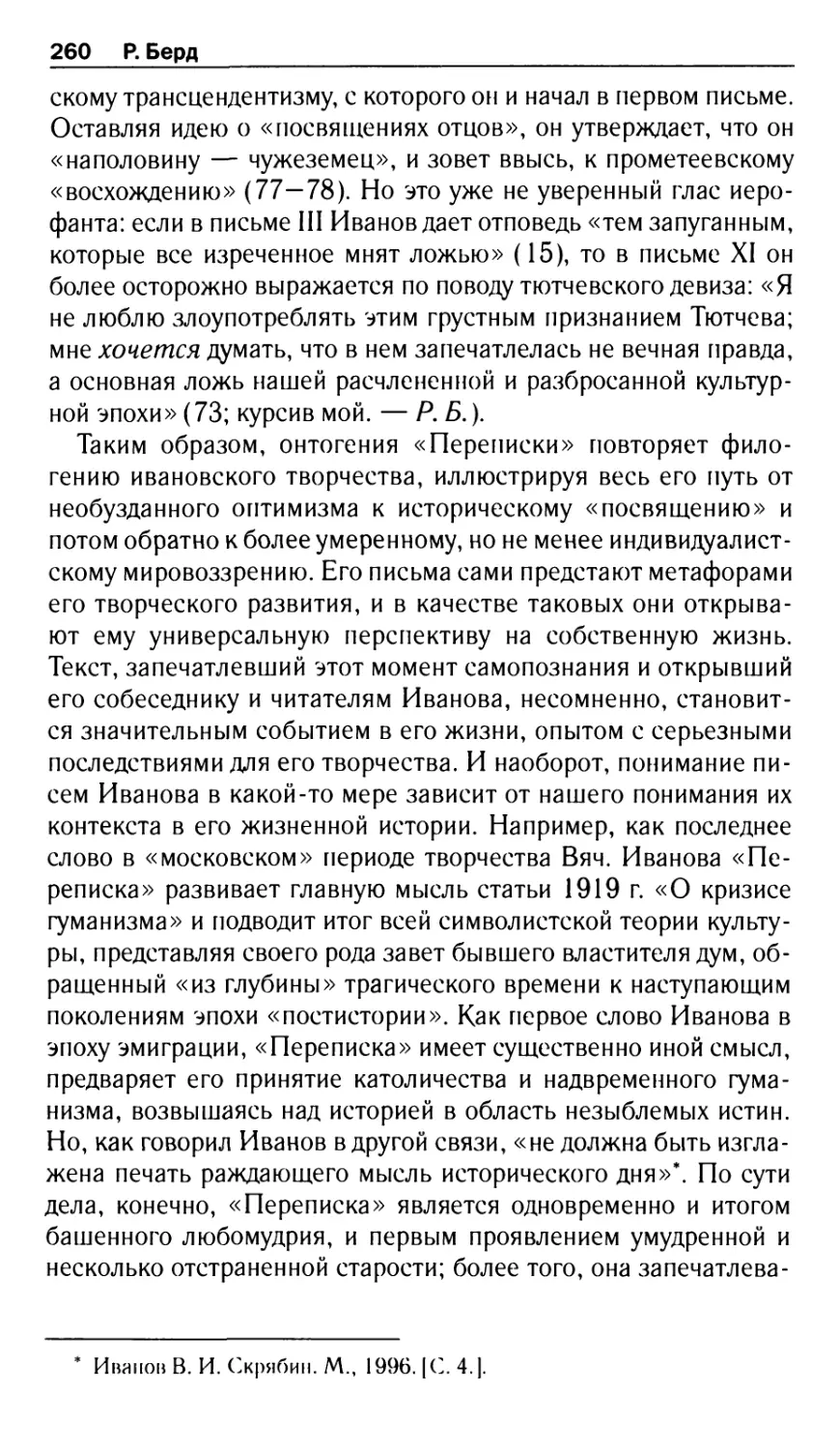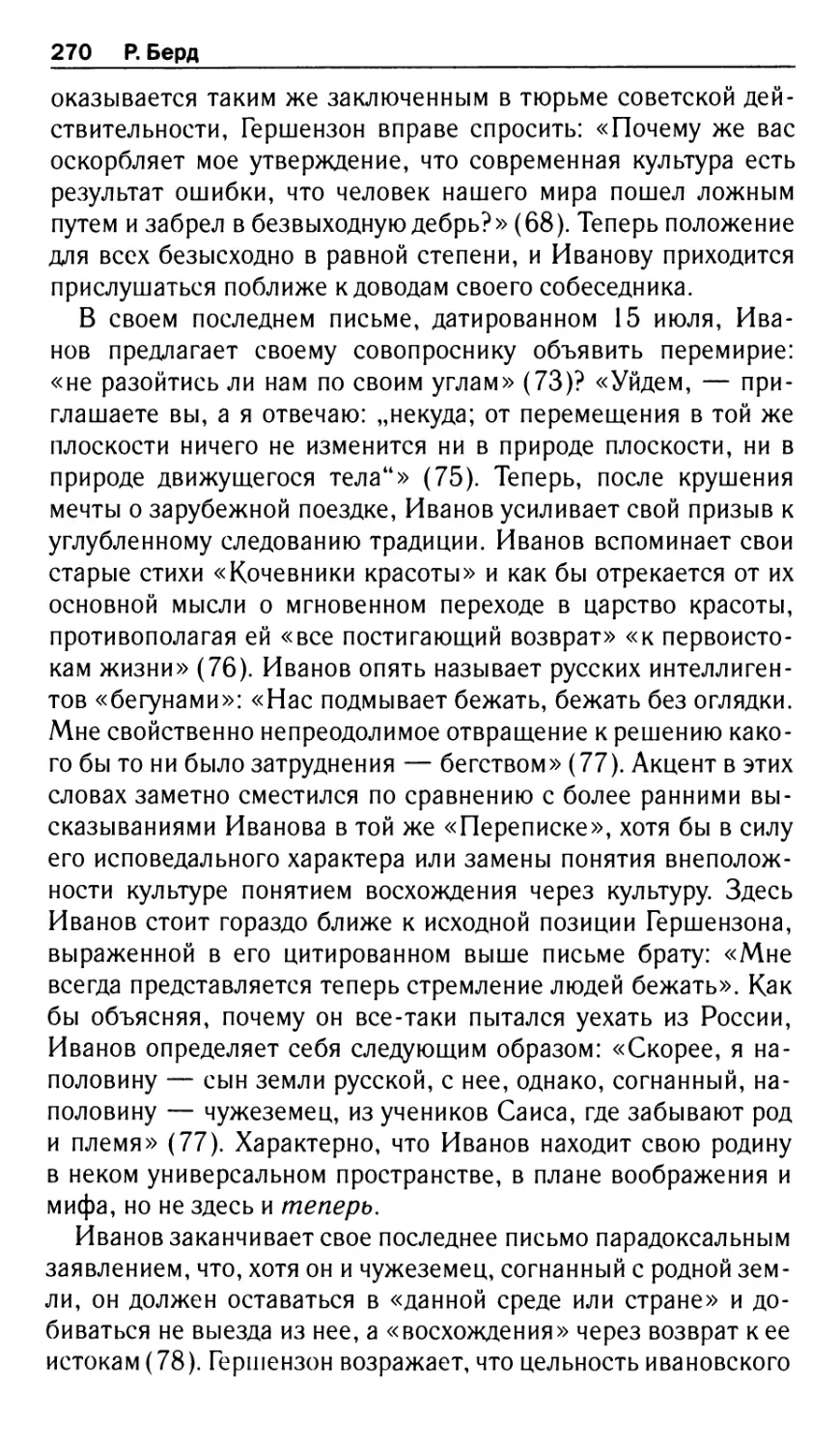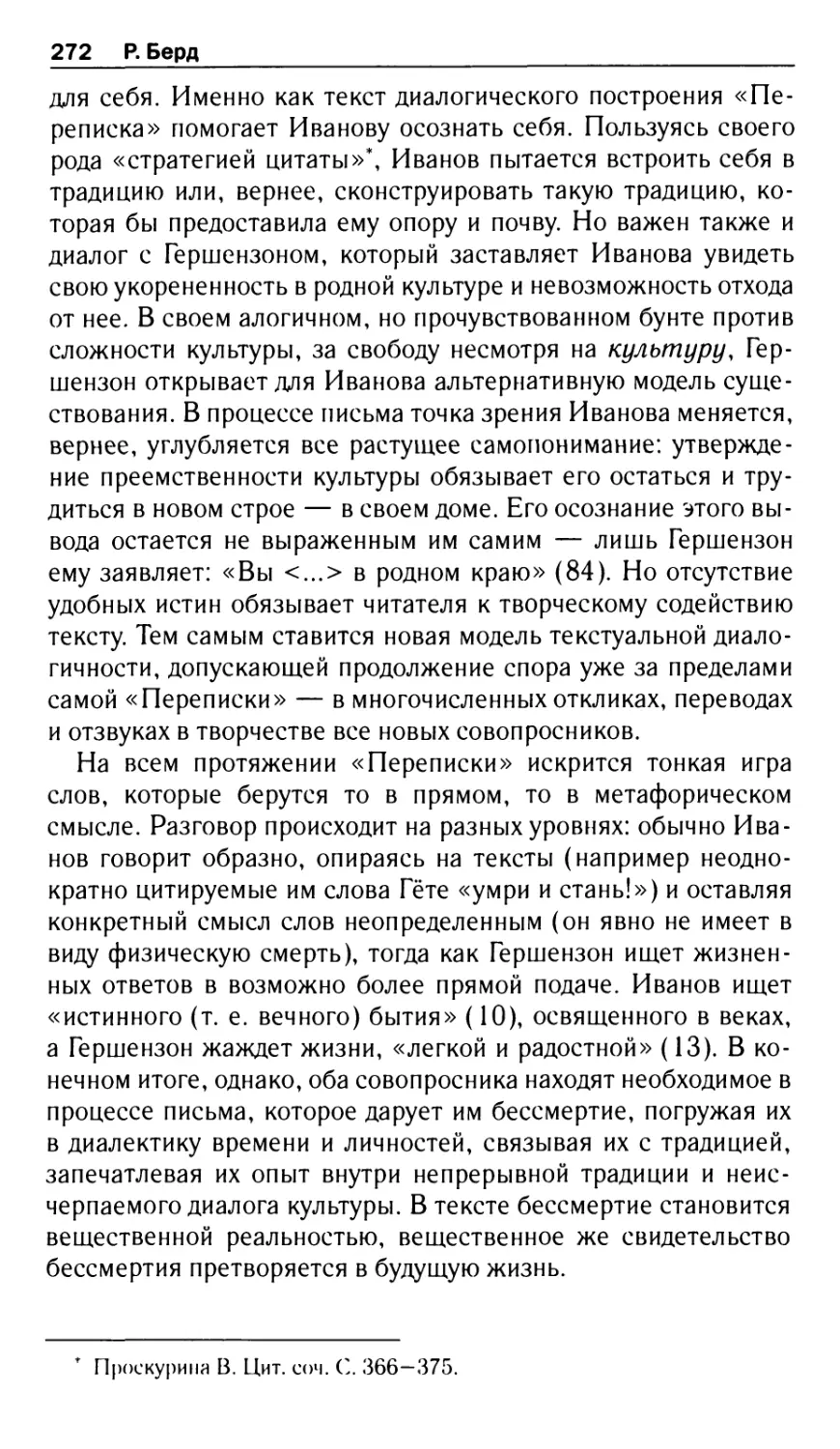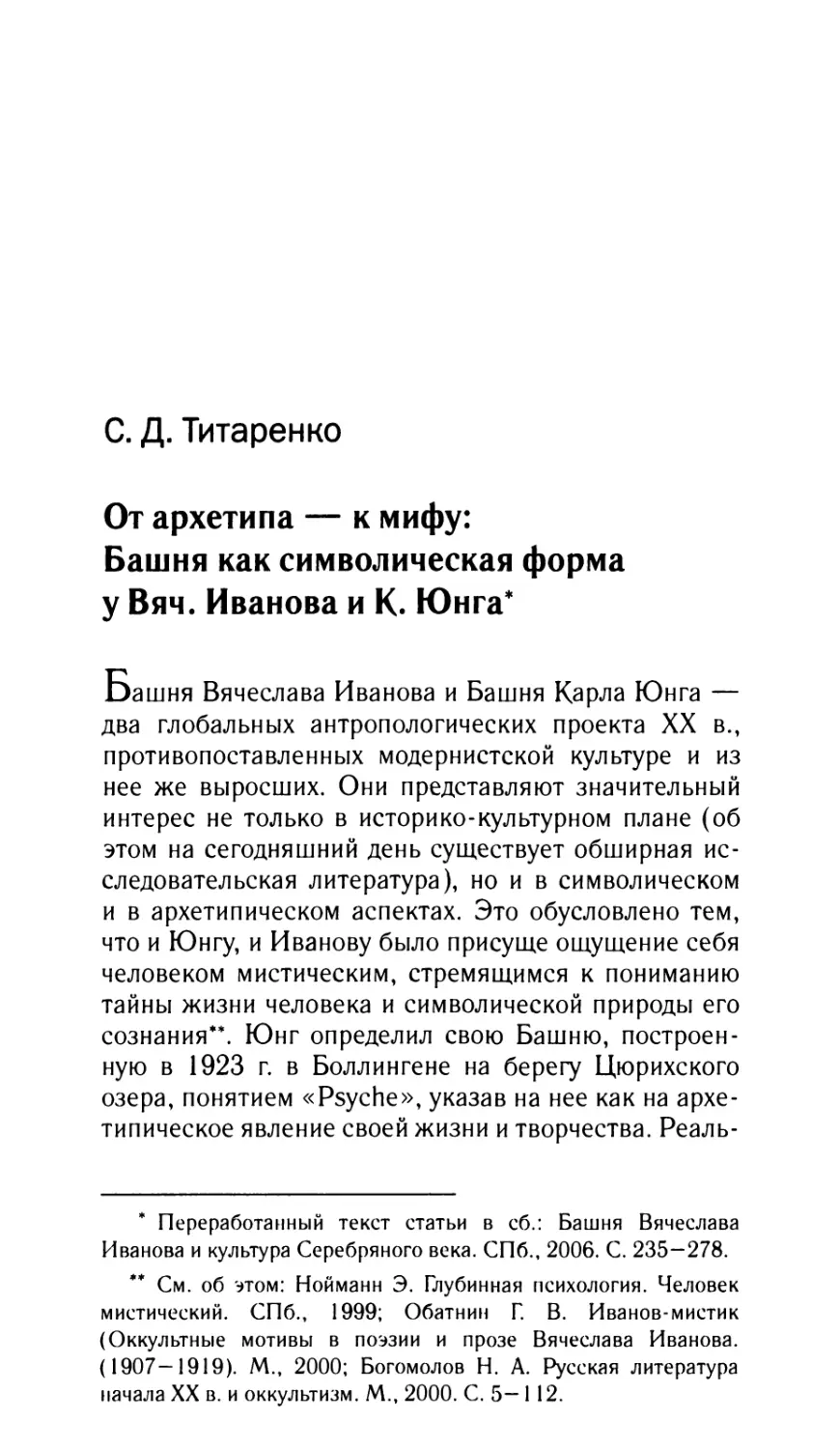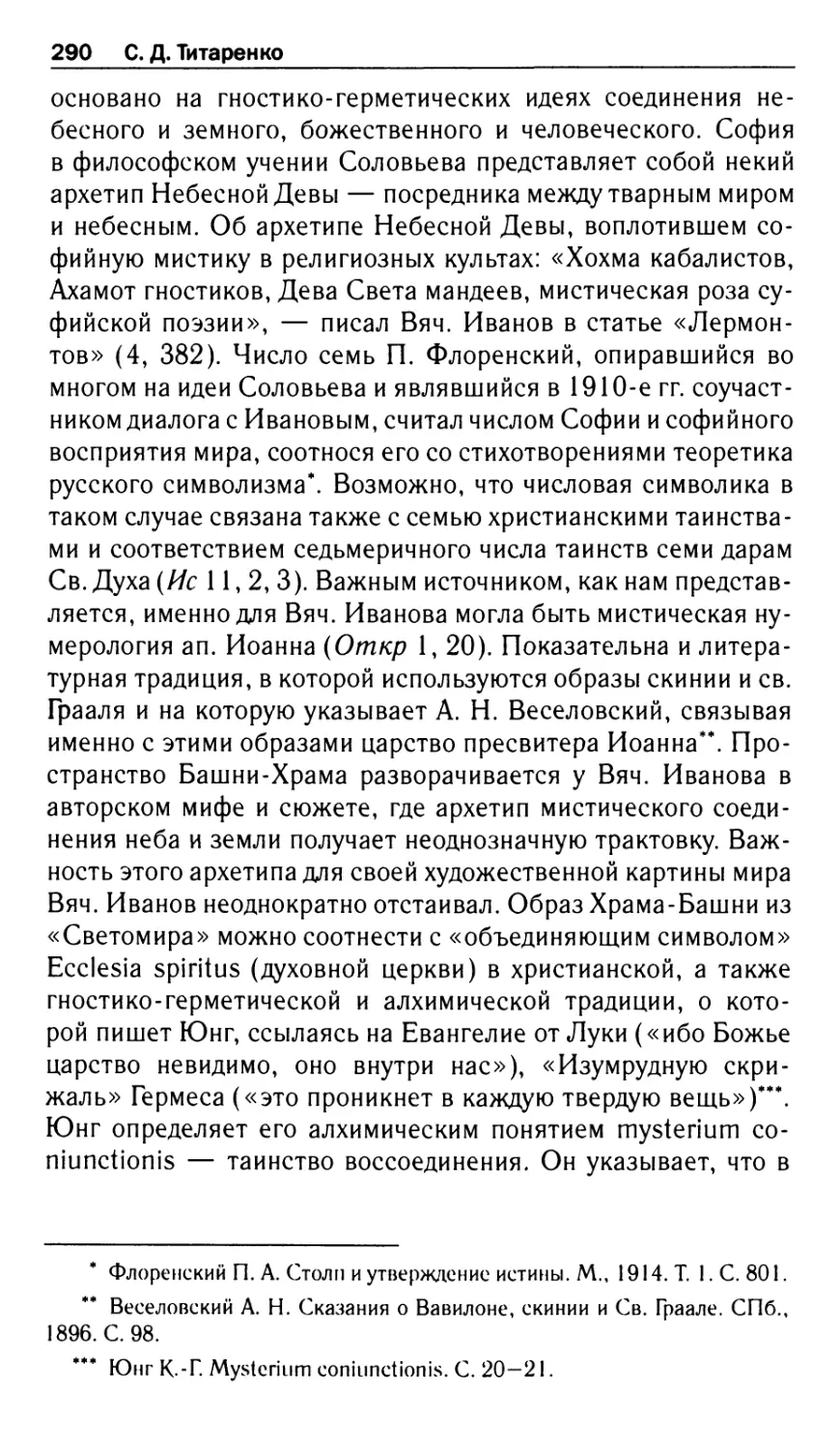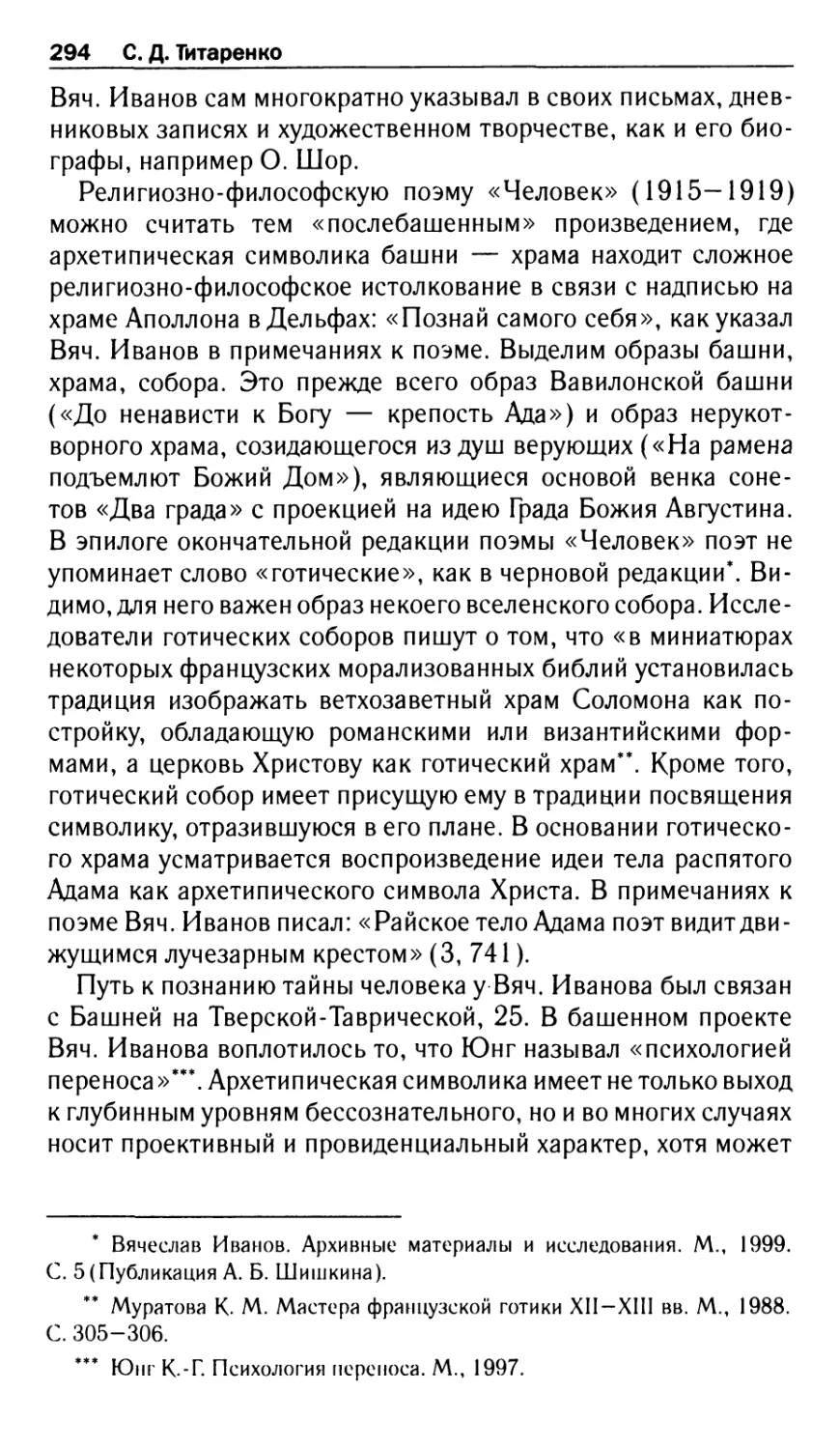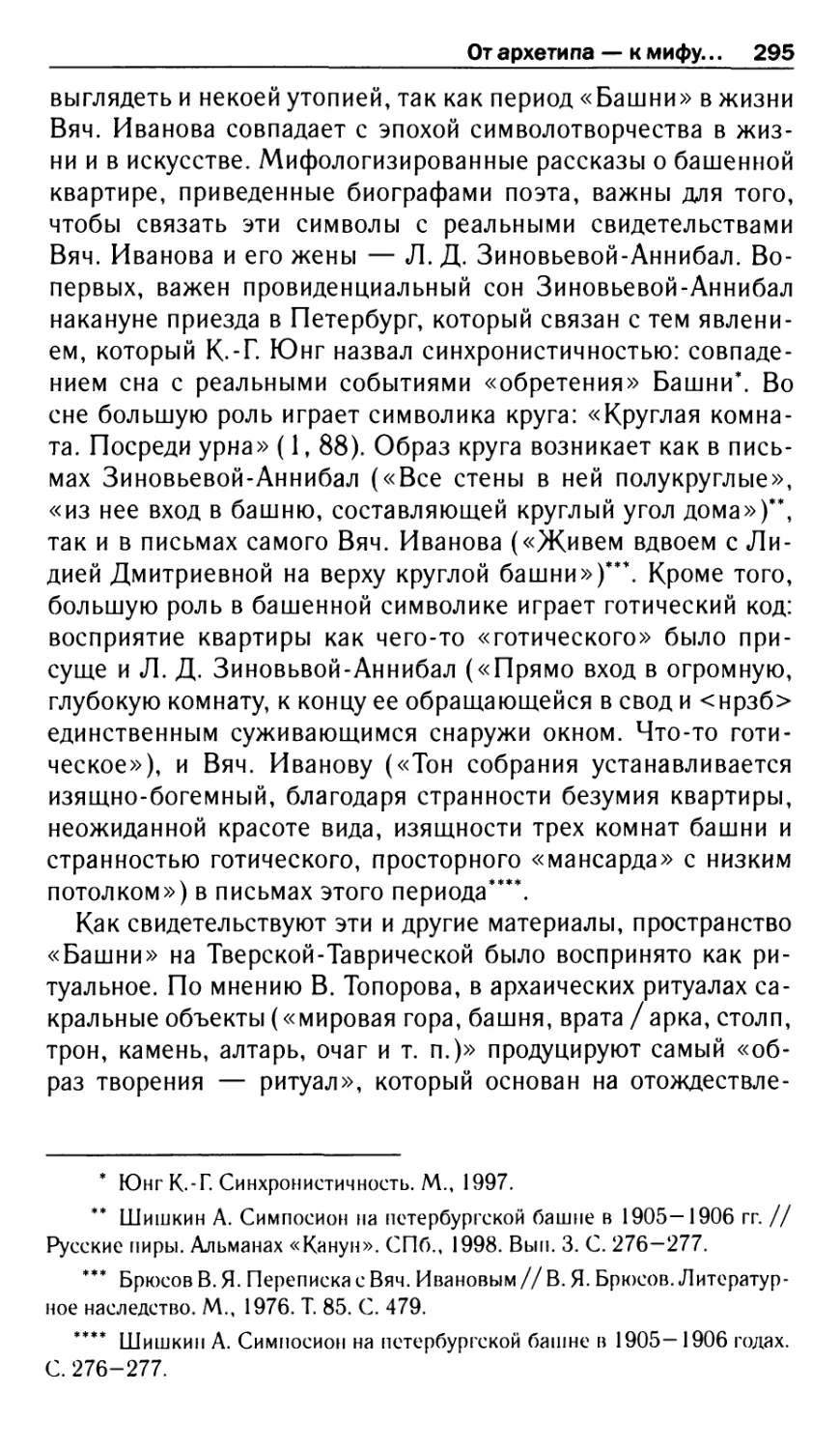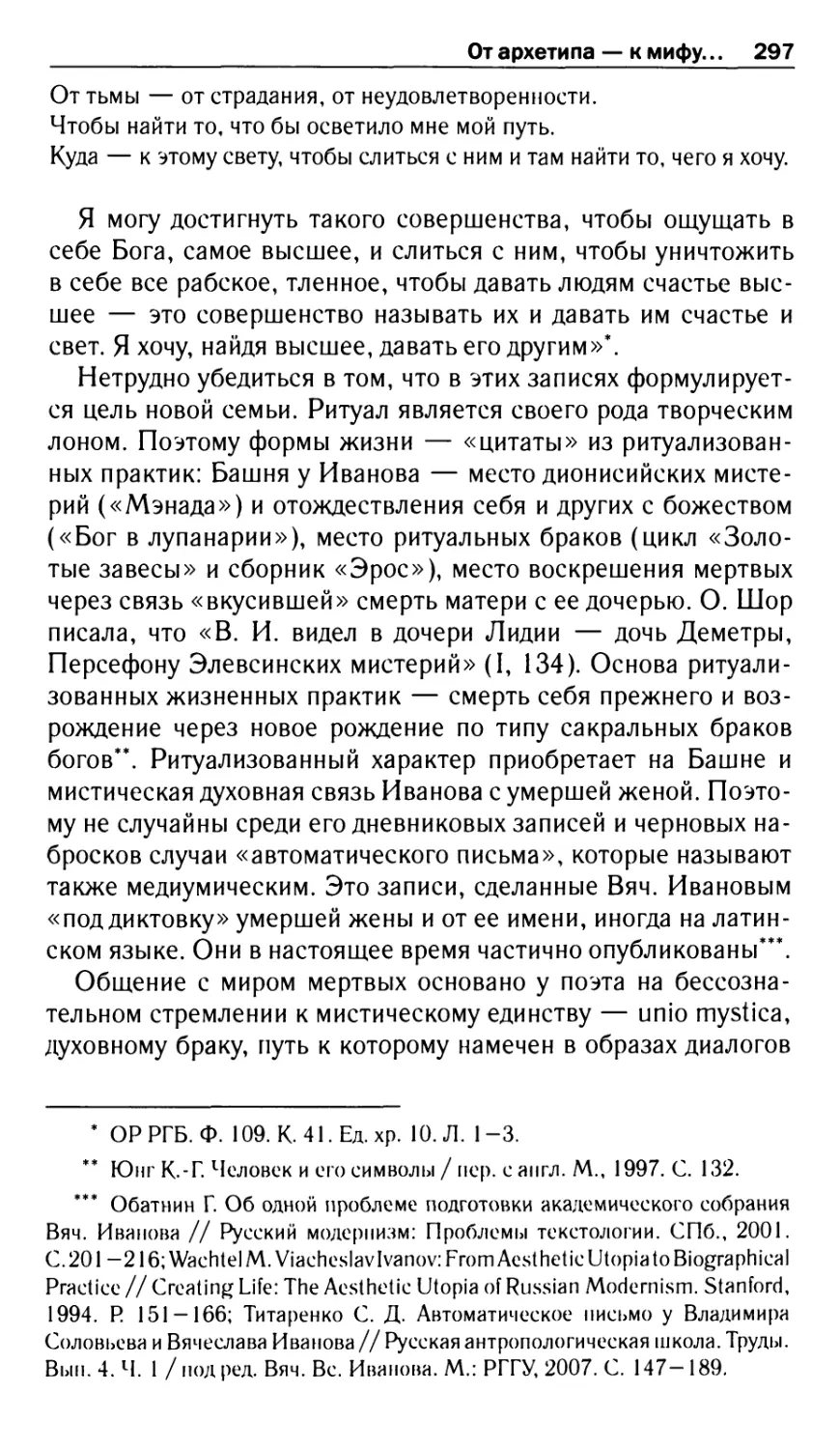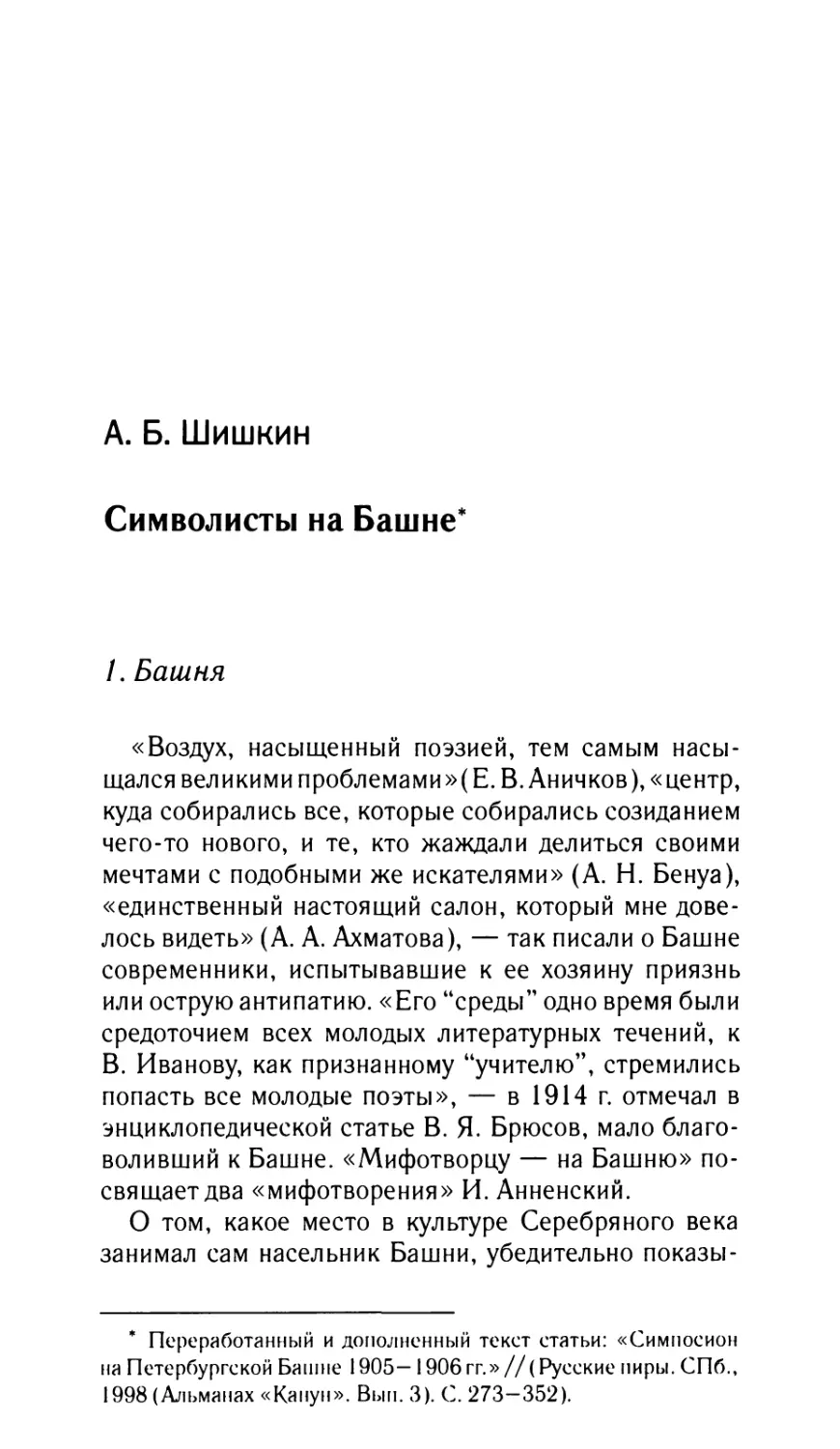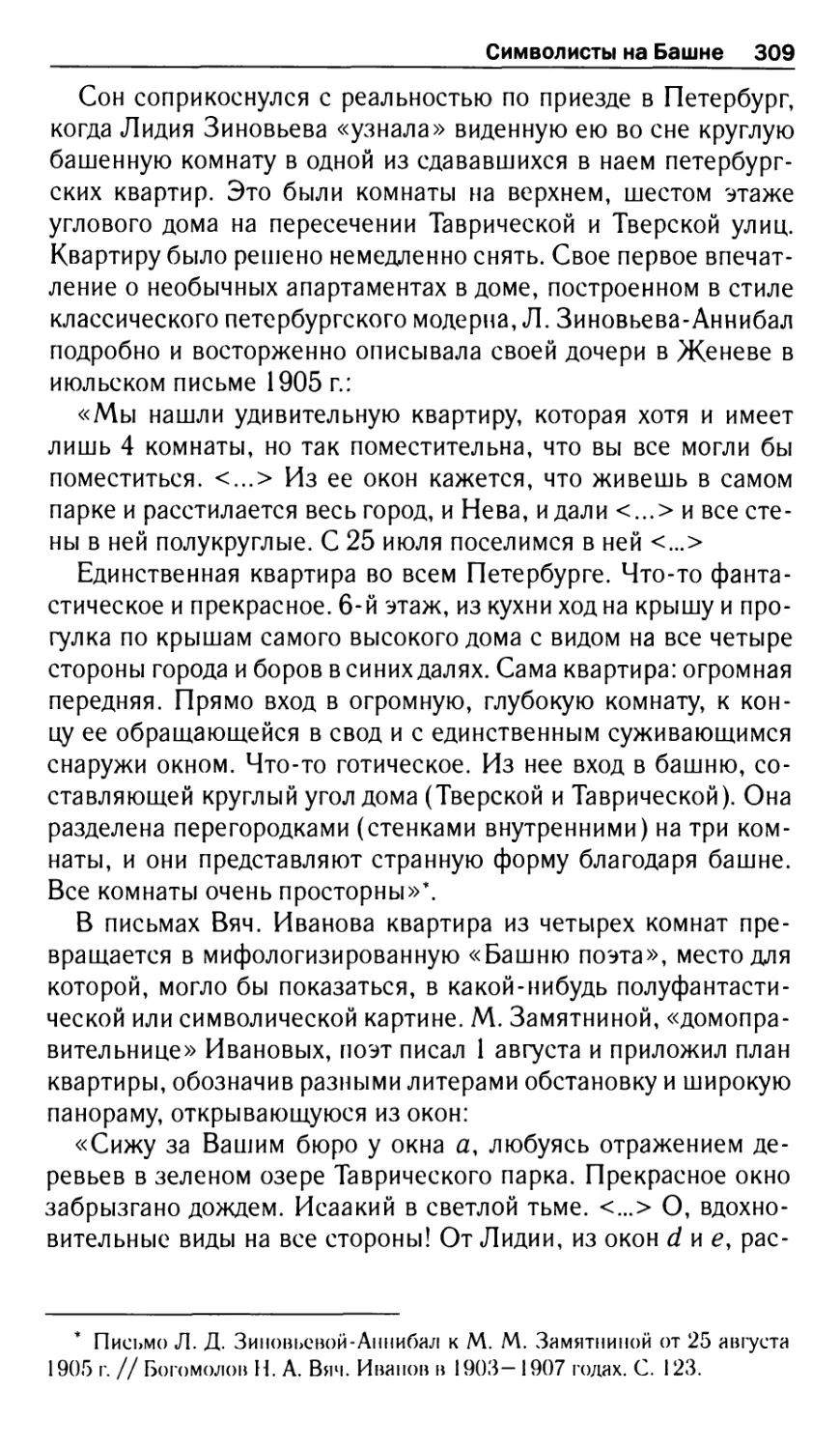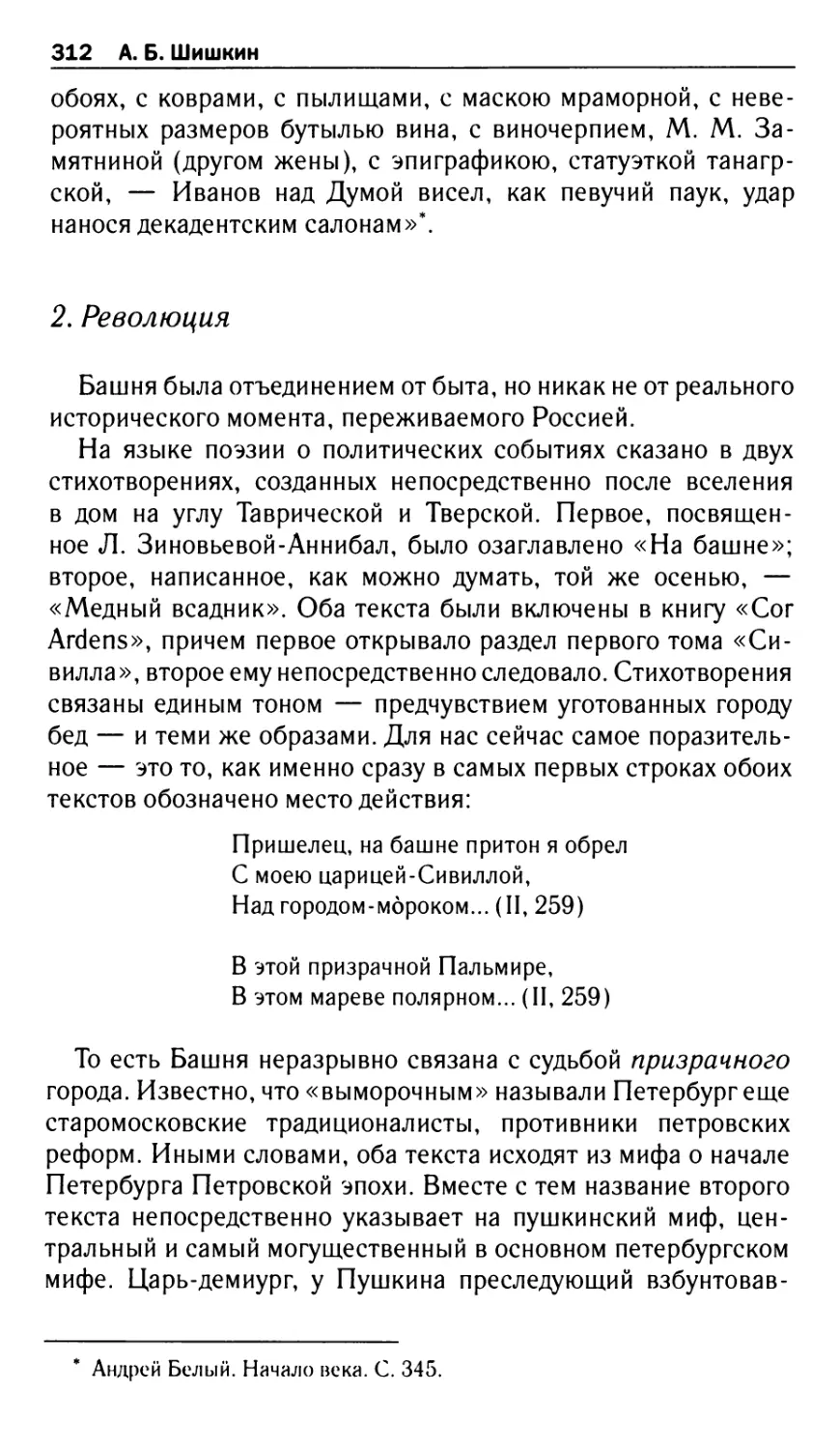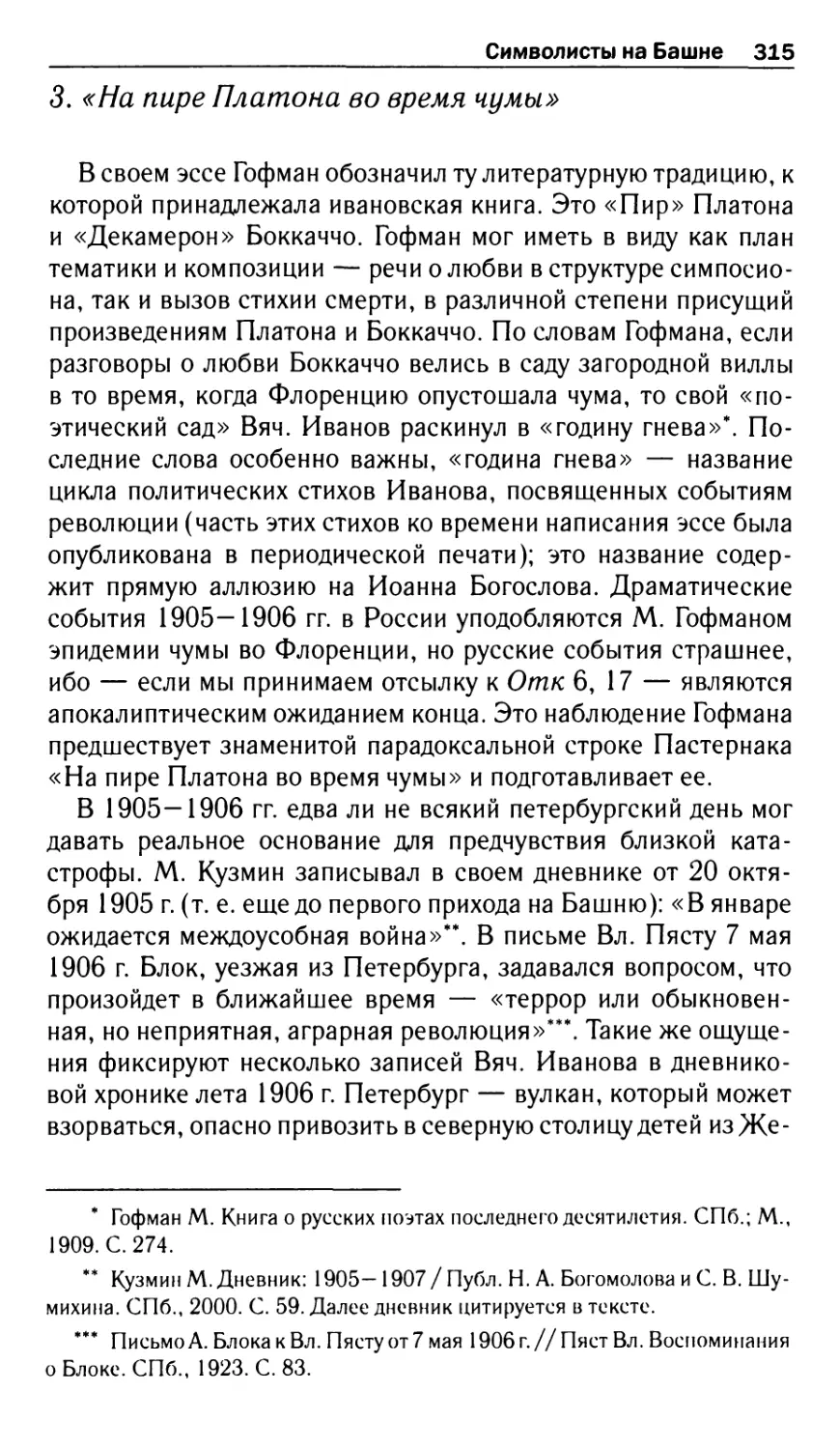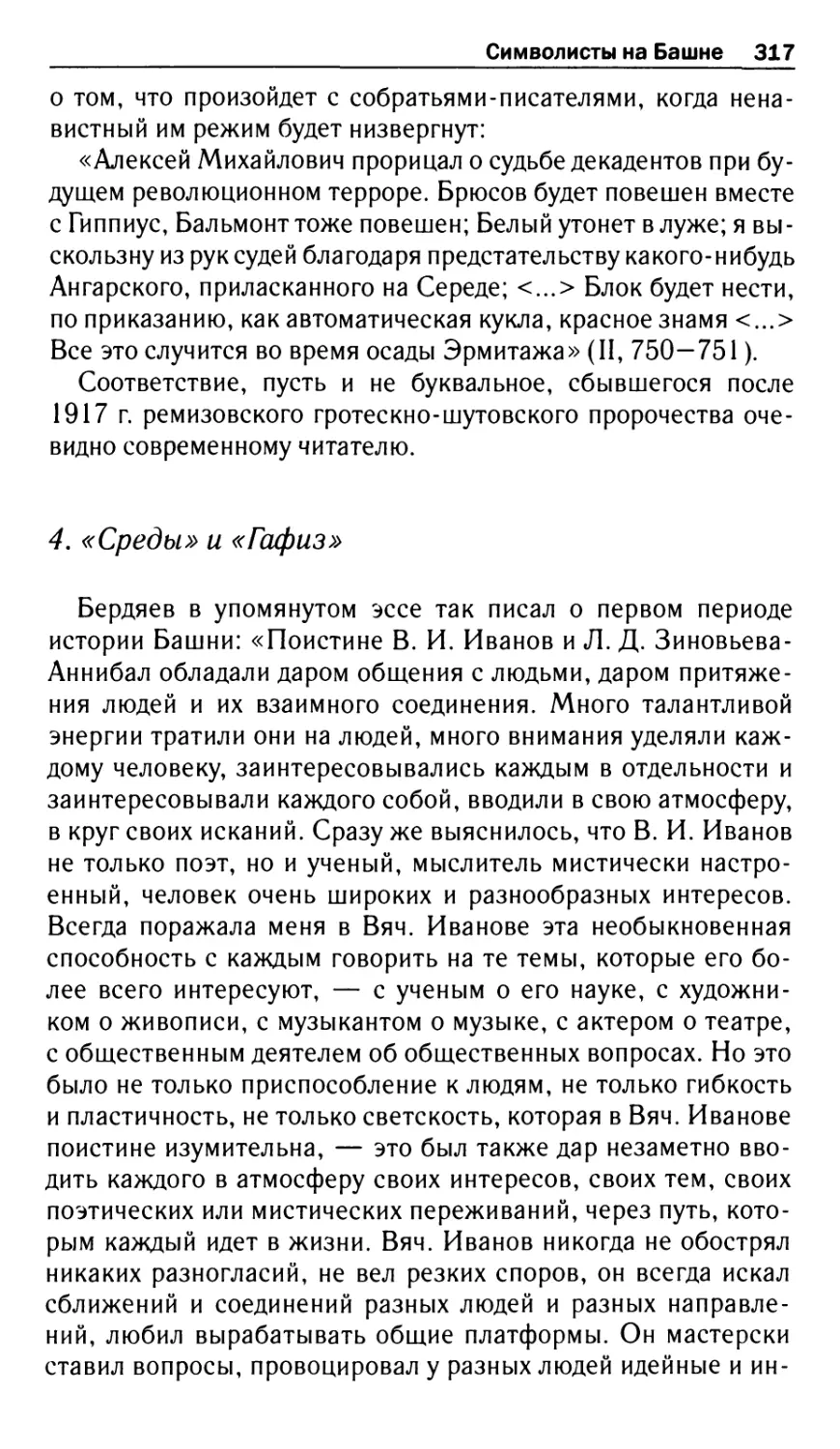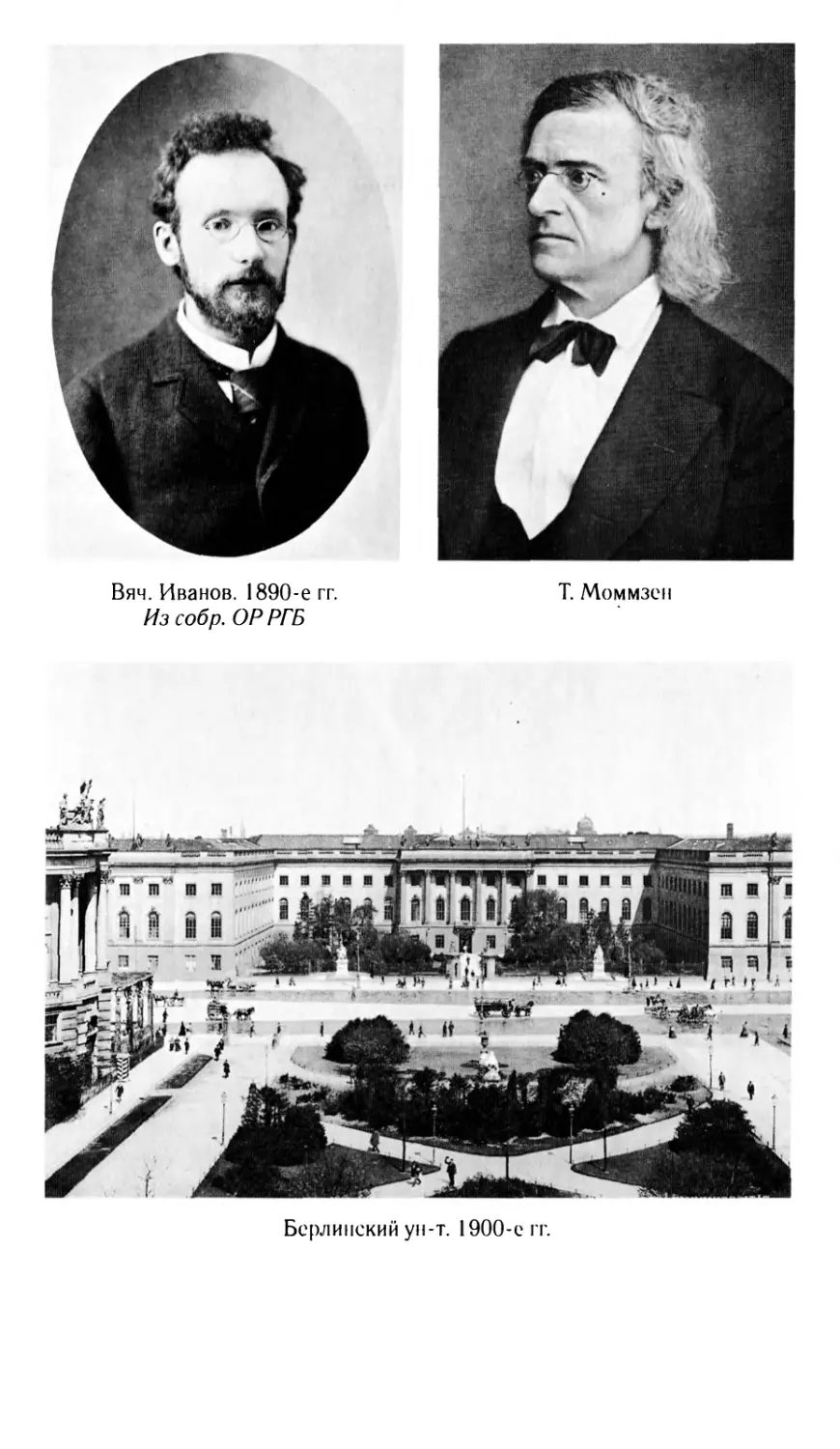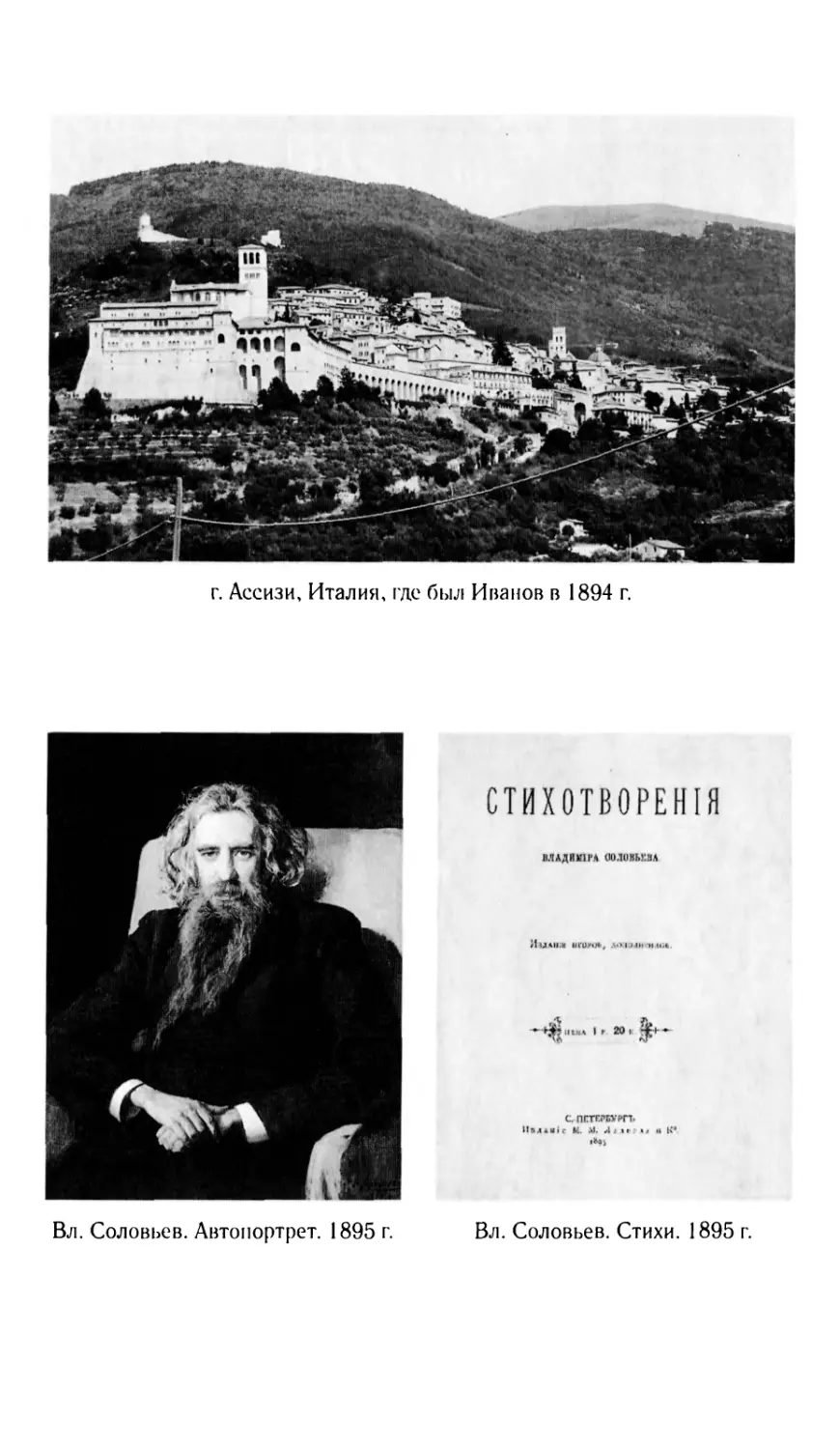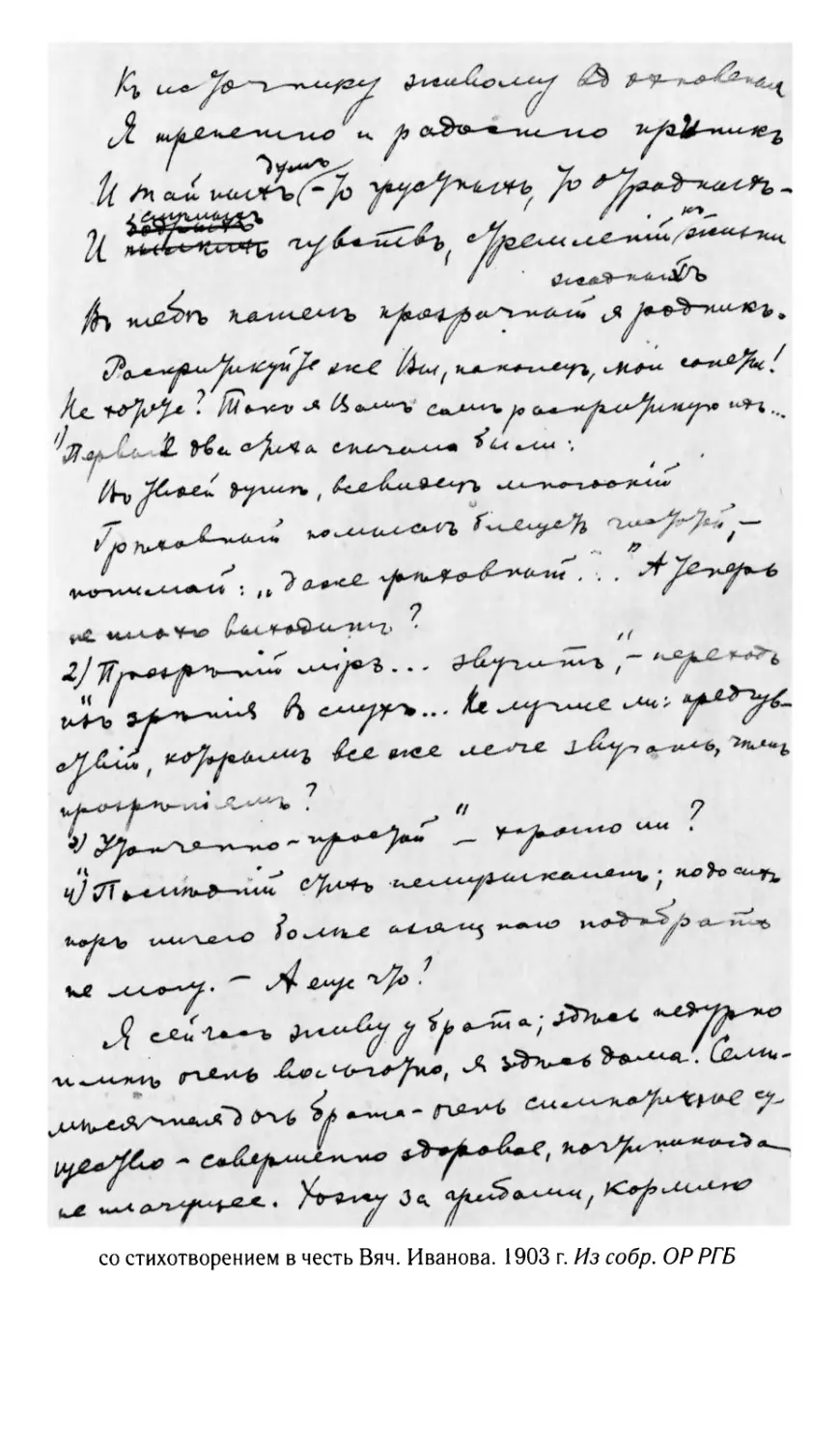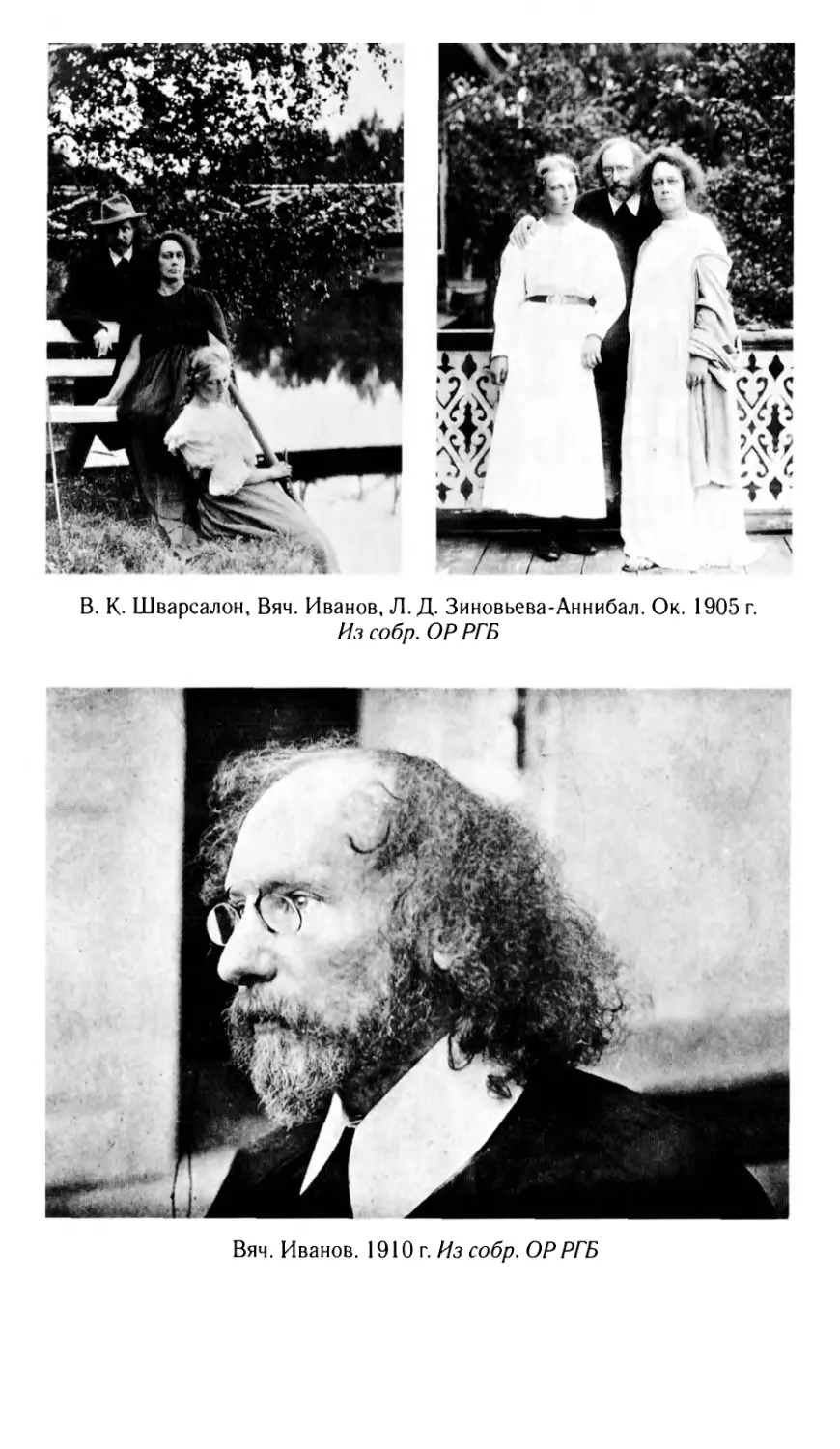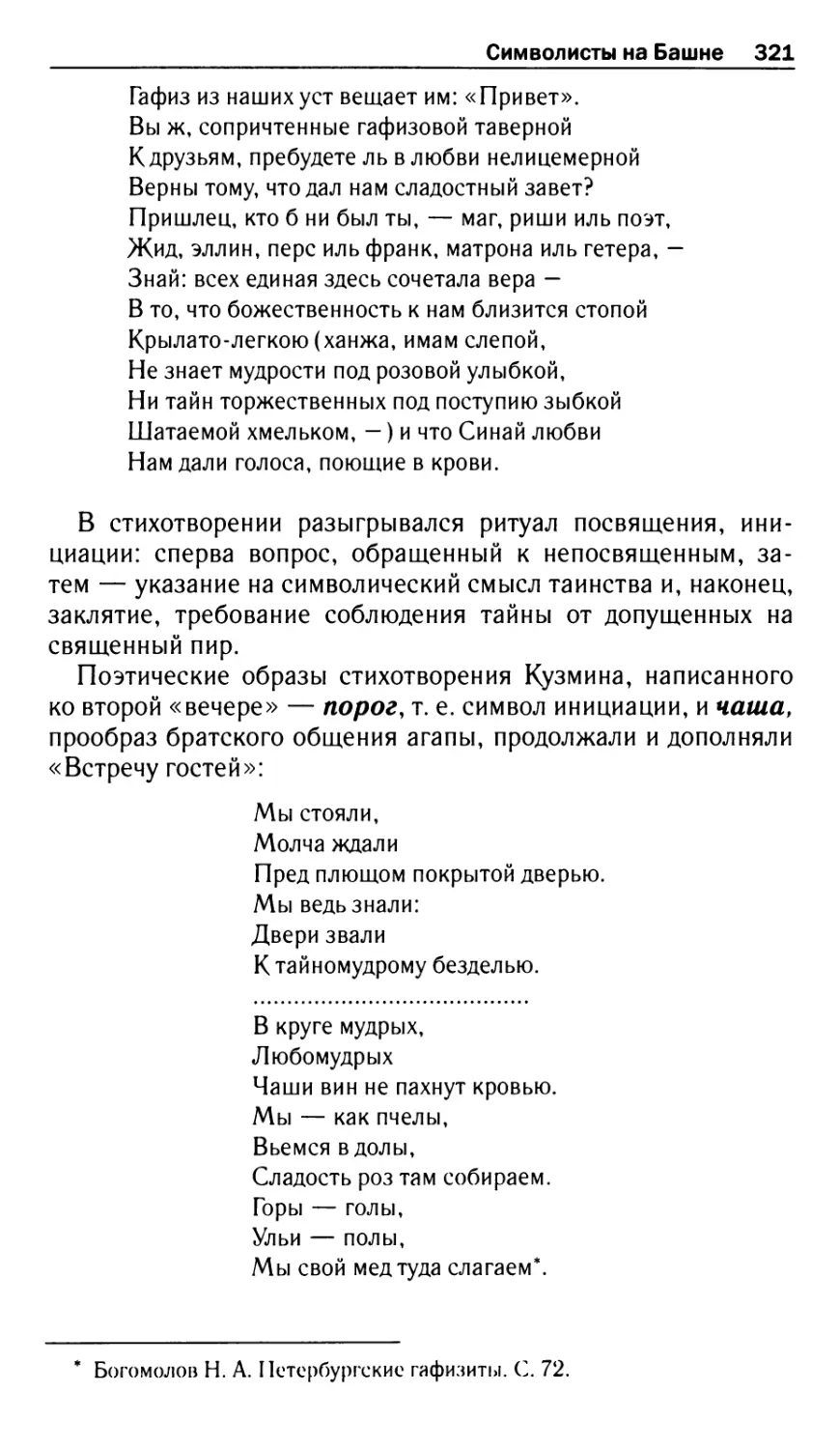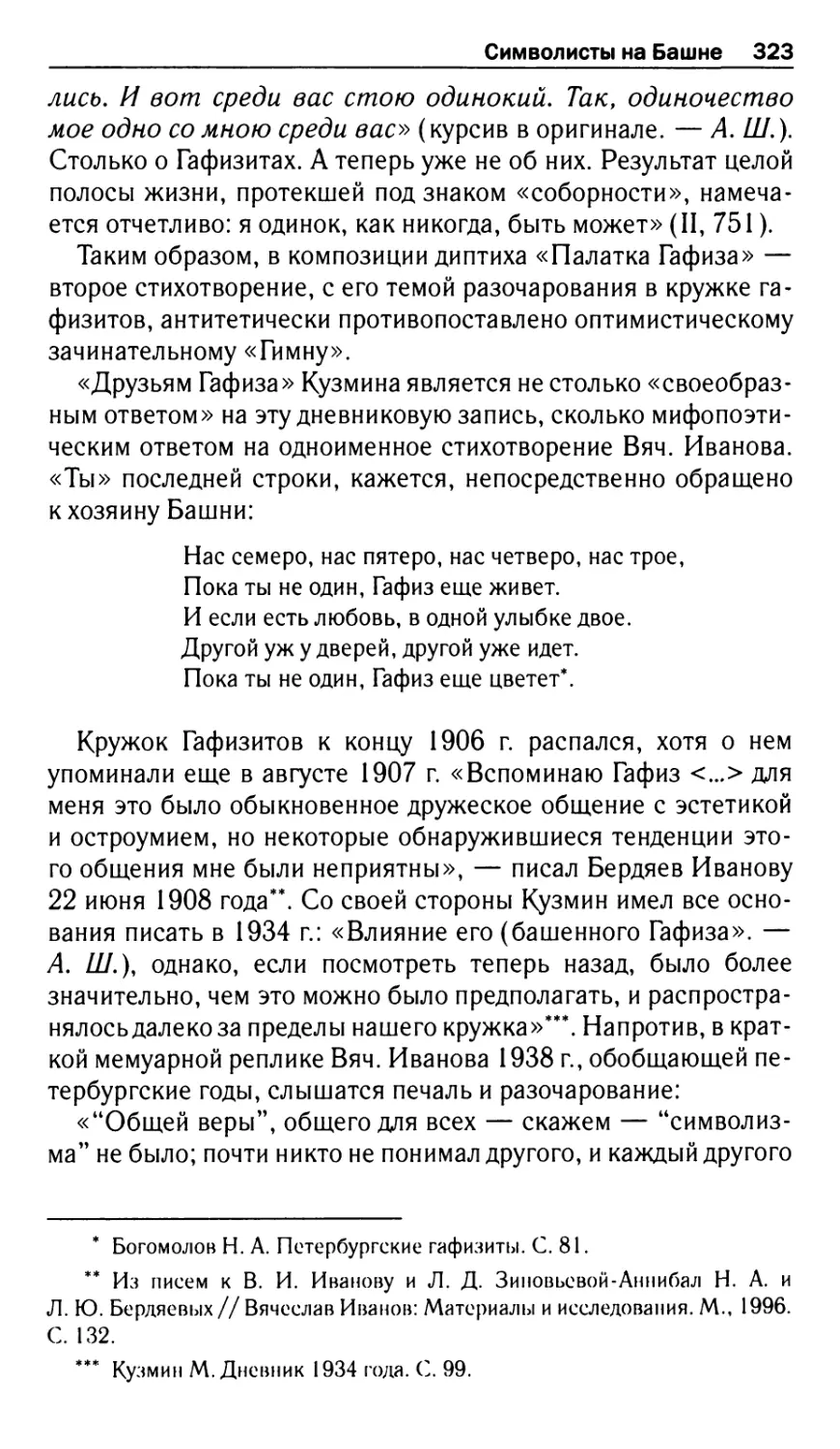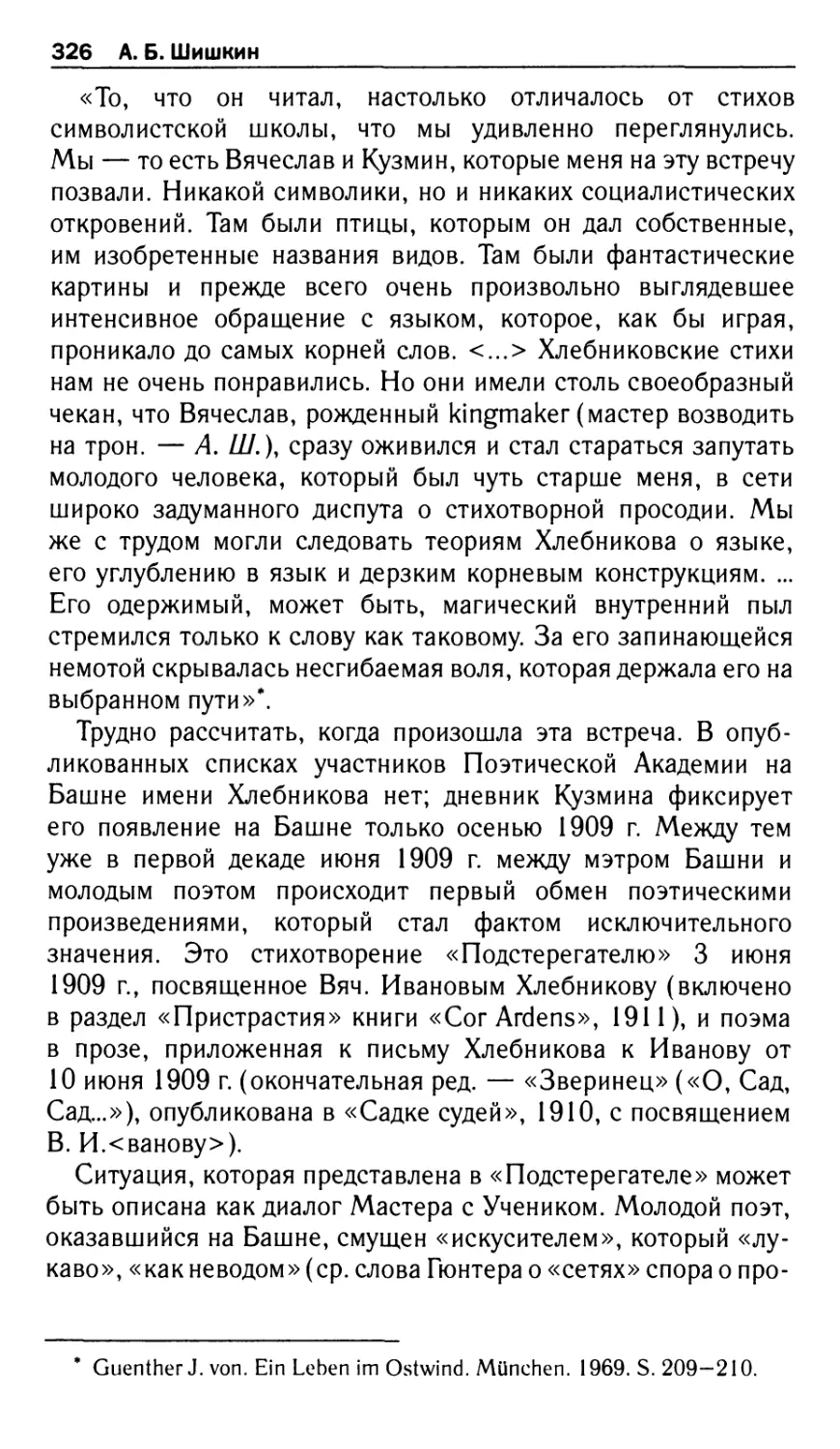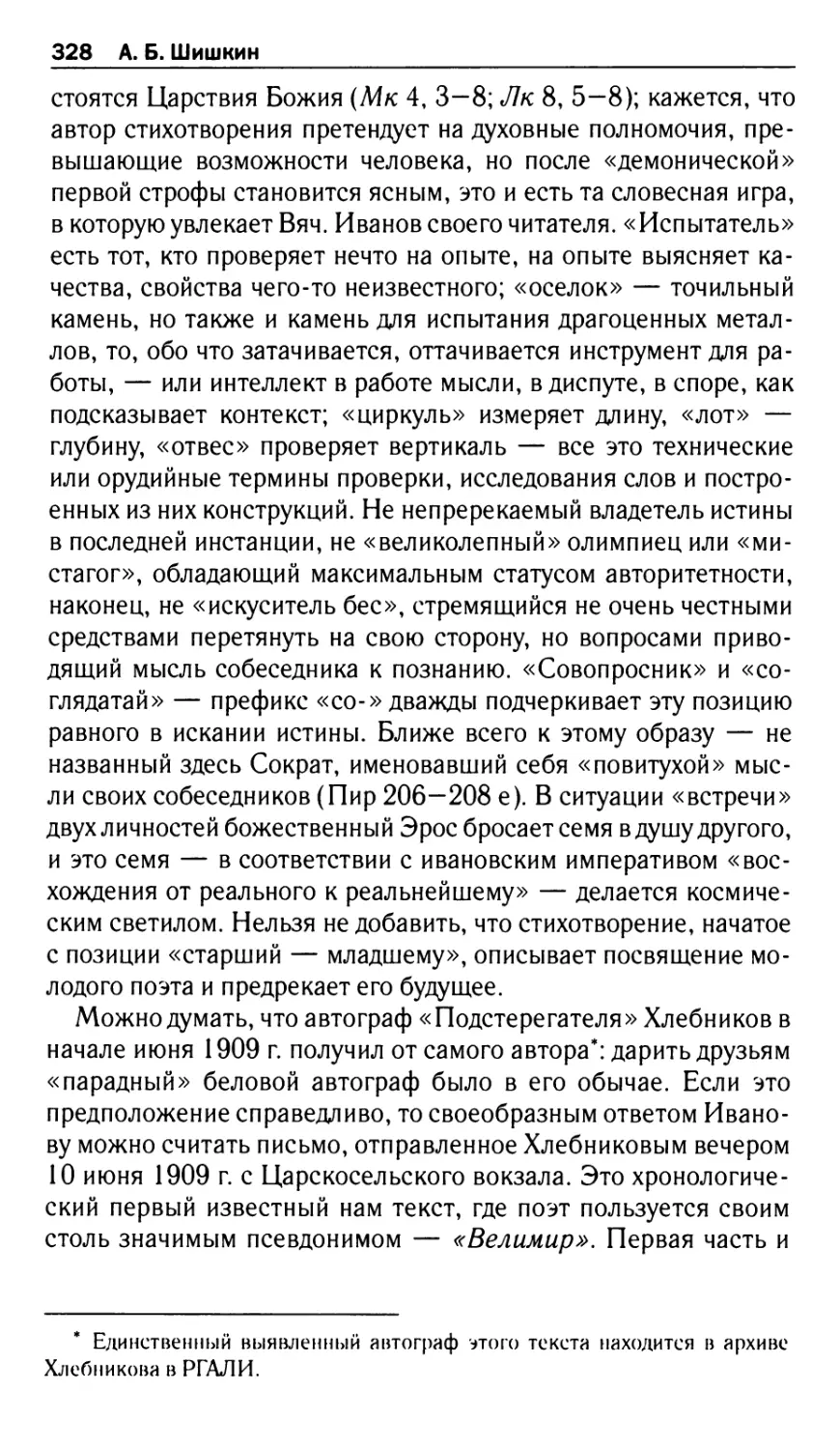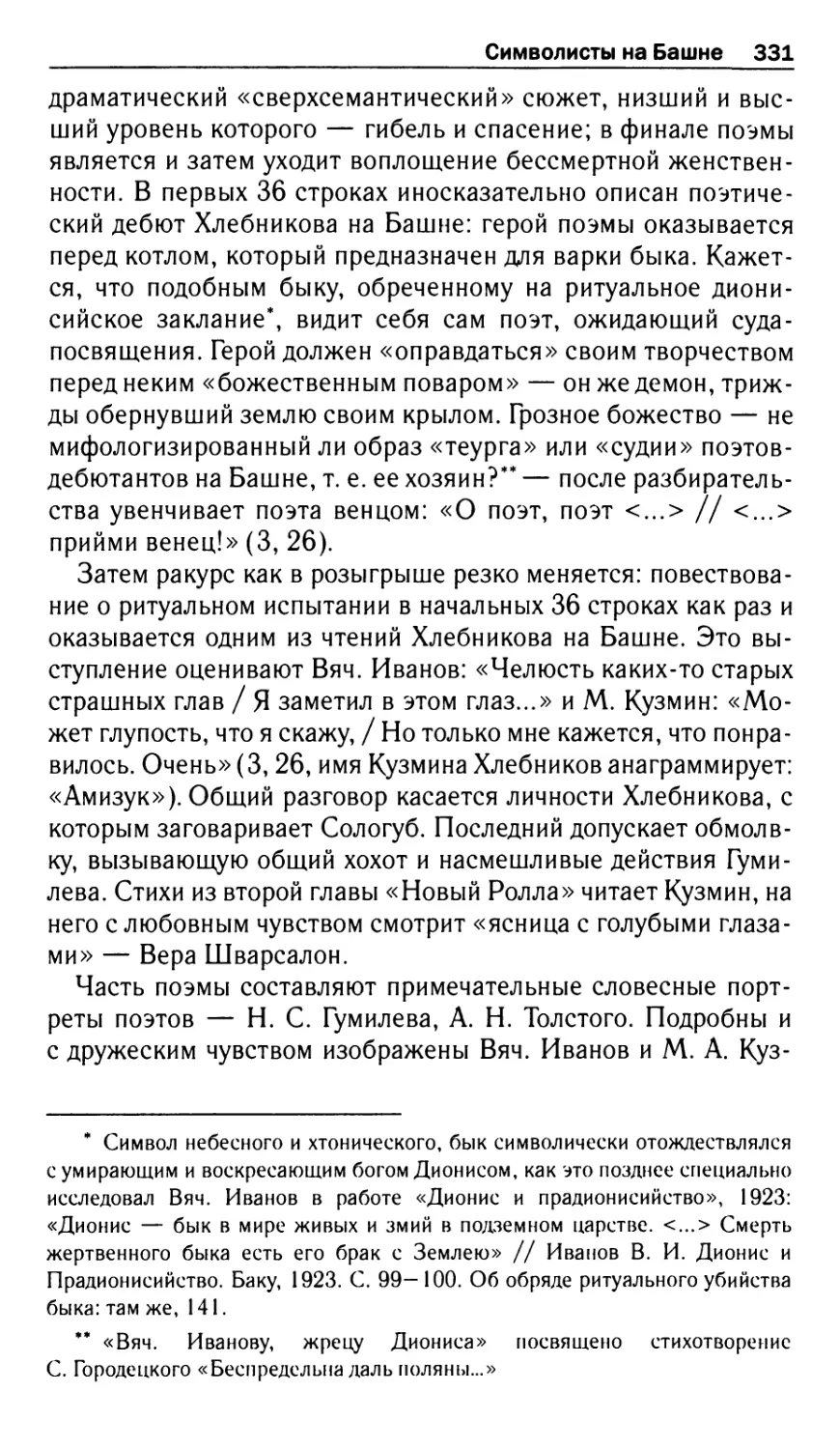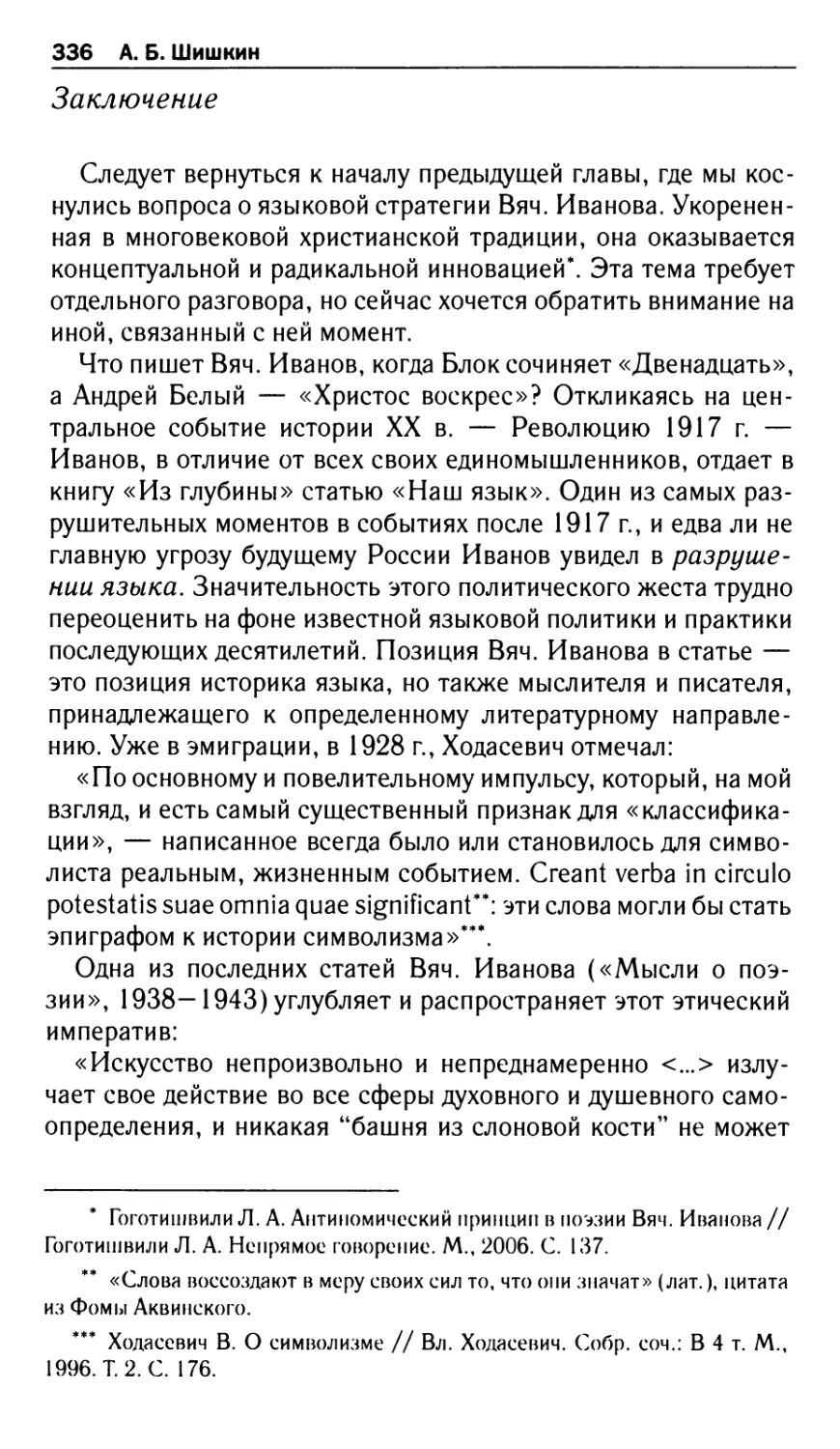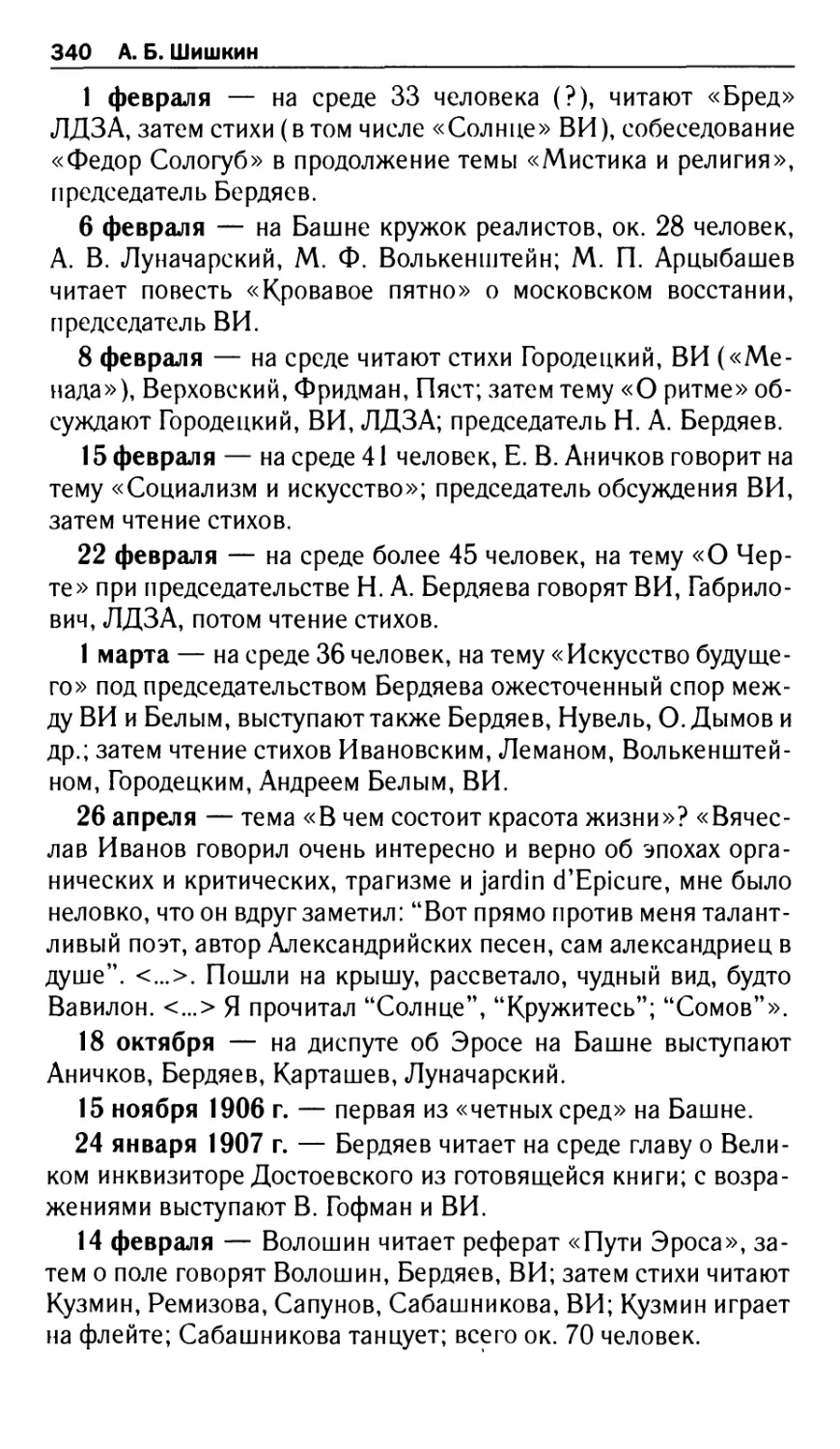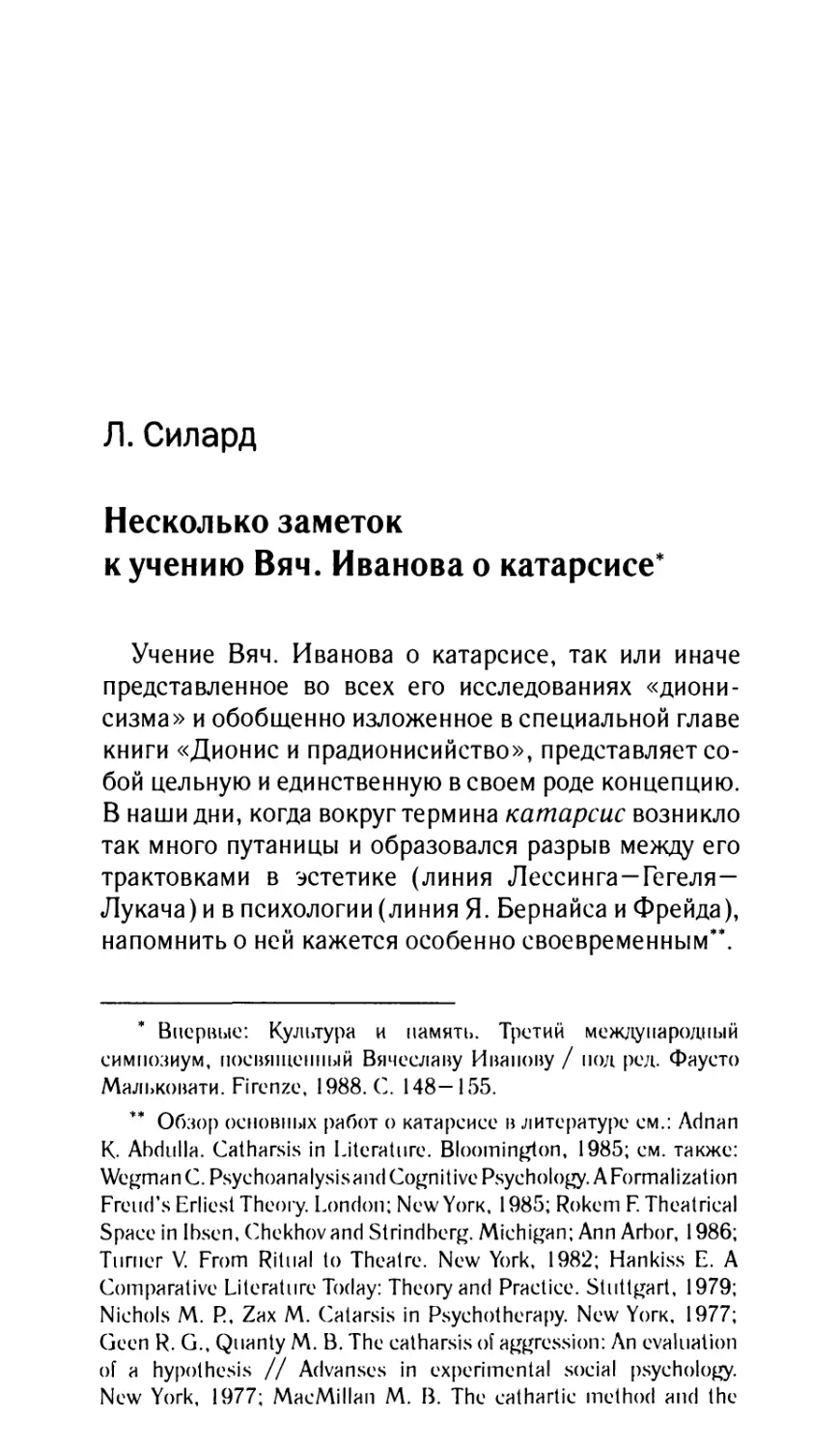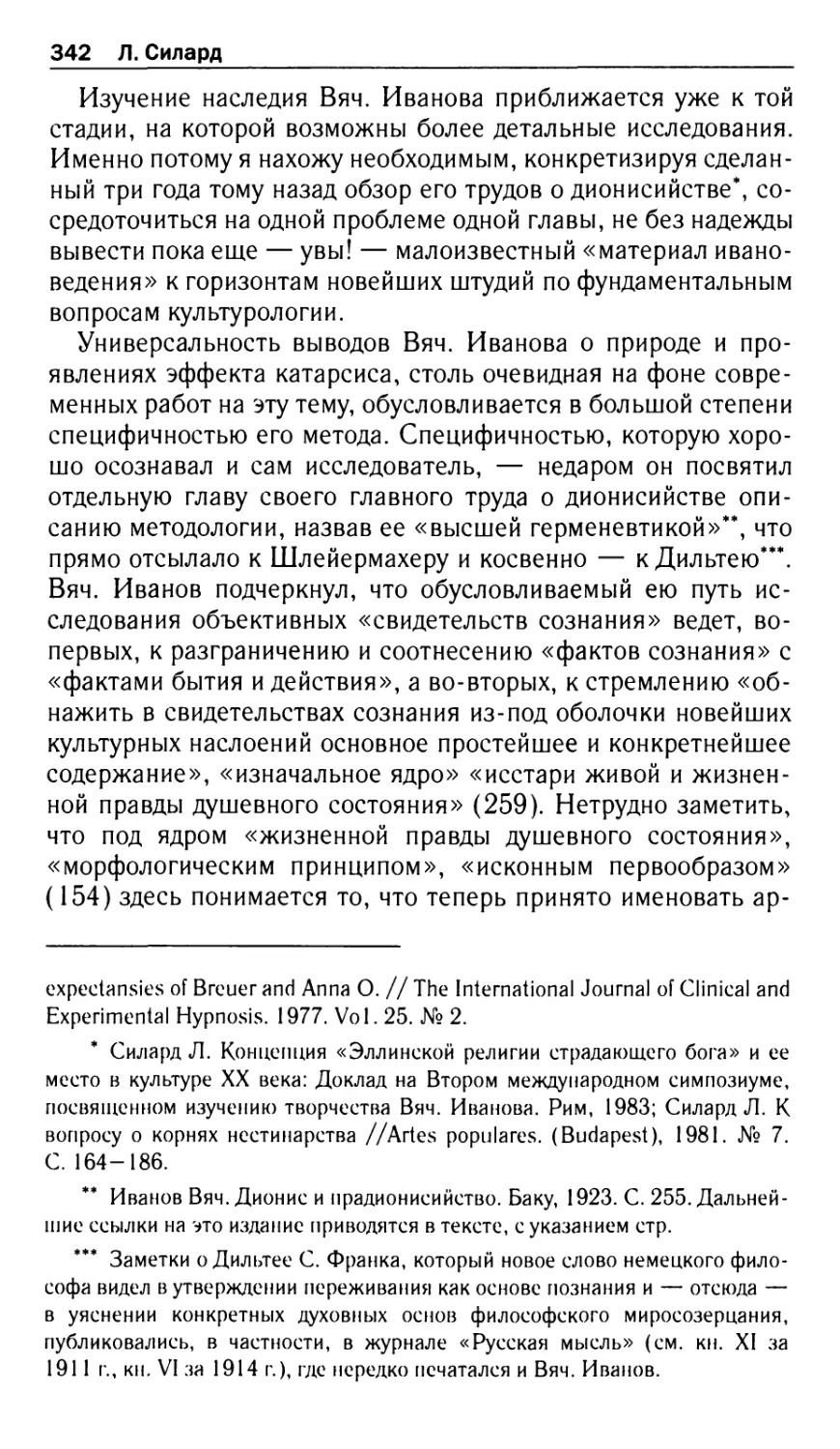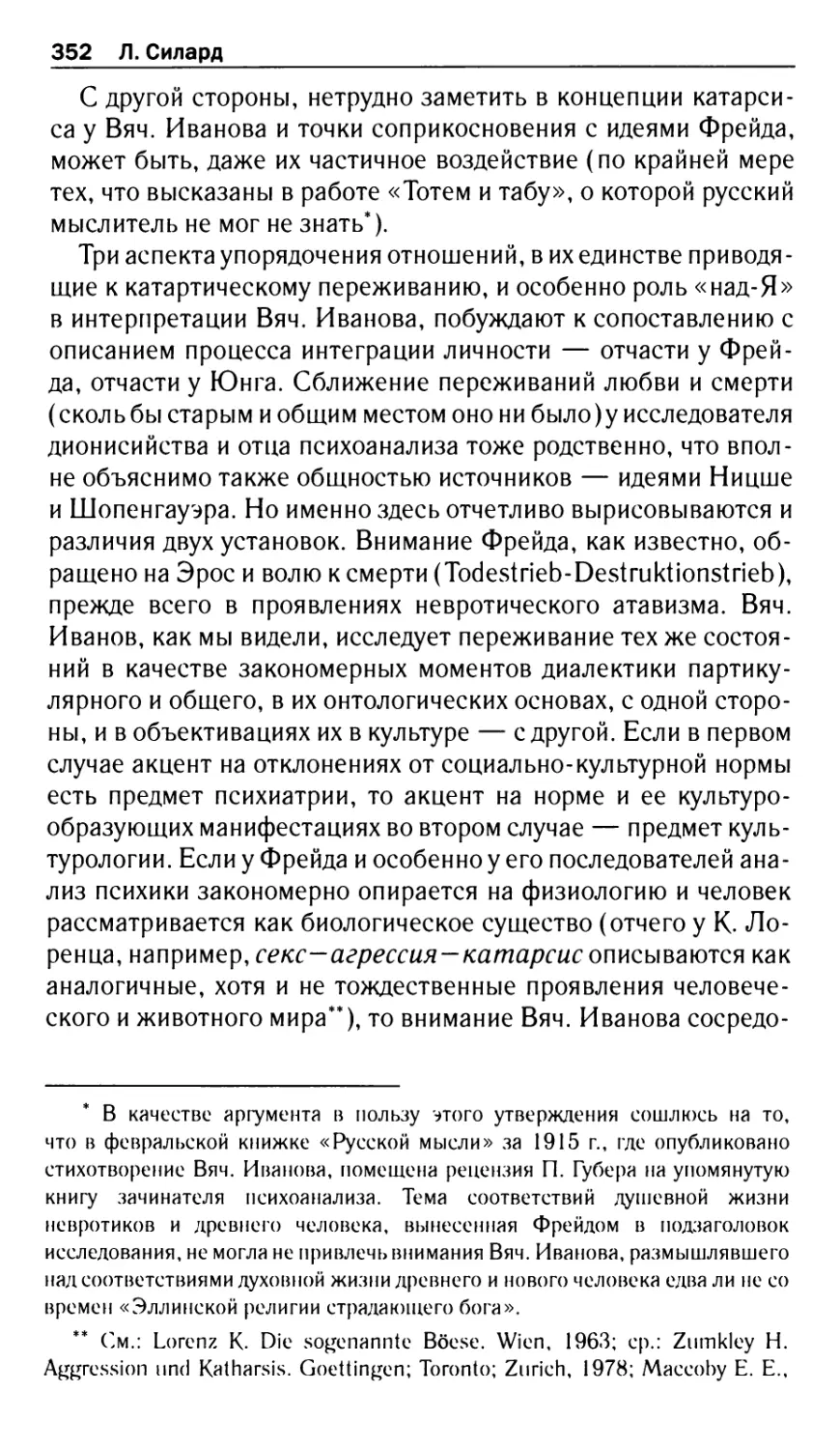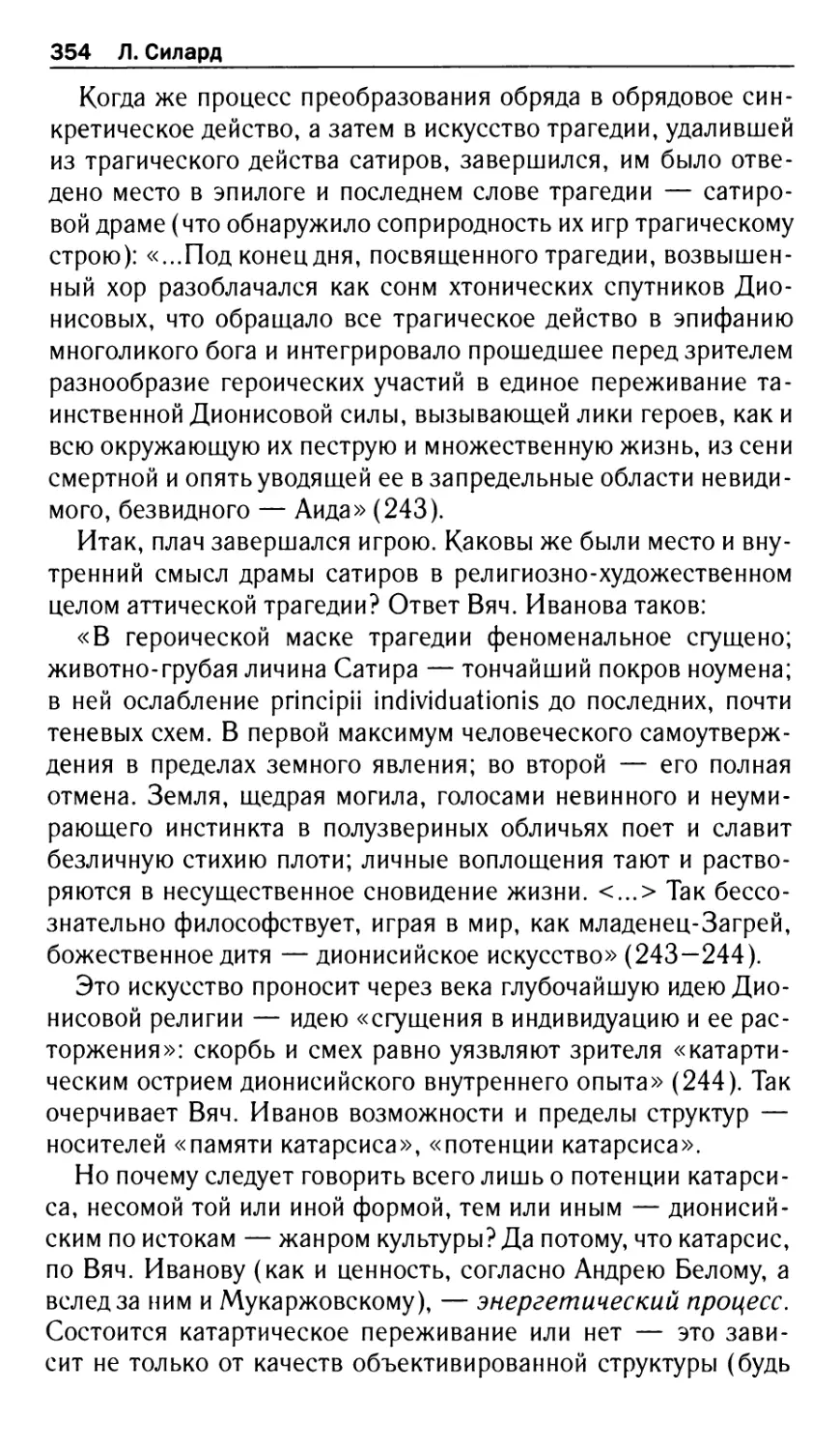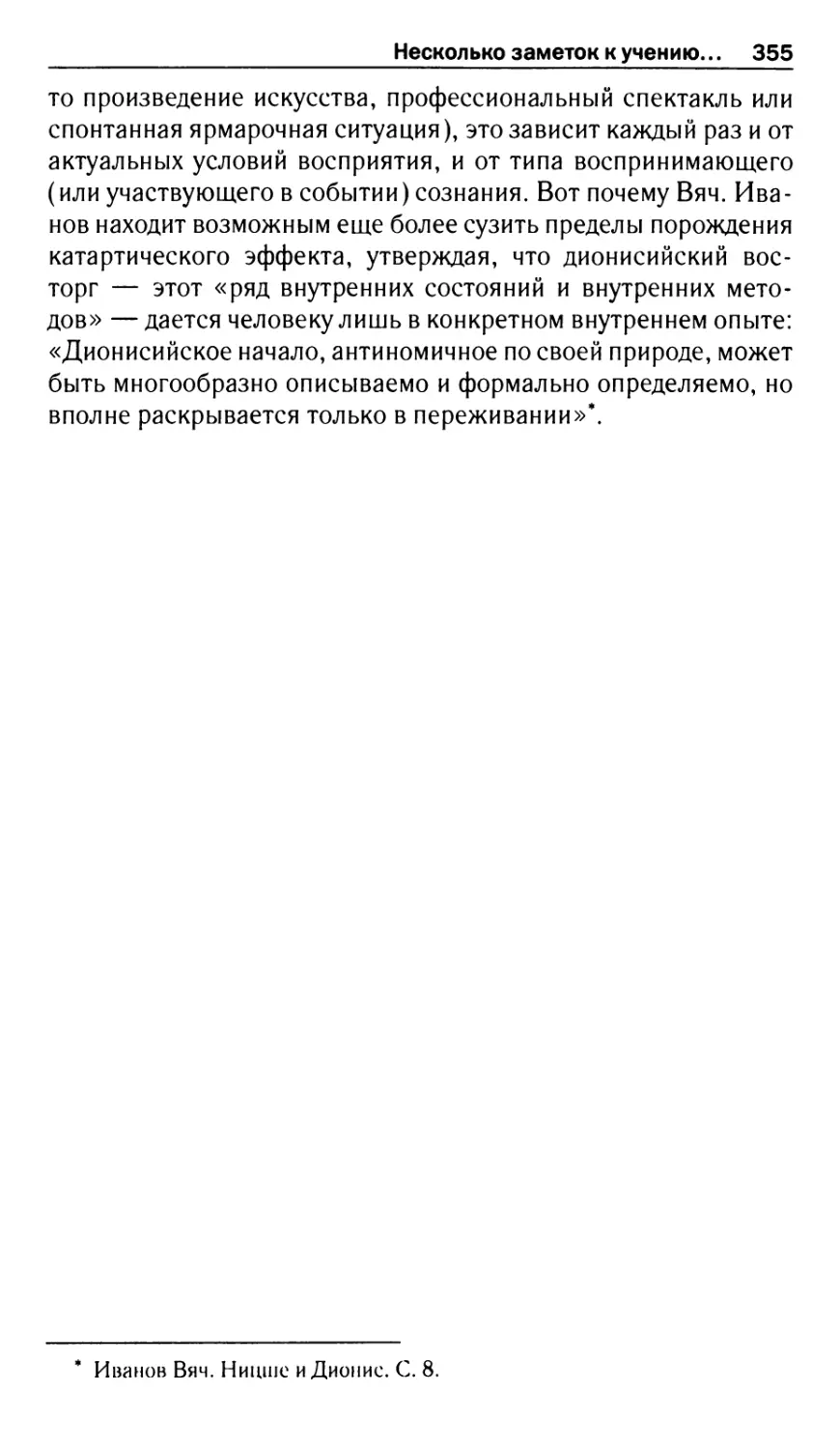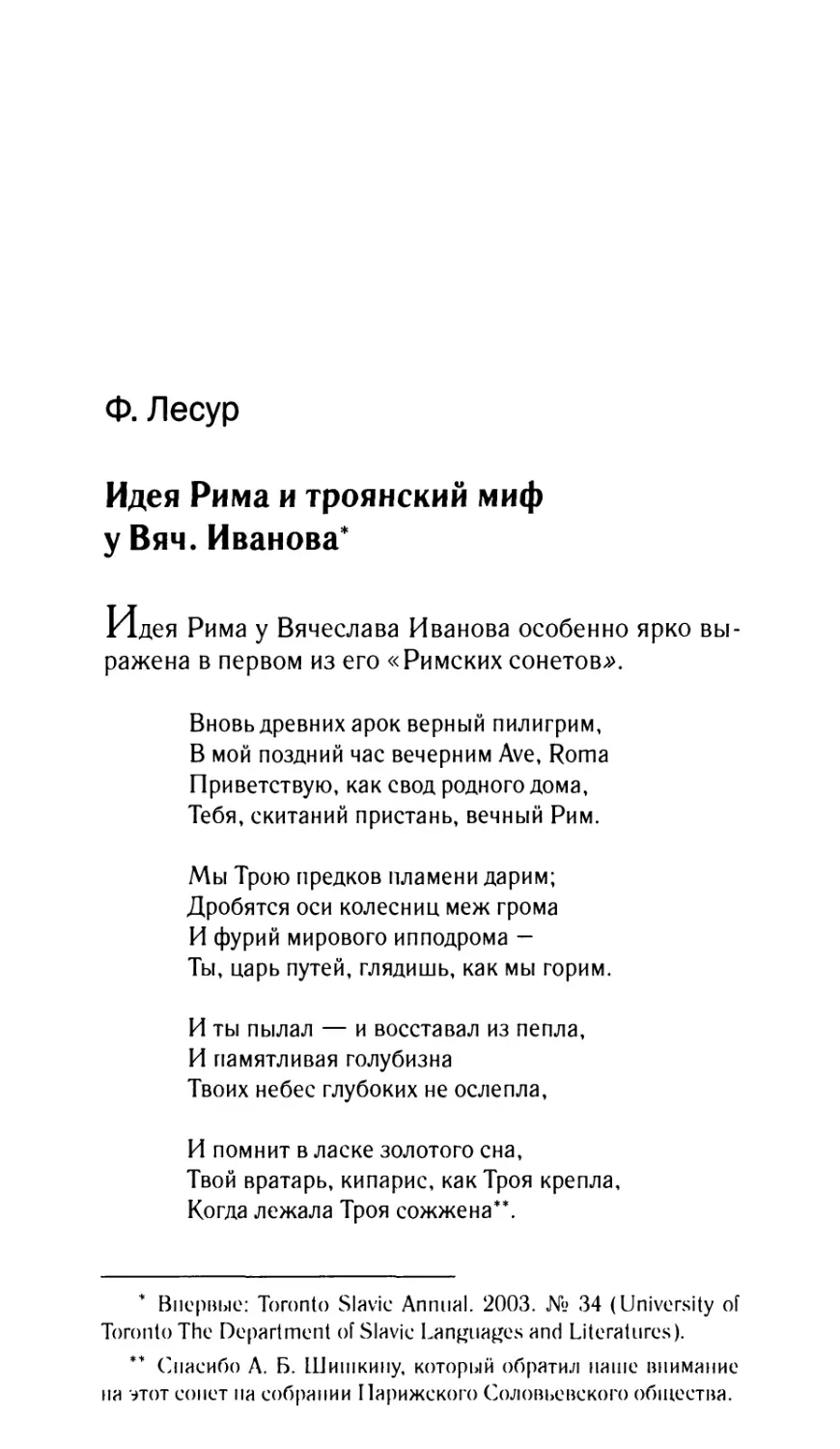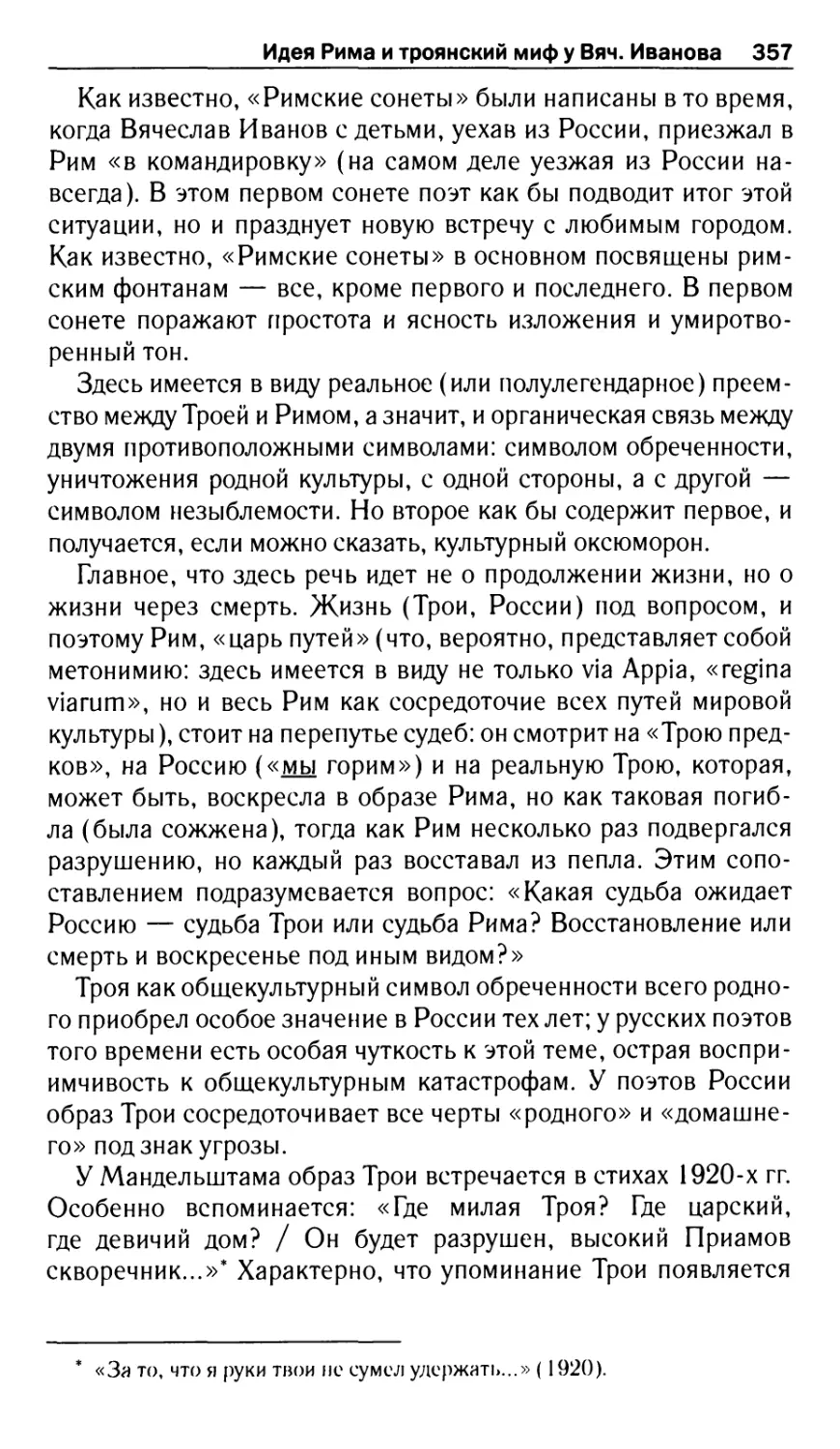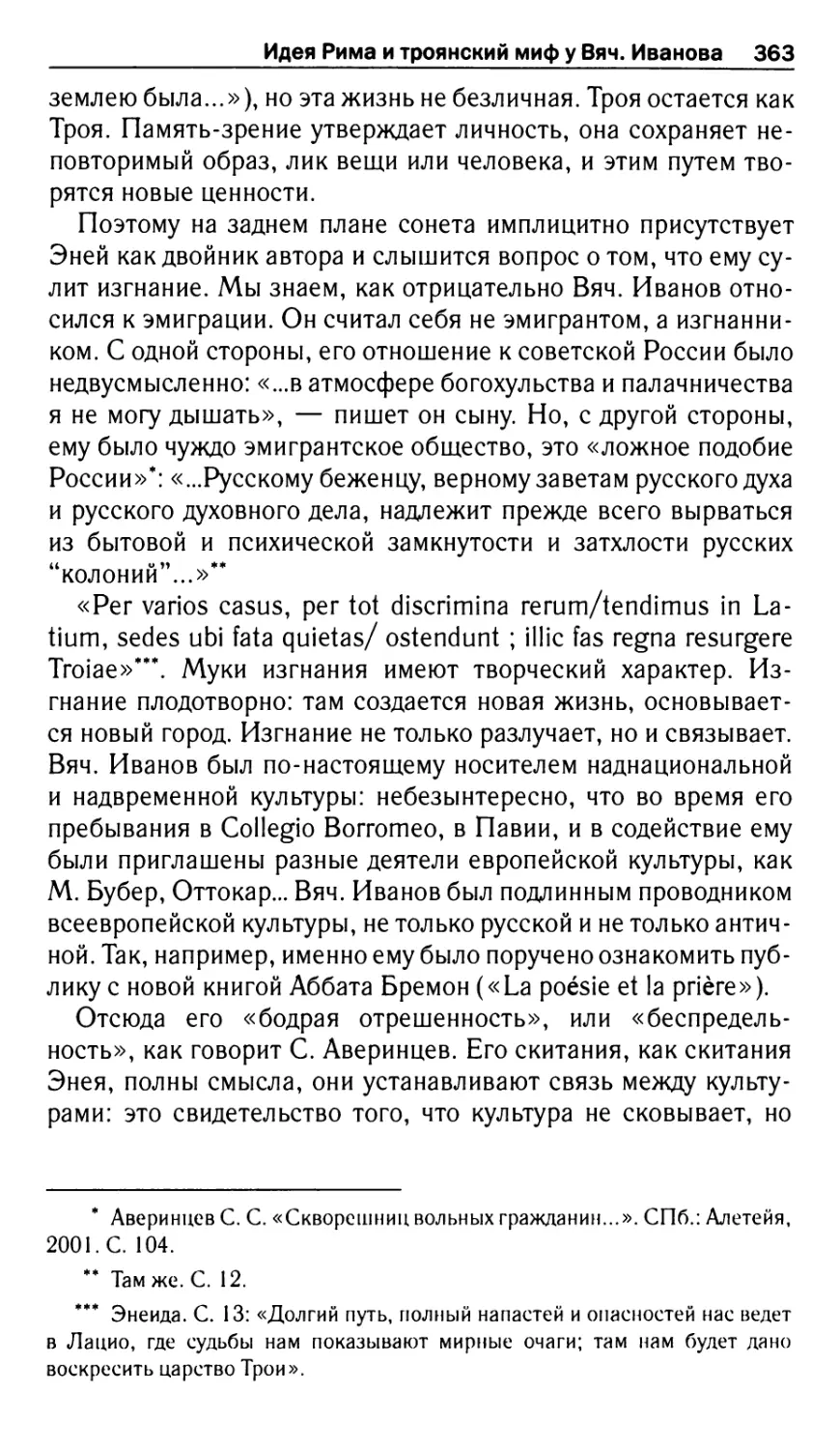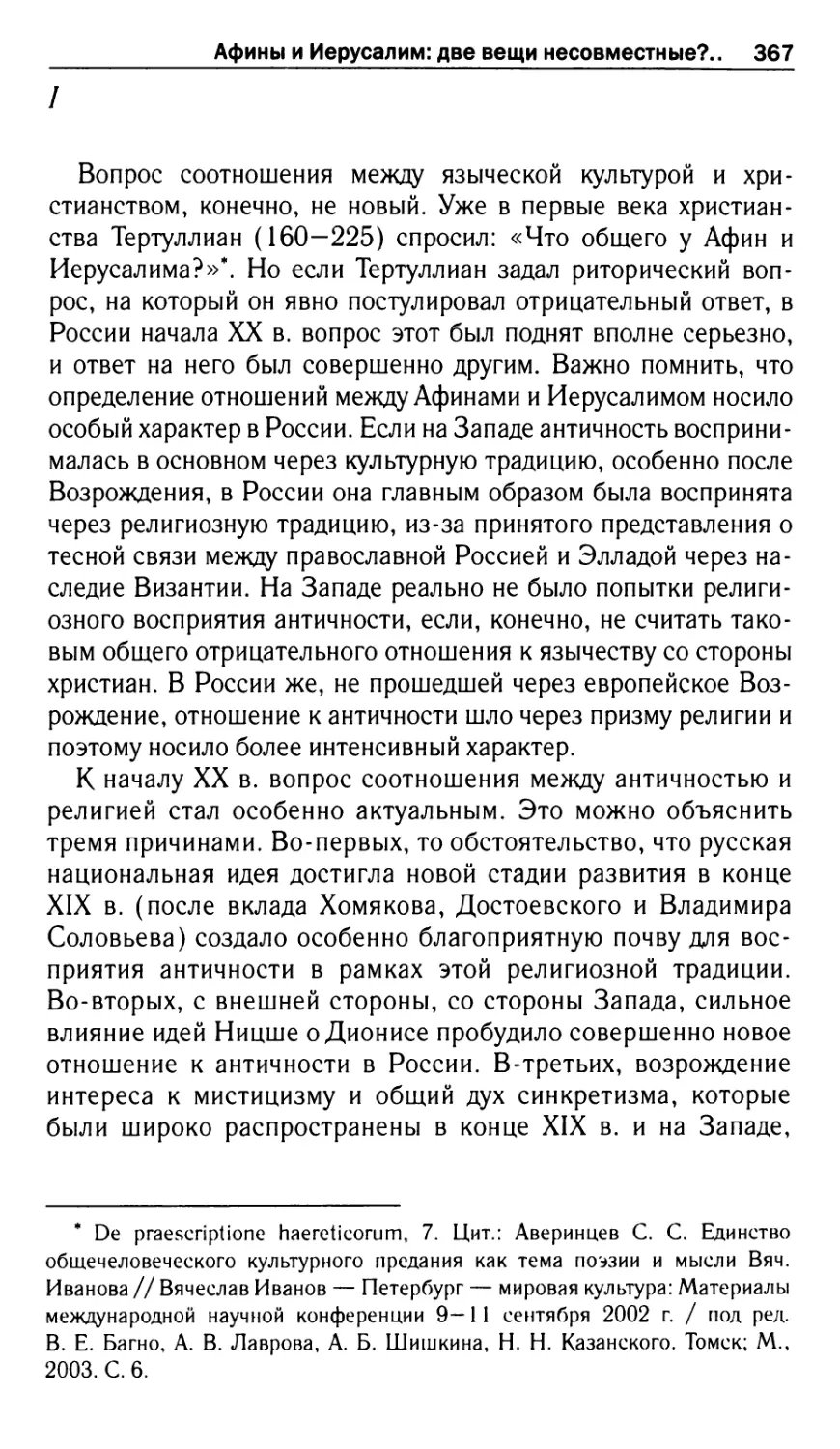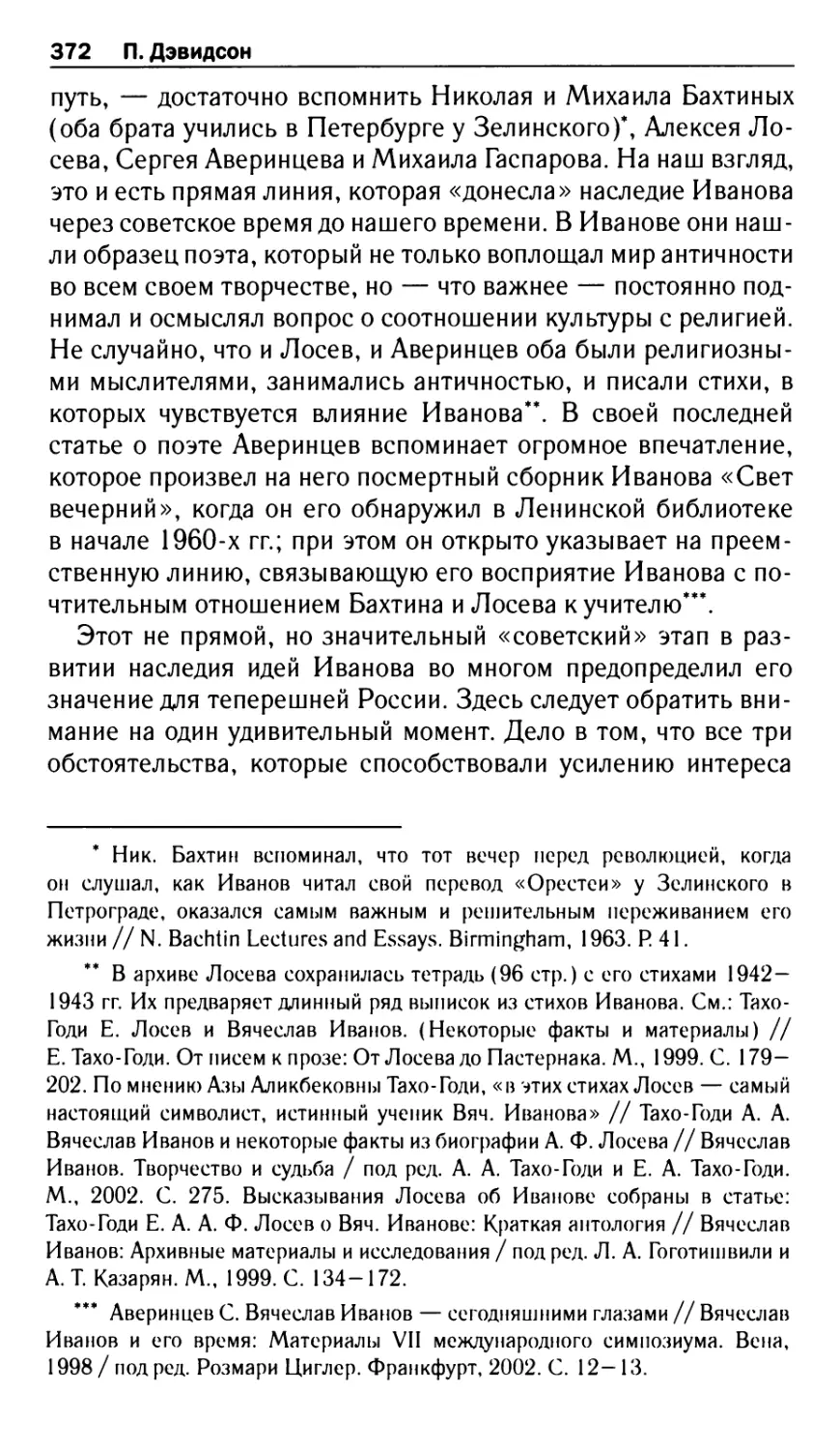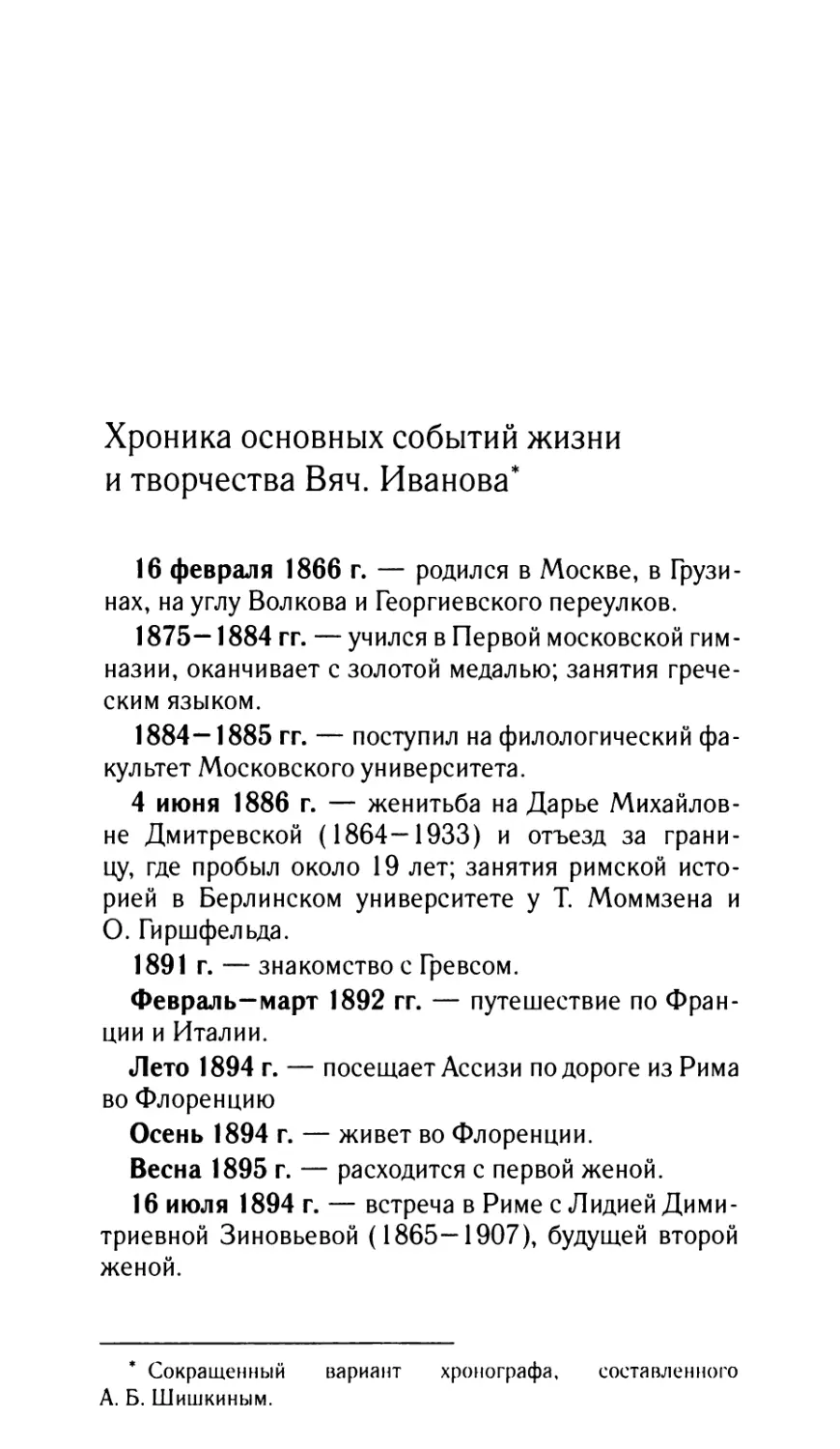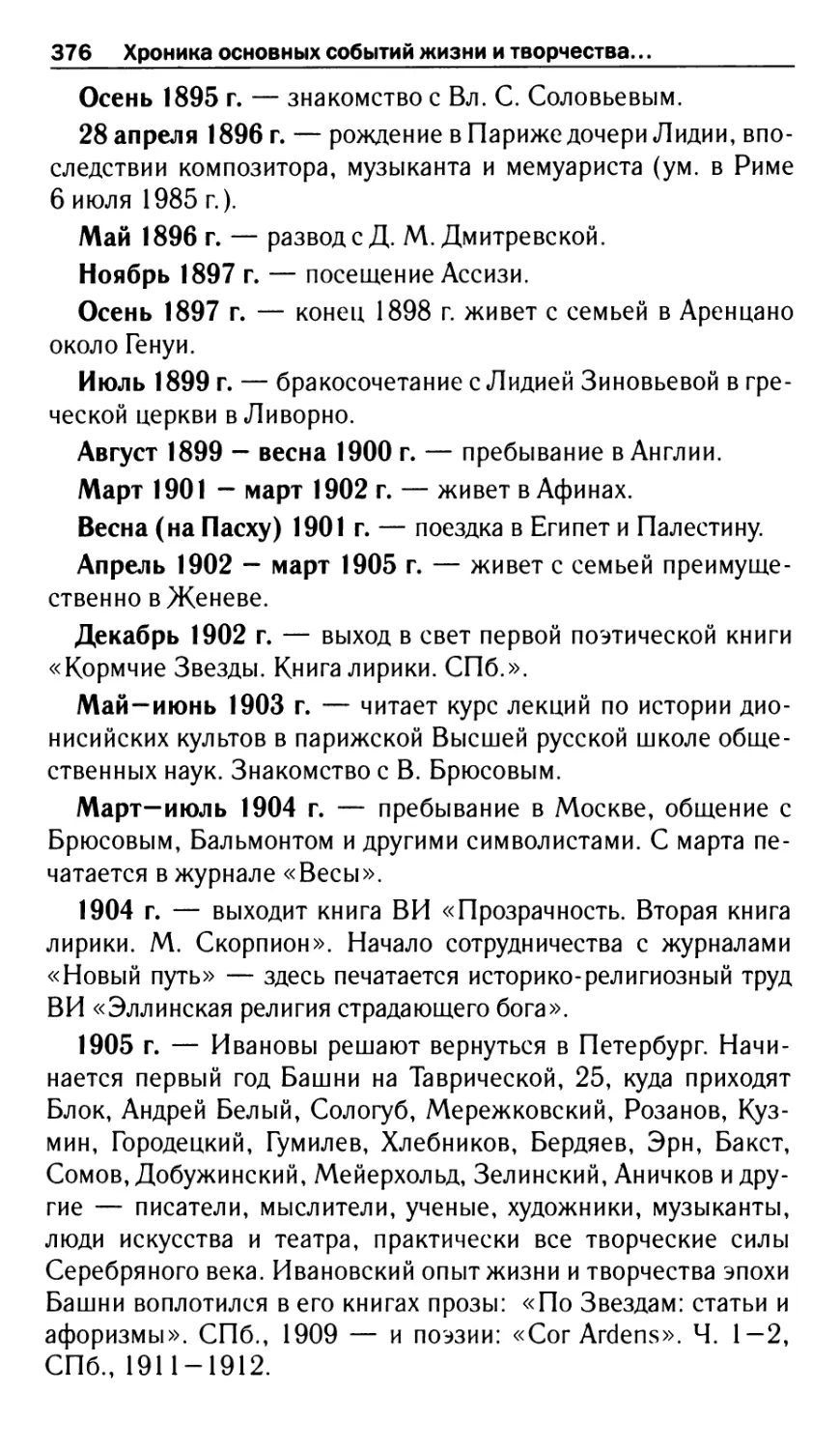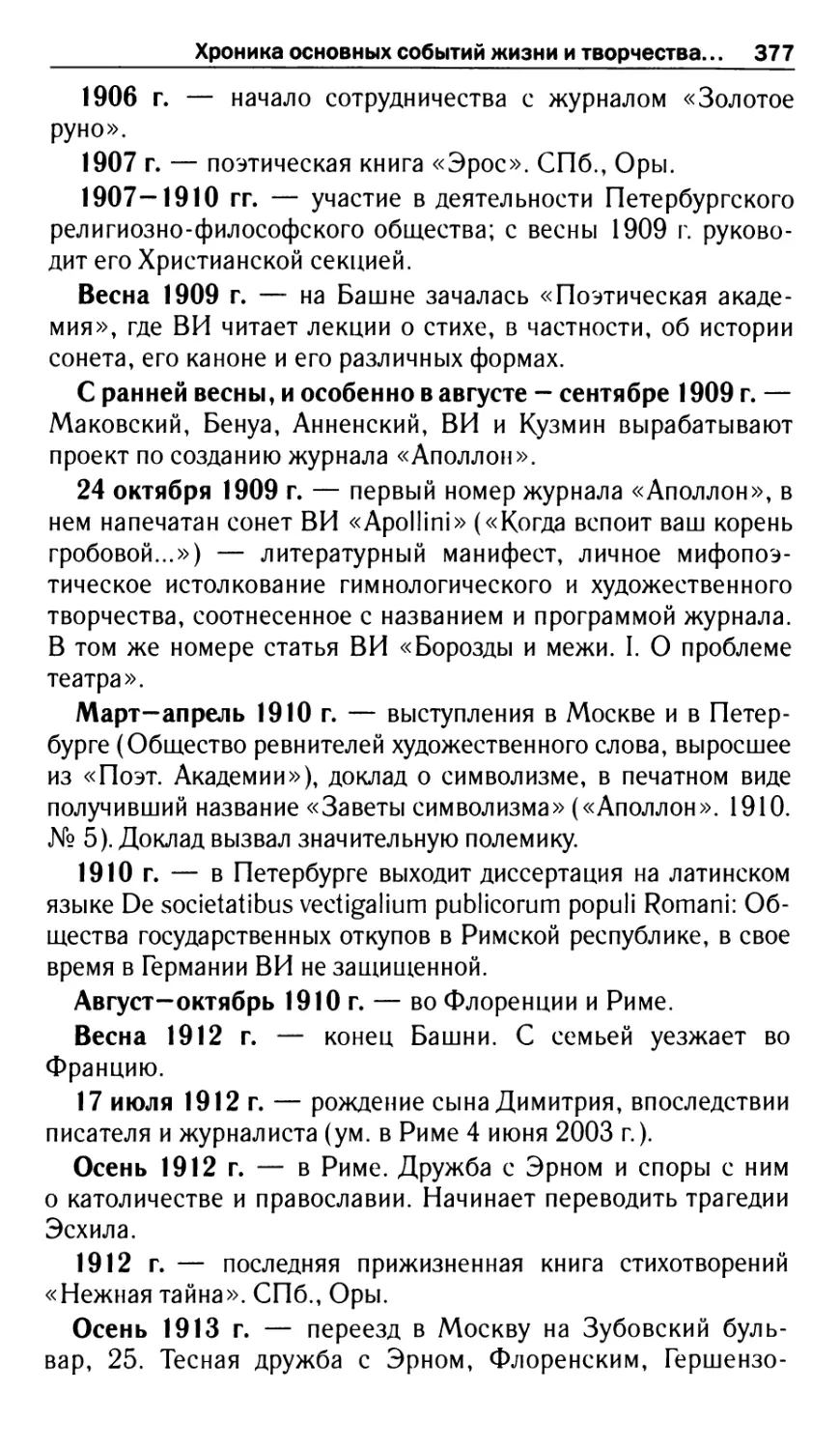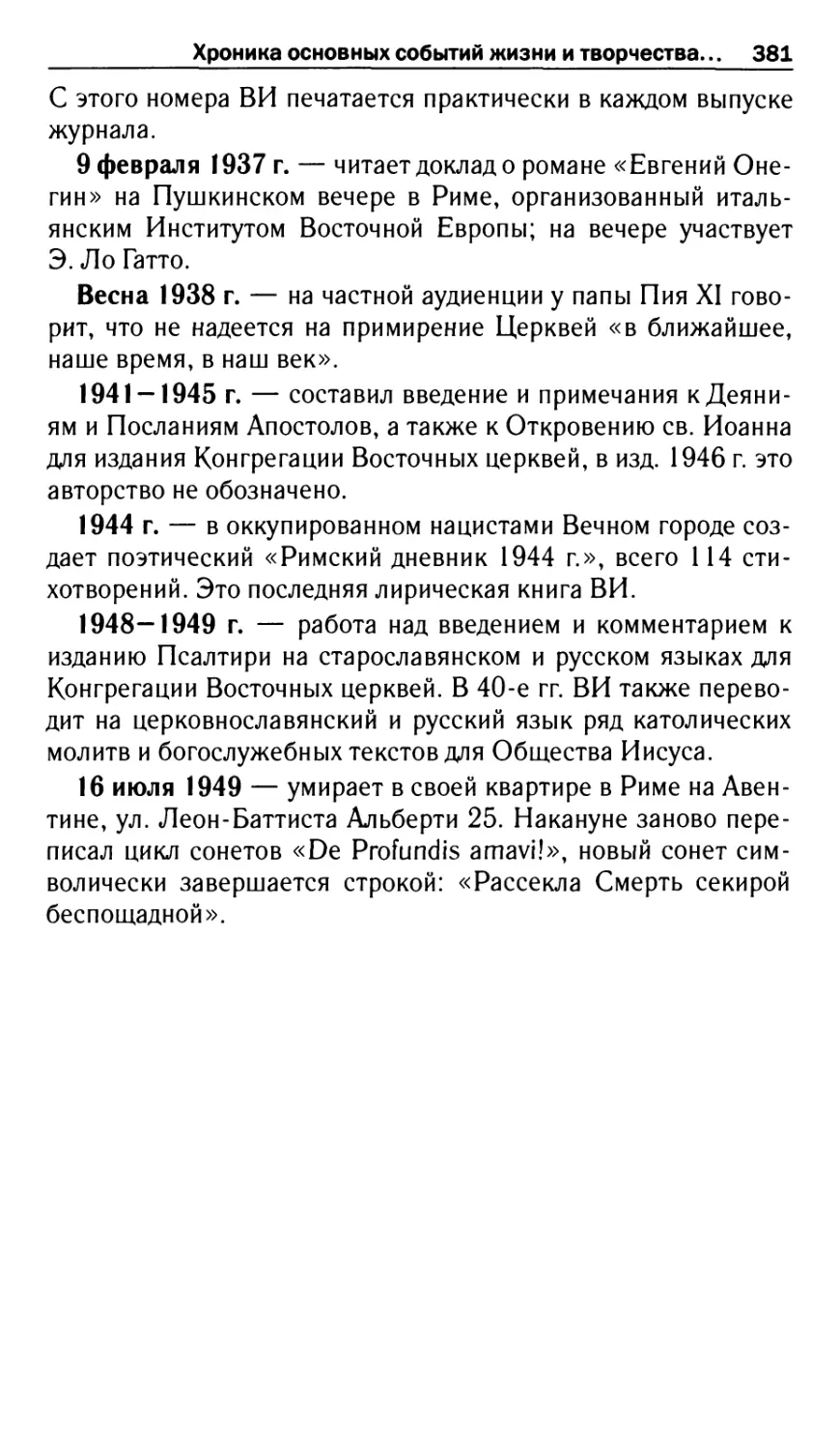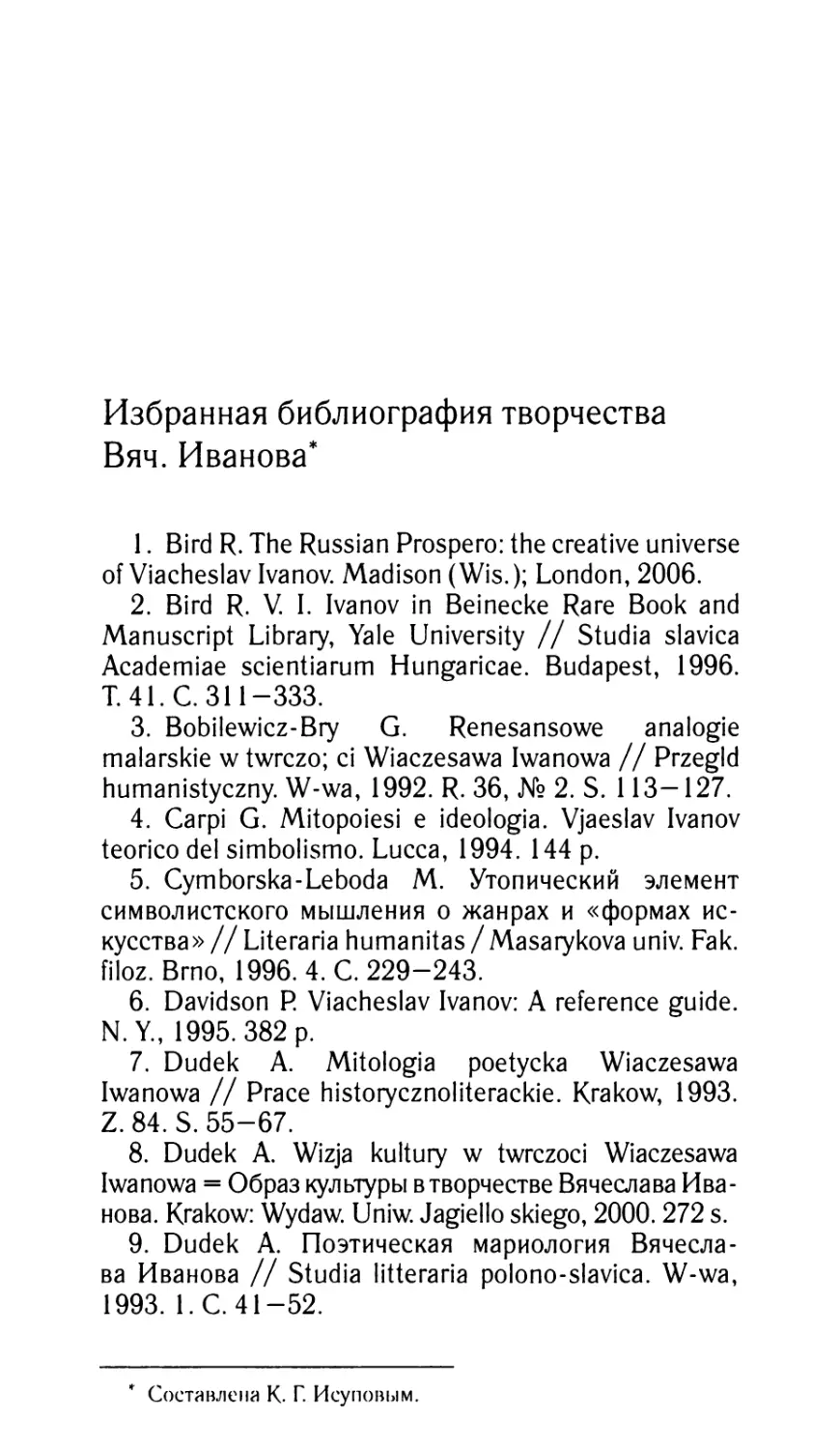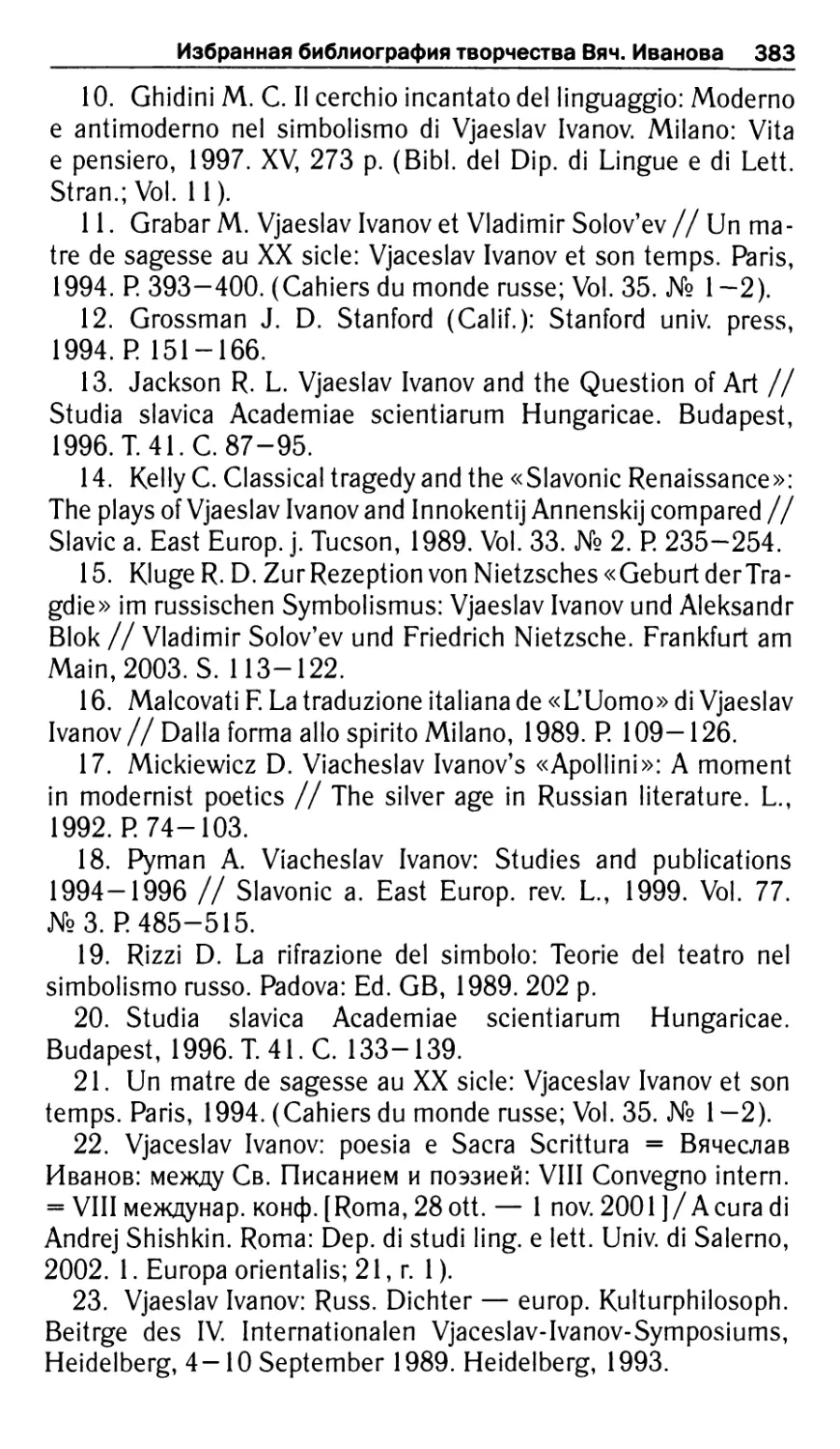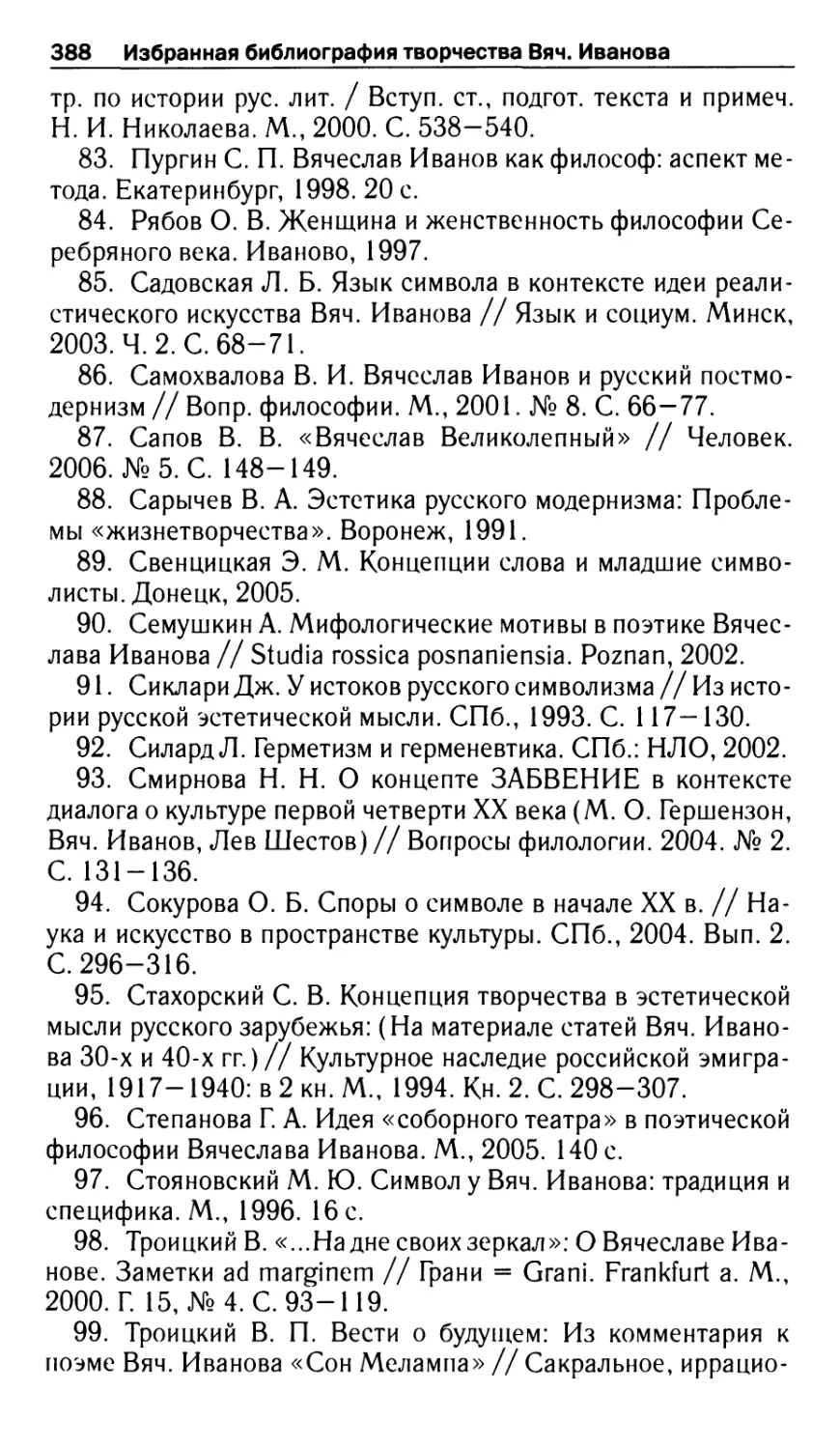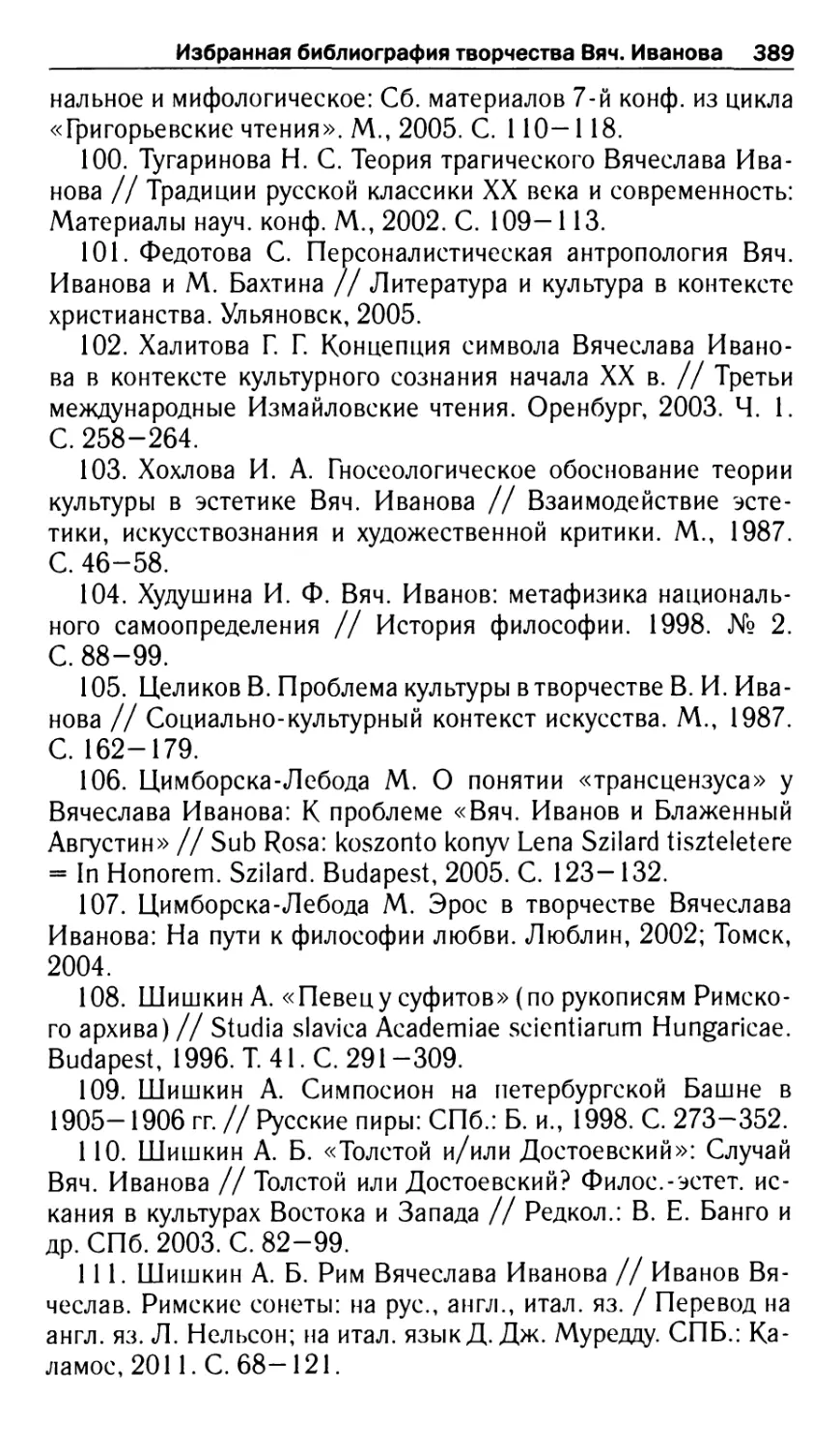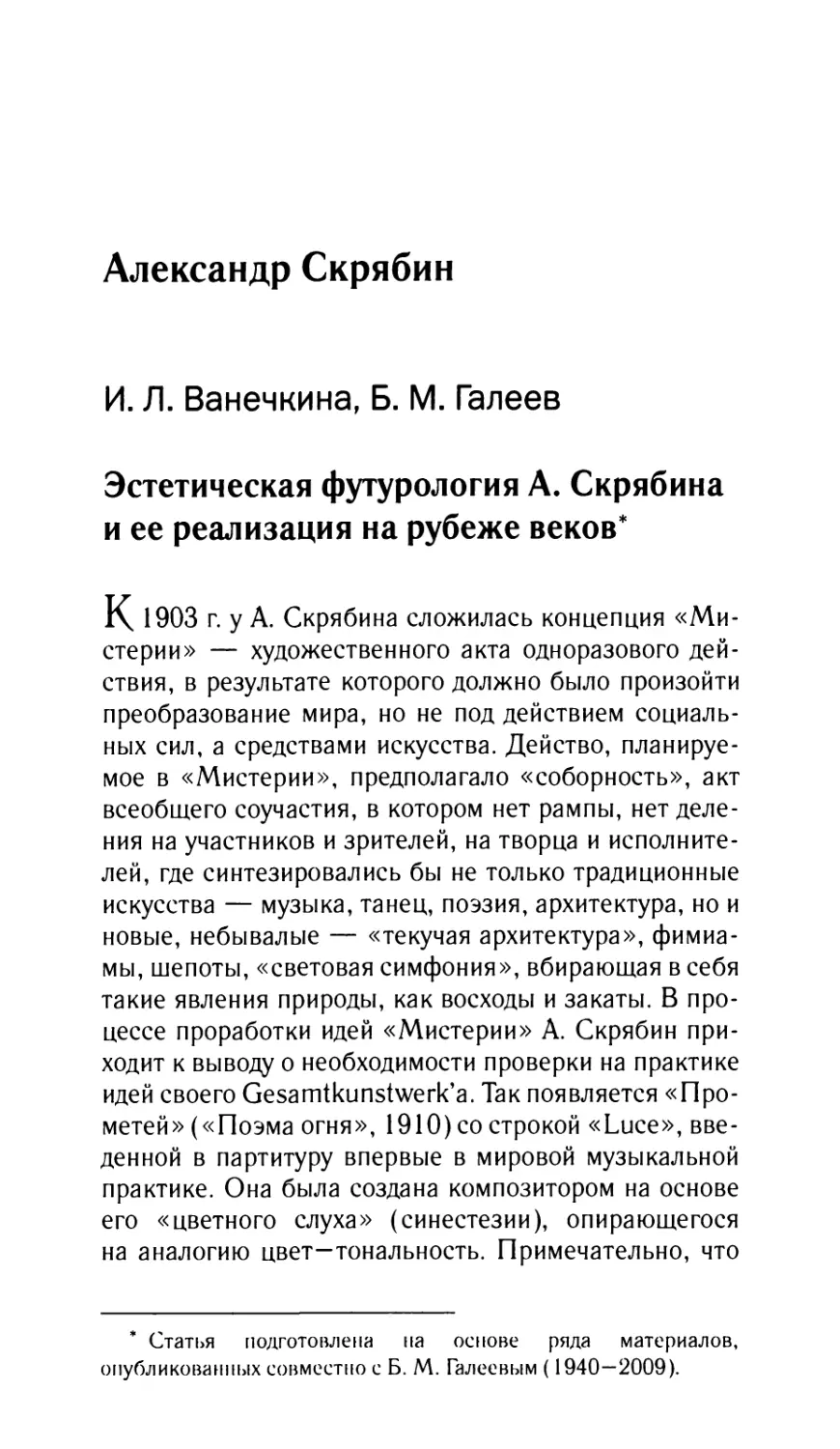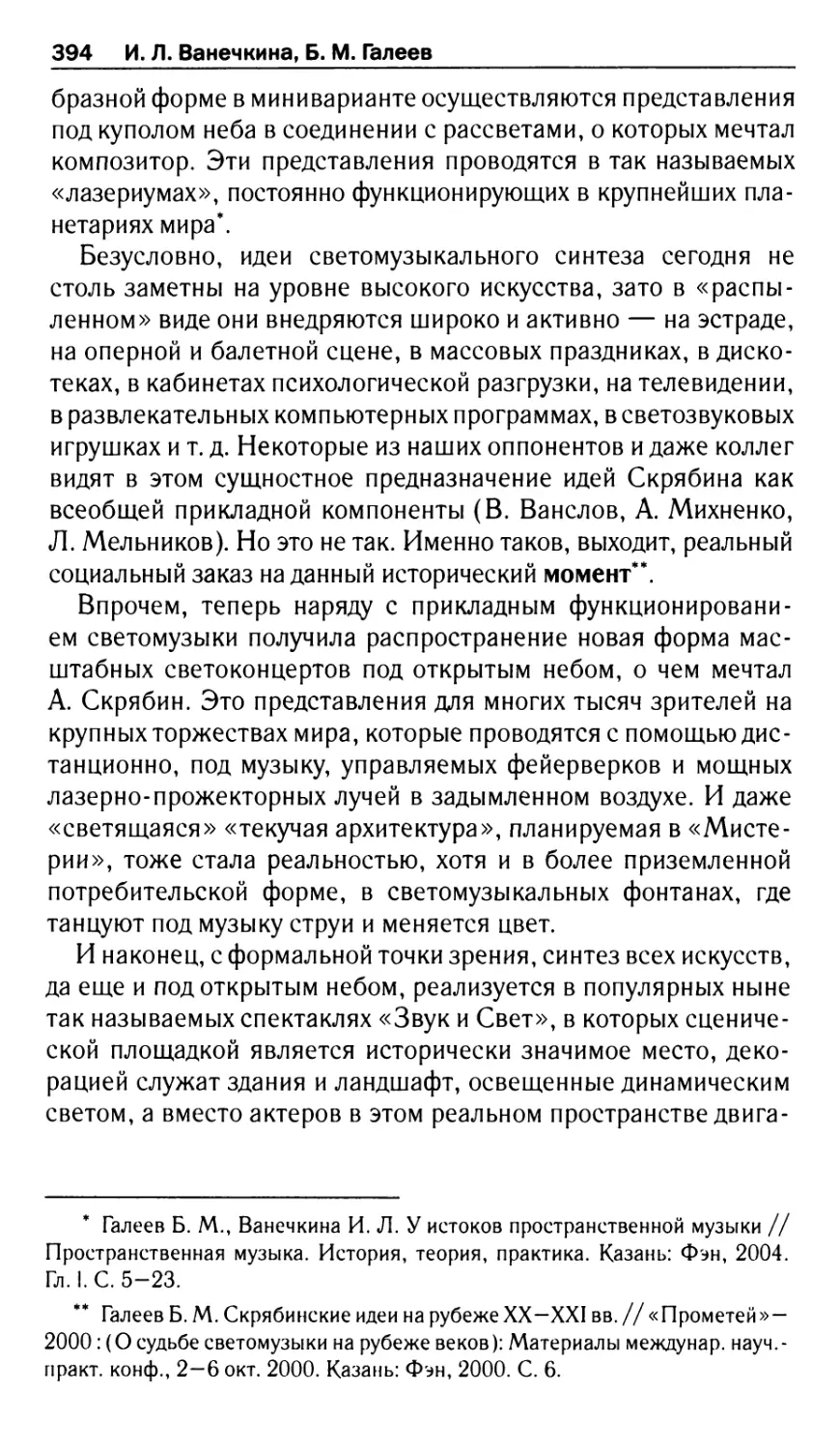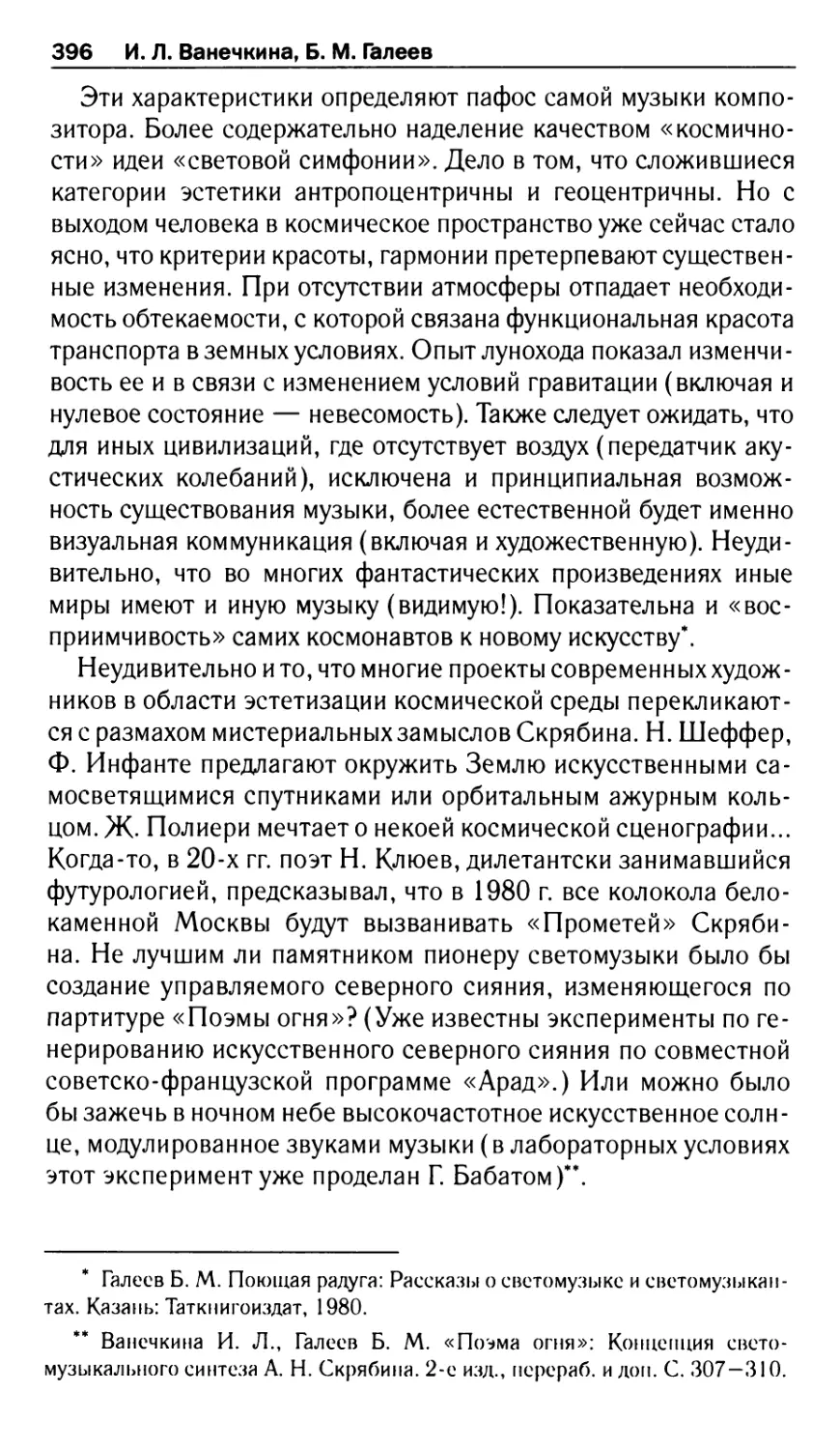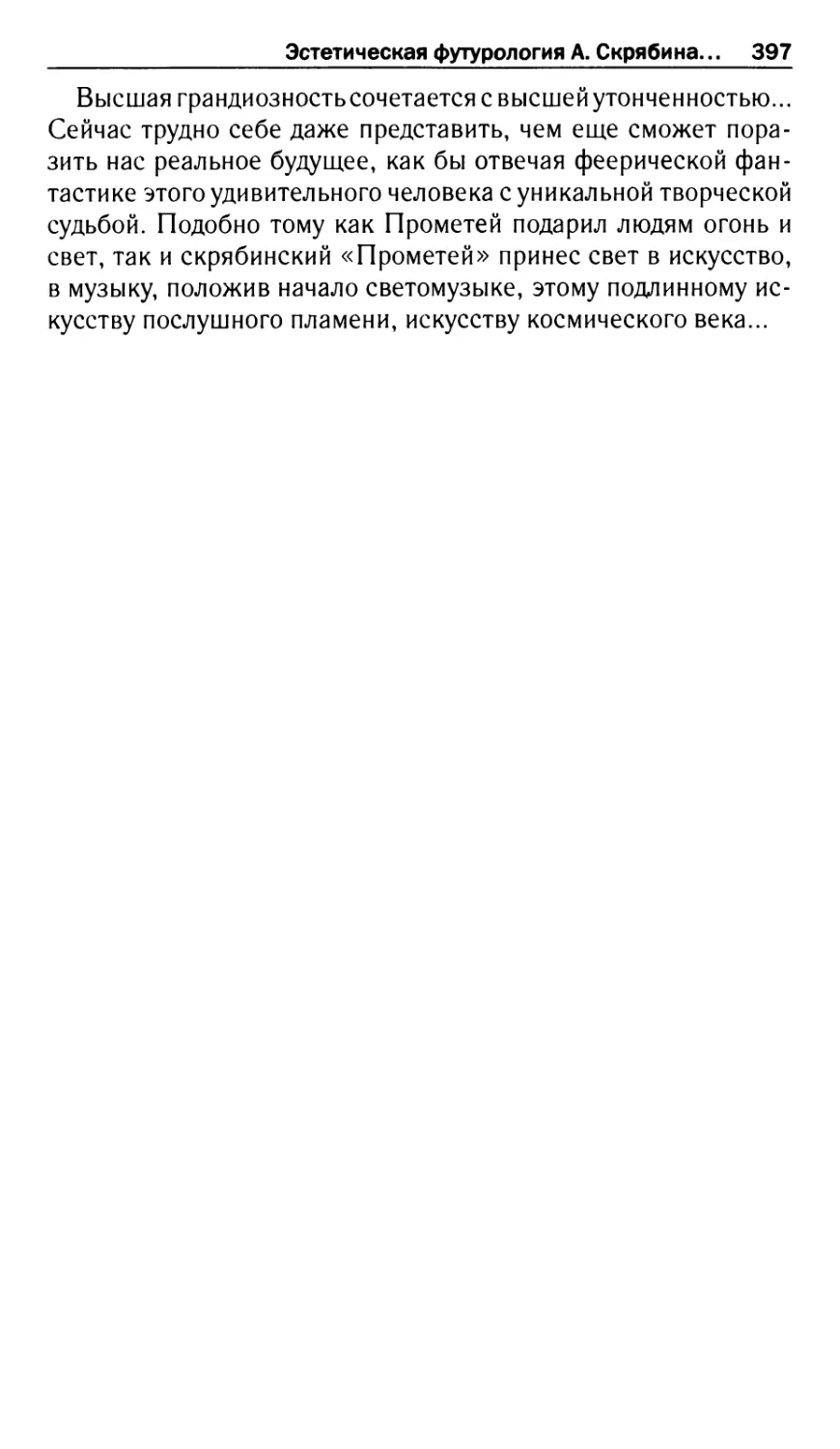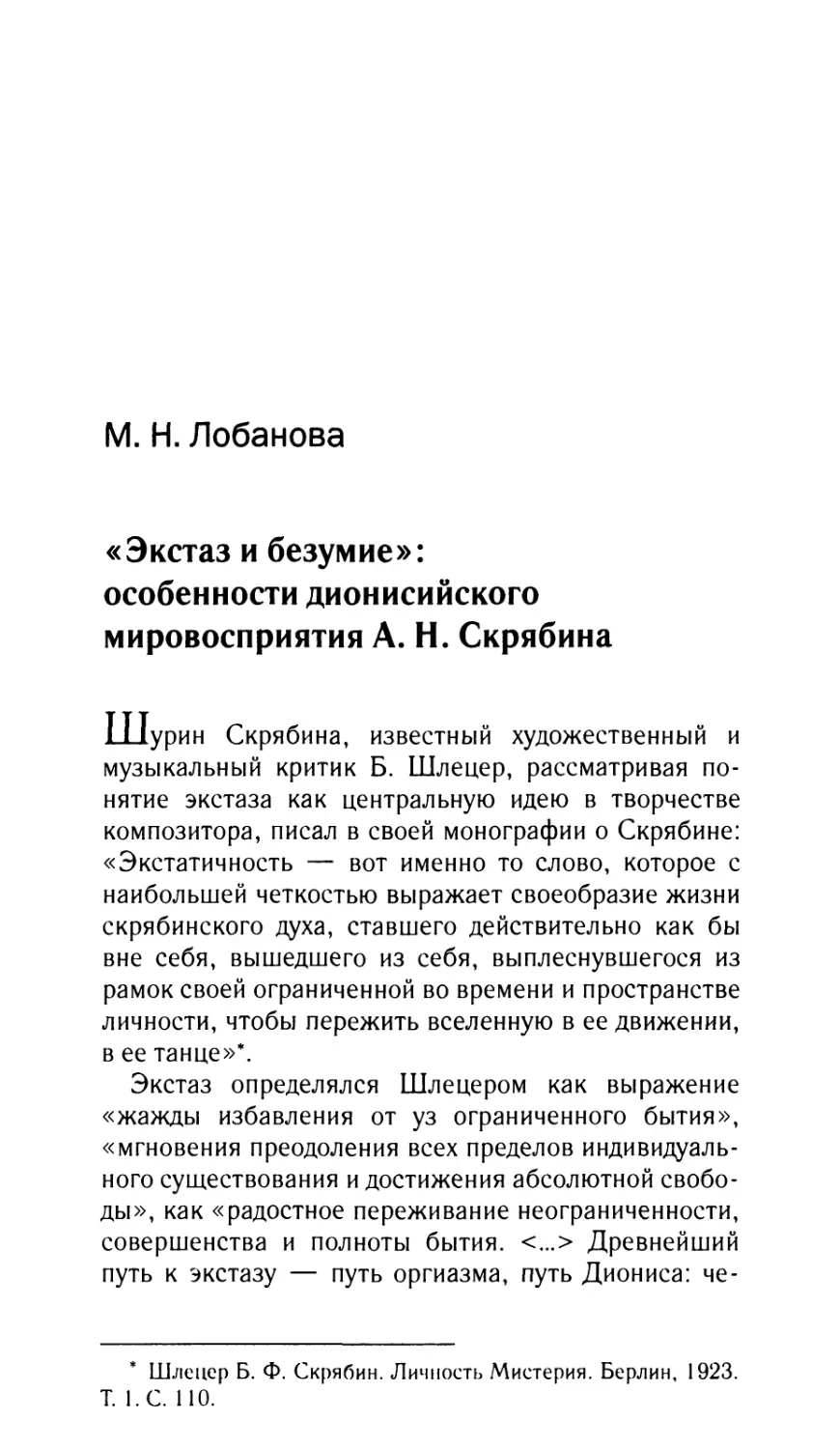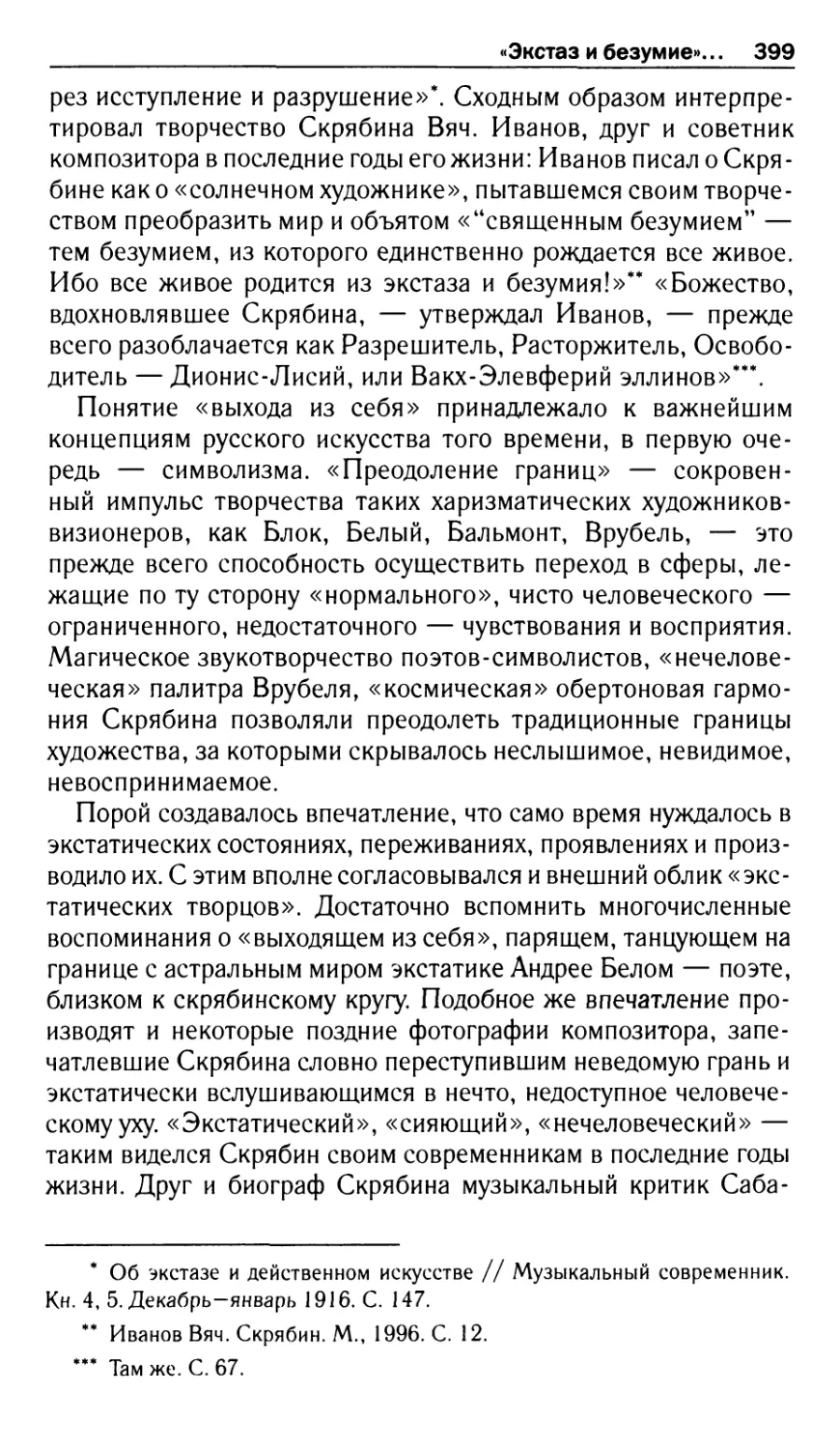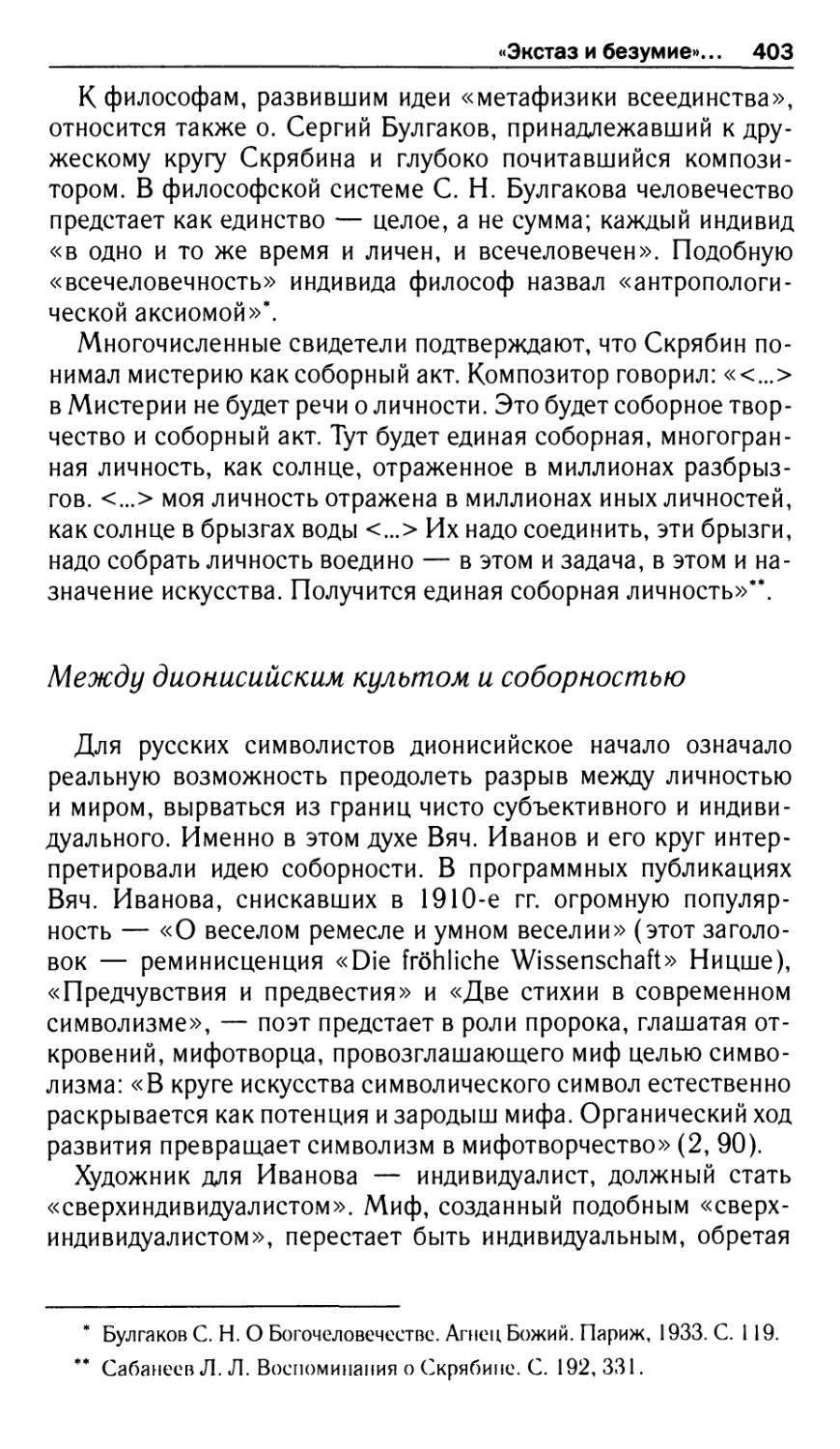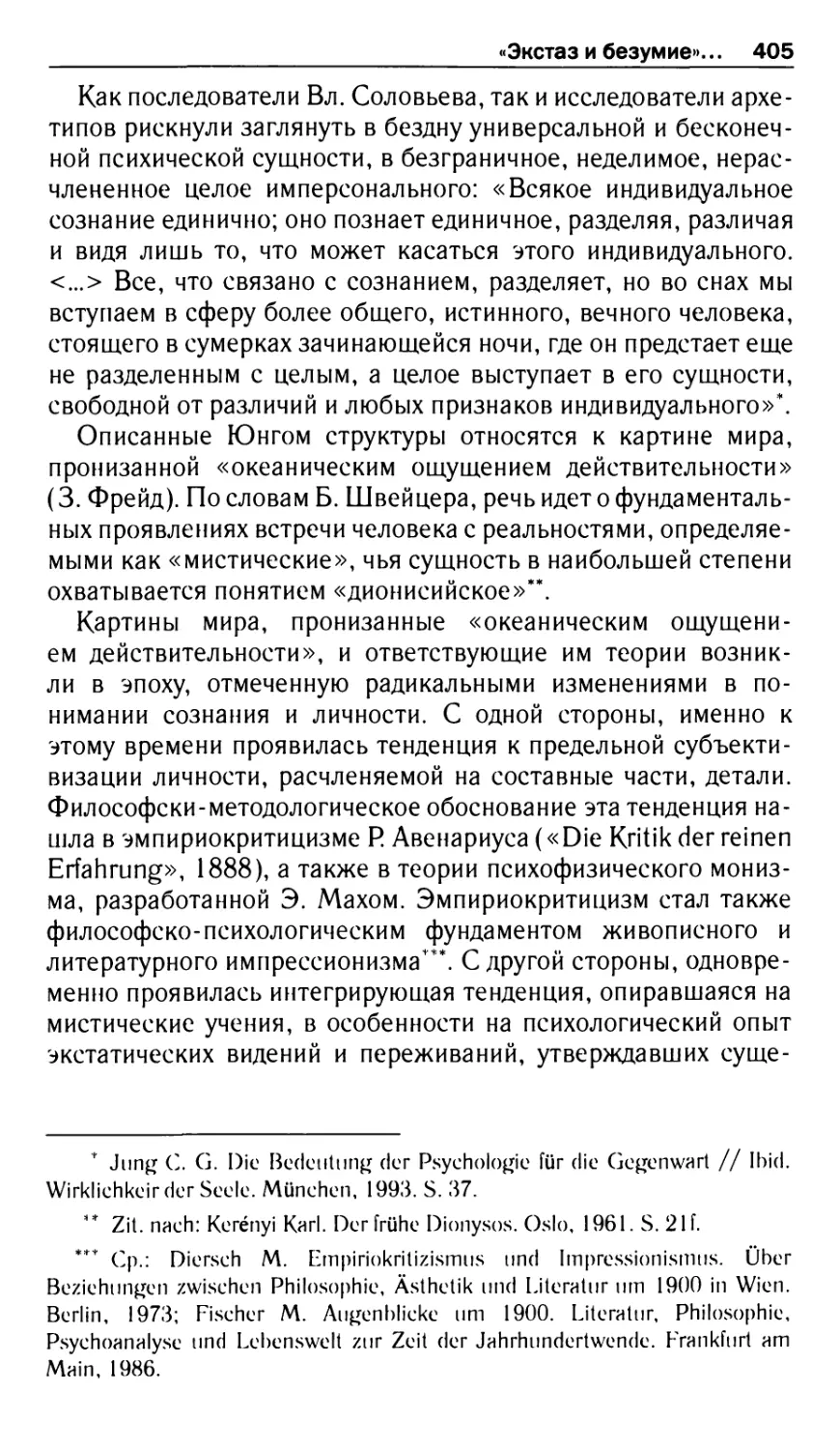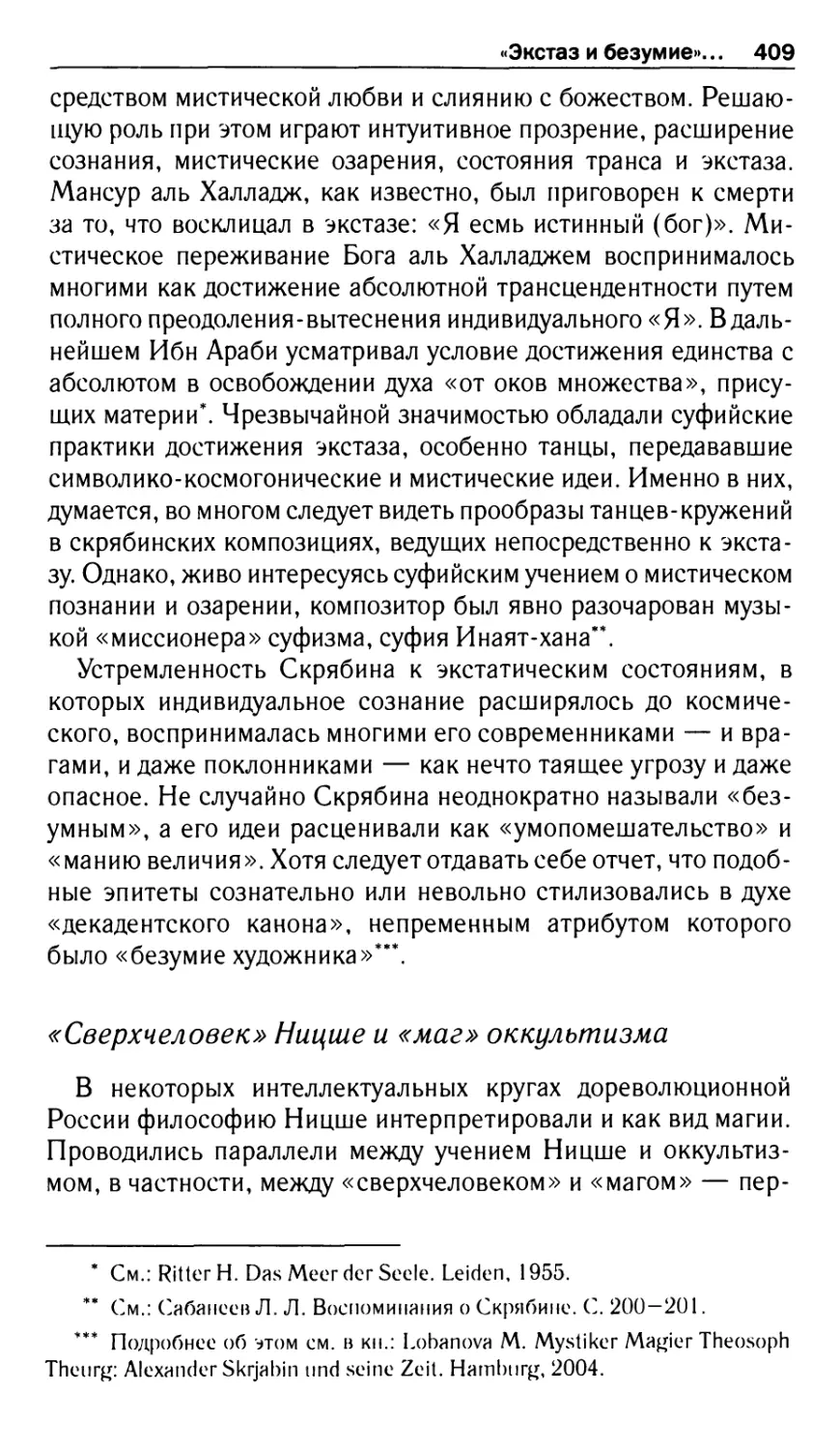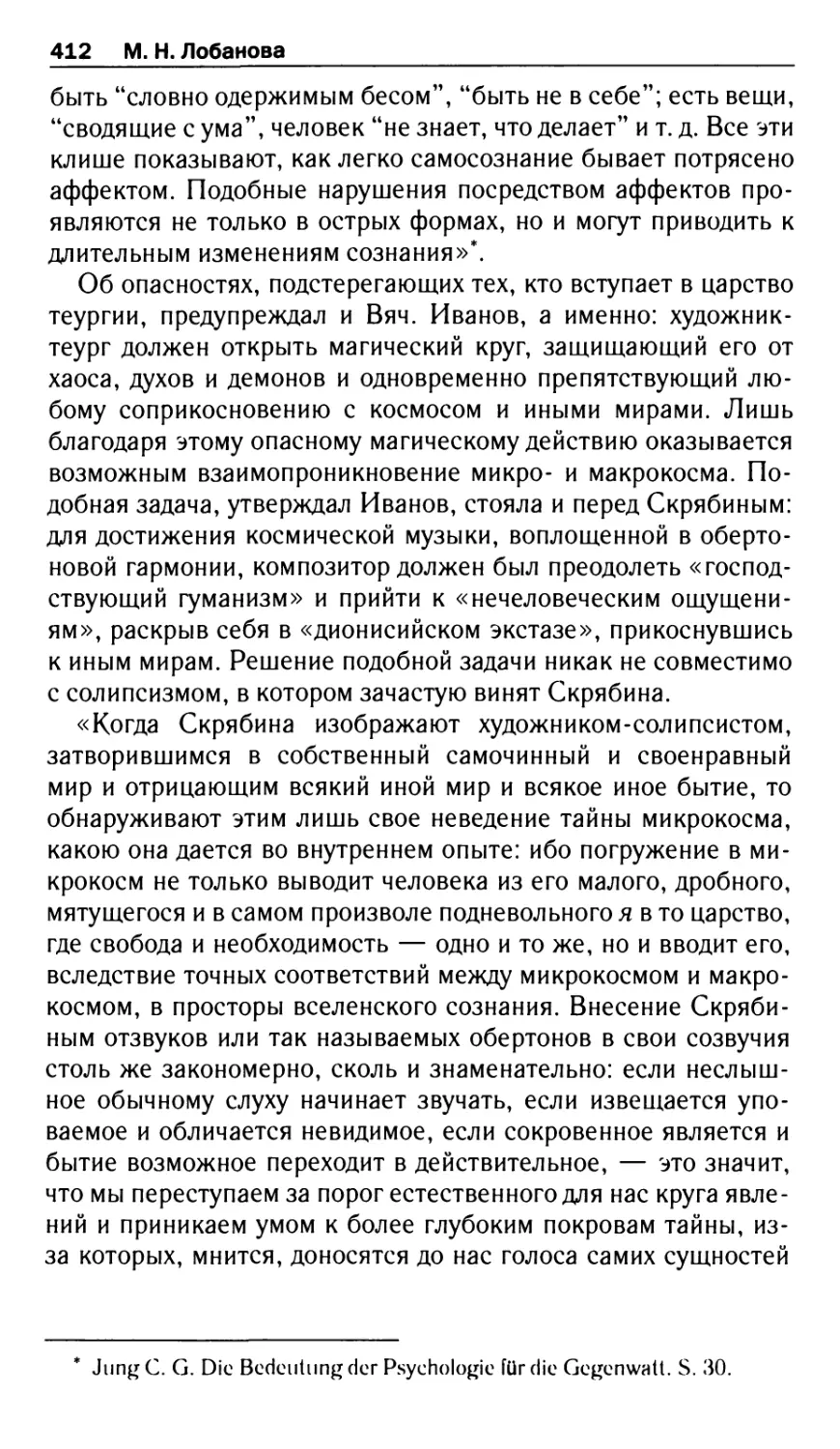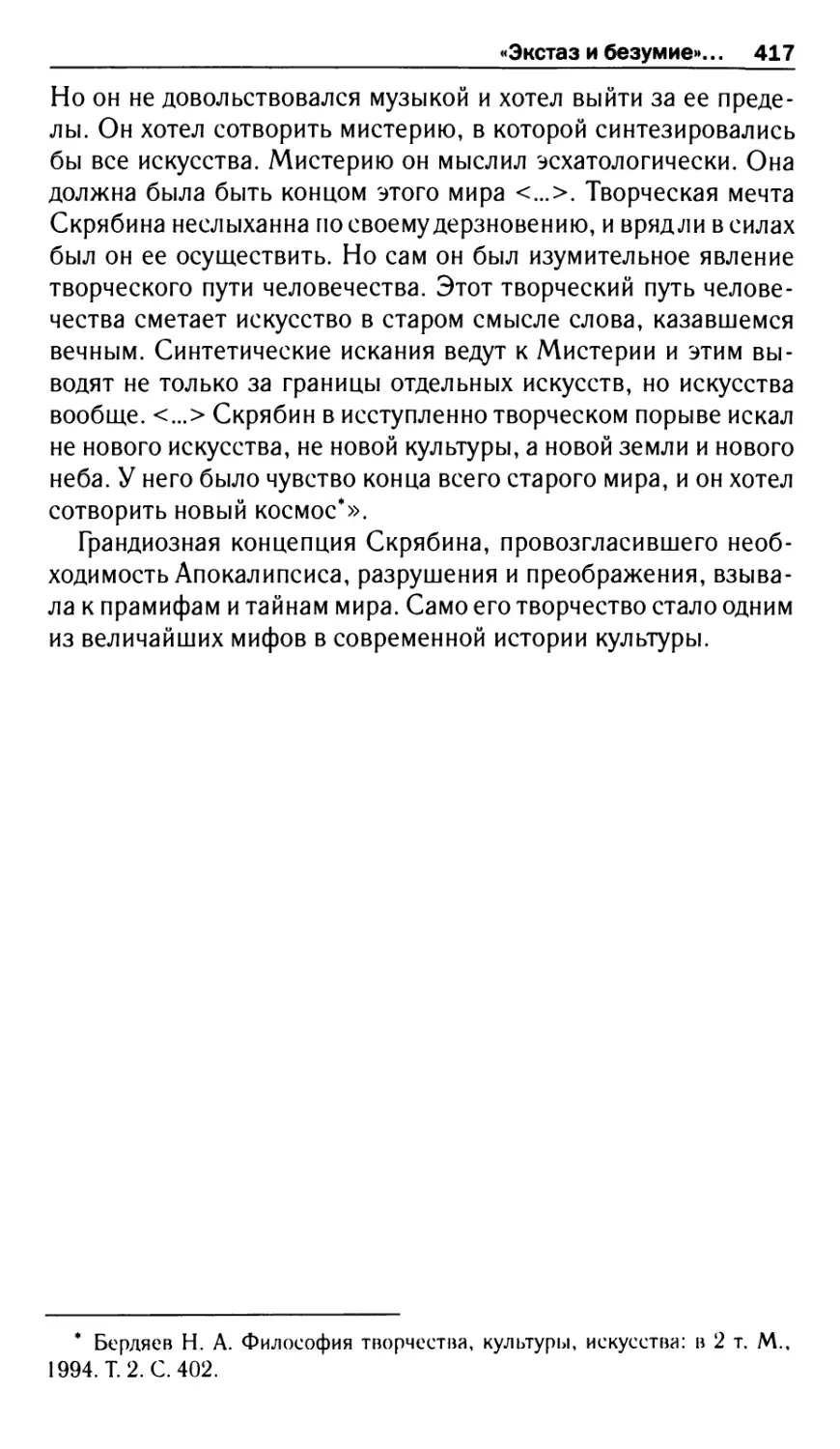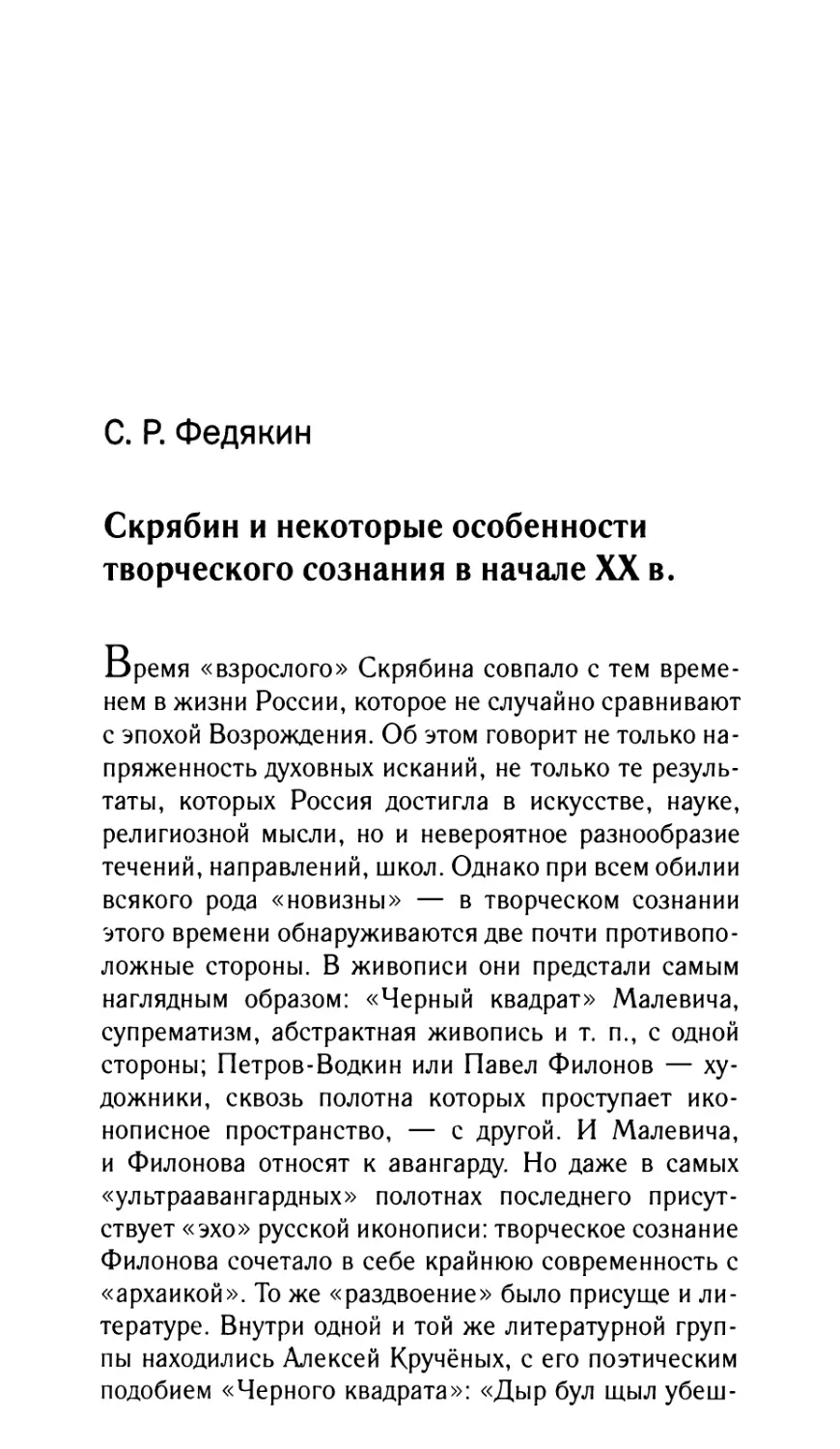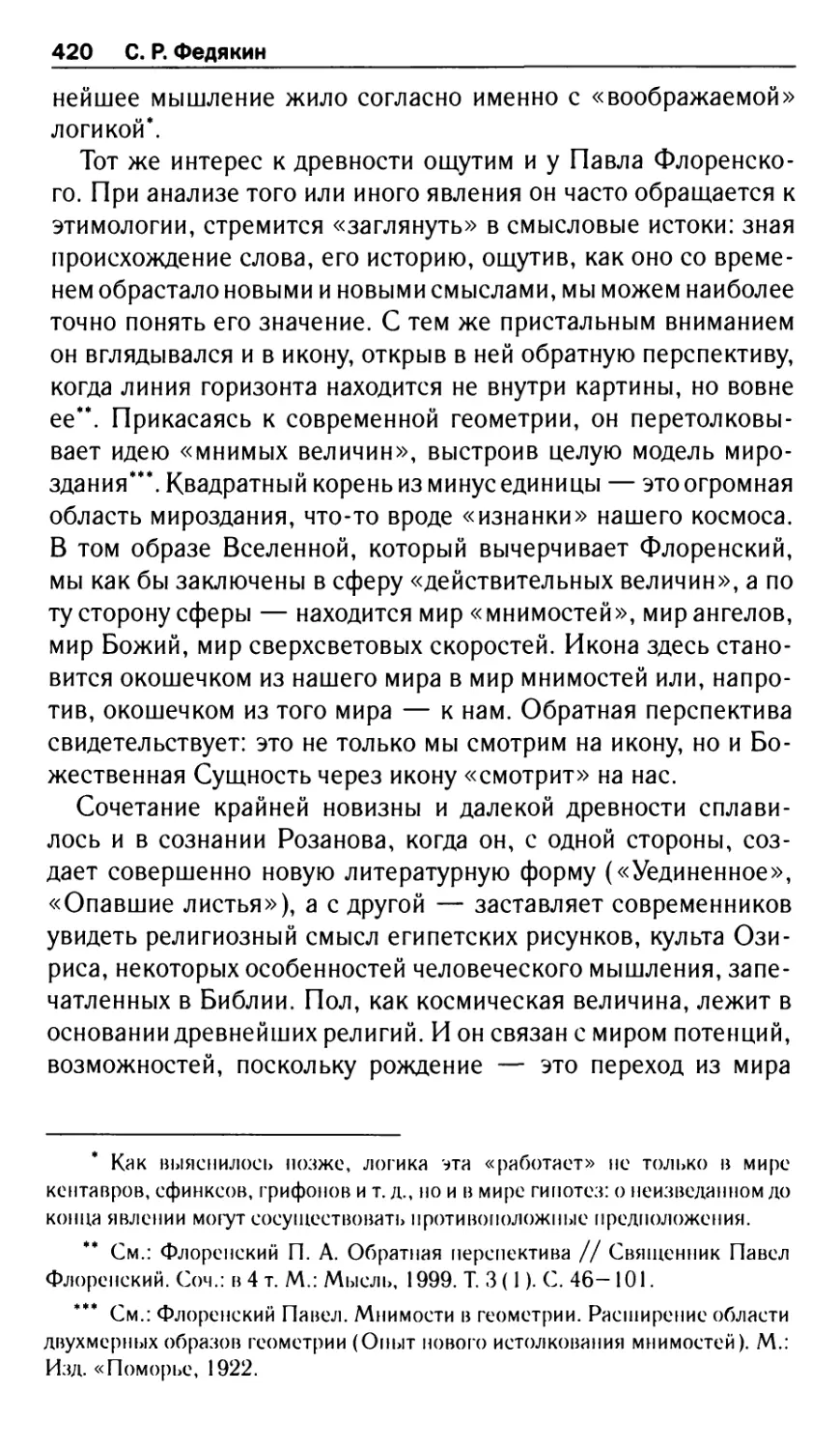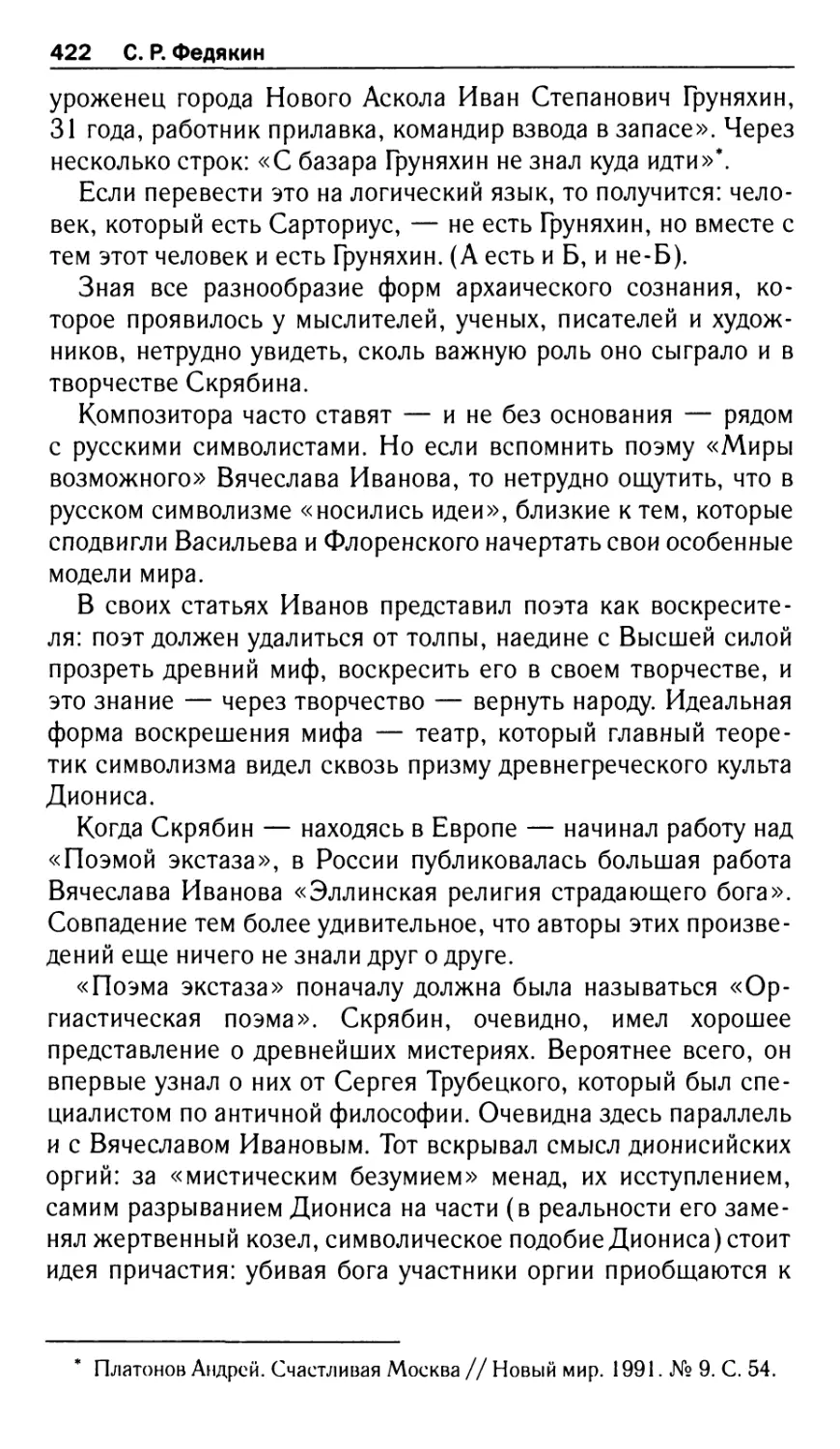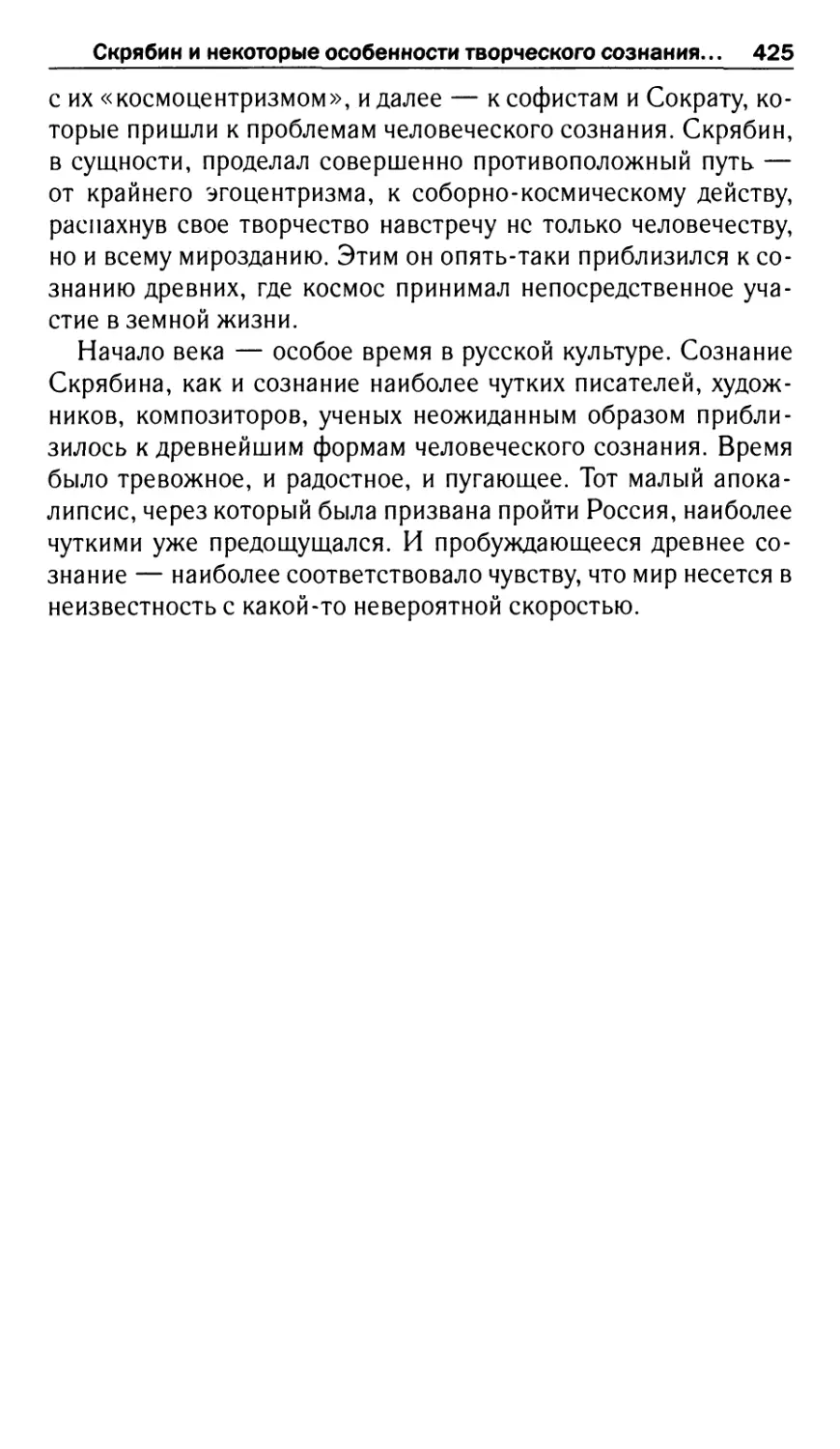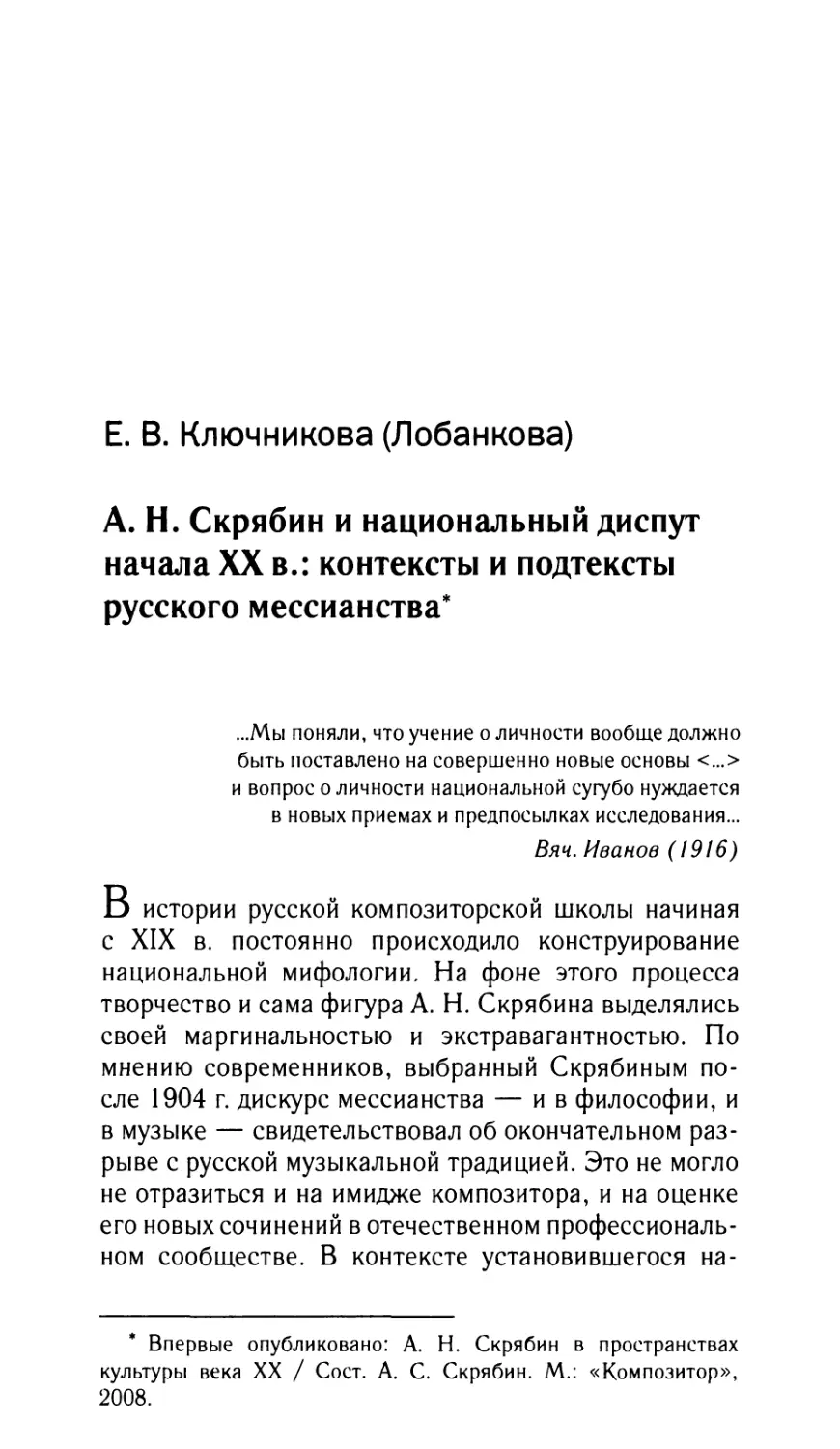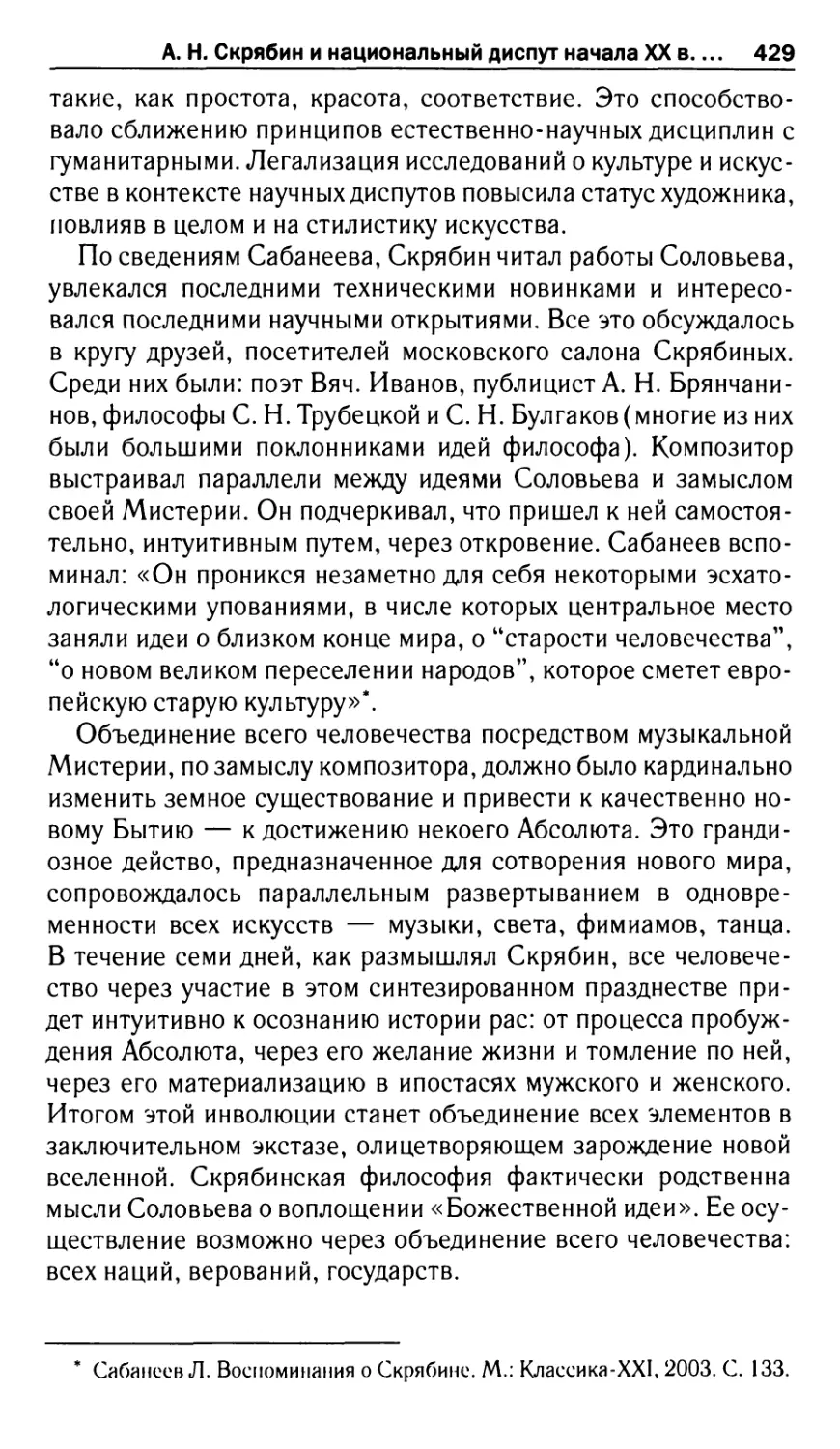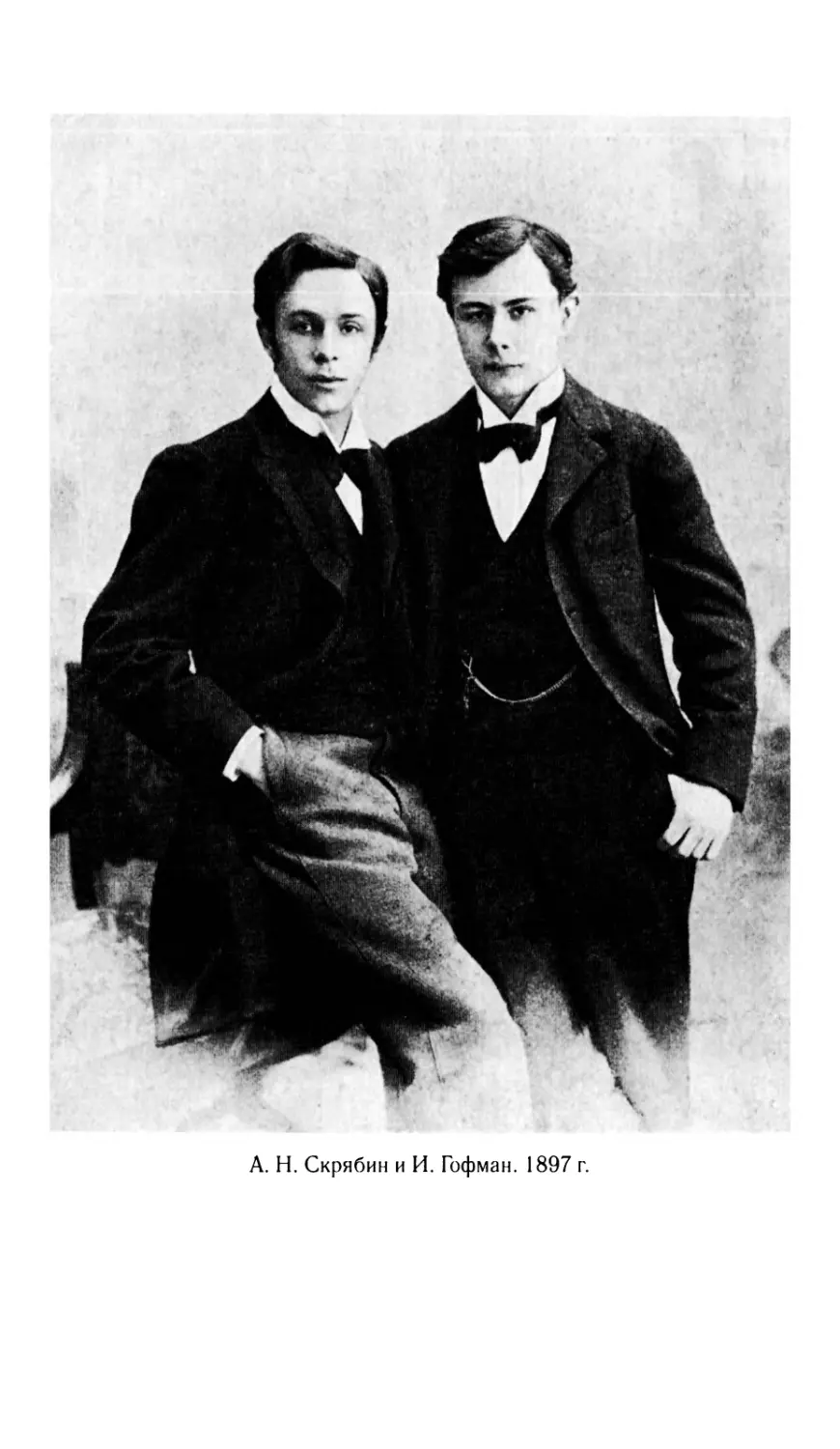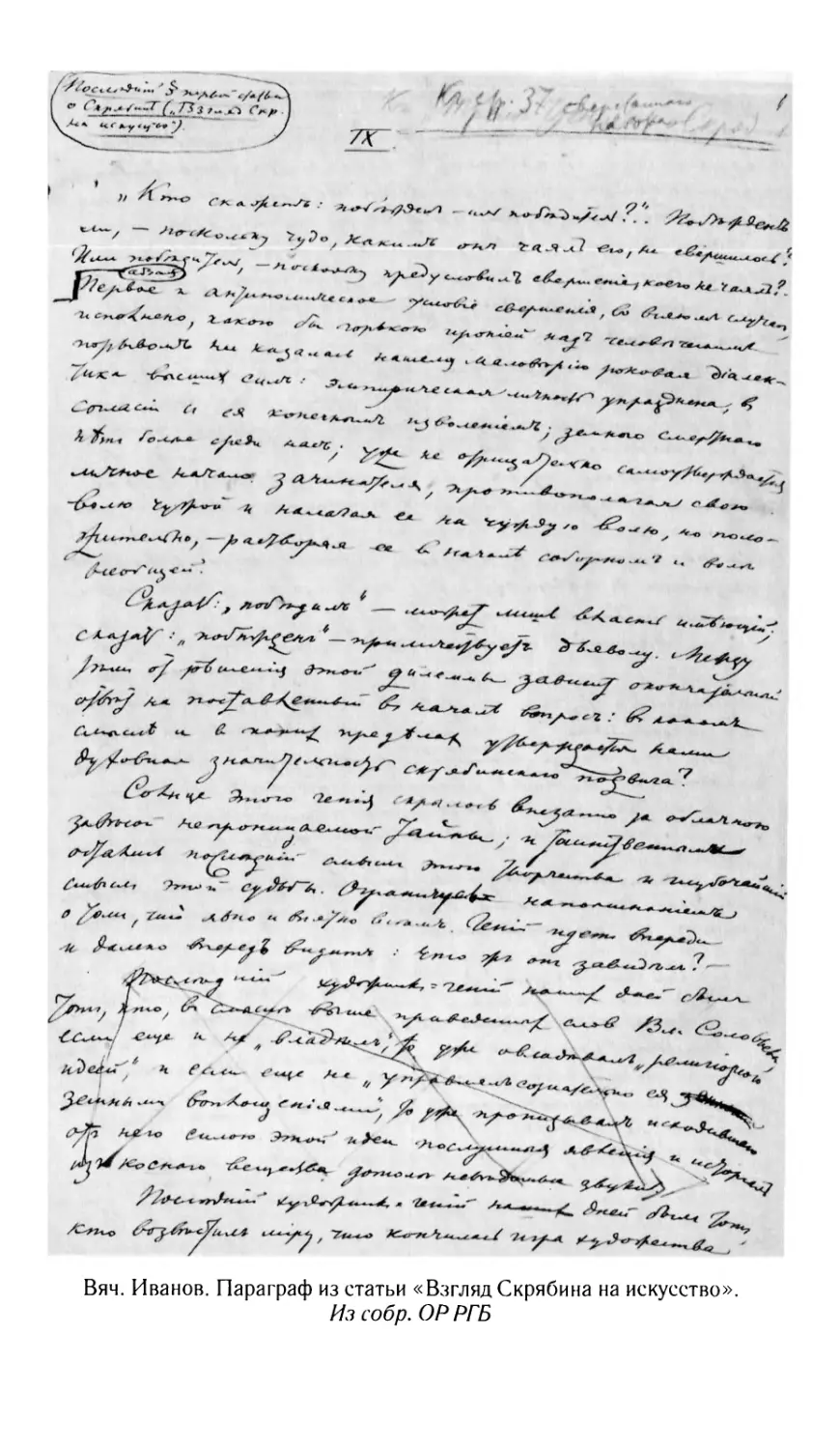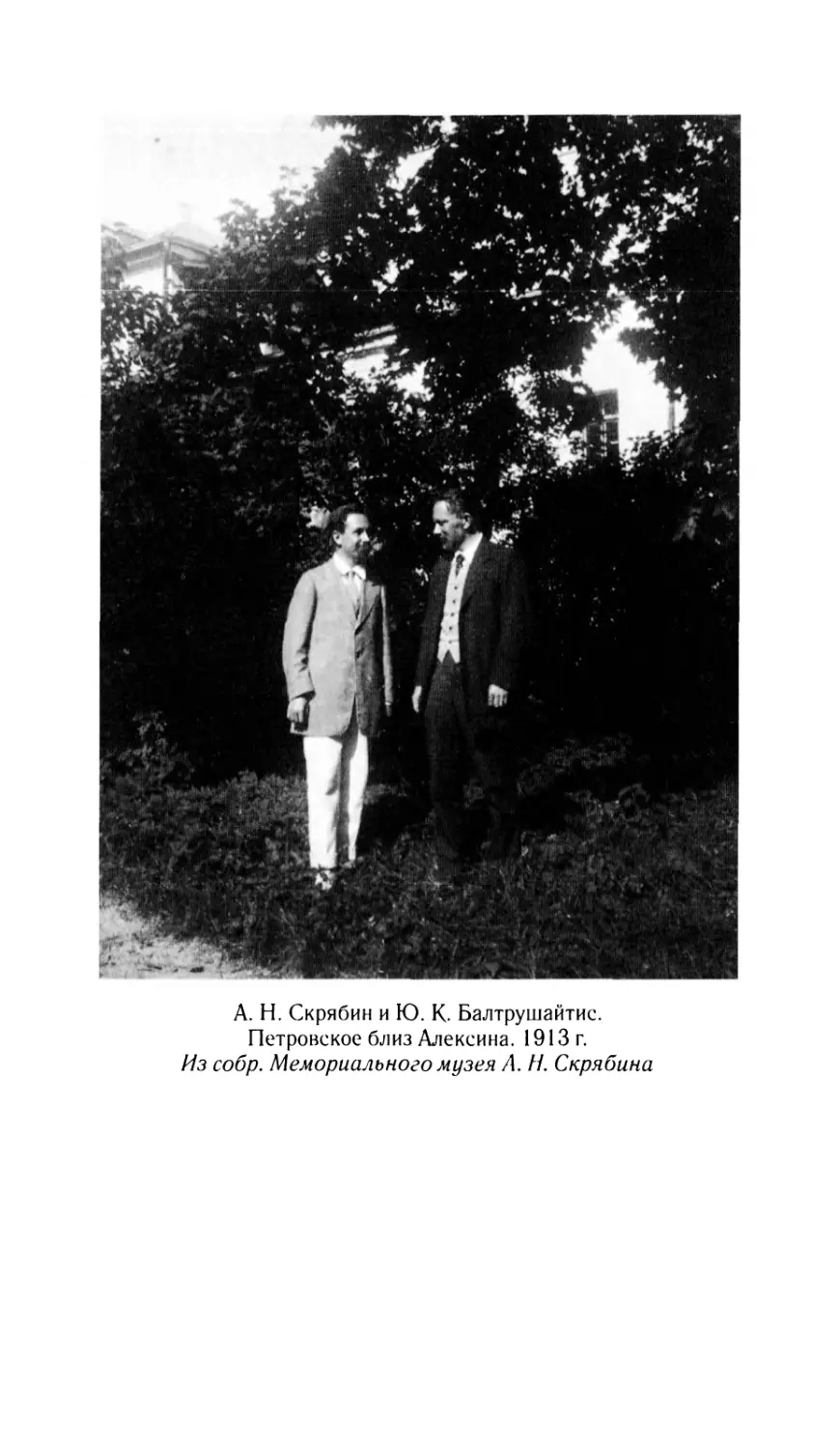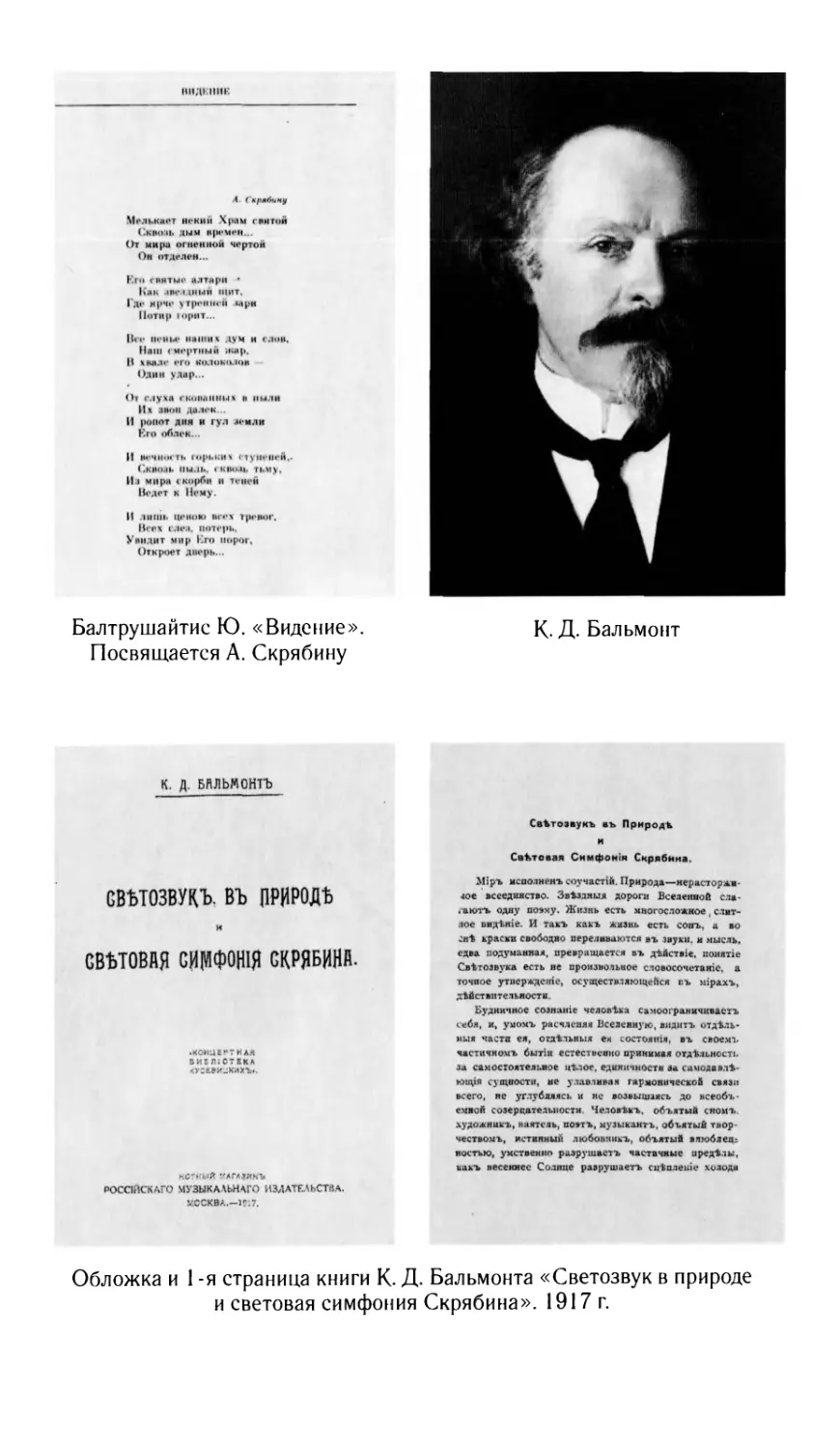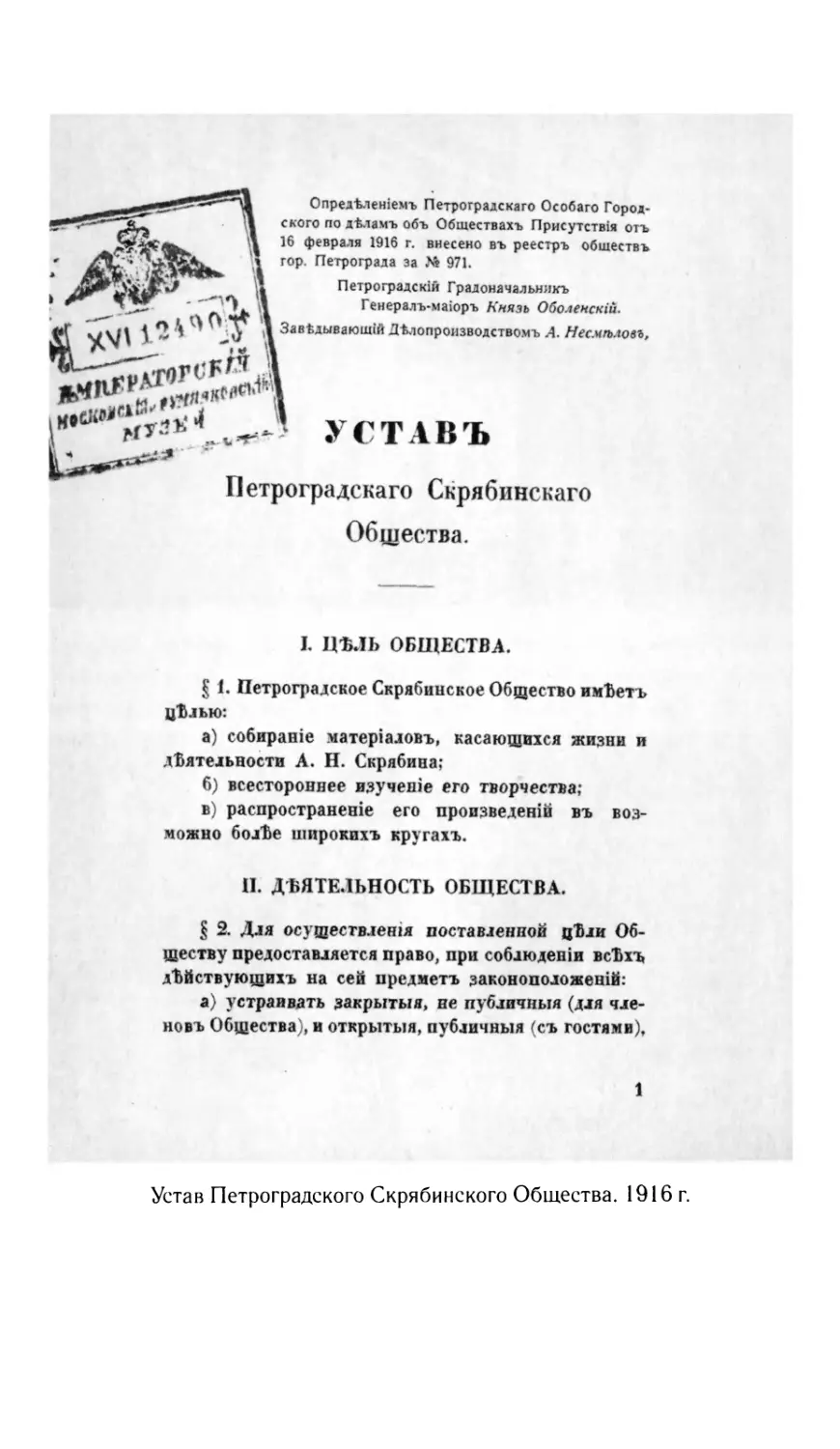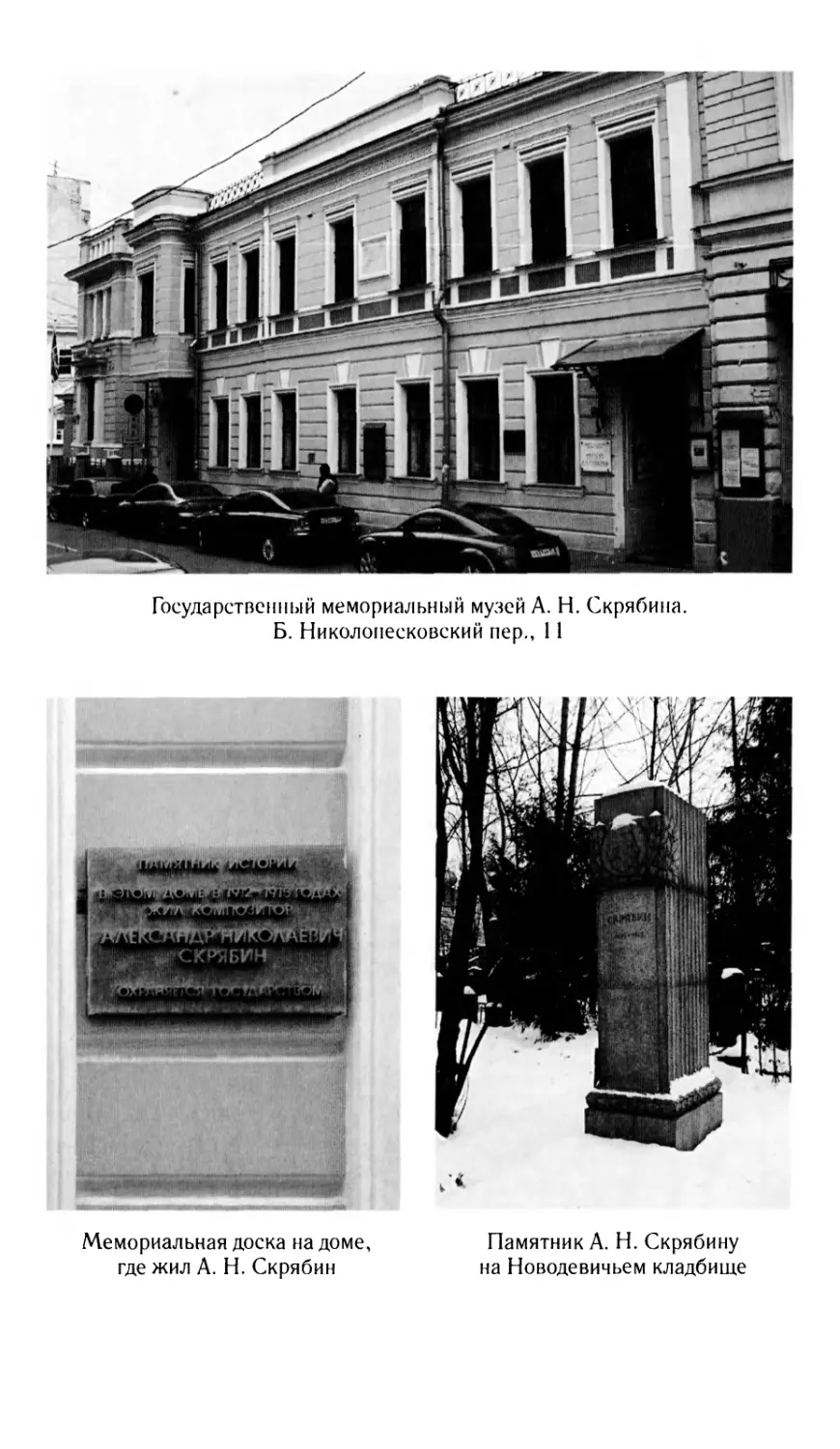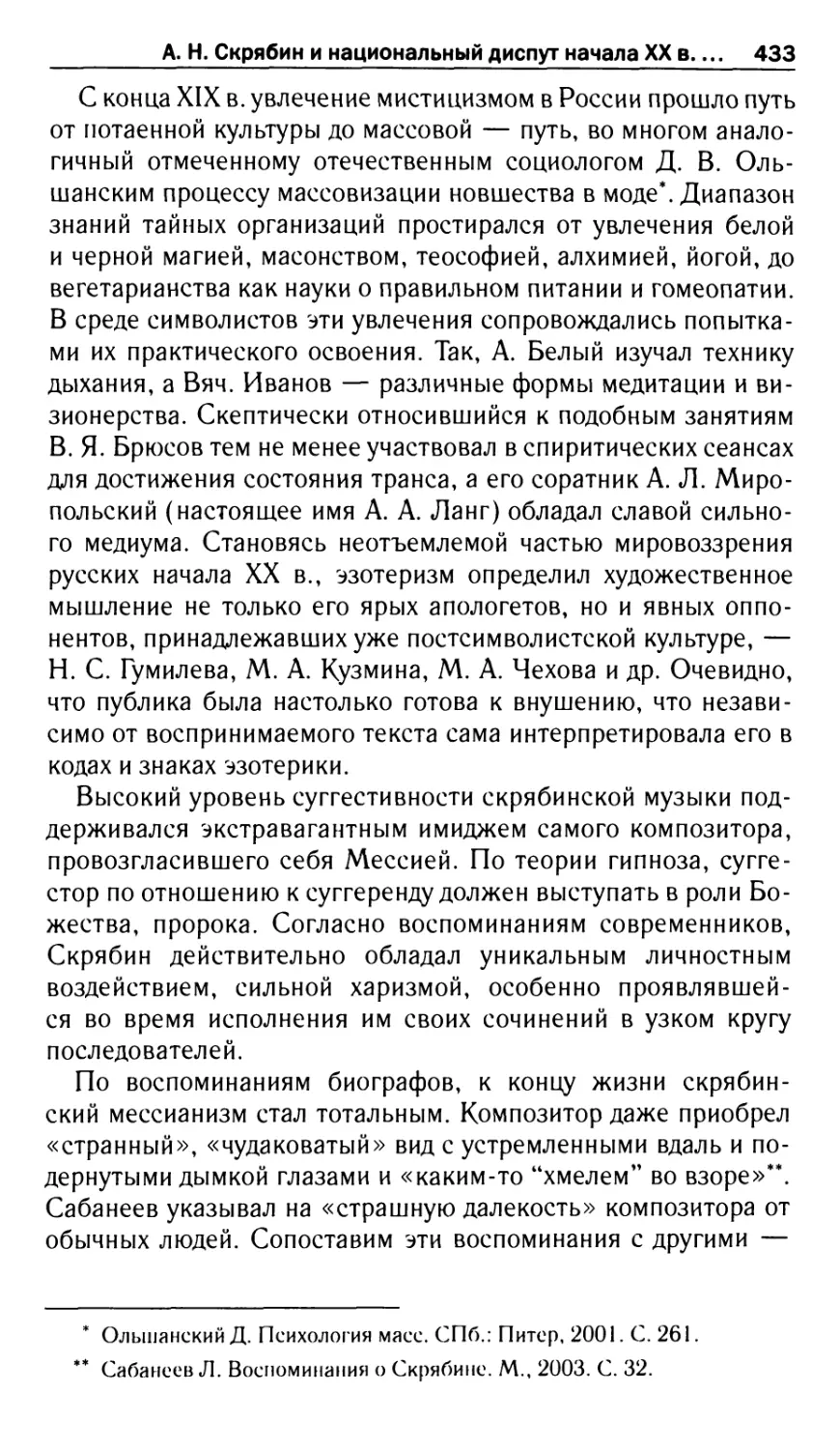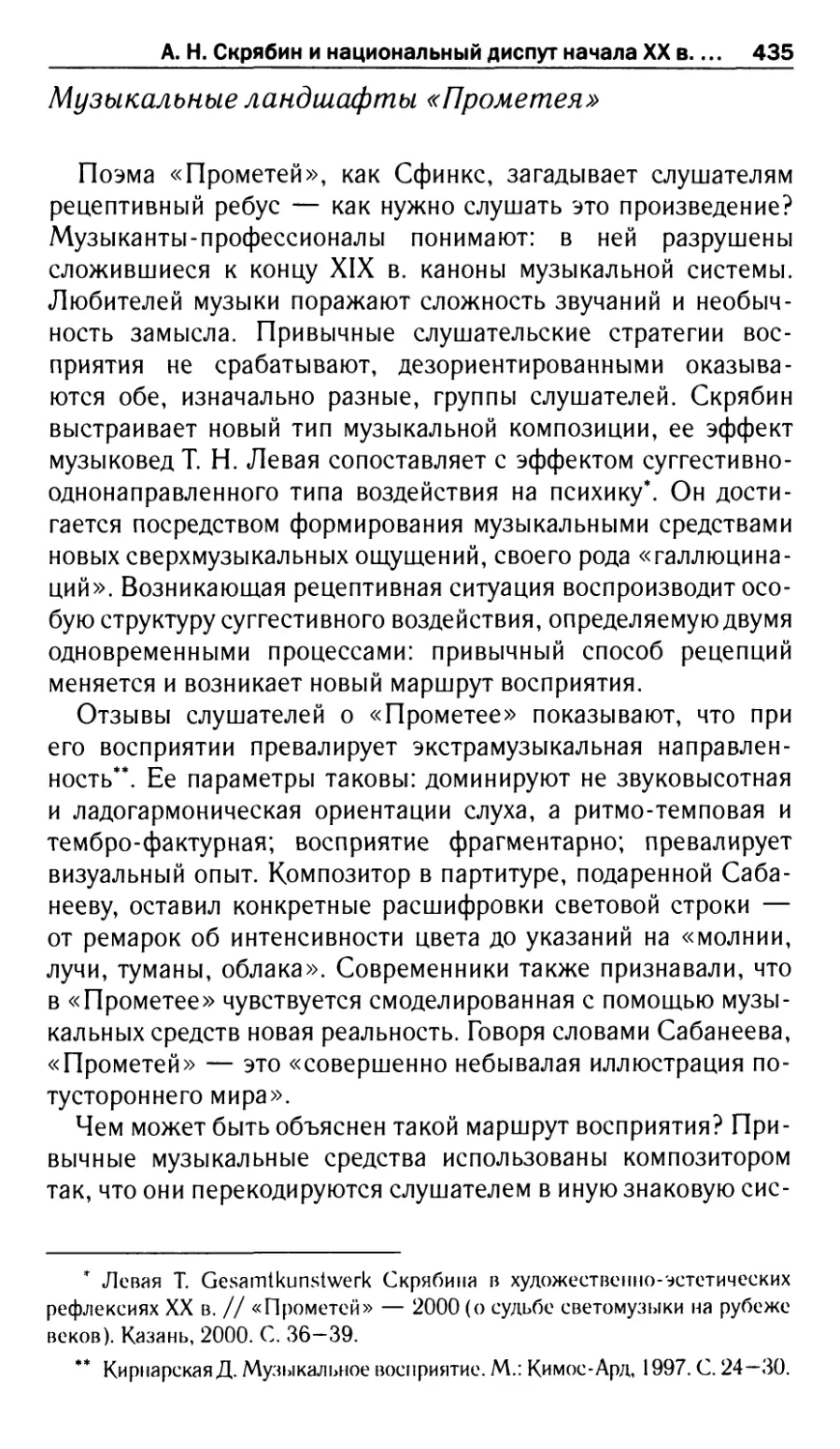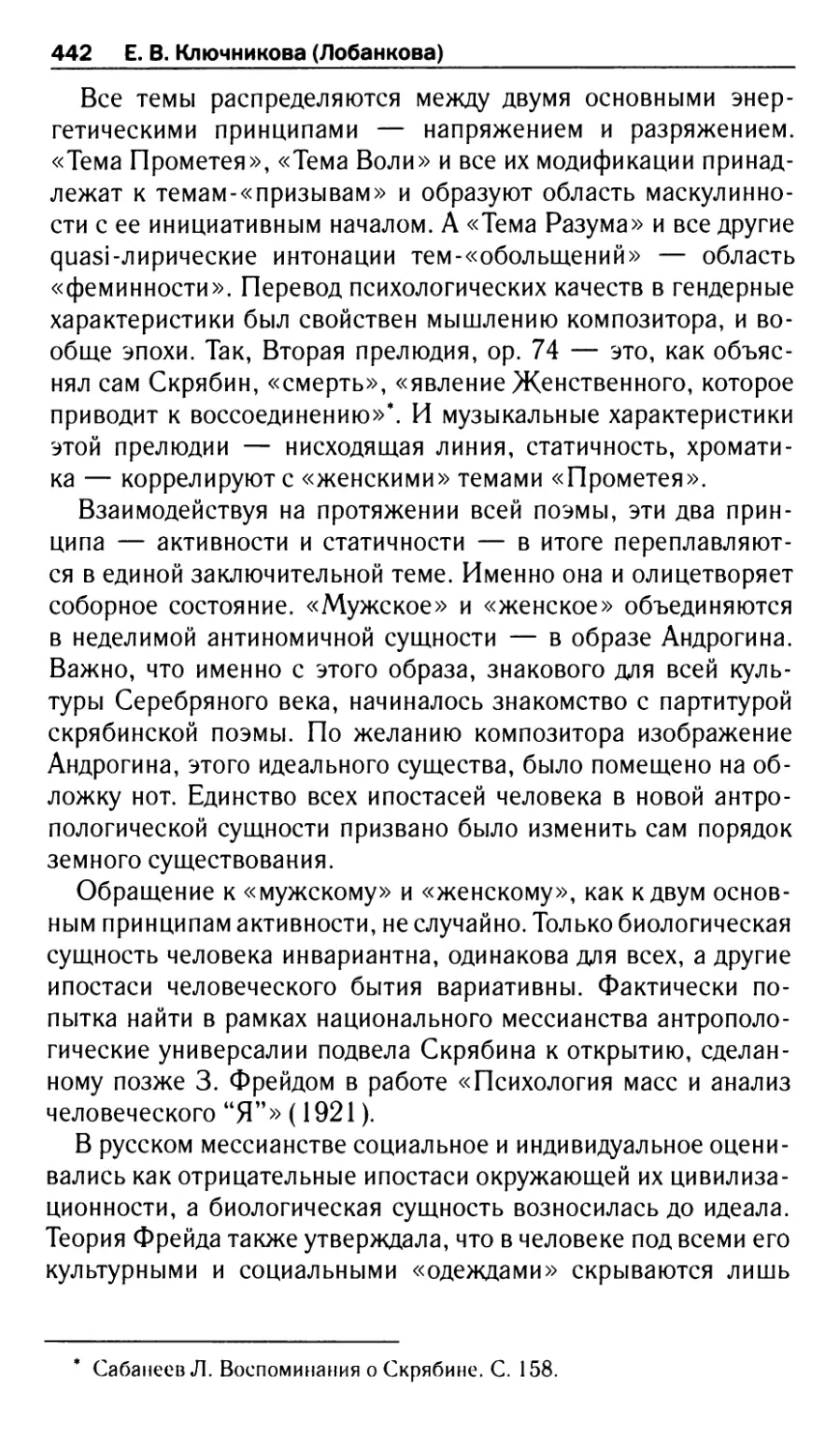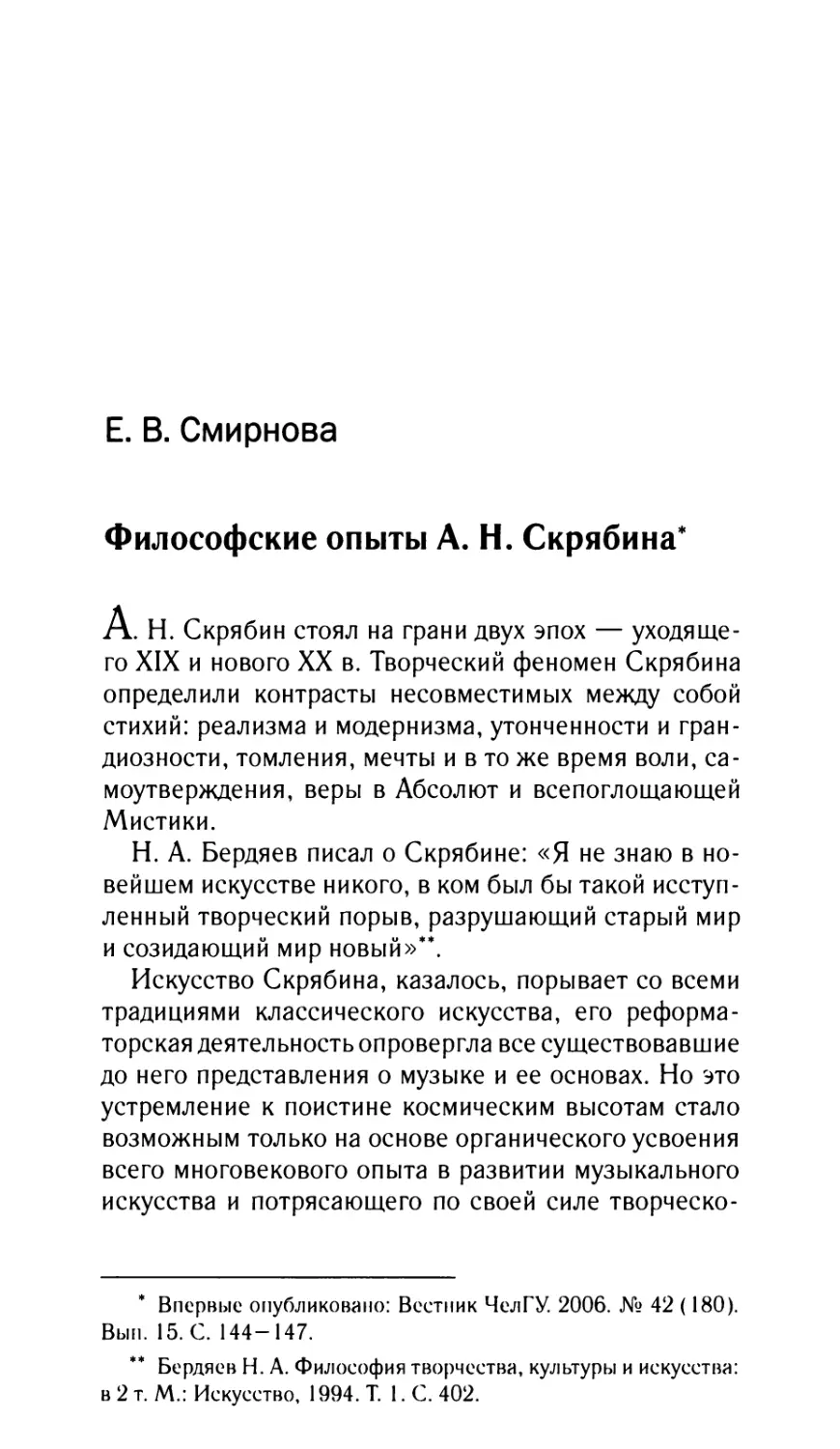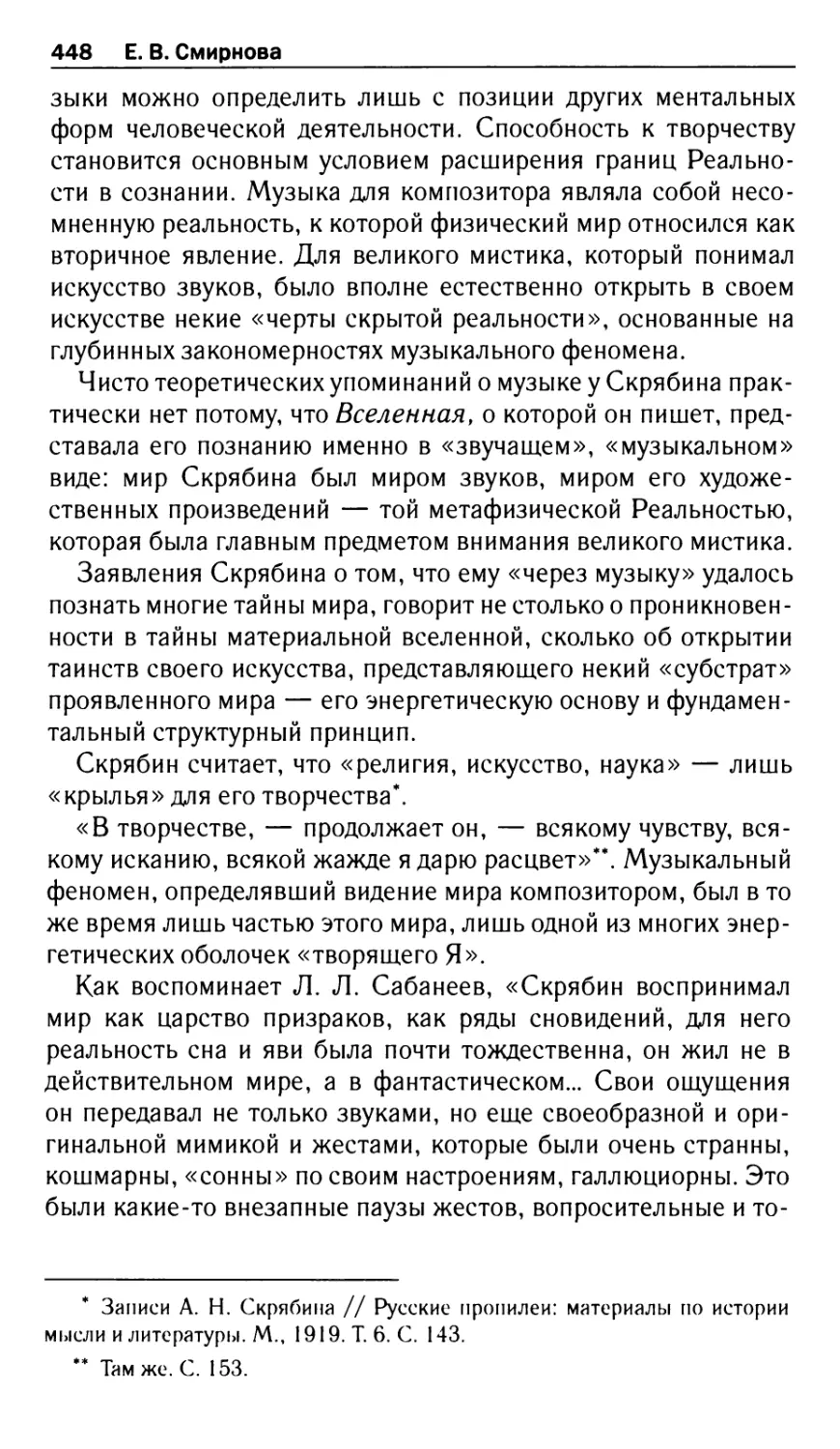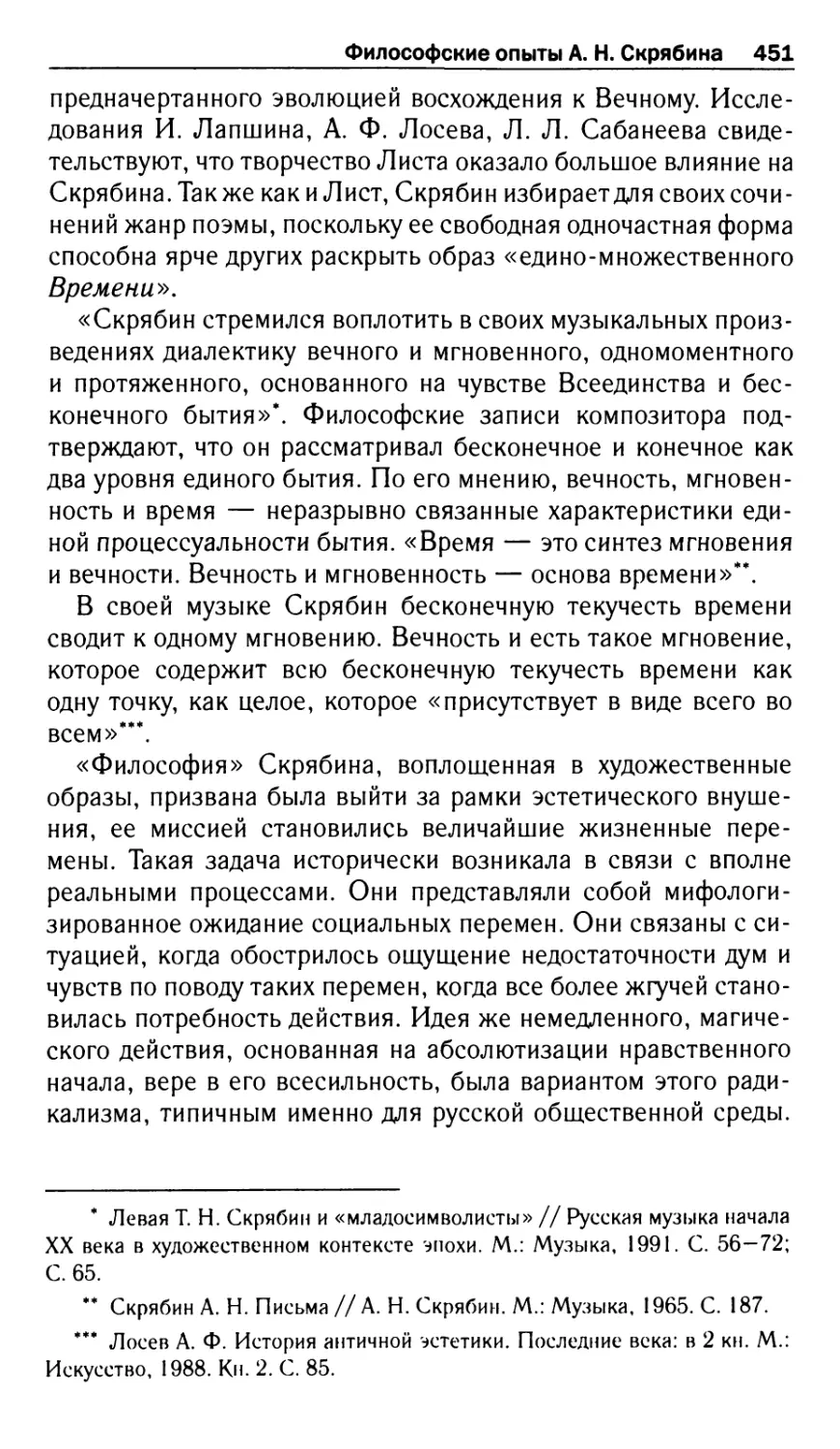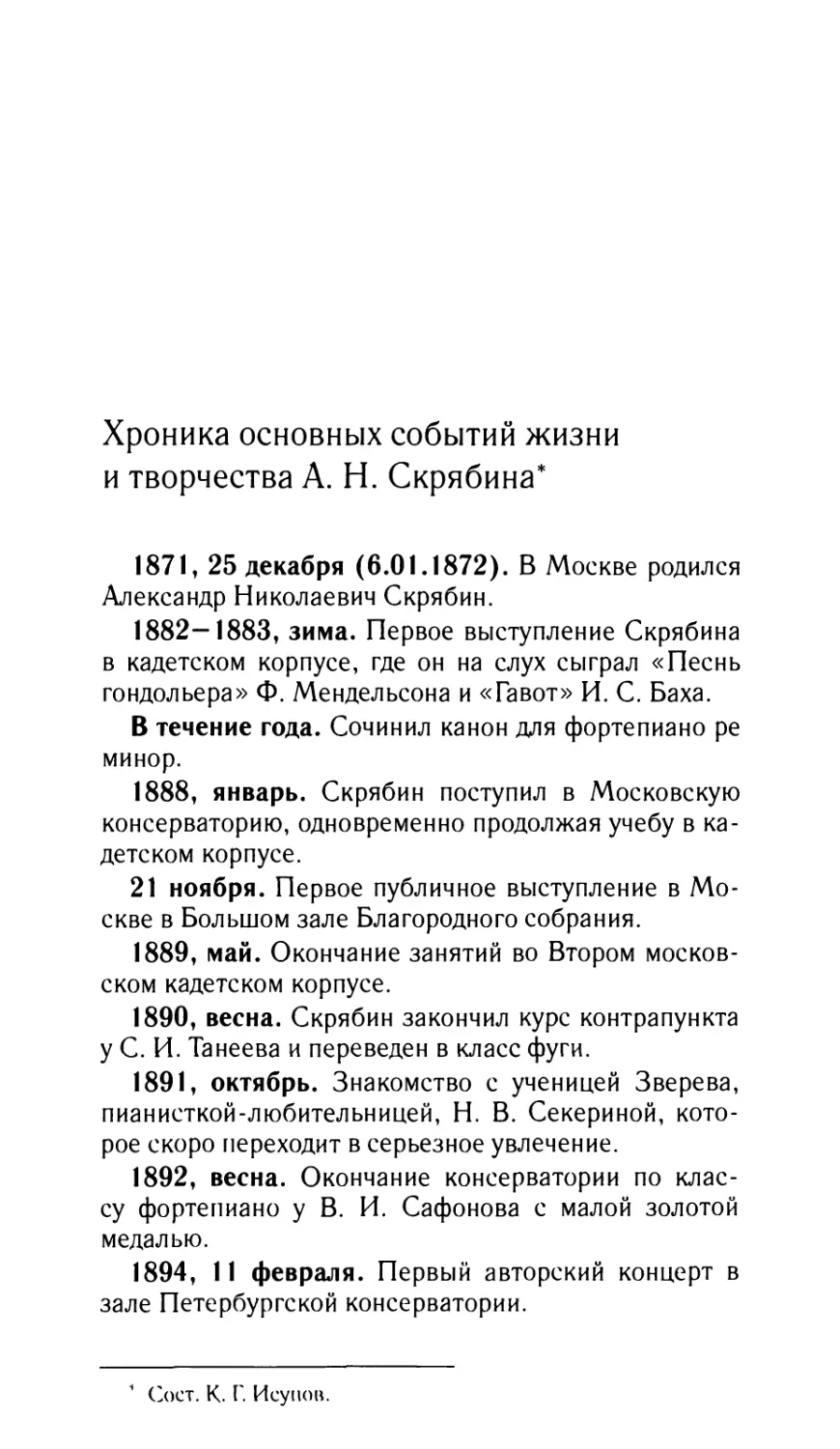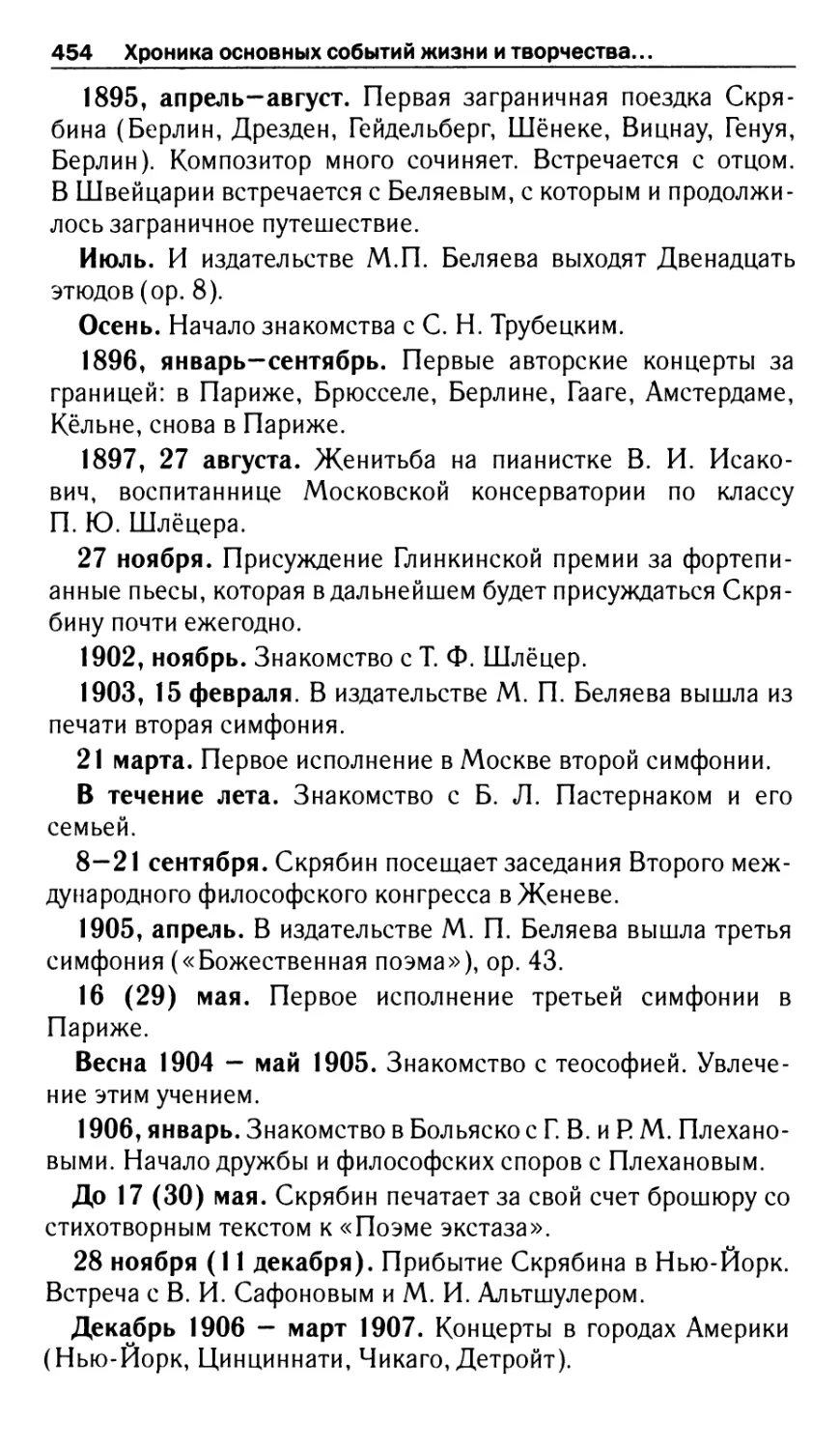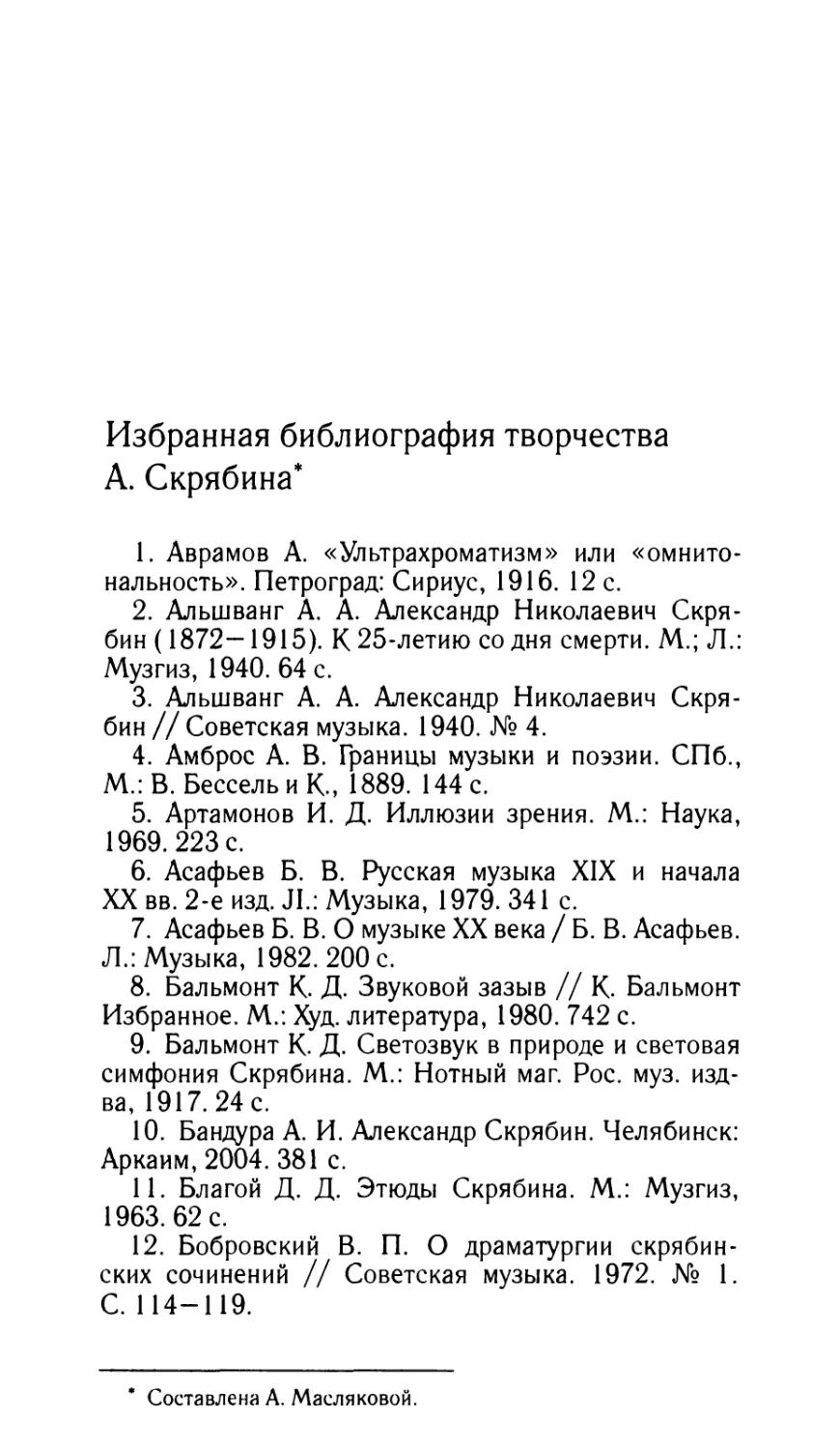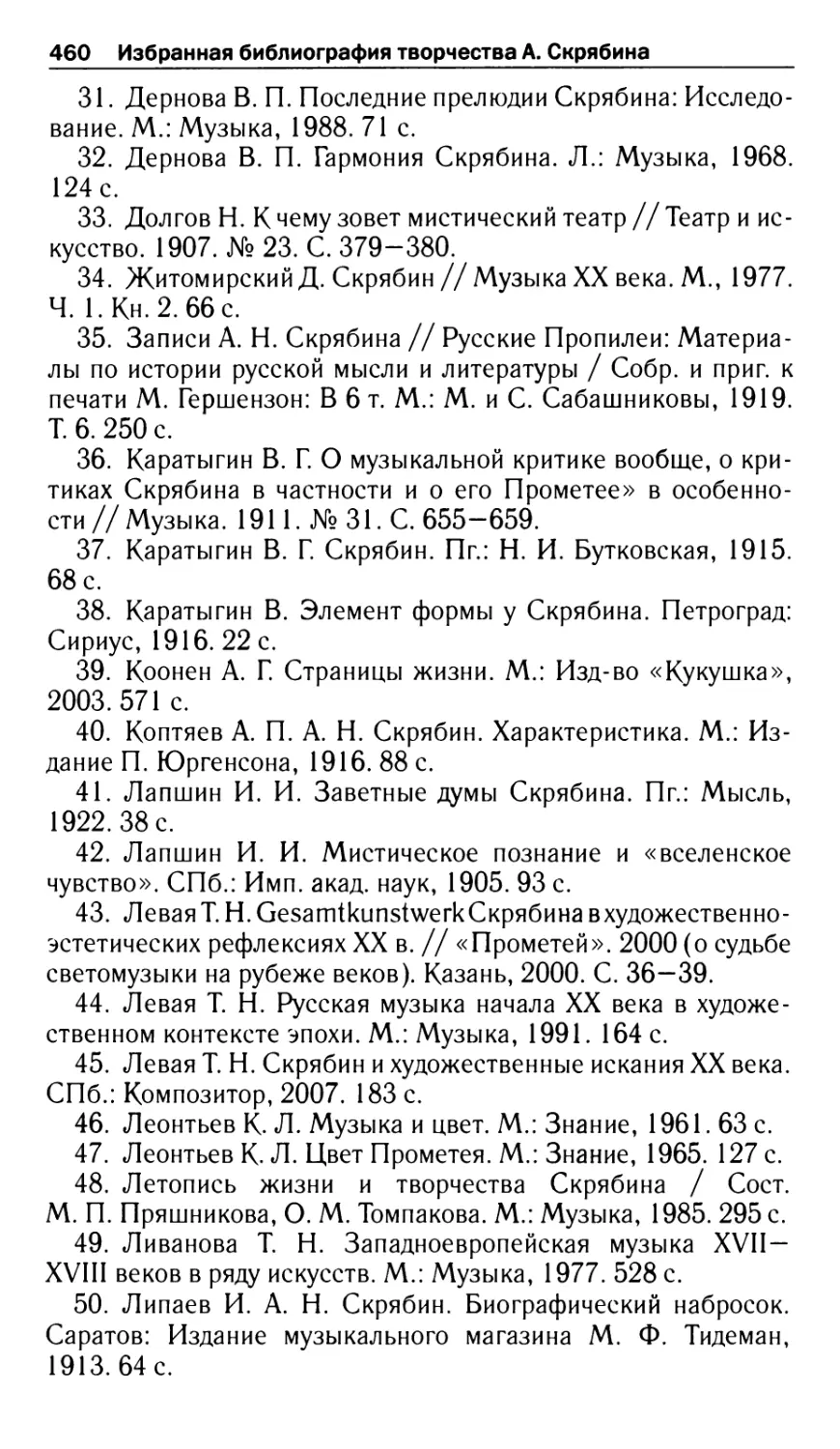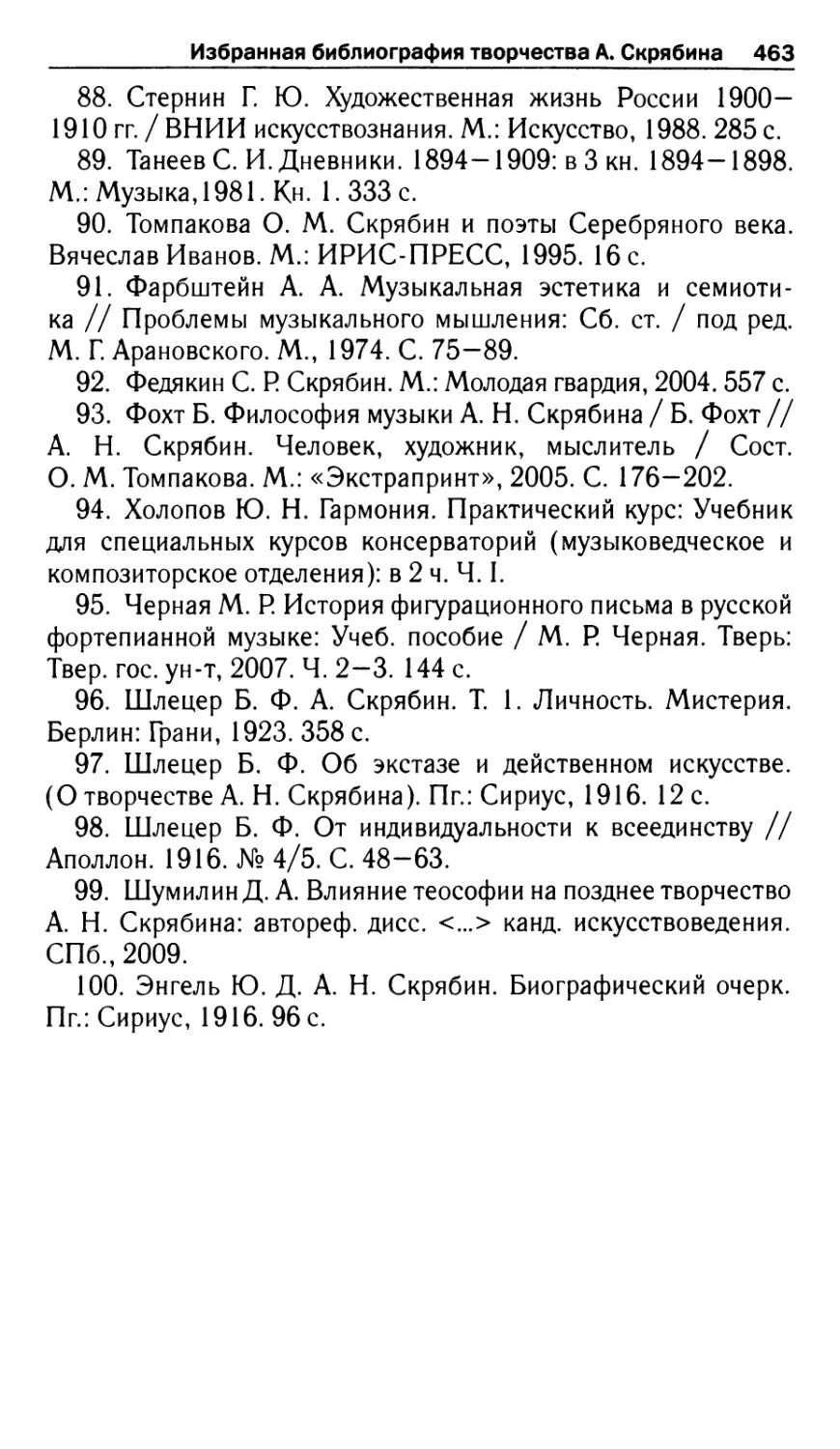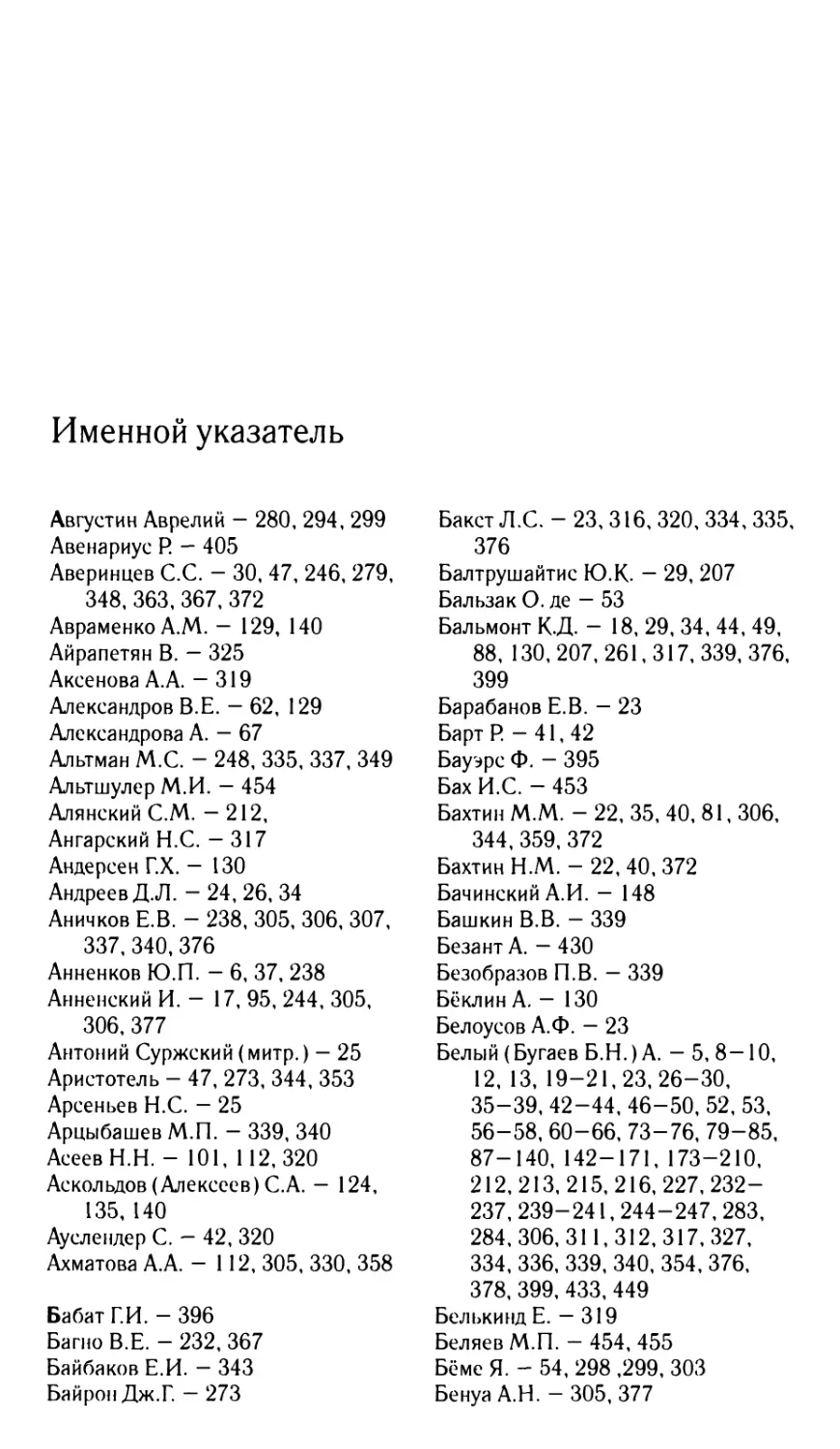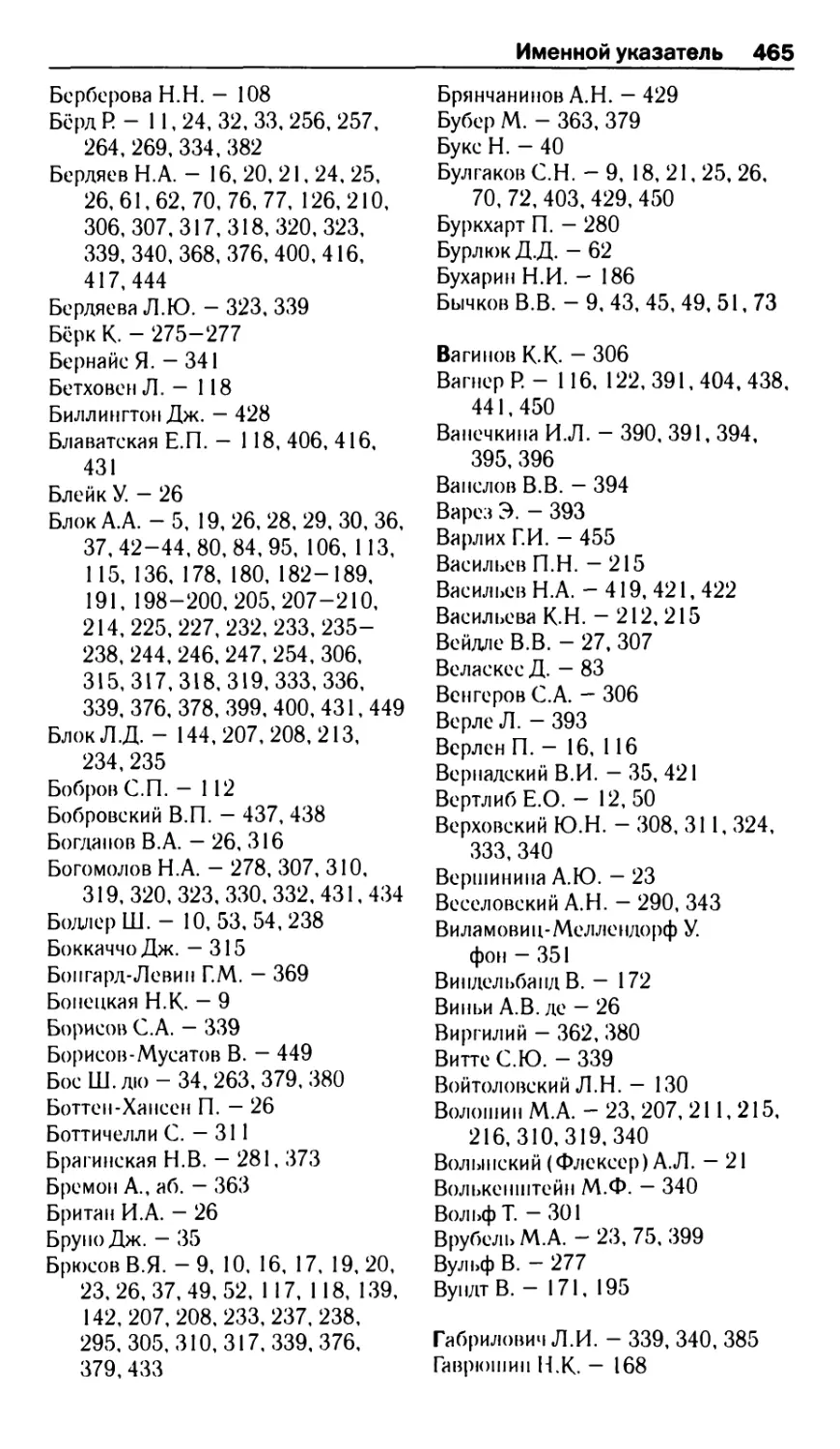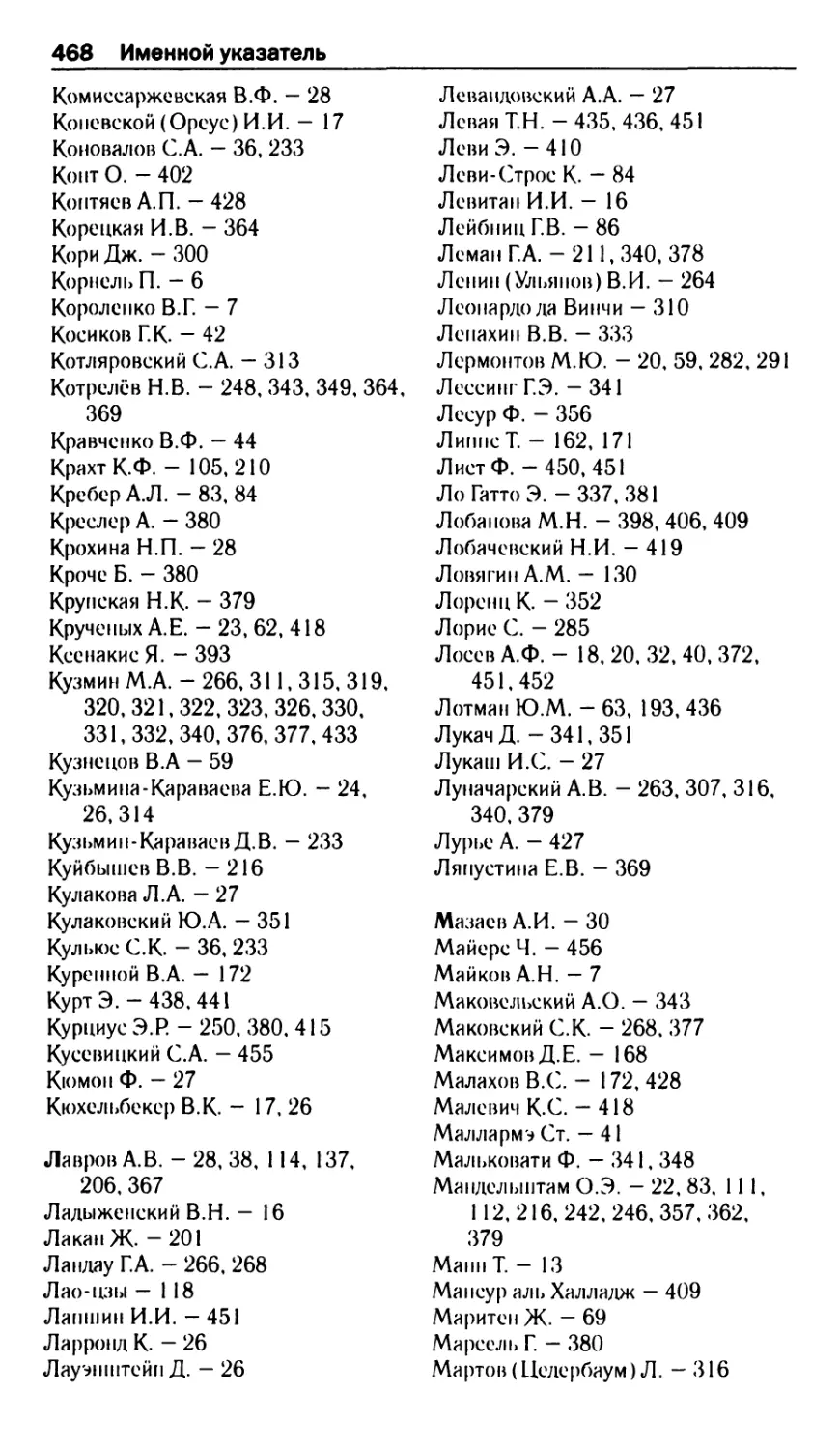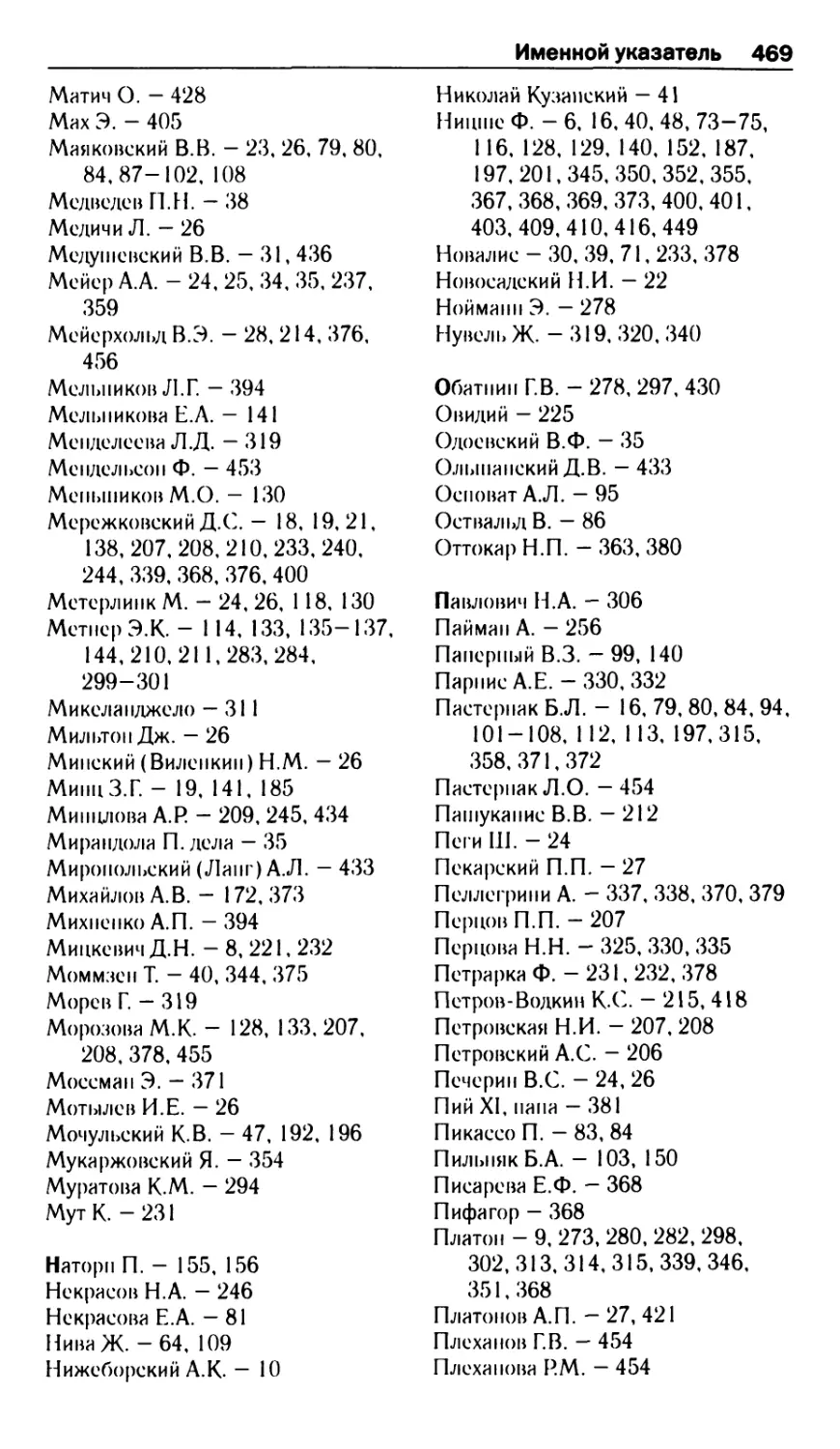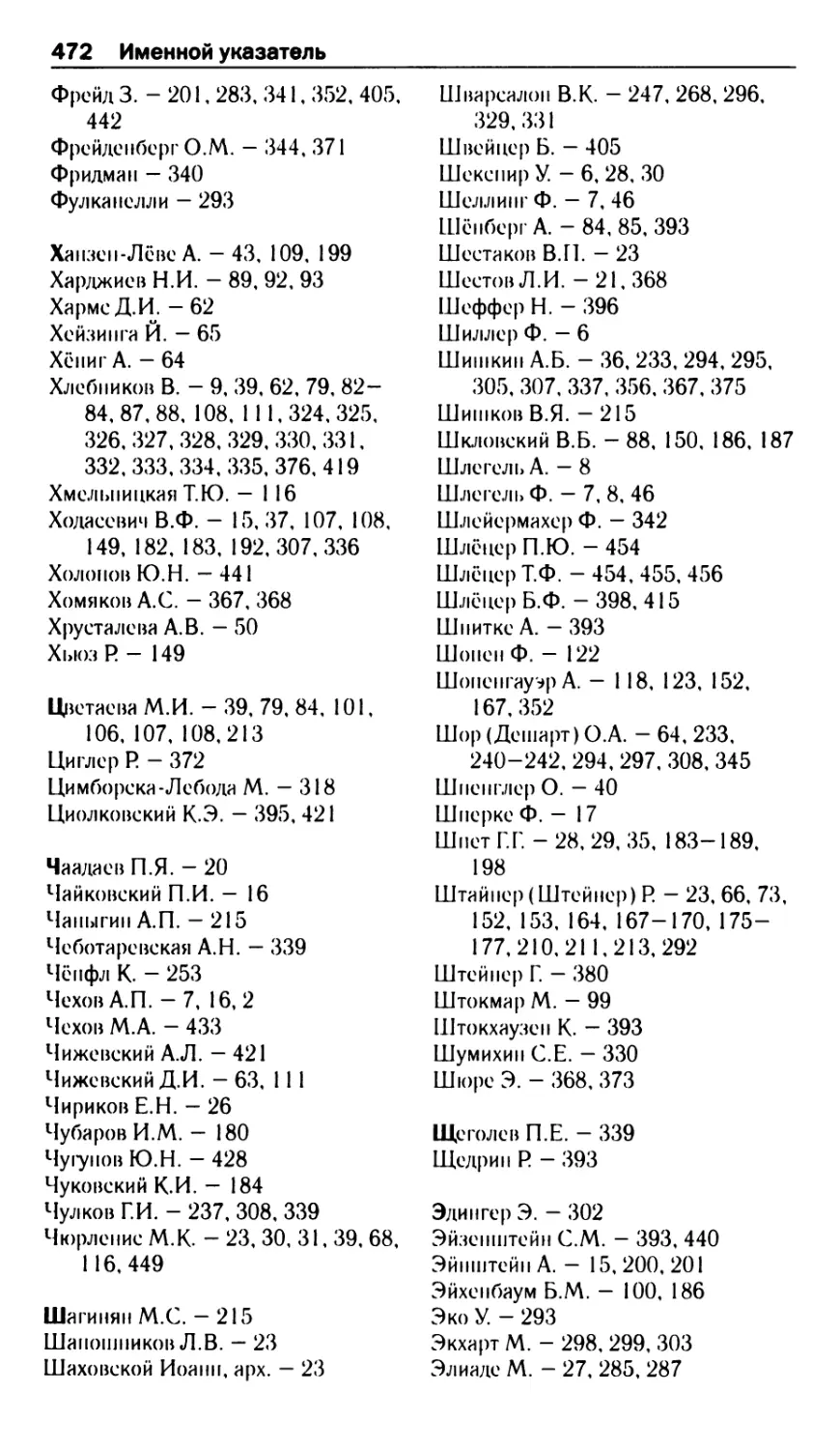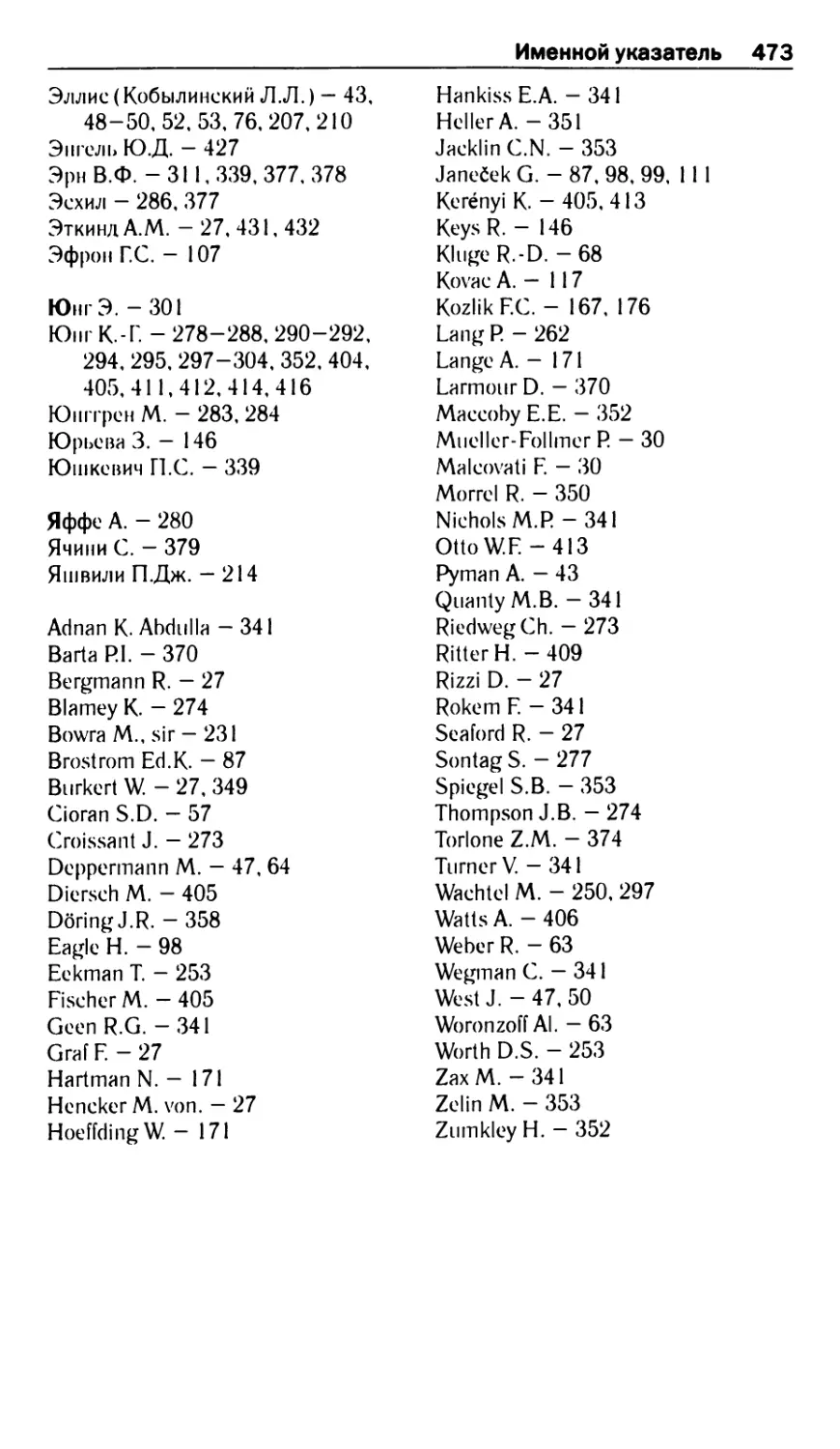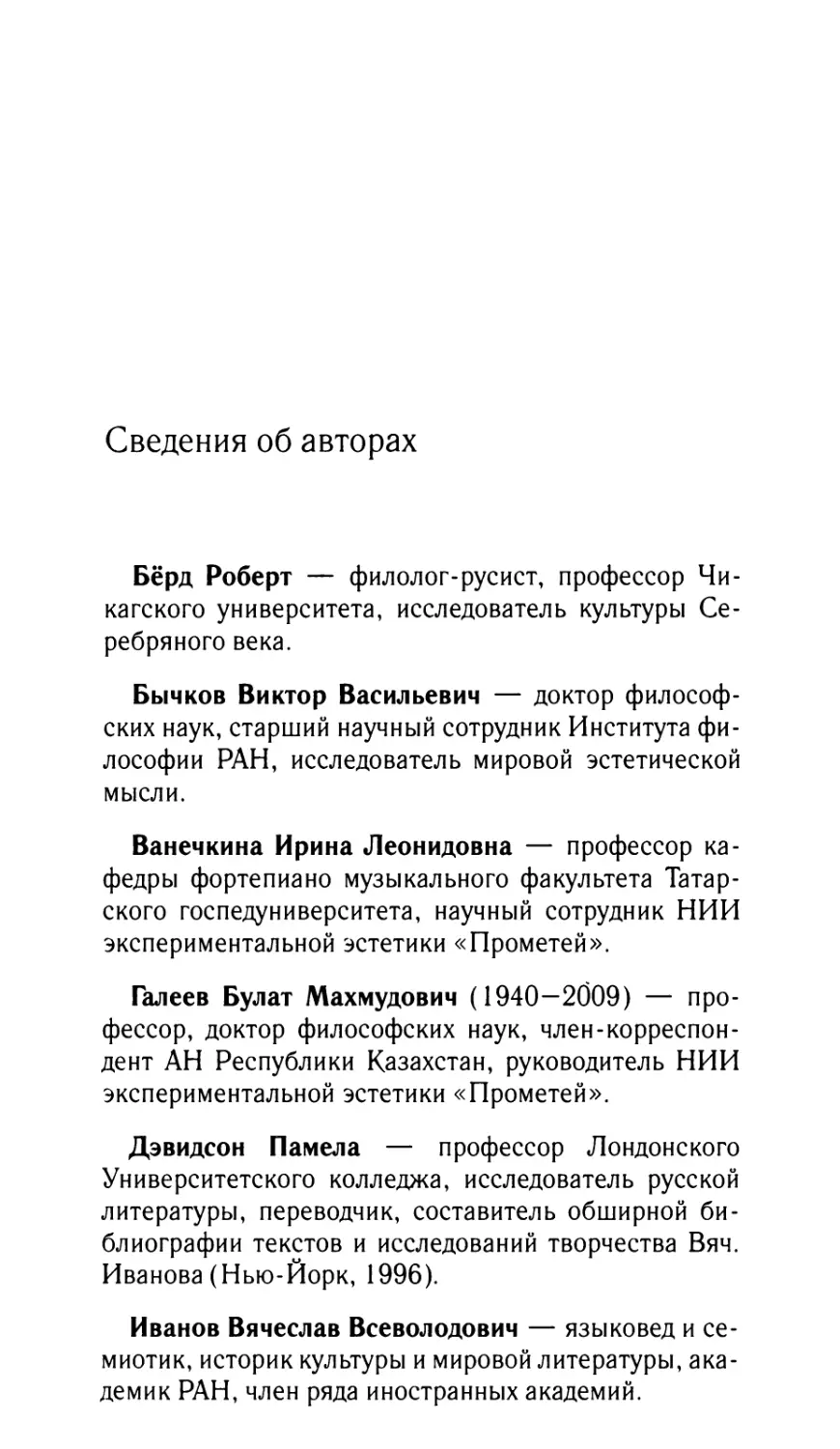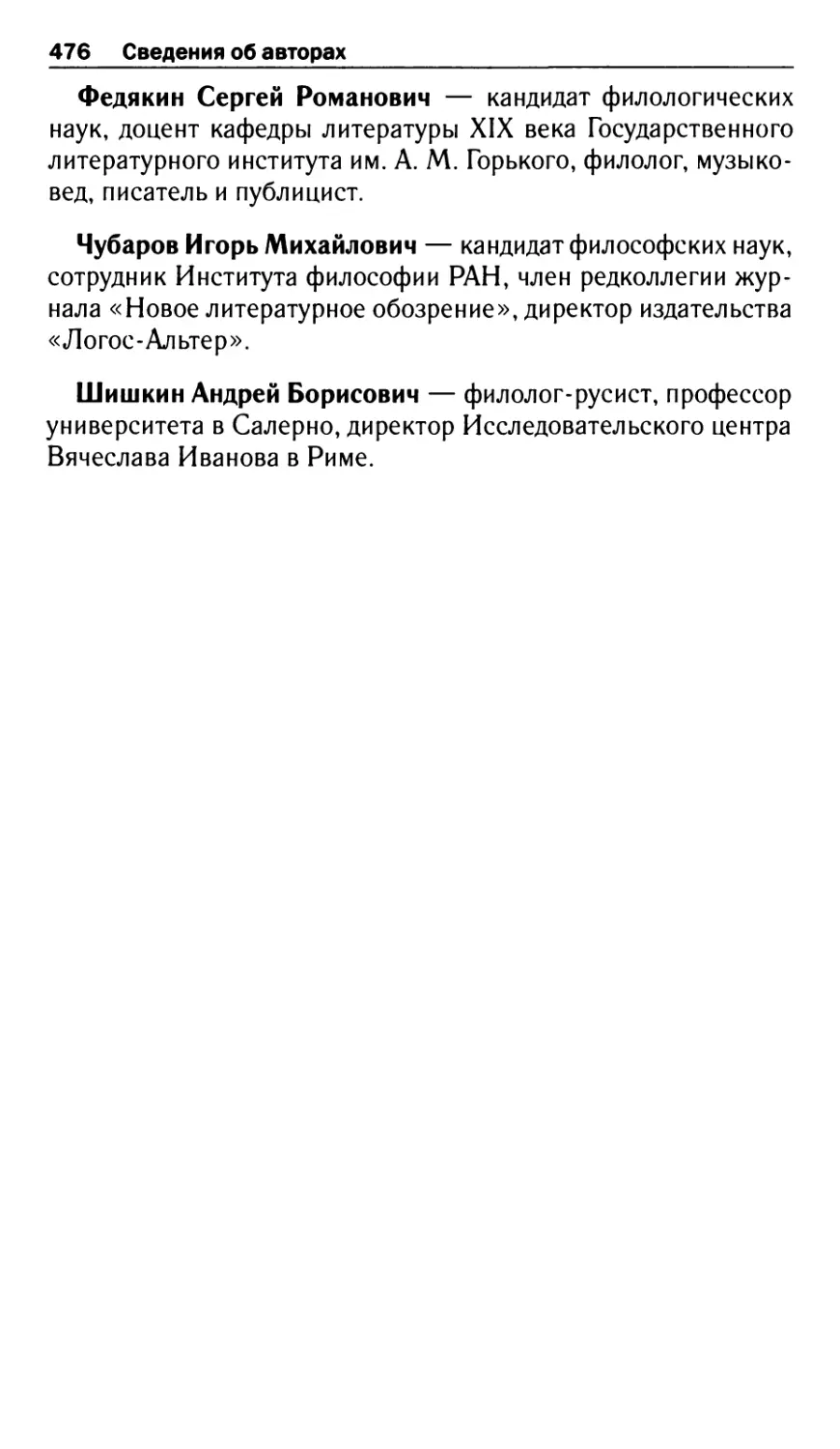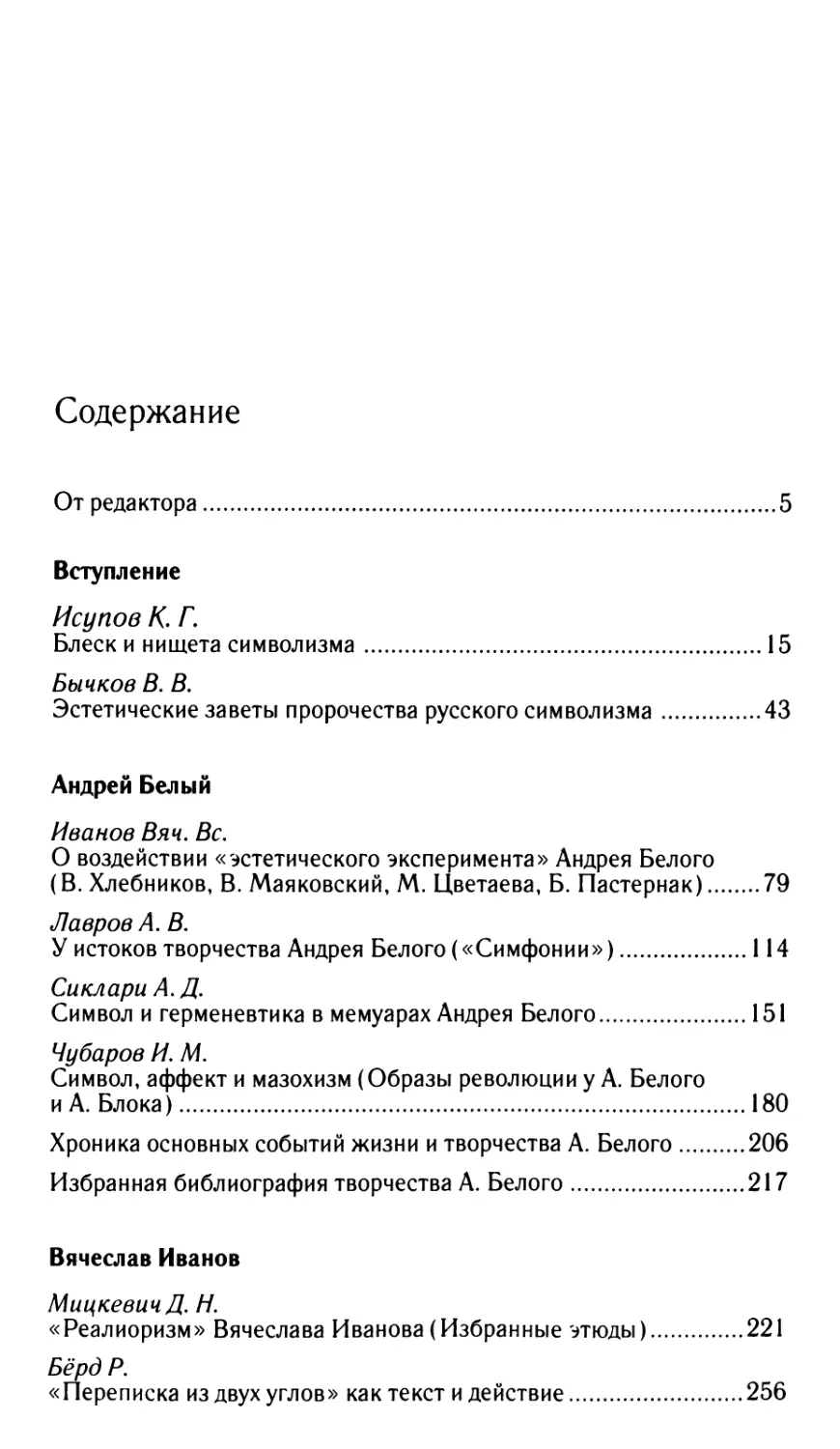Автор: Исупов К.Г.
Теги: философские системы и концепции история философии философия философия россии
ISBN: 978-5-8243-1746-6
Год: 2013
Текст
Институт философии РАН
Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»
ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
первой половины XX века
Редакционный совет:
В. С. Стёпин (председатель)
A. А. Гусейнов
B. А. Лекторский
Б. И. Пружинин
A. К. Сорокин
B. И. Толстых
П. Г. Щедровицкий
Главный редактор серии Б. И. Пружинин
РОССПЭН
Москва
2013
Институт философии РАН
Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»
ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
первой половины XX века
Философия
Литература
Искусство
Андрей Белый
Вячеслав Иванов
Александр Скрябин
Под редакцией К. Г. Исупова
Издание стало возможным благодаря
финансовой поддержке Фонда Олега Дерипаска
«Вольное Дело»
Философия. Литература. Искусство: Андрей Белый —
Вячеслав Иванов — Александр Скрябин / под ред. К. Г. Ису-
пова. — М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2013. — 479 с. : ил. - (Философия России
первой половины XX века).
ISBN 978-5-8243-1746-6
В том включены тексты современных исследований, в которых
иод разными углами зрения рассматриваются сложнейшие
концепты символизма — религиозно-художественного мышления,
сформировавшегося на рубеже XIX-XX вв. На трех фигурах Серебряного
века — Андрее Белом, Вячеславе Иванове и Александре Скрябине
сошлись основные события '^той литературно-эстетической школы.
Задача книги - ответить на вопрос: сбылись ли «заветы
символизма»; созвучны ли символисты ожиданиям читателей и слушателей
своего и нашего веков? Том содержит биобиблиографический и
иллюстративный материал. Издание адресуется не только
специалистам по культуре Серебряного века, но и всем, кому дорога
отечественная философия и литература.
ISBN 978-5-8243-1746-6 © Пружинин Б. И., общая редакция серии, 2013
© Исупов К. Г., составление и общая редакция
тома,2013
© Коллектив авторов, 2013
© Институт философии РАН, 2013
© Некоммерческий научный фонд «Институт
развития им. Г. П. Щедровицкого», 2013
© Российская политическая энциклопедия, 2013
От редактора
Серебряном веке и символистах написано так
много, что нет нужды утруждать читателя перечнем
исследований. Наша задача достаточно скромная —
ответить на вопросы: «Возможно ли на творчестве
трех великих современников прояснить сущностные
характеристики символистского опыта?»; «Что
обещал и к чему пришел символизм?»; «Чем помимо
естественного интереса мотивировано обостренное
внимание нашей современности к культурной работе
символистов?»
Ответ на каждый из этих вопросов мог бы стать
задачей объемной монографии. Нам же в рамках
вступительной заметки остаются лишь «некоторые
соображения» и «предварительные выводы».
Начнем с наличия давно установленной
преемственности классического романтизма и символизма.
На фоне таких фактов, что Блок ощущал себя
романтиком по преимуществу, а Белый — по преимуществу
символистом, этот контраст ровным счетом ничего не
значит пред значимостью третьего факта:
совместными усилиями романтиков и символистов были созданы
новаторские программы эстетического
преображения жизни. Осталось понять: осуществилась ли
продуктивная симметрия между посулами и искомыми
результатами?
Самоопределяясь внутри Бытия, романтики-
классики и символисты свершили примерно один и
тот же жест: отвернулись от эмпирического в пользу
трансцендентного. Но мотивы были противополож-
6 К. Г. Исупов
ные: романтики ушли от лжи поучающего театра, от
абстракций аллегорики и твердого жанрового устава классицизма, от
ходульных героев романа воспитания и от картезианского
пуританства XVIII в. Великая учительная литература просветителей
менее чем за век (а в России, по подсчетам Г. А. Гуковского, —
за 30 лет) исчерпала свои пропедевтические возможности и
скудную поэтику. Со стороны романтиков здесь сработало не
презрение детей к отцам, а законное разочарование в итогах
творческой работы старого поколения. Романтики не от
реальности отвернулись (она их изначально не интересовала), а от
образа ложной реальности. Если романтики боролись против
концепции «правильной реальности», то символистам
приелась пресловутая «беспощадная правда жизни» классического
реализма и опошлившего его натурализма. В эссе о Ю.
Анненкове Е. Замятин заметил: «Реализм видел мир простым
глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет, —
и символизм отвернулся от мира»*. Художественный реализм
классики Золотого века справедливо назвали критическим; три
«Критики» Канта знаменовали эпоху тотального недоверия
разуму и здравому смыслу.
Но имена Шиллера и Гёте, Корнеля и Расина сохранили
обаяние классики. С классикой не спорят, но если
невозможно встать выше нее, играя по ее правилам, значит — надо
менять правила. Что и было сделано. Классицизм в рамках своей
поэтики исчерпал ее; рационализм в философии и эстетике
дошел до предпоследнего края, чтобы провалиться в «Кантову»
яму априоризма и трансцендентализма. (Добавим в скобках:
поэтика классицизма осталась актуальной для прозы и
драматургии просветителей-реалистов, сатириков и натуралистов
60—90-х гг. XIX в.; В. В. Зеньковский назвал этот период не
слишком удачным термином «просвещенство».)
Дата смерти Канта — 1804 г. — столь же символична, как
дата смерти Шекспира и Сервантеса: 1616 г. (в один месяц и
даже в один день).
Но еще более символична дата: 1900 год, — мир покинули
Оскар Уайльд, Фридрих Ницше и Владимир Соловьев. Но эти
трое успели сделать все, чтобы символизм обрел питательную
Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: в 2 т. Л.:
Искусство, 1991. Т. 2. С. 11.
От редактора 7
почву для собственных мировоззренческих новаций: первый
показал относительность нравственных норм и соблазны
эстетизма; второй поразил современников трагическими позами
нового сократизма; третий в возрасте двадцати двух лет
блестяще защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной
философии. Против позитивистов» (1874) в Петербурге на
философском факультете, битком набитом позитивистами.
В кризисе на исходе века обреталась не только философия.
Письмо и большие жанры классического реализма
умельчаются в народнической беллетристике; в опытах авангарда рухнули
испытанные временем каноны живописи, классический мэлос,
поэтическая метрика и театр добротного натурализма. Нет
более странного зрелища, чем соприсутствие в рамках общей
эпохи символистов, Чехова, А. Майкова, Л. Толстого и В.
Короленко. Это как если бы Александр Петрович Сумароков
шагнул вдруг в комнату под сводами того дома в Ясной Поляне, где
шесть лет писалась «Война и мир».
Символизм определял свои задачи вусловиях, когда не только
эстетические реальности изящных искусств подвергаются
испытаниюпоновым правилам генерирования итрансформации,
но социальная онтология, т. е. сама повседневность, утратившая
привычные аспекты живой жизни, нуждалась в решительной
перестройке. Символисты убедились, что в их руках имеется
инструментарий жизнетворчества, которое может, конечно,
выглядеть эстетской программой, но может и лечь в основание
того рода онтологической активности, которую Шеллинг
называл «конструированием». Если не ассоциировать это
слово с конструктивизмом 1910—1920 гг. и не связывать
«Башню» Татлина (1919-1920) с Башней Вяч. Иванова, то
«конструирование» (как равно и «продуцирование»)останется
в чистоте шеллингианского контекста, знакомого нам по
«Философии искусства» (впервые: англ. изд. — 1845).
Этой простенькой аналогией мы подчеркнем не близость
креативных программ классического романтизма и символизма, но
различие: романтики не собирались вмешиваться в жизнь, их
устраивало то ощущение, что человек-поэт живет внутри
романа. Прямо сказано Фридрихом Шлегелем во «Фрагментах»
( 1798): «Каждый человек <...> в душе своей содержит роман.
Однако вовсе не нужно, чтобы этот роман получил
выражение вовне и чтобы он был написан». «Роман» как внутренняя
8 К. Г. Исупов
форма души понят йенским романтиком по аналогии с
«потусторонним», коль скоро, по слову старшего брата Фридриха —
Августа Шлегеля, «только в потустороннем мире встала заря
истинного существования»*.
Позиция символизма прямо противоположна:
символическая реальность как раз призвана к «выражению вовне»: она
либо замещает реальность, либо сама обретает статус
«наиреальнейшей» («реалиора» Вяч. Иванова*"). Условной
онтологии символа делегированы параметры и качества Бытия «как
такового», т. е. безусловного. «Называя Символ безусловным,
мы легко отождествляем безусловное с божеством; в понятии
о Символе мы самое божество обусловливаем символами».
Это тезис из «Эмблематики смысла» (1910) Белого снабжен
в § 19 перечнем свойств и функций символа из двадцати трех
пунктов.
Смыслопорождающая функция символа напрямую
соотнесена с бытийным самовоспроизводством Натуры.
«Символы, — писал Белый в 1920 г. в статье "Кризис культуры", —
формируют природу души, чтобы некогда формировать чрез
душу иную природу материи»***.
Пока Андрей Белый встраивал в свои концепции символа
методологии естественных наук; пропагандировал теорию мно-
Цит. по изд.: История эстетики. Памятники мировой эстетической
мысли: в 5 т. М.: Искусство, 1967. Т. 3. С. 254, 264.
Мицкевич Д. Н. «Реалиора» Вячеслава Иванова // Христианство и
русская литература. Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических
традиций в русской мысли и литературе. СПб.: Наука, 2010. Сборник шестой.
С. 254-342.
Белый Андрей. Символизм как миро[1онимание/Сост.,вступ. ст. и прим.
Л. А. Сугай. М.: Республика, 1994. С. 75,289. Далее маркируем этот источник
как СКМ и указываем стр. Ивановская формула «нового символического
реализма» выведена Белым в статье «Символизм и современное русское
искусство» (1908): «Итак: 1 ) утверждается мифом религиозная сущность
искусства; 2)утверждается происхождение мифа и;*символа; 3) прогревается
в современной драме заря нового мифотворчества; 4) утверждается новый
символический реализм; 5) утверждается новое народничество». (Там же.
С. 344.) В торопливых, как всегда, выводах Белого пункт второй спорен и
может быть трактован инверсивно (не «миф из символа», но и «символ из
мифа»), а второй очень скоро окажется неактуальным: Белый под «новым
народничеством» имел в виду идеологию мистического анархизма, от которой
Иванов быстро открестился.
От редактора 9
жеств Георга Кантора (разделяя это увлекательное занятие с
о. Павлом Флоренским); инкрустировал свои эссе схемами,
чертежами и формулами, Вяч. Иванов создавал мифопоэти-
ческую и обрядово-мистериальную философию символа и
настаивал на той мысли, что внутри искусства должна вырасти
религия нового, обновленного тина на основе эстетической
экумении (точка совпадения с высоко ценимым им В.
Хлебниковым и момент раздора с Брюсовым).
Как ни пытался Белый универсализовать понятие
символа, он так и остался на позиции столь презираемого им
позитивистского гносеологизма*. Он и сам достаточно отчетливо
сформулировал постоянство своей символо-логической
позиции в исповедальном мемуаре 1928 г.: «Устремление мое
написать "Теорию символизма" в серьезном
гносеологическом ключе»; «стоя на платформе "критицизм плюс
символизм", я всемерно поддерживал значимость теоретико-
познавательной позиции» (СКМ, 452). Способность Белого
простые вещи зашифровать плоским эвфемизмом
производит иногда комическое впечатление; название первого
стихотворного сборника 1906 г.: «Золото в лазури» — можно
понять в контексте иконной цветовой символики, хотя на
самом деле имелась в виду всего-то пшеница на фоне неба.
Символы Белого есть указания и знаки-намеки, т. е.
отражения по преимуществу, а не субстантные существа В.
Соловьева, Иванова и о. Павла Флоренского («Символизм как
миропонимание», 1905). Там, где у Белого «символ»
непременно подразумевает дополнение в родительном падеже
(«символ чего-то») и в этом простейшем грамматическом
смысле заменяет словарную модальность окказионально-
авторской, то «символ» Иванова не только самозаконный и
смыслоозаренный «эдос» Платона (а также порождающая
модель «возможных миров»), но и тонкоматериальное
«существо», ософиенная духовная телесность (не совсем
неожиданная точка совпадения с неоправославной эстетикой
о. Сергия Булгакова**).
«Отцы большинства символистов — образованные позитивисты» //
(Белый А. На рубеже веков. М.: Худ-лит, 1989. С. 203).
См.: Бонецкая Н. К. Русский Фауст и русский Вагнер // Вопросы
философии. 1999. № 4. С. 120-138; Бычков В. В. Введение в софийную
10 К. Г. Исупов
Позиция Белого, как и Брюсова, предполагала
установку на узнавание («чтение») априорно заданной органической
символики и присвоение этих гносеологических трофеев на
языке соответствий (ср. «Correspondances» Ш. Бодлера; над
этим текстом смеялся В. Соловьев, — и напрасно!). Гносео-
логизму Белого и Брюсова* продуктивно противостояла мифо-
теургическая концепция Вяч. Иванова. Учтем относительность
этой антитезы: символисты — сплошь «теурги», «жрецы»,
«маги» и «мистагоги», но мотивировались эти типы
самоощущения по-разному.
В феврале — начале марта 1904 г. состоялся чрезвычайно
знаменательный эпистолярный диалог В. Брюсова и Вяч.
Иванова. Речь идет о мифотворении. Первый говорит своему
корреспонденту: «Я лично очень разделяю ваше мнение, что поэт
должен стать мифотворцем, что символизм — путь к
мифотворчеству <...>»**. Ответная реплика Иванова корректно
разграничивает служебные применения символа Брюсовым в качестве
средства познания (гносеология) и свое понимание символа
как самозаконной реальности высшего порядка (онтология):
«Я очень обрадовался нашим единодушием в вопросе о
мифотворчестве. Но мое отношение к "ключам тайн" я указываю
словами, что они "прежде всего" ключи к тайникам народной —
мифородной — души. Быть может, объем понятия "ключи тайн"
эстетику С. Н. Булгакова // Русское богословие в европейском контексте;
С. Н. Булгаков и западная философско-религиозная мысль / под ред.
B. Поруса. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.
C. 267-277.
Нижеборский А. К. Проблема символа в гносеологии русского
символизма (А. Белый и В. Брюсов): Автореф. дисс. <...> канд. филол. наук.
М., 1982; Сиклари А. Д. Миф и символ — Андрей Белый и Вячеслав Иванов//
Russischer Dichter — europä — ischer Kultur — philosoph Beiträge des
IV Internationalen. Vjaôeslav Ivanov Simposiums, Heildeiberg 4—10 Septenber,
1989. Heildeiberg, 1993. R 314-325; Mnich Roman. Категория символа и
библейская символика в поэзии XX века. Люблин, 2002.
Литературное наследство. М.: Наука, 1976. Т. 75. Валерий Брюсов.
С. 446. Комментаторы указывают, что Брюсов «ссылается на заключительные
положения статьи Иванова "Поэт и Чернь": "Мы идем тропой символа к мифу.
Большое искусство — искусство мифотворческое. Из символа вырастет
искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие
имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского"
(Весы. 1904. № 3. С. 8)». (Там же.)
От редактора 11
шире, чем "мифотворчество". Разница в наших взглядах все же
есть, внутренняя и существенная. "Ключи тайн" предполагают
как тайну некоторую истину — объект познания.
Мифотворчество само налагает свою истину; соответствия же ее
объективной сущности вещей вовсе не испытует. Оно воплощает
постулаты сознания и, утверждая, творит. Поэтому искусство
для меня преимущественно творчество, если хотите —
миротворчество — нет самоутверждения и воли, — действие, а не
познание (такова и вера), не "reine willenlose Anschaung"
(чистое, безвольное созерцание. — К. И.), а "творца безвольный
произвол", дело лично-безвольного, вселенского воления»*.
В статье «Две стихии в современном символизме» (1908)
Ивановым введена дихотомия символизма «реалистического»
(для которого символ есть самоцель и инструмент познания,
ясновидение вещей в мифе и соборном лицезрении
объективной сущности) и «идеалистического» (для которого символ есть
средство заражения субъективным переживанием); симпатии
автора на стороне символизма первого типа, поскольку в нем
возможен мистический прорыв к «реальнейшему»:
божественному Эросу и объективной правде о Сущем, т. е. к мифу.
Для Иванова поэзия («литература») должна быть наделена
неким эстетическим обетованием катарсиса; в качестве такового
выступает дремлющая в ней память пра-мифа и опыт его
разверток в обрядовых практиках древности. В образном теле символа
есть имманентный ему топос пересечения мимесиса
(подражания) и праксиса (действия). В этом смысле, как говорит
американский исследователь, «символ — миметическое исполнение
трансцендентного события, но и телесно-физическое, "перфор-
мативное" изображение этого события. Таким образом, можно
воссоздать понятие идеального лирического
("дифирамбического") произведения у Вяч. Иванова — миметическое исполнение
страстей, оказывающее очистительное воздействие на сознание
зрителя, создающее символ трансцендентного события, и
обновляющее религиозный обряддля определенной общины»**.
* Там же. С. 447. В центре шопенгауэровски окрашенного рассуждения
Вяч. Иванова — цитата из его стихотворения «Творчество» ( 1902).
** БёрдР Обряди миф в поздней лирике Вяч. Иванова (О стихотворении
«Милы сретенские свечи...»)// Вячеслав Иванов — Петербург — мировая
культура. Томск; М.: Водолей Publishers, 2003. С. 182.
12 К. Г. Исупов
«Символ» символистов* — не только живой элемент
1 ) мышления (гносеология); 2) письма (текст); 3) творческого
поведения (быта; аргументивных инструментов полемики;
способа видения и даже генератора сновидений); 4) картины мира
и итогов теургических сублимаций realiora из realia (онтология );
5) образной структуры со статусом автономного целеполагания
(эстетическая монадология); 6)фактологогии наследной
памяти (культурфилософия); 7) списка решений для внутреннего
нравственного путеводителя (практическая этика).
«Символ» как слово, понятие и термин расширил свои
таксономические полномочия и взял на себя функцию метатерми-
на с обменом ее на право быть «просто символом». В книге
«Дионис и прадионисийство» «Аполлон» может выступить
элементом языка описания (метатермином) для «Диониса», и
наоборот; в художественном тексте эта операция обмена
принимает вид амбивалентного сопряжения семантических полей
«Аполлона» и «Диониса».
Иначе говоря, на уровне самоуяснения «символ» и «миф»
берут на себя роль самоопознавания текста, а в тексте
(например, Достоевского в трактовке Иванова) — самосознания «я»
героя и позиции автора. Созданный Ивановым термин
«основной миф», как-то незаметно усвоенный потом семиотикой,
структурализмом и философской антропологией, и был
попыткой обобщения «внутренней формы» и структурной основы
идеологических коллизий и сюжетики романов Достоевского.
В книге «Трагедия — миф — мистика» ( 1932)фраза,
созданная Ивановым-читателем, обладает энергией ассоциативного
самопояснения. Иванов изобрел герменевтический синтаксис
и технику введения в свой текст новых степеней лексической
валентности, благодаря которой слово готово претендовать на
статус мифологемы, т. е. чего-то среднего между словом
словаря, метафорой поэта и термином мыслителя. Слова
укрупняются, мощность семантической энергии их взаимодействия
варьируется и управляется из центра комментирующей
ассоциативности авторского мышления.
Так ведет себя комментирующее слово Иванова в
герменевтических лабиринтах, выстроенных внутри изучаемого текста.
Вертлиб Е. О природе символа у Андрея Белого и Вяч. Инаиоиа //
Антология гиозиса: в 2 т. СПб.: Миф, 1994. Т. 1. С. 286-295.
От редактора 13
Они до поры до времени дремали в складках текстового тела,
пока взыскующая мысль эллинизирующего мыслителя не
выявила в его смысловой стереометрии надежную и по разным
осям развернутую перспективу самоуяснения.
Задолго до изобретения новейших приемов научного
анализа художественного произведения Иванов знал, что программа
понимания текста имманентно присутствует в самом тексте,
как композиция вещи задает алгоритм ее восприятия.
Иначе говоря, текст, насыщенный мифопоэтической
памятью, так же соотнесен с Мировым духом, как в графических
пентаграммах символистов микрокосм (= человек) гомео-
морфно отвечает Макрокосму (= Вселенной). По всем
правилам преформистской (виталистской) концепции текст
преобразуется в эстетический организм с органом самосознания, т. е.
в метатекст. Не об этом ли говорил великий современник
Иванова — Т. Манн в докладе 1942 г. о тетралогии «Иосиф и его
братья»: «Книга комментирует и самое себя, она говорит, что
эта легенда, пережившая на своем веку столько разных
переложений <...> как бы обретает самосознание и по ходу действия
поясняет самое себя»*.
Итогом этого ментального самопреодоления текста в его
собственной ауторефлексии мыслится возвышение символа и
мифа до статуса «механизма» волевого преображения жизни
и онтологической (деконструкции, ибо запечатленный в
символическом слове миф «есть динамический вид (modus)
символа — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как
действие и действенное слово»**.
Символология символистов определила очертания
созданной ими философии культуры. Андрей Белый строил ее в форме
эстетики истории. Вдокладе «Философия культуры»,
прочитанном 24 января 1920 г. в московском Дворце искусств,
встречаем декларацию: «...Философия культуры встает перед нами как
написание гениального романа гениального художника. Этим
гениальным художником является человечество» {СКМУ 319).
Белого и Иванова сближает аксиологическая аспектология
* Манн Т. Собр. соч.: В Ют. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 10. С. 174.
Иванов Вяч. Собр. соч.: в 4 т. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971 —
1987. T. 2. С. 595-596. Далее маркируем что издание как СС; указываем том
и стр.
14 К. Г Исупов
философии культуры, но разделяют мера глубины погружения
в миф и доля внимания к вечно живой культурной архаике.
Иванов декларирует «героический и трагический путь
освобождения мировой души <...>, означающему решимость
превратить преемственными усилиями поколений человеческую
культуру в соподчиненную символику духовных ценностей,
соотносительную иерархиям мира божественного и оправдать все
человечески относительное творчество из его символических
соотношений к абсолютному» (СС. 4, 601—602). Ивановская
концепция культуры — наиболее масштабная в пестрой
коллекции символистских культурфилософских конструкций: она
снабжена космогоническими и космологическими аспектами с
прямым выходом на теологию Абсолюта. Еще более
амбициозные намерения реализовались в эстетике А. Скрябина.
Читателю предстоит самому увидеть, сбылись ли «заветы
символизма». В этом непростом труде ему поможет диалог с
представленными в томе авторами.
К Г. Исупов
Вступление
К. Г Исупов
Блеск и нищета символизма
Человек переходного времени конца XIX — XX вв.
оказался запертым внутри квадрата, четыре точки
которого составили: 1 ) релятивистская картина мира
(Г. Кантор; А. Эйнштейн); 2) психиатрия ментальных
разоблачений(фрейдизм);3)жанрово-стилистический
кризис в литературно-художественной классике;
4) массовые преступления против человечности
(революционный террор).
Ответной реакцией на это положение стал
беспрецедентный по мощности пассионарный взрыв в сфере
культуры и всех форм научного знания. Особая
ситуация сложилась на перекрестке философии и
литературы*, в топосе которого мы и обнаруживаем «героев»
Антологии — инициаторов новой культуры «Нового
Средневековья».
Происходит пересмотр «поэтического хозяйства»
(словечко Вл. Ходасевича); филология напрямую
смыкается с поэтической работой над словом
(формалисты, футуристы и обэриуты); университетски обра-
См.: Исупов К. Г. 1 ) Русская эстетика истории. СПб.: РХГИ,
1992; 2) Философия и литература Серебряного века (Сближения
и перекрестки) // Русская литература рубежа веков (1890 —
начало 1920-х гг.): в 2 кн. ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. Кн. 1.
С. 69-131.
16 К. Г. Исупов
зованные люди вносят методы науки в свои манифесты и
эстетическую критику; вырабатываются новые философские языки
описания объекта; плавятся грани между рациональной
строгостью точного знания и размытой мистикой космистов, имя-
славцев, апокалиптиков, софиологов и теософов;
геополитические доктрины («ианмонголизм», «скифство», «евразийство»)
перелагаются на язык изящной словесности, а нумерология и
каббалистика готовы предоставить свои инструментарии для
ваяния художественной формы и стать принципом
композиционной организации текста.
Новая историософия обретает вид то апокалиптики «конца
всего», то философии надежды. Будущее вдруг придвинулось
настолько близко, что его края почти сомкнулись за спинами
взыскующих его культуртрегеров рубежа веков, — отсюда
торопливое производство утопий на фоне лихорадочно
убыстряющегося времени. «Человек последнего исторического дня»
(Н. Бердяев) оказался в эпицентре мощного пассионарного
взрыва культуротворческой энергии; процесс этот был
общеевропейским, и талантливых людей вдруг объявилось больше,
чем за всю предшествовавшую мировую историю.
Об этом твердят и самоназвания эпохи: «Серебряный век»,
«духовный ренессанс», «греческое Возрождение», «новый
александрийский период». Отметим: все эти выражения
отмечены меланхолическим пассеизмом и осенне-сумеречным
мироощущением. Очень точно в метафоре осени Б.
Пастернак, соединив имена писателя, композитора и живописца,
определил настроение современников: «Осенние сумерки
Чехова, Чайковского и Левитана» («Зима приближается...»,
1943). Один из первых сборников Чехов назвал «В сумерки»
( 1888; название повторено в мемуаре о писателе В. Н.
Ладыженским); Брюсов в сборнике «Все напевы» ( 1909) включил
цикл «Вечеровые песни»; «осенней книгой» назвал «Столп и
утверждение Истины» ( 1914) о. Павла Флоренского Н.
Бердяев, а о. Георгий Флоровский увидел в ней «меланхолию
осени». В итальянской статье «Simbolismo» ( 1936) Иванов
цитирует шутку Верлена («Poètes maudits»): «Меня называют
декадентом — живописное ругательство, вызывающее образ
осени и солнечного заката» (СС. 2, 660). Здесь необязательно
вспоминать «Сумерки богов» Ницше, чтобы описать
глубокие разочарования современников в ценностях стремительно
постаревшей и минувшей эпохи.
Блеск и нищета символизма 17
Тем органичнее вписался в тематический репертуар нового
века культ рано ушедших молодых людей. В. Брюсов не раз
посетил могилу поэта Ивана Коневского (Ореуса; 1877-1901);
посвятил его памяти два стихотворения, причем последний
(«Памяти И. Коневского», 1901) поэт-символист снабдил
эпиграфом из стихотворения «19 октября» поэта-романтика
В. Кюхельбекера с заменой (на потребу культа!) одной строки:
«Блажен, кто пал, как юноша Ахилл / <...> В начале поприща
побед и славы». Брюсов выделил курсивом замененное слово
(в источнике: «В средине поприща...»). Схожим образом В.
Розанов создает в своей прозе посмертный миф о поэте и критике
Ф.Шперке( 1872-1898).
Подобно тому как классический Ренессанс возрождал
упрощенную Античность, наш духовный ренессанс рубежа веков
обратился к более масштабной, т. е. к мировой, культурной
архаике, и первое, что было сделано на этом пути, — это то, с
чего начинает всякий модерн: новая концепция мифа.
Во времена культурных переломов актуализация
фольклорной и литературной старины становится прелюдией к
пересмотру эстетических канонов: Ренессанс, барокко, романтизм,
европейский и отечественный авангард; рубеж двух последних
веков не составил исключения.
Если иерархии Бытия коррелятивны смысловым уровням
явленного в слове мифа, то владельцу жреческих глаголов
предлежит работа по гармонизации ввергнутого в Хаос мира
средствами мифопоэтической семантики при участии научного
дискурса.
Символизм как ярчайшая из литературных школ эпохи нашел
свой топос на перекрестке «чистой лирики», эстетизованной
историософии и сциентизма. Технология и телеология симво-
лопроизводства мыслились по-разному, но выбор был невелик.
Символ мог пониматься как: 1 ) инструмент познания
(гносеология); 2) тип новой реальности (онтология); 3) самоцельный
результат творческой игры (эстетика); 4) мифопоэтический
аналог поведенческой рецептуры (этика); 4) свидетельство бо-
годухыовенности творческого порыва (поэтическая теология и
богословие культуры).
Импрессионисты (И. Анненский) и символисты были
первым отрядом новой словесности рубежа веков, которому
пришлось кардинально менять векторы модальности в диалоге
с реальностью. Принято думать, что мировоззренческим на-
18 К. Г. Исупов
ставником символистов был Вл. Соловьев; этот миф о прямой
преемственности был создан самими символистами.
Достаточно поставить рядом околосимволистские апокрифы
посмертного соловьевского жития (см. сб.: «О Вл. Соловьеве» <М.,
1911>) и язвительные рецензии философа в «Вестнике
Европы» за 1895 г. на брюсовские самоделки (три сборника
«Русские символисты». М., 1894—1895) или его же реплики из
заметки «Против исполнительного листа», чтобы увидеть, сколь
раздражали Соловьева адепты новых идеалов; не скупился он и
на пародии*. По мнению мыслителя, Розанов, Мережковский и
Философов поклоняются демоническому и таинственному
«нечто», хотя «его реальный символ есть разлагающийся труп», а
не «новая красота», как то мнится ее пропагандистам** (ср.
заглавие статьи С. Н. Булгакова «Труп красоты. По поводу
картин Пикассо», 1914).
То, что символистам виделось символом у Соловьева, для
самого мыслителя было, скорее, эйдосом — смысловым
сгущением сущностных постоянных мира и его живых благодатных
субстанций (София, Вечная Женственность, Сущее и
Сверхсущее, Свет и Эрос, Число и Единое). В эстетическом векторе
символ у Соловьева принадлежит Бытию и лишь косвенно —
как запись внимательного к зовам Эмпирея медиума — сфере
запечатления, т. е. искусству.
Символ символистов — эстетическая конструкция,
наведенная в Бытие, навязанная ему и даже замещающая его. Но
встреча соловьевской символологии и поэтической мифологии
символистов оказалась плодотворной: символисты
«расколдовали» схематические эйдосы философа («эйдос», как
известно, и есть «схема», «модель», «чертеж» или, по изящной
формуле А. Ф. Лосева, «внутренний лик вещей») и обратили
их в мощное средство поэтики. От умозрительной
онтологической парадигмы символ переходит в статус окказиональной (с
* Три пародии в составе статьи «Еще о символистах» («Горизонты
вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...»)
опубликованы в «Вестнике Европы» ( 1895. № 10. С. 850-851 ).
** Соловьев В. С. Собр. соч.: в 10 т. Изд. 2-е. СПб., 1911-1914. Т. 9.
С. 295. Соловьев, правда, приветствовал сборник К. Бальмонта «Тишина»
(СПб., 1898), автор которого, в свою очередь, преподнес поэтический
комплимент философу-поэту в книге «Только любовь. Семицветник» (М.,
1903). Соловьев же дал название сборнику Иванова «Кормчие звезды».
Блеск и нищета символизма 19
чертами элитарного эзотеризма) образности и становится
«материалом» и «средством» авангардной поэтической практики.
Скажем еще раз, что символ берет на себя и роль инструмента
(и элемента)онтологической инженерии.
Этот процесс завершился обновленным понятием текста.
В теориях жизнестроительства и жизнетворчества,
художнической теургии и эстетической игры весь мир предстал Текстом
(а точнее: Текст — «Всем Миром» или, по термину А. Сухово-
Кобылина, — «Всемиром»*), с которым можно делать все что
угодно, — и символисты не без азарта «читают»,
«переписывают», «создают» и «трансформируют» его, словом, живут в
нем как теурги, режиссеры и персонажи текста жизни.
В истории философии символа установку «реалиста» в пику
узкосимволистскому «номинализму» (говоря в старинных
терминах средневековой оппонентуры по сакраментальному
вопросу о способах бытия общих идей) сохранил о. Павел
Флоренский, печатавший свои ранние работы в символистских
журналах. По его слову, преображенное в духе «иное» мира
«превращается тем самым в символ, т. е. в органическое живое
единство изображающего и изображаемого,
символизирующего и символизируемого» («Эмпирей и Эмпирия», 1904)**.
Так было освоено соловьевское мировидение, осложненное
неоромантической оглядкой на куртуазный эрос
Средневековья, на мистиков XV века, на нравы «галантного века»: кто-то
пытался сохранить чувство живой онтологии Космоса (о. Павел
Флоренский); кто-то ушел в «приключенческую» гносеологию,
сулящую находки в области внеэмпирической реальности
(Мережковский, Брюсов, Сологуб, Белый); кто-то испытывал
теургические возможности волевого мифосозидания (Вяч. Иванов);
кто-то кардинально менял векторы пути, предпочитая идти не
от символа (= идеи) к факту истории, а от факта (= символа) к
идее, чтобы выбраться на тропу трагического историзма (Блок).
Текстам самого Соловьева в этих процессах принадлежала
не столько учительная роль, сколько мнемоническая, т. е. при-
Сухово-Кобыл им А. В. Учение Всемира. Инженерно-философские
озарения. М., 1995.
Священник Павел Флоренский. Соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 178.
Типология и эволюционная картина символистского движения показаны в
работах 3. Г. Минц.
20 К. Г. Исупов
поминание о верности той христианско-этической Традиции,
которая категорические императивы философского дела велит
напрямую осуществлять в обыденной жизни и в творчестве.
Поэтому история людей Серебряного века важнее истории
идей: само присутствие первых в эмпирической
повседневности убедительнее всех текстов, вместе взятых, доказывало
возможность развоплощения «эйдосов» и «мифов» в онтический
план. В ранних работах А. Ф. Лосева мифы, символы, имена,
числа и эйдосы сближены с личностными структурами, что
вполне отвечало философской вере практикующей
словесности. Путь Брюсова к философии «сна» и «яви», отразившейся
в художественной онтологии сборника «Земная ось» (1911)
свершался в форме полемики с Соловьевым.
Белый и Иванов — инициаторы новых типов критического
дискурса. Серебряный век ведет активный поиск
предшественников и предчувственников символистского мироотношения; в
союзники вербовалась почти вся литературная классика и отцы
славянофильства. В широком потоке текстов заново
осмысляется наследие Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Тютчева, Достоевского, Гаршина, Л. Толстого, Чехова (заметим:
из этого списка странным образом выпал Салтыков-Щедрин).
«Появился тип критики философской и даже религиозно-
философской наряду с критикой эстетической и
импрессионистической. Увидели огромные размеры творчества
Достоевского и Толстого, и началось их определяющее влияние на русское
сознание и идеологические течения»1, — вспоминал Бердяев в
1935 г.
Новая критика, не теряя пафоса прежней, пошла в
философскую глубину текста и основала методики
«вертикального» (персоналистского) анализа. В центре внимания
оказалась личность: аксиология и психология интровертного
характера. Для философской критики Серебряного века, в
которой сформировались магистральные направления мысли
XX столетия, основополагающей стала философия личности
в творчестве Достоевского (структуры личностного
сознания, амбивалентная природа любви-ненависти, христология).
Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начади XX в. и журнал
«Путь». (Кдесятилетию «Пути»)// Н. Л. Бердяев. Соч. Париж: Imca-Press,
1989. Т. 3. С. 689-690.
Блеск и нищета символизма 21
Комментаторы его наследия создавали теперь языки того рода
философии, которую позже назвали экзистенциализмом и
персонализмом.
Это экспрессивная критика А. Л. Волынского (Флексера)
(«Царство Карамазовых», 1901; «Книга великого гнева»,
1904; «Ф. М. Достоевский», 1906), эссеистика
Мережковского («О "Преступлении и наказании" Достоевского»,
1900; двухтомник «Л. Толстой и Достоевский», 1901 — 1902;
«Пророк русской революции», 1906), опыты молодого
В. Розанова («"Легенда о Великом Инквизиторе"
Достоевского», 1894), проза Л. Шестова («Достоевский и Ницше.
Философия трагедии», 1902; «Пророческий дар», 1906) и
Бердяева («Великий Инквизитор», 1905), статьи С.
Булгакова и раннего Белого.
Действительность начала века зазвучала на слуху
мыслителей духовного возрождения истошными голосами «Бесов»
Достоевского; дополнительным стимулом стали театральные
постановки романа в 1913 г. и провокативные статьи по этому
поводу М. Горького, вызвавшие беспрецедентную по
масштабам полемику.
Позже философская герменевтика усилит историософские
интонации Достоевского (Вяч. Иванов, Бердяев), а персона-
листская проблематика составит основной сюжет
эмигрантского достоеведения. Персоналистско-историософский метод
Достоевского напрямую использует Иванов, когда он в
терминах религиозной антропологии рассуждает о русском пути
(«Лик и личины России», 1916), а в терминах поэтики и
эстетики — о самораскрытии мировой трагедии Бытия в судьбах
героев: от ранних статей «Достоевский и роман-трагедия»
( 1911 ), «Основной миф в романе "Бесы"» ( 1914), «Легион и
соборность» (1916) до позднейшей переработки этих текстов
в составе книги «Достоевский. Трагедия — миф — мистика»
(1932).
Подобно тому как трагизм овнешненной действительности
был перенесен в пространство сознания героя, так и
внутренний опыт со всеми его центральными экзистенциалами (грех и
святость, красота и инфернальное, игра и трагизм жизни,
милосердие и бесовство, богоборчество и христософия, преступное
нормотворчество и этика братской приязни) непосредственно
проецируются на историю, в ее далеко ведущие и открытые
многим возможностям перспективы.
22 К. Г. Исупов
Мистерия
Припоминая Гёте, мэтр символизма проясняет
семантику «мистерии»: «...в надмирном бытии, и у каждой
индивидуальной судьбы свой "пролог на небесах"»*. Это, казалось бы,
условно-риторическое, в гётеанско-фаустовском духе,
определение типа судьбы имплицитно и предварительно вводит тему,
важную для всего строя ивановского мировосприятия и всей
его соборной эстетики, а именно: мистерия задана как форма
мифологического или религиозно-мистического осмысления
исторической реальности, когда характер последней в глазах
современников свидетельствует о конце времен. См. о Марфе
Тимофеевне в «Бесах»: «Она прозорливо, хоть и
бессознательно, видит христианскую мистерию в вечной литургии» (СС. 4,
513—514). «Мистерия» у Иванова означивает и состояние
мира, и имя жанра; см. о «Фаусте» Гёте: «...драма, или, точнее,
некое лирико-драматическое действо, обнимающее, как старая
мистерия, небо и землю» (СС. 4, 148); о Николае Ставроги-
не: он «посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии
русского мессианизма» (СС. 4, 525).
В эпоху Серебряного века обостряются эсхатологические
настроения, нашедшие выражение во множестве литературно-
философских и теолого-эстетических интерпретаций
«Откровения» Иоанна Богослова; реставрируется мистерия и как
средневековый жанр театрального действа. Пришедшая в быт
мода на «античное» и обсуждение в философской эссеистике
«эллинского .духа русской культуры» (О. Мандельштам;
события 9 января описаны им в мистериальном духе)стимулируются
трудами филологов-классиков: от книги Н. И. Новосадского"
до вдохновителя идеологии «греческого Возрождения»*** Ф.
Зелинского и штудий Вяч. Иванова, Н. и М. Бахтиных.
Иванов Вяч.. Собр. соч.: в 4 т. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971 -
1987. T. 4. С. 495. Далее маркируем это издание как СС; указываем том и стр.
Новосадский Н. И. Элевсинские мистерии. СПб., 1887 (М.:
РОССПЭН, 2011). Ср.: Уваров С. С. Исследование об Элевсинских
таинствах//Современник. 1847. Т. 1. № 2. Отд. II. С. 75-108.
Николаев Н. И. Идеи Третьего Возрождения и В. Иванов периода
Башни // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб.,
2006. С. 226-235.
Блеск и нищета символизма 23
Культурная ситуация начала XX в. как бы заново
проигрывает генезис христианства и основные драмы идей начала нашей
эры. Языческие культы Востока, иудео-эллинистический
синкретизм и философические амальгамы раннего христианства
(«александризм»*) становятся мировоззренческими
сенсациями века, осмыслявшего себя по аналогии с закатным
временем Римской империи, а свою судьбу — в образах
Апокалипсиса (В. Розанов, А. Белый, В. Брюсов, о. Павел Флоренский,
А. Крученых, М. Волошин, Б. Савинков).
То, что эпохой определялось историософски как мистериаль-
ное состояние мира, внутренне переживалось эсхатологически
и апокалиптические
Мистериальность стала видом художественного пафоса в
литературе (М. Волошин, Ф. Сологуб, В. Маяковский), в
живописи [Врубель; Рерих; М. К. Чюрленис; Л. Бакст — «Terror
antiquus», 1908; П. Филонов «Головы (Человек в мире)» —
1925-1926], в музыке (А. Скрябин)? архитектуре
(вдохновленный лекциями и трудами Р. Штайнера*** Белый строит
теософский храм в Дорнахе, благополучно сгоревший); метафора
* См. значение термина в контексте классической филологии:
Сонии А. И. Александризм и его влияние на русских поэтов//Университетские
известия. 1887. № 10. С. 1-12. В ином плане: Вершинина А. Ю. В поисках
«нового александризма»: Помпейские мотивы в декоре в архитектуре //
Искусствознание. 2007. № 1-2. С. 150-177. В аспектах истории гнозиса:
Рычков А. Л. Александрийская мифологема у русских младое им вол и сто в //
Труды Гермеса: Труды Международного симпозиума. М., 2009. С. 108-166.
** Барабанов Е. «Русская идея» в эсхатологической перспективе //
Вопросы философии. 1990. № 8; Белоусов А. Ф. Последние времена //
Aequinox. Сб. памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 9—33; Исупов К. Г.
Русский Антихрист: Сбывающаяся антиутопия // Антихрист. Антология.
М., 1995. С. 5-34; Кедров К. За чертой Апокалипсиса. М., 2002; Кацис Л.
Русская эсхатология и русская литература. М., 2000; Макариевские
чтения: Апокалипсис в русской культуре. Вып. 3. Ч. 1—2. Можайск, 1995;
Розанов В. Апокалиптика русской литературы // Новый мир. 1999. № 7;
Россаро А. Апокалипсис и его ироническое преломление в романе А. Белого
«Петербург» //Литературоведение XXI в. Анализ текста: Метод и результат.
СПб., 1996. С. 209-214; Шапошников Л. Россия перед Вторым
Пришествием: Материалы к очерку русской эсхатологии. Сергиев Посад, 1993;
Шестаков В. П. Эсхатология и утопия (Очерки русской философии и культуры).
М., 1995; Шаховской Иоанн, архиепископ Апокалипсис мелкого греха //
Архиеп. Иоанн Шаховской. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 129—136.
Штайнер Р. Мистерии древности и христианство. М., 1912.
24 К. Г. Исупов
театра и парадигма театральности стали культурной
доминантой Серебряного века.
Мистериальной напряженностью отмечены сектантские
движения рубежа веков; это изучалось свидетелями религиозно-
народной экстатики Серебряного века: Н. Бердяев, о. Георгий
Флоровский. В опыте писателей западных (М. Метерлинк,
Ш. Пеги) и отечественных (от В. Печерина и А. Пушкина до
Е. Ю. Кузьминой-Караваевой и Д. Андреева) мистерия
пытается забыть о жанровой обязанности быть просто текстом, но
стремится к слиянию с «текстом жизни». С конца XIX —
начала XX в. мистериальные действа возвращаются на площади
городов (Оберамергау; Париж; Ю. Тынянов в детстве застал
мистерии в Режице).
Вяч. Иванов предполагал в своих прожектах всенародное
переживание «почвенных» ценностей в открытых мистериаль-
ных торжествах (ср. грандиозную инсценировку «Взятие
Зимнего» на десятилетие Советской власти*). Литургическая
жанровая память мистерии подняла последнюю на уровень формы
общественного поведения, в рамках которого ряд философов
мыслили создать новую этику христианского общения.
Принципом новой этики стал эстетический критерий символико-
литургического преображения жизни. В контекстах мистерии
осмыслены идеи «театра для себя» Н. Евреиновым и
«магического театра» Ф. Сологубом (ср. «магический театр» и «игру
в бисер» в прозе Г. Гессе). А. Мейер выступил с пропагандой
мистериального малого собора «жрецов революции».
Согласно этой идеологии воскресительно-диалогической мистериаль-
ности, «новое родство», «новое отечество» и «новая связь»
даются только участием в мистерии. Духовный сотрапезник
Мейера, Г. Федотов, в эмиграции отстаивал «новую» —
общинно-мистериальную — роль литургики и Евхаристии в
современной Церкви; он уверен, что в «конкретной и
исторической Церкви как средоточии богочеловечеекого процесса <...>
свершается мистерия спасения человеческого духа»**.
Ьёрд Р. Вяч. Иваном и массовые празднества ранней советской чпохи //
Русская литература. 2006. № 2. С. 174—189. Здесь же публикуется доклад
Иванова «К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в
области художественного действа» ( май 1919 г. ). С. 189— 197.
Федотов Г. П. Православие и историческая критика (1932) //
Г. П. Федотов. Соч. Париж: Ymca-Press. 1973. T. 2. Европа и мы. С. 206.
Блеск и нищета символизма 25
В 1933 г. мистерия в творчестве Мейера стала опорной
мифологемой для универсальной теории творчества*. Русская
метафизика истории в теологемах Встречи** и Богообщения и
в разработке популярной кенотической диады «нисхождения/
восхождения» усилила мистерийный момент «исторического»:
движение человека к Богу для Н. Бердяева и есть
первоначальная мистерия духа, бытия и христианства. А. Скрябин пытался
освоить мистерию как синтетический жанр и как инициацию
последнего мирового эона. Мистерийная историософия Скрябина
поставлена С. Булгаковым рядом с «гениально-химерической
идеей натуралистического воскрешения мертвых» Н.
Федорова («Сны Геи», 1916).
Серебряный век понимает мистерию как приоритетную
форму экзистенциальной трагедии, для которой характерны:
1) сакральная заданность сюжета («Голгофа»); 2) жертва в
качестве ситуативного центра; 3) мотив искупления/спасения.
Мистериальное переживание жизни переплетается с
эсхатологическими (П. Флоренский), апокалиптическими (символисты,
А. Блок) настроениями. История обретает вид перманентной
мистерии; В. Розанов в новопутейских «Заметках» ( 1903)
говорил об «элевсинском таинстве истории».
Аспект жертвы связан с катартическим изживанием-
очищением пред зрелищем сплошь жертвенного прошлого; в
этом смысле С. Булгаков назвал «Бесы» Достоевского
«отрицательной мистерией». В ироническом ключе, но с удержани-
* Мсйер А. А. 1)0 смысле революции // Перевал. 1907. № 8/9;
2) О путях к Возрождению // Свободные голоса, 1918. № 1; 3) Заметки о
смысле мистерии (Жертва) (1933) // Философские сочинения. Париж,
1982.
Встреча — '^то акция имманентного обмена высшими ценностями;
диалогический принцип, определенный Вяч. Ивановым как «апантетический
принцип» сознания (от греч. A7ràvTT|pa — «встреча», «выход на встречу»,
«сретенье»): (Иванов Вяч. Сентенции и фрагменты // Руеско-итальяиекий
архив. Вяч. Иванов. Новые материалы. Салерно, 2001. С. 142); См.:
Антоний, митр. Сурожский. О Встрече // Новый мир. 1992. № 2. С. 184 —
191; Арсеиьев Н. С. Мистическая встреча // Н. С. Арсеньев. О Жизни
Преилбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 65-68; Клеман Оливье. Истоки.
Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии / пер. с франц.
М., 1984 (Ч. 1, гл. 1. Поиск, встреча, решения). С. 17-26; Франк С. Л.
Крушение кумиров (Гл. 5 — Духовная пустота и встреча с живым Богом)//
С.Л.Франк. Соч. М.: Правда, 1990. С. 161-182.
26 К. Г. Исупов
ем трагических контекстов обыгрывает тему евхаристической
жертвы М. Пришвин в «Мирской Чаше» (гл. X —
«Мистерия»; 1922)*.
* Андреев Д. Л. 1 ) Ленинградский Апокалипсис, 1949-1953;2)Железная
мистерия, 1950-е гг.; 3) Роза Мира, 1950-е гг.; Белый А. На перевале. III.
Искусство и мистерия // Весы, 1906. № 9. С. 45-48; Бердяев H.A. 1 ) Типы
религиозной мысли в России, 1916; 2) Кризис искусства, 1918. М., 1990;
3) Смысл истории. М., 1990; Блейк У. Видения Страшного Суда. М., 2002;
Богданов В. Мистерия или быт? // Кризис театра: Сб. ст. 1908. С. 54-87;
Блок А. А. Двенадцать, 1918; Боттен-Хансен П. Норвежские мистерии.
1851 ; Британ И. А. Мария. Мистерия в стихах. Берлин, 1924; Булгаков С. Н.
Русская трагедия, 1914; Брюсов В. Я. Ник. Вашкевич. Дионисово действо
современности, 1905//Брюсов В. Я. Собр. соч.: в8т. М., 1973. Т. 6. С. 112-
114; Виньи А. В., де. Потоп. Мистерия. 1826, опубл. 1869; Гёте И. В. Фауст,
1808-1831; Гира Л. Цветок папоротника. Драматическая мистерия, 1928;
Гребан Арнуль. Мистерия страстей Господних (сер. XV в.); Гумилев Н. С.
Гондла. Драматическая по'эма // Русская мысль, 1917. № 1; Депестр Р.
Радуга для христианского Запада. Драматическая мистерия. 1967; Донн Дж.
По ком звонит колокол. М., 2004; Закс Н. Эли. Мистериальная драма.
1943-1944; Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей, 1911-1922; Золя Э. Виолен.
Лиро-эпическая мистерия; опубл. 1921; Иванов Вяч. И. Эллинская религия
страдающего бога, 1904; Дионис и прадионисийство, 1922; Йейтс У. Б. Роза
алхимии. М., 2002; К. Р. (Романов К.). Царь Иудейский. Мистерия. СПб.,
1914; Кузьмина-Караваева Е. Ю. Анна; Солдаты, 1942; Кюхельбекер В. К.
Ижорский. Поэма-мистерия. 1829-1833. Т. 1-2; Ларронд К. Мистерия
о конце мира. Берлин, 1922; Лауэнштейп Д. Элевсинские мистерии. М.,
1996; Маяковский В. В. Мистерия-буфф. 1918; 1921; Медичи Л. Св. Иоанн
и св. Павел. Мистерия. 1491; изд. 1538; Метерлинк М. Слепые, 1890;
Мильтон Дж. Потерянный рай. М., 1982; Минский Н. (Виленкин H. М.).
Кого ищешь? Мистерия. Берлин, 1922; Мотылев И. Е. Царь-Давид.
Трагимистерия. Берлин, 1922; Пеги Ш. 1 ) Мистерия о милосердии Жанны
д'Арк, 1910; 2) Введение в мистерию о второй добродетели, 1911; Ева,
1913; Печерин В. С. Торжество Смерти, 1833; Пришвин M. М. Свет и
Крест. СПб., 2004. С. 405-413; Пушкин А. С. Пир во время чумы, 1830;
Розанов В. В. 1) Мимоходом // Новый путь. 1903. № 1; 2) Религиозная
мистерия смерти и воскрешения, греха и очищения // Новое время. 1908.
13 апреля; Соколовский В. И. Разрушение Вавилона // Утренняя заря
на 1839 г.; Страховский Л. И. Мистерия в восьми рассказах. Брюссель,
1926; Тимофеев А. В. 1 ) Жизнь и смерть // Библиотека для чтения. 1834.
Кн. 8; 2) Последний день // Там же. 1835. № 10; Федотов Г. П. О русской
Церкви ( 1916)/Соч. Париж, 1967. Т. 1. Лицо России. С. 26; Православие и
историческая критика/Соч. Париж, 1973. Т. 2. Россия, Европа и мы. С. 206;
Фофанов К. После Голгофы, 1910; Чириков Е. Н. Красота ненаглядная.
Русская сказка-мистерия. Берлин, 1924.
Блеск и нищета символизма 27
На этом фоне мистерийная теургия Иванова и его
реконструктивные проекты в духе «греческого возрождения» не
выглядят особой новостью. Добавим, что в утопии-антиутопии
А. Платонова «Котлован» пролетарии свершают кровавый чин
«строительной жертвы» над «буржуями». Мистерийный
пафос может подвергнуться эстетической (Ф. Сологуб. Мистерия
мне // Весы. № 2. С. 17-21) или демонической (И. Лукаш.
Дьявол. Мистерия. Берлин, 1923)транскрипции. Увлеченность
декадентов поверхностной эксплуатацией жанра мистерии
А. Белый, автор вполне мистериальных «Симфоний» (1902—
1903), назвал «козловаком». Глубину мистико-мистерийного
переживания истории и судьбы сохранил в последующую эпоху
Д. Андреев*.
Иванов видел в мистерии возможность возврата к хоровому
действу, в котором сопричастники взыскуемой Истины
переживают инициации братотворения и освящения в «круговой
поруке живой вселенской соборности, во Христе» (СС. 4, 579).
В ранних «Симфониях» Белого** и в его цикле «На перевале»
См.: Евреинов Н. Н. Азазел и Дионис. Л., 1924; Вейдле В. В.
Крещальная мистерия и религиозно-христианское искусство//Православная
мысль. 1947. Вып. V. С. 18-36; Климова И. В. Образ Черта в немецкой
мистерии позднего Средневековья // Искусство и религия. Матер, научн.
конференции М., 1998. С. 118-134; Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу.
Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего
Средневековья. М., 2002; Кулакова Л. А. Символика античных мистерий //
Символы в культуре. СПб., 1992. С. 5—20; Кюмон Ф. Мистерии Митры.
СПб., 2000; Левандовский А. А. «Мистерия» на Светлояр-озере в восприятии
интеллигенции // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом
из разных углов. М., 1997. С. 202-212; Пекарский П. П. Мистерии и
старинный театр в России //Современник, 1857. № 2, 3; Филий Д. Элевсин
и его таинства. СПб., 1911; Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.;
Киев, 1996; Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998;
Bergmann R. Katalog der deutchspranign geistlihen Spiel und Marienklage des
Mittelalters. München, 1986; Burkert W Ancient Mystery Cults. Harvard, 1987;
Graf F. Dionysian and Orphic Echatology: New Text and Old Questions //Masks
of Dionysus. Cornell, 1993; Hencker M., von. Katalogbuch zur Austeilung im
Obrammergau. München, 1990; Nillson M. P. Dionisyac Mysteries. Stokholm,
1957; Seaford R. Transformation of Dionysiac Sacrifice // Seaford R. Reciprocity
and Ritual. Oxford, 1994. P. 281-328; Misteries Papers from Eranos Yearbooks.
Princeton, 1955.
Белый Андрей. Антихрист. Набросок к ненаписанной мистерии / Публ.,
»ступ. ст. и прим. Даниилы Рицци. Trento: Dipartimento di Storia délia Civiltà
28 К. Г. Исупов
(«3. Искусство и мистерия»), в «Эсхатологической мозаике»
(1904) о. Павла Флоренского мир пережит в его трагедийно-
апокалиптическом, т. е. мистерийном, состоянии.
Главной задачей наиболее одаренных инициаторов
новаторского искусства, включая ars verbum, стало практическое
испытание его способностей к синтезу*.
Белый скептически отнесся к тому, что «стремление к
синтезу выражается в попытках расположить эти формы вокруг
одной из форм, принятой за центр. Так возникает преобладание
музыки над другими искусствами. Так возникает стремление к
мистерии как к синтезу всех возможных форм» («Будущее
искусство», 1910. — СКМ, 142).
И позже, в трактате-мемуаре «Почему я стал
символистом...» (1928) Белый, при всей текучести своих воззрений,
не принял ни ивановского расширения «театрального»
пространства до границ Российской империи, ни
экспериментов Комиссаржевской: «Вместо "мистерии", подмененной
Ивановым реставрацией орхестры, а театром
Комиссаржевской технической стилизацией, я рекомендую критически
разобрать театр в проблеме синтеза искусств: я указываю на
1 ) невозможность символической драмы в понимании
мистических анархистов; 2) на невозможность "мистерии" в
пределах сценических подмостков (она для меня возможна в
центре "общины") <...>, я указываю на антиномию путей театра
(либо — к Шекспиру, либо — к марионеткам; и ставлю
вопрос: чего хотят Мейерхольд, Блок и Коммиссаржевская?)»
(СЛЛМ45).
Стилизаторские тенденции эпохи раздражали не одного
Белого (тоже великого стилизатора). Г. Шпет писал в
«Эстетических фрагментах» (1922-1923): «Исторически символизм —
время всяческих реставраций и стилизаций. У нас, например,
классицизма, архаизма (славянизма), романтизма, народни-
Europea Université di Trento, 1990; Белый Андрей. Симфонии / Сост., вступ.
ст., прим. А. В. Лаврова. Л., 1991. С. 3-33.
Крохина Н. П. Синтез как основополагающий принцип культуры русской
мысли Серебряного века // Соловьевские исследования. Иваново: ИГЭИ,
2009. № 4 (24). С. 47-58; Жеребин А. И. Зачинатель и «завершитель».
(Идея синтеза искусств и ее русские критики)// Вопросы литературы. 2009.
№4. С. 5-23.
Блеск и нищета символизма 29
чества. Но нам сейчас не реставрации нужны, а Ренессанс»*.
Мистерийные прожекты Иванова Белый понял неверно; коль
скоро в классической мистерии Средневековья нет рампы, а
зрители и актеры обмениваются ролями по типу homo ludens'a,
то и в ивановской мистерии предполагалась соборная соучаст-
ность в разыгрываемом мифодраматическом действе.
Иванов мыслил мистерию не театрально, а литургийно**. Как
миф повествует о вечных событиях мировой экзистенции, по-
казуя их в обряде; как сценариумы богослужения знаменуют
здесь-и-сейчас свершающиеся события сакрального сюжета,
так и мистерия, пренебрегая бытовой темпоральностью, ставит
человека пред лицом вечности и дарит его новой модальностью:
онтологическим приобщением к Традиции и возможностью
креативно-символического «вторжения»*** в ее смыслосози-
дающее поле. Эстетическую ахронию и сгущение событийно-
сюжетного ряда до немыслимой плотности обеспечивают тем
единственным и бесспорно приоритетным видом искусства,
которое способно к хронофагии: музыка, только музыка и
всегда — музыка****.
Вечером 29 июня 1909 г. А. Блок, переживший состояние
творческого анамнезиса после свидания в Германии, в Бад На-
угейме, с вагнеровским «Зигфридом», записывает в Дневнике:
«"Настоящего" в музыке нет, она яснее всего доказывает, что
настоящее вообще есть только условный термин для опреде-
* Шпст Г. Г. Соч. М.: Правда, 1989. С. 358.
Стахорекий С. Вячеслав Иванов и русская театральная культура
начала XX века. Лекции. М.: ГИТИС, 1991; Степанова Г. А. Идея «соборного
театра» в поэтической философии Вяч. Иванова. М.: ГИТИС, 2005.
Вторжения «вызывают сеть колебаний, направленных в разные
стороны. В том числе <...> — по темпоральной составляющей. Вторжения
бывают двух видов: причастные, внешнего наблюдателя, рефлексия над
данными; участные, игрока-творца традиции, создающего новое» //
Федоров А. А. «История меня»: Традиция европейской философской мысли и
строительство персональных миров. СПб.: СПб.ГУ, 2006. С. 56.
Соколов О. О «музыкальных» формах в литературе (к проблеме
соотношения видов искусства)// Эстетические очерки. М.: Музыка, 1979.
Вып. 5. С. 208—233; Епишева О. Скрябин и его музыка в стихах поэтов-
символистов: К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Вяч. Иванов (к постановке
вопроса) // Русская культура в текстах, образах, знаках 1913 года. Киров:
КПУ, 2003. Вып. 3. С. 137-142.
30 К. Г. Исупов
ления границы (несуществующей, фиктивной) между
прошедшим и будущим. <...> Музыка творит мир. Она есть духовное
тело мира — мысль (текучая) мира <...>. Музыка
предшествует всему, что обусловливает»*.
Здесь — точка счастливого совпадения мистериологии и
эстетики синтеза искусств Белого**, Блока и Иванова***с
грандиозным проектом «Мистерии» Александра Скрябина.
Иванов сотворил для Скрябина целый букет
комплиментарных эпитетов, «цветозвук» которого симфонически определяет
характер русского гения: «русский национальный
композитор»; «аполитический художник в жизни, мирный анархист по
своим безотчетным влечениям и по вражде к принудительному
порядку, суду и насилию»; «демократ <...> по глубочайшему и
постоянному алканию соборности»; «аристократ по изяществу
природы и привычек»; «истый всечеловек, каким является, по
Достоевскому, прямой русский»; «пламенный патриот»; «один
из творцов русской идеи» (СС. 3, 194). Уж не о себе ли говорит
здесь Иванов, привыкший к сублимациям**** своих творческих
двойников из любого материала, с которым работали: Данте,
Шекспир, Новалис, Гёте, Достоевский? Только ли о литовском
художнике сказано в статье «Чурлёнис и проблема синтеза
искусств» (1914): «Чурлёнис, думается, прежде всего —
одинокий человек. Одинокий — не во внешне-биографическом
смысле и даже не в психологическом только, но и в более
глубоком и существенном: одинок он по своему положению в
современной культуре <...>» (СС. 3, 159).
Когда Иванов комментирует феномены культуры, он
освещает их с антиномично сопряженных ценностных позиций, остав-
* Блок А. А. Записные книжки 1901-1920. М.: ГИХЛ, 1965. С. 150.
Поттосина В. Г. Синтез искусств в теории и раннем творчестве: цикл
«Симфонии»: Автореф. дисс. <...> канд. филол. наук. М., 2000.
Mueller-Follmer P. Ivanovon Scrjabin//Culturaamemoria. Atti del terso
Simposio Internazionale dedicato a Vaöeslav Ivanov. 1 : Testi in italiano, francese.
Inglase / a cura di Fausto Malcovati. Firenze, 1988. S. 189-200; Мазаев А. И.
От «мистерии» к «соборности»: Вяч. Иванов и А. Скрябин о синтезе
искусств // А. И. Мазаев. Проблема синтеза искусств в эстетике русского
символизма. М.: Наука, 1992. С. 142-234.
Аверинцев С. С. Разноречие и связность мысли Вячеслава Иванова //
Иванов Вячеслав. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория.
М.: Искусство, 1995. С. 7-24.
Блеск и нищета символизма 31
ляя читателю возможность выбора, а за собой — право на
затейливый логико-риторический и мифопоэтический орнамент.
Так освещен новый трофей Серебряного века — идея «синтеза
искусств». В смысле положительном она оказалась
плодотворной для найденного Чюрленисом метода, а именно:
«Живописная обработка элементов зрительного созерцания по принципу,
заимствованному из музыки» (СС. 3, 150). Но может
свидетельствовать об «истощении, равно творческих, как и воспри-
нимательных энергий», о «старческой нашей изношенности», о
«смешных уклонах нигилистического эстетизма, тайный смысл
которых — в покушении увлечь золототронную Музу вниз, в
чувственную вещественность и в грубую чувственность» (СС. 3,
163). И все же, возводя впечатляющие опыты синтеза искусств к
«бездомности лучших душ» и к одиночеству среди своих, Иванов
скажет: «...Возникновение этих душ-комет свидетельствует о
содроганиях, во чреве Мировой Души, неведомого плода, и
проходят они по миру, всегда немного юродивые, с бессознательною
вестью о нарождающемся новом дне духа» (СС. 3, 163).
Разумеется, Иванов не мог не назвать здесь имени
Скрябина; именно с ним связаны самые смелые предчувствия
будущего «вечного символизма», коль скоро «проблема этого синтеза
есть вселенская проблема грядущей Мистерии. А проблема
грядущей Мистерии есть проблема религиозной жизни
будущего» (СС. 3, 168). В докладе, прочитанном в 1915—1916 гг.
в трех столицах Империи: «Взгляд Скрябина на искусство» —
творчество великого композитора представлено как «одно
целое, чистым и исключительным синтетизмом» (СС. 3, 187).
«Мистерия» как итог «всеискусства», к которому Скрябин
шел всю жизнь, включая такие знаменательные вехи, как
«Поэма экстаза» (премьера: Нью-Йорк, 1908), «Прометей. Поэма
огня» (1911), три симфонии и иные важные вещи, производит
впечатление титанической по замыслу и грандиозной по
составу музыкально-мировоззренческой композиции Проекта,
целью которого мыслилось вполне апокалиптическое (не в
христианском*, а в общерелигиозном — синтетическом
аспекте) свершение последнего часа ветхого человечества и торже-
Медушевский В. В. Музыка Скрябина в традиции христианского
искусства // А. Н. Скрябин в пространствах культуры XX века. М.:
Композитор, 2008. С. 42-43.
32 К.Г. Исупов
ственное воскресение его в ипостаси высшего типа духовности
и мистического просветления в Истине.
«Мистерия» так и осталась Проектом, но Иванов располагал
женевским изданием текста «Поэмы экстаза» ( 1906), а в 1919 г.
М. О. Гершензон опубликовал в «Русских пропилеях» уже
читанное Ивановым (и слышанное в исполнении автора)
«Предварительное действо». Стихотворные варианты «Поэмы
экстаза» и «Мистерии» эклектичны по содержанию и беспомощны по
исполнению. Стихией Скрябина явно были не стихи, но музыка
стихий, с ее воплями и содроганиями. Его музыка хтонична и кос-
мологична вместе, как микрокосм и Макрокосм. Среди многих
интерпретаций «Мистерии»* ивановская оказалась наиболее
адекватной и по сей день драгоценна для нас не только глубиной
мифопоэтической интуиции, но и логикой достоверных выводов.
Скрябин оказался настолько близок мистериальным
прожектам Иванова и всей его антикизированной соборной
утопии, что лучшего толмача Проекта трудно представить**.
Иванов подчеркивает теургический замысел «Мистерии»: она «не
должна была быть ни его личным созданием, ни даже
произведением искусства, но внутренним событием в душе мира,
запечатлевающим совершившуюся полноту времен и рождение
нового человека» (СС. 3, 174).
Иванов точно уловил в нечеловечески напряженных ритмах
Скрябина то сочетание демонизма, мессианизма, эстетства и
искреннейшей веры в свой творческий титанизм, которым
соблазнился Серебряный век и на котором основал свою
эстетическую веру в возможность наяву творить новую космогонию
средствами жизнетворческой символики***. В статье «Скрябин
См. корректный анализ: Федякин С. Р. Скрябин. М.: Молодая гвардия,
2004. С. 417-490.
Как точно сказано современным исследователем, цитирующим
Иванова: «Мистерия предвидится как конец вымысла о реальности
и непосредственное преображение самой реальности: "Мистерия —
упразднение символа, как подобия, и мифа, как отраженного, увенчание
и торжество чрез прохождение вратами смерти, мистерия — победа над
смертью, положительное утверждение личности, ее действия" » (СС. 2,602—
603). См.: Бёрд Роберт. Мелопея Вяч. Иванова и Мистерия А. Н.
Скрябина // Вяч. Иванов Человек. Приложение. Статьи и материалы. М.: Прогресс-
Плеяда, 2006. С. 112.
Лосев А. Ф. Мировоззрение Скрябина // А. Ф. Лосев. Страсть
к диалектике: Литературные размышления философа. М.: Советский
Блеск и нищета символизма 33
и дух революции» ( 1917) сказано: «Скрябин — один из созна-
тельнейших художников, всецело берущих на себя
ответственность за дело своего демона. Он не только упреждал в духе некий
всеобщий сдвиг, но и учил, что всемирное развитие движется в
катастрофических ритмах» (СС. 3, 193). «Скрябин думал, —
продолжает мэтр символизма, — что немногие избранные
принимают решения за все человечество втайне и что внешние
потрясения происходят в мире во исполнение их сокровенной
творческой воли. Этот мистик глубоко верил в изначальность
духа и подчиненность ему вещества, как и в иерархию духов, и
в зависимость движений человеческого множества от мировой
мысли его духовных руководителей» (СС. 3, 193-194)*.
Попытаемся понять: что объединяет и что разделяет
«героев» этой антологии в рамках своего века и в пределах
нашей памяти? Отвечая на первую половинку вопроса, скажем
следующее.
Всем троим свойственно чувство личной избранности.
Белый, как и о. Павел Флоренский, с детства обнаружили черты
неординарности; Вяч. Иванов смело мог закончить свою книгу о
Достоевском ( 1932) агиократической утопией, потому что
всерьез и не без основания ощущал себя «ангелом» (т. е.
«вестником»); о своей высокой миссии Скрябин говорил не раз.
По кратчайшему определению, вестничество мыслится
этими людьми как предназначение, принятое программой
поведения личности, народа, человечества в качестве «внутренней
писатель, 1990. С. 256-301. См.: Бёрд Р. А. Ф. Лосев и В. И. Иванов: корни
религиозной герменевтики // Образ мира — структура и целое: Лосевские
чтения. 1999. № 3. С. 225-233. Ср.: II. Бердяев, философ «эпохи синтеза»,
точно определил смысл творческого Проекта Скрябина: «Он хотел сотворить
мистерию, в которой синтезировались бы все искусства. Мистерию он
мыслил эсхатологически» // Бердяев Н. Л. Кризис искусства (1918). М.,
1990. С. 6. (Средствами деятельной символики в мистерии наяву свершается
преобразование социальной реальности, обретающей статус realiora.)
Характерно, что и здесь Иванов-комментатор сохранил для Скрябина
оглядку на иные результаты возвышенно-демонического энтузиазма: «Себя
самого Скрябин предчувствовал особенно, провиденциально отмеченным и
как бы духовно помазанным на великое всемирное дело. Такое предчувствие, —
я бы сказал: такая магнитность глубинной воли, по существу, не обманывает
своего носителя, хотя и порождает большей частью обманчивые представления
форм и путей ожидаемого действия» (СС. 3, 173).
34 К. Г. Исупов
формы» судьбы. Оно может мотивироваться 1) имманентно-
надысторическим авторитетом Традиции; личной или
национальной одержимостью ( = гордыней ) ил и 2 ) трансцендентно —
внушением Откровения, знаменованием фактов мистического
опыта, метаисторическим сценарием родовой вины или
Божьего попущения, сакральным указанием благословляющего жеста
ангела, жреца, учителя, духовника. Психологически
взысканное^ судьбой переживается на границе чуда как внекаузальной
детерминации и особого рода непреложности, определяющих
всю профетическую аксиологию вестничества и
избранничества*. В широком спектре типов самоощущения: от тишайшего
Н. Федорова до нахально-горделивого Бальмонта —
мессианский прорыв в будущее окрасил творческую работу
Серебряного века в интонации профетической напряженности.
Они были уверены, что будущее возрастает из прошлого,
осуществляясь через живых носителей культурной памяти.
Ощущая себя александрийцами закатных времен** и наблюдая
крушение привычных аспектов мира, культуртрегеры
Серебряного века мужественно предстояли будущему и создали
эстетическую философию памяти с функцией непрерывной генерации
возможных миров. Тема памяти фундирует, как в «Переписке
из двух миров» (1921), основные ярусы мировоззренческих
конструкций и мифопоэтических практик символистов***. Они и
впрямь были новыми людьми нового времени. Социофема
«нового человека», пережившая столько трагикомических
реализаций, включая социально-психологическую евгенику боль-
См. тексты: Мейер А. А. Религиозный смысл мессианизма // Вопросы
философии. 1992. № 7; Ульянов Н. И. Комплекс Филофея // Новый журнал.
1956. № 45; Друскин Я. С. Вблизи вестников. Вашингтон, 1882; Андреев Д.
Роза Мира. М., 1991 (Кн. 10. Гл. 1 ); Тарковский А. Вестник. М., 1969. См.
исследования: Исупов К. Г. О русском эстетическом мессианизме // Вестник
РХГИ. СПб., 1999. № 3; Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «Русской
идее» Н. А. Бердяева. СПб., 2005.
Рынков А. Л. Александрийская мифологема у русских младо-
символистов // Труды Гермеса: Труды Международного симпозиума. М.,
2009. С. 108-166.
В письме Иванова к Шарлю дю Босу от 15 окт. 1930 г.: «Будучи
эманацией памяти, всякая большая культура воплощает основное духовное
событие, а воплощение такое является актом и аспектом откровения Слова в
истории» (СС. 3,431).
Блеск и нищета символизма 35
шевиков (с широким применением пенитенциарных методик),
технологию всеобщего кормления трудящихся и сексуально-
воспитательные инициативы неутомимого Арона Залкинда,
апофатически воплотилась в личностях Белого, Иванова и
Скрябина в наивозможной полноте культуротворческих
интенций и в полном блеске художнической гениальности.
Перечислим роднящие их черты творческого поведения:
культурничество; книжность европейского или восточного
(мода!) типа; литературность; текстоцентризм; эстетство;
энциклопедическая образованность; полиглотизм — языковой и
историко-культурный; умение соединить профессию с
философией жизни и личным мироощущением; утопическая
концептуализация будущего в сочетании с катастрофическим
переживанием актуального исторического дня (отсюда одержимость
«мистерией»; повальное увлечение теософией мотивировано
примерно тем же); историзм ренессансного типа (новое
восприятие времени и пространства в пестроте огромного
многоэтнического мира); миметическое воспроизведение научно-
эстетического энциклопедизма и даже универсализма в духе
Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Джордано Бруно.
Эстетико-сциентистские синтезы классического
Ренессанса дали новые типы синтезов в ренессансе Серебряного века:
цвето- и светомузыка (Скрябин); глоссолалия, эйдология,
новаторское стиховедение и поэтология (Белый);
эзотерическая стилистика на основе новой конвергенции онтологии,
гносеологии, космографии, богословия, поэтики и эстетики
(Вяч. Иванов). Шел поиск универсального языка описания
всего, что ни есть на свете этом и том, он реализован во всех
без исключения родах и жанрах искусства, в которых работали
эти люди. Историю поиска ими универсальной метаметодоло-
гии* (научной и художественно-эстетической) стоит поставить
в один ряд с опытами В. Одоевского, Н. Федорова, о. Павла
Флоренского, Л. Карсавина, А. Мейера, Г. Шпета, В.
Вернадского, М. Бахтина.
Объединяет «героев» антологии и экстремальный по
напряженности и маргинальный по способу ориентации в социальной
* См.: Ревзин И. И. О книге Я. Линцбаха «Принципы философского
языка. Опыт точного языкознания» // Труды по знаковым системам. Тарту:
ТГУ, 1965. Вып. 2. С. 339-344.
36 К. Г. Исупов
топологии принцип личной жизни, но он оказался, как водится,
весьма разным по итогам. Ощущение разницы нарастало в них
тем сильнее, чем плотнее и теснее их реальное присутствие в
персоналистско-типологическом ряду эпохи. Иванов в письме
к Коновалову* в резких интонациях отмежевался от путей
Блока, Брюсова и Белого; отношения дружбы-вражды оказались
основной моделью бытового и творческого агона; один Скрябин
не успел с ними переругаться, хотя шло к этому... Тема дружбы
девальвирована в поэзии Серебряного века.
В плане этическом наши «герои» стоят друг друга. Просим
читателя понять нас правильно: сама история равнодушна к
нашим этическим о ней суждениям. И все же...
Таланты и поклонники Серебряного века вменили себе
поведенческий принцип беспринципности. Это время торжества
автономной этики в свете лозунга «что позволено Юпитеру...»
и т. д. Обычным делом стало восприятие Другого (Другой)
как «материала» для собственной артистической
самореализации. Целую программу эгоистской эротофагии выстроил
герой эпистолярного романа Ф. Степуна «Николай Пересле-
гин» ( 1929), а теоретически ее обосновал Л. Карсавин в
статье «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви» ( 1821 ).
Иванов в своих дневниковых исповедях-самоотчетах
признавался в эгоцентризме и нарциссизме: «Гордость мужской
самовлюбленности, абстрактный нарциссизм моей чувственности»
(СС. 1, 748. — Дневник 1906 г.). Эти вещи легко встают в ряд
с тривиальными негациями эпохи: соблазн Злом и апология
Антихриста; сочетание гордыни с юродским самоуничижением;
жизнь-импровизация, в которой есть место и точному расчету
на несомненный успех, и забота о посмертной славе;
тщеславие, амбициозность; невосприимчивость к критике и
диалогическая глухота; торопливая «смена вех» и мировоззренческий
протеизм; оксюморное сочетание надежды на личное спасение
и мессианизма («чаадаевский комплекс»); ощущение реальной
сопричастности к ряду мировых писателей и мыслителей на
грани мании величия.
Наконец, главное, что сдружило таких непоседливых и
капризных людей, — это идея синтеза искусств, понятая и реа-
Письмо Внч. Инансжа к С. А. Коионалону ( 1946)/ Публ. С. К. Кулыос и
А. Б. Шишкина//Menentovivere. Сб. памяти Л. Н. Ивановой. СПБ., 2010.
Блеск и нищета символизма 37
лизованная по-разному: Белый «внедрял» формулу в
критические эссе и эстетизировал чертеж, схему и даже стиховую
статистику. Впрочем, пафос пифагорейской инженерии образа
и особое, даже чрезмерное внимание к мистике и символике
чисел свойственны всем троим, ибо кто же не знает, что, как
выразился Е. Замятин в письме Ю. Анненкову, «музыка, это,
конечно, только звучащие Пифагоровы штаны»*.
Синтез ивановского типа подразумевал вербально-
мифическую теургию с условием «возврата» к древнейшим
обрядовым [фактикам и с целью обретения надежного маршрута
«восхождения / нисхождения», результатом какового человек
последнего исторического дня теряется в Творце как Истине,
чтобы воплотиться воистину в ангельском чине властительной
Истины (агиократия).
Скрябин пошел еще дальше, к последним пределам
синтеза, о которых благоразумнее промолчать. Его синтез тотален и
строится на принципе паноптикума. В мировоззренческий
горизонт его универсального виденья вовлечены необратимо: все
виды искусства; хтоника и соматика Мира (стихии, свет, цвет,
запах); ландшафты; флора и фауна; человечество и Космос с
его символической стереометрией и музыкой сфер, а также
горние обители; Ад и Рай. Дыхание Бытия и ритмы
эстетического Сердца Универсума, мистическая Роза Мира, — все в
руках вселенского теурга и мистагога, автора будущей
Мистерии, которая будет поставлена и исполнена в течение семи дней
в первый и последний раз.
Скрябин видел себя автором музыкально-синтетического
Апокалипсиса, завершителем мировой истории и
инструментом искупительной всеочищающей катастрофы. Масштабу
этого сатанинского замысла вполне отвечали мессианистские
амбиции великого музыканта.
В точке видения природы синтеза духовная интеграция
Белого, Вяч. Иванова и Скрябина переходит в дифферанс
дробящихся позиций. В первую очередь это коснулось, как мы
видели, толкования и применения символа. Он может трактоваться
эклектически (Белый); онтологически (Иванов);
гносеологически (Брюсов); мистически (Скрябин). По-разному
акцентируется и цель творчества: 1 ) убедить людей в несомненной
Анненков Ю. II. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. С. 248.
38 К. Г. Исупов
правоте протеического человека-поэта (Белый); 2) собрать
распавшийся мир в новое культурно-историческое единство и
в «новую архаику» (Иванов); 3) кардинально преобразовать
Космос и социальную реальность в музыкально-вселенской
мистерии и в личном, предельном по степени напряженности,
творческом усилии (Скрябин).
Соответственно разнятся средства и антураж «поэтического
хозяйства» (словечко Вл. Ходасевича): 1) эвритмия и
глоссолалия; преодоление языка внутри языка в формалистически
осуществляемой жанровой креолизации (Белый); 2) анамне-
зис мифопоэтической хтоники образа и дискурса;
эстетическая культурология и иерархизация религиозных ценностей,
освященных мировым опытом (Иванов); 3) музыкально-
поэтический и сенсуальный синтез в творческой демиургии и
теургии самовольного и самозаконного «человека-артиста»
(Скрябин).
В персоналистском плане различимы и три типа личности.
Сын профессора, Бугаев-Белый — весь в отрицании ученого
академизма. Он — экстраверт, овнешненный в жесте и
интонации, в «козловаке» и в крике, равно готовый и к счастливой
встрече, и к дуэли, и к трагической разлуке; он способен менять
личное прошлое (переписывание мемуаров) с наивной верой в
то, что оно и впрямь вариативно*. То, что для Другого —
обида, для Белого — не стоящий воспоминания эпизод; человек
Воистину Белый, вугоду ситуативной конъюнктуре, пытается, какСаваоф
Ветхого Завета в «Книге Иова», сделать бывшее небывшим. Перекраивая и
деформируя мемуарный материал, он никак не впишет своего Блока ранней
редакции в мемуарную трилогию. «Блок мне испортил "Начало века"», —
пишет он П. Н. Медведеву 10 дек. 1928 г. А о переделке книги «Начало
века» в свете требований советского времени 20 янв. 1929 г. сообщает ему
же: «Я стал думать о ракурсе-транскрипции, — перелицовки, так сказать,
"тона" воспоминаний». Цитирующий эти реплики А. В. Лавров справедливо
и не без иронии комментирует широко используемые в новой редакции
воспоминаний приемов шаржирования и иронического снижения: «Вместо
требуемого идеологического бичевания с пристрастием — затрагивающая
всей вся иронически-гротесковая стилистика, которая в силу своего заведомо
снижающего эффекта дезавуирует проблему "серьезной" и
"принципиальной" оценки и тем самым умышленно исполняет благоприобретенную миссию
отпущения первородных грехов» // Лавров А. В. Мемуарная трилогия и
мемуарный жанр у Андрея Белого. См.: Белый Андрей. На рубеже двух
столетий. М.: Худлит, 1989. С. 27, 21, 24.
Блеск и нищета символизма 39
с огромным запасом творческой энергии, он умел талантливо
и безоглядно тратить ее; главным даром Белого было умение
вовремя вступить в голосовую симфонию эпохи, сохраняя при
этом эстетический приоритет личной партитуры.
Белый был человеком маргинальных форм поведения; о его
«юродстве» и «бесноватости» говорили многие, как, впрочем,
не о нем одном. Ужимки юродивого находили в Ремизове,
Розанове, Клюеве, Добролюбове, Есенине, в эскападах футуристов,
ничевоков и бубновалентовцев.
Как тип творческой «игры всерьез»*, духовное юродство
никогда не исчезало из репертуара отечественных форм
творческого поведения.
Вяч. Иванов сохранил в манерах своего творческого
поведения неслиянное и нераздельное соприсутствие
академически основательной учености, сухого блеска ума ( «аполлониче-
ское») и избыточную эмоциональность поэтического
экстаза («дионисийское»). С людьми он общался «психологично»
(требовал исповедности — момент совпадения с Розановым)
и катехитически (требовал ответности); такой же была и поза
чтения: поза вопрошающего и равночестного собеседника
(переводчика, комментатора, интерпретатора). Беда в том,
что у Иванова на все и всегда был готовый ответ;
результатом диалога он полагал не обмен конгениальными
репликами, а еще одно подтверждение личной правоты, пусть даже и
апофатическим образом. При всей готовности к общению с
Римом и Миром Иванов был и остался бесконечно одиноким
интровертом; единственно продуктивной компенсацией роли
чужого среди своих было его умение определиться,
утвердиться и реализоваться в ментальных стратегиях редчайшего типа,
а именно: в стратегиях интимной, глубоко серьезной и
благоговейной эмпатии относительно своих великих
предшественников и не менее великих предчувственников будущего (см.
оценки Данте, Гёте, Новалиса, Достоевского, Хлебникова,
Скрябина, Чюрлениса).
Белый: «Так бы и определил мой игровой подход к христианству;
повторяю: играл я всерьез» {СКМ, 423). Ср.: «То, что вам — игра, нам —
единственный серьез. Серьезнее и умирать не будем» // Цветаева М.
Проза. М.: Современник, 1989. С. 77. Текст «Предварительного действа»
перенасыщен образами демиургической «божественной игры».
40 К. Г. Исупов
Превратив «историческое» (т. е. временное) в
«географическое» (т. е. в серию топосов синхронно оглянувшихся друг на
друга культур), Иванов оказался способным к симультанному
переживанию и соположению единомножественного собора
мирового культурного опыта. Эта черта роднит его с такими
разными людьми, как Т. Моммзен (аналоговая историология),
Ф. Ницше, О. Шпенглер, Э. Кассирер, Ф. Зелинский, Н. и
М. Бахтины.
Скрябинский тип личности наиболее трудно определим.
Перед нами — то ли образец гофманиады с диагнозом
«творческого безумия»", о котором так любил поговорить Серебряный
век, то ли инициатор экспериментального искусства с
попыткой делегировать музыке все, что ею не является, то ли явление
«обратной стороны титанизма », говоря словами названия одной
из глав книги А. Лосева «Эстетика Возрождения» (1978), то
ли пример избыточно-разрушительной гениальности, которая
обращается против себя самой, формируя в душе человека-
творца орган темных внушений и демонической активности.
Есть нечто ужасающее в той сверхчеловеческой энергии,
которую эманирует, до физической боли потрясая весь внутренний
состав слушателей, его музыка эротико-оргиастического
экстаза и ренессансного прометеизма. Он сумел придать Дионису
самое «пифагорейское» из искусств (коль скоро музыка — это
аполлонически звучащая геометрия и вещее Мировое
Число космических гармоний) на путях кардинального отрицания
классического мелоса в пользу неклассического аффекта. Но
даже И. Стравинского, еще одного великого разрушителя
всего предшествовавшего мелодического опыта, отвращали
эротические откровения Скрябина. Как человек, наделенный
даром музыкально-цветовой (музыкально-световой) синэстезии,
автор «Предварительного действа» демонстрирует нам новый
тип человеческой личности, на которой весь мир замкнулся,
чтобы другие убедились, сколь непомерна эта ноша мирового
Селезнева А. В. Эстетики безумия в традиции русского романтизма.
Автореф. дисс. <...> канд. филос. наук. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена,
2005; Семиотика безумия / иод ред. Норы Букс. Париж, М.; Сорбонна:
Русский институт, 2005; Грякадова Н. К). Человек модерна: Биография —
рефлексия — письмо. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. С. 251—289;
Радии Е. П. Футуризм и безумие: параллели творчества и апологии нового
языка кубофутуристов. M.: Salamandra. P.V.V., 201 1.
Блеск и нищета символизма 41
синтеза для одинокой Божьей твари в Божьем мире. На
Скрябине и его душераздирающей музыке наглядно сбылись итоги
по-возрожденчески горделивого человекобожеского
энтузиазма; он — тот самый humanis Deus, в котором Николай Кузан-
ский видел подлинного творца и хозяина будущего.
* * *
Примененные символистами оптика метаисторического
зрения и технология интерпретирующего «чтения» необратимо
деформировали «историческое». Как только жизнедательные
прикосновения к почве были сочтены излишними (при всем
неопочвенничестве идеологов «греческого Возрождения»),
символизм выродился в эстетскую игру с эфемеридами
свободного воображения (опыт «автоматического письма»; поэтика
сна, грезы, экстатических видений, кошмара, наркотического
иллюзиона и прочих «дионисийских» радостей).
Символистские игры с реальностями имели трагические
последствия для общеевропейской литературы: появился
впечатляющий ряд текстов, претендующих на статус метал итературы.
Об этом с тревогой писал Р. Барт в маленькой заметке
«Литература и метаязык» ( 1959):
«...Литература стала ощущать свою двойственность, видеть в
себе одновременно предмет и взгляд на предмет, речь и речь об
этой речи, литературу-объект и металитературу. Развитие это
прошло <...> следующие фазы. Сначала сложилось
профессиональное самосознание литературного мастерового,
вылившееся в болезненную тщательность, в мучительное стремление к
недостижимому совершенству (Флобер). Затем была
предпринята героическая попытка слить воедино литературу и мысль о
литературе в одной и той же субстанции письма (Малларме).
Потом появилась надежда устранить тавтологичность
литературы, бесконечно откладывая самое литературу "на завтра",
заверяя вновь и вновь, что письмо еще впереди, и делая
литературу из самих этих заверений. Далее суду подверглась сама
"спокойная совесть литературы": слову-объекту стали
намеренно, систематически приписывать множественные смыслы,
умножая их до бесконечности и не останавливаясь
окончательно ни на одном фиксированном означаемом (сюрреализм).
Наконец, попытались, наоборот, создать смысловой вакуум, дабы
обратить литературный язык в чистое здесь-бытие (être-là), в
42 К. Г. Исупов
своего рода "белое" (но отнюдь не непорочное) письмо — я
имею в виду творчество Роб-Грийе»*.
Символизируемая реальность есть реальность ее описания,
как в утопии или в математике (см.: Ауслендер С. Два рассказа,
1907), и человеку-артисту вольно придавать ей тот градус
подлинности, какой задается правилами игры. Пережившие
чрезвычайно сложную эволюцию символизм и постсимволизм не
расстаются с представлением о символе как фундаментальной
возможности новой онтологии и эстетической логики.
Расставание символистов с символизмом произошло на
родной почве: у Блока — как «трагедия трезвости» (по резкому
суждению Белого), у автора «Симфоний» — не без надрыва:
«Да, сердечность под формою гнева есть оправдание растопта-
нию книги» (С/Ш, 448). Это амбициозное покаяние Белого
было уже подготовлено трагическим самоотречением Блока:
«Молчите, проклятые книги!/Я вас не писал никогда!»
(«Друзьям», 1908). Единственному музыканту-символисту** времени
на разочарование судьба не отпустила. Единственный, кто до
конца остался при «заветах символизма» (по названию статьи
1910 г.), — Вяч. Иванов: он увез на Тарпейскую скалу грезу о
«вечном символизме».
Будем справедливы: не «символисты символизм
прозевали», как с отрешенным отчаянием фиксировал Белый в 1928 г.
(СКМ, 448), но, выражаясь семиотически, означающее
прозевало означаемое. Между первым и вторым разверзся Ungrund
катастрофической реальности, который можно было
дезавуировать лишь мифопоэтическим способом.
Прекрасные посулы символистов подарить миру и людям
тотально обновленную онтологию не сбылись и сбыться не
могли: мстительная, избыточно насыщенная темными
деструктивными энергиями реальность рубежа веков превозмогла
теургическую магию великого, блистательного и безумного
Серебряного века.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика, поэтика ( пер. с франц. ) / сост.,
общая ред. и вступ. статья Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 131-132.
«Скрябин был, в сущности, единственным музыкантом-сим вод истом, со
всей характерной идеологией символизма, с идеями художника-"теурга", слияния
искусства с жизнью и религией». (Сабанеев Л. Мои встречи. «Декаденты») //
Воспоминания о Серебряном веке. М.: Республика, 1993. С. 347.
В. В. Бычков
Эстетические заветы
и пророчества русского символизма*
русский символизм, как известно, унаследовал
основные принципы западноевропейского, но
переставил отдельные акценты и внес в него целый ряд
существенных корректив. Новаторский этап
отечественного символизма приходится на начало XX в. и
связан с именами «младосимволистов» Андрея
Белого, Вячеслава Иванова, Александра Блока, Эллиса
(Л. Л. Кобылинского), которые обогатили теорию и
практику символизма специфически русскими
чертами**. В качестве главных среди них можно назвать
осознание софийного начала искусства и соборности
художественного мышления, разделение символизма
на реалистический и идеалистический, теорию
выведения символизма из сферы искусства в жизнь и
разработку в связи с этим понятий «мистериальности» и
«теургии» как важнейших категорий эстетики
русского символизма, апокалиптизм и эсхатологизм в
качестве существенных творческих мотивов.
* Переработанная версия статьи в издании: Полигнозис. 1999.
№ 1.С. 83-104.
Подробнее о генезисе русского символизма и его
особенностях см.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система
поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999; Pyman А. А
History of Russian Symbolism. Cambridge, 1994.
44 В. В. Бычков
Символисты с воодушевлением восприняли концепцию
Владимира Соловьева о Софии Премудрости Божией как
творческом посреднике между Богом и людьми, главном
вдохновителе искусства и соучастнике творческого процесса*. Особой
популярностью пользовалась соловьевская идея о явлении
Софии в облике прекрасной девы, которая была объединена ими
с гётевской идеей Ewig Weibliche и была активно воплощена
в поэзии — особенно Блоком («Стихи о Прекрасной Даме»),
Белым (в 4-й симфонии «Кубок метелей», в поэме «Первое
свидание»), Бальмонтом в лирических циклах. София часто
рассматривалась гарантом истинности поэтических символов и
образов, вдохновителем поэтических озарений и ясновидения.
Иванов в докладе «Заветы символизма» усмотрел в истории
русского символизма три последовательных момента, которые
обозначил как теза, антитеза и синтетический момент.
Суть первого он усматривал в первой радости обретения
символистами бесконечного мира символов-соответствий в мире
и в искусстве, открывавшего перед человеком безграничные
возможности приобщения к «бытию высочайшему». Однако
в силу ряда социальных, психологических и иных причин эта
теза очень скоро сменилась антитезой — глубоким
разочарованием, пессимизмом, «криками отчаяния», душевными
страданиями и срывами, доводившими некоторых символистов до
безумия. Блок обозначил эти моменты, переведя их из
хронологического ряда в онтолого-эстетический, как 1) пурпурно-
золотой уровень приближения к Лику самой «Лучезарной
Подруги» и 2) сине-лиловый демонический сумрак масок,
марионеток, балагана, когда искусство превращается в Ад. Блок
не разделял оптимизма Иванова относительно третьего
момента. Иванов же был убежден, что уже приближается третий
синтетический момент символизма, и усматривал его
реализацию в грядущей мистерии — своеобразном синтетическом
религиозно-театрализованном сакральном действе, в котором
будут принимать активное участие как подготовленные
актеры, так и все зрители. «Мистерия — упразднение символа,
как подобия, и мифа, как отраженного, увенчание и торже-
Подробнее о софиологии Вл. Соловьева вообще см.: Кравченко В.
Владимир Соловьев и София. М., 2006; в эстетическом контексте:
Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007. С. 67—75.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 45
ство чрез прохождение вратами смерти; мистерия — победа
над смертью, положительное утверждение личности, ее
действия; восстановление символа, как воплощенной
реальности, и мифа, как осуществленного "Fiat" — "Да будет!.."»
(11,602-603)*.
Существенным вкладом символистов в эстетику стало
осознание глубинной динамической связности основных
эстетических категорий прекрасного и возвышенного и их
генетической связи с еще одним эстетическим принципом —
хаотическим, который они ввели в эстетику и нередко
опирались на него в своем творчестве. Хаос еще Вл. Соловьев,
опираясь на известные стихи Тютчева о «древнем хаосе, родимом»,
считал «глубочайшей сущностью мировой души и основой
всего мироздания»** и связывал его с эстетическим принципом
безобразного***. Иванов в статье «Символика эстетических начал»
непосредственно вводит категорию хаотического в эстетику как
дионисийское начало, фундирующее прекрасное и
возвышенное. Возвышенное как символ восхождения души в небесные
миры находится где-то на грани эстетического и
религиозного начал, это мужское, аполлоновское начало; прекрасное как
символ нисхождения из небесной выси на землю — чисто
эстетический феномен, это женское, символизируемое Афродитой,
начало; хаотическое же — хтоническое, демоническое,
дионисийское начало — царство «темного пурпура преисподней»****.
В искусстве динамически переплетаются все три эстетических
начала, и особенно наглядно, убежден Иванов, это
проявляется в музыке. «Могущественнейшее из искусств — Музыка —
властительно поет нам этими голосами ночных Сирен глубины,
чтобы потом вознести нас по произволу из своих пучин (как
"хаос рождает звезду") взвивающейся линией возвышенного и
Тексты Вячеслава Иванова цитируются по изданию: Иванов Вяч. Собр.
соч. Брюссель, 1974, с указанием в скобках тома (римская цифра) и стр.
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 7. Брюссель, 1966. С. 126.
*** Подробнее см.: Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. С. 64—65.
**** Иванов В.Ликииличины России: Эстетика и литературная теория. М.,
1995. С. 65. Подробнее о других аспектах хаотического в творчестве Иванова
см.: Грек А. Г. Дионисийский аспект хаоса в творчестве Вячеслава Иванова //
Логический анализ языка: Космос и хаос: Концептуал. Поля порядка и
беспорядка. М., 2003. С. 519-536.
46 В. В. Бычков
возвратить очищенными и усиленными земле благим
нисхождением Красоты»*.
Процессы, активно начавшиеся в искусстве в период
расцвета русского символизма — в эпоху Серебряного века — во
многих видах искусства, а затем охватившие всю
художественную сферу XX в., убедительно показывают, что хаотическое как
эстетическая категория только набрала за последнее столетие
мощь и силу, во многом потеснив на периферию эстетического
опыта и прекрасное, и возвышенное.
Символизм в России, достигший своего апогея к 1910 году,
развивался по двум линиям, которые часто пересекались и
переплетались между собой у многих крупнейших символистов:
символизм как художественное направление и символизм как
миропонимание, мировоззрение, своеобразная философия
жизни. Особенно сложным переплетение этих линий было у
Вячеслава Иванова и Андрея Белого с явным преобладанием
второй линии. Именно здесь русский символизм наиболее ярко
проявил уникальность своего лика.
Главным теоретическим credo символизма, как известно,
было убеждение в символическом характере любого под-
личного искусства, — идея, сформулированная в свое время
Ф. Шеллингом и Ф. Шлегелем, но мало кем тогда
поддержанная. Сам смысл символизма как эстетической теории Андрей
Белый видел в том, что символисты «осознали до конца, что
искусство насквозь символично, а не в известном смысле, и что
эстетика единственно опирается на символизм и из него делает
все свои выводы; все же прочее — несущественно. А между
прочим, это "все прочее" и считалось истинными критериями
оценки литературных произведений» ( 1,268)**. Таким образом,
смысл символизма как теории заключается, согласно главным
утверждениям Белого, в том, что он не столько предлагает нам
какие-то принципиально новые теории, сколько перемещает
акценты и установки в уже наработанных культурой теориях
(философии и эстетике особенно) в направлении более при-
Иванов В. Лики и личины России. С. 66.
Работы Андрея Белого цитируются но изданиям: I ) Белый А. Критика.
Эстетика. Теория символизма. Т. 1. М., 1994; 2)Тоже издание. Т. 2; 3) Белый А.
Символизм как миропонимание. М., 1994 — с указанием в скобках номера
издания (арабская цифра) и стр.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 47
стального всматривания в сущность описываемых ими
феноменов; от видимых теоретических форм двигаться в их глубину —
сквозь них вглубь. В этом случае философия Аристотеля
оказывается лишь символической структурой, сокрывающей идеи
платонизма, а поэзия Данте, Пушкина или Гёте — способами
проникновения в духовные миры, не имеющие ничего общего с
внешне описанными явлениями*.
Отсюда под символом символисты понимают некий
полисемантичный феномен, посредствующий между материальным,
чувственно-воспринимаемым миром и миром духовным.
Согласно Вяч. Иванову, символы — это не изобретения людей,
но некие знамения, подобно лучу истекающие из
божественного лона (имеют божественное происхождение!) и означающие
нечто, принадлежащее божественной действительности. Они
обладают самостоятельным бытием и наделены комплексом
значений, по-разному раскрывающихся на различных уровнях
человеческого бытия и сознания. Наиболее полное выражение
они находят в мифе. Позже, в 1913 г., он уточнит, что «всякий
истинный символ есть некое воплощение живой божественной
Подробнее о философии искусства и эстетических аспектах творчества
главных символистов см.: West J. Russian symbolism: A study of Vyacheslav
Ivanov and the Russian symbolist aesthetic. London, 1970; Deppermann M.
Andrej Belyj's ästhetishe Theorie des schöpferischen Bewußtseins:
Symbolisierung und Kriese der Kultur um die Jahrhundertwende. München, 1982. Главные
монографические работы о Белом и Иванове, затрагивающие философско-
эстетический контекст: Мочульский К. В. Андрей Белый. Paris, 1955;
Пургин С. П. Философия в круге Слова // Вячеслав Иванов. Екатеринбург,
1997; Аверинцев С. С. «Скворешниц вольных гражданин...» // Вячеслав
Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001; Цимборска-Лебода М.
Эрос в творчестве Вячеслава Иванова // На пути к философии любви. М.;
Томск, 2004.; Сиивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель.
М., 2006. В последние десятилетия вышло много исследовательских
сборников и материалов конференций по Белому и Иванову, среди которых
встречаются и тексты с филоеофско-эстетической проблематикой. См., в
частности: Белый Андрей. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания.
Публикации. М., 1988; Иванов Вячеслав. Творчество и судьба. М., 2002;
Белый Андрей. Pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках
и толкованиях современников. Антология. СПб., 2004; Башня Вячеслава
Иванова и культура Серебряного века. СПб, 2006; об издании материалов
многочисленных международных конференций по Вяч. Иванову см.: Иванов
Вячеслав. Исследования и материалы. СПб., 2010. Выи. 1. С. 5—7.
48 В. В. Бычков
истины» и поэтому — реальность и «реальная жизнь»,
имеющая как бы относительное бытие: «условно-онтологическое»
по отношению к низшему и «мэоническое» по отношению к
высшему уровню бытия. Символ — это некая посредствующая
форма, которая не содержит нечто, но «через которую течет
реальность, то вспыхивая в ней, то угасая, — медиум струящихся
через нее богоявлений». Символ есть жизнь, но «бесконечно
менее живая жизнь, нежели Человек, который есть живой и
сущий воистину, каковым остается и с глазу на глаз с Самим
Присносущим» (II, 646-647).
Таким образом, Вяч. Иванов, может быть, как никто другой
из символистов, глубоко и точно понимал сущность символа,
который практически не поддается одномерному словесному
описанию, как некий принципиально антиномический онто-
гносеологический феномен совершенно особой,
посреднической между божественной и человеческой сферами природы.
При этом по своей сущности он — мэон для сферы
божественной и знамение этой сферы для человека, обладающее, однако,
меньшей онтологической ценностью, чем жизнь человеческая.
Андрей Белый понимал под символом в целом некую
многозначную единицу особого семантического уровня, которая
обладает рядом своеобразных качеств, — далеко не все из них
ему удается достаточно ясно прописать вербально. Исходя
из традиционной для русского символизма этимологии слова
«символ» (соединение) Белый утверждает, что символ
указывает на результат «органического соединения» чего-либо с
чем-либо, т. е. более высокого уровня соединения, чем
подразумевается под термином синтез ( в нем он видит лишь
механический конгломерат) ( 1,71). Символ — это «отливка»,
«отпечаток» «внутренне переживаемого опыта человечества». При
этом художественная символика есть отпечаток личного
творчества, а религиозная — «индивидуально-расового» ( 1, 47).
Символ принципиально неоднозначен и не формализуем на
логическом уровне. Он не дает точного знания о своем
содержании, но лишь в большей или меньшей мере намекает на него.
Символы не говорят, но «подмигивают» и «кивают», со
ссылкой на своего кумира Ницше неоднократно повторяет Белый (2,
77; 3, 435 и др.)*; но они «кивают» «о действительно пережи-
Это же определение сим »ода Ницше (символы «не говорят, они только
кивают. Глупец тот, кто хочет узнать от них что-либо» ) приводит и Эллис (см.:
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 49
ваемом, о творимом, о третьем, о царстве "символа" (3, 435).
Символ — это нечто внешнее, надежно укрывающее
внутреннее и защищающее его от непосвященных: «Идеология шлема
и бронировки» — это идеология символического мышления (3,
435). Сокрытие и защита, однако, не главная функция
символа, но скорее необходимость, вытекающая из принципиальной
трудновыразимости его внутреннего содержания. Главная же
его задача, конечно, позитивная — открывать тайну тем, кто
способен ее понять, «...символ — окно в Вечность» (2, 212), а
соответственно и путь к Символу (с прописной буквы), под
которым Белый понимал абсолютную духовную реальность,
которую он достаточно регулярно отождествлял с Единым,
Христом, Софией или просто с Богом.
Белый видел в Символе бытийственный смысловой абсолют,
к которому равно возможны и равно недостаточны подходы как
со стороны традиционной философской гносеологии, так и со
стороны онтологии. Он — над и онтологией, и гносеологией,
как бы снимая их на более высоком уровне — символизма как
соответствующей теории и символизации как символистского
творчества. В этом плане Символ — это «эмблема эмблем»,
если под эмблемой понимать схему, как основу классификации
понятий. Символ — «абсолютный предел для всяческого
построения понятий» (1, 95). Более того, он «есть предел всем
познавательным, творческим и этическим нормам: Символ
есть в этом смысле предел пределов» (1,113). В патристике
эта формула могла бы быть приложена и фактически
прикладывалась с некоторыми модификациями к Богу.
Таким образом, Белый в своем понимании символа во
многом продолжает (вероятно, сам того не подозревая) традиции
александрийско-каппадокийских отцов Церкви, которые еще
в поздней античности разработали развернутую систему
символизма, основывающуюся на принципе, сформулированном
Климентом Александрийским: «сокрывая раскрывать»*.
Эллис. Русские символисты: Константин Бальмонт. Валерий Брюсом. Андрей
Белый. Томск, 1996. С. 25; и дальнейшем что издание цитируется с указанием
в скобках стр. ).
О святоотеческом и византийском символизме см.: Бычков В. В.
AHSTHKTICA PATRUM. Эстетика отцов Церкви: Апологеты. Блаженный
Августин. М., 1995. С. 241—243; Он же. Малая история византийской
50 В. В. Бычков
Собственно символизм понимается символистами
многозначно. Это и теория символического выражения духовного
мира в искусстве, и путь в этот духовный мир, в конечном
счете — к самому Первосимволу, это и некое промежуточное
бытие между материальным и духовным мирами*.
Согласно Эллису, художественный символизм в
совершенстве владеет методом «созерцательного постижения»,
обладает даром «напрягать эту жажду последней тайны, это влечение
к безбрежному до самой последней грани» ( 194). И жажда
бесконечного в человеческой душе, особенно в утонченной душе
символиста, сама бесконечна. Символизирующий дух, восходя
по символическим ступеням познания (здесь нельзя не
вспомнить об иерархическом символизме псевдо-Ареопагита как о
системе восхождения к Богу), «неизбежно развивает в себе
влечение к постижению последнего символа, того Великого
Символа, который является как бы символом всех символов,
связывая и разрешая их, обусловливая и предопределяя.
Великий Символ держит их собой, таинственно сам себя
обусловливая. Всякий символист знает это сжигающее стремление к
постижению Великого Первосимвола; быть может, смутное
мерцание Его и служит полусознательным мотивом к
построению всех других символов», — писал Эллис (там же).
эстетики. Киев, 1991. С. 80—92. Подробнее о понимании символа Белым
и Ивановым см.: Стояновский М. Ю. Символ у Вячеслава Иванова:
традиция и специфика. М., 1996; Вертлиб Е. О природе символа у Андрея
Белого и Вячеслава Иванова //Дон. Ростов на Дону, 1998. № 4. С. 244-
253; Садовская Л. Б. Специфика художественного символа в философии
творчества Вячеслава Иванова // Вестник Белорусского ун-та. Сер. 3.
История, философия, политология, социология, экономика, право. Минек,
1998. № 3. С. 21-25; Китами С, Какинума Н. Обоснование А. Белым и
Вяч. Ивановым концепции «символа» // Русская культура на пороге нового
века. Sapporo, 2001. С. 233—258; Сокурова О. Б. Споры о символе в начале
XX в. // Наука и искусство в пространстве культуры. СПб., 2004. Вып. 2.
С. 296—316; Хрусталева А. В. Концепции символа и символического у
В. Иванова и М. Гершензона // Информационное поле современной России:
практики и эффекты. Казань, 2006. С. 147-158; Сокурова О. Б. Символ в
теоретических статьях Андрея Белого и Вячеслава Иванова // Вестн. Моск.
гос. обл. ун-та: Сер. Рус. филология. М., 2007. № 4. С. 137-145.
О многочисленных дефинициях понятия «символизм» в кругах русских
символистов см.: West J. Russian symbolism. P. 108— 1 16.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 51
История духовной культуры в христианском ареале
возвращается «на круги своя». После нескольких столетий
секуляризации и увлечения естественными науками, позитивизмом
и материализмом на рубеже мощного скачка бездуховных
цивилизационных процессов XX века Культура* уже изнутри
своей секуляризированной («свободно» развивавшейся вне
церковного «диктата») части — светского искусства
приходит к выводу существования абсолютного духовного Начала
бытия, Первопричины мира, т. е., проще говоря, старого
доброго Бога, которого в рамках новой художественной
рефлексии, опосредованной классической немецкой философией,
теперь называют Первосимволом, Великим Символом или
просто Символом с прописной буквы. Глубинная духовная
суть от этого не меняется. Символизм ясно и осознанно в
лице своих крупнейших представителей, как на Западе, так
и в России, тяготеет к возврату в лоно традиционной
религии, хотя в силу культурно-исторических обстоятельств
своего времени желал бы внести в нее некоторые свои символы,
а точнее — обозначить по-новому традиционные символы и
мифологемы.
При этом искусству как символическому феномену
отводится существенная роль пути к Символу, и пути, имеющему
изначальный материальный фундамент. Искусство в
понимании Эллиса — это духовно-материальный феномен, в котором
вещная, материальная составляющая — не досадный
придаток, но основа, — именно на ней только и может существовать
истинное произведение искусства. Символизм, осознав, что
главной целью искусства является возведение человека в
духовные миры, поднялся до той грани, на которой он должен или
совсем оторваться от материи, т. е. перестать быть искусством
(превратившись, например, в религию или чистую мистику),
или сознательно остановиться на пути восхождения к Перво-
символу, только намекая на него еще в конкретно чувственных
формах искусства. Отсюда представления о недостаточности и
кризисе символизма в среде самих символистов.
Подробнее о моем понимании Культуры (с прописной буквы) и
посткультуры (в данной транскрипции) см.: Бычков В. В. Эстетическая аура
бытия: Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.
С. 400-417 и более ранние работы.
52 В. В. Бычков
Эллис усматривает этот кризис в изначальной
самопротиворечивости, или двойственности, русского символизма.
Противоречие это заключается в том, что символизм, с одной
стороны, очень быстро превратился в России в синтетическое
миросозерцание, которому стал доступен иной мир, «какустой-
чивая высшая сфера, как realiora, он (символизм. — ß. 5.) уже
стал отлагаться в строгие формы единой символики,
он замыслил уже о новой культуре и новой личности», т. е.
встал на путь теургического творчества. С другой стороны, он
продолжал оставаться и остается еще правоверным
художественным направлением, школой в искусстве, исповедующей
«чистое искусство», догмат имморализма и безграничного
индивидуализма, «боясь всякой устойчивости, всякого чувства
действительности (хотя бы и потусторонней)». На основе
этого в символизме стали развиваться «догматизм, иллюзионизм,
формализм и солипсизм» (285), приведшие к его кризисному
состоянию.
Однако этот кризис в понимании Эллиса отнюдь не
означает «агонию и смерть» символизма, о чем писали в то время
многие его критики. Ибо это было бы равносильно «смерти
всей культуры и прекращению всякой идейной жизни вообще,
что немыслимо» (279)*. Выход из этого кризиса, считает
Эллис, был уже ясно указан самими символистами, в частности
представителем «классического» (т. е. чисто
художественного) символизма — Брюсовым в его статье 1905 г. «Священная
жертва» и Белым — во многих его статьях. Суть его — выход
за пределы искусства в самую жизнь. Credo символизма,
прописанное символистами еще в 1904—1905 гг. и частично
реализованное в их творчестве, особенно Андреем Белым,
заключается в понимании символизма не только как литературной
«школы», но и как «служения». «...Их символизм, — писал
Эллис, — уже достиг ступени искания Единого Первосимвола,
их символизация — уже четко проступающая символика. Им
открыт путь в Вечное, а следовательно, и в будущее!»
Поэтому «кризис символизма» Эллис считал лишь временным явле-
Т<>, что казалось немыслимым русскому символисту в начале прошлого
века, столетие спустя представляется вполне реальной ситуацией.
Современная посткультура — ярчайший симптом угого, если уже не сам
состоявшийся факт.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 53
нием, которое будет изжито на новом этапе путем устранения
отмеченного выше противоречия. Он верил в великое мировое
будущее символизма.
«Мы знаем, — заключает он свою книгу, — что, с самого
начала всесторонне подойдя к символике искупления,
символисты воочию узрели тот Верховный, венчающий систему,
Символ, который неизбежно возникает пред всяким созерцающим
Е n s г е а I i s s i m u m, перед всяким через экстатическое
ясновидение вознесшим свой дух к преддвериям
божественного царства вечного света, абсолютного ритма и
совершенной гармонии. Этот Первосимвол, этот верховный Лик — лик
Вечно-Женственный, Лик Мадонн ы!» Служить ему,
преклоняться перед ним, молить его об искуплении —
единственный и абсолютный путь, убежден Эллис, который избавит
пас ото всех ужасов современности и приведет к явлению среди
нас Того чаемого учителя, «которого мы встретим именем
нового Парсифаля!.. Да будет!..» (287)
Символизм, по Белому, — это многомерный
феноменальный мир духовно-материального бытия человека в модусе его
пограничной ситуации между сущностью и явлениями; жизнью
и смертью; будущим и прошлым. Современное, т. е.
символическое прежде всего, искусство (как квинтэссенция символизма)
«обращено к будущему, но это будущее в нас таится; мы
подслушиваем в себе трепет нового человека; и мы подслушиваем
в себе смерть и разложение; мы — мертвецы, разлагающие
старую жизнь, но мы же — еще не рожденные к новой жизни;
наша душа чревата будущим; вырождение и возрождение в ней
борются» (2, 222). Символизм для Белого — это образ жизни
и образ мышления на рубеже между жизнью и смертью
культуры и человечества. Поэтому содержание символов нового
искусства: или свет, «окончательная победа над смертью
возрожденного человечества, или беспросветная тьма,
разложение, смерть» (2, 222). Уже в начале столетия Белый провидел
сущность основной духовно-художественной мифологемы
всего последнего века прошлого тысячелетия, обозначив ее емким
понятием — символизм.
Вяч. Иванов различал два типа символизма: реалистический
и идеалистический. Из известного и программного для
символистов стихотворения Бодлера «Correspondances» он выводит
суть реалистического символизма, полагая, что истоками его
для самого Бодлера стали и реалист Бальзак (в его «Серафи-
54 В. В. Бычков
те»), и мистики Бёме, и Сведенборг (источники стихотворения:
«мистическое исследование скрытой правды о вещах,
откровение о вещах более вещных, чем самые вещи (res realiores), о
воспринятом мистическим познанием бытии, более существенном,
чем самая существенность» — II, 548). Отсюда главная задача
реалистического символизма — «вызвать непосредственное
постижение сокровенной жизни сущего снимающим все пелены
изображением явного таинства этой жизни», ибо он видит
«глубочайшую истинную реальность вещей, realia in rebus», хотя не
отказывает в относительной реальности и феноменальному миру,
поскольку именно в нем и сокрыта «реальнейшая
действительность». Феноменальный мир представляется Иванову символом
этой реальнейшей действительности (549).
Идеалистический же символизм не интересуется глубинной
действительностью. Он ограничивается изобретением
утонченных художественных средств для передачи субъективных
переживаний художника зрителю или читателю его произведений.
Это парнассизм, эстетизм, неоклассицизм, декадентство —
всем этим дышит, по Иванову, вторая часть стихотворения
Бодлера.
Обе стихии живут и причудливо сочетаются в русском
символизме. Сам Иванов остается приверженцем первой стихии
и уже своими дефинициями пытается отыскать пути к более
прочному утверждению ее в русской культуре, ибо
перспективы сущностного бытия культуры (= религиозной культуры) он
видит только на путях развития реалистического символизма.
Критерием различия указанных стихий (или направлений)
символизма является само понимание символа. В
реалистическом символизме он осознается как «цель художественного
раскрытия: всякая вещь, поскольку она реальность
сокровенная, есть уже символ, тем более глубокий, тем менее
исследуемый в своем последнем содержании, чем прямее и ближе
причастие этой вещи реальности абсолютной» (552). Основу этого
символизма составляет, таким образом, онтологизм символа.
В то время как в идеалистическом символизме символ по сути
своей психологичен; он — лишь художественное средство для
передачи информации о субъективном переживании от
одного человека к другому. В реалистическом символизме символ
тоже связывает сознания, но совсем на иной основе — он
приводит их в соборное единение «общим мистическим
лицезрением единой для всех, объективной сущности» (там же).
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 55
Изощрение художественной формы на пути выражения
тончайших нюансов субъективного переживания и стремление
к та^шо-видению художника и реципиента — полюса двух
стихий в символизме, по Иванову. «Пафос реалистического
символизма: чрез Августиново transcende te ipsum, к лозунгу:
a realibus ad realiora. Его алхимическая загадка, его
теургическая попытка религиозного творчества — утвердить, познать,
выявить в действительности иную, более действительную
действительность. Это — пафос мистического устремления к Ens
realissimum, эрос божественного. Идеалистический символизм
есть интимное искусство утонченных; реалистический
символизм — келейное искусство тайновидения мира и религиозного
действия за мир» (553).
Подводя предварительный итог своему анализу двух стихий
в символизме, Иванов резюмирует, что реалистический
символизм ведет свое происхождение от «мистического
реализма Средних веков чрез посредство романтизма и при участии
символизма Гёте». Его главные принципы: объективность и
мистический характер; символ является его целью в качестве
высшей реальности. Идеалистический символизм имеет своим
истоком античный эстетический канон и пришел к нам через
посредство Парнасса; его главные принципы: психологизм и
субъективность; символ для него лишь своеобразное средство
контакта между людьми (554).
Идеалистический символизм, т. е. символизм,
господствовавший в Западной Европе и частично усвоенный и русскими
символистами, ведет, убежден Иванов, к «великому всемирному
идеализму», о котором пророчествовал Достоевский в эпилоге
к «Преступлению и наказанию». Его суть во
всевозрастающем индивидуализме, субъективизме, отчуждении людей друг
от друга, отсутствии взаимопонимания «вследствие отрицания
общеобязательных реальных норм единомыслия и единочув-
ствия» (553).
Сегодня мы хорошо ощущаем плоды движения гуманитарной
культуры в этом направлении и реализацию многого из того,
что предвидели Достоевский и Иванов. Современная «игра в
бисер» (далекая от высокодуховной «Игры в бисер» в
одноименном романе Гессе), в которую превращаются
гуманитарная культура, арт-практики и науки, их изучающие, основана
именно на принципах игры по произвольно утвержденным
некоей группой единоверцев конвенциональным правилам. Атак
56 В. В. Бычков
как сегодня в принципе любой субъект пост-культуры имеет
право создавать правила игры, то общество интеллектуалов
и художников разбивается на множество почти герметически
замкнутых групп и группок, которые, естественно, почти не
понимают языков «игры» друг друга и не стремятся к этому
пониманию. Таков, кажется, современный результат развития
той стихии, которую Иванов обозначил как идеалистический
символизм. Развития принципов реалистического
символизма в современном арт-пространстве пока не наблюдается.
Между тем культурно-исторические перспективы русский
символист усматривал только в реалистическом символизме.
В нем Иванов видел не игру эстетского сознания, но трезвое
стремление к раскрытию «объективной правды о сущем»,
которой является в его понимании миф как форма более высокой
реальности, чем чувственно воспринимаемая действительность
(554).
Теоретиков символизма интересовали прежде всего
сущностные, глобальные проблемы искусства, художественного
выражения, символизации как основного принципа искусства.
Андрей Белый, например, многократно и в разные периоды
своей жизни обращался к смыслу искусства. Для него, как и
для Вяч. Иванова, бесспорно религиозное происхождение
искусства. Его секуляризацию в Новое время он, как и многие
представители русской культуры начала века, рассматривал как
временное явление, отнюдь не способствовавшее повышению
его ценности. Символизм же собственно и должен, по
убеждению Белого, напомнить искусству о его истоках, истинной
сущности и вернуть искусство в сферу религиозной деятельности
по преображению жизни, привести к теургии.
Белый не устает констатировать и подчеркивать, что
именно символизм открыл теснейшую связь искусства с религией
и убедительно доказал, что «область религиозного творчества
близко соприкасается с искусством» (1, 142); что «именно в
форме творческих символизации происходит совпадение
искусства с религией» ( 1, 100); что традиционное искусство
обладает «религиозной сущностью» и «религиозный смысл
искусства эзотеричен: содержание искусства здесь — содержание
преображенной жизни. К такой жизни искусство зовет» (1,
170); что в Новое время в период господства науки и
философии «сущность религиозного восприятия жизни перешла в об-
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 57
ласть художественного творчества» ( 1, 267); что искусство —
«кратчайший путь к религии» ( 1, 380) и т. д. и т. п. Поэтому
символизм, даже художественный, даже как творческий метод
искусства — выше искусства в узком новоевропейском смысле
слова. Взятый со стороны формы, он ничем не отличается «от
приемов вечного искусства»; взятый со стороны содержания,
он уходит своими корнями в древнюю, или восточную, мистику;
а в целом является неким единством того и другого — формы и
содержания; искусства и мистики; искусства и религии (1, 54;
142; 165). «Новизна» того искусства, которое мы называем
сегодня собственно символизмом, — «в подавляющем
обилии старого»: древней и средневековой, восточной и западной
мистики ( 1, 55; 142—143). Все прошлое разом вошло в
современное искусство, убежден Белый. «...Мы переживаем ныне
в искусстве все века и все нации; прошлая жизнь проносится
мимо нас. Это потому, что стоим мы перед великим будущим»
( 1, 143). Пафос «великого будущего»*, характерный и для
других символистов, а также для многих представителей русского
авангарда и «религиозного ренессанса» начала прошлого
столетия, определялся во многом именно по-новому открытой и
переосмысленной религиозной установкой, осознанием
религиозных основ культуры. В канун безудержного взрыва антире-
Не следует, однако, забывать, что этот «пафос» проявлялся у Белого
на фоне постоянного ощущения глобального кризиса (перелома) культуры,
мироощущения, сознания, всей жизни человеческой, что постоянно
проявлялось в его апокалиптических пророчествах и настроениях, особенно
усилившихся в период Первой мировой войны, когда он написал свои
четыре «кризиса» («Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис культуры»
и несколько позже — «Кризис сознания»). Журнал «Нива» вообще считает
сердцевиной и главной загадкой всего творчества Белого «апокалиптичность
его видения мира» (История русской литературы. XX век. Серебряный век.
М., 1995. С. 110). В «Записках чудака» Белый рассказывает, например, об
одном юношеском апокалиптическом видении в храме на Пасху, которое он
впоследствии подверг символическому толкованию в антропософском духе:
«Как будто церковь оборвалась одною стеною в ничто; я увидел конец (я не
знаю, чего — моей жизни иль мира?), но будто: дорога истории упиралась
в два купола: Храма; и — толпы народа стекались туда; будто выборные от
всего человечества, облеченные в блеск и виссон, простирались сквозь звуки
и краски в ничто, обрывавшее все» (Белый А. Записки чудака. Т. 1. Берлин,
1922. С. 96). Подробнее об апокалиптике символизма Белого см.: Cioran S. D.
The apocalyptic symbolism of Andrej Belyj. The Hague, Paris, 1973.
58 В. В. Бычков
лигиозного научно-технического прогресса, какой-то научно-
технологически- потребительской вакханалии XX столетия
многие представители Серебряного века видели (в этом были
едины и Белый, и Кандинский, и Флоренский) некие
грандиозные перспективы развития духовной культуры во многом на
путях нового единения искусства и религии (традиционной или
по-новому понятой — в данном случае не столь существенно).
Господствующий со второй половины XX столетия и доныне
в евро-американской культуре (в последние десятилетия к ней
энергично присоединилась и Россия) постмодернизм тоже
может не без гордости заявить (и заявляет), что в нем смешались,
всплыли и причудливо переплелись все культуры и искусства
прошлого (в значительно большей мере и степени и с большей
свободой и фантазией, чем в символизме, естественно).
Однако пафос грядущего духовного возрождения культуры
символистов сменился в постмодернизме всеразъедающей иронией
или осознанно безразличной к будущему игрой эстетствующего
сознания всеми формами предшествующих культур и искусств.
Век (как и Культура в целом) состарился и забыл о своих
юношеских мечтах и грезах.
Истоки символизма как художественного направления Вяч.
Иванов усматривал в глубокой древности, а именно — в
древней религиозности — в священном языке волхвов и жрецов.
Они первыми придали словам обыденного общенародного
языка «особенное, таинственное значение, им одним открытое, в
силу ведомых им одним соответствий между миром
сокровенного и пределами общедоступного опыта» (593). Они первыми
узнали двойной смысл и магическую силу имен и научились ее
реально использовать. В возникшей на религиозной основе,
а затем от нее отделившейся поэзии этот древний жреческий
символизм воплотился в своеобразную «двойную бездну»
поэзии — два ее уровня: внешний, феноменальный, и внутренний,
глубинный, ноуменальный. Современный символизм заново
осознал эту двойственность поэтического языка, долгое время
существовавшую неосознанно, и пытается поставить
художественный язык на службу внутреннему опыту, как бы возродить
«иератическую речь пророчествования».
Обращение символизма к древней поре поэзии, к ее
стихийной внутренней силе выражается в трех основных моментах:
1) в стремлении обрести благодаря охранительной мощи
народной души и религиозному преданию «символическую энер-
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 59
гию слова», очищенного от служения внешнему опыту; 2) «в
представлении о поэзии, как об источнике интуитивного
познания, и о символах, как о средствах реализации этого познания»;
3) в «самоопределении» поэта как «органа мировой души,
ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тай-
нотворца жизни» (596)*. Отсюда космизм символического
искусства, его устремленность к вселенским масштабам и
проблемам. Иванов убежден, что интуитивно большинство
крупнейших русских поэтов XIX в., начиная с Пушкина и
Лермонтова и кончая Фетом и Тютчевым в особенности, стремились к
реализации этих задач.
«Заклинательная магия» ритмической поэтической речи
делала ее реальным посредником «между миром
божественных сущностей и человеком» (595). Однако только
символисты пришли к ясному осознанию этой задачи. Поэтому
Иванов специально выделяет два главных признака собственно
«символического художества», ясно понятого как
сознательная символизация. Во-первых, на рациональном уровне —
это осознанное стремление к выражению в феноменальном,
внешнем образе ноуменальной, умопостигаемой, мистически
прозреваемой сущности; стремление к гармонизации
созданной искусством внешней действительности, которую он
обозначает как realia, с выражаемой в ней внутренней и высшей
действительностью — realiora. И во-вторых, для
«бессознательного» творчества — «особенная интуиция и энергия
слова, каковое непосредственно ощущается поэтом как
тайнопись неизреченного», как одновременное выражение некоего
общезначимого внешнего смысла и глубинного сокровенного
внутреннего опыта, предстает своего рода «иератической
записью» (597—598)**. В этом, считал Иванов, состояла главная
задача символической школы в поэзии, но она с этой задачей
не справилась (598).
Об идеале художника как провидца и пророка в теории и практике
Иванова см.: Davidson R Viacheslav Ivanov's Ideal of the Artist as Prophet: From
Theory to Practice // Europa Orientalis. XXI. № 1. Salerno, 2004. P. 157-202.
Подробнее об иератической и духовной энергетике слова у Вяч. Иванова
см.: Кузнецов В. А. «Иератический язык» Вяч. Иванова: Литературные
истоки // Ars philologiae. СПб., 1997. С. 288-311; Гоготишвили Л. А.
Непрямое говорение. М., 2006. С. 15-103.
60 В. В. Бычков
Особое внимание символисты уделяли словесным
символам, понятым как носители энергии символизируемых
архетипов. В этом были едины многие русские символисты. Часто
обращаясь к древним заговорам и заклинательным формулам,
они стремились возродить в своем творчестве изначальную
сакрально-мистическую силу символа, прежде всего
словесного символа. Андрей Белый был убежден, что называние
предмета есть утверждение его онтологической реальности, его
бытия. «Язык, — писал он, — наиболее могущественное орудие
творчества. Когда я называю словом предмет, я утверждаю его
существование» (1, 226). Утверждаю почти онтологически
(ставлю на тверди), почти так же, как первый Творец
утверждал (= созидал) мир своим Словом. Мир звуковых символов,
созданных словом, — это «третий мир» наряду с внешним и
внутренним мирами человека. Он соединяет их на некоем
сущностном уровне и активно влияет на каждый из них. Он
обладает реальной магической силой.
Белый выделял три типа слов: «живое слово» («живую
речь») — цветущий творческий организм; слово-термин —
«прекрасный и мертвый кристалл, образованный благодаря
завершившемуся процессу разложения живого слова» и
«обычное прозаическое слово», т. е. слово стершееся, утратившее
свою жизненную образность, звучность, красочность и еще не
ставшее идеальным термином — «зловонный, разлагающийся
труп» ( 1, 233). Только живое слово наделено творческой
энергией, заклинательной магической силой. Живая речь глубже
проникает в сущность явлений, чем аналитическое мышление,
подчиняет явление человеку, владеющему этой речью,
покоряет и преобразует явление. Именно такой речью пользуются
всевозможные ведуны, заклинатели, маги; но она же доступна
и истинным поэтам. Образная поэтическая речь «и есть речь в
собственном смысле» — это живая речь, обладающая
реальной магической силой ( 1, 230—231 и др.). Белый сам был
наделен даром такой речи*.
«Творческое слово созидает мир» ( 1, 231 ). В примечании к
этому выводу Белый показывает, что он сознательно опирается
здесь и на Евангелие от Иоанна, и на гностическую традицию,
Подробное о специфике языка и речи самого Белого см.:
Кожевникова Н. Л. Язык Андрея Белого. М., 1992.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 61
наделявшую слово божественной энергией. Эта библейско-
гностическая идея, имеющая древние корни и лежащая в
основе всей многовековой словесной магии и искусства
заклинания, в начале прошлого столетия получила новые творческие
импульсы благодаря расцвету теософии, с одной стороны, и
несколько позже — у неоправославных мыслителей в связи
с имяславием*. В частности, о. Павел Флоренский определил
в 1922 г. символ, как такую «сущность, энергия которой,
сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой
другой, более ценной в данном отношении сущности, несет таким
образом в себе эту последнюю»**. Очевидно, что Андрей Белый
мог бы двумя руками подписаться под этим определением, ибо
оно по существу соответствовало его пониманию и символа в
целом, и символа-слова в частности.
Когда он регулярно повторяет мысли о магической силе
слова, о слове как «заклятии вещей» и «вызывании бога», он
пытается передать нам свое реальное ощущение сильной
энергетики слова, которая не поддается вербализации, но
завораживает любого поэта и человека, обладающего даром
поэтического видения. По глубокому убеждению Белого (здесь он, как
и во многих других местах, связанных с осмыслением сути
словесного выражения, близок к Потебне), таким даром обладают
не только поэты, но и «народ» в целом. Отсюда его постоянный
интерес к фольклору, народным обрядам и обычаям, могучей
народной стихии в ее религиозно-творческом проявлении (см.
хотя бы его «Серебряного голубя», в котором Николай
Бердяев почувствовал глубокое проникновение Белого в
мистическую стихию народной души***). Размышления о слове-символе
См., например, во многом перекликающуюся с идеями (и названием)
статьи Белого работу о. Павла Флоренского «Магичность слова »(Священник
Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. М., 1999. Т. 3(1). С. 230-249), хотя в
понимание энергетики слова Белый и Флоренский вкладывают несколько
отличающиеся смыслы. См. также развитие этих идей Флоренским и его
понимание символа в статье «Имяславие как философская предпосылка».
(Там же. С. 252—287). Источники по имяславию опубликованы в последнее
время в разных изданиях и издательствах.
Священник Павел Флоренский. Имяславие как философская
предпосылка // Там же. С. 257.
См. статью Бердяева «Русский соблазн». (По поводу «Серебряного
голубя» Л. Белого) // Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России //
62 В. В. Бычков
приводят Белого к убежденности в самостоятельном бытии
символа как онтологической сущности, обладающей своей
энергией и действенностью соответственно. Художественный
символ «становится воплощением; он оживает и действует
самостоятельно» ( 1,242).
Многие русские символисты стремились к созданию таких
символов, такого искусства. Именно в этом смысле надо
понимать утверждение Белого о том, что «цель поэзии — творчество
языка; язык же есть само творчество жизненных отношений»,
т. е. уже выход за рамки собственно искусства в сферу реальной
жизни, выход, как убежден Белый, за пределы чистой
эстетики. В этом случае даже «бесцельная игра словами оказывается
полной смысла: соединение слов, безотносительно к их
логическому смыслу, есть средство, которым человек защищается от
напора неизвестности» ( 1, 234). Здесь, как бы походя (что
присуще вообще стилистике Белого-теоретика), он высказывает
удивительную для того времени пророческую ( и ясновидческую)
мысль, в которой выражается художественное credo
практически основного направления движения художественной
культуры XX в. В России уже через пару лет этот принцип (во многом
независимо от концепции Белого) начнут активно применять в
словесности, сразу же доведя до логического парадоксального
предела, Крученых, Бурлюк, Хлебников и другие футуристы (в
их скандально знаменитой «зауми»*) и искусственно пресечено
все будет уже в 30-е гг. Последними здесь оказались Хармс и
Обэриуты**. На Западе подобные практики активно внедряли
дадаисты и сюрреалисты, затем они активно вошли в литерату-
Н. Бердяев. Собр. соч. Париж, 1989. Т. 3. С. 413. и ел. Многие страницы
дихотомии Россия—Запад в «Серебряном голубе» посвятил Вл. Александров:
Alexandrov VI. Andrey Bely. The major symbolist fiction. Cambridge (Mass.);
London, 1985. P. 82 ff.
Хрестоматийный стишок Крученых «Дыр бул тыл» был написан
в конце 1912 г. полностью из «неведомых» слов. Подробнее о влиянии
Белого на русских поэтов-экспериментаторов первой трети нашего столетия
см., в частности, в интересной статье: Иванов Вяч. Вс. О воздействии
«эстетического эксперимента» Андрея Белого( В. Хлебников, В. Маяковский,
М. Цветаева, Б. Пастернак) //Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи.
Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 338-366.
Подробнее см.: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского
авангарда. СПб, 1995.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 63
ру «потока сознания» и театр абсурда. Одно из первых
обоснований этому глобальному принципу современного искусства в
одной формуле дал Андрей Белый, кстати, также одним из
первых и начавший его осторожно применять в своем творчестве
еще в первые годы прошлого столетия. Не случайно в
современном литературоведении его считают «отцом футуризма»*
и предтечей «модернистского» романа, ставят в этом плане в
один ряд с Джойсом**. Более подробно свою мистическую
эстетику поэтического языка, способного помимо разума
воздействовать на душу человека, он изложил в 1917 г. в трактатах
«Жезл Аарона (О слове в поэзии)» и «Глоссолалия»***. Здесь
много внимания уделено звуковой стороне языковых символов,
культурно-исторической этимологии и даже физиологии звуко-
выхлингвистическихсимволов,ихассоциативной семантике****,
магии неологизмов и т. п. Эти теории непосредственно
вырастали на базе собственных творческих экспериментов, как в
поэзии, так и в романах «Петербург» и «Котик Летаев». Все это
позволило известному семиотику Ю. М. Лотману прийти к
выводу о «поэтическом языке высокого косноязычия» Белого, как
о форме поиска «другого языка», наиболее полно
выражающего суть его духовно-поэтических исканий — одновременно в
роли пророка и толкователя своих же пророчеств
Провидчески ощущая надвигающийся кризис культуры, о чем
он не забывает регулярно напоминать читателям, Белый — не
пессимист. Он уповает на великое значение новой
символической поэзии, символического искусства в деле созидания новой
культуры. «Мы упиваемся словами, потому что сознаем
значение новых, магических слов, которыми вновь и вновь сумеем
заклясть мрак ночи, нависающей над нами. Мы еще живы —
См.: Chizhevskii D. Anfänge des russischen Futurismus. Wiesbaden,
1963. S. 9.
Подробнее см.: Woronzoff AI. Andrej Belyj's «Peterburg», James Joyce's
«Ulysses» and the Symbolist movement. Bern, 1982; Weber R. Der moderne
Roman: Proust, Joyce, Belyj, Woolf und Faulkner. Bonn, 1981.
См.: Белый А. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922.
Последняя, несомненно, восходит к подобным идеям, поэтически
изложенным еще А. Рембо в его стихотворении «Гласные».
Подробнее см.: Лотман Ю. М. Поэтическое косноязычие Андрея
Белого//Андрей Белый. Проблемы творчества. С. 438—439.
64 В. В. Бычков
но мы живы потому, что держимся за слова. Игра словами —
признак молодости; из-под пыли обломков разваливающейся
культуры мы призываем и заклинаем звуками слов. Мы
знаем, что это — единственное наследство, которое пригодится
детям... Человечество живо, пока существует поэзия языка;
поэзия языка — жива. Мы — живы» ( 1, 243—244).*
Мы живы благодаря бессмертию художественных
символов. Именно о них и их созидательной энергии часто и
настойчиво, хотя и не всегда вразумительно ( на то он и поэт,
утверждающий «бесцельную игру словами») говорит нам Андрей
Белый. Правда, он не чурается иногда и точных дефиниций.
В частности, художественный символ он определяет через
понятие символического образа, к которому приходит от
выявления трех смысловых уровней символа, от «трехсмысленно-
го смысла его: 1 ) символ как образ видимости, возбуждающий
наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы
в окружающей действительности; 2) символ как аллегория,
выражающая идейный смысл образа: философский,
религиозный, общественный; 3) символ как призыв к творчеству
жизни. Но символический образ есть ни то, ни другое, ни третье.
Он — живая цельность переживаемого содержания
сознания» (1, 171). Вот этот символический образ («как единство
переживания»), данный «в средствах изобразительности»,
т. е. реализованный в материале искусства, Белый и называет
художественным символом ( 1, 137)**. Символический же об-
«Игра слонами» и вера в их магическое значение активно проявились
в собственном творчестве Белого, особенно в его знаковых для XX века
романах «Петербург», «Котик Летаев», «Маски». Это позволило, в
частности, современному ученому говоритьо «религии» русского символизма,
заключающейся в вере в особую значимость создаваемой символистами
«недискурсивной речи о божественном, об абсолюте» (см.: Nivat G. Vers la fin
du mythe russe. Lausanne, 1982. P. 159). Игровой характер художественного
языка Белого, его эстетической стилистики подчеркивает А. Хёниг (см.:
Honig A. Audrey Belyjs Romane: Stil und Gestalt. München, 1965. S. 75). Об
игровых принципах у Иванова см.: Грек А. Г. Словесная игра как творчество:
По материалам писем Вяч. Иванова к О. Шор //Логический анализ языка:
Концептуал. Поля игры. М., 2006. С. 261-274.
Именно ;>то понимание художественного символа было реализовано
Белим в его главных романах, что позволило исследователям считать его
родоначальником «романа сознания» в России (см.: Deppermann M. Andrej
Belyj's ästhetische Theorie des schöpferischen Bewußtseins. S. 148ff).
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 65
раз в нашей душе он предлагает называть «символическим
образом переживания». Этот образ стоит уже ближе к
религиозному символизму, полагает Белый, чем к эстетическому;
включен в сферу религиозного опыта. Он не является
художественным символом, подчеркивает Белый, но входит в него
в процессе творчества. На этом основании он делает вывод,
что художественное творчество обусловлено творчеством
религиозным (1, 137-138).
Единство изобразительных средств Белый называет
стилем. «Художественный символ не есть это единство, хотя
и оно входит в него» (1, 138). При этом он подчеркивает, что
символ не является ни аллегорией, ни эмблемой. Последнюю
он понимает как определение символа «в терминах познания»
(там же).
В поздний антропософский период своей деятельности
Белый будет неоднократно возвращаться к попыткам осмысления
и определения символа под самыми разными углами зрения.
При этом чаще на первый план здесь начинает выступать
религиозная ипостась символа, осмысленная им в неохристианском
антропософском духе. Вспоминая о своих духовно-религиозных
переживаниях с детских лет до зрелого возраста, он,
предвосхищая игровую теорию культуры Йохана Хейзинги*,
настаивает на своем «игровом подходе к христианству», утверждая при
этом, что играл он всерьез (3, 423). И играл он символами, в
том числе христианскими, в которых видел «особый род
символов, отличающихся чистотой и благородством». Евангельские
символы представлялись ему особенно «прозрачными»; в них
как бы втягивались его моральные и художественные
впечатления. И если многие другие символы часто «раскалывались» для
него на их этическую и эстетическую составляющие, то
религиозные символы обладали удивительной целостностью; в них
«краски и свет соединялись в прозрачность блеска» (3, 423).
Именно эти символы, как мы увидим далее, постоянно
приводили Белого к осознанию теургического характера символа и
символизма в целом; за подобными символами усматривал он
какое-то смутное, но грандиозное будущее культуры, «...мой
"символ" и означал: действительность еще не данную, но
заем, его знаменитую работу «Homo ludens»: Хейзинга Й. Homo ludons.
И топи завтрашнего дня. М., 1992 ( впервые увидевшую свет в 1938 г.).
66 В. В. Бычков
гаданную в реализации истинного и должного познавательного
акта»(3, 487).
В духе астрального геометризма антропософии* он пытается
даже осмыслить символ как третье глубинное измерение
догмата (в общем смысле — не только религиозного): «...В
символе догмат — не круг, а спиралью построенный конус
вращения; линия эволюции в конусе догмато-символа есть из
единственной первоположенной точки растущая плоскость
кругов и фигур, в круги вписанных..; все точки всех линий кругов
и окружностей, перетекая во времени, пухнут; в
первоначальной вершине растущего конуса — соединение мига Вечности;
свет наполняет весь конус; и гонит, и ширит, вращаясь,
бегущий, растущий, вскрываемый догмат: в воплощениях времени.
Символизм — глубина догматизма; и — рост догматических
истин» (3, 292). В этой почти заговорно-бессмысленной (хотя
и логически строго продуманной и сопровождающейся
графическим чертежом) экстатической теории русского поклонника
антропософии, только что вышедшего из очередного
медитативного транса, заключена та удивительная магия слов (его
поэтическая глоссолалия), о которой часто говорит теоретик
Белый и которой прекрасно умеет пользоваться Белый-практик.
Ее кажущаяся бессмысленность содержит ключ, по меньшей
мере, к огромному миру искусства геометрических абстракций,
который на практике был реализован русским (да и западным)
авангардом в кубизме, футуризме, кубофутуризме,
супрематизме, лучизме, кинетизме и т. п. Трудно сказать, сознавал ли
это сам Белый, но в подобных его теориях-заклинаниях мы
прозреваем вдруг те глубинные духовные основания, на
которых внесознательно строили свою творчески-художественную
практику многие авангардисты первой трети XX столетия.
Специфически русской особенностью символизма стала
теория теургии как главного принципа искусства будущего.
Вяч. Иванов приходит к ней через осмысление целого космоса
художественно-выразительных возможностей искусства, в ко-
Ср. попытки описания прообразов искусств Р. Штайнером в виде
геометризованных духовных конструкций в лекции «Сущность искусств»:
Штайнер Р. Из области духовного знания, иди антропософии. М., 1997.
С. 336 и далее.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 67
тором важнейшую роль играют наряду с символом такие
феномены, как миф и мистерия.
Истинный миф, в его понимании, лишен каких-либо
личностных характеристик (творца ли, слушателя ли) — это
объективная форма хранения знания о реальности, обретенная в
результате мистического опыта и принимаемая на веру до тех
пор, пока в акте нового прорыва сознания к той же реальности
не будет открыто о ней новое знание более высокого уровня.
Тогда старый миф снимается новым, который занимает его
место в религиозном сознании и в духовном опыте людей. Поэтому
сверхзадачу символизма, до осуществления которой еще очень
далеко (признается Иванов), русский поэтитеоретиксимволиз-
ма видит в мифотворчестве. Но не в художественной
обработке старых мифов или в писании новых фантастических сказок,
чем, по его мнению, занимается идеалистический символизм, а
в истинном мифотворчестве, которое Иванов понимает, как
«душевный подвиг самого художника». Художник «должен
перестать творить вне связи с божественным всеединством,
должен воспитать себя до возможностей творческой реализации
этой связи. И миф, прежде чем он будет переживаться всеми,
должен стать событием внутреннего опыта, личного по своей
арене, сверхличного по своему содержанию» (II, 558). В этом и
заключается «теургическая цель» символизма, о котором
мечтали многие русские символисты того времени*.
В идеале на уровне художественно-теургического действа
миф, согласно Иванову, должен реализоваться в особой форме
искусства будущего — в новой Мистерии, которая может
возникнуть и развиться на основе театра, покинув его пределы,
выйдя за рампу и вернувшись в лоно религиозного сознания.
В античности театр сам возник из Дионисовых действ как
художественное воплощение их соборного мистического опыта**. Хор
играл в древнем театре роль и функции этого соборного начала.
Кризис хора в театре стал, по убеждению Иванова, кризисом
театра вообще, в котором идеально реализовывалось «святое
См., в частности: Силард Л. К проблеме «теургического постулата» //
Л. Силард. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002. С. 102— 135.
Ср.: Александрова А. Дионисийский комплекс идей раннего Вячеслава
Иванова // Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae. T. 46, fasc. 3/4.
Budapest, 2001. С. 361-394.
68 В. В. Бычков
единство» истины, добра и красоты (211—213). Иванов мечтает
о возрождении на новых основаниях театра с хоровым началом*
в неких новых мистериях, в которых достижения всех искусств
будут объединены на основе соборного религиозного опыта.
Последний еще сохраняется, считал он, в глубинах народной души,
в фольклорной памяти культуры. Поэтому обращение к
славянским народным истокам становится для Иванова, как и для
многих символистов, программной задачей творчества.
Парадигмы Мистерии будущего, как некоего сакрального
действа, объединяющего актеров и зрителей в качестве
полноправных участников, Иванов видит прежде всего в
литургическом богослужебном синтезе искусств. Уже в 1914 г., за
несколько лет до знаменитой статьи Флоренского «Храмовое
действо как синтез искусств» ( 1918)**, Иванов в статье о
Чюрленисе указывает на богослужение как историческую
реализацию и прообраз будущего синтеза искусств. «В богослужении,
и только в богослужении находят системы искусств свою
естественную ось, причем каждое вращается на своей естественной
оси и описывает свою естественную орбиту» (III, 167). Однако
в наше время произошел сдвиг всех осей искусств, и
необходимо стремиться к созданию нового синтеза. К этому особенно
близко подошел, считал Иванов, в своем понимании Мистерии
Скрябин (см.: «Взгляд Скрябина на искусство»)***.
Двухлетняя близкая дружба Иванова со Скрябиным в
последние годы жизни композитора дала новые импульсы его
пониманию грядущей Мистерии, к которой, по убеждению
Иванова, Скрябин подошел вплотную. Художественный путь к
Мистерии, проходящий через синтез всех искусств на основе
высшего уровня духовности, представлялся Иванову аналогич-
«Хор, — писал он, — постулат нашего эстетического и религиозного
credo; но мы далеки от мысли или пожеланий его искусственного воссоздания»
(559). Он органичен истинному религиозному сознанию, и, по мысли Иванова,
с естественным ростом и преображением последнего возродится сам.
См.: Священник Павел Флоренский. Избранные труды по искусству.
М., 1996. С. 201-213.
Анализу статей Вяч. Иванова о Скрябине посвящена работа:
Kluge R.-D. Vjacheslav Ivanovs Beitrag zu einer symbolistischen Theorie der
Literatur und Kunst als Schlüssel zum Verständnis seiner Aufsätze über
Aleksandr Skrjabin // Vjacheslav Ivanov: Russischer Dichter — europäischer
Kulturphilosoph. Heidelberg, 1993. S. 240-249.
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 69
ным пути восхождения любого посвящаемого в духовные
тайны. Он состоит из трех ступеней — имагинсщии, инспирации и
интуиции, понимаемой отнюдь не в обыденном смысле. В
своем музыкальном творчестве и «Предварительном Действе» к
Мистерии Скрябин, полагал его поклонник, прошел первые
две ступени. На стадии имагинации художник в символах
искусства созерцал сверхчувственные реальности
(«Божественная поэма» Скрябина). На ступени инспирации он переживал
эти реальности «как безвидно приближающиеся к нему и на
него воздействующие живые присутствия» («Поэма экстаза»,
«Прометей»). И на третьей ступени — «интуиции», —
когда творец сам должен был слиться с «живыми и действенными
силами миров иных», Скрябин ушел из нашего мира. Контакт с
«верховными дарами Духа» оказался смертельным для ветхой
человеческой плоти. Композитор покинул этот мир в момент,
когда он уже приближался к своей заветной цели и, возможно,
достиг ее, но уже в ином измерении (III, 185-187).
Мистерия будущего должна основываться на «внутренно
обновленном соборном сознании», организующем новый синтез
искусств. «Проблема этого синтеза есть вселенская
проблема грядущей Мистерии. А проблема грядущей Мистерии есть
проблема религиозной жизни будущего» ( 168). Таким образом,
Иванов регулярно приводит все свои рассуждения об искусстве
к религиозной сфере, к размышлениям об организации нового
религиозного сознания и адекватной ему духовно-эстетической
практики*. Да это и вполне понятно для мыслителя, который
в период расцвета символизма в России сформулировал свою
позицию как борьбу «за утвердившиеся в моем духе ценности
религиозного сознания»*".
Это ценности качественно нового уровня. Именно к ним
стремился, убежден был Иванов, Скрябин, приближавшийся
к созданию Вселенской Мистерии, цели которой —
литургические, сакральные, теургические — всеобщее воссоединение
людей с духовными мирами и Богом. Отсюда соборность как
основа грядущей Мистерии. Уже «Предварительное Действо»
виделось Иванову таким соборно-теургическим действом,
Ср.: ГидиииМ. К. Поэзия и мистика: Вячеслав Ииапои и Жак Маритен//
ï-'игора Orientalis. XXI. № 1. P. 201 -21 1.
Литературное наследство. M.: Наука, 1976. Т. 85. С. 514.
70 В. В. Бычков
объединяющим людей с Богом на принципиально новом
уровне — с помощью эстетических законов красоты и гармонии и
при участии высшего Начала бытия. «В соборно слитом
сознании этих избранников (неофитов, призванных на мистериаль-
ное Действо. — В. Б.) должна была, как в фокусе
собирательного стекла, воскреснуть память всей прожитой нынешним
родом людей эпохи мира и найти в завершительной полноте
осознания и преодоления выход в иные просторы бытия, при
непосредственной, чудотворной помощи призванного их
любовным возгоранием небесного Луча» (188). Отсюда теургия
становится важнейшей категорией эстетики Иванова и многих
символистов.
Понятие теургии (греч. Theoyrgia — Божественное
деяние; сакральный ритуал, мистерия) в древности имело смысл
сакрально-мистериального общения с миром богов в процессе
особых ритуальных действ. Вл. Соловьев осмыслил теургию
как древнее «субстанциальное единство творчества,
поглощенного мистикой», суть которого состояла в единении
земного и небесного начал в сакральном творчестве. И особо он
выделил современный этап теургии, который обозначил как
«свободная теургия», или «цельное творчество». Его
сущность он усматривал в сознательном мистическом «общении с
высшим миром путем внутренней творческой деятельности»,
которая основывалась на внутреннем же органическом
единстве основных составляющих творчества: мистики,
«изящного искусства» и «технического художества»*. Это понимание
теургии нашло активный отклик как в среде русских
символистов, так и у большинства русских религиозных
мыслителей начала XX в. (особенно у П. Флоренского, С. Булгакова,
Н. Бердяева), претерпевая у них своеобразные метаморфозы.
Оно же встретило резкое неприятие у ортодоксальных
православных клириков и богословов. Так, наиболее талантливый
и глубокий среди них о. Георгий Флоровский, усматривая
вообще практически во всех религиозных исканиях
Серебряного века «эстетический соблазн», негативно относился и к идее
«свободной теургии»**.
См.: Соловьев В. С. Собр. соч. Брюссель, 1966. Т. 1. С. 286.
«Можно ли художественной интуицией проникать в духовный мир? и
есть ли в ней надежный критерий для "испытания духов"? Крушение роман-
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 71
В своем понимании теургии Вяч. Иванов отталкивается от
мысли Вл. Соловьева о том, что искусство будущего должно
вступить в новую свободную связь с религией. «Художники и
поэты, — писал Соловьев, — опять должны стать жрецами и
пророками, но уже в другом, еще более важном и
возвышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими,
но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее
земными воплощениями»*. Приведя эту цитату из Соловьева,
Иванов называет таких художников теургами, носителями
божественного откровения (II, 538—539). Именно они,
полагал русский символист, — истинные мифотворцы, в указанном
выше понимании мифа (558); они — в высшем и истиннейшем
смысле символисты (ср.: 608).
Искусство, по Иванову, — одна из существенных форм
«действия высших реальностей на низшие». Однако эту его
сущностную черту применительно к уже созданным произведениям
искусства он поостерегся бы назвать «слишком
торжественным и святым» словом теургии. Теургия в его понимании —
это «действие, отмеченное печатью Божественного Имени»
(646), и в полном смысле слова она еще не реализована, но
именно к ней и стремятся символисты в своей практической
деятельности. Именно о ней размышляет Иванов, когда
рассуждает о грядущем снятии тезы и антитезы (первых стадий
символизма) на путях созидания «внутреннего канона»,
который позволит искусству подняться на новую ступень «тайно-
видения» и превратиться в «священное тайнодействие любви,
побеждающей разделение форм, в теургическое,
преображающее «Буди» (601). То есть художник станет истинным
орудием Бога-Слова в реальном преображении мира, фактически
выйдет за пределы собственно искусства в смысле
новоевропейского «изящного искусства», искусства как специфически
эстетической формы деятельности.
тика терпит именно в этой точке. Критерия нет, художественное прозрение
не заменяет веры, духовного опыта нельзя подменить ни медитацией, ни
восторгом, — и неизбежно все начинает расплываться, змеиться (путь
"от Новалиса к Гейне"). "Свободная теургия" оказывается путем мнимым
и самоубийственным...» (Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris,
1983. С. 469).
Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 3. С. 190.
72 В. В. Бычков
«Теургическое томление», стремление вдохнуть истинную
жизнь в материю, согласно Иванову, изначально присуще
искусству. С древнейших времен художник пытался соперничать
в этом с природой, и два пути были потенциально открыты
перед ним в этом направлении: ложный — магический и
истинный — теургический. На первом художник пытался путем
магических чар и заклинаний вдохнуть « волшебную жизнь» в свое
творение и тем самым совершал преступление — пере-ступал
в дурную сторону «заповедный предел», запретный
Пигмалиону порог. Однако он мог пойти и по другому пути: «сотворить
икону Афродиты и быть столь угодным перед нею, что икона
эта оживет, как чудотворная» (649). Это и есть путь теургии и
идеал истинного искусства (его высшей ступени в понимании
Иванова — «реалистического символизма»). На этом пути
духовные устремления художника оказываются столь сильными,
его видение столь глубоким, его вера в высший мир столь
могущественной, что он вступает в творческий контакт с неземными
силами, которые и наполняют особой энергией его
произведение, превращая его в орудие благодатного воздействия на
феноменальный мир.
Этот «теургический переход» — «трансценс» — искусства
за «заповедный» для данного состояния природы предел
возможен на пути встречи взаимных устремлений и созвучия души
художника и высшего начала. «...Этот невозможный в гранях
наличной данности мира трансценс определяется как
непосредственная помощь духа потенциально живой природе
(имеется в виду материал искусства. — ß. Б. ), для достижения ею
актуального бытия. И стремление к этому чуду в художестве
есть стремление правое, а выход художества в эту сферу,
лежащую вне пределов всякого, доселе нам известного
художества, выход за ограждение символов... есть выход желанный и
для художника как такового, потому что там символ становится
плотью, и слово — жизнью животворящею, и музыка —
гармонией сфер» (649).
Сегодня, после внимательного изучения святоотеческой
письменности и трудов русских религиозных мыслителей —
современников Иванова (особенно о. Павла Флоренского
и о. Сергия Булгакова); после новой исторической встречи с
византийским и древнерусским искусством, которая началась
как раз в первые десятилетия прошлого столетия, мы знаем,
что такой феномен, о котором мечтал Иванов, как о грядущем
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 73
искусстве, уже состоялся в истории культуры — это
византийская и русская средневековая икона*. Однако Иванов,
видимо, в силу своей профессиональной углубленности в стихию
античной культуры, не обратил на нее своего проницательного
взора, хотя интуитивно что-то ощущал. Не случайно же он
применяет к потенциальному идеальному изображению Афродиты
термины икона и чудотворная. Знал он что-то и о
чудотворных иконах Богоматери, но умолчал...
Все устремления Андрея Белого, весь пафос его
поэтического творчества, теоретических изысканий и жизненный путь
как поиск способов совершенствования индивидуального
сознания были ориентированы на некое прозреваемое им
«лучшее» будущее. Эсхатологизм и футурологический оптимизм в
среде символистов особенно характерны именно для Белого.
Понятен в этом плане и путь его духовного движения: Ницше,
«Откровение» Иоанна, русское народное христианство
(полуязыческого окраса), социальная тенденциозность русской
демократической литературы XIX в. вплоть до принятия
революционного пафоса, утонченный мистицизм западных
символистов, теософия и антропософия Штейнера. Все это, хотя и
по-разному, но неумолимо ориентировало его личное
понимание символизма не только в качестве направления в искусстве
(«школы»), творческого метода или даже миропонимания, ной,
в конечном счете, — как действенной силы и энергии
грядущего преобразования мира и человека, их преображения в более
высокий статус бытия. Эта высшая цель символизма
обозначалась им, как и другими символистами, термином теургии.
Ницше и Ибсен в 1905—1910-е гг. стали для Белого
главными предвестниками чаемой им теургии; подлинными
революционерами жизни. Они наметили идеалы, показали пути
реализации мечты о преображении жизни. Однако для достижения
этого, убежден русский символист, мы должны преобразиться
сами, порвав со всеми старыми предрассудками и формами и
способами жизни. Мы должны подложить динамит под старую
историю во имя абсолютных ценностей, «еще не раскрытых
сознанием, — вот страшный вывод из лирики Ницше и драмы
Ибсена. Взорваться со своим веком для стремления к подлин-
Подробнее см.: Ьычкон В. В. Феномен иконы: История. Богословие.
Эстетика. Искусство. М., 2009.
74 В. В. Бычков
ной действительности — единственное средство не погибнуть»
(2, 161 ). Ницше без Ибсена — голова без туловища и обратно,
вместе они — живой организм, но безглазый. Кто-то третий
должен дать ему зрение, соединить окончательно. Это
зрение — религиозное видение. И оно — у евангелиста Иоанна,
которого очень любил Белый, ибо в симбиозе Ницше—Ибсен-
Иоанн видел реальный выход к новой «преображающей
религии», в которой «символика становится воплощением,
символизм — теургией» (2, 194).
В мудрости Ницше Белый усматривал «стремление к
теургии»; многие места этой мудрости, считает он, «сквозят
теургизмом» (2, 218-219). Однако суть теургии, считает он,
наиболее четко сформулировал Вл. Соловьев, и Белый, как и
другие русские символисты, придерживался его понимания.
В интерпретации русского поэта оно звучит так:
«Соединение вершин символизма как искусства с мистикой Владимир
Соловьев определил особым термином. Термин этот —
теургия» (2, 218). Христианская основа определенно довлеет
в этом «соединении» у Белого, ибо внутренним двигателем
его он считает Господа, который, — он дважды ссылается на
Левит. 26, 12, — вселяется в теургов. «Теургия — вот что
воздвигает пророков, вкладывает в уста их слово, дробящее
скалы». И если в художественном символизме мы имеем
первую попытку показать вечное в преходящем мире, то в
теургии — начало конца этого символизма. «Здесь уже идет
речь о воплощении Вечности путем преображения
воскресшей личности. Личность — храм Божий, в который
вселяется Господь» (2, 219).
Теургия поэтому — та цель, к которой собственно,
согласно Белому, устремлена культура в своем историческом
развитии и искусство как ее часть, и символизм — тем более как
высшее достижение искусства и мост от него к реальной
действительности. Человеческое творчество на высшем его
этапе состоит из трех восходящих «актов», в терминологии
русского символиста. Первый акт — это создание мира искусств.
Второй — «созидание себя по образу и подобию мира», т. е.
совершенствование самого себя, которое происходит в острой
борьбе со своим косным «я», со «стражем порога», который
не пускает личность в царство свободы. Здесь происходит
трагический разлад личности с самой собой, уход художника из
искусства. Отсюда становится понятным сожжение «Мерт-
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 75
вых душ» Гоголем, сумасшествие Ницше (а в другом месте
Белый упомянет с почтением и о безумии Врубеля), «глухое
молчание Толстого». И третий акт (грядущий) — вступление
личностей в царство свободы и «новая связь безусловно
свободных людей для создания общины жизни по образу и
подобию новых имен, в нас тайно вписанных Духом» (2, 465). Этот
последний акт и соответствует в понимании Белого уровню
теургического творчества (= бытия), основанного на
духовной инспирации свыше.
В другом месте он описывает его как слияние природного
«я» художника с самим творчеством, когда его жизнь
становится «художественной», т. е. творчески одухотворенным бытием,
а сам он являет собой «слово, ставшее плотью». Свершается
«пресуществление искусства в религию жизни» ( 1, 265). В
теургии, как высшей форме человеческого творчества,
ознаменованного схождением в душу теурга высшего духовного начала,
красота сливается с нравственностью в неделимое единство
(2, 172), и здесь уже не приходится различать этику, эстетику,
религию или познание. Все сливается в единое творчество —
созидание новой жизни и нового человека (и человечества) на
исключительно идеальных духовных основаниях всеединого
первозданного бытия. Образы и события Священной истории
служили своего рода парадигмами для теургического опыта
самого Белого. В поздней автобиографии он вспоминал, что в до-
теософский период термин теургия означал для него
«творческое заново переплавление материалов и образов религиозной
истории в нечто, имманентное мне, сквозь меня прорастающее;
"Теургия", как "богоделание"\ говоря более внешне, —
мифотворчество» (3, 423).
Белый достаточно ясно сознает иллюзорность своих
мечтаний о социальных коммунах, мистериальных действах,
которые, как он полагал в юности, должны были бы стать основой
для теургического «претворения» жизни и человека. Однако
у него до конца дней сохранится главное — собственно
творческое и жизненное credo — символизм вскрыл смысл
человеческой истории и культуры как телеологического
стремления к воплощению трансцендентного Символа
в реальной жизни. Сие возможно только на путях
теургической символизации, и «нормой» этой символизации, или
теургии как высшего этапа созидания жизни является «Лик
Символа» (1,112). Задача теургов: максимально приблизить
76 В. В. Бычков
реальную жизнь к этой «норме», что возможно только на по-
новому понятой религиозной (и именно христианской)
основе. Лик Символа — это «Лик самого божества; Символ дает
свою эмблему в Лике и Имени Бога Живого; в теургии этот
лик есть эмблема ценности». Лик Логоса — это мужская
стихия творчества, и ею предопределяется и «женственная
стихия» религиозного и эстетического творчества, которая
символизируется образом «Вечной Женственности, Софии или
Царства Небесного» (1, 116).
Итак, крупнейшие теоретики русского символизма —
Андрей Белый, Вяч. Иванов, Эллис — пришли разными путями,
но внутри одного и того же мыслительно-творческого потока,
в общем-то, к одним и тем же выводам. Начав под влиянием
французских символистов как литературно-художественное
течение, или направление, символизм в России на уровне
саморефлексии достаточно быстро пришел к осознанию того,
что традиционное новоевропейское искусство, сущность
которого составляет символическое выражение, достигло в
символизме как художественном направлении своей высшей
точки развития и переросло само себя в качестве феномена
искусства. В начале прошлого столетия творческий дух
осознал ограниченность рамок традиционного искусства (того,
которое в Новое время было названо «изящным
искусством», профессионально отделенным от иных сфер бытия
и культуры) и попытался на практике и особенно в теории
русского символизма показать, что преодоление
творческого кризиса культуры возможно только на путях выхода
творчества за пределы искусства в сферу созидания новой
жизни — нового уровня бытия, ориентированного на высшие
духовные ценности. Прежде всего — на ценности, открытые
человечеству христианством и по-новому переосмысляемые
в новом столетии.
Через несколько лет после апогея символизма появилась
фундаментальная работа Николая Бердяева «Смысл
творчества. Опыт оправдания человека» (1916), в которой автор, в
частности, дал уже философско-культурологическую оценку
символизму, расставив более точно некоторые акценты. Он
полностью солидарен с символистами в понимании
символизации как основы любого искусства, символизма — как его
высшей ступени. Несколько варьируя их формулировки, он
утверждает, что «символ есть мост, переброшенный от твор-
Эстетические заветы и пророчества русского символизма 77
ческого акта к сокровенной последней реальности»*.
Однако, убежден Бердяев, на путях искусства нет возможности
достичь этой «реальности». В символизме творчество
перерастает рамки искусства и культуры, оно рвется не к
ценностям культуры, а к новому бытию. «Символизм есть жажда
освободиться от символизма через осознание символической
природы искусства. Символизм есть кризис культурного
искусства, кризис всякой серединной культуры. В этом его
мировое значение». Трагедия христианского творчества «с его
трансцендентной тоской завершается в символизме».
Символисты стали предтечами и провозвестниками «грядущей
мировой эпохи творчества», творчества самой жизни на новых
духовных основаниях. За символизмом следует «мистический
реализм», за искусством — теургия**. И Бердяев дает
наиболее точное и ясное определение теургии, которую русская
эстетика прозревала со времен Вл. Соловьева, но так и не
дала столь четкой формулировки.
«Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия —
сверхкультурна. Теургия — искусство, творящее иной мир,
иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия
преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию
на жизнь новую». В теургии кончаются всякое традиционное
искусство и литература, всякое разделение творчества; в ней
завери^ется традиционная культура как дело рук человеческих
и начинается «сверхкультура». Ибо «теургия есть действие
человека совместно с Богом, — богодейство, богочеловеческое
творчество»***. Многие русские символисты и особенно
приведенные в данной работе мыслители так и ощущали смысл
символизма и теургии, но почему-то стеснялись произнести
(или написать) слово «Бог» применительно к грядущему
теургическому творчеству. Над ними еще тяготели мощная
новоевропейская традиция понимания творчества как чисто
человеческого (и часто сугубо индивидуального) деяния, с одной
стороны, и необходимость символически выражать свои мысли
даже во вроде бы самых что ни на есть дискурсивных форму-
Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания человека //
Н. Бердяев Собр. соч. Paris, 1985. Т. 2. С. 275.
** Там же. С. 276-277.
Там же. С. 283.
78 В. В. Бычков
лировках — с другой. Поэтому последнее и наиболее точное
слово о символизме пришлось сказать философу.
XX век не дал нам прямого подтверждения истинности
чаяний символистов и русских религиозных философов в сфере
чисто теургического творчества. Однако их неколебимое
убеждение в том, что все подлинное искусство символично во
многих смыслах понимания термина «символ» и что символизация
составляет основу любого художественного творчества, стало
существенным вкладом в современную философию искусства
и эстетику.
Андрей Белый
Вяч. Вс. Иванов
О воздействии «эстетического
эксперимента» Андрея Белого
(В. Хлебников, В. Маяковский,
М. Цветаева, Б. Пастернак)*
/
1 1редметом настоящей статьи является влияние
поэзии (и отчасти прозы) и теоретических сочинений
по поэтике Андрея Белого (преимущественно ранних
его статей и стихотворных сборников) на тех
больших поэтов, которые прямо или косвенно продолжали
близкую ему традицию. Речь пойдет главным образом
о крупных поэтах, в молодости считавших себя
футуристами («будетлянами», если пользоваться
славянским термином, изобретенным Хлебниковым), —
Маяковском, Пастернаке, Хлебникове и некоторых
других. Это не случайно: Андрей Белый, по его
собственным словам, всегда остававшийся символистом,
вместе с тем в очень большой степени в лучших своих
произведениях переходил стилистические границы
символизма и шел гораздо дальше в том направлении
«эстетического эксперимента» (его термин), который
ближе всего был именно к футуризму.
80 Вяч. Be. Иванов
Рассматриваемый вопрос представляет часть гораздо более
общей проблемы — соотношения в русской литературе (и
вообще культуре) символизма (и предшествовавших ему
писателей, условно называемых «предсимволистами») и
последующих литературных течений, охватываемых общим названием
«постсимволизм»*. Уже из самих терминов — «предсимво-
лизм», «символизм», «постсимволизм» — видно, что в
качестве центрального явления, основной точки или шкалы отсчета
выбирается символизм. Историко-литературным основанием
для такого описания ситуации конца XIX — начала XX в. могут
служить, кроме прочего, многочисленные самооценки —
высказывания самих писателей: напомним хотя бы то, что
Маяковский, Пастернак и другие поэты послеблоковского
(«постсимволистского») поколения говорили означении Блока для их
творчества.
Выработанные в нашей науке за последние десятилетия
новые подходы к изучению культуры как системы знаков
позволяют дать такое истолкование русского символизма, которое
более отчетливо может раскрыть его особенности. Символизм
в России (в гораздо большей степени, чем сходное по
названию, но возникшее и оформившееся за несколько десятилетий
до того поэтическое направление во Франции и вообще в
Западной Европе) был по преимуществу нацелен на раскрытие
знаковых возможностей поэзии. Это означало прежде всего
утверждение единства разных сторон эстетического знака.
Предоставим слово самому Андрею Белому. В одной из
ранних и основных своих статей ( 1909) «Эмблематика смысла» он
писал: «Символическое единство есть единство формы и
содержания»**. Он вовсе не склонен свое понимание символа
ограничить только культурной действительностью своего
времени. Напротив, по его словам: «Как часто видим мы в
истории, что символ изображается условными образами; в понятие
о нем необходимо вводится образное содержание при помощи
Ср.: Иванов Вяч. Вс. О взаимоотношении символизма, предсимволизма
и постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX — начале
XX в. //Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв.
Таллин, 1985. С. 10-13.
Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М.: «Мусагет», 1910. С. 92.
( выделено Андреем Белым ).
О воздействии «эстетического эксперимента»... 81
средств художественной изобразительности; символ не может
быть дан без символизации; потому-то мы олицетворяем его в
образе; образ, олицетворяющий Символ, мы называем
символом в более общем смысле этого слова»*. Сходное утверждение
необходимости внешней, воспринимаемой стороны у символа
(позднее, в 20-е гг. развитое в эстетических трудах M. М.
Бахтина) в это же время обнаруживается и у других мыслителей,
которые, как и связанный с ними единством позиции молодой
Белый, стремились подойти к осмыслению искусства во
всеоружии методов современных им естественных и точных наук
и философии. Так, П. А. Флоренский в письме Андрею Белому
от 8.VI.1904 г. (ГБЛ) различал «символизируемое» и
«символизированное» (т. е. «означающее» и «означаемое»
применительно к знаку в семиотике), указывал на наличие
согласованности между этими сторонами символа и выдвигал в связи
с этим программу исследования символики разных народов и
разных эпох**, которую позднее он частично успел реализовать,
дав при этом в предисловии к словарю символов и критическую
оценку сделанного символистами (в том числе Белым), и не
сделанного ими***. Не приходится сомневаться в том, что именно
ту же широкую перспективу не только сравнительного
изучения, как в «Словаре символов» Флоренского, в работе над
которым Белый позднее должен был участвовать (как один из
выступающих на дискуссиях****), но и творческого
преображения символики других эпох и стран имел в виду Андрей Белый,
когда он следующим образом описывал ( в той же статье 1909 г. )
символистическое понимание искусства: «Всякое искусство
символично — настоящее, прошлое, будущее. В чем же
заключается смысл современного нам символизма? Что нового
он нам дал? Ничего. Школа символистов лишь сводит к един-
Белый Андрей. Символизм... С. 105. \Лл примечания (там же), видно,
что что смысловое различие Белый подчеркивал написанием с большой буквы
(Символ) или маленькой (символ).
См. цитаты ил этого письма и других семиотических работ
Флоренского: Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР? М., 1976. С. 271.
Некрасова Е. Л. Неосуществленный замысел 1920-х годов создания
«Symbolnrium'a» (Словаря символов) и его первый выпуск «Точка» //
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1982. М., 1984. С. 103.
**** Там же. С. 100.
82 Вяч. Be. Иванов
ству заявления художников и поэтов о том, что смысл красоты
в художественном образе, а не в одной только эмоции, которую
возбуждает в нас образ; и вовсе не в рассудочном
истолковании этого образа; символ неразложим ни в эмоциях, ни в
дискурсивных понятиях; он есть то, что он есть. Школа
символистов раздвинула рамки наших представлений о художественном
творчестве; она показала, что канон красоты не есть только
академический канон; этим каноном не может быть канон
только романтизма, или только классицизма, или только реализма:
но то, другое и третье течение она оправдала, как разные виды
единого творчества; и оттого-то в пределы недавнего реализма
вторглась романтическая фантастика; и обратно: бескровные
тени романтизма получили в символической школе и плоть и
кровь; далее символизм разбил самые рамки эстетического
творчества, подчеркнув, что и область религиозного творчества
близко соприкасается с искусством; в европейское замкнутое
в себе искусство XIX столетия влилась мощная струя
восточной мистики; под влиянием этой мистики по-новому воскресли
в нас Средние века. Новизна современного искусства лишь в
подавляющем количестве всего прошлого, разом всплывшего
перед нами; мы переживаем ныне в искусстве все века и все
нации; прошлая жизнь проносится мимо нас. Это потому, что
стоим мы перед великим будущим»*.
Две последние фразы приведенного эпилога статьи
представляются одним из тех без преувеличения гениальных
прозрений, которые можно найти в сочинениях Андрея Белого.
Искусству XX в., в частности творчеству таких его, едва ли
не самых характерных представителей, как Хлебников,
свойственно невиданное расширение пространственно-временных
пределов: оказывается возможной встреча в одном
произведении символов, почерпнутых из самых разных культурных
традиций, как в известной строфе из хлебниковского «Ладо-
мира» соединяются боги и художники различных стран,
древних и новых:
Туда, туда, где Изанаги
Читала «Моногатори» Перуну,
А Эрот сел на колени Шангти,
И седой хохол на лысой голове
Белый Андрей. Символизм... С. 143.
О воздействии «эстетического эксперимента**... 83
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиэн беседует с Индрой,
Где Юнона с Цинтекуатлем
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо,
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки,
Облокотясь на руку.
И Хокусаем восхищена
Астарта, — туда! туда!
Такое соединение (иногда и столкновение) символов
разных традиций не составляет отличительной черты одного
только Хлебникова и того «будетлянского» направления
(разделявшегос Белым предчувствие «великого будущего»),
к которому Хлебников принадлежал. Подобные соединения
разнородных символов, иной раз причудливые, мы найдем и
в «Заблудившемся трамвае», и в некоторых поздних стихах
Гумилева, и у Мандельштама, и во многих местах у Клюева*.
В поэзии самого Белого этот прием более всего представлен
в прозе — в первой («сирийской») редакции романа
«Петербург», а позднее — в поэме «Первое свидание», где он
мотивирован самой культурной средой начала века, которую
воссоздает поэт. Но при этом прием остраняется
ироническим подчеркиванием нарочито различных культурных
слоев, соединяемых вместе.
Американский антрополог Кребер в небольшой книге об
антропологическом взгляде на историю разобрал сходный
эстетический принцип на примере Пикассо. Согласно Креберу, у
Пикассо нет единого стиля. Эта как бы отрицательная черта так же
существенна, как для художников предшествующих эпох важна
была ей противоположная, положительная — наличие единого
стиля. Разные стили, которыми владел и играл (иногда
иронически, вплоть до открытой пародии) Пикассо в различные периоды,
принадлежат многим векам и культурам (в точном соответствии
с приведенными словами Белого); африканская скульптура
значила для него не меньше, чем испанская классика (Веласкес, се-
См. подробнее: Иванов Вяч. Вс. Темы и стили Востока в почзии Запада //
Восточные мотивы. Стихотворения и поэмы. М., 1985. С. 436- 438, 461 и др.
84 Вяч. Be. Иванов
рию воспроизведений структуры «Менин» которого дал
Пикассо) или греческие изображения быков, им пародируемые в его
Минотаврах. По мысли Кребера, лишь подтверждающей
ошеломляющую верность цитированного прогноза Белого, такая
принципиальная множественность стилей составляет
отличительную черту культуры и искусства XX в. Этот стилистический
плюрализм из тех поэтов, которые хронологически следуют за
Белым, особенно очевиден (и часто бывает иронически остра-
нен) у Хлебникова. В его последнем большом поэтическом
произведении «Запгези», самим Хлебниковым названном
«сверхповестью», каждая из отдельных его частей («плоскостей», или
«повестей», по терминологии самого Хлебникова) выдержана в
особом стилистическом ключе, написана особой языковой
формой или имеет свой «устав». Чередуются подражания
птичьему щебету, «языку богов», славянские новообразования и т. п.
Именно по отношению к языкам (в том числе конкретным
языкам Европы: финскому, русскому и т. д.), на которые
ориентированы отдельные части романа, сходным образом построен и
последний роман Джойса «Поминки по Финнегану»; разительное
сходство с этим произведением хлебниковского «Заыгези» и
некоторых ранних композиций Белого — его «Симфоний»,
лежащих на границе между поэзией и прозой, — кажется
несомненным (параллелизм прозы Андрея Белого и Джойса многократно
отмечался в печатных и устных высказываниях Пастернака, а в
недавнее время стал предметом особых исследований). В
ритмическом отношении сходную функцию имеет чередование метров
в связных циклах стихов у Белого, в «Человеке» и «Про это»
Маяковского, в «Двенадцати» Блока и в «Поэме конца»
Цветаевой, «Лейтенанте Шмидте» Пастернака, где каждая главка
написана особым метром. Нужно (в согласии с идеями Белого)
подчеркнуть также, что стилистическая многоплановость
присуща и характерным произведениям других видов европейского
искусства 10-х и 20-х гг. Так, продолжая намеченную Андреем
Белым аналогию его первых опытов с музыкальными
сочинениями (потом, во второй половине нашего века подхваченную
в знаменитых «Мифологичных» Леви-Строса*), со структурой
«Симфоний» Белого можно сравнить «Лунного Пьеро» Шён-
Ср.: Лени-Строе К. Структурная антропология. 2-е и:*д. Пер. с фр. М.,
1985(там же библиография).
О воздействии «эстетического эксперимента»... 85
берга. Каждая из миниатюр, входящая в это сочинение из трех
циклов по 7 пьес в каждом, отличается особой формой. В
«Лунном Пьеро» используются комбинации рояля, флейты
(чередующейся с пикколо), кларнета (бас-кларнета), скрипки (альта) и
виолончели. В каждой из миниатюр представлены особые
сочетания инструментов, сопровождающих голос. Но не будем даль-
nie увеличивать числа примеров, доказывающих правоту тезиса
о многоплановости стилей как доминанте (т. е. преобладающем
композиционном приеме) искусства этого периода. Несомненно,
что Белый был одновременно одним из первых, кто в своих
симфониях, а затем и в других прозаических и поэтических
сочинениях ввел этот прием, а вскоре и описал его теоретически.
Две отмеченные черты символистской («знаковой» в нашем
понимании) поэтики, по Белому, — возможность соединения
разных символов-образов и единство каждого из них — между
собой связаны: содержательная сущность образа-символа
обнаруживается при соположении разных стилей. Третьей, и едва
ли не важнейшей для всех поэтов-футуристов чертой было
единство «лирики и эксперимента», если воспользоваться
словами самого Белого, поставленными в заглавие одной из лучших
его статей по стиховедению". В этой статье, тоже относящейся
к 1909 г., Белый наметил целую программу развития
эстетики и поэтики как точных наук. Программа эта в соответствии с
критической оценкой Белым общественной ситуации писателя
в России конца 10-х гг. была сформулирована остро
полемически: «В некоторых областях эстетики делаются попытки
научного изъяснения принципов образования художественного
материала (в музыке, в живописи); в других же областях изучения
формы (анатомия) часто есть запретное занятие; им
пренебрегают; композитор, прошедший теорию контрапункта, —
явление нормальное; поэт, углубленный в изучение вопросов стиля
и техники, в глазах русского общества — почти чудовище;
музыкальные академии, академии художеств пользуются
покровительством общества; самая мысль о возможности академии
поэзии вызывает насмешки; безграмотность есть заслуга поэта
в глазах общества; поэт или писатель должен быть неучем; все
это показатель дикости отчасти европейского общества и
всецело русского в отношении к вопросам, связанным с поэзией и
Ьслый Андрей. Сим1ш.ли;ш... С 231.
86 Вяч. Be. Иванов
литературой; тончайшие, глубоко мучительные проблемы
стиля, ритма, метра отсутствуют — это роскошь. Но ведь тогда
открытие Лейбницем дифференциального исчисления в свое
время было роскошью — и только роскошью (практическое
применение его открылось впоследствии); всякие интересы
чистого знания — роскошь; а они-то и движут развитием
прикладного знания. Эту азбучную истину стыдно повторять
относительно вопросов эстетики, а повторять ее приходится;
отвлеченный интерес к поэтическим формам есть интерес праздный
не только по мнению общества, но и по мнению большинства
художественных критиков России, писателей и подчас знатоков
словесности. Большинство этих последних, совершенно
незнакомые с естествознанием (да и вообще с точной наукой),
пытаются создать суррогат научности в области своих исследований,
подчиняя поэзию, изящную словесность той или иной
догматической идеологии, быть может, уместной в других областях
знания, но совершенно неуместной в проблемах чистой эстетики;
и потому-то мысль об эстетике как системе точных,
экспериментальных наук для них (почти вовсе не знакомых с научным
экспериментом ) есть мысль еретическая; а самый эстетический
эксперимент — абсурд. Вместо этого наука о литературе в
лучшем случае для них есть история образов, сюжетов, мифов или
история литературы; и в зависимости от того, подчиняют л и они
историю литературы истории идей, культуры или социологии,
имеет место грустный факт оседлания эстетики как науки,
социологией, историей, этнографией; в лучших и редких случаях
происходит оседлание эстетики философией (ведь проблема
ценности искусства существует, и именно философия более
других дисциплин способна оценить самостоятельность
красоты); но здесь пропадает самая идея о возможности
существования, например, поэтики, метрики, стилистики как точных
наук. С другой стороны, все наиболее ценное для разработки
эстетики дали нам естествоиспытатели (Фехнер, Гельмгольц,
Оствальд и многие другие), но они вовсе не объединяли свои
исследования вокруг эстетики, а вокруг иных, хотя и точных,
но к эстетике лишь косвенно относящихся наук. Эстетика как
система наук есть в настоящее время пустое место; его должен
заполнить для будущего ряд добросовестных
экспериментальных трудов; десятки скромных тружеников должны посвятить
свои жизни кропотливой работе, чтобы эстетика как система
наук возникла из предполагаемых возможностей. В настоящее
О воздействии «эстетического эксперимента»... 87
время эстетика есть бедный осел, седлаемый всяким
прохожим молодцом; всякий прохожий молодец способен взнуздать
ее любым методом, и она предстанет нам как бы послушным
орудием то социологии, то морали, то философии, — на самом
же деле личных счетов и личных вкусов. И потому-то честнее,
проще те суждения о произведениях искусства, которые
апеллируют к личному вкусу, не прикрываясь грошовыми румянами
объективизма. То, что литературная критика, эта прикладная
область теории словесности, вырождается в иных газетах в
фабрику явных и откровенных спекуляций и что толпы
спекулянтов, подавляя количеством, управляют общественным
мнением интеллигенции, — есть не только показатель продажности
прессы, но и полного банкротства законодателей современных
теорий словесности: их теории, допускающие «обрабатывать»
произведения словесности в любом направлении, в настоящее
время порождают лишь литературную спекуляцию»*.
Приведенные слова Белого, написанные почти 80 лет назад,
до сих пор сохраняют значимость. Особенно же они важны для
выявления преемственной связи, соединявшей Белого с той
школой эстетического эксперимента, которая сформировалась
вокруг Хлебникова и Маяковского.
2
Наиболее очевидным представляется соотношение между
Андреем Белым и Маяковским. Его исследование облегчено
тем, что оба больших писателя сами написали о том, что они
значили друг для друга: Маяковский несколько раз с очень
большой определенностью высказывался по поводу примера
Андрея Белого для его собственного становления**. Находясь в
тюремном заключении в 1909—1910 гг., Маяковский прочитал
только что вышедшие статьи, стихотворные сборники и первые
Белый Андрей. Символизм... С. 237-238.
См. подробный обзор соответствующих данных: Janeôek G. Belyi and
Maiakovski // Russian literarure and American critics, Ed. K. Brostrom ( Papers in
Slavic Philology, 4). Michigan: Ann Arbor, 1984. R 129-137. Следует, однако,
заметить, что в январе 1910 г. Маяковский не мог читать книгу «Символизм»,
предисловие к которой помечено апрелем угого же года!
88 Вяч. Be. Иванов
прозаические опыты — «Симфонии» — Белого. По словам
самого Маяковского, в его последующей автобиографической
прозе («Я сам», 1922—1928), при всем отличии «тем и
образов» символистов (не только Белого, но и Бальмонта) от того,
что было свойственно самому Маяковскому, его поразило то,
как писал Белый: «он про свое весело»". В качестве примера
«веселого изложения» «своей» темы у Белого Маяковский
приводил строки из стихотворения Андрея Белого «На горах»
( 1903): «Голосил низким басом. В небеса запустил ананасом».
В этих стихах Белого многое предвещает молодого
Маяковского: не только веселая задиристость тона, отмеченная самим
Маяковским, но и ритмические особенности, готовящие
полную ломку традиционного силлабо-тонического трехсложни-
ка (большинство строк колеблется между двустопным хореем
и одностопным анапестом, в пользу которого решает третья
строка двустопного анапеста) и в особенности графическое
оформление стихов. Рассмотрим последовательно каждую из
стилистических черт, объединявших ранние стихи Белого с
первыми опытами Маяковского.
Вернемся к цитированной позднейшей оценке Белого у
Маяковского. Важно не только то, что Маяковский отмечает
близкую ему мажорную тональность. Не менее существенно и то,
что сходству этому не может помешать различие в излагаемом,
«означаемом» («символизируемом» в терминах Флоренского
и Белого). Приведем еще одну цитату из того же
автобиографического текста Маяковского: «Перечел все новейшее.
Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна.
Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни»**.
Следовательно, Маяковский допускает возможность
усвоения формальных новшеств при перенесении их на другие темы.
Если для Белого (даже в большей мере, чем для других
символистов) символизируемое и символизирующее (внешняя
форма стиха) неотрывны друг от друга, Маяковский уже тогда
задумывается над новым использованием символистской
техники. Позднее самодовлеющее внимание к поэтическому
языку и «слову как таковому» у Маяковского усилится благодаря
знакомству с опытами Хлебникова и с теориями Шкловского и
* Маяковский В. В. Я сам // В. В. Маяковский. ПСС: В 13 т. М., 1955.
T. 1.С 17.
Маяковский В. В. Ука:*. соч. С 17.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 89
других филологов, вошедших затем в ОПОЯЗ. Но уже и по
прочтении статей самого Белого, где столько внимания уделялось
анализу поэтической формы, Маяковский мог задуматься над
возможностью использования опытов Белого применительно к
собственным ( иным) тематическим задачам.
В интересном исследовании, впервые подробно осветившем
стилистическую преемственность молодого Маяковского по
отношению к Андрею Белому, Н. И. Харджиев и В. В. Тренин
еще в 1935 г. отметили и наличие отдельных мотивов, общих
у Андрея Белого и Маяковского. Это прежде всего
«трагикомический образ поэта — площадного пророка — арлекина —
сумасшедшего»*. У Белого он проходит через многие его стихи
и прозаические произведения, иногда облекаясь в причудливые
образы, прямо предвещающие раннего Маяковского.
Из многочисленных воплощений этого мотива у Белого, уже
и некоторыми образами (в том числе символом возвращения
после смерти), и ритмом предвещающих первые стихи
молодого Маяковского, напомним «Друзьям» ( 1907):
...Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь!
(С. 250).
При несомненной близости приведенной финальной строфы
к теме посмертного возвращения у Маяковского исполнение,
т. е. поэтическая техника, значительно дальше от его поэтики,
чем в сходном по теме стихотворении «Вынос» ( 1906),
отдельные фрагменты которого прямо сопоставимы с «Человеком»,
недаром вызвавшим при первом же чтении восторгу Белого:
Там колкой
Елкой, —
Харджион П., Тропим В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970.
С. 57.
90 Вяч. Be. Иванов
Там можжевельником
Бросят
На радость прохожим бездельникам —
Из дому
Выносят.
Прижался
Колбу костяному
Венчик.
Его испугался
Прохожий младенчик.
Плыву мимо толп,
Мимо дворни
Лицом —
В телеграфный столб,
В холод горний.
(С. 248)
Со стихами Маяковского о собственной смерти эти стихи и
другие, с ними сходные, как «Отпевание» (1906), сближаются
прежде всего описанием от авторского лица: присущая обоим
поэтам сугубо личная нота субъективного восприятия не
изменяет им и при подходе к этой теме. Характерно для
Маяковского и описание испуганных прохожих. Другие подступы Белого
к той же теме, как в «Арлекинаде» (С. 233; 1906), могут на
первый взгляд показаться дальше от молодого Маяковского.
Но можно показать, что настойчиво повторяемая в стихах
Белого после 1904 г. тема домино и маски возникает в
сходном контексте и в трагедии «Владимир Маяковский» (1913)
в одном из монологов В. Маяковского, вообще стилистически
очень близком к поэзии Белого:
Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у Бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
О воздействии «эстетического эксперимента»... 91
обошел и вашу сушу,
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал ее, невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
Эта часть монолога до его слома в стилистическом ключе
самого Маяковского (когда душа выходит «в голубом
капоте»), по-видимому, сознательно стилизована под Белого.
«Домино и маска темноты» — заимствованные Маяковским
у Белого образы, которым в следующей части того же
монолога отвечает образ «голубого капота» (а не домино!) удуши.
В цикле стихов Белого «Город» домино и маски возникают
непрерывно. В стихотворении «Маскарад» (1908) весь сюжет
(как позднее в романе «Петербург») строится на домино:
Гость: — немое, роковое,
Огневое домино —
Неживою головою
Над хозяйкой склонено...
«Злые шутки, злые маски», —
Шепчет он, остановясь.
Злые маски строят глазки,
В легкой пляске вдаль несясь.
Ждет. И боком, легким скоком, —
«Вам погибнуть суждено», —
Над хозяйкой ненароком
Прошуршало домино...
Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно, —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.
(С. 222-224)
В стихотворении «Праздник» (1908) центральный эпизод —
появление домино:
Обернулся: из-за пальмы
Маска черная глядит.
92 Вяч. Be. Иванов
Плещут струи красной тальмы
В ясный блеск паркетных плит.
«Кто вы, кто вы, гость суровый —
Что вам нужно, домино?»
Но, закрывшись в плащ багровый,
Удаляется оно...
(С. 227)
Одно из первых появлений этого образа у Белого — в
стихотворении «В летнем саду» ( 1906), написанном раньше
других цитированных стихотворений, но внутри цикла «Город»
переставленном дальше. В этом стихотворении убийца в домино
появляется в финале:
Хрипит, проколотый насквозь
Сверкающим, стальным кинжалом:
Над ним склонилось, пролилось
Атласами в сиянье алом —
Немое домино: и вновь,
Плеща крылом атласной маски,
С кинжала отирая кровь,
По саду закружилось в пляске.
(С. 237-238)
Приведенные фрагменты, связанные с темой домино, у
Белого представляют собой сюжетные стихотворения,
выдержанные в традиционно-романтическом ключе. Заимствование этого
образа в трагедии Маяковского, разумеется, никак не
означает влияния на него самих этих стихотворений. Образ, взятый у
Белого, нужен Маяковскому для того, чтобы остраннить его.
У Белого (как это пояснено в соответствующих сценах романа
«Петербург») в домино рядится романтик,
противопоставляющий себя окружающим. В трагедии Маяковский, странствуя в
«домино и в маске темноты», думает найти душу — и она
выходит к нему «в голубом капоте».
В. В. Тренин и Н. И. Харджиев сходство темы осмеянного
поэта у Белого и Маяковского иллюстрировали, сравнивая
«Вечный зов» ( 1903) Белого с ранними стихами Маяковского(«Не-
сколько слов обо мне самом», 1913)*. В стихотворении Белого,
Харджиеи 11., Тренин В. Укал. соч. С. 57.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 93
ими указанном, особенно существенно то, что поэт предстает
на фоне городского пейзажа. Ироничность рассказа
подчеркивается конкретностью деталей городской улицы:
Проповедуя скорый конец, я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец, разукрашенный пламенем роз.
В небе гас золотистый пожар. Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня тротуар, удивленно внимали речам.
Хохотали они надо мной, над безумно-смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой застывала, дрожа над челом.
Гром пролеток, и крики, и стук, ход бесшумный резиновых шин...
Липкой грязью окаченный вдруг, побледневший утих арлекин.
Яркогазовым залит лучом, я поник, зарыдав, как дитя. Потащили
в смирительный дом, погоняя пинками меня.
(С. 79)
Сходство этой (2-й) части цикла «Вечный зов» с ранними
стихами Маяковского состоит, во-первых, в ироническом
использовании образа «нового Христа». Тот же образ
(преимущественно в метафорах, таких, как «голгофы аудиторий» и
т. п.) проходит через стихи и ранние поэмы (особенно «Облако
в штанах») Маяковского. У него чаще всего религиозная
символика сочетается с мотивами богоборческими, которых у
Белого нет. Но тема сверхчеловека в его соотношении с
богочеловеком, являвшаяся центральной для всех предсимволистов (из
существенных для Белого отметим прежде всего Достоевского
и Владимира Соловьева) и продолженная в символизме, у
Маяковского преломилась в главную тему — Человека —
Маяковского — всех его ранних вещей, оттого так взволновавших
Белого. Не было бы правильно просто отождествить (как это
склонны были сделать в свое время В. Тренин и Н. Харджиев)
мотив осмеянного поэта у Белого и Маяковского. Отдельные
образы, через которые этот мотив претворяется, могли быть
предельно близки. Но при всей иронии для Белого так же
важны всерьез пророчески-евангельские нотки, как для
Маяковского (особенно в больших его вещах) настаивание на своей
заурядности — тем самым — общечеловеческой значимости:
В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков.
(«Человек»)
Для Белого все небо горело знаками. Здесь и проходит
водораздел между символизмом, в котором любое внешнее со-
94 Вяч. Be. Иванов
бытие рассматривалось как знак («символ»), и
постсимволистской поэтикой, допускавшей и поощрявшей рассмотрение
внешнего мира вне возможного знакового осмысления.
Во-вторых, такие стихи Белого, как «Вечный зов»,
представляют собой начало той урбанистической поэзии,
которая так существенна для молодого Маяковского. Пастернак,
говоря об этой поразившей его черте поэзии Маяковского,
позднее писал: «Поэт с захватывающе крупным
самосознаньем, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической
стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в
безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти
сектантских отождествлений, он так же широко и крупно
подхватил другую традицию, более местную. Он видел подсобою
город, постепенно к нему поднимавшийся со дна "Медного
Всадника", "Преступления и наказания" и "Петербурга",
город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали
проблемою русской интеллигенции, по существу же город в
дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный
город девятнадцатого и двадцатого столетья»*. Заметим, что
третьим в ряду основных русских произведений о городе
Пастернак называет «Петербург» Белого. За последние годы
проблема традиции «Медного всадника» в русской литературе
XIX и XX веков подробно изучена в нескольких
монографических исследованиях, прояснивших и генеалогию
«петербургского мифа» у Белого** и других писателей, непосредственно
к нему примыкающих. Маяковский в этих трудах специально
не рассматривался. К 1916 г., когда Маяковский скорее
всего должен был уже прочитать «Петербург» (в «сирийской»
редакции 1913—1914 гг., отдельным изданием вышедший в
1916 г.), относится его стихотворение «Последняя
петербургская сказка». В нем, как и в журнальной редакции
«Петербурга», «оживший "Медный всадник" — Петр оказывается
в ресторане (у Белого — в кабачке). Сюжетное развитие
неодинаково: романтически приподнятое у Белого, где каменная
«громада» за столиком в трактире все как бы мерещится ге-
Пастернак Б. Л. Охранная грамота // Б. Пастернак Избранное: В 2 т.
М., 1985. Т. 2. С. 209.
Долгополо» Л. Па рубеже веков. 2-е изд. Л., 1985. С. 150—260;
Семиотика города и городской культуры. Петербург; Тарту, 1984.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 95
рою романа — Николаю Аполлоновичу, и подчеркнуто
сниженное до анекдота у Маяковского. Но и у Белого поведение
«громады» — Петра вплетается в гротеск изображения
кабачка: «А рядом, с голландцем, за столиком грузно так
опустилась тяжеловесная, будто из камня, громада... Чернобровая,
черноволосая, — громада смеялась двусмысленно на
Николая Аполлоновича... И казалось, что та вот громада кулаком
ударит по столику — треск рассевшихся досок, звон разбитых
стаканов огласит ресторан... Вот громада вынула трубочку из
тяжелых складок кафтана, всунула в крепкие губы, и
тяжелый дымок вонючего курева задымился над столиком»*.
Только в финале сцены призрак становится «медным» и обретает
литературно-традиционную грозность: «А когда прошел он к
той двери, то по обе стороны от себя он почувствовал зоркий
взгляд наблюдателя: и один из них был тот самый гигант, что
тянул аллаш за соседним с ним столиком: освещенный лучом
наружного фонаря, он стал там у двери медноглавой громадой;
на Аблеухова, войдя в луч, на мгновение уставилось
металлическое лицо, горящее фосфором; и зеленая, многосотпудовая
рука погрозила»**. Белый в этой сцене (и в другой, где Медный
Всадник преследует одного из персонажей в доме, где он
живет) ближе к первоисточнику — пушкинской поэме: и у него
грозный призрак как бы галлюцинация больного
воображения. У Маяковского гротескная история появления Медного
Всадника в ресторане рассказывается как всамделишная. Как
у Белого, Петр не один. Но в «Петербурге» его в кабачке
сопровождает голландец, а у Маяковского в ресторане трое —
«император, лошадь и змей» (т. е. три главных персонажа
«петербургского мифа», каким он обычно предстает в поэзии
начала века, у Анненского, Блока и других поэтов***).
Наиболее явно воздействие поэтического эксперимента
Белого на Маяковского обнаруживается в графическом
оформлении стиха. Белый в своем первом стихотворном сборнике
«Золото в лазури» (1904) вводит и в последующих сборниках
«Пепел» (1909) и «Урна» (1909) развивает новый принцип
Белый Андрей. Петербург. М., 1981. С. 206.
** Там же. С. 213.
См. особенно: Осповат А. Л., Тименчик R Д. «Печальну повесть
сохранить...» М., 1985.
96 Вяч. Be. Иванов
зрительного (визуального) представления стиха. В этот период
у Белого, как позднее у раннего Маяковского, главным
графическим методом оформления стиха становится «столбик»:
стихи дробятся на куски (например, стихотворения шестистопного
ямба на полустишия), начало каждого из которых становится
началом графической строки. Так, в стихотворении
«Серенада» ( 1904)дважды выносится в начало строки нерифмующееся
обращение «Дорогая» и в одном случае — следующее за ним
«о пусть», рифмующееся с которым слово «грусть» не
выделено в конец строки:
Ты опять у окна, вся доверившись снам, появилась...
Бирюза, бирюза
заливает окрестность...
Дорогая,
луна — заревая слеза —
где-то там в неизвестность
скатилась.
Дорогая,
о пусть
стая белых, немых лебедей
меж росистых ветвей
на струях серебристых застыла —
одинокая грусть нас туманом покрыла.
(С. 128)
В большинстве стихов из трех ранних сборников строки,
выравниваемые (только слева — в начале) в столбик, между
собой рифмовались, и лишь иногда Белый (как в цитированной
«Серенаде») допускал либо вынесение в строку
нерифмованного слова, либо прятал рифмующееся слово внутри строки.
В более обычном случае, как в стихотворении «Прощание»
( 1903), все части «столбика» рифмуются между собой
независимо от их длины (весьма разнообразной). Написание же с
заглавной и строчной буквы зависит от синтаксиса и пунктуации,
а не от места в столбике:
«...Ответишь в день оный,
коль, сердце, забудешь меня».
Сверкают попоны
лихого коня.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 97
Вот свистнул по воздуху хлыстик.
Помчался
и вдаль улетел,
И к листику листик
прижался:
то хладный зефир прошумел.
(С.91)
Но в некоторых ключевых местах, как во втором
стихотворении цикла «Осень», возможно повторение нерифмующегося
слова:
Раздался вздох ветров среди могил: —
«Ведь ты, убийца,
себя убил, —
убийца!»
Себя убил.
(С. 150)
Под несомненным воздействием Белого, но вводя и смелые
рассечения слов на две части, Маяковский начинает
пользоваться столбиком уже в таких первых его опытах, как
У-
лица.
Лица
У
догов
годов <...>
Листочки.
После строчек
листочки.
Но в этот период столбиком (все части которого, как у
Белого, обычно рифмовались) Маяковский пишет только подобные
экспериментальные стихи, в других же предпочитает обычное
графическое оформление. Различие между временем,
когда Маяковский перенимает у Белого «столбик», и тем, когда
98 Вяч. Be. Иванов
(за 10 лет до того) Белый его изобретает, сказалось и в
эстетических оценках. Маяковский начинает работать в то время,
когда в России расцветает поэтическая книга, украшаемая
художниками. К визуальной стороне поэзии внимание
приковано, уже не надо доказывать (как приходилось Белому в его
ранних статьях), что нужно следить за графической стороной
стиха. Соединяя в себе и художника, и поэта, Маяковский сам
в 1913 г. пробует силы в графической книге «Я», где
внимательный анализ обнаруживает дальнейшее движение в сторону
«лесенки»*.
Но если говорить не о рукописных литографированных, а
печатных изданиях, то Маяковский широко стал пользоваться
столбиком только начиная с 1916 г. Специальные
исследования** показывают, что основное отличие столбика
Маяковского от столбика Белого связано с рифмовкой: для Маяковского
центральным в его поэтике было постоянное использование
конечной рифмы, связывающей обычно чередующиеся
строки четверостишия; Белый же, рифмуя между собой все части
столбика, в какой-то мере делал рифму второстепенным его
сопровождением.
Хотя в рукописных текстах Маяковского и можно рано
заметить стремление к такой записи стиха, которая однозначно
передавала бы его звуковую форму (в том числе и интонационно-
акцентное членение), главное достижение и здесь было связано
с воздействием Андрея Белого. Как показал впервые М. Л. Гас-
паров***, с выводами которого согласились и другие исследова-
Janecek G. The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual
Experiments, 1900-1930. Princeton; New Jersey: Princeton University Press,
1984. P. 213.
Ibid. P. 220-221; Eagle H. The semantic significance of step-ladder and
column forms in the poetry of Belyi, Majakovskij, Voznesenskij, and Rozhdest-
venski // Forum at Iowa on Russian Literature. I, Iowa, Ohio, 1976. P. 1-19;
Eagle H. Typographical devices in the poetry of Andrey Bely // Andrey Bely:
A Critical Review. Ed. G. Janecek. Lexington: University of Kentucky, 1978.
P. 71-84.
Гаспаров M. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М.,
1974. С. 436-437; Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984.
С. 238.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 99
тели*, и та форма лесенки, к которой Маяковский приходит в
1923 г. (при работе над «Про это»**), была ему подсказана
книгой стихов Андрея Белого «После разлуки». Этот вывод
представляется несомненным:докниги Андрея Белого, о
продолжающемся внимании к которому свидетельствуют высказывания
Маяковского, относящиеся к 1922-1924 г. ***, Маяковский по-
прежнему придерживается столбика, который в 1923 г. (после
знакомства с «После разлуки») меняется по образцу
графического оформления стихов Белого. Особый интерес
обнаружения этой историко-литературной переклички двух больших
поэтов усиливается двумя обстоятельствами: во-первых, речь
идет о втором этапе воздействия изобретений Белого на
Маяковского в области графического оформления стиха.
Маяковский, до того использовавший столбик в духе раннего Белого,
столкнулся с противоречием между графическим выделением
слов в столбике и рифмами, в поэтике Маяковского
подчеркивавшими конечные слова строк****. Белый в цикле «После
разлуки», продолжая свои эксперименты предшествующего
десятилетия («Шут», 1911; «Шутка», 1915; «Королевна и рыцари»,
1918 и др.), нашел способ сохранить графическое единство
строки, выделив при этом ее куски посредством лесенки, как в
композиции «Маленький балаган на маленькой планете
«Земля» (1922):
Говори, говори, говори. Говори же —
— В года —
— Где —
Перепенивается Вода —
— Где —
— Тени
Тишь
* Janecek G. The Look of Russian Literature. P. 222-223; Janecek G.
Intonation and Layout in Bely's poetry // Andrey Bely: Centenary Papers.
Amsterdam: Hakkert, 1980. P. 81-90.
Паперный 3. Маяковский в работе нал поэмой «Про это» //
Литературное наследство. 1960. Т. 56. С. 217-284, особенно — С. 264.
*** Маяковский В. В. ПСС: в 13 т. М., 1961. Т. 12. С. 463; Т. 13. С. 181
(«Блок мне не так интересен, как Белый»).
Штокмар М. О стиховой системе Маяковского // Творчество
Маяковского. М., 1952. С. 303.
100 Вяч. Be. Иванов
И
Тьма —
— Нет Или
Да?-
— Свет Или Тьма?
И — ближе, ближе, ближе —
— Тьма
Сама!
(С. 452)
Открытие Белого, непрерывно шедшего вперед в
стремлении найти графические эквиваленты чтению стиха, сразу же
увлекло Маяковского. Белый не стоял на месте, а
Маяковский отличался исключительной чуткостью к открытиям
Белого. Для Маяковского произносимое слово было главным,
его запись он хотел приблизить к своему чтению.
Во-вторых, одной из интереснейших сторон
рассматриваемого этапа в расширении графических возможностей
русского стиха является несомненное влияние на Белого в период
разработки им этой новой системы эксперимента Марины
Цветаевой. В книге стихов «Разлука» (1922) Цветаева
развивает введенную ранее Белым технику деления строк на
куски посредством тире. О том, как Белый бурно реагировал на
достижения Цветаевой, можно судить и по его рецензии на ее
книгу (тогда же напечатанной), и по быстрому перенятию им
этих приемов. В рецензии на книгу Цветаевой, ссылаясь на
только что перед тем вышедшую работу Эйхенбаума о
мелодике стиха, Белый настаивал на необходимости прежде всего
обратиться к мелодии. В предисловии к сборнику «После
разлуки», озаглавленном «Будем искать мелодии», Белый вы -
ступает с манифестом нового направления: «Провозглашая
мелодизм, как необходимо нужную школу <...>, я намеренно в
предлагаемых мелодических опытах подчеркиваю право
простых совсем слов быть словами поэзии, лишь бы они
выражали точно мелодию; и наоборот: все старание мое направлено
на выявление возможной сложности этой мелодии; мелодию я
вычерчиваю, порою высвобождая ее из круга строф и строк;
и потому-то все мое внимание в "песенках" сосредоточено на
архитектонике интонаций; расположение строк и строф —
пусть оно будет угадано, в мелодии. Самое расположение слов
подчиняется у меня интонации и паузе, которая заставляет
О воздействии «эстетического эксперимента»... 101
нас выдвигать одно слово, какой-нибудь союз "и" (на котором
никогда не бывает синтаксического и формально-логического
ударения и бывает мимическое, жестикуляционное); или
обратно: заставляет пролетать по ряду строк единым духом,
чтобы потом вдруг задержаться на одном слове» (С. 549).
То, что эту программу сразу же подхватил и развил в «Про
это» Маяковский, поразительно. Не менее удивительно и то,
что при таком перенятии приемов Белого Маяковский (либо
через него, либо непосредственно) воспринимал и недавние
нововведения Цветаевой. Сравним графический облик таких
стихов, как:
не Муза, не Муза, не бренные узы
родства, — не твои пути, о Дружба!
— Не женской рукой, — лютой
Затянут на мне
Узел.
(Цветаева. «Разлука». 1922)
Вызови —
— Предсмертную дрожь: — Уничтожь!
(Андрей Белый. «После разлуки». 1922. С. 453)
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
(Маяковский. «Про это». 1923)
Быстрота взаимного обмена техническими достижениями и
скорость продвижения по новому пути поразительны. За 1922—
1923 гг. Цветаева, Андрей Белый и Маяковский реформируют
внешний облик русского стиха, затем Маяковский довершает
разработку своей лесенки, становящейся после этого
канонической формой у Асеева, Кирсанова и других поэтов,
использующих, однако, чаше дольник, чем акцентный стих (в отличие
от Маяковского). Вскоре в 1925—1926 гг. в поэме «Девятьсот
пятый год», написанной пятистопным анапестом (со
статистически преобладающей цезурой после второй стопы), Пастер-
102 Вяч. Be. Иванов
нак последовательно проводит членение стиха столбиком, как
у раннего Белого и Маяковского:
Вот отдельные сцены. Аквариум.
Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.
Большая часть не только стихотворных, но и прозаических
произведений Андрея Белого была написана правильными
силлабо-тоническими размерами. Поэтому со стихом
Маяковского их можно сравнить только по отношению к самым
ранним его опытам, ритмически традиционным, и к
позднему его периоду, когда он работал над вольными двусложными
размерами (тогда как Белый в сходной функции использовал
вольные трехсложные*). Преемственность можно
обнаружить и при сравнении рифмованных, метрически
неупорядоченных строк у Белого и раннего Маяковского**. Особый
интерес представляют стихи Белого, частично имитирующие
народный рифмованный стих, как «Веселье на Руси» (1906),
«Горе» (1906), и ритмом, и рифмовкой они почти дословно
предвосхищают целую группу стихов Маяковского.
Исключительно важен для анализа отношений Белого и Маяковского
данный Белым разбор гипербол и некоторых языковых
особенностей Маяковского в специальной главке его посмертно
вышедшей книги. Она свидетельствует о до конца
осознававшейся Белым стилистической близости языкового
новаторства Маяковского к его собственному.
Гаспаров М. Л. Вольный хорей и вольный ямб Маяковского // Вопросы
языкознания. 1965. № 3. С. 76—88; Гаспаров М. Л. Современный русский
стих; Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 213. Гаспаров М. Л.
Очерк истории русского стиха. С. 273—274.
** Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1934. С. 309-314.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 103
3
Проблема соотношения творчества Белого и Пастернака
значительно более сложна. В первых своих высказываниях на
эту тему Пастернак решительно утверждал, что испытал
влияние музыки «Белого и Блока»*. Последнее безоговорочное
высказывание о Белом содержится в некрологе в «Известиях»**,
одним из трех авторов которого был Пастернак; все другие,
более поздние, признавая гениальность Белого,
преимущественно говорят об их расхождениях (это относится и к тем, которые
мне самому довелось не раз слышать от Б. Л. Пастернака).
Особенно настаивал Пастернак на том, что, участвуя в
кружках при «Мусагете», он тем не менее не посещал занятий
Белого по ритму, расходясь с его взглядами***. Удивительность
этого утверждения заключается в том, как ритмика стихов
Пастернака связана с ритмикой Белого.
В статьях, теоретических книгах, докладах и кружковых
семинарах того времени, когда молодой Пастернак, только еще
начинавший писать стихи, ходил на собрания литературной
молодежи, Андрей Белый отстаивал теоретические принципы той
реформы ритмики русского силлабо-тонического стиха
(особенно ямба), которую он с успехом начал осуществлять в своей
поэзии. Суть этой реформы заключалась в освобождении
стиха от тяготевшей над ним традиции, во второй половине XIX в.
ставшей окостеневшей. Произведя расчеты на основе
статистического анализа русской прозы, Андрей Белый выявил такие
возможности, таящиеся в традиционных силлабо-тонических
метрах, которые до того в русском стихе почти не
реализовались. Так, например, форма 4-стопного русского ямба с
пропуском двух серединных ударений на четных (сильных) слогах,
как «И кланялся непринужденно», в классической поэзии была
крайне малоупотребительна, а в теоретической модели
русского стиха она занимает вполне существенное место. Задача
восполнить этот пробел и была решена Белым в таких его стихах,
Пастернак Б. Л. Охранная грамота. С. 147.
Пастернак Б., Пильняк Б., Санников Г. Андрей Белый // Известия.
1934. 9 янв.
Пастернак Б. Л. Люди и положения // Б. Л. Пастернак. Избранное:
и 2 т. Т. 2. С. 247.
104 Вяч. Be. Иванов
как «Ночью на кладбище», где последовательно используются
подряд строки этого, редкого в классической поэзии, типа:
Над зарослями из дерев,
Проплакавши колоколами,
Храм яснится, оцепенев
В ночь вырезанными крестами.
Серебряные тополя
Колеблются из-за ограды,
Разметывая на поля
Бушующие листопады.
(С.306)
Именно это направление продолжает Пастернак, когда в
«Ледоходе» (вариант 1928 г. из 2-го издания «Поверх барьеров») он
заканчивает стихотворение двумя строками этой формы:
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.
Существует два возможных объяснения
исключительного сходства ритма четырехстопного ямба и других силлабо-
тонических размеров у раннего Пастернака и той тенденции,
которая была намечена в статьях, книгах и стихотворных
сборниках Белого в момент, когда Пастернак начинал свою
поэтическую деятельность. Одно объяснение предполагает, что из
ранних сборников Белого все поэты этого времени усвоили это
направление, а Пастернак, в то время много читавший поэтов —
своих современников, перенял эти нововведения опосредованно
из их сборников и из сборников стихов Белого. Но это
объяснение едва ли помогает понять, почему Пастернак в определенном
смысле довершил ту реформу ямба, которая Белым была только
намечена и в его собственном ямбе не до конца реализована*.
У Пастернака в «Высокой болезни» обнаруживаются такие
редкие формы четырехстопного ямба, которые Белым были
теоретически намечены, но почти не использовались, в
частности, форма с пропуском двух первых ударений («И велоси-
См.: Тараноиский К. Ф. Четырехстопный ямб Андрея Белого //
International Journal of Slavic linguistics and poetics. 1966. № X. P. 127— 147.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 105
педист летит»). В соответствии с характерным для Белого (и
теоретически обоснованным в его статьях) приемом
повторения этих редких форм Пастернак пишет ими соседние строки:
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Вместе с тем, развивая реформу Белого, Пастернак широко
использует накопление пропусков серединных ударений в
пятистопном ямбе («У выписавшегося из больницы»,
стихотворение «Весна, я с улицы», 1918, сборник «Темы и вариации»),
в том числе и в белом стихе ранних переводов пьес Бен
Джонсона, а также в трехсложных размерах, где это нововведение
впервые последовательно проведено Пастернаком в его
ранней поэме (сохранились только фрагменты) и позднее в поэме
«Девятьсот пятый год». Трудно предположить, что столь
далеко идущий ритмический эксперимент в других размерах,
соответствующий по идее реформе четырехстопного ямба у Белого,
Пастернаком не был осознан и продуман. А это заставляет
прибегнуть ко второму объяснению связи ритмической тенденции
Белого, его «музыки», с ее развитием у Пастернака.
Независимо от того, посещал ли (хотя бы однократно,
чтобы потом из духа противоречия не ходить дальше) Пастернак
кружок Белого по стихотворному ритму в «Мусагете», он
бесспорно изучал книгу Андрея Белого «Символизм»,
вышедшую в 1910 г. Более того, доклад «Символизм и бессмертие»,
прочитанный Пастернаком в «мусагетском» кружке Крахта
10 февраля 1913 г., в известной мере был ответом на ту
концепцию символизма, которая содержалась в этой и других
книгах Белого. Но вторую часть книги составляли стиховедческие
исследования Белого. В том, что Пастернак тогда же
ознакомился с ними, сомневаться не приходится. Стихотворную
практику и самого Белого, и других поэтов, своих современников,
Пастернак — начинающий поэт не мог не осмысливать в свете
теоретических изысканий Белого. В этом и заключался
первый импульс к той реформе стиха, которую осуществил сам
Пастернак.
Разбираемый вопрос имеет и более общее значение. Как
связана литературная теория таких поэтов, которые, как Белый,
одновременно являются и теоретиками, с их собственной
литературной критикой и с творчеством их современников? Этот
106 Вяч. Be. Иванов
вопрос встает не только по поводу Пастернака, но и по
поводу Блока — близкого друга Белого. Прочитав «Символизм»,
Блок писал автору о двояком своем отношении к этой книге.
Многое в ней он находил себе очень близким. В том же 1910 г.,
когда вышел «Символизм», и следовательно, через год после
выхода в свет двух сборников стихов Белого, где содержатся
примеры его реформированных ямбов, Блок начинает свой
цикл «Ямбы» стихами, где (каку Белого) строки с необычными
пропусками серединных ударений («Все сущее увековечить»)
следуют друг за другом. Иначе говоря, Блок в своей поэзии
одним из первых продолжил эксперимент Белого.
Насколько для поэтов следующих поколений, продолжавших
реформу стиха, начатую Андреем Белым, существенны были не
только его собственные стихи, но и теоретическое осмысление
всей проблемы истории русского стиха в «Символизме»?
Позволю себе сослаться на слова И. Л. Сельвинского, который в
середине 40-х гг., говоря со мной об Андрее Белом, заметил:
«Конечно, мы все учились на его "Символизме". Не думаю, что
это было преувеличением.
Та же загадка, что и в отношении Блока и Пастернака,
возникает и по поводу Марины Цветаевой. И она, как
Пастернак, посещала кружки «Мусагета». И она тоже позднее
говорила и писала, что стихотворческие изыскания
Белого от нее были далеки. Но ямбы Цветаевой начала 20-х гг.
носят совершенно определенные следы воздействия
примера Андрея Белого, при этом в двух отношениях: для стихов
Цветаевой, как и для самых первых экспериментов Белого,
характерно одновременно и наличие пропусков серединных
ударений, и «сверхсхемные» (дополнительные) ударения на
первом (слабом) слоге строки:
В столб. Вдребезги бы, а не в кровь!
(«Поэма конца»)
У Андрея Белого подобные строки — при этом с
выделением частей строки тире, совсем как у Цветаевой,
встречаются за двадцать лет до того в таких стихах, как «Меланхолия»
(1904):
Там: — отблески на потолке...
...Там — вырезанным силуэтом —
О воздействии «эстетического эксперимента»... 107
Цветаева очень последовательно использует строки
этого типа, причем в «Поэме конца» сходный ритм
обнаруживается не только в ямбе, но и в других размерах*, в частности в
дольнике:
Вопль вспоротого нутра!
Иначе говоря, Цветаева, как и Пастернак, развивая
введенный Белым ритмический прием, перенесла его на другие
размеры. Эксперимент, Белым начатый в четырехстопном ямбе,
был развит далее и по отношению к другим метрам. Думается,
что и в поэзии Пастернака того времени, когда он внимательно
и увлеченно следит за стихами и поэмами Цветаевой, во
многом продолжавшей и Белого, и раннего Пастернака, ее опыт
мог способствовать усилению тех же ритмических тенденций:
в частности, это относится к уже цитированному второму
переработанному изданию «Поверх барьеров».
Нельзя недооценить воздействия на поэта результата,
получаемого в удачном (а в случае Цветаевой более того:
поразительном) ритмическом эксперименте другого поэта. Так,
возможно, Пастернак именно после знакомства с поэзией
Цветаевой 20-х гг. окончательно формирует свой
«ритмический образ» ямба и других русских стихотворных размеров. Но
первоначальный импульс и он сам, и Цветаева задолго до этого
получили из стихов и теоретических рассуждений Белого.
По отношению к Цветаевой, как и к Пастернаку времени
начала 20-х гг., возможно думать и о значении бесед с Белым в
Берлине в то время, когда каждый из них порознь встречался с
Белым. От сына Цветаевой Мура у меня сохранялась вырезка
из газеты — рецензия В. Ходасевича на книгу Цветаевой
«После России» с пометками самой Цветаевой. Она не согласна
была с предположением Ходасевича о том, что Белый оказал
на нее влияние: ей казалось, что биографические факты — ее
встречи с Белым — он смешивает с фактами литературными.
Но здесь скорее прав Ходасевич, чем Цветаева. И в
графическом выражении ритмического членения строки, и в самом
ритме Белый явно повлиял на Цветаеву. Другое дело, что время
бурного их общения в Берлине в какой-то мере могло
содействовать обострению интереса Цветаевой к ритмическим экс-
См. подробно об этом: Иванов Вяч. Вс. Метр и ритм в «Поэме конца»
М.Цветаевой//Теория стиха. Л., 1968. С. 168-201.
108 Вяч. Be. Иванов
периментам Белого; это время совпало и с началом сильного
влияния на нее лирики Пастернака, продолжавшего те же
эксперименты. В свою очередь, подхваченные Цветаевой опыты
Белого ею были развиты в направлениях, воздействовавших и
на самого Белого, и на Маяковского, и на Пастернака.
Следовательно, мы приходим к выводу об очень тесном
взаимовлиянии всех названных поэтов в начале 20-х гг., что несколько
затемнено их последующими самооценками. В то время бурно
развивавшаяся русская поэзия текла единым потоком, не
раздробляясь на отдельные ручейки.
4
Из воспоминаний Ходасевича и Берберовой известно, что в
ту пору, когда Белый и Ходасевич много общались в Берлине, в
их беседах нередко участвовал и Пастернак. Об одном из таких
разговоров как-то в моем присутствии упоминал и Пастернак.
Его слова я записал тогда же, 13 сентября 1944 г., и я приведу
дословную запись: «...Я вспомнил разговор в Берлине с
Андреем Белым и Ходасевичем на ту же тему. Я говорил Белому: как
вы, замечательный, подлинный художник, уважаете историю,
принимаете ее, тогда как история для художника не должна
существовать? Он должен понимать современность как огород,
на котором он и разводит все овощи. Ходасевич и Белый
говорили мне, что я не понимаю Апокалипсиса, что это —
поразительное откровение...»
Ходасевич (при всех его отличиях от Белого) в этом, скорее,
такой же символист в узком историко-литературном смысле,
как и сам Белый. Преодоление символизма для Пастернака,
как и для молодого Маяковского, состояло прежде всего в
обнаружении за знаками — самой действительности, особое
субъективное постижение которой в искусстве и описывалось
молодым Пастернаком в докладе «Символизм и бессмертие»
(с этой точки зрения стоило бы сопоставить стихи Пастернака
«Петербург» 1915 г. с только что перед тем вышедшим в
журнале романом Белого). Видимо, по этой причине Пастернак так
резко расходился с попытками Белого построить особый язык
символов, которые он оправданно сближал с опытами
Хлебникова в поэзии и Скрябина в музыке*.
Пастернак В. Люди и положения. С. 235.
О воздействии «эстетического эксперимента»... 109
Сопоставление теоретических взглядов Андрея Белого и
Хлебникова на поэтический язык, а отчасти и некоторых
связанных с этим словесных их экспериментов представляется
вполне обоснованным. Но, в отличие от рассмотренных выше
связей, а иногда и взаимовлияний, по отношению к
Хлебникову говорить о воздействии Белого можно с осторожностью:
их далеко идущие сходства часто (хотя, быть может, и далеко
не всегда) объясняются, скорее, внутренним параллелизмом
литературных судеб*, чем прямым влиянием Белого. В одном
случае Хлебников, в начале 10-х гг. очень враждебно
настроенный по отношению ко всем символистам и, в частности, у
Белого находивший в стихотворном ритме «волевой рассудочный
нажим»**, сделал исключение: в письме Белому высказал
восхищение его романом «Серебряный голубь». Кажется
вероятным, что в прозе Хлебникова можно увидеть отсвет более
ранних метрических прозаических «Симфоний» Белого. Но подход
Хлебникова к поэтическому языку всегда оставался близким к
символистскому***. Поэтому в теоретических работах
Хлебникова и Белого можно найти очень много общего, а в поздних
работах Белого Хлебников не раз цитируется как пример
близкого ему поэтического эксперимента.
Особенно много общего у Хлебникова и Белого
обнаруживается при сравнении мыслей Белого о глоссолалии**** (Белый
писал: «глоссалолия»)саналогичнымиидеямиХлебникова*****.
«Глоссолалия. Поэма о звуке» была написана Белым в
сентябре — октябре 1917 г.****** С одной стороны, это сочинение
продолжает предшествующие литературоведческие изыскания
См. об чтом: Григорьев В. П. Грамматика идиостиля // В. Хлебников.
M., 1983. С. 21, 22 и др.
** Неизданный Хлебников. М., 1940. С. 338, 339.
*** Гофман В. Языковое новаторство Хлебникова // В. Гофман. Язык
литературы. Л.: Гослитиздат, 1936.
Белый Андрей. Отрывки из Глоссолалии, поэмы о звуке //Дракон,
Альманах, 1921; Белый Андрей. Глоссолалия. Берлин, 1922.
***** См. об этом сравнении: Hansen-Löve A. A. Dernissische Formalismus.
Wien:-Verlag der Österreichen Akademie der Wissenschaften, 1978. S. 129.
****** Nival G. Trois documents importants pour l'étude d'Andrej Belyj //
Cahiers du Monde russe et soviétique. 1974. T. 15. № 1-2. P. 41-146.
110 Вяч. Be. Иванов
Белого (в «Символизме» и других книгах), относящиеся к
звукописи у разных русских поэтов, в том числе и у него самого;
заметим, что по мере оживления интереса к этой проблеме в
современной лингвистике и поэтике именно эти труды Белого
сейчас приобретают особенно живое звучание (как и отчасти
сходные с ними замечания Хлебникова). С другой стороны, это
сочинение окрашено в автобиографические тона. Оно
написано почти одновременно с «Котиком Летаевым», где Белый
предпринял неслыханный до того в мировой литературе опыт
погружения в собственное младенчество. В «Глоссолалии»
Белый пытается воспроизвести становление индивидуального
языка человека, исследуя и физиологию органов речи, и
этимологические связи между словами индоевропейских языков (эта
последняя черта напоминает отчасти и несколько более ранние
сочинения о языке Августа Стриндберга, но сходство это
чисто типологическое: эти сочинения до сих пор ни на один
другой язык со шведского не переведены). Порознь каждая из этих
сторон «поэмы» Белого, как и все целое, удивительно сходны
с мыслями Хлебникова и их дополняют; можно думать, что в
самой хлебниковской зауми сохранены, как и в занимавшей и
его, и Белого глоссолалии (обращении на особом
изобретенном языке к высшим силам), у взрослых (например, сектантов,
«глаголющих» на особом языке) черты младенческого лепета.
Но при разительности сходств они никак не могут объясняться
взаимными влияниями: Хлебников не мог видеть этих вещей в
написанном виде. Даже если допустить, что он мог слышать в
Москве в годы гражданской войны чтение Белым отрывков из
этой поэмы, все равно этим независимость аналогичных
сочинений Хлебникова не опровергается: большинство из них
написано раньше.
Это нас подводит к одной из наиболее увлекательных
сторон во взаимной перекличке Андрея Белого и младших его
современников (Хлебников был моложе его всего на 5 лет, но
значительно позднее выступил в печати). Иногда, как по
отношению к Андрею Белому и Хлебникову, можно говорить о
сходстве, объясняемом и параллелизмом личного развития, и
литературной атмосферой эпохи. Хлебников начинал с тех же
исходных позиций, которые были у символистов, но шел
дальше них в конструировании заумного языка. Из практических
опытов Белого в этом направлении Хлебников мог знать
опыты зауми в журнальной редакции «Петербурга»; из разговора
О воздействии «эстетического эксперимента»... 111
овеществленной заумной галлюцинации — Шишнарфнэ
(«перевертня» — если пользоваться хлебниковской
терминологией — Енфраншиша) могла возникнуть тема «теневого мира»,
мелькающая в стихотворных набросках Хлебникова
бакинского периода. Но и для этой последней темы, неожиданно
перекликающейся с самыми новыми физическими теориями, нельзя
исключить другие источники.
В заключение мы подходим к одной из сложнейших проблем
соотношения символизма и постсимволизма. Большинство
разительных сходств Хлебникова и Белого отчасти
объясняется тем, как постсимволист-будетлянин («футурист»)
Хлебников развил наследие раннего символизма. Но сам Белый не
раз позднее употреблял (в том числе и в последней своей
книге «Мастерство Гоголя») «будетлянство» и «будетлянин» как
близкие ему обозначения, связанные с творческим подходом
к поэтическому языку. Недаром многие авторы называют
Белого «отцом футуризма»* или даже самым настоящим из всех
русских футуристов**. Если понимать футуризм не как узкое
историко-литературное понятие, ярлык, наклеивавшийся
товарищами по группе или критиками-хулителями, а как
широкую стилистическую категорию, то приходится признать, что с
20-х гг. (в пору увлечения Хлебниковым и позднее) к
футуризму (который как историко-литературное явление к тому
времени исчерпался) приближается и Мандельштам. Поэтому его
сближение в начале 30-х гг. с Белым (перед самой смертью
последнего), отраженное и в «Разговоре о Данте», и в
стихотворном цикле, посвященном памяти Белого, не означало возврата
Мандельштама назад к символизму, с которым (в том числе и с
Белым) он так яростно спорил прежде. Скорее речь шла о
движении его вперед к той поэтике, которая полностью
реализовалась в «Воронежских тетрадях». Но полностью оценить вклад
Белого (не столько писателя, сколько собеседника) в это
развитие Мандельштама можно было бы, только реконструировав
характер их коктебельских разговоров лета 1933 г., что отчасти
можно сделать по тексту «Разговора о Данте» и стихов Ман-
Chizhevskii D. Anfänge des russischen Futurismus. Wiesbaden: Otto
Harrassowitz, 1963. S. 9.
Janeôek G. Belyi and Maiakovski. P. 132.
112 Вяч. Be. Иванов
дельштама этого времени в сопоставлении со свидетельствами
Н. Я. Мандельштам и других мемуаристов.
В данном выше очерке, по необходимости кратком,
вовсе не исчерпано значение Андрея Белого для поэтов — его
младших современников. Далекая от поэзии Белого Ахматова
как-то в разговоре со мной назвала его книгу «гениальной»;
по-видимому, не было бы праздным занятием исследовать
ее отношение к Белому в то время, когда писалась эта книга
(«Мастерство Гоголя») и когда с Белым сблизился ее друг и
постоянный единомышленник Мандельштам. В «Цехе поэтов»
для Гумилева и его сподвижников Белый-стиховед оставался
образцом при том формальном анализе, мастером которого
был Гумилев.
Я совсем оставил в стороне несомненную связь с Белым
Есенина. О ней много говорили и писали в разное время.
Такие стихи Белого, как «Полевой пророк» ( 1907), неотличимы
от лучших стихов Есенина на аналогичную тему. Те же мотивы
соединяют Белого и Клюева, чья близость к
«футуристическому» или «будетлянскому» (в указанном выше широком
смысле) направлению кажется большей, чем у Есенина (даже если
иметь в виду наиболее стилистически крайний
«имажинистский» периоду последнего). Не подлежит сомнению, что и у
поэтов, считавшихся футуристами в узколитературном
значении, как ранний Н. Асеев и С. Бобров, перед Первой мировой
войной принадлежавших вместе с Пастернаком к
футуристической группе «Центрифуга», с одной стороны, «эго-футурист»
Игорь Северянин — с другой, можно найти следы воздействия
экспериментов Белого, особенно ритмических (у Боброва,
профессионального стиховеда, его эксперименты с самого начала
осмыслялись теоретически). Но здесь мы легко переходим ту
грань, где индивидуальное влияние поэта на другого поэта как
личность (что мы и старались прояснить выше)
превращается в более общую категорию «стиля эпохи». Когда Северянин
писал трехсложными метрами с пропусками серединных
ударений (что наряду с книгами Белого могло повлиять и на
сходный эксперимент несколькими годами позднее у Пастернака),
он следовал тенденции, открытой Андреем Белым, но скорее
как общей моде или веянию времени. Вся поэзия 10-х и начала
20-х гг. (как и проза начала 20-х гг.) немыслима без теории и
эксперимента Белого. Дальнейшие исследования творчества
отдельных поэтов (в том числе и малоизвестных) добавят но-
О воздействии «эстетического эксперимента»... 113
вые штрихи, но общая картина уже теперь ясна. Пастернак
в годы войны не раз говорил о громадном значении для него
Блока как поэта, равнозначного Пушкину. Другие символисты,
по его словам, были напоминанием о поэтической технике. Но
Белый так напомнил о поэтической технике, что изменил ее у
всех следовавших за ним поэтов. В этом смысле им начинается
то великое обновление русского стиха, которое осуществилось
в первой четверти нашего века*.
После сдачи в печать статьи вышли работы, частично пересекающиеся
е чтой темой: Смирнов И. Творчество Андрея Белого в восприятии
Пастернака // Andrey Belyj: Pro et Contra. Milano, 1987. P. 207-220; Тамарченко A.
Андрей Белый и Марина Цветаева. Там же. R 247—264.
А. В. Лавров
У истоков творчества Андрея Белого
(«Симфонии»)*
«Оесною 1902 г. вышло в свет произведение
неизвестного автора под необычным заглавием
"Драматическая симфония". Впрочем, загадочным прозвучало
и самое имя автора — Андрей Белый, а издание книги
в "декадентском" "Скорпионе" довершило в глазах
читающей публики характеристику этого странного
явления на литературном небосклоне»;
«...Симфония драматическая, как первый в литературе и притом
сразу удавшийся опыт нового формального
творчества, надолго сохранит свою свежесть, и год издания
этой первой книги Андрея Белого должен быть
отмечен не только как год появления на свет его музы,
но и как момент рождения своеобразной поэтической
формы». Так писал десять лет спустя после выхода в
свет первой книги Андрея Белого в специальной
заметке, посвященной этой далеко не для всех
знаменательной дате [«Маленький юбилей одной "странной"
книги ( 1902—1912)»], близкий друг ее автора, критик
и музыковед Э. К. Метнер*.
Слово в печати, приуроченное к десятилетию (не
пятидесятилетию, не столетию!) с момента появления
пусть даже и весьма значительного художественного
* См.: Труды и дни. 1912. № 2. С. 27, 28.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 115
произведения, — прецедент не вполне обычный. Думается,
что в данном случае такое указание на историко-культурное
значение литературного дебюта Андрея Белого было вполне
оправданным. И не только потому, что «Симфония (2-я,
драматическая)» была первой книгой великого писателя, своим
творчеством открывшего новые горизонты в сфере
художественного освоения окружающей реальности и внутреннего
мира человека; не только потому, что она явила собой
принципиально новый, доселе никому неведомый литературный
жанр — эксперимент фронтального построения литературного
текста в соответствии со структурными канонами
музыкального произведения. «Симфонии» суждено было стать первой
яркой манифестацией русского символизма «второй волны»,
наследовавшего символизму 1890-х гг. в его «декадентском»
изводе и в то же время ему противостоявшего, символизма
«жизнестроительного», религиозно-философского,
теургического. Вслед за «Симфонией» Белого увидели «Комчие
звезды» (1903) Вячеслава Иванова и «Стихи о Прекрасной Даме»
( 1904) Александра Блока. Внешне разительно несхожие между
собою, эти три книги в равной мере возвестили о новом
эстетическом мировидении, стали своего рода опознавательными
знаками начала века, воспринимавшегося и как начало новой,
неведомой жизни, новых чувствований и восприятий.
Романтические, неопределенно-мистические устремления и
упования, пришедшие на смену «декадентским» настроениям,
идея преображающего творчества как служения высшему, над-
мирному началу, стремление к постижению духовного единства
мира — все эти новые тенденции, характеризующие второе
поколение русских символистов, у Андрея Белого реализовались
ранее всего и главным образом в форме «симфоний». Будучи
сугубо индивидуальным изобретением Белого, поразившим
и обескуражившим многих его современников, эта форма ни
в малой мере не была личной причудой стремящегося к
эффектному самоутверждению начинающего писателя.
«Симфонии» — естественное и закономерное порождение культуры
символизма, тяготевшего к синкретическому творчеству,
стремившегося по-новому передать и прочувствовать идею
мирового всеединства, воплощающегося во взаимопроникновении
и взаимообогащении самых различных аспектов жизни и
человеческой культуры — религии и философии,
художественного и рационального познания, сиюминутной современности и
116 А. В. Лавров
исторического наследия, а также в стирании привычных
границ между отдельными видами искусств". В этом отношении
«симфонические» опыты Белого оказываются в одном ряду
с «музыкальными» живописными полотнами Чюрлениса,
«световыми» симфониями Скрябина, малоизвестными
стихами раннего Александра Добролюбова, ориентированными на
«музыкальное» прочтение, великими музыкальными драмами
Р. Вагнера, мелодическими стихами Поля Верлена, автора
крылатой формулы «De la musique avant toute chose» («Музыки
прежде всего»), ставшей одним из лозунгов символизма,
другими проявлениями универсалистской тенденции к синтезу
искусств — предзнаменованию чаемого всеобщего
преобразующего жизнетворчества.
Огромное значение для выработки миросозерцания Белого
на рубеже веков имело знакомство с религиозной философией
и поэзией Владимира Соловьева и с философско-поэтическим
творчеством Фридриха Ницше. Имена этих двух мыслителей,
контрастно несхожих между собою, стали для него единым
знаменем в борьбе с позитивизмом и рационалистическим
мышлением, со слепотой отрывочного, дискретного «точного» знания,
со всяческой духовной косностью.
Воспринимая откровения Соловьева и Нищие как прообраз
искомого духовного идеала, Белый пытался сформулировать
на заданном ими языке свои неопределенные предчувствия и
предвестия преображения мира, грядущего мистического
синтеза; начало нового столетия ощущалось как знамение новой
эры, несущей с собой глобальное преобразование всего
сущего. Мистико-апокалиптическое сознание Белого находит
прочную опору в христианских идеях и образах, которые
раскрываются для него прежде всего как символический язык,
позволяющий истолковать то или иное событие внешней или
внутренней жизни как священное предзнаменование. Однако
новый, теургический взгляд на мир требовал и
принципиально нового художественного отражения, новых эстетических
форм, способных передать «апокалипсический ритм времени».
«Симфонизм» призван был способствовать конкретному обна-
См.: Хмельницкая Т. Литературное рождение Андрея Белого//А. Блоки
его окружение. Блоконский еб. 6. (Учен. .чаи. Тартуского гос. ун-та. Вып. 680).
Тарту, 1985. С. 66-68.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 117
ружению метафизических начал в фактуре «музыкально»
ориентированного словесного текста: апелляция к музыке —
искусству эмоционально отчетливых и ярких, но иррациональных
ассоциаций — оказывалась в художественной системе Белого
коррелятом сферы потустороннего, сверхреального,
переживаемой, однако, как главный, важнейший компонент видимой,
чувствуемой и изображаемой реальности.
«Симфонии» Белого обнаруживают конкретные аналогии с
музыкальными формами и даже поддаются исследованию с
использованием терминологии, применительной, например,к
музыкальной сонате 1. Подобно своим музыкальным прототипам,
три из четырех «симфоний» Белого состоят из четырех частей;
каждая из частей «симфонии» обладает определенной образно-
тематической самостоятельностью и завершенностью и в то же
время входит неотчуждаемым элементом в единый общий
замысел, сочетает множественность разнохарактерных мотивов
с цельностью всей художественной композиции. Но, поскольку
собственно текст «симфоний» воплощается каксловесный,
повествовательный ряд, а музыкальное начало присутствует в нем
лишь в качестве подтекста, эмоционального ореола и некоего
общего структурообразующего принципа, приходится все же
«симфоническому» жанру Белого искать свое место в орбите
литературных жанров. Рассмотренные в этом аспекте,
«симфонии» скорее всего займут особое промежуточное положение
между традиционной прозой и традиционной поэзией как
своеобразный опыт синтеза не только разных видов искусств, но
и различных форм литературного творчества*. Синтетическая
природа «симфоний» Белого, интегрирующих поэзию и прозу
в новую художественную субстанцию, оказывается наглядным
формальным преломлением тяготения Белого к передаче
различных модусов бытия, временного и вечного, рационального
и иррационального, явленного и тайного, мистического в их
нераздельности, взаимообусловленности и окончательной
несоединимости. В свое время В. Брюсов метко указывал, что
Белый в «симфониях» «создал как бы новый род
поэтического произведения, обладающего музыкальностью и строгостью
стихотворного создания и вместительностью и непринужден-
См.: Kovac Л. Andrej Belyj: The Symphonies (1899-1908). Bern;
iTHiikfurt/M; München, 1976.
118 А. В. Лавров
ностью романа <...> он постарался въявь показать нам всю
"трансцендентальную субъективность" внешнего мира,
смешать различные "планы" вселенной, пронизать всю мощную
повседневность лучами иного, неземного света»*. «Симфония
(2-я, драматическая)» вышла из печати, когда ее автору
исполнился двадцать один год. Ей предшествовало несколько лет
самых разнообразных попыток воплощения своих переживаний
в литературную форму, которые юный Борис Бугаев
предпринимал, еще будучи гимназистом. На этих попытках
сказывались самые разнообразные воздействия: памятники восточной
религиозно-философской мысли («Отрывки изУпанишад»,
сочинения Лао-цзы и др.) и книга Е. П. Блаватской «Из пещер и
дебрей Индостана», пробудившая интерес к теософии, поэзия
Фета и философия Шопенгауэра, ставшая для будущего
писателя на первых порах своего рода учебником жизни и
окрасившая его мироощущение в созерцательные, пессимистические,
«буддистские» тона. Сказывалось на ранних творческих опытах
и юношеское увлечение романтической поэзией и
произведениями набиравшего силу символизма, новейшими явлениями
западноевропейского искусства (живописью и эстетикой
прерафаэлитов, драматургией Ибсена и Метерлинка и т. д.), с
которыми ознакомили начинающего автора М. С. Соловьев (брат
поэта и философа) и его жена О. М. Соловьева, родители его
ближайшего друга отроческих лет Сергея Соловьева,
оказавшие на духовное формирование Белого исключительно
сильное воздействие. Диапазон его исканий во второй половине
1890-х гг. весьма широк: Белый пробует писать стихи, драмы,
сказки-легенды. С упорным постоянством он стремится
выразить себя в форме лирической прозы. Работа над
лирическими фрагментами (иногда Белый называл их стихотворениями в
прозе) продолжалась на протяжении нескольких лет. Позднее
Белый в письме к Иванову-Разумнику с иронией вспоминал об
этих опытах, характеризуя их как «помесь Тургенева, Эдгара
По со всем наилевейшим, наинепонятнейшим»: «В 98-м году
у меня было много подобных отрывков, один
сногсшибательнее другого; среди них помню "В садах Магараджи", ужасно
нравившийся Сереже Соловьеву; и помню через каждый абзац
рефрены: "В садах — блестит... В садах — сверкает..." Или:
* Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 307.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 119
"В садах Магараджи кто-то курит: курит до опьянения". Был
отрывок "Черный поп"! Был отрывок иМать"! Была поэма на
тему "Мать-вампир". Лирика этих отрывков — невероятна;
жаль, что исчезли, а то можно было бы похохотать. Так,
рефрены одного отрывка: 1 ) "Сидишь ты — зеленая, раззеленая...",
2) „У меня и так истерия: мне больше ничего не нужно"»*.
Оценки, которые дает Белый в зрелые годы этим еще вполне
детским произведениям, в значительной мере справедливы:
многие из ранних прозаических отрывков сохранились в его
рабочей тетради, включающей «Лирические отрывки (в
прозе)», — в том числе и идентифицируемые с упоминаемыми в
письме к Иванову-Разумнику — ив большей своей части не
выдерживают критики со строго эстетической точки зрения**.
Их образный строй, как правило, вторичен и
маловыразителен, они сплошь и рядом грешат наивными стараниями
закамуфлировать недостаток мастерства «странностью» тематики
и «загадочностью» изображения; постоянно —
злоупотребление «наинепонятнейшим», за которым для самого автора чаще
всего скрывались неясность, неоформленность его
творческого задания. В то же время при всей беспомощности письма
направление исканий и духовный пафос, которым исполнены
лирические отрывки, приоткрывали черты будущего
писательского облика Андрея Белого.
Сам Белый не принимал всерьез эти произведения только
в позднейшие годы, но в первую свою книгу стихов «Золото в
лазури» (1904) ввел особым разделом «Лирические отрывки в
прозе»; в него вошли шесть фрагментов, представлявших
собой переработку текстов из рабочей тетради, и более поздний
рассказ «Аргонавты» (1904), примыкающий по своей тематике
к стихотворениям первого раздела «Золота в лазури». Правда,
для опубликования Белый отобрал в основном наиболее поздние
по времени написания отрывки (1900), ранние же были
напечатаны в кардинально измененном виде. О характере правки
Белый писал в цитированном выше письме к Иванову-Разумнику:
«...отрывки "Волосатик", "Ревун" <...> впоследствии приче-
Автобиографическое письмо к R В. Иванову-Разумнику от 1-3 марта
1927 г. // ЦГАЛИ. Ф. 1782. On. 1. Ед. хр. 18.
Некоторые из отрывков ( 1898—1900) опубликованы нами в кн.:
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1980. Л., 1981. С. 120—124.
120 А. В. Лавров
санные и, так сказать, темперированные, поданные не в
революционной косматости "98" года, а в кадетской эстетически-
культурной оправе, в стилистике (сквозь призму 1903 г.)».
Примечательно, что в «Золото в лазури» Белый предпочел
включить «сюжетные» отрывки преимущественно условного
или фантастического содержания; вероятно, они казались ему
более выигрышными в чтении и более поддающимися
художественной отделке, чем сугубо «лирические» фрагменты,
которые в его творческом багаже были представлены в большом
выборе. Отрывок «Ссора» изображает доисторическое
прошлое — столкновение первобытного человека с
человекообразной обезьяной — и изобилует экзотическими образами; в
сходной стилистике выдержан «Этюд», описывающий дикую,
полузвериную жизнь старика Адама и его сына Каина. Тяготением к
яркой, условно-метафорической образности и к живописанию
неких сущностных явлений мира отмечены и отрывки
«Волосатик» и «Ревун». Туманный и прихотливый аллегоризм этих
произведений еще не претворяется в подлинную символику,
но от него уже виден прямой путь к образной структуре
«симфоний». Отрывки, не подготовленные Белым к печати, были
в большей своей части ближе к непосредственной фиксации
его эмоциональных состояний и конкретного созерцательного
опыта; лирическая стихия, овладевавшая Белым, предстает в
них в своем первичном, как бы неуправляемом виде. Среди них
встречаются бессюжетные меланхолические медитации,
мимолетные импрессионистические зарисовки, например:
«Помнишь вечер... камин... на дворе ураган... тени хмурые
плачут, но сказки толпой окружают меня: это — сказки твои...
Это светлые грезы слетелись толпой... О, мой друг, — это
все...»* В подобных непритязательных миниатюрах,
представляющих собой, по сути, не более чем спонтанную,
дневниковую фиксацию настроений и впечатлений, — исходная
форма всех прозаических жанров Андрея Белого: из лирических
фрагментов разовьются и «симфонии», и повествовательные
художественные опыты 1900-х гг. (рассказы и прозаические
этюды), и статьи отвлеченно-символического характера. Но и
сами отрывки имели свой первоисточник в импровизационной
творческой стихии «символических восприятий» Белого: «...я
' ГБЛ. Ф. 25. Карт. 1. Ел. хр. 1. Л. 35 об.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 121
учился в природе видеть "Платоновы идеи"; я созерцал дома и
простые предметы быта, учась "увидеть" их вне воли,
незаинтересованно»; «...стиль строки — от стиля восприятий; стиль
же последних — из опытных упражнений, адекватных
лабораторным; первая книга "Бореньки", ставящая грань между ним
и "Белым", написана: своей формою, своим стилем.
Откуда он вынут?
Из опытных упражнений: с собой, а не со строкой; о форме
не думал, а вышла "своя"»*.
«Незаинтересованное», отвлеченно-созерцательное и в
то же время внутренне активное отношение к
действительности, сознательно культивировавшееся Андреем Белым в
пору ранней юности, стало основой для того философско-
эстетического мироощущения, которое несколькими годами
спустя будет определено им как «жизнетворчество»; оно же
станет главной направляющей силой и в его
художественных исканиях. Уже в ряде прозаических отрывков
материалом творчества оказываются не сфантазированные
экзотические картины, а собственные наблюдения и размышления
во время прогулки по московским окраинам, при
наблюдении заката и т. п. Эти опыты художественного творчества
можно рассматривать как интимный дневник, как попытку
разобраться в своих смутных, неоднозначных ощущениях и
переживаниях, в потаенной сущности явлений
действительности. Показательно, что основные книги «старших»
русских символистов Белый откроет для себя только на рубеже
веков; «символизм» его ранних, «долитературных»
произведений — скорее интуитивный, чем заимствованный и
подражательный (заимствования в них — из иных литературных
образцов). Символизм Белого вырастал в гораздо большей
степени из внутреннего уединенного опыта, чем благодаря
активному усвоению начавшего заявлять о себе в России
«нового» искусства (к «декадентству» у юноши Белого
поначалу было весьма настороженное отношение), и в его
формировании музыка играла на первых порах более значимую
роль, чем словесное творчество. («Мне музыкальный
звукоряд// Отображает мирозданье», — напишет впоследствии
* Белый Л. Ни рубеже двух столетий. М., 1989. С. 338, 326-327.
122 А. В. Лавров
Белый в поэме «Первое свидание»*, вспоминая пору своего
духовного становления). Впечатления от музыкальных
произведений — только что открытых Грига и Вагнера и
излюбленных с детства Бетховена, Шопена — и собственные
импровизации на рояле были во многом исходным импульсом для
упражнений с художественным словом, призванным воплотить
в иной субстанции музыкальные ритмы и передать близкие
эмоциональные ассоциации. «Первые произведения возникли
как попытки иллюстрировать юношеские музыкальные
композиции, — утверждал Белый в статье "О себе как писателе"
(1933). — Я мечтал о программной музыке; сюжеты первых
четырех книг, мною вынутых из музыкальных лейтмотивов,
названы мной не повестями или романами, а Симфониями. <...>
Отсюда их интонационный, музыкальный смысл, отсюда и
особенности их формы, и экспозиция сюжета, и язык»**.
«Симфоническая» форма, развившаяся в особый,
индивидуальный жанр Андрея Белого, выкристаллизовывается
непосредственно из его лирических отрывков. Некоторым из них
Белый указывает музыкальные аналогии (например, «на мотив
романса Грига „Лебедь"»); некоторые в переработанном виде
включаются в «симфонический» текст (так, отрывок,
записанный в октябре 1900 г., преобразован во «Вступление» к
«Северной симфонии»); и наоборот, «симфонический» фрагмент,
остающийся за пределами основного текста, может
превратиться в самостоятельный прозаический отрывок (в рабочих
материалах Белого встречаются и такие случаи); сравнительно
поздние отрывки (конец 1900 г.) создаются под влиянием уже
найденной «симфонической» формы, представляя собой, по
сути, самостоятельные «симфонические» фрагменты.
Выход к «симфониям» для Белого — не столько результат
осознанных, целеустремленных поисков нового жанра,
сколько непреднамеренное обретение адекватного способа
самовыражения. Уникальный жанр возник сам собою, путем
разрастания лирических отрывков и сочетания отдельных настроений
в более сложные и многотемные образования, переданные в
Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 426 (Б-ка поэта.
Большая серия).
Андрей Белый: Проблемы творчества; Статьи; Воспоминания;
Публикации. М., 1988. С. 20. Публикация В. Сажина.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 123
развитии, повторении, столкновении и переплетении
составляющих целое микрочастиц; он возник благодаря тому, что
Белый в своих литературных экспериментах рискнул полностью
покориться овладевавшей им музыкальной стихии. Почвой для
этого были и интуитивный опыт, и художественные
пристрастия Белого, и не в последнюю очередь в ту пору воздействие
Шопенгауэра, восприятие мира сквозь призму его философии
и эстетики, выделявшей музыку на особое место среди других
искусств. Первая философско-эстетическая статья Белого
«Формы искусства» (1902) теоретически обосновывает
приоритет музыки как искусства, наименее связанного с внешними,
случайными формами действительности и наиболее тесно
соприкасающегося с ее потаенной, глубинной сущностью:
«Приближаясь к музыке, художественное произведение
становится и глубже, и шире»;
«Глубина и интенсивность музыкальных произведений не
намекает ли на то, что здесь снят обманчивый покров с
видимости? В музыке нам открываются тайны движения, его
сущность, управляющая миром. <...> В симфонической музыке,
как наиболее совершенной форме, рельефнее
кристаллизованы задачи искусства.
Симфоническая музыка является знаменем, указывающим
пути искусству в его целом, определяющим характер его
эволюции»; «Глубина музыки и отсутствие в ней внешней
действительности наводит на мысль о ноуменальном характере музыки,
объясняющей тайну движения, тайну бытия <...> близостью к
музыке определяется достоинство формы искусства,
стремящейся посредством образов передать без-образную
непосредственность музыки. Каждый вид искусства стремится выразить
в образах нечто типичное, вечное, независимое от места и
времени. В музыке наиболее удачно выражаются эти волнения
вечности». Подобные утверждения, приобретающие характер
эстетического манифеста, — уже результат творческой
практики Белого, автора четырех «симфоний», а не априорные
умозаключения. Принимая законы музыкальной композиции
за основу словесного творчества, Белый видел в этом
возможность освобождения от власти пространственных отношений и
путь к овладению временем и его преодолению — опять же
осуществление творческой (и "жизнетворческой") сверхзадачи»*.
* Мир искусства. 1902. № 12. С. 356, 358-359.
124 А. В. Лавров
Очень емкую и точную характеристику жанра «симфоний»
дал философ С. Аскольдов:
«Симфонии — особый вид литературного изложения,
можно сказать, созданный Белым и по преимуществу отвечающий
своеобразию его жизненных восприятий и изображений. По
форме это нечто среднее между стихами и прозой. Их отличие
от стихов — в отсутствии рифмы и размера. Впрочем, и то и
другое, словно непроизвольно, вливается местами. От
прозы — тоже существенное отличие в особой напевности строк.
Эти строки имеют не только смысловую, но и звуковую,
музыкальную подобранность друг к другу и по ритму слов, и по ритму
образов и описаний. Этот ритм наиболее выражает
переливчатость и связность всехдушевностей и задушевностей
окружающей действительности. Это именно музыка жизни — и музыка
не мелодическая, т. е. состоящая не из обособленных отдель-
ностей, а самая сложная симфоническая. В симфониях Белого
обнаруживается то, чем Белый положительно выделяется из
всех мировых писателей. Душевная созвучность окружающего
мира, во всех его сторонах, частях и проявлениях, есть нечто
никогда не входившее ни в чьи литературные замыслы и никем
неуловленное. Но при этом необходимо сказать, что для Белого
это даже и не замысел, а его естественный способ восприятия
мира. <...> Из этой мировой музыки, которая для неопытного
слуха есть неинтересный шум, Белый выбирает по
преимуществу то, что наименее четко, рационально, наименее осознанно
в деловом аспекте жизни. Секрет его своеобразных
восприятий заключается не в схватывании четких тонов (определенных
мыслей, чувств, действий), которые всякий слышит, а именно
полусознательно воспринимаемых обертонов жизни»*.
Своеобразную «музыкальную» композицию образов,
объединяемых прежде всего тональностью настроения и ритмом,
«напевностью», и лишь опосредованно согласующуюся с
причинно-логическими предметными связями, можно
обнаружить уже во многих лирических прозаических отрывках.
Важным событием, вызвавшим в Белом волну сильных
переживаний и потребность выразить себя в более концентрированной
и просторной форме, явилась для него смерть любимого на-
Аскольдов С. Творчество Андрея Белого // .Литературная мысль.
Альманах 1. Пг., 1922. С. 81.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 125
ставника Л. И. Поливанова — крупного педагога, директора
известной московской гимназии, в которой учился Белый.
Разрастание прозаического отрывка в прозаическую поэму,
подчиненную определенному «музыкальному» заданию, привело
начинающего автора к новому, неожиданному для него самого
жанровому образованию*. «Под влиянием кончины
Поливанова, — вспоминал он о январе — феврале 1899 г., — я пишу
нечто оченьсмутное, это впоследствии легло воснову формы
"симфоний", нечто космическое и одновременно симфоническое»**.
«...Я отдался странной, дикой, туманной, космической эпопее
в прозе, — вспоминал Белый об этом же произведении в
цитированном письме к Иванову-Разумнику ( 1927), — в небесах
этой поэмы постоянно проносится "облачко крыл херувимов,
несущих некий престол", а под небесами от времени до
времени открываются панорамы жизни некоего "вечного Жида",
бывшего ребенком в раю, потом ставшим царем мира и,
наконец, палимым молниями небесной ярости и т.д. Над формой
этой поэмы я работал в "поте лица" с зимы до осени 1899 г.;
потом "поэма" несколько лет лежала у меня; потом я ее
уничтожил. Из этой формы родились "Симфонии". Собственно
говоря, первой Симфонией была не Северная, а эта,
уничтоженная. "Симфонии" родились во мне "космическими" образами,
без фабулы; и из этой "бесфабульности" кристаллизовалась
программа „сценок"». Белый упоминает это произведение и в
«Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей»:
«...В 1903—1905 гг. автор сжег рукопись как недоношенное,
юношеское произведение (эпоха написания — лето 1899 г.)»***.
Такая участь постигла, однако, только беловую,
окончательную редакцию «предсимфонии» (так называет Белый этот
текст в мемуарах «На рубеже двух столетий»); черновая же
Смирнов И. Художественный смысл и 'эволюция поэтических систем.
М., 1977.
Белый А. Материал к биографии // ЦГАЛИ. Ф. 53. Он. 2. Ел. хр. 3.
Л. 1 1 об.; ГПБ. Ф. 60. Ед. хр. 31. В позднейшем «Ракурсе к дневнику» Белый
сообщает, что из своего «хаотического произведения, предшествующего
по форме "Симфонии"», помнит лишь фразу: «Слыша тихую песенку,
прилетают белые ангелы и погружают Еюспаленных безумием в хрустальный
холод небес».
*** ЦГАЛИ. Ф. 53. Он. 1. Ед. хр. 100. Л. 1.
126 А. В. Лавров
ее редакция сохранилась, и по ней можно составить
достаточно определенное представление об этом произведении.
Неизвестно, как соотносился уцелевший текст с окончательным; во
всяком случае, тема «вечного жида», которую Белый выделял
в позднейших характеристиках этого сочинения, в черновом
варианте зримо не прослеживается.
Космизм — действительно определяющая черта «предсим-
фонии»; остававшаяся в рукописи до недавнего времени, она
могла бы послужить Н. А. Бердяеву одним из дополнительных
подтверждений его мысли о том, что «мироощущение поэтов-
символистов стояло под знаком космоса, а не Логоса»*. Место
действия в ней — вселенная, время — века, сменяющие друг
друга, образы — чистые символы, взгляд автора направлен
из надзвездных сфер. Цель Белого — постигнуть мир с точки
зрения вечности, показать бытие управляющих им
метафизических универсалий.
Весь калейдоскоп образов, картин, настроений, свободно
сопрягаемых, перетекающих друг в друга с полной свободой от
общепринятой житейской прагматики, предстает целостным
миром благодаря чувству вечности, которое гармонизирует
запечатленный хаос. Передать содержание «предсимфонии»
на языке рациональных представлений крайне трудно: можно
говорить только об определенных темах (райского
блаженства, искушения, наваждения, греха, искупления, томления
по запредельному и т. д.), развивающихся, соединяющихся и
чередующихся скорее по музыкальным, чем по литературным
логико-семантическим законам. С такой же
импровизационной свободой, иногда недосказанным намеком возникают в
«предсимфонии» ветхозаветные и апокалипсические мотивы,
ницшеанские идеи «вечного возвращения» и «сверхчеловека»,
переплетающиеся с «симфонически» поданной темой мистерии
об антихристе, воскрешаются традиции и образная структура
романтической поэзии. «Музыкальная» стихия подчиняет себе
рудиментарно обозначенные жанровые образования, которые
можно обнаружить в «предсимфонии», — поэму, притчу,
фантасмагорию, сказку, проповедь, окрашивает их единой
тональностью. Замечания об «организующемся хаосе», «материи
Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX в. и
начала XX в. Paris, 1971. С. 234.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 127
одухотворяемой», «материи дематериализующейся» и
«внутреннем единстве всего, связи, цельности», которые П. А.
Флоренский высказывал, анализируя «Северную симфонию»*, с не
меньшим, вероятно, правом могут быть отнесены и к«предсим-
фонии» Белого, где эти идеи вырисовываются вне «сказочной»
сюжетной оболочки, как опыт непосредственного наблюдения
за ходом «мировой мистерии». В «предсимфонии» гораздо
явственнее, чем в последующих «симфониях» 1900—1902 гг.,
сказывается музыкальная первооснова. Только в ней каждый
отрывок («параграф») имеет обозначение музыкального темпа,
диктующее характер «музыкального» воспроизведения
данного словесного потока. Впервые применен здесь Белым и самый
принцип членения текста на отрывки и внутри них — на
нумерованные «стихи» (своего рода музыкальные такты), которому
Белый следует также в первой («Северной»), второй
(«Драматической» или, как он ее иногда называл, «Московской») и
первоначальной редакции четвертой «симфонии» (цифровые
обозначения «стихов», конечно, призваны были также
придать тексту особый сакральный оттенок, вызывая ассоциации с
внешним обликом библейских книг). «Предсимфония»
построена по законам не столько литературной, сколько музыкальной
композиции, в конечном счете это — своеобразная попытка
словесно запротоколировать музыкальную импровизацию.
«Симфонизм» в этом произведении — пределен, в
последующих «симфониях», от одной к другой, усиливается роль
«литературного» начала, но и они имеют подсобой
музыкальную первооснову — по словам Белого (в письме к Иванову-
Разумнику 1927 г.), «импровизации на рояле (с 1898 г. до
1902 г.), выливающиеся в темы; и к музыкальным темам
писались образы; "Северная Симфония" и "Московская" имели
свои музыкальные темы (я их разбирал на рояле); "Возврат"
был уже отрывом от рояля. Он мое первое «литературное» и
только произведение». Возрастающий приоритет
"литературности" — не только в том, что в «Северной симфонии» ( 1900)
будет достигнута большая ясность и отчетливость образов и
можно будет без труда проследить в каждой из ее частей свою
сюжетную канву, и не только в том, что в «Симфонии (2-й, дра-
Флоренский П. Спиритизм как антихристианство // Новый путь. 1904.
№3. С. 149-150.
128 А. В. Лавров
матической )» ( 1901 ) фоном изображения станет не условный
сказочный мир, а «музыкально» преломленная московская
повседневность. Усиление «литературного» начала связано
у Белого со все более настойчивой разработкой темы двое-
мирия. Если «высокому», духовному плану бытия Белый
находил аналогии и возможность воплощения главным образом
в стихии музыки, то косная действительность в ее
абсурдном несоответствии с «истинными» началами требовала для
своего выражения иных, преимущественно «литературных»
средств. «Литературное» закономерно отступало на второй
план в «предсимфонии» с запечатленным в ней миром высших
сущностей и вселенских катаклизмов, далеком от
непосредственно наблюдаемой реальности. Характерно в ней и полное
отсутствие иронии, которая окажется важнейшим средством
интерпретации действительности в зрелых «симфониях»
Белого. Родственная романтической, ирония у Белого — и
способ зрения, при котором раскрывается двойственность
бытия, и способ преодоления этой двойственности,
возможность подняться над миром явлений. Она проступает, но еще
довольно случайно, неосознанно, в «Северной симфонии»,
которую сам Белый считал ученическим произведением* и
становится основным художественным приемом во второй
«симфонии».
Собственно «литературная» субстанция в «симфониях»,
впрочем, также многоразличными путями сочеталась с
музыкальной стихией. О развитии музыкальных тем и
лейтмотивов напоминали регулярно повторяющиеся фразы и образы-
рефрены, организующие разрозненные эпизоды и сценки в
единое «симфоническое» целое. Из литературных воздействий
сильнее и определеннее всего сказывается в «симфониях»
влияние ритмической прозы Ницше и главным образом его
философской поэмы «Так говорил Заратустра» — в ритмической
организации текста, в системе его сегментации, в
выстраивании образных рядов и лейтмотивов (много позже Белый
несколько уничижительно окрестит свои «симфонии» «детским
Тик, Белый писал М. К. Морозовой 3 июня 1905 г.: «Очень тронут,
что Северная Симфония Вам понравилась. Это — вещь очень молодая и
глубоко несовершенная в художественном отношении, хотя я касался нот,
мне близких» (ГБЛ. Ф. 171. Карт. 24. Ед. хр. 1а).
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 129
еще перепевом прозы Ницше»", — однако характерно, что
сам Ницше соотносил свое знаменитое произведение с
музыкальными творениями и даже не раз называл «Заратустру»
«симфонией»**). Атмосфера «музыкальности» поддерживалась
и изобиловавшими в текстах «симфоний» недосказанностями,
словами и синтаксическими конструкциями, призванными
создать впечатление значимой неопределенности, сакральности
описываемых явлений (в «Северной симфонии»: «Где-то
пропели молитву», «И откуда-то издали приближался ропот» и
т. п. )***. Намеренно лаконичные, отрывистые, как бы усеченные
свыше допустимого минимума фразы, являющиеся стилевой
доминантой ранних «симфоний» Белого, также усиливали
эффект скрытой суггестивности текста, уводили фантазию в
область невоплощенных «музыкальных» ассоциаций. Наконец,
особенно значимую роль (прежде всего в самых ранних
«симфонических» опытах) играют «эквиваленты текста» —
многоточия, указывающие на словесную невыразимость,
неадекватность слова переживанию. Слово подбирается автором с тем,
чтобы послужить намеком, эмоциональным сигналом; слова в
«симфониях» аналогичны нотным знакам, которые
сведущему дают представление о музыкальной фразе, но сами по себе
еще ее не вызывают. Подобием музыкального инструмента при
этом должна выступать читательская интуиция, способная
осуществить коммуникативную связь между «видимым» и
«невидимым», скрытым текстом, восстановить его целостность,
претворить отрывочные словесные намеки, описания и указания в
«симфонически» организованное художественное единство.
Закономерно, что обделенные этой интуицией и не
подготовленные к восприятию экспериментальных произведений
Белого критики в большинстве своем находили в
«симфониях» лишь бред, бессмыслицу, невнятицу и т. п. «На человека,
Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 297.
См.: Силард Л. О влиянии ритмики мро;ш Ф. Ницше im ритмику прозы
Д. Белого. «Так говорил Заратустра» и Симфонии // Studia slavica ( Budapest ).
1973. T. 19. С. 289-313.
См.: Alexandrov Vladimir Г. Andrei Bely. The Major Symbolist Fiction.
Cambridge; Mass.; London, 1985. P. 14-16; Аврамеико А. «Симфонии»
Андрея Белого // Ссекая литература XX в. (дооктябрьский период). Сб. 9.
Тула, 1977. С. 57-58.
130 А. В. Лавров
непривычного к декадентской прозе, "Симфония" производит
впечатление бреда сумасшедшего», — писал о «Северной
симфонии» критик А. М. Ловягин*, ему вторил М. О. Меньшиков:
«...как ни вчитывайся, как ни вникай, все равно до смысла не
доберешься»**; в лучшем случае давалось указание на
«странный» характер произведения: «...странные картинки природы,
странные прорицания, струя туманного мистицизма...»***
Даже «Возврат», из всех «симфоний» Белого наиболее
приближающийся к привычным формам повествовательности,
был расценен Л. Войтоловским как «целый поток бредовой
лавы, целое море безудержных, некоординированных,
бессвязных образов и представлений»****. Попытки выделить из
цельного «симфонического» построения Белого сюжет
линейный, логически-дискурсивный (а иные критики в своих отзывах
утруждали себя такой задачей) давали, как правило,
благодарную пищу для насмешек над нелепыми усилиями автора и над
бессмыслицей нового лада в старой сказке (в «Северной
симфонии»). Понимание и признание «симфонии» обрели
поначалу только у собратьев-символистов и в близкой символистам
среде. Первая, «северная» (или «героическая») «симфония»,
написанная в 1900 г., была опубликована после второй, в конце
1903 г., когда Белый уже не был новичком в литературе. Те, кто
знали писателя по второй «симфонии», не могли не отметить
в новой его книге, появившейся с опозданием, примет
юношеского несовершенства и несамостоятельности письма,
банальных и заимствованных поэтизмов. Действительно, «Северная
симфония» несет на себе зримые следы различных
художественных влияний — романтической музыки Грига, живописи
Бёклина и прерафаэлитов, сказок Андерсена, немецких
романтических баллад, драм Ибсена, символистской образности
Метерлинка, новейшей русской поэзии (в частности, К.
Бальмонта). И в то же время она являет собою подлинно
художественное целое, первый законченный образец нового жанра
и стиля, яркий плод творческой фантазии. «Музыкальная»
Литературный вестник. 1904. № 1.С. 92.
Русский постник. 1904. № 5. С. 245. Поди.: М. М-в.
Измайлов А. Литературные заметки // Новая иллюстрация. 1904.
№ 6. С. 45.
**** Образование. 1905. №> 5. Отд. 3. С. 138. Поди.: Л. В-ий.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 131
стихия, пребывавшая в «предсимфонии» в неуправляемом,
хаотическом состоянии, здесь конденсируется в
архитектонически четкие образно-тематические ряды, которые
выстраиваются в своеобразную сказочно-романтическую сюиту. «Трудно
не поддаться очарованию этой юношески слабой и
юношески смелой вещи, — писал в статье о Белом (1915) Иванов-
Разумник, — многое в ней бледно, наивно, многое, наоборот,
слишком кричаще и слишком "перемысленно"; но в общем
"симфония" эта действительно оставляет суровое, "северное",
"героическое" впечатление»*. Изображенный в «симфонии»
условно-фантастический, сказочный мир, проецированный в
целом на западноевропейское «готическое» Средневековье, но
интегрирующий и образы античной мифологии, предстает как
красочная декорация для развития основных «музыкальных»
тем — борьбы света и мрака, текущего времени и
«туманной вечности», освобождения от темного начала и радостных
чаяний «Духа Утешителя». Центральные герои —
красавица королевна, таящая воспоминания о запредельном, символ
высшей, небесной любви, и молодой рыцарь, испытывающий
натиск сатанинских сил, — даны в окружении великанов,
кентавров, колдунов, гномов (этот причудливый сонм перейдет в
раннюю лирику Белого — прежде всего в раздел «Образы» его
книги «Золото в лазури»); все «тварное» исчезает затем, как
марево, перед чередой картин, символизирующих
трансцендентный мир и ожидание райского блаженства (мистическая
утопия — осуществленная, ожидаемая или потенциально
сказывающаяся, — выстраиваемая в четвертой части «Северной
симфонии», станет обязательной и для финалов всех
последующих «симфоний»). Образы и эпизоды сменяют друг друга вне
жесткой зависимости от обычных сюжетно-прагматических
связей, но подчиняются своим особым законам организации,
продиктованным, по словам молодого П. Флоренского,
«внутренним ритмом, ритмом образов, ритмом смысла»: «Этот
ритм напоминает возвращаемость темы или отдельной фразы
в музыке и заключается в том, что зараз развиваются
несколько тем различной важности; внутренне они едины, но внешне
различны». Достигнутое Белым в «Северной симфонии» Фло-
Ивапои-Разумпик Р. В. Вершины: Александр Блок; Андрей Белый. Пг.,
1923. С. 38.
132 А. В. Лавров
ренский оценил чрезвычайно высоко — для него это подлинная
«поэма мистического христианства», проникнутая
настроением «радостной печали»: «Везде и во всем — законченность,
законченная, "актуальная" бесконечность. И все заполнено
светом, ровным и мягким, и детскостью»".
Навеянная романтическими грезами, мистическими
ожиданиями «рассвета», исполненная чистого, непосредственного
лиризма, «Северная симфония» оставалась еще в известном
смысле «однострунным» по своему эмоциональному тону
произведением: высокий пафос в ней неуравновешивается
снижающими, деструктивными началами, лишь местами сказочные
картины окрашиваются мягким юмором или неожиданными
«бытовыми» деталями, прорывающимися из иного стилевого
регистра (например, король, штопающий дыры на своей
красной мантии). Впервые сфера «быта», эмпирического,
преходящего становится в творчестве Белого вровень со сферой
высшего бытия** в «Симфонии (2-й, драматической)»; сочетание,
взаимопроникновение этих сфер, при сохранении суверенности
каждой из них, оказывается здесь основным принципом
художественной организации.
Вторая «симфония» сложилась год спустя после первой и
вслед за ней, но более явственно отразила существенные
сдвиги в мироощущении Белого. К 1901 г. в сознании писателя
определился решительный поворот от шопенгауэровского
пессимизма и иллюзионизма к мистико-апокалипсическим,
мессианским чаяниям, к неопределенным, но чрезвычайно ярким
и всепоглощающим настроениям ожидания «всего нового»,
очистительного переворота основ жизнеустройства. Чувство
«рубежа» окрашивает все восприятие действительности, и
свои «симфонии» Белый осмысляет как наиболее адекватный
для выражения этого чувства литературный жанр, как
прообраз грядущей синкретической формы творчества, отвечающей
задачам мистического преображения жизни. «„Симфонии"
не имеют будущности как таковые; но как промежуточная
Флоренский II. Спиритизм как антихристианство//Новый путь. 1904.
№3. С. 161, 167, 150, 151.
О категориях «быта» и «бытия» в творческом мироощущении
Белого см.: Долгополой Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л.,
1988. С. 6, 82.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 133
стадия на пути к образованию какой-то безусловно важной
формы — они значительны, — писал он Э. К. Метнеру 7
августа 1902 г. — Это — начало конца поэзии в собственном
смысле. <...> "Симфонизируясь", жизнь не устремляется ли
в будущее?»' Вторая «симфония» стала наиболее цельным и
значительным литературным документом, в котором Андрей
Белый передал свои эсхатологические переживания и
наблюдения за «симфонизируютейся» действительностью.
В отличие от первой, вторая «симфония»
непосредственно автобиографична: изображая московскую повседневность,
разворачивающуюся у него на глазах и предстающую в
калейдоскопе бытовых зарисовок, Белый передал в ней и своего рода
стенограмму своей внутренней жизни в 1901 г., возвестившем
начало «эпохи зорь» в его духовной эволюции и оказавшемся
важнейшим для его личностного становления. «Этот год, —
вспоминал Белый, — переживался мною как единственный год
в своем роде <...> для меня этот год был годом максимального
мистического напряжения и мистического откровения; все лето
1901 г. меня посещали благие откровения и экстазы; в этот год
осознал я вполне веяние Невидимой Подруги, Софии
Премудрости. Кроме того: весь этот год для меня окрашен первой
глубокой, мистическою, единственной своего рода любовью
к М. К. М., которую, однако, не смешивал я с Подругой
Небесною; М. К. М. в иные минуты являлася для меня лишь
иконою, символом лика Той, от Которой до меня долетали веянья».
И далее Белый признается: «...Вторая "Симфония" —
случайный обрывок, почти протокольная запись той подлинной,
огромной симфонии, которая переживалась мною ряд месяцев
в этом году»"*.
Автобиографический характер имеют в «симфонии» все
переживания и духовные интуиции Мусатова ( не случайно
отмечается, что он — химик по профессии, знаток точных наук; Белый
в 1901 г. был студентом физико-математического факультета
Московского университета); «М. К. М.», объект мистической
влюбленности Белого, — Маргарита Кирилловна
Морозова, с которой он тогда даже не был лично знаком, —
прообраз «сказки»; мусатовская мистическая утопия — отражение
* ГБЛ.Ф. 167. Карт. 1.1-д.хр. 1.
Белый А. Материал к биографии. Л. 16, 17 об.
134 А. В. Лавров
вполне конкретных мифотворческих упований Белого и Сергея
Соловьева — февраль 1901 г.: «...Наши ожидания какого-то
преображения светом максимальны; мне начинает казаться,
что уже мы на рубеже, где кончается история, где за историей
начинается "восстание мертвых"; и тут-то по газетам на небе
вспыхивает новая звезда (она вскоре погасла); печатается
сенсационное известие, будто эта звезда — та самая, которая
сопровождала рождение Иисуса-младенца; Сережа прибегает
ко мне возбужденный, со словами: "Уже началось". Нам 3 дня
кажется, что уже начались события огромной
апокалиптической важности; мы формулируем нашу мистическую символику
приблизительно в таких терминах: Дух Утешитель будет иметь
в истории такое же воплощение, как Христос; он родится
младенцем; его мать — женщина, которая будет символом Церкви
(Жены, облеченной в Солнце ), рождающей новое слово, третий
Завет <...>. Воссияние звезды было знаком для нас с Сережей,
что "младенец" уже родился»; развенчание мусатовской утопии
опять же имеет жизненный прообраз — март 1901 года: «...Я
продолжаю писать ей ( "М. К. М." — А. Л.) письма, я хожу мимо
ее дома, и однажды в окне дома вижу изумительной красоты
мальчика; соображаю: "Это ее сын"; С. М. Соловьев шутит со
мною: "Это и есть младенец, которому надлежит пасти народы
жезлом железным". Между нами развивается стиль пародии
над священнейшими нашими переживаниями; и этот стиль
пародии внушает мне тему 2-й „Симфонии"»*. В предисловии ко
второй «симфонии» Белый утверждал, что она имеет три
смысла — музыкальный, сатирический («здесь осмеиваются
некоторые крайности мистицизма») и идейно-символический —
преобладающий, но не уничтожающий первых двух. Второй
из этих смыслов имеет в тексте более широкий тематический
охват, чем тот, на который указывает Белый: «сатирический»
угол зрения задан в «симфонии» при изображении фактически
любых картин наблюдаемой действительности. Весь
эмпирический мир, поскольку он подчинен законам времени и
причинности, алогичен и нелеп, иллюзорен и бессмыслен, и предстает он
у Белого в хаотическом сочетании одновременно
сосуществующих явлений, ничем не связанных друг с другом, кроме своей
одинаковой несостоятельности перед лицом «Вечности вели-
Белый А. Материал к биографии. Л. 17, 18об.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 135
кой, Вечности царящей». Глазу мистического хроникера
московский быт предстает как совокупность беспорядочных,
взаимно отчужденных реалий, сопрягающихся друг с другом либо
посредством иронических, нередко каламбурных, ассоциаций,
либо просто случайным соположением («В те дни и часы в
присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух
водил кур по мощеному дворику»). Содержательные (в
общепринятом смысле) явления при таком угле зрения
обессмысливаются, вздорные и случайные наделяются мнимой
содержательностью, изображения самого обыденного, привычного
сочетаются без каких-либо посредствующих звеньев с самым
невозможным, фантастическим: «Мотивы спаивают в одно
целое фантасмагорию и повседневность; пробуя разобраться во
впечатлении, с удивлением замечаешь, что первая является не
менее, а иногда и более реальной, нежели вторая»*. И в то же
время такая всеобъемлющая, «мировая» сатира не влечет за
собой уничтожающего приговора. Белый развенчивает
эмпирическую стихию с мягкой, лукавой иронией, которая сродни
романтической иронии; все изображаемое несет на себе
умиротворяющий налет «туманной Вечности», которая
просвечивает сквозь пелену времени и суету явлений. Описывая с
одинаковым вниманием действия людей и события из жизни котов
и дворовых петухов, Белый не задается особой целью
скомпрометировать те или иные явления мирской повседневности
нелестным сопоставлением; он стремится лишь охватить единым
взором, как бы с высоты птичьего полета, все, что попадает в
поле его отвлеченного наблюдения; по словам С. Аскольдова,
«именно с такой точки зрения жизнь воспринимается более
духовно», «только с такой все нивелирующей высоты чувствуется
разлитие во всем одной общей, уже не человеческой, а
космической душевности»: «Это, так сказать, приведение всей
окружающей жизни к одному знаменателю "важности" и
серьезности с точки зрения какого-то более серьезного охвата взором
всей действительности»**. Ирония — основной способ видения
мира во второй «симфонии», вскрывающий двойственность
бытия и призывающий преодолеть эту двойственность, духов-
* Э. [Метнер Э. К.|. Симфонии Андрея Белого // Приднепровский край.
1903. №2024. 16 дек.
** Аскольдов С. Творчество Андрея Белого. С. 75.
136 А. В. Лавров
ным импульсом превзойти роковую зависимость от мира и от
навязываемых им мыслительных и поведенческих
императивов. Все окрашивающая ирония характеризует позицию
автора, который знает, что воссоздаваемая им бесконечная
вереница уравненных в своем «горизонтальном» бытии реалий еще не
исчерпывает всей реальности, — ему ведома реальность иная,
подлинная и абсолютная, ему слышны «гаммы из невидимого
мира». Поэтому в «симфонии» ирония постоянно
оборачивается неподдельным пафосом, и на московских крышах, где
«орали коты», появляется пророк — Владимир Соловьев,
трубящий в рог и возвещающий о восходящем «солнце любви», а
в экипаже, управляемом кучером «в цилиндре и с английским
кнутом», разъезжает красавица сказка, «синеглазая нимфа»,
предстающая в ореоле «вечно женственного». Портрет
Москвы «эпохи зорь» во второй «симфонии» целиком окрашен у
Белого «шестым чувством» — «чувством Вечности», которое
для него — «коэффициент, чудесно преломляющий все»*.
При этом мистические экстазы, которыми насыщена
«симфония», компрометируются на каждом шагу, иронический
шарж доминирует и в изображении мистиков, заполонивших
московские кварталы и медитирующих под бдительным
наблюдением квартальных. Соприкасаясь с косной, враждебной
действительностью, высокие помыслы искажаются, материальная
среда претворяет вдохновенные грезы и мистические символы
в самопародию. Однако такую «сатирическую», по аттестации
самого Белого, установку не следует понимать однозначно.
Например, явно «сатирически» окрашены рассуждения двух
мистиков о потаенных значениях цветов: «пурпурный свет —
ветхозаветный и священный, а красный — символ
мученичества» и т. д.; «Оба сидели в теософской глубине. Один врал
другому», — резюмирует Белый. И в то же время сам Белый
с увлечением предавался исследованию мистической
«семантики» цветов, развивал свои соображения об этом в письмах к
близким людям (А. Блоку, Э. Метнеру) и в статьях («О
религиозных переживаниях», «Священные цвета»**); в сущности, это
Ил письма Андрея Белого к Э. К. Метмору от 14 февраля 1903 г. //
ГБЛ.Ф. 167. Карт. 1.Ед. хр. 9.
См.: Белый Л. Арабески. Книга статей. М., 191 1. С. 1 15- 129;
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома па 1979 г. Л., 1981. С. 38-44.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 137
те же самые рассуждения, которые в тезисной форме вложены
в уста комических мистиков. В ироническом отсвете подаются
самые близкие Белому идеи и пророчества. Справедливо
отмечено, что «насмешка и вера — две стороны отношения поэта к
любой влекущей его идее, к своему собственному Я»*.
Соблюдая это двуединство, Белый ею многом следует примеру Вл.
Соловьева, который (как сам Белый отметил в ноябре 1901 г.)
«молча всматривался и прислушивался, редко заикаясь о
"слышанном" и "виденном", если и говорил, то прикрывал слова
свои шуткой»"". Так, поэма Соловьева «Три свидания» — это,
согласно примечанию автора, попытка «воспроизвести в
шутливых стихах самое значительное» из его жизненных событий
и переживаний; свои истово пророческие стихи о схождении на
землю «вечной женственности» Соловьев также облек в
шутливую оболочку и сопроводил подзаголовком «Слово
увещательное к морским чертям»***. Стремление передать «высокое»
через «низовые», заведомо неадекватные формы понятно:
свет мистических озарений слишком ослепителен, безусловен
и невоплотим в слове, его трудно отобразить во всей его силе
и насыщенности прямым высказыванием. И Белый
предпочитает передавать то, что считает за истину и откровение, не
впрямую, не в виде привнесенного в художественную структуру
манифеста, а в рамках ее зиждущегося на иронии единства,
отраженным светом, сквозь призму мнимого (или полумнимого)
развенчания, в обличье шутки и даже буффонады, с
присовокуплением снижающих «бытовых» подробностей и аналогий.
Немаловажны также слова Белого о том, что он в своей
«симфонии» старается осмеять именно «крайности
мистицизма», а не мистицизм как таковой. «...Очевидно, не все в
Мусатове осуждается автором, а лишь крайности», — подмечал в
статье «Симфонии Андрея Белого» Э. Метнер****, а сам Белый
указывал: «...Конец "Симфонии" — превращается в паро-
Силард Л. О структуре Второй симфонии А. Белого // Studia slavica
(Budapest). 1967. T. 13. С. 318.
** Лавров А. Юношеские днешшконые заметки Андрея Белого //
Памятники культуры. Новые открытия. Кжегодник, 1979. Л., 1980. С. 133.
Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 132,
120— 122 ( Б-ка поэта. Большая серия ).
Приднепровский край. 1903. №2023. 15 дек. Поди.: Э.
138 А. В. Лавров
дию на крайности наших же мистических переживаний весны
1901 г.»*. Дискредитируется не суть мистического познания,
а лишь конкретный опыт овладения им, высмеиваются
неумелые, поспешные, самонадеянные способы проникновения «за
пределы предельного». Примечательно, что слова о неверном
образе действий «московских мистиков» в «симфонии»
произносит некто «пассивный и знающий»; истинное знание о
мире — а не только о его эмпирической видимости — требует
тишины, а не суеты. И в то же время, развенчивая самозваного
пророка и вместе с ним собственные неумеренные увлечения,
Белый не ниспровергает окончательно своего героя, чьи
изначальные помыслы и глубинные устремления духа остаются вне
критики. Не случайно в уста Владимира Соловьева вложена
снисходительная оценка действий группы Мусатова («Первый
блин всегда комом»), и столь же внимательно и сочувственно
относится к ней мудрый отец Иоанн, знаменательный
носитель имени евангелиста и автора Апокалипсиса,
произносящий в финале «симфонии»: «Их неудача нас не сокрушит...
Мы не маловерны, мы многое узнали и многого ждем...» Путь
мистических соблазнов и разуверений Мусатова осмысляется
как некий обряд инициации, подтверждающий подлинность
исходного, духовного пафоса и открывающий новые горизонты,
новые грани познания той потаенной и неуловимой сути мира,
которую Белый охватывает удивительной «симфонической»
формулой: «Невозможное, нежное, вечное, милое, старое и
новое во все времена».
Подобно тому как 1901 г. дал духовный импульс всей
последующей жизни Белого, так и вторая «симфония»,
непосредственно запечатлевшая переживания этого года, стала зерном,
из которого развилось все его зрелое творчество.
Многообразные линии преемственности соединяют ее не только с
последующими «симфониями», но и со стихами 1900-х гг., с романами
«Петербург», «Котик Летаев», «Москва», с поэмой «Первое
свидание» и т. д.** Замечательно, однако, что Белый
предвосхитил в этой «симфонии» не только многие мотивы своих будущих
произведений, но и конкретные приметы будущей, еще только
предвидимой и предсказываемой реальности. Так, в 1901 г. изо-
Белый А. Материал к биографии. Л. 23.
Ср.: Долгополое Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 89—92.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 139
бражаемая им «мистическая общественность», заполонившая
Москву, была еще в полной мере уделом авторского
воображения, но она станет вполне приметным реальным явлением
несколько лет спустя; Мережковский и Розанов
(«симфонические» Мережкович и Шиповников) попадут в орбиту
широкого обсуждения уже после окончания «симфонии», когда в
ноябре 1901 г. в Петербурге начнутся публичные Религиозно-
философские собрания; пропагандистская деятельность
Мусатова в 1901 г. также еще не имела автобиографических
аналогий, но двумя годами спустя платформа теургического
символизма, выдвинутая Белым, уже станет объектом
внимания и полемики, а вокруг писателя сформируется мистико-
апокалипсический кружок «аргонавтов», обозначенный в
ироническом отсвете в «симфонии» еще до его фактического
возникновения. В этом отношении чуткость Белого к духовным
запросам и веяниям времени, его редкой проницательности
интуиция проявились столь красноречивым образом,
пожалуй, впервые. Этот факт тем более знаменателен, что к осени
1901 г., когда была закончена вторая «симфония», студент
Борис Бугаев еще не имел практически никаких личных контактов
с литературно-общественным миром и вообще вел достаточно
замкнутый образ жизни; инициатором издания «симфонии»
стал М. С. Соловьев, отец его ближайшего друга,
ознакомивший с поразившим его произведением Брюсова (который дал
разрешение опубликовать «симфонию» под маркой
символистского издательства «Скорпион») и придумавший автору
псевдоним, навсегда за ним закрепившийся. Во второй
«симфонии» нетрудно обнаружить элементы сюжетных
конструкций, а местами и вполне цельное повествование (например, вся
ее третья часть), но в основном связь между сменяющими друг
друга рядами образов и картин осуществляется ассоциативным
путем. Следование этому принципу позволяет Белому выявить
единство изображаемого калейдоскопического мира, показать
связь «высокого» и «низкого» планов бытия. Третья
«симфония» — «Возврат», начатая в конце 1901 г. вскоре после
окончания второй «симфонии», построена уже по отчетливой и
достаточно жесткой сюжетной схеме, столь же отчетливо в ней
прослежены символические соответствия между «идеальным»
и «реальным», но основное творческое задание Белого
подчиняется здесь не изображению «музыкального» единства
бытия, а контрастному сопоставлению подлинного мира вечных
140 А. В. Лавров
сущностей и фиктивного мира земного существования.
Житейская повседневность, как утверждает Белый, лишь марево,
мучительное прозябание, томительное наваждение, и
преодолеть его можно, вспомнив и восстановив свою родовую связь
с вневременным, космическим началом, разорвав замкнутый
круг «вечного возвращения» («змеиные кольца» времени).
С Ницше в «Возврате» ассоциируются не только
художественно претворенные мотивы «вечного возвращения», но и идея
высшего познания через психическое расстройство (именно
как священное, провиденциальное безумие воспринимал
Белый душевную болезнь Ницше в последние годы его жизни);
в самой фамилии героя «симфонии», возможно, таится
указание на Ницше (уже отмечалось ее анаграмматическое
сходство с именем философа: Хандриков — Фридрих)*. Впрочем,
обрисовывая своего безумца, Белый сознательно опирался и
на традиции русской литературы, об этом сигнализирует и имя
Хандрикова — Евгений (имя обезумевшего героя
пушкинского «Медного Всадника»), и определенная связь этого
персонажа с Поприщиным из гоголевских «Записок сумасшедшего»
и князем Мышкиным («Идиот» Достоевского)**. Первая часть
«Возврата» представляет собой свободную фантазию на темы
вневременного райского бытия, вторая изображает реальный
(а по сути, ирреальный) мир, но в ней «мистический сюжет
первой ясно просвечивает как бы через какой-то искусно
подобранный и символически ей адекватный транспарант»***.
«Симфония» первой части слышится сквозь «какофонию» второй
части; ребенок из мира первозданного блаженства
предстает магистрантом Хандриковым, страдающим от тщеты и
бессмысленности своего существования и постоянно ощущающим
сигналы иного бытия. Образы из первой части («сон»
Хандрикова) воскресают в новом обличье в «эмпирии» второй части,
часто в сниженном, бытовом плане или в аспекте иронических
Авраменко А. «Симфонии» Андрея Белого. С. 67.
См.: Напорный В. Андрей Белый и Гоголь// Единство и изменчивость
историко-литературного процесса (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Выи.
604). Тарту, 1982. С. 115-116; Казари Р. Персонаж у раннего Белого:
Хандриков из «Третьей симфонии» // Andrej Belyj. Pro et contra. Atti del I
Simposio Intemazionale «Andrej Belyj». Milano, 1986. P. 17-22.
Аскольдов С. Творчество Андрея Белого. С. 82.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 141
уподоблений: «морской гражданин», учащий своих сыновей
низвергаться со скалы в морскую пучину, оборачивается
стариком в бане, который «учил сына низвергаться в бассейн»;
змея с рогатой головкой, угрожающая ребенку, преображается
в «черного змея» — железнодорожный поезд, который
«приподнял хобот свой к небу»; созвездие Геркулеса напоминает о
себе «синей коробкой, изображавшей Геркулеса»; кентаврам
из первой части соответствуют два университетских
профессора, похожие на кентавров, и т. д. Такой же
неукоснительный параллелизм сохраняется и в обрисовке двух центральных
образов-мифологем: «колпачник», символизирующий мировое
зло в первой части, воплощается в «реальном» плане в приват-
доцента Ценха, изливающего на Хандрикова «стародавнюю
ненависть», а стари к-демиург, наставник и защитник ребенка,
предстает в обличье психиатра доктора Орлова
(соответственно, орел — «пернатый муж с птичьей головой», — которого
старик обещает послать к ребенку, уходящему в «пустыню
страданий», является Хандрикову в виде мужчины среднего
роста в сером пиджаке и с пернатой головой и, подобно
египетскому птичьеголовому богу Тоту, «владыке времени»,
препровождавшему усопших в царство мертвых, отправляет его в
Орловку «в санаторию для душевнобольных»).
Художественное целое «Возврата» основывается на
принципе зеркальной симметричности миров, которые, при всем
изоморфизме друг другу, характеризуются и целой системой
противопоставлений: мир вечности един и целостен, мир
времени хаотичен, дискретен, раздроблен; первый постигается
иррационально, синтетически, второй — рассудочно, путем
логических выкладок и словопрений, переданных в «симфонии» под
знаком трансцендентной иронии; в первом преобладают
указания на некие сущностные, глубинные, невыразимые словом
явления, во втором — велеречивые высказывания на различные
абстрактные темы, отчужденные от подлинной сути бытия или
профанирующие ее*. Тема двоемирия и символической связи
двух планов мирового единства нашла в «Возврате»
чрезвычайно яркое и последовательное художественное отображение.
См.: МинцЗ., Мельникова Е. Симметрия — асимметрия в композиции
«III симфонии» Андрея Белого // Труды по знаковым системам. XVII (Учен,
зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 641 ). Тарту, 1984. С. 84-92.
142 А. В. Лавров
Брюсов, рецензировавший «Возврат», расценил это
произведение как наиболее совершенный и внутренне законченный
опыт «симфонического» творчества Андрея Белого,
покачнувшего «недвижную основу трехмерного пространства» и
приоткрывшего «второй план вселенной»; Белый, по впечатлению
Брюсова, «подобен человеку, который видит сон, но
продолжает слышать все происходящее вокруг него. Житейское
врывается в видение мечты, но и все повседневное озарено
фантастическим светом грезы. Андрей Белый сумел обличить в образах
всю призрачность, всю «трансцендентальную субъективность»
нашего отношения к вещам. Он вынул какие-то связи между
событиями, выпавшие легко, как ненужные украшения, — и
вдруг вся эта строгая последовательность нашей обыденной
жизни обратилась в бессвязный и чудовищный хаос, в
бесцельно метущийся водоворот, которому нет выхода. <...> Но в то
же время А. Белый показал нам, как все мелочи этой
обыденности проникнуты, пронизаны светом иного бытия, — как все
они получают новый и глубокий смысл, если смотреть на них с
иного плана. А еще дальше, в почти непроизнесенном,
священном намеке, встают дали третьего плана вселенной, последней
истины»*.
Над четвертой «симфонией» Белый начал работать летом
1902 г.; этим временем датируется ее первая редакция, отрывки
из которой появились несколько месяцев спустя в
символистском альманахе «Гриф». Судя по опубликованным фрагментам
(полный текст этой редакции не сохранился), «симфония»
тогда по своей тематико-стилевой фактуре еще существенно не
отличалась от первых трех, выделяясь на их фоне, пожалуй, лишь
более активным и всепроникающим теургическим импульсом.
Сам Белый свидетельствует: «4-я "Симфония" должна была
дать новую, мистически правильную, транскрипцию 2-й:
раскрыть подлинную ноту времени: второе пришествие уже
происходит; оно не в громе апокалиптических событий истории, а
в тишине сердец, откуда появляется Христос; я позднее 3 раза
переправлял редакцию этой "Симфонии"; в "Кубке метелей"
ничего почти не осталось от этой версии, где еще не было ни
Адама Петровича, ни Светловой, ни полковника Светозарова,
ни золотобородого мистика, а действующими лицами были юно-
Весы. 1904. № 12. С. 59-60.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 143
ша Лавров, мистик Саврасов, переживающий тайну 2-го
Пришествия, и Тугарина, которую платонически любит Лавров; но
появляется "прыщавый бородач", редактор журнала «Пафос»,
который искажает в оргиазме и в культе Астарты
христианские веяния журнала "Патмос"; я считаю эту первую редакцию
4-й Симфонии наиболее удачной <...> в "Кубке метелей"
сохранились лишь куски от первой редакции во второй части (всё
об обители и о видении Тугариной-Светловой Христа; то же в
отрывках "Пена колосистая", "Золотая осень"); эта редакция
Симфонии не писалась, а записывалась фразами; фразы же я
подслушивал; они мне как бы подавались из ветра»*.
В предисловии к книге стихов «Пепел» (1908) Белый
назвал «Кубок метелей» «единственной книгой», которой он
«более или менее доволен и для понимания которой надо быть
немного "эзотериком"»**. Такая самооценка, вероятно,
подразумевала и полемический ответ на почти единодушное
неприятие современниками этого произведения. В отзывах о нем
преобладали резко критические ноты; достаточно привести
заглавия рецензий: «Мистическая алгебра», «Кубок бездарных
претензий»***. Сергей Городецкий, усмотревший в четвертой
«симфонии» лишь «дикие упражнения», полагал, что неудача
«Кубка метелей» — следствие принципиальной
несостоятельности творческого метода автора: «...Как только стремления
провести музыкальные приемы в поэзию выразились с
достаточной полнотой, сейчас же обнаружилась вся их нелепость»****.
Думается, однако, что в большей мере был прав сам Андрей
Белый в позднейших, уже весьма самокритичных,
характеристиках своей последней «симфонии», объясняя (в частности, в
автобиографическом письме к Иванову-Разумнику)
недостатки «многослойного, пере-пере-мудреного» «Кубка метелей»
тем, что основная работа над ним велась уже в пору, когда
настроения «симфонической» «эпохи зорь» отошли в прошлое,
перестали быть живым, непосредственным стимулом для но-
* Белый А. Материал к биографии. Л. 29 об., 30. Патмос — остров в
Эгейском море, на котором св. Иоанн Богослов имел пророческие видения,
отраженные в Апокалипсисе.
** Белый А. Пепел. СПб., 1909. С. 9.
*** Новое время. 1908, 2 июля; Киевские вести. 1908, 9 мая.
**** Образование. 1908. № 9/10. Отд. 3. С. 51-52.
144 А. В. Лавров
вых творческих построений; работа над «Кубком метелей» в
1906—1907 гг. — это «работа из периода, разорвавшего все
с эпохой "Симфоний": над этою эпохою»: «В сущности, эпоха
написания "Симфоний" есть 1899—1902 гг. <...> путь
исканий вылился в 1902 г. четырьмя "Симфониями", вышедшими в
свет; последняя вышла гораздо позднее; и — в перекалеченном
виде»*. Попытка сочетать творческие завоевания ранних
«симфоний» с новыми мотивами, характерными для трагического,
дисгармоничного мироощущения Белого середины 1900-х гг.,
с душевным надрывом и исступленностью, порожденными в
значительной мере мучительной любовью к Л. Д. Блок
(отношения Адама Петровича и Светловой в «Кубке метелей» —
отчасти проекция этих переживаний), привела к созданию
многослойного и разностильного, искусственно усложненного
произведения. При этом техническое мастерство Белого явно
совершенствуется; «симфония» изобилует блистательными по
метафорической насыщенности образными рядами,
изощренными словесными узорами, она, по мнению Э. К. Метнера,
«довела гениально созданные приемы до головокружительной
виртуозности, до микроскопической выработки самых
утонченных подробностей, до своего рода словесного хроматизма
и энгармонизма»*". И в то же время общий эстетический итог
«Кубка метелей» — не слагающаяся из этих составляющих
грандиозная и роскошная постройка, а скорее ослепительные
осколки разбитого вдребезги «симфонического» мира.
В рецензии на «Кубок метелей» Сергея Соловьева дается
общая характеристика его содержания и образной символики.
Интерпретации Соловьева заслуживают особого внимания:
ближайший друг и постоянный собеседник Белого в пору его
работы над окончательной версией четвертой «симфонии», он,
безусловно, отразил в своих толкованиях не только
собственные, но и в какой-то степени авторские идеи и замыслы,
облегчавшие путь постижения этого «эзотерического» текста.
«Кубок метелей», согласно разъяснениям Соловьева, являет собой
«преломление идеи мистической любви полов сквозь призму
современной нам русской действительности»: «Тема эта
распадается на две части: 1 ) извечная борьба начал божественного
* ЦГАЛИ. Ф. 1782. Он. 1.Кд. хр. 18.
** Труды и дни. 1912. № 2. С. 28.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 145
и демонического в сознании влюбленных и 2) соответствующие
этому внутреннему процессу явления в сфере объективной
действительности: господство эротизма в современной русской
литературе и сектантские радения, извращение Эроса в
интеллигентном обществе и народном расколе. В первом случае
мы имеем сцены смешные, во втором — ужасные. В искусной
схеме Андрей Белый раскрывает вечную трагедию любви. При
этом изображение борьбы Логоса с хаосом за обладание
женственным началом природы раскрывается то с субъективной, то
с объективной стороны; то чрез изображение душевной жизни
и поступков трех главных действующих лиц: Адама Петровича,
Светозарова и Светловой, то чрез изображение явлений
природы, откуда и название книги "Кубок метелей". Метель — как
нераскрытая возможность, зов любимой женщины. Душа мира
одержима материальными силами (Светлов); ей предстоит
разрешиться или в хаос, во мрак зимы, и встает образ полковника
Светозарова, в ореоле серебряных листьев; или разрешиться в
космос, в весенний свет, и встает образ странника, Адама
Петровича, скуфейника с лазурными очами. Героиня Светлова из
пустоты, небытия светской жизни углубляется в тайный скит
мистической секты. Там происходит последнее сражение, и
образ полковника Светозарова вновь встает символом небытия
среди черных покровов, ароматного ладана и розового елея»*.
Идейно-тематические постулаты, формулируемые
Соловьевым, и сюжетные конструкции растворены у Белого в
бесконечной череде «вихревых» образных построений,
пренебрегающих обычными представлениями о границах художественной
условности. Персонажи почти полностью утрачивают свою
антропологическую определенность, превращаясь в чистые
символы, заключая в себе даже целую иерархию символических
представлений: Светлова — в высшем плане отблеск Жены,
облеченной в солнце, полковник Светозаров — олицетворение
Люцифера (Lucifer — «утренняя звезда», «свет зари»), а
также дракон, символ «темного» времени, противостоящего
вечности, преображенный Адам Петрович в финале «симфонии»
соотносится с обликом Христа, он же в мифологической
ипостаси являет тип героя-змееборца. При этом основная
идейная коллизия «Кубка метелей» — противоборство «темного»
* Весы. 1908. №5. С. 73-74.
146 А. В. Лавров
времени и «светлой» вечности в душах людей и преодоление
власти времени — не нова для Белого, она уже была с
впечатляющей силой воссоздана в «Возврате», сказывалась и в более
ранних «симфонических» опытах.
Распад целостной «симфонической» картины мира
«эпохи зорь» Белый интуитивно пытается возместить в «Кубке
метелей» рядом компенсаций: щедрой мистической
риторикой, порождающей пышный «литургический» стиль взамен
прежних скупых намеков и недосказанностей, изысканными
метафорическими уподоблениями, нагнетанием символов —
самоценных и самодостаточных, принципиальной установкой
на «герметизм», — тенденцией к стиранию четких образных
очертаний и перспектив, к взаимопроникновению поведения
героев и явлений природы, «вещного» мира и метафизических
начал вплоть до окончательной утраты каждой из этих сфер
собственной аутентичности*. Стихия метели, как бы
растворяющей в своем кружении духовное и материальное,
закономерно становится глобальным, всеохватывающим символом,
определяющим всю образную структуру «симфонии».
Тенденция к взаимопроникновению духовного и материального,
абстрактных и конкретных понятий зримо сказывается у Белого в
выстраивании метафор, апеллирующих к различным одеждам и
тканям (например, метель персонифицируется, поскольку она
уподобляется игуменье «в черных шелках», изгибается
«атласным станом», плещет «муаровой мантией», рассыпает «клубок
парчовых ниток»); подсчитано, что в тексте четвертой
«симфонии» встречается более 200 различных материй (бархат,
кружево, шелк, парча, атлас, муар, кисея и т. д.), лишь 25 %
этих словоупотреблений использовано в прямом значении, а
75 % — в переносном**. Изощренная образная орнаментика,
рождающаяся в бесконечных и безудержных вариациях
сравнительно небольшого количества непрестанно
возобновляющихся тем и мотивов, растворяет в себе собственно сюжетные
элементы и полностью их подчиняет: сам Белый в предисловии
признает, что ему «часто приходилось удлинять "Симфонию"
См.: Keys R. Bely's Symphonies // Andrey Bely: spirit of symbolism. Ed.
by John E. Malmstad. Ithaca; London, 1987. P. 46-47.
См.: Юрьева 3. Одежда и материя в цикле симфоний Андрея Белого //
Andrey Bely. Centenary papers. By Boris Christa. Amsterdam, 1980. R 118-134.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 147
исключительно ради структурного интереса». Преобладание
этого «интереса» над другими творческими задачами само по
себе примечательно: видимо, прежние спонтанные импульсы,
как бы непроизвольно выливавшиеся в «симфонические»
формы, уже перестали быть действенными, потребовались другие,
внешние «энергетические» силы для того, чтобы заворожить,
заклясть словом ускользающую из-под контроля жизненную
и духовную реальность. В 1907 г. Белый написал рецензию на
роман А. М. Ремизова «Пруд» (в его первоначальной
редакции), в котором отозвался об этом произведении весьма
критически: «...Ремизову не удался "Пруд". И не то чтобы ярких
страниц здесь не было <...> это — тончайшие переживания
души (сны, размышления, молитвы) и тончайшие описания
природы. Схвачена и жизнь быта. Но схватить целого нет
возможности: прочтешь пять страниц — утомлен; читать дальше,
ничего не поймешь. <...> Рисунка нет в романе Ремизова, и
крупные штрихи, и детали расписаны акварельными
полутонами. Я понимаю, когда передо мной небольшая акварель. Что
вы скажете об акварели в сорок квадратных саженей? <...> А в
целом — это море нежных бесформенных тонов <...>
десятками страниц идет описание кошмара; случайный кошмар не
отделен от фабулы, потому что фабула, распыленная в мелочах,
переходит в кошмар, распыленный в мелочах»*. На то, что эта
характеристика «Пруда» могла бы послужить и
автохарактеристикой «Кубка метелей», законченного как раз ко времени
появления рецензии, уже обращал внимание Иванов-Разумник**;
но не скрываются ли за упреками Белого, расточаемыми по
адресу «Пруда», и его догадки о том, в каком свете может быть
воспринято читателями его собственное творение? С
опасений относительно литературной судьбы «симфонии» («Кто ее
будет читать? Кому она нужна?») Белый начинает свое
предисловие к «Кубку метелей», в котором формулирует основное
задание произведения как «путь анализа <...> переживаний,
разложения их на составные части»: изначальная установка
уже совершенно иная, чем в первых «симфониях», тяготеющих
к синтетизму на всех уровнях. Аналитизм «Кубка метелей»,
подчинявший себе «симфоническую» структуру, влек за собой
* Белый А. Арабески. С. 175-176.
См.: Иванов-Разумник. Вершины. С. 46.
148 А. В. Лавров
возрастание эстетического суверенитета отдельных
фрагментов и слабую их взаимную согласованность, в результате чего
весь текст воспринимался скорее как циклическая
совокупность, чем как цельное произведение. Парадоксальным
образом Белый в виртуозном и переутонченном «Кубке метелей»
вновь обнаруживает неизбывное подспудное тяготение к той
спонтанной форме, в которую выливались его первые, еще
наивные и беспомощные, творческие опыты, — к
лирическому отрывку в прозе. И в плане идейно-тематическом последняя
«симфония» Белого, вобравшая в себя наиболее богатый
реестр «симфонических» приемов и одновременно обозначившая
кризис и исчерпанность «симфонического» жанра, напоминает
о его первых пробах пера: «довременному хаосу» «предсимфо-
нии», положившему начало «симфонической» космогонии,
соответствует в четвертой «симфонии» возвращение в хаос
«вихревого» мира природных явлений и человеческих страстей, в
котором, как в воображенном Белым «кубке метелей»,
различные субстанции переливаются друг в друга и смешиваются
до полной неразличимости.
«Кубок метелей», завершенный в 1907 г., предстал
достаточно красноречивым доказательством того, что «симфоническая»
форма, найденная Белым на рубеже веков, не универсальна, что
она способна к ценностному саморазвитию лишь до той поры,
пока сохраняется незыблемой в своих основных чертах и
ориентирах мифологическая картина мира, вызвавшая ее к
жизни. Поиск новых духовных импульсов, более широкого образа
действительности, осмысляемой уже не только в системе
метафизических понятий и подзнаком мистических предначертаний,
но и в социально-историческом аспекте, в трагических отсветах
современности — а именно к такому мировосприятию Белый
стал все более последовательно склоняться, начиная с
середины 1900-х гг., — «симфонии» уже вместить не могли.
Оставшись сугубо индивидуальным жанровым образованием, они не
породили сколько-нибудь значимой литературной школы:
чужие опыты в «симфоническом» духе — такие, как поэма
«Облака» (М., 1905)Жагадиса(А. И. Бачинского)или оставшаяся
в рукописи «Эсхатологическая мозаика» ( 1904) П. А.
Флоренского* — вариация на темы «Северной симфонии» — были
Архив семьи Флоренских. Текст подготовлен к печати Л. А. Илыониной.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии») 149
единичными и всецело зависимыми от «оригинала»'. Однако
«симфониям» суждено было навсегда остаться самым ярким
и законченным воплощением «эпохи зорь», послужившей
истоком всего последующего творчества Андрея Белого, одним из
наиболее выразительных и художественно совершенных
памятников русского религиозно-философского, теургического
символизма, одним из первых опытов в области
экспериментальной прозы, получившей столь широкое развитие в XX в., — а
это не так уж мало.
От «симфоний», и главным образом от последней из них,
прослеживается прямая линия преемственности к
орнаментальной стилистике, обозначившей одно из основных
направлений обновления русской прозы 1910—1920-х гг. Уже год
спустя после выхода в свет «Кубка метелей» — учитывая
неоднозначный по художественному результату опыт четвертой
«симфонии» и в значительной мере опираясь на него, —
Белый создает свой первый роман «Серебряный голубь», в
котором налицо отличительные черты будущего
орнаментализма: экспрессивность стилевого выражения, прихотливость
интонационно-синтаксических рядов, последовательная
ритмизация и метафоризация речи обилие образных
лейтмотивов, — все те принципиальные конструктивные элементы,
которые характеризуют прозу писателя в период расцвета его
В угом ряду особого упоминания заслуживает «Московская симфония
(5-я, псреповная)» В. Ф. Ходасевича — изящная и меткая пародия на вторую
«симфонию», оставшаяся в рукописи [впервые опубликована Робертом
Хыолом в его статье «Белый и Ходасевич: к истории отношений»; см.:
Вестник Русского христианского движения (Париж). 1987. № 151. С. 145-
149|, по предполагавшаяся в 1907 г. к иапечатаиию в московской галете
«Литературно-художественная неделя» (редактор — В. И. Стражев). В ту
пору, отмеченную острой внутрисимволистской полемикой, угон публикации,
видимо, воспрепятствовал сам Белый, судя по письму к нему Ходасевича от
15 августа 1907 г.: «Стражев просил у меня для Л» 1 своей галеты пародию
на 2-ю симфонию. Я не дал ответа, ибо хотел переговорить с Вами <...>.
Дело в том, что ла последнее время Вам делают достаточное количество
крупных неприятностей, — и я боюсь увеличить число их еще одной, хотя
бы и мелкой. Ответьте мне совсем искренно, не будет ли Вам почему-нибудь
неприятно появление угон пародии в печати. Она написана (верьте) бел
всяких ладних мыслей, но, повторяю, боюсь, что Вам покажется неприятным
ее папечатание, хотя мне кажется, что там нет ничего "такого"» (ГБЛ. Ф. 25.
Карт. 24. 1-д. хр. 25).
150 А. В. Лавров
творчества и в то же время обнаруживаются в произведениях
немалого числа его младших современников и
продолжателей, от Евгения Замятина до Бориса Пильняка и Всеволода
Иванова. Прав был В. Шкловский, заметивший попутно, что
без «симфоний» Андрея Белого «невозможна новая русская
литература»*.
Шкловский В. Андрей Белый // Русский современник. 1924. № 2. С. 243.
А. Д. Сиклари
Символ и герменевтика
в мемуарах Андрея Белого
Проблема познания и критика Канта
Андрей Белый предугадал многие пути
последующего развития русской литературы. Его можно назвать
постмодернистским писателем ante litteram, который
в своих философских размышлениях реализует
герменевтический метод. Особенно это проявляется в
мемуарах, в которых он описывает процесс становления
своей личности — от непосредственного
чувствования до сознательного суждения. Основным мотивом
(явным или подразумеваемым) воспоминаний
является защита им концепции символизма, в которой
отражаются, по утверждению автора, его личные чувства:
характер автора совпадает с его критическим
культурным сознанием, а путь самопознания представляет
собой этическое самосовершенствование.
Акцентируя свое внимание на символизме как
первоначальной смутной интуиции, развивающейся и
проясняющейся в разные периоды его жизни, Белый
* Статья выходила с некоторыми изменениями: Вестник МГТУ.
2010. Т. 13. №2.
152 А. Д. Сиклари
описывает зарождение сознания в формах представления и
понятия, а также через расширение отношений, составляющих
сферу культуры. Время, по его мысли, связывает и объясняет
личность. Такой же метод он применяет в исследовании
различных теорий и философских направлений, предвосхитив,
например, учение Штейнера.
Проблемой познания А. Белый занимался всю свою жизнь.
Она составляла основу его научных интересов в
искусствоведении, но разрабатывалась с учетом философских учений его
эпохи от Шопенгауэра, Нищие, Канта до неокантианцев и
Штейнера. Первостепенной проблемой для Белого является
отношение к жизни и представление о ней, а примирением же
между этими двумя областями была именно философия. В
мемуарах и философских размышлениях последних лет вместе с
темой познания присутствует и мотив возникновения и
оформления в его собственном сознании идей и создания
определенного мировоззрения. Такое соединение идейного содержания
и путей его формирования определяет авторскую основу
концепции, в которой он интерпретирует явления и
мировоззренческие позиции исторической эпохи... Белый воссоздает свой
творческий путь, используя выразительность символов, через
которые переживание становится суждением и понятием. Он
находит символы, растущие в процессе роста самосознания:
они принадлежат объективному времени и опираются на
индивидуальный опыт. Поэт вспоминает о том, что свой первый
опыт общего он получил в детстве, который состоял в том, что
отец, мать, гувернантка и он сам говорили на одном и том же
языке. Семья была для маленького «Бореньки» первым
образцом «общественной — государственной жизни» и
выражением кризиса такого общества. «В кризисе семейной жизни он
(мальчик) имел опыт первого кризиса; чувство кризиса
присоединилось к чувству символа, индивидуума и многогранности; с
тех пор оно росло; и к 17 годам выросло в чувство кризиса всей
обстановки культуры»".
В мемуарах Белого присутствует масса примеров такого
образующего опыта. Типичным является описание религиозной ста-
Белый Л. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть
во всех фа:*нх моего идейного и художественного развития. Ann Arbor: Arch's,
1982. С. 14-15.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 153
дии символизма, проявляющейся в присвоении-переживании
общих религиозных символов (Логоса, Христа, Теургии и т. д.).
Использование элементарных понятий и образов христианской
религии в игре давало возможность назвать свои переживания
«наименованием»*. В студенческие годы продолжилось
развитие собственного Я, это был сложный процесс. Белый
пишет: «Мне нужен был знак — отделитель от догматизма; слово
ТЕУРГИЯ — отделяло от догмата»**. Поэтому религиозные
термины получали новый смысл: «Творческое новое
переправление материалов и образов религиозной истории в нечто
имманентное мне, сквозь меня прорастающее; ТЕУРГИЯ, как
БОГОДЕЛАНИЕ; говоря более внешне — мифотворчество»***.
Таким образом, с одной стороны, единство личности и
совести являются условиями культуры, а с другой — исследование
смысловых составов знания ( культурных символов и
методологий) вызывает постоянную их связь с глубокой эмоциональной
сферой личного сознания. Белый попробовал восстановить
полную картину своего идейного пути в некоторых работах,
написанных, по большей части, в последнее десятилетие жизни.
Из наиболее значительных очерков, без сомнения, надо
упомянуть: «Почему я стал символистом...» и «Основы моего
мировоззрения». Последний очерк автор решил не публиковать, но
тем не менее в нем он явно определил структуру акта
познания. Очевидно, что на осознании целостности знания,
включающего в себя не только чувственное и критическое познание, но
еще и личность, в которой оно зарождается (как
мифотворчество, как мировоззрение), основывается вся идеология Белого.
Отсюда берет начало критика Белым Канта и неокантианцев,
а также вся критика философских направлений того времени,
содержащих, по его мнению, превосходство гносеологии в
рациональной области. «Увлечение гносеологией, — утверждает
Белый, — привело к гипертрофии гносеологического рассудка
в ущерб другим тканям организма мировоззрения; логика
рассудка вращала проблемы и стиля, и смысла, и цели в
зависимости от себя <...>. В Канте он обнаружил еще и совпадение
представления о том, чем должна быть теория знания, с пред-
Там же. С. 15.
Там же. С. 16.
Там же.
154 А. Д. Сиклари
ставлениями о том, чем должна быть гносеология;
гносеологическая аналитика Канта и есть, так сказать, теория знания
Канта. Однако аналитика эта есть вскрытие механизма нам данного
аппарата познания; взяты готовые формы живущих в нас
познавательных представлений; анализом их Кант описывает не-
переступаемый круг, отрезывающий цели и смыслы
мировоззрения от мировоззрителя тем, что, утапливая цели и смыслы в
орудиях познания, не имеющих целей и смыслов, — он цели и
смыслы относит в недостижимые, трансцендентные области не
убитой им метафизики...»* По Канту, сфера логики имеет
функцию определения условий познания; чистые априорные
суждения, не имеющие опытного содержания, не увеличивают
знания, а лишь указывают на систему отношений, на структуру и
функционирование субъективности. Белый отмечает, что
отделение содержания от чистых условий понимания — акт,
следующий за интуицией целостности. Точка отправления мыслящей
совести — не аналитическое суждение априори, но
аналитическое суждение апостериори: «суждение щепления целого
в субъект и объект есть суждение аналитического a posteriori,
которого кантианство и неокантианство не вскрыли»**. Таким
образом, Белый желает преодолеть расстояние между
объектом и представлением. Законы и структуры познания, данные
только в переходе от сознания к самосознанию, неотделимы от
интуиции целостности. Эта проблема, по мнению Белого,
касается не только Канта и неокантианцев, но и других течений
мысли: «В гностицизме и в чистом логизме, в феноменологии
и в гносеологии вскрылись тенденции обусловливать
мировоззрение его познавательной формой»***.
Познание, по его утверждению, начинается от осознания
данного: «Познание нам дается в сознании; и — никогда вне
сознания»****. Оно — «первичная и единственно данная нам
интуиция целого», и самосознание — «итог познавательного
процесса», в котором пересекаются «знание о предметах мира
и знание о законах предметного мира». По отношению к само-
Белый А. Основы моего мировоззрения // Литературное обозрение.
1995. №4/5. С. 15.
Там же. С. 19.
Там же. С. 13.
Там же. С. 18.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 155
сознанию такие предметы и законы (самая апперцепция) суть
«части целого, которое и есть действительность, т. е. нечто
содеянное, как акт самосознания. Действительность —
осознание сознания: само-со-знание»*.
Если познание — это интуитивное обретение целостности,
тогда акт познания и непосредственно интуиция должны стать
таковой, возвращая единство к тому, что было отделено
первичностью рассудочной дискурсивности. В этом и заключается
цель познания. Дискурсивный процесс мысли — «маска,
таящая интуицию; понятия отрезанного от целого как идеи и нет:
нет понятия; в понятии есть идея; идея понятия первее понятия;
она — эйдос, иль — образ. От образа мысли к частности
мысли (метода, понятия), а не обратно, как думают кантианцы»**.
В итоге, кантианское учение о разуме и рассудке — «сплошной
предрассудок»***.
Белый критикует не только Канта, но и неокантианцев, так
как у них (особенно у Когена) движущим принципом всего
познания является первоначало, происхождение (Ursprung) как
действенная установка, направляющая и основывающая
бесконечный процесс познания. Такая установка приводит к
абсолютизации (и даже, как у Наторпа, к онтологизации) метода.
Однако следует признать, что к этому видению они пришли,
чтобы избежать трудностей, возникающих при невозможности
достичь конкретного опыта вне процесса представления. Об
эту трудность спотыкается и сам Белый в концептуировании
символизма: переход от области непосредственного
(переживания) к опосредованной, к той сфере, которая не представляет
с необходимостью научный порядок, является уже культурной
организацией в целом, содержащей и искусство, и религию.
Наторп заканчивает утверждением, что бытие — функция
мышления потому, что мышление — это устройство
отношений, составляющих содержание объекта, независимо от
субъективных условий того, кто его мыслит****. Такое заключение
возникает из работы над опытными данными, которые не мо-
Там же. С. 16.
** Там же. С. 20.
Там же. С. 18.
**** Nalorp R Philosophie. Ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den
kritischen Idealismus. Vandenhoeck und Ruprecht. Göttingen, 1921. S. 35-37.
156 А. Д. Сиклари
гут никогда быть абсолютно «первыми», ибо всегда подлежат
какому-то градусу объективации*. Когда Белый утверждает, что
«познание нам дается в сознании», он еще не уходит от
замечания Наторпа, и это не случайно: по собственному
свидетельству, он четыре года изучал неокантианцев (Когена, Наторпа,
Риккерта и т. д.). Он говорит также и о том, что вначале
признавал разрешение неокантианством проблемы кантианского
трансцендентализма. Выход из рассудочной методологии ему
представлялся в единстве интуиции и метода интуитивиза-
ции, т. е. исполнения цели познания, которое есть действие не
простого сознания, но самосознания. Познающий человек
целиком включается в акт познания, который всегда имеет смысл
и цель; напротив, кантианское сознание — это только
трансцендентальная апперцепция (не имеющая смысла), где «все
живое — убито». Она уже не сознание, а «подсознание», она
«чувственность»**.
Принимать опыт «лишь за чувственный опыт» — это, по
Белому, один из видов кантианского догматизма, ибо и
понятийное сознание, наличие идей — это тоже опыт, «хотя и
познавательный опыт»***. Введение априорных форм в познавательный
процесс — это догматический акт, поэтому критический
философ должен поставить вопрос: возможны ли априорные
понятия или нет? И не важно, что такой критический аргумент
против Канта мы находим не в упоминаемом докладе 1920 г.,
а в статье 1916 г.: «О смысле познания»****. Белый
приписывает его Штейнеру, а не Когену, что было бы правильно*****,
но, по всей видимости, это было распространенным в то время
убеждением.
Призыв Белого к конкретности является признанием
индивидуальности целого и неспособности синтеза (в смысле
критицизма, по Белому) сохранить целостность.
Индивидуальность — точная конфигурация целого неотделима от него. Бе-
Natorp Р. Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Mohr,
Tübingen, 1912. S. 96-98.
Белый Л. Основы моего мировоззрения. С. 17.
Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон+ , 1999. С. 517—518.
Белый Л. Поэзия слова. О смысле познания // Russian Language
Specialties. Chicago, 1965. С. 44.
Дмитриева H. Русское неокантианство: «Марбург» в России.
Историко-философские очерки. М.: РОССПЭН, 2007. С. 368.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 157
лый заявляет: «Образ же целого — индивидуум. В этом смысле
все данное нам как связное, хаотическое, принимаемое за
объективную первозданную данность, — субъективация
процессов познания; все же космическое — органично, телеологично,
индивидуально»*. Отличительные определения
«субъективный» и «индивидуальный» Белый принимает в формально-
условном порядке. На самом деле вне понятийных пределов он
не смог бы охарактеризовать индивидуальность. Определение
субъективного и индивидуального типа — это дело стиля, а
стилистическая форма неопределима с точки зрения значения
и содержания, необъяснима логически, ибо она условна. Такая
условная формальность позволяет Белому подмечать аналогии
и сходства с другими учениями и даже пользоваться ими как
собственными. Действительно, формальность является
основой его герменевтического видения. И все же Белый открыто
не отрекается от идеи необходимости теории символизма.
Теория символизма А. Белого
Чтобы управлять многочисленными данными знания,
преодолеть субъективизм и сохранить символичное единство
творения-представления во времени, Белый в первый период
анализа мышления создает теорию символизма, которую он
изложил в очерке «Эмблематика смысла», хотя впоследствии
сам же и признал эту попытку неудачной. На эту работу он
часто ссылается в очерках и мемуарах даже и в последние годы.
В этой работе Белый излагает теорию, связывающую все
сферы культуры, полагая, что динамическая объединяющая
функция символа нуждается в дополнении теорией символизма, без
которой не будет органического реального знания. В сущности,
теория должна была разрешить переход от индивидуального
эмпирического (от жизненных и культурных знаний
индивидуума) к общему, которое в своих определениях является
индивидуализированным смысловым содержанием в формальном
отношении. Таким объяснением теории Белый старается
правильно определить и употребить понятия «символ»,
«символизм», «символизация» в их различных видах и функциях. Он
Белый Л. Основы моего мировоззрения. С. 22.
158 А. Д. Сиклари
предостерегает от путаницы символа как «предела» и символа
как «образа», символизма как творчества и символизации,
которые относятся к различным зонам творчества. «Определяя
творчество с точки зрения единства, — пишет он, — мы
называем его символизмом; определяя ту или иную зону этого
творчества, мы называем такую зону символизацией»*. Здесь
выделяются два вида формализации символа (как и в понятии):
с одной стороны, его основной характер, чисто формальный
(единство), характер символа, а с другой — образный
характер, относящийся к зоне объективации (смысла и ценности).
Аналогично Белый определяет отношение между
символизмом и символизацией, по всей видимости, потому, что снова
при исследовании конкретного символа встает познавательная
проблема обобщения и отношения формы к содержанию.
Сохранить связь познавательного процесса с жизненным
порядком на основе символа в общей культурной сфере оказывается
трудным, непосильным автору делом, который так и не
создает теории или феноменологии культуры. Но это не потому, что
«Эмблематика» у него только предисловие: оказалось
невозможным «описывать переживаемый необходимо вложенный в
нас процесс построения всевозможных теорий»**.
Не случайно Белый называет свою теорию, а точнее
предисловие к теории, «Эмблематика смысла». Эмблеме
предназначается посредническая роль не только между общей формой
и эмпирическим содержанием, но и между творчеством и
выражением. И здесь Белый сталкивается с трудностями кантов-
ского схематизма. У Канта схема принадлежит к
трансцендентальной области (пространство и время — априорные формы
чувственности и рассудка), и поэтому они сохраняют тесное
отношение с категориями, имеющими только логический смысл
(простое единство представлений), из которого невозможно
получить понятие объекта. Известно, что схематизм — слабый
пункт в философии Канта. Критики по этому поводу отмечают
признание Кантом невозможности абсолютной априорности
трансцендентальной апперцепции. Тем более что Кант
определяет схематизм как «мастерство, скрытое в глубине
человеческой души», укоренившееся в его природе, и маловероятно,
Белый Л. Эмблематика емыела //А. Белый. Символизм. С. 139.
Там же. С. 141.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 159
что человек им овладеет. Видимо, поэтому Белый смотрит на
кантианскую схему как на «алогический пункт самого
рассудочного логицизма». Кант не был в состоянии объяснить, как
«безобразное» относится «к образности», и вызывал «из
небытия образ мысли»*. Поэтому Белый применяет свою схему
к вполне образной области, ибо эмблема для него — это
посредничество между психологическим переживанием и
смысловой ценностью, хотя переживание и принадлежит к
внутреннему миру личности, а смысл и ценность — к объективному
миру. Кроме того, переживание есть творчество, исходя из его
утверждения: «Мы познаем переживания; это познание — не
познание; оно — творчество. И первый акт творчества есть
наименование содержаний»**. Следовательно, наименование
(т. е. смысловое определение, понятие) обозначает предел, за
которым существует только невыразимое и немыслимое. Это
причина, по которой Белый называет эмблему разным
образом: это и маска, и аллегория, и норма с точки зрения их чистой
формальности, неспособная определить глубину переживания;
а в отношении содержания — это эмблема свободы, ценностей,
эстетического творчества и т. д., т. е. эмблема как смысловая
форма. В длинной сноске в очерке «Принцип формы в
эстетике» Белый дает краткое изложение кантовского схематизма и
вводит свою особую схему. Это еще один из аспектов эмблемы
по отношению к ее функции: «Искусство с точки зрения
формальной эстетики и есть схематизм (или эмблематизм); здесь
самая действительность берется, как схема. И как схема
определяется отношением к времени, так и искусство определимо
формально отношением к времени. <...> Освобождающая нас
сила искусства в том, что оно ведет к восприятию
действительности, причины, сущности, как схем и только схем»***.
В этом случае схема указывает на что-то, что лежит в
скрытой глубине акта творчества, создающего другую
действительность, не обнаруживаемую рассудочными категориями. В этом
смысле схема определяется Белым как «образ или миф, а это —
факт». То же самое он утверждает по поводу рассудочной
философии: она есть, «так сказать, мифология, производная от пер-
Белый А. Основы моего мировоззрения... С. 19.
** Там же. С. 129.
Белый А. Принцип формы в эстетике // Символизм. С. 525.
160 А. Д. Сиклари
вичного мифа; акт познания начинается до его положения как
рассудочного; и продолжается за пределами своей рассудочной
(средней) части: рассудочный познавательный результат в
самосознании зацветает смысловыми метаморфозами»*.
Мировоззрение для Белого относится к неиссякаемому и
производительному действию Я, через которое Я осознает само себя
как продуктивную силу, создающую культуру:
«Мировоззрение становится путем роста "Я": оно не доказывает; оно
рассказывает себя». В этом фихтеанском — штейнерианском
контексте мировоззрение — зеркало, через которое Я поймает
себя как некое Ты\ а «это "ТьГ и есть "Я" собственно»*1.
Таков схематический характер мировоззрения,
выступающий посредником между несказанной силой сознания и
самосознанием, ибо самосознание осуществляется в смысловых
определениях. Но в самом времени мифическое значение
мировоззрения является методом узнавания и осознания
посредством органического и творческого приема. В мифическом
мировоззрении действуют понятия, языки культуры, переживания
по ритмическому порядку, как его называл Белый.
Это напоминает характер слова у Потебни, который
утверждает, что слово — это мифическое творение, в котором
сходятся личный опыт и культурная традиция. В мифическом творении
образ вполне переходит в значение, так как его метафорическая
значимость не замечена, и мифотворческая совесть принимает
ее за саму действительность, которую хочет объяснить мифом*1*.
Убеждение Потебни в познавательном характере мифа
базируется на том, что из чувственного опыта вытекают и содержание
знания, и его организационные структуры. Понимание
начинается с ощущения, из единства познавательного акта вначале
появляется чувственный образ, понятие которого является
упрощением всех его видов****. Образ обусловливает смысл слова, и
слово строит необходимость смысла, т. е. понятие: «Слово
не есть <...> внешняя прибавка к готовой уже в человеческой
душе идее необходимости. Оно есть вытекающее из глубины
Белый А. Основы моего мировоззрения... С. 19—20.
Тим же. С. 23.
Потебни А. А. Из записок но теории словесности // А. А. Потебня.
Слово и миф. М., 1989. С. 432-433.
Тим же. С. 216.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 161
человеческой природы средство создавать эту идею, потому что
только посредством его происходит и разложение мысли»*.
Отказ от априорности Канта очевиден и у Потебни, для которого
обобщения создаются сознанием через внутреннюю форму
слова, названную именно символом или представлением.
Форма гарантирует единство творчески-познавательного процесса
во всех его видах: миф, наука, искусство. И хотя Белый и не
разделяет эмпирическую психологию, на которую опирается
Потебня, он все-таки соглашается с ним по поводу единства
множественных семантических видов слова, из которых
вытекает метафора и рождаются миф и поэзия**. И тот и другой
признают в строениях сознания первоначальный, допонятийный
момент, который у Потебни представляется как случайность,
а у Белого как свобода. Система определения производится у
Потебни традицией, а у Белого — ритмом, т. е.
стилистическим расположением феноменов.
Символ и самосознание
Отправляясь от основополагающего единства, т. е. символа-
переживания, и от символического характера самого понятия,
которое представляет формальное единство, Белый должен
найти другой тип связи между конкретными переживаниями,
нелогичный и несмысловой. Он должен исключить законы
эмпирической ассоциации, такие, как закон смежности, сходства
и т.д., которыми пользуется психология. «Мы называем
символом, — пишет он, — индивидуальный образ переживания; мы
улавливаем далее единый ритм в смене наших переживаний,
олицетворяя смену со сменой мгновений; образы переживаний
располагаются друг относительно друга в известном порядке;
этот порядок называем мы системой переживаемых символов;
продолжая систему, мы видим, что она охватывает нашу жизнь;
жизнь, осознанную в ритмических образах, называем мы
индивидуальной религией; ритм отношения наших переживаний
переживаниям других расширяет индивидуальное понимание
Там же. С. 148.
Белый Л. Мысль и и:шк. (Философия я:шки Л. Л. Потебни) // Логос.
1910. Км. 2. С. 246.
162 А. Д. Сиклари
религии до коллективного; в том процессе познания, который
называет Липпс «чувствованием», мы видим непроизвольно
религиозный корень. И поскольку «чувствование» (Einfühlung)
лежит в основе эстетических переживаний, постольку
художественное творчество получает свое освещение в творчестве
религиозном. Наконец, выражение образа переживаний в
пластической, ритмической форме различного рода приводит нас
к построению из того или иного материала схем, выражающих
соединение образа видимости с образом переживания; такие
материальные схемы суть художественные символы»*.
Конкретное, индивидуальное единство эмоциональной и
смысловой системы выявляет онтическую основу знания, но в
то же время лишает дискурсивный круг сцепления с
действительностью. Лишь ритмическая организация сохраняет
символическое единство многообразных опытных моментов,
поскольку ритм — проявление переживаний в том порядке, который
свободно вытекает из жизненного импульса, и потому что он
обнаруживается, чувствуется, что он необходим как факт,
а не понятие. При переходе от переживаний к области
творчества (искусства) появляется цель, и с ней ценность,
посредством которой можно различать познавательную
организацию и многочисленные зоны культуры. Эмоциональная сфера
жизни не прямо иррациональна, а предшествует
рациональности. Определения «рациональность» и «иррациональность»
принадлежат лишь к познавательной области. Но в любом
случае невозможно избежать противопоставления познания
(даже символического познания) жизни и собственно
познания, что и определяется в последнем как противоположность
иррационального и рационального. По этому поводу
разъясняющее объяснение делает Ф. Степун, который отмечает, что,
отправляясь от переживания, теоретическая мысль должна
отличить процесс переживания от содержания его, хотя такое
разделение не может раскрывать природу переживания. Дело в
том, что, «говоря о переживании как о психическом процессе,
как о психической данности, действительности, мы, в сущности,
говорим уже не о переживании, но о лишь его теоретическом
истолковании. Психичность, процессуальность, данность,
действительность — все это моменты смыслового состава знания,
Белый А. Эмблематика смысла. С. 133— 134.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 163
которые могут быть пережиты, но которые никогда не могут
быть определены как переживание. Значит, переживание есть
такая наличность нашего сознания, которая никогда не может
по всей своей природе стать объектом нашего знания»*.
Белый, указывая на переживание, сознательно употребляет
слово «символ», смысл которого принадлежит к
концептуальному порядку. Анализируя символ, он освещает символический
смысл и форму каждой культурной сферы, а значит, и способ их
отношений: единство множества и рациональность
иррационального. Под таким углом зрения символичность находится
между двумя пределами: формальной завершенностью и
иррациональным множеством содержаний. Последнее
представляет собой другой вид иррациональности, а именно:
иррациональности как невозможности мыслить абсолютным символом.
Символ всегда относится к двум крайностям, и символичность
выявляет в своей сущности двойственность: бесконечность
смыслов и условный формальный предел. Смысловое единство
культуры с такой позиции проявляется как двусмысленное, как
условное и необоснованное. Видимо, именно такая
непримиримость множественности и разнообразности конкретной сферы с
формальной всеобщностью заставили Белого прервать
попытки создать теорию и стать на путь автобиографической
интерпретации своей эпохи. В автобиографию он все-таки включает
процесс формирования своего критического сознания, т. е.
самосознания, который объясняется им как процесс
символизации. «Туманное понятие "символ" возникает в сознании автора,
как уже отмечалось, во время его детства. Вначале оно
возникает только как имя, употребляемое родителями для
определения образов, пленявших мальчика. Но, раз появившись, оно
делалось фактором увеличения его рационального сознания:
«Под символом я силился разуметь органическое соединение
материалов познания в новом качестве, подобное
химическому соединению двух ядов». Символизм «была деятельность,
коренящаяся в воле, посредством которой по-новому
соединяются творчество и познание, а символ — результат этого
соединения»**. Такими воспоминаниями Белый хочет показать
неотделимость психологического и идейного факторов именно
Степуи Ф. Жизнь и творчество//Логос. 1913. Кн. 3-4. С. 84.
Белый А. Начало века. Chicago: Russian Study, 1966. С. 115-116.
164 А. Д. Сиклари
в формировании сознающей личности. Изданной цитаты
можно вычленить и другой вид символа, а именно: его формальный,
понятийный характер. Автор отличает разные аспекты, или
градусы, единства-символа, начиная от более конкретного —
индивидуума, до более отвлеченного, — единства. Лестница
здесь поднимается к более чистой абстракции, а в обратном
направлении спускается к более глубокой жизни; такая
лестница представляет собой конкретную жизнь, а рациональный
ход символизации — метод создания сознающего Я. Поэтому
Белый может утверждать: «НИКАК НЕ СТАЛ, НИКОГДА не
становился, но всегда БЫЛ символистом (до встречи со
словами "СИМВОЛ", "СИМВОЛИСТ")»*. Символизация — это
упражнение, посредством которого смутное детское
сознание — совесть раскрываются как точка соединения личности
и масок, за которыми оно скрывается, и скрывается потому, что
у него еще нет языка, значит, нет знания о себе; его выражение
есть координация чередования масок. «Это "Я", — он пишет
в 1928 г., — уже с семи лет знало и уже с 17 лет осознало, что
никакое "Я" по прямой линии не выражаемо в личности, а в
градации личностей, из которых каждая имеет свою "роль"»**.
По его видению, Я — соединение трех миров: первый —
внутренний, он есть именно личность; второй — внешний, это мир
масок (социальных отношений); третий мир, изображаемый
как вершина треугольника, — индивидуальное Я. Только на
вершине треугольника осуществляется процесс самосознания,
а личность находится в зоне рассуждений, откуда по прямой
линии выходит к внешнему миру, к области масок. Здесь Белый
частично заимствует схему Штейнера, но употребляет ее не для
обоснования собственной философии, а для описания схемы
собственного развития от непосредственности переживания к
сознанию и до полного самосознания.
Белый рассказывает, что в детстве практика
концептуального властвования чувства имела характер игры. Одна из таких
игр осуществлялась посредством багровой крышки картонки,
спрятанной в тени, чтобы ее предметность оставалась
таинственной. Проходя мимо багрового пятна, мальчик восклицал
про себя: «НЕЧТО БАГРОВОЕ». Он поясняет свое поведе-
Ьслый Л. 11очсму я стал символистом... С 7.
Там же. С. 11.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 165
ние таким образом: «НЕЧТО — переживание; багровое
пятно — форма выражения; то и другое вместе взятые символ (в
символизации)»".
Создание символа оказывается преодолением двух миров:
индивидуального психического мира (мира страха) и
внешнего, предметного мира данности, при этом ни один из этих двух
миров в отдельности недействителен. Третий мир возникает из
творческого синтеза как преобразование познавательного
комплекса, который оказывается познавательным углублением
творческого приема, усваиваемого мальчиком в игре:
«Упражнение в этих играх осознано мною, как собственно культура
роста моего Я. <...> Я учусь не заболеть болезнью
чувствительных нервов от яркости неопознанных ВОСПРИЯТИЙ, во мне
живущих»**.
Поэтому символизация — не только игра или эстетический
опыт, а еще почти физиологическая функция для здорового
роста сознательной личности, в которой непосредственность
переживания поднимается до речения. Так переживание
включает в себя целостность существования, и в этом смысле оно есть
конкретный символ, имеющий онтическое основание. Как
уже отмечалось, Белый различает две области единства:
онтическое и формальное, при этом второе — образ первого. Это
означает, что истинность познавательного процесса
(эстетического, научного, а также религиозного) находится в оптической
области и завершается внутренней динамикой творения. Здесь
следует различать объединяющую, индивидуализирующую силу
ее видов, обусловленных внешней областью, в которой она
действует. Наконец, правильное понимание зависит от
цельного единства индивидуума. «Мы, — пишет автор, — оттого не
понимаем друг друга, что глядели друг на друга не из
индивидуума "Я", а из индивидуума, надевшего очки своей личной
вариации, и поэтому вынужденного видеть в другом "Я" лишь такую
же вариацию»"" Я — это «творимая действительность, которая
всегда не данность, но творчески-познавательный результат»,
а символизм — только «знак этого результата»'".
Тим же. С. 7.
'* Тим же. С. 8-9
Тим же. С 71.
Тим же. С. 72.
166 А. Д. Сиклари
На самом деле, по Белому, различные мировоззрения — это
лишъметоды, которыми индивидуум выражает и осуществляет
свою личность. Их синтез не дает ничего конкретного, «потому
что синтетическое единство самосознания только рассудочная
форма в личном сознании»; т. е. своего рода универсальность,
слияние «самосознающих единств разных сознаний в ступенях
самосознания». Напротив, «"Я" в его "САМО" уже не естьсин-
тез рассудочный, но синтез в действительности»*. Белый прямо
говорит, цитируя «Эмблематику»: «Моя деятельность —
сфера инспиративных и интуитивных миров: "она сама — живой
образ, неразложимый в терминах; но мы мыслим в
терминах; и потому-то наши слова о деятельности —
только символ1'»**. Уже упоминавшаяся двусмысленность термина
«символ» проявляется и здесь, в рассмотрении мировоззрения,
которое, с одной стороны, есть методологический
познавательный процесс, и с другой — творческое движение сознания,
которое символично в двух видах.
Какая герменевтика?
Составление воспоминаний Белого основывается на
подтверждении положения о творческой самобытности и
первичности индивидуальности. Его ранние работы собраны в книге
«Символизм», основной целью которой является разъяснение
отдельных вопросов. В них критическое суждение о теориях
разных мыслителей является внутренним побуждением
процесса мышления. В последующих теоретических работах,
таких, как «Основы моего мировоззрения» и «Почему я стал
символистом...», появляется уже программная критика. В
таких трудах, особенно во втором из них, мировоззрение Белого
вытекает из полемического источника и полемически
развивается, как и во всех мемуарах. Главная их цель — защищаться от
обвинений в непоследовательности, подчинении доктринам или
какому-либо влиянию. Автор рассматривает свои работы не в
свете последующего закономерного тематического
углубления, а с конфликтной позиции. Страстность, руководящая его
Белый А. Почему я стал символистом... С. 71.
Там же. С. 127.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 167
воспоминаниями, — определенная методика творчества,
диалектика, которая и составляет большую часть трудностей
понимания и принятия его работ. Создание и изложение очерков
совпадают с жизненной ситуацией автора, и читателю трудно
понять ранние мысли поэта, тем более что он отстаивает
единство и непрерывность своего размышления.
Отличительная черта герменевтики А. Белого особенно
проявляется в его воспоминаниях при описании биографий
современников. Даже по отношению к антропософии он
подчеркивает самостоятельность своего пути, которая, по его
заявлению, началась с исследований Канта, Шопенгауэра,
Риккерта и самого Штейнера. Он отмечает, что
антропософия не возникла «из пустоты»; «ее корни — история
гносеологических воззрений»*. Однако можно бы критически
заметить, что исследование Белым той или иной доктрины или
личности, а также изложение его собственных мыслей нельзя
назвать объективными, но это было бы слишком простым
заключением и поэтому не совсем правильным. Его
последующие интерпретации являются углублением и продолжением
первоначальной юношеской проблематики, хотя и в свете
других точек зрения и событий; именно на таком основании
автор отстаивает внутреннее единство и последовательность
своего пути.
Такое убеждение надо считать конструктивной силой его
мышления поотношениюксодержанию. Это подтверждает
примечание к работе «Почему я стал символистом»: «Написанное
не носит характера непререкаемой резолюции, это вариации
темы 1928 г., над которой размышляю тридцать лет»**. Верно
и то, что теории других мыслителей, Белым использованные,
находятся в оригинальном контексте, имеющем уже
структурное определение, отсюда и искажения, как это можно показать,
например, по отношению к теории Штейнера. По этому поводу
интересно замечание из неопубликованного очерка,
написанного в 1922 г., «Основы моего мировоззрения»: «Статья
писалась, как попытка резюмировать связь позиции книги моей
"Символизм" с некоторыми чертами идеологии Штейнера; но
Белый А. Воспоминание о Штейнере / par F. Kozlik. Paris: La presse
libre, 1982. С. 15.
Белый А. Почему я стал символистом... С. 137.
168 А. Д. Сиклари
затем осознана как не соответствующая заданию. И не отдана
в печать в Берлине»".
Нельзя исключить, что причина задержки публикации была
каким-либо образом связана со спором, вызванным книгой
Белого «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении
современности», опубликованной в 1917 г.** Но беседа Белого с Д.
Максимовым в 1930 г. по поводу Штейнера позволяет думать, что
поэт уже критически оценивает поведение и учение Штейнера,
что подтверждается следующим его суждением, приведенным
Максимовым: «Сила Штейнера — не в книгах, а в личном
общении, в прямом воздействии»***. Это подходит к последним
работам Белого, где интерпретация антропософии представляет
скорее ее переделывание.
Надо признать, что Белый указывает на близость своей
позиции к Штейнеру чаще всего на основе формальных
аналогий. Он приписывает антропософии характер знания,
вырастающего в личном опыте. «Без опытного материала, — пишет
он, — материал антропософских лекций — ничто; только
в соединении с опытом лекции эти понятны; вне — они суть
схоластика <...>; антропософ, если он не СИМВОЛИСТ, т. е.,
если он не умеет производить соединений извне поданного
материала с опытом, имманентным жизни его, — явление просто
чудовищное»"**. В цитате интересным является
функциональный смысл, который автор придает вообще доктринам и в
особенности антропософской. Учения являются правильными не
столько благодаря определенному содержанию, сколько из-за
способности придать форму внутреннему опыту. В этом и
заключается их истинность, что становится, таким образом,
делом прежде всего моральным, нежели теоретическим.
Следует отметить особый характер такого морального
направления, не совпадающего с доктриной Штейнера; антропософ
призывал учеников к тайной мудрости, направленной на общее
Белый А. Основы моего мировоззрения //«Литературное обозрение.
1995. №4/5. С. 13.
См.: Гаирюшин Н. К. В спорах об антропософии. Иван Ильин против
Андрея Белого // Вопросы философии. 1995. № 7. С. 100-102.
Максимов Д. О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки
издали // Проблемы творчества. М., 1988. С. 632.
Белый А. Почему я стал символистом... С. 10.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 169
благо, а не на личное. По Штейнеру, знание себя — средство,
а не цель, но Белый признает мудрость теософии только тогда,
когда личное сознание улавливает в ней ход собственного
осуществления. Таким образом, основательность учения
проверяется аналогией опытных путей. Белый представляет собственный
путь познания как движение от переживания к самосознанию
через сознание\ в антропософии он находит символы и образцы,
определяющие единство и порядок содержанием собственного
сознания, и описывает обе позиции как «совпадение до
частности». Но это не так. Достаточно сослаться на методологическое
употребление понятия третьего, принятого Белым как образ
преодоления противопоставления, как вершина треугольника и
пирамиды, состоящей из постепенных рядов антиномий формы
и содержания. «Обе позиции (Штейнера и моей), — пишет
Белый, — суть в разгляде рационализма — диалектический метод:
у Штейнера — диалектика мировоззрений; у меня диалектика
методических схем, поданных клавиатурой»'.
Это только формальная аналогия. Дело в том, что, по Штей-
неру, порядок в мышлении не является непосредственным
образом составной целостностью Я, как это мы видим у Белого.
У Штейнера этот порядок только орудие. Антропософия,
пользующаяся определенной метафизикой и гносеологией,
нацелена на моральное поведение человека, и нельзя принять ее как
познавательный прием. Дисциплина мышления не является
непосредственно дисциплиной жизни, она, скорее, для
жизни. Инстинктивное направление, с позиции Штейнера, должно
быть преодолено, в то время как у Белого с этого начинается
путь сознания, у самосознания есть собственные инстинктивно-
эмоциональные корни. Кроме того, Белый понимает учение
антропософии как утверждение и удостоверение
самостоятельного пути, по которому он двигался бы и без помощи мастера
и вне практики аскезы. Учение Штейнера идет из глубины и
сложности его личности и обращается к другому
индивидууму, чтобы преодолеть область индивидуального. Наоборот, у
Белого путь в личное самосознание коренится в эмоциональной
сфере, из которой происходят и случайные встречи с другими
людьми (с друзьями или противниками), и поэтому он
беспрестанно колеблется между онтологизмом и психологизмом. Мож-
* Там же. С. 74-75.
170 А. Д. Сиклари
но найти еще одно подтверждение различий в подходах двух
мыслителей (Штейнера и Белого) в незаконченной работе История
становления самосознающей души, над которой Белый
работал с 1926 г. В ней он еще раз подтверждает свою преданность
символизму: «И дальнейший мой путь вблизи д-ра Штейнера,
далее, путь в революции, — все преломляется ранним моим
выявлением как символиста; и то, что я с гордостью ношу значок на
душе моей "антропософия", — разумеется, не меняет того, что
я был, есмь и буду под знаком течения, которое нет нужды мне
менять; в этом смысле и вся эта книга — разгляд символизма,
как становления души самосознающей; <...> до порога
"антропософии" и за порогом я есмь символист»*.
Без сомнения, в этом отрывке описание «самосознания»
имеет более широкое значение в познавательном процессе
обобщения, чем в других статьях, где раскрывается
самопознание как переход от переживания к смысловому определению и
суждению. Через проблемы культуры, споры и сравнения душа
находит собственный путь, становится самосознающей.
Однако следует прибавить еще одно интересное
соображение Белого: «Но оттого-то мне трудно здесь вскрыть; легче
говорить о том, что вокруг тебя; и несравненно труднее коснуться
того, что ты сам»**.
Значит, можно говорить о себе языком культуры или
явлений; душа вырастает, организуя культуру по своей свободе, по
той интуитивной силе, являющейся отправным пунктом знания.
Но только то, что можно сообщать: явления, случаи, споры,
идеи, то, что можно определить, — составляет язык, которым
возможно говорить о себе, ибо зона личного сознания в себе
неопределима, поэтому о ней невозможно говорить. Здесь
слышится призыв к психологической области внутренней жизни.
А. Белый и герменевтика В. Дильтея
Психологизм — это одна из наиболее серьезных ошибок,
в которой упрекал современную герменевтику Дильтей,
уделявший немалую часть своих произведений психологии. Ри-
Белый А. Душа самосознающая. Москва: Канон + , 1999. С. 433.
Там же.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 171
кёр видит ошибку в противопоставлении объяснения природы
(естественных наук) и понимания истории, которое исключает
герменевтику из естествознания и таким образом побуждает
ее к психологическому интуитивизму. Белый знал о полемике,
связанной с психологизмом и, обрисовывая обстановку в конце
XIX в., в 1929 г. писал: «Философы делились на психологистов
и антипсихологистов; и я со своим символизмом, как
мировоззрением, должен был дать себе внятный ответ, на чем
базироваться: на психологии или на теории знания»*, давая отчет
о своих многочисленных книгах, прочитанных по философии,
психологии, физиологии (Кант, Hoeffding, Hartman, Wundt,
Lipps, Lange, и еще Rickert, Cohen, Diltey).
В работе «Эмблематика смысла», как уже отмечалось,
Белый писал, что есть огромная разница между знанием-
пониманием и познанием. Последнее, свойственное научному
разуму, не порождает мировоззрения и не в состоянии
охватывать смысл жизни: «Наука и мировоззрение не соприкасаются
друг с другом нигде»**.
Но разница между двумя типологиями знания не означает у
него отделения естествознания от социальных и исторических
наук на основе различения их категорий (как этого хочет Диль-
тей). Белый считает, что символичное основание дает
мировоззрению возможность содержать внутри себя и науку, и логику
как различные области культуры, которые по своей природе
не в состоянии понимать целое. В своих мемуарах он
обращает внимание на более широкую область социально-культурной
истории своего времени; но, как известно, он смотрит на
историю через мир личных связей (дружеских и враждебных
отношений), а глубину своего личного внутреннего эмоционального
мира он объясняет современной действительностью. Свое
поколение он описывает лишь как настроенное психологически
отрицательно ко всему, отказывающееся от прошлого и
неспособное обрисовать будущее, что характерно для
декадентского поведения.
Мемуарной герменевтике принадлежит целый период, и
толкование истории, особенно истории культуры, превраща-
* Белый А. На рубеже двух столетий. Letehworth: Bradda Books LTD.
1966. С. 465.
Белый А. Эмблематика смысла. С. 56.
172 А. Д. Сиклари
ется в биографии и в автобиографии. Дильтей, например,
считает автобиографию высшей и наиболее поучительной
формой, «в которой нам представлено понимание жизни»*, хотя
он и стремился разными путями преодолевать субъективизм,
вводя науку о духе и исторические категории, отличающиеся
от кантовских категорий. По поводу необходимости научного
(хотя и специфического) толкования истории, в центре
которой находится индивидуум с его биографией, он ясно
выражается: «Статус биографии внутри общей историографии
соответствует статусу антропологии внутри теоретических наук об
исторически-общественной действительности. Поэтому
прогресс антропологии и растущее признание ее
основополагающей роли помогут пониманию того, что охват совокупной
действительности индивидуального существования, описание его
природы и его исторической среды — вершина историографии,
равноценная по глубине решаемой задачи любому
историческому описанию, обнимающему более обширный материал»**.
С одной стороны, опыт жизни является «источником
разумения общественно-исторического мира», а с другой стороны,
«лишь в обратном воздействии на жизнь и общество науки о
духе достигают своего высшего значения»***.
Науки о духе используют свой метод, отличающийся от
метода естественных наук. Проблема различения метода была
замечена и неокантианцами, которые использовали
следующее: принцип формы (идеографический метод) у Виндельбан-
да, принцип ценности у Риккерта, феноменологический анализ
разных языков, предметов культуры у Кассирера. Их взгляды,
Dilthey W Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften//W. Dilthey. Gesammelte Schriften. VII Band. Stuttgard,
1992. S. 199 (Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе /
пер. с нем. иод ред. В. А. Куренного //Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. / под ред.
А. В. Михайлова и Н. С. Плотникова. М.: Три квадрата, 2004. Т. 3. С. 248. Все
цитаты '^того произведения приводятся из рус. пер.).
Dilthey W. Einleitung in die Geisteswissenschaften // Dilthey W.
Gesammelte Schriften. I Band. Stuttgart!, 1990. S. 33 (Дильтей В. Введение в
науки о духе / пер. с нем. под ред. В. С. Малахова // Дильтей В. Собр. соч.:
в 6 т. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. Т. 3. С. 310. Далее переводы
приводим по чтому изданию).
Dilthey W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften. S. 138. (Построение исторического мира в науках о духе. С. 183).
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 173
однако, относились к трансцендентальному сознанию, к
абстрактному логическому субъекту, оформляющему объект, что
вызывало возражения Белого. Другой путь выбирает Дильтей.
В стремлении понять историю разрабатывается техника личной
гениальности, которая совершенствуется с развитием
исторического сознания*. «Истолкование было бы невозможным, —
пишет Дильтей, — если бы проявления жизни были целиком
чуждыми нам. Оно было бы ненужным, не будь в них ничего
чуждого. Следовательно, истолкование находится между этими
двумя крайними противоположностями»**. Поэтому в области
исторического знания особую роль имеет автобиография как
«осмысление человеком своего жизненного пути, получившее
литературную форму. <...> Только осмысление позволяет
бескровным теням прошлого обрести вторую жизнь»***.
Известно, что Гадамер находит повод для критики именно
важности роли, приписываемой биографии и автобиографии
при изучении истории. Для него это является доказательством
неразрешимости апории, у Дильтея знание — понимание и
значение — смысл. И если все, что пишет Дильтей по поводу
биографии и автобиографии, можно отнести и к позиции
Белого, то к ней также можно отнести и критику Гадамера.
Отстаивая единство процесса символизации в
психологическом, смысловом и структурном виде, Белый в большей
степени разделяет взгляды Дильтея, в соответствии с которыми «от
переживания (Erleben), от понимания, от поэзии, от истории
происходит интуиция жизни, которую размышление возвышает
в определение и в концептуальную ясность»****.
Дильтей, хотя и непоследовательно, как это показал Гадамер,
и с трудностями, которые подчеркивал Рикёр, стремится
раскрыть структуры исторического знания и его категориальное
определение. Его утверждение, что философия должна искать
внутреннюю связь знания не в мире, а в человеке,
дополняется другим: в цепи индивидов возникает общий опыт жизни и
понимание снимает ограничение с индивидуальных пережива-
* Там же. S. 216. (С. 265).
** Там же. S. 225. (С. 274).
*** Там же. S. 200. (С. 249).
**** Там же. S. 291. (С. 344).
174 А. Д. Сиклари
ний*. Он обращает внимание не на индивидуальный опыт как
таковой, а скорее, на стремление использовать опыт в
объективации и допускает объективный дух, являющийся
всеобъемлющим комплексом воздействий, объективированной
общности, существующей между индивидами. Таким образом, он
дает очередной повод для упрека Гадамеру, который находит в
таком видении возврат к спекулятивному идеализму, особенно
к гегелевской идее Духа.
Напротив, Белый, отстаиваяединство переживания-символа,
вначале попытался создать феноменологию культурного
схематизма, напоминающего идеи Кассирера. У Белого есть нечто
общее с ним: это прежде всего требование приводить в
единство разные виды и отрасли культуры, сохраняя их своеобразие.
Вторым общим моментом является признание
функционального характера понятия. У Белого понятие — это схема, которая
символична, а Кассирер перенимает у Канта функциональный
смысл понятия, которое уже не аналитическое и формальное, а
продуктивное и конструктивное**. По мнению Кассирера, «оно
является необходимой предпосылкой объективации», и связь
между понятием и объектом — также символическая***.
Действительно, первое действие через понятие осуществляется
уже в области интуиции, собирая и связывая разные моменты
интуиции в ряд определений или конкретных образов. Такую
функцию понятия Белый описывает, вспоминая период своего
детства и игру с карточкой как способ определить переживание
наименованием. Ноу Кассирера, в достижении своего чисто
логического смысла, понятие освобождается от интуиции и от
реальности вещей и поднимается в создание возможного. Только
при такихусловиях возможна теория****. Белый создал теорию
эмблем, которая должна была стать введением в некогда
написанную теорию символов. Для него эмблема не понятие,
поскольку она не теряет связь с конкретностью благодаря своей
образности. Поэтому культура связана с индивидуальной жиз-
Dilthcy W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften. S. 187. (Построение исторического мира в науках о духе. С. 235.)
Cassirer Е. Philosophie Der Symbolischen Formen. Dritter Teil.
Phänomenologie der Erkenntnis., Hamburg: Felix Meiner, 2002. S. 362.
Там же. S. 364—365.
Там же. S. 366—367.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 175
нью, в которой и получает онтологическое основание, она —
«жизнь сознания, данная в пути самосознания»*, и поскольку
она основывается не на смысловых понятийных отношениях, а
на жизни сознания, не может определяться иначе, чем «стиль
жизни». Как стиль, она есть творчество самой жизни, но не
бессознательное, а — осознанное»**. «Культура определяется
ростом человеческого самосознания; она есть рассказ о росте
нашего "Я"; она индивидуальна и универсальна одновременно;
она предполагает пересечение индивидуума и универсума;
пересечение этого есть наше "Я", единственно данная нам
интуиция; культура всегда есть культура какого-то "Я"»***. Вероятно,
первоначальное увлечение Белого искусством и творческой
деятельностью повлияло на осмысление им личного самосознания
как исходного и конечного пункта его мемуаров. Само единство
сознания имеет эстетический характер, стиль совпадает с
неуничтожимой индивидуальностью. В любом случае Белый
олицетворяет типичный образ той формы герменевтики, которую
Рикёр критикует за то, что в ней понимание текста зависит
от понимания личности, выраженной в нем. Своими
переживаниями, фигурами (символами) и эмблемами, определяющими
его личное сознание, Белый в мемуарах хочет отобразить
современную эпоху. С другой стороны, отмечая приемы создания
своего сознания как критическое сознание, он хочет
освободиться от воздействий эпохи, чтобы вернуть личную совесть к
пояснительной функции самой эпохи. Но так как весь
процесс выявления образов познания оказывается манерой
личности осуществлять себя как таковой, освобождение самого себя
от влияний происходящего (т. е. претворять критическое
условие) имеет смысл этического задания. Этика, в свою очередь,
сохраняет творческую свободу личности. Поэтому
использовать воспоминания Белого как историческое свидетельство
того времени невозможно, что и было показано на примере его
отношения к «Воспоминаниям о Штейнере». Однако надо
признать несправедливым резкий отказ от признания в них любого
документального достоинства. Критика обычно приписывала
недостоверность мемуаров скрытности или самовлюбленности
Белый А. Душа самосознающая. С. 530.
Там же. С. 531.
Там же.
176 А. Д. Сиклари
автора, игнорируя их методологическую функцию. Хотя
нельзя полностью отвергнуть и наличие тенденциозного элемента
в воссоздании Белым исторического прошлого, хочется лишь
вывести тенденциозность из порядка случайности и внести ее
в структурную область*. В воспоминаниях о Штейнере самим
автором дается ключ к пониманию книги: не случайно, что он не
направляет воспоминания к воссозданию теоретического
мышления антропософа. Он чувствует, что ему предстоит важное
задание: передать потомкам живой «силуэт» Штейнера,
хранимый не в доктрине философа, а лишь в памяти тех, которые
общались с ним*". А так как невозможно систематизировать
личность, он дал работе вид «альбома эскизов», далекий как от
содержательного идейного единства, так и от формального
прозаического: «Я пишу <...> безобразно, без стиля»***. Именно
подчеркивание отсутствия стилевого единства оказывается
настоящей идейной структурой работы. Причина этого —
недостаточность выразительных и изобразительных средств, чтобы
передать богатство личных впечатлений, коренящихся в
глубокой эмоциональной сфере личного сознания, которое свободно
от принуждающих концептуальных форм.
Герменевтика А. Белого — итоги
Направление памяти, свойственное герменевтике Белого
и охарактеризованное долженствованием, состоит из двух
типов движения. Первое из них знаменует не стремление к
прошлому, а являет предварительное темное, интуитивно-
эмоциональное понимание, обнимающее весь ход события и
заканчивающееся выявлением всех деталей (от истоков до
результатов) события, которое утратит объективную
самостоятельность и станет принадлежностью совести.
В этом контексте память носит определенный
познавательный смысл, но одновременно имеет сильный этический
характер. Первоначальная интуиция представляет собой согласие и
См.: Kozlik F. С. L'influence de l'anthroposophie sur l'œuvre d'Andréi
Biélyi. Darmstadt: R. G. Fischer, 1981. T. 3. P. 912-916.
Белый A. Воспоминание о Штейнере. С. 3.
Там же. С. 6.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 177
вместе с тем несогласие надежды и страха. В этом отношении
Белый показательно описывает первую встречу со
Штейпером: «Миг первой встречи с Рудольфом Штейнером поднял в
душе моей уже тему воспоминаний, встречаясь с мигом
воспоминаний; когда ушел в Вечность он, я, вспоминая его,
понял, что первый миг встречи сказался во всем, что мелькнуло
в годах»; и еще: «В миг первой встречи все то, что раскрылось
в годах, — еще немо таилось; слова потерялись; и не было
вовсе риторики чувств; то, что я пережил, было волей моей; из
свободы совершить некий акт»". Такая воля уже предполагает
безволье Белого, характерное для многих периодов его
жизни, проявляющееся в несогласованности его теорий, пока он
не сделает открытие, что кажущееся безволье было, напротив,
выражением определенной свободной воли. Исследуя свой
путь, выходя из тупиков, он совершает выбор и вместе с тем
создает собственную свободную личность. Таким образом, весь
ход сознания превращается в ход совести, в самораскрытие и
самополагание. Ситуация проясняется для Белого в споре
различных групп, среди которых были и мистические анархисты:
«И раз эта последняя {Эмблематика смысла) в энном ряде
пунктов своего устремления совпадала с незнакомой мне еще
методологией Штейнера, и с его учением о мировоззрении,
то понятно, ЗА ЧТО Я БОРОЛСЯ И ЧЕГО НЕ МОГ
УСТУПИТЬ. Я боролся за верстовой столб с рукой, указывающей
направление к ДУХОВНОМУ ЗНАНИЮ»".
Белый защищается от упреков всегда по одной схеме,
утверждая, что друзья, как и враги, не способны понять
глубинную причину его решений, являющихся личным путем его
жизни. Личное суждение, следующее совести, проявляется в
противопоставлении суждениям других людей, которые
исполняют роль противников. Он подчеркивает диалектический
характер таких противоречий: «Эти слова мои не суть обвинение,
но пояснение, как тема дум о "НЕПОНЯТОСТИ" развивалась
в годинах жизни»***. Развитие личности, самосознания через
противопоставления — это еще один вид герменевтики Белого.
Друзья и враги, с одной стороны, образуют полюс, вокруг ко-
Там же. С. 6-7.
Ьслый Л. Почему я стал символистом... С. 75—76.
Там же. С. 78.
178 А. Д. Сиклари
торого организуется диалектика суждений этико-критической
совести автора. С другой стороны, как конкретные личности,
они образуют идейное и чувственное единство, хотя и в роли
оппозиции. Они служат увеличительным стеклом для
характеристики исторической эпохи и суждениям о ней. Такое видение
Белого с особенной силой прослеживается в мемуарах о Блоке,
где личность поэта и отношение его к миру воссоздаются им
посредством диалектических противоречий: поэт безыдейный и в
то же время он — центральная фигура той или иной идейной
группы. «А. А. Блок, — пишет автор, — чистый поэт, далекий
от идеологии, для большинства из его поклонников, был для
меня сам в себе воплощением идеологии, конкретным
философом, а не только любимейшим из поэтов <...>. Вот почему,
характеризуя фигуру А. А., я не мог его выключить из
общего фона эпохи: его бытие само по себе, его частная жизнь —
есть эпоха, настолько эпоха, что эпизоды этой жизни,
превращаемые им в стихи, становились любимыми строчками всего
живого и передового в истинном смысле на протяжении двух
последних десятилетий. <...> Он был как бы сам по себе
идеологией, действующей потенциально и вызывающей вокруг себя
динамизм»*.
Подчеркивая фактический характер идеи и идеальный
характер факта, Белый, по сути, отстаивает относительность
каждого определения этих двух порядков, выдвигая свою диалектику
принадлежности и дистанции, являющуюся критическим
пунктом современной герменевтики. Известно, что на этот счет
Рикёр выделяет антиномическую сущность альтернативы
(предложенной Гадамером) между дистанцией, обусловленной
объективацией (методологией), присущей наукам, и
принадлежностью, т. е. признанием исторического движения.
Последнее представляет собой признание невозможности научной
объективации истории и гуманитарного знания. Во введении к
книге «Начало века» для оправдания свого метода
воссоздания целой эпохи посредством описания определенных событий
повседневности Белый отстаивает фактическую сущность
бесед, шуток, анекдотов, но таким образом он отвергает и
разницу между событиями, содержащими основной смысл, и не-
Белый А. Воспоминания об Александре Блоке. Letchworth: Bradda Books
LTD, 1964. С. 178-179.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого 179
значительными событиями, с точки зрения основного
смысла. «Показ мой, — пишет он, — показ того, что было; факты
разговоров, шуток, нелепостей — ф а к т ы, к которым я не
могу ничего прибавить, и от которых я не могу ничего убрать
без искажения действительности»*. Вся биография является
особым критическим органом исторической совести, а в то же
время она сама история. Утверждая: «Каждый из друзей моей
юности мог бы написать свою книгу "На рубеже"**, автор
признает, что факт имеет особенное смысловое значение лишь
для определенной совести, и что рубеж — это прежде всего
психологическо-экзистенциальное состояние, и только в таком
качестве оно и представляет конкретность истории.
А. Белый связан с судьбой своего поколения определенными
обстоятельствами. Молодые люди круга Белого,
образовавшиеся в одной культурной области и случайно принадлежащие
социальной сфере либеральной буржуазии, переживали
противоречия, проявившиеся в неспособности преодолеть
индивидуализм. Они, по воспоминаниям автора, начали борьбу против
пустоты господствующей культуры и общества своей эпохи, не
составив четкого суждения о заразе индивидуализма,
предварительно не определив ни методологию, ни возможные союзы,
ни управление, а вступили в борьбу «индивидуально»***.
Но цель такого резкого заключения состояла не в том,
чтобы показать нужное направление деятельности для молодых
людей того времени. Само указание на ошибки не объясняет
им методов преодоления индивидуализма. Изложение Белым
истории возникновения и развития идеи символа и символизма
служило ему только для описания формирования культурной
атмосферы и было способом описания становления
выдающихся личностей.
* Белый А. Начало века. Chicago: Russian Study, 1966. С. 12.
Там же. С. 3.
Там же. С. 4.
И. M.Чубаров
Символ, аффект и мазохизм.
(Образы революции у А. Белого
и А. Блока)*
Революция и Блок в моих фантазиях — обратно
пропорциональны друг другу...
Андрей Белый
Постановка вопроса
1 ретийтом мемуаров А. Белого «Между двух
революций» начинаетея юмористическим анализом его
«психогенетических» различий с А. Блоком: «"Боренька"
рос "гадким утенком"; "Сашенька" — "лебеденоч-
ком"; из "Бореньки" выколотили все жесты; в
"Сашеньке" — выращивали каждый "пик"... "Сашеньку"
ублаготворяли до... поощрения в нем вспышек
чувственности; "Боренька" до того жил в отказе от себя,
что вынужден был года поставлять фабрикаты
"паиньки" — отцу, "ребенка" — матери, так боявшейся
"развития", косноязычный, немой, перепуганный,
выглядывал "Боренька" из "ребенка" и "паиньки"; не то
чтобы он не имел жестов: он их переводил на "чужие",
Впервые опубликовано: НЛО. 2004. № 65.
Символ, аффект и мазохизм... 181
утрачивая и жест и язык; философией младенца стало
изречение Тютчева: мысль изреченная есть ложь; от "Саши" мысли не
требовали; поклонялись мудрости его всякого "вяка"!»*
Любопытно, что Белый обращается здесь к своей
семейной истории вовсе не для того, чтобы провести
сравнительный психоанализ или доказать превосходство своей поэзии над
блоковской, а для того, чтобы всерьез разоблачить
псевдореволюционность Блока, объясняя его отношение к революции
«неизжитым барством», которое в нем культивировали с
самого детства его домашние.
По мнению Белого, поэзия Блока посвящена почти
исключительно субъективным переживаниям, в которых он
неизменно совпадает с самим собой, и прямого отношения к проблемам
социальности, касающимся «другого» и «других», не имеет.
Собственную «революционность» Белый выводит из
сложной семейной ситуации, в которой он рос, из конкуренции
между матерью и отцом за способы его воспитания, за образы, в
которых они хотели его видеть, но которые, к сожалению, резко
не совпадали друг с другом. Все это затруднило Борису Бугаеву
овладение языком, получение социальной идентичности,
субъективности, но зато позволило обрести некоторую дистанцию
по отношению к властной субординации, принимаемой
традиционно сформировавшимся субъектом как нечто само собой
разумеющееся.
В текстах последнего периода своего творчества Белый
неоднократно намекает на особый характер психогенеза, который
позволил ему увидеть как бы со стороны бессознательные
допущения, скрытые для большинства людей его круга и
существенно определявшие способы коммуникации, дискурсивные
и эстетические стратегии этого круга. В большинстве
исповедуемых его современниками философских учений, теорий
искусства, художественных манифестов он обнаруживал только
условности, определенные властным интересом конвенции,
в рамках которых и осуществлялось скоротечное социальное
признание авторов и адептов этих различных доктрин. От
решения и даже постановки актуальных социальных проблем
они-де были бесконечно далеки. В отличие, надо понимать, от
творчества самого Андрея Белого.
Белый А. Между двух революций. М.: Худлит, 1990. С. 1 1.
182 И. M. Чубаров
Но можно ли доверять самоаттестациям самого Белого —
эксцентрика, штейнерианца, автора фантасмагоричных
романов и весьма патетических стихотворений? Тем более что
большинство его «социально нагруженных» вещей (и прежде всего
«Петербург») повествуют преимущественно об отношениях
ближайших родственников: жены и мужа, отца, матери и сына,
сестры и брата и т. д., в то время как наиболее известные
произведения Блока, напротив, переполнены социальными
универсалиями, такими, как «Россия», ее «судьба» и т. п.
Известной пристрастностью Белого к Блоку (действительно
носящей во многом личный характер) можно было бы и
пренебречь, особенно имея в виду тот суровый приговор
«социальности» его работ, который ему в свое время вынесли не только
профессиональные революционеры вроде Каменева и
Троцкого, но и братья по цеху. Так, рецензируя романы Белого в
«Современных записках», В. Ходасевич настаивал, что
декларируемым в них социальным мотивам* сама проза Белого просто не
релевантна: «События, рассказанные в "Московском чудаке"
и в "Москве под ударом", так разительно неестественны и
неправдоподобны, что уж конечно они не могли разыграться ни
в дореволюционной, ни в послереволюционной [жизни], ни в
русском, ни в каком ином, ни в буржуазном, ни в небуржуазном
человеческом сообществе. Именно по своей нечеловечности
они не могут ничего пояснить в человеческой истории; они не
подтверждают и не опровергают ни разложения, ни
образования никакого быта, потому что они просто не были»**.
Подобное понимание соотношения произведения искусства
и социальной реальности странно слышать из уст поэта —
последний пассаж вообще мог себе позволить разве что П.
Струве, не допустивший в свое время «Петербург» к публикации.
Тем не менее, по какой-то филологической иронии, Ходасевич
считается даже инициатором психоаналитического подхода к
творчеству Белого. Но что может объяснить наблюдение, что
Например, в предисловии к «Москве» Белый утверждал, что он
изобразил в своем романе «беспомощность науки в буржуазном строе»,
«схватку свободной, по существу, науки с капиталистическим строем»,
«разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний —
в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигентском кругу».
Современные записки. Париж, 1927. Т. 31. С. 258.
Символ, аффект и мазохизм... 183
персонажи романов Белого похожи на его родителей и на него
самого? И даже если они, как пишет Ходасевич, в качестве
таковых «домашних дел» имеют отношение не к «судьбам
России», а к психоаналитическим комплексам — «отцеубийства»,
«предательства», «мании преследования» и т. д., — то почему
все же не признать за ними некоторой «социальной
значимости»? Хотя, может быть, не в столь непосредственном виде, как
это представлял сам Белый в некоторых своих Предисловиях
и теоретических статьях*? Например, в предисловии к поэме
«Христос воскрес», отводя слишком грубые интерпретации, он
писал как о том, что мотивы «индивидуальной мистерии»
преобладают в ней над политическими мотивами, так и о том, что
«события социальной действительности подготовляются в
движениях индивидуальной души».
Ниже мы намерены предложить опыт психобиографического
анализа этих «движений» в том объеме, в каком они
приобретали у Белого художественную форму, одновременно оценивая
правомочность его претензий к «революционности» А. Блока.
Г. Г. Шпет как стиховед
Неожиданную поддержку социальной вменяемости
произведений Белого, причем в интересующем нас направлении, еще в
1920-е гг. оказал Г. Г. Шпет — философ, которого трудно
заподозрить в какой-либо личной пристрастности и тем более
отрешенности от революционных процессов в России. В первом
выпуске своих «Эстетических фрагментов» — работе,
которая, кстати, одной из первых в России отметила поворот
европейской философии от традиционных метафизических тем к
проблематике ценности, смысла художественного творчества и
т. д.**, — он противопоставил поэму Белого «Христос воскрес»
«Двенадцати» Блока как раз по адекватности воспроизведе-
См., например, его статьи 1930-х гг.: «Как мы пишем», «О себе как
писателе» //Андрей Белый. Проблемы творчества. М.: Советский писатель,
1988.
Здесь нужно упомянуть, что в те же годы начала свою деятельность
организованная по инициативе Шпета, Кандинского и др. Государственная
академия художественных наук, занимавшаяся беспрецедентными для
184 И. M. Чубаров
ния в поэзии вектора революционных изменений социальной
действительности.
Согласно эстетической теории Шпета, художник хотя и не
творит действительность, а только подражает ей и
воспроизводит ее в своих произведениях, ранее других способен увидеть
новое, выразить и поддерживать его существование. Тем
самым предоставляется материал для рефлексивной и
практической деятельности, которая также оказывается направленной
на культивирование этого нового. Смысл искусства состоит,
таким образом, в том, чтобы одновременно увидеть и утвердить
права нового в изменяющемся мире. То есть не просто
выявлять сущность социального как региона неподвижного
природного бытия и образно запечатлевать его, но провоцировать
социальный мир к непрерывному изменению художественными
средствами.
В этой связи Шпет критикует Блока за близорукость,
связанную с непониманием онтологического статуса революции.
Он считает ошибкой видеть за революцией некое бытие и
определяет ее онтологический статус как «фиктивный». Революция
характеризуется кратким временем «между», после которого
остается только то, что не сгорело в ее «очистительном
пламени». В понимании природы революции Шпет не идет дальше
общих мест (квази Марксистского дискурса рубежа веков, но и
этого ему достаточно, чтобы настаивать на
псевдореволюционности «Двенадцати».
В частности, Шпет указывает на несоответствие между про-
фетизмом «Двенадцати» и иронией Блока над старым бытом
и старой сущностью России, которую будто бы нельзя
переплавить никакой революцией, никаким искусством*. По
мнению Шпета, профетические видения Блока (в
противоположность феноменологическим видениям) имеют философским
источником понимание социального бытия как неизменного
России междисциплинарными исследованиями ни материале искусства,
художественного творчества, эстетики и т. д.
Ср. у К. Чуковского: «В революции он (Блок) любил только экстаз, а
ему показалось, что экстатический период русской революции кончился.
Он разочаровался не в революции, по в людях: их не переделать никакой
революцией»(цит. по: БлокЛ., Белый Л. Диалог поэтово F}occhh и революции.
М., 1990. С. 613).
Символ, аффект и мазохизм... 185
квазиприродного региона реальности, за покрывалом которого
скрывается его неподвижная платоновская «сущность», или
гегелевская «идея».
Тема «покрывала Майи», за которое Блок, по словам Шпета,
вынужден был заглянуть под влиянием «нашего преступного
любопытства», действительно активно обсуждалась русскими
символистами в начале века, при этом искусство понималось
как средство преодоления платоновского двоемирия*. Но Шпет
считал ошибкой искать за реальностью, в которой мы живем,
еще какой-нибудь верхний или нижний этаж, где мог бы
располагаться ее смысл. Смысл, по Шпету, конституируется
исключительно в области внешнего, в качестве социальной цели-
назначения всех вещей, с которыми мы только имеем дело: от
любого материального орудия до «слова», «языка»,
человеческого «я» и т. д. Поэтому Шпет и упрекал Блока в притворном
отказе от «внешности» и подмене ее «изгибов» и «теней» —
как некоторых смыслонесущих эффектов поверхности —
глубинным платоновским смыслом, выраженным символически.
При этом, по достаточно ироничному наблюдению Белого,
Блок сохранял «максималистическую реалистичность» на
другом уровне — уровне означающих знаков. Но это только
усугубляло, по Шпету, ложность его символизма. По его словам,
«внешность» понималась Блоком не как знак некоторой цели,
задающей направление изменений действительности, а как
символ некой неподвижной сущности, неизменной природы,
старого российского житья-бытья, в котором «Петька Катьку
полюбил».
В отношении религиозно-революционных образов это
означает, что они сразу приобретают у Блока сугубо
иллюстративный, декоративный характер. Например, снежная метель —
это образ-символ революции, Христос — ее благословитель и
высочайшее алиби, а красноармейцы — апостолы. Хотя Белый
и называл подобное понимание «Двенадцати» идиотическим,
для Шпета отгадка здесь в образе «пса голодного» —
символа старого мира, в революционное преображение которого
Блок не склонен был верить. Но тогда Христос действительно
оказывается чисто декоративным элементом поэмы, слишком
Ср.: Минц 3. Г. Л. Блок и русские писатели. СПб.: Искусство, 2000.
С. 465-466.
186 И. M. Чубаров
сентиментальным, слишком связанным с полученным
Блоком с «малолетства» (как пишет Шпет) религиозным
воспитанием, — т. е. не трагичным, не ироничным и не абсурдным
символом*. Все упомянутые образы функционируют у Блока в
качестве аллегорий, у них нет никакого самостоятельного
измерения смысла, — он целиком размещается в означаемом.
По мнению Бухарина, в образах Блока вообще выразился
лишь банальный интеллигентский страх перед революцией и ее
социальными последствиями. Отсюда якобы и желание ее
заклясть, эстетизируя ее протагонистов, пытаясь огородить себя
псевдосимволами и отгородиться от ее спонтанного развития и
распространения (доклад на I Съезде советских писателей).
К слову сказать, на бытовом уровне поэтическая стратегия
Блока сработала, — он шокировал своим революционизмом
благопристойных либералов и смог временно защитить себя от
швондеров**. Но в контексте литературного процесса его поэма
«Двенадцать», несмотря на революционное содержание,
многими современниками рассматривалась именно как конец,
завершение прежнего этапа развития культуры (например, в
статье «Судьба Блока» Б. Эйхенбаума).
Поэтому Шпет и назвал Блока «искупительной жертвой»
неоправданного любопытства любителей изящной
словесности, часто требующих от поэзии большего, чем она
способна дать, — представить то, что можно только помыслить.
Шпет, как истинный гуссерлианец, напоминает здесь о
феноменологических запретах — воздержании от
экзистенциальных полаганий на основе субъективных (обусловленных
социально-экономическим положением субъекта) видений.
Та разрушительная действительность революции, которая в
начале 1920-х гг. была доступна уже не только мистическим
видениям, но и простому глазу, представлялась Шпету скорее
Мы здесь не рассматриваем позицию В. Шкловского, настаивавшего
одновременно на ироничности Блока и обусловленности образа Христа чисто
формальными элементами текста. См. его замечания в: «Три года» и «Андрей
Белый»: Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990.
С. 174-176,213-214.
В его «Записных книжках» приведен любопытный эпизод: когда Блока
пришли «уплотнять», он дал жильцу-матросу почитать свои «Двенадцать»,
и тот освободил квартиру. См: Блок А. Записные книжки. М.: Вагриус, 2000.
С. 156.
Символ, аффект и мазохизм... 187
фикцией, не способной закрыть преобразующей социальной
перспективы. А показная революционность Блока вела, по его
мнению, только к подмене поэтического вигдения
нигилистическим ничто, которое, как показал уже Ницше, прочно
обосновалось в политическом бессознательном европейской культуры
еще в конце XIX в.*
История показала, что пессимизм Блока был во многом
оправдан, но для радикальных интеллектуалов 1920-х гг.
ситуация выглядела по-другому. Они так или иначе надеялись на
осуществление тотальной революции во всех областях
человеческой жизни. Поэтому Шпет и предпочитал Блоку Белого,
который грезил об «углублении революции до революции
жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших
мыслей, до изменения нас в любви и братстве»**.
Речь шла, разумеется, не о той революции, которая
произошла 25 октября 1917 г. в Петрограде, а о ее вечной
возможности. Ведь можно даже «принимать» революцию, подобно
Блоку — навешивая поэтические символы на ее якобы
завершенность или, наоборот, на превратное исполнение ее задач,
эстетизируя псевдобытие революции, а можно непрерывно
революционизировать само искусство, и уже через него и
пресловутое бытие социальное. Отсюда идет принципиальное отличие
в понимании символизма у Белого и Блока. Используя словарь
Белого, можно сказать, что Блок был реактивен и реакционен
в своем символизме, Белый же, напротив, революционен,
потому что имел дело не с состоявшимися — «обставшими» —
явлениями, а со становящимися, не прекращающими своего
развития феноменами***.
Для Белого нет никаких еще вещей, кроме его символов,
вернее, никаким иным, кроме символического бытия, его
вещи не обладают. И поэтому именно Белому, а не Блоку
удалось, по мнению Шпета, напророчить воскресение «Великого
* Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 373.
Белый А. Александр Блок // цит. по: Шпет Г. Г. Сочинения. С. 371.
В. Шкловский, несмотря на свою «отстраненную» позицию в
отношении «Двенадцати», писал: «Блок не совершил до конца дела поднятия
формы, прославления ее... Он одновременно воспринимал иногда свою тему
как уже претворенную и взятую, в то же время как таковую, т. е. в обыденном
значении»//Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 174-175.
188 И. M. Чубаров
Пана» в русской истории — общественное и культурное
возрождение. Несмотря на обилие религиозных символов в поэме
«Христос воскрес», ее главная идея, по словам Шпета, вполне
реалистична и социалистинна. «Белый тут уже не "символист",
ибо понимать это нереально — значит отказаться от надежд
здесь, в реальном, значит остаться" с им же испепеленным
действительным прошлым, не настоящим", — пишет он
перед обширной цитацией из поэмы про "глубины", "народы" и
"синероды"»*.
Мы сталкиваемся здесь с характерным для философов
примером противоречия между исповедуемой ими эстетической
теорией, зачастую достаточно консервативной, и не
контролируемыми ею до конца личными художественными
пристрастиями. Когда Шпет пишет о безобразном Пане как скрытой
красоте нового мира, которую только художник способен вывести
на уровень восприятия и сделать доступной для многих, то под
эту фигуру можно легко подвести искусство русского
авангарда, как вышедшее на поверхность безобразное. Ведь именно
русский авангард являлся альтернативой метафизической
психологии искусства, выступив против подмены «углубления во
внешнее углублением "в себя"», которая имеет место в
различных версиях так презираемой Шпетом «переживательной
философии»**.
Но сам Шпет, как известно, относился к авангардистам и
футуристам крайне настороженно, несмотря на личную
дружбу с Кандинским и поддержку его идей при основании
Государственной академии художественных наук (ГАХН) в 1922 г.
Следовательно, в данном случае налицо конфликт между
манифестируемым в теории желанием «реализма» и реальным
наслаждением от восприятия новых форм в искусстве, т. е.
чувственным их предпочтением. Конфликт этот заходил, как мы
видели, так далеко, что Шпет даже окрестил Белого
«реалистом», а Блока «мистиком». Но насколько ответствен Белый
за оптимизм Шпета, увидевшего в поэме «Христос воскрес»
альтернативу исторически реакционным «Двенадцати»?
Символ как фетиш; символическая суппозиция как прием,
на котором остановилась эстетика Шпета, оценивались Бе-
* Шмст Г. Г. Соч. С. 368.
** Там же. С. 363-364, 366.
Символ, аффект и мазохизм... 189
лым как риторическая «обманка», характерная, скорее, для
символизма Блока, Вяч. Иванова и др. И поэтому если Шиет и
был прав в отношении Блока, то к Белому он оказался как бы
вдвойне пристрастен — он любил его творчество, но не за то,
за что хвалил. Белый никогда не был реалистом, ибо его
символизм не сводился к sui generis suppositio и поэтому никогда
не противопоставлялся реализму на этом основании*. Вообще
Шпет полагал, что поэт идет от идеи к образу, а затем к
аффекту, как последующей эмоциональной реакции на образ.
Самому Белому была ближе аффективная генеалогия
образа-символа и адекватность эмоционального его
воздействия на читателя. Он пытался идти не от некоего
происшествия и его «идеи», привлекая затем различные миметические
техники и всевозможные филологические приемы, а от
переживания, во всей его неявности и смутности, опираясь только
на проборматываемые звуки и их имманентную ритмическую
основу. Символ Белого — это свернутый аффект, способный
при восприятии художественного произведения вызвать в
читателе соответствующую ему аффективную реакцию. Причем
он сам являлся привилегированным читателем собственных
текстов.
Происхождение своих аффектов Белый связывал со свето-
цветовой и звуковой травмами, полученными им в возрасте от
2 месяцев до 4 лет, т. е. в период «стадии зеркала» как времени
становления субъективности. Но одновременно он
претендовал на сознательный контроль соответствующих психических
процессов, чем и объясняется, по его словам, детское
притворство и кривляние, притворное согласие на поставляемые
родителями образы субъективации. Символизм в поэзии также
рассматривался им как ответ на вмешательства других в
формирование его приватного мира**.
В автобиографическом эссе «Как я стал символистом...» он
приравнивает символ к фетишу, замещающему реальное как
немыслимое и непредставимое. Символ в этом смысле
объединяет в себе травматическое переживание и форму его выра-
См., например, его размышления о соотношении реализма и
символизма в статье 1907 г. «Смысл искусства» //А. Белый Символизм как
миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 106-130.
См., например: Белый А. Между двух революций. С. 163.
190 И. M. Чубаров
жения. Его способ функционирования связан с воссозданием
первичной сцены, при котором, однако, все травмогенные
элементы купируются, выстраивая ситуацию чистого наслаждения
фетишем.
«Вспоминаю себя в одной из игр; желая отразить существо
состояния сознания (напуг), я беру пунцовую крышку картонки,
упрятываю ее в тень, чтобы не видеть предметность, но цвет, я
прохожу мимо пунцового пятна и восклицаю про себя: "нечто
багровое"; "нечто" — переживанье; багровое пятно — форма
выражения; то и другое вместе взятые символ (в
символизации); "нечто" неопознано; крышка картонки — внешний
предмет, не имеющий отношения к "нечто"; он же —
видоизмененный тенями (багровое пятно) итог слияния того (безобразного)
и этого (предметного) в то, что ни то и ни это, но третье;
символ — это третье; построив его, я преодолеваю два мира
(хаотичное состояние испуга и поданный мне предмет внешнего
мира); оба мира недействительны; есть третий мир; и я весь
втянут в познание этого третьего мира, не данного душе, ни
внешнему предмету; творческий акт, соединение видоизменяет
познание в особого рода познание; познавательный результат,
выговариваемый в суждении "нечто багровое" утверждает мой
сдвиг к третьему миру»*.
Таким образом, символ у Белого служит трансляции
невыразимых аффектов, а не словарных значений. Скрытый от
прямого считывания смысл заключается в самом аффекте, не
находя себе другого выражения, кроме символического. Символ
выступает как своего рода фетиш, психическое
происхождение которого никому не известно, включая самого фетишиста.
В цитированном фрагменте Белый выводит смысл из состояния
страха («напуга»), т. е. некоторой беспредметной эмоции —
эмоции, утратившей свое происхождение. Добраться до ее
истока и причин, по собственным словам Белого, можно только
с привлечением психологических методов**. Но целью такого
обнаружения будет не познание, а удовольствие от бесконеч-
Белый А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть
во всех фазах моего идейного и художественного развития // А. Белый
Символизм как миропонимание. С. 418 и ел.
См. его предисловие к « Кубку метелей»: Белый А. Кубок метелей: Роман
и повести-симфонии. М.: Терра, 1997. С. 264-265.
Символ, аффект и мазохизм... 191
ного повтора отредактированного ре-переживания первичной
сцены.
Было бы неверно думать, что Белый хотел этим
ре-переживанием устранить причины своих психических страданий,
косноязычия и проч. и обрести, наконец, в согласии и мире с другими свое
«подлинное Я». Напротив, он, скорее, собирался переделать «под
себя» мир. Поэтому идея социальной революции ему была крайне
близка, хотя и в весьма специфическом смысле.
В качестве фетиша символ действительно может выражать
любую идею, в том числе и идею революции. Но прийти к этой
идее можно только через тот же фетиш, чья предметная пу-
стотность способна притягивать любые референты. Закон
соответствующих метафорических сопоставлений заключен в
замещенном фетишем событии, а не в привлекаемом им внешнем
предмете или происшествии (той же Октябрьской революции,
например), которые «не имеют отношения к "нечто"».
Другими словами, переживания, по Белому, не могут иметь
непосредственной социальной направленности. Они всегда
опосредованы личным интересом, или, точнее, личным
неврозом. И первая задача художника (а значит, и исследователя
его творчества) состоит в выражении и анализе
симптоматики этого невроза, обнаруживаемой в некоторой структуре
повторов на сцене первичной социальности (семьи). Только
через анализ возникающих здесь наиболее частотных образов
можно добраться и до их смысла, и до более общей социальной
значимости*.
Белый подозревает любую другую, помимо аффективной,
генеалогию символического образа в подменах и извращениях
реализации выражаемого в нем желания. Однако собственное
желание ему также неизвестно — это и составляет, как мне
кажется, основную произведенческую проблему Белого.
Фабульная канва романов Белого, как мы уже сказали,
задействует в основном один и тот же набор неясных, часто
немотивированных и даже абсурдных взаимоотношений отца и
сына, сына и матери, брата и сестры и т. д.
Ср.: «Символист, отвергающий логический генезис своих опытных
невнятиц, — дегенерирует в нервнобольного, если он искренен (Блок), либо
в аллегоризирующего стилиста, если он неискренен (Иванов)» // (Белый А.
Почему я стал символистом... С. 420.
192 И. M. Чубаров
Неравнодушные к психоанализу критики и филологи*
поспешили на основании чисто нарративных клише, которые
использовал Белый-писатель, приписать Белому-человеку эдипов
комплекс и даже инцестуальные импульсы: мол, герои-родственники
Белого всегда испытывают друг к другу либидозные влечения,
сын убивает или покушается на жизнь отца и т. д.
Но в произведениях Белого нет и намека на желание смерти
отца. И даже не в том смысле, что нельзя приписывать
поступки и намерения героев автору, а в том, что совершенно неверно
такое желание навязывать героям Белого. Здесь ошибка именно
в интерпретации образов: разве можно, например, сказать, что
Николай Аблеухов бессознательно хотел смерти своего отца из-
за инстинктивного влечения к матери? Это не только упрощение
основной коллизии романа, но и фактически ошибочно. За
мотивацией поступков и самовыражением героев «Петербурга»
скорее стоит активная символическая роль матери,
осуществляемая через ряд проекций и травестий, к смыслу которых у нас
еще будет повод обратиться. А если уж ссылаться на семейную
историю Белого, то она также была замешена на принципиально
ином, нежели в пресловутом эдиповом треугольнике,
распределении ролей — наличии ярко выраженной гетерической
матери («первой московской красавицы») и репрессируемого ею,
но сохраняющего в глазах сына деспотический авторитет отца
(профессора университета, известного математика и философа),
со всеми вытекающими отсюда для становления психики и
чувственности ребенка последствиями**.
Вообще психобиографический анализ творчества Белого,
несмотря на кричаще «автобиографический» характер
большинства его текстов, представляет собой нетривиальную
задачу, ввиду того что Белый не мог сказать о себе ничего
«реального». Если он и говорил что-то характеризующее лично его, то
только с точки зрения возможного, идеального проекта жизни,
альтернативного существующему положению дел. То есть лю-
От Ходасевичи и Мочулвского до Лены Силард и Моники Спитак.
См.: Деле\ч Ж. Представление Захер-Ма:юха // Л. Захер-Малох, фон.
Венера в мехах. М.: Ad Marinem, 1992. С. 234—248 и др.; Подорога В. А.
Материалы к психобиографии С. М. Эйзенштейна // Авто-био-графия.
Тетради но аналитической антропологии / под род. В. Подороги. № 1. М.,
2001. С. И-30 и др.
Андрей Белый (Борис Бугаев). 1920-е гг.
Из собр. М. Г. Шторх (урожд. Шпет)
H. В. Бугаев, отец А. Белого. А. Д. Бугаева (урожд. Егорова),
Из собр. филиала Гос. музея мать А. Белого.
А. С. Пушкина Из собр. филиала Гос. музея
А. С. Пушкина
Андрей Белый. 1888 г. Андрей Белый. 1899 г.
Из собр. филиала Гос. музея Из собр. филиала Гос. музея
А. С. Пушкина А. С. Пушкина
Благодарим Мемориальную квартиру Андрея Белого
(филиал Государственного музея А. С. Пушкина)за предоставление фотографий
Андрей Белый. 1900-е гг. «Золото в лазури». 1903 г.
Изтбр.ОРРГБ
Д. Мережковский и 3. Гиппиус.
Изтбр.ОРРГБ
Обложка журнала «Весы». 1904 г.
Открытка А. Белого Вяч. Иванову. 1909 г. Из собр. ОРРГБ
Обложка книги «Урна», В. Я. Брюсов -
посвященной В. Я. Брюсову. 1909 г. теоретик символизма
Андрей Белый. 1910-е гг. Ася Тургенева. 1910-е гг.
Из собр. ОР РГБ Из собр. ОР РГБ
Титул и 1-я страница книги «Луг зеленый». 1910 г.
Андрей Белый. Брюссель, 1912г. «Труды и дни ». 1912г.
Из собр. филиала Гос. музея
Л. С. Пушкина
Р. Штайнср
Э. К. Метиср
Г. Г. Шпет. 1910-е гг. Титул книги «Котик Летаев». 1918 г.
Из собр. М. Г. UJtnopx
(урожа. Шпет)
Открытки А. Белого Г. Шпету. 1916 г.
Из собр. М. Г. Шторх (урожд. Шпет)
Рукопись статьи А. Белого «Вячеслав Иванов». 1917 г.
Изсобр.ОРРГБ
Титул и 1 -я страница книги «Революция и культура». 1917 г.
Обложка сб. «Скифы». Вып. 2. Обложка книги «Христос Воскрес».
1918 г. 1918 г.
Андрей Белый. 1920-е гг. Из собр. ОР РГБ
Андрей Белый. 1921 г. Из собр. ОР РГБ
К. В. Бугаева. 1920-е гг. Обложка книги
«О смысле познания». 1922 г.
А. А. Блок Сб. «Памяти Александра Блока».
1922 г.
Андрей Белый. 1930-е п\ Из собр. ОРРГБ
Обложки книг «Маски». 1932 г.
Обложка книги «Мастерство Обложка книги «Петербург».
Гоголя». 1934 г. 1935 г.
Дом, где расположена «Мемориальная квартира Андрея Белого». Арбат, 55.
Фото Е. Костровой
Мемориальная доска на доме по Памятник А. Белому
ул. Арбат, 55. Фото Е. Костровой на Новодевичьем кладбище.
Фото Р. Сабанчеева
Символ, аффект и мазохизм... 193
бое его высказывание подчинялось неким формальным
условиям, выводящим текст за пределы дискурсивных стратегий,
эксплуатирующих ресурсы реального, с его «житейскими
выгодами», со своим пониманием отношений закона, желания и
удовольствия, с расхожими представлениями о справедливости
и всеобщем счастье.
Глоссолалия
Даже в мемуарных сочинениях Белого наталкиваешься на
особую мелодику и ритмику фразы, неправильный порядок
слов и своеобразное «поэтическое косноязычие»*, которые
невозможно объяснить условностью приема, ввиду его
тотальности, навязчивости даже. Организация любой фразы у Белого
построена на трудно эксплицируемом ритме, а не на сюжете,
причинно-следственной логике наррации и т. д. Известно, что
в своих ранних художественных экспериментах —
«Симфониях» — он даже пытался применить музыкальную форму вместо
сюжета и, хотя позднее убедился, что без смысловых потерь это
практически невозможно, постепенно перешел в манере письма
к свободному напевному ладу, сказу, или речитативной прозе**.
Характерный пассаж Белого: «Мое "я", оторванное от всего
окружающего, не существует вовсе; мир, оторванный от меня,
не существует тоже: "я" и "мир" возникают только в
процессе соединения их в звуке. Вне-индивидуальное сознание, как
и вне-индивидуальная природа соприкасаются, соединяются
только в процессе наименования... Слово создает новый третий
мир — мир звуковых символов, посредством которого
освящаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира,
внутри меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу;
мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в
слове и только в слове воссоздаю я для себя окружающее меня
извне и изнутри, ибо я — слово, и только слово»***.
См.: Лотмап К). М. Поэтическое косноязычие Андрея Белого //
Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 437—443.
Белый А. Как мы пишем //Андрей Белый: 11роблемы творчества. С. 13.
Белый А. Символизм как миропонимание. С. 131 (статья «Магия
слов»).
194 И. M. Чубаров
Как отметил В. А. Подорога, многие тексты Белого
построены на резонации различных звуковых образов, связанных по
преимуществу с сонорной детской травмой. То есть для него
эта связь имела особый автографический смысл, который был
обусловлен попытками гармонизации родительских голосов,
конкурирующих в борьбе за власть над образами его
субъективности. «Белый создает на страницах многих своих
"автобиографических" книг почти невообразимую по своему объему
глоссолалию. И становится понятной роль языка: ведь только
внутри этого тонко устроенного звукового организма возможно
воссоздание первичных сцен... Ни одна из голосовых
родительских резонации не принимается им, но и не отвергается, ибо
он бессилен перед ними: они проходят через него, потрясая и
сокрушая равновесие детской жизни. От этих главных голосов
детства Белого можно и строить всю автографию его раннего Я.
<...> И будто бы видима вся сцена, когда зависимость ребенка
от двух родительских голосов, проникающих в его подавленное
их ожесточенным противоборством сознание, возрастает, и вот
уже нет иного выхода, нет избавления, и только взрыв, —
заключительное взаимопроникновение голосов сможет оказать
великую услугу несчастному сыну. Но придет ли спасение?
Пока же сын странен, эксцентричен, он истерик со стажем»*.
Большинство текстов Белого действительно созданы
только для произнесения, пусть даже мысленного, а не для
вдумчивого или механического чтения, считывания информации.
Причем произнесения текста в имманентном ритме, без
рефлексивных пауз и остановок: «В чтении глазами, которое я
считаю варварством, ибо художественное чтение есть
внутреннее произношение и прежде всего интонация, в чтении
глазами я — бессмысленен; но и читатель, летящий глазом
по строке, не по дороге мне»**.
Надежда на аффективный звуковой транзит смысла?
Толстовское «заражение»? Да, но также и попытка выработать
его язык — грамматику, лексику, синтаксис.
Значения слов профанированы в понятиях, и только звуки
несут еще забытый изначальный событийный смысл. Но он все
Цит. по: Подорога В. А. Материалы к психобиографии С. М.
Эйзенштейна. С. 29-31.
Белый А. Как мы пишем //Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 13.
Символ, аффект и мазохизм... 195
равно, по мысли Белого, действует на нас через особую
звуковую мимику, как бы бессознательно. Отсюда и волнение, и
повтор, и страдание — симптомы звуковой травмы. Белый
пытался ритмизовать это море агрессивных звуков, составить
мистический словарь звукозначений. Но что это могло нам дать в
конечном счете? Значения отдельных звуков, выраженные в
понятиях, потребуют нового археологического расследования. Но
для Белого было важно только производство новых звукослов*.
Поэтому и «Глоссолалия» — действительно скорее его поэма,
чем теоретическая работа, причем «лучшая» его поэма.
Читателю предстает чисто голосовая, оральная,
располагающаяся и остающаяся в полости рта и на уровне уха ритмическая
проза — аффективная, нерефлексивная речь, а не письмо, тем
более не разработанный дискурс. Стало быть, тут чистое
безумие, клиника языка, без всякой надежды не только на
излечение, но даже какую-то культурную нормализацию, смысловую
артикуляцию или хотя бы постановку диагноза, вопроса? Но
это письмо отделяет огромная дистанция от изначальной
записи на теле, от дерридианского графизма и т. д. В
подтверждение — собственные сомнения Белого, постоянные апелляции
к Другому: «...имеют ли смысл мои структурные вычисления,
или они — парадокс?»; просьбы рассматривать его
эксперименты как материал для научного анализа и упования на отклик
в будущем... Он как будто сам просил объяснить ему, чем он
занимается.
Звуки и ритм служили для него единственно надежными
проводниками смыслонесущего аффекта. Он шел так далеко, что
предлагал понимать ритм в качестве «интонационного жеста
смысла»**. Ритмически организованные звуки выступали для
него основным, наряду с визуальным порядком фетишей —
оральных фетишей. Немаловажно здесь то, что именно мать
учила его музыке и первые художественные опыты Белого
были музыкальными.
См.: Белый А. Символизм. М., 1910. С. 70.
Ср. понимание ритма как «временного способа выражения чувств» у
В. Вундта (Основы физиологической психологии. Т. 3. СПб., б. г.), который,
будучи составной частью изображаемого им аффекта, способен и сам его
вызывать, «в силу психологических законов эмоционального процесса», т. е.
транслировать аффект от автора к читателю без искажений.
196 И. M. Чубаров
Значение этой темы состоит в том, что оральная
фетишизация преследует цель перерождения и возрождения
ускользающего «я» художника в звуке, она служит для отклонения
непомерных претензий, обращенных к нему со стороны реального,
для превентивной гармонизации враждебных звуков мира,
манифестирующих желание Другого.
В ритмических экспериментах и рефлексиях Белого мы
встречаемся с попыткой преодоления оппозиции графизма и
голоса*. Речь у него идет о своеобразной «звукозаписи» на
теле и ее повторении, воспроизведении в произведении — об
альтернативном и дискурсу, и графизму способе
словообразования, или, точнее, о своеобразном методе ускользания от
тождества слова и смысла, навязываемого властью Другого.
Проблема формы
Если Белый подозревал своих коллег в извращенном и
нерефлексивном выражении переживаний, то они в ответ
упрекали его в «небрежении словом».
Известно «неутешительное», по оценке Мочульского,
понимание Белым поэзии: «Собственного содержания
стихотворение не имеет; оно возбуждает это содержание в нас; само
по себе оно есть сплошная форма плюс голая мысль, довольно
бессодержательная и неоригинальная».
Но такое понимание поэзии объясняет и его версию
символизма — символы не должны ничего означать, кроме того, что
они вызывают в нас при своем представлении/переживании. То
есть символ располагается и не в означающем (творчестве), и
не в означаемом (смысле/реальности), он — в переживаемом
(особом «творчестве/познании» как повторе аффекта, а также
связанного с ним удовольствия)**.
См. его статьи «К вопросу о ритме», «К будущему учебнику ритма»,
«О ритмическом жесте», «Ритм и смысл» (Труды по знаковым системам.
Тарту, 1981. № 12); и исследование «Ритм и действительность» (Культура
как эстетическая проблема. М.: ИФЛН, 1985).
«У меня нет слов: словам и смыслам я научен извне; движения эти, мое
"нечто", однако, настолько "реальность", не взятая па учет взрослыми, что,
разрастаясь во мне вне слов и образов, она рассасывает во мне мое "Я", "Я"
Символ, аффект и мазохизм... 197
Форма никогда не была самоцелью для Белого, она
выступала у него формой содержания, достаточно
неопределенного. Поиск новых форм был связан с неудовлетворительностью
старых, их отдельностью от содержания или обреченностью его
просто иллюстрировать. Но для Белого это содержание также
не дано, — оно само должно быть обнаружено в форме. Форма
должна его провоцировать к обнаружению, т. е. это не форма
выражения некоего предданного содержания.
Она символична относительно не вещей, но ряда
повторяющихся переживаний (причем понимаемых не по Дильтею и
Гуссерлю, а по Ницше).
Поэтому не прав Пастернак, считавший", что Белый гнался
за новыми формами выражения, новым языком и т. п. и что это
привело писателя только к безыскусственности поэтической
речи и каким-то не имевшим продолжения стилистическим
опытам, вместо того чтобы совершенствовать традиционные
формы. По Пастернаку, открытия в искусстве делаются тогда,
когда художник переполнен тем, что он должен выразить, —
и, торопясь самовыразиться, автор прибегает к старому языку,
преображая его изнутри.
Для Белого самовыражение — это нонсенс, потому что
самого этого «само-» еще нет. Напротив, он подозревает
пресловутое «Я» художника в изначальной пустотности, переполненной
только речью и символами Другого, и пытается противостоять
ей, основывая просодию на контрапункте, ритмической
музыкальной основе и т. д. И все это для того, чтобы сохранить в
выражении особый тип чувственности, носителем которой он
по случаю оказался. Эта противоречивая задача — отказаться
от своего «Я», чтобы сохранить свой субъективный опыт, —
противоречива только в языке метафизики XIX в., который
Белый, хотя и не без оговорок, использовал в своих попытках
этот опыт выразить. Но возможности такого дискурса были
чувствует себя утопающим в пережитиях без названия; и "Я" в особой, лини,
мне ведомой игре, выплывает в то, что уже пи внутри, ни снаружи, — таков
в позднейшем открытии мне мир символов (не познание, не переживание, не
огражениепассивноеврассудке4'п|)едмета,,,петворчествоего,иотворчество-
познание, так сказать)» //А. Белый Почему я стал символистом... С. 419.
Пастернак Б. Охранная грамота. Люди и положения // Б. Пастернак.
Избранное. М., 1985. Т. 2. С. 20, 214-215, 246-247.
198 И. M. Чубаров
явно недостаточны для анализа того типа чувственности, права
которого — если не на существование, то на возможность быть
выраженным — Белый хотел утвердить в российском
социокультурном пространстве и русском языке.
Метель как символ революции
и как мазохистский симптом
В отношениях Белого и Блока имеет место еще и другая
«революционная интрига». Даже Шпет в конце концов нашел
«обнадеживающие» строки в «Двенадцати»:
Трах-тах-тах! —
И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах.
Здесь, по Шпету, Блок выступил как бы сам против себя.
Почему столь мощным оказался образ смеющейся вьюги*?!
Откуда вообще взялись эти «снеги» и «вьюги» в поэме? Что
означают эти нехитрые символы?
Считается, что поэма «Христос воскрес» была написана
Белым как ответ на успех «Двенадцати». Но можно напомнить,
что как раз центральный для «Двенадцати» образ снежной
метели был взят Блоком из «Кубка метелей» Белого. Известно,
что Блока в свое время восхитили «Симфонии», и почти одного
его они и восхитили.
Но перебравшись из «Симфоний» в «Двенадцать», образ
снежной вьюги, смешивающей и сметающей всех и вся на
своем пути, напрочь утратил свою аффективную
родословную. Может быть, именно поэтому в поэме Белого этот образ
больше не встречается (только «забинтованный труп» Христа
можно связать с «белым мертвецом» из «Кубка метелей»).
Шпет Г. Г. Сочинения. С. 372-374. Ср. достаточно беспомощные
предположения на ->тот счет: Пьяных М. Ф. Певец огненной стихии. Поэзия
А. Белого революционной эпохи 1917—1921 гг.//Андрей Белый: Проблемы
творчества. С. 260-264.
Символ, аффект и мазохизм... 199
Для Блока метель — символ революции. Это вроде бы
понятно. Но почему именно метель, а не ураган, например,
избирает Блок для такой символизации и тем более заимствуется
из произведения другого поэта? Также неясно, что для обоих
поэтов означало это слово и явление — «революция» — и
зачем понадобился символ, чтобы о ней говорить?
В статье «Революция и культура» Белый объясняет
революцию как поток, как природное явление, и никаких
социологических или политических определений ждать тут не приходится.
Но зато на природе символа он останавливается подробно. Он
вновь уравнивает символ и фетиш как замену травматического
переживания, т. е. пытается заставить нас понимать символ не
как знак утраты полного объекта, а как самоутраченный. Белый
конспирирует сам фетиш, оставляя его не расколдовываемым,
непосредственно несчитываемым, воспринимаемым только
аффективно или не воспринимаемым вовсе. Но в каком смысле
метель может быть символом революции? В том ли, что она,
подобно стихийному бедствию и природному явлению, сметает все на
своем пути? В таком толковании очевиден и излишний, чуждый
поэзии рационализм, и довольно бедный, примитивный мета-
форизм. Печально, если весь русский символизм покажется
исчерпывающе объяснимым такими банальными
сопоставлениями. Кого это может сегодня удовлетворить? Даже Ханзен-Лёве
вынужден относить, например, Первую, «Северную» симфонию
Белого к неверифицируемой модели символизма, впрочем, не
объясняя, в чем состоит уникальность этой модели*.
* * *
В заключение сделаем попытку приложить понимание
Белым символа как фетиша к его же собственным образам, т. е.
применить предлагаемые им правила чтения к ряду его текстов
и затем — очень кратко и в самых общих чертах — сравнить
полученный результат с функционированием аналогичных
символов в поэтике Блока.
Какое травматическое переживание, какое невыносимое
событие замещает собой, например, такой символ-фетиш,
* См.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм. СПб.: Академический проект,
1999. С. 12 и др.
200 И. M. Чубаров
как «снежная вьюга» (и смежные с ним — «снежная маска»,
«снежная лапа» и т. п.)? Очевидно, что о революции как о
таком событии, по крайней мере в случае Белого, мы говорить
не можем. Она сама, понимаемая через символ снежной
вьюги, должна означать у него нечто иное, нежели
насильственную смену власти, общественных институтов и экономической
политики.
Может быть, Белый и понимал революцию через вьюгу,
но вьюгу он понимал вовсе не через революцию, а через
личную свою синдроматику, как любит говорить Д. А. Пригов. Не
брал он и вьюгу прямо из природы, как полагают иногда
отважные филологи-натуралисты. В свою очередь, филологи-
« культу рал исты» любят говорить о «влияниях»,
«заимствованиях» и т. п. Но вопросы остаются. В каком смысле берется
та же вьюга, откуда бы она ни бралась? Здесь мы можем
исходить из значения самого слова: но если это не разгулявшаяся
стихия, сметающая все на своем пути (а Белый и Блок вряд ли
были «мальчиками, напуганными грозой»), то... что? Если от
значения целостного слова идти не получается, то могут ли
помочь какие-то смежные образы или атрибуты-предикаты,
ассоциируемые с этим природным катаклизмом?
Можно уверенно сказать, что вьюга в произведениях
Белого ассоциируется, скорее, с холодом, обледенением, белым и
красным цветом, нежели с хаосом, смертью и какими-то
другими цветами. Речь идет, разумеется, не об ассоциации, а о
наиболее часто повторяющихся образах — частичных объектах
того же самого аффективного происхождения, что и целостный
фетиш (как можно предположить). Но какое целое они
замещают? Ответу на этот вопрос стоило бы посвятить отдельное
исследование. Но в самом общем плане можно сказать, что
речь здесь, как и у С. М. Эйзенштейна*, идет о мазохистском
ритуале (со всеми важными оговорками, которые в связи с этой
опасной гипотезой сделал В. А. Подорога**). Необходимо
отличать задействуемую здесь психоаналитическую экспозицию
ряда повторяющихся образов писателя от рассмотрения его
творчества и личности в рамках какой-то известной клиниче-
Подорога В. А. Материалы к психобиографии С. М. Эйзенштейна.
С. 93-96, 144-145, 156-158, 184-185 и др.
Там же. С. 156.
Символ, аффект и мазохизм... 201
ской картины. Отказываясь изначально от редукционистских
схем, которые для фрейдизма имели терапевтическое
значение, такой подход к художественному произведению неизбежно
выходит за пределы расхожих психических и патопсихических
архетипов, сохраняя самую общую стратегию
психобиографического анализа тех или иных литературных текстов.
Другими словами, можно сказать, что исследователя здесь
интересуют психические и культурные характеристики того
типа чувственности, который автор выражал и одновременно
нормализовал в своем творчестве. В этом смысле Подорога
говорит, например, что его интересует не Эйзенштейн-мазохист,
а «мазохист» Эйзенштейна как «культурно-героический
идеал»*. Исследуемый автор предстает в такой аналитической
стратегии не как пациент, а как клиницист, собственный
автобиографический анализ которого и интересует нас более всего.
Как пишет Подорога: «Мне важно было не "загнать"... автора в
мазохистскую западню, а потом, опираясь на эту неслыханную
удачу, перейти к рассказу об интимных подробностях из жизни
гения. Напротив, я старался показать эволюцию
мазохистского идеала и клинической идеи мазохизма на путях
нормализации, которые прошла европейская культура начала и середины
XX в., втом числе и "авангардная" (начиная с первых открытий
Фрейда)»**. Сходным образом высказывался и Ж. Делёз: «С
неврозами не пишут. Невроз, психоз суть не переходы жизни,
а состояния, в которые впадаешь, когда процесс прерывается,
натыкается на препятствие, задерживается. Болезнь — это
не процесс, а остановка процесса, как в "случае Ницше". Вот
почему писатель как таковой — не больной, а скорее врач —
врач самому себе и всему миру»***.
В нашем случае, следуя этой стратегии, становятся
понятными как значение центральных образов-символов, так и роль
частичных объектов и частных фетишей у Белого.
Например, образ «метели» указывает на общую для
мазохизма форму отклонения (dénégation) травмогенной
реальности. Не случайно у Белого она появляется чаще всего как ин-
* Там же. С. 157-158.
** Долез Ж. Критика и клиника / норов, с фр. СПб., 2002. С. 14.
** Или «запирательство», Verneinung, Verwerfung, Verlegung у Фрейда и
Лакана.
202 И. M. Чубаров
струмент задержки и остановки вяло- или псевдоразвиваемого
сюжета.
Для нас важны здесь такие функции «метели», как замутне-
ние взгляда (снег бьет прямо в глаза, картинка видится только
в самых общих очертаниях), как нейтрализация и стерилизация
захватываемого ею положения вещей от всевозможных
отвлекающих обстоятельств (запахов, например), но главное — как
замораживание, как способ подвешивания, центральный для
мазохистского ритуала «suspens'a»*. (Когда холодное белье
неприятно кусает кожу, мы стараемся не двигаться, замираем,
как бы подвешиваем себя внутри одежды, стремясь сохранить
естественное тепло тела, — но мороз делает свое дело.)
Примеры соответствующей интерпретации можно продолжать.
Красный цвет, например, как и лазурь, багрянец — наиболее
частотные цветовые образы Белого (сюда же «красное
домино» из «Петербурга») — являются атрибутами того же холода
и обледенения («Мороз — красный нос»). Так что не прав был
остроумный Л. Троцкий, писавший, что «о нем (Белом)
позволительно сказать, что самый псевдоним его свидетельствует о
его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха
революции прошла в борьбе красного с белым»**. Псевдоним
этот, как и другой, — Леонид Ледяной, носит все те же
мазохистские коннотации — «белый снег», «ледяной холод».
Короче говоря, в рамках мазохистской символики белый цвет не
противоположен красному, а находится с ним в сложной
аффективной взаимосвязи***.
Настало время всерьез поставить вопрос — насколько такой
мазохистский идеал близок идее революции? Или, точнее, —
каков политический потенциал культурного мазохизма?
Здесь кроме уже названных форм отклонения и
подвешивания нужно отметить (следуя рекомендациям Ж. Делёза****) цен-
См.: Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. С. 211 и др.;
Подорога В. А. Материалы к психобиографии С. М. Эйзенштейна. С. 76 и
ел., 102-103 и др.
Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1991. С. 49 // Правда.
01.10.1922.
См. об этом рассуждения самого поэта: Белый А. Почему я стал
символистом... С. 425.
**** ДелёзЖ. Представление Захер-Мазоха. С. 267-282.
Символ, аффект и мазохизм... 203
тральную для мазохизма роль договора и вытекающее отсюда
весьма значимое отношение к закону. Отношение это тем не
менее характеризуется Делёзом как юмористическое. Оно
состоит в точном, чрезмерном даже, следовании букве закона,
доводящем его исполнение до абсурда и таким путем
позволяющем мазохисту добиваться того удовольствия, которое закон
якобы призван запрещать. Здесь можно вспомнить тему
притворства у Белого, когда он приобрел привычку подчиняться
мнениям взрослых, но моментально переводил навязываемый
ими образ в символ, превращая наказание за какое-то
запретное удовольствие в условие получения этого удовольствия.
В «Петербурге» сын сенатора Николай Аполлонович Аблеу-
хов заключает с революционерами договор, предметом
которого является его отцеподобие. Тут надо учитывать, что
договор этот явился следствием бессмысленных разговоров о
«революции-эволюции» в будуаре замужней красавицы Лиху-
тиной — очевидной материнской проекции (и романной, и
биографической). Она, как помнится, отвергла Николая именно за
черты, сближавшие его с отцом, которые он, кстати, также
ненавидел «физиологически».
Отсюда стремление Николая разорвать пуповину,
связывающую его со «старым миром», — путем убийства отца в себе.
Какое отношение это имеет к Эдипу, нетрудно догадаться,
особенно учитывая, что заложенная в доме сенатора бомба
(вводящая ключевой для мазохизма фактор ожидания) угрожала
жизни сына в не меньшей степени, чем отца.
История с «красным домино» и бомбой имела для
мазохистского героя только один смысл — усугублять свою фрустрацию
от контакта с Другим, получая удовольствие от угрозы
надвигающейся смерти и ее галлюцинаторной отсрочки. Его столкновения
с Лихутиной носят театральный, обрядовый характер, в которых
он терпит одно унижение за другим. Говорить о желании
Николая отождествиться с этим субститутом матери было бы
неправильно, но он получает через него возможность выражения и
надежду на новое рождение «без сексуальной любви»*.
Юмористична здесь охранительная функция Лихутина —
царского офицера, который, по роману, приходит в дом Аблеу-
* Вспомним традицию «белых браков» Белого и других представителей
Серебряного века.
204 И. M. Чубаров
хова не как кастрирующий отец, дабы пресечь инцестуальные
порывы сына, а чтобы предотвратить антигосударственный
теракт. Здесь, кажется, реализуется двойная ирония Белого — и
над прочтением его произведения исключительно с
идеологических, политических позиций, и над фрейдистами.
В этой краткой смысловой реконструкции «Петербурга»,
которая, разумеется, не соответствует прямому нарративному
сюжету романа, дана самая общая схема взаимоотношений
Белого — художника и человека — с социальным миром и
революционной проблематикой.
Белый, очевидно, отвергал центральную роль негативности
в революционном процессе. Он здесь в большей степени
кантианец, нежели гегельянец, но при пассивном субъекте,
замаскированном в красное домино. Диалектика господина и раба,
адаптированная марксизмом к капиталистическому обществу,
выглядела бы для Белого как галлюцинаторное возвращение
отца в реальность, — а значит, как установление той или иной
формы политической тирании.
Поэтому революцию он связывал скорее с реализацией
возможности рождения «нового человека» через возвращение в
симбиотическое единство с оральной матерью. Это
предполагало установление альтернативного социального устройства,
адекватного порядку его индивидуальной культурмазохистской
чувственности.
Трудно сказать, какой из известных социально-политических
моделей мог бы отвечать этот идеал. В самом общем виде ему
могло бы соответствовать социальное устройство, в котором
все права были бы переданы Другому с согласия субъекта и
третьих лиц. По крайней мере для Леопольда Захер-Мазоха
это было доэдиповое, древнее обрядовое общество,
основанное на договоре и натуральном земледельческом хозяйстве*.
Белый для этого был слишком городским жителем.
Как бы там ни было, рассуждать об «идеализме» и
«романтизме» политической позиции Белого, как и о ее
«гуманистическом содержании», представляется, мягко говоря,
недостаточным**. Скорее можно говорить об утопичности этого
ДелёзЖ. Представление Захер-Мазоха. С. 275, 282.
Имеется в виду оценка революционного проекта Белого в статье:
Пьяных М. Ф. Певец огненной стихии. Поэзия А. Белого революционной
■жохи 1917-1921 гг. С. 256.
Символ, аффект и мазохизм... 205
недостаточно эксплицированного социально-политического
проекта, о несоразмерности его какому-либо из существующих
способов общежития, но также и об открываемой этим
проектом возможности их перманентной критики. Блок, разумеется,
двигался совершенно иначе. И дело тут даже не в
заимствованиях у Белого ряда ключевых «революционных» символов. По
сути, Белый и Блок отвечали на разные вопросы: Белый
вопрошал о возможностях и роли искусства в
революционизировании действительности. Блок же говорил о роли состоявшейся
революции в художественном творчестве. Публицистические
статьи Блока революционных лет действительно не оставляют
сомнений в серьезности его политического выбора —
«принятия» революции со всей ее «кровью». Но что может значить
для поэта подобное «принятие»? В любом случае не стоит
преувеличивать это значение для судеб самой России. Идея
Шкловского об иронической дистанции, которую занимал Блок
как поэт в отношении эстетизированной им в «Двенадцати»
садистической чувственности, выглядит малоубедительно. Блок
коллапсировал только тогда, когда машина революции
развернулась в его собственную сторону.
Но Белый, как известно, приспособился в Советской России
немногим лучше. Никто и не собирался выполнять положений
подписанного им в одностороннем порядке символического
мазохистского договора. Альтернатива обществу внутри самого
общества (особенно русского) неосуществима — это
самопротиворечивая задача.
Хроника основных событий жизни
и творчества А. Белого*
/Датировки до 1918 г., относящиеся к пребыванию
Белого в России, даются по старому стилю,
относящиеся к пребыванию за границей — по новому стилю;
в ряде случаев приводятся двойные датировки.
1880, 14 октября (26 октября н. ст.) — Борис
Николаевич Бугаев родился в Москве, в доме Рахманова
на углу Арбата и Денежного переулка.
1899, январь-февраль — работа над мистерией
«Антихрист».
Февраль-март — работа над первым
произведением в жанре «симфонии» («пред-симфония»).
Май — окончание гимназии Л. И. Поливанова
(29 мая).
Сентябрь — начало занятий в Московском
университете. Знакомство и начало дружбы с А. С.
Петровским.
Сентябрь — декабрь — изучение трудов Вл.
Соловьева.
Декабрь — закончена «Северная симфония»
(4-я часть).
Воспроизводится по изданию: Лавров А. В. Андрей Белый в
1900-е годы. Москва: «НЛО», 1995 (сокращенная версия).
Хроника основных событий жизни и творчества... 207
1901, февраль — встречает М. К. Морозову на
симфоническом концерте; переживания «мистической любви» к ней.
Середина ноября — решение М. С. Соловьева и В. Я. Брю-
сова печатать 2-ю «симфонию» с маркой издательства
«Скорпион» под псевдонимом «Андрей Белый» (придуман
М. С. Соловьевым).
Декабрь — знакомство с В. Я. Брюсовым у Соловьевых.
6 декабря — у Соловьевых — знакомство с Д. С.
Мережковским и 3. Н. Гиппиус.
Сближение с Эллисом.
Апрель — выходит в свет «Симфония (2-я, драматическая)»
([М.]: Скорпион, [1902]).
— В № 11 и № 12 «Мира искусства» — первые журнальные
публикации Белого (статьи «Певица» и «Формы искусства»).
Март — знакомство с С. А. Соколовым (главой изд-ва
«Гриф»), Н. И. Петровской, К. Д. Бальмонтом, М. А.
Волошиным, Ю. К. Балтрушайтисом, С. А. Поляковым.
Выходят в свет 3-й альманах «Северные цветы» (М:
Скорпион, 1903), включающий цикл «Призывы» и драматический
отрывок «Пришедший», и «Альманах книгоиздательства
"Гриф"» (М., 1903) с циклом стихов Белого и «Отрывками из
4-й симфонии (поэтический дебют Белого).
Конец апреля — первая литературная вечеринка у
Белого (Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Соколов, Поляков,
П. П. Перцов и др.).
Май — окончание учебы в университете по
естественному отделению физико-математического факультета; диплом
1-й степени.
Октябрь — формирование кружка «аргонавтов»
(идеологи — Белый и Эллис). Начало дружбы с Н. И. Петровской.
Середина октября — выходит в свет «Северная симфония
( 1 -я, героическая)» (М.: Скорпион, 1904).
Переживания «мистериальной» влюбленности в Н. И.
Петровскую.
Ноябрь-декабрь — участие в организации журнала
«Весы».
Начало декабря — конфликт с Брюсовым на почве
взаимоотношений с изд-вом «Гриф».
1904, 10 января — первая встреча с Блоком и Л. Д. Блок.
208 Хроника основных событий жизни и творчества...
Конец января — начало «романа» с Н. И. Петровской.
Конец марта — выходит в свет книга стихов и лирической
прозы «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904).
Знакомство с Вяч. И. Ивановым.
Октябрь — осложнение взаимоотношений с Брюсовым
(психологическая «дуэль»)
Середина ноября — выходит в свет «Возврат. III
симфония» (М.: Гриф, 1905).
19—22 февраля — инцидент с Брюсовым: Брюсов вызывает
Белого на дуэль, объяснение, примирение.
Конец февраля — в «Альманахе кн. изд-ва "Гриф"» (М.,
1905) — цикл стихов «Тоска о воле».
Апрель — начало личного знакомства с М. К. Морозовой,
посещение собраний у нее.
Май—июнь — полемика с Брюсовым в «Весах» (№ 5, 6) по
проблемам эстетики символизма.
Ноябрь — первая встреча с семьей Тургеневых; знакомство
с А. А. Тургеневой.
1906 — Разлад с Мережковскими в связи с публикацией в
«Весах» ( 1905, № 12) статьи «Ибсен и Достоевский».
Посещение «сред» Вяч. Иванова.
26 февраля — объяснение в любви Белого и Л. Д. Блок.
10 августа — Белый направляет к Блоку Эллиса с
вызовом на дуэль ( попытка разрешить сложные отношения с ним и
Л. Д. Блок); дуэль не состоялась.
23 августа — начало сентября — в Петербурге.
Решительные объяснения с Блоком и Л. Д. Блок.
Канун нового года — болезнь (флегмона, угрожавшая
заражением крови).
1907, конец января — выходит из больницы.
Март — участие в разработке программы «Общества
свободной эстетики» и полемической платформы журнала «Весы»,
направленной против «мистического анархизма».
Август — инцидент между Белым и редакцией журнала
«Золотое руно»: протест Белого против издателя «Золотого руна»
Н. П. Рябушинского; отказ сотрудников «Весов» от участия в
«Золотом руне».
8 августа — Блок высылает Белому вызов на дуэль.
Последующее выяснение (по переписке) отношений и литературных
позиций.
Хроника основных событий жизни и творчества... 209
24 августа — встреча и объяснение с Блоком в Москве.
Октябрь — изучение трудов Г. Когена, Г. Риккерта.
Знакомство с М. О. Гершензоном. Начало сотрудничества в
журнале «Критическое обозрение».
1908, начало апреля — выходит в свет «Кубок метелей.
Четвертая симфония» (М.: Скорпион, 1908).
Апрель — конфликт с редакцией «Весов» в связи с
передачей Белым цикла стихов в «Золотое руно» ( 1908, № 3—4).
Начало мая — прекращение отношений и переписки с
Блоком.
15 октября — «Символизм и современное русское
искусство», реферат в «Обществе свободной эстетики».
Начало декабря — выходит в свет книга «Пепел. Стихи»
(СПб.: Шиповник, 1909).
Конец декабря — сближение с теософкой А. Р. Минцловой.
Конец февраля — первая половина марта — написана
1-я глава романа «Серебряный голубь». Стиховедческие
исследования; чтение книг по оккультизму и астрологии.
Вторая половина марта — в Москве. Встречи с А. А.
Тургеневой (Асей), которая пишет портрет Белого.
Конец марта — выходит в свет книга «Урна.
Стихотворения» (М.: Гриф, 1909).
Июнь-июль — исследование ритма стихотворений
Пушкина.
Конец августа — осложнение отношений с С. М. Соловьевым.
Сентябрь — в Москве. Начало деятельности «Мусагета».
Работа над статьями «Проблема культуры», «Эмблематика
смысла», комментариями к книге «Символизм».
Октябрь — написаны статьи «Лирика и эксперимент»,
«Магия слов».
Декабрь, в течение года — «Серебряный голубь»
печатается в «Весах».
Февраль — в Петербурге. «Мистический треугольник»:
Белый — А. Р. Минцлова — Вяч. Иванов.
Конец апреля — выходит в свет «Символизм. Книга статей»
(М.:Мусагет, 1910).
Май — разрыв с А. Р. Минцловой.
Вторая половина мая — выходит в свет «Серебряный
голубь. Повесть в 7-ми главах» (М.: Скорпион, 1910).
210 Хроника основных событий жизни и творчества...
Июль — боголюбы, Луцк. Сближение с А. Тургеневой.
Конец июля — выходит в свет «Луг зеленый. Книга статей»
(М.: Альциона, 1910).
Начало сентября — возобновление переписки с Блоком.
— Написана статья «Мысль и язык. (Философия языка
А. А. Потебни)».
Октябрь — участие в работе кружка «Молодой Мусагет»
(студия скульптора К. Ф. Крахта).
Примирение с С. М. Соловьевым.
Написана брошюра «Трагедия творчества. Достоевский и
Толстой».
26 ноября/9 декабря — отъезд с А. А. Тургеневой в
заграничное путешествие.
Начало марта (ст. ст.) — выходят в свет «Арабески. Книга
статей» (М.: Мусагет, 1911 ).
— Выходит в свет брошюра «Трагедия творчества:
Достоевский и Толстой» (М.: Мусагет, 1911).
1912, январь — инцидент с «Русской мыслью»: редактор
журнала П. Б. Струве, ознакомившись с представленными
Белым тремя главами романа, отказывается его печатать.
Март — выходит 1-й номер «Трудов и дней»,
двухмесячника издательства «Мусагет» под редакцией Белого и
Э. К. Метнера.
6 мая — приезжает с А. Тургеневой в Кёльн на лекцию
Р. Штейнера, религиозного философа, создателя
антропософского учения.
7 мая — личная встреча с Р. Штейнером. Решение Белого и
А. Тургеневой встать на путь антропософского «ученичества».
11-14 мая — личное знакомство с Р. В.
Ивановым-Разумником (как представителем издательства «Сирин»), встречи с
Блоком, Вяч. Ивановым, Мережковским, Н. А. Бердяевым.
15—25 мая — поездка в Гельсингфорс на цикл лекций
Штейнера «Оккультные основы Бхагавадгиты».
Середина октября (ст. ст.). Выходит в свет 1-й сб. «Сирин»
(СПб., 1913), включающий 1 — 3 главы «Петербурга».
Конец октября — поездка из Берлина в Штутгарт, в Дегер-
лох. Разрыв отношений с Эллисом.
9 ноября — направляет секретарю «Мусагета» Н. П.
Киселеву письмо с отказом от редакционного участия в
деятельности издательства.
Хроника основных событий жизни и творчества... 211
Конец декабря (ст. ст.) — выходит в свет 2-й сб. «Сирин»
(СПб., 1913), включающий 3-5 главы «Петербурга».
1914, январь. Февраль — в Базеле, поездки в Дорнах (близ
Базеля). Работа в бюро планов по постройке Гетеанума —
антропософского центра в Дорнахе.
23 марта — в Берне заключен гражданский брак с
А. А. Тургеневой.
Конец марта (ст. ст.) — выходит в свет 3-й сб. «Сирин»
(СПб., 1914), включающий 6—8 главы и эпилог «Петербурга».
Май—июнь. Август—декабрь — в Дорнахе общается с
М. А. Волошиным.
Знакомство с книгой Э. К. Метнера «Размышления о Гёте»
(М.: Мусагет 1914), содержащей критику трудов Штейнера о Гете.
Изучение Гёте и трудов Штейнера о Гёте.
1915, январь. Январь-июнь — работа над книгой
«Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности»,
полемическим ответом на книгу Метнера «Размышления о Гёте».
Декабрь 1915 — февраль 1916 — «Кант и Штейнер в свете
современных теоретико-познавательных проблем», курс
лекций для кружка русских антропософов в Дорнахе.
1916, около 10 апреля (ст. ст.) — выходит в свет отдельное
издание романа «Петербург» ([Пг.], 1916).
20 сентября. В Брянске получает известия о призыве на
военную службу; возвращается в Москву.
21-30 сентября — в Москве. Получает трехмесячную
отсрочку от военной службы.
Октябрь. Середина ноября. Выходит в свет исследование
«Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности.
Ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о
Гёте"» (М.: Духовное знание, 1917).
30 ноября-12 февраля — «Александрийская эпоха и мы в
освещении проблемы "Восток и Запад"», доклад в Московском,
а затем в Петербургском религиозно-философском обществе.
14 мая — пишет брошюру «Революция и культура» (М.:
Изд-во Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917).
Август — выходит в свет альманах «Скифы» (сб. 1. Пг.,
1917), включающий первые главы романа «Котик Лета-
ев», цикл стихотворений «Из дневника» и статью «Жезл
Аарона».
212 Хроника основных событий жизни и творчества...
Декабрь 1917 — конец декабря — сближение с К. Н.
Васильевой. Начало сотрудничества в петроградской левоэсеров-
ской газете «Знамя труда».
В течение года — Выходят в свет в московском
издательстве В. В. Пашуканиса две книги «Собрания эпических поэм»
Андрея Белого [кн. 1 — «Северная симфония (1-я,
героическая)», «Симфония (2-я, драматическая)», кн. 4 —
«Серебряный голубь», гл. 1—4].
1918, январь — написана 1-я глава повести «Человек»
(незавершенный замысел).
— Выходит в свет альманах «Скифы» (сб. 2. Пг., 1918;
отпечатан в декабре 1917 г.), включающий окончание романа
«Котик Летаев», статью «Песнь Солнценосца»,
стихотворения «Война» и «Родине».
2 февраля. Апрель — написана поэма «Христос воскрес».
12 мая — поэма «Христос воскрес» опубликована в
«Знамени труда».
Июнь—июль — работает над циклом философско-
публицистических этюдов «На перевале» («Кризис жизни»,
«Кризис мысли»).
Июль — знакомство с С. М. Алянским. Начало сближения с
издательством «Алконост».
Поступает в Единый гос. архивный фонд (1-е отделение,
3-я секция) на должность помощника архивиста.
Сентябрь — выходит в свет «На перевале. I. Кризис жизни»
(Пб.: Алконост, 1918).
Конец сентября — возвращение в Москву. Поступает на
службу в московский Пролеткульт.
Ноябрь-декабрь — служба в Театральном отделе Нарком-
проса (заведующий научно-теоретической секцией).
1919, январь—май. Начало апреля — выходит в свет
«Христос воскрес. Поэма» (Пб.: Алконост, 1918).
Начало мая — выходит 1-й выпуск альманаха «Записки
мечтателей» (Пб.: Алконост, 1919) с предисловием Белого
(«Записки мечтателей»), заметками «Дневник писателя» и
началом эпопеи «Я» («Записки чудака»).
Август — в Москве. Уход из Пролеткульта.
В течение года — выходят в свет книги «Звезда. Новые
стихи» (М.: Альциона, 1919), «Королевна и рыцари. Сказки»
(Пб.: Алконост, 1919).
Хроника основных событий жизни и творчества... 213
1920 — работа в Вольной философской ассоциации (« Вол ь-
фила»). Белый — председатель совета ассоциации.
Первая половина года — выходит в свет «На перевале. III.
Кризис культуры» (Пб.: Алконост, 1920).
1921, январь. Март — выходит из больницы после травмы
позвоночника.
3 апреля — поступает на службу в Фундаментальную
библиотеку Народного комиссариата по иностранным делам
помощником библиотекаря.
25 мая — последняя встреча с Блоком в гостинице
«Спартак».
Конец августа — выходит в свет 4-й выпуск альманаха
«Записки мечтателей», включающий «Преступление Николая Ле-
таева» («Крещеный китаец»).
Октябрь — выходит отдельным изданием «Первое
свидание. Поэма» (Пб.: Алконост, 1921 ).
Конец ноября — встреча в Берлине с Р. Штейнером и
А. Тургеневой (которая уклоняется от возобновления прежней
совместной жизни).
Декабрь — участвует в организации берлинского отделения
«Вольфилы» и берлинского Дома искусств (член совета).
Организация журнала «Эпопея» (под ред. Андрея Белого).
1922, февраль — выходит в свет «Офейра. Путевые
заметки^. 1».(М., 1921).
Март — выходит в свет «Возвращение на родину. (Отрывки
из повести)» (М., 1922.).
Март—апрель — приезд и отъезд из Берлина А. Тургеневой.
Разрыв взаимоотношений с Белым.
Апрель — выходит в свет «Звезда. Новые стихи» (Пб.:
Государственное изд-во, 1922.).
Вторая половина мая — сближение с М. И. Цветаевой.
Июнь — выходит в свет «Котик Летаев» (Пб.: Эпоха,
1922).
Конец октября — начало сотрудничества в берлинской
газете «Дни».
Октябрь—декабрь — выходят в свет «О смысле познания»
(Пб.: Эпоха, 1922), «Поэзия слова» (Пб.: Эпоха, 1922).
В течение года — выходят в свет: «Возврат. Повесть»
(Берлин: Огоньки, 1922), «Сирин ученого варварства. (По
214 Хроника основных событий жизни и творчества...
поводу книги В. Иванова "Родное и вселенское")», «Первое
свидание. Поэма», «Глоссолалия. Поэма о звуке»,
«Записки чудака», «Петербург. Роман», «Серебряный голубь»,
«Стихи о России», «После разлуки. Берлинский песенник»,
«Путевые заметки, т. 1. Сицилия и Тунис», «Воспоминания
о Блоке».
1923, Февраль-март — поездки к Горькому в Сааров;
разговор о журнале «Беседа».
Первая половина года — выходят в свет: цикл статей «На
перевале», «Стихотворения», «Воспоминания о Блоке».
1924, 20 февраля — возвращение в Москву
1925, январь — выходит в свет очерк о пребывании в
Германии «Одна из обителей царства теней» (Л.: Государственное
изд-во, 1924).
Февраль — работа над Пушкиным (по инициативе
М. О. Гершензона).
4 марта — избран почетным членом Союза поэтов.
14 сентября — вступает в члены Московского общества
драматических писателей и композиторов.
24 сентября — закончен роман «Москва».
14 ноября — премьера пьесы «Петербург» в МХАТ2-М.
1926, январь-апрель — в Кучине — работает над
«Историей становления самосознающей души».
Середина июня — выходит в свет «Московский чудак.
Первая часть романа "Москва"».
13 августа — в один из приездов в Москву — несчастный
случай (сбит трамваем).
Выходит в свет «Москва под ударом. Вторая часть романа
"Москва"».
1927, первая половина марта — выходят в свет 2-м
изданием «Московский чудак. Первая часть романа "Москва"» (М.,
1927) и «Москва под ударом» (М., 1927).
Конец марта — начало апреля — выходит в свет
«Крещеный китаец. Роман».
19-24 мая — в Тифлисе, поездка в ЗаГЭС (23 мая);
общается с Мейерхольдом, знакомится с Т. Табидзе.
10 июня — Знакомство с П. Яшвили.
1928, январь — 9 марта — написана книга путевых
очерков «Ветер с Кавказа».
Хроника основных событий жизни и творчества... 215
17-26 марта — работа над автобиографическим очерком
«Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть
во всех фазах моего идейного и художественного развития».
Первая половина апреля — выходит в свет «Петербург.
Роман» (ч. 1 ).
Вторая половина мая — в Армении (Эривань), встречи с
М. С. Сарьяном, М. С. Шагинян.
Первая половина июля — выходит в свет «Петербург».
Вторая половина августа — выходит в свет «Ветер с
Кавказа. Впечатления».
1929, 11 апреля — завершает книгу «На рубеже двух
столетий».
Вторая половина мая — выходит в свет «Ритм как
диалектика и "Медный всадник"».
Начало ноября — выходит в свет «Пепел. Стихи». Изд. 2-е,
переработанное (М. ).
1930, начало января — выходят в свет воспоминания «На
рубеже двух столетий».
9—11 сентября — поездка в Коктебель. Последняя встреча
с М. А. Волошиным.
1931, 10 апреля — 23 июня — в Детском Селе. Общение с
Ивановым-Разумником, встречи с К. С. Петровым-Водкиным,
А. Н. Толстым, В. Я. Шишковым, С. Г. и С. Д. Спасскими,
А. П. Чапыгиным.
Май—июнь — работает над «Историей становления
самосознающей души».
Позирует для портрета К. С. Петрову-Водки ну.
30 мая — арест К. Н. Васильевой.
3 июля — освобождение К. Н. Васильевой и ее бывшего
мужа, П. Н. Васильева.
18 июля — регистрация в ЗАГС брака с К. Н. Васильевой.
23 ноября — совет народных комиссаров РСФСР назначил
Белому персональную пенсию.
1932, февраль-март — знакомство с И. М. Тройским,
председателем Оргкомитета Союза советских писателей.
Апрель — заканчивает работу над исследованием
«Мастерство Гоголя».
23 апреля — с воодушевлением воспринимает
постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературных организаций.
216 Хроника основных событий жизни и творчества...
19 июня — принято решение о печатании «Мастерства
Гоголя» в ГИХЛ (вышла в 1934).
19 июля — выступает на заседании групкома
писателей ГИХЛ; избран членом бюро групкома. Знакомство с
Ф. В. Гладковым.
1933, январь — выбран в культурно-просветительную
секцию групкома ГИХЛ.
Середина января — выходят в свет «Маски. Роман».
10 февраля — вечер у И. М. Гронского. Знакомится с
В. В. Куйбышевым, А. И. Стецким.
11 февраля — «Вечер Андрея Белого» в Политехническом
музее.
23 марта — закончена 1 -я часть воспоминаний «Между двух
революций» — «Омут».
Июнь—июль — в Коктебеле: посещения М. С.
Волошиной, знакомство с Б. В. Томашевским, общение с О. Э.
Мандельштамом.
16 июля — врачебный диагноз: солнечное перегревание,
сильный склероз.
Октябрь—ноябрь — частые приступы сильных головных
болей.
31 октября — участвует в заседании научной секции
Горкома писателей.
Вторая половина ноября — выходят в свет воспоминания
«Начало века» (М.; Л., 1933).
1934, 8 января — в 12 час. 30 мин. скончался от паралича
дыхательных путей в присутствии жены и врачей.
Избранная библиография
творчества А. Белого*
1. Андрей Белый: Pro et contra / сост.,вст. ст. прим.
А. В. Лаврова. СПб.: РХГА, 2004.
2. Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е гг.: Жизнь
и литературная деятельность: Монография. М.: НЛО,
1995.335 с.
3. Ловягин А. М. А. Белый // 1 -я, героическая
симфония//Литературный вестник. 1904. № 1. С. 92.
4. Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М.: Мысль, 1983.
5. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое
искусство. М.: Искусство, 1976.
6. Магомедова Д. Концепция «музыки» в раннем
творчестве А. Блока // Науч. доклады высш. школы.
Филологические науки. 1975. № 4.
7. Межелайтис Э. Мир Чюрлениса // Чюрленис М.
М.: Искусство, 1971. С. 3-74.
8. Мельникова-Григорьева Е. Г. Принцип
«пограничное™» в «симфониях» Андрея Белого //
Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Тарту, 1985. Вып. 645.
С. 101-111.
9. Минц 3. Г. О некоторых «неомифологических»
текстах в творчестве русских символистов // Учен. зап.
Тартуск. гос. ун-та. Тарту, 1979. Вып. 459. С. 76—120.
10. Минц 3. Г. Символ у Блока // В мире Блока: Сб.
статей. М.: Сов. писатель, 1981. С. 172-208.
* Сост. К. Г. Исупов.
218 Избранная библиография творчества А. Белого
11. Минц 3. Г., Мельникова Е. Г. Симметрия-асимметрия
в композиции «III симфонии» А. Белого // Труды по
знаковым системам. Тарту: Изд-во Тартуск. гос. ун-та, 1984. Т. 17.
С. 84-92.
12. Молчанова Н. Мифотворчество в трактовке
символистов // Творчество писателя и литературный процесс.
Иваново: Изд-во Ивановск. гос. ун-та, 1981. С. 205-216.
13. Морозова М. К. Андрей Белый // Андрей Белый:
Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М.:
Сов. писатель, 1988. С. 522-545.
14. Мочульский К. Андрей Белый. Томск: Водолей, 1997.
15. Нижеборский А. К. Гносеологическое обоснование
А. Белым символа // Философские проблемы познания.
Челябинск: Челяб. гос. пед. ин-т, 1978. Вып. 3. С. 182-195.
16. Новиков Л. А. Андрей Белый — художник слова: О
языке прозы писателя // Рус. речь. 1980. № 5. С. 27-35.
17. Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы
Андрея Белого. М.: Наука, 1990.
18. Павлова Л. В. Parodia sacra: «Симфония (2-я,
драматическая)» А. Белого // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1998. Т. 57.
№ 1.С. 28-35.
19. Паперный В. Андрей Белый и Гоголь. Ст. 1 // Учен. зап.
Тартуск. ун-та. Тарту, 1982. Вып. 604. С. 97-126.
20. Переписка с Андреем Белым ( 1902-1912) / Вступ. ст.
и публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова //Литературное
наследство. М.: Наука, 1976. Т. 85. С. 327-427.
21. Пустыгина Н. Г. Об одной символической
реализации идеи «синтеза» в творчестве Андрея Белого: 1. Начало
900-х гг. // Учен. зап. Тартуск. ун-та. Вып. 735. Тарту, 1986.
С. 113-123.
22. Рицци Д. Рихард Вагнер в русском символизме //
Серебряный век в России. Избранные страницы. М.: РАДИКС,
1993. С. 117-136.
23. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца
XIX — начала XX века: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993.
24. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История.
Проблемы. М.: Искусство, 1989.
25. Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма: проблема
«жизнетворчества». Воронеж: ВГУ, 1991.
26. Силард Л. Введение в проблематику А.
Белого // Umjetnost Rijeci (Zagreb), 1975. God. XIX. Broj. 2-4.
S. 261-289.
Избранная библиография творчества А. Белого 219
27. Силард Л. О влиянии ритмики прозы Ф. Ницше на
ритмику прозы А. Белого («Так говорил Заратустра» и
Симфонии) // Studia slavica. Budapest (Hungary). 1973. T. XIX.
№ 1-3. С. 289-313.
28. Силард Л. О структуре Второй симфонии Андрея
Белого // Studia slavica. Budapest (Hungary). 1967. T. XIII. № 3-4.
С. 311-322.
29. Силард Л. Орнаментальность / Орнаментализм // Rus.
lit. Amsterdam. 1986. Vol. 19. № 1. P. 65-78.
30. Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: между
полюсами юродства и шутовства // Studies in 20-th century Russian
prose. Stockholm, 1982. P. 80-100.
31. Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX —
начала XX века (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) //
Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л.: ЛГУ, 1984. С.
265-284.
32. Соколов О. О «музыкальных» формах в литературе
(к проблеме соотношения видов искусства) // Эстетические
очерки. М.: Музыка, 1979. Вып. 5. С. 208-233.
33. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900—
1910-х годов. М.: Искусство, 1988. 285 с.
34. Тилкес О. Православные реминисценции в Четвертой
симфонии А. Белого//Литературное обозрение. 1995. № 4/5.
С. 135-143.
35. Тилкес О. Образ Софии в «Четвертой симфонии»
Андрея Белого // Russ. lit. Amsterdam, 1995. Vol. 37. № 4.
С. 617-645.
36. Титаренко С. Д. Миф как универсалия символистской
культуры и поэтика циклических форм // Серебряный век:
философско-эстетические и художественные искания.
Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 1996. С. 3—13.
37. Тюлин Ю. Н. Строение музыкальной речи. Л.: Музгиз,
1969.
38. Фатющенко В. И. Поэтический символ у Александра
Блока//ВестникМоск. ун-та. 1980. № 6. С. 18-24.
39. Фергюсон Дж. Христианский символизм. М.: Изд-во
АДЕ «Золотой Век», 1998. 322 с.
40. Флоренский П. Переписка с Андреем Белым //
Контекст. 1991. М.: Наука, 1991. С. 23-51.
41. Хмельницкая Т. «Вторая драматическая симфония»
А. Белого и проблемы поэтики символизма // Проблемы рус-
220 Избранная библиография творчества А. Белого
ской критики и поэзии XX века: Тезисы межвуз. науч.-теорет.
конф. Ереван: ЕГУ, 1973. С. 34-38.
42. Хмельницкая Т. Литературное рождение Андрея Белого.
Вторая Драматическая Симфония//Андрей Белый. Проблемы
творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М.: Сов.
писатель, 1988. С. 103-130.
43. Черников Ю. «Симфонии» как жанр в творчестве
Андрея Белого // Художественное творчество и литературный
процесс. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1984. Вып. 6. С. 39—47.
44. Чернова Т. Ю. Драматургия в инструментальной музыке.
М.: Музыка, 1984.
45. Чистякова Э. И. К вопросу об эстетико-философских
взглядах А. Белого // Вопросы истории и теории эстетики.
Вып. 10. М.: МГУ, 1977. С. 211-220.
46. Чистякова Э. И. О символизме Андрея Белого // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. философия. № 3. 1978. С. 39-48.
47. Эткинд Е. Демократия, опоясанная бурей. (О
музыкально-поэтическом строении поэмы А. Блока «Двенадцать») //
Блок и музыка. М.; Л.: Сов. композитор, 1972. С. 58—74.
48. Эткинд Е. От словесной имитации к симфонизму.
(Принципы музыкальной композиции в поэзии)// Поэзия и музыка.
М.: Музыка, 1973. С. 186-280.
49. Юрьева 3. Одежда и материя в цикле симфоний Андрея
Белого // Andrey Bely Centenary Papers / Ed. by Boris Christa.
B. 21. Amsterdam. 1980. P. 122-125.
50. [Якубович П.]. А. Белый. Кубок метелей. Четвертая
симфония. М., 1908. Русское богатство, 1908. № 7. Отд. II.
C. 181-184.
51. Яроциньский С.Дебюсси, импрессионизм и символизм.
М.: Прогресс, 1978.232 с.
52. Alexandrov VI. Andrey Bely. The Major Symbolist Fiction.
Harvard univ. press, 1985.
53. Janacek G. Literature as Music: Symphonic form in Andrey
Belyi's Fourth Symphony // Canadien-American slavic studies.
1974. Vol. 8. 4. P. 488-512.
54. Keys R. Bely's Symphonies // Andrey Bely: Spirit of
Symbolism. L., 1987. P. 24-43.
55. Kovac A. Andrej Belyj: «The "Symphonies"»( 1899-1908):
A Re-Evaluation of the Aethetic-Philosophical Heritage. Bern:
Herbert Lang, 1976.
Вячеслав Иванов
Д. Н. Мицкевич
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова"
(Избранные этюды)
A realia ad realiora
Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben
J. W. Goethe. Faust, II, Act Г
Лозунг Вячеслава Иванова «от реального к
реальнейшему» (II, 571 ) выражает, вслед за не раз
цитируемыми им словами Фауста, древнее влечение к
Высшему Бытию (II, 601, 602), как и к высвобождению
из пределов самореференциальности (II, 553). И чем
Сокращенный вариант статьи: Мицкевич Д. Н.
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова // Христианство и русская
литература. Взаимодействие этнокультурных и религиозно-
этических традиций в русской мысли и литературе. СПб.: Наука,
2010. С 254-342.
«Ты побуждаешь и движешь твердое решение / К высшему
бытию непрестанно стремиться». Иванов цитирует и переводит в
статьях разного времени это спасшее Фауста обращение к земле//
«Символика эстетических начал», 1905; Иванов Вяч. Собр. соч.:
<в 4 т.> Брюссель, 1971. Т. I. С. 823; «Заветы символизма»,
1910; Там же. Т. II. С. 598; «Лик и личины России», 1917; Там
же. Т. IV. С. 451. Далее ссылки на это издание даются в тексте,
римская цифра означает том, арабская — страницу.
222 Д. H. Мицкевич
выше регистрируемый уровень сознания, тем универсальнее,
постояннее, первичнее и поэтому — реальнее становится
регистрируемый на нем предмет. Доктрина такого
«восхождения» относится к жизневосприятию, как и к корням и границам
поэтического творчества вообще, и к самой проблеме наличия
«высших реальностей» (realiora*). Его же словообразование
«реалиоризм» (II, 571) означает систему восприятия и
отражения действительности как иерархии значений, восходящих
от обыденности к мистике. Решение ученым поэтом задачи их
раскрытия утверждает трудный и редкий по
последовательности путь в практике русского и мирового искусства.
Рассматривая действенность «реалиоризма» как модели поэтического
творчества, постараемся сопоставить теоретические
освещения самим Ивановым взятого на себя задания с примером его
выполнения в программном сонете «Apollini» (1909).
Обнаружение realiora в общей динамике стихотворения
возлагается Ивановым на читателя. Ему дана возможность начать
с припоминания биографических и библиографических
ситуаций, откуда автор черпал заимствованные образы и
концепты. Распознавая подтексты, читатель приобщается к мировой
культуре. Для этого Иванов-филолог воскрешает концепции
(noumena) многих своих предтеч, пользуясь особой,
характерной для него комбинацией методов:
интертекстуальностью, мифотворчеством, полисемией и
«опрозрачниванием» реальности.
Осмысление того, что, собственно, являют собой интуитивно
воспринятые realiora, удается смертным лишь отчасти, но эрос
этой мистерии (согласимся с Ивановым) всегда стимулировал
лирику, он централен в «истинном символизме» и гарантирует
оригинальность поэта**. В предлагаемой работе сличаются тео-
По правилам латинского склонения, родительный падеж
множественного числа был бы «realiorum»; но Иванов, по-видимому, сочинил это
словообразование, и вернее не склонять этот неологизм, как если бы он был
частью римского обихода.
«...В каком объеме принимается термин символизма? Поспешим
разъяснить, что не искусство лишь, взятое само по себе, разумеем мы, но
шире — современную душу, породившую это искусство», — писал Иванов
в статье «Предчувствия и предвестия» (II, 86). «Отвлеченно эстетическая
теория и формальная поэтика рассматривают художественное произведение
в себе самом; постольку они не знают символизма. О символизме
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 223
ретические высказывания Иванова с их отражениями в
сонете «Apollini». Цитируемые из него слова (с номером строки в
квадратных скобках) приводятся как поэтические эквиваленты
ключевых моментов доктрины. Стихотворные тропы
обогащают доктринальные доводы нежданными ассоциациями, не
вмещающимися в линейный дискурс формальной прозы. А перенос
логически-смысловой нагрузки из прозы на цитируемые
иносказания, в свою очередь, сообщает мотивирующую их логику.
Эволюция религиозно-эстетической доктрины Иванова
видится как путь, последовательно приведший его за границы
искусства, но осуществившийся благодаря искусству. Припомним
его программное стихотворение:
APOLLINI
Когда вспоит ваш корень гробовой
Ключами слез Любовь, и мрак — суровый,
Как Смерти сень, — волшебною дубровой,
Где Дант блуждал, обстанет ствол живой:
[5] Возноситесь вы гордой головой,
О Гимны, в свет, сквозя над мглой багровой
Синеющих долин, как лес лавровый,
Изваянный на тверди огневой.
[9] Под хмелем волн, в пурпуровой темнице,
Жемчужнице-слезнице горьких лон,
Как перлы бездн, родитесь вы — в гробнице.
[12] Кто вещих Дафн в эфирный взял полон,
И в лавр одел, и отразил в кринице
Прозрачности бессмертной?.. Аполлон!
Первая строфа этого сонета — хороший пример
иконографической стратегии. Зародыш гимнов («корень» [1])
прорастает при стечении определенных состояний духа. А их
ядро — realiora — раскрывается только в последней строфе.
И «адресат» сонета — «О Гимны», его главное подлежа-
можно говорить, лишь изучая произведение в его отношении к субъекту
воспринимающему и к субъекту творящему, как к целостным личностям»
(II, 609). Само подразумевание наличия realiora единит субъекты творящего
и воспринимающего. Под «целостной» же подразумевается личность,
способная «превзойти самого себя» (бл. Августин), т. е. перейти границы
самореференциальности «ограниченного индивидуализма» (II, 623, 635).
224 Д. H. Мицкевич
щее, — называется только во втором катрене [6], хотя они
намечены уже в первой строке личным местоимением «ваш» [ 1 ].
Но «мрак суровый» [2], в котором зарождается творчество,
уже не есть оргийное умопомрачение Мэнады, «где
гнездятся глубинные корни пола <...> хаотическая сфера — область
двуполого мужеженского Диониса». Этот мрак более не
«становление, соединяющее оба пола ощупью темных зачатий» (I,
829). Он — «Как Смерти сень» [3], трагическое умопросвет-
ление катарсиса. И биографически испытанные поэтом
составляющие этого «мрака», принятые как общечеловеческие,
слагаются из членораздельных составных: «ключей слез» [2]
над смертной утратой и вспаивающей [ 1 ] ими «Любви» [2]. А
второе сравнение — беспутица «волшебной дубровы» [3] —
поясняется контекстом: «где Дант блуждал» [4], т. е. Первой
песнью «Inferno». Дуброва подобных же голосов-ассоциаций
«обстанет» [4] пока что загадочный (до 12-й строки,
именующей «Дафн», во множественном (!) числе) субъект. И этот
субъект эфирно-надгробных realiora явлен уже в первой
строфе в своей земной ипостаси как «ствол живой» [4], в котором,
по Овидию, Дафна была заживо погребена.
Замечательно, что термины этого сонета отвечают всем
фазам становления поэта. Переход последней строфы на
сверхличностный уровень легко понять и как переход от активно
гласного славословия на пассивный уровень мистического
созерцания, ведущего к последним тридцати годам «келейного»
молчания. В стихах же иконы (имя-образы), долженствующие
воплощать наития realiora, выбираются Ивановым из личного
опыта, из природы и из опыта корифеев европейской культуры.
Разнородность этих источников отличает «варварски
роскошно» затрудненное преподношение realia (не самих realiora, а
их символов) ранних сборников от все более «скупых» циклов
Иванова.
Эллипсис — опущение пояснительных связей (о них ниже)
между столь разнородными составными данного мрака —
подчеркнут здесь оксюморонами, твердо спаянными из
существительных и атрибутов: «корень гробовой» [1], «ствол живой»
[4], «твердь огневая» [8], или, ниже, «родитесь вы в гробнице»
[11], «эфирный полон» [ 12], «прозрачности бессмертной» [14].
Контрастность оксюморонов создает впечатление антиномной
речи, сбивающей читателя с рельс обычного чтения на поиски
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 225
окольных ассоциаций, мотивирующих данные сцепления*. Те
же ассоциации встречаются в других произведениях Иванова
или в ссылках на чужие — названные (Данте) и неназванные
(Овидий) — источники. Пропуски объяснительных связей —
«пифийная» эллиптика**. Знаменование духовных ощущений
контрастными, архаически стилизованными подобиями
составляет, на мой взгляд, единственное совпадение поэтики Иванова
со стратегиями современного ему авангарда. Но, в отличие от
неопримитивистов, его мифологические стихи не
довольствуются только эстетическим эффектом: чтению «Apollini», как
и всех текстов Иванова, предпосылается всегдашнее задание
отражать вневременные значения (realiora) в видимых вещах
(in rebus)***. Статьи Иванова так или иначе трактуют этот
императив, но постоянное его выполнение проходило весьма
обусловлено. По признанию, сделанному в 1933 г., «словесное
ознаменование постигаемого» «часто бывало неточно,
соблазнительно, потому что постигаемое еще "неясно различалось,
как чрез магический кристалл", по слову Пушкина, — говоря
проще, не было еще постигнуто до конца»****. В писаниях Ива-
« Может быть, говоря о поэзии, мы вступаем в такую область
первооснов духа, что там уже мыслить не антиномичио — невозможно;
может быть, там — в этой стране — перестают иметь силы обычные законы
мышления и начинается власть иных, неизведанных, которые кажутся нам
законами антиномии, законами необходимости противоречия?» // Пяст
Вл. Стихи о Прекрасной Даме. <Рец. на первый том Собрания сочинений
А. Блока> // Аполлон. 1911. № 8. С. 69; иереизд.: Пяст Вл. Встречи. М.,
1997. С. 224. Иванов, как постараемся доказать, осуществляет рациональный
контроль над неизбежными психологическими «противоречиями», пользуясь
полисемией символического языка. И научный этикет требует доказательств,
что приводимые источники данных терминов действительно были у автора на
уме во время или около времени писания, — не просто по их совпадению
или сходству со сказанным, а по биографическим или текстуальным
доказательствам.
** Пифия в дифирамбе «Огненосцы» так утверждает всесвязность: «Из
Хаоса родимого / Гляди — Звезда, Звезда!... / Из Нет непримиримого —
(Пленительное Да!...» (II, 243).
*** Эта цель, роднящая немецких романтиков со Средневековьем,
конечно, не нова: Иванов причисляет себя к традиции «Поэтов Духа» (I, 737) —
вертикально устремленных гимнопевцев.
**** Символ. № 53/54: Вячеслав Иванов: несобранное и неизданное.
|Париж; Москва). 2008. С. 397-398. Далее сокращенно: Фрагменты.
226 Д. H. Мицкевич
нова эта роль возлагалась преимущественно на поэзию как
на более вместительный словесный жанр. Как записано в его
дневнике 21 апреля 1902 г.: «Итак, в лирической форме, в ряде
сонетов сказать то, что я знаю (не тем знанием, которое
может быть выражено в прозе) <...> Итак, опять — поэзия?!»
(11,771).
Аполлиническое созерцание
Сонет «Apollini» отмечает в системе кодов Иванова
переход от смутного дионисийства, прославившего его в начале
пути, к более созерцательному, нежели оргиастическому,
подходу к творчеству. Героем выступает уже не Дионис, а
Аполлон. Внешне имя последнего было вызвано участием
Иванова в петербургской группе модернистов,
собравшихся вокруг журнала «Аполлон» ( 1909—1917). Но уже в
программной «дискуссии» «Пчелы и осы Аполлона» (в том же
первом номере, где появился сонет) показано обособление
позиции Иванова. Для него Дионис еще остается
неотъемлемым стимулом творчества, хотя уже явно вне поля зрения.
Так и дионисийские предпосылки сюжета «Apollini» —
страсти «Любви» и «Смерти» — показаны как завершенные
уже до начала повествования. Внимание переносится на
другую ипостась божественных realiora: на аполлиническую
посмертную рефлексию инвариантных и сверхличных
ценностей. В этом и состоит отличие Иванова от «аполлоновцев»
и от его современников в целом. Речения «Философа»
(Иванова) в редакционной автопародии вторят почти буквально
мотивам сонета «Apollini»:
«Дельфийское жречество* утвердило двуединую религию
нераздельных и неслиянных богов». «Корни Аполлоническо-
го искусства в Дионисе [ср. «корень гробовой», вспаиваемый
«Любовью»]. Дант проходил сквозь «selva oscura»,
громоздящий вокруг него свои ужасы [ср. «волшебною дубровой, / Где
Дант блуждал» [3-4] и «мрак — суровый» [2]]. Это образ
жизни, лик Диониса. Но вот расходится [в печати: «рассеивается»]
мрак ночи, и в белом утреннем тумане [ср. «синеющих долин»,
Вероятно, Плутарх в «De Pythiae oraculis» или «Questiones Graecae».
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 227
7] четко отражаются в застывшем озере* [«и отразил в
кринице» 13] металлические [в печати: «металлически чеканные»]
лавры [ср. «Как лес лавровый / Изваянный на тверди
огневой», 7—8], и золотое небо — Аполлон [ср. «В Прозрачности
бессмертной — Аполлон», 12]. Но это строго священственное
[в печати опущено] видение встает уже за пределами жизни [ср.
«В эфирном полоне», 12]. Золотой [в печати: «белый»] лик
Аполлона для меня рисуется как лик смерти [ср. «Как
Смерти сень» [3]]. Я не вижу, куда может вести Аполлон в области
жизни <...> нельзя достичь ступеней Аполлонова храма, не
пройдя через Любовь и Смерть»**. В нашем сонете «Любовь»
и «Смерть» также пишутся с большой буквы, подчеркивая их
свойство вмещать realiora in rebus.
Для рассматриваемой темы внутреннее аполлинийство
Иванова важнее филологических первоисточников и внешнего
отношения к журналу «Аполлон». Это аполлинийство восходит
к поэтике упоминаемого тут Данте [4], видевшего в Аполлоне
символ творчески-сообщительной религиозности,
художественно восполняющей обрядно-доктринальную религиозность
глубочайшего христианского поэта (Paradiso, I, 13—15; II, 22).
Далее в моей работе будет рассмотрено отрицание Ивановым
господствующего в модернизме индивидуализма. Это, казалось
бы, парадоксальное для самоуглубленного лирика отклонение
выступает рельефнее на фоне его отношений с Андреем Белым
и А. Блоком, виртуозами иносказательной техники передачи
своего состояния духа, служащими, как и он, realiora,
бывшими, но оставшимися, по сути, индивидуалистами. Иванов же
исходит из ортодоксально церковного понимания духовности и
в то же время вменяет себе в обязанность реализм —
передачу лишь подлинно пережитых, лично засвидетельствованных
событий. И он отстаивает объективный лиризм на
психологически целительной почве мировой всесвязности (панкогерент-
* Не отсюда ли сравнение Николая Гумилева: «...Обычно поэтическое
живописание — это озеро, отражающее в себе небо; поэзия Вячеслава
Иванова — небо, отраженное в озере» ( рецензия на «Speculum Speculorum»,
второй книги «Corardens», заключаемой сонетом «Apollini»; Аполлон. 1911.
Ко 7).
** Аполлон. 1909. № 1. С. 80-81. 2-я наг.
228 Д. H. Мицкевич
ности). При этом он воздерживается от публичного
высказывания и навязывания своих личных религиозных убеждений*.
В финале работы необходимо рассмотреть конфликт,
приведший Иванова к изоляции отдуха времени и умолканию его
музы. Из внешних причин достаточно припомнить потерю
контакта с читателем: с отлучением от «безучастной» культурной
атмосферы Петербурга утратился и пропал и дидактический
пыл; после «Нежной тайны» (1912) Иванов более не
издавал сборников стихотворений, стал все реже и скупее писать
стихи, а десятилетиями вовсе не писал. Сложнее объяснить
долго назревавший внутренний конфликт между мистическим
устремлением и стихотворчеством. Это трение привело к
парадоксальным последствиям, относящимся прямо к нашей теме.
Изначальная неясность «магического кристалла» оказалась
великим стимулом. Поэтическое изложение интуитивных
наитий через мифические метаморфозы, с обилием ссылок на опыт
духовных предтеч, помогало осмыслять realiora. Но по мере их
пурификации и кристаллизации надобность в иносказательных
лирических отражениях (творимых к тому времени, в
сущности, для себя) резко снижалась. Вдобавок установка на
«вечность» тематики все более отлучала «центральную фигуру
Серебряного века» от всеобщей тенденции живописать лишь
текущий момент, в то время как для Иванова текущие res были
всегда лишь отправным пунктом для духовного восхождения а
realia ad realiora. Эрос его лирики — подбор сложных realia,
иллюстрирующих состояние духа, — с годами снижался,
потому что сам дух отдалялся от хаотической сферы («по ту сторону
«Пусть хорошо заметит читатель — иод религией понимается не
какое-либо определенное содержание религиозных верований, но форма
самоопределения личности в ее отношении к миру и к Богу» («Манера,
лицо и стиль», 1912; II, 620). В наиболее продуктивный в литературном
плане петербургский период Иванов предпочитал писать о наличии, но не о
сущности лично ощущаемых им realiora. В конце 1920-х и начале 1930-х гг.
Иванов подчеркивал, «что ведущим началом его творчества всегда была
Церковь, и предназначение России в современном европейском мире
непосредственно связано для него с той задачей, которую возлагает на себя
и Русская Православная церковь, и русский народ. Так, сохраняя верность
началам своего пути, он все же считает необходимым переработку тех старых
статей, где его позиция кажется ему устаревшей или уводящей в сторону от
основного вектора, ориентированного на Церковь» (Фрагменты. С. 340).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 229
добра и зла»* к христианской положительности, т. е. от эроса
(открывания тайн) к «Любви» бытия, соприродной
божественной. Все увереннее становилось гётевское «твердое решение
непрестанно стремиться» к Абсолюту.
Коснемся скрещения realiora с realia на уровнях
интертекстуальности, полисемии, «прозрачности» и языка как
такового. Затем остановимся подробнее на особенностях ивановского
кодирования, часть из которых, кажется, в науке еще не
отмечена. Мой логоцентрический подход не претендует на охват
всех семиотических ассоциаций, ведущих из «созидаемой
формы» (forma formans) этого сонета к realiora. Но логоцентризм
прямее всего касается контекстуализации содержания стихов
и прозы Иванова, как и связи состояния духа с просодической
стратегией. Данное истолкование сонета «Apollini»
посвящается не столько апологии его сложности, сколько начертанию
возможного и упущенного современной культурой стремления
созидать «большой стиль» (II, 602), открывать неумирающую
эссенцию бытия в реальном облике смертных вещей (realiora in
rebus). Так, надгробное гимнопение издавна «возносило в свет»
[6] души вокруг стоящих от частных ассоциаций к единящему их
в «Прозрачности бессмертной» [ 14] Духу, т. е. «от реального к
реальнейшему».
Формулы направления духа
Лозунги «a realia ad realiora» и «realiora in rebus» определяют
противоположные направленности и два онтологически разных
агента действия. Первый лозунг указывает на способность
любого человека устремляться мысленно от ощутимых вещей к
интуиции или наитиям сверхчувственных или сверхъестественных
энергий. Второй — на вмещенность последних в земных
объектах. Отождествление с ними своего «я, как постоянной
величины в потоке сознания» (III, 263), например ощущение Бога в
себе или красоты в предмете или любви к нему, также являет
собой выход личности из своей самореференциальности**. Но
тактическая, психологическая и поэтому биографическая раз-
В 1905 г. Иванов еще говорил об этой хаотичной сфере: «Она демонична
демонизмом стихий, но не зла. Это — плодотворное лоно, а не дьявольское
окостенение» («Символика эстетических начал»; I, 829, см. прим. 21 ).
** См. статьи «Ты еси» ( 1907) и «Anima» (III, 262-268, 269).
230 Д. H. Мицкевич
ница этих путей очевидна: мистическая цель причащения к
наивысшему вечному отлучает от земных интересов, а
«символический реализм» ищет и воплощает вечное в земных вещах. Эти
разнонаправленные устремления ведут в разные стороны, но в
работе поэта они могут мгновенно сменяться или же годами
доминировать один за счет другого. Восхождения поэта ad realiora
могут быть экстатическими или ужасающими; но отражение их
in rebus — всегда технически конкретно. Читатель же, в свою
очередь, свободен восходить по конкретному реальному руслу
предоставляемого ему текста (см. раздел II. 6).
За несколько месяцев до сочинения «Apollini» (24—26
августа 1909 г.) и перед тем как обозначился «кризис символизма»
и позднее гуманизма*, Иванов предложил художникам свой
общий «лозунг»: «ua realibus ad realiora", т. е.: от видимой
реальности и через нее — к более реальной реальности тех же
вещей, внутренней и сокровеннейшей» (II, 571)**. Краткость
формулы не сразу выражает радикальность и трудность ее
задания. Спустя полгода после «Apollini», в марте 1910 г., автор
развертывает эту идею рядом пояснительных норм:
«...Сознательно выраженный художником параллелизм
феноменального и ноуменального; гармонически найденное созвучие того,
что искусство изображает, как действительность внешнюю
(realia), и того, что оно провидит во внешнем, как внутреннюю
и высшую действительность (realiora); ознаменование
соответствий между явлением (оно же — "только подобие", "nur
ein Gleichniß")*** и его умопостигаемою или мистически про-
Этот сезон отмечен особенно интенсивными исканиями творческих
путей после интеллектуальных и технических завоеваний символизма. См.
также статьи Иванова «Кручи — О кризисе гуманизма» (1919) и Блока
«Крушение гуманизма» (1919).
«Лозунг реалистического символизма и мифа» впервые появился в
статье «Две стихии в современном символизме» в журнале «Золотое руно»
( 1908. № 5; И, 533, 561 ), а цитируемые объяснительные фразы — в этюде
«Эстетика и исповедание» (Весы. 1908. №11), приложенном к этой же статье
в сборнике «По звездам» (1909). Иванов пользуется этими же терминами
в 1936 г. в итальянском обзоре международного движения «Simbolismo»,
последнем его выступлении на эту тему ( II, 657, 665).
Иванов приводит это платоническое понятие из «мистического хора»,
завершающего вторую часть «Фауста»: «Alles Vergängliche ist nur ein
Gleichniß» («Все преходящее — только подобие»).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 231
зреваемою сущностью, отбрасывающею от себя тень видимого
события» (II, 597). «Пафос реалистического символизма: чрез
Августиново "transcende te ipsum" [превзойди самого себя] к
лозунгу: a realibus ad realiora» (II, 553). Теперь удивляет, как
эти тезисы вызвали почти всеобщее непонимание, но в то
время их применимость казалась навязываемой сугубо
эзотерическим образом мысли.
В августе 1939 г. Иванов припоминает, как он внезапно
«внутренне услышал», «лет тридцать тому назад», среди
веселой экскурсии у Черного моря, слова: «quod not est débet
esse; quod est débet fieri; quod fit erit». Обдумывая их смысл,
поэт заключил, что это — явленная, как в ясновидении,
кристаллизация долго назревавшего в сознании императива.
«Задание оказалось тройным: должно осуществить то, что еще не
существует; должно преобразовать, что уже существует, в
нечто новое, т. е. в новом соотношении с грядущей
действительностью; наконец, этот наступающий мир должен быть обращен
в постоянную бытийную реальность»*. Предикаты последней
строфы «Apollini» трактуют те же три задания как троякий
аполлинический акт: «взял в эфирный полон» [12 = уловил в
памяти], «в лавр одел» [ 13 = облек в художественную форму],
«и отразил в кринице» [13 = в поэтической «тени видимого
события»]. С почина европейской поэзии эти сверхобычные
вершения приписывались именно Аполлону. Обессмертивший
утраченную возлюбленную (Дафну) устроитель гимнопения
«Аполлон есть сила, связующая и воссоединяющая, которая
возводит от раздельных форм к объемлющей их верховной
форме»**. В его лице «Apollini» восстанавливает
древнегреческое понимание задания поэзии: находить неизменное под
покрывалом преходящих явлений. Приверженностью именно
к этой, еще дохристианской традиции объясняется сочетание
обычно обособленных с середины XIX в. дисциплин: религии
и поэзии. Как известно, архи-христианин и архи-поэт Данте и
Петрарка, завершившие примирение христианской традиции с
Из письма Иванова к проф. К. Муту, издателю католического журнала
«Hochland»; цит. по: Bowra M., sir. Introduction// Иванов Вяч. Свет вечерний.
Оксфорд, 1962. Р. XV ( пер. мой. — Д. М. ); ( III, 646-649).
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. М., 1987. С. 166.
232 Д. H. Мицкевич
античной, также совмещают те же пути, на тех же
основаниях*. Однако в истории поэзии Иванов считает, при всем своем
теургизме, Дантову эпифанию «Paradiso» исключением**. Он
ставит себя в первой строфе «Apollini» на одну ступень с Данте
только в предмистической и предтворческой стадии блуждания
в мрачной «дуброве»*** и оплакивания, по примеру Аполлона,
отшедшей возлюбленной. А далее образцом Иванову служит
уже Петрарка, который «указывает на возникновение образа
в пределах мыслящего сознания (курсив мой. — Д. Л1 ) <...>
тем пластичнее и жизненнее предстало его духу аполлинийское
видение», которым «разрешается дионисийское волнение
интуитивного мига» (II, 632—633, 644). Таким образом, Данте
остается для Иванова идеалом поэта-тайновидца, а
Петрарка — образцом поэта-предъявителя.
Распад школы символистов и индивидуализм
История символизма полна красноречивых свидетельств о
достижениях сверхличных realiora. Pro и contra о них проходят
красной нитью сквозь философские и межличностные
отношения русских символистов, вопрошавших «каковеруеши»****. По
Подробнее о разделяемой Ивановым с постами раннего Ренессанса
идее слияния строго христианской и аноллинически-поэтической мистики
см.: Мицкевич Д. Культура и петербургская поэтика Вячеслава Иванова:
«Apollini» // Вячеслав Иванов — Петербург — мировая культура / Отв. ред.
B. Е. Багно. Томск; М., 2003. С. 242-244.
«Каждый видит по-своему, и только Данте удалось сделать для нас
убедительным свое видение» (Кружок поэзии. С. 149). Данте единственный,
кто смог «договорить» привидевшееся ему откровение. График в статье
«О границах искусства» (II, 645) также ставит Данте на высший уровень
духовного восхождения.
Ср. с евангельской реминисценцией: «Символизм <...> еще не прозрел
до конца, и "видит проходящих людей, как деревья"» (II, 601 ).
Андрей Белый, говоря о себе в письме к Блоку от 10 августа 1907 г.,
верно охарактеризовал предмет полемики своего поколения: «Пишу лишь о
теоретическом обосновании того или иного течения, ибо смешно спорить о
художественных вещах. Ведь весь спор не в том, кто пишет лучше стихи, а в
том, что есть искусство, религия, мистика, философия и т. д.» (Белый и Блок.
C. 314).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 233
словам Блока, «в сущности, ведь сверхличное главным образом
и мешало личному»*. Упомянутый Ивановым «распад прежней
фаланги» произошел, когда «таинственно крещеное
Соловьевым» «второе поколение символистов» отторгло «первое»** и
вылупляющееся из него «третье поколение» модернистов***. Но
симбиоз самобытно созревших мастеров «второго поколения»,
несмотря на общую преданность realiora, не мог долго длиться:
«Моя поэзия полярно противоположна поэзии Блока, как и
поэзии Андрея Белого, о которых, в свою очередь, можно сказать:
"вода и камень, леди пламень не столь различны меж собой"»****.
Тем значительнее, что этим союзом все же утверждалось «мно-
* Там же. С. 368.
Плавы первого поколения символистов — Мережковский, проповедник
гражданственности, и Брюсов, рыцарь формы, — одинаково категорически
отвергли тезисы «Заветов...» Иванова и речи Блока. На обвинение
Мережковским Блока в мании величия («Балаган и трагедия»; Русское
слово. 1910. 14 сент. № 211) Блок счел нужным ответить. А в письме от
29 сентября 1910 г. Белому он пишет: «Я очень рад, что Ты отвечаешь Брюсову
в "Аполлоне", но сам не хотел; по-моему, в статье Брюсова много просто
наивного; было слишком известно, что он скажет; но тяжеловесные колкости
показывают, что он очень рассердился, и что ценно» (Белый и Блок. С. 371 ).
Белый же, наоборот, ответил на статью Брюсова, а статью Мережковского
оценил как «позор и гадость»: «...Слышать о ней не хочу. После чтой статьи,
как и многого другого, я просто без всякого объяснения отвернулся от
Мережковских...» (там же. С. 375). Иванов в печати не отозвался ни на один из
утих критических откликов. Его отношения с Брюсовым изложены О. А. Шор
в примечаниях к собранию сочинений (III, 705—733). В них показано, что оба
почта, сохраняя дружбу и уважение, расходились идеологически с самого
начала их знакомства в 1903 г. (Там же. С. 710-712). Это подтверждается
также их эпистолярным наследием.
В Обществе ревнителей поэтического слова при «Аполлоне» «Заветам
символизма» Иванова оппонировали Д. В. Кузьмин-Караваев, С. М.
Городецкий и Н. С. Гумилев.
Письмо Вяч. Иванова к С. А. Коновалову ( 1946)/ Публ. С. К. Кульюс
и А. Б. Шишкина //Menento vivere Сб. памяти Л. Н. Ивановой. СПБ., 2010.
С. 278—279. Продолжим цитату. «Общее меж нами тремя, во-первых, то, что
все трое, некоторым образом и в разном смысле, связаны более или менее с
Вл. Соловьевым, а во-вторых, и это главное, что мы трое, вместе, на смену
того "символизма", который был и хотел быть продолжением французского,
заговорили о "вечном" символизме, который усматривали, например, в
Тютчеве, Достоевском, Новалисе, Гёте, Данте и у некоторых древних» (там
же. С. 279).
234 Д. H. Мицкевич
roe, что больше нас»*, т. е. некая сверхиндивидуальная, вечная
умственная сфера, к которой всегда можно возвращаться —
творчески или риторически.
Иванов обличал индивидуализм не как социально-
политическую проблему, а как психологическую. В этой сфере
он «отгораживался» и от произвола символистов, естественно
находящих, что в заоблачных realiora каждому должно
видеться свое**, и примешивающих к объективно наблюдаемым
проявлениям Души Мира (II, 602) индивидуально зарождаемую
фантазию. А реагирующим на инфляцию значения слова
«символизм» даже народническая, отрицающая декадентский культ
индивидуализма «некрасовская струя в нашей поэзии» (II, 568)
казалась понятнее, чем ивановский отказ от индивидуализма во
имя ортодоксального подхода к сверхличным realiora***. Его
аргументы было трудно оспаривать, но еще труднее применять в
собственной практике, хотя его «разговор о вечном
символизме» всегда ведет читателя не к чистой мистике, а к
определенным текстам разных культур и эпох. («Apollini» подчеркивает
это повышенной интертекстуальностью.)
Гении прошлого санкционируют тематику «несказанного»,
но ожидаемая от большого поэта XX в. независимость
прием, упомянутое письмо Блока Белому от 22 октября 1910 г. (Белый и
Блок. С. 373).
Пример Блока доказывает, что realiora могут обернуться то небесным
просветлением, то кошмаром и «гибелью». Конец поэмы «Двенадцать»
показался Иванову уничтожающей пародией на всю идею realiora in rebus.
Ивановская соборная эманципация духа вначале просто принималась
за некое неонародничество. Понадобилось формальное возражение:
«...Определение же моего эстетического направления термином "новое
народничество" — отклоняю, как чуждое моей терминологии и ничего точно
и специфически не определяющее, напротив — скорее затемняющее ясный
смысл постулируемого и предвидимого мною всенародного искусства <...>
которое в моих глазах является целью и смыслом нашей художественной
эволюции от символа к мифу, закономерно развивающему изначальное
религиозное содержание символа; всенародное искусство предваряемое,
по моему мнению, уже наступившим келейным искусством <...> как чаемое
знамение приближающейся органической эпохи, долженствующей сменить
нашу, критическую, — это всенародное искусство не может быть смешиваемо
с искусством народнического типа; оно — в будущем, и пути к нему — пути к
мистической реальности, а не к эмпирической действительности современного
народного бытия» («Эстетика и исповедание»; II, 567-568).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 235
плутает интерес к связям с давними традициями. Предметы
«ясновидения» ожидаются как продукты индивидуального
воображения, с подменой их внеличной природы. Иванов это
опровергает: «Эти, творимые им [художником], бесплотные
обличил — фантасмы или теневые "идолы", как сказали бы
древние, — не имеют ничего общего с порождениями произвольной
мечтательности: им принадлежит объективная ценность в той
мере, в какой они ознаменовательны для открывшихся
художнику высших реальностей и в то же время приемлемы для
земли, как ближайшая к ней проекция ее душевности в идеальном
мире» (II, 644). Так он ищет минимальной, но трудно
понимаемой сложностью своих текстов вовлечь слушателя в
максимально активное интеллектуальное соучастие в realiora, сквозь
«лабиринты» его души.* Ставка на эрудицию, непредвзятость,
чувствительность и ум читателя, естественно, вызывает риск
быть непонятым. Но, укоренившись во вселенском фонде
духовной жизни (как посреднике с вечностью), филолог Иванов
ищет привлечь слушающих к общению не исключительному, а
в большом фонде, где его наития отнюдь не звучат как
исключение. Рассчитывая на это, он объявляет (в статье «Эстетика
и исповедание») «келейное искусство» «искусством
художников, преодолевших в принципе недавний индивидуализм, и как
форму притязаний своеначальной личности, и как идеализм
«...Я не символист, если не бужу неуловимым намеком или влиянием
в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на
изначальное воспоминание <...> порой на далекое, смутное предчувствие,
порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения, — причем
и что воспоминание, и это предчувствие или присутствие переживаются
нами как непонятное расширение нашего личного состава и эмпирически-
ограниченного самосознания. Я не символист, если мои слова не вызывают
в слушателе чувства связи между тем, что есть его "я", и тем, что зовет
он "не-я", — связи вещей, эмпирически разделенных; если мои слова не
убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни там, где его
разум не подозревал жизни» ( II, 608—609). Не звуковой ли заразительностью
(большей, чем у Иванова) вызывалось его восхищение Блоком? «Куда
летишь, с такой музыкой, / С такими кликами? <...> смотрю / На легкий
поезд твой — с испугом / Восторга! Лирник-чародей...» («Нежная тайна»).
Очарованный читатель сочувствует горестям и радостям Блока, но сам в
них не участвует. Иванов же требует от себя, чтобы сложный аппарат его
интертекстуальности вовлекал читателя в общину посвященных в схожую
духовную традицию.
236 Д. H. Мицкевич
уединенности» (II, 568)*. «Келейность» — переходный шаг,
означающий, что искусство еще не достигло всенародного
калибра, но преодолело в отдельных сознаниях основные виды
индивидуализма, обычно отождествляемого с лиризмом.
Момент «преодоления индивидуализма» отмечается, таким
образом, освоением «целостной личностью» потенциально
всеми разделяемой сверхчувственной информации. Иванов
понимал ответственность сложного символизма перед средним
читателем. А то, что ему приходилось излагать свою
доктрину поэтам, привело к двоякой риторике: к решительному
отлучению молодых, не чтущих традицию, и в то же время к
деликатности перед определившимися мастерами. В частности,
«идеализм уединенности» Блока и «притязание своеначальной
личности» Белого требовали дифференцированного подхода**.
В таких случаях Белый провоцировал друзей: Иванова — выпа-
Номинально Иванов выиграл ожесточенный спор «всенародников» с
«индивидуалистами» между символистскими журналами «Золотое руно»
и «Весы». Статья Блока «Россия и интеллигенция» (Золотое руно. 1909.
№ 1 ) содействовала смешению его критиками мистической «всенародности»
с политической (см. примеч. 41). «Весы» вскоре капитулировали, объявив,
что философия «крайнего индивидуализма» отжила свой век, и «Весы»
присоединяются к поиску новых горизонтов духа ( 1909. № 1. С. II). «Золотое
руно», торжествуя, перепечатало что объявление под рубрикой «Мелкие
сведения» ( 1909. № 3. С. 120).
Блока, как известно, отталкивала угроза принудительности,
свойственная систематическим учениям: Белый и Блок. С. 307. Ср. в
письме от 15—17 августа того же года: «Среди факельщиков <...> стоит
особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубоких ума и души — не
пустышка. Мы оба лирики, оба любим колебания друг друга, так как за
чтими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они
совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую,
мы расходимся с Вяч. Ивановым» (там же. С. 326). А. Белый (в письме
от 19 августа) требует прямолинейности именно в главном: «Лирический
пафос души, предполагающий слова о несказанном, я способен и ценить,
и понимать; я никогда не требую объяснений; но раз многое во взаимной
лирике столкновений (курсив мой. — Д. М.) переходит в диссонанс, то
нужно для исчезновения химер взаимного недоверия перейти к твердыням
трезвого уяснения» (там же. С. 331 ). Подробнее см.: Глухова Е. В. Андрей
Белый — Вячеслав Иванов: концепция духовного пути // Башня Вячеслава
Иванова и культура Серебряного века. С. 100—132. См. здесь тираду «о
трех Ивановых» (С. 118-119) и о «сократизме Иванова» (С. 120-121 ).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 237
дами за «двусмысленность»*, а Блока — за уклончивость**.
А когда «предательство главного» снова отпадало, он также
рьяно искал примирений. Понимая это, оба поэта с ним легко
мирились.
Академически выдержанные статьи Иванова гневили не
только Белого, но и читателей вообще. Это видно на
примере докладов, прочитанных им в 1908 г. в Петербурге и Москве
и вошедших в статью «Две стихии в современном
символизме». Ее тезисы, сопровождаемые историческими примерами,
не кажутся теперь неслыханными. Требования «реализма» как
подлинности описываемых переживаний — духовных и
житейских — не новы; так же как и нравственная неуклонность,
по которой «пафос реалистического символизма» ведет «к
лозунгу: a realibus ad realiora» (II, 553). Не заумен и вывод:
«Отсюда вытекает первое условие <...> душевный подвиг самого
художника — он должен перестать творить вне связи с
божественным всеединством» (там же, 558). Такие тезисы могут
быть отвергнуты, но трудно объяснить их полное непонимание.
Е. В. Глухова приводит «более чем ироничные отзывы» «на
лекцию о символизме, прочитанную на четырех языках
сразу». «Из всех оппонентов только у одного Е. Аничкова хватило
смелости заявить, что он понял лекцию Вячеслава Иванова»,
«дамы, не понимая, смеялись». Брюсов писал: «Вчера скучал
томительно на реферате Вяч. Иванова»***.
«Удобнее было бы молчать и кивать на провокацию. Я считаю
своей обязанностью выступить против Петербурга [т. е. Иванова и его
последователей]. <...> "Вредное беспочвенное многообразное шатание",
совращающее и публику и обесценивающее все ценности, все проблемы»
(Белый и Блок. С. 317).
«Вы фальшивы (может быть, вполне бессознательно), или когда
заявляете мне, что Вы символист, или когда молчите вответ на провозглашение
Вас одним из знамен подозрительной и не существующей теории. <...> Я не
знаю, принадлежите ли Вы к этой группе, как не принадлежит к ней каждый
из порознь взятых — Иванов, Мейер, Вы, Городецкий, Чулков и присные»
(там же. С. 317). Характерна диалектика: «Я вовсе не хочу слов, формул, как
цели, но хочется формулой успокоить ум, чтобы тем вернее верить людям, а
не идеям; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи,
и тут-то становишься на строго-моральную точку зрения» (там же. С. 330).
Понявший доклад, но, очевидно, молчавший Блок отметил в записной
книжке его ключевые моменты: «Миф — объективная правда о сущем» и
238 Д. H. Мицкевич
По-видимому, «томление» Брюсова было вызвано
невозможностью оппонировать лекции, все пункты которой были для
него неприемлемы, особенно истолкование Бодлера. По
Иванову, катрены знаменитого сонета «Correspondences»
демонстрируют «провозглашение объективной правды» (realiora),
«так как стихотворение в то же время изъясняет реальное
существо природы, как символа, другими новыми
символами (храма, столпов, слова, взора и т. д.)» (II, 548). Эту идею
подкрепляют слова Гёте: «Как природа в многообразии своем
открывает единого Бога, так в просторах искусства творчески
дышит единый дух, единый смысл вечного типа» (II, 549). Но
терцеты того же сонета, отвращаясь от мистики, славят
субъективно произвольные чисто «горизонтальные» соответствия.
Тут родоначальник школы символизма «останавливается на
примерах, на частностях и ограничивается тем, что
соблазнительно заставляет нас ощутить в воспоминании ряд благоуханий
и сочетать их навязчивыми ассоциациями с рядом зрительных
и звуковых восприятий <...>. Тайна вещи, res, почти забыта;
зато пиршественная роскошь нашего все познающего и от
всего вкушающего я царственно умножена» (И, 550). Этим
отменяется гётевское «твердое решение непрестанно стремиться
к наивысшему бытию». В своем последнем высказывании о
символизме ( 1936) Иванов называет этот разлад между
катренами и терцетами сонета «первородным грехом» «внутреннего
противоречия, ей [школе символизма] с изначала присущего»
(II, 667). К этому же «греху» относит он и популярную прихоть
«насильственно» преображать вещи, противореча «высшему
завету художника» «не налагать свою волю на поверхность
вещей, <...> но прозревать и благовествовать сокровенную волю
сущностей» (II, 539). В «истинном символизме» realia,
несущие в себе прозрение, подлежат славословию не потому, что
раздражают воображение, а из-за латентного в них
преображения realiora*.
«Очень тонкое замечание Аничкова — о том, что реалисты теоретически
гораздо дальше от понятия "искусство для жизни" и "символисты" — дальше
от их понятия "искусстводля искусства"» (Блок А. Записные книжки, 1901 —
1920. М., 1965. С. 104).
«...Всякая вещь, поскольку она реальностьсокровенная,естьуже символ,
тем более глубокий, тем менее исследимый в своем последнем содержании,
«Реалиоризм > Вячеслава Иванова... 239
Репортеры могли недоумевать, дамы «хихикать», поборник
«искусства для искусства» — «томительно скучать», но яро
оппонирующий Белый, давно радеющий над этими вопросами,
в сущности, возражал не против идей Иванова, а против
«политики» оглашения эроса целостной духовной работы, против
разглашения эзотерической тайны.
«Ты говоришь мне с глазу на глаз, что идеализм и реализм в
современном символизме суть две стихии, борющиеся в душе
художника, а у Тебя в докладе совсем не это: там два течения.
Вот если бы Ты сказал это вслух, я не имел бы основания думать,
что глубокие вечные мистические проблемы Твоего доклада
перемешаны с политикой сегодняшнего дня и притом приводимой
неявно, а как-то скрыто: отсюда двойной смысл Твоего
доклада носил характер еще и "двусмысленного" смысла <...> Вот
что заставило меня, мистика, выступить против Тебя, опуская
и даже пропуская мимо ушей (курсив мой. — Д. М.) глубокое
и вечное. Глубокое и вечное должно соединяться с прямотой
и открытостью <...>. Пойми, что я пишу от открытого сердца.
Слова, которые Ты мне говорил, слишком ответственны
(курсив мой. — Д. М.)\ ради Бога, прости меня; хочу в Тебя
верить»*.
Белый, индивидуалист, неокантианец и антропософ,
протестует во имя realiora, схожих с ивановскими, против траты их
на «преждевременную соборность». Кроме того, Белый —
почем прямее и ближе причастие этой вещи реальности абсолютной» (II, 552).
Ивановский символист относится к миру по-новому, пусть не так радикально,
как пушкинский пророк, которого преобразовали сами Силы Небесные.
И новое отношение к миру объясняет обилие метаморфоз в поэзии Иванова:
они не изменяют вещей, но добавляют к ним новооткрытые знаменования.
То же относится и к «всенародности»: по мере заразительности искусства
мастера меняется и мировосприятие публики. «...Всенародное искусство
не может быть смешиваемо с искусством народнического типа; оно —
в будущем (курсив мой. — Д. М), и пути к нему — пути к мистической
реальности, а не к эмпирической действительности современного народного
бытия» (II, 568). Так и «Гимны» [6], творимые в келий или исполняемые в
храме или над могилой, всегда всенародны, ибо они направлены к духу,
общему для участвующих.
См.: Письмо Андрея Белого к Вячеславу Иванову о докладе «Две
стихии в современном символизме» (1908) / Публ., коммент. и вступ. ст.
Е. В. Глуховой // Из истории символистской журналистики. Весы. М., 2007.
С 123-124.
240 Д. H. Мицкевич
борник абстрактной схематизации realiora, а Иванов
выражает их мифотворчески. В том же письме Белый спорит: «Я
имею опыт, я знаю умное деланье... Уединенную молитву, но
я имею реальный опыт коллективной молитвы, и потому-
то знаю, что этого еще недостаточно: надо создать катакомб-
ные условия (эзотерические) для подготовления грядущего, я
бы не мог говорить о соборности вслух толпе <...> ибо я знаю
теперь соборную молитву. (Удельный вес слов и
ответственность^.) И потому-то мне кажется, что Ты пишешь и
говоришь с какой-то литературной легкостью (как и
Мережковский) о том, что есть предмет реального созидания дела,
а не Литературы, выступая об этом в литературе. Ты
претендуешь на роль пророка: а пророков не будет; не может быть
теперь; получается какая-то ложь. Но если Ты берешь на свою
ответственность проповедь соборного деланья (для меня
эта проповедь о втором пришествии Христа), я не могу на себя
брать соучастие в проповеди; я лишь исповеданием своих
тайных субстанций переживаний, устремленных к моему (курсив
мой. — Д М.) Господу, могу кому бы то ни было говорить. Так
(знаю я) ничего не будет сорвано; всякое же всуе напоминание
(в статье, в кредо и т. д.) для меня уже начало провокации. Вот
почему оттого, что Христа исповедую, я не христианин ( «Хри -
стос» и «христианство» исключают друг друга <...>) проповедь
Твоей позиции есть иногда для меня кощунство»*.
Религиозность и реализм
Иванов винит себя, четверть века спустя, в обратном:
отвергая поистине геройский опыт Е. Д. Шора философски
реконструировать свое мировоззрение, извлеченное из сборников
своих эссе (1909 и 1916 гг.), он делает знаменательное
признание: «...Статьи мои обоих использованных Вами сборников
имеют особенность (я бы сказал теперь просто: существенный
недостаток), что они не откровенны и не договаривают мою
тогдашнюю мысль до конца. В стихах говорил я все свободно, в
статьях же, наряду с большою подчас экспансивностью и даже
Письмо Андрея Белого к Вячеславу Иванову о докладе «Две стихии в
современном символизме» ( 1908)... С. 124.
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 241
дерзостью, я намеренно делал умолчания. Вы найдете в них
порою обороты вроде: "устраняя из изложения элемент личного
исповедания", "независимо от личного исповедания автора" и
т. п. Я избегал говорить в них о вере. Я хотел быть понятным
и приемлемым для разномыслящих, из которых большинство
были неверующими в смысле положительной религии. Я хотел,
говоря "с эллинами по-эллински", базироваться на
свойственном времени предрасположении к "мистически окрашенному"
умозрению, между тем как сам я уже стоял на почве
положительного, даже церковного христианства, о чем совсем
открыто говорил только в "христианской секции" петербургского
Рел<игиозно>-Фил<ософского> Общества, председателем
которой состоял...»*
«Неоткровенные», но веские статьи Иванова излагали
литературно-исторические доводы с пафосом,
подразумевающим речь «о самом главном», смущая Белого и обнадеживая
Шора. Невысказывание «главного» устраняло угрозу
профанации, но не недостатка цельного материала для
последовательной реконструкции систематичной метафизики**. Однако
напряжение между откровенностью поэтической символики***
и прикровенностью ее интеллектуальных основ не было
помехой, а наоборот, содействовало расцвету творчества
Иванова в его петербургский период****. Если десятилетием раньше, в
* Фрагменты. С. 399—400. Примером прямого говорения о церковном
хриетианетве является доклад Иванова «Евангельский смысл слова "земля"»
(Подгот. текста, коммент. и приложения О. Фетисенко. Символ. № 53—54,
68-84). А черту двусмысленности, свойственную Ивану Карамазову, Иванов
обнаружил в себе уже в юности: II, 13— 14.
** Уже цитировалось, что в 20-е и 30-е гг. Иванов считал «необходимым
переработку тех старых статей, где его позиция кажется ему устаревшей или
уводящей в сторону от основного вектора, ориентированного на Церковь»
(Фрагменты. С. 340).
*** «...Наряду с моими статьями существует и другой, и гораздо более
изобильный и содержательный источник для познания моих интуиции —
моя поэзия. В 1915 г. я пишу почму Человек — уже не реконструкцию,
но синтетическое изображение всего моего миросозерцания в виде одного
космического мифа» (Фрагменты. С. 398).
**** Вспомним, что Иванов «хотел быть понятным и приемлемым для
разномыслящих, из которых большинство были неверующими в смысле
положительной религии». Впоследствии что причинило ему много хлопот
242 Д. H. Мицкевич
первые годы символизма, «романтическая неопределенность»
давала авторам и читателям возможность представлять себе
какие угодно realiora, то с эволюцией культуры новый, более
жесткий «реализм» требовал от автора обнажения своих
духовных стихий. И Иванов не противоречил себе, вспоминая,
что он всегда «старался отгородиться от неопределенной
„поэтической религии" романтиков утверждением положительной
религии и, наконец, Церкви»*. В его бытность в России это
утверждение реализовывалось все явственнее в поэзии, но не
в публикуемой прозе, а в эмиграции — в почти полном
поэтическом молчании.
Вышеуказанным «отгорожением» и единением религии с
реализмом Иванов подписал свое отрешение от модернизма.
Ставка на вечную, а не на текущую значимость вещей расходится со
всеобщим модным пониманием реализма. По Иванову, истинный
реализм должен быть символичным. Формула Мандельштама
А=А ничего не открывает, если подобие не указывает на некое
А+. В то же время фактическая достоверность пережитого,
особенно «несказанного», требует подлинности живописующего
материала. Кроме того, отражающий материал должен
гармонически (раз realiora совершенны) сочетать свои разнородные
элементы (отсюда подчеркнутая классичность форм). И «истинный
символизм не отрывается от земли; он хочет сочетать корни и
звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых
корней. Он не подменяет вещей и, говоря о море, разумеет земное
море и, говоря о высях снеговых <...>, разумеет вершины земных
в эмиграции. Что было чуждо авангарду старого времени, оказалось
насущным для порабощаемых гуманистов на Западе. Европейская элита
ожидала от переводов былых статей утверждений «реалиоризма» в терминах
классического гуманизма, а не породившей обе книги полемики о русском
символизме. Потребовалось выискивать труды наименее нуждающиеся в
перекройке, но в точности сохраняющие свой академический вес. К тому же
сам автор потерял вкус к филологической роскоши, питавшей его прежнюю
поэтику и имевшей больший вес среди ученых иностранцев, нежели в свое
время в России. «Обнищав духом», мыслитель утратил вкус к Элладе, к
интертекстуальности и к рациональности: «И жутки стали мнедуши недвижной
маски / И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй» («Палинодия», 1927;
111,553).
Пометка Иванова на машинописной копии введения Шора к переводу
статьи «О русской идее» в 1927 г. (Фрагменты. С. 361 ).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 243
гор» (II, 611 —612). Поэтому в прижизненных сборниках
стихотворений Иванова преобладают образы природы, вековечность
и привычность которой служат отражением гармонии Души
Мира. Так же, говоря о «гробе» и «гробнице» [1, 11], Иванов
имеет в виду могилу своей жены, Лидии Дмитриевны,
становящуюся мемориалом, как древнеегипетские гробницы с
заложенной в ней «слезницей» [10] — земным символом собственных
увековеченных «ключей слез» [2].
Доктрина и метод ивановской идеи не привились поэтам, хотя
порою realiora, конечно, могут непроизвольно проступать in
rebus любого искусства. Явная «отмеженность» от хора
современных урбанистов, эстетов, импрессионистов, «декадентов» и
экспериментаторов (не говоря уже о властях) исключила
Иванова во всех отношениях как модель творческих направлений
и отдалила его от «публики». А внутреннее «старание
отгородиться» даже от собратьев-символистов обрекло певца
«всенародности» на подлинную «келейность» («в пурпуровой
темнице» [9]). Тем откровеннее он примыкает в своих статьях (как
и в «Apollini») к зоне вселенских стремлений «поэтов духа»
древности, Средневековья и раннего романтизма.
Теперь становится виднее, как «положительная почва»
просвечивает сквозь его формальные статьи, объясняя amor fati
его поэзии и стабильность его «несбыточной» доктрины.
Отметим, что возвратившемуся в Россию в 1905 г. Иванову
приходилось «отгораживаться» уже не от недругов символизма,
а (психологически) от установки поэтов чувствительных, как
и он, к духовным наитиям, но на чисто индивидуалистической
основе. На ней улавливаемые realiora могут явиться поэтам
благостной вестью грядущих «зорь», но чаще оборачиваются
«страшным миром», «грядущим хамом», «новой Калкой» или
«мировой дисгармонией».
Панкогерентность и «провалы в ужас небытия»
В своих статьях Иванов «отгораживался» от опасности
отчаяния не столько позитивным утверждением своего
верования, сколько негативно — предупреждениями о деструктив-
ности неладного баланса между восприятиями realia и
прозрениями realiora. Тогда употребление поэтических символов
губительно: «Эмпирическая действительность, изначала вое-
244 Д. H. Мицкевич
принятая безрелигиозно, под реактивом символического
метода естественно превращается в мрачный кошмар: ибо если
для символиста "все преходящее есть только подобие", а для
атеиста — "непреходящего" вовсе нет, то соединение
символизма с атеизмом обрекает личность на вынужденное
уединение среди бесконечно зияющих вокруг нее провалов в ужас
небытия» (II, 568—569)". Об этом говорит и статья-некролог
Иванова «О поэзии Иннокентия Анненского» (декабрь 1909) с
ее «пафосом расстояния» между земным и небесным и
«пафосом обиды человека и за человека» (II, 580); цитируемое выше
признание Белого о «взаимном исключении Христа и
христианства» и утверждение Блока: «..."Философского credo" я не
имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не
смею верить, ибо значит ли верить в Бога — иметь о нем
томительные, лирические, скудные мысли. <...> свои
психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному,
как свою благородную душу»**. Через несколько лет Иванов
в статье «Вдохновение ужаса (о романе Андрея Белого
"Петербург")» (1916) заключает: «Современная культура должна
была глубоко изжить себя самое, чтобы достичь этого порога, с
надписью на плитах: "Ужас", — этого порога, с которого
властительно срывает завесы, обнажая тайники утонченнейшего
сознания эпохи, утратившей веру в Бога, — русский поэт
метафизического Ужаса» (IV, 629)***.
Многим чти слова из статьи «Эстетика и исповедание» могут
теперь показаться пророческими. «Моления о "невведепии во искушение"
и "избавлении от лукавого" предохраняют от дурной зеркальности
мистического богоутверждения в нас, могущей привести внешнего человека
к самообожествлению» («Ты еси»; III, 267).
Письмо Белому от 15-17 августа 1907 г. (Белый и Блок. С. 324).
«Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я
лирик. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и веселием таится бездна,
куда можно полететь, — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное
покрывало» (там же. С]. 325).
Ср. в статье «Заветы символизма»: «В творениях 3. Н. Гиппиус,
Федора Сологуба, Александра Блока, Андрея Белого послышались крики
последнего отчаяния. <...> И недавние художники, отрясая прах от ног своих
во свидетельство против соблазнов искусства, устремились к религиозному
действию на иной ниве, — как Александр Добролюбов и Д. С.
Мережковский» (II, 599).
« Реал иоризм» Вячеслава Иванова... 245
Абстрактная религиозность также не спасает поэта от
«ужаса». От него спасает лишь убежденность в конкретной
сверхлогической связности сущего. Раз отражаемые в
реалиях realiora совершенны по преимуществу, то отражающие их
res должны пребывать в аполлинической гармонии. «...Поэзия
должна давать "всезрящий сон" и "полную славу" мира,
отражая его "двойною бездной" — внешнего, феноменального, и
внутреннего, ноуменального, постижения» (II, 592). Особенно
показательна рецензия Иванова на сборник А. Белого
«Пепел» (1909). В ней приветствуется эволюция мировосприятия
философски тогда близко стоящего поэта-современника*, но
Иванов считает ее еще не завершенной:
«Подобно Гоголю, Белый был болен прирожденным
идеалистическим "неприятием мира", — не тем, которое возникает из
роста самоутверждающегося высшего сознания в личности, —
но тем, что коренится в природной дисгармонии душевного
состава и болезненно проявляется в безумном дерзновении и в
внезапной угнетенности духа, в обостренности
наблюдательных способностей, пробужденных ужасом, и слепоте на
плотскую сущность раскрашенных личин жизни, на человеческую
правду лиц, представляющихся только личинами —
"мертвыми душами".
Глубокая и также прирожденная религиозность все же
делала А. Белого реалистом; но единственная реальность в
творении, ему ощутимая, была супрареальность
непосредственного мистического знания — Душа Мира, в ее глубочайшем
и сокровенном лике Матери-Девы. Матери-жены, многогру-
дой Кибелы, родительницы и кормилицы сущего, он как бы
не видел, и не было общего кровообращения живых энергий
между поэтом и Землей. Тайне пола он хотел сказать живое да,
но бездна между отвлеченно-одухотворившейся личностью и
темной утробой Матери была столь непроходима, что это да в
искажении и корчах кончалось криком отчаянного проклятия,
который слышится в последней, недавней "симфонии" ("Кубок
метелей"). <...>
Иванов и Белый были в то время заинтересованы, благодаря усердию
А. Р. Минцловой, антропософией. 11о любопытство Иванова к чтому учению
как к вспомогательной возможности было кратковременно, а для Белого
сыграло определяющую роль.
246 Д. H. Мицкевич
Что-то счастливо изменилось в душе поэта, благодатно
открылось ей; что-то простил он земной Матери, первой
ближайшей реальности, и узнал в человеке живое "ты". Как Гоголь
помог развитию художника, так Некрасов разбудил в Белом
человека-брата; и новая книга его уже плоть от плоти и кость от
кости "народнической" поэзии. Но не над горем голодного
народа только хотел бы он "прорыдать" в родимые пустые раздолья:
во всем ужасе представляет он душевное тело народа и его злой
недуг, отчаянье и оторопь горбатых полей, растрепанных
придавленных деревень, сухоруких кустов и безумных желтоглазых
кабаков. Внутреннее освобождение поэта совершилось чрез его
воплощение во внеличную действительность, чрез сораспятие с
ней, чрез нисхождение к этой ближайшей, непосредственно
данной реальности, а не восхождение до высшей и
отдаленнейшей» (курсив мой. —ДМ.; IV, 616-617)*.
На том же основании Иванов «отгораживается» и от Блока:
«Я его считаю первым лириком нашего времени. Но он минор
и, как минор, ниже мажора. А мажора у нас теперь нет. Блок,
это — принц Гамлет <...> но это — не царь, царь — это мажор
<...>. В Блоке нет ничего царственного; он как принцем
рожден, так принцем и должен жить...»**. Выше цитировалось, как
в итоге своей карьеры Иванов видит ближайших себе по рангу
символистов «полярно» противостоящими своему
устремлению к панкогерентной «горящей славе звездной» или «славе
тверди звездной» (Тютчев), или своей собственной «тверди
огневой».
Зависимость славословия от восприятия res оказалась
более решающей, чем просто манера или подход того или
иного поэта. Возможно, что мотивы «ужаса» и «гибели» Белого
и Блока просто предупредили «реализм» будущего молчания
Иванов здесь говорит об ассимиляции внешних наитий (ab exterioribus
ad interiora), т. е. именно в рамках реализации имманентного наличия realiora
in rebus.
Кружок поэзии. С. 129. А Иванов «видит бытие поэта не как праведно-
безвластное, но как царственно-властное; не как противоположность,
но как аналог и эквивалент сверхчеловечески-нечеловеческому кипению
государственных, державных стихий» См.: Аверинцев С. С. Вячеслав
Иванович Иванов. // Символ. № 53/54. С. 18. В связи с «берегущей» поэта
«благородной душой» вспоминается монолог датского принца «Oh, my
prophetic Soul» (Act I).
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 247
Иванова. Уловленное их особой чуткостью могло быть не
пороком индивидуализма, а предвестием всеобщей
беззащитности перед наступающим мировым, классовым, идеологическим,
экологическим и психологическим террором и геноцидом.
И «царь-Иванов» мог недооценивать парализующую угрозу
глобального распада памяти цивилизации и общего
выпадания из «надстройки, в которой мы живем» (Мандельштам). В
«нормальные» времена Иванов-«реалист» не закрывал глаза
на «Смерти сень» [3], но также и на то, что во мраке «горьких
лон» [10] и «гробниц» [11] хранятся, «как перлы бездн» [11],
возродимые драгоценности. Тогда еще жил в нем древний завет
жрецов, «что "умеРеть" значит "родиться", а "родиться" —
"умереть", и что "быть" — значит "быть воистину", т. е. "быть
как боги", и "ты еси" — "в тебе божество"» (II, 593).
После неожиданной смерти своей Диотимы и
вдохновительницы, Лидии Дмитриевны (17 октября 1907 г.), когда,
рыдающий, он еще ощущал в окружении и в «обставшей» его
«волшебной дуброве» наличие realiora, поэтическое вдохновение
не только не покидало Иванова, но даже усилилось пафосом
личной трагедии. И Память, как видно из «Apollini», творчески
преодолевала временную данность смерти. До гигантомахии
Мировой войны и Революции верующие могли еще
рассматривать отдельные, даже народные, трагедии как преходящие
эпизоды, растворимые в море неисповедимой когерентности
Всевышнего промысла. Тогда еще само их явление предполагало
за эпическим разрешением просветление катарсиса; и Иванов,
сожалея о негативности «братьев», не корил их за отражения
таких эпизодов: «Если бы символисты не сумели пережить с
Россией кризис войны [Японской] и освободительного
движения, они были бы медью звенящею и кимвалом бряцающим.
<...> Ибо душа народная болела, и тончайшие яды недуга они
должны были претворить в своей чуткой и безумной душе» (II,
599). Но когда тысячелетние ценности и устои стали рушиться
почти сразу на всех уровнях, сам Иванов перестал чувствовать
себя «органом мировой души, ознаменователем сокровенной
связи сущего» (II, 596). Realiora более не отражались in rebus,
а отражалось то, что ужасало Белого и Блока, выметая почву
для благодарственного славословия.
Так, после трагической зимы 1920 г. смолкла муза Иванова,
когда вместе со смертью его молодой третьей жены, Веры
Константиновны, вся Россия и Европа подпала под «сень Смерти».
248 Д. H. Мицкевич
Поэт пояснил своему «Эккерману», М. С. Альтману:
«Проклинать я не хочу, я рожден благословлять, а благословлять
я уже здесь ничего не могу. Я когда писал, на меня
нисходило (курсив мой. — Д. М.) великое веселье, ибо я в подъеме, в
мажоре творю. Последние же мои "Зимние Сонеты" ( 1920 г.),
когда я пытался описывать то, что я теперь вижу, были
слишком мрачны. Но дальше нужно молчать»". Подчеркнем, что это
молчание было вызвано не утратой веры или тяги к realiora, а
распадом платформы их земного проявления. Поэтому по
приезде в насыщенный античной культурой Рим поэт сразу ожил
в Иванове. 24 мая 1924 г. он пишет Горькому: «Вернусь, быть
может, здесь и к поэзии, коей чуждался последние четыре года,
со смерти матери моего маленького сына, не желая
предаваться мрачной лирике»**. В Вечном Городе произошло то, что
Иванов предчувствовал в этом письме: «В Риме больше месяца
душа все не могла угомониться от того особенно счастливого
волнения, в какое приводит ее именно Рим, — как ангел,
сходящий (курсив мой. — Д. М.) и возмущающий купель. Даже
рифмы принеслись», — писал он М. О. Гершензону 31
декабря 1924 года. Это событие припомнилось через двадцать лет,
8 августа 1944 г.: «И римским водометам в лад/ Взыграл
родник запечатленный» (III, 624). Но это не «возврат» к поэзии:
Иванов тут же продолжает: «Не надолго. Был духу мил / Отказ
суровый Палинодий...»
Признание это чрезвычайно осложняет вопрос, почему
Иванов почти два десятилетия с тех пор (с 14 января 1927 г.) не
касался своей лиры. Что, в сущности, означало стихотворение
«Палинодия» (III, 553)? Оно не о переходе в Католичество и
не о таких очевидных мотивах, как творческое одиночество,
разлад с безбожной современностью, смерть близких,
беженство и эмиграция, как будто объясняющих, почему Иванов с
1912 г. перестал издавать сборники стихотворений. Но
знаменательное утверждение (1944), что «покаянный», формально
выраженный в 1927 г. отказ неожиданно для автора «был духу
мил», говорит о внутреннем и более сложном мотиве: о неком
освобождении. Почему «пресытил гиметский мед»? Кто похи-
Лльтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 98.
Цит. но: Котрелев И. В. \Лл переписки Вяч. Иванова с Горьким: К
истории журнала «Беседа» // I-iiropa Orientalis. 1995. [Vol.| XIV. |М>| 2. С. 186.
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 249
тил или в каком «вещем ужасе я сам разбил» «рощи миртовой
кумир» ( не из той же ли « волшебной дубровы / Где Дант
блуждал»)? Почему после потрясающих потерь несравненные
филологические и археологические дары Эллады оказались
безразличными («твоей не знал я ласки»)? Даже хуже: «И жутки
стали мне души недвижной маски, / И тел надменных свет, и
дум Эвклидов строй». Этим упраздняется весь аполлинический
аппарат соединявший realia с res. «Мраморно»-недвижные
отражения совершенства и высокая стройность мышления, т. е.
сам созидающий искусство аполлинизм обернулся жутко
ложным суррогатом. Вместо этого услышанный от апостола Павла
или «неба зов»: «Покинь, служитель, храм украшенный бесов»
приводит к аскетическому самоуглублению и тишине.
А что же с незыблемой «твердью огневой »обсуждаемой нами
доктрины «реалиоризма»? Не на ней ли «ваялось» «лавровое»
художество? Эта твердь еще более утвердилась. «Молчанья
дикий мед и жесткие акриды» — не отказ от realiora, а наоборот:
уход «отцов пустынников» от мира res и realia; уход этот дает
«духу милое» непосредственное общение с realiora и
освобождает от хлопот рифмования. Конечно, цена такого
освобождения — за счет тезауруса и роста культуры, за которую Иванов
так ратовал. И если отказавшемуся от «эллинства»
христианину это отречение было духовно «мило», то скептики могут
спросить, не лицемерил ли замалчивавший за «завесой слов
странных» свое кредо Иванов, обличая самопроизводимую на
«языческий» лад религиозность собратьев-символистов?
Подробно вникая в диалектику Иванова, мы едва ли ошибемся,
найдя неизменными его искренность и последовательность.
Опрощение, обет молчания и анамнесис
Поэт еще задолго до «Палинодии» и до революции не раз
покидал свой филологически «украшенный храм». Например,
циклы «Северное солнце» (1906) и «Повечерье» (1907),
вошедшие в «Corardens», как и сборник «Нежная тайна»
лишены нарочитого синкретизма и тайнописи. А в статьях ко
времени «Apollini» из его полуэллинской и полуданте-гётевской
мифологемы постепенная (а после «Палинодии» радикальная)
пурификация и кристаллизация realiora вырастает во все
большую церковность. Стихотворение «Богопознание» (1915),
250 Д. H. Мицкевич
нарочито помещенное в посмертном сборнике «Свете тихий»
(1962, 1977-1978) и затем в собрании сочинений (III, 552—
553) непосредственно перед «Палинодией», прямо говорит о
realiora in rebus и открыто замещает интуитивным восприятием
академический «дум Эвклидов строй»:
Мужи богомудрые согласно
Мудрствуют, что Бог непостижим.
Отчего же сердцу ясно,
Что оно всечасно
Дышит Им,
И Его дыханью сопричастно
И всему живому с Ним?
Простота сердца и скупость речи у Иванова, несомненно, —
результат долгого просвещения и «Любви» [2], вынашиваемых
«в свет» [6] сквозь «ключи слез» [2]. В этом стиле мистический
по природе контакт с realiora образует как бы хиазмовую
(крестообразную) зависимость ума, чутья, зрения и слуха — своего
и вселенского.
Во-вторых, многолетний труд выработки сверхличностного
мировоззрения не был украшением «храма бесов», каким он
показался ретроспективно, когда труды его не могли более
чествовать цивилизацию. Его скопление «масок» и ритуальных
регалий, включавших соблазны рядом с церковным
благоговением, было усердным делом anamnesis'a — накопления тысяч
выражений и «гимнов» realiora из разных культур и времен.
Собирая их, Иванов обрел Пушкинский (по Достоевскому)
«пророческий» дар отождествления своих реалий с реалиями
и realiora былых гениев. Этим создалась твердая уверенность и
отчетливая картина вселенной, уяснившая ему как раз то, «что
сердцу ясно» и чем он пытался делиться с «безразличными»
современниками.
По словам Э. Р. Курциуса, анамнезис Иванова —
способность «пробуждения первобытного знания о священности и
мистериях отцов. Этим он мог в как будто бы чуждом и
отдаленнейшем узнавать обновленную античность: в Достоевском —
аттическую трагедию, в Гоголе — аристофановский хор»*. Дар
* Curtius Ernst Robert. W. Ivanov// II Convegno. Anno XIV 1933. № 8/12.
P. 270; цит. по: Wachtel Michael. Vjaceslav Ivanov, Dichtung und Briefwechsel
«Реалиоризм » Вячеслава Иванова... 251
«пробуждения первобытного знания» укрепил уверенность
Иванова в его причастности к плеяде возвестителей realiora,
к их и к собственной бессмертности. И этот дар позволял ему
отличать со все большей ясностью подлинных светил от
лжепророков. Нет основания предполагать, что этот дар покинул
его в 1927 г. или что Иванов от него отказался. Он только
приводил ко все более строгому и сосредоточенному канону. Уже
в сезон «Apollini», в дневнике от 14 апреля 1910 г., когда этот
дар достиг высшего расцвета, Иванов так сформулировал свой
«внутренний канон»:
«При каждом взгляде на окружающее, при каждом
прикосновении к вещам должно сознавать, что ты общаешься с
Богом, что Бог предстоит тебе и Себя тебе открывает, окружая
тебя Собою; ты лицезришь Его тайну и читаешь Его мысли.
<...> Так, славя непрерывно Бога, во внешней данности, душа
твоя будет сливаться со всем, ибо ее хвала будет утверждением
божественной реальности в тебе самом.
Должно сознать, что столь же идеалистичен Мир, сколь
реальна Земля. Ты поймешь, что грешен мир, потому что ты
грешен, и страдает, потому что во страдание вверг его ты, и
безобразен, потому что ты исказил его строй. Душа, извне в
тебя глядящаяся, реальна и божественна; но мир в тебя
глядящийся, твое отражение в зеркале. <...> Чтобы видеть лик
вещей божественных, научись видеть божественность вещей:
утверди божественность в вещах, и они явят тебе Лик
божественного. <...> Бог есть видение в вещах вселенского Слова»
(11,806-807).
А к собратьям-поэтам Иванов обращается месяцем
раньше с той же мыслью, но гораздо осторожней — абстрактно:
«Под "внутренним каноном" мы разумеем: в переживании
художника — свободное и цельное признание иерархического
порядка реальных ценностей, образующих в своем согласии
божественное всеединство последней Реальности, в
творчестве — живую связь соответственно соподчиненных символов,
из коих художник ткет покрывало Душе Мира, как бы творя
aus dem eutschsprachigen Nachlass. Mainz, 1995. S. 75 (пер. мой. — Д. M.).
См. также: Иванов Д. В. Вячеслав Иванов о вселенском анамыезисе во
Христе как основе славянского гуманизма // Вячеслав Иванов. Архивные
материалы и исследования. М., 1999. С. 177—178.
252 Д. H. Мицкевич
природу, более духовную и прозрачную ( курсив мой. — Д. М. ),
чем многоцветный пеплос естества. <...> Его зеркало,
наведенное на зеркала раздробленных сознаний, восстановляет
изначальную правду отраженного, исправляя вину первого
отражения, извратившего правду. "Зеркалом зеркал" — "speculum
speculorum"* — делается художество, все — в самой
зеркальности своей — одна символика единого бытия <...> в
раздельности случайно выявленных и как бы вырванных из целого
соответствий...» (II, 601 ).
Элемент покаяния в отказе от служения в «храме
украшенном бесов» бросает тень укора на все поэтическое дело
Иванова за излишнюю театральность и декоративность его искусства.
В этом укоре самому себе сказывается подобие постепенного
сокращения ранней экстравагантности и увлечения
«многоцветным пеплосом естества» с почти окончательным обетом
молчания. Подобие этих позднейших тенденций снижает
радикальность ивановской «Палинодии»: былалитакуждемонична
примесь археологических «раскопок» к эросу ваяния realiora in
rebus? При этом важно, что сокращались не realiora, а только
воплощения их через декоративные res. Независимо от
внешних биографических факторов, с постижением realiora
возникает проблема надобности аппарата, ведшего к их постижению.
Пока «Бог есть видение <...> вселенского Слова» в вещах, a не
в непосредственности церковного канона, тезаурус Иванова
представлял собой филологический источник этого «Слова».
Такой путеводитель гуманизма был нужен поэту (и — он
думал — и читателям), как кормчий при открывании пространств
realiora. Но хотя в измерениях житейской памяти всеобщий
анамнезис — наш лучший антидот против смертности
забвения, его рукотворные памятники не равноценны realiora,
живущим в Вечной Памяти. Она есть само бессмертие, а не его
отражения. Тем не менее в доступном нашему сознанию
преддверии вечности определение «украшенного храма» поэзии как
аполлинического «отражения в Прозрачности бессмертной»
вполне правомерно. И ошибочным было бы понимать
«книжность» и затрудненную риторику как обратное тому, что «серд-
Так озаглавлена «Книга Вторая» первого тома «Corarclens». lie эпилог,
триптих «Почту» заключается сонетом «Apollini» (здесь без заглавия). Ср.
«...и отразил в кринице» [13].
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 253
цу ясно». Приведшие к этой ясности модели греко-романской
и иудейской античности и Средневековья, воспитавшие стиль и
тон Серебряного века, не выпадают из сознания при переходе
на «простой» стих: они только становятся прозрачными.
Остается вопрос — зачем стихи, когда есть прямое
ощущение «несказанного»? Не поэтому ли с приходом к «последней
Реальности» высказывается в «Палинодии» отказ от
театральности всяких отражений с присущими им
несовершенствами, соблазнами и украшениями? С мистическим ощущением
смиренной причастности себя-атома к бескрайней Вечности
предшествующая этому «гордость восхождения» (ср. I, 827)
уступает место священнобезмолвию, а формотворческое
нисхождение бежит искусственности. И когда Иванов все-таки
брался за перо и между описанием римских фонтанов и
картин военных дней затрагивал вечные темы, они не подавались
как таковые. Глубинные мотивы приглушенных поздних стихов
Иванова стали еще труднее постижимыми, чем в былой звонкой
риторике*. С опрощением лексикона реалий, опрозрачивались
и признаки, по которым узнавались realiora. Поэтому
обратный, положительный, довод о пользе его былого рационально-
академического творчества, с возможностью распознавать
аллюзии, остается в силе наряду со священным безмолвием.
Молчанию, как и минимализации гласности, естественно
противостоит инстинкт сообщать «весть новую». Всегда
жививший человека и радующий дух автора стимул уяснять и
закреплять интуитивные наития — открытие тайн — в себе, в
природе и в культуре, создает ощущение нисходящих небесных
* Эффект понижения дионисийской экзотики был настолько силен, что
ранние западные исследователи приняли его за снижение устремления к
realiora. По наблюдению Карин Чёпфл. в творчестве Иванова художественное
нисхождение постепенно стало перевешивать мистическое восхождение
(Tschöpfl С. Vjaceslav Ivanov: Dichtung und Dichtungstheorie. München, 1968.
S. 172 ). Это же мнение разделял и В. Террас ( Terras V The Aesthetic Categories
of «Ascent» and «Descent» in the Poetry of Viaceslav Ivanov// Russian Poetics/
I'd. Thomas Eekman and Dean S. Worth, Columbus, 1983. P. 396). На самом деле
Иванов решительно отделял «восхождение» от акта творчества (II, 635; см.
также раздел I. 9), так как оно обязательно предшествует творчеству. И когда
после 1912 г. он стал меньше творить, т. е. «нисходить», его религиозность
сделалась отчетливее, мистическое восхождение относительно участилось и
стало перевешивать «нисхождения».
254 Д. H. Мицкевич
сил в формы красоты земного искусства. Взнос Иванова в
понимание этого (по Пушкину, «пророческого») момента
вдохновения неоспорим. Он начал свое многолетнее постижение Бога
и продвижение к церковности весьма продуктивно, с
исследований истоков эротизма как истоков творческой энергии.
Умудряясь в науке и в стиховедении, мыслитель все строже отбирал
средства, служащие достижению его цели. Так он разрешил в
течение своего наиболее плодотворного периода (1905-1912)
противоречие между мистикой и художеством категорическим
различием в каждой из этих сфер: в религиозности, обрядной и
творческой, и в себе — человеке и художнике.
С ростом творческой религиозности в Иванове-художнике
тенденция сокращать декоративность и театральность явно
предшествовала «Палинодии» — как психологически, так и
с точки зрения объявленного им реализма. Но с понижением
театральности поэт переносит энергию на повышение
сложности более тайной, на уровне нюансов и скрытых аллюзий.
Ответственность за подлинность и чистоту приводимых
признаков realiora налагает строгую автоцензуру и фильтрацию
принимаемой в текст информации, как и ее трансформации.
В то же время структура «Apollini» также позволяет, без
отрыва от действительности, переступать грани между
переживанием и верой поэта, мастерством его речи и накопленным
им тезаурусом. Тот же реализм, что обязывает дух символиста
проходить сквозь действительность в ее подлинной сложности,
без прикрас и иллюзий, требует психологического
правдоподобия и от повествуемых мифических метаморфоз.
Эстетическая завершенность — один из залогов психологической
убедительности. И когда автору невыносимо приедаются общие
места истертых и преувеличенных истин, тяга к антиномиям и
диссонансам вступает в конфликт с прибеганием к ранее
испытанным «чистым» прописным realiora, тогда внимание к
значению деталей освобождает знатока классической формы
от риторических клише, как и от сделавшихся лишними
симметрии и ставших общими гармоний. Повышенные и
размноженные значения деталей вносят в прогрессии текста новые задачи
логических разрешений. Остро понимая (как Блок)
непростительность слишком легких решений, Иванов вдобавок
требовал от своей поэзии жизнеутверждающих завершений. Как в
музыке, разрешение более сложных или резких диссонансов
в менее диссонантные созвучия создает удовлетворяющие за-
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова... 255
вершения (cadenze, closures), так и переходы от более темных
комплексов нюансов мысли к более ясным создают просветы
в поэзии. Такие переходы на уровнях сложных структур
относительно подобны простым функциям, как от доминанты к
тонике. Так, в «Apollini» переход от «мрака сурового» ко «мгле
багровой» [2, 6] подобен «сквожению» из «сени» «в свет» [6,
3, 6]. Передача «просветного» мировосприятия, когда оно
реалистически возможно, оправдывала нарушения молчания. Но
и молчание оправдывалось: с растущим внешним и внутренним
уединением оставалось все меньше конкретных причин
воспевать realiora или воплощающие их res.
Поэтическое молчание Иванова определимо как
радикальная редукция материальности повествуемых событий (обратно
формотворческой эйдолологии). Но обет молчания и reductio
rerum не означали отказ от духовного восхождения и не
препятствовали умственной жизни в тезаурусе и анамнезисе. И
последний цикл Иванова «Римский дневник» (1944) содержит
достаточно доказательств, что эта жизнь не иссякла до конца
его дней.
Р. Бёрд
«Переписка из двух углов»
как текст и действие*
D богатой критической литературе, порожденной
«Перепиской из двух углов» Вячеслава Иванова и
Михаила Гершензона, царит парадокс: хотя
«Переписка» возникла вполне спонтанно, ее текст очень скоро
застыл в позе живой классики. В изложении
позднейших критиков «Переписка» производит впечатление
такой завершенности, что им остается лишь повторять
аргументы двух участников, с изобильными цитатами
из текста. К тому же все больше преобладает голос
Вячеслава Иванова, тогда как Михаилу Гершензону
отводится роль хора. Живое слово, изреченное в
минуту глубокого кризиса мысли и слова, превращается
в застывшую доктрину. Это непродуктивное
положение привело к тому, что в недавнем обзоре научной
литературы о Вяч. Иванове Аврил Пайман предлагает
наложить запрет на работы по этой великолепной, но,
по-видимому, наскучившей классике русской мысли**.
Впервые: Иванов Вячеслав, Гершеп:юи Михаил. Переписка
из двух углов / Подг. текста, прим., ист.-лит. комм, и иссл. Роберта
Вёрда. М., 2006.
Pyman Avril. Viacheslav Ivanov: Studies and Publications,
1994-96 // Slavonic and East European Review. Vol. 77. M>. 3.
1999. P. 488.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 257
Тем временем остаются нерешенными настойчиво
поднимаемые в ходе критической дискуссии вопросы истории и поэтики
«Переписки», ответ на которые позволил бы расширить
тесные границы установившегося одностороннего понимания
текста как манифеста ивановского гуманизма. Сама ситуация
подобной переписки вызывает у некоторых критиков недоумение
и даже подозрение*. Почему, действительно, друзья и соседи по
комнате пишут друг другу витиеватые письма, отказываясь от
непосредственного общения друг с другом? Не говорит ли это
более о разладе человеческого общения, нежели о диалогич-
ности создавшегося текста?
Хотя первые критики уделяли особое внимание как раз
вопросу об ее злободневности, до последнего времени
«Переписка» странным образом выпадала из истории. «Переписка»,
мол, «подхватила» дух эпохи или настроения интеллигенции.
Стандартная ныне интерпретация «Переписки» как манифеста
ивановского гуманизма восходит к ее рецепции в среде
межвоенного западноевропейского культурного процесса и тем
самым еще больше отдаляет ее от тех конкретных обстоятельств,
которые ее породили, а значит, и от того конкретного смысла,
который нашел выражение в ней как для ее создателей, так и
для ее первых читателей. Для любого анализа «Переписки из
двух углов» как текста важным прецедентом является
исследование Веры Проскуриной, которая, основываясь отчасти на
авторской рукописи, показала, как этот «универсальный —
вне пространства и времени — документ» представляет собой
к тому же и «замечательное литературное произведение,
построенное по законам художественного текста и
ориентированное на литературную игру и театральную условность»**.
В настоящей заметке мы предлагаем взгляд на «Переписку»,
исходящий от более полного учета контекста ее создания. Наша
задача — вернуть «Переписку» в исторический контекст и вы-
* См., например, Гизетт <Гизетти А. А.>. Рец на кн.: Иванов Вяч.,
Гершензон М. О. «Переписка из двух углов» // Вестник литературы. 1921.
Год III. № 10 (34). С. 9. Подробнее о рецепции «Переписки» в России и
за рубежом см.: Иванов Вячеслав, Гершензон Михаил. Переписка из двух
углов/ Подг. текста, прим., ист.-лит. комм, и иссл. Роберта Бёрда. М., 2006.
С. 90— 171. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
** Проскурина В. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и
миф. СПб., 1998. С. 338-339.
258 Р. Берд
явить ее смысл в свете событий, обусловивших ее создание, и
ее смысловой потенциал для читателей в новой исторической
ситуации.
«Переписка» как метафора жизни
Литературность и универсальность «Переписки из двух
углов» отчасти обусловлены ее образной системой,
необычайно богатой для произведения философской публицистики. Хотя
на словах Гершензон борется с риторикой и ищет как можно
более прямого выражения своим чувствам, он сам создает
наиболее объемные метафоры, например, метафору «угла» (в
начале письма IV и опять в письме VI). Жизнь «в углу» как нельзя
лучше описывает внутреннее состояние Гершензона, который
ищет более естественную форму жизни. Иванов потом (в
письме V) подхватывает образ «угла» и, обыгрывая его по-своему,
указывает на наличие в комнате еще и «широкого» окна и
двери. В конце же «Переписки», устав от полемики (или диалога),
Иванов предлагает «разойтись <...> по углам». Угол, комната,
сама Здравница «для работников науки и литературы»
становятся метафорами жизни авторов, сохраняя свое конкретное
значение как реальные детали их обстановки.
Различия в мироощущениях авторов выявляются даже в их
отношениях к этой метафоре. Когда Гершензон вписывает в
свой текст (к письму VI) точный адрес своего «угла», Иванов
его зачеркивает. В окончательном тексте этого письма
также отсутствует указанное Гершензоном время года: «июль на
дворе»*. Если Гершензон настаивает на интимной связи между
метафорой и личной ситуацией, то Иванов более озабочен ее
универсальной применимостью: его мало интересует, что «на
дворе». Иванов допускает метафоризацию жизни, но его
метафора противится полному возвращению в жизнь.
Далее Гершензон подробно развивает образ родниковой
воды, предпочитаемой им кипяченой воде культуры. В
письме X Гершензон вдруг срывается с пророческого тона и
нисходит из сферы метафоры обратно в обыденную жизнь: «Среди
* ОР РГБ. Ф. 746. К. И. Ел. хр. 3. Л. 8 об. Подробнее см.: Иванов
Вячеслав, Гершензон Михаил. Переписка из двух умов. С. 38.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 259
этих пышных вместилищ густой и теплой философии, горячей
и ароматной поэзии можно умереть от жажды, не найдя глотка
холодной воды. Простите затянувшуюся метафору: такая жара
эти дни, — нигде не найти прохлады; пью, пью теплую
кипяченую волу, выпил уже весь наш графин, а все не утолил жажды.
Верно, оттого и написалось о жажде» (69—70). Здесь, в этом
кажущемся срыве голоса, и заключается весь пафос Гершензо-
на, который демонстративно отвергает соблазн красноречия и
настойчиво призывает к запросам и интересам реальной жизни.
Здесь нам слышится и важный мотив всей «Переписки»,
которая возникает из конкретной жизни ее участников и постоянно
ищет ход обратно в жизнь уже через читательское восприятие.
Жизнь переводится на язык метафоры, но сами метафоры
постоянно обнажаются и теряют иносказательность.
Подобное напряжение между метафорической и реально-
бытовой речью наблюдается и в аргументах Вяч. Иванова. Если
проследить развитие аргументов Иванова в ходе «Переписки»,
то оно удивительнейшим образом совпадает с его собственной
интеллектуальной эволюцией, взятой на всем протяжении его
творческой деятельности. В письме I Иванов заявляет о своем
порыве за грани мира к бессмертию, так же как в своих ранних
стихах (в сборнике «Кормчие звезды» первый раздел
называется «Порыв и грани») и в «дионисийских» статьях. В
письме III Иванов формулирует этот порыв как проявление эроса
и утверждает возможность адекватных объективизации
запредельного опыта в символе («Есть внутреннему опыту словесное
знаменование»; 15). Здесь он призывает освободиться от
«мертвящей преемственности» (19) и принять веру в Бога. Однако,
как и критики ивановского символизма в 1907 г., Гершензон
отмечает внутреннее противоречие в мысли Иванова,
одновременно преклоняющегося перед культурой и преодолевающего ее
через веру. В следующем письме V Иванов воскуряет фимиам
на алтаре Памяти (ср. статью «Древний ужас», 1909), а в
письме VII углубляет этот исторический момент, призывая
собеседника к «посвящениям отцов» (43). Здесь, как в статьях
Иванова 1910-х гг., трансцендентные мистерии ищут себе земной дом
(или храм) и конкретные исторические корни, которые в
письме IX характеризуются как икона и вечная память (отголоски
православствующего Иванова эпохи Первой мировой войны).
В своем последнем письме, так же как и в работах первых лет
советской власти, Иванов отчасти возвращается к внеисториче-
260 Р. Берд
скому трансцендентизму, с которого он и начал в первом письме.
Оставляя идею о «посвящениях отцов», он утверждает, что он
«наполовину — чужеземец», и зовет ввысь, к прометеевскому
«восхождению» (77—78). Но это уже не уверенный глас иеро-
фанта: если в письме III Иванов дает отповедь «тем запуганным,
которые все изреченное мнят ложью» (15), то в письме XI он
более осторожно выражается по поводу тютчевского девиза: «Я
не люблю злоупотреблять этим грустным признанием Тютчева;
мне хочется думать, что в нем запечатлелась не вечная правда,
а основная ложь нашей расчлененной и разбросанной
культурной эпохи» (73; курсив мой. — Р. В.).
Таким образом, онтогения «Переписки» повторяет
филогению ивановского творчества, иллюстрируя весь его путь от
необузданного оптимизма к историческому «посвящению» и
потом обратно к более умеренному, но не менее
индивидуалистскому мировоззрению. Его письма сами предстают метафорами
его творческого развития, и в качестве таковых они
открывают ему универсальную перспективу на собственную жизнь.
Текст, запечатлевший этот момент самопознания и открывший
его собеседнику и читателям Иванова, несомненно,
становится значительным событием в его жизни, опытом с серьезными
последствиями для его творчества. И наоборот, понимание
писем Иванова в какой-то мере зависит от нашего понимания их
контекста в его жизненной истории. Например, как последнее
слово в «московском» периоде творчества Вяч. Иванова
«Переписка» развивает главную мысль статьи 1919 г. «О кризисе
гуманизма» и подводит итог всей символистской теории
культуры, представляя своего рода завет бывшего властителя дум,
обращенный «из глубины» трагического времени к наступающим
поколениям эпохи «постистории». Как первое слово Иванова в
эпоху эмиграции, «Переписка» имеет существенно иной смысл,
предваряет его принятие католичества и надвременного
гуманизма, возвышаясь над историей в область незыблемых истин.
Но, как говорил Иванов в другой связи, «не должна быть
изглажена печать раждающего мысль исторического дня»*. По сути
дела, конечно, «Переписка» является одновременно и итогом
башенного любомудрия, и первым проявлением умудренной и
несколько отстраненной старости; более того, она запечатлева-
* Иванов В. И. Скрябин. М., 1996. |С 4.|.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 261
ет тот самый, абсолютно непредсказуемый момент перехода от
одного периода к другому. В известном смысле само время, его
ход вперед и отступление назад, его владычество над человеком,
и являются героем книги.
Также и для М. О. Гершензона «Переписка» отмечает не
только его физическую жажду этим жарким, пыльным и голодным
московским летом 1920 г., но и духовную его жажду на
ответственном распутье в его интеллектуальной биографии.
«Переписка» служит рубежом, отделяющим его историко-литературные
исследования от изложения его собственных философских
размышлений, которые он начал печатать лишь в 1917 г. Для
Гершензона «Переписка» — как бы заявка на тему, проба
философского пера, поиск метафизической идентичности и одновременно
смелый поединок с признанным мастером словопрений. Для
большинства читателей именно «Переписка» открывает совсем
неожиданную сторону гершензоновского творчества и
разъясняет истоки его крайне своеобразных философских трудов, как
«Гольфстрем» ( 1922) и «Ключ веры» ( 1922). Так, Иванов
указывает на несоответствие между философским скептицизмом
Гершензона и «свойственной <ему> жизненностью действия»,
тем самым вынуждая его углубить свои объяснения (40).
Взаимодействие между контекстом и содержанием
«Переписки» отражает отношения между жизнью и текстом вообще в
ивановской практике и теории в это переходное для него время.
В последние годы стало привычным говорить о «жизнетворче-
стве» символистов, имея в виду, что символисты претворяли
свою жизнь в произведение искусства или, наоборот, —
претворяли свои произведения в жизнь, не различая свои
жизненные поступки от поступков эстетического порядка. Полагаем,
что, даже если эта теоретическая модель способствует
осмыслению творчества Иванова 1900-х гг., то к творчеству
Иванова 1910-х гг. нужно подходить существенно иначе. В зрелой
эстетике Иванова преобладает диалектическая модель
взаимодействия между жизнью и текстом: жизнь влияет на текст, но,
что важнее, и текст осмысляет жизнь и обеспечивает человеку
понимание. Это относится даже к самому писателю, который
может поучиться у своих же произведений, о чем Иванов писал
в статье «О границах искусства» ( 1914)*. Текст объективизи-
* См. также статьи Ииаиона: Лиризм Бальмонта//Аполлон. 1912. № 3-4.
С. 36-42; К. Л. Бальмонт// IV,,,. 1912. 1912. 11 марта. № 69. С. 3.
262 Р. Берд
рует внутреннюю жизнь творческой личности и рождающего
ее исторического момента, он отрешает эту жизнь, выражает
ее в общепонятных знаках, делает ее познаваемой и, главное,
понимаемой всеми, каждый в своем жизненном контексте.
Поскольку зрелая эстетика Иванова выдвигает идеал именно
«понимания», как качества и духовного, и практического, ее
можно назвать «герменевтической»*. Величайшей ценностью
оказывается не искусство (или теургия, или творческая жизнь
в духе «жизнетворчества»), а человек как таковой, как
автор и адресат всякого выражения. Она предполагает не
«большое» или «всенародное» искусство, какое Иванов
пропагандировал в 1900-е гг., а более скромные и человечные модели
вроде поэмы «Младенчество» (1913, 1919) и «камерной» и
«случайной» «Переписки из двух углов», где текст является не
двигателем истории, а посредником в личном диалоге человека
с историей; текст не преображает жизнь, а просветляет ее как
для писателя, так и для читателей, которые вступают в
открытый диалог писателя с текстом. Если тем самым текст теряет
теургическую мощь, какую он имел для Иванова в эпоху
высокого символизма, зато он приобретает действенность в
реальном мире реальных же читателей, которые в своем восприятии
текста выражают и себя.
Таким образом, в «Переписке» теоретическая установка на
жизненное воздействие художественного текста совпала с
моментом жизненного и творческого кризиса ее авторов. Поэтому
биографический контекст «Переписки» и ее влияние на жизнь
авторов должны рассматриваться, как крайне значимые
факторы в структуре текста и в его понимании.
Текст и контекст
Приуроченность «Переписки» к окружающей
действительности наблюдается уже в кратком предуведомлении,
подписанном «от издательства»: «Письма эти, числом двенадцать, писа-
Эволюция эстетики Иванова рассмотрена нами подробнее в работах:
Вяч. Иванов. От романтики к герменевтике // Вячеслав Иванов и его время.
Frankfurt: Peter Lang, 2002. 99-111 ; Отраженный свет: Очерк творчества и
мысли Вяч. Иванова в контексте Серебряного века. В печати.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 263
ны летом 1920 г., когда оба друга жили вдвоем в одной комнате,
в здравнице "для работников науки и литературы" в Москве»
(7). Приведенное название государственного санатория
содержит в себе иронический и даже полемический элемент: в
«Переписке» как раз обсуждается проблема культурной «работы» в
новом общественном строе, причем только по ходу обсуждения
авторы как будто открывают для себя разные аспекты новой
культуры. Когда в письме IX от 12 июля поднимается вопрос о
преемственности пролетарской культуры, Иванов занимает
несколько неожиданную для него позицию, утверждая, что
«пролетариат стоит всецело на почве культурной преемственности»
(62)*. Оказывается, что вера Иванова в непрерывность
культурного процесса пережила катаклизмы 1917—1920 гг. В
ответном письме Гершензон настаивает на прерывности культуры,
возражая своему совопроснику: «Что мы сейчас видим в
революции, ничего не говорит о далеком расчете и замысле, с каким
дух вызвал ее в жизнь» (72). Тема в принципе входит в контекст
«Переписки» и характеризует позиции авторов по разным
вопросам: Иванов утверждает непрерывность традиции, тогда как
Гершензон усматривает творчество каждой личности как нечто
потенциально новое, прерывное, личностное. При ближайшем
рассмотрении конкретного контекста этих писем, однако,
оказывается, что сама тема непосредственно восходит к докладу,
который читал народный комиссар просвещения Анатолий
Луначарский 13 июля 1920 г., на котором Иванов и Гершензон,
среди других, выступали оппонентами**. К сожалению, текст
доклада Луначарского нам неизвестен, но вполне вероятно, что
он послужил непосредственным стимулом к обсуждению этой
темы в «Переписке»; в то же время можно полагать, что сама
* Возможно, что Иванов обыгрывает здесь значение латинского слова
«proles» («потомки»), из которого произошло слово «пролетариат».
Отметим кстати, что слова Иванова о революции ставят под сомнение то,
насколько «Переписка» действительно согласуема с «Письмом к Шарлю
Дю Босу» (1930), своего рода монологическим продолжением «Переписки
из двух углов», в котором Иванов писал: «Дело пролетариата — лишь
повод или метод; реальная цель в том, чтобы заглушить Бога, вырвать его из
человеческих сердец» / Иванов В. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1979.
Т. III. С. 425.
** Искусство и культура. Преемственность культуры // Известия. 13 июля
1920 г. № 152(999). С. 2.
264 Р. Берд
«Переписка» имела влияние на выступления Иванова и Гер-
шензона на этом диспуте. Впрочем, более подробное изучение
жизни Иванова и Гершензона в это время выявит еще много
связей между содержанием «Переписки» и современными ей
общественными дискуссиями*. В любом случае условия новой
жизни в молодой Советской России формируют содержание
«Переписки» и в то же время служат как бы метафорами более
глобальных проблем. Для Гершензона, например, «Здравница»
становится метафорой ополчившегося на личность внешнего
мира, тогда как для Иванова она — приют от истории и отчасти
временное неудобство, отвлекающее от культурного
континуума, в котором он участвует своим творчеством и над которым
история не властна.
В «Переписке» отвлеченные разговоры о революции и
культуре переплетаются и с более насущными для авторов
темами. Принимая во внимание даты, проставленные под письмами
Иванова и в самом конце текста, можно заметить, что
«Переписка» была затеяна как раз в дни, когда совершалась драма
вокруг так и не осуществившегося выезда Иванова из
Советской России**. Эта ситуация отражается в многих аспектах
текста и должна учитываться при интерпретации высказываемых
в нем взглядов. Например, когда Иванов дает цитированную
выше положительную оценку революции, возможно, что он
пытается склонить власти в свою пользу, чтобы восстановить
уже отмененную Лениным заграничную командировку. С
другой стороны, если данная оценка дается после окончательного
краха командировки, то она может рассматриваться как
искренняя попытка найти себе место в Советской России, установив
преемственность новой культуры по отношению к предыдущей,
т. е. к самому себе. Тема Родины и изгнанничества присутствует
по всей «Переписке», но она становится особенно значимой к
ее концу, т. е. в дни, когда оконачательно решался вопрос о вы-
См., например, материалы выступлений Иванова, относящиеся к
•»тому периоду и сохранившиеся в архиве Гершензона: ОР РГБ. Ф. 746. К. 51.
Ед.хр.9;Ф. 746. К. 51.Ед.хр. 10.
Для подробного изложения истории неосуществленного выезда
Иванова из России в 1920 г. См.: Берд Р. Вяч. Иванов и советская власть// Новое
литературное обозрение. 1999. № 40. См.: Гершензон-Чегодаева H. М.
Первые шаги жизненного пути (Воспоминания дочери Михаила Гершензона).
М., 2000. С. 27-29.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 265
езде Иванова из Советской России и когда Иванов заявляет:
«Я наполовину — сын земли русской, с нее, однако,
согнанный, наполовину — чужеземец, из учеников Саиса, где
забывают роди племя» (76—77).
Канва событий, на фоне которых создавалась «Переписка»,
приблизительно следующая. В начале 1920 г. Иванов и Гершен-
зон состояли на государственной службе в Наркомпросе, где, в
частности, оба писателя сотрудничали в Театральном и
Литературном отделах (ТЕО и ЛИТО). Еще 24 мая, за три недели до
начала «Переписки», было подано заявление в Комиссию
текущих дел при Наркомпросе о «вознаграждении»
высококвалифицированных работников, в том числе Иванова и Гершен-
зона*. Тогда же оба писателя были помещены в «здравницу»
для лечения и содержания, откуда Иванов ходил на службу в
Театральный отдел Наркомпроса**. В июне—июле 1920 г.
Иванов и Гершензон ведут активную общественную деятельность, о
чем неоднократно появлялисьзаметки в официальной печати***.
Однако в то же время оба писателя искали возможностей
выехать из России по линии государственных командировок
от Наркомпроса. 11 марта 1920 г. Коллегия Наркомпроса
удовлетворила прошение Вяч. Иванова «об оказании ему
финансовой помощи для поездки за границу»****, но 17 апреля она
«воздержалась» от командировки Гершензона, постановив:
«Принимая во внимание болезненное состояние М. О.
Гершензона, просить M. Н. Покровского принять необходимые меры
к улучшению его положения»*****. Отъезд Иванова и его семьи
* ГАРФ.Ф.2306.Ом. 1.Ед.хр.416.Л.5.
** Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и театральная реформа первых
послевоенных лет//Начало. Сборник работ молодых ученых. М., 1998. Вып.
IV. С. 208-209; см. также упоминание о совместных выступлениях Иванова и
Гершензона в конце 1918 г. (Там же. С. 197).
*** Известия. № 134. 22 июня 1920 г. С. 2; № 136. 24 июня. С. 2; М> 142
(989). 1 июля 1920 г. С. 2; № 144. 3 июля. С. 2. Ср. также: Проскурина В.
Цит. соч. С. 396.
**** ГАРФ. Ф. 2306. Он. 1.Ед. хр. 318.Л. 109 об.
***** ГАРФ Ф. 2306. Он. 1. Ед. хр. 318. Л. 172 об., ОР РГБ. Ф. 746. К. 45.
Ед. хр. 44. Относительно командировки Гершензона сохранилась также
выписка, датированная 13 июля, которая осталась нам недоступной (ОР РГБ.
Ф. 746. К. 45. Ед. хр. 46). В итоге Гершензон выехал в Германию на лечение
266 Р. Берд
все откладывался по различным обстоятельствам, но
командировка оставалась в силе ко времени написания его первого
письма соседу по комнате Гершензону 17 июня. Иванов
рассчитывал на поездку не только из соображений материальных
и творческих, но еще и для спасения его тяжко больной жены
(в итоге она скончалась 8 августа 1920 г.). Таким образом, к
началу «Переписки», которую Михаил Кузмин назвал «турниром
двух утонченнейших умов»*, в положениях двух умственных
фехтовальщиков наблюдается некое неравенство: Иванов
дожидается отъезда, а Гершензон примиряется с необходимостью
остаться в России. Его горький стоицизм чувствуется и в других
текстах этого времени. Еще 16 апреля Гершензон пишет брату:
«Мне всегда представляется теперь стремление людей бежать
в более счастливые места похожим на желание уйти от самого
себя»**.
Возможно, это неравенство отчасти объясняет разительный
контраст в исходных настроениях двух совопросников.
Вспомним слова, которыми открываются первые два письма
«Переписки». Иванов пишет: «Знаю, дорогой друг мой и сосед по углу
нашей общей комнаты, что Вы усомнились в личном
бессмертии и в личном Боге» (9). Гершензон же отвечает: «Нет» (13).
Как отметил Роберт Льюис Джексон, в этих словах уже
содержится весь пафос «Переписки»: один говорит «знаю», другой
просто отрицает, придерживаясь всепроникающего скепсиса,
признающего запросы лишь индивида***. При этом хотя
теоретическая установка Гершензона в своей логике довольно
уязвима, но зато жизненная и искренняя, тогда как несколько
самоуверенный тон Иванова может показаться отстраненным от
гущи человеческой реальности. Это впечатление усиливается
благодаря склонности Иванова к метафоре и цитате. Примеры
противоречивости Гершензона нетрудно подобрать, и Иванов
готов их привести в пользу своего аргумента (56). Например,
осенью 1922 г. и вернулся в Россию в 1923 г.; см.: Гершензон-Чегодаева H. М.
Цит.соч.С. 184-188.
Кузмин Михаил. Мечтатели//Условности. М., 1923. С. 156; ср.: Ландау
Григорий. Византиец и иудей // Русская мысль. 1923. Кн. I —II. С. 187.
** ОРРГБ. Ф. 746. К.21.Ед.хр.4.
Jackson Robert Louis. Ivanov's Humanism: A Correspondence from Two
Corners//Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic, Philosopher. New Haven, 1986. P 347.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 267
Гершензону опротивела «трагедия творчества», отчуждение
объективизированных созданий от творившего их человека,
но в письме IV он охотно называет кумиров из культурной
традиции: Данте, для которого «и мысль была так свежа, и слово
существенно», и Руссо, которому мерещилось «какое-то
блаженное состояние — полной свободы и ненагруженности духа,
райской беспечности» (22). Только у Гершензона могли эти
два имени оказаться в одном ряду, но это удивительное
сопоставление лишь подчеркивает ненадуманность и спонтанность
его аргументации. Установка Гершензона не на существующие
тексты, не на создаваемый им самим текст (о котором он
отзывается пренебрежительно, как о затее Иванова), а на действие,
вне всяких категорий ее объективизации. Иванов же всецело
находится в текстах, в них он ищет авторитета, и посредством
текста он пытается увековечить разговор с соседом. Однако
Гершензон все же принял вызов Иванова и тем самым придал
тексту значение (Иванов даже говорит, что Гершензон первый
«пожелал» переписываться; 11 ). Разница в том, что для
Иванова важна текстуальность жизни, тогда как для Гершензона
наиболее существенна именно жизненность текста, его
укорененность в самобытном и неповторяемом опыте.
В письме V Иванов впервые устанавливает прямую связь
между гершензоновской темой усталости от культуры и
взаимным желанием обоих корреспондентов уехать из России:
«Дорогой друг мой, мы пребываем в одной культурной среде,
как обитаем в одной комнате, где есть у каждого свой угол, но
широкое окно одно, и одна дверь. Есть вместе с тем у каждого
из нас и свое постоянное жилище, которое вы, как и я, охотно
обменили бы на иную обитель, поддругим небом» (28). Слова
Иванова об «окне» и «двери» могут быть поняты
метафорически, как утверждение универсального свойства религиозного
опыта, открывающего запредельный мир, однако образ «иной
обители поддругим небом», как кажется, может
приниматься и в прямом смысле, как предчувствие эмиграции. В самом
деле, оба пласта смысла задействованы в тексте. Иванов
утверждает независимость личного сознания от культурной
среды, — независимость, основанную на вере в Бога, — а
значит, и отданной среды пореволюционной России: «...жить
в Боге значит уже не жить всецело в относительной
человеческой культуре, но некоею частью существа вырастать из
нее наружу, на волю» (30—31). Отметим, что для Иванова
268 Р. Берд
такая божественная или универсальная внеположность
человека культуре всегда связывалась с заграничным опытом,
который открывал ему некую метафорическую точку зрения
на родную культуру. Именно за рубежом Иванов пережил
наиболее острые духовные кризисы в его жизни: там ему
открылся Дионис, главная тема его жизни и творчества, там он
встретил свою «Диотиму» — Л. Д. Зиновьеву-Аннибал, там
же в 1912 г. была явлена «нежная тайна», вдохновившая его
творчество в 1910-е гг. (рождение сына Димитрия от дочери
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал). Туда же, за рубеж, Иванов
порывался всякий раз, когда иссякала творческая энергия. Там,
конечно, он и окажется через четыре года после «Переписки»,
но в римском изгнании у Иванова сложится существенно иное
отношение к Родине: в принятии католичества, в «Повести
о Светомире Царевиче», Иванов не столько трансцендирует
родную культуру, сколько пытается ее воссоздать вокруг себя
в преображенном виде*.
Уже в письме IV Гершензон намекает на свое отрицаталь-
ное отношение к зарубежным планам Иванова и связывает их
с поэтической натурой собеседника: «Ведь я не один, — в этих
каменных стенах задыхаются многие — и вы, поэт, разве
ужились бы здесь без ропота, когда бы не пал вам на долю
счастливый дар — хоть изредка и ненадолго улетать вдохновением за
стены — в вольный простор, в сферу духа? Я с завистью слежу
глазами ваши взлеты, ваши и других современных поэтов: есть
простор, и есть у человечества крылья!» (27). На все доводы
Иванова о свободе в культуре Гершензон отвечает лишь, что
«здесь скучно, как в нашей здравнице» (38): «Я вовсе не знаю
и не хочу знать, что встретит человек за оградою покинутой
тюрьмы, и откровенно признаю мое полнейшее безучастие в
деле предуготовления путей свободы» (36; ср. 34). Разногласие
развивается параллельно действительной ситуации спорщиков:
замкнутость гершензоновских рассуждений соответствует его
положению как узника Советской России, а ивановский
призыв «на волю» отражает его скорый отъезд за границу.
Гершензон считает нужным обновить свой культурный дом, тогда как
Иванов находит возможным выйти за его пределы и приняться
за его переделку снаружи.
Ср.: Маковский С. К. Портреты современником. М., 2000. С. 187.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 269
Рискнем сказать, что порой в словах Иванова проступает
некоторая нечувствительность по отношению к Гершензону. Легко
ему корить Гершензона за его «кочевую непоседливость» (57) и
защищать «культурный Египет» (62), т. е. сокровенное
хранилище истинного культурного наследия, когда самому Иванову
не приходится оставаться в нем. Иванов даже
противопоставляет революцию гершензоновскому настроению внутреннего
изгнанничества: «Метод революции, загнавшей нас с вами,
усталых и истощенных телом, в общественную здравницу, где
мы беседуем о здоровье, — метод исторический по
преимуществу и социальный, даже государственный, а не утопический и
анархический, т. е. индивидуальный, метод остающихся и
оседлых, а не бегунов и номадов» (63-64). Аргумент можно
понять, но трудно представить то, как Иванов примиряет его со
своими планами уехать из России, оставляя Гершензона и
других вынужденно «оседлых» соотечественников. Возможно, что
Иванов считает себя представителем побежденной культуры,
изгоняемым с родины против его воли, или же он усматривает
некий особый выход для себя из противопоставления
«оседлых» и «бегунов».
Предполагаемое нами противостояние по вопросу об отъезде
из России лишь подчеркивает трагичность развязки
«Переписки». В письме VII Иванов развивает тему о необходимости
черпать вдохновение и руководство из «посвящений отцов» (42).
Как уже отмечалось, он утверждает «культурную
преемственность» пролетариата и продолжает при этом упрекать
Гершензона в неоседлости*. Но приблизительно в одно время с этим
письмом, датируемым 12 июля, Иванов получает извещение о
запрете на все заграничные командировки от Наркомпроса, и
оба друга внезапно оказываются в одинаковой ситуации**. Здесь
можно вернуться к образу турнира: если до сих пор Гершензон
лишь отводил меткие удары своего соперника, то с письма X он
переходит в наступательную позу и начинает задевать
Иванова за живое***. «Если вы считаете нужным исследовать природу
моей жажды, то я не менее вправе определять причину вашей
сытости» (67), — едко пишет Гершензон. Теперь, когда Иванов
* Об '^той теме в «Переписке» см.: Ландау Григорий. Цит. соч. С. 189, 198.
** См.: Бёрд Роберт. Вяч. Иванов и Советская власть. С. 306—317.
Ср.: Ландау Григорий. Цит. соч. С. 209.
270 Р. Берд
оказывается таким же заключенным в тюрьме советской
действительности, Гершензон вправе спросить: «Почему же вас
оскорбляет мое утверждение, что современная культура есть
результат ошибки, что человек нашего мира пошел ложным
путем и забрел в безвыходную дебрь?» (68). Теперь положение
для всех безысходно в равной степени, и Иванову приходится
прислушаться поближе к доводам своего собеседника.
В своем последнем письме, датированном 15 июля,
Иванов предлагает своему совопроснику объявить перемирие:
«не разойтись ли нам по своим углам» (73)? «Уйдем, —
приглашаете вы, а я отвечаю: „некуда; от перемещения в той же
плоскости ничего не изменится ни в природе плоскости, ни в
природе движущегося тела"» (75). Теперь, после крушения
мечты о зарубежной поездке, Иванов усиливает свой призыв к
углубленному следованию традиции. Иванов вспоминает свои
старые стихи «Кочевники красоты» и как бы отрекается от их
основной мысли о мгновенном переходе в царство красоты,
противополагая ей «все постигающий возврат» «к первоисто-
кам жизни» (76). Иванов опять называет русских
интеллигентов «бегунами»: «Нас подмывает бежать, бежать без оглядки.
Мне свойственно непреодолимое отвращение к решению
какого бы то ни было затруднения — бегством» (77). Акцент в этих
словах заметно сместился по сравнению с более ранними
высказываниями Иванова в той же «Переписке», хотя бы в силу
его исповедального характера или замены понятия внеполож-
ности культуре понятием восхождения через культуру. Здесь
Иванов стоит гораздо ближе к исходной позиции Гершензона,
выраженной в его цитированном выше письме брату: «Мне
всегда представляется теперь стремление людей бежать». Как
бы объясняя, почему он все-таки пытался уехать из России,
Иванов определяет себя следующим образом: «Скорее, я
наполовину — сын земли русской, с нее, однако, согнанный,
наполовину — чужеземец, из учеников Саиса, где забывают род
и племя» (77). Характерно, что Иванов находит свою родину
в неком универсальном пространстве, в плане воображения и
мифа, но не здесь и теперь.
Иванов заканчивает свое последнее письмо парадоксальным
заявлением, что, хотя он и чужеземец, согнанный с родной
земли, он должен оставаться в «данной среде или стране» и
добиваться не выезда из нее, а «восхождения» через возврат к ее
истокам (78). Гершензон возражает, что цельность ивановского
«Переписка из двух углов» как текст и действие 271
мировоззрения исключает изгнанничество, и что он, а не
Иванов, чужеземец в России. Гершензону остается завершить
«Переписку» признанием того, что «я живу, подобно чужеземцу,
освоившемуся в чужой стране» (84), и уверить Иванова: «Вы,
мой друг, — в родном краю; ваше сердце здесь же, где ваш дом,
ваше небо — над этой землею» (84). Последние слова Гер-
шензона отмечают победу его прямой речи над метафоризмом
Иванова, возврат с выспренных высот риторики к
действительности. Нельзя не заметить, как положения совопросников
кардинально изменились с начала «Переписки». Гершензон уже
утверждает не косность культуры, а свою свободу в ней. Под
влиянием уверений своего друга Иванов же вынужден оставить
тезис о своей «трансцендентности» культуре и осознать, хоть
и поневоле, свою укорененность в ней, невзирая ни на какие
принуждения. Начал же Иванов с утверждения бессмертия и
внеположности по отношению к культуре, т. е. с идеи свободы
от культуры, а приходит к утверждению свободы посредством
культуры. Выходит, словно обыгрываемая Ивановым метафора
«кочевника» и «родного сына» своеобразным образом
реализовалась в жизни участников, каждый из которых примиряется
с неизбежными последствиями своего положения.
От переписки к пониманию
Во всем предыдущем нам приходилось несколько сгустить
краски и подчеркнуть противостояние друзей-корреспондентов,
но это было необходимо лишь для того, чтобы показать роль,
которую играл текст «Переписки» в переживании и
осмыслении ее участниками событий внешней жизни. Зачем писалась
«Переписка»? Ответ заключается в словах Гершензона из
письма IV: «Пишу, потому что так полнее скажется, так и раз-
дельнее воспримется мысль, как звук среди тишины» (21).
Бесспорно, это происходило не только в «Переписке»,
которая является частью более широкого процесса
самоосмысления в условиях советской действительности. Этот текст не
действо, каким был текст для Иванова 1900-х гг., а именно
письмо как процесс творческого самоотчуждения,
самопроверки и самопонимания. И соборность здесь — это
причудливая встреча двух друзей посредством письма, без которого
каждый бы остался нем и непонятен для другого, а значит — и
272 Р. Берд
для себя. Именно как текст диалогического построения
«Переписка» помогает Иванову осознать себя. Пользуясь своего
рода «стратегией цитаты»*, Иванов пытается встроить себя в
традицию или, вернее, сконструировать такую традицию,
которая бы предоставила ему опору и почву. Но важен также и
диалог с Гершензоном, который заставляет Иванова увидеть
свою укорененность в родной культуре и невозможность отхода
от нее. В своем алогичном, но прочувствованном бунте против
сложности культуры, за свободу несмотря на культуру, Гер-
шензон открывает для Иванова альтернативную модель
существования. В процессе письма точка зрения Иванова меняется,
вернее, углубляется все растущее самопонимание:
утверждение преемственности культуры обязывает его остаться и
трудиться в новом строе — в своем доме. Его осознание этого
вывода остается не выраженным им самим — лишь Гершензон
ему заявляет: «Вы <...> в родном краю» (84). Но отсутствие
удобных истин обязывает читателя к творческому содействию
тексту. Тем самым ставится новая модель текстуальной диало-
гичности, допускающей продолжение спора уже за пределами
самой «Переписки» — в многочисленных откликах, переводах
и отзвуках в творчестве все новых совопросников.
На всем протяжении «Переписки» искрится тонкая игра
слов, которые берутся то в прямом, то в метафорическом
смысле. Разговор происходит на разных уровнях: обычно
Иванов говорит образно, опираясь на тексты (например
неоднократно цитируемые им слова Гёте «умри и стань!») и оставляя
конкретный смысл слов неопределенным (он явно не имеет в
виду физическую смерть), тогда как Гершензон ищет
жизненных ответов в возможно более прямой подаче. Иванов ищет
«истинного (т. е. вечного) бытия» ( 10), освященного в веках,
а Гершензон жаждет жизни, «легкой и радостной» ( 13). В
конечном итоге, однако, оба совопросника находят необходимое в
процессе письма, которое дарует им бессмертие, погружая их
в диалектику времени и личностей, связывая их с традицией,
запечатлевая их опыт внутри непрерывной традиции и
неисчерпаемого диалога культуры. В тексте бессмертие становится
вещественной реальностью, вещественное же свидетельство
бессмертия претворяется в будущую жизнь.
* Проскурина В. Цит. соч. С. 366-375.
«Переписка из двух углов» как тенет м действие 273
Такое понимание «Переписки» проясняется при
рассмотрении некоторых работ Вяч. Иванова по эстетике. Одну из
малоизученных, но крайне интересных формулировок своих
эстетических взглядов Иванов дает в конце статьи 1909 г. «О русской
идее», где он перечисляет три момента в «нисхождении», т. е.
в восприятии и применении сообщений: очищение (катарсис),
научение (матезис) и действие (праксис)*. Посредством этого
трехступенчатого процесса художественное откровение
переводится в практическое действие в мире, будь оно в области
религии или жизни общественной, или же в создании ответных
текстов**. Термины заимствуются из обрядовой лексики,
которую издавна применяли к теории драмы начиная с Аристотеля.
Они переносят в искусство силу религиозного опыта,
предполагающего выход из себя (экстаз), пробуждение сознания и
выражение полученного опыта в конкретных действиях или в
художественном творчестве. Отголосок этих идей о
религиозном истоке словесного творчества слышится в сентенции
Иванова в письме III: «Духовными должны быть слова-символы
о внутреннем опыте личности и воистину чадами свободы»
(15-16).
Эстетические взгляды Иванова в 1910-е гг.
ориентированы на такую диалогическую модель творческого акта, который
вступает во взаимодействие с предшествующими
произведениями и побуждает к созданию новых. Любое произведение
искусства является частью общего процесса или традиции,
понятой динамически. Согласно работе Иванова 1916 г.,
например, поэзия Байрона явилась «событием в жизни русского
духа »***. Эта установка на традицию и на коммуникативную
природу художественного творчества позволяет провести
параллель между зрелой эстетикой Иванова и герменевтикой Ханса
Георга Гадамера, который основывает самопонимание человека
* Иванов В. И. Собр. соч. Т. III. С. 337.
** Об обрядовом происхождении чтих терминов см.: Croissant J. Aristote
et mystères. Liege; Paris, 1932; Riedweg Ch. Mysterien terminologie bei Platon,
Philon und Klemens von Alexandrien. Berlin; New York, 1987; О катарсисе y
Иванова см. особенно: Иванов Вяч. Дионис и прадиониеийство. СПб., 1994.
С. 192—221. Ср.: СилардЛ. Гермети:ш и герменевтика. СПб., 2002. С. 148—
161.
*** Иванов В. И. Собр. соч. Т. IV. С. 292-296.
274 Р. Берд
на творческом участии в некой традиции: «Традиция не
только постоянная предпосылка, но мы сами ее создаем,
поскольку мы понимаем, участвуем в развитии традиции и, таким
образом, определяем ее»*. Диалектика жизни и текста, которую
мы проследили в «Переписке», позволяет и это произведение
отнести к числу «герменевтических», однако в данном случае
напрашивается сравнение скорее не с Гадамером, а с другим
видным представителем философской герменевтики, Полем
Рикёром. Рикёр предлагает модель понимания, основанную на
текстах, взятых как незаменимых посредниках в человеческих
действиях. Рикёр видит в создании текста акт самоотрешения
со стороны автора, который хочет увидеть себя и переложить
свои действия в некий рассказ о жизни, одновременно
собирающий ее фрагменты в целое и выявляющий их смысл.
Достигнутое таким образом самопонимание открыто и другим,
которые отчуждаются в тексте другого, чтобы принадлежать
себе. Рикёр пишет: «Понять себя — значит понять, как ты
подходишь к тексту, получить от текста условия для себя
другого, чем тот, который начал это чтение»**. Действие порождает
текст как коммуникативный акт, а текст, в свою очередь,
порождает ответный текст, который должен переводиться
обратно в действие. Подобным образом Иванов ищет руководство к
действию в созданном им тексте, который встраивает действие
в контекст интерпретативной традиции и побуждает к действию
во внетекстовой реальности. Ответные же тексты Гершензона
лишь усиливают исходную диалогичность ивановских текстов,
сгущают донельзя процесс восприятия и пересоздания текста
самим автором, подчеркивают возможность учиться у
собственного текста.
Подобная теория самопонимания путем творческой
коммуникации проглядывает и в поздних работах Гершензона. В речи
1917 г. «Кризис современной культуры» он говорит: «Человек
«Sie <die Ueberlieferung> ist nicht einfach eine Voraussetzung,
unter der wir schon immer stehen, sondern wir erstellen sie selbst sofern wir
verstehen, am Ueberliefemngsgeschehen teilhaben und es dadurch selber
weiter bestimmen»; Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. 2e Auflage.
Tuebingen, 1965. S. 277.
Ricoeur P. From Text to Action: Essays on Hermeneutics, II. / Trans.
Kathleen Blarney and John B. Thompson. Evanston, III., 1991. R 17.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 275
познает себя больше всего в своих проявлениях: сделав,
видишь себя впервые в содеянном тобою, как в зеркале»*.
Однако творческие проявления личности не просто зеркало для
их автора, они выступают еще и участниками в историческом
процессе: «Каждая минута одинокого раздумья о своих личных
нравственных ошибках, которому предается студент в своей
комнате, каждое ощущение обиды и несправедливости в душе
рабочего — суть слагаемые великого итога, который в урочный
час неминуемо подведется — реформою, революцией, войною.
От всякой отдельной души идут нити к маховому колесу
истории, и только они своим натяжением двигают его. Здесь нет
непризванных и нет праздных: каждый из нас, хочет он или не
хочет, неизбежно участвует в коллективном творчестве»**. Таким
образом, внутренняя драма автора, отрешенная в словесном
выражении, отзывается реальными последствиями в смысле
нравственных поступков.
Еще одна поучительная параллель наблюдается между
«Перепиской из двух углов» и «драматизмом» американского
мыслителя Кеннета Бёрка (Kenneth Burke, 1897-1993). В своей
книге «Грамматика мотивов» Бёрк заимствует термины из
аристотелевской теории драмы, чтобы обозначить главные
составляющие любой коммуникативной ситуации: действие (act),
место действия (scene), действующее лицо (agent),
посредник (agency), цель (purpose)***. Соотношения между этими
составляющими отражают воздействие, например, окружающей
среды на само действие или на действующее лицо, но в
центре внимания Бёрка всегда находятся лицо и его действие, как
преимущественно нравственные категории. В этом контексте
коммуникация понимается как действие символического
порядка, влекущее за собой как последствия реальные действия,
но и любое действие также понимается как род коммуника-
Гсршензон М. О. Кризис современной культуры // Избранное. М.;
Иерусалим, 2000. Т. 4: Тройственный образ совершенства. С. 13.
Там же. С. 19.
*** Burke К. The Grammarof Motives. Berkeley and London, 1969. См. также:
Burke К. The Philosophy of Literary Form. 2nd ed. Baton Rouge, 1967. P. XV
Иванову, конечно, очень близка подобная попытка приложитьлраматическую
терминологию к нравственным ситуациям. См., напр., статью «О действии и
действе» в изд.: Иванов В. И. Собр. соч. Т. II. С. 156—169.
276 Р. Берд
тивного акта*. Действие есть дело, которое влечет за собой
страдательное восприятие, которое, в свою очередь,
приводит к пониманию, «которое превосходит само действие»**.
Эту ситуационную схему Бёрк представляет в классических
терминах трагедии, поразительно напоминающих триаду
Вяч. Иванова из статьи «О русской идее»: poiema (дело,
действие, стихотворение), pathemata (страдание, положение,
состояние), mathemata (изученное, научение). Бёрк объясняет
триаду следующим образом: «действие организует
сопротивление (выводит на передний план все противостоящие ему и
изменяющие его факторы)», а «действующее лицо «терпит»
эту оппозицию, и по мере того как он научается принимать в
расчет оппозиционные <противостоящие> мотивы <...>, оно
приходит к более высокому уровню понимания»***. Далее Бёрк
подчеркивает синхронность всех трех моментов в любом акте
понимания: поскольку оно предполагает и восприятие
чужого, и применение к собственной ситуации, знание равняется и
действию, и страданию. Таким образом, любое высказывание,
любая даже мысль является одновременно и страданием, и
действием, и действительность сама представляется вместе со
всеми жестами понимания и выражения о ней как
действительность человеческих мотиваций, как действительность
символическая. Применительно к литературе все это значит, что «слова
поэта» действительно «дела его». В таком изложении тексты
получают реальную силу в жизненных ситуациях, что налагает
на писателя особую нравственную ответственность.
Наше краткое исследование исторического и
биографического контекста «Переписки» подтверждает истину бёрковской
схемы. Писатели, находящиеся в сложной жизненной ситуации,
создавали «Переписку» как своего рода нравственный
поступок, вполне действенный, хотя он был лишь «на словах». Мы
достигаем понимания их слов, лишь принимая их нравственный
контекст, и наоборот, мы можем постичь этот контекст только
Burke К. The Grammar of Motives. P. 33.
Там же. P. 38.
«The aet organizes the opposition ( brings to the fore whatever factors resist
or modify the act)»; «the agent thus 'suffers' this opposition, and as he learns to
take the oppositional motives into account [...] he has arrived at a higher order of
understanding». Там же. P. 39—40.
«Переписка из двух углов» как текст и действие 277
через их слова. Наше собственное движение навстречу
«Переписке» принимает и для нас нравственный характер. Не
случайно ведь возникают столь страстные суждения об авторах со
стороны критиков — текст действует именно на нравственное
сознание читателей. В этом свете, может быть, не столь
удивительным покажется упоминание «Переписки» как примера
нетрадиционного романа наряду с произведениями Вирджинии
Вульф и Итало Кальвино*.
Но если герменевтика Рикёра и драматизм Бёрка направлены
преимущественно на художественные тексты-высказывания,
то «Переписка» работает одновременно на двух уровнях — как
непосредственное высказывание и как рассуждение о
высказываниях и текстах. Хотя истории известно множество подобных
метатекстов из самых разных периодов и культур, «Переписка»
относится к периоду особого расцвета таких жанров в эпоху
острых кризисов. В таких произведениях, как «Переписка из
двух углов», историческая драма преодолевается не
виртуально в фиктивном повествовании, а в эксплицитном диалоге по
теме. Действующие лица — не выдуманные характеры, а сами
писатели, и рассказ — их действительная жизнь. В то же
время, запечатленные на бумаге, авторы предстают как бы
литературными персонажами. Личная и творческая драмы сливаются
в тексте. Сама драматичность придает тексту универсальный
характер. За «Перепиской» стоит драма человеческих
мотиваций, но в результате получилось нечто бесконечно большее.
Авторский расчет не мог предвидеть, что их текст будет жить
столь богатой самостоятельной жизнью. Даже Иванов, сказав
в конце своего предпоследнего письма «Dixi», не может
поставить точку в этом тексте.
«Переписка» подчеркивает, что главным условием равно для
взаимопонимания и самопонимания является лишь взаимная
причастность к диалогу. «Переписка из двух углов» —
воплощенный диалог авторов друг с другом, с традицией и с самим
собой, возможный только на стыке жизни и текста, когда
создание текста является нравственным поступком с реальными
последствиями в жизни — и во все новых и новых текстах.
* Sontag S. A Report on the Journey // New York Times Book Review. 2005.
20 February.
С. Д. Титаренко
От архетипа — к мифу:
Башня как символическая форма
у Вяч. Иванова и К. Юнга*
Оашня Вячеслава Иванова и Башня Карла Юнга —
два глобальных антропологических проекта XX в.,
противопоставленных модернистской культуре и из
нее же выросших. Они представляют значительный
интерес не только в историко-культурном плане (об
этом на сегодняшний день существует обширная
исследовательская литература), но и в символическом
и в архетипическом аспектах. Это обусловлено тем,
что и Юнгу, и Иванову было присуще ощущение себя
человеком мистическим, стремящимся к пониманию
тайны жизни человека и символической природы его
сознания**. Юнг определил свою Башню,
построенную в 1923 г. в Боллингене на берегу Цюрихского
озера, понятием «Psyche», указав на нее как на архе-
типическое явление своей жизни и творчества. Реаль-
Переработанный текст статьи в сб.: Башня Вячеслава
Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 235—278.
См. об этом: Нойманн Э. Глубинная психология. Человек
мистический. СПб., 1999; Обатнин Г. В. Иванов-мистик
(Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова.
(1907-1919). М., 2000; Богомолов Н. А. Русская литература
начала XX в. и оккультизм. М., 2000. С. 5-112.
От архетипа — к мифу... 279
ная Башня Вяч. Иванова на Тверской — Таврической, 25,
ставшая центром культурной жизни Петербурга в 1905—1912 гг.,
также была проектом, многообразно воплотившимся в
системе символических образов, связанных с «башенным» мифом и
«башенным» текстом. Интересная попытка включить Башню
Вяч. Иванова в Петербурге в ряд европейских модернистских
салонов была предпринята Т. Жолковским, который, ссылаясь
на А. Жида, отмечает герметичность символической жизни и
сложность понимания ее для людей непосвященных*.
Учитывая герметизм образа Башни в жизни и творчестве
Юнга и Иванова, мы хотели бы рассмотреть его архетипиче-
ские значения, опираясь на понятие символической формы,
чтобы представить образ реальной Башни Юнга и Иванова как
онтологическую реальность мифа. Символическая форма —
некий аналог того, что С. С. Аверинцев называл
символической структурой. Это — «не самодовлеющая немая форма, это
"говорящая" форма, некоторое высказывание и сообщение о
духовной и душевной атмосфере эпохи, которое, однако,
может быть правильно прочитано только в "большом контексте"
истории и никоим образом не вне его»**. Здесь уже, в отличие
от Э. Кассирера, акцент сделан не на феноменологии
символических форм, а скорее, на их онтологических основаниях, что
было близко именно Иванову, в отличие от Юнга***. И Юнгом,
и Ивановым был намечен путь к выделению и анализу
архетипов. Анализ базового архетипа с точки зрения его функции дает
дополнительные возможности выхода к герменевтике
«башенных» обрядово-ритуальных мифов и у теоретика русского
символизма, и у основоположника аналитической философии.
Суть герменевтики, как известно, связывалась Ивановым в
книге «Дионис и прадионисийство» (1923) с восхождением к
«изначальным ядрам сознания» и «исконным первообразам»****.
* Ziolkowski Th. The View from the Tower. Origins of an Antimodernist
Image. Princeton, 1998. С 35.
** Аверинцев С. С. Заметки к будущей классификации типов символа //
Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 300.
*** Кассирер Э. Философия символических форм. Мифологическое
мышление. М.; СПб., 2002. Т. 2. С. 8-9.
**** Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 259-283.
См. об этом подробнее: Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002.
С. 12-26.
280 С. Д. Титаренко
Л. Силард называет ее «четырехмерной», то есть
включающей четыре аспекта интерпретации (понятий науки, сложных
контекстов, поисков «прамифа», объяснения и обоснования
через ритуал). Мы бы добавили к этому еще и пятый: принцип
возведения к «первообразам» или «эйдосам» Платона. В
терминологии Юнга их можно условно обозначить введенным им
термином архетипы.
Определению архетип у Юнга предшествовало понятие
неких праформ, выявляющихся у человека в состоянии
экстаза, медиумического транса, в видениях, галлюцинациях*.
Понятие архетип как изначальная схема представления,
заложенная в коллективном бессознательном, было впервые
использовано в его работе «Инстинкт и бессознательное»
( 1918-1919)**. В его основе — не только «эйдос» Платона,
«apxexvrciao» (прообраз) Дионисия Ареопагита и
Августина Аврелия и «первообраз» П. Буркхарта, но и «архетипы»,
заимствованные им из Corpus Hermeticum***. Все указанные
источники неоднократно цитируются Вяч. Ивановым в его
статьях о символизме. Выписки из «Изумрудной таблицы»
(«Tabula Smaragdina»), приписываемой Гермесу,
находятся в архиве поэта и относятся к 1890-м гг.**** Архетипы,
согласно теории Юнга, являются бессознательной установкой
или «предсуществующей формой». Впоследствии он выделял
архетипические идеи, укорененные в архетипе как форме
представления, и архетипические образы — синтез
бессознательного и художественной фантазии. Судя по источникам
(Платон, Гермес Трисмегист, Филон Александрийский,
Дионисий Ареопагит, Св. Августин и др.), понятие архетипа было
сформулировано Юнгом на основе влияния идей платонизма и
неоплатонизма, изучения сочинений, приписываемых Гермесу
Трисмегисту, христианской мистической литературы, т. е. тех
Jung С. G. Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter
Phänomene. Leipzig, 1902.
Яффе A. Хронограф жизни К.Т. Юнга // Юнг К.Т. Дух и жизнь/ нер.
снем.М., 1996. С. 549.
Юнг К.-Г. Обархетипах коллективного бессознательного//К.Т. Юнг
Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 98.
**** ОРРГБ.Ф. 109. К.4. Ед.хр. 17. Л. 1.
От архетипа — к мифу... 281
источников, которые были в центре внимания и Иванова как
теоретика символизма.
«"Архетип11 — это пояснительное описание
платоновского eiôoç», — писал Юнг, уточняя, что «мы имеем дело с
древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т. е.
испокон веку наличными всеобщими образами», которые
отличаются от видоизмененных архетипов, встречающихся в
родоплеменных учениях, или архетипов тайных учений
(выделено К.Т. Юнгом)*. Вместе с тем об архетипической идее
Иванов писал в начале 1900-х гг., исследуя дионисийские
культы. Развивая мысль о повторении схем мотива смерти и
воскрешения в различных мифах о древнейших божествах, он
указывает в лекциях по дионисийской религии, прочитанных в
Парижской высшей школе общественных наук в 1903 г.
(впоследствии опубликованных на страницах журнала «Новый
путь» в 1904 г., «Вопросы жизни в 1905 г. и объединенных
в неизданной книге «Эллинская религия страдающего бога»
в 1917 г.) на то, что «любопытно указание на существование
свода мифов о «страстях богов» и их выведение из
дионисийской идеи»**. Как справедливо указывает Н. Брагинская,
Дионис у Вяч. Иванова «объявляется символом определенного
внутреннего опыта, открывающегося в разных культурах», и
Дионису него — «это модель архаического божества вообще,
божества мифотворческой эпохи»***.
Представляется очевидным, что архетипный метод (как
метод восхождения к неким условным универсальным схемам
представления) был разработан Вяч. Ивановым-символистом
до К. Юнга и параллельно с ним. Он ярче всего проявился уже
* Юнг К.Т. Об архетипах коллективного бессознательного. С. 98. Эта
работа К.Т. Юнга, впервые опубликованная на немецком языке в ежегоднике
«Эранос» («Eranos») в 1934 году, хранится в Римском архиве Вяч. Иванова.
Как свидетельствует Лидия Иванова, Вяч. Иванов внимательно следил
за работами Юнга, но отказался от личного знакомства с ним и ни разу не
посетил собрания «Eranos» в Асконе. См.: Иванова Л. Воспоминания. Книга
об отце. М., 1992. С. 218.
** Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога. Верстка книги. М.,
1917. (Римский архив Вяч. Иванова). С. 2.
*** Брагинская Н. В. Трагедия и ритуалу Вяч. Иванова //Архаический ритуал
в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 296-297.
282 С. Д. Титаренко
в его статьях 1900-х гг. «Ты еси» (1907), «Древний ужас»
( 1909) и других, особенно тех, которые позднее были
обобщены в книгах «Эллинская религия страдающего бога», «Дионис
и прадионисийство» (Баку, 1923) и «Достоевский. Трагедия.
Миф. Мистика» ( 1932). Большой интерес в этом плане
представляют и статьи писателя 1920—1940-х гг.: «Размышления
об установках современного духа», «Anima» «Мысли о
поэзии», «Лермонтов» и другие. Архетипическое основывается
Ивановым на платоновском «припоминании» (avàpvr|oiç)
души «о довременном созерцании божественных Идей»,
когда память — «источник всякого личного творчества,
гениального прозрения и пророчественного почина»*, т. е. на основе
анамнесиологии, которая восходит к философским
построениям Платона, изложенным в его диалогах «Федр» (250 b —
d); «Федон»(72е — 76 е); «Менон»(81 b — 86 b). Оно
укоренено в мифе и обряде, религиозных таинствах, поэтому Вяч.
Иванов вводит понятие «тип пра-мифа» как некоего
представления, которое выделяется из эмоциональной сферы (4,
645) и утверждается как «древнейшее узрение в форме
синтетического суждения» (4, 773). Понятие архетип в значении
«стародавнего религиозного мировоззрения» им также
используется, но уже в поздних статьях («Лермонтов», «Мысли
о поэзии» и других). Некоторые выделяемые им «пра-мифы»
(например, «бог — входит в человека»), ставшие основой
размышления в статьях (особенно в статье «Ты еси»),
являются результатом осмысления «башенного мифа» как текста
судьбы.
Мифологему Иванов считает производной обрядовых
представлений (4, 518). «Чем живее в поэте чувство "realiora in ге-
alibus", — пишет он в книге о Достоевском, — <...> тем
естественнее соприкасается и согласуется оно с рождающимися в
воображении прообразами бытийного мышления, еще
живущего в темной памяти древнего мифа» (4, 518). Показательно,
что базовые архетипы аналитической психологии Юнга
(Самость, Тень, Анима, Анимус и другие) используются Ивановым
крайне редко (исключением является статья «Анима»), и то с
Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 92. В дальнейшем
цитируем но этому изданию с указанием в скобках тома и страницы.
От архетипа — к мифу... 283
достаточной корректировкой*. В данном случае понятие
«архетип» применительно к творчеству Иванова понимается как
некий платоновско-августиновский «первообраз» или «пра-
миф». Здесь есть точки соприкосновения Иванова не только с
Юнгом, но и с его учениками и некоторыми последователями,
и прежде всего с К. Кереньи, Дж. Кэмпбеллом и др. С Юнгом,
как представляется, Иванова объединяет мифизация сферы
сознания человека и попытка проникнуть в запредельное
через его архетипы и символы. Понимание природы символа как
психического феномена, связанного с трансформацией либидо
(в расширенном юнгианском значении, а не в понятии
эротического комплекса, как у 3. Фрейда), свойственное Юнгу, было
чуждо Иванову, так как символ связывался в его теории с
культурным преданием, традицией и чередой становлений,
обусловленных принципом эксегезы, и был доступен
интеллектуальному пониманию, о чем свидетельствует его теория теургического
творчества, изложенная в статьях о символизме, и прежде
всего в работе «О границах искусства» (1913).
Фигура Юнга интересна и тем, что в его судьбе и научных
разысканиях также большую роль сыграла Башня,
построенная им, как уже указывалось, в 1923 г. и перестраивающаяся
в последующие годы. Поставить проблему, сыграла ли здесь
какое-то значение Башня Вяч. Иванова, основанная им
двумя десятилетиями раньше и имевшая большой резонанс в
духовной жизни многих людей, в том числе и тех, кто оказался в
1920-е гг. в эмиграции и с кем общался Юнг, попытался М. Юнг-
грен в своей книге «Русский Мефистофель. Жизнь и
творчество Эмилия Метнера». Ему удалось показать на материале
русских и зарубежных архивов связующую роль Метнера
между представителями русского символизма, прежде всего А.
Белого, с Юнгом. На связь теории Юнга с идеями Вяч. Иванова
в данном исследовании также указано, и, как оказалось, не
последнюю роль здесь сыграла Башня на Тверской-Таврической,
на которой Метнеру приходилось не только бывать, но и жить.
Не случайно в своих статьях 1920—1930-х гг. он подчеркивал
* См. об этом подробнее в нашей статье «К разгадке эссе Вяч. Иванова
"Анима"» //Иванов Вяч. ANIMA / пер. с нем. С. Л. Франка; подг. текста,
предисл, примеч., коммент., исследование С. Д. Титаренко; послесловие
К. Г. Исупова. СПб., 2009. С. 89-120.
284 С. Д. Титаренио
генеалогическую и типологическую связь русского
символизма и юнгианского психоанализа, как и некоторые другие его
современники*.
Метнер обнаружил близость Юнга с А. Белым и Вяч.
Ивановым уже в книге швейцарского психолога «Либидо, его
метаморфозы и символы» (1912), где близкой символистам оказалась
трактовка символов. С Юнгом Метнер как пациент, собеседник
и издатель его сочинений на русском и французском языках
общался около двух десятилетий, пытаясь вовлечь в диалог и
самого Вяч. Иванова, высказавшего нелестный отзыв о книгах Юнга
«Либидо, его метаморфозы и символы» и «Психологические
типы», вышедших под грифом символистского
книгоиздательства «Мусагет» и со вступительными статьями к ним Метнера**.
В этом плане их искания были параллельными и, несмотря на
различие методов, у них была общая цель возрождения многих
утраченных символов человеческого сознания, берущих начало
не только в мифе, обряде, религиозных таинствах,
закрепленных в Ветхом или Новом Завете, но и в гностико-герметической
литературе и сочинениях христианских мистиков. Эти традиции
определили представления Иванова и Юнга о мистической
природе образа башни, так как, по мнению Т. Жолковского,
высказанному в книге «Взгляд из Башни. Истоки антимодернистского
образа», значение образа башни не определяется только ее
архитектурными принципами (движением вверх), а формируется в
определенном духовном пространстве, поэтому башни
«иллюстрируют человеческое желание преступить пределы
замкнутости мирского существования и возродить связь между раем и
землей»***. Исследователь анализирует модернистские проекты
башен XX в., в том числе и проект Юнга. Так как этот проект
описан также биографами Юнга, нас будут интересовать только
архетипические идеи, положенные в его основу, и его
специфика по сравнению с Башней и ее символическими проекциями в
творчестве Вяч. Иванова.
Юнггреп М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия
Метнера/пер. с англ. СПб., 2001. С. 46.
См. обитом: Иванов В., Метнер Э. К. Переписка из двух миров /Публ.
В. Сапова // Вопросы литературы. 1994. № 2—3.
Ziolkowski Th. The View from the Tower. Origins of an Antimodemist
Image. R 7.
От архетипа — к мифу... 285
Сразу нужно оговорить сложность этого вопроса и
невозможность охватить его целиком, так как образ башни
является одним из важнейших в религии и культуре и принадлежит,
видимо, к типу «объединяющих символов» (das vereinigende
Symbol), в котором происходит совмещение
противоположностей (coincidentia oppositorum) в некоем высшем единстве,
если обратиться к работам Дж. Фрезера, К. Юнга и их
последователей, сторонников мифо-ритуального метода и мифокри-
тики, например, Дж. Кэмпбелла, М. Элиаде и др. Все символы,
архетипические фигуры и знаки, которыми обозначалась
башня в человеческой культуре, здесь служат для выражения той
функции, которую Юнг определил как трансцендентальную.
Эта функция в его понимании служит процессу индивидуации
(восстановлению единства между «Я» и бессознательным).
Она связана с возможностью синтеза противоположностей,
что является предметом исследования в статье Юнга
«Трансцендентальная функция» (1916). Здесь принципиально важны
символы и образы целостности. Юнг считал таковыми прежде
всего архетипические фигуры круга, мандалы, кватерности и
приравнивал процесс индивидуации к общим, присущим
многим древнейшим культурам религиозным обрядам посвящения
или инициации. Понятие объединяющего символа
рассмотрено Юнгом в работах «Психологические типы» ( 1921 ), «Aion»
(1951), «Психология и алхимия» (1944), «Психология
переноса» (1945). Он базируется на принципе «соединения
противоположностей» (coincidentia oppositorum), «переплетения
противоположностей» (complexio oppositorum) и «мистерии
соединения» (mysterium coniunctionis). В разделе «Значение
объединяющего символа» в книге «Психологические типы»
Юнг рассматривает объединяющие символы в индуизме и
даосизме как «изначальный (исконный) образ, т. е. коллективный
первообраз»*.
В этом плане интересны исследования, проведенные в русле
религиозной антропологии и мифологии учеников и
последователей Юнга, опирающихся на понятие архетипа как некоей
установки, первоначальной схемы представления. Например,
Дж. Кэмпбелл отмечает множественность значений образа
* Юнг К.Т. Психологические типы / пер. с нем. С. Лорие; перераб. и доп.
В. В. Зеленский. СПб., 2001. С. 324.
286 С. Д. Титаренко
башни, получивших распространение в архаических культурах
человечества. Он пишет, что в глубокой древности башни-
храмы (зиккураты) являлись символами, объединяющими
полярные начала: они были центрами Вселенной и местом
нисхождения божества на землю, знаменовали связь Неба и Земли
(мужского и женского начала) ради восстановления
плодородия*. Юнг в книге «Психологические типы», рассматривая
происхождение символа башни из архаических представлений,
пишет, что «символ башни мог бы, пожалуй, принадлежать и
к ряду тех, в основе своей фаллических символов, которыми
история символов так богата»**. Поэтому башни в их архети-
пическом значении имели смысл как духовного, так и
эротического пространства.
Показательно, что именно ветхозаветные тексты, как
глубоко подметил Вяч. Иванов, намечают путь к истолкованию
неоднозначных, а порой и противоположных смыслов башни,
связанных с различными, казалось бы, архетипическими
значениями. Укажем лишь на некоторые из них. Например, образ
башни в Библии трактуется как символ убежища, спасения,
защиты (Суд 9, 51; / Цар 13, 6), указывает на связь с
именованием Бога (Прит 18, 11); аллегорически выражает красоту
возлюбленной, сравнивающейся с башней из слоновой кости
(Песн 7, 5; Песн 8, 10); является символом гордыни и
отречения {4 Цар 18,8); воплощает образы строительства и созидания
(2 Пар 26, 10), Славы Бога (Иер 31-38), центра строительства
города во Славу Бога(#е/?31, 38); возвышения и вавилонского
столпотворения (Быт 11,4); поражения и смерти (Иез 26: 4;
Лук 13, 4). В некоторых ветхозаветных текстах этот образ
становится аллегорией, выражающей идею Бога как «внутреннего
человека»: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал,
чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по
жалобе моей?» (Авв 2, 1 ). Аналогичную трактовку получают
образы башен в переводах Вяч. Ивановым трагедий Эсхила***.
Дж. Фрезер, на работы которого Вяч. Иванов ссылается уже
в «Эллинской религии», в книге «Фольклор в Ветхом Завете»
(1918) показал близость трактовки этого образа в религиях и
Ьомнбелл Дж. Мифический образ / пор. с англ. М, 2002. С. 96-103.
Юнг К.Т. Психологические типы. С. 347.
Эсхил. Трагедии / fiep. Вяч. И. Иванова. М., 1989. С. 58—59.
От архетипа — к мифу... 287
обрядах древности у многих народов. Более того, он усмотрел
аналог Вавилонской башни в преданиях о храмах-башнях у
различных африканских племен и мексиканских народов. С его
точки зрения, символика башни воплощает прежде всего ар-
хетипические представления о взаимоотношении человека и
Бога, так как башня понималась в древности как место
схождения Бога на землю. Для человека она была и средством
возвышения, и путем спасения, и образом возмездия за грехи*.
Главная функция образов башен, как свидетельствуют
некоторые примеры из библейских текстов, а также исследования
Фрезера — связь человека со сферой трансцендентного. Об
этом пишет и Дж. Кэмпбелл, анализируя библейскую
историю на фоне похожих на вавилонскую башню месопотамских
сооружений, и вслед за ним Т. Жолковский, говоря о принципе
духовного погружения, реализующимся в башенных проектах.
Кроме того, мифологи выделяют символику башни — храма
как «надземного Центра, который уподобляет их себе и
преображает в "центры мира"», поэтому ритуальные действия людей
«преднамеренно повторяют действия, совершенные от
основания богами, героями или предками» (выделено М. Элиаде)**.
Рассмотрим некоторые представления, лежащие в основе ар-
хетипических образов и связанные с пониманием образа Башни
у Иванова. В статье «Эстетика символических начал» ( 1905),
в которой Иванов рассматривает процессы художественного
творчества и духовной жизни, башенный принцип —
восхождение — трактуется им как принцип воскрешения «погребенному
я в нас» или второго рождения, как принцип трансцендирова-
ния («transcende te ipsum») [Иванов 1, 823]. У Иванова здесь
акцентирован принцип трансценденции, рассматривавшийся
выше в связи с понятием «объединяющего символа» у Юнга,
хотя у Юнга и Иванова нет абсолютного совпадения этой
функции хотя бы потому, что для Юнга религия трансперсональна и
он исследует универсальные символы, присущие человеку
вообще, в феноменологическом аспекте. Это область чистой
метафизики, связанной со сферой сознания. Иванов стремится к
онтологизации символа, связанного со всеми сферами бытия
(«realiora in realibus»), хотя ему присуще также и понимание
* Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете /пер. с англ. М, 1986. С. 160-170.
Элиаде М. Космос и история / пер. с фр. и англ. М., 1987. С. 33.
288 С. Д. Титаренко
символа как метафизической реальности сознания и некоего
продуцируемого сознанием сверхбытия. Поэтому стремление
выхода за пределы бытия в сферу чистой трансценденции —
особенность философского мышления Иванова, как и Юнга.
Трансцендирование в поэзии Вяч. Иванова — это
стремление к высшей духовной реальности, ознаменованной символом.
Показательно, что в статье «Эстетика символических начал»
этот принцип связан с символическими мотивами восхождения
от дольного мира к миру предельности или высшей духовной
реальности, о чем свидетельствуют символика лестницы, архе-
типические фигуры и знаки четырехугольника (пирамиды),
небесной монады, sursum corda (верхней души), осиянного
Престола, связанные в религиях мира и гностико-герметических
учениях с принципами целостности. Именно эти фигуры и
знаки Юнг берет для обоснования трансцендентальной функции и
архетипа Самости как архетипа божества в различных
религиях. Образы троичности, кватерности и мандалы были выделены
Юнгом как архетипы целостности сознания и символы
универсального бытия*. Принцип восхождения, по мнению Иванова,
высказанный в указанной выше статье, написанной в
«башенный» период его творчества, «по существу своему выходит за
пределы эстетики, как феномен религиозный» ( 1, 824).
Поэтому мотив восхождения немыслим без нисхождения, в котором,
по словам Иванова, — и «красота христианства», и «разрыв»,
и «третье, демоническое, начало наших эстетических волнений:
имя ему — хаотическое» ( 1, 827-829).
У Иванова архетипические представления связаны с
религиозным сознанием и стремлением осознать свою причастность к
духовной традиции, осуществить распавшуюся «связь времен»
в пространстве культуры. Это обусловлено тем, что он
определил как теургический «переход» в статье «О границах
искусств» ( 1913) — «трансценс»(2, 649). В этих высказываниях
выражаются представления, близкие космогоническим мифам
творения, в которых, по слову В. Н. Топорова, «изложены
версии о том, как возникли пространство и время и все то, что в
них размещается», и «когда "старое время" и "старое про-
Юпг К.-Г 1) Попытки психологического истолкования догмата о
Троице // К.-Г. Юнг. Отпет Иону. М., 2001. С. 99-136; 2) Mysterium
coniimctionis. Таинство воссоединения» / пер. с нем. Минск, 2003. С. 14—23.
От архетипа — к мифу... 289
странство" преосуществились в сферу духа»*. Здесь создается
мифопоэтическая модель мира, где явлены образы первотво-
рений. Для сравнения интересен художественный образ
башни из текста «Послания Иоанна Пресвитера» — центральной
части «Повести о Светомире царевиче» (1928-1949) у Вяч.
Иванова:
«Неподалеку, среди садов моих на скале, белеет башня
истончена из кости слоновыя, высотою ступеней ста сорока семи,
и как маяк сияет верным издалека.
Встроены во храм, на скале выспрь возведенный, семь
церквей; три церкви подземные и четыре надземные; и в
преисподнюю церковь, Воскресенскую, и в верховую, Успенскую, токмо
Запечатленным доступ, о них же особне скажу» ( 1, 241 ).
Ключ к прочтению архетипов образа Башни-Храма и его
символики у Вячеслава Иванова в этом итоговом
произведении. Соединение башни и храма в одном пространственном
образе не случайно. Мы можем попытаться только
приблизиться к его истолкованию, не претендуя на полноту
раскрытия символики, так как для этого потребуется целостный
анализ произведения. Башня из слоновой кости не случайно
сравнивается с маяком. Маяк связан с образом башни до
небес как символом Церкви. А. С. Уваров указывает на книги
Сивилл, в которых упоминается подобная башня и
раннехристианский текст «Пастырь Гермы»**. Кроме того, башня-маяк
напоминает скинию Премудрости из неканонической «Книги
Премудрости Иисуса» (Сир 25, 4). Ее смыслы основаны на
символике чисел храмов и принципе восхождения —
нисхождения («три церкви подземные и четыре надземные»). Они
скрыты от непосвященных («Запечатленным доступ»).
Принцип пневматологии у Вяч. Иванова связан с идеей Софии-
Художницы, восходящей к «Книге Премудрости Соломона»,
гностико-герметическим текстам и софиологическим
построениям В. С. Соловьева, основанным на его идее
всеединства. В работах Соловьева «Чтения о Богочеловечестве» и
«Россия и Вселенская церковь» учение о Богочеловечестве
* Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический
ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 66.
** Уваров А. С. Христианская символика. Ч. I. Символика
древнехристианского периода. М., 1908. С. 163-164.
290 С. Д. Титаренко
основано на гностико-герметических идеях соединения
небесного и земного, божественного и человеческого. София
в философском учении Соловьева представляет собой некий
архетип Небесной Девы — посредника между тварным миром
и небесным. Об архетипе Небесной Девы, воплотившем со-
фийную мистику в религиозных культах: «Хохма кабалистов,
Ахамот гностиков, Дева Света мандеев, мистическая роза
суфийской поэзии», — писал Вяч. Иванов в статье
«Лермонтов» (4, 382). Число семь П. Флоренский, опиравшийся во
многом на идеи Соловьева и являвшийся в 1910-е гг.
соучастником диалога с Ивановым, считал числом Софии и софийного
восприятия мира, соотнося его со стихотворениями теоретика
русского символизма*. Возможно, что числовая символика в
таком случае связана также с семью христианскими
таинствами и соответствием седьмеричного числа таинств семи дарам
Св. Духа (Ис 11,2, 3). Важным источником, как нам
представляется, именно для Вяч. Иванова могла быть мистическая
нумерология ап. Иоанна (Откр 1, 20). Показательна и
литературная традиция, в которой используются образы скинии и св.
Грааля и на которую указывает А. Н. Веселовский, связывая
именно с этими образами царство пресвитера Иоанна**.
Пространство Башни-Храма разворачивается у Вяч. Иванова в
авторском мифе и сюжете, где архетип мистического
соединения неба и земли получает неоднозначную трактовку.
Важность этого архетипа для своей художественной картины мира
Вяч. Иванов неоднократно отстаивал. Образ Храма-Башни из
«Светомира» можно соотнести с «объединяющим символом»
Ecclesia spiritus (духовной церкви) в христианской, а также
гностико-герметической и алхимической традиции, о
которой пишет Юнг, ссылаясь на Евангелие от Луки («ибо Божье
царство невидимо, оно внутри нас»), «Изумрудную
скрижаль» Гермеса («это проникнет в каждую твердую вещь»)***.
Юнг определяет его алхимическим понятием mysterium со-
niunctionis — таинство воссоединения. Он указывает, что в
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. Т. 1. С. 801.
Веселовский А. Н. Сказания о Вавилоне, скинии и Св. Граале. СПб.,
1896. С. 98.
Юнг К.Т. Mysterium eoniunctionis. С. 20—21.
От архетипа — к мифу... 291
гностико-герметической и алхимической традициях «"центр"
объединяет четыре и три в единое целое»)*.
Мы попытаемся показать значимость «подземного» и
«надземного» кодов этого итогового образа башни. В данном случае
важны как мифы об умирающих и воскресающих божествах
(Осирисе, Дионисе, Христе), так факты Откровения —
истины воплощения, смерти и воскрешения Иисуса Христа ( / Кор
15; 1—23), на которые ссылается и В. С. Соловьев, отстаивая
идею воскрешения мертвых в учении о развитии единой
Церкви**. Этот пример показывает, что архетипическая символика
у Вяч. Иванова не сводится только к «схеме представления».
Она претерпевает сложный процесс трансформаций и
«метаморфоз» (понятие, использующееся Вяч. Ивановым наряду с
Юнгом, например, в статье «Лермонтов». Для интерпретации
архетипического образа или мотива у Вяч. Иванова
метатеория К. Юнга может быть проводником, но не исчерпывающим
источником, так как Юнг исследует универсальные,
присущие всем религиям и мифологиям, включая даосизм,
архетипы, а Иванов — прежде всего индоевропейские, учитывая
древнеегипетские и восточные, на которых строится здание
христианской культуры. Поэтому он не принимал символо-
логии, спроецированной в область бессознательного у Юнга,
отмечая, однако, значимость идей Юнга как ученого в статье
«Анима».
Для анализа архетипических мотивов и образов, положенных
в основу образа башни из слоновой кости в этом произведении,
интересен и рисунок к «Повести о Светомире царевиче» Вяч.
Иванова, относящийся к одному из поздних этапов работы над
произведением. Он датируется 1948 г. и хранится в Римском
архиве писателя. В нем прочитываются архетипические
фигуры башни как полукруглой сферы (чаши), арки, дельфийского
Омфалоса (пространственного центра мира), а также ступеней
лестницы — символа восхождения и нисхождения на некую
Мировую гору. В центре рисунка в форме божественной тео-
фании помещено изображение символической «башни из
слоновой кости» в виде иконы или домашнего алтаря с изображе-
* Там же. С. 21.
** Соловьев В. С. Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о
соединении Церквей // В. С. Соловьев. Собр. соч. Брюссель, 1969. Т. II. С. 27.
292 С. Д. Титаренко
нием женского силуэта, который восходит к иконографическим
канонам и символике Девы Марии*.
Вяч. Иванов понимал сложнейшие архетипические мотивы и
символы башни в их связи с проблемой теургического
«перехода» или, говоря герметико-алхимическим языком, «переноса».
Это образы духовных «Центров мира» (круга, Омфалоса,
Мировой горы) и образы «перехода» (восхождение, нисхождение,
лестница). Именно с ними связывается в символической
традиции посвящение в мудрость мистерий и культ «подземного
мира». Особую роль здесь играет символика лестницы, которая
использовалась «как элемент некоторых инициатических
ритуалов, ее ступени рассматриваются как олицетворение
различных небес, т. е. высших состояний бытия»**. Язык «башенных»
текстов у Иванова герметичен, он основан на изучении
мифологии и религиозных посвящений. Старинные мистериальные
практики духовного погружения были в центре внимания как
Вяч. Иванова, посвятившего им специальные исследования
(«Эллинская религия страдающего бога» и «Дионис и прадио-
нисийство»), так и К. Юнга и Р. Штайнера. Опыт приобщения
к миру мистерий был важен в целях получения сокровенного
знания для Вяч. Иванова как поэта-символиста, в целях,
которые он обозначил как теургия, для К. Юнга — как обретение
психиатрического приема. Кроме того, этот опыт был важен
для жизнестроительства, по-разному воплотившегося в
«башенных» проектах у Вяч. Иванова и у Юнга.
В неопубликованной при жизни поэме Вяч. Иванова «Ars
Mystica» ( 1889)*** Башня-Храм здесь обозначена как некий
сакральный центр, в котором совершается акт мистического
творения, ее принцип — движение вверх как осуществление связи
человека с Небом и Создателем. Весьма важным показателем
герметизма образа является готический код, который получит
дальнейшее развитие как в идее «соборности» у Вяч.
Иванова — проективной форме утопии, сложившейся в «башенный
Топорков А. Фольклорные источники «Повести о Светомире
царевиче» // Вячеслав Иванов. Между Святым Писанием и поэзией //
Europa Orientalis. XXI. 2002 : 2. С. 254.
Геном R Символы священной науки / пер. с фр. М., 2004. С. 350—351.
Нашу публикацию почмы (совместно с Е. В. Глуховой) см.: Символ
(журнал христианской культуры). Париж; М., 2008. № 53—53. С. 38—63.
От архетипа — к мифу... 293
период», так и в готических образах философской поэмы
«Человек» и ряда других произведений. Готический код основан
на отождествлении тела Христа и Церкви. Кроме того, круг в
средневековой эстетике мотивируется чувством абсолютного
центра — тождественного себе Бога; в алхимии и герметизме
он связан с образом Бога и совершенного человека и является
андрогинным символом*.
Исследователи герменевтики готических храмов пишут о
том, что символизм готического собора выражает высшую
ступень посвятительного могущества, свойственного глубокой и
возвышенной философии и является последним пристанищем
древней эзотерики, потому что здесь символические формы
имеют скрытый от непосвященных смысл. Ключ к тайне
посвящения, по мысли Фулканелли, — в надписи на фронтоне
знаменитого храма вДельфах «Познай самого себя», которая в
латинском переводе (NOSCE ТЕ. IPSUM) украшает
барельефы соборов**. К ней многократно обращался Вяч. Иванов в
своих статьях (например, «Тыеси», «Спорады», «Копье Афины»),
поэтических произведениях и собственных комментариях к
ним. Здесь намечен один из путей воплощения посвятительного
мифа, который был в числе других использован Вяч. Ивановым
в «башенном» проекте и нашел отражение во многих его
работах, в том числе в статье «Ты еси» ( 1907), как противостояние
мотиву строительства «железной башни», появляющемуся в
конце поэмы «Ars Mystica» (аналог мотиву Вавилонской
башни в цикле сонетов «Два града» из мелопеи «Человек»).
Неслучайно именно этот фрагмент поэмы был опубликован им в
«Автобиографическом письме» (2, 18-19). Это был путь
возрождения древних ритуалов и сакральных браков (иерогамии),
создания новых посвятительных союзов в форме симпосиональ-
ной и карнавальной жизни. Основой стал мистический союз
Вяч. Иванова и его второй жены Л. Д. Зиновьевой-Аннибал,
который сам по себе воспринимался как посвятительный брак,
о чем много писали современники и биографы поэта и на что
* Эко У. Эволюция средневековой эстетики / пер. с итал. СПб., 2004.
С. 90.
** Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики
с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания / пер. с фр. М.,
2003. С. 339.
294 С. Д. Титаренко
Вяч. Иванов сам многократно указывал в своих письмах,
дневниковых записях и художественном творчестве, как и его
биографы, например О. Шор.
Религиозно-философскую поэму «Человек» (1915—1919)
можно считать тем «послебашенным» произведением, где
архетипическая символика башни — храма находит сложное
религиозно-философское истолкование в связи с надписью на
храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя», как указал
Вяч. Иванов в примечаниях к поэме. Выделим образы башни,
храма, собора. Это прежде всего образ Вавилонской башни
(«До ненависти к Богу — крепость Ада») и образ
нерукотворного храма, созидающегося из душ верующих («На рамена
подъемлют Божий Дом»), являющиеся основой венка
сонетов «Два града» с проекцией на идею Града Божия Августина.
В эпилоге окончательной редакции поэмы «Человек» поэт не
упоминает слово «готические», как в черновой редакции*.
Видимо, для него важен образ некоего вселенского собора.
Исследователи готических соборов пишут о том, что «в миниатюрах
некоторых французских морализованных библий установилась
традиция изображать ветхозаветный храм Соломона как
постройку, обладающую романскими или византийскими
формами, а церковь Христову как готический храм**. Кроме того,
готический собор имеет присущую ему в традиции посвящения
символику, отразившуюся в его плане. В основании
готического храма усматривается воспроизведение идеи тела распятого
Адама как архетипического символа Христа. В примечаниях к
поэме Вяч. Иванов писал: «Райское тело Адама поэт видит
движущимся лучезарным крестом» (3, 741 ).
Путь к познанию тайны человека у Вяч. Иванова был связан
с Башней на Тверской-Таврической, 25. В башенном проекте
Вяч. Иванова воплотилось то, что Юнг называл «психологией
переноса»***. Архетипическая символика имеет не только выход
к глубинным уровням бессознательного, но и во многих случаях
носит проективный и провиденциальный характер, хотя может
Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., 1999.
С. 5 (Публикация А. Б. Шишкина).
Муратова К. М. Мастера французской готики XII—XIII вв. М., 1988.
С. 305-306.
Юнг К.Т. Психологии переноса. М., 1997.
От архетипа — к мифу... 295
выглядеть и некоей утопией, так как период «Башни» в жизни
Вяч. Иванова совпадает с эпохой символотворчества в
жизни и в искусстве. Мифологизированные рассказы о башенной
квартире, приведенные биографами поэта, важны для того,
чтобы связать эти символы с реальными свидетельствами
Вяч. Иванова и его жены — Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Во-
первых, важен провиденциальный сон Зиновьевой-Аннибал
накануне приезда в Петербург, который связан с тем
явлением, который К.Т. Юнг назвал синхронистичностью:
совпадением сна с реальными событиями «обретения» Башни*. Во
сне большую роль играет символика круга: «Круглая
комната. Посреди урна» (1, 88). Образ круга возникает как в
письмах Зиновьевой-Аннибал («Все стены в ней полукруглые»,
«из нее вход в башню, составляющей круглый угол дома»)**,
так и в письмах самого Вяч. Иванова («Живем вдвоем с
Лидией Дмитриевной на верху круглой башни»)***. Кроме того,
большую роль в башенной символике играет готический код:
восприятие квартиры как чего-то «готического» было
присуще и Л. Д. Зиновьвой-Аннибал («Прямо вход в огромную,
глубокую комнату, к концу ее обращающейся в свод и <нрзб>
единственным суживающимся снаружи окном. Что-то
готическое»), и Вяч. Иванову («Тон собрания устанавливается
изящно-богемный, благодаря странности безумия квартиры,
неожиданной красоте вида, изящности трех комнат башни и
странностью готического, просторного «мансарда» с низким
потолком») в письмах этого периода****.
Как свидетельствуют эти и другие материалы, пространство
«Башни» на Тверской-Таврической было воспринято как
ритуальное. По мнению В. Топорова, в архаических ритуалах
сакральные объекты («мировая гора, башня, врата/арка, столп,
трон, камень, алтарь, очаг и т. п.)» продуцируют самый
«образ творения — ритуал», который основан на отождествле-
* Юнг К.Т. Синхронистичность. М., 1997.
** Шишкин А. Симпосион на петербургской башне в 1905—1906 гг. //
Русские пиры. Альманах «Канун». СПб., 1998. Вып. 3. С. 276-277.
*** Брюсов В. Я. Переписка с Вяч. Ивановым // В. Я. Брюсов.
Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 479.
**** Шишкин А. Симпосион на петербургской башне в 1905—1906 годах.
С. 276-277.
296 С. Д. Титаренко
нии микрокосма с макрокосмом*, отсюда — отождествление
человека и Бога и идея сакральных браков как актуализация
мифологической традиции, что оказалось важно для
проективного пространства петербургской Башни. Сложные
взаимоотношения, возникшие на Башне в результате тройственных
союзов Вяч. Иванова и его жены сначала с С. Городецким, а
затем М. Волошиной-Сабашниковой, женитьбы Вяч. Иванова
на В. К. Шварсалон, дочери Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, после
смерти ее матери, понимались Вяч. Ивановым как важная
сторона его мистической жизни на Башне. Не случайно, по
свидетельству современников и участников башенной мистерии,
«вся жизнь в "башне" была вознесена в потусторонние
сферы, в которых естественные чувства должны "увянуть", и в то
же время потусторонность совлекалась вниз, в сферу личных
желаний»**.
Мотив андрогина как изначального архетипа (который
спроецирован на понятия anima и animus) и мистического брака был
положен в основу одного из башенных мифов Вяч. Ивановым
в 1905-1907 г. и связан с формированием семьи как Новой
Церкви. Интересен сохранившийся в архиве
неопубликованный текст, относящийся к началу 1900-х гг. и представляющий
собой набросок вопросов, сделанных рукой Вяч. Иванова, и
ответов на эти вопросы, записанных рукой Л. Д. Зиновьевой-
Аннибал:
«1. Ваше отношение к Богу? 2. Ваше отношение к Миру?
3. Ваше отношение к Человеку? 4. Ваше отношение к Себе ( или
в обратном порядке 4.3.2.1 )? 5. Ваше завещание Людям?»
« 1 ). Бог — творческое начало Мира. 2). Мир — тоже Бог, так
как каждая частица его несет в себе божеское начало. 3).
Человек — часть мира и тоже несет в себе Бога. 4). Я — человек
и тоже несу Бога в себе. Я чувствую его в себе особенно ярко
в минуты творчества и в минуты, дающие счастье. 5). Помните
всегда, что в вас заложена искра божия. Найдите ее, дайте ей
разгореться, и вы будете счастливы. Творчество лучше всего
приближает к Богу, и постарайтесь найти его в себе.
Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический
ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 12—13.
Сабашникова М. Зеленая змея. История одной жизни / пер. с нем. М.,
1993. С. 184.
От архетипа — к мифу... 297
От тьмы — от страдания, от неудовлетворенности.
Чтобы найти то, что бы осветило мне мой путь.
Куда — к этому свету, чтобы слиться с ним и там найти то, чего я хочу.
Я могу достигнуть такого совершенства, чтобы ощущать в
себе Бога, самое высшее, и слиться с ним, чтобы уничтожить
в себе все рабское, тленное, чтобы давать людям счастье
высшее — это совершенство называть их и давать им счастье и
свет. Я хочу, найдя высшее, давать его другим»*.
Нетрудно убедиться в том, что в этих записях
формулируется цель новой семьи. Ритуал является своего рода творческим
лоном. Поэтому формы жизни — «цитаты» из ритуализован-
ных практик: Башня у Иванова — место дионисийских
мистерий («Мэнада») и отождествления себя и других с божеством
(«Бог в лупанарии»), место ритуальных браков (цикл
«Золотые завесы» и сборник «Эрос»), место воскрешения мертвых
через связь «вкусившей» смерть матери с ее дочерью. О. Шор
писала, что «В. И. видел в дочери Лидии — дочь Деметры,
Персефону Элевсинских мистерий» (I, 134). Основа ритуали-
зованных жизненных практик — смерть себя прежнего и
возрождение через новое рождение по типу сакральных браков
богов**. Ритуализованный характер приобретает на Башне и
мистическая духовная связь Иванова с умершей женой.
Поэтому не случайны среди его дневниковых записей и черновых
набросков случаи «автоматического письма», которые называют
также медиумическим. Это записи, сделанные Вяч. Ивановым
«поддиктовку» умершей жены и от ее имени, иногда на
латинском языке. Они в настоящее время частично опубликованы***.
Общение с миром мертвых основано у поэта на
бессознательном стремлении к мистическому единству — unio mystica,
духовному браку, путь к которому намечен в образах диалогов
* ОРРГБ. Ф. 109. К. 41. Ел. хр. 10. Л. 1-3.
** Юнг К.Т. Человек и его символы / пер. с англ. М., 1997. С. 132.
*** Обатнин Г. Об одной проблеме подготовки академического собрания
Вяч. Иванова // Русский модернизм: Проблемы текстологии. СПб., 2001.
С. 201-216; Wachtel M.ViacheslavIvanov: From Aesthetic Utopia to Biographical
Practice // Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford,
1994. R 151-166; Титаренко С. Д. Автоматическое письмо у Владимира
Соловьева и Вячеслава Иванова // Русская антропологическая школа. Труды.
Вып. 4. Ч. 1 /подред. Вяч. Вс. Иванова. М.: РГГУ, 2007. С. 147-189.
298 С. Д. Титаренко
Платона, библейской Песни Песней и истолкован в
сочинениях христианских мистиков, таких, как М. Экхарт (с которым
отождествлял себя К. Юнг), Я. Рейсбрук, Я. Бёме, Э. Сведен-
борг и других. В основу духовного брака положено
платоновское понятие андрогинности. Символично «башенное» имя
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал — Диотима, жрица, которая
«посвятила» Сократа, согласно платоновскому диалогу «Пир».
«Мы с Диотимой чувствуем себя часто нерасторжимо
скованными», — пишет Иванов в 1906 г. в своем дневнике (2, 746).
В статье «О достоинстве женщины» (1908), развивая эти идеи,
он указывает на образ «круглого человека», уподобленного
сосуду трансформации в алхимии и душе в христианской мистике:
«Мы наблюдаем в настоящее время женщину в периоде
индивидуального симбиоза с мужчиною. Семья, основа нашей
общественной жизни, предполагает постоянное и бессрочное
сожительство двух людей разного пола: это — космическая попытка
соединить оба природных и духовных начала человечества в
двуполой слитности удвоенного индивидуума.
Первоначальный мужеженский человек — "круглый человек" Аристофана,
одного из собеседников Платонова "Пира", — захотел
восстановить себя путем этого симбиоза ...» (3, 142).
Иванов развивает в статье идеи, связанные с представлением о
том, что союз мужчины и женщины представляет собой не
физиологическое или биологическое единство, но единство
мистическое и космическое. Символ круга — «круглого человека»
Платона — основан на идее андрогинизма. В христианской традиции
идея андрогинности основана на идее мистического брака души с
Христом, символом чего является Дева Мария. У Э. Сведенбор-
га андрогинность связана с учением о мистическом супружестве.
В алхимии она трактуется как mysterium coniunctionis (таинство
воссоединения). Ее истоки связываются с архаическими мифами
о божественном браке, как уже указывалось. «Если мы
проследим эту идею вглубь, — пишет К. Юнг, — то обнаружим, что в
алхимии она имеет два истока: один — христианский, другой —
языческий. Христианский источник — это, безусловно, учение
о Христе и Церкви, sponsus (лат. жених) и sponsa (лат. невеста)
<...> Языческий источник — это, с одной стороны, иерогамия,
а с другой — брачный союз мистика с Богом»*. Это был путь к
Юнг К.Т. Психология переноса. С. 107.
От архетипа — к мифу... 299
ивановскому мифу о Башне как Душе (Психее), в полной мере
понятый уже в «послебашенный период», когда, прочитав
параболу П. Клоделя «Анима и Анимус», он понял, что эти образы
уже воспроизведены им в стихотворениях «Психея-Скиталица»
и «Психея-Мстительница» (3, 279-281 ). Этому помогло и
знакомство с работами К. Юнга.
Размышление Вяч. Иванова в аллегорической форме дает
ключ к прочтению символического смысла образа Башни как
образа Психеи — души, стремящейся к «духовному Браку» с
«Tarnant divin» — божественным возлюбленным. В
христианской мистической традиции этот принцип «рождения» Христа в
душе человека, обоснованный в учении Августина, проповедях
М. Экхарта, сочинениях Я. Бёме, Э. Сведенборга, Я. Рейсбрука.
Башня обретает при этом смысл сакрального места рождения
божества и приравнивается душе, Психее, сосуду
трансформации в алхимической традиции. Большую роль здесь играет
принцип трансцендирования, восходящий к учению
Августина, на которое Вяч. Иванов ссылается во многих своих
работах, и прежде всего в статье «Ты еси» (1907) и ее переработке
1935 г., озаглавленной «Анима». Этот принцип стал базовым
в аналитической психологии К. Юнга, особенно в его поздних
работах, где наметился уклон Юнга к христианской религии и
где на ее основе он дает схемы индивидуации, как, например, в
статье «Символ превращения в мессе» (1941 ). В четвертой
части работы он рассматривает процесс индивидуации, когда под
влиянием объединяющих символов — круга, креста, креста в
круге и мандалы происходит сложный процесс восстановления
целостности человеческого сознания*.
С идеями Юнга Вяч. Иванов ознакомился, по свидетельству
его дочери, Л. Ивановой, в 1925 г. в Давосе через
посредничество Э. К. Метнера, который был пациентом и поклонником
Юнга**. Знакомство с фундаментальными работами К. Юнга и
прежде всего с такими, как «Либидо, его метаморфозы и
символы» (1912) и «Психологические типы» (1921 ), у него
произошло, судя по переписке с Э. К. Метнером, в 1929 г. и вызвало
неоднозначную оценку работ знаменитого цюрихского психоло-
* Юнг К.Т. Символ превращения в мессе. // Юнг К.-Г Ответ Иову.
С. 5-98.
** Иванова Л. Вяч. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 217-218.
300 С. Д. Титаренко
га*. Об интересе Вяч. Иванова к идеям Юнга свидетельствует
изучение его теорий в изложении цюрихских учеников Юнга,
в частности Дж. Корри, книга которой «Элементы психологии
Юнга» с пометами русского поэта и его рисунками хранится в
Римском архиве Иванова**.
В статье «Размышления об установках современного духа»
( 1933), ссылаясь на Юнга как ученого-позитивиста, Вяч.
Иванов отмечает созвучность идей Поля Клоделя, воплощенных в
его параболе «Анима» и «Анимус», идеям Юнга и своим
собственным размышлениям (3, 483). Указывая на тот факт, что
некоторые идеи Клоделя, близкие теориям Юнга, он
предвосхитил в ряде своих стихотворений и прежде всего « Психея-
Скиталица» и «Психея-Мстительница», Иванов признал тем
самым трактовку образа Башни в своем творчестве как
Психеи (одно из «башенных» имен Зиновьевой-Аннибал). Данная
проекция образа Башни, казалось бы, совпадает с той, которую
имел в виду К. Юнг, назвав свою Башню в Боллингене
«Башней Души» (Psyche). Истории этой Башни и ее символическим
репрезентациям уделяют внимание как сам Юнг, так и его
биографы и исследователи башенных проектов XX в.
Вместе с тем истолкование символики Башни у Юнга
связано не только с его теорией архетипов и учением об
объединяющем символе. Здесь большую роль играет учение о
бессознательном. Нас будут интересовать архетипические фигуры,
образы и символы, связанные у Юнга с пространством башни
как символа человеческой души и сосуда трансформации в
алхимии. Архетипический образ Башни у Юнга складывается в
двух его известных снах: в одном предъявлен фаллический
образ — символ восхождения (на символику Башни, с ним
связанную, уже указывалось); в другом демонстрируется процесс
нисхождения в бессознательное, что дает проекцию души. Это
символический сон Юнга о доме как замке или башне, каждый
этаж которого — от верхнего этажа до сводчатого подвала и
подземелья — представлял кольцо времени от современности
до эпохи Древнего Рима и первобытных пещер. В книге
«Воспоминания, сновидения, размышления» Юнг писал: «Я понял,
Иванов В., Метнер Э. К. Переписка из двух миров / публ. В. Сапова //
Вопросы литературы. 1994. № 2—3.
Corrie J. Éléments de la Psychologie de Jung. Paris, 1929.
От архетипа — к мифу... 301
что дом — это в каком-то смысле образ души, т. е. образ
тогдашнего состояния моего сознания, которое выглядело как
жилое пространство, вполне обустроенное, хотя и несколько
архаичное. <...>. Если судить по моему сну, то помимо собственно
сознания существовало еще несколько нижних уровней:
необитаемый «средневековый» первый этаж, затем «римский»
подвал и, наконец, доисторическая пещера. Это были вехи
сознательной истории человечества и вехи в развитии человеческого
сознания»*.
В этих словах — ключ к прочтению смысла символа башни.
Она становится проекцией души, но не в христианском
смысле, а исходя из теории аналитической психологии, где каждая
реалия есть лишь отвлеченный символ связи сознательного и
бессознательного. Этот же принцип важен был для К. Юнга,
определившего башню понятием «Psyche», и, как мы уже могли
убедиться, для Вяч. Иванова, у которого кроме этого значения
образ Башни был насыщен множественностью архетипических
смыслов, основанных не столько на понятии коллективного
бессознательного, как у Юнга, а культурного и
индивидуального бессознательного, важного в становлении личности, что,
по-видимому, отстаивал Вяч. Иванов, не принимая идей Юнга,
высказанных в его ранних работах, изданных со
вступительными статьями Э. Метнера.
Башня Юнга — дом, который он стал строить в Боллингене
с 1922 г., была задумана как нечто целое, воплотившее в себе
сокровенные знания. Это был круглый дом, архетипом
которого стала мандала, по словам Юнга, а назначение Башни —
ритуальные посвящения (биографы Юнга пишут о
посвятительном мифе как мистическом браке втроем: с Эммой Юнг и Тони
Вольф). Впоследствии «Башня» стала для Юнга местом
общения с «миром мертвых»**. В башенном проекте К. Юнга был
воплощен проективный сон как форма утопии. В результате он
чувствовал себя в Башне так, словно жил «одновременно во
множестве столетий»***. Это стало возможным благодаря
осуществившейся связи между сознательным и бессознательным.
* Юнг К.Т. Воспоминания, сновидения, размышления. Минск, 2003.
С. 162-163.
** Там же. С. 221.
Там же. С. 232.
302 С. Д. Титаренко
Проводником стала, по его словам, анима. «Как
персонификация бессознательного, она восходит ко временам историческим,
включая в себя знание о прошлом, своего рода предысторию»*.
Башня для него стала символом дома, матери и возрождения,
о чем Юнг писал в книге «Либидо, его метаморфозы и
символы». Архетип башни в представлении Юнга находит сложное
выражение в некоторых транскультурных символах божества,
связанных прежде всего с Великой матерью как символом
города и защиты, а также символом целостности человеческого
сознания. «Поэтому понятно, — пишет Юнг, — что богини-
матери, Рея и Кибела, всегда изображались увенчанными
короной в виде городской башни»**. Башня как объединяющий
образ у Юнга, как и у Иванова, имеет проекцию вверх
(восхождение — трансцендирование — процесс индивидуации)
и вниз, так как, по свидетельствуя. Даурли — священника и
ученика Юнга, «все мощные, в том числе религиозные
символы всплывают из глубин и подаются из источников, общих
всему человечеству и определенных Юнгом как коллективное
бессознательное»***.
И для Юнга, и для Иванова центральной проблемой
культурной антропологии стал вечный вопрос о мистерии человеческой
души, о таинстве ее воссоединения с абсолютом. Юнг и его
ученики пытались найти единый источник для описания жизни
человеческой души, выдвинув фундаментальные духовные идеи о
том, что мифологические образы имеют психологическую
природу, и они являются порождением «психэ», пребывают в нас в
форме архетипов «коллективного бессознательного» и
воплощаются в языке символов и мифов. В книге «Либидо...» образ
башни ассоциируется с образом города, он же — материнский
символ, так как заключает в себе, соединяет. В космическом
плане это — Мировая Душа, которая объединяет в себе весь
мир, символом ее является круг. Он же — символ соединения
в материнской утробе дитя и матери, символ соединения
мужского и женского начал. Ссылаясь на диалог Платона «Тимей»,
Юнг пишет, что «образ «души» является производным мате-
Юнг К.Т. Воспоминания, сновидения, размышления... С. 280.
Юнг К.-Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб., 1994. С. 215.
*** ДаурлиД. П., ЭдиигерЭ., Зеленский В. К.Т. Юнг и христианство. СПб.,
1999. С. 9.
От архетипа — к мифу... 303
ринской «imago» и связан с символикой креста (разделения и
соединения); указывая на Плотина, говорит о связи
материнского символа со значением Мировой Души. Далее
прослеживается связь креста и мирового древа, троичности и Пресвятой
Девы как трансцендентного образа матери.
Символы башни у Юнга спроецированы на мономиф о
матери как архетипе нисхождения (кровосмешение — инцест) и
восхождения (мистический брак — иерогамия). На принципе
восхождения основана христианская традиция
средневековой мистической литературы: сочинения Я. Бёме, М. Экхарта,
Э. Сведенборга и др. В дальнейшем этот архетип осложняется
контекстами мистического погружения в алхимические
процессы (мистерия воссоединения — андрогинные символы),
погружения в языческие и христианские мистерии (круг и крест,
мандала, мировое яйцо). «Смысл разбираемого нами круга
мифов ясен, — пишет Юнг, — это томление по новой жизни,
т. е. стремление через возвращение в материнскую утробу
вновь возродиться, стать бессмертным подобно солнцу»
(выделено К. Юнгом)*. Эти символы претворены в жизнь в
реальном проекте Башни. Центральным символом Башни для
Юнга стал камень. Он понимал его «как место рождения богов
(например, рождение Митры из камня)», как воплощение Бога
(Христа), как место встречи Земли и Неба**. Поэтому основной
мотив строительства Башни — соединиться с камнем, чтобы
заново родиться.
Сопоставление двух башенных проектов Юнга и Вяч.
Иванова и рассмотрение символических проекций образа башни у
Иванова позволяет выйти к пониманию данной реальности как
mysterium coniunctionis (мистерии, или таинству
воссоединения), конституирующему архетипическое значение образа
башни. Это алхимическое понятие восходит к одноименной книге
К. Юнга («Психология и алхимия: Mysterium Coniunctionis»)
и его трудам по психологии бессознательного. Эта же
мифологема стала одной из базовых в религиозно-философских
построениях Вяч. Иванова, воплотившихся в его творчестве от
замыслов ранних поэм в 1890-е гг. («Ars Mystica») до
«Повести о Светомире царевиче» (1928—1949). Конечно, Иванова
* Юнг К.Т. Либидо, его метаморфозы и символы. С. 219.
** Юнг К.-Г О природе психе. М., 2002. С. 356-359.
304 С. Д. Титаренко
и Юнга отличает как система символов, так и глубина
подходов, обусловленная тем, что Вяч. Иванов реализует
прежде всего религиозно-эстетический подход. Для него важен
индивидуально-творческий процесс символизации как
определенного видения и ведения. Выделяя ознаменовательную
функцию символа, он понимает язык искусства как мистико-
теургическое таинство, поэтому он не принимал эзотерическое
учение Юнга целиком. Но символический язык образов и у
Юнга, и у Вяч. Иванова укоренен в мифе, обряде, ритуале,
мистерии и основан на понимании религии как пути к возрождению
и спасению души. У Юнга сфера религиозно-эстетического не
является доминантной. Его аналитическая философия и симво-
лология спроецированы в большей степени на истолкователь-
ную психологическую функцию символической формы и на ее
описание, т. е. на феноменологию символических форм. У Вяч.
Иванова архетипическое включается в онтологическую
поэтику. Оно является основой мистического постижения истины,
воплощенной в культурной памяти человечества.
А. Б. Шишкин
Символисты на Башне*
/. Башня
«Воздух, насыщенный поэзией, тем самым
насыщался великими проблемами»(Е. В.Аничков), «центр,
куда собирались все, которые собирались созиданием
чего-то нового, и те, кто жаждали делиться своими
мечтами с подобными же искателями» (А. Н. Бенуа),
«единственный настоящий салон, который мне
довелось видеть» (А. А. Ахматова), — так писали о Башне
современники, испытывавшие к ее хозяину приязнь
или острую антипатию. «Его "среды" одно время были
средоточием всех молодых литературных течений, к
В. Иванову, как признанному "учителю", стремились
попасть все молодые поэты», — в 1914 г. отмечал в
энциклопедической статье В. Я. Брюсов, мало
благоволивший к Башне. «Мифотворцу — на Башню»
посвящает два «мифотворения» И. Анненский.
О том, какое место в культуре Серебряного века
занимал сам насельник Башни, убедительно показы-
Переработанный и дополненный текст статьи: «Симпосион
на Петербургской Башне 1905-1906гг.»//(Русские пиры. СПб.,
1998 (Альманах «Канун». Вып. 3). С. 273-352).
306 А. Б. Шишкин
вает ставший последним восьмой выпуск «Русской
литературы XX века» под редакцией народника С. А. Венгерова (М.,
1918). На творчество И. Анненского, А. Блока и Андрея
Белого здесь отведено по статье, а на наследие Иванова —
целых три; авторами их были Н. Бердяев, Ф. Зелинский и Андрей
Белый; Бердяеву принадлежал краткий очерк «Ивановские
среды» — начальная история Башни. Для следующего
поколения, по свидетельству поэтессы Н. Павлович, Башня «стала
историей». В 1920-е гг. в Петрограде M. М. Бахтин, проходя
мимо, вспоминал «знаменитую Башню Вячеслава Иванова».
Заостренно-гротескные зарисовки о «втянувшей» в себя весь
Петербург Башне мы читаем в мемуарах Андрея Белого ( 1930,
1933, 1934)*. Как призрак ушедшей исторической эпохи
предстает «петергофская Башня» — тень ивановской Башни в
«Козлиной песне» К. Вагинова, призраке ушедшей
исторической эпохи.
На симпосионах Башни участвовали поэты, мыслители,
художники, историки искусства и литературы, режиссеры,
актеры, политики; случались собрания-«гиганты», где
участвовало до 70 человек, и напротив, камерные и закрытые
«неофициальные» собрания. Парижский салон Ст. Маллар-
мэ не был открыт для всех. На Башню приходили, не думая
о принадлежности к определенному литературному или
эстетическому лагерю. Напротив, «душно, душно, душно в
кружке», — восклицала жена поэта Л. Д. Зиновьева-Аннибал,
радуясь, что «враги и ругатели»-реалисты решили участвовать
на средах.
Трудно найти петербургского или московского писателя,
который не побывал на Башне. «По средам "на башне", как на
какую-то арену, ярко залитую светом самой изощренной
требовательности, выходили в продолжение нескольких лет русские
символисты, неся на суд и похвалу свои новые достижения.
Обновлялись и получали поощрение чаяния и грезы поэтов и
художников. Не просто "на башне", на высях побывали. Так и
жилось от среды до среды»**. «Не одних поэтов влекло на
Башню. И опять-таки, если я вспомню его главных, особенно же-
Андрей Белый. 1 ) На рубеже столетий. М., 1989; 2) Начало века. М.,
1990; 3) Между двух революций. М., 1990.
Аничков Е. В. Новая русская поэзия. Берлин. 1923. С. 42—43.
Символисты на Башне 307
ланных и частых гостей, не назову ли я тех, чьи уцелели имена
после всех невзгод и перипетий переворота, чтобы оказаться
особенно на виду. Это М. И. Ростовцев, Луначарский,
Бердяев. Но, когда они подымались на лифту <так!> на Башню, там
внизу оставались их журнальные, ученые профессиональные
и партийные заботы, ибо поистине ввысь sursum corda (горе
сердца. — А. Ш.) подымался каждый из них»*.
Открытость Башни соответствовала идее Вяч. Иванова и
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал — в исторической перспективе
утопической — о построении «соборной» и «универсальной»
общины, о расширении индивидуалистического творчества до
коллективного и создании «всенародного» искусства
будущего, о преодолении трагического непонимания между
«художником» и «толпой». На Башне ставились и дискутировались
самые острые и актуальные для своего времени проблемы
(см. их краткую хронику в приложении). «Всегда было
желание у В. Иванова превратить общение людей в платоновский
симпозион, всегда призывал он Эрос», — писал в своем эссе о
«средах» Бердяев. Л. Д. Зиновьева-Аннибал видела у
приходящих на Башню «серьезное, плодотворное отношение к
искусству, так близко напоминающее эпоху Возрождения; в эпохи
... могучего творчества (Ренессанс, например) никто не
боится быть похожим на другого <...> А наши Среды так
способствуют выработке новых идей, что, например, Бердяев говорит
уже о планировании»**. Примечательно позднее свидетельство
Вл. Вейдле: «Для стихотворцев, даже и ничуть не похожих на
него, был он всегда открытым чужому таланту,
необыкновенно внимательным и непогрешимого слуха судьей. Ходасевич
рассказывал мне, что прочел ему однажды стихотворение —
«Ручей» (1916), — написанное в два приема, с большим
промежутком между первым шестистишием и вторым. Вячеслав
Иванов не только этот перерыв угадал, но и совершенно точно
указал его длительность»***.
* Аничков Е. В. Отрывок из неизданных воспоминаний (1935) //
А. Шишкин. История Башни Вяч. Иванова. Рим, 1996. С. 225—226.
** Богомолов Н. А. Вяч. Иванов в 1903-1907 гг.: Документальные
хроники. М. 2009. С. 179, 180.
*** Вейдле В. О тех, кого уже нет. Вяч. Иванов // Новое русское слово.
09.04.1976.
308 А. Б. Шишкин
Любопытна мифологическая аллегория ивановской Башни,
созданная М.Добужинским, одним из художников-завсегдатаев
«сред». Добужинский оформлял книгу Вяч. Иванова «По
Звездам» 1909 г., — итог четырех петербургских лет писателя.
На титульный лист книги художник поместил художественную
марку с изображением башни: это вписанная в треугольник
сторожевая зубчатая средневековая башня (ср. «Осенены
сторожевою Башней» — сонет Иванова, обращенный к Ю. Вер-
ховскому), мощная и широкая у основания и
суживающаяся кверху, возвышается на фоне ночного звездного неба; у ее
подножия месяц, а вершина пересекается с Млечным Путем.
Этот рисунок вписан в похожий на пирамиду треугольник,
обращенный вершиной кверху. Аллегорический смысл рисунка
прочитывался определенно: башня — символ бодрствования и
восхождения; Млечный Путь — символ пути паломников,
исследователей, мистиков, перехода с одного места на другое на
Земле, с одного круга на другой в космосе, с одного уровня до
другого в душе.
Мифологизировалась сама история о том, как Ивановыми
в Петербурге была найдена квартира, прозванная Башней.
По рассказу Вяч. Иванова, жене поэта Лидии Димитриев-
не Зиновьевой-Аннибал, пересказанному О. Дешарт, весной
1905 г. накануне отъезда из Женевы привиделся сон:
«Круглая комната. Посреди урна. Она с Вячеславом кидает
в урну свитки. И вдруг пожар. Все горит. Они вынимают
свитки из урны (папирусы, ими написанные) и бросают их вниз, на
землю, где их подхватывает сбежавшийся народ»*.
Пожар символизирует революционную стихию; здесь может
быть уместно вспомнить сонет 1919 г. Г. Чулкова ( кстати,
непременного участника башенных «сред»), посвященный Вяч.
Иванову: оба в недавнем прошлом они готовили огонь для дома, «где
жили предки наши чинно» — огонь костра революции. И Иванов
в ответном сонете признавал: «Да, сей костер мы поджигали...»
(IV, 8). Но весной 1905 г. образы этого сна вряд ли толковались
таким образом. Творчество, культурная деятельность, угроза ее
истребления от разрушительной стихии, унаследование
«народом» части спасенного — вот темы сна.
Иванов В. И. Собр. соч. Т. I. Брюссель, 1971. С. 88. Далее ссылки па
брюссельский четырехтомник ( 1971 — 1987) даются к тексте.
Символисты на Башне 309
Сон соприкоснулся с реальностью по приезде в Петербург,
когда Лидия Зиновьева «узнала» виденную ею во сне круглую
башенную комнату в одной из сдававшихся в наем
петербургских квартир. Это были комнаты на верхнем, шестом этаже
углового дома на пересечении Таврической и Тверской улиц.
Квартиру было решено немедленно снять. Свое первое
впечатление о необычных апартаментах в доме, построенном в стиле
классического петербургского модерна, Л. Зиновьева-Аннибал
подробно и восторженно описывала своей дочери в Женеве в
июльском письме 1905 г.:
«Мы нашли удивительную квартиру, которая хотя и имеет
лишь 4 комнаты, но так поместительна, что вы все могли бы
поместиться. <...> Из ее окон кажется, что живешь в самом
парке и расстилается весь город, и Нева, и дали <...> и все
стены в ней полукруглые. С 25 июля поселимся в ней <...>
Единственная квартира во всем Петербурге. Что-то
фантастическое и прекрасное. 6-й этаж, из кухни ход на крышу и
прогулка по крышам самого высокого дома с видом на все четыре
стороны города и боров в синих далях. Сама квартира: огромная
передняя. Прямо вход в огромную, глубокую комнату, к
концу ее обращающейся в свод и с единственным суживающимся
снаружи окном. Что-то готическое. Из нее вход в башню,
составляющей круглый угол дома (Тверской и Таврической). Она
разделена перегородками (стенками внутренними) на три
комнаты, и они представляют странную форму благодаря башне.
Все комнаты очень просторны»*.
В письмах Вяч. Иванова квартира из четырех комнат
превращается в мифологизированную «Башню поэта», место для
которой, могло бы показаться, в какой-нибудь
полуфантастической или символической картине. М. Замятниной,
«домоправительнице» Ивановых, поэт писал 1 августа и приложил план
квартиры, обозначив разными литерами обстановку и широкую
панораму, открывающуюся из окон:
«Сижу за Вашим бюро у окна а, любуясь отражением
деревьев в зеленом озере Таврического парка. Прекрасное окно
забрызгано дождем. Исаакий в светлой тьме. <...> О,
вдохновительные виды на все стороны! От Лидии, из окон d и е, рас-
* Письмо Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к M. М. Замятниной от 25 августа
1905 г. // Богомолов Н. А. Вяч. Иванов в 1903-1907 годах. С. 123.
310 А. Б. Шишкин
крывается Россия будущего. Фабрики дымят на фоне боров.
По Неве проходят пароходы. Но у меня больше Хариты,
Дриады и Наяды, и храмы, но всюду великолепие монументального
Петрограда»*.
В те же дни он писал Брюсову: «Живем вдвоем с Лидией
Дмитриевной на верху круглой башни над Таврическим парком
с его лебединым озером. За парком, за Невой фантастический
очерк всего Петербурга до крайних боров на горизонте. В
сумеречный час, когда тебе пишу, ухают пушки, возвещая поднятие
воды в Неве, и ветер с моря, крутя вихрем желтые листья
парка, стонет и стучится в мою башню»**.
Так фантазия насельников Башни дополняла и оживляла
действительность. Пейзажи, открывавшиеся из окон
квартиры, и интерьеры комнат, продуманные ее хозяевами, могли
соответствовать философическим размышлениям,
импровизации искусства. Пространство Башни и окружающее Башню
было как бы пространством красоты, творчества и
отъединения от быта. В позднейшем дневнике Вяч. Иванова за 1909 г.
читаем:
«Летние дни в городе. Хорошо на башне. Устроенный,
прохладный, тихий оазис на высоте, над Таврическим садом и его
зеленой чашей-прудом с серебряными плесами. Латинские
корректуры, филологические элукубрации, мифология.
Вечером мое полуоткрытое полукруглое окно <...> становится
волшебным просветом в мир зеленых, синих, фиолетовых пятен,
зыблющихся за светлой рекой призрачных морей, облачных
далей и багровых закатных химер. Музыкальные ночью свистки
пароходов, и взвизги сирен» (II, 773).
«Из моего открытого окна август дышал то теплою мглой,
то негой ливня. С Невы доносились свистки пароходов. Зелень
была коричневой. Облака всегда разнообразны, особенно на
закате» (запись от 1 августа 1909 г. — II, 780).
«Бетховена квартет с русской темой, Гретри и Глюк — в
почти пустой — Лидиной и Марусиной комнате, которую я
счастливым выбором обоев обратил в кусочек неба, в лазурный
грот» (12 августа 1909 г. — II, 789).
Богомолов Н. А. Вяч. Иванов в 1903— 1907 годах. С. 124.
Письмо Вяч. Иванова к В. Я. Брюсову от 29 августа //Литературное
наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 479.
Символисты на Башне 311
Как устроили квартиру на Таврической ее новые хозяева?
Главной стала собственно «башня», единственная
немансардная комната с одним окном и круглыми стенами; с двух сторон
ее перерезали легкие стенки-перегородки, образуя два
полукруглых сектора по бокам. Когда подходила «среда», сюда
сносили стулья со всей квартиры, большой стол сдвигался к
передней и закрывал большую дверь, гости должны были проходить
через боковую дверь левого сектора. На столе, называемом в
таких ситуациях «райком» или «галеркой», тоже усаживались
участники вечера, которые, в соответствии со своим
положением, могли «бунтовать» и потешаться над авторитетами.
Остальные комнаты были мансардными. Просторная
комната Зиновьевой, в два окна, выходила на Тверскую, она была
обклеена оранжевыми, цвета терракоты обоями; между двумя
низкими тахтами, покрытыми подушками и платками,
находилась высокая урна, в которой Вяч. Иванов и Зиновьева хранили
свои рукописи. Напротив была небольшая комната Иванова,
огненно-красная, окно выходило во двор-колодец. Комната,
выходящая на Тверскую, предназначалась для приезжих: когда
в феврале 1907 г. здесь недолгое время жили Волошины, она
была обклеена мрачными серыми обоями. Неслучайным был
выбор репродукций итальянских мастеров, развешенных по
стенам. Это «Адам» Микеланджело, «Тайная вечеря» и
рисунок головы Христа Леонардо да Винчи, «Весна»,
«Мистическое Рождество» и «Минерва с кентавром» Боттичелли и два
фрагмента росписи Сикстинской капеллы Микеланджело: Бог
Отец и Мужская фигура.
Когда весной 1907 г. Вяч. Иванов и Зиновьева стали
готовиться к приезду M. М. Замятниной и детей из Женевы, была
снята еще и соседняя трехкомнатная, также мансардная,
квартира. Позднее, весной 1908 г. в них 14 недель прожил И.
Понтер, а после — многократно, но не подолгу останавливались
Ю. Верховский, В. Эрн, Ф. Степун, А. Белый. С 17 июля 1909 г.
в них постоянно жил Кузмин.
Скульптурно-цепкий и чуть гротескный взгляд Андрея
Белого так запечатлел Башню: «Вселились Ивановы в выступ
огромного здания, новоотстроенного над потемкинским
старым дворцом, ставшим волей судьбы Государственной Думой;
впоследствии выступ прозвали "башней Иванова"; всей
обстановкой комнат со старыми витиевато глядящими креслами, с
крашенными деревянною черной резьбой, в оранжево-теплых
312 А. Б. Шишкин
обоях, с коврами, с пылищами, с маскою мраморной, с
невероятных размеров бутылью вина, с виночерпием, М. М. За-
мятниной (другом жены), с эпиграфикою, статуэткой танагр-
ской, — Иванов над Думой висел, как певучий паук, удар
нанося декадентским салонам»*.
2. Революция
Башня была отъединением от быта, но никак не от реального
исторического момента, переживаемого Россией.
На языке поэзии о политических событиях сказано в двух
стихотворениях, созданных непосредственно после вселения
в дом на углу Таврической и Тверской. Первое,
посвященное Л. Зиновьевой-Аннибал, было озаглавлено «На башне»;
второе, написанное, как можно думать, той же осенью, —
«Медный всадник». Оба текста были включены в книгу «Сог
Ardens», причем первое открывало раздел первого тома
«Сивилла», второе ему непосредственно следовало. Стихотворения
связаны единым тоном — предчувствием уготованных городу
бед — и теми же образами. Для нас сейчас самое
поразительное — это то, как именно сразу в самых первых строках обоих
текстов обозначено место действия:
Пришелец, на башне притон я обрел
С моею царицей-Сивиллой,
Над городом-мороком... (II, 259)
В этой призрачной Пальмире,
В этом мареве полярном... (II, 259)
То есть Башня неразрывно связана с судьбой призрачного
города. Известно, что «выморочным» называли Петербург еще
старомосковские традиционалисты, противники петровских
реформ. Иными словами, оба текста исходят из мифа о начале
Петербурга Петровской эпохи. Вместе с тем название второго
текста непосредственно указывает на пушкинский миф,
центральный и самый могущественный в основном петербургском
мифе. Царь-демиург, у Пушкина преследующий взбунтовав-
Андрей Белый. Начало века. С. 345.
Символисты на Башне 313
шегося против его произвола Евгения, появляется в конце и в
ивановском «Медном всаднике». Но если у Пушкина слышится
«тяжело-звонкое скаканье», то ивановская Сивилла слышит,
« как тупо / Ударяет медь о плиты... / То о трупы, трупы, трупы /
Спотыкаются копыта», — жертва Петра уже не один Евгений,
но множество невинных.
Схожи не только начало стихов «На башне» и «Медный
всадник», но и их конец. Трижды повторенное в финале
ивановского «Медного всадника», то же страшное слово замыкает и
первое стихотворение — «будут трупы». В «призрачной»
столице близится мятеж, неизбежны жертвы: вот ответ стучащему
в окна Башни осеннему ветру, который спрашивает, почему ее
насельники поменяли солнце, дикий сад и скалы южной
страны на «тесную башню над городом мглы». В мифопоэтическом
смысле это означает нисхождение по собственной воле в Аид
или, иначе, в город смерти. Что могут противопоставить смерти
или хаосу стихии герой первого стихотворения — «пришелец»,
который нашел в городе пристанище вместе с Сивиллой? Ответ
следует искать не прямо в тексте стихотворения, его
синтагматике, но в его парадигматике — положении в цикле, а также в
толковании имени и статуса его протагонистов: поэта-жреца и
сивиллы. Их призвание — сочинять стихи и предрекать
грядущее; лишь творчество способно стать вызовом смерти и
всепоглощающей стихии.
Эта идея появляется в ивановском дневнике от 1 июня
1906 г.: «"Memento mori" и "Сократ, занимайся музыкой"»
(II, 745). Непосредственно эта запись связана, как
можно думать, с происшедшим накануне разговором на Башне с
С. А. Котляревским и П. Б. Струве; оба они предрекали
наступление варварства и noctem lungam — длинной ночи; «одна
мистика, — говорили они, — будет хранительницей
культурного предания в распаде России» (II, с. 744). Обе формулы,
таким образом, могли быть прямой репликой на сказанное
гостями. Но не только.
Загадочные слова musiken poeiei kai ergazon («Сократ,
занимайся музыкой») являются отсылкой к рассказу Платона
(Федон 61а) о последней беседе с учениками Сократа перед
казнью, в ожидании чаши с ядом. Эти слова неоднократно
снились Сократу, но он понял их смысл только после смертного
приговора на суде. Божественный призыв означал приказание
заниматься не только философией (как он думал раньше), но и
314 А. Б. Шишкин
«очищением поэтическим творчеством», причем в форме
«мифов» (mythos), а не «рассуждений» (logos).
В реальном политическом контексте Петербурга 1905—
1906 гг. формулы «Memento mori» и «Сократ, занимайся
музыкой» были не только программой благочестивой жизни
перед лицом угрожающей смерти. В высоком философском
и этическом смысле это был императив героического
вызова, который брошен стихии в ситуации гибели. Творчество и
познание истины пытались противопоставить себя
разрушению. В этой связи показательно, что в теоретической мысли
Вяч. Иванова рассказ, приведенный у Платона (Федон 61а),
стал основным элементом парадигмы лирического творчества
(см. первые параграфы афоризмов «О Лирике» в четвертой
части «Спорад», 1908). Этот императив уловила Е. Кузьмина-
Караваева, когда в своем эссе 1924 г. «Последние римляне»
писала о двух направлениях внутри символизма, которые
различались своим отношением к приближению
всепоглощающей стихии — брюсовскому и ивановскому. Целью
символизма по Вяч. Иванову, по ее словам, было, «побороть грядущую
стихию, найти новое слово, тесно связанное с другими
словами, и новому этому понятному слову подчинить грядущее,
заставить это грядущее принять старое наследство, связаться
со старой культурой»*.
М. Гофман, непременный гость Башни с первых «сред», —
он был старше Кузьминой-Караваевой на четыре года — в
близком аспекте характеризовал поэтическую книгу Вяч.
Иванова, написанную в первые годы Башни. Это книга —
«Эрос», она вышла из печати в первой декаде января 1907 г.
Гофман писал о ней в эссе, законченном в октябре 1907 г.
Свидетельство Гофмана имеет особенную ценность, потому
что ему были понятны и близки настроения поэтов на Башне,
он присутствовал на башенных чтениях и обсуждениях
стихотворений, которые потом были включены в «Эрос», знал
их контекст и тон, т. е. был непосредственным свидетелем как
создания книги, так и ее восприятия среди поэтов и гостей
Башни.
Кузьмина-Караваева Е. Ю. Наше время еще не разгадано... Томск,
1996. С. 109.
Символисты на Башне 315
3. «На пире Платона во время чумы»
В своем эссе Гофман обозначил ту литературную традицию, к
которой принадлежала ивановская книга. Это «Пир» Платона
и «Декамерон» Боккаччо. Гофман мог иметь в виду как план
тематики и композиции — речи о любви в структуре симпосио-
на, так и вызов стихии смерти, в различной степени присущий
произведениям Платона и Боккаччо. По словам Гофмана, если
разговоры о любви Боккаччо велись в саду загородной виллы
в то время, когда Флоренцию опустошала чума, то свой
«поэтический сад» Вяч. Иванов раскинул в «годину гнева»*.
Последние слова особенно важны, «година гнева» — название
цикла политических стихов Иванова, посвященных событиям
революции (часть этих стихов ко времени написания эссе была
опубликована в периодической печати); это название
содержит прямую аллюзию на Иоанна Богослова. Драматические
события 1905—1906 гг. в России уподобляются М. Гофманом
эпидемии чумы во Флоренции, но русские события страшнее,
ибо — если мы принимаем отсылку к Отк 6, 17 — являются
апокалиптическим ожиданием конца. Это наблюдение Гофмана
предшествует знаменитой парадоксальной строке Пастернака
«На пире Платона во время чумы» и подготавливает ее.
В 1905-1906 гг. едва ли не всякий петербургский день мог
давать реальное основание для предчувствия близкой
катастрофы. М. Кузмин записывал в своем дневнике от 20
октября 1905 г. (т. е. еще до первого прихода на Башню): «В январе
ожидается междоусобная война»**. В письме Вл. Пясту 7 мая
1906 г. Блок, уезжая из Петербурга, задавался вопросом, что
произойдет в ближайшее время — «террор или
обыкновенная, но неприятная, аграрная революция»***. Такие же
ощущения фиксируют несколько записей Вяч. Иванова в
дневниковой хронике лета 1906 г. Петербург — вулкан, который может
взорваться, опасно привозить в северную столицу детей из Же-
Гофман М. Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб.; М.,
1909. С. 274.
** Кузмин М. Дневник: 1905- 1907 / Публ. Н. А. Богомолова и С. В. Шу-
михина. СПб., 2000. С. 59. Далее дневник цитируется в тексте.
*** Письмо А. Блока к Вл. Пясту от 7 мая 1906г.//ПястВл. Воспоминания
о Блоке. СПб., 1923. С. 83.
316 А. Б. Шишкин
невы, — записывается один из многих разговоров подобного
рода 2 июня 1906 г. (II, с. 745). Характерна запись двумя
днями позже: «4 июня. Стачка будочников. Предчувствие больших
стачек, Белостокские ужасы. Звук копыт конного патруля на
улице ночью...» (II, с. 746).
12 июня сочиняется «стихотворение, внушенное белосток-
скими погромами» (II, 748), это, как следует думать, — «Язвы
гвоздиные», одно из самых резких политических выступлений
Вяч. Иванова.
События 1905—1906 гг. отражались в жизни поэтов на
Башне и иначе — ощущением особой ценности творчества,
сосредоточенностью, интенсификацией творчества перед лицом
гибели. Это чувство разделялось башенными художниками —
Сомовым и Бакстом.
На это ощущение у Иванова в последующие годы наложи-
лось сильное чувство, связанное со смертью Л. Д. Зиновьевой-
Аннибал в октябре 1907 г. В декабре 1908 г. М. Замятнина
зафиксировала в своем дневнике его слова: «Вяч. говорит: <...>
Смотрю на жизнь sub specie mortis, когда все приобретает
особенную окраску»*. В июне 1908 г. он записывал в дневнике о
намерении писать книгу лирики «sub specie mortis» (II, 772),
ею стала «Любовь и Смерть», позднее включенная во второй
том «Cor Ardens».
Летом 1906 г. А. М. Ремизов решил представить на Башне в
игре-мистификации лик Революции и грядущие перемены. Он
был близко знаком с профессиональными революционерами и
марксистами-теоретиками, участвовавшими в университетских
волнениях, прошедшими одиночное заключение, этап и
ссылку. Здесь он коротко сошелся с с.-д. Луначарским, Богдановым
и Мартовым и лидерами «боевой организации» — эсэрами-
террористами Б. В. Савинковым и И. П. Каляевым.
Как можно думать, Ремизов решил уподобиться Жаку Казо-
ту, который в 1788 г. предрек собравшимся в парижском
салоне писателям, философам и аристократам их грядущую судьбу
в приближающемся революционном вихре: смерть на
эшафоте. В июне 1906 г., когда революционная волна, очевидно, для
всех спадала, русский писатель с репутацией чудака заговорил
Цит. по: Обатним Г. Вяч. Иванов и смерть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал:
«концепция «реализма» //Slavica Helsingiensia, 16. 1996. С. 146.
Символисты на Башне 317
о том, что произойдет с собратьями-писателями, когда
ненавистный им режим будет низвергнут:
«Алексей Михайлович прорицал о судьбе декадентов при
будущем революционном терроре. Брюсов будет повешен вместе
с Гиппиус, Бальмонт тоже повешен; Белый утонет в луже; я
выскользну из рук судей благодаря предстательству какого-нибудь
Ангарского, приласканного на Середе; <...> Блок будет нести,
по приказанию, как автоматическая кукла, красное знамя <...>
Все это случится во время осады Эрмитажа» (II, 750—751 ).
Соответствие, пусть и не буквальное, сбывшегося после
1917 г. ремизовского гротескно-шутовского пророчества
очевидно современному читателю.
4. «Среды» и «Гафиз»
Бердяев в упомянутом эссе так писал о первом периоде
истории Башни: «Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-
Аннибал обладали даром общения с людьми, даром
притяжения людей и их взаимного соединения. Много талантливой
энергии тратили они на людей, много внимания уделяли
каждому человеку, заинтересовывались каждым в отдельности и
заинтересовывали каждого собой, вводили в свою атмосферу,
в круг своих исканий. Сразу же выяснилось, что В. И. Иванов
не только поэт, но и ученый, мыслитель мистически
настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов.
Всегда поражала меня в Вяч. Иванове эта необыкновенная
способность с каждым говорить на те темы, которые его
более всего интересуют, — с ученым о его науке, с
художником о живописи, с музыкантом о музыке, с актером о театре,
с общественным деятелем об общественных вопросах. Но это
было не только приспособление к людям, не только гибкость
и пластичность, не только светскость, которая в Вяч. Иванове
поистине изумительна, — это был также дар незаметно
вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих
поэтических или мистических переживаний, через путь,
которым каждый идет в жизни. Вяч. Иванов никогда не обострял
никаких разногласий, не вел резких споров, он всегда искал
сближений и соединений разных людей и разных
направлений, любил вырабатывать общие платформы. Он мастерски
ставил вопросы, провоцировал у разных людей идейные и ин-
318 А. Б. Шишкин
тимные признания. Всегда было желание у Вяч. Иванова
превратить общение людей в Платоновский симпозион, всегда
призывал он Эрос. "Соборность" — излюбленный его лозунг.
Все эти свойства очень благоприятны для образования
центра, духовной лаборатории, в которой сталкивались и
формировались разные идейные и литературные течения. И скоро
журфиксы по средам превратились в известные всему
Петрограду, и даже не одному Петрограду, "Ивановские среды", о
которых слагались целые легенды»*.
Посмотрев приложенную к нашей статье хронику сред,
нельзя не отметить, что одной из постоянных тем (они обычно
ставились голосованием) на башенных собраниях была философия
эроса. «В творчестве символистов и, прежде всего Вяч.
Иванова, Эрос стал формулой, соответствующей эпохе и
стремлениям современной души»**.
Вот примечательное свидетельство об одной среде
такого рода весны 1906 г.: «Среды еще бывают, неофициально.
Одна была бурная. Председательствовал Бердяев, лежа на
полу, потому что говорили о поле. Все вопросы
нерешенные, у Иванова четыре пола, у Бердяева преодоление смерти
не родом (семьей), а замкнутой личностью. Ремизов был за
детей. Выразился по-ремизовски. У меня два пола и Третий
(Бог, сущее, экстаз), создаваемый их слиянием. Никто ничего
не узнал, а говорили долго. Вам все это должно показаться
далеким, городским, комнатным. Хотя что-то, кажется, должно
дрогнуть»***.
Сойдя на улицу, высокие идеи могли породить немало
курьезов. Вот один из них. Весной 1907 г. на Башню пожаловала
Надежда Санжарь( 1875—1933), объявив, что хочет зачать от
литературной знаменитости сверхчеловека (так описывается цель
ее прихода удочери поэта****; этот эпизод описан самой Санжарь
Бердяев Н. А. «Ивановские среды» // Русская литература XX века /
под ред. С. А. Венгерова. М., 2000. Т. 2. С. 233.
Цимборска-Лебода М. Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. (На
пути к философии любви). Томск; М., 2004. С. 20.
Письмо С. Городецкого к А. Блоку от 3 июня 1906 г. //Литературное
наследство. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1981.
Т. 92. Кн. 2. С. 26.
Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. Париж. 1990. С. 32.
Символисты на Башне 319
в одной из ее книг). Намерение Санжарь не держалось в тайне;
29 апреля 1907 г. Иванов на Башне получил ехидную
телеграмму: «Дан ли зародыш. Не скупитесь», — подписанную Блоком,
его женой Л. Менделеевой и Сомовым*. Как вспоминал Куз-
мин, Зиновьева-Аннибал, забыв о своих идеях о необходимости
трансформировать традиционный брак и «размыкать кольца»,
здесь запустила в феминистку керосиновой лампой; «весь
кабинет вонял керосином дня три»**. Доклад М. Волошина «Пути
Эроса», прочитанный в 1907 г. на Башне, а вслед за этим в
Москве, породил в широкой публике громкий скандал; до сих пор
это глубокое и своеобразное сочинение Волошина не включено
в историю русской философии эроса.
Оторванное от повседневности башенное жизнетворчество и
мифотворчество порождало тексты, многие из которых вошли
в центр или периферию классического канона XX в. В качестве
первого укажем «Незнакомку» (это стихотворение мая 1906 г.
благодаря богатству и силе символического содержания
ознаменовало высшую точку первого сезона сред) Блока, в
качестве второго — книгу Вяч. Иванова «Эрос» (1907) и комедию
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел» (1907). Многое из
задуманного так и не было воплощено, — такова книга стихов
«Северный Гафиз», которую предполагали издать в 1906 г.
История первого года Башни теперь исчерпывающе
документально рассказана в исследованиях Н. А. Богомолова.
Коснемся подробнее истории кружка гафизитов на Башне,
созданного весной 1906 г. как бы в противовес «блистательным
средам». История Гафиза отражена в поэтических текстах,
которые должны были составить книгу «Северный Гафиз».
Вместе они образуют отдельный сюжет. Вяч. Иванов, Зиновьева-
Аннибал, Сомов и Нувель задумали «персидский, Гафисский
кабачок: очень интимный, очень смелый, в костюмах, на
коврах, философский, художественный и эротический», — как
писала Зиновьева-Аннибал к M. М. Замятниной от 26 марта
А. А. Блок. Письма к Вяч. Иванову/ Публ. Е. Белькинд// Блоковский
сборник. II. Тарту, 1972. С. 373; «Задирать нос выше мозга», или «Почему
люди такие дряни?»: (Письма Н. Д. Санжарь к А. С. Суворину,
Вяч. И. Иванову, А. А. Блоку и А. С. Серафимовичу) / Публ.
А. А. Аксеновой // Philologica. м., 1996. № 5/7. С. 354.
** Кузмин М. Дневник 1934 года / под ред. Г. Морева. СПб., 1998. С. 93.
320 А. Б. Шишкин
1906 г.* Кроме устроителей членами общества стали Бердяев,
Кузмин, Городецкий, Бакст и Ауслендер. Собрания
открывались гимном, написанным Вяч. Ивановым**:
Снова свет в таверне верных после долгих лет, Гафиз!
Вина пряны, зурны сладки, рдяны складки пышных риз,
И умильные украдкой взоры встретятся соседей:
Мы — наследники Гафизом нам завещанных наследий.
Упои нас, кравчий томный! Друг, признание лови!
И триклиний наш укромный станет вечерей любви... (И, 342).
Для следующего собрания гафизитов Вяч. Иванов написал
стихотворное приветствие «Друзьям Гафиза» (др. название —
«Встреча гостей», подзаголовок — «Вечеря вторая. 8 мая
1906 г. в Петробагдаде». Чтением «Встречи» открылась
«вечеря вторая», описанная Кузминым в его дневнике. «У
Ивановых новых были: Бакст, Бердяева, Городецкий и Сережа
<Ауслендер. — А Ш.> <...> В<ячеслав> И<ванович> читал
свое стихотворение, Городецкий импровизировал. Все
целовались, я не целовался только с Сомовым и Бердяевым. Играли
на флейтах» (143).
«Встреча гостей» начиналась с перечисления основателей
«вечери», в своем единстве воплощающих поэта и мистика
Гафиза, поистине всенародного поэта Востока. По порядку
стихотворения это Кузмин (Антиной-Харикл), Зиновьева-Аннибал
(Диотима), Нувель(Петроний-Корсар), Бердяев (Соломон)***,
Сомов (Аладин) и сам Иванов (Гиперион-Эль-Руми):
Ты, Антиной-Харикл, и ты, о Диотима,
И ты, утонченник скучающего Рима —
Петроний, иль корсар, и ты, Ассаргадон,
Иль мудрых демонов начальник — Соломон,
И ты, мой Аладин, со мной, Гиперионом,
Дервишем Эль-Руми, — почтишь гостей поклоном!
Садов Шираза шмель и мистагог — поэт,
Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Н. А. Богомолов Михаил
Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 70.
АсеевНик.Московскиезаписки.Публ.А. Парписа//Вячеслав Иванов.
Материалы и исследования. М., 1996. С. 159.
Соломон не ия Ветхого Завета, а из Агады, укротивший с помощью
чудесного перстня демонов и даже их главу Асмодея.
Вяч. Иванов. 1910-е гг. Из собр. ОР РГБ
Вяч. Иванов. 1890-е гг. Т. Моммзен
Изсобр.ОРРГБ
Берлинский ун-т. 1900-е гг.
г. Ассизи, Италия, где был Иванов в 1894 г.
Вл. Соловьев. Автопортрет. 1895 г. Вл. Соловьев. Стихи. 1895 г.
Вяч. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Ок. 1905 г. Из собр. ОР РГБ
Иванов Вяч. Кормчие звезды. 1903 г. Иванов Вяч. Прозрачность. 1904 г.
Обложка ж. «Весы». 1904 г. В. Н. Ивановский. 1900-е гг.
2 и 3 страницы письма В. Ивановского Вяч. Иванову
со стихотворением в честь Вяч. Иванова. 1903 г. Из собр. ОР РГБ
«Башня».
Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, 25
Л. Д. Зиновьева-Аннибал, В. К. Шварсалон, Вяч. Иванов. Ок. 1905 г.
Изсобр.ОРРГБ
Обложка ж. «Золотое руно». 1906 г.
Вяч. Иванов. Эрос. 1907 г. Вяч. Иванов. По звездам. 1909 г.
В. К. Шварсалон, Вяч. Иванов, Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Ок. 1905 г.
Изсобр.ОРРГБ
Вяч. Иванов. 1910 г. Из собр. ОРРГБ
Обложка ж. «Золотое руно». 1908 г. Обложка ж. «Аполлон». 1909 г.
Иванов Вяч. Cor Ardens. 1911 г. Иванов Вяч. Л. Толстой и культура
(Логос, 1911 г.)
А. Блок. 1907 г. Из собр. ОР РГБ
В. Ф. Эрн. 1910-е гг. П. А. Флоренский. 1910-е гг.
Из собр. ОР РГБ Из собр. ОР РГБ
Иванов Вяч. Борозды и межи. Иванов Вяч. Родное и вселенское.
1916 г. 1917 г.
Г. Г. Шпст. 1910-е гг. Записка Вяч. Иванова Г. Г. Шпету.
Из собр. М. Г. Шторх 1920 г. Из собр. М. Г. Шторх
М. О. Гершензон. 1920-е гг. Вяч. Иванов и М. О. Гершензон.
Переписка из двух умов. 1921 г.
«Пушкинский кружок в Москве» (Научные известия, 1922 г.)
Вяч. Иванов. 1930 г. Могила Вяч. Иванова в Риме
Из собр. OP РГБ
Мемориальная доска на «Башне» Обложка сборника «Вячеслав
(СПб., ул. Таврическая, 25) Иваном между святым писанием
и полней» (Europa Orientalis,
2002. № 1 )
Символисты на Башне 321
Гафиз из наших уст вещает им: «Привет».
Вы ж, сопричтенные гафизовой таверной
К друзьям, пребудете ль в любви нелицемерной
Верны тому, что дал нам сладостный завет?
Пришлец, кто б ни был ты, — маг, риши иль поэт,
Жид, эллин, перс иль франк, матрона иль гетера, -
Знай: всех единая здесь сочетала вера —
В то, что божественность к нам близится стопой
Крылато-легкою (ханжа, имам слепой,
Не знает мудрости под розовой улыбкой,
Ни тайн торжественных под поступию зыбкой
Шатаемой хмельком, — ) и что Синай любви
Нам дали голоса, поющие в крови.
В стихотворении разыгрывался ритуал посвящения,
инициации: сперва вопрос, обращенный к непосвященным,
затем — указание на символический смысл таинства и, наконец,
заклятие, требование соблюдения тайны от допущенных на
священный пир.
Поэтические образы стихотворения Кузмина, написанного
ко второй «вечере» — порог, т. е. символ инициации, и чаша,
прообраз братского общения агапы, продолжали и дополняли
«Встречу гостей»:
Мы стояли,
Молча ждали
Пред плющом покрытой дверью.
Мы ведь знали:
Двери звали
К тайномудрому безделью.
В круге мудрых,
Любомудрых
Чаши вин не пахнут кровью.
Мы — как пчелы,
Вьемся в долы,
Сладость роз там собираем.
Горы — голы,
Ульи — полы,
Мы свой мед туда слагаем*.
* Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты. С. 72.
322 А. Б. Шишкин
К третьей «вечере» гафизитов наметился кризис, об этом
образно-мифологическом языке говорилось в стихотворении
Иванова «Друзьям Гафиза». Творческие и жизненные
стратегии хозяина Башни не были поняты ближайшим и теснейшим
кругом гафизитов, тем больнее было разочарование. Идейным
антагонистом Вяч. Иванова стал Кузмин. Что для Иванова
было переступанием заветного барьера, для Кузмина
оказывалось естественным актом, и наоборот, его мистический идеал
панэротизма оказался чуждым друзьям Кузмина, лишь
своеобразным интеллектуальным курьезом. Поэтический диалог
между поэтами шел на общем языке поэтических и
философских образов; отметим в строках 6 («Вам час окрылительных
хмелей») и 26 («И каждый усладой крылатой развязан»)
аллюзию на крылья. Это образ, у Кузмина восходящий к платоново-
му образу влечения к небесной красоте и к обладанию красотой
земной (Федр 246 а-247 а; 253 d-255 b):
Вам розы Шираза,
И грезы экстаза.
Вам солнечно-сладкие соты!
Мне — злые занозы,
Мне — лютые жала,
Мне — стрелы в удел от Эрота!
И каждый усладой крылатой развязан
В беспечно-доверчивом круге...
Я ж наги привязан
К столпу, как отмеченный узник!
Эрот вас предводит,
Мучители-други,
И каждый союзник
В союзе жестоком,
И каждый наводит,
Прицелившись солнечным оком,
Стрелу в мои жаркие перси... (II, 343).
К тематике и образам этого стихотворения поэт
возвращается в прозаической записи дневника от 16 июня, где говорится
о личной изоляции в круге гафизитов, что означало крушение
его утопических надежд на построение «соборности»: «Пятая
вечеря Гафиза (без Городецкого). — Я устремляюсь к вам, о
Гафизиты. Сердце и уста, очи и уши мои к вам устреми-
Символисты на Башне 323
лись. И вот среди вас стою одинокий. Так, одиночество
мое одно со мною среди вас» (курсив в оригинале. — А. Ш.).
Столько о Гафизитах. А теперь уже не об них. Результат целой
полосы жизни, протекшей под знаком «соборности»,
намечается отчетливо: я одинок, как никогда, быть может» (II, 751 ).
Таким образом, в композиции диптиха «Палатка Гафиза» —
второе стихотворение, с его темой разочарования в кружке га-
физитов, антитетически противопоставлено оптимистическому
зачинательному «Гимну».
«Друзьям Гафиза» Кузмина является не столько
«своеобразным ответом» на эту дневниковую запись, сколько мифопоэти-
ческим ответом на одноименное стихотворение Вяч. Иванова.
«Ты» последней строки, кажется, непосредственно обращено
к хозяину Башни:
Нас семеро, нас пятеро, нас четверо, нас трое,
Пока ты не один, Гафиз еще живет.
И если есть любовь, в одной улыбке двое.
Другой уж у дверей, другой уже идет.
Пока ты не один, Гафиз еще цветет*.
Кружок Гафизитов к концу 1906 г. распался, хотя о нем
упоминали еще в августе 1907 г. «Вспоминаю Гафиз <...> для
меня это было обыкновенное дружеское общение с эстетикой
и остроумием, но некоторые обнаружившиеся тенденции
этого общения мне были неприятны», — писал Бердяев Иванову
22 июня 1908 года**. Со своей стороны Кузмин имел все
основания писать в 1934 г.: «Влияние его (башенного Гафиза». —
A ZZ/.), однако, если посмотреть теперь назад, было более
значительно, чем это можно было предполагать, и
распространялось далеко за пределы нашего кружка»***. Напротив, в
краткой мемуарной реплике Вяч. Иванова 1938 г., обобщающей
петербургские годы, слышатся печаль и разочарование:
«"Общей веры", общего для всех — скажем —
"символизма" не было; почти никто не понимал другого, и каждый другого
* Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты. С. 81.
** Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и
Л. Ю. Бердяевых// Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996.
С. 132.
*** Кузмин М. Дневник 1934 года. С. 99.
324 А. Б. Шишкин
в чем-то подозревал, а младшие уже вовсе ничего не понимали
в творчестве даже тех старших, коих особливо почитали.
Несмотря на живое внешнее общение, все значительные
таланты чувствовали себя внутренне одинокими; они продолжали и
позднее идти каждый своим отдельным путем»*.
Однако одиночество стало стимулом поэтического
творчества, особенно значительного в последующие годы.
5. Хлебников на Башне.
«Древний ужас» и «Гибель Атлантиды»
Свое видение языковых исканий в русской литературе
начала XX в. А. М. Ремизов изложил так: «Работа над словом по
"сырому материалу" и опыты над словом и "русским" складом
<...> началась ... с первой революции, 1905 г., можно
обозначить место: круг Вячеслава Иванова. (Когда-нибудь историки
литературы выяснят огромное значение этого ученейшего
человека). И в канун войны в этой "национальной" работе одно
из первых мест — Хлебников и Замятин. А от Хлебникова —
весь футуризм»**.
Показательно, что молодого Хлебникова, еще студента
Казанского университета, привлекли прежде всего идеи Вяч.
Иванова о всенародном языке и всеславянском слове. 31 марта
1908 г. он направил Вяч. Иванову письмо — его следует считать
началом знакомства поэтов. Здесь на четырех листах разными
чернилами и варьирующимся почерком записаны 13
поэтических текстов. Значение этого послания трудно преувеличить:
перед нами в прямом смысле первое известное нам
авторское собрание лирики молодого Хлебникова***. Строки в прозе,
Письмо Вяч. Иванова к В. В. Рудневу от 14 июля 1938 г. // Переписка
Вяч. Иванова с редакционной коллегией журнала «Современные записки»
(в печати).
Ремизов А. М. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981. С. 257.
Программным можно полагать последнее из 13 стихотворений —
«Охотник скрытых долей, я в бор бытии вошел», где в последней строке
прочитывается, кажется, анаграмма имени «Велимир». Об известности
'^того стихотворения на Башне свидетельствует сонет Ю. Верховского
«Мне не отведать нового вина...», где цитируется его четвертая строка:
Символисты на Башне 325
завершающие послание, содержали отсылку к ивановской
статье «О веселом ремесле и умном веселии» ( 1907):
«Читая эти стихи, я помнил о "всеславянском языке", побеги
которого должны прорасти толщи современного, русского*. Вот
почему именно Ваше мнение о этих стихах мне дорого и важно
и именно к Вам я решаюсь обратиться» (6:2, 112).
С осени 1908 г. Хлебников в Петербурге. В письме к матери
от 28 ноября 1908 г. слышится сомнение в собственном
поэтическом призвании: «В хоре кузнечиков (т. е. поэтов. —
А. Ш.) моя нота звучит отдельно, но недостаточно сильно и,
кажется, не будет дотянута до конца» (6:2, 115). 22 мая 1909 г.
он сообщает: «Так как в Петербурге я incognito, то я никого не
посетил и не посещу »(6:2,118). Ноужевписьмекотцуот31 мая
1909 г. говорится о знаменательной встрече и признании: «Я
виделся с Ивановым. Он весьма сочувственно отнесся к моим
начинаниям» (6:2, 119). Появление Хлебникова на Башне уже
через много лет описал немецкий поэт фон Понтер, автор ярких
и подробных, но не всегда точных мемуаров:
«Меня тревожит любиков емеянье / В грустилищах томящейся зари /
Вечернее, предсмертное сиянье!» Начало стихотворения, по предположению
исследователей, содержит отсылку к началу Комедии Данте и его
преломлению в стихотворении Иванова «La selva oscura» (Перцова H. H.,
Рафаева A. В. О славянских древностях у Вяч. Иванова и В. Хлебникова //
Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
С. 380). Ср. также: Капустина Е. А. Поединок охотника и оленя (попытка
реконструкции «ивановского текста» в раннем творчестве В. Хлебникова)//
Культура и текет-2005: Сб. научных трудов межд. конференции. Барнаул,
2005; Айрапетян В. Толкуя слово. М., 2011. С. 38.
Полный текст послания Хлебникова см. в приложении к моей статье
«"Велимир": об имени Хлебникова » // Europa orientalis. XV. 1996:2. С. 138—
142, журнал на сайте http://www.europaorientalis.it/rivista_indici.phpPid=24
Публикаторы хлебниковского шеститомного Собрания сочинений пошли по
иному пути, напечатав в 1 томе 13 стихотворений по отдельности и в иной
последовательности, а финальную приписку к стихотворениям в томе VI, ч. 2,
как самостоятельное письмо; такое решение, на наш взгляд, неправомерно.
Собр. соч. Хлебникова (Т. 1 -6, М., 2000-2006) далее цитируется в тексте.
* «Язык поэзии... прорастает из подпочвенных корней народного слова,
чтобы загудеть голосистым лесом всеславянского слова» (III, 76). Ср. «Не
должно ли думать ... о сплющенном во одно, единый, общий круг, круге-
вихре — общеславянском слове» (статья Хлебникова 1908- 1909 г. «Курган
Святогора». — 1, 26).
326 А. Б. Шишкин
«То, что он читал, настолько отличалось от стихов
символистской школы, что мы удивленно переглянулись.
Мы — то есть Вячеслав и Кузмин, которые меня на эту встречу
позвали. Никакой символики, но и никаких социалистических
откровений. Там были птицы, которым он дал собственные,
им изобретенные названия видов. Там были фантастические
картины и прежде всего очень произвольно выглядевшее
интенсивное обращение с языком, которое, как бы играя,
проникало до самых корней слов. <...> Хлебниковские стихи
нам не очень понравились. Но они имели столь своеобразный
чекан, что Вячеслав, рожденный kingmaker (мастер возводить
на трон. — А. ///.), сразу оживился и стал стараться запутать
молодого человека, который был чуть старше меня, в сети
широко задуманного диспута о стихотворной просодии. Мы
же с трудом могли следовать теориям Хлебникова о языке,
его углублению в язык и дерзким корневым конструкциям. ...
Его одержимый, может быть, магический внутренний пыл
стремился только к слову как таковому. За его запинающейся
немотой скрывалась несгибаемая воля, которая держала его на
выбранном пути»*.
Трудно рассчитать, когда произошла эта встреча. В
опубликованных списках участников Поэтической Академии на
Башне имени Хлебникова нет; дневник Кузмина фиксирует
его появление на Башне только осенью 1909 г. Между тем
уже в первой декаде июня 1909 г. между мэтром Башни и
молодым поэтом происходит первый обмен поэтическими
произведениями, который стал фактом исключительного
значения. Это стихотворение «Подстерегателю» 3 июня
1909 г., посвященное Вяч. Ивановым Хлебникову (включено
в раздел «Пристрастия» книги «Cor Ardens», 1911), и поэма
в прозе, приложенная к письму Хлебникова к Иванову от
10 июня 1909 г. (окончательная ред. — «Зверинец» («О, Сад,
Сад...»), опубликована в «Садке судей», 1910, с посвящением
В. И.<ванову>).
Ситуация, которая представлена в «Подстерегателе» может
быть описана как диалог Мастера с Учеником. Молодой поэт,
оказавшийся на Башне, смущен «искусителем», который
«лукаво», «как неводом» (ср. слова Понтера о «сетях» спора о про-
* Guenther J. von. Ein Leben im Ostwind. München. 1969. S. 209-210.
Символисты на Башне 327
содии, которыми Иванов хочет запутать Хлебникова!) завлек
его своими речами. Подобного рода подозрения приходили и
другим посетителям Башни. Вот свидетельство Андрей Белого:
«В золоторунные кудри свои заиграв тонким пальцем, посеял
сомненья <...> не волк ли сей овцеподобный наставник?
Пушился, горбатясь за черным чайком, точно кот; а поставив вам
профиль, являл вид орла, застенавшего кличем; орлиною лапой
на шнуре пенснэ перекидывал; и человечность при этом какая!
Дверь — в улицу: толпы валили; лаская, журил, журя, льстил;
оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал»*.
Мэтр вынужден объясниться перед младшим собратом: «Я не
бес», — но этому заверению противоречит угрожающий
звуковой образ в первой строфе с семью зловеще свистящими с:
Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! я не бес,
Не искуситель — испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.
Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — ив вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.
И, совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг — я целиной богатой,
Оратай, провожу волов:
Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую врезав борозду,
Из ясных звезд моей Любови
Посеять семенем — звезду (II, 340).
Попытаемся прокомментировать этот непростой текст.
Образы ловца и сеятеля имеют известные коннотации: «ловцами че-
ловеков» сотворил Христос своих учеников, ставших апостолами
(Мф 4, 19; Мк 1, 17); притча о семенах «сеятеля», упавших на
камень и на добрую землю говорит о тех немногих, которые удо-
* Андрей Белый. На рубеже столетий. С. 345-346.
328 А. Б. Шишкин
стоятся Царствия Божия (Мк 4, 3-8; Лк 8, 5-8); кажется, что
автор стихотворения претендует на духовные полномочия,
превышающие возможности человека, но после «демонической»
первой строфы становится ясным, это и есть та словесная игра,
в которую увлекает Вяч. Иванов своего читателя. «Испытатель»
есть тот, кто проверяет нечто на опыте, на опыте выясняет
качества, свойства чего-то неизвестного; «оселок» — точильный
камень, но также и камень для испытания драгоценных
металлов, то, обо что затачивается, оттачивается инструмент для
работы, — или интеллект в работе мысли, в диспуте, в споре, как
подсказывает контекст; «циркуль» измеряет длину, «лот» —
глубину, «отвес» проверяет вертикаль — все это технические
или орудийные термины проверки, исследования слов и
построенных из них конструкций. Не непререкаемый владетель истины
в последней инстанции, не «великолепный» олимпиец или
«мистагог», обладающий максимальным статусом авторитетности,
наконец, не «искуситель бес», стремящийся не очень честными
средствами перетянуть на свою сторону, но вопросами
приводящий мысль собеседника к познанию. «Совопросник» и
«соглядатай» — префикс «со-» дважды подчеркивает эту позицию
равного в искании истины. Ближе всего к этому образу — не
названный здесь Сократ, именовавший себя «повитухой»
мысли своих собеседников (Пир 206—208 е). В ситуации «встречи»
двух личностей божественный Эрос бросает семя в душу другого,
и это семя — в соответствии с ивановским императивом
«восхождения от реального к реальнейшему» — делается
космическим светилом. Нельзя не добавить, что стихотворение, начатое
с позиции «старший — младшему», описывает посвящение
молодого поэта и предрекает его будущее.
Можно думать, что автограф «Подстерегателя» Хлебников в
начале июня 1909 г. получил от самого автора*: дарить друзьям
«парадный» беловой автограф было в его обычае. Если это
предположение справедливо, то своеобразным ответом
Иванову можно считать письмо, отправленное Хлебниковым вечером
10 июня 1909 г. с Царскосельского вокзала. Это
хронологический первый известный нам текст, где поэт пользуется своим
столь значимым псевдонимом — «Велимир». Первая часть и
Единственный выявленный автограф этого текста находится в архиве
Хлебникова в РГАЛИ.
Символисты на Башне 329
заключение — прощание с башенным кружком, тон близко-
дружественный и интимно-доверительный:
«Знаете: я пишу вам только, чтобы передать, что мне отчего-
то грустно, что я непонятно, через 4 ч<аса>, уезжая, грущу и
что мне как чего-то вещественного жаль, что мне не удалось,
протянув руку, сказать "до свиданья" или "прощайте" В<ере>
К<онстантиновне> и др<угим> членам В<ашего> кружка,
знакомством с которым я так дорожу и умею ценить.
Я увлекаюсь какой-то силой по руслу, которого я не вижу и
не хочу видеть, но мои взгляды — Вам и вашему уюту.
Прощайте! в смысле до нового увидания!
Дайте мне возможность на бумаге проститься с Теми, Кого я
не увидел, прощаясь. Передайте мой порыв и богомольность»
(6:2, 120, 122).
Крайне интересно автобиографическое признание о
происшедшем с поэтом в предшествующие «эти дни», т. е., как
следует думать, в период общения с кружком на Башне:
«Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы
умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не
умирал, как<в> эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от
рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как
конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в
теченье всей жизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем
теперь» (Хлебников 6:2, 120, 122).
«Умирание» в мифопоэтическом смысле может означать
радикальное изменение личности, новое рождение, а в контексте
отношений Иванова и Хлебникова посвящение в мир
литературы, полученное поэтом на Башне.
В главной части письма находится сочинение «О, сад! Сад!».
Попытки определить жанр этого текста не просты: перед нами
новая литературная форма, созданная Хлебниковым,
грандиозное и сложное историко-политическое и мифологическое
сочинение, в котором предрекается мировая катастрофа.
Хлебников играет с формой средневекового бестиария, экфразиса,
топоса «сад—зверинец-книга». Эта форма предполагает
множество прочтений*. Поэма — как бы тот самый «шедевр»
* Сегал (Рудник) Нина. «Зверинец» Хлебникова: слово и изображение.
Toronto Slavic Quarterly 35, 2010. С. 197-257. URL: http://www.utoronto.ca/
tsq/35/in dex. shtml
330 А. Б. Шишкин
(этимологически «образец», Meisterstück), который в позднее
Средневековье Ученик отправлял Мастеру цеха, чтобы стать
членом корпорации. Примечательно, что одним из героев
последующих редакций «Зверинца» оказывается «косматовла-
сый* "Иванов"», который «вскакивает и бьет лапой в железо»
(5, 45), т. е. Вяч. Иванов изображен в образе льва.
Известные оценки Вяч. Ивановым «Зверинца» содержат
слово «гениальный»: «Это мог написать только гениальный
человек (о "Зверинце"); «Велимир — безусловно гениален.
Он подобен автору "Слова о полку Игореве", чудом
дожившему до нашего времени»**. По свидетельству А. Ахматовой, эту
поэму Хлебников читал на Башне «в самом конце 1909 или в
начале 1910г.»***, не исключено, что это чтение описано в
краткой поэме «Передо мной варился вар».
При первой публикации поэма была названа
«протокольным описанием Среды у Вяч. Иванова», в другой раз —
«юмористическом дневником в стихах на тему поэтического
быта петербургских символистов»****. Это не совсем точно.
Шутливое описание ночного собрания на Башне вписано в
Весной-летом 1909 г. Иванов носил очень длинные волосы («нужно
бы... остричь волосы, длины которых я стыжусь»). (Дневник от 1 августа
1909 г.— 11,780).
Парнис А. Е. Вячеслав Иванов и Хлебников. К проблеме диалога и о
ницшевском подтексте «Зверинца» // De Visu (нулевой номер). 1992. С. 39.
К этой оценке близок М. Кузмин: ср. в его дневнике: «12 сентября 1909
<...> Пришел Хлебников <...> Он читал стихи; <...> в его вещах есть что-
то яркое и небывалое». «20 сентября 1909. Приехал Хлебников ко мне, но
Вяч<еслав> взял его к себе, приплелся и я туда. Читал свои вещи гениально-
сумасшедшие» // Кузмин М. Дневник: 1908-1915. Публ. Н. А. Богомолова
и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 167, 169.
Ахматова А. А. Недатированная запись в дневнике / Книги. Архивы.
Автографы. М., 1983. С. 68.
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 418; 426. Ср. в
рабочих тетрадях Хлебникова набросок «и гроза из слов и истины», где ряд
строк определенно относится к Башне Иванова: «и когда повар зашел утром
в курятню, он нашел / там несколько заснувших миров. <...> И конеюноша
и конебог рассказывает / разводя руками, и ему слушают. / и зевязь. и
севец м<олния>ми гневен» // Перцова Н. Н., Рафаева А. В. О славянских
древностях у Вяч. Иванова и В. Хлебникова. С. 382—383. Если обратиться
к последней строфе «Подстерегателя», то слово «севец» должно быть
отнесено к Вяч. Иванову.
Символисты на Башне 331
драматический «сверхсемантический» сюжет, низший и
высший уровень которого — гибель и спасение; в финале поэмы
является и затем уходит воплощение бессмертной
женственности. В первых 36 строках иносказательно описан
поэтический дебют Хлебникова на Башне: герой поэмы оказывается
перед котлом, который предназначен для варки быка.
Кажется, что подобным быку, обреченному на ритуальное диони-
сийское заклание*, видит себя сам поэт, ожидающий суда-
посвящения. Герой должен «оправдаться» своим творчеством
перед неким «божественным поваром» — он же демон,
трижды обернувший землю своим крылом. Грозное божество — не
мифологизированный ли образ «теурга» или «судии» поэтов-
дебютантов на Башне, т. е. ее хозяин?** — после
разбирательства увенчивает поэта венцом: «О поэт, поэт <...> // <...>
прийми венец!» (3, 26).
Затем ракурс как в розыгрыше резко меняется:
повествование о ритуальном испытании в начальных 36 строках как раз и
оказывается одним из чтений Хлебникова на Башне. Это
выступление оценивают Вяч. Иванов: «Челюсть каких-то старых
страшных глав / Я заметил в этом глаз...» и М. Кузмин:
«Может глупость, что я скажу, / Но только мне кажется, что
понравилось. Очень» (3,26, имя Кузмина Хлебников анаграммирует:
«Амизук»). Общий разговор касается личности Хлебникова, с
которым заговаривает Сологуб. Последний допускает
обмолвку, вызывающую общий хохот и насмешливые действия
Гумилева. Стихи из второй главы «Новый Ролла» читает Кузмин, на
него с любовным чувством смотрит «ясница с голубыми
глазами» — Вера Шварсалон.
Часть поэмы составляют примечательные словесные
портреты поэтов — Н. С. Гумилева, А. Н. Толстого. Подробны и
с дружеским чувством изображены Вяч. Иванов и М. А. Куз-
* Символ небесного и хтонического, бык символически отождествлялся
с умирающим и воскресающим богом Дионисом, как это позднее специально
исследовал Вяч. Иванов в работе «Дионис и прадионисийство», 1923:
«Дионис — бык в мире живых и змий в подземном царстве. <...> Смерть
жертвенного быка есть его брак с Землею» // Иванов В. И. Дионис и
Прадионисийство. Баку, 1923. С. 99-100. Об обряде ритуального убийства
быка: там же, 141.
** «Вяч. Иванову, жрецу Диониса» посвящено стихотворение
С. Городецкого «Беспредельна даль поляны...»
332 А. Б. Шишкин
мин. Вяч. Иванов не напоминает грозного демона, как в начале.
В нем воплощен хмель Диониса, его речи — об «откровении
лозы» (это религия Диониса или Христа?), он совмещает в
себе черты ученого-«олимпийца» и любителя веселья, игры и
розыгрышей*.
В следующей части поэмы гостя «в черных воротничках»
просят читать стихи, и тот, «с осанкой лорда» декламирует три
стихотворения. Этот гость вновь оказывается Хлебниковым, —
подобный аристократический облик поэта в эпоху Башни также
засвидетельствовал Городецкий, который вспоминал, как «на
вечерах у Вячеслава Иванова появился "как денди лондонский
одет" еще один поэт — Велимир Хлебников»**.
Бьет два часа ночи, а гости едва начинают сбираться к столу
к совместной трапезе. В этот момент из божницы сходит
Богородица, но когда начинается общий разговор «о человеке и
вере», Она покидает собравшихся:
И вот из божницы сходит Богородица,
И становится тихо за стулом.
И когда заговорили о человеке и вере, — тогда
Ее божественные веки дрожали прелестию стыда.
Она скользнула в дверь за Ниссой***,
Она спустилась по лестнице вниз, и
Она сошла на далекую площадь
И, обняв, осыпала поцелуями в голову лошадь.
Так изливала Богородица свое горе,
А над ней опрокинутое сияло звездное море. (3, 28)
Следующие строки: «треугольник, Которого катеты, сроки и длина
Чудесно связаны с последних дней всего забвением» (91—93) — отсылка
к треугольнику на марке Добужинского домашнего издательства Иванова
«Оры» (Н. Богомолов, устное сообщение) или же к треугольнику со
вписанной в него башней и Млечным Путем на обложке и титульном листе
книги Вяч. Иванова «По Звездам», о символике которого говорится в начале
нашей статьи.
Цнт. по: Парнис А. Е. Хлебников в дневнике М. А. Кузмина // Михаил
Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15-
17 мая 1990. Л., 1990. С. 157.
Этим именем звали прислугу на Башне // Кузмин М. Дневник 1908—
1915. С. 162,202,639.
Символисты на Башне 333
Итак, кульминацией вечера на Башне оказываются
явление и уход трансцендентной женственности* (ср.
«божественность к нам близится» в гафизитской «Встрече гостей» выше).
Смысл финального эпизода, без сомнения, первостепенен,
однако его однозначная интерпретация вряд ли возможна. Не
исключено, что образ Богородицы на Башне навеян пением
Кузмина одного из его «Духовных стихов» — «Хождения
Богородицы по мукам» или циклом «Праздники Пресвятой
Богородицы», который появился именно в 1909 г. Но более вероятно,
что литературный образ явления Богородицы из божницы есть
ироническая реминисценция из стихов А. Блока: «Не сойдет ли
от божницы /Лучезарная Сама?» («Поединок», 1904); «И от
иконы в нежных розах /Медлительно сошла Она» (пьеса
«Незнакомка», 1906)**. В одном из вариантов финала поэмы мы
находим такой примечательный эпизод:
— Вы Богородица?
— Да, я Богородица.
— Садитесь, не хотите ли вина? <...>
— Извините — моя вина — я не знаю, в чем моя вина.
Ах, вы не желаете вина?
Ну, тогда, может быть, вы хотите чаю?
— Я чаю воскресения мертвых. (3, 425)
* Нельзя не отметить, что образ Богородицы у Хлебникова нередко
далек от канонического; ср.: «Трепещет рана, вся в огне, Путь пули — через
богородиц» («Ночь в окопе»); «И где труду так вольно ходится / И бьет руду
мятежный кий, / Блестят, мятежно глубоки, / Глаза чугунной богородицы»
(«Ладомир»).
** Ср. интерпретацию стихотворения Блока «Но есть один вздыхатель
тайный»: «Конец стихотворения снимает все временное покаяние
лирического героя. Он не может не смотреть на Нее влюбленно. Он чувствует
себя не сыном, а избранником. Поэтому он с такой легкостью отождествляет
свою Прекрасную Даму с Вечной Женой, поэтому он выражает такую
уверенность, что Богородица сойдет к нему с иконы, с божницы в награду за
его стихи, посвященные ей»//Лепахин В. В. Иконы и лампады в творчестве
А. Блока // http://www.portal-slovo.ru/art/36151.php В 1910 г., говоря об
эволюции А. Блока, Вяч. Иванов резко высказывался: «Образ Чаемой Жены
стал двоиться и смешиваться с явленным образом блудницы» («Заветы
символизма» — II, 599). Сам Иванов осторожнее, см. в посвященном
Ю. Верховскому стихотворении «Выздоровление» (1907): «Как оный
набожный жонглёр Один с готической Мадонной Ты скоморошил с давних
пор Пред Аполлоновой иконой» (II, 334).
334 А. Б. Шишкин
Здесь Хлебников слегка иронически воспроизводит не очень
серьезный каламбур символистов, основанный на игре с
бытовым и литургическим планом слова, который зафиксировал
Андрей Белый («Кто-то на вопрос хозяйки дома — "Чаю?" —
крикнул — "Чаю воскресения мертвых"»*). Не о драме ли
поисков символистами трансцендентного — как в их
мифотворческом центре, так и в их бытовой игровой периферии —
рассказывает поэма Хлебникова?
С идеями, прозвучавшим и на собеседованиях на Башне,
связана еще одна поэма Хлебникова — «Гибель Атлантиды»
(1909, опубл. в 1913). Как можно полагать, диалоги на Башне
о бессмертной женственности, Афродите Небесной и
Афродите Всенародной, судьбе-фатуме и вселенской катастрофе были
тем экстрактом, благодаря которому была создана этапная
картина Л. Бакста «Terror antiquus» («Древний ужас», 1908).
В 1909 г. Иванов посвятил полотну одноименную статью. Поэт
не ограничился религиозно-историческим и философским
толкованием картины (замечательно, что отмечена, в частности,
ошибка художника: колосс в левой нижней части картины
держит щит в правой, а меч в левой руке!), но «вписал» в ее
содержание свои идеи. Вот авторский план начала этой статьи,
датированный 4 марта 1909 г.:
I. Три идеи, выявленные в картине «Terror Antiquus»:
a) Идея космической катастрофы;
b) Идея судьбы;
c) Идея бессмертной Женственности.
II. Аста рта-Афродита и мужеское начало. Обреченность
мужественного гибели, и бессмертие женственного.
Космическая Жена, как Судьба и Губительница.
III. Связь древнейшего ужаса перед женственностью — с
матриархатом.
IV Реакция мужеского начала против женской деспотии.
Патриархат. Друиды. Орфей. Аполлонова религия. Женское
начало как причина космической вины. Морализация религиозных
понятий. Terror fati и Timor Dei**.
Белый Андрей. Арабески. М., 1911. С. 321; Белый Андрей. Начало
века. С. 332.
«Ужас перед роком» и «страх перед богом» (лат.). Цит. по: Бёрд Р.
К творческой истории статьи Вяч. Иванова «Древний ужас» // Русская
литература. 201 1. № 3.
Символисты на Башне 335
Хлебников следует ряду идей из статьи Вяч. Иванова, но
реализует иной миф, чем тот, что положен в основу работы
Бакста. У Хлебникова женственное восстает против
рационального, упорядоченного мира жреца. «Гипертрофированная
рациональность умственной культуры противопоставлена
иррациональному началу, воплощенному в плотской любви,
которая оказывается более древним, глубоким и сильным началом,
чем цивилизация»*.
Идея произведения на тему космической катастрофы вновь
возникла у Вяч. Иванова при последней встрече двух поэтов
в Баку в 1921 г. «Вячеслав Иванов предложил писать
космогоническую поэму», — записал Хлебников в дневнике от
1 января 1921 г. (6:2, 237). Эта запись комментируется
учеником поэта М. Альтманом, по свидетельству которого Иванов
сказал Хлебникову: «И ангел вострубит, что времени больше
не будет, — может, Вы, Велимир, этим ангелом и будете»**.
Первые слова здесь — анафора из 8-11 глав Откровения
Иоанна; иными словами, Хлебников назван ангелом
Апокалипсиса, т. е. вестником гнева Божия. Для мифотворца с
Башни вряд ли существовало более возвышенное и значительное
прозвание для поэта.
«Ученичество» на Башне Хлебникова, а затем
взаимодействие, взаимопритяжение мифопоэтических картин мира у
вождя петербургского символизма и Хлебникова — едва ли
не самый поразительный, парадоксальный эпизод в истории
Серебряного века, полное значение которого еще не
осмыслено. Как отмечают современные исследователи, «несмотря
на внешний уход от символистов в стан футуристов-будетлян,
Хлебников по-своему продолжает и развивает традиции
возглавляемого Ивановым направления — "реалистического
символизма"»***. Выявление поворотов, градаций смысла и
подтекста творческого диалога двух поэтов — порой убийственная
для интерпретатора задача.
* Казанский H. Н. Мифотворчество Вяч. Иванова (на примере мифа об
Terra Balkanica /Terra Slavica)// Балканские чтения 9. M., 2007.
** Альтман M. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 33.
*** ПерцоваН. Н., Рафаева А. В. О славянских древностях у Вяч. Иванова
и В. Хлебникова. С. 378. Ср. Strudler J. Summoning the Firegod: V. Ivanov
and Khlebnikov's early poetry // Slavic and East European Journal. 52:4, 2008.
P. 529-544.
336 А. Б. Шишкин
Заключение
Следует вернуться к началу предыдущей главы, где мы
коснулись вопроса о языковой стратегии Вяч. Иванова.
Укорененная в многовековой христианской традиции, она оказывается
концептуальной и радикальной инновацией*. Эта тема требует
отдельного разговора, но сейчас хочется обратить внимание на
иной, связанный с ней момент.
Что пишет Вяч. Иванов, когда Блок сочиняет «Двенадцать»,
а Андрей Белый — «Христос воскрес»? Откликаясь на
центральное событие истории XX в. — Революцию 1917 г. —
Иванов, в отличие от всех своих единомышленников, отдает в
книгу «Из глубины» статью «Наш язык». Один из самых
разрушительных моментов в событиях после 1917 г., и едва ли не
главную угрозу будущему России Иванов увидел в
разрушении языка. Значительность этого политического жеста трудно
переоценить на фоне известной языковой политики и практики
последующих десятилетий. Позиция Вяч. Иванова в статье —
это позиция историка языка, но также мыслителя и писателя,
принадлежащего к определенному литературному
направлению. Уже в эмиграции, в 1928 г., Ходасевич отмечал:
«По основному и повелительному импульсу, который, на мой
взгляд, и есть самый существенный признак для
«классификации», — написанное всегда было или становилось для
символиста реальным, жизненным событием. Créant verba in circulo
potestatis suae omnia quae significant**: эти слова могли бы стать
эпиграфом к истории символизма»***.
Одна из последних статей Вяч. Иванова («Мысли о
поэзии», 1938-1943) углубляет и распространяет этот этический
императив:
«Искусство непроизвольно и непреднамеренно <...>
излучает свое действие во все сферы духовного и душевного
самоопределения, и никакая ибашня из слоновой кости" не может
Гоготишвили Л. А. Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова //
Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006. С. 137.
«Слова воссоздают в меру своих сил то, что они значат» (лат. ), цитата
из Фомы Аквинского.
Ходасевич В. О символизме // Вл. Ходасевич. Собр. соч.: В 4 т. М.,
1996. Т. 2. С. 176.
Символисты на Башне 337
уединить поэзии от взаимодействия с общим потоком жизни.
В этом свете изречение Пушкина: «слова поэта — дела его»
приобретают особенный, торжественный или роковой смысл, и
грозно возрастающею, соразмерно славе художника,
представляется его ответственность перед людьми» (III, 668).
Поставим в финале несколько вопросов: в какой степени
задуманное на Башне было осуществлено, завершено? Что
осталось от Башни для последующих поколений?
Кажется, что однажды Вяч. Иванову в каком-то
смысле удалось «взять» свою Башню с собой. Вот свидетельство
М. С. Альтмана, который в начале 1920-х гг. в течение 4 лет
имел привилегию быть учеником и другом поэта в бакинском
университете:
«То было страшное время: война, голод, мор <...>. Но
никогда, быть может, так явственно не обнаружилось, что не хлебом
одним жив человек, но еще и словом. И на "слово" В. И., как
на зов сирены, стекались самые разнообразные люди. Лекции
В. И. выходили далеко за рамки чисто академические и
приобретали значение общественного факта. Но влияние В. И. шло
не только вширь, но, если позволено так выразиться, и вглубь.
"Ловец душ", он быстро оброс друзьями и учениками, с
которыми вступил в самые близкие и тесные отношения»*.
Но в итальянские годы изгнания Башня не возродилась,
хотя И. Н. Голенищев-Кутузов и называл «башней» скромную
римскую квартиру поэта, которую вместе с Е. В. Аничковым
посещал два лета — в 1927 и 1928 г. (эти встречи
позволили ему позднее именовать себя учеником Вяч. Иванова). При
этом именем и мнением Вяч. Иванова крайне дорожили (ср.
историю отношений поэта с основателем славистики в Италии
Э. Ло Гатто**). За деятельность «мыслителя и писателя»
Королевская итальянская академия в 1936 г. удостоила его премии.
Талантливейшая «симпосиальность» Иванова могла покорять
итальянских интеллектуалов. Замечателен в последнем
отношении отзыв миланского историка литературы и журналиста
Алессандро Пеллегрини:
* Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 14.
** Шишкин А. Б., Сульмассо Б. Переписка Вяч. Иванова и Э. Ло Гатто//
Вяч. Иванов: исследования и материалы. СПб., 2010. Выи. 1. С. 759—779.
338 А. Б. Шишкин
«Он обитал в Павии как гость Колледжо Борромео, там я
и повстречался с ним. Величественная фигура этого старца с
белоснежными волосами, необыкновенная живость
разговора, во время которого он припоминал слова древних
философов и голоса великих поэтов, как если бы они, дружественные
тени, были среди нас; широта его культуры, питаемой, с одной
стороны, тысячелетней традицией, а с другой — новейшими
течениями современной мысли, била из него живым ключом;
он говорил со мной без всякой вычурности, в выражениях
естественно совершенных, и загорался страстью к идеям;
лицо этого человека, отнюдь не торжественное или
преднамеренно сдержанное, голубые глаза, излучающие свет;
абсолютная раскованность, отсутствие манерности и вместе с тем
необыкновенное достоинство в манере держать себя — этим
он напоминал мне портрет учителя-гуманиста, сошедший с
полотен художников XV в.; наконец, прозрачность взгляда,
взирающего на этот мир с таким простодушием, словно тот
впервые открывался ему; добродушная улыбка, шутливость
и ироническое отношение к другим — и прежде всего к
самому себе, — бурная жизненная сила, какой-то, я бы даже
сказал, инстинктивный и будто не управляемый деспотизм,
стремление обязательно одержать верх при каждой встрече
и в каждом споре, было у него, скорее, непроизвольным
порывом, дающим естественной выход той жизненной мощи, что
свойственна великому духу и яркой личности: все без
исключения проявления этой многогранной личности вызывали мое
восхищение, как восхищает нас всякое совершенное явление
природы»*.
Вяч. Иванов здесь прежний, но Башни уже нет. Ушла ли
Башня на дно, как Атлантида? Сейчас часто стали говорить,
что Россия — «великая страна с непредсказуемым
прошлым». Пока все возможные исторические и литературные
сценарии не будут изучены, давать ответ на этот вопрос
преждевременно.
Pellegrini A. Ineontri е ritratti // Pellegrini A. Incontri in Europa. Milano,
1947. P. 48-49.
Символисты на Башне 339
Приложение 1
Хроника сред на Башне
14 сентября 1905 г. — на среде Сологуб, Ремизовы,
Чулковы, О. Дымов, Бальмонт читают свою прозу и стихи.
21 сентября 1905 г. — на среде Мережковские,
Сологуб, Пяст, Ремизов, Чулков, Эрн, Карташев, Ан. Чеботарев-
ская, Гершензон, Щеголев, Философов и др. (всего 12
человек) читают стихи. ВИ говорит о Гамлете и Дон Кихоте. Спор
Зиновьевой-Аннибал с Мережковским.
5 октября 1905 г. — на среду приходят «реалисты»:
Юшкевич, М. П. Арцыбашев, Скиталец, Башкин, присутствуют и
участники первых сред — Чулков, Ремизов, Сологуб. Читается
и обсуждается рассказ Арцыбашева «Тени утра».
30 ноября — на среде прения о поле: Вяч. Иванов и
Розанов.
7 декабря — на среде собеседование о любви по образцу
симпосиона Платона, стихи читает Блок, выступают Андрей
Белый, ВИ, Л. И. Габрилович, ЛДЗА, С. А. Борисов, Л. Ю.
Бердяева, председатель П. В. Безобразов.
14 декабря — на среде поставлена тема «Одиночество и
анархизм», председатель Бердяев, впервые приходят К. А.
Сомов и М. В. Добужинский.
21 декабря — на среде около 30 человек, председатель
Бердяев, выступает А. И. Гидони и К. А. Сюннерберг, диспут
Мережковского и ВИ.
28 декабря — на среде около 30 человек, поставлена тема
«Религия и мистика»; в 11 часов полиция проводит на
Башне обыск; антиправительственные материалы не находятся; об
обыске широко сообщается в прессе (открытое письмо
Мережковского к С. Ю. Витте).
11 января 1906 г. — на среде беседа по теме «О
декадентстве какфилософско-идейном движении». ВИ «набросал
историю декадентства и общий дух во всех разнообразиях ярких
индивидуальностей» (ЛДЗА).
18 января — на среде более 40 человек, параллельно
продолжению обсуждения темы «Религия и мистика» в другой
комнате Блок, Брюсов, Сологуб и молодые поэты читают стихи.
340 А. Б. Шишкин
1 февраля — на среде 33 человека (?), читают «Бред»
ЛДЗА, затем стихи (в том числе «Солнце» ВИ), собеседование
«Федор Сологуб» в продолжение темы «Мистика и религия»,
председатель Бердяев.
6 февраля — на Башне кружок реалистов, ок. 28 человек,
А. В. Луначарский, М. Ф. Волькенштейн; М. П. Арцыбашев
читает повесть «Кровавое пятно» о московском восстании,
председатель ВИ.
8 февраля — на среде читают стихи Городецкий, ВИ
(«Менада»), Верховский, Фридман, Пяст; затем тему «О ритме»
обсуждают Городецкий, ВИ, ЛДЗА; председатель Н. А. Бердяев.
15 февраля — на среде 41 человек, Е. В. Аничков говорит на
тему «Социализм и искусство»; председатель обсуждения ВИ,
затем чтение стихов.
22 февраля — на среде более 45 человек, на тему «О
Черте» при председательстве Н. А. Бердяева говорят ВИ,
Габрилович, ЛДЗА, потом чтение стихов.
1 марта — на среде 36 человек, на тему «Искусство
будущего» под председательством Бердяева ожесточенный спор
между ВИ и Белым, выступают также Бердяев, Нувель, О.Дымов и
др.; затем чтение стихов Ивановским, Леманом, Волькенштей-
ном, Городецким, Андреем Белым, ВИ.
26 апреля — тема «В чем состоит красота жизни»?
«Вячеслав Иванов говорил очень интересно и верно об эпохах
органических и критических, трагизме и jardin d'Epicure, мне было
неловко, что он вдруг заметил: "Вот прямо против меня
талантливый поэт, автор Александрийских песен, сам александриец в
душе". <...>. Пошли на крышу, рассветало, чудный вид, будто
Вавилон. <...> Я прочитал "Солнце", "Кружитесь"; "Сомов"».
18 октября — на диспуте об Эросе на Башне выступают
Аничков, Бердяев, Карташев, Луначарский.
15 ноября 1906 г. — первая из «четных сред» на Башне.
24 января 1907 г. — Бердяев читает на среде главу о
Великом инквизиторе Достоевского из готовящейся книги; с
возражениями выступают В. Гофман и ВИ.
14 февраля — Волошин читает реферат «Пути Эроса»,
затем о поле говорят Волошин, Бердяев, ВИ; затем стихи читают
Кузмин, Ремизова, Сапунов, Сабашникова, ВИ; Кузмин играет
на флейте; Сабашникова танцует; всего ок. 70 человек.
Л. Силард
Несколько заметок
к учению Вяч. Иванова о катарсисе*
Учение Вяч. Иванова о катарсисе, так или иначе
представленное во всех его исследованиях «диони-
сизма» и обобщенно изложенное в специальной главе
книги «Дионис и прадионисийство», представляет
собой цельную и единственную в своем роде концепцию.
В наши дни, когда вокруг термина катарсис возникло
так много путаницы и образовался разрыв между его
трактовками в эстетике (линия Лессинга —Гегеля —
Лукача) и в психологии (линия Я. Бернайса и Фрейда),
напомнить о ней кажется особенно своевременным**.
Впервые: Культура и память. Третий международный
симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову / под ред. Фаусто
Мальковати. Firenze, 1988. С. 148-155.
Обзор основных работ о катарсисе в литературе см.: Adnan
К. Abdiilla. Catharsis in Literature. Bloomington, 1985; см. также:
Wegman С. Psychoanalysisand Cognitive Psychology. AFormalization
Freud's Erliest Theory. London; New Уогк, 1985; Rokem F. Theatrical
Space in Ibsen, Chekhov and Strindberg. Michigan; Ann Arbor, 1986;
Turner V. From Ritual to Theatre. New York, 1982; Hankiss E. A
Comparative Literature Today: Theory and Practice. Stuttgart, 1979;
Nichols M. P., Zax M. Catarsis in Psychotherapy. New Уогк, 1977;
Geen R. G., Quanty M. B. The catharsis of aggression: An evaluation
of a hypothesis // Advanses in experimental social psychology.
New York, 1977; MacMillan M. B. The cathartic method and the
342 Л. Силард
Изучение наследия Вяч. Иванова приближается уже к той
стадии, на которой возможны более детальные исследования.
Именно потому я нахожу необходимым, конкретизируя
сделанный три года тому назад обзор его трудов о дионисийстве*,
сосредоточиться на одной проблеме одной главы, не без надежды
вывести пока еще — увы! — малоизвестный «материал ивано-
ведения» к горизонтам новейших штудий по фундаментальным
вопросам культурологии.
Универсальность выводов Вяч. Иванова о природе и
проявлениях эффекта катарсиса, столь очевидная на фоне
современных работ на эту тему, обусловливается в большой степени
специфичностью его метода. Специфичностью, которую
хорошо осознавал и сам исследователь, — недаром он посвятил
отдельную главу своего главного труда о дионисийстве
описанию методологии, назвав ее «высшей герменевтикой»**, что
прямо отсылало к Шлейермахеру и косвенно — к Дильтею***.
Вяч. Иванов подчеркнул, что обусловливаемый ею путь
исследования объективных «свидетельств сознания» ведет, во-
первых, к разграничению и соотнесению «фактов сознания» с
«фактами бытия и действия», а во-вторых, к стремлению
«обнажить в свидетельствах сознания из-под оболочки новейших
культурных наслоений основное простейшее и конкретнейшее
содержание», «изначальное ядро» «исстари живой и
жизненной правды душевного состояния» (259). Нетрудно заметить,
что под ядром «жизненной правды душевного состояния»,
«морфологическим принципом», «исконным первообразом»
(154) здесь понимается то, что теперь принято именовать ар-
expectansies of Breuer and Anna О. // The International Journal of Clinical and
Experimental Hypnosis. 1977. Vol. 25. № 2.
Силард Л. Концепция «Эллинской религии страдающего бога» и ее
место в культуре XX века: Доклад на Втором международном симпозиуме,
посвященном изучению творчества Вяч. Иванова. Рим, 1983; Силард Л. К
вопросу о корнях нестинарства //Artes populäres. (Budapest), 1981. № 7.
С. 164-186.
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С. 255.
Дальнейшие ссылки на :>то издание приводятся в тексте, с указанием стр.
Заметки о Дильтее С. Франка, который новое слово немецкого
философа видел в утверждении переживания как основе познания и — отсюда —
в уяснении конкретных духовных основ философского миросозерцания,
публиковались, в частности, в журнале «Русская мысль» (см. кн. XI за
1911 г., кн. VI за 1914 г.), где нередко печатался и Вяч. Иванов.
Несколько заметок к учению... 343
хетипической структурой. Процесс ее обнаружения, согласно
Вяч. Иванову, устремляет внимание к истокам, обязывая делать
«из данных обратные заключения от позднейшего состояния к
тому, какое им логически предполагается» (259). Исследование
с неизбежностью восходит к глубинам времен, к тем исходным
стадиям и формам состояния сознания, в которых «мышление
не отделено от чувствования» (262) и мысль имманентна
действию, подчиненному эмоциональной сфере (261 ).
Структурой, объективирующей это единство мышления,
чувствования и действия, Вяч. Иванов считает обряд, обращенный
и к прагматике бытия, и к началам осознавания его высших
закономерностей. Именно потому «обряд должен быть понят из
потребностей, его вызвавших к жизни, и осмыслен как факт
сознания» (262). Соответственно такой установке изучение
исторических форм-носителей катартики оборачивается
исследованием дионисийского обряда как исходного синкретичного (в
терминологии А. Веселовского) ядра, из которого с течением
времени вычленяются единые в своих истоках русла культа,
культуры и быта. Или, другими словами: поскольку в обряде
как в первичной, согласно Вяч. Иванову, структуре свернуты
все дальнейшие качества вышедших из него явлений религии,
искусств (словесных, мусических и т. д.) и быта (прежде всего
ярмарочно-карнавальные формы), исследование обряда
позволяет выявить в его исходной сущностной неизменности ядро
всех его позднейших до неузнаваемости преобразовавшихся и
редуцированных манифестаций, будь то факт искусства,
подобный трагедии или комедии, будь то событие быта, подобное
ярмарочным выкрикиваниям. При этом — хотелось бы еще раз
подчеркнуть — столь мощная устремленность к определению
общих истоков нисколько не ослабляет восприятия
дифференциации, и непроницательны были возражения А. Маковель-
ского, будто автор «Диониса и прадионисийства»
...о позор, мифологему
С обрядом спутал, черт возьми, —
как сообщается в голиардических стихах Е. И. Байбакова на
защиту Вяч. Ивановым его докторского труда*. Даже обряд,
* См.: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского
университета // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1968.
Вып. 11: Литературоведение. С. 328-329. (Ученые записки ТГУ Вып. 209.)
344 Л. Силард
понимаемый Вяч. Ивановым как объективация наиболее
консервативной сферы психики, рассматривается им
дифференцированно, в динамике отношения ко времени как главному
фактору эволюции:
«Обряд по природе своей устойчив и долговечен: рано
родится он, мало изменяется в действенном своем составе и поздно
умирает. <...> ...Нам остается только различить эпохи во
многовековой истории обряда, приносившие с собою изменения не
столько в нем самом, сколько в отношении к нему
общественной среды и его к ней» (262).
Преимущества метода «высшей герменевтики», кажется,
очевидны: при таком интегрирующем подходе становится
несущественной полемика между апологетами этической,
эстетической, медицинской, религиозно-мистической и других функций
катарсиса; расхождения между полюсами комедии или
трагедии, доминирующей ролью смеха или, напротив, боли,
сострадания снимаются, да и сама задача интерпретации Аристотеля,
спровоцировавшего поколения потомков на нескончаемые
дискуссии, отодвигается на дальний план. Взгляд
исследователя устремлен за «Поэтику» и «Политику» Аристотеля,
поскольку метод отца эстетики представляется ему неадекватным
явлению: бесплодно, утверждает Вяч. Иванов, трактовать
чисто эстетически то, что эстетически не обособилось. Поэтому и
ответа на вопрос, выдвинутый фактом искусства, Вяч. Иванов
ищет не в самом искусстве, а в «объективных оказательствах»
его синкретических истоков — в знаково-структурной системе
обряда, исторически выявляющейся в ее неизменности и в ее
изменчивости. Такова установка метода «высшей
герменевтики», осознанно или неосознанно унаследованного прежде всего
М. Бахтиным и О. Фрейденберг*.
Не имея возможности воспроизвести здесь весь ход
размышлений русского ученика Моммзена над многовековой
полигенной историей дионисийского обряда и судьбой дионисийской
катартики во всех «роскошных разветвлениях и многообраз-
О. Фрейденберг на Вяч. Иванова не ссылается, и в обстоятельных
комментариях к ее работе о трагедии имя Вяч. Иванова не упомянуто,
хотя, особенно в разделе о генезисе трагедии, прямые переклички с Вяч.
Ивановым — то притяжения, то отталкивания — многочисленны. См.:
Фрейденберг О. М. Образ и понятие//О. М. Фрейденберг. Миф и литература
древности. М., 1978. С. 301-487.
Несколько заметок к учению... 345
ных метаморфозах» (259), я постараюсь сосредоточиться лишь
на том, каковыми вырисовываются в толковании Вяч.
Иванова: 1) «механизм» и условия возникновения катартического
эффекта, 2) исторически переменные доминантные аспекты
его проявления и, наконец, 3) его фундаментальные функции.
Мне уже приходилось утверждать, что существо диони-
сийства Вяч. Иванов видит в эпифании «внутреннего опыта
экстаза»*, «разрушающего чары индивидуации»: «Состояние
человеческой души может быть таковым только при условии
выхода, исступления из граней эмпирического я, при условии
приобщения к единству я вселенского в его волении и
страдании, полноте и разрыве, дыхании и воздыхании. В этом
священном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние
блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного
могущества и преизбытка силы, сознание безличной и безвольной
стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе и нового
обретения себя в Боге, — не исчерпывая всем этим бесчисленных
радуг, которыми опоясывает и опламеняетдушу преломление в
ней дионисийского луча <...>. Психология дионисийского
экстаза так обильна содержанием, что зачерпнувший хотя бы
каплю этой «миры объемлющей влаги» уходит утоленный <...>.
Дионис — вечное чудо мирового сердца в сердце человеческом,
неистомного в своем биении, в содроганиях пронзающей боли
и нечаянной радости, в замираниях тоски и возрождающихся
восторгах последнего исполнения»**.
Три пассажа, выбранные мной из эссе о базельском
провозвестнике Диониса, надеюсь, позволяют ощутить,
насколько сексуализирует русский поэт и философ предложенную его
предшественником проблему расторжения граней индиви-
дуации в дионисийстве: переживание дионисийского экстаза
он передает в образах удовлетворения страсти, и — конечно,
вполне преднамеренно — процесс выхода из пределов
эмпирического «я» и, соответственно, начало осознавания этого «я»
Вяч. Иванов связывает с чувством пола. Вот почему
«исступление из граней эмпирического я» в дионисийстве он описывает
* Дешарт О. Введение // Вяч. Иванов. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1.
С. 46.
** Иванов Вяч. Нищие и Дионис//Вяч. Иванов. По звездам. СПб., 1909.
С. 8, 9, 7.
346 Л. Силард
прежде всего как «разнуздание половых страстей», «половое
преследование», «половой экстаз», сохраняющий свое
значение первично-природной основы во всех формах дионисийства.
И вот почему, также сексуализируя Эрос Платона, он
предлагает своим современникам идею Эроса соборности ( «Дионис,
динамическое начало его, разоблачается как Эрос соборности»*).
С нею, этой основополагающей идеей, связано утверждение, что
«распадение этики на эстетику и религию было бы
окончательным, если бы цельный состав ее не восстановлялся
присутствием начала, равно общего эстетике и религии, равно коренного
и исходного для обеих: это начало — Эрос»**. Ею обусловлены
его страстные филиппики против «биосоциологической
формулы» «индивидуального симбиоза» семьи:
«Индивидуальный симбиоз закрепляет дурную индивидуа-
цию человечества; семья отъединяет и успокаивает человека в
гранях эмпирической личности. Мертвеет энергия
мужественного почина; женская же энергия делается, почти неизбежно,
служебною, дополнительною биологическою частью
сознательного мужского начала»***.
И наконец, ею объясняются все его — их с Лидией — попытки
выйти за пределы «железного кольца для двоих»****, породившие
так много ничтожных сплетен: все эти неудачные эксперименты
с «любовью трех» были, мне кажется, намерением воплотить
утопию претворения элементарных начал дионисийского выхода
из целлюлярности — этого проклятия цивилизации.
Но примечательно: как ни существен, природно-сущностен
половой оргиазм прадионисийства в представлении Вяч.
Иванова о дионисийском преображении человека, выводящем его
из оков тесного «Я», автор «Эллинской религии страдающего
Бога» не называет его катартическим. Первые явления катар-
тики он обнаруживает, следуя опять-таки Платону, в том, что
сейчас можно, пожалуй, назвать сублимированным
проявлением природного оргиазма и что Вяч. Иванов более точно
называет «идеальной объективацией внутренних переживаний»:
Иванов Вяч. Спорады (О любви дерзающей)//Там же. С. 375.
** Там же. С. 372.
Иванов Вяч. О достоинстве женщины // Там же. С. 386.
Выражение героини пьесы Зиновьевой-Аннибал «Кольца» (см.:
Л. Зиновьева-Аннибал Кольца. М., 1904. С. 139).
Несколько заметок к учению... 347
«Душевные волнения большой напряженности должны
находить разрешение, «очищение» (вот оно — долгожданное
слово. — Л. С.) — в изображениях, ритмах и действах, в
обретении и передаче объективных форм. Эта объективация
составляет этический принцип культуры — она же (как
энтелехия) определяется не материальною основой народной жизни и
не объемом положительного знания, но подчинением
материальной основы и положительного знания постулатам духа»*.
Так рождается культура с характерными для нее (и
только для нее, для данной культуры) формами человеческого
самоутверждения:
«В процессе объективации скопившаяся эмоциональная и
волевая энергия излучается из человека, чтоб сосредоточиться
в его проекциях и воззвать тем к жизни некие реальные силы и
влияния вне его тесного я. Но возникновение этих реальностей,
очевидно, не может быть результатом односторонней экстерио-
ризации психической энергии: ее излучению должна, подобно
противоположному электричеству, ответствовать встречная
струя живых сил. Психологическая потребность в стройных
телодвижениях встречается с физиологическим феноменом
ритма; нужда в размерном слове — с тяготением стихии языка к
музыке, воля к мифу и культу — с откровениями божественных
сущностей, с волей богов к человеку»**.
Так рождается религия, и прадионисийство с его оргийным
экстазом превращается вдионисийский обряде присущей ему
катартикой.
Дионисийский обряд родился, по мнению Вяч. Иванова, из
необходимости преодолеть разрыв между двумя религиями:
эллинской религией Олимпа и хтоническими культами, из
необходимости примирить и связать противоположные миры — верха
(Олимпа) и низа (Аида). Несовместимые качества двух миров,
строго разделенные на две несоприкасающиеся сферы, с
требованием очищений после общения с нижней, превратились в
дионисийском обряде сугубой медиации в признаки диадности,
а сама идея диады стала фундаментальным принципом диони-
сийства. На специфической характерности сугубой медиации
* Иванов Вяч. Спорады (О Дионисе и культуре) // Вяч. Иванов. По
звездам. С. 357.
** Там же. С. 357-358.
348 Л. Силард
для религии Диониса, в отличие от других культов и обрядов,
тем более на идее диады, противоположной гегелевской триаде
с ее концептом снятия полярностей, Вяч. Иванов настаивает*.
Он не устает твердить, что основа катартического
переживания не в «снятии», а в самом факте коррелятивности пафоса
и катарсиса, устраняющем зияние. Речь идет о пафосе, как его
понимали древние, т. е. о претерпевании мук страстного пути:
«Отличительною чертою эллинской религии, налагающею
на нее отпечаток глубокого своеобразия, является изначальная
и всеобщая проникнутость ее в обряде и мифе началом пафоса
(pathos). Пафос, применительно к объектам культа, есть
представление о страстном, как возбуждающем скорбь и сетование,
состоянии существа боготворимого, применительно же к
свершителям культа — отраженное и подражательное
переживание того же состояния, энтусиастическое сочувствие ему в
душевном опыте и в соответствующих внешних оказательствах и
выявлениях испытываемого аффекта» (183).
Другой «неоспоримой особенностью религии эллинской»
Вяч. Иванов считает «принцип <...> всецело и радикально
проведенного антропоморфизма» ( 184), поддерживаемого культом
героев, разумеется, в первом значении этого слова, т. е. героев
как посредников между миром живых и умерших.
Существование медиаторов между миром земным и иным могло только
усиливать непосредственность переживаний человеком
надчеловеческих мук своего бога; древний эллин взирал на него,
внутренне приближаясь к нему через более интимную связь с
героями, а исторически позднейшие стадии дионисийства
обеспечили уже героям — ипостасям Диониса совершенно
особую роль в возникновении искусства трагедии.
И наконец, столь же отличительным свойством дионисий-
ского обряда Вяч. Иванов счел оргийность как равное и
непосредственное участие всех в общем культе, исключавшее
позднейшую дифференциацию на «зрителей» и «исполнителей».
В единстве переживания равно ведомых Дионисом Вяч. Ива-
К проблеме диады см.: Malcovati F. Vjaceslav Ivanov: estetica e filosofùa.
Firenze, 1983; Аверинцсв С. Поэтика ранневизантийской литературы. M.,
1977. С. 221—236 (глава «Рождение рифмы и:* духа греческой
"диалектики"»); см. также главу «Античная Ленора в XX веке» в кн.: Силард Л.
Герметизм и герменевтика. М., 2002. С. 29—53.
Несколько заметок к учению... 349
нов обнаружил ту самую соборность, проповедником которой
стал на несколько десятилетий*.
Но что составляло существо этих энтузиастически
переживаемых вместе с Дионисом и его ипостасями-героями
страстей? Многочисленные варианты мифа и преданий сообщают
нам сюжет, узловые мотивы которого составляют: 1 ) явление
Диониса в ответ на призывные зовы и 2) кровь и растерзание
в ответ на неузнавание. Но содержание цепи событий, как это
эксплицируется особенно в пространственных категориях
ритуала, составляло нисхождение в подземное царство, т. е. в
смерть, и — возвращение. Недаром Дионис носил — в ряду
многочисленных имен, приличествующих Многоликому, —
имя «категемон», т. е. «учитель пути вниз», «низводящий»
(буквально «вождь вниз» (46)), а те, кто следуют за ним,
назывались «нисходящими» («катабатаи»). Таким образом, диони-
сийский обряд представлял собой проективную объективацию
переживания самого личностного события в существовании
живущего — переживания собственной смерти (своего
пути вниз) в специфической контрадикции, поскольку:
1 ) самое уединенное переживание переживалось вместе
с собратьями по фиасу, равными тебе в судьбе (как отметил
М. Альтман, которого цитирует Вяч. Иванов: «Мистами
являются все поголовно, передлицом смерти все равны» — (247)**,
и поскольку 2) оно предъявлялось как переживание
парадигматической судьбы бога, т. е. надчеловека, причастного, однако,
простой смертности — не только через его ипостаси героев, но
и через некоторые его собственные коннотации (два естества
Диониса играют в этом случае особенно важную роль).
* Сведения об эволюции дионисийского обряда, подтверждающие
проницательность русского филолога-классика, можно найти в кн.: Burkert W.
Greek Religion. Archaic and Classica 1. Oxford, 1985. В оригинале книга вышла
на немецком языке (Griechische Religion der archaischen und klassischen
Epoche. Stuttgart, 1977), но для издания в английском переводе была заново
просмотрена библиография и учтены последние разыскания, особенно
существенные в области изучения минойско-микенской религии (в связи с
которой Вяч. Ивановым были сделаны тоже весьма ценные наблюдения, хотя
до поворотных открытий 1950-х гг. оставалось еще более четверти века!).
** Об оценке Вяч. Ивановым работы его бакинского студента см.:
Котрелев Н. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета.
С. 330-331.
350 Л.Силард
Так создалось единственное в своем роде действо,
совмещавшее в себе одновременный опыт предельного обособления
«Я» («Я» и моя конечность), предельного слияния «Я» и «Ты»
(равное переживание смерти всеми участниками фиаса) с
предельным слиянием «Я» и «над-Я» (переживание патетических
страстей бога и его ипостасей как своих собственных*). Оно
представляло собой синкретичное по форме, стихийное
освоение древним эллином диалектики партикулярного и общего в
катартическом опыте расторжения граней индивидуации.
Но, как мы видели, расторжение граней индивидуации Вяч.
Иванов усматривает и в динамике половых отношений прадио-
нисийского ритуала, оргиазм которого (или «третье лицо» в
экспериментах по реконструкции) позволяет отчетливее
ощутить необъектность пребывания «Ты», множественность
субъектов единого дионисийского переживания. И это значит, что
переживания любви и смерти в дионисийском ритуале
онтологически связаны между собой актом выхождения из пределов
тесного «Я»: «Дионис все же был в глазах тех древних людей
не богом диких свадеб и совокупления, но богом мертвых и сени
смертной», он «вносил смерть в ликование живых. И в смерти
улыбался улыбкой ликующего возврата, божественный
свидетель неистребимой рождающей силы»**. Потому и знаковые
выражения их в многочисленных географически и исторически
различных вариантах ритуала соотносимы и выступают
субститутами друг друга, сохраняя главный опорный морфологический
принцип акта расторжения граней индивидуации — принцип
метаморфозы, вместе с главным психологическим
проявлением его — экстатикой. Но поскольку катарсис возникает,
согласно Вяч. Иванову, из необходимости соотнести два анти-
номичных богопочитания, ни экстаз, ни метаморфоза праобря-
да, будучи опорными качествами дионисийской катартики, не
означали еще катарсиса. Катарсисом стало трехаспектное
единство урегулирования отношений:
Нахожу необходимым подчеркнуть это, поскольку в литературе нередко
говорится о сочувствии, об эмпатии как основе катарсиса; ср.: Morrel R. The
Psychology of Tragic Pleasure // Essays in Criticism. 1956. № 6. Вяч. Иванов
подчеркивает принцип тождества между жертвоприносителем и жертвой,
что является основой переживания жертвенной гибели героя как своей
собственной; дистанцирование редуцирует катарсис или сводит его на нет.
Иванов Вяч. Ницше и Дионис. С. 10.
Несколько заметок к учению... 351
1 ) освободительное разрешение энтузиастических состояний
человека, т. е. путь от «зияющей диады» к гармонизации
душевного хозяйства, прежде всего как гармонизации отношений
между Анимусом и Анимой;
2) упорядочение отношений внутри социума, прежде всего в
аспекте мужское / женское;
3) и главное: упорядочение отношений человека с богами,
т. е. силами «над-Я», конфликтовавшими между собою (их кон-
традикторность эксплицировала особенно усложненные, значит,
в случае успеха, тем более эффективные задачи медиации,
снятые монотеизмом).
Триединство катартического переживания
знаменовало «эмансипацию душевных сил от влияний телесных», как
утверждает Вяч. Иванов, опираясь на Платона: «Душа
приобретает независимое бытие и сознание в себе самой и становится
вольной от уз тела» (201). А выдвижение на первый план
третьего аспекта, завершившееся реформой орфиков и учреждением
Великих Дионисий, свидетельствовало уже о процессе
вызревания и автономизации собственно проблем сознания. Вслед за
Виламовицем-Меллендорфом, с которым редко бывал согласен,
и Ю. Кулаковским* Вяч. Иванов увидел вдионисийской катарти-
ке чуть ли не решающее событие в душевной жизни «древнего
европейского человека»: возникновение осознания
индивидуального сознания и диалектики его отношения к общему (203).
Как диалектику партикулярного и общего описывает явление
катарсиса и Д. Лукач, но мысль венгерского философа движется
в плоскости проблем соотнесения эстетики с этикой на базе
общесоциальных параметров культуры, поэтому закономерно, что
его выводы, сколь бы проницательны они ни были,
ограничиваются этим уровнем, не затрагивая индивидуальной психики, тем
более — ее глубинных пластов, а также — объективации
подсознательного в праисторически и исторически изменяющихся
знаковых системах культуры. Выводы Д. Лукача обобщены до
абстрактности и учитывают разве что смену формаций**.
* Вяч. Иванов ссылается на его книгу «Смерть и бессмертие в
представленияхдревних греков», вышедшую в Киеве в 1899 г. За информацию
о выходных данных книги благодарю Н. Зильпер.
** См.: Lukàcs G. Кг esztétikum sàjatossàga. Budapest, 1969; ср.: Heller A.
Lukàcs's Aesthetics // The New Hungarian Quarterly. 1966. Vo 1. 7.
352 Л.Силард
С другой стороны, нетрудно заметить в концепции
катарсиса у Вяч. Иванова и точки соприкосновения с идеями Фрейда,
может быть, даже их частичное воздействие (по крайней мере
тех, что высказаны в работе «Тотем и табу», о которой русский
мыслитель не мог не знать*).
Три аспекта упорядочения отношений, в их единстве
приводящие к катартическому переживанию, и особенно роль «над-Я»
в интерпретации Вяч. Иванова, побуждают к сопоставлению с
описанием процесса интеграции личности — отчасти у
Фрейда, отчасти у Юнга. Сближение переживаний любви и смерти
(сколь бы старым и общим местом оно ни было)у исследователя
дионисийства и отца психоанализа тоже родственно, что
вполне объяснимо также общностью источников — идеями Ницше
и Шопенгауэра. Но именно здесь отчетливо вырисовываются и
различия двух установок. Внимание Фрейда, как известно,
обращено на Эрос и волю к смерти (Todestrieb-Destruktionstrieb),
прежде всего в проявлениях невротического атавизма. Вяч.
Иванов, как мы видели, исследует переживание тех же
состояний в качестве закономерных моментов диалектики
партикулярного и общего, в их онтологических основах, с одной
стороны, и в объективациях их в культуре — с другой. Если в первом
случае акцент на отклонениях от социально-культурной нормы
есть предмет психиатрии, то акцент на норме и ее культуро-
образующих манифестациях во втором случае — предмет
культурологии. Если у Фрейда и особенно у его последователей
анализ психики закономерно опирается на физиологию и человек
рассматривается как биологическое существо (отчего у К.
Лоренца, например, секс-агрессия-катарсис описываются как
аналогичные, хотя и не тождественные проявления
человеческого и животного мира**), то внимание Вяч. Иванова сосредо-
В качестве аргумента в пользу '^того утверждения сошлюсь на то,
что в февральской книжке «Русской мысли» за 1915 г., где опубликовано
стихотворение Вяч. Иванова, помещена рецензия П. Губера на упомянутую
книгу зачинателя психоанализа. Тема соответствий душевной жизни
невротиков и древнего человека, вынесенная Фрейдом в подзаголовок
исследования, не могла не привлечь внимания Вяч. Иванова, размышлявшего
над соответствиями духовной жизни древнего и нового человека едва ли не со
времен «Эллинской религии страдающего бога».
См.: Lorenz К. Die sogenannte Böese. Wien, 1963; ср.: Zumkley H.
Aggression und Katharsis. Goettingen; Toronto; Zurich, 1978; Maccohy E. E.,
Несколько заметок к учению... 353
точено именно на том мгновении, когда человек перестал быть
лишь биологическим существом. Более того, приковывая наше
внимание к специфичности преобразования прадионисийства в
религию Диониса, Вяч. Иванов, в сущности, настойчиво
внушает мысль, что собственно катартическое переживание
объективируется и вызывается лишь структурами дионисийского
обряда, рожденного уникальной задачей гармонизировать
отношения с контрадикторными богами и предъявившего миг
рождения стихийной диалектики ( позволю себе еще раз
напомнить, что внешне близкие обряды и элементы обрядов у шиитов
или в индуизме этими качествами, согласно Вяч. Иванову, не
обладали).
Исторически складывавшийся набор этих структур,
различных по несомым ими потенциям, очень широк, но все они в
той или иной степени сохраняют возможность вызвать эффект
катарсиса. Когда, по мере дифференциации уровней сознания,
психики и осознанной деятельности, формируются сферы
культа, культуры и быта, дионисийство расщепляется на три
самостоятельных, хотя и взаимодействующих, русла: мистерий,
художеств и карнавальности, каждое из которых, в свою очередь,
порождает множественность жанров, поляризуя исходно
синкретичные качества и оберегая вместе с тем их генетическое
родство. Динамику этого процесса Вяч. Иванов описывает,
соотнося рождение жанров трагического и комического
искусства. Когда Дионисовы действа — этот «общий катарсис эл-
линства» — «по закону эволюции обрядового синкретического
искусства» переросли в «сознательное художество», т. е. в
трагедию, оставшуюся наполовину богослужением, — они
перелили в нее свои качества, хотя «элементы пафоса и катарсиса
<...> ослабляются на этой стадии до символизма» (211—212).
Поскольку в раннем синкретическом действе «трагически-
плачевное было причудливо смешано с разнузданно-веселым»,
закономерно, что — как об этом свидетельствует
Аристотель — сатиры оказались «ближайшими соучастниками или
исполнителями того дифирамбического служения, которое
было зерном прорастающей трагедии» (221 ).
Jacklin С. N. The psychology of sex differensis. Stanford, 1974; Spiegel S. В.,
Zelin M. Fantasy aggression and the catharsis phenomenon // Social Psychology.
1973. Vol. 91.
354 Л. Силард
Когда же процесс преобразования обряда в обрядовое
синкретическое действо, а затем в искусство трагедии, удалившей
из трагического действа сатиров, завершился, им было
отведено место в эпилоге и последнем слове трагедии — сатиро-
вой драме (что обнаружило соприродность их игр трагическому
строю): «...Под конец дня, посвященного трагедии,
возвышенный хор разоблачался как сонм хтонических спутников Дио-
нисовых, что обращало все трагическое действо в эпифанию
многоликого бога и интегрировало прошедшее перед зрителем
разнообразие героических участий в единое переживание
таинственной Дионисовой силы, вызывающей лики героев, как и
всю окружающую их пеструю и множественную жизнь, из сени
смертной и опять уводящей ее в запредельные области
невидимого, безвидного — Аида» (243).
Итак, плач завершался игрою. Каковы же были место и
внутренний смысл драмы сатиров в религиозно-художественном
целом аттической трагедии? Ответ Вяч. Иванова таков:
«В героической маске трагедии феноменальное сгущено;
животно-грубая личина Сатира — тончайший покров ноумена;
в ней ослабление principii individuationis до последних, почти
теневых схем. В первой максимум человеческого
самоутверждения в пределах земного явления; во второй — его полная
отмена. Земля, щедрая могила, голосами невинного и
неумирающего инстинкта в полузвериных обличьях поет и славит
безличную стихию плоти; личные воплощения тают и
растворяются в несущественное сновидение жизни. <...> Так
бессознательно философствует, играя в мир, как младенец-Загрей,
божественное дитя — дионисийское искусство» (243—244).
Это искусство проносит через века глубочайшую идею
Дионисовой религии — идею «сгущения в индивидуацию и ее
расторжения»: скорбь и смех равно уязвляют зрителя «катарти-
ческим острием дионисийского внутреннего опыта» (244). Так
очерчивает Вяч. Иванов возможности и пределы структур —
носителей «памяти катарсиса», «потенции катарсиса».
Но почему следует говорить всего лишь о потенции
катарсиса, несомой той или иной формой, тем или иным — дионисий-
ским по истокам — жанром культуры? Да потому, что катарсис,
по Вяч. Иванову (как и ценность, согласно Андрею Белому, а
вслед за ним и Мукаржовскому), — энергетический процесс.
Состоится катартическое переживание или нет — это
зависит не только от качеств объективированной структуры (будь
Несколько заметок к учению... 355
то произведение искусства, профессиональный спектакль или
спонтанная ярмарочная ситуация), это зависит каждый раз и от
актуальных условий восприятия, и от типа воспринимающего
(или участвующего в событии) сознания. Вот почему Вяч.
Иванов находит возможным еще более сузить пределы порождения
катартического эффекта, утверждая, что дионисийский
восторг — этот «ряд внутренних состояний и внутренних
методов» — дается человеку лишь в конкретном внутреннем опыте:
«Дионисийское начало, антиномичное по своей природе, может
быть многообразно описываемо и формально определяемо, но
вполне раскрывается только в переживании»*.
* Иванов Вяч. Ницше и Дионис. С. 8.
Ф. Лесур
Идея Рима и троянский миф
у Вяч. Иванова*
Идея Рима у Вячеслава Иванова особенно ярко
выражена в первом из его «Римских сонетов».
Вновь древних арок верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним Ave, Roma
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.
Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома —
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.
И ты пылал — и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла,
И помнит в ласке золотого сна,
Твой вратарь, кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена**.
* Впервые: Toronto Slavic Annual. 2003. № 34 (University of
Toronto The Department of Slavic Languages and Literatures).
Спасибо А. Б. Шишкину, который обрати./! наше внимание
на угот сонет на собрании Парижского Соловьевского общества.
Идея Рима и троянский миф у Вяч. Иванова 357
Как известно, «Римские сонеты» были написаны в то время,
когда Вячеслав Иванов с детьми, уехав из России, приезжал в
Рим «в командировку» (на самом деле уезжая из России
навсегда). В этом первом сонете поэт как бы подводит итог этой
ситуации, но и празднует новую встречу с любимым городом.
Как известно, «Римские сонеты» в основном посвящены
римским фонтанам — все, кроме первого и последнего. В первом
сонете поражают простота и ясность изложения и
умиротворенный тон.
Здесь имеется в виду реальное (или полулегендарное)
преемство между Троей и Римом, а значит, и органическая связь между
двумя противоположными символами: символом обреченности,
уничтожения родной культуры, с одной стороны, а с другой —
символом незыблемости. Но второе как бы содержит первое, и
получается, если можно сказать, культурный оксюморон.
Главное, что здесь речь идет не о продолжении жизни, но о
жизни через смерть. Жизнь (Трои, России) под вопросом, и
поэтому Рим, «царь путей» (что, вероятно, представляет собой
метонимию: здесь имеется в виду не только via Appia, «regina
viarum», но и весь Рим как сосредоточие всех путей мировой
культуры), стоит на перепутье судеб: он смотрит на «Трою
предков», на Россию («мы горим») и на реальную Трою, которая,
может быть, воскресла в образе Рима, но как таковая
погибла (была сожжена), тогда как Рим несколько раз подвергался
разрушению, но каждый раз восставал из пепла. Этим
сопоставлением подразумевается вопрос: «Какая судьба ожидает
Россию — судьба Трои или судьба Рима? Восстановление или
смерть и воскресенье под иным видом?»
Троя как общекультурный символ обреченности всего
родного приобрел особое значение в России тех лет; у русских поэтов
того времени есть особая чуткость к этой теме, острая
восприимчивость к общекультурным катастрофам. У поэтов России
образ Трои сосредоточивает все черты «родного» и
«домашнего» под знак угрозы.
У Мандельштама образ Трои встречается в стихах 1920-х гг.
Особенно вспоминается: «Где милая Троя? Где царский,
где девичий дом? / Он будет разрушен, высокий Приамов
скворечник...»* Характерно, что упоминание Трои появляется
* «За то, что я руки твои не сумел удержать...» ( 1920).
358 Ф. Лесур
в стихотворении интимного содержания: как раз в этом образе
сочетаются интимное и сверхисторическое. Но это было еще
яснее в стихах, написанных в декабре 1917 г., как раз
обращенных к «Кассандре»:
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...
У Пастернака эта тема отражена в поэме «Высокая
болезнь»*: намек на «троянский эпос» вызывает ассоциацию
со зловещей текучестью времени, которая разрушает жизнь
изнутри, как конь, обманом введенный вовнутрь крепости**.
Тема внутреннего разрушения крепости («крошатся своды»)
отождествляет Трою с «частной сферой человека»***, которая
сейчас находится под угрозой. Посредством этого образа-мифа
выявляется желание приостановить катастрофическое
развитие исторических событий****. Тем более что как раз припадок
«высокой», или «священной», болезни (падучей) у кого-либо
во время народного собрания в древнем Риме означал
прекращение всех мероприятий.
У Ахматовой уже в роковом 1940 г. образ Трои мелькает в
полустишии «И Троя не пала...», — в стихах о
неосуществимой мечте вернуться к счастливому прошлому («Так отлетают
темные души...»)
Но интересно, что открытое отождествление России (или
Москвы) с Троей принадлежит не им, а посланнику Ватикана
в СССР. Мы читаем в (неопубликованном) письме Вячеслава
Иванова к сыну: сегодня получил конвертик «с карточкой от
"Mgr cTHerbigny, Evêque titulaire dTlion, Président de l'Institut
Pontifical des Etudes Orientales: remerciements cordiaux, souhaits
affectueux, bénédictions! 7, Piazza S. Maria Maggiore, Rome 28.»
(«Ilion»... т. е. Троя?., т. е. Москва, именовавшая себя при
Иване Грозном и «Третьим Римом», и «Троей», ибо ведь Рим —
восстановленная Троя?., вот так ребус! айда иезуиты!!)»
Спасибо Илье Захаровичу Серману за это указание.
Döring J. R. Семантизация звуковых структур в поэме Пастернака
«Высокая болезнь» // Boris Pasternak. Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris:
Institut d'Etudes Slaves, 1979. P. 144.
Там же. С. 144.
**** Там же. С. 149.
Идея Рима и троянский миф у Вяч. Иванова 359
Тематика смерти и воскресения пронизывает этот первый
сонет. Обычно в этой тематике различают отголосок учения о
дионисийстве*. Однако многое также напоминает и религиозно-
философские течения 20-х гг., их обновленный интерес к
православному богословию. В эти годы идея возрождения особенно
популярна, например, в кружке Бахтина, но еще яснее в
кружке А. Мейера в Петрограде, который был связан с бахтинским
кружком и назывался именно «Воскресение». Отклик на
современные события, по-видимому, сочетается с возвращением
к истокам христианской метафизики.
Общая концепция этого сонета — созидание жизни через
уничтожение, возможное обретение себя через разрушение —
конечно, имеет черты дионисийства. Как сказано в статье
«Ницше и Дионис», Дионис — «бог умирания мученического,
и сокровенной жизни в чреватых недрах земли, и ликующего
возврата из сени смертной, "возрождения", "палингенесии"»**
(заметим, что оба последних слова в кавычках). Но здесь,
кажется, присутствует и другой элемент, а именно: элемент
добровольной, осознанной жертвы («Мы Трою предков
пламени дарим»). Семантическая нагрузка подчеркивается главной
рифмой сонета (рим). Местоимение «мы» подчеркивает, что
Вячеслав Иванов никак не отмежевывается от того, что
происходит в России. Это коллективная вина и коллективная
ответственность, особенно тех литературных кругов, которые
ожидали больших очистительных сотрясений и которым он
принадлежал.
Этот стих мог бы означать древнее жертвоприношение, но
это маловероятно, если учесть особый контекст острой
исторической восприимчивости, о котором свидетельствуют поэты,
тем более что речь идет о «Трое предков».
Но как раз сознательное отречение от себя как залог
возрождения совпадает с концепцией одного религиозного
мыслителя, который систематически ставил подобное размышление о
смерти и о бессмертии в центре своего учения, — я имею в виду
Льва Карсавина.
* Тахо-Годи Е. «Остается исследовать источники воли и природу
жажды». (О «Римских сонетах» Вячеслава Иванова) // Вячеслав Иванов.
Творчество и судьба. М., 2002.
** Вячеслав Иванов. Собр. соч. Bruxelles, 1971. Р. 718.
360 Ф. Лесур
В этом отношении особенно содержательна и характерна
его «Поэма о смерти». «Поэма о смерти» — это апология
добровольного приятия смерти как ответ на жертву Христа.
Добровольное отречение от себя — кеносис — ответ на кено-
сис Христа и начало духовного преображения. Это
представление основано на мистическом созерцании тайны Троицы,
Триединству которой соответствует здесь триада кенотиче-
ского отречения: «смерть — воскресение — восстановление
первоединства» Оно сопровождается размышлением над
сутью бессмертия. В начале своей деятельности Карсавин был
историком средневековой религиозности, и в качестве
такового он изучал эволюцию представлений о бессмертии. Эти
штудии привели его к той мысли, что в основе желания бессмертия
заключено стремление возродить все прошлое целиком, а не
какой-нибудь его отдельный момент: «Я же хочу видеть Эле-
ните (возлюбленную автора. — Ф.Л.) во всех ее изменениях,
во все мгновения ее жизни»*. Полнота бытия — это прежде
всего полнота его моментов, всевременность, — а только это и
может быть предметом желания, а не отвлеченное, «никому не
нужное бессмертие»**.
Но такое представление означает, что полнота времени
включает и переход через уничтожение. Поэтому «Зло и есть
не-хотение умереть. Оно не страдание мира: страдание —
причастие мира, хотя и малое, Божьему Состраданию... Зло —
недостаточность страдания и смерти, разъединения, а потому
и единства. Ибо мир должен быть не разъединенностью и не
единством, но — всеединством в жизни через жертвенную
смерть»***. Таким образом, четко формулируется учение «жизни
через смерть». Оно отражено и в этом сонете.
В карсавинской танатологии бессмертие сохраняет
каждому существу его единичный неповторимый лик. Иронизируя
над идеей «бесплотной души», автор «Поэмы о смерти»
возражает: «В другом мире и в другой плоти не может быть этой
моей души. Только из этого тела сознаю я этот мир; только
Карсавин Л. П. Почма о Смерти // Л. П. Карсавин. Религиозно-
философские сочинения. M.: Renaissance, 1992. С. 253.
Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 37.
Поэма о смерти. С. 124.
Идея Рима и троянский миф у Вяч. Иванова 361
в этом моем теле он так сознает себя и страдает...»*
Цельность времени сохраняет неповторимый образ каждого лица и
каждого явления.
Между теориями Вячеслава Иванова и Карсавина немало
точек соприкосновения, при том что Карсавин придерживается
строго православного богословия и называет учение о
Дионисе как о страдающем боге «нечестивой легендой»** и отвергает
всякую попытку сблизить его с Христом.
Этот сонет достаточно ясно отражает христианское учение
о «жизни через смерть» и о личностном бессмертии. Это
особенно отчетливо видно из второго терцета: антиномия (крепла/
лежала сожжена), неожиданная и потому особенно сильная,
получает особый смысл, тем более что в изложении
соблюдается порядок, обратный самому ожидаемому. Причем эта особая
нагруженность последнего стиха в сонете соответствует
классическим правилам. Еще важнее повторение имени «Троя»:
нет растворения в общем потоке вечной жизни, личность
сохранена.
В этом плане особое значение имеет кипарис. Об этом
кипарисе уже многое было сказано, но, помимо того что дерево
это традиционно ассоциируется со смертью***, важно
заметить, что здесь мы снова имеем антиномию. Обычно считается,
что это «кипарис» знаменует древо забвения — но здесь
семантическое окружение противоречит смыслу «беспамятства»
(«памятливая», «помнит»)****.
Здесь нужно заметить, что во всем цикле «Римских сонетов»
доминирует именно радость всего осязаемого, чувственного,
что прежде всего связано с обрамляющей их общей темой —
«фонтаны» (то и дело встречается: «влага», «нега»...).
Вырвавшись из СССР, поэт возвращается к жизни. В описании
Рима ничего нет, что могло бы напомнить о царстве мертвых.
Все чувства обострены: осязание, слух (в третьем сонете: «И
сладостно во мгле их голос гулок...») и, конечно, зрение (здесь:
* Там же. С. 253.
** Там же. С. 294.
Тахо-Голи Е. Указ соч. С. 63.
**** Благодарим Рите Джюлиани и Карле Соливетти, которые указали
мне на «кипарис» как символ молодости в итальянской поэзии («giganti
giovinetti» — у Bolgheri).
362 Ф. Лесур
«не ослепла»). Зрение сосредоточивает в себе и
символическое, и конкретное значение: зрение, как память, сохраняет еще
ее неповторимый облик и как бы содействует общекультурному
ясновидению Мира, в котором все сохранено и все различено
(что, между прочим, совпадает с идеей Всеединства, которое
Карсавин определяет следующими словами: «Не то что не
будет времени: время останется, и все будет по времени
различаться; но вместе с тем все будет и сразу»*). Но для Карсавина
ограниченность нашего понимания всего временного
оборачивается тем, что мы постигаем Всеединство лишь на путях
мучительного осознавания преходящего характера дольнего мира:
«Мучительно мне умирание милого мира»**. Полнота бытия и
небытия непостижима, для нас существует лишь
разъединенность, сознавание которой сопровождается чувством утраты.
Напротив, для Вячеслава Иванова разъединенность,
счастливая множественность бытия ведет к установлению
универсальных связей гармонически устроенного мира. Теории Вяч.
Иванова и Карсавина поразительно близки, но то, что было
мучительным отказом от себя для Карсавина, становится
обретением себя у Вячеслава Иванова.
Кипарис дан в сонете вполне конкретно, это просто
типичная черта итальянского пейзажа, он сопутствует «царице
путей» («regina viarum»). В этом смысле он «вратарь»; во многих
местах, откуда открывается видна римскую долину, стоят
кипарисы. Но в «Энеиде» мы читаем, что именно в том месте, где
собрались Эней и его товарищи и откуда они покинули Трою
навсегда и отправились в путь, стоит вблизи древнего храма
кипарис: «Est urbe egressis tumulus templumque vetustum/
desertae Cereris, juxtaque antiqua cupressus/religione patrum
multos servata per annos»***.
Таким образом, в сонете римский кипарис как бы
вырастает из пепла сожженной Трои, так же, как Троя в лице Энея и
его потомства продолжает жить в самом Риме. Здесь имеется в
виду вечный круговорот жизни, как у Мандельштама («и роза
«Поэма о смерти». С. 257.
** Там же. С. 253.
Virgile. Enéide. I à VI. Paris: «Les Belles Lettres», 1967. P. 63 («Есть y
самого выезда из города могила и старый храм опустелой Церере, а рядом
древний кипарис, с давних пор охраняемый культом наших предков»).
Идея Рима и троянский миф у Вяч. Иванова 363
землею была...»), но эта жизнь не безличная. Троя остается как
Троя. Память-зрение утверждает личность, она сохраняет
неповторимый образ, лик вещи или человека, и этим путем
творятся новые ценности.
Поэтому на заднем плане сонета имплицитно присутствует
Эней как двойник автора и слышится вопрос о том, что ему
сулит изгнание. Мы знаем, как отрицательно Вяч. Иванов
относился к эмиграции. Он считал себя не эмигрантом, а
изгнанником. С одной стороны, его отношение к советской России было
недвусмысленно: «...в атмосфере богохульства и палачничества
я не могу дышать», — пишет он сыну. Но, с другой стороны,
ему было чуждо эмигрантское общество, это «ложное подобие
России»*: «...Русскому беженцу, верному заветам русского духа
и русского духовного дела, надлежит прежде всего вырваться
из бытовой и психической замкнутости и затхлости русских
"колоний"...»**
«Per varios casus, per tot discrimina rerum/tendimus in La-
tium, sedes ubi fata quietas/ ostendunt ; illic fas regna resurgere
Troiae»***. Муки изгнания имеют творческий характер.
Изгнание плодотворно: там создается новая жизнь,
основывается новый город. Изгнание не только разлучает, но и связывает.
Вяч. Иванов был по-настоящему носителем наднациональной
и надвременной культуры: небезынтересно, что во время его
пребывания в Collegio Borromeo, в Павии, и в содействие ему
были приглашены разные деятели европейской культуры, как
М. Бубер, Оттокар... Вяч. Иванов был подлинным проводником
всеевропейской культуры, не только русской и не только
античной. Так, например, именно ему было поручено ознакомить
публику с новой книгой Аббата Бремон («La poésie et la prière»).
Отсюда его «бодрая отрешенность», или
«беспредельность», как говорит С. Аверинцев. Его скитания, как скитания
Энея, полны смысла, они устанавливают связь между
культурами: это свидетельство того, что культура не сковывает, но
* Аверинцев С. С. «Скворешниц вольных гражданин...». СПб.: Алетейя,
2001. С. 104.
** Там же. С. 12.
*** Энеида. С. 13: «Долгий путь, полный напастей и опасностей нас ведет
в Лацио, где судьбы нам показывают мирные очаги; там нам будет дано
воскресить царство Трои».
364 Ф. Лесур
освобождает, как он утверждал в «Переписке из двух углов».
Другими словами (взятыми из «Переписки...»): «...есть
лестница Якова в каждом центре любого горизонта»*.
Есть связь между Римской империей (Рим как мир) и
памятью: она содержит все, сохраняет все, и поэтому в ней залог
будущего. Как говорит высший бог по поводу Энея и его
товарищей: «His ego пес metas rerum пес tempora ропо: / imperium
sine fine dedi...»** Это также означает «память всеобъемлющая»,
т. е. то, что у Карсавина именуется «памятью Бога».
На основе этого сравнения идея Рима в личном мифе Вяч.
Иванова уточняется: это не только центр христианства и
столица мировой Церкви, но еще и надкультурная Твердыня,
символом которой выступает не свод, а арка***, — лучшее
свидетельство римского гения для него. В одном предваряющем этот
сонет прозаическом наброске, написанном под впечатлением
римского акведука, с его величественными арками, далеко от
Рима, в Прованс (Мост на Гаре), он говорит: «Никогда
спокойная и, следовательно, победоносная сила человеческого
самоутверждения не выражалась ощутительнее, нежели в римской
арке»****. В ней он видит «печать Рима, неизгладимо
отметившего здесь свое властное и творческое присутствие». Арка —
символ римского гения: она описывает «половину окружности,
все примиряющей в своем единстве»*****.
Католическая окраска довольно ясна в первом катрене: в
словах «Ave Roma», и больше всего в слове «Дома». Уже было
отмечено, что это слово имеет по всей вероятности и
итальянское свое значение «собора» — что соответствует привычке
поэта играть на культурном содержании нескольких языков
одновременно. Поэтому я бы добавила, что, быть может, есть
тут и французский оттенок: «dôme» (купол); он появляется в
Иванов В., Гершснзон М. Переписка из двух углов. М., 2006. С. 78.
Энеида. С. 16: «Я ме поставлю границ ни их могуществу, ни их
долговечности: я им дал империю бесконечную...»
Корецкая И. В. Вяч. Иванов: метафора «арки»//Известия АН СССР
Сер. лит. и яз. М., 1992. Т. 51. № 2. С. 60-65.
Вячеслав Иванов на пороге Рима: 1892 год/ публ. Н. В. Котрелева
и Л. Н. Ивановой // Europa Orientalis. Archivio italo-russo III, Vjaceslav
Ivanov — Testi inédit. Salerno, 2001. R 10.
Там же. С. 4.
Идея Рима и троянский миф у Вяч. Иванова 365
последнем сонете как символ полноты общего воскресения.
Таким образом, оба сонета перекликаются.
Как известно, эти сонеты продолжают «Переписку из двух
углов», они в какой-то мере отвечают последнему письму Гер-
шензона, особенно усиливая тему видения культуры как
творческой памяти. Она связывается с христианским
представлением о духовной жизни: на месте tabula rasa (забвения) Вячеслав
Иванов призывает к metanoïa: «Напрасно сбрасывать с себя
устарелые одежды, нужно скинуть ветхого Адама»*. И еще
яснее: «Все живое хочет не только самосохранения, но и
самораскрытия, всем существом зная, что последнее есть
самоистощение, саморазрушение, смерть — и, быть может, вечная
память»**. Приятие «жизни через смерть» — залог
возрождения. Поэтому тема воды римских фонтанов, которая вообще
соответствует общей теме живой воды, может быть, и
осмыслена как символика нового крещения.
Отметим, что в этом цикле последний сонет соответствует
первому: купол последнего вторит арке первого, христианский
Рим и языческий Рим встречаются. Их объединяет тема
вечности, и возвращения, и видение Рима как олицетворения
созидающей памяти.
* Иванов В., Гершензон М. Переписка... С. 31.
Там же. С. 65.
П. Дэвидсон
Афины и Иерусалим:
две вещи несовместные?
(Значение идей Вяч. Иванова
для современной России)*
Из-за удивительного богатства и разнообразия
творчества Вячеслава Иванова иногда бывает трудно
определить его сущность. Где нам искать «настоящего»
Иванова? Кто он на самом деле — поэт или философ,
ученый или учитель, религиозный мыслитель или критик?
Можно ли отличить лицо этого Протея от его
многочисленных масок? Задача трудная, но заслуживающая
внимания. И если попытаться найти одну постоянную тему,
точнее, проблему, которая проходит через все
творчество Иванова и соединяет все сферы его разнообразной
деятельности, то это будет, нам кажется, его постоянное
стремление определить соотношение между
ценностями культурной традиции и религией, между язычеством
и христианством, т. е., условно говоря, между Афинами
и Иерусалимом. Совместимы ли они или нет? И если
совместимы, то каким именно образом они связаны?
И можно ли найти в подходе Иванова к этим вопросам
какое-либо значение для современной России?
Впервые: Вяч. Иванов. Исследования и материалы. СПб.,
2010. Вып. 1.С. 65-72.
Афины и Иерусалим: две вещи несовместные?.. 367
/
Вопрос соотношения между языческой культурой и
христианством, конечно, не новый. Уже в первые века
христианства Тертуллиан (160-225) спросил: «Что общего у Афин и
Иерусалима?»*. Но если Тертуллиан задал риторический
вопрос, на который он явно постулировал отрицательный ответ, в
России начала XX в. вопрос этот был поднят вполне серьезно,
и ответ на него был совершенно другим. Важно помнить, что
определение отношений между Афинами и Иерусалимом носило
особый характер в России. Если на Западе античность
воспринималась в основном через культурную традицию, особенно после
Возрождения, в России она главным образом была воспринята
через религиозную традицию, из-за принятого представления о
тесной связи между православной Россией и Элладой через
наследие Византии. На Западе реально не было попытки
религиозного восприятия античности, если, конечно, не считать
таковым общего отрицательного отношения к язычеству со стороны
христиан. В России же, не прошедшей через европейское
Возрождение, отношение к античности шло через призму религии и
поэтому носило более интенсивный характер.
К началу XX в. вопрос соотношения между античностью и
религией стал особенно актуальным. Это можно объяснить
тремя причинами. Во-первых, то обстоятельство, что русская
национальная идея достигла новой стадии развития в конце
XIX в. (после вклада Хомякова, Достоевского и Владимира
Соловьева) создало особенно благоприятную почву для
восприятия античности в рамках этой религиозной традиции.
Во-вторых, с внешней стороны, со стороны Запада, сильное
влияние идей Ницше о Дионисе пробудило совершенно новое
отношение к античности в России. В-третьих, возрождение
интереса к мистицизму и общий дух синкретизма, которые
были широко распространены в конце XIX в. и на Западе,
* De praescriptione haereticorum, 7. Цит.: Аверинцев С. С. Единство
общечеловеческого культурного предания как тема поэзии и мысли Вяч.
Иванова // Вячеслав Иванов — Петербург — мировая культура: Материалы
международной научной конференции 9— 11 сентября 2002 г. / под ред.
В. Е. Багно, А. В. Лаврова, А. Б. Шишкина, Н. Н. Казанского. Томск; М.,
2003. С. 6.
368 П. Дэвидсон
и в России, сильно способствовали желанию найти общий
язык между античностью и христианством путем
нахождения их общих корней в мистических учениях древности. Тут
можно указать на один характерный пример: на
чрезвычайно популярную книгу французского ученого Эдуарда Шюре,
«Великие посвященные», впервые изданную в Париже в
1889-м г., которая исследует эзотерический аспект древних
религий, сопоставляя и постоянно связывая Кришну, Гермеса,
Моисея, Орфея, Пифагора, Платона и Иисуса*. Не случайно,
что эта книга была переведена на русский язык в начале XX в.
и трижды издана в России перед революцией**.
Эти три причины (развитие русской идеи, влияние Ницше
и синкретический подход к мистике), взятые в совокупности,
создали некоторую атмосферу, при которой естественно
возникло желание определить отношение русской христианской
традиции к наследию античности. Поэтому мы находим, что
этот вопрос занимал центральное место в творчестве многих
писателей и мыслителей начала века, в том числе Иванова,
Зелинского, Мережковского, Бердяева, и, конечно, Шестова, чей
труд, «Афины и Иерусалим», вышел в год его смерти ( 1938) в
переводе на французский и на немецкий языки.
В случае Иванова легко понять, почему этот вопрос был
ему особенно близок. Что касается роли «русской идеи», то,
выражаясь его словами, в молодые годы он уже был охвачен
«славянским энтузиазмом», и как только очутился за рубежом,
у него «пробудилась потребность сознать Россию в ее идее», и
он «принялся изучать Вл. Соловьева и Хомякова»***. Что
касается его отношения к древности, то по образованию и научным
интересам он был не только крупным знатоком античности, но,
что важнее, его переход от Рима к эллинизму и к изучению ре-
Schuré Е. Les Grands Initiés. Esquisse de l'histoire secrete des religions.
Rama — Krishna — Hermes — Mose — Orphée — Pythagore — Platon —
Jesus. Paris, 1889.
Первый русский перевод книги Шюре, сделанный Е. Писаревой,
появился в 1908 и 1909 г. в виде приложения к журналу «Вестник
теософии»: Шюре Э. Великие посвященные. Очерк *ютеризма религий /
Пер. Е. Писаревой. СПб., 1910; Шюре Э. Великие посвященные. Очерк
чзотеризма религий / пер. Е. Писаревой. 2-е изд. Калуга, 1914.
Иванов Вяч. Автобиографическое письмо( 1917)(II. С. 13, 18).
Афины и Иерусалим: две вещи несовместные?.. 369
лигии Диониса был вызван, как он позже сам объяснил,
«настойчивою внутреннею потребностью: преодолеть Ницше в
сфере вопросов религиозного сознания»*. Не случайно, что в
письме 1901-го г. к Гревсу, написанном в Афинах, он
использовал термин «неофитство», чтобы определить свое недавнее
«обращение к эллинской древности и, в частности, к истории
религии»**. Его отношение является очень показательным
примером того характерного религиозного подхода русских
писателей к античности, о котором выше упоминалось. Что
касается синкретического духа эпохи, нужно помнить, что по
своему поэтическому и религиозному темпераменту Иванов всегда
стремился к синтезу и к примирению всех идей. Это стремление
и было основным двигателем его поэтической, переводческой,
педагогической и критической деятельности.
Итак, понятно, что Иванов по своему воспитанию,
образованию и внутреннему складу полностью соответствовал духу
своей эпохи и был в идеальном положении, чтобы сделать
особый вклад в разработку вопроса об отношении христианства к
античности. В этом плане можно оспаривать мнение Федора
Степуна, который — пытаясь определить «социологию
славы» — писал в своем некрологе об Иванове, что
«знаменитыми при жизни становятся лишь люди, живущие ритмами своей
эпохи» и что Иванов «ритмами своей эпохи не жил»***. Как нам
кажется, по отношению к этому вопросу Иванов как раз и
олицетворял «ритм своей эпохи», чем и объясняются его слава и
особое влияние в то время.
Подход Иванова к этому вопросу, естественно, развивался
в течение многих лет. За ранней стадией «неофитства»
последовал период «Палинодии» 1927 г., когда «Был духу мил /
Отказ суровый Палинодий» и «Прочь от языческих угодий / Он
замысл творческий стремил» (III, 624). После этого периода
очищения Иванов пришел к более зрелому пониманию хри-
Там же. С. 21.
** Письмо В. И. Иванова кИ.М. Гревсу из Афин от 19 ноября/2 декабря
1901 г. // История и поэзия: Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / под
ред. Г. М. Бонгард-Левина, Н. В. Котрелева, Е. В. Ляпустиной. Москва,
2006. С. 236.
*** Степун С. Памяти Вячеслава Иванова. I // Возрождение. 1949.
Сентябрь—октябрь. Вып. 5. С. 162.
370 П. Дэвидсон
стианского гуманизма, совмещающего Афины с Иерусалимом,
которое он изложил в письме к Пеллегрини 1934 г. о «docta
pietas». Ясно, что на протяжении своей долгой жизни баланс
между античностью и христианством в его понимании их
соотношения сильно сдвинулся в сторону христианства*.
Если сравнить его первый и последний сборники стихов, этот
сдвиг сразу бросается в глаза. Тогда как в «Кормчих звездах»
почти нет библейских образов и весь сборник насыщен
темами, образами и стихотворными формами, целиком взятыми из
античности, в позднем «Римском дневнике» появляется
значительно больше библейских образов, и — что особенно
интересно — открыто поднимается тема их соотношения с
античностью. Так, например, Иванов пишет:
Кому речь Эллинов темна,
Услышьте в символах библейских
Ту весть, что Музой внушена
Раздумью струн пифагорейских.
(III. С. 612)
Какой библейский символ представлен в этом
стихотворении? Это лестница Иакова, по которой ангелы сходили и
восходили, «тварь смыкая с небом». Этот образ впервые
возникает у Иванова как символ культурной памяти и преемственности
в «Переписке из двух углов» (3, 412). В его понимании этот
символ указывает на способность культуры, которую он
называет «лестницей Эроса» и «иерархией благоговении» (3, 486),
создать вертикальную линию, соединяющую земное с
небесным. Образ лестницы Иакова соответствует не только
представлению Иванова о религиозной роли культуры, но и его
пониманию самого творческого акта как процесса восхождения
и нисхождения. В этом смысле этот синкретический символ
является прекрасным примером попытки Иванова совместить
Афины с Иерусалимом.
О развитии идей Иванова см.: Davidson P. Hellenism, Culture and
Christianity: The Case of Vyacheslav Ivanov and his «Palinode» of 1927 //
Russian Literature and the Classics. Edited by Peter I. Barta, David H. J. Larmour
and Paul Allen Miller. Amsterdam, J996. R 83-116.
Афины и Иерусалим: две вещи несовместные?.. 371
//
Имеет ли подход Иванова к этому вопросу какое-либо
значение для современной России? Или это все дело минувшее,
давно забытое, которое ушло вместе с Серебряным веком в
туман далекого прошлого? На наш взгляд, подход Иванова имеет
прямое отношение к теперешней обстановке в России.
Объясним, почему.
Во-первых, нужно помнить, что сегодняшнее восприятие
идей Иванова в России тесно связано с тем, каким образом его
наследие уцелело в советское время и дошло до современного
поколения читателей. То, что Иванов занимался античностью,
во многом способствовало тому, что его имя не было забытым
даже в самые темные десятилетия Советской власти. В те
времена, когда отношение к русской литературе было сильно
искажено идеологическими предрассудками, тем более отношение
к религиозному поэту-символисту, еще и эмигранту, имя
Иванова все-таки продолжало упоминаться в советской печати в
качестве исследователя и переводчика античности.
Конечно, античность тоже была подвержена идеологическим
искажениям*, но в значительно меньшей степени, чем
современная литература. М. Гаспаров, например, объяснял свой
выбор специальности таким образом: «Когда я кончал школу,
то твердо знал, что хочу изучать античность: в нее можно было
спрятаться от современности»**. Те люди, которые выбирали
изучение античности, могли независимо развивать свое
понимание культурных ценностей, от них меньше ожидали
«политической корректности», если можно применить этот термин
к советской жизни. Такие ученые, установив свою
интеллектуальную независимость на поприще занятий античностью, часто
потом начинали дополнительно заниматься русской
литературой, в особенности поэзией. Не случайно, что многие
замечательные исследователи творчества Иванова прошли такой
* См., например: Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг / под
ред. Эллиота Моссмана. Нью Йорк, 1981. Гаспаров отмечает, что Fi 1952 г.
Стадии захотел возродить классические гимназии; он стал вводить латинский
язык и увеличивать количество латинских учителей // Гаспаров М. Л. Записи
и выписки. М., 2000. С. 309-310).
** Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 309.
372 П. Дэвидсон
путь, — достаточно вспомнить Николая и Михаила Бахтиных
(оба брата учились в Петербурге у Зелинского)*, Алексея
Лосева, Сергея Аверинцева и Михаила Гаспарова. На наш взгляд,
это и есть прямая линия, которая «донесла» наследие Иванова
через советское время до нашего времени. В Иванове они
нашли образец поэта, который не только воплощал мир античности
во всем своем творчестве, но — что важнее — постоянно
поднимал и осмыслял вопрос о соотношении культуры с религией.
Не случайно, что и Лосев, и Аверинцев оба были
религиозными мыслителями, занимались античностью, и писали стихи, в
которых чувствуется влияние Иванова**. В своей последней
статье о поэте Аверинцев вспоминает огромное впечатление,
которое произвел на него посмертный сборник Иванова «Свет
вечерний», когда он его обнаружил в Ленинской библиотеке
в начале 1960-х гг.; при этом он открыто указывает на
преемственную линию, связывающую его восприятие Иванова с
почтительным отношением Бахтина и Лосева к учителю***.
Этот не прямой, но значительный «советский» этап в
развитии наследия идей Иванова во многом предопределил его
значение для теперешней России. Здесь следует обратить
внимание на один удивительный момент. Дело в том, что все три
обстоятельства, которые способствовали усилению интереса
Ник. Бахтин вспоминал, что тот вечер перед революцией, когда
он слушал, как Иванов читал свой перевод «Орестеи» у Зелинского в
Петрограде, оказался самым важным и решительным переживанием его
жизни // N. Bachtin Lectures and Essays. Birmingham, 1963. R 41.
В архиве Лосева сохранилась тетрадь (96 стр.) с его стихами 1942—
1943 гг. Их предваряет длинный ряд выписок из стихов Иванова. См.: Тахо-
Годи Е. Лосев и Вячеслав Иванов. (Некоторые факты и материалы) //
Е. Тахо-Годи. От писем к прозе: От Лосева до Пастернака. М., 1999. С. 179—
202. По мнению Азы Аликбековны Тахо-Годи, «в чтих стихах Лосев — самый
настоящий символист, истинный ученик Вяч. Иванова» // Тахо-Годи А. А.
Вячеслав Иванов и некоторые факты из биографии А. Ф. Лосева // Вячеслав
Иванов. Творчество и судьба / под ред. А. А. Тахо-Годи и Е. А. Тахо-Годи.
М., 2002. С. 275. Высказывания Лосева об Иванове собраны в статье:
Тахо-Годи Е. А. А. Ф. Лосев о Вяч. Иванове: Краткая антология // Вячеслав
Иванов: Архивные материалы и исследования / под ред. Л. А. Гоготишвили и
А. Т. Казарян. М., 1999. С. 134-172.
Аверинцев С. Вячеслав Иванов — сегодняшними глазами // Вячеслав
Иванов и его время: Материалы VII международного симпозиума. Вена,
1998 / под ред. Розмари Циглер. Франкфурт, 2002. С. 12-13.
Афины и Иерусалим: две вещи несовместные?.. 373
к вопросу о соотношении между античностью и христианством
в начале прошлого века, снова возникли в последнее
постсоветское время. Первым обстоятельством является
возрождение интереса к русской национальной идее в научных изданиях
и в популярной прессе. Как и раньше, это создает
благоприятную почву для восприятия античности в рамках религиозной
традиции. Вторым обстоятельством является возобновление
интереса к Ницше. Недавно, например, вышел новый перевод
«Рождения трагедии», сделанный А. В. Михайловым*; этому
переводу и значению Ницше для России был посвящен
огромный блок статей в юбилейном выпуске «Нового
литературного обозрения»**. И наконец, так же как и в начале века, опять
широко распространились интерес к мистицизму и дух
религиозного синкретизма. Книга Шюре, «Великие посвященные»,
неоднократно переиздавалась за последние годы.
К этим трем моментам прибавилось еще одно новое
обстоятельство, которое придало этому вопросу сугубо практическое
значение. После распада советского строя пришлось
переосмыслить и перестроить всю систему школьных и
университетских программ. Нужно было заново продумать, что стоит
изучать, и зачем — т. е. на каких основах воспитывать
следующее поколение и тем самым определить будущее русского
общества.
Несколько лет тому назад, в том же юбилейном выпуске
«Нового литературного обозрения», появилась интересная
статья Н. Гринцера, московского специалиста по классической
филологии, о положении классики в современном окружении.
Автор отмечает и приветствует неожиданный рост
преподавания латыни и греческого в лицеях и гимназиях в постсоветское
время, но опасается попытки со стороны Православной
церкви управлять преподаванием древних языков, которое якобы
«призвано возродить соль Земли Русской». «Констатируя, что
"классическая древность удивительным образом слилась с
национальной и православной идеей", он боится, что такой новый
союз классики и православия таит в себе немало опасностей, в
том числе идеологию нетерпимости. В связи с этим он ссыла-
* Нищие Ф. Рождение трагедии / под ред. А. А. Росеиуса. М., 2001.
** См., например, интересные статьи на чту тему Н. Брагинской,
Н. Гринцера, С. Ромашко и А. Росеиуса // НЛО. 2001. Выи. 50.
374 П. Дэвидсон
ется на постыдную роль, которую сыграла классическая
филология в идеологической системе Германии в эпоху нацизма»*.
Если это предостережение обоснованно, то легко понять,
почему попытка Иванова определить правильное соотношение
между античностью и христианством может сыграть важную
роль в настоящее время. О живом интересе к взглядам
Иванова на этот вопрос свидетельствует тот факт, что после распада
Советской власти его книга «Религия Диониса» (1923) была
дважды переиздана большим тиражом (1994, 2000). В
предисловии анонимный автор утверждает, что этот труд можно
считать «выдающимся теологическим сочинением по протоэк-
клесиологии», т. е. по церковным вопросам, ибо «Иванов
неотступно подводит читателя к мысли, что дионисийство есть некое
"учреждение" христианства, в трагедии же заставляет
различить как бы пробный оттиск вселенской Церкви, мистического
тела Христова»**. Учитывая, что Иванов много лет жил в
эмиграции, стал католиком и выступал на эту тему с
общеевропейских позиций, а не с узкорусско-национальных, его отношение
к этому вопросу могло бы расширить параметры этой дискуссии
и помочь новому поколению носителей русской культуры
углубить свое понимание взаимосвязи между религией и культурой,
в то же время, избегая крайности чрезмерной «идеологизации»
наследия античности. Будем надеяться, что подход Иванова к
вопросу совместимости Афин и Иерусалима, столь тщательно
сохраненный и глубоко развитый его наследниками в советское
и постсоветское время, найдет и сегодня своих новых
последователей и останется важной ступенью в той лестнице Иакова,
которой и является наша общая культурная традиция.
Гринцер Н. П. Что ему Гекуба: Классика в современном окружении //
НЛО. 2001. Вып. 50. С. 334, 335. См. также: Torlone Z. M. Quae supersunt.
Classical Philology in Russia: Past, Present, and Future//The Classical Bulletin.
2002. Vol. 78. 2. P. 195-206.
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 7—8.
Хроника основных событий жизни
и творчества Вяч. Иванова*
16 февраля 1866 г. — родился в Москве, в
Грузинах, на углу Волкова и Георгиевского переулков.
1875-1884 гг. — учился в Первой московской
гимназии, оканчивает с золотой медалью; занятия
греческим языком.
1884-1885 гг. — поступил на филологический
факультет Московского университета.
4 июня 1886 г. — женитьба на Дарье
Михайловне Дмитревской (1864-1933) и отъезд за
границу, где пробыл около 19 лет; занятия римской
историей в Берлинском университете у Т. Моммзена и
О. Гиршфельда.
1891 г. — знакомство с Гревсом.
Февраль-март 1892 гг. — путешествие по
Франции и Италии.
Лето 1894 г. — посещает Ассизи по дороге из Рима
во Флоренцию
Осень 1894 г. — живет во Флоренции.
Весна 1895 г. — расходится с первой женой.
16 июля 1894 г. — встреча в Риме с Лидией Дими-
триевной Зиновьевой (1865-1907), будущей второй
женой.
* Сокращенный вариант хронографа, составленного
А. Б. Шишкиным.
376 Хроника основных событий жизни и творчества...
Осень 1895 г. — знакомство с Вл. С. Соловьевым.
28 апреля 1896 г. — рождение в Париже дочери Лидии,
впоследствии композитора, музыканта и мемуариста (ум. в Риме
6 июля 1985 г.).
Май 1896 г. — разводе Д. М.Дмитревской.
Ноябрь 1897 г. — посещение Ассизи.
Осень 1897 г. — конец 1898 г. живет с семьей в Аренцано
около Генуи.
Июль 1899 г. — бракосочетание с Лидией Зиновьевой в
греческой церкви в Ливорно.
Август 1899 - весна 1900 г. — пребывание в Англии.
Март 1901 — март 1902 г. — живет в Афинах.
Весна (на Пасху) 1901 г. — поездка в Египет и Палестину.
Апрель 1902 - март 1905 г. — живет с семьей
преимущественно в Женеве.
Декабрь 1902 г. — выход в свет первой поэтической книги
«Кормчие Звезды. Книга лирики. СПб.».
Май—июнь 1903 г. — читает курс лекций по истории дио-
нисийских культов в парижской Высшей русской школе
общественных наук. Знакомство с В. Брюсовым.
Март—июль 1904 г. — пребывание в Москве, общение с
Брюсовым, Бальмонтом и другими символистами. С марта
печатается в журнале «Весы».
1904 г. — выходит книга ВИ «Прозрачность. Вторая книга
лирики. М. Скорпион». Начало сотрудничества с журналами
«Новый путь» — здесь печатается историко-религиозный труд
ВИ «Эллинская религия страдающего бога».
1905 г. — Ивановы решают вернуться в Петербург.
Начинается первый год Башни на Таврической, 25, куда приходят
Блок, Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Розанов, Куз-
мин, Городецкий, Гумилев, Хлебников, Бердяев, Эрн, Бакст,
Сомов, Добужинский, Мейерхольд, Зелинский, Аничков и
другие — писатели, мыслители, ученые, художники, музыканты,
люди искусства и театра, практически все творческие силы
Серебряного века. Ивановский опыт жизни и творчества эпохи
Башни воплотился в его книгах прозы: «По Звездам: статьи и
афоризмы». СПб., 1909 — и поэзии: «Cor Ardens». Ч. 1-2,
СПб., 1911-1912.
Хроника основных событий жизни и творчества... 377
1906 г. — начало сотрудничества с журналом «Золотое
руно».
1907 г. — поэтическая книга «Эрос». СПб., Оры.
1907—1910 гг. — участие в деятельности Петербургского
религиозно-философского общества; с весны 1909 г.
руководит его Христианской секцией.
Весна 1909 г. — на Башне зачалась «Поэтическая
академия», где ВИ читает лекции о стихе, в частности, об истории
сонета, его каноне и его различных формах.
С ранней весны, и особенно в августе - сентябре 1909 г. —
Маковский, Бенуа, Анненский, ВИ и Кузмин вырабатывают
проект по созданию журнала «Аполлон».
24 октября 1909 г. — первый номер журнала «Аполлон», в
нем напечатан сонет ВИ «Apollini» («Когда вспоит ваш корень
гробовой...») — литературный манифест, личное мифопоэ-
тическое истолкование гимнологического и художественного
творчества, соотнесенное с названием и программой журнала.
В том же номере статья ВИ «Борозды и межи. I. О проблеме
театра».
Март—апрель 1910 г. — выступления в Москве и в
Петербурге (Общество ревнителей художественного слова, выросшее
из «Поэт. Академии»), доклад о символизме, в печатном виде
получивший название «Заветы символизма» («Аполлон». 1910.
№ 5). Доклад вызвал значительную полемику.
1910 г. — в Петербурге выходит диссертация на латинском
языке De societatibus vectigalium publicorum populi Romani:
Общества государственных откупов в Римской республике, в свое
время в Германии ВИ не защищенной.
Август—октябрь 1910 г. — во Флоренции и Риме.
Весна 1912 г. — конец Башни. С семьей уезжает во
Францию.
17 июля 1912 г. — рождение сына Димитрия, впоследствии
писателя и журналиста (ум. в Риме 4 июня 2003 г.).
Осень 1912 г. — в Риме. Дружба с Эрном и споры с ним
о католичестве и православии. Начинает переводить трагедии
Эсхила.
1912 г. — последняя прижизненная книга стихотворений
«Нежная тайна». СПб., Оры.
Осень 1913 г. — переезд в Москву на Зубовский
бульвар, 25. Тесная дружба с Эрном, Флоренским, Гершензо-
378 Хроника основных событий жизни и творчества...
ном и Скрябиным. Участвует в деятельности Московского
религиозно-философского общества. Входит в
интеллектуальную среду вокруг издательства Морозовой «Путь» и
журнала «Мусагет».
1914 г. — выходит книга «Алкей и Сафо: Собрание песен и
лирических отрывков в переводе размерами подлинников
Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же». М.: Издание
М. и С. Сабашниковых.
26 апреля 1915 г. — сонет «Памяти Скрябина» («Осиротела
Музыка. И с ней...») — газета «Русское слово».
14 октября 1915 г. — второй сонет «Памяти А. Н. Скрябина»
[«Он был из тех певцов (таков же был Новалис)...»] — газета
«Русское слово».
1915 г. — выходит книга «Петрарка. Автобиография.
Исповедь. Сонеты. Перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова».
Памятники мировой литературы. М.: Издание М. и С.
Сабашниковых, 1915. В книгу вошли 33 сонета из «Канцоньере».
В том же издательстве готовился трактат Данте
«Пиршество», прозаическую часть переводил В. Ф. Эрн, а
стихотворную — ВИ (опубл. в 2003 г.).
Январь 1916 г. — «Два града». Венок сонетов из
лирической трилогии «Человек» («Горят под прахом, пеплом, морем,
льдом...») — журнал «Русская мысль». Кн. I.
1916 г. — книга «Борозды и Межи: Опыты эстетические и
критические». М.: Мусагет.
Весна 1917 г. — гимн «Вперед, народ свободный» («Пока
грозит свободе враг...»), предполагался в качестве официального
гимна республиканской России. В том же году гимн положен на
музыку Гречаниновым.
1917г. — книга «Родное и Вселенское. Статьи(1914—1916)».
М.: Изд. Г. А. Лемана и С. И. Сахарова.
Октябрь 1917 г. — в отличие от Блока и Андрея Белого, не
принимает Октябрьскую революцию. Сотрудничает с
журналом «Народоправство», где в декабре 1917 г. и феврале 1918 г.
печатает цикл «Песни смутного времени».
1920 г. — цикл «Зимние сонеты» (13 сонетов) —
Художественное слово: Временник литературного отдела народного
комиссариата просвещения. 1920. № 1.
Хроника основных событий жизни и творчества... 379
26 марта 1920 г. — на руководимом ВИ при
Государственном институте декламации «Кружке поэзии» объясняет
сонетный канон.
17 июня - 19 июля 1920 г. — совместно сМ.О. Гершензо-
ном пишет «Переписку из двух углов».
Весна и лето 1920 г. — попытка выехать из Советской
России с семьей в Италию, одна из целей поездки — создание в
Италии Института русской литературы и искусства (письмо ВИ
к Н. К. Крупской от 18 июля 1920 г.); Особый отдел ВЧК
разрешения на отъезд не дал.
Осень 1920 г. — уехал с семьей на Кавказ и затем в Баку, где
19 ноября 1920 г. единогласно избран ординарным
профессором классической филологии Бакинского университета.
1921 г. — защищает докторскую диссертацию «Дионис и
прадионисийство» (опубл. в 1923).
Между 15 и 20 июня 1924 г. — новая встреча с
Мандельштамом.
Июнь—август 1924 г. — выступает на юбилейных
пушкинских торжествах в Москве в Большом театре и ГАХНе.
Последняя встреча с Брюсовым. Получено разрешение на отъезд
за границу с семьей. По проекту А. Луначарского, П. Когана и
самого ВИ, одной из задач последнего в Италии должно было
стать основание в Риме Русской академии или Института
археологии, истории и искусствоведения.
28 августа 1924 г. — отъезд из Москвы.
Начало сентября 1924 г. — приезд в Венецию и затем в
Рим.
17 марта 1926 г. — совершает акт приобщения к
Католической церкви в соборе Св. Петра в Риме, произнеся Символ
веры и формулу присоединения.
Осень 1926 - лето 1934 г. — в Павии, в Колледжо Борро-
мео работает лектором английского, французского и немецкого
языков, в Павийском университете ведет курс русского языка и
литературы. Сходится с ломбардским кружком, в который
входили П. Тревес, С. Ячини, А. Казати и герцог Галларати-Скотти.
В Павию к ВИ приезжают М. Бубер, Ш. Дю Бос, А. Пеллегри-
ни, Ф. Ф. Зелинский.
Январь 1926 г. — читает лекции в университете на тему
«Русская церковь и религиозная душа народа», «Тезис и анти-
380 Хроника основных событий жизни и творчества...
тезис: западники и славянофилы», «Толстой и Достоевский»,
«Владимир Соловьев и современники» (материалы лекций
утрачены).
Осень 1928 г. — пишет в Риме 1 главу «Повести о Свето-
мире Царевиче».
15 октября 1930 г. — заканчивает «Письмо к Дю Босу» на
франц. языке, подводя итоги десятилетия, прошедшего с
создания «Переписки из двух углов». Найденный в «Письме»
символический образ «дышать обоими легкими»
(означающий недостаточность только одной — римско-латинской или
византийско-славянской духовной традициидля вселенского
воплощения христианства как на индивидуальном, так и на
общецерковном уровне) получил всемирную известность.
1931 г. — статья «Историософия Вергилия» на
немецком языке в швейцарско-немецком журнале «Корона». Эта
публикация знаменует начало активного сотрудничества с
журналом.
1932 г. — в Тюбингене выходит книга «Достоевский:
Трагедия — Миф — Религия», переведенная на немецкий язык
А. Креслером.
1933 г. — специальный выпуск миланского журнала
II Convegno. Rivista di letteratura e di arte (№ 8—12),
посвященный ВИ. В журнале объединились представители
христианской гуманистической науки — Г. Марсель, Э. Р. Курциус,
Г. Штейнер и русские эмигранты, нашедшие применение
своим знаниям и квалификации в западноевропейских странах:
Степун, Зелинский, Оттокар, Ганчиков. Здесь же напечатаны
автопереводы на итальянский первого и девятого из «Римских
сонетов».
Март 1934 г. — встреча с Б. Кроче и споры с ним.
Март 1936 — осень 1939 г. — поселяется в Риме с семьей
на виа Монте Тарпео, 61, практически на Капитолийском
холме, откуда открывается вид на Форум и Колизей.
С 1936 г. — преподает в Папской коллегии (семинарии)
«Руссикум» и в Папском Восточном институте
церковнославянский язык, читает лекции по русской литературе, в
частности о Достоевском.
Ноябрь 1936 г. — в парижских «Современных записках»
(кн. 62) полностью публикуется цикл «Римские сонеты».
Хроника основных событий жизни и творчества... 381
С этого номера ВИ печатается практически в каждом выпуске
журнала.
9 февраля 1937 г. — читает доклад о романе «Евгений
Онегин» на Пушкинском вечере в Риме, организованный
итальянским Институтом Восточной Европы; на вечере участвует
Э. Ло Гатто.
Весна 1938 г. — на частной аудиенции у папы Пия XI
говорит, что не надеется на примирение Церквей «в ближайшее,
наше время, в наш век».
1941 — 1945 г. — составил введение и примечания к
Деяниям и Посланиям Апостолов, а также к Откровению св. Иоанна
для издания Конгрегации Восточных церквей, в изд. 1946 г. это
авторство не обозначено.
1944 г. — в оккупированном нацистами Вечном городе
создает поэтический «Римский дневник 1944 г.», всего 114
стихотворений. Это последняя лирическая книга ВИ.
1948-1949 г. — работа над введением и комментарием к
изданию Псалтири на старославянском и русском языках для
Конгрегации Восточных церквей. В 40-е гг. ВИ также
переводит на церковнославянский и русский язык ряд католических
молитв и богослужебных текстов для Общества Иисуса.
16 июля 1949 — умирает в своей квартире в Риме на Авен-
тине, ул. Леон-Баггиста Альберти 25. Накануне заново
переписал цикл сонетов «De Profundis amavü», новый сонет
символически завершается строкой: «Рассекла Смерть секирой
беспощадной».
Избранная библиография творчества
Вяч. Иванова*
1. Bird R. The Russian Prospero: the creative universe
of Viacheslav Ivanov. Madison (Wis.); London, 2006.
2. Bird R. V. I. Ivanov in Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Yale University // Studia slavica
Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest, 1996.
T. 41. С 311-333.
3. Bobilewicz-Bry G. Renesansowe analogie
malarskie w twrczo; ci Wiaczesawa Iwanowa // Przegld
humanistyczny. W-wa, 1992. R. 36, № 2. S. 113-127.
4. Carpi G. Mitopoiesi e ideologia. Vjaeslav Ivanov
teorico del simbolismo. Lucca, 1994. 144 p.
5. Cymborska-Leboda M. Утопический элемент
символистского мышления о жанрах и «формах
искусства»//Literaria humanitas/Masarykova univ. Fak.
filoz. Brno, 1996. 4. С. 229-243.
6. Davidson P. Viacheslav Ivanov: A reference guide.
N.Y., 1995.382 р.
7. Dudek A. Mitologia poetycka Wiaczesawa
Iwanowa // Prace historycznoliterackie. Krakow, 1993.
Z. 84. S. 55-67.
8. Dudek A. Wizja kultury w twrczoci Wiaczesawa
Iwanowa = Образ культуры в творчестве Вячеслава
Иванова. Krakow: Wydaw. Uniw. Jagiello skiego, 2000. 272 s.
9. Dudek А. Поэтическая мариология
Вячеслава Иванова // Studia litteraria polono-slavica. W-wa,
1993. l.C. 41-52.
Составлена К. Г. Исуповым.
Избранная библиография творчества Вяч. Иванова 383
10. Ghidini M. С. Il cerchio incantato del linguaggio: Moderno
e antimoderno nel simbolismo di Vjaeslav Ivanov. Milano: Vita
e pensiero, 1997. XV, 273 p. (Bibl. del Dip. di Lingue e di Lett.
Stran.;Vol. 11).
11. Grabar M. Vjaeslav Ivanov et Vladimir Solov'ev // Un ma-
tre de sagesse au XX siele: Vjaceslav Ivanov et son temps. Paris,
1994. P. 393-400. (Cahiers du monde russe; Vol. 35. № 1 -2).
12. Grossman J. D. Stanford (Calif.): Stanford univ. press,
1994. P. 151-166.
13. Jackson R. L. Vjaeslav Ivanov and the Question of Art //
Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest,
1996. T. 41. С 87-95.
14. Kelly С Classical tragedy and the «Slavonic Renaissance»:
The plays of Vjaeslav Ivanov and Innokentij Annenskij compared//
Slavic a. East Europ. j. Tucson, 1989. Vol. 33. № 2. P. 235-254.
15. Kluge R. D. Zur Rezeption von Nietzsches «Geburt der Tra-
gdie» im russischen Symbolismus: Vjaeslav Ivanov und Aleksandr
Blök // Vladimir Solov'ev und Friedrich Nietzsche. Frankfurt am
Main, 2003. S. 113-122.
16. Malcovati F. La traduzione italiana de «LUomo» di Vjaeslav
Ivanov// Dalla forma allo spirito Milano, 1989. R 109-126.
17. Mickiewicz D. Viacheslav Ivanovas «Apollini»: A moment
in modernist poetics // The silver age in Russian literature. L.,
1992. P. 74-103.
18. Pyman A. Viacheslav Ivanov: Studies and publications
1994-1996 // Slavonic a. East Europ. rev. L., 1999. Vol. 77.
№3. P. 485-515.
19. Rizzi D. La rifrazione del simbolo: Teorie del teatro nel
simbolismo russo. Padova: Ed. GB, 1989. 202 p.
20. Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae.
Budapest, 1996. T. 41. С 133-139.
21. Un matre de sagesse au XX side: Vjaceslav Ivanov et son
temps. Paris, 1994. (Cahiers du monde russe; Vol. 35. № 1 -2).
22. Vjaceslav Ivanov: poesia e Sacra Scrittura = Вячеслав
Иванов: между Св. Писанием и поэзией: VIII Convegno intern.
= VIII междунар. конф. [Roma, 28 ott. — 1 nov. 2001]/Acuradi
Andrej Shishkin. Roma: Dep. di studi ling, e lett. Univ. di Salerno,
2002. 1. Europa orientalis; 21, r. 1 ).
23. Vjaeslav Ivanov: Russ. Dichter — europ. Kulturphilosoph.
Beitrge des IV Internationalen Vjaceslav-Ivanov-Symposiums,
Heidelberg, 4-10 September 1989. Heidelberg, 1993.
384 Избранная библиография творчества Вяч. Иванова
24. Wachtel M. Viacheslav Ivanov: From Aesthetic Theory to
Biografical Practice
25. Аверинцев С. С. «Скворешниц вольных гражданин...»:
Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001. 167 с.
26. АверинцевС.С.Вяч.Ивановирусскаялитературнаятра-
диция // Связь времен: Проблемы преемственности в русской
литературе конца XIX и начале XX в. М., 1992. С. 298-312.
27. Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии
Вячеслава Иванова // Контекст. М., 1989. С. 42—57.
28. Александрова A. «Metanoia» — идея раннего
Вячеслава Иванова // Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae.
Budapest, 2001. T. 46, fasc. 1/2. С 153-159.
29. Андреев Ю. В. Русский человек между Христом и
Дионисом: Вячеслав Иванов как исследователь греческой
религии // Культурное наследие Российского государства. СПб.,
1998. С. 119-126.
30. Арефьева Н. Г. Образ страдающего Бога в лирике
Вячеслава Иванова //Художественная литература и религиозные
формы сознания. Астрахань, 2006. С. 144-150.
31. Асоян А. Орфическая тема в культуре Серебряного
века // Вопр. лит. М., 2005. Вып. 4. С. 41 -66.
32. Багно В. Е. Вяч. Иванов и Сан Хуан де ла Крус //
В. Е. Багно Русская поэзия Серебряного века и романский мир.
СПб., 2005. С. 196-205.
33. Бёрд Р. А. Ф. Лосев и В. И. Иванов: корни религиозной
герменевтики // Образ мира — структура и целое: Лосевские
чтения. 1999. № 3. С. 225-233.
34. Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и
оккультизм. М., 1999.
35. Бондарь О. П. Идея соборности в историософии
Вяч. Иванова // Историческая наука на рубеже веков. Томск,
1999. Т. 1.С. 126-132.
36. Бонецкая Н. К. Боги Греции в России // Вопросы
философии. 2006. № 7.
37. Брагинская Н. В. Трагедия и ритуал у Вячеслава
Иванова //Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных
памятниках. М., 1988. С. 294-329.
38. Вертлиб Е. О природе символа у Андрея Белого и
Вячеслава Иванова // Антология Гнозиса: Соврем, рус. и амер.
проза, поэзия, живопись, графика и фотография. СПб., 1994.
Т. 1.С. 286-295.
Избранная библиография творчества Вяч. Иванова 385
39. Вячеслав Иванов — Петербург — мировая культура:
Материалы междунар. науч. конф. 9-11 сент. 2002 г. Томск;
М.,2003.
40. Вячеслав Иванов — творчество и судьба: К 135-летию
со дня рождения: Материалы конф., 25-27 мая 2000 г. М.:
Наука, 2002.
41. Вячеслав Иванов: Материалы и исследования / Ред.:
B. А. Келдыш, И. В. Корецкая. М., 1996. 358 с.
42. Иванов Вяч., Гершензон М. О. Алконост. СПб., 1921 //
Мир историка: идеалы, традиции, творчество. Омск, 1999.
C. 279-318.
43. Габрилович Л. Е. Дионисово соборное действо и
мистический театр «Факелы» // Театр и искусство. 1906. № 8.
(19февр.). С. 126-128.
44. Геллер Л. Синтетизм Вячеслава Иванова // Л. Геллер
Слово мера мира. М., 1994. С. 175-197.
45. Грек А. Г. Дионисийский аспект хаоса в творчестве
Вячеслава Иванова // Логический анализ языка: Космос и
хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка. М., 2003.
С. 519-536.
46. Гурко В. В. «Синтез всех на свете
противоположностей»: (Концепции творческой личности и теория «соборности»
Вяч. Иванова)//Вестн. Моск. ун-та. 1999. № 4. С. 38-48.
47. Двинятина Т. М. Сюжеты памяти в русской литературе:
(Андрей Белый, Вяч. Иванов и Р. Барт // Вестн. Челябин. гос.
пед. ун-та. Челябинск, 2006. № 6. 4. С. 166—175.
48. Доброхотов А. Л. Вячеслав Иванович Иванов. Две
стихии в современном символизме // Русские философы, конец
XIX — середина XX в. М., 1993. С. 212-242.
49. Дэвидсон П. Вячеслав Иванов в русской и западной
критической мысли (1903-1995) // Studia slavica Academiae
scientiarum Hungaricae. Budapest, 1996. T. 41. С 111 — 132.
50. Егоров Б. Ф. «Неославянофильство» Вячеслава
Иванова // Русский текст: Рос.-амер. журн. по рус. филологии. СПб.,
1993. №3.
51. Жабинский К-, Зенкин К. Музыка в пространстве
культуры. Ростов н/Д, 2001. Вып. 1. С. 29-36.
52. Жукоцкая 3. Предтечи Серебряного века.
Екатеринбург, 2002. 182 с.
53. Зубарев Л. Метаморфозы теории «хорового действа»
Вячеслава Иванова после революции // Рус. филология. Тарту:
ТГУ, 1998. №9. С. 140-147.
386 Избранная библиография творчества Вяч. Иванова
54. Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. Париж, 1990.
432 с.
55. Кабальниченко С. А. Смерть как онтологическая
категория: (К характеристике миросозерцания Вячеслава
Иванова)// Русская литература и философия: постижение человека.
Липецк, 2002. С. 183-187.
56. Калинников Л. А. Гносеология реалистического
символизма Вячеслава Иванова: взаимодополнительность аристо-
телизма и кантианства // Кантовский сборник. Калининград,
2002. Вып. 23. С. 81-108.
57. Козюра Е. О. Шествие Диониса: Теория трагедии Вяч.
Иванова в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» // Филол.
зап. Воронеж, 2003. Вып. 20. С. 146-152.
58. Колобаева Л. А. Русский символизм. М., 2000.
59. Корецкая И. В. Этюды о Вячеславе Иванове // И. В. Ко-
рецкая Над страницами русской поэзии и прозы начала века.
М., 1995. С. 86-155.
60. Королькова Е. А. Символизм Вяч. Иванова и
мифологема Диониса: текст лекции. СПб., 2006. 27 с.
61. Кошемчук Т. А. О дионисийстве в критической эс-
сеистике Вяч. Иванова эмигрантского периода (от «Ты еси»,
1907 — к «Anima», 1935)//Классика и современность в
литературной критике русского зарубежья 1920—1930 гг. М., 2006.
С. 151-166.
62. Кузнецов В. А. «Иератический язык» Вяч.
Иванова: Литературные истоки // Ars philologiae. СПб., 1997.
С. 288-311.
63. Линдгрен Н. Символ матери-земли у Вячеслава
Иванова и Достоевского // Canadian-American Slavic studies =
Rev. canad. d'tudes slaves. Irvine (Cal.), 1990. Vol. 24. № 3.
С 311-322.
64. Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике
русского символизма. М., 1992.
65. Маковский С. Портреты современников. М., 2000.
66. Манжора О. Б. Вячеслав Иванов как выразитель
сущности эпохи «Серебряного века» //Жизненный мир философа
«Серебряного века». Саратов, 2003. С. 129—133.
67. Масленников И. О. Историческая миссия России в
философии Вячеслава Иванова // Философия и культура. Тверь,
2002. С. 147-153.
68. Масленников И. О. Культура будущего в философии
Вяч. Иванова //Горизонты культуры накануне XXI века. Тверь,
1997. С. 168-177.
Избранная библиография творчества Вяч. Иванова 387
69. Масленников И. О. Философия культуры Вячеслава
Иванова: Конспект лекций: [Для студентов гуманит. фак.] /
И. О. Масленников; Твер. гос. ун-т. Тверь, 1999. 42 с.
70. Маслов Г. Н. Стратегии мышления и действия в русской
философии начала XX века: (Лев Шестов, Вячеслав Иванов,
Андрей Белый). М.: Диалог-МГУ, 1997.
71. Минералова И. Г. Соборное слово и мистерия //
И. Г. Минералова Русская литература Серебряного века:
Поэтика символизма. М.: Наука, 2003. С. 123—141.
72. Минц 3. Г. Русский символизм и революция 1905-
1907 гг. //Учен. зап. ТГУ Тарту, 1988. Вып. 813. С. 3-21.
73. Нива Ж. Вячеслав Иванов: русский европеец//Ж. Нива
Возвращение в Европу: Статьи о рус. лит. / пер. с фр. Е. Э. Ля-
миной. М.: Высш. шк., 1999. С. 178-180.
74. Обатнин Г. В. Иванов-мистик: Оккультные мотивы в
поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907-1919). М.; Хельсинки,
2000. 237 с.
75. Павлова Л. В. Парадигмы образа «ТЫ» в книге
Вяч. Иванова «Эрос»: (Между Ницше и Фрейдом) // Русская
филология: Ученые записки. Смоленск, 1994. Т. 1.С. 172—188.
76. Павлова Л. В. Тема «Слово» в поэзии Вячеслава
Иванова: Статья первая: Слово на престоле (интерпретация темы в
русле христианской традиции) // Смоленские говоры —
литературный язык — культура. Смоленск, 2003. С. 263—272.
77. Павлова О. А. Сакральная игра как путь к «вселенской
соборности» в театрально-мистической утопии Вяч.
Иванова // Русская словесность в контексте современных
интеграционных процессов. Волгоград, 2007. Т. 2. С. 58—63.
78. Павловская М. Примирение, синтез и высшее
единство в книге Иванова «Rosarium» // Studia slavica Academiae
scientiarum Hungaricae. Budapest, 1996. T. 41. С 199-208.
79. Писатели символистского круга. СПб., 2003.
80. Прокопова О. А. Героико-титанический миф в эстетике
Д. С. Мережковского и Вяч. И. Иванова // Русская
философия и православие в контексте мировой культуры. Краснодар,
2005. С. 245-250.
81. Прокофьева В. Ю. Проблемы мифологического
пространства в философии культуры XX века и эстетике Вяч.
Иванова // Вестн. ОГПУ. 2002. № 1.С. 134-147.
82. Пумпянский Л. В. О поэзии В. Иванова: Мотив
гарантий ( 1925)//Л. В. Пумпянский Классическая традиция: Собр.
388 Избранная библиография творчества Вяч. Иванова
тр. по истории рус. лит. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч.
Н. И. Николаева. М., 2000. С. 538-540.
83. Пургин С. П. Вячеслав Иванов как философ: аспект
метода. Екатеринбург, 1998. 20 с.
84. Рябов О. В. Женщина и женственность философии
Серебряного века. Иваново, 1997.
85. Садовская Л. Б. Язык символа в контексте идеи
реалистического искусства Вяч. Иванова // Язык и социум. Минск,
2003. 4.2. С. 68-71.
86. Самохвалова В. И. Вячеслав Иванов и русский
постмодернизм // Вопр. философии. М., 2001. № 8. С. 66—77.
87. Сапов В. В. «Вячеслав Великолепный» // Человек.
2006. №5. С. 148-149.
88. Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма:
Проблемы «жизнетворчества». Воронеж, 1991.
89. Свенцицкая Э. М. Концепции слова и младшие
символисты. Донецк, 2005.
90. Семушкин А. Мифологические мотивы в поэтике
Вячеслава Иванова // Studia rossica posnaniensia. Poznan, 2002.
91. Сиклари Дж. У истоков русского символизма // Из
истории русской эстетической мысли. СПб., 1993. С. 117-130.
92. Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб.: НЛО, 2002.
93. Смирнова H. Н. О концепте ЗАБВЕНИЕ в контексте
диалога о культуре первой четверти XX века (М. О. Гершензон,
Вяч. Иванов, Лев Шестов)// Вопросы филологии. 2004. № 2.
С. 131-136.
94. Сокурова О. Б. Споры о символе в начале XX в. //
Наука и искусство в пространстве культуры. СПб., 2004. Вып. 2.
С. 296-316.
95. Стахорский С. В. Концепция творчества в эстетической
мысли русского зарубежья: (На материале статей Вяч.
Иванова 30-х и 40-х гг.)// Культурное наследие российской
эмиграции, 1917-1940: в 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 298-307.
96. Степанова Г. А. Идея «соборного театра» в поэтической
философии Вячеслава Иванова. М., 2005. 140 с.
97. Стояновский М. Ю. Символ у Вяч. Иванова: традиция и
специфика. М., 1996. 16 с.
98. Троицкий В. «...На дне своих зеркал»: О Вячеславе
Иванове. Заметки ad marginem // Грани = Grani. Frankfurt a. M.,
2000. Г. 15, №4. С. 93-119.
99. Троицкий В. П. Вести о будущем: Из комментария к
поэме Вяч. Иванова «Сон Мелампа» // Сакральное, иррацио-
Избранная библиография творчества Вяч. Иванова 389
нальное и мифологическое: Сб. материалов 7-й конф. из цикла
«Григорьевские чтения». М., 2005. С. 110—118.
100. Тугаринова Н. С. Теория трагического Вячеслава
Иванова // Традиции русской классики XX века и современность:
Материалы науч. конф. М., 2002. С. 109-113.
101. Федотова С. Персоналистическая антропология Вяч.
Иванова и М. Бахтина // Литература и культура в контексте
христианства. Ульяновск, 2005.
102. Халитова Г. Г. Концепция символа Вячеслава
Иванова в контексте культурного сознания начала XX в. // Третьи
международные Измайловские чтения. Оренбург, 2003. Ч. 1.
С. 258-264.
103. Хохлова И. А. Гносеологическое обоснование теории
культуры в эстетике Вяч. Иванова // Взаимодействие
эстетики, искусствознания и художественной критики. М., 1987.
С. 46-58.
104. Худушина И. Ф. Вяч. Иванов: метафизика
национального самоопределения // История философии. 1998. № 2.
С. 88-99.
105. Целиков В. Проблема культуры в творчестве В. И.
Иванова // Социально-культурный контекст искусства. М., 1987.
С. 162-179.
106. Цимборска-Лебода М. О понятии «трансцензуса» у
Вячеслава Иванова: К проблеме «Вяч. Иванов и Блаженный
Августин» // Sub Rosa: koszonto konyv Lena Szilard tiszteletere
= In Honorem. Szilard. Budapest, 2005. С 123-132.
107. Цимборска-Лебода M. Эрос в творчестве Вячеслава
Иванова: На пути к философии любви. Люблин, 2002; Томск,
2004.
108. ШишкинА. «Певецу суфитов» (по рукописям
Римского архива) // Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae.
Budapest, 1996. T. 41. С 291 -309.
109. Шишкин А. Симпосион на петербургской Башне в
1905-1906 гг. // Русские пиры: СПб.: Б. и., 1998. С. 273-352.
110. Шишкин А. Б. «Толстой и/или Достоевский»: Случай
Вяч. Иванова // Толстой или Достоевский? Филос.-эстет,
искания в культурах Востока и Запада // Редкол.: В. Е. Банго и
др. СПб. 2003. С. 82-99.
111. Шишкин А. Б. Рим Вячеслава Иванова // Иванов
Вячеслав. Римские сонеты: на рус, англ., итал. яз. / Перевод на
англ. яз. Л. Нельсон; на итал. язык Д. Дж. Муредду. СПБ.: Ка-
ламос, 2011. С. 68-121.
Александр Скрябин
И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев
Эстетическая футурология А. Скрябина
и ее реализация на рубеже веков"
1\ 1903 г. у А. Скрябина сложилась концепция
«Мистерии» — художественного акта одноразового
действия, в результате которого должно было произойти
преобразование мира, но не под действием
социальных сил, а средствами искусства. Действо,
планируемое в «Мистерии», предполагало «соборность», акт
всеобщего соучастия, в котором нет рампы, нет
деления на участников и зрителей, на творца и
исполнителей, где синтезировались бы не только традиционные
искусства — музыка, танец, поэзия, архитектура, но и
новые, небывалые — «текучая архитектура», фимиа-
мы, шепоты, «световая симфония», вбирающая в себя
такие явления природы, как восходы и закаты. В
процессе проработки идей «Мистерии» А. Скрябин
приходит к выводу о необходимости проверки на практике
идей своего Gesamtkunstwerk'a. Так появляется
«Прометей» («Поэма огня», 1910) со строкой «Luce»,
введенной в партитуру впервые в мировой музыкальной
практике. Она была создана композитором на основе
его «цветного слуха» (синестезии), опирающегося
на аналогию цвет-тональность. Примечательно, что
Статья подготовлена на основе ряда материалов,
опубликованных совместно с Б. М. Галеевым ( 1940—2009).
Эстетическая футурология А. Скрябина... 391
А. Скрябин уже в первом своем опыте обратился к невесомому,
а потому легко управляемому материалу — свету, поскольку
он добивался лучезарности, экстаза, ощущения света как в
самой музыке, используя для этого определенные средства
выразительности, так и в планируемом синтетическом искусстве.
А. Скрябин критически относился к театральному синтезу, в
отличие от Р. Вагнера, который считал именно сцену
воплощением идеального Gesamtkunstwerk'a с ее материально-
весомыми декорационными средствами, в которых пребывал
также вещественно-весомый инструмент — человек в танце*.
Прав Л. Сабанеев, считавший, что «Принципиальная разница
со взглядами Вагнера при всем начальном внешнем сходстве
бросается в глаза. Вагнеровская проблема соединения искусств
кажется маленькой и простенькой задачей перед этим
космическим мечтанием. Вагнер хотел простого арифметического
соединения, рассуждая, что "два хорошо, а три лучше"»**.
Со временем у А. Скрябина произошла трансформация
замысла «Мистерии» в сторону создания произведения
многократного исполнения. Он начал работу над «Предварительным
действом» к «Мистерии» (1913), завершить которое ему было
не суждено. В нем также предполагалась «световая
симфония», но синтез расширялся за счет поэзии и хореографии.
Замысел «световой симфонии» в «Прометее» — лишь
первое неотъемлемое звено в скрябинской концепции синтеза
искусств. Композитор, осознав ограниченность визуализации
тонального плана в световой строке, отказался от светозвукового
унисона, навязанного ему теософией, в пользу более
художественной и содержательной формы синтеза — слухозритель-
ной полифонии, слухозрительного контрапункта,
предполагавших определенную степень слиянности зрительных, слуховых
и других компонентов синтеза, переплетаемых в отношениях
любой сложности***.
* Галеев Б. Вперед, к победе Gezamtkunstwerk! // Б. Галеев. Искусство
космического века: Избранные статьи. Казань: Фэн, 2002. С. 465-482.
** Сабанеев Л. Скрябин. 2-е изд. М., 1923. С. 72.
*** Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. «Почма огня»: Концепция
светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. 2-е изд., иерераб. и доп. Казань,
2010. С. 271-276.
392 И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев
«По словам А. Н. Скрябина, — писала "Русская
музыкальная газета", взявшая у композитора интервью, — его
"Мистерия" объединит все искусства... При этом под синтезом
А. Н. Скрябин подразумевает не параллельное изображение
одной и той же идеи в различных видах искусства,
соединенных между собой для совместного воспроизведения этой идеи
чисто механически, как, например, мы видим в современной
опере и балете, а соединение, дающее нерасчленяемое
произведение, в котором все виды искусств являются отдельными
штрихами или линиями, ничего сами по себе не говорящими
и вне "Мистерии" существовать не могущими. Музыка,
слово, пение, краски, хореография будут применены в
"Мистерии". Но ни одно из этих искусств не выльется в законченную
форму. Так, например, музыка не выльется в симфонию,
слово — в литературное произведение, пение — в романс или
арию, краски — в живопись, хореография — в балет.
Каждое из искусств будет исполнять лишь определенную партию
в этом грандиозном ансамбле»*. Таким образом, А. Скрябин
интуитивно приходит к осознанию того, что слухозрительная
полифония обеспечивает слияние синтезируемых элементов
до уровня «органического целого».
Именно эти идеи постпрометеевского периода составляют
основной вклад А. Скрябина в искусство светомузыки. Не
менее значимы и его мечты о развитии традиционных искусств и
рождении новых, которые он предполагал в «Мистерии».
Теперь мы можем только поражаться тому, что эстетическая
футурология А. Скрябина, рожденная идеями «Мистерии» (если
не учитывать утопичность задач и предлагаемых им решений),
в будущем реализовалась, хотя и вне мистериального
контекста и совсем в неожиданных формах! Реализация
«соборности» осуществляется в XX в. средствами радио, телевидения,
а теперь и Интернета, которые сами приходят в каждый дом.
Примером осуществления функций всеединства могут служить
всевозможные международные фестивали, постановки и
концерты выдающихся мастеров, спортивные мероприятия.
Последний яркий пример — открытие Олимпийских игр в
Ванкувере (Канада), которые, с одной стороны, смотрели 3 млрд
человек, а с другой — 60 тысяч непосредственных зрителей
Разные известия // Рус. муз. газета. 1914. № 30—31. С. 650.
Эстетическая футурология А. Скрябина.., 393
стадиона участвовали в своеобразном хеппенинге, играя
светящимися огоньками миниатюрных фонариков.
Сферические залы, о которых мечтал композитор, стали
нормой для выставок ЭКСПО. И почти всегда в них проводятся
светомузыкальные концерты.
В своеобразной форме реализовались скрябинские прогнозы
о разрушении рампы. Еще в «Прометее» он предполагал
ввести элементы театрализации исполнения, должного выразиться
в движении оркестра и хора в пространстве сцены. В
современном искусстве слияние исполнителей и слушателей реализует
себя в близких друг другу формах «инструментального театра»
и «пространственной музыки». Идея разделения оркестровых
групп известна еще с древнегреческих времен. Начало XX в.
отмечено усилением интереса к «пространственной музыке»,
связанной с освоением новой полифонии и развитием
симфонического жанра. В этой области экспериментировали Э. Сати
(что органично входило в его замысел «звуковых обоев»),
А. Шенберг (оратория «Лестница Иакова»), Э. Варез
(«Интегралы») и т.д. В своей постановке «Валькирий» С. Эйзенштейн
также применил перемещение звука. Но необходимо отметить,
что более органичным, естественным является использование
эффекта движения звука при восприятии электронной музыки.
Большие ее возможности подтвердились в опытах исполнения
«Электронной поэмы» Э. Вареза в павильоне «Филипс» на
ЭКСПО-58 (Брюссель), «Политопа» Я. Ксенакиса во
французском павильоне ЭКСПО-67 (Монреаль), «Звукового сада»
К. Штокхаузена на ЭКСПО-70 (Осака), в концертах СКВ
«Прометей» на ВДНХ СССР в 1974 г., в Московской студии
электронной музыки ( 1967-1980) и т. д. Не прекращались
эксперименты по театрализации непосредственного музыкального
исполнительства, получившего название «инструментальный
театр». Например, Я. Ксенакис распределил в своем «Терре-
текторе» оркестр прямо среди зрителей. Известны опыты в
этом направлении поляка А. Добровольского, шведа Л. Верле,
аргентинца М. Кагеля и др. Эффекты движущихся
инструментов используются в «Антифонах» С. Слонимского.
Пространственная драматургия применяется в сочинениях Э. Денисова,
Г. Канчели, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, А. Шнитке. Так
реализуется мечта Скрябина о «голосах с неба», хотя это
происходит несколько иным образом. Но суть ее — движение звука по
любой траектории — находит свое воплощение. Также в своео-
394 И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев
бразной форме в миниварианте осуществляются представления
под куполом неба в соединении с рассветами, о которых мечтал
композитор. Эти представления проводятся в так называемых
«лазериумах», постоянно функционирующих в крупнейших
планетариях мира*.
Безусловно, идеи светомузыкального синтеза сегодня не
столь заметны на уровне высокого искусства, зато в
«распыленном» виде они внедряются широко и активно — на эстраде,
на оперной и балетной сцене, в массовых праздниках, в
дискотеках, в кабинетах психологической разгрузки, на телевидении,
в развлекательных компьютерных программах, в светозвуковых
игрушках и т. д. Некоторые из наших оппонентов и даже коллег
видят в этом сущностное предназначение идей Скрябина как
всеобщей прикладной компоненты (В. Ванслов, А. Михненко,
Л. Мельников). Но это не так. Именно таков, выходит, реальный
социальный заказ на данный исторический момент**.
Впрочем, теперь наряду с прикладным
функционированием светомузыки получила распространение новая форма
масштабных светоконцертов под открытым небом, о чем мечтал
А. Скрябин. Это представления для многих тысяч зрителей на
крупных торжествах мира, которые проводятся с помощью
дистанционно, под музыку, управляемых фейерверков и мощных
лазерно-прожекторных лучей в задымленном воздухе. И даже
«светящаяся» «текучая архитектура», планируемая в
«Мистерии», тоже стала реальностью, хотя и в более приземленной
потребительской форме, в светомузыкальных фонтанах, где
танцуют под музыку струи и меняется цвет.
И наконец, с формальной точки зрения, синтез всех искусств,
да еще и под открытым небом, реализуется в популярных ныне
так называемых спектаклях «Звук и Свет», в которых
сценической площадкой является исторически значимое место,
декорацией служат здания и ландшафт, освещенные динамическим
светом, а вместо актеров в этом реальном пространстве двига-
Галеев Б. М., Ванечкина И. Л. У истоков пространственной музыки //
Пространственная музыка. История, теория, практика. Казань: Фэн, 2004.
Di. I.C. 5-23.
Галеев Б. М. Скрябинские идеи на рубеже XX—XXI вв. // «Прометей» —
2000 : (О судьбе светомузыки на рубеже веков): Материалы междунар. науч.-
практ. конф., 2-6 окт. 2000. Казань: Фэн, 2000. С. 6.
Эстетическая футурология А. Скрябина... 395
ются их голоса и шумы, воспроизводя в столь необычной
форме «преданья старины глубокой», связанные именно сданным
местом. Здесь наличествуют и свет, и музыка, и сценическое
действие, и архитектура...
Первый в мире спектакль «Звук и Свет» состоялся во
Франции (1952 г., Шамбор, реж. П. Робер-Уден), после чего в
стране, кажется, не осталось ни одного достойного внимания замка,
где не была бы установлена серийная светозвуковая аппаратура.
При содействии французских специалистов такие представления
были организованы в Бельгии ( 1955), Греции ( 1959). В Англии
спектакли «Звук и Свет» начали оккупацию архитектурных
памятников с 1957 г., в Америке — с 1962 г.; в Индии — с 1965 г.
В 1960 году прошла премьера в Австрии, в 1967 году — в
Финляндии, в 1975 году — в Польше. В СССР первые
светозвуковые представления были проведены в Казани (1970),
Самарканде (1975), Новороссийске ( 1979)*. Конечно, это не скрябинская
«Мистерия», но эффект приобщения к чуду очевиден.
Примечательно, что любые из этих небывалых
художественных форм, создаваемые с помощью новейших технологий,
обычно связываются с именем А. Скрябина как пионера новых
экспериментальных форм синтеза искусств.
Постоянно упоминается имя А. Скрябина и в контексте
проблемы «космизации искусства». Эпитет «космический»
органически совместился с творчеством великого
композитора, да и для него самого было естественным применение таких
сравнений: «Высшая грандиозность есть высшая утонченность.
Межпланетное пространство — вот синтез грандиозности с
утончением, с предельной прозрачностью»**. Показательно,
что совпадают даже даты (1903) публикации первой работы
К. Э. Циолковского о возможности освоения космоса и
заявления Скрябина об идее мистериальногоВсеискусства...
Первым космонавтом в искусстве называет Скрябина Ф. Бауэре***.
* Галеев Б. М. Театрализованные представления «Звук и свет» под
открытым небом: Уч. пособие. Казань, 1991. 81 с; Ванечкина И. Л., Га-
леев Б. М. «Поэма огня»: Концепция светомузыкального синтеза А. Н.
Скрябина. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, 2010. С. 304.
** Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925. С. 102.
*** Bowers F. Scriabin, mascot of the cosmonauts // High Fidelity-Musical
America. June, 1973.
396 И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев
Эти характеристики определяют пафос самой музыки
композитора. Более содержательно наделение качеством «космично-
сти» идеи «световой симфонии». Дело в том, что сложившиеся
категории эстетики антропоцентричны и геоцентричны. Но с
выходом человека в космическое пространство уже сейчас стало
ясно, что критерии красоты, гармонии претерпевают
существенные изменения. При отсутствии атмосферы отпадает
необходимость обтекаемости, с которой связана функциональная красота
транспорта в земных условиях. Опыт лунохода показал
изменчивость ее и в связи с изменением условий гравитации (включая и
нулевое состояние — невесомость). Также следует ожидать, что
для иных цивилизаций, где отсутствует воздух (передатчик
акустических колебаний), исключена и принципиальная
возможность существования музыки, более естественной будет именно
визуальная коммуникация (включая и художественную).
Неудивительно, что во многих фантастических произведениях иные
миры имеют и иную музыку (видимую!). Показательна и
«восприимчивость» самих космонавтов к новому искусству*.
Неудивительно и то, что многие проекты современных
художников в области эстетизации космической среды
перекликаются с размахом мистериальныхзамыслов Скрябина. Н. Шеффер,
Ф. Инфанте предлагают окружить Землю искусственными
самосветящимися спутниками или орбитальным ажурным
кольцом. Ж. Полиери мечтает о некоей космической сценографии...
Когда-то, в 20-х гг. поэт Н. Клюев, дилетантски занимавшийся
футурологией, предсказывал, что в 1980 г. все колокола
белокаменной Москвы будут вызванивать «Прометей»
Скрябина. Не лучшим ли памятником пионеру светомузыки было бы
создание управляемого северного сияния, изменяющегося по
партитуре «Поэмы огня»? (Уже известны эксперименты по
генерированию искусственного северного сияния по совместной
советско-французской программе «Арад».) Или можно было
бы зажечь в ночном небе высокочастотное искусственное
солнце, модулированное звуками музыки (в лабораторных условиях
этот эксперимент уже проделан Г. Бабатом)**.
Галеев Б. М. Поющая радуга: Рассказы о светомузыке и с вето музы
кантах. Казань: Таткнигоиздат, 1980.
Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. «Поэма огня»: Концепция
светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. 2-е изд., перераб. и доп. С. 307—310.
Эстетическая футурология А. Скрябина... 397
Высшая грандиозность сочетается с высшейутонченностью...
Сейчас трудно себе даже представить, чем еще сможет
поразить нас реальное будущее, как бы отвечая феерической
фантастике этого удивительного человека с уникальной творческой
судьбой. Подобно тому как Прометей подарил людям огонь и
свет, так и скрябинский «Прометей» принес свет в искусство,
в музыку, положив начало светомузыке, этому подлинному
искусству послушного пламени, искусству космического века...
M. H. Лобанова
«Экстаз и безумие»:
особенности дионисийского
мировосприятия А. Н. Скрябина
Шурин Скрябина, известный художественный и
музыкальный критик Б. Шлецер, рассматривая
понятие экстаза как центральную идею в творчестве
композитора, писал в своей монографии о Скрябине:
«Экстатичность — вот именно то слово, которое с
наибольшей четкостью выражает своеобразие жизни
скрябинского духа, ставшего действительно как бы
вне себя, вышедшего из себя, выплеснувшегося из
рамок своей ограниченной во времени и пространстве
личности, чтобы пережить вселенную в ее движении,
в ее танце»*.
Экстаз определялся Шлецером как выражение
«жажды избавления от уз ограниченного бытия»,
«мгновения преодоления всех пределов
индивидуального существования и достижения абсолютной
свободы», как «радостное переживание неограниченности,
совершенства и полноты бытия. <...> Древнейший
путь к экстазу — путь оргиазма, путь Диониса: че-
Шлецер Б. Ф. Скрябин. Личность Мистерия. Берлин, 1923.
Т. 1.С. ПО.
«Экстаз и безумие»... 399
рез исступление и разрушение»*. Сходным образом
интерпретировал творчество Скрябина Вяч. Иванов, друг и советник
композитора в последние годы его жизни: Иванов писал о
Скрябине как о «солнечном художнике», пытавшемся своим
творчеством преобразить мир и объятом «"священным безумием" —
тем безумием, из которого единственно рождается все живое.
Ибо все живое родится из экстаза и безумия!»** «Божество,
вдохновлявшее Скрябина, — утверждал Иванов, — прежде
всего разоблачается как Разрешитель, Расторжитель,
Освободитель — Дионис-Лисий, или Вакх-Элевферий эллинов»***.
Понятие «выхода из себя» принадлежало к важнейшим
концепциям русского искусства того времени, в первую
очередь — символизма. «Преодоление границ» —
сокровенный импульс творчества таких харизматических художников-
визионеров, как Блок, Белый, Бальмонт, Врубель, — это
прежде всего способность осуществить переход в сферы,
лежащие по ту сторону «нормального», чисто человеческого —
ограниченного, недостаточного — чувствования и восприятия.
Магическое звукотворчество поэтов-символистов,
«нечеловеческая» палитра Врубеля, «космическая» обертоновая
гармония Скрябина позволяли преодолеть традиционные границы
художества, за которыми скрывалось неслышимое, невидимое,
невоспринимаемое.
Порой создавалось впечатление, что само время нуждалось в
экстатических состояниях, переживаниях, проявлениях и
производило их. С этим вполне согласовывался и внешний облик
«экстатических творцов». Достаточно вспомнить многочисленные
воспоминания о «выходящем из себя», парящем, танцующем на
границе с астральным миром экстатике Андрее Белом — поэте,
близком к скрябинскому кругу. Подобное же впечатление
производят и некоторые поздние фотографии композитора,
запечатлевшие Скрябина словно переступившим неведомую грань и
экстатически вслушивающимся в нечто, недоступное
человеческому уху. «Экстатический», «сияющий», «нечеловеческий» —
таким виделся Скрябин своим современникам в последние годы
жизни. Друг и биограф Скрябина музыкальный критик Саба-
06 экстазе и действенном искусстве // Музыкальный современник.
Кн. 4, 5. Декабрь-январь 1916. С. 147.
** Иванов Вяч. Скрябин. М., 1996. С. 12.
*** Там же. С. 67.
400 M. H. Лобанова
неев (1881-1968) определил личность композитора как
«захватывающую каким-то электрическим возбуждением», как
«что-то лучезарное», «жгучее, ослепительное и нечеловечески
радостное»*. Ассоциации с ослепительным сиянием,
нечеловечески прекрасным, непроизвольно вызывает позднее творчество
Скрябина, а такие понятия, как «свет, «сияние», «взлет»,
«полет», «возбуждение», являются неотъемлемой частью его
символической философской программы.
Ницше и «культ Диониса» в России:
Александр Скрябин и Вячеслав Иванов
«Дионисийский экстаз» принадлежал к центральным темам
русского «культурного ренессанса». В первые два десятилетия
XX в. дионисийская стихия завладела сознанием общества. По
словам Бердяева, «оргиазм был в моде. Искали экстазов <...>.
Эрос решительно преобладал над Логосом»**. Чрезвычайную
популярность, как известно, приобрела философия Ницше. О
размахе ее влияния свидетельствовали, с одной стороны, «ниц-
шеанизированное христианство» Мережковского,
проникнутое оппозициями «Христос — Антихрист», «дух — плоть» и
т. д., ставшими неотъемлемой частью современного ему
культурного лексикона, а с другой — творчеством. Горького,
предложившего своего рода расхожую версию Ницше — «Ницше
для всех» и воспевшего аморализм босяка и нигилистское, вне
какого-либо философского содержания, «освобождение
человека». Сильнейшее воздействие Ницше испытали «младшие
символисты», поднявшие на щит понимание музыки как
квинтэссенции мира. Программное выражение эта идея нашла, в
числе прочего, в статье Блока «О современном состоянии
русского символизма» (1910), в которой утверждалось, что поэт
должен вслушиваться в музыку, дабы стать символистом —
«теургом, т. е. обладателем тайного знания, за которым стоит
тайное действие»***.
Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2000. С. 242.
Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990. С. 140.
Блок А. О современном состоянии русского символизма. Собр. соч.:
в 6 т. Л., 1982. Т. 4. С. 142.
«Экстаз и безумие»... 401
Особуюзначимостьвформировании«дионисийского культа»
в России имела деятельность вождя русского символизма Вяч.
Иванова. Еще в юности, в студенческую бытность в Германии,
Иванов занялся изучением Ницше, культа Диониса и
древнегреческих мистерий. Первая встреча Скрябина и Вяч. Иванова
состоялась31 января( 13февраля) 1910г. в Санкт-Петербурге,
во время вечера, устроенного в честь Скрябина редакцией
журнала «Аполлон». Близкие контакты между художниками
установились после переезда Иванова в Москву: поэт стал не
только постоянным посетителем дома Скрябина, но его советчиком
и доверенным лицом. Иванов стоял у смертного одра Скрябина
и занимался наследием композитора после его смерти. Поэт
задумал составить книгу о Скрябине из трех лекций,
прочитанных им в 1915, 1916 и 1917 г. в кругу Скрябинского общества,
предпослав им сонет «Могила Скрябина»*.
«Всеединство», «соборность», теургия
Интенсивное общение с Вячеславом Ивановым в
сильнейшей мере повлияло на скрябинскую концепцию Мистерии.
Иванов провозглашал веру в теургическое искусство,
долженствующее сыграть определяющую роль в приближающемся
преображении мира. Именно поэтому поэта и его
единомышленников называли «теургами». Другое обозначение этого
круга — последователи, продолжатели, наследники Вл.
Соловьева, под воздействием которого сформировались их взгляды.
В частности, от Соловьева «теурги» унаследовали понимание
искусства как «реальной силы, просветляющей и
перерождающей весь человеческий мир»**. Основополагающими для
символистов-теургов явились представления Соловьева о
«позитивном всеединстве» и его понимание «соборности».
Характерно, что оба эти понятия фигурируют в работах Вяч. Иванова
о Скрябине. В своем учении Соловьев пришел к пониманию
человечества как метаэмпирического, имперсонального
единства, «всечеловеческого организма», «всеединой личности»,
См.: Иванов Вяч. Скрябин. Указ. изд.
** Соловьев В. С. Три речи в намять Достоевского. Соч.: в 2 т. М., 1988.
Т. 2. С. 293.
402 M. H. Лобанова
«всеединой сущности». Для Соловьева «в истине
индивидуальное лицо есть только луч, живой и действительный, но
нераздельный луч одного идеального светила — всеединой
сущности. Это идеальное лицо, или олицетворенная идея, есть только
индивидуализация всеединства, которое неделимо присутствует
в каждой из своих индивидуализации»*. В соответствии с этим
к «социальной и всемирной среде» должно относиться «как к
действительному живому существу»**. Поскольку «целое пер-
вее своих частей и предполагается ими», — как утверждает
Соловьев, вслед за О. Контом, то первичная реальность есть
человечество, а не отдельное лицо; человечество понимается
как «живое положительное единство, нас обнимающее», как
«существо нераздельное», «сверхличное», «становящееся
абсолютным через всеобщий прогресс»***.
Возможно, с идеей соборности Скрябина ознакомил еще до
встречи композитора с Вяч. Ивановым кн. С. Н. Трубецкой,
сыгравший, согласно многим свидетельствам, решающую роль
в формировании философских взглядов композитора. Именно
с этим блестящим знатоком истории религий и греческой
философии Скрябин мог рассуждать об элевсинских мистериях;
кроме того, Трубецкой, вероятно, рекомендовал Скрябину
сочинения К. Фишера по истории философии, на которые
впоследствии неоднократно ссылался композитор. В центре
философской системы С. Н. Трубецкого — учение о «соборности
сознания»; согласно формуле Трубецкого, во всех актах
теоретического и морального характера мы «держим внутри себя
собор со всеми»****: «Сознание не может быть ни безличным, ни
единоличным, ибо оно более чем лично, — оно соборно»;
всякое отдельное, индивидуальное сознание обосновано в некоем
«вселенском сознании», без которого «не было бы никакого
сознания»*****.
Соловьев В. С. Смысл любви. Ук. изд. С. 533.
Там же. С. 545.
Соловьев В. С. Идея человечества у Августа Конта. Указ изд. С. 570,
574-575,577.
Трубецкой С. Н. О природе человеческого сознания. Собр. соч.: в 6 т.
М., 1907. Т. 2. С. 13.
Там же. С. 16.
«Экстаз и безумие»... 403
К философам, развившим идеи «метафизики всеединства»,
относится также о. Сергий Булгаков, принадлежавший к
дружескому кругу Скрябина и глубоко почитавшийся
композитором. В философской системе С. Н. Булгакова человечество
предстает как единство — целое, а не сумма; каждый индивид
«в одно и то же время и личен, и всечеловечен». Подобную
«всечеловечность» индивида философ назвал
«антропологической аксиомой»*.
Многочисленные свидетели подтверждают, что Скрябин
понимал мистерию как соборный акт. Композитор говорил: «<...>
в Мистерии не будет речи о личности. Это будет соборное
творчество и соборный акт. Тут будет единая соборная,
многогранная личность, как солнце, отраженное в миллионах разбрыз-
гов. <...> моя личность отражена в миллионах иных личностей,
как солнце в брызгах воды <...> Их надо соединить, эти брызги,
надо собрать личность воедино — в этом и задача, в этом и
назначение искусства. Получится единая соборная личность»**.
Между дионисийским культом и соборностью
Для русских символистов дионисийское начало означало
реальную возможность преодолеть разрыв между личностью
и миром, вырваться из границ чисто субъективного и
индивидуального. Именно в этом духе Вяч. Иванов и его круг
интерпретировали идею соборности. В программных публикациях
Вяч. Иванова, снискавших в 1910-е гг. огромную
популярность — «О веселом ремесле и умном веселии» (этот
заголовок — реминисценция «Die fröhliche Wissenschaft» Ницше),
«Предчувствия и предвестия» и «Две стихии в современном
символизме», — поэт предстает в роли пророка, глашатая
откровений, мифотворца, провозглашающего миф целью
символизма: «В круге искусства символического символ естественно
раскрывается как потенция и зародыш мифа. Органический ход
развития превращает символизм в мифотворчество» (2, 90).
Художник для Иванова — индивидуалист, должный стать
«сверхиндивидуалистом». Миф, созданный подобным
«сверхиндивидуалистом», перестает быть индивидуальным, обретая
* Булгаков С. Н. О Богочеловечестве. Агнец Божий. Париж, 1933. С. 119.
** Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. С. 192, 331.
404 M. H. Лобанова
общечеловеческое значение «вселенской правды»: «Дионис
варварского возрождения вернул нам — миф. <...> Искусство
идет навстречу народной душе. Из символа рождается миф.
Символ — древнее достояние народа. Старый миф естественно
оказывается родичем нового мифа» (3, 75).
Утверждая «религиозный синкретизм», Вяч. Иванов
рассматривал дионисийство как религиозно-психологический
феномен вне вероисповедания и стремился к примирению
Диониса с Христом, ницшеанского индивидуализма с христианской
соборностью, толкуемой по Владимиру Соловьеву, возлагая
надежды на «стихийно-творческую силу народной души»,
которая сможет раскрыться в грядущей эпохе, возрождающей
миф. Продолжая во многом идеи высоко ценимого им Рихарда
Вагнера, Иванов провозгласил разделяемый многими его
современниками утопический идеал встречи художника и народа:
«Страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать
хоровод, где в действе трагедии или комедии, народного
дифирамба или народной мистерии воскреснет истинное
мифотворчество (ибо истинное мифотворчество — соборно), где самая
свобода найдет очаги своего безусловного самоутверждения
(ибо хоры будут подлинным выражением и голосом народной
воли). Тогда художник окажется впервые только художником,
ремесленником веселого ремесла, исполнителем творческих
заказов общины, — рукою и устами создающей свою красоту
толпы, вещим медиумом народа-художника» (3, 77).
В океане «коллективного бессознательного»
Удивительное сходство обнаруживают соборные идеи с
неперсональной психической системой, определяемой Юнгом
как «коллективное бессознательное»: «В отличие от
индивидуальной природы сознательной души, существует вторая
психическая система коллективного, не-персонального характера
<...> Коллективное бессознательное состоит из преэкзистент-
ных форм, архетипов, способных стать осознанными лишь
вторично и обретающих твердо очерченные формы благодаря
сущностям сознательного»*.
Jung С. G. Der Begriff des kollektiven Unbewussten // С. G. Jung
Taschenbuchausgabe in elf Bänden / hrsg. von Lorenz Jung. Archetypen. 4. Aufl.
München, 1993. S. 45f.
«Экстаз и безумие»... 405
Как последователи Вл. Соловьева, так и исследователи
архетипов рискнули заглянуть в бездну универсальной и
бесконечной психической сущности, в безграничное, неделимое, нерас-
члененное целое имперсонального: «Всякое индивидуальное
сознание единично; оно познает единичное, разделяя, различая
и видя лишь то, что может касаться этого индивидуального.
<...> Все, что связано с сознанием, разделяет, но во снах мы
вступаем в сферу более общего, истинного, вечного человека,
стоящего в сумерках зачинающейся ночи, где он предстает еще
не разделенным с целым, а целое выступает в его сущности,
свободной от различий и любых признаков индивидуального»*.
Описанные Юнгом структуры относятся к картине мира,
пронизанной «океаническим ощущением действительности»
(3. Фрейд). По словам Б. Швейцера, речь идет о
фундаментальных проявлениях встречи человека с реальностями,
определяемыми как «мистические», чья сущность в наибольшей степени
охватывается понятием «дионисийское»**.
Картины мира, пронизанные «океаническим
ощущением действительности», и ответствующие им теории
возникли в эпоху, отмеченную радикальными изменениями в
понимании сознания и личности. С одной стороны, именно к
этому времени проявилась тенденция к предельной субъекти-
визации личности, расчленяемой на составные части, детали.
Философски-методологическое обоснование эта тенденция
нашла в эмпириокритицизме Р. Авенариуса («Die Kritik der reinen
Erfahrung», 1888), а также в теории психофизического
монизма, разработанной Э. Махом. Эмпириокритицизм стал также
философско-психологическим фундаментом живописного и
литературного импрессионизма***. С другой стороны,
одновременно проявилась интегрирующая тенденция, опиравшаяся на
мистические учения, в особенности на психологический опыт
экстатических видений и переживаний, утверждавших суще-
* Jung С. G. Die Bedeutung der Psychologie für die Gegenwart // Ibid.
Wirklichkeir der Seele. München, 1993. S. 37.
** Zit. nach: Kerényi Karl. Der frühe Dionysos. Oslo, 1961. S. 21 f.
*** Ср.: Diersch M. Empiriokritizismus und Impressionismus. Über
Beziehungen zwischen Philosophie, Ästhetik und Literatur um 1900 in Wien.
Berlin, 1973; Fischer M. Augenblicke um 1900. Literatur, Philosophie,
Psychoanalyse und Lebenswelt zur Zeit der Jahrhundertwende. Frankfurt am
Main, 1986.
406 M. H.Лобанова
ствование некоего изначального единства, превосходящего
индивидуально-человеческое бытие и сознание. Радикальные
изменения картины мира и его понимания привели, в
частности, к тому, что подверглась сомнению классическая оппозиция
«Я—здесь—внутри» — «Ты—там —вовне», в свое время
управлявшая восприятием реальности. Новому мировосприятию
скорее соответствовала описанная в различных мистических
традициях «реальность всеединства», в которой не было места
«различиям», «разделенное™»*. Именно эта реальность и
согласовывалась как с идеями соборности, так и с положениями
теории «коллективного бессознательного», с «океаническим
ощущением действительности» и т. п.
Оккультный смысл экстаза
Важной частью синкретического учения об экстазе,
разработанного русскими «теургами», стали многочисленные мистико-
оккультные представления, в первую очередь почерпнутые
в теософии Е. Блаватской. На творчество Скрябина трактат
Блаватской «Тайная доктрина» («Secret Doctrine», 1888)
повлиял определяющим образом**. В последние годы жизни
композитор постоянно утверждал, что является инструментом
космической неизбежности, глашатаем объективных законов.
Его «Мистерия» должна была привести мир через последний
экстаз к дематериализации. При этом вершина экстаза
должна была быть достигнута в танце. Эту же идею символизируют
танцы-кружения в заключительных разделах многих
композиций Скрябина. Следуя Блаватской, описавшей в «Тайной
доктрине» космогонический смысл плясок, хороводов, кружений
и связавшей их, в частности, с «вакхическим исступлением»***,
См., например: Watts Allan. The Book on the Taboo Against Knowing
Who You Are. London, 1977.
В его пятитомное французское издание композитор внес
многочисленные пометки. Подробнее о воздействии идей Блаватской на взгляды и
концепции композитора см. в кн.: Lobanova M. Mystiker Magier Theosoph
Theurg: Alexander Skrjabin und seine Zeit. Hamburg, 2004.
Блаватская E. П. Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии.
Т. 2. Аптропогенезис. М., 1991. С. 578. Подробнее о мистериальной концепции
«Экстаз и безумие»... 407
вдохновленный дионисийскими мистериями и «тайным
буддизмом», Скрябин придавал экстатическим танцам
космогоническое, магически-сакральное значение.
Интерес к танцу, особенно экстатическому, «вакхическому»,
был характерен для всей эпохи. Именно в это время
сформировались концепция А. Дункан и балетная реформа М. Фокина.
Характерно, что этот последний, ориентировавшийся не
столько на какие-либо мистические идеи, сколько на
профессиональные и культурно-исторические критерии, особенно подчеркивал
солнечный, экстатический характер танцевального искусства*.
Характерно и то, что важное место в реформе Фокина
занимали массовые танцы: это отвечало соборному духу эпохи.
Для Скрябина экстаз является не только определенным
психологическим состоянием и не просто символом в музыкально-
символистской программе его произведений, но одной из
центральных категорий всей его философской системы. При
этом скрябинское понимание экстаза демонстрирует
глубокую укорененность в мистических традициях: «Бытье в целом,
т. е. история вселенной, которая может быть рассматриваема
как стремление к абсолютному бытью, т. е. к экстазу,
граничащему с небытьем и представляющему, так сказать,
потерю сознания, т. е. возвращение к небытью, — выраженная в
форме мышления, история вселенной есть рост человеческого
сознания до всеобъемлющего божественного сознания — она
есть эволюция Бога»**.
«Я есмь Бог» и суфийское озарение
Среди записей Скрябина фигурирует фрагмент, в котором
описаны экстатические состояния и переживания во время
«нисхождения духа в материю» и последующего «восхождения
к Богу»:
Скрябина и театральных экспериментах эпохи см. в статье автора: Skrjabins
Mysterium und die Theaterexperimente seiner Zeit // Forum Modernes Theater.
Bd. 18/2.2003. S. 143-152.
См.: Фокин M. M. Против течения. Воспоминания балетмейстера.
Статьи, письма / под ред. Ю. И. Слонимского. М., 1962. С. 232, 396—397.
** Там же. С. 170.
408 M. H. Лобанова
Я Бог!
Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь
Я предел, я вершина
Я Бог
Я расцвет, я блаженство
Я страсть всесжигающая,
все поглощающая
Я пожар, охвативший вселенную
и ввергший ее в бездны хаоса
(Я покой) я хаос
Я слепая игра разошедшихся сил
Я сознанье уснувшее, разум угасший
Все вне меня
Я единообразное множество
Я утратил свободу
Утратил сознанье
И только отблеск его
Живет во мне
Слепым стремлением
От центра
От Солнца
От отблеска
моей бывшей Божественности,
Что давит меня теперь,
К свободе
К единству
К сознанью
К истине
К Богу
К себе
К жизни
О жизнь, о творческий порыв (хотенье)
Всесоздающее стремленье
От центра, вечно от центра
К свободе
К сознанью*.
В этом фрагменте очевидно влияние суфизма, которым также
интересовался Скрябин. Одной из важных составных суфизма
является учение о приближении адепта к познанию Бога по-
Скрябин А. Н. Записи. Тексты. С. 142- 143.
«Экстаз и безумие»... 409
средством мистической любви и слиянию с божеством.
Решающую роль при этом играют интуитивное прозрение, расширение
сознания, мистические озарения, состояния транса и экстаза.
Мансур аль Халладж, как известно, был приговорен к смерти
за то, что восклицал в экстазе: «Я есмь истинный (бог)».
Мистическое переживание Бога аль Халладжем воспринималось
многими как достижение абсолютной трансцендентности путем
полного преодоления-вытеснения индивидуального «Я». В
дальнейшем Ибн Араби усматривал условие достижения единства с
абсолютом в освобождении духа «от оков множества»,
присущих материи*. Чрезвычайной значимостью обладали суфийские
практики достижения экстаза, особенно танцы, передававшие
символико-космогонические и мистические идеи. Именно в них,
думается, во многом следует видеть прообразы танцев-кружений
в скрябинских композициях, ведущих непосредственно к
экстазу. Однако, живо интересуясь суфийским учением о мистическом
познании и озарении, композитор был явно разочарован
музыкой «миссионера» суфизма, суфия Инаят-хана**.
Устремленность Скрябина к экстатическим состояниям, в
которых индивидуальное сознание расширялось до
космического, воспринималась многими его современниками — и
врагами, и даже поклонниками — как нечто таящее угрозу и даже
опасное. Не случайно Скрябина неоднократно называли
«безумным», а его идеи расценивали как «умопомешательство» и
«манию величия». Хотя следует отдавать себе отчет, что
подобные эпитеты сознательно или невольно стилизовались в духе
«декадентского канона», непременным атрибутом которого
было «безумие художника»***.
«Сверхчеловек» Ницше и «маг» оккультизма
В некоторых интеллектуальных кругах дореволюционной
России философию Ницше интерпретировали и как вид магии.
Проводились параллели между учением Ницше и
оккультизмом, в частности, между «сверхчеловеком» и «магом» — пер-
* См.: Ritter Н. Das Meer der Seele. Leiden, 1955.
** См.: Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. С. 200-201.
*** Подробнее об этом см. в кн.: Lobanova M. Mystiker Magier Theosoph
Theurg: Alexander Skrjabin und seine Zeit. Hamburg, 2004.
410 M. H. Лобанова
вым большим арканом таро, рассматриваемого не как колода
гадательных карт, но как символическая картина,
запечатлевшая взаимоотношения человека, бога и мира. В числе прочего
строилась параллель между путем трансформации человека
в сверхчеловека и путем, ведущим от «глупца», «безумного»
(нулевой аркан таро) к «магу». Подобные идеи
неоднократно высказывались, в частности, П. Д. Успенским*, чья
книга «Tertium organum» (1911) обсуждалась в дружеском кругу
Скрябина. Кроме того, Успенский проводил аналогию между
идеями Ницше и положениями книги Э. Леви «Dogme et rituel
de la haute magie», хорошо известной Скрябину. Успенский
особо подчеркивал такие свойства, как почти безграничная
воля, сверхсознание, зачастую проявляющееся в
экстатических состояниях и ведущее к непосредственному познанию
Божественных идей, а также ментальное творчество, — все
они, по его мысли, присущи как «магу», так и
«сверхчеловеку». Возможность интерпретировать Ницше в оккультном духе
должна была особенно привлекать «теургов», с их
стремлением к соборному духу и мистическому посвящению. В трактате
«Tertium organum» Успенский провозгласил возникновение
«новой высшей расы», описание которой воспринимается как
своеобразный синтез идей Ницше и мистической веры в
«великих посвященных»: «<...> будущее принадлежит не
человеку, а сверхчеловеку, который уже родился и живет среди нас.
Новая высшая раса быстро образуется среди человечества и
выделяется своим совершенно особенным пониманием мира и
жизни. Признак людей новой расы — это новое сознание и
новая совесть. Мы узнаем их по тому, что они будут больше
сознавать, больше видеть и больше знать, чем обыкновенный
человек. Они не будут в состоянии закрывать глаза на то, что
видят, и поэтому будут видеть больше; не будут в состоянии не
думать о том, что знают, и поэтому будут знать больше; не
будут в состоянии оправдывать себя, и поэтому будут
сознавать больше. Эти люди будут всегда ясно видеть свою
ответственность за то, что они делают. И они не будут в состоянии
возлагать эту ответственность на других. Они не будут
удовлетворяться простым исполнением «долга» и будут чувствовать
себя обязанными знать прежде, чем делать. Они не будут в
Успенский П. Д. Внутренний круг. СПб, 1913. С. 59.
«Экстаз и безумие»... 411
состоянии отделаться от своей совести, и она будет руководить
их поступками, и ничто другое. В них не будет трусости и не
будет уклонения оттого, что они считают должным. Они никогда
не будут безответственными исполнителями чужой воли,
потому что у них будет своя воля. Они будут требовать от себя
прежде всего ясного сознания, что и зачем они делают. И они
будут чувствовать свою ответственность до конца перед
всеми, кого касается их деятельность.
Это будет действительно высшая раса — и тут не будет
возможна никакая фальсификация, никакой подмен, никакая
узурпация. Ничего нельзя будет купить, ничего нельзя будет
присвоить обманом. И эта раса не только будет, но она уже
есть. И люди новой расы уже начинают узнавать друг друга.
Уже устанавливаются лозунги и пароли... И, может быть,
социальные и политические вопросы, так остро выдвинутые нашим
временем, разрешатся совсем на другой плоскости, чем мы это
думаем, и совершенно другим образом — разрешатся
выступлением на сцену сознающей себя новой расы, которая явится
судьей старых»*.
«Иррациональная основа мира»
Образы «творческого безумия», «выхождения из себя»,
происходящего в снах, аффектах, душевной болезни,
одержимости, душевном расстройстве, обозначают опасную границу
между сознанием и бессознательным. Нарушение границ,
прикосновение к хаосу доказывает с безжалостной ясностью
относительность индивидуального сознания, его причастность к
коллективным мифологическим образам, «всечеловеческим
символам». По словам К.Т. Юнга, «единичное сознание
окружено угрожающим морем бессознательного. Оно лишь
кажется устойчивым и надежным, будучи в действительности
хрупким, покоящимся на колеблющихся основах явлением. Чтобы
нарушить самым ощутимым образом равновесие сознания,
при определенных обстоятельствах достаточно лишь
сильного аффекта. Об этом говорят такие обороты речи, как "выйти
из себя" от гнева, "полностью забыться", "не помнить себя",
* Его же. Tertium organum. Ключ к загадкам мира. М., 2000. С. 248-249.
412 M. H. Лобанова
быть "словно одержимым бесом", "быть не в себе"; есть вещи,
"сводящие с ума", человек "не знает, что делает" и т. д. Все эти
клише показывают, как легко самосознание бывает потрясено
аффектом. Подобные нарушения посредством аффектов
проявляются не только в острых формах, но и могут приводить к
длительным изменениям сознания»*.
Об опасностях, подстерегающих тех, кто вступает в царство
теургии, предупреждал и Вяч. Иванов, а именно: художник-
теург должен открыть магический круг, защищающий его от
хаоса, духов и демонов и одновременно препятствующий
любому соприкосновению с космосом и иными мирами. Лишь
благодаря этому опасному магическому действию оказывается
возможным взаимопроникновение микро- и макрокосма.
Подобная задача, утверждал Иванов, стояла и перед Скрябиным:
для достижения космической музыки, воплощенной в оберто-
новой гармонии, композитор должен был преодолеть
«господствующий гуманизм» и прийти к «нечеловеческим
ощущениям», раскрыв себя в «дионисийском экстазе», прикоснувшись
к иным мирам. Решение подобной задачи никак не совместимо
с солипсизмом, в котором зачастую винят Скрябина.
«Когда Скрябина изображают художником-солипсистом,
затворившимся в собственный самочинный и своенравный
мир и отрицающим всякий иной мир и всякое иное бытие, то
обнаруживают этим лишь свое неведение тайны микрокосма,
какою она дается во внутреннем опыте: ибо погружение в
микрокосм не только выводит человека из его малого, дробного,
мятущегося и в самом произволе подневольного я в то царство,
где свобода и необходимость — одно и то же, но и вводит его,
вследствие точных соответствий между микрокосмом и
макрокосмом, в просторы вселенского сознания. Внесение
Скрябиным отзвуков или так называемых обертонов в свои созвучия
столь же закономерно, сколь и знаменательно: если
неслышное обычному слуху начинает звучать, если извещается упо-
ваемое и обличается невидимое, если сокровенное является и
бытие возможное переходит в действительное, — это значит,
что мы переступаем за порог естественного для нас круга
явлений и приникаем умом к более глубоким покровам тайны, из-
за которых, мнится, доносятся до нас голоса самих сущностей
Jung С. G. Die Bedeutung der Psychologie für die Gegenwatt. S. 30.
«Экстаз и безумие»... 413
<...>Доколе мы пребываем в ограде естественно данного, под
кровом обычных чувств и призванных благ, не может, конечно,
быть речи о теургическом воздействии extra muros на
первоосновы явления; теургическая устремленность творческой
воли Скрябина побуждала его прежде всего вырваться из
границ, которыми очурался человек от хаоса и вместе от касания
миров иных, — разомкнуть чаровательный круг, внутри коего
чародей-человек обеспечил себе безопасность, — хотя бы на
страх быть растерзанным демонами»*.
Преодолев порог сознания и последние границы между
хаосом и космосом, человеческая душа заполнится «мета-
гармоническими, чужезвучными мусикийскими волнами» и
будет разбужена «какая-то темная пра-память, в нас живущая»**.
Для запечатления подобных безумных, экстатических глубин,
достигнутых искусством, исследователи мифа и культуры
прибегают к понятию «дионисийского» как обозначения
«творческого безумия» и «иррациональной основы мира»***.
Постоянные символы «дионисийского» — вино, вакхическое опьянение
и т. п. — использовались многими современниками Скрябина,
пытавшимися запечатлеть его психологический портрет. При
этом нельзя забывать, что в последние годы жизни композитор
отвергал все грубые материальные возбудители.
«"Когда-то мне это бывало нужно при сочинении, —
говорил он. — Но сейчас мне это уже не нужно. Когда я писал
Третью симфонию, у меня на рояле стояла бутылка коньяку, а
теперь никогда ничего не стоит, как видите. Но все-таки
иногда нужно бывает опьянение, чтобы преодолеть какие-то
психические грани <...>.
<...> Я теперь и так постоянно, как в опьянении, —
говаривал он. — Мне не нужно это внешнее, это слишком
материально и грубо. Нужно более тонкое опьянение, взорами, ласками,
ароматами, звуками <...>".
Слово "опьяненность" вообще он очень любил, и оно у него
часто фигурировало как в речи, так и в обозначениях
музыкальных настроений. И у него действительно часто бывал вид
* Иванов Вяч. Скрябин. С. 54-56.
Там же. С. 67.
*** См.: Otto W. F. Die Götter Griechenlands: das Bild des Göttlichen im
Spiegel des griechischen Geistes. 2. Auflage. Frankfurt am Main, 1934. S. 203;
Kerényi К. Der frühe Dionysos. S. 21.
414 M. H. Лобанова
именно «опьяненный», какой-то вакхически томный, особенно
в этом взгляде его полузакрытых глаз, когда он откидывался
несколько назад и как бы созерцал что-то сквозь дымку»*.
Воспоминание как инициирующая сила
Видения в концепции Скрябина не только передают «диони-
сийское» — стихийное, иррациональное состояние, но и
обладают важной организующей, конструктивной ролью. Мистерия
должна была пробудить пра-память: в процессе коллективного
воспоминания ее участники должны были вспомнить все, что
они пережили, а затем забыли на протяжении «истории рас».
По словам Скрябина, «мистерия <...> есть воспоминание.
Всякий участник должен вспомнить, что он пережил с момента
сотворения мира. Это в каждом из нас есть, надо только вызвать
это переживание — оно же и воспоминание. <...> Пережить
первичную нераздельность, потом это чувство сопротивления,
эту инертность — она и есть материя, т. е. женственное
начало. Из него-то все и строится, на нем отпечатлевается
творческий дух. Потом пережить это отпечатление духа на материи,
пережить всю историю рас <...> в этом совместном
переживании может родиться соборный дух <...>».
В сходном ключе Скрябин интерпретировал и мотив
напитка забвения из вагнеровской тетралогии: «<...> какой чудный
символ инволюции — этот напиток забвения! Человечество
забывает все то, что оно знало в эпоху прежних рас: его
память засыпает... Это дивное изображение материализационно-
го процесса...»**.
Подобное утверждение вызывает неожиданные параллели
с идеями Юнга: «Когда я советую своим пациентам:
"Относитесь внимательно к вашим снам", я имею в виду: "Вернитесь к
самому субъективному в себе, к источнику своего
существования, к тому пункту, где вы, не осознавая того, делаете мировую
историю"»***.
Сабанеев Л. Л. Указ. еоч. С. 56-57.
Там же. С. 96.
Jung С. G. Die Bedeutung der Psychologie für die Gegenwart. S. 41.
«Экстаз и безумие»... 415
Эта столь дорогая Скрябину идея получила развитие в
интерпретации культуры как инициирующего воспоминания,
предложенной Ивановым, которая, по справедливому
замечанию Курциуса, далеко выходила за рамки специального ми-
фопоэтического подхода: «В этом смысле культура предстает
не только монументальной, но и инициирующей по духу, ибо
воспоминание, ее верховный повелитель позволяет ее
истинным служителям стать причастным инициациям отцов и,
возобновляя в них эти инициации, сообщает им силу новых
начал, новых шагов. Воспоминание — динамический
принцип; забвение олицетворяет усталость и прекращение
движения, упадок и возвращение к состоянию чистой релятивной
инерции»*.
Нельзя не отметить, что именно подобное, почерпнутое в
мистических и оккультных традициях понимание культуры как
воспоминания, обеспечивающего рост информации, энергии, в
отличие от забвения, репрезентирующего энтропию,
повлияло на многие направления культурных изысканий как в России,
так и в Западной Европе.
Mainomesos: гневный или страстный
Борис Шлецер в упомянутом в начале статьи эссе говорил,
что «древнейший путь к экстазу — путь оргиазма, путь
Диониса: через исступление и разрушение». В этом определении
схвачена амбивалентность жертвенно-страдальческого —
разрушительно-насильственного, отвечающая как сущности
многих мифов, так и психологически-художественной
характеристике Скрябина. С образами этого круга — например,
рыбой — сопряжена широкая палитра амбивалентных
символов — от оргиастических водных глубин, богинь
плодородия до трансцендентного Тела Христова. Этот спектр значений
позволяет сблизить образы Диониса и Христа, понимаемых и
как жертва, и как спаситель. В этом смысле следует понимать
и вывод, сформулированный Вячеславом Ивановым: Скрябин
объединил дионисийский и христианский экстаз.
* CurrtiusE.R. Europäische Literatur und lateinische Mittelalter. 11. Auflage.
Tübingen/Basel, 1993. S. 398f.
416 M. H. Лобанова
Глубинные, мистические истолкования экстатического
связывают божественное с ужасным. Сходным образом, как
установил К.-Г. Юнг, в архетипе матери сплетены любовь и
ненависть, обладание и разрушение, поругание и эротика*. К тому
же кругу принадлежит и понятие «мания» (mania),
включающее любовное горение, кипение гнева, безумие и разрывание
на части. Еще одно дионисийское понятие — «менада» — того
же корня. В этой системе Дионис осознается как «maienome-
sos» — гневный или страстный. Думается, именно подобная
сверхнапряженная, амбивалентная символика, почерпнутая, с
одной стороны, из учения Ницше, а с другой — из различных
мифов, изложенных в «Тайной доктрине» Блаватской, и
определила весьма своеобразное, «аморалистское»
представление Скрябина о насилии. Размышления композитора на темы
«необходимости насилия», «наслаждения в страдании»
согласуются как с теософскими постулатами, так и с трагической
концепцией Ницше. Неудивительно, что Скрябин
восторженно приветствовал начало Первой мировой войны, усматривая
в ней «возможность жизни более яркой, более полной
исступленными ощущениями». Композитор утверждал: «Война
может стать источником настоящих мистических ощущений и
экстатических состояний и, может быть, таким образом, путем
к пренебрежению, к экстазу. Мистик должен приветствовать
войну»**.
Скрябин воспринимался современниками как медиум
коллективной души — и психологический, духовный склад, и все
существо композитора делали его избранником, способным
выразить экстатичный дух своего времени. Все его творчество,
включая ранние сочинения, воспринималось как предвестие
грядущего катаклизма. С убеждающей силой выразил это
Бердяев: «Я не знаю в новейшем искусстве никого, в ком был бы
такой исступленный творческий порыв, разрушающий старый
мир и созидающий мир новый. Музыкальная гениальность
Скрябина так велика, что в музыке ему удалось адекватно
выразить свое новое, катастрофическое мироощущение, извлечь из
темной глубины бытия звуки, которые старая музыка отметала.
Jung С. G. Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus //
G. G. JungTaschenbuchausgabe in elf Bänden / hrsg. von Lorenz Jung. S. 80 f.
Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. С. 321.
«Экстаз и безумие»... 417
Но он не довольствовался музыкой и хотел выйти за ее
пределы. Он хотел сотворить мистерию, в которой синтезировались
бы все искусства. Мистерию он мыслил эсхатологически. Она
должна была быть концом этого мира <...>. Творческая мечта
Скрябина неслыханна по своему дерзновению, и врядли в силах
был он ее осуществить. Но сам он был изумительное явление
творческого пути человечества. Этот творческий путь
человечества сметает искусство в старом смысле слова, казавшемся
вечным. Синтетические искания ведут к Мистерии и этим
выводят не только за границы отдельных искусств, но искусства
вообще. <...> Скрябин в исступленно творческом порыве искал
не нового искусства, не новой культуры, а новой земли и нового
неба. У него было чувство конца всего старого мира, и он хотел
сотворить новый космос*».
Грандиозная концепция Скрябина, провозгласившего
необходимость Апокалипсиса, разрушения и преображения,
взывала к прамифам и тайнам мира. Само его творчество стало одним
из величайших мифов в современной истории культуры.
* Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства: в 2 т. М.,
1994. Т. 2. С. 402.
С. Р. Федякин
Скрябин и некоторые особенности
творческого сознания в начале XX в.
ХЗремя «взрослого» Скрябина совпало с тем
временем в жизни России, которое не случайно сравнивают
с эпохой Возрождения. Об этом говорит не только
напряженность духовных исканий, не только те
результаты, которых Россия достигла в искусстве, науке,
религиозной мысли, но и невероятное разнообразие
течений, направлений, школ. Однако при всем обилии
всякого рода «новизны» — в творческом сознании
этого времени обнаруживаются две почти
противоположные стороны. В живописи они предстали самым
наглядным образом: «Черный квадрат» Малевича,
супрематизм, абстрактная живопись и т. п., с одной
стороны; Петров-Водкин или Павел Филонов —
художники, сквозь полотна которых проступает
иконописное пространство, — с другой. И Малевича,
и Филонова относят к авангарду. Но даже в самых
«ультраавангардных» полотнах последнего
присутствует «эхо» русской иконописи: творческое сознание
Филонова сочетало в себе крайнюю современность с
«архаикой». То же «раздвоение» было присуще и
литературе. Внутри одной и той же литературной
группы находились Алексей Кручёных, с его поэтическим
подобием «Черного квадрата»: «Дыр бул щыл убеш-
Скрябин и некоторые особенности творческого сознания... 419
щур...», — и Велимира Хлебникова, с его чуткостью к заклина-
тельной природе слова, которая уводит нас чуть ли не в
доисторическое славянство. Случайно ли, когда Скрябину попадется
на глаза один из футуристических сборников, который в целом
он воспримет как нелепость, ему понравится Хлебников, его
«текучий» язык? И только лишь потому он обратил на него
внимание, что увидел здесь какие-то особенные способы
создания нового языка, необходимого для задуманной «Мистерии»?
Не было ли в самом сочетании новаторства и архаики — в
самых разных областях, где проявило себя творческое сознание
этого времени, чего-то внутренне близкого главному замыслу
Скрябина?
В начале XX в. сверхсовременное видение мира, которое
вбирает в себя древнейшие пласты сознания, не было
явлением исключительным. Оно проявилось в самых разных областях
художества, и шире — мышления вообще.
Николай Александрович Васильев, математик, который
начал со сборника стихов «Тоска по вечности», вполне
символистских, а потом стал создателем не-аристотелевой логики,
он усомнился в абсолютности закона противоречия.
Ссылался на геометрию Лобачевского, на воображаемый мир (иную
планету), где разные признаки одного предмета могут
совмещаться*. Это на земле А не может быть одновременно и Б, и
не-Б, в воображаемых мирах это возможно. И значит, в этом
мире умозаключения будут строиться иным, не-аристотелевым
образом.
Но и на земле эта логика может найти свою область.
Васильев вспомнил мифологию, заметив, что суждение «А есть и
Б, и не-Б одновременно» применимо, например, к кентавру (и
лошадь, и не-лошадь, и человек, и не-человек)**. То есть древ-
* Много раньше, в стихотворении «Нет прошлого» из книги «Тоска по
вечности», он словно «предчувствует» будущий чисто логический ход своей
мысли: «Мне грезится безвестная планета, / Где все идет иначе, чем у нас, /
Где три лукавых солнца волны света / Льют в каждый дня и ночи час...» и
г. д. // Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. М.: Наука,
1989. С. 170.
** См. его рассуждение о мире кентавров, сирен, грифов и т. д., как
части «воображаемой зоологии» // Васильев Н. А. Воображаемая логика.
Избранные труды. С. 68.
420 С. Р. Федякин
нейшее мышление жило согласно именно с «воображаемой»
логикой*.
Тот же интерес к древности ощутим и у Павла
Флоренского. При анализе того или иного явления он часто обращается к
этимологии, стремится «заглянуть» в смысловые истоки: зная
происхождение слова, его историю, ощутив, как оно со
временем обрастало новыми и новыми смыслами, мы можем наиболее
точно понять его значение. С тем же пристальным вниманием
он вглядывался и в икону, открыв в ней обратную перспективу,
когда линия горизонта находится не внутри картины, но вовне
ее**. Прикасаясь к современной геометрии, он
перетолковывает идею «мнимых величин», выстроив целую модель
мироздания***. Квадратный корень из минус единицы — это огромная
область мироздания, что-то вроде «изнанки» нашего космоса.
В том образе Вселенной, который вычерчивает Флоренский,
мы как бы заключены в сферу «действительных величин», а по
ту сторону сферы — находится мир «мнимостей», мир ангелов,
мир Божий, мир сверхсветовых скоростей. Икона здесь
становится окошечком из нашего мира в мир мнимостей или,
напротив, окошечком из того мира — к нам. Обратная перспектива
свидетельствует: это не только мы смотрим на икону, но и
Божественная Сущность через икону «смотрит» на нас.
Сочетание крайней новизны и далекой древности
сплавилось и в сознании Розанова, когда он, с одной стороны,
создает совершенно новую литературную форму («Уединенное»,
«Опавшие листья»), а с другой — заставляет современников
увидеть религиозный смысл египетских рисунков, культа
Озириса, некоторых особенностей человеческого мышления,
запечатленных в Библии. Пол, как космическая величина, лежит в
основании древнейших религий. И он связан с миром потенций,
возможностей, поскольку рождение — это переход из мира
Как выяснилось позже, логика чта «работает» не только в мире
кентавров, сфинксов, грифонов и т. д., но и в мире гипотез: о неизведанном до
конца явлении могут сосуществовать противоположные предположения.
См.: Флоренский П. А. Обратная перспектива // Священник Павел
Флоренский. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3 ( I ). С. 46- 101.
См.: Флоренский Павел. Мнимости в геометрии. Расширение области
двухмерных образов геометрии (Опыт нового истолкования мнимостей). М.:
Изд. «Поморье, 1922.
Скрябин и некоторые особенности творческого сознания... 421
возможностей в мир действительный. «Розановская»
литература, такая, как «Уединенное» и «Опавшие листья», и
воплотила стремление отразить «потенциальный» мир, поскольку
каждый отрывочек из этих «клочковатых» книг призван
запечатлеть не законченную мысль, но самый момент ее рождения.
То же сплетение «новейшего» с архаическим — и у русских
космистов(Вернадского, Циолковского, Чижевского), и у
композиторов (язычество в «Весне священной» Стравинского,
хоры и колокольные звоны, которые впитала в себя музыка
Рахманинова). У писателей эта оживающая архаика находит
самые разнообразные формы воплощения. Здесь и Ремизов,
устремивший свой интерес к «допетровскому» русскому языку
и литературе, и Заболоцкий, поэмы которого сочетали
мистерию и натурфилософию, и Андрей Платонов, повести
которого напоминают часто житие или жанр видения. В его мире это
соприкосновение «прошлого» и «будущего» дает особое
напряжение. И в языке, где смешиваются самые разнообразные
стилистические пласты, от канцелярита до языка поэтического.
И — в самом видении мира:
«Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пишу
как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели
смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их
лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели
измождение»*.
Эта маленькая картинка из «Котлована» до удивления
похожа на картину Павла Филонова «Семья крестьянина», только
без лиц домашних животных, которые на картине изображены
рядом с людьми**. В мире Платонова есть и живой мир «мнимых
величин» (особая рольумерших в его произведениях), и
«воображаемая логика» Н. А. Васильева. В одном эпизоде из романа
«Счастливая Москва» герой Платонова с именем Сарториус
попадает на рынок:
«Сарториус приобрел себе паспорт позже у человека,
продававшего черви для рыбной ловли. В паспорте был записан
* Платонов Андрей. Ювеиильное море: Повеети, роман. М.:
Современник, 1988. С. 88.
** В стихотворении Заболоцкого «Лицо коня» как раз есть подобие
филоновскому изображению домашних животных на чтом полотне: и у
собаки, и у лошади на полотне Филонова именно лица.
422 С. Р. Федякин
уроженец города Нового Аскола Иван Степанович Груняхин,
31 года, работник прилавка, командир взвода в запасе». Через
несколько строк: «С базара Груняхин не знал куда идти»*.
Если перевести это на логический язык, то получится:
человек, который есть Сарториус, — не есть Груняхин, но вместе с
тем этот человек и есть Груняхин. (А есть и Б, и не-Б).
Зная все разнообразие форм архаического сознания,
которое проявилось у мыслителей, ученых, писателей и
художников, нетрудно увидеть, сколь важную роль оно сыграло и в
творчестве Скрябина.
Композитора часто ставят — и не без основания — рядом
с русскими символистами. Но если вспомнить поэму «Миры
возможного» Вячеслава Иванова, то нетрудно ощутить, что в
русском символизме «носились идеи», близкие к тем, которые
сподвигли Васильева и Флоренского начертать свои особенные
модели мира.
В своих статьях Иванов представил поэта как
воскресителя: поэт должен удалиться от толпы, наедине с Высшей силой
прозреть древний миф, воскресить его в своем творчестве, и
это знание — через творчество — вернуть народу. Идеальная
форма воскрешения мифа — театр, который главный
теоретик символизма видел сквозь призму древнегреческого культа
Диониса.
Когда Скрябин — находясь в Европе — начинал работу над
«Поэмой экстаза», в России публиковалась большая работа
Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога».
Совпадение тем более удивительное, что авторы этих
произведений еще ничего не знали друг о друге.
«Поэма экстаза» поначалу должна была называться «Ор-
гиастическая поэма». Скрябин, очевидно, имел хорошее
представление о древнейших мистериях. Вероятнее всего, он
впервые узнал о них от Сергея Трубецкого, который был
специалистом по античной философии. Очевидна здесь параллель
и с Вячеславом Ивановым. Тот вскрывал смысл дионисийских
оргий: за «мистическим безумием» менад, их исступлением,
самим разрыванием Диониса на части (в реальности его
заменял жертвенный козел, символическое подобие Диониса) стоит
идея причастия: убивая бога участники оргии приобщаются к
Платонов Андрей. Счастливая Москва // Новый мир. 1991. № 9. С. 54.
Скрябин и некоторые особенности творческого сознания... 423
Высшей силе, Божественной сущности. Из этого религиозного
действа и родился театр, и теперь он должен вернуть себе свою
«теургическую» основу, о которой по прошествии многих
времен успел позабыть. Скрябинская «Мистерия» изначально
замышлялась как религиозное действо и, в сущности, была одной
из возможных воплощений этой идеи.
По всей видимости, композитор сначала видел в «Оргиасти-
ческой поэме» некий прообраз будущей «Мистерии». Но
поскольку — в силу жизненных обстоятельств — написать
соборное действо было пока (за границей ) невозможно, поскольку
получалось нечто личное, он переводит мысль об этом действе
в иной план. «Поэма экстаза» становится поэмой о творческом
сознании, о творчестве как таковом. Иванов внушал: экстаз —
это момент дионисийского действа, это тот выход за пределы
своего «Я», когда участники дионисийской оргии
напитываются космическими силами перед убийством Диониса. Пусть эта
религия канула в прошлом, но психологическое состояние, в
которое приходили участники действа, не могло исчезнуть
вместе с изжившим себя культом. Через своеобразное «дионисий-
ство» проходит каждый художник, каждый творец, причем в ту
самую минуту, когда он находится в состоянии творчества.
Особое волнение художника, которое превращается в способность
«узреть» какую-то мировую сущность и приводит его к
озарению, сопровождается подобным же выходом за пределы
собственного «Я», т. е. экстазом. Скрябин именно это состояние
и воплотил в своей музыке. Он, в сущности, начал с наброска
религиозного действа («Оргиастической поэмы») и пришел
к запечатлению творческого состояния сознания (к «Поэме
экстаза»), внутри которого все еще трепещет воспоминание о
древнем религиозном культе.
Та же связь архаики с новизной обнаруживается и в
гармонии композитора. Тот особенный музыкальный язык, к
которому он пришел, — странный для большинства современников,
но в сути своей строгий и точный (не случайно гармоническое
своеобразие других композиторов этого времени
воспринималось им как «грязь»), опять отсылает нас к древности. В
поздних произведениях его необычные аккорды, эти гармонические
«опоры» его музыки «имеют склонность» вырастать в
количестве звуков. Музыкальная «вертикаль» у него удлиняется. При
этом темы, напротив, начинают сжиматься. В поэме «К
пламени» основа главной темы — это лишь два восходящих звука,
424 С. Р. Федякин
побочной — два звука нисходящих. Две темы звучат как вопрос
и ответ. Самый принцип « вертикал изации» музыки поневоле
заставляет вспомнить такой замечательный музыкальный
инструмент, как русская звонница. Большой русский колокол —
это не звук, но созвучие, огромный, «многоэтажный» аккорд.
Низкие звуки — такова физическая их особенность —
способны покрывать огромные пространства. Москва и Звенигород
в давности могли «переговариваться» колоколами. В русских
звонах особенно важны большие колокола, в которых
музыка говорит созвучиями, тогда как европейский колокол всегда
тяготел к мелодии. Европа пришла к курантам и карильонам,
способным вызванивать мелодии, Россия — к Царь-колоколу
и колоколам, ему подобным, тем, что могут донести свой голос
до самых отдаленных мест. Скрябин мечтал о соборном
действе, и колокол, как именно такой соборный музыкальный
инструмент, был ему просто необходим. Отсюда, из идеи
соборности, и родились его музыкальные вертикали и «колокольные
звучания». Иначе говоря, гармония Скрябина, поражавшая,
а многих современников и раздражавшая своей новизной,
заключала в себе тот же отсыл к древности.
И наконец, язык светомузыки*. Свет — это язык Космоса.
Космос почти не знает среды, где может распространяться звук.
По крайней мере стол ь же равномерно, как он
распространяется в земной атмосфере. Через светомузыку Скрябин приходит к
космическому сознанию, его музыка начинает в последние годы
приобретать космогонический характер. Она как бы звучит из-
за границ сферы, в которой находится человеческий мир,
заставляя вспомнить и «мнимости», описанные Флоренским, и
древнейшие мифы, в которых отразилось, со всеми его космо-
гониями, архаическое сознание человечества. Если мы
вспомним, как рождалась философия, хотя бы на примере Древней
Греции, нам придется проделать путь от Гесиода и Гомера и всей
мифологии, заключенной в их поэмах, к милетским философам,
Автор статьи в попытке осознать особенности музыки света следует
за Б. М. Танеевым, который всегда настаивал на понятии «светомузыка»,
а не «цветомузыка», поскольку, во-первых, этот «внутренний цвет» все
видят разный (есть только статистика обычных предпочтений, т. е. как чаше
всего видится тот или иной звук), во-вторых, для воздействия на «зрителя»
важен не столько цвет, сколько движение световых форм (как бы подвижный
«танец» световых фигур, возможно — весьма абстрактных).
Скрябин и некоторые особенности творческого сознания... 425
с их «космоцентризмом», и далее — к софистам и Сократу,
которые пришли к проблемам человеческого сознания. Скрябин,
в сущности, проделал совершенно противоположный путь —
от крайнего эгоцентризма, к соборно-космическому действу,
распахнув свое творчество навстречу не только человечеству,
но и всему мирозданию. Этим он опять-таки приблизился к
сознанию древних, где космос принимал непосредственное
участие в земной жизни.
Начало века — особое время в русской культуре. Сознание
Скрябина, как и сознание наиболее чутких писателей,
художников, композиторов, ученых неожиданным образом
приблизилось к древнейшим формам человеческого сознания. Время
было тревожное, и радостное, и пугающее. Тот малый
апокалипсис, через который была призвана пройти Россия, наиболее
чуткими уже предощущался. И пробуждающееся древнее
сознание — наиболее соответствовало чувству, что мир несется в
неизвестность с какой-то невероятной скоростью.
Е. В. Ключникова (Лобанкова)
А. Н. Скрябин и национальный диспут
начала XX в.: контексты и подтексты
русского мессианства*
...Мы поняли, что учение о личности вообще должно
быть поставлено на совершенно новые основы <...>
и вопрос о личности национальной сугубо нуждается
в новых приемах и предпосылках исследования...
Вяч. Иванов (1916)
D истории русской композиторской школы начиная
с XIX в. постоянно происходило конструирование
национальной мифологии. На фоне этого процесса
творчество и сама фигура А. Н. Скрябина выделялись
своей маргинальностью и экстравагантностью. По
мнению современников, выбранный Скрябиным
после 1904 г. дискурс мессианства — ив философии, и
в музыке — свидетельствовал об окончательном
разрыве с русской музыкальной традицией. Это не могло
не отразиться и на имидже композитора, и на оценке
его новых сочинений в отечественном
профессиональном сообществе. В контексте установившегося на-
Впервые опубликовано: А. Н. Скрябин в пространствах
культуры века XX / Сост. А. С. Скрябин. М.: «Композитор»,
2008.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 427
ционального канона* скрябинские инновации не поддавались
ценностно-смысловой дешифровке. Подобная
неопределенность в национальной идентичности провоцировала
сосуществование множества противоположных мнений о скрябинской
музыке позднего периода. Авторитетный лидер
Петербургской школы композитор А. К. Глазунов отмечал: «Скрябин не
создаст своей школы, он останется удивительным явлением в
истории музыки»**. Оторванность от окружающей
действительности подчеркивал известный биограф Скрябина музыкальный
критик Л. Л. Сабанеев: «шумы внешнего мира только
доносились до него», «на деле он создал себе фантастический и
призрачный мир», «отчужденный от всего остального, совершенно
изолированный, он был поставлен вне эпохи, вне современной
жизни»***. Признанный в начале XX в. музыкальный критик
В. Г. Каратыгин, восхищаясь достижениями Скрябина, отводил
ему в истории русской музыки место «денационализатора»****.
Другой музыкальный критик и композитор А. Лурье, объясняя
причины замкнутости творчества композитора «в себе»,
указывал в качестве первопричины на разрыв Скрябина с
«исконными путями и задачами русской музыки». Это и вызвало, по
его мнению, непонимание его творчества у публики*****.
Однако в восприятии другой группы — младосимволистов,
ставшей для композитора референтной, генеральная идея
мессианизма в позднем творчестве Скрябина расценивалась как
национально-ориентированная и поэтому обретала глубокие
аксиологические основания. Да и сам Скрябин, по
воспоминаниям музыкального критика Ю. Д. Энгеля, считал себя «сугубо
национальным композитором»******. На этот факт также указы-
Об этом см.: Лобанкова Е. Национальные модели в русской
музыке на рубеже XIX-XX вв. Творчество Н. А. Римского-Корсакова и
А. Н. Скрябина. Saarbrücken: LAP Lambert, 2010.
** Цит. по: Летопись жизни и творчества А. Н. Скрябина / Сост.
М. Пряшникова и О. Томпакова. М.: Музыка, 1985. С. 210.
*** Сабанеев Л. Скрябин. М., 1916. С. 63.
**** Каратыгин В. А. Н. Скрябин. Пг.: Сириус, 1916.
***** Лурье А. Скрябин и русская музыка. Пг.: Гос. изд., 1921.
Данные по: Фишман Н. Скрябин о себе//Советская музыка. 1966.
№ 1.С. 128.
428 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
вал критик А. П. Коптяев, вспоминая о его «горячем
московском патриотизме»*.
Воспринимаемый маргиналом в среде
музыкантов-профессионалов, Скрябин вместе с тем словно «сейсмограф»
отражал метаморфозы национального сознания, происходившие в
русской культуре. В начале XX в., под воздействием
социокультурных, исторических и политических изменений, кардинально
переосмыслялись практически все базовые ценности**. В
том числе и основы национальной идентичности, ведь она
формируется на основе идеологического конструкта —
определенной системы ценностей, отражающей запросы общества***.
Философия Скрябина
в контексте русского мессианства
В России рубежа XIX—XX вв. дискуссии о национальном
вопросе наполняли печатные издания и заседания модных
салонов, съезды различных политических группировок и
религиозных партий. Эти ментальные «головоломки» обернулись
множественностью трактовок национального концепта. Одной
из самых парадоксальных в этом процессе поиска
национальной идентичности являлась мистическая теория Вл. Соловьева,
которая выразилась в мессианском утопизме****.
Мессианский национализм начала XX в. выходил за рамки
социальной и экономической «реальности». Его идеология
разворачивалась в области ирреального, что оказалось близко
людям искусства. Кроме того, обозначившийся к началу XX в.
кризис классического идеала науки получил отражение в новой
релятивистской доктрине познавательной деятельности.
Теоретический поиск опирался на сверхэмпирические регулятивы,
Цит. по: Чугунов Ю. Скрябинская Москва. Это город контрастов. М.:
Композитор, 1999. С. 88.
Об 'этом см., например: Матич О. Эротическая утопия. Новое
религиозное сознание и Fin de siècle в России. M.: НЛО, 2008.
Подробнее об этом см.: Малахов В. Национализм как политическая
идеология. М.: КПУ, 2005.
Подробнее об этом см., например: Биллингтон Дж. Икона и топор.
Опыт толкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001. С. 523—550.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 429
такие, как простота, красота, соответствие. Это
способствовало сближению принципов естественно-научных дисциплин с
гуманитарными. Легализация исследований о культуре и
искусстве в контексте научных диспутов повысила статус художника,
повлияв в целом и на стилистику искусства.
По сведениям Сабанеева, Скрябин читал работы Соловьева,
увлекался последними техническими новинками и
интересовался последними научными открытиями. Все это обсуждалось
в кругу друзей, посетителей московского салона Скрябиных.
Среди них были: поэт Вяч. Иванов, публицист А. Н. Брянчани-
нов, философы С. Н. Трубецкой и С. Н. Булгаков (многие из них
были большими поклонниками идей философа). Композитор
выстраивал параллели между идеями Соловьева и замыслом
своей Мистерии. Он подчеркивал, что пришел к ней
самостоятельно, интуитивным путем, через откровение. Сабанеев
вспоминал: «Он проникся незаметно для себя некоторыми
эсхатологическими упованиями, в числе которых центральное место
заняли идеи о близком конце мира, о "старости человечества",
"о новом великом переселении народов", которое сметет
европейскую старую культуру»*.
Объединение всего человечества посредством музыкальной
Мистерии, по замыслу композитора, должно было кардинально
изменить земное существование и привести к качественно
новому Бытию — к достижению некоего Абсолюта. Это
грандиозное действо, предназначенное для сотворения нового мира,
сопровождалось параллельным развертыванием в
одновременности всех искусств — музыки, света, фимиамов, танца.
В течение семи дней, как размышлял Скрябин, все
человечество через участие в этом синтезированном празднестве
придет интуитивно к осознанию истории рас: от процесса
пробуждения Абсолюта, через его желание жизни и томление по ней,
через его материализацию в ипостасях мужского и женского.
Итогом этой инволюции станет объединение всех элементов в
заключительном экстазе, олицетворяющем зарождение новой
вселенной. Скрябинская философия фактически родственна
мысли Соловьева о воплощении «Божественной идеи». Ее
осуществление возможно через объединение всего человечества:
всех наций, верований, государств.
* Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика-ХХ1, 2003. С. 133.
430 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
Скрябинское представление о мистической и
преображающей силе искусства коррелировало с «народнической»
утопией Вяч. Иванова*. Она выстраивалась вокруг
нового понимания феномена человеческого сознания. Помимо
«дневного сознания» (термин Вяч. Иванова) мистическое
искусство апеллирует к «расширенному сознанию» (термин
теософа А. Безант). Присутствующее у каждого человека, оно,
как полагал Иванов, должно было уничтожить любые
разделения: между народом и интеллигенцией, индивидуальным и
коллективным, властью и личной свободой. Открытие нового
понимания человеческой природы, т. е. открытие в человеке
глубинных уровней сознания, представлялось главной целью
Пророка-теурга. В результате его деятельности отдельные
«осколки» единичного сознания «складываются» в
объединенный «коллективный разум».
Так утопическая теория мессианства о воплощении
«божественной идеи» в мире получала практическую реализацию —
с помощью теургического искусства. Такие трансформации
сознания могли произойти посредством имплицирования в
бытовую жизнь экстремальных ситуация. К ним Иванов относил,
например, революции, войны, вселенские катастрофы, а также
различные формы театральной деятельности: ритуал,
карнавальное празднество, мистерию, античную трагедию. Человек,
по мысли Иванова, погружался в сферу неподконтрольных
эмоций, способных привести к утрате привычной, т. е.
рациональной, идентичности.
По-видимому, Скрябин не только разделял эти идеи поэта,
но и пытался их воплотить в действительности посредством
своего творчества. Отзывы о скрябинских опусах доказывают,
что его музыкальное искусство действительно производило
мистическое воздействие. И новый принцип композиции,
модифицирующий тональную систему, и особая драматургия были
отобраны им с учетом такого «экстремального» воздействия на
публику.
Обатнин Г. Иванов-мистик. Оккультные мотивы в почзии и прозе Вяч.
Иванова (1907—1919). М.: НЛО, 2000.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 431
Музыкальное мессианство в действии
Высокий статус музыкального искусства в создании нового
«расширенного» сознания был определен и исключительным
отношением к качеству и возможностям звука в тайных
учениях, имевших тогда сильное влияние на русское общество.
Изложенное в теории Е. П. Блаватской понимание священного
Слова как синтеза скрытой силы ритма и звука оказалось созвучно
традициям русской культуры. Для нее было характерно
объединение религиозного и художественного мышления*. Звук, как
вибрация воздуха, «несомненно, вызовет соответствующие
силы, сочетание с которыми производит добрые или злые
результаты», — так указывала теософ в «Тайной доктрине»**.
Скрябин был хорошо знаком с идеями Блаватской, — он
внимательно читал ее книги, делая заметки на полях и выделяя
наиболее значимые для него мысли.
Итак, однородность и единство сознания людей трактовались
сторонниками национального мессианства как результат
массового изменения человеческой природы. Необычные
психические способности, состояние транса и измененного сознания,
экстаз, медитация — все это в будущем должно было
определять поведение человека, его восприятие мира. Таким по
крайней мере виделся этот новый тип человека, который
стремились вывести сторонники мессианства. Например, А. А. Блок
и Вл. С. Соловьев называли его «революционером»,
«безумцем», «маниаком», «одержимым»***.
Новое понимание «национального» сквозь призму
мессианской идеологии и мистической трансформации человеческой
природы кардинально модифицировало музыкальный стиль
Скрябина и сам принцип функционирования его искусства.
Наиболее рельефно в виде невербальных директив
национальный проект мессианства воплощен в симфонической поэме
Сиднева Т. Искусство и религия в России на рубеже XIX—XX вв.
( метаморфозы вечного диалога ) // Искусство XX в.: диалог эпох и поколений.
Сб. ст. Нижний Новгород, 1999. Т. 1. С. 21.
** Цит. по: Богомолов Н. Русская литература начала XX в. и оккультизм.
М.: НЛО, 2000. С. 131.
*** Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории
Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996. С. 82.
432 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
«Прометей», кульминация которой достигается на
музыкальной теме «объединенного разума человечества» (так
определял эту тему композитор). Новые физиологические и
психологические состояния, провоцируемые его музыкой, блокировали
привычный рациональный способ восприятия мира. Такой
эффект был возможен потому, что отобранные Скрябиным
средства выразительности непосредственно направлены на иной
«канал» восприятия (не только аудиальный).
Увлеченный идеей соборности композитор использовал
возможности музыкального искусства для создания эффекта
суггестии. Его концерты, с точки зрения воздействия на
публику, можно считать аналогом суггестивного сеанса. Здесь
музыкально-мистическое произведение становится средством
коммуникации между «магом»-Скрябиным и «изменяемой»
аудиторией. В процессе внушения новой информации, по
мнению психологов, важны не только сам текст как средство
коммуникации, и производящий его суггестор, но и вера,
являющаяся обязательным фактором суггестии. Внушаемый должен
быть готов подвергнуться и подчиниться воздействию, а
внушающий — осознавать свою власть.
Попробуем рассмотреть суггестивные элементы в процессе
коммуникации публики и скрябинской музыки. Это позволит
реконструировать способ воздействия его искусства, а
значит — и способ воплощения мессианства.
Музыка как суггестия
В начале XX в. степень суггестивность российского общества
была максимально высокой. Людям того времени были
свойственны такие качества, как повышенная эмоциональность,
экспрессивность, впечатлительность, превалирование право-
полушарного мышления*. Во многом такая «психограмма»
общества связана со всеобщим увлечением разнообразными
мистическими учениями: гностицизмом, оккультизмом, герме-
тизмом и др. Появившийся тогда же термин эзотеризм удачно
их обобщил, выделив в них главный способ получения знания о
Боге, мире и человеке — в откровении, через состояние
духовного подъема или экстаза.
Подробнее об этом см.: Эткинл А. Указ. соч.
Портрет А. H. Скрябина
Николай Александрович Скрябин, Любовь Петровна Скрябина
отец композитора. (урожд. Щетинина),
Из собр. Мемориального музея мать композитора.
А. И. Скрябина Из собр. Мемориального музея
А. Н. Скрябина
Портрет Саши Скрябина. 1875 г.
Из собр. Мемориального музея А. Н. Скрябина
Сидят слева направо: А. Н. Скрябин, Н. С. Зверев, К. М. Черняев,
М. Л. Пресман; стоят: С. В. Самуэльсон, Л. А. Максимов,
С. В. Рахманинов, Ф. Ф. Кеман. 1885 г.
Из собр. Мемориального музея А. И. Скрябина
А. Н. Скрябин. 1883 г. А. Н. Скрябин. 1894 г.
Из собр. Мемориального музея Из собр. Мемориального музея
А. И. Скрябина А. Н. Скрябина
A. H. Скрябин. 1890-е гг. А. Н. Скрябин. 1892 г.
Из собр. Мемориального музея Из собр. Мемориального музея
Л. И. Скрябина А. И. Скрябина
В. И. Исакович А. Н. Скрябин. 1897 г.
первая жена А. Н. Скрябина. 1897 г.
A. H. Скрябин и И. Гофман. 1897 г.
A. H. Скрябин. 1902-1903 гг. Т. Ф. Шлёцер
Из собр. Мемориального музея
А. Н. Скрябина
Поэма экстаза. Титульный лист. Поэма экстаза. 1 -я страница
1906 г.
M. П. Беляев. 1900-е гг. «Переписка А. Н. Скрябина
и М. П. Беляева». 1922 г.
С. А. Кусевицкий
С. П.Дягилев
Портрет A. H. Скрябина с дарственной надписью на паспарту. 1907 г.
Публикуется впервые. Из собр. Мемориального музея А. Н. Скрябина
Л. Л. Сабанеев, Т. Ф. Шлёцер, А. Н. Скрябин
на берегу реки в Образцово-Карпово. 1911 г.
Из собр. Мемориального музея А. И. Скрябина
Титульный лист и 1 -я страница книги Л. Сабанеева о Скрябине. 1916 г.
A. H. Скрябин за роялем. 1912—1913 гг.
Из собр. Мемориального музея А. Н. Скрябина
Записка А. Н. Скрябина, адресованная Вяч. Иванову.
1900-е гг. Из собр. ОР РГБ
Вяч. Иванов. Параграф из статьи «Взгляд Скрябина на искусство».
Изсобр.ОРРГБ
A. H. Скрябин и Ю. К. Балтрушайтис.
Петровское близ Алексина. 1913 г.
Из собр. Мемориального музея Л. Н. Скрябина
Балтрушайтис Ю. «Видение». К. Д. Бальмонт
Посвящается А. Скрябину
Обложка и 1 -я страница книги К. Д. Бальмонта «Светозвук в природе
и световая симфония Скрябина». 1917 г.
A. H. Скрябин. 1914 г. А. Н. Скрябин.
Из собр. Мемориального музея Рисунок Л. О. Пастернака
А. И. Скрябина Из собр. Мемориального музея
А. И. Скрябина
А.Н.Скрябин. 14—15 апреля 1915 г.
Из собр. Мемориального музея А. И. Скрябина
Устав Петроградского Скрябинского Общества. 1916 г.
Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина.
Б. Николопесковский пер., 11
Мемориальная доска на доме, Памятник А. Н. Скрябину
где жил А. Н. Скрябин на Новодевичьем кладбище
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 433
С конца XIX в. увлечение мистицизмом в России прошло путь
от потаенной культуры до массовой — путь, во многом
аналогичный отмеченному отечественным социологом Д. В.
Ольшанским процессу массовизации новшества в моде*. Диапазон
знаний тайных организаций простирался от увлечения белой
и черной магией, масонством, теософией, алхимией, йогой, до
вегетарианства как науки о правильном питании и гомеопатии.
В среде символистов эти увлечения сопровождались
попытками их практического освоения. Так, А. Белый изучал технику
дыхания, а Вяч. Иванов — различные формы медитации и
визионерства. Скептически относившийся к подобным занятиям
В. Я. Брюсов тем не менее участвовал в спиритических сеансах
для достижения состояния транса, а его соратник А. Л. Миро-
польский (настоящее имя А. А. Ланг) обладал славой
сильного медиума. Становясь неотъемлемой частью мировоззрения
русских начала XX в., эзотеризм определил художественное
мышление не только его ярых апологетов, но и явных
оппонентов, принадлежавших уже постсимволистской культуре, —
Н. С. Гумилева, М. А. Кузмина, М. А. Чехова и др. Очевидно,
что публика была настолько готова к внушению, что
независимо от воспринимаемого текста сама интерпретировала его в
кодах и знаках эзотерики.
Высокий уровень суггестивности скрябинской музыки
поддерживался экстравагантным имиджем самого композитора,
провозгласившего себя Мессией. По теории гипноза, сугге-
стор по отношению к суггеренду должен выступать в роли
Божества, пророка. Согласно воспоминаниям современников,
Скрябин действительно обладал уникальным личностным
воздействием, сильной харизмой, особенно
проявлявшейся во время исполнения им своих сочинений в узком кругу
последователей.
По воспоминаниям биографов, к концу жизни
скрябинский мессианизм стал тотальным. Композитор даже приобрел
«странный», «чудаковатый» вид с устремленными вдаль и
подернутыми дымкой глазами и «каким-то "хмелем" во взоре»**.
Сабанеев указывал на «страшную далекость» композитора от
обычных людей. Сопоставим эти воспоминания с другими —
Ольшанский Д. Психология масс. СПб.: Питер, 2001. С. 261.
** Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2003. С. 32.
434 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
о влиятельной в русской культуре теософке А. Р. Минцловой.
В них также подчеркивается ее внешняя неуклюжесть,
экзальтированный и гипнотизирующий шепот*. Как и в случае со
Скрябиным, здесь просматривается стремление выглядеть
человеком не от мира сего.
В процессе суггестии большое значение приобретает
эмоциональная убежденность самого автора, его высокая пассионар-
ность передается и суггеренду. В своих воспоминаниях
Сабанеев не раз указывал на сильное, даже физическое, переживание
Скрябиным собственных произведений: «Во время исполнения
Скрябин был нервен, иногда вдруг привставал, подскакивал,
затем садился <...>. Я заметил, что, слушая свою музыку, он
иногда как-то странно замирал лицом, глаза его закрывались,
и вид выражал почти физиологическое наслаждение; открывая
веки, он смотрел ввысь, как бы желая улететь, а в моменты
напряжения музыки дышал порывисто и нервно, иногда хватался
обеими руками за свой стул»**. Критик отмечает, что «вид
самого автора этих исступленных звуков не уступал в интересе» его
музыке.
Все эти действия, совершавшиеся композитором в
состоянии крайней веры в свое высокое предназначение,
формировали личностный миф о Скрябине и определенные предустановки
для восприятия его музыки, что повышало степень
суггестивности его сочинений. О том, что степень влиятельности
композитора была необычайно высока, говорил Сабанеев: «В
близости и соседстве этого удивительного человека можно было
действительно поверить во все его фантазии, и если не
поверить, то захотеть поверить. <...> Он увлекал, как
фантастическая песня нереиды»***.
В результате важной особенностью скрябинской аудитории
была ее изначальная психологическая установка, — она не
допускала скепсиса и недоверия. Личностное воздействие
Скрябина на публику было неотъемлемой частью коммуникации его
текстов со слушателем, необходимым базисом для адекватного
восприятия его «посланий».
Об чтом см.: Богомолов Н. Указ. соч. С. 47.
Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2003. С. 34—35.
** Там же. С. 30.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 435
Музыкальные ландшафты «Прометея»
Поэма «Прометей», как Сфинкс, загадывает слушателям
рецептивный ребус — как нужно слушать это произведение?
Музыканты-профессионалы понимают: в ней разрушены
сложившиеся к концу XIX в. каноны музыкальной системы.
Любителей музыки поражают сложность звучаний и
необычность замысла. Привычные слушательские стратегии
восприятия не срабатывают, дезориентированными
оказываются обе, изначально разные, группы слушателей. Скрябин
выстраивает новый тип музыкальной композиции, ее эффект
музыковед Т. Н. Левая сопоставляет с эффектом суггестивно-
однонаправленного типа воздействия на психику*. Он
достигается посредством формирования музыкальными средствами
новых сверхмузыкальных ощущений, своего рода
«галлюцинаций». Возникающая рецептивная ситуация воспроизводит
особую структуру суггестивного воздействия, определяемую двумя
одновременными процессами: привычный способ рецепций
меняется и возникает новый маршрут восприятия.
Отзывы слушателей о «Прометее» показывают, что при
его восприятии превалирует экстрамузыкальная
направленность**. Ее параметры таковы: доминируют не звуковысотная
и ладогармоническая ориентации слуха, а ритмо-темповая и
тембро-фактурная; восприятие фрагментарно; превалирует
визуальный опыт. Композитор в партитуре, подаренной
Сабанееву, оставил конкретные расшифровки световой строки —
от ремарок об интенсивности цвета до указаний на «молнии,
лучи, туманы, облака». Современники также признавали, что
в «Прометее» чувствуется смоделированная с помощью
музыкальных средств новая реальность. Говоря словами Сабанеева,
«Прометей» — это «совершенно небывалая иллюстрация
потустороннего мира».
Чем может быть объяснен такой маршрут восприятия?
Привычные музыкальные средства использованы композитором
так, что они перекодируются слушателем в иную знаковую сис-
* Левая Т. Gesamtkunstwerk Скрябина в художественно-эстетических
рефлексиях XX в. // «Прометей» — 2000 (о судьбе светомузыки на рубеже
веков). Казань, 2000. С. 36-39.
** Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. М.: Кимос-Ард, 1997. С. 24-30.
436 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
тему. Согласно Ю. М. Лотману, рецептивный эффект
перекодировки возможен при наличии в тексте таких языковых
элементов, которые допускают синонимичную замену. В
музыке к их числу можно отнести неспецифически-музыкальные
средства — ритмические, регистровые, тембровые и проч.,
располагающиеся на стыке выразительных систем различных
искусств*. Скрябин в своих композициях «приглушал» или
блокировал нормативные музыкальные средства
выразительности, переключая внимание слушателя на внемузыкальные
параметры.
Ассоциации с образом новой реальности, возникающие
после прослушивания симфонической поэмы, указывают на
моделирование в тексте основных гносеологических параметров
реальности, таких, как пространство и время. Представляется,
что выявление способов перекодировки музыкальных структур
в пространственно-временные ощущения позволит объяснить
синтетическое восприятие «Прометея» публикой, взглянуть на
поэму как на своеобразный музыкальный эквивалент
мессианского проекта.
Выделяются два базовых принципа формирования «новой
реальности», использованные композитором в «Прометее» и
позже в других сочинениях.
Принцип первый: спатиализация звучания, т. е.
создание пространственных эффектов. Как считает Левая,
спатиализация является базисом скрябинского хронотопа.
Музыкальные сочинения Скрябина представляют «форму
пребывания в пространстве»**. Помимо световой строки, в
«Прометее» заложены и другие визуальные эффекты, достигаемые с
помощью средств музыкального языка. К ним относится
создание пространственно-звукового объема с помощью фактурных
разделений. Музыкальная ткань распадается на множество
пластов, и каждый из них получает автономность, наделяется
самостоятельным тематическим материалом. Эта «многоэтаж-
ность» фактурных комплексов создает эффект заполненного
пространства, своеобразного вибрирующего эфира. Широко
используются фигурационный тематизм, остинатный тип из-
Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного
воздействия музыки. М.: Музыка, 1976. С. 115.
Левая Т. Космос Скрябина // Русская музыка и XX век. М.: ГИИ, 1997.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 437
ложения внутри разделов, мелодические фигуры
вращательного типа. Благодаря такой контрапунктической —
практически полифонической — логике тематические сегменты
разной величины и разной степени «производности» от основной
идеи оказываются соединенными как по горизонтали, так и по
вертикали.
Еще один способ создания визуальных эффектов —
использование графических символов. Визуальность мелодических
линий, связанная с пространственными категориями,
проявляется в орнаментальных изысках «Прометея». Флористика
словно прорастает то в главных мелодических фигурах
(например, в разновидностях «Темы томления » ), то в фоновых голосах
( например, в партии фортепиано, выполняющей здесь функцию
alter ego композитора). Квинтэссенция музыкальных арабесок
воплощена в часто встречающейся у Скрябина графеме волны
и в линии Орта (ее музыкальный вариант прорисован в «Теме
Разума»).
Преобладание логики симметрии также создает эффект
архитектурное™ музыкальных построений. Она характерна и для
отдельных тем, и для композиции в целом. В результате
возникает пространственный эффект замкнутости и статичности.
Например, графика «Темы Прометея» может быть
представлена в виде двух образов: мелодического «круга» в первом
мотиве и симметричной волны — во втором. Симметричность
композиции наблюдается и в последовательности разделов:
экспозиция-разработка и реприза-кода. Они образуют два
драматургически схожих круга становления тем*.
Во многих построениях поэмы нейтрализуется
процессуальное начало. Предвосхищая мелодию в гармонической
вертикали, все звуки музыкальных тем концентрируются в одном
аккорде, что формирует ощущение идентичности мелодии и
гармонии. Вертикаль (гармония) и горизонталь (мелодия)
становятся равноправными элементами в выстраивании
своеобразной звучащей архитектуры. Пример мелодической
концентрации в одном аккорде представлен, например, в первом
эпизоде партии фортепиано. Звукоряд аккорда «Прометея»,
объединяющий и мелодию, и гармонию, ограничен в звуко-
* Эта особеипостьформы отмечена в работе: Бобровский В. О драматургии
скрябинских сочинений//Советская музыка. 1972. № I.C. 114.
438 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
вом составе и создает единые по сонорному качеству созвучия.
Благодаря этому возникает эффект звуковой статики.
Пространственные модуляции этих конструкций акцентируют их
колористическую или, по терминологии немецкого теоретика
Э. Курта, «импрессионистическую» функцию, что также
создает впечатление звучащей неподвижности.
Кроме того, Скрябин является мастером пространственных
иллюзий. Контрастное сопоставление далеких регистров на
близком временном расстоянии формирует границы
виртуальной реальности. Резкие противопоставления звуковых пустот и
звуковых заполнений ассоциируются с расположением
объектов в пространстве («далеко — близко», «вверху — внизу»),
а тембровый окрас моделирует такие качественные параметры,
как объем и плотность.
Визуальный гештальт также формируется на основе
тембровых характеристик. Визуальные перцептивные признаки, к
которым, согласно исследованию музыковеда Н. П. Коляденко,
относятся, например, оппозиции «светлота — темнота»,
«яркость — блеклость», обеспечиваются инструментовкой
партитуры*. Так, «Тема воли» ассоциируется с ярким тембром
солирующей трубы, прорезающей пространство первоначального
хаоса. Флейтовые трели в высоких регистрах — это аллюзии
на природный ландшафт, а по мнению музыковеда В. П.
Бобровского, они ассоциируются с пением птиц, уводящим в
область ирреальных мечтаний или фантастически-космических
аллюзий**.
Второй принцип: создание временного континуума.
Музыкальный мир «Прометея» демонстрирует парадоксальное
сочетание противоположных качеств: наряду с
пространственной статичностью в нем происходят колоссальные
процессуальные изменения. В музыкальном искусстве такие эффекты
создаются с помощью категорий напряжения и разряжения. До
Скрябина наиболее эффектно их применял Р. Вагнер, в
особенности в опере «Тристан и Изольда». «Тристановский стиль»
разворачивается в условиях нового психологического времени,
в котором временные процессы то непредсказуемо ускоряются,
Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания:
Автореф. дисс. <...> доктора искусствоведения. Новосибирск, 2006. С. 27.
Бобровский В. Указ. соч. С. 116.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 439
то замедляются. Аналоги с вагнеровскими приемами
наблюдаются и в «Прометее», в котором Скрябин раскрывает свое
понимание идеи времени. Композитор фактически помещает в
эпицентр музыкальных событий особое проживание времени,
свойственное его психотипу. Подтверждением этому служат его
высказывания о творческом процессе: «Что-то начало мерцать
и биться, и это что-то одно. Оно дрожит и мерцает, но оно одно.
Я не различаю множества. Это одно только противоположно
ничего, оно — все. Я — все. Оно — возможность всего, оно
еще не хаос <...> Вся история и все будущее Вселенной — в
нем. Все элементы смешаны, но все, что может быть, — там.
Вспыхивают краски, возникают чувства и смутные мечты.
Я хочу. Я создаю. <...> Я различаю. <...> Мгновенья
прошлого и будущего рядом. Смешаны предчувствия и воспоминания,
ужасы и радости»*.
Воссозданный в этих словах процесс предельно близок
программе «Прометея», заключающей в себе и «Я-концепцию»
Маэстро, и его понимание Вселенной, и мессианский проект
преобразования мира. Скрябинские поведенческие паттерны,
зафиксированные в воспоминаниях современников, также
свидетельствуют о когерентности музыкального времени его
сочинений и его психологического типа. По свидетельству
Сабанеева, «этот человек, как все очень нервные люди, был окружен
какой-то заряженной электричеством атмосферой, которая
всеми чувствовалась. Он не был ни на минуту спокоен, он
всегда был в каком-то напряжении, он на стуле даже сидел как-то
напряженно <...> никогда не видел его в пассивной, усталой
позе, с поникшей головой»**.
Необычайно насыщенный график изменений можно
наблюдать уже в первых тактах поэмы. В пределах четырех тактов
звучит «Прометеев аккорд» в динамике двойного пиано, затем
три такта формируют первый мотив «Темы Прометея»,
предельно контрастный предыдущей статичности.
Оркестрованный четырьмя валторнами, с акцентами на каждой ноте, этот
мотив, несмотря на предписанный нюанс пиано, звучит как
побудительный призыв. Следующий за ним аккорд в течение все-
* Скрябин А. Записи // Русские пропилеи: Материалы по истории
русской мысли и литературы. Т. 6. М., 1919. С. 159.
** Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. С. 213.
440 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
го лишь трех четвертей проходит колоссальный динамический
путь — от двойного пиано, крещендо до форте и через
диминуэндо обратно к двойному пиано. В этом аккорде,
следовательно, можно зафиксировать еще три изменения. Таким образом,
первые восемь тактов наполнены пятью противоположными
энергетическими состояниями.
Пульсация времени, понимаемая композитором как
«результат распределения переживаний», в котором «каждый
следующий момент есть отрицание предыдущего»*, переводится в
музыкальные категории несколькими способами.
Во-первых, здесь можно выявить моделирование дискретных
временных отрезков с помощью монтажно-кадровой техники
композиции. Созданная уже после экспериментов Скрябина
теория монтажных аттракционов С. Эйзенштейна (в 1923 г.)
описывает подобные эффекты. В ее основе лежали
наблюдения режиссера над природой искусства (театра, музыки, в том
числе произведений Скрябина). Важным структурным
элементом для кинорежиссера было особое понятие кадра — это
«столкновение, конфликт двух рядом стоящих кусков»**.
Сочетание монтажных «кусков» координируется их конфликтными
«доминантами» (т. е. главными признаками), производящими
яркий эффект из-за столкновения кадров.
В «Прометее» принцип кадровости также реализуется через
сопоставление контрастных музыкальных структур. Например,
яркая «раскадровка» ощутима при появлении двух важных для
драматургии поэмы «героев»: «Темы разума» и фортепианного
варианта «Темы воли». Концентрация конфликтности
достигается во всех выразительных средствах: в динамике (двойное
пиано — резкое двойное форте), в тембре (деревянные и
медные духовые — «ударное» фортепиано), в ритме (движение
четвертями — триольные восьмые), в метре (смена метронома
от четверти, равной 80, к четверти, равной 96), в фактуре
(медленная экспрессивная кантилена — кластерно-аккордовое
уплотнение дискретных интонаций). Пульсация контрастных
кадров задает сочинению общий композиционный ритм,
который в кульминационных разделах ускоряется, «сжимая» вре-
Скрябин А. Записи... Указ. соч. С. 176.
Эйзенштейн С. За кадром ( 1923)//С. Эйзенштейн. Монтаж. М.: Музей
кино, 1998. С. 36.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 441
менной континуум. А в медитативных структурах движение
замедляется, «расширяя» время.
Во-вторых, в поэме усилено кинетическое напряжение. Так,
кинетика у Вагнера, впервые выявленная Куртом в
«Тристане», реализуется в сочетании доведенной до предела альтера-
ционности с эллиптичностью: максимальное обострение
ладовых тяготений «усугубляется» непрестанным отодвиганием
«избыточной» цели, которую эти тяготения предполагают.
В скрябинской «системе координат» этот процесс практически
выходит за рамки традиционного тонального мышления,
создается впечатление тотальной гармонической неустойчивости.
Из функциональных переосмыслений возникает новая
тональность — в ней классическая тоника заменена на «доминантоо-
бразное» созвучие, которое полностью утрачивает тяготение
и разрешение, хотя и сохраняет устремленность и
напряженность*. Постоянная напряженность диссонантных звучностей
определяет преобладание «возбуждения» над «торможением».
Потеря гармонией свойства функционально связывать текст
компенсируется доминированием линеарных связей. Они еще
более усиливаются благодаря ритму и фактуре, вызывающим
линеарное расслоение. Яркий пример своеобразной
мелодической модуляции — это выход через интонационное
мелодическое движение к светоносному аккорду в конце поэмы.
В-третьих, процессуальность усиливается за счет
неспецифически-музыкальных средств. Возможности регистровки
и динамики позволяют непосредственно воплотить в музыке
ощущение движения энергетических масс. Так, динамическое
«раздувание» одного аккорда, а затем его затухание создают
впечатление энергетических пульсаций.
Таким образом, в «Прометее» с помощью музыкальных
средств моделируется виртуальное пространство. Философские
принципы обретают здесь вещественность в виде музыкальных
лейтмотивов, взаимодействующих между собой в музыкальной
вселенной «Прометея». Вместе с тем, несмотря на
максимальную контрастность многих мотивов-структур, можно выявить
внутренние закономерности в их строении.
* Подробнее о гармонии см.: Холопов Ю. Скрябин и гармония XX века //
Ученые записки (Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина). М.,
1993. Вып. 1.С. 25-39.
442 Е. В. Ключникова (Лобанкова)
Все темы распределяются между двумя основными
энергетическими принципами — напряжением и разряжением.
«Тема Прометея», «Тема Воли» и все их модификации
принадлежат к темам-«призывам» и образуют область
маскулинности с ее инициативным началом. А «Тема Разума» и все другие
quasi-лирические интонации тем-«оболыцений» — область
«феминности». Перевод психологических качеств в тендерные
характеристики был свойствен мышлению композитора, и
вообще эпохи. Так, Вторая прелюдия, ор. 74 — это, как
объяснял сам Скрябин, «смерть», «явление Женственного, которое
приводит к воссоединению»*. И музыкальные характеристики
этой прелюдии — нисходящая линия, статичность,
хроматика — коррелируют с «женскими» темами «Прометея».
Взаимодействуя на протяжении всей поэмы, эти два
принципа — активности и статичности — в итоге
переплавляются в единой заключительной теме. Именно она и олицетворяет
соборное состояние. «Мужское» и «женское» объединяются
в неделимой антиномичной сущности — в образе Андрогина.
Важно, что именно с этого образа, знакового для всей
культуры Серебряного века, начиналось знакомство с партитурой
скрябинской поэмы. По желанию композитора изображение
Андрогина, этого идеального существа, было помещено на
обложку нот. Единство всех ипостасей человека в новой
антропологической сущности призвано было изменить сам порядок
земного существования.
Обращение к «мужскому» и «женскому», как к двум
основным принципам активности, не случайно. Только биологическая
сущность человека инвариантна, одинакова для всех, а другие
ипостаси человеческого бытия вариативны. Фактически
попытка найти в рамках национального мессианства
антропологические универсалии подвела Скрябина к открытию,
сделанному позже 3. Фрейдом в работе «Психология масс и анализ
человеческого "Я"» ( 1921 ).
В русском мессианстве социальное и индивидуальное
оценивались как отрицательные ипостаси окружающей их цивилиза-
ционности, а биологическая сущность возносилась до идеала.
Теория Фрейда также утверждала, что в человеке под всеми его
культурными и социальными «одеждами» скрываются лишь
Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. С. 158.
A. H. Скрябин и национальный диспут начала XX в.... 443
две базовые потребности его психологической активности:
«либидо» и «агрессия». Эти качества составляют основную
содержательную программу и у Скрябина. Феминность(=
либидо) и маскулинность (= агрессия) наделяются чувственными,
образными характеристиками, они превращаются в главных
действующих лиц поэмы. Стирая индивидуальные различия,
биологическая сущность определяет поведенческие
паттерны в экстремальных состояниях, когда процессы осмысления
и анализа блокируются и заменяются инстинктами. Именно к
этому апеллировал символистский проект воплощения
соборности. В этом его авторы видели национальную миссию
русского Творца-пророка.
* * *
Скрябинские мистические проекты, несмотря на столь
сильное воздействие на современников, сегодня воспринимаются
как утопия Серебряного века. Апеллирующие к мессианской
идее, его сочинения сохраняют свое суггестивное воздействие
и на современную публику, хотя «код» для их расшифровки уже
утерян. Поэтому национальные подтексты «Прометея» не
прочитываются сегодняшним слушателем и требуют специальных
усилий по их реконструкции.
Е. В. Смирнова
Философские опыты А. Н. Скрябина*
А. Н. Скрябин стоял на грани двух эпох —
уходящего XIX и нового XX в. Творческий феномен Скрябина
определили контрасты несовместимых между собой
стихий: реализма и модернизма, утонченности и
грандиозности, томления, мечты и в то же время воли,
самоутверждения, веры в Абсолют и всепоглощающей
Мистики.
Н. А. Бердяев писал о Скрябине: «Я не знаю в
новейшем искусстве никого, в ком был бы такой
исступленный творческий порыв, разрушающий старый мир
и созидающий мир новый»**.
Искусство Скрябина, казалось, порывает со всеми
традициями классического искусства, его
реформаторская деятельность опровергла все существовавшие
до него представления о музыке и ее основах. Но это
устремление к поистине космическим высотам стало
возможным только на основе органического усвоения
всего многовекового опыта в развитии музыкального
искусства и потрясающего по своей силе творческо-
* Впервые опубликовано: Вестник Чел ГУ. 2006. № 42 (180).
Вып. 15. С. 144-147.
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства:
в 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 1. С. 402.
Философские опыты А. Н. Скрябина 445
го дара Скрябина, его художественного видения, или даже
ясновидения.
Скрябин осуществил уникальный, революционный прорыв
не только в концептуальном смысле, но и с точки зрения
практического искусства. Он открыл искусству XX столетия новые
горизонты в трактовке ладо-тональных отношений, вдохнул
новую жизнь в такие понятия, как «пространство» и «время»,
«форма» и «содержание» в музыке и искусстве, переосмыслил
категории консонанса и диссонанса, мелодии и гармонии. Все
эти компоненты музыкального целого символизировали те
результаты философских поисков, к которым пришел Скрябин.
В творческих исканиях Скрябина тенденция превратить
искусство в философию жизни была очень сильной. Документы
и воспоминания свидетельствуют о серьезности философских
интересов Скрябина. Он выказывает большую
заинтересованность, пытливость, творческую активность. Схватывая и в
целом, и в частностях весьма сложные абстрактные идеи, он
сразу же вводил их в круг собственных размышлений.
Композитору несомненно были свойственны специфические
способности и склонности к философско-теоретическому мышлению.
Ему нравилась схематизация отвлеченных понятий, создание
стройных и всеобщих систем; он любил фиксировать эти
системы в форме графических изображений.
В процессе композиторского творчества Скрябин постоянно
находился в ответе перед своей мыслью философа.
Возможность выполнения музыкального замысла в его представлении
зависела от того, «решил» ли он соответствующий общий
вопрос. Он писал в связи с работой над «Поэмой экстаза»:
«Каждый раз мне кажется, что канва готова, Вселенная объяснена.
<...> А завтра, наверное, еще сомнения, еще вопросы! До сих
пор только схемы и схемы! (...) Пока в моем мышлении не
придет все в полную ясность, пока не будут объяснены все явления
с моей точки зрения — я не могу лететь»*.
Представление Скрябина о роли общих философских
предпосылок для его музыкальных произведений было в
значительной мере иллюзорным. Это связано прежде всего с некоторыми
самообольщениями композитора относительно того, что он
называл «моим учением» или «моей философией». Это «учение»
* Скрябин А. Н. Письма. М.: Музыка, 1965. С. 343-344.
446 Е. В. Смирнова
он сам понимал как высший стимул всей своей деятельности.
Другие композиторы, казалось ему, писали «просто музыку»,
он же, Скрябин, с помощью музыки утверждал «учение».
Однако совершенно разное качественное значение музыки
и теоретических построений Скрябина бросается в глаза. Как
композитор он непрерывно обогащал искусство новыми
ценностями; его философия — не более чем любительская
компиляция из некоторых книг, приобретшая лишь отблеск
художественного темперамента Скрябина. Научная ценность
«учения» равна пулю. Такова же, в сущности, и литературная
ценность скрябинских философско-поэтических текстов.
В философских декларациях Скрябина без малейшего
труда обнаруживается позиция солипсиста, единоличного и
полновластного творца всего сущего. В психологии Скрябина-
художника это ощущение в себе «духа», жаждущего жизни и
созидающего ее по велению своей мечты, связано прежде
всего с идеей свободной творческой воли. Предмет увлечения —
духовная личность, сбросившая оковы любых принуждений,
личность, воспрянувшая для самостоятельного бытия,
устремившаяся к полному расцвету. В этом смысле фантазерство
Скрябина и его фанатическая вера в свое «учение» — не
прихоть и не упрямство, но настоящая подлинно романтическая
приверженность к идеально понимаемому Человеку, его
истинному призванию, его великой цели.
Философия Скрябина позволяла ему отдаваться движению
чувств, зову воображения. Безмерно развиваемые и
абсолютизируемые, эти идейные предпосылки вели к
гипертрофированному ощущению собственного «Я». Личная воля и только ею
творимый мир в представлении художника становится
универсумом, а сам он — единственным и уникальным вместилищем
этого универсума.
Тем не менее идеи Скрябина-философа ложились в основу
творческих поисков Скрябина-композитора. И уже поэтому
интересно рассмотреть некоторые из них.
Так, искусство звуков в скрябинском понимании
представляет собой не просто «новое описание» мира, а некую
глобальную Реальность, в объеме которой физическая Вселенная
занимает только часть. При этом музыкальное произведение
является своего рода «тоннелем в космическое пространство
звездных миров». Сам Скрябин неоднократно подчеркивал
свою «независимость» от традиционных трактовок Реально-
Философские опыты А. Н. Скрябина 447
сти. «Мир, живший в представлении моих предков, — пишет
композитор, — я тебя отрицаю. Я отрицаю тебя, все прошлое
Вселенной, науку, религию и искусство, и тем даю вам жить»*.
Творчество для Скрябина имеет «сознательную» и
«бессознательную» стороны. «Бессознательное» творчество
соответствует «включенности» человека в миф: «...Бессознательной
стороной своего творчества я участвую во всем. Вселенная есть
бессознательный процесс моего творчества»**. Сознательная
сторона заключается в преодолении рамок традиционной
картины мира — «образов прошлого». «Чем сильнее образ
прошлого, — отмечает Скрябин, — тем он быстрее овладевает
сознанием, тем больший подъем необходим для его исключения
из сферы сознания... Со стороны сознания у меня переживание
иного, нового, с другой — все остальное в своем стремлении
завладеть моим сознанием.
Подъем в этой борьбе определяет качественное содержание
переживаемого мною состояния»***. Композитор подчеркивает,
что мир неизмеримо шире человеческих представлений о нем —
хотя его привычный облик также реален. «Не пугайся этой
бездонной пустоты! — восклицает Скрябин. — Все это
существует, все есть, что ты хочешь, и только потому, что ты хочешь,
потому что ты создал все это силою твоего желания. Разве все
это исчезнет, если ты сознаешь свою силу и свою свободу? Ты
хочешь летать, — лети, как хочешь и куда хочешь, вокруг Тебя
пустота!»**** Ощущение «полной свободы» при выходе за
границы мифа, состояние «божественного опьянения»
всемогуществом своего сознания отражено в пафосе таких утверждений
Скрябина, как: «Я существо абсолютное. Я бог»*****.
Композитор считает, что его сознание свободно от Реальности.
Скрябин размышлял над соотношением музыки и сознания.
В своих философских размышлениях он считал, что явление
невозможно познать, пребывая в его рамках, — сущность му-
* Записи А. Н. Скрябина // Русские пропилеи: материалы по истории
мысли и литературы. М., 1919. Т. 6. С. 152.
Там же. С. 163.
*** Записи А. Н. Скрябина // Русские пропилеи: материалы по истории
мысли и литературы. М., 1919. Т. 6. С. 181.
**** Там же. С. 154.
Там же. С. 175.
448 Е. В. Смирнова
зыки можно определить лишь с позиции других ментальных
форм человеческой деятельности. Способность к творчеству
становится основным условием расширения границ
Реальности в сознании. Музыка для композитора являла собой
несомненную реальность, к которой физический мир относился как
вторичное явление. Для великого мистика, который понимал
искусство звуков, было вполне естественно открыть в своем
искусстве некие «черты скрытой реальности», основанные на
глубинных закономерностях музыкального феномена.
Чисто теоретических упоминаний о музыке у Скрябина
практически нет потому, что Вселенная, о которой он пишет,
представала его познанию именно в «звучащем», «музыкальном»
виде: мир Скрябина был миром звуков, миром его
художественных произведений — той метафизической Реальностью,
которая была главным предметом внимания великого мистика.
Заявления Скрябина о том, что ему «через музыку» удалось
познать многие тайны мира, говорит не столько о
проникновенности в тайны материальной вселенной, сколько об открытии
таинств своего искусства, представляющего некий «субстрат»
проявленного мира — его энергетическую основу и
фундаментальный структурный принцип.
Скрябин считает, что «религия, искусство, наука» — лишь
«крылья» для его творчества*.
«В творчестве, — продолжает он, — всякому чувству,
всякому исканию, всякой жажде я дарю расцвет»**. Музыкальный
феномен, определявший видение мира композитором, был в то
же время лишь частью этого мира, лишь одной из многих
энергетических оболочек «творящего Я».
Как воспоминает Л. Л. Сабанеев, «Скрябин воспринимал
мир как царство призраков, как ряды сновидений, для него
реальность сна и яви была почти тождественна, он жил не в
действительном мире, а в фантастическом... Свои ощущения
он передавал не только звуками, но еще своеобразной и
оригинальной мимикой и жестами, которые были очень странны,
кошмарны, «сонны» по своим настроениям, галлюциорны. Это
были какие-то внезапные паузы жестов, вопросительные и то-
Записи А. Н. Скрябина // Русские пропилеи: материалы по истории
мысли и литературы. М., 1919. Т. 6. С. 143.
Там же. С. 153.
Философские опыты А. Н. Скрябина 449
мительные взоры, он как-то внезапно раскрывал широко глаза
после того, как они бывали томно полузакрыты, точно увидев
видение»*.
Фантастическая вера Скрябина в свое предназначение
подкреплялась мистическим совпадением его рождения с
Рождеством Христовым. Мистика чисел сопровождала его до
последнего дня — дня смерти, выпавшего на Пасху. Мистика вообще
стала ключевым понятием в жизни и творчестве Скрябина,
именно она вывела его на стезю поиска оптимальной
формулы синтеза искусств или «всеискусства», говоря словами Вяч.
Иванова.
Для художников «Серебряного века» «всеискусство» было
вообще типичным: «живописные» сонаты М. Чюрлениса,
литературные «симфонии» А. Белого, «звучащие» полотна
В. Борисова-Мусатова и т. п. Но только Скрябину удалось
подойти вплотную к практическому осуществлению идеи
синтеза искусств. Он мечтал, чтобы его искусство было источником
радости и жизни для всех людей. Для гениального музыканта
наивысшим этапом в его концепции синтеза искусств стала
Мистерия.
Идея мистерии в конце XIX в. привлекала не только
Скрябина. Так, Ф. Ницше мыслил свободу как растворение в
коллективном восторге, который пробуждает человека к мистери-
альному действу, выражающему непосредственно космическую
жизнь. Дионис и его искусство, с точки зрения Ницше,
вырывают человека из изолированности, показывают ему путь,
ведущий к Божественной жизни, где душа человека переживает
полное преображение.
Можно выделить ряд причин, по которым Мистерия была
притягательна для художников той поры.
Во-первых, характерные для этой эпохи апокалипсические
тревоги, мистический страх конца. Идея Апокалипсиса нашла
отражение в философии А. Белого и А. Блока, Вл. Соловьева и
В. В. Розанова. Скрябин также предполагал показать
апокалипсическую идею гибели мира, изживающего себя в Мистерии.
Во-вторых, ощущение переломности, кризиса,
разорванности современной эпохи вызывало стремление хотя бы
средствами искусства, в мифе, выразить целостность и единство
* Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика-XXI, 2000. С. 99.
450 Е. В. Смирнова
бытия. Подобно Р. Вагнеру, Скрябин искал художественную
форму, которая в синтезе искусств была бы способна показать
многообразие и цельность жизни Космоса. При всей
заинтересованности вагнеровской музыкой, Скрябин, однако, считал,
что немецкий композитор заблуждался, полагая создать синтез
искусств на основе музыкальной драмы*. Скрябин приходит к
выводу, что синкретизм искусств в древнегреческой драме уже
распался, а существовал он лишь в более ранних по времени
мистериях. Художник видел в мистериях живой религиозный
смысл и мечтал о создании собственной мистерии, в которой
сама жизнь станет формой творчества**.
В-третьих, сознание трагичности индивидуальной жизни
в современной мире рождало мечту о мистерии как реальном
художественно-религиозном акте, в процессе переживания
которого личность вырвется из ограниченного
индивидуального бытия и достигнет цельности и единства со всем
человечеством, с Космосом. Ощущая свое внутреннее тождество со
всей Вселенной в ее творческом действии, Скрябин утверждал
исключительную действенность религиозного пути, в конце
которого человек обретет вселенское бытие.
Это путь приобщения своего «Я» к Всеединому и укоренения
себя в нем. Идеи Скрябина адекватны идеям Вл. Соловьева,
С. Л. Франка, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и ряда других
русских философов, исповедующих метафизику всеединства.
Идея Всеединства определяла тематическую цельность
произведений Скрябина. Три грандиозных произведения:
«Божественная поэма», «Поэма экстаза» и «Прометей», —
имеют общую главную тему. Этот любимый скрябинский мотив
переходит из мазурки в поэму, из поэмы в прелюдию, из
прелюдии — в симфонию. Скрябин пытался осуществить мечту о
создании «искусства из одного слитка», способного служить
воссоединению с Единым, Абсолютным началом.
Такое же стремление к монотематизму встречается у Ф.
Листа. Все его произведения основываются на видоизменении
одной ведущей темы. Благодаря этому создается единое и
многогранное время жизни героев, смысл которой — подвиг
* Рубцова В. В. А. Н. Скрябин. М.: Музыка, 1989. С. 350.
Белый А. Театр и современная драма // А. Белый. Символизм как
миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 160.
Философские опыты А. Н. Скрябина 451
предначертанного эволюцией восхождения к Вечному.
Исследования И. Лапшина, А. Ф. Лосева, Л. Л. Сабанеева
свидетельствуют, что творчество Листа оказало большое влияние на
Скрябина. Так же как и Лист, Скрябин избирает для своих
сочинений жанр поэмы, поскольку ее свободная одночастная форма
способна ярче других раскрыть образ «едино-множественного
Времени».
«Скрябин стремился воплотить в своих музыкальных
произведениях диалектику вечного и мгновенного, одномоментного
и протяженного, основанного на чувстве Всеединства и
бесконечного бытия»*. Философские записи композитора
подтверждают, что он рассматривал бесконечное и конечное как
два уровня единого бытия. По его мнению, вечность,
мгновенность и время — неразрывно связанные характеристики
единой процессуальности бытия. «Время — это синтез мгновения
и вечности. Вечность и мгновенность — основа времени»**.
В своей музыке Скрябин бесконечную текучесть времени
сводит к одному мгновению. Вечность и есть такое мгновение,
которое содержит всю бесконечную текучесть времени как
одну точку, как целое, которое «присутствует в виде всего во
***
всем»
«Философия» Скрябина, воплощенная в художественные
образы, призвана была выйти за рамки эстетического
внушения, ее миссией становились величайшие жизненные
перемены. Такая задача исторически возникала в связи с вполне
реальными процессами. Они представляли собой
мифологизированное ожидание социальных перемен. Они связаны с
ситуацией, когда обострилось ощущение недостаточности дум и
чувств по поводу таких перемен, когда все более жгучей
становилась потребность действия. Идея же немедленного,
магического действия, основанная на абсолютизации нравственного
начала, вере в его всесильность, была вариантом этого
радикализма, типичным именно для русской общественной среды.
* Левая Т. Н. Скрябин и «младосимволисты» // Русская музыка начала
XX века в художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991. С. 56—72;
С. 65.
** Скрябин А. Н. Письма // А. Н. Скрябин. М.: Музыка, 1965. С. 187.
*** Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века: в 2 кн. М.:
Искусство, 1988. Кн. 2. С. 85.
452 Е. В. Смирнова
Своим творчеством Скрябин выразил духовное состояние
этого переломного времени, сам став эпохой в музыкальной жизни
России.
«Философия Скрябина есть философия мистерии», —
констатирует А. Ф. Лосев. В своей работе о Скрябине он пишет:
«Сущностью этой наиболее, я бы сказал, скрябинской
философии "я" является именно мистериальный характер этого "я"
с необходимым привхождением мистического историзма,
охватывающего сокровенные судьбы мира и Бога... Это "я" —
мировое и Божественное, и вот — жизнь его есть мистерия»*.
Мистерия А. Н. Скрябина осталась лишь в замысле,
неосуществленной, но этот замысел, подробно разработанный
композитором в его философских заметках и фрагментах, является
ключом к пониманию его философии.
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М.: Советский писатель, 1990. С. 267.
Хроника основных событий жизни
и творчества А. Н. Скрябина*
1871, 25 декабря (6.01.1872). В Москве родился
Александр Николаевич Скрябин.
1882-1883, зима. Первое выступление Скрябина
в кадетском корпусе, где он на слух сыграл «Песнь
гондольера» Ф. Мендельсона и «Гавот» И. С. Баха.
В течение года. Сочинил канон для фортепиано ре
минор.
1888, январь. Скрябин поступил в Московскую
консерваторию, одновременно продолжая учебу в
кадетском корпусе.
21 ноября. Первое публичное выступление в
Москве в Большом зале Благородного собрания.
1889, май. Окончание занятий во Втором
московском кадетском корпусе.
1890, весна. Скрябин закончил курс контрапункта
у С. И. Танеева и переведен в класс фуги.
1891, октябрь. Знакомство с ученицей Зверева,
пианисткой-любительницей, Н. В. Секериной,
которое скоро переходит в серьезное увлечение.
1892, весна. Окончание консерватории по
классу фортепиано у В. И. Сафонова с малой золотой
медалью.
1894, 11 февраля. Первый авторский концерт в
зале Петербургской консерватории.
Сост. К. Г. Исунон.
454 Хроника основных событий жизни и творчества...
1895, апрель-август. Первая заграничная поездка
Скрябина (Берлин, Дрезден, Гейдельберг, Шёнеке, Вицнау, Генуя,
Берлин). Композитор много сочиняет. Встречается с отцом.
В Швейцарии встречается с Беляевым, с которым и
продолжилось заграничное путешествие.
Июль. И издательстве М.П. Беляева выходят Двенадцать
этюдов (ор. 8).
Осень. Начало знакомства с С. Н. Трубецким.
1896, январь—сентябрь. Первые авторские концерты за
границей: в Париже, Брюсселе, Берлине, Гааге, Амстердаме,
Кёльне, снова в Париже.
1897, 27 августа. Женитьба на пианистке В. И.
Исакович, воспитаннице Московской консерватории по классу
П. Ю. Шлёцера.
27 ноября. Присуждение Глинкинской премии за
фортепианные пьесы, которая в дальнейшем будет присуждаться
Скрябину почти ежегодно.
1902, ноябрь. Знакомство с Т. Ф. Шлёцер.
1903, 15 февраля. В издательстве М. П. Беляева вышла из
печати вторая симфония.
21 марта. Первое исполнение в Москве второй симфонии.
В течение лета. Знакомство с Б. Л. Пастернаком и его
семьей.
8—21 сентября. Скрябин посещает заседания Второго
международного философского конгресса в Женеве.
1905, апрель. В издательстве М. П. Беляева вышла третья
симфония («Божественная поэма»), ор. 43.
16 (29) мая. Первое исполнение третьей симфонии в
Париже.
Весна 1904 - май 1905. Знакомство с теософией.
Увлечение этим учением.
1906, январь. Знакомство в Больяско с Г. В. и Р. М.
Плехановыми. Начало дружбы и философских споров с Плехановым.
До 17 (30) мая. Скрябин печатает за свой счет брошюру со
стихотворным текстом к «Поэме экстаза».
28 ноября (11 декабря). Прибытие Скрябина в Нью-Йорк.
Встреча с В. И. Сафоновым и М. И. Альтшулером.
Декабрь 1906 - март 1907. Концерты в городах Америки
(Нью-Йорк, Цинциннати, Чикаго, Детройт).
Хроника основных событий жизни и творчества... 455
1907, 3(16 мая). Торжественное открытие цикла пяти
Русских исторических концертов, организованных С. П.
Дягилевым в парижском Гранд-опера.
10 (23) мая. Исполнение в домашних условиях «Поэмы
экстаза» русским музыкантам.
Январь. В издательстве М. П. Беляева вышла «Поэма
экстаза» (ор. 54).
Начало июня. Приезд в Лозанну С. А. Кусевицкого с
женой. Встреча Кусевицкого со Скрябиным и начало их деловых
отношений.
27 ноября ^ 10 декабря). Первое исполнение «Поэмы
экстаза» в Нью-Йорке.
1909, 5 (18) - 19 января. В Петербурге — первое
исполнение в России "Поэмы экстаза" Придворным оркестром под
упр. Г. И. Варлиха.
Вечер в редакции журнала «Аполлон», посвященный
Скрябину; познакомился с Вяч. Ивановым.
8 марта. В симфоническом концерте Московского
отделения Русского музыкального общества исполнены
«Божественная поэма», «Поэма экстаза».
После 8 марта. Разрыв дружеских отношений между
Скрябиным и М. К. Морозовой.
Сентябрь—октябрь. В Москве организован кружок скряби-
нистов, куда вошли многие известные музыканты.
29 ноября. Скрябину присуждена Глинкинская премия за
5-ю сонату.
1910, 1 (14) января. Отъезд Скрябина с Т. Ф. Шлёцер из
Брюсселя в Москву, окончательное возвращение композитора
на родину.
10 февраля. Первое исполнение «Поэмы экстаза» в
Москве.
16 марта. Смерть сына композитора, Льва Александровича
Скрябина.
17 января. Рождение дочери Марины.
30 января - середина февраля. Концертное турне по
городам Германии (Дрезден, Берлин, Лейпциг).
2—9 марта. Первое исполнение «Прометея» в Москве и в
Петербурге.
Март—апрель—май. Охлаждение отношений между
Скрябиным и Кусевицким, который закончился разрывом.
456 Хроника основных событий жизни и творчества...
Ноябрь. Скрябину присуждена Глинкинская премия за
"Прометея". Это последняя Глинкинская премия, полученная
композитором.
Осень-зима. Скрябин начинает изучать лирику русских
символистов, стремясь их опыт использовать при написании
текста «Мистерии».
1912, Июнь-октябрь. Заграничная поездка Скрябина и
Т. Ф. Шлёцер (Беатенберг, Брюссель, Амстердам, Гаага,
Гарлем, Франкфурт-на-Майне). Концерты в городах Голландии и
Германии.
1913, 19 января (1 февраля). Первое исполнение в
Лондоне «Прометея».
Между 9 и 12 ноября. Скрябин посещает Театр-студию
В. Э. Мейерхольда.
Накануне 1 (14) марта. Внезапная болезнь композитора
(фурункул на верхней губе).
1 (14) марта. Первое выступление в Англии. 8/21 марта.
Инженер А. Римингтон в письме знакомит Скрябина со своим
изобретением — инструментом для воспроизведения светоц-
ветовой гаммы.
12 (25) марта. В Кембридже Скрябин посетил профессора
Ч. Майерса, который занимался проблемой цветосветового
воздействия музыки на психику.
До начала июля. Завершены последние фортепианные
произведения: Две поэмы — ор. 71; поэма «К пламени» — ор. 72;
Два танца — «Гирлянды» и «Мрачное пламя» — ор. 73; пять
прелюдий — ор. 74.
Конец ноября. Скрябин прочел завершенный текст
"Предварительного действия" поэтам Вячеславу Иванову и Юргису
Балтрушайтису.
Зима 1914—1915. Работа над текстом и музыкой
«Предварительного действа».
1915, 27 января. Последнее концертное выступление
Скрябина в Москве, в Большом зале Благородного собрания.
Впервые исполнена пьеса «Мрачное пламя» — ор. 73, № 2.
Половина сбора поступила в пользу отряда Красного Креста.
1(14) апреля. Исполнение «Прометея» в Нью-Йорке.
7 апреля. Первые признаки болезни (маленький фурункул
на верхней губе).
7—11 апреля. Обострение болезни, в течение которой
фурункул превратился в карбункул.
Хроника основных событий жизни и творчества... 457
После 12 часов и до вечера. Усиление болей, понимание
Скрябиным безнадежности своего состояния.
Около 24 часов. Скрябин подписывает прошение на
высочайшее имя об усыновлении детей от Т. Ф. Шлёцер.
14 апреля. 8 часов 05 минут. Скрябин скончался.
Избранная библиография творчества
А. Скрябина*
1. Аврамов А. «Ультрахроматизм» или «омнито-
нальность». Петроград: Сириус, 1916. 12 с.
2. Альшванг А. А. Александр Николаевич
Скрябин (1872—1915). К 25-летию со дня смерти. М.; Л.:
Музгиз, 1940. 64 с.
3. Альшванг А. А. Александр Николаевич
Скрябин // Советская музыка. 1940. № 4.
4. Амброс А. В. Границы музыки и поэзии. СПб.,
М.: В. Бессель и К., 1889. 144 с.
5. Артамонов И. Д. Иллюзии зрения. М.: Наука,
1969.223 с.
6. Асафьев Б. В. Русская музыка XIX и начала
XX вв. 2-е изд. Л.: Музыка, 1979. 341 с.
7. Асафьев Б. В. О музыке XX века / Б. В. Асафьев.
Л.: Музыка, 1982.200 с.
8. Бальмонт К. Д. Звуковой зазыв // К. Бальмонт
Избранное. М.: Худ. литература, 1980. 742 с.
9. Бальмонт К. Д. Светозвук в природе и световая
симфония Скрябина. М.: Нотный маг. Рос. муз. изд-
ва, 1917.24 с.
10. Бандура А. И. Александр Скрябин. Челябинск:
Аркаим, 2004. 381 с.
И. Благой Д. Д. Этюды Скрябина. М.: Музгиз,
1963.62 с.
12. Бобровский В. П. О драматургии
скрябинских сочинений // Советская музыка. 1972. № 1.
С. 114-119.
Составлена А. Масляковой.
Избранная библиография творчества А. Скрябина 459
13. Бэлза И. Ф. Александр Николаевич Скрябин. М.:
Музыка, 1982. 176 с.
14. Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. Поэма огня: концепция
светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. Казань: Изд-во
Казан, ун-та, 1981. 168 с.
15. Вольфинг. Модернизм и музыка. Статьи критические и
полемические 1907-1911. М.: Мусагет, 1912.448 с.
16. Вольфинг. О музыкальной критике // Золотое руно.
1909. №7-9. С. 126-131.
17. Выписки из книг по философии с пометками А. Н.
Скрябина // Скрябин. Человек, художник, мыслитель / Сост.
О. М. Томпакова. СПб.: «Экстрапринт», 2005. С. 147—175.
18. Гаккель Л. Е. Фортепианная музыка XX века. Л.:
Советский композитор, 1990. 228 с.
19. Галеев Б. М. Рассказ о видимой музыке // Панорама.
М.: Молодая гвардия, 1967. С. 127-130.
20. Галеев Б. М. Синестезия — форма невербального
мышления // Язык науки языки искусства: IV Междунар. конф.
«Нелинейный мир», Суздаль. С. 7-12.
21. Галеев Б. М. Скрябин и развитие видимой музыки. В
сб.: Музыка и современность. Вып. 6. М.: Музыка, 1969.
С. 77-141.
22. Гармония XX века / Ю. Н. Холопов. М.: Издательский
Дом «Композитор», 2005. 624 с.
23. Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских
классиков. Гармония эпохи романтизма / Ю. Н. Холопов. М.:
Издательский Дом «Композитор», 2005. 472 с. Часть II.
24. Гидони Г. Искусство света и цвета. Введение, генезис,
форма, прогнозы. Л.: Печатное дело, 1930. 31 с.
25. Глебов И. Скрябин. Петроград: Девятая
Государственная типография, 1921.26 с.
26. Гнесин М. Ф. Статьи, воспоминания, материалы. М.:
Советский композитор, 1961. 324 с.
27. Гуляницкая Н. С. Русская музыка: становление
тональной системы. XI—XX вв.: Иследование. М.: Прогресс —
Традиция, 2005. 384 с.
28. Данилевич Л. В. Александр Николаевич Скрябин. М.:
Музгиз, 1953. 112 с.
29. Данилевич Л. В. Скрябин и его время // Советская
музыка. 1940. №4. С. 6-13.
30. Дельсон В. Ю. Скрябин. Очерки жизни и творчества.
М.: Музыка, 1971.430 с.
460 Избранная библиография творчества А. Скрябина
31. Дернова В. П. Последние прелюдии Скрябина:
Исследование. М.: Музыка, 1988. 71 с.
32. Дернова В. П. Гармония Скрябина. Л.: Музыка, 1968.
124 с.
33. Долгов Н. К чему зовет мистический театр // Театр и
искусство. 1907. № 23. С. 379-380.
34. Житомирский Д. Скрябин //Музыка XX века. М., 1977.
Ч. 1. Кн. 2. 66 с.
35. Записи А. Н. Скрябина // Русские Пропилеи:
Материалы по истории русской мысли и литературы / Собр. и приг. к
печати М. Гершензон: В 6 т. M.: М. и С. Сабашниковы, 1919.
Т. 6. 250 с.
36. Каратыгин В. Г. О музыкальной критике вообще, о
критиках Скрябина в частности и о его Прометее» в
особенности //Музыка. 1911. № 31. С. 655-659.
37. Каратыгин В. Г. Скрябин. Пг.: Н. И. Бутковская, 1915.
68 с.
38. Каратыгин В. Элемент формы у Скрябина. Петроград:
Сириус, 1916.22 с.
39. Коонен А. Г. Страницы жизни. М.: Изд-во «Кукушка»,
2003.571 с.
40. Коптяев А. П. А. Н. Скрябин. Характеристика. М.:
Издание П. Юргенсона, 1916. 88 с.
41. Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина. Пг.: Мысль,
1922.38 с.
42. Лапшин И. И. Мистическое познание и «вселенское
чувство». СПб.: Имп. акад. наук, 1905. 93 с.
43. ЛеваяТ.Н.Сезагтикипзи^егкСкрябинавхудожественно-
эстетических рефлексиях XX в. // «Прометей». 2000 (о судьбе
светомузыки на рубеже веков). Казань, 2000. С. 36—39.
44. Левая Т. Н. Русская музыка начала XX века в
художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991. 164 с.
45. Левая Т. Н. Скрябин и художественные искания XX века.
СПб.: Композитор, 2007. 183 с.
46. Леонтьев К. Л. Музыка и цвет. М.: Знание, 1961.63 с.
47. Леонтьев К. Л. Цвет Прометея. М.: Знание, 1965. 127 с.
48. Летопись жизни и творчества Скрябина / Сост.
М. П. Пряшникова, О. М. Томпакова. М.: Музыка, 1985. 295 с.
49. Ливанова Т. Н. Западноевропейская музыка XVII—
XVIII веков в ряду искусств. М.: Музыка, 1977. 528 с.
50. Липаев И. А. Н. Скрябин. Биографический набросок.
Саратов: Издание музыкального магазина М. Ф. Тидеман,
1913.64 с.
Избранная библиография творчества А. Скрябина 461
51. Лисса 3. Эстетика киномузыки. М.: Музыка, 1970. 495 с.
52. Лисса 3. Традиции и новаторство в музыке // Советская
музыка. 1972. № 1. С. 43-50.
53. Лобанова Е. В. Национальные модели в русской
музыкальной культуре на рубеже XIX—XX веков: на примере
творчества Н. А. Римского-Корсакова и А. Н. Скрябина: дисс. ...
канд. искусствоведения. М., 2009. 284 с.
54. Лосев А. Ф. Мировоззрение Скрябина // А. Ф. Лосев
Страсть к диалектике. М.: Советский писатель, 1990. 318 с.
55. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое
искусство. М.: Искусство, 1995. 319 с.
56. Луначарский А. В. Значение Скрябина для нашего
времени // А. Н. Скрябин и его музей. M.: МОНО, 1930.
С. 8-14.
57. Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века.
Мюнхен: ЦОПЭ, 1962.366 с.
58. Мейерхольд В. Э. А. Н. Скрябин / В. Э. Мейерхольд//
Статьи, письма, речи, беседы. Часть первая, 1891 — 1917. М.:
Искусство, 1968. С. 261.
59. Месхишвили Э. П. Фортепианные сонаты Скрябина. М.:
Сов. композитор, 1981.
60. Михайлов М. К. А. Н. Скрябин ( 1872-1915). Л.:
Музыка. Ленингр. отделение, 1984. 110 с.
61. Михайлов М. К. Стиль в музыке. Исследование. Л.:
«Музыка», 1981.260 с.
62. Михайлова Л. Е. Философское мировоззрение
А. Н. Скрябина: дисс. ... канд. философских наук: 09.00.03.
Тверь, 2008. 142 с.
63. Мурина Е. Проблемы синтеза пространственных
искусств. М.: Искусство, 1982. 192 с.
64. А. Н. Скрябин в пространствах культуры века XX / Сост.
А. С. Скрябин. М.: Изд-во «Композитор», 2008. 367 с.
65. Неменова-Лунц М. С. Отрывки из воспоминаний об
А. Н. Скрябине. СПб.: Сириус, 1916. 14 с.
66. Николаева А. И. Особенности фортепианного стиля
А. Н. Скрябина: На примере произведений малой формы. М.:
Сов. композитор, 1983. 104 с.
67. Оссовский А. Письма А. Н. Скрябина к А. К. Лядову //
Орфей. Книги о музыке. Кн. 1.СП6., 1922. С. 153-178.
68. Павчинский С. Э. Произведения Скрябина позднего
периода. Мелодическое и ладогармоническое развитие. М.:
Музыка, 1969. 102 с.
462 Избранная библиография творчества А. Скрябина
69. Пак Кюн Син. Единое и универсальное Музыкальное
бытие А. Н. Скрябина: дисс.... канд. философских наук: 09.00.04.
М.,2005. 179 с.
70. Письма А. Н. Скрябину. См. в фонды
Государственного мемориального музея А. Н. Скрябина. СПб.: Композитор,
2010. 120 с.
71. Письма А. Н. Скрябина к Н. В. Гурлянд. М.: Новая
Москва, 1923.56 с.
72. Протопопов Л. История полифонии. Вып. 5. Полифония в
русской музыке XVII — начала XX в. М.: Музыка, 1987. 319 с.
73. Рубцова В. В. Александр Николаевич Скрябин. М.:
Музыка, 1989.447 с.
74. Рыбакова Т. «Этот звенящий эльф»... / Т. Рыбакова. М.:
Экстрапринт, 2008. 160 с.
75. Сабанеев Л. Л. «Божественная поэма» А. Н.
Скрябина //Музыка. 1991. № 31. С. 651-656.
76. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о России. М.: Классика
XXI века, 2004. 263 с.
77. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Муз.
сектор. Гос. изд., 1915.318 с.
78. Сабанеев Л. Л. Скрябин. М.: Скорпион, 1916.274 с.
79. Сабанеев Л. Л. А. Н. Скрябин, его творческий путь и
принципы художественного воплощения. Петроград: Сириус,
1916.26 с.
80. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца
XIX — начала XX века. М.: МГУ, 1993. 318 с.
81. Сахалтуева О. Е. О гармонии Скрябина. М.: Музыка,
1965.50 с.
82. Серова Н. С. Воплощение мироустроительной идеи в
творчестве Р. Вагнера и А. Н. Скрябина : автореф. дисс.... канд.
искусствоведения. Саратов, 2009. 208 с.
83. Скрябин А. Записи // Русские пропилеи: Материалы по
истории русской мысли и литературы. M.: М. и С.
Сабашниковы, 1919. Т. 6. 1919. С. 121-180.
84. Скрябин А. Н. Переписка А. Н. Скрябина и М. П.
Беляева. Пг., Гос. акад. филармония, 1922. 194 с.
85. Скрябин А. Н. Письма. М.: Музыка, 1965. 720 с.
86. Скрябин А. Н. 1915-1940. Сборник к 25-летию со дня
смерти / под ред. Ст. Маркуса. М.; Л.: Музгиз, 1940. 248 с.
87. Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. Л.:
Сов. композитор, 1983. 304 с.
Избранная библиография творчества А. Скрябина 463
88. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900-
1910 гг. / ВНИИ искусствознания. М.: Искусство, 1988. 285 с.
89. ТанеевС. И. Дневники. 1894-1909: в 3 кн. 1894-1898.
М.: Музыка,1981. Кн. 1.333 с.
90. Томпакова О. М. Скрябин и поэты Серебряного века.
Вячеслав Иванов. М.: ИРИС-ПРЕСС, 1995. 16 с.
91. Фарбштейн А. А. Музыкальная эстетика и
семиотика // Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. / под ред.
М. Г. Арановского. М„ 1974. С. 75-89.
92. Федякин С. R Скрябин. М.: Молодая гвардия, 2004.557 с.
93. Фохт Б. Философия музыки А. Н. Скрябина / Б. Фохт //
А. Н. Скрябин. Человек, художник, мыслитель / Сост.
О. М. Томпакова. М.: «Экстрапринт», 2005. С. 176-202.
94. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс: Учебник
для специальных курсов консерваторий (музыковедческое и
композиторское отделения): в 2 ч. Ч. I.
95. Черная М. Р. История фигурационного письма в русской
фортепианной музыке: Учеб. пособие / М. Р. Черная. Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2007. Ч. 2-3. 144 с.
96. Шлецер Б. Ф. А. Скрябин. Т. 1. Личность. Мистерия.
Берлин: Грани, 1923. 358 с.
97. Шлецер Б. Ф. Об экстазе и действенном искусстве.
(О творчестве А. Н. Скрябина). Пг.: Сириус, 1916. 12 с.
98. Шлецер Б. Ф. От индивидуальности к всеединству //
Аполлон. 1916. № 4/5. С. 48-63.
99. Шумилин Д. А. Влияние теософии на позднее творчество
А. Н. Скрябина: автореф. дисс. <...> канд. искусствоведения.
СПб., 2009.
100. Энгель Ю. Д. А. Н. Скрябин. Биографический очерк.
Пг.: Сириус, 1916.96 с.
Именной указатель
Августин Аврелий - 280, 294, 299
Авенариус Р. - 405
Аверинцев С.С. - 30, 47, 246, 279,
348, 363, 367, 372
Авраменко A.M. - 129, 140
Айрапетян В. - 325
Аксенова A.A. - 319
Александров В.Е.-62, 129
Александрова А. — 67
Альтман М.С. - 248, 335, 337, 349
Альтшулер М.И. — 454
Алянский СМ. - 212,
Ангарский Н.С. - 317
Андерсен Г.Х. - 130
Андреев Д.Л. -24,26, 34
Аничков Е.В. - 238, 305, 306, 307,
337, 340, 376
Анненков Ю.П. - 6, 37, 238
Анненский И. - 17, 95, 244, 305,
306,377
Антоний Суржский (митр.) - 25
Аристотель - 47, 273, 344, 353
Арсеньев Н.С. - 25
Арцыбашев М.П. - 339, 340
Асеев H.H. - 101, 112,320
Аскольдов(Алексеев) С.А. - 124,
135, 140
Ауслендер С. - 42, 320
Ахматова A.A. - 112, 305, 330, 358
Бабат Г.И. - 396
Багно В.Е. - 232, 367
Байбаков Е.И. — 343
Байрон Дж.Г. — 273
Бакст Л.С. - 23, 316, 320, 334, 335,
376
Балтрушайтис Ю.К. - 29, 207
Бальзак О. де - 53
Бальмонт К.Д. - 18, 29, 34, 44, 49,
88, 130,207,261,317,339,376,
399
Барабанов Е.В. - 23
Барт R - 41, 42
Бауэре Ф. - 395
Бах И.С. - 453
Бахтин М.М. - 22, 35, 40, 81, 306,
344, 359, 372
Бахтин Н.М.-22,40,372
Бачинский А.И. - 148
Башкин В.В. — 339
БезантА.-430
Безобразов П.В. - 339
Бёклин А. - 130
Белоусов А.Ф. - 23
Белый (Бугаев Б.Н.)А. - 5, 8-10,
12, 13, 19-21,23,26-30,
35-39, 42-44, 46-50, 52, 53,
56-58, 60-66, 73-76, 79-85,
87-140, 142-171, 173-210,
212,213,215,216,227,232-
237, 239-241, 244-247, 283,
284,306,311,312,317,327,
334, 336, 339, 340, 354, 376,
378, 399, 433, 449
Белькинд Е. — 319
Беляев М.П. - 454, 455
Бёме Я. - 54, 298 ,299, 303
БенуаА.Н.-305, 377
Именной указатель 465
Берберова H.H. - 108
Бёрл Р. - 11, 24, 32, 33, 256, 257,
264, 269, 334, 382
Бердяев H.A. - 16,20,21,24,25,
26,61,62,70,76,77, 126,210,
306,307,317,318,320,323,
339,340,368,376,400,416,
417,444
Бердяева Л.Ю. -323, 339
Берк К.-275-277
Бернайс Я. - 341
Бетховен Л. - 118
БиллингтоиДж. - 428
Блаватская Е.П. - 118, 406, 416,
431
Блейк У. - 26
Бдок A.A. - 5, 19, 26, 28, 29, 30, 36,
37,42-44,80,84,95, 106, 113,
115, 136, 178, 180, 182-189,
191, 198-200,205,207-210,
214,225,227,232,233,235-
238, 244, 246, 247, 254, 306,
315,317,318,319,333,336,
339, 376, 378, 399, 400, 431, 449
Бдок Л.Д.- 144,207,208,213,
234, 235
Бобров СП. - 112
Бобровекий В.П. - 437, 438
Богданов В.А. - 26, 316
Богомолов H.A. - 278, 307, 310,
319, 320, 323, 330, 332, 431, 434
Бодлер Ш.- 10,53,54,238
БоккаччоДж. — 315
Бонгард-Левин Г.М. - 369
Бонецкая Н.К. — 9
Борисов С.А. - 339
Борисов-Мусатов В. — 449
Бос Ш.дю-34, 263, 379, 380
Боттен-Хансен П. - 26
Боттичелли С. - 311
Брагинская Н.В. — 281, 373
Бремон А., аб. - 363
Британ И.А. — 26
Бруно Дж. - 35
Брюсов В.Я. - 9, 10, 16, 17, 19,20,
23,26,37,49,52, 117, 118, 139,
142,207,208,233,237,238,
295,305,310,317,339,376,
379,433
Брянчанинов А.Н. - 429
Бубер М. - 363, 379
Букс Н. - 40
Булгаков С.Н. - 9, 18, 21, 25, 26,
70, 72, 403, 429, 450
Буркхарт П. - 280
Бурдюк Д.Д. - 62
Бухарин Н.И. - 186
Бычков В.В. - 9, 43, 45, 49, 51, 73
Вагинов К.К. - 306
Вагнер Р. - 116, 122, 391, 404, 438,
441,450
Ванечкина И.Л. - 390, 391, 394,
395, 396
Вансдов В.В. - 394
Варез 3. - 393
Вардих Г.И. — 455
Васильев П.Н. -215
Васильев H.A. -419,421,422
Васильева К.Н.-212,215
Вейдле В.В. - 27, 307
Ведаскес Д. — 83
Венгеров С.А. - 306
ВерлеЛ. -393
Верден П.- 16, 116
Вернадский В.И. -35,421
ВертлибЕ.О. - 12,50
Верховский Ю.Н. - 308, 311, 324,
333,340
Вершинина А.Ю. - 23
Веселовский А.Н. - 290, 343
Виламовиц-Медлендорф У.
фон-351
Виндельбапд В. - 172
ВиньиА.В.де-26
Виргидий - 362, 380
Витте СЮ. - 339
Войтоловский Л.Н. — 130
Волошин М.А. - 23, 207, 211,215,
216,310,319,340
Волынский (Флексер) А.Л. - 21
Водькенштейн М.Ф. - 340
Вольф Т.-301
Врубель М.А. -23, 75, 399
Вульф В. - 277
ВупдтВ. - 171, 195
Габрилович Л.И. - 339, 340, 385
Гаврюшип Н.К. - 168
466 Именной указатель
ГадамерХ.-Г. - 173, 174, 178,273,
274
Гапеев Б.М. - 390, 391, 394, 395,
396, 424
Галларати-Скотти Т. — 379
ГанчиковЛ.Я.-380
Гаршин В.М. - 20
Гаспаров М.Л. - 98, 102, 371, 372
Гегель Г.В.Ф.-341
Гейне Г. - 71
Гельмгольц Г. — 86
Генон R - 292
Гершензон М.О. - 32, 209, 214,
238,248,256-259,261,263,
264-272, 274, 275
Гершензон М.О. - 339, 364, 365,
377, 378, 379
Гершензон-Чегодаева Н.М. - 264
Гесиод - 424
Гессе Г. - 24, 55
Гёте И.В. - 6, 22, 26, 30, 39, 47, 55,
168,211,221,233,272
Гидини М.К. - 69
Гидони А.И. - 339
Гизетти A.A. - 257
Гиппиус З.Н.-207,244,317
ГираЛ.-26
ГиршельдО. - 375
Гладков Ф. В.-216
Глазунов А.К. - 427
Глухова Е.В. - 236, 237, 239, 292
Гоголь Н.В. - 20, 75, 215, 216, 245,
246, 250
Гоготишвили Л.А. - 59, 336, 372
Голенищев-Кутузов И.Н. - 337
Гомер - 424
Городецкий СМ. - 143, 233, 237,
296,318,320,322,331,332,
340, 376
Горький М. - 21, 214, 248, 400
Гофман В. - 109,340
Гофман М.Л. -314, 315
Гребан А. — 26
Гревс И.М. - 369, 375
Грек А.Г.-45,64
Гречанинов А.Т. - 378
ГригЭ. - 122, 130
Григорьев В.П. - 109
Гринцер Н.П. - 373, 374
Тройский И.М. -215,216
Грякалова Н.Ю. - 40
Губайдулина С.А. - 393
Губер П.К. - 352
Гуковский ГА. — 6
Гумилев Н.С. - 26, 83, 112,227,
233,331,376,433
Гуссерль Э. - 197
Гюнтер И., фон - 310, 325, 326
Данте Алигьери - 30, 39, 47, 225,
227,231-233,248,267,378
ДаурлиД.П.-302
ДелёзЖ. - 192,201-204
Денисов Э. - 393
Депестр Р. - 26
Джексон Р.Л. - 266
Джойс Дж. -63,84
Джонсон Б. - 105
Джюлиани Р. — 361
Дильтей В. - 170-174, 197, 342
Дионисий Ареопагит - 280
Дмитревская Д.М. - 375, 376
Дмитриева Н.В. - 156
Добровольский A.A. - 393
Добролюбов A.M. - 39, 116, 244
Добужинский М.В. - 308, 339, 376
Долгополов Л.К. - 94, 132, 138
ДоннДж. -26
Достоевский Ф.М. - 12, 20, 21, 25,
30,33,39,55,93, 140,210,233,
250,282,340,367,380,401
Друскин Я.С. - 34
Дункан А. - 407
Дымов О.И. - 339, 340
Дэвидсон П. - 59, 366, 370
Дягилев СП. - 455
Евреинов H.H. - 24, 27
Епишева О. - 29
Есенин СА. -39, 112
ЖаккарЖ.-Ф.-62
Жеребин А.И. - 28
Жид А.-279
Жолковский Т. - 279, 184, 287
Заболоцкий H.A. —421
Закс Н. - 26
Именной указатель 467
ЗалкиндА.Б. — 35
Замятин Е.И. - 6, 37, 150, 316, 324
Замятнина М.М. - 309, 311,312,
319
Захер-Мазох Л. Фон - 192, 204
Зверев Н.С. - 453
Зеленский В.В. - 285
Зелинский Ф.Ф. - 22, 26, 40, 306,
368, 372, 376, 379, 380
Зеньковский В.В. - 6, 302
Зильпер Н. - 351
Зиновьева-Аннибал Л.Д. — 243,
247, 268,293, 295, 296,298,
300,306,307,308,309,310,
312,316,317,318,319,320,
323,332,339,340,341,342,
343-355, 346, 375, 376
Золя Э. — 26
Зубарев Л .Д. - 265
Ибн Араби -409
Ибсен Г. - 73, 74, 118, 130
Иванов Вс.Вяч. - 150
Иванов Вяч.И. -7-14, 16, 18-22,
24-40, 42-48, 50, 53-56, 58,
59,62,64,66-73,76, 107, 115,
189, 191,208-210,213,221-
240, 242-284, 286-304, 305,
306,307,308,309,310,312,
314,315,316,317,319,320,
322, 323, 324, 325, 326, 327,
328,329,330,331,332,333,
334, 335, 336, 337, 338-355,
356-359, 361-365, 366-372,
374,375-389,399,400,401,
402,403,404,412,415,422,
423, 426, 429, 430, 433, 455,
Иванов Вяч.Вс. - 79-81, 83, 297
Иванов Д.Вяч. - 251, 268, 377
Иванова Л.Н. - 233, 297, 364
Иванова Л.Вяч.-281,299,318,
376
Иванов-Разумник Р.В. - 118, 119,
125, 127, 131, 143, 147,215
Ивановский Д.И. — 340
Измайлов А.Е. — 130
Ильюнина Л.А. — 148
ИнайятХан — 409
Инфанте Ф. - 396
Исакович В.И. — 454
ИсуиовК.Г - 11,14, 15,23,34,
283, 453
ЙейтсУБ.-26
K.P. (Романов К.)-26
Кагель М. - 393
Казанский H.H. - 335, 367
КазариР. - 140
Казарян А.Т. - 372
Казати А. - 379
КазотЖ.-316
Какинума Н. — 50
Кальвино И. - 277
Каляев И.П.-316
Каменев Л.Б.- 182
Кандинский В.В. - 58, 183, 188
Кант И.-6, 151-156, 158, 159,
161, 167, 171, 174,211
Кантор Г. - 9, 15
Канчели Г. - 393
Капустина Е.А. - 325
Каратыгин В.Г. - 427
Карсавин Л.П. - 35, 36, 359, 360,
361,362,364
Карташев A.B. - 339, 340
Кассирер Э. - 40, 172, 174,279
КацисЛ.-23
Кедров К.А. - 23
Кемпбелл Дж. - 283, 285-287
Кереньи К. - 283
Кирнарская Д.К. - 435
Кирсанов СИ. - 101
Киселев Н.П.-210
Китами С. - 50
Клеман О. — 25
Климент Александрийский — 49,
273
Климова И.В. - 27
Клодель П. -299,300
Клюев H.A. - 39, 83, 112,396
Ключникова (Лобанкова) Е.В. -
426, 427
Коган П.С. - 379
КогенГ. - 155, 156, 171,209
Кожевникова H.A. — 60
Кол яде il ко Н. П. - 438
Колязин В.Ф. - 27
468 Именной указатель
Комисеаржевская В.Ф. - 28
Коиевской(Ороус)И.И. - 17
Коновалов С.А. - 36, 233
Копт О.-402
КомтяевА.П. -428
Корецкая И.В. - 364
Кори Дж.-300
КорнельП. - 6
Короленко В.Г. - 7
Коси ков Г. К. - 42
Котляровский С.А. - 313
Котролёв Н.В. - 248, 343, 349, 364,
369
Кравченко В.Ф. — 44
КрахтК.Ф. - 105,210
Кре6ерА.Л.-83,84
Креслер А. - 380
Крохи на Н.П. - 28
Кроче Б. - 380
Крупская Н.К. - 379
Крученых А.Е.-23,62,418
КсенакисЯ.-393
Кузмин М.А. - 266, 311, 315, 319,
320,321,322,323,326,330,
331,332,340,376,377,433
Кузнецов В.А - 59
Кузьмина-Караваева Е.Ю. - 24,
26,314
Кузьмин-Караваев Д.В. - 233
Куйбышев В.В. - 216
Кулакова Л.А. — 27
Кулаковский Ю.А. - 351
Кульюс С.К. - 36, 233
Куренной В.А. - 172
Курт 3.-438,441
Курниус Э.Р. - 250, 380, 415
Кусевицкий С.А. — 455
Кюмои Ф. - 27
Кюхельбекер В.К. - 17, 26
Лавров A.B.-28,38, 114, 137,
206, 367
Ладыженский В.Н. - 16
Лакан Ж.-201
Ландау ГА. - 266, 268
Лао-цзы — 118
Лапшин И.И. -451
Ларронд К. - 26
Лаучнштейи Д. — 26
Левандовский A.A. — 27
Левая Т.Н.-435,436,451
ЛевиЭ. -410
Леви-Строе К. - 84
Левитан И.И. - 16
Лейбниц Г.В.-86
ЛеманГ.А.-211,340, 378
Ленин (Ульянов) В.И. -264
Леонардо да Винчи — 310
Леиахип В.В. - 333
Лермонтов М.Ю. - 20, 59, 282, 291
ЛеесингПЭ. -341
Лесур Ф. - 356
ЛипнсТ. - 162, 171
ЛистФ.-450, 451
ЛоГатто 3.-337,381
Лобанова М.Н. - 398, 406, 409
Лобачевский Н.И. - 419
Ловягин A.M. - 130
Лоренц К. - 352
Лорие С. - 285
Лосев А.Ф. - 18, 20, 32, 40, 372,
451,452
Лотман Ю.М. - 63, 193,436
Лукач Д.-341,351
Лукаш И.С. - 27
Луначарский A.B. - 263, 307, 316,
340, 379
Лурье А. - 427
Ляпустина Е.В. - 369
МазаевА.И.-30
Майерс Ч. - 456
Майков А.Н. - 7
Маковсльекий А.О. - 343
Маковский С.К. - 268, 377
Максимов Д.Е. — 168
Малахов B.C. - 172,428
Малевич К.С.-418
Малларме Ст. — 41
Мальковати Ф. - 341, 348
Мандельштам О.З. - 22, 83, 111,
112,216,242,246,357,362,
379
Манн Т.- 13
Мансур аль Халладж - 409
Маритен Ж. - 69
Марсель Г. - 380
Мартов ( Цедербаум ) Л. — 316
Именной указатель 469
Матич О. - 428
Мах Э. - 405
Маяковский В.В. - 23, 26, 79, 80,
84,87-102, 108
Медведев П.Н. -38
Медичи Л. — 26
Медушевский В.В. - 31, 436
Мейер A.A. - 24, 25, 34, 35, 237,
359
Мейерхольд В.Э. - 28, 214, 376,
456
Мельников Л.Г. - 394
Мельникова H.A. — 141
Менделеева Л.Д. -319
Мендельсон Ф. — 453
Меньшиков М.О. - 130
Мережковский Д.С. - 18, 19,21,
138,207,208,210,233,240,
244, 339, 368, 376, 400
МетерлинкМ. -24,26, 118, 130
МетнерЭ.К. - 114, 133, 135-137,
144,210,211,283,284,
299-301
Микеланджело — 311
Мильтон Дж. — 26
Минский (Виленкин) Н.М. - 26
МинцЗ.Г. - 19, 141, 185
Минщюва А.Р. - 209, 245, 434
Мирандола П. дела - 35
Миропольский (Ланг) А.Л. - 433
Михайлов A.B. - 172, 373
Михнепко А.П. - 394
Мицкевич Д.Н. -8,221,232
Момм:<ен Т. - 40, 344, 375
МоревГ. -319
Морозова М.К. - 128, 133, 207,
208, 378, 455
Моссман Э. — 371
Мотылев И.Е. — 26
Мочульский К.В. - 47, 192, 196
Мукаржовский Я. — 354
Муратова K.M. - 294
МутК.-231
НаторпП. - 155, 156
Некрасов H.A. - 246
Некрасова Е.А. - 81
Нива Ж.-64, 109
Нижеборский А.К. — 10
Николай Кузаиский - 41
Ницше Ф. - 6, 16, 40, 48, 73-75,
116, 128, 129, 140, 152, 187,
197,201,345,350,352,355,
367,368,369,373,400,401,
403,409,410,416,449
Новалис-30,39,71,233,378
Новосадский Н.И. — 22
Нойманн Э. — 278
Нувель Ж.-319,320,340
Обатпип Г.В. -278,297,430
Овидий - 225
Одоевский В.Ф. - 35
Ольшанский Д.В. - 433
Осповат А.Л. - 95
Оствальд В. — 86
ОттокарН.П.-363,380
Павлович H.A. — 306
Паймап А. - 256
Паперный В.З. -99, 140
ПарнисА.Е.-330,332
Пастернак Б.Л. - 16, 79, 80, 84, 94,
101-108, 112, 113, 197,315,
358,371,372
Пастернак Л.О. - 454
Пашукапис В.В. — 212
Пеги Ш. - 24
Пекарский П.П. — 27
Пеллегрини А. - 337, 338, 370, 379
ПерцовП.П. -207
Перцова H.H. - 325, 330, 335
Петрарка Ф.-231,232,378
Петров-Водкин К.С. - 215, 418
Петровская Н.И. - 207, 208
Петровский A.C. - 206
Печерин B.C. - 24, 26
Пий XI, папа-381
Пикассо П. - 83, 84
Пильняк Б.А.- 103, 150
Писарева Е.Ф. - 368
Пифагор — 368
Платон - 9, 273, 280, 282, 298,
302,313,314,315,339,346,
351,368
Платонов А.П. - 27, 421
Плеханов Г.В. — 454
Плеханова P.M. — 454
470 Именной указатель
Плотин - 303
Плотников Н.С. - 172
Плутарх — 226
ПоЭ. - 118
Полорога ВА - 192, 194, 200-202
Покровский М.Н. — 265
Поливанов Л.И.- 125,206
Полиери Ж. - 396
Поляков С.А. - 207
ПорусВ.Н. - 10
ПотебняАА -61, 160, 161,210
Поттосина В.Г. - 30
ПриговДА -200
Пришвин М.М. - 26
Проскурина В.Ю. - 257, 265, 272
Пряшникова М.П. - 427
Пургин СП. - 47
Пушкин A.C. - 20, 26, 47, 59, 113,
209,214,225,254,312,313,
337
Пьяных М.Ф.- 198,204
Пяст Вл.Ал. - 225, 315, 339, 340
Радин Е.П. -40
Расин Ж. - 6
Рафаева A.B. - 325, 330, 335
Рахманинов СВ. - 421
Ревзин И.И. - 35
Рейсбрук Я. - 298, 299
Рембо А. - 63
Ремизов A.M. - 39, 147, 316, 318,
324,339,421
Ремизова СП. - 340
Рерих Н.К. - 23
РикёрП. - 170-171, 173, 175,
178,274,277
РиккертГ. - 156, 167, 171, 172,209
Римингтон А. — 456
Римский-Корсаков H.A. - 427
Роб-Грийе А. - 42
Робер-Уден П. -395
Розанов В.В. 17, 18, 21, 23, 25, 26,
39, 139,339,376,420,449
Ромашко С.А. — 373
Россаро А. - 23
Россиус A.A. - 373
Ростовцев М.И. - 307
Рубцова В.В. - 450
Руднев В.В. - 324
Руссо Ж.-Ж.-267
Рынков А.Л. -23, 34
Рябушинский Н.П. - 208
Сабанеев Л.Л. - 42, 391, 395, 399,
400,403,409,414,416,427,
429, 433, 434, 435, 439, 442,
448,449,451
Сабашников СВ. - 378
Сабашникова М.В. - 296, 378
Савинков Б.В. — 23, 316
Садовская Л.Б. — 50
СажинВ. - 122
Салтыков-Щедрин М.Е. - 20
СанжарьНД. -318, 319
Санников ГА. - 103
Сапов В.В. - 284, 300
Сапунов Н.В. - 340
СаркисянцМ. — 34
Сарьян М.С — 215
Сати Э. - 393
Сафонов В.И. - 453, 454
Сахаров СИ.-211,378
Сведенборг Э. - 54, 298, 299, 303
Северянин (Лотарев) И. - 112, 329
Секерина Н.В. - 453
Селезнева A.B. - 40
Сельвинский И.Л. - 106
Серафимович A.C. - 319
Сервантес М. де — 6
Серман И.З. - 358
СидневаТ. - 431
Сиклари А.Д. — 10, 151
СилардЛ. - 67, 129, 137, 192, 273,
279,280,341,342,348
Скрябин A.C. — 426
Скрябин Л.А. - 455
Скрябин А.Н. - 14, 23, 25, 29-33,
35-42,68,69, 108, 116,260,
378, 390-403, 406-410, 412-
419,422-463
Скрябина М.А. - 455
Слонимский Ю.И. - 393, 407
Смирнов И А - ИЗ, 125
Смирнова Е.В. - 444
Соколов С.А. — 207
Соколов О.О. - 29
Соколовский В.И. — 26
Сократ - 298, 313, 314, 328, 425
Именной указатель 471
Сокурова О.Б. — 50
Олливетти К. - 361
Соловьев B.C. - 6, 9, 10, 18-20,
44,45,70,71,74,77,93, 116,
136-138,206,233,289-291,
297,367,368,376,380,401,
402,404,405,428,429,431,
449, 450
Соловьев М.С. - 118, 139, 207
Соловьев СМ. - 118, 134, 144,
145,209,210
Соловьева О.М. - 118
Сологуб Ф.К. - 19, 23, 24, 27, 244,
331,339,340,376
Сомов К.А. - 316, 319, 320, 339,
376
Сонни А.И. - 23
Спасская СП - 215
Спасский С.Д. — 215
СпивакМ.-47, 192
Сталин И.В.-371
Стахорский СВ. - 29
Степанова ГА. — 29
Степун Ф.А. - 36, 162, 163,311,
369,380
СтецкийА.И. -216
Стояновский М.Ю. — 50
Стравинский И.Ф. - 40, 421
Стражев В.И. - 149
Страховский Л.И. - 26
СтриндбергА. - 110
Струве П.Б.- 182,210,313
Суворин A.C. - 319
Сульпассо Б. - 337
Сумароков А.П. — 7
Сухово-Кобылий A.B. - 19
Сюннерберг К.А. - 339
ТабидзеТ.-214
Тамарченко А. — 113
Танеев СИ. - 453
Тарановский К.Ф. — 104
Тарковский A.A. - 34
Татлин В.Е. — 7
Тахо-Годи A.A. -372
Тахо-Годи Е.А. - 359, 361, 372
Террас В. - 253
Тертуллиан — 367
Тименчик РД. — 95
Тимофеев A.B. -26
Титаренко СД. - 278, 283, 297
Толстой А.Н. -215,331
Толстой Л.Н. - 7, 20, 75, 210, 380
Томашевский Б.В. — 216
Томпакова О.М. - 427
Топорков А.Л.-292,296
Топоров В.Н. - 288, 289, 295
Тревес П. - 379
Тренин В.В. -89,92,93
Троцкий Л.Д.- 182,202
Трубецкой С.Н., кн. - 402, 422,
429, 454
Тургенев И.С. — 118
Тургенева A.A. - 208-211,213
Тынянов Ю.Н. - 24
Тютчев Ф.И. - 20, 45, 59, 181, 233,
246, 260
Уайльд 0.-6
Уваров A.C. - 289
Ульянов Н.И. - 34
Успенский П.Д. - 410
Фёдоров Н.М. - 25, 34, 35
Фёдоров A.A. - 29
Федотов ГП. - 24, 26
ФедякинСР.-32, 418
ФетА.М. -59, 118
ФетисенкоО. - 241
Фехнер Г.Т. - 86
ФилийД. -27
Филон Александрийский — 273, 280
Филонов П.Н.-23,418,421
Философов Д.В. - 18,339
ФичиноМ. - 35
Фишер К. - 402
Фишман Н. - 427
Флобер Г. - 41
Флоренский П.А. - 9, 16, 19, 23,
28,33,35,58,61,68,70,72,81,
88, 127, 131, 132, 148,290,377,
420,422,424,450
Флоровский ГВ. - 16, 24, 70, 71
Фокин М.М. - 407
Фома Аквинский — 336
Фофанов K.M. — 26
Франк СЛ. - 25, 283, 342, 450
Фрезер Дж. - 285, 286, 287
472 Именной указатель
Фрейд 3. - 201, 283, 341, 352, 405,
442
ФрейденбергО.М. - 344, 371
Фридман — 340
Фулканелли — 293
Ханзен-Лёве А. - 43, 109, 199
Харлжисв Н.И. - 89, 92, 93
ХармеД.И.-62
Хейзинга Й. - 65
ХёпигА. -64
Хлебников В. - 9, 39, 62, 79, 82-
84,87,88, 108, 111,324,325,
326,327,328,329,330,331,
332,333,334,335,376,419
Хмельницкая Т.Ю. - 116
Ходасевич В.Ф. - 15, 37, 107, 108,
149, 182, 183, 192,307,336
Холопов Ю.Н. -441
Хомяков A.C. -367,368
Хрусталева A.B. - 50
ХышР. - 149
Цветаева М.И. - 39, 79, 84, 101,
106, 107, 108,213
Циглер Р. - 372
Цимборска-Лебода М. - 318
Циолковский К.Э. - 395, 421
Чаадаев П.Я.-20
Чайковский П.И. - 16
Чапыгин А.П. -215
Чеботаревская А.Н. - 339
Чёифл К. - 253
Чехов А.П.-7, 16,2
Чехов М.А. - 433
Чижевский А.Л. - 421
Чижевский Д.И. -63, 111
Чириков E.H. — 26
ЧубаровИ.М. - 180
ЧугуновЮ.Н. -428
Чуковский К.И. — 184
Чулков Г.И. - 237, 308, 339
Чюрленис М.К. - 23, 30, 31, 39, 68
116,449
ШагинянМ.С.-215
Шапошников Л.В. — 23
Шаховской Иоанн, арх. — 23
Шварсалоп В.К. - 247, 268, 296,
329,331
Швейцер Б. - 405
Шекспир У. - 6, 28, 30
Шеллинг Ф. - 7, 46
Шёнберг А.-84,85,393
Шестаков В.П. - 23
Шестов Л.И.-21,368
ШефферН. -396
Шиллер Ф. - 6
Шишкин А.Б. - 36, 233, 294, 295,
305, 307, 337, 356, 367, 375
Шишков В.Я. -215
Шкловский В.Б. - 88, 150, 186, 187
ШлегельА. - 8
Шлегель Ф. - 7, 8, 46
Шлейермахер Ф. - 342
Шлёцер П.Ю. - 454
ШлёцерТ.Ф.-454,455,456
Шлёцер Б.Ф.-398,415
Шнитке А.-393
Шопен Ф. - 122
Шопенгауэр А. - 118, 123, 152,
167,352
Шор(Дешарт)О.А. - 64, 233,
240-242, 294, 297, 308, 345
Шпенглер О. -40
ШперкеФ. - 17
Шпет ГГ. - 28, 29, 35, 183-189,
198
Штайиер(Штейнер)Р. -23,66,73,
152, 153, 164, 167-170, 175-
177,210,211,213,292
ШтейперГ-380
Штокмар М. - 99
Штокхаузен К. - 393
Шумихин СЕ. — 330
Шюре 3.-368,373
ЩеголевП.Е.-339
Щедрин Р. - 393
Эдингер Э. - 302
Эйзенштейн СМ. - 393, 440
Эйнштейн А. - 15,200,201
Эйхенбаум Б.М. - 100, 186
Эко У. - 293
Экхарт М. - 298, 299, 303
Элиаде М. - 27, 285, 287
Именной указатель 473
Эллис ( Кобылинский Л.Л.) — 43,
48-50,52,53,76,207,210
Энгель Ю.Д. - 427
ЭрнВ.Ф. -311,339,377,378
Эсхил - 286, 377
ЭткиндА.М. -27,431,432
Эфрон ГС. - 107
Юнг Э.-301
Юнг К.-Г - 278-288, 290-292,
294, 295, 297-304, 352, 404,
405,411,412,414,416
Юнггрсн М. - 283, 284
Юрьева 3. - 146
Юшкевич П.С. - 339
Яффе А. - 280
ЯчиниС.-379
Яшвили П.Дж. - 214
Adrian К. Abdulla-341
Barta P.I. - 370
Bergmann R. - 27
Blarney К. - 274
Bowra M., sir- 231
Brostrom Ed.К. - 87
Burkert W. - 27, 349
Cioran S.D. - 57
Croissant J. - 273
Deppermann M. - 47, 64
Diersch M. - 405
Döring J.R. -358
Eagle H. - 98
Eekman T. - 253
Fischer M.-405
GeenR.G.-341
Graf F. - 27
Hartman N. - 171
HenckerM. von. - 27
HoeffdingW - 171
HankissE.A. -341
Heller A.-351
JacklinC.N. -353
Janeeek G. - 87, 98, 99, 111
KerényiK.-405,413
KeysR. - 146
Kluge R.-D.-68
KovacA. - 117
KozIikF.C. - 167, 176
Lang P.-262
Lange A. - 171
Larmour D. - 370
Maccoby E.E. - 352
Mueller-FollmerP. -30
Malcovati F. - 30
Morrel R. - 350
Nichols M.P.-341
Otto W.F -413
Pyman A. - 43
QuantyM.B.-341
RiedwegCh. — 273
Ritter H. -409
Rizzi D. - 27
Rokem F. - 341
Seaford R. - 27
SontagS. - 277
Spiegel S.B. - 353
Thompson J.B. — 274
Torlone Z.M. - 374
Turner V.-341
Wachtel M. - 250, 297
Watts A. - 406
Weber R. - 63
Wegman C. - 341
WestJ.-47, 50
WoronzoffAI. -63
Worth D.S. - 253
ZaxM.-341
Zelin M. - 353
ZumkleyH.-352
Сведения об авторах
Бёрд Роберт — филолог-русист, профессор
Чикагского университета, исследователь культуры
Серебряного века.
Бычков Виктор Васильевич — доктор
философских наук, старший научный сотрудник Института
философии РАН, исследователь мировой эстетической
мысли.
Ванечкина Ирина Леонидовна — профессор
кафедры фортепиано музыкального факультета
Татарского госпелуниверситета, научный сотрудник НИИ
экспериментальной эстетики «Прометей».
Галеев Булат Махмудович (1940—2009) —
профессор, доктор философских наук,
член-корреспондент АН Республики Казахстан, руководитель НИИ
экспериментальной эстетики «Прометей».
Дэвидсон Памела — профессор Лондонского
Университетского колледжа, исследователь русской
литературы, переводчик, составитель обширной
библиографии текстов и исследований творчества Вяч.
Иванова (Нью-Йорк, 1996).
Иванов Вячеслав Всеволодович — языковед и се-
миотик, историк культуры и мировой литературы,
академик РАН, член ряда иностранных академий.
Сведения об авторах 475
Исупов Константин Глебович — доктор философских наук,
профессор кафедры эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена,
исследователь мировой культуры, литературы и философско-
эстетической мысли.
Ключникова (Лобанкова) Екатерина Владимировна —
аспирант, преподаватель РАМ им. Гнесиных, корреспондент
газеты «Музыкальное обозрение» (Москва).
Лавров Александр Васильевич — академик РАН, главный
научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинского Дома) в С.-Петербурге.
Лесур Фансуаза — филолог-славист и историк философии,
переводчик, исследователь творчества Л. Карсавина,
профессор Университета Лион-3 (Франция).
Лобанова Марина Николаевна — кандидат
искусствоведения, музыковед, писатель. Член Союза композиторов России и
немецких писателей. Проживает в Германии.
Мицкевич Денис Николаевич — профессор Emeritus в
Университете Дьюка, Северная Каролина, историк русской
культуры и мировой литературы, композитор и дирижер.
Сиклари Анджела Диолетта — профессор Пармского
университета (Италия), филолог-славист и переводчик,
исследователь русского символизма и творчества Л. Карсавина.
СилардЛена (Елена) Афиятовна — профессор
Будапештского университета (с 1993), профессор университета в Сас-
сари (Сицилия) (с 1997), директор Института иностранных
языков и литературы университета Сассари (2002—2003),
исследователь мировой культуры, творчества русских
символистов и герменевтики Серебряного века.
Смирнова Елена Валерьяновна — аспирант
кафедры дизайна и рекламы МГУ им. Л. П. Огарева (Саранск),
музыковед.
Титаренко Светлана Дмитриевна — кандидат
филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы
филологического факультета СПб.ГУ, исследователь мифопоэтики
Серебряного века.
476 Сведения об авторах
Федякин Сергей Романович — кандидат филологических
наук, доцент кафедры литературы XIX века Государственного
литературного института им. А. М. Горького, филолог,
музыковед, писатель и публицист.
Чубаров Игорь Михайлович — кандидат философских наук,
сотрудник Института философии РАН, член редколлегии
журнала «Новое литературное обозрение», директор издательства
«Логос-Альтер».
Шишкин Андрей Борисович — филолог-русист, профессор
университета в Салерно, директор Исследовательского центра
Вячеслава Иванова в Риме.
Содержание
От редактора 5
Вступление
Исупов К. Г.
Блеск и нищета символизма
Бычков В. ß.
Эстетические заветы пророчества русского символизма
Андрей Белый
Иванов Вяч. Вс.
О воздействии «эстетического эксперимента» Андрея Белого
(В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак)..
Лавров А. В.
У истоков творчества Андрея Белого («Симфонии»)
Сиклари А. Д.
Символ и герменевтика в мемуарах Андрея Белого
Чубарое И. М.
Символ, аффект и мазохизм (Образы революции у А. Белого
и А. Блока)
Хроника основных событий жизни и творчества А. Белого
Избранная библиография творчества А. Белого
Вячеслав Иванов
Мицкевич Д. Н.
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова (Избранные этюды) 221
Бёрд Р.
«Переписка из двух углов» кактекст и действие 256
15
43
..79
114
151
180
206
217
478 Содержание
Титаренко С. Д.
От архетипа — к мифу: Башня как символическая форма
у Вяч. Иванова и К. Юнга 278
Шишкин А. Б.
Символисты на Башне 305
СилардЛ.
Несколько заметок к учению Вяч. Иванова о катарсисе 341
Лесур Ф.
Идея Рима и троянский мифу Вяч. Иванова 356
Дэвидсон П.
Афины и Иерусалим: две вещи несовместные?
(Значение идей Вяч. Иванова для современной России) 366
Хроника основных событий жизни и творчества Вяч. Иванова 375
Избранная библиография творчества Вяч. Иванова 382
Александр Скрябин
Ванечкина И. Л., Галеев Б. М.
Эстетическая футурология А. Скрябина и ее реализация
на рубеже веков 390
Лобанова M. Н.
«Экстаз и безумие»: особенности дионисийского
мировосприятия А. Н. Скрябина 398
Федякин С. Р.
Скрябин и некоторые особенности творческого сознания
в начале XX в 418
Ключникова (Лобанкова) Е. В.
А. Н. Скрябин и национальный диспут начала XX в.:
контексты и подтексты русского мессианства 426
Смирнова Е. В.
Философские опыты А. Н. Скрябина 444
Хроника основных событий жизни и творчества А. Скрябина 453
Избранная библиография творчества А. Скрябина 458
Именной указатель 464
Сведения об авторах 474
Научное издание
Философия России первой половины XX века
Философия. Литература. Искусство:
Андрей Белый — Вячеслав Иванов —
Александр Скрябин
*