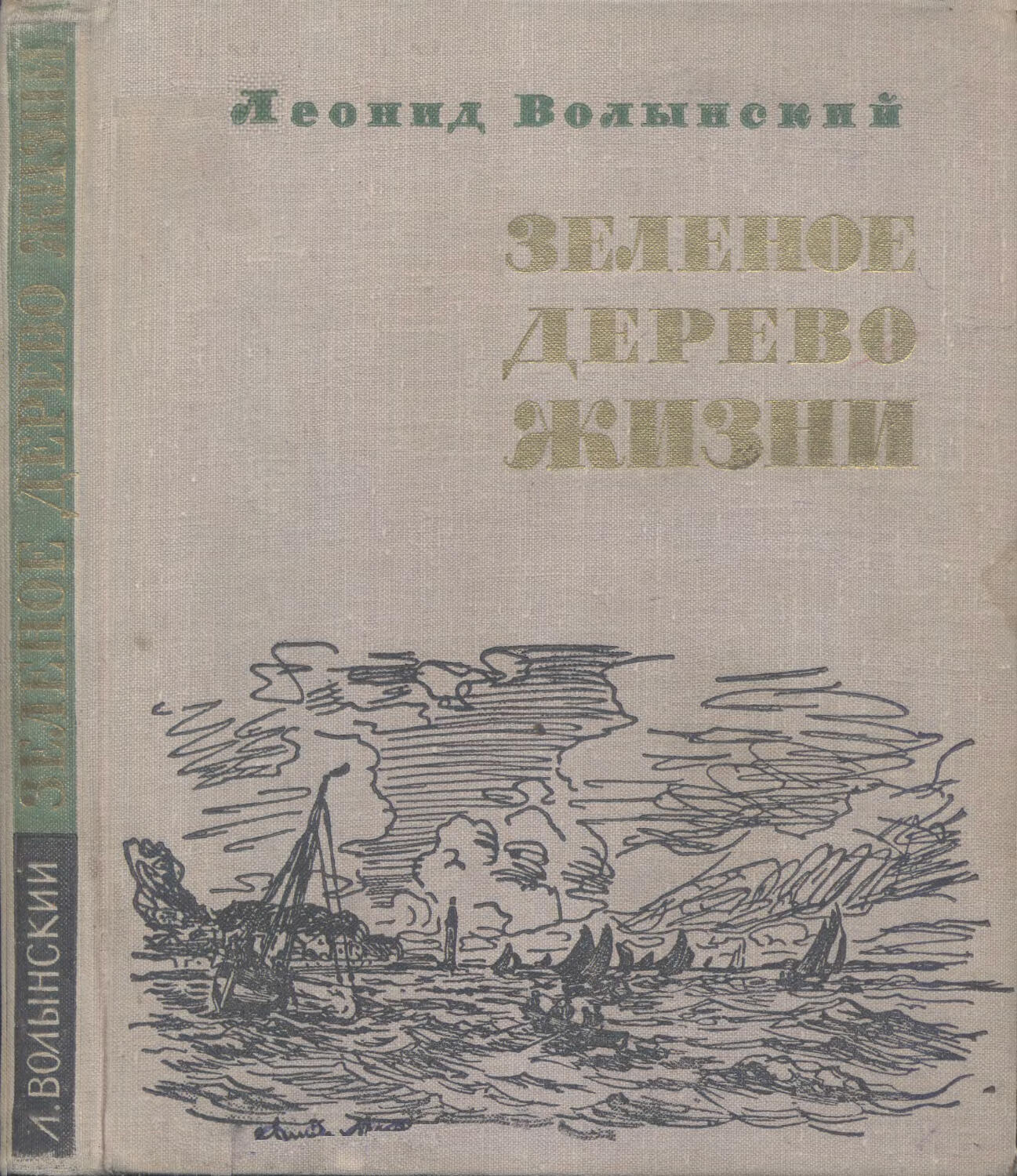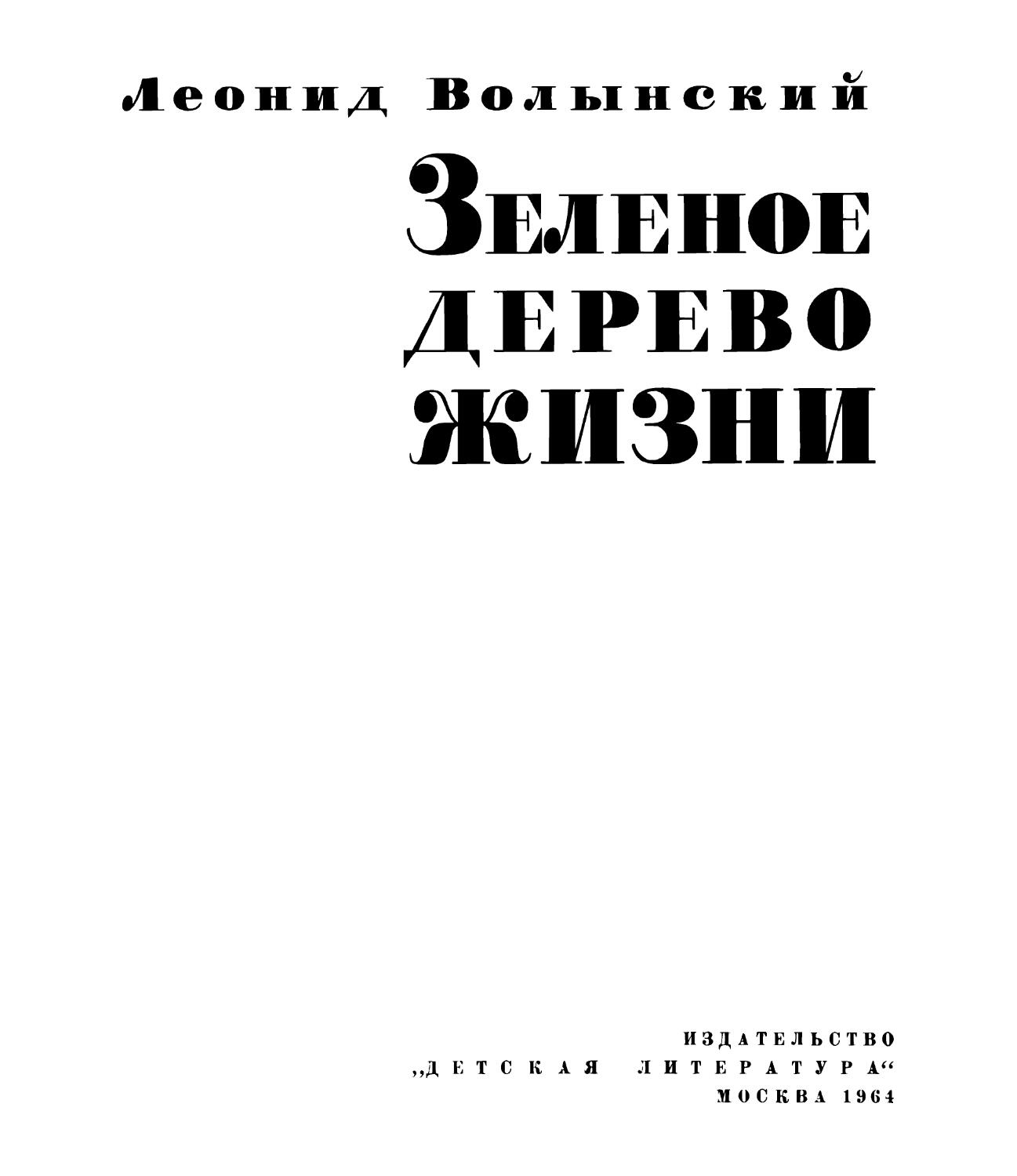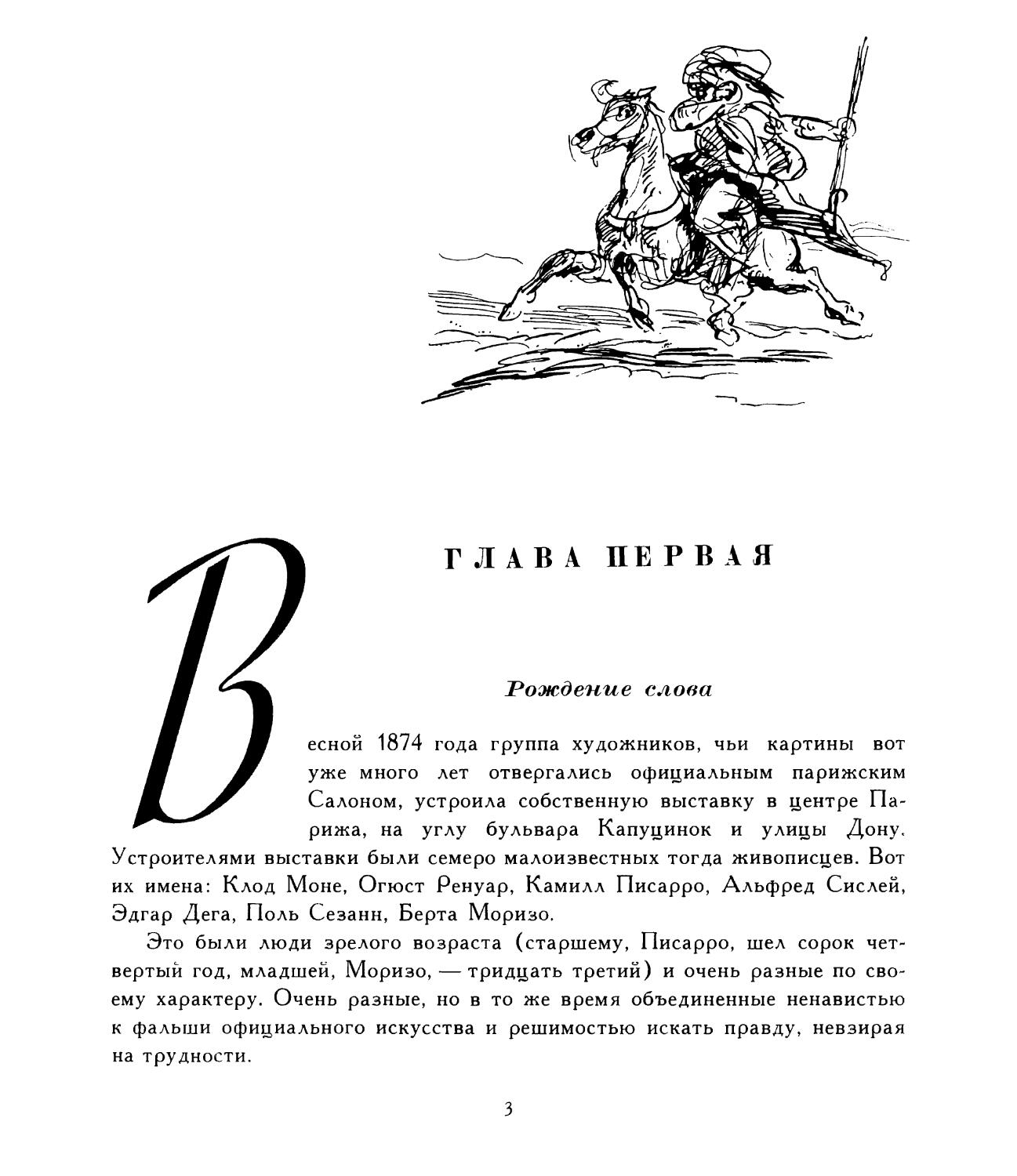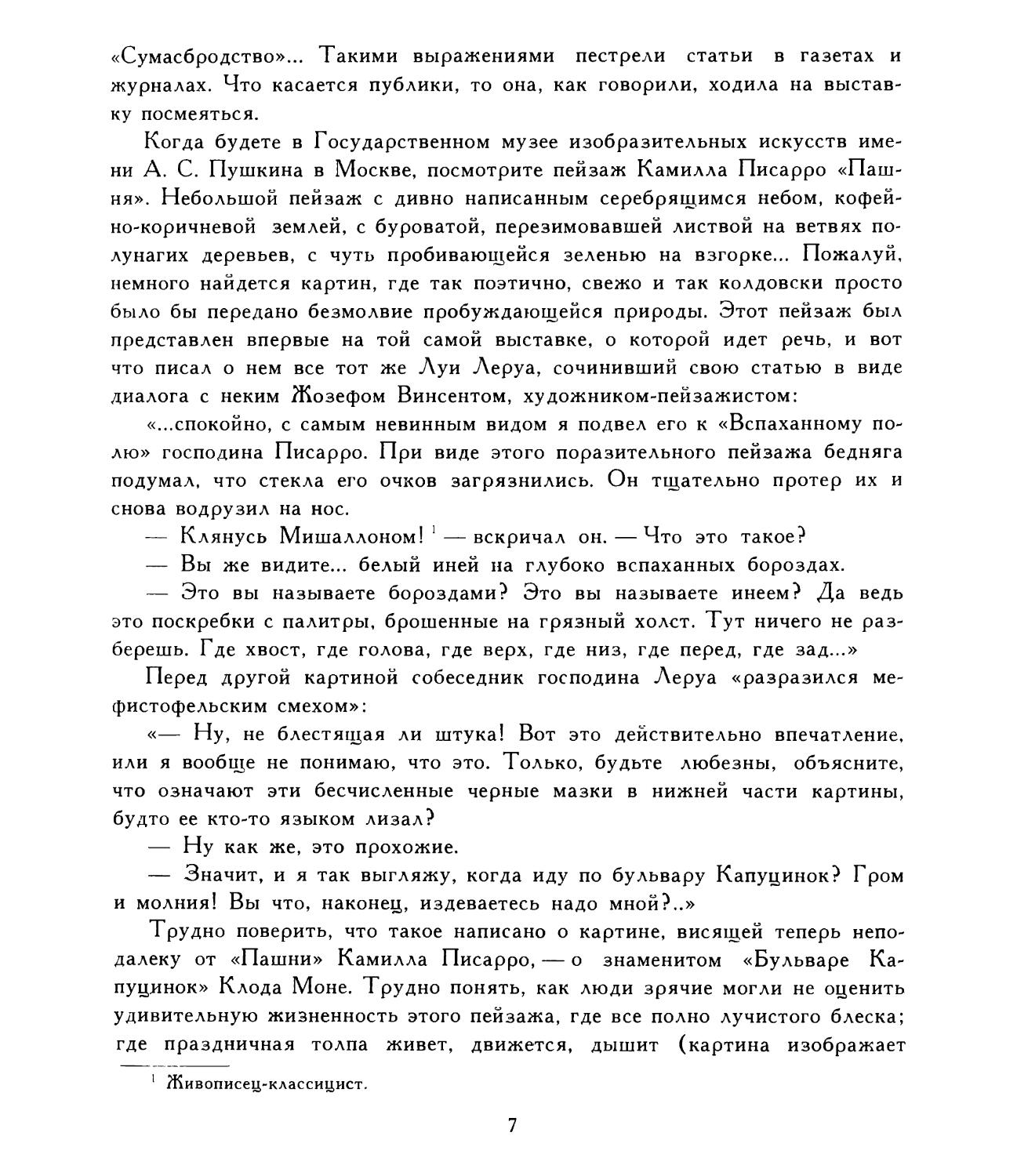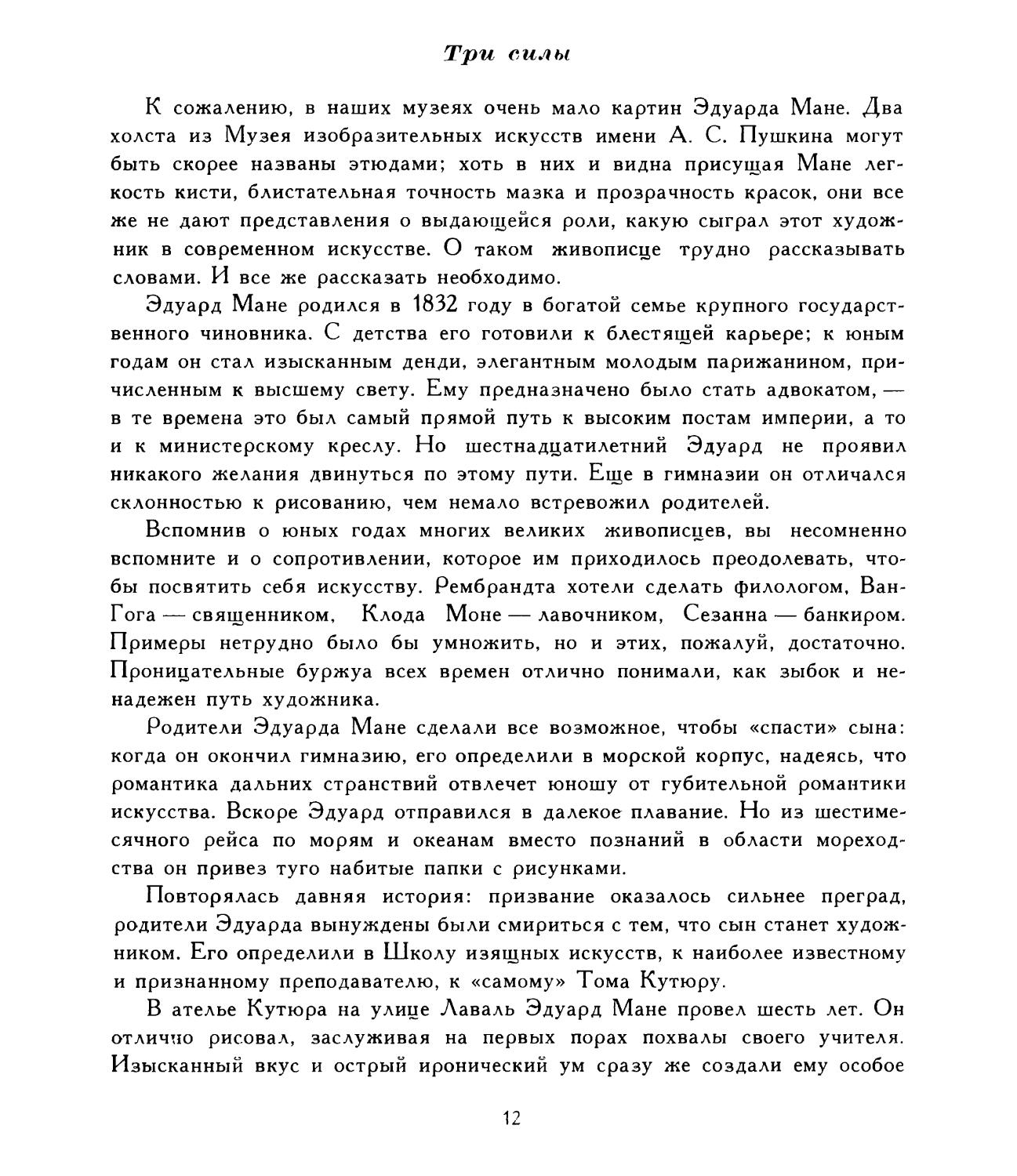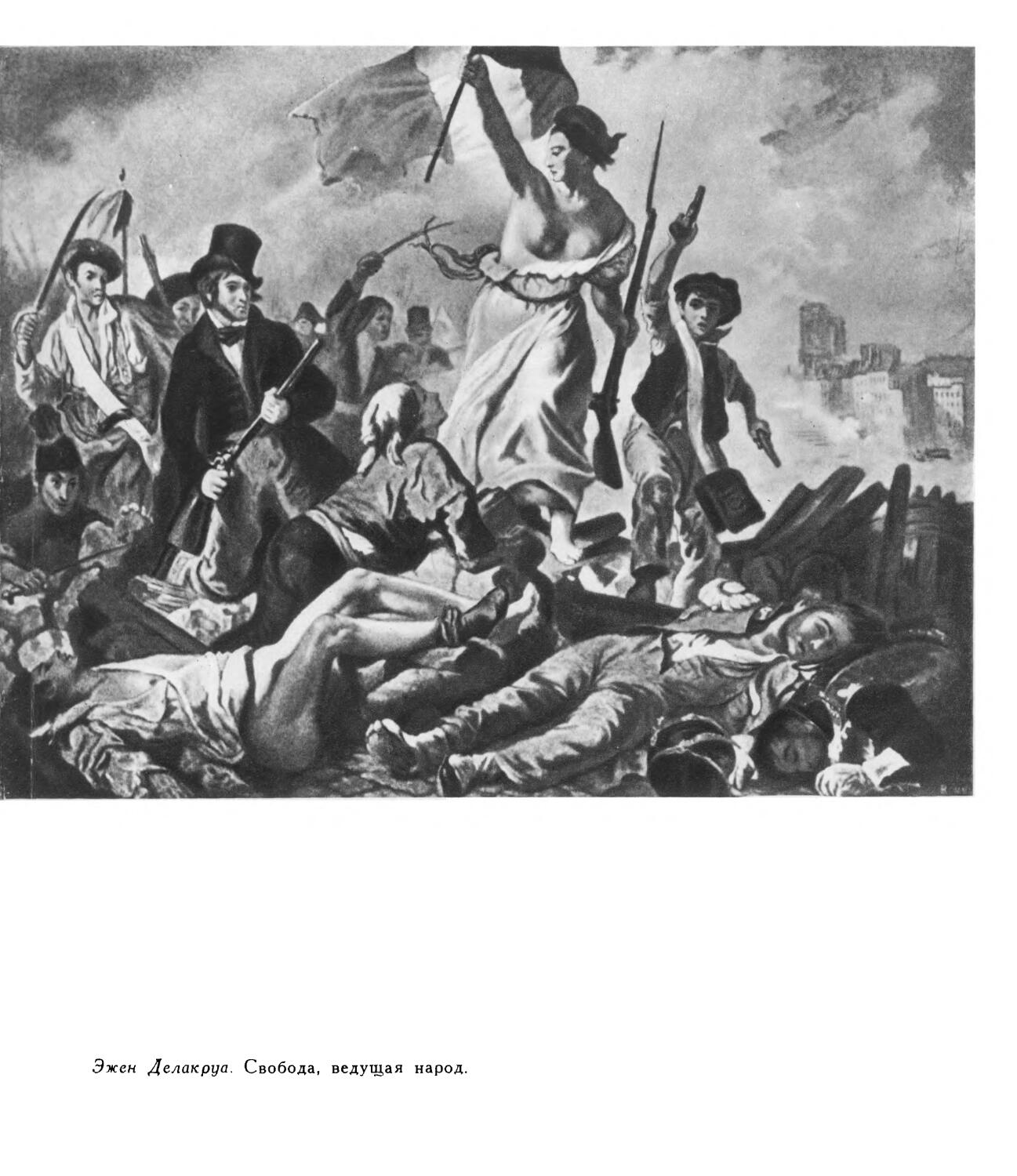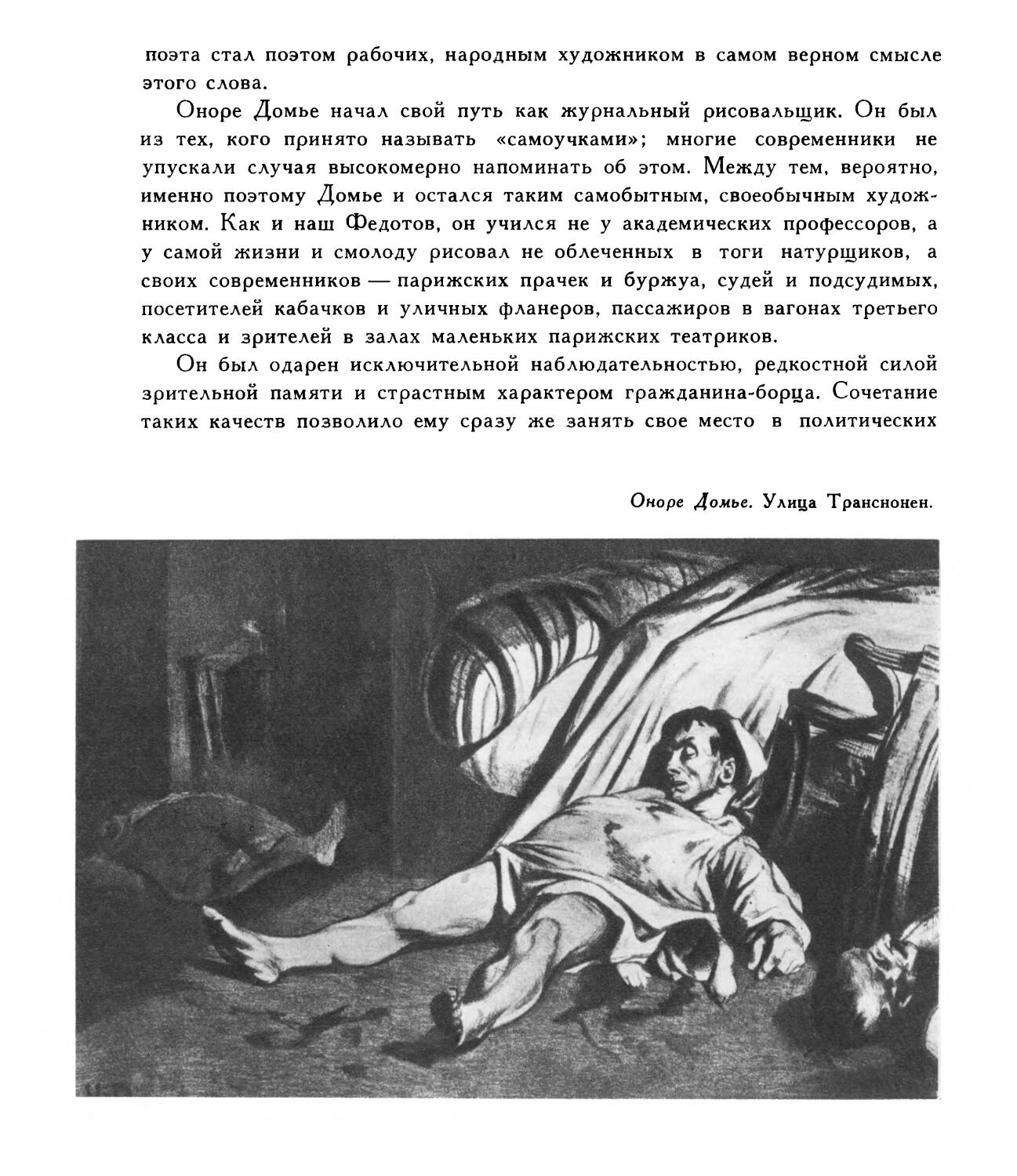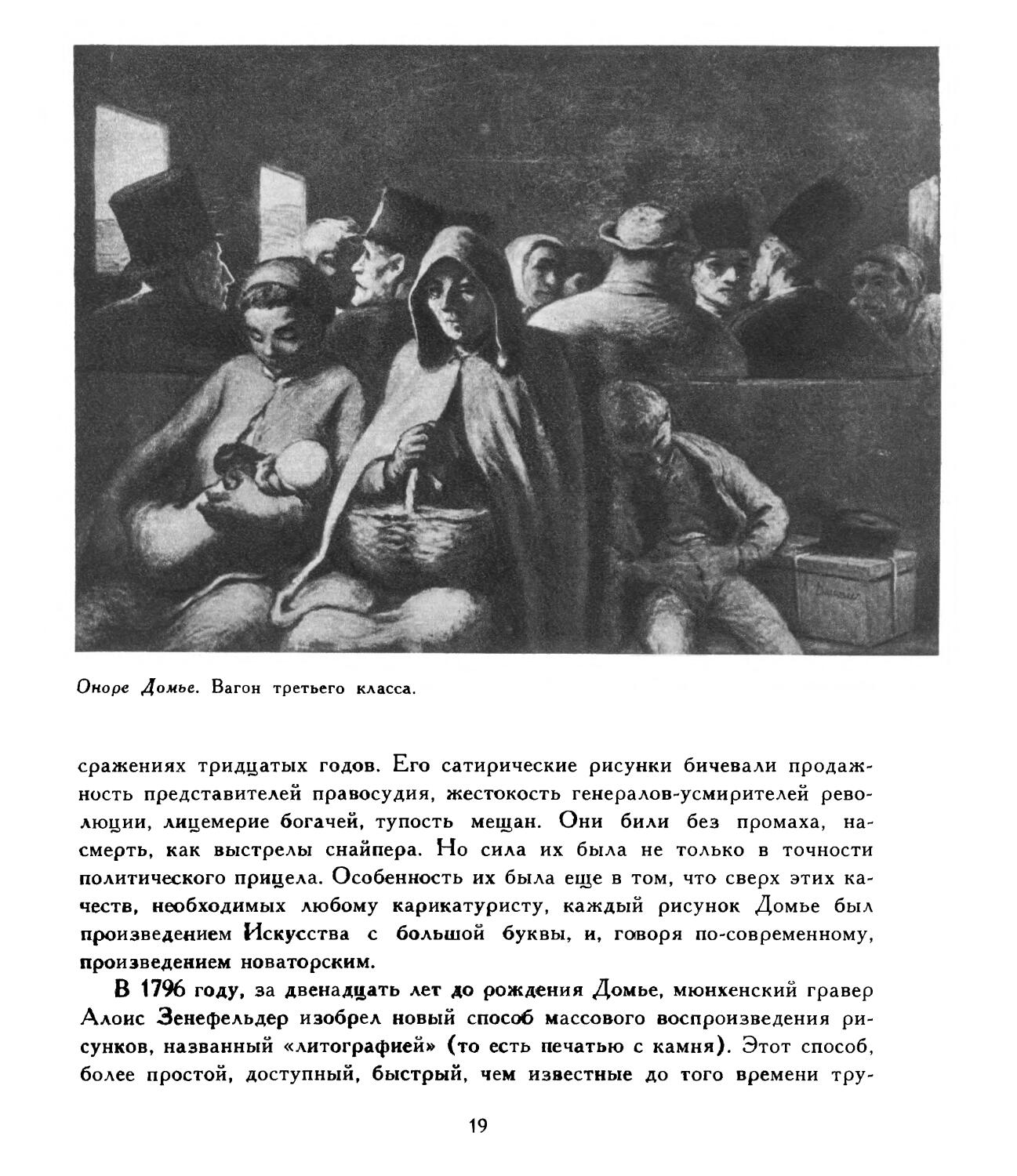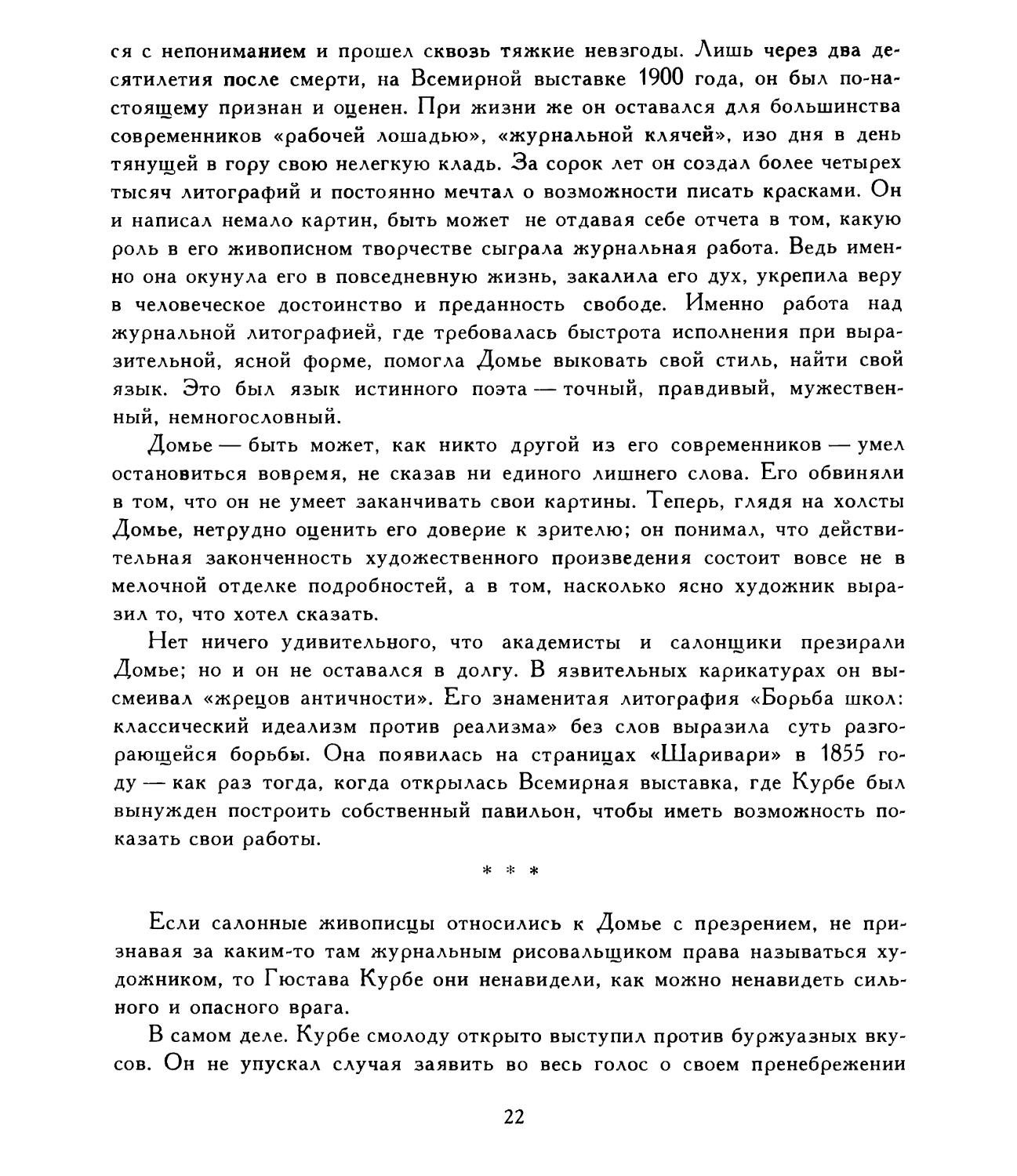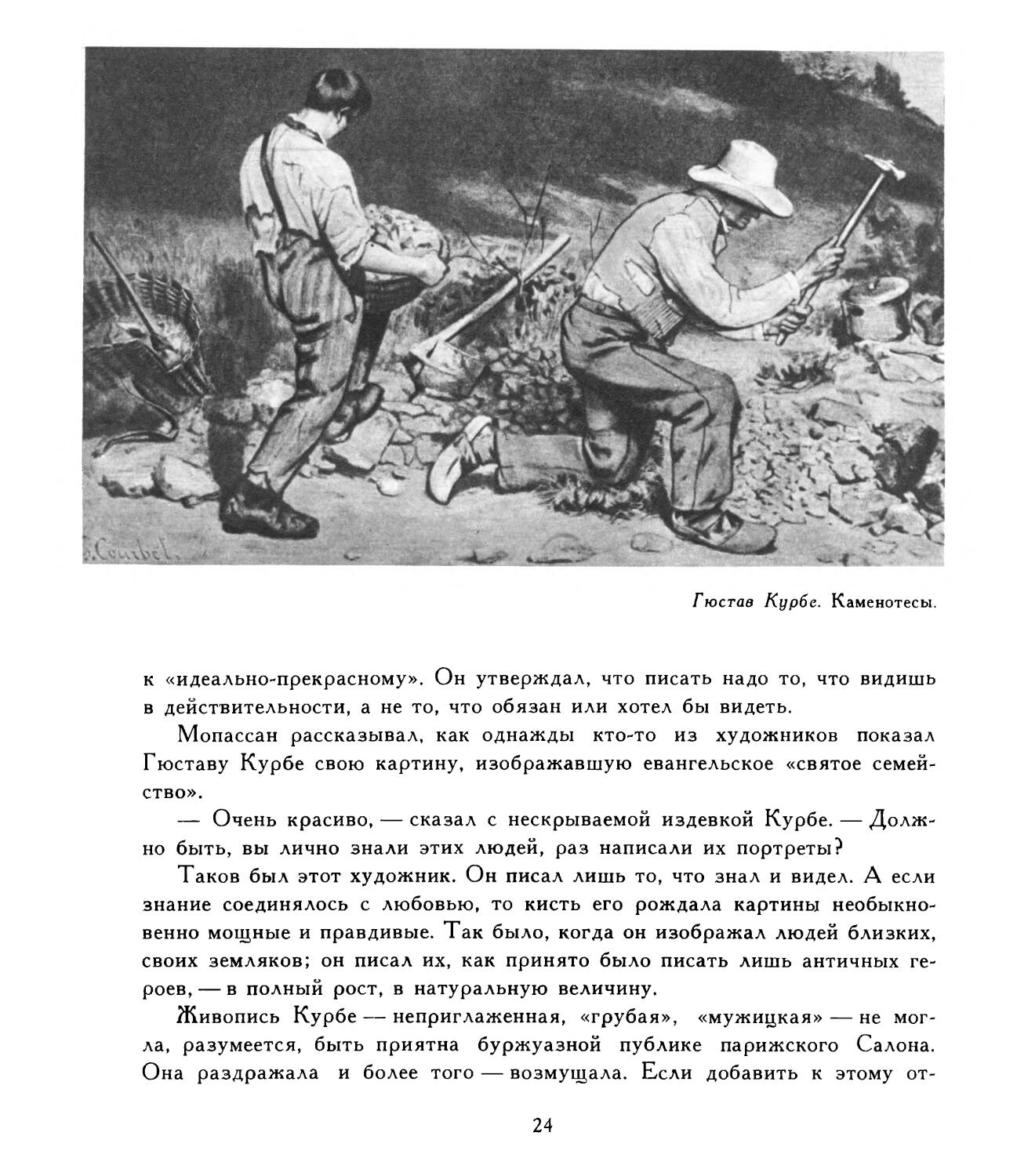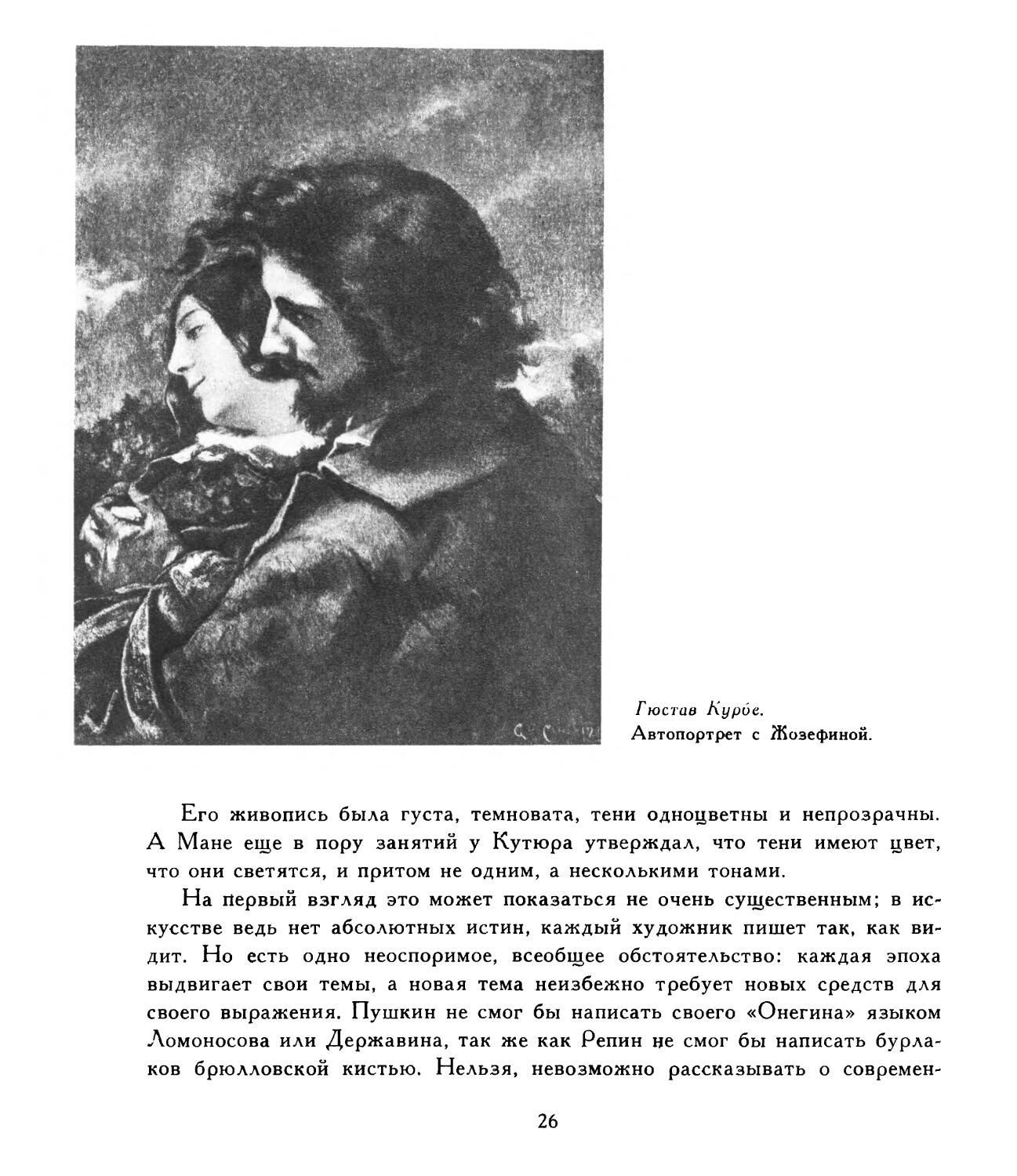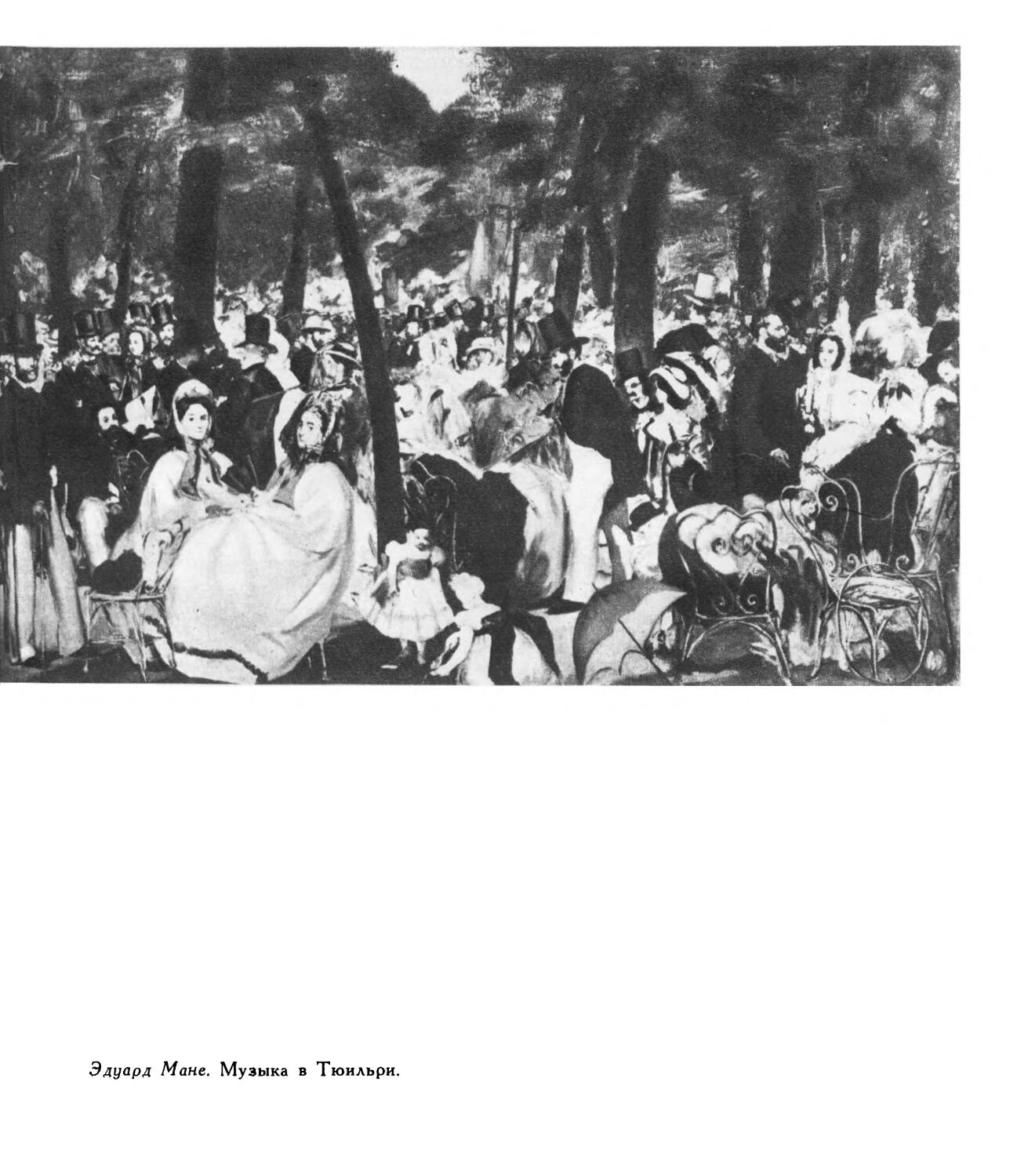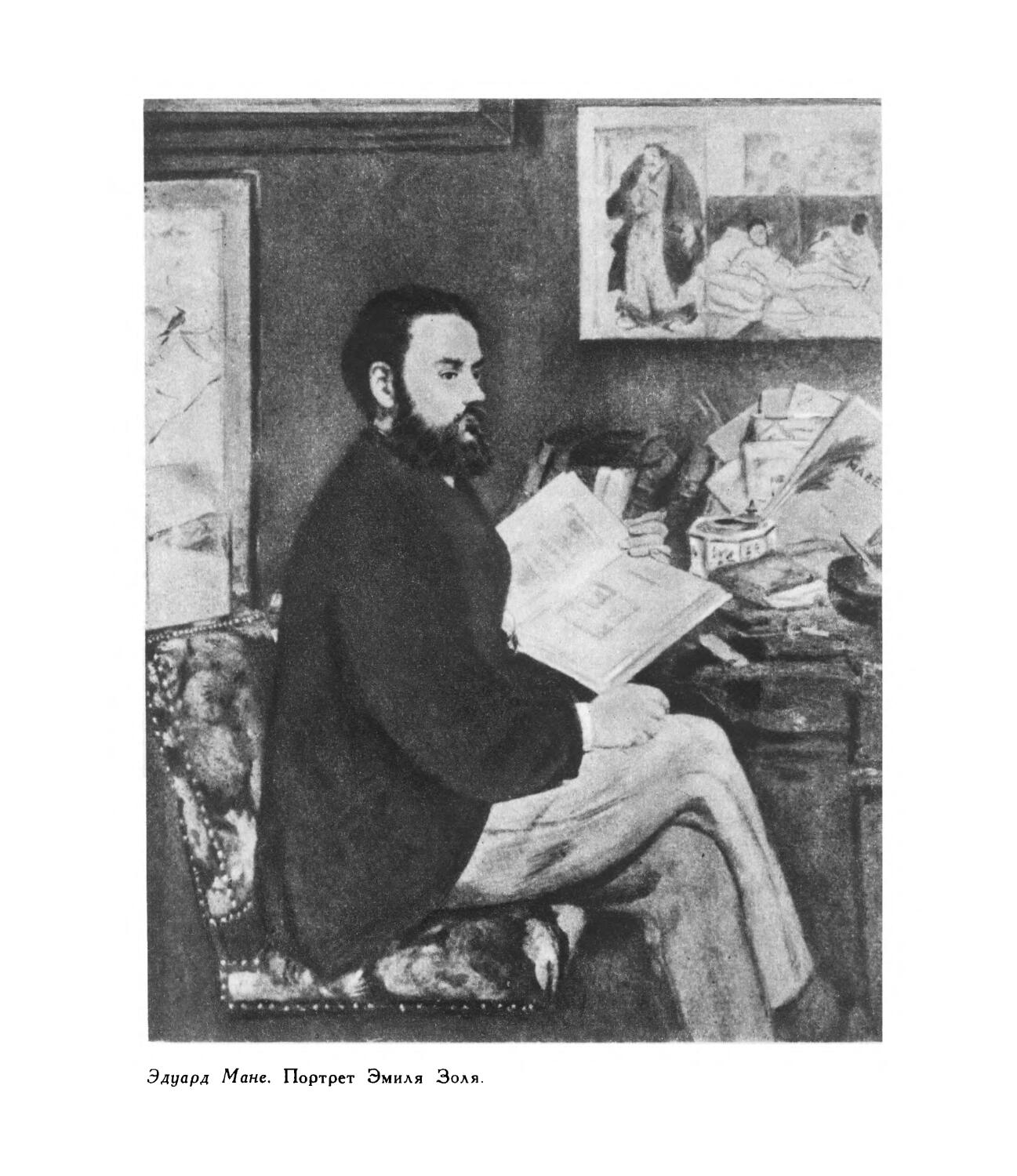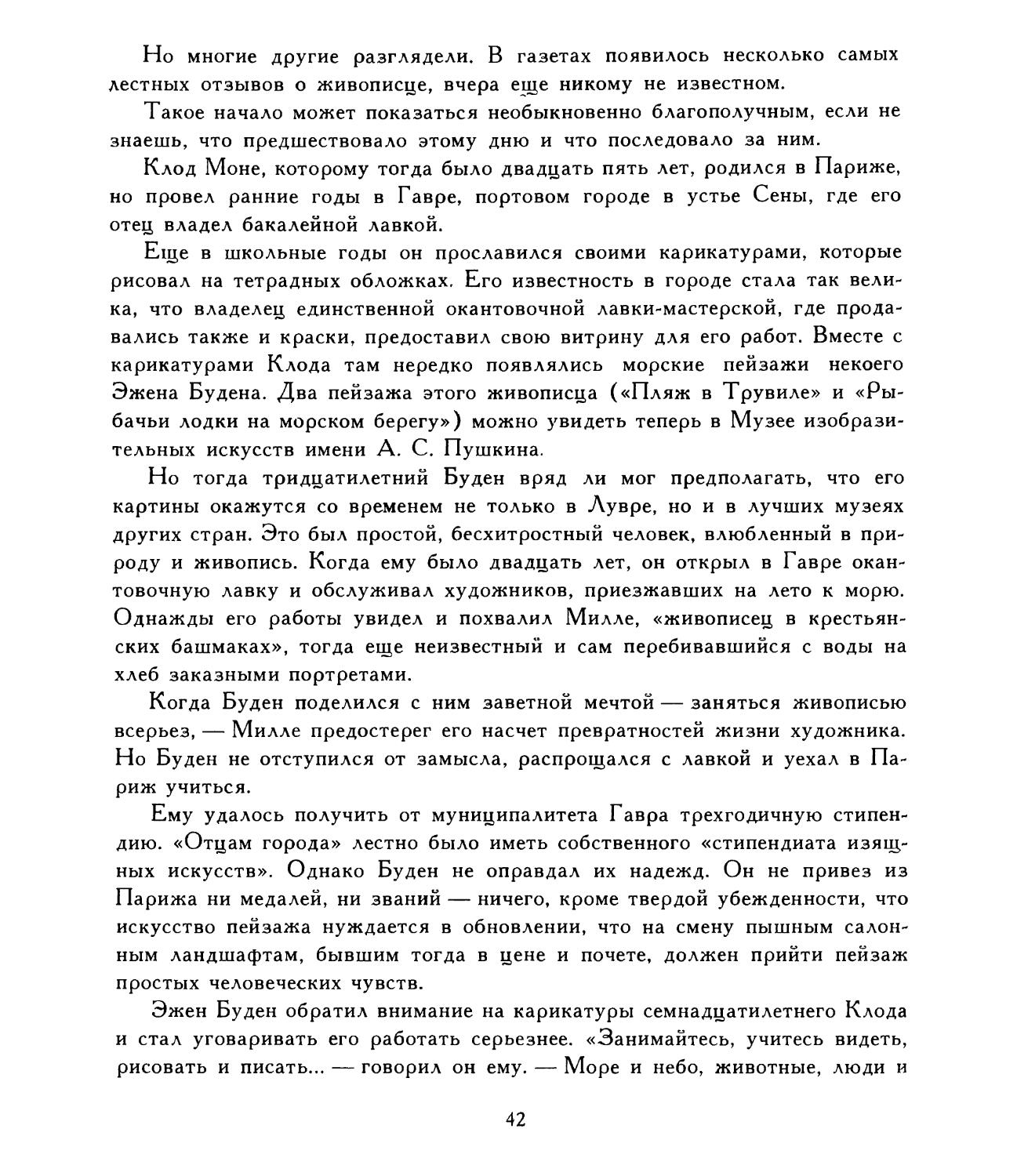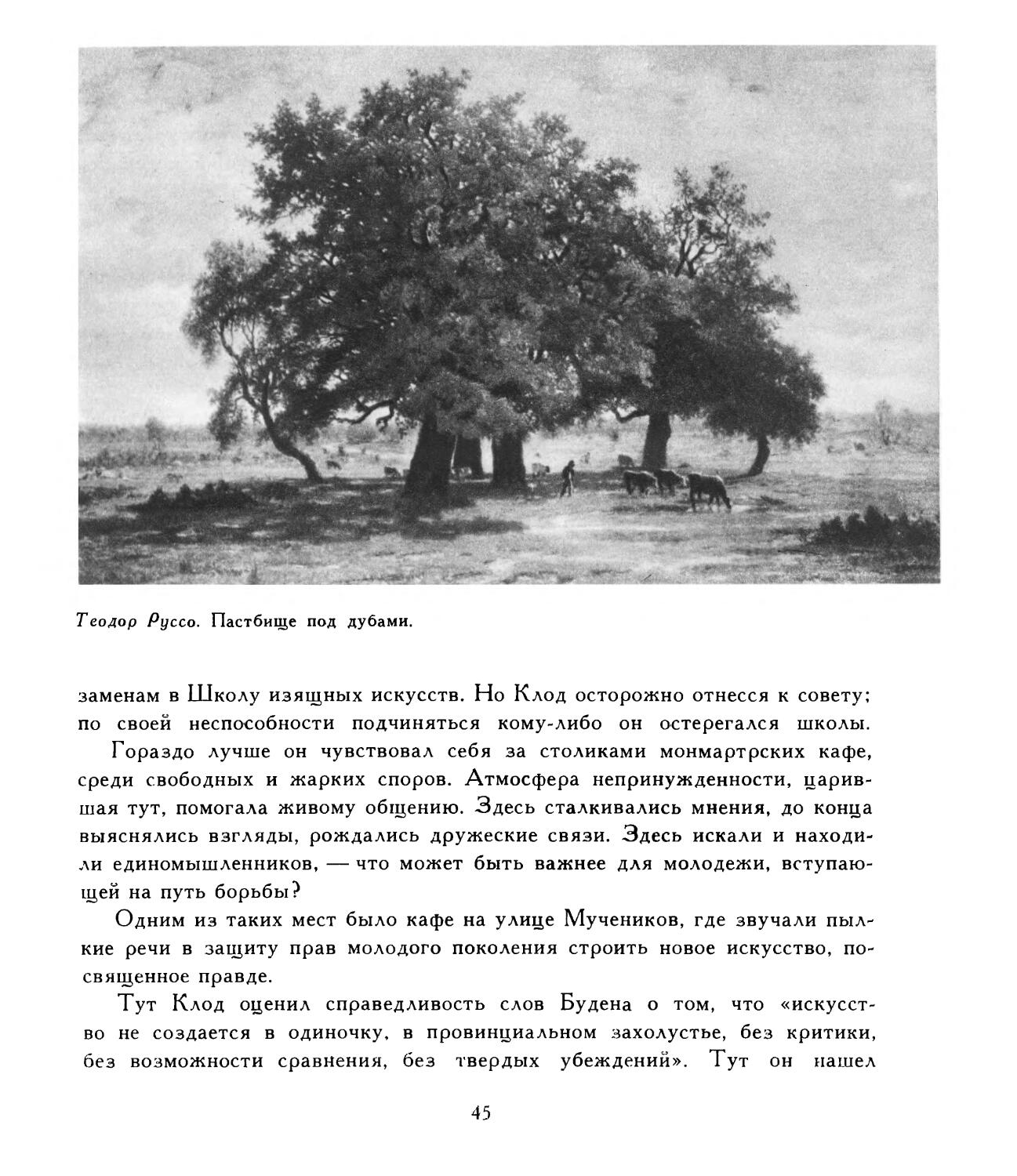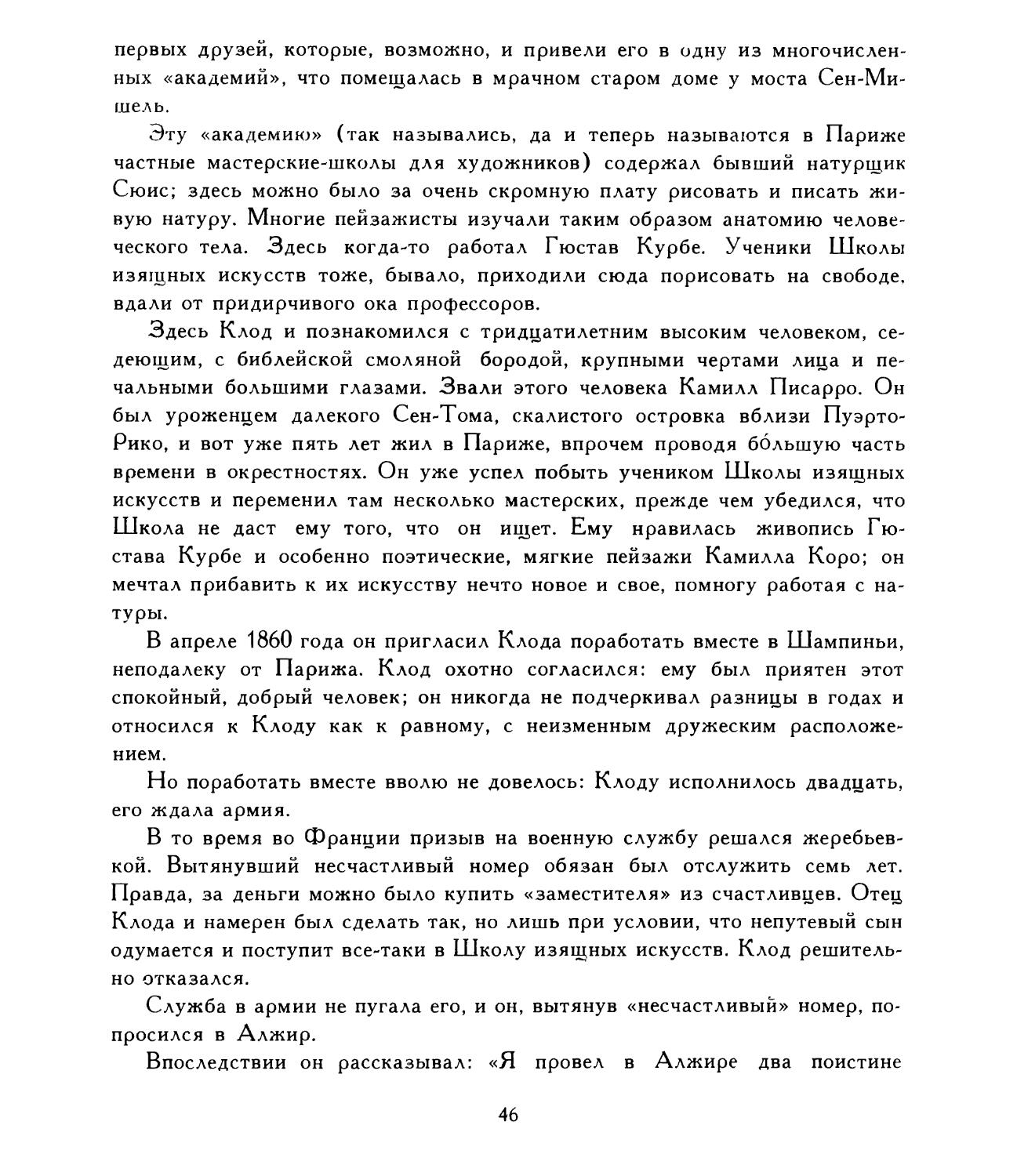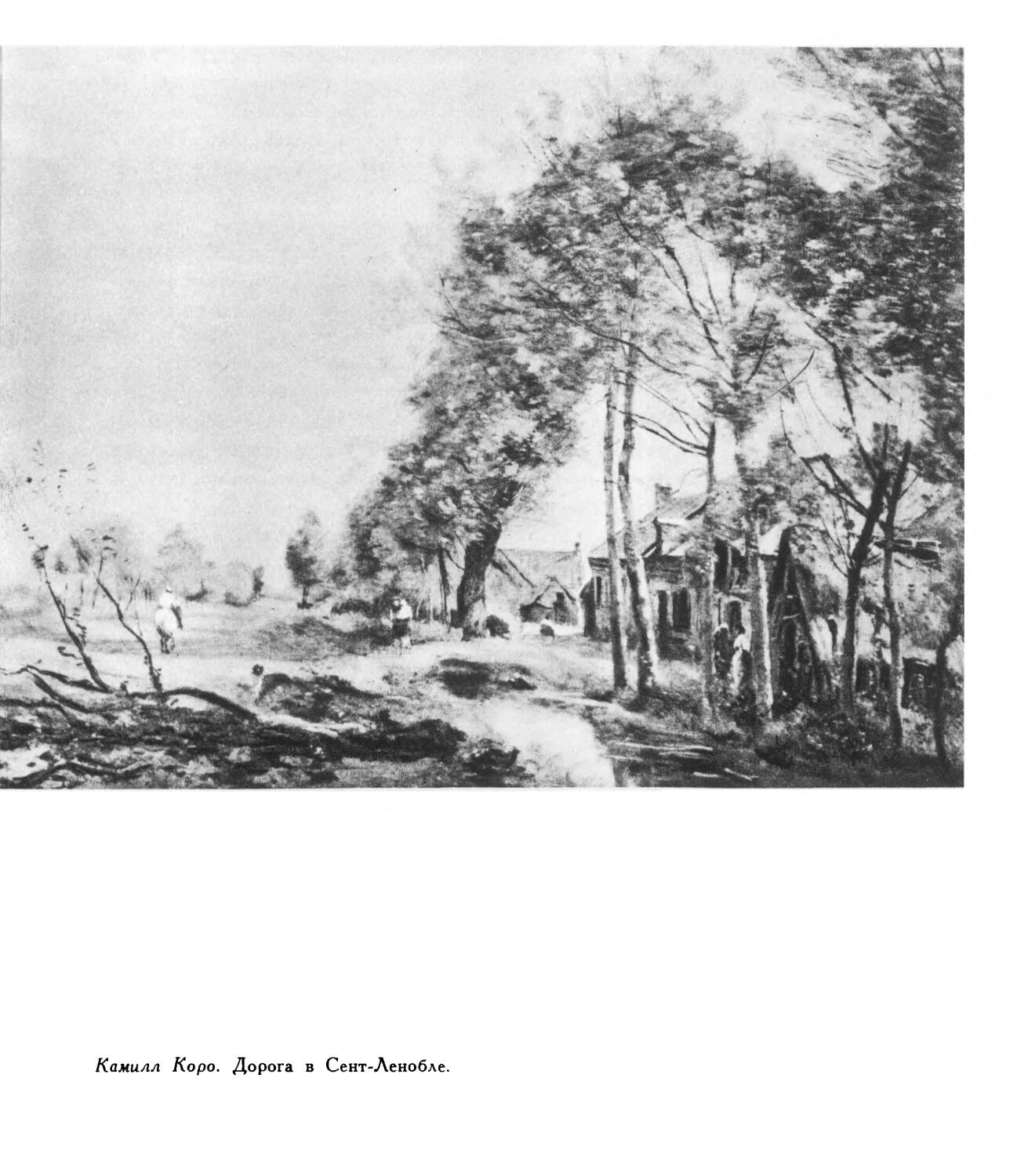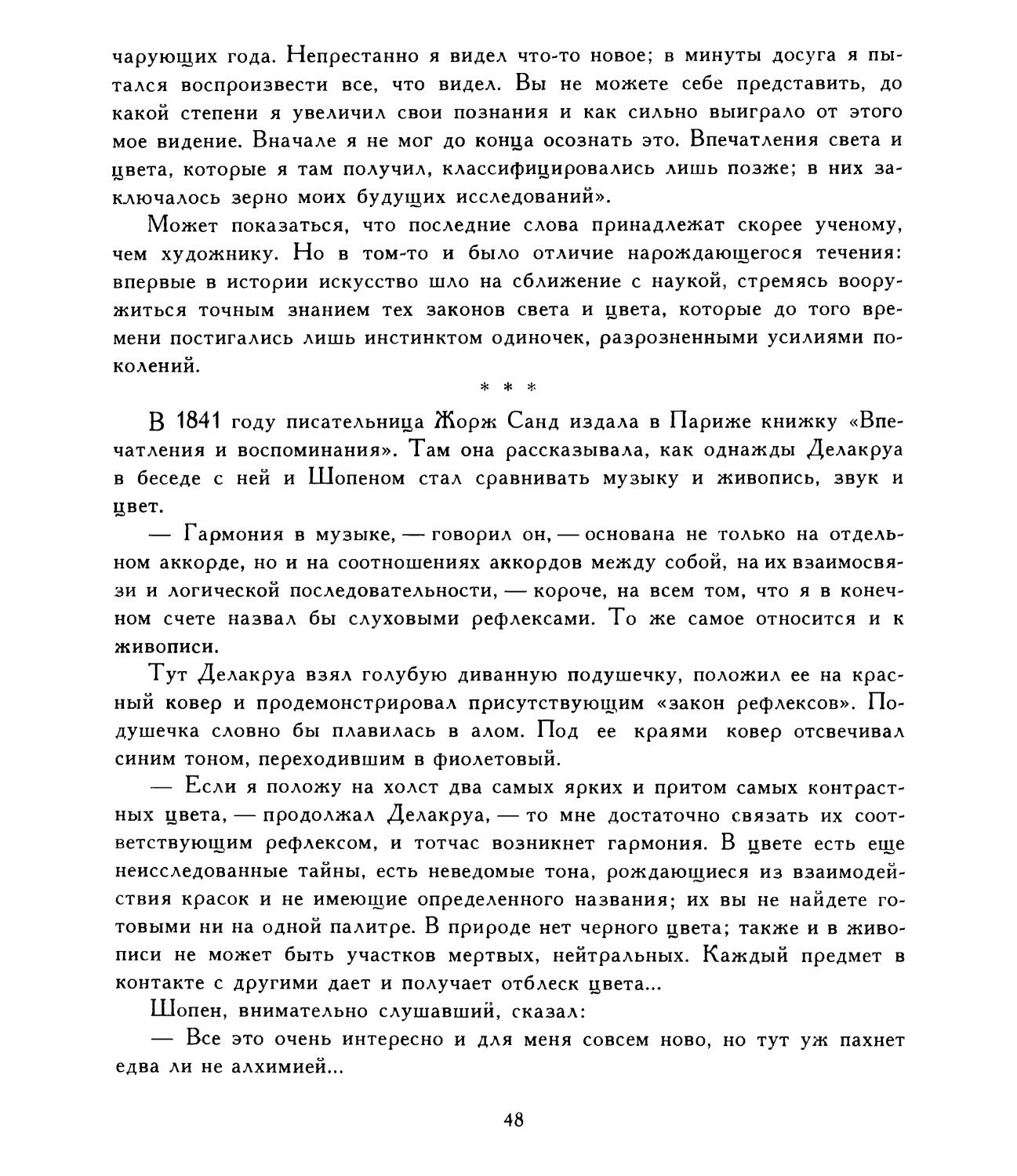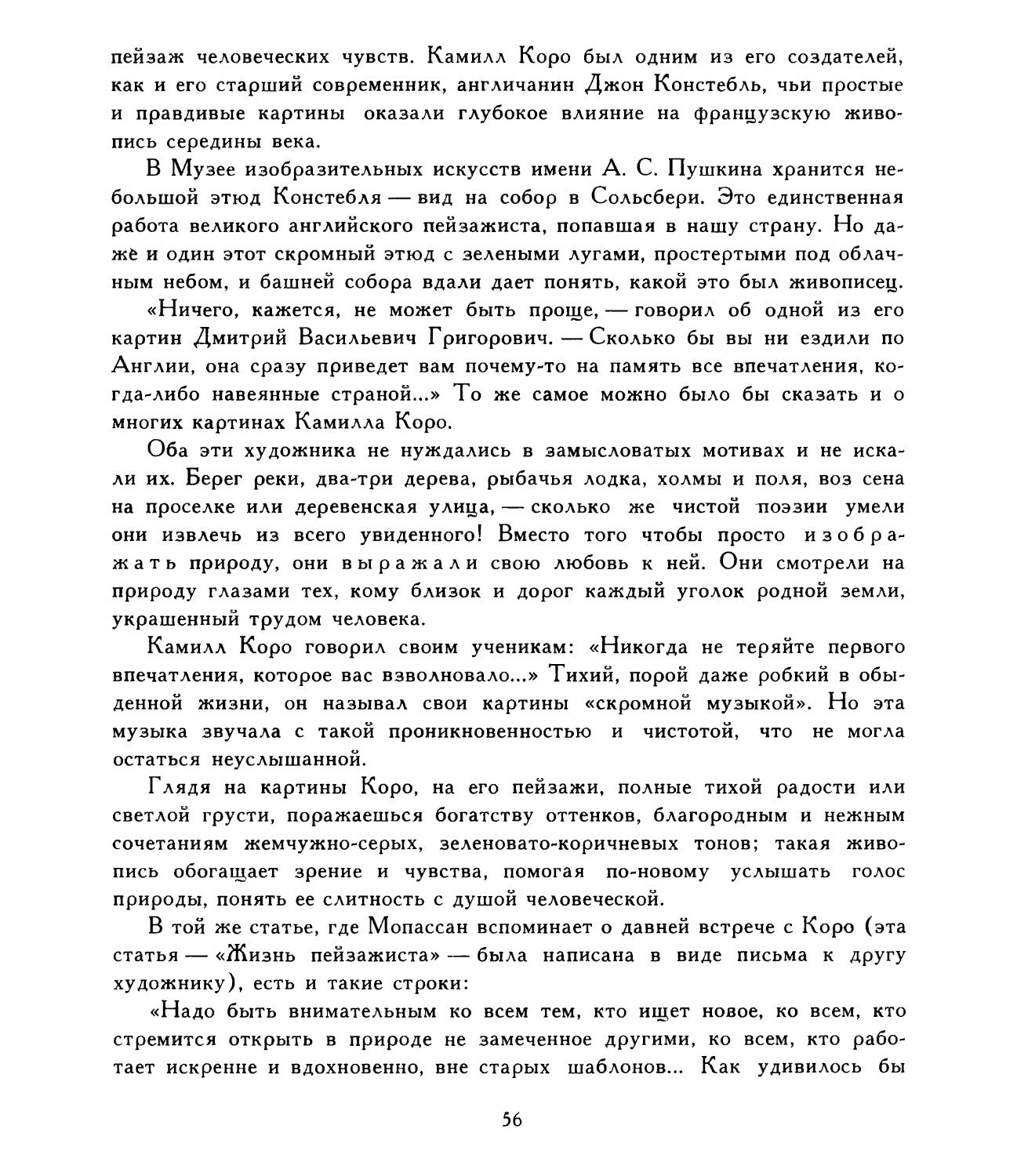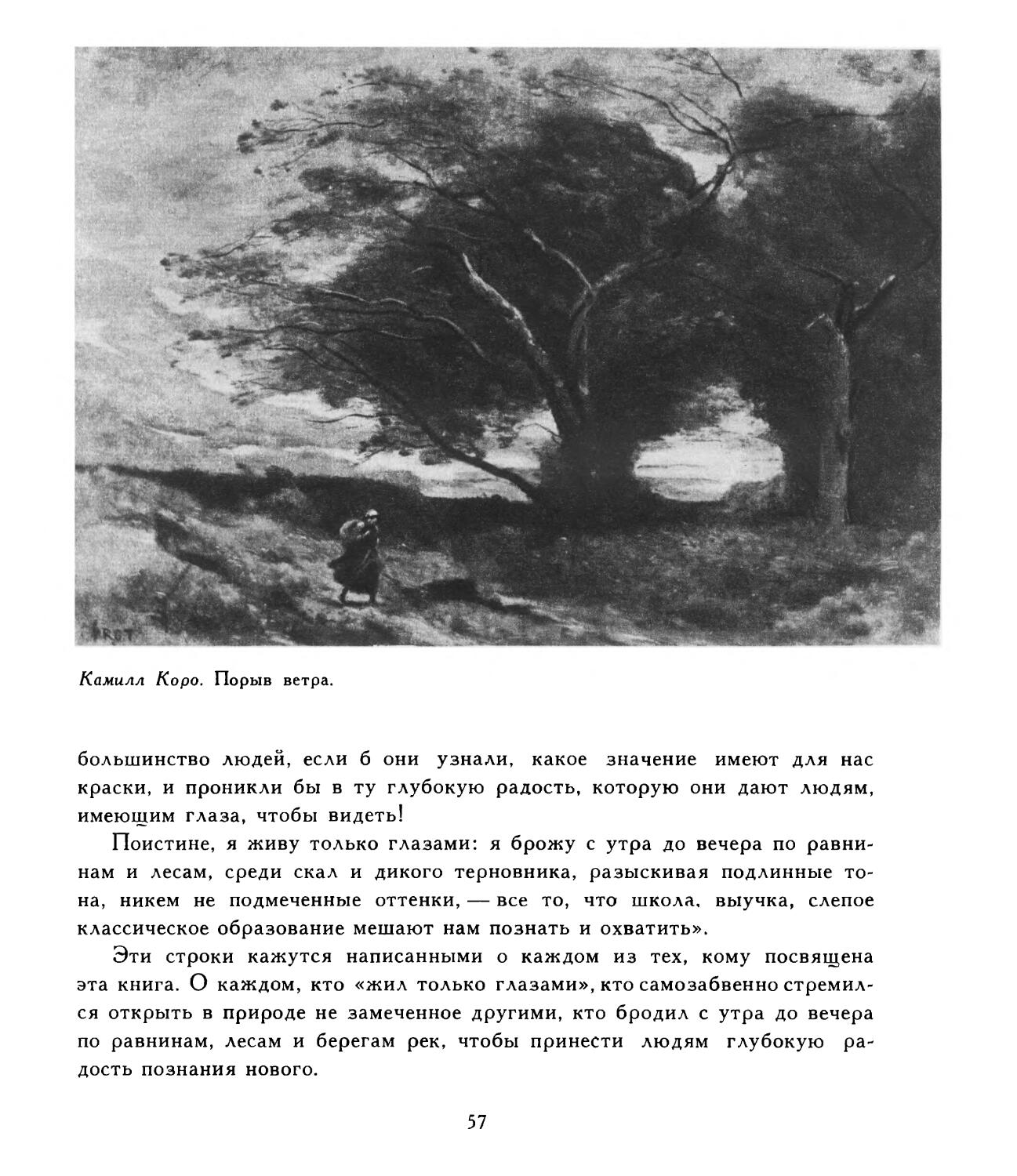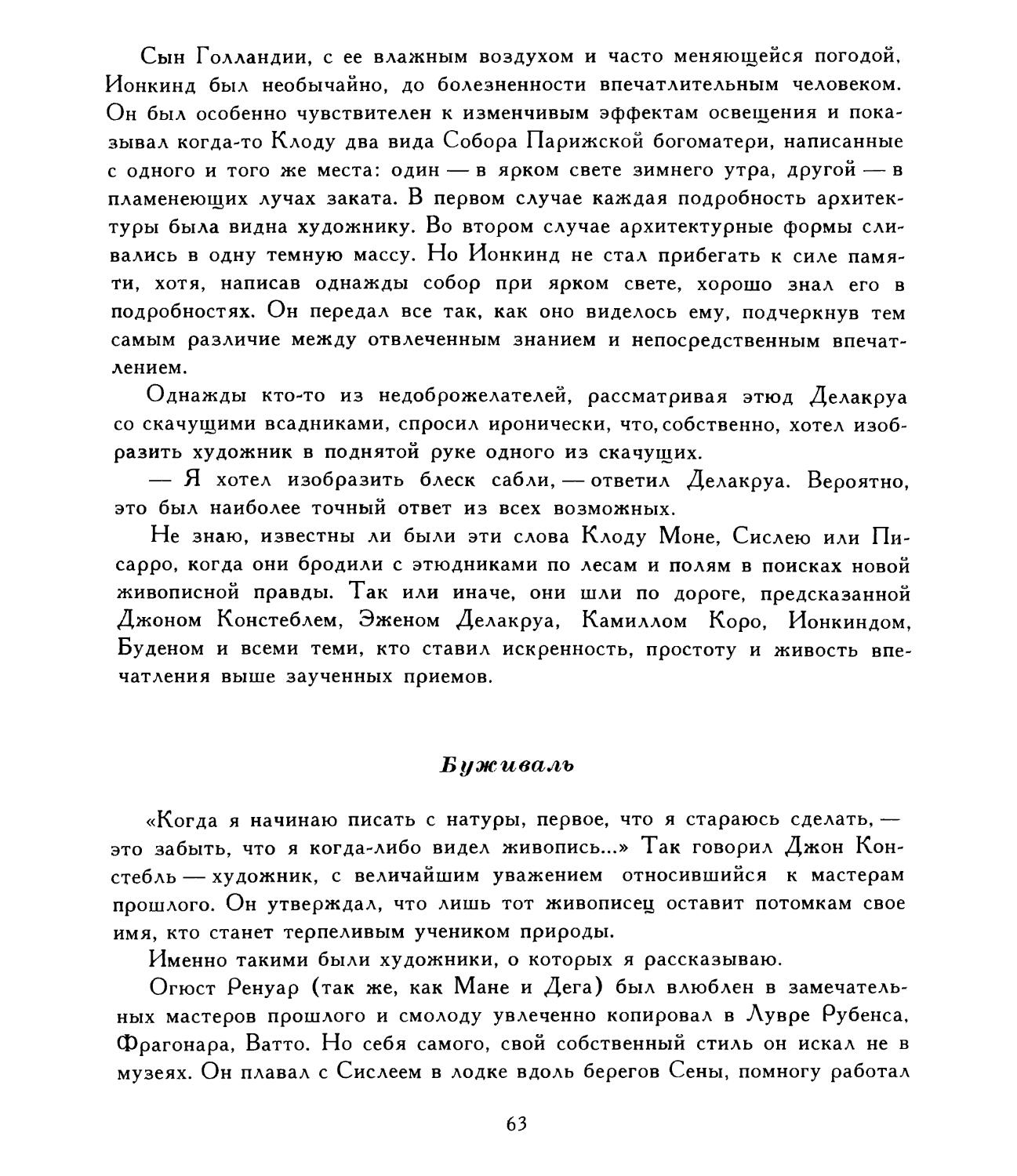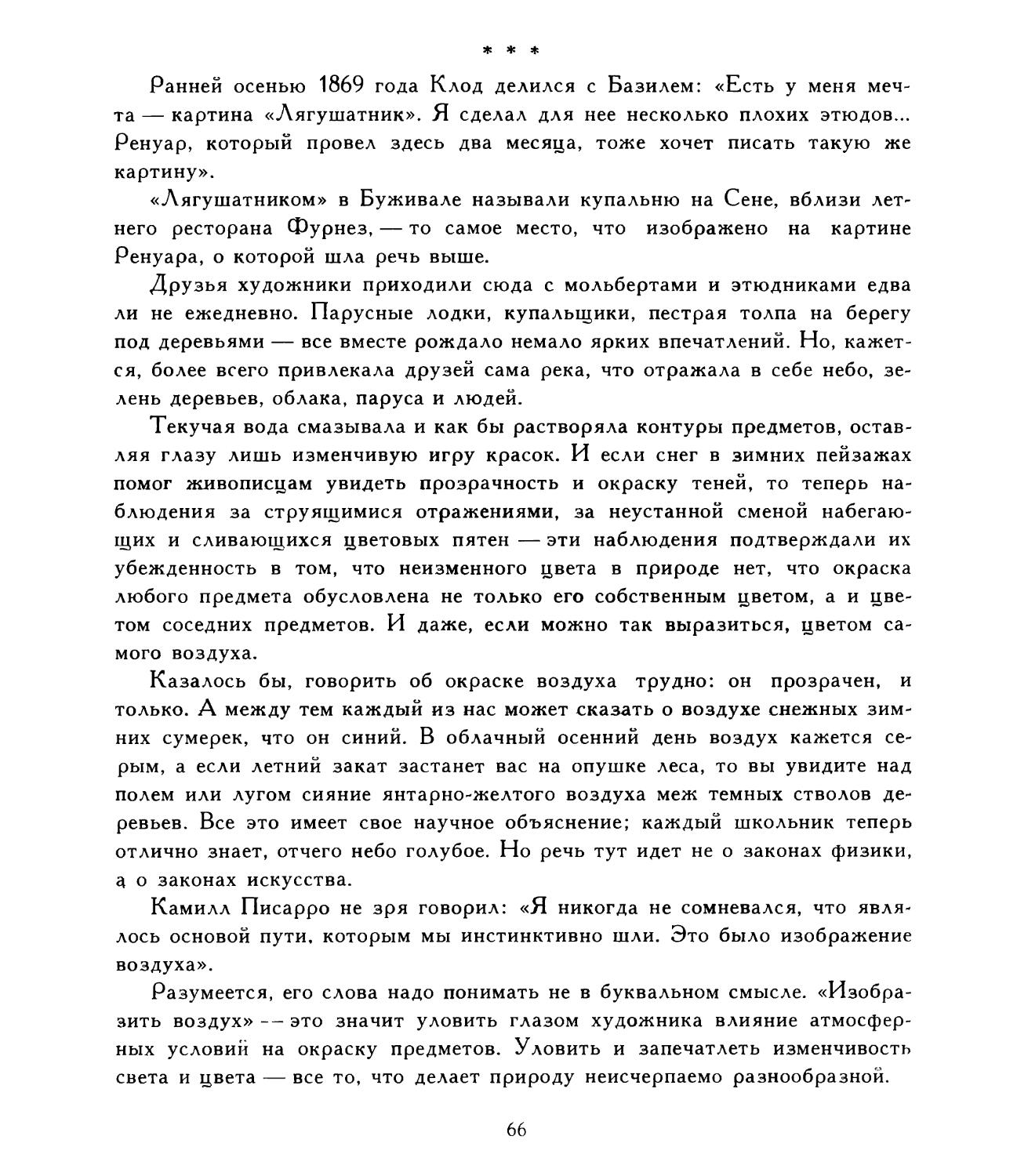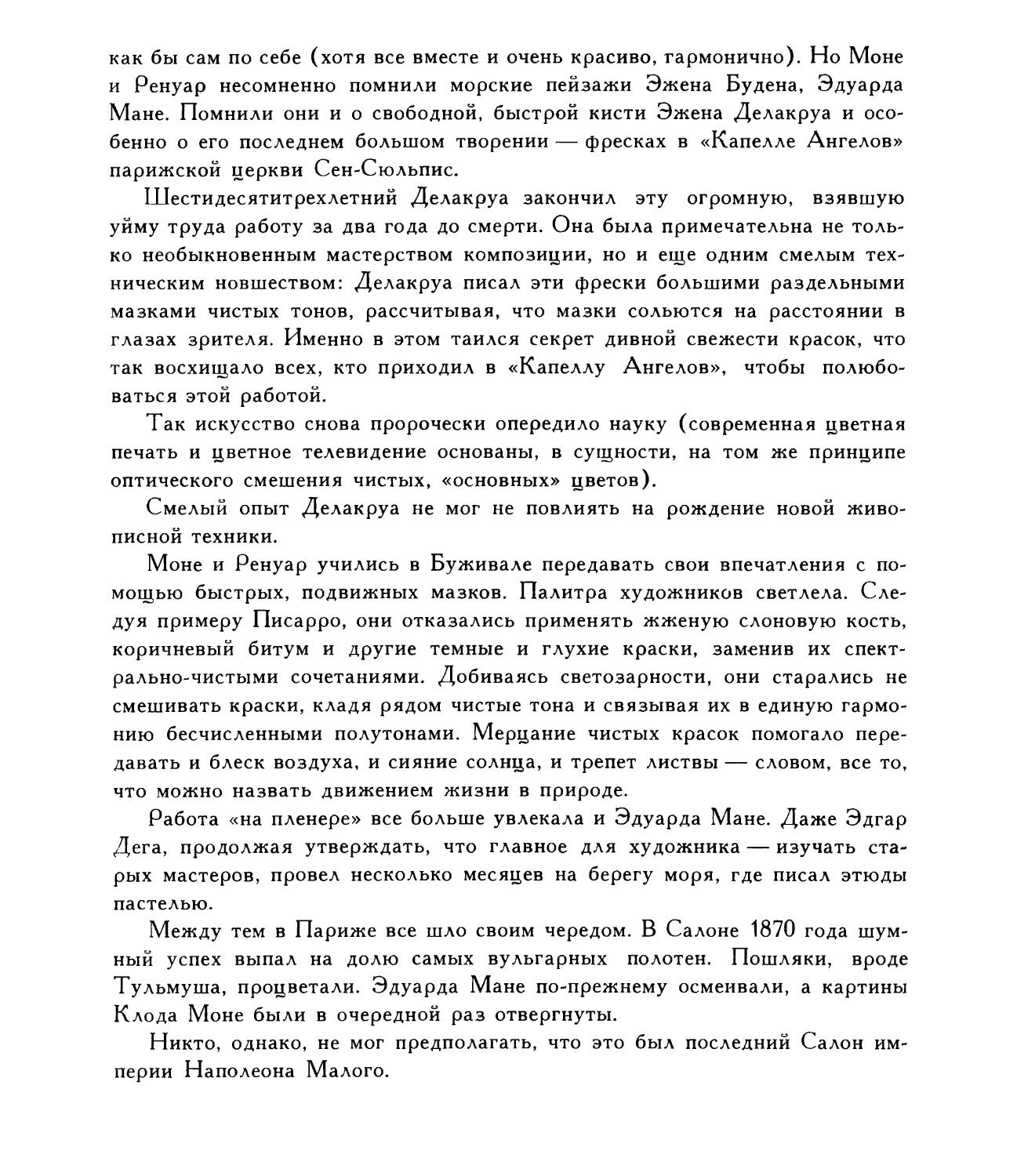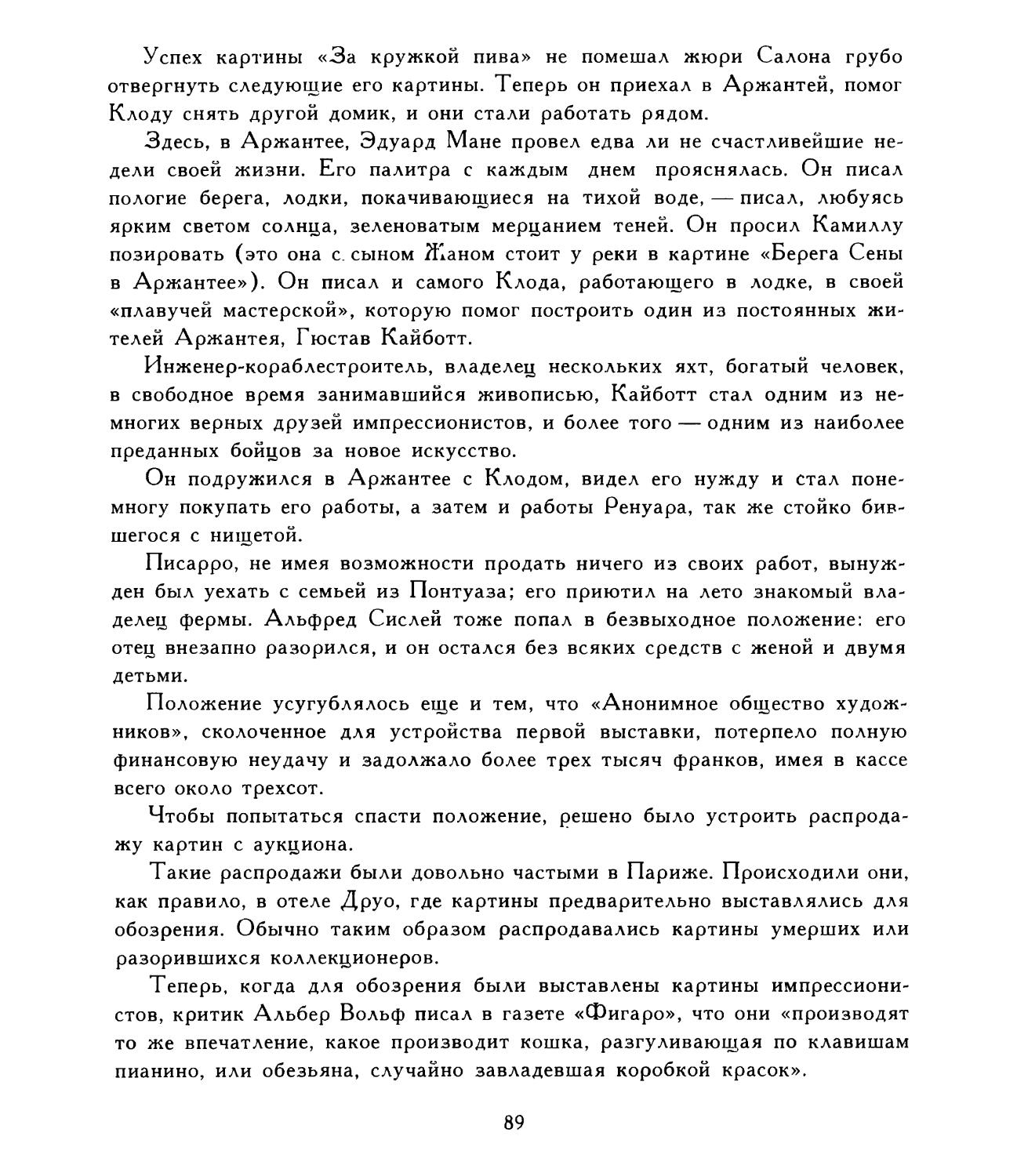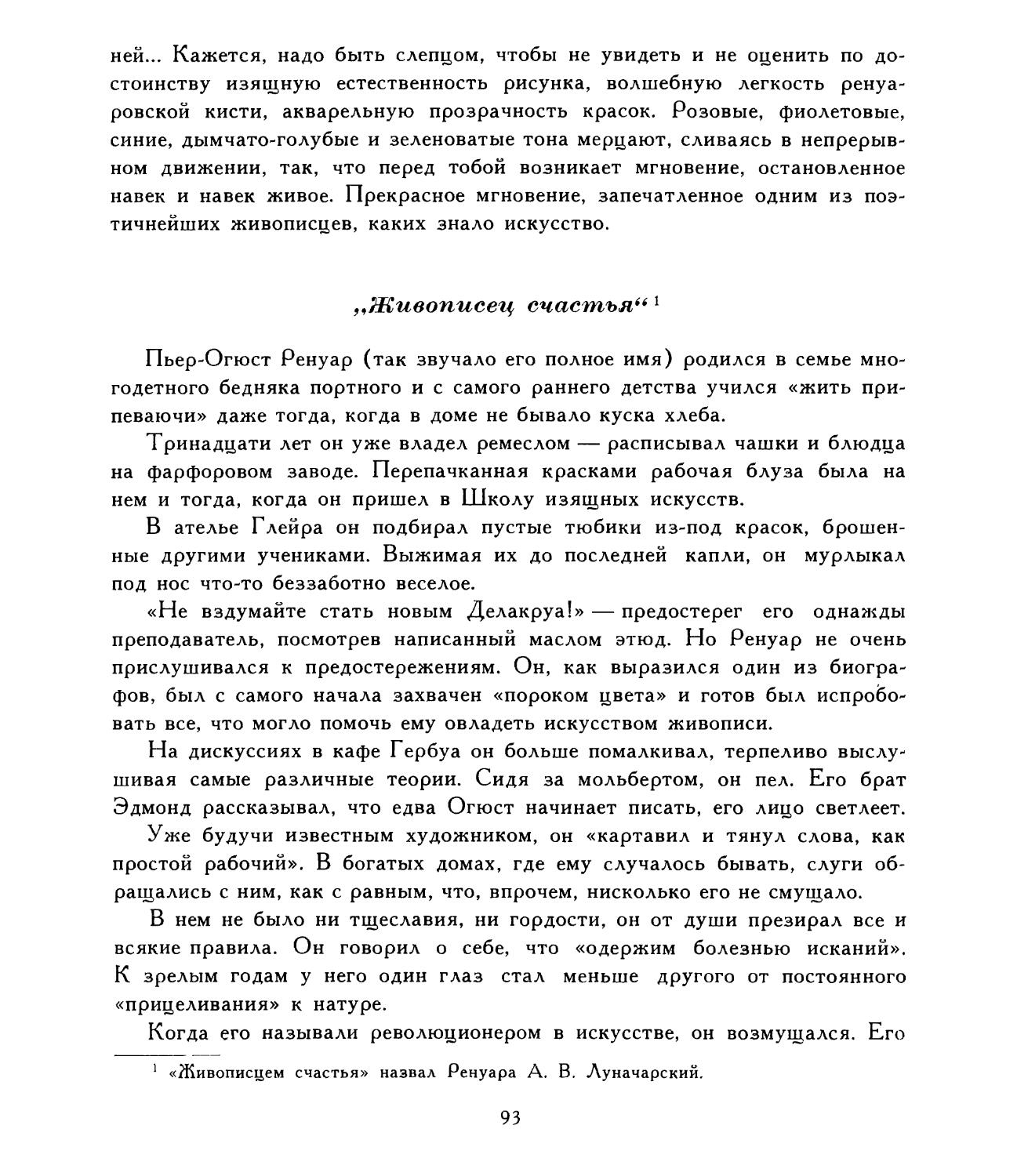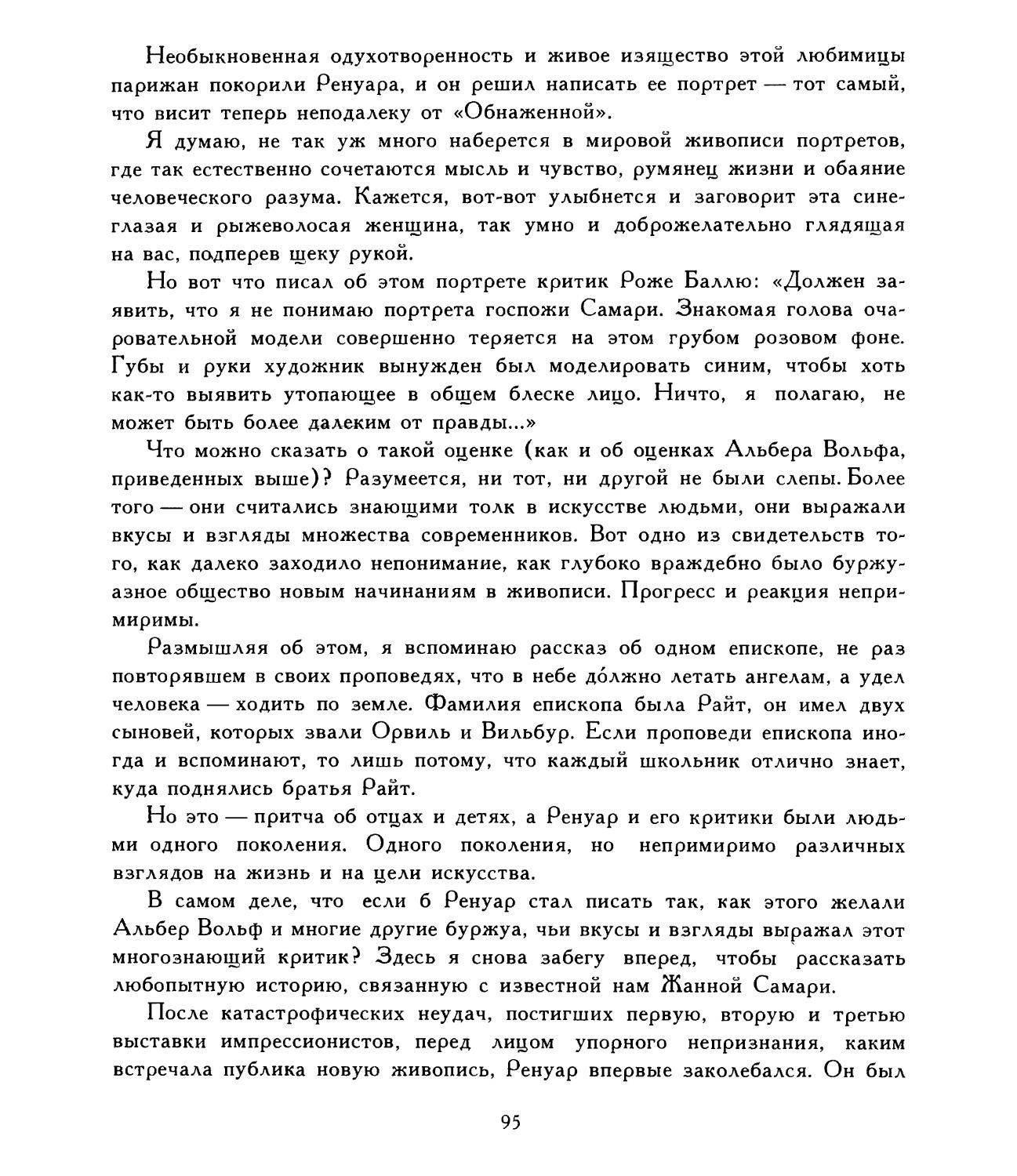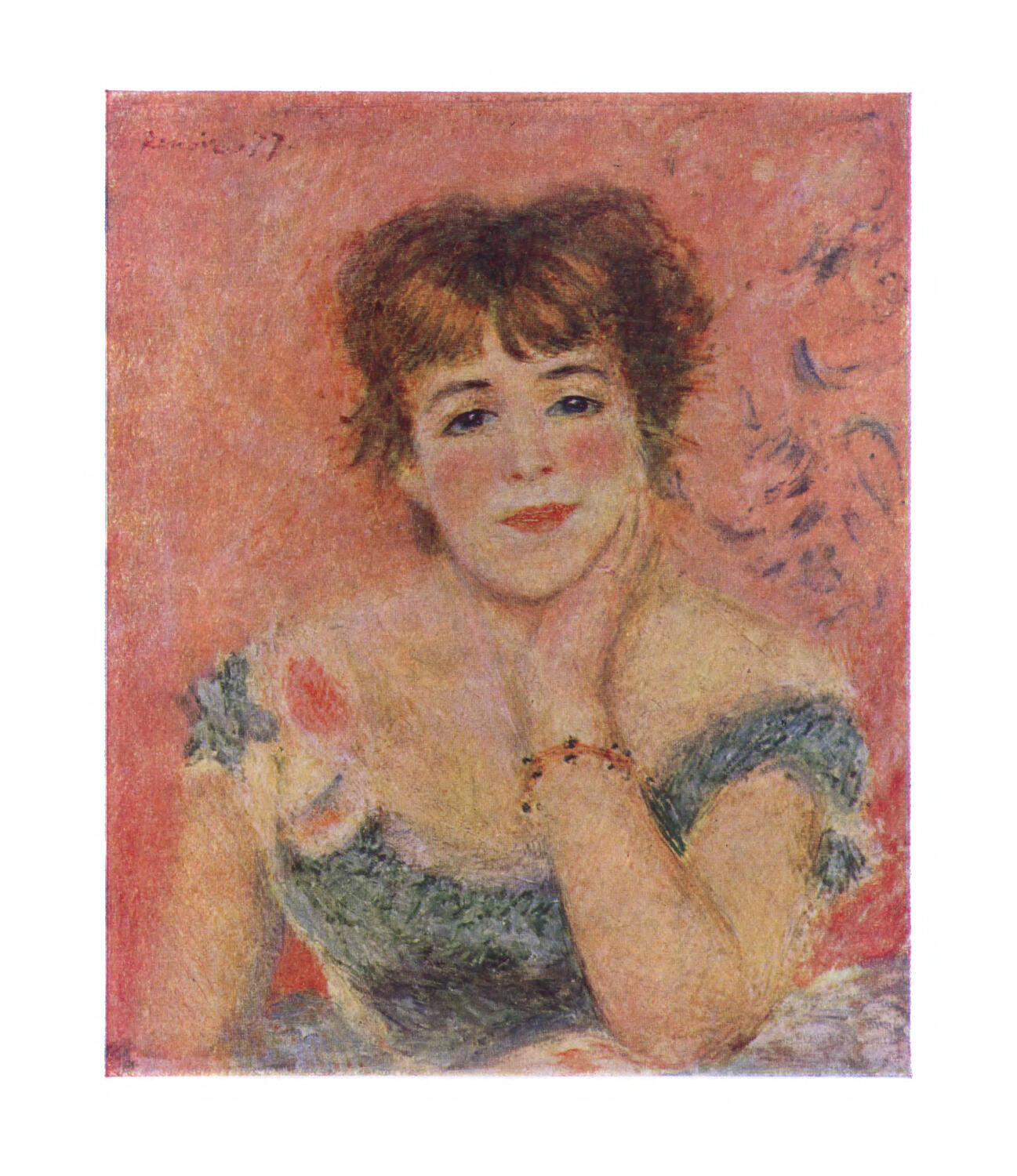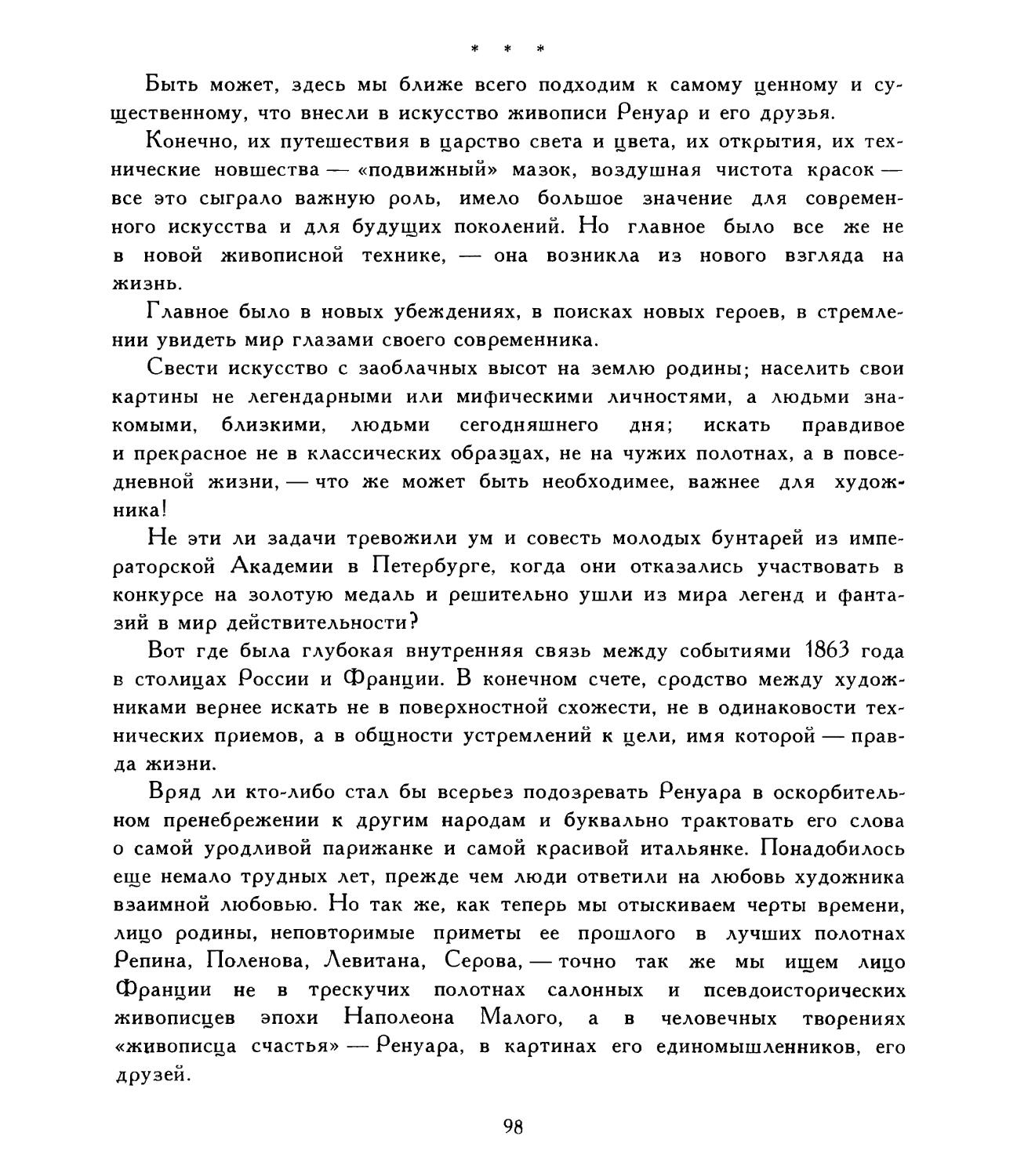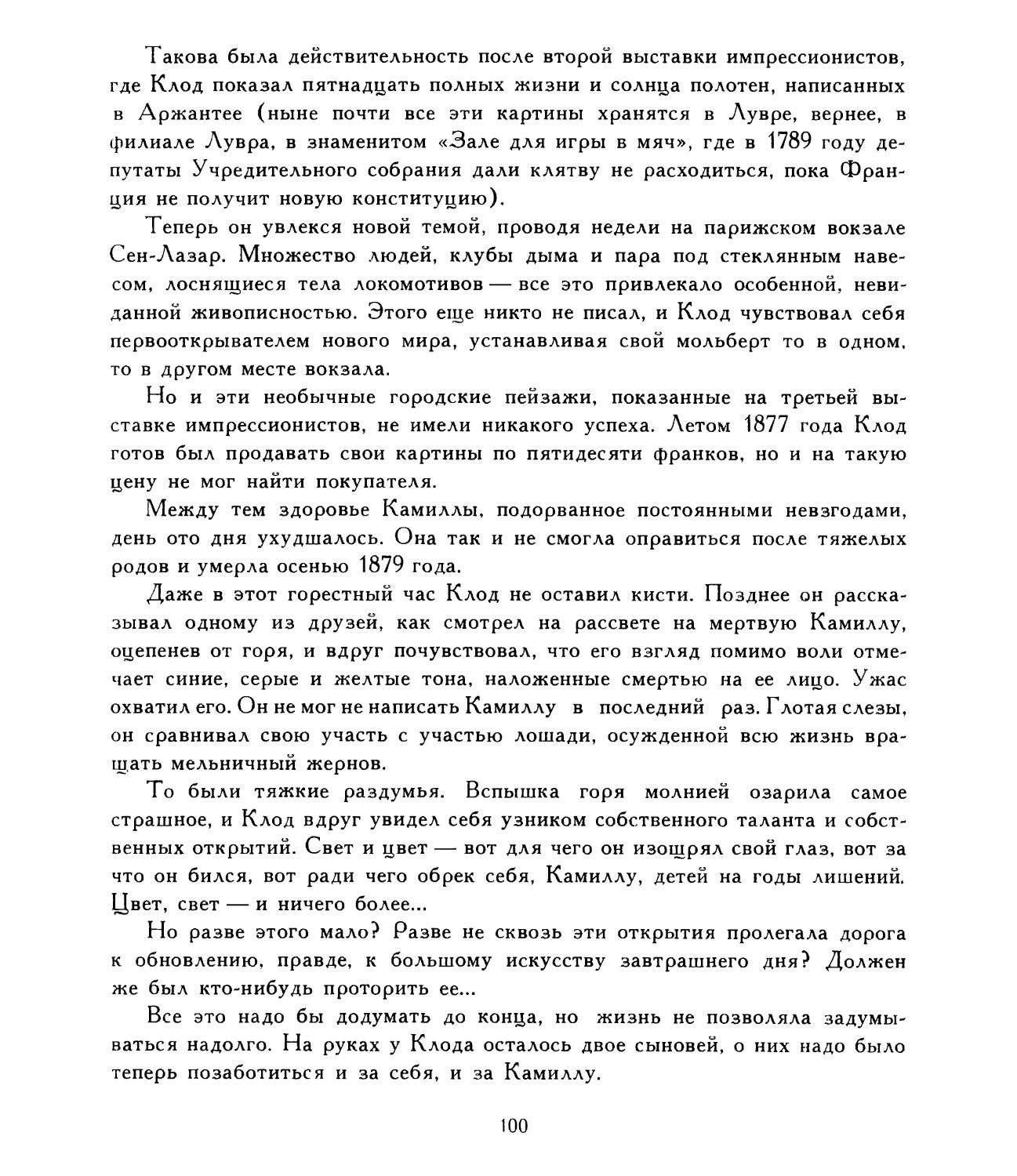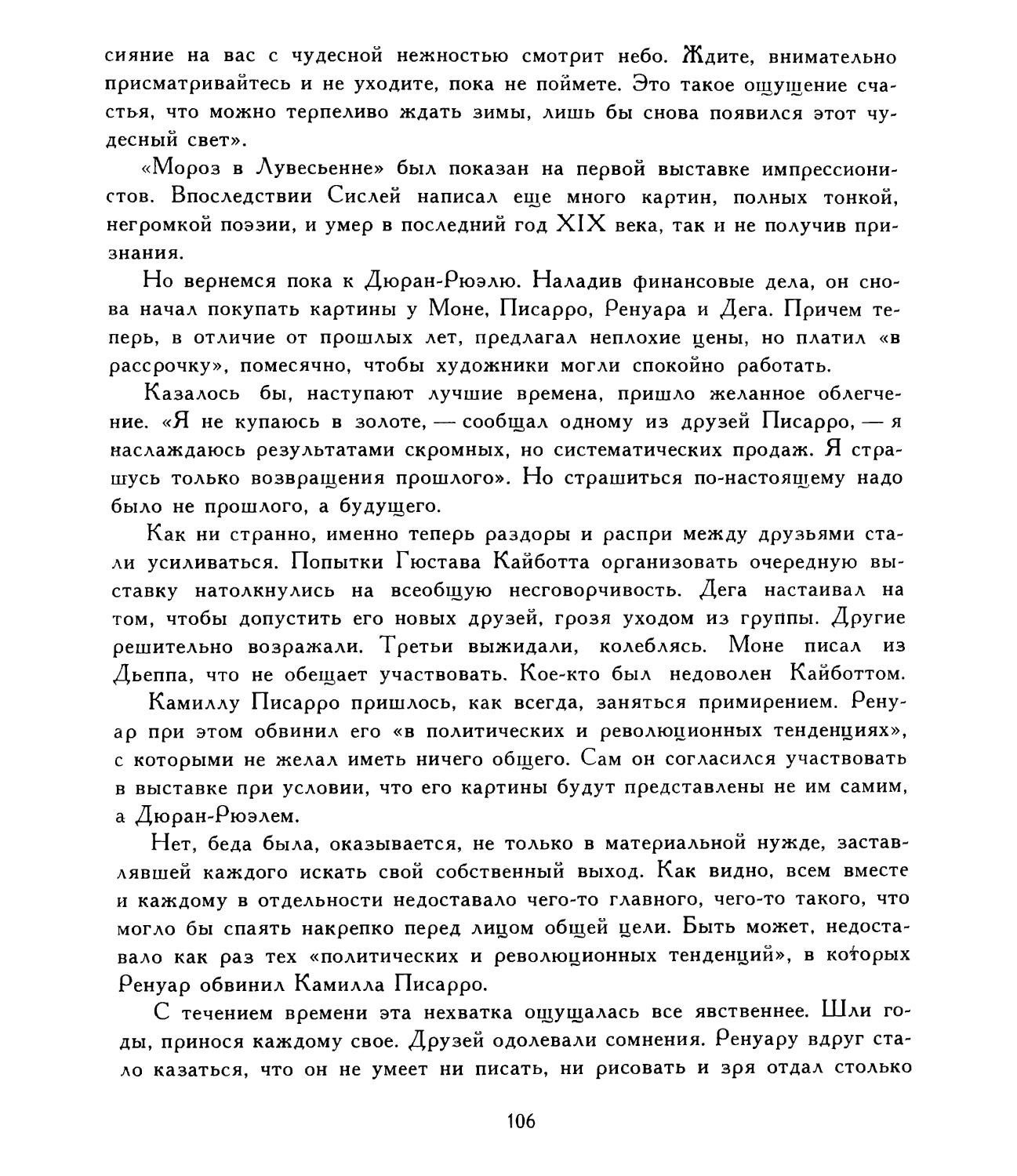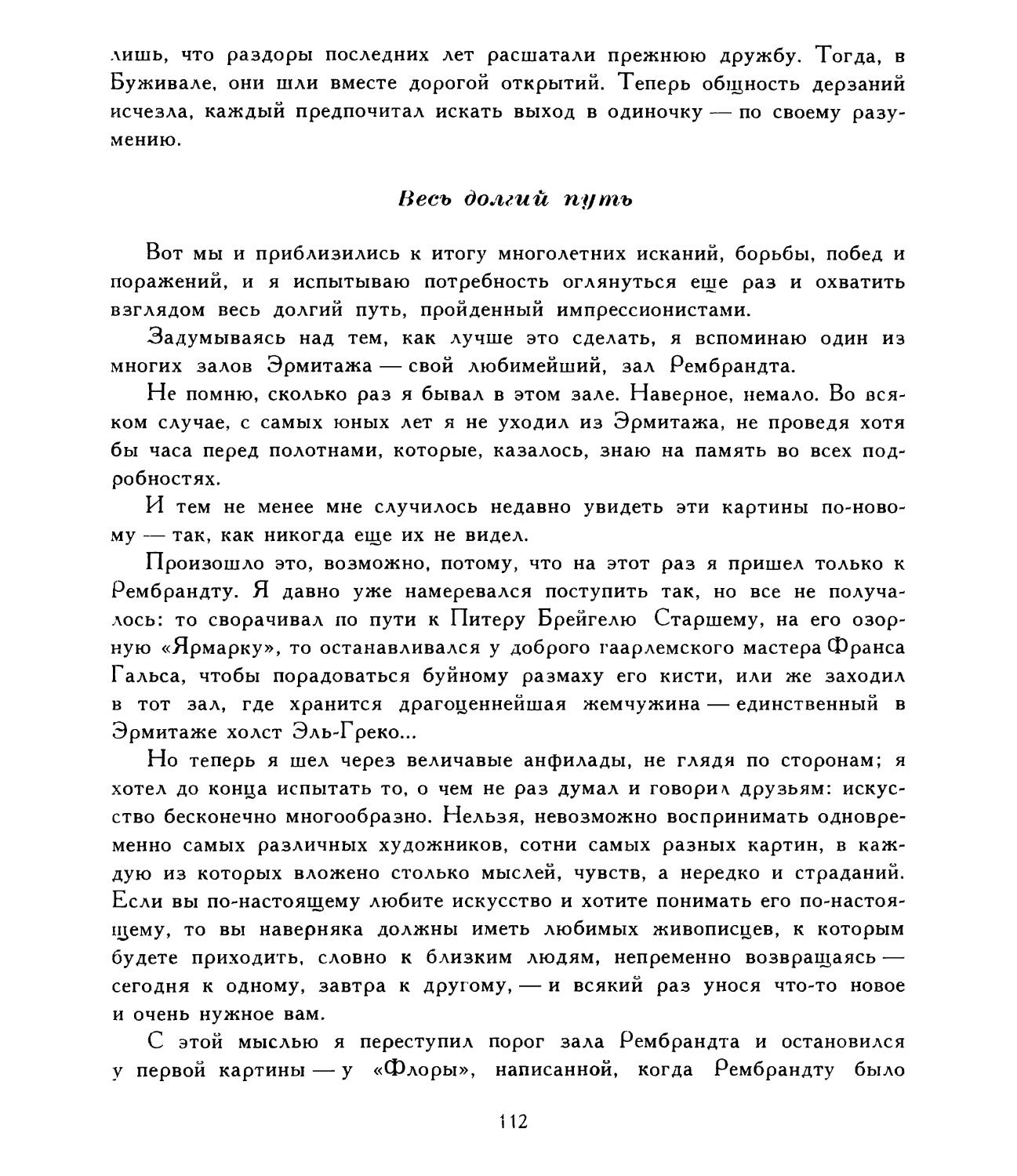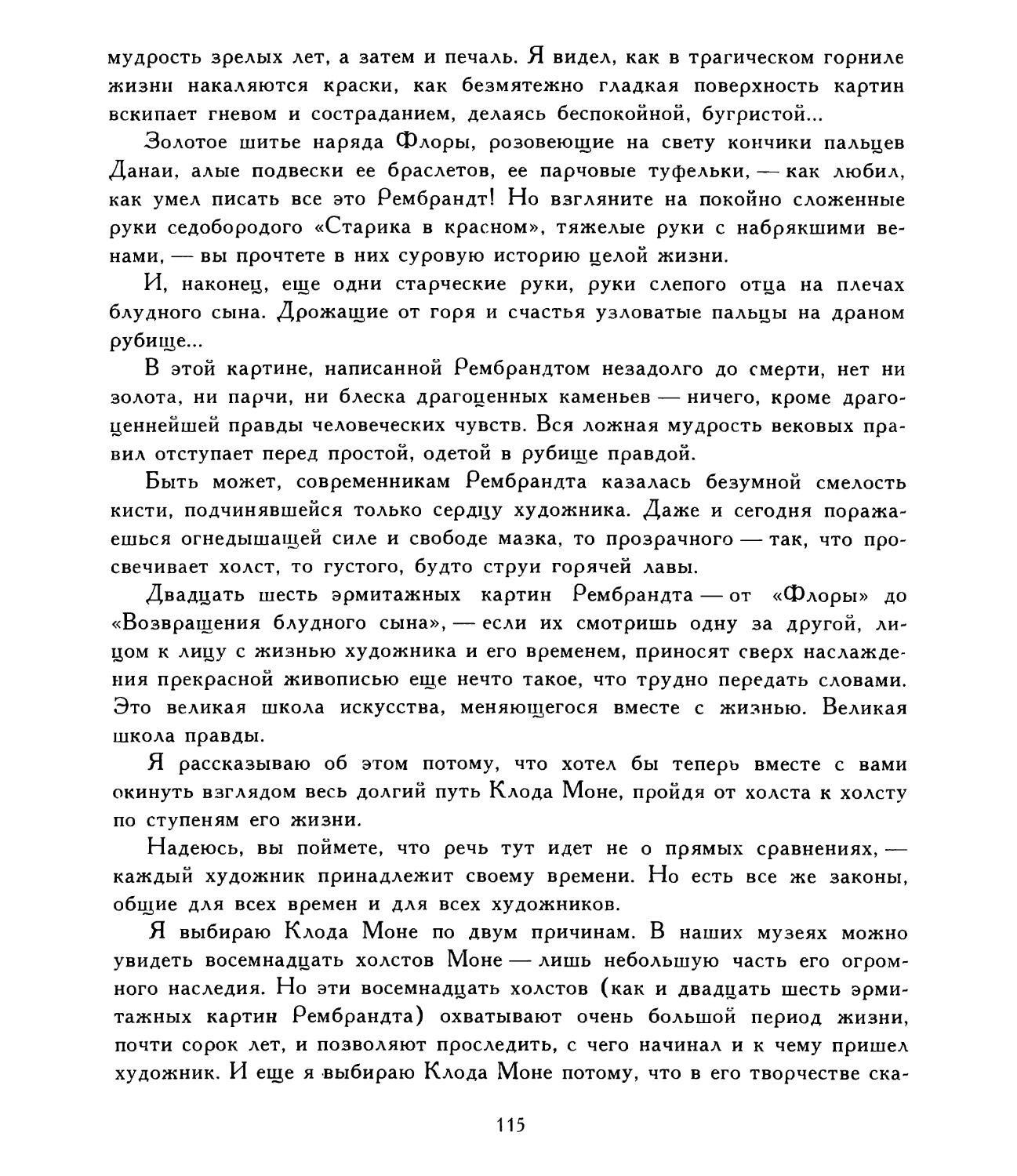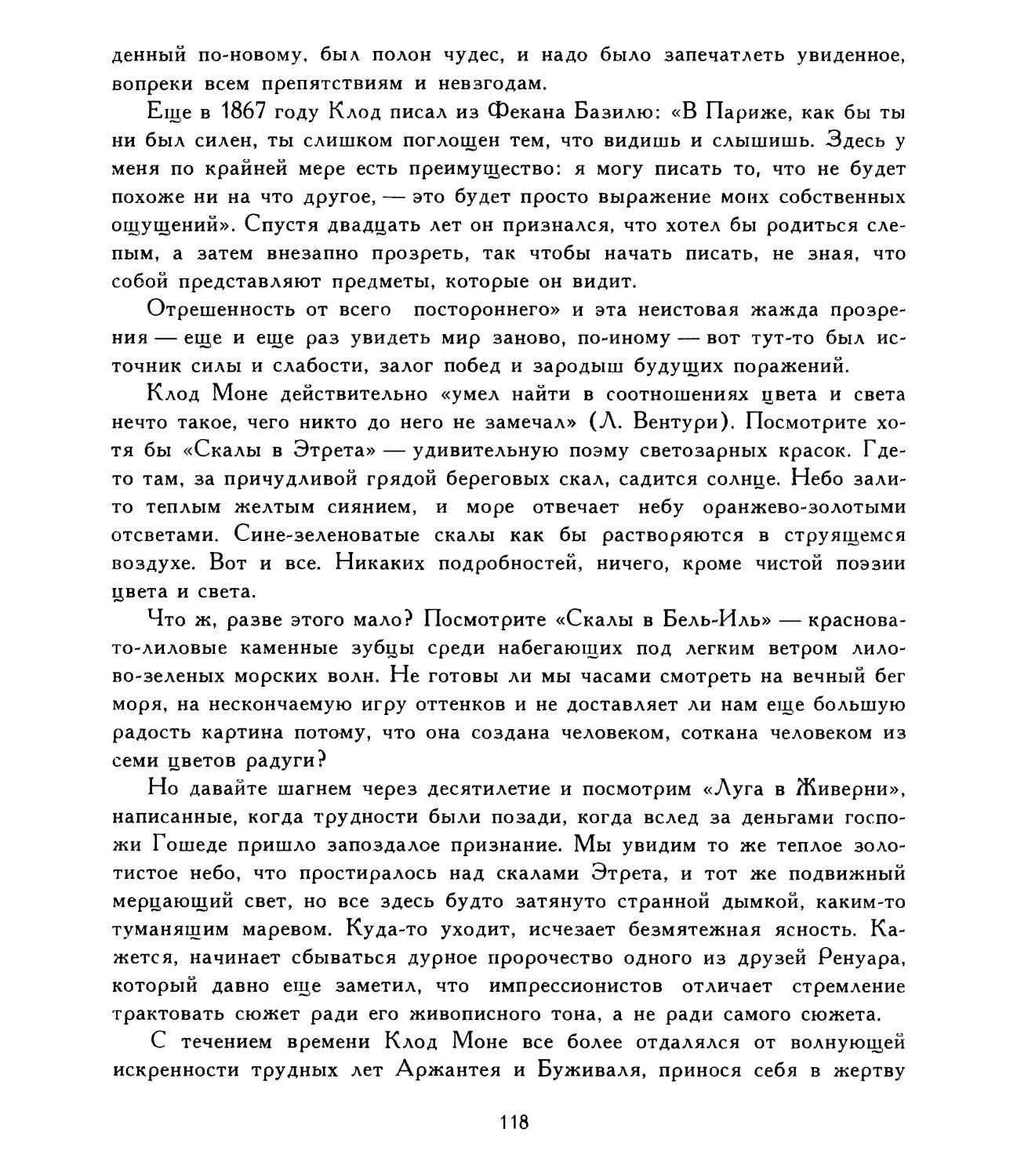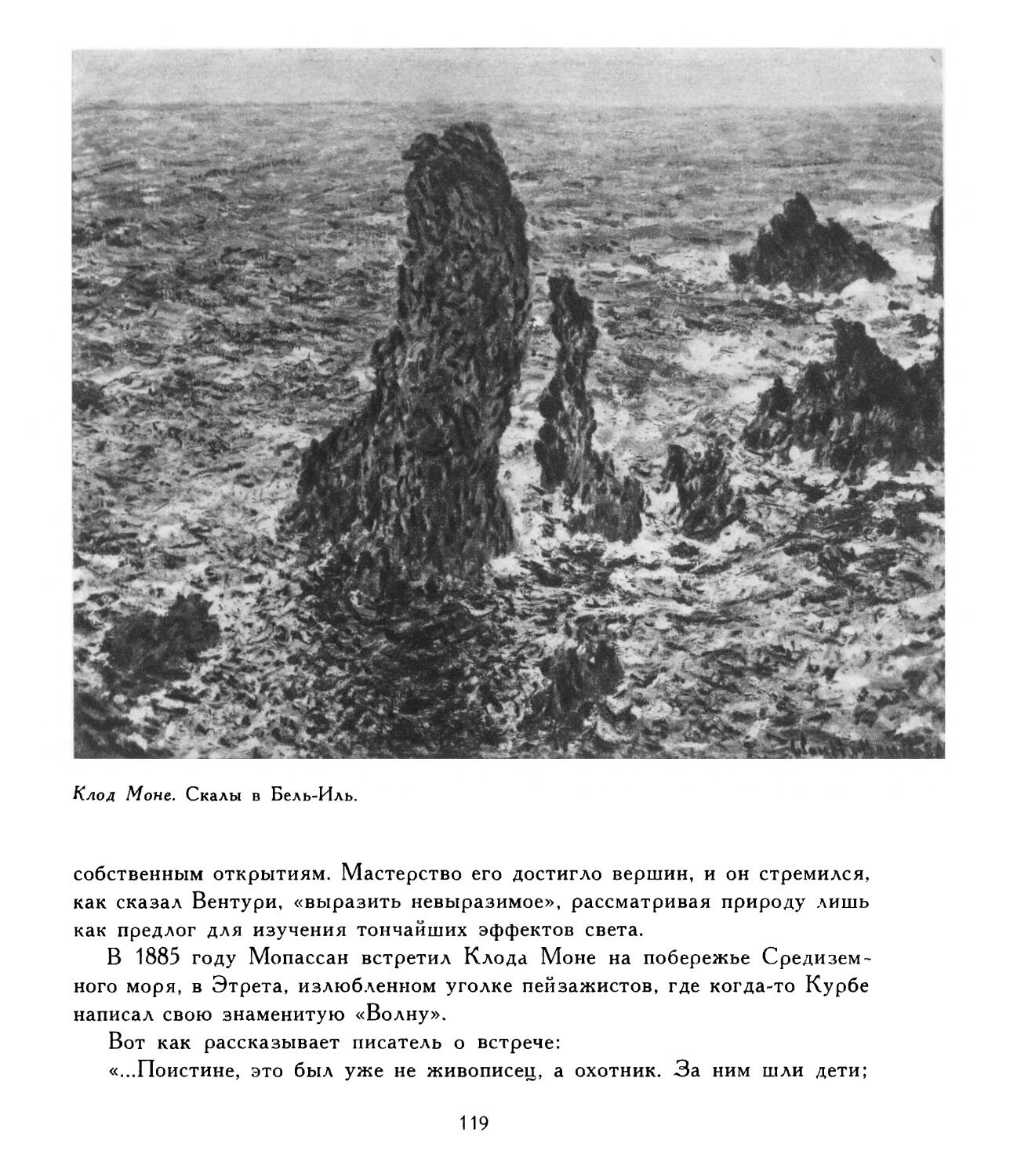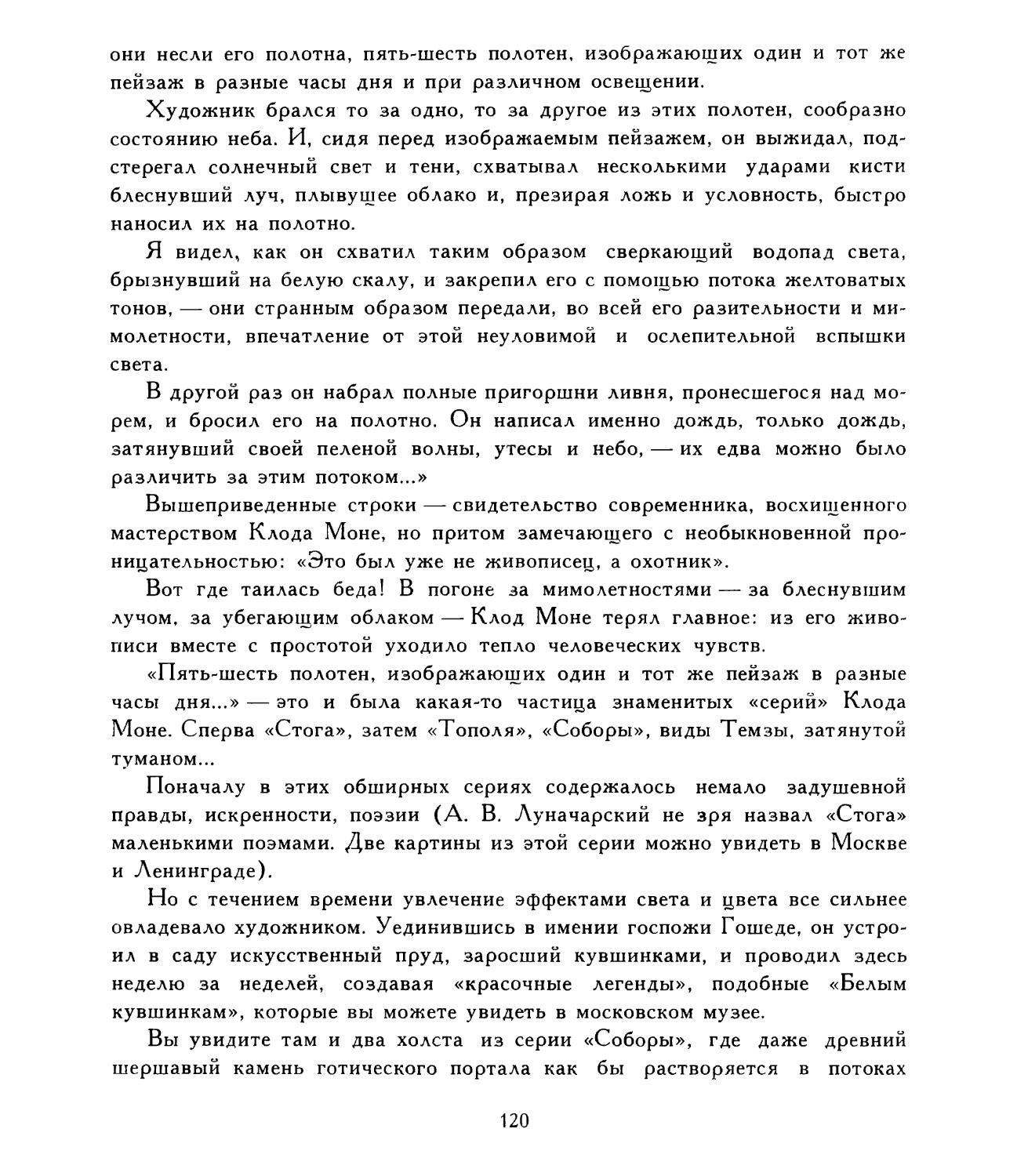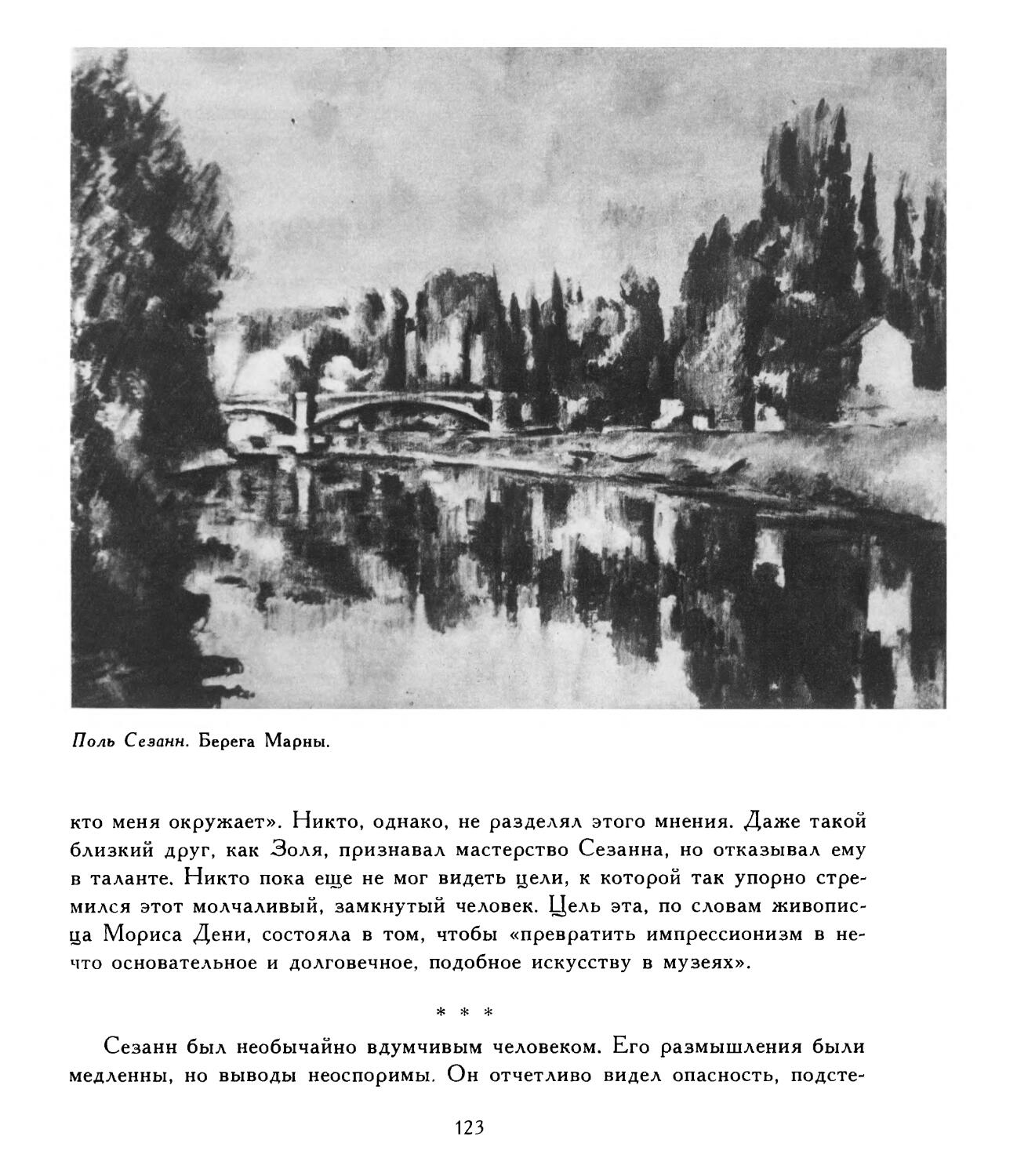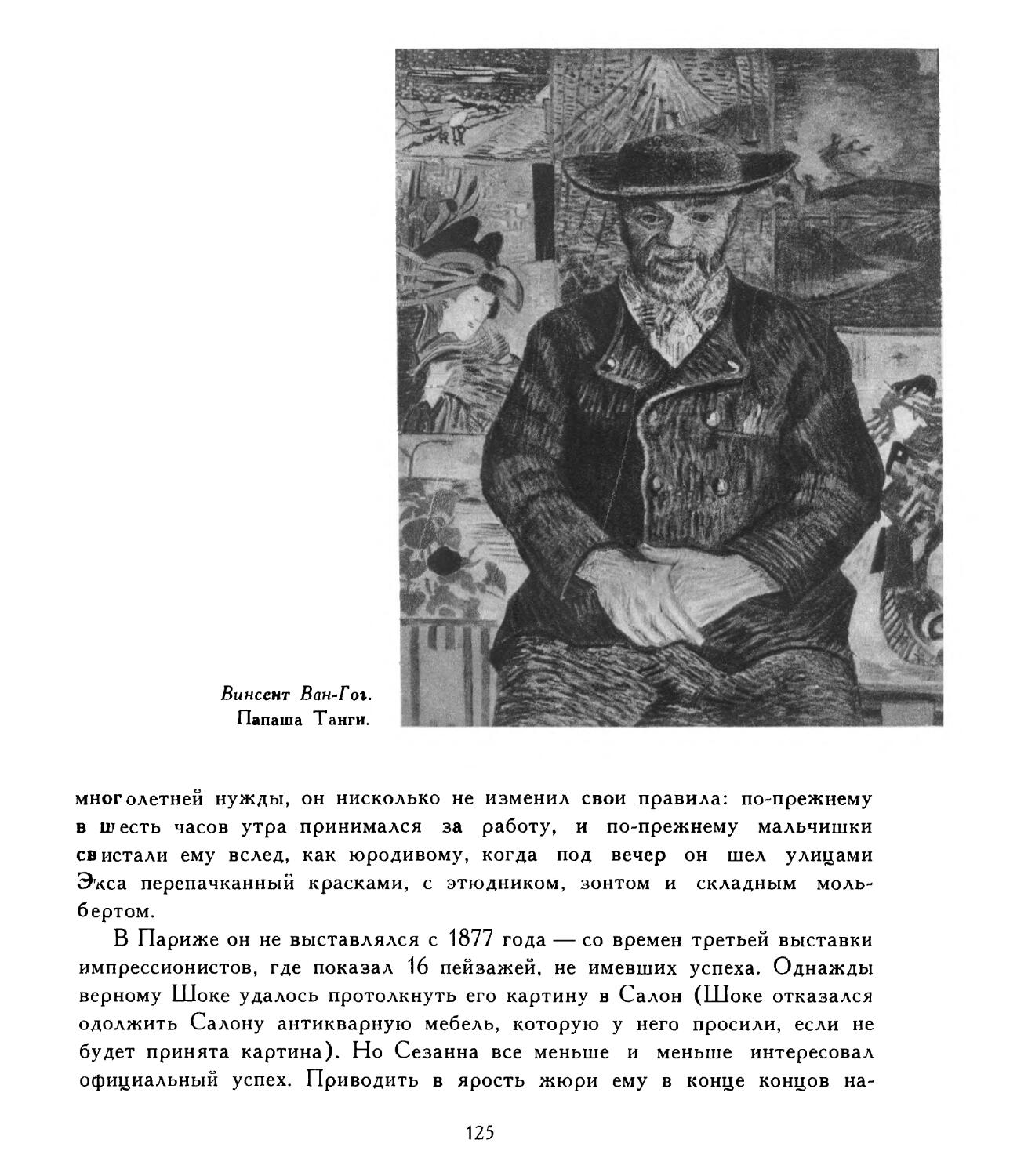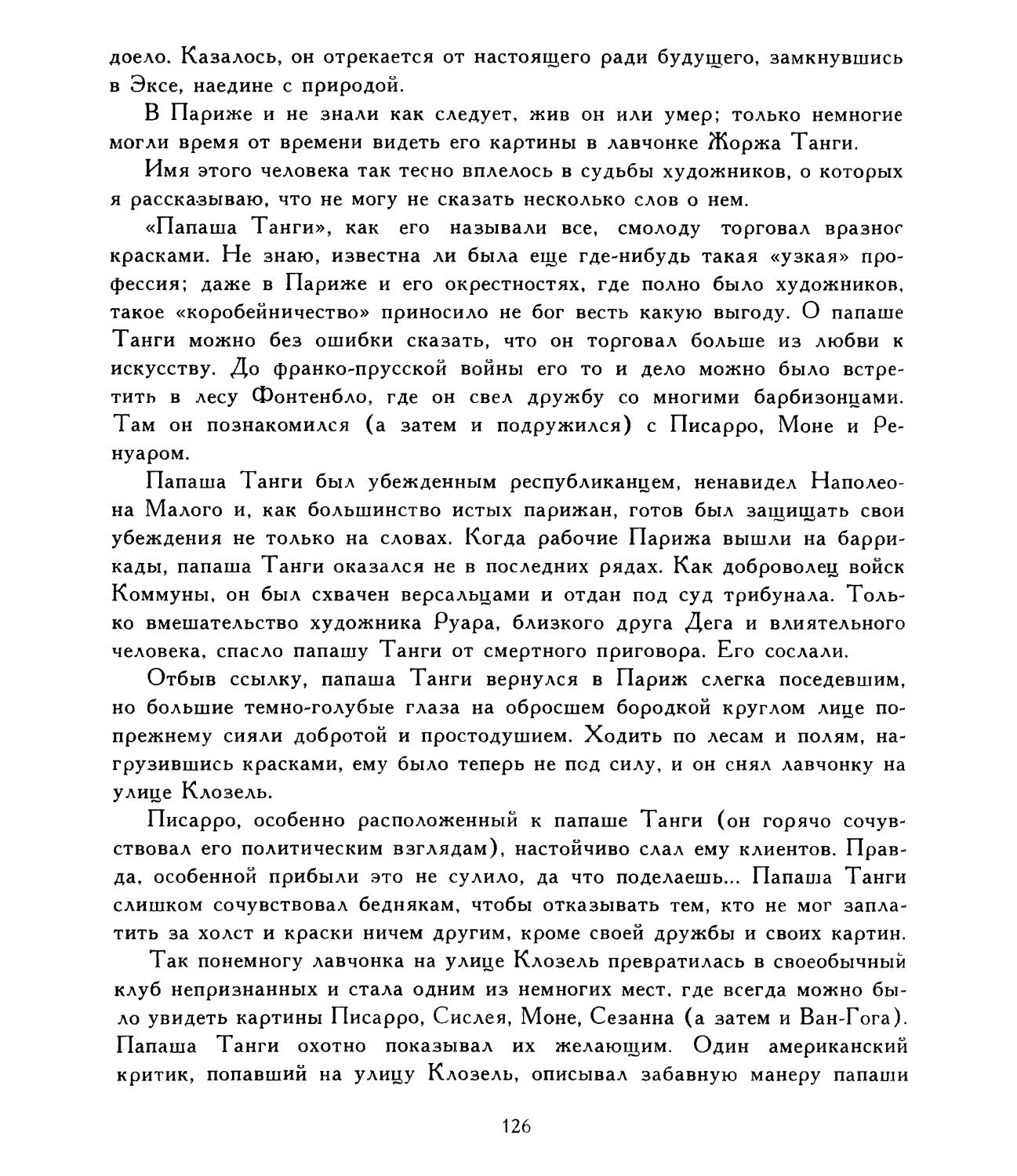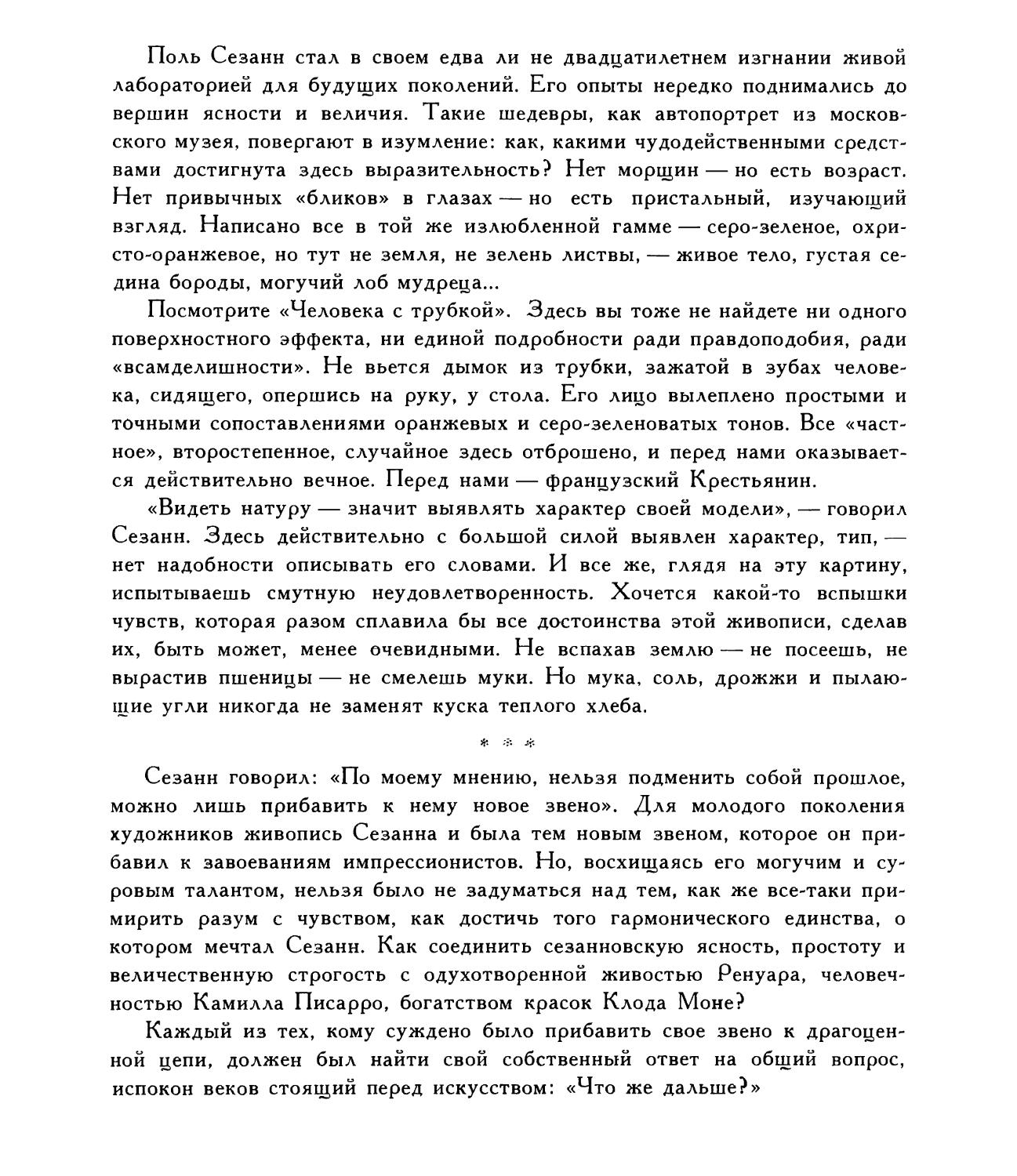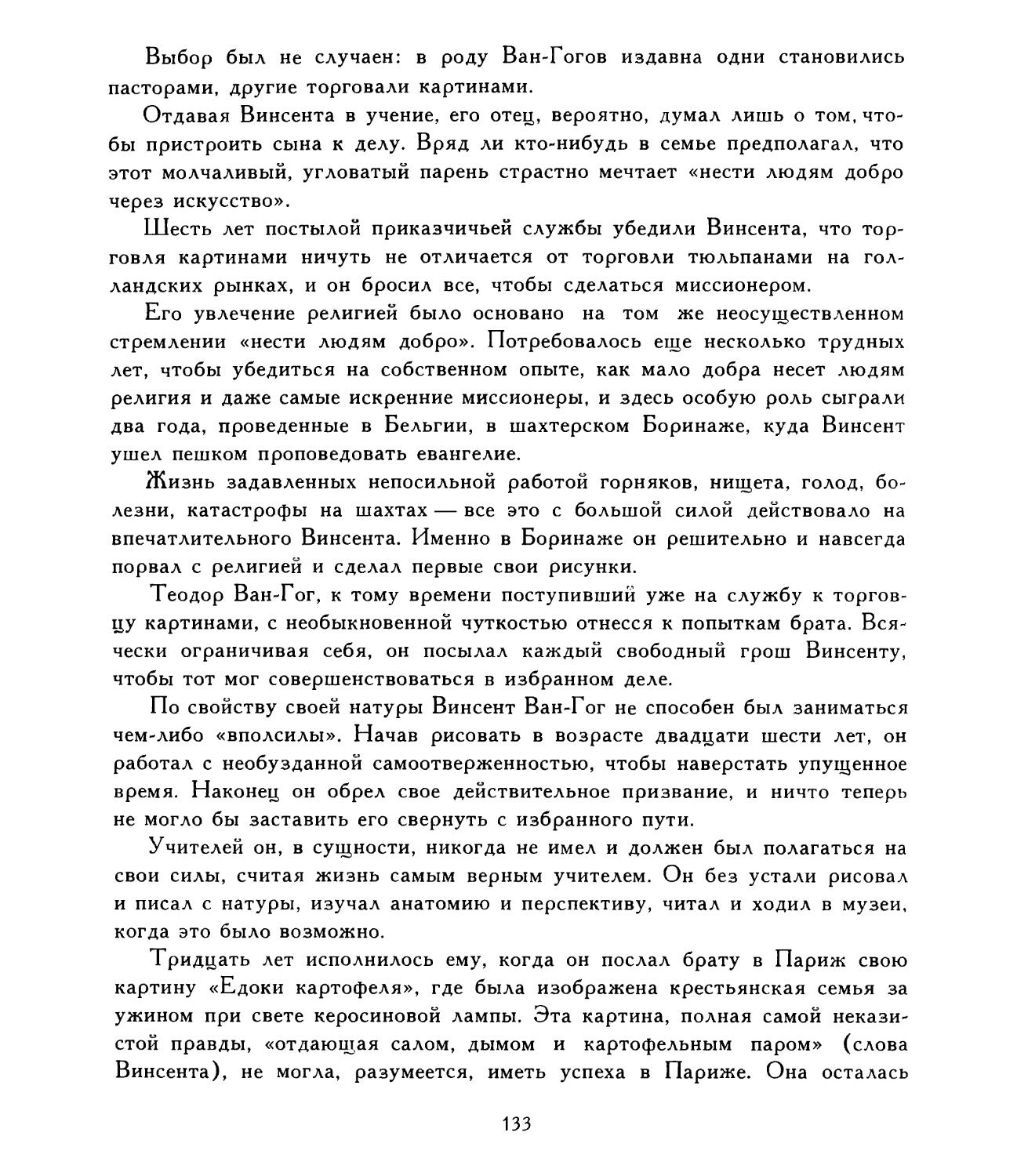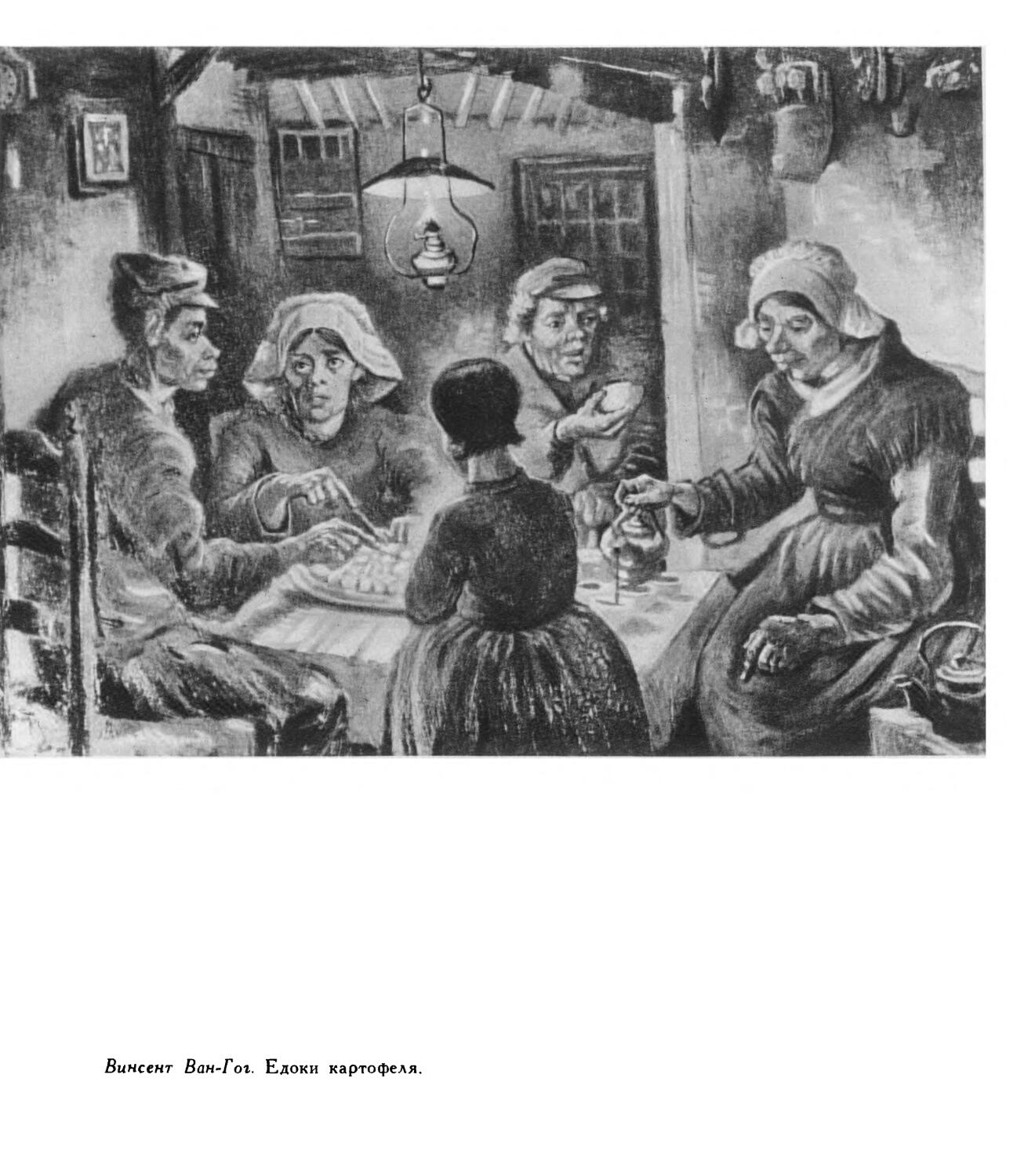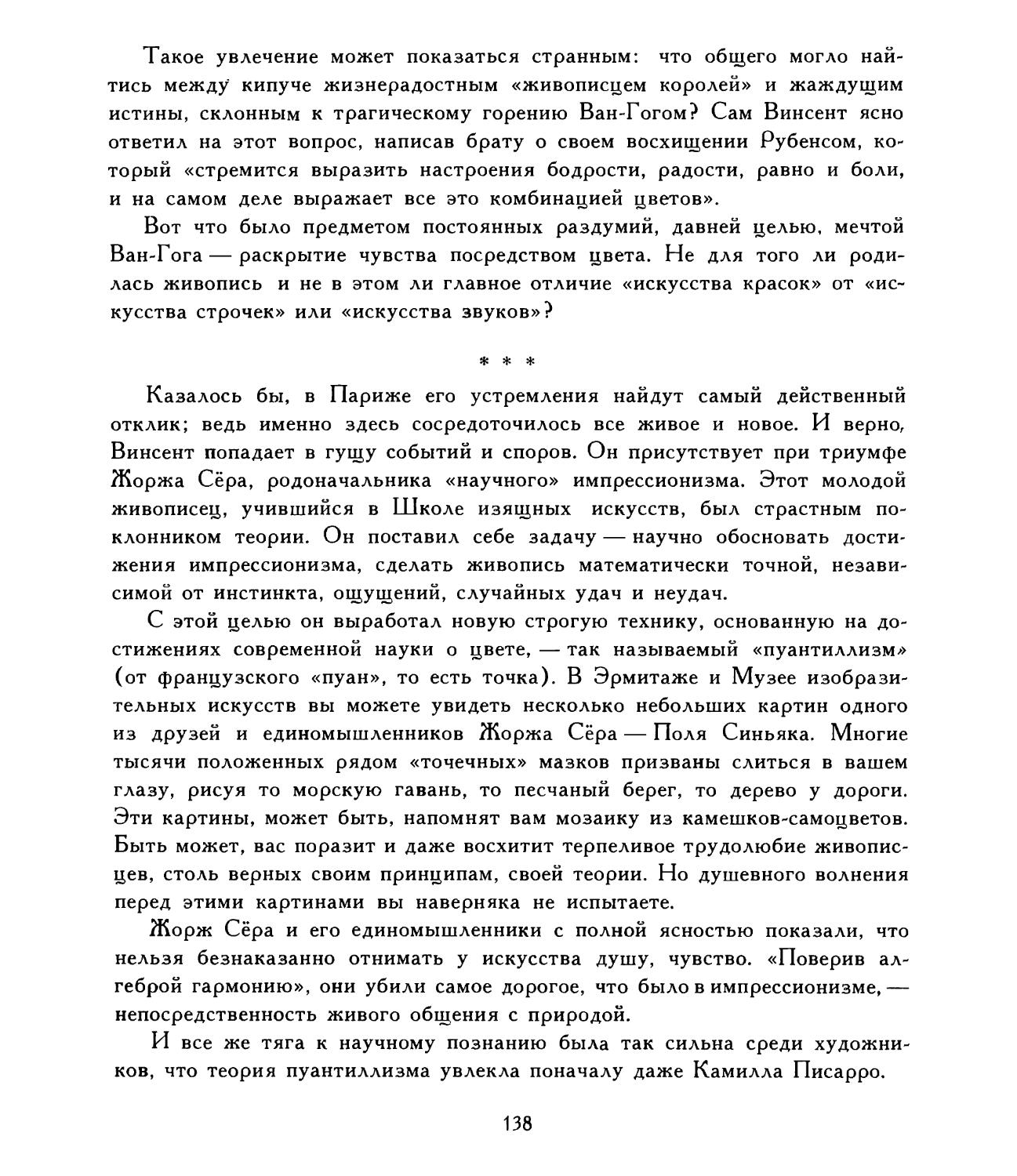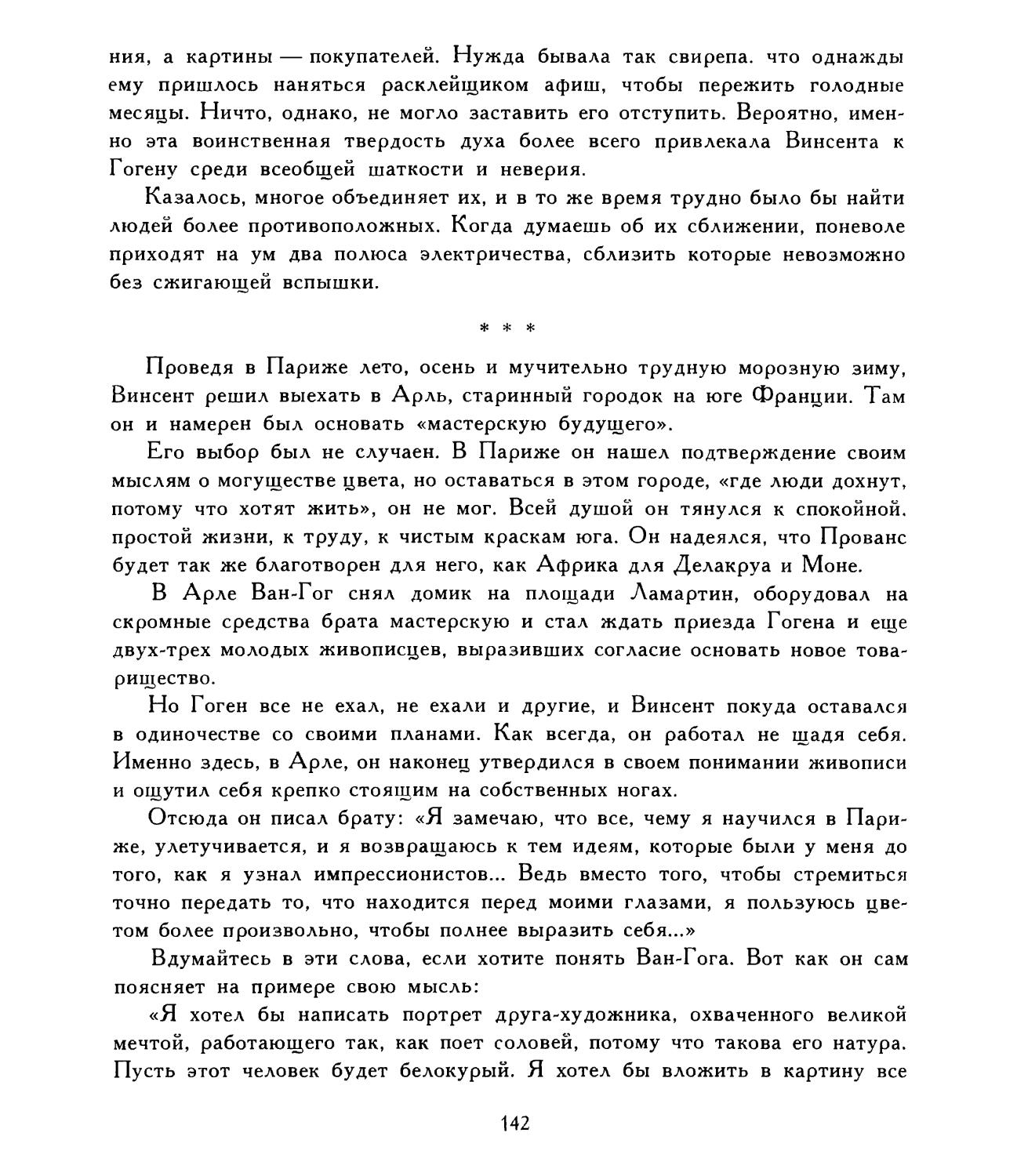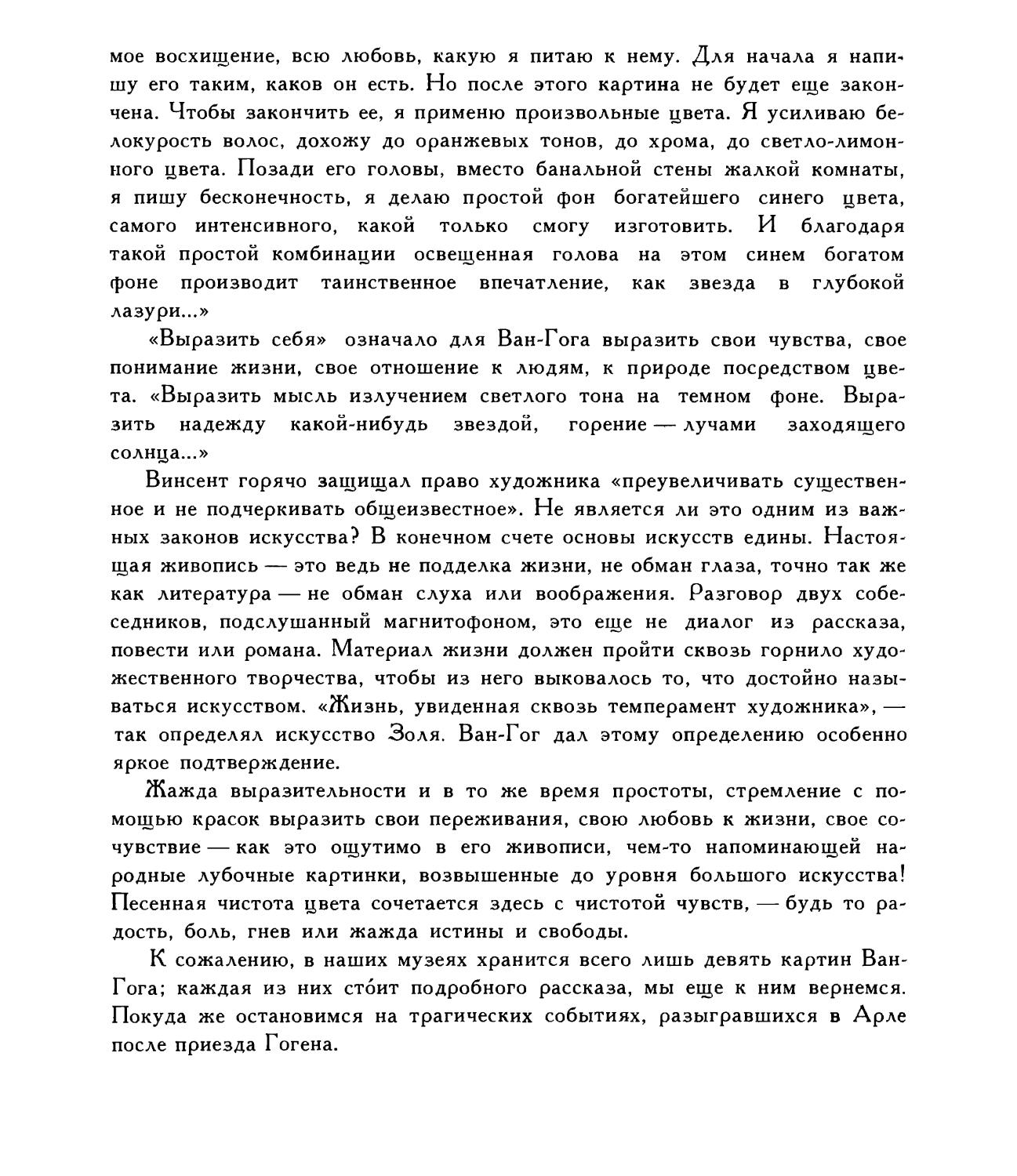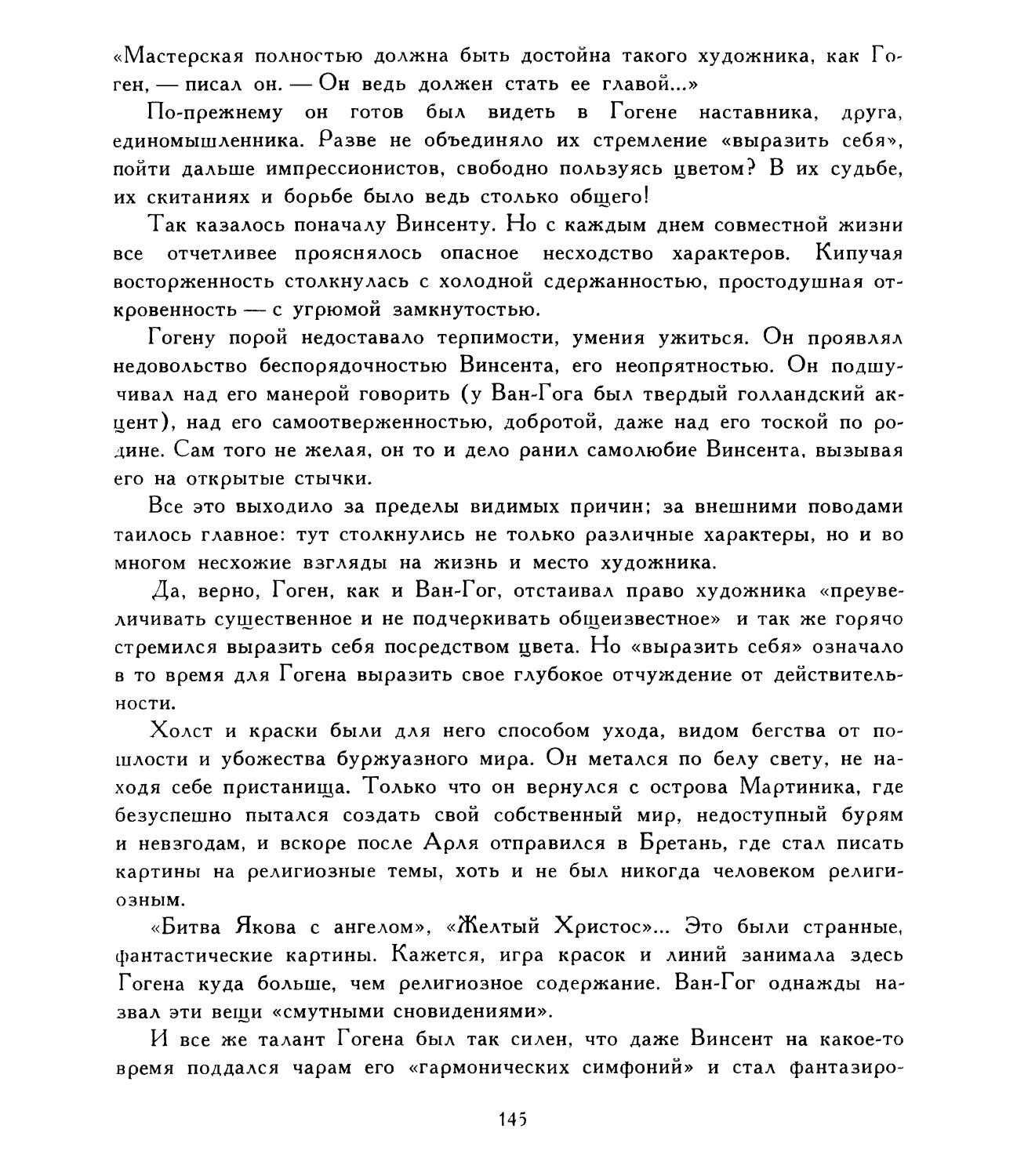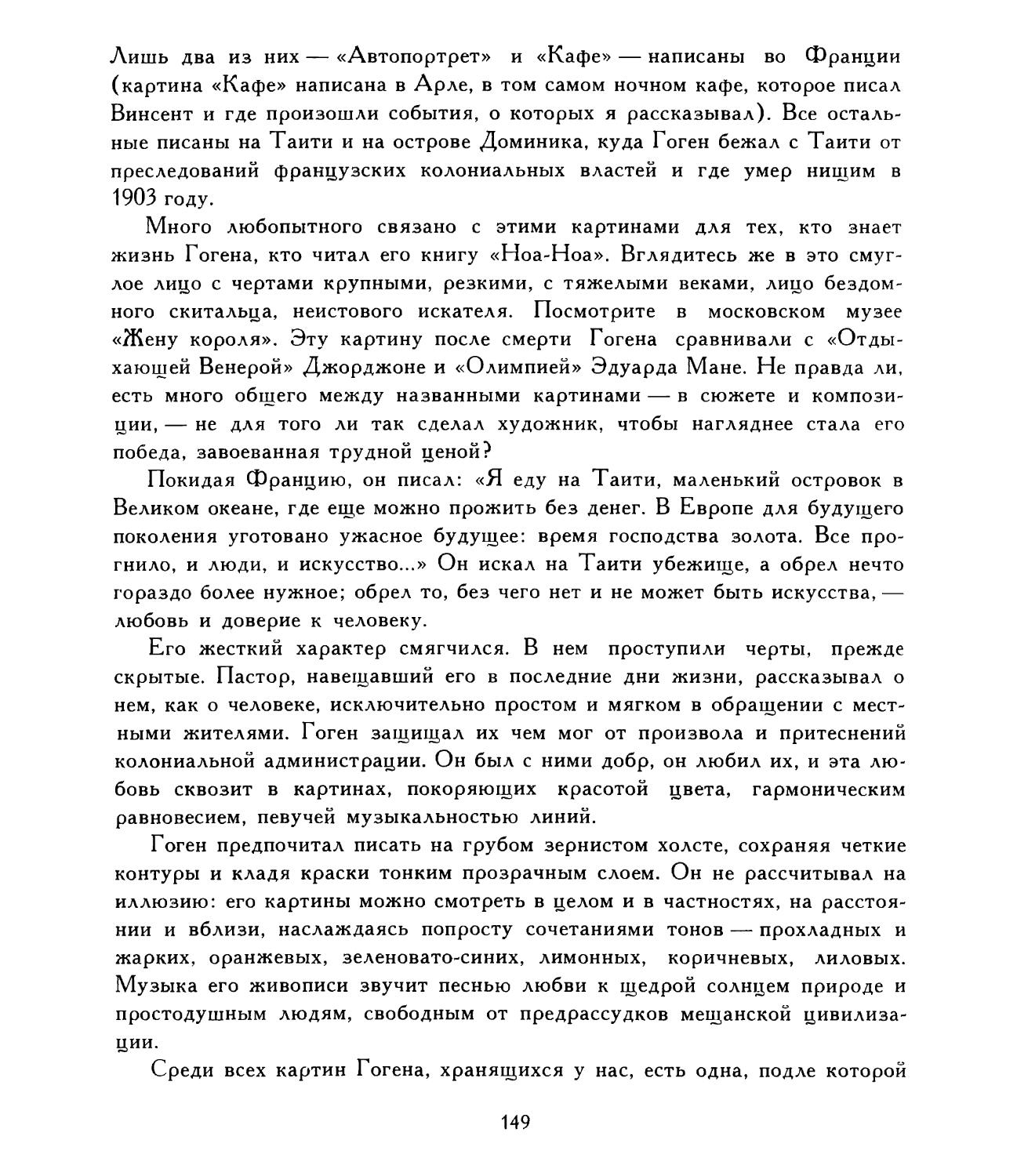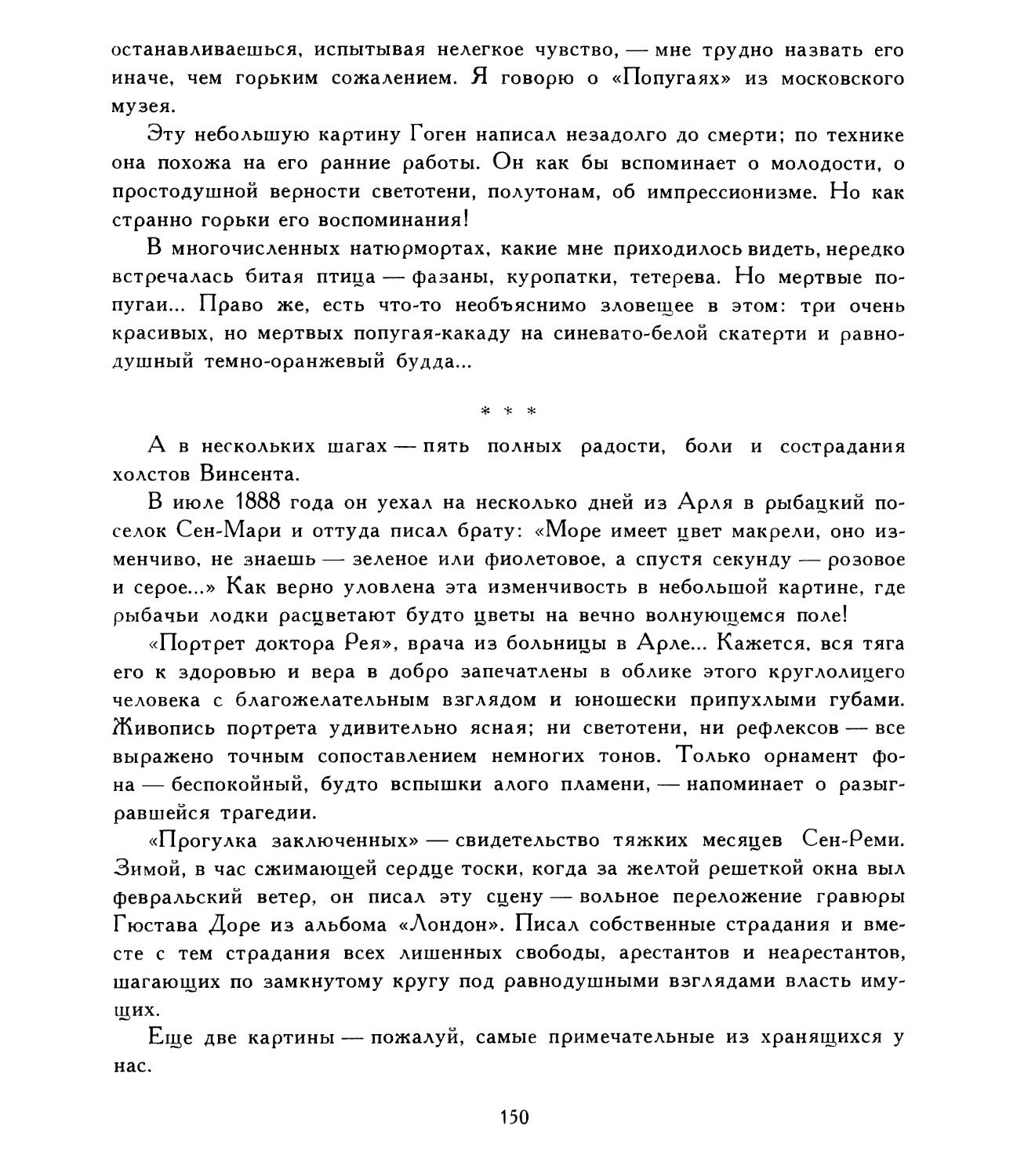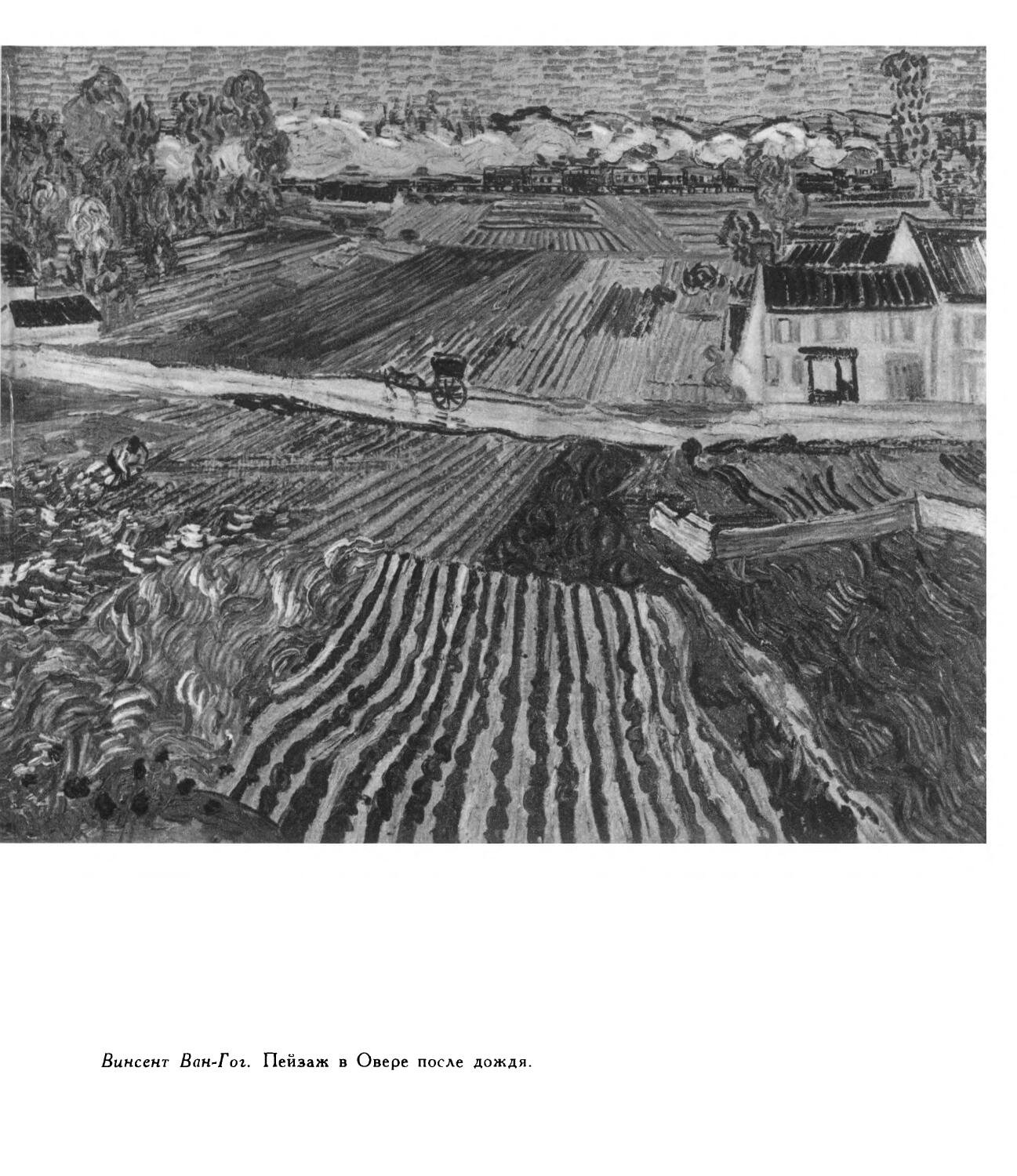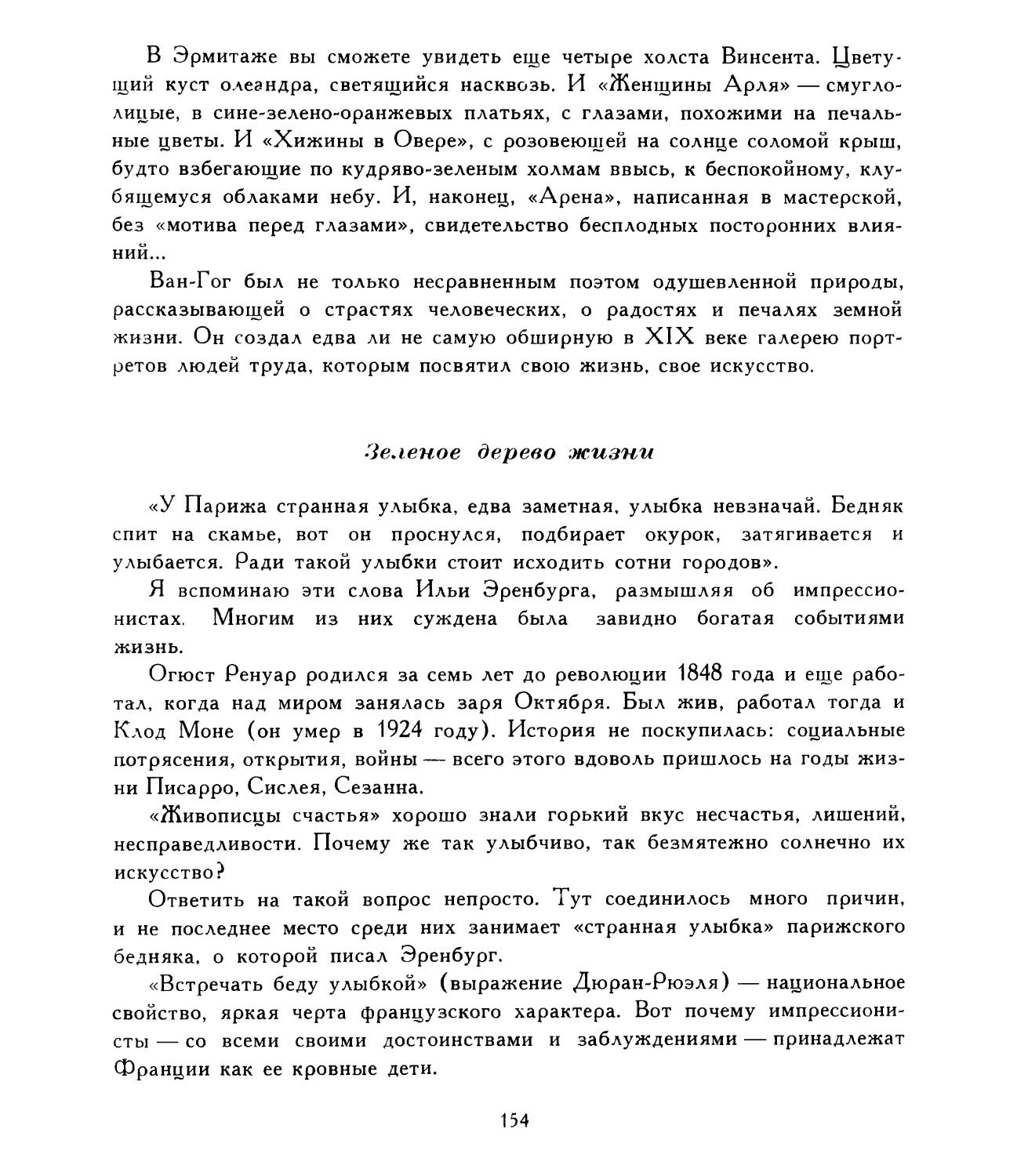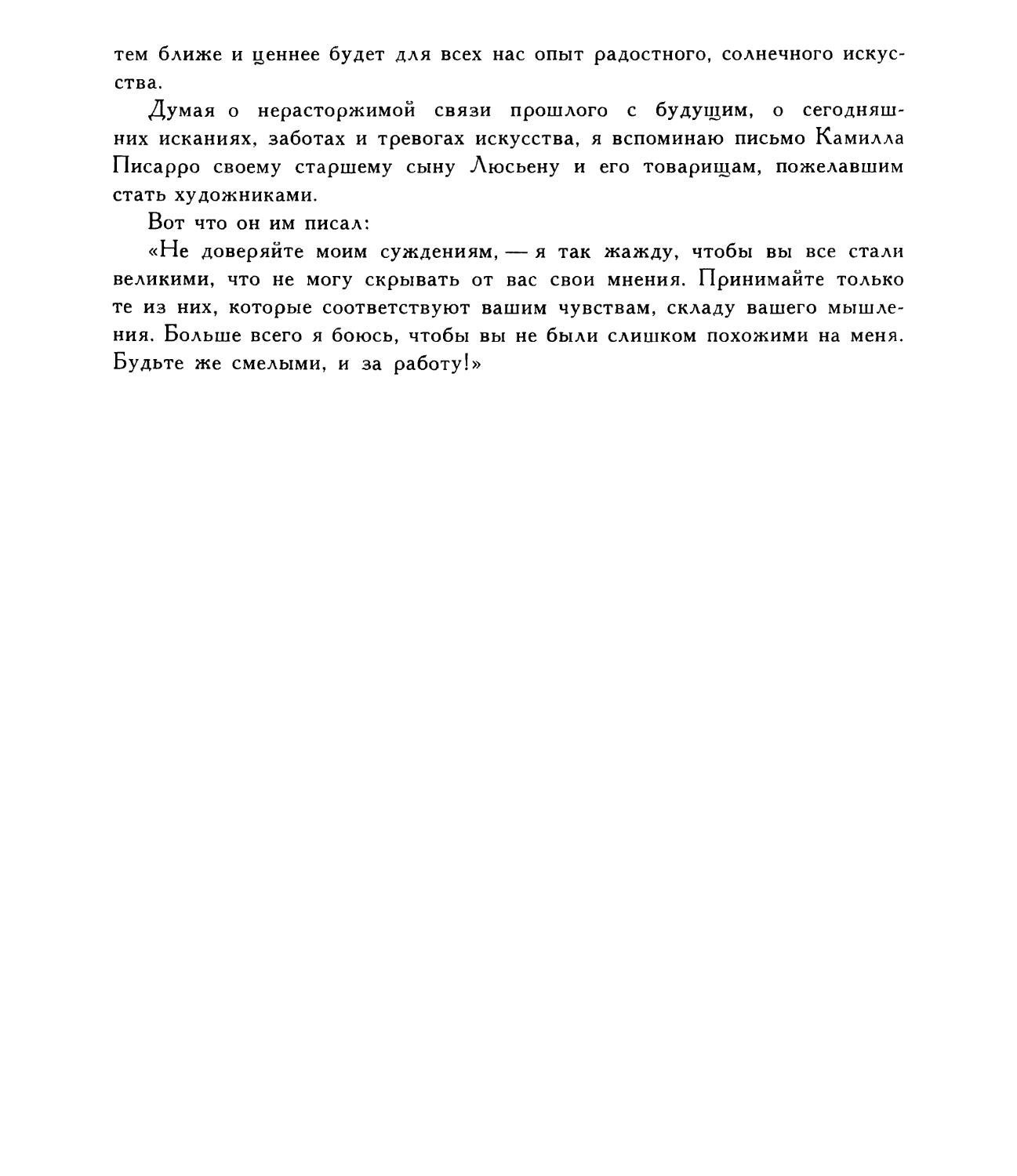Текст
Леонид Волынский
Зеленое
дерево
ЖИЗНИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА 1964
Читателям, любящим искусство, хорошо знакомы книги
Леонида Волынского «Семь дней» и «Лицо времени»,
рассказывающие о замечательных живописцах прошлого.
Новая книга Л. Волынского — «Зеленое дерево жизни» —
посвящена выдающимся художникам Франции конца XIX
века. Ее герои — Эдуард Мане, Клод Моне, Камилл Писарро,
Пьер-Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент Ван-
Гог, Поль Гоген — люди, чья жизнь была отдана поискам
новых путей, борьбе за искусство правдивое, близкое человеку.
Лучшие творения этих художников — живая ветвь на
вечнозеленом дереве жизни. Их картины остаются ценным
вкладом в сокровищницу культурных богатств, накопленных
человечеством.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Рождение слова
щ Щ есной 1874 года группа художников, чьи картины вот
щ Ш уже много лет отвергались официальным парижским
^L ^f Салоном, устроила собственную выставку в центре Па-
^ ' рижа, на углу бульвара Капуцинок и улицы Дону.
Устроителями выставки были семеро малоизвестных тогда живописцев. Вот
их имена: Клод Моне, Огюст Ренуар, Камилл Писарро, Альфред Сислей,
Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берта Моризо.
Это были люди зрелого возраста (старшему, Писарро, шел сорок
четвертый год, младшей, Моризо, — тридцать третий) и очень разные по
своему характеру. Очень разные, но в то же время объединенные ненавистью
к фальши официального искусства и решимостью искать правду, невзирая
на трудности.
3
За плечами у этих людей лежали годы борьбы в одиночку, долгие годы
упорного труда и лишений. Большинство из них (не считая Дега и Мори-
зо) были настолько бедны, что нередко нуждались в куске хлеба. Имея
помногу непроданных картин, они не имели денег, чтобы снять помещение
для выставки. Благо, на помощь пришел один из немногих друзей,
известный парижский фотограф Надар.
Необычайно живой, одаренный и деятельный человек — к слову,
зачинатель аэрофотосъемки (он впервые сфотографировал Париж «с птичьего
полета», поднявшись в корзине аэростата), — Надар приложил немало
усилий, чтобы превратить фотографию из ремесла в искусство. Как
человек творческий, он горячо сочувствовал новым исканиям в живописи и
охотно предоставил друзьям художникам для будущей выставки свою
галерею-мастерскую на бульваре Капуцинок.
Поначалу родилась идея так и назвать возникшую группу — «Капу-
цинка» (настурция). Это придумал Дега, предложив использовать цветок
настурции в виде эмблемы на афишах выставки. Но предложение не было
принято. Большинство группы опасалось названий, которые могли быть
неверно истолкованы или применены ко всем, как общая кличка.
Тем не менее за названием-кличкой дело не стало. Двери галереи На-
дара открылись 15 апреля, и уже через десять дней в сатирическом листке
«Шаривари» появилась статья журналиста Луи Леруа под заглавием
«Выставка импрессионистов».
Слово «импрессионизм» стало со временем ходовым, общепринятым,
хоть и не всегда понятным (и далеко не всегда применяемым верно).
Тогда, в 1874 году, это было даже не слово, а словечко, изобретенное
понаторевшим в насмешках журналистом, чтобы побольнее уязвить
художников.
Непосредственным поводом к «изобретению» послужило название
одной из картин, показанных на выставке.
Это был пейзаж Клода Моне, написанный за два года до выставки,
когда художник жил в Гавре. Пейзаж был написан из окна гостиницы,
обращенной фасадом к порту.
Если вы наблюдали туманным утром восход солнца над рекой или
морем, то наверняка обратили внимание на впечатляющий живописный
эффект, когда поднявшийся над горизонтом четко очерченный багровый шар
висит в молочно-сизой дымке, бросая на воду алые отсветы. Должно быть,
зрелище гаврского порта, увиденное Клодом Моне в такой час, произвело
4
Клод Моне. Впечатление. Восход солнца.
на него сильное впечатление: лес корабельных мачт, стушеванные контуры
портовых кранов, чернеющие лодки, зыбкий туман... Чтобы написать
такое с натуры, сохранив свежесть впечатления, надо было работать
необычайно быстро — смелой, не знающей колебаний рукой. Так и был
написан этот пейзаж — будто единым дыханием.
Когда у Моне спросили, как назвать картину в каталоге выставки, он
ответил: «Впечатление». Эдмонд Ренуар, брат Огюста, художника, — он
занимался составлением каталога, — прибавил еще два слова: «Восход
солнца». Таким и осталось название этой картины («Impression. Soleil
5
Камилл Писарро. Пашня.
Levant») — название, давшее повод насмешнику Леруа пустить в
обращение новое слово.
Если попытаться подобрать русское соответствие этому слову, то можно
сказать, что Леруа назвал новую группу «впечатленцами». Этим
определением до сих пор пользуются и доброжелатели и недруги. Из
дальнейшего, я думаю, вы поймете, справедливо ли такое определение. Пока же
вернемся к первой совместной выставке — к апрелю 1874 года.
Надо сказать, что Луи Леруа был не одинок в своих издевательских
нападках. «Чрезвычайно комическая выставка»... «Страшная мазня»...
6
«Сумасбродство»... Такими выражениями пестрели статьи в газетах и
журналах. Что касается публики, то она, как говорили, ходила на
выставку посмеяться.
Когда будете в Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина в Москве, посмотрите пейзаж Камилла Писарро
«Пашня». Небольшой пейзаж с дивно написанным серебрящимся небом, кофей-
но-коричневой землей, с буроватой, перезимовавшей листвой на ветвях
полунагих деревьев, с чуть пробивающейся зеленью на взгорке... Пожалуй,
немного найдется картин, где так поэтично, свежо и так колдовски просто
было бы передано безмолвие пробуждающейся природы. Этот пейзаж был
представлен впервые на той самой выставке, о которой идет речь, и вот
что писал о нем все тот же Луи Леруа, сочинивший свою статью в виде
диалога с неким Жозефом Винсентом, художником-пейзажистом:
«...спокойно, с самым невинным видом я подвел его к «Вспаханному
полю» господина Писарро. При виде этого поразительного пейзажа бедняга
подумал, что стекла его очков загрязнились. Он тщательно протер их и
снова водрузил на нос.
— Клянусь Мишаллоном! ' — вскричал он. — Что это такое?
— Вы же видите... белый иней на глубоко вспаханных бороздах.
— Это вы называете бороздами? Это вы называете инеем? Да ведь
это поскребки с палитры, брошенные на грязный холст. Тут ничего не
разберешь. Где хвост, где голова, где верх, где низ, где перед, где зад...»
Перед другой картиной собеседник господина Леруа «разразился
мефистофельским смехом»:
«— Ну, не блестящая ли штука! Вот это действительно впечатление,
или я вообще не понимаю, что это. Только, будьте любезны, объясните,
что означают эти бесчисленные черные мазки в нижней части картины,
будто ее кто-то языком лизал?
— Ну как же, это прохожие.
— Значит, и я так выгляжу, когда иду по бульвару Капуцинок? Гром
и молния! Вы что, наконец, издеваетесь надо мной?..»
Трудно поверить, что такое написано о картине, висящей теперь
неподалеку от «Пашни» Камилла Писарро, — о знаменитом «Бульваре Ка-
пуцинок» Клода Моне. Трудно понять, как люди зрячие могли не оценить
удивительную жизненность этого пейзажа, где все полно лучистого блеска;
где праздничная толпа живет, движется, дышит (картина изображает
1 Живописец-классицист.
7
парижский бульвар в день Карнавала); где привязанные к экипажам и
каретам воздушные шары трепещут оранжево-красными огоньками меж
ветвей деревьев; где так волшебно-правдиво переданы и теплый свет
солнца, и сизая прозрачная тень, и тающая в мареве даль.
Такие примеры «коллективной слепоты» хоть и не новы, всегда
разительны. В чем же были причины всеобщего непонимания и враждебности?
Чтобы понять это, надо вернуться к тому времени, когда Моне, Писарро и
их друзья еще только начинали свой трудный и славный путь.
„Салоп отверженных"
В 1863 году почти одновременно произошли события, как будто не
связанные между собой и все же имеющие глубокую внутреннюю связь.
В Петербурге взбунтовались учащиеся императорской Академии
художеств,— они отказались писать конкурсную картину на заданный сюжет.
В столице Франции произошли волнения среди художников, вызванные
действиями жюри ежегодной весенней выставки — так называемого
парижского Салона (жюри на этот раз отклонило около семидесяти
процентов представленных работ).
Спустя много лет Огюст Ренуар писал: «В Париже едва ли наберется
пятнадцать любителей искусства, которые способны признать художника
без одобрения Салона. Зато существует восемьдесят тысяч, которые
ничего не купят, если художник не допущен в Салон».
Такова была будничная действительность. Быть допущенным или не-
допущенным в Салон прежде всего означало для художника иметь право
на кусок хлеба или же лишиться его. Таким способом империя Наполеона
Малого (так окрестил Наполеона III Виктор Гюго) оказывала давление
на художников, ставя перед ними прямой выбор: либо подчиниться
господствующему вкусу, либо пропасть в безвестности и нищете.
Как многие другие властолюбцы, Наполеон Малый умел вовремя
щегольнуть фальшивой либеральностью. Узнав о волнениях, он самолично
прибыл во Дворец промышленности, где происходили выставки Салона, и
осмотрел отвергнутые работы.
Назавтра в официальной газете «Монитёр» появилось следующее
сообщение:
«До императора дошли многочисленные жалобы по поводу того, что
8
Клод Моне. Бульвар Капуцинок.
ряд произведений искусства был отвергнут жюри выставки. Его
величество, желая предоставить широкой публике самой судить о законности этих
жалоб, решил, что отвергнутые произведения искусства будут
выставлены в другой части Дворца промышленности. Выставка эта будет
добровольной, и художникам, не пожелавшим принять в ней участие,
достаточно лишь сообщить администрации, и она немедленно вернет им
работы...»
Многие приняли неожиданное сообщение с удивлением и радостью. Но
люди проницательные не удивлялись и не спешили радоваться.
Выставку, о которой идет речь, официально назвали «Дополнительной
выставкой экспонентов, признанных слишком слабыми для участия в
конкурсе награжденных». Она открылась 15 мая и вскоре получила из уст
посетителей куда более краткое и выразительное название: «Салон
отверженных».
Многие опасения, связанные с этой выставкой, сбылись. Наполеон
Малый понимал, что делает. Как и следовало предполагать, живописцы робкие
и покорные отказались участвовать, поняв содержащийся в сообщении
намек и боясь испортить отношение с всесильным жюри и Академией. Что же
касается строптивых и решительных, то они были отданы на посмешище
падкой до скандалов толпе парижских мещан-буржуа, вкусы которой
Наполеон Малый знал очень хорошо.
Если аристократическая знать Франции была воспитана на
«классическом идеале», то новоиспеченная денежная знать оказалась куда менее
изысканной в своих вкусах. Парижские буржуа восхищались слащавыми
полотнами, где, по словам великого живописца Франции Эжена Делакруа, не
было ни крупицы правды — правды, идущей от души. «Чувствительные»
истории, религиозные и ложнопатриотические сцены, тщательно
выписанные смазливые натурщицы — вот что было тогда в цене и в ходу. Другой
национальный гений Франции, Жан Доминик Энгр, презрительно называл
Салон лавкой, где вместо искусства царит коммерция.
Хотелось бы напомнить, что распространенное понятие «салонный»
возникло именно на почве парижского Салона, где серьезное и глубокое
искусство было не в почете, где достоинства художника измерялись
прежде всего его умением потрафить мещанскому вкусу.
Что ж удивительного в том, что публика, годами приученная к
угодливо-эффектным и лживым полотнам, хохотала в «Салоне отверженных»?
Наполеон Малый и Парижская академия добились своего, выставив на по-
9
ругание художников, которые не могли и не желали смириться с засилием
«красивой» лжи в искусстве.
Особенную ярость публики и газет вызывал холст, числившийся в
каталоге «отверженных» под названием «Купание». Это и была ставшая
впоследствии знаменитой картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве».
Теперь, когда эта картина висит в Лувре среди других прекрасных
произведений живописи, трудно представить, какой скандал она вызвала при
своем появлении. Наполеон III назвал ее «неприличной». Газеты и публика
не замедлили присоединиться к этой оценке.
Конечно, сюжет картины был несколько необычен и мог привести в
замешательство лицемеров. Вот как язвительно писал тогда англичанин Ха-
мертон в «Квартальном обозрении изящных искусств»:
«Я не могу умолчать о примечательной картине реалистической
школы, которая перенесла замысел Джорджоне в современную французскую
жизнь. Джорджоне удачно задумал сельский праздник; там мужчины были
одеты, дамы же нет, но сомнительная мораль картины искупалась ее
превосходным цветом... Теперь какой-то жалкий француз перевел это на язык
французского реализма, увеличил размер и заменил ужасными
современными французскими костюмами изящные венецианские. Да, вот они
расположились под деревьями, главная героиня совершенно раздета... вторая
женщина в рубашке выходит из маленького ручейка, струящегося рядом, и
два француза в фетровых шляпах сидят на очень зеленой траве с
выражением глупого блаженства на лицах. Есть там и другие картины
подобного же рода, которые приводят к заключению, что нагота, изображенная
вульгарными людьми, неизбежно выглядит непристойной».
Люди, восхищенно ахавшие перед «Сельским концертом» Джорджоне,
готовы были изничтожить Эдуарда Мане.
Как известно, лицемеры всех времен и народов склонны видеть лишь
то, что хотят увидеть. Ханжам и моралистам 1863 года почему-то не
казались непристойными соблазнительные картинки, выставленные в
официальном Салоне.
Молодой Эмиль Золя (он горячо вступился за картину Мане)
справедливо отметил, что в Лувре, как и в других музеях, имеется много холстов,
где изображены вместе нагие и одетые люди (вспомните хотя бы картины
Рубенса), — никого это, однако, не коробило, не возмущало.
Нет, дело тут было вовсе не в сюжете, не в соблюдении «приличий»,
а в чем-то гораздо более глубоком и существенном. Но в чем же?
10
Эдуард Мане. Завтрак на траве.
Три силы
К сожалению, в наших музеях очень мало картин Эдуарда Мане. Два
холста из Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина могут
быть скорее названы этюдами; хоть в них и видна присущая Мане
легкость кисти, блистательная точность мазка и прозрачность красок, они все
же не дают представления о выдающейся роли, какую сыграл этот
художник в современном искусстве. О таком живописце трудно рассказывать
словами. И все же рассказать необходимо.
Эдуард Мане родился в 1832 году в богатой семье крупного
государственного чиновника. С детства его готовили к блестящей карьере; к юным
годам он стал изысканным денди, элегантным молодым парижанином,
причисленным к высшему свету. Ему предназначено было стать адвокатом, —
в те времена это был самый прямой путь к высоким постам империи, а то
и к министерскому креслу. Но шестнадцатилетний Эдуард не проявил
никакого желания двинуться по этому пути. Еще в гимназии он отличался
склонностью к рисованию, чем немало встревожил родителей.
Вспомнив о юных годах многих великих живописцев, вы несомненно
вспомните и о сопротивлении, которое им приходилось преодолевать,
чтобы посвятить себя искусству. Рембрандта хотели сделать филологом, Ван-
Гога — священником, Клода Моне — лавочником, Сезанна — банкиром.
Примеры нетрудно было бы умножить, но и этих, пожалуй, достаточно.
Проницательные буржуа всех времен отлично понимали, как зыбок и
ненадежен путь художника.
Родители Эдуарда Мане сделали все возможное, чтобы «спасти» сына:
когда он окончил гимназию, его определили в морской корпус, надеясь, что
романтика дальних странствий отвлечет юношу от губительной романтики
искусства. Вскоре Эдуард отправился в далекое плавание. Но из
шестимесячного рейса по морям и океанам вместо познаний в области
мореходства он привез туго набитые папки с рисунками.
Повторялась давняя история: призвание оказалось сильнее преград,
родители Эдуарда вынуждены были смириться с тем, что сын станет
художником. Его определили в Школу изящных искусств, к наиболее известному
и признанному преподавателю, к «самому» Тома Кутюру.
В ателье Кутюра на улице Лаваль Эдуард Мане провел шесть лет. Он
отлично рисовал, заслуживая на первых порах похвалы своего учителя.
Изысканный вкус и острый иронический ум сразу же создали ему особое
12
Жан Доминик Энгр.
Портрет мадемуазель Ривьер
(Фрагмент).
положение среди товарищей: его уважали, к его мнению прислушивались.
Казалось бы, все идет хорошо. Мир и согласие царили, однако, недолго.
Мане и его учитель, тогда еще молодой (Кутюру только что исполнилось
35 лет), были людьми разного склада ума и, главное, очень различных,
прямо противоположных взглядов на жизнь и долг художника.
Тома Кутюр был одним из наиболее модных и преуспевающих
салонных живописцев тех лет. Он был также одним из столпов Парижской
академии и, как всякий убежденный академист, свято верил в законы и
правила. А о том, каковы были академические законы и правила, яснее всего
свидетельствуют картины самого Кутюра и его
современников-единомышленников: Бугро, Кабанеля, Жерома и многих других, с чьими холстами и
сегодня можно познакомиться в наших музеях.
Каждый, кто читал роман Эмиля Золя «Творчество» и статью Влади-
13
мира Васильевича Стасова об этом романе, наверняка запомнил описание
ежегодной художественной выставки — парижского Салона «с тысячами
картин и статуй, с праздной, рассеянной и легкомысленной толпой,
ищущей только конфет, а не созданий художества, нуждающейся только в
смазливости форм и льстивости красок, но никогда не в истине». Вкусам этой
буржуазной толпы и угождал Тома Кутюр. Особенным успехом
пользовалась его картина «Римляне времен упадка» — большой эффектный холст,
написанный по академическим законам «идеально-прекрасного». Такого
рода живопись, полная ложного пафоса, не имевшая ничего общего с
действительностью, особенно высоко ценилась в пору, названную Стасовым
«гнусной эпохой Наполеона III».
Император-буржуа, покровитель банкиров и фабрикантов, всячески
поощрял искусство напыщенное и лживое. Во Франции середины прошлого
века салонная живопись служила как бы нарядным занавесом, за которым
скрывалась действительность, полная самых жестоких противоречий.
Правда, живы были еще в то время такие великие национальные
художники, как Энгр и Делакруа. Но их искусство не отвечало нарастающим
потребностям перемен; оно принадлежало прошлому. Говоря об Энгре и
Делакруа, трудно ограничиться несколькими словами. О них написано (и
будет еще написано) множество книг, а их творения привлекают и будут
долго еще привлекать благодарное внимание зрителей. В свое время эти
художники как бы противостояли друг другу, выражая не только
различные характеры, темпераменты, но и разные взгляды на искусство; они, как
принято говорить, принадлежали к разным школам, разным течениям.
Жан Доминик Энгр был общепризнанным последователем лучших
традиций французского классицизма, а Эжен Делакруа — одним из творцов
более молодого романтического направления. Живописи Энгра была
свойственна уравновешенность, изящество, ясность, классически строгий
«рафаэлевский» рисунок. Живопись Эжена Делакруа отличалась страстностью,
душевным подъемом, звучностью цвета, широкой свободой кисти. Если в
картинах Энгра все дышало равновесием и покоем, то от холстов Делакруа
как бы веяло ветром взволнованного движения.
Разумеется, внешние признаки, о которых я говорю, лишь отражают
глубокие внутренние различия между двумя эпохами в искусстве —
между классицизмом и романтизмом. Но, повторяю, к середине прошлого века
эти различия и расхождения уже не волновали умы; на поле борьбы с
поддельным, лживым искусством Салона все отчетливее выходила третья
14
Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.
Жан Франсуа Милле. Пастушка.
сила, воплощенная в могучей фигуре художника-демократа и
революционера Гюстава Курбе.
Демократическая традиция имеет глубокие корни во французской
живописи. В ленинградском Эрмитаже вы можете увидеть две картины Луи
Ленена («Семейство молочницы» и «Посещение бабушки»). В XVII веке
этот замечательный живописец посвятил свое творчество народу,
труженикам-крестьянам родной Пикардии. Он изображал их с величайшим
уважением и любовью, изображал правдиво, без приукрашивания, с теплым
сочувствием к их труду и нелегкой доле.
16
Огонек, зажженный Луи Лененом и его братьями Антуаном и Матье
(все трое были художниками), не угасал даже в те времена, когда ничто,
казалось, не способствовало процветанию простоты и правды в искусстве.
В «галантном», вычурном XVIII веке Франция имела таких серьезных
и честных живописцев, как Шарден, — он мастерски писал сцены
обыденной жизни — кухарок, прачек, разносчиц... А во времена Наполеона
Малого, в пору засилья салонной живописи, жили и творили такие
художники-правдолюбцы, как Милле, Домье и Курбе.
На место вымышленных, задрапированных в античные одежды героев
все упорнее, все настойчивее пробивались крестьяне, каменотесы,
горожане, ремесленники, — живая действительность непременно должна была
вытеснить прочь легенды и фантазии. Всего этого не мог не почувствовать
такой вдумчивый человек, каким был с молодых лет Эдуард Мане.
Уже после первого года учения у Кутюра он лишь с трудом подчинялся
требованиям учителя. «Не знаю, зачем я здесь, — писал он своему другу
Антонену Прусту. — Все, что я здесь вижу, смешно... Когда я вхожу в
ателье, то чувствую себя так, будто опускаюсь в могилу...»
Все чаще и чаще Мане выражал свое несогласие с академической
системой преподавания, открыто высмеивал заученные «классические» позы
натурщиков. Обоюдная неприязнь между учеником и учителем
усиливалась. Во время одной из стычек раздраженный Кутюр сказал Эдуарду: «Вы
никогда не будете ничем, кроме Домье нашего времени». Ему казалось,
что тем самым он выразил крайнее презрение к строптивому ученику. Он и
не подозревал, что предсказывает Мане путь к величию.
Идущие впереди
В самом деле, могла ли быть с точки зрения таких людей, как Кутюр,
судьба более печальная, более жалкая, чем судьба Оноре Домье?
Опальный карикатурист, непризнанный живописец, бунтовщик, знавший вкус
тюремной похлебки, нищий, слепнущий от непосильной журнальной
поденщины, — таким был Домье в глазах Кутюра и ему подобных. А в глазах
будущих поколений он остался одним из величайших художников
Франции. Влияние его творчества распространилось далеко за пределы его
собственной жизни и его страны.
Отец Домье, марсельский стекольщик, писал стихи. Сын рабочего-
17
поэта стал поэтом рабочих, народным художником в самом верном смысле
этого слова.
Оноре Домье начал свой путь как журнальный рисовальщик. Он был
из тех, кого принято называть «самоучками»; многие современники не
упускали случая высокомерно напоминать об этом. Между тем, вероятно,
именно поэтому Домье и остался таким самобытным, своеобычным
художником. Как и наш Федотов, он учился не у академических профессоров, а
у самой жизни и смолоду рисовал не облеченных в тоги натурщиков, а
своих современников — парижских прачек и буржуа, судей и подсудимых,
посетителей кабачков и уличных фланеров, пассажиров в вагонах третьего
класса и зрителей в залах маленьких парижских театриков.
Он был одарен исключительной наблюдательностью, редкостной силой
зрительной памяти и страстным характером гражданина-борца. Сочетание
таких качеств позволило ему сразу же занять свое место в политических
Оноре Домье. Улица Транснонен.
Опоре Домье. Вагон третьего класса.
сражениях тридцатых годов. Его сатирические рисунки бичевали
продажность представителей правосудия, жестокость генералов-усмирителей
революции, лицемерие богачей, тупость мещан. Они били без промаха,
насмерть, как выстрелы снайпера. Но сила их была не только в точности
политического прицела. Особенность их была еще в том, что сверх этих
качеств, необходимых любому карикатуристу, каждый рисунок Домье был
произведением Искусства с большой буквы, и, говоря по-современному,
произведением новаторским.
В 1796 году, за двенадцать лет до рождения Домье, мюнхенский гравер
Алоис Зенефельдер изобрел новый способ массового воспроизведения
рисунков, названный «литографией» (то есть печатью с камня). Этот способ,
более простой, доступный, быстрый, чем известные до того времени тру-
19
доемкие способы гравюры резцом или иглой на дереве или металле,
открывал перед рисовальщиками новые возможности и как нельзя более
соответствовал особенностям дарования Домье.
Техника литографии, говоря в общих чертах, состоит в том, что
художник рисует специальным жирным карандашом на так называемом
«литографском камне» (разновидность известняка), после чего поверхность
камня подвергается кислотному травлению, а затем накатывается краской для
снятия оттиска. В отличие от других видов гравюры, литография открыла
большие возможности для воспроизведения живописного рисунка, то
есть такого рисунка, где основную роль играют не контуры или же линии, а
свет и тень, соотношения тонов и полутонов.
Именно это и требовалось Домье для выражения своих мыслей и
чувств. Подобно тому как противоборство света и тени у Рембрандта
служило выявлению внутреннего драматизма, так и у Домье контрасты
светотени стали главным средством образной речи. Его литографии
поражали именно своей живописной выразительностью. Их содержание
воспринималось не только через подробности сюжета, через «рассказ», но и
через выразительность живописных соотношений, через движение света
и тени; художник шел к разуму зрителя через его чувства.
Достаточно посмотреть такую литографию Домье, как «Улица Трансно-
нен», чтобы понять, о чем идет речь. Этот рисунок был откликом на
трагические события, разыгравшиеся весной 1834 года в Лионе, во время
подавления республиканского восстания. Там солдаты-каратели окружили один
из повстанческих домов и перебили всех — мужчин, женщин, детей.
Рисунок Домье вводит нас в одну из комнат этого дома, — мы видим
расстрелянную семью. Казалось бы, перед нами свидетельство очевидца, не
более. Нечто вроде документальной фотографии, не так ли? Но за
кажущейся бесстрастностью таится могучий заряд чувств: все второстепенное здесь
отброшено, чтобы выделить главное, все здесь выражено средствами не
фотографии, а искусства.
Трудно с первого взгляда определить, что именно так впечатляет в
этом рисунке, что именно придает ему скорбное звучание траурного
марша. Но когда вглядишься, вчувствуешься, начинаешь улавливать то
таинственное, что можно выразить не словами, но лишь вот этими
соотношениями светлого и темного, тревожным трепетом светотени.
Луч яркого света как бы вырывает из полумрака фигуру
расстрелянного, нарисованную со всей беспощадностью нагой правды, в то время как
20
фигура убитой женщины — быть может, его жены — окутана мглистой
тенью. Эта тень сострадания как бы движется из глубины, она вот-вот
окутает прощальным покровом все; и мы спешим вглядеться, чтобы успеть
запомнить и унести в сердце гнев и ненависть к палачам.
Литографии Домье отличались неслыханной по тем временам свободой
и широтой рисунка. Да и сейчас они поражают немногословностью,
смелостью обобщений, высокой простотой формы; кажется, будто они созданы
рукой нашего современника. Это неудивительно: искусство Домье, его
художественные приемы и теперь еще осваиваются, изучаются живописцами
и рисовальщиками. Так он опередил свое время.
Как и многие другие открыватели нового, Домье постоянно сталкивал-
Оноре Домье. Борьба школ: классический идеализм против реализма.
ся с непониманием и прошел сквозь тяжкие невзгоды. Лишь через два
десятилетия после смерти, на Всемирной выставке 1900 года, он был
по-настоящему признан и оценен. При жизни же он оставался для большинства
современников «рабочей лошадью», «журнальной клячей»* изо дня в день
тянущей в гору свою нелегкую кладь. За сорок лет он создал более четырех
тысяч литографий и постоянно мечтал о возможности писать красками. Он
и написал немало картин, быть может не отдавая себе отчета в том, какую
роль в его живописном творчестве сыграла журнальная работа. Ведь
именно она окунула его в повседневную жизнь, закалила его дух, укрепила веру
в человеческое достоинство и преданность свободе. Именно работа над
журнальной литографией, где требовалась быстрота исполнения при
выразительной, ясной форме, помогла Домье выковать свой стиль, найти свой
язык. Это был язык истинного поэта — точный, правдивый,
мужественный, немногословный.
Домье — быть может, как никто другой из его современников — умел
остановиться вовремя, не сказав ни единого лишнего слова. Его обвиняли
в том, что он не умеет заканчивать свои картины. Теперь, глядя на холсты
Домье, нетрудно оценить его доверие к зрителю; он понимал, что
действительная законченность художественного произведения состоит вовсе не в
мелочной отделке подробностей, а в том, насколько ясно художник
выразил то, что хотел сказать.
Нет ничего удивительного, что академисты и салонщики презирали
Домье; но и он не оставался в долгу. В язвительных карикатурах он
высмеивал «жрецов античности». Его знаменитая литография «Борьба школ:
классический идеализм против реализма» без слов выразила суть
разгорающейся борьбы. Она появилась на страницах «Шаривари» в 1855
году — как раз тогда, когда открылась Всемирная выставка, где Курбе был
вынужден построить собственный павильон, чтобы иметь возможность
показать свои работы.
* * *
Если салонные живописцы относились к Домье с презрением, не
признавая за каким-то там журнальным рисовальщиком права называться
художником, то Гюстава Курбе они ненавидели, как можно ненавидеть
сильного и опасного врага.
В самом деле. Курбе смолоду открыто выступил против буржуазных
вкусов. Он не упускал случая заявить во весь голос о своем пренебрежении
22
Опоре Домье. Прачка.
Гюстав Курбе. Каменотесы.
к «идеально-прекрасному». Он утверждал, что писать надо то, что видишь
в действительности, а не то, что обязан или хотел бы видеть.
Мопассан рассказывал, как однажды кто-то из художников показал
Гюставу Курбе свою картину, изображавшую евангельское «святое
семейство».
— Очень красиво, — сказал с нескрываемой издевкой Курбе. —
Должно быть, вы лично знали этих людей, раз написали их портреты?
Таков был этот художник. Он писал лишь то, что знал и видел. А если
знание соединялось с любовью, то кисть его рождала картины
необыкновенно мощные и правдивые. Так было, когда он изображал людей близких,
своих земляков; он писал их, как принято было писать лишь античных
героев, — в полный рост, в натуральную величину.
Живопись Курбе — неприглаженная, «грубая», «мужицкая» — не
могла, разумеется, быть приятна буржуазной публике парижского Салона.
Она раздражала и более того — возмущала. Если добавить к этому от-
24
кровенную дерзость художника и его неугомонную склонность к открытым
спорам, то станет ясно, почему жюри художественного отдела Всемирной
выставки отвергло все работы Курбе, заставив его тем самым построить
собственный павильон.
Нет сомнения, что двадцатитрехлетний Эдуард Мане внимательно
вглядывался в картины, выставленные там.
Быть может, вынесенные из павильона Курбе впечатления и мысли
послужили последним толчком к решению — окончательно распрощаться с
Кутюром.
Сам Кутюр тоже не прочь был расстаться с чересчур строптивым
учеником. Он не раз уже намекал Эдуарду, что было бы лучше, если 6 тот
покинул улицу Лаваль. Однажды, войдя в ателье, он увидел стоящую на
мольберте работу Мане, которую соученики украсили цветами в знак
своего восхищения. Тогда он сказал с обычной изысканной вежливостью:
«Мой друг, если хотите стать главой школы, то было бы хорошо, если б вы
основали ее где-нибудь в другом месте».
Так Тома Кутюр вторично оказался пророком поневоле.
Новое оружие
Эдуард Мане ушел из Школы изящных искусств, проведя там шесть
лет и не получив ни медали, ни Римской премии, дающей право на поездку
в Италию. И все же годы не были потеряны зря: окрепла рука, окреп и
разум. Теперь он по крайней мере твердо знал, против чего и за что
бороться. Но как, какими средствами, каким оружием?
Глубоко мыслящий, тонко чувствующий, наблюдательный человек, он
не мог не заметить противоречий в творчестве такого художника-бунтаря,
каким был Курбе. Он не мог не видеть, что идеи Курбе опережают его
живопись.
Кто-то из современников сказал, что Курбе было свойственно «видеть
природу глазами крестьянина и писать ее кистью профессора». Пусть это
высказывание грешит преувеличением, но в нем содержится и крупица
правды. В самом деле, отвергая безоговорочно идеи прошлого, Курбе был
куда менее решителен в отношении к живописной технике. Он далеко
шагнул по сравнению со своими предшественниками в области содержания, а
в живописных приемах предпочитал держаться старины.
25
Гюстав Курве.
Автопортрет с Жозефиной.
Его живопись была густа, темновата, тени одноцветны и непрозрачны.
А Мане еще в пору занятий у Кутюра утверждал, что тени имеют цвет,
что они светятся, и притом не одним, а несколькими тонами.
На первый взгляд это может показаться не очень существенным; в
искусстве ведь нет абсолютных истин, каждый художник пишет так, как
видит. Но есть одно неоспоримое, всеобщее обстоятельство: каждая эпоха
выдвигает свои темы, а новая тема неизбежно требует новых средств для
своего выражения. Пушкин не смог бы написать своего «Онегина» языком
Ломоносова или Державина, так же как Репин не смог бы написать
бурлаков брюлловской кистью. Нельзя, невозможно рассказывать о современ-
26
ной жизни с помощью оборотов речи минувшего века. Язык живописи, как
и язык литературы, неизбежно меняется с течением времени.
Вот над этим-то и задумывался Эдуард Мане. Быть может, живопись
Курбе сама по себе — ее плоть, ее «тесто» — и нравилась ему (ведь Курбе
действительно великолепный мастер!), да беда была в том, что этот язык,
величественный и тяжеловесный, уходил уже в прошлое. А новые слова
лишь предстояло найти.
Может показаться странным, что Эдуард Мане начал свои поиски в
музеях. Но в творчестве нет прямых, прочерченных под линейку дорог. Ничто
в искусстве не возникает «на голом месте», не рождается само по себе, вне
связей с великими завоеваниями прошлого. Можно представить искусство
в виде единой цепи, звенья которой куют в течение многих столетий
народы Земли. Во Франции середины прошлого века эта цепь оказалась на
время разорванной. Эдуарду Мане суждено было выковать звено,
соединившее прошлое с будущим.
Неудивительно, что он увлекся в музеях живописью Тициана, Веласке-
са, Гойи, — ведь именно у них (да еще у Делакруа) он мог найти
подтверждение мыслям о нерасторжимой связи цвета с духовным содержанием
живописи. Каждый из этих живописцев мог дать Эдуарду Мане частицу
того, в чем он нуждался: Тициан — жаркую светозарность красок, Велас-
кес — благородную сдержанность и богатство оттенков, Гойя — страстный
интерес к современной жизни и дерзкую свободу кисти.
Все это, однако, не следует понимать таким образом, будто Мане
создавал новый стиль, занимая у всех понемногу, как это делали академисты
еще со времен первой, Болонской академии. Великие художники тем и
отличаются от подражателей, что осваивают наследие прошлого лишь как
фундамент, на котором необходимо выстроить нечто свое, новое, еще
небывалое.
Когда появилась первая после ухода из школы серьезная работа
Мане — «Мальчик с черешнями», многие склонны были видеть в этой
картине всего лишь подражание испанцам. И верно, чем-то похож был мальчонка
в сбитой лихо набекрень круглой шапочке на уличных оборвышей
испанца Мурильо, объедающихся дынями и виноградом. Да и сама живопись
картины, тепло-золотистая, была как будто знакома. Но присутствовало в
этой картине еще и то, что Виктор Гюго однажды назвал «новым
трепетом»: сквозь привычное и знакомое проступало, просвечивало нечто новое,
современное. В простоте сюжета, в естественности, в свободном от второ-
27
Эдуард №ане.
Мальчик с черешнями.
степенных подробностей рисунке, в некрасивом, но полном неотразимого
обаяния лице мальчика, в его задорно улыбающихся глазах угадывается
многое из того, что впоследствии так отличало живопись Эдуарда Мане.
Но покуда еще он делал всего лишь первые шаги и сразу же натолкнулся
на сопротивление. Когда он в 1860 году попытался выставить в Салоне свою
картину «Пьяница», Тома Кутюр (он был влиятельным членом жюри
Салона) не замедлил отплатить неблагодарному ученику. «Милый друг, —
сказал он, когда Мане поинтересовался его мнением о картине, — если тут
и есть пьяный, то это именно художник, сотворивший такую мазню».
Вот тогда-то и началась непримиримая — на всю жизнь — вражда
Эдуарда Мане со всемогущим жюри и так называемой «большой публикой».
28
Было нечто глубоко знаменательное в том, что именно Эдуард Мане,
аристократичный, изысканный, дитя высшего света, оказался этим же
высшим светом отвергнут. Отворачиваясь от Мане, завсегдатаи светских
гостиных лишь подчеркивали, что средоточие духовной жизни
переместилось.
В отличие от прежних времен, животрепещущие события и наболевшие
вопросы искусства и литературы обсуждались теперь не в салонах
аристократов и богачей, а в гуще городской жизни, на бульварах Монмартра, за
столиками кафе, в живых беседах и спорах между писателями,
художниками, артистами, композиторами. Одним из таких дискуссионных клубов
стало известное кафе Тортони, куда Мане приходил ежедневно и где
подружился с поэтом Бодлером, писателем и критиком Теофилем Готье, с
живописцем Фантен-Латуром, композитором Оффенбахом и многими другими
знаменитостями литературно-художественного мира.
Своих новых друзей он запечатлел в картине, известной под
названием «Музыка в Тюильри».
Это была необычная по тем временам картина, изображавшая воскрес-
Гюстав Курбе. Похороны в Орнане.
ное гулянье в парке. Необычность ее состояла в том, что здесь художник
отказался от незыблемых правил, по которым строились многофигурные
композиции.
Стоит, скажем, сравнить эту картину с «Похоронами в Орнане» Гюста-
ва Курбе, чтобы понять, в чем заключалась новизна подхода Эдуарда
Мане.
Курбе, взяв простую сцену современной жизни, строит ее по тщательно
продуманной композиционной схеме, заботясь о равновесии, о красоте
взаиморасположения действующих лиц в пределах картины. Эдуард Мане
выводит на первый план понятие естественности. Он так умело
«прячет» композиционный замысел, что мы его и не замечаем. Свободно
расставив фигуры между деревьями парка, он создает впечатление
непринужденной сцены, как бы ненароком выхваченной из жизненного потока.
Еще недавно в таких композициях нежелательно было поворачивать
действующих лиц спиной к зрителю. Мане не только нарушил эту норму,
он даже срезает фигуры краем картины, усиливая тем самым впечатление
непреднамеренности, подвижности взгляда. Он стремится показать нам все
так, как мы видим сами.
Впоследствии этот принцип нашел самое широкое применение. Но в
1861 году картина казалась чересчур смелой и необычной даже таким
свободно мыслящим, близким друзьям художника, как Шарль Бодлер. Надо
ли говорить, что жюри Салона ее отвергло?
Эдуард Мане смог показать ее лишь через два года на выставке,
которую устроил в частной галерее Мартине. Вместе с «Музыкой в Тюиль-
ри» он показал там серию холстов, написанных на испанские темы.
Незадолго до этого в Париже выступала балетная труппа мадридского
королевского театра. Эти гастроли оживили традиционный интерес
парижан к Испании. Особенным успехом пользовалась прима-балерина
мадридского театра Лола. Поэты писали о ней стихи. Писатель и композитор За-
хария Астрюк, друг Эдуарда Мане, посвятил ей романс, для обложки
которого Мане сделал рисунок, — он и послужил основой картины, о
которой хочется рассказать подробнее.
«Лола из Валенсии» — один из лучших портретов во французской
живописи того времени. И один из необычнейших.
Как ни странно, Мане изображает Лолу не на сцене, не в момент
выступления, не в сиянии успеха и театральных огней. Он пишет ее за
кулисами, на прозаическом фоне декораций, видных с изнанки, — и уже одним
30
Эдуард Мане. Музыка в Тюильри.
Рафаэль. Суд Париса (гравюра Маркантонио).
этим дает понять, как мало занимает его внешний лоск, представительная
парадность.
Человек — вот чего он ищет прежде всего. Человеческому лицу, глазам,
человеческой улыбке и была посвящена эта страстная, свежая живопись.
Новизна картины была не только в ее подчеркнутой
«неромантичности», в обыденной естественности позы, в стремлении обойтись без
приевшейся «балетной» грациозности. Новым был и ее живописный язык.
Если прежде рисунок и цвет нередко разделялись в искусстве
ощутимой границей, причем право первенства почти всегда отдавалось рисунку
(Энгр говорил даже, что хорошо нарисованная вещь тем самым и хорошо
написана), то здесь давнему соперничеству клался конец. Тут живопись
сливалась нераздельно с рисунком, цвет естественно «лепил» форму, как
это и бывает в природе.
32
Эдуард Мане. Лола из Валенсии.
В этой и других выставленных в галерее Мартине работах Мане
приоткрыл богатства своей палитры. Краски его картин были чисты,
благородны и свежи (особенно хороша была Лола со строгими аккордами
розово-черных тонов). Официальная критика не замедлила назвать эту
сдержанную, благородную живопись «пестрятиной».
Вот тогда-то Мане и решил написать картину, с которой начался наш
рассказ.
«Завтрак на траве» был как бы преднамеренной пощечиной
буржуазному вкусу. Быть может, именно поэтому Мане выбрал мотив, навеянный
живописью Возрождения. Если вы внимательно посмотрите гравюру Мар-
кантонио, сделанную по рафаэлевскому «Суду Париса», то увидите в
правом нижнем углу группу речных богов и сразу же уловите композиционное
сходство с картиной Мане. Трудно сказать, предвидел ли он будущий
скандал вокруг своей картины. Но именно «классичность» сюжетного и
композиционного замысла делает особенно очевидными причины скандала.
Художник таким способом как бы принудил мещан обнажить свое
лицемерие.
Сосредоточив всю ярость на «неприличии» сюжета, критики не
заметили (вернее, не пожелали заметить) то новое, что содержалось в
живописи картины. Если фигуры людей были написаны тут сдержанно,
строго, скорее в традиционном духе, то пейзаж обнаруживал неожиданную
свободу кисти. Воздух, солнце, чистый цвет врывались в живопись, и
здесь уже ощутимо предугадывалось то, что впоследствии окончательно
победило в картинах самого Эдуарда Мане и его будущих друзей.
Вот почему «Завтрак на траве» стоит как бы на грани прошедшего и
будущего, на исходном рубеже новой эпохи в искусстве.
„БатииъоАъская прачка6'
Скандал с «Завтраком на траве» нисколько не поколебал Эдуарда
Мане в его намерениях двигаться дальше в поисках нового живописного
языка для выражения новых идей. Для него, как и для многих других,
теперь стало до конца ясно, что устройство «Салона отверженных» было
вовсе не великодушным императорским жестом, а политической мерой,
имевшей целью оживить и усилить враждебность мещанской публики про-
тив «недовольных» и свободомыслящих живописцев.
34
Эдгар Дега. Наброски к портрету Эдуарда Мане.
Эдуард Мане.
Олимпия
(Фрагмент).
Между тем недовольные и свободомыслящие по-прежнему собирались
за столиками кафе, все определеннее объединяясь вокруг Эдуарда Мане.
Он был как бы создан для той роли, какую отвела ему судьба.
Вот как описывает Эмиль Золя его внешность: «Он был среднего
роста, скорей небольшого. Волосы и борода светло-каштановые. Близко
поставленные глаза сияли юношеской живостью и огнем. Рот характерный;
тонкие губы изогнуты в постоянной усмешке».
Тщательно одетый, в безукоризненных перчатках и цилиндре, чуть
сдвинутом на затылок, он производил неотразимое впечатление
откровенной резкостью суждений, остроумием и разящей точностью речи.
Блистательный ум, талант, образованность, неистощимый юмор,
доходящий нередко до колючей иронии, — вот качества, за которыми нетрудно
было забыть о недостатках, а недостатки были у Эдуарда Мане, как и у
всякого человека. Он бывал обидчив, тщеславен, тосковал по успеху и
признанию, порою даже завидовал салонным живописцам, получавшим за
ничтожные картинки награды и почести. При всем том именно Эдуарду Мане
36
выпала судьба «овеществить» новые идеи, передать их языком живописи;
именно ему суждено было стать центром, вокруг которого собирались
новые силы.
Вскоре после выставки «Салона отверженных» он написал картину,
снова ставшую предметом самых яростных нападок. Это была «Олимпия»,
о которой говорили, что ее влияние вполне соответствовало
возбужденному ею шуму.
После волнений 1863 года Наполеон Малый вынужден был пойти на
некоторые уступки, жюри стало чуть снисходительнее, но критика —
нисколько. Перед новой картиной Мане, принятой на этот раз в Салон,
толпились возмущенные зрители, а газеты называли ее нелепой пародией.
Как и «Завтрак на траве», «Олимпия» была по своему сюжету будто бы
и не нова. Композиция картины откровенно напоминала тициановскую
«Венеру». И снова — как в случае с «Завтраком на траве» —
«классичность» сюжета была словно призвана именно для того, чтобы подчеркнуть
своеобразие замысла и сделать еще ощутимее содержащуюся в картине
новизну.
Разительнее всего было то, что на месте античной богини любви
оказалась, как выражались тогда, «батиньольская прачка» (Батиньоль —
квартал Монмартра, где находилась мастерская Мане). Разъяренные
критики, прозвав так Олимпию, желали выразить крайнее порицание
художнику, посмевшему изобразить парижанку из простонародья, как принято
было изображать лишь обитателей мифического Олимпа.
Испокон веков Венера почиталась как идеал красоты. Смысл новой
картины Эдуарда Мане был ясен до прозрачности. Нарождался новый
эстетический идеал, и художник открыто призывал искать красоту не в далеком
прошлом, а в сегодняшней жизни.
Вот с чем никак не могли смириться просвещенные мещане. Кажется,
ни одна картина не вызывала такой ненависти и насмешек. Всеобщий
скандал, начавшийся с «Завтрака на траве», достиг здесь вершины. На
художника ополчились едва ли не все газеты, от него отворачивались знакомые.
Один из «изысканных» критиков писал в журнале «Ла Пресс»: «Публика
толпится, как в морге, перед смердящей «Олимпией» господина Мане».
Эмиль Золя был среди немногих, кто видел в картине новый успех
реализма. Он писал в газете «Эвенмен», что «место господину Мане в Лувре
уже обеспечено». Понадобилось, однако, более тридцати лет, чтобы это
пророчество сбылось.
37
Любопытно, что Гюстав Курбе назвал «Олимпию» «пиковой дамой».
Мане сказал в ответ, что живопись Курбе напоминает ему бильярдный
шар. Над этим «обменом любезностями» стоит задуматься; тут за
шутливо-иронической формой кроется серьезный смысл. Назвав «Олимпию»
«пиковой дамой», Курбе хотел сказать, что картина нарисована (и
написана) плоско, будто игральная карта, в ней недостаточно объемности,
пространственной глубины. Из ответа Мане легко понять, что ему, напротив,
живопись Курбе кажется чересчур пространственной, излишне объемной.
Действительно, нетрудно убедиться, что Гюстав Курбе (да и не только
он) уделял большое внимание рельефности, объему, выявлению формы в
своих картинах. Правда, у него, как и у других истинных художников,
форма никогда не становилась целью; но у иных живописцев иллюзия объема
и пространственной глубины нередко подменяла глубину содержания.
К сожалению, многим зрителям испокон веков нравились и
продолжают нравиться именно такие картины, где преимущественное внимание
уделено «всамделишности», где все «как живое». Существует даже древняя
легенда о живописце Парразии, к картине которого слетались птицы,
чтобы клевать написанные красками виноградины. Нередко и теперь
мастерство художника оценивается именно с такой точки зрения. Тут мы
сталкиваемся с немаловажным вопросом: в чем же действительная ценность
и сила искусства, какими путями оно воздействует (а вернее, должно
воздействовать) на зрителя?
Размышляя об этом, я вспоминаю одно из увлечений своего детства —
стереоскоп. Теперь, когда стереоскопический эффект давно утерял
новизну, я что-то не встречаю ни ребят, увлекающихся стереоскопом, ни самих
стереоскопов. Но хорошо помню, с каким жадным любопытством
рассматривал вставленные в держатель стереоскопа двойные фотографии —
пейзажи. Все там было выпуклое, ну совсем настоящее! Кажется, можно было
прогуляться между домами или деревьями, измерить шагами расстояние
вон до той горы, дотянуться рукой вот до этой ветки...
Но детство прошло, интерес к стереоскопу увял, теперь даже в
стереокино ходить неохота. Эффект остается эффектом, развлечением — не более.
А истинное искусство — не только развлечение, ему чужды поверхностные
эффекты.
В 1823 году изобретатель фотографии Дагерр демонстрировал в
Лондоне стереоскопический пейзаж-диораму, где все было «как живое».
38
Эдуард Мане. Портрет Эмиля Золя.
Замечательный пейзажист Джон Констебль сказал тогда: «Это очень
интересно и дает полную иллюзию. Но это — вне искусства, потому что цель
здесь—обман, искусство же радует, напоминая, но не обманывая».
Вот замечание, в которое стоит вдуматься посерьезнее.
Художник — если он заслуживает называться художником — рисует и
пишет красками вовсе не для того, чтобы буквально перенести на бумагу
или холст то, что видит, чтобы сотворить иллюзию, «подделку» жизни. Он
рисует и пишет, чтобы выразить свои чувства и мысли, свое отношение
к видимому. При этом каждый большой художник, у которого есть
новые мысли, ищет новые средства для их выражения. Искал их и Эдуард
Мане.
В то время, о котором идет речь, лишь немногие пристально
интересующиеся искусством парижане знали японскую цветную гравюру. Только
спустя несколько лет на Всемирной выставке в Париже был впервые
открыт восточный отдел, ставший для зрителей откровением. Тогда началось
всеобщее увлечение японским искусством.
Мане был среди тех немногих, кто интересовался японской гравюрой
задолго до выставки, и не случайно. Удивительное умение японских
мастеров передавать реальность, не прибегая к иллюзии, как нельзя более
отвечало духу его исканий. В «Олимпии» он отказывается от построения
картины «в глубину». Подобно японским рисовальщикам, он как бы
развертывает изображение в плоскости картины. Выразительность рисунка и
цвета он ставит выше «обмана зрения», выше пространственной иллюзии.
Это нетрудно уловить и по репродукции, хотя должен заметить, что
картины Эдуарда Мане (как и других живописцев, о которых идет речь в
этой книге) куда больше теряют в репродукции, чем картины их
предшественников, где на первом месте был рисунок, объем, скульптурность.
Многие картины Луи Давида, Энгра и даже Курбе нетрудно
представить себе однотонными. Другое дело, скажем, «Олимпия». Тут мало
«скульптурности». Объем здесь выявлен не с помощью переходов от
светлого к темному, а через цвет, через тончайшие красочные сопоставления и
созвучия. Ни репродукции, ни слова не передадут того, о чем
рассказывают краски «Олимпии». Теплота обнаженного тела, богатство оттенков
белого (пастель), бархатисто-зеленые и вишнево-коричневые тона фона —
все здесь сливается в аккорд, где ликующей нотой звучит букет в руках
негритянки. Эти живые цветы были знаком восхищения, предназначенным
«батиньольской прачке», занявшей принадлежащее ей по праву место.
-S
ГЛАВА ВТОРАЯ
Созвучие
огда Эдуард Мане шел на открытие Салона, где была
выставлена «Олимпия», несколько попавшихся навстречу
знакомых горячо хвалили его морские пейзажи. Мане
принял это за глупую шутку (морских пейзажей он пока еще
не писал), но, войдя в зал, убедился, что шутки тут не было.
По принятым правилам, картины художников развешивались в
алфавитном порядке, и Мане увидел, что по соседству с его «Олимпией» висят
две картины — действительно морские пейзажи, — подписанные «Моне».
Огорченный происходившим вокруг «Олимпии» скандалом, Мане стал
жаловаться друзьям, что его поздравляют только за не принадлежащие
ему работы; он усматривал в этом насмешку. Возможно, огорчение
помешало ему разглядеть, каковы были эти работы.
41
Но многие другие разглядели. В газетах появилось несколько самых
лестных отзывов о живописце, вчера еще никому не известном.
Такое начало может показаться необыкновенно благополучным, если не
знаешь, что предшествовало этому дню и что последовало за ним.
Клод Моне, которому тогда было двадцать пять лет, родился в Париже,
но провел ранние годы в Гавре, портовом городе в устье Сены, где его
отец владел бакалейной лавкой.
Еще в школьные годы он прославился своими карикатурами, которые
рисовал на тетрадных обложках. Его известность в городе стала так
велика, что владелец единственной окантовочной лавки-мастерской, где
продавались также и краски, предоставил свою витрину для его работ. Вместе с
карикатурами Клода там нередко появлялись морские пейзажи некоего
Эжена Будена. Два пейзажа этого живописца («Пляж в Трувиле» и
«Рыбачьи лодки на морском берегу») можно увидеть теперь в Музее
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Но тогда тридцатилетний Буден вряд ли мог предполагать, что его
картины окажутся со временем не только в Лувре, но и в лучших музеях
других стран. Это был простой, бесхитростный человек, влюбленный в
природу и живопись. Когда ему было двадцать лет, он открыл в Гавре окан-
товочную лавку и обслуживал художников, приезжавших на лето к морю.
Однажды его работы увидел и похвалил Милле, «живописец в
крестьянских башмаках», тогда еще неизвестный и сам перебивавшийся с воды на
хлеб заказными портретами.
Когда Буден поделился с ним заветной мечтой — заняться живописью
всерьез, — Милле предостерег его насчет превратностей жизни художника.
Но Буден не отступился от замысла, распрощался с лавкой и уехал в
Париж учиться.
Ему удалось получить от муниципалитета Гавра трехгодичную
стипендию. «Отцам города» лестно было иметь собственного «стипендиата
изящных искусств». Однако Буден не оправдал их надежд. Он не привез из
Парижа ни медалей, ни званий — ничего, кроме твердой убежденности, что
искусство пейзажа нуждается в обновлении, что на смену пышным
салонным ландшафтам, бывшим тогда в цене и почете, должен прийти пейзаж
простых человеческих чувств.
Эжен Буден обратил внимание на карикатуры семнадцатилетнего Клода
и стал уговаривать его работать серьезнее. «Занимайтесь, учитесь видеть,
рисовать и писать... — говорил он ему. — Море и небо, животные, люди и
42
Эжен Буден. Рыбачьи лодки на морском берегу.
деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со
всеми их качествами... такие, как они есть, окруженные воздухом и
светом...»
Клод Моне с детства отличался изрядным упрямством; из духа
противоречия он не сразу откликнулся на призывы Будена. Но в конце концов
доброта и мягкая настойчивость этого человека взяли верх. Летом Клод
стал ходить с Буденом на этюды. Впоследствии он писал об этом времени:
«Глаза мои наконец раскрылись, я по-настоящему понял природу и в то же
время научился любить ее».
Родители Клода были не на шутку обеспокоены дружбой сына с таким
43
непутевым человеком, каким слыл в Гавре Буден, бросивший торговлю
ради искусства. Когда Клод объявил о своем желании стать художником и
попросил разрешения поехать в Париж учиться, они призадумались. С
одной стороны, их пугала ненадежность такой карьеры (пример был налицо),
а с другой — прельщала возможность успеха и славы. В конце концов
последнее взяло верх, и отец написал в муниципальный совет прошение —
дать сыну стипендию.
Но «отцы города», обжегшись на Будене, на этот раз отказали,
ссылаясь на «естественные склонности» Моне к карикатуре. Как видно, им не
очень улыбалась перспектива увидеть себя в изображении обученного в
Париже карикатуриста.
Теперь Клоду предстояло рассчитывать главным образом на свои силы.
Впоследствии мы увидим, что это значило, какой ценой доставалась ему
возможность работать и как отличалась его солнечная живопись от
горестной жизни, какую ему предстояло прожить.
Девятнадцатилетний Клод приехал в Париж весной 1859 года и,
разумеется, тотчас отправился в недавно открывшийся Салон, где ему
понравились картины «барбизонцев» — Теодора Руссо, Диаза, Добиньи, Тройона.
Эти художники вот уже более двух десятков лет работали в деревушке
Барбизон, на окраине леса Фонтенбло. В общении с нетронутой природой
они надеялись освободить живопись от заученных приемов, вернуть ей
искренность и простоту.
У каждого из этих трудолюбивых и честных людей была своя
излюбленная тема. Одни предпочитали густую чащу леса, тенистые тропинки,
другим были милее освещенные солнцем поляны, берега реки или луга со
стогами сена. Каждый стремился «остаться самим собой», но вместе с тем
было у них одно объединяющее стремление: не писать и не рисовать
ничего, кроме того, что сам видишь и знаешь, что пережил сам.
Клоду Моне особенно понравились пейзажи Тройона с пасущимися
животными. (Правда, он сразу отмечает, что тени на картинах Тройона
кажутся ему слишком темными, непрозрачными.) К этому живописцу у него
было письмо от Будена, и он зашел к нему с двумя своими работами,
чтобы посоветоваться.
Тройон рекомендовал ему основательнее заняться рисунком, делать
копии в Лувре, писать с натуры — словом, подготовиться хорошенько к эк-
44
Теодор Руссо. Пастбище под дубами.
заменам в Школу изящных искусств. Но Клод осторожно отнесся к совету;
по своей неспособности подчиняться кому-либо он остерегался школы.
Гораздо лучше он чувствовал себя за столиками монмартрских кафе,
среди свободных и жарких споров. Атмосфера непринужденности,
царившая тут, помогала живому общению. Здесь сталкивались мнения, до конца
выяснялись взгляды, рождались дружеские связи. Здесь искали и
находили единомышленников, — что может быть важнее для молодежи,
вступающей на путь борьбы?
Одним из таких мест было кафе на улице Мучеников, где звучали
пылкие речи в защиту прав молодого поколения строить новое искусство,
посвященное правде.
Тут Клод оценил справедливость слов Будена о том, что
«искусство не создается в одиночку, в провинциальном захолустье, без критики,
без возможности сравнения, без твердых убеждений». Тут он нашел
45
первых друзей, которые, возможно, и привели его в одну из
многочисленных «академий», что помещалась в мрачном старом доме у моста
Сен-Мишель.
Эту «академию» (так назывались, да и теперь называются в Париже
частные мастерские-школы для художников) содержал бывший натурщик
Сюис; здесь можно было за очень скромную плату рисовать и писать
живую натуру. Многие пейзажисты изучали таким образом анатомию
человеческого тела. Здесь когда-то работал Гюстав Курбе. Ученики Школы
изящных искусств тоже, бывало, приходили сюда порисовать на свободе,
вдали от придирчивого ока профессоров.
Здесь Клод и познакомился с тридцатилетним высоким человеком,
седеющим, с библейской смоляной бородой, крупными чертами лица и
печальными большими глазами. Звали этого человека Камилл Писарро. Он
был уроженцем далекого Сен-Тома, скалистого островка вблизи Пуэрто-
Рико, и вот уже пять лет жил в Париже, впрочем проводя большую часть
времени в окрестностях. Он уже успел побыть учеником Школы изящных
искусств и переменил там несколько мастерских, прежде чем убедился, что
Школа не даст ему того, что он ищет. Ему нравилась живопись Гю-
става Курбе и особенно поэтические, мягкие пейзажи Камилла Коро; он
мечтал прибавить к их искусству нечто новое и свое, помногу работая с
натуры.
В апреле 1860 года он пригласил Клода поработать вместе в Шампиньи,
неподалеку от Парижа. Клод охотно согласился: ему был приятен этот
спокойный, добрый человек; он никогда не подчеркивал разницы в годах и
относился к Клоду как к равному, с неизменным дружеским
расположением.
Но поработать вместе вволю не довелось: Клоду исполнилось двадцать,
его ждала армия.
В то время во Франции призыв на военную службу решался
жеребьевкой. Вытянувший несчастливый номер обязан был отслужить семь лет.
Правда, за деньги можно было купить «заместителя» из счастливцев. Отец
Клода и намерен был сделать так, но лишь при условии, что непутевый сын
одумается и поступит все-таки в Школу изящных искусств. Клод
решительно отказался.
Служба в армии не пугала его, и он, вытянув «несчастливый» номер,
попросился в Алжир.
Впоследствии он рассказывал: «Я провел в Алжире два поистине
46
Камилл Коро. Дорога в Сент-Ленобле.
чарующих года. Непрестанно я видел что-то новое; в минуты досуга я
пытался воспроизвести все, что видел. Вы не можете себе представить, до
какой степени я увеличил свои познания и как сильно выиграло от этого
мое видение. Вначале я не мог до конца осознать это. Впечатления света и
цвета, которые я там получил, классифицировались лишь позже; в них
заключалось зерно моих будущих исследований».
Может показаться, что последние слова принадлежат скорее ученому,
чем художнику. Но в том-то и было отличие нарождающегося течения:
впервые в истории искусство шло на сближение с наукой, стремясь
вооружиться точным знанием тех законов света и цвета, которые до того
времени постигались лишь инстинктом одиночек, разрозненными усилиями
поколений.
* * *
В 1841 году писательница Жорж Санд издала в Париже книжку
«Впечатления и воспоминания». Там она рассказывала, как однажды Делакруа
в беседе с ней и Шопеном стал сравнивать музыку и живопись, звук и
цвет.
— Гармония в музыке, — говорил он, — основана не только на
отдельном аккорде, но и на соотношениях аккордов между собой, на их
взаимосвязи и логической последовательности, — короче, на всем том, что я в
конечном счете назвал бы слуховыми рефлексами. То же самое относится и к
живописи.
Тут Делакруа взял голубую диванную подушечку, положил ее на
красный ковер и продемонстрировал присутствующим «закон рефлексов».
Подушечка словно бы плавилась в алом. Под ее краями ковер отсвечивал
синим тоном, переходившим в фиолетовый.
— Если я положу на холст два самых ярких и притом самых
контрастных цвета, — продолжал Делакруа, — то мне достаточно связать их
соответствующим рефлексом, и тотчас возникнет гармония. В цвете есть еще
неисследованные тайны, есть неведомые тона, рождающиеся из
взаимодействия красок и не имеющие определенного названия; их вы не найдете
готовыми ни на одной палитре. В природе нет черного цвета; также и в
живописи не может быть участков мертвых, нейтральных. Каждый предмет в
контакте с другими дает и получает отблеск цвета...
Шопен, внимательно слушавший, сказал:
— Все это очень интересно и для меня совсем ново, но тут уж пахнет
едва ли не алхимией...
48
Камилл Писарро. Оперный проезд в Париже.
— Нет, — резко возразил Делакруа, — здесь чистая химия!
Не раз в часы озарений искусству случалось пророчески опережать
науку. Быть может, если бы ученые внимательно вгляделись в холсты.
Леонардо, Тициана или Веласкеса, некоторые законы взаимодействия света
и цвета в природе были бы сформулированы гораздо раньше. Гениальное
предвидение Делакруа было подтверждено впоследствии научными
исследованиями.
Но между предвидением и подтверждением лежал еще трудный опыт.
И если наука с каждым годом или десятилетием получала все более
совершенные инструменты и приборы для своих опытов, то в руках у
художника с незапамятнеиших, едва ли не с пещерных времен оставался все тот
же тщательно подобранный пучок щетинок или шерстинок, называемый
кистью. В его распоряжении оставались все те же краски, все те же семь
цветов радуги, менялось лишь одно (и самое главное) — менялся вместе
со временем взгляд живописца, не знающий покоя взгляд художника,
всегда готовый искать новую правду в мире, открытом его разуму, его
чувствам
* * *
Клод Моне тяжело заболел в Алжире и был отослан во Францию на
полгода для поправки. Он провел эти месяцы дома. Видя, как увлеченно
он работает, отец наконец понял, что никакая сила не заставит сына
бросить кисть и краски.
Так как врачи считали возвращение Клода в Африку чрезвычайно
опасным для его здоровья, отец решил «выкупить» его, но опять-таки при
условии, что Клод одумается и будет учиться серьезно.
«Я хочу видеть тебя в мастерской под руководством известного
художника, — говорил отец. — Если ты снова станешь независимым, я прекращу
высылать тебе деньги».
Это был достаточно сильный довод, л Клоду пришлось согласиться^ —
хотя бы для того, чтобы получить возможность уехать. Он вынужден был
согласиться и на то, что в Париже его наставником будет некий Тульмуш,
дальний родственник, преуспевающий салонный живописец, о чьих
картинах один из критиков довольно метко сказал: «Это прелестно,
очаровательно, красочно, изысканно и тошнотворно».
В Париже Тульмуш направил Клода в мастерскую одного из
преподавателей Школы изящных искусств, Глейра, и вот как описывает сам Клод
первую встречу с будущим учителем:
49
«Ворча, сел я за мольберт в студии, переполненной учениками,
которыми руководил этот прославленный художник. Первую неделю я работал
самым добросовестным образом и с воодушевлением, не уступавшим
прилежанию, сделал этюд обнаженного натурщика. Обычно Глейр исправлял
эти этюды по понедельникам. На следующей неделе он подошел ко мне,
сел и, основательно устроившись на моем стуле, со вниманием осмотрел
мою работу. Затем повернулся с удовлетворенным видом, склонил набок
свою важную голову и сказал мне: «Неплохо! Совсем неплохо сделана эта
вещь, но слишком точно передан характер модели. Пред вами коренастый
человек, вы и рисуете его коренастым. У него огромные ноги, вы передаете
их такими, как они есть. Все это очень уродливо. Запомните, молодой
человек: когда рисуете фигуру, всегда нужно думать об античности...»
Не правда ли, как разительно похоже на слова, звучавшие в классах
Петербургской академии накануне «бунта четырнадцати»? Там ведь тоже,
как говорил Максимов, учили «выкраивать Ахиллеса быстроногого из
какого-нибудь тверского мужичка».
Для Клода первое же замечание Глейра было ушатом холодной воды.
Тем временем тот перешел к другому ученику, тоже старавшемуся всю
неделю как можно правдивее изобразить натурщика. Видимо, эта работа
с первого взгляда показалась Глейру настолько слабой, что он лишь
спросил:
— Вы, несомненно, ради забавы занимаетесь живописью?
— Разумеется, — ответил ученик. — Если бы меня не забавляло это
дело, я не стал бы им заниматься...
Ученик этот был годом младше Клода Моне, его звали Пьер-Огюст
Ренуар. В его ответе не было ни тени шутки, ни капли скрытой иронии —
ничего, кроме простодушной правды.
Когда у него через пятьдесят семь лет спросили, почему он, больной, с
привязанной к иссохшей руке кистью, продолжает работать так
настойчиво, не пропуская ни одного дня, он ответил:
— Потому что живопись — это не только удовольствие, но и долг.
А когда у человека нет ни удовольствия, ни долга, зачем ему тогда жизнь?
Он дал этот исчерпывающий ответ за три дня до смерти, пришедшей к
нему, когда он сидел за мольбертом в своей мастерской.
Но тогда, в ателье Глейра, живопись действительно была для него пока
еще чистым удовольствием, радостной потребностью. Чувство долга
пришло позднее, когда он осознал свое место среди других.
50
Моне и Ренуар подружились. Вскоре к ним присоединились еще два
ученика, чьими работами Глейр, вероятно, также был не слишком
доволен, — молодой англичанин Альфред Сислей и двадцатилетний сын
зажиточных родителей Фредерик Базиль, приехавший в Париж изучать
медицину и увлекшийся живописью.
Старшим среди четверых был Моне — не столько годами, сколько
опытом. Дружба с Буденом, знакомство с Писарро, два года в Алжире,
жаркие споры в кафе на улице Мучеников — все это издавна направляло его
на определенный путь; теперь он старался увлечь за собой и своих друзей.
Весной Моне вытащил их из Парижа в Шайи, деревушку неподалеку от
Барбизона, где все четверо писали с натуры. Летом Клод поехал с Бази-
лем к морю, в родную Нормандию.
Именно в это время он и написал те два морских пейзажа, что висели в
Салоне по соседству с «Олимпией» и послужили поводом к
недоразумению. Если бы Эдуард Мане посмотрел их внимательнее, он, возможно,
понял бы, что созвучными тут были не только подписи на картинах.
Созвучными были стремления — увидеть мир по-новому, вдохнуть в искусство
новую жизнь.
Но Мане был чересчур подавлен скандалом, бушевавшим вокруг
«Олимпии», и, как говорили, отказался даже познакомиться с Моне.
* * *
Между тем двадцатипятилетний Клод был настолько увлечен
смелостью Эдуарда Мане, что решил написать картину, созвучную по сюжету
«Завтраку на траве». Об этой картине стоит рассказать подробнее — тем
более потому, что ее можно увидеть в Музее изобразительных искусств
в Москве.
Впрочем, если уж быть точным, то надо сказать, что в музее теперь
висит не сама картина (она погибла), а лишь эскиз к ней. Но об этом —
впереди.
Клод Моне не только восхищался смелостью «Завтрака на траве». Он
хотел двинуться вперед по пути, намеченному Эдуардом Мане. Взяв тот же
сюжет (вернее, то же название), он решил попытаться написать всю
картину на воздухе, при естественном освещении, как сцену реальной,
сегодняшней жизни, как воскресный пикник современников-парижан.
Подобно Гюставу Курбе, писавшему своих земляков, как писали прежде
античных героев — в полный рост и едва ли не в натуральную величину, —
51
Моне взял для своей картины большой холст и отправился в Шайи
выбирать подходящее место. Вскоре он вызвал туда Базиля, и тот позировал для
нескольких фигур (вы можете узнать его, посмотрев крайнюю фигуру
слева, в шляпе с красной лентой, а длину его ног можете оценить, взглянув
на человека в жилете, лежащего справа под деревом).
Увлеченный работой, Моне оступился и растянул сухожилие. Базиль
рассказывал впоследствии, что стал писать его портрет, так как не знал
иного средства, способного заставить неугомонного Клода лежать спокойно
в постели. Едва выздоровев, Моне снова принялся за картину.
Сорокашестилетний Курбе, работавший тогда в лесу Фонтенбло, дал
ему немного денег и несколько советов. Деньги помогли Клоду
продержаться, чтобы закончить работу. Но советы Курбе, которого Клод так любил,
не пошли на пользу. Как ни могуч был этот живописец, его взгляд
принадлежал уже прошлому: он не смог понять новизны задач, которые ставил
перед собой Моне.
В итоге Клод остался недоволен картиной. Ее краски казались ему
глухими, тени были темны и непрозрачны, свет солнца белесоват... Работать
дальше стало невозможно: деньги, взятые у Курбе, кончились. Клод
вынужден был снять огромный холст с подрамника. Скатав картину в
трубку, он оставил ее в залог хозяину гостиницы, с которым так и не смог
расплатиться. Тот сунул ее в сарай, где картина вскоре заплесневела и
покоробилась. (Впоследствии она была разрезана на три части, из которых одна
хранится в Лувре.)
Неудачи, кажется, лишь подстегивали Клода: перед отъездом в Париж
он в несколько дней написал большой портрет, сделав еще одну попытку
решить поставленную себе задачу. Он написал этот портрет под открытым
небом. Девушку в полосатом серо-зеленом платье и отороченном мехом
жакете, что позировала ему, звали Камиллой. Вскоре она стала его женой и
почти четырнадцать лет делила с ним невзгоды и редкие радости, которые
ему так неохотно дарила судьба.
Свет и тень
«Однажды, в дни моей ранней юности, я шел борпэрской лощиной.
Вдруг во дворе небольшой фермы я увидел старика, который писал
картину под яблоней. Сгорбленный на своем раздвижном стуле, он казался
52
Клод Моне. Завтрак на траве.
совсем маленьким; вид его крестьянской блузы придал мне смелости — я
подошел поближе. Покатый двор фермы был окружен высокими
деревьями, и солнце, почти уже закатившееся, заливало их косыми лучами.
Желтый свет струился по листьям, пробивался сквозь них и падал на траву
светлым мелким дождем.
Старик не заметил меня. Он писал на небольшом квадратном куске
холста — тихо, спокойно, почти не двигаясь. У него были седые, довольно
длинные волосы и кроткое лицо, озаренное улыбкой.
Я встретил его на следующий день в Этрета; старика художника звали
Коро...»
Так рассказывает Мопассан о встрече с одним из поэтичнейших
живописцев XIX века. С одним из тех, кто предвидел путь, по которому двигались
теперь Эдуард Мане и его младшие друзья.
Камилл Коро прожил долгую жизнь. Он родился в конце XVIII века,
а умер в 1875 году. За это время, как пишет один из историков, произошла
полная революция в понимании живописи, в особенности живописи
пейзажной, и Коро был одним из действенных участников этой революции.
Человек XIX столетия учился смотреть на природу по-новому, глазами
своего века, полного открытий и потрясений. Если обратиться к
литературе, то нетрудно будет проследить, как менялся взгляд, а вместе с тем и
«взаимоотношения» человека с природой. Вспомните хотя бы описания
природы у Гоголя и Тургенева, где поля, дороги, леса и реки становятся частью
духовной жизни человека, отражением его мыслей, чувств и
переживаний. Вспомните Толстого: небо с бегущими облаками, увиденное
раненым Андреем Болконским, или же придавленный колесом, но не
раздавленный, живучий куст чертополоха из «Хаджи Мурата». Вспомните,
наконец, известные строки Федора Тютчева, как бы прямо обращенные к тем,
кто хотел бы глядеть на мир глазами ушедшего века:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик—
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Такой взгляд на природу ставил перед пейзажистами новые задачи,
открывал перед ними новые пути. На смену холодно-величественному,
«божественно-прекрасному» ландшафту классицизма, на смену героически
бурному пейзажу романтиков приходил пейзаж реальной действительности.
54
Клод Моне. Камилла.
пейзаж человеческих чувств. Камилл Коро был одним из его создателей,
как и его старший современник, англичанин Джон Констебль, чьи простые
и правдивые картины оказали глубокое влияние на французскую
живопись середины века.
В Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина хранится
небольшой этюд Констебля — вид на собор в Сольсбери. Это единственная
работа великого английского пейзажиста, попавшая в нашу страну. Но
даже и один этот скромный этюд с зелеными лугами, простертыми под
облачным небом, и башней собора вдали дает понять, какой это был живописец.
«Ничего, кажется, не может быть проще, — говорил об одной из его
картин Дмитрий Васильевич Григорович. — Сколько бы вы ни ездили по
Англии, она сразу приведет вам почему-то на память все впечатления,
когда-либо навеянные страной...» То же самое можно было бы сказать и о
многих картинах Камилла Коро.
Оба эти художника не нуждались в замысловатых мотивах и не
искали их. Берег реки, два-три дерева, рыбачья лодка, холмы и поля, воз сена
на проселке или деревенская улица, — сколько же чистой тюэзии умели
они извлечь из всего увиденного! Вместо того чтобы просто
изображать природу, они выражали свою любовь к ней. Они смотрели на
природу глазами тех, кому близок и дорог каждый уголок родной земли,
украшенный трудом человека.
Камилл Коро говорил своим ученикам: «Никогда не теряйте первого
впечатления, которое вас взволновало...» Тихий, порой даже робкий в
обыденной жизни, он называл свои картины «скромной музыкой». Но эта
музыка звучала с такой проникновенностью и чистотой, что не могла
остаться неуслышанной.
Глядя на картины Коро, на его пейзажи, полные тихой радости или
светлой грусти, поражаешься богатству оттенков, благородным и нежным
сочетаниям жемчужно-серых, зеленовато-коричневых тонов; такая
живопись обогащает зрение и чувства, помогая по-новому услышать голос
природы, понять ее слитность с душой человеческой.
В той же статье, где Мопассан вспоминает о давней встрече с Коро (эта
статья — «Жизнь пейзажиста» — была написана в виде письма к другу
художнику), есть и такие строки:
«Надо быть внимательным ко всем тем, кто ищет новое, ко всем, кто
стремится открыть в природе не замеченное другими, ко всем, кто
работает искренне и вдохновенно, вне старых шаблонов... Как удивилось бы
56
Камилл Коро. Порыв ветра.
большинство людей, если б они узнали, какое значение имеют для нас
краски, и проникли бы в ту глубокую радость, которую они дают людям,
имеющим глаза, чтобы видеть!
Поистине, я живу только глазами: я брожу с утра до вечера по
равнинам и лесам, среди скал и дикого терновника, разыскивая подлинные
тона, никем не подмеченные оттенки, — все то, что школа, выучка, слепое
классическое образование мешают нам познать и охватить».
Эти строки кажутся написанными о каждом из тех, кому посвящена
эта книга. О каждом, кто «жил только глазами», кто самозабвенно
стремился открыть в природе не замеченное другими, кто бродил с утра до вечера
по равнинам, лесам и берегам рек, чтобы принести людям глубокую
радость познания нового.
57
Жизнь этих людей была до краев наполнена вдохновенным трудом.
Ренуар и Сислей проводили недели в лодке, двигаясь вдоль берегов Сены
и неустанно работая с натуры. Писарро бродил с этюдником по
окрестностям Барбизона. Клод Моне уехал на лето в Виль д'Авре, где обычно жил
Коро. Там он писал большую картину «Женщины в саду», хранящуюся
теперь в Лувре. В ней он хотел добиться того, чего не удалось достичь в
«Завтраке на траве». Клод работал на воздухе, под открытым небом. Он
хотел во что бы то ни стало сохранить в картине ощущение чистоты
утреннего света; когда солнце, бывало, пряталось за набежавшим облачком, он
прерывал работу. Однажды Курбе застал его в такую минуту и спросил,
почему он не работает. «Жду солнца», — ответил Моне. Курбе недоуменно
пожал плечами: «Вы могли бы пока писать пейзаж заднего плана».
Действительно, задний план картины погружен в глубокую тень. Но
Курбе, вероятно, не принимал в расчет того, о чем настойчиво думал Моне:
ведь тень есть порождение света, определенного света, и меняется
вместе со светом, меняет свою окраску и силу. Тень и свет связаны между
собой точно так же, как свет и цвет.
Уловить эту связь — вот к чему он стремился. Вот почему он упорно
отказывался работать в мастерской, как принято было тогда. Он вырыл в
саду канаву, куда опускал картину, когда ему надо было дотянуться до
ее верхней части. Курбе изрядно забавлялся, глядя на все это. Хоть он и
любил Клода, подобное упорство показалось ему чудачеством.
Но Клод верил твердо, что идет по правильному пути. Он писал «на
пленере» (то есть на воздухе, под открытым небом), пока не вынужден был
снова бежать из Виль д'Авре от кредиторов, как бежал из Шайи.
В Гавре, куда он переехал осенью, его положение не улучшилось. Дело
дошло до того, что в декабре он просил Базиля прислать ему из Парижа
сохранявшиеся там картины, чтобы соскоблить их и использовать холст
для новых работ.
Немногим лучше было положение однокашников Моне. Работы Сислея,
Писарро и Ренуара тоже оказались непринятыми в Салон. Золя писал
одному своему другу: «Все на свете отвергнуты, жюри закрыло двери перед
каждым, кто ищет новых путей».
Отчаявшиеся художники составили петицию, они просили снова
открыть «Салон отверженных»; но времена показного либерализма
кончились, петиция была «оставлена без последствий».
Это был год новой Всемирной выставки, и Эдуард Мане, получивший
58
Клод Моне. Женщины в саду.
Эдуард Мане. Казнь императора Максимилиана.
недавно богатое наследство, решил повторить то, что сделал двенадцать лет
назад Курбе: он построил собственный павильон, чтобы иметь возможность
показать свои работы.
Специально для этой цели Мане написал «Казнь императора
Максимилиана». То был горячий отклик на трагические события, только что
разыгравшиеся в далекой Мексике. Картину, где с открытым сочувствием
был показан эпизод борьбы за независимость, не допустили на выставку.
«Выставляться — это для художника вопрос жизни, — писал в те дни
Захария Астрюк. — Ведь бывает, что после нескольких выставок люди
60
привыкают к тому» что их раньше поражало... Понемногу они начинают
понимать и принимать это... Таким образом, для художника это вопрос
примирения с публикой, из которой ему создали мнимого врага».
Но примирения с публикой не состоялось. Парижские буржуа
оставались верны своим взглядам, своим пристрастиям, — иначе и быть не
могло. Многие приходили в павильон Мане, чтобы посмеяться, потешить себя
издевкой.
Через год Мане писал художнику Фантен-Латуру: «Я думаю, что если
мы хотим сохранить солидарность, а главное, не поддаваться отчаянию, то
мы найдем средства противостоять миру посредственностей, которые
сильны только своим единством».
Вскоре Эдуард Мане стал появляться по вечерам в маленьком кафе
Гербуа на улице Клиши. Вместе с ним здесь бывал его близкий друг
Эмиль Золя. Сюда приходил еще один друг Мане — небольшого роста,
стройный, с коротко подстриженной бородкой и быстрым взглядом
насмешливых темных глаз. Звали этого человека Эдгар Дега, он был двумя
годами младше Эдуарда Мане и подружился с ним еще в то время, когда оба
увлеченно копировали в Лувре картины любимых живописцев.
Со временем в кафе Гербуа стали все чаще появляться Ренуар, Сислей,
Писарро и Моне. Изредка сюда приходил и угрюмый тридцатитрехлетний
бородач с провинциальным южнофранцузским акцентом — земляк и
школьный товарищ Эмиля Золя, Поль Сезанн.
Высокий, костлявый, неуклюжий, он молча здоровался по очереди с
присутствующими, а перед Мане останавливался, небрежным движением
подтягивал испачканные красками штаны и произносил нарочито грубым
голосом: «Не подаю вам руки, господин Мане, я уже восемь дней не
умывался». Затем он усаживался где-нибудь в углу и молча слушал.
А послушать здесь было что. Кафе Гербуа (как в свое время кафе на
улице Мучеников) стало местом оживленнейших дискуссий. Горячность
споров доходила здесь до такого накала, что однажды дело закончилось
дуэлью в Сен-Жерменском лесу между Мане и писателем Дюранти. Золя
был одним из секундантов, а другой секундант, журналист Поль Алексис,
рассказывал, что Мане и Дюранти (оба не умевшие фехтовать) бросались
друг на друга с таким ожесточением, что их шпаги превратились в пару
штопоров.
Впрочем, как свидетельствует Алексис, «в тот же вечер они снова стали
61
лучшими в мире друзьями. А завсегдатаи кафе Гербуа, обрадованные и
успокоенные, сочинили в их честь триолет из девяти строк».
Но как бы ни различались мнения, склонности, пристрастия и
характеры (а различий, как мы увидим, было немало), стремление объединиться
оказалось сильнее. Каждый чувствовал себя тверже среди друзей. Все
вместе понимали, что только сплоченность и единство действий могут помочь
пробиться сквозь глухую стену враждебности.
В кафе Гербуа обсуждалось все, что занимало умы художников, — от
самых высоких проблем искусства до самых будничных вопросов: как
просуществовать, где найти покупателей для своих картин. Здесь спорили об
отношении к Салону — пытаться или не пытаться впредь посылать туда
картины. Здесь обдумывались планы устройства первой совместной
выставки. Но едва ли не главным предметом горячих обсуждений был вопрос
о том, каков же должен быть язык новой живописи.
Взаимоотношения света, цвета и тени — вот центральный пункт, в
котором сталкивались мнения.
Для живописцев академической школы различие между освещенными
и затененными частями предмета было, если можно так выразиться,
понятием количественным. «Локальный» (то есть определенный, свойственный
данному предмету) цвет, переходя в тень, изображался более темным, вот
и все (каждый может упрощенно представить себе это, изобразив с
помощью одноцветного карандаша кубик с освещенными и затененными
гранями). Но уже Делакруа с полной определенностью указал, что тень
получает дополнительную окраску от находящихся по соседству предметов
(вспомните его пример с ковром и подушкой).
То, что кажется нам теперь вполне естественным и само собой
разумеющимся (быть может, именно благодаря новой живописи), добывалось
художниками по крупицам, ценой неустанного, настойчивого труда. Чтобы
изучить на опыте волнующий вопрос, Моне, Сислей и Писарро стали
писать зимние пейзажи. Они увидели сами и показали другим, что тени на
снегу вовсе не серые, как принято было думать. В морозный ясный полдень
тени были прозрачно-синие, а перед закатом — оранжевые и
розово-фиолетовые.
Один и тот же предмет в течение дня менял окраску под воздействием
света и состояния атмосферы. Наблюдая это, Клод Моне не мог не думать
о замечательном пейзажисте Ионкинде, с которым его когда-то познакомил
Буден.
62
Сын Голландии, с ее влажным воздухом и часто меняющейся погодой,
Ионкинд был необычайно, до болезненности впечатлительным человеком.
Он был особенно чувствителен к изменчивым эффектам освещения и
показывал когда-то Клоду два вида Собора Парижской богоматери, написанные
с одного и того же места: один — в ярком свете зимнего утра, другой — в
пламенеющих лучах заката. В первом случае каждая подробность
архитектуры была видна художнику. Во втором случае архитектурные формы
сливались в одну темную массу. Но Ионкинд не стал прибегать к силе
памяти, хотя, написав однажды собор при ярком свете, хорошо знал его в
подробностях. Он передал все так, как оно виделось ему, подчеркнув тем
самым различие между отвлеченным знанием и непосредственным
впечатлением.
Однажды кто-то из недоброжелателей, рассматривая этюд Делакруа
со скачущими всадниками, спросил иронически, что, собственно, хотел
изобразить художник в поднятой руке одного из скачущих.
— Я хотел изобразить блеск сабли, — ответил Делакруа. Вероятно,
это был наиболее точный ответ из всех возможных.
Не знаю, известны ли были эти слова Клоду Моне, Сислею или Пи-
сарро, когда они бродили с этюдниками по лесам и полям в поисках новой
живописной правды. Так или иначе, они шли по дороге, предсказанной
Джоном Констеблем, Эженом Делакруа, Камиллом Коро, Ионкиндом,
Буденом и всеми теми, кто ставил искренность, простоту и живость
впечатления выше заученных приемов.
Буживалъ
«Когда я начинаю писать с натуры, первое, что я стараюсь сделать, —
это забыть, что я когда-либо видел живопись...» Так говорил Джон
Констебль — художник, с величайшим уважением относившийся к мастерам
прошлого. Он утверждал, что лишь тот живописец оставит потомкам свое
имя, кто станет терпеливым учеником природы.
Именно такими были художники, о которых я рассказываю.
Огюст Ренуар (так же, как Мане и Дега) был влюблен в
замечательных мастеров прошлого и смолоду увлеченно копировал в Лувре Рубенса,
Фрагонара, Ватто. Но себя самого, свой собственный стиль он искал не в
музеях. Он плавал с Сислеем в лодке вдоль берегов Сены, помногу работал
63
с друзьями в лесу Фонтенбло. Теперь Моне снова звал его провести лето
на лоне природы и поработать вместе.
Положение Клода в то время было ничуть не лучше, чем в прежние
годы. Напротив, оно даже ухудшилось. Весной жюри Салона снова
отвергло его работы. У него не было ни денег, ни холста, ни красок — ничего,
кроме всегдашнего и ничем не одолимого желания работать лицом к лицу с
природой.
Он поселился с Камиллой на берегу Сены в Буживале, неподалеку от
Виль д'Авре — местечка, с которым были связаны достаточно неприятные
воспоминания.
Отсюда он писал в Париж Базилю: «Ренуар приносит нам из дому
хлеб, чтобы мы не умерли с голоду. Неделя без хлеба, без огня в очаге, без
света — это ужасно...»
Самому Ренуару тоже приходилось не сладко. Поселившись с женой
неподалеку, он задолжал местным лавочникам и признавался все тому же
добросердечному Базилю (с трудом раздобыв марку на письмо): «Мы
едим не каждый день, но, несмотря на это, я счастлив, потому что, когда
дело касается работы, Моне — превосходная компания...»
Обо всем этом нельзя не вспомнить, глядя на картину Огюста Ренуара
«Купанье на Сене», хранящуюся теперь в Музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина. Легко ли представить, что эта юношески
жизнерадостная, жизнелюбивая сцена написана именно тем беспросветно голодным
летом?
История искусства не так уж бедна примерами невзгод, что выпадали
на долю художников. Вспомните нищету последних лет Рембрандта,
злоключения Рейсдаля, постоянную унизительную нужду Федора Васильева,
трагический конец Ван-Гога и многих других. Там горести жизни
накладывали неизгладимый отпечаток на творчество. Трагические, тревожные,
грустные ноты в картинах этих живописцев звучали отголоском личных
тревог и трагедий.
Но во все времена вы не найдете, пожалуй, такого сгустка невзгод,
такой постоянной, безвыходной, коллективной нужды, какая преследовала
друзей из кафе Гербуа (по крайней мере, большинство из них). Почему же
так радостно, так безмятежно-солнечно их искусство?
То, что представляется на первый взгляд непостижимой загадкой,
может оказаться ключом к разгадке; надо лишь поглубже вникнуть в
характеры и судьбы, в жизнь и творческий подвиг этих людей.
64
Пьер-Огюст Ренуар. Купанье на Сене (Лягушатник).
Ранней осенью 1869 года Клод делился с Базилем: «Есть у меня
мечта — картина «Лягушатник». Я сделал для нее несколько плохих этюдов...
Ренуар, который провел здесь два месяца, тоже хочет писать такую же
картину».
«Лягушатником» в Буживале называли купальню на Сене, вблизи
летнего ресторана Фурнез, — то самое место, что изображено на картине
Ренуара, о которой шла речь выше.
Друзья художники приходили сюда с мольбертами и этюдниками едва
ли не ежедневно. Парусные лодки, купальщики, пестрая толпа на берегу
под деревьями — все вместе рождало немало ярких впечатлений. Но,
кажется, более всего привлекала друзей сама река, что отражала в себе небо,
зелень деревьев, облака, паруса и людей.
Текучая вода смазывала и как бы растворяла контуры предметов,
оставляя глазу лишь изменчивую игру красок. И если снег в зимних пейзажах
помог живописцам увидеть прозрачность и окраску теней, то теперь
наблюдения за струящимися отражениями, за неустанной сменой
набегающих и сливающихся цветовых пятен — эти наблюдения подтверждали их
убежденность в том, что неизменного цвета в природе нет, что окраска
любого предмета обусловлена не только его собственным цветом, а и
цветом соседних предметов. И даже, если можно так выразиться, цветом
самого воздуха.
Казалось бы, говорить об окраске воздуха трудно: он прозрачен, и
только. А между тем каждый из нас может сказать о воздухе снежных
зимних сумерек, что он синий. В облачный осенний день воздух кажется
серым, а если летний закат застанет вас на опушке леса, то вы увидите над
полем или лугом сияние янтарно-желтого воздуха меж темных стволов
деревьев. Все это имеет свое научное объяснение; каждый школьник теперь
отлично знает, отчего небо голубое. Но речь тут идет не о законах физики,
а о законах искусства.
Камилл Писарро не зря говорил: «Я никогда не сомневался, что
являлось основой пути, которым мы инстинктивно шли. Это было изображение
воздуха».
Разумеется, его слова надо понимать не в буквальном смысле.
«Изобразить воздух» -— это значит уловить глазом художника влияние
атмосферных условий на окраску предметов. Уловить и запечатлеть изменчивость
света и цвета — все то, что делает природу неисчерпаемо разнообразной.
66
Клод Моне. Лягушатник.
Для того чтобы научиться передавать это, надо было не только
отточить свое зрение, но и овладеть новой техникой живописи. И вот тут-то
неоценимую пользу принесли недели, проведенные на берегах рек.
Когда пишешь воду — струящуюся, текучую, изменчивую, — то и кисть
твоя должна быть необычайно подвижна. Она должна не отставать от
глаза, видящего неустанную смену цветовых пятен, рефлексов и солнечных
бликов. Работая на берегу Сены в Буживале. Моне и Ренуар учились
передавать живую игру света и цвета подвижным, легким мазком.
Тут попросту невозможно было бы пользоваться традиционными
приемами академической школы, неторопливо покрывая большие плоскости,
как это делал, скажем, Энгр, в чьих картинах каждый цвет существует
67
как бы сам по себе (хотя все вместе и очень красиво, гармонично). Но Моне
и Ренуар несомненно помнили морские пейзажи Эжена Будена, Эдуарда
Мане. Помнили они и о свободной, быстрой кисти Эжена Делакруа и
особенно о его последнем большом творении — фресках в «Капелле Ангелов»
парижской церкви Сен-Сюльпис.
Шестидесятитрехлетний Делакруа закончил эту огромную, взявшую
уйму труда работу за два года до смерти. Она была примечательна не
только необыкновенным мастерством композиции, но и еще одним смелым
техническим новшеством: Делакруа писал эти фрески большими раздельными
мазками чистых тонов, рассчитывая, что мазки сольются на расстоянии в
глазах зрителя. Именно в этом таился секрет дивной свежести красок, что
так восхищало всех, кто приходил в «Капеллу Ангелов», чтобы
полюбоваться этой работой.
Так искусство снова пророчески опередило науку (современная цветная
печать и цветное телевидение основаны, в сущности, на том же принципе
оптического смешения чистых, «основных» цветов).
Смелый опыт Делакруа не мог не повлиять на рождение новой
живописной техники.
Моне и Ренуар учились в Буживале передавать свои впечатления с
помощью быстрых, подвижных мазков. Палитра художников светлела.
Следуя примеру Писарро, они отказались применять жженую слоновую кость,
коричневый битум и другие темные и глухие краски, заменив их
спектрально-чистыми сочетаниями. Добиваясь светозарности, они старались не
смешивать краски, кладя рядом чистые тона и связывая их в единую
гармонию бесчисленными полутонами. Мерцание чистых красок помогало
передавать и блеск воздуха, и сияние солнца, и трепет листвы — словом, все то,
что можно назвать движением жизни в природе.
Работа «на пленере» все больше увлекала и Эдуарда Мане. Даже Эдгар
Дега, продолжая утверждать, что главное для художника — изучать
старых мастеров, провел несколько месяцев на берегу моря, где писал этюды
пастелью.
Между тем в Париже все шло своим чередом. В Салоне 1870 года
шумный успех выпал на долю самых вульгарных полотен. Пошляки, вроде
Тульмуша, процветали. Эдуарда Мане по-прежнему осмеивали, а картины
Клода Моне были в очередной раз отвергнуты.
Никто, однако, не мог предполагать, что это был последний Салон
империи Наполеона Малого.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В о una и мир
ранко-прусская война, грянувшая летом 1870 года,
разметала в разные стороны друзей из кафе Гербуа.
Фредерик Базиль записался в полк зуавов, которым
поручали самые опасные задания. Ренуар был
зачислен в кирасиры и отправлен в Бордо объезжать лошадей. Мане отослал
семью в безопасное место, а сам остался в Париже, как и Дега,
записавшийся в артиллерию (хоть он и говорил, что ни разу в жизни не слышал,
как стреляет пушка).
Клод Моне (он не подлежал призыву) оказался с Камиллой в Гавре, а
Сезанн — в Марселе. Альфред Сислей должен был, как британский
подданный, отправиться в Лондон.
69
Пъер-Огюст Ренуар.
Портрет офицера.
Тем временем прогнившая империя трещала по швам. Французская
армия, неподготовленная и руководимая бездарностями, терпела поражение
за поражением. Разыгралась Седанская катастрофа. 2 сентября
Наполеон III сдался в плен; армия капитулировала. Всего сорок семь дней
потребовалось, чтобы Вторая империя развалилась окончательно.
Парижские рабочие провозгласили республику. Социалист Гамбетта призывал
французов спасти честь нации или умереть.
Между тем «правительство национальной обороны», предпочитая
оккупацию революции, открыло пруссакам дорогу на Париж.
17 сентября началась осада города. Правительство переместилось в
70
Бордо. Население спасалось бегством, напуганное зверствами неприятеля.
Камилл Писарро (он жил с семьей в Лувесьенне, неподалеку от Парижа)
вынужден был поспешно уехать — сначала в Бретань, а оттуда в Лондон,
бросив на произвол судьбы свои картины, а также и картины Моне,
которые тот оставил ему на сохранение. Сам Клод, простившись с женой и
ребенком в Гавре, сел на один из пароходов, увозивший тысячи беженцев
в Англию.
Тем временем пруссаки начали артиллерийский обстрел Парижа.
Орудия грохотали день и ночь. Население страдало от холода, голода,
Эдуард Мане. Гражданская война.
эпидемий. Люди ели кошек, собак и крыс. Наконец 28 января 1871 года
обессиленный город капитулировал. Бесславная война окончилась
позорным перемирием.
Треть Франции была оккупирована. Победители грабили страну с
прусской грубостью. На дорогах и в деревнях звучали выстрелы партизан-
франтиреров. В конце февраля Тьер подписал с Бисмарком договор, по
которому Франция уступила Германии Эльзас и Лотарингию, обязуясь
вдобавок уплатить пять миллиардов франков контрибуции за счет
рабочих и крестьян, которым пришлось потуже затянуть пояса.
Но народ Франции не хотел терпеть ни оккупантов на родной земле, ни
собственных продажных министров и генералов. Еще в день подписания
позорного договора парижские рабочие на руках втащили на Монмартр
пушки, купленные вскладчину. Они объединились, создав национальную
гвардию, готовую драться и умереть за свободу (одним из штабных
офицеров Национальной гвардии был Эдуард Мане).
18 марта, в ответ на попытку Тьера отнять оружие у гвардейцев,
началось народное восстание — первая в мире пролетарская революция,
оставшаяся в истории под названием Парижской коммуны.
Правительство Тьера бежало в Версаль. Власть перешла к
центральному комитету Национальной гвардии. Все министерства были распущены.
В Париже были объявлены всеобщие выборы. Среди восьмидесяти
избранных членов совета Коммуны оказался и Гюстав Курбе.
Парижская коммуна решительно ломала и перестраивала прогнившую
государственную машину. Академия и Школа изящных искусств были
объявлены ликвидированными; все медали и другие награды,
присуждаемые Салоном, отменены. Курбе стал президентом новой Федерации
художников. Камилл Коро, Оноре Домье и Эдуард Мане вошли в комитет,
назначенный Коммуной, чтобы заменить прежнюю «администрацию по делам
изящных искусств».
Тем временем версальское правительство Тьера (в союзе с пруссаками)
стягивало к Парижу войска. Началась новая осада. 21 мая версальцы
ворвались в революционную столицу через ворота Сен-Клу.
Коммунары защищали грудью каждый вершок парижских мостовых.
Целую неделю они дрались на баррикадах, где оставили тридцать тысяч
убитыми. Десятки тысяч были взяты версальцами в плен и расстреляны
или сосланы на каторгу в Кайенну и Новую Каледонию. Отгремели
последние выстрелы на кладбище Пер-Лашез. 28 мая 1871 года Парижская
72
Эдуард Мане. Расстрел коммунаров.
коммуна — первое в истории правительство рабочих — перестала
существовать.
«Ужас и отчаяние продолжают царить в Париже, — писал через
некоторое время в Лондон Камиллу Писарро один из его парижских друзей.—
Ничего подобного еще не бывало... У меня есть только одно желание —
уехать, бежать на несколько месяцев... Париж пуст и опустеет еще
больше... Что же касается живописцев и художников, то можно подумать, что
их вообще никогда не было в Париже».
Из других писем Писарро узнал еще немало грустных вестей. Фредерик
Базиль был убит в сражении при Бон-ла-Роланде. Эдгар Дега,
потрясенный гибелью своего близкого друга, скульптора Кювелье, казался едва ли
не свихнувшимся. Гюстав Курбе был арестован и отдан под суд.
Его обвинили в свержении Вандомской колонны, хотя было известно,
что разрушить этот символ ненавистного самовластия Коммуна
постановила 12 апреля, а Курбе был избран членом совета Коммуны лишь
16 апреля.
Тем не менее он был признан виновным. Приговор отличался
необыкновенным цинизмом: больной художник, отбывший несколько месяцев
тюремного заключения, должен был оплатить восстановление колонны ценой
всего своего имущества. Его картины были проданы с молотка, а сам он
изгнан в Швейцарию, где и умер через пять лет.
Клод Моне был среди немногих, кто не отвернулся от Курбе в те дни,
когда большинство прежних друзей постаралось забыть о его
существовании. Едва возвратясь из военных странствий, он разыскал Курбе в
больнице, где тот ожидал приговора, и простился с ним — навсегда.
Возвращались в Париж и другие. Встречи друзей в кафе Гербуа
возобновились. Жизнь продолжалась, все шло своим чередом. Не было ни
баррикад, ни следов крови на серой брусчатке мостовых. Была только память:
исклеванные пулями стены, рассказы очевидцев да еще рисунки Эдуарда
Мане — свидетельство жестокой расправы Третьей республики с бойцами
Парижской коммуны.
* * *
О судьбе оставленных в Лувесьенне картин Писарро узнал еще в
Лондоне. Пруссаки устроили в доме, где он жил, мясную лавку. Хозяйка дома
писала ему, что «эти господа» использовали большинство картин как
подстилку, вытирая об них ноги в дождливые дни.
74
Камилл Писарро.
Автопортрет.
Из пятисот оставленных там холстов уцелело всего около сорока.
Погибли плоды почти что семнадцатилетнего упорного труда. Но Писарро не
принадлежал к людям, способным сломиться даже под такими ударами.
Это был удивительный, редкостный человек. Порой мне кажется, что я
его знал и видел, что слышал его голос, быть может, потому, что этот
спокойный, мудрый голос так ясно звучит в его полотнах.
«Сильнее всего, прежде всего я люблю простоту и доброту, особенно
доброту», — сказал однажды Стендаль. Он, я думаю, не мог бы не
полюбить Камилла Писарро, если б знал его, если бы жил в одно время с ним.
Камилл Писарро был старшим среди друзей. В нем не было ни юной
непосредственности Ренуара, ни горделивого своенравия Клода Моне,
ни блестящего остроумия Эдуарда Мане. В нем соединились мудрость
75
патриарха с терпением пахаря, идущего за плугом, мужество борца с
великодушием человека, готового нести помощь каждому, кто в ней
нуждался.
Двадцать пять лет было ему, когда он покинул Антильские острова и
отправился в Париж, чтобы посвятить себя искусству. Его ждала длинная
череда невзгод и лишений. Бывало, неделями он бегал от одного торговца к
другому, пытаясь продать хоть что-нибудь из своих работ, чтобы
прокормить семью. Один из таких торговцев, «папаша Мартин», говорил всем и
каждому, что Писарро никогда не выберется на дорогу, если будет
продолжать писать в своем «тяжелом, обыденном стиле».
Но даже самая крайняя нужда не могла заставить Писарро свернуть
с избранного пути. Ведь именно то, что папаша Мартин называл «тяжелым,
обыденным стилем», было глубоко осознанной целью художника.
Камилл Писарро был демократом по самому существу своей натуры, по
своей природе, характеру и взглядам на жизнь. Бесконечно терпеливый,
он не терпел лишь одного: неправды, зла, социальной несправедливости.
Нередко он клонил споры в кафе Гербуа в сторону наболевших вопросов
общественной жизни, хоть там это и не было принято, — иначе он не мог.
Живопись была для него одной из многих форм борьбы за лучшее
будущее обездоленного человека.
Людям, склонным к поверхностным, неглубоким суждениям, картины
Камилла Писарро (да и его товарищей) могут показаться очень далекими
от социальной борьбы и нравственных вопросов. Тот, кто думает так, не
хочет, как видно, вникнуть поглубже и понять, в какое время жили эти
художники, против чего выступали и что именно противопоставляли
господствующим вкусам и мнениям об искусстве.
Слов нет, Писарро не был политиком-революционером. Но на
протяжении всей его жизни (и даже после смерти) его обвиняли в том, что он
«вульгарный и прозаический живописец», лишь потому, что он искал и
находил поэзию в обыденности.
Мне кажется, никто из тех, кого принято называть импрессионистами,
не был так последователен в своих взглядах и не извлек столько чистой,
бескорыстной поэзии из обычных и скромных вещей, как это сделал
Камилл Писарро.
Когда смотришь «Пашню», то поневоле ищешь взглядом хозяина плуга,
того, кто вспахал это поле; кажется, он только что отлучился и вот-вот
появится. Трудно объяснить это словами — тут колдовство красок и чувств.
76
Камилл Писарро. Бульвар Монмартр в Париже.
Тут не просто поле, пригорок, небо, деревья, — это природа, одушевленная
человеком и благодарно отдающая человеку все, что может отдать.
В наших музеях хранится всего лишь пять холстов Писарро — малая,
очень малая часть обширного мира, запечатленного этим неукротимым
тружеником. Но и эти пять картин (три в Москве и две в Ленинграде)
покажут вам, как неисчерпаемо богата была его скромная живопись и как
поэтичен был его взгляд.
Посмотрите «Оперный проезд в Париже». Дождь. Зонты. Вереница
карет. Белесое небо, мокрая мостовая... Казалось бы, куда уж обыденнее.
Но приглядитесь, как все это написано! С какой сдержанностью,
благородством и простотой рисует кисть эту полную влажного блеска и живого
движения картину. Кажется, сам воздух светится, мерцает мириадами
дождевых капель, и в этом дымчато-серебристом тумане тает глубина улицы, а за
ней — невидимый, но угадываемый, бескрайний, огромный Париж.
Писарро очень любил такие мотивы — улицы или дороги, уходящие от
зрителя вдаль, — быть может, потому, что вместе со взглядом туда
уходишь мыслью, как в дальнюю даль левитановской «Владимирки».
Если хотите получше понять новизну живописного языка
импрессионистов, посмотрите, как написана мостовая «Оперного проезда», — серая и
вовсе не серая. Влажная, отсвечивающая множеством полутонов — желтых,
розовых, золотистых, зеленоватых, — а вместе с тем все-таки серая,
каменная, мокрая мостовая Парижа.
Посмотрите в Эрмитаже «Бульвар Монмартр» с бесконечным потоком
карет, ловящих лаковыми верхами голубизну неба, с мягким светом солнца
вдали и сизыми прозрачными тенями. Посмотрите «Площадь
Французского театра» — цветущие каштаны, толпа у омнибуса, дома, экипажи,
прохожие... Кажется, будто на ходу уловлена и занесена быстрой кистью на
холст эта случайно увиденная сцена. Но такая безыскусственность и есть
плод большого искусства, где нет места случайностям, где каждый из
великого множества мазков положен точно и где все вместе составляет не
просто изображение улицы или площади, а нечто гораздо более глубокое и
нужное человеку.
Писарро вместе с Моне и Ренуаром стали первыми поэтами
современного города. Они воочию показали, что красоту и чувство можно и нужно
искать не среди античных развалин или идиллических рощ и дубрав,
населенных нимфами, а в кипении сегодняшней жизни.
Город для них был не чудовищем, от которого бежали классицисты и
78
Эдгар Дега. Контора по приему хлопка.
романтики, он был для них частью любимой страны — землей, где стоят
дома и живут люди, где улицы, бульвары и площади заполнены шумной
пестрой толпой, катящимися экипажами и каретами, мерцанием света и
тени.
Заметьте, что почти все парижские пейзажи Клода Моне и Камилла
Писарро написаны «с верхней точки». Они забирались со своими
холстами как можно выше, снимая в случае надобности номер в гостинице
(«Бульвар Монмартр» написан весной 1897 года из окна «Большой
Русской гостиницы», «Площадь Французского театра» — годом позже, из
окна гостиницы «Лувр»). И это не случайно — такая точка зрения
доступна ведь лишь современному горожанину. Обратите внимание на две
фигуры, срезанные краем картины «Бульвар Капуцинок». Не кажется ли вам,
что эти бородачи в цилиндрах стоят рядом с художником, любуясь, как и
он, открывающимся сверху зрелищем кипящего жизнью города?
Так живописцы нового времени стремились увидеть мир глазами своих
современников.
Но я забегаю вперед, говоря об этих картинах: к началу 1872 года не
было еще ни «Бульвара Капуцинок», ни «Площади Французского театра».
Первая послевоенная зима полна была размышлений о прошлом и
нарождающихся надежд.
Камилл Писарро, уже поседевший в свои сорок два года, перед лицом
гибели всего, что он сделал, готовился начать сызнова. В Лувесьенн
возвращаться ему не хотелось; он намерен был обосноваться в Понтуазе и
звал туда Сезанна, вернувшегося с юга в Париж.
Поль Сезанн был по-прежнему мрачен и замкнут. Сын мелкого банкира
из Экса, старинного городка в Провансе, он три года боролся с отцом,
чтобы добиться разрешения посвятить себя искусству. Сломленный упорством
Поля, отец вынужден был согласиться, но при этом назначил сыну более
чем скромное содержание, на которое тот едва мог просуществовать.
В Париже Поль быстро смог убедиться, как далеки его юношеские
мечты от действительности. Он было даже смалодушничал — бежал от суеты
и шума большого города обратно в тихий Экс. Блудный сын стал работать
клерком в банкирской конторе отца, но ненадолго. Страсть к искусству
оказалась сильнее ненависти к шуму и суете; он вернулся в Париж и
попытался поступить в Школу изящных искусств, но провалился.
80
Эдгар Дега. Голубые танцовщицы.
Видимо, с той поры он положил себе за правило не считаться с
провалами, не признавать их; он признавал за собой лишь одну обязанность —
работать.
Посылая свои картины в Салон, он даже не рассчитывал, что они могут
быть приняты. В 1865 году он писал Камиллу Писарро о своем
наслаждении тем, что его работы заставляют Академию «краснеть от ярости и
отчаяния». Позднее он обратился к императорскому «сюринтенданту
изящных искусств» графу Ньюверкерке с письмом, где требовал восстановить
«Салон отверженных».
«Пусть я даже буду выставлен там один, — писал он, — я страстно
желаю, чтобы публика по крайней мере узнала, что я не хочу, чтобы меня
смешивали с господами из жюри, так же как они не желают, чтобы их
смешивали со мной. Надеюсь, сударь, что вы не ответите мне молчанием. Мне
кажется, что любое пристойное письмо заслуживает ответа».
О том, каков был ответ, свидетельствует «резолюция» на полях письма
Сезанна: «Он требует невозможного. Мы видели, как несовместима с
достоинством искусства была выставка отверженных, и она не будет
возобновлена».
Теперь, в 1872 году, не было уже графа Ньюверкерке, но Салон
оставался прежним. Картины опального Курбе были отклонены.
Отвергнутыми снова оказались Эдуард Мане, Сезанн и Ренуар. Что касается Клода
Моне, Писарро, Сислея, Дега, то они на этот раз и не пытались попасть
в Салон.
С наступлением теплых дней Клод, продав несколько холстов, снял
небольшой домик на берегу Сены, в Аржантее, предместье Парижа.
Ренуар, увлекшийся городскими пейзажами, приезжал время от времени и
сюда, чтобы поработать рядом с другом. Альфред Сислей тоже работал
поблизости (тем летом он и написал солнечную «Деревню на берегу Сены»,
что висит теперь в Эрмитаже). Писарро жил в Понтуазе, куда к нему
приехал Сезанн с женой Гортензией и маленьким сыном.
А Дега увлекся новыми сюжетами — он стал проводить дни напролет
за кулисами Парижской оперы; сюда его привел когда-то впервые
покойный Базиль.
Эдгар Дега был противоречивым и странным на первый взгляд
человеком. Отпрыск аристократического семейства (его настоящая фамилия
была де Га), он смолоду отказался от дворянской приставки. Как и
Эдуарда Мане, его готовили к блестящей карьере, но он бросил юридическую
81
Эдгар Дега. Автопортрет.
школу ради Школы изящных искусств, где первым его наставником был
ученик и последователь Энгра, Ламотт.
Дега преклонялся перед Энгром с детства. В знакомой семье ему
случалось видеть величественного старца, он надолго сохранил в памяти его
облик и на всю жизнь — любовь к энгровскои певучей линии и к ясной
форме.
Он любил также других великих рисовальщиков — Николая Пуссена,
Ганса Гольбейна, — и копировал в Лувре их работы с таким усердием и
мастерством, что трудно бывало отличить копию от оригинала.
В то же время именно Дега оказался художником, о котором Эдмонд
Гонкур справедливо сказал: «Я до сих пор не встречал человека, кото-
82
рый умел бы лучше изображать современную жизнь, самую душу этой
жизни».
Маленький, в круглой широкополой шляпе, с насмешливо-грустным
взглядом, не терпящий шума, презирающий суету, рекламу и славу, он
был склонен к молчаливому одиночеству. С годами его замкнутость стала
легендой. И вместе с тем именно он черпал свои темы в самой гуще шумной
городской жизни и не раз выслушивал упреки в чрезмерном реализме и
«вульгарности» сюжетов.
«Человеческая комедия» занимала его куда больше, чем безмолвный
мир природы. Пейзажей он почти не писал. Но так же, как Моне, Писарро
или Сислей влюбленно наблюдали и изучали природу, так и Эдгар Дега
изучал и наблюдал человека-современника.
Его дар наблюдения, точность и зоркость взгляда были несравненны.
А силой зрительной памяти он мог сравниться разве только с Домье.
В отличие от своих друзей, он не работал с натуры, не писал свои картины
«на месте». Его принципом было «наблюдать не рисуя и рисовать не
наблюдая».
Тяготение Дега к современности, к живой правде проявилось смолоду.
Взяв для одной из самых ранних своих работ античный сюжет
(«Спартанские девушки вызывают на состязание юношей»), он нарисовал всю
картину в классически строгом духе Пуссена, но... придал лицам героев черты
«детей Монмартра», черты хорошо знакомой ему молодежи парижских
предместий.
Поначалу он написал немало проницательно-строгих портретов; в
пору зрелости его больше интересовали сцены быстротекущей жизни.
«Уловленные мгновения» — так, пожалуй, можно было бы выразиться
о многих работах Эдгара Дега. В этом его глубокое внутреннее сродство
с друзьями.
Все они были поэты трепетного, подвижного мира, все понимали жизнь
как постоянное движение. И если у пейзажистов это постигалось через
движение воздуха, света, смену времен дня и года, через постоянный
круговорот природы, то Дега стремился передать живую сущность мира через
движение человека.
Его наблюдательность и феноменальная зрительная память позволяли
ему с необычайной точностью улавливать жесты, позы, схватывать на
ходу характерные движения и передавать их с необыкновенной
правдивостью. Вот почему так достоверны, так несомненны его прачки, балерины,
83
Эдгар Дега. Танцовщицы на репетиции.
гладильщицы, швеи, певицы, наездники. Он рисует их, как людей труда,
«выражаясь при этом как бы на их же языке и технически уясняя нам их
приемы» (братья Гонкуры).
* * *
Среди десяти работ Эдгара Дега, хранящихся в наших музеях, только
одна («Танцовщица у фотографа» из Музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина) написана масляными красками. Остальные
выполнены пастелью (род мягких цветных карандашей).
Дега любил работать пастелью. Эта техника позволяла ему яснее про-
84
явить свой талант рисовальщика, свою любовь к выразительной линии.
В то же время сочные тона и «мерцающий» штрих пастели помогали
художнику создать ту особенную красочную атмосферу, ту переливчатую
воздушность, которая так отличает его работы.
Всматриваясь в пастели Дега, с особенной ясностью осознаешь
сущность новых завоеваний живописи. Цвет здесь как бы возникает на ваших
глазах из переливчатого сияния, из струящегося потока радужных
«элементарных частиц», из вихря перекрещивающихся «силовых» линий. Все
здесь полно осмысленного движения. Бег линий рождает форму, из вихря
красочных штрихов рождается цвет.
Особенно ощутимо это в «Голубых танцовщицах» из московского
музея, где из радужного мерцания чистых тонов как бы возникает мелодия
танца.
И еще одна особенность живописи Дега: полная свобода и
непринужденность композиции.
Современные критики упрекали его в том, что он «срезает» краями
картин предметы и людей; говорили даже, что он попросту не умеет
разместить желаемое на полотне, уложиться в формат картины. Между тем это
было вполне осознанной необходимостью: Дега продолжал и логически
развивал то, что было начато картиной Эдуарда Мане «Музыка в Тюиль-
ри». Он показывал жизнь в движении. Не как сцену спектакля или же
фотографию, где все тщательно расставлены по местам («подвиньтесь
чуть левее, а то вас не видно»), а как часть живого, струящегося потока.
Как «уловленное мгновение».
Вот почему его картины кажутся не заранее сочиненными, а как бы
подсмотренными, на лету выхваченными из жизни.
Даже такое прозаическое место, как торговую контору, Дега сумел
изобразить с подкупающей жизненностью, показав тем самым, что для
настоящего художника нет «низких», недостойных тем.
Эту картину Дега написал в Америке, куда отправился осенью 1872
года, чтобы повидаться с братьями (они жили в Новом Орлеане, им и
принадлежала контора по торговле хлопком, изображенная Эдгаром).
Поездка на американский юг сулила художнику множество новых
впечатлений. В штате Луизиана его ожидало немало любопытного:
апельсиновые рощи, пальмы, густая синева южного неба, яркие одежды
негритянок на хлопковых плантациях... Казалось бы, куда уж заманчивее для
живописца!
85
Но Дега был рожден для другого. Вернувшись домой, он делился с
приятелем: «Как много нового я увидел, как много замыслов родилось у
меня... Сейчас я уже расстался с ними и не хочу ничего видеть, кроме
принадлежащего мне уголка земли... Если хотите сравнения, то скажу вам,
что для того, чтобы принести хорошие плоды, надо, подобно дереву,
пустить глубокие корни, то есть всю свою жизнь оставаться на месте с
протянутыми руками и открытым сердцем, чтобы впитывать все, что
происходит, все, что окружает вас, и жить этим».
Под такими словами мог бы подписаться каждый из его друзей.
Эдгар Дега. Гладильщицы.
До и после первой выставки
Вот мы и приблизились к тому времени, когда семеро отверженных
решили, наконец, заняться устройством первой совместной выставки.
В 1873 году один лишь Эдуард Мане был принят в Салон. Его картина
«За кружкой пива» имела большой успех. Этот необычайно живой портрет
добродушного толстяка, гравера Белло, завсегдатая кафе Гербуа,
понравился даже недругам нового искусства. Успех радовал Эдуарда Мане, и в
то же время он чувствовал себя неловко оттого, что выступает в Салоне
один.
Он даже упрекал друзей, что они покинули его, хоть упреки звучали
странно; жюри Салона, приняв картину Мане, тут же отвергло обе
картины, представленные Ренуаром. Остальные не желали более ставить себя в
зависимость от прихотей жюри и требований, не отвечавшим тем
взглядам на искусство, которые они намер-ены были защищать.
В мае парижская газета «Авенир Насиональ» опубликовала статью
Поля Алексиса, где говорилось о полезности устройства независимых от
Салона выставок. На эту статью Клод Моне немедленно откликнулся
открытым письмом Алексису: «Мы счастливы видеть вас защищающим
наши идеи, и мы надеемся, что «Авенир Насиональ» поддержит нас... когда
сообщество, которое мы сейчас организуем, будет окончательно
сформировано».
«Окончательное сформирование» потребовало, однако, и времени и
немалых усилий.
Многие искренние друзья художников были убеждены, что прочного
успеха можно и следует добиваться только в Салоне. Критик Дюре
умолял Камилла Писарро отказаться от рискованной затеи. Эдгар Дега
предлагал «разбавить» состав участников, пригласив как можно больше
художников из числа выставляющихся в Салоне, чтобы отвести возможные
обвинения.
Пришлось поспорить и об уставе будущей организации. Камилл
Писарро, с его постоянным стремлением к справедливости, предложил
строгую систему правил, обеспечивающих равные условия для всех.
Ренуар, не терпевший вообще никаких правил ни в искусстве, ни в жизни,
возражал... Наконец уладили и это. Оставалось одно — помещение. И тут
на помощь подоспел Надар, в прежние годы не раз посещавший кафе
Гербуа.
87
15 апреля выставка на бульваре Капуцинок открылась, а еще через
десять дней слово «импрессионисты», давно уже витавшее в воздухе,
отпечаталось черным по белому на страницах сатирического листка.
* * *
Итак, одни называли новую группу импрессионистами, другие (в их
числе и Золя) — натуралистами. Людям порою свойственно вкладывать в
одни и те же слова различный смысл. Вот почему факты всегда надежнее
условных наименований.
Но если мы вспомним, что во времена Белинского «натуральной
школой» называли именно то направление русской литературы, которое
стремилось изображать жизнь во всей полноте и реальности, нам легче будет
понять, что имел в виду Золя. Добавлю, что Дега назвал будущую
выставку «Салоном реализма».
Желая привлечь побольше участников, он писал в Лондон живописцам
Тиссо и Легро: «Реалистическое течение уже не имеет надобности
бороться с другими. Оно есть, оно существует, и оно должно быть показано
отдельно... Выставляйте. Оставайтесь со своей страной и со своими друзьями.
Клянусь вам, дело подвигается и начинает иметь успех даже раньше, чем я
ожидал».
Его оптимизм был, однако, чрезмерен. О том, как приняли выставку на
бульваре Капуцинок, мы уже знаем. Издевательские обзоры «этой
чрезвычайно комической выставки» печатались даже в Америке. Жюль Кларети,
известный критик парижского Салона, вопил: «Писарро, мадемуазель Мо-
ризо и прочие объявили войну красоте».
Озлобленный вой не помешал Писарро написать: «Выставка идет
хорошо. Это успех. Критика нас поносит и обвиняет в отсутствии знаний.
Я возвращаюсь к моим занятиям, что более существенно, чем читать все
это».
Ничего другого друзьям и не оставалось. Осмеянные едва ли не всеми
газетами, они покидали Париж, чтобы обрести утешение в труде, в
общении с природой. Писарро возвратился в Понтуаз. Сезанн уехал на родину
в Экс, Моне — в Аржантей.
Вот уже несколько месяцев он обнадеживал владельца домика, где жил,
будущим успехом. Теперь он вернулся с пустыми руками, и хозяин не
желал больше удовлетворяться обещаниями. Моне с Камиллой и сыном
очутились на улице, и тут на помощь пришел Эдуард Мане.
88
Эдуард Мане. Берега Сены в Аржантее.
Успех картины «За кружкой пива» не помешал жюри Салона грубо
отвергнуть следующие его картины. Теперь он приехал в Аржантей, помог
Клоду снять другой домик, и они стали работать рядом.
Здесь, в Аржантее, Эдуард Мане провел едва ли не счастливейшие
недели своей жизни. Его палитра с каждым днем прояснялась. Он писал
пологие берега, лодки, покачивающиеся на тихой воде, — писал, любуясь
ярким светом солнца, зеленоватым мерцанием теней. Он просил Камиллу
позировать (это она с. сыном Жаном стоит у реки в картине «Берега Сены
в Аржантее»). Он писал и самого Клода, работающего в лодке, в своей
«плавучей мастерской», которую помог построить один из постоянных
жителей Аржантея, Гюстав Кайботт.
Инженер-кораблестроитель, владелец нескольких яхт, богатый человек,
в свободное время занимавшийся живописью, Кайботт стал одним из
немногих верных друзей импрессионистов, и более того — одним из наиболее
преданных бойцов за новое искусство.
Он подружился в Аржантее с Клодом, видел его нужду и стал
понемногу покупать его работы, а затем и работы Ренуара, так же стойко
бившегося с нищетой.
Писарро, не имея возможности продать ничего из своих работ,
вынужден был уехать с семьей из Понтуаза; его приютил на лето знакомый
владелец фермы. Альфред Сислей тоже попал в безвыходное положение: его
отец внезапно разорился, и он остался без всяких средств с женой и двумя
детьми.
Положение усугублялось еще и тем, что «Анонимное общество
художников», сколоченное для устройства первой выставки, потерпело полную
финансовую неудачу и задолжало более трех тысяч франков, имея в кассе
всего около трехсот.
Чтобы попытаться спасти положение, решено было устроить
распродажу картин с аукциона.
Такие распродажи были довольно частыми в Париже. Происходили они,
как правило, в отеле Друо, где картины предварительно выставлялись для
обозрения. Обычно таким образом распродавались картины умерших или
разорившихся коллекционеров.
Теперь, когда для обозрения были выставлены картины
импрессионистов, критик Альбер Вольф писал в газете «Фигаро», что они «производят
то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам
пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок».
89
Эти строки послужили сигналом к беспримерному издевательству.
Распродажа прошла в атмосфере скандала; публика свистала и выла,
предлагая цены, которые подчас не окупали стоимость рам. Некоторые картины
Ренуара не дотягивали до ста франков, а за холсты Сислея предлагали и по
пятьдесят.
Правда, были среди присутствующих и такие, кто пытался поднять
цены, но их одинокие голоса тонули в свисте и оскорбительных выкриках.
После аукциона один из этих немногих сказал Клоду Моне: «Подумать
только, что я потерял целый год, ведь я мог познакомиться с вашей
живописью на целый год раньше. Как могли лишить меня такого
удовольствия!»
Звали этого человека Виктор Шоке. Он был скромным служащим
таможенного управления и откладывал каждый свободный франк на покупку
Клод Моне. Паруса в Аржантее.
Пъер-Огюст Ренуар.
Портрет Виктора Шоке.
картин. За долгие годы он собрал большую коллекцию работ Делакруа.
Руководясь только собственным вкусом и не беря в расчет общепринятые
мнения, он с первого взгляда увлекся импрессионистами и стал, подобно
Кайботту, их верным другом и помощником в борьбе.
Но дружба и помощь таких людей, как Шоке, Кайботт или Дюран-Рю-
эль, о котором я еще расскажу, не могла все же возместить
импрессионистам то, в чем упорно отказывало им современное общество. Требовалось
незаурядное мужество, чтобы продолжать работу в условиях непризнания
и насмешек, ни на шаг не сходя с намеченного пути. Известный
американский историк искусств Джон Рьюолд очень метко сравнил
импрессионистов с труппой актеров, которые были вынуждены годами играть перед
пустым залом.
91
* * *
В такой обстановке открылась спустя два года вторая выставка
«непримиримых», на этот раз в галерее торговца картинами Дюран-Рюэля, на
улице Лепелетье.
Здесь было представлено 252 работы (картины, пастели, акварели,
рисунки, офорты), и вот что писал об этих работах все тот же Альбер Вольф,
влиятельнейший критик из «Фигаро»:
«Улице Лепелетье не повезло. После пожара Оперы на этот квартал
обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля только что открылась
выставка так называемой живописи. Мирный прохожий, привлеченный
украшающими фасад флагами, входит, и его испуганному взору предстает жуткое
зрелище: пять или шесть сумасшедших... группа несчастных, пораженных
манией тщеславия, собрались там, чтобы выставить свои произведения.
Многие лопаются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так
называемые художники присвоили себе титул непримиримых,
импрессионистов; они берут холст, краски и кисть, наудачу набрасывают несколько
случайных мазков и подписывают всю эту штуку... Это ужасающее
зрелище человеческого тщеславия, дошедшего до подлинного безумия.
Заставьте понять господина Писарро, что деревья не фиолетовые, что небо не
цвета свежего масла, что ни в одной стране мы не найдем того, что он пишет,
и что не существует разума, способного воспринять подобные
заблуждения... В самом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите ему,
что искусство обладает определенными качествами, которые называются—
рисунок, цвет, выполнение, контроль, и он рассмеется вам в лицо и будет
считать вас реакционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару,
что женское тело это не кусок мяса в процессе гниения с зелеными и
фиолетовыми пятнами, которые обозначают окончательное разложение
трупа!..»
Возможно, не стоило бы приводить эту полную яда тираду, если бы
последние слова не относились к картине, которую каждый из вас может
увидеть, перед которой останавливаешься, немея от радостного удивления.
Речь идет об «Обнаженной» Ренуара, хранящейся теперь у нас в Музее
изобразительных искусств в Москве. Об одном из поразительнейших
творений живописи, где свет и цвет сливаются так пленительно правдиво, что
кажется, будто ощущаешь веяние теплоты обнаженного тела и видишь, как
пульсирует под кожей молодая кровь. Где все живет и лучится — от
влажного сияния глаз до скользящих, неуловимо меняющихся прозрачных те-
92
ней... Кажется, надо быть слепцом, чтобы не увидеть и не оценить по
достоинству изящную естественность рисунка, волшебную легкость
ренуаровской кисти, акварельную прозрачность красок. Розовые, фиолетовые,
синие, дымчато-голубые и зеленоватые тона мерцают, сливаясь в
непрерывном движении, так, что перед тобой возникает мгновение, остановленное
навек и навек живое. Прекрасное мгновение, запечатленное одним из поэ-
тичнейших живописцев, каких знало искусство.
„Живописег{ счастья" х
Пьер-Огюст Ренуар (так звучало его полное имя) родился в семье
многодетного бедняка портного и с самого раннего детства учился «жить
припеваючи» даже тогда, когда в доме не бывало куска хлеба.
Тринадцати лет он уже владел ремеслом — расписывал чашки и блюдца
на фарфоровом заводе. Перепачканная красками рабочая блуза была на
нем и тогда, когда он пришел в Школу изящных искусств.
В ателье Глейра он подбирал пустые тюбики из-под красок,
брошенные другими учениками. Выжимая их до последней капли, он мурлыкал
под нос что-то беззаботно веселое.
«Не вздумайте стать новым Делакруа!» — предостерег его однажды
преподаватель, посмотрев написанный маслом этюд. Но Ренуар не очень
прислушивался к предостережениям. Он, как выразился один из
биографов, был с самого начала захвачен «пороком цвета» и готов был
испробовать все, что могло помочь ему овладеть искусством живописи.
На дискуссиях в кафе Гербуа он больше помалкивал, терпеливо
выслушивая самые различные теории. Сидя за мольбертом, он пел. Его брат
Эдмонд рассказывал, что едва Огюст начинает писать, его лицо светлеет.
Уже будучи известным художником, он «картавил и тянул слова, как
простой рабочий». В богатых домах, где ему случалось бывать, слуги
обращались с ним, как с равным, что, впрочем, нисколько его не смущало.
В нем не было ни тщеславия, ни гордости, он от души презирал все и
всякие правила. Он говорил о себе, что «одержим болезнью исканий».
К зрелым годам у него один глаз стал меньше другого от постоянного
«прицеливания» к натуре.
Когда его называли революционером в искусстве, он возмущался. Его
1 «Живописцем счастья» назвал Ренуара А. В. Луначарский.
93
Пъер-Огюст Ренуар.
Девушки в черном.
неприязнь к системам и правилам и желание жить по-своему были так
велики, что он сам называл себя «пробкой, брошенной в воду и уносимой
течением». «Я никогда не знал сегодня, что буду делать завтра», —
говорил он. Продолжая его мысль, хотелось бы сказать, что течение, которое
его уносило, было широким и сильным течением жизни; хотел того Ренуар
или нет, оно несло его к новым берегам.
* * *
В 1876 году, когда Ренуаром была написана «Обнаженная» (так
названа в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина его
«Купальщица»), он познакомился в доме у писателя Альфонса Додэ с известной
артисткой театра «Комеди Франсез» Жанной Самари.
94
Необыкновенная одухотворенность и живое изящество этой любимицы
парижан покорили Ренуара, и он решил написать ее портрет — тот самый,
что висит теперь неподалеку от «Обнаженной».
Я думаю, не так уж много наберется в мировой живописи портретов,
где так естественно сочетаются мысль и чувство, румянец жизни и обаяние
человеческого разума. Кажется, вот-вот улыбнется и заговорит эта
синеглазая и рыжеволосая женщина, так умно и доброжелательно глядящая
на вас, подперев щеку рукой.
Но вот что писал об этом портрете критик Роже Баллю: «Должен
заявить, что я не понимаю портрета госпожи Самари. Знакомая голова
очаровательной модели совершенно теряется на этом грубом розовом фоне.
Губы и руки художник вынужден был моделировать синим, чтобы хоть
как-то выявить утопающее в общем блеске лицо. Ничто, я полагаю, не
может быть более далеким от правды...»
Что можно сказать о такой оценке (как и об оценках Альбера Вольфа,
приведенных выше)? Разумеется, ни тот, ни другой не были слепы. Более
того — они считались знающими толк в искусстве людьми, они выражали
вкусы и взгляды множества современников. Вот одно из свидетельств
того, как далеко заходило непонимание, как глубоко враждебно было
буржуазное общество новым начинаниям в живописи. Прогресс и реакция
непримиримы.
Размышляя об этом, я вспоминаю рассказ об одном епископе, не раз
повторявшем в своих проповедях, что в небе должно летать ангелам, а удел
человека — ходить по земле. Фамилия епископа была Райт, он имел двух
сыновей, которых звали Орвиль и Вильбур. Если проповеди епископа
иногда и вспоминают, то лишь потому, что каждый школьник отлично знает,
куда поднялись братья Райт.
Но это — притча об отцах и детях, а Ренуар и его критики были
людьми одного поколения. Одного поколения, но непримиримо различных
взглядов на жизнь и на цели искусства.
В самом деле, что если б Ренуар стал писать так, как этого желали
Альбер Вольф и многие другие буржуа, чьи вкусы и взгляды выражал этот
многознающий критик? Здесь я снова забегу вперед, чтобы рассказать
любопытную историю, связанную с известной нам Жанной Самари.
После катастрофических неудач, постигших первую, вторую и третью
выставки импрессионистов, перед лицом упорного непризнания, каким
встречала публика новую живопись, Ренуар впервые заколебался. Он был
95
подавлен многолетней нищетой, невозможностью устроить свою личную
жизнь (как раз тогда он познакомился с Алисой Шериго, будущей
женой) и решил выставляться в Салоне. Он говорил: «Я не желаю
считать что-либо плохим или хорошим в зависимости от места, где это
повешено».
Тем самым он хотел подчеркнуть, что, выступая в Салоне, намерен
оставаться самим собой и не думает менять что-либо в своей живописи. Но...
достаточно посмотреть другой портрет Жанны Самари, написанный для
Салона и хранящийся теперь в Эрмитаже, чтобы убедиться, как трудно
было художнику оставаться верным себе и в то же время угождать
господствующему вкусу.
Куда девалась покоряющая свежесть живописи, улыбчивая легкость
кисти, прозрачность сияющих, светозарных красок! Кажется, вместе с
внутренней свободой ушел, померк свет солнца. Все потускнело. Жанна
Самари стоит во весь рост, позируя, как принято было в салонных портретах,
на условно нарядном красно-коричневом фоне, чужом, как декорация у
фотографа. Только лучистый блеск синих глаз и очаровательная деликатность
позы напоминают, что это и есть та пленительно женственная, прежняя
Жанна, которую мы впервые увидели в полном сиянии дня.
В Салоне 1879 года Ренуар выставил еще одну картину — заказной
портрет жены издателя Шарпантье с детьми. Об этом имевшем большой
успех парадном портрете, написанном с изысканностью и блеском, Лионел-
ло Вентури, знаменитый итальянский историк искусств, справедливо
сказал: «Шедевр благопристойности, но не искусства».
К счастью, талант Ренуара всегда брал верх над неустойчивостью его
характера. Получив деньги за портрет госпожи Шарпантье с детьми, он
снял наверху Монмартра домик с большим запущенным садом, где
собирались его друзья. Там и написана прелестная сценка «В саду», которую
вы можете увидеть теперь в музее в Москве. Разумеется, то была картина
не для Салона, и понадобилось еще немало времени, чтобы люди по до*
стоинству оценили эту пронизанную солнцем, окутанную воздухом счастья
живопись.
# # *
Природа не раз «спасала» Ренуара в часы сомнений. Хоть он и
утверждал постоянно, что учиться надо в музеях, действительным его
учителем была именно природа. Он создал свой жизнерадостный стиль в лесу
96
Пьер-Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари.
Фонтенбло и на берегах Сены, работая рядом с Моне в Буживале. Но,
в отличие от Клода, для которого деревья, небо, скалы или море были
достаточным источником вдохновения, глаз Ренуара всегда искал
человека.
В его пейзажах жизнь природы и жизнь человеческая так слитны, что
вы, глядя на его холсты, как бы входите в мир, полный движения, света,
шелеста листвы и людских голосов.
В его портретах, писанных на открытом воздухе, женщины и дети
напоминают вам живые цветы.
Ренуар писал и мужские портреты, но больше любил писать женщин и
детей — вероятно, потому, что здесь мог полнее выразить свою любовь к
прекрасному.
Но его понимание прекрасного очень существенно отличается от
привычного смысла, который вкладывали в это слово академисты. Однажды
он сказал: «Природа не терпит пустоты, как говорят физики; но они могли
бы и дополнить свою аксиому, прибавив, что она не терпит также и
симметрии.
В самом деле, любой наблюдательный человек заметит, что, несмотря на
простоту законов, управляющих жизнью, все творения природы
бесконечно разнообразны... Два глаза, даже на самом красивом лице, всегда чуть-
чуть различны, нос никогда не находится в точности над серединой рта;
дольки апельсина, листья на дереве, лепестки цветка никогда не бывают
совершенно одинаковыми. Кажется даже, что все прекрасное черпает свое
очарование именно из этих различий...»
Посмотрите портреты Ренуара, и вы увидите, какую жизненность и
обаяние придают им эти тонко подмеченные «неправильности».
Женщины Ренуара не похожи на мраморных салонных красавиц Каба-
неля или Каролюса Дюрана. Это парижские продавщицы, прачки,
белошвейки, актрисы, подруги художников, не знающие уныния, живые,
веселые, готовые после трудового дня танцевать до упаду в «Мулен-
де-ла-Галетт» при свете бумажных фонариков под открытым вечерним
небом.
Их глазами смотрит на вас сама душа Франции. В их облике выражена
безмерная любовь художника к своей стране и своему народу. Не зря,
вернувшись из Италии (куда попал впервые сорокалетним), очарованный
гением Рафаэля, Веронезе и Тьеполо, Ренуар признался: «Самая уродливая
парижанка лучше самой красивой итальянки».
97
* * *
Быть может, здесь мы ближе всего подходим к самому ценному и
существенному, что внесли в искусство живописи Ренуар и его друзья.
Конечно, их путешествия в царство света и цвета, их открытия, их
технические новшества — «подвижный» мазок, воздушная чистота красок —
все это сыграло важную роль, имело большое значение для
современного искусства и для будущих поколений. Но главное было все же не
в новой живописной технике, — она возникла из нового взгляда на
жизнь.
Главное было в новых убеждениях, в поисках новых героев, в
стремлении увидеть мир глазами своего современника.
Свести искусство с заоблачных высот на землю родины; населить свои
картины не легендарными или мифическими личностями, а людьми
знакомыми, близкими, людьми сегодняшнего дня; искать правдивое
и прекрасное не в классических образцах, не на чужих полотнах, а в
повседневной жизни, — что же может быть необходимее, важнее для
художника!
Не эти ли задачи тревожили ум и совесть молодых бунтарей из
императорской Академии в Петербурге, когда они отказались участвовать в
конкурсе на золотую медаль и решительно ушли из мира легенд и
фантазий в мир действительности?
Вот где была глубокая внутренняя связь между событиями 1863 года
в столицах России и Франции. В конечном счете, сродство между
художниками вернее искать не в поверхностной схожести, не в одинаковости
технических приемов, а в общности устремлений к цели, имя которой —
правда жизни.
Вряд ли кто-либо стал бы всерьез подозревать Ренуара в
оскорбительном пренебрежении к другим народам и буквально трактовать его слова
о самой уродливой парижанке и самой красивой итальянке. Понадобилось
еще немало трудных лет, прежде чем люди ответили на любовь художника
взаимной любовью. Но так же, как теперь мы отыскиваем черты времени,
лицо родины, неповторимые приметы ее прошлого в лучших полотнах
Репина, Поленова, Левитана, Серова, — точно так же мы ищем лицо
Франции не в трескучих полотнах салонных и псевдоисторических
живописцев эпохи Наполеона Малого, а в человечных творениях
«живописца счастья» — Ренуара, в картинах его единомышленников, его
друзей.
98
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Годы испытаний
осенью
- С по-
не все труднее и труднее, — писал
1875 года Клод Моне Эдуарду Мане. -
завчерашнего дня у меня нет ни сантима, нет
больше кредита ни у булочника, ни у мясника.
Хоть я и верю в будущее, но вы сами видите, что мне очень тяжело в
настоящем».
Вскоре Камилла родила второго ребенка. Сообщая об этом Эмилю
Золя, Клод просил у него одолжить хоть немного денег. «Если это вас не
затруднит, я смогу расплатиться с вами через две недели. Вы окажете нам
большую услугу, так так вчера целый день я пробегал, но не смог достать
ни одного су».
99
Такова была действительность после второй выставки импрессионистов,
где Клод показал пятнадцать полных жизни и солнца полотен, написанных
в Аржантее (ныне почти все эти картины хранятся в Лувре, вернее, в
филиале Лувра, в знаменитом «Зале для игры в мяч», где в 1789 году
депутаты Учредительного собрания дали клятву не расходиться, пока
Франция не получит новую конституцию).
Теперь он увлекся новой темой, проводя недели на парижском вокзале
Сен-Лазар. Множество людей, клубы дыма и пара под стеклянным
навесом, лоснящиеся тела локомотивов — все это привлекало особенной,
невиданной живописностью. Этого еще никто не писал, и Клод чувствовал себя
первооткрывателем нового мира, устанавливая свой мольберт то в одном,
то в другом месте вокзала.
Но и эти необычные городские пейзажи, показанные на третьей
выставке импрессионистов, не имели никакого успеха. Летом 1877 года Клод
готов был продавать свои картины по пятидесяти франков, но и на такую
цену не мог найти покупателя.
Между тем здоровье Камиллы, подорванное постоянными невзгодами,
день ото дня ухудшалось. Она так и не смогла оправиться после тяжелых
родов и умерла осенью 1879 года.
Даже в этот горестный час Клод не оставил кисти. Позднее он
рассказывал одному из друзей, как смотрел на рассвете на мертвую Камиллу,
оцепенев от горя, и вдруг почувствовал, что его взгляд помимо воли
отмечает синие, серые и желтые тона, наложенные смертью на ее лицо. Ужас
охватил его. Он не мог не написать Камиллу в последний раз. Глотая слезы,
он сравнивал свою участь с участью лошади, осужденной всю жизнь
вращать мельничный жернов.
То были тяжкие раздумья. Вспышка горя молнией озарила самое
страшное, и Клод вдруг увидел себя узником собственного таланта и
собственных открытий. Свет и цвет — вот для чего он изощрял свой глаз, вот за
что он бился, вот ради чего обрек себя, Камиллу, детей на годы лишений.
Цвет, свет — и ничего более...
Но разве этого мало? Разве не сквозь эти открытия пролегала дорога
к обновлению, правде, к большому искусству завтрашнего дня? Должен
же был кто-нибудь проторить ее...
Все это надо бы додумать до конца, но жизнь не позволяла
задумываться надолго. На руках у Клода осталось двое сыновей, о них надо было
теперь позаботиться и за себя, и за Камиллу.
100
Клод Моне. Вокзал Сен-Лаэар.
* * *
Писарро тоже бился с нуждой, обращаясь время от времени за
помощью к разбогатевшему кондитеру и владельцу ресторана Мюреру.
Несколько лет назад Мюрер пригласил Ренуара и Писарро расписать
кондитерскую, а затем купил у них несколько картин, что дало ему повод
считать себя в некотором смысле покровителем искусств (хоть он и платил
преимущественно натурой — обедами в своем ресторане, хорошо зная, что
голод не тетка).
Позднее он стал устраивать для художников еженедельные обеды по
средам; это льстило его тщеславию, а обходилось не так уж дорого.
Спелей и Ренуар были среди тех, кто иногда пользовался щедротами этого
расчетливого, хоть и незлобивого буржуа.
Но такого рода покровительство не могло, разумеется, изменить
положение — тем более, что беда была не только в материальной нужде.
Гораздо более страшным оказалось всеобщее равнодушие. «Людям уже
надоело это ужасное искусство, — говорил Писарро, — в особенности эта
скучная живопись, которая требует внимания, размышлений. Все это
слишком серьезно. По мере того как общество прогрессирует, следует смотреть
и чувствовать, не делая никаких усилий, и главным образом забавляться.
Кроме того, разве искусство необходимо? Разве его можно есть? Нет. Так
чего же вы хотите?»
Если добавить, что эти слова были обращены к процветающему
кондитеру Мюреру, то яснее станет, сколько было в них горькой иронии.
Под двойным гнетом нужды и безразличия не мудрено было
надломиться.
«Я устал от такого длительного прозябания», — писал Альфред Сислей
в Лондон, сообщая другу о своем решении представить работы в Салон
1879 года.
Сезанн, готовый, как всегда, привести в ярость жюри, тоже решил
послать работы в Салон. В Салоне на этот раз выступал и Эдуард Мане.
Клод Моне уехал в Ветейль и не желал появляться в Париже. В такой
обстановке непоколебимый Камилл Писарро бился за организацию
четвертой выставки.
По настоянию Дега было решено снять с афиш слово
«импрессионисты» — оно действовало на критиков, словно красная тряпка на быка. Вот
что писал по этому поводу друг художников Арман Сильвестр в газете
«Современная жизнь»:
102
Пъер-Огюст Ренуар.
Портрет Дюран-Рюэля.
«Вас приглашают посетить похоронную церемонию и погребение
импрессионистов. Это печальное приглашение посылают вам «независимые».
Не надо ни лживых слез, ни лживой радости. Спокойствие. Умерло только
слово... Художники после серьезного совещания решили, что термин, ко^
торый усвоила публика, ровно ничего не значит, и придумали другой».
Арман Сильвестр был прав. «Четвертая выставка группы независимых»
открылась, и ее название вполне отвечало духу ее участников — людей,
различных по склонностям и характеру, но объединенных одним
стремлением — остаться независимыми, говорить правду.
Чтобы пополнить брешь, возникшую из-за отсутствия Сислея,
Сезанна и Ренуара, Писарро выставил 38 картин, Клод Моне — 29. Дега
103
пообещал 25 вещей, но в последнюю минуту дал только 8, предложив
восполнить разницу работами своих молодых друзей, чем вызвал
недовольство Моне. Действительно, состав участников был неровный, что дало повод
Клоду заявить, что здесь распахивают двери перед каждым пачкуном.
Он твердо решил в следующий раз послать свои картины в Салон.
Это решение было принято как раз тогда, когда новая живопись
пробила, казалось, первый, пусть небольшой, пролом в глухой стене
непонимания. Хоть газеты и оставались по-прежнему враждебными, публика
проявила неожиданный интерес. На выставке было полно народу, и Гюстав
Кайботт с радостью отмечал оживленное настроение посетителей.
Этот преданный друг делил с Камиллом Писарро все хлопоты по
устройству выставки и сам участвовал в ней несколькими работами. Робкий
по натуре, он восхищался дерзаниями товарищей, называя их деятельность
«сражением за великое дело реализма». Он страстно желал, чтобы в этом
сражении все были сплоченны, и глубоко огорчался внутренними
раздорами. «Не наш ли долг поддерживать друг друга и прощать друг другу
слабости, вместо того чтобы драться?» — спрашивал он.
В то же время он понимал, как трудно сохранять единство и верность
общему делу в условиях непризнания и жестокой нужды, и преклонялся
перед железной стойкостью Писарро: «Если есть на свете человек,
имеющий право не простить Ренуара, Моне, Сислея и Сезанна, то это только
вы, потому что вы испытывали ту же нужду, что они, и не сдались...»
* * *
Камилл Писарро был единственным из группы основателей, кто не
покинул поле боя ни разу. В наиболее мрачные годы, когда самые стойкие
откалывались, он один оставался на посту, обрекая себя на самую
крайнюю нищету.
Но даже и этот мужественный боец не смог бы продержаться до конца,
если б не подоспела помощь Дюран-Рюэля.
Роль этого человека в истории новой французской живописи я решился
бы сравнить с ролью нашего Третьякова. Подобно Третьякову, торговец
картинами Дюран-Рюэль обладал многими «антикупеческими
достоинствами». С давних пор он поддерживал в искусстве все новое, передовое. Он
первым стал приобретать произведения барбизонцев. Он был среди тех
немногих, кто не отвернулся от Курбе в тяжелые дни. Именно он купил у
больного Курбе картины, которые тот писал в тюрьме Сен-Пелажи.
104
Альфред Сислей. Мороз в Лувесьенне.
Еще за несколько лет до первой выставки импрессионистов Дюран-
Рюэль обратил внимание на их работы. Он приобрел первую картину
Эдуарда Мане, выставленную в Салоне, а затем стал покупать понемногу у
Моне, Писарро и Сислея, хоть ему не удавалось пока продать почти ни
одной из их картин.
Такое поведение подрывало репутацию фирмы в глазах клиентов.
Многие считали Дюран-Рюэля попросту сумасшедшим, — какой же
«нормальный» купец станет вкладывать деньги в неходовой товар?
Но Дюран-Рюэль говорил, что «настоящий торговец картинами
должен быть одновременно и просвещенным любителем, готовым в случае
необходимости пожертвовать своими деловыми интересами ради
художественных убеждений и вступить в борьбу со спекулянтами, а не
потакать им».
Борьба такого рода была, однако, довольно рискованным делом.
Наступило время, когда Дюран-Рюэль остался без средств. Несколько лет он
бился с финансовыми трудностями, не будучи в состоянии покупать что-
либо у импрессионистов. Но как только наступило облегчение, он тотчас
поспешил им на помощь.
Прежде всего он купил несколько холстов у Сислея, самого тихого и
самого неудачливого из друзей.
Хотя Альфред Сислей считался британским подданным, он был
французом и по рождению и по безграничной любви к земле, на которой жил.
Даже те немногие пейзажи Сислея, какие вы можете увидеть в Москве и
Ленинграде, расскажут вам о том, какой это был наблюдательный,
правдивый и поэтичный живописец. Самые простые мотивы преображались под
его кистью, как бы открывая зрителю душу природы, ее затаенную
красоту.
В самом деле, посмотрите хотя бы «Мороз в Лувесьенне». Кажется,
что может быть неприхотливее: десяток разбросанных домов,
покосившийся забор, несколько голых деревьев. Но как верно передано здесь само
дыхание зимнего ясного дня, когда в зеленоватом небе стоит морозная дымка,
тени густо синеют, а вершины деревьев горят холодным пламенем под
лучами солнца.
Несколько строк французского писателя Жоржа Дюамеля кажутся мне
написанными именно об этом пейзаже: «Солнечным утром в конце февраля
я покажу вам березовые ветви на фоне лазурного небосвода. Каждая
тонкая веточка кажется объятой пурпурным огнем, и сквозь это прелестное
105
сияние на вас с чудесной нежностью смотрит небо. Ждите, внимательно
присматривайтесь и не уходите, пока не поймете. Это такое ощущение
счастья, что можно терпеливо ждать зимы, лишь бы снова появился этот
чудесный свет».
«Мороз в Лувесьенне» был показан на первой выставке
импрессионистов. Впоследствии Сислей написал еще много картин, полных тонкой,
негромкой поэзии, и умер в последний год XIX века, так и не получив
признания.
Но вернемся пока к Дюран-Рюэлю. Наладив финансовые дела, он
снова начал покупать картины у Моне, Писарро, Ренуара и Дега. Причем
теперь, в отличие от прошлых лет, предлагал неплохие цены, но платил «в
рассрочку», помесячно, чтобы художники могли спокойно работать.
Казалось бы, наступают лучшие времена, пришло желанное
облегчение. «Я не купаюсь в золоте, — сообщал одному из друзей Писарро, — я
наслаждаюсь результатами скромных, но систематических продаж. Я
страшусь только возвращения прошлого». Но страшиться по-настоящему надо
было не прошлого, а будущего.
Как ни странно, именно теперь раздоры и распри между друзьями
стали усиливаться. Попытки Гюстава Кайботта организовать очередную
выставку натолкнулись на всеобщую несговорчивость. Дега настаивал на
том, чтобы допустить его новых друзей, грозя уходом из группы. Другие
решительно возражали. Третьи выжидали, колеблясь. Моне писал из
Дьеппа, что не обещает участвовать. Кое-кто был недоволен Кайботтом.
Камиллу Писарро пришлось, как всегда, заняться примирением.
Ренуар при этом обвинил его «в политических и революционных тенденциях»,
с которыми не желал иметь ничего общего. Сам он согласился участвовать
в выставке при условии, что его картины будут представлены не им самим,
а Дюран-Рюэлем.
Нет, беда была, оказывается, не только в материальной нужде,
заставлявшей каждого искать свой собственный выход. Как видно, всем вместе
и каждому в отдельности недоставало чего-то главного, чего-то такого, что
могло бы спаять накрепко перед лицом общей цели. Быть может,
недоставало как раз тех «политических и революционных тенденций», в которых
Ренуар обвинил Камилла Писарро.
С течением времени эта нехватка ощущалась все явственнее. Шли
годы, принося каждому свое. Друзей одолевали сомнения. Ренуару вдруг
стало казаться, что он не умеет ни писать, ни рисовать и зря отдал столько
106
Альфред Сислей. Наводнение.
времени работе на открытом воздухе. Его снова потянуло в музеи, к
«чистой линии» Энгра. Клод Моне жаловался Дюран-Рюэлю, что не
находит удовлетворения в том, что делает. Порою ему казалось, что он
теряет рассудок. Во время одного из подобных приступов он уничтожил
несколько своих картин, а затем глубоко жалел об этом.
Дега все более замыкался.
В отличие от своих друзей, он не знал материальной нужды. Быть
может, именно поэтому его судьба (как и судьба Эдуарда Мане) с особенной
ясностью свидетельствует об истинной причине бед и несчастий.
Непризнание — вот едва ли не самое тяжкое, что может постичь
художника. Оно никогда не бывает беспричинным, и такой человек, как Дега, не
мог не сознавать, что дело тут было вовсе не в недоразумении, невежестве
буржуа или слепоте критики. Слишком глубок был идейный разлад между
буржуазным обществом и художниками, чересчур непримиримы взгляды.
Каждый человек воспринимает удары судьбы по-своему, в меру
особенностей своего характера. Природная склонность Дега к молчаливому
одиночеству усиливалась с годами.
«Бывают моменты, — писал он, — когда человек как бы захлопывает
за собой дверь, чтобы укрыться от всех, не только от друзей. Отрезаешь
все вокруг и, оставшись совершенно один, гаснешь и, наконец, убиваешь
себя из отвращения. У меня было так много планов, и вот я загнан в
тупик, бессилен. Более того, я потерял нить. Мне всегда казалось, что
впереди есть еще время, что я еще сделаю все, чего не сделал, все, что мне
помешали сделать...»
Его тяжелое нравственное состояние усугублялось болезнью (он давно
болел глазами и с каждым годом видел все хуже и хуже).
В такой атмосфере готовилась восьмая выставка импрессионистов. Она
открылась весной 1886 года, в здании на углу улицы Лафитт и
Итальянского бульвара, — без Клода Моне. без Сислея, без Ренуара. Все
понимали, что это последняя выставка группы.
Единство было утеряно навсегда. Даже Дюран-Рюэль испытал на себе
последствия бессмысленных распрей, разлада и взаимной враждебности.
Некоторые из тех, кому он помогал, теперь отворачивались от него,
прибегая к более оборотистым торговцам, если это сулило выгоду.
Один лишь Камилл Писарро, выстояв от начала до конца, оставался
прежним. Глядя на всеобщий разброд, теряя одного за другим друзей, он
писал старшему сыну: «Это так похоже на людей и так грустно...»
108
Горькие радости
В 1881 году близкий друг Эдуарда Мане Антонен Пруст, чей портрет
вы можете увидеть в московском музее, получил пост министра изящных
искусств в кабинете социалиста Гамбетты.
Это была радостная новость, и не потому лишь, что Пруст был в
дружбе с художником. «Наконец все-таки появился министр, который понимает,
что во Франции существует живопись», — писал Ренуар, узнав о новом
назначении.
Пруст был действительно человеком широких взглядов. Заняв свой
пост, он первым делом приобрел для государства ряд картин Гюстава Кур-
бе. Это был посмертный триумф великого национального живописца.
Затем Пруст внес в список представленных к ордену Почетного
легиона Эдуарда Мане.
Не далее как три года назад Мане имел по этому поводу серьезную
стычку с Эдгаром Дега, презиравшим ордена и награды. «Все это
презрение — чепуха, — отрезал тогда Мане со своей всегдашней лукавой
усмешкой. — Если бы наград не существовало, я бы не стал их придумывать, но
они существуют. А человек должен иметь все, что может выделить его...
если это возможно. Это этап, который нужно пройти. Это тоже оружие.
В нашей собачьей жизни, состоящей из сплошной борьбы, никогда не
бываешь достаточно хорошо вооружен. Я не получил отличия. Но это не моя
вина. Уверяю вас, что если смогу, то получу и буду делать все необходимое,
чтобы добиться этого...»
Теперь он получил желаемое. Были у него и две медали, присужденные
Салоном. Но все это и не пахло счастьем. Когда граф Ньюверкерке
передал ему свои лицемерные поздравления, Мане ответил: «Можете сказать
ему, что я ценю его нежное внимание, но что он сам имел возможность
дать мне эту награду. Он мог сделать меня счастливым, а теперь уже
слишком поздно компенсировать за двадцать лет неудач».
Да, теперь было слишком поздно. Вот уже пятый год Мане тревожила
боль в ноге; временами она усиливалась, мешая работать, и он вынужден
был проводить долгие месяцы в деревне, сидя в саду. Правда, он
использовал вынужденную неподвижность, ставя перед собой мольберт и наблюдая
ту волшебную игру солнца в зелени деревьев, что так привлекала Моне и
Ренуара. Но его тянуло к большим полотнам, и он все-таки взялся,
превозмогая болезнь, за свою последнюю композицию.
I09
Эдуард Мане.
Портрет Антонена Пруста.
«Бар в Фоли-Бержер» — картина, которую он выставил в Салоне
1882 года, была написана широко и свободно, с невиданным мастерством.
Замысел ее был ошеломляюще необычен: девушка стоит за стойкой, глядя
на вас, а в зеркале позади нее отражается весь бар с массой людей и
фантастическим блеском огней. (Этот прием, впервые найденный Эдуардом
Мане восемьдесят лет назад, с успехом применяется и сегодня
кинематографистами.) Но публика холодно приняла картину, где «героиней» была
опять-таки особа «низшего круга», и Мане с присущей ему иронией
сказал Альберу Вольфу, что ничего не имел бы против прочесть, пока еще
жив, великолепную статью, которую тот напишет после его смерти.
110
Это были слова, полные самых мрачных предчувствий. Через год он
слег. Начался паралич левой ноги, ее пришлось отнять, чтобы избежать
гангрены. Но операция не помогла. Весной 1883 года Эдуард Мане умер,
прожив немногим более пятидесяти лет.
Его интерес к современной жизни не ослабевал до последних дней. Уже
будучи больным, он рассказывал, как однажды взобрался на паровоз, в
будку машиниста и кочегара: «Эти два человека представляли
замечательное зрелище. Эти люди — вот современные герои! Когда я
выздоровею, я напишу картину на этот сюжет!..»
* * *
Клод Моне примчался в Париж, поспев на многолюдные похороны. Он
жил теперь в Живерни; вот уже около двух лет он был женат на вдове
богатого коллекционера Гошеде. Нужда ушла навсегда в прошлое, а
облегчение не приходило. Его работы изредка продавались благодаря усилиям
Дюран-Рюэля, но в общем-то публика принимала их равнодушно.
Клод с горьким чувством наблюдал все, что происходило вокруг
свежей могилы Эдуарда Мане. Не прошло и года после смерти, как открылась
выставка его произведений, — и где же? В той самой Школе изящных
искусств, которая никогда не признавала ни таланта Мане, ни его права
прокладывать новые пути.
На выставке было полным-полно народу. Альбер Вольф твердил всем и
каждому, что всегда любил Мане. Распродажа показала неслыханный
результат — сто шестнадцать тысяч франков! Что ж, все меняется, и теперь
французам понадобилось куда меньше времени, чем голландцам,
признавшим Рембрандта лишь через двести лет после его смерти.
Ренуар, Моне, Писарро, Сислей и Дега вынуждены были покуда
разделять удел живых. Персональные выставки этих живописцев, устроенные
неугомонным Дюран-Рюэлем в Париже и Лондоне, не принесли успеха.
Публика встретила их небывалым безразличием. Выручка была
ничтожна (а у Сислея ее и вовсе не было). Дела Дюран-Рюэля опять
пошатнулись, и Писарро очутился снова перед необходимостью неделями бегать
от одного мелкого торговца к другому или занимать деньги у Кайботта,
чтобы прокормить семью.
Настроение было самое мрачное. Ренуар и Моне решили поехать
вместе к морю, на Лазурный берег. Но воскресить времена Буживаля
оказалось невозможно. Теперь им трудно было работать вместе — и не потому
111
лишь, что раздоры последних лет расшатали прежнюю дружбу. Тогда, в
Буживале, они шли вместе дорогой открытий. Теперь общность дерзаний
исчезла, каждый предпочитал искать выход в одиночку — по своему
разумению.
Весь долгий путь
Вот мы и приблизились к итогу многолетних исканий, борьбы, побед и
поражений, и я испытываю потребность оглянуться еще раз и охватить
взглядом весь долгий путь, пройденный импрессионистами.
Задумываясь над тем, как лучше это сделать, я вспоминаю один из
многих залов Эрмитажа — свой любимейший, зал Рембрандта.
Не помню, сколько раз я бывал в этом зале. Наверное, немало. Во
всяком случае, с самых юных лет я не уходил из Эрмитажа, не проведя хотя
бы часа перед полотнами, которые, казалось, знаю на память во всех
подробностях.
И тем не менее мне случилось недавно увидеть эти картины
по-новому — таК) как никогда еще их не видел.
Произошло это, возможно, потому, что на этот раз я пришел только к
Рембрандту. Я давно уже намеревался поступить так, но все не
получалось: то сворачивал по пути к Питеру Брейгелю Старшему, на его
озорную «Ярмарку», то останавливался у доброго гаарлемского мастера Франса
Гальса, чтобы порадоваться буйному размаху его кисти, или же заходил
в тот зал, где хранится драгоценнейшая жемчужина — единственный в
Эрмитаже холст Эль-Греко...
Но теперь я шел через величавые анфилады, не глядя по сторонам; я
хотел до конца испытать то, о чем не раз думал и говорил друзьям:
искусство бесконечно многообразно. Нельзя, невозможно воспринимать
одновременно самых различных художников, сотни самых разных картин, в
каждую из которых вложено столько мыслей, чувств, а нередко и страданий.
Если вы по-настоящему любите искусство и хотите понимать его
по-настоящему, то вы наверняка должны иметь любимых живописцев, к которым
будете приходить, словно к близким людям, непременно возвращаясь —
сегодня к одному, завтра к другому, — и всякий раз унося что-то новое
и очень нужное вам.
С этой мыслью я переступил порог зала Рембрандта и остановился
у первой картины — у «Флоры», написанной, когда Рембрандту было
112
Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер.
Пъер-Огюст Ренуар.
Портрет Клода Моне.
двадцать восемь лет. Я знал, что ожидающая ребенка женщина,
улыбающаяся мягко и чуть стыдливо, — это Саския, любимая жена художника.
Я знал, что портрет написан в дни безоблачного счастья, когда не было и
отдаленного предчувствия грядущих гроз. Тем ясным счастьем и светилась
картина, написанная эмалево-гладко, как принято было писать тогда.
Причудливый наряд Саскии отливал всеми оттенками золота. Нетрудно было
представить, как наслаждался Рембрандт, наряжая жену, любуясь ею и
сознавая себя способным запечатлеть этот миг навсегда.
Мастерство Рембрандта уже тогда было блистательным. Но от года к
году оно менялось. Переходя от «Флоры» к другим картинам, я шел как
бы по ступеням жизни художника. Я видел, как меняются глаза людей,
которых он писал; как на место светлой юношеской улыбки приходит
114
мудрость зрелых лет, а затем и печаль. Я видел, как в трагическом горниле
жизни накаляются краски, как безмятежно гладкая поверхность картин
вскипает гневом и состраданием, делаясь беспокойной, бугристой...
Золотое шитье наряда Флоры, розовеющие на свету кончики пальцев
Данаи, алые подвески ее браслетов, ее парчовые туфельки, — как любил,
как умел писать все это Рембрандт! Но взгляните на покойно сложенные
руки седобородого «Старика в красном», тяжелые руки с набрякшими
венами, — вы прочтете в них суровую историю целой жизни.
И, наконец, еще одни старческие руки, руки слепого отца на плечах
блудного сына. Дрожащие от горя и счастья узловатые пальцы на драном
рубище...
В этой картине, написанной Рембрандтом незадолго до смерти, нет ни
золота, ни парчи, ни блеска драгоценных каменьев — ничего, кроме
драгоценнейшей правды человеческих чувств. Вся ложная мудрость вековых
правил отступает перед простой, одетой в рубище правдой.
Быть может, современникам Рембрандта казалась безумной смелость
кисти, подчинявшейся только сердцу художника. Даже и сегодня
поражаешься огнедышащей силе и свободе мазка, то прозрачного — так, что
просвечивает холст, то густого, будто струи горячей лавы.
Двадцать шесть эрмитажных картин Рембрандта — от «Флоры» до
«Возвращения блудного сына», — если их смотришь одну за другой,
лицом к лицу с жизнью художника и его временем, приносят сверх
наслаждения прекрасной живописью еще нечто такое, что трудно передать словами.
Это великая школа искусства, меняющегося вместе с жизнью. Великая
школа правды.
Я рассказываю об этом потому, что хотел бы теперь вместе с вами
окинуть взглядом весь долгий путь Клода Моне, пройдя от холста к холсту
по ступеням его жизни.
Надеюсь, вы поймете, что речь тут идет не о прямых сравнениях, —
каждый художник принадлежит своему времени. Но есть все же законы,
общие для всех времен и для всех художников.
Я выбираю Клода Моне по двум причинам. В наших музеях можно
увидеть восемнадцать холстов Моне — лишь небольшую часть его
огромного наследия. Но эти восемнадцать холстов (как и двадцать шесть
эрмитажных картин Рембрандта) охватывают очень большой период жизни,
почти сорок лет, и позволяют проследить, с чего начинал и к чему пришел
художник. И еще я выбираю Клода Моне потому, что в его творчестве ска-
115
Клод Mont. Дама в саду.
залась не только сила нового течения, но и слабость. Сказалось то, в чем
позднее несправедливо упрекали его товарищей — Камилла Писарро,
Эдуарда Мане, Эдгара Дега.
Давайте же теперь, когда мы знаем страницы жизни Клода Моне,
пройдем еще раз от картины к картине. Начнем с «Завтрака на траве»,
где краски еще глуховаты, контуры жестки, а тени непрозрачны. Здесь
есть стремление стать лицом к лицу с природой, есть смелость, но нет еще
знания. Зрение художника еще затуманено, увлеченность творчеством
Гюстава Курбе мешает Клоду взглянуть на мир своими глазами.
И вот «Дама в саду», одна из героических попыток «прозреть»... Как
116
это трудно! Как неподатливы краски! Вот загорелся прозрачным огнем
зонт Камиллы и свежо зазеленела трава; но тени еще непрозрачны,
бесцветны, и зелень в глуби сада черна, и небо на картине кажется попросту
выкрашенным голубой краской, а ведь оно голубое и в то же время вовсе
не голубое. Оно мерцает, переливаясь...
Теперь мы с вами знаем, что цвет неба есть не что иное, как
рассеянный свет Солнца, непрерывная вибрация, живой трепет спектральных
частиц — фиолетовых, синих, зеленых, желтых, красных... Клод Моне
добывал это знание по крупицам, но как же радостно было прозрение!
Подойдем снова к «Бульвару Капуцинок», вглядимся в этот праздник
раскрепощенного глаза. Пелена развеялась, и нет больше глухих,
неподатливых красок, есть лишь мерцание воздуха, окутывающего все,
придающего краскам новую жизнь. В этом живом взаимодействии воздуха и света
постоянно меняется цвет. Предзакатное небо переливается
бесчисленными оттенками зеленоватых и тепло-розовых тонов, а дома на бульваре
Капуцинок — закопченные сизые дома Парижа — вдруг светлеют,
согретые солнцем, и как бы сами начинают лучиться теплым, радостным
светом.
Итак, неизменных красок в природе нет; все, что мы видим, есть
результат постоянного движения, непрерывной смены условий, создаваемых
жизнью природы. Чтобы уловить и запечатлеть эту текучую игру,
необходимо научиться многому... Посмотрите в Эрмитаже «Берег реки» и «Сад в
Монжероне». Эти большие холсты написаны спустя три года после
«Бульвара Капуцинок». В их размерах отзвук первых героических усилий Клода
писать огромные полотна под открытым небом, на воздухе. Но как далеко
ушла его живопись со времен «Завтрака на траве» или «Дамы в саду»!
Какими наивными кажутся теперь подробности вроде сердца, пронзенного
стрелой, что вырезано на коре дерева, под которым лежал Базиль, позируя
Клоду. Верность правде художник ищет теперь не в мелочном
правдоподобии. Он и не стремится попросту подражать природе, он хочет проникнуть
в ее тайны, познать ее душу — и шаг за шагом достигает этого.
«Берег реки» и «Сад в Монжероне» написаны в очень тяжелые времена,
вскоре после провала первой выставки, после достопамятной распродажи,
после унизительно голодных месяцев Аржантея, когда Моне был близок к
самоубийству. Но не ищите в картинах даже дальнего отголоска личных
драм. Таков уж был Клод Моне: ни тяготы личной жизни, ни социальные
трагедии не могли отвлечь художника от собственных открытий. Мир, уви-
117
денный по-новому, был полон чудес, и надо было запечатлеть увиденное,
вопреки всем препятствиям и невзгодам.
Еще в 1867 году Клод писал из Фекана Базилю: «В Париже, как бы ты
ни был силен, ты слишком поглощен тем, что видишь и слышишь. Здесь у
меня по крайней мере есть преимущество: я могу писать то, что не будет
похоже ни на что другое, — это будет просто выражение моих собственных
ощущений». Спустя двадцать лет он признался, что хотел бы родиться
слепым, а затем внезапно прозреть, так чтобы начать писать, не зная, что
собой представляют предметы, которые он видит.
Отрешенность от всего постороннего» и эта неистовая жажда
прозрения — еще и еще раз увидеть мир заново, по-иному — вот тут-то был
источник силы и слабости, залог побед и зародыш будущих поражений.
Клод Моне действительно «умел найти в соотношениях цвета и света
нечто такое, чего никто до него не замечал» (Л. Вентури). Посмотрите
хотя бы «Скалы в Этрета» — удивительную поэму светозарных красок. Где-
то там, за причудливой грядой береговых скал, садится солнце. Небо
залито теплым желтым сиянием, и море отвечает небу оранжево-золотыми
отсветами. Сине-зеленоватые скалы как бы растворяются в струящемся
воздухе. Вот и все. Никаких подробностей, ничего, кроме чистой поэзии
цвета и света.
Что ж, разве этого мало? Посмотрите «Скалы в Бель-Иль» —
красновато-лиловые каменные зубцы среди набегающих под легким ветром
лилово-зеленых морских волн. Не готовы ли мы часами смотреть на вечный бег
моря, на нескончаемую игру оттенков и не доставляет ли нам еще большую
радость картина потому, что она создана человеком, соткана человеком из
семи цветов радуги?
Но давайте шагнем через десятилетие и посмотрим «Луга в Живерни»,
написанные, когда трудности были позади, когда вслед за деньгами
госпожи Гошеде пришло запоздалое признание. Мы увидим то же теплое
золотистое небо, что простиралось над скалами Этрета, и тот же подвижный
мерцающий свет, но все здесь будто затянуто странной дымкой, каким-то
туманящим маревом. Куда-то уходит, исчезает безмятежная ясность.
Кажется, начинает сбываться дурное пророчество одного из друзей Ренуара,
который давно еще заметил, что импрессионистов отличает стремление
трактовать сюжет ради его живописного тона, а не ради самого сюжета.
С течением времени Клод Моне все более отдалялся от волнующей
искренности трудных лет Аржантея и Буживаля, принося себя в жертву
118
Клод Моне. Скалы в Бель-Иль.
собственным открытиям. Мастерство его достигло вершин, и он стремился,
как сказал Вентури, «выразить невыразимое», рассматривая природу лишь
как предлог для изучения тончайших эффектов света.
В 1885 году Мопассан встретил Клода Моне на побережье
Средиземного моря, в Этрета, излюбленном уголке пейзажистов, где когда-то Курбе
написал свою знаменитую «Волну».
Вот как рассказывает писатель о встрече:
«...Поистине, это был уже не живописец, а охотник. За ним шли дети;
119
они несли его полотна, пять-шесть полотен, изображающих один и тот же
пейзаж в разные часы дня и при различном освещении.
Художник брался то за одно, то за другое из этих полотен, сообразно
состоянию неба. И, сидя перед изображаемым пейзажем, он выжидал,
подстерегал солнечный свет и тени, схватывал несколькими ударами кисти
блеснувший луч, плывущее облако и, презирая ложь и условность, быстро
наносил их на полотно.
Я видел, как он схватил таким образом сверкающий водопад света,
брызнувший на белую скалу, и закрепил его с помощью потока желтоватых
тонов, — они странным образом передали, во всей его разительности и
мимолетности, впечатление от этой неуловимой и ослепительной вспышки
света.
В другой раз он набрал полные пригоршни ливня, пронесшегося над
морем, и бросил его на полотно. Он написал именно дождь, только дождь,
затянувший своей пеленой волны, утесы и небо, — их едва можно было
различить за этим потоком...»
Вышеприведенные строки — свидетельство современника, восхищенного
мастерством Клода Моне, но притом замечающего с необыкновенной
проницательностью: «Это был уже не живописец, а охотник».
Вот где таилась беда! В погоне за мимолетностями — за блеснувшим
лучом, за убегающим облаком — Клод Моне терял главное: из его
живописи вместе с простотой уходило тепло человеческих чувств.
«Пять-шесть полотен, изображающих один и тот же пейзаж в разные
часы дня...» — это и была какая-то частица знаменитых «серий» Клода
Моне. Сперва «Стога», затем «Тополя», «Соборы», виды Темзы, затянутой
туманом...
Поначалу в этих обширных сериях содержалось немало задушевной
правды, искренности, поэзии (А. В. Луначарский не зря назвал «Стога»
маленькими поэмами. Две картины из этой серии можно увидеть в Москве
и Ленинграде).
Но с течением времени увлечение эффектами света и цвета все сильнее
овладевало художником. Уединившись в имении госпожи Гошеде, он
устроил в саду искусственный пруд, заросший кувшинками, и проводил здесь
неделю за неделей, создавая «красочные легенды», подобные «Белым
кувшинкам», которые вы можете увидеть в московском музее.
Вы увидите там и два холста из серии «Соборы», где даже древний
шершавый камень готического портала как бы растворяется в потоках
120
Поль Сезанн. Автопортрет.
мерцающего света. Посмотрите там же «Чайки», а в Ленинграде — «Мост
через Темзу». Радужный туман заволакивает обе картины, скрывая от «ас
лучезарную солнечность мира, открытую и запечатленную Клодом Моне.
* * =1=
Насмешкой судьбы было то, что именно такие картины, похожие на
упражнения пианиста-виртуоза, которому нечего играть, кроме этюдов и
гамм, пользовались наибольшим успехом. Многочисленные «серии»
распродавались, едва успев появиться на выставках. Художнику это не
доставляло радости. Семьдесят лет было ему, когда он писал Дюран-Рюэлю:
«Больше чем когда-либо я понимаю сейчас, насколько искусственным является
мой незаслуженный успех... Я заранее знаю, что вы найдете мои полотна
превосходными. Я знаю, что, если их выставят, они будут иметь большой
успех, но, поскольку я считаю их плохими и убежден в этом, все
остальное мне безразлично».
В этих словах не было ни капли рисовки. Клод Моне был слишком
серьезным и правдивым человеком, чтобы не сознавать, что на склоне
жизни хоронит собственное дитя.
Что же дальше?
До сих пор в тени оставался один из участников первой выставки на
бульваре Капуцинок, молчаливейший из посетителей кафе Гербуа, —
Поль Сезанн. Настало время приблизиться к его картинам.
Начнем с автопортретов. Вглядимся в лицо этого скуластого бородача,
похожего то на крестьянина (когда он в картузе), то на мудреца-книжника
(когда виден его крутой могучий лоб). Сезанн был одновременно и тем и
другим, соединяя в себе крестьянское упорное трудолюбие с испытующим
разумом ученого-исследователя.
Он родился в Эксе, былой столице Прованса, в городке древних замков,
старомодных аристократов и ученых-отшельников. В Париже его считали
провинциальным чудаком. Старая продавленная шляпа и синяя куртка
рабочего, надетая поверх перепачканной красками холщовой рубахи,
укрепляли всех в таком мнении.
Об этом «дикаре и медведе» рассказывали забавные истории; бродя с
этюдником по окрестностям Парижа, он забывает среди полей написанные
121
картины. Никому невдомек было, что здесь и не пахло чудачеством. Поль
Сезанн искал свой путь.
То были мучительные поиски. Сезанн вел их в одиночестве, сжигаемый
сомнениями, пока не сблизился с Камиллом Писарро. Впоследствии он
называл Писарро «добрым богом» и до конца жизни именовал себя его
учеником. Они познакомились в «академии» Сюиса, где Сезанн работал
ежедневно с шести утра и до одиннадцати вечера. Писарро был первым
(и долгое время единственным), кто заметил своеобразие молчаливого
одинокого провинциала и оценил его талант. Густая, тяжелая живопись
Сезанна в то время казалась многим косноязычной и на диво неумелой.
Посмотрите в Москве одну из ранних работ Сезанна («В комнатах») и
вы поймете, как чужда была жизнерадостным друзьям Камилла Писарро
эта похожая на странный сон безвоздушная живопись с ее непроницаемо
глухими черно-серо-зелеными тонами.
Надо было обладать терпением и ненавязчивой доброжелательностью
Писарро, чтобы вывести Сезанна из тесного мира странных фантазий в
широкий мир действительности. Лишь через десять лет после первого
знакомства Писарро уговорил несговорчивого южанина провести несколько
месяцев в Понтуазе и был счастлив, сообщая друзьям об успехе совместной
работы. И верно, именно в Понтуазе Сезанн обрел то, чего ему
недоставало. Именно здесь его неистовая жажда познаний нашла твердую опору в
изучении природы. Его палитра с каждой неделей светлела и прояснялась.
Но было в его живописи еще нечто сверх улыбчивой солнечности Клода
Моне, сверх чистой поэзии Писарро или Сислея, — нечто такое, что дало
Камиллу Писарро повод заявить, что Сезанн еще поразит немало
художников, поспешивших осудить его.
О том, как воспринимал сам Сезанн всеобщее осуждение, мы знаем: он
продолжал работать. Он продолжал работать, когда провалился на
экзаменах в Школу изящных искусств. Он продолжал работать, когда жюри
Салона отвергало его картины. Он продолжал работать под улюлюканье
толпы, собравшейся однажды у витрины в Марселе, где он выставил одну
из своих картин (картину пришлось убрать, чтоб ее не разорвали в
клочья).
Порою ему приходилось платить своими работами за краски для новых
работ. Писарро уговаривал лавочника в Понтуазе принимать картины
Сезанна в оплату за хлеб, сахар и кофе. Сезанн продолжал работать.
В 1875 году он писал матери: «Я начинаю считать себя сильнее всех,
122
Поль Сезанн. Берега Марны.
кто меня окружает». Никто, однако, не разделял этого мнения. Даже такой
близкий друг, как Золя, признавал мастерство Сезанна, но отказывал ему
в таланте. Никто пока еще не мог видеть цели, к которой так упорно
стремился этот молчаливый, замкнутый человек. Цель эта, по словам
живописца Мориса Дени, состояла в том, чтобы «превратить импрессионизм в
нечто основательное и долговечное, подобное искусству в музеях».
* * *
Сезанн был необычайно вдумчивым человеком. Его размышления были
медленны, но выводы неоспоримы. Он отчетливо видел опасность, подсте-
123
регавшую импрессионистов. Он понимал, что преувеличенный интерес к
эффектам света и чрезмерное доверие к впечатлению могут привести к
«размягчению», а затем и к распаду формы. Он предчувствовал то, что
случилось впоследствии с Клодом Моне, и решил противопоставить
расплывчатости устойчивость.
Морис Дени назвал Сезанна «Пуссеном импрессионизма». Внимательно
посмотрев картины Пуссена (а их в наших музеях немало), вы яснее
поймете, что он имел в виду.
Действительно, Поль Сезанн стремился, как он сам говорил, «в
общении с природой оживить Пуссена», соединив классическую ясность
построения с новейшими достижениями живописи. Взяв технику
импрессионистов, он хотел ввести ее в пределы строго продуманной формы.
Менее всего он интересовался тем, что можно назвать иллюзией.
«Обман зрения» он не ставил ни во что и намеренно пренебрегал эффектами
«всамделишности», которых не чурались даже самые взыскательные
живописцы.
Чтобы почувствовать это, достаточно посмотреть хотя бы «Мост над
прудом» или «Берега Марны» — как там написана зелень деревьев и ее
отражение в воде. Сезанн не выписывает каждый листик, как это делали
академические пейзажисты, но он и не применяет «мерцающий»,
подвижный мазок Моне или Ренуара, чтобы передать общее впечатление,
получаемое от пронизанной светом листвы. Он кладет краски так, чтобы
соотношение тонов само по себе строило форму — свободную от подробностей,
устойчивую, «вечную», — и добивается удивительных результатов.
Посмотрите, как написана вода в этих картинах: никакой «подделки»,
никаких поверхностных эффектов — «чтоб как живая». Те же сдержанные,
скупые краски, которыми написана зелень, — меняется лишь структура,
направление мазка, и цель достигнута.
Все это, впрочем, на словах получается просто и может показаться легко
достижимым, если не знаешь, какого труда и напряжения мысли стоила
Сезанну каждая его картина. Он был тружеником из тружеников. Работа
до последнего дня жизни оставалась его единственной страстью, и если он,
случалось, оставлял в поле написанные картины, то вовсе не из чудачества
или забывчивости, а лишь из непризнающей никаких уступок
требовательности ко всему, что делал.
Всякого рода условности — в искусстве и в жизни — были глубоко
чужды ему. Получив наследство после смерти отца и впервые освободясь от
124
Винсент Ван-Гог.
Папаша Танги.
многолетней нужды, он нисколько не изменил свои правила: по-прежнему
в шесть часов утра принимался за работу, и по-прежнему мальчишки
свистали ему вслед, как юродивому, когда под вечер он шел улицами
Экса перепачканный красками, с этюдником, зонтом и складным
мольбертом.
В Париже он не выставлялся с 1877 года — со времен третьей выставки
импрессионистов, где показал 16 пейзажей, не имевших успеха. Однажды
верному Шоке удалось протолкнуть его картину в Салон (Шоке отказался
одолжить Салону антикварную мебель, которую у него просили, если не
будет принята картина). Но Сезанна все меньше и меньше интересовал
официальный успех. Приводить в ярость жюри ему в конце концов на-
125
доело. Казалось, он отрекается от настоящего ради будущего, замкнувшись
в Эксе, наедине с природой.
В Париже и не знали как следует, жив он или умер; только немногие
могли время от времени видеть его картины в лавчонке Жоржа Танги.
Имя этого человека так тесно вплелось в судьбы художников, о которых
я рассказываю, что не могу не сказать несколько слов о нем.
«Папаша Танги», как его называли все, смолоду торговал вразнос
красками. Не знаю, известна ли была еще где-нибудь такая «узкая»
профессия; даже в Париже и его окрестностях, где полно было художников,
такое «коробейничество» приносило не бог весть какую выгоду. О папаше
Танги можно без ошибки сказать, что он торговал больше из любви к
искусству. До франко-прусской войны его то и дело можно было
встретить в лесу Фонтенбло, где он свел дружбу со многими барбизонцами.
Там он познакомился (а затем и подружился) с Писарро, Моне и
Ренуаром.
Папаша Танги был убежденным республиканцем, ненавидел
Наполеона Малого и, как большинство истых парижан, готов был защищать свои
убеждения не только на словах. Когда рабочие Парижа вышли на
баррикады, папаша Танги оказался не в последних рядах. Как доброволец войск
Коммуны, он был схвачен версальцами и отдан под суд трибунала.
Только вмешательство художника Руара, близкого друга Дега и влиятельного
человека, спасло папашу Танги от смертного приговора. Его сослали.
Отбыв ссылку, папаша Танги вернулся в Париж слегка поседевшим,
но большие темно-голубые глаза на обросшем бородкой круглом лице по-
прежнему сияли добротой и простодушием. Ходить по лесам и полям,
нагрузившись красками, ему было теперь не под силу, и он снял лавчонку на
улице Клозель.
Писарро, особенно расположенный к папаше Танги (он горячо
сочувствовал его политическим взглядам), настойчиво слал ему клиентов.
Правда, особенной прибыли это не сулило, да что поделаешь... Папаша Танги
слишком сочувствовал беднякам, чтобы отказывать тем, кто не мог
заплатить за холст и краски ничем другим, кроме своей дружбы и своих картин.
Так понемногу лавчонка на улице Клозель превратилась в своеобычный
клуб непризнанных и стала одним из немногих мест, где всегда можно
было увидеть картины Писарро, Сислея, Моне, Сезанна (а затем и Ван-Гога).
Папаша Танги охотно показывал их желающим. Один американский
критик, попавший на улицу Клозель, описывал забавную манеру папаши
126
Поль Сезанн. Пейзаж с горой Сент-Виктуар.
Танги «сначала оглядеть картину взором, полным нежной материнской
любви, а затем посмотреть на вас поверх своих очков, как бы прося
полюбоваться его любимым детищем».
Заокеанский гость, как видно, не принадлежал к сторонникам новой
живописи. «Но, — писал он, — независимо от моего собственного мнения, я
не мог не почувствовать, что искусство, способное внушить человеку
такую преданность, в конечном итоге должно иметь значение не только для
замкнутого кружка художников».
127
Действительно, папаша Танги, простая душа, в те годы как бы
олицетворял в себе одном народную любовь, которая хоть и поздно, а все же
пришла к художникам, чьи картины были проникнуты народным
жизнелюбием, любовью к народу.
* * *
Несколько ранних холстов Сезанна, долгое время хранившихся у
папаши Танги, привлекали особое внимание молодых живописцев. Как
свидетельствует Морис Дени, «больше всего восхищало в картинах Сезанна
равновесие, простота, суровость и величие». Молодые художники не могли
не почувствовать, что здесь содержится нечто такое, чего не хватало
другим импрессионистам.
Между тем сам Сезанн упорно работал в своем добровольном
изгнании, возвращаясь по многу раз к одному и тому же мотиву и никогда не
удовлетворяясь результатами. Его главной целью было призвать разум
на помощь инстинкту, игравшему, по его мнению, слишком большую роль
в современном искусстве. «Глаз и ум должны дополнять друг друга, —
говорил он. — Надо усиленно работать над их взаимным развитием;
наблюдая природу — над развитием глаза, логически организуя свои
впечатления — над развитием разума. Только логически организованное
впечатление дает художнику необходимые средства выразительности».
Все это было неоспоримо верно. Но, для того чтобы мудрая заповедь
воплотилась до конца, художник должен был обладать гармонией сознания
и чувства. Сезанн такой гармонией не обладал. По складу своего характера
он был чересчур склонен к анализу, к логическим построениям и
самопроверке. Неодолимое желание вернуть живописи устойчивость формы еще
более подталкивало его в эту сторону. Так образовался тот «перевес»
сознания, благодаря которому от картин Сезанна и сегодня еще исходит, как
некий таинственный ток, заложенное в них могучее напряжение мысли, но
не исходит необходимое тепло человеческих чувств.
Я не стыжусь признаться, что картины Сезанна восхищают меня, но не
вызывают душевного отклика, не волнуют. Его пейзажи необитаемы.
Трудно было бы жить в этом строго построенном, чересчур плотном,
полновесном мире, где нет ни улыбки, ни слез, ни движения воздуха, — одно
лишь торжество пространства, объемов, суровое торжество логики.
Глядя на картины Моне, Ренуара, Сислея или Писарро, вы можете
определить не только время года, но и час дня, когда они написаны. Осень,
весна, вёдро, ненастье, утро, полдень — не ищите этого в картинах Сезанна.
128
Поль Сезанн.
Курильщик (Человек с трубкой)
Он не останавливался, подобно Клоду Моне, чтобы выждать, уловить
луч солнца. Ему не нужен был быстрый, подвижный мазок Ренуара, чтобы
поспеть за мгновением. Все мгновенное, преходящее он отбрасывал, чтобы
добыть постоянное, вечное. Красочное богатство мира он свел к нескольким
сильным, простым тонам. Его излюбленная скупая гамма — серо-зеленое,
синее, охристо-оранжевое. Зелень, небо, рыжая земля Прованса...
Есть что-то глубоко знаменательное в том постоянстве, с каким он
возвращался к одному и тому же мотиву, изображая без конца гору Сент-
Виктуар, высившуюся над Эксом (два пейзажа с этой горой вы увидите в
московском музее). Сам, быть может того не желая, он подчеркивал тем
самым особенный характер своих картин, приобретавших значение
художественного исследования.
129
Поль Сезанн стал в своем едва ли не двадцатилетнем изгнании живой
лабораторией для будущих поколений. Его опыты нередко поднимались до
вершин ясности и величия. Такие шедевры, как автопортрет из
московского музея, повергают в изумление: как, какими чудодейственными
средствами достигнута здесь выразительность? Нет морщин — но есть возраст.
Нет привычных «бликов» в глазах — но есть пристальный, изучающий
взгляд. Написано все в той же излюбленной гамме — серо-зеленое,
охристо-оранжевое, но тут не земля, не зелень листвы, — живое тело, густая
седина бороды, могучий лоб мудреца...
Посмотрите «Человека с трубкой». Здесь вы тоже не найдете ни одного
поверхностного эффекта, ни единой подробности ради правдоподобия, ради
«всамделишности». Не вьется дымок из трубки, зажатой в зубах
человека, сидящего, опершись на руку, у стола. Его лицо вылеплено простыми и
точными сопоставлениями оранжевых и серо-зеленоватых тонов. Все
«частное», второстепенное, случайное здесь отброшено, и перед нами
оказывается действительно вечное. Перед нами — французский Крестьянин.
«Видеть натуру — значит выявлять характер своей модели», — говорил
Сезанн. Здесь действительно с большой силой выявлен характер, тип, —
нет надобности описывать его словами. И все же, глядя на эту картину,
испытываешь смутную неудовлетворенность. Хочется какой-то вспышки
чувств, которая разом сплавила бы все достоинства этой живописи, сделав
их, быть может, менее очевидными. Не вспахав землю — не посеешь, не
вырастив пшеницы — не смелешь муки. Но мука, соль, дрожжи и
пылающие угли никогда не заменят куска теплого хлеба.
* * &
Сезанн говорил: «По моему мнению, нельзя подменить собой прошлое,
можно лишь прибавить к нему новое звено». Для молодого поколения
художников живопись Сезанна и была тем новым звеном, которое он
прибавил к завоеваниям импрессионистов. Но, восхищаясь его могучим и
суровым талантом, нельзя было не задуматься над тем, как же все-таки
примирить разум с чувством, как достичь того гармонического единства, о
котором мечтал Сезанн. Как соединить сезанновскую ясность, простоту и
величественную строгость с одухотворенной живостью Ренуара,
человечностью Камилла Писарро, богатством красок Клода Моне?
Каждый из тех, кому суждено было прибавить свое звено к
драгоценной цепи, должен был найти свой собственный ответ на общий вопрос,
испокон веков стоящий перед искусством: «Что же дальше?»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Два полюса
н
Ш Ш езадолго до открытия последней выставки
импрессионист Ш стов в Париже появился никому не известный тридца-
Ш Ш титрехлетний живописец. Небрежно одетый, бледный, с
клочковатой рыжей бородкой и пугающе пристальным
взглядом глубоко сидящих голубых глаз, он производил впечатление до
странности неуравновешенного человека, в противоположность своему
брату Теодору Ван-Гогу, которого хорошо знали в Париже.
Теодор Ван-Гог — «Тео», как обычно называли его художники, — в то
время заведовал одним из отделений известной фирмы торговцев
картинами «Буссо и Валадон». Молчаливый, застенчивый, хорошо
разбирающийся в живописи, он готов был всячески помогать художникам, искавшим но-
131
Винсент Ван-Гог.
Автопортрет.
вые пути. Он делал все возможное, чтобы продвигать картины
импрессионистов, и порою шел на риск, выставляя их работы для продажи вопреки
желанию своих хозяев. Его ценили за скромность, доброту и отзывчивость,
но мало кто знал, на какое самоотречение способен Тео, отказавшийся от
всех радостей жизни ради старшего брата.
Винсент Ван-Гог был человеком на редкость нескладной судьбы. Со
стороны его жизнь казалась столько же нелепой, сколько его внешность. Он
родился в добропорядочной пасторской семье в Голландии и с детства
отличался чрезмерной задумчивостью. Шестнадцати лет его отдали
учеником приказчика в Гаагу, в отделение торговой фирмы Гупиль —
«Эстампы и современные картины».
132
Выбор был не случаен: в роду Ван-Гогов издавна одни становились
пасторами, другие торговали картинами.
Отдавая Винсента в учение, его отец, вероятно, думал лишь о том,
чтобы пристроить сына к делу. Вряд ли кто-нибудь в семье предполагал, что
этот молчаливый, угловатый парень страстно мечтает «нести людям добро
через искусство».
Шесть лет постылой приказчичьей службы убедили Винсента, что
торговля картинами ничуть не отличается от торговли тюльпанами на
голландских рынках, и он бросил все, чтобы сделаться миссионером.
Его увлечение религией было основано на том же неосуществленном
стремлении «нести людям добро». Потребовалось еще несколько трудных
лет, чтобы убедиться на собственном опыте, как мало добра несет людям
религия и даже самые искренние миссионеры, и здесь особую роль сыграли
два года, проведенные в Бельгии, в шахтерском Боринаже, куда Винсент
ушел пешком проповедовать евангелие.
Жизнь задавленных непосильной работой горняков, нищета, голод,
болезни, катастрофы на шахтах — все это с большой силой действовало на
впечатлительного Винсента. Именно в Боринаже он решительно и навсегда
порвал с религией и сделал первые свои рисунки.
Теодор Ван-Гог, к тому времени поступивший уже на службу к
торговцу картинами, с необыкновенной чуткостью отнесся к попыткам брата.
Всячески ограничивая себя, он посылал каждый свободный грош Винсенту,
чтобы тот мог совершенствоваться в избранном деле.
По свойству своей натуры Винсент Ван-Гог не способен был заниматься
чем-либо «вполсилы». Начав рисовать в возрасте двадцати шести лет, он
работал с необузданной самоотверженностью, чтобы наверстать упущенное
время. Наконец он обрел свое действительное призвание, и ничто теперь
не могло бы заставить его свернуть с избранного пути.
Учителей он, в сущности, никогда не имел и должен был полагаться на
свои силы, считая жизнь самым верным учителем. Он без устали рисовал
и писал с натуры, изучал анатомию и перспективу, читал и ходил в музеи,
когда это было возможно.
Тридцать лет исполнилось ему, когда он послал брату в Париж свою
картину «Едоки картофеля», где была изображена крестьянская семья за
ужином при свете керосиновой лампы. Эта картина, полная самой
неказистой правды, «отдающая салом, дымом и картофельным паром» (слова
Винсента), не могла, разумеется, иметь успеха в Париже. Она осталась
133
непроданной, как и многие другие картины и этюды, которые все чаще
посылал Теодору Винсент.
Теперь он сам приехал в Париж, испытывая после долгих лет одиноких
скитаний настоятельную потребность найти друзей и единомышленников.
Незадолго до этого времени он увлекся «Беседами о живописи» Эжена
Делакруа. Мысли о выразительной силе цвета нашли в нем самый
горячий отклик, и Делакруа занял в его сердце место рядом с Рембрандтом и
Милле.
Свои первые картины Ван-Гог писал в густых и темных
коричнево-зеленоватых тонах. Теория Эжена Делакруа пробудила в нем настойчивое
желание обогатить палитру. Об импрессионистах он знал до приезда в
Париж лишь понаслышке (главным образом из писем брата) и,
разумеется, поспешил на улицу Лафитт, как только там открылась
выставка.
Увиденное произвело на Винсента глубокое впечатление, и он со
свойственной ему горячностью принялся за изучение новой живописной
техники. Камилл Писарро, «добрый бог», пришел, как и следовало ждать, ему
на помощь советами и дружбой. Он познакомил Винсента с папашей
Таити. Вскоре лавчонка на улице Клозель украсилась новыми этюдами,
принятыми в уплату за холст и краски, а Винсент расходовал и то и другое в
неимоверном количестве.
О том, как он работал в первые парижские месяцы, рассказывал
впоследствии один из немногих его друзей — живописец и поэт Эмиль Бер-
нар. «Приладив на спину большой холст, он отправлялся в путь; затем
делил этот холст на части в зависимости от количества мотивов. Вечером же
приносил его совершенно заполненным, и казалось, что это целый
маленький походный музей, в котором были зафиксированы все впечатления дня.
Тут были и бухты Сены, полные лодок, и острова с голубыми качелями, и
рестораны, вибрирующие многоцветными шторами... Весенняя поэзия шла
от этих кусков, выхваченных кончиком кисти и будто бы похищенных у
быстротекущего времени».
Винсент с неистовой жадностью впитывал все новое, что мог ему дать
Париж. В Лувре он вглядывался в полотна Делакруа, у папаши Танги —
в японские цветные гравюры.
Увлечение японским искусством охватило к этому времени самые
широкие круги. Японские гравюры, шкатулки, веера и кимоно можно было найти
в мастерских едва ли не всех живописцев. Когда Винсент решил написать
134
Винсент Ван-Гог. Едоки картофеля.
папашу Танги, он усадил его на фоне стены, сплошь увешанной
японскими цветными гравюрами.
Этот портрет примечателен не только как свидетельство
заинтересованности художника японским искусством. (Японскую гравюру вы можете
увидеть и на портрете Эмиля Золя, написанном восемнадцатью годами
ранее Эдуардом Мане.) Гораздо существеннее тот углубленный интерес к
человеку, что сквозит в каждом мазке портрета папаши Танги.
Нет, «интерес к человеку», пожалуй, не те слова. Кто-то сказал об
«Едоках картофеля», что эта картина кажется созданной мозолистыми
руками ее героев. Вот верный ключ к пониманию всего, что делал Ван-Гог.
Он обладал редкостным даром сочувствия — не в обиходном,
стершемся значении этого слова, а в его изначальном действительном смысле.
«Чувствовать согласно, сообща, заодно; понимать, мыслить одинаково;
склоняться к кому-либо по чувству приязни, любви; сострадать». Вот
какие толкования дает этому слову Даль. Все это кажется сказанным о
Винсенте, о его характере, стремлениях, о его картинах.
Нелегкий дар сострадания увлек Винсента в Боринаж, где он жил
«беднее последнего бедняка», помогая чем мог углекопам, измученным
нуждой, болезнями, непосильной работой. Первые же его рисунки были
выражением деятельного сочувствия — только так он и понимал искусство.
«К чему бы я мог быть пригодным, — писал он брату, подводя итоги своего
житья в Боринаже, — если б я не мог помогать и быть полезным?»
Даже среди безлюдных и безмолвных полей Винсенту виделись драмы
человеческого существования. «...Я вижу во всей природе, например, в
деревьях, выражение и, так сказать, душу. У ряда ветл есть порой нечто
общее с процессией стариков из богадельни. Молодая рожь может иметь
в себе нечто невыразимо чистое, нежное, пробуждающее в нас такое же
умиление, как, например, выражение спящего младенца. Затоптанная у
края дороги трава производит впечатление чего-то утомленного и
запыленного, подобно рабочему кварталу. Когда на дня> шел снег, я видел
несколько кочерыжек, совсем замороженных, и они мне напомнили группу
женщин, стоящих ранним утром, в своих тонких кофтах и старых платках,
у лавчонки, где продают кипяток и горячие уголья...»
Спору нет, видеть «душу природы» свойственно было и другим
живописцам. Но из приведенных выше слов нетрудно заметить, как и чем
отличался взгляд Винсента от взгляда многих его современников.
Каждому художнику свойственно откликаться на явления жизни по-сво-
136
Винсент Ван-Гог. Красные виноградники Арля.
ему. Судьба Ван-Гога, его скитания, его ум и характер сделали его
особенно чувствительным к страданиям, бедам, к несправедливостям и
неустройству мира, в котором он жил.
«Я — рабочий, — сказал он о себе однажды, — я принадлежу к
рабочему классу и буду все больше в него вживаться, в него вкореняться. Я не
могу иначе и не имею никакого стремления к чему-нибудь другому».
Свое место в обществе Винсент определил не только на словах.
Углекопы Боринажа, брабантские ткачи, плетельщики корзин, копачи канав,
дровосеки, рыбаки и крестьяне были его первыми натурщиками, героями его
первых картин. Постигая их жизнь, он тем самым постигал и основы
искусства, — не оттого ли так суровы, коричнево-землисты были поначалу его
краски?
Ранняя живопись Ван-Гога тяжеловесна и неуклюжа, как самодельные
деревянные башмаки на ногах его земляков-крестьян. Ткачи, которых он
писал, кажутся приросшими к дедовским дубовым станкам; не так ли они
выглядели и на самом деле?
Отсылая в Париж картину «Едоки картофеля», он писал брату:
«Я не мало потрудился для того, чтобы навести людей на мысль, что эти
крестьяне, поглощающие картофель при свете лампочки, теми же руками,
которые они погружают в котелок, сами копались в земле, и таким
образом картина сама говорит о том, что они праведно заработали свою пищу.
Мне хотелось, чтобы она напоминала совсем о другом образе жизни, чем
тот, который ведут образованные люди... Кто предпочитает сладеньких
мужичков, пусть с тем и остается. Я же со своей стороны убежден, что
можно достигнуть лучших и длительных результатов только тогда, когда
пишешь натуру во всей ее грубости, а не тогда, когда в нее вводится условная
приятность».
Все это было неоспоримо верно. Но чем глубже вдумывался Ван-Гог в
суть искусства и жизни, тем яснее он понимал, что невозможно
ограничивать себя одной трагической, мрачной нотой.
«Я рисую не для того, — говорил он, — чтобы надоедать людям, но
чтобы радовать их, или для того, чтобы обратить их внимание на вещи,
которые заслуживают внимания и однако же известны далеко не каждому».
Его герои нуждались в своей доле радости. Еще до приезда в Париж
Винсент высветлил свою палитру, и не только под влиянием «Бесед о
живописи» Эжена Делакруа. В Антверпене, где он провел предшествующие
осень и зиму, его захватил Рубенс.
137
Такое увлечение может показаться странным: что общего могло
найтись между кипуче жизнерадостным «живописцем королей» и жаждущим
истины, склонным к трагическому горению Ван-Гогом? Сам Винсент ясно
ответил на этот вопрос, написав брату о своем восхищении Рубенсом,
который «стремится выразить настроения бодрости, радости, равно и боли,
и на самом деле выражает все это комбинацией цветов».
Вот что было предметом постоянных раздумий, давней целью, мечтой
Ван-Гога — раскрытие чувства посредством цвета. Не для того ли
родилась живопись и не в этом ли главное отличие «искусства красок» от
«искусства строчек» или «искусства звуков»?
* * *
Казалось бы, в Париже его устремления найдут самый действенный
отклик; ведь именно здесь сосредоточилось все живое и новое. И верно,
Винсент попадает в гущу событий и споров. Он присутствует при триумфе
Жоржа Сера, родоначальника «научного» импрессионизма. Этот молодой
живописец, учившийся в Школе изящных искусств, был страстным
поклонником теории. Он поставил себе задачу — научно обосновать
достижения импрессионизма, сделать живопись математически точной,
независимой от инстинкта, ощущений, случайных удач и неудач.
С этой целью он выработал новую строгую технику, основанную на
достижениях современной науки о цвете, — так называемый «пуантиллизм»
(от французского «пуан», то есть точка). В Эрмитаже и Музее
изобразительных искусств вы можете увидеть несколько небольших картин одного
из друзей и единомышленников Жоржа Сера — Поля Синьяка. Многие
тысячи положенных рядом «точечных» мазков призваны слиться в вашем
глазу, рисуя то морскую гавань, то песчаный берег, то дерево у дороги.
Эти картины, может быть, напомнят вам мозаику из камешков-самоцветов.
Быть может, вас поразит и даже восхитит терпеливое трудолюбие
живописцев, столь верных своим принципам, своей теории. Но душевного волнения
перед этими картинами вы наверняка не испытаете.
Жорж Сера и его единомышленники с полной ясностью показали, что
нельзя безнаказанно отнимать у искусства душу, чувство. «Поверив
алгеброй гармонию», они убили самое дорогое, что было в импрессионизме,—
непосредственность живого общения с природой.
И все же тяга к научному познанию была так сильна среди
художников, что теория пуантиллизма увлекла поначалу даже Камилла Писарро.
138
Сера годился ему в сыновья, а он со всегдашней скромностью называл
себя его последователем и около четырех лет отдал пуантиллизму, пока не
убедился на собственном опыте в бессилии нового течения. Он был
слишком честен, чтобы цепляться за собственные ошибки, и не постеснялся
признать, что не может больше считать себя одним из «неоимпрессионистов»
(так называла себя новая группа), отказывающихся от движения и
жизни. Он даже уничтожил многие свои картины, написанные в то время.
Увлечение новой техникой не миновало и Ван-Гога, жадно вбиравшего
все, что мог ему дать Париж. Но он освободился от этого куда быстрее,
чем Писарро. Ничто не могло быть более чуждо ему, чем размеренное
спокойствие пуантиллистов.
Он мог быть признателен Парижу за встречу с искусством Эдуарда
Мане, Клода Моне, Сислея, Ренуара, Дега, за дни, проведенные в Лувре у
полотен Рембрандта, Делакруа, Милле, за дружбу с Камиллом Писарро и
папашей Танги, за просветление своей палитры. Но было еще нечто
гораздо более важное, что он надеялся найти здесь, — и не нашел...
Еще из Антверпена, где Ван-Гог провел одну из самых трудных и
одиноких зим своей жизни, он писал брату: «Знаешь, в чем состоит наша
опора? В том, чтобы работать вместе с какой-нибудь группой людей, не
оставаться в одиночестве со своими мыслями и чувствами».
Чувствовать согласно, мыслить сообща — эта потребность была так же
сильна в нем, как и потребность сострадания. В своих одиноких скитаниях
он постоянно лелеял мечту о сообществе художников, готовых служить
своим искусством народу. Он вынашивал планы нового Барбизона и с
присущей ему горячностью излагал эти планы каждому встреченному в
Париже живописцу, но не находил поддержки.
В самом деле, о каком единении могла идти речь в дни последней
выставки импрессионистов, во время всеобщего разброда, когда художники,
по словам самого Винсента, предпочитали «таскать друг друга за волосы»,
вместо того чтобы объединиться... Странный рыжий человек в стоптанных
башмаках и лохматой козьей шапке казался одержимым навязчивыми
идеями чудаком или наивным мечтателем.
Между тем Винсент не оставлял намерений организовать «мастерскую
будущего», — так он называл сообщество, о котором мечтал. Наконец
ему показалось, что нашелся достойный человек, готовый не только
разделить его идеи, но и стать во главе нового сообщества.
Этим человеком был Поль Гоген.
139
* * *
В то время — в 1886 году — Гогену исполнилось тридцать восемь лет.
За его плечами лежала пестрая жизнь, полная самых неожиданных
перемен. Родившись в Париже, он провел раннее детство в Перу, учился в
Орлеанском лицее, плавал матросом, был интернирован во время войны в
Копенгагене, женился там на датчанке. Вернувшись в Париж, стал
биржевым маклером. В часы досуга рисовал и писал красками. И вдруг —
тридцати пяти лет, на вершине благополучия и семейного счастья — бросил
службу, дела, семью, чтобы всерьез, без остатка заняться живописью.
Он впал в нищету, что, впрочем, нисколько его не пугало. Он твердо
верил в себя и был упорен.
Еще будучи преуспевающим дельцом, он тратил каждую свободную
сотню франков на покупку картин и этюдов. Он покупал работы Ионкинда.
Мане, Ренуара, Моне, Писарро, Сислея.
Неудивительно, что, решив стать художником, он примкнул к
импрессионистам: ведь именно они олицетворяли тогда живую будущность
искусства.
Все тот же «добрый бог» начинающих, Камилл Писарро, помог Полю
Гогену сделать первые шаги, взяв его с собой в Понтуаз, а затем в Руан.
Ранние работы Гогена написаны в манере его учителя.
Недалеко было, однако, время, когда наметились острые расхождения
между Гогеном и его новыми друзьями. Постепенно он пришел к выводу,
что импрессионисты «ищут то, что доступно глазу, и не обращаются к
таинственным глубинам мысли».
Гоген стремился выработать свой собственный стиль, который сам
позднее назвал «синтетическим», утверждая, что картины «должны заставлять
человека мыслить без помощи идей или образов, как это делает музыка,
просто благодаря таинственным взаимоотношениям, существующим между
нашим мозгом и тем или иным соотношением красок и линий».
Свою новую живописную технику он назвал «клуазонизмом» — от
французского слова «клуазон», то есть перегородчатая эмаль.
Действительно его картины стали походить на старинные эмали или готические
витражи с четким контуром и ровно залитыми цветовыми плоскостями.
Отказавшись от импрессионистской техники, он стал отрицать и
необходимость постоянного общения с природой. «Не пишите слишком много с
натуры», — говорил он. Свои картины он нередко начинал в мастерской, а
заканчивал на открытом воздухе или же наоборот, подчеркивая тем самым
140
Поль Гоген. Автопортрет.
независимость искусства от реального мира. Да и собственную
независимость он подчеркивал всячески, начиная с внешнего облика и кончая
манерами.
Высокий, грузный, желто-смуглый (он был креолом), в заштопанном
свитере и сдвинутом набок синем берете, Гоген походил на шкипера с
рыбачьей шхуны. Надменный, самолюбивый, насмешливый, он подавлял
собеседников тяжеловесной определенностью суждений. Его недолюбливали,
и вместе с тем очень многие молодые живописцы тянулись к нему, готовые
считать его наставником, — быть может, потому, что так тверд он был в
своих убеждениях и своем искусстве.
В самом деле ему приходилось нелегко. Его теории не находили призна-
141
ния, а картины — покупателей. Нужда бывала так свирепа, что однажды
ему пришлось наняться расклейщиком афиш, чтобы пережить голодные
месяцы. Ничто, однако, не могло заставить его отступить. Вероятно,
именно эта воинственная твердость духа более всего привлекала Винсента к
Гогену среди всеобщей шаткости и неверия.
Казалось, многое объединяет их, и в то же время трудно было бы найти
людей более противоположных. Когда думаешь об их сближении, поневоле
приходят на ум два полюса электричества, сблизить которые невозможно
без сжигающей вспышки.
Проведя в Париже лето, осень и мучительно трудную морозную зиму,
Винсент решил выехать в Арль, старинный городок на юге Франции. Там
он и намерен был основать «мастерскую будущего».
Его выбор был не случаен. В Париже он нашел подтверждение своим
мыслям о могуществе цвета, но оставаться в этом городе, «где люди дохнут,
потому что хотят жить», он не мог. Всей душой он тянулся к спокойной,
простой жизни, к труду, к чистым краскам юга. Он надеялся, что Прованс
будет так же благотворен для него, как Африка для Делакруа и Моне.
В Арле Ван-Гог снял домик на площади Ламартин, оборудовал на
скромные средства брата мастерскую и стал ждать приезда Гогена и еще
двух-трех молодых живописцев, выразивших согласие основать новое
товарищество.
Но Гоген все не ехал, не ехали и другие, и Винсент покуда оставался
в одиночестве со своими планами. Как всегда, он работал не щадя себя.
Именно здесь, в Арле, он наконец утвердился в своем понимании живописи
и ощутил себя крепко стоящим на собственных ногах.
Отсюда он писал брату: «Я замечаю, что все, чему я научился в
Париже, улетучивается, и я возвращаюсь к тем идеям, которые были у меня до
того, как я узнал импрессионистов... Ведь вместо того, чтобы стремиться
точно передать то, что находится перед моими глазами, я пользуюсь
цветом более произвольно, чтобы полнее выразить себя...»
Вдумайтесь в эти слова, если хотите понять Ван-Гога. Вот как он сам
поясняет на примере свою мысль:
«Я хотел бы написать портрет друга-художника, охваченного великой
мечтой, работающего так, как поет соловей, потому что такова его натура.
Пусть этот человек будет белокурый. Я хотел бы вложить в картину все
142
мое восхищение, всю любовь, какую я питаю к нему. Для начала я
напишу его таким, каков он есть. Но после этого картина не будет еще
закончена. Чтобы закончить ее, я применю произвольные цвета. Я усиливаю бе-
локурость волос, дохожу до оранжевых тонов, до хрома, до
светло-лимонного цвета. Позади его головы, вместо банальной стены жалкой комнаты,
я пишу бесконечность, я делаю простой фон богатейшего синего цвета,
самого интенсивного, какой только смогу изготовить. И благодаря
такой простой комбинации освещенная голова на этом синем богатом
фоне производит таинственное впечатление, как звезда в глубокой
лазури...»
«Выразить себя» означало для Ван-Гога выразить свои чувства, свое
понимание жизни, свое отношение к людям, к природе посредством
цвета. «Выразить мысль излучением светлого тона на темном фоне.
Выразить надежду какой-нибудь звездой, горение — лучами заходящего
солнца...»
Винсент горячо защищал право художника «преувеличивать
существенное и не подчеркивать общеизвестное». Не является ли это одним из
важных законов искусства? В конечном счете основы искусств едины.
Настоящая живопись — это ведь не подделка жизни, не обман глаза, точно так же
как литература — не обман слуха или воображения. Разговор двух
собеседников, подслушанный магнитофоном, это еще не диалог из рассказа,
повести или романа. Материал жизни должен пройти сквозь горнило
художественного творчества, чтобы из него выковалось то, что достойно
называться искусством. «Жизнь, увиденная сквозь темперамент художника», —
так определял искусство Золя. Ван-Гог дал этому определению особенно
яркое подтверждение.
Жажда выразительности и в то же время простоты, стремление с
помощью красок выразить свои переживания, свою любовь к жизни, свое
сочувствие — как это ощутимо в его живописи, чем-то напоминающей
народные лубочные картинки, возвышенные до уровня большого искусства!
Песенная чистота цвета сочетается здесь с чистотой чувств, — будь то
радость, боль, гнев или жажда истины и свободы.
К сожалению, в наших музеях хранится всего лишь девять картин Ван-
Гога; каждая из них стоит подробного рассказа, мы еще к ним вернемся.
Покуда же остановимся на трагических событиях, разыгравшихся в Арле
после приезда Гогена.
* + *
Он приехал в конце октября, уступив настойчивым просьбам Винсента,
не оставлявшего надежд на «мастерскую будущего».
Ван-Гога он застал не в лучшем виде. Винсент был измучен
одиночеством и напряженной работой. Все лето он писал запоем, проводя все дни
напролет на палящем солнце. Его донимали бессонница и приступы
беспричинной тоски.
Впрочем, можно ли было назвать его тоску беспричинной? Такие
приступы случались с ним и раньше. «Я, если можно так выразиться,
заработал это, — писал он однажды брату, — заработал в те годы, когда жил в
таком убожестве. Спроси врача — он сразу все поймет! Спроси его, могло
ли быть иначе?»
И правда, как могли пройти бесследно годы голодных скитаний, годы
одиночества? «Я испытываю нужду в сочувствии с какой-то алчностью и
жаждой», — признавался он, но не находил ни сочувствия, ни понимания.
Его душевные порывы наталкивались на всеобщее равнодушие или
враждебность. Где бы ни жил он — повсюду он казался отщепенцем, бродягой,
одержимым, едва ли не умалишенным. Так было и в захолустном Арле,
где на него оглядывались местные обыватели, шепчась за его спиной и
пугая им детей.
Он воевал с бессонницей, впрыскивая в подушку огромные дозы
камфары (аптекарь с ужасом сообщал об этом всем и каждому). Но даже
камфара не всегда помогала, и Винсент нередко просиживал до рассвета
в ночном кафе, дымя трубкой и потягивая горький абсент.
Все передуманное тяжкими бессонными ночами выразилось в
знаменитой картине «Ночное кафе». Казалось бы, что примечательного? Голые
стены цвета бычьей крови, мутно горящие газовые лампы, пустой
бильярдный стол, буфетная стойка, столики, стулья, часы над дверным
проемом... Но от каждого изображенного здесь предмета, даже от освещенных
мертвенным зеленовато-желтым светом досок скобленого пола веет
безысходной «перекошенностью» захолустной жизни, неодолимой тоской,
предчувствием катастрофы.
Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Ван-Гога, если бы в
Арль не приехал Гоген. Винсент готовился к его приезду с необычайным
воодушевлением. Он воспрял духом, веря в доброе начало задуманного
дела и надеясь, что вслед за Гогеном приедут и другие. Он просил брата
прислать еще немного денег, чтобы купить мебель, подрамники, краски...
144
Поль Гоген. Две таитянки.
«Мастерская полностью должна быть достойна такого художника, как
Гоген, — писал он. — Он ведь должен стать ее главой...»
По-прежнему он готов был видеть в Гогене наставника, друга,
единомышленника. Разве не объединяло их стремление «выразить себя»,
пойти дальше импрессионистов, свободно пользуясь цветом? В их судьбе,
их скитаниях и борьбе было ведь столько общего!
Так казалось поначалу Винсенту. Но с каждым днем совместной жизни
все отчетливее прояснялось опасное несходство характеров. Кипучая
восторженность столкнулась с холодной сдержанностью, простодушная
откровенность — с угрюмой замкнутостью.
Гогену порой недоставало терпимости, умения ужиться. Он проявлял
недовольство беспорядочностью Винсента, его неопрятностью. Он
подшучивал над его манерой говорить (у Ван-Гога был твердый голландский
акцент), над его самоотверженностью, добротой, даже над его тоской по
родине. Сам того не желая, он то и дело ранил самолюбие Винсента, вызывая
его на открытые стычки.
Все это выходило за пределы видимых причин; за внешними поводами
таилось главное: тут столкнулись не только различные характеры, но и во
многом несхожие взгляды на жизнь и место художника.
Да, верно, Гоген, как и Ван-Гог, отстаивал право художника
«преувеличивать существенное и не подчеркивать общеизвестное» и так же горячо
стремился выразить себя посредством цвета. Но «выразить себя» означало
в то время для Гогена выразить свое глубокое отчуждение от
действительности.
Холст и краски были для него способом ухода, видом бегства от
пошлости и убожества буржуазного мира. Он метался по белу свету, не
находя себе пристанища. Только что он вернулся с острова Мартиника, где
безуспешно пытался создать свой собственный мир, недоступный бурям
и невзгодам, и вскоре после Арля отправился в Бретань, где стал писать
картины на религиозные темы, хоть и не был никогда человеком
религиозным.
«Битва Якова с ангелом», «Желтый Христос»... Это были странные,
фантастические картины. Кажется, игра красок и линий занимала здесь
Гогена куда больше, чем религиозное содержание. Ван-Гог однажды
назвал эти вещи «смутными сновидениями».
И все же талант Гогена был так силен, что даже Винсент на какое-то
время поддался чарам его «гармонических симфоний» и стал фантазиро-
145
вать в живописи, но очень скоро опомнился. «Мне так дорога правда, —
писал он. — так дороги мои собственные попытки писать правдиво, что,
как мне кажется, я предпочту быть сапожником, чем музицировать
красками».
Вот в чем была глубинная суть расхождений, вот где крылся
подспудный смысл напряжения, нараставшего с каждым днем.
* * *
Однажды, когда Винсент писал букет своих любимых подсолнечников,
Гоген решил, пользуясь его всегдашней погруженностью в работу, написать
с него портрет.
Когда он закончил и показал его Винсенту, тот поглядел молча.
И вдруг, растерянно проведя ладонью по лбу, сказал:
— Это совершеннейший я, но только ставший сумасшедшим.
Быть может, беспощадно проницательный взгляд Гогена лишь
подтвердил то, что давно уже чувствовал (или предчувствовал) сам Винсент.
«Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в
любви, в делах и планах, — писал он однажды брату. — Но это не может
повторяться!» Между тем унижения и оскорбления повторялись, расшатывая
и без того неустойчивое душевное здоровье Винсента.
Зимним вечером, сидя в кафе, он в ответ на какую-то колкость Гогена
внезапно швырнул в него стакан с абсентом. Это было открытым началом
тяжелой душевной болезни.
Винсент боролся с ней изо всех сил. Наутро он искренне извинился
перед Гогеном. Тот принял извинения холодно и заявил, что уезжает
Одного этого внезапно объявленного решения было достаточно, чтобы
повергнуть Винсента в новый приступ. Вечером, когда Гоген вышел из
дому прогуляться, Винсент бросился вслед за ним, держа в руке бритву.
Гоген обернулся на звук его торопливых нервных шагов.
«Должно быть, взгляд мой в эту минуту был очень могуч, —
рассказывал позднее Гоген, — так как он остановился и, склонив голову, бегом
бросился по дороге домой».
Дело, разумеется, было не в «могуществе взгляда». Винсент из
последних сил боролся с безумием. Пелена вдруг упала: стыд, ужас, смятение
охватили его. В такую минуту, в приливе отчаяния и горькой досады,
другой человек, быть может, ударил бы себя кулаком по лбу. Винсент же,
взмахнув бритвой, отрезал себе ухо.
146
Гоген узнал об этом лишь наутро (он спокойно переночевал в
гостинице) и не нашел ничего лучшего, как уехать, покинув друга в беде.
Винсента взяли в больницу, откуда он вскоре вышел здоровым, но
ненадолго. Жители Арля были взбудоражены случившимся. На улицах от
Винсента отворачивались, в кафе боялись сесть поблизости. Вскоре
группа почтеннейших обывателей обратилась к мэру с просьбой
изолировать одноухого безумца. Полиция ввалилась к Винсенту, оторвав его от
мольберта. Его засадили в одиночную камеру для умалишенных, запретив
даже курить.
Трудно описать в кратких словах дальнейшее. «Поскольку я могу
судить, я, в сущности, не сумасшедший, — делился с братом Винсент, выйдя
на волю. — Ты увидишь, что картины, выполненные мной за это время,
спокойны и не хуже других. Мне скорее не хватает работы, чем то, что она
утомляет...»
И ведь это действительно так. Его пейзажи — виды весеннего Арля с
нагими ветвями тополей, греющихся под мартовским солнцем, с
прозрачным бездонным небом, нежно-зеленой молодой травой, зацветающими
садами — полны чувства обновления и надежды. Кажется, никогда еще его
искусство не было так просветленно, не сулило так много радости.
И тем не менее Винсента не оставляет страшная мысль, впервые
вставшая перед ним в больнице: не лучше ли все-таки жить среди
умалишенных, чем на свободе, среди «всех этих добродетельных людей», которым он
не сделал ничего худого?
Отгородившись от бессердечного мира стеной убежища для
душевнобольных Сен-Реми, он пишет брату: «...люди здесь хорошо понимают друг
друга, и один помогает другому, когда тот впадает в кризис. Когда я
работаю в саду, они посещают меня, чтобы посмотреть, и, уверяю вас, они
более сдержанны и вежливы и больше оставляют меня в покое, чем,
например, добрые граждане в Арле. Было бы хорошо, если б я остался здесь
подольше. Нигде не мог бы я так спокойно работать, как здесь...»
Вот что остается для него самым важным и спасительным. Прошлое
вновь и вновь берет его за горло, напоминая о себе тюремной решеткой на
окне комнаты, бессонницей, приступами тяжкой тоски, порой доводящими
до полного помрачения. Врачи ничего не могут поделать с болезнью.
Винсент сам знает единственное лекарство: «Изо всех сил борюсь, чтобы
овладеть работой, и говорю себе: если выиграю, это будет лучшим
громоотводом для моей болезни; я одержу над ней победу».
147
Луч надежды вспыхивает весной: на выставке в Брюсселе продана его
картина — первая в жизни! Винсент взбудоражен. Он более не хочет
оставаться за решеткой. Прочь, прочь отсюда, — быть может, еще не все
потеряно, быть может, он все-таки нужен людям. Сделать последнее усилие,
вернуться на родную почву, к тем, для кого он жил, страдал, искал
совершенства!
«Когда я возвращусь на север, мне предстоит делать этюды с натуры,
с крестьян и пейзажей...»
Но этой надежде не суждено осуществиться. Винсент едет из Сен-Реми
в Париж, чтобы посоветоваться с братом и все решить. Теодору трудно
говорить, но Винсент, кажется, и сам понимает: на север он ехать не может, и
не сможет уже никогда. Он должен лечиться, жить под постоянным
наблюдением опытного врача. Теодор уже говорил с таким врачом, это некий
доктор Гаше, друг Сезанна...
В конце мая 1890 года Винсент поселяется в Овере-на-Уазе, последней
гавани своих странствий. Он живет у доктора Гаше, работает ненасытно,
будто знает, как мало дней отпущено ему судьбой. За два месяца он
написал здесь пятьдесят шесть холстов!
Болезнь не оставляет его. «Что поделаешь! — пишет он после тяжкого
приступа. — Видите, я стараюсь сохранить хорошее настроение, но моя
жизнь подрезается в корне, и шаг мой колеблется...»
27 июля, выйдя в поле, где поспевали хлеба, он выстрелил в себя из
маленького револьвера и умер через день на руках у Теодора,
примчавшегося в Овер.
Тео ненадолго пережил Винсента. Самоубийство брата было для него
ударом в сердце. Через две недели он тяжело заболел и умер спустя шесть
месяцев. Братья похоронены рядом на маленьком деревенском кладбище
среди обширных полей.
* * *
Полю Гогену суждено было прожить еще тринадцать лет. Покинув
Париж, он отправился на остров Таити, выражая этим свое презрение к
цивилизации жиреющих буржуа. Там он надеялся осуществить давние мечты
о жизни, близкой к природе, и о независимом, свободном искусстве.
На Таити Гоген голодал, тяжело болел. Картины, которые он там писал,
завоевали ему великую посмертную славу.
В наших музеях вы найдете около тридцати холстов Поля Гогена.
148
Лишь два из них — «Автопортрет» и «Кафе» — написаны во Франции
(картина «Кафе» написана в Арле, в том самом ночном кафе, которое писал
Винсент и где произошли события, о которых я рассказывал). Все
остальные писаны на Таити и на острове Доминика, куда Гоген бежал с Таити от
преследований французских колониальных властей и где умер нищим в
1903 году.
Много любопытного связано с этими картинами для тех, кто знает
жизнь Гогена, кто читал его книгу «Ноа-Ноа». Вглядитесь же в это
смуглое лицо с чертами крупными, резкими, с тяжелыми веками, лицо
бездомного скитальца, неистового искателя. Посмотрите в московском музее
«Жену короля». Эту картину после смерти Гогена сравнивали с
«Отдыхающей Венерой» Джорджоне и «Олимпией» Эдуарда Мане. Не правда ли,
есть много общего между названными картинами — в сюжете и
композиции, — не для того ли так сделал художник, чтобы нагляднее стала его
победа, завоеванная трудной ценой?
Покидая Францию, он писал: «Я еду на Таити, маленький островок в
Великом океане, где еще можно прожить без денег. В Европе для будущего
поколения уготовано ужасное будущее: время господства золота. Все
прогнило, и люди, и искусство...» Он искал на Таити убежище, а обрел нечто
гораздо более нужное; обрел то, без чего нет и не может быть искусства,—
любовь и доверие к человеку.
Его жесткий характер смягчился. В нем проступили черты, прежде
скрытые. Пастор, навещавший его в последние дни жизни, рассказывал о
нем, как о человеке, исключительно простом и мягком в обращении с
местными жителями. Гоген защищал их чем мог от произвола и притеснений
колониальной администрации. Он был с ними добр, он любил их, и эта
любовь сквозит в картинах, покоряющих красотой цвета, гармоническим
равновесием, певучей музыкальностью линий.
Гоген предпочитал писать на грубом зернистом холсте, сохраняя четкие
контуры и кладя краски тонким прозрачным слоем. Он не рассчитывал на
иллюзию: его картины можно смотреть в целом и в частностях, на
расстоянии и вблизи, наслаждаясь попросту сочетаниями тонов — прохладных и
жарких, оранжевых, зеленовато-синих, лимонных, коричневых, лиловых.
Музыка его живописи звучит песнью любви к щедрой солнцем природе и
простодушным людям, свободным от предрассудков мещанской
цивилизации.
Среди всех картин Гогена, хранящихся у нас, есть одна, подле которой
149
останавливаешься, испытывая нелегкое чувство, — мне трудно назвать его
иначе, чем горьким сожалением. Я говорю о «Попугаях» из московского
музея.
Эту небольшую картину Гоген написал незадолго до смерти; по технике
она похожа на его ранние работы. Он как бы вспоминает о молодости, о
простодушной верности светотени, полутонам, об импрессионизме. Но как
странно горьки его воспоминания!
В многочисленных натюрмортах, какие мне приходилось видеть, нередко
встречалась битая птица — фазаны, куропатки, тетерева. Но мертвые
попугаи... Право же, есть что-то необъяснимо зловещее в этом: три очень
красивых, но мертвых попугая-какаду на синевато-белой скатерти и
равнодушный темно-оранжевый будда...
# * *
А в нескольких шагах — пять полных радости, боли и сострадания
холстов Винсента.
В июле 1888 года он уехал на несколько дней из Арля в рыбацкий
поселок Сен-Мари и оттуда писал брату: «Море имеет цвет макрели, оно
изменчиво, не знаешь — зеленое или фиолетовое, а спустя секунду — розовое
и серое...» Как верно уловлена эта изменчивость в небольшой картине, где
рыбачьи лодки расцветают будто цветы на вечно волнующемся поле!
«Портрет доктора Рея», врача из больницы в Арле... Кажется, вся тяга
его к здоровью и вера в добро запечатлены в облике этого круглолицего
человека с благожелательным взглядом и юношески припухлыми губами.
Живопись портрета удивительно ясная; ни светотени, ни рефлексов — все
выражено точным сопоставлением немногих тонов. Только орнамент
фона — беспокойный, будто вспышки алого пламени, — напоминает о
разыгравшейся трагедии.
«Прогулка заключенных» — свидетельство тяжких месяцев Сен-Реми.
Зимой, в час сжимающей сердце тоски, когда за желтой решеткой окна выл
февральский ветер, он писал эту сцену — вольное переложение гравюры
Гюстава Доре из альбома «Лондон». Писал собственные страдания и
вместе с тем страдания всех лишенных свободы, арестантов и неарестантов,
шагающих по замкнутому кругу под равнодушными взглядами власть
имущих.
Еще две картины — пожалуй, самые примечательные из хранящихся у
нас.
150
Винсент Ван-Гог.
Портрет доктора Рея.
«Красные виноградники Арля». Первая и единственная картина,
купленная при жизни Винсента. Одна из лучших его картин. Осенью 1888
года, вскоре после приезда Гогена, Винсент писал брату из Арля: «В
понедельник — ах, если бы ты был с нами! — мы видели красный, как красное
вино, виноградник. Вдали он становился желтым, затем шло серое небо, и
надо всем солнце. Почва после дождя была фиолетовая и светилась
желтым в тех местах, где отражалось заходящее солнце».
В картине, которую он написал под впечатлением увиденного,
соединились две главные темы его искусства — природа и труд. Соединились в
счастливом сплаве сияющих красок. Синие платья сборщиц винограда горят,
будто драгоценные каменья среди червонного золота и густого багрянца
151
осени, в необыкновенном свечении влажного воздуха, чем-то
напомнившего воздух Голландии...
И, наконец, последний холст — «Пейзаж в Овере...»
В кармане куртки Винсента в день его смерти осталось неотправленное
письмо, последнее письмо брату, как всегда с набросками среди текста.
«Может быть, ты взглянешь на рисунок с сада Добиньи. Это — одна из
сильнейших моих работ. Я прибавлю к ней рисунок старых соломенных
крыш и рисунки с двух картин — необъятное поле, изображенное после
дождя».
Вот оно, омытое ливнем необъятное поле, где все говорит о жизни — и
прохладно-свежая зелень, и светлая лента не успевшей впитать воду
дороги, и клубящийся белый дым, оставленный локомотивом, бегущим вдоль
горизонта.
Сложное чувство охватывает меня перед этой картиной. Грустно —
ведь знаешь, что это едва ли не последний холст Винсента. И в то же время
сердце полнится тихой радостью, как в минуту душевного покоя перед
лицом природы. Хочется помолчать, и вместе с тем нет сил сдержаться от
выражений восхищения. Хочется, чтобы и другие порадовались простоте
живописи, свежести красок, необыкновенной точности кисти Винсента,
чувству простора и радости бытия. Чтобы подивились тому, как плавно
стелются, вытекают одно из другого зеленеющие поля, уходя в далекую
даль.
Быть может, подойдя поближе, вы удивитесь и тому, как написано небо
в этой картине, — горизонтальными ровными мазками, сиреневыми и
зелеными по открытому белому грунту. На мой взгляд — это не только чудо
мастерства, но и свидетельство глубокого доверия к зрителю. Если вы
присмотритесь получше, то несомненно увидите, что не только небо, а
и вся картина написана единым дыханием, без малейшей поправки. Такая
цельность взгляда и снайперская точность мазка доступны были
немногим.
Лионелло Вентури сравнил мазок Ван-Гога с волнами, гонимыми
ветром, или звуками, образующими слово. «Не ищем ли мы скорее
напряженности мысли, чем спокойствия мазка?» — сказал однажды сам Винсент.
Он писал «дрожащей от возбуждения кистью», каждый удар которой
был чистым отзвуком его собственных чувств, его личности; не потому ли
так же трудно оказалось подражать Ван-Гогу, как и Рембрандту? (Можно
повторить манеру, но подделать чувство нельзя.)
152
Винсент Ван-Гог. Пейзаж в Овере после дождя.
В Эрмитаже вы сможете увидеть еще четыре холста Винсента.
Цветущий куст олеандра, светящийся насквозь. И «Женщины Арля» —
смуглолицые, в сине-зелено-оранжевых платьях, с глазами, похожими на
печальные цветы. И «Хижины в Овере», с розовеющей на солнце соломой крыш,
будто взбегающие по кудряво-зеленым холмам ввысь, к беспокойному,
клубящемуся облаками небу. И, наконец, «Арена», написанная в мастерской,
без «мотива перед глазами», свидетельство бесплодных посторонних
влияний...
Ван-Гог был не только несравненным поэтом одушевленной природы,
рассказывающей о страстях человеческих, о радостях и печалях земной
жизни. Он создал едва ли не самую обширную в XIX веке галерею
портретов людей труда, которым посвятил свою жизнь, свое искусство.
Зеленое дерево жизии
«У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк
спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурок, затягивается и
улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов».
Я вспоминаю эти слова Ильи Эренбурга, размышляя об
импрессионистах. Многим из них суждена была завидно богатая событиями
жизнь.
Огюст Ренуар родился за семь лет до революции 1848 года и еще
работал, когда над миром занялась заря Октября. Был жив, работал тогда и
Клод Моне (он умер в 1924 году). История не поскупилась: социальные
потрясения, открытия, войны — всего этого вдоволь пришлось на годы
жизни Писарро, Сислея, Сезанна.
«Живописцы счастья» хорошо знали горький вкус несчастья, лишений,
несправедливости. Почему же так улыбчиво, так безмятежно солнечно их
искусство?
Ответить на такой вопрос непросто. Тут соединилось много причин,
и не последнее место среди них занимает «странная улыбка» парижского
бедняка, о которой писал Эренбург.
«Встречать беду улыбкой» (выражение Дюран-Рюэля) — национальное
свойство, яркая черта французского характера. Вот почему
импрессионисты — со всеми своими достоинствами и заблуждениями — принадлежат
Франции как ее кровные дети.
154
Камилл Писарро. Матушка Ларшевек.
Каждый народ вносит в сокровищницу искусства свое. Только
национальное способно стать общечеловеческим. Чтобы прояснить до конца эту
мысль, скажу еще несколько слов о событиях 1863 года.
Как вы знаете, волнения среди художников произошли почти
одновременно в Париже и Петербурге. Эти волнения были частью всеобщего
движения умов, которое охватило Европу после французской революции
1848 года. И в Париже, и в Петербурге художники восстали против
окаменелого классицизма, против засилья лжи в искусстве. Но, поднявшись
против общего врага, живописцы Франции и России пошли дальше разными,
непохожими путями.
Плохо это или хорошо? Вернее всего было бы сказать — это
естественно.
Русские передвижники были настолько же плоть от плоти своей
страны, выражением национального характера своего народа, насколько
импрессионисты были плоть от плоти Франции.
Если бы удалось собрать воедино все, что сделали эти художники, то
мы увидели бы трепетно живую панораму — городские площади, людные
бульвары, деревенские улицы, луга и поля, снег, цветы Франции, весенние
разливы ее рек... Мы побывали бы на дымных вокзалах и в людных портах,
в простонародных ресторанах и кабачках, среди любителей абсента или
парижских продавщиц, пляшущих со своими дружками в «Мулен-де-ла-Га-
летт». Перед нами прошли бы углекопы и музыканты, прачки, актрисы,
почтальоны, мостильщики улиц, поэты, солдаты. Мы познакомились бы с
«матушкой Ларшевек», бретонской крестьянкой (право же, мало кому
удавалось так выразить душу народа в одном портрете, как это удалось
Камиллу Писарро).
Правда, тут нам не довелось бы полюбоваться «сильными мира сего»
Зря бы стали вы искать здесь всемогущих министров, кардиналов,
банкиров или генералов, блистающих орденами. Не найдете вы тут и сцен из
жизни «высшего света» или лжеисторических композиций.
Это искусство возникло из воли к свободе, оно демократично «от
рождения», по самой своей природе. И не зря в Америке, куда Дюран-Рюэль
привез выставку импрессионистов, ее называли в газетах «воплощенным
коммунизмом во фригийской шапочке и с красным флагом в руке».
Нет, не зря ненавидел этих живописцев Наполеон Малый. Дух тирании
не может ужиться с духом вольности. Простая человеческая улыбка бывает
иной раз сильнее динамита.
156
* * *
Кто-то из современников назвал импрессионистов «новой ветвью на
старом стволе искусства». Корни древнего вечнозеленого дерева глубоко
уходят в почву народной жизни, а вершина тянется к солнцу новыми и
новыми ветвями.
Анри Матисс, Альбер Марке, Фернан Леже, Пабло Пикассо — вот
лишь некоторые из имен, что прозвучали во Франции на рубеже нового
века. Как ни различны эти художники, в творчестве каждого из них живет
частица дерзаний старшего поколения. О каждом из них следовало бы
рассказать, но это — тема еще не написанной книги. А сейчас я хотел бы
поделиться некоторыми мыслями в заключение рассказанного.
Мы часто и справедливо говорим о необходимости тесной связи
искусства с жизнью, но при этом нередко рассматриваем искусство лишь как
зеркальное отражение действительности. Между тем взаимосвязи
искусства с жизнью куда более сложны, и тут, возможно, уместно было бы
подумать о взаимовлиянии.
История не раз подтверждала, что только тот достоин быть и
называться художником, кто видит острее, глубже, дальше и тем самым способен
сообщить человечеству новое. А сообщая нам новое, художник влияет на
нас, обогащает наш опыт и чувства. При этом он ждет понимания — вот о
чем не следует забывать, встречаясь с новизной в искусстве.
Тот, кто любит живопись Серова или Коровина, Кустодиева, Конча-
ловского или Сарьяна, не может не заметить, какое значение имел для
живописцев нашего века опыт Клода Моне, Сезанна, Ван-Гога. Это вполне
естественно, иначе и быть не должно. Великие национальные достижения
тем и велики, что становятся частью общечеловеческих достижений.
Вряд ли найдется теперь на земном шаре уголок, где не знали бы имен
художников, о которых я рассказал. Их завоевания стали не только
достоянием художественных музеев — они глубоко проникли в жизнь, и теперь
повсюду, порой даже в окраске станков или стен заводского цеха,
содержатся крупицы великого труда живописцев, открывших нашему разуму и
нашему глазу новые богатства.
С давних пор искусство сражается с темными сторонами
действительности. Лучшие художники видели и видят в этом свой долг перед обществом
и собственной совестью. Даже в справедливом будущем, которое мы
строим, за искусством останется обязанность нравственного улучшения
человека. Но чем шире будет становиться «солнечная сторона» жизни,
157
тем ближе и ценнее будет для всех нас опыт радостного, солнечного
искусства.
Думая о нерасторжимой связи прошлого с будущим, о
сегодняшних исканиях, заботах и тревогах искусства, я вспоминаю письмо Камилла
Писарро своему старшему сыну Люсьену и его товарищам, пожелавшим
стать художниками.
Вот что он им писал:
«Не доверяйте моим суждениям, — я так жажду, чтобы вы все стали
великими, что не могу скрывать от вас свои мнения. Принимайте только
те из них, которые соответствуют вашим чувствам, складу вашего
мышления. Больше всего я боюсь, чтобы вы не были слишком похожими на меня.
Будьте же смелыми, и за работу!»
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Рождение слова 3
«Салон отверженных» 8
Три силы 12
Идущие впереди 17
Новое оружие 25
«Батиньольская прачка» 34
ГЛАВА ВТОРАЯ
Созвучие 41
Свет и тень 52
Буживаль , 63
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Война и мир 69
До и после первой выставки 87
«Живописец счастья» 93
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Годы испытаний 99
Горькие радости 109
Весь долгий путь 112
Что же дальше? 121
ГЛАВА ПЯТАЯ
Два полюса 131
Зеленое дерево жизни 154
К ЧИТАТЕЛЯМ
Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.
На суперобложке рисунок Пьера-Огюста Ренуара.
На переплете рисунок Клода Моне
На фронтисписе картина Пьера-Огюста Ренуара
«Девочка с кнутиком».
Заставки:
к первой главе — рисунок Эжена Делакруа,
ко второй главе — рисунок Клода Моне,
к третьей главе — рисунок Камилла Писарро,
к четвертой главе — рисунок Эдгара Дега,
к пятой главе — рисунок Винсента Ван-Гога.
Оформление .1, 3 у с м а н а
Для старшего возраста
Волынский Леоиш) Наумович
ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Ответственный редактор И. В. П а х о м о в а. Художественный редактор Н. И. Комарова.
Технический редактор И. Г. Найденова. Корректоры Т. П. Лейзерович и М. Б. Шварц.
Сдано в набор 8 VII 1963 г. Подписано к печати 17/1 1964 г. Формат 70Х901/,,, — 11,63 печ. л. - 13,61 усл.
печ. л. (9.78 + 10 вкл. — 10,5 уч.-изд. л.). Тираж 60 000 экз. ТП 1963 № 525 А01423. Цена 91 коп.
Издательство „Детская литература" Москва. М. Черкасский пер., 1.
Фабрика детской книги. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4952