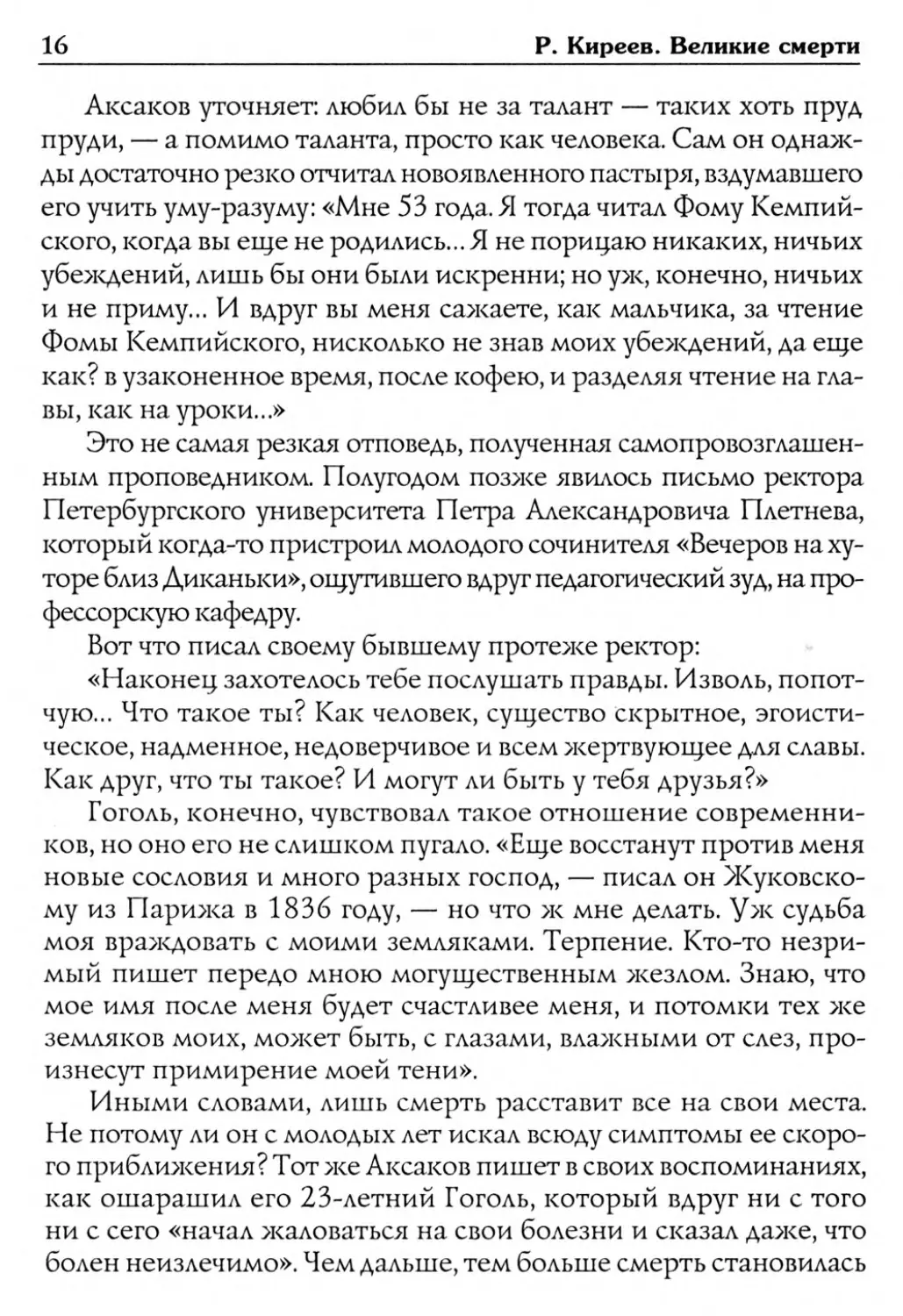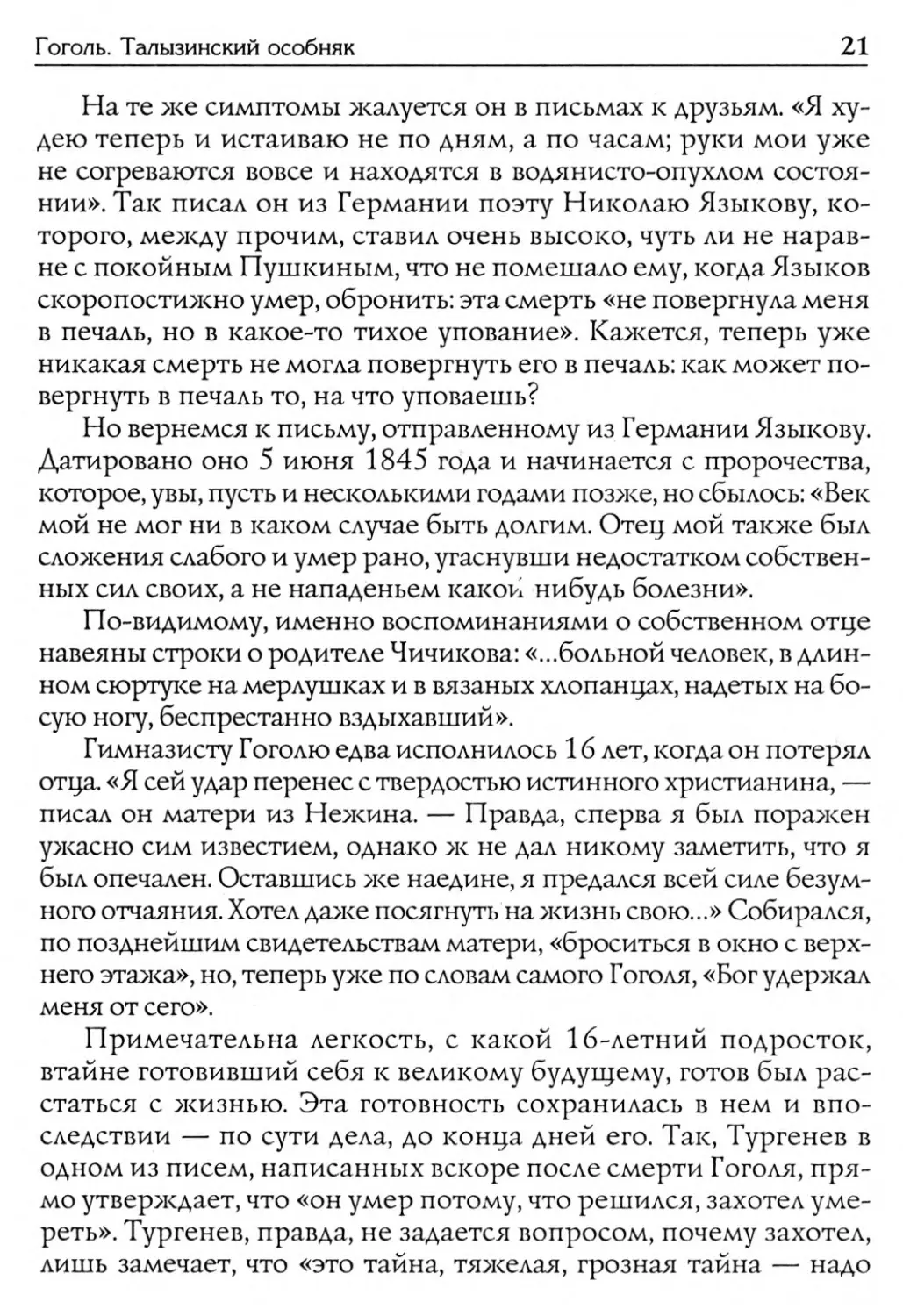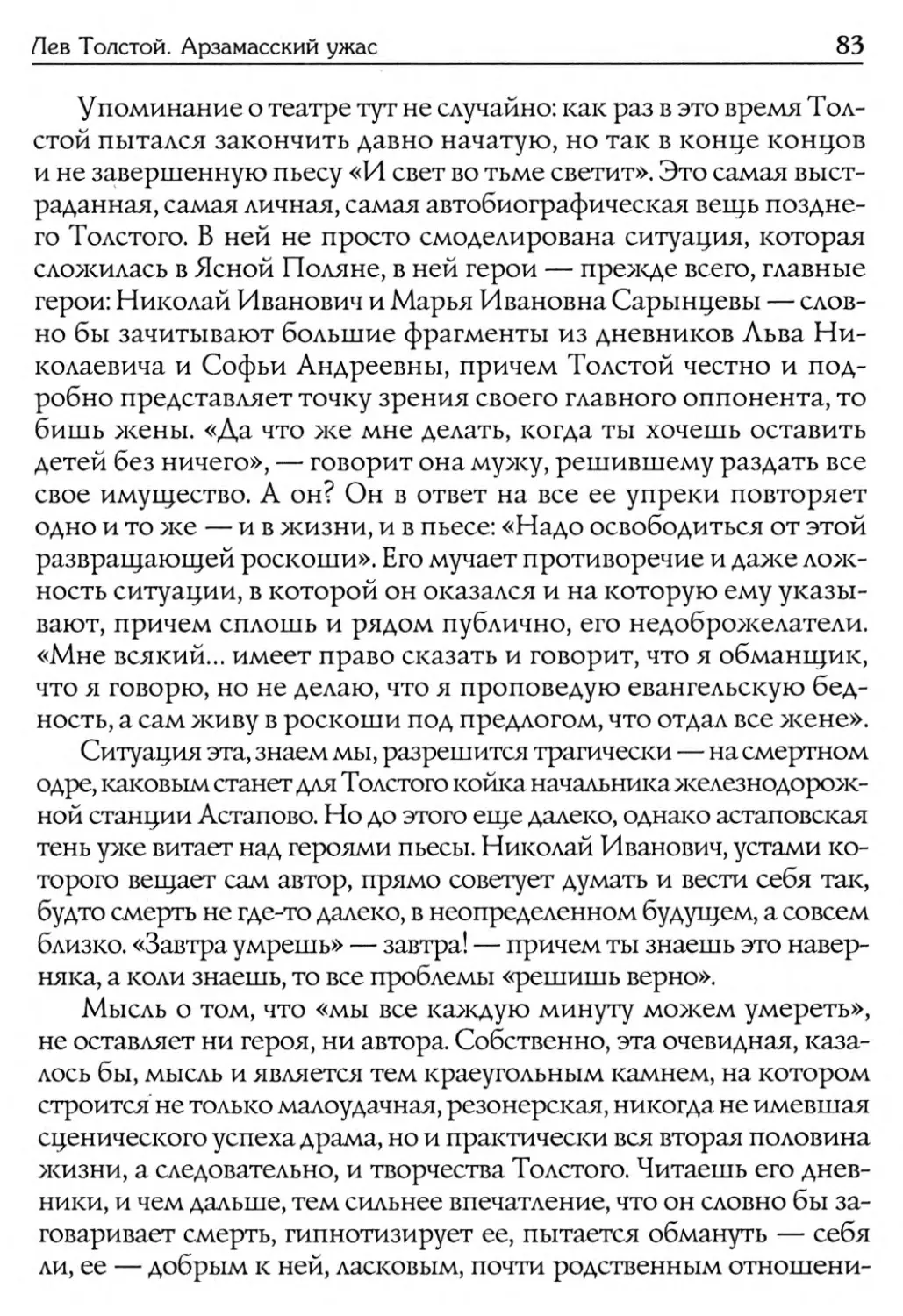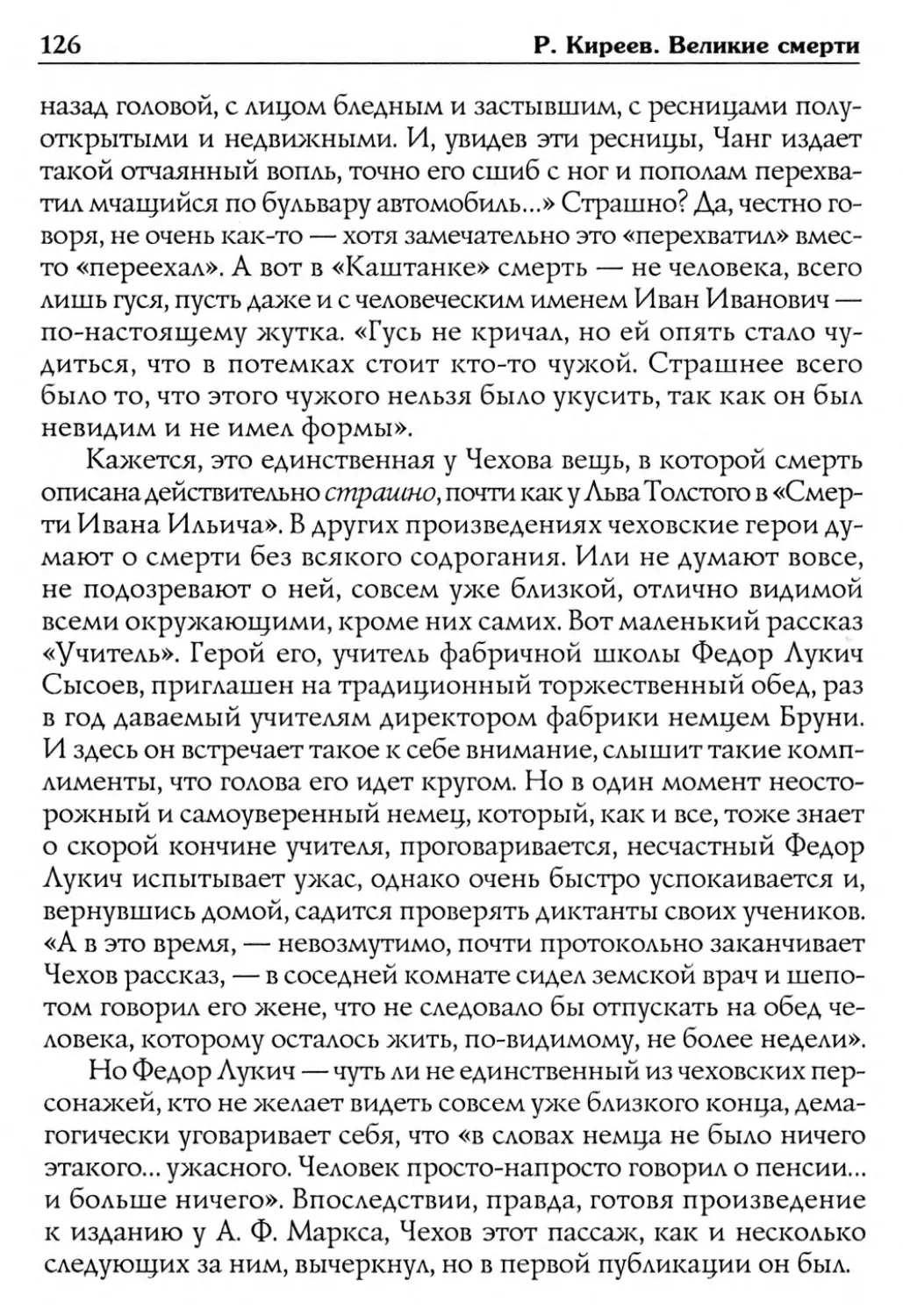Автор: Киреев Р.Т.
Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран отечественная словесность
ISBN: 5-93196-310-3
Год: 2004
Текст
Гоголь «/I. Толстой «Чехов
ВЕЛИКИЕ
СМЕРТИ
у/итературнъьй
1еминар
тературный
Руслан Киреев
Великие смерти
Гоголь
Л. Толстой
Чехов
Москва
Глобулус
ЭНАС
2004
УДК 821.161.1.09
БЕК 83.3(2Рос=Рус)1
К43
Киреев Р. Т.
К43 Великие смерти: Гоголь. Л. Толстой. Чехов. — М.: Глобу-
лус, Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. — 152 с. — (Литературный
семинар).
ISBN 5-93196-310-3 (ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС»)
ISBN 5-94851-085-9 (ООО «Глобулус»)
тов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов, а также для всех,
УДК 821.161.1.09
БЕК 83.3(2Рос=Рус)1
ISBN 5-93196-310-3
(ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС») © р т Киреев, 2004
ISBN 5-94851-085-9 © ООО «Глобулус», 2004
(ООО «Глобулус») ©ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС», 2004
гоголь.
ТАЛЫЗИНСКИЙ ОСОБНЯК
феврале 1835 года живущий
на чердаке Гоголь («выгнан из прежней квартиры по случаю пе-
ределки дома») сообщает в письме к историку и литератору Ми-
хаилу Погодину: «...пишу для «М. н.» особенную повесть».
«М. н.» — это журнал «Московский наблюдатель». А «особен-
ная повесть» — не что иное, как будущий «Нос», быть может, клю-
чевое произведение в понимании Гоголя, в постижении тайны его
А тайна тут, безусловно, есть. Как жизнерадостный, безудер-
жно веселый автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» превра-
тился за каких-то 20 лет в нравоучительного меланхолика, упря-
мо и осознанно сводящего себя в могилу? Такое впечатление, что
мы имеем дело с двумя разными людьми, непостижимо уживаю-
щимися в одной оболочке.
Но может быть, так оно и было на самом деле? Пристально
и непредвзято вчитываясь в «особенную повесть», все более ук-
Тут надо оговориться, что слово «особенный», столь уместное
в определении самого загадочного, самого экстравагантного, са-
мого в некотором смысле автобиографического, хотя и скрытно
автобиографического, произведения Гоголя, употреблено авто-
ром, оказывается, не в нынешнем значении, когда оно — синоним
непохожести на другое, необычности (именно этот смысл со-
временные словари выдвигают на первый план), а как, по Далю,
«отдельный, опричный, невместный, не общий». Ныне это тол-
кование дается с пометкой устаревшее, у Даля же оно идет как
главное, что полностью соответствует контексту гоголевского
письма: «Из «Вечеров» ничего не могу дать, потому что «Вечера»
на днях выходят. Но я пишу для «М. н.» особенную повесть».
Отдельную, стало быть. Не в цикле «Вечеров на хуторе...»
Опринъ «Вечеров...» Однако постепенно, в контексте жизни Гоголя
и последующего изучения ее, последующего осмысления, словечко
это обрело новый, теперь уже современный смысл
«Нос» и впрямь повесть особенная. «Я, признаюсь, не могу
постичь, как я мог написать это», — с этаким простодушием
(или с деланным простодушием) удивлялся автор.
Сей игривый пассаж отсутствует в окончательном тексте
«Носа», но в первом варианте он был А еще в первом варианте
благосклонного читателя уверяли, будто «все, что ни описано здесь,
виделось майору во сне».
Не во сне... К тому же превращение человека в нос, с последую-
щим его отделением, произошло не вдруг, а исподволь подготавли-
валось за пределами повести, и процесс этот, его начальная, во вся-
ком случае, стадия зафиксирована. «Лоб не опускался прямо к носу,
он был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был
продолжение его — велик и туп. Губы, только верхняя выдвинулась
далее. Подбородка совсем не было. От носа шла диагональная ли-
ния до самой шеи. Это был треугольник, вершина которого нахо-
дилась в носе...» Так заканчивается один из набросков незавершен-
ной «Страшной руки», и сама медлительность, сама постепенность
превращения отражает медленность, постепенность раздвоения —
раздвоения как майора Ковалева, так и его создателя.
Когда началось оно? По-видимому, еще в Нежинской гимна-
зии, из воспоминаний о которой встают два весьма разнящихся
друг от друга Гоголя. Один — неопрятный, золотушный, с гряз-
ными ушами, из которых вечно текло что-то, грызущий постоян-
но медовые пряники, подозрительный, недалекий, замкну-
тый, — соученики избегали его и даже, утверждает один из них,
старались не касаться книг, которые побывали у него в руках, —
но это один Гоголь, а другой — живой, общительный, остроум-
ный, наблюдательный, и — что особенно примечательно — вели-
колепный комедийный актер. Два штриха, однако, в этих столь
несхожих портретах совпадают: феноменальная лень и абсолют-
ная неспособность к наукам. Последнее, впрочем, не совсем под-
тверждается аттестатом, где лишь по греческому отсутствует от-
метка и лишь одно — по математике — «средственно», осталь-
ные же предметы сданы на «хорошо» и «очень хорошо», а
естественная история и немецкий на «превосходно». Отсюда
следует, что нежинским мемуаристам не следует так уж дове-
рять, тем более что свидетельства их, в большинстве своем, даже
не записаны собственноручно, а дошли до нас в пересказе.
Но еще ведь дошли и письма самого Гоголя тех лет, и письма
эти тоже рисуют двух разных людей. Один бодро сообщает ма-
меньке, что «еще никогда не был в таком хорошем состоянии,
как теперь: весел, радостен», другой хандрит и канючит. Где же
истина? Видимо, в другом письме, позднем, написанном Василию
Андреевичу Жуковскому за четыре года до смерти и чуть ли не
слово в слово повторенном в «Авторской исповеди»: «...бывши
в школе, чувствовал я временами расположение к веселости и на-
доедал товарищам неуместными шутками. Но это были времен-
ные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолич-
ного». В том же письме Гоголь признается, уже не в первый, кста-
ти говоря, раз, что никогда не собирался «быть сатирическим
писателем и смешить своих читателей». Не собирался, но стал и,
с удивлением следя за тем, что вытворяет водимое им перо, по-
жимал плечами: «...не могу постичь, как я мог написать это».
Но если существовало два Гоголя, то волей-неволей задаешь-
ся вопросом: какой из них скончался в Талызинском особняке
21 февраля 1852 года? И не был ли один из них к тому времени
уже мертв, как полагали некоторые современники, считающие,
что поздние создания писателя — это создания Гоголя не живого,
каковым он был, когда писал «Вечера на хуторе...» и «Ревизора»,
а Гоголя мертвого?
К смерти у Николая Васильевича отношение было не просто
двойственное, а прямо-таки противоречивое. «Я не люблю тру-
пов и покойников», — признается он в «Невском проспекте», но в
10
то же время сколько мертвецов в его произведениях! И в гробу-то
летают, и из-под земли встают... «Крест на могиле зашатался, и тихо
поднялся из нее высохший мертвец». Потом еще один, и еще...
«Страшная месть» называется повесть, но никакая она не
страшная, как не страшны и эти восстающие из праха покой-
нички. Одного из них — правда, из другого произведения —
Набоков назвал даже обаятельным... Чего, надобно признать, не ска-
жешь о большинстве его живых героев. Формально живых... Вот они,
подлинные мертвецы, — это подметил еще Василий Розанов.
«На этой картине, — пишет он, — совершенно нет живых лиц: это
крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои
гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они».
редвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели
это делать, это за них автор переступает ногами, поворачивается,
спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому». Даже дети
не оживают под пером Гоголя—впрочем, детей в «Мертвых душах»
(а речь у Розанова в данном случае о «Мертвых душах») всего двое:
малолетние сыновья Манилова с невероятными какими-то име-
нами Фемистоклюс и Алкид. Куклами называет их — с велико-
лепной яростью — Василий Васильевич, жалкими и смешными
куклами...
«Я желаю иметь мертвых», — без обиняков объявляет опе-
шившему Манилову Чичиков, и за ним явственно проступает блед-
ное изнеможенное лицо самого автора.
«Себя погреб в себе давно я», — признается он устами героя
«Ганца Кюхельгартена», написанного в 18 лет и изданного дву-
мя годами позже под псевдонимом В. Алов. В отличие от «Мерт-
вых душ» эта поэма — стихотворная; впрочем, автор именует
ее не поэмой, а «идиллией в картинах». Вычурное, худосочное
сочинение, навеянное романтическими пушкинскими поэмами,
случайными. Скорей может показаться случайностью — счастли-
вой случайностью! — то обстоятельство, что Гоголь на столь про-
должительный срок задержался на этом свете.
Он не был первенцем у своей юной матери: до него она роди-
ла двоих, но они не выжили. Та же судьба могла постичь и Нико-
ребенком. В течение полутора месяцев боролся за его жизнь зна-
менитый сорочинский доктор Трахимовский. Умер и следующий
ребенок Гоголей Иван, правда, уже в 9-летнем возрасте. Потря-
сенный старший брат (всего год была разница между ними) бук-
вально не отходил от могилы младшего. Лишь на нем, выходит,
прервалась череда смертей. Или, правильней сказать, не прерва-
лась, а сделала паузу. Он чувствовал это. «Уверенность... в близкой
своей кончине так была сильна», — напишет он, совсем еще мо-
лодым, в «Старосветских помещиках», и хотя слова эти отно-
сятся к Пульхерии Ивановне, ими вполне можно определить со-
стояние души самого автора «Признаюсь, — говорит он в тех же
«Старосветских помещиках», — мне всегда был страшен этот та-
инственный зов».
Всю свою недолгую жизнь Гоголь напряженно вслушивался
в него; не потому ли и окружал себя мертвецами если не в жиз-
ни, то в произведениях своих? «Я желаю иметь мертвых». Но
это — один Гоголь, а другой боялся и избегал их. «Кажется, вид
страдания был невыносим для него, как и вид смерти», — утвер-
ков, который собственноручно переписал под диктовку автора
шесть глав «Мертвых душ». Будучи с Гоголем в Риме и неосмот-
рительно выкупавшись в Тибре, он сильно простудился, горло
раздуло, и Гоголь, увидев это, тотчас сбежал за город и лишь отту-
да прислал хозяину квартиры записку с просьбой заняться боль-
ным. Но это опять-таки один Гоголь, а другой двумя годами рань-
ше в том же Риме неотлучно находится у смертного одра своего
юного друга Иосифа Вьельгорского, погибающего от чахотки.
«Боже, с какой радостью, с каким бы веселием я принял бы на
себя его болезнь, и если бы моя смерть могла возвратить его к
здоровью, с какою готовностью я бы кинулся тогда к ней».
Это не письмо и не художественное произведение, а нечто
вроде дневника, который он озаглавил «Ночи на вилле» и ко-
торый оборвал буквально на полуфразе. Уже тогда он при-
мерял к себе эту наблюдаемую им медленную и мучительную
смерть: «...отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою
жизнь».
Минет год, и те страшные римские дни вернутся к нему, толь-'
ко теперь дело будет происходить не в Риме, а в Вене, и в качестве
умирающего на этот раз будет не его молодой товарищ, а он сам.
Что-то неладное начало вдруг твориться у него в груди, и, человек
мнительный до чрезвычайности, он моментально поставил себе
диагноз: чахотка. «Я испугался; я сам не понимал своего положе-
ния; я бросил занятия, думал, что это от недостатка движения
при водах и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до уста-
лости, и сделал еще хуже. Нервическое расстройство и раздраже-
ние возросло ужасно; тяжесть в груди и давление, никогда дотоле
мною не испытанное, усилилось».
Врачи успокаивали его, как могли: нет никакой чахотки, но
охватившая его тоска не только не отступала, а все больше усили-
валась. Он узнал ее. «Это была та самая тоска, то ужасное беспо-
койство, в котором я видел бедного Вьельгорского в последние
минуты жизни». Диагноз так и не удалось поставить. По-видимо-
му, доктора имели дело с первым приступом той таинственной,
так до сих пор и не определенной болезни, которая спустя 10 лет
унесет его из жизни. Не от той же, кстати сказать, болезни, то
есть без всяких видимых физиологических причин умирают
Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович?
«Я понимал свое положение и наскоро, собравшись с сила-
ми, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хоть
долги мои были выплачены немедленно после моей смерти», —
написал он Погодину. И добавил: «Но умереть среди немцев мне
показалось страшно. Я велел посадить себя в дилижанс и везти
Дорога, как всегда, подействовала на него благотворно: Гоголь,
пусть ненадолго, но ожил. Впереди был Рим, «при имени кото-
рого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника».
Имя Александра Иванова в «Портрете», где славится вечный го-
род, не названо, но слова о пламенном сердце художника отно-
сятся, безусловно, к нему. «Там, как отшельник, погрузился он
в труд и не развлекаемые ничем занятия». Иванов вообще был
для Гоголя образцом служения искусству — образцом, следовать
которому он, увы, мог далеко не всегда. Так, на сей раз Рим, кото-
рый предстал перед ним «в чудной сияющей панораме», не оп-
Гоголь. Талызинский особняк
равдал его надежд. «Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаро-
вало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния, — жало-
вался он все тому же Погодину. — Что предо мной впереди?
Боже! Я не боюсь малого срока жизни, но я был уверен по такому
свежему доброму началу, что мне два года будет дано плодотвор-
ной жизни, — и теперь от меня скрылась эта сладкая уверен-
ность». То есть не уверен, что и два года проживет. Однако не ско-
рая смерть пугает его, а то, что не успеет завершить начатое.
Если верить Гоголю (а верить Гоголю, как известно, можно
далеко не всегда), еще Пушкин намекал ему на то, что жизнен-
ный срок отпущен молодому писателю не слишком долгий:«.. .на-
чал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, кото-
рые могут прекратить мою жизнь рано». Поэтому, добавил поэт,
недопустимо размениваться по мелочам, а следует немедленно при-
ступить к большой вещи. И тут же подарил сюжет «Мертвых душ».
О недугах, о слабом сложении и, как следствие этого, воз-
можной скорой смерти Гоголь обычно говорит не просто спо-
койно, а с некоторым даже загадочным умиротворением. Но
тогда возникает вопрос: что же навеяло ему такой страх в Вене?
А то опять-таки, что не выполнит своего великого предназна-
чения, в коем был уверен с юных лет, о чем прямо заявил в «Ав-
торской исповеди»: «Мне всегда казалось, что я сделаюсь чело-
веком известным, что меня ожидает просторный круг дей-
ствий...» Правда, сначала он связывает это не с литературным
творчеством, а со службой, но уже скоро сознает: «Не писать
для меня совершенно значило бы то же, что не жить».
В марте 1909 года, в день 100-летнего юбилея Гоголя, Блок про-
чел в зале Дворянского собрания Петербурга небольшую речь, ко-
торая начиналась словами: «Если бы сейчас среди нас жил Гоголь,
мы относились бы к нему так же, как большинство его современ-
ников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью: не-
победимой внутренней тревогой заражает этот, единственный
в своем роде, человек: угрюмый, востроносый, с пронзительными
глазами, больной и мнительный».
Пронзительные глаза—сказано слишком сильно, современни-
ки предпочитали называть их проницательными (впрочем, далеко
не всегда; нередко они были скучающими или даже полусонны-
ми), а вот о заражающей всех внутренней тревоге Блок говорит
абсолютно верно. И тут же прозорливо угадывает источник этой
тревоги, напрямую связанный с признанием Гоголя, что не писать
для него — значило бы не жить: «Отрекшийся от прелести мира
и от женской любви, человек этот сам, как женщина, носил
под сердцем плод: существо, мрачно сосредоточенное и безу-
частное ко всему, кроме одного; не существо, не человек почти,
а как бы один обнаженный слух, отверстый лишь для того, чтобы
слышать медленные движения, потягивания ребенка».
Когда-то, совсем еще молодым, только-только должно было
исполниться девятнадцать, Гоголь не без гордости признался ма-
тери в письме из Нежина: «Никто не разгадал меня совершен-
но». Столько десятилетий утекло с тех пор, столько всего написа-
но о нем, а слова «никто не разгадал меня» совершенно справед-
ливы, по-видимому, и поныне. К блоковской характеристике это
относится тоже.
Что значит — существо, безучастное ко всему? И как соеди-
нить это с реакцией на смерть 9-летнего брата Ивана? Ну ладно,
это близкий человек, брат единоутробный, но мы помним, как
мучительно переживал он из-за смерти юного Вьельгорского. Нет,
к чему-чему, а уж к смерти-то Гоголь безучастен не был — во вся-
ком случае, в ранние свои годы. А потом? Потом душа стала осты-
«Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой дерев-
не и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлаж-
денному взору неприютно. Мне не смешно, и то, что пробудило
бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные
речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят
мои неподвижные уста».
Не Блок, стало быть, говоря о Гоголе, употребил первым слово
«безучастный», его употребил сам Гоголь.
Шестая глава — глава о Плюшкине, остывание, омертвление
души которого практически завершилось. Из всех выведенных
в поэме мертвых душ душа Плюшкина, безусловно, — самая мерт-
вая, причем Гоголь не ограничивается обрисовкой нынешнего
состояния своего героя, как делает это, повествуя о других поме-
щиках, а подробно рассказывает, как этот некогда живой и энер-
гичный человек до такого состояния дошел. Дает историю болез-
ни, которая, прозревает он, начала подтачивать и его. Вот и гово-
рит постоянно о близости конца Вот и готовится к нему. Так,
«Выбранные места из переписки с друзьями», признается он, из-
даны «под влиянием страха смерти».
Это, однако, совсем не тот страх, который терзал, скажем, Льва
Толстого. Загадочный и страшный ростовщик в «Портрете» гово-
рит, что «не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать
в мире». Эти слова Гоголь с полным правом мог отнести и к самому
себе, смолоду, напомним еще раз, верящему в свою исключитель-
ную миссию на земле. Будучи 25 лет от роду, он пропел удиви-
тельный, не имеющий аналогов в мировой литературе дифирамб
своему гению. «О, не разлучайся со мною! — обращается он к нему
в уже тогда свойственном творцу «Тараса Бульбы», над которым
как раз начинал работать, патетическом тоне. — Живи на земле
со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой!
Я совершу, я совершу... Труды мои будут вдохновенны. Над ними
будет веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй
и благослови меня!»
Похоже на молитву. На разговор с ангелом-хранителем На по-
этический экстаз... Ну ладно, с таинственным полумифическим
гением, может быть, и следует беседовать подобным образом,
но ведь Гоголь не дрогнувшей рукой пишет в том же тоне и сво-
им знакомым. Например, другу детства, с которым вместе учил-
ся сперва в Полтаве, потом в Нежине, Александру Данилевскому,
наставляя того на путь истинный: «...теперь ты должен слушать
моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому
бы то ни было, не слушающему моего слова!.. О, верь словам моим!
ровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово...»
Кому может понравиться такое? Да никому...
Сергей Тимофеевич Аксаков, об острой наблюдательности
которого свидетельствуют его книги, обронил в одном из част-
ных, внутрисемейных, к сыну обращенных писем страшную
фразу: «...поистине я не знаю ни одного человека, который бы
любил Гоголя».
Аксаков уточняет: любил бы не за талант — таких хоть пруд
пруди, — а помимо таланта, просто как человека. Сам он однаж-
ды достаточно резко отчитал новоявленного пастыря, вздумавшего
его учить уму-разуму: «Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпий-
ского, когда вы еще не родились... Я не порицаю никаких, ничьих
убеждений, лишь бы они были искренни; но уж, конечно, ничьих
и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение
Фомы Кемпийского, нисколько не знав моих убеждений, да еще
как? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на гла-
вы, как на уроки...»
Это не самая резкая отповедь, полученная самопровозглашен-
ным проповедником. Полугодом позже явилось письмо ректора
Петербургского университета Петра Александровича Плетнева,
который когда-то пристроил молодого сочинителя «Вечеров на ху-
торе близ Диканыси», ощутившего вдруг педагогический зуд, на про-
фессорскую кафедру.
Вот что писал своему бывшему протеже ректор:
«Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь, попот-
чую... Что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоисти-
ческое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы.
Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья?»
Гоголь, конечно, чувствовал такое отношение современни-
ков, но оно его не слишком пугало. «Еще восстанут против меня
новые сословия и много разных господ, — писал он Жуковско-
му из Парижа в 1836 году, — но что ж мне делать. Уж судьба
моя враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незри-
мый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что
мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же
земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, про-
Иными словами, лишь смерть расставит все на свои места.
Не потому ли он с молодых лет искал всюду симптомы ее скоро-
го приближения? Тот же Аксаков пишет в своих воспоминаниях,
как ошарашил его 23-летний Гоголь, который вдруг ни с того
ни с сего «начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что
болен неизлечимо». Чем дальше, тем больше смерть становилась
для него олицетворением некоего естественного и даже спра-
ведливого хода вещей — вот разве что гибель Пушкина застави-
ла его всерьез усомниться в этом.
Трагическая весть застала Гоголя в Париже. «Никакой вести
хуже нельзя было получить из России, — писал он. — Все на-
слаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло
вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна
строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед со-
бою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему из-
речет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня
только занимало и одушевляло мои силы... Несколько раз при-
нимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая
тоска». А по словам Данилевского, того самого друга детства, кото-
рого он наставлял на путь истинный, Гоголь признался ему, что даже
смерть матери так не огорчила бы его, как огорчила смерть Пуш-
Он и впрямь скорбел по Пушкину чрезвычайно сильно, но все-
таки эта была особая, чисто гоголевская скорбь. Не столько, ка-
жется, великого поэта оплакивал он, не столько осиротевшую рус-
скую литературу, не «солнце русской поэзии», которое закати-
лось вдруг, сколько самого себя, лишившегося единственного,
верил он, человека, который по-настоящему понимал его и кото-
рый по-настоящему его поддерживал.
«Ничто мне были все толчки, я плевал на презренную чернь;
мне дорого было его вечное и непреложное слово... Что теперь
жизнь моя?..»
Собственно, последовавшие после гибели Пушкина полто-
ра десятилетия были для Гоголя ничем иным, как подготовкой
к смерти. И кто знает — проживи Пушкин еще двадцать, трид-
цать, сорок лет (а ведь мог бы!), прожил бы дольше и Гоголь.
Одним своим присутствием на свете Пушкин с его непоколе-
бимым убеждением, что «блажен, кто смолоду был молод», за-
медлил бы стремительное, необратимое, почти патологическое
старение Гоголя.
«Тяжело очутиться стариком в лета, еще принадлежащие юно-
сти, ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бес-
силие восторга». Эта самохарактеристика дана Гоголем в 30 лет.
Он сделал это в письме, которое просил немедленно уничто-
жить — у него с молодых лет была загадочная страсть заметать за
собой следы. То исчезал неведомо куда, обычно за границу, то —
что случалось гораздо чаще — предавал огню написанное им.
Впервые это произошло еще в Нежинской гимназии, где
мало кем жалуемый, осыпаемый насмешками и презрением
Гоголь отважился, дабы, видимо, утвердить себя, публично про-
честь свое литературное произведение. Называлось оно так:
«Братья Твердославичи, славянская повесть». Реакция слушателей
была единодушно отрицательной. Гоголь безмолвно выслушал
всех, затем, вспоминает один из очевидцев, «разорвал свою руко-
пись на мелкие кусочки и бросил в топившуюся печь». Потом той
же участи подвергся, уже в Петербурге, злосчастный «Ганц Кю-
хельгартен», разве что не в виде рукописи, а в виде отпечатанной
и даже разосланной книгопродавцам брошюры, которую автор
срочно изъял у них, нанял номер в гостинице и спалил все до еди-
ного экземпляра.
Но сжигал он не только свои произведения, сжигал он, по-
мним мы, и своих героев — по крайней мере, одного из них, Та-
раса Бульбу. Этой грандиозной сценой заканчивается повесть, при-
чем герой, к ногам которого уже подбирается огонь, не только
не испуган, а, напротив, одушевлен: «...вспыхнули радостные очи
у старого атамана». Ладно, то героическая эпоха, героический пер-
сонаж, но разве пугает близкий конец тишайших, вовсе йена миру
умирающих старичков Афанасия Ивановича и Пульхерию Ива-
новну? Не конец своего спутника жизни, а свой собственный...
Или смерть Акакия Акакиевича, правда, воскресающего потом,
но то уже другая история... Такое впечатление, что Гоголь одаривает
смертью своих любимых героев — именно одаривает, — отказы-
вая в ней тем, кого не жалует. Тому же Плюшкину, к примеру,
который уже не одной ногой там, а обеими, словно бы ставящий
грандиозный опыт автор все длит да длит на земле его смердящее
существование. Умирает добродушный философ Хома Брут из «Вия»,
а злая, кровожадная (кровожадная — в буквальном смысле слова:
пьет кровь из тельца ребенка) ведьма-панночка, хоть и оказыва-
ется в гробу, разгуливает по церкви как ни в чем не бывало. Лишь
для некогда талантливого, но златолюбивого и завистливого, чем
19
и сгубил свой талант, Черткова сделал он исключение, ниспослав
ему смерть, как избавление от мучений. «Наконец жизнь его пре-
рвалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его
был страшен».
В первом варианте повести, увидевшей свет в составе «Арабе-
сок», упоминалось еще и безумие, но впоследствии автор предпо-
чел разделить эти понятия — смерть и безумие. В «Записках су-
масшедшего» герой остается жить, а в «Портрете» он умирает,
но не сходит с ума, и это принципиально важно. Будто предуга-
дывая в каком-то сверхъестественном прозрении перипетии соб-
ственного ухода из жизни, Гоголь предупреждает, что, какой бы
странной ни казалась смерть, каким бы противоречащим здраво-
му смыслу ни выглядело поведение художника в его последние
часы и дни, нельзя объяснять это помутнением рассудка.
Гоголя не услышали. Нашлось немало охотников объяснять его
собственное состояние перед смертью, как, впрочем, и самую
смерть, именно помутнением рассудка...
Но вернемся к упомянутым i------
С летами вытерпеть умел..
Гоголь не умел И холод в прямом смысле слова, промозглый
петербургский климат, и в смысле переносном, каковой явно под-
разумевал Пушкин, когда в августе 1831 года писал Гоголю:
«...будьте живы в Петербурге, что довольно, кажется, мудрено».
Прибежищем Гоголя стала Италия. Ей, ни разу к тому време-
ни не виденной въяве, посвящено его первое напечатанное про-
изведение, которое так и называлось: «Италия».
Цензурное разрешение на этих стихах помечено 22 февраля
1829 года — их безымянному автору (стихи появились без под-
писи) еще не исполнилось и двадцати. Но и годы спустя, уже зна-
менитый писатель, он, во второй раз в жизни попав в Италию,
слагает в честь нее гимн — разве что на сей раз в прозе. «Если бы
вы знали, — пишет он из Рима Жуковскому, — с какою радостью
я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу
Италию! Она моя! Никто в мире ее не отнимает у меня. Я родился
здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра,
театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...»
В другом письме, бывшей своей ученице Марии Балабиной,
он уточняет: «...не свою родину, а родину души своей я увидел, где
душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет...»
Но потом все-таки она жила в России и страдала там неимо-
верно — тело его зябло, а душа страдала. Сновидения же свои он
записывал на бумагу, вызывая у одних восторг, у других оторопь.
Набоков называет «Ревизора» сновидческой пьесой, но разве
не справедливо это и по отношению к другим сочинениям Гого-
ля? Мыслимо ли было увидеть в реальности всех этих Хлестако-
вых, Коробочек, Плюшкиных и Ноздревых? «У меня никогда
не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе дей-
ствительность, как она есть вокруг нас», — признавался он в од-
ном из писем. Лишь во сне могли явиться эти карикатуры на че-
ловека — в полусне, в том почти летаргическом состоянии, в ко-
торое, по свидетельству современников, нередко впадал Гоголь,
подчас даже на публике, во время какого-нибудь приема, устро-
енного чуть ли не в честь него, что отнюдь не мешало ему весь
вечер провести, забившись в угол и ни разу не открыв рта.
Это состояние, близкое к летаргическому, его всерьез беспо-
коило: вдруг оно усугубится настолько, что его примут за мерт-
вого и похоронят? Такие случаи бывали в Европе, Гоголь читал о
них и, человек крайне мнительный, находил у себя соответствую-
щие симптомы. Поэтому первым пунктом его завещания, напи-
санного за границей летом 1845 года, значилось следующее рас-
поряжение: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока
не покажутся явные признаки разложения». И добавил: «Упо-
минаю об этом потому, что уже во время самой болезни нахо-
дили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс пе-
реставали биться...»
На те же симптомы жалуется он в письмах к друзьям. «Я ху-
дею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже
не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоя-
нии». Так писал он из Германии поэту Николаю Языкову, ко-
торого, между прочим, ставил очень высоко, чуть ли не нарав-
не с покойным Пушкиным, что не помешало ему, когда Языков
скоропостижно умер, обронить: эта смерть «не повергнула меня
в печаль, но в какое-то тихое упование». Кажется, теперь уже
никакая смерть не могла повергнуть его в печаль: как может по-
вергнуть в печаль то, на что уповаешь?
Но вернемся к письму, отправленному из Германии Языкову.
Датировано оно 5 июня 1845 года и начинается с пророчества,
которое, увы, пусть и несколькими годами позже, но сбылось: «Век
мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой также был
сложения слабого и умер рано, угаснувши недостатком собствен-
ных сил своих, а не нападеньем какой нибудь болезни».
По-видимому, именно воспоминаниями о собственном отце
навеяны строки о родителе Чичикова: «...больной человек, в длин-
ном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на бо-
сую ногу, беспрестанно вздыхавший».
Гимназисту Гоголю едва исполнилось 16 лет, когда он потерял
отца. «Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина, —
писал он матери из Нежина. — Правда, сперва я был поражен
ужасно сим известием, однако ж не дал никому заметить, что я
был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безум-
ного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою...» Собирался,
по позднейшим свидетельствам матери, «броситься в окно с верх-
него этажа», но, теперь уже по словам самого Гоголя, «Бог удержал
Примечательна легкость, с какой 16-летний подросток,
втайне готовивший себя к великому будущему, готов был рас-
статься с жизнью. Эта готовность сохранилась в нем и впо-
следствии — по сути дела, до конца дней его. Так, Тургенев в
одном из писем, написанных вскоре после смерти Гоголя, пря-
мо утверждает, что «он умер потому, что решился, захотел уме-
реть». Тургенев, правда, не задается вопросом, почему захотел,
лишь замечает, что «это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо
стараться ее разгадать, но, — предупреждает он, — ничего отрад-
ного не найдет в ней тот, кто ее разгадает...»
Возможно, это выглядит дерзостью — попытаться все-таки
разгадать, но, чтобы лучше понять, что произошло в трагическом
1852 году, стоит, наверное, пристальней всмотреться в год 1845,
который, по внутреннему ощущению Гоголя, мог стать для него
последним. Он ведь не только написал завещание, он еще напи-
сал протоиерею И. Базарову записку с просьбой немедленно при-
ехать и причастить его, поскольку он-де умирает.
Дело происходило во Франкфурте, у Василия Андреевича Жу-
ковского, под кровом которого жил тогда Гоголь. (Он всегда либо
пользовался чьим-нибудь гостеприимством, либо снимал кварти-
ру. Собственного дома у Гоголя не было никогда.) Протоиерей
приезжает и находит «мнимо-умирающиего», как он позже
сам выразится в своих воспоминаниях, не в постели, а на ногах.
В чем дело, спрашивает, с чего вдруг тот взял, что пришел срок
покинуть ему сей бренный мир. Гоголь в ответ протягивает руки
и просит пощупать их, дабы убедиться, какие они холодные.
«Не скрою, — писал он графу Александру Толстому, будуще-
му обер-прокурору синода, — что признаки болезни моей меня
сильно устрашили: сверх исхудания необыкновенного — боли во
всем теле. Тело мое дошло до страшных охладеваний; ни днем, ни
ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое пожелтело, а руки рас-
пухли и почернели и были ничем не согреваемый лед, так что при-
косновение их ко мне меня пугало самого».
Но дело не в охладевающих руках, не в желтизне и вообще не
в теле, по которому, как он написал однажды Жуковскому, «мож-
но теперь проходить курс анатомии: до такой степени оно высох-
ло и сделалось кожа да кости». Дело в другом. Об этом он довери-
тельно сообщает лишь одному человеку, жене будущего калуж-
ского губернатора Александре Осиповне Смирновой—женщине,
которой, утверждает Иван Аксаков, «был ослеплен» и которой
в то время доверял более чем кому бы то ни было.
«Бог отъял на долгое время от меня способность творить. Я му-
чил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бес-
силие свое, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким при-
нуждением, и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно
овладевали мною от этой причины».
Вот он, истинный корень его недуга! Он никогда не боялся «ма-
лого срока жизни», но боялся — очень боялся! — что утратит спо-
собность писать. Зачем, спрашивается, жить тогда! И вот именно
это случилось — как нередко случается с нами то, чего мы больше
всего страшимся. Таково, во всяком случае, было его самоощуще-
ние в 1845 году, внешне весьма для него благоприятном. Хлопоты
высокопоставленных друзей о вспомоществовании Гоголю при-
ной рукой наложило карандашом резолюцию на докладной за-
писке министра просвещения Уварова: «Согласен». Теперь Гоголь
в течение ближайших 3 лет получал из казны по тысяче рублей
серебром... Отныне можно было писать, не заботясь о хлебе на-
сущном, и тут-то как раз — случайно ли, нет ли, — «Бог отъял...
способность творить».
С художником Чертковым, героем «Портрета», происходит,
вспомним мы, то же самое: Бог отнимает у него способность тво-
рить — творить высокое искусство — после того, как ему бук-
вально на голову сваливаются деньги. В случае с Гоголем такой пря-
мой связи нет, да и деньги, выделенные царем, не ахти какие. Нет,
никакого богатства не свалилось на голову ни тогда, ни раньше,
зато свалилось в свое время нечто другое, куда более ценное в си-
стеме гоголевских координат: слава. Он стал знаменит в одноча-
сье, сразу после появления «Вечеров...», а последовавшие затем
«Миргород», петербургские повести, не говоря уже о «Ревизо-
ре», славу эту усиливали лавинообразно. В мае 1842 года выходят
«Мертвые души» — ему всего 3 3 года, а он уже, в отсутствии Пуш-
кина и только что погибшего Лермонтова, который пока что не
получил и толики всеобщего гоголевского признания, — не оспари-
ваемый никем первый писатель земли русской. Десяти лет доста-
ло ему, чтобы положить к своим ногам всю читающую Россию.
Правда, через три года появятся «Бедные люди» Достоевского, и
Гоголь даже снисходительно полистает их, но ни малейшей угро-
зы своему единовластию на престоле русской словесности не об-
наружит. Тут было отчего закружиться голове (надобно иметь ха-
рактер Пушкина или Гете, чтобы в подобной ситуации сохранить
трезвый взгляд на себя) — и, стало быть, Всевышнему было за что
«отъять способность творить». Впрочем, не только за это.
Мы уже приводили страшные слова Аксакова о том, что как
человека Гоголя никто не любил. Написал их Сергей Тимофеевич
в письме к сыну, так что Гоголь о них понятия не имел, однако
с присущей ему какой-то нечеловеческой прозорливостью кос-
венно ответил на них, и ответил именно Сергею Тимофеевичу.
«Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех
вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненави-
сти; но любить кого-нибудь особенно, предпочтительно, я мог
только из интереса». То бишь корыстно. Другого такого призна-
ния в мировой литературе, кажется, нет. Но Гоголь не останав-
ливается на этом. Словно опасаясь, что адресат его не поймет
или поймет не до конца, разъясняет: «Если кто-нибудь доставил
мне существенную пользу, и через него обогатилась моя голова,
если он подтолкнул мейл на новые наблюдения или над ним са-
мим, или над другими людьми, — словом, если через него как-
нибудь раздвинулись мои познания, я уж того человека люблю,
хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой... Что ж де-
лать! Вы видите, какое творение человек: у него прежде всего свой
собственный интерес».
Он даже Пушкина заставлял работать на «собственный инте-
рес» — давал ему, ничтоже сумняшеся, всякие мелкие поручения,
требовал сюжетов, а когда тот умер, огорчился, вспомним еще раз,
не столько тем, каково будет России без Пушкина, сколько дру-
гим, для него куда более важным: как отныне жить без Пушкина
ему, Николаю Гоголю.
«Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним, — писал
он Погодину. — Когда я творил, я видел перед собою только Пуш-
кина... Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что
будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою награ-
дою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой?» И хоть бы
словечко о пушкинском труде, о пушкинских творениях, кото-
рых больше не увидит мир! Да, он признался тогда, что даже
смерть матери не огорчила б его так, как огорчила смерть Пуш-
кина, но ведь и к матери он относился во многом потребитель-
ски. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его многочис-
ленные письма к ней, полные всевозможных просьб, наказов, по-
учений...
А раз нет живой любви — нет и творчества; или, во всяком
случае, родник этот скоро иссякает, что для каждого-то художни-
ка трагедия, а уж для Гоголя — подлинная катастрофа. Вспомним
еще раз: «Не писать для меня совершенно значило бы то же, что
не жить». И здесь же, в «Авторской исповеди», страницей ниже
делается признание, на какое отважился бы редко какой писатель:
«Оставила меня способность производить созданья поэтические».
Опять перед нами два Гоголя. Один приписывает себе месси-
анскую роль, наставляет, поучает, направо и налево раздает сове-
ты, этакий новый пророк и учитель, а другой видит себя беспо-
щадно, жестко и трезво.
Но одно дело — признание, прежде всего самому себе, что ут-
рата способности писать равносильна смерти, а другое — эту са-
мую смерть принять, пусть даже ты пророк, мессия или кто там
еще. В «Мертвых душах» говорится — правда, вскользь — о том,
что «появленье смерти так же... страшно в малом, как страшно
оно и в великом человеке». Кажется, это единственный случай,
когда Гоголь прямо признается в страхе смерти, но косвенных
признаний — или, лучше сказать, косвенных свидетельств — по-
добного рода у него немало, что остро почувствовал Белинский,
сам, между прочим, стоящий на краю могилы и никакого страха
по этому поводу никогда не перед кем не выказывающий. Не толь-
ко почувствовал, но и сказал в своем знаменитом письме к Гого-
лю: «Болезненною боязнью смерти... веет от вашей книги».
На многие обвинения Белинского Гоголь ответил в простран-
ном и чрезвычайно резком письме, которое, однако, не отправил,
разорвал на мелкие кусочки (их потом благоговейно сложили),
заменил другим, кратким и почти мирным, но вот упрек в «бо-
лезненной боязни смерти» даже не попытался парировать. Лишь,
говоря о сожжении летом 1845 года второго тома «Мертвых душ»,
процитировал Апостола Павла, его Первое послание к Коринфя-
нам: «...не оживет, если не умрет». Это вторая половина фразы,
полностью она звучит так: «То, что ты сеешь, не оживет, если
не умрет», но Гоголь отсек первую часть за ненадобностью. Для него
сейчас важно другое, и он это прямо формулирует в произведе-
нии, вызвавшем такой гнев Белинского: «Нужно прежде умереть,
для того чтобы воскреснуть». Нужно! Отсюда, впрочем, вовсе не сле-
дует, что нет страха смерти, той самой «болезненной боязни», ко-
торой, по словам Белинского, прямо-таки веяло от книги.
Книга, о которой идет речь, — «Выбранные места из перепис-
ки с друзьями», его если и не самая громкая, то, безусловно, самая
скандальная публикация, споры о которой продолжаются до сих
пор. «Все мои последние сочинения — история моей собственной
души», — настаивает в ней автор, и утверждение это, для многих
весьма спорное, когда речь идет о «Ревизоре» или «Мертвых ду-
шах», вряд ли способно вызвать сомнения применительно к самим
«Выбранным местам...» Да, в них есть противоречия, и немало, не-
но это противоречия самого Гоголя, та самая его двойственность,
которая с фантасмагорической наглядностью выразилась в «Носе».
«Выбранные места из переписки с друзьями» — книга предельно
го. «Исповедь» Руссо и «Исповедь» Льва Толстого, «Замогильные
записки» Шатобриана, «Письмо к отцу» Франца Кафки...
Белинский, надобно признать, не увидел этой обжигающей
откровенности, хотя, по собственным его словам, прочитал книгу
пропитана страхом смерти, как утверждает в полемическом за-
пале неистовый Виссарион, то, безусловно, ею, то есть смертью,
близостью и неизбежностью смерти, навеяна. Она и задумана-то
во время той самой франкфуртской болезни, из которой, полагал
Гоголь, ему не выкарабкаться. Потому и священника звал, чтобы
собороваться, потому и завещание написал... Собственно, этим
завещанием и открывается книга.
Ему, правда, предшествует предисловие, и в нем есть вещи,
которые поначалу могут вызвать оторопь. Например, настоятель-
ная просьба автора к «соотечественникам» прочитать его книгу
несколько раз. Или непременно купить и раздать ее тем, кто сам
купить не в состоянии... Смешно? Смешно, если расценить этот
у Гоголя было хоть отбавляй, он о другом пекся — о том, чтобы
спасительное слово дошло до как можно большего числа людей.
А что слово его спасительно — верил непоколебимо. Спасительно
прежде всего потому, что искренне. «Старик у дверей гроба не бу-
дет лгать», — говорит он о Державине, и как не отнести эти слова
к нему самому!
чественников» прочитать его книгу несколько раз. Но ведь бук-
вально в следующем абзаце есть другой пассаж, на который тоже
отважится не всякий. «Знаю, что мне случалось многим прино-
сить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще
в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-
отталкивающего». Так что воистину: «Старик у дверей гроба
не будет лгать»!
Он и не лжет. И пусть, например, в том самом разорванном
на кусочки письме к Белинскому он запальчиво утверждает, что
знает Россию так, как тому и не снилось («Нет, Виссарион Гри-
горьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век
в Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками...»).
Здесь, в книге своей, он смиренно признается в главе «Что такое
губернаторша»: «Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как
пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего». Опять пе-
ред нами два Гоголя, но теперь на вопрос, который же из них
умер в феврале 1852 года в Талызинском особняке, можно, ка-
жется, с уверенностью сказать: умер тот, который явился оше-
ломленному читателю в «Выбранных местах из переписки с дру-
зьями».
Почему — ошеломленному? А потому что ждали-то совсем
другого... Второго тома «Мертвых душ» ждали, уже законченного,
уже, разнеслись слухи, кое-кем слышанного в авторском испол-
нении (сам Гоголь отрицал это), а явилось нечто совсем неожи-
данное. Ни на что прежнее не похожее... Об этом хорошо сказал
Вяземский: «Перед нами был остроумный, забавный, хотя иног-
да и безжалостный рассказчик. Мы заслушивались его с веселос-
тью и вниманием. Вдруг ни с того ни с другого, так сказать, не
прерывая речи, заговорил он совсем другое. Вышло по пословице:
начал за здравие, а свел на упокой. Многим не верится, что перед
ними тот же человек, что слышат они тот же знакомый и люби-
мый голос».
Пословицу, что приводит Вяземский, следует воспринимать
не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смыс-
ле: явно «на упокой» — свой собственный упокой — ориентиро-
вался автор, составляя книгу, которую не случайно открыл за-
вещанием и которая, строго говоря, является таковым с начала
до конца. И оттого-то — такая свобода изъяснения. И оттого-то —
такое пренебрежение условностями. «Старик у дверей гроба
не будет лгать». В том числе — и относительно самого себя, что выз-
вало у Белинского особое неприятие. «В вашей книге вы позволили
себе цинично-грязно выражаться не только о других (это было бы
только невежливо), но и о самом себе, — это уже гадко; потому
что человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение».
Ну, это — смотря у кого. Лев Толстой тоже хлестал себя по
щекам, да еще как. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать
его дневники; не случайно Толстой чрезвычайно высоко ставил
«Выбранные места из переписки с друзьями». «Какая удивитель-
ная вещь! — писал он в 1887 году своему первому биографу Би-
рюкову. — Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом
наш Паскаль».
Тут Лев Николаевич, как это нередко случалось у него, хва-
тил лишку. «Пошлые люди...» Кто Белинский — пошлый чело-
век? Или Достоевский, который не только не принял «Выбран-
Степанчикове»?!
Уже фамилия главного героя Фомы Опискина отсылает к на-
званию гоголевской книги, многие пассажи которой в повести До-
стоевского откровенно пародируются—например, высокопарные
слова о некой «Прощальной повести». Ее, вряд ли когда-либо суще-
ствовавшую в реальности, Гоголь называет лучшим, что вообще вы-
ходило из-под его пера. Но ведь у Толстого слух на высокопарность
был развит ничуть не хуже, чем у Достоевского, который ею тоже
ведь грешил. Но почему, однако, Толстой не просто принимает
книгу Гоголя, а принимает восторженно, Достоевский же издева-
ется над нею? Дело, по-видимому, не в частностях, не в отдельных
пассажах и даже не в тоне, действительно сплошь и рядом прося-
щемся в пародию, а в чем-то другом, куда более существенном.
В чем? Не в том ли, что автор «Братьев Карамазовых» был гораздо
ближе к Богу, нежели творец «Войны и мира»? Последний всю
жизнь неистово продирался к Нему, но так, похоже, и не обрел
его. Не обрел в сердце своем, а лишь принял умом. Этого мало.
Или, если быть точным, совсем не то: умом Бога не постичь.
Примерно то же самое было с Гоголем... Принято считать, что
последним его произведением были сгоревшие в камине Талы-
зинского особняка главы второго тома «Мертвых душ», но это
не так. Последнее, что написал Гоголь, — это «Размышления о Бо-
жественной Литургии». На Руси литургию, главнейшее христи-
анское богослужение, называли обедней, но Гоголь предпочел ка-
нонический термин, строгий и торжественный. Это, безусловно,
говорит о его глубочайшем преклонении перед идеей Бога, но еще
не свидетельствует о присутствии Бога в сердце. Отдавал ли в этом
отчет сам Гоголь, умевший так бесстрашно и жутко всматривать-
ся в глубины своего «я»? Отдавал «Мне кажется даже, — писал он
в одном из своих заграничных писем, — что во мне и веры нет вов-
се; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит
мне ум мой, а не вера Я изумился его необъятной мудрости и с неко-
торым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку
вместить ее в себе, изумился глубокому познанию Его души челове-
ческой. .. но веры у меня нет. Хочу верить».
Этих слов нет в «Выбранных местах...», но незримо они при-
сутствуют там. Лев Толстой, который как никто мог видеть не-
различимое для обычного глаза, прочел их. И они не могли не ото-
зваться в его так же страстно желающей и так же не умеющей
верить душе. Прочел их и Достоевский, но так как Гоголь утаил
в книге свое глубинное неверие, то есть не сказал о главном, не по-
каялся в главном, то и вся книга показалась ему лживой, особенно
вступительная ее глава, глава-камертон — «Завещание». В подго-
товительных заметках к «Подростку», он, говоря о «Завещании»,
прямо напишет, что Гоголь «врал и паясничал».
Достоевский был не прав. Гоголь не врал и уж тем более не па-
ясничал, а глубоко страдал из-за своего неверия и готов был пре-
одолеть его любой ценой, в том числе и ценой собственной смерти,
«Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть». То есть
смерть для него — отнюдь не конечная станция, а, если угодно, про-
межуточная, которую можно проскочить, не особенно-то задер-
живаясь на ней и не придавая ей большого значения.
Один из мемуаристов вспоминает, как Гоголь, застав в глубо-
ком трауре княгиню Васильчикову, у сына которой был когда-то
домашним учителем, начинает, дабы развлечь несчастную жен-
щину, рассказывать про некоего человека. Единственный, горячо
любимый сын этого человека тяжело заболевает, отец в панике
созывает консилиум врачей, везет по их совету больного за грани-
цу, но все тщетно, юноша умирает. «Ну, что же отец?» — спраши-
вает взволнованная рассказом Гоголя княгиня. (Рассказчиком он
был первоклассным.) «Отец? Да ничего! Дунул себе на ладонь и ска-
зал только: фью!..»
О, буквально видишь этот сугубо гоголевский жест — выс-
тавленная вперед маленькая ладонь и сложенные трубочкой губы
под лукавыми усами! Слышишь это гоголевское, с характерным
малороссийским придыханием «фью»! Но это опять-таки один
Гоголь, в то время как другой торжественно писал в письме к Бе-
линскому — в том самом, что, не закончив, разорвал на кусочки:
«...теперь, когда пора подумать о смерти». И в нем же, страницей
выше: «Вы сгорите, как свечка, и других сожжете».
Образ свечки, вообще образ огня тут не случаен. Смерть —
это ведь тоже огонь, в котором человек вовсе не исчезает бесследно,
а преображается, причем преображение это может быть самым
разным, далеко не всегда ведущим к смирению и благодати. Имен-
но это произошло с почившим Акакием Акакиевичем... «Какая
страшная повесть Гоголя «Шинель», — приводит Герцен в «Бы-
лом и думах» отзыв современника. — Ведь это привидение на мо-
сту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч».
Слова эти принадлежат Сергею Григорьевичу Строганову,
основателю знаменитого Строгановского училища, человеку,
который хлопотал за Гоголя перед самим Бенкендорфом (а тот,
в свою очередь, перед царем) и к которому Герцен (у него —
Строгонов) относился с уважением, хотя и подтрунивал над его
генеральством. Проницательный Строганов словно бы прочел
выброшенную Гоголем фразу из предсмертного бреда Акакия
Акакиевича: «Я не посмотрю, что ты генерал». Прочел и добавил:
«Поставьте себя в мое положение и взгляните на эту повесть».
При этом его не удивило превращение тишайшего чиновника
в разбойника с большой дороги. Нам же в данном случае важен
не вектор преображения, случившегося с героем, важен сам факт
преображения, важна преобразующая функция смерти, впер-
вые у Гоголя так наглядно явленная именно в «Шинели».
«Нужно прежде умереть...», причем вовсе не обязательно фи-
зически, можно и духовно, как это происходит с героями, впол-
не здравствующими, «Мертвых душ». И пусть обложка перво-
го издания, отпечатанная по рисунку Гоголя, усеяна черепами,
души эти все-таки не совсем мертвые. Не безнадежно мерт-
вые... Не необратимо мертвые, скажем так. Не зря Вяземский
вспоминает, говоря о гоголевской поэме, немецкого художни-
ка XVI века Ханса Гольбейна, его знаменитые рисунки «Пляс-
ка смерти». Мертвые, совсем мертвые, безнадежно мертвые все-
ло в дошедших до нас главах второго тома начинается процесс
воскрешения. А впереди ведь был еще и третий том, в кото-
ром, по некоторым сведениям, должен был «воскреснуть» даже
Плюшкин.
Гоголь тоже не раз объявлял себя мертвым — для творчества,
для мирской жизни, не говоря уже о любви. Это слово вообще
как-то мало вяжется с ним, но, используя выражение того же
второго тома, заметим, что с его автором уже на исходе жизни
как раз и «случилось что-то вроде любви».
Надобно сказать, что к физической ее стороне Гоголь был до-
статочно равнодушен. Мужчина сорока лет, в самом соку даже
по тем временам (многие в его возрасте, да и гораздо старше,
еще женились на молоденьких), он дал основание заявить одно-
му своему знакомому, причем человеку кое-что смыслящему в
подобных делах, поскольку тот был медиком: «Сношений с жен-
щинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствует в
том потребности и никогда не ощущал от этого особого удоволь-
ствия».
Но ведь союз с женщиной, в том числе и брачный союз, может
держаться и на другом? Может... Однако надо помнить, что Гоголь
был из тех редких людей, что предпочитают шагать по жизни налег-
ке, не обременяя себя тем, без чего, по их мнению, можно обойтись.
Р. Киреев. Великие смерти
«Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей и сколько
можно менее связываться с какими-нибудь узами на земле».
Писано это Николаем Васильевичем в 1849 году — в том са-
мом году, на который, по некоторым данным, довольно зыбким,
века обзавестись узами, и не какими-то временными, преходящи-
ми, а в высшей степени серьезными, до конца жизни. Брачными!
Да-да, брачными. А поскольку это еще было время, когда пи-
сался, а точнее, воссоздавался из пепла, дабы потом снова обернуться
в пепел второй том «Мертвых душ», то сам собой напрашивается
вопрос не отразилось ли первое событие на втором? Не запечатле-
на ли сия таинственная дама на страницах погибшего в огне тома?
Погибло не все. Уцелели, как известно, черновые редакции
первых четырех глав и одна из последних. Стало быть, уцелели
и некоторые герои. Среди них обещанная читателю в конце
первого тома «чудная русская девица, какой не сыскать нигде
в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из велико-
душного стремления и самоотвержения».
Зовут «чудную девицу» Улинькой. Она дочь генерала, «суще-
ство невиданное, странное, которую скорей можно почесть ка-
ким-то фантастическим видением, чем женщиной». Прототипом
же Улиньке, по убеждению Ивана Аксакова, близко знавшего
писателя, послужила Анна Михайловна Вьельгорская. Она была
дочерью пусть не генерала, но человека весьма знатного, прибли-
женного к царю и к тому же отменного музыканта. Сочиненные
им романсы распевал весь Петербург, а великодушный немец
Роберт Шуман назвал его однажды «гениальнейшим». Присово-
купив, правда, «из дилетантов».
Использовав свое влияние при дворе, граф Вьельгорский про-
тащил на сцену «Ревизора», да и впоследствии неоднократно по-
могал строптивому автору в его изнуряющей борьбе с цензурой.
Гоголь в течение многих лет переписывался и с самим графом,
и с супругой его Луизой Карловной, урожденной принцессой Би-
рон, дамой строгой и весьма разборчивой в знакомствах, но к про-
славленному сочинителю благоволящей (хотя не настолько, что-
бы отдать за него, мелкого помещика, свое чадо); переписывался
и с дочерьми высокопоставленной четы, младшая из которых,
Анна, сделалась предметом его особых забот, как педагогических
(всё, по своему обыкновению, наставлял ее на путь истинный),
так и интимного характера
Домашние ласково называли ее «Нози», что в переводе с анг-
лийского означает «носатая», но Гоголь предпочел иной перевод.
«Анна», докопался он, по-древнееврейски «благодать». «Вы буде-
те, точно, божья благодать для всего вашего семейства и всех вас
окружающих».
Гоголь и прежде бывал у Вьельгорских довольно часто, теперь
же его визиты участились. И если тайные причины сего не про-
шедшего незамеченным обстоятельства от родителей ускользну-
ли (сановным родителям и в голову не приходило, что какой-то
мелкопоместный дворянишка дерзнет свататься к их дочери),
то зятю, по-писательски остроглазому Владимиру Соллогубу, авто-
ру знаменитого «Тарантаса», истина открылась довольно быстро.
«Анна Михайловна,.— читаем в его «Воспоминаниях», — кажется,
единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь».
Но вот вопрос: взаимно ли? Об этом у Соллогуба нет ниче-
го. Однако письма самой Анны Михайловны пусть не прямо,
пусть косвенно, а все же давали основание надеяться тому, кто
получал их. «Мне очень хочется знать, что вы делаете с тех пор,
что вы в Москве, как вы себя чувствуете и как перенесли пер-
вые морозы. Отвечайте, пожалуйста, на все мои вопросы».
Он тоже пекся о здоровье Нози и даже делал соответствую-
щие предписания: «О здоровье вновь вам инструкция: ради Бога,
не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол:
ваша грудь слаба, вы это должны знать». Редкий случай, когда Го-
голь пишет не о своих физической слабости, хворях, немощном
теле, а о слабостях и хворях другого человека
Предвкушая скорую встречу с сестрами Вьельгорскими и бо-
лее всего, надо полагать, с младшей, Гоголь признается, что у него
захватывает дух от радости: «Нервическое ли это расположение
или истинное чувство, я сам не могу решить».
В конце концов пришел-таки к выводу: чувство... И чувство ис-
тинное... Однако, дабы обезопасить себя от унижения отказа, пы-
тается сделать предложение не прямо, а через мужа старшей сест-
ры Вьельгорских Алексея Веневитинова, которого, в свою очередь,
подготовил специальным письмом, до нас не дошедшим. В другом
письме, сохранившемся, Гоголь объявляет это недошедшее пись-
мо «неуместным» и просит прощения за то, что «смутил» адресата
И прибавляет: «Что ж делать, утопающий хватается за все».
Веневитинов (брат поэта, к тому времени уже умершего) хо-
рошо знал характер и воззрения своей тещи, а потому без обиня-
ков заметил претенденту, что, хватайся не хватайся, а дело его
труба. Так, во всяком случае, гласит семейное предание Вьельгор-
скйх. Но в нем ни полслова нет о том, знала ли о задумке несосто-
явшегося жениха сама Анна Михайловна.
По-видимому, знала. Иначе как объяснить письмо, совершен-
но необычное для Гоголя письмо, которое он отправил ей, по од-
ним данным, весной 1849,по другим—1850 года? (Авторомоно,
против обыкновения, не датировано, что тоже косвенно свиде-
тельствует о смятении чувств.)
Сказать, что Гоголь излил в нем душу, было б натяжкой, ибо
душа изливается свободно и легко. А тут долгий, кропотливый,
мучительный труд — сродни работе над преданной огню поэмой.
«Писал, исправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что
нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя исповедь?
сердца моего...»
Да, она была добра с ним — добра чрезвычайно! — да, она ин-
тересовалась его здоровьем, но он все-таки надеялся на большее.
Однако после объяснения, о котором мы можем лишь догады-
ваться по тому не датированному, стоящему особняком во всем
эпистолярном гоголевском наследии письму, наступило жесто-
кое отрезвление.
«...Я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Пе-
тербурге. Изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело,
так тяжело, что я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее
оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испро-
сить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его пове-
рить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семей-
ству; всё же, что относится до вашего дома, для меня святыня».
Он не упрекает ее ни в чем, упаси Бог! Напротив, упрекает
себя — за то, что окружил ее «мутными облаками недоразумений».
Гоголь. Та
Что, однако, считает он недоразумением? Свое чувство к ней?
Или то, что поверил, как мальчишка, в ее чувство к нему? Пове-
рил, что у него, как у всех людей, может быть семья, дом? «Тут
было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам
объяснить».
Еще он не умеет объяснить своей роли при ней. Что это не роль
мужа, теперь ему ясно, чудес на свете не бывает, разве что в сказ-
ках, которые он так великолепно складывал когда-то. Правда, то —
на бумаге; в жизни, как выяснялось раз за разом, в собственной
жизни, он был никудышным строителем. Но бумага-то, и перо,
и чернильница остаются при нем. При нем остается его работа.
«О, как спасительна работа и как глубока первая заповедь, дан-
ная человеку по изгнанье его из рая: в поте и труде снискивать
хлеб свой! Стоит только на миг оторваться от работы, как уже
невольно очутишься во власти всяких искушений».
Дата на этом письме проставлена — 20 октября 1849 года.
К этому времени, стало быть, он уже был «изгнан из рая»: увле-
чение прошло, надежда, и без того призрачная, растаяла совсем,
жения не делал прямо), и, похоже, он даже рад этому. Дисцип-
линированно хотел он выполнить свой человеческий долг: создать
семью, он старался, он сделал все от него зависящее, но Богу не угод-
но было, и хорошо, он благодарен Ему за то, что оставил свободу
и к тому же вернул способность писать: второй том «Мертвых душ»
споро двинулся вперед. «Работа — моя жизнь; не работается —
не живется».
Работа, работа, работа... Что же касается праздника жизни, то,
как еще раз убедила его история с Нози, праздник этот не для него,
он чувствует себя на нем так же неприкаянно, как Акакий Ака-
киевич на вечеринке сослуживцев. Потихоньку, так что ни гости,
ни хозяин не заметили, улизнув с нее, «Акакий Акакиевич шел
в веселом расположении духа» — такое же веселое расположе-
ние духа было у Гоголя, свидетельствуют современники, когда
он заканчивал новую, последнюю, как оказалось, редакцию вто-
рого тома «Мертвых душ», до нас, увы, не дошедшую. Но многие
слышали ее в авторском исполнении.
Веселым расположение духа оставалось, однако, недолго —
и у автора, и, помним мы, у его героя, оказавшегося вдруг перед
«бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее
домами, которая глядела страшною пустынею». Такая же пусты-
ня была и перед Гоголем: болезнь, полный упадок сил и, как неиз-
бежный финал, смерть.
«Здоровье мое все хуже и хуже. Появляются такие признаки,
которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив
Бога за все, уступить, может быть, свое место живущим...» Он на-
писал это еще в 1845 году во время франкфуртовского кризиса,
когда призывал к себе священника, чтобы собороваться. И это
христианское смирение, эта готовность уступить место другим,
были, безусловно, искренними, но, как нередко случалось у Гого-
ля, он принимал желаемое за действительное.
Спустя пять лет, говоря о смерти одной духовно близкой ему
и глубоко религиозной женщины (родственницы, кстати сказать,
Федора Тютчева), он обронит примечательную фразу: «Последние
два года на нее нашло искушение: она боялась смерти». Что озна-
чают эти слова? А то, что естественное для каждого человека чув-
ство страха смерти, на котором, собственно, во многом и держится
жизнь, для Гоголя — некий соблазн, искушение, едва ли не про-
иски дьявола. Не от него ли в свои последние приезды к матери
и бежал он, постоянно меняя комнаты, да и не только комнаты?
То в Одессу приезжал, то в Калугу, то в Крым собирался, то спеш-
но покидал Москву, но возвращался с полдороги... «Что значит это
наводящее ужас движение?» Вопрос этот, напомним, Гоголь за-
дает в заключительных строках первого тома «Мертвых душ»,
обращаясь к Руси, и говорит: «Не дает ответа». Однако примени-
тельно к самому Гоголю ответ, кажется, дать можно. От того са-
мого искушения бежал — искушения страха смерти.
Это паническое бегство продолжалось, собственно, всю его
недолгую жизнь. Очень рано почувствовал он то, что другие про-
зревают лишь на склоне лет, — если вообще прозревают. Двад-
цать с небольшим было ему, когда он написал в незаконченном
историческом романе «Гетьман»: «Есть что-то могильно-страш-
ное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии
смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущи-
ми городами, под всем веселящимся, живущим миром». Ну как
убежать от этого — если под всем миром-то? Куда?
37
В мае 1851 года Гоголь последний раз посетил Васильевку. Тог-
да же состоялась последняя встреча с матерью. Она долго не от-
пускала его, просила остаться хотя бы еще на денек. «Чует душа
близкую смерть», как написал он когда-то в «Страшной мести».
Но тут не только душа, тут и глаза видели, причем не только мате-
Один из современников вспоминал впоследствии, что когда его,
ребенка, родители взяли с собой к брату Пушкина Льву Сергее-
вичу (дело происходило в Одессе), он «увидел сидящего в зале не-
знакомого человека с такой страшной, изможденной физионо-
мией, что испугался и расплакался». И добавляет: «Это был Го-
голь». Другой присутствовавший в доме Льва Сергеевича гость
угрюм, сосредоточен; говорил мало. За обедом его всячески стара-
лись растормошить, — что называется, «разговорить», заводя речь
о предметах, которые, казалось, моглс его заинтересовать, но он
был по-прежнему молчалив и угрюм. Одна дама обратилась к нему
с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ни-
чего не ответил».
Да, это был Гоголь, но опять-таки один Гоголь. Однако по-
прежнему существовал еще и другой Гоголь, даже в то время —
стремительно истекающее время его земного существования —
способный одушевляться. «Сколько одушевления, простоты,
общительности, заразительной веселости оказалось в этом не-
приступно хоронящемся в самом себе человеке!» — изумлялся
очевидец. И продолжал: «Неужели, думал я, это один и тот же
человек...»
Чаще всего одушевление было связано с лежащим у него в
портфеле, с которым он ни на миг не расставался, вторым томом
«Мертвых душ». Немало людей слышали его в авторском чтении,
и уже одно это сделало их людьми особенными.
Жил на свете такой человек: Арнольди — с чужеземной фами-
лией, но русским именем Лев Иванович, — личность незначитель-
ная, однако прочно вошедшая в историю российской словесности.
Чем? А тем как раз, что, оказавшись волею судьбы нечаянным слу-
шателем второго тома, добросовестно и бесхитростно, подробнее
прочих современников, куда более искушенных в литературе, за-
писал то, что ему запомнилось. А еще именно со слов Арнольди мы
знаем точную дату завершения второго тома.
Со вторым томом, которого с нетерпением (а лучше сказать, с
беспримерным терпением, потому что публикация его обещалась
уже давно) ждала вся Россия, была связана дальнейшая судьба Го-
«Она была нужна. Это лучшая похвала книге». Эти слова были
сказаны Вяземским в связи с «Выбранными местами из перепис-
ки с друзьями», но их с полным правом можно отнести и ко второ-
му тому, как бы ни воспринимали его те, кто слышал главы из него.
Одних они приводили в восторг, другие полагали, что главы эти,
при несомненной блистательности отдельных мест, далеко не луч-
шее из созданного Гоголем. Решающим, однако, было тут мнение
лишь одного человека; этот человек и решил все. Распорядился как
судьбой книги, так и ее автора
Когда-то Гоголь сказал, применительно опять-таки к «Выбран-
ным местам из переписки с друзьями»: «Мне нужно было иметь зер-
кало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой
книги вряд ли бы я имел это зеркало». Теперь такой книгой стал
второй том «Мертвых душ». От того, что увидит Гоголь, глядя в со-
зданное им самим волшебное зеркало, и зависел отмеренный ему
срок жизни. Кем отмеренный? Да им же, им самим, ибо он и был
тем единственным, решающим судьбу Гоголя человеком. Он и ник-
то другой... Но есть основания и иначе сказать. Есть основания ска-
зать, что в портфеле, с которого Гоголь не спускал глаз, притаился его
потенциальный убийца...
Итак, дату завершения второго тома мы знаем со слов Арноль-
«В последний раз я был у Гоголя в новый год; он был немно-
го грустен, расспрашивал меня очень долго о здоровье сестры,
говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окон-
чится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет вто-
рой том «Мертвых душ», который, по его словам, был совер-
шенно окончен».
Новый год — это 1852 год. Визит Арнольди состоялся 1 января.
Стало быть, полных дней жизни Николаю Васильевичу Гоголю ос-
тавалось ровно пятьдесят...
Дом Талызина — или Талызинский особняк, как называли его
в просторечье, — был построен в конце XVIII — начале XIX вв.
и принадлежал известным московским домовладельцам Талызи-
ным, а позже был приобретен графом Александром Петровичем
Толстым, будущим обер-прокурором синода. Последние десять лет
жизни — почти десять — Гоголь поддерживал с ним весьма дру-
жеские отношения и охотно пользовался гостеприимством графа.
Гостю — сейчас бы мы сказали высокому гостю — предоста-
вили комнаты на удобном нижнем этаже. Покой его тщательно
оберегали — прислуге даже запрещалось разговаривать у дверей
его кабинета, под который была отведена угловая комната с че-
тырьмя окнами: два выходили на Никитский бульвар (ныне Су-
воровский), два — во дворик, куда в оптимистичные советские
времена перенесли, а точнее, сослали памятник работы Николая
Андреева, установленный на бульварах к 100-летию со дня рож-
дения писателя. Гоголь здесь сидит, закутавшись в шинель и опу-
стив глаза долу. О чем думает он? Бог весть... «Недоверчивый ни к
кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышле-
ний, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей», —
это признание, вырвавшееся у совсем еще молодого Гоголя в од-
ном из писем, могло бы, пожалуй, стать эпиграфом к опальному
андреевскому памятнику, который и сослали-то в укромное мес-
то — с глаз долой! — как раз в ознаменование уже 100-летия со
дня смерти автора «Ревизора» и «Мертвых душ»...
В первый день рокового, как оказалось, 1852 года состоялся
визит не только благодушного Льва Ивановича Арнольди, кото-
рый впоследствии возвестил миру об окончании второго тома
и которому в голову не могло прийти, что начавшийся так хоро-
шо год станет роковым для русской литературы, но еще одного
человека, доктора Гааза. Федор Петрович навещал хозяев дома,
которые жили на втором этаже, и Гоголь нечаянно столкнулся
с ним на лестнице. Учтивый, но не очень хорошо говорящий по-
русски доктор рассыпался в приветствиях и пожелал Гоголю «та-
кого нового года, который даровал бы ему вечный год». Добрый,
в общем-то, человек, много сил положивший на то, чтобы облег-
чить участь заключенных (занимал должность старшего врача
московских тюремных больниц), он хотел сказать по-новогодне-
чае, в слове вечный углядел не просто намек, а дурное предзнаме-
нование. Так же как дурное предзнаменование углядела в появле-
нии одичалой кошечки Пульхерия Ивановна...
«Что с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?» —
спрашивал обеспокоенный необычным состоянием жены Афана-
сий Иванович. И она отвечала: нет, не больна, просто, добавляла
смиренно, «смерть моя приходила за мною». Вот так же и Гоголь
в свои последние дни говорил, отвечая на докучливые расспросы,
что он не болен, просто «надобно же умирать, а я уже готов, и умру».
Эпизод с кошечкой автор «Старосветских помещиков» не вы-
думал, его поведал писателю Михаил Семенович Щепкин, с баб-
кою которого приключилось когда-то нечто подобное. Теперь роль
кошечки сыграл доктор Гааз... Но не было б Гааза — был бы кто-
нибудь другой или нечто другое, что остроглазый и болезненно
мнительный Гоголь непременно принял бы за знак свыше. Под-
линный же убийца, помним мы, таился в портфеле...
Весь предыдущий год Гоголь словно бы заговаривал его. С ве-
ликими предосторожностями извлекая на свет божий потертые
тетради, читал разным людям отдельные главы. «Это делалось
с такою таинственностью, — вспоминает один из современни-
ков, до чтения не допущенный, — что можно было подумать,
что... сходятся заговорщики».
«Заговорщиков» чаще всего было двое: Гоголь и его друг Сте-
пан Шевырев. Но и тот вскоре получил короткое, почти паничес-
кое письмо: «Убедительно прошу тебя не сказывать никому о про-
читанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев». А дальше
следует загадочная фраза: «Случались истории».
Что за истории? Об этом можно только догадываться, при-
чем склонность не договаривать мысль появилась у Гоголя от-
нюдь не в конце жизни, она была свойственна ему и преж-
де, еще в гимназии, где он даже получил из-за этого прозвище
«мертвая мысль». То есть мысль, которая умрет, оставшись не
высказанной, вместе с ним. Случалось и так, что, договорив до кон-
ца, он нередко тотчас отрекался от сказанного, настаивал, что теперь,
41
дескать, думает иначе. Он и многие произведения свои датировал,
публикуя, более ранним сроком, нежели они были в действитель-
ности написаны. Постоянно утаивал себя нынешнего, прятался —
частенько в свое собственное прошлое, от которого сплошь и ря-
дом спешил на всякий случай дистанцироваться, как сказали бы
мы теперь.
Со вторым томом этот номер не прошел бы. Все знали, что
написанный прежде вариант предан огню, а то, что вот-вот явит-
ся на суд изнемогающей от нетерпения публики, завершено вот
только что. Стало быть, это и есть нынешний Гоголь. Каким пред-
станет он перед Россией, чей пытливый взгляд он ощущал на себе
постоянно, — для него это был в самом что ни на есть буквальном
смысле слова вопрос жизни и смерти...
Оказалось — смерти. Через два с половиной месяца после нее
Сергей Тимофеевич Аксаков писал «заговорщику» Шевыреву:
«В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он
не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится
и что надо все переделывать». Слова «все никуда не годится» и «надо
все переделывать» Аксаков подчеркнул, полагая, видимо, что они-
то как раз и объясняют загадку смерти Гоголя. Загадку, над кото-
рой тогда многие ломали голову. И продолжают ломать ныне. Дру-
гой близкий Гоголю человек, Юрий Федорович Самарин, слышав-
ший в авторском исполнении две первые главы второго тома,
высказался более категорично: «Я глубоко убежден, что Гоголь
умер оттого, что он сознавал про себя, насколько его второй том
ниже первого».
Далее из письма Самарина следует, что он такую оценку авто-
ром своего заветнейшего творения разделял. Без обиняков сказав
о том тяжелом впечатлении, которое произвело на него гоголев-
ское чтение, он добавляет, что Гоголь, едва отложив рукопись, об-
ратился к слушавшим (их было всего двое: Самарин и Шевырев)
с робким и одновременно бесстрашным вопросом: «Скажите
по совести только одно — не хуже первой части?» Не хуже ли?
А ведь прежде неоднократно повторял, что второй том несрав-
ненно выше первого, что именно там будут выражены его самые
заветные мысли и чувства. И вдруг — не хуже ли? Хотя бы —
не хуже ли?
Ему не ответили. «Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня
не достало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали».
Но Гоголь и без слов все понял... Конечно, мнение друзей, как бы
он высоко ни ценил их, не было для него решающим. Он мог бы
повторить вслед за Пушкиным, обращаясь к самому себе: «Ты сам
свой высший суд; всех строже оценить умеешь ты свой труд».
И вот «высший суд» вынес приговор суровый и безжалост-
ный. (Другое дело — справедливый ли? На этот вопрос мы, увы,
никогда не получим ответа.) Однако приговор этот выносился
не первый раз, вот только в прежние времена были силы, чтобы
все начать заново. Теперь сил не оставалось. Не только творчес-
ких, но и жизненных, что, впрочем, применительно к Гоголю одно
и то же. Случилось самое страшное, что может произойти в чело-
веке: он потерял вкус к жизни. «Давно к живущему остыл».
20-летний Гоголь вложил эти слова в уста старика из поэмы
«Ганц Кюхельгартен», и вот теперь он мог отнести их к самому
себе, хотя по обычным человеческим меркам он был еще далеко
не старик. Но то — обычные человеческие мерки, а то — Гоголь,
который, по свидетельству одного из современников, «за год
до кончины... страшно состарился душевно».
Есть тому и прямое подтверждение Гоголя. В своем последнем
письме художнику Александру Иванову он признается: «Мир ка-
жется вовсе не для меня. Я даже и не слышу его шума». А письмам
Гоголя следует доверять не меньше, нежели его сочинениям. Если
не больше... Об этом впервые публично заявил в статье, приуро-
ченной к первой годовщине со дня смерти писателя, Сергей Тимо-
феевич Аксаков: «Гоголь выражается совершенно в своих письмах;
в этом отношении они гораздо важнее его печатных сочинений».
Под «печатными сочинениями» Аксаков подразумевал в пер-
вую очередь художественные произведения. Гоголь, разумеется,
и там выражал себя, особенно в знаменитых лирических отступле-
ниях «Мертвых душ» (сам он именовал их «лирическими порыва-
ми»), но выражал изнутри, в письмах же смотрел на себя как бы
со стороны, раздваивался, отделялся от самого себя, как отделил-
ся от майора Ковалева его собственный нос. Нов отличие от геро-
ев «особенной повести», ее автор смотрел на себя с беспощаднос-
тью, переходящей порой в самоистязание. Это было отдаленным
преддверием конца, предвестником событий, разыгравшихся
в Талызинском особняке и потрясших всю Россию.
Гоголь загодя, едва ли не с молодых лет, готовился к смерти.
Так, на вопрос А. Смирновой, о многолетней дружбе с которой
уже говорилось, думает ли он о смерти, ответил не задумываясь
и с необычной даже для него горячностью: «О, это любимая мысль,
на которой я каждый день выезжаю». Другая женщина, имя ко-
торой не сохранилось, донесла до потомков еще одно примеча-
тельное высказывание писателя, опять-таки не совсем обычное
для него — на сей раз своей категоричностью: «Вернее смерти
ничего нет».
И вот теперь та, что казалась ему самой верной в мире, что
была объектом его «любимой мысли», подступила вплотную.
Можно даже назвать день, когда произошло это, — понедель-
ник 26 января 1852 года. Это был день, когда умерла Екатерина
Михайловна Хомякова, жена его близкого знакомого и сестра
поэта Николая Языкова, с которым он был некогда особенно
дружен и который ушел из жизни 5 лет назад.
ду она писала ему, что Гоголь часто бывает в их доме, восхищает-
ся его стихами и им самим: «Я полюбила его очень». И добавила:
«Мы хотим быть друзьями». И они стали друзьями. Вечный хо-
лостяк Гоголь поразительно ладил с женщинами, особенно с за-
мужними; что-то материнское было в их отношениях к одино-
кому и во многом по-детски беззащитному человеку... Своего
собственного сына Екатерина Михайловна назвала Николаем —
официально в честь брата, но ведь так звали и ее сердечного друга,
ставшего крестным*отцом своего маленького тезки.
Тогда она снова ждала ребенка. Гибель этого неродившегося
существа потрясла Гоголя неменьше, нежели смерть матери, ко-
торой было всего 35 лет. Она опередила своего друга, уже разме-
нявшего пятый десяток и давно, с напряжением всех своих ду-
шевных сил, с тщательно утаиваемым страхом и одновременно
предвкушением, тоже утаиваемым, готовящего себя к этой великой
минуте. И вот она наступила—пока что не для него, но следующим,
вдруг с ослепительной ясностью понял Гоголь, должен быть он.
«Все для меня кончено», — сказал он на панихиде супругу покой-
ной Алексею Степановичу, который вспомнил эти слова, когда ме-
нее чем через четыре недели Гоголя положили на кладбище Данило-
ва монастыря рядом с его женою. Вспомнил и привел их в одном
из писем, присовокупив: «С тех пор он был в каком-то расстрой-
стве, которое приняло характер религиозного помешательства».
Религиозное помешательство... Напиши такое, предположим,
Белинский, все было б понятно, но в устах одного из вождей сла-
вянофилов, православного богослова Хомякова слова эти звучат,
по крайней мере, странно. Понять их (и, по-видимому, принять)
поможет одно поразительное замечание Некрасова: «Когда речь
идет о таком писателе, как Гоголь, то лучше сказать лишнее, чем
не договорить». Кажется, Хомяков сказал лишнее, но сказал не для
того, чтобы осудить своего покойного друга, а чтобы хоть как-то
объяснить происшедшее зимой 1852 года за толстыми, для боль-
шинства непроницаемыми стенами Талызинского особняка
«Он тогда весь обратился в религиозный пламень». Этой фра-
зы нет в окончательной редакции «Портрета», но она есть в пер-
вом варианте повести и может быть полностью отнесена к ее
автору. И эта фраза, и те, что следуют за ней: «Его голова вечно
наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения
и слышит откровения; мысли его раскалены; глаз его уже не ви-
дит ничего, принадлежащего земле; все движения, следствия веч-
ного устремления к одному, исполнены энтузиазма». За много лет
до происшедшей с ним перемены Гоголь с почти медицинской
точностью описал то свое состояние, которое Хомяков в полной
растерянности наречет религиозным помешательством.
Герой повести, который «весь обратился в религиозный пла-
мень», искупает постом и молениями свой давний грех. Вернее,
то, что он считает грехом: создание портрета страшного ростов-
щика, портрета столь же гениального, как и портреты, нарисо-
ванные в «Ревизоре» и «Мертвых душах» кистью Гоголя. Но разве
вина художника в том, что люди эти монстры? Разве вина худож-
ника в том, что монстры эти существуют на свете? Гоголь считал:
да, вина. Он вообще чувствовал себя в ответе за все зло в мире,
пытался по мере сил искоренить его, но каких же сил, пусть даже
и исполинских, достало б на это? Он хотел исправить своих геро-
ев, но перо не подчинялось ему. Он старался вразумить, наставить
на путь истинный близких ему людей (впрочем, не только близ-
ких, а едва ли не все человечество), но даже друзья отказывались
следовать его нравоучительным установкам (вспомним отповедь
старика Аксакова). И тогда он взялся за единственного человека,
с которым мог хоть как-то сладить, — за самого себя. «Нет, мо-
жет быть, в целой России человека, так жадного узнавать свои не-
достатки», — писал он Шевыреву. Узнавать зачем? А затем, что-
бы исправить, зачем же еще.
Письмо Шевыреву написано в 1842 году — Гоголь уже разме-
нял четвертый десяток, а это тот рубеж, после которого, считал
он, у многих начинается деградация. «Самые способные и самые
даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупе-
ют, устают и слабеют». Но это даровитые или даже гении, однако
совсем иное дело святые; те «крепли в разуме и силах духовных
по мере того, как приближались к дряхлости и смерти».
При таком образе мыслей и при такой строгости к себе, при та-
ком максимализме нравственного суда над собственной персоной
не оставалось ничего иного, как самому стать святым. А это тяжкий,
изнурительный труд, природу и, главное, цель которого другому че-
ловеку постичь очень даже непросто, пусть даже другой—твой близ-
кий друг. За болезнь и хандру принимают они глубинный внутрен-
ний процесс, призванный очистить душу. «Болезнь и хандра, хандра
и болезнь, и ни та, ни эта о сю пору тебя не покидает, — такой диаг-
ноз поставил Гоголю Языков. — Что-то постояннейшее и действи-
Эти строки датируются маем 1845 года — скоро, совсем скоро
Гоголь сожжет главы второго тома, но тогда еще были силы восста-
новить их «Как только пламя унесло последние листы моей книги,
ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, по-
добно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке
было то, что я считал уже порядочным и стройным». Увидел и вос-
Языков определил когда-то как болезнь и хандру, и опять тот же ис-
кус уничтожить, теперь уже окончательно, собственное творение.
Такому же искусу подвержен и создатель гениального порт-
рета ростовщика, но сам он уничтожить его не в состоянии, пор-
трет исчез, и он завещает сделать это своему сыну. У Гоголя сына
нет, да и вообще нет никого, кто выполнил бы подобный наказ,
поэтому, понимает он, если делать это, то делать самому. А мо-
жет быть — не делать? Может быть, искус-то греховный? (После
сожжения он обронит фразу, что его, дескать, попутал лукавый.)
зяина дома графа Толстого и пытается вручить ему портфель с ру-
кописями, чтобы тот после его смерти передал их митрополиту
Филарету, а уж митрополит пусть решает, что печатать, а что нет.
Граф рукописи взять отказался. Своим согласием, рассудил, он
не только укрепит уверенность Гоголя в скором конце, но и при-
близит этот конец. Он опекал и оберегал своего гостя, как мог,
делал все возможное, чтобы тот чувствовал себя как дома, но ре-
зультата опять-таки достигал противоположного. «Квартира есть
всегда квартира, а становится она неудобною во всей силе тогда,
когда позабудешь, что это квартира, а примешь ее за собственный
дом»,—Гоголь сформулировал это еще семь лет назад, но за эти годы
вряд ли что изменилось в его отношении к чужому, как бы там
ни было, жилью. Своим домом для него всю жизнь оставался лишь
материнский дом. Туда и адресовал свое последнее письмо, напи-
санное в тот самый день, когда он безуспешно пытался передать
Толстому рукописи. В нем он благодарит мать за то, что она за него
молится. «О, как много делает молитва матери!» Своим молитвам —
а молится он с великим усердием — он верит меньше...
Да, молится он с великим, с величайшим, с изнуряющим его
усердием, будто спеша в последний миг наверстать упущенное.
«Человек... тогда только примется серьезно за дело, когда узнает,
что завтра приходится умирать». В другом месте он говорит об ис-
кусстве «умереть с пеньем на устах» — для него таким пеньем
стала молитва. «Нечувствительно, почти сам не ведая как, я при-
шел к Христу», — словно бы даже удивляется он в «Авторской
исповеди». В отличие от большинства людей, не Бог помог ему
прийти к смерти, понять и принять смерть, а смерть помогла
понять и принять Бога «Постоянная мысль о смерти воспитыва-
ет удивительным образом душу». Он написал это ровно пять лет
назад, в конце января 1847-го, и вот теперь, в январе 1852 года,
мог с удовлетворением признать, что душа наконец-таки воспи-
талась. С ним не произойдет того, что он нарек однажды «мутною,
47
ничего не говорящею смертью». Его смерть говорит столь много, что
и по прошествии полутора веков мы, оглушенные, все пытаемся
разобраться в услышанном.
Итак, он готов. Распоряжения сделаны, матери и сестрам на-
казано жить в любви и совокупно. Наличные деньги, если оста-
нутся, раздать бедным. Что еще? Он хорошо помнил: что-то еще
стояло между ним и последним мгновением, и это последнее надо
устранить, как устранил он многое из своей жизни. «Я просто ста-
раюсь не заводить у себя ненужных вещей и сколько можно ме-
нее связываться с какими-нибудь узами на земле», — написал он
матери весной прошлого года И прибавил: «От этого будет легче
Итак, между ним и последним мгновением оставалось еще
что-то, и он догадывался, что это такое: туго перетянутые тесьмой
тетради с одиннадцатью набело переписанными главами второ-
го тома. Он уже пытался отдать их графу Толстому, но тот мало-
душно вскинул руки, залепетал что-то о скором выздоровлении.
Распорядиться, стало быть, надо самому. И это последнее, чем ему
предстояло распорядиться. Вот только достанет ли сил?
В понедельник первой недели поста он с трудом поднялся на
второй этаж, где у хозяев проводилось богослужение. Самостоя-
тельно встать с колен он уже не мог, вниз его вели, держа под руки,
усадили, вернее, уложили в кресло. (Он предпочитал кресло, как
леднее ложе — постель, расстеленную на диване, — ему пока рано.)
Что и как происходило дальше, не знает в точности никто. Един-
ственный очевидец событий, имевших место в Талызинском особ-
няке в ночь с 11 на 12 февраля,—крепостной мальчик Семен Григо-
рьев, который согласно распоряжению Гоголя получил волю и вско-
рости затерялся. Но перед этим кое-что успел рассказать (можно
только представить, сколько людей приставало к нему с расспроса-
ми), и с его-то слов, переданных другими, мы можем хотя бы при-
близительно воссоздать подробности этой ночи.
Было около трех, и дом, и Никитский бульвар, такой шумный
днем, затихли, лишь изредка проезжал экипаж: морозный воздух
далеко разносил тупой торопливый стук копыт об утрамбован-
ный снег. Гоголь встал со свечой в руке, тихо позвал Семена Про-
шло много времени, прежде чем из темноты, как из зеркала, воз-
никла такая же тощая и светлая фигура мальчика в ночной ру-
рясь ответом, попросил подать ему плащ, накинул на плечи. При-
близился к плите, напряженно коснулся ладонью гладкого, еще не
остывшего кафеля. Затем велел открыть трубу. Для этого надо было
идти наверх, где спали хозяева, и Гоголь, чтобы не разбудить их,
заставил мальчика разуться.
Когда огонь запылал, Гоголь стал извлекать из портфеля бума-
ги, иные из них откладывая в сторону (среди них были письма
Пушкина). Семен бросился перед барином на колени, умолял его
ничего не сжигать. Гоголь не внял. Полетевшие в огонь связанные
тесьмой тетради никак не занимались, и тогда по приказанию
щены туда уже по отдельности. Мальчик плакал, Гоголь крестил-
ся. О чем думал он в эти минуты, что вспоминал? Быть может,
слова своего друга Шевырева, написанные несколько лет назад, вско-
ре после первого сожжения: «Говорить ли тебе, с какою жаждою
мы все ждем второй части «Мертвых душ» — не только ее, но
даже вести об ней». И, напоминая Гоголю о заключительных ак-
кордах первого тома («Русь!.. зачем все, что ни есть в тебе, обрати-
ло на меня полные ожидания очи?..»), добавившего, подчеркнув
Он и теперь ощущал устремленные на него очи, все так же
полные ожидания, но то были уже другие очи и другое ожидание.
Словно отвечая этому беспощадному ожиданию, укрыться от
которого не было никакой мочи (да и желания, пожалуй, тоже),
он написал однажды, задолго до сегодняшней ночи: «Виноватый
дать наказания божьего». Он вообще многое предвидел заранее
и многое заранее сказал. Так, много-много лет назад, когда писал
еще «Вечер накануне Ивана Купала», увиделась ему «куча пеплу,
от которого местами подымался еще пар».
...Гоголь разворошил еще горячий пепел кочергой, поднялся,
оставив на полу сползший с плеч плащ, вернулся в спальню и лег
на застеленный, давно ожидающий его диван. Все, теперь можно
было и в постель... А наутро со слезами на глазах объяснил графу
Толстому, что его, дескать, попутал лукавый и он предал огню со-
всем не то, что собирался предать.
Со слезами... «Не легко было сжечь пятилетний труд, произ-
водимый с такими болезненными напряжениями, где всякая
строка досталось потрясеньем, где было много того, что составля-
ло мои лучшие помышления и занимало душу», — Гоголь сказал
это о предыдущем сожжении, но к нынешнему слова эти отно-
сятся еще в большей степени.
Поначалу гибель второго тома — на сей раз, понимали все,
гибель безвозвратная, — утаивалась от публики. Весть о ней ши-
роко распространилась одновременно с вестью о смерти Гоголя.
Тургенева, например, обе они застали в Петербурге на одном
из утренних заседаний в зале дворянского собрания, куда ворвал-
ся вдруг литератор Иван Панаев, который, вспоминал впослед-
ствии Тургенев, «с судорожной поспешностью перебегал от од-
ного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожи-
данное и невеселое известие».
Наконец, очередь дошла до Тургенева «А ты знаешь, Гоголь
помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег — да помер».
Приведя эти слова Панаева, Тургенев говорит об удовольствии,
которое, при всей скорби, испытывал легковесный, без царя в го-
лове (таким характеризуют его современники) Иван Иванович, —
удовольствии «быть первым человеком, сообщающим другому
ошарашивающую новость». Ну как ни вспомнить тут Бобчин-
ского и Добчинского, которые, задыхаясь и перебивая друг друга,
извещали о прибытии в их город всеми со страхом ожидаемого
ревизора!
Потрясенный Тургенев тут же написал статью, которая начи-
налась словами: Гоголь умер. «Да, он умер, этот человек, которого
мы теперь имеем право, данное нам смертью, назвать великим».
В Петербурге такую оценку посчитали слишком сильной и ста-
тью запретили. Лишь спустя две недели она появилась в «Мос-
ковских ведомостях», за что автор был удостоен гнева самого
Николая I, распорядившегося «за явное ослушание посадить его
на месяц под арест и выслать на жительство на родину под при-
смотр».
ревский, московский генерал-губернатор, почтил их своим присут-
ствием «В день погребения народу было всех сословий и обоего
пола очень много, а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам
в церковь», — рапортовал он шефу жандармов.
Речь идет об университетской церкви, куда гроб из Талызин-
ского особняка несли на руках и где в воскресное утро 24 февраля
отпевали утопающего в камелиях писателя. На челе его был лав-
ровый венок. Крышку гроба закрывал — с большим трудом, так
напирали со всех сторон — актер Михаил Щепкин. Спустя 11
лет, он, умирая, попытался, вспоминает внук актера, соскочить с
постели и, чрезвычайно возбужденный, потребовал немедленно
везти его к Гоголю. Близкие не поняли, переспросили: к какому
Гоголю? На что Михаил Семенович ответил внятно: «Как к како-
14 пока жив был Гоголь, он притягивал к себе людей, и после
смерти, и особенно во время смерти, хотя хозяин дома граф Тол-
стой старался как мог оберегать его покой. К больному допуска-
лись лишь самые близкие друзья, некоторые духовные особы и,
разумеется, доктора. Один из них, тогдашний медицинский свети-
ло, главный врач Шереметевской больницы Алексей Терентьевич
Тарасенков оставил подробный рассказ о тех февральских днях.
Сожжение второго тома потребовало от Гоголя огромного на-
пряжения как духовного, так и физического. «За усиленным напря-
жением последовало еще большее истощение, — с медицинским
бесстрастием констатирует Тарасенков. — С этой несчастной ночи
он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более
из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого... Напрас-
только возможно, чтобы вывести его из этого положения. По от-
ветам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать
не желает». Ни разговаривать, ни лечиться, ни выходить «из этого
положения» — положения обреченного на смерть человека
А ведь у него был опыт такого выхода: и свой собственный,
и почерпнутый из книг, во всяком случае, из одной книги, кото-
рая так и называлась: «Искусство продления человеческой жизни».
Написанная профессиональным медиком Гуфеландом и вышед-
шая первым изданием в конце XVIII века, она настолько понра-
вилась Гоголю, что он настойчиво рекомендовал ее своим близ-
ким. Но теперь, кажется, он осваивал искусство не продления
жизни, а ее укорачивания — вопреки воле всех, кто его окружал.
Не принимал пищи, ограничиваясь лишь разбавленным водой
теплым красным вином, противился разным хитроумным и бо-
лезненным процедурам, которым его тем не менее насильствен-
но подвергали. «Оставьте меня!» — просил жалобно, точь-в-точь
как просил того же вечный титулярный советник Акакий Акаки-
евич. Разве что автор, в отличие от своего героя, не присовокуп-
лял: зачем вы меня обижаете? А может быть, и присовокуплял —
мысленно... «Явления, одно другого страннее, представлялись ему
беспрестанно», — когда-то он вывел эти слова, описывая смерть
Не только эти... Если в «Портрете» упоминается «лицо мерт-
веца, вставшего из могилы», то одна из посетительниц Гоголя, ви-
девшая писателя в последние часы, нашла его лицо «страшно чер-
ным». Так во второй редакции «Портрета», а в первой — герой
лицезрит «старца, на бледном, изнуренном лице которого не при-
сутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земном».
Та же глубокая внутренняя устремленность к божественному
была и в облике умирающего Гоголя, но ее либо не замечали, либо
умышленно игнорировали. Ставили пиявки и клистир, сажали
в ванну из бульона, лили на голову холодную воду, как опять-таки
лили ее на голову другому его герою, Поприщину из «Записок
сумасшедшего». «Боже! что они делают со мною! Они льют мне
на голову холодную воду!». Такова последняя запись Поприщина,
и датирована она, между прочим, февралем месяцем, оказавшим-
ся роковым не только для героя, но и для его создателя. Разве что
слово «февраль» стоит в поприщинских записках вверх ногами...
Гоголя мучили перед смертью—это надо сказать прямо. А впро-
чем, он сам сказал — все в том же «Портрете»: «в ужаснейших му-
ках окончил жизнь». Гоголя мучили, и Гоголь кричал — тому есть
немало свидетельств. «Сердцу с не совсем оглохлыми чувствами
недостало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипе-
нию убиваемого человека». Это строки из едва начатого и брошен-
ного романа «Гетьман» — Гоголь и сам, поди, позабыл их, но нам
Уже знакомый нам Лев Иванович Арнольди не был, к счас-
тью, человеком с «оглохлыми чувствами». В своих мемуарах он
рассказывает, как стал невольным свидетелем жутковатой сце-
ны. Умирающий мог лишь с трудом приподнять голову, и тогда
слуги принялись вслух размышлять, не стащить ли его силком
с постели — авось, «разойдется и жив будет». Только решительное
вмешательство Арнольди предотвратило варварскую операцию.
Когда-то совсем еще молодой адъюнкт-профессор Н. Гоголь,
выступая в Санкт-Петербургском университете с вступительной
лекцией, посвященной средним векам, упомянул о ситуации,
при которой «физическая природа человека, доведенная муками,
может заглушить голос души». Может... Но с ним этого не про-
изошло, его спасли. Кто? Тургенев при всем своем уме ответа
на этот вопрос дать не смог, смиренно признав в одном из писем,
написанных на пятый день после смерти Гоголя: «Я чувствую,
что в этой, смерти этого человека кроется более, чем кажется
с первого взгляда, и мне хочется проникнуть в эту грозную и го-
рестную тайну».
Тайна была, но отнюдь не грозная и уж совсем не горестная.
Гоголь сам приоткрыл ее. «У Бога есть длинная лестница от неба
до самой земли», — написал он когда-то в «Майской ночи».
«Есть...» Надо только уметь дождаться ее. Дождаться и увидеть.
Он увидел. «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..»
Это были его последние слова на земле.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
АРЗАМАССКИЙ УЖАС
^/'Провидческий дар Достоевско-
го общеизвестен, но раз он дал-таки сбой. Случилось это в середи-
не 50-х годов в Семипалатинске, откуда опальный автор «Бедных
людей» ревниво и зорко следил по столичным журналам за лите-
ратурной жизнью.
Одно имя особенно привлекло его внимание. Даже не имя —
инициалы, которые Достоевский, обращаясь к этнографу и юри-
сту Е. Якушкину, умоляет «ради Бога» раскрыть.
Якушкин, увы, выполнить просьбу не в состоянии. В то время
публика еще не знает, кто такой «Л. Т.» (позже — «Л. Н. Т.»), ре-
гулярно печатающий в «Современнике» свои произведения.
Достоевский старается не пропустить ни одного из них. В пись-
ме к Аполлону Майкову он прямо признается, что «Л. Т. мне очень
нравится, но, по моему мнению, много не напишет...» И тут же
прибавляет, что, возможно, ошибается.
Теперь-то мы знаем: да, Достоевский ошибся. Но почему?
Из чего исходил прозорливейший русский писатель, делая свой
пусть с оговорками, но прогноз? Что в первых произведениях
Льва Толстого дало основание предположить, что это одновре-
менно и его последние произведения? Не пристальное ли, при-
страстное, почти болезненное и при этом поразительно муд-
рое — совсем не по молодым годам — всматривание в смерть?
Уже в первой главе «Детства», буквально на второй странице,
Николенька Иртеньев, объясняя учителю Карлу Ивановичу, от-
чего у него вдруг с утра пораньше слезы на глазах, говорит, будто
видел во сне, что умерла мама и «ее несут хоронить».
На самом деле ничего подобного он не видел. «Все это я выду-
Тем не менее выдуманный сон оказался вещим: к концу пове-
сти мать действительно умирает. Поздно вечером Николенька
прокрадывается в залу, где стоит на столе гроб, влезает на стул,
чтобы «рассмотреть ее лицо», и в первые мгновенья лица этого
не узнает. Лишь некоторое время спустя стали прорисовываться
«знакомые, милые черты». Мальчик вздрагивает «от ужаса», од-
нако взгляда от покойницы оторвать не может. «Я смотрел и чув-
к этому безжизненному лицу».
Одна из составляющих этой «непреодолимой силы» — наслаж-
дение. Для того чтобы признаться в этом, требовалось огромное
мужество — и писательское, и человеческое (человеческое даже
в первую очередь), — и молодой Толстой это мужество проявля-
ет. «Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно од-
ного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого пе-
чаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испы-
тывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался
возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство боль-
ше других заглушало во мне истинную печаль».
Ничего подобного в мировой литературе до сих пор не
было — такой художественный эффект дала предельная, каза-
лось бы, откровенность автора, публично заявившего, что ге-
рой «повести, которого я люблю всеми силами души, которого
старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда
был, есть и будет прекрасен, — правда». Неважно, что повесть,
о которой идет речь, не «Детство», а «Севастополь в мае», —
установка-то принципиальная, и ее справедливо относят ко все-
му толстовскому творчеству, к «Детству» в том числе. Собственно,
первый — самый первый! — читатель первой — самой первой! —
повести Толстого ни на миг не усомнился, что неизвестный ав-
тор (рукопись пришла по почте) описал не мудрствуя лукаво
собственную жизнь. А поскольку читатель этот был заодно и ре-
дактором, то, публикуя вещь, уточнил ее название. «История
моего детства». Под таким заголовком появилась она в некра-
совском «Современнике».
Толстой был разъярен. «Кому какое дело до истории моего
детства?» — пишет он Н. А. Некрасову. Да, трилогия «Детство»,
«Отрочество» и «Юность» утвердилась в нашем сознании как
трилогия автобиографическая, и во многом «повинен» здесь сам
Толстой. Никто иной, как он первым применил это слово, гово-
ря о своей работе. «Принятая мною форма автобиографии...» —
писал он Некрасову. Но ведь не автобиография — форма авто-
биографии. Форма! Вовсе, стало быть, не автобиографию писал
Толстой; он писал роман в форме автобиографии, и это слово
редактору «Современника», которое, впрочем, не отправил. Ро-
ман позволял вольности, и одна из главных вольностей заключа-
лась в том, что пронзительные сцены с матерью героя, ее смерть,
ночное посещение залы, где стоял гроб, — сцены эти все до еди-
ной выдуманы. (Равно, значит, выдуманы и чувства, которые ис-
пытывал при этом герой?) Дело в том, что Толстой не помнил
своей матери — она умерла в 40 лет при родах пятого ребенка.
Четвертому, Лёвочке, в то время не исполнилось еще и двух.
Зачем же спустя двадцать с лишним лет он, апостол и певец прав-
ды, описывает то, чего не видел собственными глазами? А затем, что
законы искусства, которые интуитивно и остро чувствовал Толстой,
подсказали: не двухлетним малышом, а уже сознательным челове-
ком должен герой пережить смерть матери, ставшую для него свое-
образным рубежом. «Со смертью матери окончилась для меня счас-
тливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества..»
Точно в срок умерла мать — в срок, отмеренный композицией ро-
мана, который задумывался как «Четыре эпохи развития». Умерла
строго «по плану». План этот, набросанный рукой Толстого, сохра-
нился. Даже два плана: «первый» и «второй».
Так вот, согласно «первому» плану «Детство» должно было
заканчиваться смертью матери, «Отрочество» — смертью бабуш-
ки, а «Юность» — смертью Карла Ивановича, которого Толстой
называет в плане его подлинным именем: Федор Иванович Рёс-
сель... Закономерность очевидна, смерть играет в первоначальных
замыслах, впоследствии скорректированных, откровенно формо-
образующую роль.
Но только ли в замыслах? Только ли в литературных упраж-
нениях? А в жизни? В реальной человеческой судьбе? Здесь фор-
мообразующая функция смерти еще бесспорней для Толстого.
«Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни—умерла
без сожаления и страха». Это говорится о старой, безмерно пре-
данной покойной маменьке горничной Наталье Савишне, и это
уже, если угодно, программа Впервые сформулировав ее устами
Николеньки Иртеньева, Лев Толстой положил на ее выполнение
без малого шесть десятилетий.
Собственно, своим именем, да и своим появлением на свет Тол-
стой обязан... смерти. Дело в том, что его мать Мария Николаевна
Волконская была еще в детстве обручена с князем Львом Голи-
цыным, внезапно умерпп-м перед свадьбой от горячки. «Думаю, что
любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кон-
чилась со смертью, была той поэтической любовью, которую де-
вушки испытывают только один раз», — писал Толстой на склоне
лет в так и незаконченных «Воспоминаниях». Там же он признает-
ся, что Львом его назвали в честь покойного князя.
Иными словами, у истоков его жизни стояла смерть. И не толь-
тери, от которой не осталось ни единого изображения — лишь дю-
жина писем. «Когда я стал помнить себя, — признавался Толстой
в тех же «Воспоминаниях»,—уже смерть матери наложила свою
печать на жизнь нашей семьи». И на всю последующую, добавим
от себя, жизнь писателя... Сперва, еще до его рождения, смерть
князя, потом, вскоре после рождения — смерть матери, а еще
через несколько лет загадочная, так до сих пор и не проясненная
до конца смерть отца. Уехал по делам в Тулу, по пути к своему
приятелю упал на улице и скоропостижно умер. При этом у него
таинственным образом исчезли деньги, и это дало некоторым ос-
нование предполагать, что его отравил собственный камердинер.
По другой версии, Николая Ильича просто хватил удар...
Сыну Льву еще не исполнилось девяти — практически он был
ровесником героя «Детства» Николеньки Иртеньева. И испыты-
Лев Толстой. Арзамасский ужас
вал, стоя у гроба отца, примерно те же чувства, что и Николенька
у гроба матери. Никак не мог сосредоточиться на горе — внима-
ние рассеивалось. Стало быть, не так уж и выдумывал — просто
подменил одного лежащего в гробе близкого человека другим...
Итак, у истоков его жизни стояла смерть — мудрено ли, что он
всё отпущенное ему судьбой время напряженно думал о ней! И не
просто думал, а пытался преодолеть ее чудовищную власть над людь-
ми и свой перед ней утробный ужас. Мудрено ли, что он ее ненави-
дел. Хотя не просто скрывал свою ненависть, а даже, случалось, за-
игрывал с костлявой, не скупясь на комплименты ей. Так, в ран-
нем незаконченном рассказе «Как умирают русские солдаты»,
впервые увидевшем свет в год 100-летнего юбилея писателя, чита-
ем: «Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом про-
Полно, да Толстой ли это! Не Толстой... От страха, конечно, эта на-
пыщенность, от страха — того самого страха, который он с такой
силой изобразил, описывая в «Отрочестве» смерть бабушки.
«Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тя-
желое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприят-
но напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чув-
ство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью». Вот это
уже Толстой! Толстой, который ни на миг не выпускает себя из поля
своего зрения. Внимательно следит за собой, безжалостно фиксируя
каждый шаг, каждое движение души — и так всю жизнь. Изощрен-
нейший психологизм Толстого есть не что иное, как следствие этого
постоянного выслеживания себя, результат беспрецедентной охоты
на собственную необузданную личность, дабы, пленив ее, дикую, на-
мертво скрутить тросами железных правил
Одно из них, пусть и не сформулированное прямо — а форму-
лировать правила он страсть как любил, особенно в молодые
годы, — красной нитью проходит через все его сочинения. Чтобы
вило. Если в «Записках маркёра», которыми молодой автор, надо
сказать, дорожил чрезвычайно, показано, сколь жалкий конец вен-
чает жалкую жизнь, то уже в следующем рассказе, «Рубка леса»,
иная картина. «Последние минуты его жизни были так же ясны
и спокойны, как и вся жизнь его».
Андрей Болконский и Иван Ильич, Николай Левин и Петя
Ростов, барыня из «Трех смертей» и Анна Каренина... Завороже-
но всматривается писатель в последние часы и последние мину-
ты своих героев. Словно бы заклинает себя... Словно бы примери-
вает на себя оба пути, поскольку знает, что оба пути ему не зака-
заны. В том числе и путь Нехлюдова, первого его Нехлюдова, героя
«Записок маркёра». «Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмери-
мая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть». От-
куда эти слова? Из дневника молодого Толстого? Из посмертного
нехлюдовского письма? Из письма, но и в дневник они легли бы,
не нарушив ни стилистики его, ни пафоса, ни даже фактуры,
ибо молодой Толстой, подобно своему незадачливому герою, иг-
рал много и азартно.
В конце концов, с пагубной страстью справился, но ведь слово
«игра» можно толковать и расширительно: например, игра «жиз-
нью и смертью», безжалостно подсмотренная автором «Севасто-
поля в декабре месяце».
Отчасти напоминает игру и занятие, которым поглощен Левин
на последних страницах «Анны Карениной». Он занимается тем же,
чем занимался сам Толстой, когда писал роман. Не зря страницы
эти так напоминают — и тональностью своей, и сутью — толсто-
вские дневники, толстовские письма, толстовскую «Исповедь».
«И вот тогда я, счастливый человек... вынес из своей комнаты шну-
рок... чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и пе-
рестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком
легким способом избавить себя от жизни». Это — «Исповедь». А
вот роман: «И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был
несколько раз так близок к самоубийству, что прятал шнурок, что-
бы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не заст-
релиться».
Что же такое страшное приключилось со счастливым челове-
ком Константином Левиным? Что же такое страшное приключи-
лось со счастливым человеком Львом Толстым? А то, что оба стали
задаваться вечными вопросами, стали строить философию, идеоло-
гию, в жертву которой готовы были принести (а Толстой и принес)
не только собственное счастье, но счастье, покой близких Читая днев-
ники Софьи Андреевны, видишь это с поразительной ясностью.
Главное, к чему сводились вечные вопросы, — это вопрос, за-
чем жить, если все равно рано или поздно умрешь. «Есть ли в моей
жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно пред-
стоящей мне смертью?» И отвечал сам себе: нет, такого смысла
не существует. «Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поско-
рее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то
чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству». Страх смер-
ти исподволь переходит в искушение смертью, навязчивым же-
ланием «смертью смерть попрать» — только не в библейском,
не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу
это одно, потому что это одно — истина. Остальное все ложь».
Да, смерть попирается смертью, но не ради вечной жизни, а ради
вечной смерти, ради вечного — и торжествующего в этой своей
вечности — небытия, в котором нет ничего, совсем, совсем ничего,
в том числе, разумеется, и леденящего душу страха исчезновения.
Конечно, вечные вопросы не игра, равно как не игра идеоло-
гия и философия, но все-таки в этом прятанье от самого себя
Как, впрочем, и во всей жизни Толстого. Игры в том смысле, ка-
кой вкладывал в это слово юный Иртеньев, восклицая: «А игры
не будет, что ж тогда останется?» Игра же всегда таит элемент
непредсказуемости...
Спустя всего четыре года после назидательных «Трех смертей»
из-под пера его выходит... нет, не выходит, вырывается описание еще
одной смерти, которое не может не привести моралиста и христи-
анского философа в ужас Не сама даже смерть — реакция на нее.
один из казаков, говорит с завистью и восторгом. И автор не осужда-
ет его, автор любуется этими цельными здоровыми людьми, как те,
в свою очередь, любуются убитым. (« — Тоже человек был!» — про-
говорил он, видимо любуясь мертвецом».)
Не христианин, а христианский философ — разница тут боль-
шая и принципиальная. Лев Толстой был именно философом,
то есть человеком размышляющим, рассуждающим, а всякое
рациональное усилие, как известно, является относительно веры
актом не созидания, а разрушения. Та же смерть абрека не вы-
60
Р. Киреев. Великие смерти
зывает в Оленине даже слабого импульса милосердия, а лишь
дает повод для очередного умозаключения. «Счастие — вот
что, — сказал он себе, — счастие в том, чтобы жить для других».
Только это, конечно, никакой не Оленин, это чистейшей воды
Толстой. «Мне в первый раз, — признается он устами своего ге-
роя в «Отрочестве», — пришла в голову ясная мысль о том, что
мы не одни... живем на свете, что не все интересы вертятся око-
ло нас, а существует другая жизнь людей».
Это в первый раз. А когда в последний? В последний — на стан-
ции Астапово. «Кроме Льва Толстого есть еще много людей, а вы
смотрите на одного Льва». То были последние сознательные сло-
ва Толстого — через шестнадцать часов его не стало. Однако даже
здесь, на смертном одре, говорит и думает не только о «других
людях», но и о Льве Толстом. Хотя вся его жизнь, весь измеряе-
мый десятилетиями путь из Ясной в Астапово — это путь мигра-
ции, это паническое бегство от самого себя, столь обожаемого
и одновременно столь ненавистного, в том числе и за свою так
напряженно, так болезненно преодолеваемую любовь к себе.
Но разве могут ужиться в одном человеке любовь к себе и со-
знание неизбежности уничтожения этого объекта любви?! Отсюда
тот самый почти животный «ужас тьмы», о котором он пишет в
«Исповеди». Но в отличие от обычных людей, Толстой этот ужас
не держит про себя, голос его, его рык разносится по всему миру —
удивительно ли, что у слышащих его бегут мурашки по коже! «Если
в наше время люди боятся смерти, с такой постыдной судорогой,
какой еще не бывало, — свидетельствует Мережковский, — если
у всех нас, в глубине сердца, в крови и плоти есть эта «холодная
дрожь», до мозга костей пробирающий озноб... то, в значитель-
ной мере, мы этим всем обязаны Л. Толстому».
Но этот «ужас тьмы» Лев Толстой испытывал не всегда В его
ранних дневниках, писавшихся практически одновременно с
«Детством», он признается, что «равнодушен к жизни, в которой
слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее». А поэтому...
«поэтому не боюсь смерти».
Запись сделана в предгорьях Кавказа 5 февраля 1852 года, а уже
через одиннадцать дней, 17 февраля, его отряд вступает в двухднев-
ный бой с горцами при реке Мичике. Бой для Толстого оказался
нешуточным и мог стать последним в его жизни: один из снарядов
угодил в колесо пушки, которую он как раз наводил на неприятеля.
Как прореагировал на это молодой артиллерист, менее чем две
недели назад с гордостью (или с фанфаронством?) провозгласив-
ший в своем дневнике, что-де не боится смерти? Вот свидетель-
ство на этот счет самого Толстого: «Я любил воображать себя совер-
шенно хладнокровным и спокойным в опасности. Но в делах 17
и 18 числа я не был таким.. Это был единственный случай показать
всю силу своей души. И я был слаб и поэтому собою недоволен».
Впоследствии такие случаи представлялись неоднократно —
и на Кавказе, и в Севастополе — и ни разу никто не заметил
слабости в молодом артиллерийском офицере. Напротив, он
словно бы искал опасности, упрямо и безрассудно шел навстре-
чу ей, неотступно выполняя свой собственный наказ, сформули-
рованный им все в том же дневнике: «Ни один случай не счи-
тать ничтожным для того, чтобы приложить в нем все силы».
До наших дней дошел фронтовой дневник полковника Глебо-
ва, одного из руководителей обороны Севастополя. В нем поручик
Толстой характеризуется как «башибузук», что в переводе с турец-
кого означает «сорви-голова»: «Он разъезжает по разным местам
туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас же является
на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему
произволу, куда глаза глядят».
Молодой Толстой будто бы ищет смерти, как ищет ее герой
«Севастополя в августе 1855 года» юный Козельцов, подъезжая
со старшим уже понюхавшим пороху братом к опасным реду-
там. О чем тайно мечтает он? О первом бое, естественно, о том,
как бросятся на них французы и как «брата убьют пулей подле
меня». Далее Козельцов-младший рисует в упоении, как остано-
вится на минуту, как поглядит на покойного «этак грустно», как
Но вот вопрос: для чего понадобилась юному существу смерть
дорогого человека? А для того, чтобы тут же самому умереть и тем
самым стяжать себе великую славу. Тщеславие оказывается силь-
нее любви к брату, сильнее страха смерти — жгучую власть этого
чувства Толстой знает не понаслышке. Рассказ о братьях Козель-
цовых начат в Севастополе 19 сентября, а 17-го записано в днев-
нике: «Моя цель литературная слава».
Пятью годами позже, в 1860 году, умрет брат Толстого Ни-
колай, тоже старший, но реакция младшего будет совсем иной:
«Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал
более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще
менее понимая, зачем он умирает».
У персонажей севастопольских рассказов такого недоумения
нет. «В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непре-
менно придет в голову, что снаряд этот убьет вас, но чувство само-
любия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который ре-
жет вам сердце».
В другом севастопольском рассказе есть сцена, где солдаты,
сгрудившись в темном смрадном блиндаже, читают по складам
при слабом свете сальной кривой свечи некую книгу. Книга эта —
азбука, в ней, следовательно, всякие азбучные истины, но до слуха
героя доносится одна-единственная: «Страх... смер-ти врожден-
ное чувствие чело-веку».
Автор не опровергает ее (хотя впоследствии он, как известно,
обрушится на многие азбучные истины). Но вот что интересно:
он, артиллерийский офицер Лев Толстой, легко — сравнительно
легко — преодолевает. В отличие от страха смерти, идущего как
раз от ума, от рассудка, от философии... А впрочем, не всегда от
ума. Иногда импульсом была реальная жизнь, например, уже упо-
мянутая смерть брата Николая. Через месяц после нее он, пови-
давший в молодости на войне столько смертей, признается в пись-
ме к Фету: «Ничто в жизни не делало на меня такого впечатле-
Фет тоже бывший офицер, и потому, может быть, Толстой с ним
особенно откровенен. «Правду он говаривал, — пишет он о покой-
ном брате, — что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько поду-
мать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет».
До кризиса конца 70-х годов еще далеко, до появления «Испо-
веди» в Женеве — почти четверть века (в России ее напечатают
лишь в 1906 году), а в письме к Фету звучат слова, которые вполне
Лев Толстой. Арзамасский ужас
63
могли бы лечь и в «Исповедь»: «Для чего хлопотать, стараться, коли
от того, что было Н. Н. Толстой, для него ничего не осталось».
мяти других он продолжал существовать... Собственно, в «Испо-
веди» повторяется то же самое, но уже применительно не к дав-
но почившему брату, а к себе, еще живому и вполне здоровому:
«Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно
увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановить-
ся нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не ви-
дать, что ничего нет впереди, кроме... полного уничтожения».
Тогда-то и начал прятать от себя ружье и веревку. «Боясь смер-
ти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не ли-
шить себя жизни».
Но отчего бессмысленность, абсурдность жизни, непременно
обрываемой смертью, то есть не имеющей продолжения в вечно-
сти, открылась для него только теперь, а не на тех же севасто-
польских редутах, где он эту самую смерть видел куда чаще? Быть
может, все дело в том, что там умирали как-никак чужие, а здесь —
единоутробный все-таки брат? Иными словами, не Толстой изме-
нился, не Толстой за эти несколько лет стал другим, а изменились
обстоятельства... Вот если бы брат тогда умер, в то как раз время...
А он и умер! Не Николай, правда, другой, но тоже родной и тоже
старший, Дмитрием звали. Случилось это 21 января 1856 года
в городе Орле, в гостинице, где он проживал с любовницей Машей.
Эта губернская гостиница, тщащаяся походить на столичную, эта
братова любовница описаны Толстым в «Анне Карениной», при-
чем даже имени женщины автор не дал себе труда изменить, в ро-
мане ее зовут Марией Николаевной.
«В маленьком грязном нумере, заплеванном по раскрашен-
ным панно стен, за тонкою перегородкой которого слышался
говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе,
на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело.
Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли,
кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой от нача-
ла до середины цевки. Голова лежала боком на подушке. Левину
видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно
прозрачный лоб».
Картина эта произвела на вошедшего «чувство ужаса и гадли-
вости». Так во всяком случае явствует из текста романа, написан-
ного почти через 20 лет после посещения Львом Толстым умира-
ющего в Орле брата Это случилось за 9 дней до его смерти. Изве-
офицерскую форму, в Петербурге. Тут же написал письмо своей
двоюродной тетке Александре Андреевне Толстой, которую лю-
бовно называл «бабушкой» и у которой собирался быть в тот день,
но теперь пришлось отказаться от визита «Разумеется, я отвеча-
ла ему, что совершенно его понимаю, — пишет в своих воспоми-
наниях Александра Андреевна. — И что же? Вдруг он является на
вечер как ни в чем не бывало».
Тетя в негодовании... Но это еще что! «Через несколько дней
он мне признался, что ходил тогда же в театр».
Может быть, он просто скрывал свои чувства? Ничего подоб-
ного! Вот запись, сделанная им в тот же день в дневнике: «Я в Пе-
тербурге. Брат Дмитрий умер, я нынче узнал это. Хочу дни свои
проводить с завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них».
И дальше еще несколько строк, не имеющих к брату никакого
отношения. О каких-то бумагах, об обеде в шахматном клубе,
о своих вредных привычках, которые надо изживать: праздность,
сладострастие, страсть к игре... Словом, такое же отношение к смер-
ти, как в только что, за четыре дня до Нового года, законченном
рассказе «Севастополь в августе 1855 года». Толстой не изменился
за эти несколько месяцев, прошедшие после августа Но он силь-
но изменился за последующие 4 года, раз такое впечатление про-
извела на него смерть другого брата, Николая, тоже, как и Дмит-
рий, умершего от чахотки.
Николай, правда, считался любимым братом, и при смерти
его Лев Толстой присутствовал. Поэтому и впечатление было не-
измеримо сильнее, неизмеримо болезненней — не случайно бра-
та Левина зовут Николаем. Да и «чувство ужаса пред неразгадан-
ностью и вместе близостью смерти» — это, несомненно, чувство
самого Толстого. Четыре года назад его не было... Недодал брату
Мите своего по поводу его смерти страдания, своего сострадания,
и тот спустя полвека явился за ним. Жутковатый эпизод этот за-
печатлен в дневнике зятя Толстого Михаила Сухотина
/1ев Толстой. Арзамасский ужас
Во время послеобеденной беседы, рассказывает Сухотин, встре-
воженная Софья Андреевна обратила внимание присутствующих
на Льва Николаевича. «Он сидел бледный, с посиневшим носом, плохо
понимал, что кругом него говорилось». Домашний врач Маковиц-
кий стал уговаривать его прилечь, но Толстой, и в 80 лет (ему через
шийся упрямцем, категорически отказался: «Да что вы, со мной ни-
чего, я просто очень крепко спал, так крепко, что, когда проснулся,
все забыл; тут был брат Митенька, не знаю во сне или в действитель-
ности». Все заволновались, не сразу понимая даже, о каком Митень-
ке идет речь (52 года минуло после его смерти), а Толстой «пытливо
и напряженно стал поглядывать крутом». Митеньку искал.. Митень-
ку не мог забыть, которого по молодости и легкомыслию не опла-
кал в свое время. Вот и бродила по свету его неприкаянная душа.
Этот странный приступ напоминает другой, случившийся по-
чти сорок лет назад, 1 сентября 1869 года, когда Толстой отправил-
ся в Пензенскую губернию с намерением купить имение, по пути
заночевал в Арзамасе в скверной гостинице. Здесь с ним и произош-
ло нечто такое, что его старший сын Сергей называет в своих воспо-
минаниях припадком и объясняет его болезнью печени, прибавляя,
что случай этот оказал влияние на всю дальнейшую жизнь отца.
Сергею было тогда 6 лет, и сам он, конечно, этого эпизода не
помнил Но сохранилось письмо отца к жене, где он упоминает о
случившемся. «Было 2 ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ниче-
го не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких
я никогда не испытывал Подробности этого чувства я тебе расскажу
впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не ис-
пытывал и никому не дай Бог испытывать».
«Подробности расскажу впоследствии...» И рассказал, по-ви-
димому, но Софья Андреевна в своем объемистом дневнике ни-
чего об этом не пишет. Зато написал сам Лев Толстой в художе-
ственной, правда, форме — в повести «Записки сумасшедшего»,
которую начал спустя 15 лет, бросил, возвращался неоднократно
вплоть до 1903 года и оставил незаконченной. Лишь через два года
после смерти автора она увидела свет.
Рассказ в ней ведется от первого лица. Герой, как и автор ког-
да-то, едет покупать имение, останавливается на ночевку в Арза-
масе, ложится, ненадолго погружается в дрему, но скоро пробуж-
дается, и его охватывает необъяснимая тоска. Он выходит в кори-
дор, но легче не становится. «Да что это за глупость, — сказал я
Голос смерти? «Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не долж-
но быть».
Почему же не должно? Сам Толстой не раз смотрел ей в глаза;
и на войне, и позже, например, на охоте. Афанасий Фет, много-
летний друг Льва Николаевича, в своих воспоминаниях расска-
зывает, как поднятая из берлоги огромная медведица, ошалев
от ярости, стремительно помчалась на Толстого. «Спокойно при-
целясь, Лев Николаевич спустил крючок, но, вероятно, промах-
нулся». Ну, не совсем промахнулся, попал в зев, где пуля «завязла
между зубами». Получив сильный толчок в грудь, Толстой пова-
лился в снег, медведица перескочила через него, затем вернулась
и попыталась «прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежав-
ший навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог ока-
зывать только пассивное сопротивление, стараясь по возмож-
ности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку
под зев животного». Это спасло его — отделался ранами на лице.
Вот уж где смерть была действительно рядом, и ничего, не дрог-
нул, а тогда, в Арзамасе, его охватил ни с чем не сравнимый ужас.
«Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испы-
тывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не бо-
ялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чув-
ствовал, что ее не должно быть».
Вот они, главные слова, объясняющие его отношения со смер-
тью и повторяемые, как заклинанье, неоднократно: ее не должно
быть! «Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть».
Не должно быть и всё! Разум отказывался принять ее, и разумом
же он пытался победить этот неодолимый, чудовищный, перво-
бытный, инстинктивный страх. Но раз первобытный и инстинк-
тивный, то разум, даже самый могучий, тут бессилен. «Я стал кре-
ститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня уви-
дят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят».
67
Тут очень важно, что не молитвы успокоили, которые творились
Разумеется, это весьма слабенькое средство. Прошло время,
герой оказался на Московском подворье, ему опять предстояло
ночевать в маленьком, напоминающем гроб номере, и... «И вдруг
арзамасский ужас шевельнулся во мне».
То была ночь пострашнее арзамасской. Душа, пишет Толстой,
мучительно разрывалась с телом. «Я живу, жил, я должен жить,
и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть?
Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет?
Боюсь еще хуже». Заколдованный круг, из которого не было выхо-
да Толстой, во всяком случае, его не видел. А разглядеть пытался...
М. Горький пишет, что Толстой «с величаишим напряжением
всех сил духа своего одиноко всматривался в «самое главное» —
в смерть». И продолжает: «Всю жизнь он боялся и ненавидел ее,
всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас». А даль-
ше приводит толстовские слова: «Если человек научился думать, —
про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти».
Слова эти были сказаны Толстым в Гаспре, где он долго и му-
чительно болел — жизнь его висела на волоске. В это живописное
местечко под Ялтой он приехал ранней осенью 1901 года по при-
глашению графини Софьи Владимировны Паниной, отдавшей в его
полное распоряжение свое имение на Южном берегу Крыма.
Приехал, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, и разболел-
Сергей Львович свидетельствует, что «во время болезни отец про-
сил, чтобы его похоронили там, где он умрет». Даже присмотре-
ли «для могилы Льва Николаевича место в гаспринском парке».
Это было уже начало 1902 года, январь, который обычно сля-
котей и ветрен в Крыму. (По странному совпадению через полвека
после Севастополя смерть опять вплотную приблизилась к нему
именно на Крымском полуострове.) Началось воспаление легких,
которое так опасно для стариков и которое осенью 1910 годауне-
сет-таки его из жизни, сейчас же было нечто вроде генеральной
репетиции. Но кто знал, что это всего лишь репетиция, пример-
ка, испытание! «Мой Левочка умирает», — записывает в дневни-
ке 26 января Софья Андреевна А на другой день в дневнике появля-
ются слова, которые могут вырваться у человека лишь в безмерном,
отнимающем рассудок отчаянии: «Чувствуя, что мой Левочка ухо-
дит из жизни, я точно на него за это досадовала, точно я хотела сде-
лать невозможное: разлюбить его прежде, чем он будет от меня взят».
чески не оставляли надежды), не только близкие, готовился и он
сам. Готовился по-своему, по-толстовски, заблаговременно, рань-
ше других угадав звериным своим чутьем ее осторожное прибли-
жение. Еще 5 января пишет письмо великому князю Николаю
Михайловичу, с которым познакомился в Гаспре осенью и кото-
рого, при всей малой симпатии к нему, просит теперь об одолже-
нии: лично в руки передать государю его послание. «Чувствуя, что
конец мой близок, я написал это письмо, не желая умереть, не вы-
бы быть». Спустя неделю великий князь телеграфировал о своем
согласии и еще через два дня, 16 января, из Гаспры на имя Нико-
лая II уходит пространное письмо, которое начинается словами:
«Любезный брат».
Далее Толстой объясняет, что счел такое обращение уместным,
ибо адресуется не столько к царю, сколько к человеку, а следова-
тельно, к брату. «Кроме того еще и потому, что пишу вам как бы
с того света, находясь в ожидании близкой смерти».
Больной, теряющий силы писатель работал над ним ровно три неде-
ли. Оно потребовало от него неимоверного напряжения, но и при-
несло глубокое удовлетворение. «Почти все время был болен, то есть
приближался к смерти, — записывает он 22 января. — И довольно
хорошо жил. За это время написал письмо государю».
Что значит «хорошо жил» в сочетании с «приближался к смер-
ти»? Когда-то, почти два десятилетия назад, он записал в дневни-
ке в первый день нового, 1883 года: «Мы живем, значит, мы уми-
раем. Хорошо жить, значит хорошо умирать. Новый год! Желаю
себе и всем хорошо умереть». Слова «хорошо умереть» выделе-
ны Толстым. Так что же теперь, в Гаспре, на 74 году жизни это его
давнее пожелание сбывалось?
Сбывалось, да не совсем... Вот его собственные слова, записан-
ные по горячим следам Софьей Андреевной: «Я думал, что уми-
рать легко, а нет, очень трудно». Их же приводит в своих воспо-
минаниях и сын Сергей Львович, уточняя, что при этом отец ста-
вит себе в пример — или в укор? — недавнюю смерть их близко-
го знакомого Адама Васильевича Олсуфьева, который в самый день
смерти «прощался со всеми, давал советы детям и часто повто-
рял: я никак не думал, что так легко умирать». Толстой с завистью
писал об этом еще в сентябре минувшего года, и вот теперь мысль
об Олсуфьеве не покидает его. Сам-то, оказывается, он так не мо-
жет. Не готов... Хотя Олсуфьев был на несколько лет моложе его.
Зависть эта появилась не сейчас. Еще в «Анне Карениной»
Левин, которому автор, как известно, передал многие свои чув-
ства и мысли («Левин и есть сам Толстой, — писал Томас Манн, —
почти точь-в-точь Толстой, вся разница только в том, что Левин
далек от искусства»), — так вот Левин испытывает по отноше-
нию к умирающему брату «зависть за то знание, которое имеет
теперь умирающий». Это из двадцатой главы пятой части рома-
на, единственной имеющей название, то есть подчеркнуто, с чисто
толстовским нажимом выделенной из многих десятков других глав.
исчерпаемое, по сути дела, слово вынесено в заголовок фетовско-
го стихотворения, которое очень нравилось Толстому (запись в
дневнике от 21 марта 1884 года).
Где мукам всем конец и сладок томный хмель;
Толстой сказать о себе этого — что без страха ожидал «веч-
ную постель» — пока что не мог. Вообще диалог с Фетом о смер-
ти, когда косвенный, в творчестве того и другого, а когда и пря-
мой, продолжался не одно десятилетие. Так, еще в 1860 году Лев
Толстой писал Фету: «К чему всё, когда завтра начнутся муки смер-
ти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманыванья и кончат-
ся ничтожеством, нулем для себя». Смерть, уничтожая человека,
превращая его в «нуль для себя» (примечательно это — «для себя»),
помимо всего прочего еще и некрасива, неэстетична — в отли-
чие, например, от смерти дерева, которое «умирает спокойно,
70
честно и красиво». Так он комментирует в одном из писем свой
рассказ «Три смерти» и прибавляет, переводя разговор из эстети-
ческой плоскости в плоскость этическую: «Красиво — потому что
конечная, хоть и не сформулированная прямо цель знаменитого
толстовского опрощения: превратить себя в дерево? Низвести себя
до дерева? Или, напротив, возвыситься, если пользоваться толсто-
вской шкалой ценностей?
Цель эту он поставил перед собой в неполных 30 лет. Во вся-
ком случае, в январе 1858 года, когда был написан рассказ, она
уже существовала — как один из способов преодоления того ужа-
са, который он спустя 10 лет назовет «арзамасским». Но первые
симптомы его проявились гораздо раньше. Так, в 1861 году он
обнаруживает у себя чахотку, сведшую в могилу двух его братьев
(последнего, Николая, всего год назад), и проводит в ожидании
ние, за которым следует признание, что он «ничего не делал, ни-
кому не писал» — настолько, выходит, был парализован страхом
близкого и неминуемого конца... Сколько способов перебрал он,
чтобы преодолеть его! Опрощение — один из них. Второй — иг-
норирование смерти.
Домашний учитель толстовских детей Иван Михайлович Ива-
кин записал в дневнике слова Льва Николаевича, сказанные им
во время грозы, которая разразилась, когда тот косил и «ему вдруг
стало почему-то жутко». Вот эти слова: «Но я вспомнил, что мо-
жет мне сделать гроза? Разве убить и только. А это... — самое же-
лательное для меня».
Выходит, от прежнего парализующего страха не осталось и сле-
да, и смерть теперь не только не страшна, а даже желательна.
Но смерть бывает разной... Сколько их, таких не похожих друг
на друга, описано только в «Войне и мире»!
«Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувство-
вал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал
сознание отчужденности от всего земного и радостной и стран-
ной легкости бытия». Началось это задолго до конца, сразу пос-
ле ранения, от которого ему уже не суждено было оправиться.
Это понял не только доктор, который «низко нагнулся над ра-
71
ной, ощупал ее и тяжело вздохнул», это понял и сам князь Анд-
рей, уже тогда начавший думать о себе в прошедшем времени:
«...ежели бы я был жив». Какие, на первый взгляд, страшные сло-
ва, но лишь на первый. Слишком сильно это. Слишком эффект-
но. Слишком литературно. Так, пожалуй, мог бы написать Лео-
нид Андреев, которого Толстой, как известно, не очень жаловал
за подобные как раз штучки.
Описывая смерть князя Андрея, он описывает не столько ре-
альную смерть реального человека, сколько смерть идеальную, ка-
кой бы и сам хотел умереть. Описывает идеал смерти, неотдели-
мый от идеала жизни. Что понятия эти нерасторжимы, Лев Тол-
стой понимал всегда, с молодых лет, а уж в свои лучшие, в свои
самые счастливые годы, тем более. «Я счастливый и спокойный
муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого жела-
ния, кроме того, чтоб все шло по-прежнему», — признавался он
вскоре после женитьбы уже упомянутой нами двоюродной тетке
Александре Андреевне Толстой. «Чтоб все шло по-прежнему», —
то есть никаких перемен. А что такое смерть, как не самая боль-
шая, самая необратимая перемена! «Ничем не может владеть
человек, пока он боится смерти, — провозглашает он устами
Пьера Безухова. — А кто не боится ее, тому принадлежит все».
Прежде князю Андрею не «принадлежало все», потому что
прежде князь Андрей «боялся конца». Но теперь от этого страха
не осталось и следа. Совсем иные чувства овладели им: «То гроз-
реставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для
него было близкое и — по странной легкости бытия, которую он
испытывал, — почти понятное и ощущаемое». Затем идут точки,
без которого предыдущее не очень понятно, но автор, обычно стре-
мящийся к предельной ясности, здесь словно бы и не хочет, что-
бы его понимали.
«Я глубоко уверен, — пишет М. Горький, — что помимо всего,
о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, —
даже и в дневнике своем, — молчит и, вероятно, никогда никому
не скажет». А дальше, пытаясь разгадать загадку этого сфинкса —
самого, пожалуй, многоречивого сфинкса в истории человече-
ства, — М. Горький добавляет: «Он часто казался мне человеком
непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к лю-
дям».
То же самое, причем неоднократно, говорит в своих дневни-
ках Софья Андреевна. Вообще ее записи, которые она почти все-
гда делала по горячим следам, не то что разоблачают ее мужа, но
открывают те стороны его жизни, какие он тщательно скрывал.
В той же Гаспре, когда и в письмах, и в публичном поведении (а бо-
лезнь и тем более смерть такого человека как Толстой всегда пуб-
личны, если даже он того не желает) всячески демонстрируются
готовность смерти, покорность смерти, религиозное .принятие
смерти, он делает все от него зависящее, чтобы смерть отступила.
«Какое внимание ко времени приемов лекарств, перемены ком-
пресса, какое старание питаться, спать, утолять боль», — поража-
ется Софья Андреевна Она, разумеется, счастлива, что он выздо-
равливает. Но одновременно не может не видеть, что «с утра, весь
день и всю ночь, он внимательно, час за часом выхаживает и забо-
Когда-то он написал о князе Андрее: «Это была... нравствен-
ная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержа-
ла победу». В Гаспре победу одержала жизнь. И подчас он в серд-
цах сетовал на это, говорил, что лучше бы ему, дескать, умереть.
Но самый близкий ему человек, жена, сидя рядом с ним в большой
и мрачной гаспринской гостиной, без малейшего сомнения запи-
сывает в дневнике: «Умирать ему страшно не хочется». Хотя бук-
вально накануне он уверял ее, что «устал ужасно и желаю смерти».
Запись эта сделана Софьей Андреевной 11 мая, а уже 6 авгус-
та полностью оправившийся после болезни и вернувшийся в Яс-
ную Поляну Толстой возобновляет интенсивную, практически
ежедневную работу над повестью «Хаджи-Мурат», во вступитель-
ной главе к которой восхищается цветком репейника, что так
упорно сопротивляется гибели. («Какая, однако, энергия и сила
жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отры-
вал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою
жизнь».) Что не мешает ему десятью днями раньше наслаждать-
ся стихотворением Баратынского «Смерть», которое по его ини-
циативе читается вслух при большом скоплении гостей. Заме-
Лев Толстой. Арзамасский ужас
тим, что это стихотворение, включенное Толстым в «Круг чте-
ния», представляет собой не просто оправдание смерти, кото-
рую поэт именует «светозарной красой», а ее, смерти, прямую
апологетику. «Ты всех загадок разрешенье, — обращается к ней
лирический герой Баратынского в заключительных строках, —
ты разрешенье всех цепей». Этакий панегирик смерти. Не слу-
чайно именно панегиристом смерти назвал Льва Толстого Ни-
колай Федорович Федоров, человек, не просто яростно отрицав-
ший смерть, но разработавший, в неистовой борьбе с нею, гран-
диозную теорию воскрешения всех когда-либо живших на земле
людей.
Федоров был ровесником Толстого. Великий аскет, каковым
себя вовсе не считал, он все, что зарабатывал, раздавал нищим, спал
на голых досках, ходил зимой и летом в ветхом зипуне, а насыщал-
ся куском черствого хлеба и чуть приправленным чаинками ки-
пятком. Святым называл его Толстой в дневнике (запись 1881 года).
Федоров же в свою очередь адресуется к Толстому, спустя, правда,
без малого два десятилетия, именно как к «панегиристу смерти,
величайшему лицемеру нашего времени». Именно так называлась
направленная против Льва Толстого федоровская статья, не напе-
чатанная, кажется, и поныне.
Разногласия двух великих современников, один из которых
прямо заявил в «Исповеди», что «истина — это смерть», а дру-
гой ее напрочь не признававший, завершились полным разры-
вом. Федоров, к которому Толстой явился в Румянцевский му-
зей, где Николай Федорович работал библиотекарем, встретил
автора «Войны и мира» резким вопросом: «Что вам угодно?» —
и отказался подать руку. Эго Толстому-то! Свидетелем встречи был
заведующий отделом рукописей Г. П. Георгиевский, он-то и оста-
вил воспоминания об этом безмерном унижении мировой знаме-
нитости.
«Величайший лицемер нашего времени...» Сходной позиции
придерживался и Мережковский, с упоением разоблачавший
и вегетарианство Толстого («За всегда обильным, умеренно про-
стым и вместе с тем роскошным столом Льву Николаевичу пода-
ются особые растительные блюда»), и внешнюю непритязатель-
ность его одежды (которая, на самом деле, «приятнее, роскошнее
нашего некрасивого, унизительно стесняющего тела... платья»),
и демонстративный отказ от «мягких постелей» (ибо предпочи-
тал «прохладные кожаные изголовья»).
Если продолжить эту логику, то Толстой не умер в Гаспре
только потому, что эта смерть, в роскоши и окружении близ-
ких, ни в какое сравнение не шла с тем грандиозным эпилогом
толстовской жизни, каковым стала смерть на убогой железно-
дорожной станции. Не будь этого потрясающего эпилога, жизнь
гениального писателя не утратила б, разумеется, своего величия,
но, надо признать, совершенством бы своим поступилась. А он
и свою жизнь, и свои произведения строил по законам искусства,
столь неистово отрицаемого им. В том числе и последние произ-
ведения, того же «Хаджи-Мурата», дописываемого им, по соб-
ственным его словам, «на краю гроба».
Но Толстому явно не по себе, от того, что занимается «на краю
гроба» такими пустяками. «Это баловство и глупость, но начато
и хочется кончить», — оправдывается он в письме к брату. Закон-
чил. Однако при жизни решил не печатать. Куприн публично вы-
сказал предположение, что Лев Толстой сделал это с единственной
целью: продемонстрировать всем, уже после своей смерти, какая
художественная мощь оставалась у него до самого конца. Иными
словами, Куприн подозревает Толстого — и, может быть, не без
основания — в своего рода уловке, в этаком литературном моло-
дечестве. Автор словно предвидел подобный упрек и отвечает
на него в тексте самой повести. Вскользь упомянув о смерти гене-
рала Слепцова, он добавляет с укором, что в ней, в смерти, «никто
не видел... важнейшего в этой жизни момента — окончания ее
и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виде-
лось только молодечество лихого офицера».
Может быть, генеральская форма мешала разглядеть «важ-
нейший в этой жизни момент»? Мешала как окружающим, так
и самому генералу? (Генералам, да и вообще высокопоставлен-
ным чинам, вплоть до государя Николая Павловича, в этой по-
следней повести Толстого досталось крепко.) Иное дело, когда уми-
рает простой солдат Авдеев. «Глаза его были направлены на боль-
ных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то
другое, очень удивлявшее его».
Это другое — смерть. И она не пугала его, а именно удивляла.
И то лишь вначале, пока он как следует не разглядел ее. Когда же
разглядел, то сразу успокоился и с чувством облегчения принял
нежданную гостью. Пошедший в солдаты вместо многодетного
брата (у самого детей не было) и еще недавно завидовавший ему,
он теперь даже рад, что так все получилось, о чем и просит напи-
Офицер скупо сочувствует: «Что, брат, плохо?» Но умирающий,
закрыв глаза, отрицательно качает головой, просит свечку и тихо
отходит. Так же тихо, в полном ладу с собой и оставляемым ми-
ром живых умирает баба из предпоследнего, оставшегося неза-
конченным произведения Толстого «Отец Василий». «Страдания
кончились, и она, бессильная поворотиться, лежала на кровати
и только движением глаз проявляла присутствие жизни». Чита-
ешь эти бесчисленные описания смертей, и все более укрепля-
ешься в чувстве, что это не столько беллетристические сочинения,
сколько сценарии своего собственного грядущего ухода, с каж-
дым годом, с каждым месяцем, с каждым днем становящегося
ближе и ближе. Да что с каждым днем — с каждым часом! Толстой
физически, всем своим естеством ощущал это грозное приближе-
ние и делал все от него зависящее, чтобы ужас — арзамасский
ужас — этого неотвратимого приближения превратить в нечто
естественное и даже приятное.
Замерзает, заблудившись в пурге, помещик Василий Андрее-
вич Брехунов из «Хозяина и работника», понимает, что замерза-
ет, «понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается этим».
А не огорчается потому, что прикрывает своим телом работника
Никиту и этим спасает его от верной гибели. Откуда такое само-
пожертвованье? От внезапно нахлынувшей любви к ближнему,
от беспрекословного подчинения тому, чье имя не называется, но
кого он, оказывается, все время смутно ждал. «Василий Андрее-
вич рад, что этот кто-то пришел за ним». Рад сперва в забытье,
в полусне, а затем уже наяву, ненадолго пробудившись перед тем,
как снова заснуть, теперь уже навсегда. Заснуть, чтобы, прозрев,
отозваться на зов. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все
существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уже больше
не держит его».
Свободен от чего? От всегдашних, еще недавно занимавших
его всего забот о деньгах, о выгодных сделках, о роще, ради кото-
рой он, собственно, и отправился в непогоду к соседу-помещику...
Все это теперь стало таким неважным. А важно было только одно:
во что бы то ни стало спасти работника своего Никиту, которого
он еще совсем недавно и за человека-то не считал. «Жив Никита,
значит, жив и я». Ничего подобного от героя, конечно, не ждешь,
автор откровенно нав: 1вает ему акт самопожертвованья, а вот
способен ли сам на него?
«Хозяин и работник» еще только готовился к печати, еще шла
борьба за него, когда Софья Андреевна, измученная и этой борь-
бой, и чтением корректур, и, главным образом, болезнью Ванеч-
ки, записывает в дневнике, что потомки будут восхищаться тем,
как великий писатель не гнушался возить в дом воду, но «никто
никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь дать ей
отдых, ребенку своему воды не дал напиться и 5-ти минут в 32 года
не посидел с больным, чтоб дать мне вздохнуть, выспаться, погу-
лять или просто опомниться от трудов».
Поневоле вспомнишь тут федоровское: «Величайший лице-
мер...» Но все-таки дело тут, наверное, не в лицемерии, а в неком
нравственном императиве, которому покорно следовали его ге-
рои, но сам он — во всяком случае, до поры до времени — следо-
вать ему был просто не в состоянии. Герои — те, в большинстве
своем, ослушаться его не смели, как ослушалась своего создателя
пушкинская Татьяна. Тут Лев Николаевич был диктатором не-
преклонным. Василий Андреевич, во всяком случае, подчиняется
ему, накрывая своим телом Никиту. Хотя, по логике характера,
столь мощно обрисованного на предыдущих страницах, хозяин
скорее сам должен был бы подлезть под безответного своего ра-
ботника, чтобы согреться.
Крестьянина и впрямь спасает тепло внезапно подобревшего
и прозревшего помещика Когда на другой день их откапывают —
мертвого Василия Андреевича, мертвого коня по кличке Мухор-
тый, который ушел в мир иной без всяких просветляющих мыс-
лей, и оттого его смерть, не контролируемая, не режиссируемая
автором, кажется самой естественной в рассказе и трогает боль-
ше, чем смерть человека, — когда их откапывают, Никита еще
жив. Пролежав два месяца в больнице, потеряв три отморожен-
ных пальца, он выздоравливает, живет еще целых 20 лет и, в кон-
це концов, «переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную
жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все по-
нятнее и заманчивее».
Становилась ли она таковою для автора — неизвестно. Судя по
тому, что он говорил и что писал, в том числе в дневнике, да, стано-
вилась. Но самый близкий ему человек утверждает, что в дневнике
он «никогда не бывает ни искренен, ни добр». Запись эта сделана
Софьей Андреевной тоже в дневнике, к которому отчасти можно
предъявить ту же претензию в недоброте — в данном случае в не-
доброте по отношению к мужу, — но уж в неискренности-то ее
вряд ли обвинишь.
Пассаж об иной жизни, которая становилась для героя «все
понятнее и заманчивее» — это еще не концовка рассказа. Завер-
шается он совершенно необычно для Толстого, тем более для
позднего Толстого, громогласно и твердо возвещавшего миру исти-
ны. А тут не истина, которую он навязывает человечеству, тут со-
му Никите, а тому, кто о нем рассказывает. «Лучше или хуже ему
там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаро-
вался ли он или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро
узнаем». Вот тут уже автора, ничего не утверждающего, а только
спрашивающего и размышляющего, заподозрить в неискренно-
сти трудно.
Рассказ «Хозяин и работник» появился в печати в 1895 году
в журнале «Северный вестник» и практически одновременно —
в Собрании сочинений, которое издавала Софья Андреевна Ей это,
надо сказать, стоило немалых трудов. Она за публикацию отчаян-
но боролась, и отголоски этой борьбы слышны как в ее дневнике,
так и в дневнике Льва Толстого, в конце концов уступившего жене.
Но все-таки не публикацией «Хозяина и работника», ставшей со-
бытием не только в литературной, но и общественной жизни Рос-
сии, запомнился Толстым 1895 год. Для них он был годом смерти
младшего сына Ванечки.
Хроника страшной болезни, которая унесла любимого сына,
содержится в дневнике Софьи Андреевны. Здесь всё: и отчая-
Р. Киреев. Великие смерти
ние, и надежда, и снова отчаяние... Последняя запись датирова-
на 23 февраля. «Мой милый Ванечка скончался вечером в 11 ча-
сов. Боже мой, а я жива!» Последняя, потому что на этом дневник
прерывается. Возобновила его Софья Андреевна лишь через два
с лишним года — настолько сильным было потрясение матери.
А отца? «Папа, — писала в одном из писем дочь Мария, —
ужасно страдает и плачет все время». Но вот что писал он сам в
дневнике, в день похорон, вернее, ночью после похорон сына:
«Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благо-
дарю тебя, Отец. Благодарю тебя». (В свои последние годы он час-
тенько Бога именовал просто Отцом)
Что это? Душевный надлом, во время которого человек не отда-
ке? Попытка хоть как-то успокоить себя? Стремление отыскать
некий высший смысл в том, что заведомо лишено смысла, ибо раз-
ве может иметь какой-нибудь смысл, тем более высший, смерть
невинного младенца?
Как отец, как человек он «страдает и плачет», а как мысли-
тель пытается не только объяснить, но и оправдать случившее-
ся. «Так много перечувствовано, передумано, пережито за это
время, — записывает он в дневнике две недели спустя. — Смерть
Ванечки была для меня... проявление Бога, привлечение к нему.
тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не ра-
достное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутываю-
щее ложь жизни, приближающее к нему событие».
Это просветление через трагедию, это обретение через утра-
ту — акт сознания, безусловно, религиозного. Толстой после
смерти сына стал ближе к Богу (или ему показалось, что стал), за
что и благодарит Его. Перед каждым человеком, считает он, сто-
ит альтернатива: «или смерть, висящая над всеми нами, властна
над нами и может разлучить нас и лишить нас блага любви, или
смерти нет, а есть лишь ряд изменений, совершающихся со все-
ми нами, в числе которых одно из самых значительных есть
смерть».
«Одно из самых значительных...» Все остальное «так ничтож-
но по сравнению с тем, что начиналось и уже началось для него».
Лев Толстой. Арзамасский ужас
79
Для него — в данном случае для Хаджи-Мурата, уже смертельно
раненного, доживающего свои последние минуты на этом свете.
Но слова эти в полной мере можно отнести и к самому Толстому,
доживающему на земле последние годы.
Меньше чем за полтора месяца до смерти Ванечки, когда он
уже тяжело болел, отец его обмолвился в беседе с гостями (а Софья
Андреевна записала эго в дневник): «Жизнь не была бы так инте-
ресна, если б не было этой вечной загадки впереди — смерти».
«Интересна!» Это из лексики не мыслителя, не религиозно-
го философа и уж тем более не верующего человека, а скорее
игрока, каковым он был в молодости, либо охотника, но охот-
ника не на медведя, не на вальдшнепа, а охотника, для которого
в роли дичи выступает тайна бытия. И так было не только в мо-
лодости, не только в зрелые годы, но и на склоне лет.
За семнадцать дней до своего 80-летнего юбилея, 11 августа
1908 года, Толстой, настолько скверно чувствующий себя в то утро,
что был не в состоянии писать, позвал к себе своего секретаря
Николая Гусева и продиктовал ему для дневника следующее: «Тя-
жело, больно. Последние дни неперестающий жар и плохо, с тру-
дом переношу. Должно быть, умираю. Отношение к смерти ни-
как не страх, но напряженное любопытство». Далее следовали ука-
зания, что делать после его смерти, которую он ждал буквально
со дня на день и на пороге которой, в отличие от многих своих
героев, испытывал чувство отнюдь не религиозное. Ибо, в отли-
чие опять-таки от своих героев, он до конца дней своих оставался
в глубине души не только художником, но игроком и охотником,
которых ведет азарт. Напряженное любопытство — это ведь, по
существу, и есть азарт...
Ровно через 10 дней тот же Гусев производит под диктовку
Толстого еще одну запись, из которой следует, что состояние его
здоровья ухудшилось и он, стало быть, еще немного приблизился
испытал без всякой внешней причины особенно сильное и — мало
сказать: приятное, а серьезное, радостное чувство совершенного
отпадения не страха даже, а несогласия со смертью». Несогласие
здесь, в отличие от страха, не чувство, не нечто подсознательное,
а производное от ума, работа ума, который в данном случае часто
бывает попросту бессилен. Бессильны вообще какие бы то ни было
слова, и Толстой прекрасно понимал это. Не зря он так любил и час-
то цитировал фразу Сократа, которую тот произнес, выпив яду:
«Умирать надо в благоговейном молчании».
Фраза эта приведена в диалоге Платона «Федон» и относит-
ся к плачущим от горя ученикам, в первую очередь, к Аполлодо-
ру, который «зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем
надорвал душу». К ученикам, да, но и к себе самому, надо пола-
гать, тоже. Однако сам Сократ, если верить Платону, отнюдь не
молчал. Как не молчал при смерти — или, до поры до времени,
при мнимой смерти, — Лев Толстой. Больше того, он, отлично
понимая, что «голос из-за гроба бывает особенно слышен» (за-
пись в дневнике 27 марта 1895 года), заботился о том, чтобы
голос его не умолкал и после его ухода. Заботился непрестанно...
Примеров тому множество. Вот только один из них, касающий-
ся письма, которое он написал 8 июля 1897 года. Обращено оно
к Софье Андреевне, однако прочтет его она только через три-
надцать с лишним лет, когда ее мужа уже не будет на свете.
Об этом побеспокоился сам Толстой. Написав пространное
письмо, в котором объяснил причины своего очередного решения
уйти из дома — впервые эта мысль зародилась еще в 1884 году, —
он не отдал его жене, а спрятал в укромном месте своего кабинета,
под обивку кресла. Спрятал и забыл? Э, нет! В кресле письмо могло
остаться навсегда и погибнуть вместе с ним, а для Толсгого было слиш-
ком важно продолжить разговор с теми, кто будет жить после него.
Во время болезни 1902 года, когда Лев Николаевич, как, впро-
чем, и многие окружающие, уже думал, что дни его сочтены, он,
улучив момент и собрав последние силы, дает поручение дочери
Марии извлечь письмо из-под клеенчатой обивки и написать на кон-
верте: «Вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти». Не унич-
тожить, что, казалось, было так естественно, поскольку никакого
ухода из дому к тому времени не состоялось и объяснять, собствен-
но, было нечего, а сохранить для потомков. Чтобы те знали: такое
намерение у великого человека было.«.. .Как индусы под 60 лет ухо-
дят в леса, так всякому старому, религиозному человеку хочется
последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, калам-
бурам, сплетням, теннису, так и мне, вступающему в свой 70-й год,
Лев Толстой. Арзамасский ужас
81
всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть
не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни
с всеми верованиями, с своей совестью».
Слишком важны для него были эти слова, чтобы дать им уме-
мо по воле автора перешло на хранение к его зятю. Эта странная,
затянувшаяся на много лет возня с письмом, адресованном жене,
на самом же деле предназначенном для потомков, весьма крас-
норечиво говорит о том, как много и тщательно заботился Лев
Толстой о своем будущем. О том будущем, когда физически его
уже не будет на свете. Что лишний раз подтверждает справедли-
вость брошенного вскользь замечания Мережковского: «Лев Ни-
колаевич... думая о смерти, как будто готовится только к земному
бессмертию». Это было написано еще при жизни Толстого, так что
ни о каком письме, кочующем из одного места в другое, Мереж-
ковский понятия не имел...
О смерти Толстой думал всегда, еще с молодых лет, что не ме-
шало ему на девятом десятке жизни сказать своему секретарю
Гусеву, а тот, российский Эккерман, тотчас занес эти слова в днев-
ник: «Только в восемьдесят летя вполне ясно понял, какое значе-
ние для жизни имеет memento mori. Если помнишь, что умира-
ешь, то ясно, что цель жизни — не в личности». Не в личности,
не в отдельной личности (потому что она всегда конечна, даже
если эта личность — сам Лев Толстой, чья репутация, по его соб-
ственным опять-таки словам, сохраненным для истории все тем же
российским Эккерманом, «установилась такая, что она гораздо
больше шла бы к умершему»), а в чем-то другом, что, по-видимому,
конца не имеет. В чем? Ответ на этот вопрос сформулирован —
с обычной толстовской тяжеловесностью — в дневниковой записи
от 17 ноября 1897 года, причем запись эта родилась не спонтанно.
Лев Николаевич, как он сам признается, «с особенной ясностью»
думал об этом целых два дня.
Вот эта запись — быть может, ключевая в понимании сокро-
веннейшего отношения Толстого к смерти:
«Моя жизнь — мое сознание моей личности все слабеет и сла-
беет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным пре-
кращением сознания личности. В это же время, совершенно од-
повременно и равномерно с уничтожением личности, начинает
жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь,
последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в жи-
вотных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет
жить после меня».
Что же это за такие «последствия» мысли и чувства? Написан-
ные им книги, что же еще, причем не только художественные кни-
ги, даже не столько художественные, сколько книги, в которых
он наставляет человечество на путь истинный. (В художествен-
ных, впрочем, тоже наставлял.) Открывает современникам, а за-
одно и потомкам, глаза на положение вещей во всех областях
жизни: политическом мироустройстве, религии, науке, культуре...
Но существуют ведь и другие «последствия» — дети. В них-то
обычные люди и видят прежде всего свое продолжение, свое зем-
ное и отнюдь не потустороннее бессмертие. Толстой тут не ис-
ключение, дети и для него важны чрезвычайно, недаром он на вто-
рое место «по важности» ставит институт брака, главной и един-
ственной целью которого, настаивает он, дети как раз и являются.
А на первое? Что ставит Лев Толстой на первое место? Смерть... «Пос-
ле смерти по важности, — записывает он 20 декабря 1896 года, —
нет ничего важнее, безвозвратнее брака».
Ну, что «безвозвратнее» — это понятно, многие, как Толстой,
считали и считают, что брачные узы нерасторжимы, возвратить-
ся в прежнее, добрачное отношение человек при живом муже или
живой жене не имеет права. Но почему все-таки на первом мес-
те стоит не жизнь, не Бог, не деятельность во благо других людей,
о которых он всегда так много говорил, а смерть? А потому, что
лишь она одна способна уничтожить — и, по-видимому, уничто-
жит (хотя подчас кажется, что иногда он сомневался в этом) —
то самое главное, что есть для него, что бы он там ни говорил:
феномен по имени Лев Николаевич Толстой.
Смерть — это «всегда ново и значительно», формулирует он,
узнав об уходе из жизни одного своего, причем не самого близ-
кого, родственника, и сравнивает реальную смерть со смертью
«на театре». По его мнению, она вряд ли производит даже одну
десятитысячную «того впечатления, которое производит бли-
зость настоящей смерти».
83
Упоминание о театре тут не случайно: как раз в это время Тол-
стой пытался закончить давно начатую, но так в конце концов
раданная, самая личная, самая автобиографическая вещь поздне-
го Толстого. В ней не просто смоделирована ситуация, которая
сложилась в Ясной Поляне, в ней герои — прежде всего, главные
герои: Николай Иванович и Марья Ивановна Сарынцевы — слов-
но бы зачитывают большие фрагменты из дневников Льва Ни-
колаевича и Софьи Андреевны, причем Толстой честно и под-
робно представляет точку зрения своего главного оппонента, то
бишь жены. «Да что же мне делать, когда ты хочешь оставить
детей без ничего», — говорит она мужу, решившему раздать все
свое имущество. А он? Он в ответ на все ее упреки повторяет
одно и то же — ив жизни, и в пьесе: «Надо освободиться от этой
развращающей роскоши». Его мучает противоречие и даже лож-
ность ситуации, в которой он оказался и на которую ему указы-
вают, причем сплошь и рядом публично, его недоброжелатели.
«Мне всякий... имеет право сказать и говорит, что я обманщик,
что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бед-
ность, а сам живу в роскоши под предлогом, что отдал все жене».
Ситуация эта, знаем мы, разрешится трагически—на смертном
одре, каковым станет для Толстого койка начальника железнодорож-
ной станции Астапово. Но до этого еще далеко, однако астаповская
тень уже витает над героями пьесы. Николай Иванович, устами ко-
торого вещает сам автор, прямо советует думать и вести себя так,
будто смерть не где-то далеко, в неопределенном будущем, а совсем
близко. «Завтра умрешь» — завтра! — причем ты знаешь это навер-
няка, а коли знаешь, то все проблемы «решишь верно».
не оставляет ни героя, ни автора Собственно, эта очевидная, каза-
лось бы, мысль и является тем краеугольным камнем, на котором
строится' не только малоудачная, резонерская, никогда не имевшая
сценического успеха драма, нои практически вся вторая половина
жизни, а следовательно, и творчества Толстого. Читаешь его днев-
ники, и чем дальше, тем сильнее впечатление, что он словно бы за-
говаривает смерть, гипнотизирует ее, пытается обмануть — себя
ли, ее — добрым к ней, ласковым, почти родственным отношени-
ем: «Преступно желаю смерти»; «Уйти хорошо только в смерть»;
«Смерть стала... почти желательна»; «Как хорошо... Как хорошо...»
Последние, так похожие на выдох слова — это уже не дневник,
а заключительная реплика выстрелившего в себя Феди Протасова,
ею заканчивается «Живой труп»... Есть в этой пьесе, которую Тол-
стой не разрешил ставить при жизни, заявив специально приехав-
шему к нему Немировичу-Данченко: «Когда умру — играйте...» —
есть в этой драме, иногда называемой автором комедией, одна
примечательная сентенция. «И жизнь и смерть для гения безраз-
личны», — говорит некто Иван Петрович, опустившийся, неряш-
ливо одетый «аристократ духа», как он высокопарно именует себя.
и именно в уста этого фразера Толстой вкладывает формулу, ко-
торая — во второй своей части — во многом близка ему. Как бы
он не опрощал себя, как бы не умалял значение своего художе-
ственного творчества, как бы не отрекался от него, он знал себе
цену как художнику, и постулат, что смерть для гения должна быть
безразлична, — это, несомненно, его собственный постулат. Его
убеждение. Его нравственная, его философская установка, ко-
торой он изо всех сил старался следовать, и очень досадовал на
себя за то, что у него это худо получалось. Мнительности его не
было предела — об этом свидетельствуют дневники не только
Софьи Андреевны, но и его собственные. Стоит вскочить чирью
на лице, как он диагностирует рак, и торопится уверить себя, что
даже рад близкому концу.
И таких «чирьев», творчески преобразовываемых его могучей
фантазией в рак, было у него великое множество.
«В последнее время очень близко чувствую смерть. Кажется, что
жизнь матерьяльная держится на волоске и должна очень скоро
оборваться. Все больше и больше привыкаю к этому и начинаю
чувствовать — не удовольствие, а интерес ожидания». После этой
записи он проживет еще добрых 15 лет, и все эти годы то, что он
называет «интересом ожидания», а что на самом деле является
самым что ни на есть естественным человеческим страхом, будет
усиливаться.
Подчас этот страх проявлялся у него самым неожиданным
образом. «Потушив свечу, стал щупать спички и не нашел, и на-
85
шла жуткость. «А умирать собираешься! Что ж, умирать тоже бу-
дешь со спичками?» — сказал я себе».
Это, пожалуй, единственный случай, когда Толстой, трудно,
тяжело, иногда с надрывом относящийся к неизбежному концу
(и опять: неужели и для него—неизбежному?), использует для опи-
сания своего отношения к стоящей за дверью гостье ироничес-
кую, даже язвительную интонацию. Обычно, говоря о ней, он
сосредоточенно-серьезен. «Смерть теперь уже прямо представ-
ляется мне сменой: отставлением от прежней должности и при-
ставлением к новой. Для прежней должности кажется, что я уже
весь вышел и больше не гожусь». Однако нет-нет да вдруг про-
рывается сквозь эту натужную философию простая и такая по-
нятная человеческая интонация: «Как трудно покорно перено-
сить болезнь — идти к смерти без противления». Й добавляет,
спохватившись: «А надо». Это не просто пожелание, не просто
цель, к которой следует стремиться, но достигать, тем более лю-
бой ценой, вовсе не обязательно, это нравственная задача, ре-
шить которую надо во что бы то ни стало. Толстой вообще тер-
петь не мог полумер, он был максималистом, как один из самых
сокровенных его героев — отец Сергий, которого он последова-
тельно провел через все те искушения, которые испытал сам.
Максимализм этот проявлялся во всем: и в творчестве, и в от-
ношениях к близким (при этом, чем ближе был человек, тем силь-
нее становился максимализм, не зря больше всего страдала от него
Софья Андреевна), и, конечно же, к смерти, этой самой большой
и самой неотвратимой опасности, которая подстерегала его.
С опасностями у него были отношения особые. Посетивший
Толстого летом 1886 года американский журналист Джордж
Кеннан писал о нем как о человеке, привыкшем «в минуту опас-
ности поступать быстро и решительно». Но как поступить быс-
тро и решительно ввиду той опасности, какую представляла со-
бой неотвратимость смерти? Не близость ее, как на войне или
на охоте, а именно неотвратимость, пусть даже и в отдаленной пер-
спективе. Лишь один способ приходил на ум — добровольно и не-
медленно покончить с собой. О чем, собственно, и думает Констан-
тин Левин — вслед за своим создателем Не будет жизни — не бу-
дет и страха потерять ее, то есть страха смерти. «Он искал своего
прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она?
Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти
не было». Так думает, вернее, так ощущает свое новое состояние
агонизирующий Иван Ильич, но как быть тем, кто еще по эту ее
сторону и будет оставаться здесь неопределенно долго?
Да, можно, конечно, и самому распорядиться собой, но те-
перь этот выход не кажется ему верным. Более того, он убежден
в его неправильности, в его несомненной греховности. Так, от-
вечая на письмо некой А. Н. Остольской, решившей свести сче-
ты с жизнью, Толстой не только не жалеет аргументов, чтобы
отговорить незнакомую ему несчастную женщину от рокового
шага, но даже допускает непривычную для его писем такого рода
резкость, за что, впрочем, просит извинение.
«Хилость, старость, смерть — вот жемчужины жизни», —
так выспренно, в духе времени — самый расцвет декадентства! —
пишет яснополянскому мудрецу его почитательница, но пишет
с горькой иронией, подразумевая, что ничего страшнее этих
«жемчужин» быть не может. И получает гневную отповедь.
Итак, хилость, старость, смерть... «Я испытал две первые, —
делится со своей корреспонденткой 82-летний старец (через месяц
ему исполнится 82), — и готовлюсь каждый час к третьей и кроме
радости и благодарности той силе, которая послала меня в жизнь,
ничего не испытываю». Готовится к смерти который уж год, кото-
рое десятилетие, но благодарность испытывает не к ней, хоть под-
час и награждаемой лестными эпитетами, а к жизни.
Письмо написано 25 июня 1910 года — в тот самый день, ког-
да не какая-то посторонняя женщина, а самый близкий ему че-
ловек, жена, в очередной раз грозила ему самоубийством. «Упала
на колени, поднесла ко рту пузырек со 100 граммами настойки
опия». Дело происходило в чуланчике, где ее и застал муж, кото-
рому она, впрочем, сказала, что отпила совсем немного.
Эти драматические подробности мы знаем от домашнего вра-
ча Толстых Душана Петровича Маковицкого из обстоятельней-
шего дневника, который он вел на протяжении последних 6 лет
жизни Толстого, вплоть до самой его смерти. Впрочем, дневник —
здесь одно название, в действительности огромная кипа раз-
розненных листочков: что попадало под руку, на том и писал,
Лев Толстой. Арзамасский ужас
не заботясь ни о форме, ни о последовательности, но тем дос-
товерней выглядят бесхитростные, сделанные по горячим сле-
дам записи.
Угроза самоубийства была последним средством, к которому
прибегала Софья Андреевна, чтобы удержать мужа. Во-первых,
удержать дома, ибо мысль об уходе из Ясной Поляны, воплощав-
шей для него разврат роскоши, крепла в нем день ото дня; во-
вторых — от передачи наследственных авторских прав в чужие
руки. Конкретно — в руки ненавистного Черткова, под влияние
которого, считала она, попал ее престарелый супруг, задумавший,
ради удовлетворения своих безумных амбиций, пустить по миру
собственных детей. Однако то, что Софья Андреевна считала ам-
бициями, прихотью, безумством, было на самом деле убеждени-
ем Толстого, причем убеждением, которое вырабатывалось не одно
десятилетие: никто не должен извлекать материальной прибыли
из плодов его умственной деятельности. Они, эти плоды, его про-
изведения, все без исключения, не могут принадлежать кому бы
то ни было. Каждый желающий должен иметь право безвозмезд-
но печатать их.
Осуществить эту волю писателя, уже после его смерти, брал-
ся Чертков. Толстой верил ему, верил безраздельно, и это-то
больше всего пугало Софью Андреевну. Бдительно следила она
за мужем, читала его письма, копии с которых неукоснитель-
но снимались в специальный журнал, и особенно пристально
изучала дневник. Толстой знал это и делал все возможное, чтобы
оградить сокровенные записи от всепроницающего ока супру-
ги. Он запирал ящик стола, в котором хранился дневник, а ключ
прятал за картиной, но она, прокрадываясь ночью в кабинет, от-
крывала нижний ящик, сдвигала дно верхнего и читала сделан-
ную накануне запись.
Толстой знал и это. «Да, у меня нет уж дневника, откровен-
ного, простого дневника», — жаловался он все в том же днев-
нике и подумывал завести другой, тайный, «для одного себя»
(так он впоследствии и будет называться), пока же начал прибе-
гать к шифрованным записям. Вот одна из них, совсем коротень-
кая, всего в три слова: «Писал в лесу». После чего еще одно слово,
не понятно, собственно, к чему относящееся: «Хорошо».
Р. Киреев. Великие смерти
Запись эта сделана в четверг 22 июля 1910 года. Что же такое
писал — не в кабинете, не дома, даже не возле дома, а где-то в
лесу, украдкой — граф Толстой, которому через месяц с неболь-
шим должно было исполниться 82 года, причем писал так (или
то), что после этого ему было «хорошо»? Ему-то — да, хорошо, а
вот Софья Андреевна, словно учуяв неладное, находилась в тот день
«в самом ужасном настроении — нервном и беспокойном». Так
записал в своем дневнике последний секретарь Толстого Вален-
тин Булгаков, который, несмотря на свою должность, о таинствен-
ном писании в лесу понятия не имел
Толстой был не один. С ним находились еще некоторые люди.
Один из них, секретарь столь ненавидимого Софьей Андреевной
Черткова, Алеша Сергеенко (именно так — «Алешей» — звал его,
совсем еще молодого человека, Лев Николаевич), впоследствии под-
робно описал, что происходило в тот достопамятный день. За ним
в чертковскую усадьбу Телятинки заехал близкий друг Толстого пи-
анист Александр Гольденвейзер, захватили еще одного человека, не-
коего Радынского, и втроем отправились верхом в лес неподалеку
от деревушки Грумант, где их уже ожидал в нетерпении главный
«конспиратор» — так шутливо назвал себя и своих сподвижников
находящийся в прекрасном расположении духа старый граф.
«Фигура Льва Николаевича в белой шляпе и белой рубахе и с белой
бородой на красавце Делире с его согнутой шеей живописно выс-
тупала наверху пригорка, за которым было видно одно небо».
Дальше отправились уже вчетвером. Толстой завел своих спут-
ников в самую глушь леса, и здесь у большого пня «конспирато-
ры» спешились. У «главного» оказалось за блузой «резервуарное
перо», прообраз будущей авторучки, появились бумага и картон-
ка — все предусмотрели! — Толстой сел на пень и вывел: «Тысяча
девятьсот десятого года, июля дватцать второго дня». Именно
так — «дватцать», через «т», тут же заметил описку, но исправ-
лять не стал и со словами «Ну, пускай думают, что я был негра-
мотный» продолжил: «...я, нижеподписавшийся, находясь в здра-
вом уме и твердой памяти, на случай моей смерти делаю следую-
щее распоряжение...»
Так появилось на свет заверенное тремя свидетелями послед-
нее завещание Толстого, которое через девять дней после его
Лев Толстой. Арзамасский ужас
89
смерти утвердит в открытом заседании Тульский окружной суд.
Согласно этому завещанию всё, без исключения, что когда бы то
ни вышло из-под его пера — как художественные произведения,
«так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические
и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные
письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки» — словом,
буквально всё завещалось в полную собственность младшей дочери
Александре. Но это формально. На самом деле распоряжаться всем
должен был Чертков—у Толстого на этот счет было полное взаимо-
понимание с младшей дочерью. (Он вообще с дочерьми ладил куда
лучше, нежели с сыновьями.) И она, и Чертков безоговорочно под-
держивали Толстого в том, что все написанное им не должно состав-
лять «ничьей частной собственности». Толстой в специальной
«объяснительной записке к завещанию» подчеркнул эти слова
7 августа 1900 года он записал в дневнике: «Чувствую близость
смерти, стараюсь встретить ее спокойно и, кажется, спокойно
встречу». С тех пор минуло десять лет, и вот теперь, по своему ощу-
щению, он был действительно готов к ней. Готов совершенно...
Жить ему оставалось чуть больше ста дней.
Если быть точным — сто семь.
Софье Андреевне, разумеется, о завещании ничего не сооб-
щили. Но по воспоминаниям дочери Татьяны Львовны, «некото-
рые намеки и недомолвки, какое-то предчувствие заставили ее
заподозрить, что завещание существует».
За 48 лет совместной жизни — через два месяца, 23 сентября,
должно было как раз исполниться 48 — впервые он имел от нее
тайну, что уже само по себе угнетало его. Он с самого начала счи-
тал, что никаких секретов между супругами не должно быть и,
как и во всем остальном, дошел здесь до крайностей: дал ей, со-
всем юной наивной девушке, прочитать свои холостяцкие днев-
ники, в которых, в числе прочего, описывал свои любовные по-
хождения. Невеста пришла в ужас. Для него это не было неожи-
данностью. Более того, он опасался, и, может быть, не без основания,
что подобные откровенности могут расстроить уже совсем близ-
кую свадьбу. Но, тем не менее, желая быть перед будущей женой
до конца честным, пошел на этот рискованный шаг. «Помню, как
тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне
дал прочесть, от излишней добросовестности, до свадьбы. И на-
прасно: я очень плакала, заглянув в его прошлое».
Эта «излишняя добросовестность» не только не уменьшалась
с годами, а все возрастала и возрастала. Толстому недоставало быть
великим писателем, он еще, или даже в первую очередь, хотел быть
святым («Для святого нет смерти», — выписывает он в 1910 году
слова Марка Аврелия) — и вот теперь, на склоне лет, обстоятель-
ства заставляли его лгать и изворачиваться. «Ему приходилось пря-
тать от нее рукописи и дневник, — вспоминала о тогдашних от-
ношениях матери с отцом дочь Татьяна — А она всю свою энергию
тратила на то, чтобы найти разгадку тайны—тайны своего мужа —
Жизнь в доме становилась невыносимой. У Софьи Андреев-
ны, натуры чуткой и впечатлительной, что само по себе всегда было
очень даже по душе ему, развивалась мало-помалу неврастения.
Окружающие видели это, видел, прежде всего, муж и старался,
как мог, беречь ее, но только не ценой отказа от своих убеждений.
Ради них он готов был на все. «Лев Николаевич все чаще грозил
уходом из дому, и эта угроза еще больше мучила меня и усиливала
мое нервное, болезненное ощущение», — писала Софья Андреев-
на в опубликованной уже после ее смерти «Автобиографии».
Он грозил уходом, она грозила самоубийством. Оба пытались
свои угрозы осуществить. И у него это получилось — у него вооб-
ще получалось все, — а ее внимательно стерегли и умереть по соб-
ственной воле не дали. Вытаскивали из пруда... Устраивали круг-
лосуточное дежурство у ее постели... Но дело было не только или
даже не столько в жене, которая так остро, так болезненно, а под-
час и неадекватно реагировала на его поведение («Все тяжелее
и тяжелее с Софьей Андреевной», — записывает он в день своего
82-летия), дело было, прежде всего, в его новом — а впрочем, те-
перь и не таком уж новом — отношении к жизни. «Одно все му-
чительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди не-
должной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается
хуже и хуже, тяжелее и тяжелее». Это из так называемого «тай-
ного» дневника, уничтоженного по требованию Толстого, однако
Чертков успел снять с него копию. В этом небольшом дневнике
прямо отвечает на свой вопрос: «Уйти от всех». Тут, естественно,
возникает следующий вопрос: куда уйти? — и ответ на него дает-
ся незамедлительно: «К Богу, умереть».
«Тайный» дневник велся — совсем недолго, чуть больше двух
недель — в июле 1908 года, и лишь теперь это давнее и столь не-
двусмысленно сформулированное намерение уйти из дома, что-
бы умереть, было как никогда близко к реализации. Иными сло-
вами, Толстой умер не потому, что ушел из дома, а ушел, чтобы
умереть. Он сделал это сознательно, как сознательно делали это
старые индусы, на которых он столь часто ссылался все послед-
нее время. И такую же сознательную смерть он желал для себя.
Когда в феврале 1896 года его посетили в Москве Чехов с Суво-
риным и разговор зашел о недавней смерти старого друга Тол-
стого литературного критика Николая Страхова, хозяин заме-
тил (а Суворин записал эти слова), что «лучшая смерть была бы
такая, если бы человек, почувствовав приближение смерти, сохра-
нил бы свой разум и сказал бы близким, что он умирает и умира-
ет со спокойной совестью».
С тех пор минуло почти 15 лет, разменян девятый десяток, ион
все чаще стал ловить себя на том, что отказывает если не разум,
то уж память точно. Так, однажды он признался Мечникову, что
не помнит содержания «Анны Карениной». Присутствующая
при разговоре Софья Андреевна, стала, разволновавшись, пере-
сказывать сюжет романа, однако, пишет в дневнике Н. Гусев,
«Лев Николаевич слушал без интереса».
Но одно дело — забыть собственное сочинение, а другое —
умирать без сознания, что ты умираешь, умирать «без разума».
А такая угроза была, причем очень даже реальная.
За 25 дней до ухода из Ясной Поляны, 3 октября, с ним слу-
чился тяжелейший припадок. «Мать думала, что наступил ко-
нец, — пишет в своих воспоминаниях старшая дочь Татьяна. —
Она то падала на колени в изножье его кровати и обнимала его
ноги, которые сводили конвульсии, то убегала в соседнюю ком-
нату, бросалась на пол, в страхе молилась, лихорадочно крестясь
и шепча: «Господи, Господи, прости меня! Да, это я виновата!
Господи! Только не теперь еще, только не теперь!»
Но это воспоминания, на которые неизбежно накладывает
ная самой Софьей Андреевной: «Когда, обняв дергающиеся ноги
моего мужа, я почувствовала то крайнее отчаяние при мысли
потерять его, — раскаяние, угрызение совести, безумная любовь
и молитва с страшной силой охватили все мое существо. Все, все
Таковы свидетельства близких людей, но у одра больного
(или, как казалось тогда, умирающего) присутствовали и посто-
ронние. Секретарь Толстого Валентин Булгаков насчитал целых
пять припадков, следовавших один за другим. «Особенной силой
отличался четвертый, когда тело Льва Николаевича перекинулось
почти совсем поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги
свесились по другую сторону».
Разумеется, был и домашний врач Душан Маковицкий. Этот
с медицинской тщательностью и медицинским беспристрастием
зафиксировал все: и температуру тела, и характер судорог, и часто-
ту пульса, и то, что во время одного из припадков Софья Андреев-
на, «помогая держать ноги, упала на колени и, тихо рыдая, целова-
ла ногу Льва Николаевича, припала к ней губами — ниже колена».
Небо услышало ее молитвы. «На этот раз» он остался жив.
Очнувшись, долго не мог понять, что с ним произошло, почему все
собрались вокруг и так встревожены. Сам же был обеспокоен толь-
ко одним, о чем вскорости поведал в письме к Черткову. Сами
по себе припадки, писал он, его не пугали, но лишь до тех пор, пока
он «ясно, живо» не представил себе, что может в один из таких
припадков умереть. Но пугала опять-таки не смерть, которая «в те-
лесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша»,
пугало то, что «она в духовном смысле лишает меня тех дорогих
минут умирания, которые могут быть так прекрасны».
Эго не просто апологетика смерти, это ее поэтическое воспева-
ние, заставляющее вспомнить о когда-то так нравящемся ему фе-
товском образе благословенной «вечной постели». Ну, а если он все-
таки будет лишен «последних сознательных минут»? Что ж, в таком
случае в его власти «распространить их на все часы, дни, может быть,
месяцы», которые предшествуют смерти.«.. .Могу относиться к этим
дням, месяцам так же серьезно, торжественно (не по внешности,
а по внутреннему состоянию), как бы я относился к последним
Так может писать лишь человек, который не только принял
смерть как неизбежность, не только смирился с нею — как сми-
ряются опять-таки с неизбежностью, а испытывает по отноше-
нию к ней чувства почти благоговейные.
Давно ли? «..Я до такой степени приготовил себя к смерти,
что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия, так
что теперь мне труднее, чем когда-нибудь, снова приняться за них».
Когда сделана в дневнике эта запись? В дни, недели или месяцы,
предшествовавшие его уходу из дома? Раньше, гораздо раньше...
В семидесятилетием возрасте? Нет, еще раньше... В пятидесяти-
летием? Сорокалетием? Опять нет. Двадцать три года было Тол-
стому, когда он занес в дневник эти слова. Двадцать три!
Быть может, то было своего рода кокетство — в данном слу-
чае перед самим собой, — потому что и в голову тогда не могло
прийти, что кто-нибудь когда-либо станет читать и тем более пе-
чатать его дневники? Или не столько кокетство, сколько уговари-
вание самого себя, заговаривание смерти, утробного ужаса перед
нею — того самого арзамасского ужаса, который уже дремал в
глубине его естества? И вот теперь, спустя почти 60 лет, он снова
говорит о своей полной готовности к смерти, из чего, по-видимо-
му, можно сделать вывод, что он эту самую готовность пронес че-
рез всю сознательную жизнь, непостижимым, лишь одному Тол-
стому свойственным образом сочетая ее с утробным, неподвласт-
ным рассудку страхом перед ней.
В таком случае, это не столько готовность, сколько подго-
товка, то есть нечто длящееся во времени, еще не законченное,
да и в принципе не могущее быть законченным. Это состояние
духаТолстого хорошо почувствовал Бунин, утверждавший, что тот
часто повторял слова Марка Аврелия: «Высшее назначение
наше — готовиться к смерти». Но вот что удивительно. Если час-
то повторял, то почему не записал нигде: ни в дневнике, ни в ка-
ком-либо из многочисленных писем, ни в поздних нравоучитель-
94
ных книгах? На педантичного (а Толстой при всем своем беше-
ном темпераменте был человеком педантичным) яснополян-
ского проповедника это не похоже. Больше того, нет ни одного
мемуарного свидетельства, что Толстой когда-либо произносил
эту сентенцию римского философа. Но ведь мог произнести.
Мог и произнести, и записать, причем неоднократно; стало
быть, Бунин угадал самый нерв толстовского мироощущения.
Понятие «готовить себя к смерти» включает в себя, безуслов-
но, и стремление к сосредоточенному уединению. «Все больше
и больше хочется уединения», — писал он еще в 1897 году в том
самом письме к жене, которое сперва хранилось под обшивкой
кресла, а потом у зятя Николая Оболенского. Там же он приво-
дит свой излюбленный пример с индусами, которые «под 60 лет
ровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня».
Что следует из этого? А то, что одной из причин ухода была как
раз неодолимая и такая понятная, такая естественная в его но-
вом душевном состоянии тяга к уединению, то, что он ушел бы
из дома, не будь даже конфликта с женой и сыновьями.
Но конфликт был «Я муж, я отец ее ребенка, но я лишний», —
говорит в «Живом трупе» Федя Протасов, и слова эти мог бы по-
ком неусыпном) внимании и при всей трепетной (слишком тре-
петной) заботе, которыми окружали Толстого в доме, он и впрямь
подчас чувствовал себя здесь лишним. Его не понимали. За ним сле-
дили. У него отбирали его собственные записи — так 23 сентября
исчез «Дневник для одного себя». Он прятал его в голенище сапога,
но Софья Андреевна нашла его и унесла к себе. Большинство запи-
сей в нем посвящено ей. Вот только одна из них, предпоследняя:
«Тяжело то, что в числе ее безумных мыслей есть и мысль о том,
чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недей-
оно, но даже в «Дневнике для одного себя» боялся сказать об этом.
Месяц спустя, 25 октября, он ловит себя на «грешном жела-
нии» — «чтобы она подала повод уехать». Проходит всего три дня,
и она такой повод дает.
Лег он в полночь, заснул, но в три часа проснулся, услышал звук
отворяемой двери, шаги, а потом увидел просачивающийся сквозь
щель яркий свет в своем кабинете. Услышал шуршание. «Это Со-
фья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает, — записал
он позже в дневнике. — Это вызвало во мне неудержимое отвра-
щение, возмущение».
Зажег свечу, сел на кровати. Вошедшая супруга с удивлением
спросила, почему у него горит свет, осведомилась о здоровье и уда-
лилась к себе. «Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, счи-
таю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное
решение уехать».
Поднявшись, пишет прощальное письмо. Начинается оно сло-
вами: «Мой отъезд огорчит тебя». Дальше он говорит, что сожале-
ет об этом, но иначе поступить не может. «Положение мое в доме
становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу
более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то,
что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мир-
ской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни сво-
ей жизни». Просит ее не искать его и уж тем более не ездить
за ним. «Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положе-
ние, но не изменит моего решения». А еще просит простить его,
если он в чем-то виноват перед нею, и благодарит за ее «честную
48-летнюю жизнь» с ним.
Закончив письмо, он, в халате и туфлях на босу ногу, отпра-
вился со свечой будить Душана Петровича Маковицкого, кото-
рый был не просто домашним врачом, но человеком, душевно
близким к хозяину дома. «Милый Душан» называл его Толстой...
Одного его решил взять с собою. Дочь Александра должна была
с вещами подъехать позже. Куда? Вероятно, в Шамордино, где
в 14 верстах от Оптиной пустыни располагался женский монас-
тырь (там жила сестра Мария), а если в другое место, то он сооб-
щит об этом телеграммой, подписанной Т. Николаев. Так он хо-
тел замести следы, ускользнуть, никем не замеченным, но уже
через день об уходе Толстого писали не только все российские га-
зеты, но и зарубежные. Сын Лев телеграфировал из Парижа в Яс-
ную Поляну, что обеспокоен «известиями парижских газет».
Р. Киреев. Великие смерти
Толстой сам отправился в кучерскую, заблудился в темноте,
потерял шапку, и это показалось ему дурным предзнаменовани-
ем. Долго искал шапку с электрическим фонариком, не нашел,
и так, без шапки, в грязных сапогах, предстал перед кучером Ад-
рианом, который спросонья никак не мог сообразить, что пона-
добилось от него барину в такую рань.
Барин явно нервничал, спешил и сам помогал запрягать ло-
шадь. Когда ехали через деревню, некоторые окна уже светились;
из двух или трех изб вышли мужики... Мог ли кто предположить
тогда, что не минет и двух недель, как Толстой вернется? Не по сво-
ей воле — его привезут сюда мертвым..
Сначала гроб от станции несли сыновья, затем их сменили
крестьяне. Впереди, высоко над обнаженными головами, плыло
поднятое на палках белое полотнище с надписью: «Дорогой Лев
Николаевич! Память о твоем добре не умрет среди нас, осиротев-
ших крестьян Ясной Поляны». Гроб был простой, дубовый, без по-
крова Когда его открыли для прощания, взгляду предстал «ма-
ленький и худой» старичок. Таким, во всяком случае, увидел его
Валерий Брюсов, которому, одному из немногих, удалось попасть
в Ясную Поляну. Боясь беспорядков, правительство отменило все
дополнительные поезда, и тысячи людей, желавших попрощать-
ся с писателем, остались на вокзале...
С вокзала же, со скромной железнодорожной станции Ще-
кино, куда их доставил кучер Адриан, началось и последнее путе-
шествие Толстого. Когда-то, работая над «Отцом Сергием», он
словно бы предсказал его. «Сначала он уедет на поезде, проедет
триста верст, сойдет и пойдет по деревням, — читаем в повести. —
Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но не знал, что хорошо:
оставаться или бежать».
Теперь он знал: бежать, причем бежать как можно скорее и как
можно дальше Он так и сказал своему верному спутнику Душану:
«Куда бы подальше уехать?» Лишь в вагоне успокоился, попросил
даже «Круг чтения», но книги не оказалось.
Так добрались до Горбачева Отсюда, заявил Толстой, он поедет
только в вагоне третьего класса Вагон оказался переполненным,
он вышел подышать на площадку, и здесь, на сквозняке, провел,
пристроившись на трость с откидным сиденьем, три четверти часа
Доктор Маковицкий называет эти три четверти часа роковыми —
они-то и обернулись воспалением легких. Получается, Толстого
убила железная дорога, как убила она и Анну Каренину, линия ко-
торой в романе начинается со смерти на железной дороге и смер-
тью же — опять-таки на железной дороге — заканчивается.
Перед гибелью Анна видит все как-то особенно остро, особен-
но ярко, особенно выпукло... Толстой, в отличие от своей героини,
видел так всегда, с молодых лет, будто смотрел на мир последним,
прощальным взглядом. Не этот ли взгляд и заставил когда-то Дос-
тоевского предположить, что неведомый ему, скрывшийся под ини-
циалами автор «много не напишет»? С тех пор прошло почти шесть
десятилетий, а он все продолжал писать, до последних своих дней,
правда, не художественные тексты, а — уже в дороге — дневник
и письма Письма эти были адресованы детям, Черткову, жене...
Да, и жене тоже — в ответ на ее мольбу вернуться. «Свидание наше
и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно», —
так начиналось его последнее письмо Софье Андреевне, написан-
ное ровно за неделю до смерти, в Шамордино, где он узнал о поку-
шениях Софьи Андреевны на самоубийство. В пруд прыгнула, от-
куда ее вытащили дочь Александра и оставшийся в Ясной Поляне
секретарь Толстого Валентин Булгаков. Он же описал эту ужасную
сцену в дневнике. «С мостков еще вижу фигуру Софьи Андреевны:
лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно
быть, вода, беспомощно разводя руками, она погружается в воду».
Булгаков в дневнике описал, а дочь Александра, приехав в Ша-
мордино, описала отцу, и на него это произвело страшное впечат-
ление. Он поделился им с давно уже живущей тут сестрой Марией,
о чем она после смерти Толстого поведала в письме к Софье Анд-
реевне, на редкость добром и доверительным: «Когда Левочка при-
ехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рас-
сказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд».
ней и строже: «Твое же настроение теперь, твое желание и попыт-
ки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю вла-
сти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение».
И дальше, уже на другой день (письмо писалось два дня): «Возвра-
отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это. Про-
щай, милая Соня, помогай тебе Бог».
Строки эти написаны ранним утром 31 октября. Он уже
разбудил Душана Маковицкого и велел укладывать вещи; «ска-
зал, что поедем, не зная куда», лишь бы не оставаться здесь,
потому что сюда в любой момент могла нагрянуть Софья Андре-
евна, уже вычислившая его местонахождение. Даже с сестрой не
успел попрощаться... «Когда он уходил в этот день вечером ноче-
вать в гостиницу, он и не думал уезжать, а сказал мне: «До свида-
ния, увидимся завтра». Каково же было на другой день мое удив-
ление и отчаяние, когда в пять часов утра (еще темно) меня раз-
будили и сказали, что он уезжает! Я сейчас встала, оделась, велела
подавать лошадь, поехала в гостиницу, но он уже уехал, и я так его
и не видала».
Спешили к поезду, который отправлялся со станции Козельск
в семь сорок утра. «Лев Николаевич был мрачен, молчалив, только
изредка понукал извозчика ехать быстрее», — писал Маковицкий
и, задним числом, укорял себя, что он, врач, не заметил недомога-
ния Толстого, который, слезая с пролетки, «слегка пошатнулся».
Куда направлялся беглец, за перемещениями которого следил,
затаив дыхание, весь мир? В Новочеркасск, к племяннице Елене
Денисенко, через мужа которой Ивана Васильевича, члена судеб-
ной палаты, надеялись раздобыть заграничные паспорта и мах-
нуть в Болгарию. Уж там-то, думал он, в чем-то до старости оста-
вавшийся по-детски наивным, его не знают... «Впрочем, Лев Ни-
колаевич не хотел вперед загадывать. Говорили о том, чтобы около
Новочеркасска, неподалеку в деревне, поселиться».
Но так далеко уехать не удалось. Вечером начался озноб, тем-
пература поднялась почти до сорока. Когда поезд остановился
в Астапово, Маковицкий отыскал на перроне начальника станции,
сказал, что в поезде Лев Толстой, у которого началось, по-видимо-
му, воспаление легких, — не может ли начальник на время при-
строить у себя больного писателя?
Иван Иванович Озолин (так звали начальника станции) на ми-
нуту онемел—Толстой? Здесь? Но когда дар речи вернулся к нему,
пролепетал, что он, разумеется, готов сделать все от него завися-
щее. В доме чисто, не далее как вчера мыли полы...
Маковицкий поспешил к Толстому, который, «не сказав ни сло-
ва, быстро сам приподнялся; одели его, приподняли воротник и,
слегка поддерживая, повели в дамский зал ожидания. Похолодало
и дул острый ветер. Лев Николаевич не хотел, чтобы его поддер-
живали, в буфет вошел один и оттуда в пустой дамский зал ожи-
нил голову вперед, засунул руки в рукава (как в муфту) и сейчас
стал дремать. Голова отвисла набок».
С трудом добрались до дома Озолиных. Дом был небольшим:
четыре комнатки, маленькая передняя и кухня. В гостиной обес-
силевший Толстой опустился в кресло и долго сидел, не шевелясь,
в пальто и шапке. Потом подозвал хозяина, попросил извинения
за причиненные неудобства. Растроганный, запишет в дневнике
некоторое время спустя: «Любезный начальник станции дал пре-
красные две комнаты».
На другой день утром ему стало настолько лучше, что поры-
вался даже ехать дальше. Продиктовал письмо — последнее свое
письмо; адресовано оно сыну Сергею и дочери Татьяне и закан-
чивается словами: «Прощайте, старайтесь успокоить мать, к ко-
торой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и люб-
ви». Письмо разминулось с детьми — к вечеру следующего дня
оба были в Астапово. Приехала и Софья Андреевна, но ее к мужу
не пустили. А сын Сергей ближе к полуночи вошел к отцу.
«Он лежал в забытьи. Я постоял в комнате. Тут еще оставались
некоторые озолинские вещи, ненужные для больного. На простом
деревянном столе стояли лекарства Горела небольшая керосиновая
лампа с абажуром».
Так прошло несколько минут. Наконец, Маковицкий негром-
ко произнес, что здесь Сергей Львович.
«Отец открыл глаза и посмотрел на меня удивленным и бес-
покойным взглядом». Беспокойным, потому что уверен был, что
никто из близких не знает о его местонахождении. Лишь Черт-
кову телеграфировал он, подписавшись конспиративным именем
Николаев. Да близкие ине узнали б так скоро, не пришли коррес-
пондент «Русского слова» Орлов в Ясную Поляну телеграмму: «Лев
Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура со-
рок». Тут же заказали специальный вагон и отправились в путь.
100
Р. Киреев. Великие смерти
«Сережа? Как ты узнал? Как ты нас нашел?» — таков был
первый вопрос, который задал умирающий отец внезапно воз-
никшему перед ним сыну. Тот ответил, что оказался здесь слу-
чайно, просто ехал мимо, и ему сказал кондуктор. «А как кон-
дуктор тебя узнал?» — продолжал допытываться отец. Прихо-
дилось врать и изворачиваться... Так по жестокой иронии судьбы
умирал во лжи правдивейший из людей, когда-либо существо-
вавших на свете. Но кто знает, может быть, как раз эта фанатич-
ная приверженность правде, эта готовность пожертвовать ради
правды всем и породила ложь?
Она возникала всякий раз, когда у одра умирающего появлял-
ся кто-нибудь из детей. Толстой неизменно спрашивал, как там
Софья Андреевна (там — это в Ясной Поляне), и каждый раз при-
ходилось изворачиваться, отвечая на этот вопрос. Он продикто-
вал дочери Александре телеграмму сыновьям, чтобы те «удержа-
ли мать от приезда, потому что мое сердце так слабо, что свида-
ние будет губительно». Ее текст приводит в своих «Очерках
былого» Сергей Львович Толстой, добавляя: «Эта телеграмма была
передана матери тут же в Астапове, в вагон, где она жила».
Помимо детей Александры и Сергея к нему допускали стар-
шую дочь Татьяну Львовну. А «остальные члены семьи, — как было
сказано в официальном бюллетене уже после смерти Толстого, —
на семейном совете, согласно с предложением врачей, было ре-
шено, чтобы никто другой из родных не входил к Льву Николае-
вичу, так как были основания думать, что Лев Николаевич сильно
заволнуется при появлении новых лиц, что могло роковым обра-
зом отразиться на висевшей на волоске его жизни».
Волновался он не только при появлении новых лиц, но и но-
вых вещей. Увидев здесь, в доме железнодорожного начальника,
свою любимую яснополянскую подушечку, он сразу заподозрил
неладное. Откуда могла взяться подушечка? Кто, кроме жены, знал,
что он так привык к ней? Привезла ее, естественно, Софья Анд-
реевна. «Перед отъездом из Ясной моя мать с лихорадочной по-
спешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась, — писа-
ла в своих «Воспоминаниях» Татьяна Львовна — Она везла с собою
все, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла». В том
101
числе и злополучную подушечку, которая едва не выдала умира-
ющему тайное присутствие жены. Его успокоили. Его, неистово-
го и доверчивого апостола правды, опять обманули...
«Он попросил занавесить окно, потому что ему чудилось в нем
лицо смотревшей оттуда женщины», — пишет Татьяна Львовна.
Но почему чудилось? Сохранилась фотография, на которой запе-
чатлена одетая во все черное Софья Андреевна: приставив к стеклу
ладонь, она пытается разглядеть, что делается внутри озолинского
дома Порывалась и в дверь войти, но ее перед ней захлопнули.
А вот ненавистный ей Чертков находился при больном неот-
ступно. Кажется, он был единственным, кто сохранял спокойствие
и до последней минуты верил, что его кумир и друг и на сей раз
выкарабкается. Еще 3 ноября с его помощью (а также двух вра-
чей) он сделал по комнате несколько шагов, а потом, как поведал
после Чертков в специальной мемориальной брошюре, «лежа
на спине и быстро переводя дыхание о г совершенных усилий, сла-
бым, жалостливым голосом произнес «А мужики-то, мужики как
умирают!» — и прослезился». Черткову сразу вспомнился появив-
шийся два месяца назад в сентябрьской книжке «Вестника Евро-
пы» очерк Льва Николаевича «Три дня в деревне». Перед читате-
лем проходит целая галерея простых людей, и среди них умира-
ющий от воспаления легких, как и Толстой сейчас, не старый еще
крестьянин. Ни простыни не было у него, ни одеяла, ни подушки.
В тот же день, 3 ноября, за восемьдесят часов до смерти он
сделал последнюю запись в дневнике. Под толстую тетрадь с чер-
ными коленкоровыми обложками подложили дощечку с немец-
кими изречениями из Библии («эту дощечку, — записал тогда же
Маковицкий, — сняли со стены и поставили ему на колени»).
«Ночь была тяжелая. Лежал в жару два дня». Дальше упоми-
наются Чертков, Софья Андреевна, сын Сережа, дочь Татьяна,
приводится на французском языке (впрочем, не дописанное до кон-
ца) столь любимое им изречение: делай, что должно, и пусть будет,
что будет... «И все это на благо другим и, главное, мне».
Таковы последние — самые последние! — слова, написан-
ные рукой Толстого. Таково последнее — самое последнее! —
слово, выведенное им: слово «мне». Хорошо будет другим, но
главное ему.
102
Как же соединить это с тем, что с болью и стыдом говорил он
два часа назад о крестьянах, живущих и умирающих в совсем иных,
нежели он, условиях? Трудно соединить, почти невозможно — это,
может быть, и было для него самым мучительным. Не роскошь
жизни, не отношения с Софьей Андреевной, а неприятие себя,
такого. Не потому ли и вырвалось, уже в бреду, после инъекции
морфия, за несколько часов до смерти: «Удирать, надо удирать»?
Сын Сергей признается, что на него эти слова произвели «тяже-
лое, даже, скажу, ужасное впечатление», тем более что произнес
он их «громко, убежденным голосом, приподнявшись на крова-
ти». Присутствующие решили, что «удирать» порывался от жены,
а может быть, имел он в виду, от себя?
Как, собственно, и было всю его долгую жизнь. Бежал от азарт-
ного игрока Толстого, от охотника Толстого, от сладострастника
Толстого, от великого писателя Толстого... Да разве перечислить
все его бесконечные ипостаси, которые, вкупе, и создавали его
феноменальный облик и от которых он пытался отказаться, ото-
драть их от себя, содрать, как заживо сдирают кожу.
«Освобождение Толстого» назвал свою книгу о нем Иван Бу-
нин. Очень точно, но не совсем в том смысле, какой вкладывал
в эти слова автор, а в несколько другом: именно от себя освободил-
ся, умерев. Но сделал он это не с радостью, не с тем «приятным
чувством близости смерти», о котором писал в дневнике два меся-
ца назад, а все-таки оказывая ей сопротивление. «Я, кажется, уми-
раю. А может быть, и нет. Надо еще постараться немножко».
Слово «постараться» выделил Чертков, записывая эти тол-
стовские слова, но из записи непонятно, сам ли выделил, либо это
сделал — интонацией — Толстой. И еще непонятно главное: надо
постараться умереть или постараться жить? Ответ содержит-
ся несколькими страницами ниже. «Некоторую разницу в отно-
шении Льва Николаевича к смерти по сравнению с обычным его
настроением при прежних серьезных болезнях я в этот раз заме-
тил, — пишет Чертков. — А именно, в то время как прежде он
большей частью или желал смерти, или по крайней мере был впол-
не равнодушен к исходу болезни, — в этот раз он хотя и относился
совершенно спокойно к возможности смерти, но, как мне показа-
лось, не испытывал определенного желания умереть». Стало быть,
103
постараться жить... И это после того, как он столько раз призы-
вал ее, раскрывал ей объятья, теперь же, когда она явилась, уже со-
всем настоящая, а не как тогда, в Арзамасе, в виде умозрительного
фантома, отнюдь не спешил ей навстречу. «Боюсь, что умираю», —
сказал, задыхаясь, Маковицкому. Всё же, боюсь...
Когда-то, несколько десятилетий назад, он, создавая «Русские
книги для чтения», написал басню «Старик и смерть», самое корот-
кое свое произведение Вот оно: «Старик раз нарубил дров и принес
Нести было далеко; он измучился, сложил вязанку и говорит:
«Эх, хоть бы смерть пришла!» Смерть пришла и говорит: «Вот и я,
чего тебе надо?» Старик испугался и говорит: «Мне вязанку под-
нять». Вот так и он теперь старался слабеющими руками оттолк-
нуть некогда призываемую им смерть; а еще — теми же слабею-
Собственно, и то и другое он делал всю сознательную жизнь.
Почти все, кто был рядом с ним в эти его последние часы, вспо-
минают, как Толстой водил по одеялу рукой, точно записывая что-
то. Спустя девять лет подобные движения производила его жена,
тоже умирающая от воспаления легких и тоже, между прочим,
в ноябре. Но он как бы писал, а она как бы шила. И так же, как он
перед смертью, громко позвала умершую в 1906 году дочь Машу...
Возле Маши и похоронили ее, хотя она мечтала покоиться рядом
писал впоследствии сын Сергей. — Не лучше ли оставить моги-
лу отца одинокой».
Зато его последнюю волю исполнили в точности: похоронили
в том месте у дороги, на краю оврага старого Заказа, где они когда-
то в детстве играли с братом и где была зарыта волшебная зеленая
палочка...
И еще одно совпадение: возле одра умирающей матери сто-
ял, как опять-таки девять лет назад возле одра отца, сын Сер-
гей. Он-то и записал ее последние слова: «Надо без горя уходить,
как это делается у крестьян». Это почти толстовские слова, вот
только она их воплотила в жизнь (или, уместнее сказать, в
смерть) спокойнее и полнее, нежели сам Толстой, переполошив-
ший своей кончиной не только весь дом, не только всю Рос-
сию, но весь мир.
104
Ее к нему не пускали почти до самого конца. «Держали силой,
запирали двери, истерзали мое сердце». А он тем временем, уже
бессвязно и почти неразборчиво, говорил что-то такое об истине.
Что он больше всего на свете любит истину.
Тремя месяцами раньше, 5 августа, он записал в дневнике:
«Слова умирающего особенно значительны». Наверное, это так.
И, наверное, это можно отнести ко всему, что он сказал в убогом
доме на убогой железнодорожной станции в последние отпущен-
ные ему часы. В том числе и к словам об истине. Да, он больше
всего на свете любил истину, а она, его жена, больше всего на све-
те любила его.
Почти все, что он говорил тогда, стало достоянием его био-
графов, учеников и просто читателей. Особенно его совет по-
мнить, что есть великое множество людей, кроме Льва Толстого,
а «вы смотрите на одного Льва». Но мало кто обратил внимание
на одно слово, которое, пишет Чертков, он, уже в бреду, «произ-
носил как-то неестественно» и «особенно старательно», причем
неоднократно, и значение которого они с доктором Маковицким
«никак не могли понять».
Это слово — «шесть». Решили, что умирающий называет так
часы, которые у него незадолго перед тем отняли, поскольку он
хотел сделать из них «совершенно несвойственное им употребле-
ние». Однако между словами «часы» и «шесть» нет ничего обще-
го, и вряд ли Толстой, так всю жизнь чувствующий слово, мог даже
в полубессознательном состоянии столь грубо ошибиться. А мо-
жет быть, он и не ошибался? Может быть, он хотел сказать имен-
ное, его почти звериное — или божественное — чутье не остави-
ло его и на смертном одре, и он с абсолютной точностью назвал
время, когда произойдет, наконец, то, чего он всю жизнь так бо-
ялся, чего ждал и к встрече с чем готовился.
Это произошло как раз в шесть. В шесть утра 7 ноября 1910 го-
да от Рождества Христова
ЧЕХОВ.
ПОСЕЩЕНИЕ БОГА
J~ онимал ли он, уезжая летом
1904 года за границу, что ждет его? Судя по всему, да «Прощайте.
Еду умирать», — скажет он перед отъездом писателю Н. Д. Теле-
шову. Понимал и принимал — просто и строго, без философских
уловок, к которым прибегали испокон веков умы даже самые бле-
стящие. Разве нет? Чем, как не ужасом неминуемого исчезнове-
ния (исчезновения не каких-то других людей, а тебя, тебя лично),
порождена философия стоиков? Й она многим помогла, эта фи-
лософия, — вспомним, как легко, свободно и красиво принял
смерть Сенека! По свидетельству Тацита, «даже в последние мгно-
венья его не покинуло красноречие, он вызвал писцов и продик-
товал многое, что было издано». Но там, повторяю, помогла имен-
но философия: словесные и логические построения. Чехов же этим
оружием не воспользовался ни разу.
Как же в таком случае сумел он сохранить спокойствие при виде
бездны, которая рано или поздно поглощает всех? Всех без ис-
ключения... Что сумел противопоставить страху смерти?
Понятно, что ответ на этот вопрос — по-видимому, главный,
один из главных — надо искать, прежде всего, в произведениях
Чехова И что же находим? А то, что для Чехова он вроде бы и не
столь уж главный. Его герои не бьются над загадкой небытия, она
для них как бы и не загадка вовсе. И даже когда кто-то из них
подходит к краю пропасти, ее дыхание не леденит ему сердце.
«Вы, — говорит инженер Ананьев в «Огнях», — презираете жизнь
за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы
только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель стра-
дает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей».
За всех людей! Это то самое, к чему Лев Толстой пробивался,
обдираясь в кровь, в течение шести десятилетий... Вот две повес-
ти, два героя, вплотную приблизившиеся к бездне. «Смерть Ива-
на Ильича» и «Скучная история». Первая пронизана утробным
ужасом перед черным мешком, «в который просовывала его не-
видимая непреодолимая сила», вторая наполнена спокойными
и беспощадно трезвыми раздумьями о подошедшей к концу жиз-
ни. Никаких черных мешков здесь нет, зато есть черное платье,
которое (это финал повести) «в последний раз мелькнуло, затих-
ли шаги... Прощай, мое сокровище!»
Сокровище! Он стал вдруг обладателем сокровища, недавний
банкрот, только что признавший себя таковым. «Во всех моих
суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех кар-
тинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный
аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом
живого человека».
Это место в работах о Чехове цитируется особенно охотно,
но при этом почти всегда происходит ловкая и, видимо, непроиз-
вольная подмена одного понятия другим. «В уста своего старого,
умирающего ученого он вложил многое от себя», — настаивает
Томас Манн. Й продолжает: «Где «общая идея» его жизни и твор-
чества?» Жизни? Но ведь у Николая Степановича не о жизни речь,
а о суждениях, то есть об умственной деятельности, которая яв-
ляется важнейшей, но отнюдь не единственной стороной челове-
ческого существования. Сводить же его к идее, пусть крупной,
даже великой, — значит искусственно заужать жизнь, упаковы-
вать ее в футляр.
Жизнь всегда — и намного! —- шире. В ней, помимо всяческих
«суждений о науке, театре, литературе», которым, конечно же,
общая идея (читай: концепция) нужна позарез, есть еще другие
идеи и — главное! — другие люди. «Футляр» Николая Степанови-
107
это постичь невозможно; «чтобы понимать это, мало думать, мало
рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь,
дар, который дается, очевидно, не всем». («По делам службы».)
Николай Степанович этот редкий дар обретает. Пусть поздно,
в последний свой час, но обретает. «Прощай, мое сокровище!»
Тут важно не слово «прощай», а «сокровище», впервые обращен-
ное к другому человеку.
Оттого-то и нет страха смерти. И вовсе не о ней его мысли,
а о том, что будет после. «Значит, на похоронах у меня ты не бу-
дешь?» — спокойно думает Николай Степанович. Похороны как
часть бытия, как продолжение жизни для атеиста Николая Степа-
новича важнее наступления небытия, где жизнь как таковая уже
отсутствует. И не только для Николая Степановича Вот что пишет
в Таганрог Чехов двоюродному брату Георгию, получив известие,
что у того умер отец: «Опиши подробно похороны». Не смерть, что,
казалось бы, для него как для медика должно представлять куда
больший интерес (тем более совсем недавно он специально приез-
жал в Таганрог навестить дядю, посмотреть, не может ли он, док-
тор, чем-нибудь помочь), а похороны.
Смерть же... Ну а что смерть, тут все ясно и просто. «Человек, —
пишет он сестре, •— не может быть всю жизнь здоров и весел, его
всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы
был Александром Македонским... Надо только, по мере сил, испол-
нять свой долг—и больше ничего». А похороны — это как раз долг
живых перед мертвыми. Потому-то его и интересует, насколько
полно он выполнен.
Чехов свой долг — и по отношению к живым, и по отноше-
нию к мертвым — исполнял всегда. Чего бы это не стоило ему.
Думаете, он не знал, отправляясь в сахалинский ад, чем может
обернуться для него эта затея? Еще как знал! «На днях я надол-
го уезжаю из России, быть может, никогда уже не вернусь...»
Как, однако, спокойно говорит он об этом! Как буднично! Не сра-
зу даже сообразишь, какой страшный смысл скрыт за словами
«никогда уже не вернусь...» Но куда большее впечатление произ-
водит вскользь брошенная фраза из другого письма. Фраза о том,
что... Нет, ее нельзя приводить отдельно, ее надо давать в кон-
тексте, дабы было наглядно видно, что она действительно бро-
108
Р. Киреев. Великие смерти
шена и на самом деле вскользь. Вот это место. «Много говорят
о чуме и войне, о том, что синод и министерство просвещения
сливаются воедино. Художник Левитан (пейзажист), по-види-
мому, скоро умрет. У него расширение аорты». Дальше, как ни
в чем ни бывало, о повести «из мужицкой жизни», о цензуре,
об убытках...
Поначалу даже сомневаешься, тот ли это Левитан, с которым
дружил Чехов. Не однофамилец ли? Не однофамилец. Тот...
Надо ли удивляться после этого, что и герои его принимают
смерть как нечто естественное, что они перешагивают, переска-
кивают через нее, мыслями устремляясь дальше. «Хорошая будет
жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем», —
говорит доктор Королев («Случай из практики»). Другой доктор,
Астров, мечтает, как будет счастлив человек через тысячу лет.
А вот Треплев тот хочет знать, какой станет жизнь через двести
Так далеко не заглядывали ни боги Гомера, ни ветхозавет-
ный владыка владык. Хотя будущее в этих изначальных текстах
столь же существенно важно, как и прошлое. А смерть? Какое
ей придается в этих текстах значение? Никакого. Это поздней-
шие авторы пристрастно и пристально всматриваются в нее,
древние же — самые древние! — лишь скупо о ней информиру-
ют. Так что, вольно или невольно, Чехов возродил традицию, в свое
время утраченную.
Смертельно больному солдату Гусеву объявляют, что он не жи-
тор или фельдшер сказывал?» И все. Еще, правда, сетует, что «до-
мой не написал... Помру ине узнают». На вопрос же, страшно ли
умирать, чистосердечно отвечает: «Страшно». Но смерти ли, как
таковой, боится он? «Мне хозяйства жалко... Без меня все пропа-
дет и отец со старухой, гляди, по миру пойдут». Опять-таки куда
важнее жизнь, которая будет после него, нежели обрыв, исчезно-
вение собственной жизни.
Причем о кончине чеховские герои думают без всякого содрога-
ния. Больше того, многие из них непостижимо легко — а то и легко-
мысленно! — конец этот приближают. Если в первой редакции пье-
сы Иванов перед тем, как пустить себе пулю в лоб, произносит, как
109
бы мотивируя свое решение, предлинный монолог, то в окончатель-
ном варианте он ограничивается всего несколькими словами.
Саня из громоздкой юношеской пьесы «Безотцовщина» эти
прощальные слова пишет. Не говорит, а пишет, не забыв напом-
тье». Вот он, будущий Чехов!
Треплев до каких бы то ни было объяснений даже не снис-
ходит, просто «молча рвет все свои рукописи и бросает под стол,
потом отпирает правую дверь и уходит». Такова ремарка. Слов
вообще никаких, а спустя несколько минут раздается выстрел.
Один из героев выходит глянуть, в чем дело, вернувшись же,
вполголоса сообщает: «Дело в том, что Константин Гаврилович
застрелился...»
Так заканчивается комедия «Чайка». Комедия! (Ею, не будем
забывать, был первоначально и «Иванов», лишь впоследствии став-
ший драмой.) То есть не только смерть игнорируется при обо-
значении жанра, игнорируется самоубийство, которое испокон
веков считалось кульминацией действа трагического.
ся в земской избе — как это бестактно!» — замечает доктор Стар-
ченко («По делам службы»). Герой другого рассказа, который сам
Чехов определял как «рассказ про самоубийцу» («В сарае»), объяс-
няет случившееся просто: «Ум за разум зашел». И тут же, словно
подтверждая сказанное, в освещенных окнах мелькают странные
тени. Это, оказывается, самоубийца, которого пытались вытащить
с того света, испустил дух.
Такова, пусть опосредствованная, картина смерти. «Замелька-
ли тени, похожие на танцующие пары...» — кто в мировой лите-
ратуре позволял себе подобное? Разве что Шекспир.
Обратите внимание: самоубийство совсем не обязательно у че-
ховских героев. Иванов—не тот, что в драме, а тот, что в комедии, —
благополучно женится на Саше и вовсе не думает стреляться, тихо
умирает от сердечного приступа. (Хорошенькая комедия!) Пона-
чалу остается жить и Володя, герой одноименного рассказа. Впро-
чем, не совсем одноименного. В газетном варианте рассказ назы-
вался «Его первая любовь» и заканчивался бурным объяснением
Володи с матерью. Сцена самоубийства, как и сцена ночного сви-
но
Дания, дописаны позже, при подготовке сборника «Хмурые люди».
Кажется, это сильно подпортило вещь. Володя, конечно, мог убить
себя, но мог ведь и не убивать. Отказывается от намерения за-
стрелиться и обманутый муж Федор Сигаев («Мститель»), Васильев
из «Рассказа без конца» стреляется, но неудачно, и сам же в удив-
лении: «Полчаса тому назад я страстно желал смерти, теперь же
и не думаю о смертном часе». А попробуйте вообразить себе Анну
Каренину, не бросившуюся под поезд! Можете ли вы представить
себе ее дальнейшую жизнь? Вряд ли. Потому что у Льва Толстого
ситуация действительно тупиковая, о которой говорят: хоть в пет-
лю лезь!
У Чехова таких ситуаций нет. Крушение отдельно взятой судь-
бы (пусть даже и своей собственной, или даже в первую очередь
своей собственной) никогда не становится у него крушением
миропорядка. То, что с близкого расстояния кажется трагедией,
при достаточном удалении приобретает черты комического. Не по-
тому ли, кстати, и называл он свои драмы комедиями?
Нет, не летит в тартарары мировой порядок, когда умирает
тот или иной человек — за одним-единственным исключением.
Исключение это Лев Толстой. По воспоминаниям Бунина, Чехов
не раз повторял ему: «Вот умрет Толстой, все пойдет к черту».
Но сначала ушел из жизни не Толстой, который был на 30 с лиш-
если не справедливость, то закономерность: Чехов в свои без ма-
лого 40 лет был куда старше — и телом, и, главное, духом — почти
80-летнего Льва Толстого.
Вообще говоря, вопреки общепринятому мнению, Чехов умер
глубоким стариком. Забудьте о хронологии — есть вещи куда бо-
лее убедительные, нежели хронология. Например, его собствен-
ные рассыпанные в многочисленных письмах признания. «А зна-
ете, я старею, чертовски старею и телом и духом. На душе, как в
горшке из-под кислого молока». «Чем глубже погружаюсь я в ста-
мимолетное настроение и уж тем более не кокетство, а точное и
трезвое ощущение своего возраста. Внутреннего возраста, в кото-
ром он находит если не удовлетворение, то род утешения. «Когда
я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда
мне это не удастся, то у меня будет оправдание: я старик». Тот же
Бунин свидетельствует, что Чехов «состарился душевно и телесно
очень рано» и уже к 40 годам «стал похож на очень пожилого
монгола своим желтоватым, морщинистым лицом». Еще жестче
был М. Горький, сразу после смерти Чехова написавший жене:
«Я давно был уверен в том, что Антон Павлович не жилец на этом
Несомненно, был в этом уверен и сам Антон Павлович. Пред-
чувствием близкого конца пропитан рассказ «Архиерей», над ко-
торым Чехов работал два с половиной года — срок для него пора-
зительно большой. И дело тут не только в постоянно одолевающих
его хворях. Именно тогда, в самый разгар работы над «Архиере-
ем», он признается М. Горькому: «Чувствую, что теперь нужно
писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то
другого, строгого и честного». То была поздняя осень 1901 года;
Чехов живет в Ялте, один, без жены, которой пишет практически
ежедневно. «Сижу дома и скучаю, точно сижу в тюрьме». А двумя
днями раньше: «Я пишу, работаю, но, дуся моя, в Ялте нельзя ра-
ботать, нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно, а главное —
холодно». Ключевое слово тут — «далеко». Оно и в «Архиерее»
есть, то ли из письма туда перебралось, то ли, напротив, в письмо
из рукописи, которая продвигалась вперед так мучительно, так
небывало медленно. Герой, который от болезни «очень поху-
дел, побледнел и осунулся», все явственней ощущает, «что все
то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не
повторится, не будет продолжаться».
И что же герой? (А вместе с ним, надо полагать, и автор.)
Напуган? Подавлен? Ничего подобного. «Как хорошо! — думал
он. — Как хорошо!» Да что же тут хорошего? Смерть совсем ря-
дом, он ощущает ее дыхание, но дыхание это не пугает его, а вос-
принимается как свежий ветер. Ему представляется, что он «идет
кое небо, залитое солнцем, и он теперь свободен, как птица, мо-
жет идти куда угодно!» Вырвался, стало быть, из тюрьмы. Вырвал-
ся из монастыря. Кстати, Чехов и о монастыре тоже писал жене,
двумя месяцами раньше, в последний день лета: «Без тебя мне
так скучно, точно меня заточили в монастырь».
Заточили? Или, может быть, сам спрятался, сам укрылся?
Вот только — возникает вопрос — от кого? От чьих исподволь и
пристрастно, пристально, ревниво наблюдающих за ним—уже дав-
но наблюдающих — глаз?
И тут надо сказать главное: Россия ждала смерти Чехова.
Ну не так, чтобы прямо ждала, откровенно и нетерпеливо, но жда-
ла, что не особенно-то и скрывала. Предрекала — публично! —
скорый и необратимый закат столь ослепительно вспыхнувшего
таланта, предрекала смерть под забором и прочие ужасные вещи.
Чехов знал это. Но не торопился развеять сладострастные ожи-
дания публики, в особенности литературной и окололитератур-
ной. Напротив, делал, кажется, все возможное, чтобы укрепить
за собой репутацию певца сумерек, хмурых людей, бессмыслен-
ности бытия вообще и человека в частности. Неоднократно гова-
ривал он — ив письмах, и в произведениях своих, — что жить
ему, дескать, осталось недолго.
«Я лично даже смерти не боюсь», — писал он А. Суворину,
едва перешагнув 30-летний рубеж. И это не случайный мотив, не
дань скверному настроению или разыгравшемуся геморрою. Ров-
но за месяц до этого, день в день, писал И. Леонтьеву, печатав-
шемуся под псевдонимом Щеглов, «милому Жану», как он с
улыбкой называл этого человека, что «жить не особенно хочет-
ся». Почему? А Бог весть — почему. «И тепло, и просторно, и
соседи интересные, и дешевле, чем в Москве, но, милый капи-
тан... старость». Это писано в октябре 1892 года (дни стояли,
правда, скверные, слякотные), он в собственной усадьбе, посто-
янно благоустраиваемой, знаменит, тем не менее «жить не осо-
бенно хочется». Прибавляет, правда, что и «умирать не хочется,
но и жить как будто бы надоело».
В следующем абзаце опять о смерти, но на сей раз не о соб-
ственной, для которой он находит такой вялый, такой безэмо-
циональный, бесцветный глагол «не хочется», а о смерти актера
Павла Свободина, почившего две недели назад.
Впрочем, слово «почивший» в данном случае не подходит.
Так обычно говорят о человеке, встретившем свой смертный час
в собственной постели, в окружении близких. Свободин же упал
как подкошенный прямо во время спектакля... В июне, когда
Чехов. Посещение бога
цвели вишни, он три дня гостил в чеховском Мелихове и произ-
вел на хозяина «какое-то необыкновенное, трогательное впечат-
ление. Или, быть может, — прибавляет Чехов, — это мне каза-
лось только, так как я знал, что он скоро умрет».
Он, доктор, весьма дороживший этой своей профессией, как
никто умел высмотреть в человеке подкрадывающуюся смерть.
«Должно быть, скоро умрет», — пишет он о своем первом изда-
теле Лейкине. А, осмотрев Николая Лескова, находит, что «жить
ему оставалось не больше года». И в обоих случаях ошибается.
Лесков проживет еще целых три года, а Лейкин — более десяти,
похоронив когда-то дебютировавшего у него и уже при жизни
ставшего классиком писателя. Создается странное, несколько
жутковатое впечатление, что Чехов все время торопит смерть,
видит ее не то лучше, не то ближе других. Зорче...
Вот-вот, зорче. Так было с его родным братом Николаем (тут он
в своем печальном прогнозе не ошибся), так было с уже упомяну-
тым художником Левитаном Да и со своей собственной смер-
тью — тоже. Он знал, что жизни ему отпущено немного. Когда-то
в молодости, ему еще и двадцати пяти не исполнилось, занимался
он спиритизмом (Чехов и спиритизм! Вещи, казалось бы, несов-
местные, а ведь было) и вызванный им дух Тургенева на его пря-
мой вопрос ответил: «Жизнь твоя близится к закату». Эпизод этот
фигурирует в написанном тогда же маленьком рассказе «Страш-
ная ночь». Правда, слова эти отданы не Тургеневу, а Спинозе, духу
Спинозы, но сути дела это не меняет. «Я не верю в спиритизм, —
признается Иван Петрович Панихидин, герой рассказа,—но мысль
о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть,
господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее мысль о ней
противна природе человека». Рассказ откровенно пародиен, да
и опубликован как святочный, но вложенные в уста героя слова
о смерти не представляются шуточными. Как и слова, вложенные
несколькими годами позже в уста другого героя, Дмитрия Петро-
вича Силина («Страх»): «Наша жизнь и загробный мир одинаково
непонятны и страшны». Ладно, непонятны, но пытаются хотя бы
понять их герой? автор?
В одном из последних писем, адресованном жене за три меся-
ца до смерти, Чехов пишет: «Ты спрашиваешь: что такое жизнь?
114
морковка, и больше ничего неизвестно». Но ведь то же самое мож-
но сказать и о смерти.
Вообще подобное отношение к смерти свойственно обыч-
но тем, кто уже не раз смотрел ей в глаза — солдатам, людям
войны. А тут сугубо мирный человек, обожающий разводить
цветы: помнил, где сирень растет, а где георгин, когда высажи-
вать их и когда подрезать; цветы обожающий и животных: они
всегда жили и в мелиховском его доме, и в ялтинском. Тем не
менее в лицо смерти смотрел. Такое было, когда добирался на не-
справедливости, считают самоубийственной, но смотрел не толь-
ко тогда. И до Сахалина было, и после...
Впервые старуха с косой вплотную приблизилась к нему
в 15-летнем возрасте. Это случилось в 1875 году, когда жарким
летним днем по дороге в имение близких знакомых семьи Антон
выкупался в холодной речке, тяжко простудился «и чуть не от-
правился к праотцам», вспоминал много лет спустя младший брат
Михаил. «Как сейчас помню его, лежавшего при смерти...»
Сам Антон Павлович тоже вспоминал — в письме к поэту
А. Плещееву: «..я в дороге однажды заболел перитонитом (воспале-
нием брюшины) и провел страдальческую ночь на постоялом дворе
Мойсея Моисеича» (том самом постоялом дворе, что увекове-
чен в повести «Степь»). Правда, здесь герой не в речке купает-
ся, а попадает под проливной дождь. «Он только почувствовал
дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило».
Увидевший это Пантелей крякает и крутит головой. «Захворал
наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил... На чу-
жой стороне... Плохо дело!» Дело и впрямь было плохо, но обо-
шлось, опыт же первого общения с костлявой не прошел даром.
Второй раз он был в двух шагах от смерти, когда 23 марта
1897 года у него во время обеда с Сувориным в «Эрмитаже» хлы-
нула из горла кровь. Этот эпизод подробно описан в суворинском
«Дневнике». Тотчас потребовали льда, обед отменили, и после
Чехов два дня отлеживался у Суворина в номере гостиницы «Сла-
вянский базар». «Он испугался этого состояния и говорил мне,
что это очень тяжелое состояние». Еще бы не испугаться! От ту-
беркулеза в 1884 году умерла двоюродная сестра Елизавета, а пя-
тью годами позже — родной брат Николай. Испугаться испугал-
ся (но кажется, то был последний раз, когда он этот страх показал),
однако в больницу ложиться не стал, отправился к себе в гостини-
цу («Большую Московскую» — обычно он останавливался в ней),
где у него опять пошла горлом кровь, и доктор Оболенский почти
насильно отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле.
Его поместили в палату № 16 — почти в «палату № 6», заметил
Оболенский, и Чехов шутку оценил. Он и сам шутил, посмеивался
над собой, и лишь раз лицо его изменилось. Это когда срочно при-
бывший в клинику Суворин мимоходом обмолвился, что утром
смотрел, как по Москве-реке шел лед. «Разве река тронулась?» —
произнес Чехов глухим голосом. Отметив это в «Дневнике», Су-
ворин прибавляет: «Ему, вероятно, пришло в голову, не имеют ли
связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней
назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он гово-
рит: «Не поможет. С вешней водой уйду».
В клинике Остроумова его посетил Лев Толстой, заведший
разговор о бессмертии, суть которого сводилась к тому, что надо
слиться с неким всеобъемлющим началом, «сущность и цели ко-
ского мудреца, — для нас составляют тайну». То есть купить веч-
ную жизнь ценой утраты собственной индивидуальности. «Такое
бессмертие мне не нужно».
А какое же в таком случае нужно? И вообще верил ли он в него?
Бунин вспоминает, что Чехов называл бессмертие вздором и брался
доказать это, как дважды два четыре. Но в другой раз говорил нечто
противоположное. «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть
после смерти. Бессмертие—факт. Вот погодите, я докажу вам это...»
Но, собственно, бессмертие — это вопрос веры, а с верой у
Чехова отношения были весьма и весьма непростые. На этот
счет в письмах его — да и не только в письмах — рассыпана
масса взаимоисключающих, казалось бы, высказываний. «Я дав-
но растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на
всякого интеллигентного верующего», — пишет он за год до
смерти С. П. Дягилеву. И ему же — полугодом раньше, говоря о
взаимодействии религии и культуры: «Теперешняя культура —
116
Р. Киреев. Великие смерти
это начало работы во имя великого будущего, работы, которая
будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того,
чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину на-
стоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоев-
ском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре».
Стало быть, для Чехова такое познание возможно, в этом
он не сомневается, Чехов верит — пока что не в Бога, но в воз-
можность познания Бога, которое, в свою очередь, ведет к Богу.
Нельзя же в самом деле так твердо и спокойно, так по-чеховски
несуетно верить в познание, пусть даже и грядущее, того, чего
заведомо не существует.
В том же 1897 году, когда он лежал с кровохарканьем в кли-
нике Остроумова, где его навестил Лев Толстой, Чехов записы-
вает в дневнике (весь годовой дневник вмещается в полторы сот-
ни строчек): «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое гро-
мадное поле, которое проходит с большим трудом истинный
мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух
крайностей, середина же между ними не интересует его». За-
пись сделана в самом начале года, то есть задолго до болезни,
переполошившей всю русскую общественность, и визита Льва
Толстого в клинику Остроумова, где у них состоялся разговор о
вере и бессмертии. (Кстати, в дневнике об этом упомянуто лишь
одной строкой.)
Через три года ситуация повторилась, но повторилась зер-
кально: теперь болел Лев Толстой и общественность переживала
за него. «Болезнь его напугала меня и держала в напряжении, —
признается Чехов в письме к литератору Михаилу Меньшикову. —
Я боюсь смерти Толстого». Боится? Почему? Потому, прямо пи-
шет Антон Павлович, что любит его. Но это еще не все: «Я человек
неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходя-
щей для себя именно его веру». Тремя годами раньше, в клинике
Остроумова, он, помним мы, думал иначе. Сблизились за это вре-
мя? Смерть сблизила? Ее подкрадывающиеся шаги? В первом слу-
чае к Чехову подкрадывалась, во втором — к Толстому. В любом
случае ее присутствие тут не случайно, она явно стимулирует к по-
добного рода размышлениям. Так, собственно, было всегда, с древ-
них времен и по день сегодняшний.
«...Его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смер-
ти, о суете сует, о бренности всего земного», — читаем в первом
же абзаце «Печенега». Но это вещь беллетристическая, а вот со-
чинение документальное, единственное, где «я» повествователя
и «я» автора тождественны. Я говорю об «Острове Сахалине»,
в котором Чехов раскрылся так, как не часто раскрывался даже
в самых интимных своих письмах. „При всей своей занятости ча-
сто наведывался он на сахалинский маяк. «Чем выше поднима-
ешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глаза-
ми, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие
ни с тюрьмой, нис каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только
сознаешь, как скучно и трудно живется внизу».
В художественных произведениях автор куда сдержанней.
Незаметно выведя нас по крутым, одному ему ведомым тропин-
кам на вершину, тихонько отступает он в сторону. Смотрите, дес-
кать, сами. Разбирайтесь. Думайте... Мы смотрим — старательно,
до боли в глазах — и что же видим? А то, что «до конца еще далеко-
далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».
Так завершается «Дама с собачкой». Но примерно так же
завершается и «Степь» («...он опустился в изнеможении на ла-
вочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую
жизнь, которая теперь начиналась для него...»), и «Три года», и пос-
ледний — самый последний! — чеховский рассказ «Невеста». То
есть никакого, строго говоря, конца нет, ничего не завершается —
даже со смертью героя! — не обрывается, горизонт раздвинут
до бесконечности, и лишь от остроты нашего взгляда зависит,
что увидим мы в открывшейся панораме. Почувствуем ли, как
неудержимо движется время...
Потоком времени пронизаны едва ли не все чеховские произ-
ведения.
«Прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...»
(«Архиерей»),
«14 всего этого точно не было. Все, как сон или сказка» («Но-
вая дача»).
«14 люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что
здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, ко-
торые глядели теперь из рам...» («Крыжовник»),
«Сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек,
которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали
по ночам страстью, отдаваясь ласке» («Ионыч»),
«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Гроз-
ном, и при Петре» («Студент»),
Даже смерть не в состоянии остановить этого бешеного дви-
жения. Вот стреляется молодой герой рассказа «Володя», падает,
мертвый, лицом в стол, но это еще не конец. В последний момент
Володя видит, как «его покойный отец в цилиндре с широкой чер-
ной лентой... вдруг обхватил его обеими руками и оба они поле-
тели в какую-то очень телшую, глубокую пропасть». На первый
взгляд, это сродни мешку, в который просовывали толстовского
Ивана Ильича, но лишь на первый.
Мешок и пропасть — вещи все-таки разные. У одного есть
дно, есть конец, а другая бесконечна. Не потому ли неистово ре-
лигиозный Толстой так панически боялся смерти, а Чехов смот-
рел на нее... ну, если не спокойно, то во всяком случае страха
своего не выказывал. Тут он был фаталистом. «Надо быть ко все-
му готовым, — писал он в 1898 году сестре Марии, — ко всему
относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно».
Письмо написано в середине ноября, погода в Ялте, где Чехов на-
меревался провести зиму, стояла теплая, однако он знал, что это
последние теплые дни: скоро заморосят дожди, вершины гор скро-
ются в рыхлых серых облаках, с моря задуют ветры. Но ведь все
равно, говорит он в другом письме, «рано или поздно умрем, ста-
ло быть, хандрить по меньшей мере нерасчетливо».
Чехов размышляет на эту тему много и напряженно — в пись-
мах, в сочинениях своих — и приходит к выводу, который своей
парадоксальностью способен ошеломить кого угодно: «Жить веч-
но было бы так же трудно, как всю жизнь не спать». Но разве
отрицание, вернее неприятие вечной жизни не есть отрицание,
неприятие Бога? Для верующего человека понятия эти нерастор-
жимы, и Чехов хорошо понимает это. Героиня рассказа «Володя
большой и Володя маленький» Софья Львовна, вернувшись из мо-
настыря и вспоминая встречу с послушницей Олей, думает, лежа
в теплой постели: «Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе
подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет
страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос
жизни». То есть вопрос жизни и вопрос смерти нерасторжимы,
«без смерти не может быть и жизни на земле».
Эти слова Чехов вложил в уста садовника Михаила Карлови-
ча («Рассказ старшего садовника»), но в окончательном тексте
их нет — вычеркнуты автором при подготовке собрания сочи-
нений. Почему? Слишком заветная мысль? Слишком личная?
А, может быть, для позднего Чехова, давно уже примерявшего
на себя смерть, давно уже написавшего завещание, чересчур
категоричная? Или, счел Чехов, нельзя так уж безапелляцион-
но противопоставлять одно другому? «Все равно умрешь», —
говорит Гаев в «Вишневом саде», на что Петя Трофимов отвечает
раздумчиво: «Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может,
у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, изве-
стных нам, а остальные девяносто пять остаются живы». Но ведь
это, по существу, не что иное, как бессмертие! Вечная жизнь...
Почти Бог. Или, во всяком случае, до Бога теперь рукой подать.
Приходят-то к Нему по-разному, в том числе и через смерть.
Точнее, через размышление о смерти. Которая не зря сравнива-
ется Чеховым с посещением Бога.
«У полковницы Анны Михайловны Лебедевой умерла един-
ственная дочь, девушка-невеста. Эта смерть повлекла за собою
другую смерть: старуха, ошеломленная посещением Бога, почув-
ствовала, что все ее прошлое безвозвратно умерло...» Так начина-
ется рассказ «Скука жизни», написанный в 26 лет. А тремя года-
ми раньше появляется подписанная еще не Чеховым, а Антошей
Чехонте юмореска «Смерть чиновника», в которой смерть —
всего лишь повод для улыбки, для молодого озорства. Это уже
позже она станет предметом мучительных размышлений, мучи-
тельных и бесполезных. «Никакая философия не поможет поми-
рить меня со смертью», — признается герой повести «Три года»
Ярцев, и в признании этом слышится голос самого автора.
Двумя годами позже, попав с кровохарканьем в клинику Ост-
роумова, он прямо сталкивается с попыткой философии «поми-
рить» его, Чехова, со смертью, причем носителем философии явил-
ся никто иной, как Лев Толстой с его «всеобъемлющим началом»,
встреченным пациентом, помним мы, столь скептически.
Речь об этом Толстой завел не случайно. Как известно, это была
его излюбленная тема Всего за четыре недели до визита в клинику
он записывает в дневнике: «...смерть теперь уже прямо представ-
ляется мне сменой: отставлением от прежней должности и при-
ставлением к новой».
Чувствуете? Это слова не гостя, проходящего сквозь сад, не воль-
ного садовника, тихо растящего цветы (любимое занятие Чехова);
это слова человека, который никогда не прогуливается просто так,
а всегда идет куда-то.
Куда? Лев Толстой с юных лет исступленно искал ответа на этот
вопрос, Чехов же просто-напросто не задавал его. Но при этом стро-
ил дороги и школы, лечил больных, ходатайствовал о бедствующих
литераторах, артистах и музыкантах, с изумительной аккурат-
ностью отвечал на письма («Сколько я получаю писем!!») да еще,
как только заканчивался год, тщательно рассортировывал их.
(Если б к его письмам относились столь же бережно!) Сажал де-
ревья. Читал рукописи, которые ему присылали. А их присыла-
ли множество, и хоть бы кому отказал, сославшись на занятость!
Непременно прочитывал все дарственные книги и непременно
отзывался: когда несколькими словами, а когда развернутой ре-
цензией. Случалось, сам просил застенчивого автора прислать ему
свою новую работу. Сокращал и переделывал длинные перевод-
ные романы, да еще напрашивался поредактировать что-нибудь,
потому что ему, видите ли, приятна эта работа.... Нет, не мог он,
никак не мог повторить вслед за героем одного из своих рассказов
Дмитрием Петровичем Силиным: «..л болен боязнью жизни».
Рассказ называется «Страх», но речь в нем идет не о страхе
смерти, а о страхе перед жизнью. Чехов, кажется, не испытывал
ни того, ни другого, а уж страха перед жизнью точно. Но это не ме-
шало ему признаться в письме к Суворину, что у него-де «нет осо-
бого желания жить». Случайность (а может быть, и нет, кто зна-
ет?), но написано это в «возрасте Христа», на самом излете этого
возраста: через три дня ему исполнялось тридцать четыре. Чехова,
впрочем, не волновало это. Мания величия (а подобные аналогии
порождены, как правило, манией величия) если и присутствует
здесь, то лишь как объект исследования. «Черного монаха» я писал
без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении, — делится
он с Сувориным в том же письме. — Просто пришла охота изоб-
разить манию величия».
Зато Суворина, который был на четверть века старше Чехова
и на два года пережил его, «унылые мысли» посещали часто. Па-
мятуя о врачебном дипломе своего автора, он частенько жалуется
в письмах на скверное самочувствие, и Чехов с мягкой настойчи-
востью утешает его. Не надо, призывает он, бояться сердцебие-
ний (которым и сам был подвержен с раннего возраста), «потому
что все эти ощущения вроде толчков, стуков, замираний и проч,
ужасно обманчивы». Это пространное, в два приема писаное пись-
мо — одно из самых «медицинских» писем Чехова. В нем и о ка-
таре желудка, и о грудной жабе, и о том, что «сигары здоровее»
папирос. Есть и общие размышления, которым Чехов обычно
не очень-то любил предаваться:
«Враг, убивающий тело, обыкновенно подкрадывается неза-
метно, в маске, когда Вы, например, больны чахоткой и Вам ка-
жется, что это не чахотка, а пустяки. Рака тоже не боятся, потому
что он кажется пустяком. Значит, страшно то, чего Вы не боитесь;
то же, что внушает Вам опасения, не страшно... Всё исцеляющая
природа, убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянь-
ка ребенка, когда уносит его из гостиной спать».
Какое, однако, поэтическое, почти шекспировское сравнение
смерти с заботливой няней, пекущейся о своевременном отдыхе
усталого дитяти!
А еще в этом августовском письме 1893 года есть удивительное
пророчество, которое одновременно сбылось и не сбылось: «Я знаю,
что умру от болезни, которой не буду бояться». Иными словами,
если следовать чеховской логике, он должен был умереть от болез-
ни, которая подкрадется незаметно. Этого не случилось, болезнь
свою он знал в лицо, давно и хорошо знал, но тем не менее не боял-
ся. Не боялся не только смерти как таковой с ее очень даже воз-
можными физическими страданиями (от которых судьба его, сла-
ва Богу, избавила), не боялся не только исчезновения своей личнос-
ти, но и всего того, что личность эту составляло и что люди, особенно
натуры творческие, нередко боятся потерять больше чем жизнь.
«Смертного часа нам не миновать, — писал он брату Алексан-
дру в 1888 году, то есть двадцати восьми лет от роду, — а потому
я не придаю серьезного значения ни своей литературе, ни своему
имени, ни своим литературным ошибкам. Это советую и тебе.
Чем проще мы будем смотреть на щекотливые вопросы вроде зат-
ронутого Сувориным, тем ровнее будет и наша жизнь, и наши
отношения». А затронул Суворин «вопрос» творческой ревности
между братьями Альфонсом и Эрнестом Додэ. Вопрос и впрямь
щекотливый, и братья Чеховы, оба пишущие люди, сумели ре-
шить его удивительно деликатно, причем нужный тон нашел
младший — Антон. Впрочем, ощущать себя старшим Александр
перестал довольно рано: Антон учился еще в приготовительном
классе. «Тут впервые проявился твой самостоятельный харак-
тер, — признавался позже Александр, — мое влияние, как стар-
писем Антона к Александру, и большинство из них выдержано в
ироническом, пародийном, бытовом ключе — это и был тот един-
ственно возможный тон, который снимал, сводил на нет саму идею
литературного соперничества
Но ведь была не только литература, не только творчество,
но и дела имущественные, забота о близких, и вот уж этому-то
Антон Павлович придавал значение не просто серьезное, а наи-
серьезнейшее. Отвечая Александру на его встревоженные воп-
рит о тебе»), Чехов успокаивает его, как успокаивал всех, кто
спрашивал о его самочувствии, однако прибавляет: «...хотя про-
цесс зашел еще не особенно далеко, необходимо все-таки, не от-
кладывая, написать завещание». И здесь не удерживаясь от шут-
ки: «чтобы ты не захватил моего имущества».
Отправляясь на Сахалин, он недвусмысленно извещает Суво-
рина, который во многом субсидировал его опасную, могущую
чем угодно закончиться поездку, воспринимаемую кое-кем как
авантюру: «В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду,
что все, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре;
она заплатит мои долги».
О долгах своих он пекся страстно: о долгах перед домашними,
перед малознакомыми людьми, которых вдруг забудут отблаго-
дарить за услугу, и, конечно же, перед родным городом Таганро-
гом. В августе 1901 года, выходя из очередного рецидива болезни,
123
грозно и неожиданно поднявшей голову после столь благотвор-
ного, как показалось вначале, кумысолечения, он запирается в ка-
бинете своего ялтинского дома и пишет письмо, которое адре-
сат получит лишь спустя три года. Только один-единственный
человек увидит его до этого: ялтинский нотариус Н. Н. Вахтин.
Письмо это, стоящее особняком в многотомном эпистоляр-
ном чеховском наследии, адресовано сестре Марии Павловне.
«Милая Маша», — пишет Чехов. И сразу же, без каких бы то
ни было предваряющих, смягчающих, объясняющих что-либо
слов:« Завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте,
деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Оль-
ге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей».
В минуты, когда писались эти потаенные строки, Ольга Лео-
болыпой гурзуфской дачке, чем, собственно, и воспользовался ос-
тавшийся в одиночестве Антон Павлович.
«Недвижимое имущество, — продолжает он, — если поже-
лаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи,
Ивану — пять тысяч и Елене Чеховой (Леле), если она не выйдет
замуж, — еще одну тысячу рублей».
А дальше? Чехов ведь любил заглядывать в будущее — он де-
лал это и в рассказах своих, и в повестях, и в пьесах (в пьесах осо-
бенно), и в письмах. Это письмо — письмо-завещание — не стало
исключением.
«После твоей смерти, — обращается он к сестре и здесь обхо-
дясь без обычных в таких случаях экивоков, — и смерти матери
всё, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряже-
ние таганрогского городского управления на нужды народного
образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана,
смерти — таганрогскому городскому управлению на те же нуж-
ды по народному образованию».
О народном образовании, причем не о народном образова-
нии вообще, а применительно к взрастившему его Таганрогу он
печется постоянно. Человек деликатный, щепетильный, даже
сверхщепетильный, он порой допускает вещи, которые с обра-
зом такого человека не сразу-то и свяжешь. «Мне нужны Данте
и полное собрание Лескова, — пишет он одному из редакторов
«Нивы» А. А. Тихонову. — Но они адски дороги, страшно подсту-
питься к ним. Будьте добры, спросите у Маркса, не найдет ли он
возможным продать мне «Божественную комедию» и Лескова
с уступкой?» Чехов — в роли просителя? Да, просителя, но не за
себя, а за таганрогскую библиотеку, которую он при полной ано-
нимности едва ли не один и комплектовал в течение многих лет.
Но вернемся к письму-завещанию — там есть еще несколько
строк:
«Я обещал крестьянам села Мелихова 100 рублей — на уплату
за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко (Харь-
ков, Москалевка, с. дом) платить за его старшую дочь в гимназию
до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение».
Благотворительностью он занимался постоянно, причем, как
правило, тайной. Желая, скажем, отблагодарить почтмейстера, что
доставлял ему корреспонденцию, он просит сестру Марию Пав-
ловну подписать этого человека, вернее, его жену, на «Ниву», «вне-
ся в какой-нибудь книжный магазин... 7 р, или сколько нужно».
Но только, прибавляет он, «сделай все негласно, не говоря нико-
му ни слова». И такого рода негласных дел «на совести» Чехова
много.
А смотрите, с каким великолепным тактом, с какой гениаль-
ной изобретательностью отвечает он одному из своих должников:
«Те сто рублей, какие вы мне должны, я сам должен и не думаю
заплатить их скоро. Когда уплачу их, тогда и с Вас потребую, а пока
не извольте меня тревожить и напоминать мне о моих долгах».
Что-что, а уж психологию бедного человека, психологию должни-
ка сын лавочника, к тому же разорившегося, Чехов знал прекрасно.
Итак, вот три заключительные фразы его письма-завещания.
Фразы эти очень коротки — как последний выдох человека: «По-
могай бедным. Береги мать. Живите мирно».
И подпись: «Антон Чехов». Сухо, без малейших эмоций, будто
речь в письме идет о не очень-то значащих делах, будто не проща-
ется с любимой сестрой, уходя навеки. Что уж, и впрямь совсем
бесчувственным был, как считали некоторые критики? Либо прав
герой повести «Моя жизнь», прозванный Маленькой Пользой?
«Увы, — сокрушается Маленькая Польза, — дела и мысли живых
существ далеко не так значительны, как их скорби!»
125
Жена Маленькой Пользы, сбежав от мужа, завела себе коль-
цо, на котором выгравировала слова царя Давида: «Всё прохо-
дит». «Этот талисман удержит меня от увлечений, — с чувством
простодушного эгоизма надеется она. — Всё проходит, пройдет
и жизнь, значит, ничего не нужно».
В конце повести Маленькая Польза решительно опровергает
этот библейский постулат. «Если бы у меня была охота заказать
себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «ничто не проходит».
Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малей-
ший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни».
Этими словами завершается заключительная глава повести,
и они, пожалуй, могли бы стать эпиграфом к жизни не только героя,
но и его создателя. Жизни и смерти. Что, собственно, для Чехова
одно и то же: «Наша жизнь и загробный мир одинаково непо-
нятны и страшны».
Вообще уравнивание жизни и смерти, последовательное, хотя
и ненавязчивое приравнивание жизни к смерти, нежелание ви-
деть принципиального различия между ними очень даже харак-
терно для Чехова. Описывая в «Даме с собачкой» море, которое
«шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, те-
перь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда
нас не будет», Чехов раздумчиво добавляет: «И в этом постоян-
стве, в полном равнодушии к жизни и к смерти каждого из нас
кроется, быть может, залог нашего вечного спасения». Опять-
таки — к жизни и к смерти...
«Замечательная есть строка в его записной книжке, — то ли
восхищается, то ли ужасается Бунин. — Как я буду лежать в моги-
ле один, так, в сущности, я и живу один». Скорее все-таки ужаса-
ется, чем восхищается, как ужасается всякий раз, когда думает
или пишет о смерти.
Вот два рассказа, героями которых являются собаки — чехов-
ская «Каштанка» и бунинские «Сны Чанга», — два шедевра, в кото-
рых, помимо всего прочего, фигурирует смерть, причем смерть дана
глазами как раз собачьими. Во «Снах Чанга» умирает капитан, хо-
зяин пса «Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается ти-
шиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидает-
ся к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой
126
назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полу-
открытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает
такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехва-
тилмчащийся по бульвару автомобиль...» Страшно? Да, честно Го-
то «переехал». А вот в «Каштанке» смерть — не человека, всего
лишь гуся, пусть даже и с человеческим именем Иван Иванович —
по-настоящему жутка. «Гусь не кричал, но ей опять стало чу-
было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был
невидим и не имел формы».
Кажется, это единственная у Чехова вещь, в которой смерть
описана действительно страшно, почти каку ЛьваТолстого в «Смер-
ти Ивана Ильича». В других произведениях чеховские герои ду-
мают о смерти без всякого содрогания. Или не думают вовсе,
не подозревают о ней, совсем уже близкой, отлично видимой
всеми окружающими, кроме них самих. Вот маленький рассказ
«Учитель». Герой его, учитель фабричной школы Федор Лукич
Сысоев, приглашен на традиционный торжественный обед, раз
в год даваемый учителям директором фабрики немцем Бруни.
И здесь он встречает такое к себе внимание, слышит такие комп-
лименты, что голова его идет кругом. Но в один момент неосто-
рожный и самоуверенный немец, который, как и все, тоже знает
о скорой кончине учителя, проговаривается, несчастный Федор
Лукич испытывает ужас, однако очень быстро успокаивается и,
вернувшись домой, садится проверять диктанты своих учеников.
«А в это время, — невозмутимо, почти протокольно заканчивает
Чехов рассказ, — в соседней комнате сидел земской врач и шепо-
том говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед че-
ловека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели».
Но Федор Лукич — чуть ли не единственный из чеховских пер-
сонажей, кто не желает видеть совсем уже близкого конца, дема-
гогически уговаривает себя, что «в словах немца не было ничего
этакого... ужасного. Человек просто-напросто говорил о пенсии...
и больше ничего». Впоследствии, правда, готовя произведение
к изданию у А. Ф. Маркса, Чехов этот пассаж, как и несколько
следующих за ним, вычеркнул, но в первой публикации он был
127
А ровно через три месяца он печатает в «Новом времени»
рассказ «Тяжелые люди», герой которого студент Петр Ширяев
не только не пугается смерти, а соблазняется ею, мечтает о ней.
«Где-нибудь под Курском или под Серпуховом он, обессиленный
и умирающий от голода, свалится и умрет. Его труп найдут, и во
всех газетах появится известие, что там-то студент такой-то умер
от голода». Но, собственно, соблазняла его не столько сама смерть,
сколько «нравственные мучения отца», о которых он думал по-
чти со сладострастием, поскольку недалекий и мелочный отец
жестоко притеснял сына.
При подготовке марксовского издания рассказ опять-таки
подвергся большой переработке, в основном сокращениям. Так,
вычеркнуто слишком игривое, видимо, по мысли стареющего
трупе». Именно стареющего... В 1898 году в день своего рожде-
ния, он пишет из Ниццы сестре Марии Павловне: «Мне стукнуло
уже 38 лет; это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чув-
ство, как будто я прожил уже 89 лет». А это — тот возраст, когда
не следует заигрывать со смертью. Ни заигрывать, ни особенно
пугаться... Буквально через два дня, в другом письме, к публицис-
ту и соиздателю «Русских ведомостей» Василию Соболевскому,
упоминая о недавних похоронах практиковавшего во Франции
лании выпить бокал вина, добавляет: «Умирать ему не хотелось».
Здесь не случайная интонация. Сообщая о смерти Любимова
другому своему корреспонденту и упоминая, что был на похоро-
нах, Чехов находит, что «здешнее русское кладбище великолепно.
Уютно, зелено и море видно; пахнет славно». И тут же, буквально
в следующей фразе, без всякого перехода: «Я ничего не делаю, толь-
ко сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя
француженка очень милое доброе создание, 22 лет, сложена уди-
вительно». Описание кладбища, точнее, явное удовольствие, ко-
торое он получил от созерцания кладбища, поставлено в один ряд
с радостями любви, причем в обоих случаях тон откровенно эле-
гический, и он опять-таки не случаен.
В написанном в том же 1898 году рассказе «Ионыч» зама-
ненный шалуньей Катенькой на озаренное лунным светом клад-
Р. Киреев. Великие смерти
бище Старцев потрясен открывшейся перед ним картиной.
«...Кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья
склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей,
чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на
желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были
ясны». Трудно не признать глубокую поэтичность этих строк,
но они не самоцельны, они служат, как почти всегда у Чехова, пре-
людией к тому, что чувствует герой. И что совсем недавно испы-
тал сам автор на русском кладбище в далекой Франции, но по сво-
ей феноменальной сдержанности не открыл ни одной живой душе
ни в письме, ни в дружеской беседе. А это было не просто мимо-
летное чувство, не просто преходящее настроение — это было
откровение. Быть может, одно из самых главных откровений Че-
хова, объясняющее — вероятно, с наиболее возможной для него
полнотой — его, сугубо чеховское, отношение к смерти. А следова-
тельно, и к жизни. Вот это откровение, переданное герою повести:
«Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жиз-
ни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похо-
жий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет,
точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом
темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны,
обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увяд-
ших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением,
печалью и покоем».
Это ли не посещение Бога? Но Бога, надо признать, особого,
на чеховский манер... И что-то в этом торжественном посещении
есть, безусловно, от театра, который он так страстно любил с гим-
назических еще лет до конца... Нет, не до конца жизни, и далеко
не до конца! Вот признание, которое он сделал в письме к Суворину
из Ниццы в том же 1898 году: «Вы привязались к театру, а я ухожу
от него, по-видимому, всё дальше и дальше и жалею, так как театр
давал мне когда-то много хорошего».
Что вспоминал он, когда писал эти строки с явным элегическим
(и вообще-то не свойственным Чехову) налетом? Быть может, фан-
тастическо-комическую оперу Жака Оффенбаха «Прекрасная Еле-
на», которую в 1873 году давала в таганрогском театре труппа Валь-
яно и с которой связано первое театральное переживание Чехова?
129
Сохранилась афиша этого спектакля. «С дозволения Началь-
ства» стоит вверху, а внизу — «цена местам». От восьми рублей
(ложи литерные) до тридцати копеек (галерка). Но даже эти ко-
пейки надо было откуда-то взять, и 13-летний Антон с младшим
братом Иваном терпеливо копили их, пока не набралось нако-
нец заветных шесть гривенников.
Отправляясь в театр, братья понятия не имели, что увидят там.
Тем сильнее было впечатление. На обратном пути, рассказывал
много лет спустя Иван Павлович, «мы всю дорогу, не замечая
ни погоды, ни неудобной мостовой... оживленно вспоминали,
что делалось в театре». Еще бы! На фоне лавки «колониальных то-
варов», мелочного деспотизма отца и официозно-холодной гим-
назии, какой прекрасной, праздничной, поистине заповедной
страной показался юному Чехову театр! С каким благоговением
входил он всякий раз в его ярко освещенные двери! Театр, однако,
покорил, но не поработил Чехова. Он чувствовал себя в нем настоль-
ко вольно, что позволял себе разные дерзости. Скажем, начинал,
по тогдашнему обычаю, громогласно «вызывать», но не артис-
тов, а кого-либо из сидящих в ложе респектабельных граждан.
Галерка тут же подхватывала, и вот уже десятки голосов сканди-
ровали известное в городе имя. Публика покатывалась. Актеры
и те не могли сдержать улыбки.
Но это еще не самая большая дерзость. Куда большая дер-
зость — огромная, втрое больше «Вишневого сада» пьеса «Безот-
цовщина», за которую ничтоже сумняшеся взялся и играючи за-
кончил гимназист Антон Чехов. Играючи... А вот признание, ко-
торое вырвалось у прославленного драматурга Антона Павловича
Чехова в письме к жене: «Дуся, как мне было трудно писать пьесу!»
Вырвалось у человека, который, как известно, терпеть не мог
жаловаться на трудности, хвори и вообще превратности судьбы.
А тут не сдержался — так, стало быть, допекло.
Речь в письме щла как раз о «Вишневом саде», последнем его
сочинении. И это не случайная слабость, не дань раздражению
и болезни. Так же, как не было случайным признание, сделанное
им в пятилетней давности письме из Ниццы Суворину, в кото-
ром Чехов говорит, что все дальше и дальше уходит от театра:
«Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть
130
в театре, теперь же я сижу с таким чувством, как будто вот-вот
на галерке крикнут: «пожар!» И актеров не люблю». В чем же дело?
Чехов дает одно объяснение: его, дескать, «театральное авторство
испортило». Но это не объяснение. Или объяснение недостаточ-
ное. Главная причина столь резко изменившегося отношения
к театру в другом, и она, причина, ненароком поведана в письме
опять-таки к Суворину, только шестью годами раньше.
Почему ненароком? А потому что в письме речь не о нем,
не о драматурге Чехове, а об уже упомянутом актере Александ-
рийского театра Павле Свободине, посетившем Чехова незадол-
го до своей ранней (в 42 года — Чехова опередил) смерти. «Поху-
дел, поседел, осунулся и, когда спит, похож на мертвого, — пишет
Чехов Суворину. — Необыкновенная кротость, покойный тон
и болезненное отвращение к театру. Глядя на него, прихожу к зак-
лючению, что человек, готовящийся к смерти, не может любить
Стало быть, уже тогда, в 1898 году, в теплой курортной празд-
ничной Ницце, где ничто не напоминало о русской зиме, в кото-
рую ему так не хотелось возвращаться (писал родным, что вер-
нется в Мелихово, едва припечет весеннее солнышко и начнут
лопаться почки) — уже тогда, в одну из лучших своих зим, когда
даже болезнь притаилась, он готовился к смерти. До которой ос-
ной ялтинской ночью Чехов сказал ему без обычной своей шут-
ливости, вполне серьезно, что читать-де его будут только семь лет,
а «жить... осталось и того меньше: шесть». Но тогда уже не оста-
валось и шести.)
Итак, шесть лет. Много это или мало? Смотря для кого, да и
зависит не только от возраста. Может быть, от возраста не зави-
сит даже вовсе... Вот еще одно упоминание о Павле Свободине,
но в другом письме к Суворину, написанном уже после смерти
актера: «Для меня было очевидно, что он скоро умрет; было оче-
видно и для него самого. Он старчески жаждал обычного покоя...»
Старчески! Это в сорок-то два года! Еще одно, пусть косвенное
(хотя почему — косвенное? Прямое! Прямее некуда) подтверж-
дение мысли о том, что Чехов, вопреки всем биографическим све-
дениям, умер глубоким стариком.
Однажды, вспоминает М. Горький, лежа на диване, сухо по-
кашливая и играя термометром, Чехов сказал ему: «Жить для того,
чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь
преждевременно, — уж совсем глупо...»
Но ведь умереть глубоким стариком, хоть и в 44 года, — это,
согласитесь, умереть не так уж и преждевременно. Чехов пони-
мал это. А главное, знал задолго до конца, что финал по всем чело-
веческим меркам наступит рано. «Мое пророческое чувство меня
не обманывало никогда, ни в жизни, ни в моей медицинской
практике», — напишет он в 28 лет. А коли не обманывало, коли
знал заранее, значит, готовился, то есть жил с такой интенсивнос-
тью, что просто не мог не состариться столь стремительно. Зато все
успел. И со смертью был в таких отношениях, каких и на девя-
том десятке не мог установить с ней тот же, скажем, Иван Алек-
сеевич Бунин, всегда, с молодых лет панически ее боящийся...
Как-то в ялтинской гостинице, рассказывает он, пришлось ему
пережить «очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала по-
койница». И добавляет: «Чехов, поняв, что я почувствовал в эту ночь,
слегка надо мной подшучивал...»
Не только над ним... Тридцати лет от роду он, к примеру, со-
ветовал Суворину переделать конец его рассказа таким образом,
чтобы герой, некто Виталин, находясь с девушкой Наташей,
«нечаянно в потемках вместо нее обнял скелет и чтобы Наташа,
проснувшись утром, увидела рядом с собой на постели скелет,
а на полу мертвого Виталина». В другой раз, три с лишним года
спустя, вроде бы в шутку (но уже настойчивость, с которой мо-
тив этот повторяется, свидетельствует, что не совсем в шутку),
он предлагает из писем литератора Е. Шавровой сделать рассказ,
в котором бы голова мужа, «постоянно трактующего о смерти,
мало-помалу, особенно по ночам, стала походить на голый че-
реп, и кончилось тем, что, лежа с ним однажды рядом, она по-
чувствовала холодное прикосновение скелета...» Примерное,
надо признать, наказание для того, кто либо всуе, либо слишком
много и чересчур всерьез разглагольствует о смерти. Куда ближе
Чехову отношение к смерти маляра Редьки («Моя жизнь»), кото-
рый хоть «был непрактичен и плохо умел соображать», но о ско-
ром, ввиду крайней своей болезненности, переходе в мир иной
132
не задумывался вовсе. «Редька лежал у себя дома больной, со дня
на день ожидая смерти».
По-видимому, не позволял себе роскоши слишком много ду-
мать о ней и Антон Павлович. Но ведь у художника, особенно ве-
ликого, самое заветное, знаем мы, прорывается зачастую помимо
его воли. Вот самое последнее, написанное Чеховым в художествен-
ной форме — ремарка, которой заканчивается «Вишневый сад»:
«Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором
стучат по дереву».
Что-то смутно напоминает это... Не звуки ли, которые разры-
вают тишину, когда заколачивают крышку гроба?
«Вишневый сад» закончен 12 октября 1903 года — жить ему
оставалось 260 дней. Точного срока он, разумеется, не знает,
но знает, вернее, чувствует другое. «..Я как литератор уже отжил», —
пишет он жене. Чувствует, да, но смириться не может. В день, когда
пьеса была отправлена в Москву (а это произошло 14 октября), —
в пространном письме, к которому в специальном конвертике
прикладывался список действующих лиц и будущих исполните-
лей, он явно в приподнятом настроении сообщает Ольге Леонар-
довне: «Завтра сажусь писать рассказ». Но ни завтра, ни после-
завтра и вообще никогда больше он ни за рассказ, ни за пьесу
не сядет. Во всяком случае, в архиве — а архив Чехов содержал
образцово — никаких незаконченных произведений, относящих-
ся к последним 260 дням его жизни, не обнаружено. Есть кое-
что из старого, но новых нет.
Единственное, на что хватает сил, — письма Их он пишет прак-
тически ежедневно, нередко по два в день, и в них коротко, мимо-
ходом, сообщает о своем здоровье, которое, судя по этим письмам,
постоянно улучшается. Правда, окружающие не замечают этого.
Сохранился карандашный, сделанный в один присест портрет
Чехова, относящийся как раз к этому периоду. На нем изображен
больной, безмерно усталый, обреченный человек. Автор портрета—
Николай Захарович Панов, которому, по странному совпадению,
судьба отвела такой же жизненный срок, как и Чехову. Вернувшись
впечатления:
«Вся поза, наклон головы, осторожные движения исхудалых
рук — все говорит о том, что человек прислушивается к себе, к сво-
им мыслям и к тому... к чему здоровый не прислушивается, — к ка-
кой-то новой работе внутри, новой, подозрительной жизни, от-
влекающей внимание от привычной мысли».
Панов был не частым гостем в ялтинском доме Чехова, не очень
хорошо знал хозяина, который казался ему, едва перешагнувшему
30-летний рубеж, глубоким стариком, но обладал, несомненно, цеп-
ким взглядом, причем взгляд этот был направлен не только на того,
чей портрет он писал, но и на окружающих. «У всех одна мысль,
и все прячут ее в его присутствии, гонят как можно дальше».
Это написано, повторим, не задним числом, как пишется боль-
шинство воспоминаний, а в тот же день, когда и портрет. «Все
знают, и все молчат об этом важном, и говорят обо всем другом —
случайном и неважном Говорят громко и весело, а на лицах — страх
и беспокойство. Оставаясь одни, говорят шепотом и взаимно ве-
рят и надеются, утешая друг друга».
В роли главного утешителя выступал сам Антон Павлович.
Он делал это не только в письмах, айв личном общении. С тем же
молодым художником Пановым... Заметив, что тот нервничает,
спросил, ласково улыбаясь: «Вы что-то нашли?» Гость пугается,
будто его поймали с поличным, бормочет, что-де, «вы у меня
какой-то усталый и грустный вышли». Чехов успокаивает его.
«Ну, что ж, — какой есть. Не надо менять... Первое впечатле-
ние всегда вернее».
Приглашая накануне к себе Панова, он произнес «голосом,
ушедшим вглубь, без звука»: «Я буду думать, а вы порисуйте».
Думать о чем? Вряд ли о будущих произведениях... Последнее вре-
мя близкие все чаще и чаще замечали эту отрешенность, и она пу-
гала их, пугала даже больше, чем болезнь. «Не замыкайся, не уходи
в себя», — умоляет его жена
Он старается. Во всяком случае, состояние его духа, равно как
и физическое состояние, на отношение к окружающим не ска-
134
приплыла на пароходе из Севастополя жена М. Горького с детьми.
Алексей Максимович, которого дела задержали в Москве, просил
Чехова заказать номер в гостинице. Чехов заказал, но этим не огра-
ничился. Занятый беловой перепиской «Вишневого сада», кашля-
ющий, мающийся животом, по много дней не выходящий из дома,
самолично отправился, несмотря на дождь, встречать жену колле-
ги. «Когда пароход приставал к молу, — вспоминала впоследствии
Екатерина Павловна, — я заметила на берегу Антона Павловича
под большим зонтом, зябко кутающегося в пальто».
Ялту он называл своей «теплой Сибирью» — Сибирью в том
смысле, в каком употребляют это слово, когда говорят о наказа-
нии, о принудительном поселении, о ссылке... Да-да, именно в ссыл-
ке он ощущал себя здесь и все рвался, рвался, рвался в Москву.
«Выпиши меня отсюда», — умоляет он жену чуть ли не в каждом
письме. Почему «выпиши»? А потому что между ними была до-
говоренность: он приедет в Москву, лишь получив ее разрешение,
которое, в свою очередь, зависело от московской погоды. От того,
как скоро установится хотя бы легкий морозец. «Если я не еду
до сих пор в Москву, — писал он Станиславскому, уже вовсю работа-
ющему над постановкой «Вишневого сада», — то виновата в этом
Ольга Мы условились, что я не приеду, пока она меня не выпишет».
Станиславский как может успокаивает его. «Вы пишете, что
права, что не выписывает Вас Погода ужасная. То снег выпадет,
то стаивает. Мостовые изрыты. Грязь, вонь. Поскорее бы морозы».
Сначала с ним была сестра, преданнейшая Мария Павловна,
которая, по словам доктора Альтшуллера, который наблюдал Че-
хова в Ялте, «была готова бросить службу в Москве и совсем пе-
реехать в Ялту, но после его женитьбы по психологическим при-
чинам это отпало». «Антон Павлович, — продолжает доктор, —
повенчался с Ольгой Леонардовной Книппер в мае 1901 года, ни-
кого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко
изменились».
Изменились к лучшему или к худшему? «Как врач, лечивший
Чехова, и исключительно с врачебной точки зрения, я должен ска-
зать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать
ни лечению, ни улучшению его здоровья... Его несчастьем стало
135
счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся не-
посильным для него: Художественный театр и женитьба».
Сказано предельно корректно, но достаточно определенно.
Ну ладно, Художественный театр — это понятно: напряженная,
лось заполучить, волнения, связанные с распределением ролей, ре-
петиции. Но отчего же несчастьем стала женитьба? Альтшуллер
явно дает понять, что видит этот брак неудачным, считает, что он
ускорил смерть Чехова, и тут он не одинок.
По всем человеческим меркам, жена, настоящая жена, должна
быть рядом с мужем, когда он болеет. Тем более, когда так болеет.
Эго понимали все, в том числе — и даже, может быть, в первую
очередь — сама Ольга Леонардовна Она прямо пишет ему об этом
глубоко виновата перед тобой. Я так нежно понимаю тебя и посту-
паю как дворник».
В другом письме, к Альтшуллеру, она прямо признается: «Я все-
таки думала, что здоровье Антона Павловича в лучшем состоянии,
чем оно есть, и думала, что ему возможно будет провести хотя бы
Однако что сделано, то сделано, и она, первая актриса лучшего те-
атра России, готова бросить сцену, поселиться с мужем в спаси-
тельной для него Ялте, но тут категорически против он. Сам Альт-
шуллер признает, что Антон Павлович «не допускал и речи об этом».
О том же свидетельствуют и другие современники. Редактор «Жур-
нала для всех», бывший солист Большого театра В. С. Миролюбов
записал в дневнике весной 1903 года: «Чехов говорил: «Все зависело
от меня, я потребовал, чтобы она не бросала сцены, что бы она тут
делала в Ялте».
Он вообще не мог принять жертвы от кого бы то ни было.
Не только от жены — даже от матери, так самозабвенно любив-
шей его. Уж она-то готова была жить с ним где угодно и сколько
угодно; она и жила с ним в ту последнюю ялтинскую осень —
страшную осень! — жила до тех пор, пока он не заставил ее
уехать. Встревоженная Ольга Леонардовна решила, что они пос-
сорились, но Чехов решительно опроверг это. «Ты ошибаешься
в своем предположении, с матерью я не ссорился. Мне было боль-
136
но смотреть на нее, как она тосковала, и я настоял, чтобы она
уехала — вот и все. Она не крымская жительница».
Теперь он остался совсем один—тоже житель отнюдь не крым-
ский. Даже погода — а вторая половина ноября стояла в Ялте теп-
лая и сухая, в отличие от слякотной московской, — совсем не радо-
вала его. Об одном, только об одном все его мысли. «Не пишу ниче-
го, все жду, когда разрешишь укладываться, чтобы ехать в Москву».
И добавляет, смягчая, по своему обыкновению, улыбкой серьезность
тона: «Это говорят уже не «Три сестры», а один муж».
К Москве у него было отношение особенное. Его коллега
(Чехов любил это слово), врач и литератор Сергей Елпатьевский,
вспоминал позже: «Он, умный человек, мог говорить удивитель-
но несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда
я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять со-
вершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно москов-
ский врздух в особенности хорош и живителен для его туберку-
лезных легких».
Елпатьевский, патриот Ялты, которую Чехов ругал чем даль-
ше, тем сильнее, напоминал ему «про московскую вонь, про весь
нелепый уклад московской жизни, московские мостовые, криву-
ли узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные
Бабьи Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки», но все бесполез-
но. «Видно, что и Самотека, и Плющиха, и даже скверные мос-
ковские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые
дни — что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми
приятными ощущениями».
Коллега не ошибался. «Скорей, скорей вызывай меня к себе
в Москву, — с мольбою обращается Чехов к жене. — Здесь и
ясно, и тепло, но я ведь уже развращен, этих прелестей оценить
не могу по достоинству, мне нужны московские слякоть и не-
погода; без театра и без литературы я уже не могу».
И в тот же день — сестре Марии Павловне: «Приеду, как толь-
ко позовут телеграммой».
Телеграмма пришла через неделю, в субботу 29 ноября: «Мо-
розит. Поговори Альтшуллером и выезжай».
Разговор с Альтшуллером был тяжелым — тот «умолял не гу-
бить себя, не ездить в Москву», но пациент лишь улыбался в от-
137
вет: билет на пароход до Севастополя, откуда отправлялись поез-
да в Москву, был уже заказан. «Выезжаю вторник», — телегра-
фировал он жене. Всего два слова, даже без подписи... А в среду
в хронике «Крымского курьера» появилась коротенькая замет-
ка: «Вчера утром на пароходе русского общества пароходства
и торговли «Цесаревич Георгий» уехал в Севастополь А. П. Чехов,
для следования оттуда в Москву».
Когда он приехал, репетиции «Вишневого сада» были в самом
разгаре. Сперва Чехов присутствовал на них регулярно, практи-
чески на каждой; устраивался где-нибудь в глубине зала и внима-
тельно следил за происходящим на сцене, изредка делая незначи-
тельные замечания. От пространных суждений воздерживался,
хотя не нравилось ему многое. Позже, уже после премьеры, он
признается в сердцах, что Станиславский «сгубил» его пьесу, и при-
бавит обреченно: ну, да ладно... В каких-то вещах он был фата-
листом. Вот и на репетиции вскоре перестал ходить, вообще ред-
ко покидал дом. Отчасти, может быть, из-за того, что квартира,
которую сняла Ольга Леонардовна, располагалась на третьем эта-
же, а лифта, именуемого тогда подъемной машиной, не было.
«Полчаса требовалось ему, чтобы взобраться к себе, — напишет
позже, уже после смерти Чехова, Гарин-Михайловский. — Он сни-
мал шубу, делал два шага, останавливался и дышал, дышал».
Но однажды он не просто покинул дом, а покинул надолго
и оказался довольно далеко от него — на кладбище... Но не из-
за любви к кладбищам, как утверждал его товарищ по универ-
ситету, московский профессор Григорий Иванович Россолимо,
а потому, что хоронили их однокурсника Алтухова.
«На отпевании, — вспоминал Россолимо, — меня взял за
локоть Чехов... Он очень изменился за последние полгода: по-
худел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких мор-
щин». Тем не менее тихонько, «нежным баском», подпевал хору,
а после «шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше после-
дует за Алтуховым».
Раньше последовал он... Причем в том же возрасте, в каком
умер Алтухов. Профессор Россолимо, крупный невропатолог,
уже тогда предвидел это. Или, лучше сказать, разглядел. Да и муд-
рено было не разглядеть. Другой доктор, Викентий Вересаев, он
же писатель, еще весной заметил на его лице «темную тень об-
реченности». С тех пор она чеховского лица не покидала, но осо-
бенно явственно проступила в день премьеры «Вишневого сада»,
которая состоялась ровно через месяц после похорон Алтухова,
в субботу 17 января.
Все московские газеты в тот день вышли с сообщениями о пред-
стоящем событии, которое, как писали «Новости дня», «далеко
выходит из рамок театрального торжества». И прогнозировали,
что «оно обратится в литературный праздник». По слухам, ко-
торые газеты с энтузиазмом повторяли, готовилось «грандиоз-
ное чествование». Вопреки воли Чехова, неоднократно высказы-
ваемой им, решили, воспользовавшись премьерой и тем, что она
совпала с днем рождения автора, отметить 25-летие его твор-
ческой деятельности.
На самом деле никакого 25-летия не было. Если вести от-
счет с первой достоверной публикации (специалисты практи-
чески единодушны в том, что Чехов и прежде печатал свои ме-
лочи под различными псевдонимами), то оно выпадало на март
1905 года. Но все вокруг словно бы чувствовали, что до этого вре-
мени ему не дожить, и спешили проститься с писателем.
В зале была вся, как принято говорить в таких случаях, теат-
ральная и литературная Москва: М. Горький и Сергей Рахманинов,
Андрей Белый и Федор Шаляпин, который выступил на ужине пос-
ле спектакля с обращенной к «юбиляру» речью. Масса подарков,
причем преподносили, в основном, старинные вещи, над чем Че-
хов впоследствии иронизировал. Масса выступлений, зачастую до-
вольно пространных, а еще приветственные адреса, телеграммы.
И всё это автор, которого привезли в театр лишь к концу третьего
действия и который едва держался на ногах, выслушивал стоя.
Кто-то сердобольно выкрикнул из зала, чтобы он сел. Но сесть
было не на что, да и Чехов, воплощение деликатности, никогда б
не согласился на это. Лишь горбился да покашливал, «мертвенно
бледный и худой», как напишет после Станиславский, признав-
ший, что «юбилей вышел торжественным, но... оставил тяжелое
впечатление. От него отдавало похоронами».
А еще он признал, что спектакль получился средненьким.
Но ведь чествовали не спектакль, не режиссера и не актеров —
чествовали Чехова: когда он вышел на сцену после третьего дей-
ствия, весь зал встал как один человек.
Не чествовали — прощались... Позже Станиславский скажет,
что у него «было тоскливо на душе». Но это у него, и у других уча-
стников спектакля, и у безмолвно, почти траурно притихшего зала,
а у того, с кем прощались? Что было на душе у того, кто, еще жи-
вой, присутствовал на собственных похоронах?
Без малого десять лет назад, весной 1894 года, у него было по-
добное состояние — Чехов описал его в одном из писем. «...На
днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с
соседом-князем по аллее, разговариваю — вдруг в груди что-то об-
рывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю,
что у меня подолгу бывают перебои сердца — значит, не даром, ду-
маю; быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль:
как-то неловко падать и умирать при чужих».
Неловко умирать при чужих... Неловко падать и умирать
при чужих... Не умер. Не упал. Дождался-таки, стоя на подгиба-
ющихся ногах, когда занавес, наконец, опустился, и тут его с од-
ной стороны подхватил М. Горький, с другой — Миролюбов, от-
вели в уборную Качалова, хотели уложить на диван, но Чехов
упорствовал, и лишь когда остались вдвоем с Качаловым, произ-
нес: «А я в самом деле прилягу с вашего разрешения». Однако
когда начался четвертый акт, поднялся. «Пойдем, посмотрим, как
«мои» будут расставаться с «Вишневым садом», послушаем, как
начнут рубить деревья». Те самые звуки, которые раздаются, ког-
да заколачивают крышку гроба... А чем еще могло венчаться это
действо!
Вообще звуки на сцене — обыкновенные, сугубо вспомогатель-
ные, казалось бы, звуки: звон колокола, какой-нибудь скрип —
были для Чехова чрезвычайно важны, об этом в своих мемуарах
пишет Станиславский. Это важное свидетельство. Важное в том
принимает умирающий. А он, по сути дела, уже был таковым.
«Знал ли он размеры и значение своей болезни? — спрашивает
Куприн, не раз встречавшийся с ним тогда. — Я думаю, знал, но бес-
трепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти.
Были разные мелкие обстоятельства, указывающие на это».
140
Но и без «мелких обстоятельств», по одному внешнему виду,
можно было понять, в каком он состоянии. Борис Зайцев вспоми-
нал много лет спустя о своей встрече с Чеховым в ту как раз зиму,
на одной из знаменитых «Сред» Телешова «Чехов был неузнаваем.
ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого
человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него
создавалось некое почтительное «мертвое пространство»—впрочем,
ему трудно было бы и заполнить его по своей слабости».
Премьера «Вишневого сада» это «мертвое пространство» уве-
личила еще больше. Не слишком чуткие люди пытались преодо-
леть его — визитеры, бесконечные визитеры, которым Чехов в
силу своей деликатности отказать не мог.
ле триумфа в Художественном театре ялтинскому врачу Среди-
ну. — Но здесь страшная толкотня, ни одной свободной минуты,
все время приходится встречать и провожать и подолгу говорить,
так что в редкие свободные минуты я уже начинаю мечтать о сво-
ем возвращении к ялтинским пенатам, и мечтаю, надо сознаться,
не без удовольствия».
Это удивительное признание. Но неполное. Что-то тут Чехов
явно недоговаривает — такова уж его манера общения с людьми.
Он и на репетициях своих пьес ограничивался, как правило, ко-
роткими, на первый взгляд ничего не значащими репликами, суть
которых актеры и режиссеры постигали лишь впоследствии.
Но что же недоговорил он в письме к доктору Средину, когда
обмолвился о возможном скором возвращении в Ялту, совсем
недавно столь тяготившую его? Ответа на этот вопрос в письме нет,
но он есть — или, во всяком случае, его можно отыскать — в
написанном в праздной курортной Ницце в 1897 году рассказе
«Печенег». Герой его размышляет о том, что «хорошо бы, ввиду
близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая
Чехов прекращает. Меньше чем через месяц после премье-
ры «Вишневого сада», 15 февраля 1904 года он уезжает в Ялту.
А за день до этого, 14 февраля, пишет Авиловой письмо, в ко-
тором, расставаясь с когда-то столь близкой ему женщиной (Бу-
нин утверждает, что эта женщина была единственной, к кому
Чехов испытал «большое чувство»), дает ей прощальный наказ:
«Главное — будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысло-
вато; вероятно, на самом деле она гораздо проще». А дальше сле-
дуют слова, которые адресуются уже не ей, или даже не столько
ей, сколько самому себе: «Да и заслуживает ли она, жизнь, кото-
рой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых
изнашиваются наши российские умы, — еще неизвестно».
Эта неизвестность сохранялась, по-видимому, до конца Но это
уже совсем недолго: жить ему оставалось четыре с половиной
месяца..
Два с половиной из них он проведет в Ялте. Доктор Альт-
шуллер найдет, что он вернулся сюда «в значительно худшем
состоянии», нежели уезжал, зато «полный московских впечат-
лений». В чем эти впечатления выражались? Он «оживленно
рассказывал про чествование, показывал поднесенные ему по-
дарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть нароч-
но, чтобы ему досадить, распустил слух о том, что он любитель
древностей, а он их терпеть не может».
«Оживленно... комически...» И это лексика доктора, который
наблюдает смертельно больного человека, доживающего свои
последние недели. Да, только ведь и Чехов — не будем забывать! —
был врачом, и тоже наблюдал, пусть изнутри, но изнутри-то
подчас даже виднее. Выходит, не думал о смерти? Не знал? Знал,
не мог не знать. Это знали и видели все, и он, разумеется, не был
исключением. Или думал, но очень мало, самую чуточку. Совсем
по Спинозе, написавшем в «Этике», что «человек свободный
ни о чем так мало не думает, как о смерти». А он был человеком
свободным. Самым, может быть, свободным человеком во всей
русской литературе, включая Пушкина.
Но, возможно, дело тут не только в свободе, феноменальной
внутренней свободе человека, до капли выдавившего из себя раба,
но и в своего рода привычке. Еще давно, тридцати лет от роду,
он признался в одном из писем, что ему многих пришлось по-
хоронить, и он стал «даже как-то равнодушен к чужой смер-
ти». А к своей? И к своей, по-видимому, тоже, во всяком случае,
теперь. Если говорит или пишет о ней, что бывает крайне редко,
142
то лишь в шутливом тоне, как, впрочем, и о болезнях своих.
Или это вообще свойство русского человека? Русского мужика..
В повести «Мужики» так и написано: «Смерти не боялись, зато
ко всем болезням относились с преувеличенным страхом».
увеличенного страха никто в нем не замечал. Письма его полны
не то что оптимизма, но, во всяком случае, планов на будущее.
Активно обсуждается план покупки подмосковной дачи, не ос-
тавляются даже мечты о ребенке («теперь бы за ребеночка я де-
русско-японскую, которая как раз разворачивалась тогда, и не в ка-
честве литератора, «не корреспондентом, а врачом», потому что
«врач увидит больше, чем корреспондент».
Собирался и писать. Гарин-Михайловский, посетивший его
весной в Ялте, вспоминает, как Чехов показал ему записную книж-
ку, куда в течение нескольких лет заносил карандашом заметки
для будущих произведений. Но карандаш стал стираться, и не во-
стребованные записи он обвел чернилами. «Листов на пятьсот еще
неиспользованного материала. Лет на пять работы».
И такая убежденность была в его глуховатом голосе, такое спо-
койствие сквозило в каждом его движении, что Гарин нашел его
выглядевшим не просто хорошо, а «очень хорошо». «Меньше все-
го можно было думать, что опасность так близка».
Была близка, была, просто Гарин такие вещи не различал:
ни в других, ни в себе. Красавец, здоровяк, хороший писатель
и отменный инженер-путеец, он через два года после смерти Че-
хова скоропостижно умрет прямо на редакционном совещании.
Смерть застигнет его врасплох, чего о Чехове сказать ни в коем
случае нельзя. Уж ее-то он чуял издалека — во всех обличиях.
Станиславский вспоминает, как однажды к нему в уборную
зашел один очень близкий ему человек, очень жизнерадостный,
хотя и слегка беспутный. Случайно оказавшийся тут же Чехов
«все время очень пристально смотрел на него», а когда человек
ушел, стал задавать «всевозможные вопросы по поводу этого гос-
подина». Потом заявил твердо, что это был самоубийца. Станис-
лавский лишь засмеялся в ответ, скоро забыл об этом разговоре
и вспомнил о нем лишь через несколько лет, узнав, что господин
этот наложил на себя руки.
Весна в Ялте — последняя чеховская весна — была скверной:
шли дожди, море штормило, дул холодный ветер. Температура
в доме опускалась подчас до 15 градусов. «Живу кое-как, день
тами для пасьянса и с шаганьем из угла в угол».
Его снова — и чем дальше, тем сильнее — стало тянуть в
Москву. «Я в этой Ялте одинок как комета», — жалуется он
жене, которая находится с театром на гастролях в Петербурге,
и он даже подумывает, не махнуть ли в Петербург. Но к маю
гастроли должны закончиться, и к этому как раз сроку он при-
урочивает свой отъезд. В субботу 1 мая Чехов навсегда покида-
ет Ялту. В дороге простужается, плеврит дает высокую темпе-
ратуру, он уже почти не встает с постели. Меньше двух меся-
цев оставалось ему.
Половину этого срока — с 3 мая по 3 июня — он провел в
Москве. Или, правильней сказать, в московской квартире, кото-
рую сняла в Леонтьевском переулке, в двух шагах от Тверской,
Ольга Леонардовна. Сам не выходил, но к нему пытались проник-
нуть многие. «Нас всех, и меня в том числе, — писал Станислав-
ский, — тянуло напоследок почаще видеться с Антоном Павло-
вичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать
нас». Посетитель не обижался, иногда посылал наверх (Чеховы
жили на последнем, четвертом этаже, но в доме был лифт) ко-
ротенькую записочку со словами признания и привета.
Да, лифт в доме был, но Чехов воспользовался им всего не-
сколько раз, а от отсутствия в доме отопления страдал посто-
янно. Не то что его вообще не было, было, разумеется, паровое,
но котлы ввиду наступившего летнего сезона разобрали для по-
чинки. Летний сезон, однако, наступил лишь по календарю:
было холодно и ветрено, моросил дождь, а в воскресенье 23 мая
повалил снег. Чехову частенько не везло с погодой, будто кто-
то там, наверху, сердился на него за его независимость, за слиш-
ком большое свободомыслие. У него вообще, как мы помним,
были непростые отношения с Небом...
144
Р. Киреев. Великие смерти
Но он следил не только за погодой в Москве, ожидая тепла,
с наступлением которого врачи обещали ему разрешить прока-
титься по улице, но и за погодой в Ялте, где оставалась сестра.
«Мои растения в кабинете, — наказывает он ей в письме, — не
вели выносить на ночь на чистый воздух». И тут же подробно ин-
структирует, что и как надо поливать.
Но ошибочно думать, что цветы волновали его, а люди нет.
Внимательно следил по газетам и журналам за всем, что делается
вокруг, и в первую очередь — на русско-японской войне. Следил
за литературой и театром. Узнав, что у М. Горького появилась
новая пьеса, просит прислать ее хотя бы на сутки. «Я прочел бы
и тотчас возвратил бы, не задерживая ни на минуту».
Но ладно, то М Горький, но ведь и рукописи неведомых со-
всем авторов читал в эти свои последние недели. Заведуя отделом
беллетристики в «Русской мысли» (о чем журнал с гордостью со-
общал на своей обложке, что автоматически поднимало его пре-
стиж), требовал от редактора Виктора Гольцева все новых руко-
писей для просмотра и редактирования. Гольцев, который соб-
ственными глазами видел, в каком состоянии Чехов, был в панике.
Но делать нечего, отказать не мог. «Я выбирал ему четко написан-
ные самые короткие вещицы, и, несмотря на болезнь, Антон Пав-
лович поправлял, просматривал, иногда сам отвечал авторам, иног-
да просил через меня ответить».
Это свидетельство Гольцева, умершего вскоре после Чехова,
сохранил для потомков Гиляровский. Сам он посетил Чехова
за день до отъезда того за границу, сразу как приехал в Москву.
«Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь
я увидел Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с нога-
ми. Лицо у него было осунувшееся, восковое... и руки тоже...
Услышав шаги, он поднял голову... Один момент — и три выра-
жения: суровое, усталое, удивленное — и веселые глаза».
Ольга Леонардовна поставила бутылку портвейна и удалилась.
Гиляровский тянул понемногу вино, рассказывал о задонских сте-
пях, откуда только что вернулся, о табунах, о каймаке, а Чехов «слу-
шал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза
устремились куда-то вдаль... задумчивые, радостные».
Гость решил, что хозяин видит степь, которую так любил.
Замолчал, чтобы не мешать, тихонько подлил себе вина. Чехов по-
хвалил портвейн, но сливянка, сказал, лучше, и он обязательно
задремал. «Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-
спокойное, на неподвижно лежащие желтые руки с синими жил-
ками и думал: «Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки,
не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так
прекрасно тобой описанных...»
В тот же день Чехов виделся со своим университетским това-
рищем Григорием Россолимо, которого вызвал к себе записоч-
кой на клочке бумаги. Профессор Россолимо понял по этим не-
скольким словам, что писать Чехову трудно, хотя «твердый, мел-
кий» почерк оставался прежним.
«Войдя к нему в кабинет, я застал его в постели у стены, изголо-
вьем к окну, у которого за письменным столом, при лампе под зе-
леным абажуром, сидела, облокотившись, Ольга Леонардовна..»
Поговорили об однокурсниках, вспомнили живых и умерших,
число которых, понимал профессор, скоро увеличится. Понимал
это и Чехов. Понимал и видел в этом некую закономерность, по-
стичь которую, может быть, и трудно, если вообще возможно, но
она есть. Именно в один из этих дней, 28 мая, он пишет молодо-
му литератору Борису Садовскому, жившему по соседству и на
этом только основании дерзнувшему послать умирающему писа-
телю свою поэму «Прокаженный», — пишет после краткого раз-
бора поэмы фразу, которая имеет к поэме весьма далекое отно-
шение: «В жизни... ничего случайного не бывает».
Значит, следуя его мысли, и болезнь, и неминуемый отъезд
за границу, и его столь же неминуемая смерть закономерны.
Можно сомневаться в существовании того, кто эти высшие за-
коны устанавливает, но не признавать их нельзя и нельзя им
не подчиняться.
Чехов подчинялся. Именно тогда сказал он писателю Телешо-
ву: «Прощайте. Еду умирать».
Телешов зашел к нему буквально накануне отъезда, 2 июня.
Он знал, в каком состоянии Чехов, и не хотел беспокоить его,
146
оставил лишь прощальную записку, но его догнали на лестнице
и велели вернуться. Телешов подчинился.
«Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я уви-
дел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване,
обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом
на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек с узки-
ми плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изну-
рен и неузнаваем Антон Павлович».
Но сам он гостя узнал сразу — голова его оставалась ясной
до последнего мгновенья. Протянул «слабую восковую руку», по-
смотрел «ласковыми, но уже не улыбающимися глазами» и про-
изнес: «Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать».
Телешов оговаривается, что Чехов произнес «другое, не это
слово, более жесткое, чем умирать», но ему не хотелось бы повто-
рять его. Значит, было некое непривычное для Чехова внутреннее
ожесточение. Была обида. Или, может быть, досада на то, что он
вынужден подчиняться.
Подчиняться кому? Року? Врачам? Близким?
Кстати, о близких. В написанном в 1897 году рассказе «Му-
жики» содержится страшное наблюдение: «Когда в семье есть
больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают та-
кие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине
души желают его смерти».
Здесь вроде бы никто не желал, свидетельств таких, во всяком
случае, нет, но почему, почему уехал в таком состоянии за грани-
цу? Первый же врач, который осмотрел его там, пожал плечами
и, не проронив ни слова, вышел. Но и без слов было понятно:
таких за границу не возят. Почему уехал?
Тем же вопросом мучался Бунин и в конце концов ответил
на него следующим образом: «Не хотел, чтобы его семья присут-
ствовала при его смерти».
«Представь, — писал он в Ялту сестре, — сегодня я только в
первый раз надевал калоши и сюртук, все же время до этого
лежал или бродил в халате и туфлях...» На другой день, 1 июня,
вышел снова, «шажком на резиночках прокатились по Твер-
скому бульвару» — с удовлетворением пишет Ольга Леонардов-
Чехов. Посещение бога
147
на, не понимая — по-видимому не понимая, — что ее муж про-
щается с Москвой.
Москва этого не заметила. Москва будет прощаться с ним ме-
сяцем позже, когда из-за границы доставят тело с гробом...
С Николаевского вокзала его на руках несли к Новодевичьему
кладбищу. «Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем
на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение
трамваев и экипажей, и вливающиеся в них другие улицы и переул-
ки были перетянуты канатами». Так вспоминает этот день 9 июля
брат писателя Михаил, тоже литератор. С благодарностью говорит
он о студенческой молодежи, которая, «взявшись за руки и составив
таким образом колоссальный хоровод в диаметре никак не менее
полуверсты, охраняла кортеж от многих тысяч сопровождавших,
Так провожала Москва Чехова. Уже мертвого Чехова.. А отъезд
живого почти не заметила. Даже Станиславский не приехал на вок-
зал, прислал вместо себя жену с запиской, в которой сослался на не-
здоровье: «Мне не придется Вас проводить, и я очень грущу об этом».
В Берлин прибыли благополучно, остановились в гостинице
«Савой». В первом же письме из Берлина он пишет, что чувствует
себя великолепно: «ест за десятерых, спит чудесно и вообще жи-
вет недурно». Но врач, который осмотрел его там, знаменитый
жило Чехова. «Нельзя забыть мягкой, снисходительной, как бы скон-
фуженной и растерянной улыбки Антона Павловича, — писала
по горячим следам Книппер-Чехова. — Это должно было произ-
вести удручающее впечатление».
Тем не менее чеховские письма из-за границы полны оп-
тимизма и бодрости. «Я выздоравливаю, или даже уже выздо-
ровел... начинаю полнеть и уже целый день на ногах, не лежу».
Правда, писано это сестре Марии накануне визита профессо-
ра Эвальда, но и после визита в письмах звучит тот же бравур-
ный тон. Чехов будто заклинает кого-то... Не себя ли самого?
Даже фланелевый костюм себе заказал. «...Я еще не нагулялся», —
вырывается у него в письме к сестре.
«Предсмертные письма Чехова — вот что внушило мне на днях
действительно ночной ужас», — признался Блок в записной
книжке в марте 1916 года. И добавил: «Это больше действует,
чем уход Толстого».
О Чехове он думал давно, думал много, напряженно и пристра-
стно. В небольшой статье «Душа писателя», написанной в 1909 году,
говорится о «всеобщей душе», дуновения которого современ-
ным писателям не дано услышать, и уточняется: «Последним
слышавшим был, кажется, Чехов». Опять-таки не Толстой, пере-
живший своего младшего современника на шесть лет, а Чехов...
А двумя месяцами позже поэт пишет матери, что, в отличие от
других писателей, «Чехова принял всего как он есть, в пантеон
своей души».
Итак, предсмертные письма Чехова. Но если бы там не сто-
яло дат, предсмертными их назвать было 6 трудно. Говорит о пре-
красном самочувствии. Строит планы, причем планы обшир-
ные — например, о путешествии в Италию, откуда намерева-
ется морем добраться в Одессу. Жалуется на немок, которые
«одеваются не безвкусно, а прямо-таки гнусно, мужчины тоже,
нет во всем Берлине ни одной красивой, не обезображенной
своим нарядом».
Это не случайный мотив. Из четырех последних написанных
его рукою фраз одна опять-таки посвящена внешнему виду мест-
ных жительниц. «Ни одной прилично одетой немки, безвкусица,
наводящая уныние».
Будто не умирать приехал, а поразвлечься. Ничего не боит-
ся... Ни о чем не жалеет... Ни в чем не раскаивается... А может,
просто не в чем раскаиваться? Когда-то, живя во Франции и вни-
мательно следя за делом Дрейфуса и за участием в этом деле Золя,
который, как писатель, был ему не слишком близок, он напи-
шет, что Золя умрет-де «с покойной или, по крайней мере, об-
легченной совестью».
Теперь пришел его час, и он тоже умирал со спокойной со-
вестью. Хотя... Хотя к нему вряд ли можно отнести написанное
им о героине «Скрипки Ротшильда»: «...Умирала и была рада,
что уходит навеки...» Куда уместней тут другой его пассаж, из
«Архиерея»: «...Всё же не все было ясно, чего-то еще недостава-
ло, не хотелось умирать...» Чего недоставало? Не фланелевого же
костюма!
149
Пять лет назад он написал («В овраге»), что, когда человек
мучается перед смертью, «грехи прощаются». Чехов не мучался.
Ну, одышка... Ну, слабость... Ну, расстройство желудка... Ко все-
му этому привык, а иных, более серьезных мучений не было —
как, надо полагать, не было и серьезных грехов. Может быть,
Чехов — самый безгрешный из всех русских писателей.
«Он переносил свою болезнь как герой, — написал позже
для «Русских ведомостей» наблюдавший его в Баденвейлере док-
тор Швёрер. — Со стоическим изумительным спокойствием
ожидал он смерти». Ожидал буквально со дня на день... Попро-
сив жену написать в берлинский банк, чтобы они выслали ос-
тающиеся там деньги, вдруг прибавил: «Вели прислать деньги
на твое имя». Она засмеялась, несколько нервно, этой стран-
делами. Чехов не стал спорить, он вообще не любил ввязываться
в дискуссии, молча, серьезно смотрел, как она выводит по-немец-
ки его имя, но когда деньги пришли, его уже не было в живых.
В последних строчках своего последнего—самого последнего —
письма из Баденвейлера он желает сестре Марии быть веселой.
То же — в других письмах. Он и сам был достаточно весел. «Даже
за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выду-
мывая один рассказ», — вспоминала впоследствии Книппер-Чехова.
мевался, понятно, Баденвейлер) — поваре, который в последнюю
минуту сбежал, оставив без ужина отдыхающих. «Я... от души
смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов
буду стоять перед телом Чехова».
Что напоминает это царящее у смертного одра или, говоря
пушкинскими словами, у «бездны мрачной на краю» безудерж-
ное, прямо-таки лихорадочное веселье?
Неизъяснимы наслажденья...
Далее у Пушкина упоминаются пенящиеся бокалы — появ-
ляется такой бокал в последнюю минуту и у Чехова. Шампанское
велел дать умирающему вызванный среди ночи доктор. В ответ
150
Чехов вежливо произнес по-немецки: «Я умираю...» (по-русски
доктор не понимал). «Потом, — пишет Книппер-Чехова, — взял
бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыб-
кой, сказал: «Давно я не пил шампанского...», покойно выпил все
до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».
Красивая смерть, ничего не скажешь. Вот только в последней
прижизненной редакции воспоминаний Ольги Леонардовны
то ли по воли автора, то ли по независящим от нее обстоятель-
ствам кое-что опущено. В письме к своей матери, большом, очень
обстоятельном письме, написанном по горячим следам, она рас-
сказывает, как до прихода врача пыталась положить лед на серд-
це умирающему, но он слабо отстранил ее руку и пробормотал:
«Пустому сердцу не надо».
Что означают эти слова? Бред? Да нет, Чехов до последнего
своего вздоха находился в ясном сознании, просто подчас он го-
ворил вещи, которые окружающие не сразу понимали. «Они
удивляли и врезались в память, — писал в некотором смятении
Станиславский. — Антон Павлович точно задавал шарады, от ко-
торых не отделаешься до тех пор, пока их не разгадаешь».
Удастся ли разгадать когда-нибудь эту его шараду? Вряд ли...
Разве что припомнить, что все последние годы он носил с собой
брелок с надписью «Одинокому весь мир пустыня». А еще мож-
но предположить, что «пустое сердце» — это сердце без Бога.
Хотя, возможно, в последний миг, в самый последний (или —
кто знает! — в первое мгновенье после), оно уже пустым не было.
Посещение состоялось.
СОДЕРЖАНИЕ
гоголь.
Талызинский особняк___________________________ 7
ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
Арзамасский ужас______________________________5 3
ЧЕХОВ.
Посещение Бога________________________________105
Руслан Тимофеевич Киреев
Великие смерти
Редактор А. М. Разумихин
Художественный редактор Е. Г. Земцова
Телефакс (095) 207-78-43. http://globules.enas/ru
Тел./факс (095) 113-53-90,234-71-82. E-mail: adres@enas.ru http://www.enas.ru
Руслан Киреев
(1941)
известный прозаик,
публицист.
Автор около пятидесяти книг,
переведенных на многие
языки мира, лауреат ряда
престижных премий.
Его романы «Победитель»,
«Подготовительная тетрадь»,
«Мои люди»
не раз становились объектом
бурных критических
баталий.
Его произведения
экранизируют,
по ним ставят
телевизионные спектакли,
о них пишут
дипломные работы,
кандидатские и докторские
диссертации.
Особая страница творчества
Р. Киреева —
литературно-критические
работы, в том числе
Сервантесе, Стерне.
Профессор, преподает
в Литературном институте
им. М. Горького.
ВСЕГО И НАДО, ЧТО ВЧИТАТЬСЯ, -БОЖЕ МОЙ,
ВСЕГО И ДЕЛА, ЧТО ПОМЕДЛИТЬ НАД СТРОКОЮ -
НЕ ПРОЛИСТНУТЬ НЕТЕРПЕЛИВОЮ РУКОЮ,
А ЗАДЕРЖАТЬСЯ, ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕЧЕСТЬ.
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ