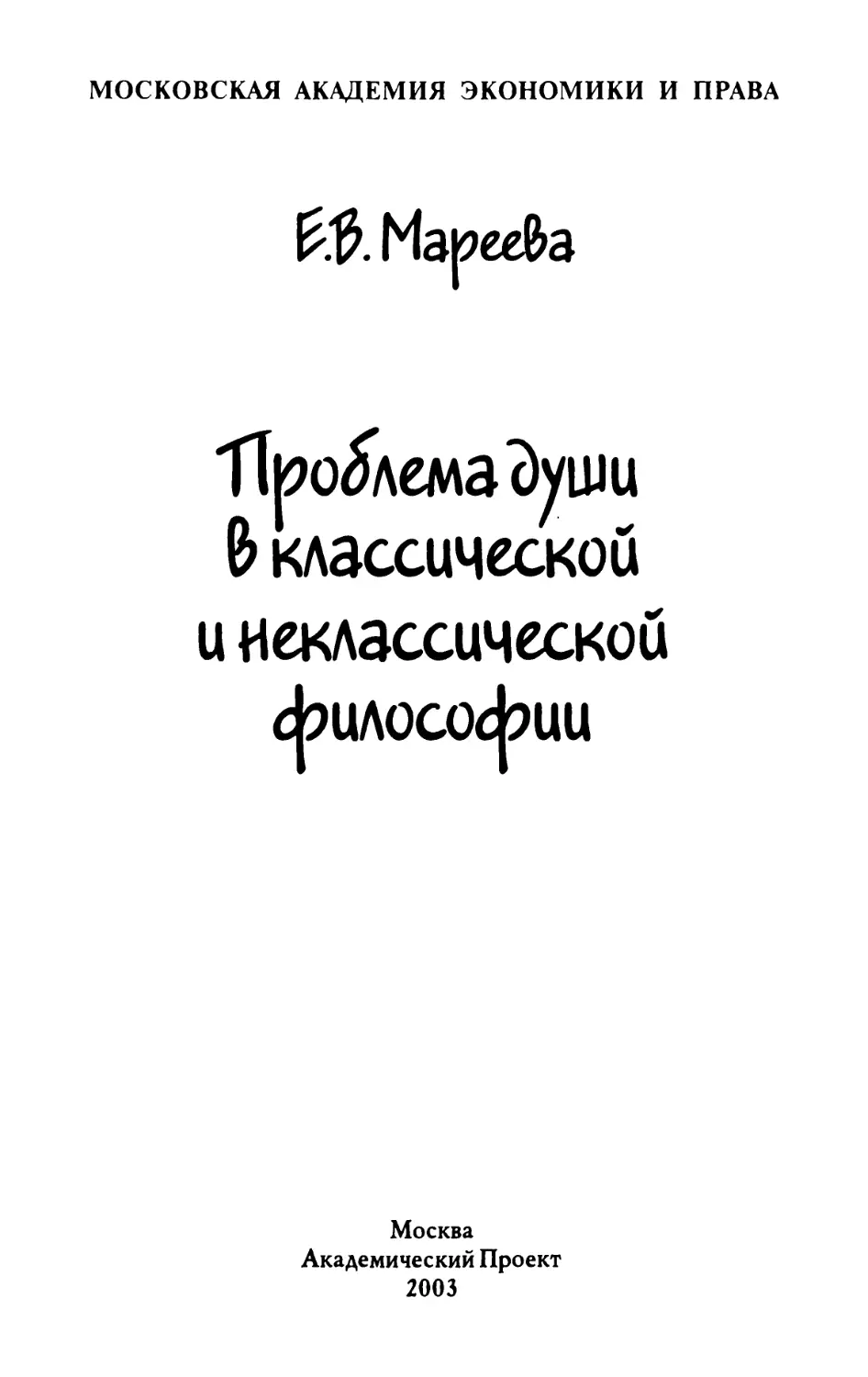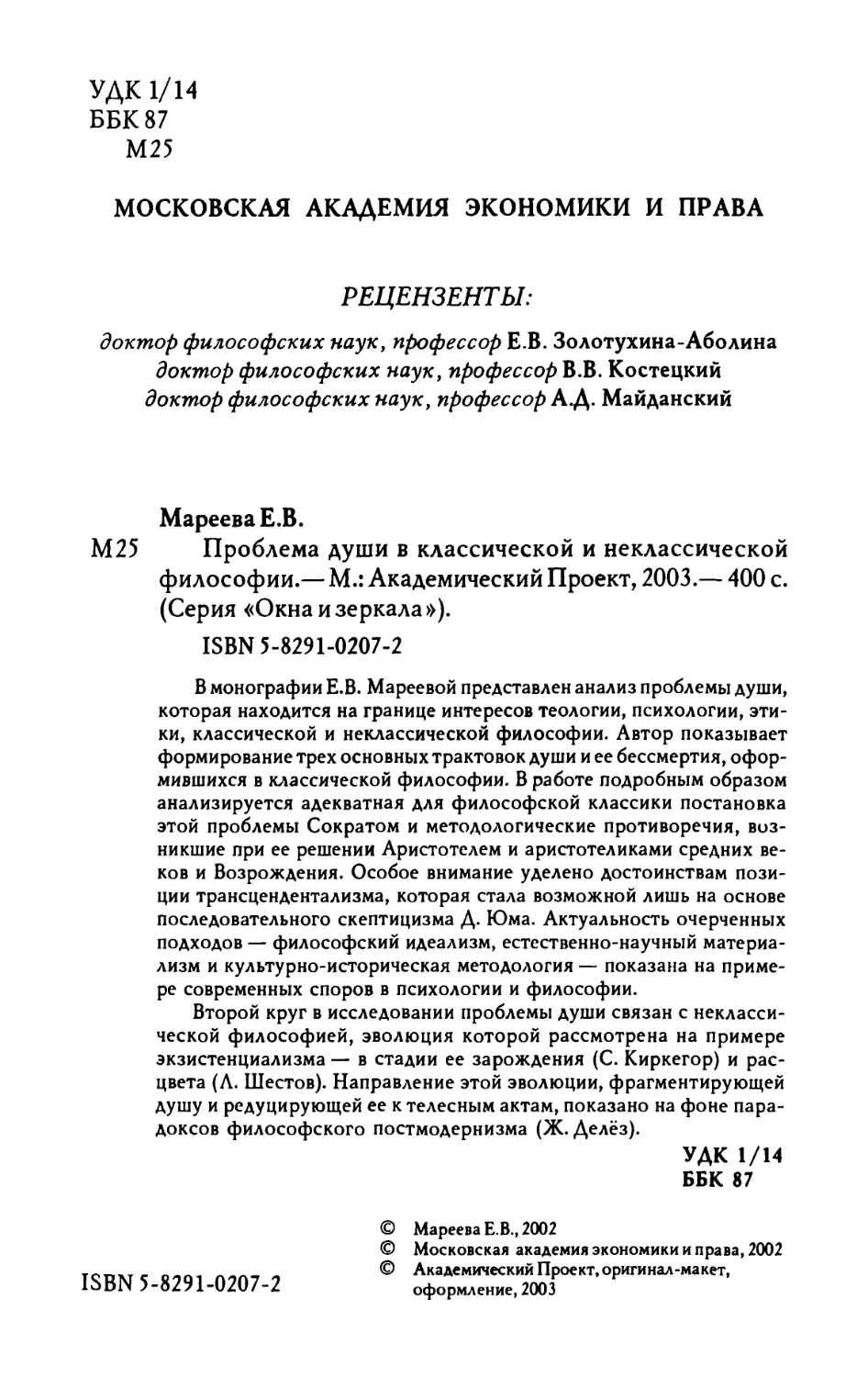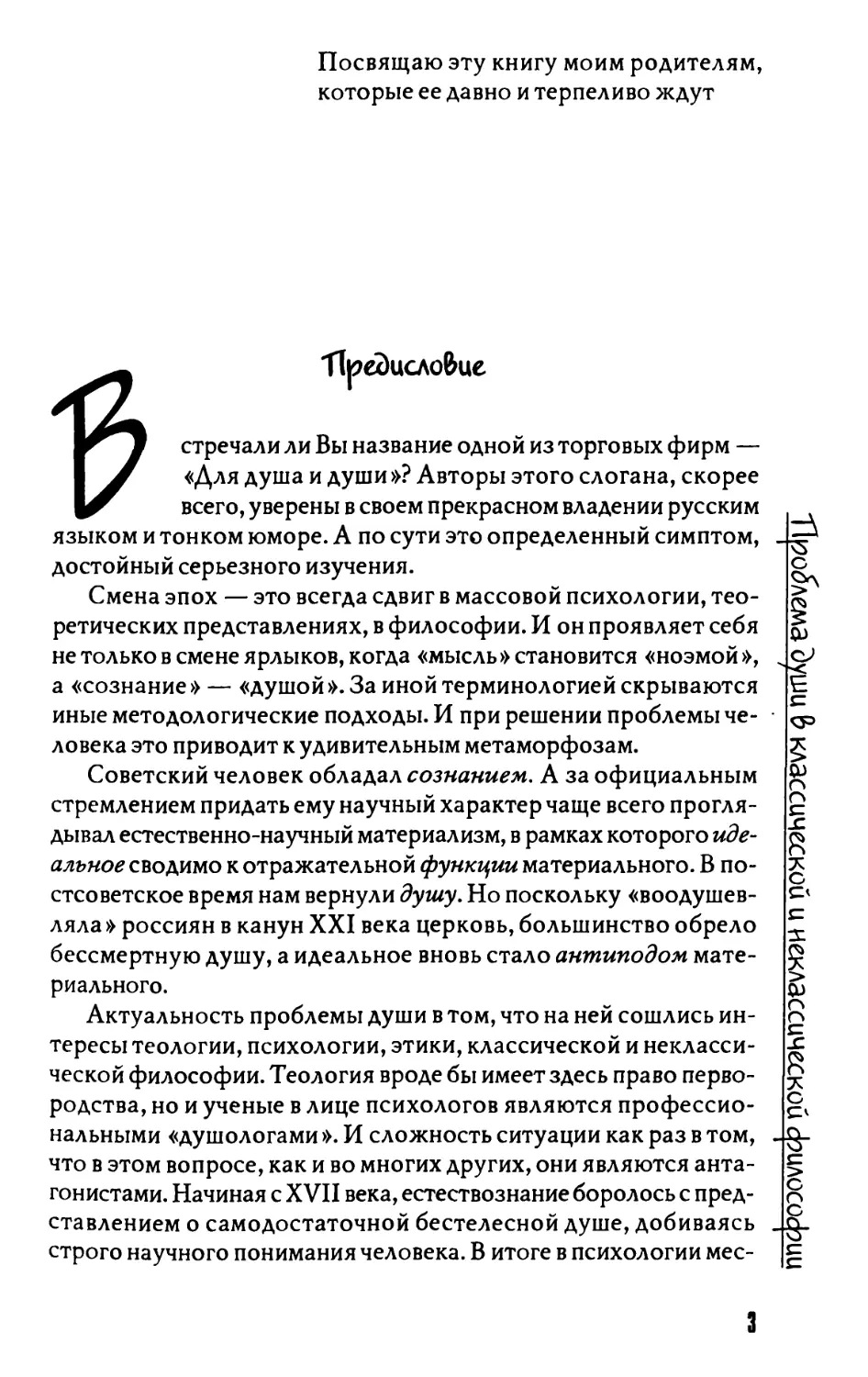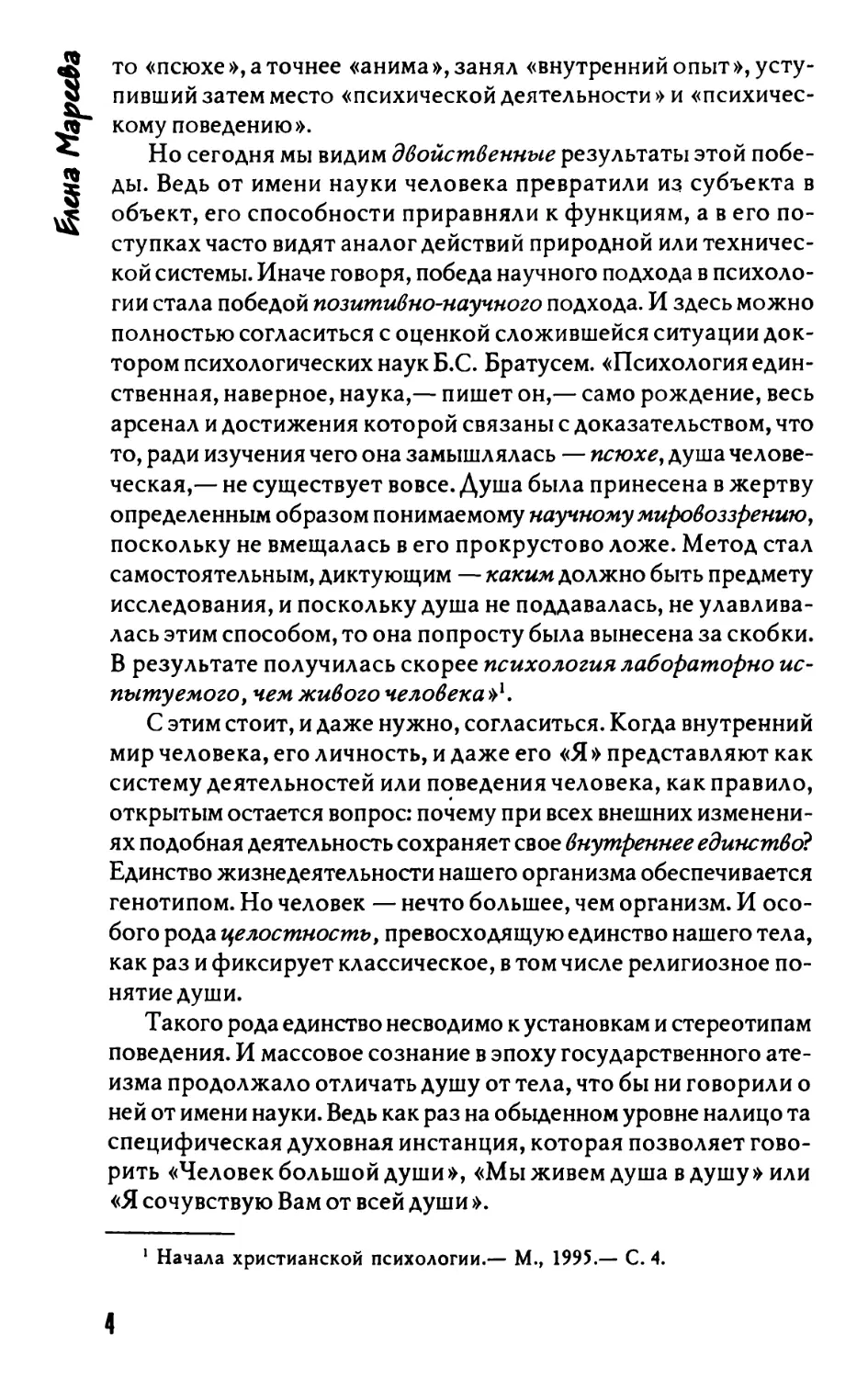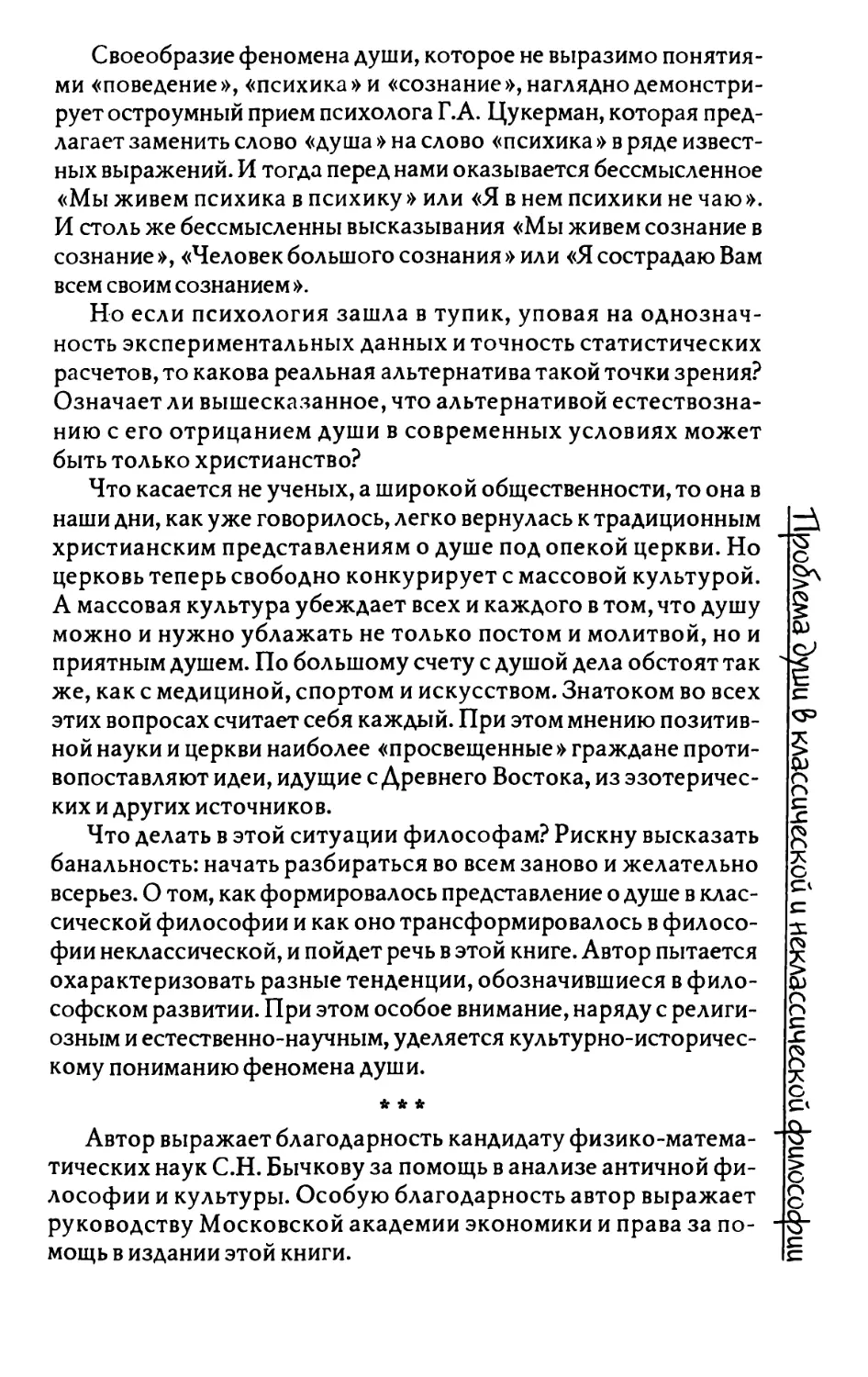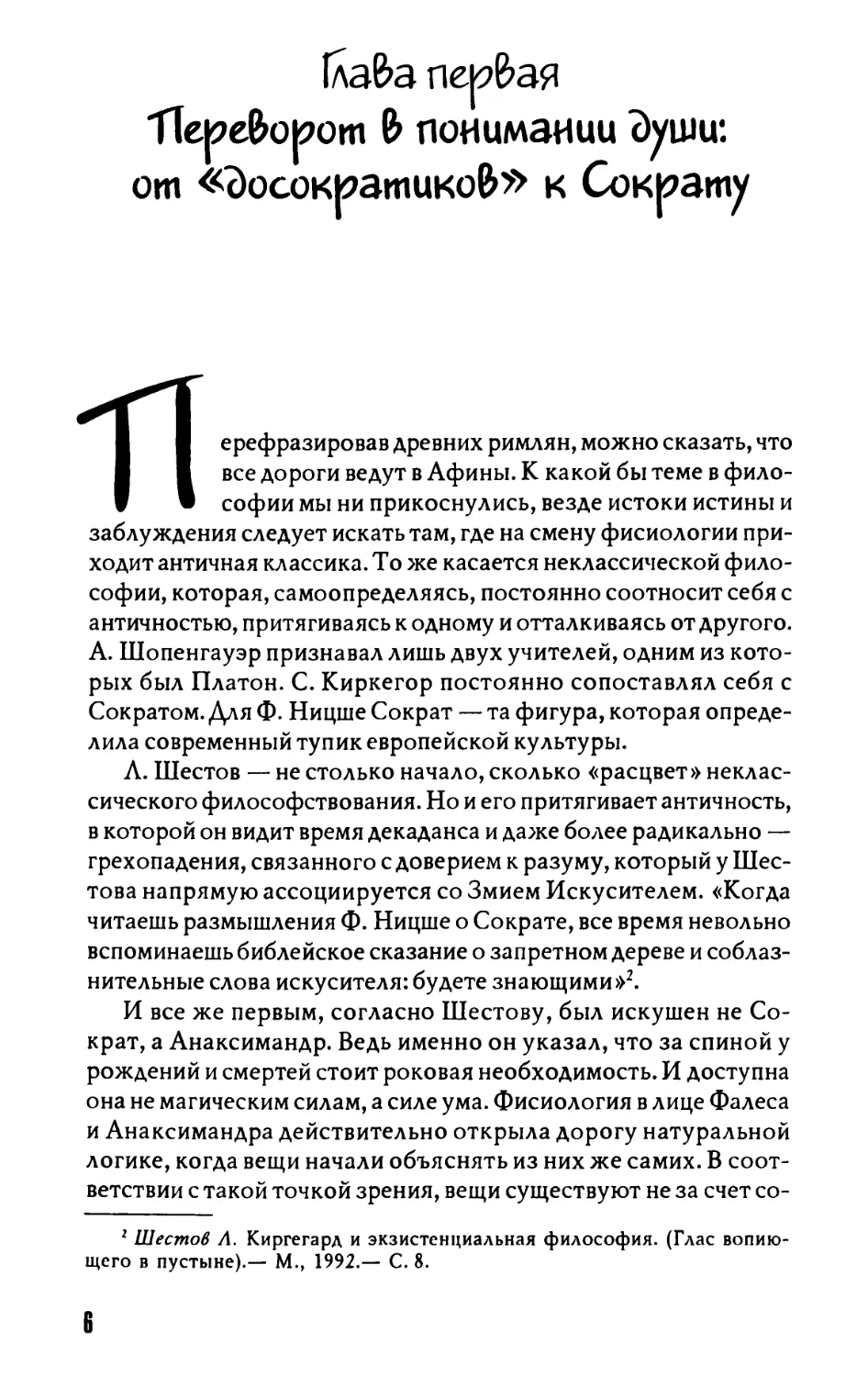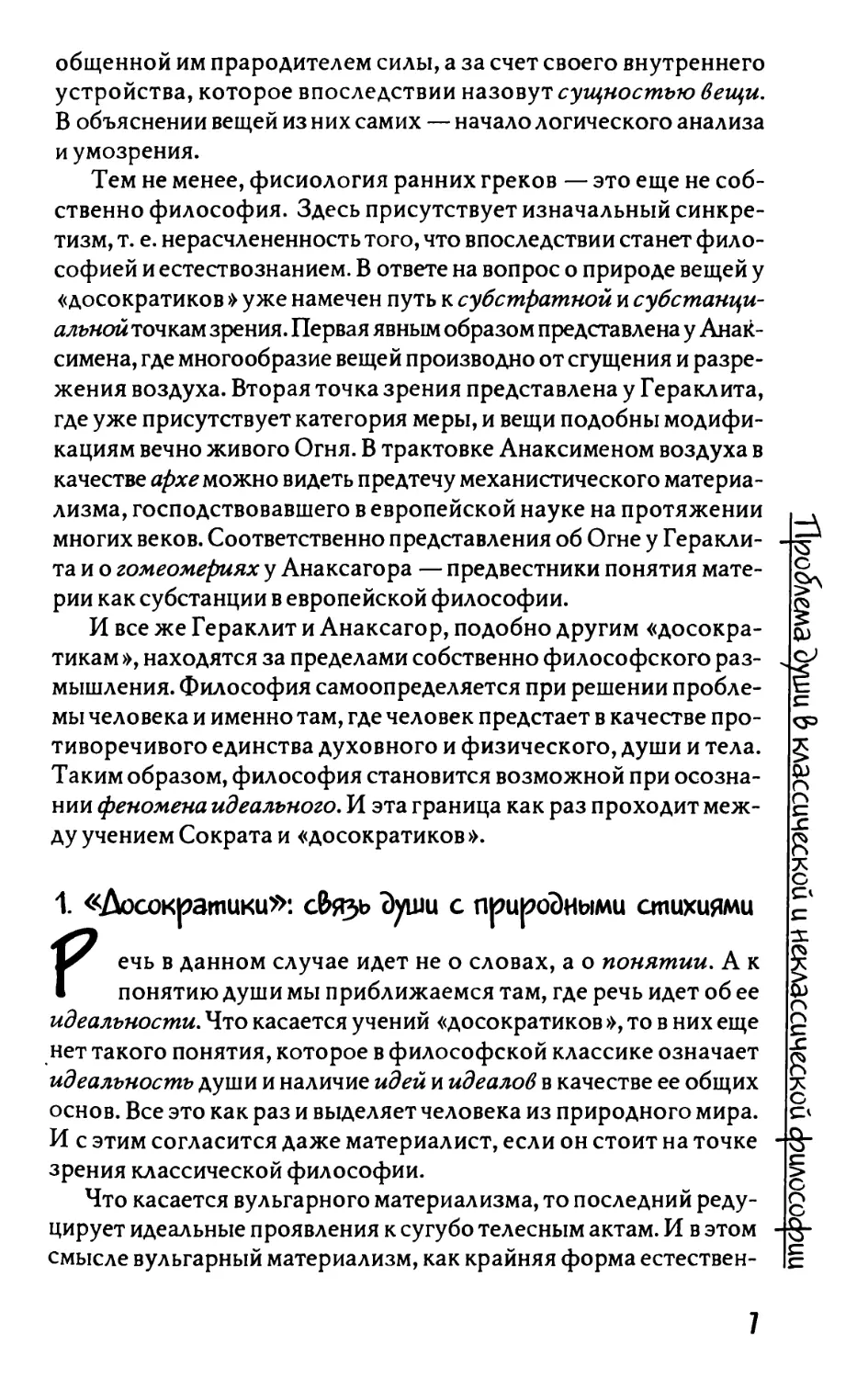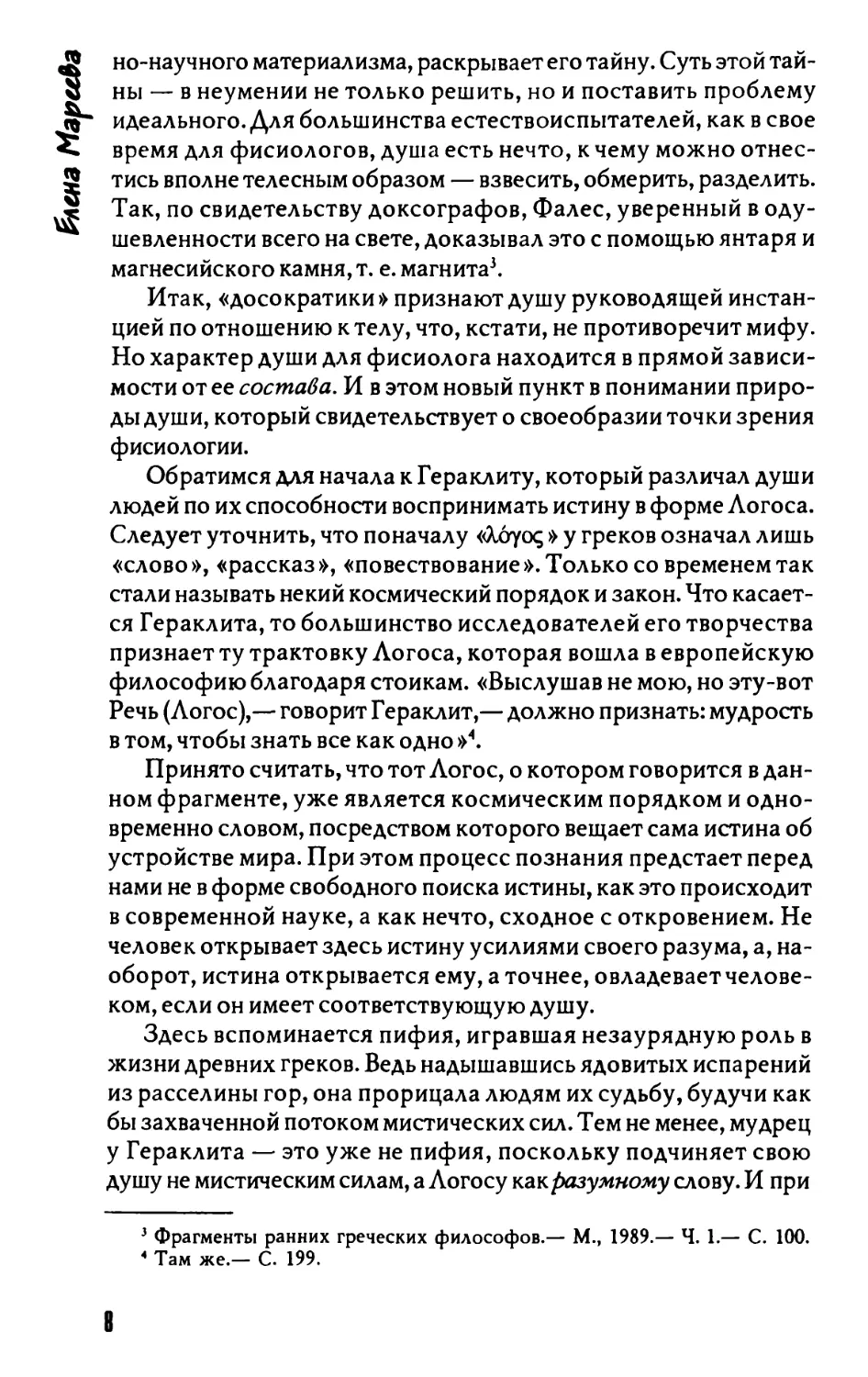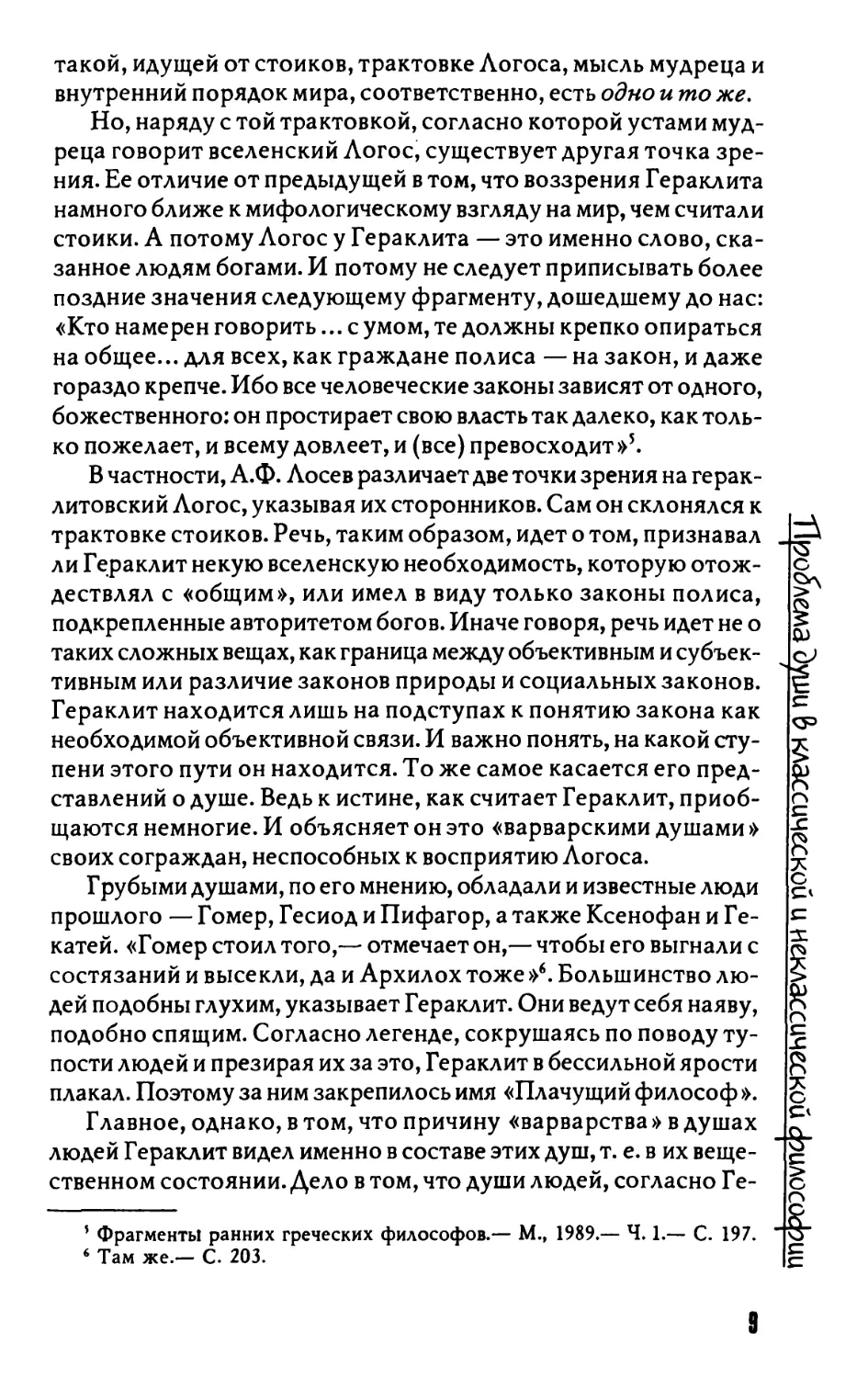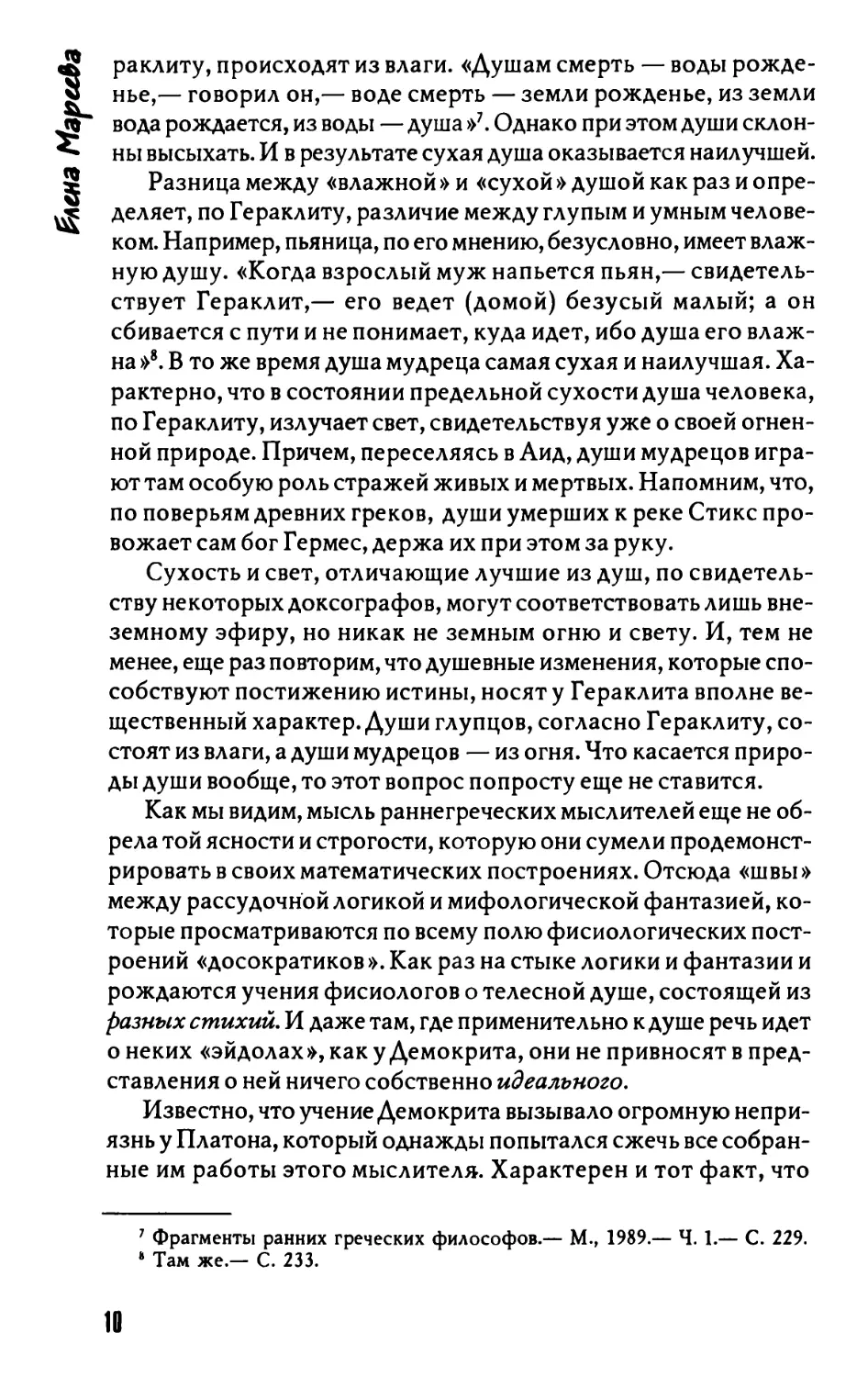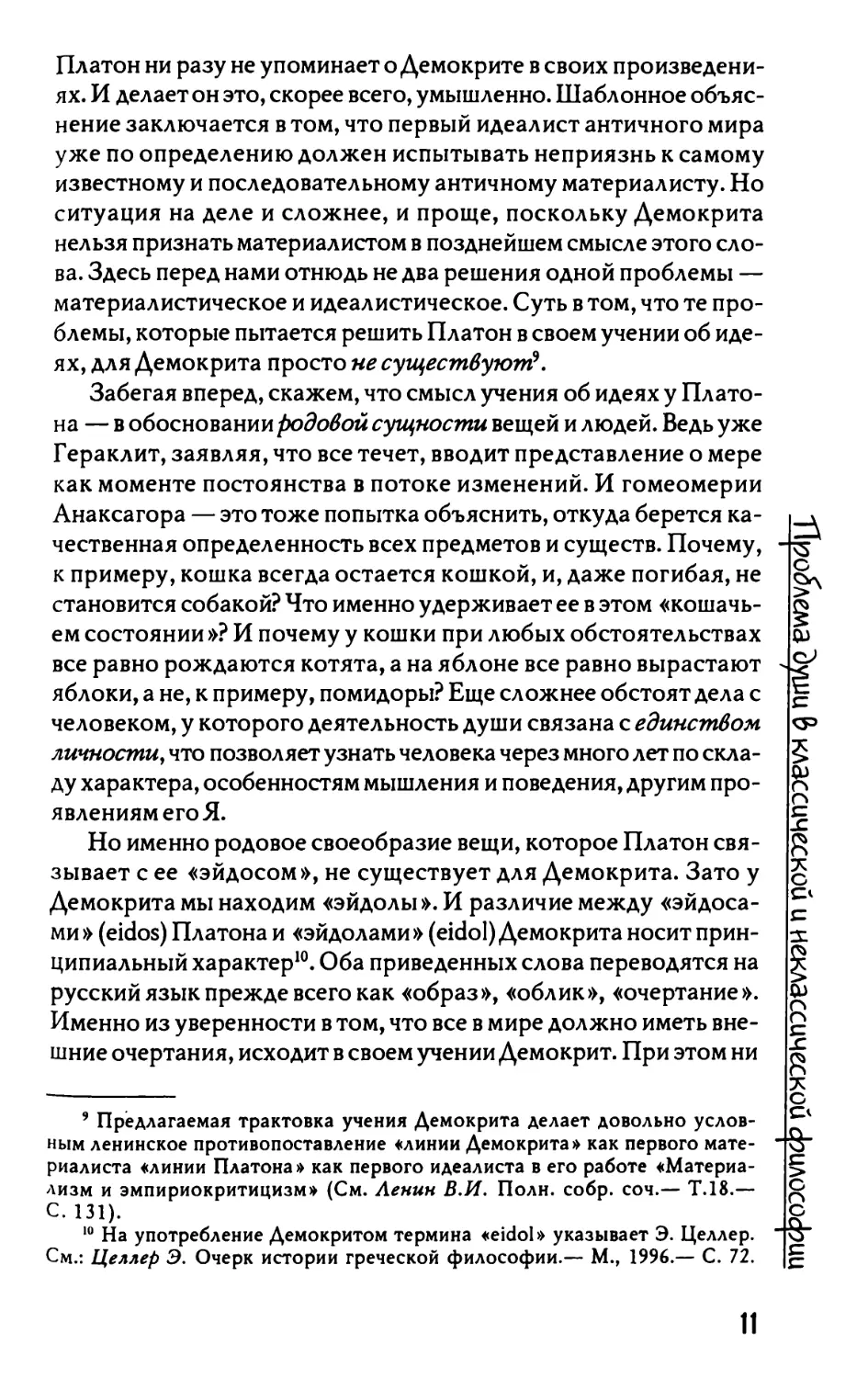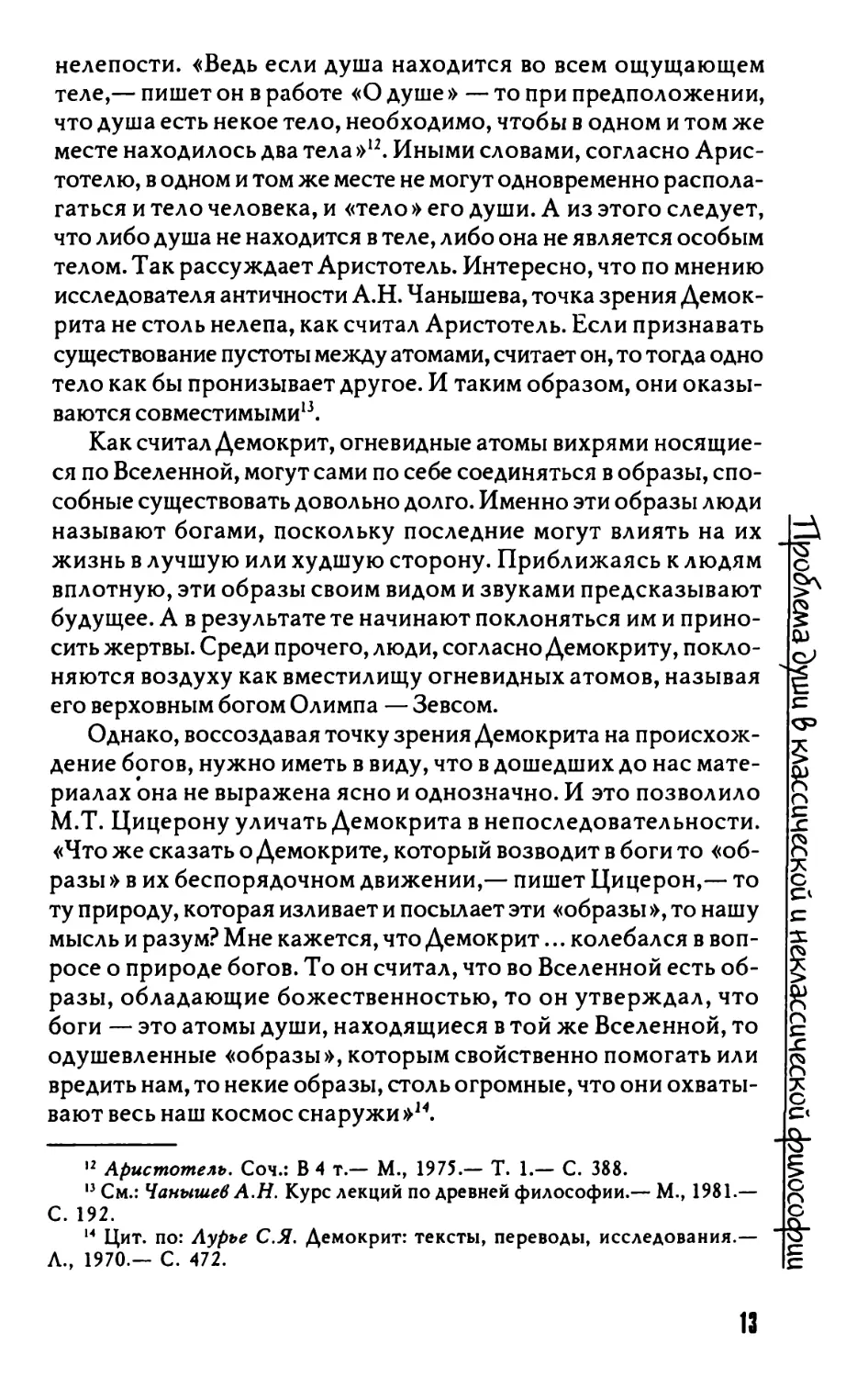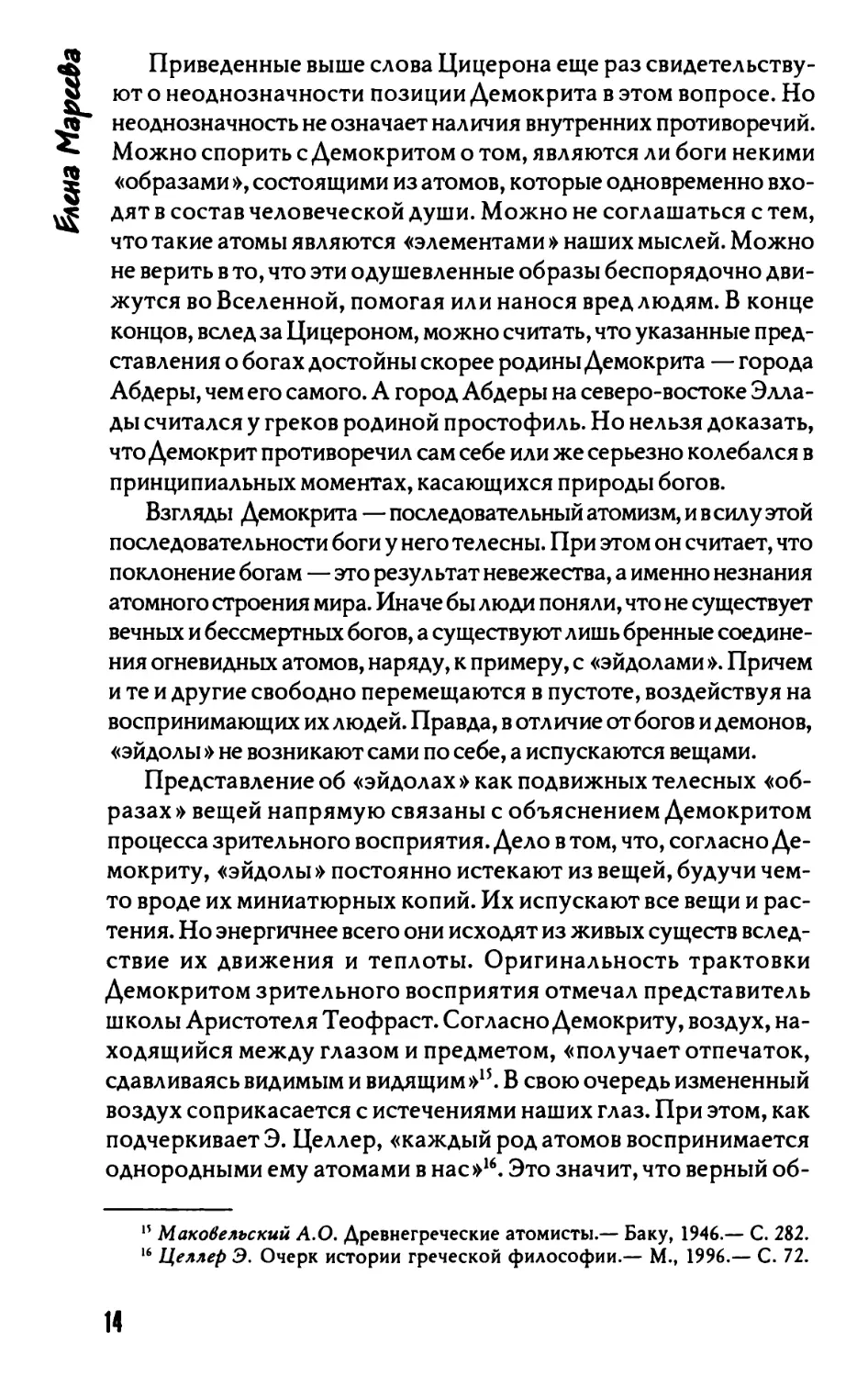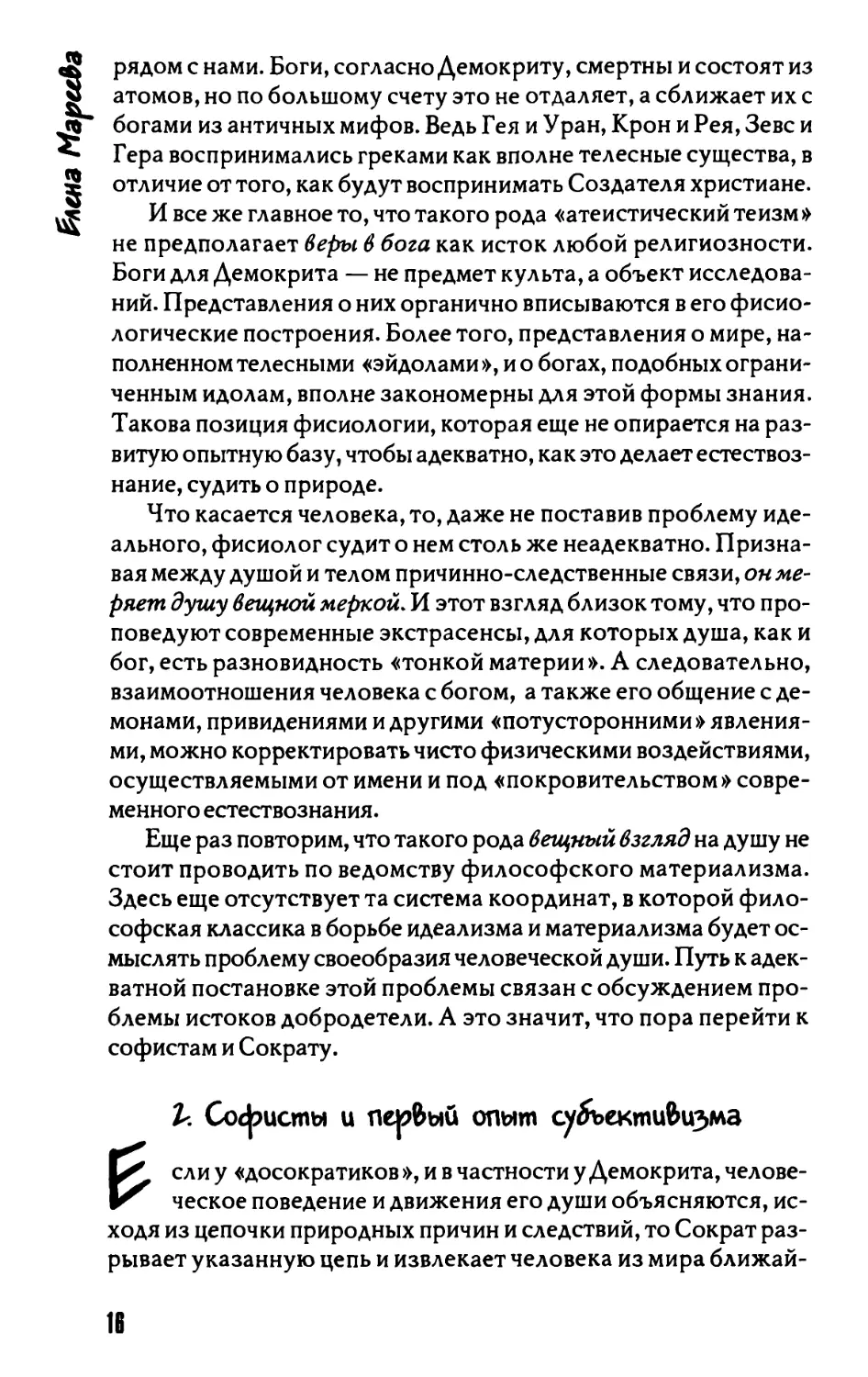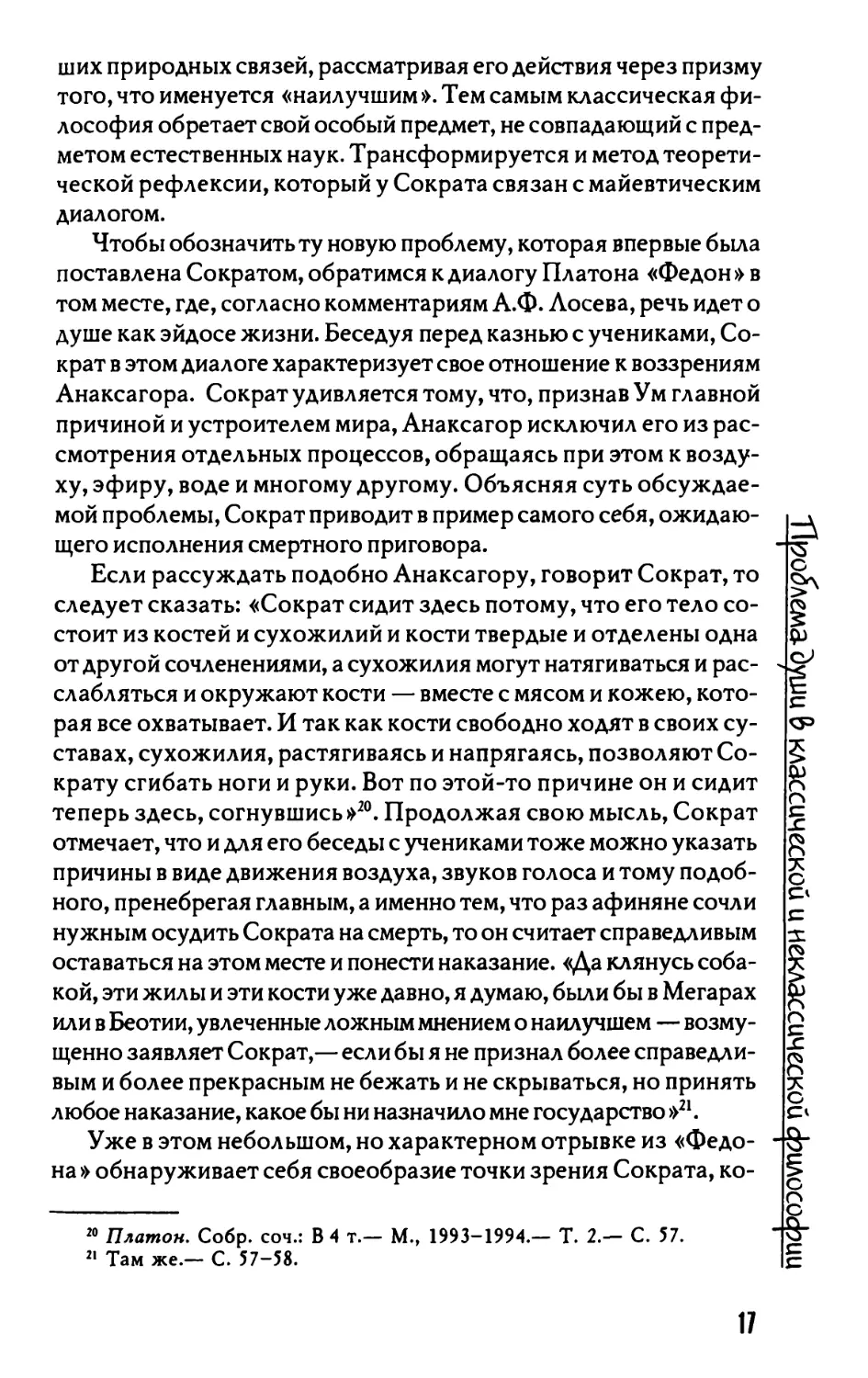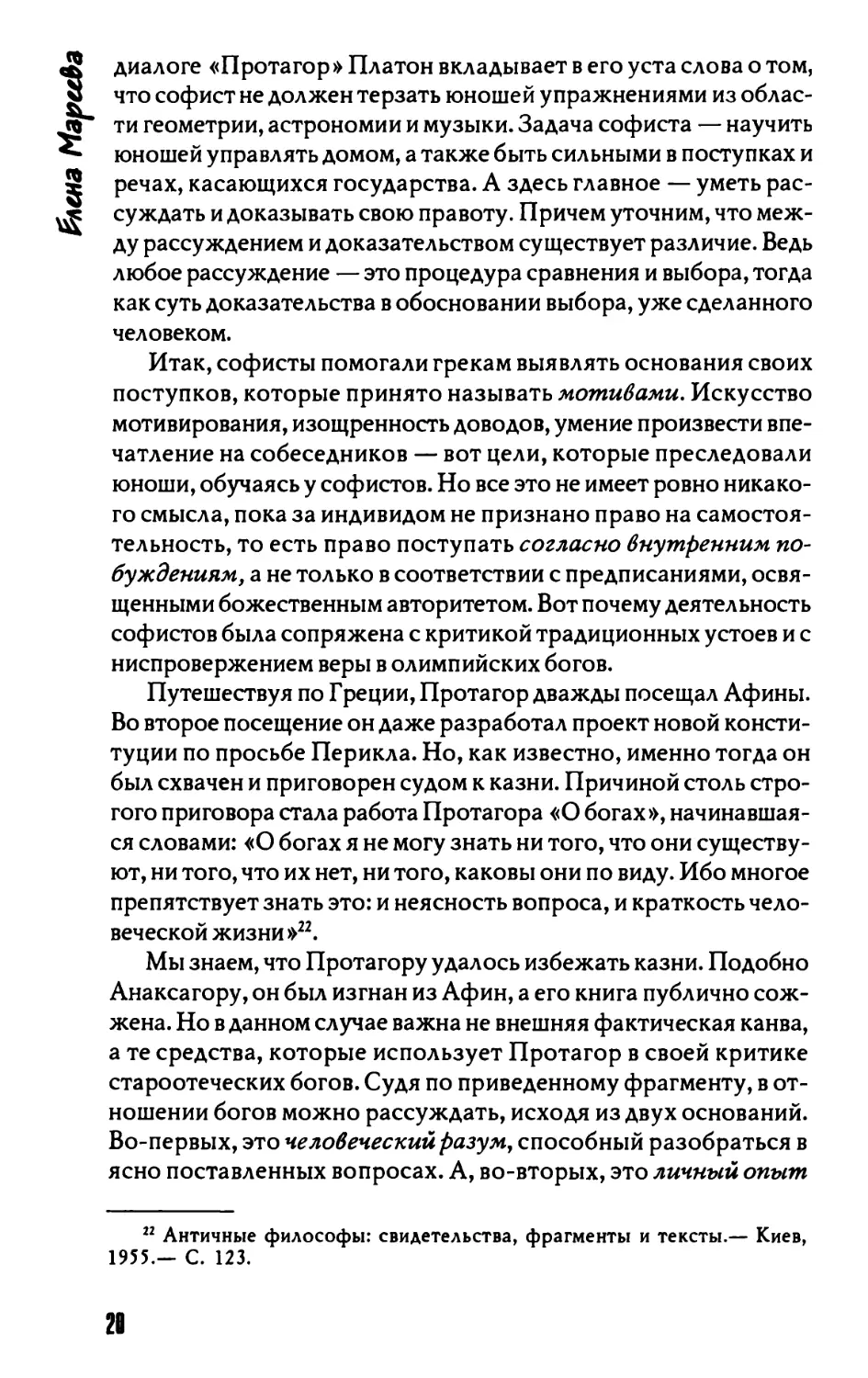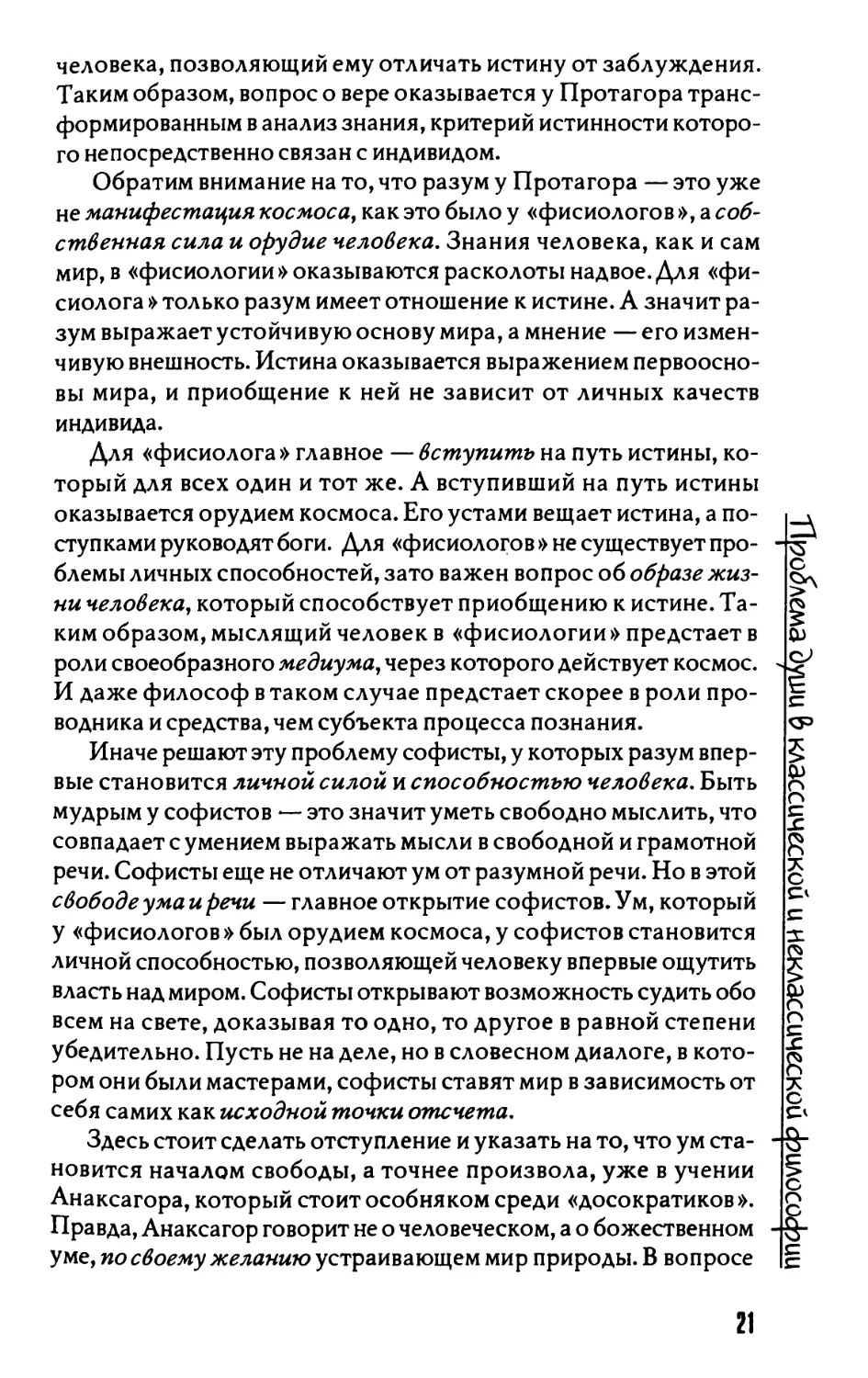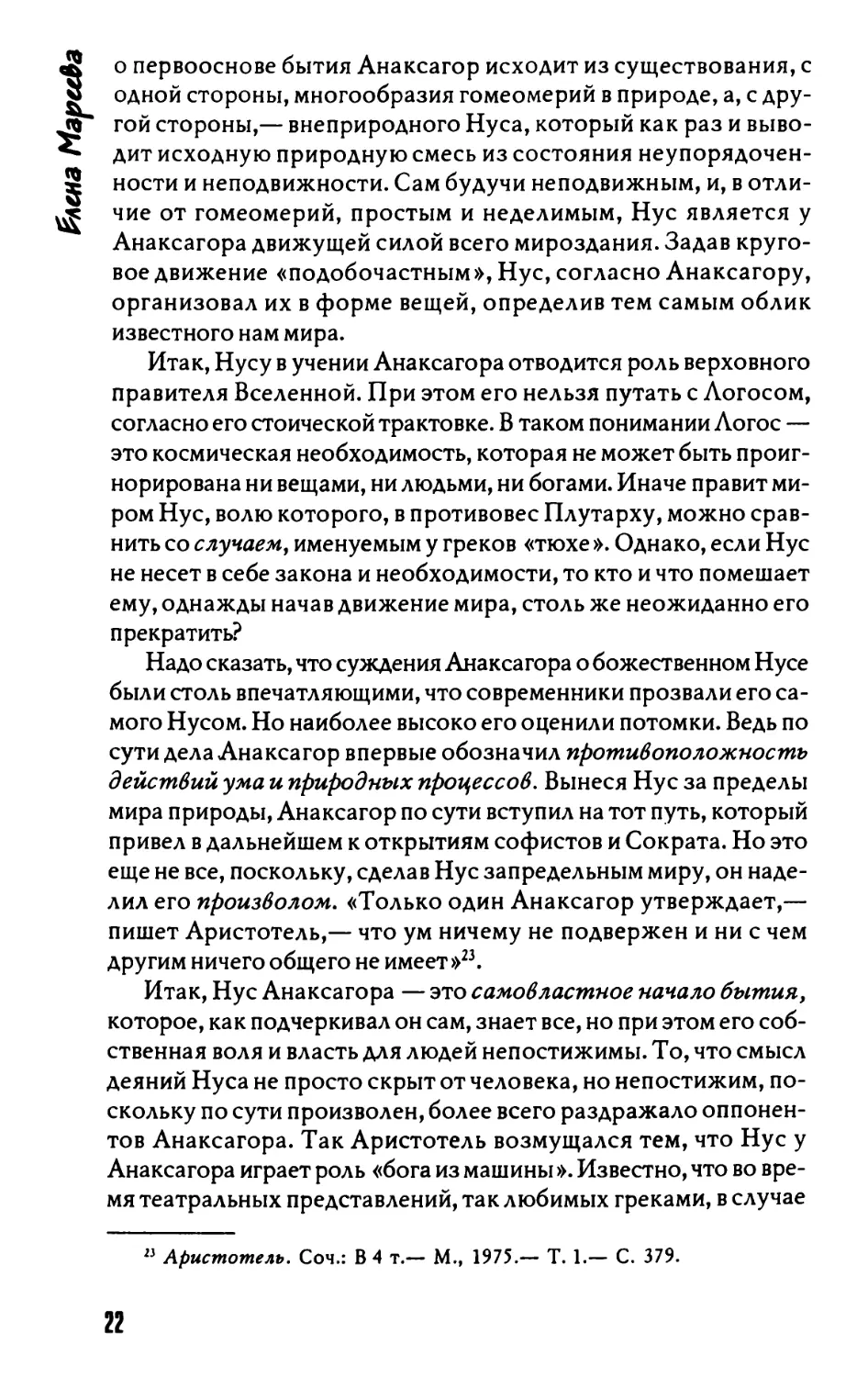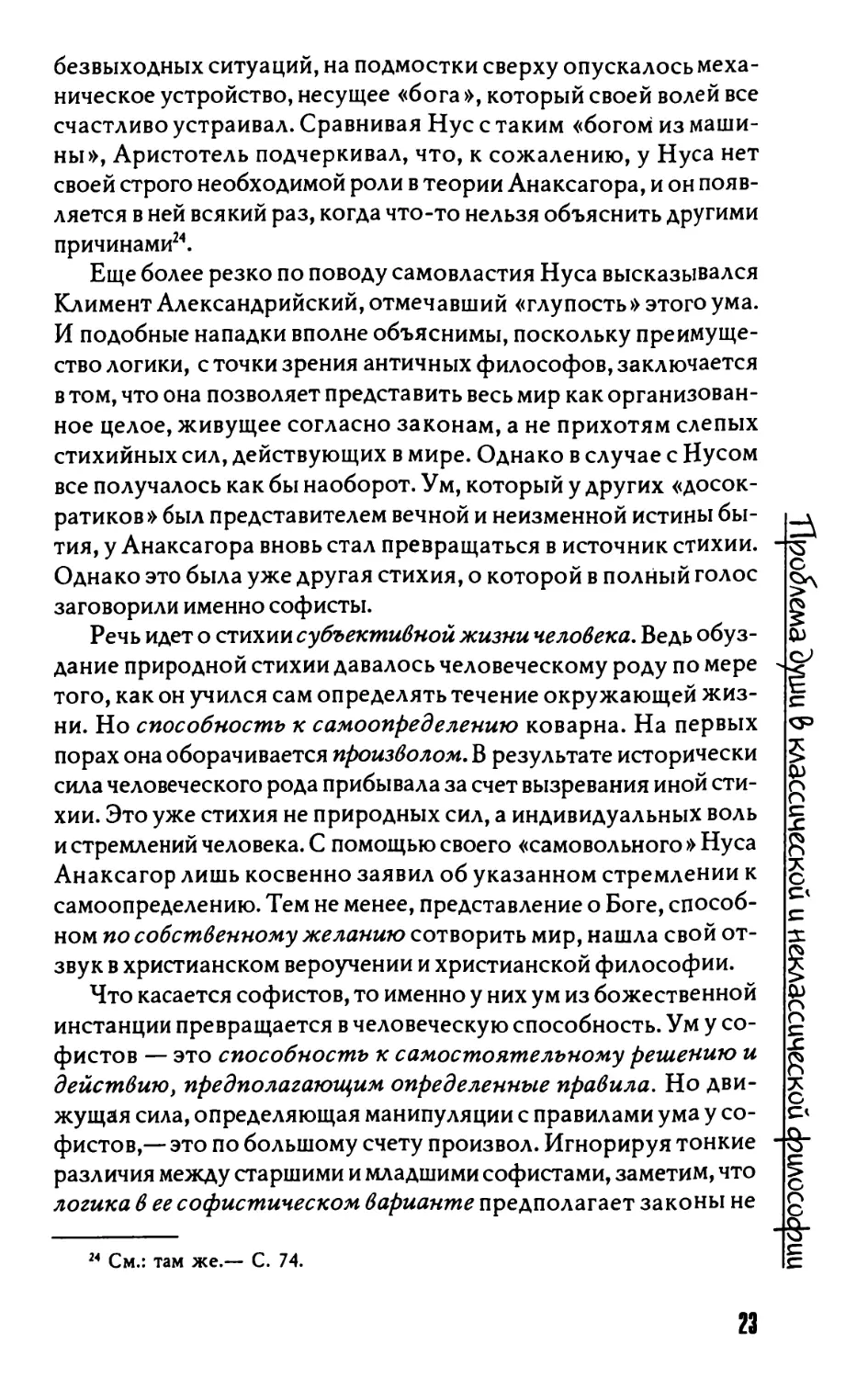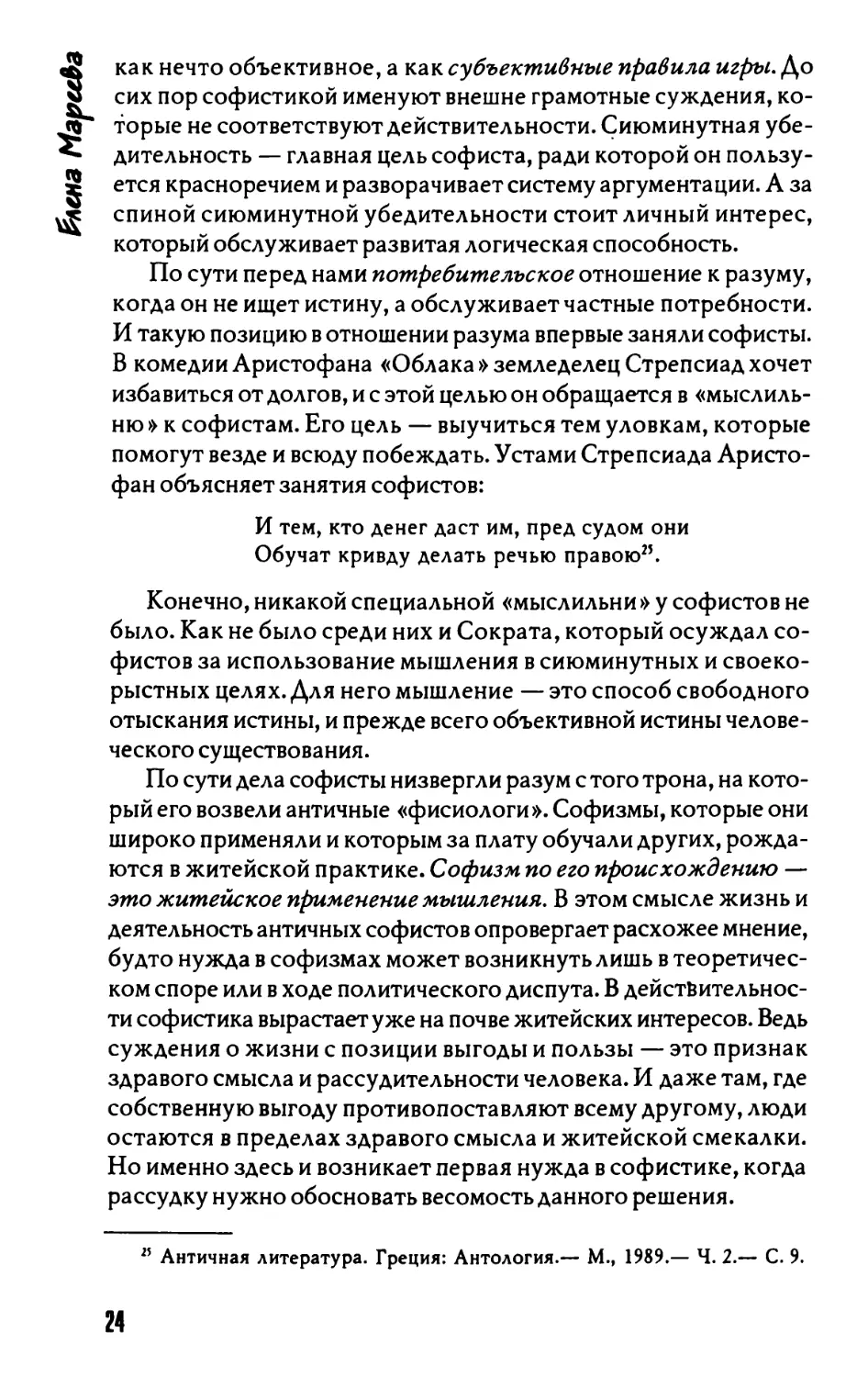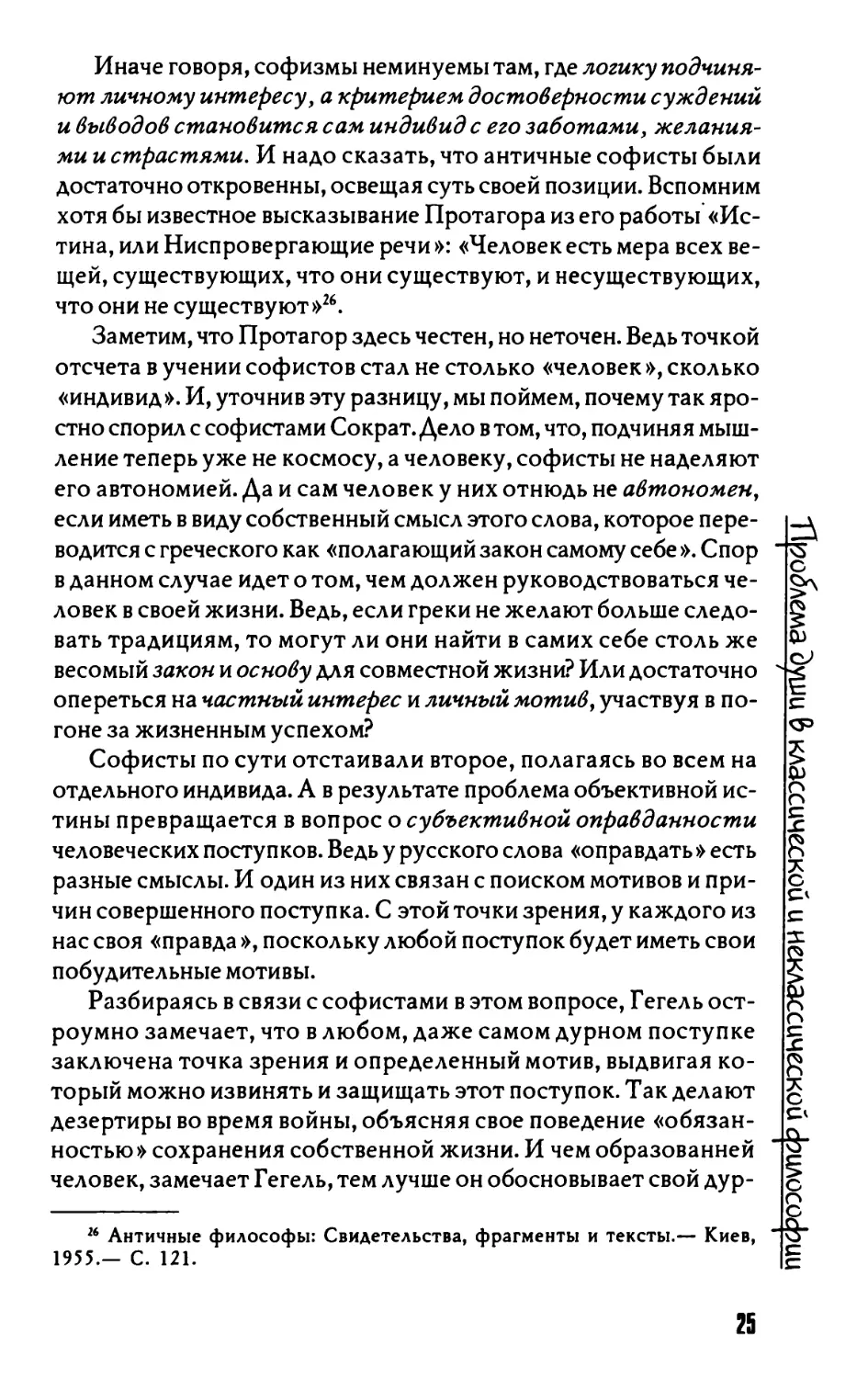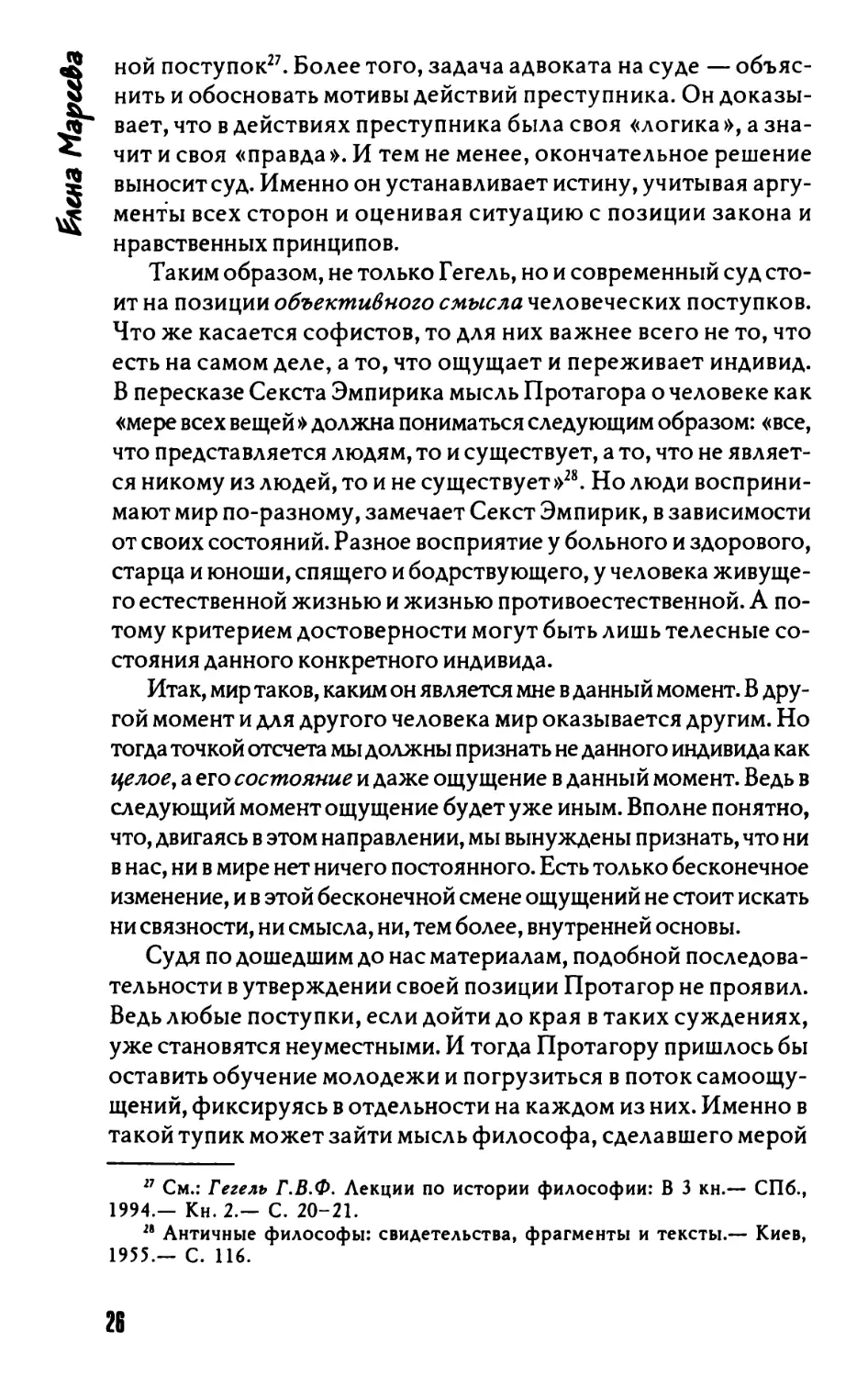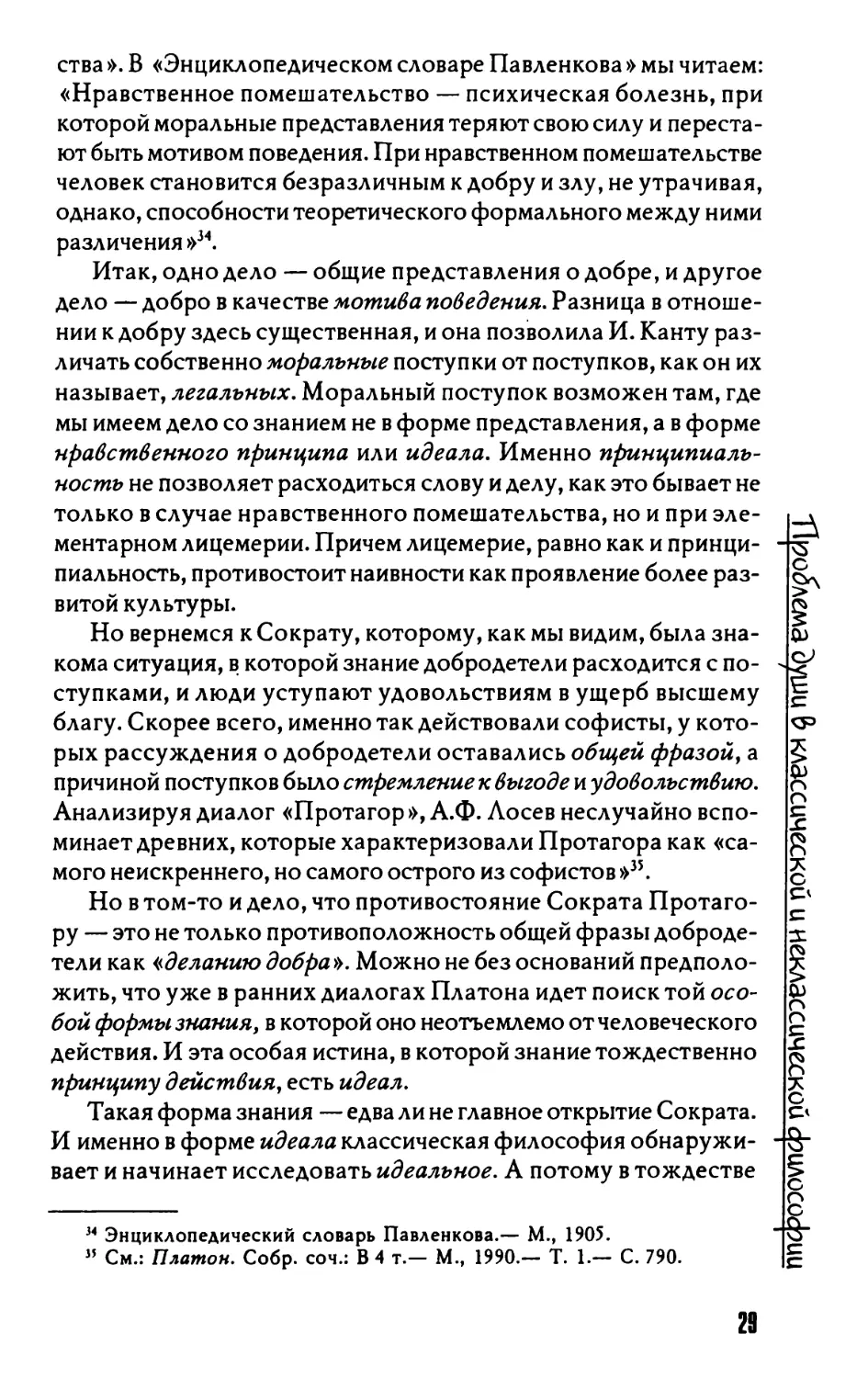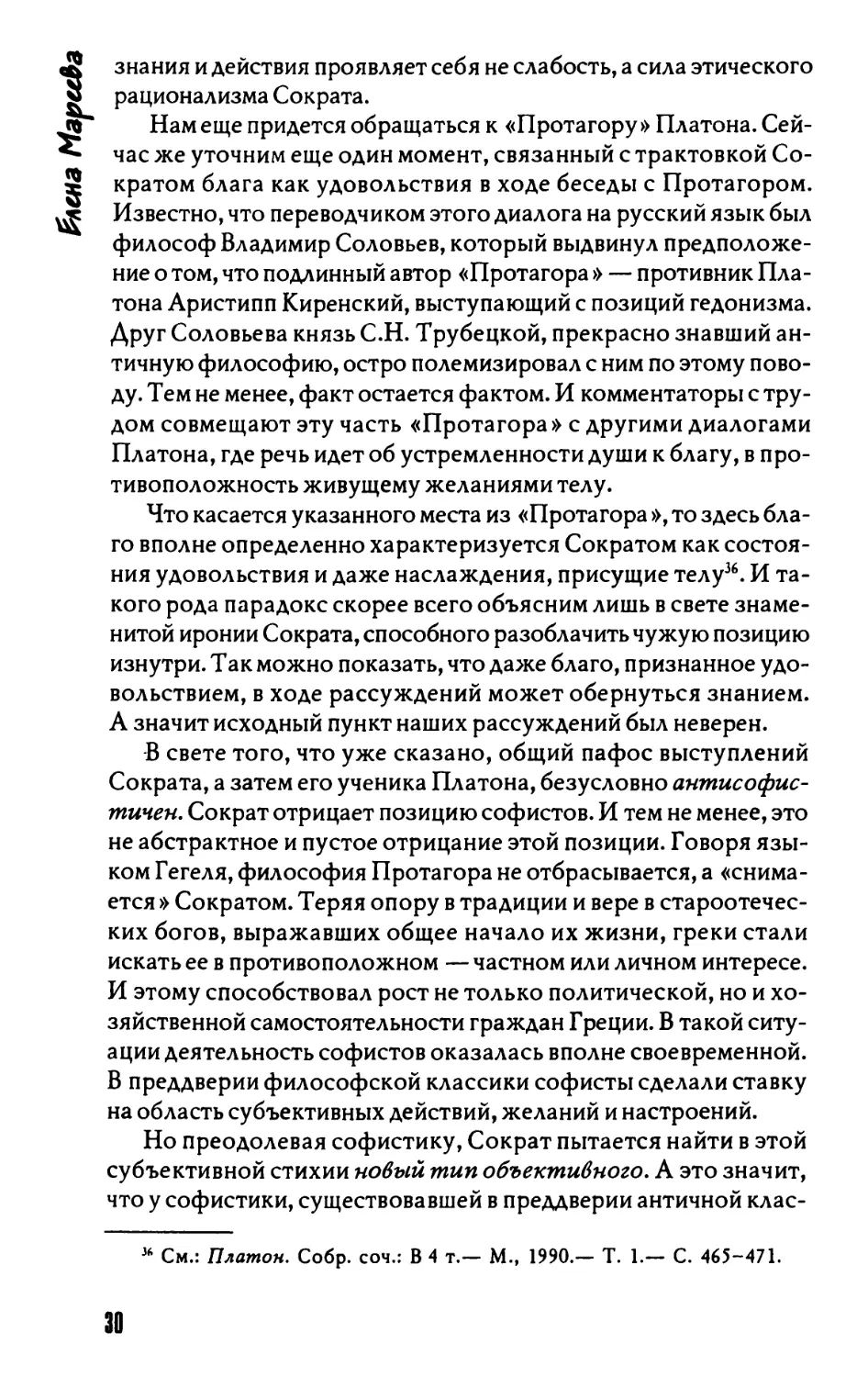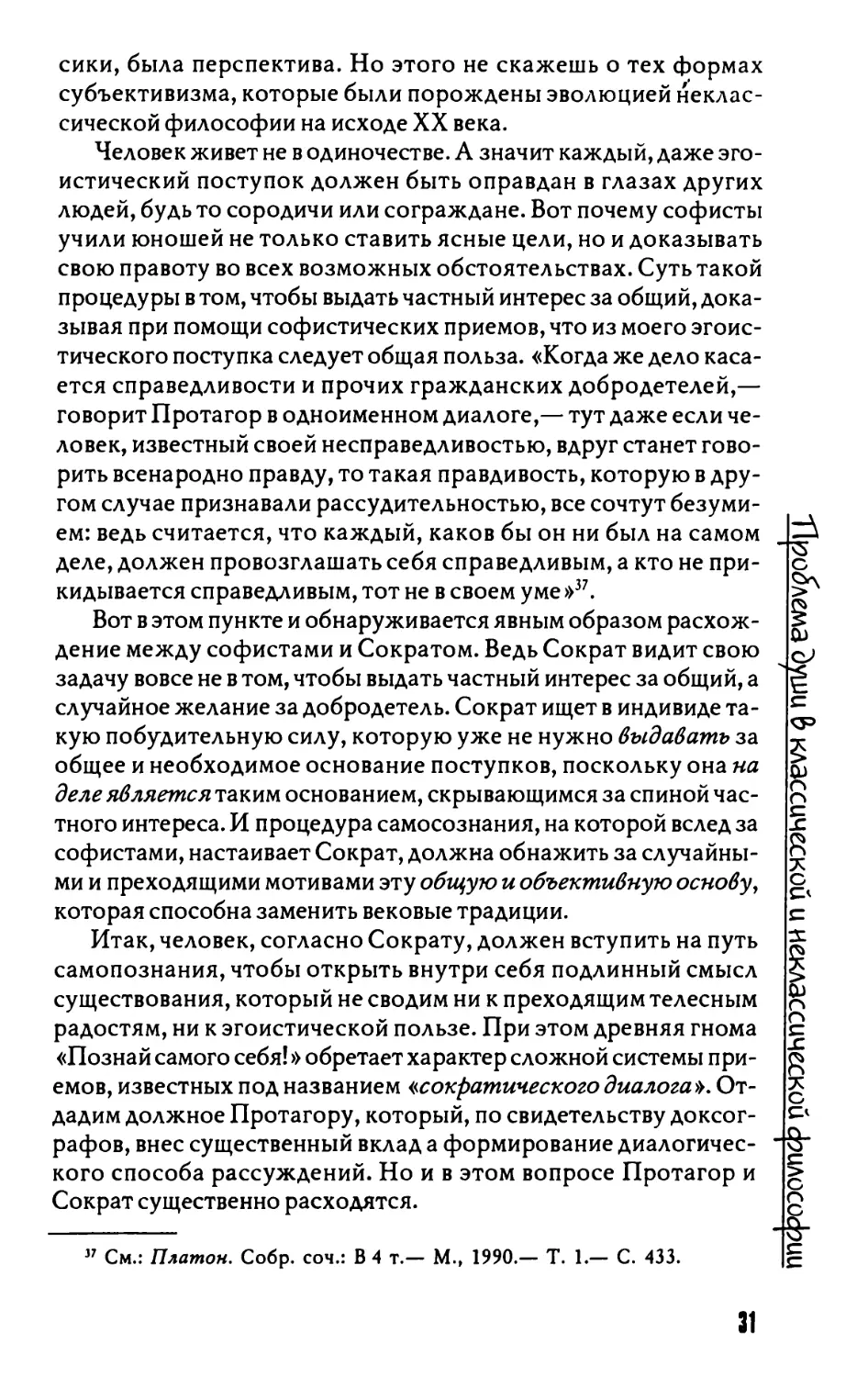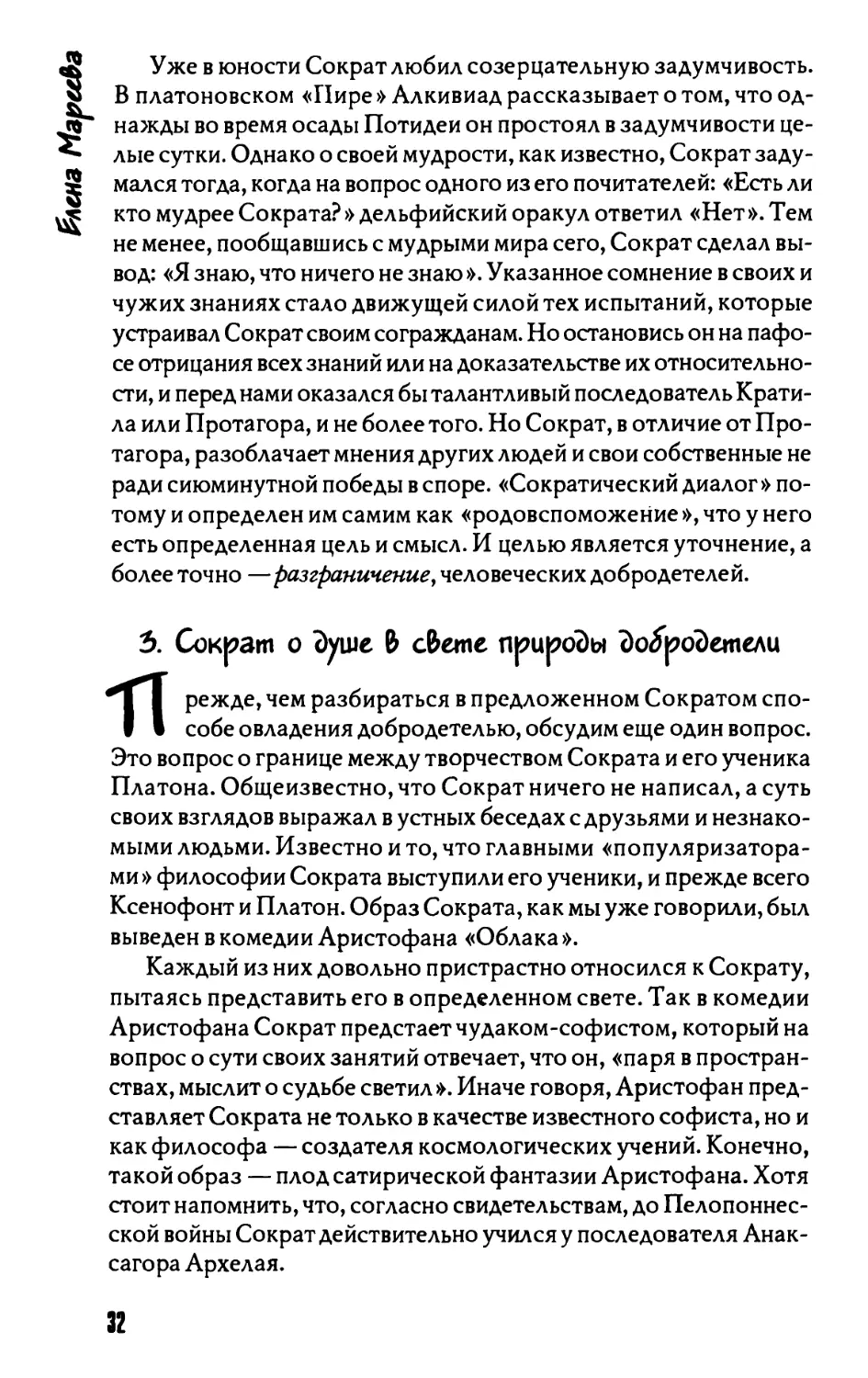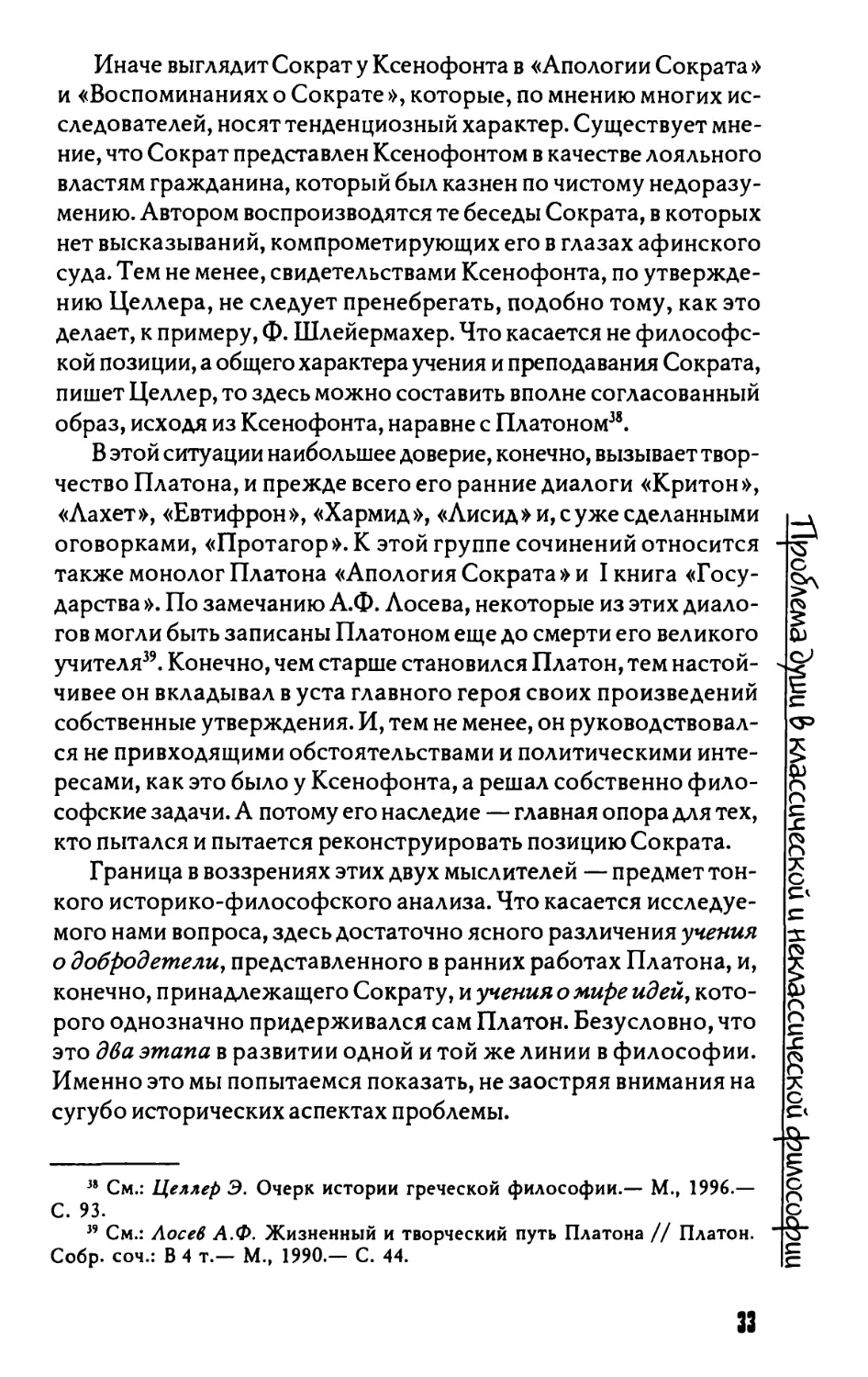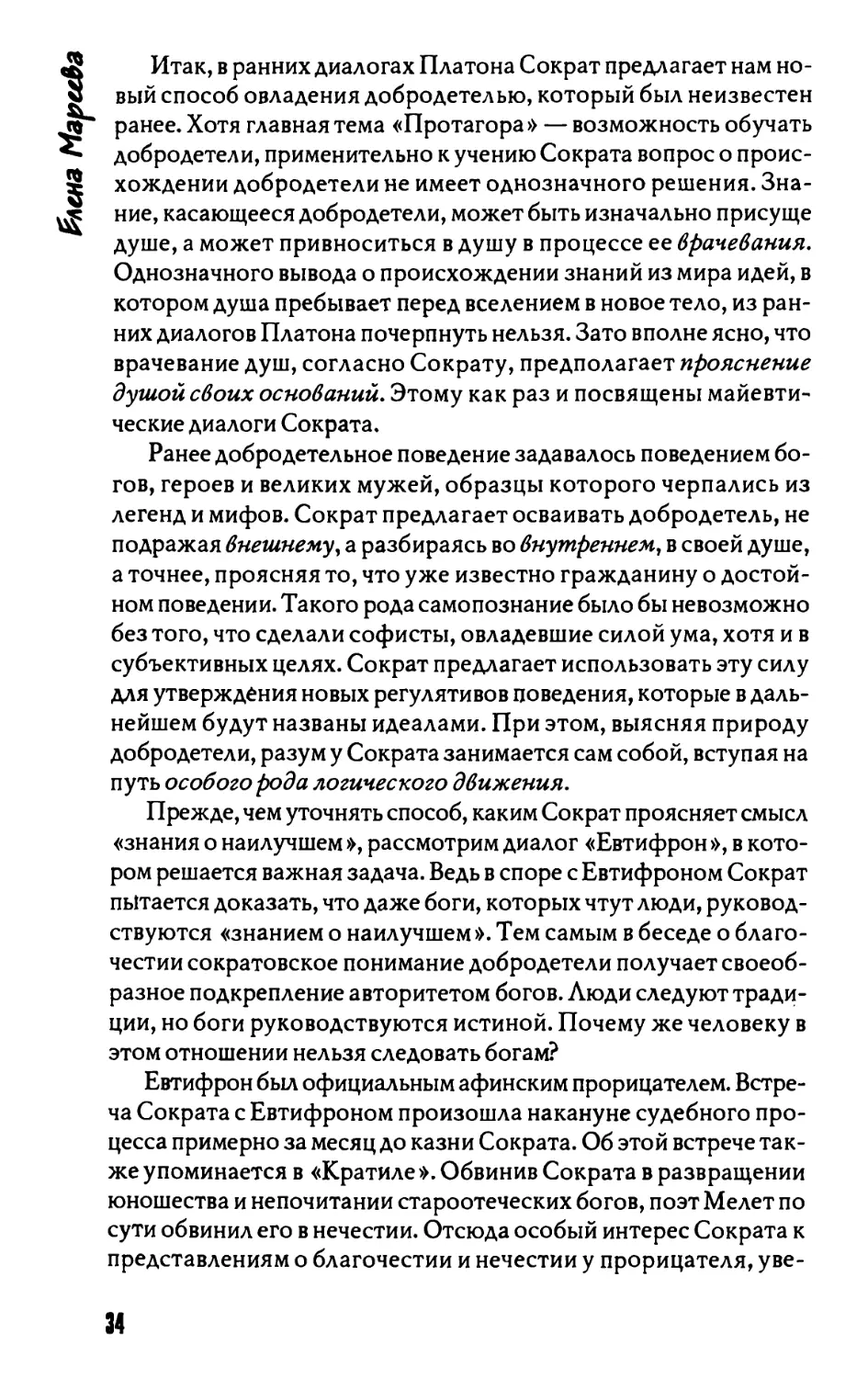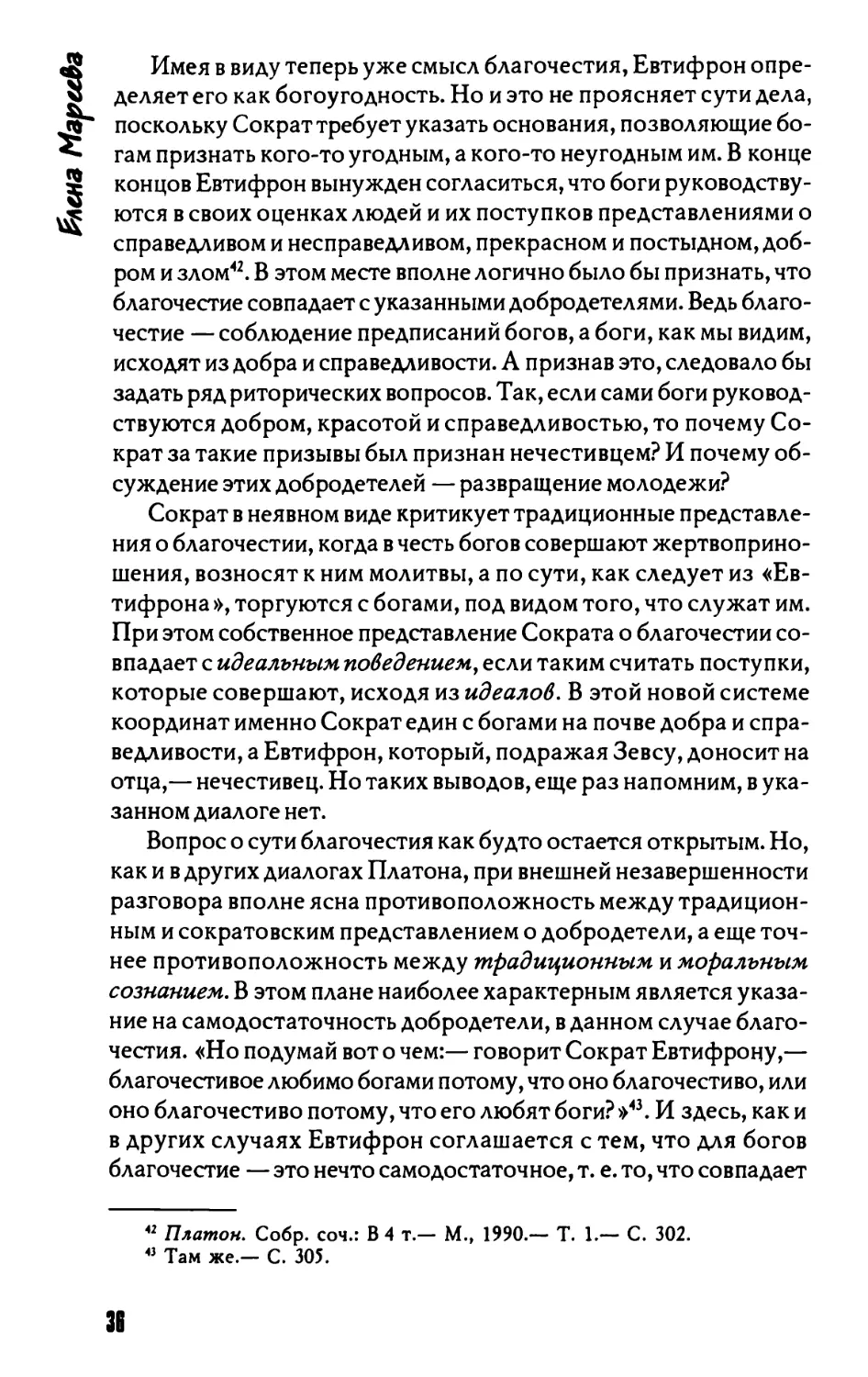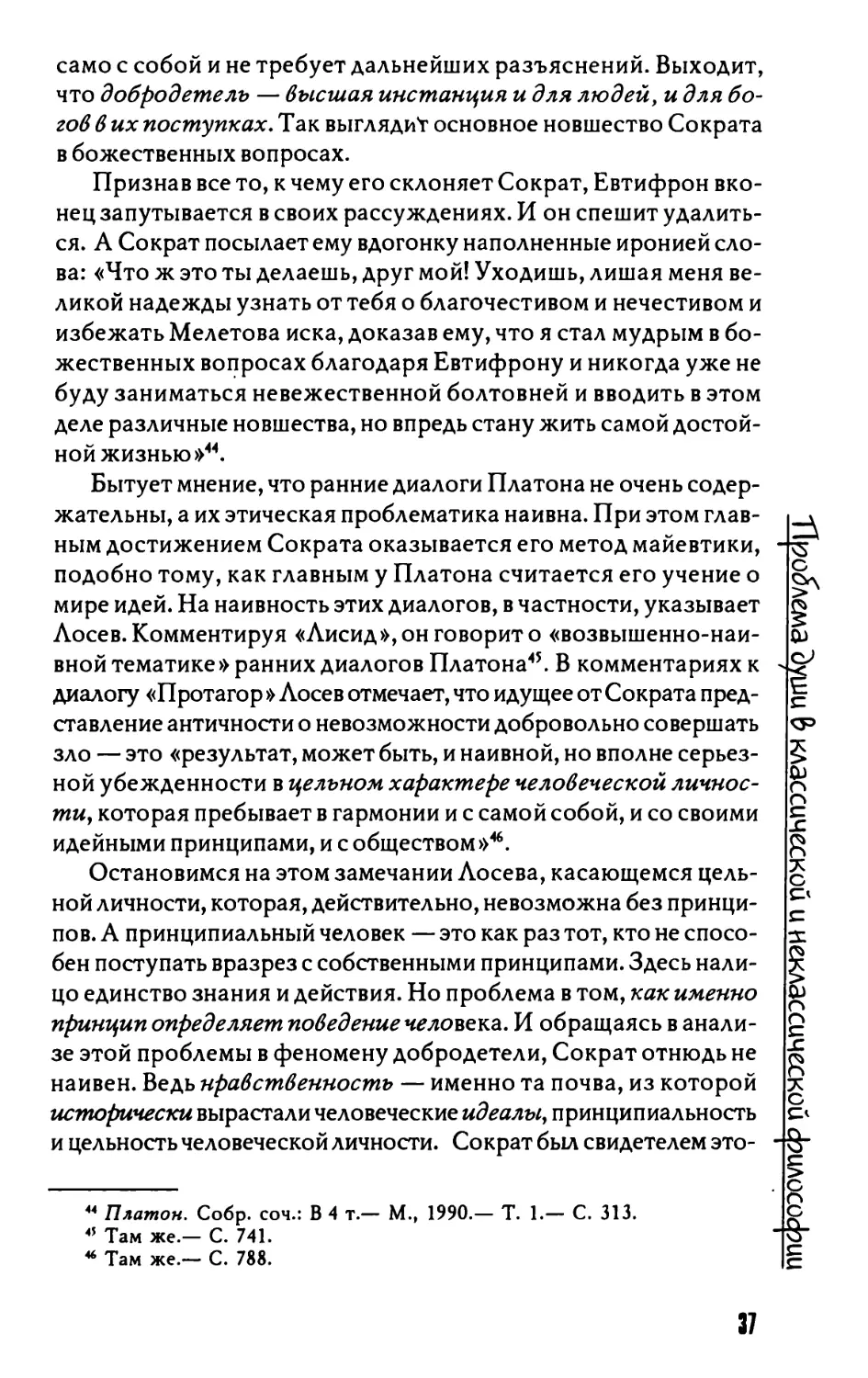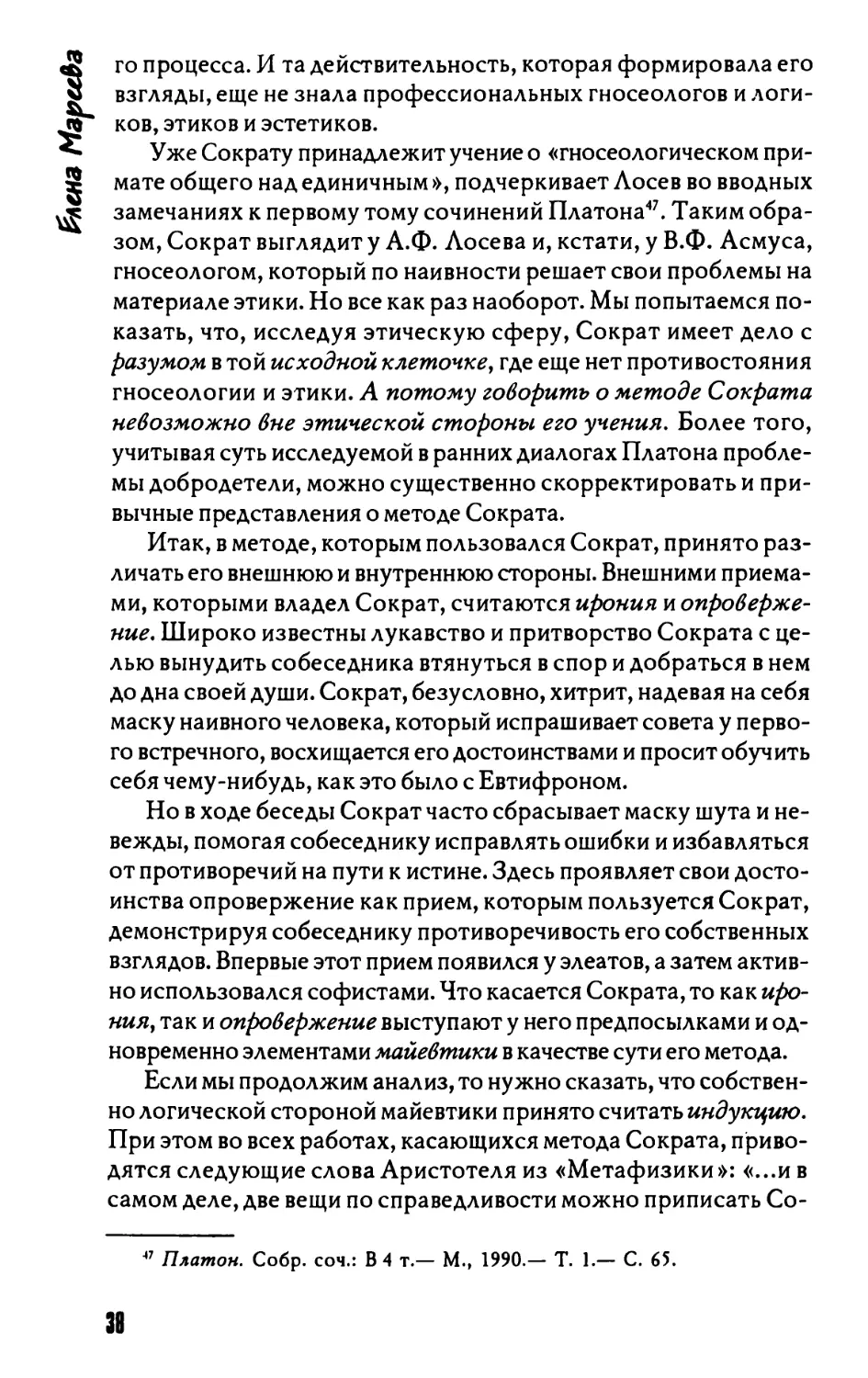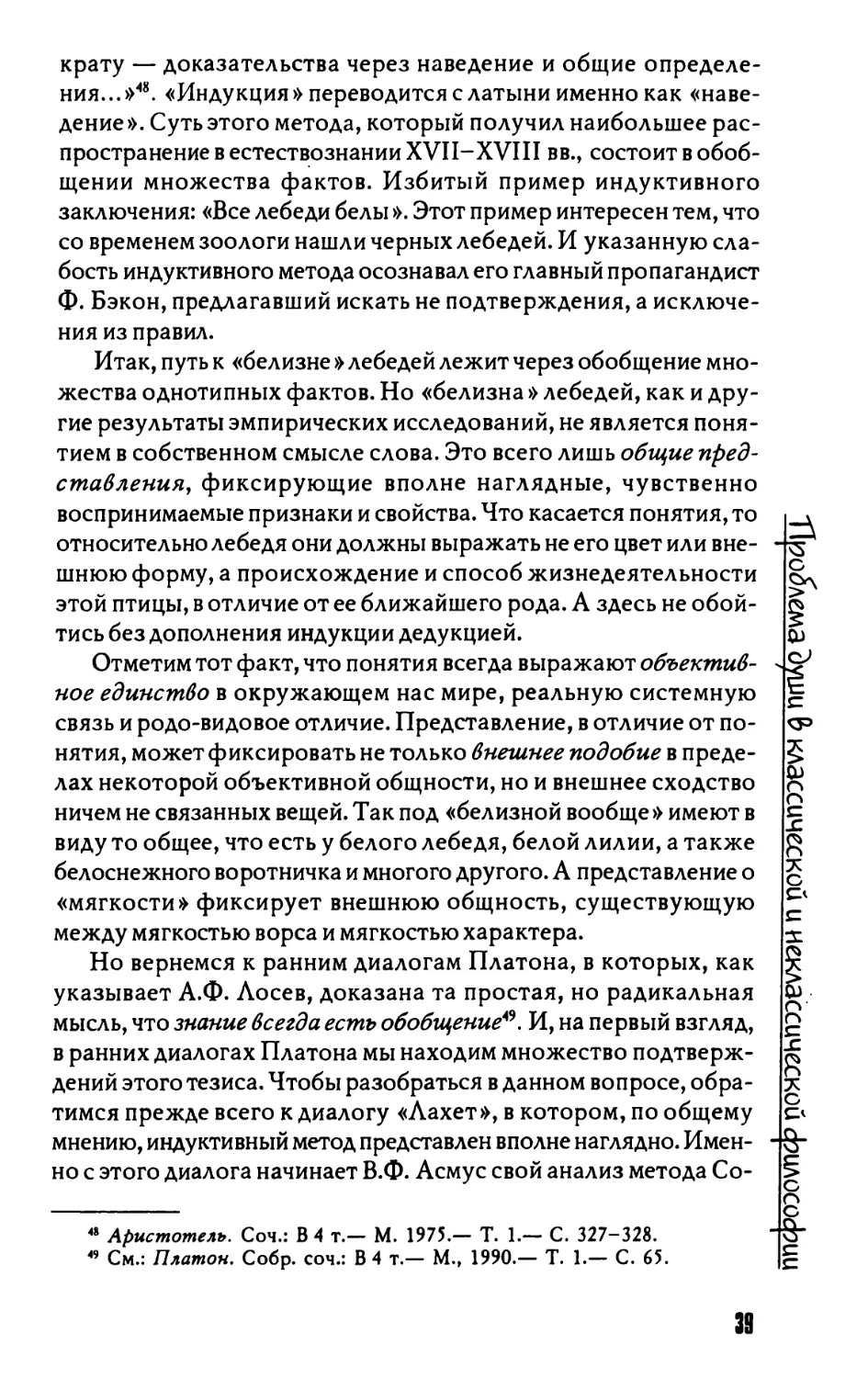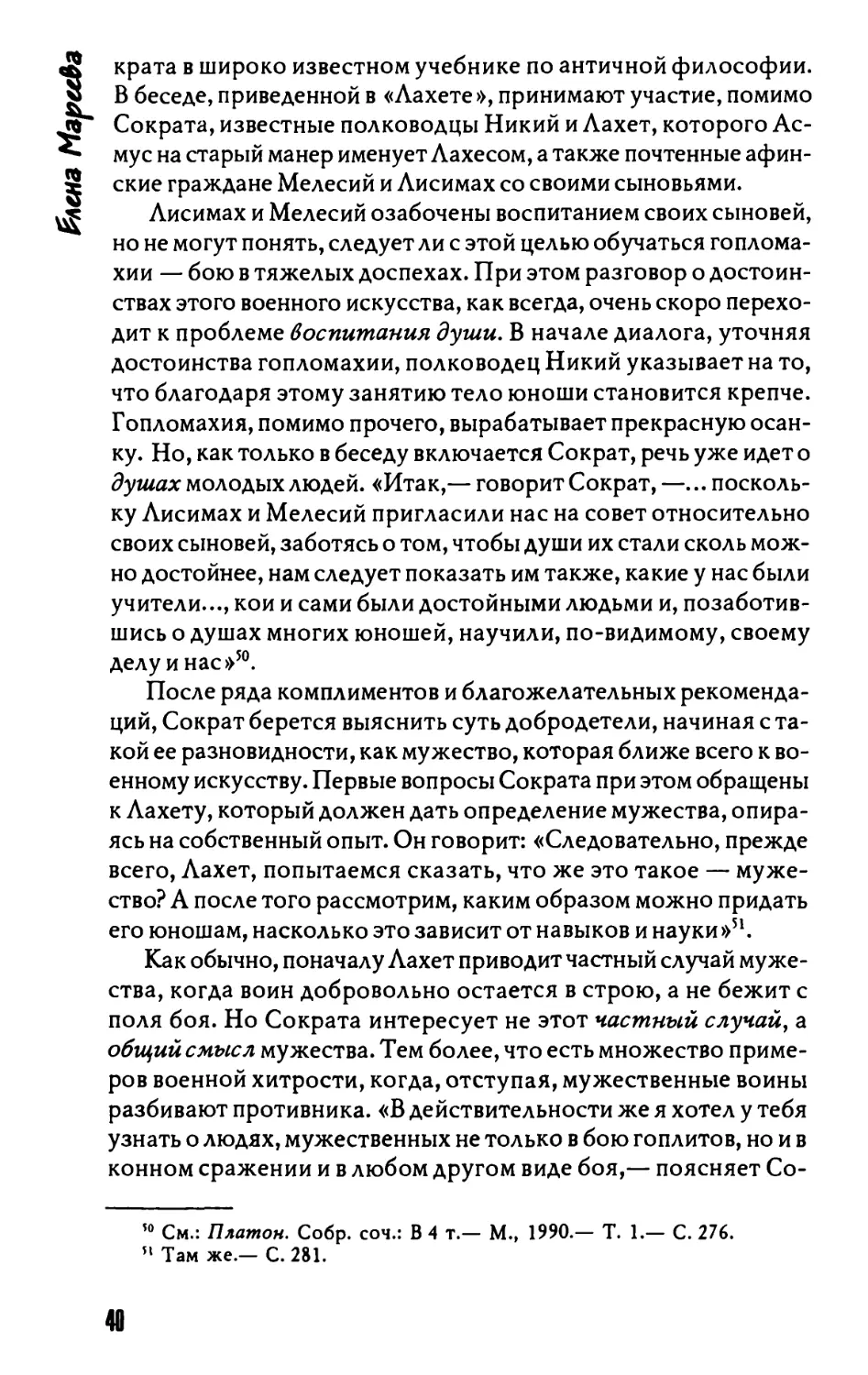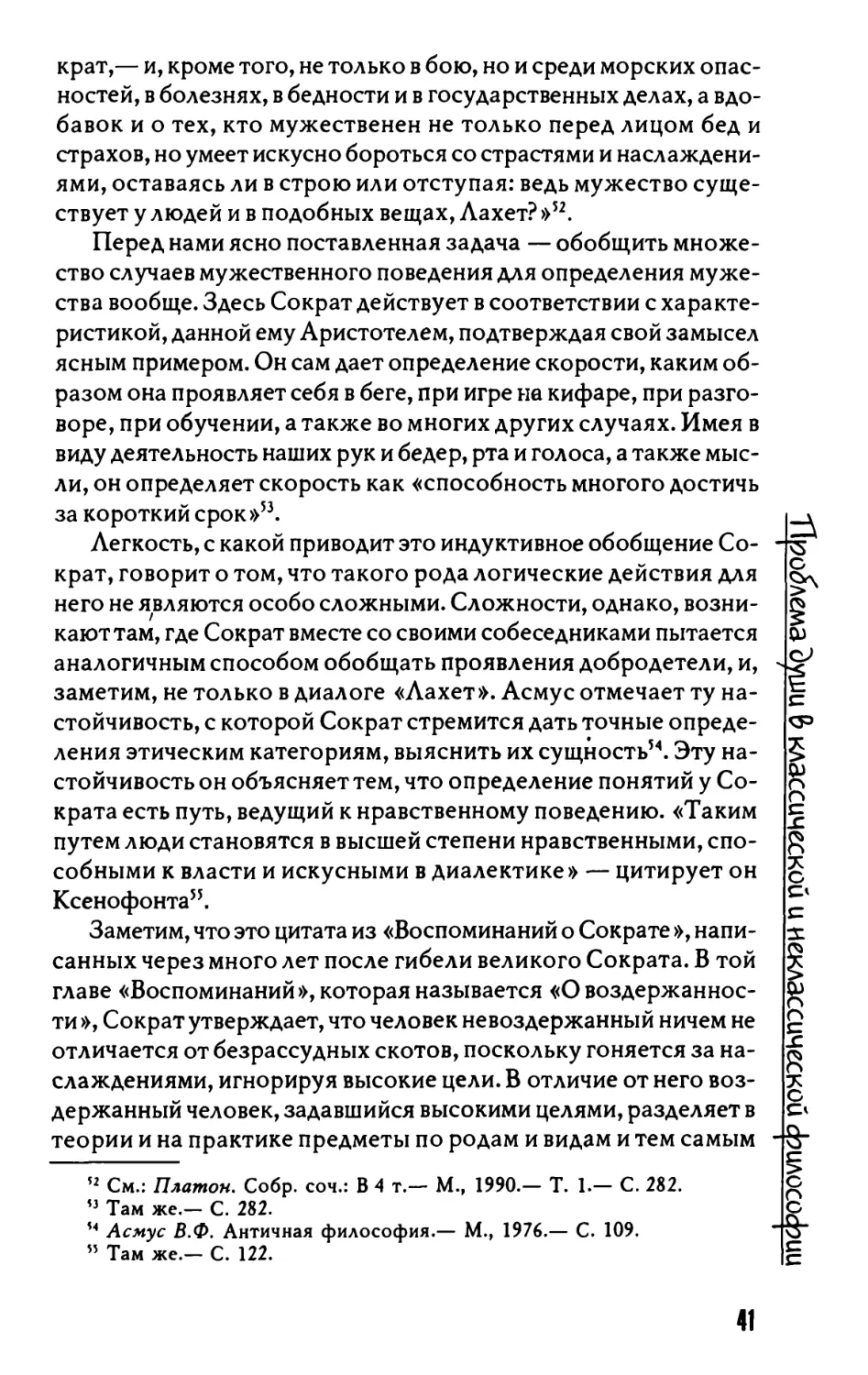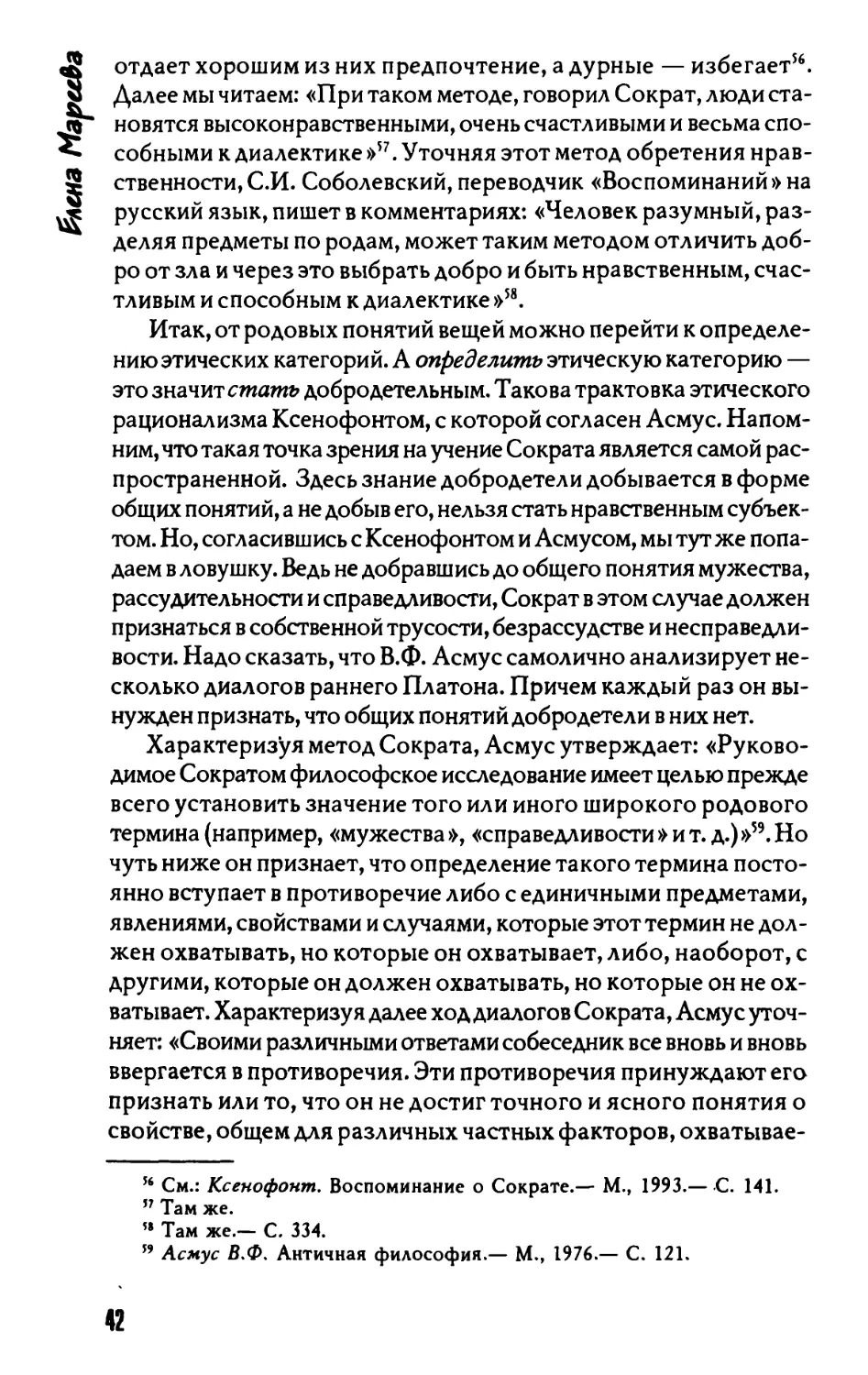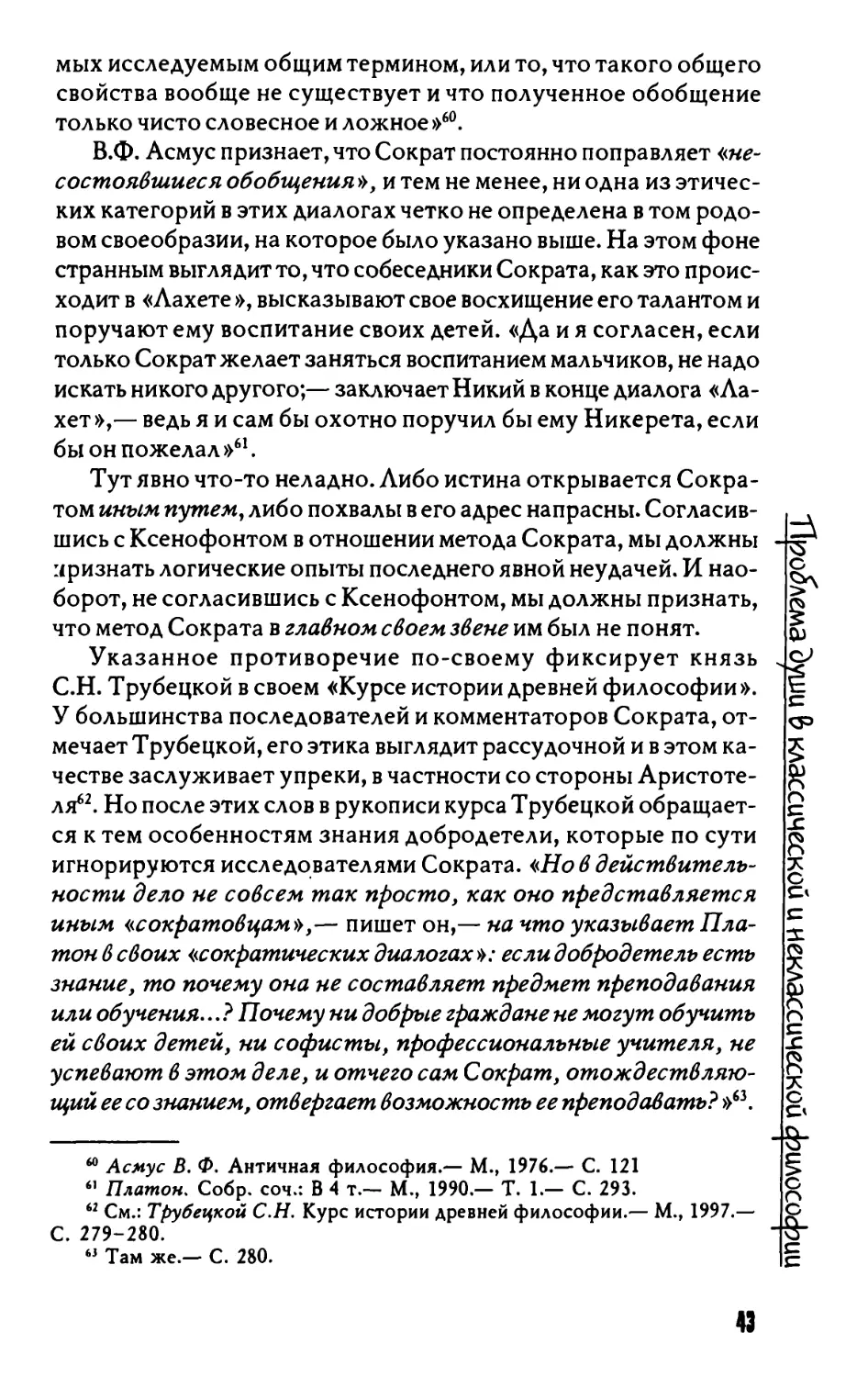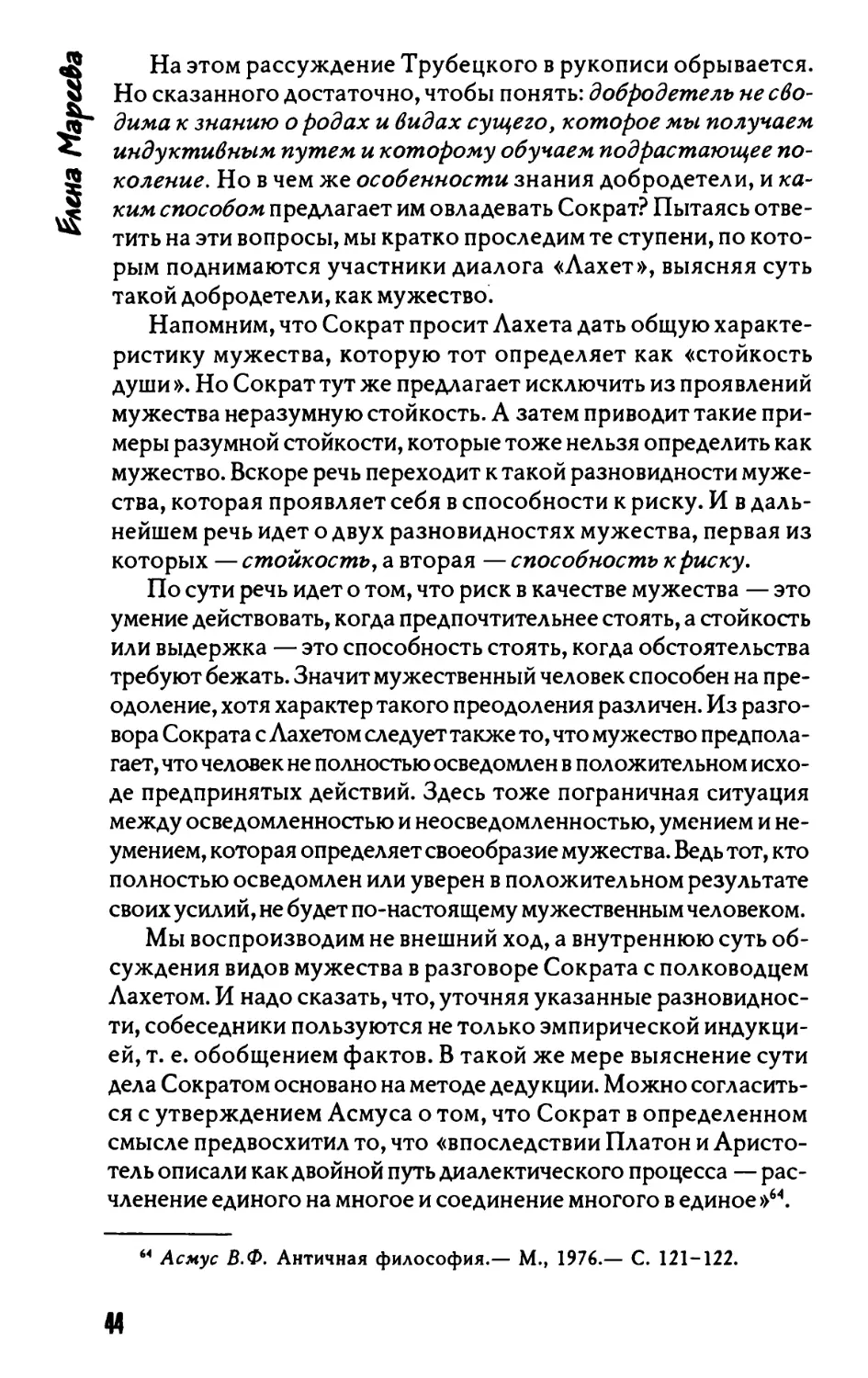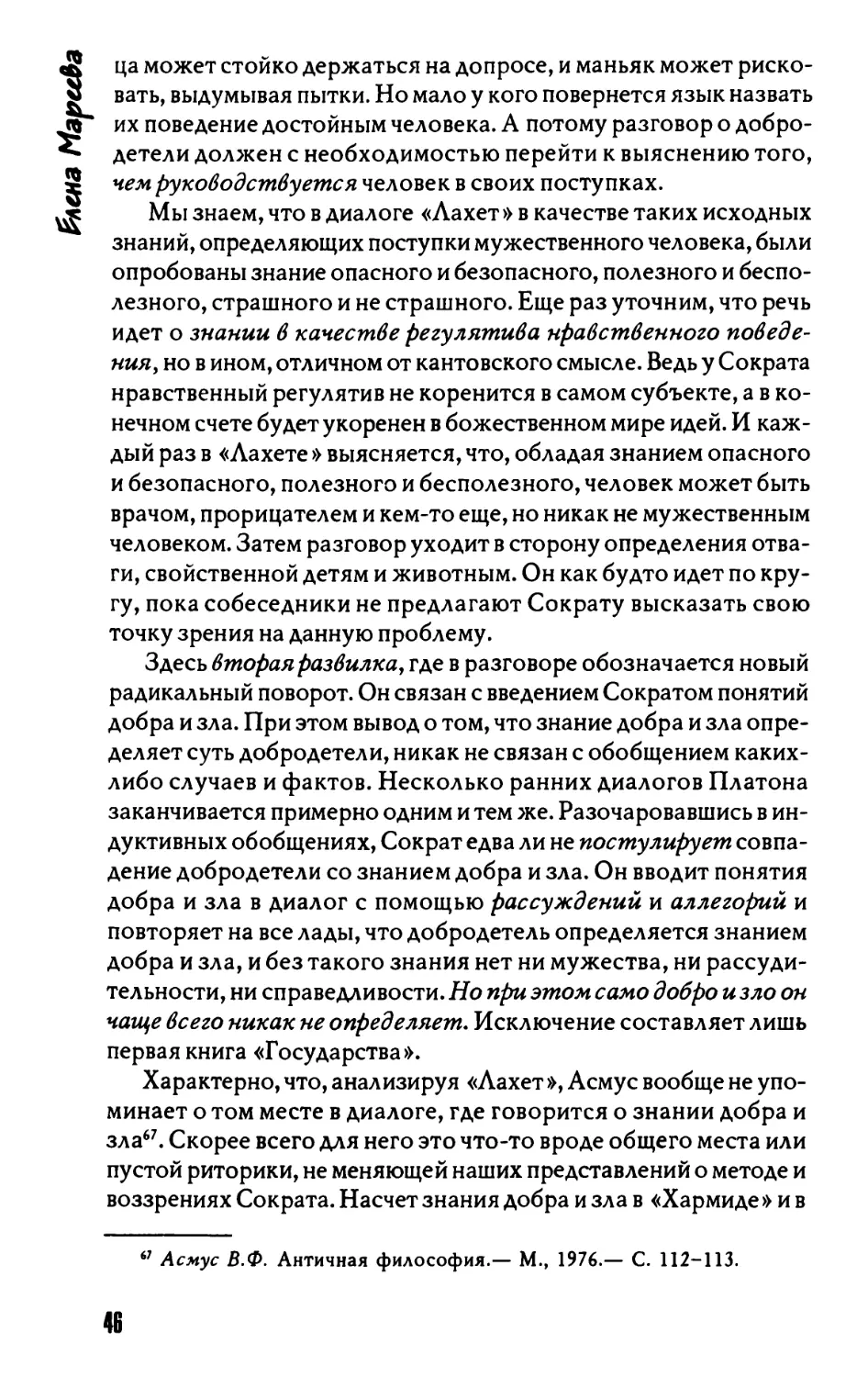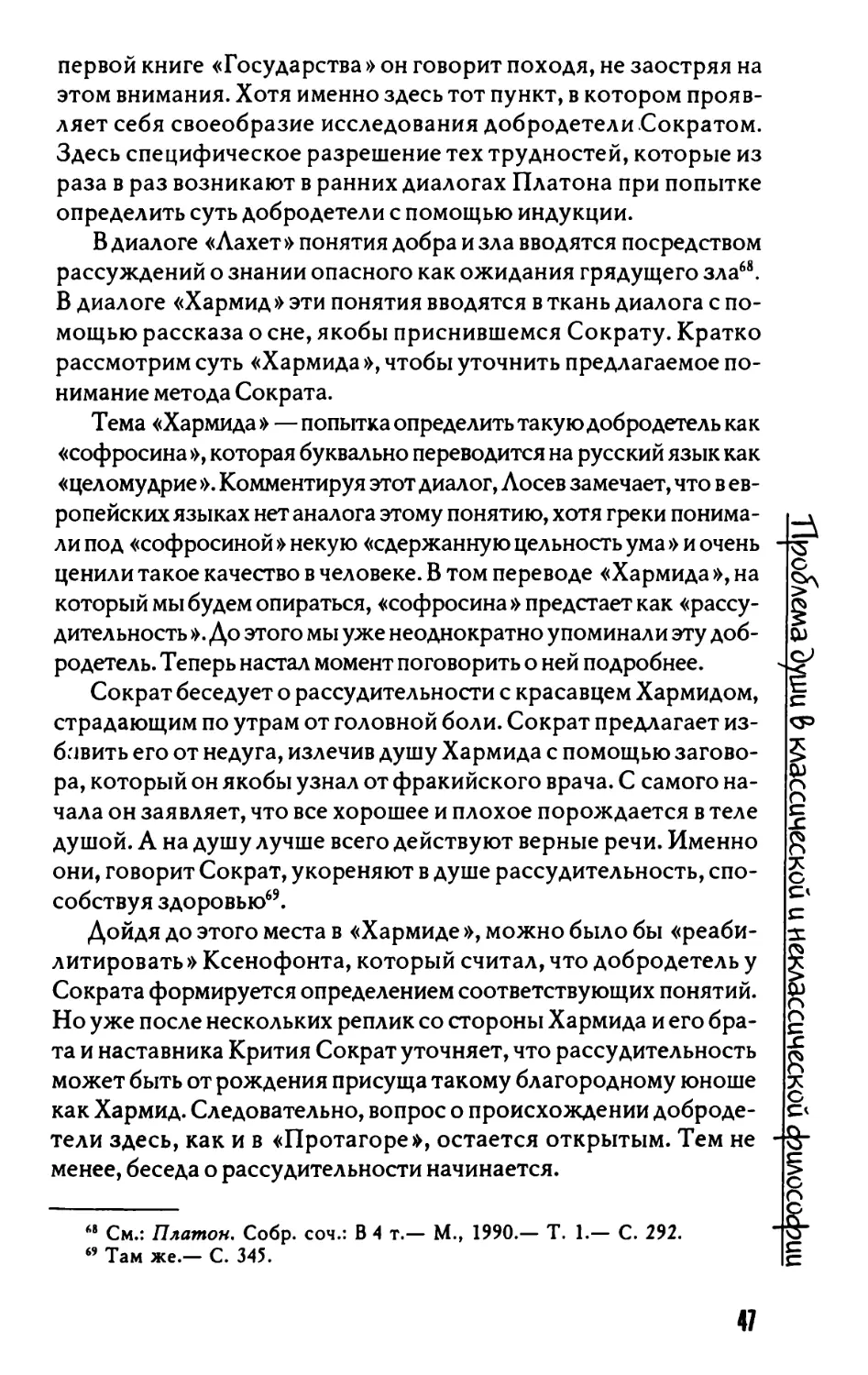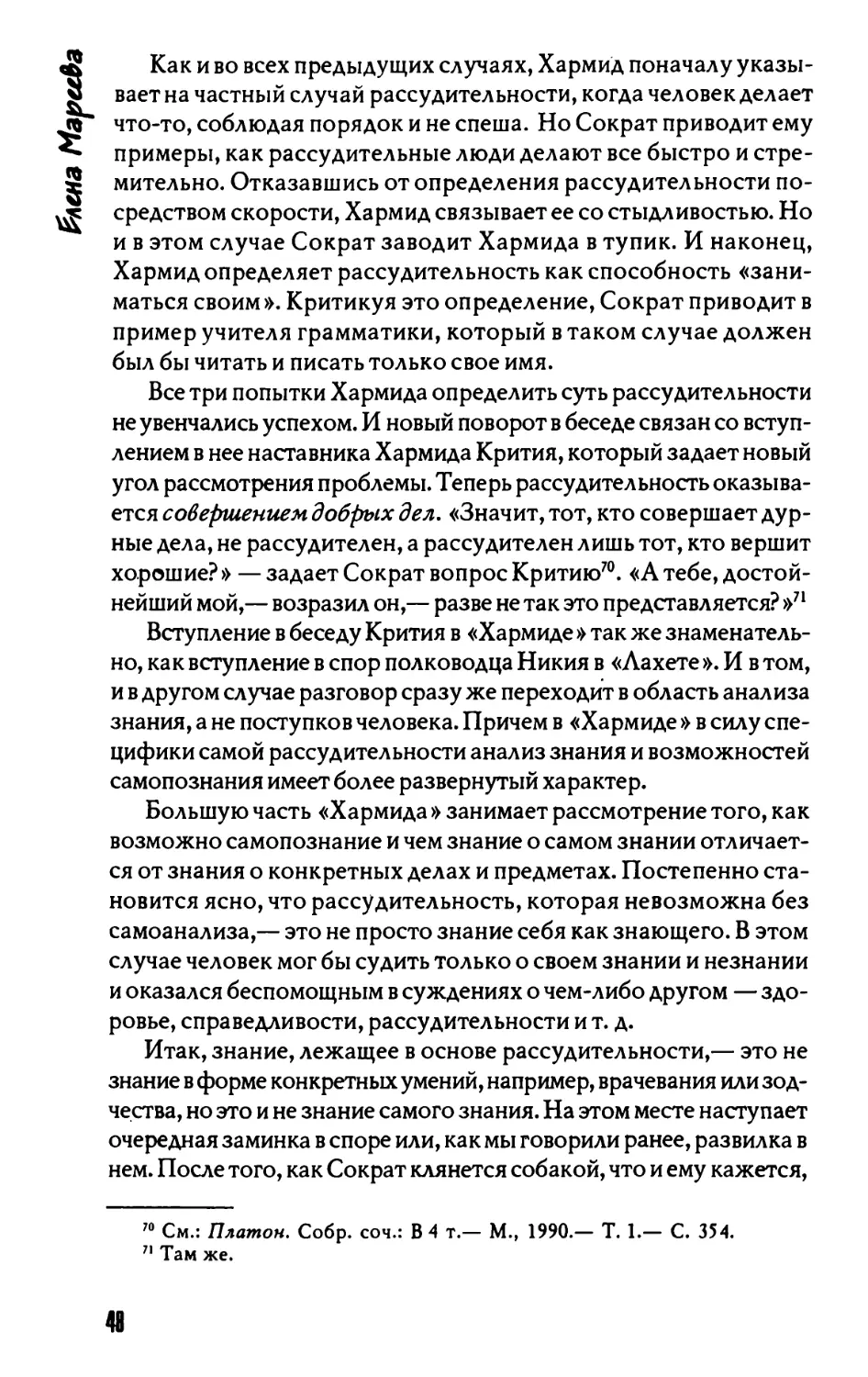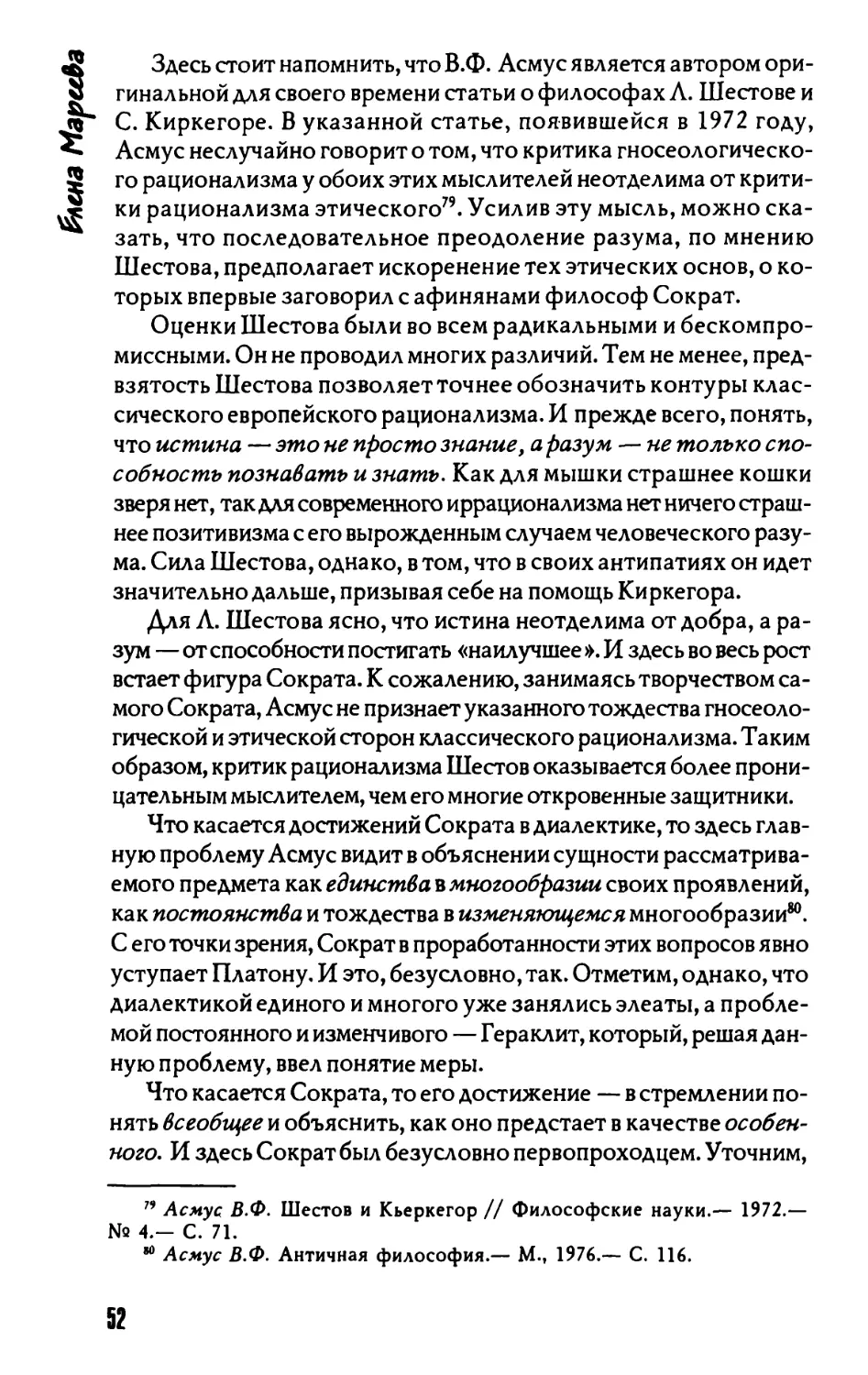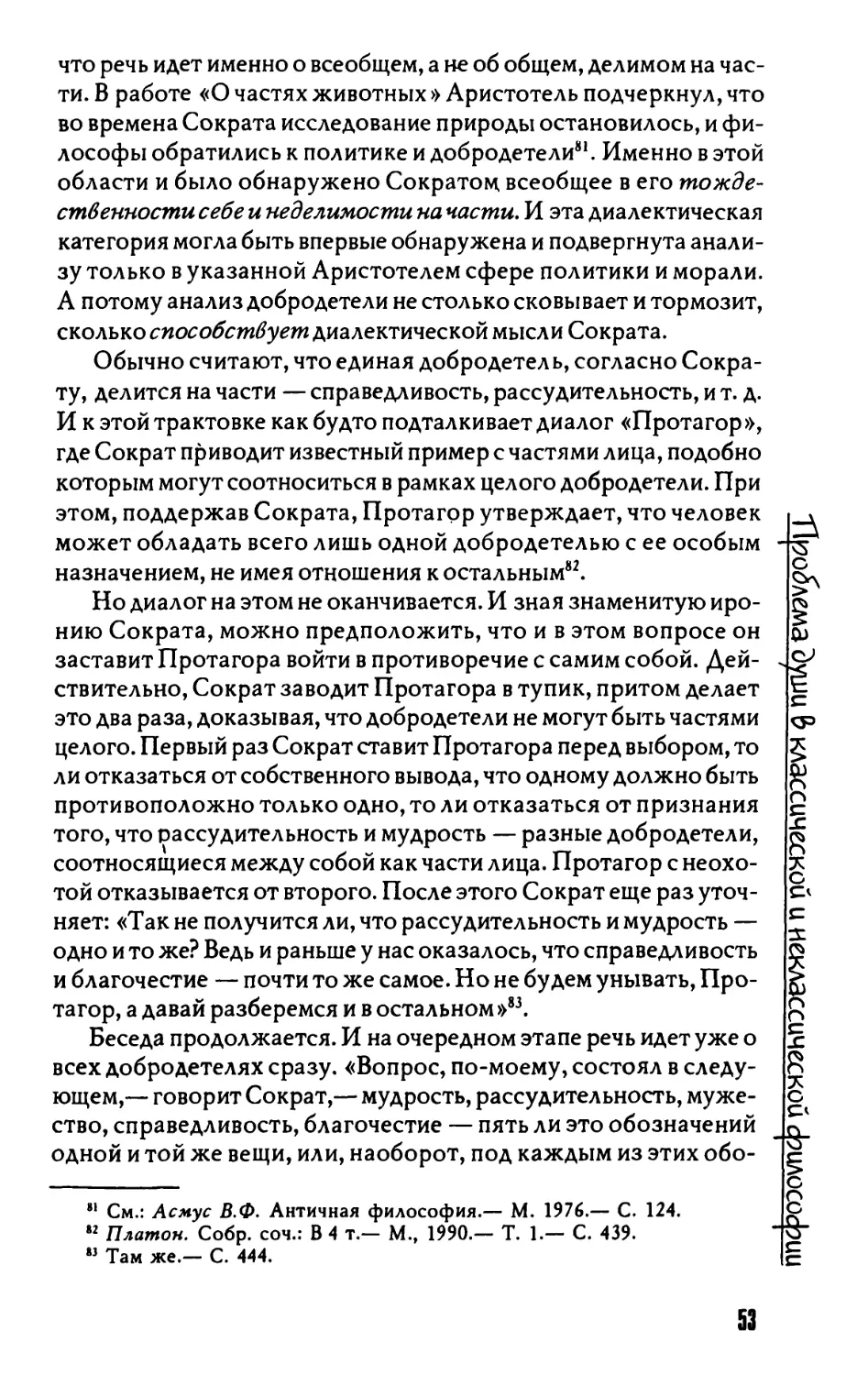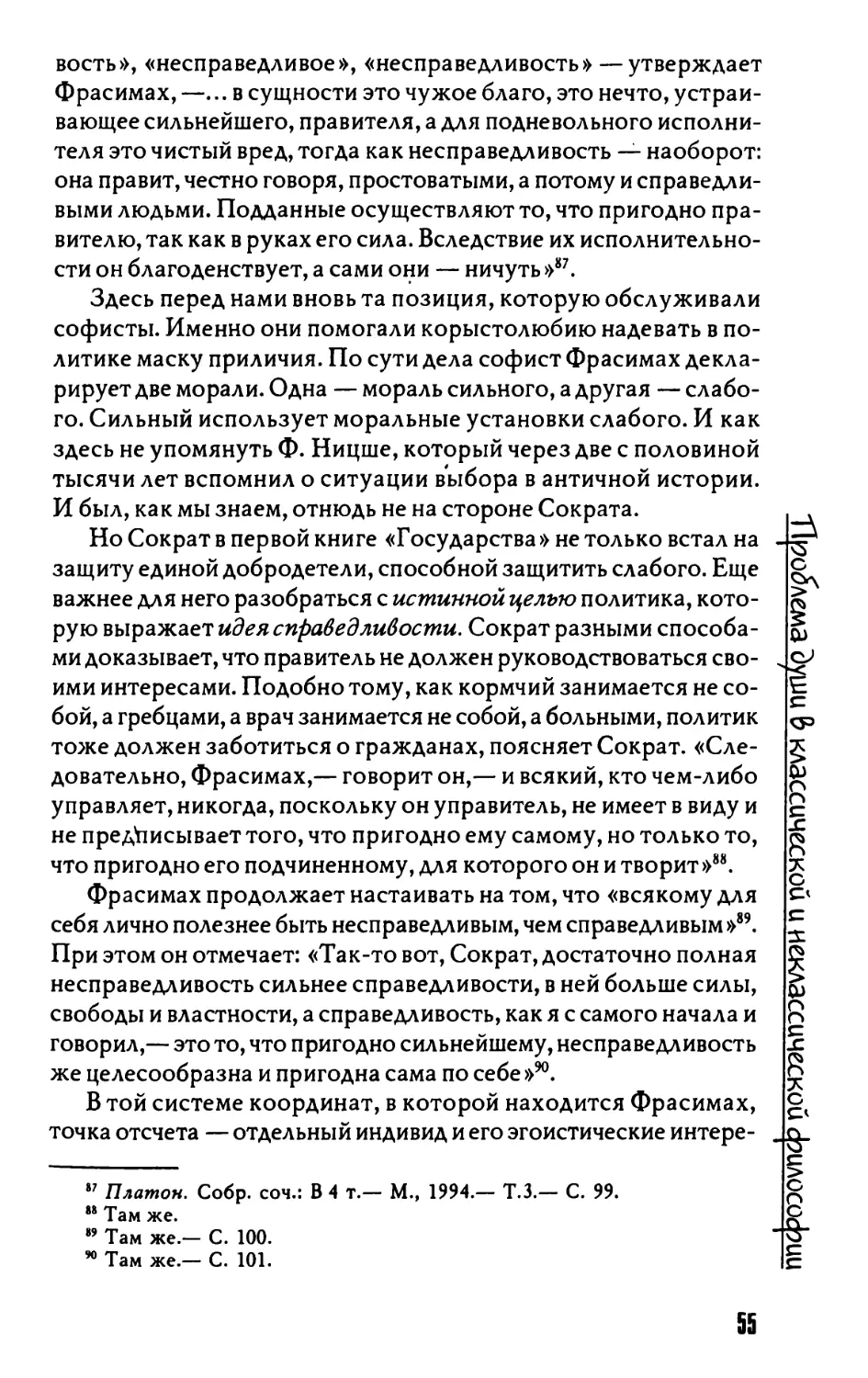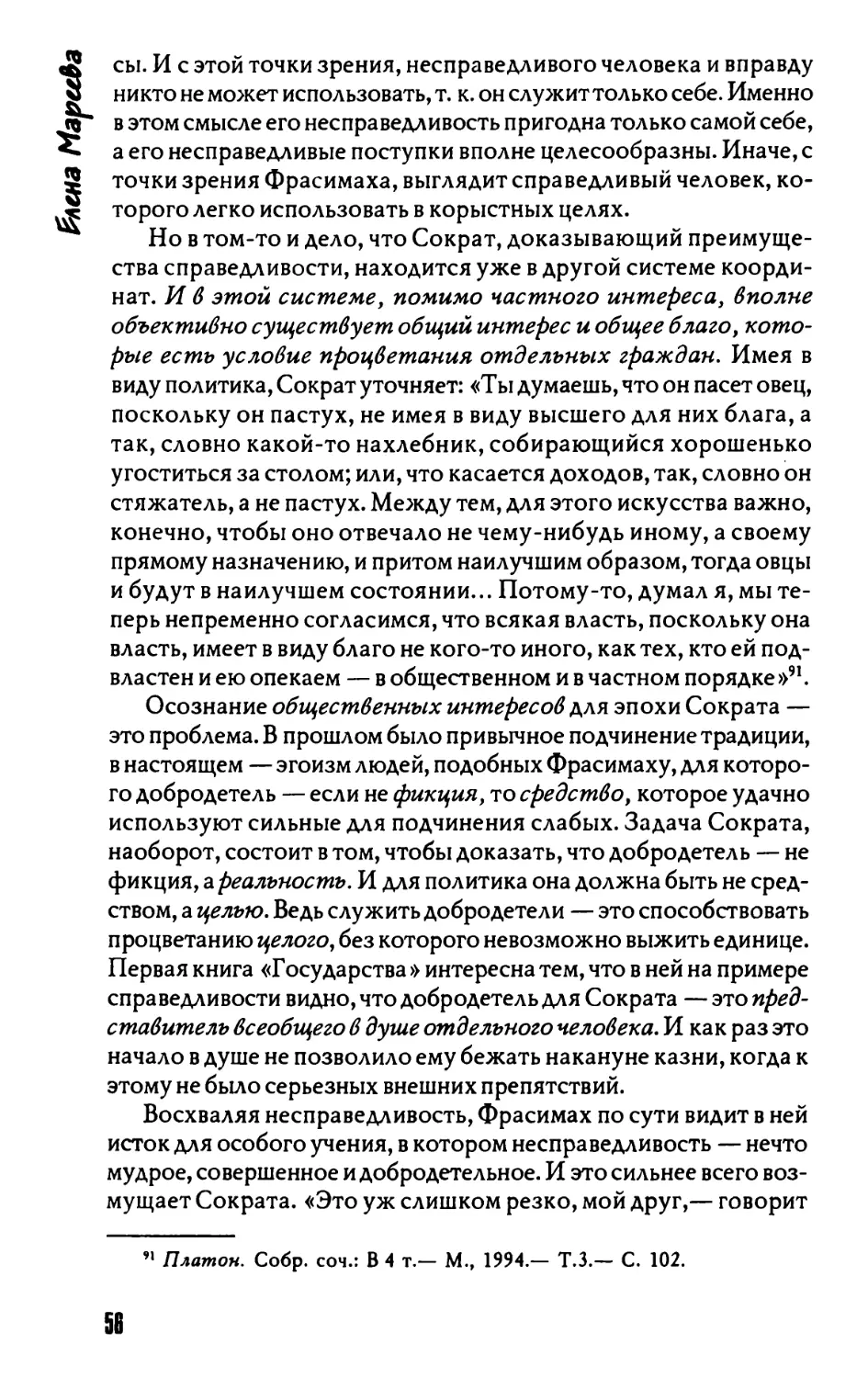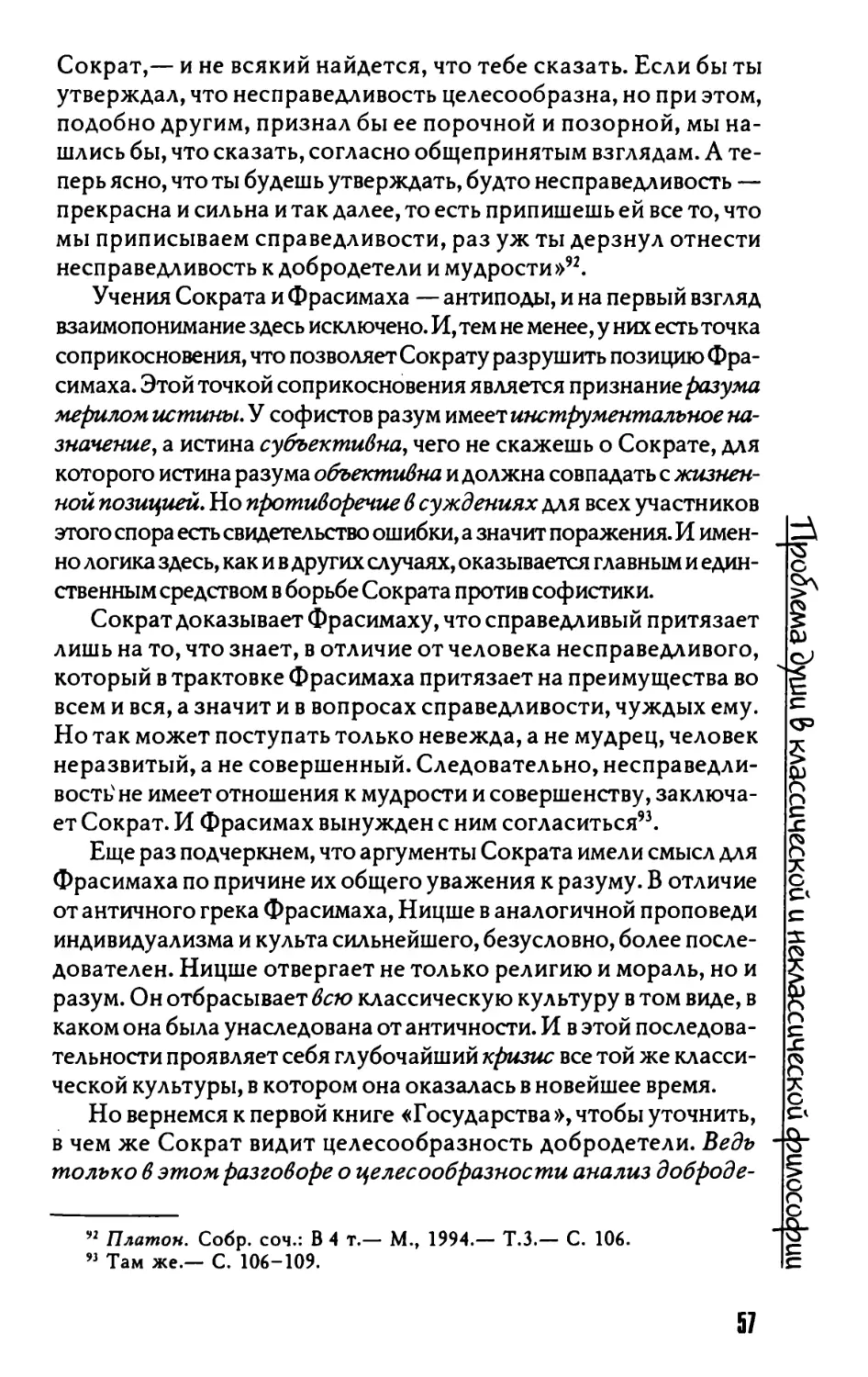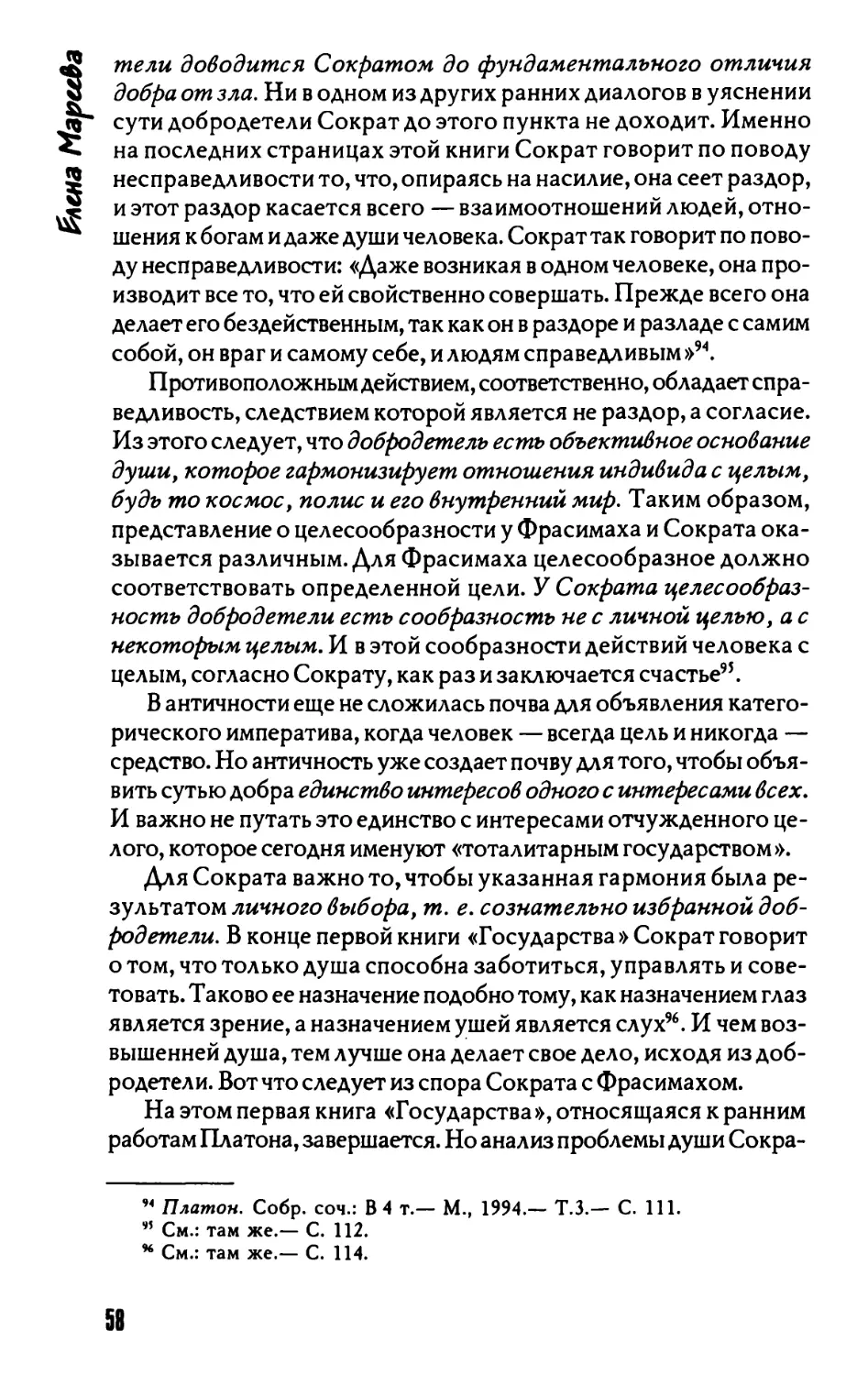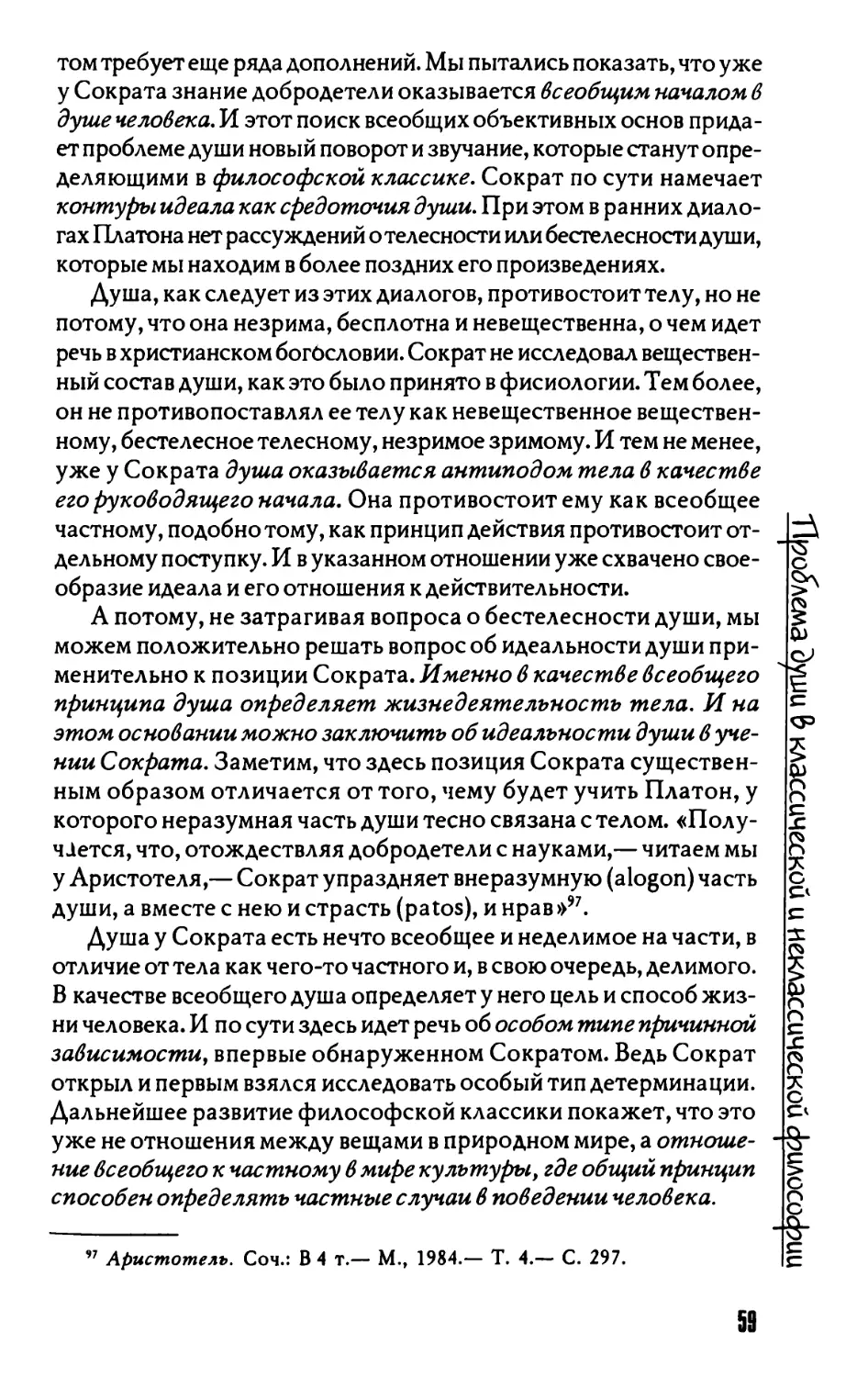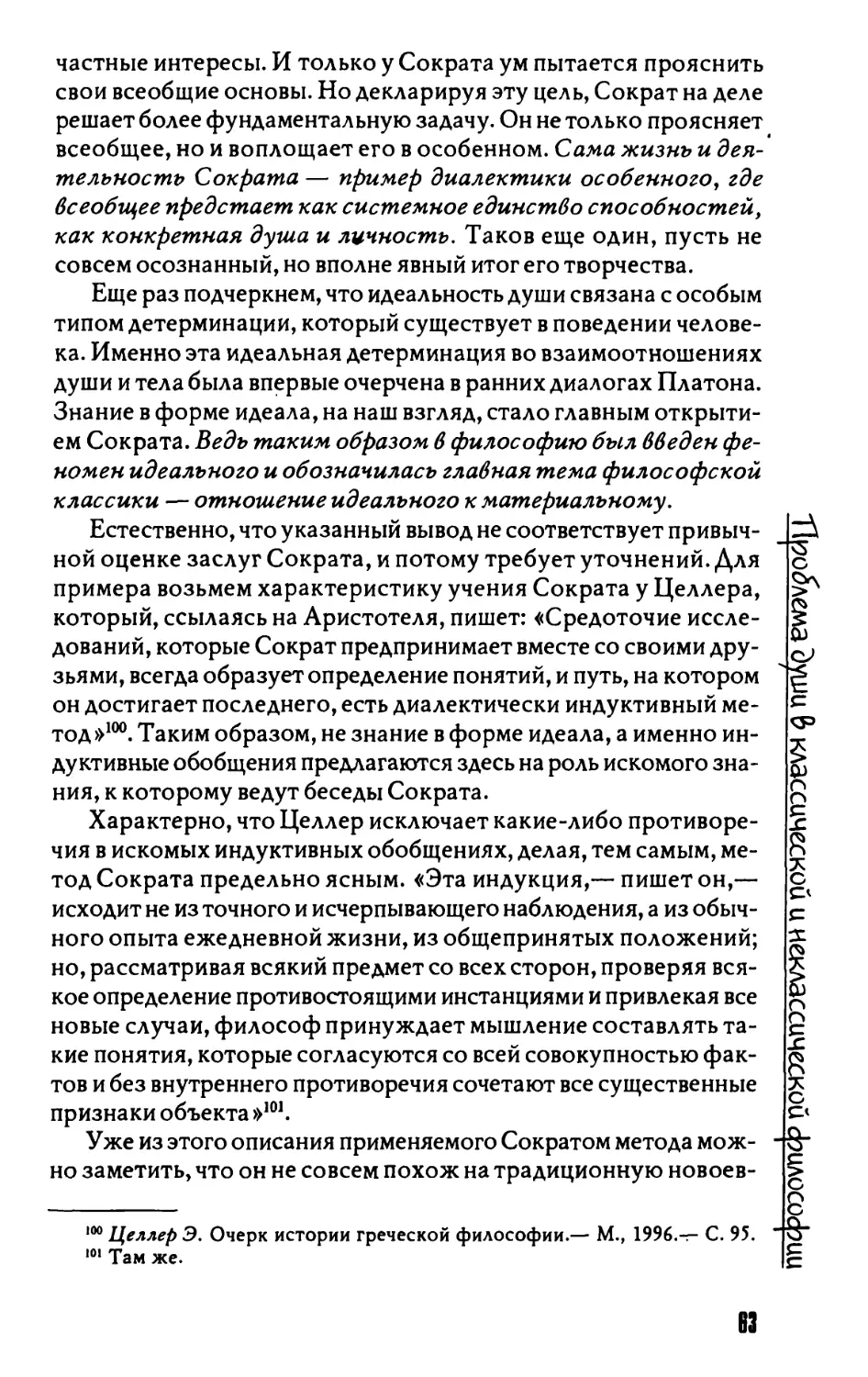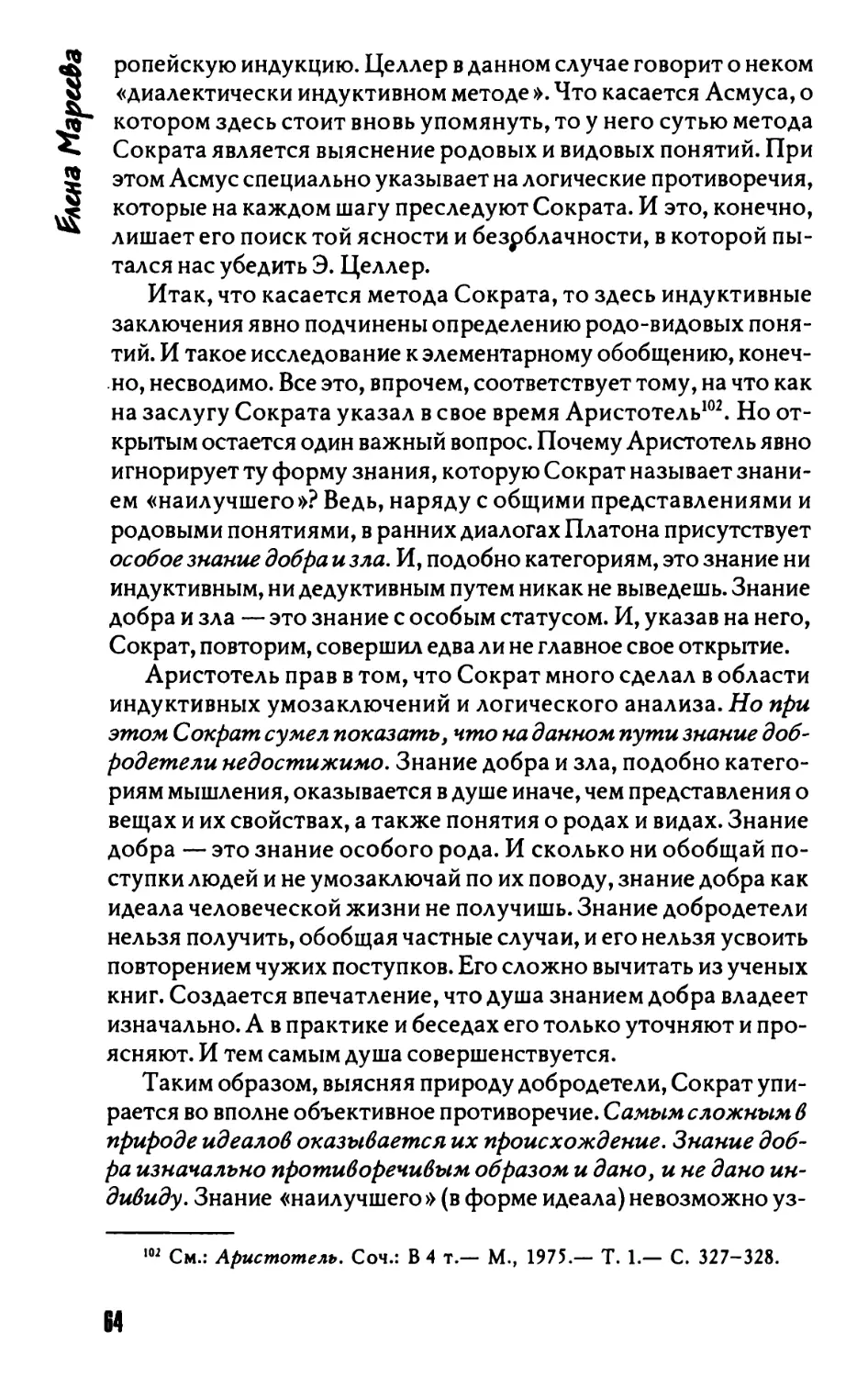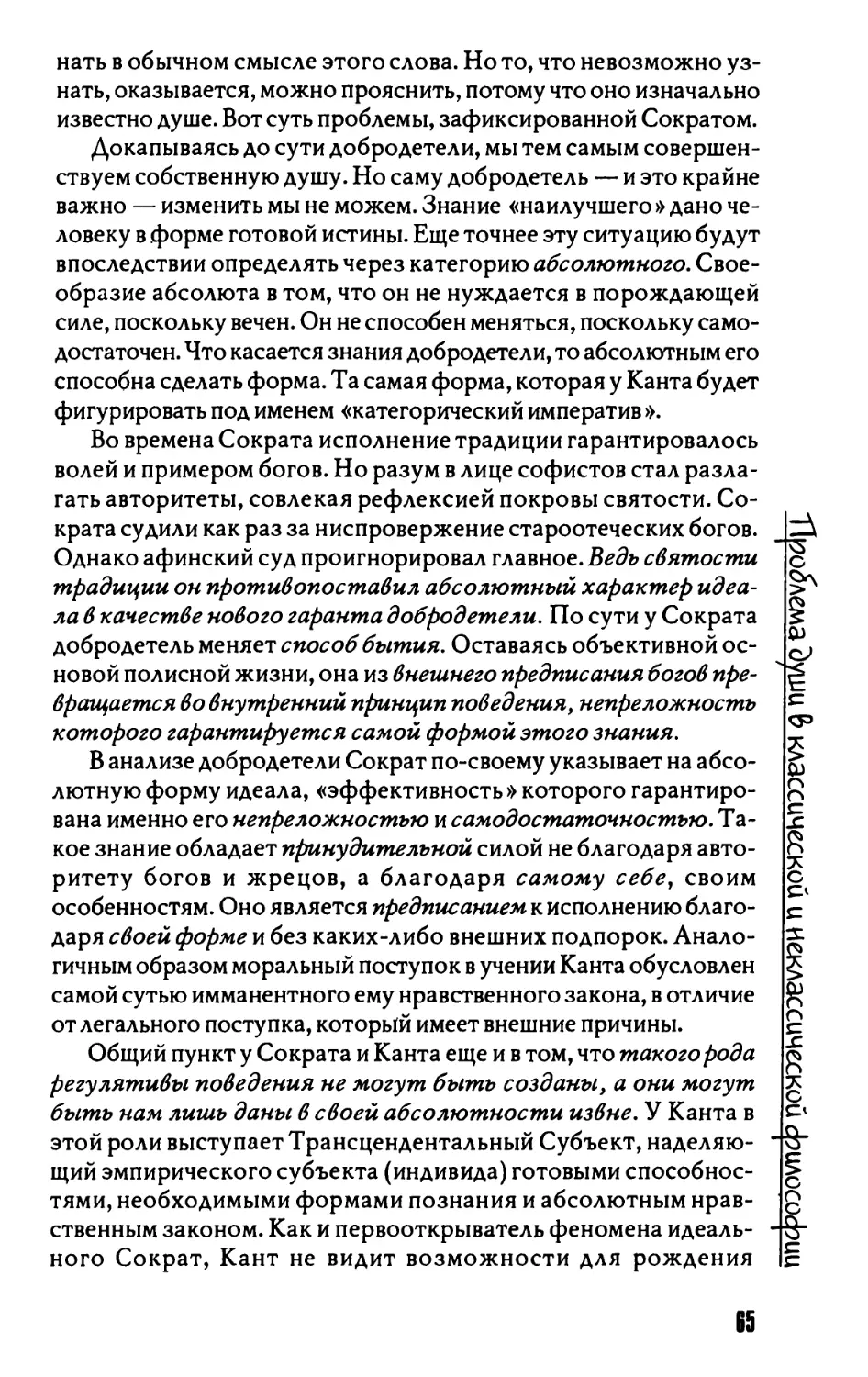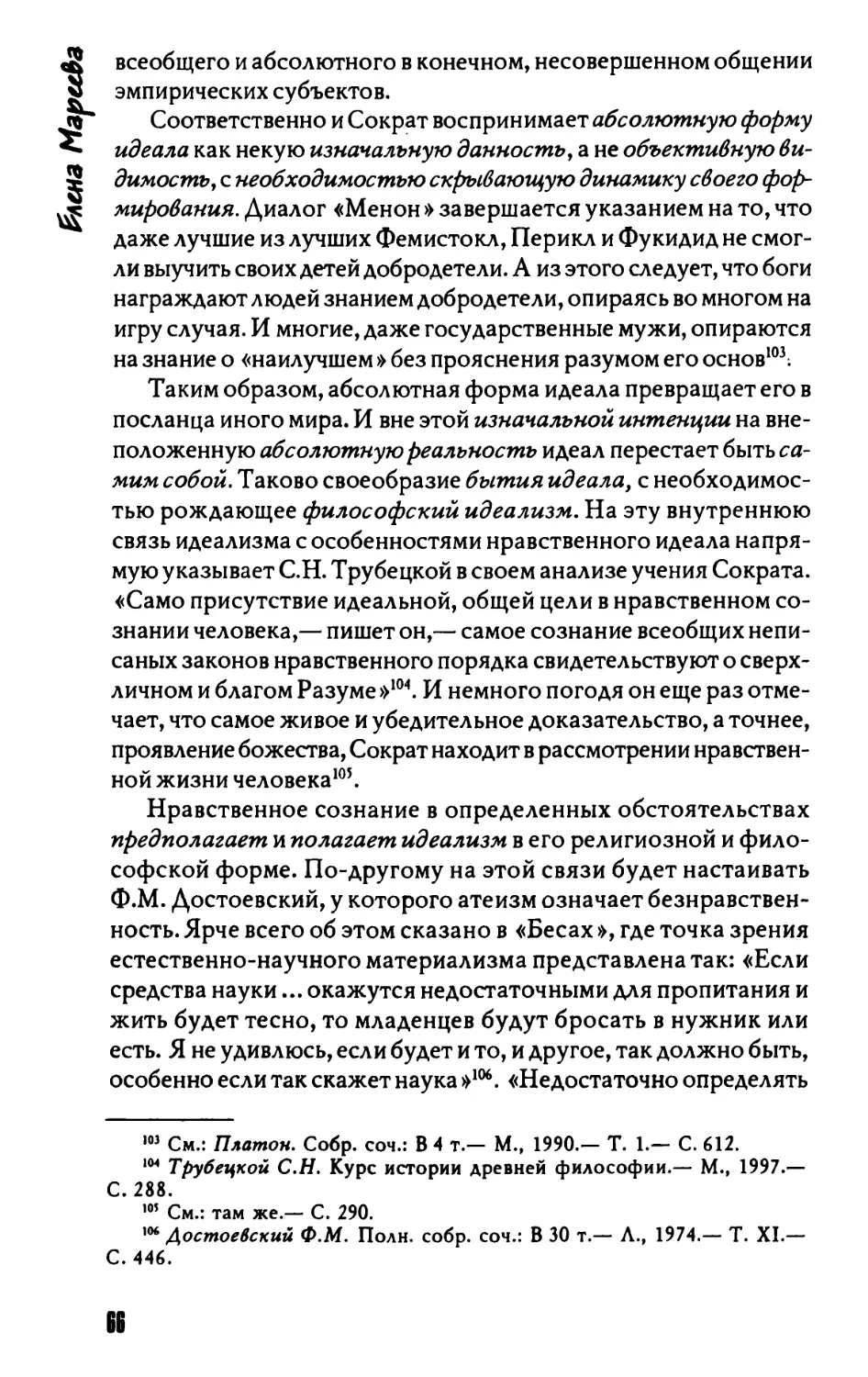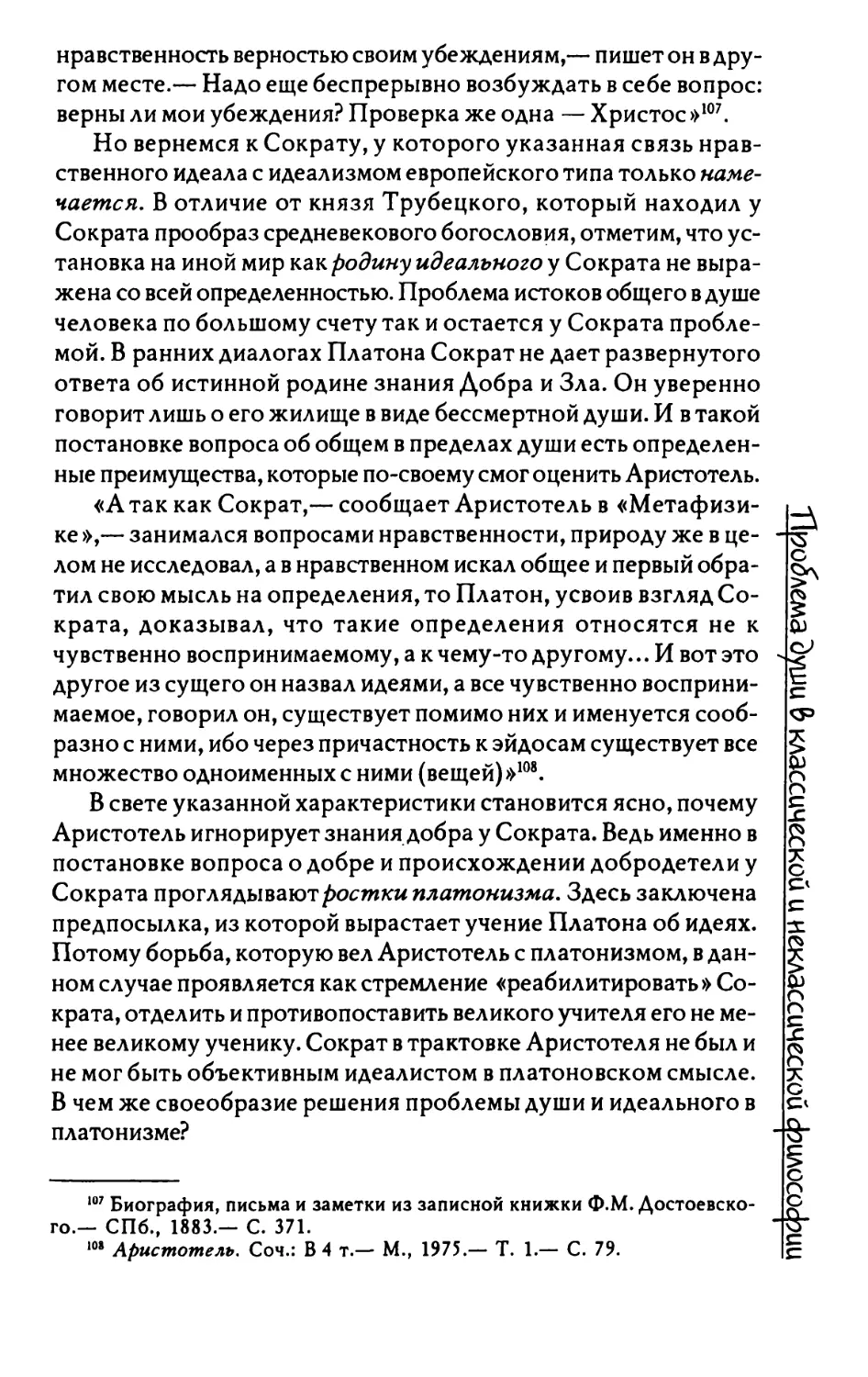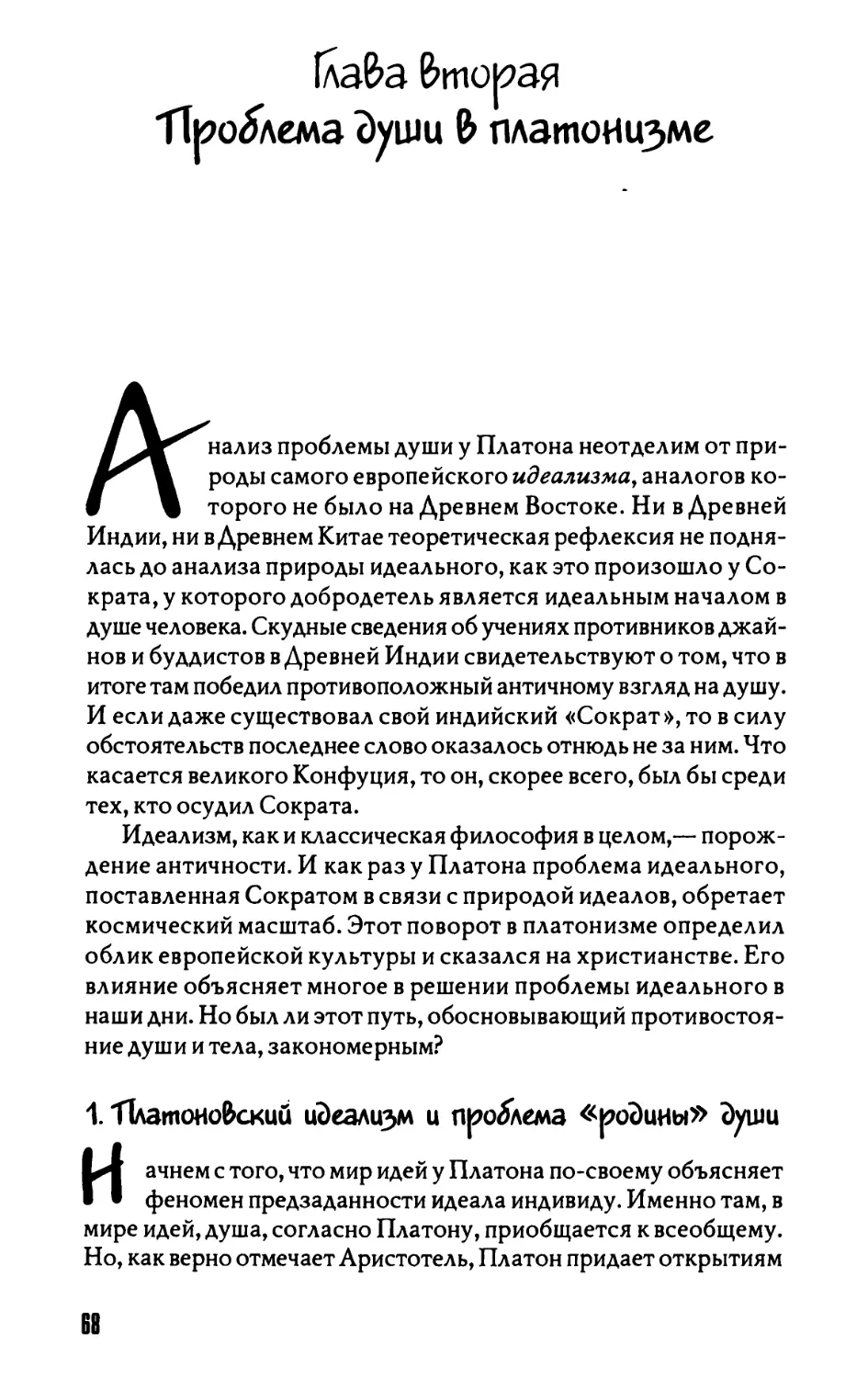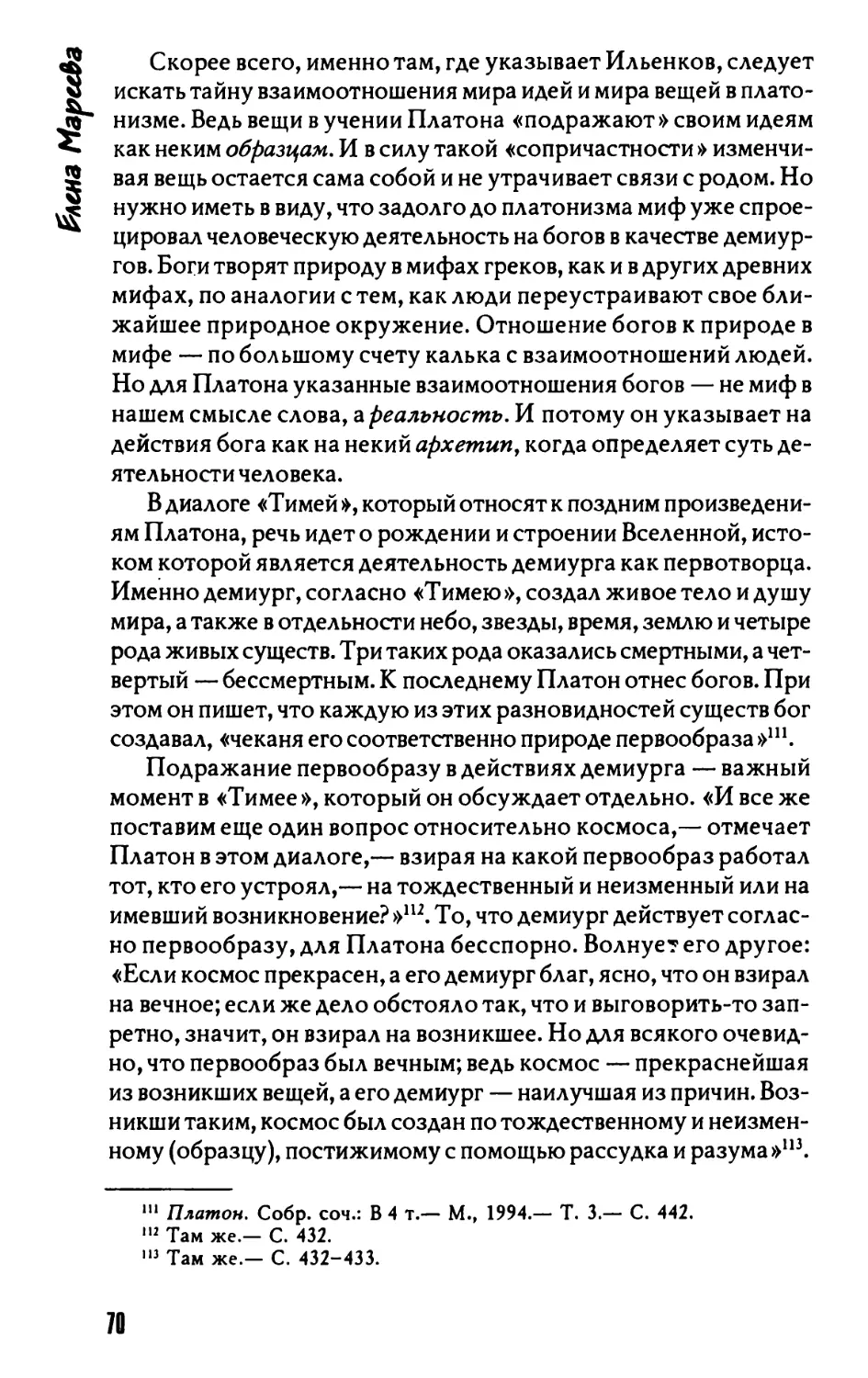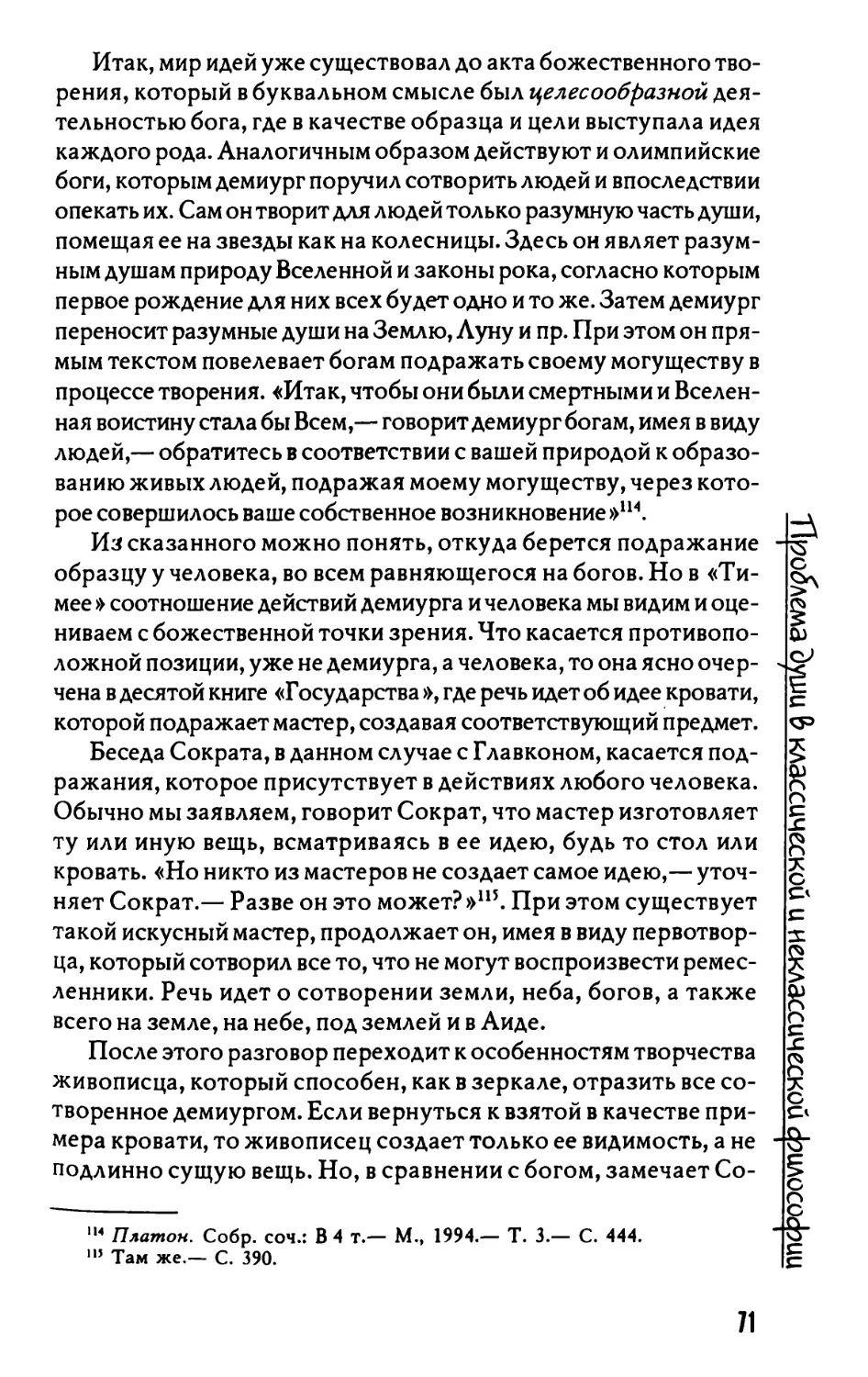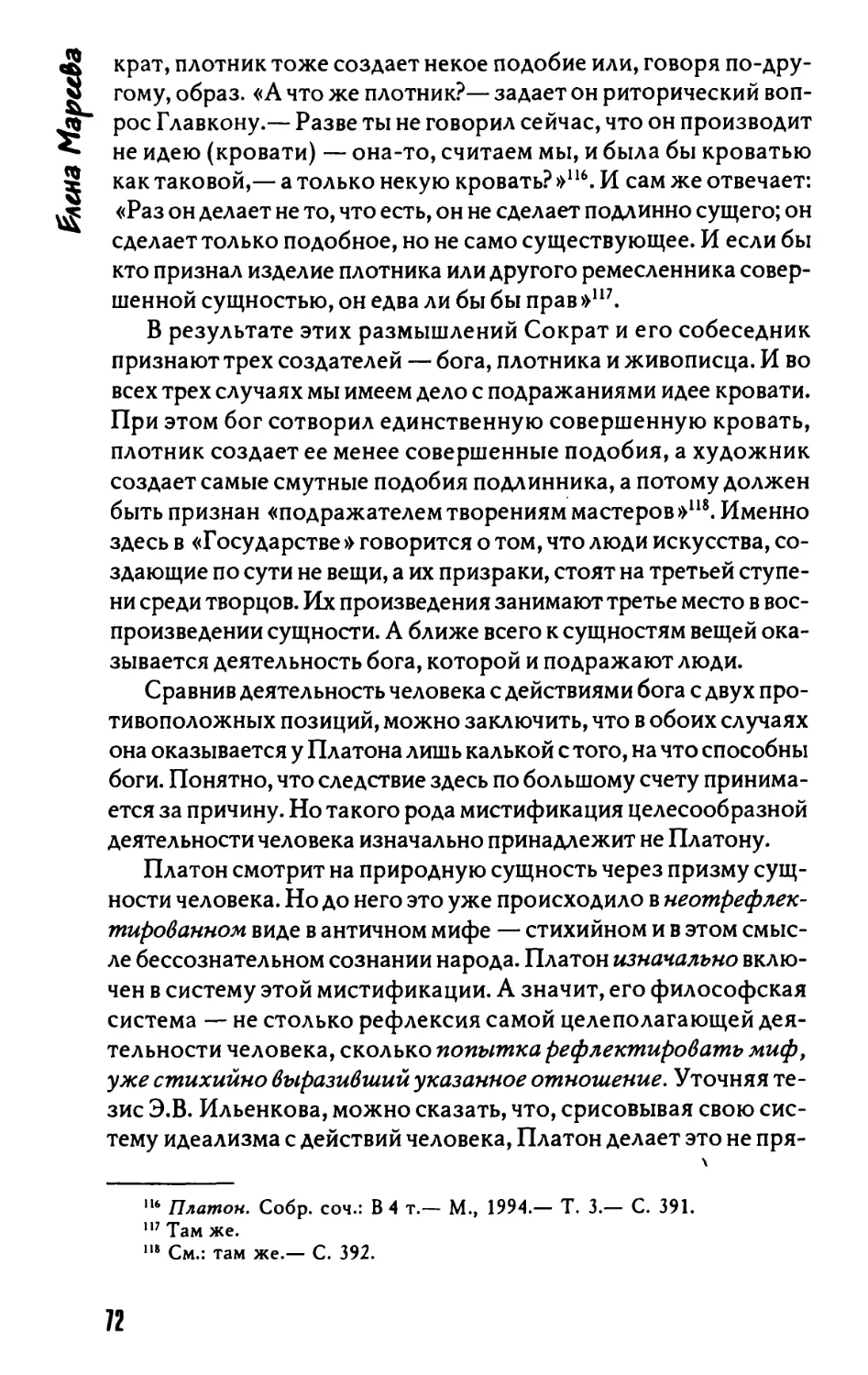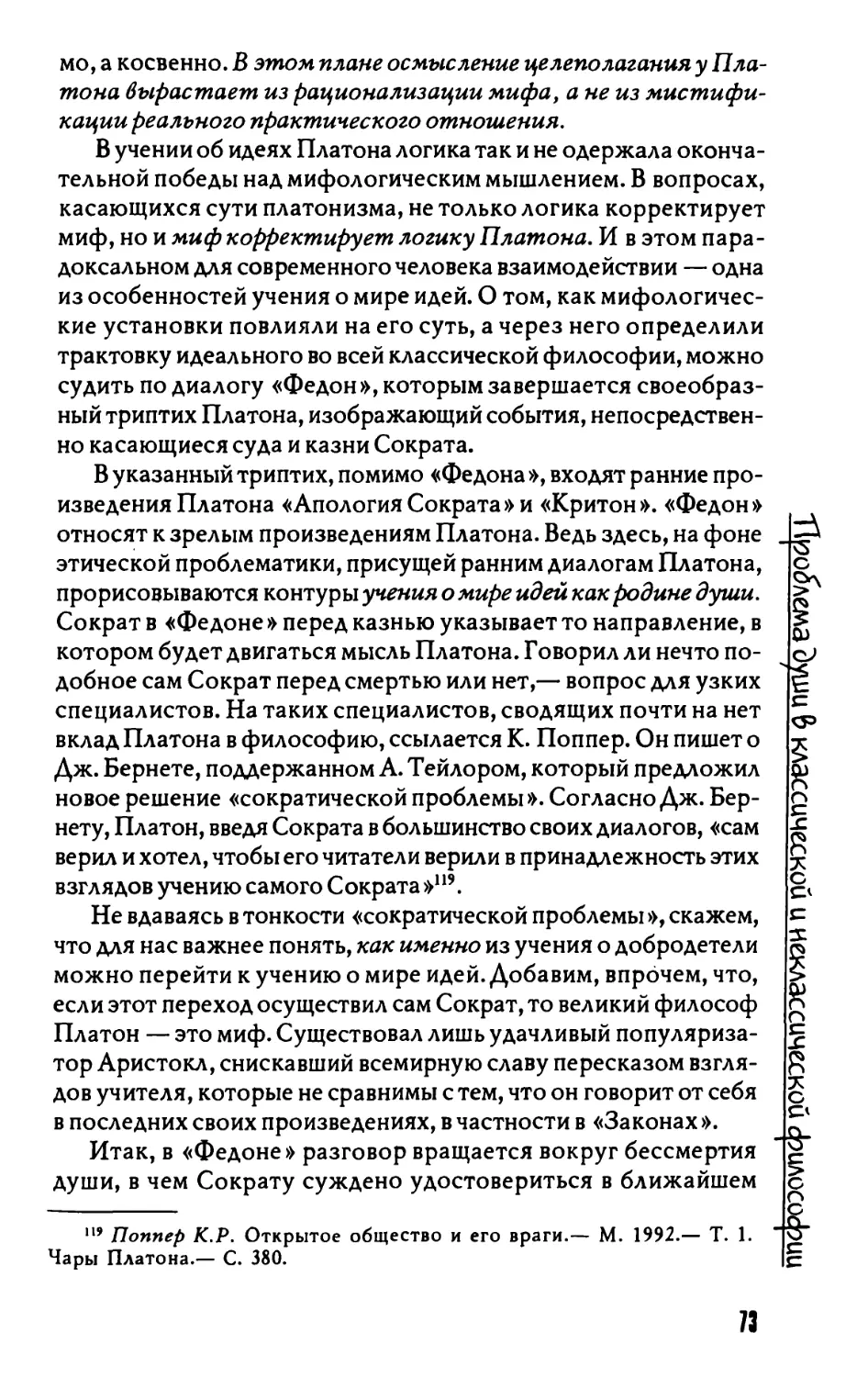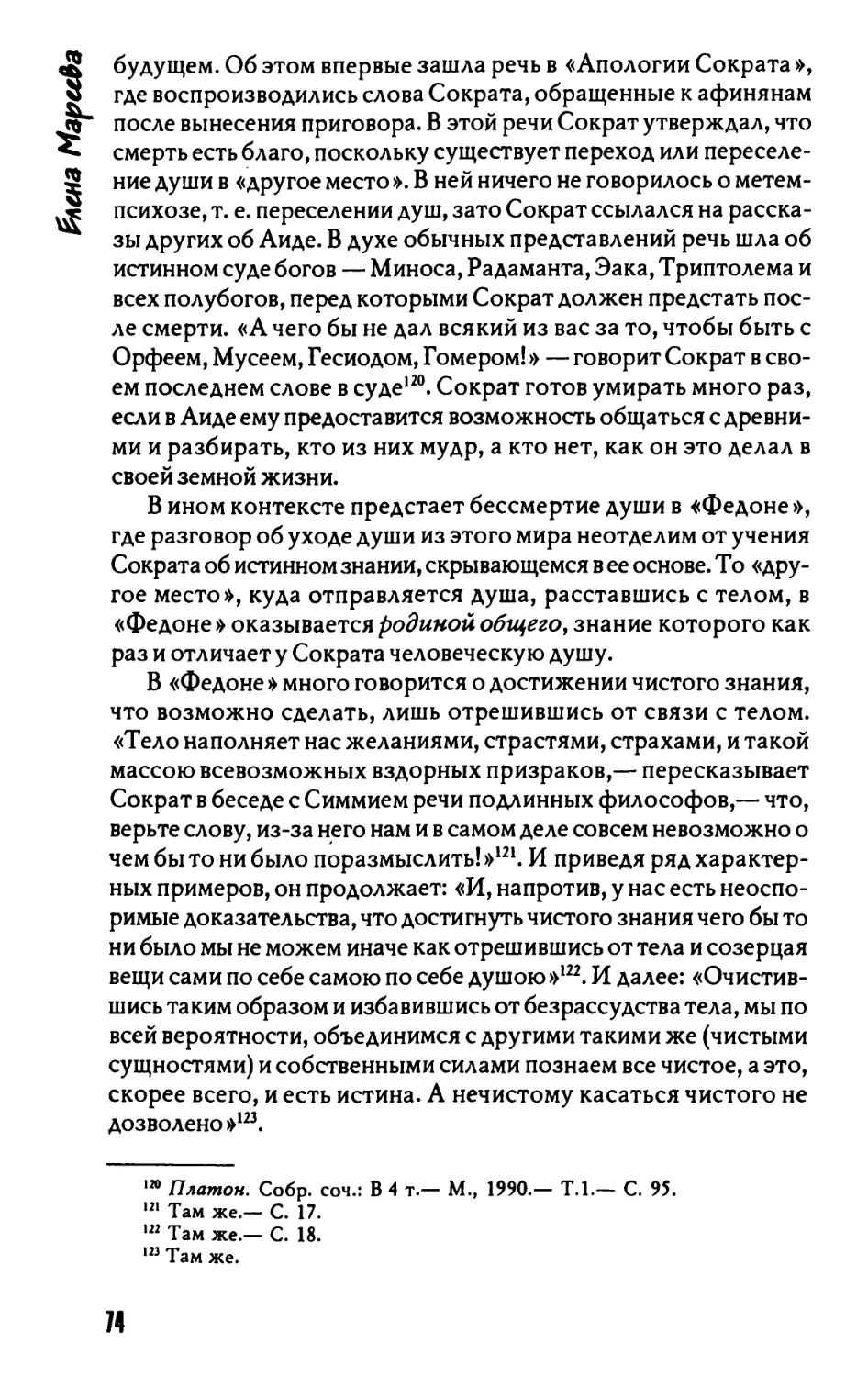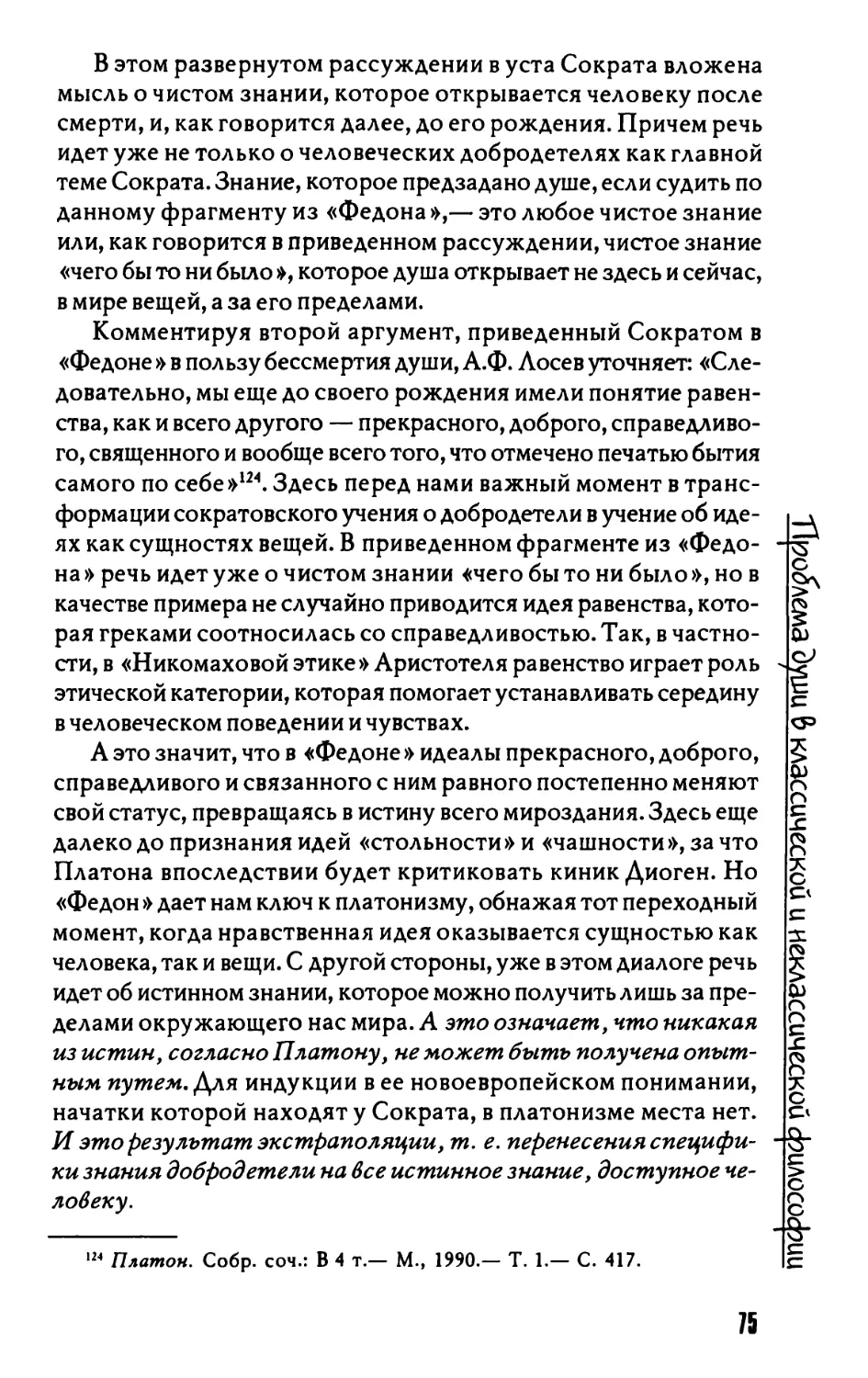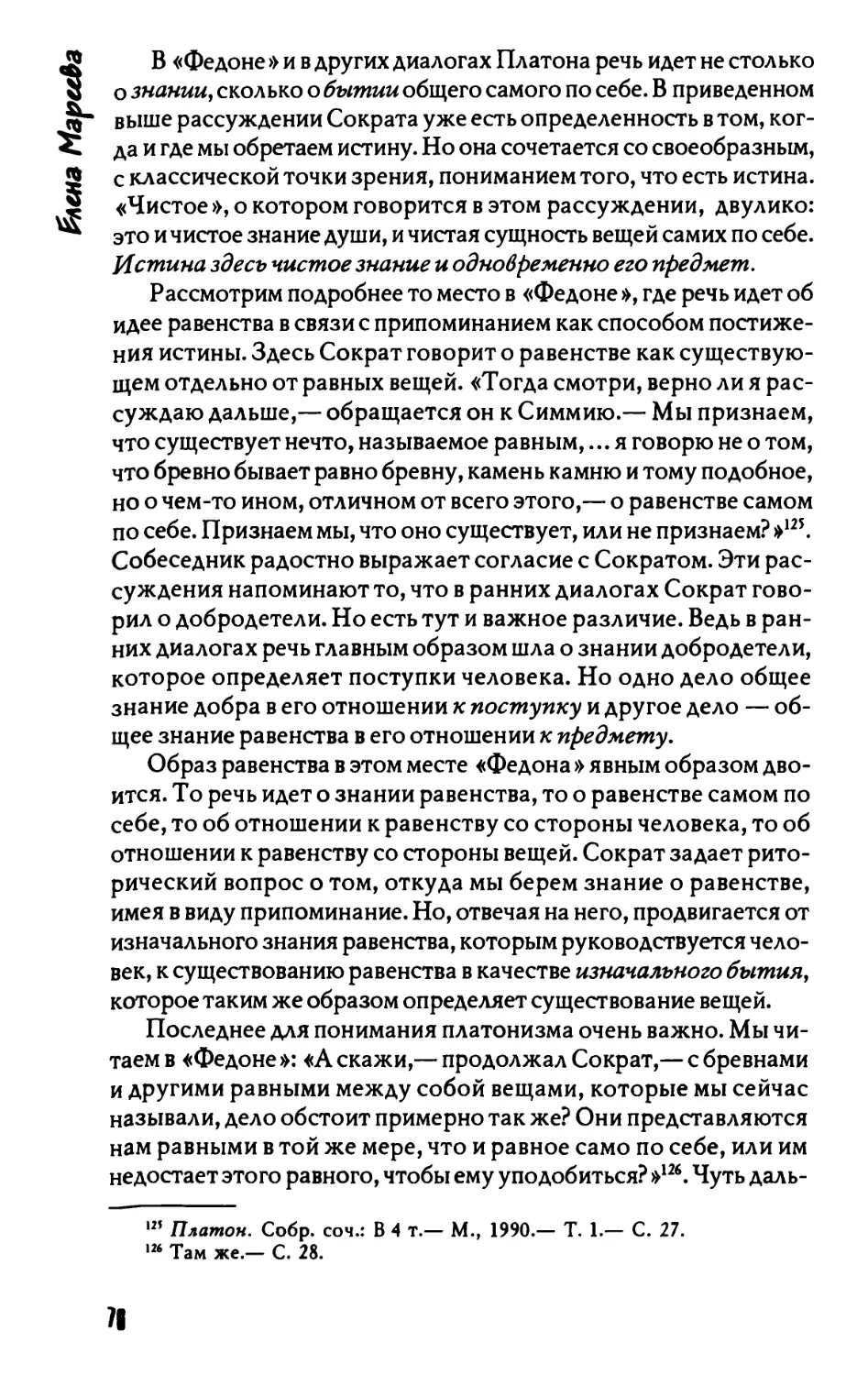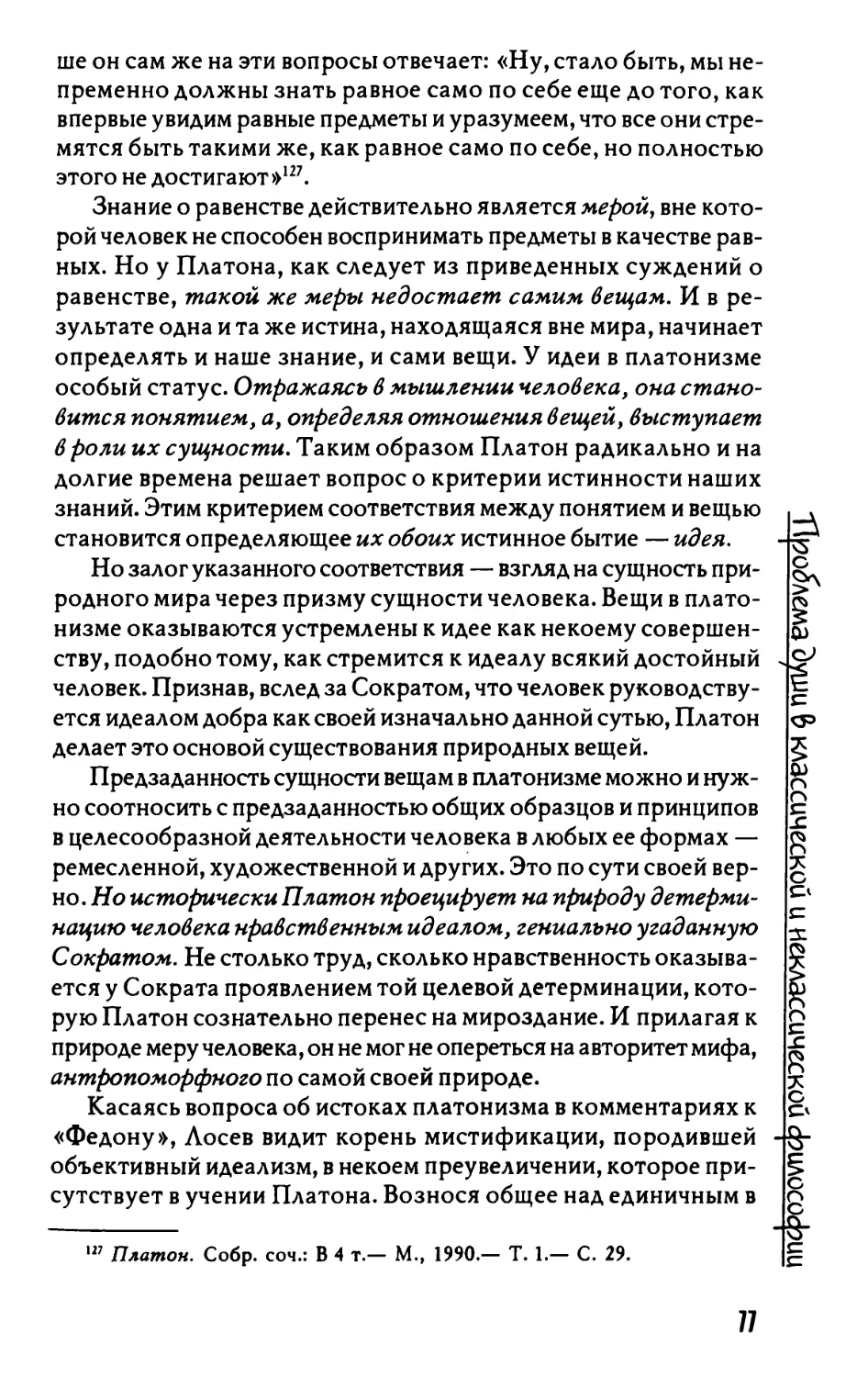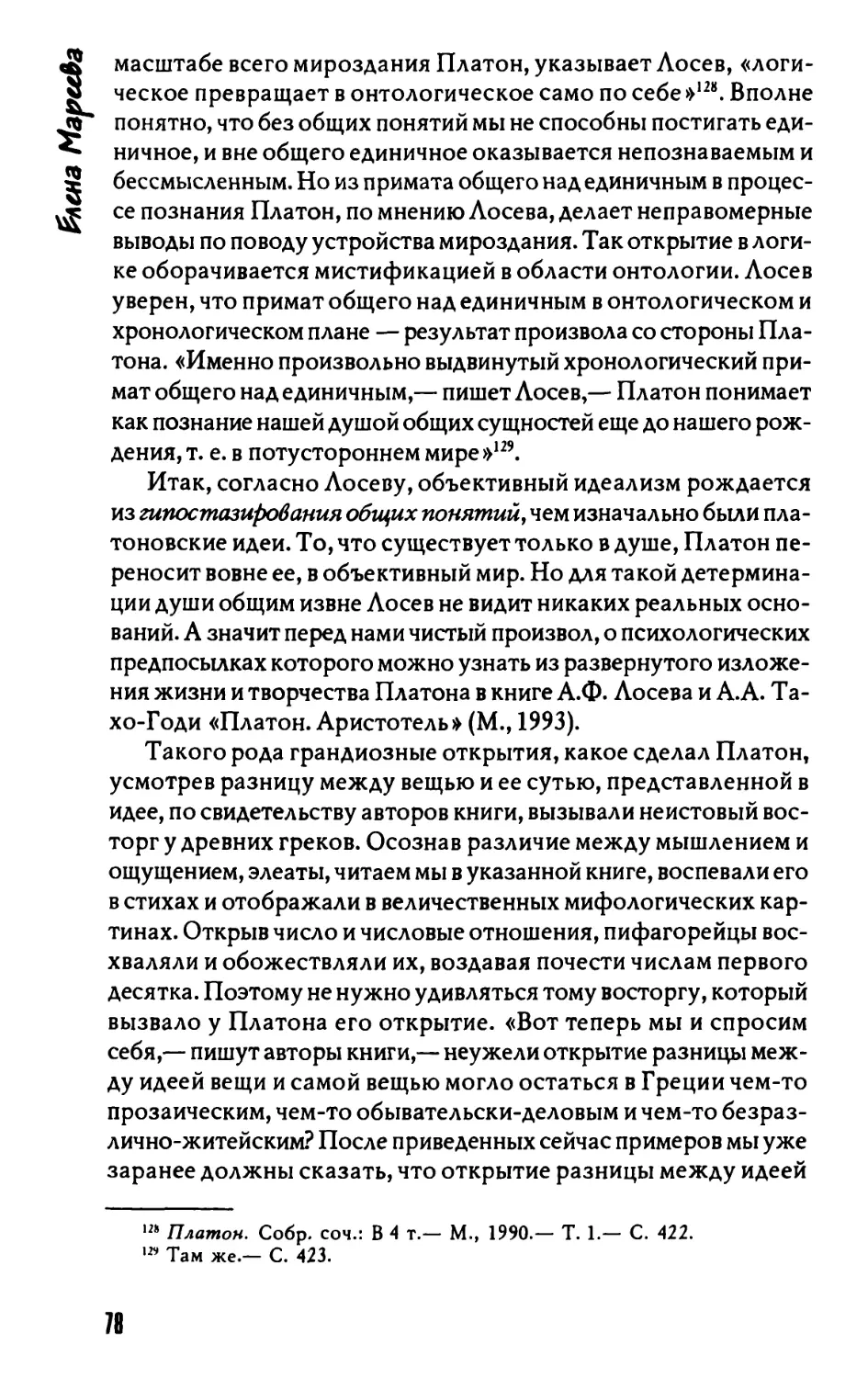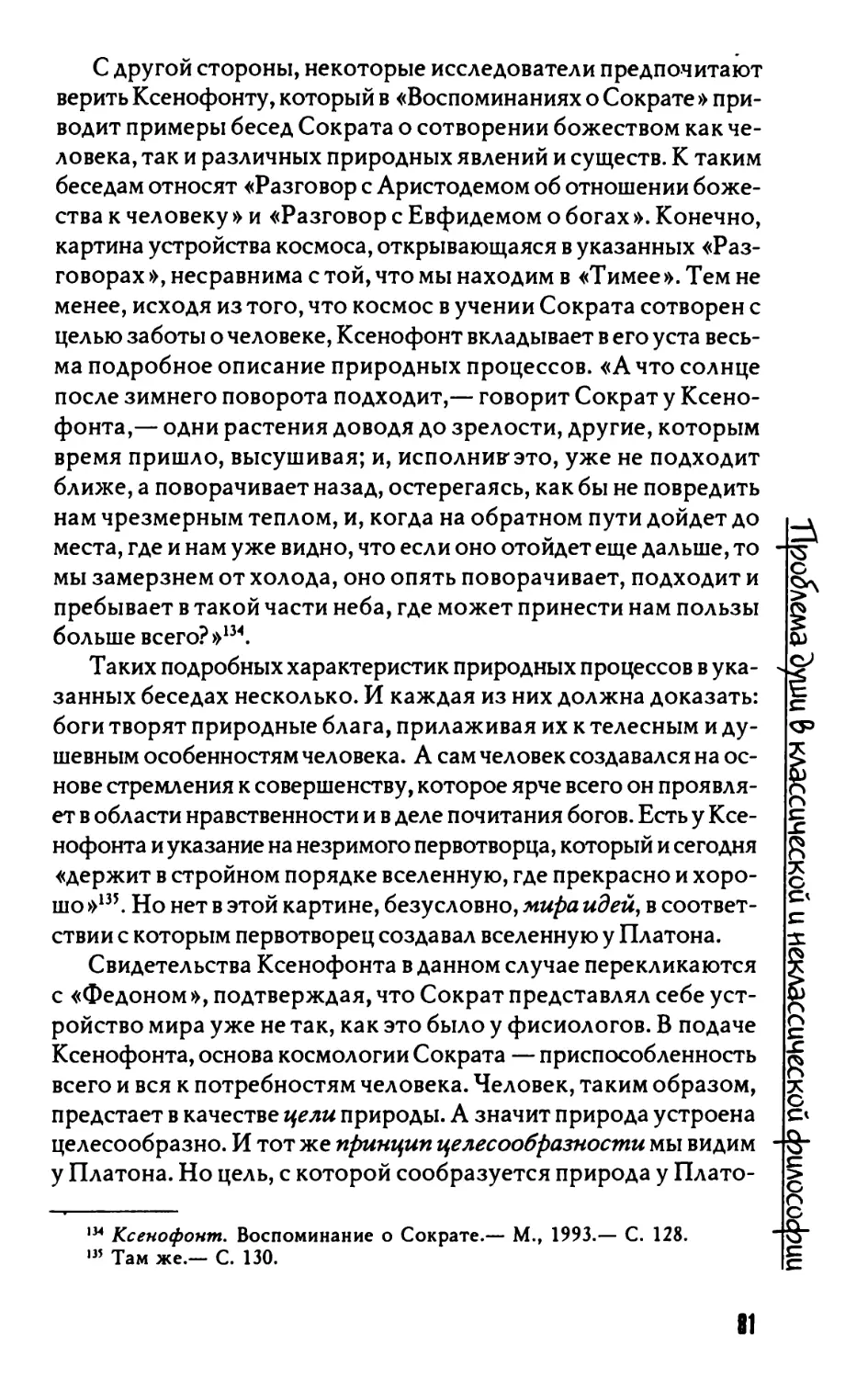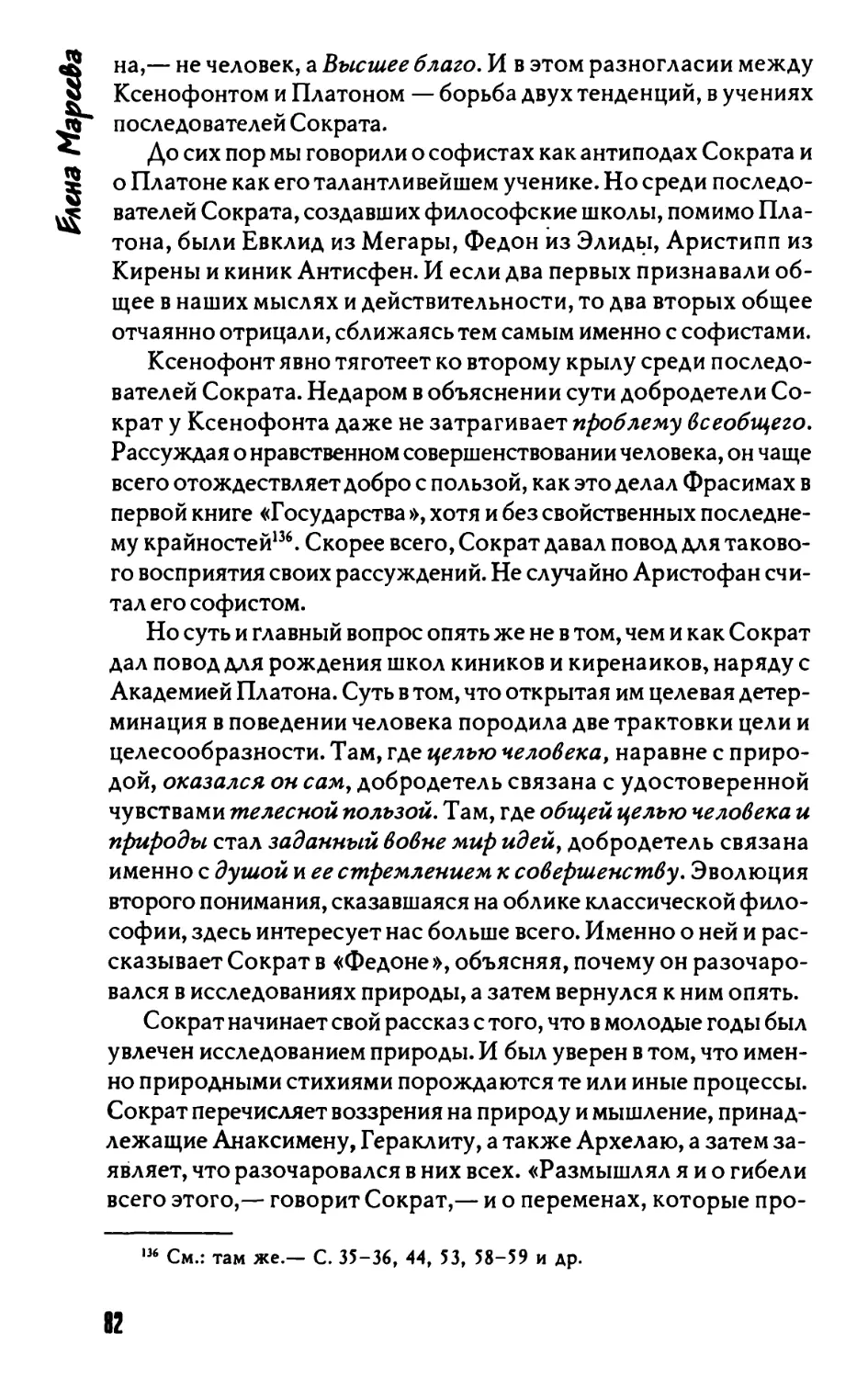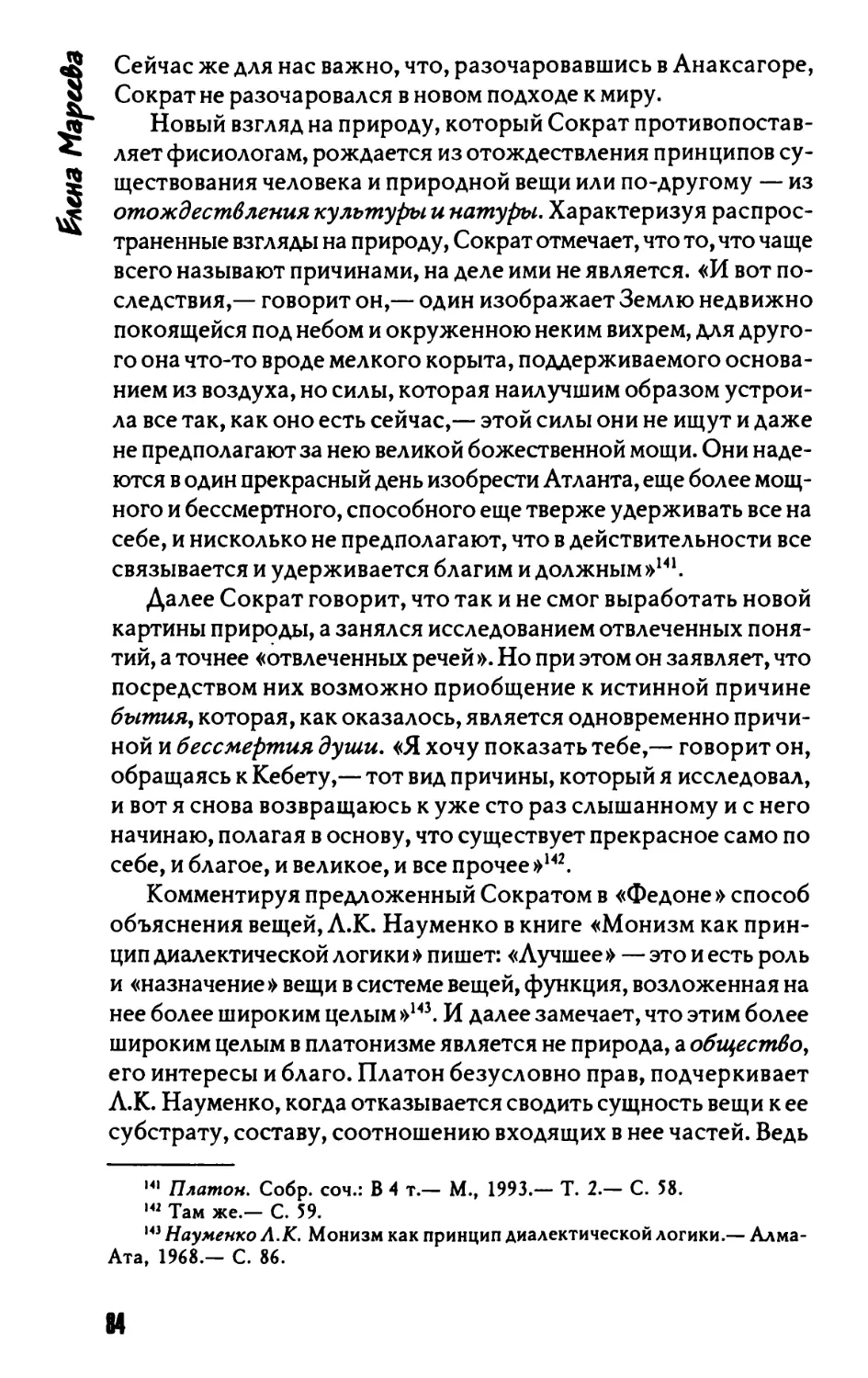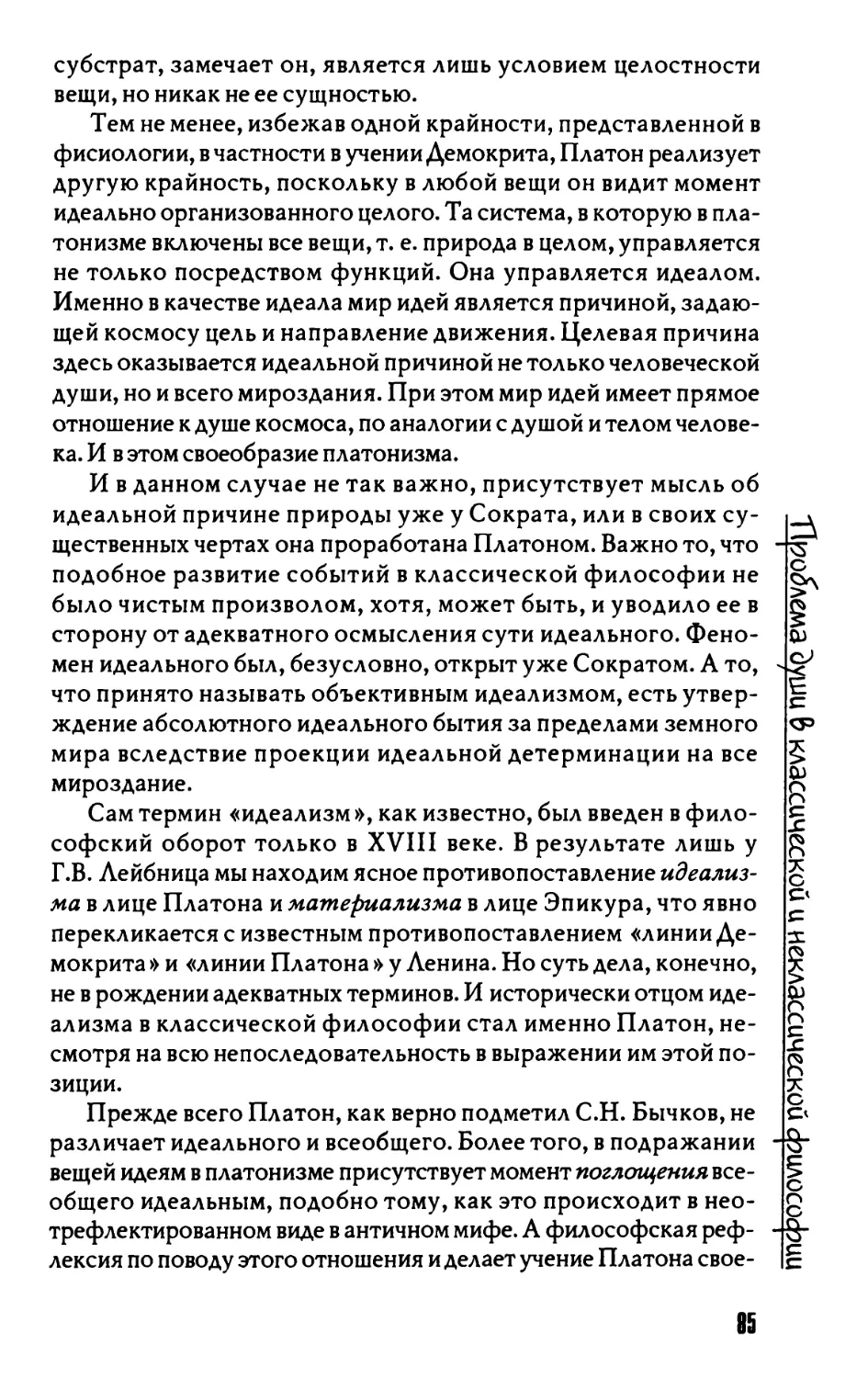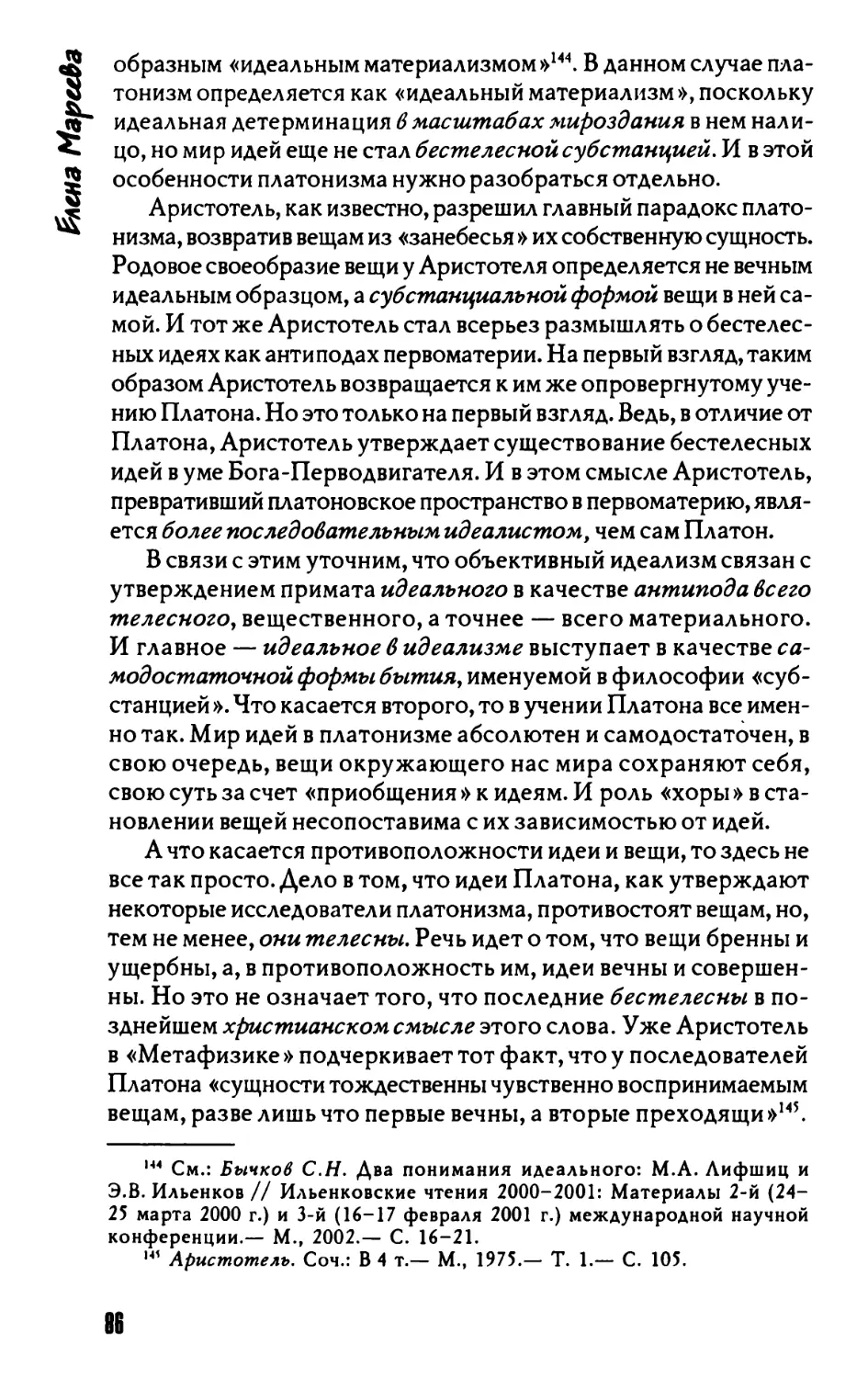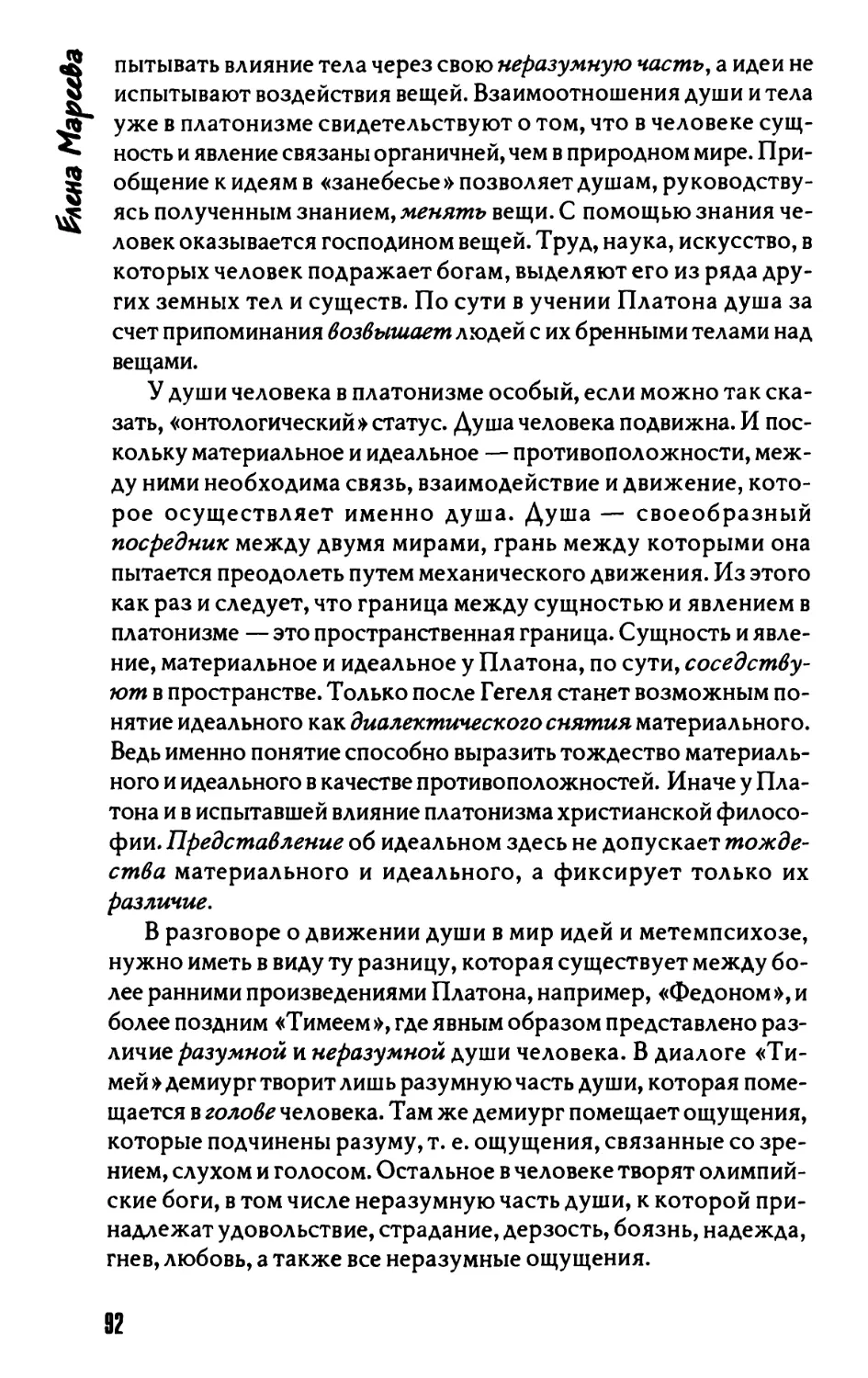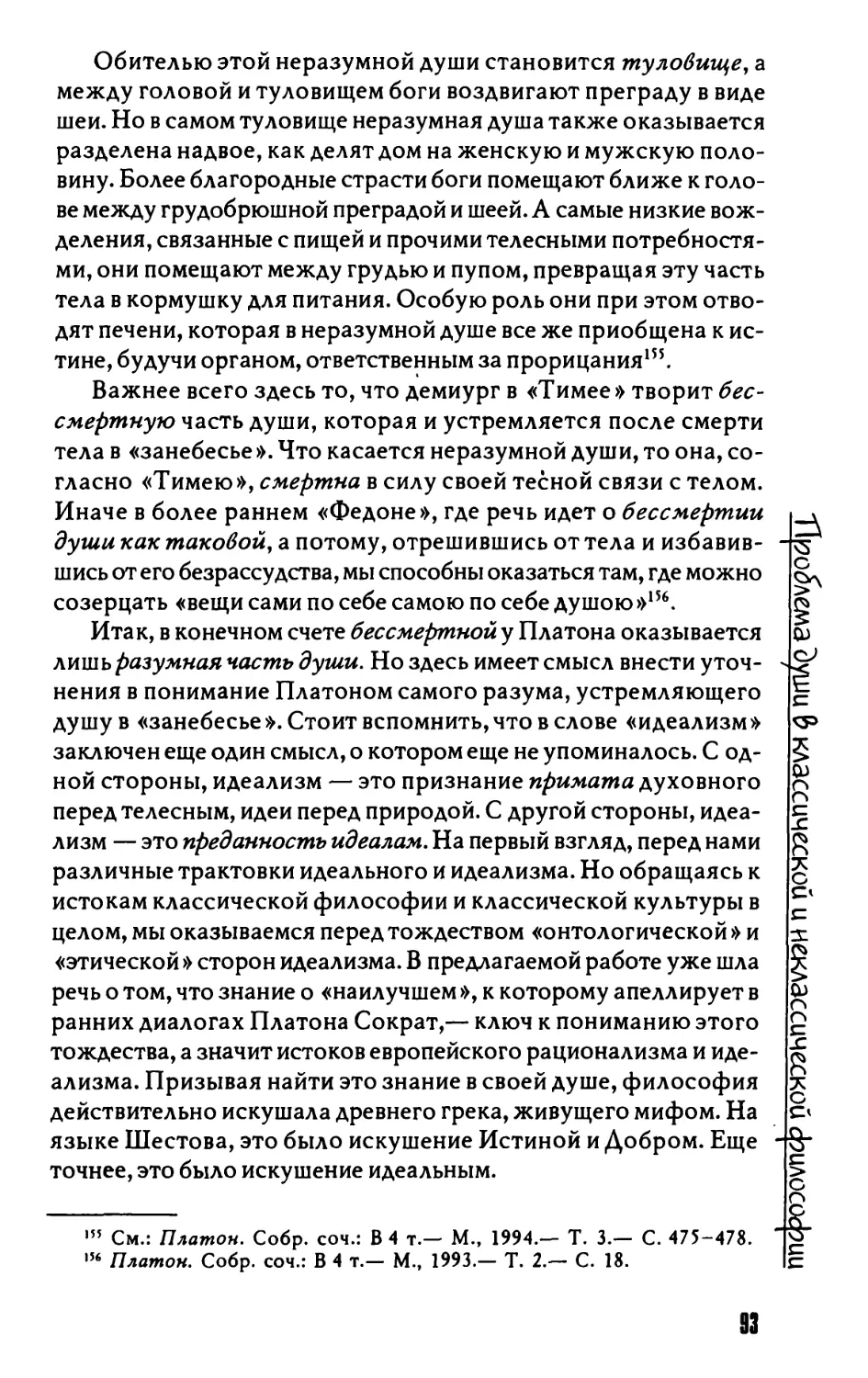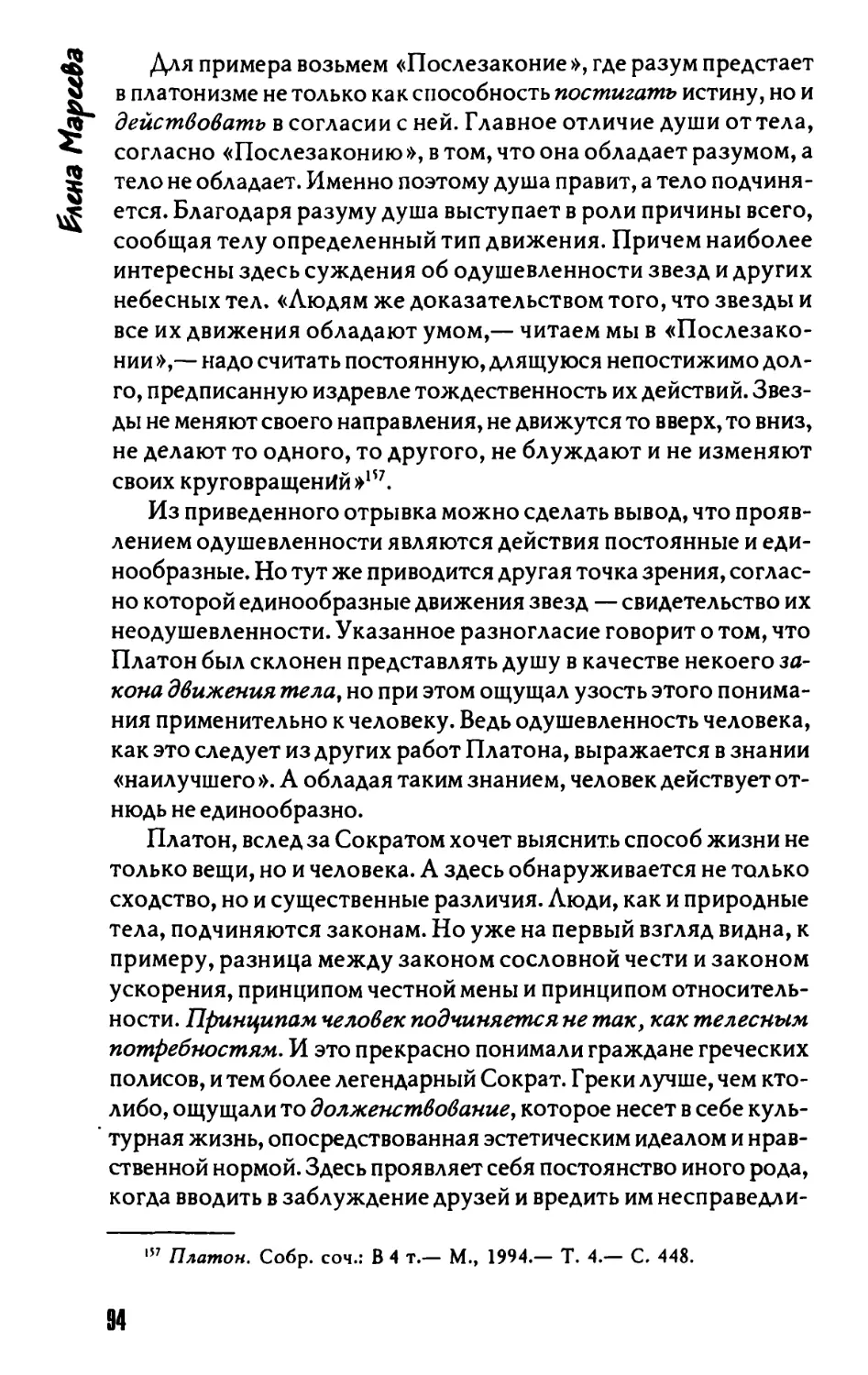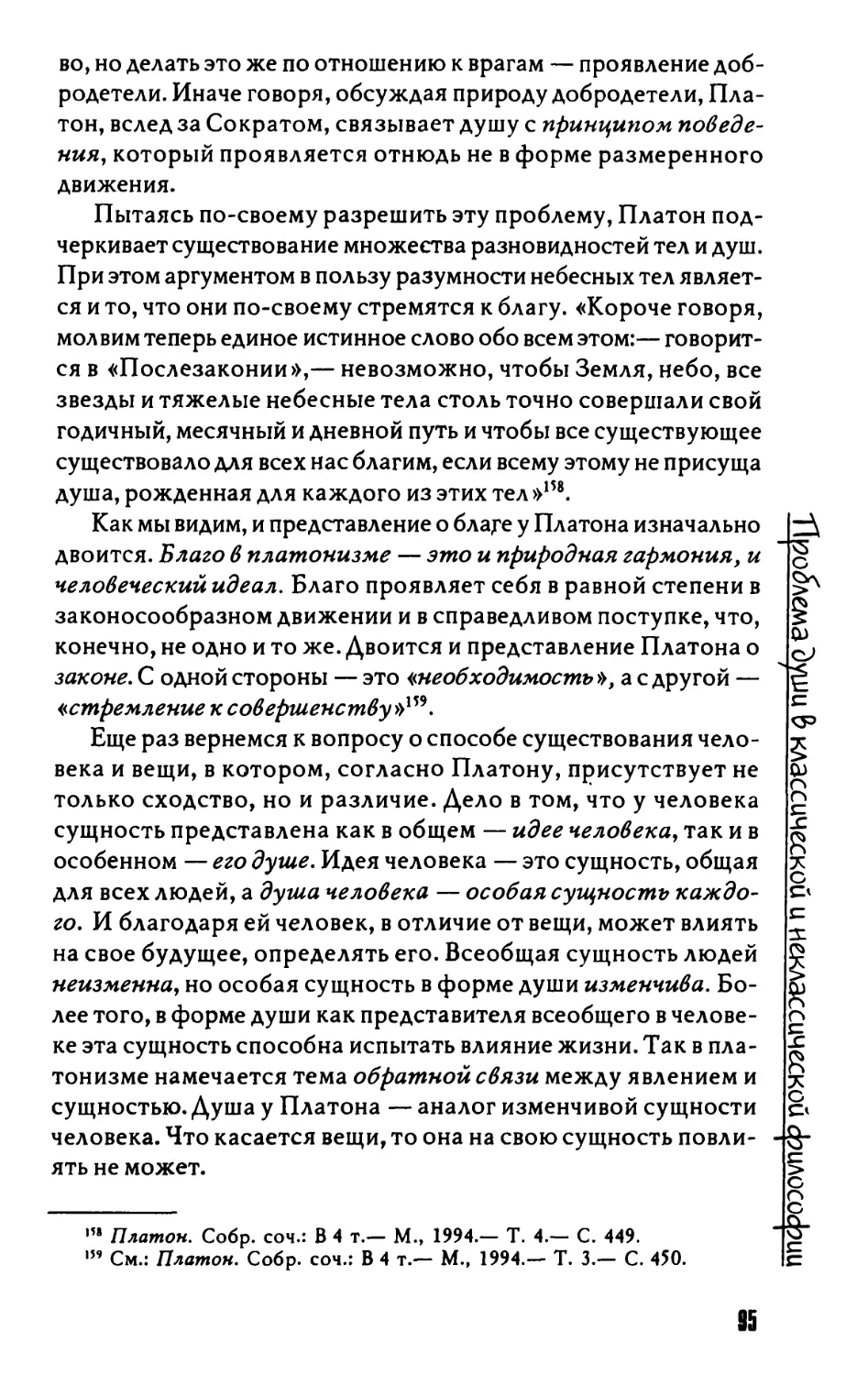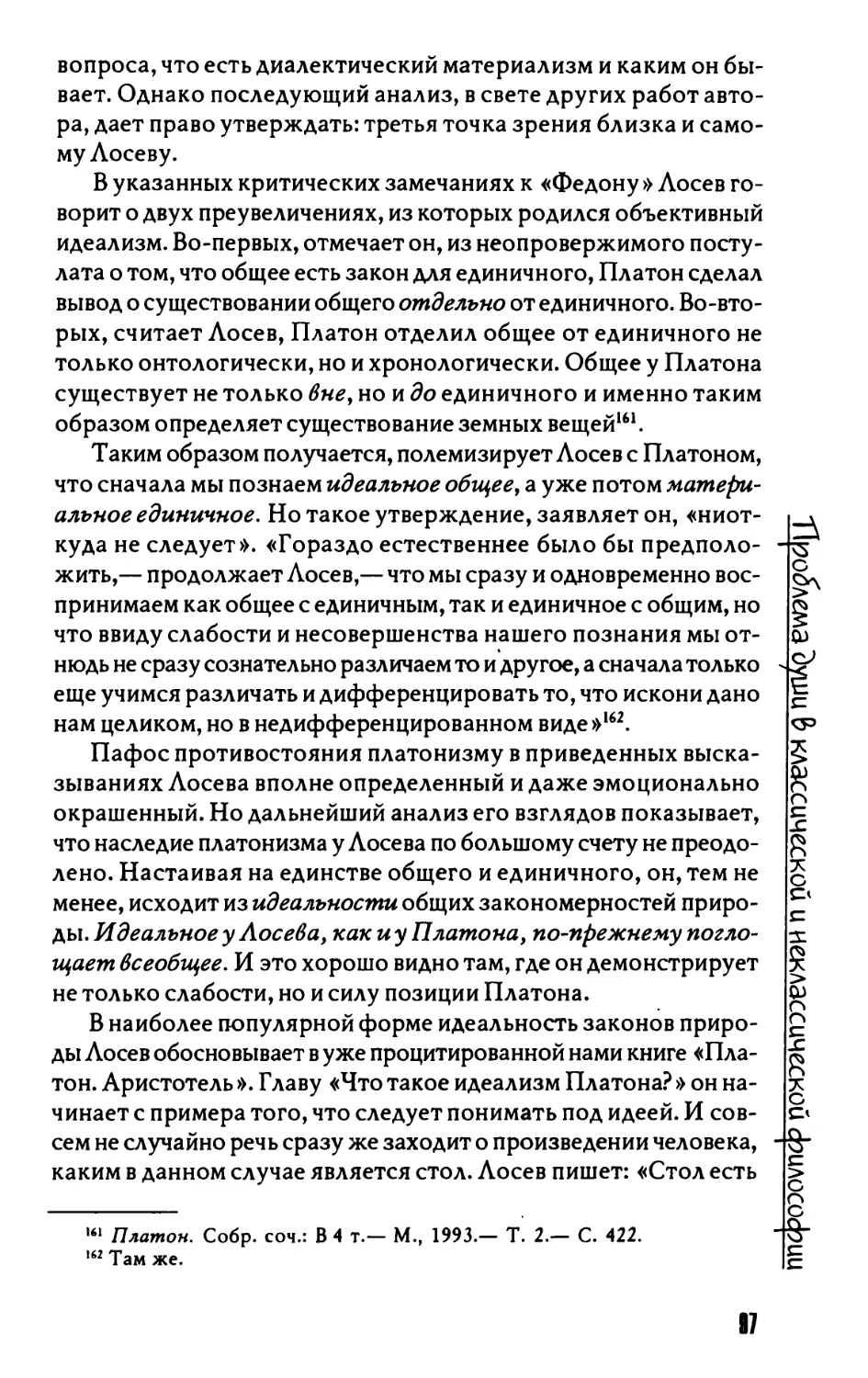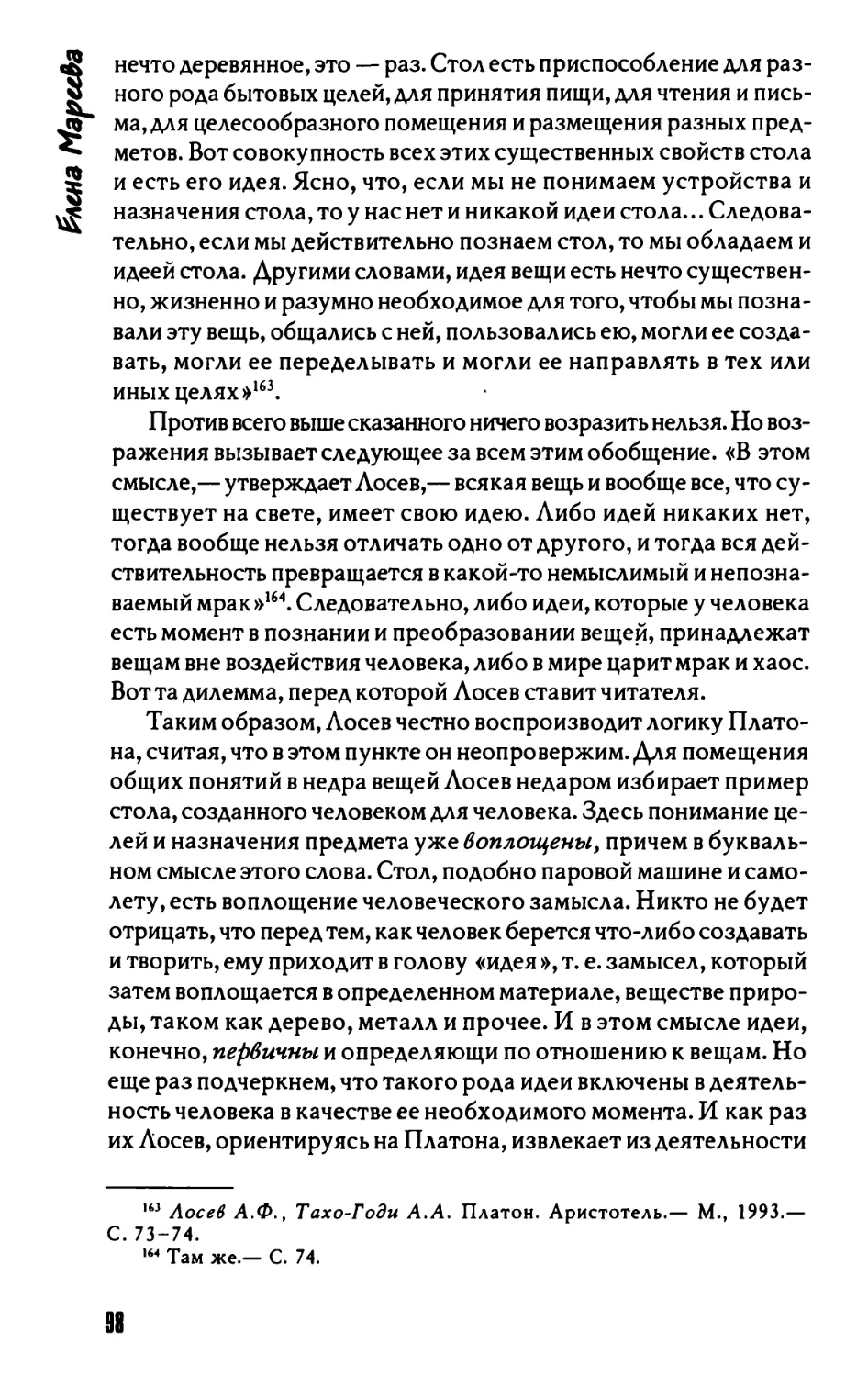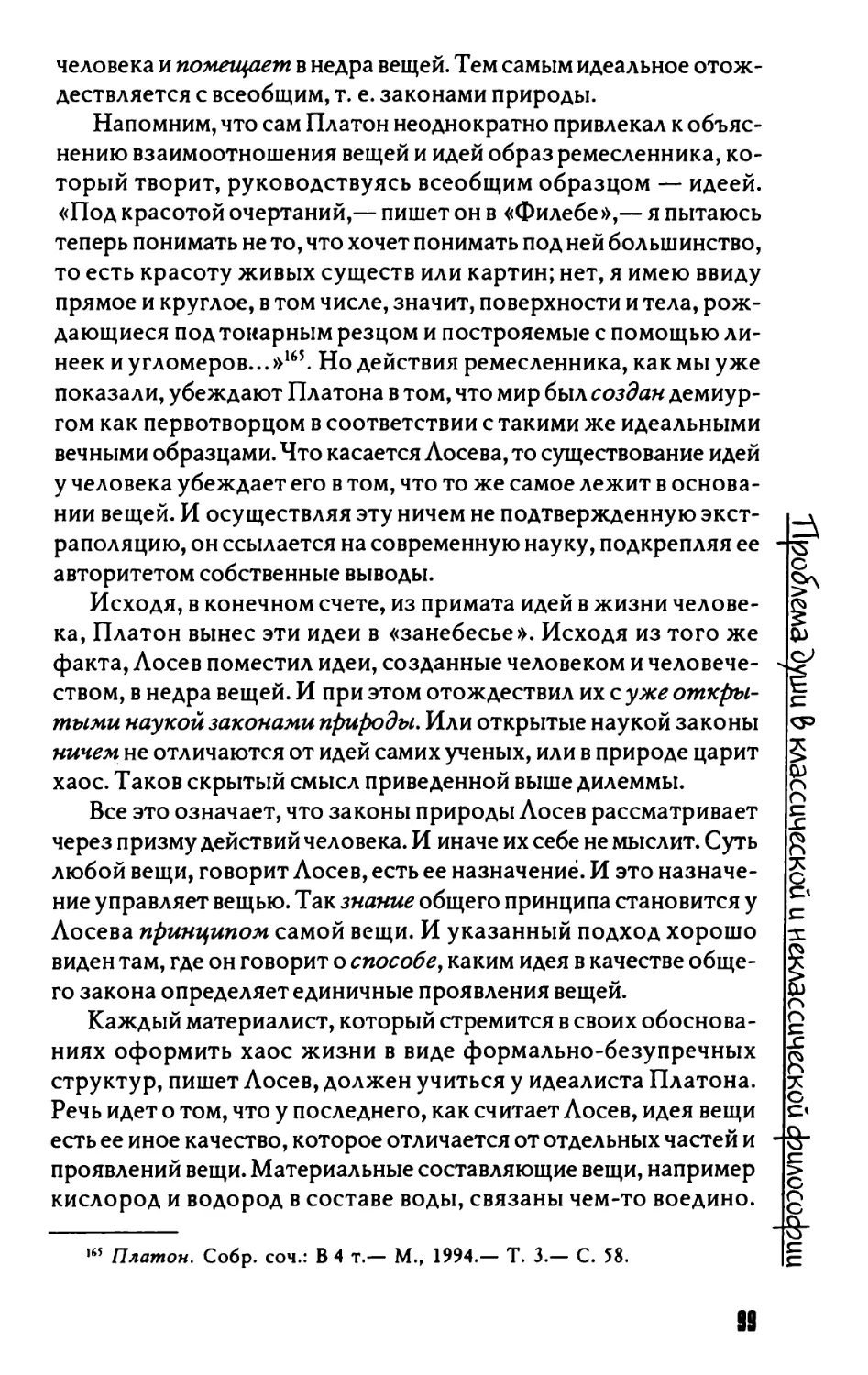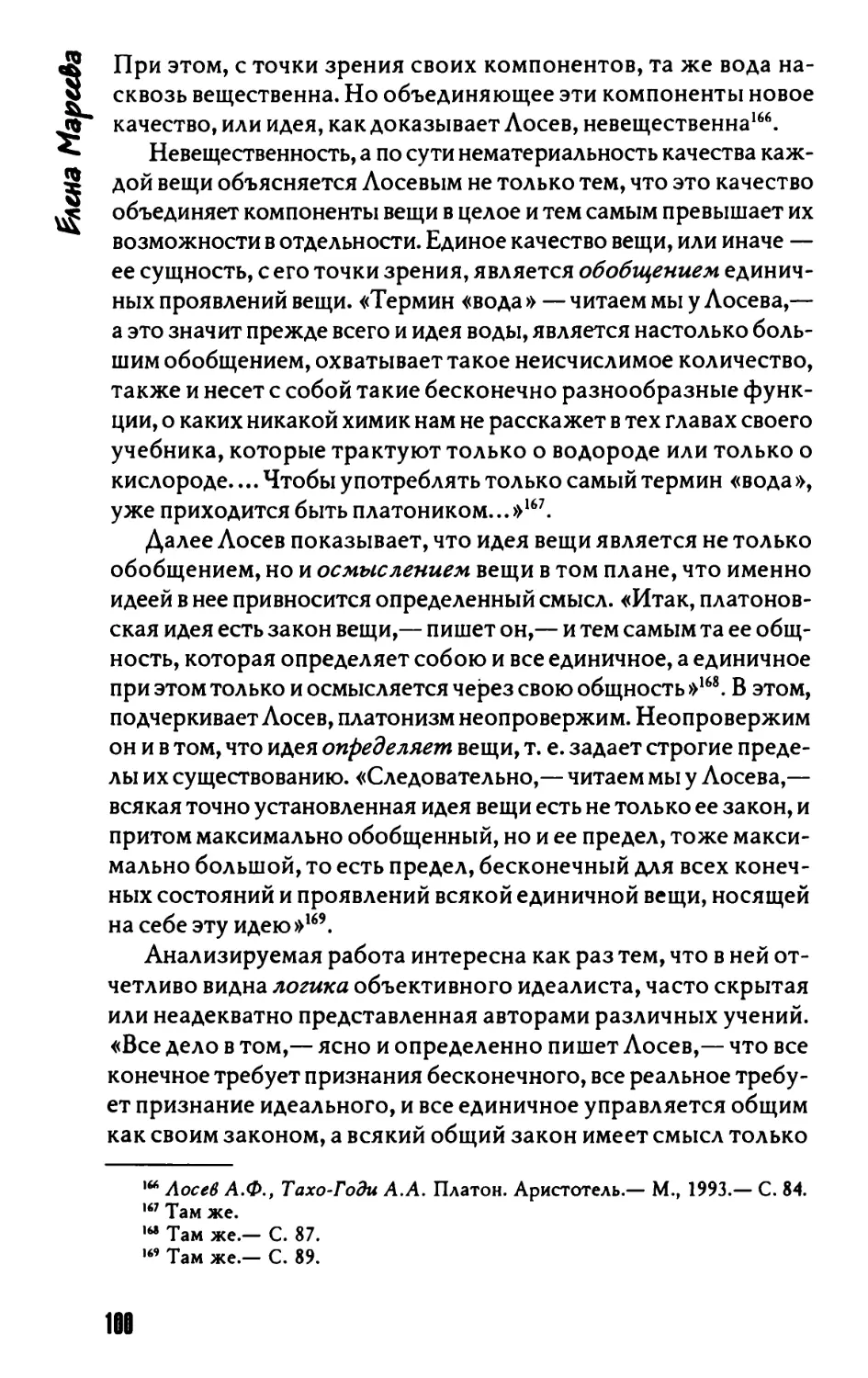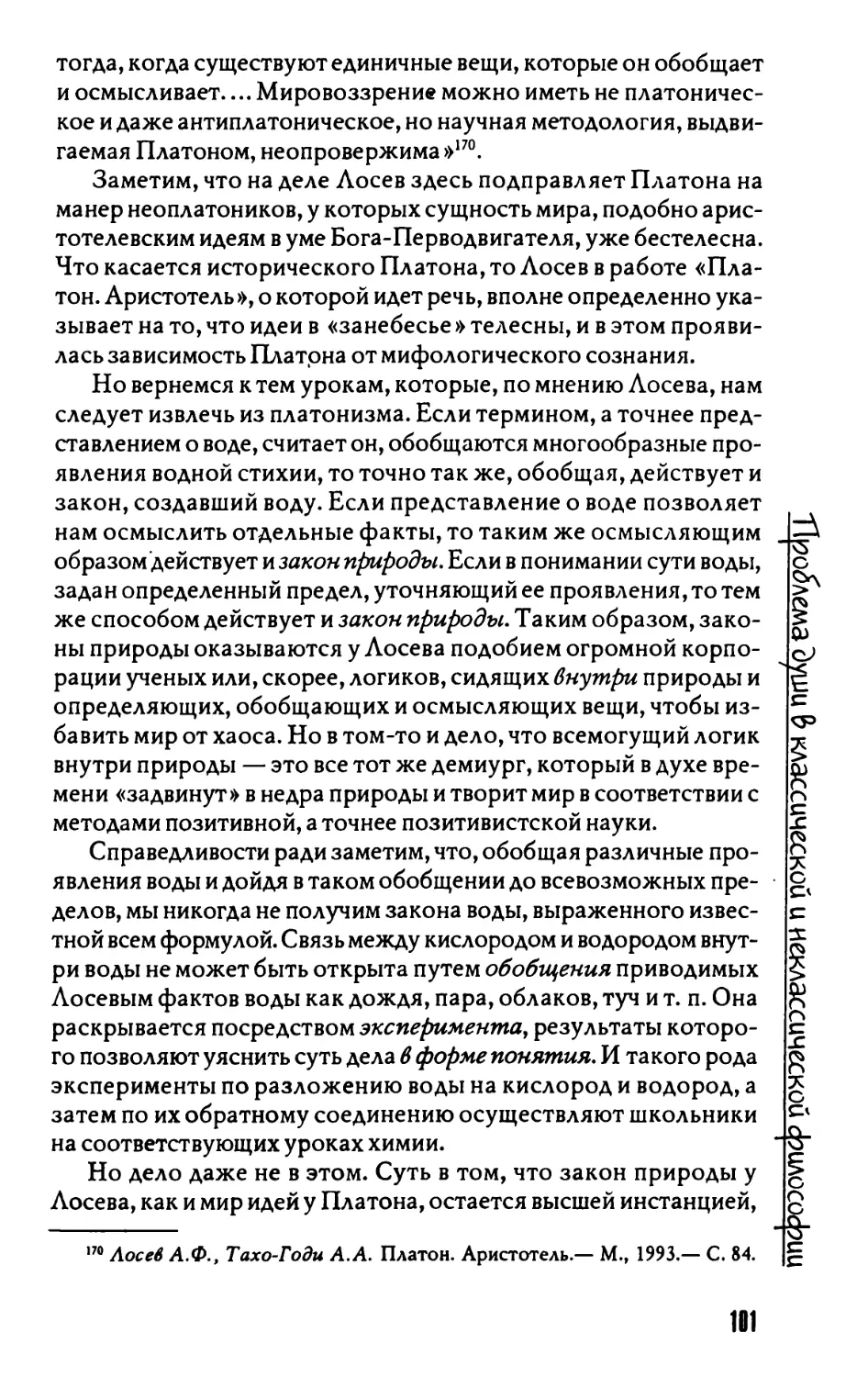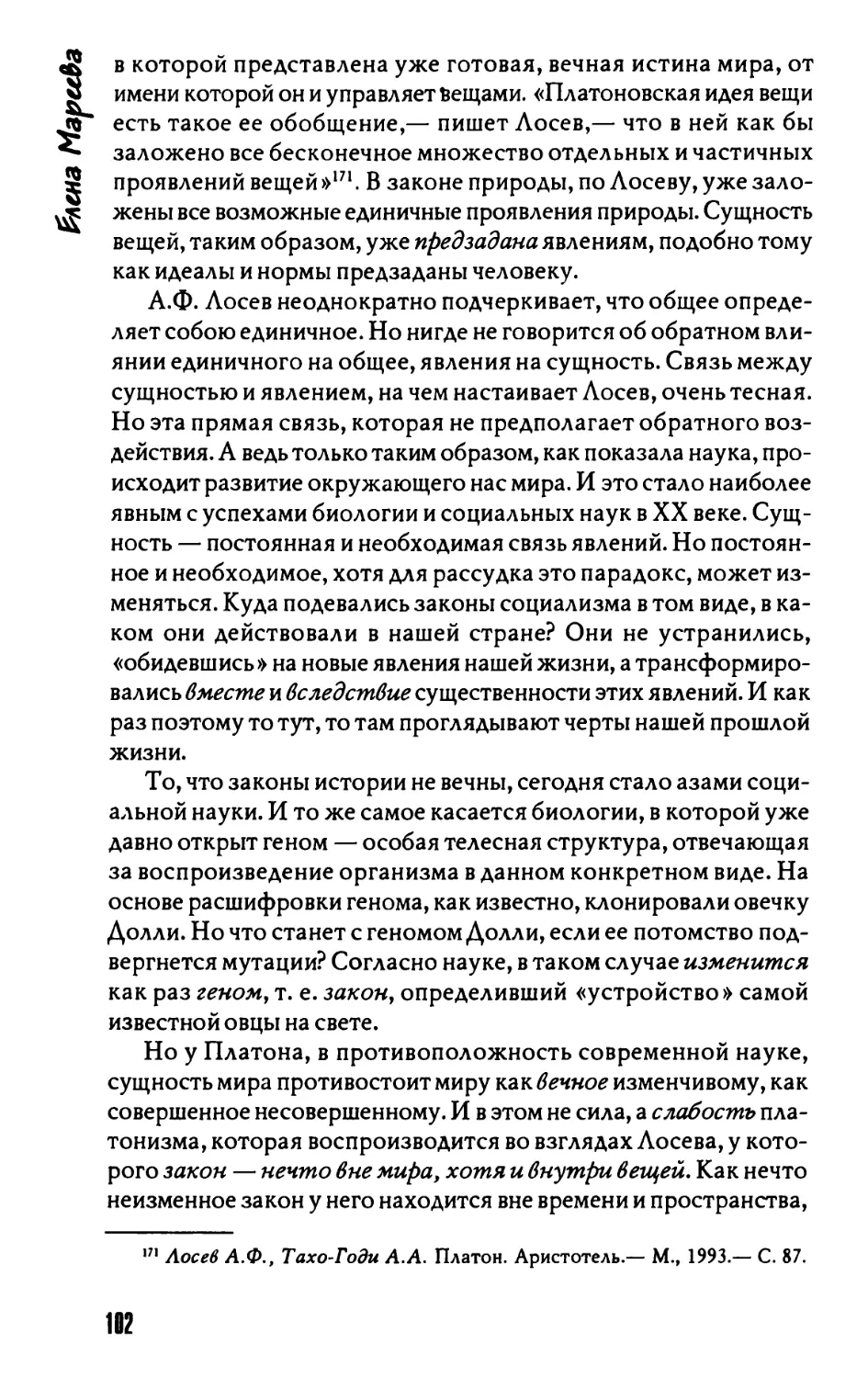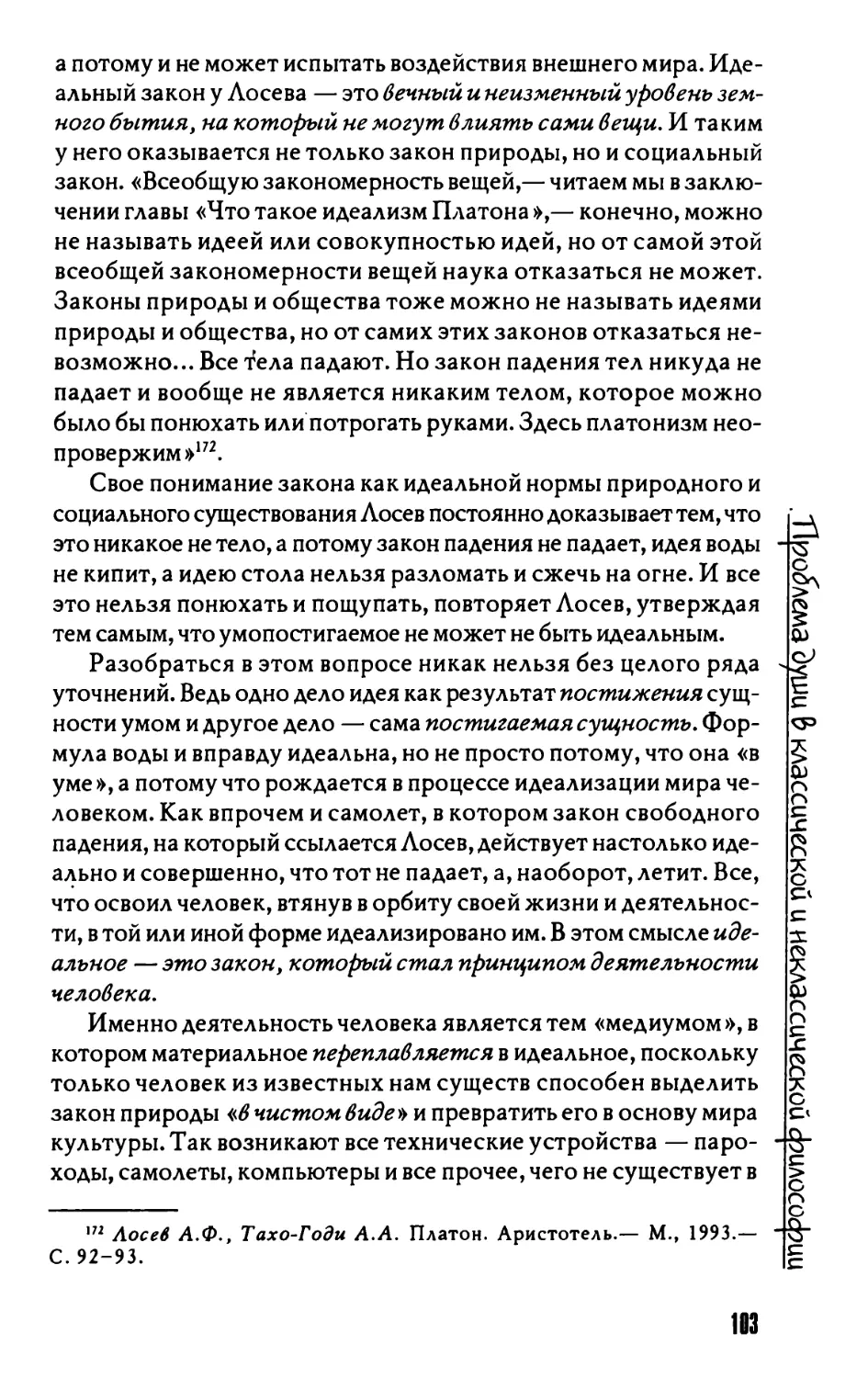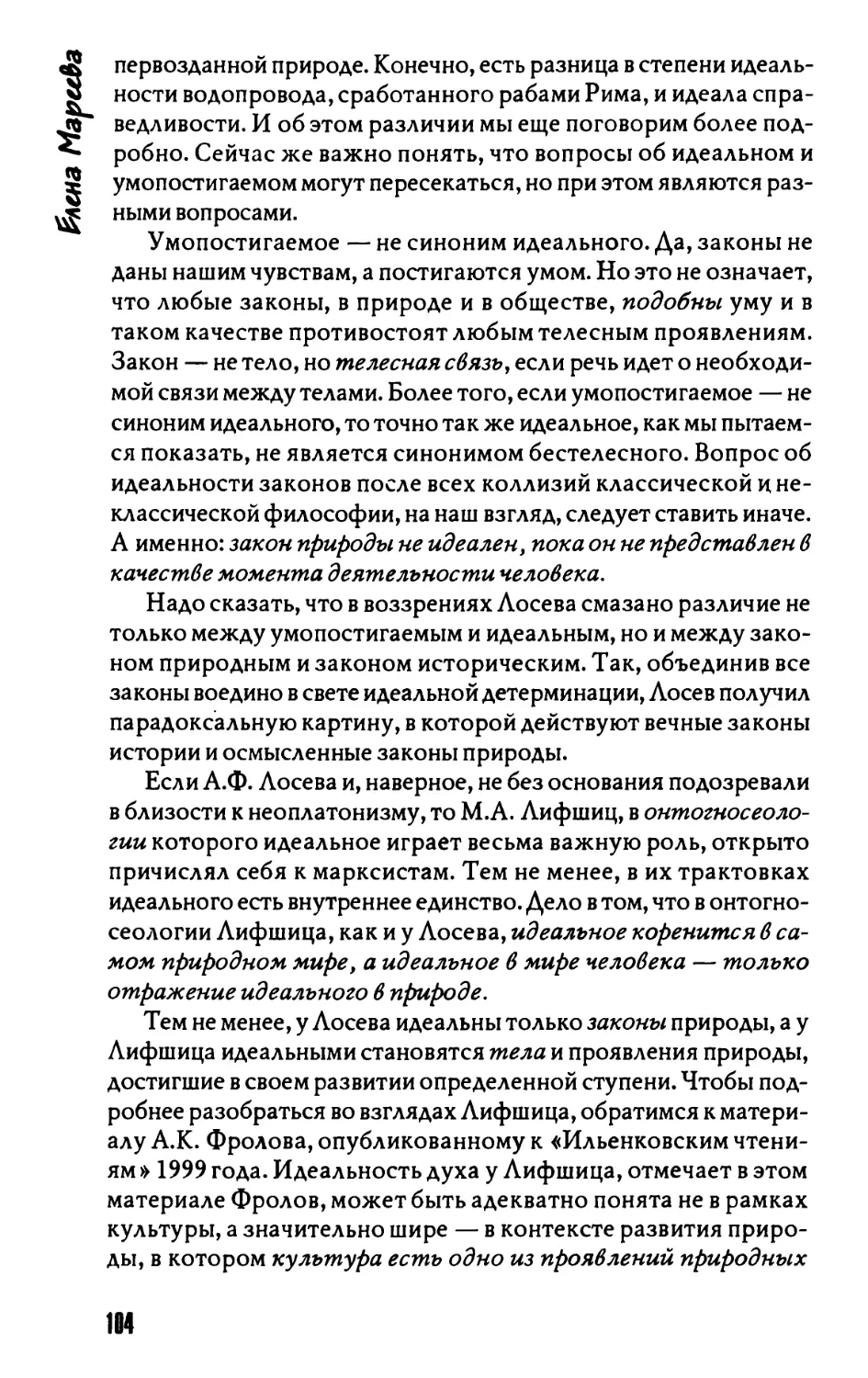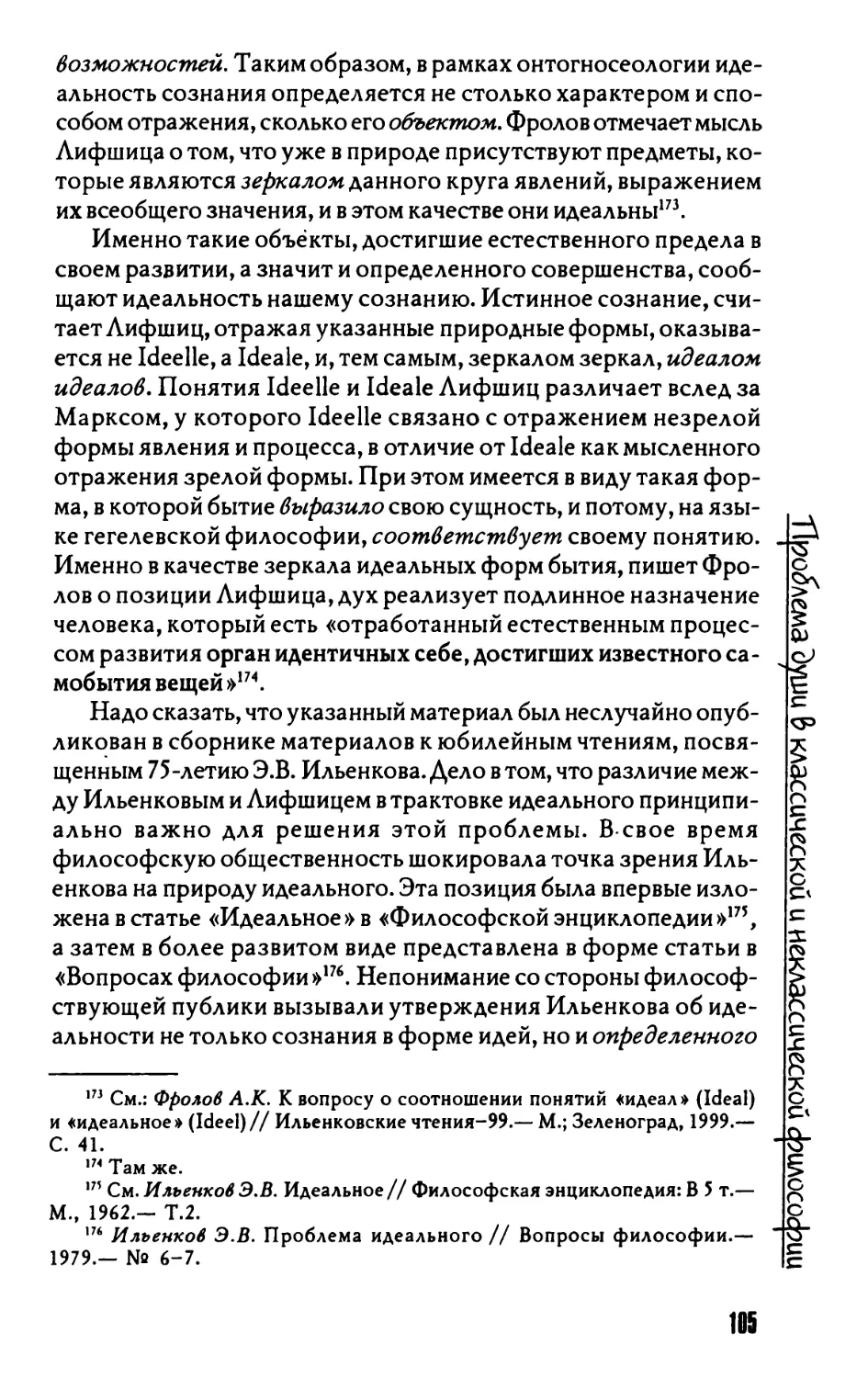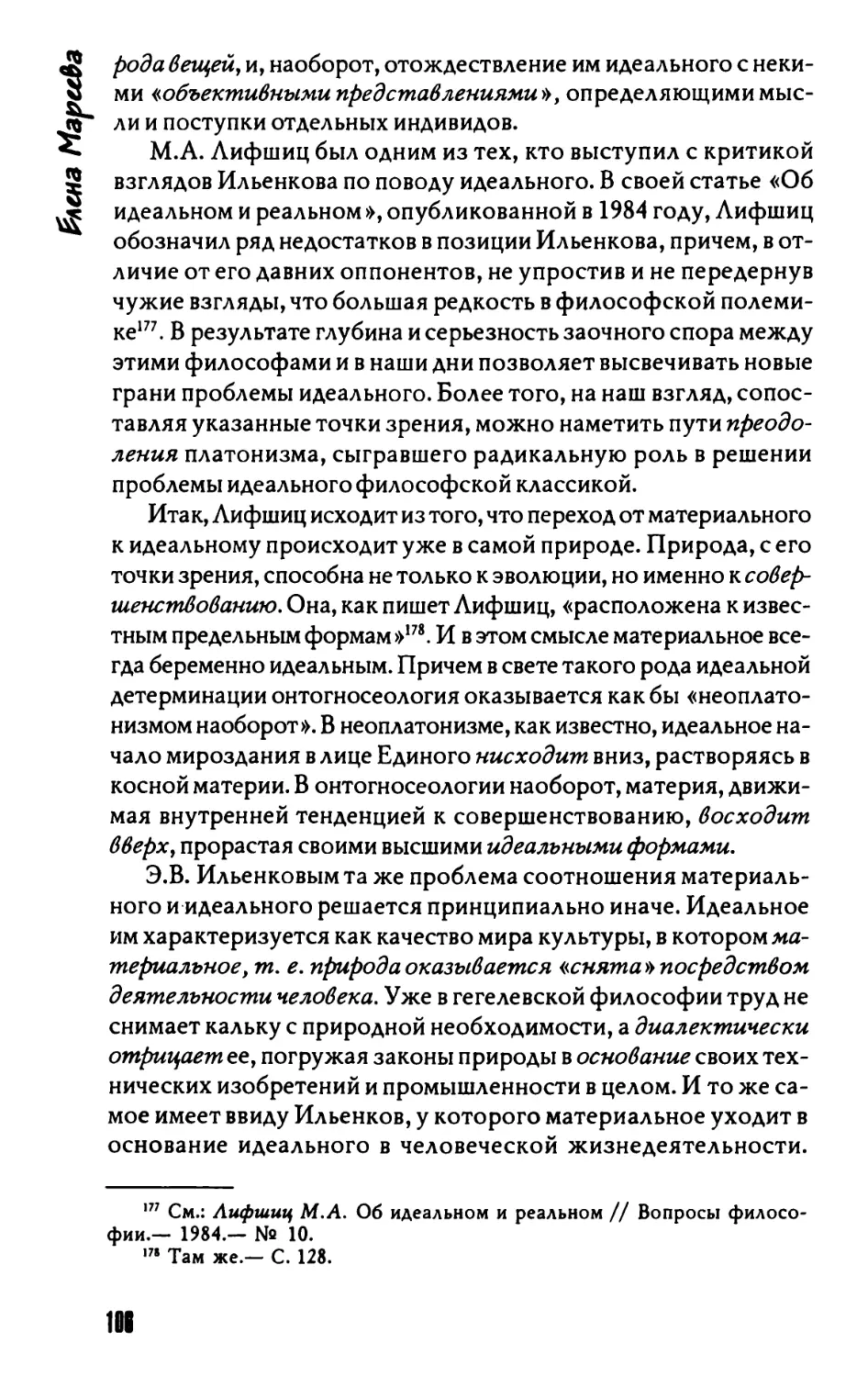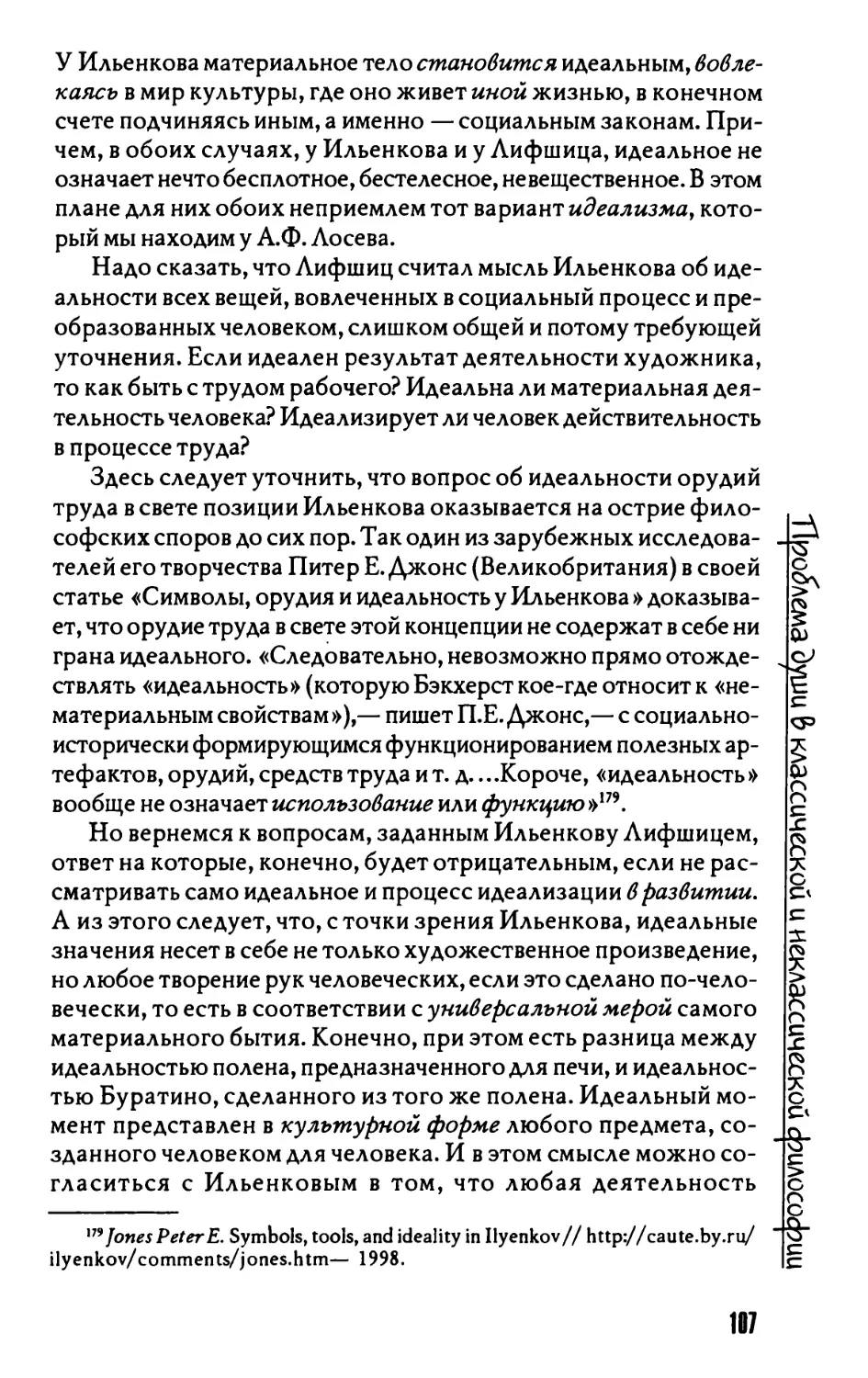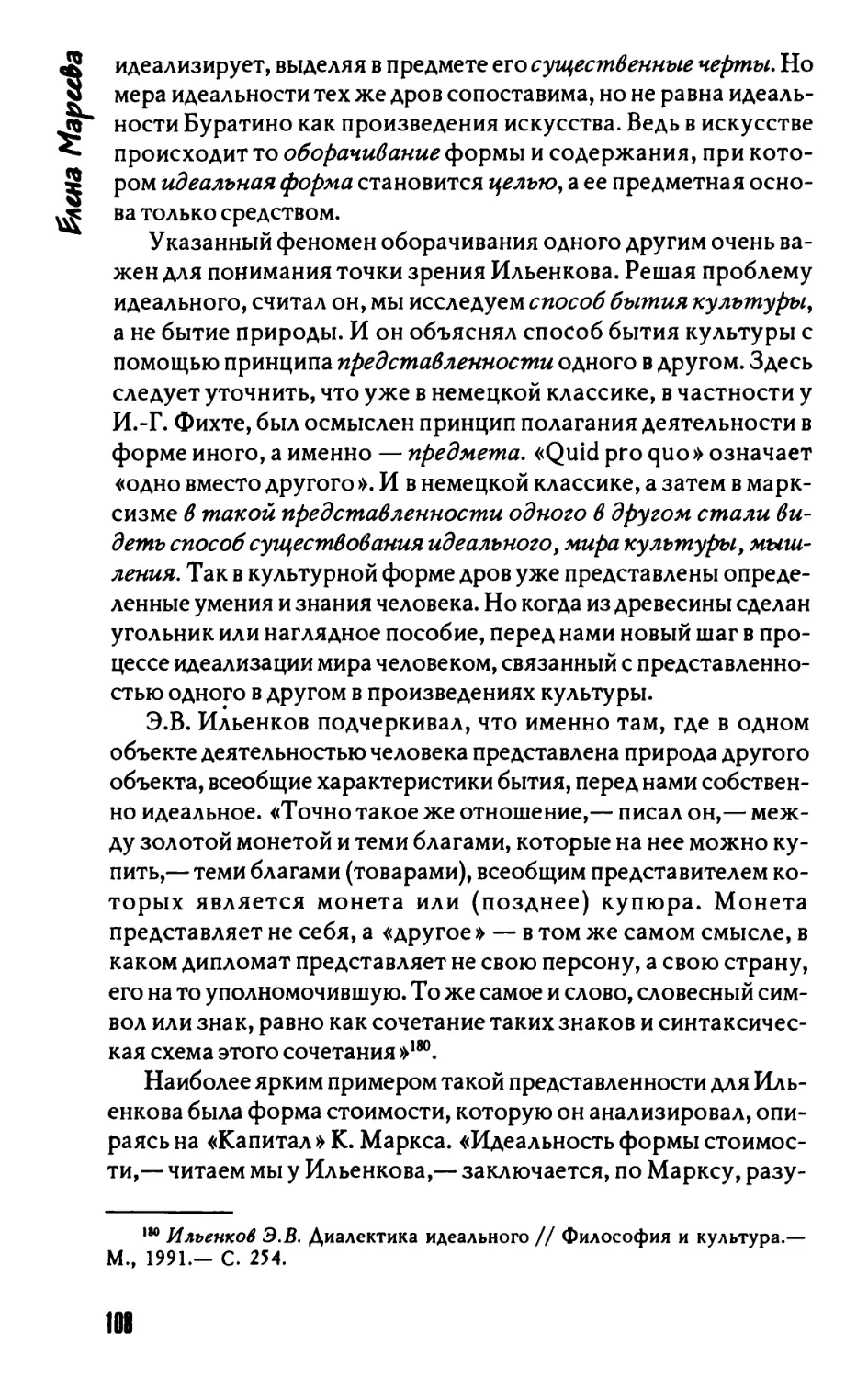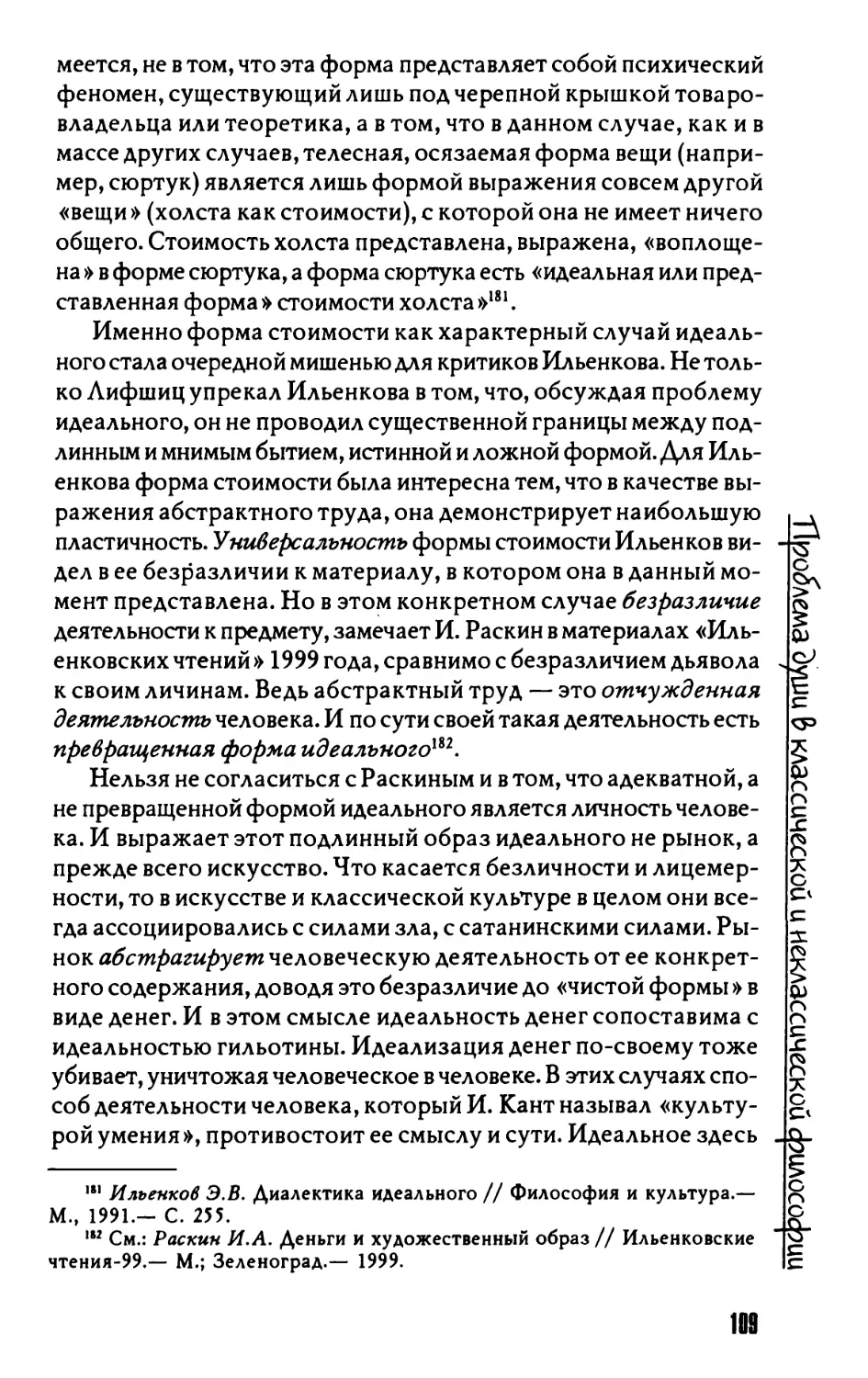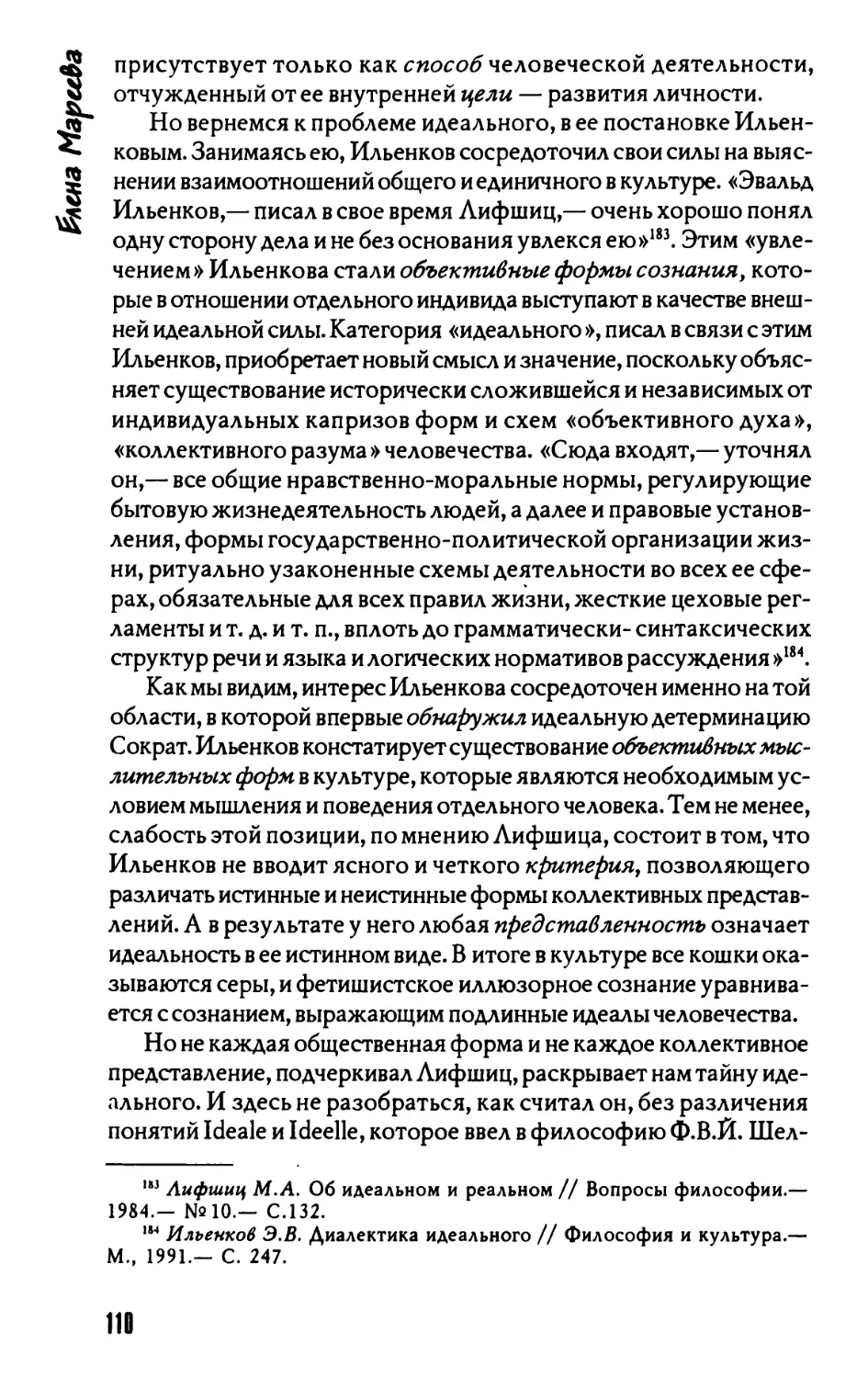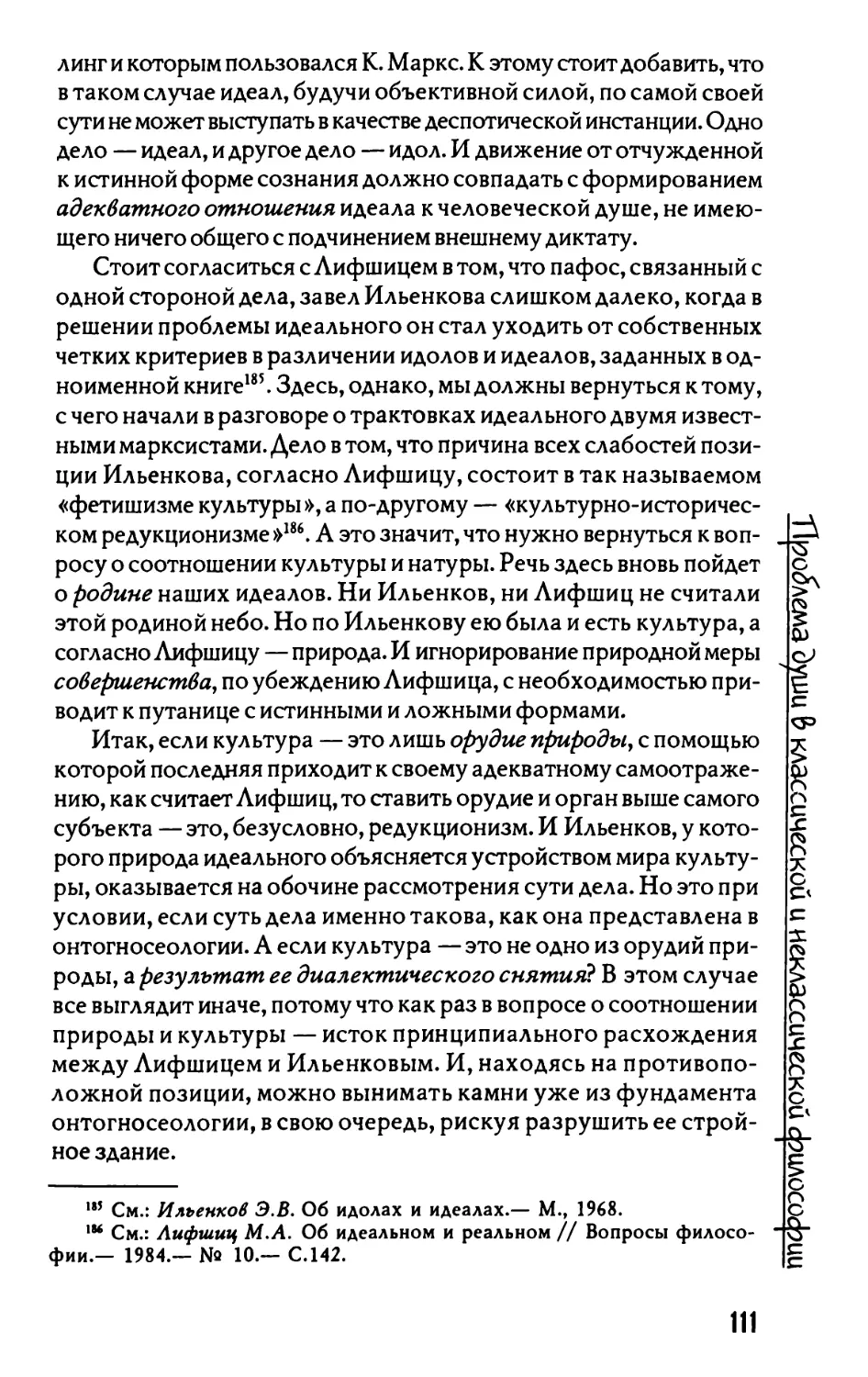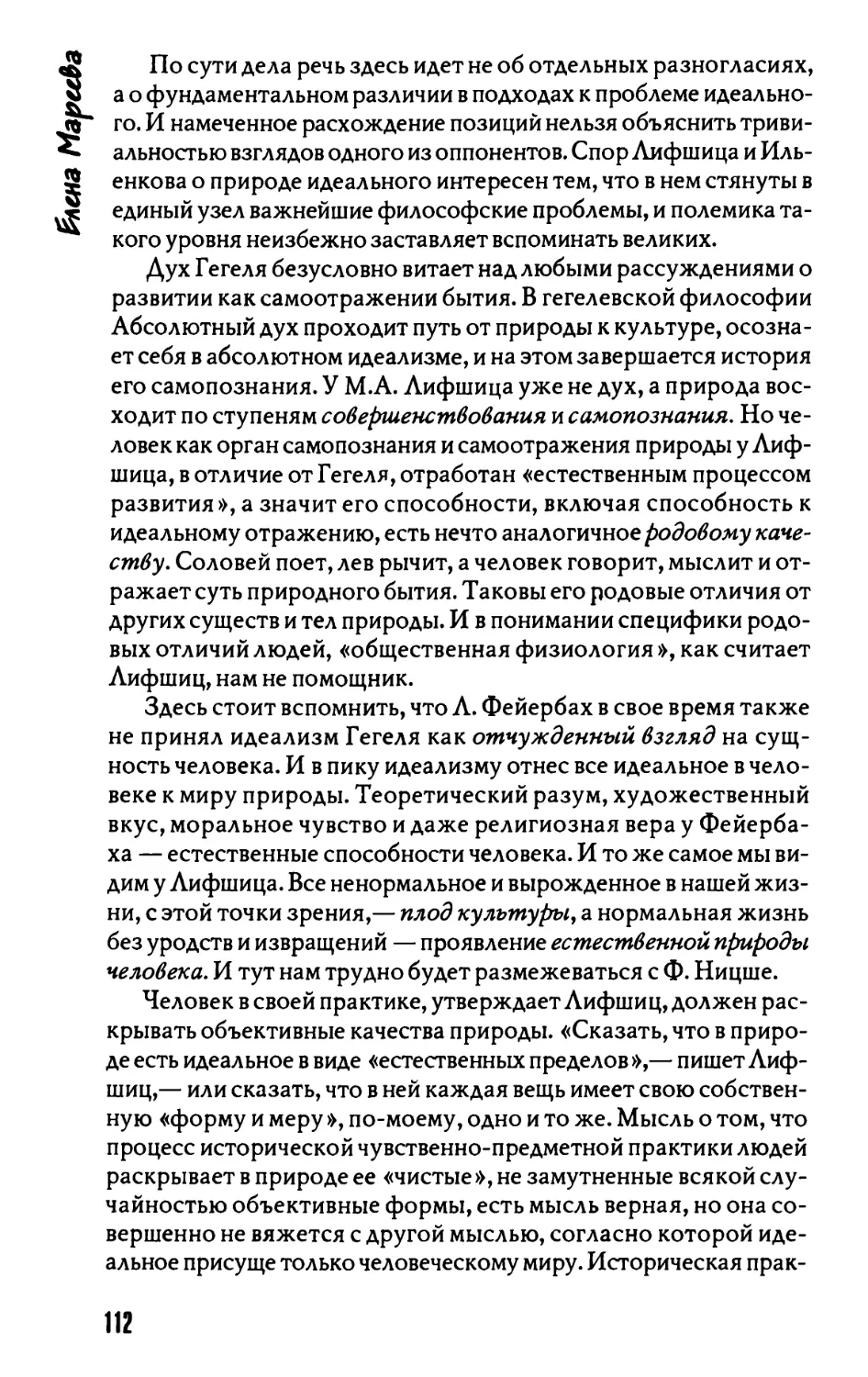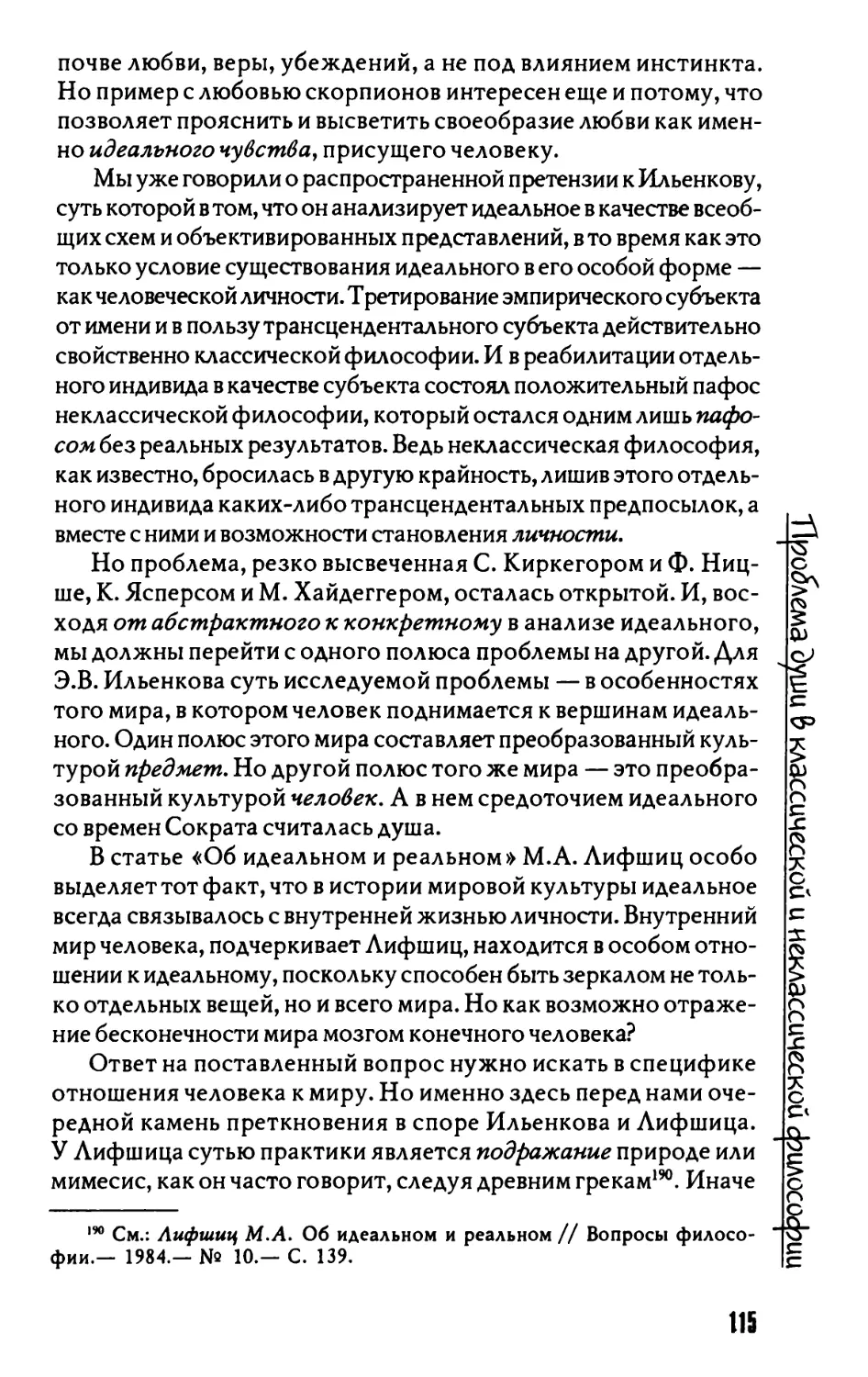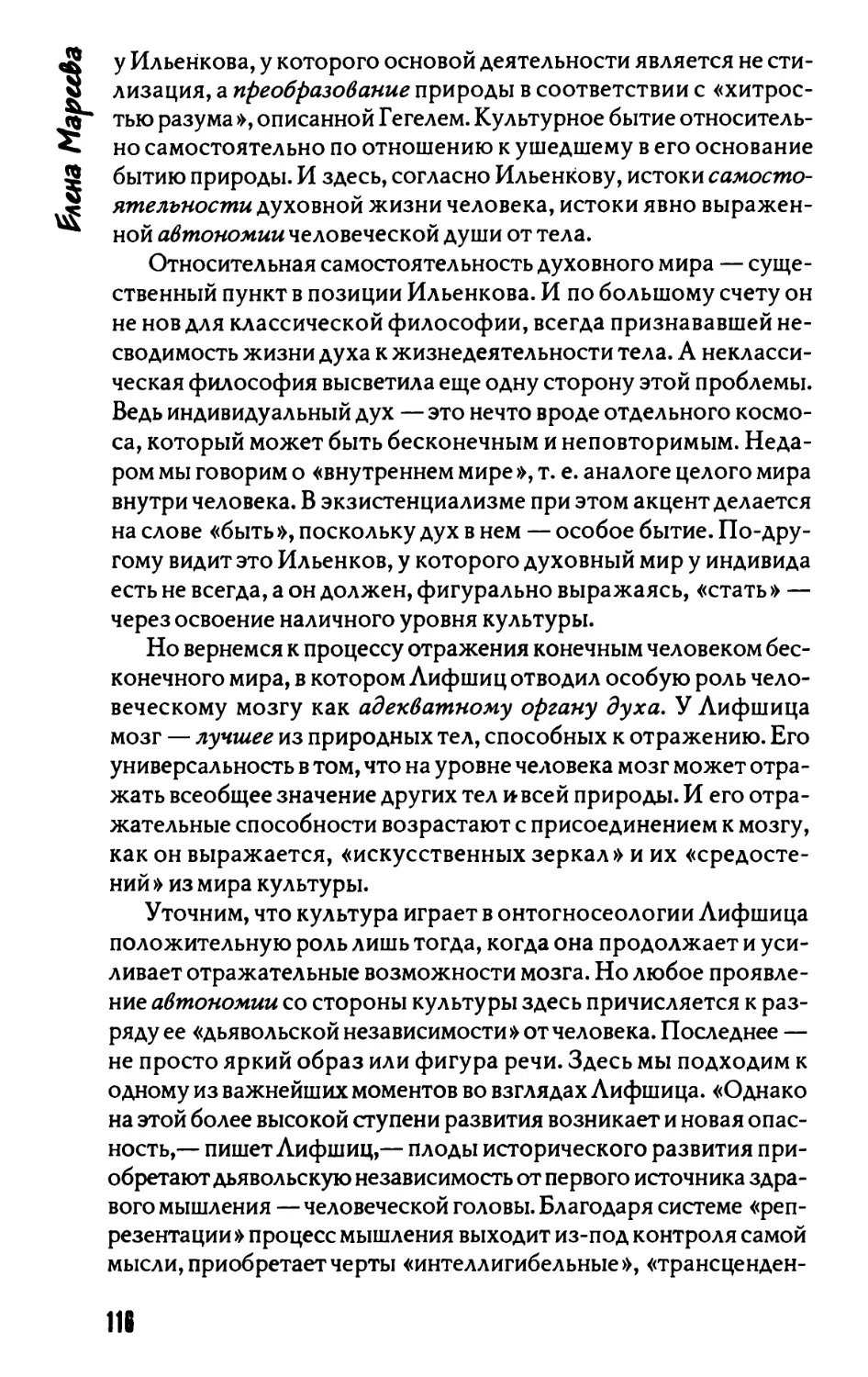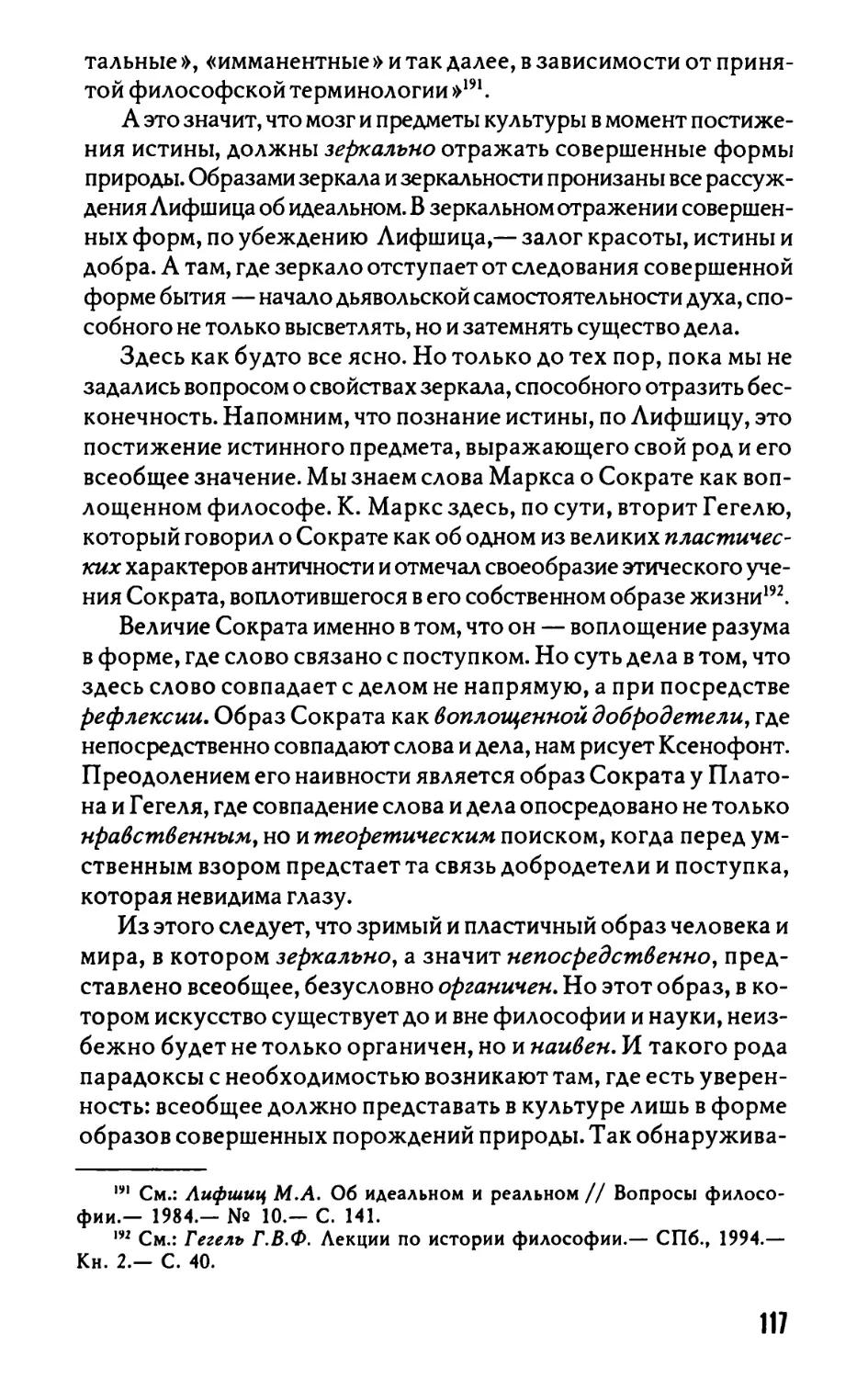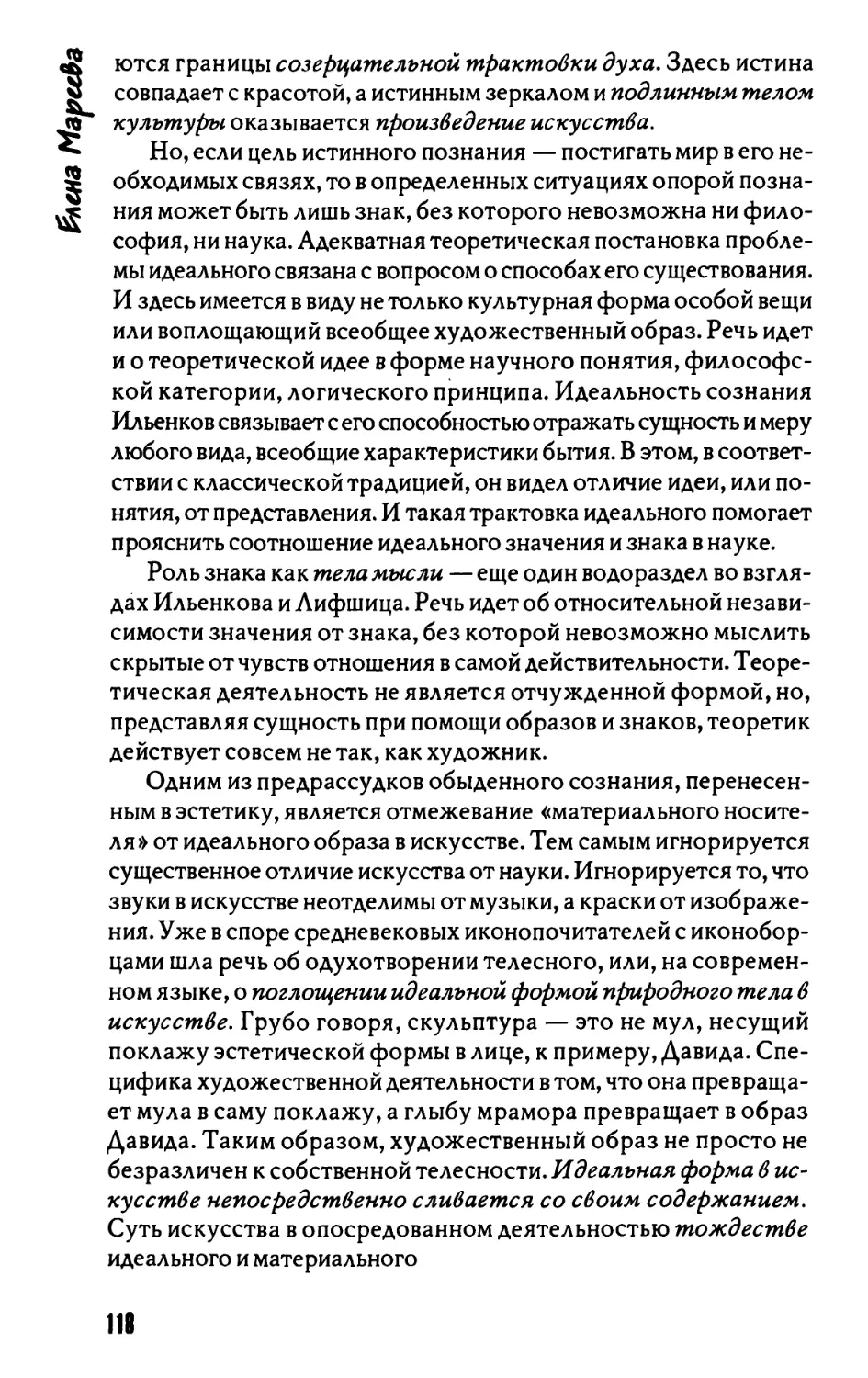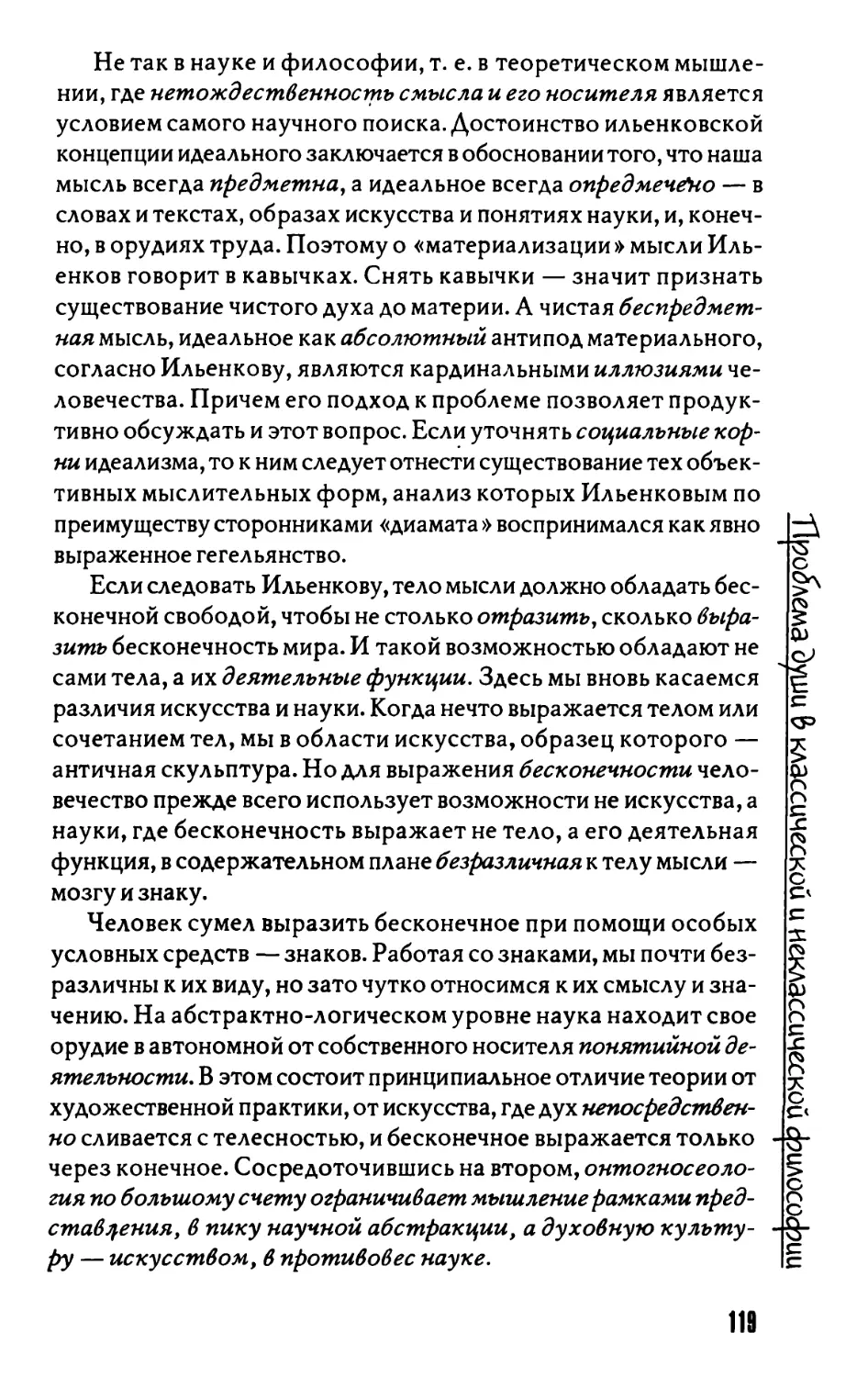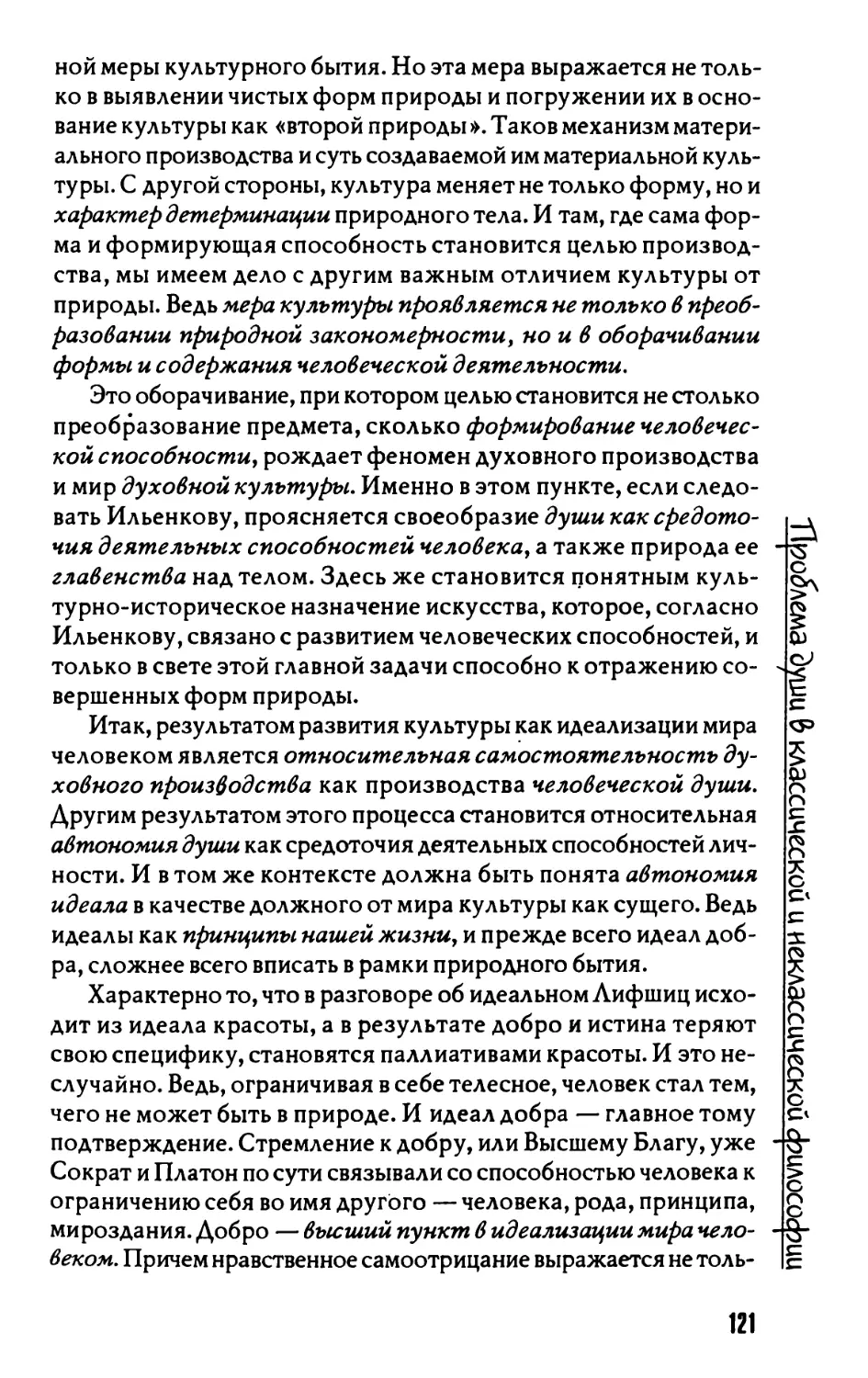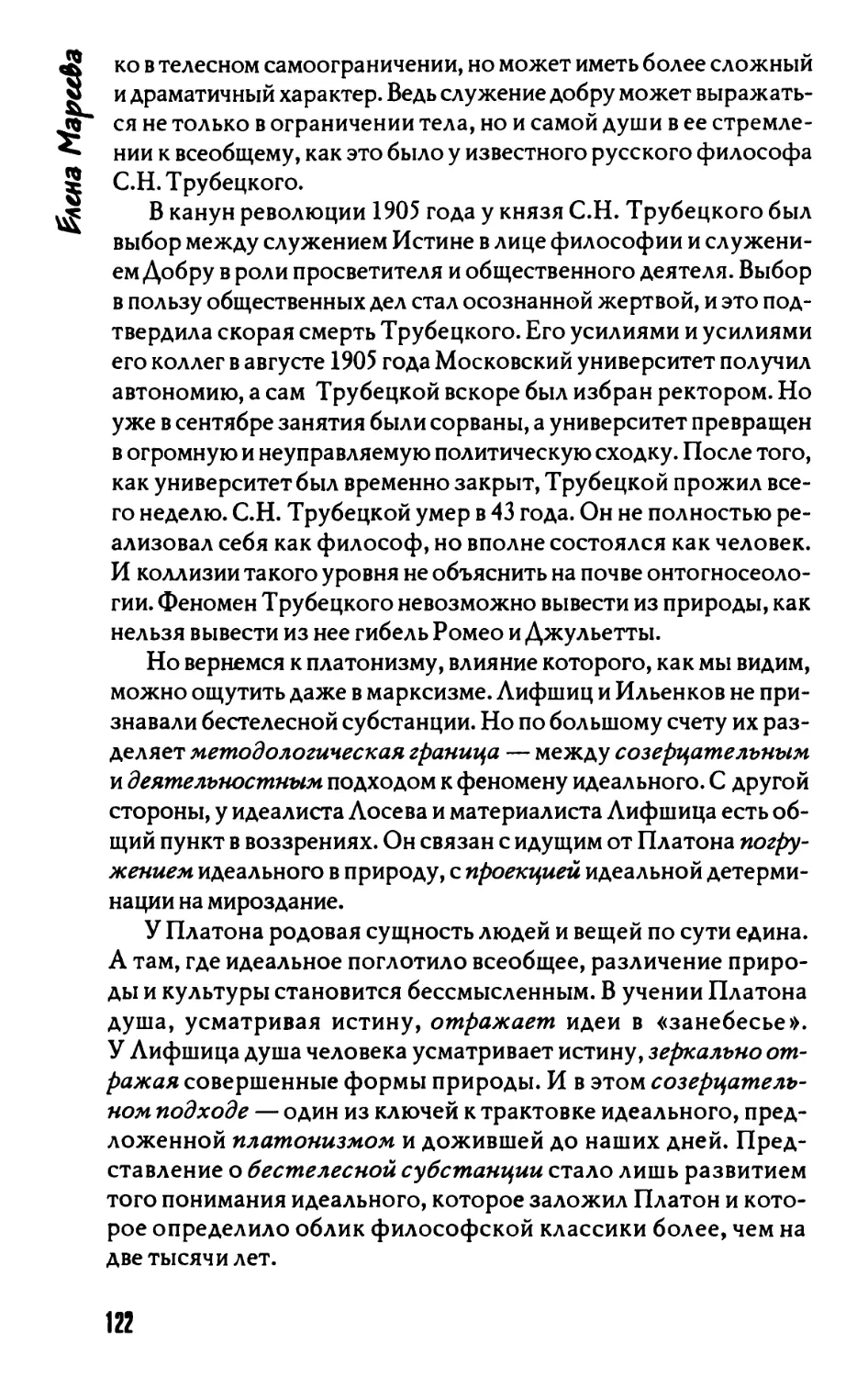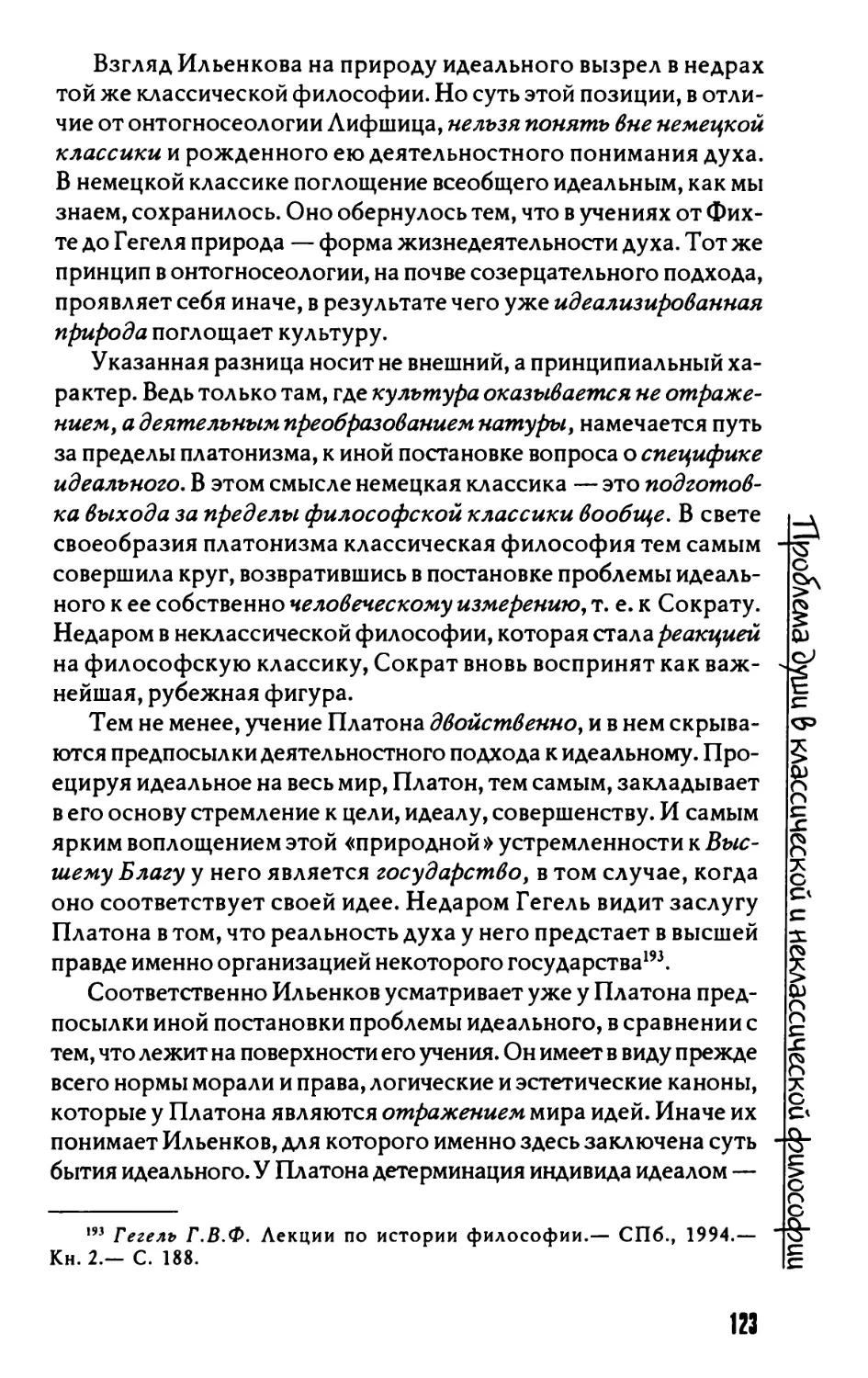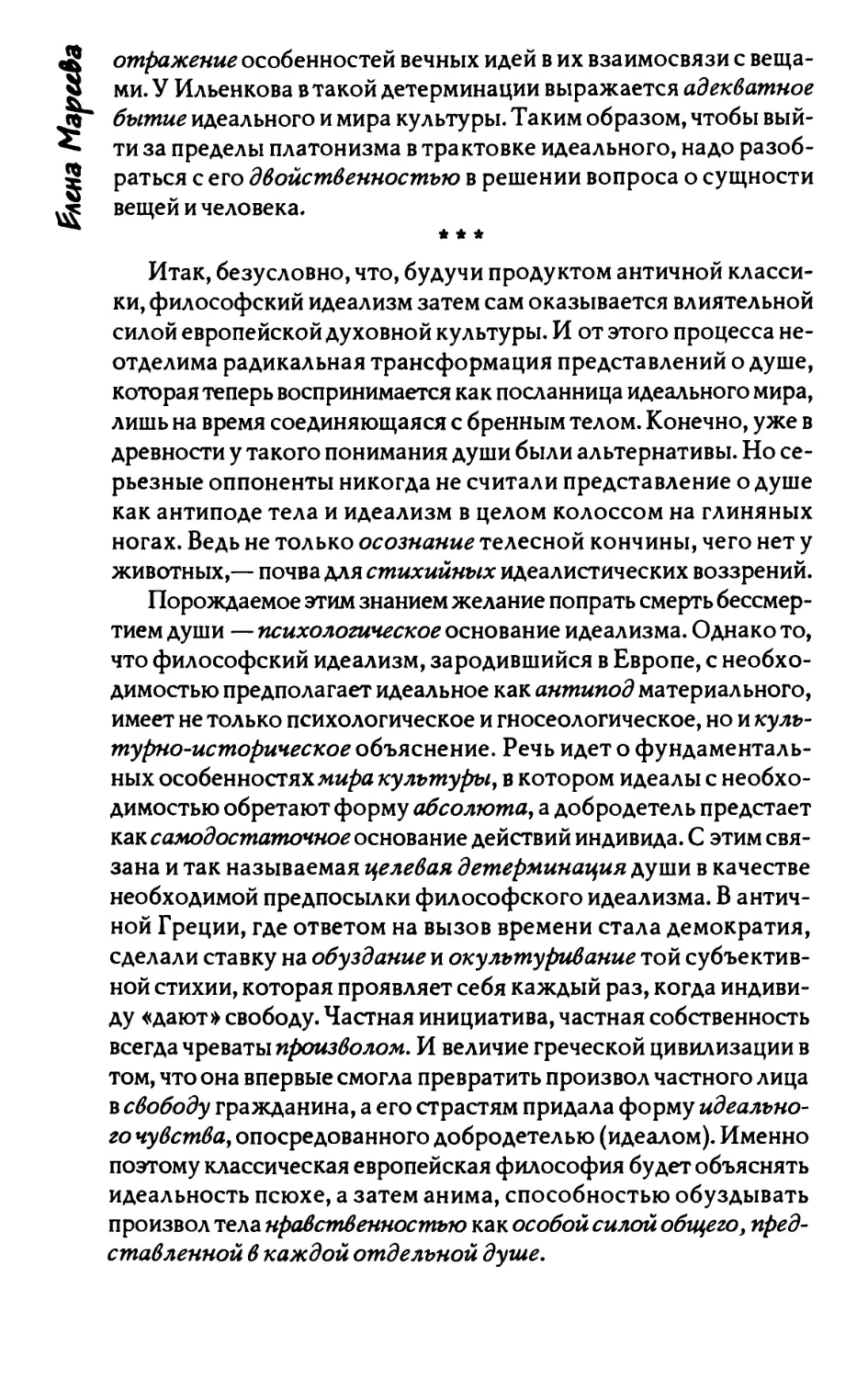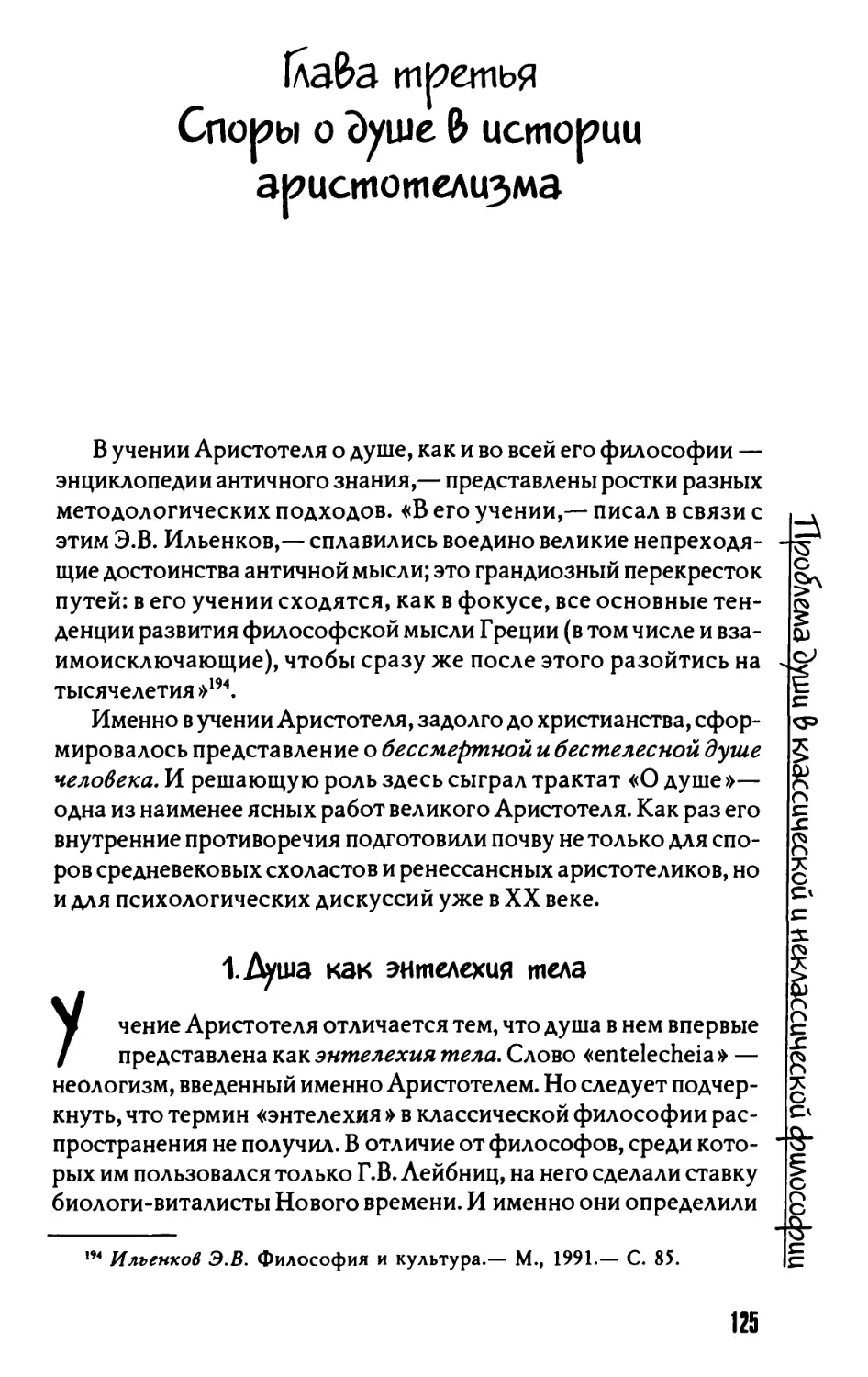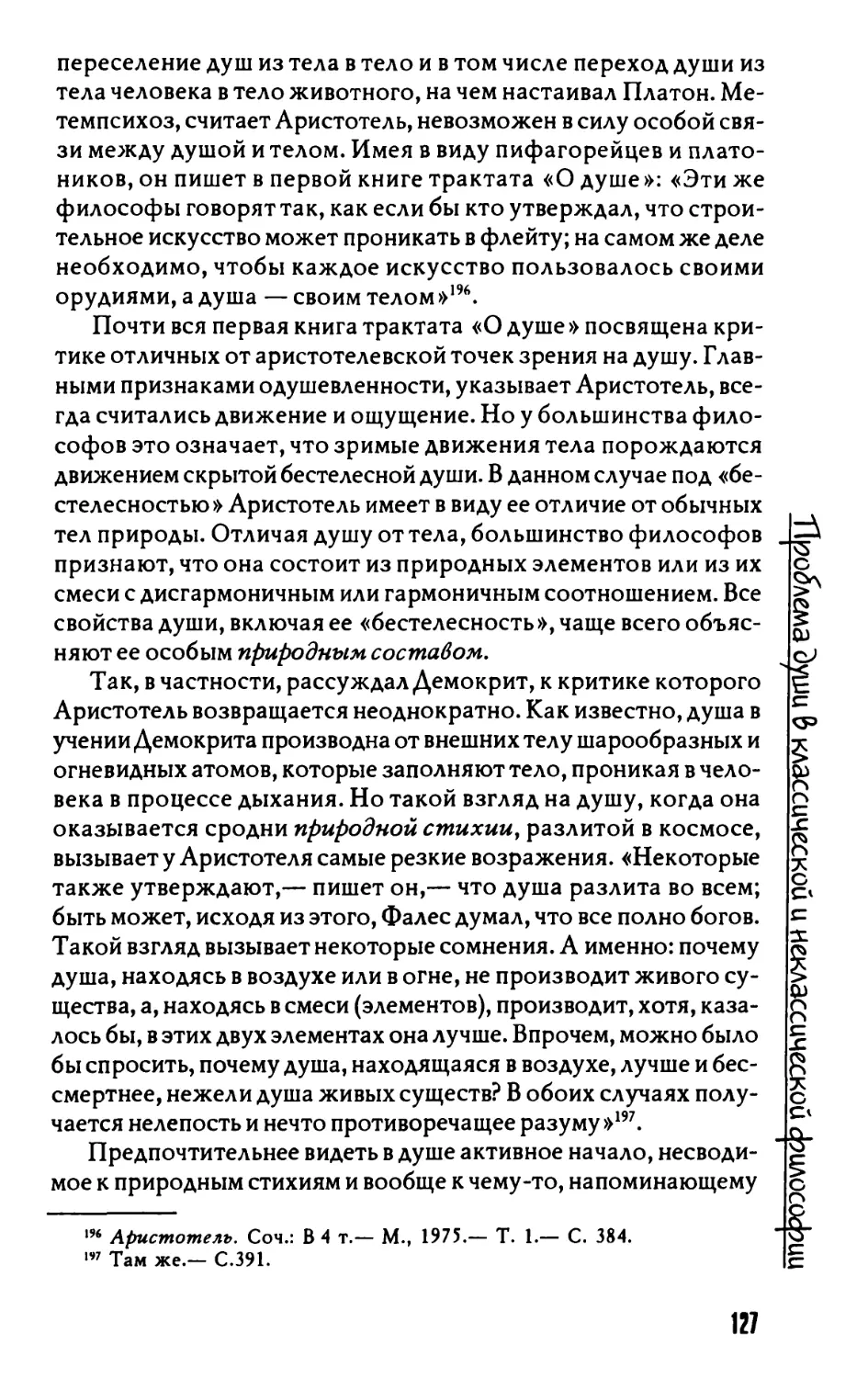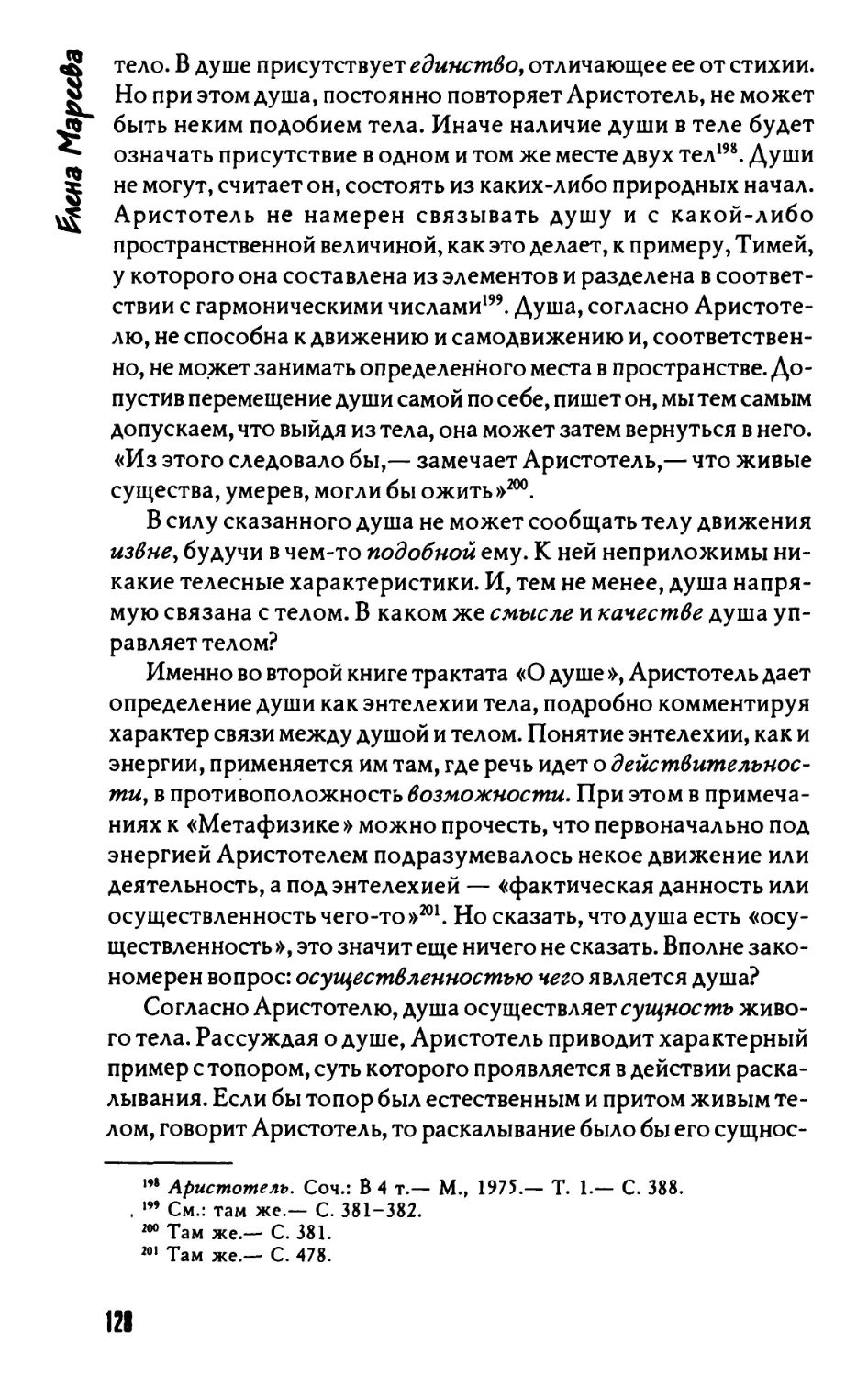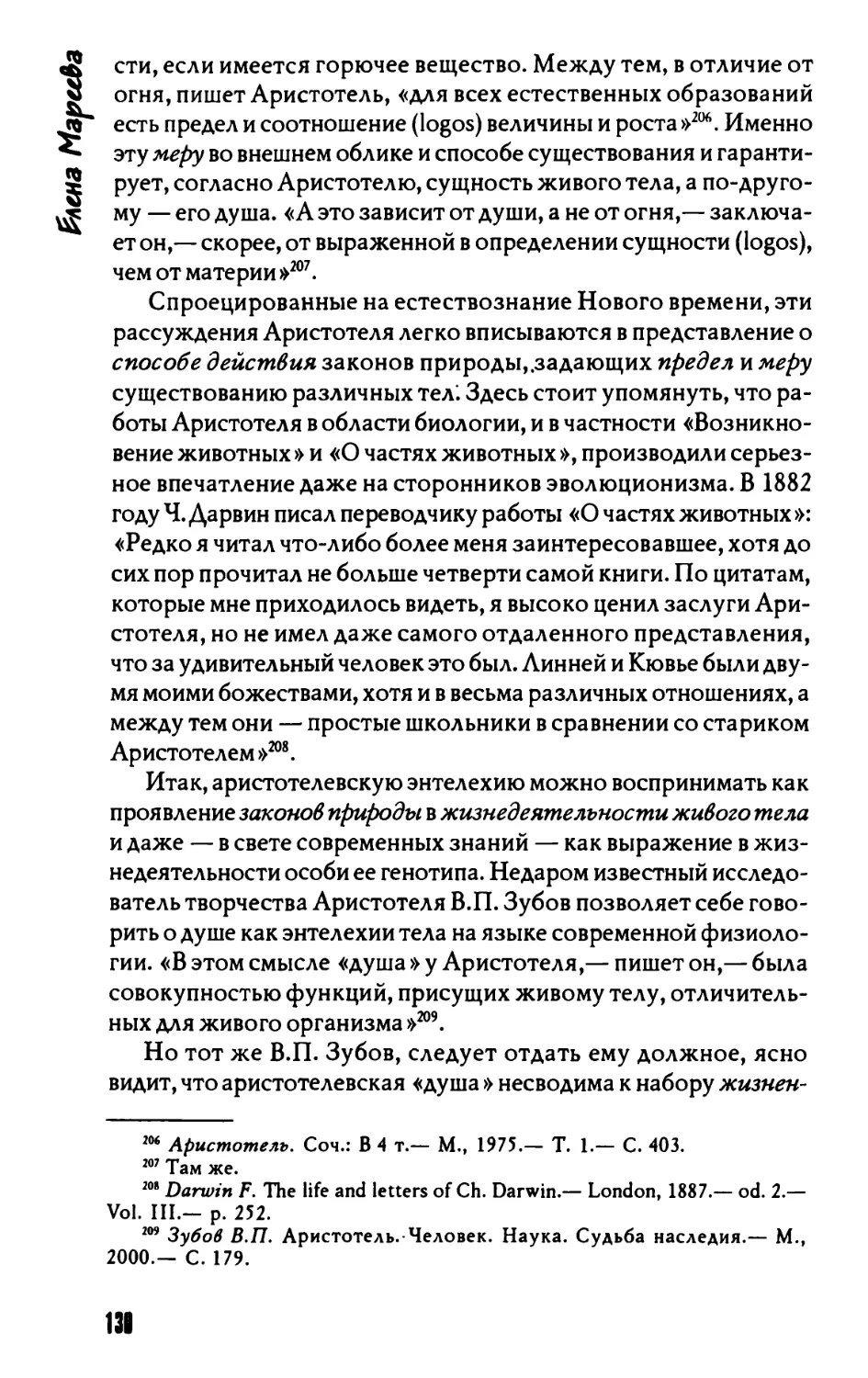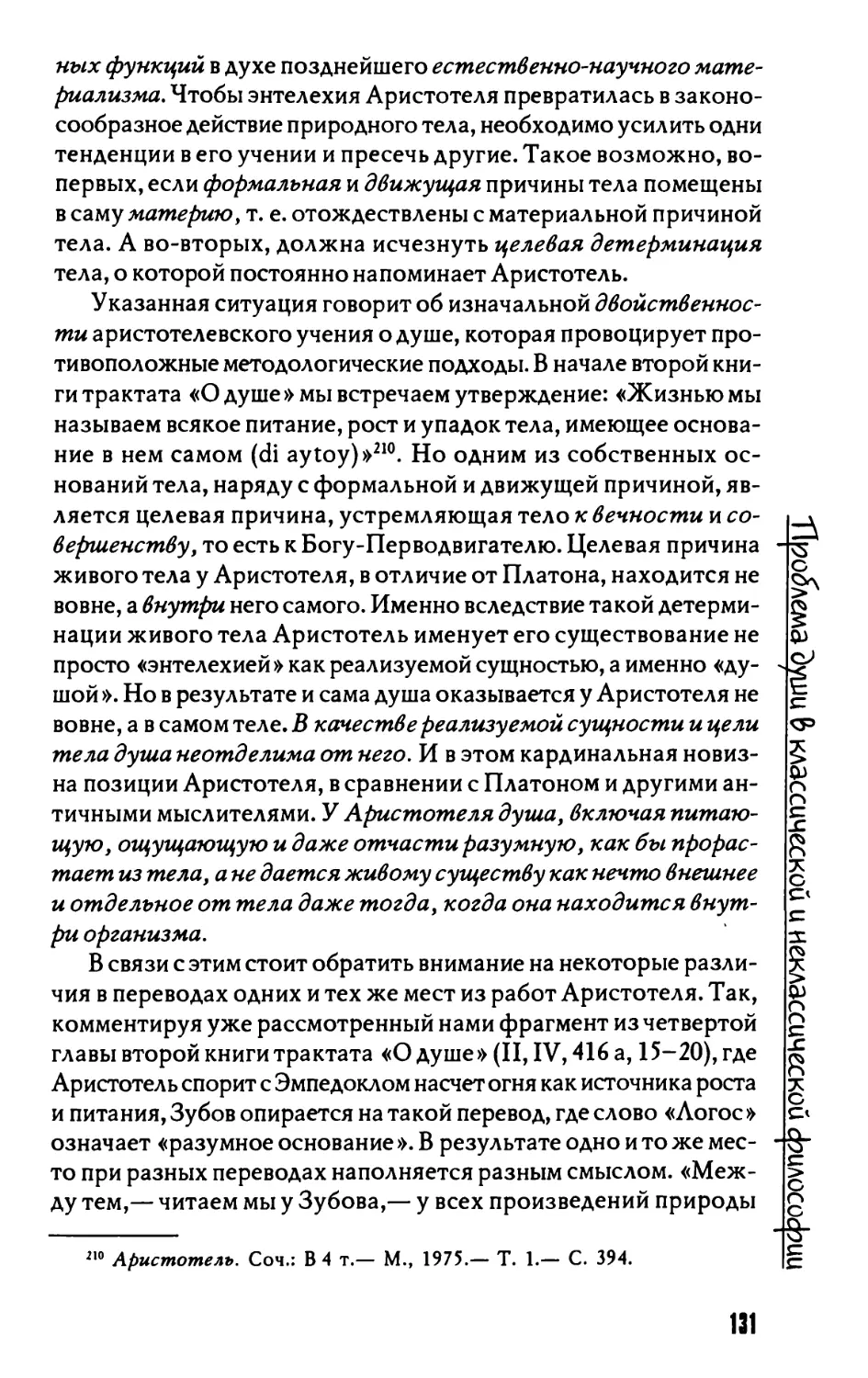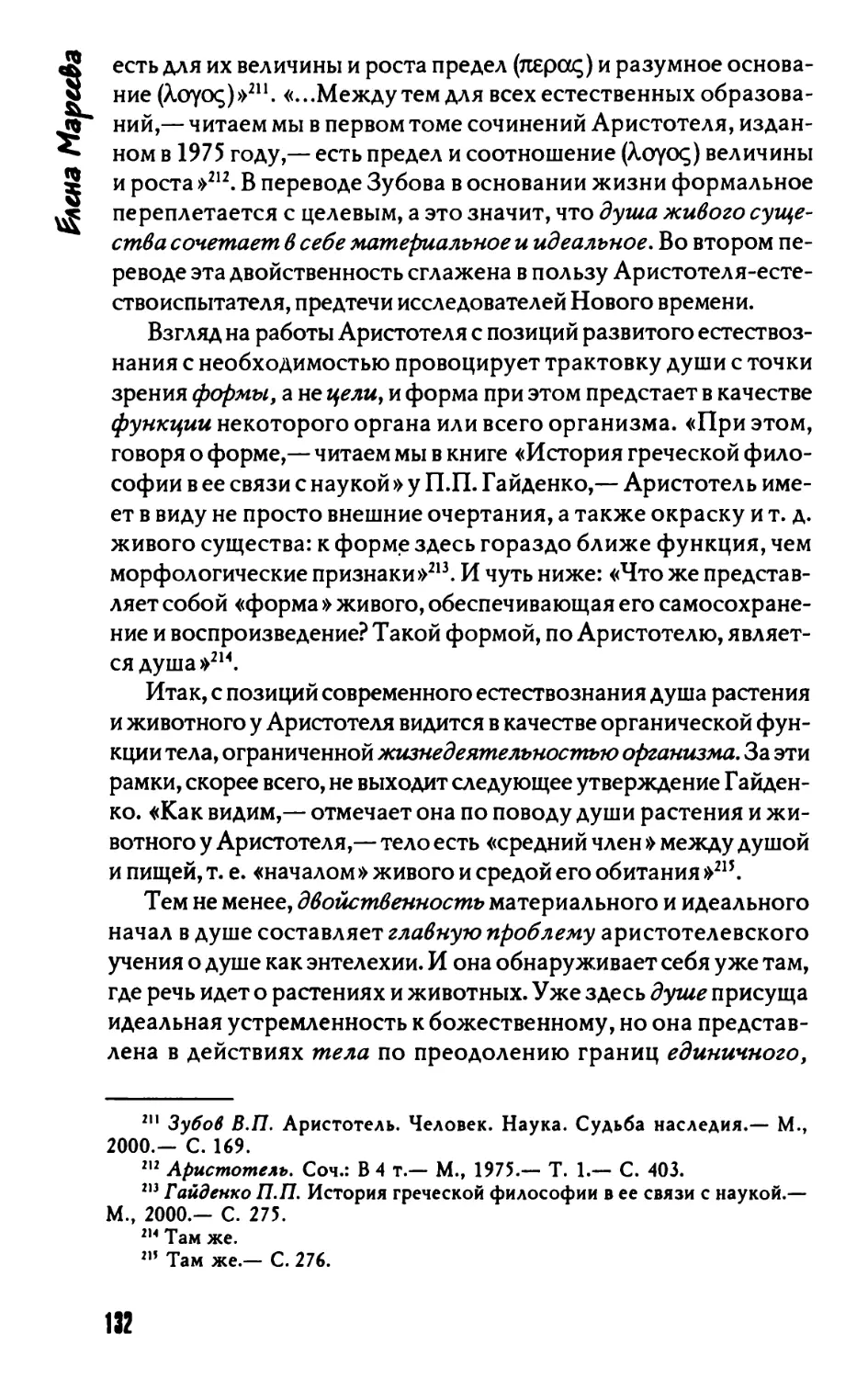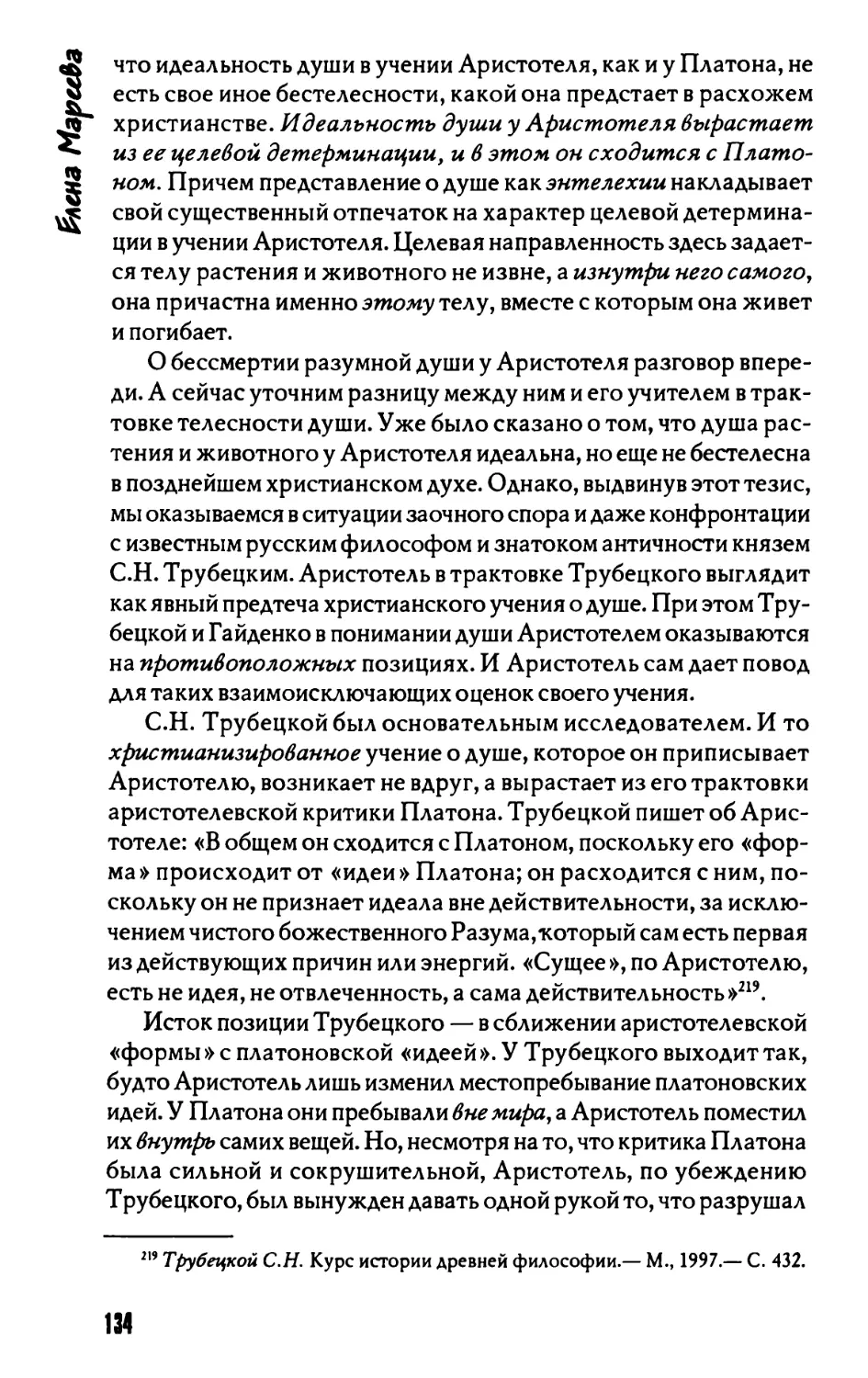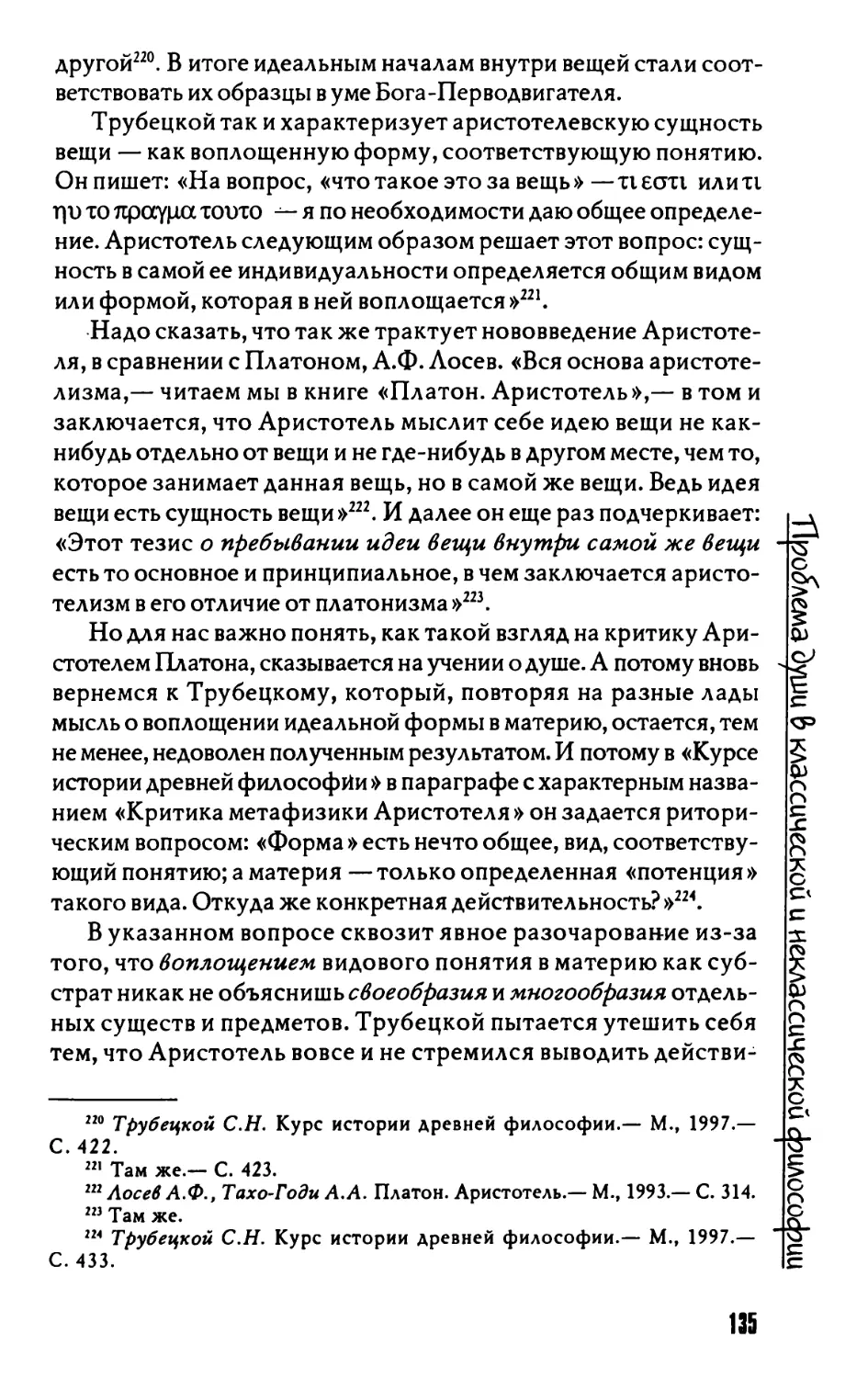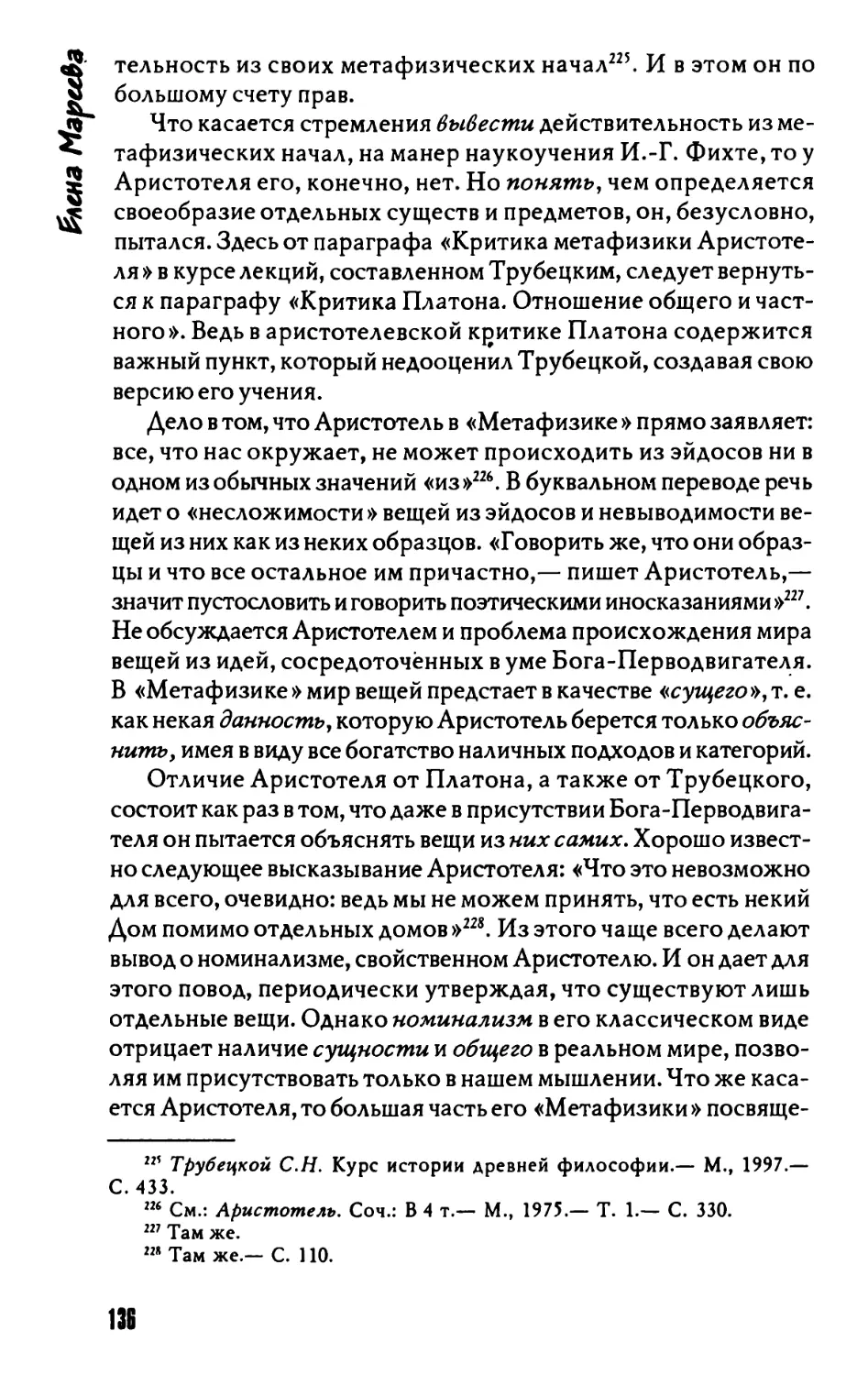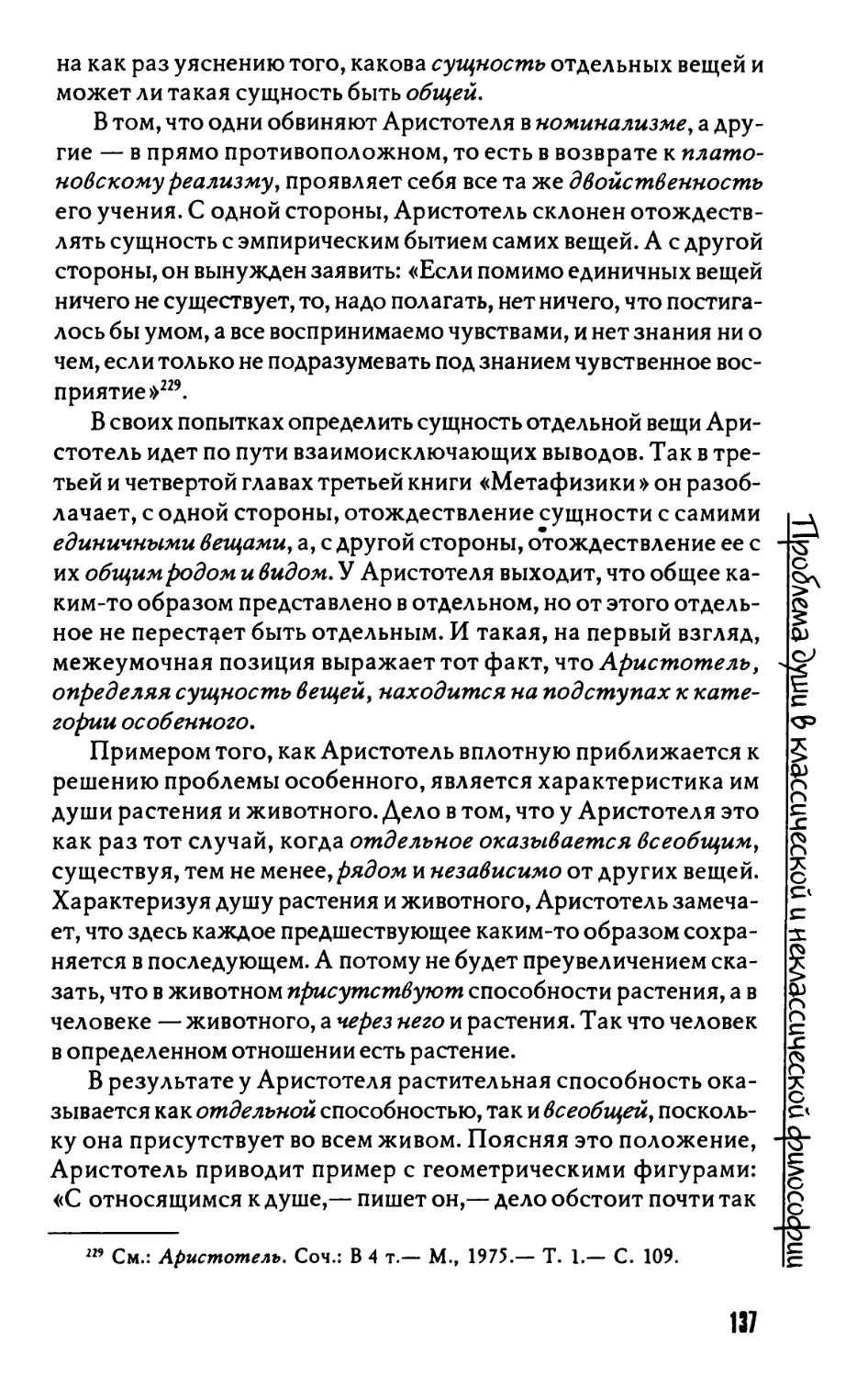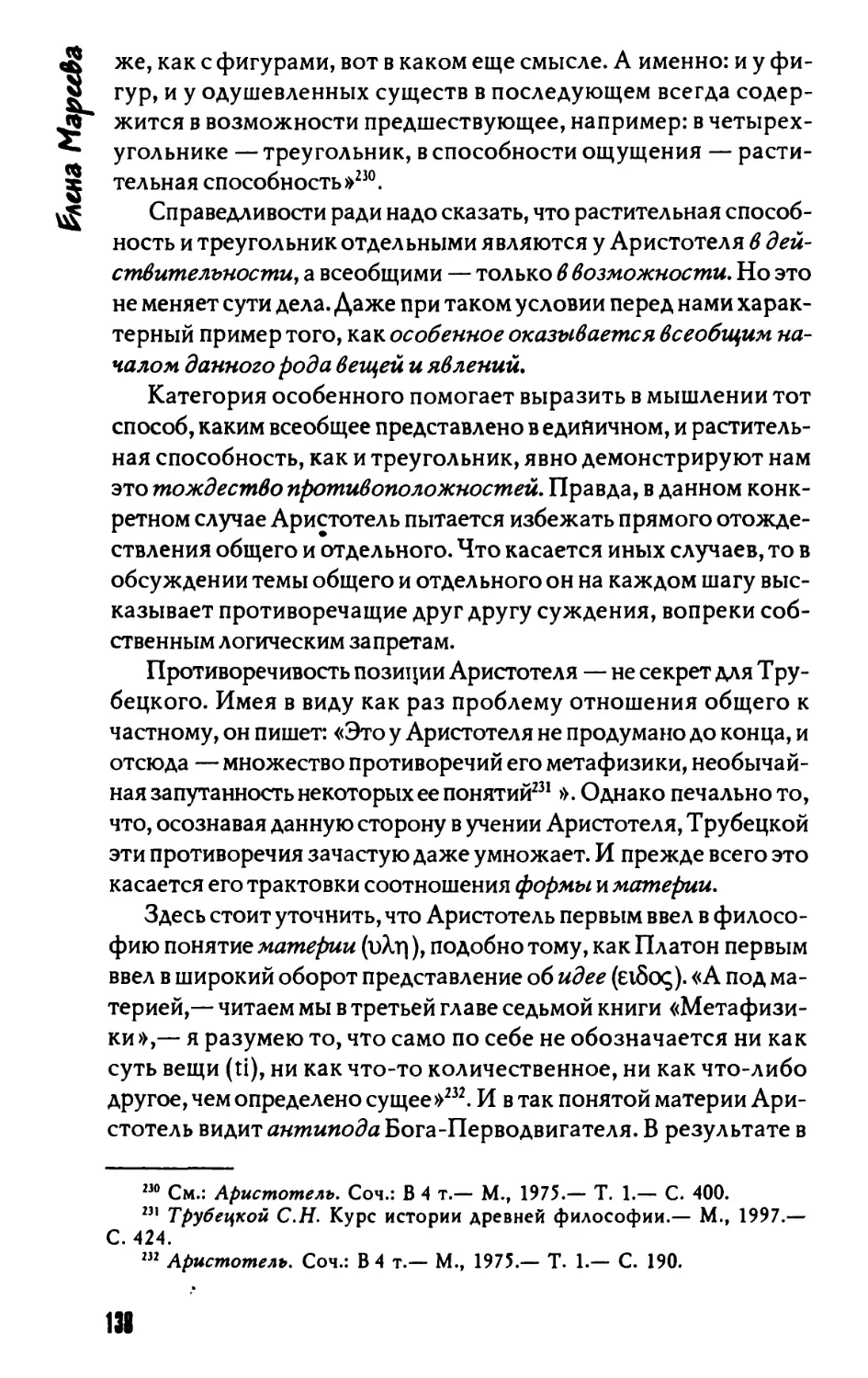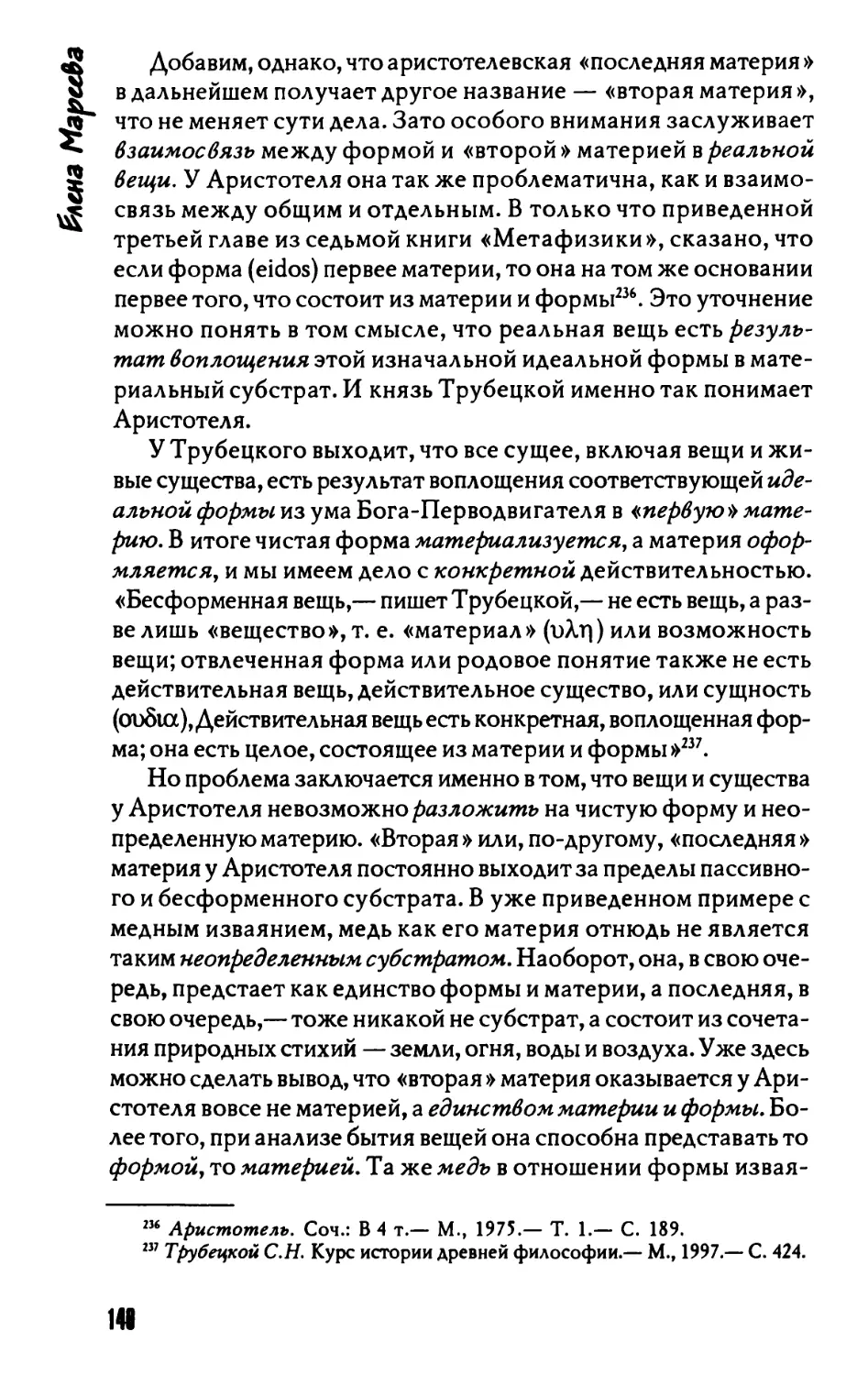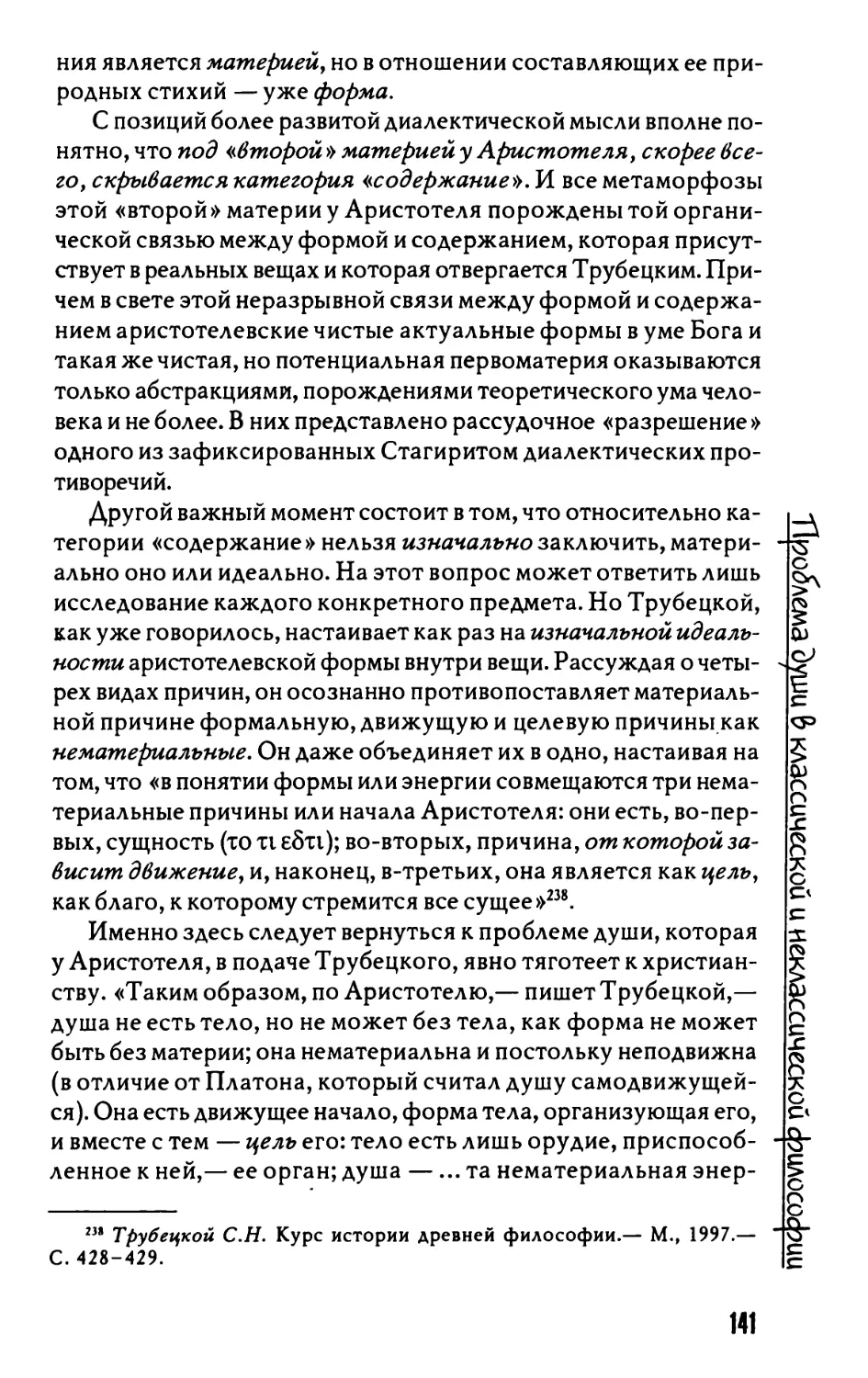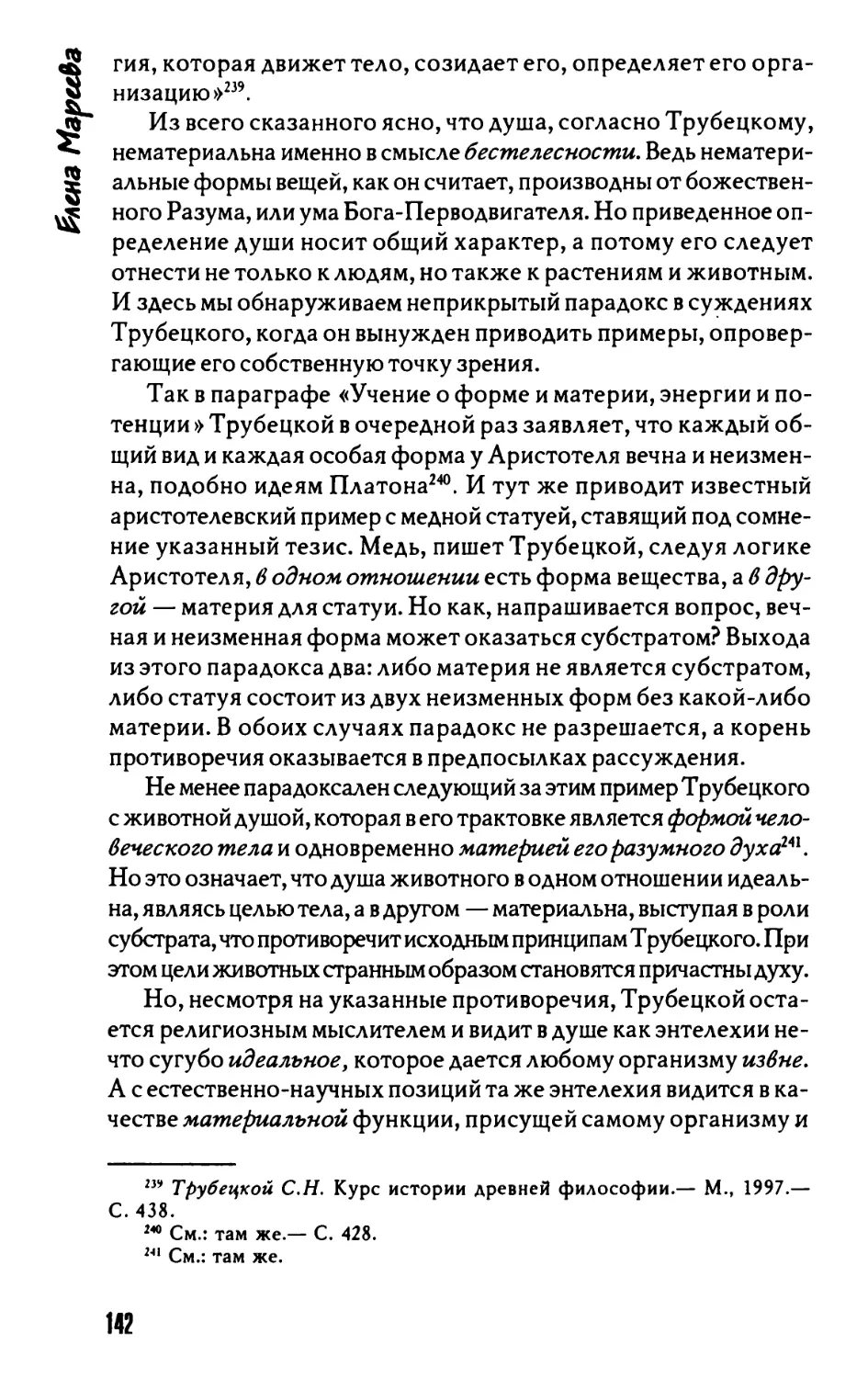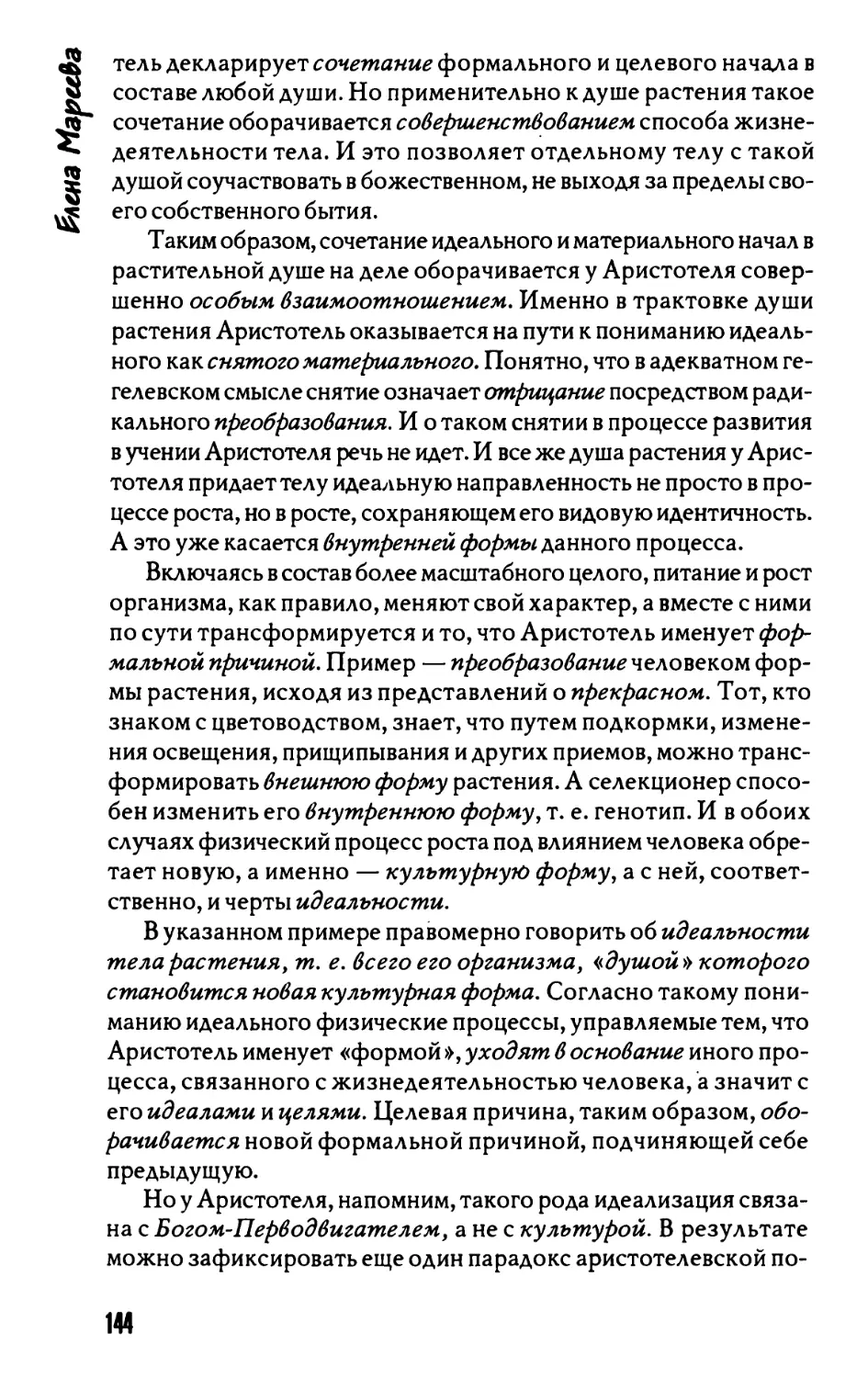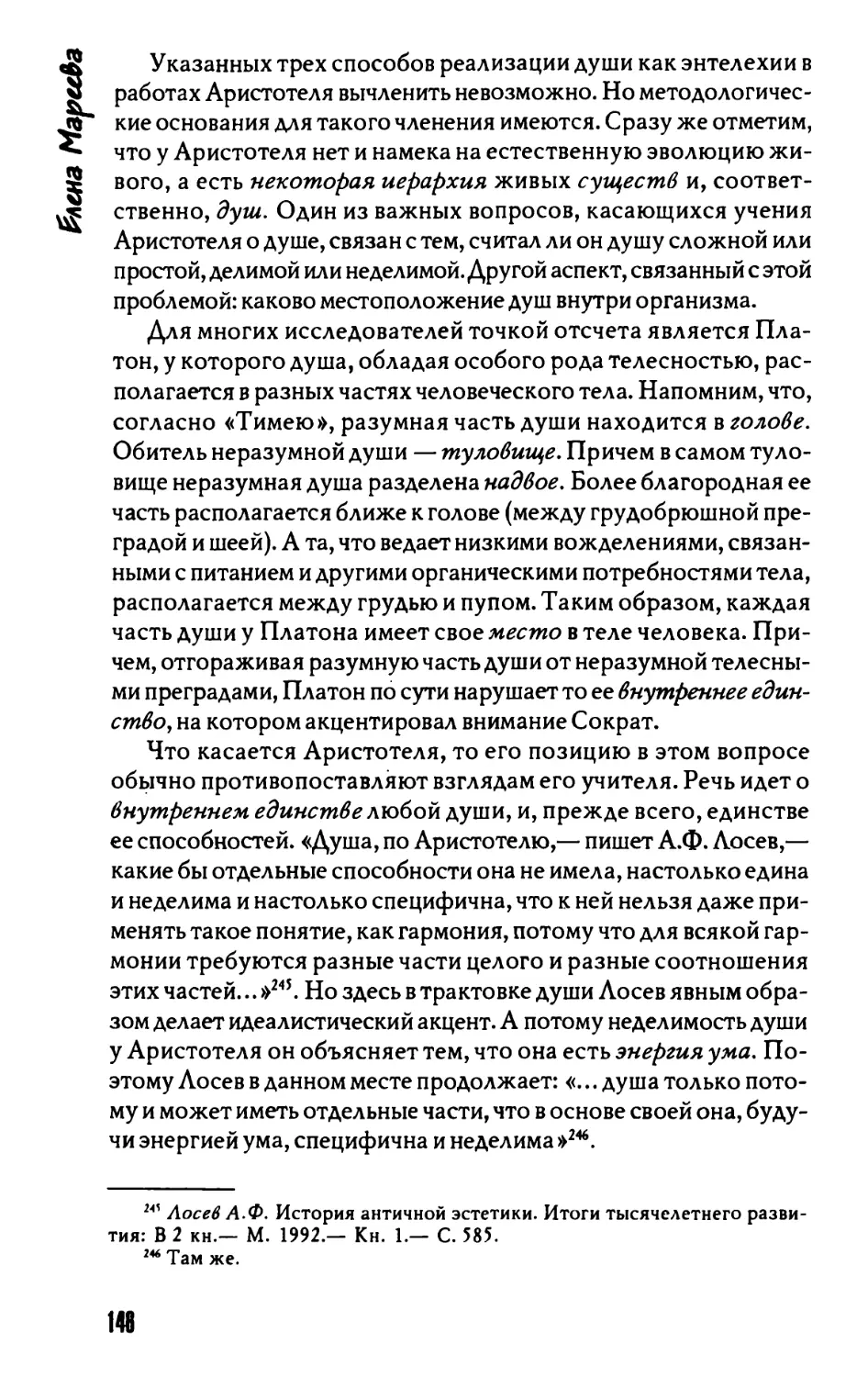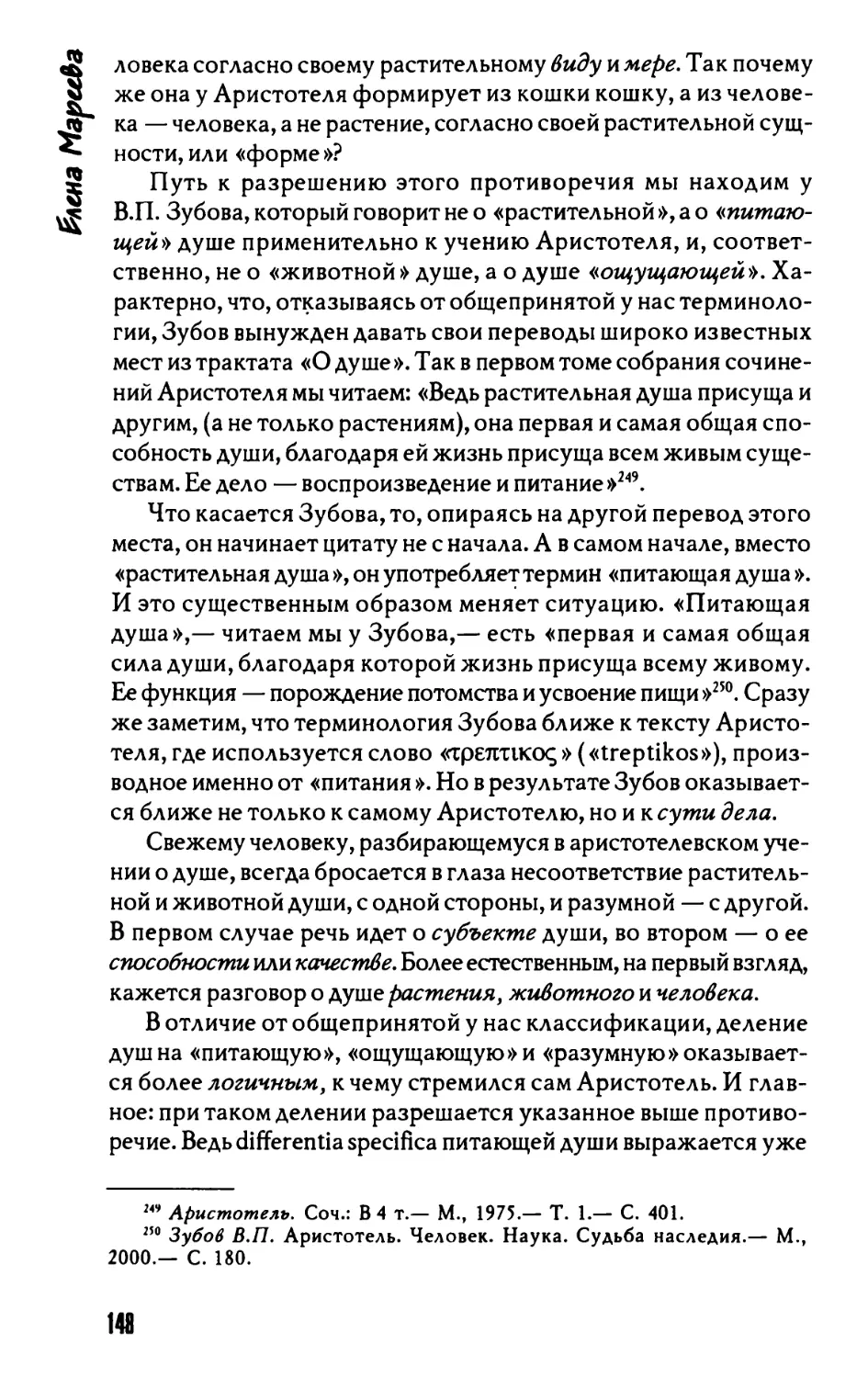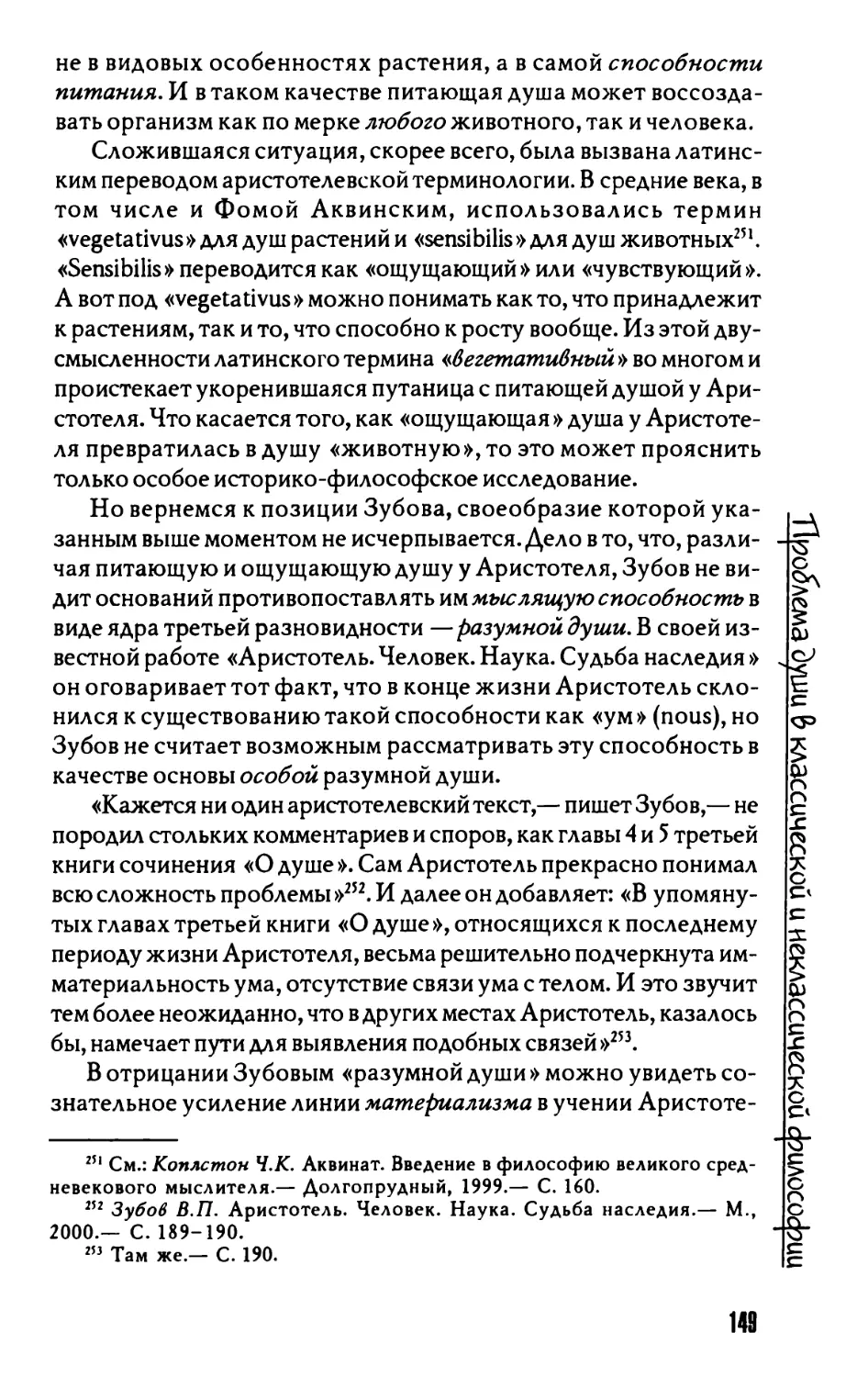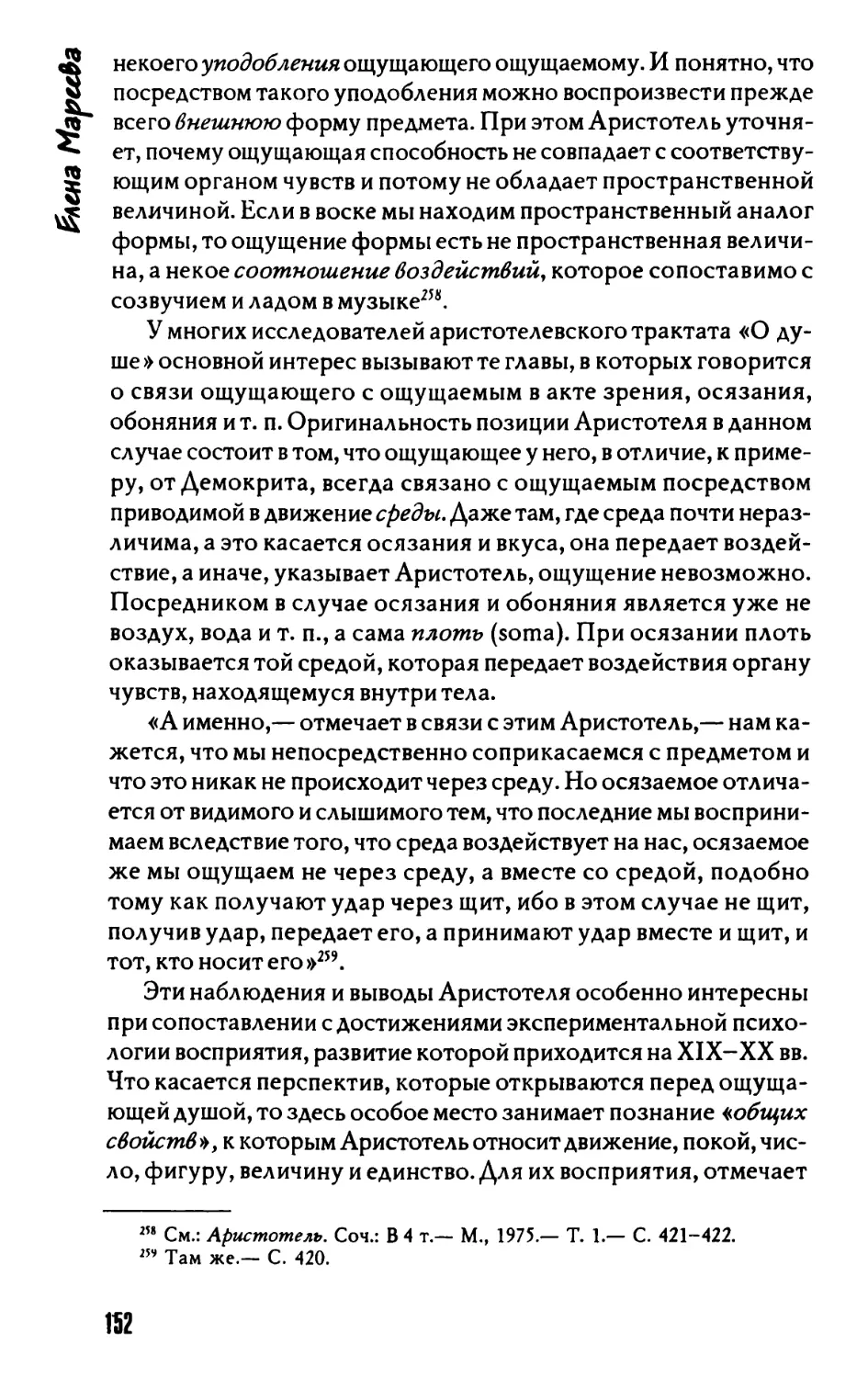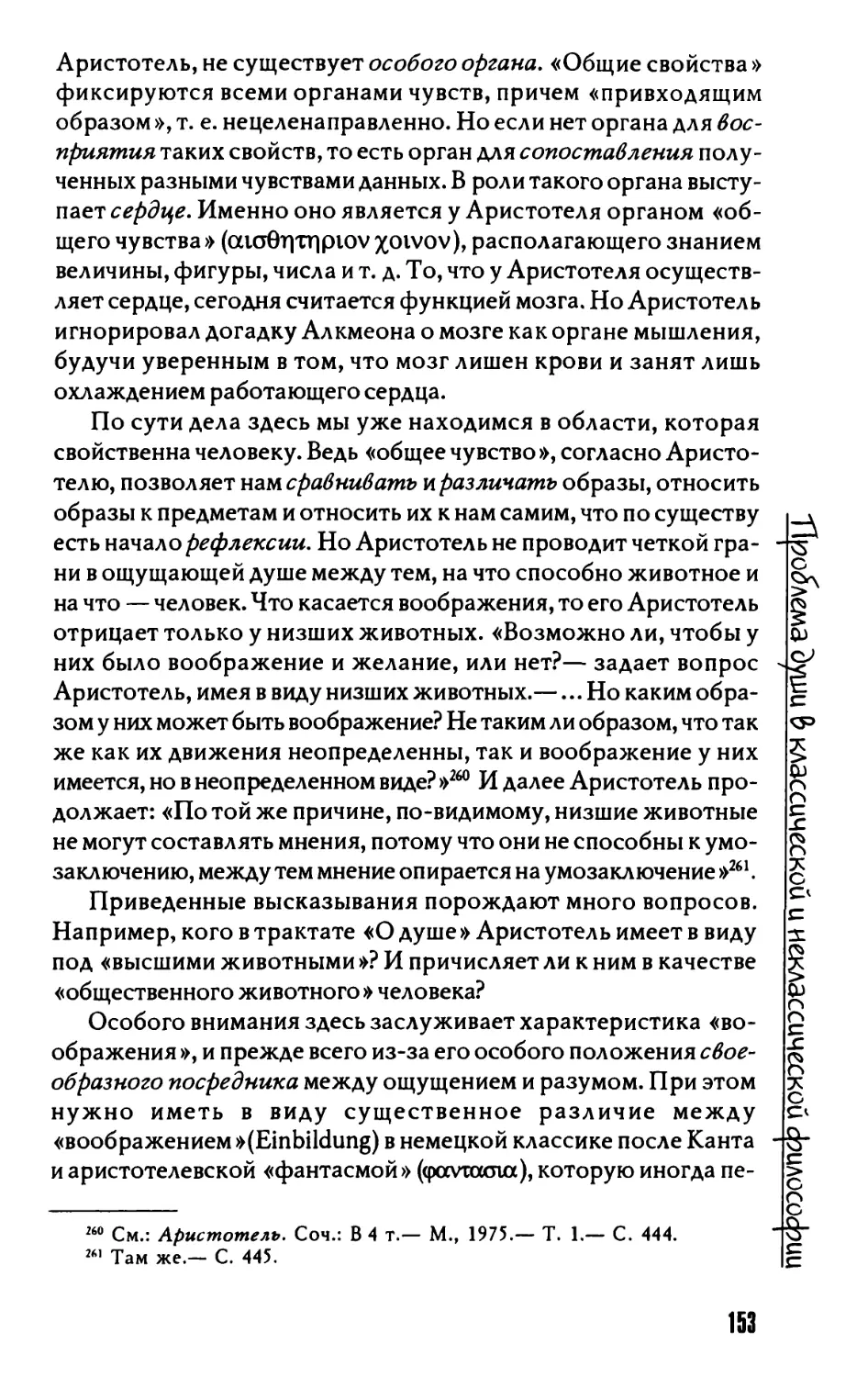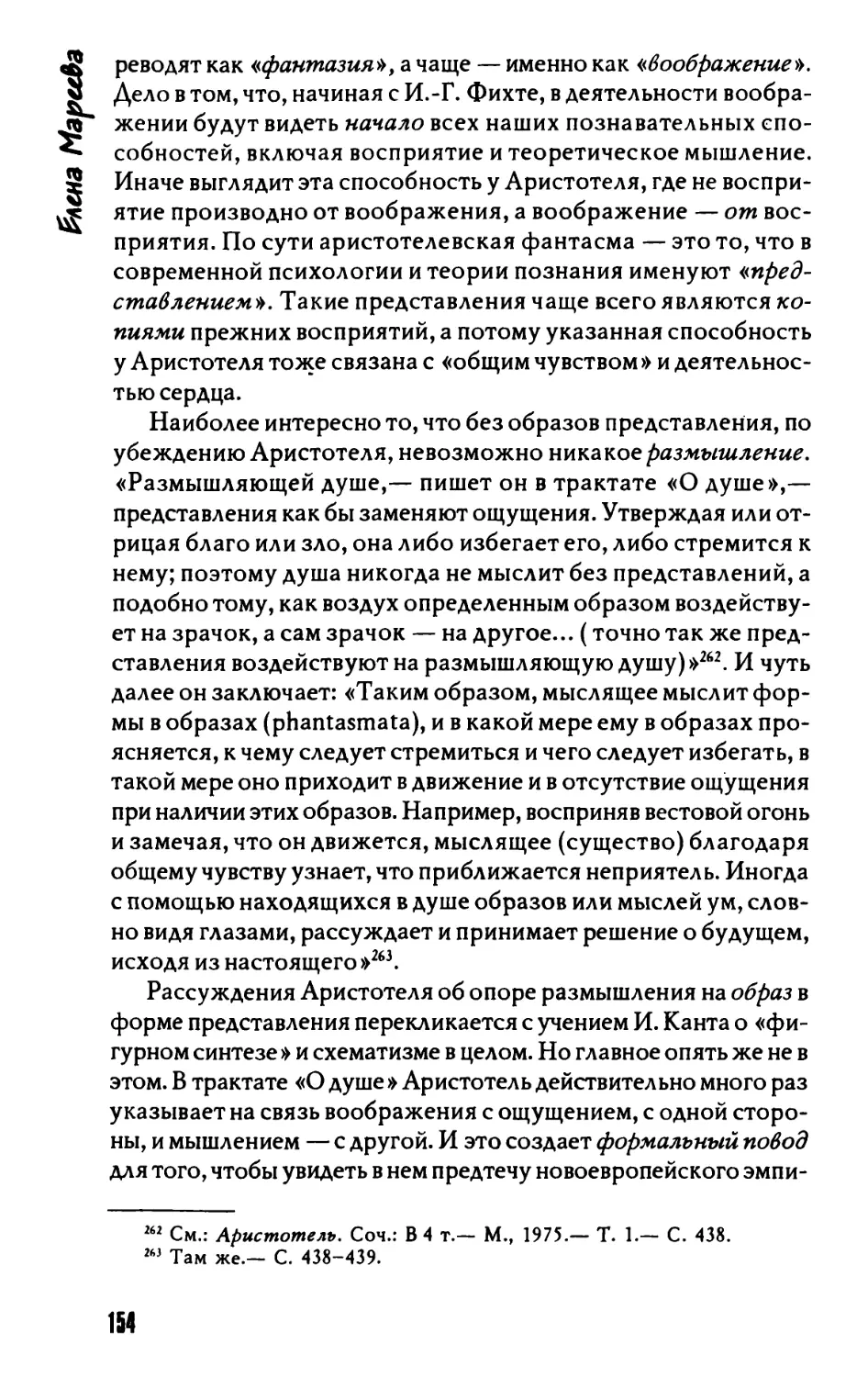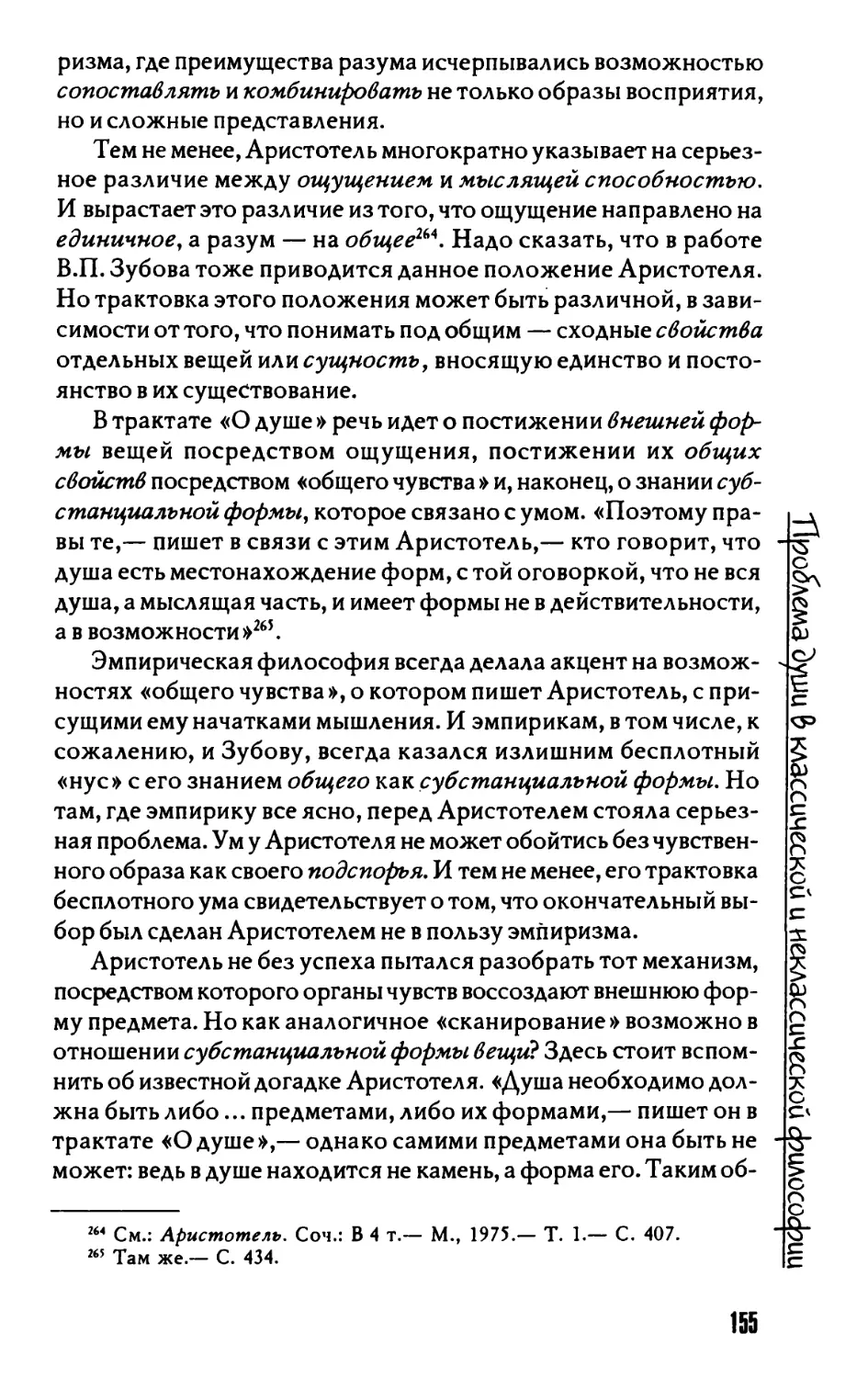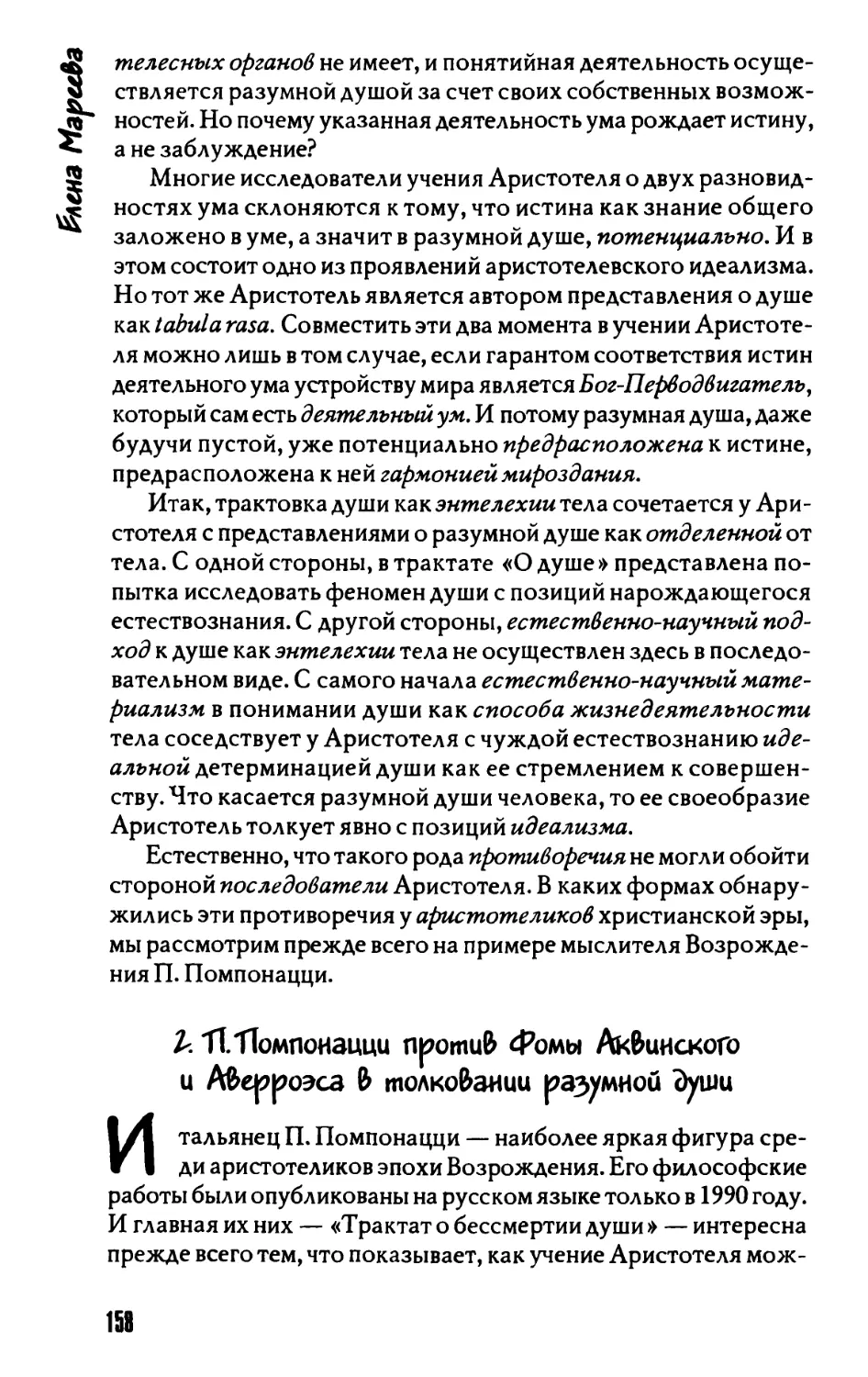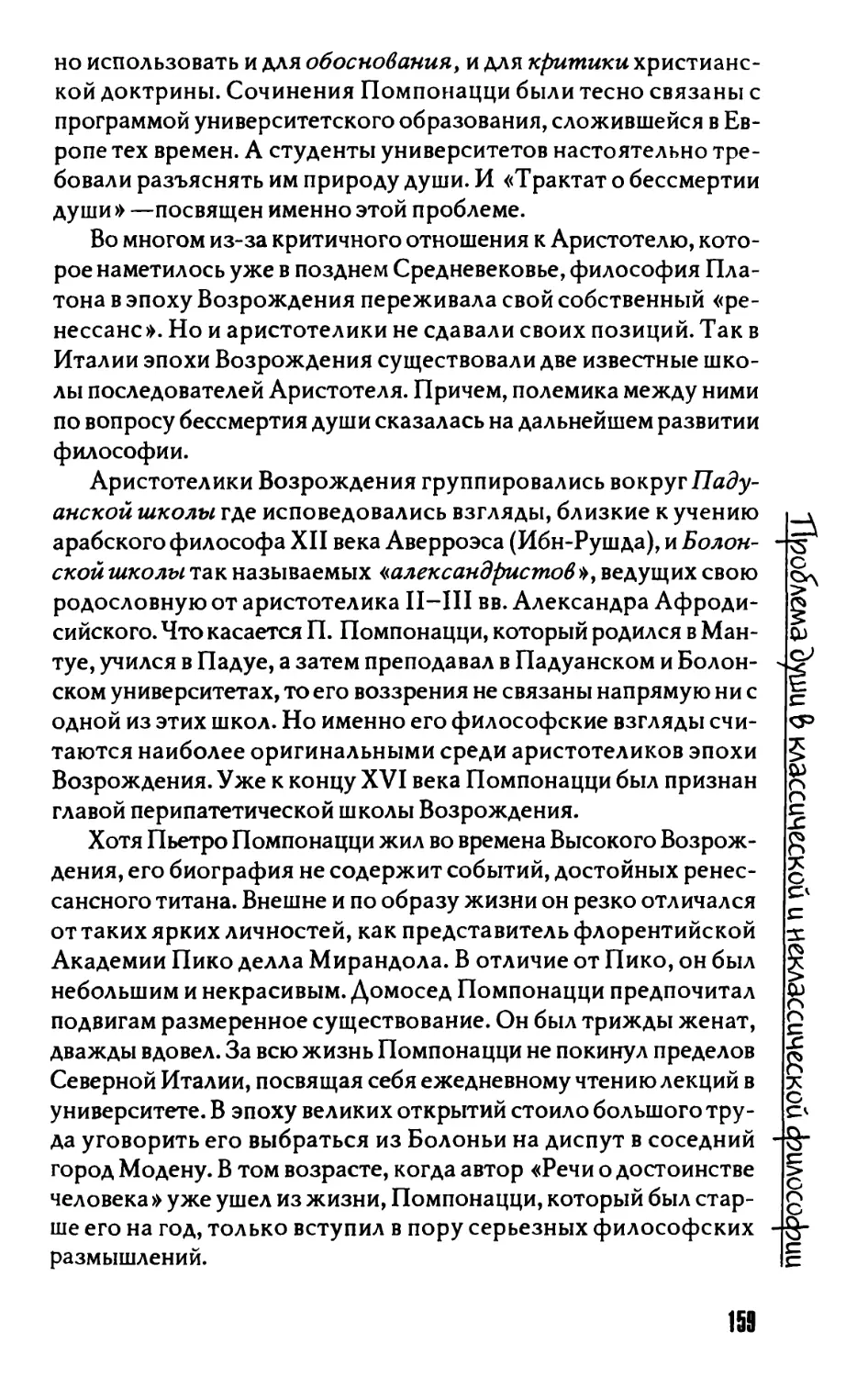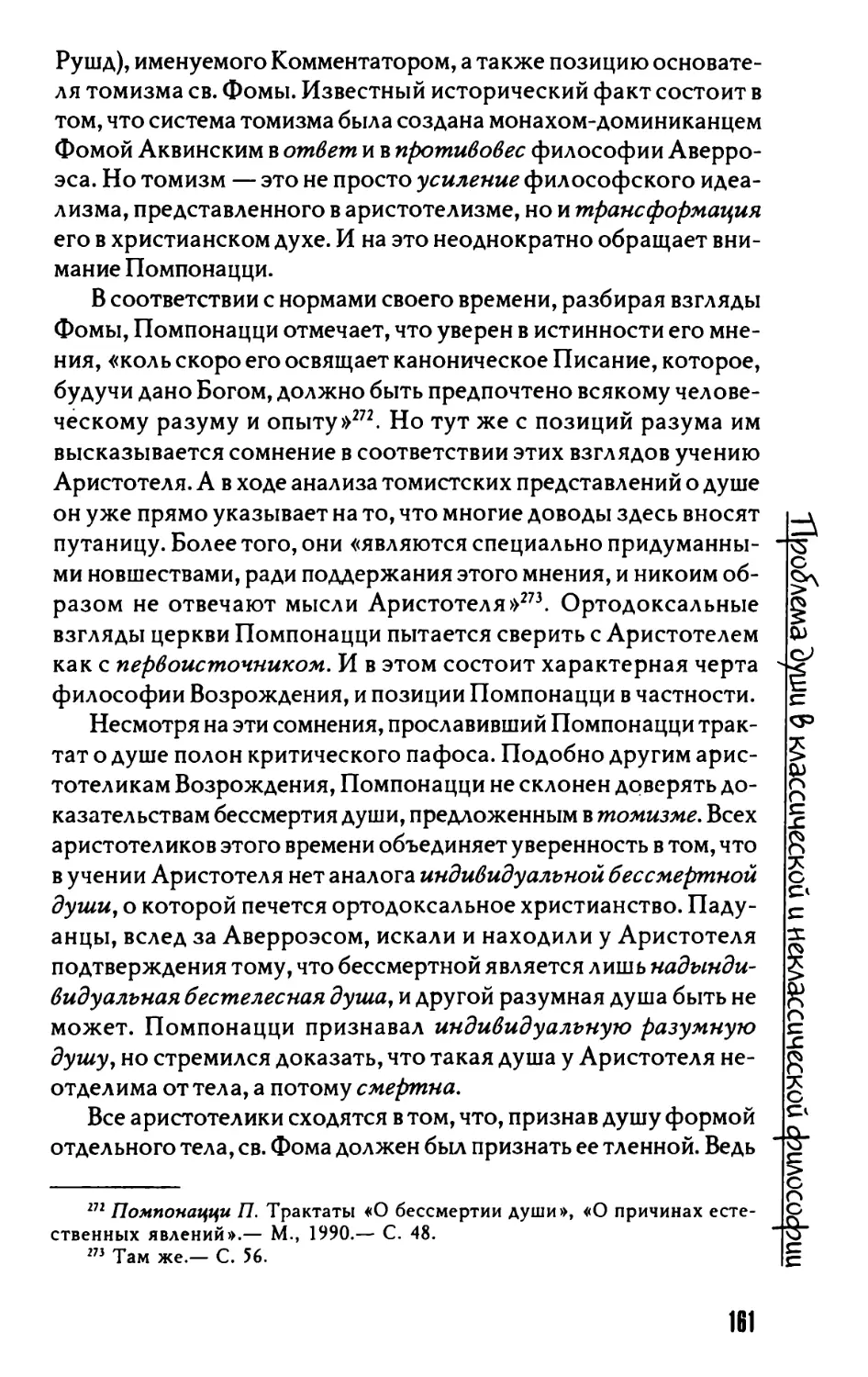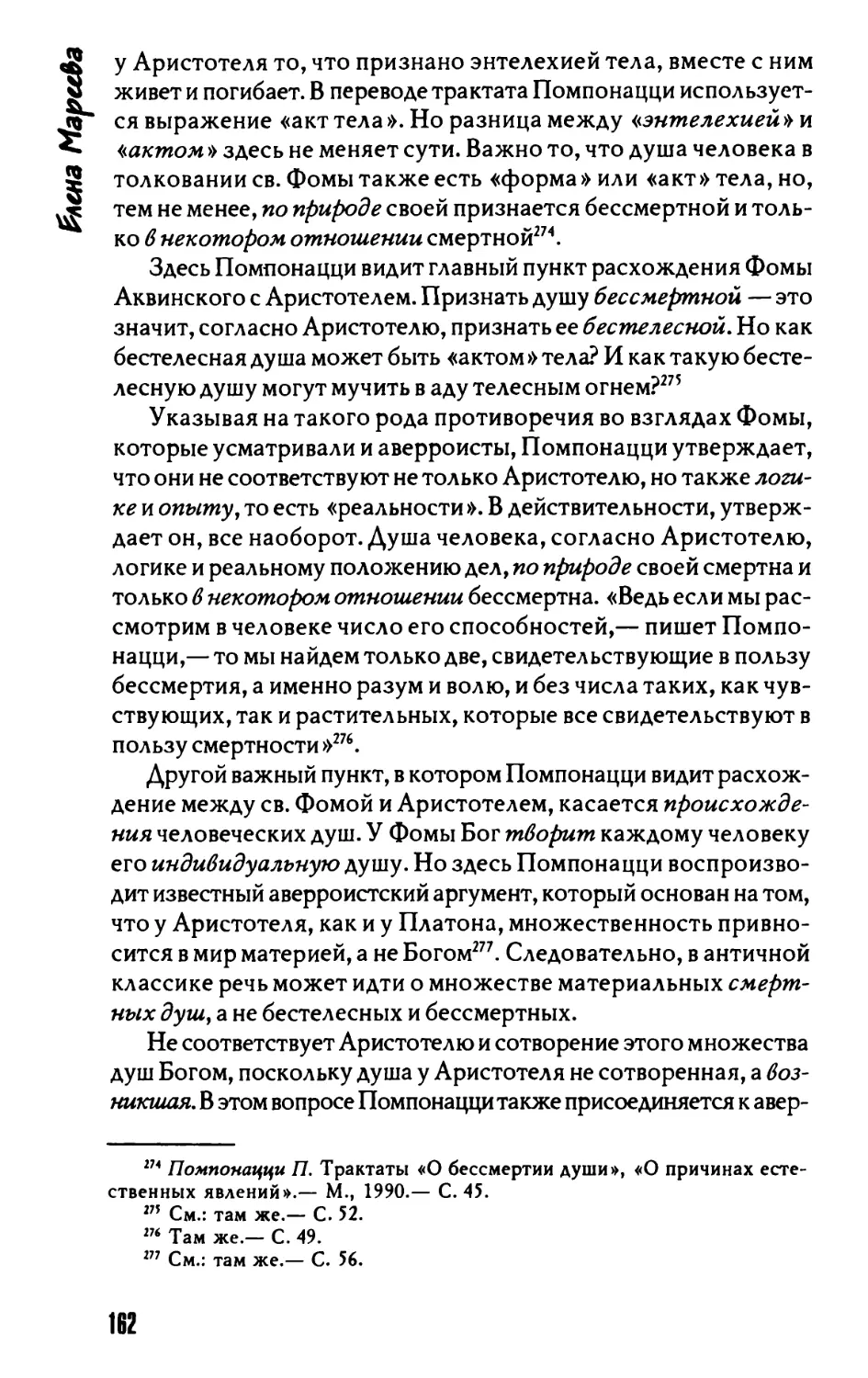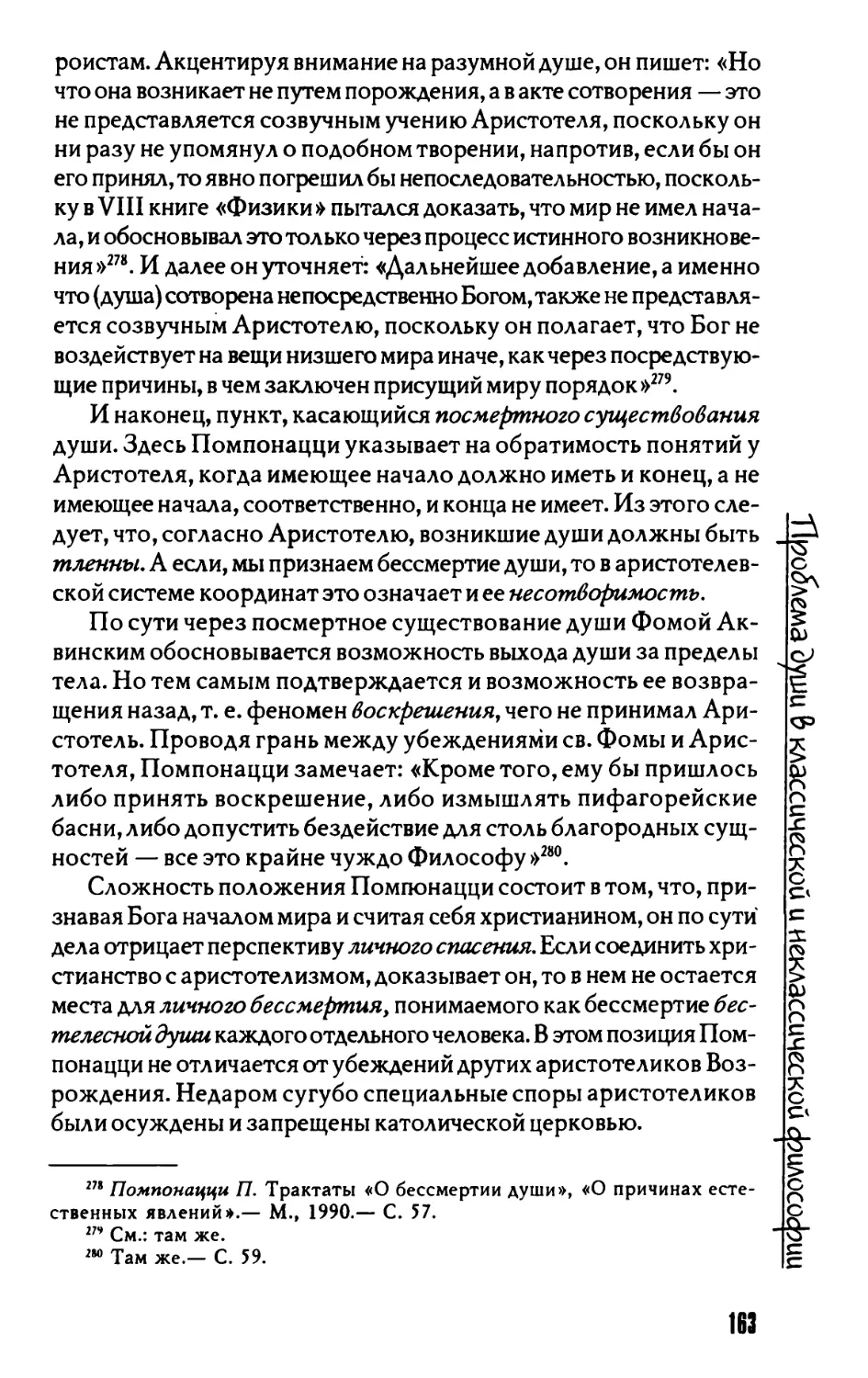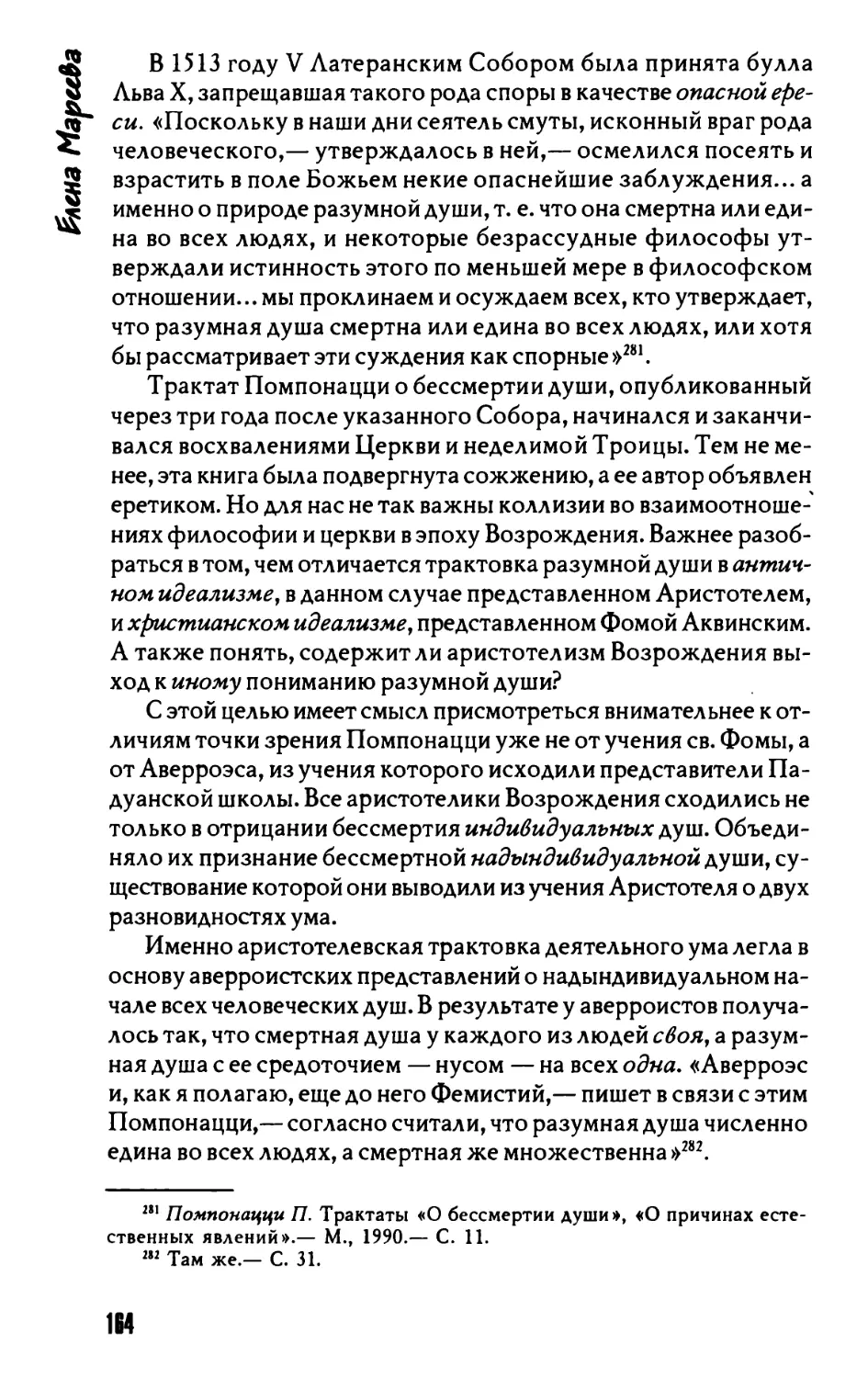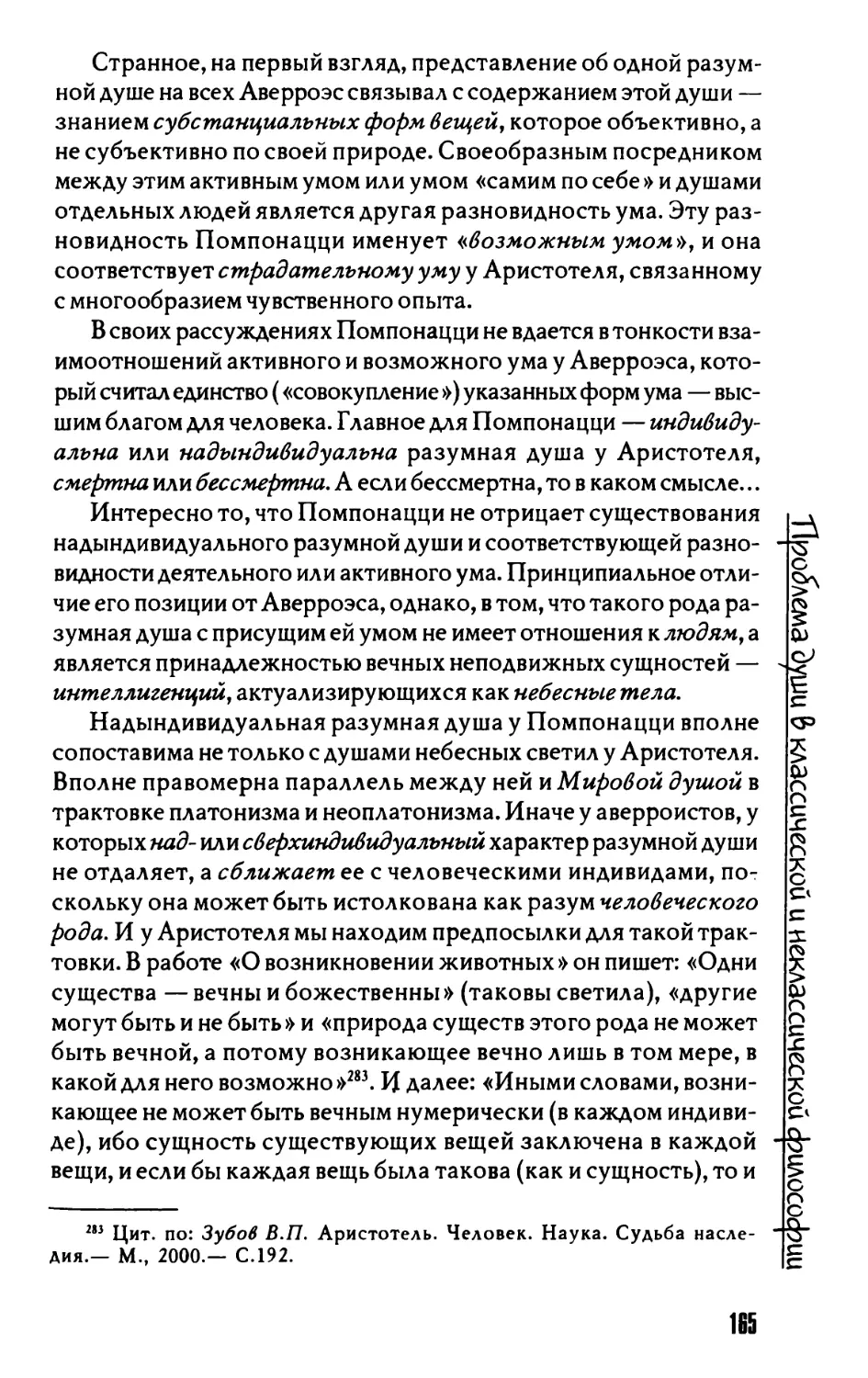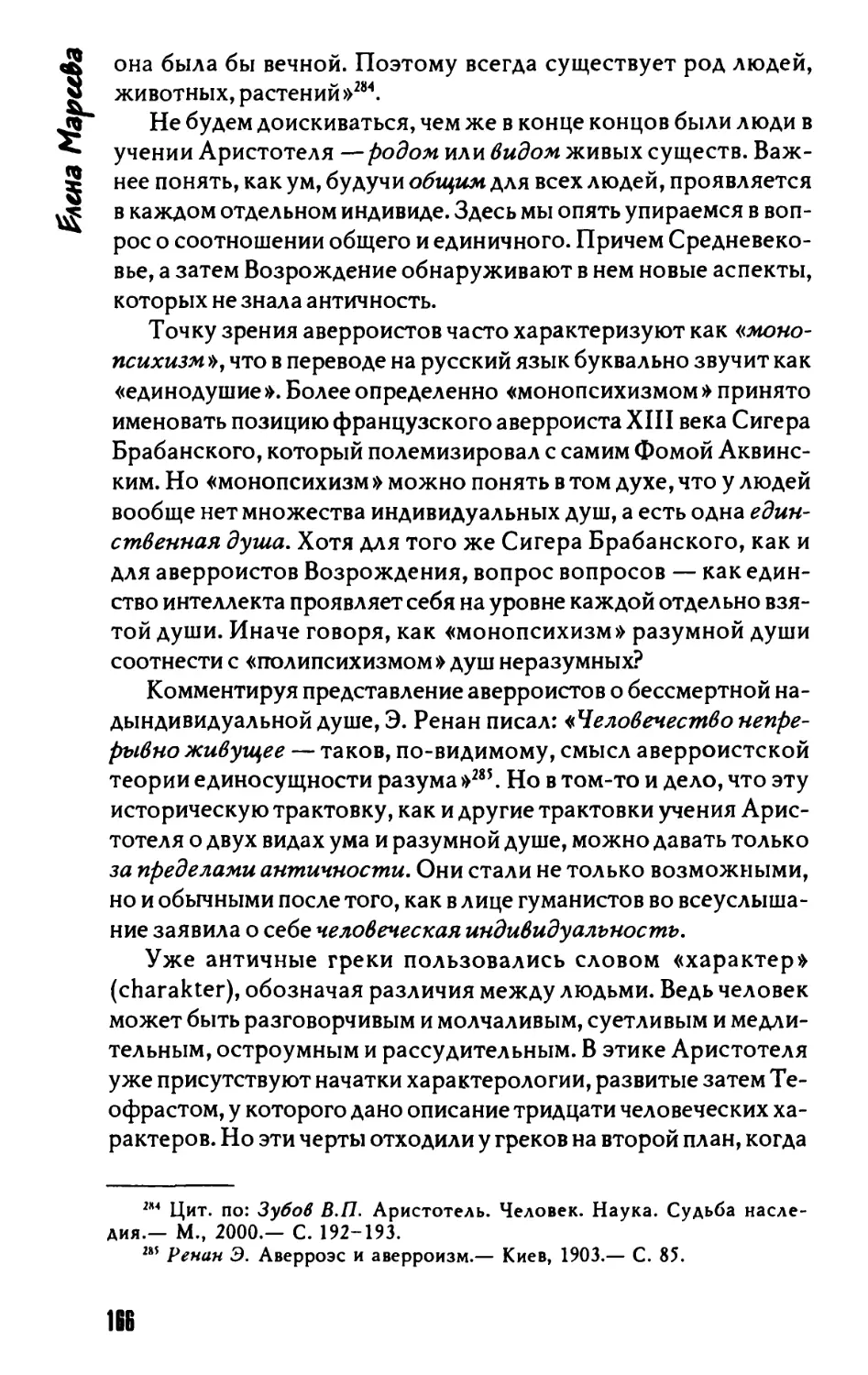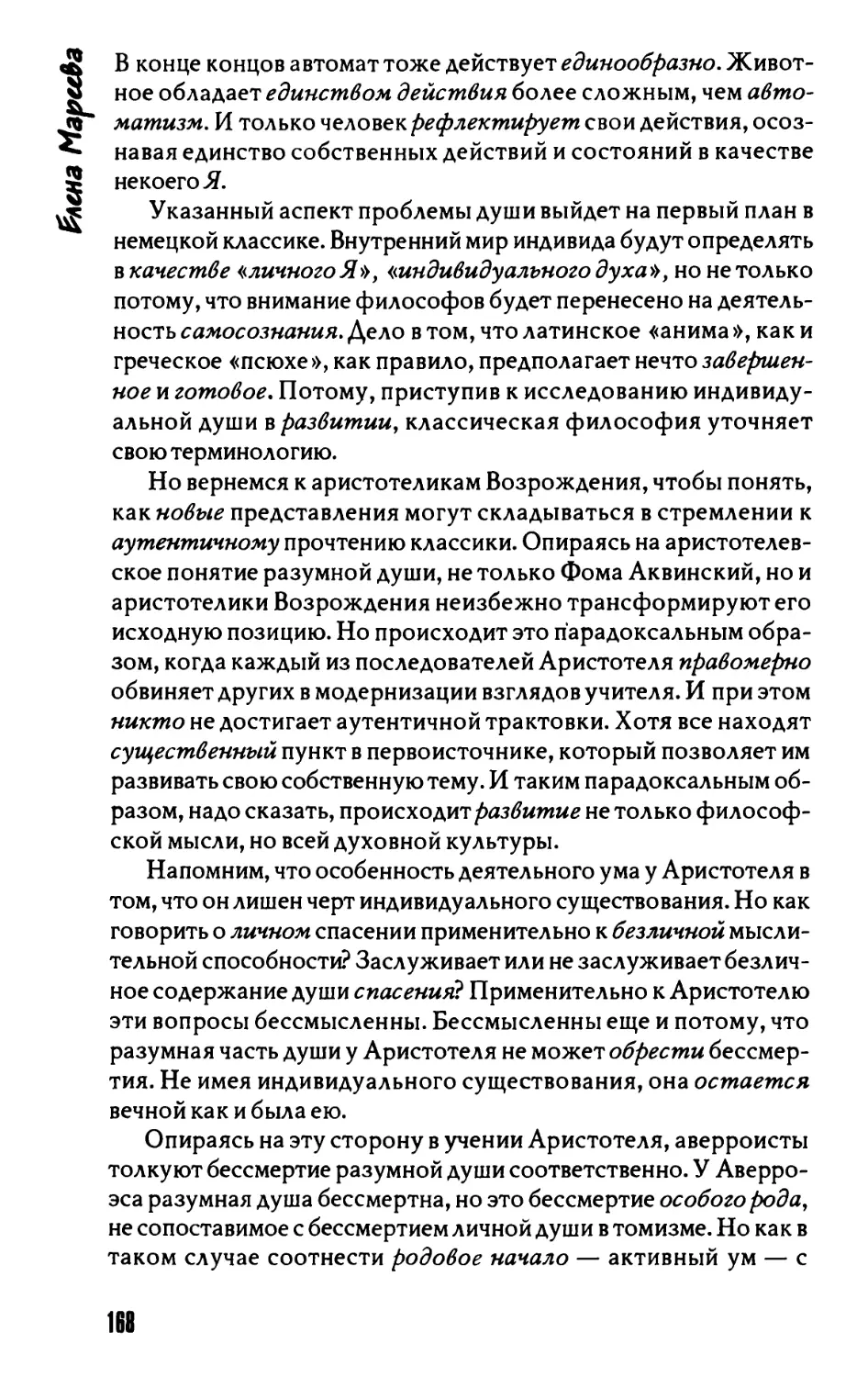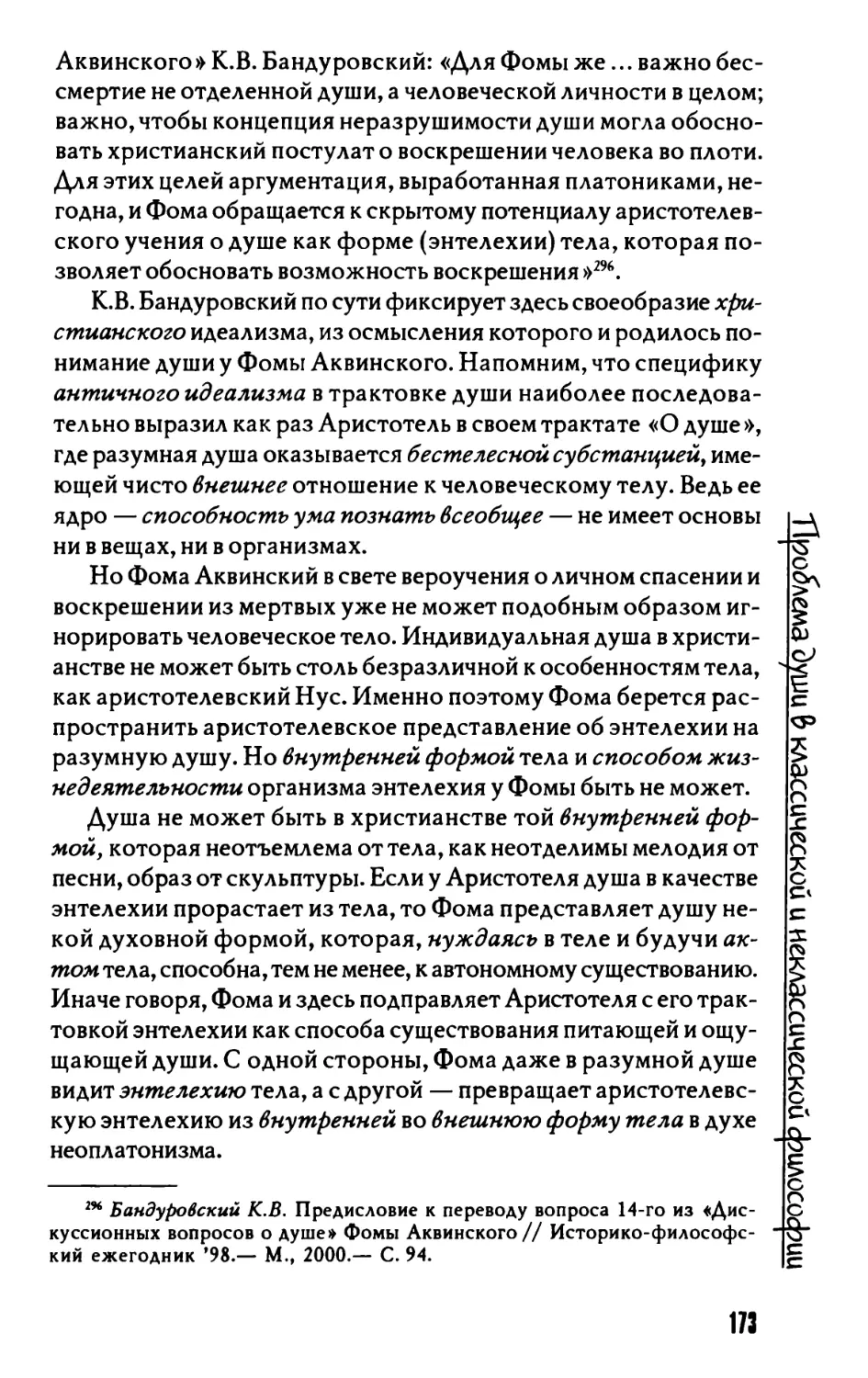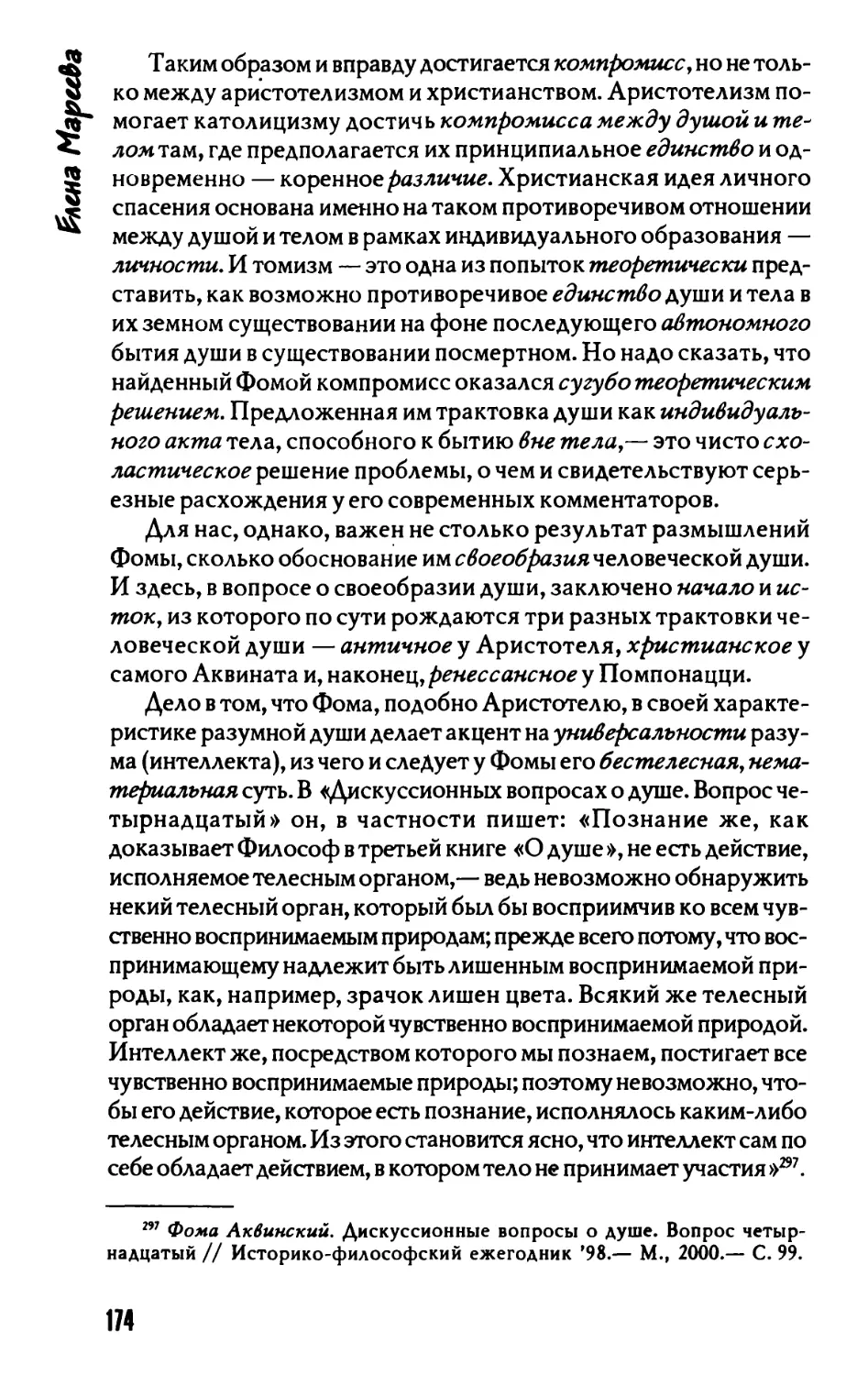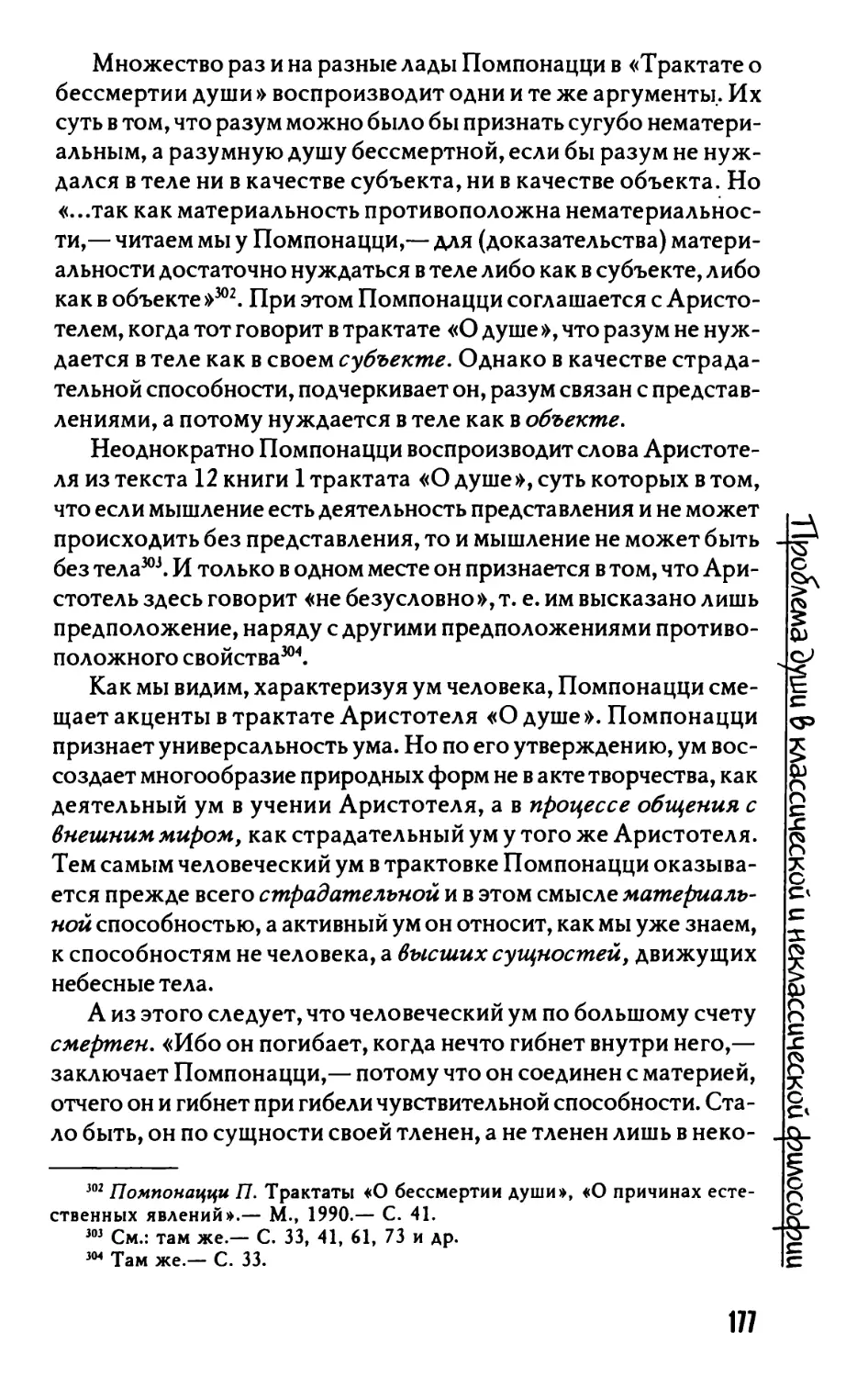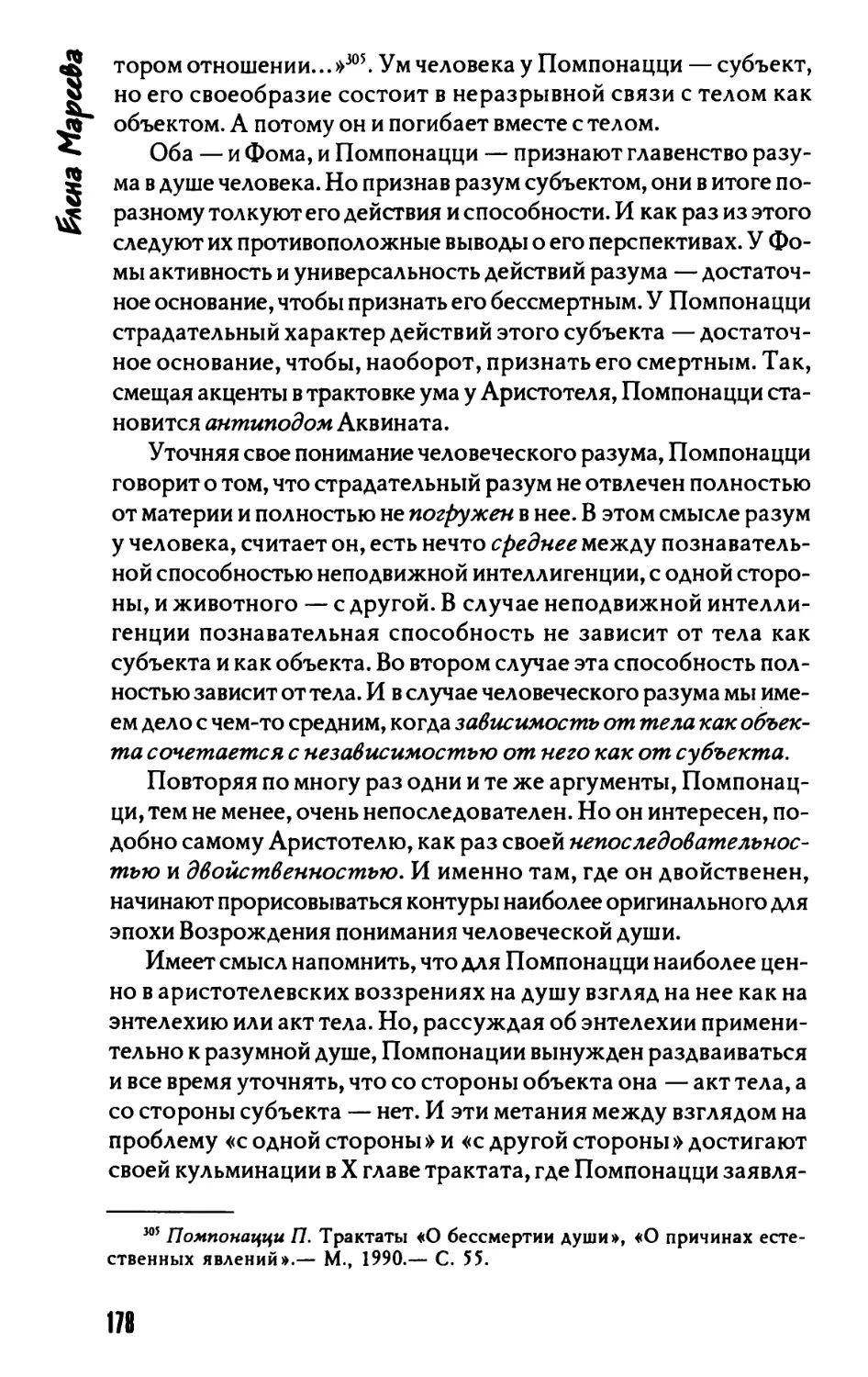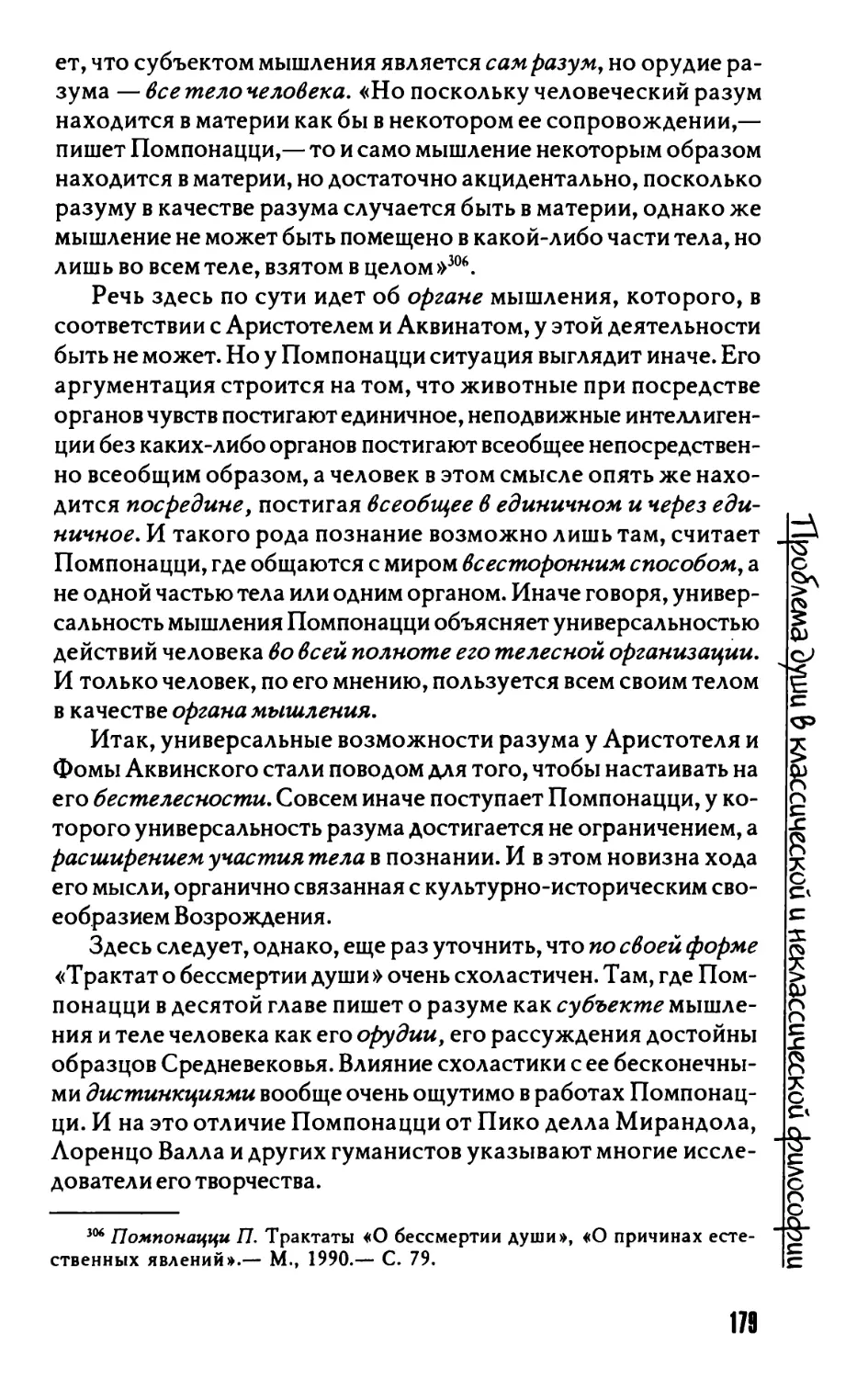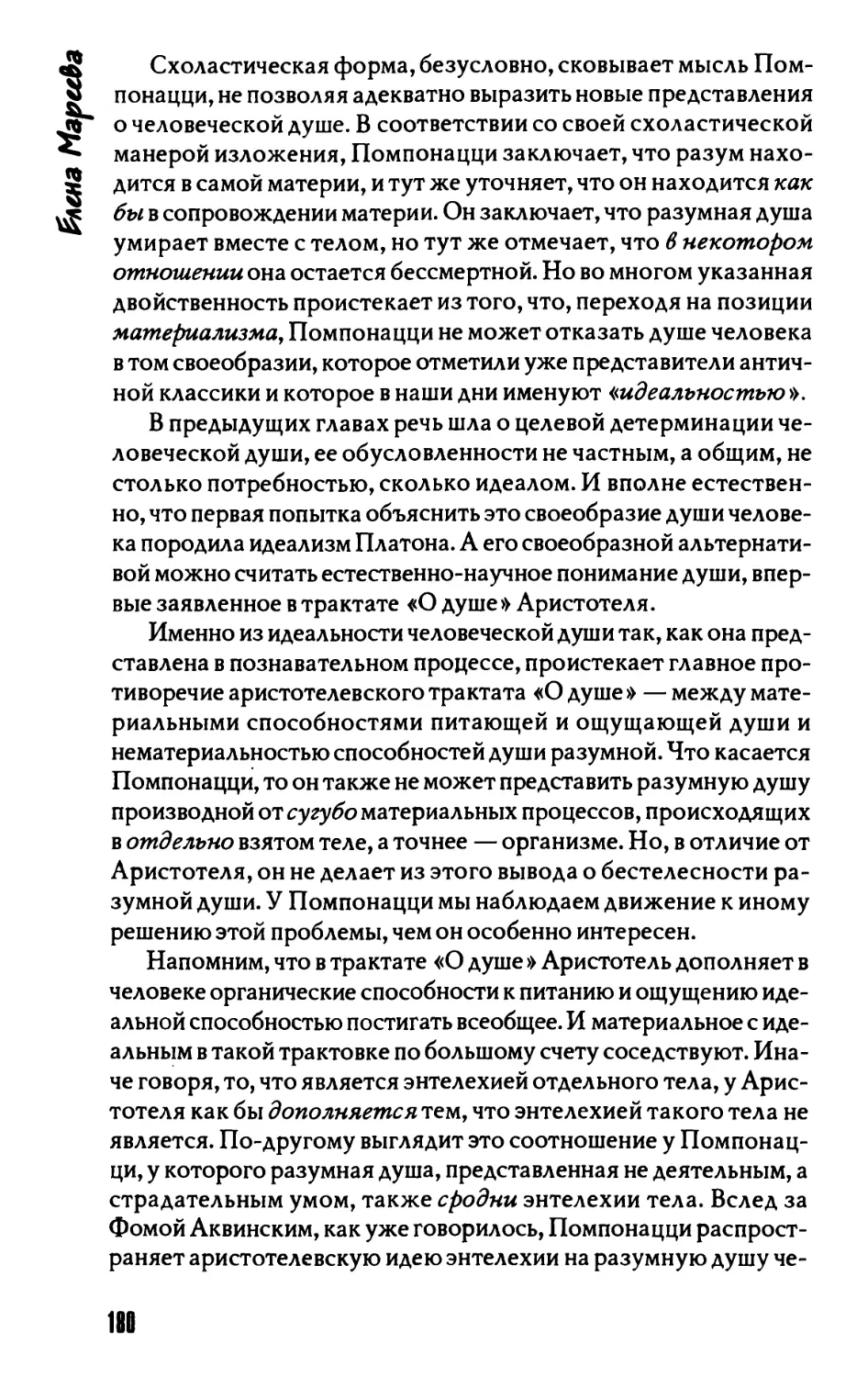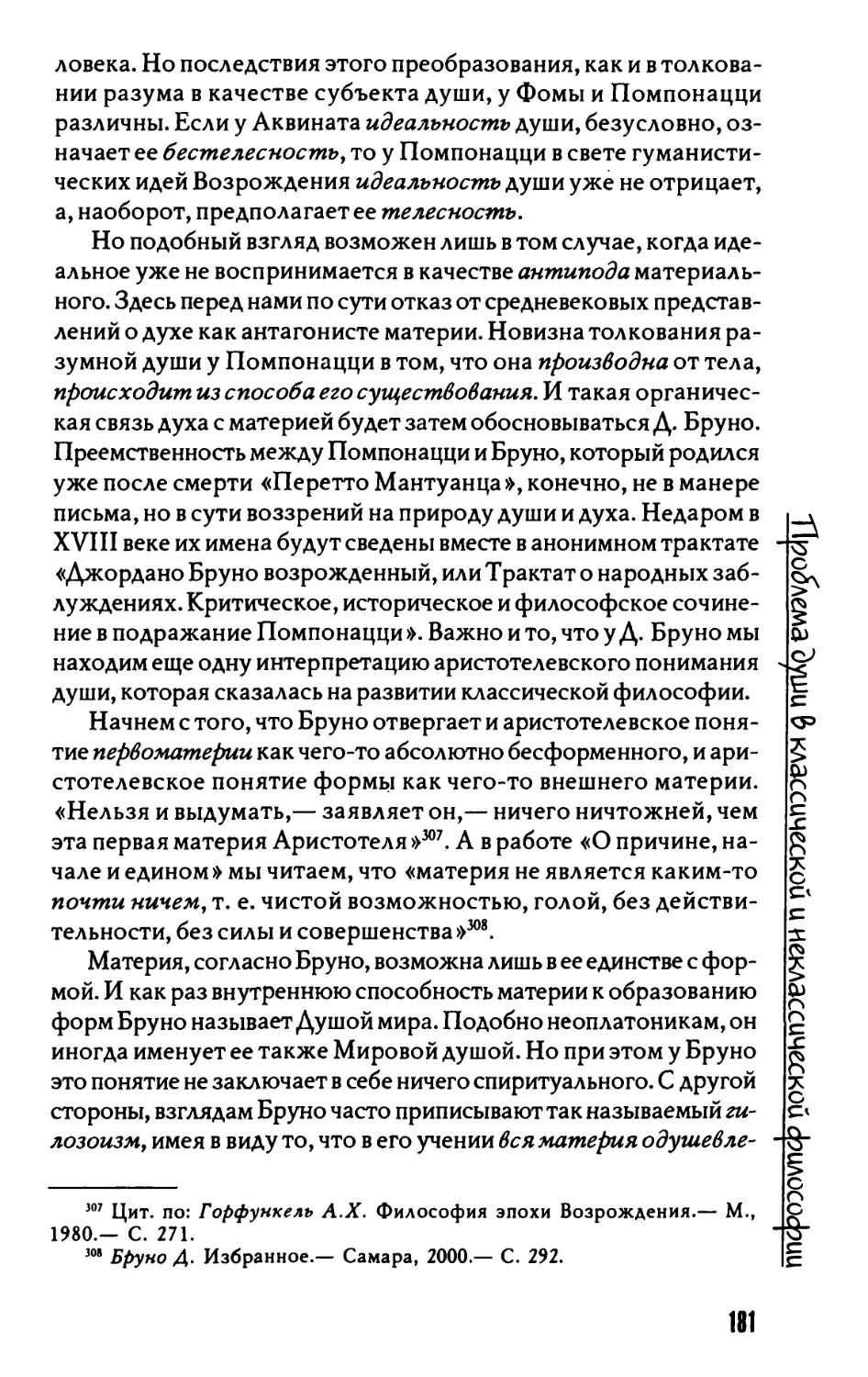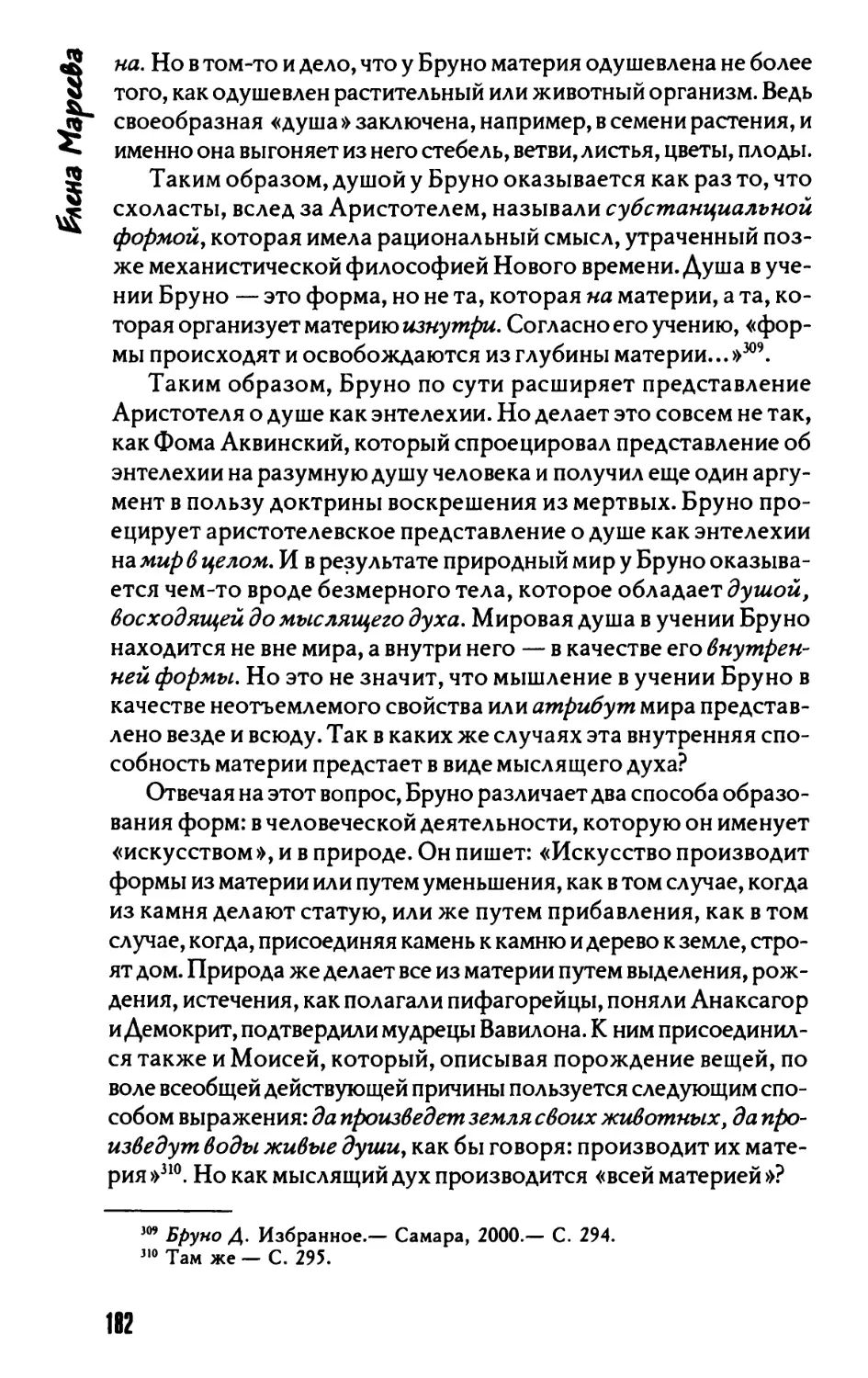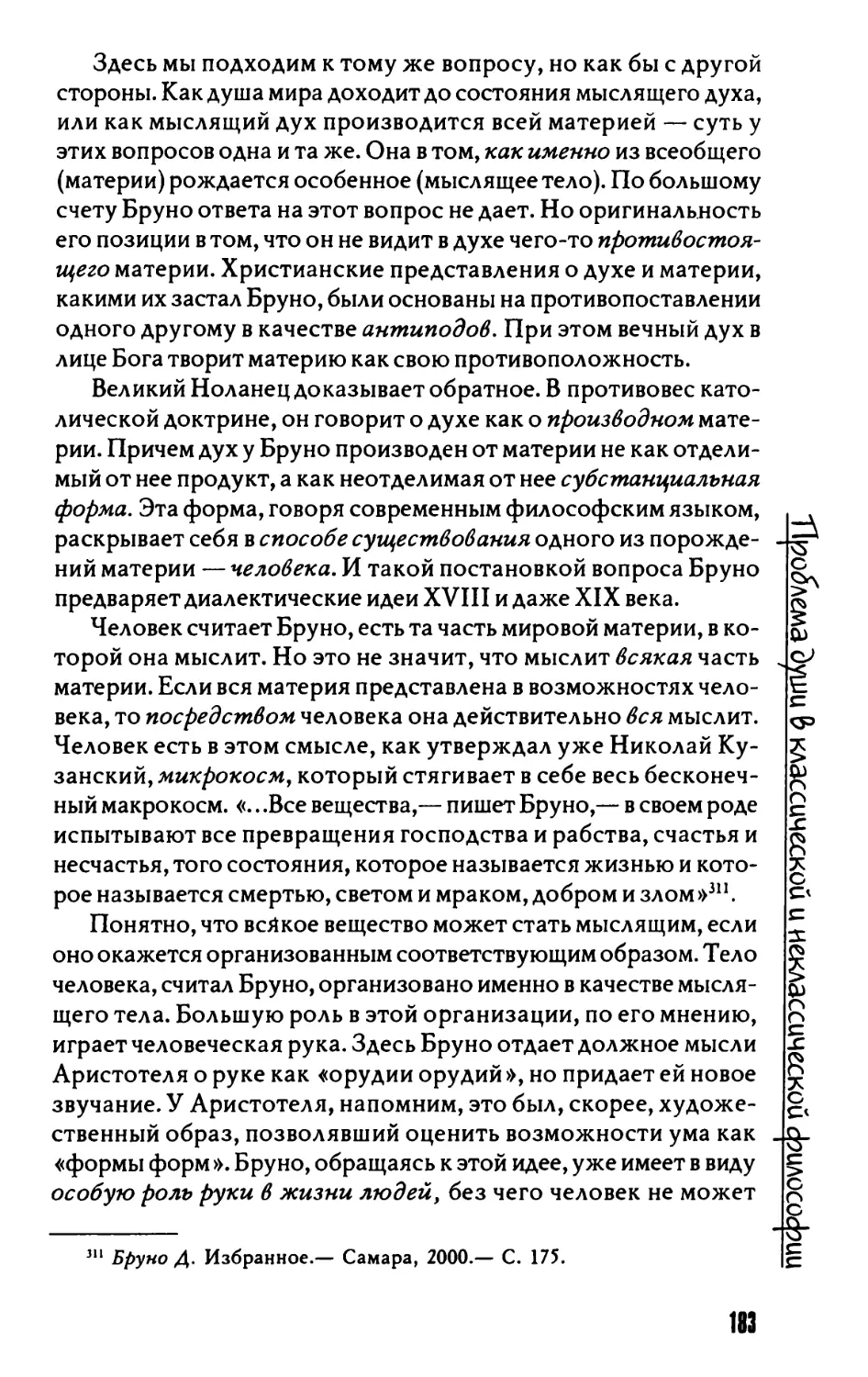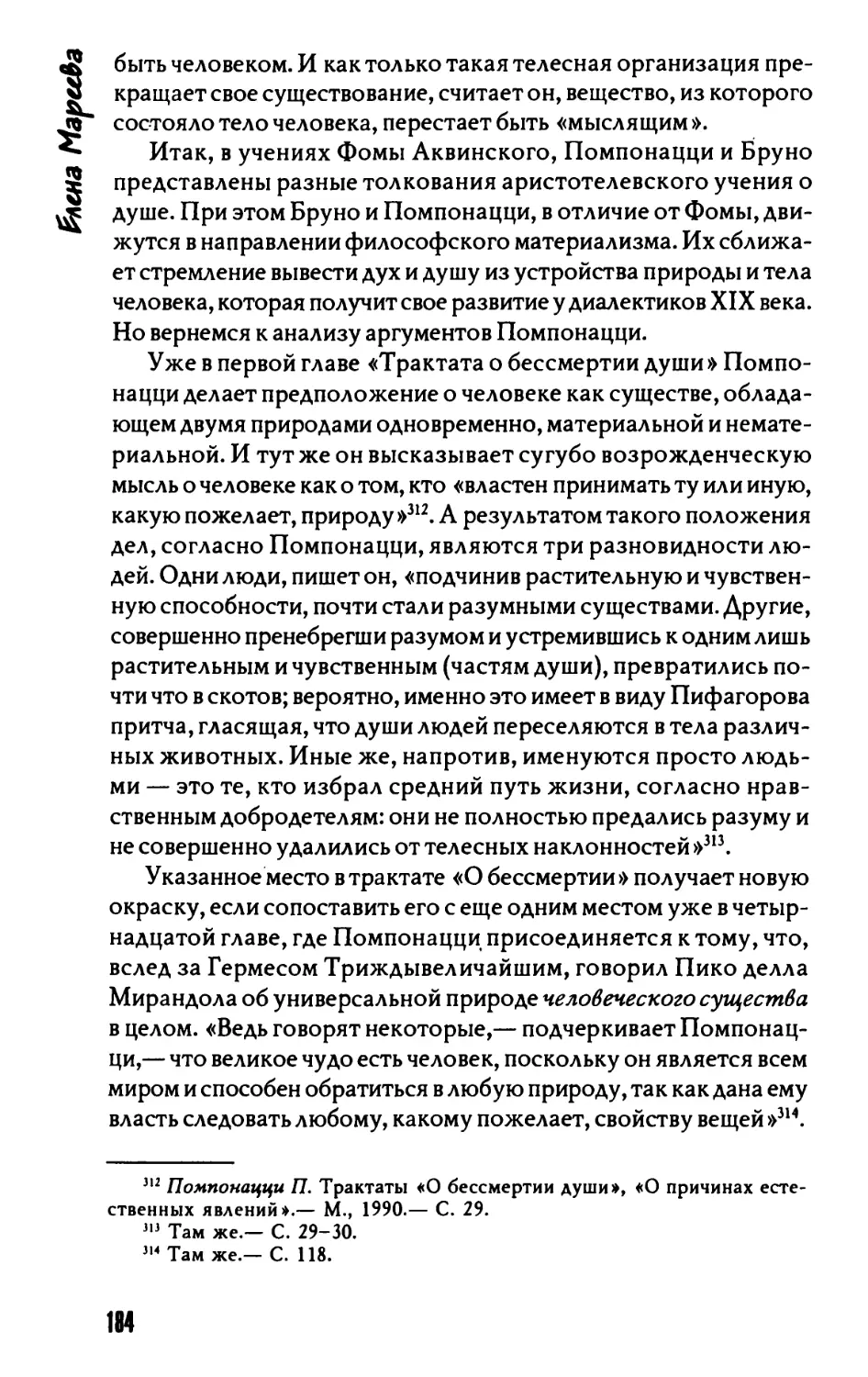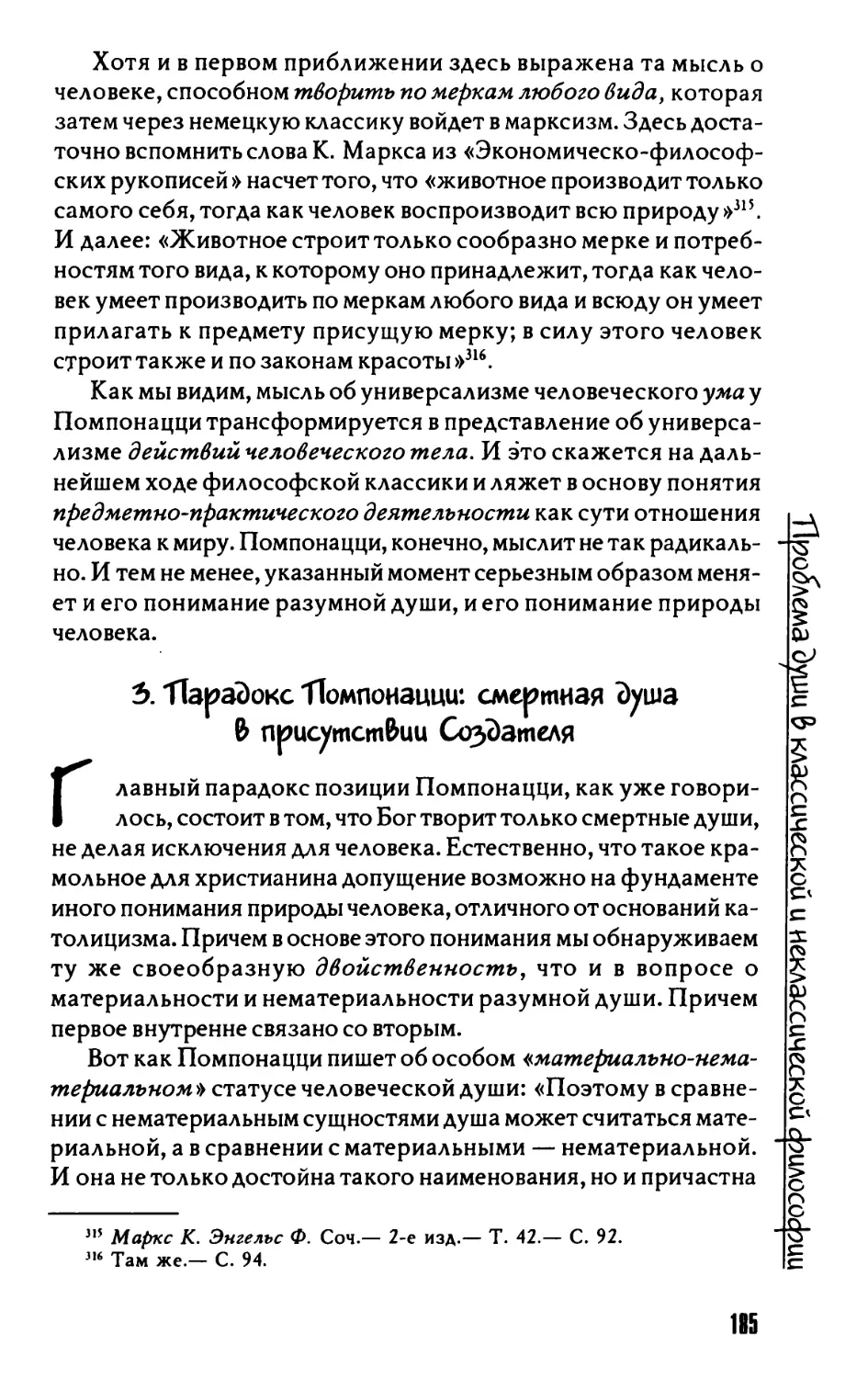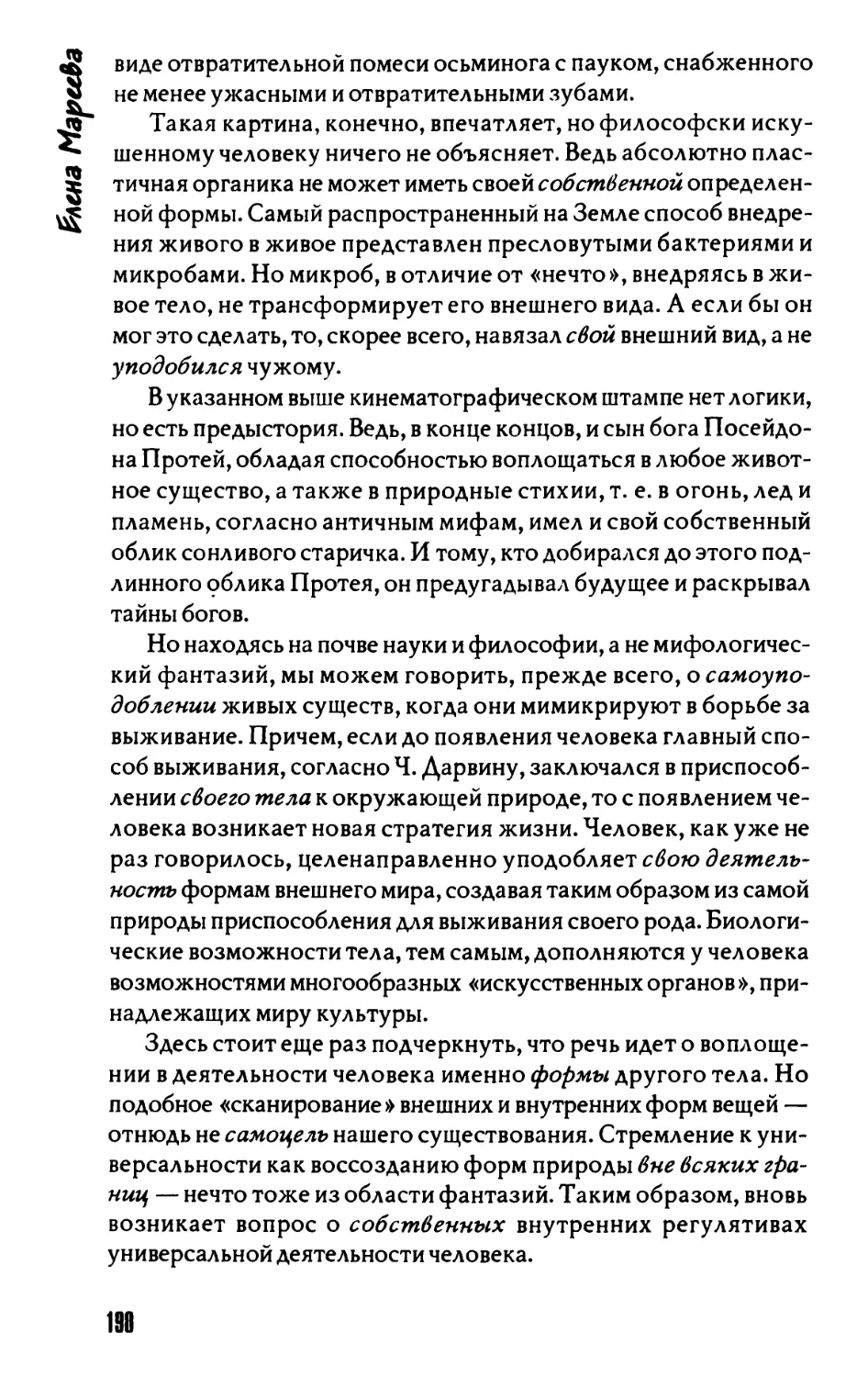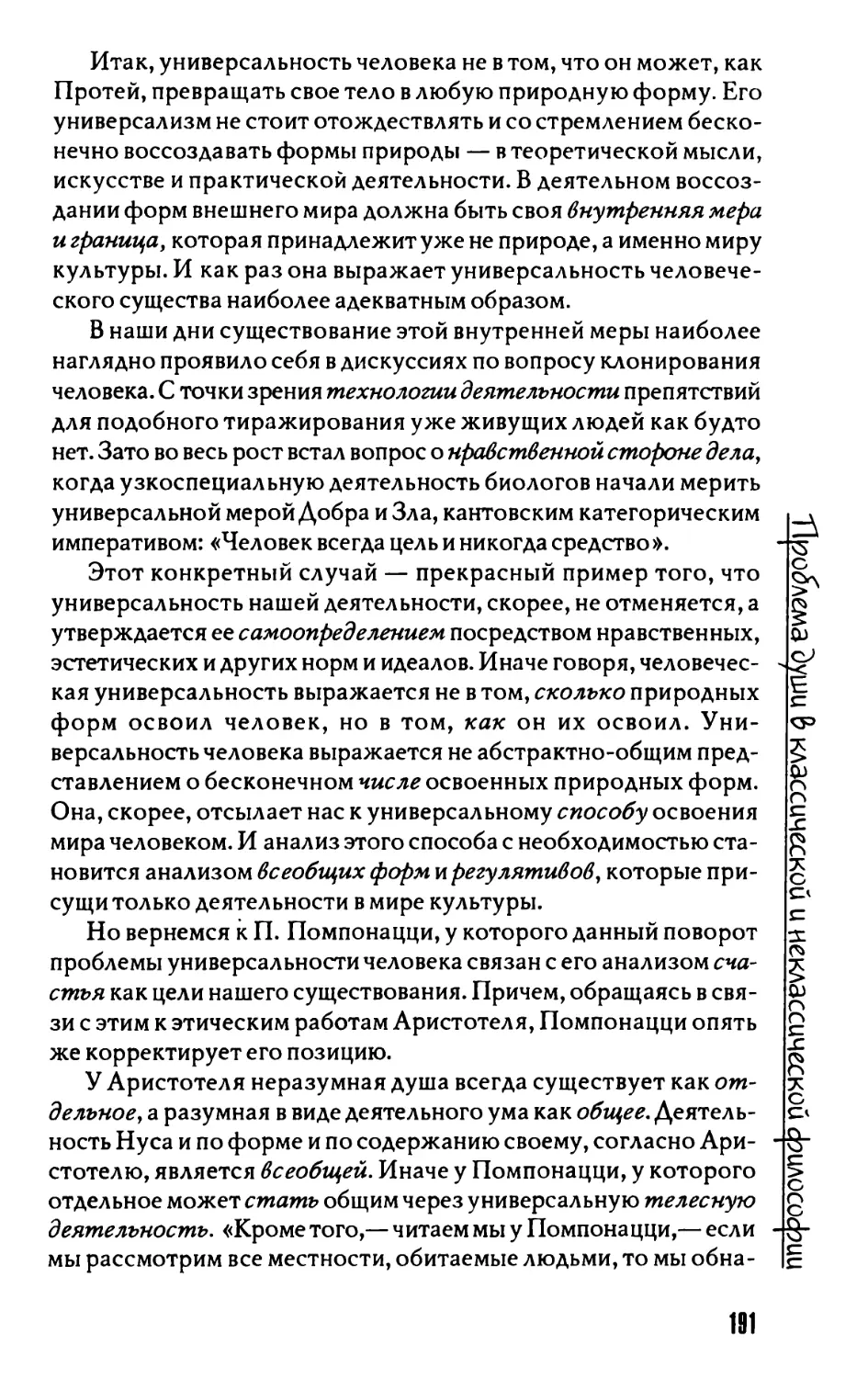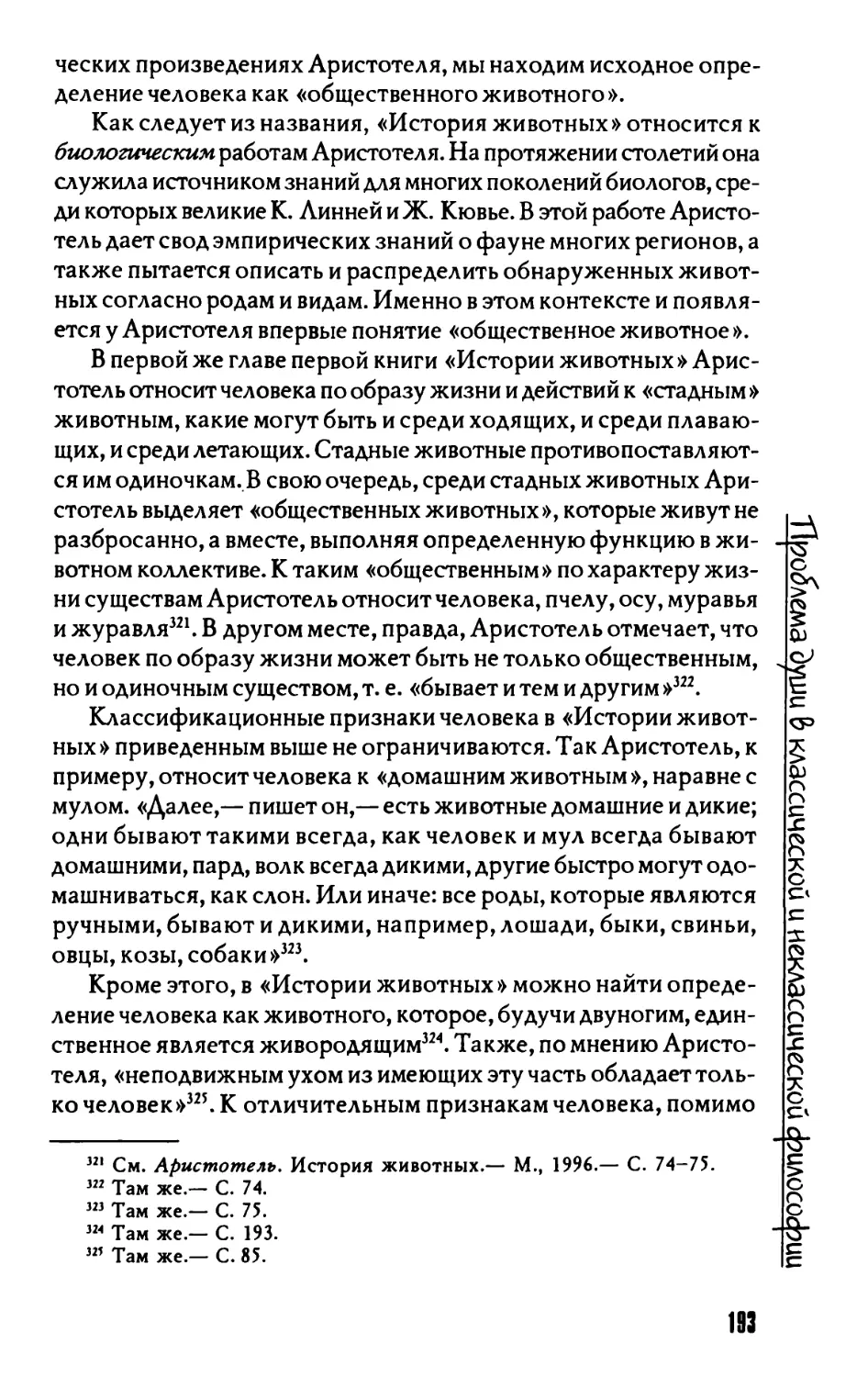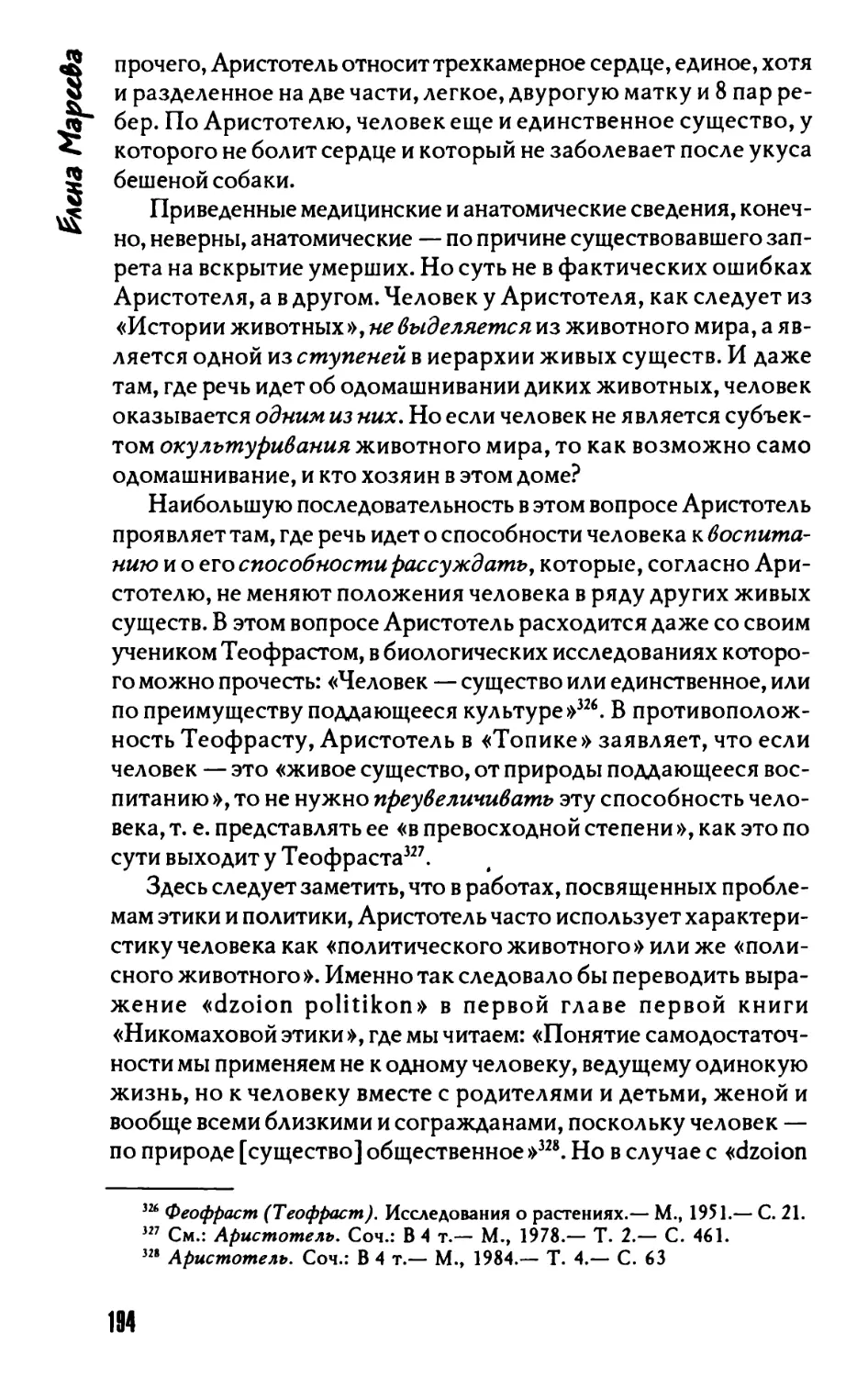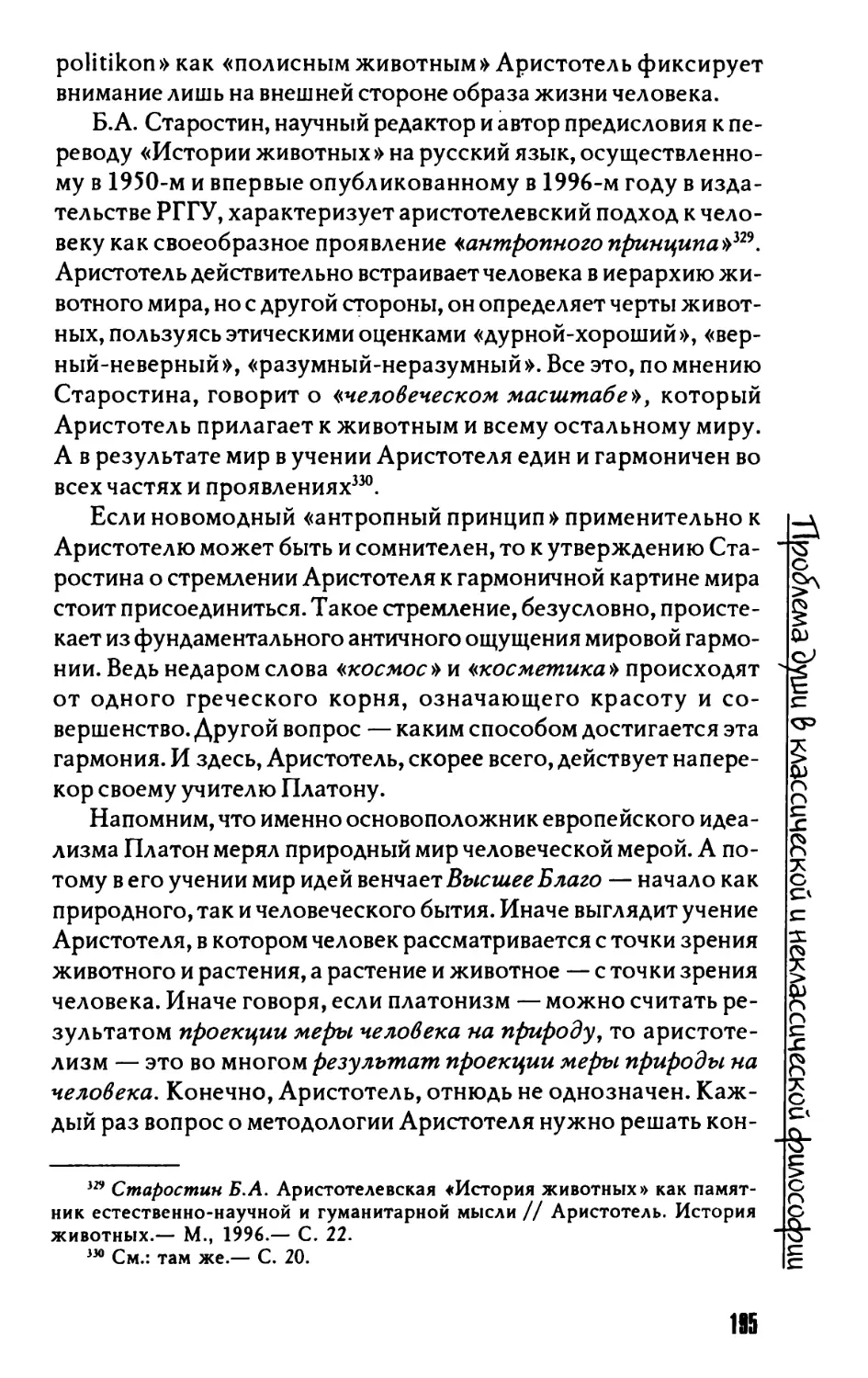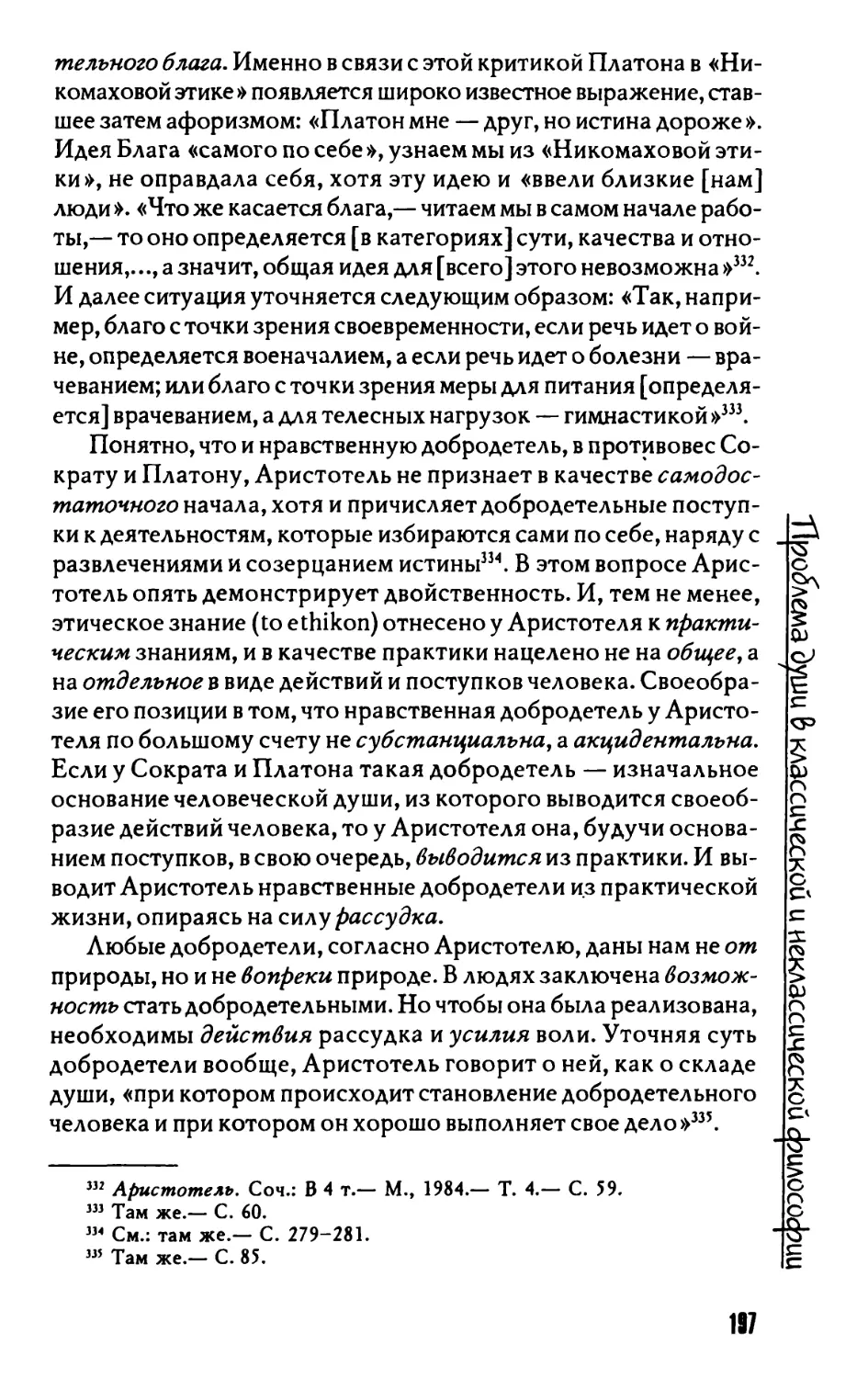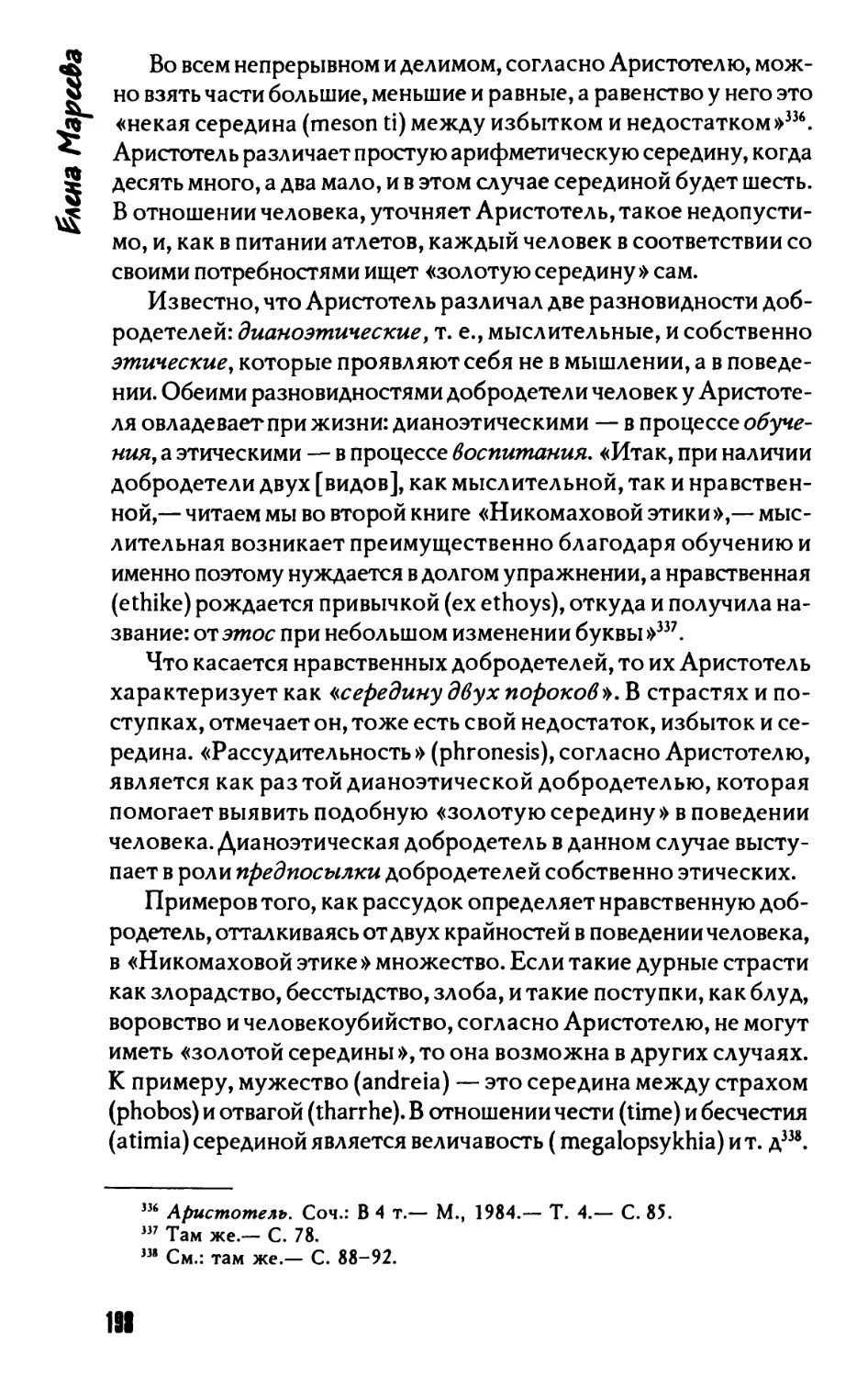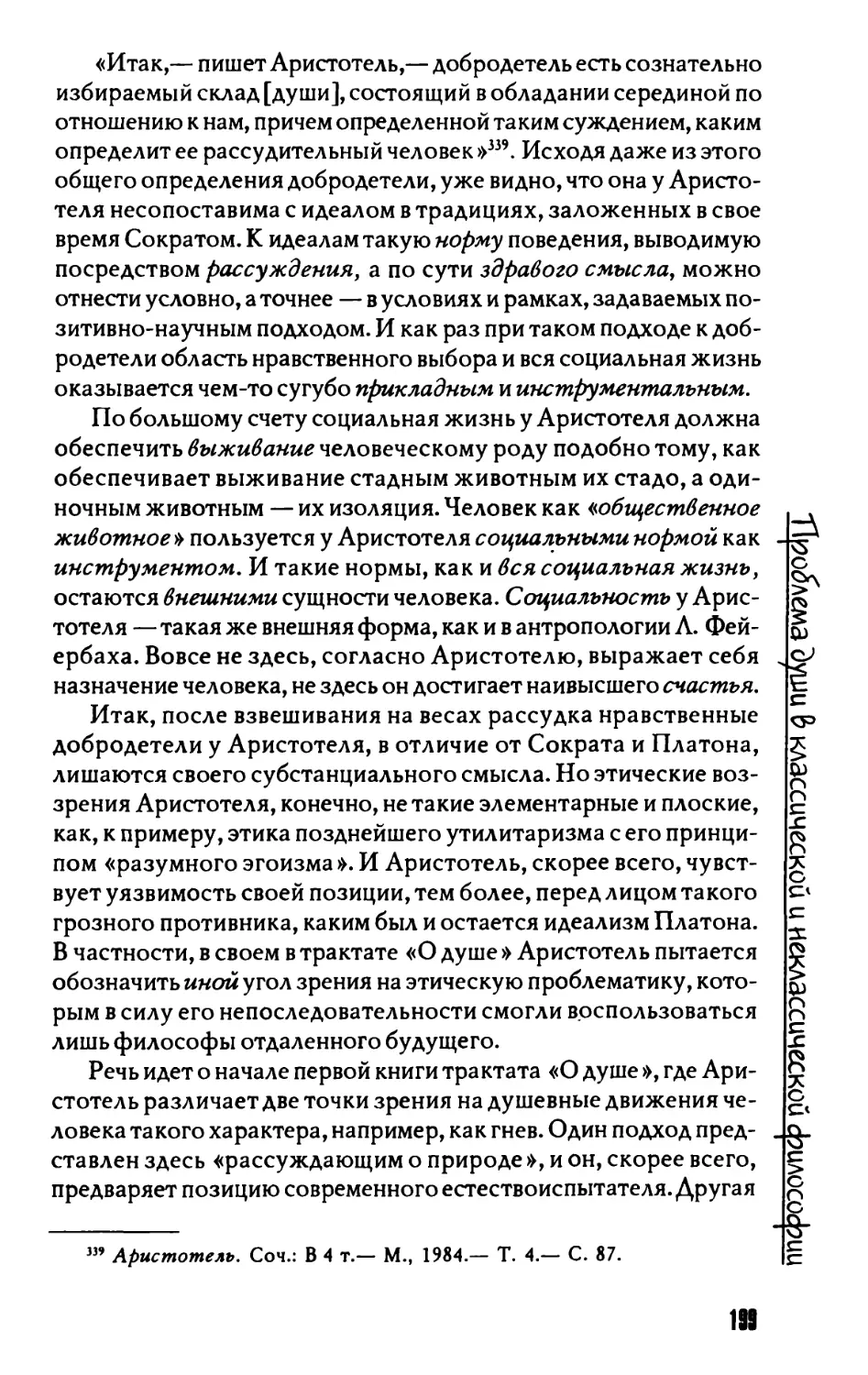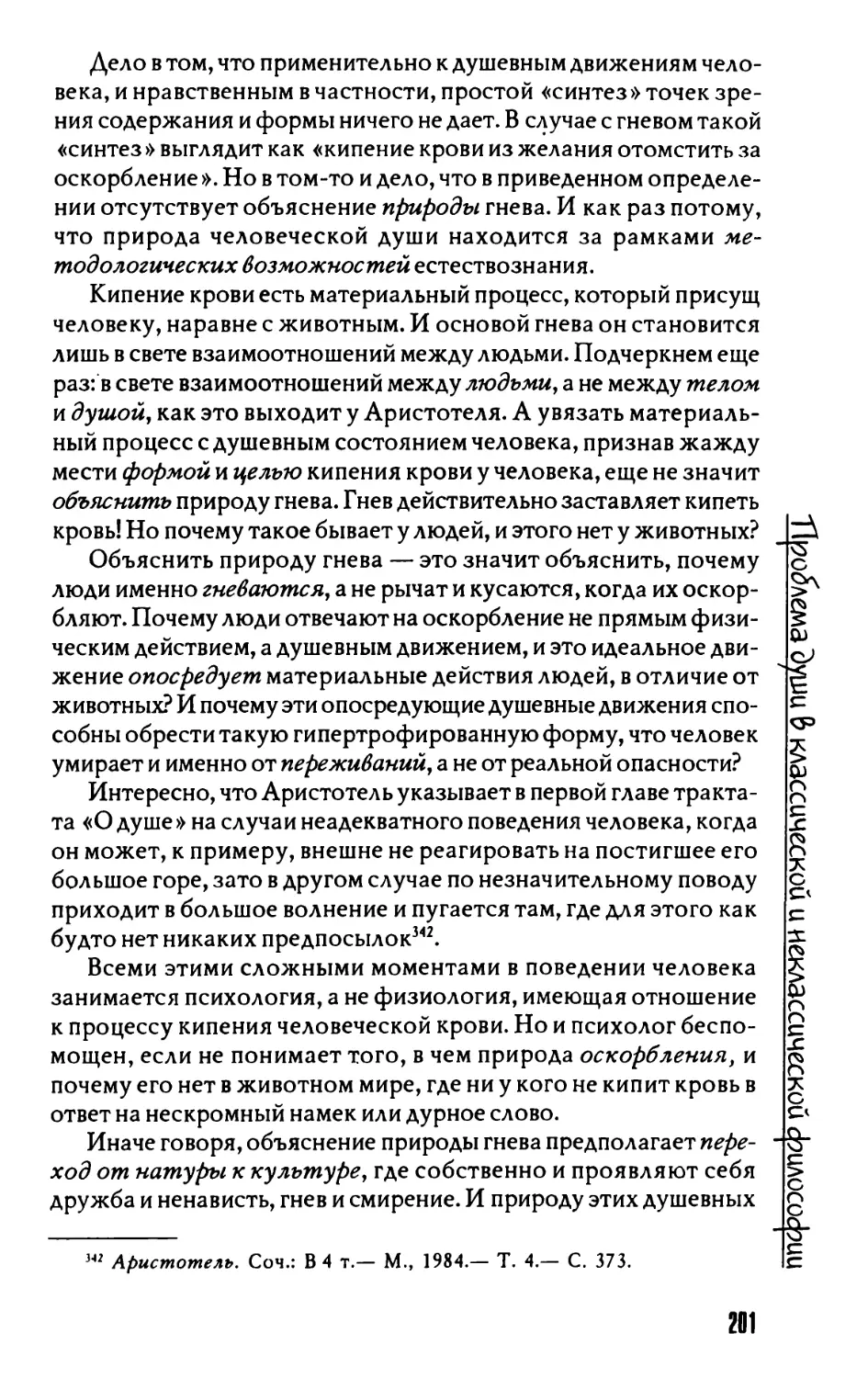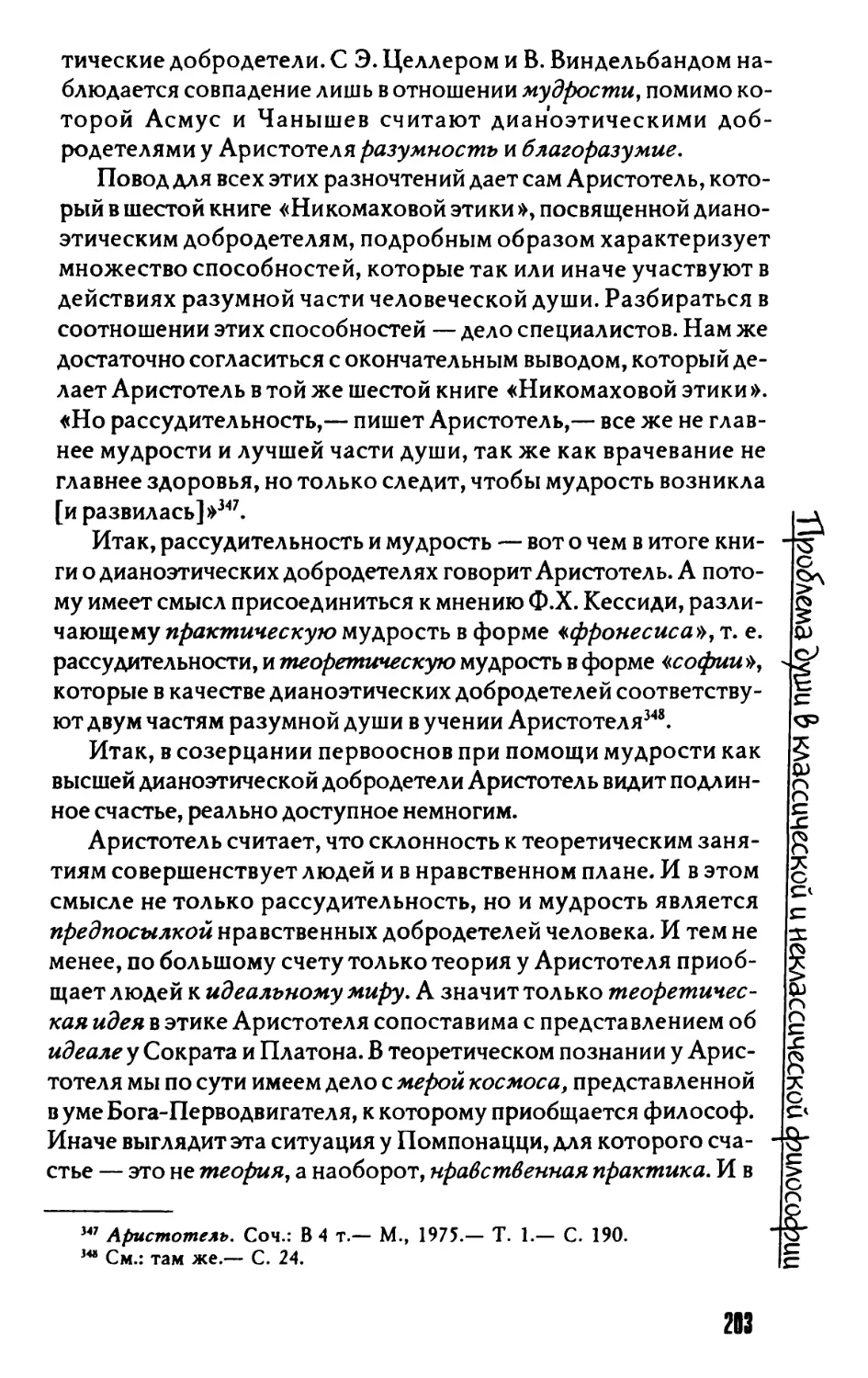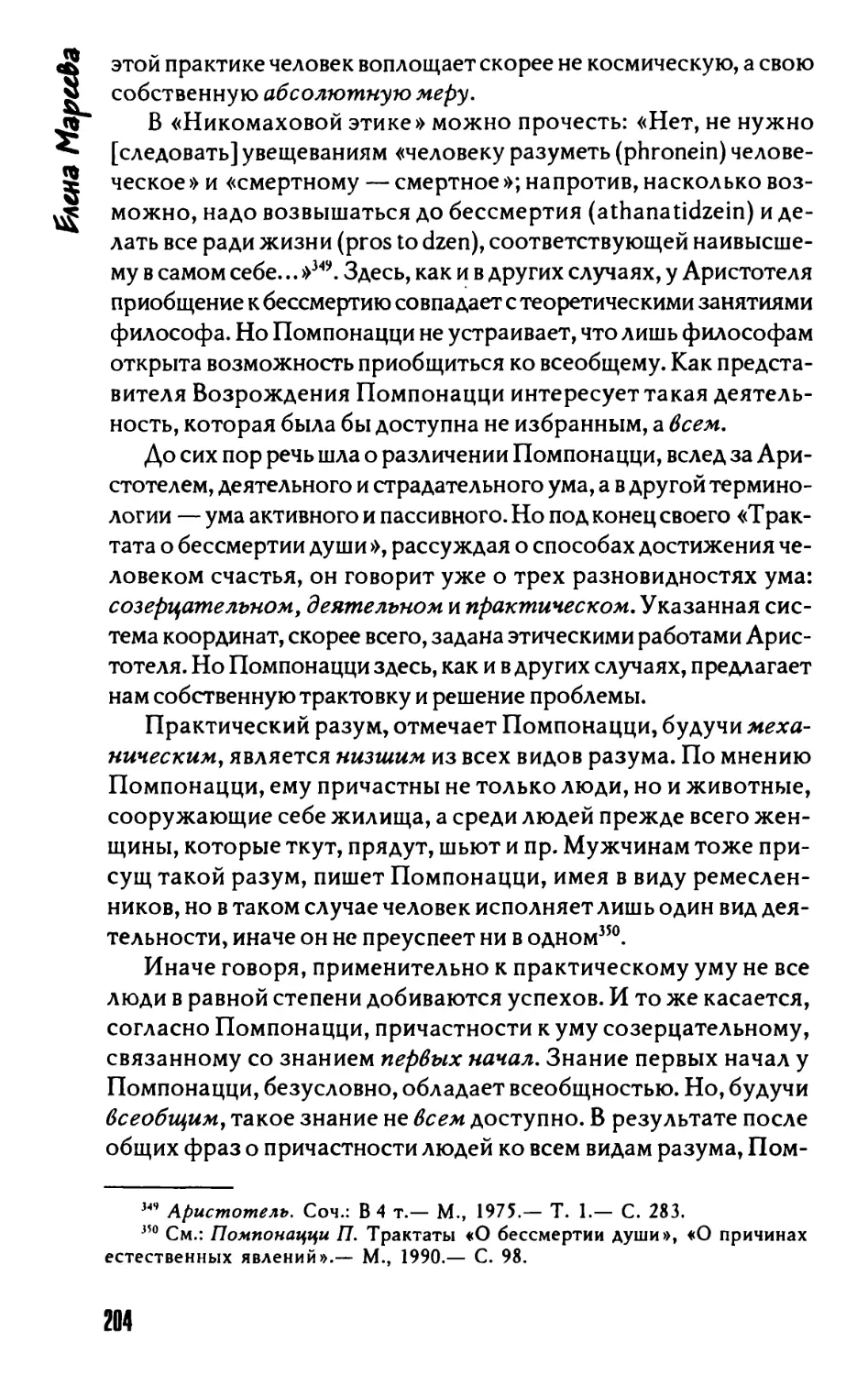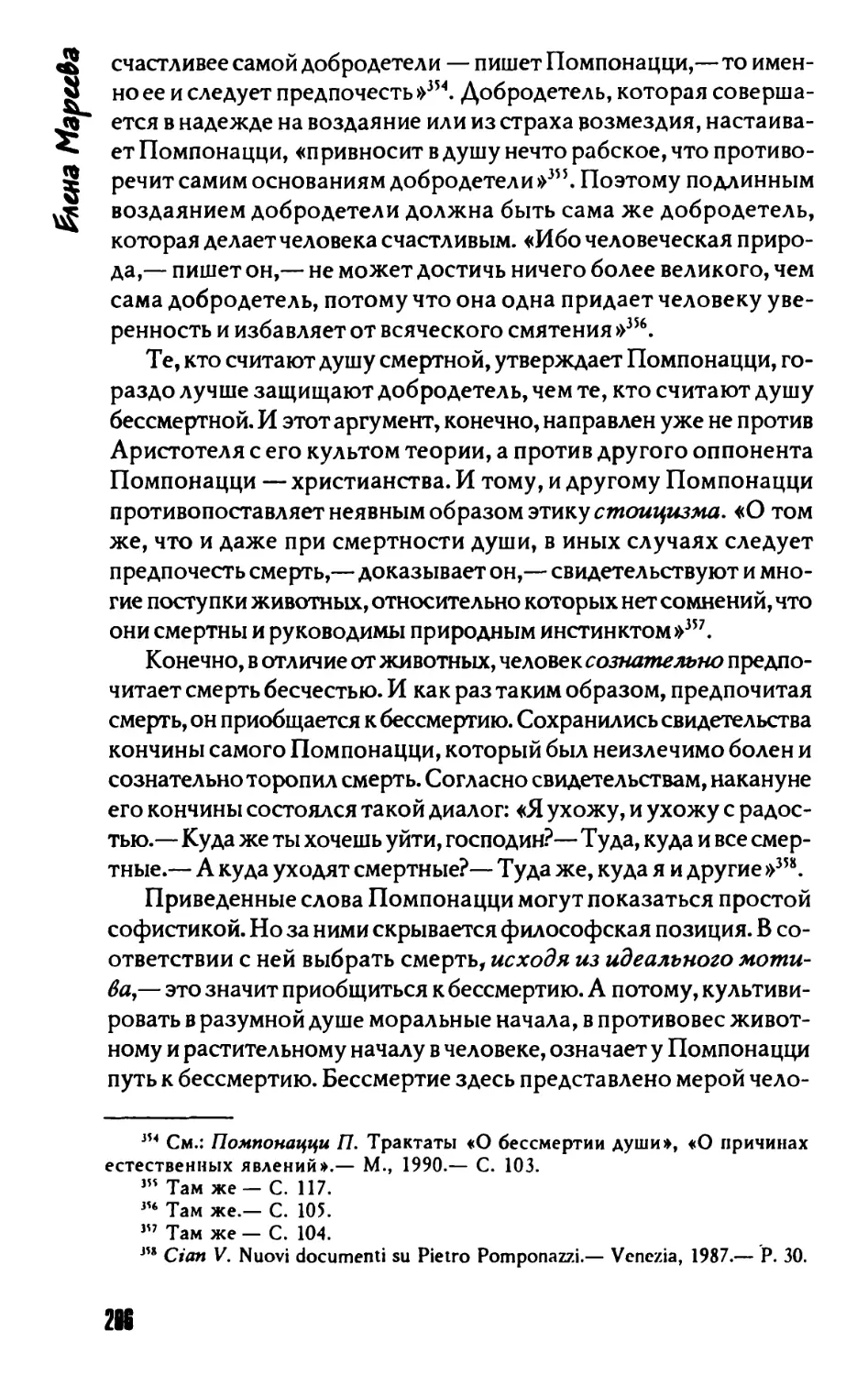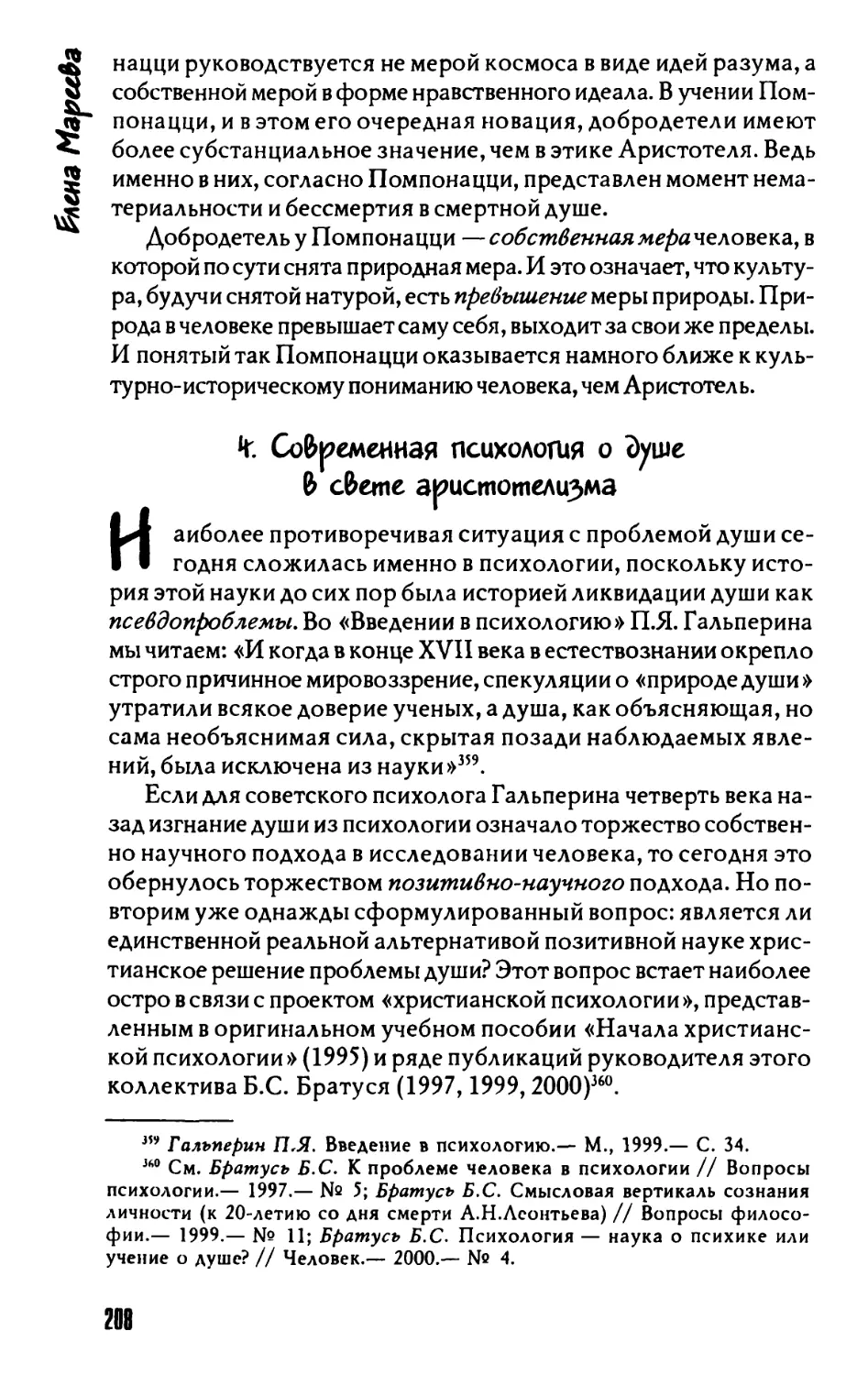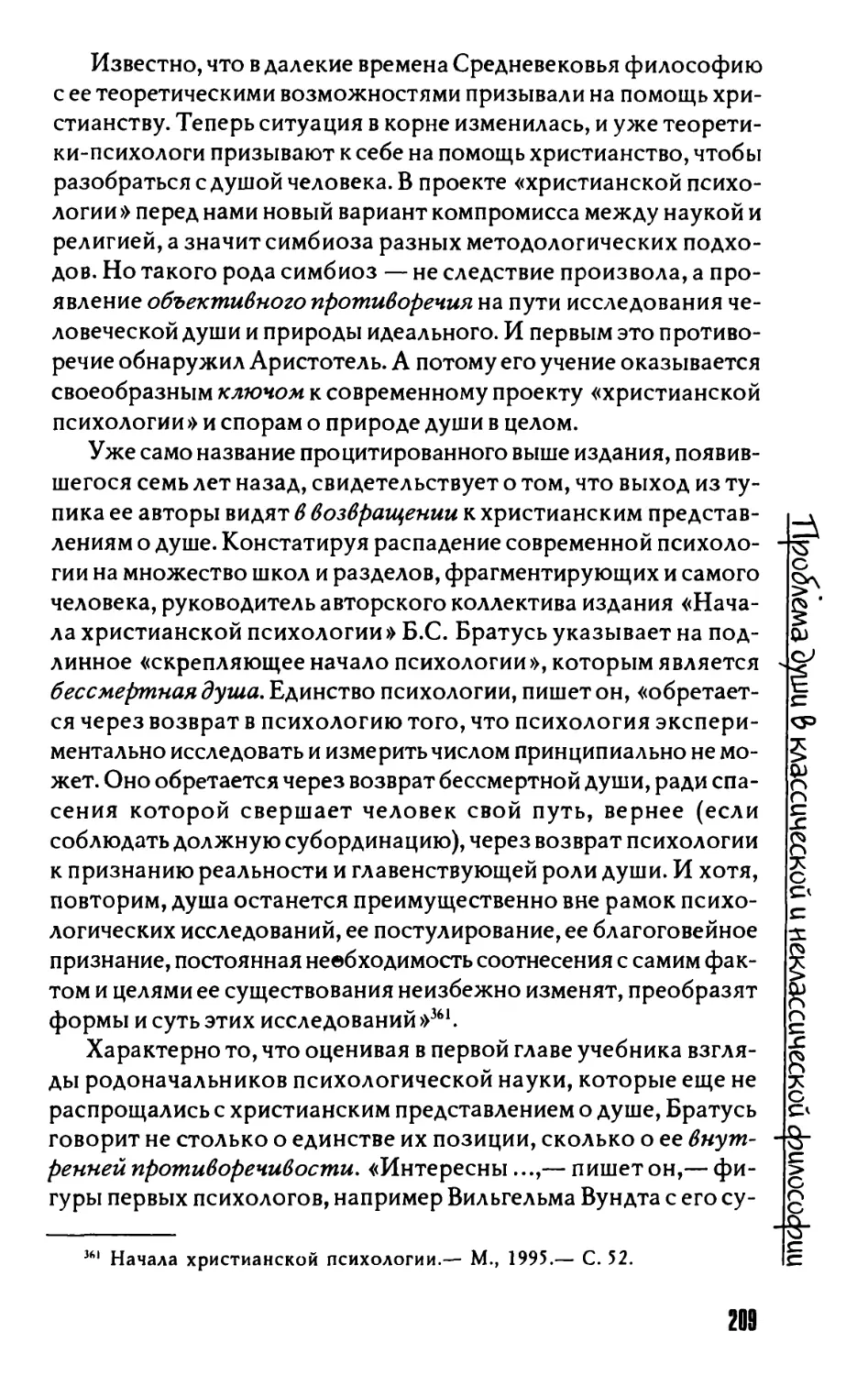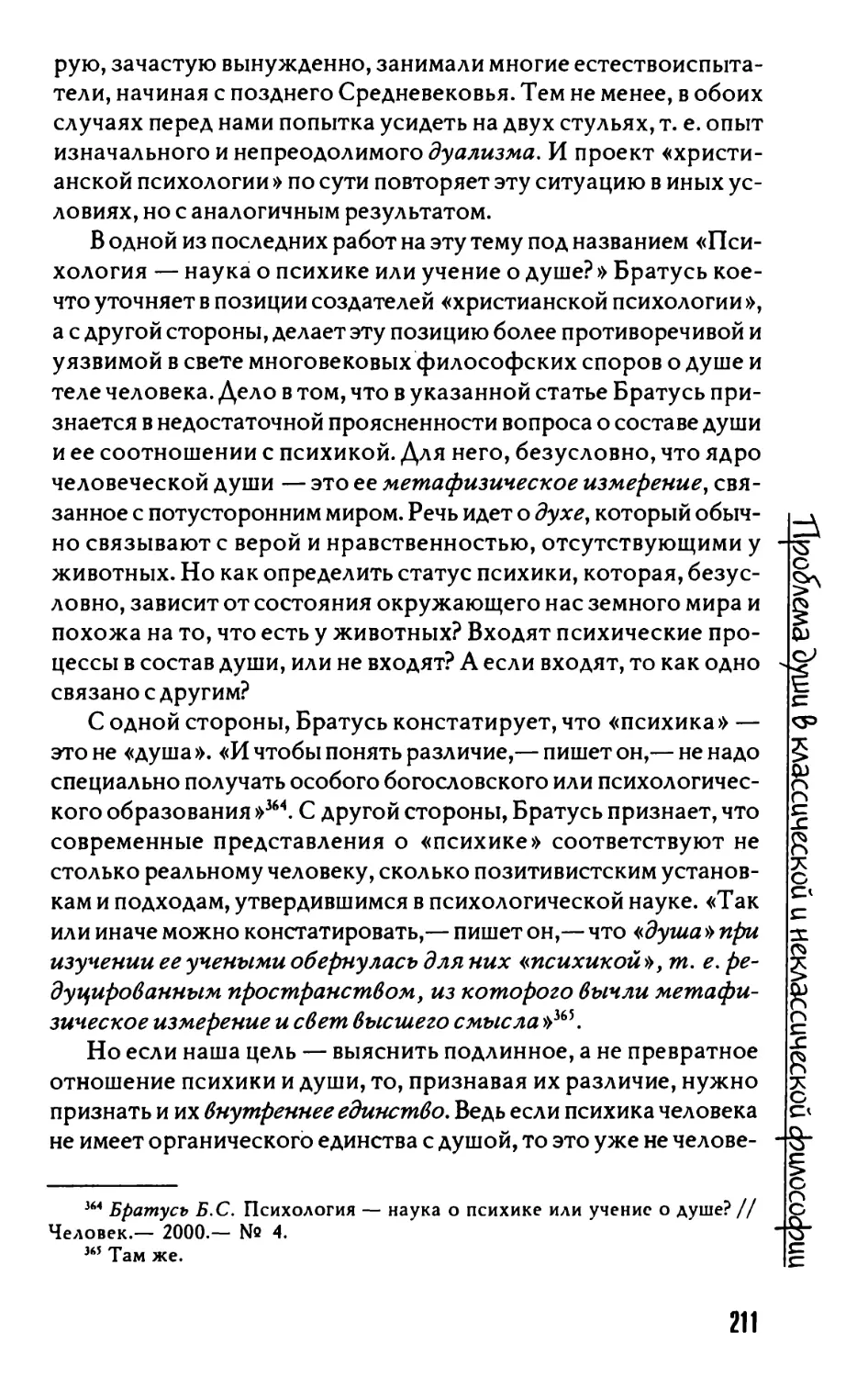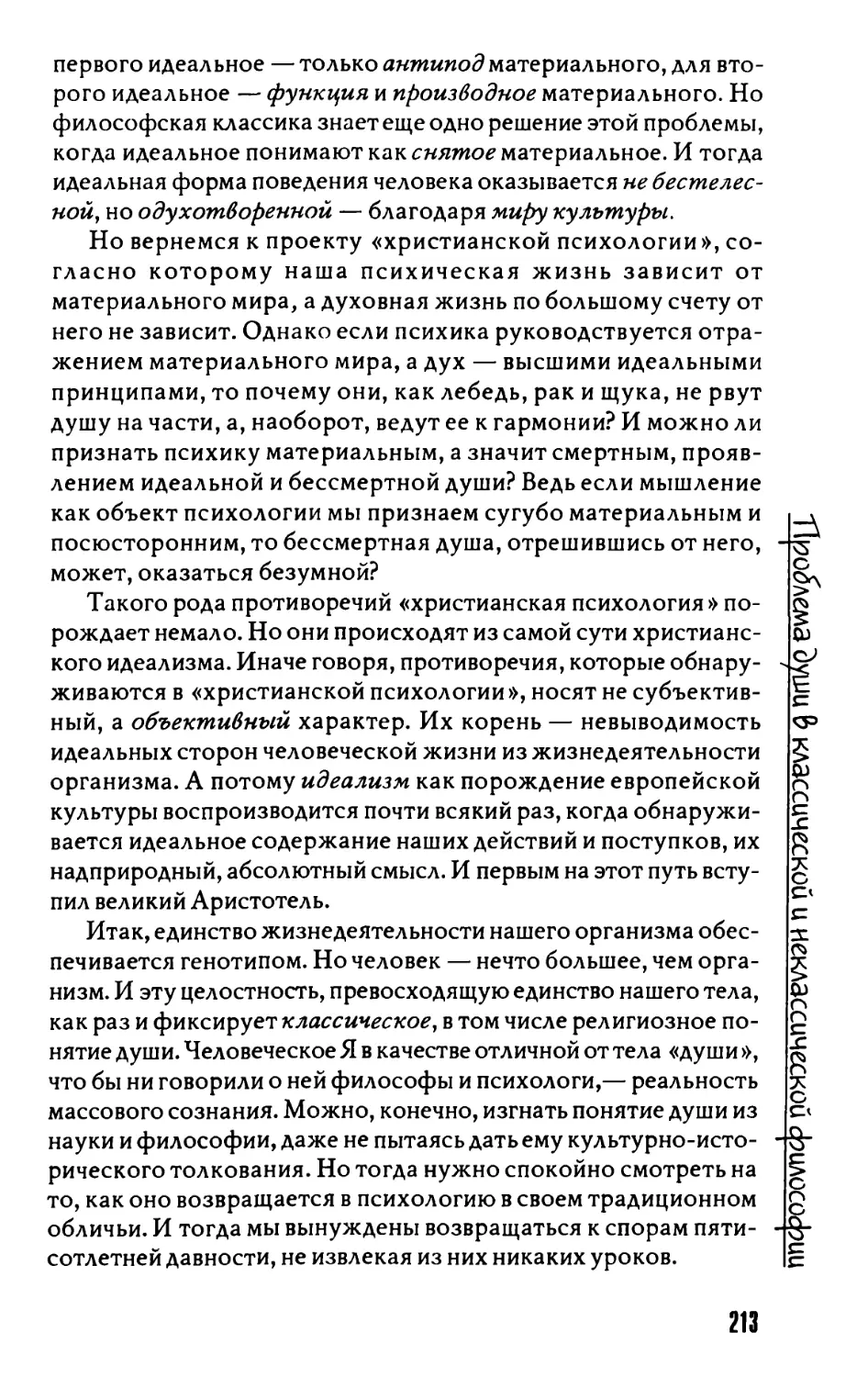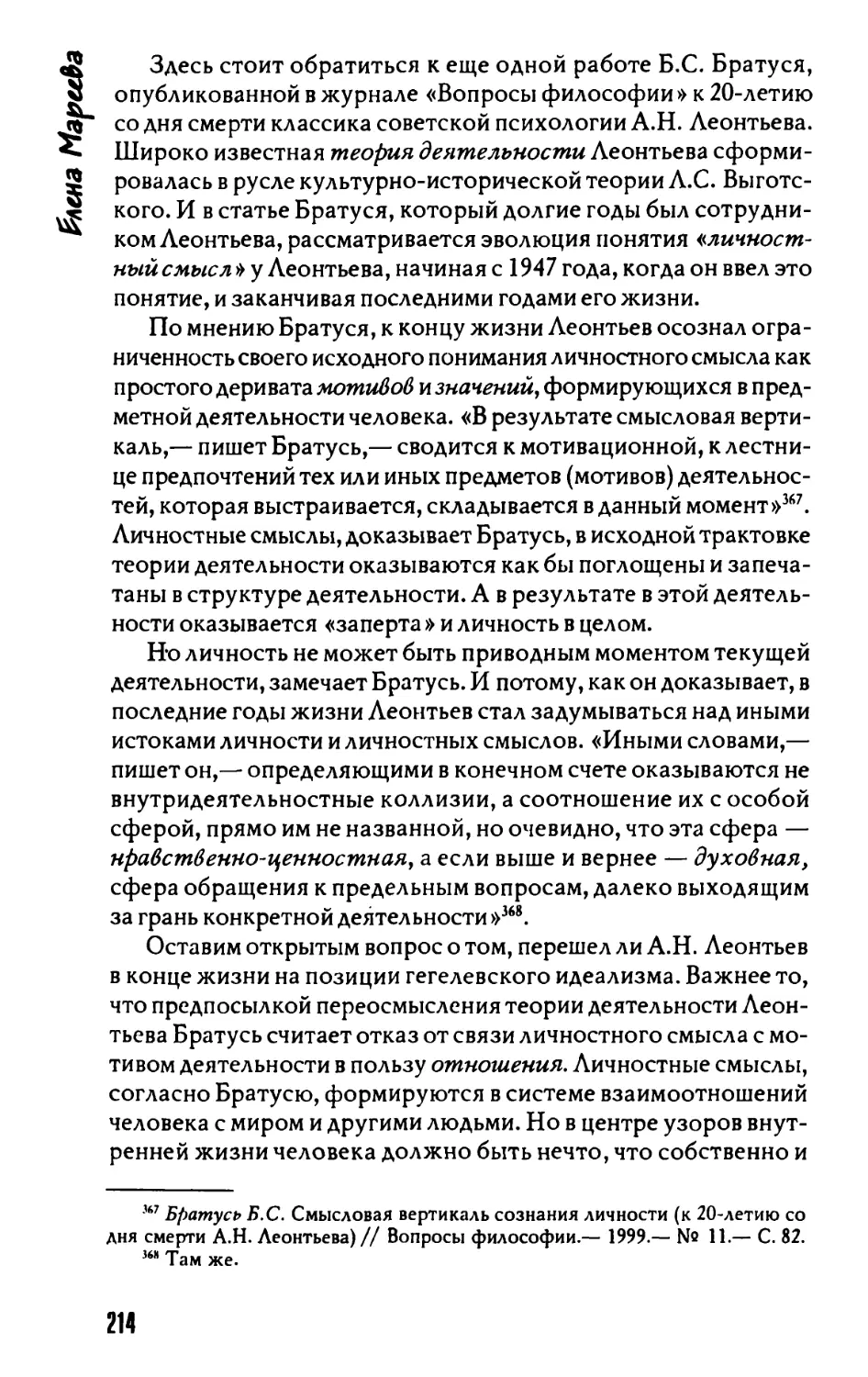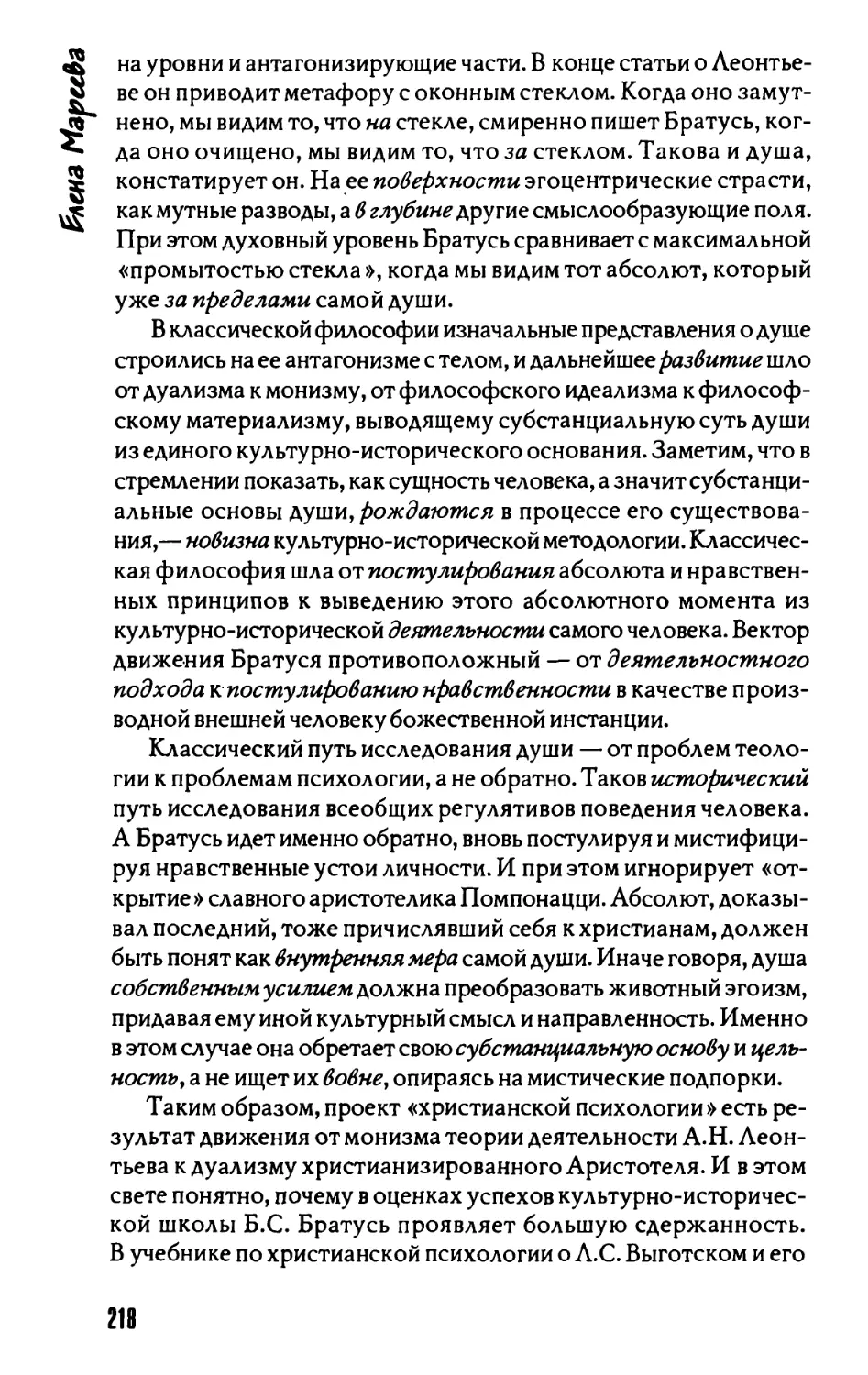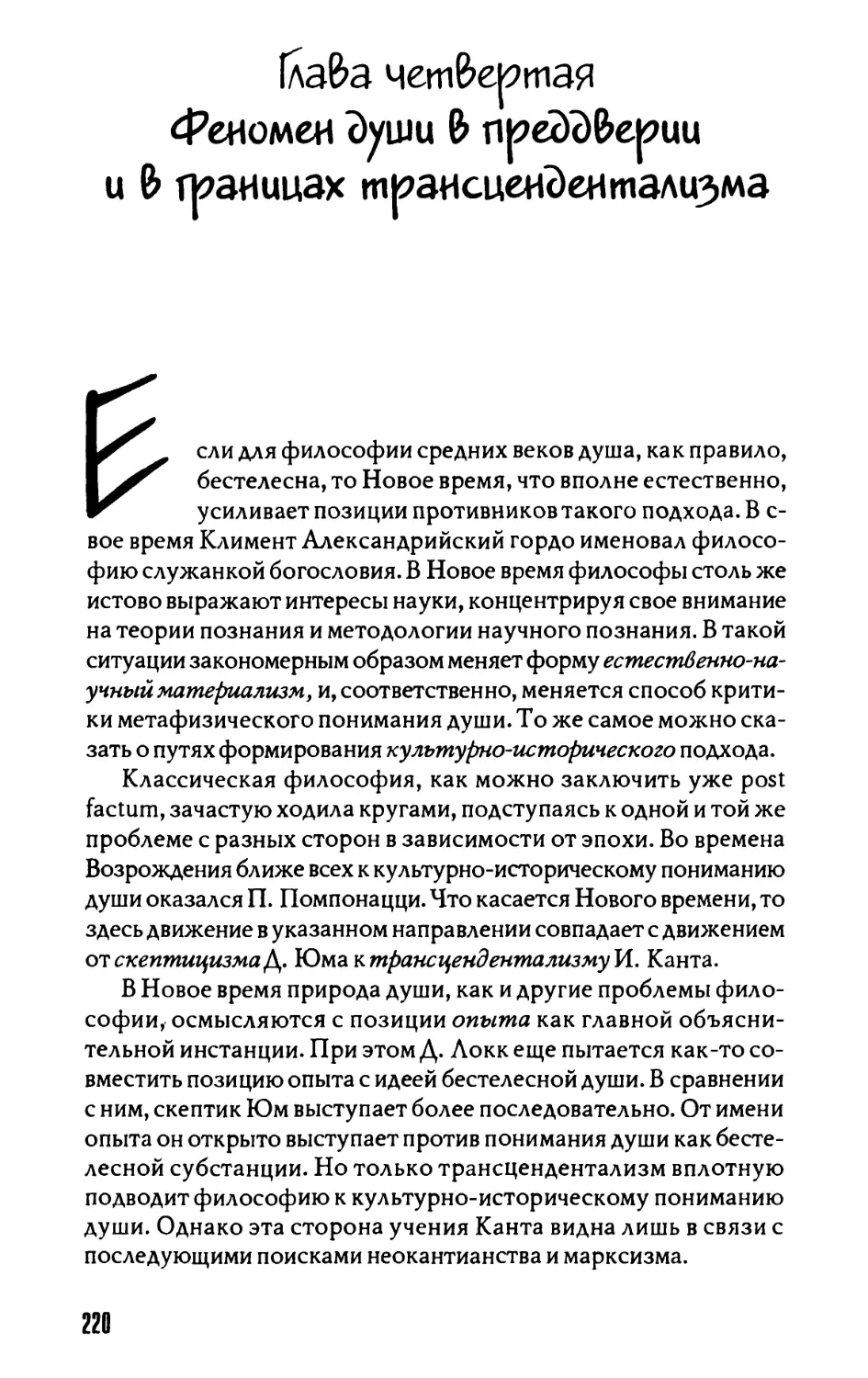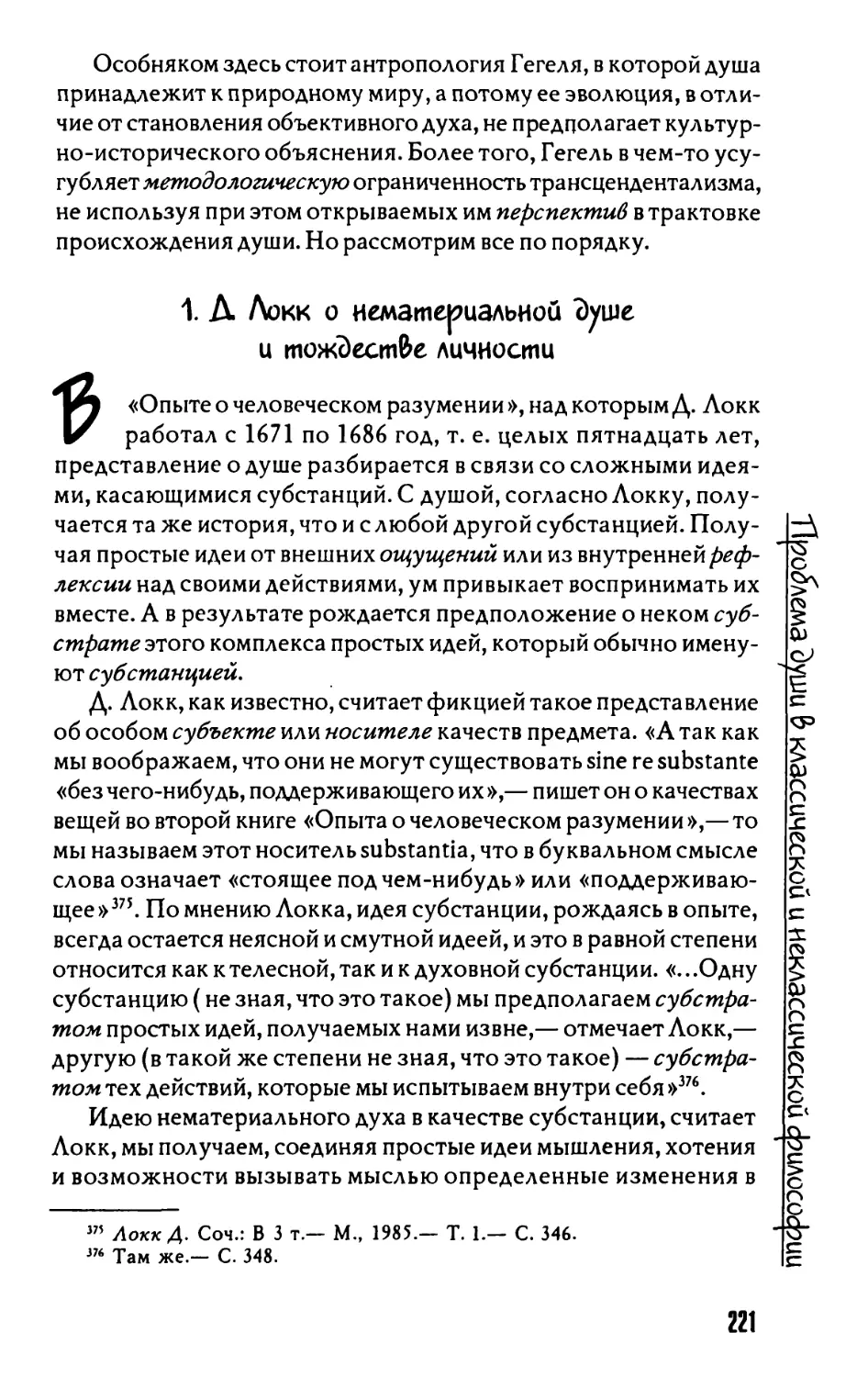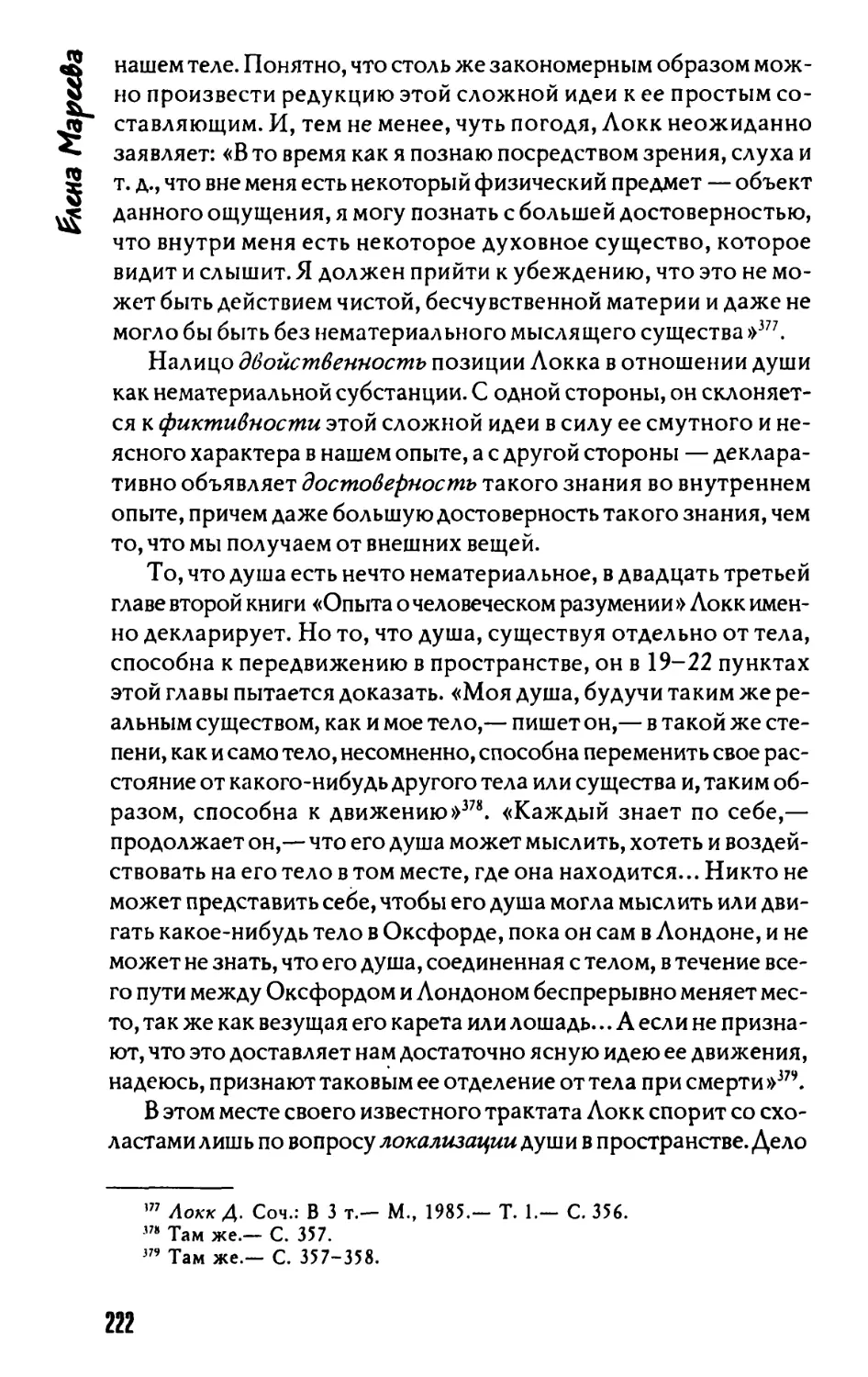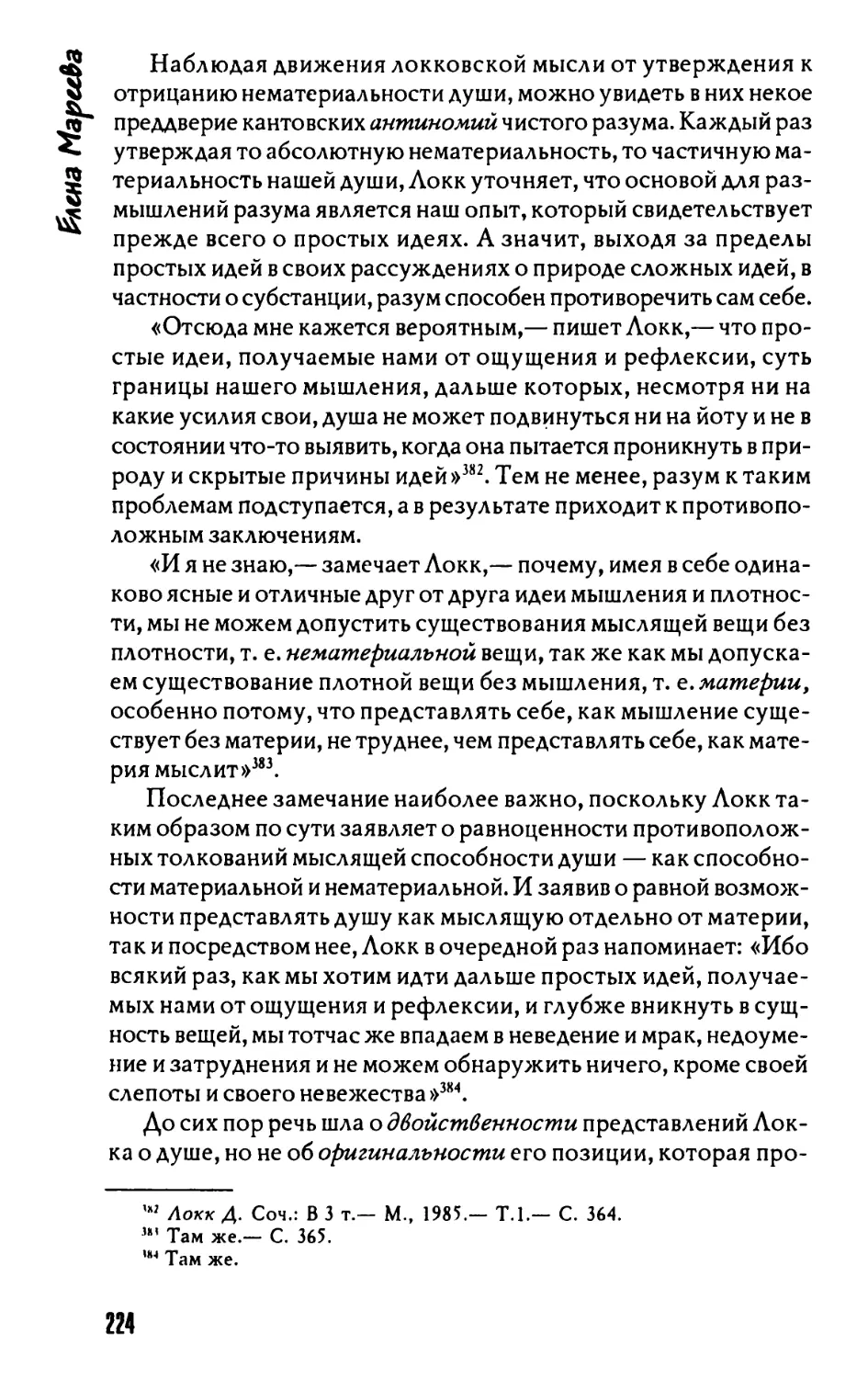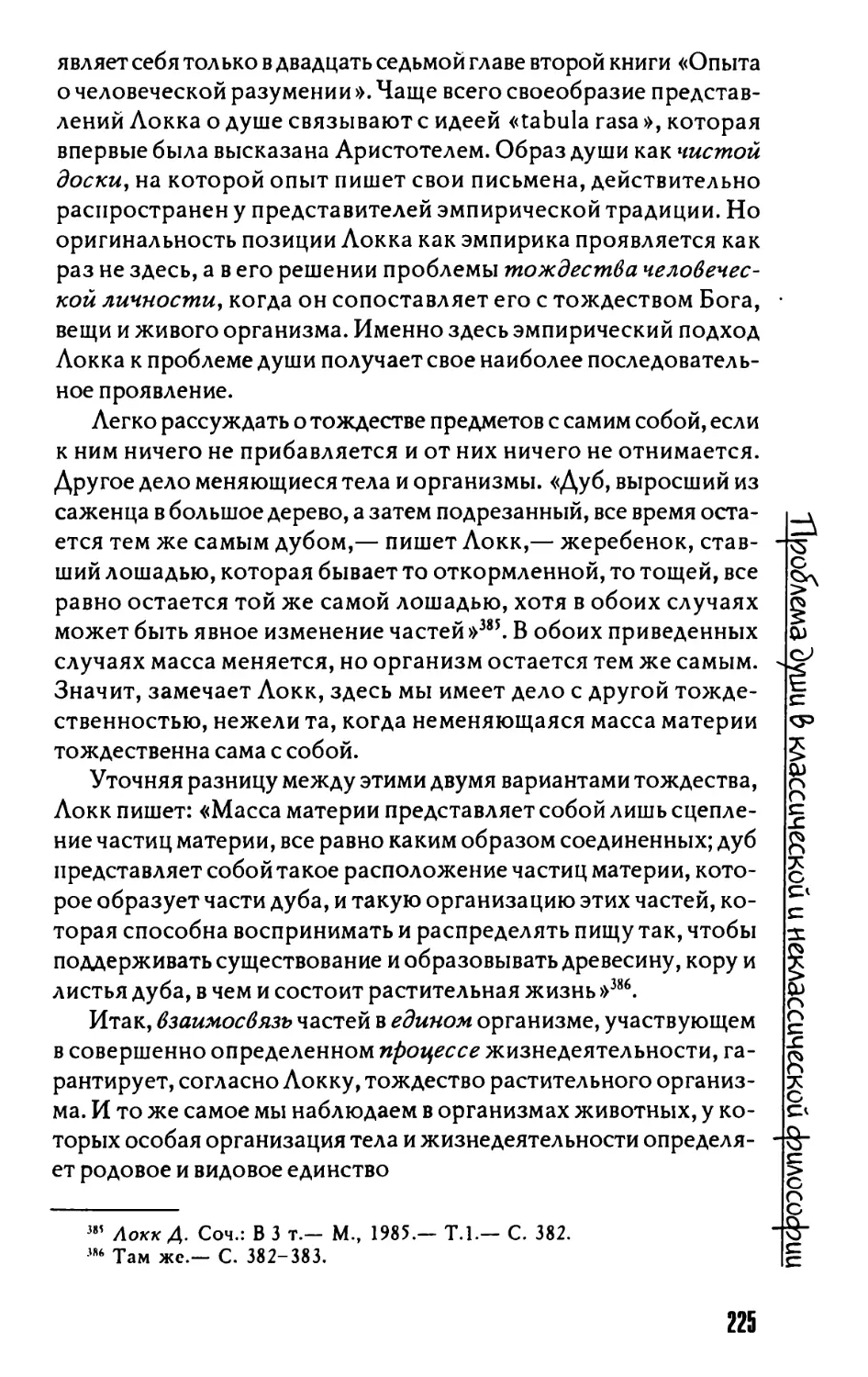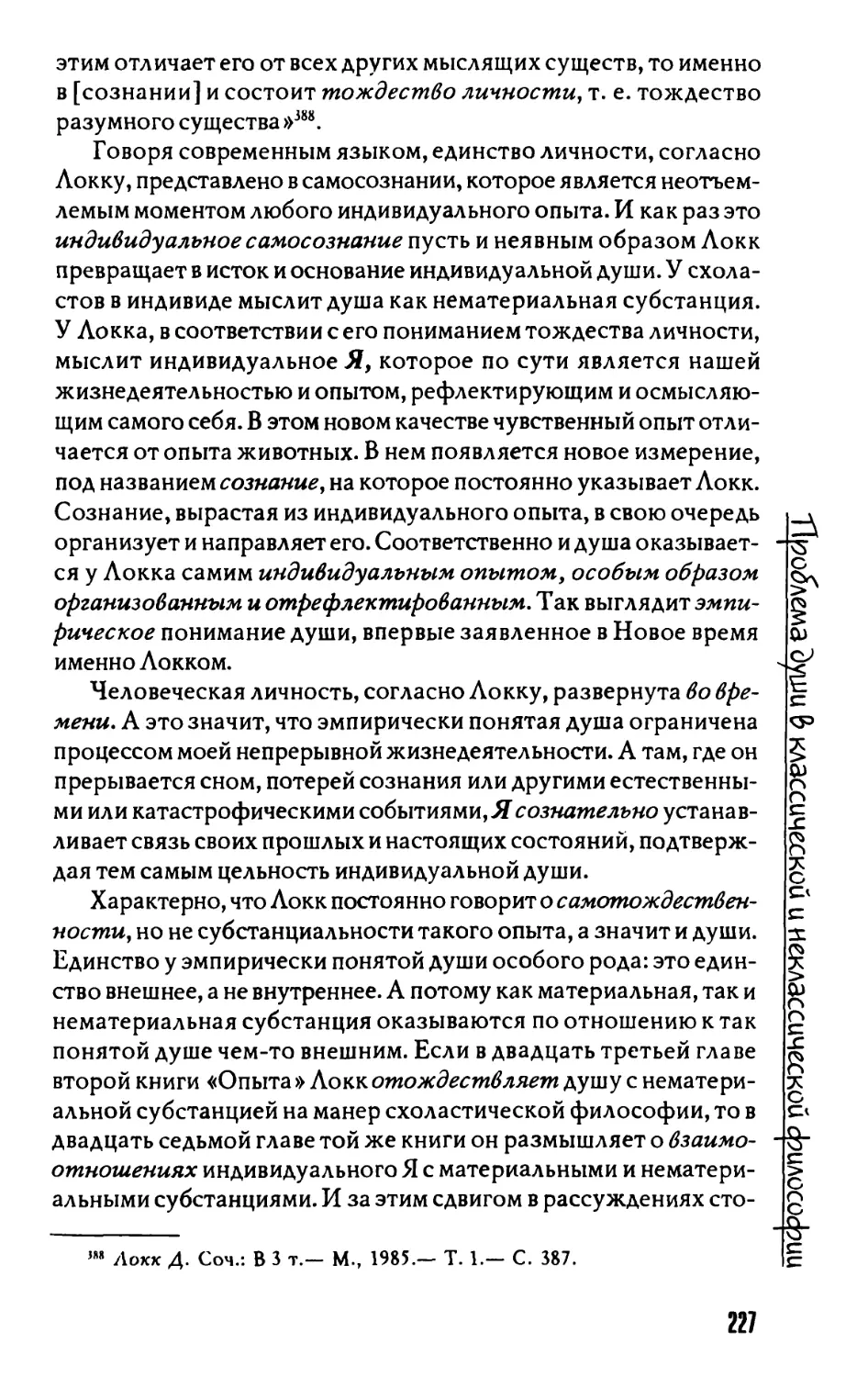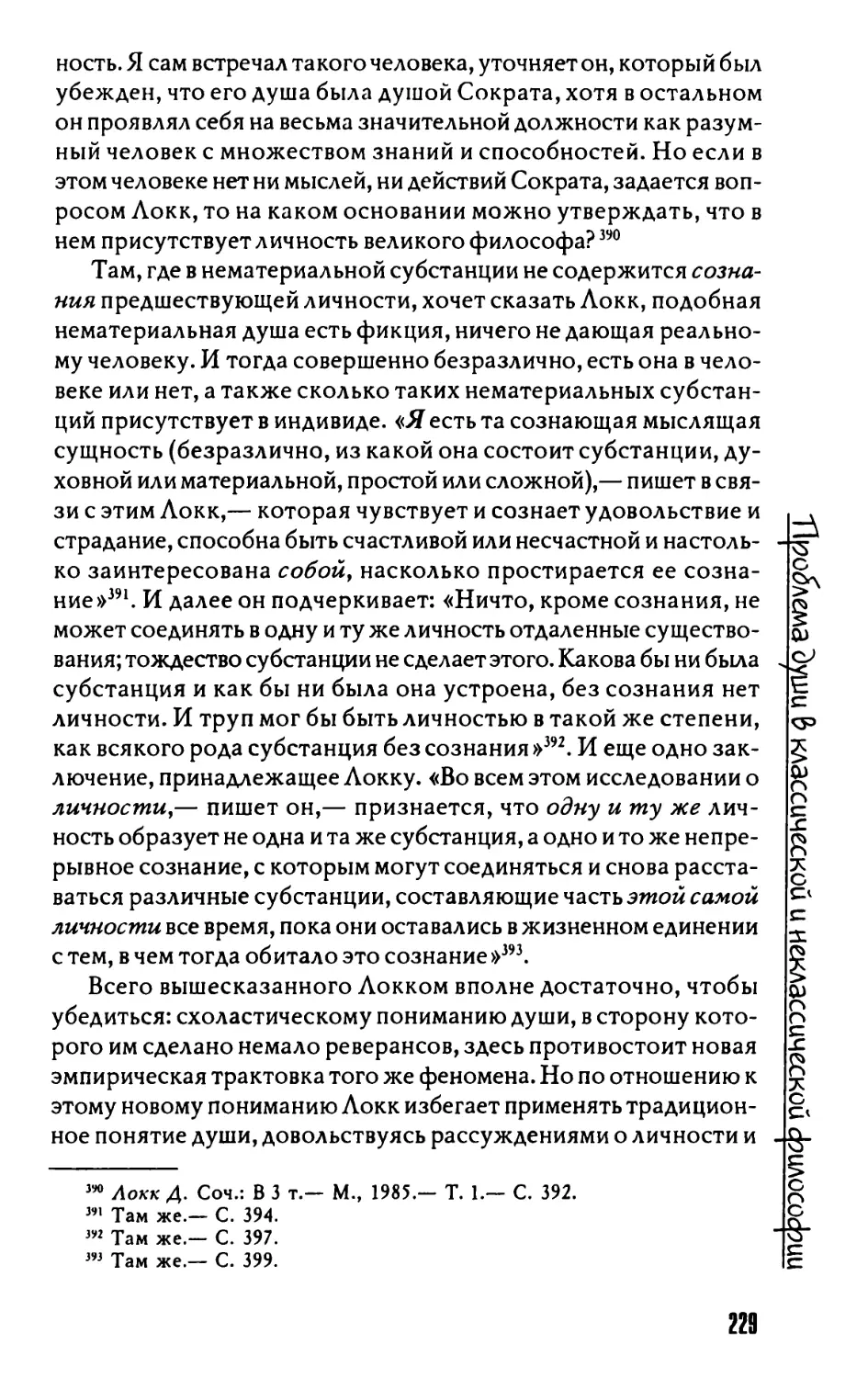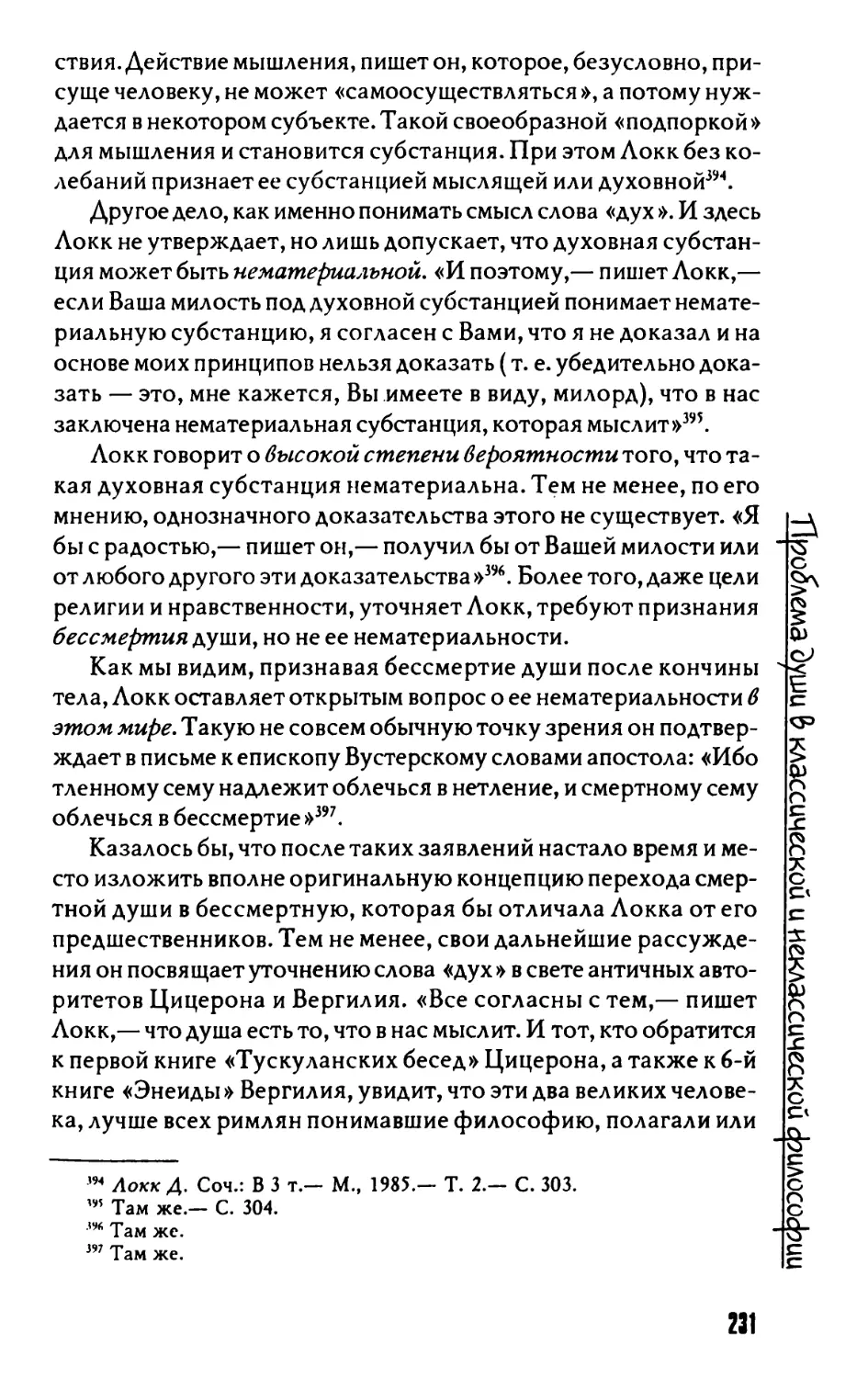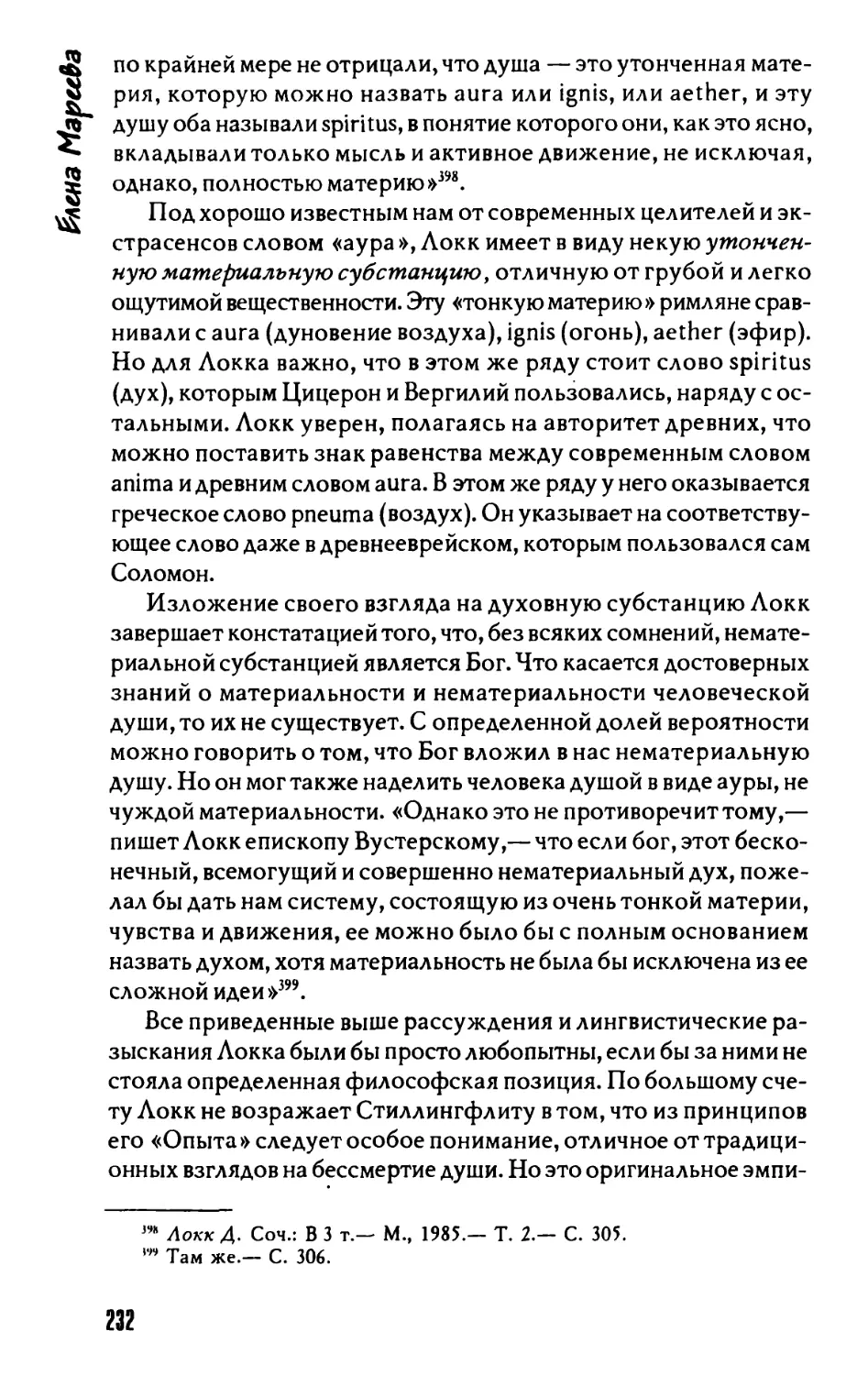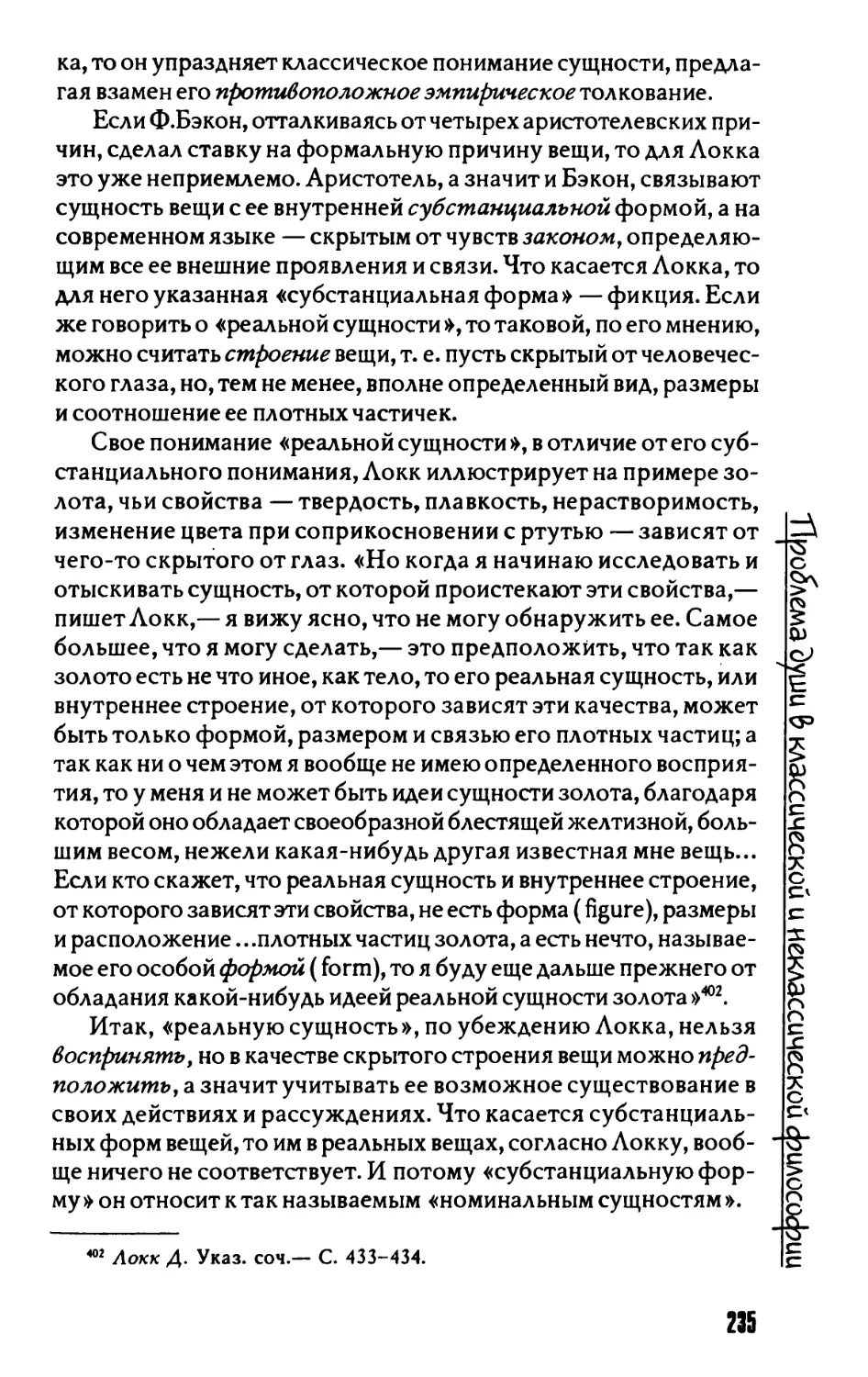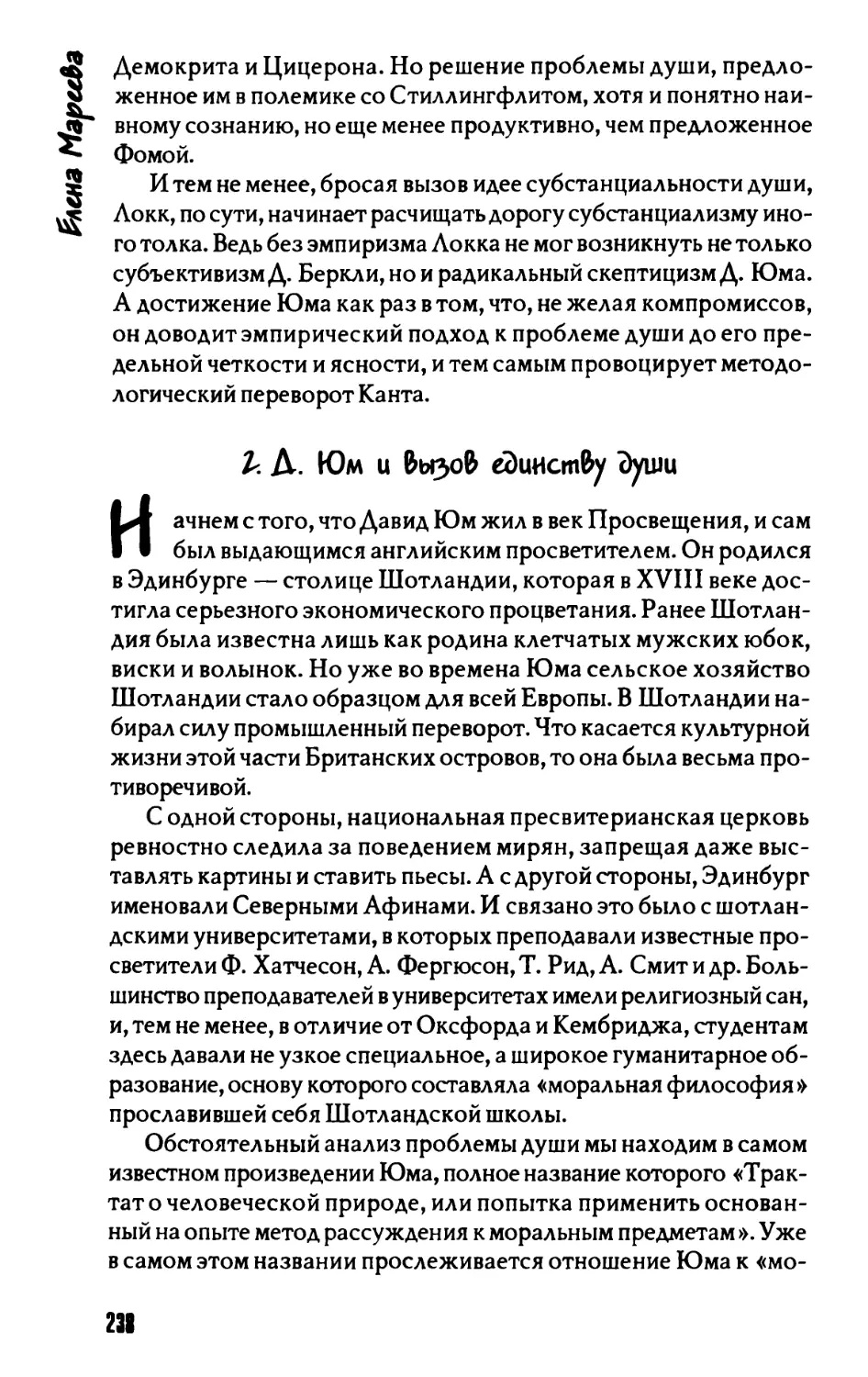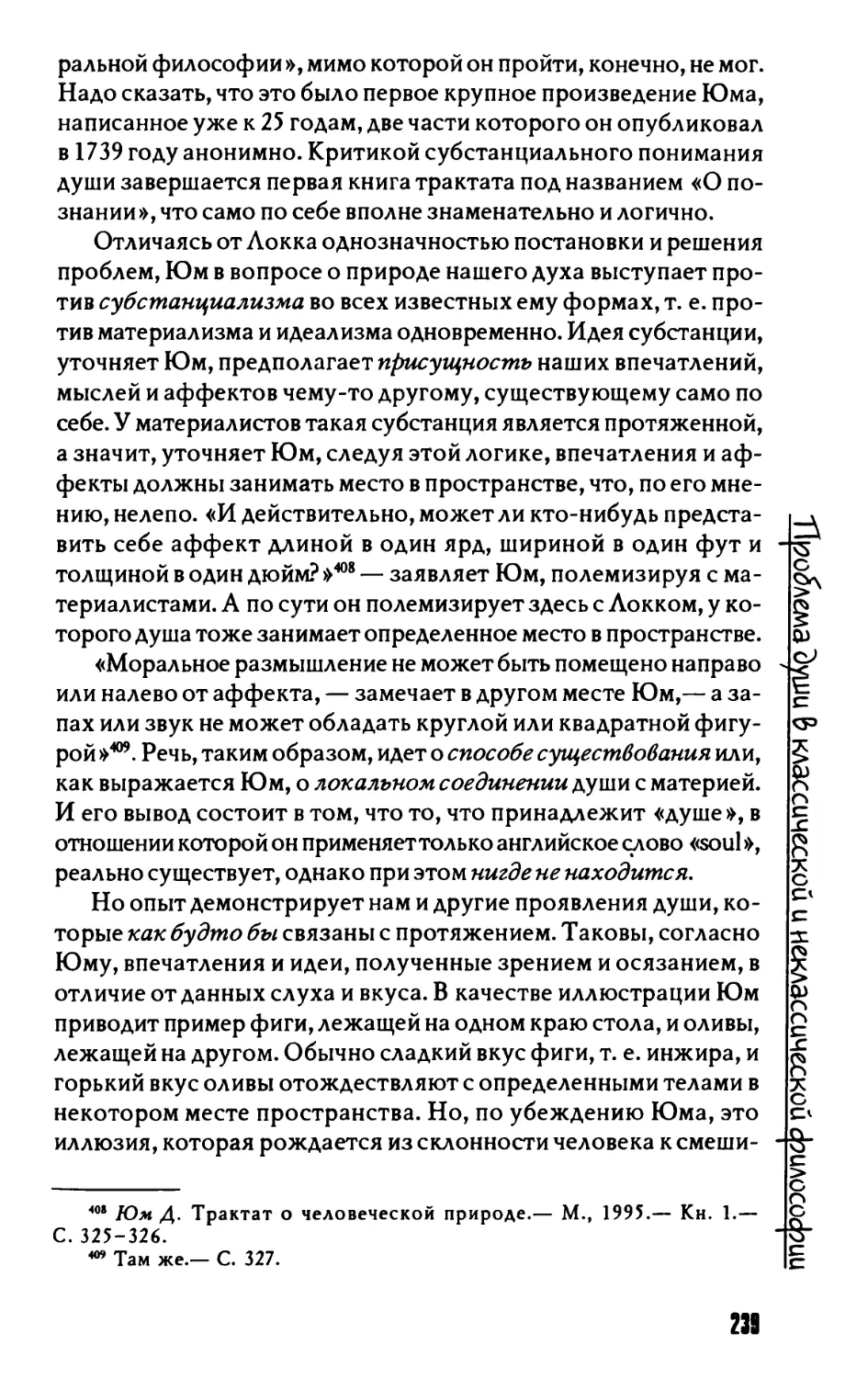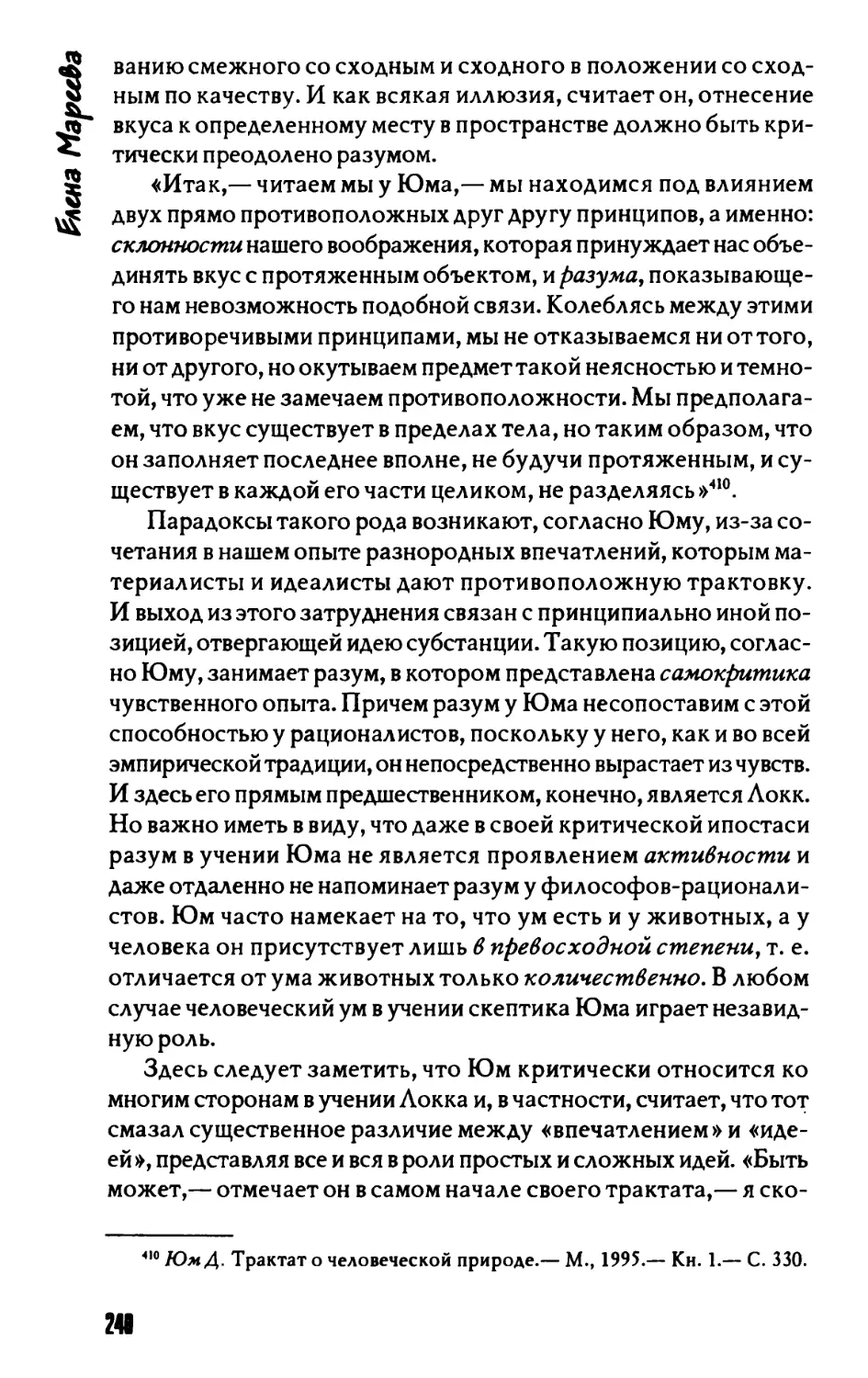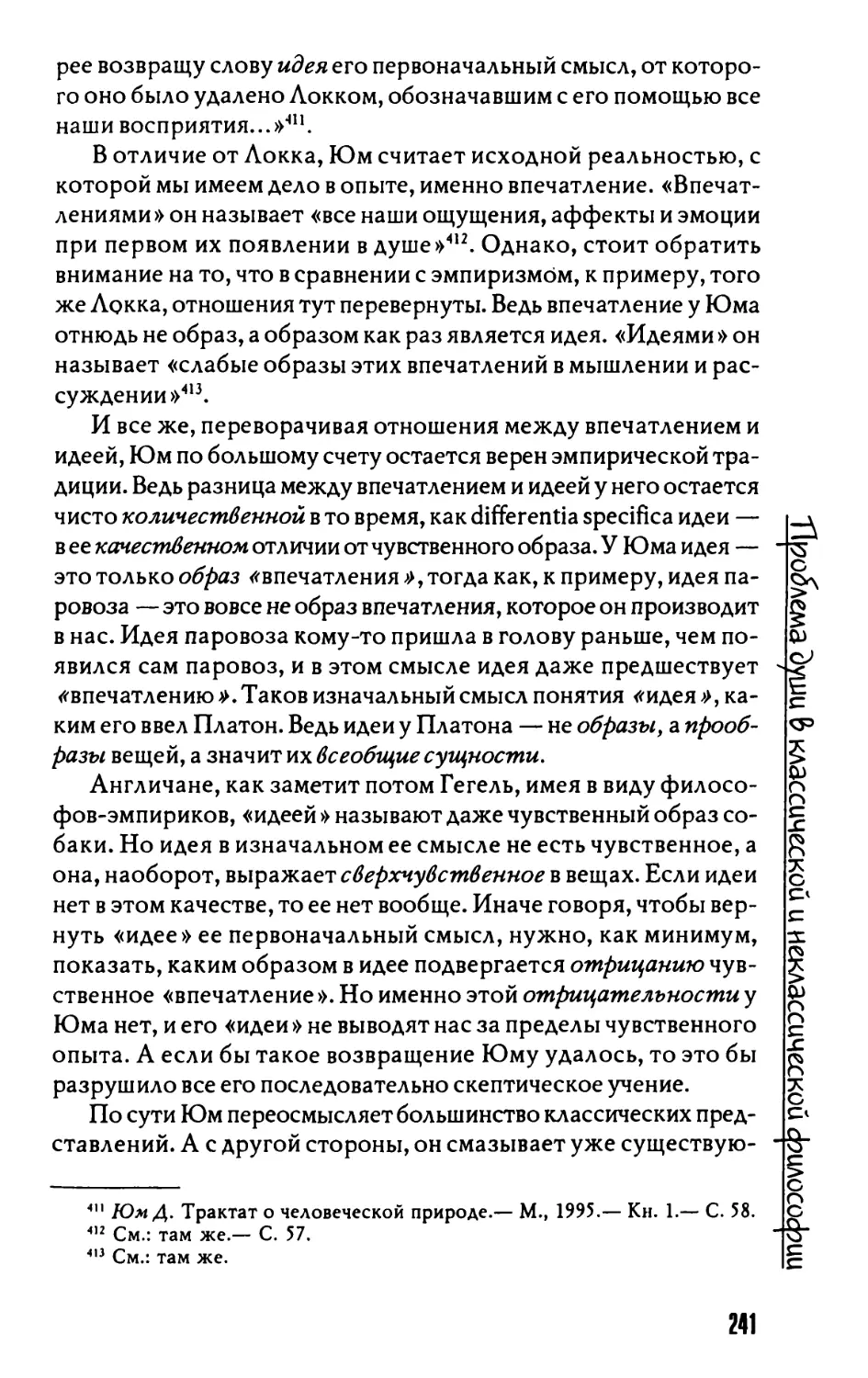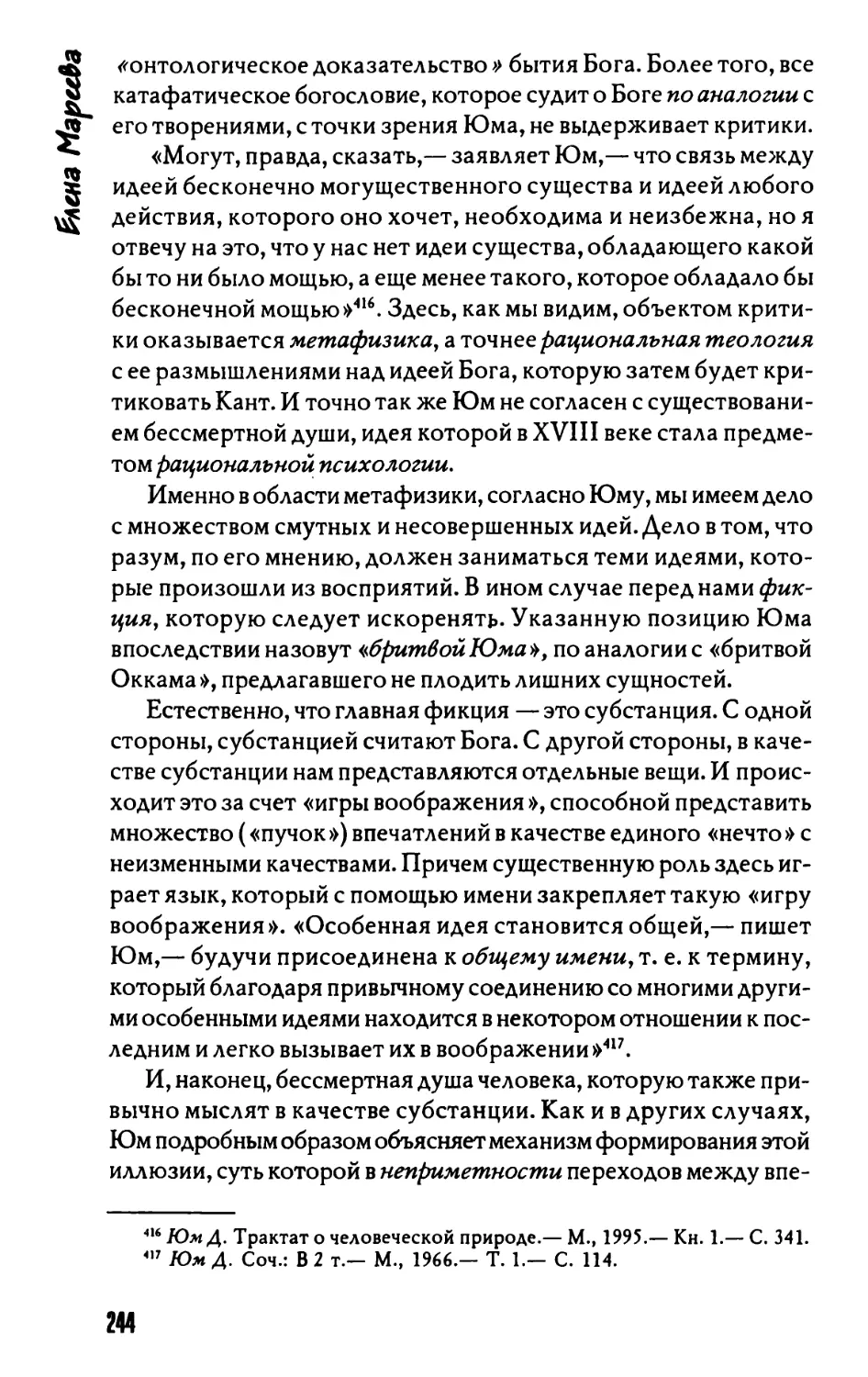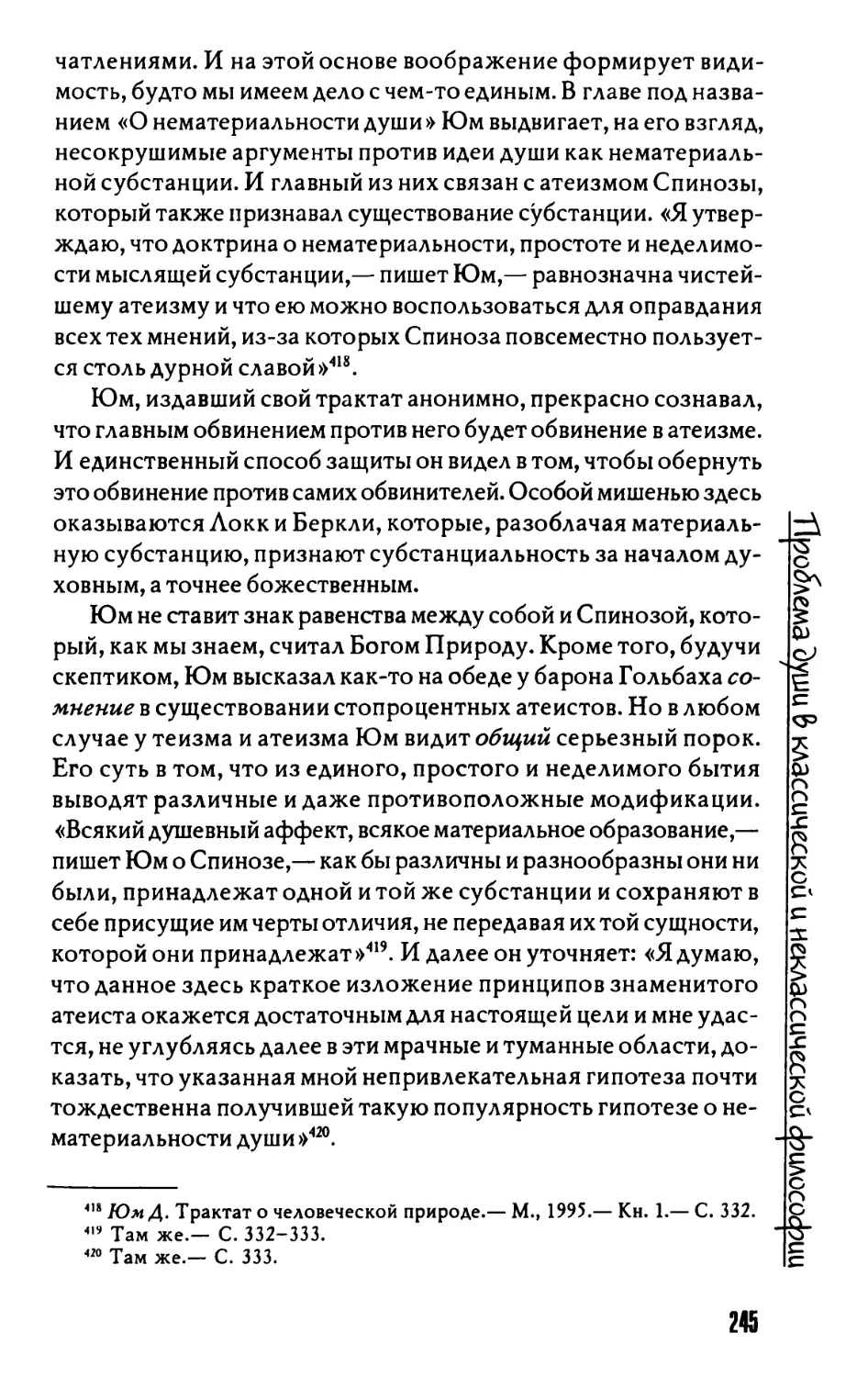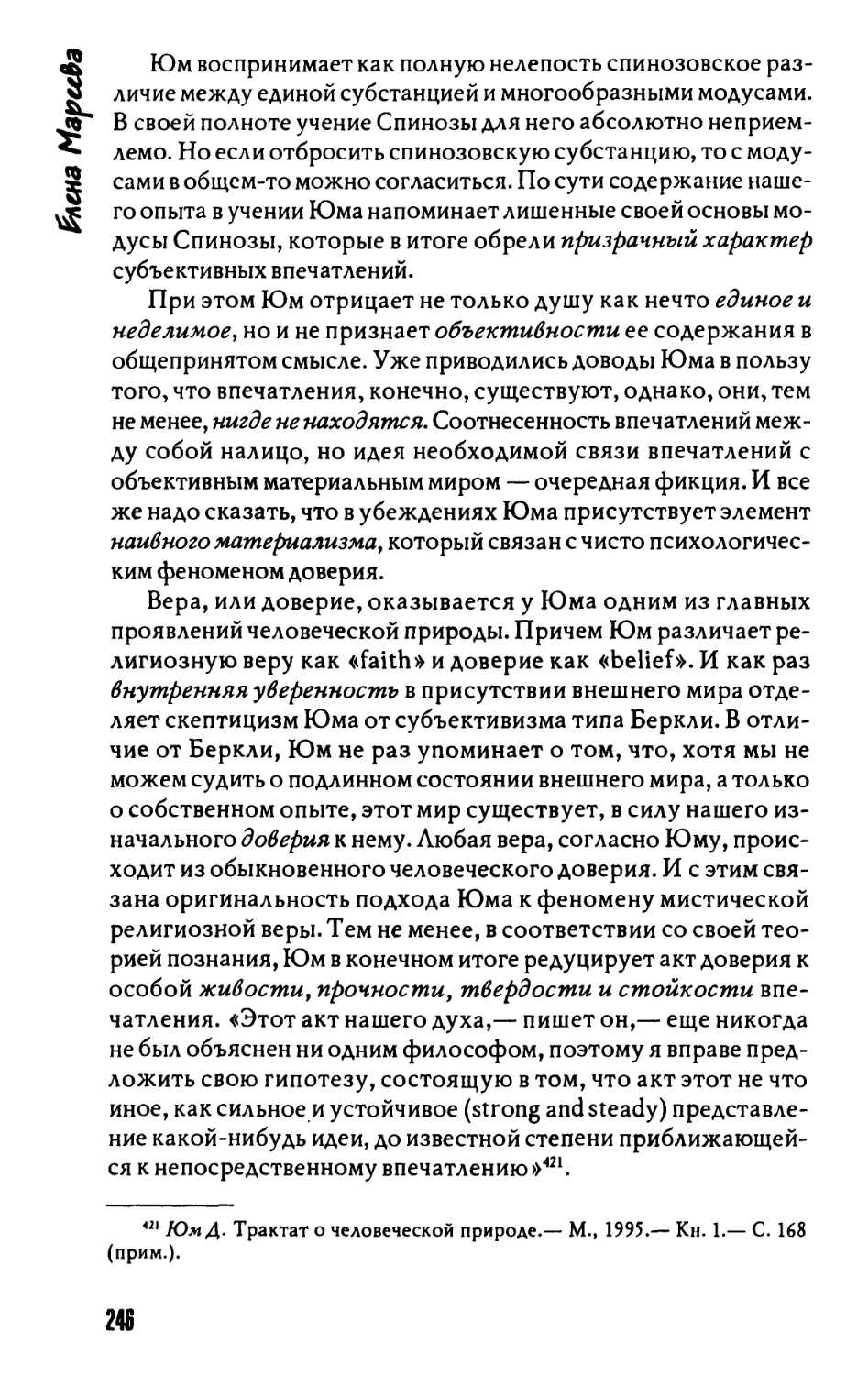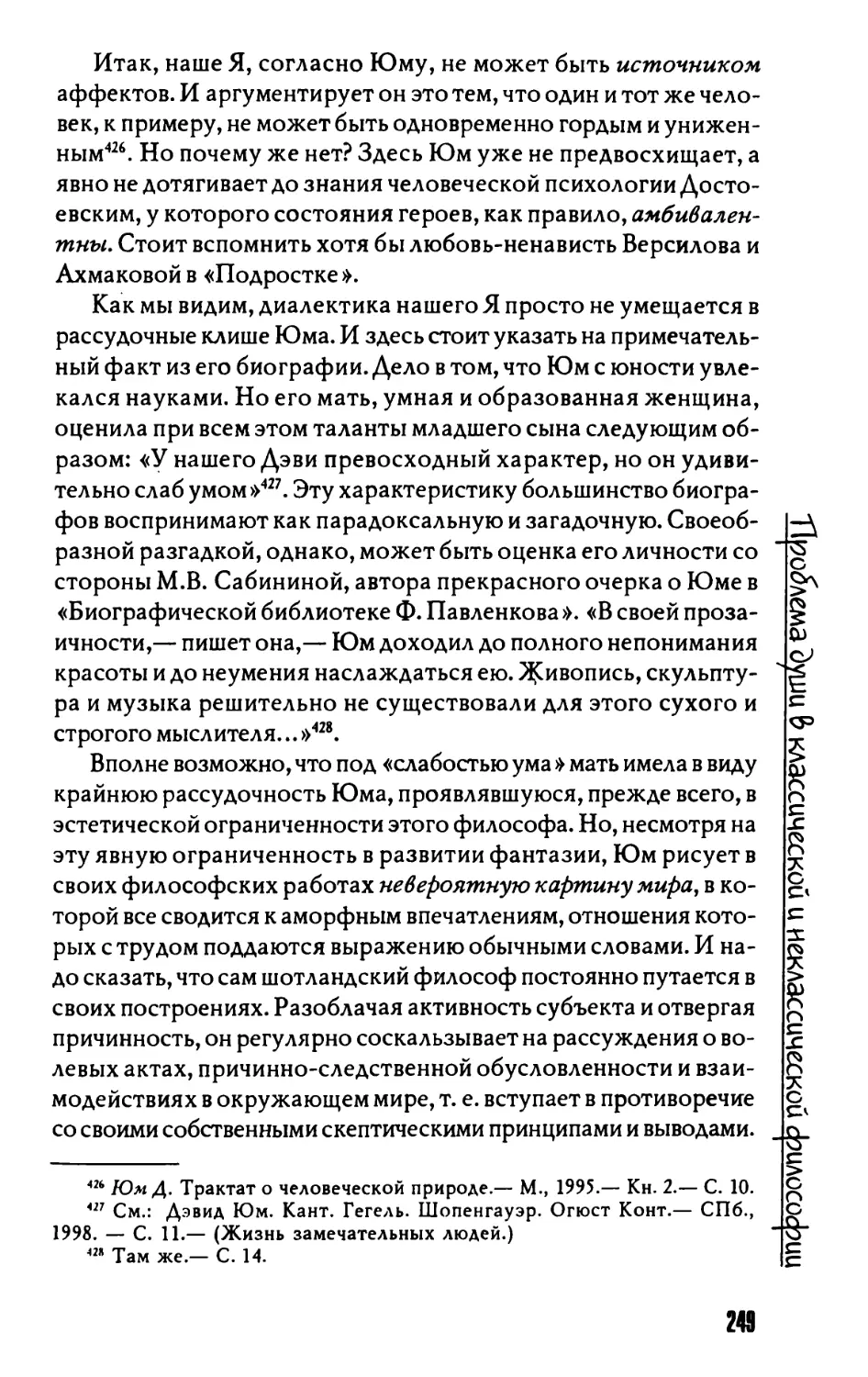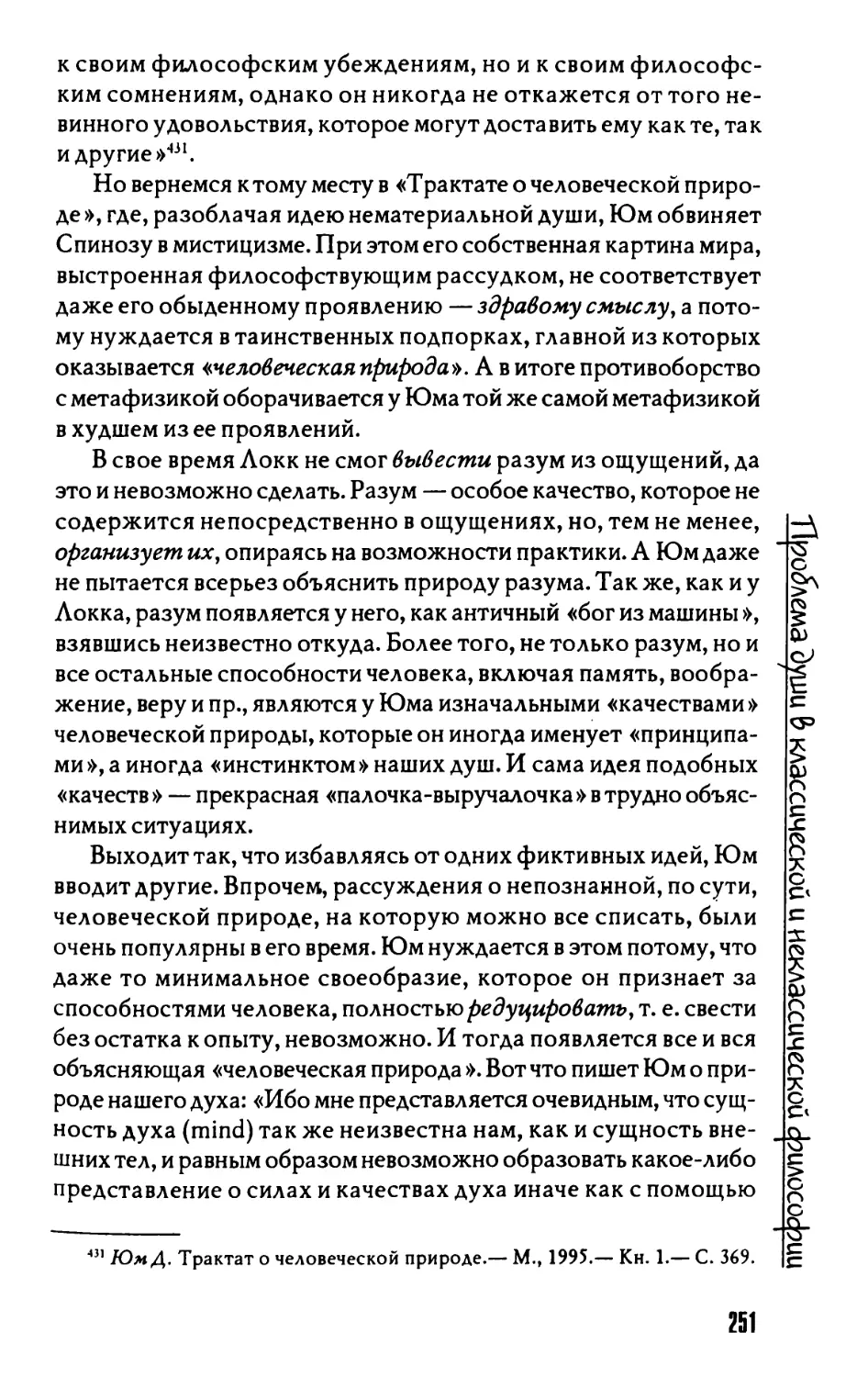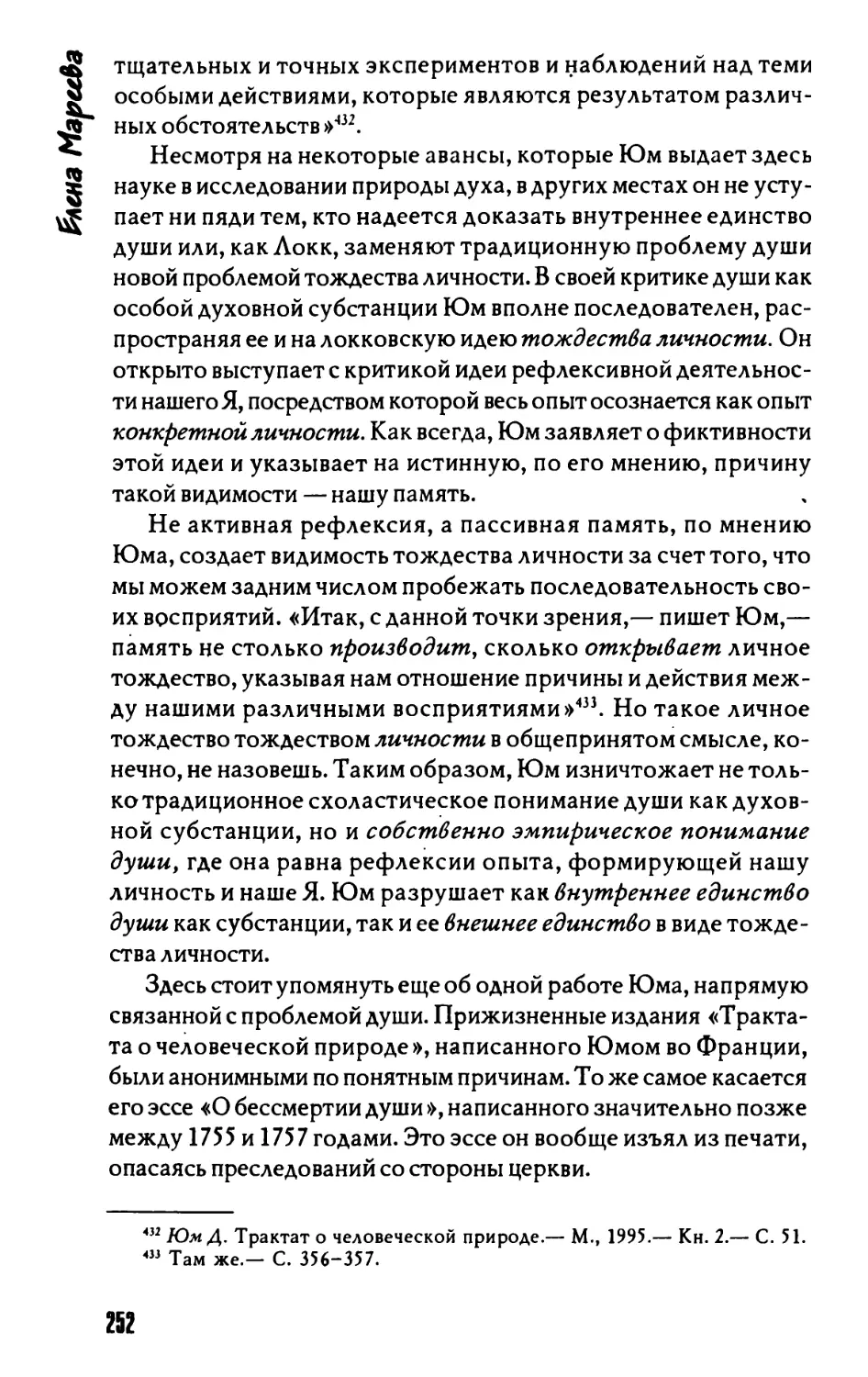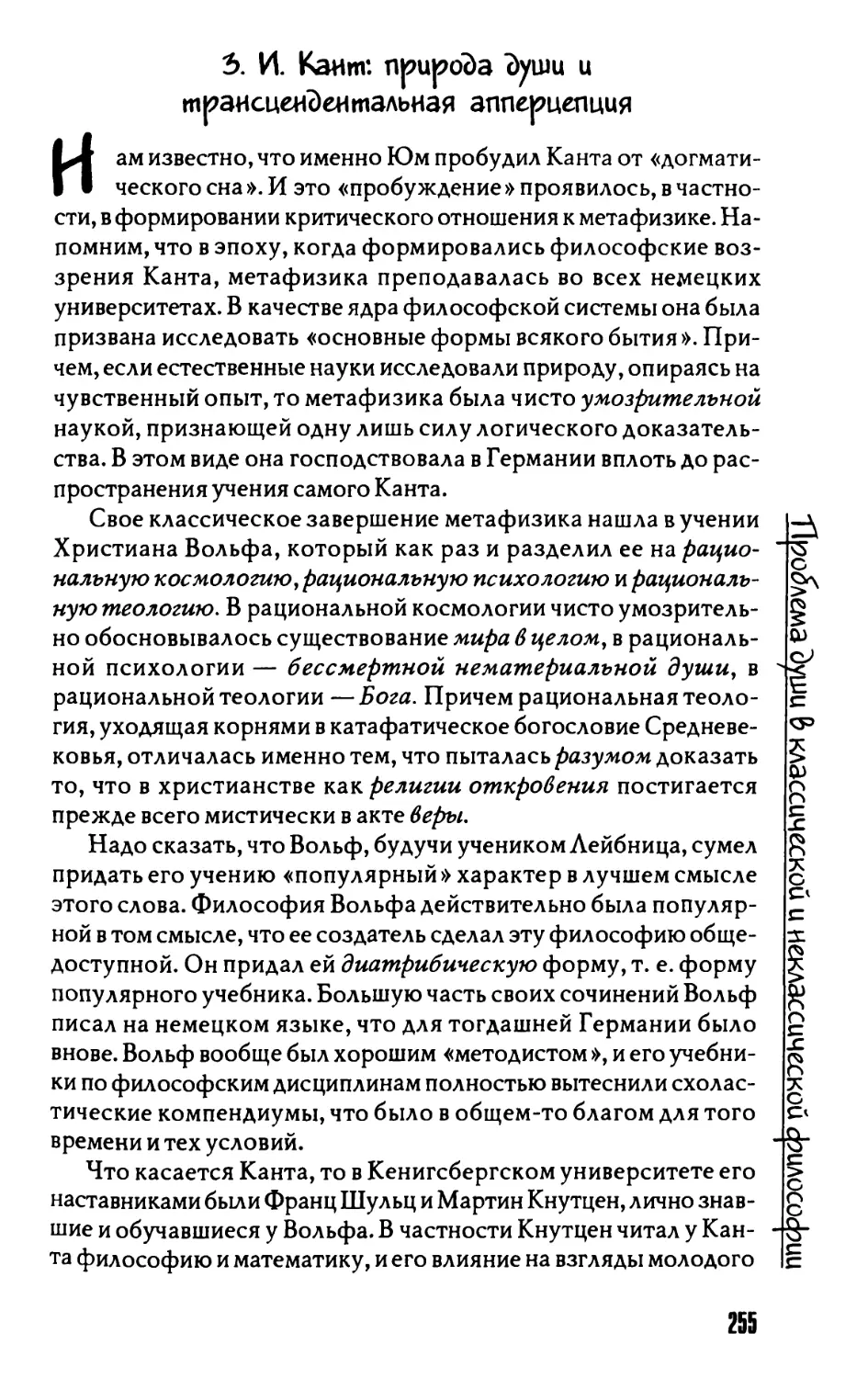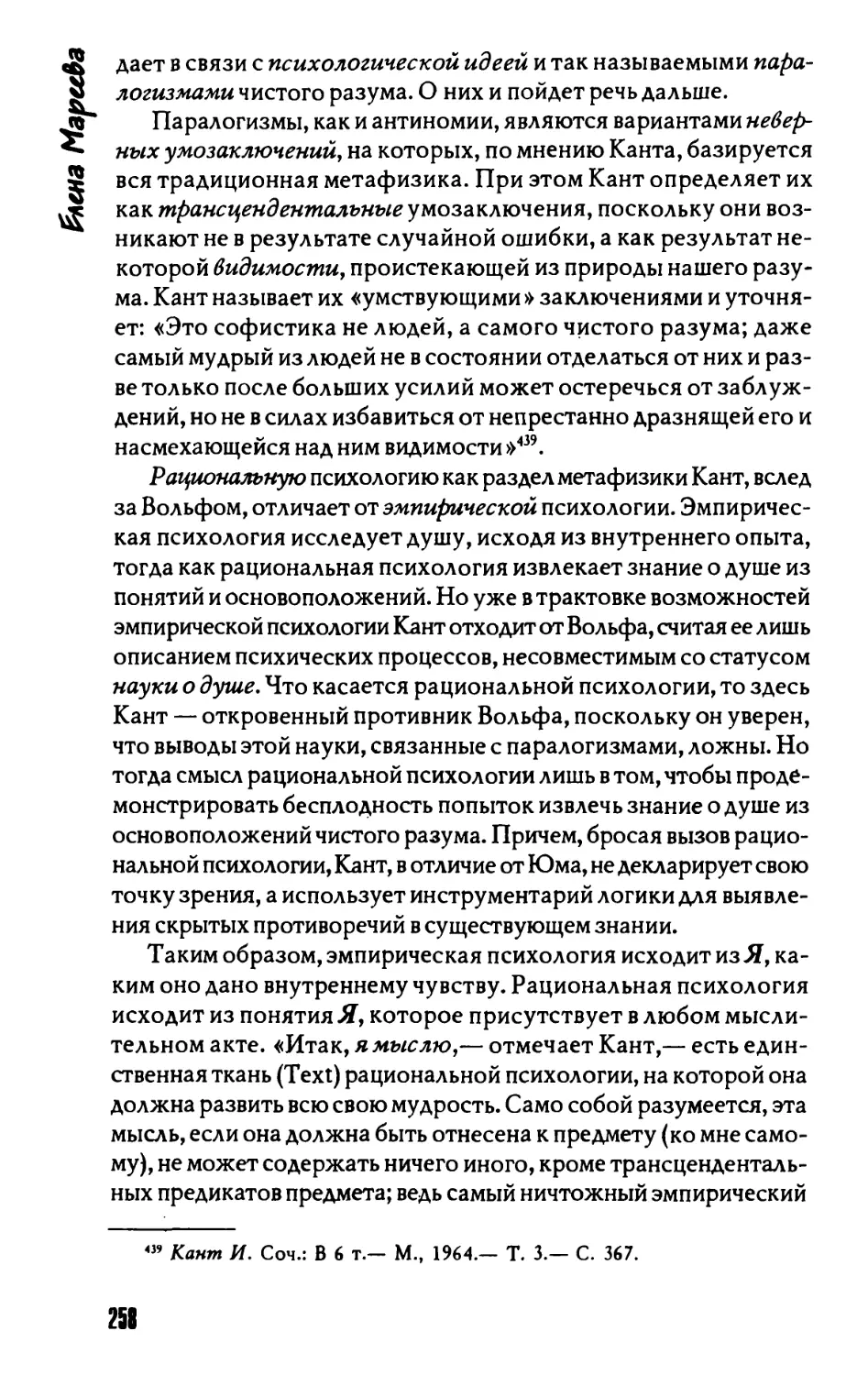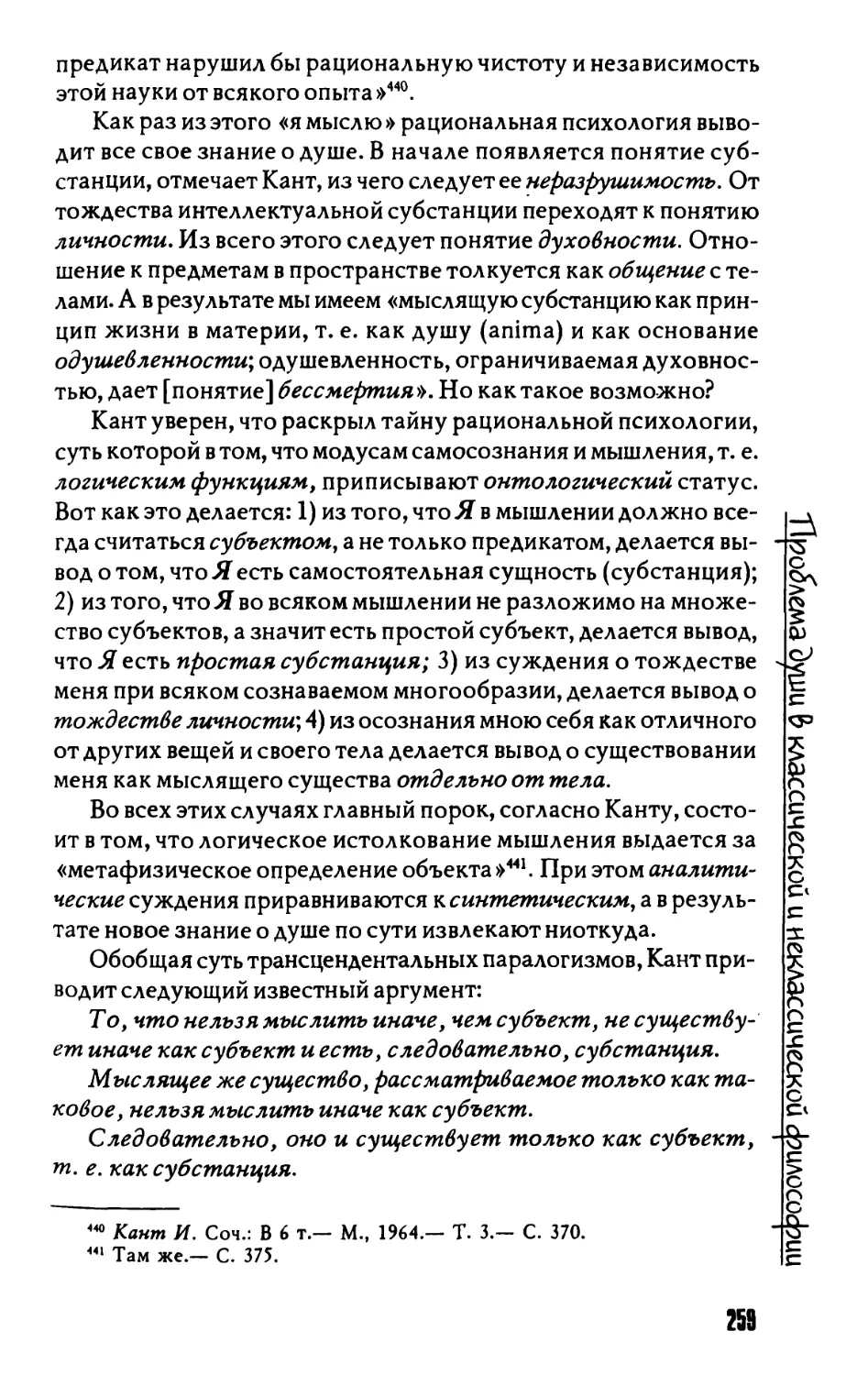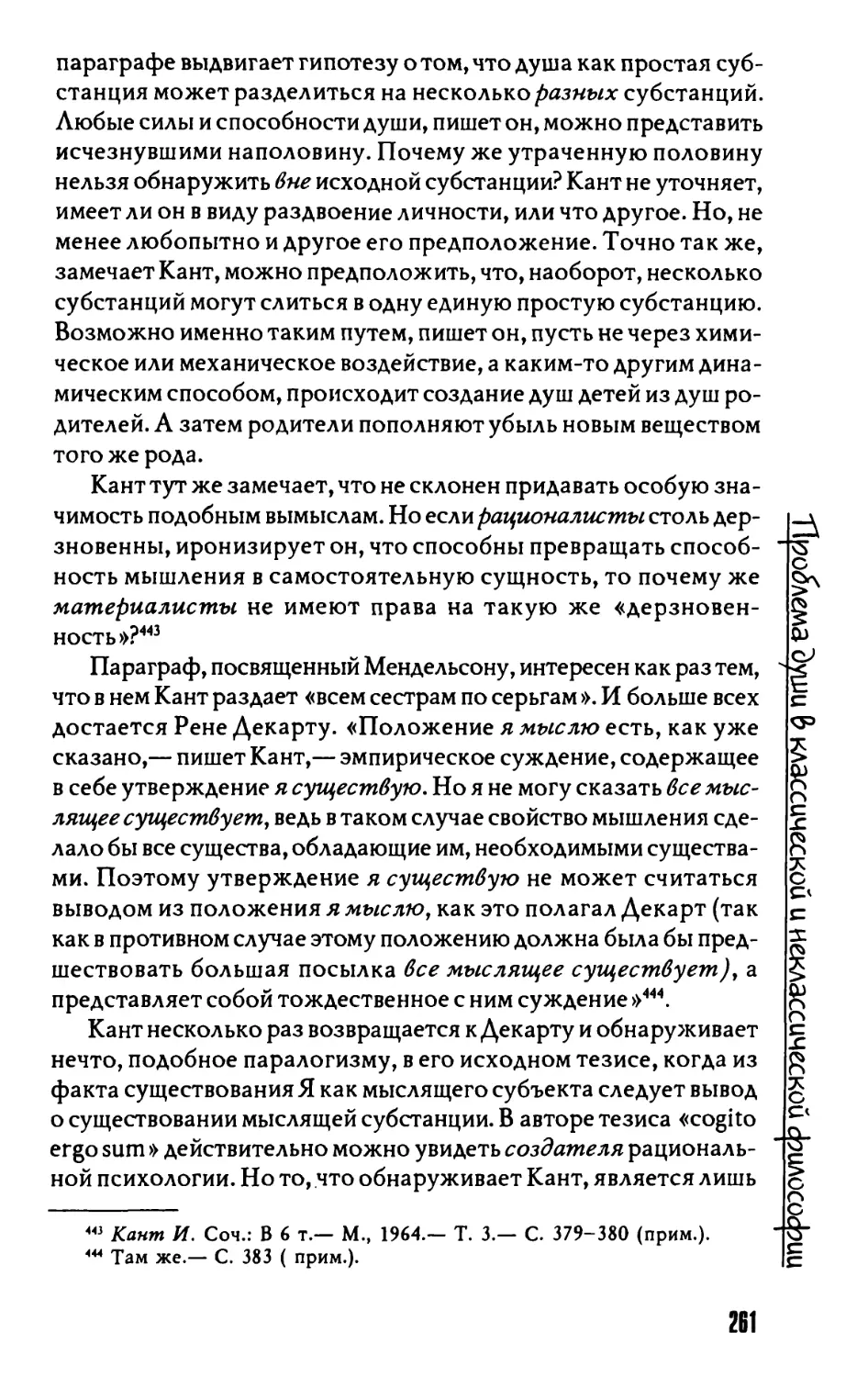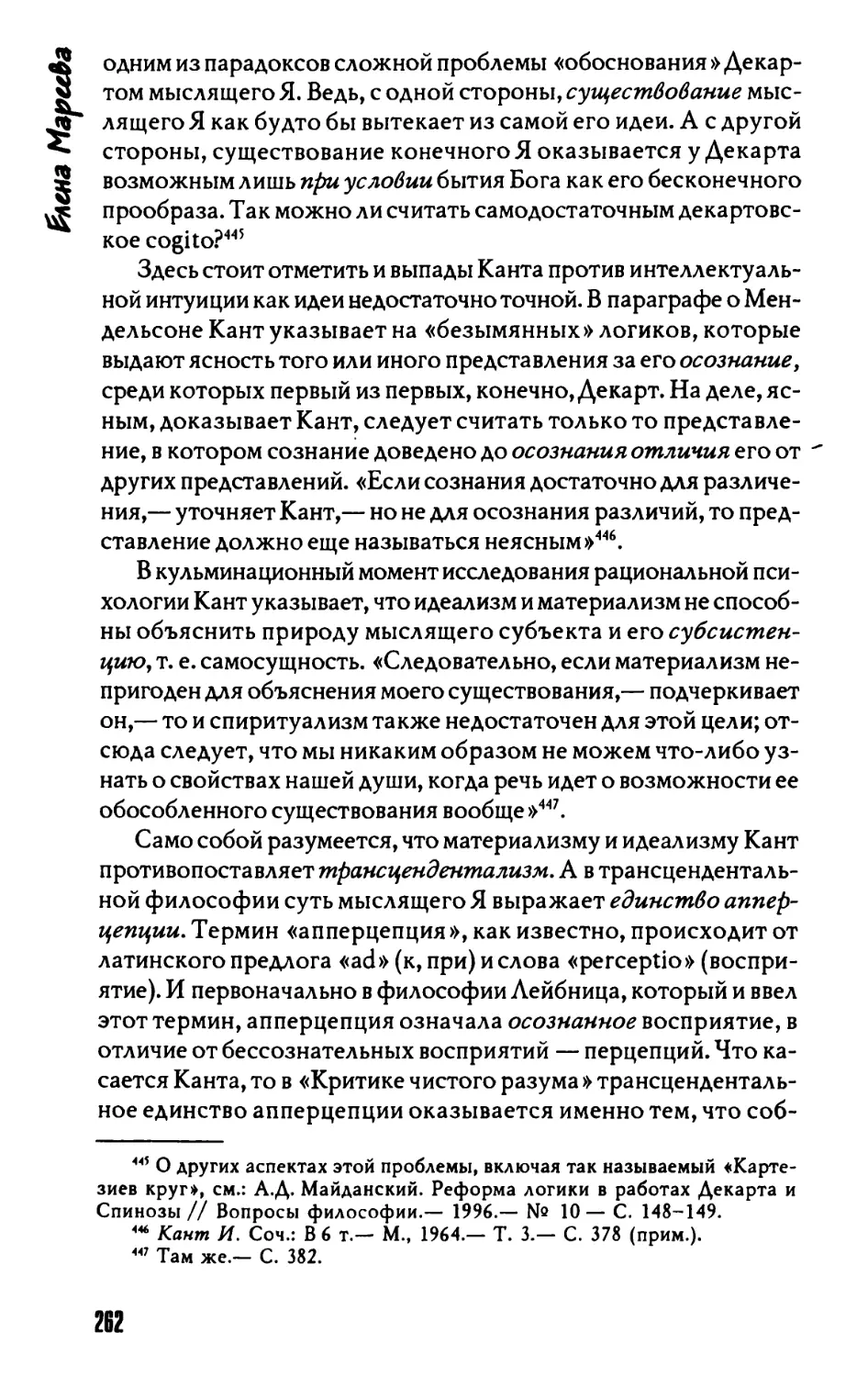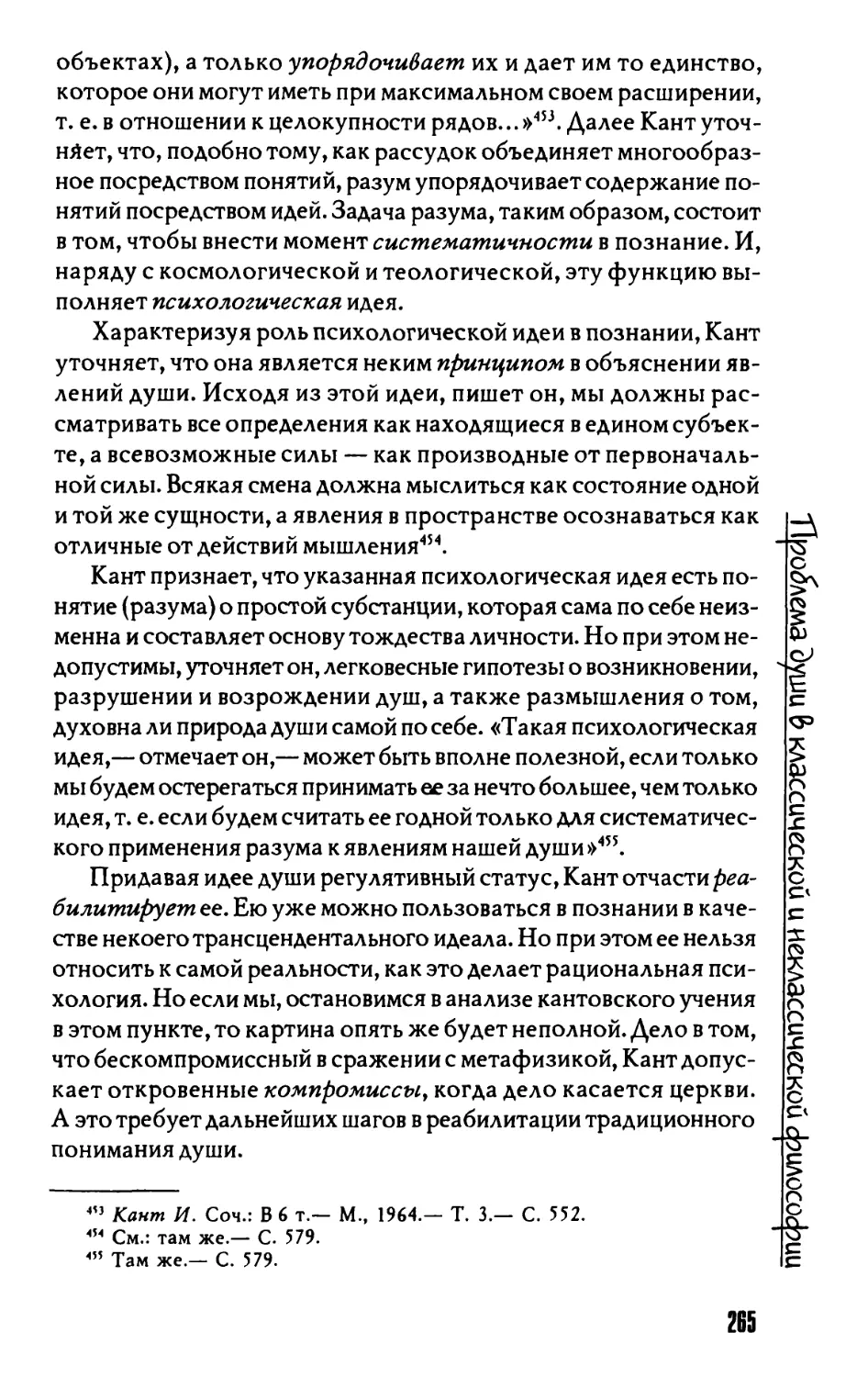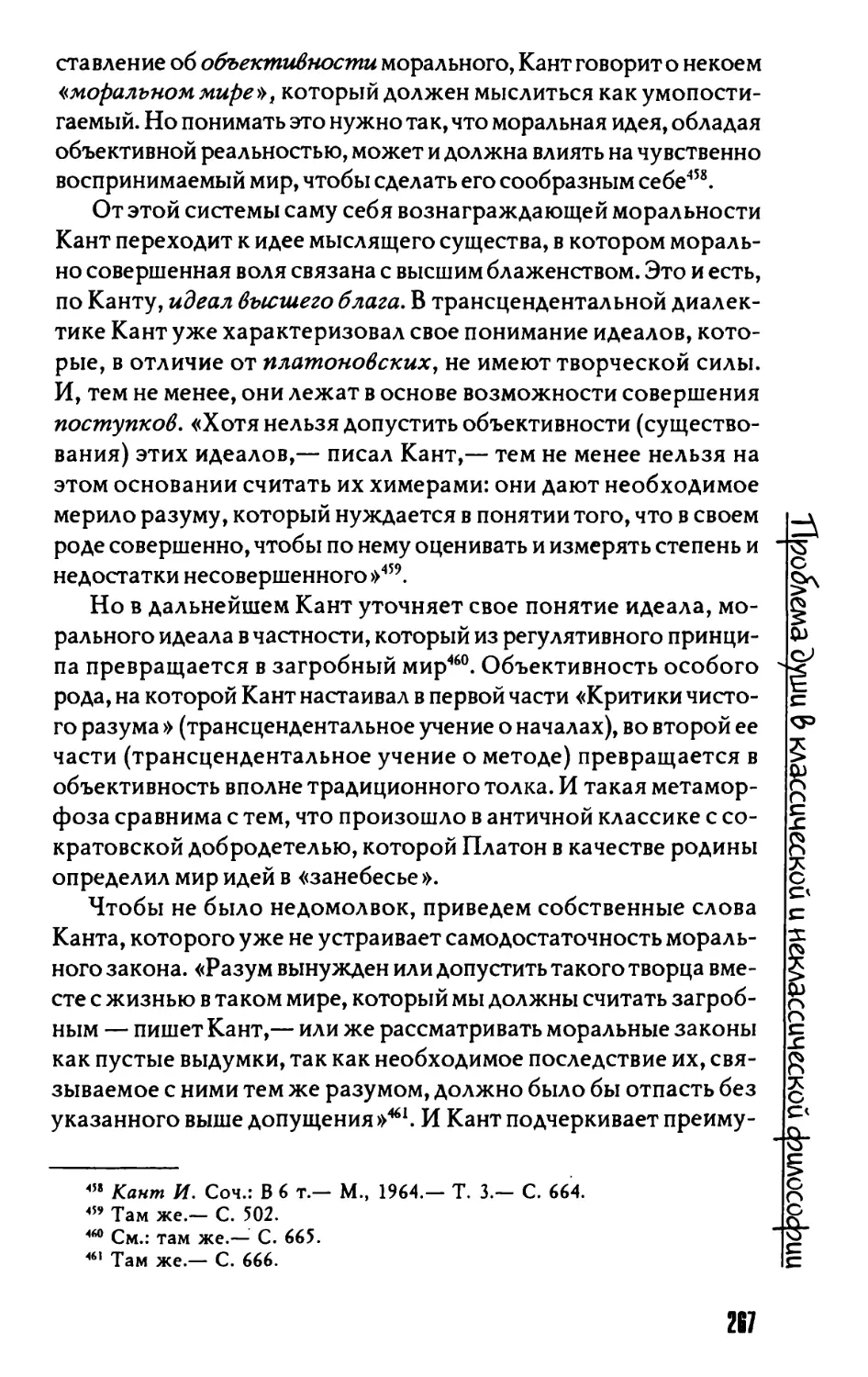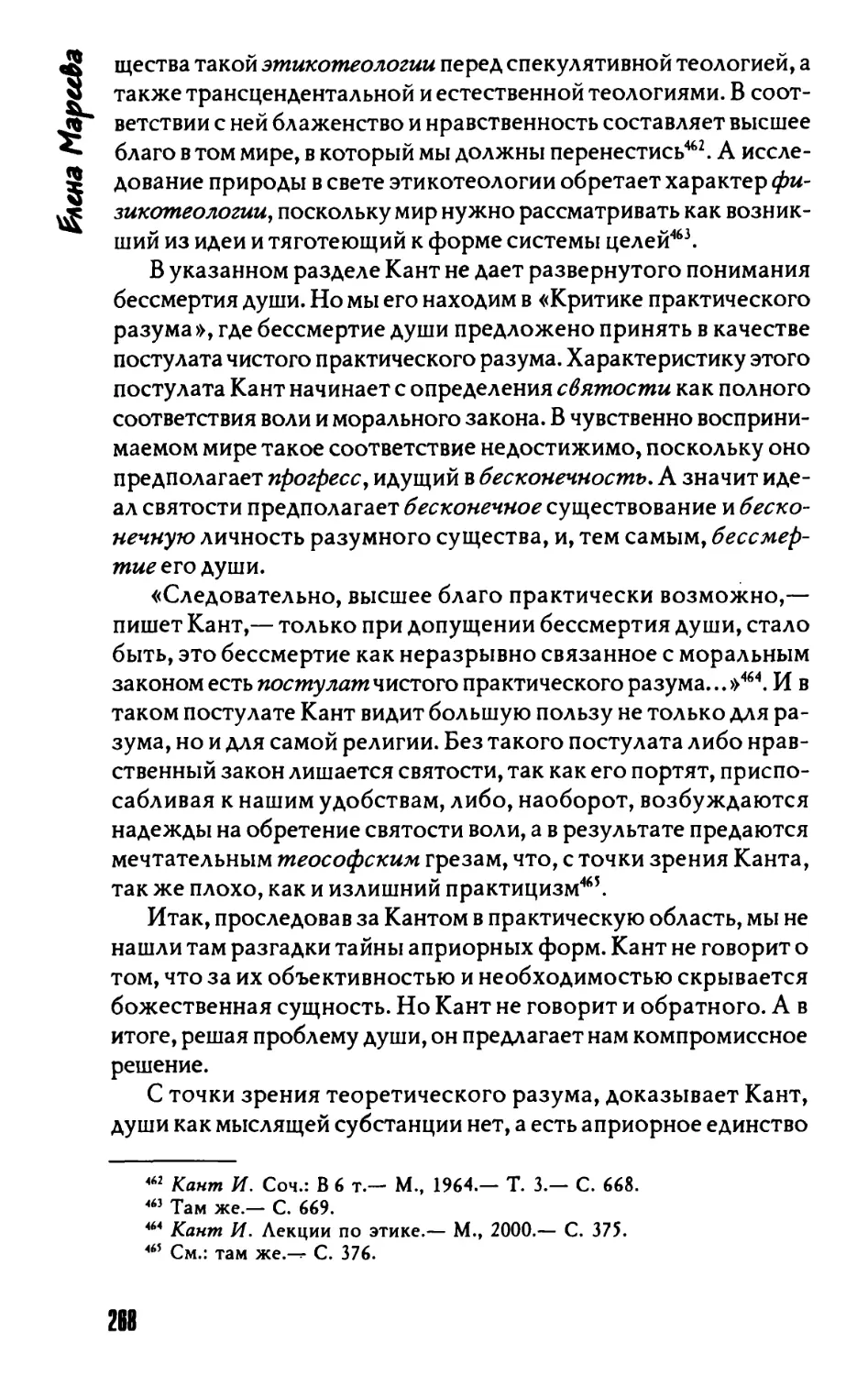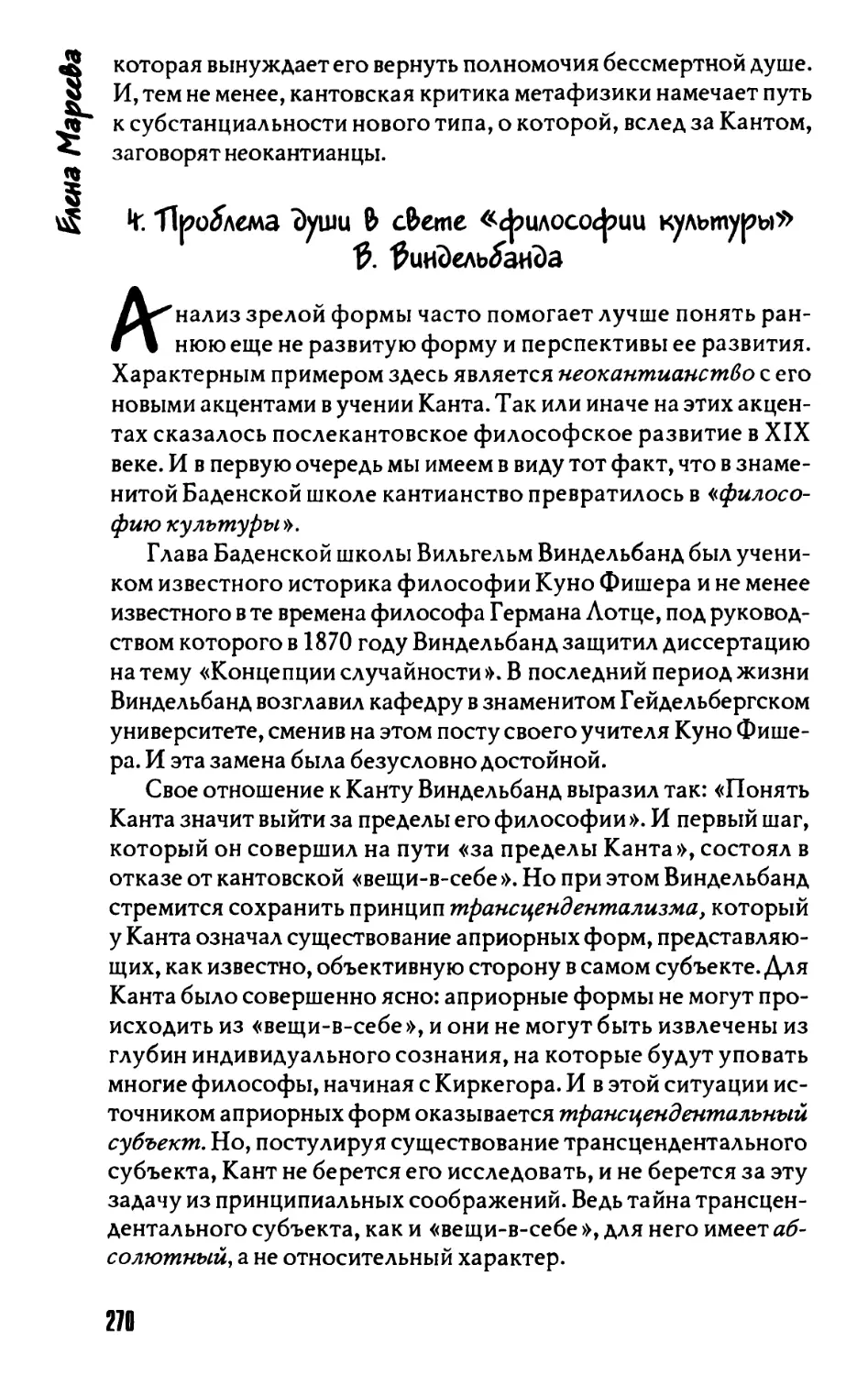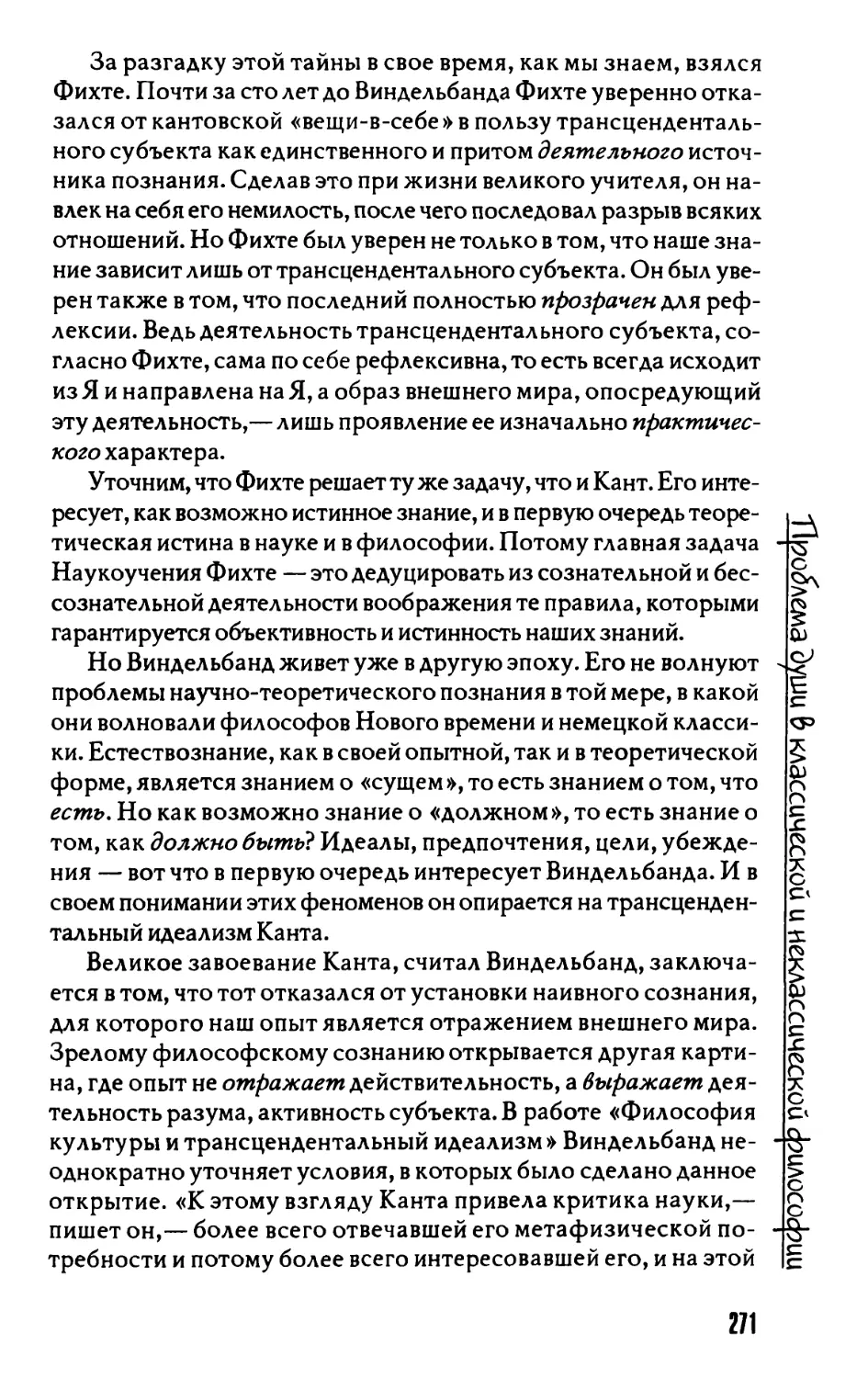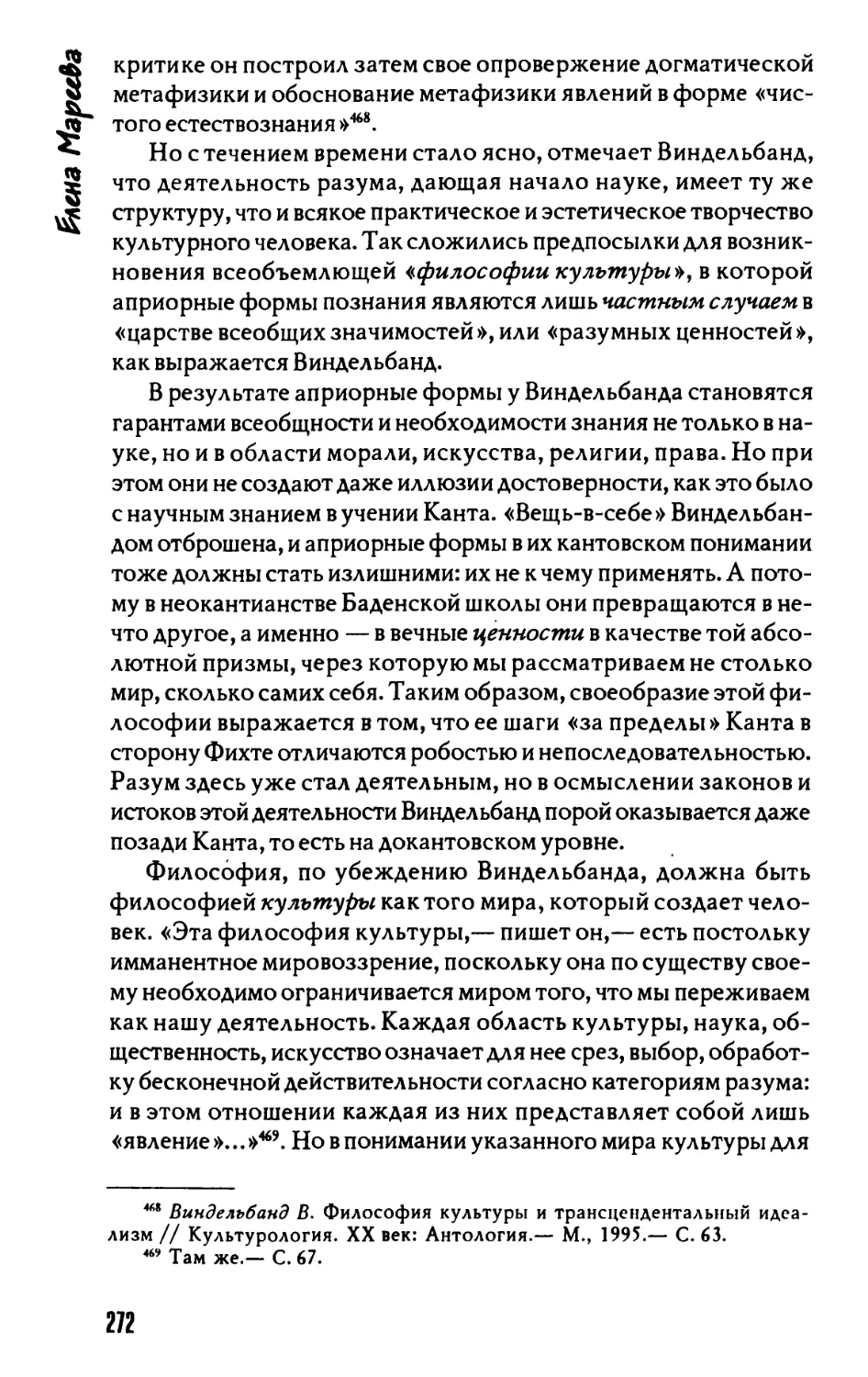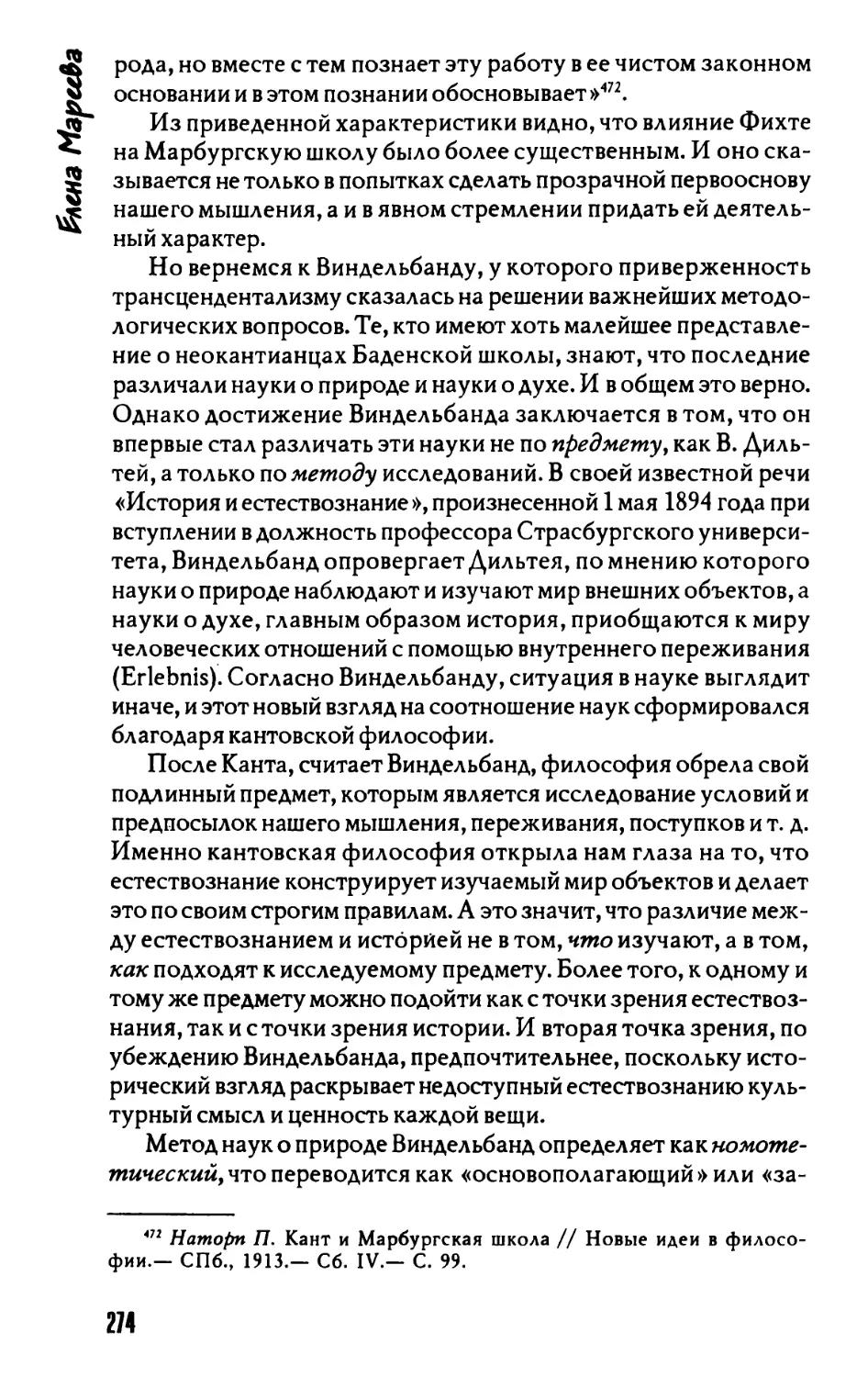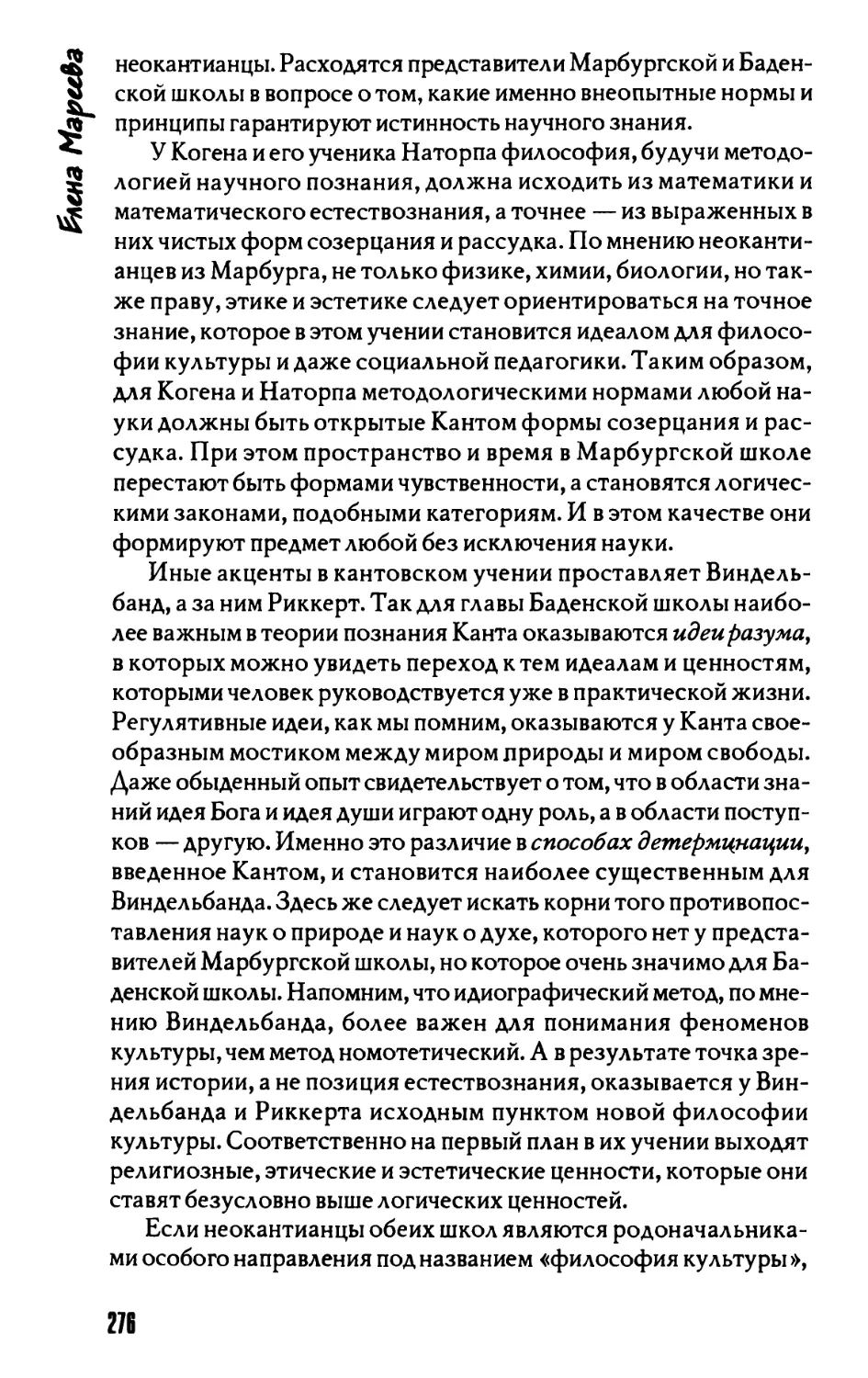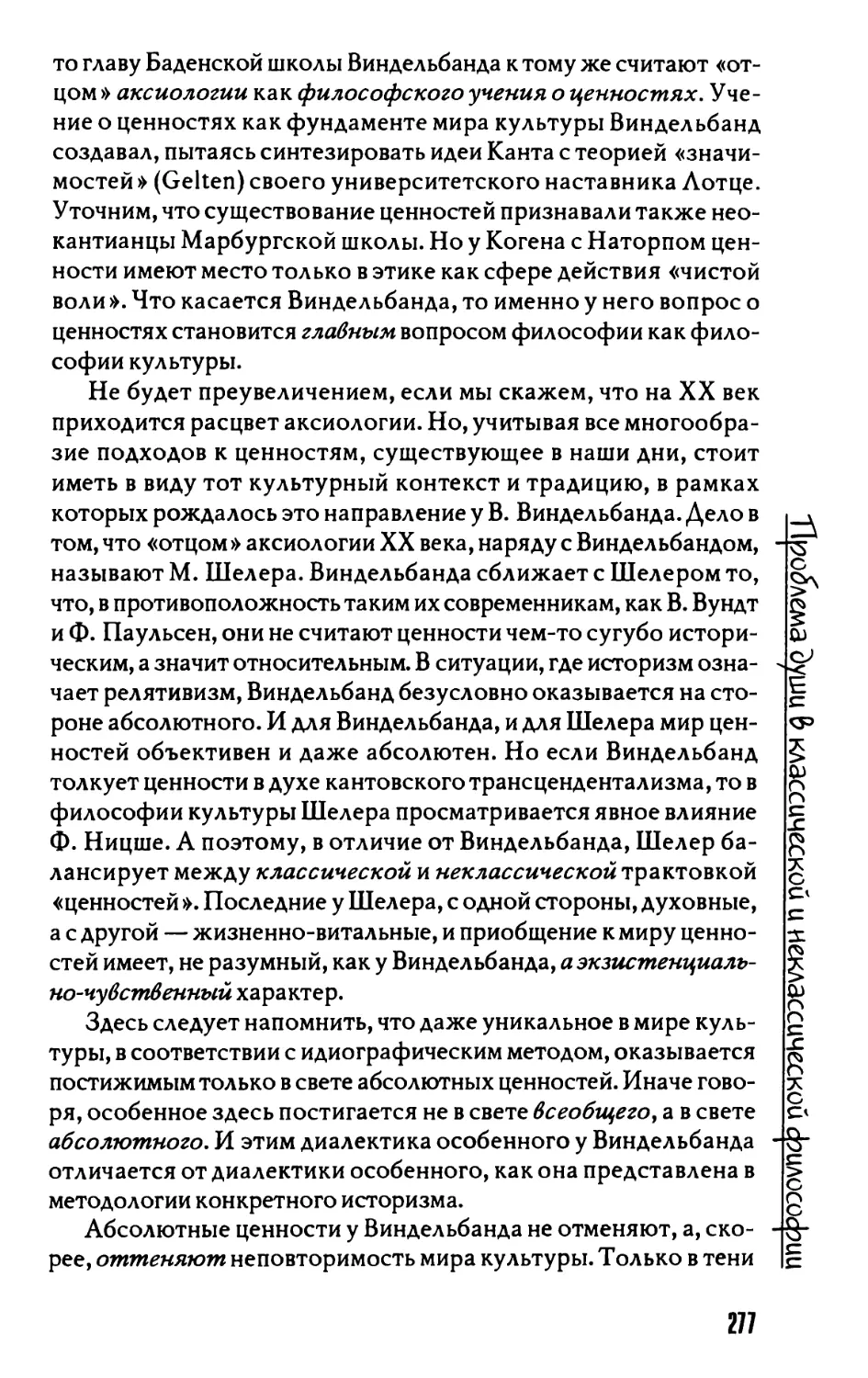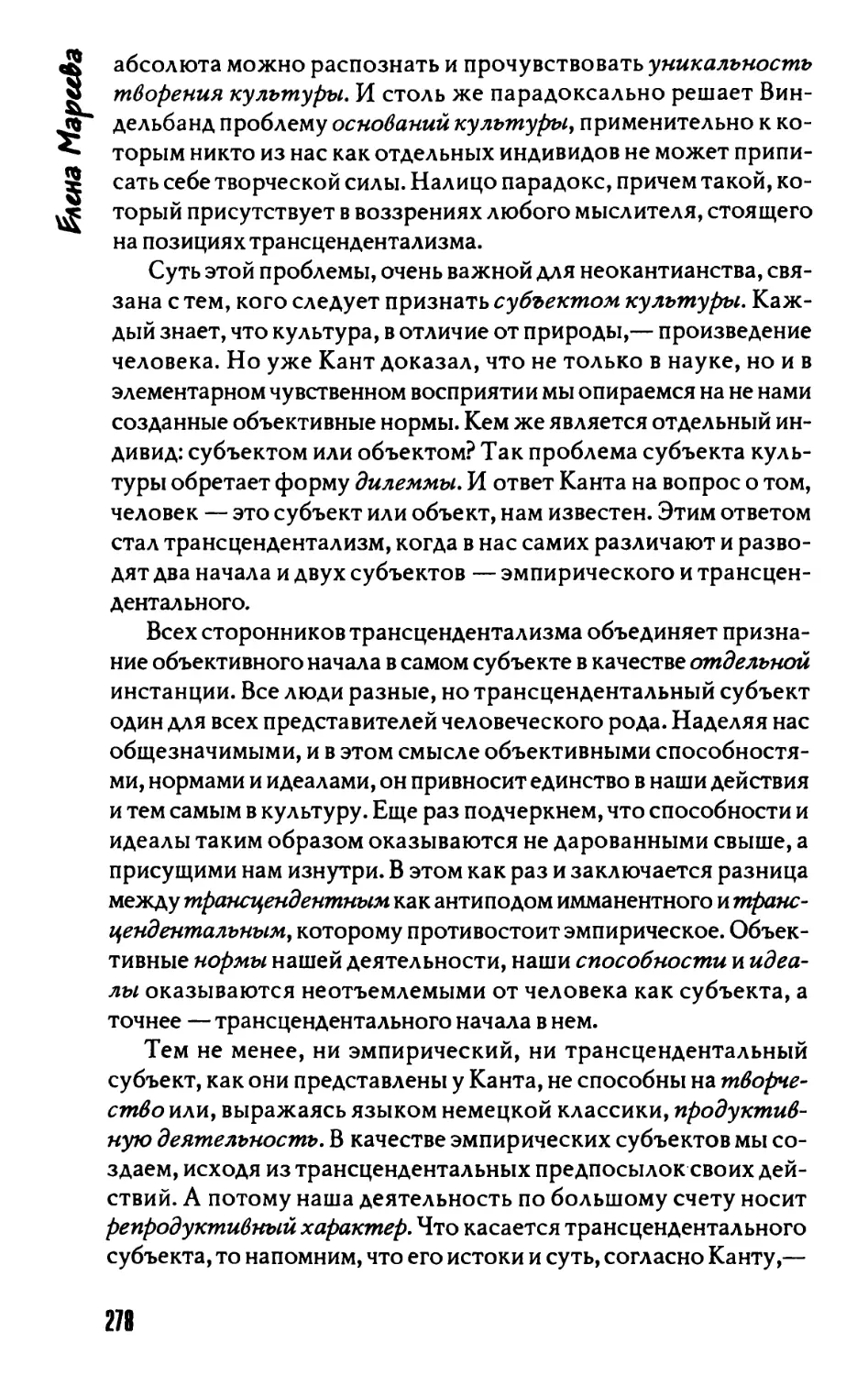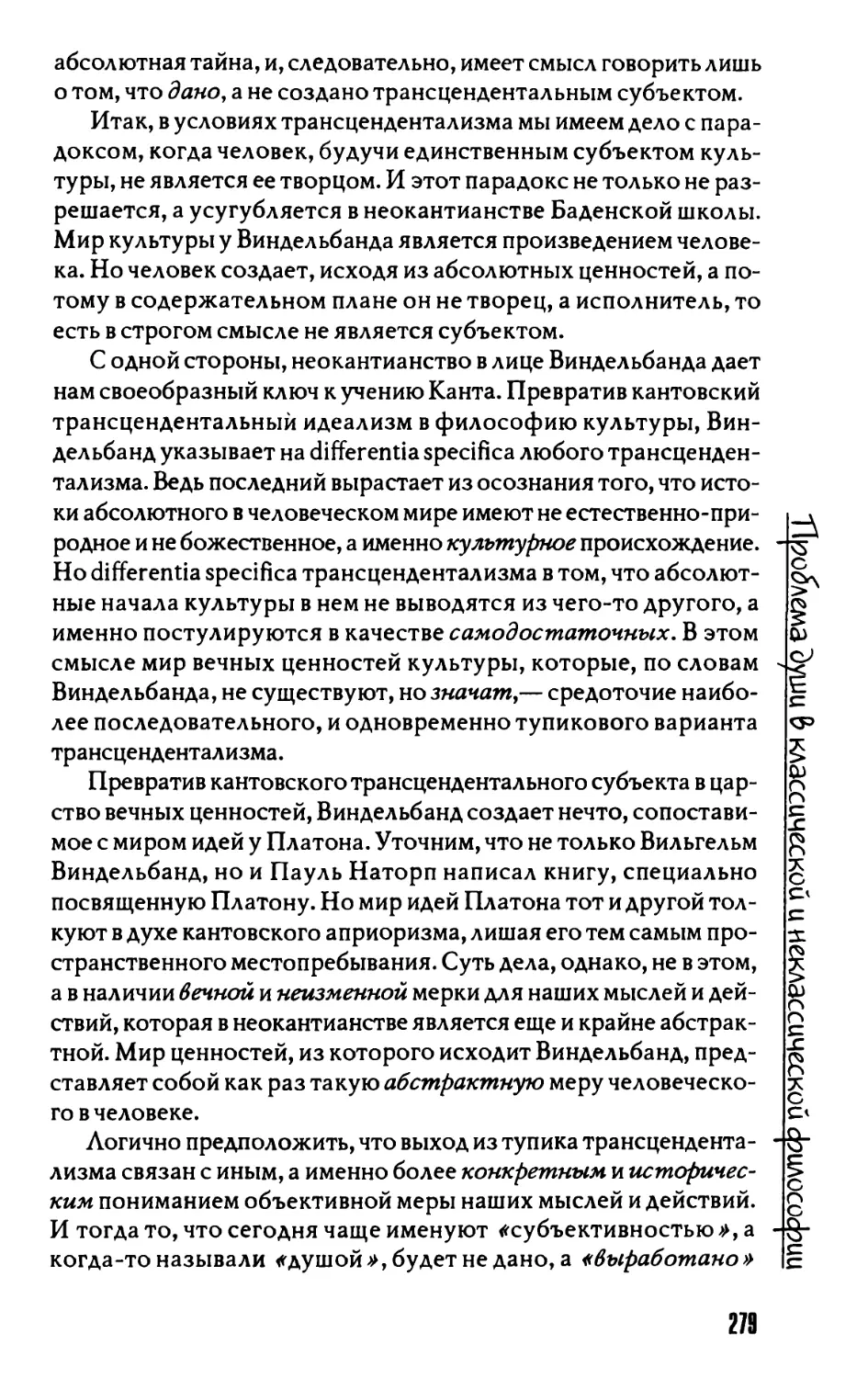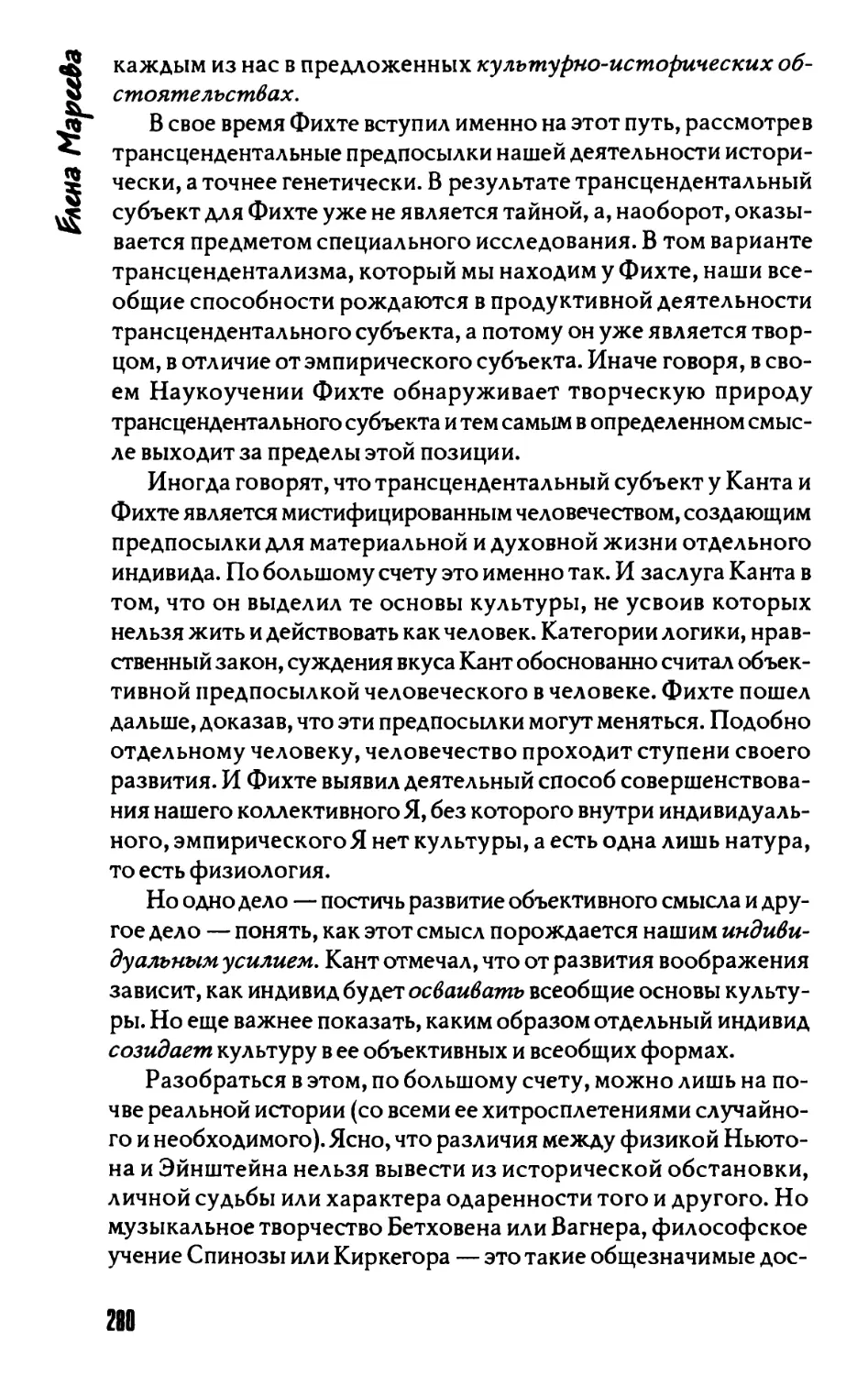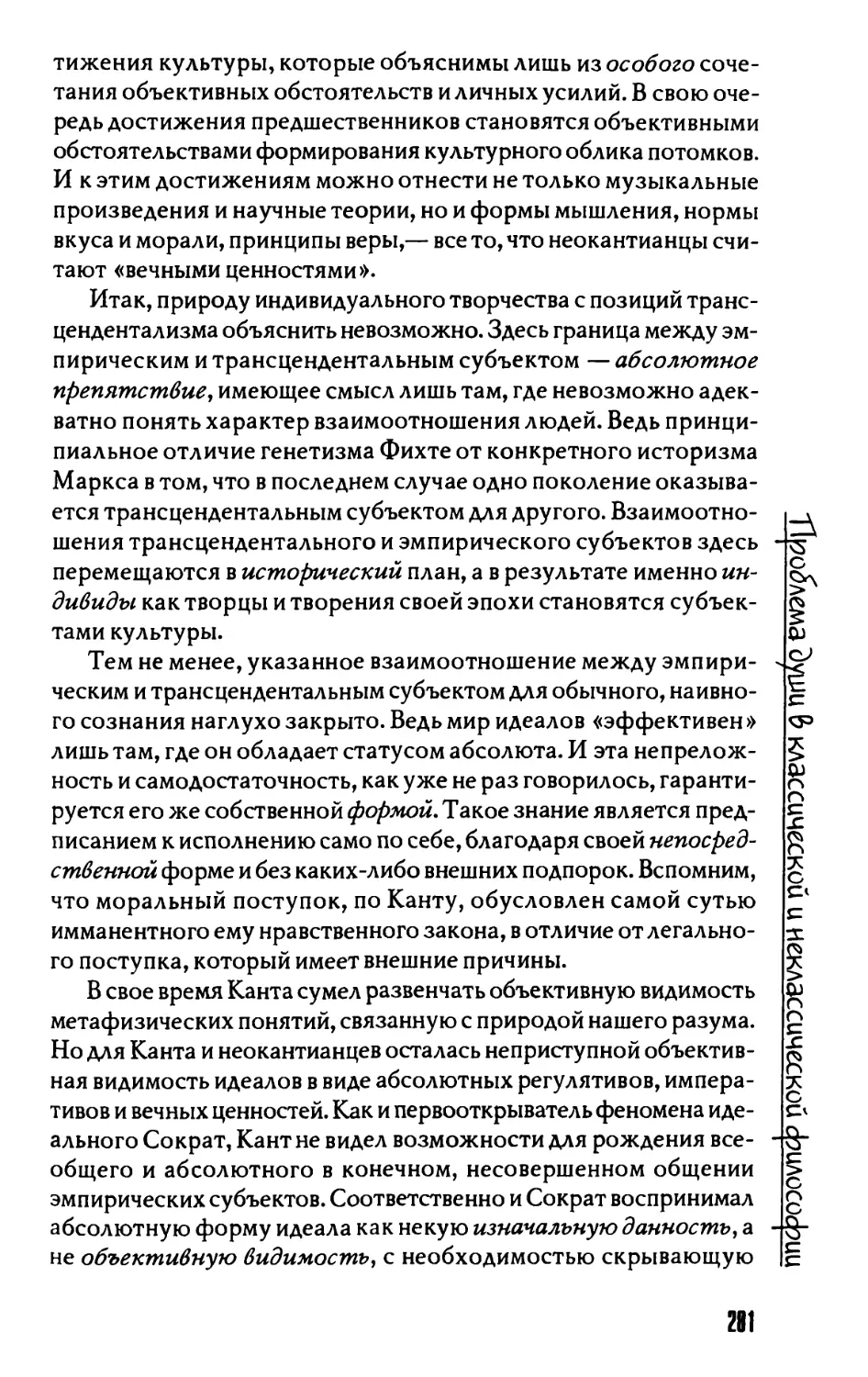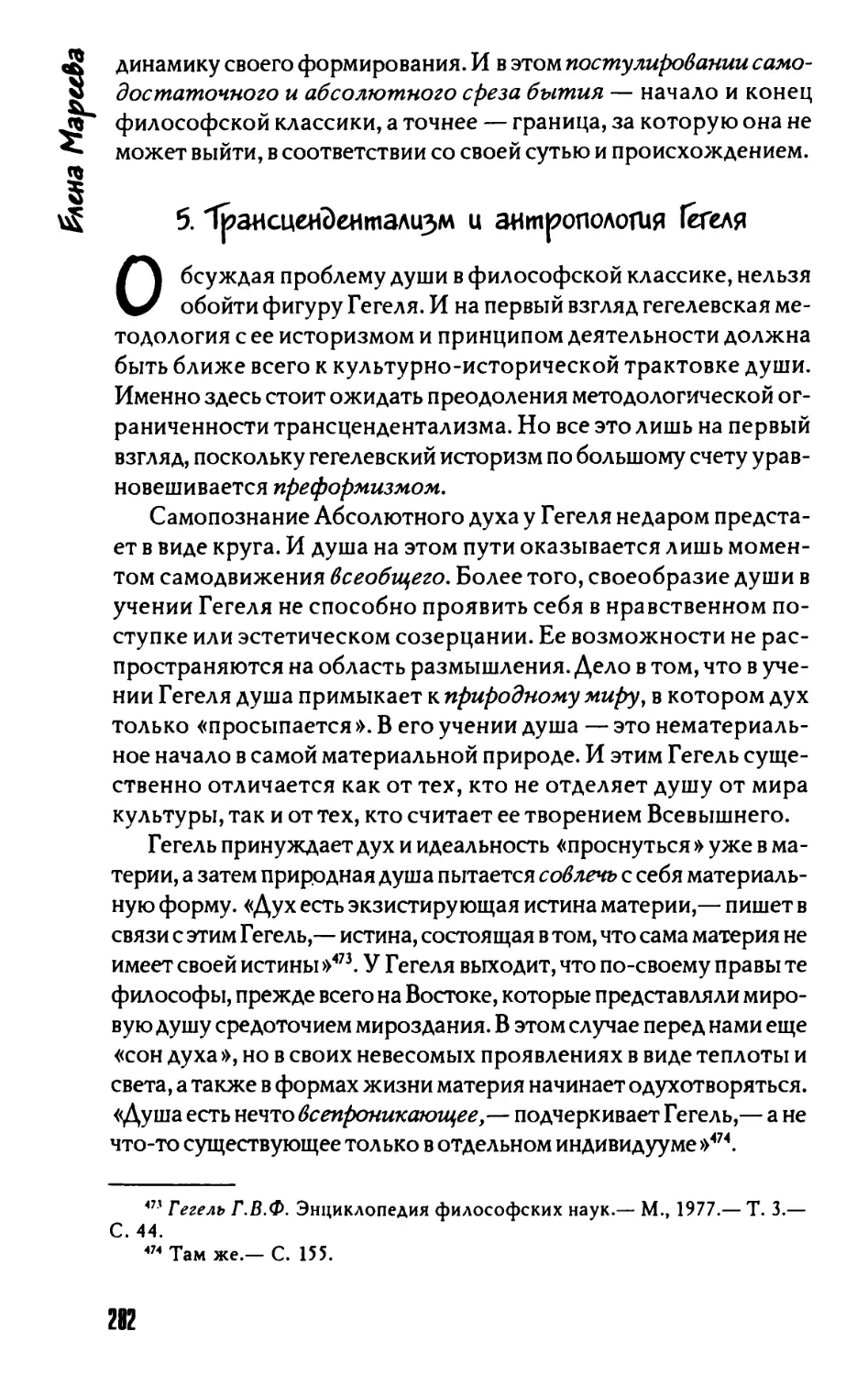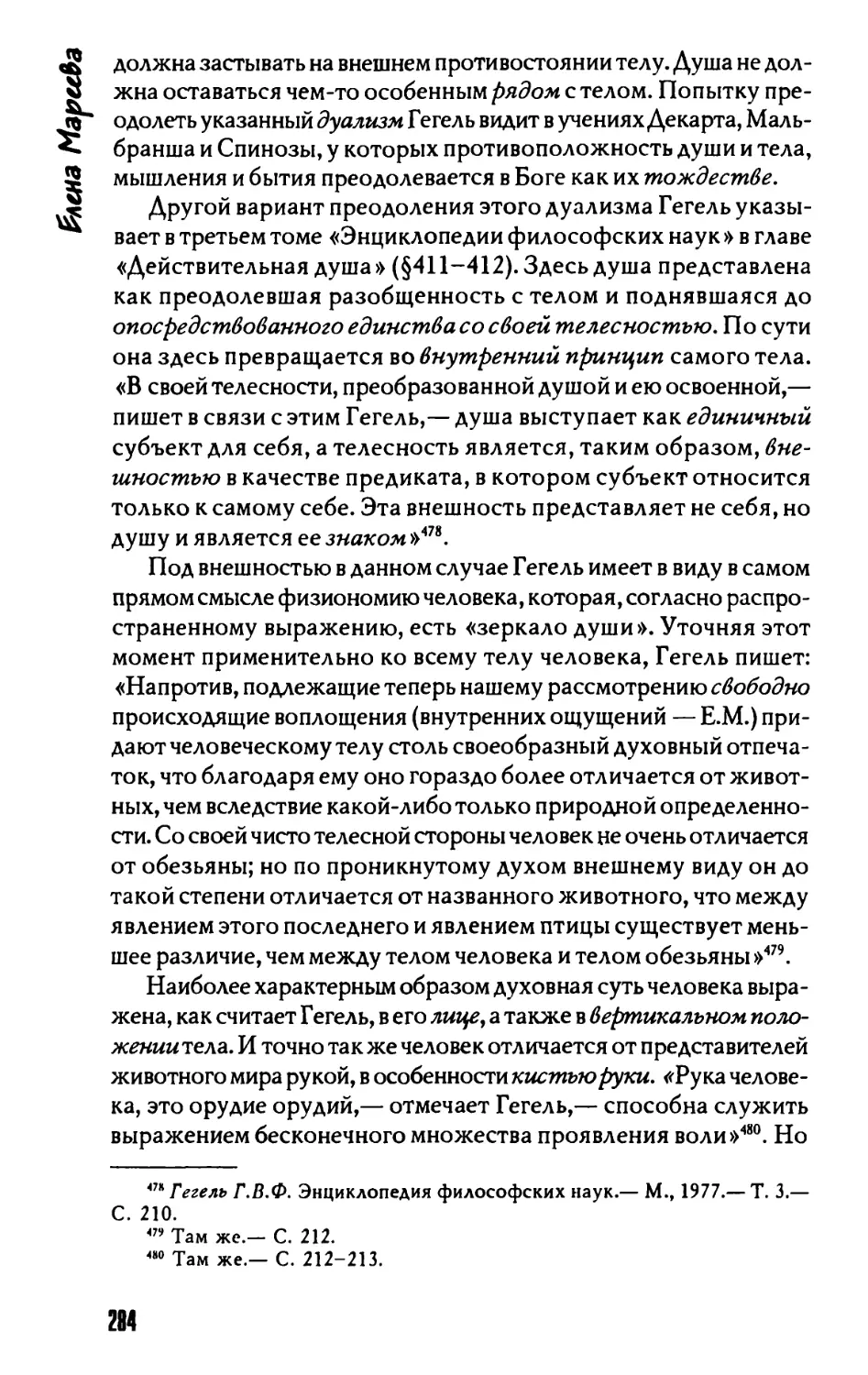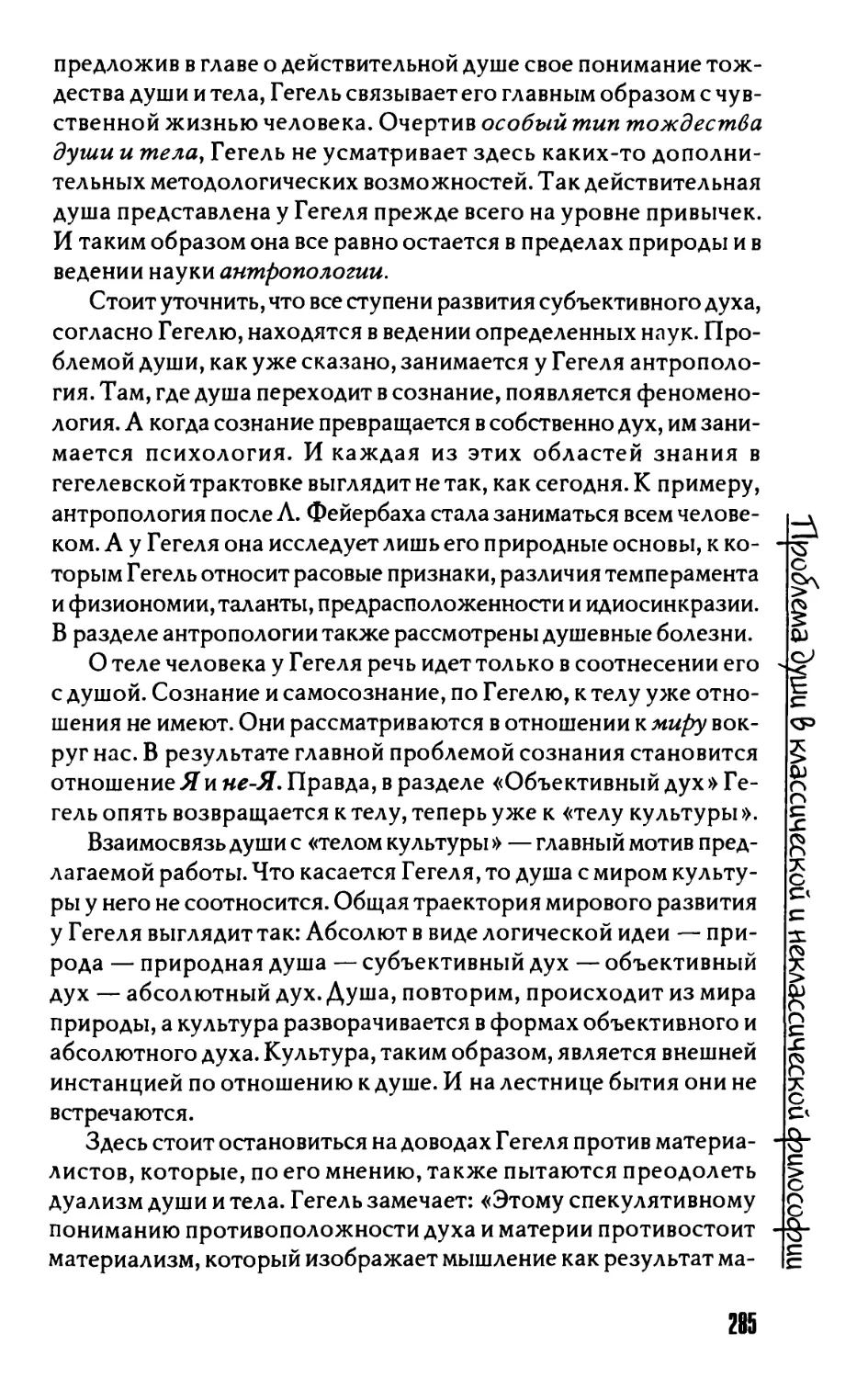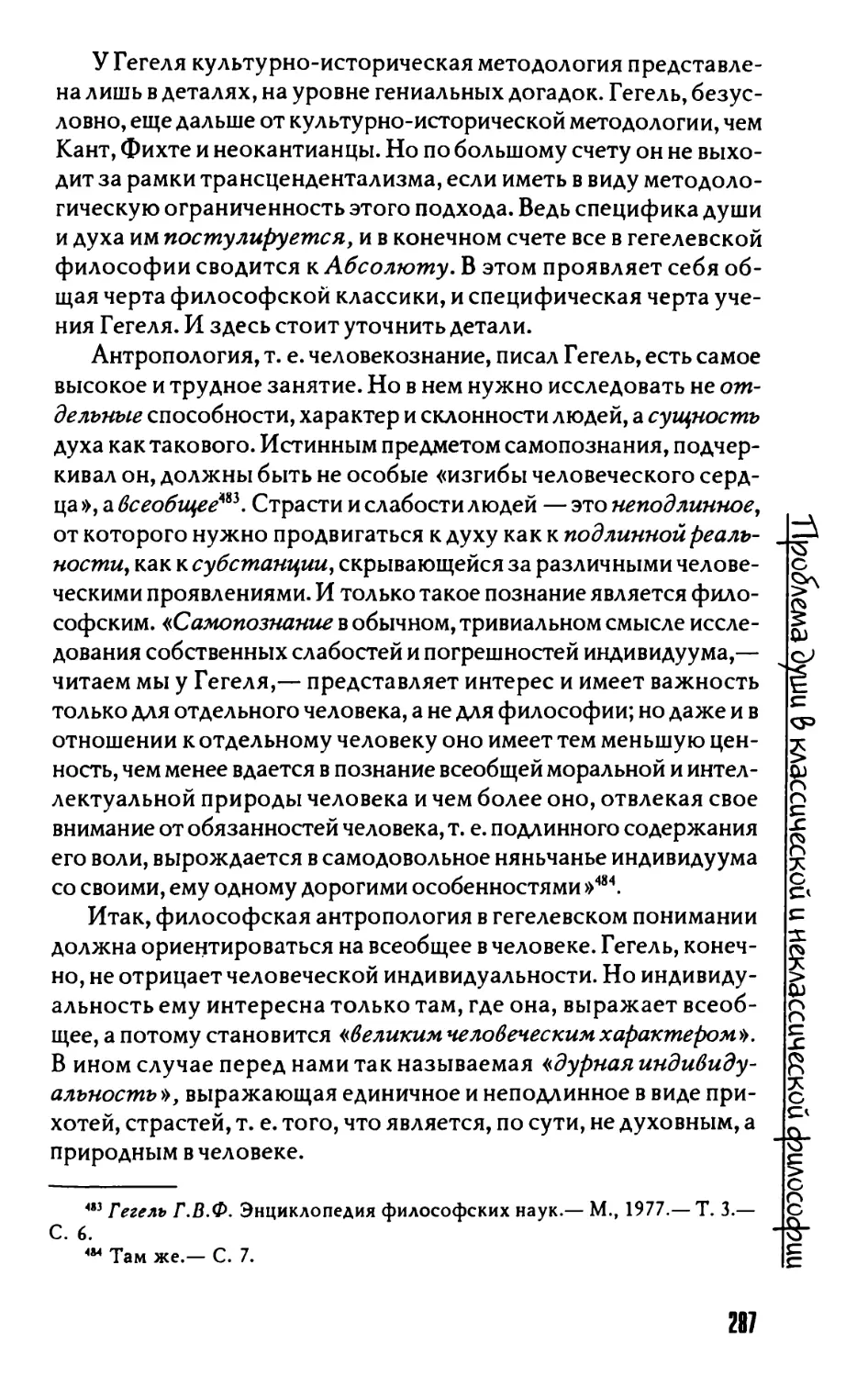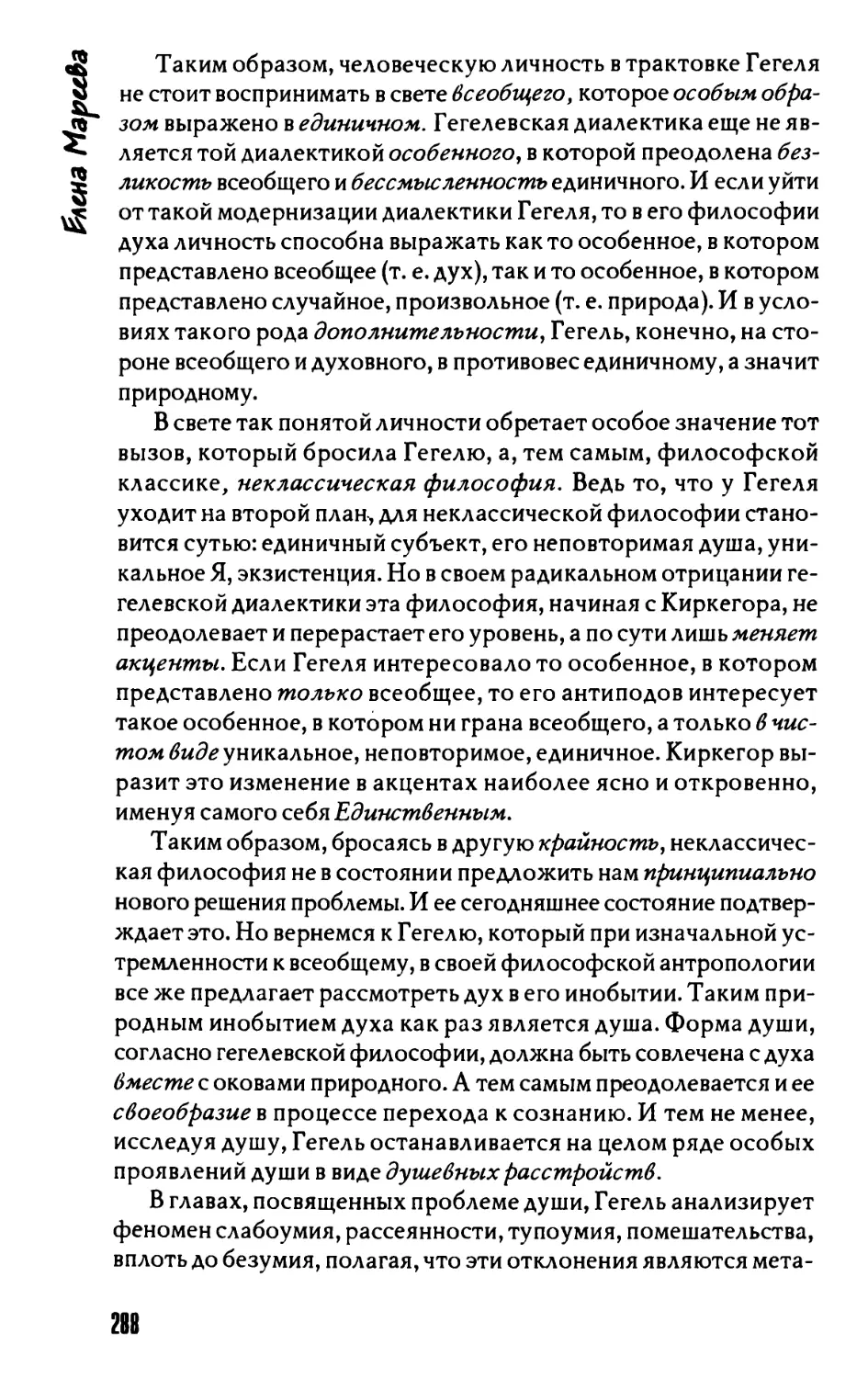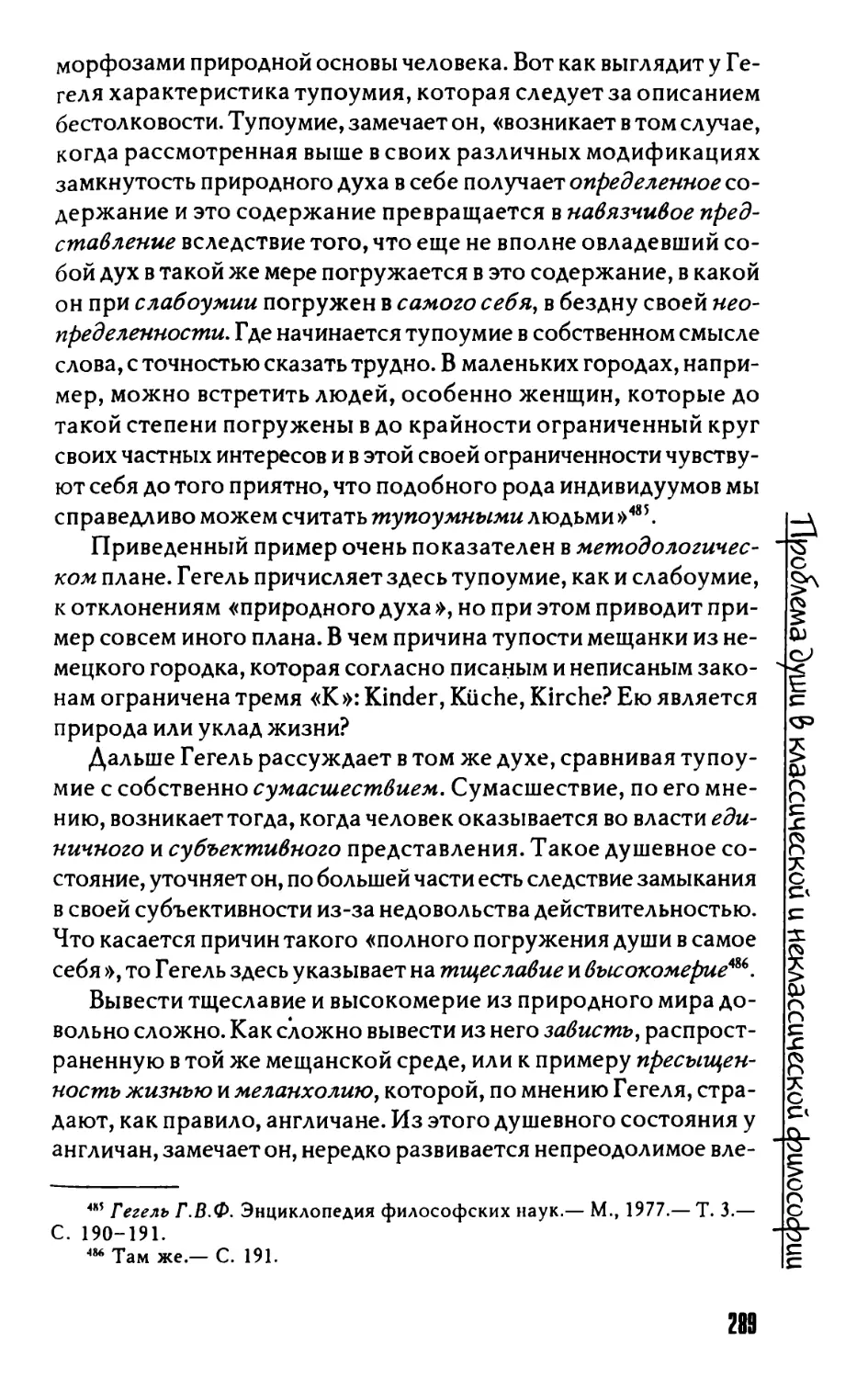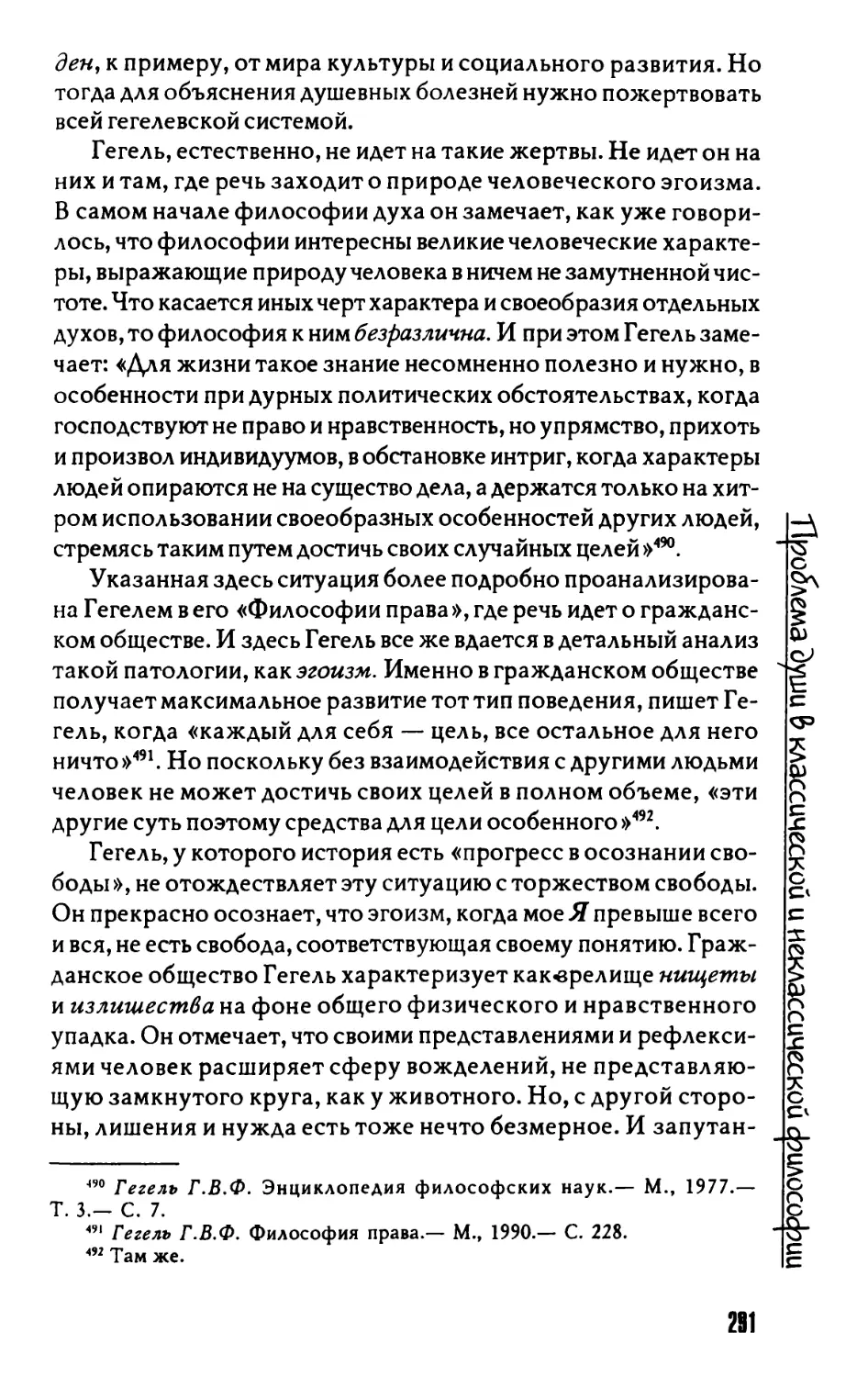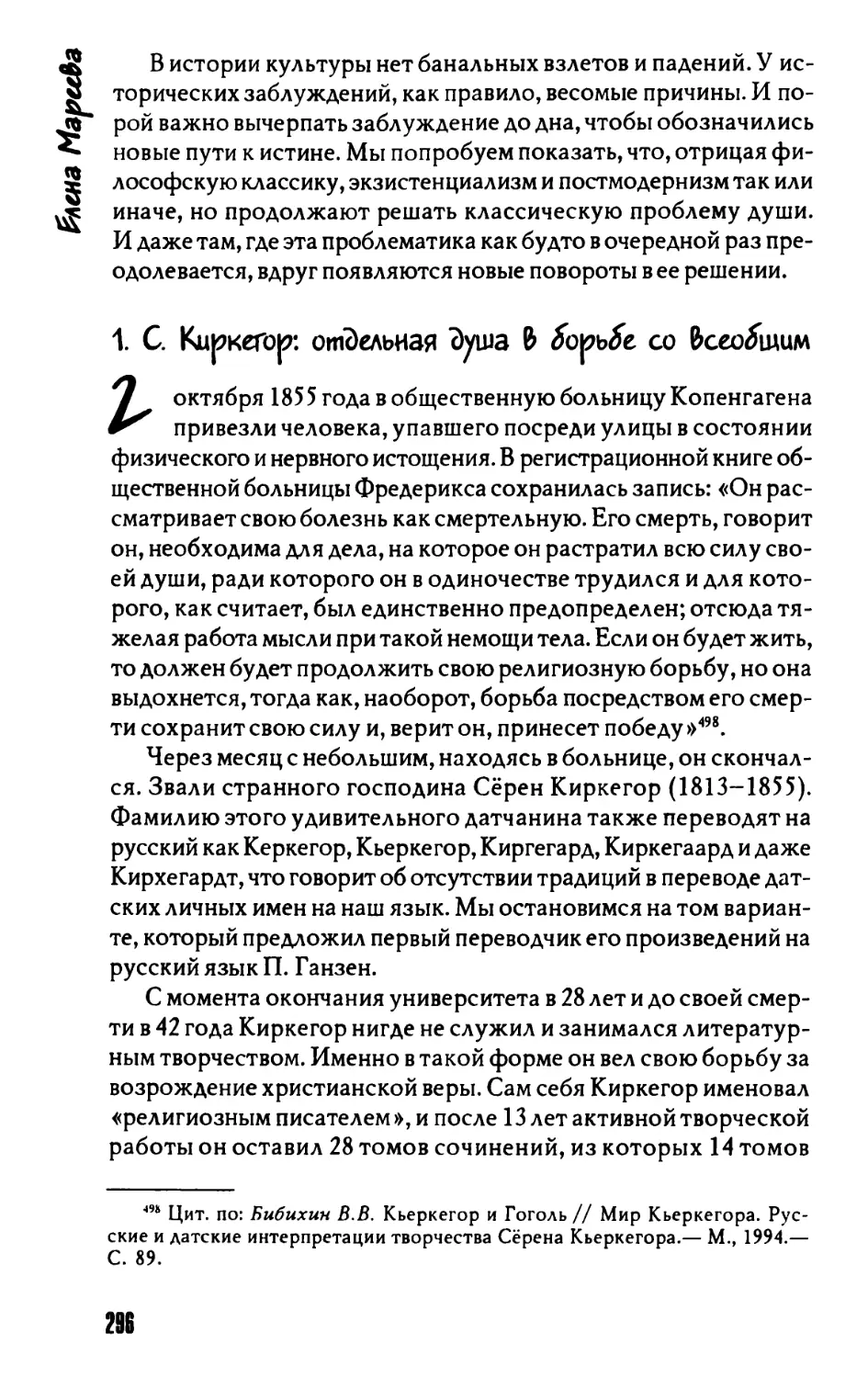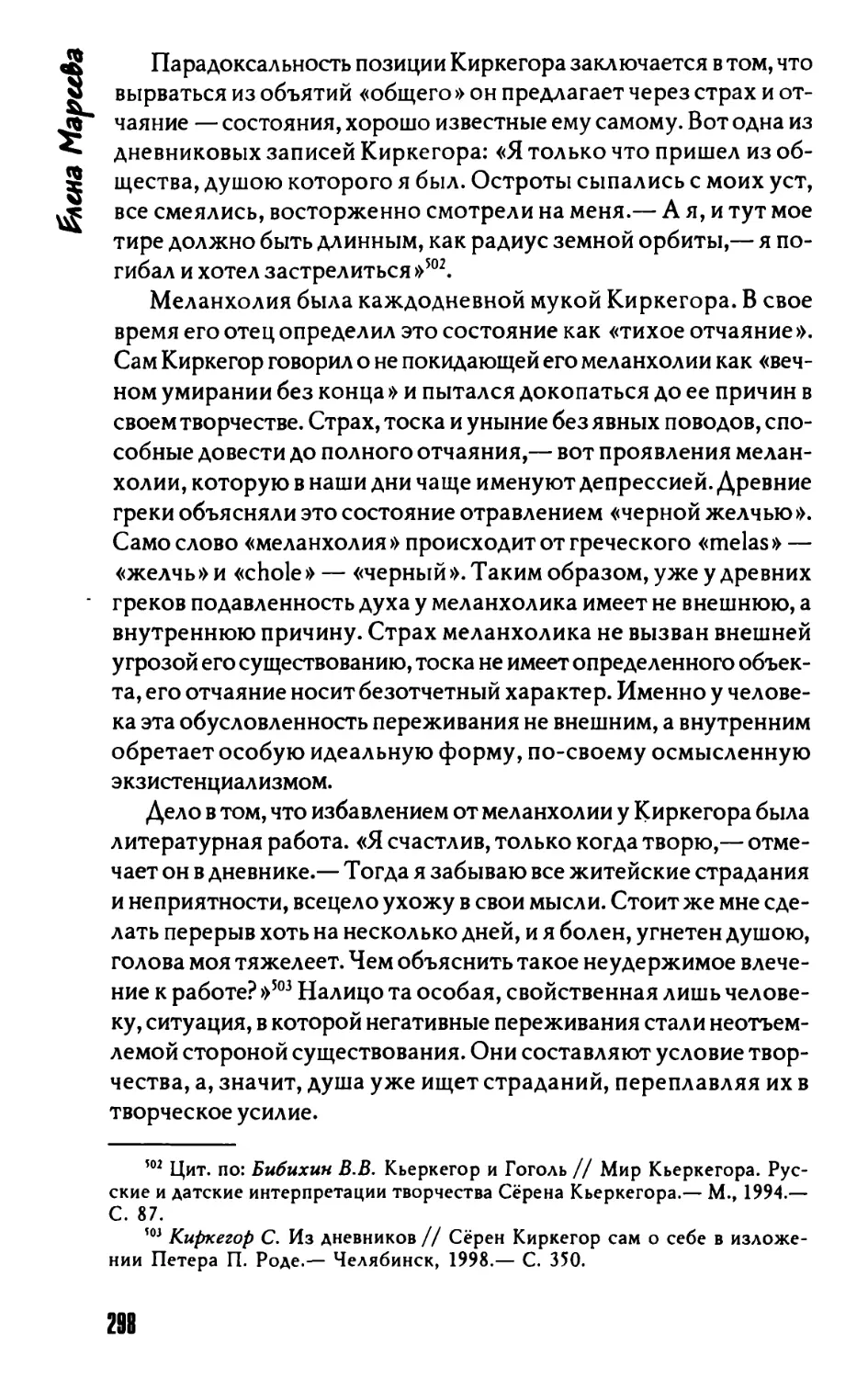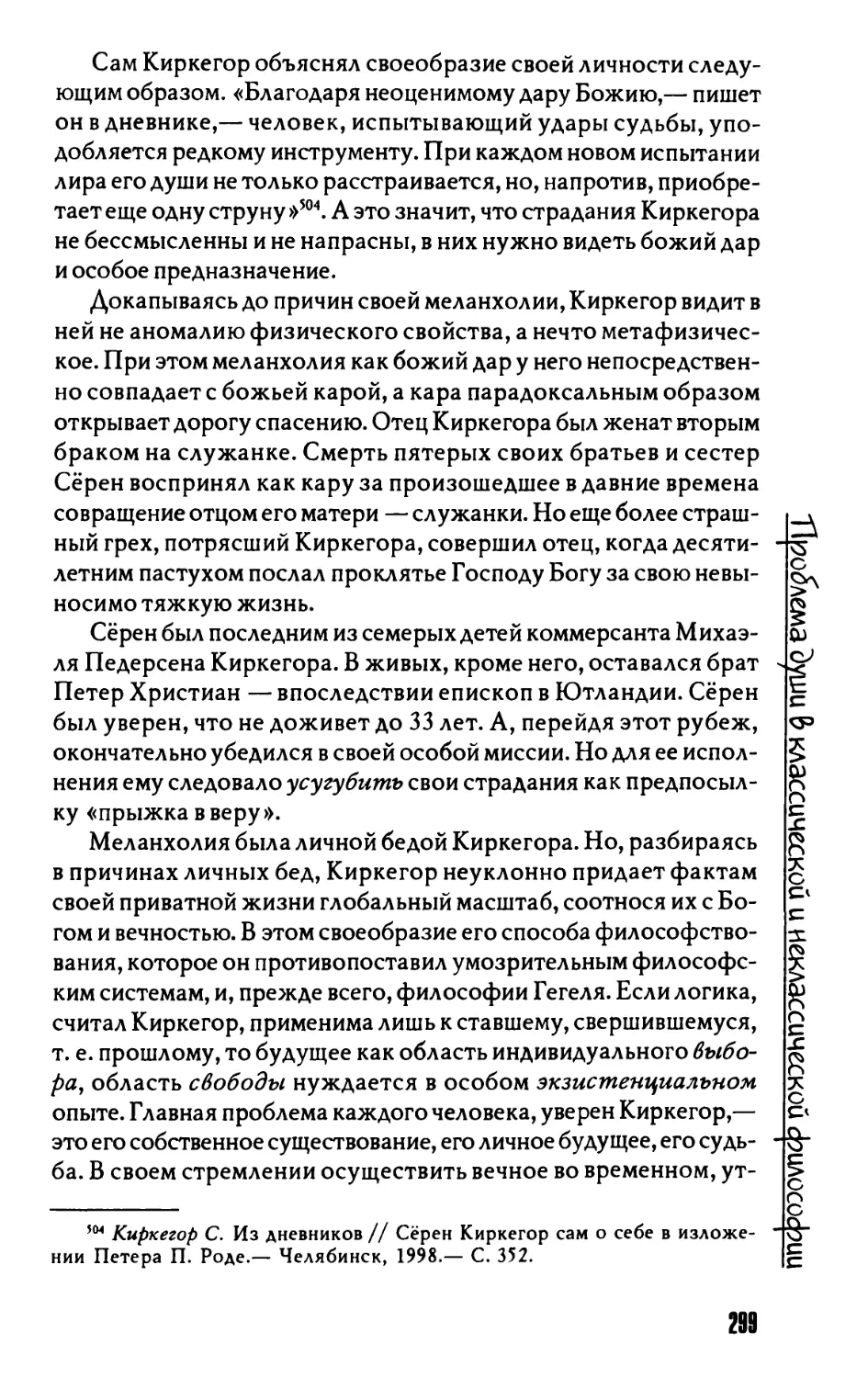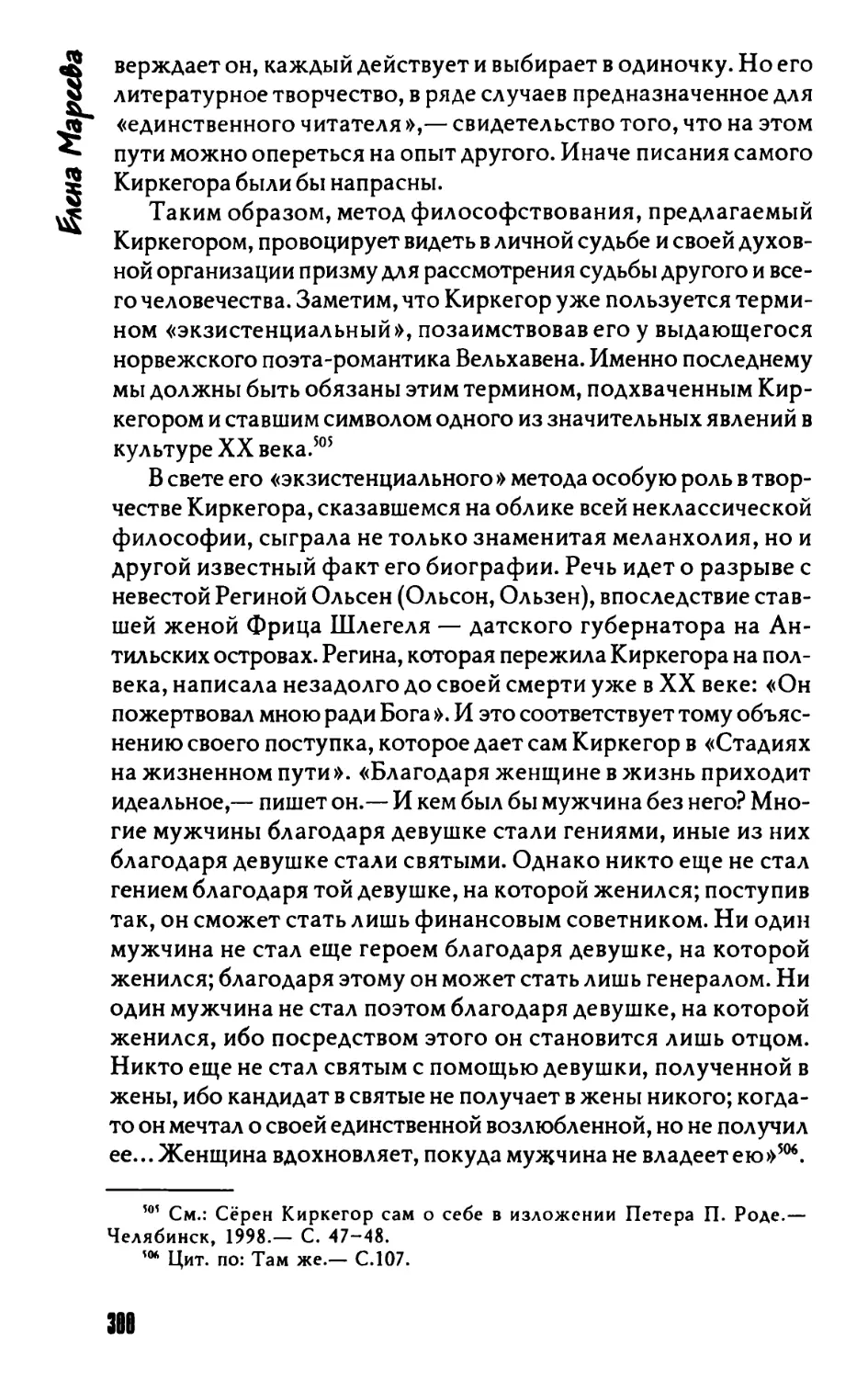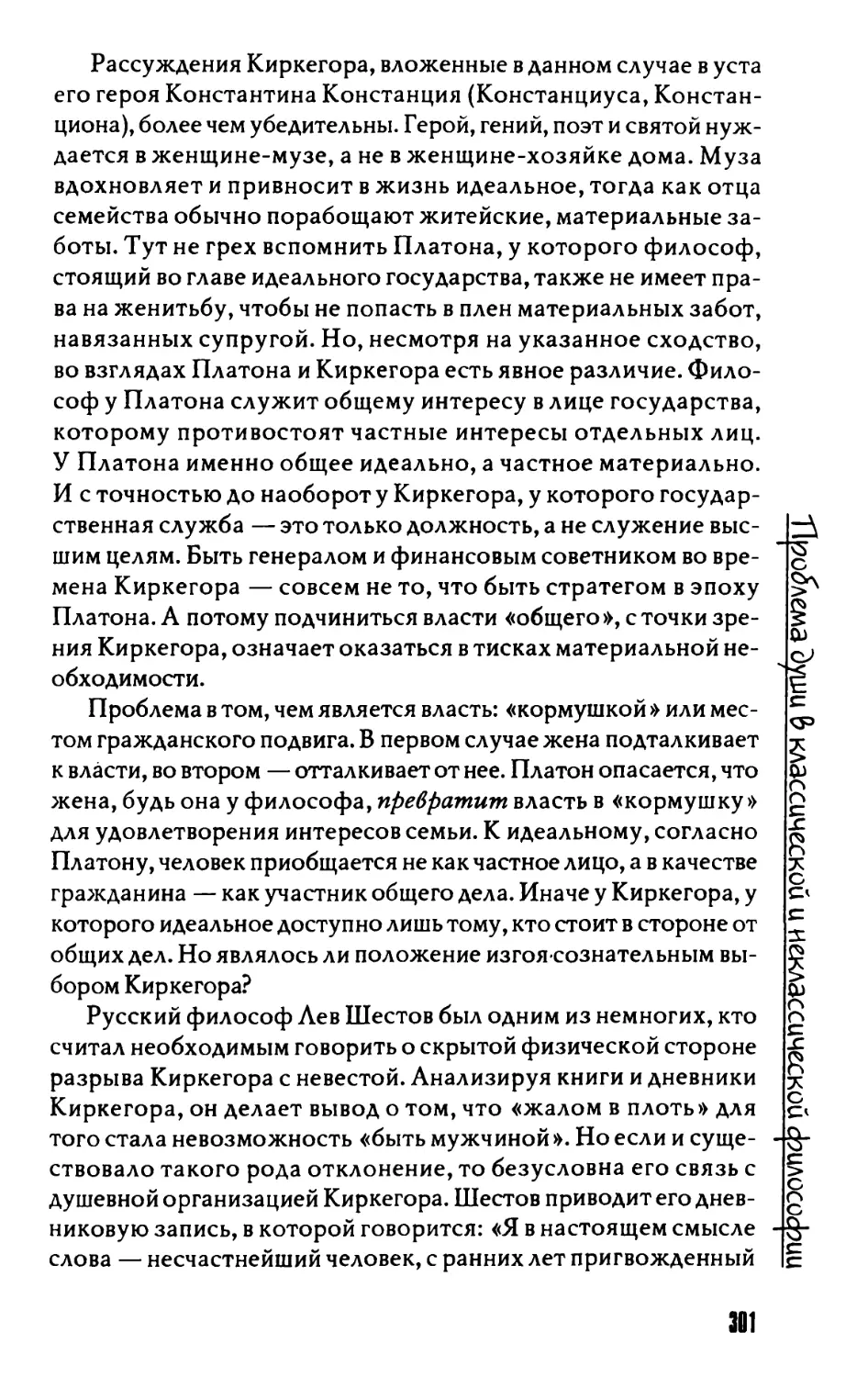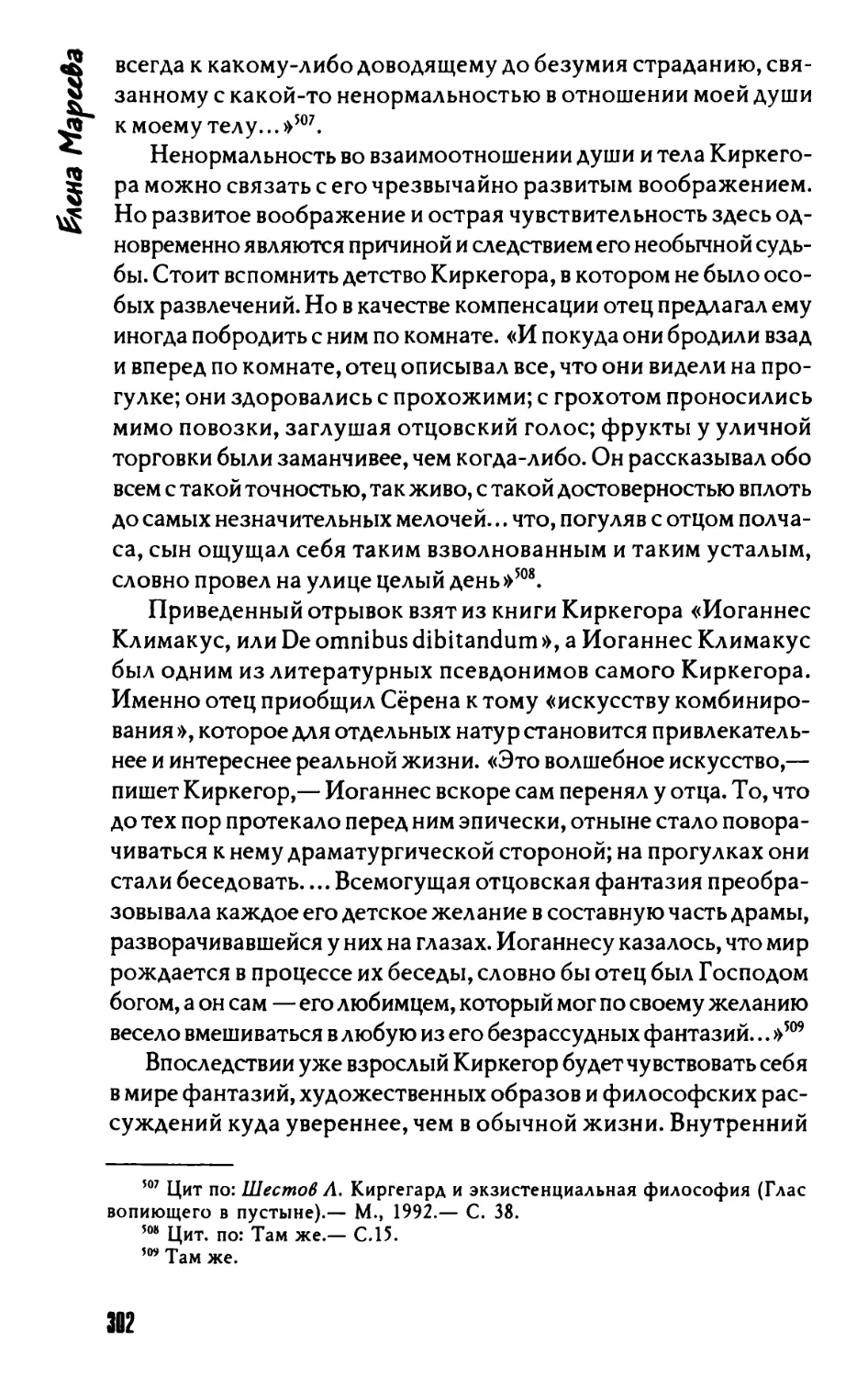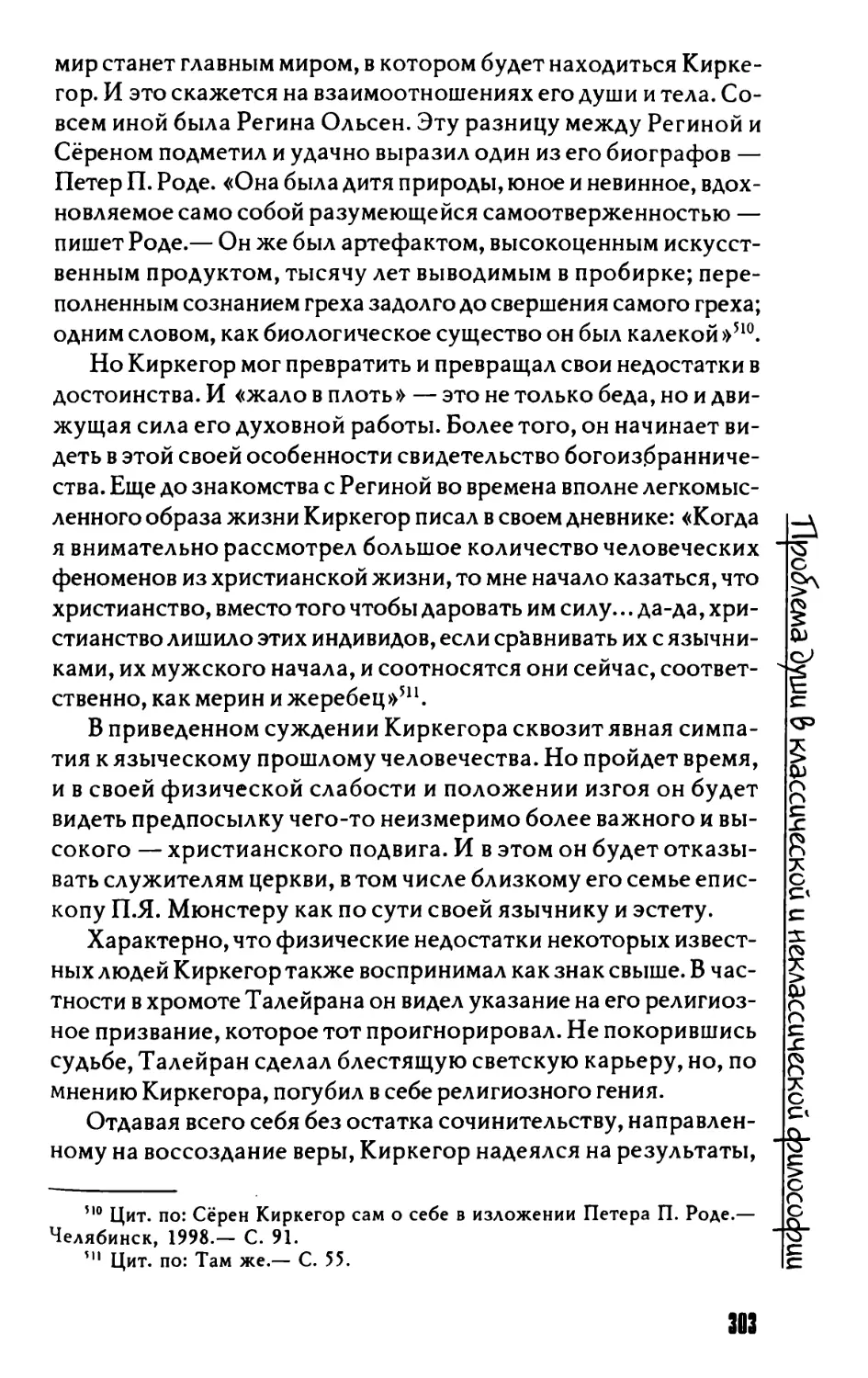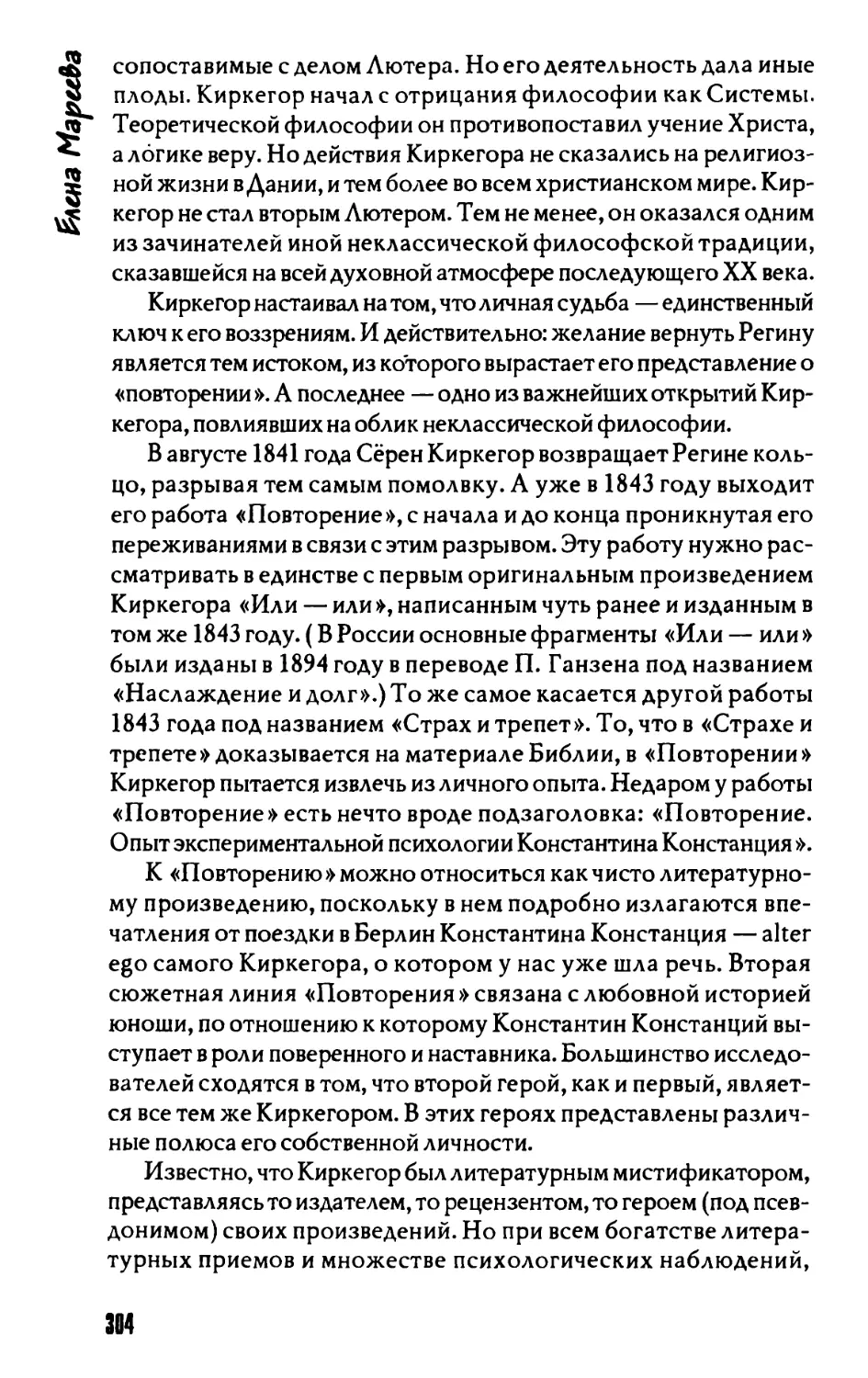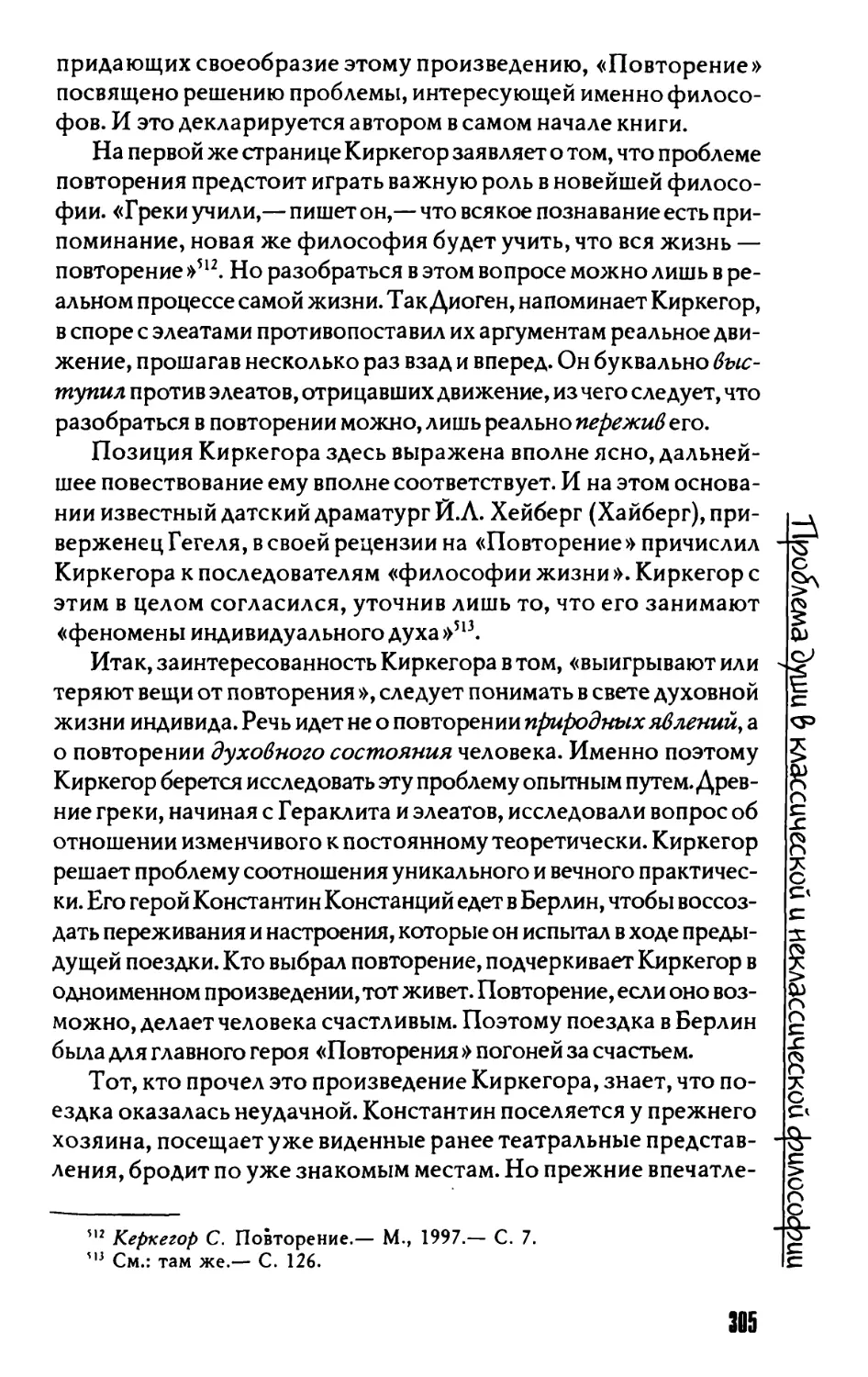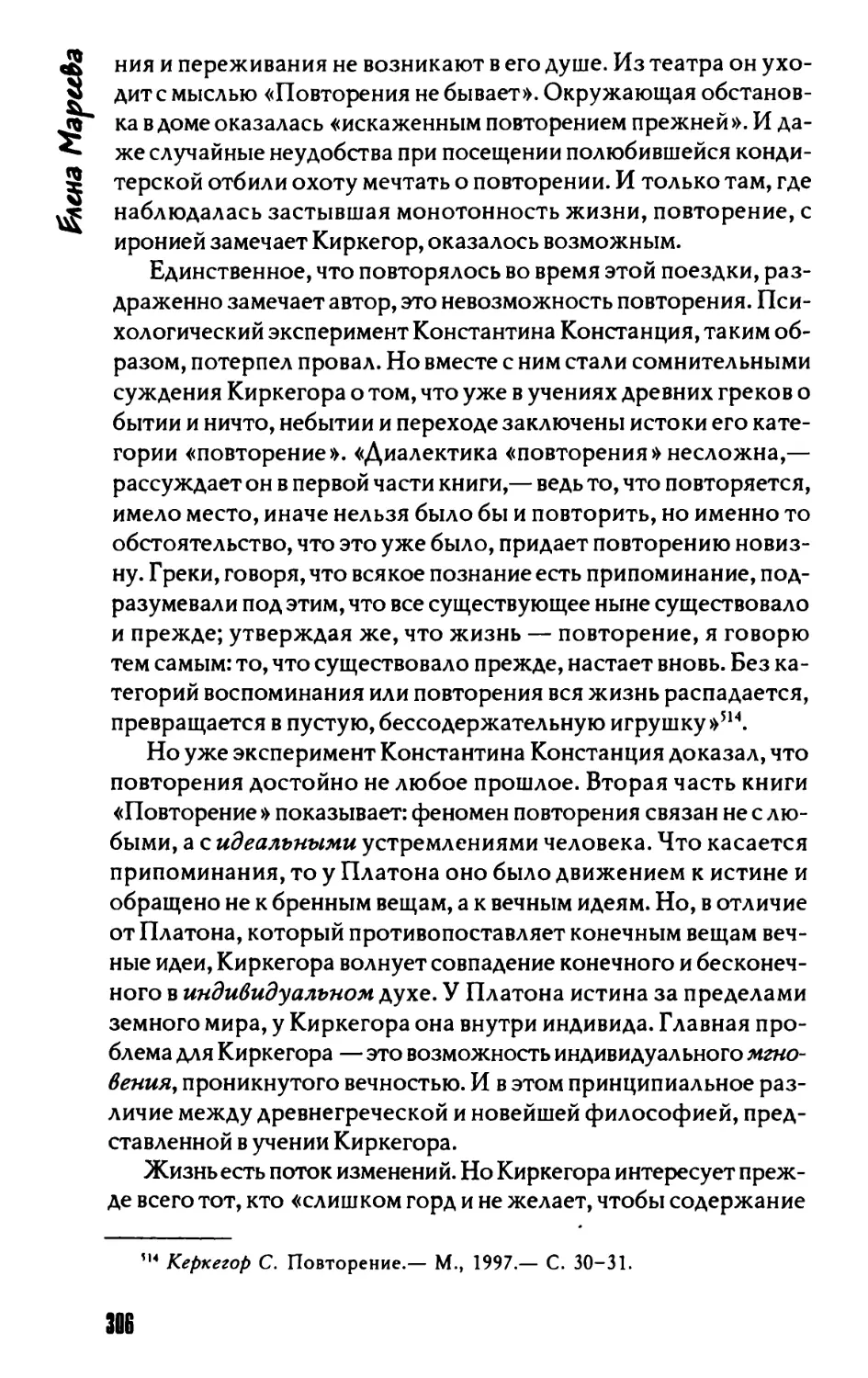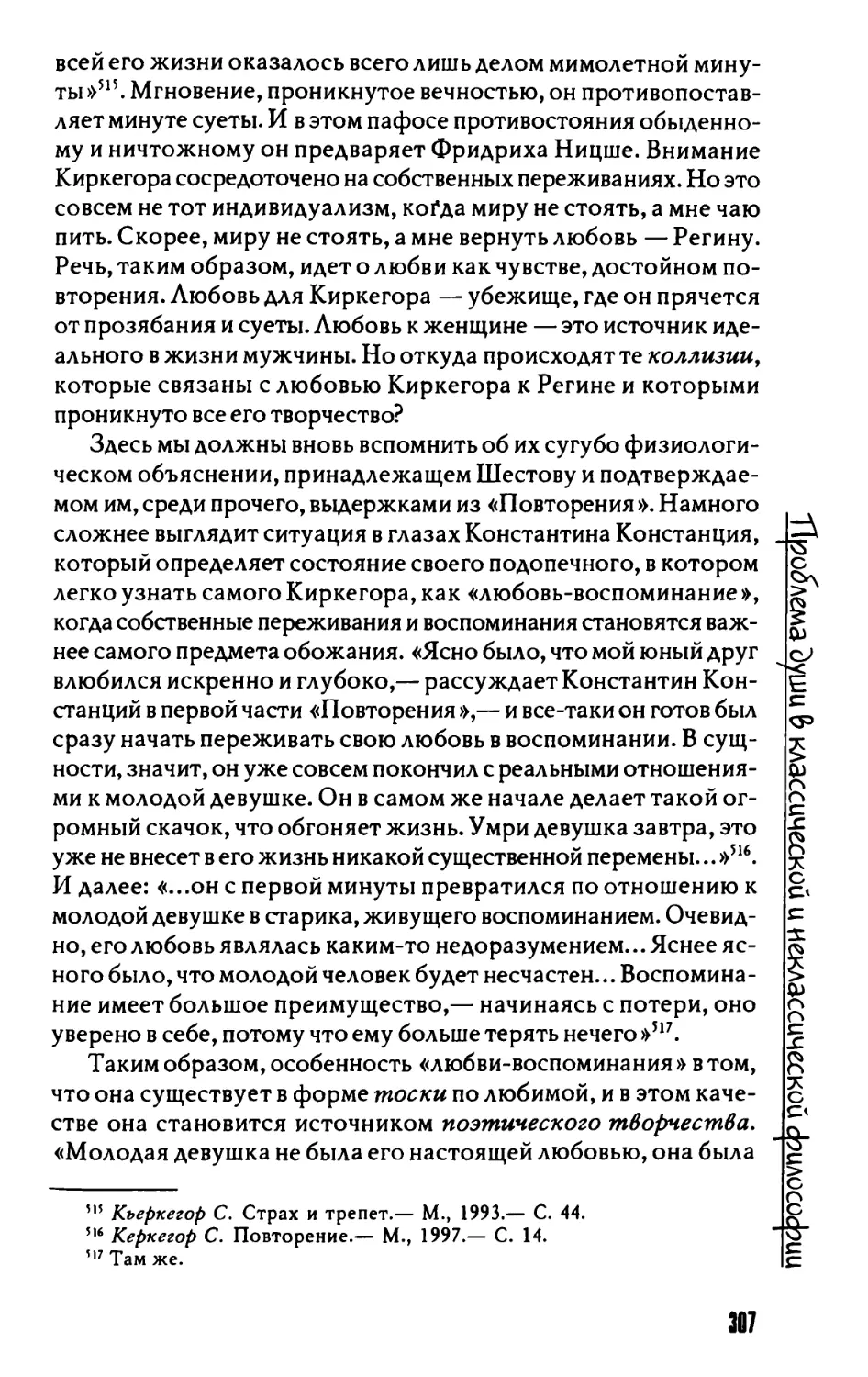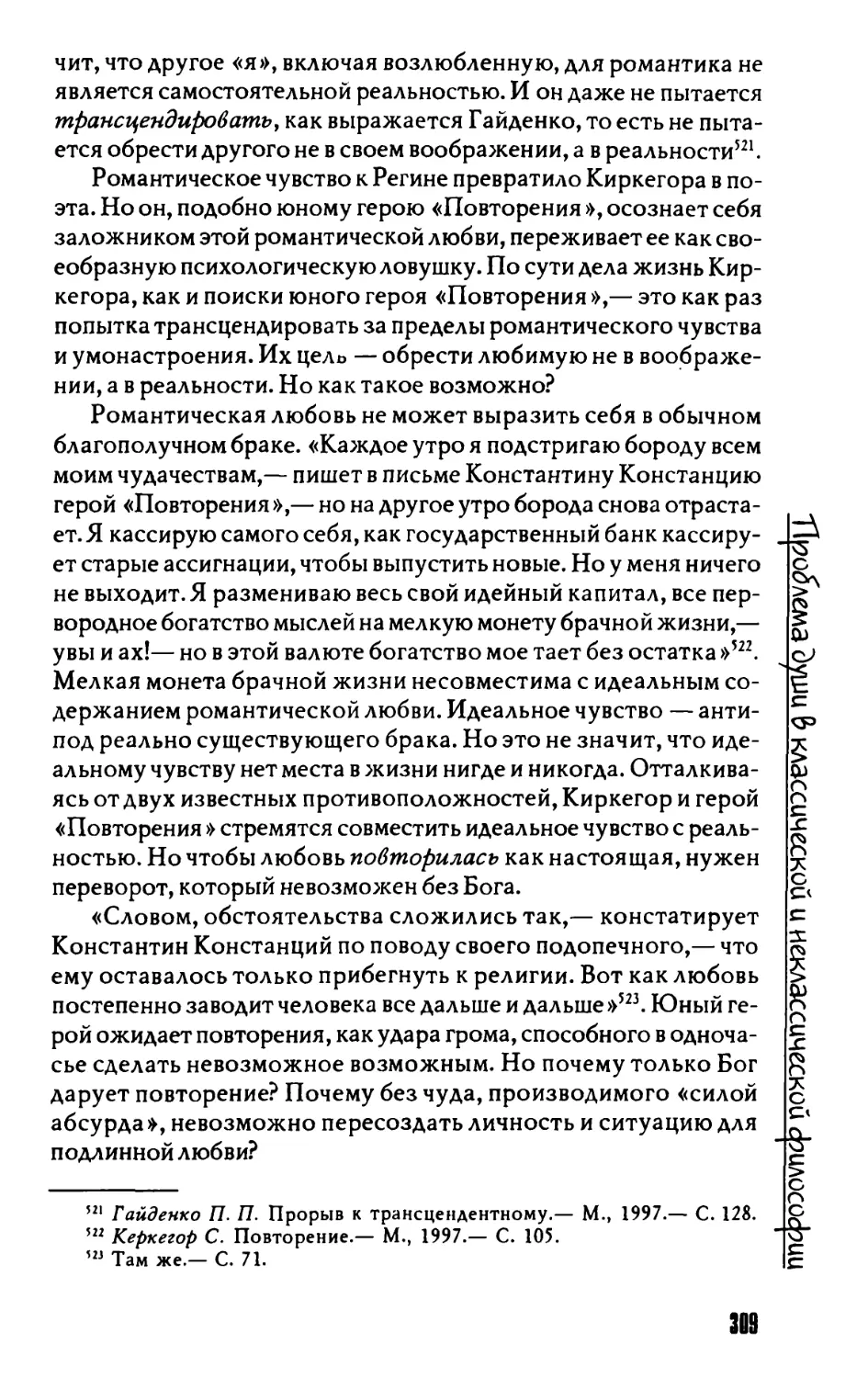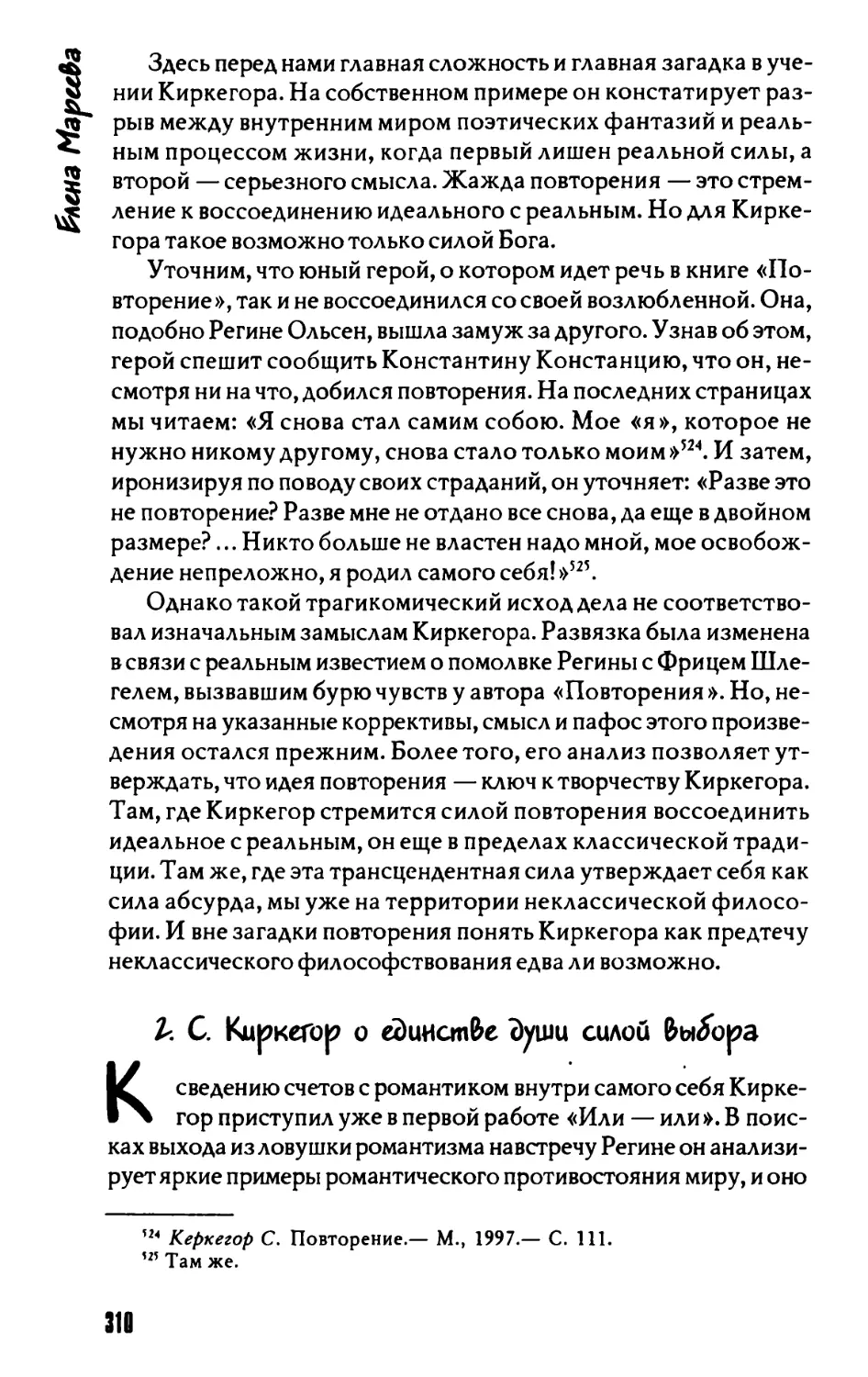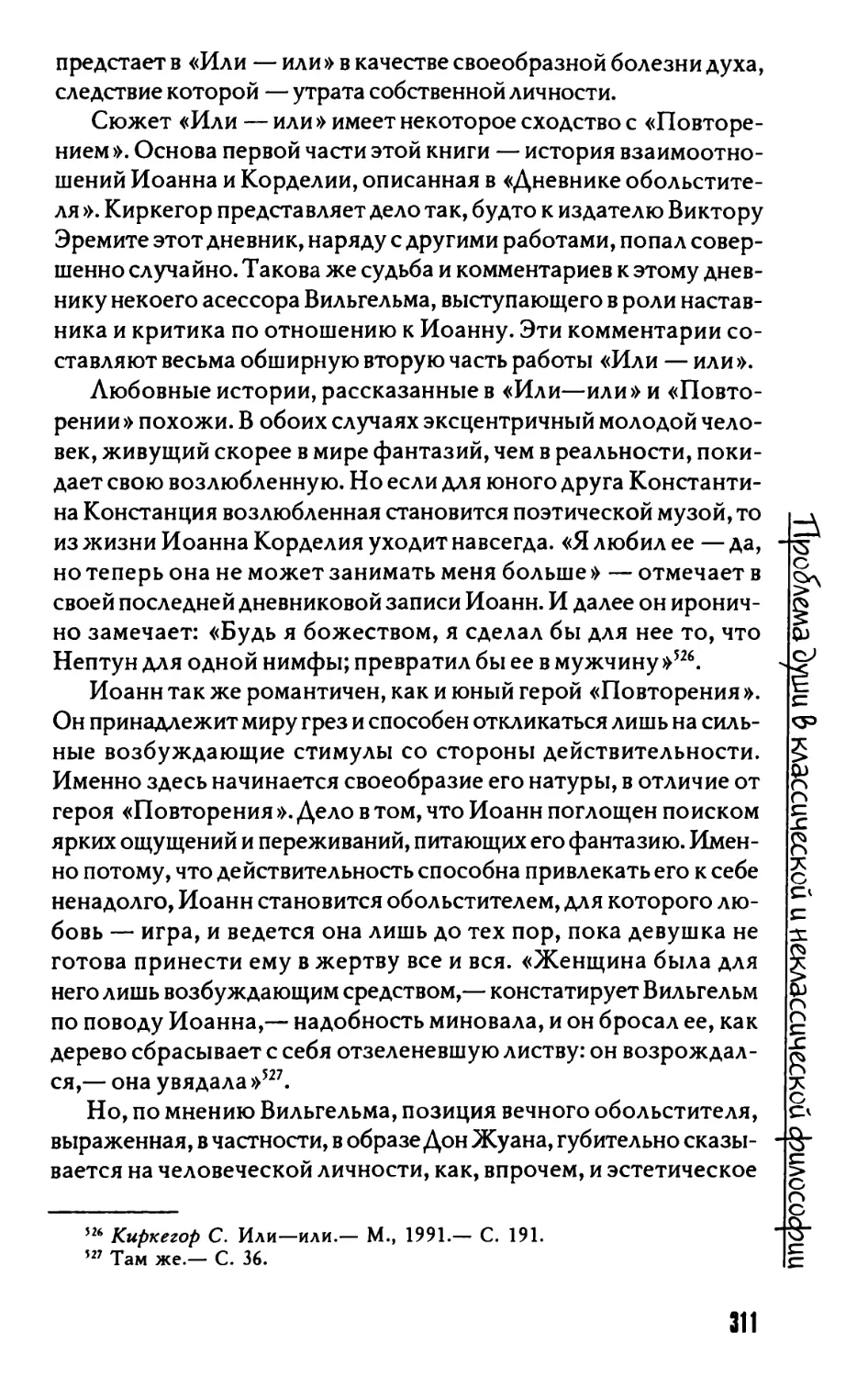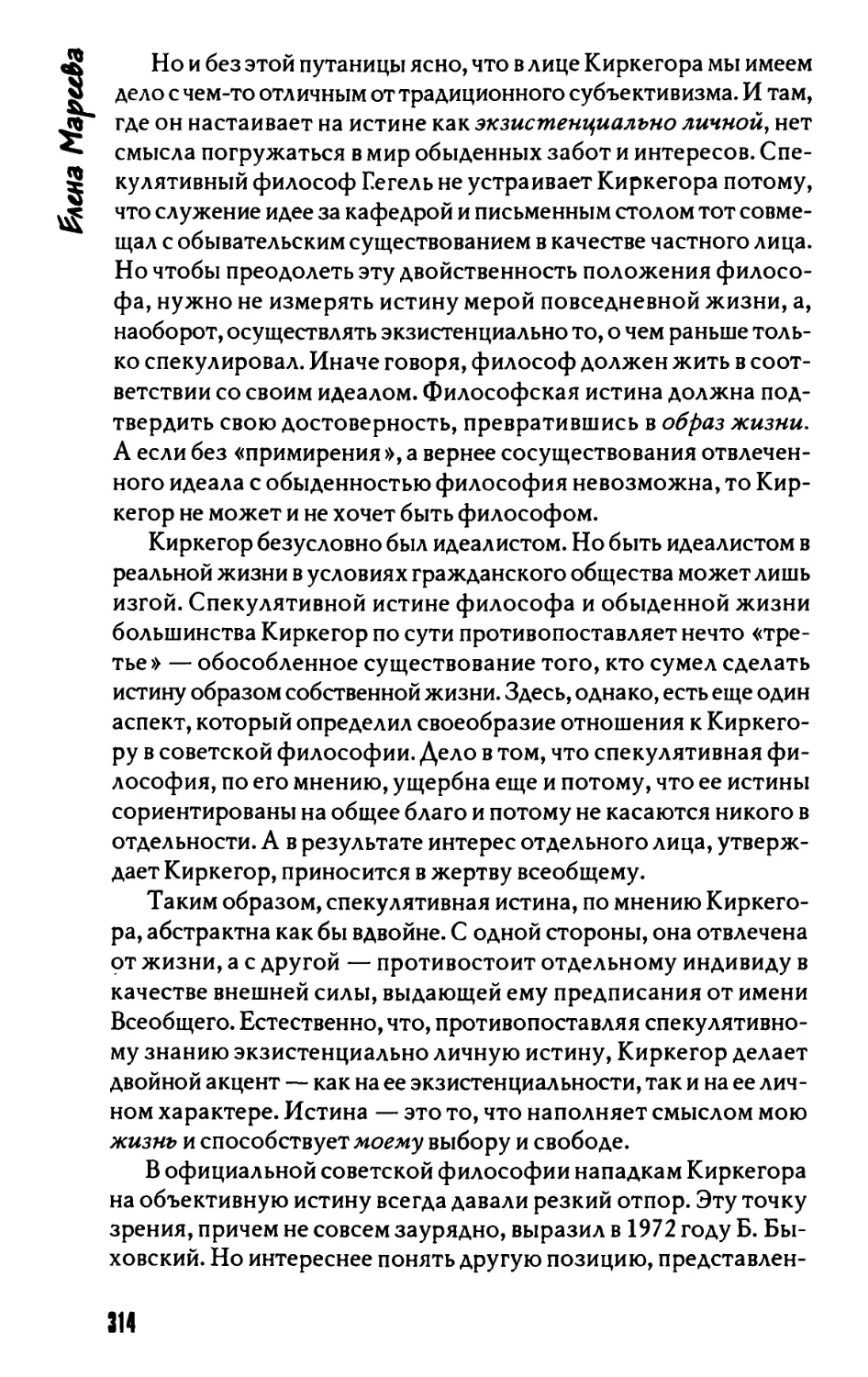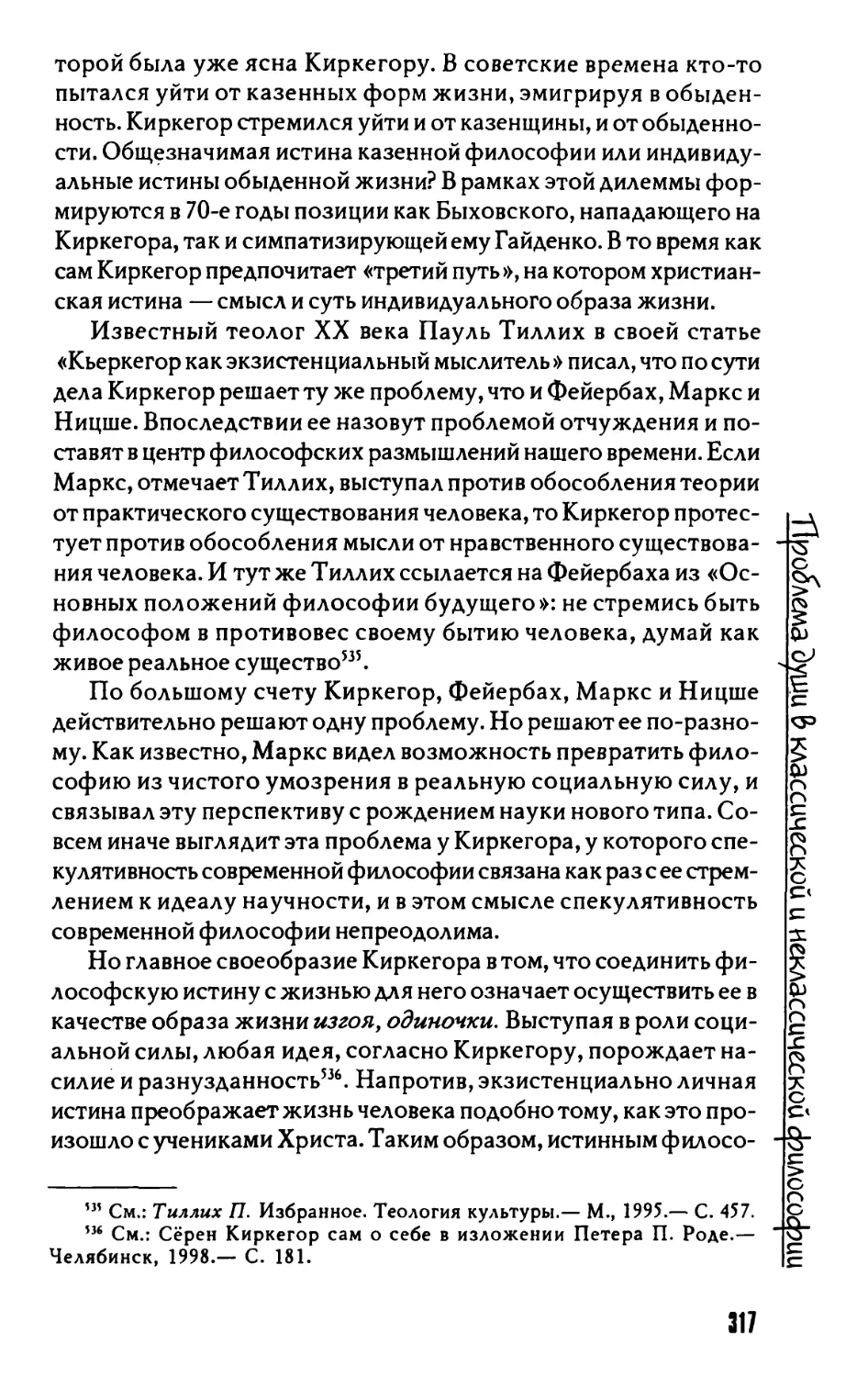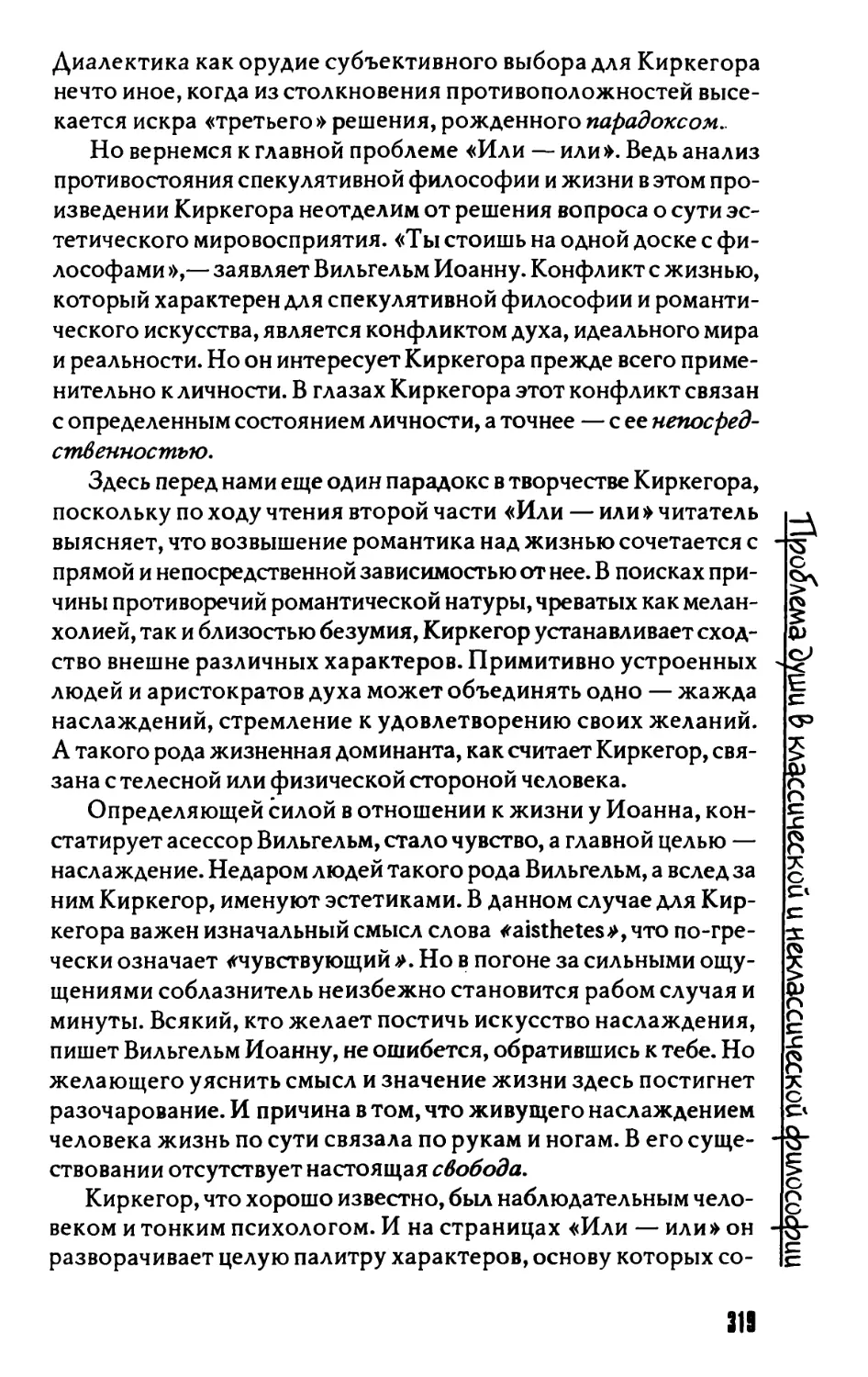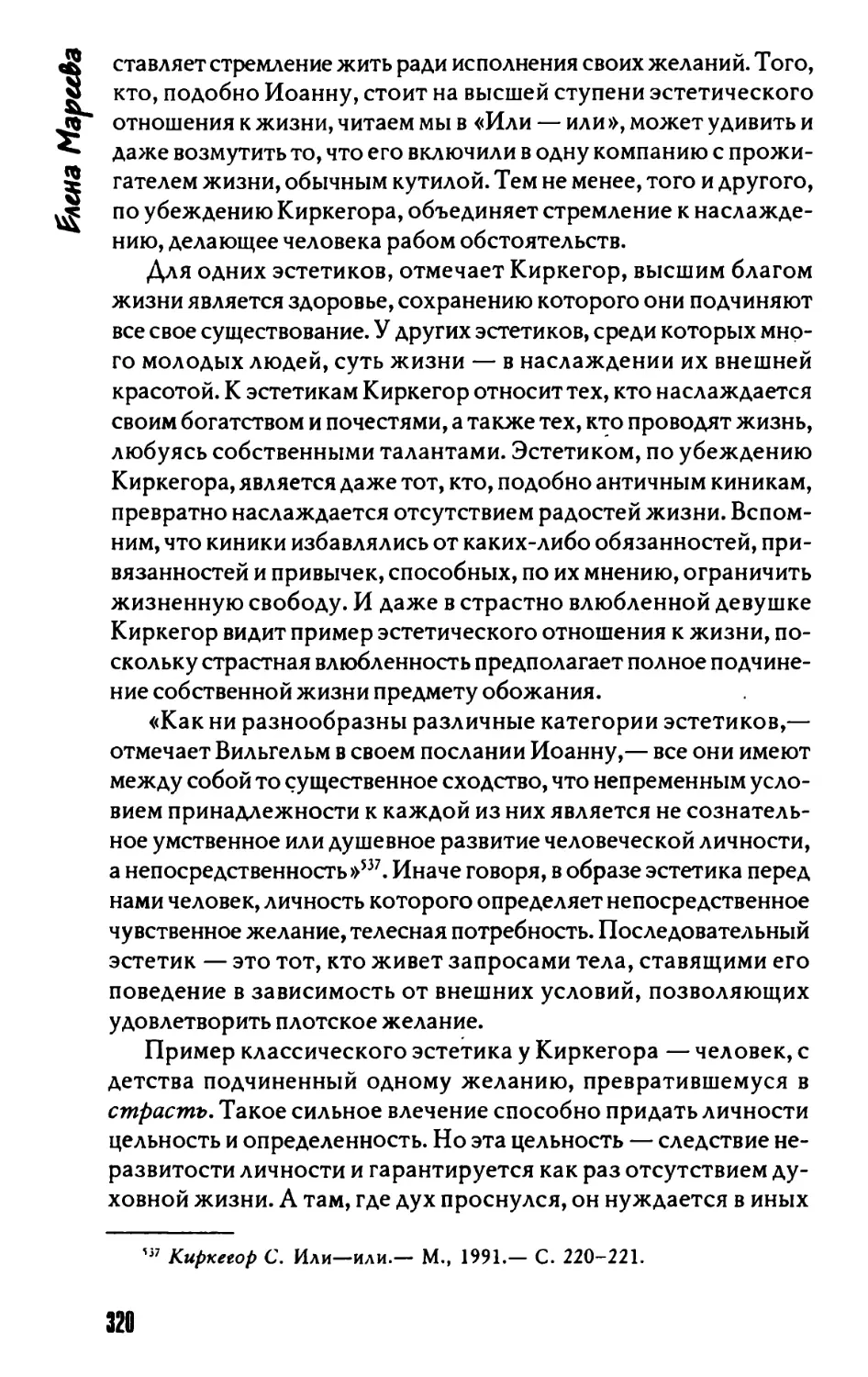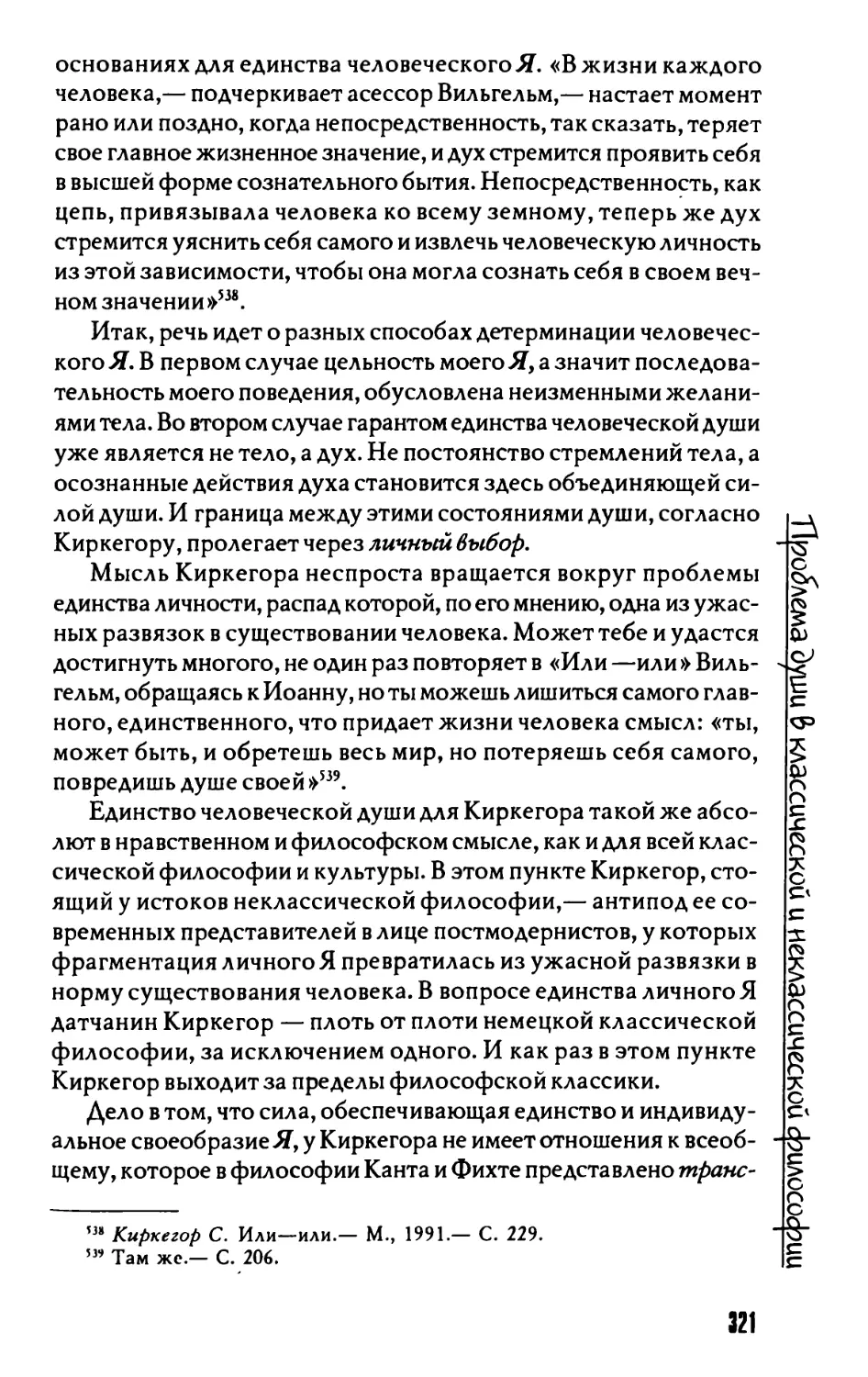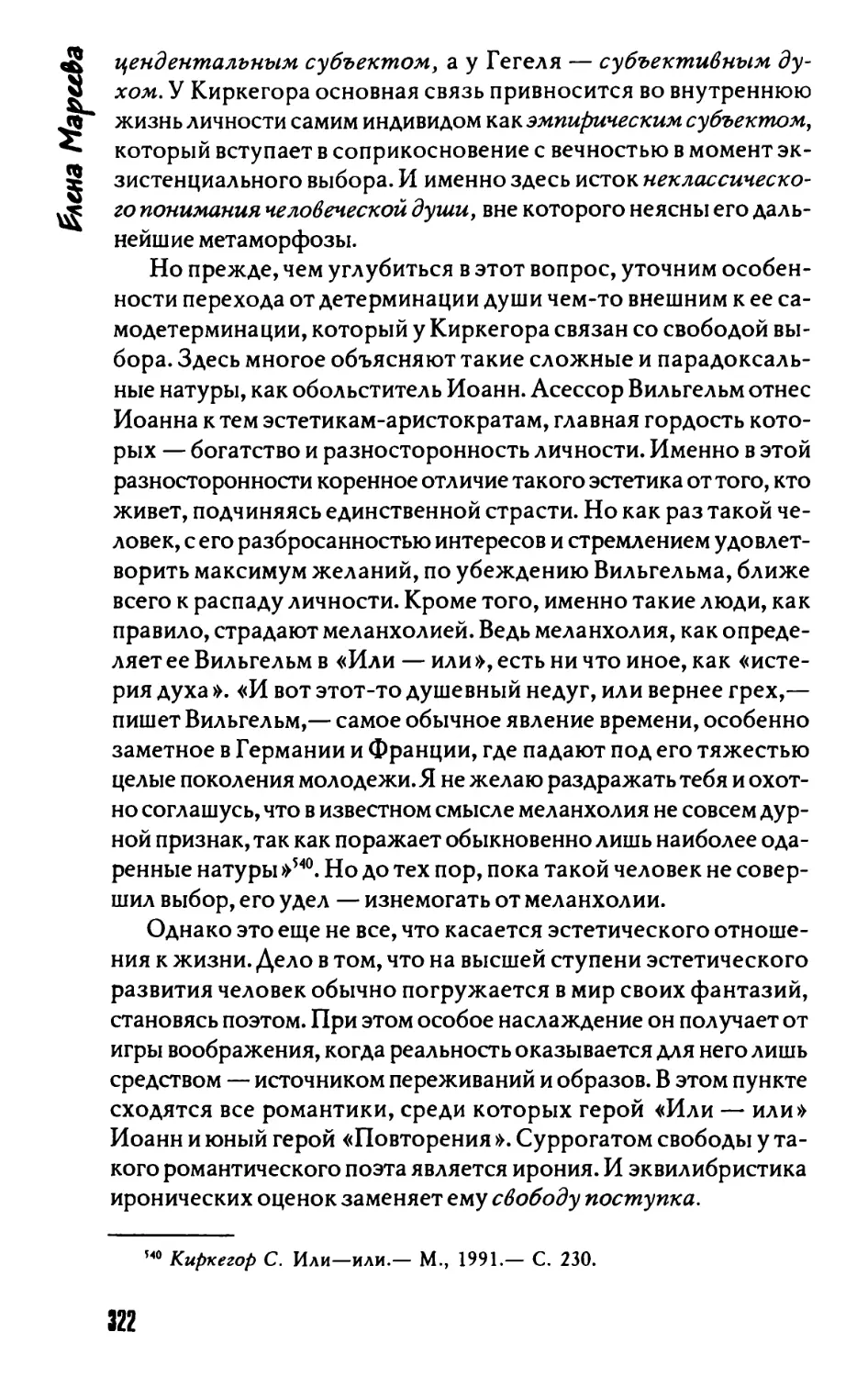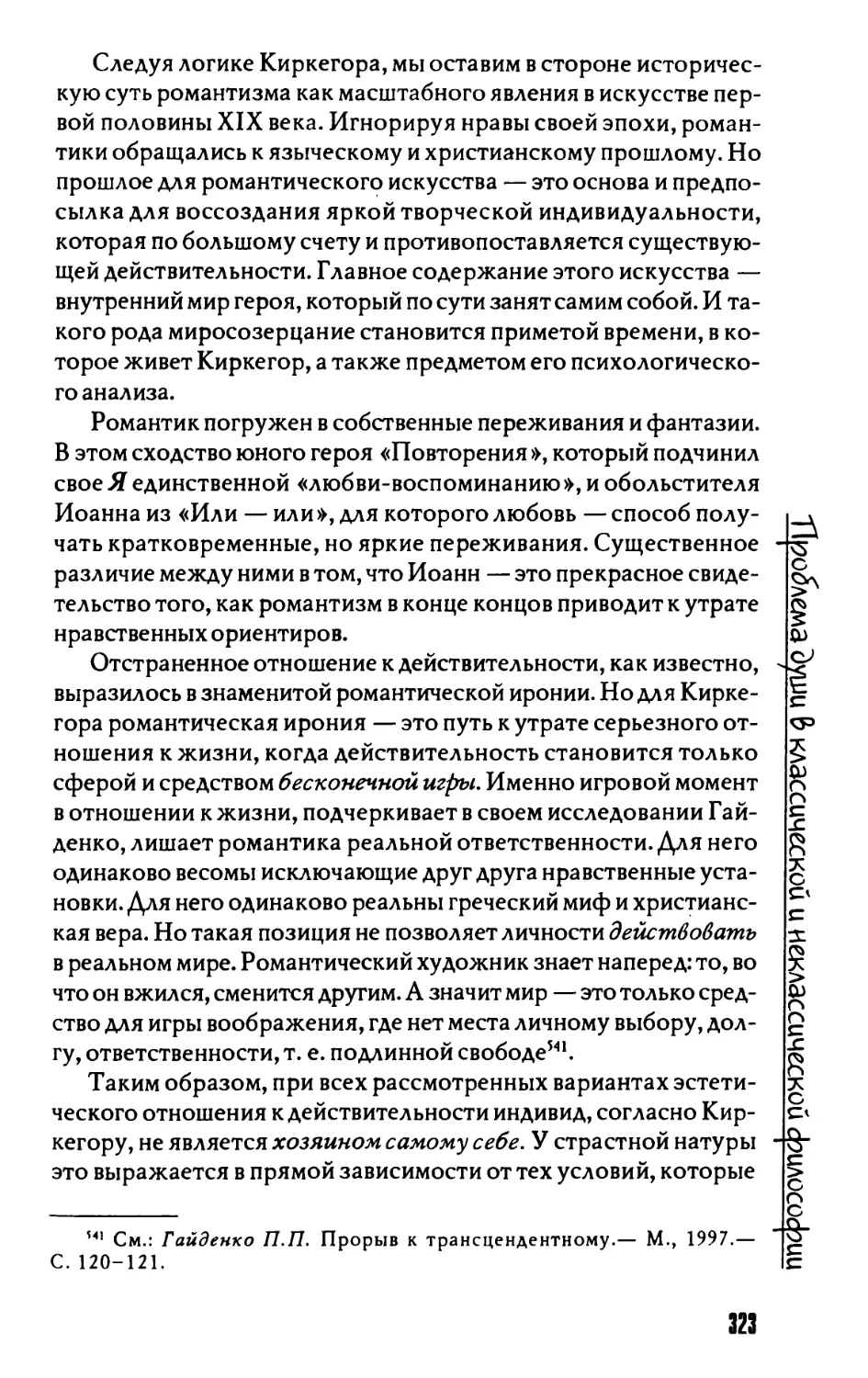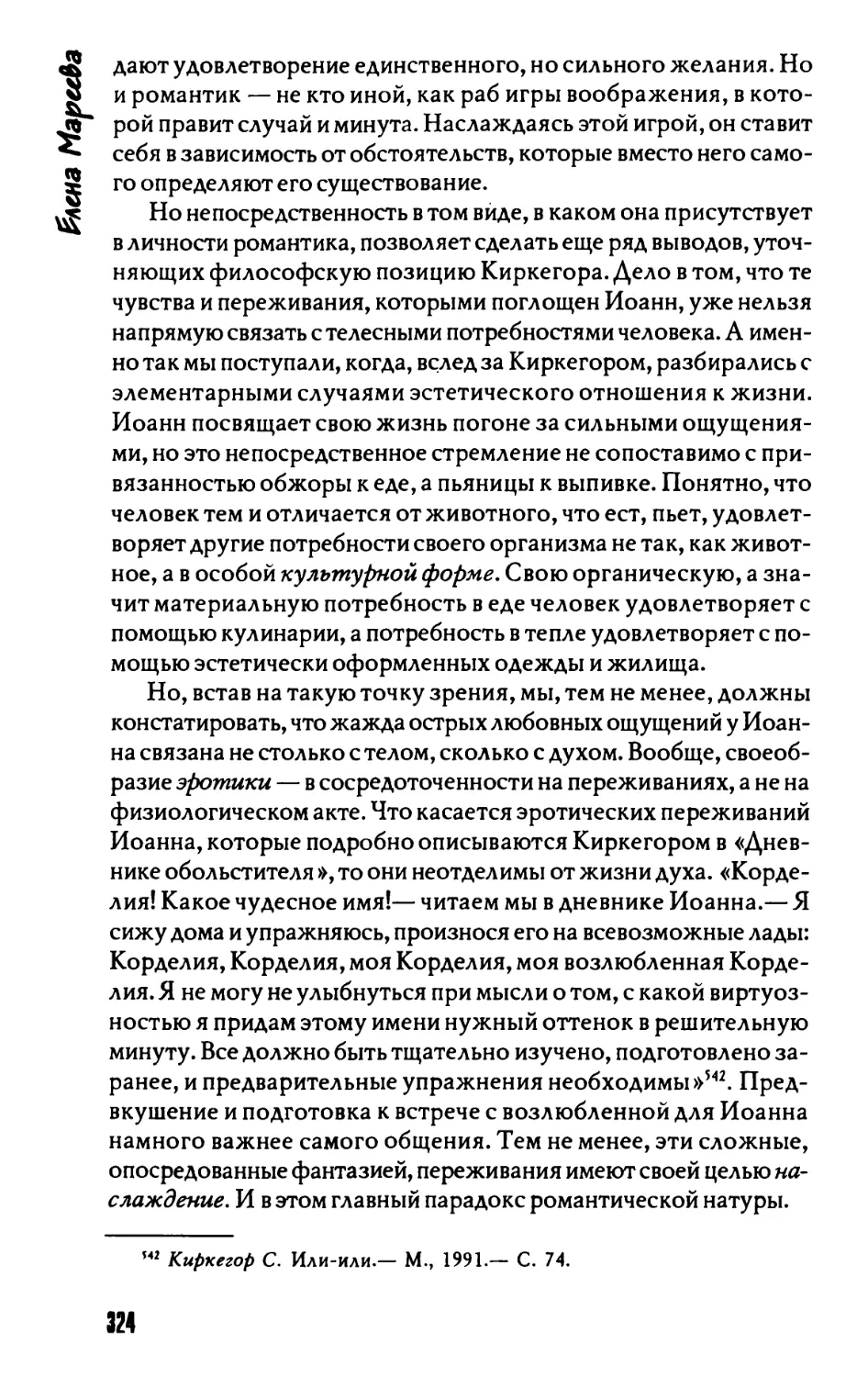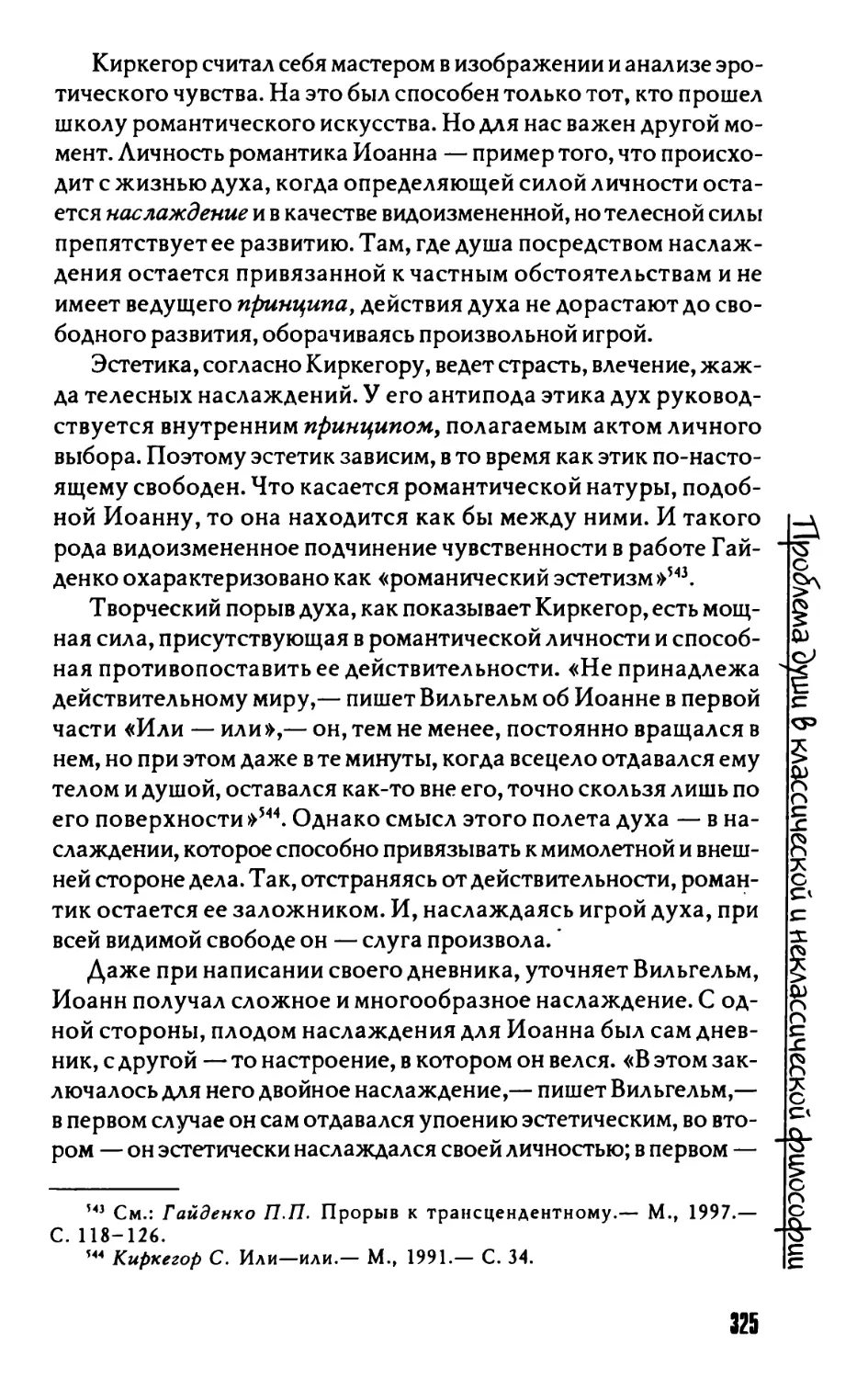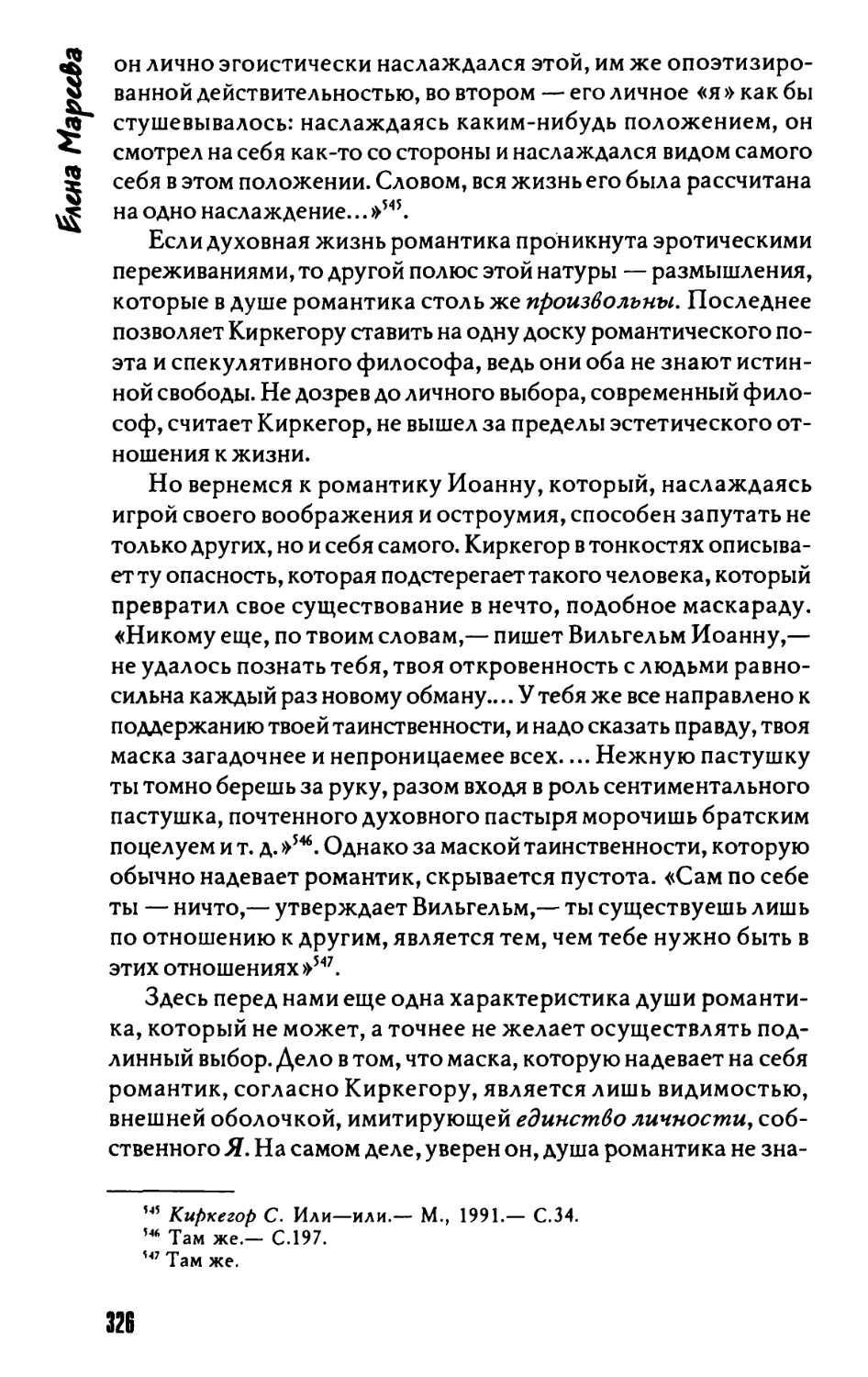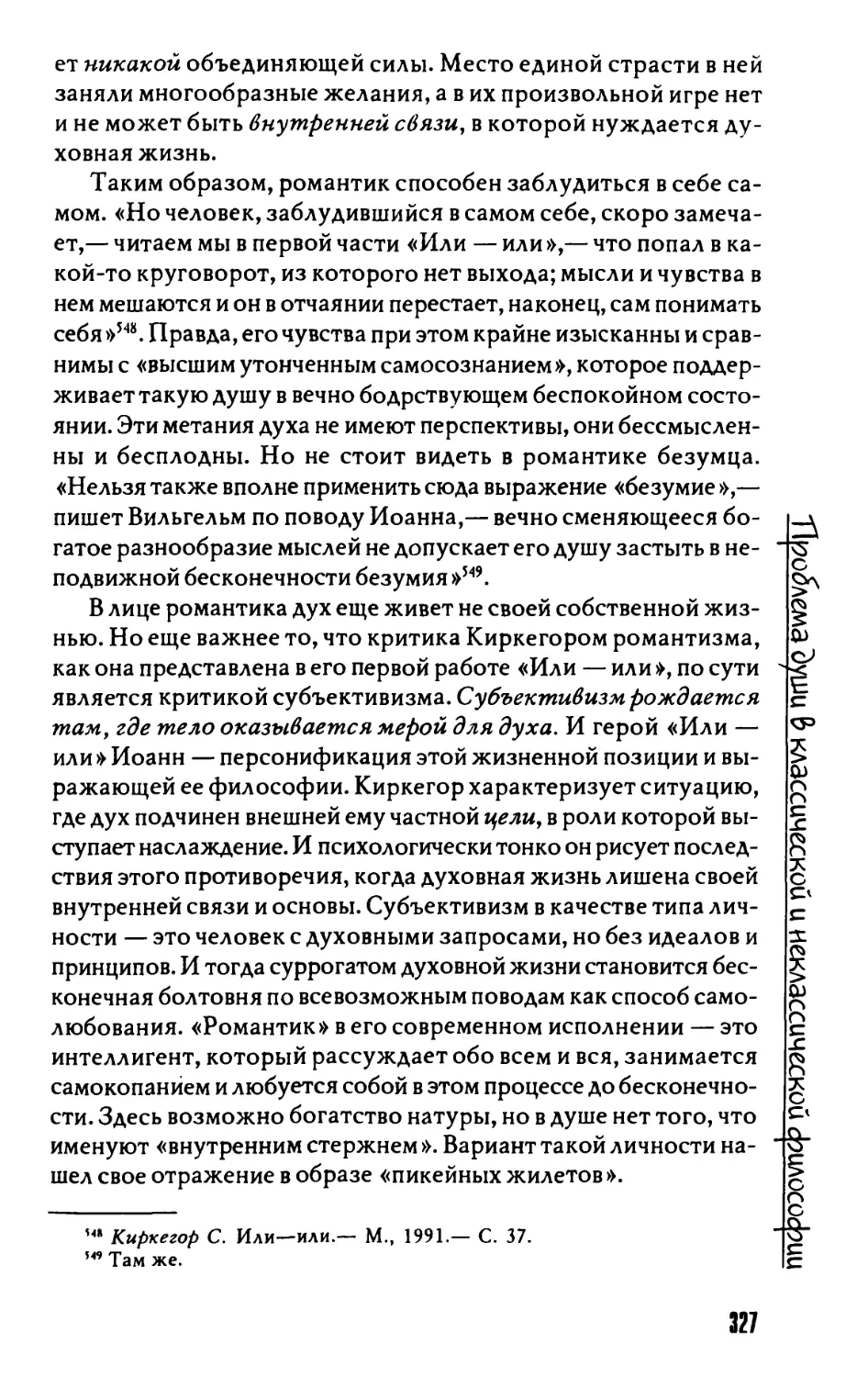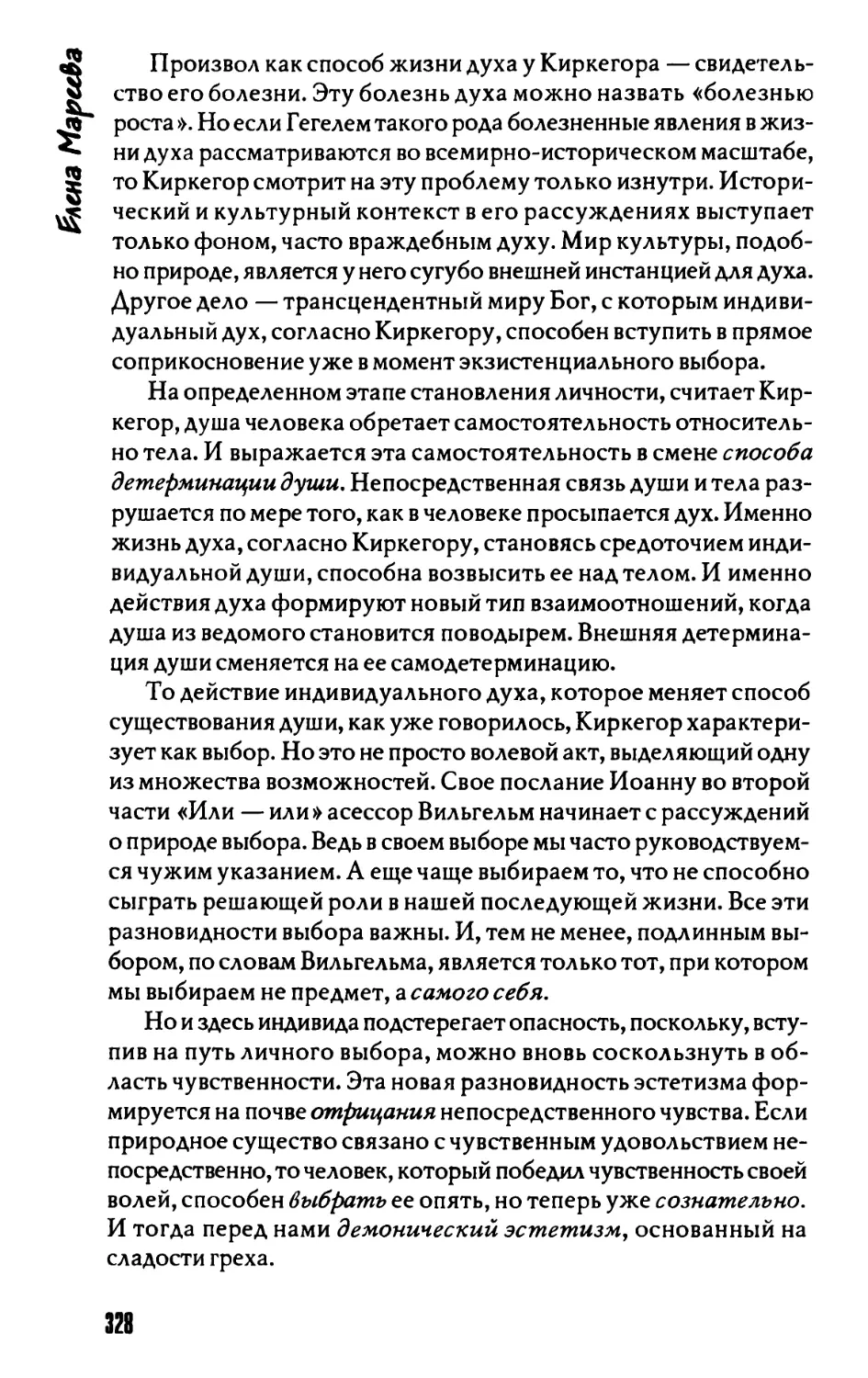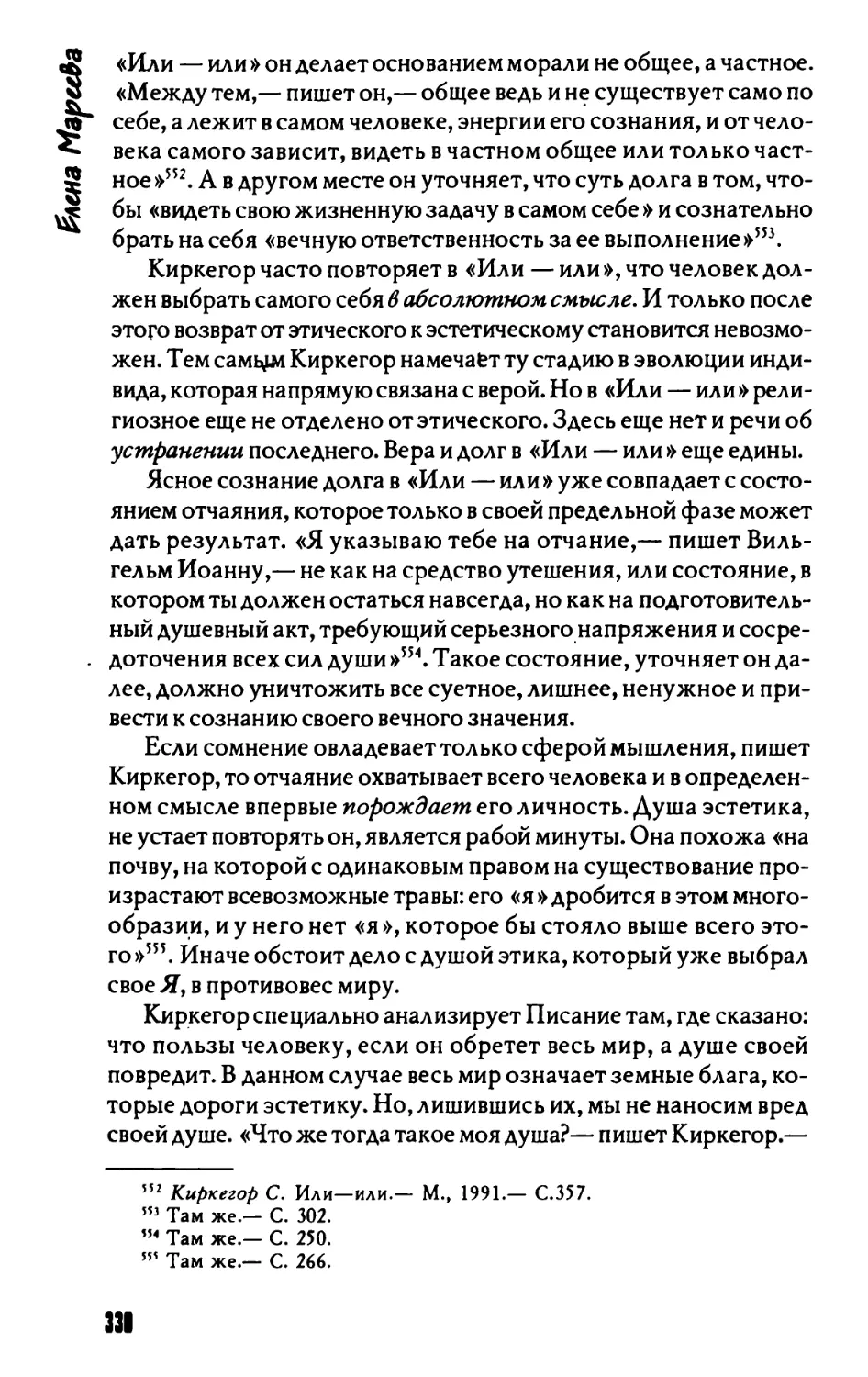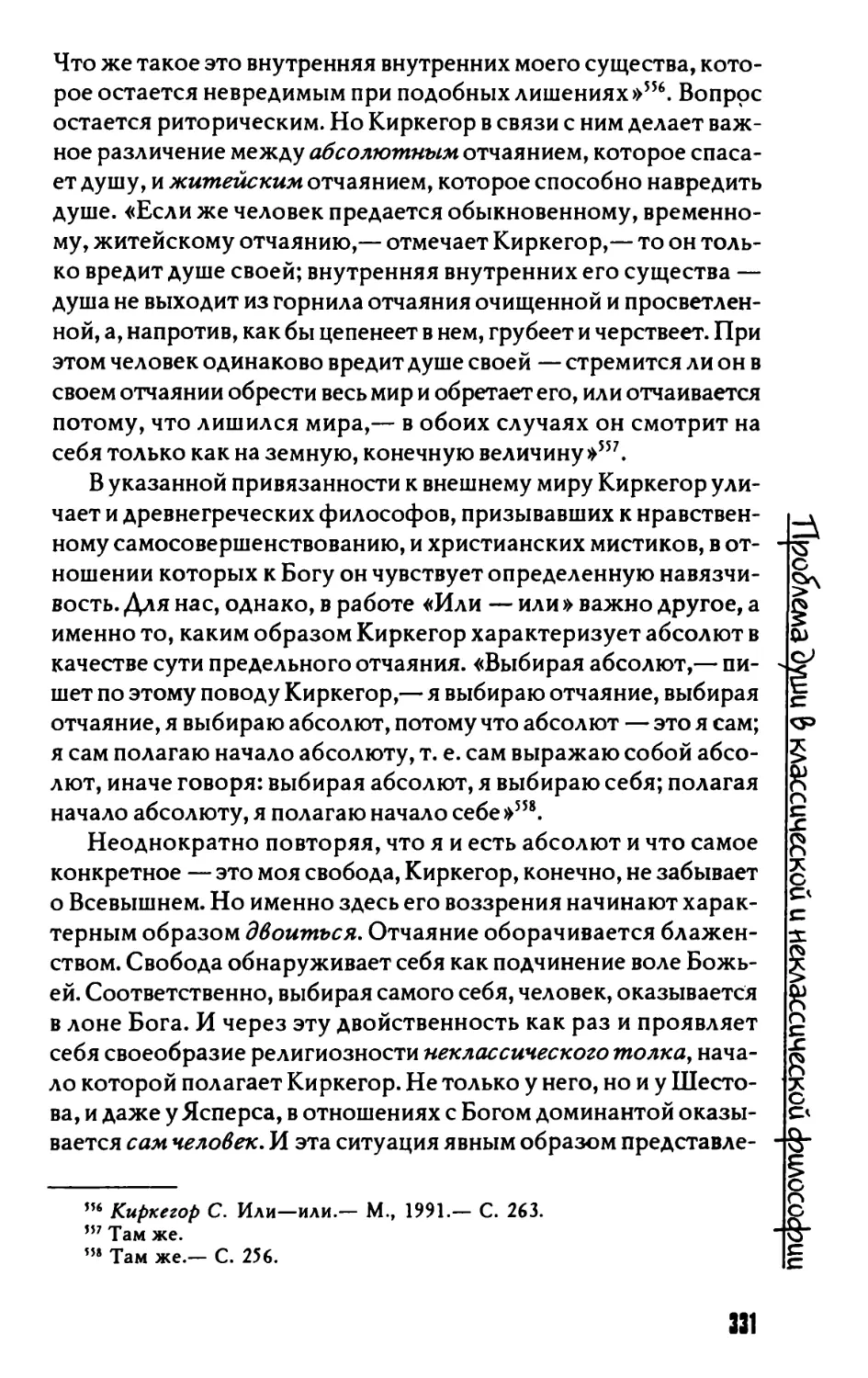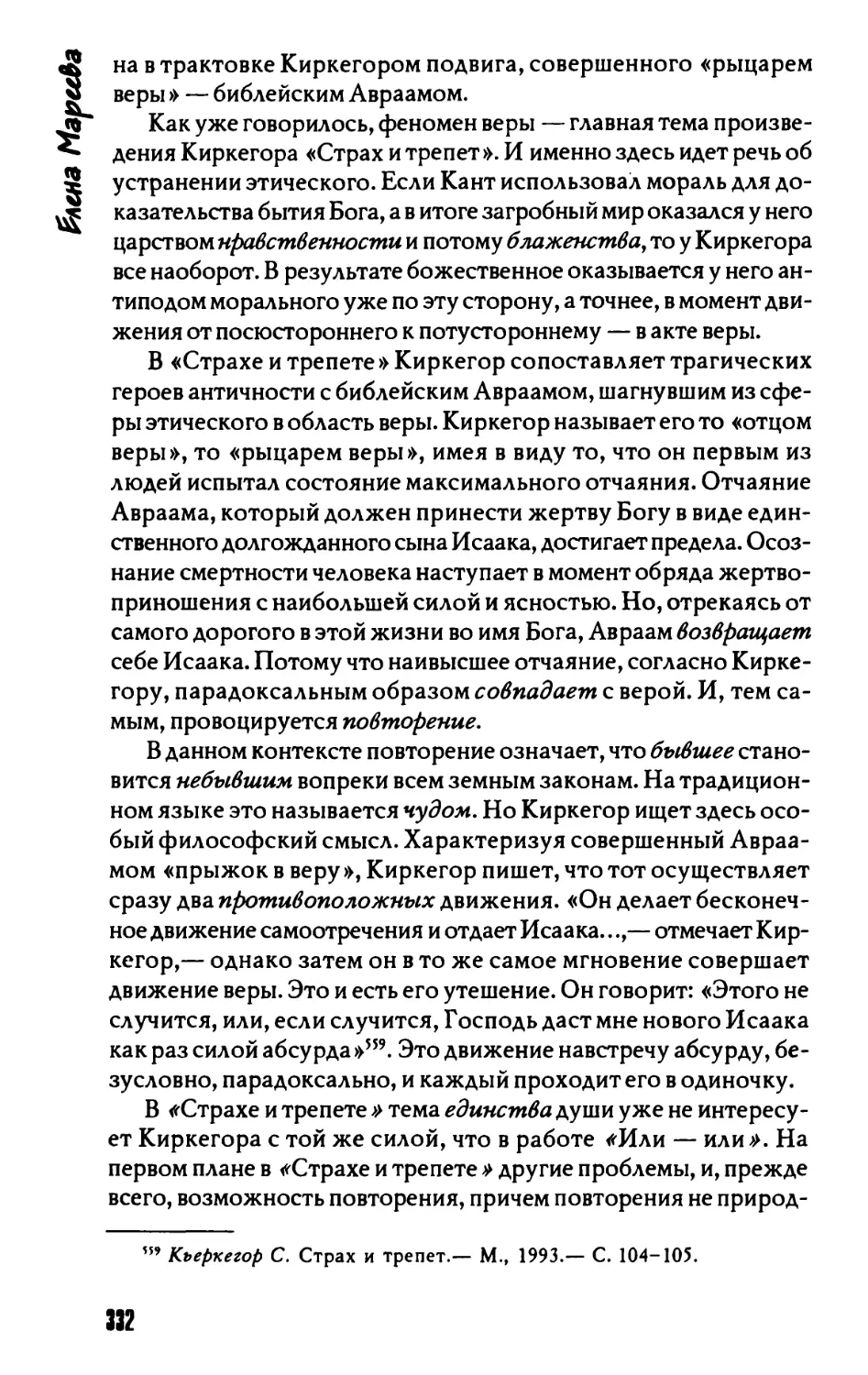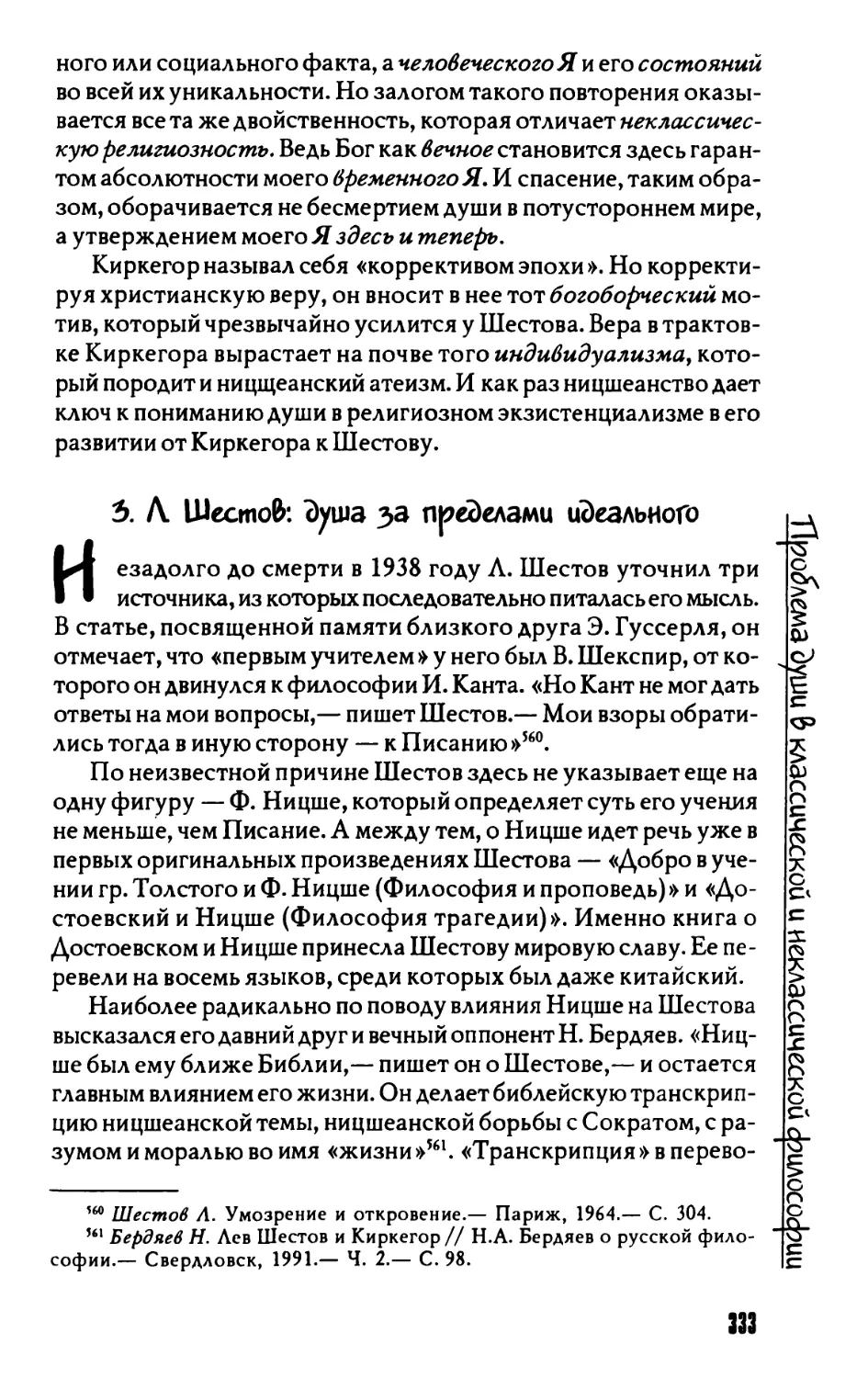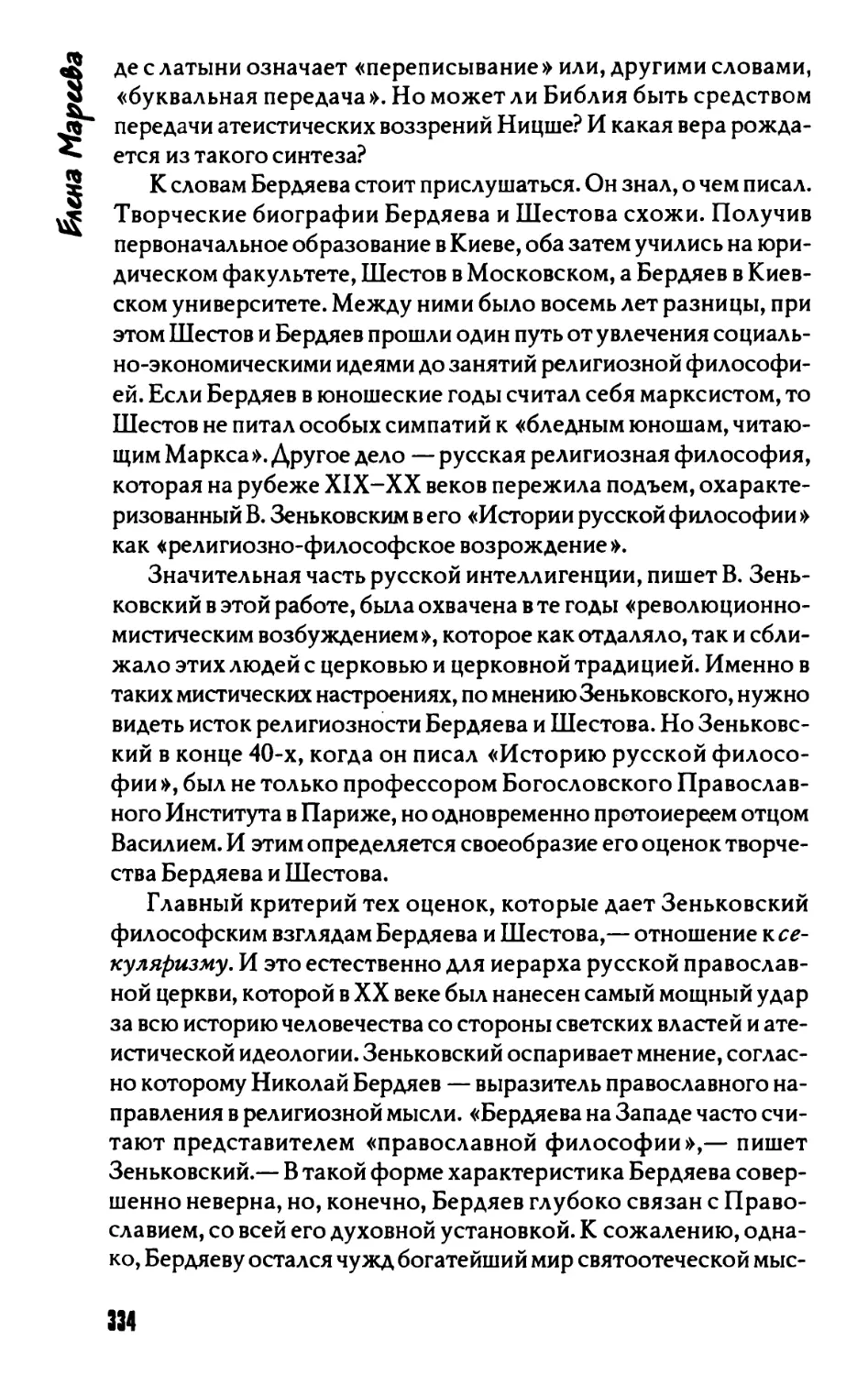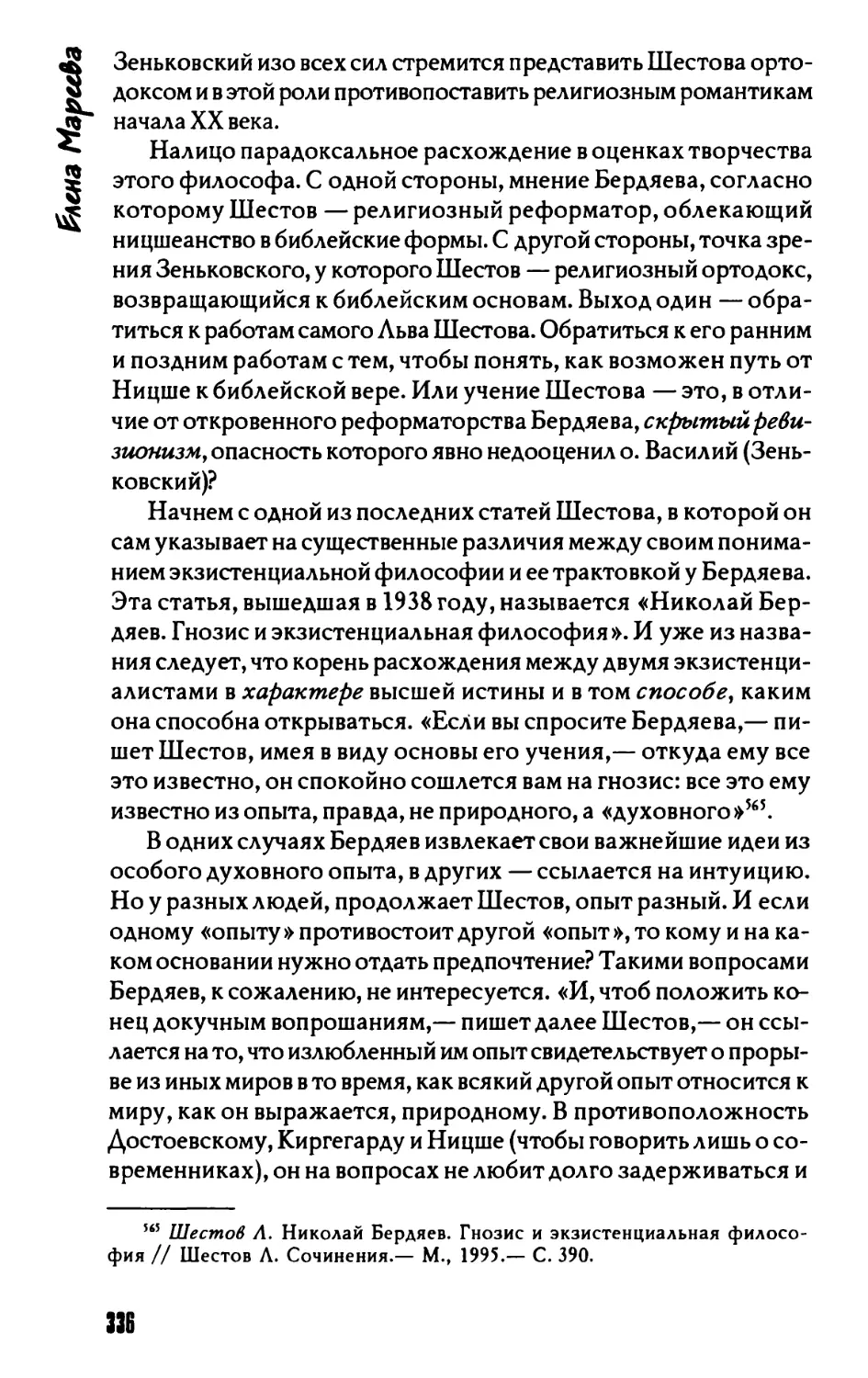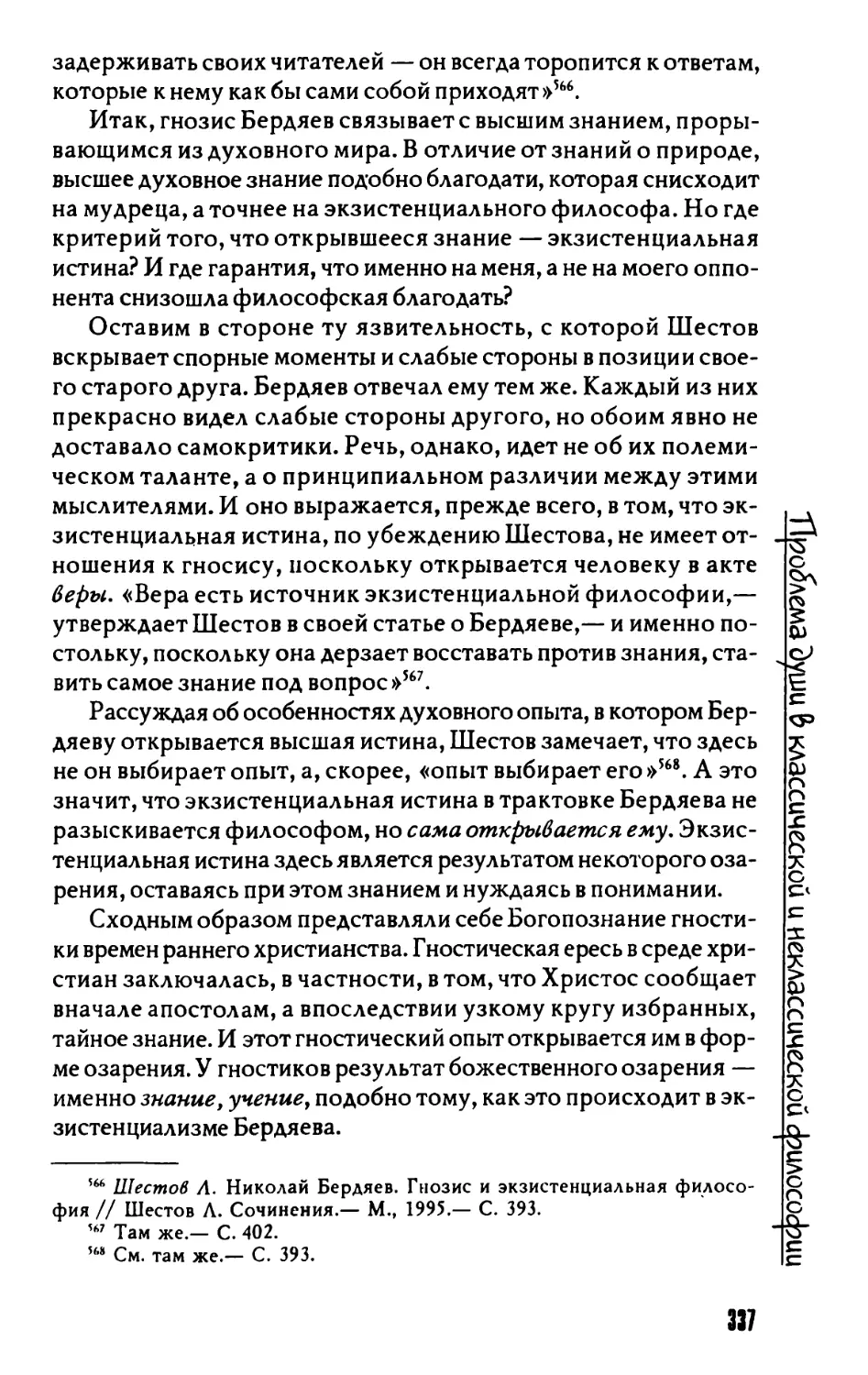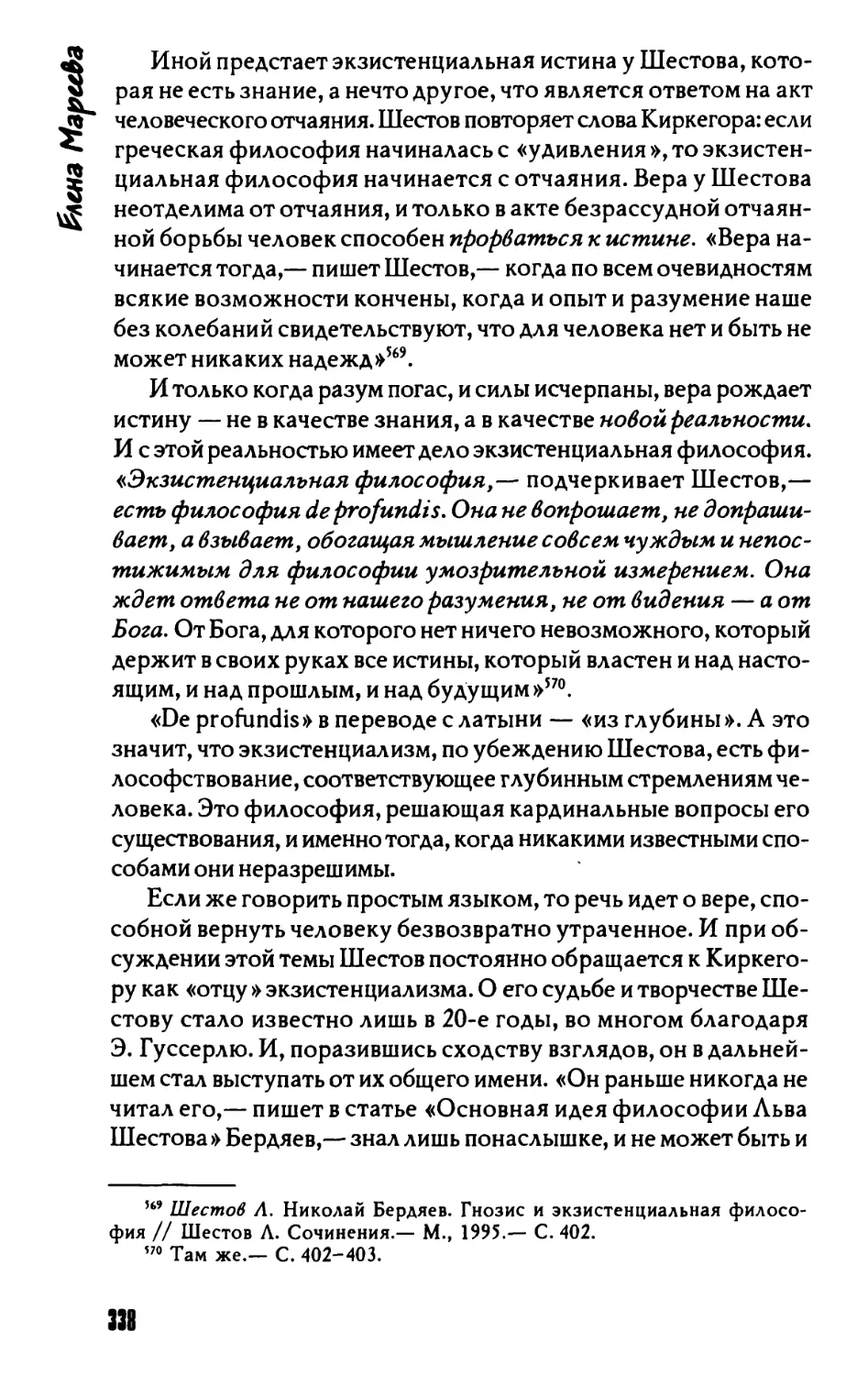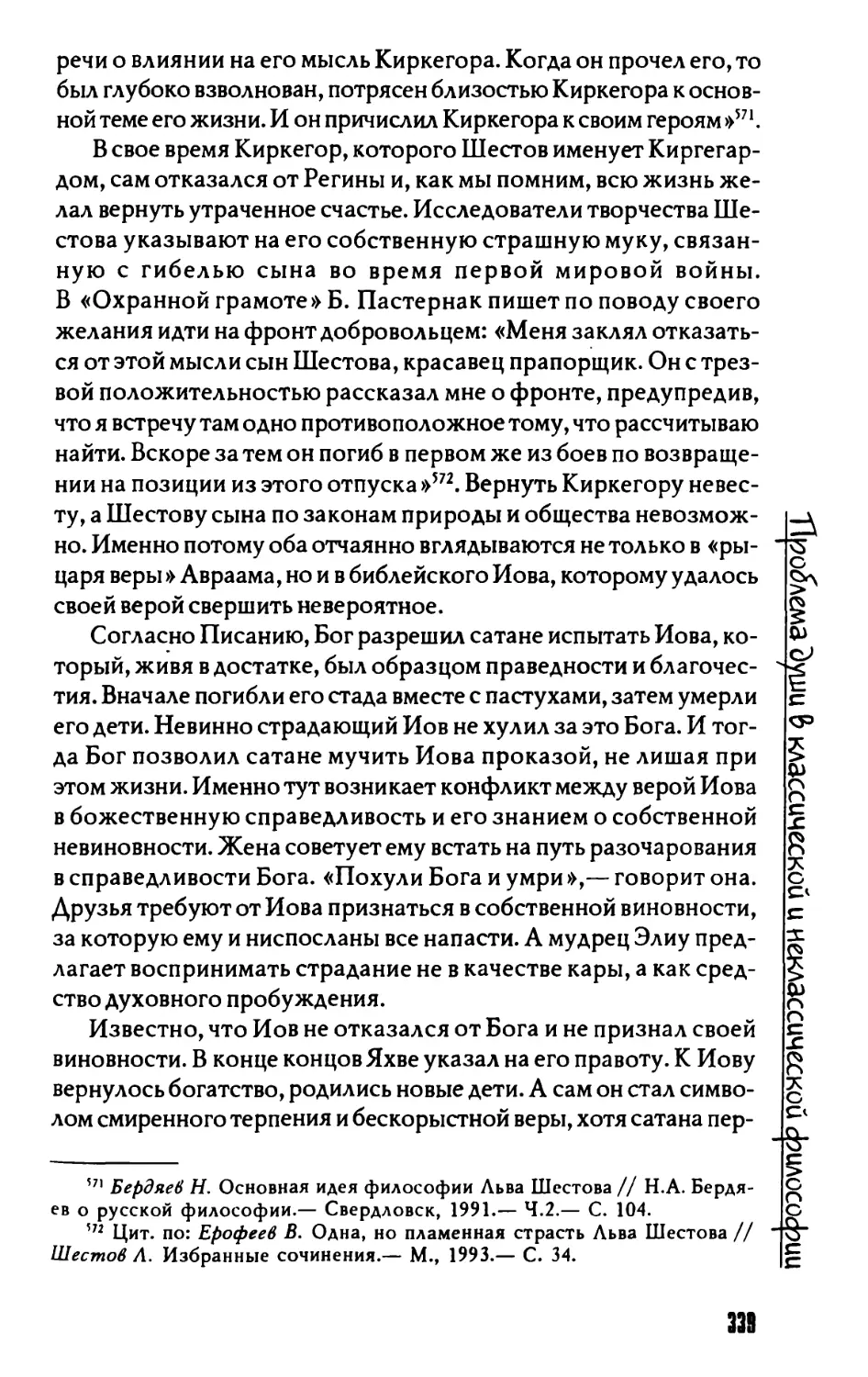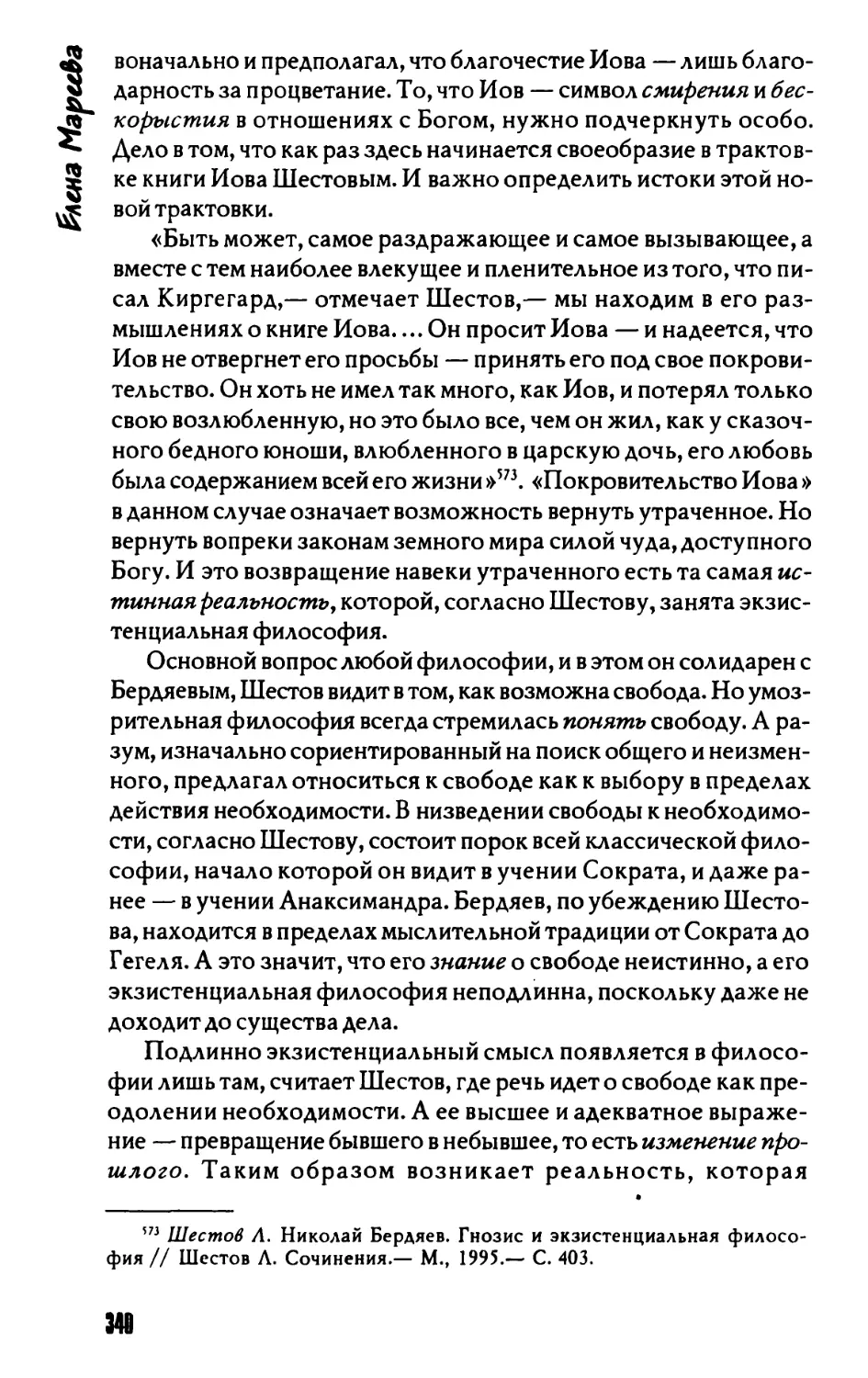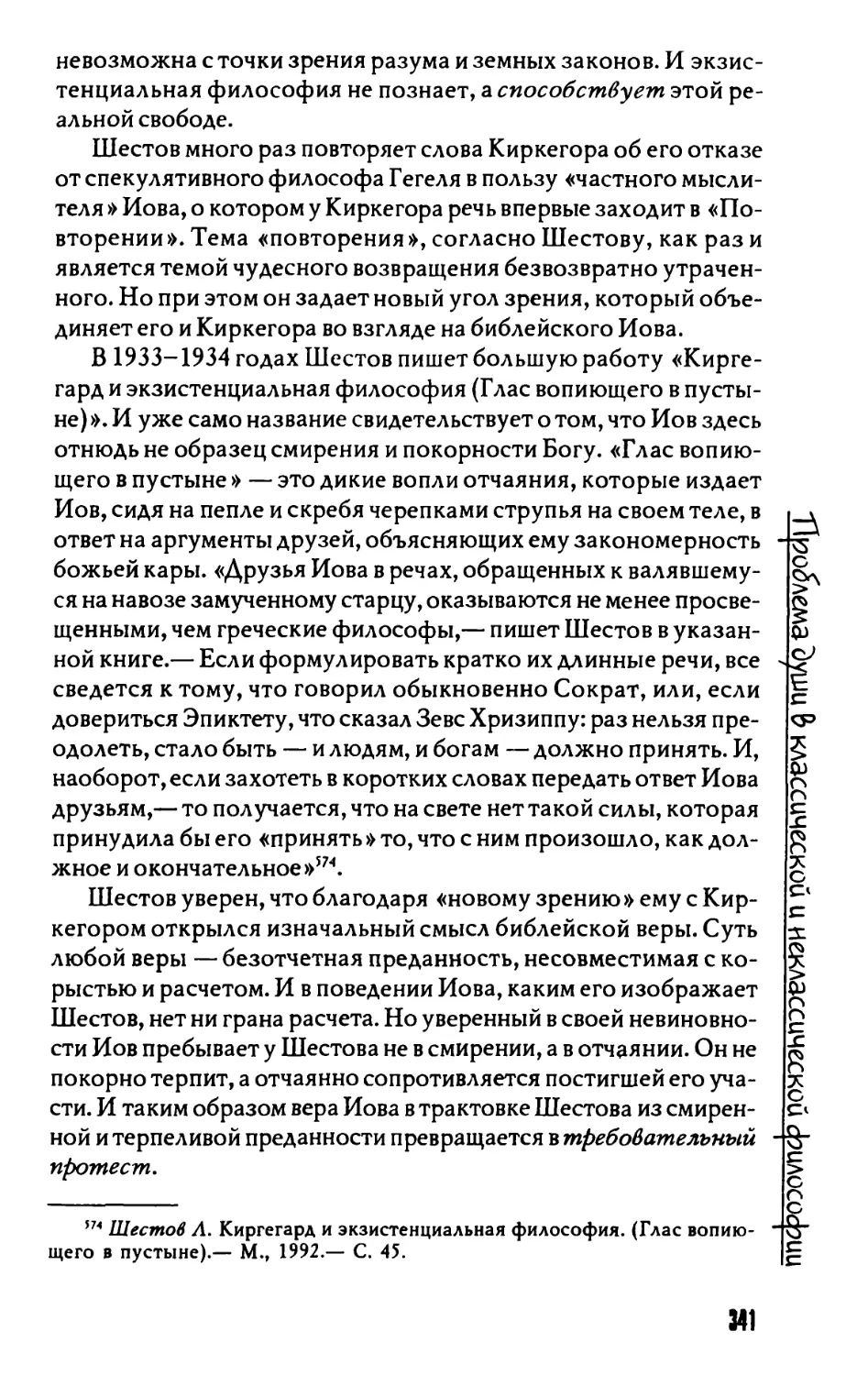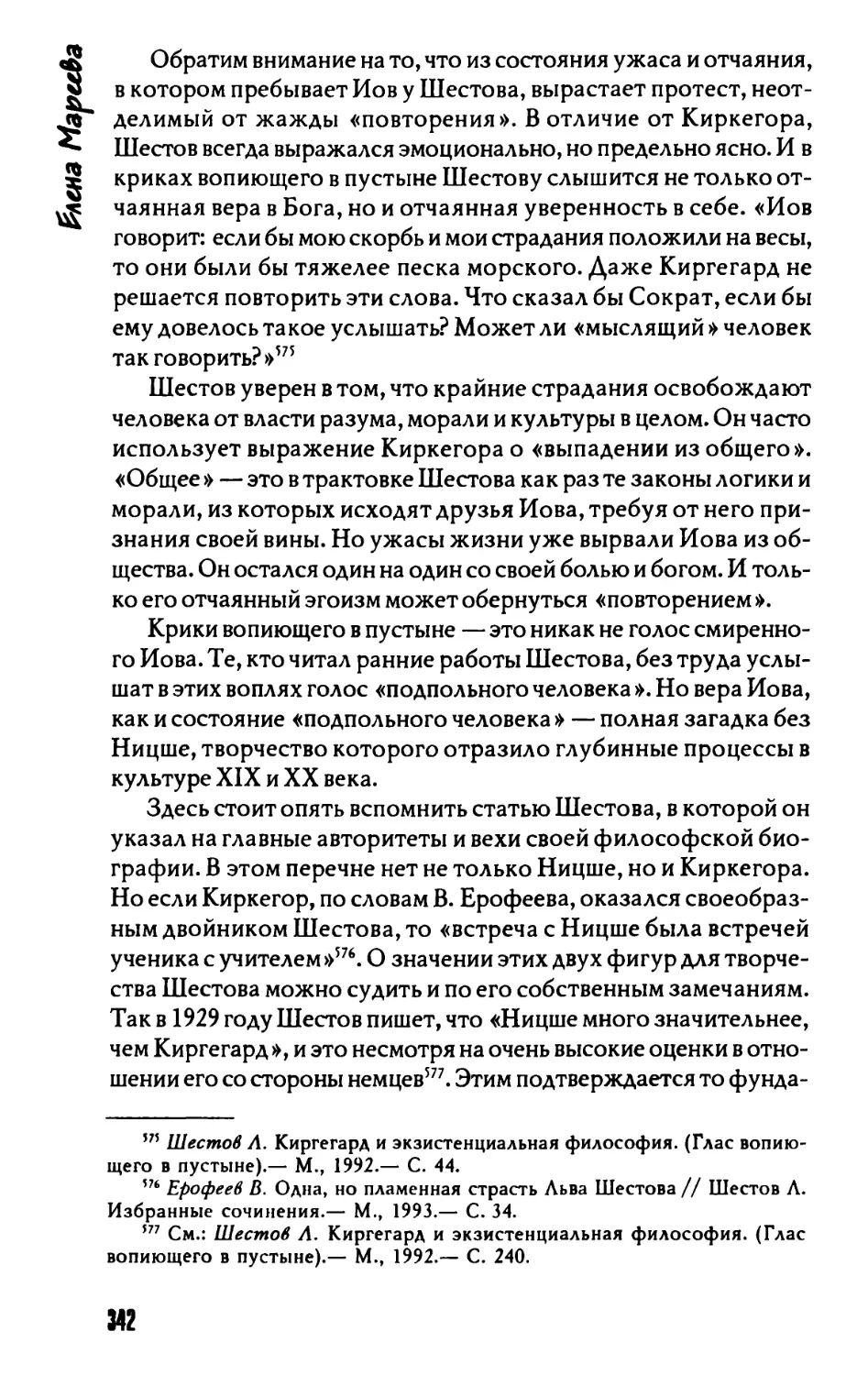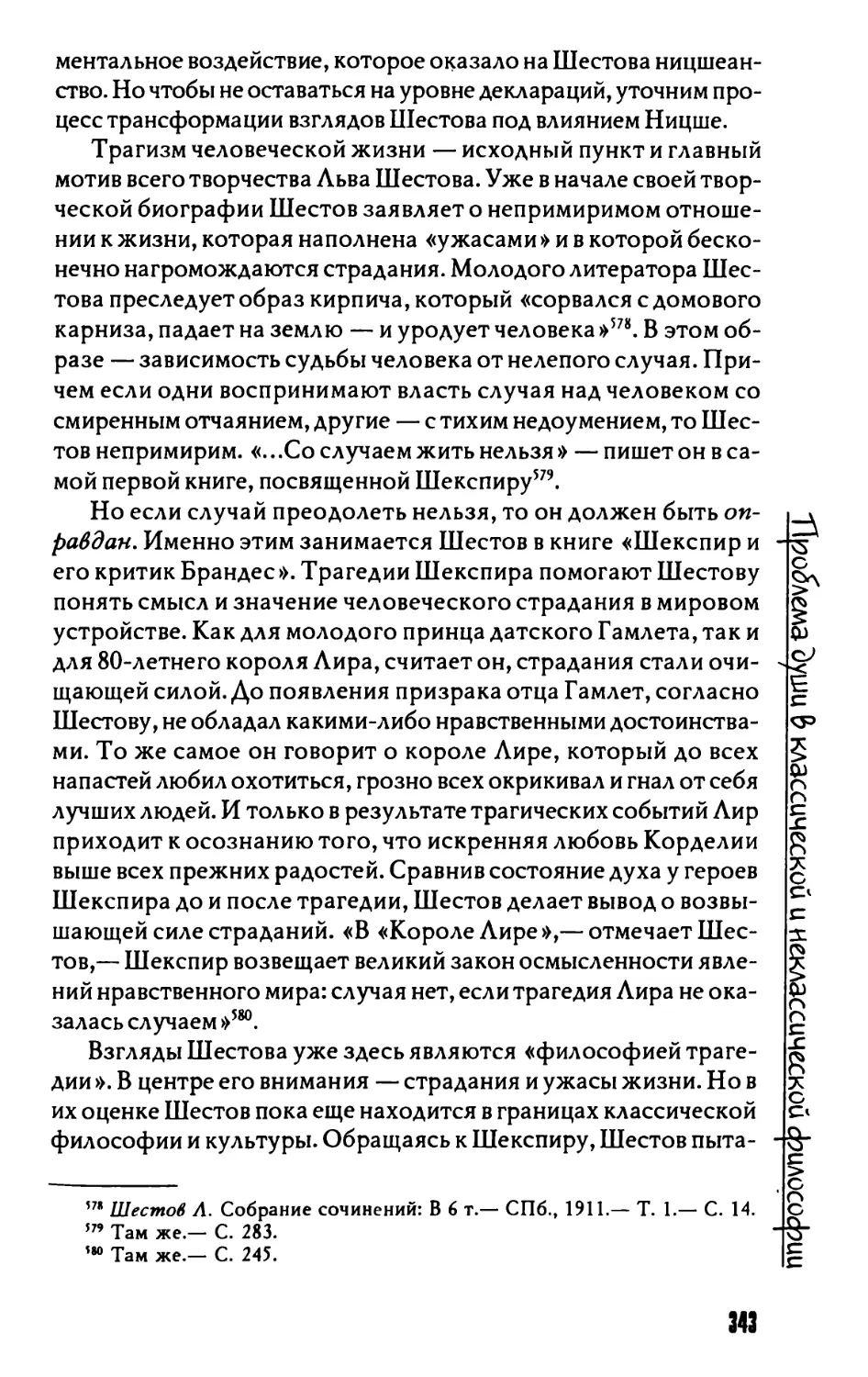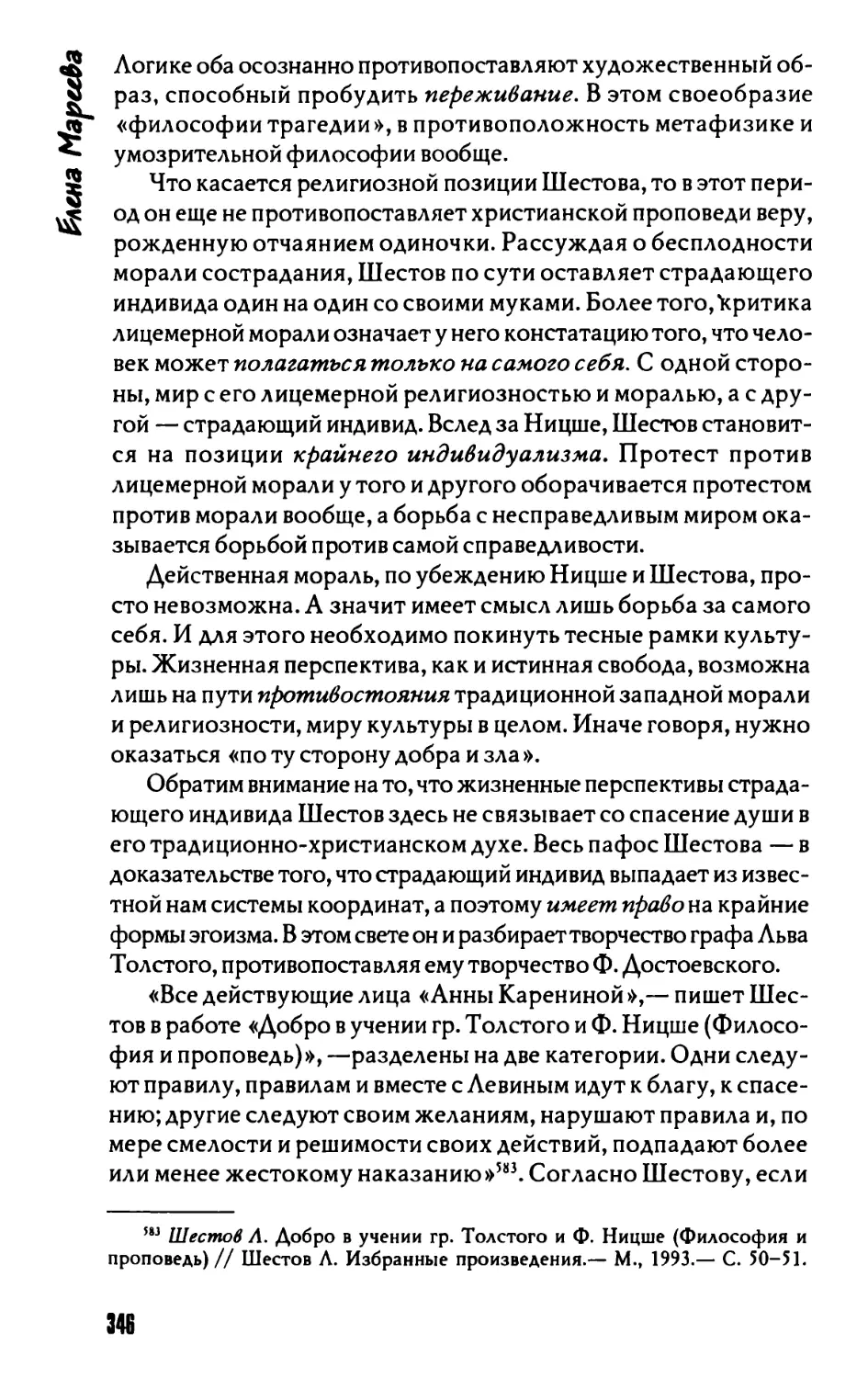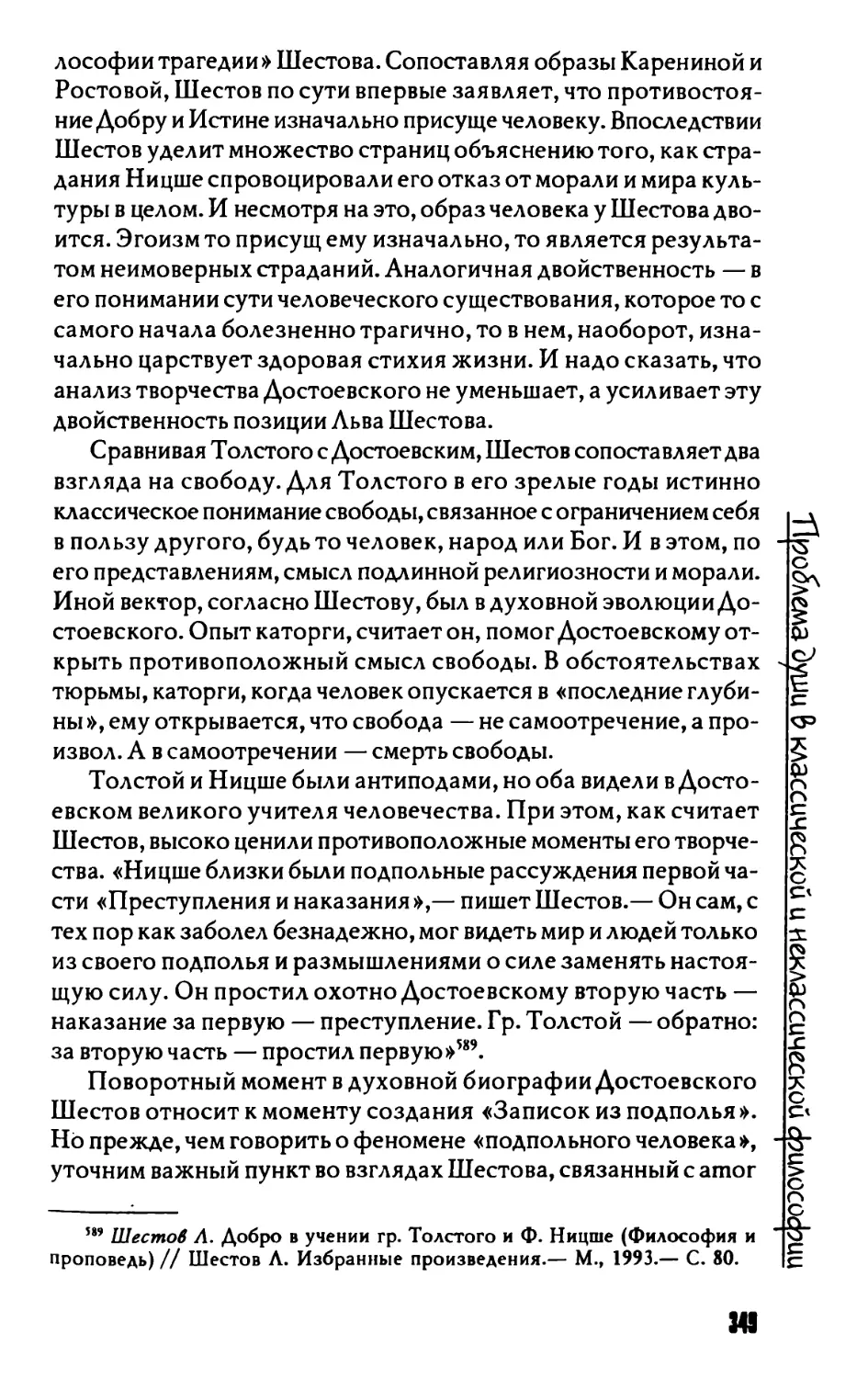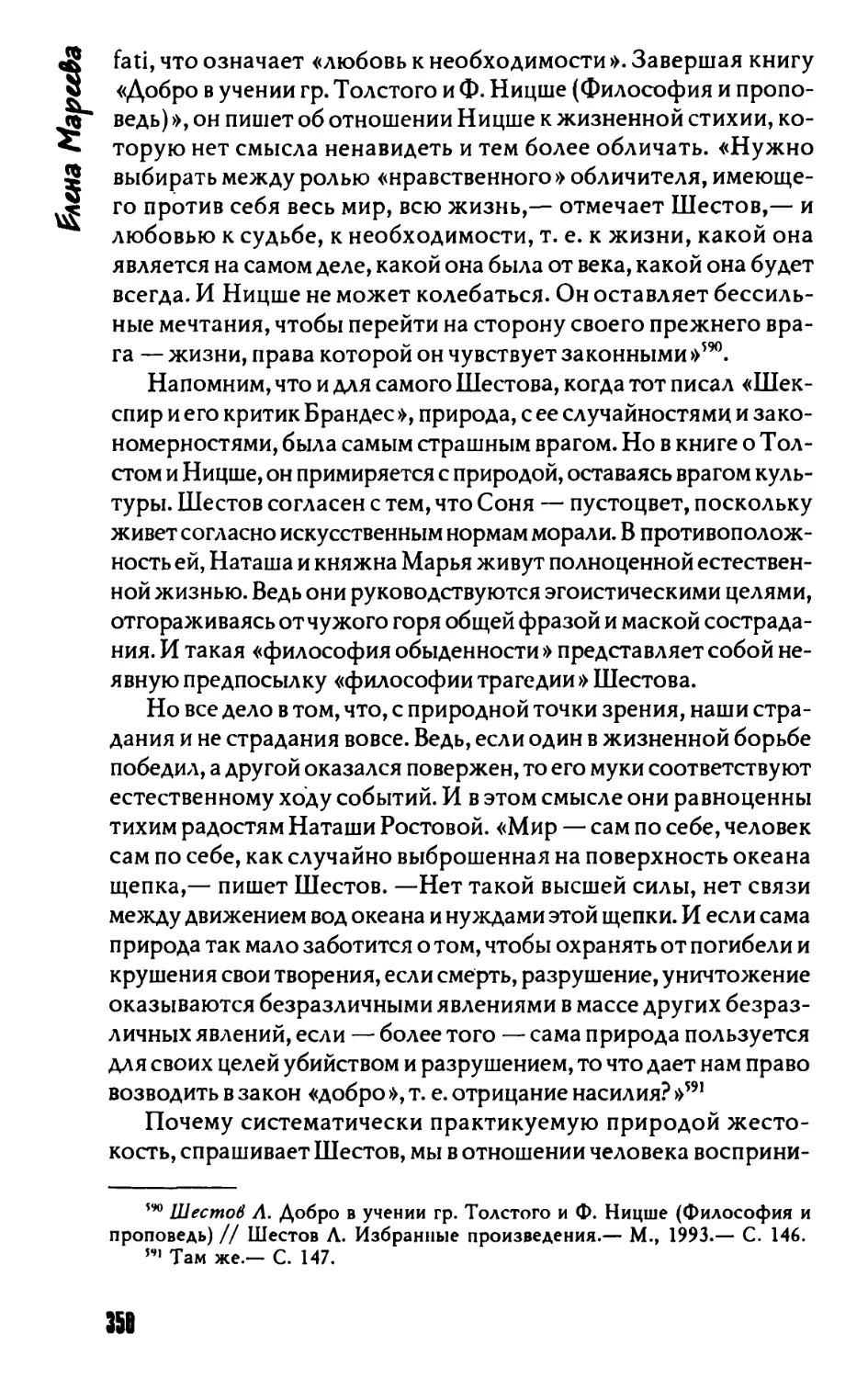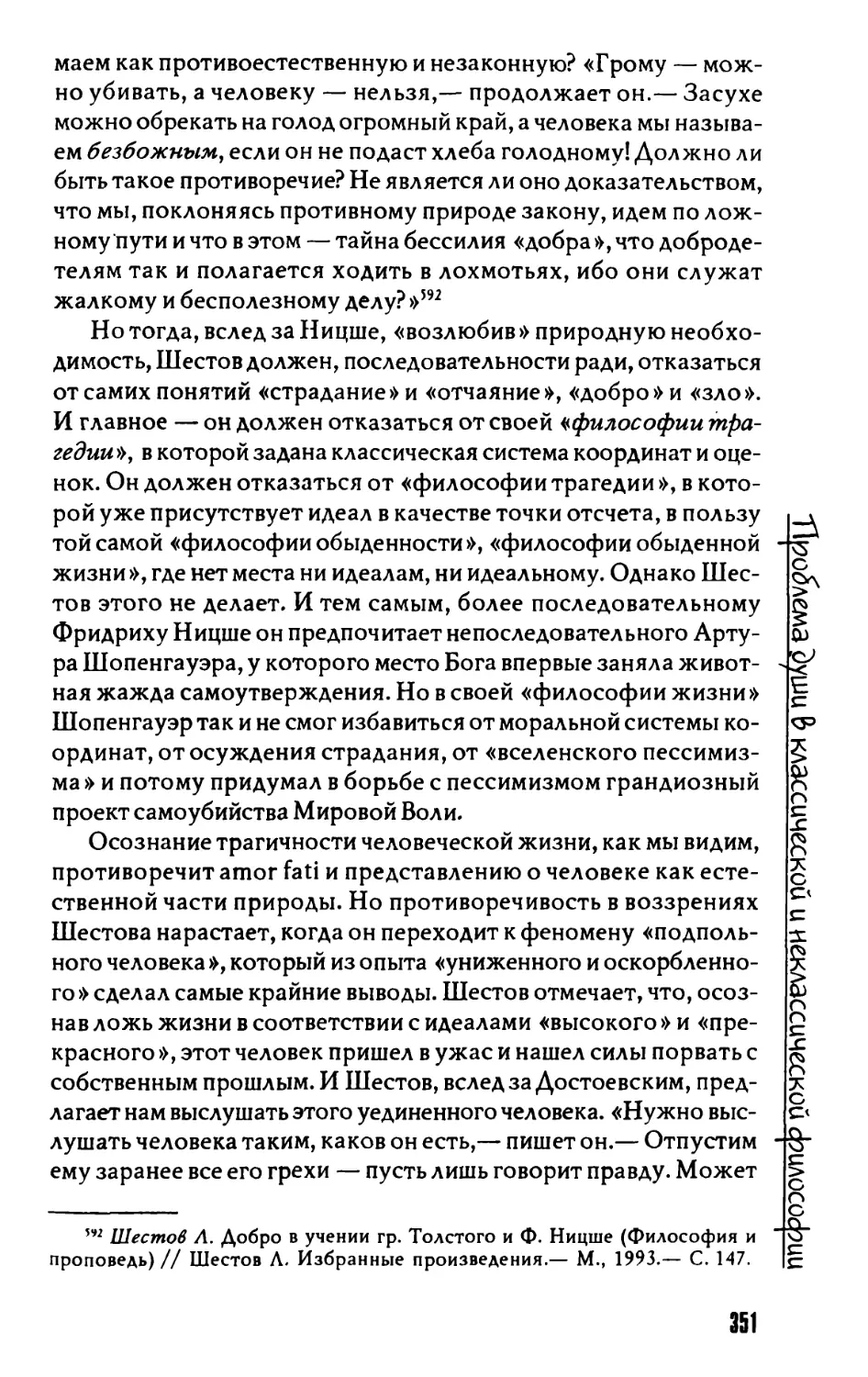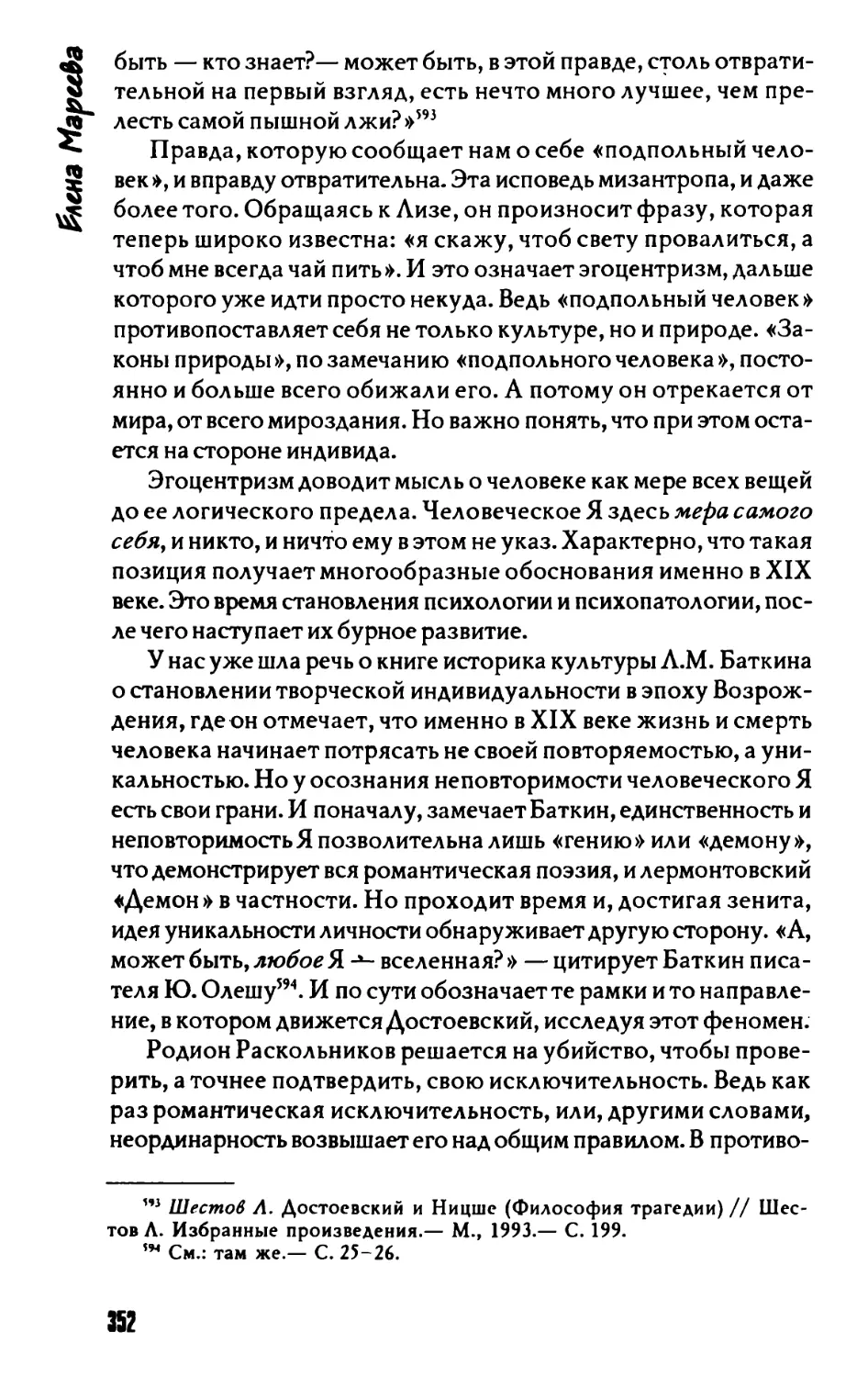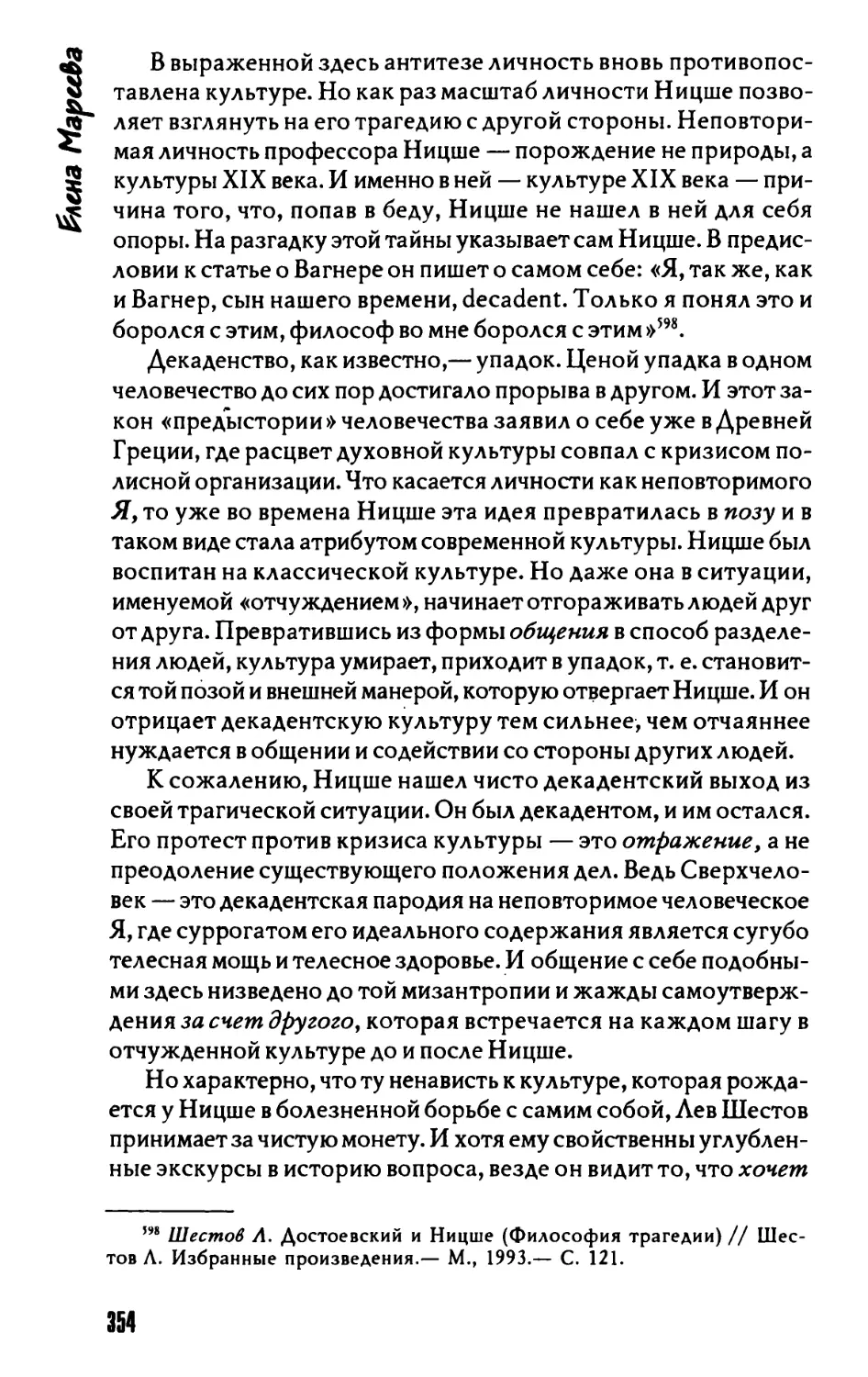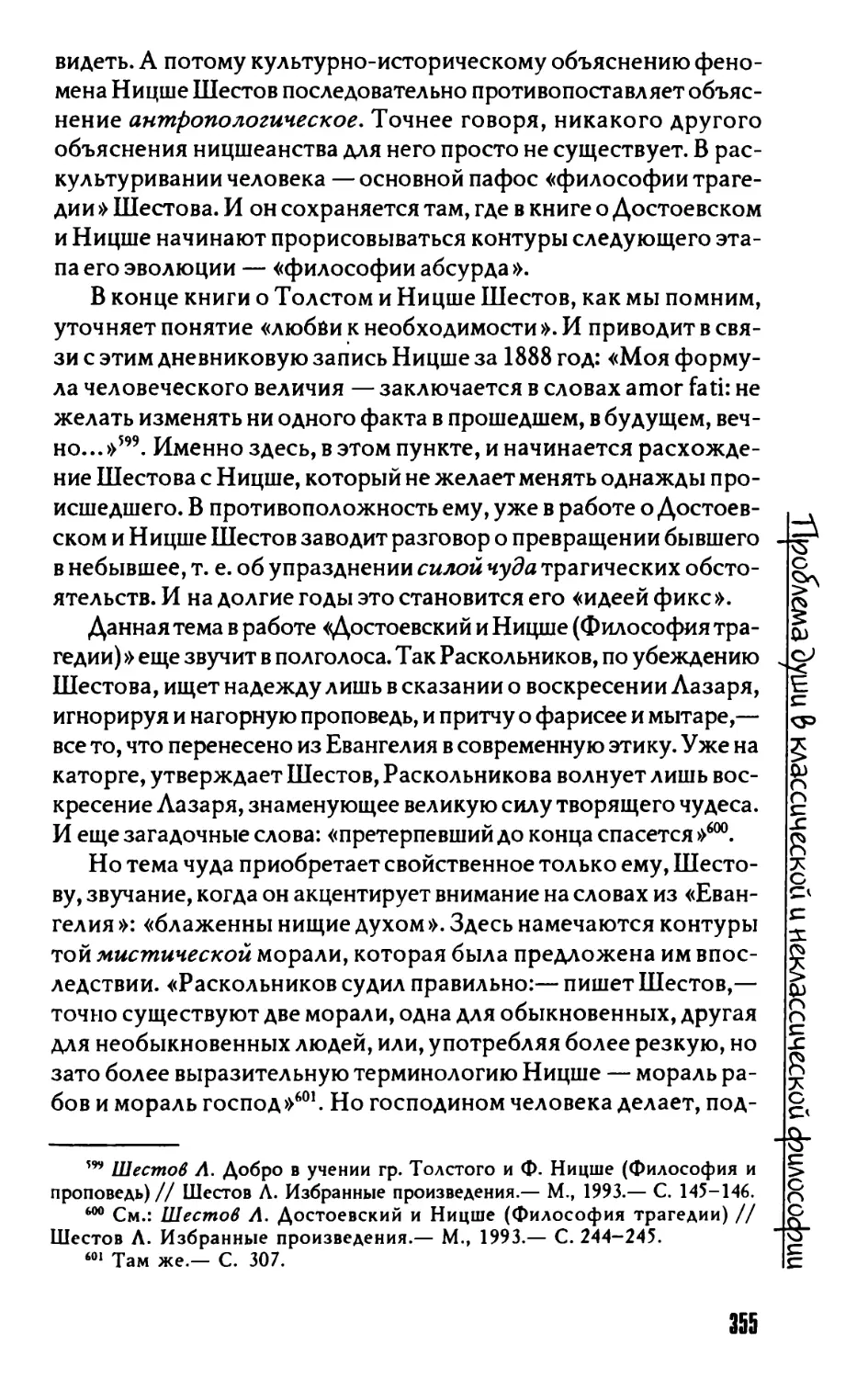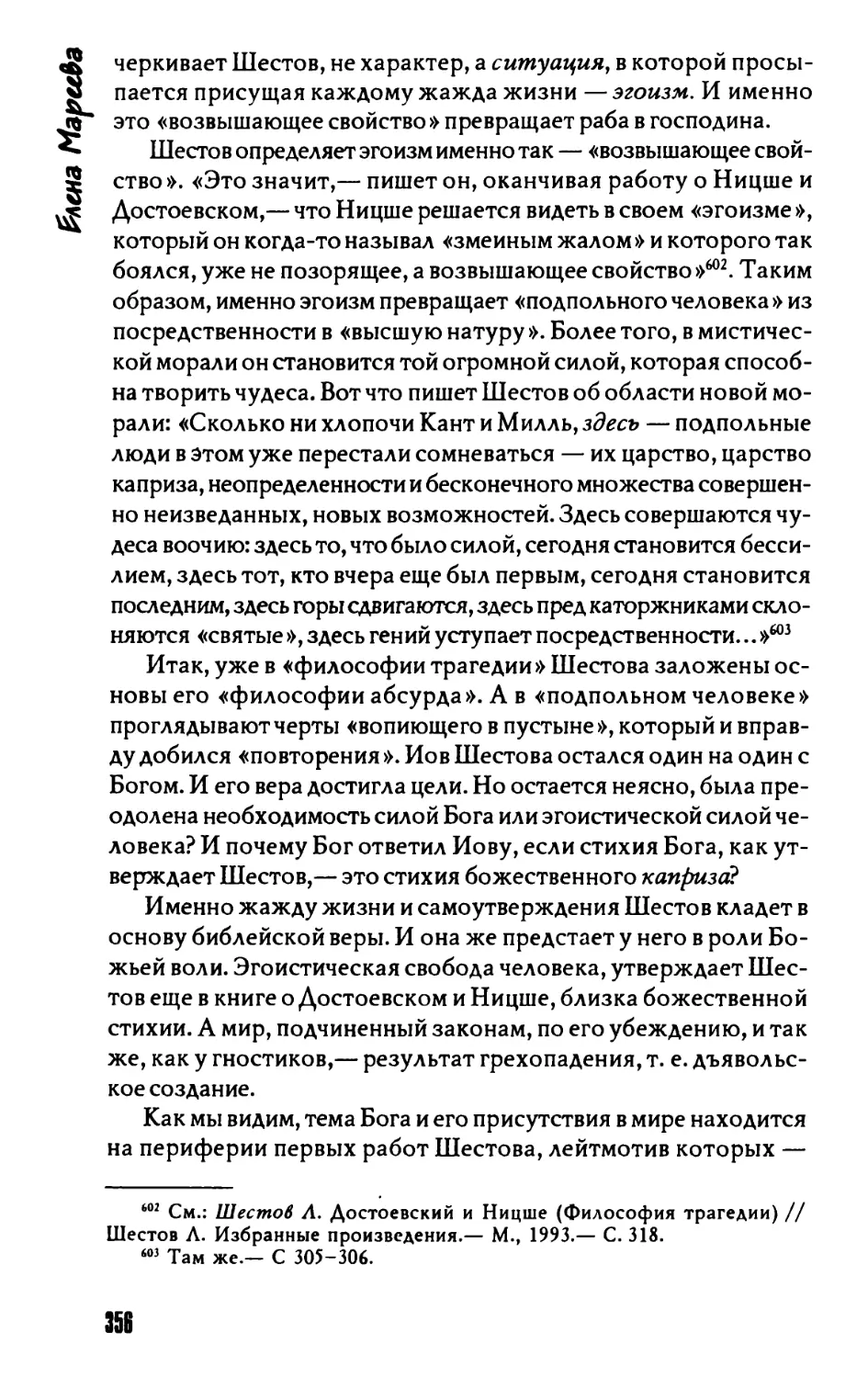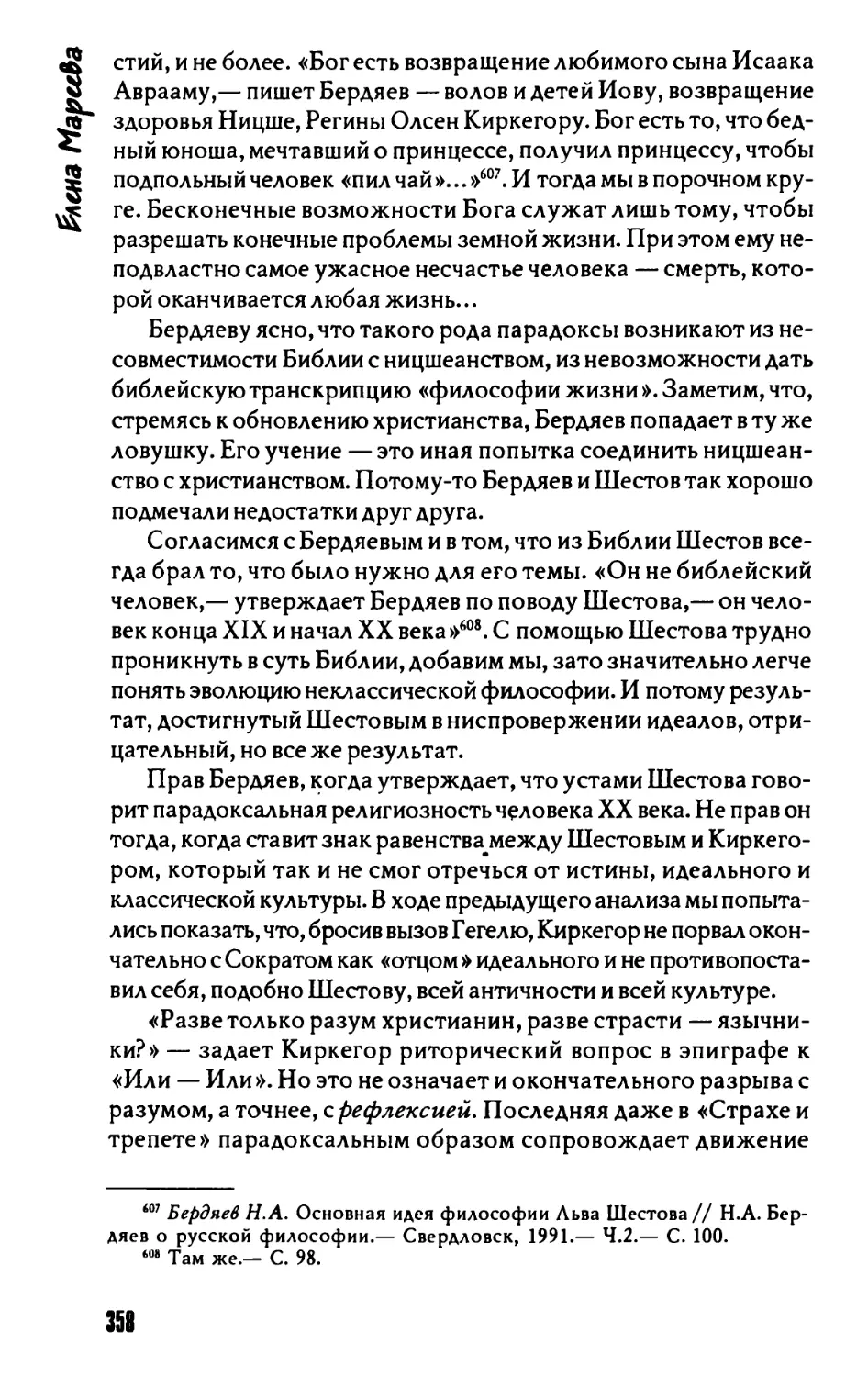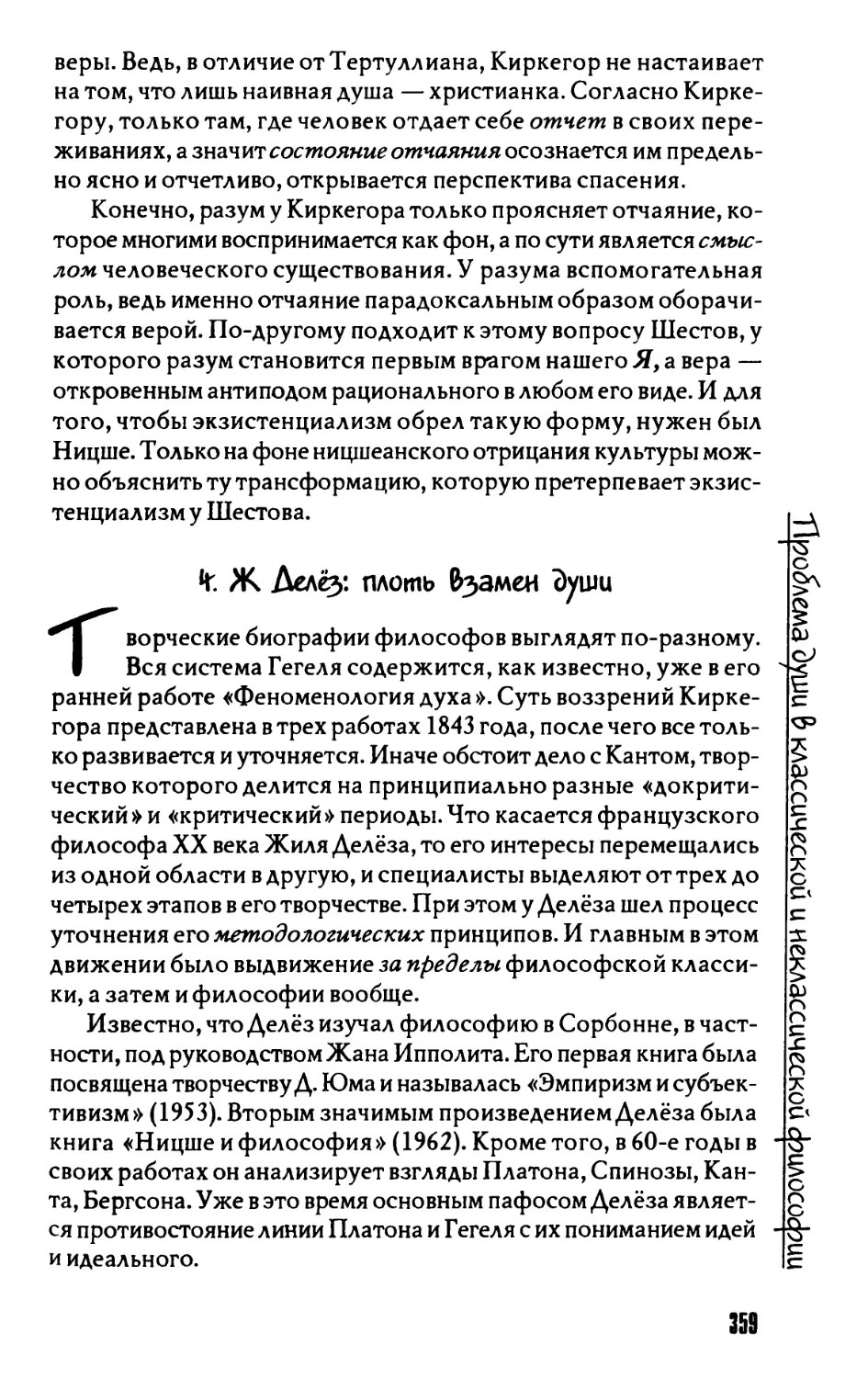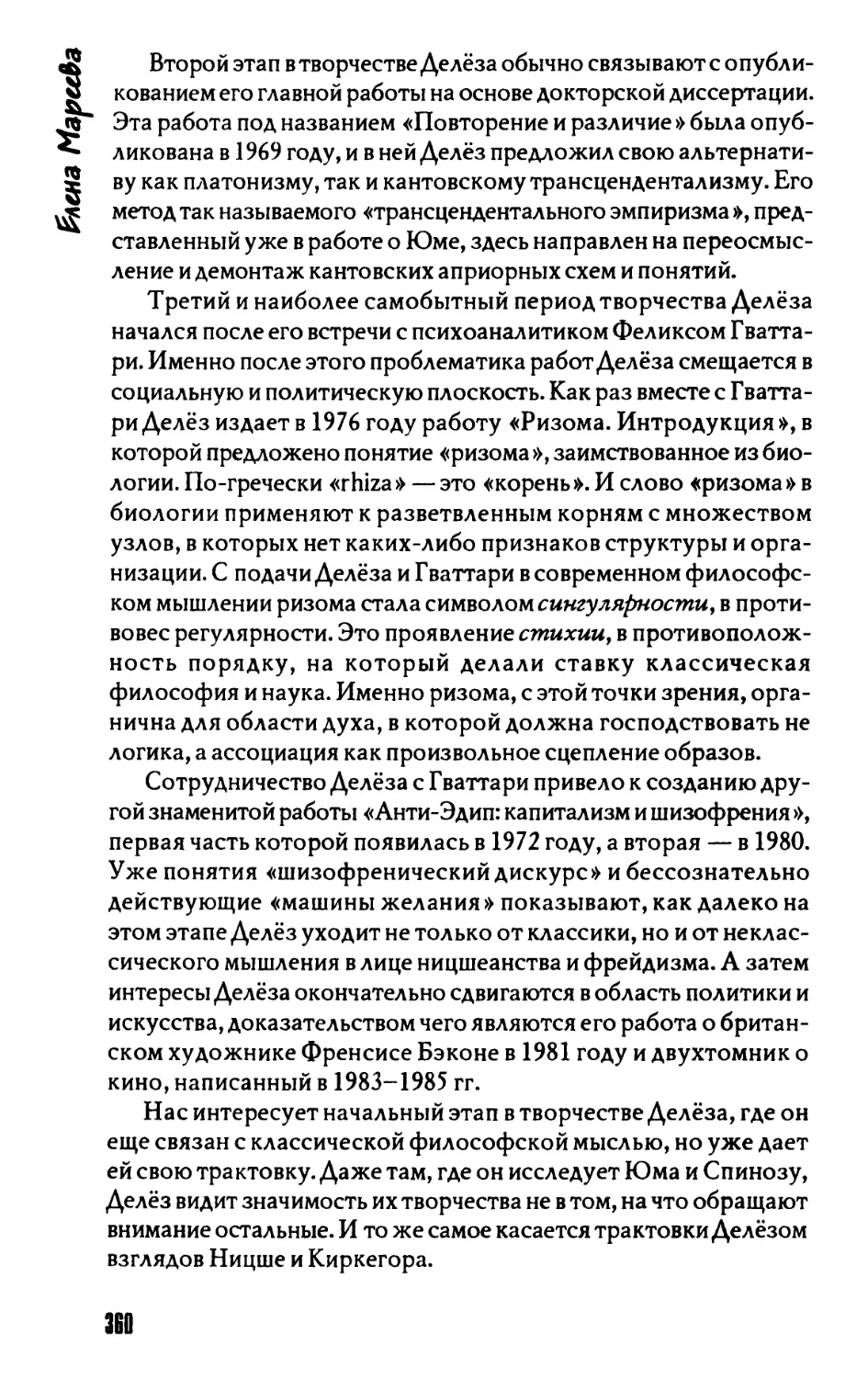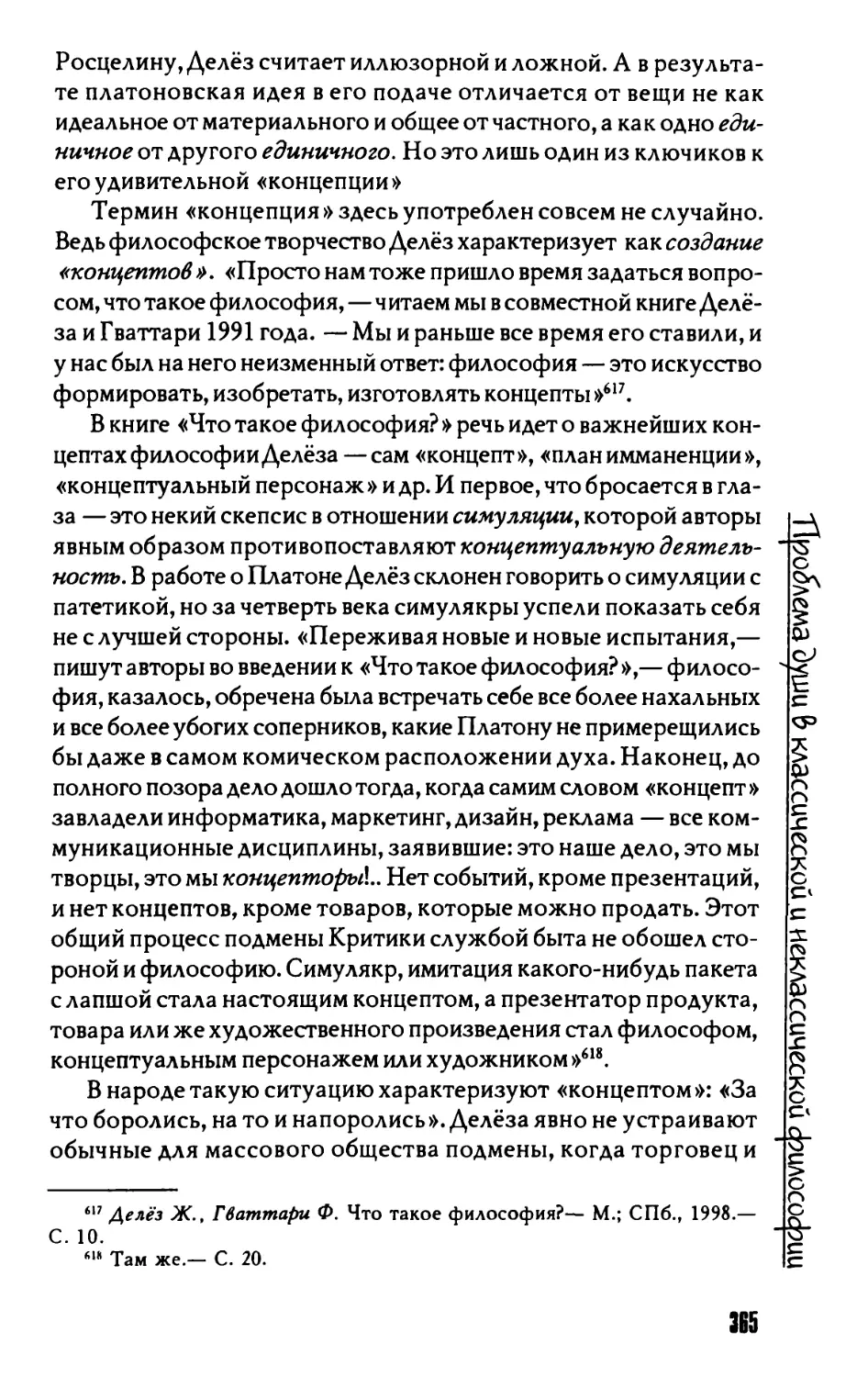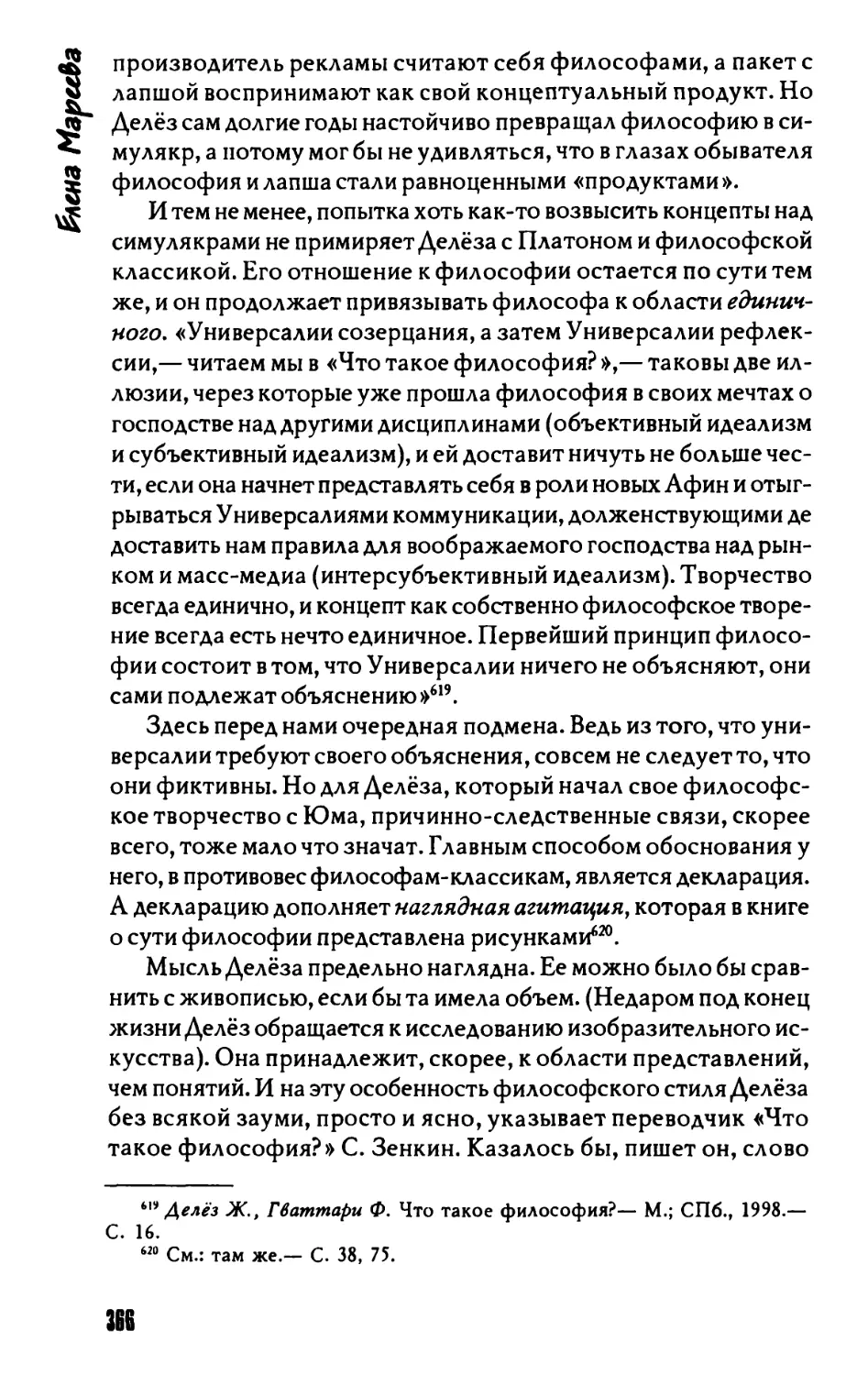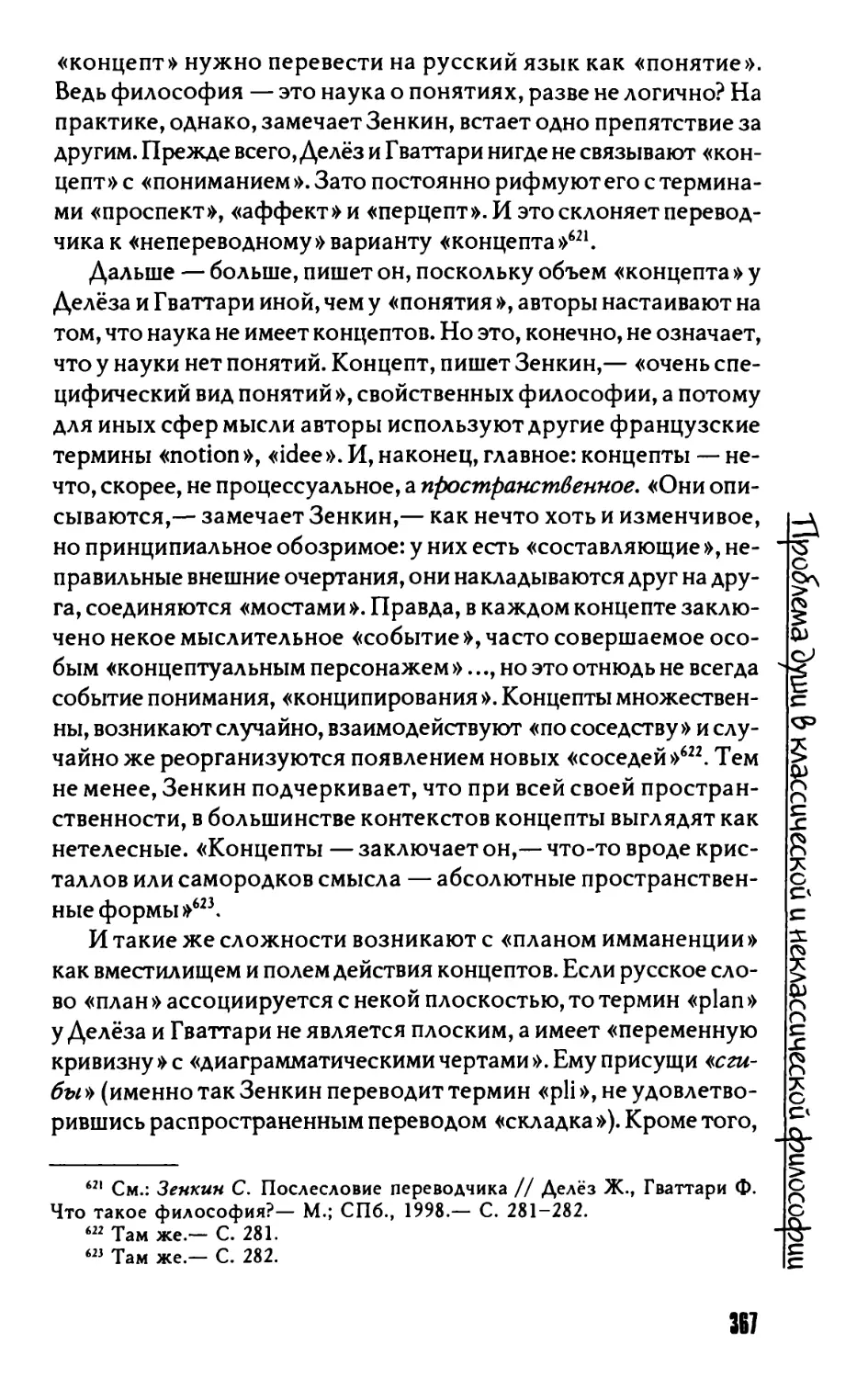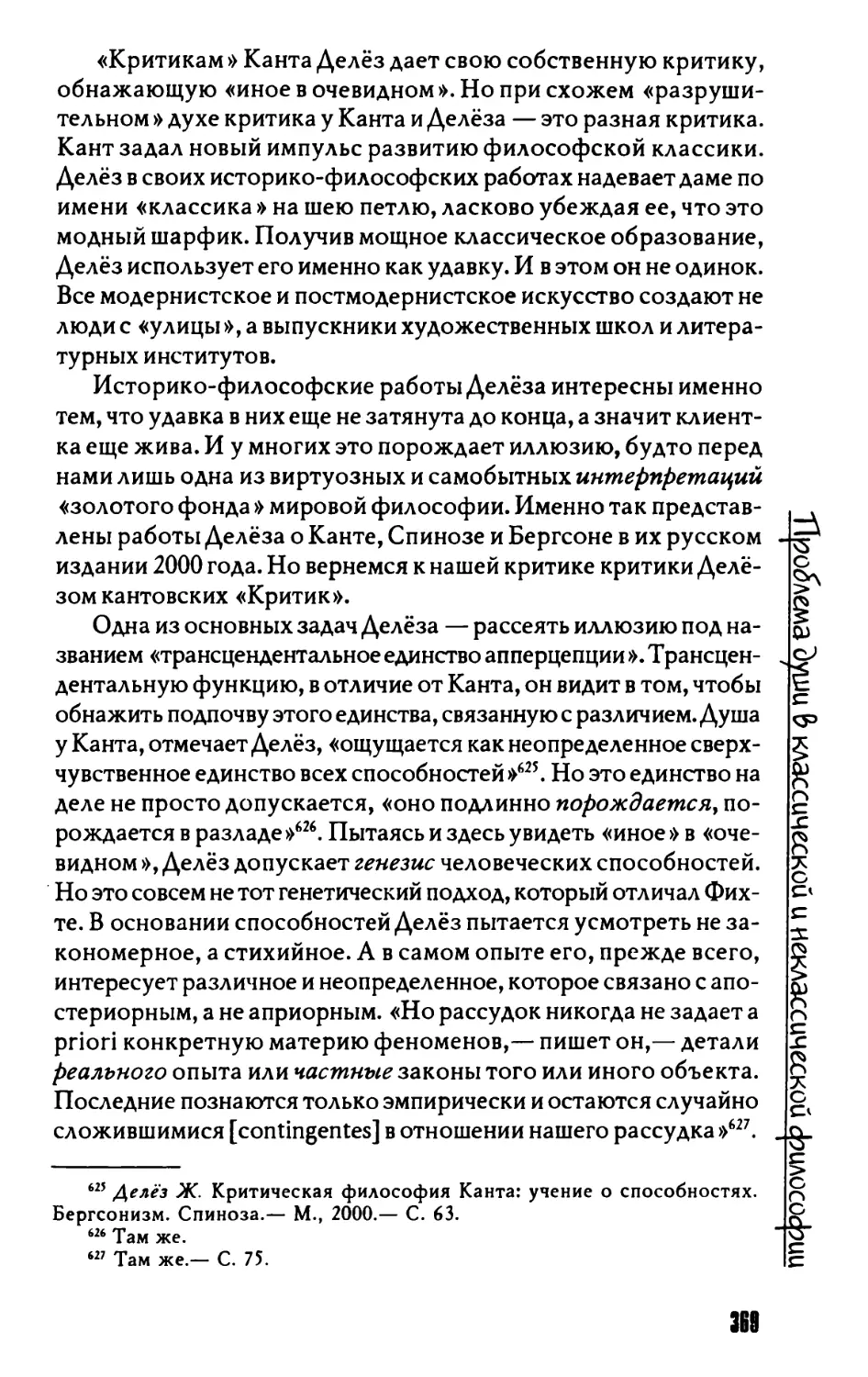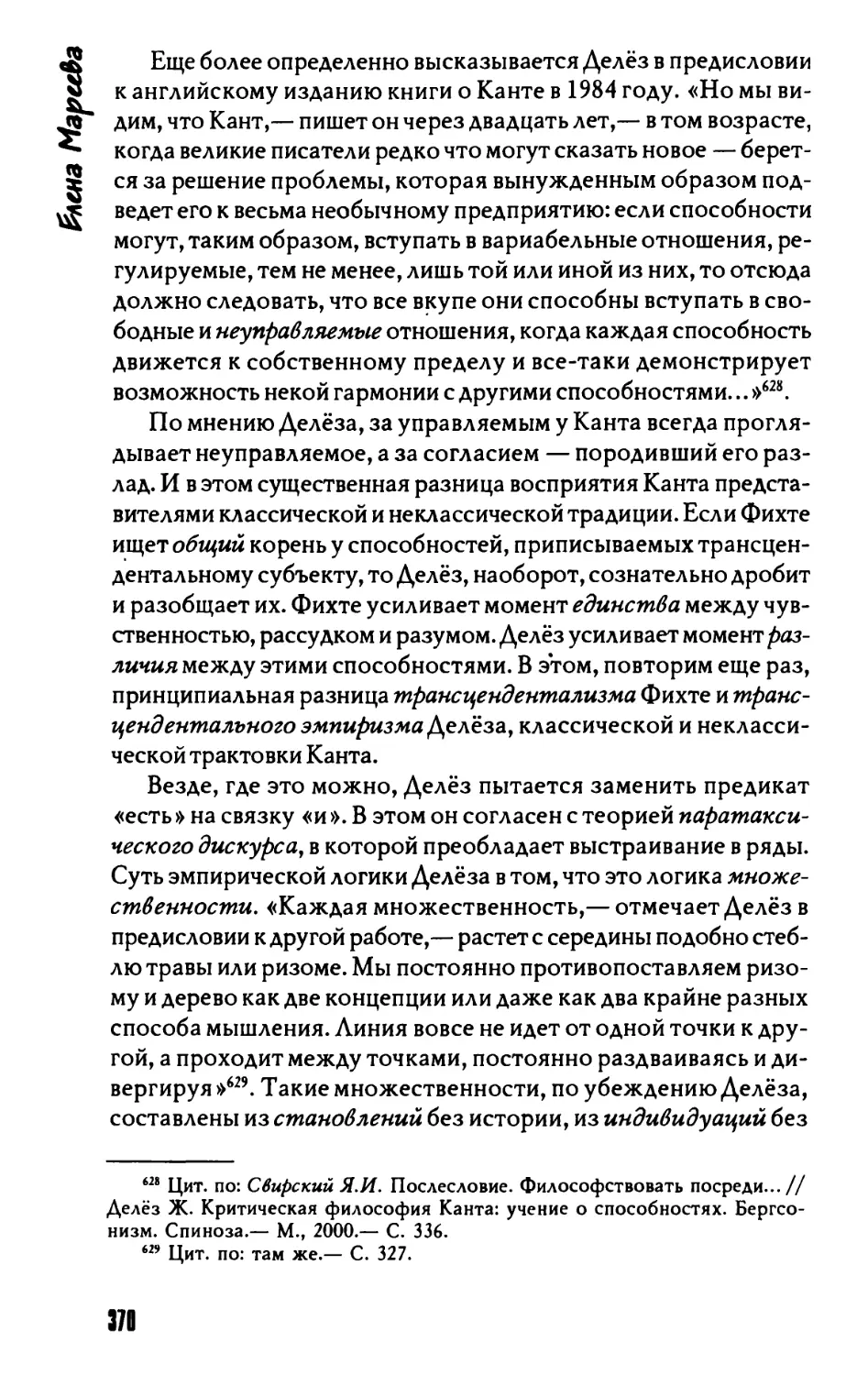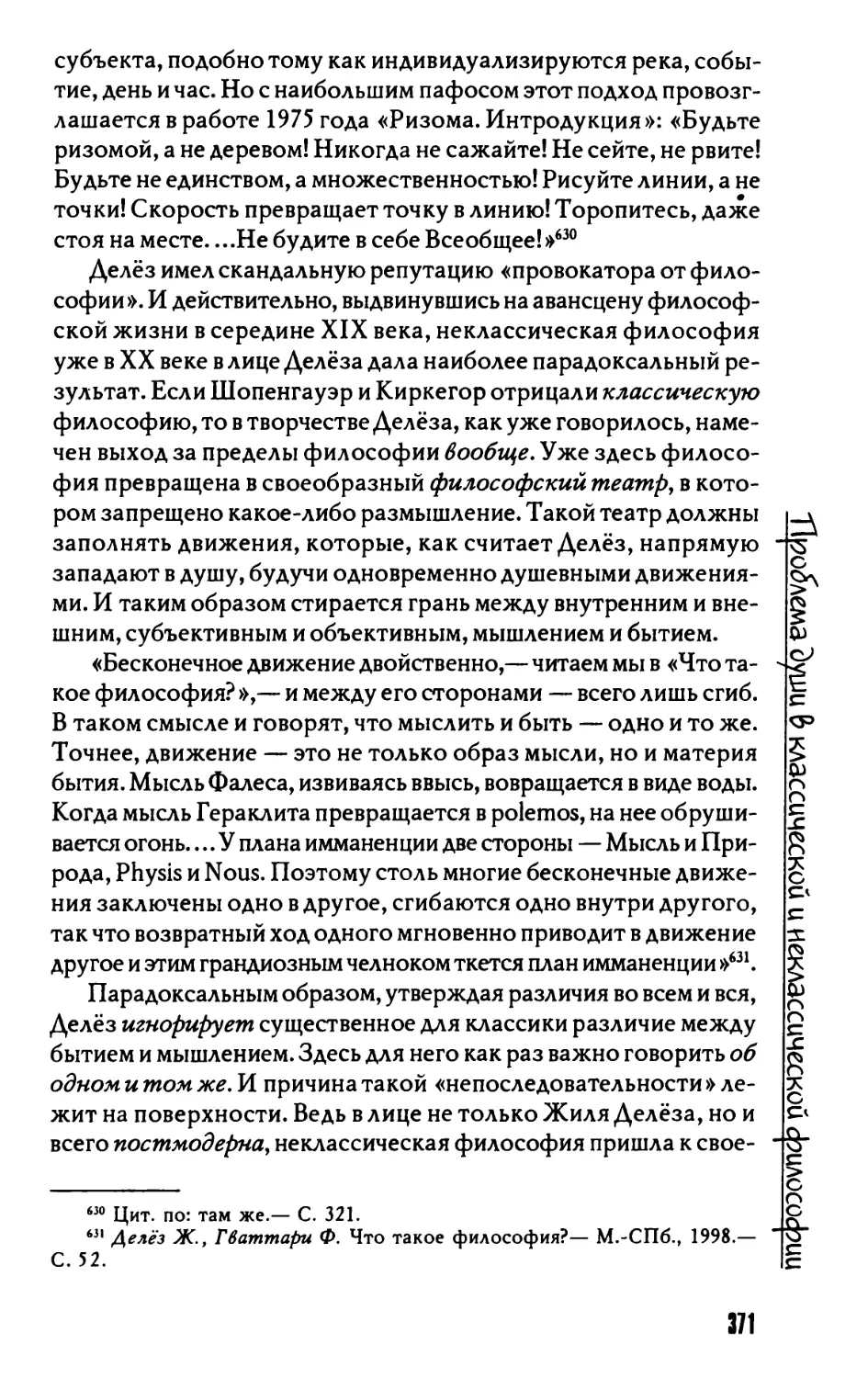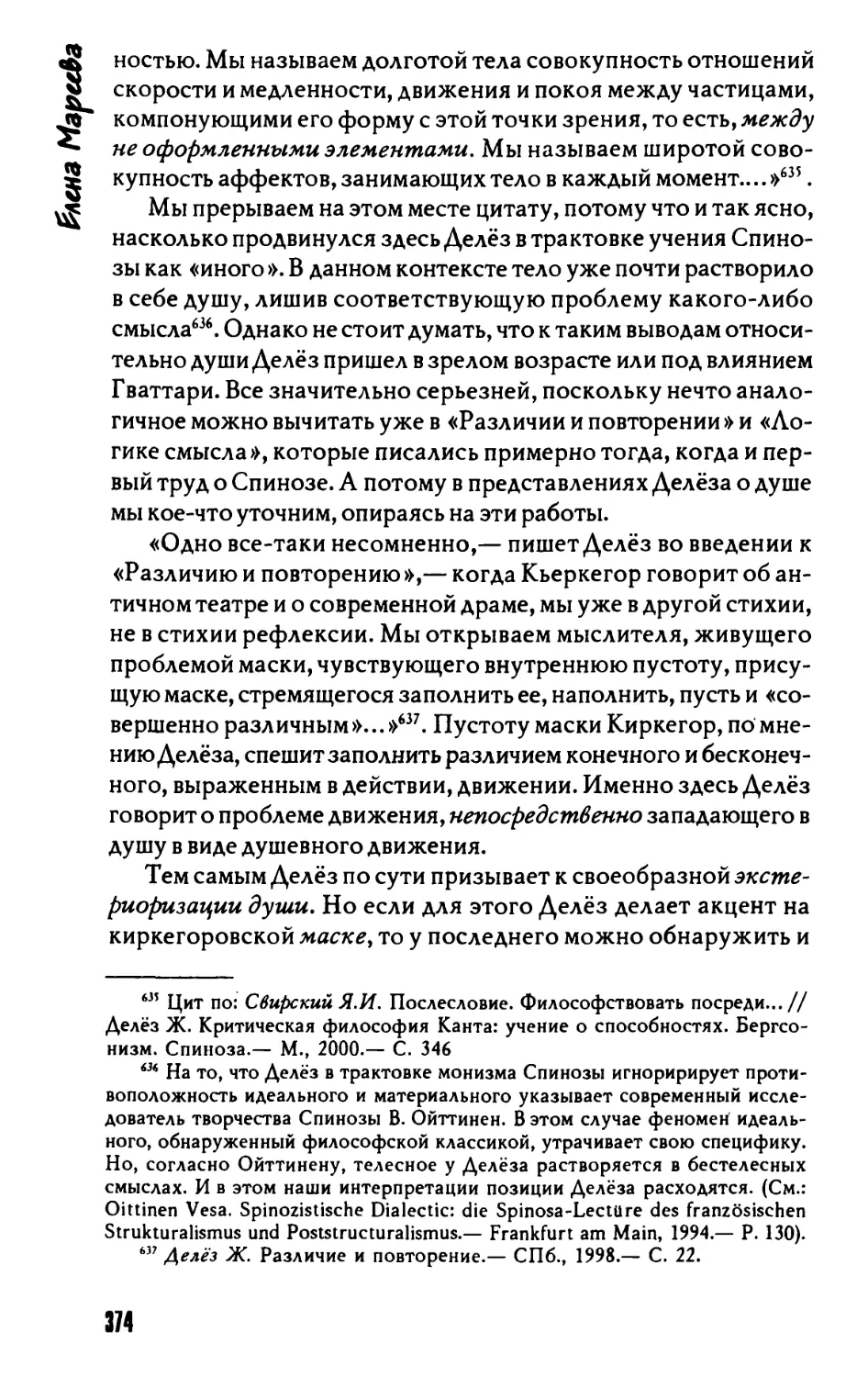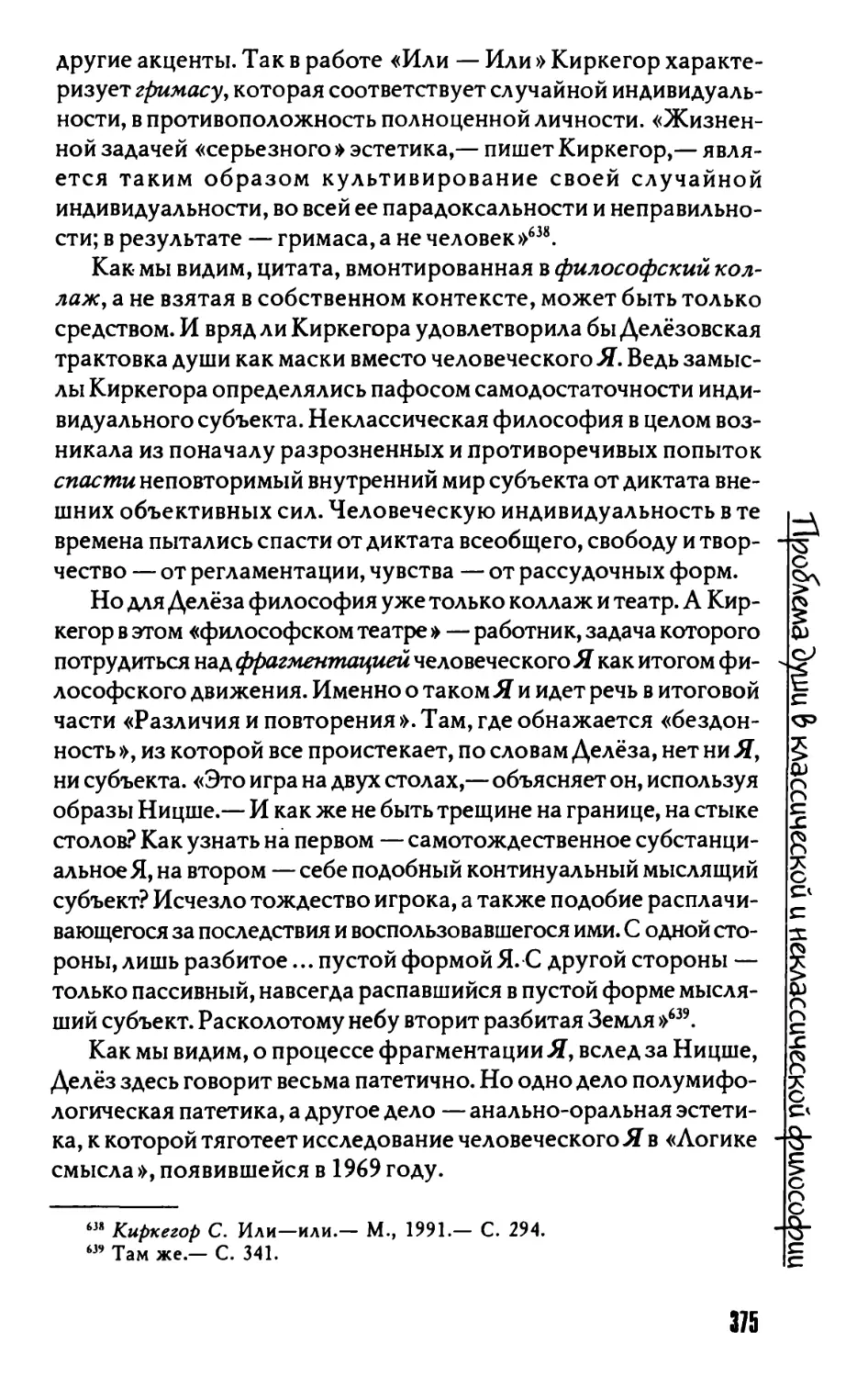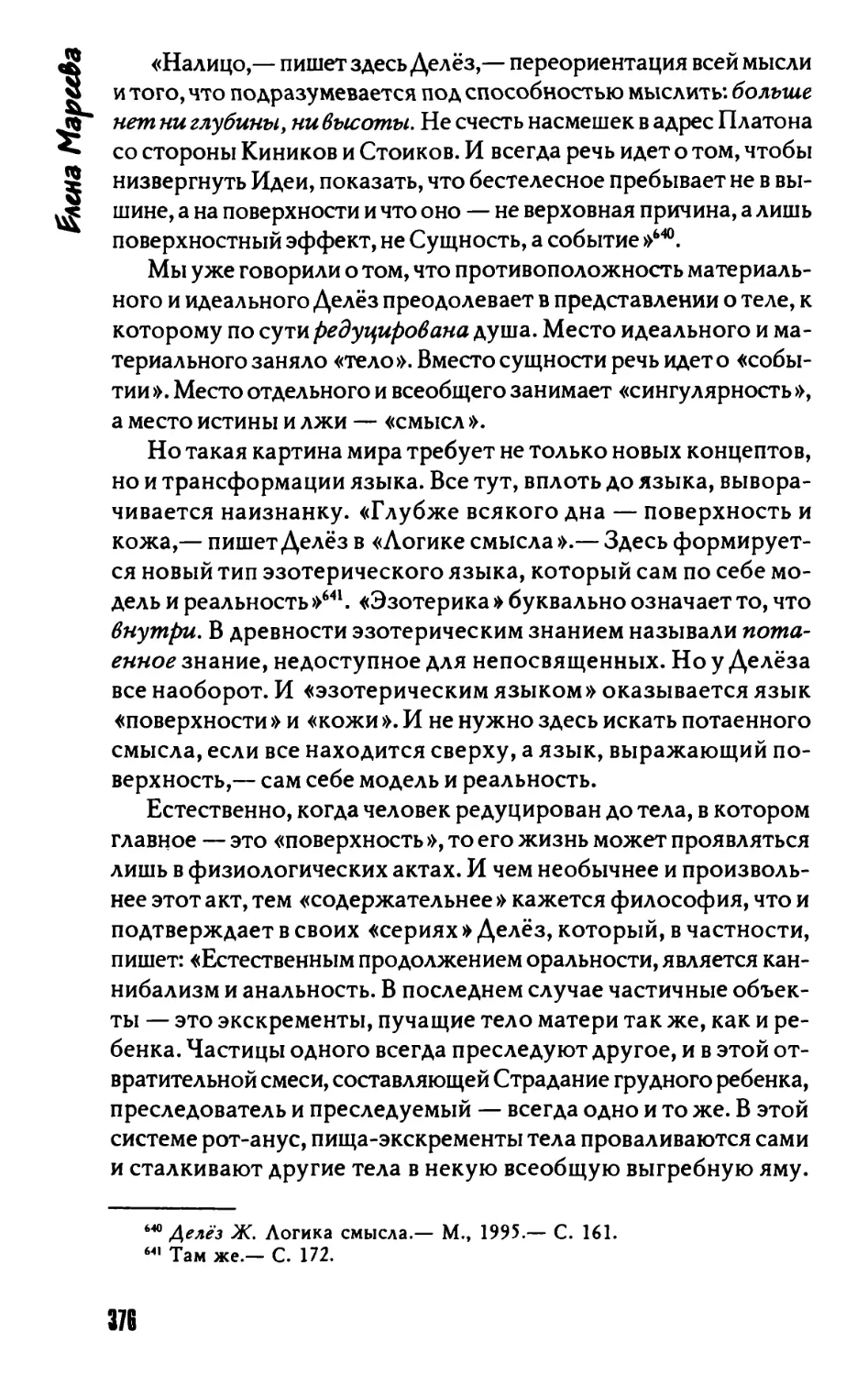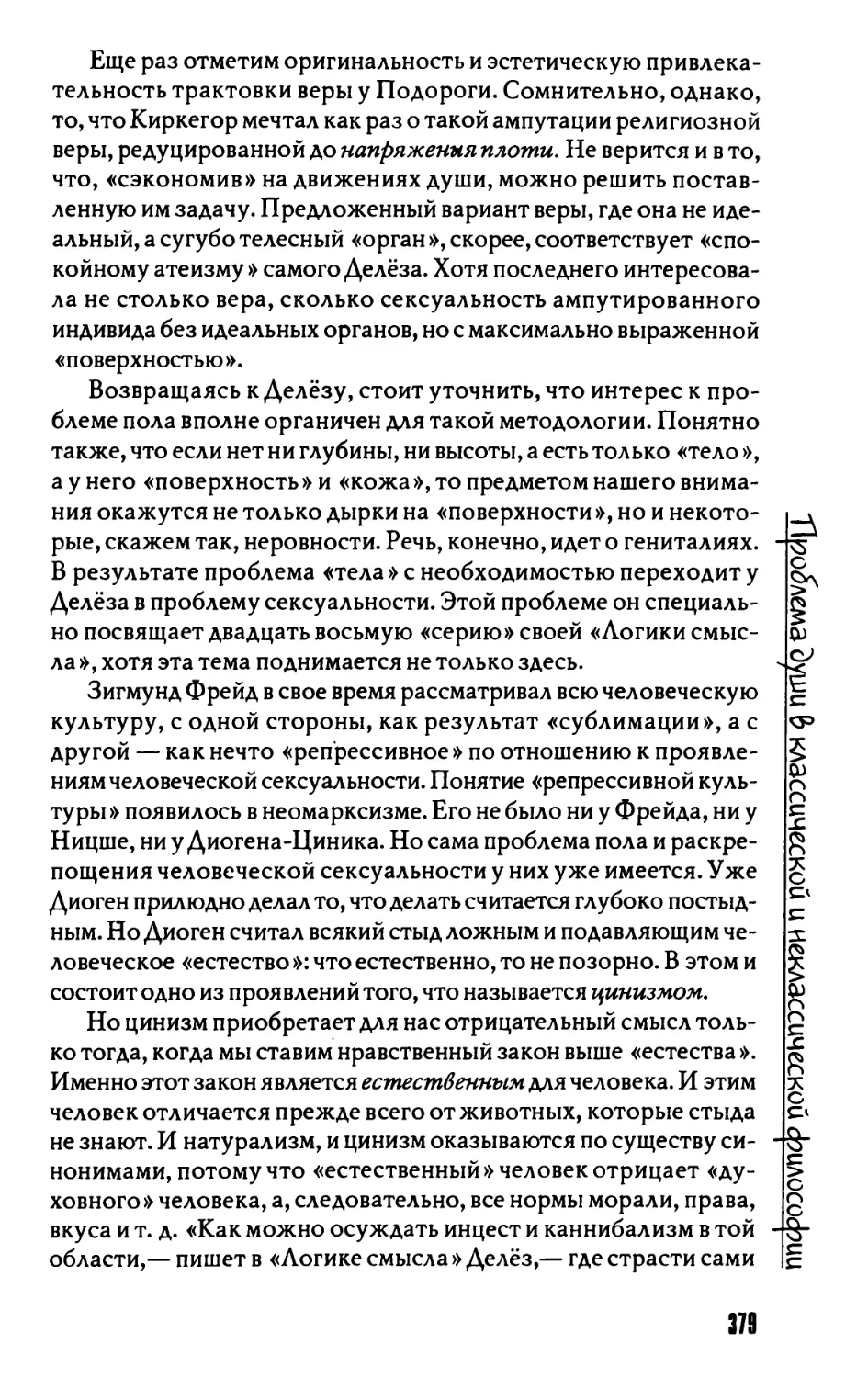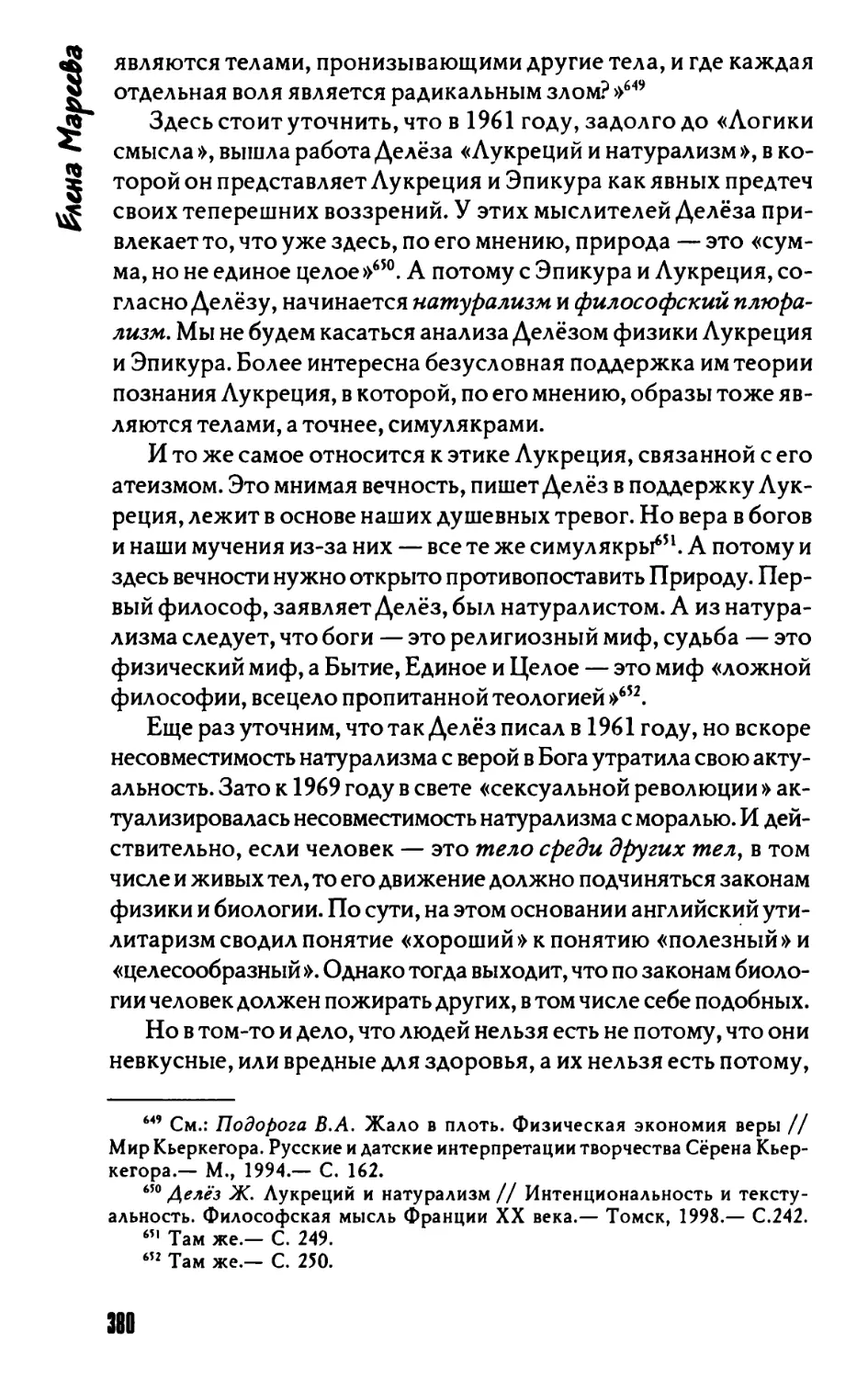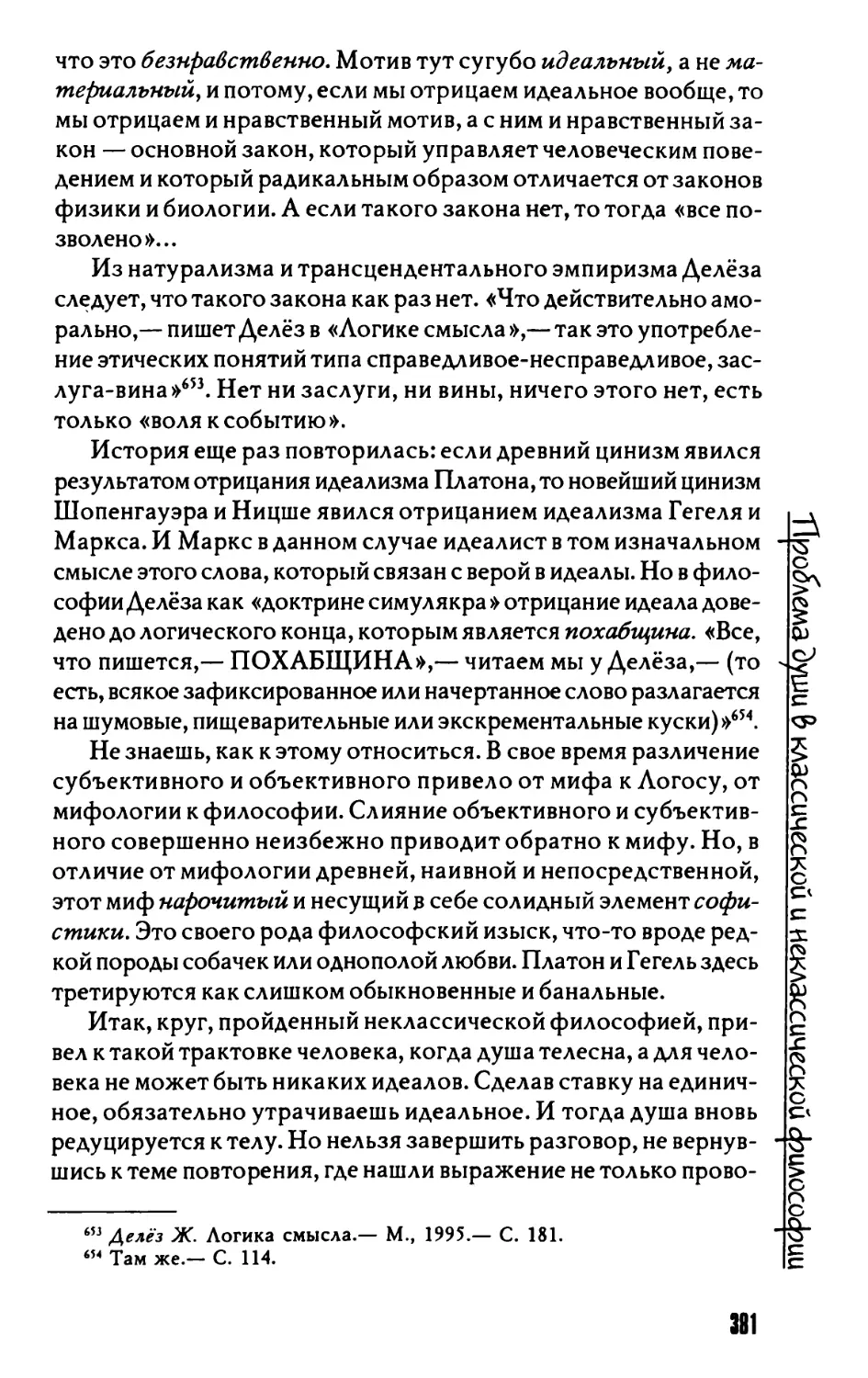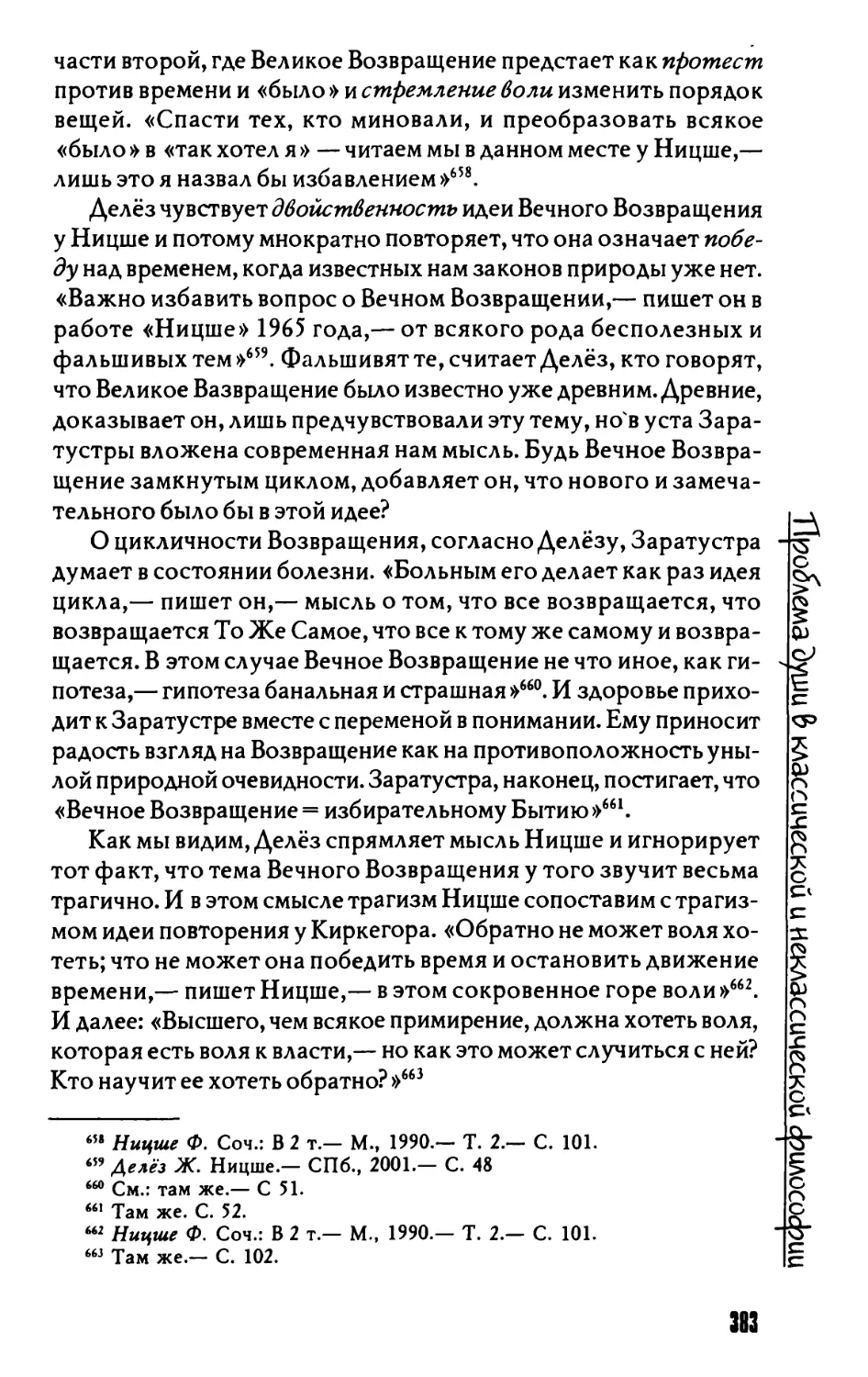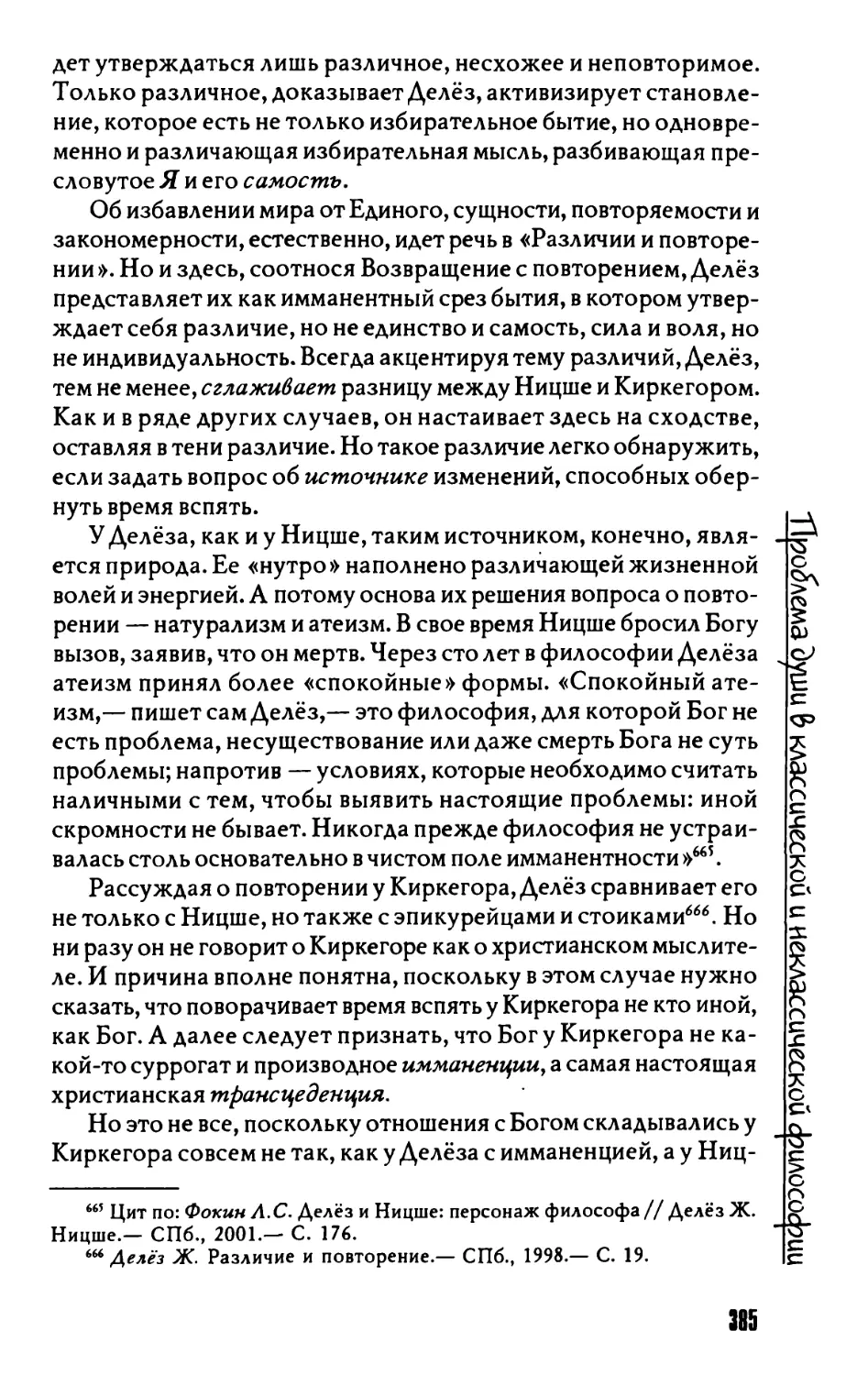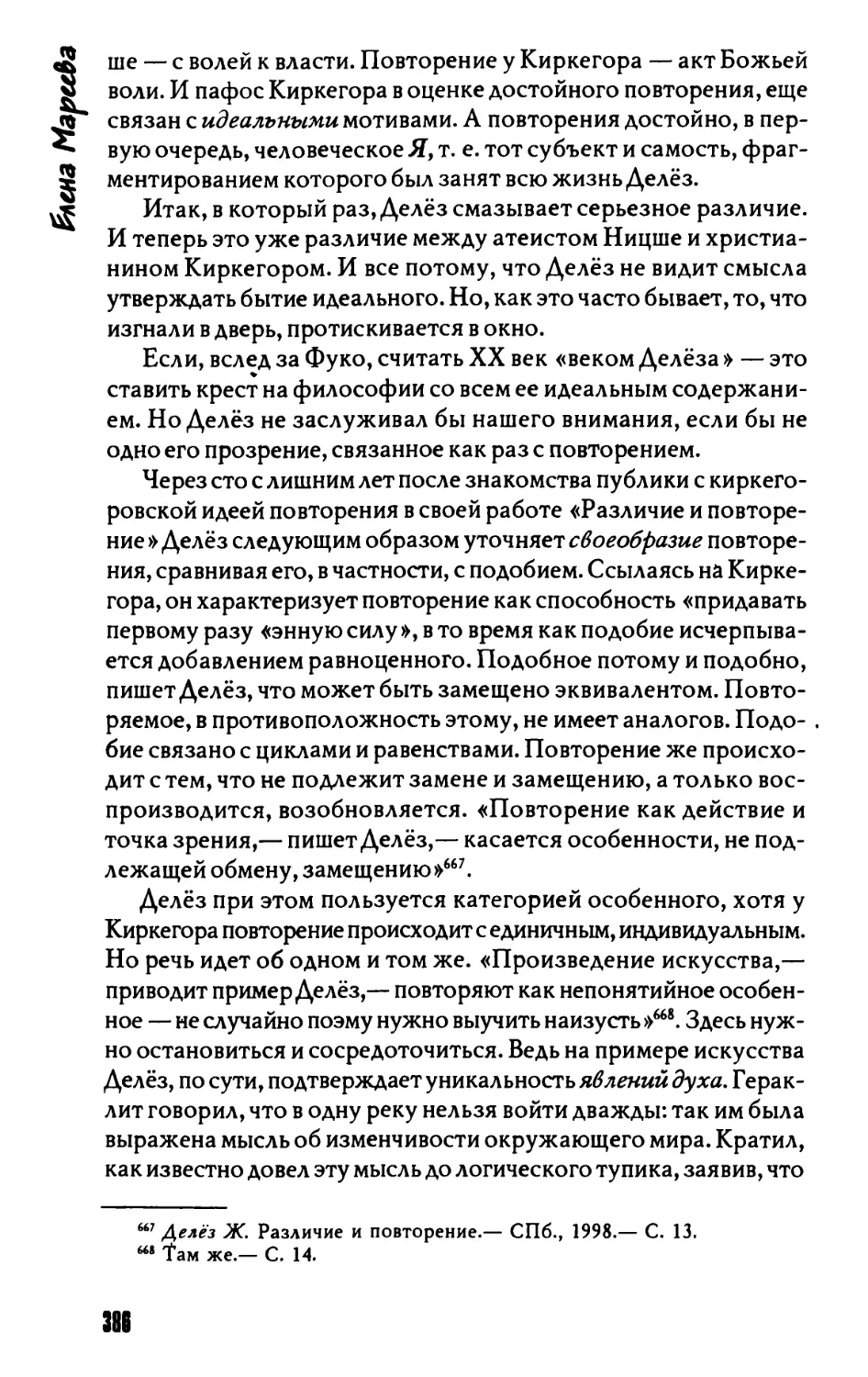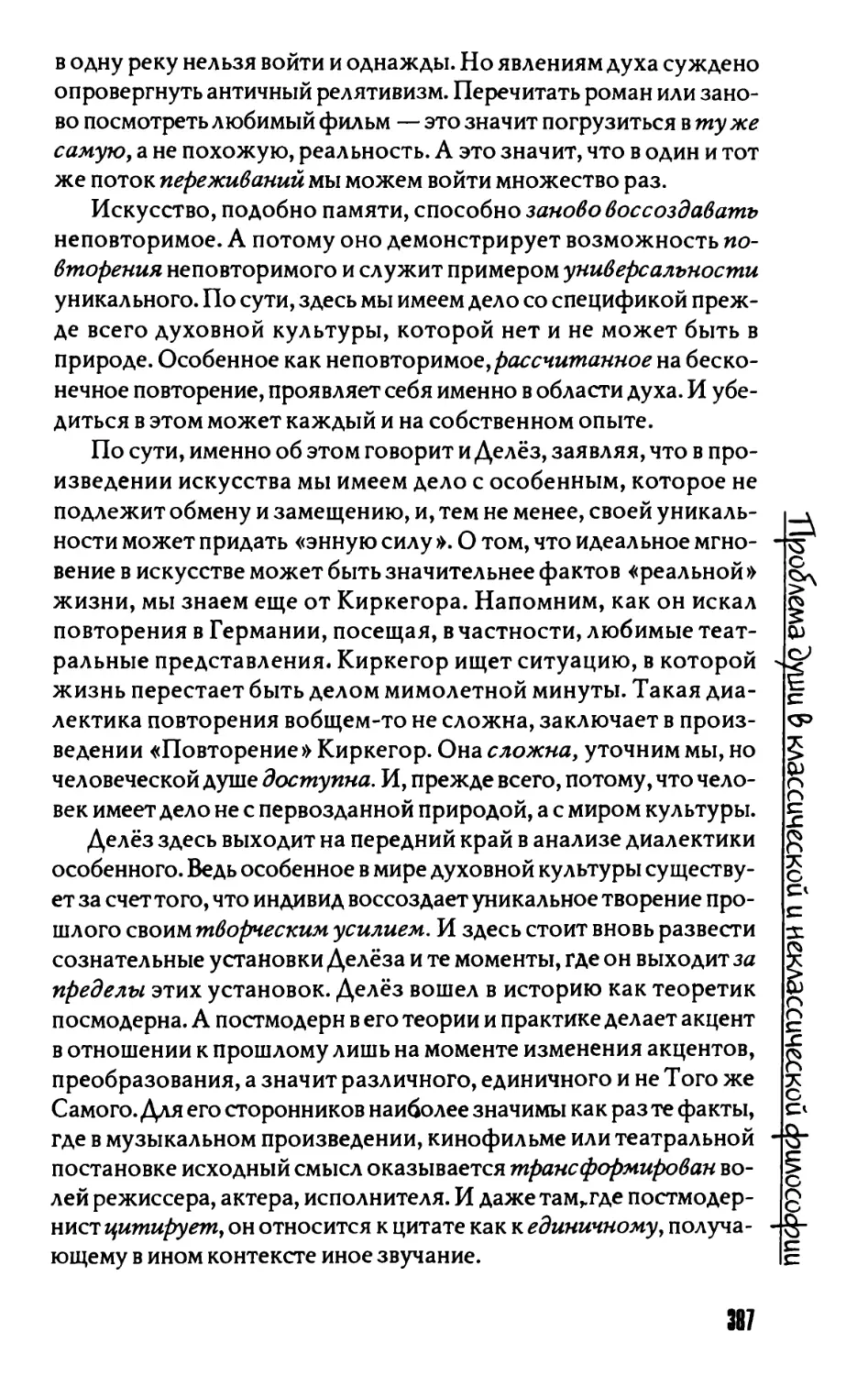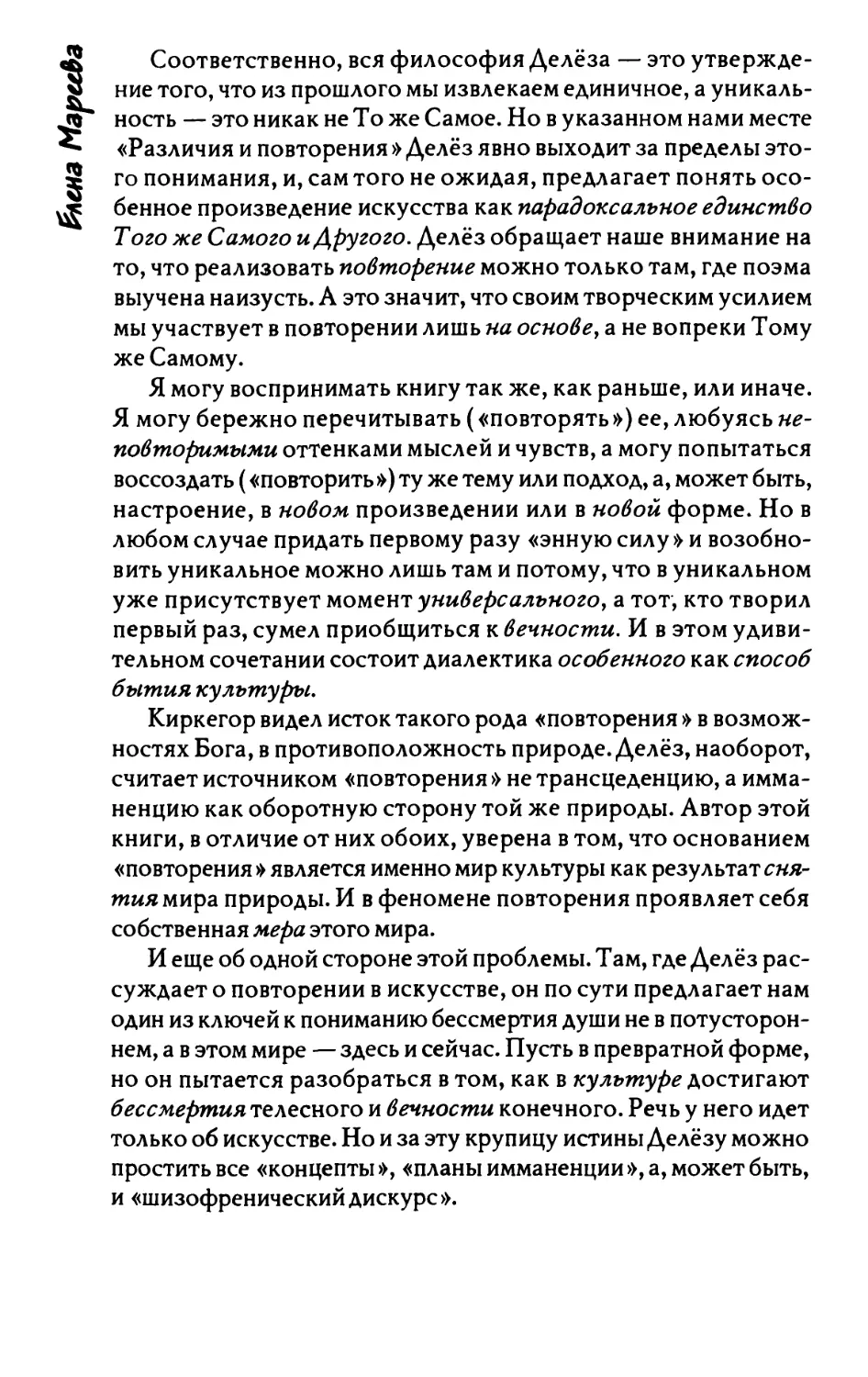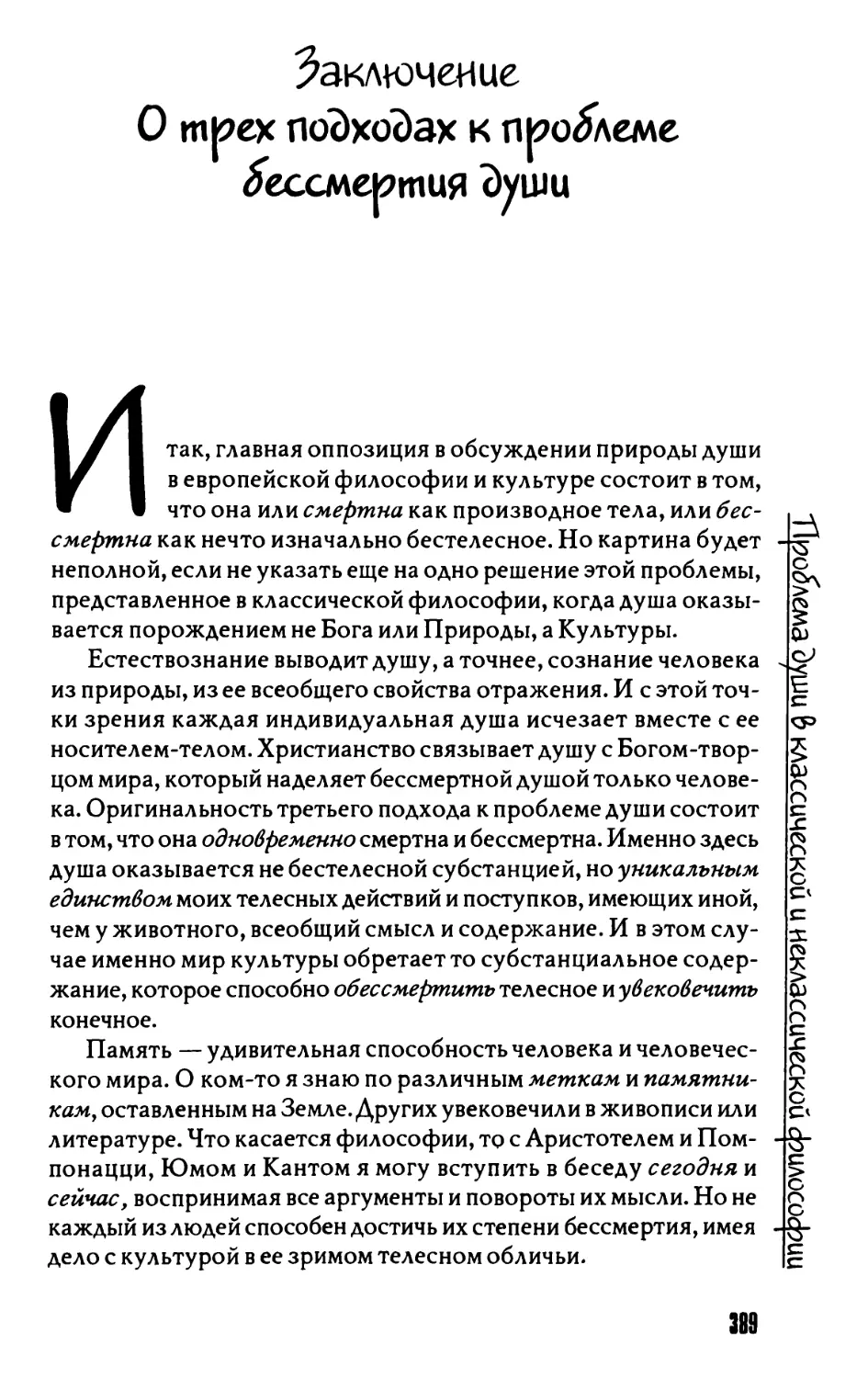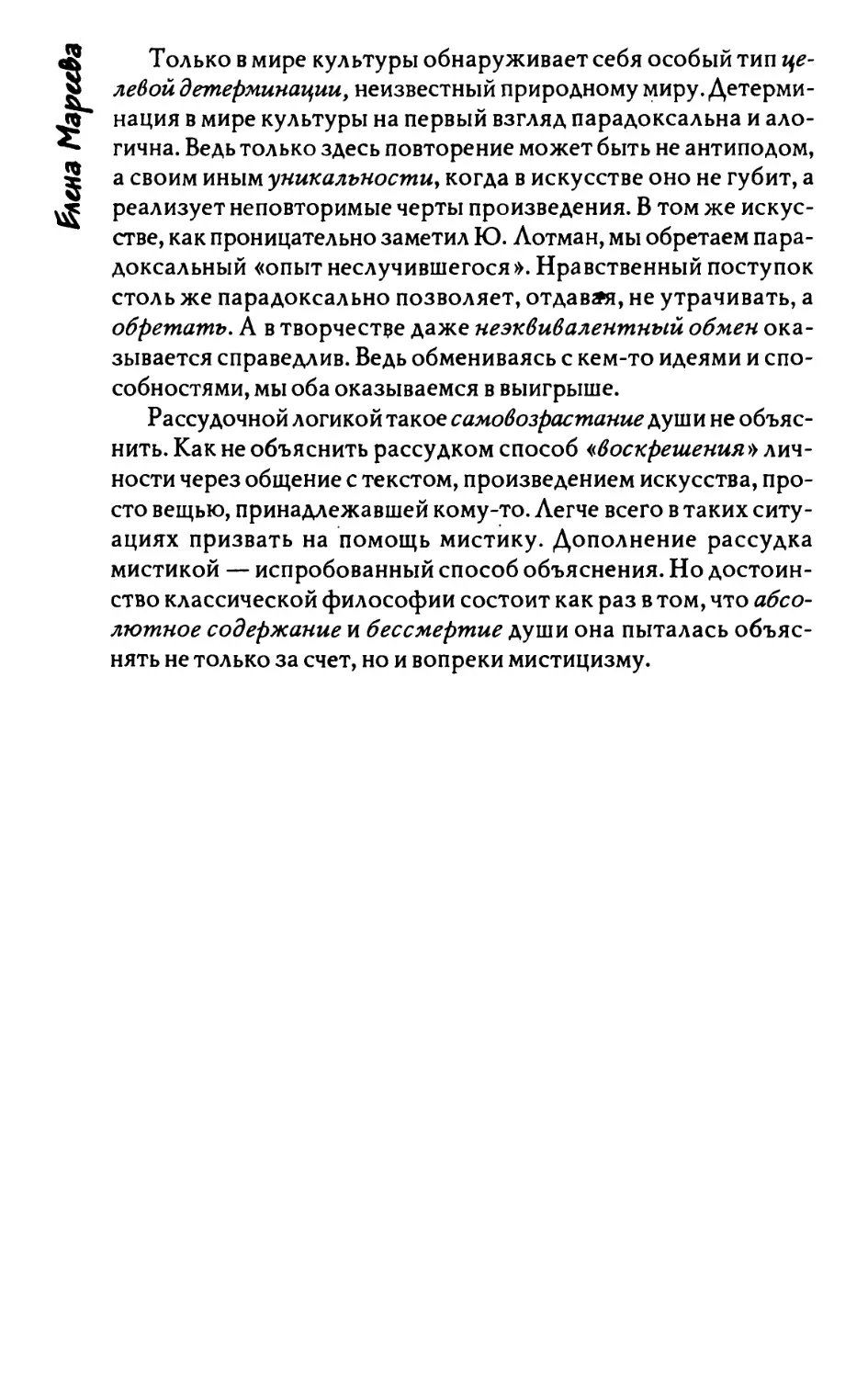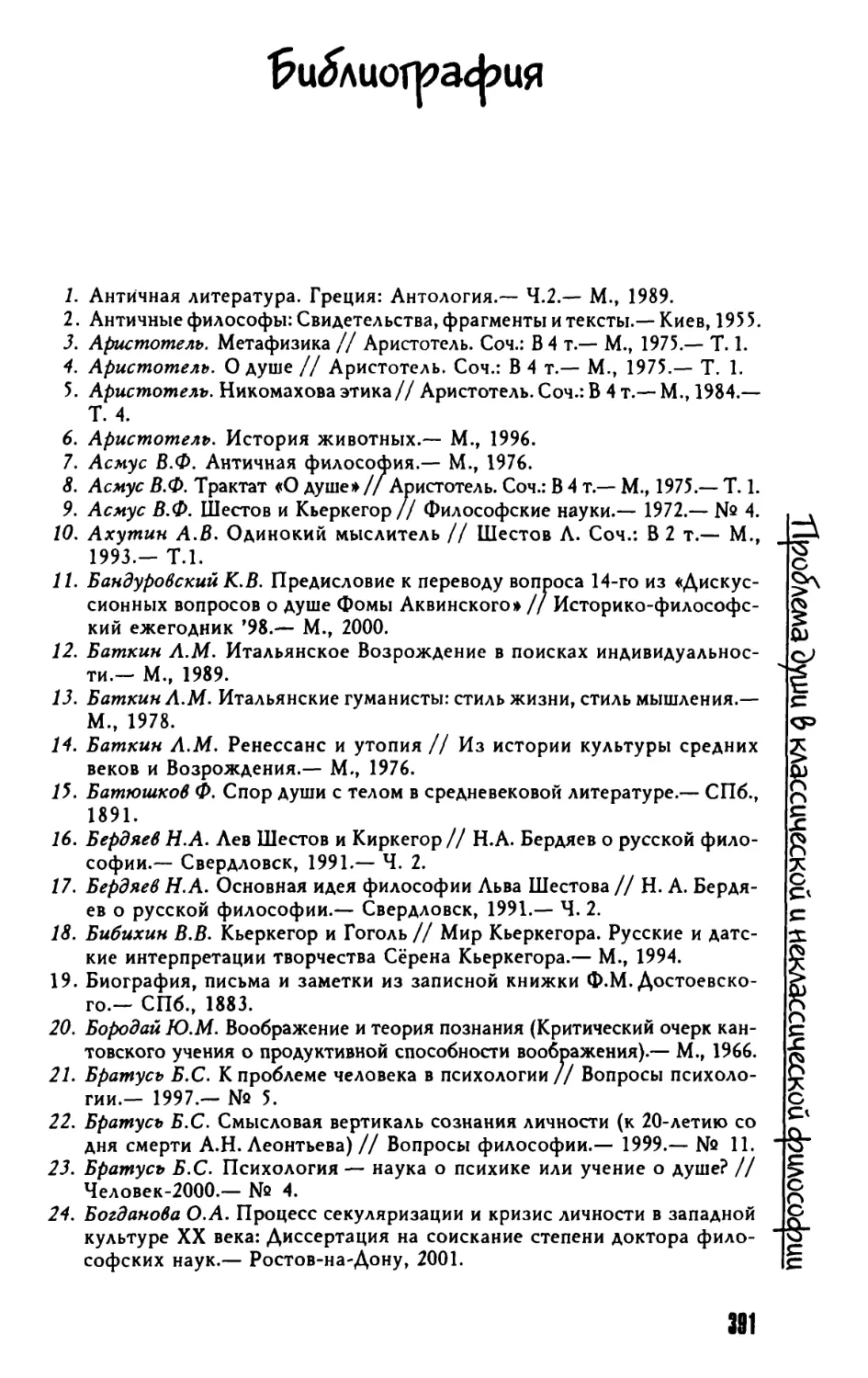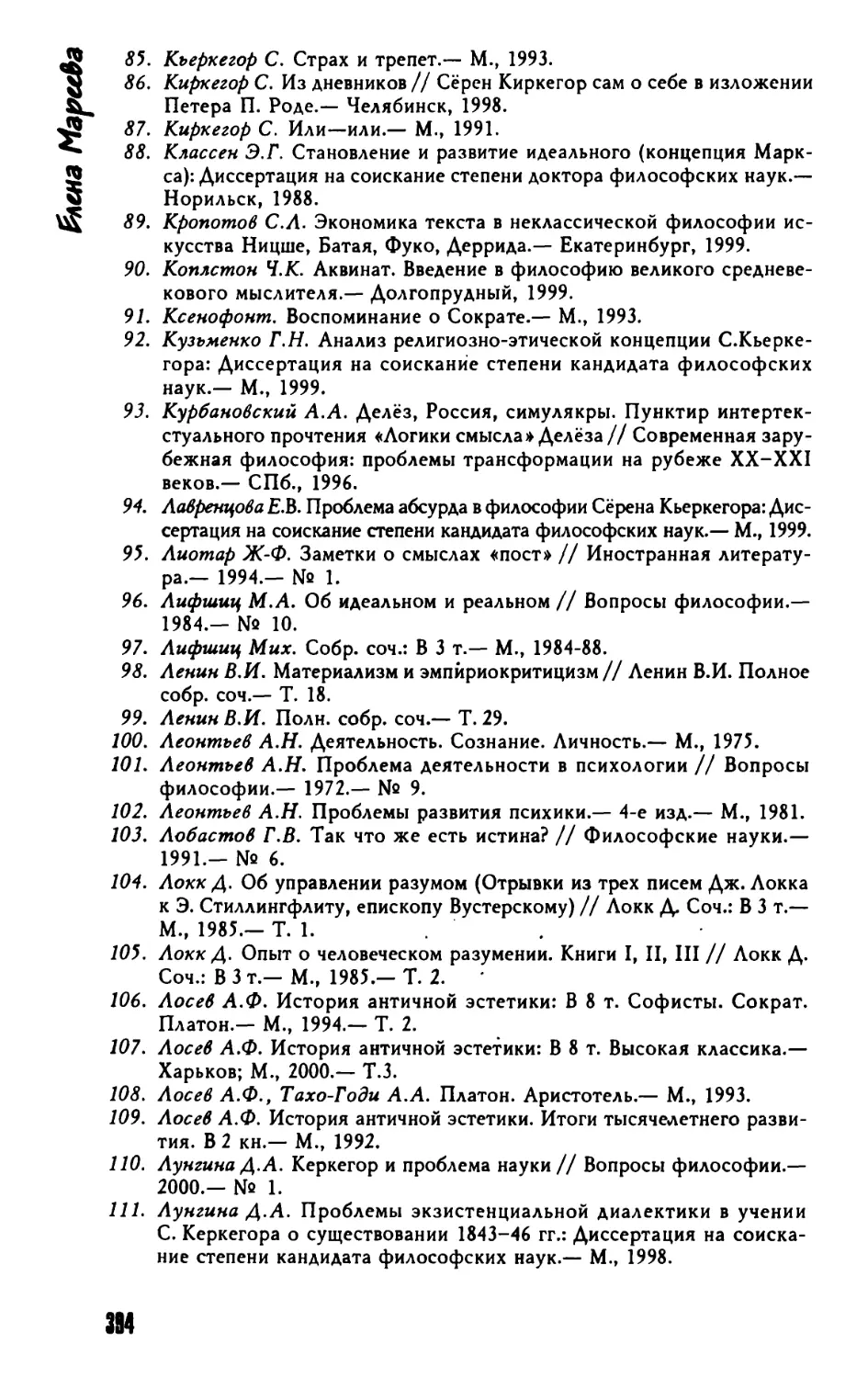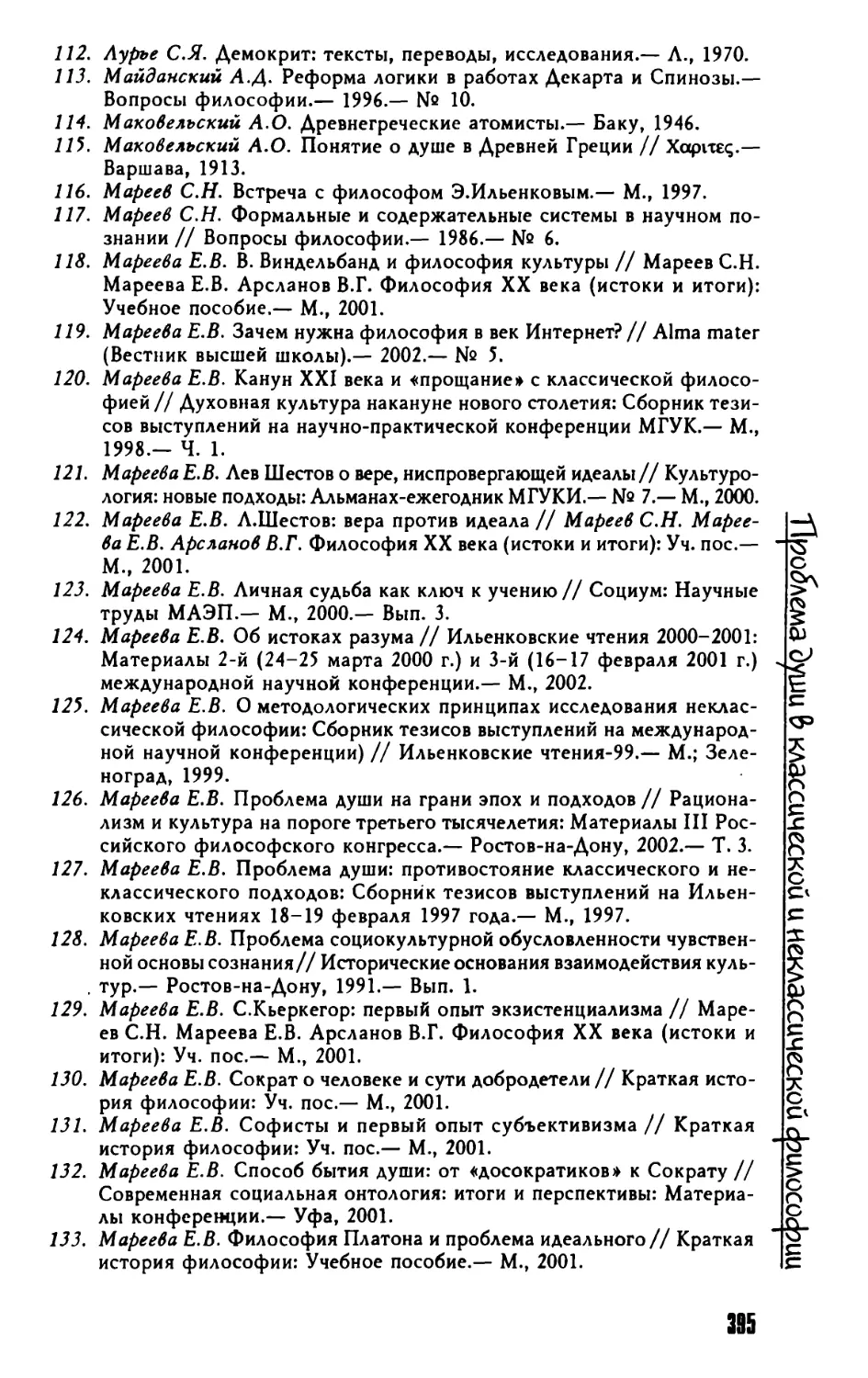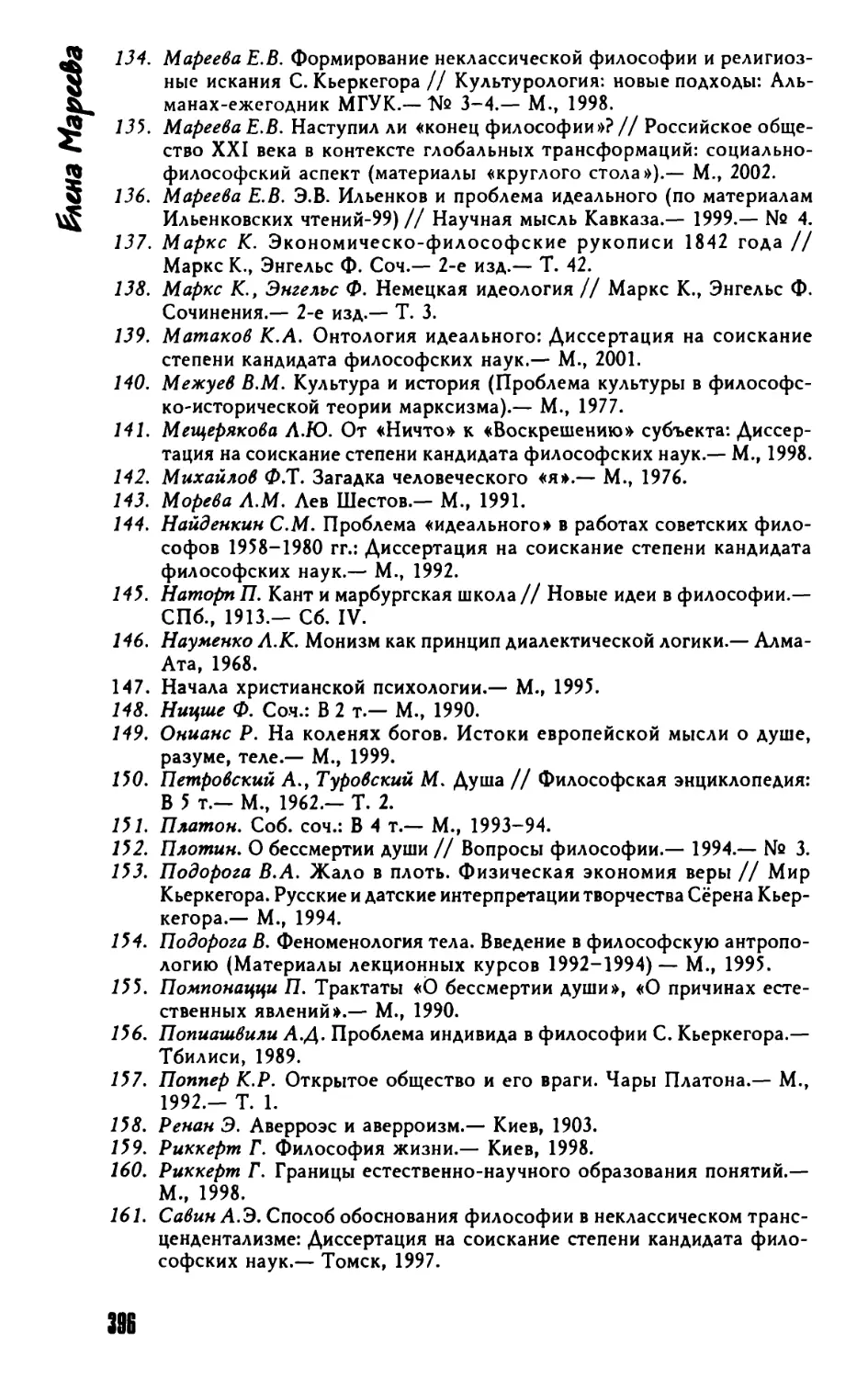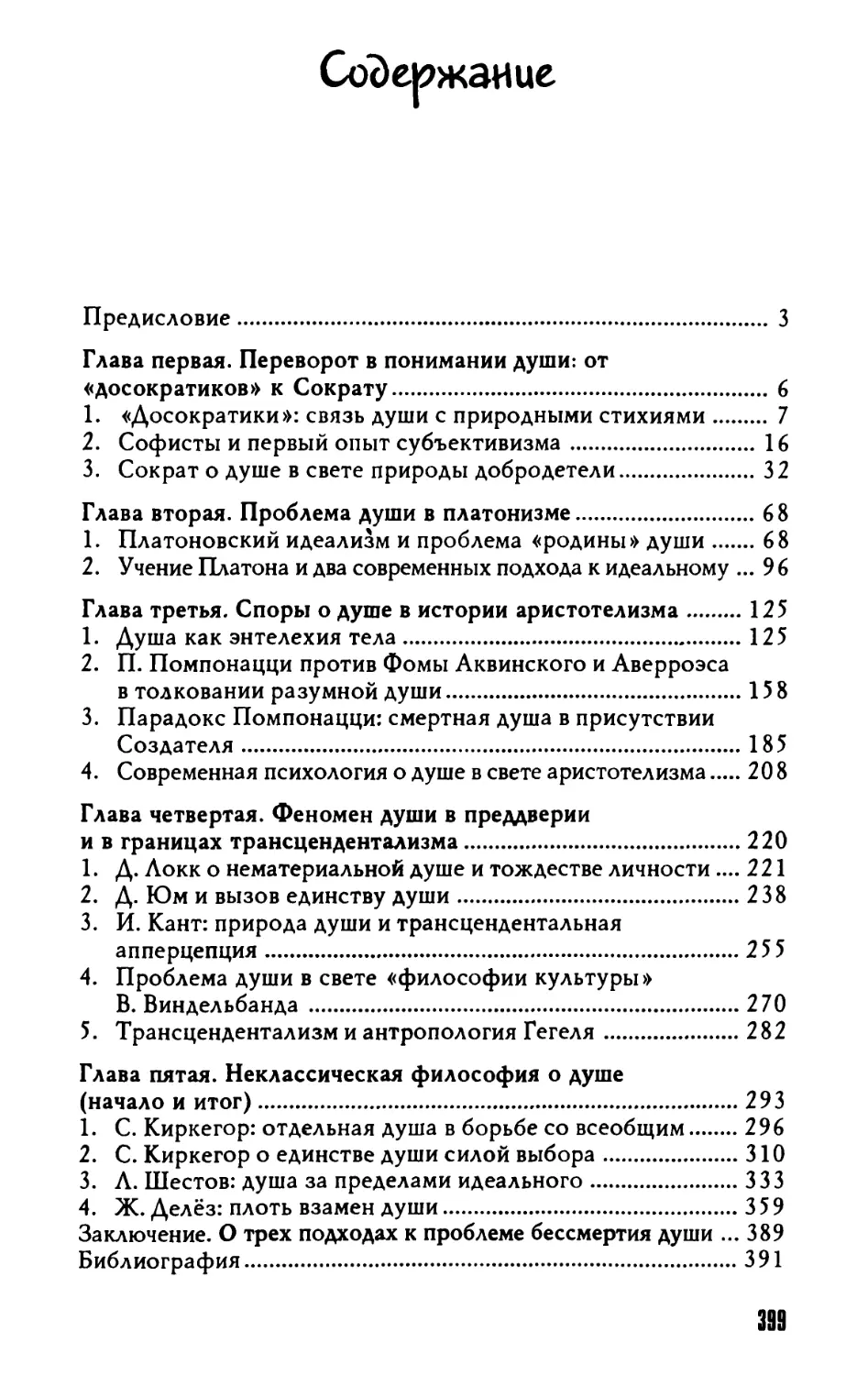Текст
Москва
Академический Проект
2003
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Мареева Е.В.
Проблема души в классической и неклассической
философии.— М.: Академический Проект, 2003.— 400 с.
(Серия «Окна и зеркала »).
ISBN 5-8291-0207-2
В монографии Е.В. Мареевой представлен анализ проблемы души,
которая находится на границе интересов теологии, психологии,
этики, классической и неклассической философии. Автор показывает
формирование трех основных трактовок души и ее бессмертия,
оформившихся в классической философии. В работе подробным образом
анализируется адекватная для философской классики постановка
этой проблемы Сократом и методологические противоречия,
возникшие при ее решении Аристотелем и аристотеликами средних
веков и Возрождения. Особое внимание уделено достоинствам
позиции трансцендентализма, которая стала возможной лишь на основе
последовательного скептицизма Д. Юма. Актуальность очерченных
подходов — философский идеализм, естественно-научный
материализм и культурно-историческая методология — показана на
примере современных споров в психологии и философии.
Второй круг в исследовании проблемы души связан с
неклассической философией, эволюция которой рассмотрена на примере
экзистенциализма — в стадии ее зарождения (С. Киркегор) и
расцвета (Л. Шестов). Направление этой эволюции, фрагментирующей
душу и редуцирующей ее к телесным актам, показано на фоне
парадоксов философского постмодернизма (Ж. Делёз).
© Мареева Е.В., 2002
© Московская академия экономики и права, 2002
© Академический Проект, оригинал-макет,
оформление, 2003
ISBN 5-8291-0207-2
стречали ли Вы название одной из торговых фирм —
«Для душа и души »? Авторы этого слогана, скорее
всего, уверены в своем прекрасном владении русским
языком и тонком юморе. А по сути это определенный симптом,
достойный серьезного изучения.
Смена эпох — это всегда сдвиг в массовой психологии,
теоретических представлениях, в философии. И он проявляет себя
не только в смене ярлыков, когда «мысль» становится «ноэмой »,
а «сознание» — «душой». За иной терминологией скрываются
иные методологические подходы. И при решении проблемы
человека это приводит к удивительным метаморфозам.
Советский человек обладал сознанием. А за официальным
стремлением придать ему научный характер чаще всего
проглядывал естественно-научный материализм, в рамках которого
идеальное сводимо к отражательной функции материального. В
постсоветское время нам вернули душу. Но поскольку
«воодушевляла » россиян в канун XXI века церковь, большинство обрело
бессмертную душу, а идеальное вновь стало антиподом
материального.
Актуальность проблемы души в том, что на ней сошлись
интересы теологии, психологии, этики, классической и
неклассической философии. Теология вроде бы имеет здесь право
первородства, но и ученые в лице психологов являются
профессиональными «душологами». И сложность ситуации как раз в том,
что в этом вопросе, как и во многих других, они являются
антагонистами. Начиная с XVII века, естествознание боролось с пред-
ставлением о самодостаточной бестелесной душе, добиваясь
строго научного понимания человека. В итоге в психологии мес-
3
Посвящаю эту книгу моим родителям,
которые ее давно и терпеливо ждут
то «псюхе», а точнее «анима», занял «внутренний опыт»,
уступивший затем место «психической деятельности» и
«психическому поведению».
Но сегодня мы видим двойственные результаты этой
победы. Ведь от имени науки человека превратили из субъекта в
объект, его способности приравняли к функциям, а в его
поступках часто видят аналог действий природной или
технической системы. Иначе говоря, победа научного подхода в
психологии стала победой позитивно-научного подхода. И здесь можно
полностью согласиться с оценкой сложившейся ситуации
доктором психологических наук Б.С. Братусем. «Психология
единственная, наверное, наука,— пишет он,— само рождение, весь
арсенал и достижения которой связаны с доказательством, что
то, ради изучения чего она замышлялась — псюхе, душа
человеческая,— не существует вовсе. Душа была принесена в жертву
определенным образом понимаемому научному мировоззрению,
поскольку не вмещалась в его прокрустово ложе. Метод стал
самостоятельным, диктующим — каким должно быть предмету
исследования, и поскольку душа не поддавалась, не
улавливалась этим способом, то она попросту была вынесена за скобки.
В результате получилась скорее психология лабораторно
испытуемого, чем живого человека »х.
С этим стоит, и даже нужно, согласиться. Когда внутренний
мир человека, его личность, и даже его «Я» представляют как
систему деятельностей или поведения человека, как правило,
открытым остается вопрос: почему при всех внешних
изменениях подобная деятельность сохраняет свое внутреннее единство}
Единство жизнедеятельности нашего организма обеспечивается
генотипом. Но человек — нечто большее, чем организм. И
особого рода целостность, превосходящую единство нашего тела,
как раз и фиксирует классическое, в том числе религиозное
понятие души.
Такого рода единство несводимо к установкам и стереотипам
поведения. И массовое сознание в эпоху государственного
атеизма продолжало отличать душу от тела, что бы ни говорили о
ней от имени науки. Ведь как раз на обыденном уровне налицо та
специфическая духовная инстанция, которая позволяет
говорить «Человек большой души», «Мы живем душа в душу» или
«Я сочувствую Вам от всей души ».
1 Начала христианской психологии.— М., 1995.— С. 4.
4
Своеобразие феномена души, которое не выразимо
понятиями «поведение», «психика»и
«сознание»»нагляднодемонстрирует остроумный прием психолога Г.А. Цукерман, которая
предлагает заменить слово «душа » на слово «психика » в ряде
известных выражений. И тогда перед нами оказывается бессмысленное
«Мы живем психика в психику » или «Я в нем психики не чаю ».
И столь же бессмысленны высказывания «Мы живем сознание в
сознание », «Человек большого сознания » или «Я сострадаю Вам
всем своим сознанием ».
Но если психология зашла в тупик, уповая на
однозначность экспериментальных данных и точность статистических
расчетов, то какова реальная альтернатива такой точки зрения?
Означает ли вышесказанное, что альтернативой
естествознанию с его отрицанием души в современных условиях может
быть только христианство?
Что касается не ученых, а широкой общественности, то она в
наши дни, как уже говорилось, легко вернулась к традиционным
христианским представлениям о душе под опекой церкви. Но
церковь теперь свободно конкурирует с массовой культурой.
А массовая культура убеждает всех и каждого в том, что душу
можно и нужно ублажать не только постом и молитвой, но и
приятным душем. По большому счету с душой дела обстоят так
же, как с медициной, спортом и искусством. Знатоком во всех
этих вопросах считает себя каждый. При этом мнению
позитивной науки и церкви наиболее «просвещенные » граждане
противопоставляют идеи, идущие с Древнего Востока, из
эзотерических и других источников.
Что делать в этой ситуации философам? Рискну высказать
банальность: начать разбираться во всем заново и желательно
всерьез. О том, как формировалось представление о душе в
классической философии и как оно трансформировалось в
философии неклассической, и пойдет речь в этой книге. Автор пытается
охарактеризовать разные тенденции, обозначившиеся в
философском развитии. При этом особое внимание, наряду с
религиозным и естественно-научным, уделяется
культурно-историческому пониманию феномена души.
* * *
Автор выражает благодарность кандидату
физико-математических наук С.Н. Бычкову за помощь в анализе античной
философии и культуры. Особую благодарность автор выражает
руководству Московской академии экономики и права за
помощь в издании этой книги.
ерефразировав древних римлян, можно сказать, что
все дороги ведут в Афины. К какой бы теме в
философии мы ни прикоснулись, везде истоки истины и
заблуждения следует искать там, где на смену фисиологии
приходит античная классика. То же касается неклассической
философии, которая, самоопределяясь, постоянно соотносит себя с
античностью, притягиваясь к одному и отталкиваясь от другого.
А. Шопенгауэр признавал лишь двух учителей, одним из
которых был Платон. С. Киркегор постоянно сопоставлял себя с
Сократом. Для Ф. Ницше Сократ — та фигура, которая
определила современный тупик европейской культуры.
Л. Шестов — не столько начало, сколько «расцвет»
неклассического философствования. Но и его притягивает античность,
в которой он видит время декаданса и даже более радикально —
грехопадения, связанного с доверием к разуму, который у Шес-
това напрямую ассоциируется со Змием Искусителем. «Когда
читаешь размышления Ф. Ницше о Сократе, все время невольно
вспоминаешь библейское сказание о запретном дереве и
соблазнительные слова искусителя: будете знающими»2.
И все же первым, согласно Шестову, был искушен не
Сократ, а Анаксимандр. Ведь именно он указал, что за спиной у
рождений и смертей стоит роковая необходимость. И доступна
она не магическим силам, а силе ума. Фисиология в лице Фалеса
и Анаксимандра действительно открыла дорогу натуральной
логике, когда вещи начали объяснять из них же самих. В
соответствии с такой точкой зрения, вещи существуют не за счет со-
2 Шестов Л. Киргегарл и экзистенциальная философия. (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 8.
6
общенной им прародителем силы, а за счет своего внутреннего
устройства, которое впоследствии назовут сущностью вещи.
В объяснении вещей из них самих — начало логического анализа
и умозрения.
Тем не менее, фисиология ранних греков — это еще не
собственно философия. Здесь присутствует изначальный
синкретизм, т. е. нерасчлененность того, что впоследствии станет
философией и естествознанием. В ответе на вопрос о природе вещей у
«досократиков » уже намечен путь к субстратной и субстанци-
альнойточкам зрения. Первая явным образом представлена у Анак-
симена, где многообразие вещей производно от сгущения и
разрежения воздуха. Вторая точка зрения представлена у Гераклита,
где уже присутствует категория меры, и вещи подобны
модификациям вечно живого Огня. В трактовке Анаксименом воздуха в
качестве архе можно видеть предтечу механистического
материализма, господствовавшего в европейской науке на протяжении
многих веков. Соответственно представления об Огне у
Гераклита и о гомеомериях у Анаксагора — предвестники понятия
материи как субстанции в европейской философии.
И все же Гераклит и Анаксагор, подобно другим «досокра-
тикам », находятся за пределами собственно философского
размышления. Философия самоопределяется при решении
проблемы человека и именно там, где человек предстает в качестве
противоречивого единства духовного и физического, души и тела.
Таким образом, философия становится возможной при
осознании феномена идеального. И эта граница как раз проходит
между учением Сократа и «досократиков ».
1. «Досократики»: связь души с природными стихиями
в данном случае идет не о словах, а о понятии. А к
понятию души мы приближаемся там, где речь идет об ее
идеальности. Что касается учений «досократиков », то в них еще
нет такого понятия, которое в философской классике означает
идеальность души и наличие идей и идеалов в качестве ее общих
основ. Все это как раз и выделяет человека из природного мира.
И с этим согласится даже материалист, если он стоит на точке
зрения классической философии.
Что касается вульгарного материализма, то последний
редуцирует идеальные проявления к сугубо телесным актам. И в этом
смысле вульгарный материализм, как крайняя форма естествен-
7
но-научного материализма, раскрывает его тайну. Суть этой
тайны — в неумении не только решить, но и поставить проблему
идеального. Для большинства естествоиспытателей, как в свое
время для фисиологов, душа есть нечто, к чему можно
отнестись вполне телесным образом — взвесить, обмерить, разделить.
Так, по свидетельству доксографов, Фалес, уверенный в
одушевленности всего на свете, доказывал это с помощью янтаря и
магнесийского камня, т. е. магнита3.
Итак, «досократики» признают душу руководящей
инстанцией по отношению к телу, что, кстати, не противоречит мифу.
Но характер души для фисиолога находится в прямой
зависимости от ее состава. И в этом новый пункт в понимании
природы души, который свидетельствует о своеобразии точки зрения
фисиологии.
Обратимся для начала к Гераклиту, который различал души
людей по их способности воспринимать истину в форме Логоса.
Следует уточнить, что поначалу «Axryoç » у греков означал лишь
«слово», «рассказ», «повествование ».Только со временем так
стали называть некий космический порядок и закон. Что
касается Гераклита, то большинство исследователей его творчества
признает ту трактовку Логоса, которая вошла в европейскую
философию благодаря стоикам. «Выслушав не мою, но эту-вот
Речь (Логос),— говорит Гераклит,— должно признать: мудрость
в том, чтобы знать все как одно »4.
Принято считать, что тот Логос, о котором говорится в
данном фрагменте, уже является космическим порядком и
одновременно словом, посредством которого вещает сама истина об
устройстве мира. При этом процесс познания предстает перед
нами не в форме свободного поиска истины, как это происходит
в современной науке, а как нечто, сходное с откровением. Не
человек открывает здесь истину усилиями своего разума, а,
наоборот, истина открывается ему, а точнее, овладевает
человеком, если он имеет соответствующую душу.
Здесь вспоминается пифия, игравшая незаурядную роль в
жизни древних греков. Ведь надышавшись ядовитых испарений
из расселины гор, она прорицала людям их судьбу, будучи как
бы захваченной потоком мистических сил. Тем не менее, мудрец
у Гераклита — это уже не пифия, поскольку подчиняет свою
душу не мистическим силам, а Логосу какразумному слову. И при
3 Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 100.
4 Там же.— С. 199.
В
такой, идущей от стоиков, трактовке Логоса, мысль мудреца и
внутренний порядок мира, соответственно, есть одно и то же.
Но, наряду с той трактовкой, согласно которой устами
мудреца говорит вселенский Логос, существует другая точка
зрения. Ее отличие от предыдущей в том, что воззрения Гераклита
намного ближе к мифологическому взгляду на мир, чем считали
стоики. А потому Логос у Гераклита — это именно слово,
сказанное людям богами. И потому не следует приписывать более
поздние значения следующему фрагменту, дошедшему до нас:
«Кто намерен говорить... с умом, те должны крепко опираться
на общее... для всех, как граждане полиса — на закон, и даже
гораздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного,
божественного: он простирает свою власть так далеко, как
только пожелает, и всему довлеет, и (все) превосходит»5.
В частности, А.Ф. Лосев различает две точки зрения на герак-
литовский Логос, указывая их сторонников. Сам он склонялся к
трактовке стоиков. Речь, таким образом, идет о том, признавал
ли Гераклит некую вселенскую необходимость, которую
отождествлял с «общим», или имел в виду только законы полиса,
подкрепленные авторитетом богов. Иначе говоря, речь идет не о
таких сложных вещах, как граница между объективным и
субъективным или различие законов природы и социальных законов.
Гераклит находится лишь на подступах к понятию закона как
необходимой объективной связи. И важно понять, на какой
ступени этого пути он находится. То же самое касается его
представлений о душе. Ведь к истине, как считает Гераклит,
приобщаются немногие. И объясняет он это «варварскими душами »
своих сограждан, неспособных к восприятию Логоса.
Грубыми душами, по его мнению, обладали и известные люди
прошлого —Гомер, Гесиод и Пифагор, а также Ксенофан и Ге-
катей. «Гомер стоил того,— отмечает он,— чтобы его выгнали с
состязаний и высекли, да и Архилох тоже »*. Большинство
людей подобны глухим, указывает Гераклит. Они ведут себя наяву,
подобно спящим. Согласно легенде, сокрушаясь по поводу
тупости людей и презирая их за это, Гераклит в бессильной ярости
плакал. Поэтому за ним закрепилось имя «Плачущий философ ».
Главное, однако, в том, что причину «варварства » в душах
людей Гераклит видел именно в составе этих душ, т. е. в их
вещественном состоянии. Дело в том, что души людей, согласно Ге-
' Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 197.
6 Там же.— С. 203.
9
раклиту, происходят из влаги. «Душам смерть — воды
рожденье,— говорил он,— воде смерть — земли рожденье, из земли
вода рождается, из воды — душа »7. Однако при этом души
склонны высыхать. И в результате сухая душа оказывается наилучшей.
Разница между «влажной » и «сухой » душой как раз и
определяет, по Гераклиту, различие между глупым и умным
человеком. Например, пьяница, по его мнению, безусловно, имеет
влажную душу. «Когда взрослый муж напьется пьян,—
свидетельствует Гераклит,— его ведет (домой) безусый малый; а он
сбивается с пути и не понимает, куда идет, ибо душа его
влажна »8. В то же время душа мудреца самая сухая и наилучшая.
Характерно, что в состоянии предельной сухости душа человека,
по Гераклиту, излучает свет, свидетельствуя уже о своей
огненной природе. Причем, переселяясь в Аид, души мудрецов
играют там особую роль стражей живых и мертвых. Напомним, что,
по поверьям древних греков, души умерших к реке Стикс
провожает сам бог Гермес, держа их при этом за руку.
Сухость и свет, отличающие лучшие из душ, по
свидетельству некоторых доксографов, могут соответствовать лишь
внеземному эфиру, но никак не земным огню и свету. И, тем не
менее, еще раз повторим, что душевные изменения, которые
способствуют постижению истины, носят у Гераклита вполне
вещественный характер. Души глупцов, согласно Гераклиту,
состоят из влаги, а души мудрецов — из огня. Что касается
природы души вообще, то этот вопрос попросту еще не ставится.
Как мы видим, мысль раннегреческих мыслителей еще не
обрела той ясности и строгости, которую они сумели
продемонстрировать в своих математических построениях. Отсюда «швы »
между рассудочной логикой и мифологической фантазией,
которые просматриваются по всему полю фисиологических
построений «досократиков ». Как раз на стыке логики и фантазии и
рождаются учения фисиологов о телесной душе, состоящей из
разных стихий. И даже там, где применительно к душе речь идет
о неких «эйдолах», как у Демокрита, они не привносят в
представления о ней ничего собственно идеального.
Известно, что учение Демокрита вызывало огромную
неприязнь у Платона, который однажды попытался сжечь все
собранные им работы этого мыслителя. Характерен и тот факт, что
7 Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 229.
* Там же.— С. 233.
to
Платон ни разу не упоминает о Демокрите в своих
произведениях. И делает он это, скорее всего, умышленно. Шаблонное
объяснение заключается в том, что первый идеалист античного мира
уже по определению должен испытывать неприязнь к самому
известному и последовательному античному материалисту. Но
ситуация на деле и сложнее, и проще, поскольку Демокрита
нельзя признать материалистом в позднейшем смысле этого
слова. Здесь перед нами отнюдь не два решения одной проблемы —
материалистическое и идеалистическое. Суть в том, что те
проблемы, которые пытается решить Платон в своем учении об
идеях, для Демокрита просто не существуют?.
Забегая вперед, скажем, что смысл учения об идеях у
Платона — в обосновании родовой сущности вещей и людей. Ведь уже
Гераклит, заявляя, что все течет, вводит представление о мере
как моменте постоянства в потоке изменений. И гомеомерии
Анаксагора — это тоже попытка объяснить, откуда берется
качественная определенность всех предметов и существ. Почему,
к примеру, кошка всегда остается кошкой, и, даже погибая, не
становится собакой? Что именно удерживает ее в этом
«кошачьем состоянии »? И почему у кошки при любых обстоятельствах
все равно рождаются котята, а на яблоне все равно вырастают
яблоки, а не, к примеру, помидоры? Еще сложнее обстоят дела с
человеком, у которого деятельность души связана с единством
личности, что позволяет узнать человека через много лет по
складу характера, особенностям мышления и поведения, другим
проявлениям его Я.
Но именно родовое своеобразие вещи, которое Платон
связывает с ее «эйдосом», не существует для Демокрита. Зато у
Демокрита мы находим «эйдолы». И различие между «эйдоса-
ми » (eidos) Платона и «эйдолами » (eidol) Демокрита носит
принципиальный характер10. Оба приведенных слова переводятся на
русский язык прежде всего как «образ», «облик», «очертание».
Именно из уверенности в том, что все в мире должно иметь
внешние очертания, исходит в своем учении Демокрит. При этом ни
9 Предлагаемая трактовка учения Демокрита делает довольно
условным ленинское противопоставление «линии Демокрита» как первого
материалиста «линии Платона» как первого идеалиста в его работе
«Материализм и эмпириокритицизм» (См. Ленин В.И. Поли. собр. соч.— Т.18.—
С 131).
10 На употребление Демокритом термина «eidol» указывает Э. Целлер.
См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 72.
и
в одной из вещей он не предполагает внутренней основы,
способной удерживать атомы в составе этой вещи. Своеобразие
атомизма Демокрита состоит в том, что атомы, соединившись в вещь,
могут разъединиться и разлететься при сотрясении и ударе. А
потом соединиться вновь уже в ином варианте и иной комбинации.
В этом свете не только тело человека, но и его душа, согласно
Демокриту, может распадаться на атомы. Душа, как считал
Демокрит, распадается на шарообразные составляющие, из
которых состоит и огонь. Таким образом, душа, по его убеждению,
смертна. Причем смерть человека он связывает с выдыханием
огневидных атомов души. В своей работе «О душе » Аристотель
так характеризует представления Демокрита и Левкиппа о связи
между дыханием и жизнью: «Оба они считают шаровидные
атомы душой, потому что атомы такой формы больше всех в
состоянии проникать повсюду и, сами будучи приведенными в
движение, двигать и остальное; при этом оба полагают, что именно
душа сообщает живым существам движение. Поэтому с
дыханием, по их мнению, кончается жизнь. Именно, когда
окружающий воздух сжимает тела и вытесняет атомы..., которые
сообщают живым существам движение тем, что сами они никогда не
находятся в состоянии покоя, возникает защита — благодаря
дыханию входят извне другие атомы, которые препятствуют
выходу содержащихся в живых существах атомов,
противодействуя этому сжатию и затвердению. И живые существа живут
до тех пор, пока они в состоянии это делать »п.
Итак, прекращение движения означает, по Демократу, что
человек буквально «испускает дух » в форме указанных
огневидных атомов. Естественно, что в процессе указанного
кругооборота атомов души в результате дыхания они наполняют не
только живое существо, но и мир, где пребывают в рассеянном
состоянии. По свидетельствам того же Аристотеля, больше
всего атомов души находится в воздухе, откуда люди извлекают их
посредством дыхания. Что касается локализации души внутри
человеческого тела, то животная неразумная часть души,
позволяющая человеку двигаться, по убеждению Демокрита,
распределяется по всему его телу. А разумная часть души должна быть
сосредоточена в районе груди, т. е. в легких.
Однако уверенность Демокрита в телесности как животной,
так и разумной части души, по мнению Аристотеля, приводит к
" Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 375.
12
нелепости. «Ведь если душа находится во всем ощущающем
теле,— пишет он в работе «О душе » — то при предположении,
что душа есть некое тело, необходимо, чтобы в одном и том же
месте находилось два тела »12. Иными словами, согласно
Аристотелю, в одном и том же месте не могут одновременно
располагаться и тело человека, и «тело » его души. А из этого следует,
что либо душа не находится в теле, либо она не является особым
телом. Так рассуждает Аристотель. Интересно, что по мнению
исследователя античности А.Н. Чанышева, точка зрения
Демокрита не столь нелепа, как считал Аристотель. Если признавать
существование пустоты между атомами, считает он, то тогда одно
тело как бы пронизывает другое. И таким образом, они
оказываются совместимыми13.
Как считал Демокрит, огневидные атомы вихрями
носящиеся по Вселенной, могут сами по себе соединяться в образы,
способные существовать довольно долго. Именно эти образы люди
называют богами, поскольку последние могут влиять на их
жизнь в лучшую или худшую сторону. Приближаясь к людям
вплотную, эти образы своим видом и звуками предсказывают
будущее. А в результате те начинают поклоняться им и
приносить жертвы. Среди прочего, люди, согласно Демокриту,
поклоняются воздуху как вместилищу огневидных атомов, называя
его верховным богом Олимпа — Зевсом.
Однако, воссоздавая точку зрения Демокрита на
происхождение богов, нужно иметь в виду, что в дошедших до нас
материалах она не выражена ясно и однозначно. И это позволило
М.Т. Цицерону уличать Демокрита в непоследовательности.
«Что же сказать о Демокрите, который возводит в боги то
«образы » в их беспорядочном движении,— пишет Цицерон,— то
ту природу, которая изливает и посылает эти «образы », то нашу
мысль и разум? Мне кажется, что Демокрит... колебался в
вопросе о природе богов. То он считал, что во Вселенной есть
образы, обладающие божественностью, то он утверждал, что
боги — это атомы души, находящиеся в той же Вселенной, то
одушевленные «образы», которым свойственно помогать или
вредить нам, то некие образы, столь огромные, что они
охватывают весь наш космос снаружи»14.
12 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 388.
IJ См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.—
С. 192.
м Цит. по: Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования.—
Л., 1970.— С. 472.
13
Приведенные выше слова Цицерона еще раз
свидетельствуют о неоднозначности позиции Демокрита в этом вопросе. Но
неоднозначность не означает наличия внутренних противоречий.
Можно спорить с Демокритом о том, являются ли боги некими
«образами », состоящими из атомов, которые одновременно
входят в состав человеческой души. Можно не соглашаться с тем,
что такие атомы являются «элементами » наших мыслей. Можно
не верить в то, что эти одушевленные образы беспорядочно
движутся во Вселенной, помогая или нанося вред людям. В конце
концов, вслед за Цицероном, можно считать, что указанные
представления о богах достойны скорее родины Демокрита — города
Абдеры, чем его самого. А город Абдеры на северо-востоке
Эллады считался у греков родиной простофиль. Но нельзя доказать,
что Демокрит противоречил сам себе или же серьезно колебался в
принципиальных моментах, касающихся природы богов.
Взгляды Демокрита — последовательный атомизм, и в силу этой
последовательности боги у него телесны. При этом он считает, что
поклонение богам — это результат невежества, а именно незнания
атомного строения мира. Иначе бы люди поняли, что не существует
вечных и бессмертных богов, а существуют лишь бренные
соединения огневидных атомов, наряду, к примеру, с «эйдолами ». Причем
и те и другие свободно перемещаются в пустоте, воздействуя на
воспринимающих их людей. Правда, в отличие от богов и демонов,
«эйдолы » не возникают сами по себе, а испускаются вещами.
Представление об «эйдолах» как подвижных телесных
«образах» вещей напрямую связаны с объяснением Демокритом
процесса зрительного восприятия. Дело в том, что, согласно
Демокриту, «эйдолы» постоянно истекают из вещей, будучи чем-
то вроде их миниатюрных копий. Их испускают все вещи и
растения. Но энергичнее всего они исходят из живых существ
вследствие их движения и теплоты. Оригинальность трактовки
Демокритом зрительного восприятия отмечал представитель
школы Аристотеля Теофраст. Согласно Демокриту, воздух,
находящийся между глазом и предметом, «получает отпечаток,
сдавливаясь видимым и видящим»15. В свою очередь измененный
воздух соприкасается с истечениями наших глаз. При этом, как
подчеркивает Э. Целлер, «каждый род атомов воспринимается
однородными ему атомами в нас»16. Это значит, что верный об-
15 Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты.— Баку, 1946.— С. 282.
16 Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 72.
и
раз вещи, по Демокриту, возникает там, где ее «эйдолы», прямо
или косвенно, находят внутри нас аналогичную себе основу.
Тем не менее, по большому счету, любое восприятие,
согласно атомистическому учению, не достигает подлинной сути мира.
«Только считают,— отмечает Демокрит,— что существует цвет,
что существует — сладкое, что существует — горькое, в
действительности — атомы и пустота»17. Из этого известного
положения Демокрита, конечно, не следует, что он был скептиком.
Ведь, сомневаясь в данных чувств, он уверен в возможностях
разума. При этом мышление у него так же телесно, как и
чувственное восприятие, и имеет место там, где у души надлежащая
пропорция. Теофраст отмечает: «... что касается мышления, то
Демокрит ограничился заявлением, что оно имеет место, когда
душа смешана в надлежащей пропорции... он сводит мышление
к (характеру) смеси (атомов) в теле, что, по-видимому,
соответствует его (учению), по которому душа — тело »18.
Атомистические взгляды Демокрита часто отождествляют с
атеизмом. Так делает, к примеру, А.Н. Чанышев, который,
подводя итог анализу позиции Демокрита, делает энергичный
вывод: «Таким образом, атомисты — атеисты»19. Но,если позиция
Демокрита — атеизм, то атеизм особого рода. Ведь Демокрит
признает существование богов. Будучи противником всяких
чудес и мистики, Демокрит признает предзнаменования, вещие сны
и многое другое, если это находит свое естественное
объяснение. И такое естественное объяснение связано с наличием богов
и демонов в качестве вполне телесных образований.
Обоснование бытия богов Демокритом — характерный
пример фисиологических построений. Для богов как бессмертных
мифических существ в его учении уже места нет, как нет в нем
места для бога в качестве Высшего Блага, совершенства и идеала.
Зато в нем нашлось место для того, чему больше подходит
название не «идеал», а «идол». Ведь именно «идолом» принято
называть ограниченное в своей телесности воплощение
божества. Такие воззрения можно определять как атеизм, имея в
виду то, что Демокрит отказался от традиционного отношения к
богам. Эти же воззрения можно характеризовать как теизм,
поскольку у Демокрита боги по-прежнему реальны, существуя
17 Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования.— Л., 1970.—
С. 79-80.
18 Там же.— С. 460.
w Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.— С. 202.
15
рядом с нами. Боги, согласно Демокриту, смертны и состоят из
атомов, но по большому счету это не отдаляет, а сближает их с
богами из античных мифов. Ведь Гея и Уран, Крон и Рея, Зевс и
Гера воспринимались греками как вполне телесные существа, в
отличие от того, как будут воспринимать Создателя христиане.
И все же главное то, что такого рода «атеистический теизм »
не предполагает веры в бога как исток любой религиозности.
Боги для Демокрита — не предмет культа, а объект
исследований. Представления о них органично вписываются в его фисио-
логические построения. Более того, представления о мире,
наполненном телесными «эйдолами », и о богах, подобных
ограниченным идолам, вполне закономерны для этой формы знания.
Такова позиция фисиологии, которая еще не опирается на
развитую опытную базу, чтобы адекватно, как это делает
естествознание, судить о природе.
Что касается человека, то, даже не поставив проблему
идеального, фисиолог судит о нем столь же неадекватно.
Признавая между душой и телом причинно-следственные связи, он
меряет душу вещной меркой. И этот взгляд близок тому, что
проповедуют современные экстрасенсы, для которых душа, как и
бог, есть разновидность «тонкой материи». А следовательно,
взаимоотношения человека с богом, а также его общение с
демонами, привидениями и другими «потусторонними»
явлениями, можно корректировать чисто физическими воздействиями,
осуществляемыми от имени и под «покровительством»
современного естествознания.
Еще раз повторим, что такого рода вещный взгляд на душу не
стоит проводить по ведомству философского материализма.
Здесь еще отсутствует та система координат, в которой
философская классика в борьбе идеализма и материализма будет
осмыслять проблему своеобразия человеческой души. Путь к
адекватной постановке этой проблемы связан с обсуждением
проблемы истоков добродетели. А это значит, что пора перейти к
софистам и Сократу.
V. Софисты и первый опыт субъективизма
ели у «досократиков », и в частности у Демокрита,
человеческое поведение и движения его души объясняются,
исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ
разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира ближай-
it
ших природных связей, рассматривая его действия через призму
того, что именуется «наилучшим ». Тем самым классическая
философия обретает свой особый предмет, не совпадающий с
предметом естественных наук. Трансформируется и метод
теоретической рефлексии, который у Сократа связан с майевтическим
диалогом.
Чтобы обозначить ту новую проблему, которая впервые была
поставлена Сократом, обратимся к диалогу Платона «Федон » в
том месте, где, согласно комментариям А.Ф. Лосева, речь идет о
душе как эйдосе жизни. Беседуя перед казнью с учениками,
Сократ в этом диалоге характеризует свое отношение к воззрениям
Анаксагора. Сократ удивляется тому, что, признав Ум главной
причиной и устроителем мира, Анаксагор исключил его из
рассмотрения отдельных процессов, обращаясь при этом к
воздуху, эфиру, воде и многому другому. Объясняя суть
обсуждаемой проблемы, Сократ приводит в пример самого себя,
ожидающего исполнения смертного приговора.
Если рассуждать подобно Анаксагору, говорит Сократ, то
следует сказать: «Сократ сидит здесь потому, что его тело
состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены одна
от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и
расслабляться и окружают кости — вместе с мясом и кожею,
которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в своих
суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют
Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит
теперь здесь, согнувшись»20. Продолжая свою мысль, Сократ
отмечает, что и для его беседы с учениками тоже можно указать
причины в виде движения воздуха, звуков голоса и тому
подобного, пренебрегая главным, а именно тем, что раз афиняне сочли
нужным осудить Сократа на смерть, то он считает справедливым
оставаться на этом месте и понести наказание. «Да клянусь
собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы в Мегарах
или в Беотии, увлеченные ложным мнением о наилучшем —
возмущенно заявляет Сократ,— если бы я не признал более
справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять
любое наказание, какое бы ни назначило мне государство »21.
Уже в этом небольшом, но характерном отрывке из «Федо-
на » обнаруживает себя своеобразие точки зрения Сократа, ко-
20 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993-1994.— Т. 2.— С. 57.
21 Там же.— С. 57-58.
17
торый не может объяснить поведение человека, исходя из
естественных причин и законов, которым подчиняется наш организм.
Поведение человека выходит за рамки жизнедеятельности
организма. И знание о «наилучшем» в примере, приведенном
Сократом, является причиной высшего порядка, выводящей
людей за пределы природного мира.
У Аристотеля такого рода причины будут выделены как
целевые. Что касается Сократа, каким он предстает в «Федоне»,
то здесь просматривается та фундаментальная особенность
классической философии, которая определит ее дальнейшее
развитие. Если Демокрит смотрит на человека через призму вещи, то
Сократ из «Федона » смотрит на вещи с точки зрения человека.
В результате он не понимает, почему Анаксагор судил об
отдельных процессах природы, исходя из особенностей воздуха, эфира,
воды и т. д. Согласно Сократу, теперь уже обо всем на свете
нужно судить с точки зрения Ума как устроителя Вселенной. А это
как раз и означает мерять весь мир человеческой мерой.
Но вернемся к поведению человека. Итак, не кости и
сухожилия определяют суть человеческих поступков, а
представления о «справедливом » и «наилучшем ». Есть в человеке нечто, что
руководствуется этими представлениями. Этим «нечто»
является душа, для которой значимы не столько телесные желания,
сколько представления разума. Проблема, однако,
заключается в том, что, руководствуясь разумом, душа часто действует
наперекор телу. И это мы видим на примере того же Сократа.
Его жилы и кости могли бы уже давно находиться на воле в
Мегерах, но Сократ обрекает их на муки тюремной неволи, а
затем на гибель, исходя из представления о «наилучшем ».
Именно душа Сократа обрекает тело на страдания и гибель. И
сколько б мы ни изучали организм человека, вплоть до самой высшей
нервной деятельности и до последней нервной клетки, мы не
найдем в нем потребности или необходимости в подобной
добровольной жертве. Тем более там, где его жизни и жизни
близких ничего не угрожает.
Таким образом, Сократ обнаруживает в душевных
движениях человека тенденцию, которая, согласно философской
классике, противоположна той, что господствует в природном мире.
Наши духовные мотивы и цели, связанные с представлениями
разума, есть нечто отличное и даже противоположное телесным
желаниям. Они противоположны стремлениям тела по
направленности и по сути. Ведь налицо существенная разница между
1В
простой телесной жаждой и жаждой справедливости, которой
руководствовался Сократ, соглашаясь подчиниться решению о
казни. В первом случае поведение человека определяет частная
потребность его организма. Во втором случае поведение
человека обусловлено некими общими представлениями. А это значит,
что в устремлениях души может быть представлено нечто
общее, и в этом качестве душа противостоит телу как чему-то
частному. А также, если принять позицию Сократа и Платона, она
может противостоять чувственным проявлениям в самой себе.
Вопрос об основаниях человеческой жизни считается
главным в учении Сократа. Недаром его взгляды обычно
определяют как этический рационализм. Рационализмом позиция
Сократа является потому, что именно разум, который он именует
«отвлеченными речами », ориентирует поведение на некие
объективные основы. Иначе предлагали действовать человеку
современники Сократа — софисты. И в противостоянии Сократа и
софистов — главный нерв формирующейся античной классики,
в противовес тому, как представлял их взаимоотношения
комедиограф Аристофан в своем произведении «Облака ».
По сути Сократ настаивал на объективной мере, которой
человеку следует мерить свои поступки, определяя их низость
или, наоборот, величие. Именно у него эта мера превращается из
внешних предписаний богов и образцов, задаваемых героями, во
внутреннюю инстанцию — знание души о «наилучшем». Но
открытие некой объективной инстанции не вне, а внутри нас могло
состояться только после того, как интересы философии
переместились во внутренний мир человека — в мир его желаний,
предпочтений, приоритетов. И этот сдвиг, подготовивший
открытие Сократа, осуществили как раз софисты.
Мы будем говорить в основном о Протагоре. Ведь несмотря
на то, что софисты видели свою задачу в обучении юношества, у
них не было философской школы в позднейшем платоновском
или аристотелевском смысле слова. Напомним, что интересы
софистов переместились в область, почти неизвестную «фисио-
логам ». Центр исследований Протагора — это уже не
астрономия и математика, а логика, грамматика и риторика, а также
политика и право. Словом, это то знание, которое главным
образом обращено к нуждам отдельного индивида, а вовсе не к
основам мироздания.
Будучи первыми платными учителями греков, софисты
обучали их мудрости в домашних и государственных делах. Так в
19
диалоге «Протагор» Платон вкладывает в его уста слова о том,
что софист не должен терзать юношей упражнениями из
области геометрии, астрономии и музыки. Задача софиста — научить
юношей управлять домом, а также быть сильными в поступках и
речах, касающихся государства. А здесь главное — уметь
рассуждать и доказывать свою правоту. Причем уточним, что
между рассуждением и доказательством существует различие. Ведь
любое рассуждение — это процедура сравнения и выбора, тогда
как суть доказательства в обосновании выбора, уже сделанного
человеком.
Итак, софисты помогали грекам выявлять основания своих
поступков, которые принято называть мотивами. Искусство
мотивирования, изощренность доводов, умение произвести
впечатление на собеседников — вот цели, которые преследовали
юноши, обучаясь у софистов. Но все это не имеет ровно
никакого смысла, пока за индивидом не признано право на
самостоятельность, то есть право поступать согласно внутренним
побуждениям, а не только в соответствии с предписаниями,
освященными божественным авторитетом. Вот почему деятельность
софистов была сопряжена с критикой традиционных устоев и с
ниспровержением веры в олимпийских богов.
Путешествуя по Греции, Протагор дважды посещал Афины.
Во второе посещение он даже разработал проект новой
конституции по просьбе Перикла. Но, как известно, именно тогда он
был схвачен и приговорен судом к казни. Причиной столь
строгого приговора стала работа Протагора «О богах»,
начинавшаяся словами: «О богах я не могу знать ни того, что они
существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое
препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость
человеческой жизни »22.
Мы знаем, что Протагору удалось избежать казни. Подобно
Анаксагору, он был изгнан из Афин, а его книга публично
сожжена. Но в данном случае важна не внешняя фактическая канва,
а те средства, которые использует Протагор в своей критике
староотеческих богов. Судя по приведенному фрагменту, в
отношении богов можно рассуждать, исходя из двух оснований.
Во-первых, это человеческий разум, способный разобраться в
ясно поставленных вопросах. А, во-вторых, это личный опыт
22 Античные философы: свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев,
1955.— С. 123.
2В
человека, позволяющий ему отличать истину от заблуждения.
Таким образом, вопрос о вере оказывается у Протагора
трансформированным в анализ знания, критерий истинности
которого непосредственно связан с индивидом.
Обратим внимание на то, что разум у Протагора — это уже
не манифестация космоса, как это было у «фисиологов », а
собственная сила и орудие человека. Знания человека, как и сам
мир, в «фисиологии» оказываются расколоты надвое. Для «фи-
сиолога » только разум имеет отношение к истине. А значит
разум выражает устойчивую основу мира, а мнение — его
изменчивую внешность. Истина оказывается выражением
первоосновы мира, и приобщение к ней не зависит от личных качеств
индивида.
Для «фисиолога» главное — вступить на путь истины,
который для всех один и тот же. А вступивший на путь истины
оказывается орудием космоса. Его устами вещает истина, а
поступками руководят боги. Для «фисиологов »не существует
проблемы личных способностей, зато важен вопрос об образе
жизни человека, который способствует приобщению к истине.
Таким образом, мыслящий человек в «фисиологии» предстает в
роли своеобразного медиума, через которого действует космос.
И даже философ в таком случае предстает скорее в роли
проводника и средства, чем субъекта процесса познания.
Иначе решают эту проблему софисты, у которых разум
впервые становится личной силой и способностью человека. Быть
мудрым у софистов — это значит уметь свободно мыслить, что
совпадает с умением выражать мысли в свободной и грамотной
речи. Софисты еще не отличают ум от разумной речи. Но в этой
свободе умай речи — главное открытие софистов. Ум, который
у «фисиологов» был орудием космоса, у софистов становится
личной способностью, позволяющей человеку впервые ощутить
власть над миром. Софисты открывают возможность судить обо
всем на свете, доказывая то одно, то другое в равной степени
убедительно. Пусть не на деле, но в словесном диалоге, в
котором они были мастерами, софисты ставят мир в зависимость от
себя самих как исходной точки отсчета.
Здесь стоит сделать отступление и указать на то, что ум ста- ■
новится началом свободы, а точнее произвола, уже в учении
Анаксагора, который стоит особняком среди «досократиков».
Правда, Анаксагор говорит не о человеческом, а о божественном ■
уме, по своему желанию устраивающем мир природы. В вопросе
21
о первооснове бытия Анаксагор исходит из существования, с
одной стороны, многообразия гомеомерий в природе, а, с
другой стороны,— внеприродного Нуса, который как раз и
выводит исходную природную смесь из состояния
неупорядоченности и неподвижности. Сам будучи неподвижным, и, в
отличие от гомеомерий, простым и неделимым, Нус является у
Анаксагора движущей силой всего мироздания. Задав
круговое движение «подобочастным», Нус, согласно Анаксагору,
организовал их в форме вещей, определив тем самым облик
известного нам мира.
Итак, Нусу в учении Анаксагора отводится роль верховного
правителя Вселенной. При этом его нельзя путать с Логосом,
согласно его стоической трактовке. В таком понимании Логос —
это космическая необходимость, которая не может быть
проигнорирована ни вещами, ни людьми, ни богами. Иначе правит
миром Нус, волю которого, в противовес Плутарху, можно
сравнить со случаем, именуемым у греков «тюхе ». Однако, если Нус
не несет в себе закона и необходимости, то кто и что помешает
ему, однажды начав движение мира, столь же неожиданно его
прекратить?
Надо сказать, что суждения Анаксагора о божественном Нусе
были столь впечатляющими, что современники прозвали его
самого Нусом. Но наиболее высоко его оценили потомки. Ведь по
сути дела Анаксагор впервые обозначил противоположность
действий ума и природных процессов. Вынеся Нус за пределы
мира природы, Анаксагор по сути вступил на тот путь, который
привел в дальнейшем к открытиям софистов и Сократа. Но это
еще не все, поскольку, сделав Нус запредельным миру, он
наделил его произволом. «Только один Анаксагор утверждает,—
пишет Аристотель,— что ум ничему не подвержен и ни с чем
другим ничего общего не имеет»23.
Итак, Нус Анаксагора — это самовластное начало бытия,
которое, как подчеркивал он сам, знает все, но при этом его
собственная воля и власть для людей непостижимы. То, что смысл
деяний Нуса не просто скрыт от человека, но непостижим,
поскольку по сути произволен, более всего раздражало
оппонентов Анаксагора. Так Аристотель возмущался тем, что Нус у
Анаксагора играет роль «бога из машины ». Известно, что во
время театральных представлений, так любимых греками, в случае
" Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 379.
22
безвыходных ситуаций, на подмостки сверху опускалось
механическое устройство, несущее «бога», который своей волей все
счастливо устраивал. Сравнивая Нус с таким «богом из
машины», Аристотель подчеркивал, что, к сожалению, у Нуса нет
своей строго необходимой роли в теории Анаксагора, и он
появляется в ней всякий раз, когда что-то нельзя объяснить другими
причинами24.
Еще более резко по поводу самовластия Нуса высказывался
Климент Александрийский, отмечавший «глупость » этого ума.
И подобные нападки вполне объяснимы, поскольку
преимущество логики, с точки зрения античных философов, заключается
в том, что она позволяет представить весь мир как
организованное целое, живущее согласно законам, а не прихотям слепых
стихийных сил, действующих в мире. Однако в случае с Нусом
все получалось как бы наоборот. Ум, который у других «досок-
ратиков» был представителем вечной и неизменной истины
бытия, у Анаксагора вновь стал превращаться в источник стихии.
Однако это была уже другая стихия, о которой в полный голос
заговорили именно софисты.
Речь идет о стихии субъективной жизни человека. Ведь
обуздание природной стихии давалось человеческому роду по мере
того, как он учился сам определять течение окружающей
жизни. Но способность к самоопределению коварна. На первых
порах она оборачивается произволом. В результате исторически
сила человеческого рода прибывала за счет вызревания иной
стихии. Это уже стихия не природных сил, а индивидуальных воль
и стремлений человека. С помощью своего «самовольного » Нуса
Анаксагор лишь косвенно заявил об указанном стремлении к
самоопределению. Тем не менее, представление о Боге,
способном по собственному желанию сотворить мир, нашла свой
отзвук в христианском вероучении и христианской философии.
Что касается софистов, то именно у них ум из божественной
инстанции превращается в человеческую способность. Ум у
софистов — это способность к самостоятельному решению и
действию, предполагающим определенные правила. Но
движущая сила, определяющая манипуляции с правилами ума у
софистов,— это по большому счету произвол. Игнорируя тонкие
различия между старшими и младшими софистами, заметим, что
логика в ее софистическом варианте предполагает законы не
24 См.: там же.— С. 74.
23
как нечто объективное, а как субъективные правила игры. До
сих пор софистикой именуют внешне грамотные суждения,
которые не соответствуют действительности. Сиюминутная
убедительность — главная цель софиста, ради которой он
пользуется красноречием и разворачивает систему аргументации. А за
спиной сиюминутной убедительности стоит личный интерес,
который обслуживает развитая логическая способность.
По сути перед нами потребительское отношение к разуму,
когда он не ищет истину, а обслуживает частные потребности.
И такую позицию в отношении разума впервые заняли софисты.
В комедии Аристофана «Облака» земледелец Стрепсиад хочет
избавиться от долгов, и с этой целью он обращается в «мыслиль-
ню» к софистам. Его цель — выучиться тем уловкам, которые
помогут везде и всюду побеждать. Устами Стрепсиада
Аристофан объясняет занятия софистов:
И тем, кто денег даст им, пред судом они
Обучат кривду делать речью правою".
Конечно, никакой специальной «мыслильни» у софистов не
было. Как не было среди них и Сократа, который осуждал
софистов за использование мышления в сиюминутных и
своекорыстных целях. Для него мышление — это способ свободного
отыскания истины, и прежде всего объективной истины
человеческого существования.
По сути дела софисты низвергли разум с того трона, на
который его возвели античные «фисиологи». Софизмы, которые они
широко применяли и которым за плату обучали других,
рождаются в житейской практике. Софизм по его происхождению —
это житейское применение мышления. В этом смысле жизнь и
деятельность античных софистов опровергает расхожее мнение,
будто нужда в софизмах может возникнуть лишь в
теоретическом споре или в ходе политического диспута. В
действительности софистика вырастает уже на почве житейских интересов. Ведь
суждения о жизни с позиции выгоды и пользы — это признак
здравого смысла и рассудительности человека. И даже там, где
собственную выгоду противопоставляют всему другому, люди
остаются в пределах здравого смысла и житейской смекалки.
Но именно здесь и возникает первая нужда в софистике, когда
рассудку нужно обосновать весомость данного решения.
:' Античная литература. Греция: Антология.— М., 1989.— Ч. 2.— С. 9.
24
Иначе говоря, софизмы неминуемы там, где логику
подчиняют личному интересу, а критерием достоверности суждений
и выводов становится сам индивид с его заботами,
желаниями и страстями. И надо сказать, что античные софисты были
достаточно откровенны, освещая суть своей позиции. Вспомним
хотя бы известное высказывание Протагора из его работы
«Истина, или Ниспровергающие речи »: «Человек есть мера всех
вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих,
что они не существуют»26.
Заметим, что Протагор здесь честен, но неточен. Ведь точкой
отсчета в учении софистов стал не столько «человек», сколько
«индивид ». И, уточнив эту разницу, мы поймем, почему так
яростно спорил с софистами Сократ. Дело в том, что, подчиняя
мышление теперь уже не космосу, а человеку, софисты не наделяют
его автономией. Да и сам человек у них отнюдь не автономен,
если иметь в виду собственный смысл этого слова, которое
переводится с греческого как «полагающий закон самому себе ». Спор '
в данном случае идет о том, чем должен руководствоваться
человек в своей жизни. Ведь, если греки не желают больше
следовать традициям, то могут ли они найти в самих себе столь же
весомый закон и основу для совместной жизни? Или достаточно
опереться на частный интерес и личный мотив, участвуя в
погоне за жизненным успехом?
Софисты по сути отстаивали второе, полагаясь во всем на
отдельного индивида. А в результате проблема объективной
истины превращается в вопрос о субъективной оправданности
человеческих поступков. Ведь у русского слова «оправдать » есть
разные смыслы. И один из них связан с поиском мотивов и
причин совершенного поступка. С этой точки зрения, у каждого из
нас своя «правда », поскольку любой поступок будет иметь свои
побудительные мотивы.
Разбираясь в связи с софистами в этом вопросе, Гегель
остроумно замечает, что в любом, даже самом дурном поступке
заключена точка зрения и определенный мотив, выдвигая
который можно извинять и защищать этот поступок. Так делают
дезертиры во время войны, объясняя свое поведение
«обязанностью » сохранения собственной жизни. И чем образованней
человек, замечает Гегель, тем лучше он обосновывает свой дур-
26 Античные философы: Свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев, "
1955.- С. 121.
2S
ной поступок27. Более того, задача адвоката на суде —
объяснить и обосновать мотивы действий преступника. Он
доказывает, что в действиях преступника была своя «логика », а
значит и своя «правда». И тем не менее, окончательное решение
выносит суд. Именно он устанавливает истину, учитывая
аргументы всех сторон и оценивая ситуацию с позиции закона и
нравственных принципов.
Таким образом, не только Гегель, но и современный суд
стоит на позиции объективного смысла человеческих поступков.
Что же касается софистов, то для них важнее всего не то, что
есть на самом деле, а то, что ощущает и переживает индивид.
В пересказе Секста Эмпирика мысль Протагора о человеке как
«мере всех вещей » должна пониматься следующим образом: «все,
что представляется людям, то и существует, а то, что не
является никому из людей, то и не существует»28. Но люди
воспринимают мир по-разному, замечает Секст Эмпирик, в зависимости
от своих состояний. Разное восприятие у больного и здорового,
старца и юноши, спящего и бодрствующего, у человека
живущего естественной жизнью и жизнью противоестественной. А
потому критерием достоверности могут быть лишь телесные
состояния данного конкретного индивида.
Итак, мир таков, каким он является мне в данный момент. В дру-
гой момент и для другого человека мир оказывается другим. Но
тогда точкой отсчета мы должны признать не данного индивида как
целое, а его состояние и даже ощущение в данный момент. Ведь в
следующий момент ощущение будет уже иным. Вполне понятно,
что, двигаясь в этом направлении, мы вынуждены признать, что ни
в нас, ни в мире нет ничего постоянного. Есть только бесконечное
изменение, и в этой бесконечной смене ощущений не стоит искать
ни связности, ни смысла, ни, тем более, внутренней основы.
Судя по дошедшим до нас материалам, подобной
последовательности в утверждении своей позиции Протагор не проявил.
Ведь любые поступки, если дойти до края в таких суждениях,
уже становятся неуместными. И тогда Протагору пришлось бы
оставить обучение молодежи и погрузиться в поток
самоощущений, фиксируясь в отдельности на каждом из них. Именно в
такой тупик может зайти мысль философа, сделавшего мерой
27 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн.— СПб.,
1994.- Кн. 2.- С. 20-21.
и Античные философы: свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев,
1955.- С. 116.
26
всех мер отдельного индивида в качестве самодостаточного
«эго». Но если у индивида отсутствует объективная основа для
связи с себе подобными, то субъективные силы должны
разрушить его самого. Ведь эгоистическое «я », будучи неким
«субъектом в квадрате », должно все больше замыкаться на себе,
сосредоточившись на нюансах собственных переживаний. А в
результате каждое ощущение становится самоцелью, уничтожая
цельность человеческой личности.
Но еще раз повторим, что в тупик последовательного
субъективизма философская мысль зайдет гораздо позже. А в учении
Протагора перед нами лишь первый опыт субъективизма. Здесь
субъективизм уже оборачивается двумя своими сторонами —
эмпиризмом и релятивизмом. При этом ощущениями индивида
у Протагора по сути определяется достоверность знаний, а
также направление нашего ума и смысл приводимых доказательств.
Не противопоставляя разум чувствам, Протагор подчиняет
первое второму. А в результате суждения становятся столь же
относительными и изменчивыми, как и настроения.
Существует, однако, одно обстоятельство, на первый взгляд
противоречащее приведенным выше характеристикам позиции
софистов. Дело в том, что софистам были не чужды
рассуждения о добродетельном поведении. Более того, своей
сознательной целью они ставили обучение добродетели. И как замечает в
«Очерках истории греческой философии» Целлер, в диалоге
«Протагор » Платон скорее всего воспроизводит подлинную речь
этого софиста о происхождении добродетели, произнесенную,
а может быть и письменно опубликованную им29.
Протагор в одноименном диалоге почтительно отзывается о
богах, наделивших людей добродетелями. И в своих оценках
мужества, рассудительности и справедливости как- будто не
расходится с Сократом, усложняя тем самым задачу последнего по
размежеванию их взглядов. Структура указанного диалога очень
сложная, и разговор неоднократно меняет свое направление и предмет.
Принято считать, что речь в нем идет прежде всего об обучении
добродетели и о том, делима ли добродетель на части. Сократ в
конце концов побеждает в споре, показав, что «мудрец» Протагор
не понимает того, о чем говорит. При этом итог беседы по сути
предваряется Сократом, когда тот в самом начале не может
уразуметь, чему именно хочет выучиться Гиппократ у Протагора.
w Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 86.
27
«Ты намерен предоставить попечение о твоей душе софисту,
как ты говоришь;— наставляет Сократ Гиппократа,— но, право, я
бы очень удивился, если бы ты знал, что такое софист. А раз тебе
это неизвестно, то ты не знаешь и того, кому вверяешь свою душу
и для чего — для хорошего или дурного »30. Выясняя, чем же
именно торгуют софисты, Сократ предупреждает: «Только бы, друг
мой, не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы
или разносчики, что торгуют телесной пищей. Потому что и сами
они не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно
для тела, но расхваливают все ради продажи... »31.
Указанный момент в «Протагоре » получает свое особое
значение, когда в разгар спора Сократ указывает на тот факт, что у
многих слова расходятся с делами. «Прекрасны твои слова и
истинны,— сказал я,— но знаешь, люди большей частью нас с
тобою не слушают и утверждают, будто многие, зная, что лучше
всего, не хотят так поступать, хотя бы у них и была к тому
возможность, а поступают иначе... »32. Это место из раннего диалога
Платона интересна как раз тем, что опровергает мнение, будто у
Сократа знание всегда отождествляется со способностью к
действию. И в этом, согласно общему мнению, состоит слабость его
рационализма.
В историко-философской литературе существует нечто вроде
штампа в трактовке соотношения знания и нравственного
действия у Сократа. Вполне определенно это толкование
представлено у Целлера, который в «Очерке истории греческой философии»
пишет по поводу его учения: «Поэтому, чтобы сделать людей
добродетельными, нужно только объяснить им, что есть добро;
добродетель возникает через обучение, а все добродетели состоят в
знании; храбр тот, кто знает, как нужно вести себя в опасности,
благочестив тот, кто знает, что подобает в отношении богов,
справедлив тот, кто знает, что подобает в отношении людей и т. д. »33.
Особенность такой трактовки Сократа состоит в том, что
знание здесь совпадает с общими представлениями о добродетели.
И в этом случае позиция Сократа выглядит крайне наивно. Но в
том-то и дело, что знание знанию рознь. И общие представления
о добре и зле могут уживаться даже с такой патологией,
которая в психиатрии имела название «нравственного помешатель-
30 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 420.
31 Там же.— С. 423.
32 Там же.— С. 465.
33 Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 96.
21
ства ». В «Энциклопедическом словаре Павленкова » мы читаем:
«Нравственное помешательство — психическая болезнь, при
которой моральные представления теряют свою силу и
перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве
человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая,
однако, способности теоретического формального между ними
различения »34.
Итак, одно дело — общие представления о добре, и другое
дело — добро в качестве мотива поведения. Разница в
отношении к добру здесь существенная, и она позволила И. Канту
различать собственно моральные поступки от поступков, как он их
называет, легальных. Моральный поступок возможен там, где
мы имеем дело со знанием не в форме представления, а в форме
нравственного принципа или идеала. Именно
принципиальность не позволяет расходиться слову и делу, как это бывает не
только в случае нравственного помешательства, но и при
элементарном лицемерии. Причем лицемерие, равно как и
принципиальность, противостоит наивности как проявление более
развитой культуры.
Но вернемся к Сократу, которому, как мы видим, была
знакома ситуация, в которой знание добродетели расходится с
поступками, и люди уступают удовольствиям в ущерб высшему
благу. Скорее всего, именно так действовали софисты, у
которых рассуждения о добродетели оставались общей фразой, а
причиной поступков было стремление к выгоде и удовольствию.
Анализируя диалог «Протагор», А.Ф. Лосев неслучайно
вспоминает древних, которые характеризовали Протагора как
«самого неискреннего, но самого острого из софистов »35.
Но в том-то и дело, что противостояние Сократа Протаго-
ру — это не только противоположность общей фразы
добродетели как «деланию добра). Можно не без оснований
предположить, что уже в ранних диалогах Платона идет поиск той
особой формы знания, в которой оно неотъемлемо от человеческого
действия. И эта особая истина, в которой знание тождественно
принципу действия, есть идеал.
Такая форма знания — едва ли не главное открытие Сократа.
И именно в форме идеала классическая философия обнаружи- ■
вает и начинает исследовать идеальное. А потому в тождестве
м Энциклопедический словарь Павленкова.— М., 1905.
35 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 790.
29
знания и действия проявляет себя не слабость, а сила этического
рационализма Сократа.
Нам еще придется обращаться к «Протагору » Платона.
Сейчас же уточним еще один момент, связанный с трактовкой
Сократом блага как удовольствия в ходе беседы с Протагором.
Известно, что переводчиком этого диалога на русский язык был
философ Владимир Соловьев, который выдвинул
предположение о том, что подлинный автор «Протагора » — противник
Платона Аристипп Киренский, выступающий с позиций гедонизма.
Друг Соловьева князь С.Н. Трубецкой, прекрасно знавший
античную философию, остро полемизировал с ним по этому
поводу. Тем не менее, факт остается фактом. И комментаторы с
трудом совмещают эту часть «Протагора» с другими диалогами
Платона, где речь идет об устремленности души к благу, в
противоположность живущему желаниями телу.
Что касается указанного места из «Протагора », то здесь
благо вполне определенно характеризуется Сократом как
состояния удовольствия и даже наслаждения, присущие телу36. И
такого рода парадокс скорее всего объясним лишь в свете
знаменитой иронии Сократа, способного разоблачить чужую позицию
изнутри. Так можно показать, что даже благо, признанное
удовольствием, в ходе рассуждений может обернуться знанием.
А значит исходный пункт наших рассуждений был неверен.
В свете того, что уже сказано, общий пафос выступлений
Сократа, а затем его ученика Платона, безусловно антисофис-
тичен. Сократ отрицает позицию софистов. И тем не менее, это
не абстрактное и пустое отрицание этой позиции. Говоря
языком Гегеля, философия Протагора не отбрасывается, а
«снимается » Сократом. Теряя опору в традиции и вере в
староотеческих богов, выражавших общее начало их жизни, греки стали
искать ее в противоположном — частном или личном интересе.
И этому способствовал рост не только политической, но и
хозяйственной самостоятельности граждан Греции. В такой
ситуации деятельность софистов оказалась вполне своевременной.
В преддверии философской классики софисты сделали ставку
на область субъективных действий, желаний и настроений.
Но преодолевая софистику, Сократ пытается найти в этой
субъективной стихии новый тип объективного. А это значит,
что у софистики, существовавшей в преддверии античной клас-
* См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 465-471.
30
сики, была перспектива. Но этого не скажешь о тех формах
субъективизма, которые были порождены эволюцией
неклассической философии на исходе XX века.
Человек живет не в одиночестве. А значит каждый, даже
эгоистический поступок должен быть оправдан в глазах других
людей, будь то сородичи или сограждане. Вот почему софисты
учили юношей не только ставить ясные цели, но и доказывать
свою правоту во всех возможных обстоятельствах. Суть такой
процедуры в том, чтобы выдать частный интерес за общий,
доказывая при помощи софистических приемов, что из моего
эгоистического поступка следует общая польза. «Когда же дело
касается справедливости и прочих гражданских добродетелей,—
говорит Протагор в одноименном диалоге,— тут даже если
человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет
говорить всенародно правду, то такая правдивость, которую в
другом случае признавали рассудительностью, все сочтут
безумием: ведь считается, что каждый, каков бы он ни был на самом
деле, должен провозглашать себя справедливым, а кто не
прикидывается справедливым, тот не в своем уме »37.
Вот в этом пункте и обнаруживается явным образом
расхождение между софистами и Сократом. Ведь Сократ видит свою
задачу вовсе не в том, чтобы выдать частный интерес за общий, а
случайное желание за добродетель. Сократ ищет в индивиде
такую побудительную силу, которую уже не нужно выдавать за
общее и необходимое основание поступков, поскольку она на
деле является таким основанием, скрывающимся за спиной
частного интереса. И процедура самосознания, на которой вслед за
софистами, настаивает Сократ, должна обнажить за
случайными и преходящими мотивами эту общую и объективную основу,
которая способна заменить вековые традиции.
Итак, человек, согласно Сократу, должен вступить на путь
самопознания, чтобы открыть внутри себя подлинный смысл
существования, который не сводим ни к преходящим телесным
радостям, ни к эгоистической пользе. При этом древняя гнома
«Познай самого себя! » обретает характер сложной системы
приемов, известных под названием «сократического диалога».
Отдадим должное Протагору, который, по свидетельству доксог-
рафов, внес существенный вклад а формирование
диалогического способа рассуждений. Но и в этом вопросе Протагор и
Сократ существенно расходятся.
37 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 433.
31
Уже в юности Сократ любил созерцательную задумчивость.
В платоновском «Пире » Алкивиад рассказывает о том, что
однажды во время осады Потидеи он простоял в задумчивости
целые сутки. Однако о своей мудрости, как известно, Сократ
задумался тогда, когда на вопрос одного из его почитателей: «Есть ли
кто мудрее Сократа? » дельфийский оракул ответил «Нет». Тем
не менее, пообщавшись с мудрыми мира сего, Сократ сделал
вывод: «Я знаю, что ничего не знаю». Указанное сомнение в своих и
чужих знаниях стало движущей силой тех испытаний, которые
устраивал Сократ своим согражданам. Но остановись он на
пафосе отрицания всех знаний или на доказательстве их
относительности, и перед нами оказался бы талантливый последователь Крати-
ла или Протагора, и не более того. Но Сократ, в отличие от Про-
тагора, разоблачает мнения других людей и свои собственные не
ради сиюминутной победы в споре. «Сократический диалог»
потому и определен им самим как «родовспоможение», что у него
есть определенная цель и смысл. И целью является уточнение, а
более точно —разграничение, человеческих добродетелей.
Ъ. Сократ о Зуше Ъ сбете прцроЭы Эо^роЗетели
режде, чем разбираться в предложенном Сократом
способе овладения добродетелью, обсудим еще один вопрос.
Это вопрос о границе между творчеством Сократа и его ученика
Платона. Общеизвестно, что Сократ ничего не написал, а суть
своих взглядов выражал в устных беседах с друзьями и
незнакомыми людьми. Известно и то, что главными
«популяризаторами » философии Сократа выступили его ученики, и прежде всего
Ксенофонт и Платон. Образ Сократа, как мы уже говорили, был
выведен в комедии Аристофана «Облака ».
Каждый из них довольно пристрастно относился к Сократу,
пытаясь представить его в определенном свете. Так в комедии
Аристофана Сократ предстает чудаком-софистом, который на
вопрос о сути своих занятий отвечает, что он, «паря в
пространствах, мыслит о судьбе светил ». Иначе говоря, Аристофан
представляет Сократа не только в качестве известного софиста, но и
как философа — создателя космологических учений. Конечно,
такой образ — плод сатирической фантазии Аристофана. Хотя
стоит напомнить, что, согласно свидетельствам, до
Пелопоннесской войны Сократ действительно учился у последователя
Анаксагора Архелая.
П
32
Иначе выглядит Сократ у Ксенофонта в «Апологии Сократа »
и «Воспоминаниях о Сократе », которые, по мнению многих
исследователей, носят тенденциозный характер. Существует
мнение, что Сократ представлен Ксенофонтом в качестве лояльного
властям гражданина, который был казнен по чистому
недоразумению. Автором воспроизводятся те беседы Сократа, в которых
нет высказываний, компрометирующих его в глазах афинского
суда. Тем не менее, свидетельствами Ксенофонта, по
утверждению Целлера, не следует пренебрегать, подобно тому, как это
делает, к примеру, Ф. Шлейермахер. Что касается не
философской позиции, а общего характера учения и преподавания Сократа,
пишет Целлер, то здесь можно составить вполне согласованный
образ, исходя из Ксенофонта, наравне с Платоном38.
В этой ситуации наибольшее доверие, конечно, вызывает
творчество Платона, и прежде всего его ранние диалоги «Критон »,
«Лахет», «Евтифрон», «Хармид», «Лисид» и, с уже сделанными
оговорками, «Протагор». К этой группе сочинений относится
также монолог Платона «Апология Сократа »и I книга
«Государства ». По замечанию А.Ф. Лосева, некоторые из этих
диалогов могли быть записаны Платоном еще до смерти его великого
учителя39. Конечно, чем старше становился Платон, тем
настойчивее он вкладывал в уста главного героя своих произведений
собственные утверждения. И, тем не менее, он
руководствовался не привходящими обстоятельствами и политическими
интересами, как это было у Ксенофонта, а решал собственно
философские задачи. А потому его наследие — главная опора для тех,
кто пытался и пытается реконструировать позицию Сократа.
Граница в воззрениях этих двух мыслителей — предмет
тонкого историко-философского анализа. Что касается
исследуемого нами вопроса, здесь достаточно ясного различения учения
о добродетели, представленного в ранних работах Платона, и,
конечно, принадлежащего Сократу, и учения о мире идей,
которого однозначно придерживался сам Платон. Безусловно, что
это два этапа в развитии одной и той же линии в философии.
Именно это мы попытаемся показать, не заостряя внимания на
сугубо исторических аспектах проблемы.
38 См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.—
С. 93.
39 См.: Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон.
Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— С. 44.
33
Итак, в ранних диалогах Платона Сократ предлагает нам
новый способ овладения добродетелью, который был неизвестен
ранее. Хотя главная тема «Протагора » — возможность обучать
добродетели, применительно к учению Сократа вопрос о
происхождении добродетели не имеет однозначного решения.
Знание, касающееся добродетели, может быть изначально присуще
душе, а может привноситься в душу в процессе ее врачевания.
Однозначного вывода о происхождении знаний из мира идей, в
котором душа пребывает перед вселением в новое тело, из
ранних диалогов Платона почерпнуть нельзя. Зато вполне ясно, что
врачевание душ, согласно Сократу, предполагает прояснение
душой своих оснований. Этому как раз и посвящены майевти-
ческие диалоги Сократа.
Ранее добродетельное поведение задавалось поведением
богов, героев и великих мужей, образцы которого черпались из
легенд и мифов. Сократ предлагает осваивать добродетель, не
подражая внешнему, а разбираясь во внутреннем, в своей душе,
а точнее, проясняя то, что уже известно гражданину о
достойном поведении. Такого рода самопознание было бы невозможно
без того, что сделали софисты, овладевшие силой ума, хотя и в
субъективных целях. Сократ предлагает использовать эту силу
для утверждения новых регулятивов поведения, которые в
дальнейшем будут названы идеалами. При этом, выясняя природу
добродетели, разум у Сократа занимается сам собой, вступая на
путь особого рода логического движения.
Прежде, чем уточнять способ, каким Сократ проясняет смысл
«знания о наилучшем », рассмотрим диалог «Евтифрон », в
котором решается важная задача. Ведь в споре с Евтифроном Сократ
пытается доказать, что даже боги, которых чтут люди,
руководствуются «знанием о наилучшем». Тем самым в беседе о
благочестии сократовское понимание добродетели получает
своеобразное подкрепление авторитетом богов. Люди следуют
традиции, но боги руководствуются истиной. Почему же человеку в
этом отношении нельзя следовать богам?
Евтифрон был официальным афинским прорицателем.
Встреча Сократа с Евтифроном произошла накануне судебного
процесса примерно за месяц до казни Сократа. Об этой встрече
также упоминается в «Кратиле». Обвинив Сократа в развращении
юношества и непочитании староотеческих богов, поэт Мелет по
сути обвинил его в нечестии. Отсюда особый интерес Сократа к
представлениям о благочестии и нечестии у прорицателя, уве-
34
ренного в знании божественных законов. К тому же Евтифрон
принес в суд донос на своего отца, который невольно убил
наемного работника. Евтифрон уверен, что отец поступил нечестиво,
тогда как он сам, донося на отца, поступает благочестиво. Так
что же такое нечестие и благочестие?
Анализ этой добродетели как всегда начинается с примеров
благочестивого поведения, и прежде всего с преследования
преступников, совершивших убийство или ограбивших храм.
Образцом здесь, согласно Евтифрону, следует признать поступки
богов. Это поступок Зевса, заключившего в оковы своего отца
Крона, который пожирал собственных детей, а также поступок
самого Крона, который покарал своего отца Урана, оскопив его
за преступные деяния. Следовательно, быть благочестивым —
это значит подражать в своих поступках богам. Так считает
Евтифрон. Но для Сократа этим еще ничего не сказано о
благочестии. Ведь мы не знаем, почему именно так поступали боги.
Традиционное понимание добродетели, когда подражают
поступкам богов, Сократ противопоставляет другое понимание.
Суть его в том, что образцом добродетельного поведения
должен быть не чей-то поступок, а некая идея как парадигма
добродетели. «Так припомни же, что я просил тебя не о том, чтобы
ты назвал мне одно или два из благочестивых деяний,— говорит
Сократ Евтифрону,— но чтобы определил идею как таковую, в
силу которой все благочестивое является благочестивым. Ведь
ты подтвердил, что именно в силу единой идеи нечестивое
является нечестивым,*а благочестивое — благочестивым. Разве ты
этого не помнишь?»40.
Комментируя это место в «Евтифроне », Лосев уточняет, что
здесь употребляется слово «парадигма », которое пришло к нам
именно от греков. Парадигма — это тоже образец, но образец
особого рода. Евтифрон указывает на образцы как примеры
добродетельного поведения, а Сократ просит указать на парадигму
как суть и смысл добродетели, безотносительно к отдельным
ее проявлениям. «Так разъясни же мне относительно этой идеи,
что именно она собой представляет,— просит Сократ Евтифро-
на,— дабы, взирая на нее и пользуясь ею как образцом, я
называл бы что-либо одно, совершаемое тобою либо кем-то другим и
подобное этому образцу, благочестивым, другое же, не
подобное ему, таковым бы не называл »41.
40 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 300.
41 Там же.
35
Имея в виду теперь уже смысл благочестия, Евтифрон
определяет его как богоугодность. Но и это не проясняет сути дела,
* поскольку Сократ требует указать основания, позволяющие
богам признать кого-то угодным, а кого-то неугодным им. В конце
концов Евтифрон вынужден согласиться, что боги
руководствуются в своих оценках людей и их поступков представлениями о
справедливом и несправедливом, прекрасном и постыдном,
добром и злом42. В этом месте вполне логично было бы признать, что
благочестие совпадает с указанными добродетелями. Ведь
благочестие — соблюдение предписаний богов, а боги, как мы видим,
исходят из добра и справедливости. А признав это, следовало бы
задать ряд риторических вопросов. Так, если сами боги
руководствуются добром, красотой и справедливостью, то почему
Сократ за такие призывы был признан нечестивцем? И почему
обсуждение этих добродетелей — развращение молодежи?
Сократ в неявном виде критикует традиционные
представления о благочестии, когда в честь богов совершают
жертвоприношения, возносят к ним молитвы, а по сути, как следует из «Ев-
тифрона », торгуются с богами, под видом того, что служат им.
При этом собственное представление Сократа о благочестии
совпадает с идеальным поведением, если таким считать поступки,
которые совершают, исходя из идеалов. В этой новой системе
координат именно Сократ един с богами на почве добра и
справедливости, а Евтифрон, который, подражая Зевсу, доносит на
отца,— нечестивец. Но таких выводов, еще раз напомним, в
указанном диалоге нет.
Вопрос о сути благочестия как будто остается открытым. Но,
как и в других диалогах Платона, при внешней незавершенности
разговора вполне ясна противоположность между
традиционным и сократовским представлением о добродетели, а еще
точнее противоположность между традиционным и моральным
сознанием. В этом плане наиболее характерным является
указание на самодостаточность добродетели, в данном случае
благочестия. «Но подумай вот о чем:— говорит Сократ Евтифрону,—
благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или
оно благочестиво потому, что его любят боги? »43. И здесь, как и
в других случаях Евтифрон соглашается с тем, что для богов
благочестие — это нечто самодостаточное, т. е. то, что совпадает
42 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 302.
43 Там же.— С. 305.
36
само с собой и не требует дальнейших разъяснений. Выходит,
что добродетель — высшая инстанция и для людей, и для
богов в их поступках. Так выглядит основное новшество Сократа
в божественных вопросах.
Признав все то, к чему его склоняет Сократ, Евтифрон
вконец запутывается в своих рассуждениях. И он спешит
удалиться. А Сократ посылает ему вдогонку наполненные иронией
слова: «Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня
великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом и
избежать Мелетова иска, доказав ему, что я стал мудрым в
божественных вопросах благодаря Евтифрону и никогда уже не
буду заниматься невежественной болтовней и вводить в этом
деле различные новшества, но впредь стану жить самой
достойной жизнью»44.
Бытует мнение, что ранние диалоги Платона не очень
содержательны, а их этическая проблематика наивна. При этом
главным достижением Сократа оказывается его метод майевтики,
подобно тому, как главным у Платона считается его учение о
мире идей. На наивность этих диалогов, в частности, указывает
Лосев. Комментируя «Лисид», он говорит о
«возвышенно-наивной тематике » ранних диалогов Платона45. В комментариях к
диалогу «Протагор » Лосев отмечает, что идущее от Сократа
представление античности о невозможности добровольно совершать
зло — это «результат, может быть, и наивной, но вполне
серьезной убежденности в цельном характере человеческой
личности, которая пребывает в гармонии и с самой собой, и со своими
идейными принципами, и с обществом»46.
Остановимся на этом замечании Лосева, касающемся
цельной личности, которая, действительно, невозможна без
принципов. А принципиальный человек — это как раз тот, кто не
способен поступать вразрез с собственными принципами. Здесь
налицо единство знания и действия. Но проблема в том, как именно
принцип определяет поведение человека. И обращаясь в
анализе этой проблемы в феномену добродетели, Сократ отнюдь не
наивен. Ведь нравственность — именно та почва, из которой
исторически вырастали человеческие идеалы, принципиальность
и цельность человеческой личности. Сократ был свидетелем это-
44 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 313.
" Там же.- С. 741.
46 Там же.— С. 788.
37
го процесса. И та действительность, которая формировала его
взгляды, еще не знала профессиональных гносеологов и
логиков, этиков и эстетиков.
Уже Сократу принадлежит учение о «гносеологическом
примате общего над единичным », подчеркивает Лосев во вводных
замечаниях к первому тому сочинений Платона47. Таким
образом, Сократ выглядит у А.Ф. Лосева и, кстати, у В.Ф. Асмуса,
гносеологом, который по наивности решает свои проблемы на
материале этики. Но все как раз наоборот. Мы попытаемся
показать, что, исследуя этическую сферу, Сократ имеет дело с
разумом в той исходной клеточке, где еще нет противостояния
гносеологии и этики. А потому говорить о методе Сократа
невозможно вне этической стороны его учения. Более того,
учитывая суть исследуемой в ранних диалогах Платона
проблемы добродетели, можно существенно скорректировать и
привычные представления о методе Сократа.
Итак, в методе, которым пользовался Сократ, принято
различать его внешнюю и внутреннюю стороны. Внешними
приемами, которыми владел Сократ, считаются ирония и
опровержение. Широко известны лукавство и притворство Сократа с
целью вынудить собеседника втянуться в спор и добраться в нем
до дна своей души. Сократ, безусловно, хитрит, надевая на себя
маску наивного человека, который испрашивает совета у
первого встречного, восхищается его достоинствами и просит обучить
себя чему-нибудь, как это было с Евтифроном.
Но в ходе беседы Сократ часто сбрасывает маску шута и
невежды, помогая собеседнику исправлять ошибки и избавляться
от противоречий на пути к истине. Здесь проявляет свои
достоинства опровержение как прием, которым пользуется Сократ,
демонстрируя собеседнику противоречивость его собственных
взглядов. Впервые этот прием появился у элеатов, а затем
активно использовался софистами. Что касается Сократа, то как
ирония, так и опровержение выступают у него предпосылками и
одновременно элементами майевтики в качестве сути его метода.
Если мы продолжим анализ, то нужно сказать, что
собственно логической стороной майевтики принято считать индукцию.
При этом во всех работах, касающихся метода Сократа,
приводятся следующие слова Аристотеля из «Метафизики»: «...и в
самом деле, две вещи по справедливости можно приписать Со-
47 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 65.
38
крату — доказательства через наведение и общие
определения...»48. «Индукция »переводится с латыни именно как
«наведение ». Суть этого метода, который получил наибольшее
распространение в естествознании XVII—XVIII вв., состоит в
обобщении множества фактов. Избитый пример индуктивного
заключения: «Все лебеди белы ». Этот пример интересен тем, что
со временем зоологи нашли черных лебедей. И указанную
слабость индуктивного метода осознавал его главный пропагандист
Ф. Бэкон, предлагавший искать не подтверждения, а
исключения из правил.
Итак, путь к «белизне » лебедей лежит через обобщение
множества однотипных фактов. Но «белизна » лебедей, как и
другие результаты эмпирических исследований, не является
понятием в собственном смысле слова. Это всего лишь общие
представления, фиксирующие вполне наглядные, чувственно
воспринимаемые признаки и свойства. Что касается понятия, то
относительно лебедя они должны выражать не его цвет или
внешнюю форму, а происхождение и способ жизнедеятельности
этой птицы, в отличие от ее ближайшего рода. А здесь не
обойтись без дополнения индукции дедукцией.
Отметим тот факт, что понятия всегда выражают
объективное единство в окружающем нас мире, реальную системную
связь и родо-видовое отличие. Представление, в отличие от
понятия, может фиксировать не только внешнее подобие в
пределах некоторой объективной общности, но и внешнее сходство
ничем не связанных вещей. Так под «белизной вообще » имеют в
виду то общее, что есть у белого лебедя, белой лилии, а также
белоснежного воротничка и многого другого. А представление о
«мягкости» фиксирует внешнюю общность, существующую
между мягкостью ворса и мягкостью характера.
Но вернемся к ранним диалогам Платона, в которых, как
указывает А.Ф. Лосев, доказана та простая, но радикальная
мысль, что знание всегда есть обобщение®. И, на первый взгляд,
в ранних диалогах Платона мы находим множество
подтверждений этого тезиса. Чтобы разобраться в данном вопросе,
обратимся прежде всего к диалогу «Лахет», в котором, по общему
мнению, индуктивный метод представлен вполне наглядно.
Именно с этого диалога начинает В.Ф. Асмус свой анализ метода Со-
«» Аристотель. Соч.: В 4 т.— М. 1975.— Т. 1.— С. 327-328.
49 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 65.
39
крата в широко известном учебнике по античной философии.
В беседе, приведенной в «Лахете», принимают участие, помимо
Сократа, известные полководцы Никий и Лахет, которого
Асмус на старый манер именуетЛахесом, а также почтенные
афинские граждане Мелесий и Лисимах со своими сыновьями.
Лисимах и Мелесий озабочены воспитанием своих сыновей,
но не могут понять, следует ли с этой целью обучаться гоплома-
хии — бою в тяжелых доспехах. При этом разговор о
достоинствах этого военного искусства, как всегда, очень скоро
переходит к проблеме воспитания души. В начале диалога, уточняя
достоинства гопломахии, полководец Никий указывает на то,
что благодаря этому занятию тело юноши становится крепче.
Гопломахия, помимо прочего, вырабатывает прекрасную
осанку. Но, как только в беседу включается Сократ, речь уже идет о
душах молодых людей. «Итак,— говорит Сократ, —...
поскольку Лисимах и Мелесий пригласили нас на совет относительно
своих сыновей, заботясь о том, чтобы души их стали сколь
можно достойнее, нам следует показать им также, какие у нас были
учители..., кои и сами были достойными людьми и,
позаботившись о душах многих юношей, научили, по-видимому, своему
делу и нас»50.
После ряда комплиментов и благожелательных
рекомендаций, Сократ берется выяснить суть добродетели, начиная с
такой ее разновидности, как мужество, которая ближе всего к
военному искусству. Первые вопросы Сократа при этом обращены
к Лахету, который должен дать определение мужества,
опираясь на собственный опыт. Он говорит: «Следовательно, прежде
всего, Лахет, попытаемся сказать, что же это такое —
мужество? А после того рассмотрим, каким образом можно придать
его юношам, насколько это зависит от навыков и науки »51.
Как обычно, поначалу Лахет приводит частный случай
мужества, когда воин добровольно остается в строю, а не бежит с
поля боя. Но Сократа интересует не этот частный случай, а
общий смысл мужества. Тем более, что есть множество
примеров военной хитрости, когда, отступая, мужественные воины
разбивают противника. «В действительности же я хотел у тебя
узнать о людях, мужественных не только в бою гоплитов, но и в
конном сражении и в любом другом виде боя,— поясняет Со-
?0 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 276.
"Там же.— С. 281.
40
крат,— и, кроме того, не только в бою, но и среди морских
опасностей, в болезнях, в бедности и в государственных делах, а
вдобавок и о тех, кто мужественен не только перед лицом бед и
страхов, но умеет искусно бороться со страстями и
наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая: ведь мужество
существует у людей и в подобных вещах, Лахет? »52.
Перед нами ясно поставленная задача — обобщить
множество случаев мужественного поведения для определения
мужества вообще. Здесь Сократ действует в соответствии с
характеристикой, данной ему Аристотелем, подтверждая свой замысел
ясным примером. Он сам дает определение скорости, каким
образом она проявляет себя в беге, при игре на кифаре, при
разговоре, при обучении, а также во многих других случаях. Имея в
виду деятельность наших рук и бедер, рта и голоса, а также
мысли, он определяет скорость как «способность многого достичь
за короткий срок»53.
Легкость, с какой приводит это индуктивное обобщение
Сократ, говорит о том, что такого рода логические действия для
него не являются особо сложными. Сложности, однако,
возникают там, где Сократ вместе со своими собеседниками пытается
аналогичным способом обобщать проявления добродетели, и,
заметим, не только в диалоге «Лахет». Асмус отмечает ту
настойчивость, с которой Сократ стремится дать точные
определения этическим категориям, выяснить их сущность54. Эту
настойчивость он объясняет тем, что определение понятий у
Сократа есть путь, ведущий к нравственному поведению. «Таким
путем люди становятся в высшей степени нравственными,
способными к власти и искусными в диалектике» — цитирует он
Ксенофонта55.
Заметим, что это цитата из «Воспоминаний о Сократе »,
написанных через много лет после гибели великого Сократа. В той
главе «Воспоминаний»»котораяназывается
«Овоздержанности », Сократ утверждает, что человек невоздержанный ничем не
отличается от безрассудных скотов, поскольку гоняется за
наслаждениями, игнорируя высокие цели. В отличие от него
воздержанный человек, задавшийся высокими целями, разделяет в
теории и на практике предметы по родам и видам и тем самым
52 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 282.
,3 Там же.— С. 282.
и Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 109.
" Там же.— С. 122.
41
отдает хорошим из них предпочтение, а дурные — избегает56.
Далее мы читаем: «При таком методе, говорил Сократ, люди
становятся высоконравственными, очень счастливыми и весьма
способными к диалектике »57. Уточняя этот метод обретения
нравственности, СИ. Соболевский,переводчик «Воспоминаний»на
русский язык, пишет в комментариях: «Человек разумный,
разделяя предметы по родам, может таким методом отличить
добро от зла и через это выбрать добро и быть нравственным,
счастливым и способным к диалектике »58.
Итак, от родовых понятий вещей можно перейти к
определению этических категорий. А определить этическую категорию —
это значит стать добродетельным. Такова трактовка этического
рационализма Ксенофонтом, с которой согласен Асмус.
Напомним, что такая точка зрения на учение Сократа является самой
распространенной. Здесь знание добродетели добывается в форме
общих понятий, а не добыв его, нельзя стать нравственным
субъектом. Но, согласившись с Ксенофонтом и Асмусом, мы тут же
попадаем в ловушку. Ведь не добравшись до общего понятия мужества,
рассудительности и справедливости, Сократ в этом случае должен
признаться в собственной трусости, безрассудстве и
несправедливости. Надо сказать, что В.Ф. Асмус самолично анализирует
несколько диалогов раннего Платона. Причем каждый раз он
вынужден признать, что общих понятий добродетели в них нет.
Характеризуя метод Сократа, Асмус утверждает:
«Руководимое Сократом философское исследование имеет целью прежде
всего установить значение того или иного широкого родового
термина (например, «мужества», «справедливости»ит. д.)»".Но
чуть ниже он признает, что определение такого термина
постоянно вступает в противоречие либо с единичными предметами,
явлениями, свойствами и случаями, которые этот термин не
должен охватывать, но которые он охватывает, либо, наоборот, с
другими, которые он должен охватывать, но которые он не
охватывает. Характеризуя далее ход диалогов Сократа, Асмус
уточняет: «Своими различными ответами собеседник все вновь и вновь
ввергается в противоречия. Эти противоречия принуждают его
признать или то, что он не достиг точного и ясного понятия о
свойстве, общем для различных частных факторов, охватывае-
56 См.: Ксенофонт. Воспоминание о Сократе.— М., 1993.— С. 141.
" Там же.
'» Там же.— С. 334.
п Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 121.
«
мых исследуемым общим термином, или то, что такого общего
свойства вообще не существует и что полученное обобщение
только чисто словесное и ложное»60.
В.Ф. Асмус признает, что Сократ постоянно поправляет
«несостоявшиеся обобщения», и тем не менее, ни одна из
этических категорий в этих диалогах четко не определена в том
родовом своеобразии, на которое было указано выше. На этом фоне
странным выглядит то, что собеседники Сократа, как это
происходит в «Лахете », высказывают свое восхищение его талантом и
поручают ему воспитание своих детей. «Да и я согласен, если
только Сократ желает заняться воспитанием мальчиков, не надо
искать никого другого;— заключает Никий в конце диалога «Ла-
хет»,— ведь я и сам бы охотно поручил бы ему Никерета, если
бы он пожелал»61.
Тут явно что-то неладно. Либо истина открывается
Сократом иным путем, либо похвалы в его адрес напрасны.
Согласившись с Ксенофонтом в отношении метода Сократа, мы должны
признать логические опыты последнего явной неудачей. И
наоборот, не согласившись с Ксенофонтом, мы должны признать,
что метод Сократа в главном своем звене им был не понят.
Указанное противоречие по-своему фиксирует князь
С.Н. Трубецкой в своем «Курсе истории древней философии».
У большинства последователей и комментаторов Сократа,
отмечает Трубецкой, его этика выглядит рассудочной и в этом
качестве заслуживает упреки, в частности со стороны
Аристотеля62. Но после этих слов в рукописи курса Трубецкой
обращается к тем особенностям знания добродетели, которые по сути
игнорируются исследователями Сократа. «Но в
действительности дело не совсем так просто, как оно представляется
иным «сократовцам»,— пишет он,— на что указывает
Платон в своих «сократических диалогах »: если добродетель есть
знание, то почему она не составляет предмет преподавания
или обучения... ? Почему ни добрые граждане не могут обучить
ей своих детей, ни софисты, профессиональные учителя, не
успевают в этом деле, и отчего сам Сократ,
отождествляющий ее со знанием, отвергает возможность ее преподавать? »63.
60 Асмус В. Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 121
" Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 293.
62 См.: Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 279-280.
" Там же.— С. 280.
43
На этом рассуждение Трубецкого в рукописи обрывается.
Но сказанного достаточно, чтобы понять: добродетель не
сводима к знанию о родах и видах сущего, которое мы получаем
индуктивным путем и которому обучаем подрастающее
поколение. Но в чем же особенности знания добродетели, и
каким способом предлагает им овладевать Сократ? Пытаясь
ответить на эти вопросы, мы кратко проследим те ступени, по
которым поднимаются участники диалога «Лахет», выясняя суть
такой добродетели, как мужество.
Напомним, что Сократ просит Лахета дать общую
характеристику мужества, которую тот определяет как «стойкость
души ». Но Сократ тут же предлагает исключить из проявлений
мужества неразумную стойкость. А затем приводит такие
примеры разумной стойкости, которые тоже нельзя определить как
мужество. Вскоре речь переходит к такой разновидности
мужества, которая проявляет себя в способности к риску. И в
дальнейшем речь идет о двух разновидностях мужества, первая из
которых — стойкость, а вторая — способность к риску.
По сути речь идет о том, что риск в качестве мужества — это
умение действовать, когда предпочтительнее стоять, а стойкость
или выдержка — это способность стоять, когда обстоятельства
требуют бежать. Значит мужественный человек способен на
преодоление, хотя характер такого преодоления различен. Из
разговора Сократа с Лахетом следует также то, что мужество
предполагает, что человек не полностью осведомлен в положительном
исходе предпринятых действий. Здесь тоже пограничная ситуация
между осведомленностью и неосведомленностью, умением и
неумением, которая определяет своеобразие мужества. Ведь тот, кто
полностью осведомлен или уверен в положительном результате
своих усилий, не будет по-настоящему мужественным человеком.
Мы воспроизводим не внешний ход, а внутреннюю суть
обсуждения видов мужества в разговоре Сократа с полководцем
Лахетом. И надо сказать, что, уточняя указанные
разновидности, собеседники пользуются не только эмпирической
индукцией, т. е. обобщением фактов. В такой же мере выяснение сути
дела Сократом основано на методе дедукции. Можно
согласиться с утверждением Асмуса о том, что Сократ в определенном
смысле предвосхитил то, что «впоследствии Платон и
Аристотель описали как двойной путь диалектического процесса —
расчленение единого на многое и соединение многого в единое »м.
м Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 121-122.
44
В исследованиях Сократа присутствует единство индукции
и дедукции, что, безусловно, переводит его поиск с уровня
эмпирического обобщения признаков на уровень теоретического
анализа сущности предмета. К этому выводу, как мы видим,
склоняется, характеризуя методологию Сократа, Асмус. И в этом с
ним можно и нужно согласиться. Но с Асмусом, подчеркнем,
нельзя согласиться в том, что сознательной целью Сократа
является определение понятий, чем впервые займется только
Аристотель. Сократ стремится не столько определять понятия,
сколько разграничивать разновидности бытия. Его интересует
не родовое понятие, а род бытия. И в этом принципиальное
отличие Сократа от философов Нового времени.
И еще. При всех тупиках, в которые заводит Сократ Лахета,
на основе сказанного уже можно было бы дать абстрактные
определения двум разновидностям мужества. Но Сократ этого не
делает. Ведь мужество в качестве стойкости выглядит как
противоположность мужеству в качестве риска. А признавать
истинными противоположные определения для Сократа
недопустимо. В результате в середине диалога предыдущие
рассуждения признаются несостоятельными. «Значит, Лахет,— говорит
' Сократ,— по твоим словам, мы — я и ты,— настроены не на
дорийский лад: ведь дела у нас не созвучны со словами, потому
что кто-то сможет, если подслушает наш разговор, сказать, что
на деле мы с тобою причастны мужеству, на словах же — нет»65.
При этом, что очень важно, разговор резко меняет свое
направление. Происходит это тогда, когда в спор включается
полководец Никий. «Мне давно кажется, мой Сократ,— говорит
он,— что вы неверно определяете мужество, а прекрасными
речами, которые я уже от тебя слышал, вы не воспользовались»66.
И далее он утверждает, что добродетель связана со знаниями
людей. И от мудрости человека зависит, хорош он или плох.
Именно здесь, на наш взгляд, находится первая развилка в
беседах Сократа, позволяющая по-новому взглянуть на
проблему добродетели. Смена темы разговора в этом месте
радикальная. И связана она с тем, что говорить о характере действий
мужественного человека уже нет смысла. Можно и дальше
уточнять, как он должен действовать, хотя суть любой добродетели
раскрывает не характер, а цель поступков человека. Ведь и убий-
« Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 285.
м Там же.
«
ца может стойко держаться на допросе, и маньяк может
рисковать, выдумывая пытки. Но мало у кого повернется язык назвать
их поведение достойным человека. А потому разговор о
добродетели должен с необходимостью перейти к выяснению того,
чем руководствуете я человек в своих поступках.
Мы знаем, что в диалоге «Лахет» в качестве таких исходных
знаний, определяющих поступки мужественного человека, были
опробованы знание опасного и безопасного, полезного и
бесполезного, страшного и не страшного. Еще раз уточним, что речь
идет о знании в качестве регулятива нравственного
поведения, но в ином, отличном от кантовского смысле. Ведь у Сократа
нравственный регулятив не коренится в самом субъекте, а в
конечном счете будет укоренен в божественном мире идей. И
каждый раз в «Лахете » выясняется, что, обладая знанием опасного
и безопасного, полезного и бесполезного, человек может быть
врачом, прорицателем и кем-то еще, но никак не мужественным
человеком. Затем разговор уходит в сторону определения
отваги, свойственной детям и животным. Он как будто идет по
кругу, пока собеседники не предлагают Сократу высказать свою
точку зрения на данную проблему.
Здесь вторая развилка, где в разговоре обозначается новый
радикальный поворот. Он связан с введением Сократом понятий
добра и зла. При этом вывод о том, что знание добра и зла
определяет суть добродетели, никак не связан с обобщением каких-
либо случаев и фактов. Несколько ранних диалогов Платона
заканчивается примерно одним и тем же. Разочаровавшись в
индуктивных обобщениях, Сократ едва ли не постулирует
совпадение добродетели со знанием добра и зла. Он вводит понятия
добра и зла в диалог с помощью рассуждений и аллегорий и
повторяет на все лады, что добродетель определяется знанием
добра и зла, и без такого знания нет ни мужества, ни
рассудительности, ни справедливости. Но при этом само добро и зло он
чаще всего никак не определяет. Исключение составляет лишь
первая книга «Государства».
Характерно, что, анализируя «Лахет », Асмус вообще не
упоминает о том месте в диалоге, где говорится о знании добра и
зла67. Скорее всего для него это что-то вроде общего места или
пустой риторики, не меняющей наших представлений о методе и
воззрениях Сократа. Насчет знания добра и зла в «Хармиде » и в
67 Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 112-113.
46
первой книге «Государства » он говорит походя, не заостряя на
этом внимания. Хотя именно здесь тот пункт, в котором
проявляет себя своеобразие исследования добродетели Сократом.
Здесь специфическое разрешение тех трудностей, которые из
раза в раз возникают в ранних диалогах Платона при попытке
определить суть добродетели с помощью индукции.
В диалоге «Лахет» понятия добра и зла вводятся посредством
рассуждений о знании опасного как ожидания грядущего зла68.
В диалоге «Хармид» эти понятия вводятся в ткань диалога с
помощью рассказа о сне, якобы приснившемся Сократу. Кратко
рассмотрим суть «Хармида », чтобы уточнить предлагаемое
понимание метода Сократа.
Тема «Хармида» — попытка определить такую добродетель как
«софросина », которая буквально переводится на русский язык как
«целомудрие ». Комментируя этот диалог, Лосев замечает, что в
европейских языках нет аналога этому понятию, хотя греки
понимали под «софросиной » некую «сдержанную цельность ума » и очень
ценили такое качество в человеке. В том переводе «Хармида », на
который мы будем опираться, «софросина »предстает как
«рассудительность ». До этого мы уже неоднократно упоминали эту
добродетель. Теперь настал момент поговорить о ней подробнее.
Сократ беседует о рассудительности с красавцем Хармидом,
страдающим по утрам от головной боли. Сократ предлагает
избавить его от недуга, излечив душу Хармида с помощью
заговора, который он якобы узнал от фракийского врача. С самого
начала он заявляет, что все хорошее и плохое порождается в теле
душой. А на душу лучше всего действуют верные речи. Именно
они, говорит Сократ, укореняют в душе рассудительность,
способствуя здоровью69.
Дойдя до этого места в «Хармиде », можно было бы
«реабилитировать» Ксенофонта, который считал, что добродетель у
Сократа формируется определением соответствующих понятий.
Но уже после нескольких реплик со стороны Хармида и его
брата и наставника Крития Сократ уточняет, что рассудительность
может быть от рождения присуща такому благородному юноше
как Хармид. Следовательно, вопрос о происхождении
добродетели здесь, как и в «Протагоре», остается открытым. Тем не
менее, беседа о рассудительности начинается.
" См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 292.
69 Там же.— С. 345.
47
Как и во всех предыдущих случаях, Хармид поначалу
указывает на частный случай рассудительности, когда человек делает
что-то, соблюдая порядок и не спеша. Но Сократ приводит ему
примеры, как рассудительные люди делают все быстро и
стремительно. Отказавшись от определения рассудительности
посредством скорости, Хармид связывает ее со стыдливостью. Но
и в этом случае Сократ заводит Хармида в тупик. И наконец,
Хармид определяет рассудительность как способность
«заниматься своим». Критикуя это определение, Сократ приводит в
пример учителя грамматики, который в таком случае должен
был бы читать и писать только свое имя.
Все три попытки Хармида определить суть рассудительности
не увенчались успехом. И новый поворот в беседе связан со
вступлением в нее наставника Хармида Крития, который задает новый
угол рассмотрения проблемы. Теперь рассудительность
оказывается совершением добрых дел. «Значит, тот, кто совершает
дурные дела, не рассудителен, а рассудителен лишь тот, кто вершит
хорошие? » — задает Сократ вопрос Критию70. «А тебе,
достойнейший мой,— возразил он,— разве не так это представляется? »71
Вступление в беседу Крития в «Хармиде » так же
знаменательно, как вступление в спор полководца Никия в «Лахете ». И в том,
и в другом случае разговор сразу же переходит в область анализа
знания, а не поступков человека. Причем в «Хармиде » в силу
специфики самой рассудительности анализ знания и возможностей
самопознания имеет более развернутый характер.
Большую часть «Хармида » занимает рассмотрение того, как
возможно самопознание и чем знание о самом знании
отличается от знания о конкретных делах и предметах. Постепенно
становится ясно, что рассудительность, которая невозможна без
самоанализа,— это не просто знание себя как знающего. В этом
случае человек мог бы судить только о своем знании и незнании
и оказался беспомощным в суждениях о чем-либо другом —
здоровье, справедливости, рассудительности и т. д.
Итак, знание, лежащее в основе рассудительности,— это не
знание в форме конкретных умений, например, врачевания или
зодчества, но это и не знание самого знания. На этом месте наступает
очередная заминка в споре или, как мы говорили ранее, развилка в
нем. После того, как Сократ клянется собакой, что и ему кажется,
70 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 354.
71 Там же.
41
что исследование идет в неверном направлении, он вдруг
рассказывает свой сон, смысл которого верно разгадывает Критий.
Сон Сократа — именно загадка. В нем идет речь о
достоинствах рассудительной жизни как жизни сознательной, но
знание, которое должно сделать жизнь людей сознательной, так и не
называется. В конце концов Критий называет это знание,
которое, конечно, оказывается знанием добра и зла. Причем
последующие реплики Сократа указывают на то, что Критий, скорее
всего, с самого начала знал, чему учит Сократ, но скрывал свое
знание. «Ах ты, злодей!— воскликнул я.—Ты давно уже меня водишь
за нос и скрываешь от меня, что не сознательная жизнь приводит
к благополучию и счастью и не все науки, сколько их есть, но
лишь одна эта, единственная наука — о добре и зле »72.
Напомним, что и полководец Никий в «Лахете », вступая в спор,
признается в том, что знает, чему учит Сократ. В этом свете
интересен комментарий А.Ф. Лосева к данному месту в «Хармиде ». Он
пишет: «Сократ высказывает одну из любимых своих мыслей, что
знание, не различающее добра и зла, не является истинным и,
наоборот, настоящее знание всегда ведет к благу и пользе..
.Знание добра и зла стоит для Сократа выше любой науки и создает в
человеке подлинное единство всех его духовных и практических
сил, которыми отличается настоящая калокагатия»73.
Сказанное здесь Лосевым можно признать с двумя
оговорками. Во-первых, знание добра и зла, как мы показали на примере
двух диалогов, не может быть извлечено из чувственного
опыта человека. В качестве идеала человеческого поведения добро
постигается каким-то особым путем, отличающим его от других
видов знания. В качестве основы души знание добродетели
является главной проблемой у Сократа. И пытаясь осмыслить его
природу как некое идеальное начало, он оказывается
родоначальником классической философии. Вряд ли через две с
половиной тысячи лет мы отводили бы ему эту роль, будь он лишь
первооткрывателем индукции и общих определений.
Во-вторых, выше было сказано, что определений добра и зла
Сократ, как правило, не дает. И это верно, хотя в заключении
диалога «Хармид» мы находим важное уточнение насчет
добродетели и пользы. В приведенном выше комментарии Лосев рядопола-
гает благо и пользу в качестве целей истинного знания. Но в том
же «Хармиде » этот вопрос решается не столь однозначно. Следу-
72 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 369.
73 Там же.— С. 749.
49
ет обратить внимание на мнение Крития о том, что, начальствуя
над наукой о благе, рассудительность и сама должна приносить
людям пользу. Но, согласившись с этим, Сократ отмечает, что
такого рода польза не может быть, к примеру, пользой в
отношении здоровья, т. к. этим занимается врачебное искусство74. Из
сказанного ясно, что отдельными видами пользы занимаются
отдельные искусства. И это дает повод Сократу заключить, что
рассудительность не имеет отношения к пользе вообще. И все же этот
вывод не удовлетворяет обоих собеседников. Ведь
рассудительность, как говорит Сократ уже Хармиду,— «.. .это великое благо,
и, если бы ты обладал ею, то был бы блаженным человеком »75.
Уже здесь можно предположить, что рассудительность —-
такое благо, которое не совпадает напрямую с телесными
удовольствиями и материальной выгодой. И это уточнение
позволяет в первом приближении развести этический рационализм в
том виде, в каком он представлен у Сократа, и в том виде, в
каком он представлен, например, у Д.С. Милля. Ведь утилита-
рист Милль также пытался понять природу добродетели. Но
он определяет добро с точки зрения рассудка, а не разума. И в
этом качестве Милль представляет неклассическую традицию
в анализе этических категорий. Но знание не все одинаково.
И идеальные регулятивы Сократа несовместимы с расчетами
Милля. Эта несовместимость стала жизненной драмой русского
философа и революционера Н.Г. Чернышевского, который жил по
Сократу, но рассуждал о «разумном эгоизме» явно по Миллю.
Д.С. Милль ставил стремление к личному счастью выше
стремления к справедливости. Иные приоритеты отстаивает Сократ в
споре о справедливости в первой книге «Государства ». Подобно
«Лахету » и «Хармиду», это раннее произведение Платона
построено как беседа Сократа сначала с менее опытными, а затем с более
опытным в публичных диспутах человеком. Уже в начале разговора
известным оратором Кефалом высказывается мысль о том, что
справедлив тот, кто говорит правду и отдает то, что взял. Но
вступившему вместо отца в беседу Полемарху Сократ объясняет, что тогда
справедливо вернуть оружие человеку, который обезумел. От
этого определения справедливости переходят к другому, суть
которого в том, чтобы творить добро друзьям и зло врагам.
Данное определение стоит рассмотреть немного подробнее,
потому что здесь Сократ еще раз предлагает отождествить доб-
74 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 369.
" Там же.— С. 370.
50
ро с пользой. При этом опять выясняется, что пользу здоровью
приносит врач, пользу на море — кормчий, при строительстве —
строитель и т. д. После перебора ряда дел оказывается, что
справедливость полезнее всего в денежных вопросах, причем не там,
где деньги тратят, а там, где их нужно сохранить. «Значит, когда
деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость? » —
задает вопрос Сократ76. И чуть дальше заключает: «Стало быть,
друг мой, справедливость — это не слишком важное дело, раз
она бывает полезной лишь при бесполезности »77.
После этого беседа меняет свое направление. Но еще раз
подчеркнем, что в приведенном нами месте польза добродетели
оказывается отличной от пользы, приносимой людям врачеванием,
корабельным искусством, зодчеством и т. д. Полезность
справедливости в свете наших телесных желаний и потребностей
скорее выглядит как бесполезность. Вот что хочет сказать Сократ,
высказывая парадоксальное утверждение о бесполезной
полезности того, на что способен справедливый человек.
Противостояние мудрости Сократа точке зрения здравого
смысла на полезное и бесполезное усиливается после того, как в
беседу вступает некто Фрасимах, известный в Афинах своим
упрямством и самоуверенностью. Разговор переходит на
справедливость в государственных делах. Причем характерно, что
анализ первой книги «Государства »»представленный в
«Античной философии» Асмуса, на этом месте как раз обрывается.
Автор утверждает, что для характеристики метода Сократа
достаточно того, что говорилось ранее. При этом он не первый раз
замечает, что этическая проблематика у Сократа по сути
тормозит разработку им диалектики. И слово «диалектика » здесь
неслучайно взято Асмусом в кавычки. Он пишет: «По ранним
диалогам Платона мы можем составить ясное и точное
представление о том, чем была «диалектика » Сократа. Сократ несомненно
дал толчок к развитию в философии учения об общем понятии.
Однако от толчка до выяснения диалектической функции
общего понятия дистанция оставалась еще значительной. Сократ не
прошел этой дистанции не по недостатку проницательности, а
потому, что весь его интерес был сосредоточен не на области
общей теории диалектики, а на области этики. Диалектика
Сократа есть только пропедевтика его этических исследований »78.
76 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 86.
77 Там же.— С. 87.
78 Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 120.
51
Здесь стоит напомнить, что В.Ф. Асмус является автором
оригинальной для своего времени статьи о философах Л. Шестове и
С. Киркегоре. В указанной статье, появившейся в 1972 году,
Асмус неслучайно говорит о том, что критика
гносеологического рационализма у обоих этих мыслителей неотделима от
критики рационализма этического79. Усилив эту мысль, можно
сказать, что последовательное преодоление разума, по мнению
Шестова, предполагает искоренение тех этических основ, о
которых впервые заговорил с афинянами философ Сократ.
Оценки Шестова были во всем радикальными и
бескомпромиссными. Он не проводил многих различий. Тем не менее,
предвзятость Шестова позволяет точнее обозначить контуры
классического европейского рационализма. И прежде всего, понять,
что истина — это не просто знание, а разум — не только
способность познавать и знать. Как для мышки страшнее кошки
зверя нет, так для современного иррационализма нет ничего
страшнее позитивизма сего вырожденным случаем человеческого
разума. Сила Шестова, однако, в том, что в своих антипатиях он идет
значительно дальше, призывая себе на помощь Киркегора.
Для Л. Шестова ясно, что истина неотделима от добра, а
разум —от способности постигать «наилучшее ». И здесь во весь рост
встает фигура Сократа. К сожалению, занимаясь творчеством
самого Сократа, Асмус не признает указанного тождества
гносеологической и этической сторон классического рационализма. Таким
образом, критик рационализма Шестов оказывается более
проницательным мыслителем, чем его многие откровенные защитники.
Что касается достижений Сократа в диалектике, то здесь
главную проблему Асмус видит в объяснении сущности
рассматриваемого предмета как единства в многообразии своих проявлений,
как постоянства и тождества в изменяющемся многообразии80.
С его точки зрения, Сократ в проработанности этих вопросов явно
уступает Платону. И это, безусловно, так. Отметим, однако, что
диалектикой единого и многого уже занялись элеаты, а
проблемой постоянного и изменчивого — Гераклит, который, решая
данную проблему, ввел понятие меры.
Что касается Сократа, то его достижение — в стремлении
понять всеобщее и объяснить, как оно предстает в качестве
особенного. И здесь Сократ был безусловно первопроходцем. Уточним,
19 Асмус В.Ф. Шестов и Кьеркегор // Философские науки.— 1972.—
№ 4.— С. 71.
80 Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 116.
5?
что речь идет именно о всеобщем, а не об общем, делимом на
части. В работе «О частях животных » Аристотель подчеркнул, что
во времена Сократа исследование природы остановилось, и
философы обратились к политике и добродетели81. Именно в этой
области и было обнаружено Сократом всеобщее в его
тождественности себе и неделимости на части. И эта диалектическая
категория могла быть впервые обнаружена и подвергнута
анализу только в указанной Аристотелем сфере политики и морали.
А потому анализ добродетели не столько сковывает и тормозит,
сколько способствует диалектической мысли Сократа.
Обычно считают, что единая добродетель, согласно
Сократу, делится на части — справедливость, рассудительность, и т. д.
И к этой трактовке как будто подталкивает диалог «Протагор »,
где Сократ приводит известный пример с частями лица, подобно
которым могут соотноситься в рамках целого добродетели. При
этом, поддержав Сократа, Протагор утверждает, что человек
может обладать всего лишь одной добродетелью с ее особым
назначением, не имея отношения к остальным82.
Но диалог на этом не оканчивается. И зная знаменитую
иронию Сократа, можно предположить, что и в этом вопросе он
заставит Протагора войти в противоречие с самим собой.
Действительно, Сократ заводит Протагора в тупик, притом делает
это два раза, доказывая, что добродетели не могут быть частями
целого. Первый раз Сократ ставит Протагора перед выбором, то
ли отказаться от собственного вывода, что одному должно быть
противоположно только одно, то ли отказаться от признания
того, что рассудительность и мудрость — разные добродетели,
соотносящиеся между собой как части лица. Протагор с
неохотой отказывается от второго. После этого Сократ еще раз
уточняет: «Так не получится ли, что рассудительность и мудрость —
одно и то же? Ведь и раньше у нас оказалось, что справедливость
и благочестие — почти то же самое. Но не будем унывать,
Протагор, а давай разберемся и в остальном »83.
Беседа продолжается. И на очередном этапе речь идет уже о
всех добродетелях сразу. «Вопрос, по-моему, состоял в
следующем,— говорит Сократ,— мудрость, рассудительность,
мужество, справедливость, благочестие — пять ли это обозначений
одной и той же вещи, или, наоборот, под каждым из этих обо-
81 См.: Асмус В.Ф. Античная философия.— М. 1976.— С. 124.
82 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 439.
83 Там же.— С. 444.
S3
значений кроется некая особая сущность и вещь, имеющая свое
особое свойство, так что они не совпадают друг с другом? »84.
Возвращаясь к мысли о различии добродетелей, Протагор
приводит пример с мужественным человеком, у которого
отсутствуют все остальные добродетели. В связи с этим Сократ
подводит Протагора к различию мужества и смелости. Первое
прекрасно и требует мудрости, а второе может совершаться
иступленным и несведущим человеком. Значит можно сделать вывод,
что мужество, в отличие от смелости, неотделимо от красоты и
мудрости. И по сути Протагор соглашается с этим85. Так Сократ
подводит собеседников к мысли о том, что о добродетели нельзя
рассуждать с точки зрения «часть — целое». Справедливость,
рассудительность, мужество и т. д.— это не части, а
проявления одной и той же единой добродетели. Таким образом
заявляет о себе своеобразие добродетели как всеобщего, в отличие от
общего, делимого на части. И то же самое можно сказать о
природе идеала, переходя на язык более зрелой философской
классики. Но, в отличие от классической философии в ее зрелой форме,
эта позиция выражена у Сократа отнюдь не однозначно, а потому
далее он вновь способен говорить о «частях добродетели»86.
Единая добродетель, о которой печется Сократ,—
свидетельство формирования идеальных основ человеческой жизни. Что
касается противостояния Истины, Добра и Красоты в
современной культуре, то таков итог отчуждения человека в ходе
истории. Борьба с идеалами, которая началась в середине XIX-го и
происходила весь XX век,— свидетельство обратного движения,
т. е. разложения идеальных основ нашей жизни. И эта разно-
направленность движения по-новому высвечивает и уточняет
своеобразие двух переходных эпох — античной классики и
современности — в европейской культуре.
Но вернемся к первой книге «Государства » в том месте, где
Фрасимах отстаивает представление о справедливости как
пригодном сильнейшему. При этом становится ясно, что
сильнейший — это правитель, использующий власть в своих личных
целях. Именно в этом смысле Фрасимах, говорит о полезности
власти для человека. И такому правителю выгодно, считает он, чтобы
подданные исходили из справедливости, не ориентирующей на
извлечение материальной пользы. «Справедливое», «справедли-
м Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 461.
85 Там же.— С. 463.
м См.: там же.— С. 465.
54
вость», «несправедливое», «несправедливость» —утверждает
Фрасимах, —...в сущности это чужое благо, это нечто,
устраивающее сильнейшего, правителя, а для подневольного
исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость — наоборот:
она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и
справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно
правителю, так как в руках его сила. Вследствие их
исполнительности он благоденствует, а сами они — ничуть »87.
Здесь перед нами вновь та позиция, которую обслуживали
софисты. Именно они помогали корыстолюбию надевать в
политике маску приличия. По сути дела софист Фрасимах
декларирует две морали. Одна — мораль сильного, а другая —
слабого. Сильный использует моральные установки слабого. И как
здесь не упомянуть Ф. Ницше, который через две с половиной
тысячи лет вспомнил о ситуации выбора в античной истории.
И был, как мы знаем, отнюдь не на стороне Сократа.
Но Сократ в первой книге «Государства » не только встал на
защиту единой добродетели, способной защитить слабого. Еще
важнее для него разобраться с истинной целью политика,
которую выражает идея справедливости. Сократ разными
способами доказывает, что правитель не должен руководствоваться
своими интересами. Подобно тому, как кормчий занимается не
собой, а гребцами, а врач занимается не собой, а больными, политик
тоже должен заботиться о гражданах, поясняет Сократ.
«Следовательно, Фрасимах,— говорит он,— и всякий, кто чем-либо
управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и
не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то,
что пригодно его подчиненному, для которого он и творит »88.
Фрасимах продолжает настаивать на том, что «всякому для
себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым»89.
При этом он отмечает: «Так-то вот, Сократ, достаточно полная
несправедливость сильнее справедливости, в ней больше силы,
свободы и властности, а справедливость, как я с самого начала и
говорил,— это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость
же целесообразна и пригодна сама по себе»90.
В той системе координат, в которой находится Фрасимах,
точка отсчета — отдельный индивид и его эгоистические интере-
87 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т.З.— С. 99.
88 Там же.
8> Там же.- С. 100.
90 Там же.— С. 101.
55
сы. И с этой точки зрения, несправедливого человека и вправду
никто не может использовать, т. к. он служит только себе. Именно
в этом смысле его несправедливость пригодна только самой себе,
а его несправедливые поступки вполне целесообразны. Иначе, с
точки зрения Фрасимаха, выглядит справедливый человек,
которого легко использовать в корыстных целях.
Но в том-то и дело, что Сократ, доказывающий
преимущества справедливости, находится уже в другой системе
координат. И в этой системе, помимо частного интереса, вполне
объективно существует общий интерес и общее благо,
которые есть условие процветания отдельных граждан. Имея в
виду политика, Сократ уточняет: «Ты думаешь, что он пасет овец,
поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а
так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хорошенько
угоститься за столом; или, что касается доходов, так, словно он
стяжатель, а не пастух. Между тем, для этого искусства важно,
конечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему
прямому назначению, и притом наилучшим образом, тогда овцы
и будут в наилучшем состоянии... Потому-то, думал я, мы
теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она
власть, имеет в виду благо не кого-то иного, как тех, кто ей
подвластен и ею опекаем — в общественном и в частном порядке»91.
Осознание общественных интересов для эпохи Сократа —
это проблема. В прошлом было привычное подчинение традиции,
в настоящем — эгоизм людей, подобных Фрасимаху, для
которого добродетель — если не фикция, то средство, которое удачно
используют сильные для подчинения слабых. Задача Сократа,
наоборот, состоит в том, чтобы доказать, что добродетель — не
фикция, а реальность. И для политика она должна быть не
средством, а целью. Ведь служить добродетели — это способствовать
процветанию целого, без которого невозможно выжить единице.
Первая книга «Государства » интересна тем, что в ней на примере
справедливости видно, что добродетель для Сократа — это
представитель всеобщего в душе отдельного человека. И как раз это
начало в душе не позволило ему бежать накануне казни, когда к
этому не было серьезных внешних препятствий.
Восхваляя несправедливость, Фрасимах по сути видит в ней
исток для особого учения, в котором несправедливость — нечто
мудрое, совершенное и добродетельное. И это сильнее всего
возмущает Сократа. «Это уж слишком резко, мой друг,— говорит
Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т.З.— С. 102.
56
Сократ,— и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты
утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом,
подобно другим, признал бы ее порочной и позорной, мы
нашлись бы, что сказать, согласно общепринятым взглядам. А
теперь ясно, что ты будешь утверждать, будто несправедливость —
прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что
мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести
несправедливость к добродетели и мудрости»92.
Учения Сократа и Фрасимаха — антиподы, и на первый взгляд
взаимопонимание здесь исключено. И, тем не менее, у них есть точка
соприкосновения, что позволяет Сократу разрушить позицию
Фрасимаха. Этой точкой соприкосновения является признание разума
мерилом истины. У софистов разум имеет инструментальное
назначение, а истина субъективна, чего не скажешь о Сократе, для
которого истина разума объективна и должна совпадать с
жизненной позицией. Но противоречие в суждениях для всех участников
этого спора есть свидетельство ошибки, а значит поражения. И
именно логика здесь, как и в других случаях, оказывается главным и
единственным средством в борьбе Сократа против софистики.
Сократ доказывает Фрасимаху, что справедливый притязает
лишь на то, что знает, в отличие от человека несправедливого,
который в трактовке Фрасимаха притязает на преимущества во
всем и вся, а значит и в вопросах справедливости, чуждых ему.
Но так может поступать только невежда, а не мудрец, человек
неразвитый, а не совершенный. Следовательно,
несправедливость4 не имеет отношения к мудрости и совершенству,
заключает Сократ. И Фрасимах вынужден с ним согласиться93.
Еще раз подчеркнем, что аргументы Сократа имели смысл для
Фрасимаха по причине их общего уважения к разуму. В отличие
от античного грека Фрасимаха, Ницше в аналогичной проповеди
индивидуализма и культа сильнейшего, безусловно, более
последователен. Ницше отвергает не только религию и мораль, но и
разум. Он отбрасывает всю классическую культуру в том виде, в
каком она была унаследована от античности. И в этой
последовательности проявляет себя глубочайший кризис все той же
классической культуры, в котором она оказалась в новейшее время.
Но вернемся к первой книге «Государства », чтобы уточнить,
в чем же Сократ видит целесообразность добродетели. Ведь
только в этом разговоре о целесообразности анализ доброде-
1,1 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т.З.— С. 106.
" Там же.— С. 106-109.
57
тели доводится Сократом до фундаментального отличия
добра от зла. Ни в одном из других ранних диалогов в уяснении
сути добродетели Сократ до этого пункта не доходит. Именно
на последних страницах этой книги Сократ говорит по поводу
несправедливости то, что, опираясь на насилие, она сеет раздор,
и этот раздор касается всего — взаимоотношений людей,
отношения к богам и даже души человека. Сократ так говорит по
поводу несправедливости: «Даже возникая в одном человеке, она
производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она
делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим
собой, он враг и самому себе, и людям справедливым »94.
Противоположным действием, соответственно, обладает
справедливость, следствием которой является не раздор, а согласие.
Из этого следует, что добродетель есть объективное основание
души, которое гармонизирует отношения индивида с целым,
будь то космос, полис и его внутренний мир. Таким образом,
представление о целесообразности у Фрасимаха и Сократа
оказывается различным. Для Фрасимаха целесообразное должно
соответствовать определенной цели. У Сократа
целесообразность добродетели есть сообразность не с личной целью, а с
некоторым целым. И в этой сообразности действий человека с
целым, согласно Сократу, как раз и заключается счастье95.
В античности еще не сложилась почва для объявления
категорического императива, когда человек — всегда цель и никогда —
средство. Но античность уже создает почву для того, чтобы
объявить сутью добра единство интересов одного с интересами всех.
И важно не путать это единство с интересами отчужденного
целого, которое сегодня именуют «тоталитарным государством».
Для Сократа важно то, чтобы указанная гармония была
результатом личного выбора, т. е. сознательно избранной
добродетели. В конце первой книги «Государства » Сократ говорит
о том, что только душа способна заботиться, управлять и
советовать. Таково ее назначение подобно тому, как назначением глаз
является зрение, а назначением ушей является слух96. И чем
возвышенней душа, тем лучше она делает свое дело, исходя из
добродетели. Вот что следует из спора Сократа с Фрасимахом.
На этом первая книга «Государства », относящаяся к ранним
работам Платона, завершается. Но анализ проблемы души Сокра-
м Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т.З.— С. 111.
" См.: там же.— С. 112.
* См.: там же.— С. 114.
si
том требует еще ряда дополнений. Мы пытались показать, что уже
у Сократа знание добродетели оказывается всеобщим началом в
душе человека. И этот поиск всеобщих объективных основ
придает проблеме души новый поворот и звучание, которые станут
определяющими в философской классике. Сократ по сути намечает
контуры идеала как средоточия души. При этом в ранних
диалогах Платона нет рассуждений о телесности или бестелесности души,
которые мы находим в более поздних его произведениях.
Душа, как следует из этих диалогов, противостоит телу, но не
потому, что она незрима, бесплотна и невещественна, о чем идет
речь в христианском богословии. Сократ не исследовал
вещественный состав души, как это было принято в фисиологии. Тем более,
он не противопоставлял ее телу как невещественное
вещественному, бестелесное телесному, незримое зримому. И тем не менее,
уже у Сократа душа оказывается антиподом тела в качестве
его руководящего начала. Она противостоит ему как всеобщее
частному, подобно тому, как принцип действия противостоит
отдельному поступку. И в указанном отношении уже схвачено
своеобразие идеала и его отношения к действительности.
А потому, не затрагивая вопроса о бестелесности души, мы
можем положительно решать вопрос об идеальности души
применительно к позиции Сократа. Именно в качестве всеобщего
принципа душа определяет жизнедеятельность тела. И на
этом основании можно заключить об идеальности души в
учении Сократа. Заметим, что здесь позиция Сократа
существенным образом отличается от того, чему будет учить Платон, у
которого неразумная часть души тесно связана с телом.
«Получается, что, отождествляя добродетели с науками,— читаем мы
у Аристотеля,— Сократ упраздняет внеразумную (alogon) часть
души, а вместе с нею и страсть (patos), и нрав»97.
Душа у Сократа есть нечто всеобщее и неделимое на части, в
отличие от тела как чего-то частного и, в свою очередь, делимого.
В качестве всеобщего душа определяет у него цель и способ
жизни человека. И по сути здесь идет речь об особом типе причинной
зависимости, впервые обнаруженном Сократом. Ведь Сократ
открыл и первым взялся исследовать особый тип детерминации.
Дальнейшее развитие философской классики покажет, что это
уже не отношения между вещами в природном мире, а
отношение всеобщего к частному в мире культуры, где общий принцип
способен определять частные случаи в поведении человека.
97 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 297.
59
У современного человека не вызывает сомнения тот факт,
что люди могут руководствоваться принципами и идеалами. Всем
известны имена тех, кто когда-то пошел на костер, не
поступившись религиозными или, наоборот, научными убеждениями. «Это
дело принципа! » — говорит один. «Это вопрос чести! » —
утверждает другой. И каждый раз общее оказывается важнее
частного, а идеал весомее материальных благ. Причем в иных случаях
этим определяется выбор между жизнью и смертью.
Принцип — это общее, которым человек руководствуется в
своем отношении к природе, идеалом общее становится в
отношении человека к человеку. Если в основе принципа лежит
объективная мера природы, то в основе идеала —
объективная мера человеческого в человеке. Но развернутый разговор об
общем в форме принципа и идеала у нас еще впереди. Сейчас же
уточним, что не любой принцип является идеалом. Но идеал
безусловно является принципом. Потому вполне допустимо
говорить об идеале как принципе действия человека.
Конечно, не все и не всегда руководствуются принципами. И в
наши «просвещенные» времена сплошь и рядом наблюдаются
коллизии, когда сталкиваются нравственные принципы и вековые
традиции, убеждения и предрассудки, идеалы и эгоистические
интересы. Еще сложнее обстояли дела во времена Сократа, когда
нравственный принцип впервые бросил вызов эгоистическому
интересу, с одной стороны, и традиции — с другой.
Сложность ситуации заключалась в том, что граждане Афин
прекрасно знали, как жертвуют жизнью во имя процветания
родного полиса, как приносят жертвы богам, как подчиняются
законам государства. Но в каждом из этих случаев они
следовали примеру и предписанию. И авторитет староотеческих богов
не допускал личных толкований общего закона.
Именно из правила и отдельного примера исходят собеседники
Сократа в ранних диалогах Платона, рассуждая о сути добродетели.
Но человек, который знает, как поступать в строго определенных
случаях, по существу несвободен. И там, где конкретное «правило »
ему неизвестно, он вынужден использовать другие, пусть даже
неудачные шаблоны. Именно так поступает дурак в народной сказке.
И подобные персонажи есть у большинства народов. Причем
действуют Иван-дурак или глупый Ганс одним и тем же способом.
Сказки об уме и глупости подчеркивают своеобразие ума в
его исходном жизненном смысле и действии, а не в том виде, в
каком представлен ум в действиях профессионально
ограниченного ученого или «гносеолога ». «Гносеолог», уверенный в том,
60
что ум проявляет себя в действиях индукции и дедукции, будет
двигаться от частного к общему и от частного к частному. Но в
реальных жизненных ситуациях умные люди двигаются как раз
наоборот — от общего принципа к конкретному решению.
И как раз этим способом не может овладеть любой дурак,
подменяя разумный выбор известным ему шаблоном.
Напомним, о чем идет речь в сказке «Набитый дурак » в
изложении А.Н. Афанасьева98. У старика со старухой был
единственный сын-дурак, которому мать предлагает потереться между
людьми, чтобы у них ума набраться. Первое проявление его
глупости — буквальное понимание слов, когда дурак начинает
тереться об мужиков, которые молотят горох. Второе и главное
проявление глупости — действие по шаблону. Мать, как
известно, советует дураку говорить мужикам «Носить вам не
переносить! » И он честно повторяет эту формулу другим людям,
несущим покойника. Мать советует ему в другой раз слезно плакать
и поклоны бить. И дурак честно плачет, попав на свадьбу.
Намного нелепее и в то же время кровожаднее немецкая сказка
про смышленого Ганса, обработанная братьями Гримм". В ней по
аналогии с иглой Ганс втыкает в рукав нож, а по примеру ножа
кладет козу в карман. Узнав же от матери, что козу следовало
вести на веревке, привязывает к ней сало, а вместо сала несет на голове
теленка. Самая же страшная глупость Ганса в том, что по совету
матери «ласково на невесту глазами вскинуть», он выкалывает
телятам и овцам глаза и кидает их в лицо своей невесте Гретель.
Надо сказать, что, когда дурак обижается на мать, будто она
его неправильно учит, в этом есть доля правды. Ведь мать не
помогает ему понять смысл слов и применить принцип действия
к конкретной ситуации. Мать предлагает дураку готовые
образцы поведения. Но в одних исторических обстоятельствах
действие по шаблону и традиции — норма, а в иных
обстоятельствах — уже глупость.
Сократ жил именно в такую переходную эпоху, когда созрела
необходимость избавиться от шаблонов во взглядах и поступках.
И Сократ предлагает «набираться ума », вовлекая людей в свои
беседы. Разум у Сократа — это по сути способность не повторять
готовый образец, а искать каждый раз особое решение, исходя из
добродетели как парадигмы человеческого поступка. В этом
свете идеал есть парадигма отношения человека к человеку.
98 См.: Народные русские сказки: Из сборника А.Н. Афанасьева.— М., 1979.
" См.: Братья Гримм. Сказки.— Минск, 1983.
fi
Умение мыслить — это умение применять общий принцип к
частной ситуации. И такой способ действия есть не только
свидетельство разума, но и залог свободы. Напомним, как Сократ
дает Лахету в одноименном диалоге понятие скорости как
«способности многого достичь за короткий срок ». В этом понятии,
уточняет Сократ, не должно быть указано, идет ли речь о беге,
разговоре, обучении или игре на кифаре. Однако, каждый, кто
владеет этим понятием, будет верно поступать во всех
возможных случаях.
Понятие «скорость » в данном случае выражает именно
принцип действия человека. Оно дает нам знание определенного рода
действий, не описывая отдельных примеров и случаев, а
выражая их принципиальное единство. И чтобы воплотить
указанный способ действия на практике, человеку недостаточно тела и
органов чувств. Их действиями должна руководить душа,
умеющая воплощать один и тот же принцип разными и даже
исключающими друг друга способами.
Еще раз уточним разницу между принципом и идеалом.
Понятие скорости выражает именно принцип действий человека,
но никак не идеал, который мы чаще всего воплощаем
противоположными путями. Так идеал милосердия един, и означает он
бескорыстную помощь людям. Но действовать милосердно
можно по-разному, например, отбирать наркотики у людей и,
наоборот, давать их, как это делают при смертельных болезнях.
Последнее нужно оговорить особо, поскольку упираясь в
данную проблему, Сократ каждый раз прерывает свое
исследование и констатирует логическое противоречие, не
позволяющее ему найти и определить истину. Сократ согласен с тем, что
общая основа наших действий предполагает различные, каждый
раз особые поступки. Но он не может признать того, что одна и
та же сущность может проявлять себя в противоположных
действиях. И на это следует обратить особое внимание, когда мы
перейдем к оценке заслуг Сократа в области методологии.
Итак, всеобщий принцип человеческого действия
реализуется не в отдельном поступке, а в особой линии поведения.
Именно так на практике утверждал всеобщее сам Сократ, и потому
был назван К. Марксом «воплощенным философом ». Принцип
действия, заложенный в его душе, Сократ воплотил в
собственной судьбе. И в ранних диалогах Платона перед нами
изображение души и ее основы — ума именно в сократовском, а не в
софистическом или фисиологическом смысле. У фисиологов ум
манифестировал законы космоса. У софистов он обслуживал
62
частные интересы. И только у Сократа ум пытается прояснить
свои всеобщие основы. Но декларируя эту цель, Сократ на деле
решает более фундаментальную задачу. Он не только проясняет
всеобщее, но и воплощает его в особенном. Сама жизнь и
деятельность Сократа — пример диалектики особенного, где
всеобщее предстает как системное единство способностей,
как конкретная душа и личность. Таков еще один, пусть не
совсем осознанный, но вполне явный итог его творчества.
Еще раз подчеркнем, что идеальность души связана с особым
типом детерминации, который существует в поведении
человека. Именно эта идеальная детерминация во взаимоотношениях
души и тела была впервые очерчена в ранних диалогах Платона.
Знание в форме идеала, на наш взгляд, стало главным
открытием Сократа. Ведь таким образом в философию был введен
феномен идеального и обозначилась главная тема философской
классики — отношение идеального к материальному.
Естественно, что указанный вывод не соответствует
привычной оценке заслуг Сократа, и потому требует уточнений. Для
примера возьмем характеристику учения Сократа у Целлера,
который, ссылаясь на Аристотеля, пишет: «Средоточие
исследований, которые Сократ предпринимает вместе со своими
друзьями, всегда образует определение понятий, и путь, на котором
он достигает последнего, есть диалектически индуктивный
метод»100. Таким образом, не знание в форме идеала, а именно
индуктивные обобщения предлагаются здесь на роль искомого
знания, к которому ведут беседы Сократа.
Характерно, что Целлер исключает какие-либо
противоречия в искомых индуктивных обобщениях, делая, тем самым,
метод Сократа предельно ясным. «Эта индукция,— пишет он,—
исходит не из точного и исчерпывающего наблюдения, а из
обычного опыта ежедневной жизни, из общепринятых положений;
но, рассматривая всякий предмет со всех сторон, проверяя
всякое определение противостоящими инстанциями и привлекая все
новые случаи, философ принуждает мышление составлять
такие понятия, которые согласуются со всей совокупностью
фактов и без внутреннего противоречия сочетают все существенные
признаки объекта »101.
Уже из этого описания применяемого Сократом метода
можно заметить, что он не совсем похож на традиционную новоев-
100 Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 95.
101 Там же.
вз
ропейскую индукцию. Целлер в данном случае говорит о неком
«диалектически индуктивном методе ». Что касается Асмуса, о
котором здесь стоит вновь упомянуть, то у него сутью метода
Сократа является выяснение родовых и видовых понятий. При
этом Асмус специально указывает на логические противоречия,
которые на каждом шагу преследуют Сократа. И это, конечно,
лишает его поиск той ясности и безрблачности, в которой
пытался нас убедить Э. Целлер.
Итак, что касается метода Сократа, то здесь индуктивные
заключения явно подчинены определению родо-видовых
понятий. И такое исследование к элементарному обобщению,
конечно, несводимо. Все это, впрочем, соответствует тому, на что как
на заслугу Сократа указал в свое время Аристотель102. Но
открытым остается один важный вопрос. Почему Аристотель явно
игнорирует ту форму знания, которую Сократ называет
знанием «наилучшего»? Ведь, наряду с общими представлениями и
родовыми понятиями, в ранних диалогах Платона присутствует
особое знание добра и зла. И, подобно категориям, это знание ни
индуктивным, ни дедуктивным путем никак не выведешь. Знание
добра и зла — это знание с особым статусом. И, указав на него,
Сократ, повторим, совершил едва ли не главное свое открытие.
Аристотель прав в том, что Сократ много сделал в области
индуктивных умозаключений и логического анализа. Но при
этом Сократ сумел показать, что на данном пути знание
добродетели недостижимо. Знание добра и зла, подобно
категориям мышления, оказывается в душе иначе, чем представления о
вещах и их свойствах, а также понятия о родах и видах. Знание
добра — это знание особого рода. И сколько ни обобщай
поступки людей и не умозаключай по их поводу, знание добра как
идеала человеческой жизни не получишь. Знание добродетели
нельзя получить, обобщая частные случаи, и его нельзя усвоить
повторением чужих поступков. Его сложно вычитать из ученых
книг. Создается впечатление, что душа знанием добра владеет
изначально. А в практике и беседах его только уточняют и
проясняют. И тем самым душа совершенствуется.
Таким образом, выясняя природу добродетели, Сократ
упирается во вполне объективное противоречие. Самым с ложным в
природе идеалов оказывается их происхождение. Знание
добра изначально противоречивым образом и дано, и не дано
индивиду. Знание «наилучшего» (в форме идеала) невозможно уз-
102 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 327-328.
64
нать в обычном смысле этого слова. Но то, что невозможно
узнать, оказывается, можно прояснить, потому что оно изначально
известно душе. Вот суть проблемы, зафиксированной Сократом.
Докапываясь до сути добродетели, мы тем самым
совершенствуем собственную душу. Но саму добродетель — и это крайне
важно — изменить мы не можем. Знание «наилучшего » дано
человеку в форме готовой истины. Еще точнее эту ситуацию будут
впоследствии определять через категорию абсолютного.
Своеобразие абсолюта в том, что он не нуждается в порождающей
силе, поскольку вечен. Он не способен меняться, поскольку
самодостаточен. Что касается знания добродетели, то абсолютным его
способна сделать форма. Та самая форма, которая у Канта будет
фигурировать под именем «категорический императив ».
Во времена Сократа исполнение традиции гарантировалось
волей и примером богов. Но разум в лице софистов стал
разлагать авторитеты, совлекая рефлексией покровы святости.
Сократа судили как раз за ниспровержение староотеческих богов.
Однако афинский суд проигнорировал главное. Ведь святости
традиции он противопоставил абсолютный характер
идеала в качестве нового гаранта добродетели. По сути у Сократа
добродетель меняет способ бытия. Оставаясь объективной
основой полисной жизни, она из внешнего предписания богов
превращается во внутренний принцип поведения, непреложность
которого гарантируется самой формой этого знания.
В анализе добродетели Сократ по-своему указывает на
абсолютную форму идеала, «эффективность » которого
гарантирована именно его непреложностью и самодостаточностью.
Такое знание обладает принудительной силой не благодаря авто-
ритету богов и жрецов, а благодаря самому себе, своим
особенностям. Оно является предписанием к исполнению
благодаря своей форме и без каких-либо внешних подпорок.
Аналогичным образом моральный поступок в учении Канта обусловлен
самой сутью имманентного ему нравственного закона, в отличие
от легального поступка, который имеет внешние причины.
Общий пункт у Сократа и Канта еще и в том, что такого рода
регулятивы поведения не могут быть созданы, а они могут
быть нам лишь даны в своей абсолютности извне. У Канта в
этой роли выступает Трансцендентальный Субъект,
наделяющий эмпирического субъекта (индивида) готовыми
способностями, необходимыми формами познания и абсолютным
нравственным законом. Как и первооткрыватель феномена
идеального Сократ, Кант не видит возможности для рождения
65
всеобщего и абсолютного в конечном, несовершенном общении
эмпирических субъектов.
Соответственно и Сократ воспринимает абсолютную форму
идеала как некую изначальную данность, а не объективную
видимость, с необходимостью скрывающую динамику своего
формирования. Диалог «Менон » завершается указанием на то, что
даже лучшие из лучших Фемистокл, Перикл и Фукидид не
смогли выучить своих детей добродетели. А из этого следует, что боги
награждают людей знанием добродетели, опираясь во многом на
игру случая. И многие, даже государственные мужи, опираются
на знание о «наилучшем » без прояснения разумом его основ103;
Таким образом, абсолютная форма идеала превращает его в
посланца иного мира. И вне этой изначальной интенции на вне-
положенную абсолютную реальность идеал перестает быть
самим собой. Таково своеобразие бытия идеала, с
необходимостью рождающее философский идеализм. На эту внутреннюю
связь идеализма с особенностями нравственного идеала
напрямую указывает С.Н. Трубецкой в своем анализе учения Сократа.
«Само присутствие идеальной, общей цели в нравственном
сознании человека,— пишет он,— самое сознание всеобщих
неписаных законов нравственного порядка свидетельствуют о
сверхличном и благом Разуме »104. И немного погодя он еще раз
отмечает, что самое живое и убедительное доказательство, а точнее,
проявление божества, Сократ находит в рассмотрении
нравственной жизни человека105.
Нравственное сознание в определенных обстоятельствах
предполагает и полагает идеализм в его религиозной и
философской форме. По-другому на этой связи будет настаивать
Ф.М. Достоевский, у которого атеизм означает
безнравственность. Ярче всего об этом сказано в «Бесах», где точка зрения
естественно-научного материализма представлена так: «Если
средства науки... окажутся недостаточными для пропитания и
жить будет тесно, то младенцев будут бросать в нужник или
есть. Я не удивлюсь, если будет и то, и другое, так должно быть,
особенно если так скажет наука »106. «Недостаточно определять
103 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.- М., 1990.- Т. 1.— С. 612.
104 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 288.
105 См.: там же.— С. 290.
106 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т.— Л., 1974.— Т. XI.—
С.446.
ее
нравственность верностью своим убеждениям,— пишет он в
другом месте.— Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос:
верны ли мои убеждения? Проверка же одна — Христос »107.
Но вернемся к Сократу, у которого указанная связь
нравственного идеала с идеализмом европейского типа только
намечается. В отличие от князя Трубецкого, который находил у
Сократа прообраз средневекового богословия, отметим, что
установка на иной мир как родину идеального у Сократа не
выражена со всей определенностью. Проблема истоков общего в душе
человека по большому счету так и остается у Сократа
проблемой. В ранних диалогах Платона Сократ не дает развернутого
ответа об истинной родине знания Добра и Зла. Он уверенно
говорит лишь о его жилище в виде бессмертной души. И в такой
постановке вопроса об общем в пределах души есть
определенные преимущества, которые по-своему смог оценить Аристотель.
«А так как Сократ,— сообщает Аристотель в
«Метафизике»,— занимался вопросами нравственности, природу же в
целом не исследовал, а в нравственном искал общее и первый
обратил свою мысль на определения, то Платон, усвоив взгляд
Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к
чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому... И вот это
другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно
воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется
сообразно с ними, ибо через причастность к эйдосам существует все
множество одноименных с ними (вещей)»108.
В свете указанной характеристики становится ясно, почему
Аристотель игнорирует знания добра у Сократа. Ведь именно в
постановке вопроса о добре и происхождении добродетели у
Сократа проглядывают ростки платонизма. Здесь заключена
предпосылка, из которой вырастает учение Платона об идеях.
Потому борьба, которую вел Аристотель с платонизмом, в
данном случае проявляется как стремление «реабилитировать»
Сократа, отделить и противопоставить великого учителя его не
менее великому ученику. Сократ в трактовке Аристотеля не был и
не мог быть объективным идеалистом в платоновском смысле.
В чем же своеобразие решения проблемы души и идеального в
платонизме?
107 Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.
Достоевского.— СПб., 1883.— С. 371.
108 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 79.
m J)ç нализ проблемы души у Платона неотделим от при-
шГ m Р°АЫ самого европейского идеализма, аналогов ко-
щ % торого не было на Древнем Востоке. Ни в Древней
Индии, ни в Древнем Китае теоретическая рефлексия не
поднялась до анализа природы идеального, как это произошло у
Сократа, у которого добродетель является идеальным началом в
душе человека. Скудные сведения об учениях противников джай-
нов и буддистов в Древней Индии свидетельствуют о том, что в
итоге там победил противоположный античному взгляд на душу.
И если даже существовал свой индийский «Сократ », то в силу
обстоятельств последнее слово оказалось отнюдь не за ним. Что
касается великого Конфуция, то он, скорее всего, был бы среди
тех, кто осудил Сократа.
Идеализм, как и классическая философия в целом,—
порождение античности. И как раз у Платона проблема идеального,
поставленная Сократом в связи с природой идеалов, обретает
космический масштаб. Этот поворот в платонизме определил
облик европейской культуры и сказался на христианстве. Его
влияние объясняет многое в решении проблемы идеального в
наши дни. Но был ли этот путь, обосновывающий
противостояние души и тела, закономерным?
1. Платоновский иЭеализм и проблема «роЭииы» души
Начнем с того, что мир идей у Платона по-своему объясняет
феномен предзаданности идеала индивиду. Именно там, в
мире идей, душа, согласно Платону, приобщается к всеобщему.
Но, как верно отмечает Аристотель, Платон придает открытиям
68
Сократа более широкое и своеобразное звучание. В целом своим
учением об «идеях » Платон пытается ответить сразу на два
важнейших вопроса, поставленных его предшественниками. Первый
был поставлен еще «фисиологами », и его суть в объяснении
родового своеобразия вещей. Второй возник в учении Сократа, для
которого главное — понять природу не вещей, а людей.
Жизненный путь и трагическая гибель самого Сократа
убедили Платона в том, что человека делает человеком не чувство, а
разум, не эгоистические желания, а знание «наилучшего »,
которое устремляет нас к совершенству и благу. По сути, как уже
говорилось, здесь речь идет об особом типе необходимости,
когда поступки определяются причиной в форме цели и идеала.
Такое возникает в мире культуры, и этого не может быть в
природе. Но если на природу спроецировать способ жизни людей,
то у вещей, как и у людей, появятся идеалы, они станут
стремиться к совершенству и подражать вечным образцам.
Именно это по большому счету и произошло в учении
Платона, у которого мир идей содержит, с одной стороны,
совершенные образцы вещей, а с другой — идеалы человеческого
поведения, добродетели. Уточним, что возможность разместить
родовую сущность вещи в идеальном мире уже таится в существовании
особых вещей, созданных человеком для человека, о которых
часто упоминает Платон. Такие вещи рождаются в практике, где
присутствует и подражание образцу, и стремление к цели.
В статье «Античная диалектика как форма мысли », которая в
полном виде впервые была опубликована в сборнике «Философия
и культура », Э.В. Ильенков уточняет, что идеальные формы,
которых в самой природе нет, «внесены » в нее формирующей
деятельностью человека. В связи с этим, он пишет: «Имея перед глазами
эту «модель », легко понять и логику мышления Платона, суть
«платонизма », а заодно и гегельянства, для которого весь чувственно
воспринимаемый мир есть лишь колоссальная совокупность
многократно тиражированных копий с одного и того же бестелесного
(лишь воображаемого) оригинала »109. И далее он продолжает:
«Система Платона.., действительно срисована с простейшей схемы
целесообразной —целенаправленной —деятельности общественного
человека, выполняющего в веществе природы некоторую
несвойственную этой природе самой по себе «форму »... »п0.
109 Ильенков Э.В. Античная диалектика как форма мысли //
Философия и культура.— М., 1991.— С. 78.
1,0 Там же.
69
Скорее всего, именно там, где указывает Ильенков, следует
искать тайну взаимоотношения мира идей и мира вещей в
платонизме. Ведь вещи в учении Платона «подражают» своим идеям
как неким образцам. И в силу такой «сопричастности »
изменчивая вещь остается сама собой и не утрачивает связи с родом. Но
нужно иметь в виду, что задолго до платонизма миф уже
спроецировал человеческую деятельность на богов в качестве
демиургов. Боги творят природу в мифах греков, как и в других древних
мифах, по аналогии с тем, как люди переустраивают свое
ближайшее природное окружение. Отношение богов к природе в
мифе — по большому счету калька с взаимоотношений людей.
Но для Платона указанные взаимоотношения богов — не миф в
нашем смысле слова, а реальность. И потому он указывает на
действия бога как на некий архетип, когда определяет суть
деятельности человека.
В диалоге «Тимей », который относят к поздним
произведениям Платона, речь идет о рождении и строении Вселенной,
истоком которой является деятельность демиурга как первотворца.
Именно демиург, согласно «Тимею», создал живое тело и душу
мира, а также в отдельности небо, звезды, время, землю и четыре
рода живых существ. Три таких рода оказались смертными, а
четвертый — бессмертным. К последнему Платон отнес богов. При
этом он пишет, что каждую из этих разновидностей существ бог
создавал, «чеканя его соответственно природе первообраза »ш.
Подражание первообразу в действиях демиурга — важный
момент в «Тимее», который он обсуждает отдельно. «И все же
поставим еще один вопрос относительно космоса,— отмечает
Платон в этом диалоге,— взирая на какой первообраз работал
тот, кто его устроял,— на тождественный и неизменный или на
имевший возникновение? »ш. То, что демиург действует
согласно первообразу, для Платона бесспорно. Волнует его другое:
«Если космос прекрасен, а его демиург благ, ясно, что он взирал
на вечное; если же дело обстояло так, что и выговорить-то
запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого
очевидно, что первообраз был вечным; ведь космос — прекраснейшая
из возникших вещей, а его демиург — наилучшая из причин.
Возникши таким, космос был создан по тождественному и
неизменному (образцу), постижимому с помощью рассудка и разума»113.
1.1 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 442.
1.2 Там же.— С. 432.
1.3 Там же.- С. 432-433.
70
Итак, мир идей уже существовал до акта божественного
творения, который в буквальном смысле был целесообразной
деятельностью бога, где в качестве образца и цели выступала идея
каждого рода. Аналогичным образом действуют и олимпийские
боги, которым демиург поручил сотворить людей и впоследствии
опекать их. Сам он творит для людей только разумную часть души,
помещая ее на звезды как на колесницы. Здесь он являет
разумным душам природу Вселенной и законы рока, согласно которым
первое рождение для них всех будет одно и то же. Затем демиург
переносит разумные души на Землю, Луну и пр. При этом он
прямым текстом повелевает богам подражать своему могуществу в
процессе творения. «Итак, чтобы они были смертными и
Вселенная воистину стала бы Всем,— говорит демиург богам, имея в виду
людей,— обратитесь в соответствии с вашей природой к
образованию живых людей, подражая моему могуществу, через
которое совершилось ваше собственное возникновение»114.
Из* сказанного можно понять, откуда берется подражание
образцу у человека, во всем равняющегося на богов. Но в «Ти-
мее » соотношение действий демиурга и человека мы видим и
оцениваем с божественной точки зрения. Что касается
противоположной позиции, уже не демиурга, а человека, то она ясно
очерчена в десятой книге «Государства », где речь идет об идее кровати,
которой подражает мастер, создавая соответствующий предмет.
Беседа Сократа, в данном случае с Главконом, касается
подражания, которое присутствует в действиях любого человека.
Обычно мы заявляем, говорит Сократ, что мастер изготовляет
ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею, будь то стол или
кровать. «Но никто из мастеров не создает самое идею,—
уточняет Сократ.— Разве он это может? »ш. При этом существует
такой искусный мастер, продолжает он, имея в виду первотвор-
ца, который сотворил все то, что не могут воспроизвести
ремесленники. Речь идет о сотворении земли, неба, богов, а также
всего на земле, на небе, под землей и в Аиде.
После этого разговор переходит к особенностям творчества
живописца, который способен, как в зеркале, отразить все
сотворенное демиургом. Если вернуться к взятой в качестве
примера кровати, то живописец создает только ее видимость, а не
подлинно сущую вещь. Но, в сравнении с богом, замечает Со-
1,4 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 444.
'" Там же.— С. 390.
71
крат, плотник тоже создает некое подобие или, говоря
по-другому, образ. «А что же плотник?— задает он риторический
вопрос Главкону.— Разве ты не говорил сейчас, что он производит
не идею (кровати) — она-то, считаем мы, и была бы кроватью
как таковой,— а только некую кровать? »И6. И сам же отвечает:
«Раз он делает не то, что есть, он не сделает подлинно сущего; он
сделает только подобное, но не само существующее. И если бы
кто признал изделие плотника или другого ремесленника
совершенной сущностью, он едва ли бы бы прав »ш.
В результате этих размышлений Сократ и его собеседник
признают трех создателей — бога, плотника и живописца. И во
всех трех случаях мы имеем дело с подражаниями идее кровати.
При этом бог сотворил единственную совершенную кровать,
плотник создает ее менее совершенные подобия, а художник
создает самые смутные подобия подлинника, а потому должен
быть признан «подражателемтворениям мастеров»118. Именно
здесь в «Государстве » говорится о том, что люди искусства,
создающие по сути не вещи, а их призраки, стоят на третьей
ступени среди творцов. Их произведения занимают третье место в
воспроизведении сущности. А ближе всего к сущностям вещей
оказывается деятельность бога, которой и подражают люди.
Сравнив деятельность человека с действиями бога с двух
противоположных позиций, можно заключить, что в обоих случаях
она оказывается у Платона лишь калькой с того, на что способны
боги. Понятно, что следствие здесь по большому счету
принимается за причину. Но такого рода мистификация целесообразной
деятельности человека изначально принадлежит не Платону.
Платон смотрит на природную сущность через призму
сущности человека. Но до него это уже происходило в неотрефлек-
тированном виде в античном мифе — стихийном и в этом
смысле бессознательном сознании народа. Платон изначально
включен в систему этой мистификации. А значит, его философская
система — не столько рефлексия самой целеполагающей
деятельности человека, сколько попытка рефлектировать миф,
уже стихийно выразивший указанное отношение. Уточняя
тезис Э.В. Ильенкова, можно сказать, что, срисовывая свою
систему идеализма с действий человека, Платон делает это не пря-
116 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 391.
1,7 Там же.
"» См.: там же.— С. 392.
72
мо, a косвенно. В этом плане осмысление целеполагания у
Платона вырастает из рационализации мифа, а не из
мистификации реального практического отношения.
В учении об идеях Платона логика так и не одержала
окончательной победы над мифологическим мышлением. В вопросах,
касающихся сути платонизма, не только логика корректирует
миф, но и миф корректирует логику Платона. И в этом
парадоксальном для современного человека взаимодействии — одна
из особенностей учения о мире идей. О том, как
мифологические установки повлияли на его суть, а через него определили
трактовку идеального во всей классической философии, можно
судить по диалогу «Федон », которым завершается
своеобразный триптих Платона, изображающий события,
непосредственно касающиеся суда и казни Сократа.
В указанный триптих, помимо «Федона », входят ранние
произведения Платона «Апология Сократа » и «Критон ». «Федон »
относят к зрелым произведениям Платона. Ведь здесь, на фоне
этической проблематики, присущей ранним диалогам Платона,
прорисовываются контуры учения о мире идей как родине души.
Сократ в «Федоне » перед казнью указывает то направление, в
котором будет двигаться мысль Платона. Говорил ли нечто
подобное сам Сократ перед смертью или нет,— вопрос для узких
специалистов. На таких специалистов, сводящих почти на нет
вклад Платона в философию, ссылается К. Поппер. Он пишет о
Дж. Вернете, поддержанном А. Тейлором, который предложил
новое решение «сократической проблемы». Согласно Дж. Бер-
нету, Платон, введя Сократа в большинство своих диалогов, «сам
верил и хотел, чтобы его читатели верили в принадлежность этих
взглядов учению самого Сократа »ш.
Не вдаваясь в тонкости «сократической проблемы », скажем,
что для нас важнее понять, как именно из учения о добродетели
можно перейти к учению о мире идей. Добавим, впрочем, что,
если этот переход осуществил сам Сократ, то великий философ
Платон — это миф. Существовал лишь удачливый
популяризатор Аристокл, снискавший всемирную славу пересказом
взглядов учителя, которые не сравнимы с тем, что он говорит от себя
в последних своих произведениях, в частности в «Законах».
Итак, в «Федоне» разговор вращается вокруг бессмертия
души, в чем Сократу суждено удостовериться в ближайшем
"' Поппер K.P. Открытое общество и его враги.— М. 1992.— Т. 1.
Чары Платона.— С. 380.
73
будущем. Об этом впервые зашла речь в «Апологии Сократа »,
где воспроизводились слова Сократа, обращенные к афинянам
после вынесения приговора. В этой речи Сократ утверждал, что
смерть есть благо, поскольку существует переход или
переселение души в «другое место ». В ней ничего не говорилось о
метемпсихозе, т. е. переселении душ, зато Сократ ссылался на
рассказы других об Аиде. В духе обычных представлений речь шла об
истинном суде богов — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и
всех полубогов, перед которыми Сократ должен предстать
после смерти. «А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с
Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером! » — говорит Сократ в
своем последнем слове в суде120. Сократ готов умирать много раз,
если в Аиде ему предоставится возможность общаться с
древними и разбирать, кто из них мудр, а кто нет, как он это делал в
своей земной жизни.
В ином контексте предстает бессмертие души в «Федоне»,
где разговор об уходе души из этого мира неотделим от учения
Сократа об истинном знании, скрывающемся в ее основе. То
«другое место», куда отправляется душа, расставшись с телом, в
«Федоне » оказывается родиной общего, знание которого как
раз и отличает у Сократа человеческую душу.
В «Федоне » много говорится о достижении чистого знания,
что возможно сделать, лишь отрешившись от связи с телом.
«Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами, и такой
массою всевозможных вздорных призраков,— пересказывает
Сократ в беседе с Симмием речи подлинных философов,— что,
верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о
чем бы то ни было поразмыслить!»121. И приведя ряд
характерных примеров, он продолжает: «И, напротив, у нас есть
неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания чего бы то
ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая
вещи сами по себе самою по себе душою»122. И далее:
«Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы по
всей вероятности, объединимся с другими такими же (чистыми
сущностями) и собственными силами познаем все чистое, а это,
скорее всего, и есть истина. А нечистому касаться чистого не
дозволено»123.
120 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т.1.— С. 95.
121 Там же.— С. 17.
122 Там же.— С. 18.
123 Там же.
74
В этом развернутом рассуждении в уста Сократа вложена
мысль о чистом знании, которое открывается человеку после
смерти, и, как говорится далее, до его рождения. Причем речь
идет уже не только о человеческих добродетелях как главной
теме Сократа. Знание, которое предзадано душе, если судить по
данному фрагменту из «Федона »,— это любое чистое знание
или, как говорится в приведенном рассуждении, чистое знание
«чего бы то ни было », которое душа открывает не здесь и сейчас,
в мире вещей, а за его пределами.
Комментируя второй аргумент, приведенный Сократом в
«Федоне » в пользу бессмертия души, А.Ф. Лосев уточняет:
«Следовательно, мы еще до своего рождения имели понятие
равенства, как и всего другого — прекрасного, доброго,
справедливого, священного и вообще всего того, что отмечено печатью бытия
самого по себе»124. Здесь перед нами важный момент в
трансформации сократовского учения о добродетели в учение об
идеях как сущностях вещей. В приведенном фрагменте из
«Федона » речь идет уже о чистом знании «чего бы то ни было », но в
качестве примера не случайно приводится идея равенства,
которая греками соотносилась со справедливостью. Так, в
частности, в «Никомаховой этике» Аристотеля равенство играет роль
этической категории, которая помогает устанавливать середину
в человеческом поведении и чувствах.
А это значит, что в «Федоне» идеалы прекрасного, доброго,
справедливого и связанного с ним равного постепенно меняют
свой статус, превращаясь в истину всего мироздания. Здесь еще
далеко до признания идей «стольности» и «чашности», за что
Платона впоследствии будет критиковать киник Диоген. Но
«Федон » дает нам ключ к платонизму, обнажая тот переходный
момент, когда нравственная идея оказывается сущностью как
человека, так и вещи. С другой стороны, уже в этом диалоге речь
идет об истинном знании, которое можно получить лишь за
пределами окружающего нас мира. А это означает, что никакая
из истин, согласно Платону, не может быть получена
опытным путем. Для индукции в ее новоевропейском понимании,
начатки которой находят у Сократа, в платонизме места нет.
И это результат экстраполяции, т. е. перенесения
специфики знания добродетели на все истинное знание, доступное
человеку.
,м Платон. Собр. соч.: В 4 т.- М., 1990.- Т. 1.- С. 417.
75
В «Федоне » и в других диалогах Платона речь идет не столько
о знании, сколько о бытии общего самого по себе. В приведенном
выше рассуждении Сократа уже есть определенность в том,
когда и где мы обретаем истину. Но она сочетается со своеобразным,
с классической точки зрения, пониманием того, что есть истина.
«Чистое », о котором говорится в этом рассуждении, двулико:
это и чистое знание души, и чистая сущность вещей самих по себе.
Истина здесь чистое знание и одновременно его предмет.
Рассмотрим подробнее то место в «Федоне », где речь идет об
идее равенства в связи с припоминанием как способом
постижения истины. Здесь Сократ говорит о равенстве как
существующем отдельно от равных вещей. «Тогда смотри, верно ли я
рассуждаю дальше,— обращается он к Симмию.— Мы признаем,
что существует нечто, называемое равным,... я говорю не о том,
что бревно бывает равно бревну, камень камню и тому подобное,
но о чем-то ином, отличном от всего этого,— о равенстве самом
по себе. Признаем мы, что оно существует, или не признаем? »12ï.
Собеседник радостно выражает согласие с Сократом. Эти
рассуждения напоминают то, что в ранних диалогах Сократ
говорил о добродетели. Но есть тут и важное различие. Ведь в
ранних диалогах речь главным образом шла о знании добродетели,
которое определяет поступки человека. Но одно дело общее
знание добра в его отношении к поступку и другое дело —
общее знание равенства в его отношении к предмету.
Образ равенства в этом месте «Федона » явным образом
двоится. То речь идет о знании равенства, то о равенстве самом по
себе, то об отношении к равенству со стороны человека, то об
отношении к равенству со стороны вещей. Сократ задает
риторический вопрос о том, откуда мы берем знание о равенстве,
имея в виду припоминание. Но, отвечая на него, продвигается от
изначального знания равенства, которым руководствуется
человек, к существованию равенства в качестве изначального бытия,
которое таким же образом определяет существование вещей.
Последнее для понимания платонизма очень важно. Мы
читаем в «Федоне»: «А скажи,— продолжал Сократ,— с бревнами
и другими равными между собой вещами, которые мы сейчас
называли, дело обстоит примерно так же? Они представляются
нам равными в той же мере, что и равное само по себе, или им
недостает этого равного, чтобы ему уподобиться? »ш. Чуть даль-
хп Пяатон. Собр. соч.: В А т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 27.
т Там же.- С. 28.
71
ше он сам же на эти вопросы отвечает: «Ну, стало быть, мы
непременно должны знать равное само по себе еще до того, как
впервые увидим равные предметы и уразумеем, что все они
стремятся быть такими же, как равное само по себе, но полностью
этого не достигают»127.
Знание о равенстве действительно является мерой, вне
которой человек не способен воспринимать предметы в качестве
равных. Но у Платона, как следует из приведенных суждений о
равенстве, такой же меры недостает самим вещам. И в
результате одна и та же истина, находящаяся вне мира, начинает
определять и наше знание, и сами вещи. У идеи в платонизме
особый статус. Отражаясь в мышлении человека, она
становится понятием, а, определяя отношения вещей, выступает
в роли их сущности. Таким образом Платон радикально и на
долгие времена решает вопрос о критерии истинности наших
знаний. Этим критерием соответствия между понятием и вещью
становится определяющее их обоих истинное бытие — идея.
Но залог указанного соответствия — взгляд на сущность
природного мира через призму сущности человека. Вещи в
платонизме оказываются устремлены к идее как некоему
совершенству, подобно тому, как стремится к идеалу всякий достойный
человек. Признав, вслед за Сократом, что человек
руководствуется идеалом добра как своей изначально данной сутью, Платон
делает это основой существования природных вещей.
Предзаданность сущности вещам в платонизме можно и
нужно соотносить с предзаданностью общих образцов и принципов
в целесообразной деятельности человека в любых ее формах —
ремесленной, художественной и других. Это по сути своей
верно. Но исторически Платон проецирует на природу
детерминацию человека нравственным идеалом, гениально угаданную
Сократом. Не столько труд, сколько нравственность
оказывается у Сократа проявлением той целевой детерминации,
которую Платон сознательно перенес на мироздание. И прилагая к
природе меру человека, он не мог не опереться на авторитет мифа,
антропоморфного по самой своей природе.
Касаясь вопроса об истоках платонизма в комментариях к
«Федону», Лосев видит корень мистификации, породившей
объективный идеализм, в некоем преувеличении, которое
присутствует в учении Платона. Вознося общее над единичным в
Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 29.
77
масштабе всего мироздания Платон, указывает Лосев,
«логическое превращает в онтологическое само по себе»128. Вполне
понятно, что без общих понятий мы не способны постигать
единичное, и вне общего единичное оказывается непознаваемым и
бессмысленным. Но из примата общего над единичным в
процессе познания Платон, по мнению Лосева, делает неправомерные
выводы по поводу устройства мироздания. Так открытие в
логике оборачивается мистификацией в области онтологии. Лосев
уверен, что примат общего над единичным в онтологическом и
хронологическом плане — результат произвола со стороны
Платона. «Именно произвольно выдвинутый хронологический
примат общего над единичным,— пишет Лосев,— Платон понимает
как познание нашей душой общих сущностей еще до нашего
рождения, т. е. в потустороннем мире»129.
Итак, согласно Лосеву, объективный идеализм рождается
из гипостазирования общих понятий, чем изначально были
платоновские идеи. То, что существует только в душе, Платон
переносит вовне ее, в объективный мир. Но для такой
детерминации души общим извне Лосев не видит никаких реальных
оснований. А значит перед нами чистый произвол, о психологических
предпосылках которого можно узнать из развернутого
изложения жизни и творчества Платона в книге А.Ф. Лосева и A.A. Та-
хо-Годи «Платон. Аристотель» (М., 1993).
Такого рода грандиозные открытия, какое сделал Платон,
усмотрев разницу между вещью и ее сутью, представленной в
идее, по свидетельству авторов книги, вызывали неистовый
восторг у древних греков. Осознав различие между мышлением и
ощущением, элеаты, читаем мы в указанной книге, воспевали его
в стихах и отображали в величественных мифологических
картинах. Открыв число и числовые отношения, пифагорейцы
восхваляли и обожествляли их, воздавая почести числам первого
десятка. Поэтому не нужно удивляться тому восторгу, который
вызвало у Платона его открытие. «Вот теперь мы и спросим
себя,— пишут авторы книги,— неужели открытие разницы
между идеей вещи и самой вещью могло остаться в Греции чем-то
прозаическим, чем-то обывательски-деловым и чем-то
безразлично-житейским? После приведенных сейчас примеров мы уже
заранее должны сказать, что открытие разницы между идеей
ш Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 422.
,w Там же.- С. 423.
78
вещи и самой вещью должно было быть в Древней Греции
каким-то небывалым торжеством науки, каким-то поэтическим и
мифологическим торжеством, каким-то сказочным и
мистическим умилением »13°.
Из указанного восторга и умиления по поводу бытия идей
Лосев и Тахо-Годи и выводят объективный идеализм Платона.
«Поэтому не нужно удивляться тому,— читаем мы в книге
«Платон. Аристотель»,— что Платон восторгается перед
существованием идей, всячески восхваляет их существование и доходит
даже до прямого их обожествления »131. Другими словами, для
учения о мире идей авторы не видят ни реального аналога в
действительности, ни объективных предпосылок в развитии
античной философской мысли. Примат общего над единичным как
суть платоновского идеализма в такой трактовке никак не
следует из развития философии, а рождается в связи с
привходящими факторами, прежде всего психологического свойства.
Возвысив идеи над вещами, Платон, с точки зрения Лосева, .
вступил на путь произвольной мистификации. Но в результате
на зыбкой почве личного восторга возникло мощное здание
объективного идеализма, простоявшее не одну тысячу лет.
И этот парадокс никак не понять, пока от логики и гносеологии
мы напрямую двигаемся к онтологии, сознательно или
бессознательно игнорируя особенности мира культуры,. Если
своеобразия в мире культуры нет, то примат общего над единичным
в платонизме — чистой воды произвол и выдумка. Но если оно
существует, то Платон мистифицирует реальные отношения, что
по-своему происходит и в мифах. Тогда именно идеальная
детерминация в мире культуры, в особом взаимодействии с
античным мифом у— главная объективная предпосылка
рождения платонизма.
Объективный идеализм рождается из экстраполяции
целевой детерминации, присущей миру культуры, на природу и ее
объективные закономерности. Законы культуры тоже
объективны, но эти законы действуют иначе, чем в природе. Своеобразие
их действия выражается, в частности, в той абсолютной
форме, которая обеспечивает безусловность идеала в отношении к
человеческому поступку. Таковы социокультурные основания
рождения объективного идеализма вслед за открытием иде-
130 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.—
С. 80-81.
131 Там же.— С. 81.
78
альности души, что ясно прослеживается на примере античной
классики от Сократа к Платону.
Новизна и своеобразие предлагаемого взгляда на рождение
объективного идеализма хорошо видна на примере
«Философских тетрадей » В.И. Ленина, где идет речь о гносеологических и
социальных корнях идеализма132. В свете предложенной
позиции ленинская характеристика гносеологических корней
идеализма нуждается в корректировке. Дело в том, что она
содержательно верна, но абстрактна и по этой причине внеисторична, а
как раз из нее по сути исходит в вопросе о происхождении
идеализма Лосев.
Дело в том, что гносеологическая проблематика всерьез
отделяется от этической лишь после Аристотеля, и именно тогда
становится возможным абсолютизация понятийной формы
знания, с чем во многом связан абсолютный идеализм Гегеля. Таким
образом, ленинское определение гносеологических корней
идеализма не теряет своей значимости, но применимо прежде всего
к новоевропейскому, но никак не к античному идеализму. Оно
объясняет природу гегельянства, но неприменимо к
платонизму и рождению идеализма в целом.
И еще. Предпосылки объективного идеализма нельзя
смешивать с присущим древнему человеку антропоморфизмом,
рождающим мифологию. Миф еще не знает идеального, и здесь
перед нами как исторически, так и по существу различные
формы знания. Тем не менее, сходство этих форм отношения к миру
базируется на способе экстраполяции культурно-исторического
бытия на мир в целом, что радикально преодолевается лишь
естествознанием.
Но вернемся к «Федону », поскольку истоки и эволюция
платонизма хорошо видны уже там, где Сократ в одной из речей,
обращенных к ученикам, говорит о разных подходах к изучению
природы. Прежде, однако, уточним, что вопрос о том,
существовали ли космологические представления у Сократа, также
является одним из спорных вопросов у историков философии.
С одной стороны, всем известно высказывание Аристотеля о
Сократе, который, по его мнению, занимаясь проблемами
нравственности, природу в целом не исследовал133. И эта точка
зрения считается общепринятой.
'" См. Ленин В.И. ПСС- Т. 29.- С. 322.
133 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 79.
80
С другой стороны, некоторые исследователи предпочитают
верить Ксенофонту, который в «Воспоминаниях о Сократе »
приводит примеры бесед Сократа о сотворении божеством как
человека, так и различных природных явлений и существ. К таким
беседам относят «Разговор с Аристодемом об отношении
божества к человеку » и «Разговор с Евфидемом о богах ». Конечно,
картина устройства космоса, открывающаяся в указанных
«Разговорах », несравнима с той, что мы находим в «Тимее ». Тем не
менее, исходя из того, что космос в учении Сократа сотворен с
целью заботы о человеке, Ксенофонт вкладывает в его уста
весьма подробное описание природных процессов. «А что солнце
после зимнего поворота подходит,— говорит Сократ у Ксено-
фонта,— одни растения доводя до зрелости, другие, которым
время пришло, высушивая; и, исполнив1 это, уже не подходит
ближе, а поворачивает назад, остерегаясь, как бы не повредить
нам чрезмерным теплом, и, когда на обратном пути дойдет до
места, где и нам уже видно, что если оно отойдет еще дальше, то
мы замерзнем от холода, оно опять поворачивает, подходит и
пребывает в такой части неба, где может принести нам пользы
больше всего?»134.
Таких подробных характеристик природных процессов в
указанных беседах несколько. И каждая из них должна доказать:
боги творят природные блага, прилаживая их к телесным и
душевным особенностям человека. А сам человек создавался на
основе стремления к совершенству, которое ярче всего он
проявляет в области нравственности и в деле почитания богов. Есть у Ксе-
нофонта и указание на незримого первотворца, который и сегодня
«держит в стройном порядке вселенную, где прекрасно и
хорошо »ш. Но нет в этой картине, безусловно, мира идей, в
соответствии с которым первотворец создавал вселенную у Платона.
Свидетельства Ксенофонта в данном случае перекликаются
с «Федоном», подтверждая, что Сократ представлял себе
устройство мира уже не так, как это было у фисиологов. В подаче
Ксенофонта, основа космологии Сократа — приспособленность
всего и вся к потребностям человека. Человек, таким образом,
предстает в качестве цели природы. А значит природа устроена
целесообразно. И тот же принцип целесообразности мы видим
у Платона. Но цель, с которой сообразуется природа у Плато-
|М Ксенофонт. Воспоминание о Сократе.— М., 1993.— С. 128.
135 Там же.— С. 130.
II
на,— не человек, а Высшее благо. И в этом разногласии между
Ксенофонтом и Платоном — борьба двух тенденций, в учениях
последователей Сократа.
До сих пор мы говорили о софистах как антиподах Сократа и
о Платоне как его талантливейшем ученике. Но среди
последователей Сократа, создавших философские школы, помимо
Платона, были Евклид из Мегары, Федон из Элиды, Аристипп из
Кирены и киник Антисфен. И если два первых признавали
общее в наших мыслях и действительности, то два вторых общее
отчаянно отрицали, сближаясь тем самым именно с софистами.
Ксенофонт явно тяготеет ко второму крылу среди
последователей Сократа. Недаром в объяснении сути добродетели
Сократ у Ксенофонта даже не затрагивает проблему всеобщего.
Рассуждая о нравственном совершенствовании человека, он чаще
всего отождествляет добро с пользой, как это делал Фрасимах в
первой книге «Государства », хотя и без свойственных
последнему крайностей136. Скорее всего, Сократ давал повод для
такового восприятия своих рассуждений. Не случайно Аристофан
считал его софистом.
Но суть и главный вопрос опять же не в том, чем и как Сократ
дал повод для рождения школ киников и киренаиков, наряду с
Академией Платона. Суть в том, что открытая им целевая
детерминация в поведении человека породила две трактовки цели и
целесообразности. Там, где целью человека, наравне с
природой, оказался он сам, добродетель связана с удостоверенной
чувствами телесной пользой. Там, где общей целью человека и
природы стал заданный вовне мир идей, добродетель связана
именно с душой и ее стремлением к совершенству. Эволюция
второго понимания, сказавшаяся на облике классической
философии, здесь интересует нас больше всего. Именно о ней и
рассказывает Сократ в «Федоне», объясняя, почему он
разочаровался в исследованиях природы, а затем вернулся к ним опять.
Сократ начинает свой рассказ с того, что в молодые годы был
увлечен исследованием природы. И был уверен в том, что
именно природными стихиями порождаются те или иные процессы.
Сократ перечисляет воззрения на природу и мышление,
принадлежащие Анаксимену, Гераклиту, а также Архелаю, а затем
заявляет, что разочаровался в них всех. «Размышлял я и о гибели
всего этого,— говорит Сократ,— и о переменах, которые про-
136 См.: там же.— С. 35-36, 44, 53, 58-59 и др.
82
исходят в небе и на Земле, и все для того, чтобы в конце концов
счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию»137.
Ранее, объясняет Сократ, он ясно понимал, почему человек
растет. Причиной роста человека, он, подобно другим фисиологам,
считал прибавление мяса к мясу, костей к костям, в результате
чего малый человек становится большим.
Впоследствие Аристотель назовет такого рода причины
«материальными». И вполне понятно, что ими одними нельзя
объяснить, почему из прибавления одного мяса к другому в одном
случае получается человек, а в другом случае — коза или корова.
Таким образом, сомнения Сократа насчет сути природных процессов
не были пустыми. И следующий этап в эволюции взглядов
Сократа связан с надеждами на Анаксагора, в учении которого
появился Умкак причина Вселенной. «Но однажды мне кто-то
рассказал,— говорит Сократ,— как он вычитал в книге Анаксагора, что
всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум; и
эта причина мне пришлась по душе, я подумал, что это
прекрасный выход из затруднений, если всему причина — Ум »138.
Объясняя преимущества такого взгляда на природу, Сократ
указывает на то, что в таком случае нас интересует, как лучше
всего любой вещи существовать, действовать или испытывать
воздействие. Именно в этом он увидел причину бытия,
доступную его разуму. И, исходя из такой причины, Сократ ждал от
Анаксагора объяснения главных природных явлений. Сократ
надеялся: «И если он скажет, что Земля находится в центре
(мира), объяснит, почему ей лучше быть в центре. Если он
откроет мне все это, думал я, я готов не искать причины иного рода »139.
Однако, надежды Сократа не оправдались. «Но с вершины
изумительной этой надежды, друг Кебет,— продолжает
Сократ,— я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать,
увидел, что Ум у него остается без всякого применения и что
порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но
приписывается — совершенно нелепо — воздуху, эфиру, воде и
многому иному»140. Приведенный далее пример, касающийся
взаимоотношений души человека в качестве целевой причины и его
тела, проясняет истоки нового подхода к природе у Сократа.
Заметим, что это место уже упоминалось в предлагаемой работе.
137 Платон. Собр. соч.: В 4 т.- М., 1993.- Т. 2.- С. 55.
,}» Там же.- С. 56.
т Там же.— С. 57.
ш Там же.
13
Сейчас же для нас важно, что, разочаровавшись в Анаксагоре,
Сократ не разочаровался в новом подходе к миру.
Новый взгляд на природу, который Сократ
противопоставляет фисиологам, рождается из отождествления принципов
существования человека и природной вещи или по-другому — из
отождествления культуры и натуры. Характеризуя
распространенные взгляды на природу, Сократ отмечает, что то, что чаще
всего называют причинами, на деле ими не является. «И вот
последствия,— говорит он,— один изображает Землю недвижно
покоящейся под небом и окруженною неким вихрем, для
другого она что-то вроде мелкого корыта, поддерживаемого
основанием из воздуха, но силы, которая наилучшим образом
устроила все так, как оно есть сейчас,— этой силы они не ищут и даже
не предполагают за нею великой божественной мощи. Они
надеются в один прекрасный день изобрести Атланта, еще более
мощного и бессмертного, способного еще тверже удерживать все на
себе, и нисколько не предполагают, что в действительности все
связывается и удерживается благим и должным»141.
Далее Сократ говорит, что так и не смог выработать новой
картины природы, а занялся исследованием отвлеченных
понятий, а точнее «отвлеченных речей ». Но при этом он заявляет, что
посредством них возможно приобщение к истинной причине
бытия, которая, как оказалось, является одновременно
причиной и бессмертия души. «Я хочу показать тебе,— говорит он,
обращаясь к Кебету,— тот вид причины, который я исследовал,
и вот я снова возвращаюсь к уже сто раз слышанному и с него
начинаю, полагая в основу, что существует прекрасное само по
себе, и благое, и великое, и все прочее »142.
Комментируя предложенный Сократом в «Федоне » способ
объяснения вещей, Л.К. Науменко в книге «Монизм как
принцип диалектической логики » пишет: «Лучшее » — это и есть роль
и «назначение » вещи в системе вещей, функция, возложенная на
нее более широким целым»143. И далее замечает, что этим более
широким целым в платонизме является не природа, а общество,
его интересы и благо. Платон безусловно прав, подчеркивает
Л.К. Науменко, когда отказывается сводить сущность вещи к ее
субстрату, составу, соотношению входящих в нее частей. Ведь
w Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.- Т. 2.- С. 58.
ш Там же.- С. 59.
ш Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики.— Алма-
Ата, 1968.— С. 86.
84
субстрат, замечает он, является лишь условием целостности
вещи, но никак не ее сущностью.
Тем не менее, избежав одной крайности, представленной в
фисиологии, в частности в учении Демокрита, Платон реализует
другую крайность, поскольку в любой вещи он видит момент
идеально организованного целого. Та система, в которую в
платонизме включены все вещи, т. е. природа в целом, управляется
не только посредством функций. Она управляется идеалом.
Именно в качестве идеала мир идей является причиной,
задающей космосу цель и направление движения. Целевая причина
здесь оказывается идеальной причиной не только человеческой
души, но и всего мироздания. При этом мир идей имеет прямое
отношение к душе космоса, по аналогии с душой и телом
человека. И в этом своеобразие платонизма.
И в данном случае не так важно, присутствует мысль об
идеальной причине природы уже у Сократа, или в своих
существенных чертах она проработана Платоном. Важно то, что
подобное развитие событий в классической философии не
было чистым произволом, хотя, может быть, и уводило ее в
сторону от адекватного осмысления сути идеального.
Феномен идеального был, безусловно, открыт уже Сократом. А то,
что принято называть объективным идеализмом, есть
утверждение абсолютного идеального бытия за пределами земного
мира вследствие проекции идеальной детерминации на все
мироздание.
Сам термин «идеализм », как известно, был введен в
философский оборот только в XVIII веке. В результате лишь у
Г.В. Лейбница мы находим ясное противопоставление
идеализма в лице Платона и материализма в лице Эпикура, что явно
перекликается с известным противопоставлением «линии
Демокрита » и «линии Платона » у Ленина. Но суть дела, конечно,
не в рождении адекватных терминов. И исторически отцом
идеализма в классической философии стал именно Платон,
несмотря на всю непоследовательность в выражении им этой
позиции.
Прежде всего Платон, как верно подметил С.Н. Бычков, не
различает идеального и всеобщего. Более того, в подражании
вещей идеям в платонизме присутствует момент поглощения
всеобщего идеальным, подобно тому, как это происходит в нео-
трефлектированном виде в античном мифе. А философская
рефлексия по поводу этого отношения и делает учение Платона свое-
85
образным «идеальным материализмом»144. В данном случае
платонизм определяется как «идеальный материализм », поскольку
идеальная детерминация в масштабах мироздания в нем
налицо, но мир идей еще не стал бестелесной субстанцией. И в этой
особенности платонизма нужно разобраться отдельно.
Аристотель, как известно, разрешил главный парадокс
платонизма, возвратив вещам из «занебесья » их собственную сущность.
Родовое своеобразие вещи у Аристотеля определяется не вечным
идеальным образцом, а субстанциальной формой вещи в ней
самой. И тот же Аристотель стал всерьез размышлять о
бестелесных идеях как антиподах первоматерии. На первый взгляд, таким
образом Аристотель возвращается к им же опровергнутому
учению Платона. Но это только на первый взгляд. Ведь, в отличие от
Платона, Аристотель утверждает существование бестелесных
идей в уме Бога-Перводвигателя. И в этом смысле Аристотель,
превративший платоновское пространство в первоматерию,
является более последовательным идеалистом, чем сам Платон.
В связи с этим уточним, что объективный идеализм связан с
утверждением примата идеального в качестве антипода всего
телесного, вещественного, а точнее — всего материального.
И главное — идеальное в идеализме выступает в качестве
самодостаточной формы бытия, именуемой в философии
«субстанцией ». Что касается второго, то в учении Платона все
именно так. Мир идей в платонизме абсолютен и самодостаточен, в
свою очередь, вещи окружающего нас мира сохраняют себя,
свою суть за счет «приобщения » к идеям. И роль «хоры » в
становлении вещей несопоставима с их зависимостью от идей.
А что касается противоположности идеи и вещи, то здесь не
все так просто. Дело в том, что идеи Платона, как утверждают
некоторые исследователи платонизма, противостоят вещам, но,
тем не менее, они телесны. Речь идет о том, что вещи бренны и
ущербны, а, в противоположность им, идеи вечны и
совершенны. Но это не означает того, что последние бестелесны в
позднейшем христианском смысле этого слова. Уже Аристотель
в «Метафизике » подчеркивает тот факт, что у последователей
Платона «сущности тождественны чувственно воспринимаемым
вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые преходящи »145.
ш См.: Бычков С.Н. Два понимания идеального: М.А. Лифшиц и
Э.В. Ильенков // Ильенковские чтения 2000-2001: Материалы 2-й (24-
25 марта 2000 г.) и 3-й (16-17 февраля 2001 г.) международной научной
конференции.— M.f 2002.— С. 16-21.
"' Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 105.
86
Но это так же нелепо, замечает он, как считать богов
наделенными вечностью людьми. «В самом деле,— пишет он,— и эти
придумали не что иное, как вечных людей, и те признают эйдосы
не чем иным, как наделенными вечностью чувственно
воспринимаемыми вещами»146.
То, что идеи у Платона продолжают быть телесными, как
телесна душа человека в учениях «фисиологов », можно отнести
к непреодоленной мифологической традиции в учении Платона
и во всей античной культуре, как это делает, к примеру, Лосев.
«Что такое античные боги? » — задает он вопрос в своем докладе
об античной культуре, впервые опубликованном в 1983 году.
И как бы в пику Аристотелю отмечает, что боги греков и
римлян — это «абсолютизированные люди». Аристотель видел в
таком представлении нелепость, Лосев видит в этом своеобразие
античного взгляда на мир. «Что же получается? Да ведь это
действуют те же самые люди, только абсолютизированные, тот же
самый привычный мир, но взятый как некий космос и с
абсолютной точки зрения... »147.
Такая же абсолютизация вещей производится, согласно
Лосеву, Платоном, когда тот говорит об идеях, открывающихся
только уму. «Ну, когда доходит до видимого в мысли,—
отмечает Лосев в своем докладе,— то там тоже видимость на первом
плане. Этим отличается античное понятие идеи от понятия идеи
в немецком идеализме, где понятие идеи абстрактно-логическая
категория. А в античности категория какая? Такая, которая
опять-таки восходит к космосу. И когда Платон говорит, что
его идеи существуют в небесном мире, так в этом его
материальное понимание идеи! Он не может свою идею представить вне
вещи, пусть это будет эфирная вещь, а все-таки она — вещь, все-
таки она видима, все-таки она то, что воспринимается либо
чувственным, либо умственным взором »148.
В отличие от Аристотеля, критикующего
вещественно-телесное представление о богах и идеях, Лосев, как мы видим,
занимает иную позицию. Он констатирует связь таких
представлений Платона с общим характером античного мировосприятия, с
пластичностью и телесностью всей античной культуры. В
результате Платон оказывается более органичной фигурой для
ч' Аристотель. Соч.: В 4 т.- М., 1975.- Т. 1.— С. 105.
147 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития: В 2 кн.— М. 1992.— Кн. 1.— С. 320.
ш Там же.
87
античности, чем тот же Аристотель с его идеями в уме Бога,
предвещающими христианство.
Другое объяснение телесности платоновских идей мы
находим в работах С.Н. Бычкова. Телесность идей здесь объясняется
своеобразием логики Платона, а точнее его пониманием
характера взаимоотношений идеи и вещи149. Дело в том, что
бестелесность идей, согласно Платону, сказалась бы на составе вещей.
И об этом прямо говорится в диалоге «Парменид». В споре с
Парменидом Сократ высказывает предположение о том, что
идеи — это мысли, возникающие в душе, и этим можно
объяснить их единство и возможность охватывать одной идеей
множество вещей. В ответ Парменид доказывает, что в этом случае
из-за причастности вещей идеям вещи тоже будут состоять из
мыслей. Он предлагает Сократу решить, будут'ли такие вещи
мыслящими или, несмотря на свой состав, лишенными
мышления. Но Сократ прерывает данный ход рассуждений. «Мне
кажется, Парменид, что дело скорее обстоит так: идеи пребывают
в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с
ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям
заключается не в чем ином, как только в уподоблении им»150.
Итак, идея не может быть мыслью. Иначе мыслями будут
сопричастные идеям вещи. Зато в силу той же взаимной причастности
вещей и идей последние должны быть чем-то телесным и даже
вещественным в том виде, в каком это допустимо в «занебесье ».
Таким образом, главный парадокс учения об идеях Платона
связан с решением вопроса о родовом своеобразии вещей.
Поскольку идея — это сущность вещи, то она с необходимостью
должна быть вещественно-телесной. Отметим, что впоследствии
у неоплатоников бестелесный дух путем эманации будет
переходить в телесный материальный мир. Но такое превращение
духа в материю уже предполагает тождество
противоположностей, причем на уровне не только явления, но и сущности,
чего нет у Платона. Классический вариант отождествления
противоположностей мы находим у Гегеля, где Абсолютная идея
полагает себя в форме природы и истории. Но философия
Гегеля — это вершина диалектической мысли, когда сущность ос-
149 См.: Бычков С.Н. Дедуктивное мышление и древнегреческий
полис // Стили в математике: социокультурная философия математики.—
СПб., 1999.— С. 299-300.
150 Платон. Собр. соч.: В 4 т.- М., 1993.- Т. 2.- С. 353.
88
мысляется в развитии, которое происходит через совпадение
противоположностей и их снятие в диалектическом синтезе.
Платоновская диалектика, однако, является лишь началом
пути, на котором затем будут осмыслены тождество и синтез
противоположностей. Что касается Платона, то он начинает с того,
что бросает вызов элеатам, размышляя о связи
противоположностей и переходе от одного к другому. Диалектика, согласно
Платону, является движением разума к истине посредством анализа
противоположных суждений и точек зрения, что Сократ в
диалоге «Теэтет» характеризует в качестве родовспоможения. При этом
разум осуществляет движение от единичных вещей к идеям, от
случайного к необходимому, от преходящего к вечному.
Перед нами переход противоположностей. Но нужно иметь в
виду, что этот переход Платон осуществляет не в понятийной
форме, а в форме представления. Именно поэтому логическое
движение от единичного к общему у него буквально совпадает с
перемещением к «занебесью» — местопребыванию идей.
Указанный переход с точки зрения позднейшей классической
философии является движением от явления к сущности, которые не
могут быть рядоположены, не могут соседствовать в
пространстве. Ведь сущность есть необходимое отношение и системная
связь явлений, и в этом качестве ухватывается только умом.
Потому перейти в познании от явлений к сущности можно лишь с
помощью понятия. Его специфика позволяет адекватно
преодолеть противоположность явления и сущности. А там, где понятий
еще или уже нет, сущность неизбежно предстает в качестве
особого тела, наряду с обычными телами, или в качестве особой части
тел, наподобие ядра, а логический переход обретает черты
движения в пространстве, как это и произошло в учении Платона.
Итак, переход от явления к сущности, от единичного к
общему у Платона предстает как пространственное перемещение от
одной противоположности к другой. В связи с этим следует
буквально, а не фигурально понимать парадоксальное с
современной точки зрения замечание Чужеземца в «Софисте ».
Рассуждая о диалектических занятиях философов, тот уточняет:
«Философа же, который постоянно обращается разумом к идее
бытия, напротив, нелегко различить из-за ослепительного
блеска этой области; духовные очи большинства не в силах
выдержать созерцания божественного »ш.
151 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 325.
88
Итак, у основоположника объективного идеализма Платона
еще нет классического понятия идеального как мыслящей
бестелесной субстанции. Идеи у Платона уже стали основой
мироздания. И они противостоят вещам. Но мир в учении Платона
еще не расколот на противоположность телесного и
бестелесного бытия. Бестелесная субстанция непредставима. И чтобы не
просто обозначить, но всерьез осмыслить указанную
противоположность, необходимо развитое абстрактное мышление,
что мы видим у Аристотеля. Правда, в диалоге «Софист»
Платон замечает, что к идеям можно относиться как к
умопостигаемому и бестелесному бытию152. Но, в разрез с этим замечанием,
в большинстве диалогов Платона речь идет об уподоблении и
подражании вещей идеям, о сопричастности вещей и идей, о
приобщении одного к другому. И соответственно идеи в учении
Платона оказываются представленными разуму точно так же,
как и вещи. Идея, при всех своих различиях с вещью, находится
в одной предметной плоскости с нею, и это плоскость
пространственных взаимоотношений.
Надо сказать, что геометрические аналогии возникают в
диалогах Платона в самых неожиданных для современного
человека местах. Так в «Федре» ставится вопрос о правой и левой
части безумия, а в «Софисте » речь идет о делении творческих
искусств в длину, двигаясь от самых общих к частным.
Соответственно и путь из мира вещей в мир идей Платон
характеризует при помощи очень ярких предметных деталей. Этот путь у
Платона проделывает душа со своим «возничим »'или
«кормчим», в роли которого выступает разум. Если вещи
уподобляются идеям, то разум человека сознательно устремляется в
«занебесье».
При жизни мы способны восходить из мира вещей в мир идей
лишь косвенным путем, когда с помощью рассуждений о видах
и родах бытия восстанавливаем утраченное знание истины
самой по себе. А после смерти этот путь к миру идей душа
проделывает прямо и непосредственно. Повторим еще раз, что этот
путь Платон описывает со множеством телесных деталей. Из
«Горгия » мы узнаем: «Когда душа освобождается от тела и
обнажается, делаются заметны все природные ее свойства и все
следы, которые оставило в душе человека каждое из его дел »lî3.
Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 314-316.
Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 571.
90
Характерно, что этот мир идей как бы задвигается Платоном
все дальше вверх. В «Федоне» мир идей пребывает, скорее, в
пределах некой «истинной Земли », которая расположена выше
впадины, где находится Средиземноморье. В «Федре » этот мир
уже за пределами неба, за так называемым «небесным
хребтом». Согласно «Федру»,занебеснуюобласть
«...занимаетбесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно
существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее и
направлен истинный род знания»154. При этом души не в состоянии
окончательно преодолеть ту грань, которая отделяет мир вещей
от мира идей. Поднявшись ввысь, они только заглядывают за
небесный хребет, созерцая истину. Что касается богов, то,
согласно «Федру », они постояннЪ пребывают на границе двух
миров, выгодно отличаясь этим от бессмертных душ.
Заметим, что, уже согласно «Федону », худшие души уходят
в Аид, а лучшие — в «истинную Землю », и часто там и остаются,
получая воздаяние по заслугам. Здесь мы находим замечание о
праведных душах, которые вселяются в пчел и муравьев, и
неправедных душах, которые вселяются в ослов. Тем не менее, в
последней части «Федона» тема метемпсихоза намечена
довольно слабо. Яснее она выражена в «Федре», где описан
круговорот душ, которые каждые 10 тысяч лет возвращаются в «зане-
бесье ». Именно отяжелевшие от чувственных удовольствий и
преступлений души, сказано в «Федре », после смерти тела не
долетают до мира идей и падают вниз, ломая крылья.
Из «Федра » лучше всего видно, что душа в учении Платона,
будучи сродни миру идей, имеет, тем не менее, определенный
состав. Души праведников, согласно «Федру» безвидны, что,
скорее всего, говорит об их эфирности. В отличие от них, души
тех, кто жил неправедной жизнью, более тяжелые и потому
видны. А в «Тимее » демиург творит души богов из четырех
элементов. И это подтверждает то, что разговор об идеальности души
в учении Платона должен вестись в плоскости, принципиально
отличной от христианской теологии. Но рассуждая о составе
душ, подобно «фисиологам», Платон, тем не менее, связывает
их идеальность со всеобщим, т. е. с совершенным и неизменным
бытием.
Взаимоотношения души с телом у Платона отличаются от
взаимоотношений вещей с их идеями. Душа человека может ис-
1и Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 156.
81
пытывать влияние тела через свою неразумную часть, а идеи не
испытывают воздействия вещей. Взаимоотношения души и тела
уже в платонизме свидетельствуют о том, что в человеке
сущность и явление связаны органичней, чем в природном мире.
Приобщение к идеям в «занебесье» позволяет душам,
руководствуясь полученным знанием, менять вещи. С помощью знания
человек оказывается господином вещей. Труд, наука, искусство, в
которых человек подражает богам, выделяют его из ряда
других земных тел и существ. По сути в учении Платона душа за
счет припоминания возвышает людей с их бренными телами над
вещами.
У души человека в платонизме особый, если можно так
сказать, «онтологический» статус. Душа человека подвижна. И
поскольку материальное и идеальное — противоположности,
между ними необходима связь, взаимодействие и движение,
которое осуществляет именно душа. Душа — своеобразный
посредник между двумя мирами, грань между которыми она
пытается преодолеть путем механического движения. Из этого
как раз и следует, что граница между сущностью и явлением в
платонизме — это пространственная граница. Сущность и
явление, материальное и идеальное у Платона, по сути,
соседствуют в пространстве. Только после Гегеля станет возможным
понятие идеального как диалектического снятия материального.
Ведь именно понятие способно выразить тождество
материального и идеального в качестве противоположностей. Иначе у
Платона и в испытавшей влияние платонизма христианской
философии. Представление об идеальном здесь не допускает
тождества материального и идеального, а фиксирует только их
различие.
В разговоре о движении души в мир идей и метемпсихозе,
нужно иметь в виду ту разницу, которая существует между
более ранними произведениями Платона, например, «Федоном», и
более поздним «Тимеем », где явным образом представлено
различие разумной и неразумной души человека. В диалоге «Ти-
мей » демиург творит лишь разумную часть души, которая
помещается в голове человека. Там же демиург помещает ощущения,
которые подчинены разуму, т. е. ощущения, связанные со
зрением, слухом и голосом. Остальное в человеке творят
олимпийские боги, в том числе неразумную часть души, к которой
принадлежат удовольствие, страдание, дерзость, боязнь, надежда,
гнев, любовь, а также все неразумные ощущения.
92
Обителью этой неразумной души становится туловище, а
между головой и туловищем боги воздвигают преграду в виде
шеи. Но в самом туловище неразумная душа также оказывается
разделена надвое, как делят дом на женскую и мужскую
половину. Более благородные страсти боги помещают ближе к
голове между грудобрюшной преградой и шеей. А самые низкие
вожделения, связанные с пищей и прочими телесными
потребностями, они помещают между грудью и пупом, превращая эту часть
тела в кормушку для питания. Особую роль они при этом
отводят печени, которая в неразумной душе все же приобщена к
истине, будучи органом, ответственным за прорицания155.
Важнее всего здесь то, что демиург в «Тимее » творит
бессмертную часть души, которая и устремляется после смерти
тела в «занебесье». Что касается неразумной души, то она,
согласно «Тимею», смертна в силу своей тесной связи с телом.
Иначе в более раннем «Федоне», где речь идет о бессмертии
души как таковой, а потому, отрешившись от тела и
избавившись от его безрассудства, мы способны оказаться там, где можно
созерцать «вещи сами по себе самою по себе душою»156.
Итак, в конечном счете бессмертной у Платона оказывается
лишь разумная часть души. Но здесь имеет смысл внести
уточнения в понимание Платоном самого разума, устремляющего
душу в «занебесье». Стоит вспомнить, что в слове «идеализм»
заключен еще один смысл, о котором еще не упоминалось. С
одной стороны, идеализм — это признание примата духовного
перед телесным, идеи перед природой. С другой стороны,
идеализм — это преданность идеалам. На первый взгляд, перед нами
различные трактовки идеального и идеализма. Но обращаясь к
истокам классической философии и классической культуры в
целом, мы оказываемся перед тождеством «онтологической » и
«этической» сторон идеализма. В предлагаемой работе уже шла
речь о том, что знание о «наилучшем », к которому апеллирует в
ранних диалогах Платона Сократ,— ключ к пониманию этого
тождества, а значит истоков европейского рационализма и
идеализма. Призывая найти это знание в своей душе, философия
действительно искушала древнего грека, живущего мифом. На
языке Шестова, это было искушение Истиной и Добром. Еще
точнее, это было искушение идеальным.
155 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.- М., 1994.— Т. 3.— С. 475-478.
156 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 18.
93
Для примера возьмем «Послезаконие», где разум предстает
в платонизме не только как способность постигать истину, но и
действовать в согласии с ней. Главное отличие души от тела,
согласно «Послезаконию », в том, что она обладает разумом, а
тело не обладает. Именно поэтому душа правит, а тело
подчиняется. Благодаря разуму душа выступает в роли причины всего,
сообщая телу определенный тип движения. Причем наиболее
интересны здесь суждения об одушевленности звезд и других
небесных тел. «Людям же доказательством того, что звезды и
все их движения обладают умом,— читаем мы в «Послезако-
нии »,— надо считать постоянную, длящуюся непостижимо
долго, предписанную издревле тождественность их действий.
Звезды не меняют своего направления, не движутся то вверх, то вниз,
не делают то одного, то другого, не блуждают и не изменяют
своих круговращений»1'7.
Из приведенного отрывка можно сделать вывод, что
проявлением одушевленности являются действия постоянные и
единообразные. Но тут же приводится другая точка зрения,
согласно которой единообразные движения звезд — свидетельство их
неодушевленности. Указанное разногласие говорит о том, что
Платон был склонен представлять душу в качестве некоего
закона движения тела, но при этом ощущал узость этого
понимания применительно к человеку. Ведь одушевленность человека,
как это следует из других работ Платона, выражается в знании
«наилучшего». А обладая таким знанием, человек действует
отнюдь не единообразно.
Платон, вслед за Сократом хочет выяснить способ жизни не
только вещи, но и человека. А здесь обнаруживается не только
сходство, но и существенные различия. Люди, как и природные
тела, подчиняются законам. Но уже на первый взгляд видна, к
примеру, разница между законом сословной чести и законом
ускорения, принципом честной мены и принципом
относительности. Принципам человек подчиняется не так, как телесным
потребностям. И это прекрасно понимали граждане греческих
полисов, и тем более легендарный Сократ. Греки лучше, чем кто-
либо, ощущали то долженствование, которое несет в себе
культурная жизнь, опосредствованная эстетическим идеалом и
нравственной нормой. Здесь проявляет себя постоянство иного рода,
когда вводить в заблуждение друзей и вредить им несправедли-
157 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 4.— С. 448.
94
во, но делать это же по отношению к врагам — проявление
добродетели. Иначе говоря, обсуждая природу добродетели,
Платон, вслед за Сократом, связывает душу с принципом
поведения, который проявляется отнюдь не в форме размеренного
движения.
Пытаясь по-своему разрешить эту проблему, Платон
подчеркивает существование множества разновидностей тел и душ.
При этом аргументом в пользу разумности небесных тел
является и то, что они по-своему стремятся к благу. «Короче говоря,
молвим теперь единое истинное слово обо всем этом:—
говорится в «Послезаконии»,— невозможно, чтобы Земля, небо, все
звезды и тяжелые небесные тела столь точно совершали свой
годичный, месячный и дневной путь и чтобы все существующее
существовало для всех нас благим, если всему этому не присуща
душа, рожденная для каждого из этих тел »т.
Как мы видим, и представление о благе у Платона изначально
двоится. Благо в платонизме — это и природная гармония, и
человеческий идеал. Благо проявляет себя в равной степени в
законосообразном движении и в справедливом поступке, что,
конечно, не одно и то же. Двоится и представление Платона о
законе. С одной стороны — это «необходимость », а с другой —
«стремление к совершенству »п9.
Еще раз вернемся к вопросу о способе существования
человека и вещи, в котором, согласно Платону, присутствует не
только сходство, но и различие. Дело в том, что у человека
сущность представлена как в общем — идее человека, так и в
особенном — его душе. Идея человека — это сущность, общая
для всех людей, а душа человека — особая сущность
каждого. И благодаря ей человек, в отличие от вещи, может влиять
на свое будущее, определять его. Всеобщая сущность людей
неизменна, но особая сущность в форме души изменчива.
Более того, в форме души как представителя всеобщего в
человеке эта сущность способна испытать влияние жизни. Так в
платонизме намечается тема обратной связи между явлением и
сущностью. Душа у Платона — аналог изменчивой сущности
человека. Что касается вещи, то она на свою сущность
повлиять не может.
158 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.- Т. 4.- С. 449.
159 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 450.
95
Z-. Учение Платона и два современных подхода
к идеальному
Уже шла речь о том, что античность не только определила
характер философской классики, но ее воздействие
сказалось и на неклассической философии XIX-XX вв. И это
напрямую касается проблемы идеального. Более того,
противоречия в учении Платона дают о себе знать в спорах о природе
идеального в марксизме XX века. Но прежде, чем затронуть эту тему,
мы рассмотрим более близкий и явный пример влияния
платонизма на тех, кто были нашими современниками. Речь пойдет о
трактовке идеального А.Ф. Лосевым. Тем более, что
комментарии к четырехтомному академическому изданию Платона 1990—
1994 гг. снабжены критическими замечаниями к каждому
произведению, сделанными Лосевым уже с собственной
продуманной позиции.
Напомним, что главным открытием Платона Лосев считал
родовую сущность вещей, которую он на свой манер называл их
«общим смыслом ». По убеждению Лосева, грандиозное
открытие Платона было связано с различением вещи и ее общей сути,
которой у Платона является идея. Восхищение по поводу
открывшейся истины, писал Лосев, подтолкнуло Платона к
обожествлению и возвышению идей над вещами. Так философия
узнала об одной из трактовок взаимоотношения единичного и
общего — с точки зрения объективного идеализма.
В критических замечаниях к «Федону » Лосев говорит и о двух
других возможных трактовках этого отношения. Одна из них
связана с выведением общего из глубин субъекта, что, в отличие
от объективного идеализма, означает идеализм субъективный.
«Третья возможность,— пишет Лосев,— это помещение общих
закономерностей бытия в недра самого же бытия, так что
поверхностное и раньше всего бросающееся в глаза единичное,
непосредственно воспринимаемое нашими внешними органами чувств,
есть проявление этих глубинных и вполне бытийных общих
закономерностей, а наличие этих последних в субъекте есть
отражение этих же самых общностей, залегающих в самом бытии »16°.
Это третье понимание общего в его взаимосвязи с
единичным в дальнейшем характеризуется Лосевым как
диалектический материализм. У нас нет возможности вдаваться в суть
Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 422.
9В
вопроса, что есть диалектический материализм и каким он
бывает. Однако последующий анализ, в свете других работ
автора, дает право утверждать: третья точка зрения близка и
самому Лосеву.
В указанных критических замечаниях к «Федону » Лосев
говорит о двух преувеличениях, из которых родился объективный
идеализм. Во-первых, отмечает он, из неопровержимого
постулата о том, что общее есть закон для единичного, Платон сделал
вывод о существовании общего отдельно от единичного.
Во-вторых, считает Лосев, Платон отделил общее от единичного не
только онтологически, но и хронологически. Общее у Платона
существует не только вне, но и до единичного и именно таким
образом определяет существование земных вещей161.
Таким образом получается, полемизирует Лосев с Платоном,
что сначала мы познаем идеальное общее, а уже потом
материальное единичное. Но такое утверждение, заявляет он,
«ниоткуда не следует». «Гораздо естественнее было бы
предположить,— продолжает Лосев,— что мы сразу и одновременно
воспринимаем как общее с единичным, так и единичное с общим, но
что ввиду слабости и несовершенства нашего познания мы
отнюдь не сразу сознательно различаем то и другое, а сначала только
еще учимся различать и дифференцировать то, что искони дано
нам целиком, но в недифференцированном виде»1".
Пафос противостояния платонизму в приведенных
высказываниях Лосева вполне определенный и даже эмоционально
окрашенный. Но дальнейший анализ его взглядов показывает,
что наследие платонизма у Лосева по большому счету не
преодолено. Настаивая на единстве общего и единичного, он, тем не
менее, исходит из идеальности общих закономерностей
природы. Идеальное у Лосева, как и у Платона, по-прежнему
поглощает всеобщее. И это хорошо видно там, где он демонстрирует
не только слабости, но и силу позиции Платона.
В наиболее популярной форме идеальность законов
природы Лосев обосновывает в уже процитированной нами книге
«Платон. Аристотель ». Главу «Что такое идеализм Платона? » он
начинает с примера того, что следует понимать под идеей. И
совсем не случайно речь сразу же заходит о произведении человека,
каким в данном случае является стол. Лосев пишет: «Стол есть
161 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993.— Т. 2.— С. 422.
'" Там же.
17
нечто деревянное, это — раз. Стол есть приспособление для
разного рода бытовых целей, для принятия пищи, для чтения и
письма, для целесообразного помещения и размещения разных
предметов. Вот совокупность всех этих существенных свойств стола
и есть его идея. Ясно, что, если мы не понимаем устройства и
назначения стола, то у нас нет и никакой идеи стола...
Следовательно, если мы действительно познаем стол, то мы обладаем и
идеей стола. Другими словами, идея вещи есть нечто
существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы
познавали эту вещь, общались с ней, пользовались ею, могли ее
создавать, могли ее переделывать и могли ее направлять в тех или
иных целях»163.
Против всего выше сказанного ничего возразить нельзя. Но
возражения вызывает следующее за всем этим обобщение. «В этом
смысле,— утверждает Лосев,— всякая вещь и вообще все, что
существует на свете, имеет свою идею. Либо идей никаких нет,
тогда вообще нельзя отличать одно от другого, и тогда вся
действительность превращается в какой-то немыслимый и
непознаваемый мрак »164. Следовательно, либо идеи, которые у человека
есть момент в познании и преобразовании вещей, принадлежат
вещам вне воздействия человека, либо в мире царит мрак и хаос.
Вот та дилемма, перед которой Лосев ставит читателя.
Таким образом, Лосев честно воспроизводит логику
Платона, считая, что в этом пункте он неопровержим. Для помещения
общих понятий в недра вещей Лосев недаром избирает пример
стола, созданного человеком для человека. Здесь понимание
целей и назначения предмета уже воплощены, причем в
буквальном смысле этого слова. Стол, подобно паровой машине и
самолету, есть воплощение человеческого замысла. Никто не будет
отрицать, что перед тем, как человек берется что-либо создавать
и творить, ему приходит в голову «идея », т. е. замысел, который
затем воплощается в определенном материале, веществе
природы, таком как дерево, металл и прочее. И в этом смысле идеи,
конечно, первичны и определяющи по отношению к вещам. Но
еще раз подчеркнем, что такого рода идеи включены в
деятельность человека в качестве ее необходимого момента. И как раз
их Лосев, ориентируясь на Платона, извлекает из деятельности
ш Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.—
С. 73-74.
|И Там же.— С. 74.
98
человека и помещает в недра вещей. Тем самым идеальное
отождествляется с всеобщим, т. е. законами природы.
Напомним, что сам Платон неоднократно привлекал к
объяснению взаимоотношения вещей и идей образ ремесленника,
который творит, руководствуясь всеобщим образцом — идеей.
«Под красотой очертаний,— пишет он в «Филебе »,— я пытаюсь
теперь понимать не то, что хочет понимать под ней большинство,
то есть красоту живых существ или картин; нет, я имею ввиду
прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела,
рождающиеся под токарным резцом и построяемые с помощью
линеек и угломеров...»165. Но действия ремесленника, как мы уже
показали, убеждают Платона в том, что мир был создан
демиургом как первотворцом в соответствии с такими же идеальными
вечными образцами. Что касается Лосева, то существование идей
у человека убеждает его в том, что то же самое лежит в
основании вещей. И осуществляя эту ничем не подтвержденную
экстраполяцию, он ссылается на современную науку, подкрепляя ее
авторитетом собственные выводы.
Исходя, в конечном счете, из примата идей в жизни
человека, Платон вынес эти идеи в «занебесье». Исходя из того же
факта, Лосев поместил идеи, созданные человеком и
человечеством, в недра вещей. И при этом отождествил их с уже
открытыми наукой законами природы. Или открытые наукой законы
ничем не отличаются от идей самих ученых, или в природе царит
хаос. Таков скрытый смысл приведенной выше дилеммы.
Все это означает, что законы природы Лосев рассматривает
через призму действий человека. И иначе их себе не мыслит. Суть
любой вещи, говорит Лосев, есть ее назначение. И это
назначение управляет вещью. Так знание общего принципа становится у
Лосева принципом самой вещи. И указанный подход хорошо
виден там, где он говорит о способе, каким идея в качестве
общего закона определяет единичные проявления вещей.
Каждый материалист, который стремится в своих
обоснованиях оформить хаос жиз«и в виде формально-безупречных
структур, пишет Лосев, должен учиться у идеалиста Платона.
Речь идет о том, что у последнего, как считает Лосев, идея вещи
есть ее иное качество, которое отличается от отдельных частей и
проявлений вещи. Материальные составляющие вещи, например
кислород и водород в составе воды, связаны чем-то воедино.
165 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 58.
99
При этом, с точки зрения своих компонентов, та же вода
насквозь вещественна. Но объединяющее эти компоненты новое
качество, или идея, как доказывает Лосев, невещественна166.
Невещественность, а по сути нематериальность качества
каждой вещи объясняется Лосевым не только тем, что это качество
объединяет компоненты вещи в целое и тем самым превышает их
возможности в отдельности. Единое качество вещи, или иначе —
ее сущность, с его точки зрения, является обобщением
единичных проявлений вещи. «Термин «вода » — читаем мы у Лосева,—
а это значит прежде всего и идея воды, является настолько
большим обобщением, охватывает такое неисчислимое количество,
также и несет с собой такие бесконечно разнообразные
функции, о каких никакой химик нам не расскажет в тех главах своего
учебника, которые трактуют только о водороде или только о
кислороде.... Чтобы употреблять только самый термин «вода »,
уже приходится быть платоником...»167.
Далее Лосев показывает, что идея вещи является не только
обобщением, но и осмыслением вещи в том плане, что именно
идеей в нее привносится определенный смысл. «Итак,
платоновская идея есть закон вещи,— пишет он,— и тем самым та ее
общность, которая определяет собою и все единичное, а единичное
при этом только и осмысляется через свою общность »168. В этом,
подчеркивает Лосев, платонизм неопровержим. Неопровержим
он и в том, что идея определяет вещи, т. е. задает строгие
пределы их существованию. «Следовательно,— читаем мы у Лосева,—
всякая точно установленная идея вещи есть не только ее закон, и
притом максимально обобщенный, но и ее предел, тоже
максимально большой, то есть предел, бесконечный для всех
конечных состояний и проявлений всякой единичной вещи, носящей
на себе эту идею »169.
Анализируемая работа интересна как раз тем, что в ней
отчетливо видна логика объективного идеалиста, часто скрытая
или неадекватно представленная авторами различных учений.
«Все дело в том,— ясно и определенно пишет Лосев,— что все
конечное требует признания бесконечного, все реальное
требует признание идеального, и все единичное управляется общим
как своим законом, а всякий общий закон имеет смысл только
ш Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.— С. 84.
167 Там же.
ш Там же.- С. 87.
'" Там же.— С. 89.
100
тогда, когда существуют единичные вещи, которые он обобщает
и осмысливает.... Мировоззрение можно иметь не
платоническое и даже антиплатоническое, но научная методология,
выдвигаемая Платоном, неопровержима »17°.
Заметим, что на деле Лосев здесь подправляет Платона на
манер неоплатоников, у которых сущность мира, подобно
аристотелевским идеям в уме Бога-Перводвигателя, уже бестелесна.
Что касается исторического Платона, то Лосев в работе
«Платон. Аристотель», о которой идет речь, вполне определенно
указывает на то, что идеи в «занебесье » телесны, и в этом
проявилась зависимость Платона от мифологического сознания.
Но вернемся к тем урокам, которые, по мнению Лосева, нам
следует извлечь из платонизма. Если термином, а точнее
представлением о воде, считает он, обобщаются многообразные
проявления водной стихии, то точно так же, обобщая, действует и
закон, создавший воду. Если представление о воде позволяет
нам осмыслить отдельные факты, то таким же осмысляющим
образом действует и закон природы. Если в понимании сути воды,
задан определенный предел, уточняющий ее проявления, то тем
же способом действует и закон природы. Таким образом,
законы природы оказываются у Лосева подобием огромной
корпорации ученых или, скорее, логиков, сидящих внутри природы и
определяющих, обобщающих и осмысляющих вещи, чтобы
избавить мир от хаоса. Но в том-то и дело, что всемогущий логик
внутри природы — это все тот же демиург, который в духе
времени «задвинут» в недра природы и творит мир в соответствии с
методами позитивной, а точнее позитивистской науки.
Справедливости ради заметим, что, обобщая различные
проявления воды и дойдя в таком обобщении до всевозможных
пределов, мы никогда не получим закона воды, выраженного
известной всем формулой. Связь между кислородом и водородом
внутри воды не может быть открыта путем обобщения приводимых
Лосевым фактов воды как дождя, пара, облаков, туч и т. п. Она
раскрывается посредством эксперимента, результаты
которого позволяют уяснить суть дела в форме понятия. И такого рода
эксперименты по разложению воды на кислород и водород, а
затем по их обратному соединению осуществляют школьники
на соответствующих уроках химии.
Но дело даже не в этом. Суть в том, что закон природы у
Лосева, как и мир идей у Платона, остается высшей инстанцией,
170 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.— С. 84.
101
в которой представлена уже готовая, вечная истина мира, от
имени которой он и управляет вещами. «Платоновская идея вещи
есть такое ее обобщение,— пишет Лосев,— что в ней как бы
заложено все бесконечное множество отдельных и частичных
проявлений вещей »171. В законе природы, по Лосеву, уже
заложены все возможные единичные проявления природы. Сущность
вещей, таким образом, уже предзадана явлениям, подобно тому
как идеалы и нормы предзаданы человеку.
А.Ф. Лосев неоднократно подчеркивает, что общее
определяет собою единичное. Но нигде не говорится об обратном
влиянии единичного на общее, явления на сущность. Связь между
сущностью и явлением, на чем настаивает Лосев, очень тесная.
Но эта прямая связь, которая не предполагает обратного
воздействия. А ведь только таким образом, как показала наука,
происходит развитие окружающего нас мира. И это стало наиболее
явным с успехами биологии и социальных наук в XX веке.
Сущность — постоянная и необходимая связь явлений. Но
постоянное и необходимое, хотя для рассудка это парадокс, может
изменяться. Куда подевались законы социализма в том виде, в
каком они действовали в нашей стране? Они не устранились,
«обидевшись » на новые явления нашей жизни, а
трансформировались вместе и вследствие существенности этих явлений. И как
раз поэтому то тут, то там проглядывают черты нашей прошлой
жизни.
То, что законы истории не вечны, сегодня стало азами
социальной науки. И то же самое касается биологии, в которой уже
давно открыт геном — особая телесная структура, отвечающая
за воспроизведение организма в данном конкретном виде. На
основе расшифровки генома, как известно, клонировали овечку
Долли. Но что станет с геномом Долли, если ее потомство
подвергнется мутации? Согласно науке, в таком случае изменится
как раз геном, т. е. закон, определивший «устройство» самой
известной овцы на свете.
Но у Платона, в противоположность современной науке,
сущность мира противостоит миру как вечное изменчивому, как
совершенное несовершенному. И в этом не сила, а слабость
платонизма, которая воспроизводится во взглядах Лосева, у
которого закон — нечто вне мира, хотя и внутри вещей. Как нечто
неизменное закон у него находится вне времени и пространства,
171 Лосев Л.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.— С. 87.
102
а потому и не может испытать воздействия внешнего мира.
Идеальный закон у Лосева — это вечный и неизменный уровень
земного бытия, на который не могут влиять сами вещи. И таким
у него оказывается не только закон природы, но и социальный
закон. «Всеобщую закономерность вещей,— читаем мы в
заключении главы «Что такое идеализм Платона »,— конечно, можно
не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой
всеобщей закономерности вещей наука отказаться не может.
Законы природы и общества тоже можно не называть идеями
природы и общества, но от самих этих законов отказаться
невозможно... Все тела падают. Но закон падения тел никуда не
падает и вообще не является никаким телом, которое можно
было бы понюхать или потрогать руками. Здесь платонизм
неопровержим»172.
Свое понимание закона как идеальной нормы природного и
социального существования Лосев постоянно доказывает тем, что
это никакое не тело, а потому закон падения не падает, идея воды
не кипит, а идею стола нельзя разломать и сжечь на огне. И все
это нельзя понюхать и пощупать, повторяет Лосев, утверждая
тем самым, что умопостигаемое не может не быть идеальным.
Разобраться в этом вопросе никак нельзя без целого ряда
уточнений. Ведь одно дело идея как результат постижения
сущности умом и другое дело — сама постигаемая сущность.
Формула воды и вправду идеальна, но не просто потому, что она «в
уме», а потому что рождается в процессе идеализации мира
человеком. Как впрочем и самолет, в котором закон свободного
падения, на который ссылается Лосев, действует настолько
идеально и совершенно, что тот не падает, а, наоборот, летит. Все,
что освоил человек, втянув в орбиту своей жизни и
деятельности, в той или иной форме идеализировано им. В этом смысле
идеальное — это закон у который стал принципом деятельности
человека.
Именно деятельность человека является тем «медиумом », в
котором материальное переплавляется в идеальное, поскольку
только человек из известных нам существ способен выделить
закон природы «в чистом виде» и превратить его в основу мира
культуры. Так возникают все технические устройства —
пароходы, самолеты, компьютеры и все прочее, чего не существует в
172 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.—
С.92-93.
103
первозданной природе. Конечно, есть разница в степени
идеальности водопровода, сработанного рабами Рима, и идеала
справедливости. И об этом различии мы еще поговорим более
подробно. Сейчас же важно понять, что вопросы об идеальном и
умопостигаемом могут пересекаться, но при этом являются
разными вопросами.
Умопостигаемое — не синоним идеального. Да, законы не
даны нашим чувствам, а постигаются умом. Но это не означает,
что любые законы, в природе и в обществе, подобны уму и в
таком качестве противостоят любым телесным проявлениям.
Закон — не тело, но телесная связь, если речь идет о
необходимой связи между телами. Более того, если умопостигаемое — не
синоним идеального, то точно так же идеальное, как мы
пытаемся показать, не является синонимом бестелесного. Вопрос об
идеальности законов после всех коллизий классической и,
неклассической философии, на наш взгляд, следует ставить иначе.
А именно: закон природы не идеален, пока он не представлен в
качестве момента деятельности человека.
Надо сказать, что в воззрениях Лосева смазано различие не
только между умопостигаемым и идеальным, но и между
законом природным и законом историческим. Так, объединив все
законы воедино в свете идеальной детерминации, Лосев получил
парадоксальную картину, в которой действуют вечные законы
истории и осмысленные законы природы.
Если А.Ф. Лосева и, наверное, не без основания подозревали
в близости к неоплатонизму, то М.А. Лифшиц, в онтогносеоло-
гии которого идеальное играет весьма важную роль, открыто
причислял себя к марксистам. Тем не менее, в их трактовках
идеального есть внутреннее единство. Дело в том, что в онтогно-
сеологии Лифшица, как и у Лосева, идеальное коренится в
самом природном мире у а идеальное в мире человека — только
отражение идеального в природе.
Тем не менее, у Лосева идеальны только законы природы, а у
Лифшица идеальными становятся тела и проявления природы,
достигшие в своем развитии определенной ступени. Чтобы
подробнее разобраться во взглядах Лифшица, обратимся к
материалу А.К. Фролова, опубликованному к «Ильенковским
чтениям » 1999 года. Идеальность духа у Лифшица, отмечает в этом
материале Фролов, может быть адекватно понята не в рамках
культуры, а значительно шире — в контексте развития
природы, в котором культура есть одно из проявлений природных
104
возможностей. Таким образом, в рамках онтогносеологии
идеальность сознания определяется не столько характером и
способом отражения, сколько его объектом. Фролов отмечает мысль
Лифшица о том, что уже в природе присутствуют предметы,
которые являются зеркалом данного круга явлений, выражением
их всеобщего значения, и в этом качестве они идеальны173.
Именно такие объекты, достигшие естественного предела в
своем развитии, а значит и определенного совершенства,
сообщают идеальность нашему сознанию. Истинное сознание,
считает Лифшиц, отражая указанные природные формы,
оказывается не Ideelle, a Ideale, и, тем самым, зеркалом зеркал, идеалом
идеалов. Понятия Ideelle и Ideale Лифшиц различает вслед за
Марксом, у которого Ideelle связано с отражением незрелой
формы явления и процесса, в отличие от Ideale как мысленного
отражения зрелой формы. При этом имеется в виду такая
форма, в которой бытие выразило свою сущность, и потому, на
языке гегелевской философии, соответствует своему понятию.
Именно в качестве зеркала идеальных форм бытия, пишет
Фролов о позиции Лифшица, дух реализует подлинное назначение
человека, который есть «отработанный естественным
процессом развития орган идентичных себе, достигших известного
самобытия вещей »174.
Надо сказать, что указанный материал был неслучайно
опубликован в сборнике материалов к юбилейным чтениям,
посвященным 75-летию Э.В. Ильенкова. Дело в том, что различие
между Ильенковым и Лифшицем в трактовке идеального
принципиально важно для решения этой проблемы. В свое время
философскую общественность шокировала точка зрения
Ильенкова на природу идеального. Эта позиция была впервые
изложена в статье «Идеальное» в «Философской энциклопедии»175,
а затем в более развитом виде представлена в форме статьи в
«Вопросах философии»176. Непонимание со стороны
философствующей публики вызывали утверждения Ильенкова об
идеальности не только сознания в форме идей, но и определенного
т См.: Фролов А.К. К вопросу о соотношении понятий «идеал» (Ideal)
и «идеальное» (Ideel)// Ильенковские чтения-99.— М.; Зеленоград, 1999.—
С. 41.
Vi Там же.
,7' См. Ильенков Э.В. Идеальное// Философская энциклопедия: В 5 т.—
М., 1962.- Т.2.
т Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии.—
1979.- № 6-7.
105
рода вещей, и, наоборот, отождествление им идеального с
некими «объективными пред став пениями ъ, определяющими
мысли и поступки отдельных индивидов.
М.А. Лифшиц был одним из тех, кто выступил с критикой
взглядов Ильенкова по поводу идеального. В своей статье «Об
идеальном и реальном», опубликованной в 1984 году, Лифшиц
обозначил ряд недостатков в позиции Ильенкова, причем, в
отличие от его давних оппонентов, не упростив и не передернув
чужие взгляды, что большая редкость в философской
полемике177. В результате глубина и серьезность заочного спора между
этими философами и в наши дни позволяет высвечивать новые
грани проблемы идеального. Более того, на наш взгляд,
сопоставляя указанные точки зрения, можно наметить пути
преодоления платонизма, сыгравшего радикальную роль в решении
проблемы идеального философской классикой.
Итак, Лифшиц исходит из того, что переход от материального
к идеальному происходит уже в самой природе. Природа, с его
точки зрения, способна не только к эволюции, но именно к
совершенствованию. Она, как пишет Лифшиц, «расположена к
известным предельным формам »178. И в этом смысле материальное
всегда беременно идеальным. Причем в свете такого рода идеальной
детерминации онтогносеология оказывается как бы
«неоплатонизмом наоборот». В неоплатонизме, как известно, идеальное
начало мироздания в лице Единого нисходит вниз, растворяясь в
косной материи. В онтогносеологии наоборот, материя,
движимая внутренней тенденцией к совершенствованию, восходит
вверх, прорастая своими высшими идеальными формами.
Э.В. Ильенковым та же проблема соотношения
материального и идеального решается принципиально иначе. Идеальное
им характеризуется как качество мира культуры, в котором
материальное , т. е. природа оказывается «снята » посредством
деятельности человека. Уже в гегелевской философии труд не
снимает кальку с природной необходимости, а диалектически
отрицает ее, погружая законы природы в основание своих
технических изобретений и промышленности в целом. И то же
самое имеет ввиду Ильенков, у которого материальное уходит в
основание идеального в человеческой жизнедеятельности.
177 См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.— 1984.— № 10.
,7в Там же.— С. 128.
IN
У Ильенкова материальное тело становится идеальным,
вовлекаясь в мир культуры, где оно живет иной жизнью, в конечном
счете подчиняясь иным, а именно — социальным законам.
Причем, в обоих случаях, у Ильенкова и у Лифшица, идеальное не
означает нечто бесплотное, бестелесное, невещественное. В этом
плане для них обоих неприемлем тот вариант идеализма,
который мы находим у А.Ф. Лосева.
Надо сказать, что Лифшиц считал мысль Ильенкова об
идеальности всех вещей, вовлеченных в социальный процесс и
преобразованных человеком, слишком общей и потому требующей
уточнения. Если идеален результат деятельности художника,
то как быть с трудом рабочего? Идеальна ли материальная
деятельность человека? Идеализирует ли человек действительность
в процессе труда?
Здесь следует уточнить, что вопрос об идеальности орудий
труда в свете позиции Ильенкова оказывается на острие
философских споров до сих пор. Так один из зарубежных
исследователей его творчества Питер Е.Джонс (Великобритания) в своей
статье «Символы, орудия и идеальность у Ильенкова »
доказывает, что орудие труда в свете этой концепции не содержат в себе ни
грана идеального. «Следовательно, невозможно прямо
отождествлять «идеальность» (которую Бэкхерст кое-где относит к
«нематериальным свойствам»),— пишет П.Е.Джонс,— с социально-
исторически формирующимся функционированием полезных
артефактов, орудий, средств труда и т. д... .Короче, «идеальность »
вообще не означает использование или функцию »т.
Но вернемся к вопросам, заданным Ильенкову Лифшицем,
ответ на которые, конечно, будет отрицательным, если не
рассматривать само идеальное и процесс идеализации в развитии.
А из этого следует, что, с точки зрения Ильенкова, идеальные
значения несет в себе не только художественное произведение,
но любое творение рук человеческих, если это сделано
по-человечески, то есть в соответствии с универсальной мерой самого
материального бытия. Конечно, при этом есть разница между
идеальностью полена, предназначенного для печи, и
идеальностью Буратино, сделанного из того же полена. Идеальный
момент представлен в культурной форме любого предмета,
созданного человеком для человека. И в этом смысле можно
согласиться с Ильенковым в том, что любая деятельность
179 Jones PeterЕ. Symbols, tools, and ideality in Ilyenkov// http://caute.by.ru/
ilyenkov/comments/jones.htm— 1998.
117
идеализирует, выделяя в предмете его существенные черты. Но
мера идеальности тех же дров сопоставима, но не равна
идеальности Буратино как произведения искусства. Ведь в искусстве
происходит то оборачивание формы и содержания, при
котором идеальная форма становится целью, а ее предметная
основа только средством.
Указанный феномен оборачивания одного другим очень
важен для понимания точки зрения Ильенкова. Решая проблему
идеального, считал он, мы исследуем способ бытия культуры,
а не бытие природы. И он объяснял способ бытия культуры с
помощью принципа представленности одного в другом. Здесь
следует уточнить, что уже в немецкой классике, в частности у
И.-Г. Фихте, был осмыслен принцип полагания деятельности в
форме иного, а именно — предмета. «Quid pro quo» означает
«одно вместо другого ». И в немецкой классике, а затем в
марксизме в такой представленности одного в другом стали
видеть способ существования идеального, мира культуры,
мышления. Так в культурной форме дров уже представлены
определенные умения и знания человека. Но когда из древесины сделан
угольник или наглядное пособие, перед нами новый шаг в
процессе идеализации мира человеком, связанный с
представленностью одного в другом в произведениях культуры.
Э.В. Ильенков подчеркивал, что именно там, где в одном
объекте деятельностью человека представлена природа другого
объекта, всеобщие характеристики бытия, перед нами
собственно идеальное. «Точно такое же отношение,— писал он,—
между золотой монетой и теми благами, которые на нее можно
купить,— теми благами (товарами), всеобщим представителем
которых является монета или (позднее) купюра. Монета
представляет не себя, а «другое » — в том же самом смысле, в
каком дипломат представляет не свою персону, а свою страну,
его на то уполномочившую. То же самое и слово, словесный
символ или знак, равно как сочетание таких знаков и
синтаксическая схема этого сочетания »18°.
Наиболее ярким примером такой представленности для
Ильенкова была форма стоимости, которую он анализировал,
опираясь на «Капитал » К. Маркса. «Идеальность формы
стоимости,— читаем мы у Ильенкова,— заключается, по Марксу, разу-
180 Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Философия и культура.—
М., 1991.- С. 254.
101
меется, не в том, что эта форма представляет собой психический
феномен, существующий лишь под черепной крышкой
товаровладельца или теоретика, а в том, что в данном случае, как и в
массе других случаев, телесная, осязаемая форма вещи
(например, сюртук) является лишь формой выражения совсем другой
«вещи » (холста как стоимости), с которой она не имеет ничего
общего. Стоимость холста представлена, выражена,
«воплощена » в форме сюртука, а форма сюртука есть «идеальная или
представленная форма » стоимости холста»181.
Именно форма стоимости как характерный случай
идеального стала очередной мишенью для критиков Ильенкова. Не
только Лифшиц упрекал Ильенкова в том, что, обсуждая проблему
идеального, он не проводил существенной границы между
подлинным и мнимым бытием, истинной и ложной формой. Для
Ильенкова форма стоимости была интересна тем, что в качестве
выражения абстрактного труда, она демонстрирует наибольшую
пластичность. Универсальность формы стоимости Ильенков
видел в ее безразличии к материалу, в котором она в данный
момент представлена. Но в этом конкретном случае безразличие
деятельности к предмету, замечает И. Раскин в материалах «Иль-
енковских чтений » 1999 года, сравнимо с безразличием дьявола
к своим личинам. Ведь абстрактный труд — это отчужденная
деятельность человека. И по сути своей такая деятельность есть
превращенная форма идеального111.
Нельзя не согласиться с Раскиным и в том, что адекватной, а
не превращенной формой идеального является личность
человека. И выражает этот подлинный образ идеального не рынок, а
прежде всего искусство. Что касается безличности и
лицемерности, то в искусстве и классической культуре в целом они
всегда ассоциировались с силами зла, с сатанинскими силами.
Рынок абстрагирует человеческую деятельность от ее
конкретного содержания, доводя это безразличие до «чистой формы » в
виде денег. И в этом смысле идеальность денег сопоставима с
идеальностью гильотины. Идеализация денег по-своему тоже
убивает, уничтожая человеческое в человеке. В этих случаях
способ деятельности человека, который И. Кант называл
«культурой умения », противостоит ее смыслу и сути. Идеальное здесь
1,1 Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Философия и культура.—
M., 1991.- С. 255.
182 См.: Раскин И.А. Деньги и художественный образ // Ильенковские
чтения-99.— М.; Зеленоград.— 1999.
109
присутствует только как способ человеческой деятельности,
отчужденный от ее внутренней цели — развития личности.
Но вернемся к проблеме идеального, в ее постановке
Ильенковым. Занимаясь ею, Ильенков сосредоточил свои силы на
выяснении взаимоотношений общего и единичного в культуре. «Эвальд
Ильенков,— писал в свое время Лифшиц,— очень хорошо понял
одну сторону дела и не без основания увлекся ею»183. Этим
«увлечением» Ильенкова стали объективные формы сознания,
которые в отношении отдельного индивида выступают в качестве
внешней идеальной силы. Категория «идеального », писал в связи с этим
Ильенков, приобретает новый смысл и значение, поскольку
объясняет существование исторически сложившейся и независимых от
индивидуальных капризов форм и схем «объективного духа»,
«коллективного разума » человечества. «Сюда входят,— уточнял
он,— все общие нравственно-моральные нормы, регулирующие
бытовую жизнедеятельность людей, а далее и правовые
установления, формы государственно-политической организации
жизни, ритуально узаконенные схемы деятельности во всех ее
сферах, обязательные для всех правил жизни, жесткие цеховые
регламенты и т. д. и т. п., вплоть до грамматически- синтаксических
структур речи и языка и логических нормативов рассуждения »184.
Как мы видим, интерес Ильенкова сосредоточен именно на той
области, в которой впервые обнаружил идеальную детерминацию
Сократ. Ильенков констатирует существование объективных
мыслительных форм в культуре, которые являются необходимым
условием мышления и поведения отдельного человека. Тем не менее,
слабость этой позиции, по мнению Лифшица, состоит в том, что
Ильенков не вводит ясного и четкого критерия, позволяющего
различать истинные и неистинные формы коллективных
представлений. А в результате у него любая представленность означает
идеальность в ее истинном виде. В итоге в культуре все кошки
оказываются серы, и фетишистское иллюзорное сознание
уравнивается с сознанием, выражающим подлинные идеалы человечества.
Но не каждая общественная форма и не каждое коллективное
представление, подчеркивал Лифшиц, раскрывает нам тайну
идеального. И здесь не разобраться, как считал он, без различения
понятий Ideale и Ideelle, которое ввел в философию Ф.В.Й. Шел-
,ы Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии.—
1984.- №10.- С.132.
ш Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Философия и культура.—
М„ 1991.- С. 247.
110
линг и которым пользовался К. Маркс. К этому стоит добавить, что
в таком случае идеал, будучи объективной силой, по самой своей
сути не может выступать в качестве деспотической инстанции. Одно
дело — идеал, и другое дело — идол. И движение от отчужденной
к истинной форме сознания должно совпадать с формированием
адекватного отношения идеала к человеческой душе, не
имеющего ничего общего с подчинением внешнему диктату.
Стоит согласиться с Лифшицем в том, что пафос, связанный с
одной стороной дела, завел Ильенкова слишком далеко, когда в
решении проблемы идеального он стал уходить от собственных
четких критериев в различении идолов и идеалов, заданных в
одноименной книге185. Здесь, однако, мы должны вернуться к тому,
с чего начали в разговоре о трактовках идеального двумя
известными марксистами. Дело в том, что причина всех слабостей
позиции Ильенкова, согласно Лифшицу, состоит в так называемом
«фетишизме культуры», а по-другому —
«культурно-историческом редукционизме »ш. А это значит, что нужно вернуться к
вопросу о соотношении культуры и натуры. Речь здесь вновь пойдет
о родине наших идеалов. Ни Ильенков, ни Лифшиц не считали
этой родиной небо. Но по Ильенкову ею была и есть культура, а
согласно Лифшицу — природа. И игнорирование природной меры
совершенства, по убеждению Лифшица, с необходимостью
приводит к путанице с истинными и ложными формами.
Итак, если культура — это лишь орудие природы, с помощью
которой последняя приходит к своему адекватному
самоотражению, как считает Лифшиц, то ставить орудие и орган выше самого
субъекта — это, безусловно, редукционизм. И Ильенков, у
которого природа идеального объясняется устройством мира
культуры, оказывается на обочине рассмотрения сути дела. Но это при
условии, если суть дела именно такова, как она представлена в
онтогносеологии. А если культура — это не одно из орудий
природы, а результат ее диалектического снятия! В этом случае
все выглядит иначе, потому что как раз в вопросе о соотношении
природы и культуры — исток принципиального расхождения
между Лифшицем и Ильенковым. И, находясь на
противоположной позиции, можно вынимать камни уже из фундамента
онтогносеологии, в свою очередь, рискуя разрушить ее
стройное здание.
185 См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах.— М., 1968.
т См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.— 1984.— № 10.— С.142.
111
По сути дела речь здесь идет не об отдельных разногласиях,
а о фундаментальном различии в подходах к проблеме
идеального. И намеченное расхождение позиций нельзя объяснить
тривиальностью взглядов одного из оппонентов. Спор Лифшица и
Ильенкова о природе идеального интересен тем, что в нем стянуты в
единый узел важнейшие философские проблемы, и полемика
такого уровня неизбежно заставляет вспоминать великих.
Дух Гегеля безусловно витает над любыми рассуждениями о
развитии как самоотражении бытия. В гегелевской философии
Абсолютный дух проходит путь от природы к культуре,
осознает себя в абсолютном идеализме, и на этом завершается история
его самопознания. У М.А. Лифшица уже не дух, а природа
восходит по ступеням совершенствования и самопознания. Но
человек как орган самопознания и самоотражения природы у
Лифшица, в отличие от Гегеля, отработан «естественным процессом
развития», а значит его способности, включая способность к
идеальному отражению, есть нечто аналогичное родовому
качеству. Соловей поет, лев рычит, а человек говорит, мыслит и
отражает суть природного бытия. Таковы его родовые отличия от
других существ и тел природы. И в понимании специфики
родовых отличий людей, «общественная физиология », как считает
Лифшиц, нам не помощник.
Здесь стоит вспомнить, что Л. Фейербах в свое время также
не принял идеализм Гегеля как отчужденный взгляд на
сущность человека. И в пику идеализму отнес все идеальное в
человеке к миру природы. Теоретический разум, художественный
вкус, моральное чувство и даже религиозная вера у
Фейербаха — естественные способности человека. И то же самое мы
видим у Лифшица. Все ненормальное и вырожденное в нашей
жизни, с этой точки зрения,— плод культуры, а нормальная жизнь
без уродств и извращений — проявление естественной природы
человека. И тут нам трудно будет размежеваться с Ф. Ницше.
Человек в своей практике, утверждает Лифшиц, должен
раскрывать объективные качества природы. «Сказать, что в
природе есть идеальное в виде «естественных пределов »,— пишет
Лифшиц,— или сказать, что в ней каждая вещь имеет свою
собственную «форму и меру», по-моему, одно и то же. Мысль о том, что
процесс исторической чувственно-предметной практики людей
раскрывает в природе ее «чистые», не замутненные всякой
случайностью объективные формы, есть мысль верная, но она
совершенно не вяжется с другой мыслью, согласно которой
идеальное присуще только человеческому миру. Историческая прак-
112
тика людей — путь к сердцу природы, и в этом смысле человек
есть объективная мера вещей, или мера всех мер»187.
Таким образом, согласно Лифшицу, только раскрывая и
развивая идеальность природных форм, труд реализует свое
изначальное всемирное назначение. Нотам, где человек начинает
привносить принципиально новое в природную норму, он вступает
на путь искусственных и превращенных форм. Творчество, по-
Лифшицу,— это работа с чистыми формами природы. А
всякая серьезная трансформация природной формы, попытка
выйти за пределы меры природы — путь к отчужденным формам, а
с ними к разложению и гибели человечества.
Перед нами явно выраженная негативная реакция на
отчужденные формы культуры. И здесь стоит вспомнить критику Лиф-
шицем всякого рода авангардизма в искусстве, с которым он
вплотную столкнулся в 20-е годы, будучи студентом ВХУГЕМАСа. Но
отрицание отчужденных форм культуры у Лифшица переходит в
отрицание положительной специфики культурного бытия
вообще. В работах Ильенкова он увидел пример того, как
признание специфики культуры переходит в признание и оправдание
ее отчужденных форм. Верно, однако, и другое: признать
человека порождением природы еще не значит избавиться от
апологетики отчужденной формы.
То, что апологетика отчужденной формы возможна на почве
противопоставления природы культуре, демонстрирует
неклассическая философия. Ведь натуру противопоставил культуре не
только Фейербах, но и Ницше. Но если Ницше воспевал
естественную жизнь, в противовес прозябанию в границах
отчужденной культуры, то у современных последователей Ницше,
именуемых постмодернистами, а точнее —
постструктуралистами, жизненные силы проявляют себя прежде всего в
патологии. Все проявления индивидуальной и социальной жизни здесь
творятся желанием, а слуга желания как стихии — это художник
и безумец, колдун и дьявол, ребенок и шизофреник. Их цель —
свести с ума культуру. У Фейербаха характерным проявлением
человеческого в человеке является моральное чувство и
религиозная вера, у Ж. Делёза — садомазохистские наклонности.
Зообще-то, противопоставление натуры культуре
предполагает жесткие правила игры. И если мы, вслед за Лифшицем,
признаем, что идеал — это форма природы, достигшая своих есте-
187 См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.- 1984.— № 10.- С.128.
113
ственных пределов, то вполне правомерно считать, что лучший
соловей идеален, т. к. в нем представлен весь соловьиный род, а
аппетит царя зверей идеален, поскольку в нем выражается
тенденция к экологическому равновесию саванны. Последний
пример про царя зверей приводится самим Лифшицем, когда он
критикует Ильенкова. «Лев хочет мяса,— пишет Лифшиц.— Но в
этой потребности он, сам того не зная, предвосхищает Ideell
экологического равновесия саванны. Ибо, по утверждению
зоологов, по крайней мере, некоторых из них, он «выбраковывает»
слабых животных»188.
Но почему лев идеален, когда пожирает антилопу, а человек
идеален не в роли хищника, а там, где выступает зеркалом
природы? Здесь возможны два ответа, если оставаться верным
основам избранной позиции. Первый ответ: таково устройство
нашего организма. Второй ответ: такова наша природа и
изначальная роль в мироздании. Именно так проявляется преформизм,
который содержится в любой разновидности фейербахианства.
Справедливости ради нужно заметить, что тот же
преформизм лежит в основе гегелевской философии, где не только
формы природы, но и развитие культуры предзадано неотрефлек-
тированным состоянием Абсолютного духа. И в этом пункте
Фейербах не преодолел гегельянства. В определенном смысле в
преформизме Фейербаха представлена консервативная сторона
гегелевской системы. А преодоление преформизма возможно
лишь там, где акцентируют внимание не на элементах его
системы, а на методе, который не предполагает развития без
диалектического снятия, и, прежде всего, снятия природы в культуре.
В преформизме в духе фейербахианства характерно именно
то, что он вынуждает смазывать специфику идеального в
собственном смысле, или постулирует ее без всяких объяснений.
Фейербах постулировал идеальность человеческих чувств в
качестве «теоретиков ». Создается впечатление, что Лифшиц идет
по тому же пути, хотя бы тогда, когда утверждает, что уже
любовь скорпионов, где оплодотворенная самка поедает самца,
предвещает Ромео и Джульетту189.
Проще всего в этом пункте выдвинуть против Лифшица
обвинение в редукционизме. Ведь существует разница между
убийством другого и самоубийством, а, тем более, самоубийством на
,м См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.— 1984.— № 10.— С. 132.
т См.: Там же.- С. 130.
114
почве любви, веры, убеждений, а не под влиянием инстинкта.
Но пример с любовью скорпионов интересен еще и потому, что
позволяет прояснить и высветить своеобразие любви как
именно идеального чувства, присущего человеку.
Мы уже говорили о распространенной претензии к Ильенкову,
суть которой в том, что он анализирует идеальное в качестве
всеобщих схем и объективированных представлений, в то время как это
только условие существования идеального в его особой форме —
как человеческой личности. Третирование эмпирического субъекта
от имени и в пользу трансцендентального субъекта действительно
свойственно классической философии. И в реабилитации
отдельного индивида в качестве субъекта состоял положительный пафос
неклассической философии, который остался одним лишь
пафосом без реальных результатов. Ведь неклассическая философия,
как известно, бросилась в другую крайность, лишив этого
отдельного индивида каких-либо трансцендентальных предпосылок, а
вместе с ними и возможности становления личности.
Но проблема, резко высвеченная С. Киркегором и Ф.
Ницше, К. Ясперсом и М. Хайдеггером, осталась открытой. И,
восходя от абстрактного к конкретному в анализе идеального,
мы должны перейти с одного полюса проблемы на другой. Для
Э.В. Ильенкова суть исследуемой проблемы — в особенностях
того мира, в котором человек поднимается к вершинам
идеального. Один полюс этого мира составляет преобразованный
культурой предмет. Но другой полюс того же мира — это
преобразованный культурой человек. А в нем средоточием идеального
со времен Сократа считалась душа.
В статье «Об идеальном и реальном» М.А. Лифшиц особо
выделяет тот факт, что в истории мировой культуры идеальное
всегда связывалось с внутренней жизнью личности. Внутренний
мир человека, подчеркивает Лифшиц, находится в особом
отношении к идеальному, поскольку способен быть зеркалом не
только отдельных вещей, но и всего мира. Но как возможно
отражение бесконечности мира мозгом конечного человека?
Ответ на поставленный вопрос нужно искать в специфике
отношения человека к миру. Но именно здесь перед нами
очередной камень преткновения в споре Ильенкова и Лифшица.
У Лифшица сутью практики является подражание природе или
мимесис, как он часто говорит, следуя древним грекам190. Иначе
т См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.— 1984.— № 10.— С. 139.
tin
у Ильенкова, y которого основой деятельности является не
стилизация, а преобразование природы в соответствии с
«хитростью разума», описанной Гегелем. Культурное бытие
относительно самостоятельно по отношению к ушедшему в его основание
бытию природы. И здесь, согласно Ильенкову, истоки
самостоятельности духовной жизни человека, истоки явно
выраженной автономии человеческой души от тела.
Относительная самостоятельность духовного мира —
существенный пункт в позиции Ильенкова. И по большому счету он
не нов для классической философии, всегда признававшей
несводимость жизни духа к жизнедеятельности тела. А
неклассическая философия высветила еще одну сторону этой проблемы.
Ведь индивидуальный дух — это нечто вроде отдельного
космоса, который может быть бесконечным и неповторимым.
Недаром мы говорим о «внутреннем мире », т. е. аналоге целого мира
внутри человека. В экзистенциализме при этом акцент делается
на слове «быть», поскольку дух в нем — особое бытие.
По-другому видит это Ильенков, у которого духовный мир у индивида
есть не всегда, а он должен, фигурально выражаясь, «стать» —
через освоение наличного уровня культуры.
Но вернемся к процессу отражения конечным человеком
бесконечного мира, в котором Лифшиц отводил особую роль
человеческому мозгу как адекватному органу духа. У Лифшица
мозг — лучшее из природных тел, способных к отражению. Его
универсальность в том, что на уровне человека мозг может
отражать всеобщее значение других тел и-всей природы. И его
отражательные способности возрастают с присоединением к мозгу,
как он выражается, «искусственных зеркал» и их
«средостений » из мира культуры.
Уточним, что культура играет в онтогносеологии Лифшица
положительную роль лишь тогда, когда она продолжает и
усиливает отражательные возможности мозга. Но любое
проявление автономии со стороны культуры здесь причисляется к
разряду ее «дьявольской независимости» от человека. Последнее —
не просто яркий образ или фигура речи. Здесь мы подходим к
одному из важнейших моментов во взглядах Лифшица. «Однако
на этой более высокой ступени развития возникает и новая
опасность,— пишет Лифшиц,— плоды исторического развития
приобретают дьявольскую независимость от первого источника
здравого мышления — человеческой головы. Благодаря системе
«репрезентации » процесс мышления выходит из-под контроля самой
мысли, приобретает черты «интеллигибельные», «трансценден-
m
тальные », «имманентные » и так далее, в зависимости от
принятой философской терминологии »191.
А это значит, что мозг и предметы культуры в момент
постижения истины, должны зеркально отражать совершенные формы
природы. Образами зеркала и зеркальности пронизаны все
рассуждения Лифшица об идеальном. В зеркальном отражении
совершенных форм, по убеждению Лифшица,— залог красоты, истины и
добра. А там, где зеркало отступает от следования совершенной
форме бытия — начало дьявольской самостоятельности духа,
способного не только высветлять, но и затемнять существо дела.
Здесь как будто все ясно. Но только до тех пор, пока мы не
задались вопросом о свойствах зеркала, способного отразить
бесконечность. Напомним, что познание истины, по Лифшицу, это
постижение истинного предмета, выражающего свой род и его
всеобщее значение. Мы знаем слова Маркса о Сократе как
воплощенном философе. К. Маркс здесь, по сути, вторит Гегелю,
который говорил о Сократе как об одном из великих
пластических характеров античности и отмечал своеобразие этического
учения Сократа, воплотившегося в его собственном образе жизни192.
Величие Сократа именно в том, что он — воплощение разума
в форме, где слово связано с поступком. Но суть дела в том, что
здесь слово совпадает с делом не напрямую, а при посредстве
рефлексии. Образ Сократа как воплощенной добродетели, где
непосредственно совпадают слова и дела, нам рисует Ксенофонт.
Преодолением его наивности является образ Сократа у
Платона и Гегеля, где совпадение слова и дела опосредовано не только
нравственным, но и теоретическим поиском, когда перед
умственным взором предстает та связь добродетели и поступка,
которая невидима глазу.
Из этого следует, что зримый и пластичный образ человека и
мира, в котором зеркально, а значит непосредственно,
представлено всеобщее, безусловно органичен. Но этот образ, в
котором искусство существует до и вне философии и науки,
неизбежно будет не только органичен, но и наивен. И такого рода
парадоксы с необходимостью возникают там, где есть
уверенность: всеобщее должно представать в культуре лишь в форме
образов совершенных порождений природы. Так обнаружива-
m См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы
философии.— 1984.— № 10.— С. 141.
192 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии.— СПб., 1994.—
Кн. 2.— С. 40.
117
ются границы созерцательной трактовки духа. Здесь истина
совпадает с красотой, а истинным зеркалом и подлинным телом
культуры оказывается произведение искусства.
Но, если цель истинного познания — постигать мир в его
необходимых связях, то в определенных ситуациях опорой
познания может быть лишь знак, без которого невозможна ни
философия, ни наука. Адекватная теоретическая постановка
проблемы идеального связана с вопросом о способах его существования.
И здесь имеется в виду не только культурная форма особой вещи
или воплощающий всеобщее художественный образ. Речь идет
и о теоретической идее в форме научного понятия,
философской категории, логического принципа. Идеальность сознания
Ильенков связывает с его способностью отражать сущность и меру
любого вида, всеобщие характеристики бытия. В этом, в
соответствии с классической традицией, он видел отличие идеи, или
понятия, от представления. И такая трактовка идеального помогает
прояснить соотношение идеального значения и знака в науке.
Роль знака как тела мысли — еще один водораздел во
взглядах Ильенкова и Лифшица. Речь идет об относительной
независимости значения от знака, без которой невозможно мыслить
скрытые от чувств отношения в самой действительности.
Теоретическая деятельность не является отчужденной формой, но,
представляя сущность при помощи образов и знаков, теоретик
действует совсем не так, как художник.
Одним из предрассудков обыденного сознания,
перенесенным в эстетику, является отмежевание «материального
носителя » от идеального образа в искусстве. Тем самым игнорируется
существенное отличие искусства от науки. Игнорируется то, что
звуки в искусстве неотделимы от музыки, а краски от
изображения. Уже в споре средневековых иконопочитателей с
иконоборцами шла речь об одухотворении телесного, или, на
современном языке, о поглощении идеальной формой природного тела в
искусстве. Грубо говоря, скульптура — это не мул, несущий
поклажу эстетической формы в лице, к примеру, Давида.
Специфика художественной деятельности в том, что она
превращает мула в саму поклажу, а глыбу мрамора превращает в образ
Давида. Таким образом, художественный образ не просто не
безразличен к собственной телесности. Идеальная форма в
искусстве непосредственно сливается со своим содержанием.
Суть искусства в опосредованном деятельностью тождестве
идеального и материального
11В
Не так в науке и философии, т. е. в теоретическом
мышлении, где нетождественность смысла и его носителя является
условием самого научного поиска. Достоинство ильенковской
концепции идеального заключается в обосновании того, что наша
мысль всегда предметна, а идеальное всегда опредмечено — в
словах и текстах, образах искусства и понятиях науки, и,
конечно, в орудиях труда. Поэтому о «материализации » мысли
Ильенков говорит в кавычках. Снять кавычки — значит признать
существование чистого духа до материи. А чистая
беспредметная мысль, идеальное как абсолютный антипод материального,
согласно Ильенкову, являются кардинальными иллюзиями
человечества. Причем его подход к проблеме позволяет
продуктивно обсуждать и этот вопрос. Если уточнять социальные
корни идеализма, то к ним следует отнести существование тех
объективных мыслительных форм, анализ которых Ильенковым по
преимуществу сторонниками «диамата » воспринимался как явно
выраженное гегельянство.
Если следовать Ильенкову, тело мысли должно обладать
бесконечной свободой, чтобы не столько отразить, сколько
выразить бесконечность мира. И такой возможностью обладают не
сами тела, а их деятельные функции. Здесь мы вновь касаемся
различия искусства и науки. Когда нечто выражается телом или
сочетанием тел, мы в области искусства, образец которого —
античная скульптура. Но для выражения бесконечности
человечество прежде всего использует возможности не искусства, а
науки, где бесконечность выражает не тело, а его деятельная
функция, в содержательном плане безразличная к телу мысли —
мозгу и знаку.
Человек сумел выразить бесконечное при помощи особых
условных средств — знаков. Работая со знаками, мы почти
безразличны к их виду, но зато чутко относимся к их смыслу и
значению. На абстрактно-логическом уровне наука находит свое
орудие в автономной от собственного носителя понятийной
деятельности. В этом состоит принципиальное отличие теории от
художественной практики, от искусства, где дух
непосредственно сливается с телесностью, и бесконечное выражается только
через конечное. Сосредоточившись на втором, онтогносеоло-
гия по большому счету ограничивает мышление рамками
представления, в пику научной абстракции, а духовную
культуру — искусством, в противовес науке.
119
Уточним, что в определенном смысле знаковые средства
мышления — это никакое не зеркало, а, наоборот, его антипод. Но
условность здесь не является неизбежной уступкой дьяволу, а,
скорее, является одной из дорог к Богу, если так именовать
истину. В знаке телесность снята, и посредством диалектического
отрицания телесной формы дух овладевает вечностью и
бесконечностью. А тем самым посредством духа сам человек обретает
бесконечность. Ведь духовный мир — это способ отрицания
человеком своей единичности, бренности, конечности. И это
наиболее явно выражено в христианских воззрениях и
мироощущении, где душа опосредует конечное и бесконечное в человеке.
Следуя логике Ильенкова, нужно признать, что личность —
это та особая форма идеального, в которой единичный
эмпирический субъект обретает всеобщность, конечный человек —
бесконечность, бренное существо — вечность. При этом личность
является не средством, а целью. Мы не приобщаемся с ее
помощью к всеобщему, а она сама становится особым универсумом —
духовной всеобщностью. И в этом пункте трактовка
Ильенковым идеального особо нуждается в уточнении и дальнейшей
проработке.
Душа невозможна без тела, без мозга. Можно представить
себе безрукого или безногого человека, но «безмозглый»
человек человеком по сути не является. Но все сказанное не
отменяет того, что в становление души изначально входит
диалектическое отрицание собственного тела, оборачивание
взаимоотношений между ними. Таков же исходный принцип отношения
культуры к природе, идеального к материальному.
Диалектическое отрицание или снятие — собственная мера культуры, а
не козни дьявола, хотя свобода может показаться дьявольской
игрой, если смотреть на нее с точки зрения первозданной
природы. Мы говорим об автономных силах культуры, которые
выводят человека за границы природной жизни. Но автономия
культуры — это формальная возможность отчуждения человека от
человека. Достоинства автономных сил культуры в учении
Ильенкова бросают положительный отблеск и на ее отчужденные
формы. Иначе в онтогносеологии Лифшица, где отчужденные
формы, наоборот, бросают густую тень на весь мир культуры,
вынуждая воспринимать в качестве порока любое обнаружение
автономных сил и возможностей культурного бытия.
Э.В. Ильенков пытался объяснить механизм рождения
культуры из природы, а тем самым, раскрыть своеобразие собствен-
120
ной меры культурного бытия. Но эта мера выражается не
только в выявлении чистых форм природы и погружении их в
основание культуры как «второй природы ». Таков механизм
материального производства и суть создаваемой им материальной
культуры. С другой стороны, культура меняет не только форму, но и
характер детерминации природного тела. И там, где сама
форма и формирующая способность становится целью
производства, мы имеем дело с другим важным отличием культуры от
природы. Ведь мера культуры проявляется не только в
преобразовании природной закономерности, но и в оборачивании
формы и содержания человеческой деятельности.
Это оборачивание, при котором целью становится не столько
преобразование предмета, сколько формирование
человеческой способности, рождает феномен духовного производства
и мир духовной культуры. Именно в этом пункте, если
следовать Ильенкову, проясняется своеобразие души как
средоточия деятельных способностей человека, а также природа ее
главенства над телом. Здесь же становится понятным
культурно-историческое назначение искусства, которое, согласно
Ильенкову, связано с развитием человеческих способностей, и
только в свете этой главной задачи способно к отражению
совершенных форм природы.
Итак, результатом развития культуры как идеализации мира
человеком является относительная самостоятельность
духовного производства как производства человеческой души.
Другим результатом этого процесса становится относительная
автономия души как средоточия деятельных способностей
личности. И в том же контексте должна быть понята автономия
идеала в качестве должного от мира культуры как сущего. Ведь
идеалы как принципы нашей жизни, и прежде всего идеал
добра, сложнее всего вписать в рамки природного бытия.
Характерно то, что в разговоре об идеальном Лифшиц
исходит из идеала красоты, а в результате добро и истина теряют
свою специфику, становятся паллиативами красоты. И это
неслучайно. Ведь, ограничивая в себе телесное, человек стал тем,
чего не может быть в природе. И идеал добра — главное тому
подтверждение. Стремление к добру, или Высшему Благу, уже
Сократ и Платон по сути связывали со способностью человека к
ограничению себя во имя другого — человека, рода, принципа,
мироздания. Добро — высший пункт в идеализации мира
человеком. Причем нравственное самоотрицание выражается не толь-
121
ко в телесном самоограничении, но может иметь более сложный
и драматичный характер. Ведь служение добру может
выражаться не только в ограничении тела, но и самой души в ее
стремлении к всеобщему, как это было у известного русского философа
С.Н. Трубецкого.
В канун революции 1905 года у князя С.Н. Трубецкого был
выбор между служением Истине в лице философии и
служением Добру в роли просветителя и общественного деятеля. Выбор
в пользу общественных дел стал осознанной жертвой, и это
подтвердила скорая смерть Трубецкого. Его усилиями и усилиями
его коллег в августе 1905 года Московский университет получил
автономию, а сам Трубецкой вскоре был избран ректором. Но
уже в сентябре занятия были сорваны, а университет превращен
в огромную и неуправляемую политическую сходку. После того,
как университет был временно закрыт, Трубецкой прожил
всего неделю. С.Н. Трубецкой умер в 43 года. Он не полностью
реализовал себя как философ, но вполне состоялся как человек.
И коллизии такого уровня не объяснить на почве онтогносеоло-
гии. Феномен Трубецкого невозможно вывести из природы, как
нельзя вывести из нее гибель Ромео и Джульетты.
Но вернемся к платонизму, влияние которого, как мы видим,
можно ощутить даже в марксизме. Лифшиц и Ильенков не
признавали бестелесной субстанции. Но по большому счету их
разделяет методологическая граница — между созерцательным
и деятельностным подходом к феномену идеального. С другой
стороны, у идеалиста Лосева и материалиста Лифшица есть
общий пункт в воззрениях. Он связан с идущим от Платона
погружением идеального в природу, с проекцией идеальной
детерминации на мироздание.
У Платона родовая сущность людей и вещей по сути едина.
А там, где идеальное поглотило всеобщее, различение
природы и культуры становится бессмысленным. В учении Платона
душа, усматривая истину, отражает идеи в «занебесье».
У Лифшица душа человека усматривает истину, зеркально
отражая совершенные формы природы. И в этом
созерцательном подходе — один из ключей к трактовке идеального,
предложенной платонизмом и дожившей до наших дней.
Представление о бестелесной субстанции стало лишь развитием
того понимания идеального, которое заложил Платон и
которое определило облик философской классики более, чем на
две тысячи лет.
122
Взгляд Ильенкова на природу идеального вызрел в недрах
той же классической философии. Но суть этой позиции, в
отличие от онтогносеологии Лифшица, нельзя понять вне немецкой
классики и рожденного ею деятельностного понимания духа.
В немецкой классике поглощение всеобщего идеальным, как мы
знаем, сохранилось. Оно обернулось тем, что в учениях от
Фихте до Гегеля природа — форма жизнедеятельности духа. Тот же
принцип в онтогносеологии, на почве созерцательного подхода,
проявляет себя иначе, в результате чего уже идеализированная
природа поглощает культуру.
Указанная разница носит не внешний, а принципиальный
характер. Ведь только там, где культура оказывается не
отражением, а деятельным преобразованием натуры, намечается путь
за пределы платонизма, к иной постановке вопроса о специфике
идеального. В этом смысле немецкая классика — это
подготовка выхода за пределы философской классики вообще. В свете
своеобразия платонизма классическая философия тем самым
совершила круг, возвратившись в постановке проблемы
идеального к ее собственно человеческому измерению, т. е. к Сократу.
Недаром в неклассической философии, которая сталь реакцией
на философскую классику, Сократ вновь воспринят как
важнейшая, рубежная фигура.
Тем не менее, учение Платона двойственно, и в нем
скрываются предпосылки деятельностного подхода к идеальному.
Проецируя идеальное на весь мир, Платон, тем самым, закладывает
в его основу стремление к цели, идеалу, совершенству. И самым
ярким воплощением этой «природной » устремленности к
Высшему Благу у него является государство, в том случае, когда
оно соответствует своей идее. Недаром Гегель видит заслугу
Платона в том, что реальность духа у него предстает в высшей
правде именно организацией некоторого государства193.
Соответственно Ильенков усматривает уже у Платона
предпосылки иной постановки проблемы идеального, в сравнении с
тем, что лежит на поверхности его учения. Он имеет в виду прежде
всего нормы морали и права, логические и эстетические каноны,
которые у Платона являются отражением мира идей. Иначе их
понимает Ильенков, для которого именно здесь заключена суть
бытия идеального. У Платона детерминация индивида идеалом —
|И Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии.— СПб., 1994.—
Кн. 2.- С. 188.
123
отражение особенностей вечных идей в их взаимосвязи с
вещами. У Ильенкова в такой детерминации выражается адекватное
" бытие идеального и мира культуры. Таким образом, чтобы
выйти за пределы платонизма в трактовке идеального, надо
разобраться с его двойственностью в решении вопроса о сущности
вещей и человека.
* * *
Итак, безусловно, что, будучи продуктом античной
классики, философский идеализм затем сам оказывается влиятельной
силой европейской духовной культуры. И от этого процесса
неотделима радикальная трансформация представлений о душе,
которая теперь воспринимается как посланница идеального мира,
лишь на время соединяющаяся с бренным телом. Конечно, уже в
древности у такого понимания души были альтернативы. Но
серьезные оппоненты никогда не считали представление о душе
как антиподе тела и идеализм в целом колоссом на глиняных
ногах. Ведь не только осознание телесной кончины, чего нет у
животных,— почва для стихийных идеалистических воззрений.
Порождаемое этим знанием желание попрать смерть
бессмертием души — психологическое основание идеализма. Однако то,
что философский идеализм, зародившийся в Европе, с
необходимостью предполагает идеальное как антипод материального,
имеет не только психологическое и гносеологическое, но и
культурно-историческое объяснение. Речь идет о
фундаментальных особенностях мира культуры, в котором идеалы с
необходимостью обретают форму абсолюта, а добродетель предстает
как самодостаточное основание действий индивида. С этим
связана и так называемая целевая детерминация души в качестве
необходимой предпосылки философского идеализма. В
античной Греции, где ответом на вызов времени стала демократия,
сделали ставку на обуздание и окультуривание той
субъективной стихии, которая проявляет себя каждый раз, когда
индивиду «дают» свободу. Частная инициатива, частная собственность
всегда чреваты произволом. И величие греческой цивилизации в
том, что она впервые смогла превратить произвол частного лица
в свободу гражданина, а его страстям придала форму
идеального чувства, опосредованного добродетелью (идеалом). Именно
поэтому классическая европейская философия будет объяснять
идеальность псюхе, а затем анима, способностью обуздывать
произвол тела нравственностью как особой силой общего>
представленной в каждой отдельной душе.
[лз&а третья
Споры о душе Ь истории
зристотелизмз
В учении Аристотеля о душе, как и во всей его философии —
энциклопедии античного знания,— представлены ростки разных
методологических подходов. «В его учении,— писал в связи с
этим Э.В. Ильенков,— сплавились воедино великие
непреходящие достоинства античной мысли; это грандиозный перекресток
путей: в его учении сходятся, как в фокусе, все основные
тенденции развития философской мысли Греции (в том числе и
взаимоисключающие), чтобы сразу же после этого разойтись на
тысячелетия »194.
Именно в учении Аристотеля, задолго до христианства,
сформировалось представление о бессмертной и бестелесной душе
человека. И решающую роль здесь сыграл трактат «О душе »—
одна из наименее ясных работ великого Аристотеля. Как раз его
внутренние противоречия подготовили почву не только для
споров средневековых схоластов и ренессансных аристотеликов, но
и для психологических дискуссий уже в XX веке.
1.Ауша как энтелехия тела
Учение Аристотеля отличается тем, что душа в нем впервые
представлена как энтелехия тела. Слово «entelecheia » —
неологизм, введенный именно Аристотелем. Но следует
подчеркнуть, что термин «энтелехия » в классической философии
распространения не получил. В отличие от философов, среди
которых им пользовался только Г.В. Лейбниц, на него сделали ставку
биологи-виталисты Нового времени. И именно они определили
т Ильенков Э.В. Философия и культура.— М., 1991.— С. 85.
12S
на долгие годы вперед взгляд на энтелехию как некую
жизненную силу. Но энтелехия как витальная сила есть одна из многих,
упрощенных трактовок исходного понятия Аристотеля,
которое пусть не прямо, но косвенно сказалось на развитии
классической философии. Не пользуясь самым термином «энтелехия »,
ФомаАквинский,П. Помпонацци,Д. Бруно и др. дали такие
толкования аристотелевским представлениям о душе, которые
существенным образом повлияли на различные направления
классической философской мысли.
Принято считать, что в соответствии с понятием энтелехии
Аристотель впервые ввел различие трех разновидностей души:
растительной, животной и разумной, которую мы находим
только у человека. Но внешняя ясность и простота такой
позиции оборачивается серьезной проблемой при первом же вопросе
о сути так понятой энтелехии. При этом представление об
энтелехии начинает двоиться, подобно платоновскому
представлению о законе в диалоге «Тимей », который, напомним, с одной
стороны,— «необходимость», а с другой — «стремление к
совершенству »195. Двойственность энтелехии тела в том, что в ней
просматриваются контуры как природного генотипа, так и
человеческого идеала. С одной стороны, указанная энтелехия у
Аристотеля подобна действию природного закона, а с другой —
идеальной детерминации индивида. А в классической системе
координат это означает, что душа является материальной и
идеальной одновременно. Но как такое возможно?
Сразу же уточним, что вопрос о своеобразии
индивидуальной души впервые будет поставлен только в неоплатонизме. Что
же касается Аристотеля, то он в учении о душе хочет
разобраться в природе живого. Признаками жизни, неоднократно
подчеркивает он в трактате «О душе », являются питание, рост,
продолжение рода, перемещение, ощущение, стремление и
познание. И все эти проявления жизни Аристотель хочет объяснить
при помощи души. Живое у Аристотеля тождественно
одушевленному.
В философии существует понятие гилозоизма, когда
одушевленность признают у всего на свете. Противоположность
такому воззрению — признание того, что душой обладает
только человек. Аристотель, как уже говорилось, признает
наличие души у того, что обладает жизнью. При этом он отрицает
w См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1994.— Т. 3.— С. 450.
126
переселение душ из тела в тело и в том числе переход души из
тела человека в тело животного, на чем настаивал Платон.
Метемпсихоз, считает Аристотель, невозможен в силу особой
связи между душой и телом. Имея в виду пифагорейцев и
платоников, он пишет в первой книге трактата «О душе »: «Эти же
философы говорят так, как если бы кто утверждал, что
строительное искусство может проникать в флейту; на самом же деле
необходимо, чтобы каждое искусство пользовалось своими
орудиями, а душа — своим телом »т.
Почти вся первая книга трактата «О душе » посвящена
критике отличных от аристотелевской точек зрения на душу.
Главными признаками одушевленности, указывает Аристотель,
всегда считались движение и ощущение. Но у большинства
философов это означает, что зримые движения тела порождаются
движением скрытой бестелесной души. В данном случае под
«бестелесностью» Аристотель имеет в виду ее отличие от обычных
тел природы. Отличая душу от тела, большинство философов
признают, что она состоит из природных элементов или из их
смеси с дисгармоничным или гармоничным соотношением. Все
свойства души, включая ее «бестелесность », чаще всего
объясняют ее особым природным составом.
Так, в частности, рассуждал Демокрит, к критике которого
Аристотель возвращается неоднократно. Как известно, душа в
учении Демокрита производна от внешних телу шарообразных и
огневидных атомов, которые заполняют тело, проникая в
человека в процессе дыхания. Но такой взгляд на душу, когда она
оказывается сродни природной стихии, разлитой в космосе,
вызывает у Аристотеля самые резкие возражения. «Некоторые
также утверждают,— пишет он,— что душа разлита во всем;
быть может, исходя из этого, Фалес думал, что все полно богов.
Такой взгляд вызывает некоторые сомнения. А именно: почему
душа, находясь в воздухе или в огне, не производит живого
существа, а, находясь в смеси (элементов), производит, хотя,
казалось бы, в этих двух элементах она лучше. Впрочем, можно было
бы спросить, почему душа, находящаяся в воздухе, лучше и
бессмертнее, нежели душа живых существ? В обоих случаях
получается нелепость и нечто противоречащее разуму»197.
Предпочтительнее видеть в душе активное начало,
несводимое к природным стихиям и вообще к чему-то, напоминающему
"* Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 384.
1,7 Там же.— С.391.
127
тело. В душе присутствует единство, отличающее ее от стихии.
Но при этом душа, постоянно повторяет Аристотель, не может
быть неким подобием тела. Иначе наличие души в теле будет
означать присутствие в одном и том же месте двух тел198. Души
не могут, считает он, состоять из каких-либо природных начал.
Аристотель не намерен связывать душу и с какой-либо
пространственной величиной, как это делает, к примеру, Тимей,
у которого она составлена из элементов и разделена в
соответствии с гармоническими числами199. Душа, согласно
Аристотелю, не способна к движению и самодвижению и,
соответственно, не может занимать определенного места в пространстве.
Допустив перемещение души самой по себе, пишет он, мы тем самым
допускаем, что выйдя из тела, она может затем вернуться в него.
«Из этого следовало бы,— замечает Аристотель,— что живые
существа, умерев, могли бы ожить »20°.
В силу сказанного душа не может сообщать телу движения
извне, будучи в чем-то подобной ему. К ней неприложимы
никакие телесные характеристики. И, тем не менее, душа
напрямую связана с телом. В каком же смысле и качестве душа
управляет телом?
Именно во второй книге трактата «О душе », Аристотель дает
определение души как энтелехии тела, подробно комментируя
характер связи между душой и телом. Понятие энтелехии, как и
энергии, применяется им там, где речь идет о
действительности, в противоположность возможности. При этом в
примечаниях к «Метафизике » можно прочесть, что первоначально под
энергией Аристотелем подразумевалось некое движение или
деятельность, а под энтелехией — «фактическая данность или
осуществленность чего-то»201. Но сказать, что душа есть «осу-
ществленность », это значит еще ничего не сказать. Вполне
закономерен вопрос: осуществленностъю чего является душа?
Согласно Аристотелю, душа осуществляет сущность
живого тела. Рассуждая о душе, Аристотель приводит характерный
пример с топором, суть которого проявляется в действии
раскалывания. Если бы топор был естественным и притом живым
телом, говорит Аристотель, то раскалывание было бы его сущнос-
1,8 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 388.
. ,9' См.: там же.— С. 381-382.
200 Там же.— С. 381.
201 Там же.— С. 478.
128
тью и соответственно его душой202. И другой пример: «Если бы
глаз был живым существом, то душой его было бы зрение. Ведь
зрение и есть сущность глаза как его форма (глаз же есть
материя зрения); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве только по
имени, так же как глаз из камня или нарисованный глаз »203.
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что душа
как осуществленная сущность является сущностью живого тела
в действии. Здесь нужно уточнить, что способ действия топора
определенным образом представлен в его внешней форме. И то
же самое можно сказать о живом теле. Живое тело, в отличие от
неживого, считает Аристотель, невозможно без определенных
органов. Например, для питания у животного приспособлен рот,
а у растения — корни и листья. А это значит, что устройство
живого тела также несет в себе возможность жизни, и душа
превращает ее в действительность. Отсюда общее определение души у
Аристотеля, которое выглядит так: «душа есть первая энтелехия
естественного тела, обладающего органами »2М.
Понятно, что устройство тела в качестве внешней формы
нужно отличать от его сущности как внутренней формы,
который определяет способ жизнедеятельности растения или
животного. Вполне определенным образом Аристотель говорит о
внутренней субстанциальной форме, присущей живому телу,
в критике Эмпедокла по поводу роста растений. Дело в том, что,
согласно Эмпедоклу, корни растений растут вниз согласно
естественному направлению составляющей их земли, в то время
как рост стеблей вверх соответствует естественному
направлению огня. Аристотель задает в связи с этим правомерный и по
сути риторический вопрос о том, что может скрепить в растении
землю и огонь с их противоположным направлением движения.
Но главный объект его критики — представление об огне как
источнике питания и роста.
«Некоторые полагают,— пишет Аристотель,— что вообще в
природе огня заключена причина питания и роста, ибо, кажется,
что из всех тел или элементов только один огонь есть нечто
питающееся и растущее »205. Аристотель не согласен с этим, и прежде
всего потому, что свойство огня — в возрастании до бесконечно-
102 Аристотель. Соч.: В 4 т.- М., 1975.- Т. 1.— С.395.
203 Там же.
204 Там же.
т Там же.— С. 403.
12S
сти, если имеется горючее вещество. Между тем, в отличие от
огня, пишет Аристотель, «для всех естественных образований
есть предел и соотношение (logos) величины и роста »2W\ Именно
эту меру во внешнем облике и способе существования и
гарантирует, согласно Аристотелю, сущность живого тела, а
по-другому — его душа. «А это зависит от души, а не от огня,—
заключает он,— скорее, от выраженной в определении сущности (logos),
чем от материи »207.
Спроецированные на естествознание Нового времени, эти
рассуждения Аристотеля легко вписываются в представление о
способе действия законов природы,.задающих предел и меру
существованию различных тел. Здесь стоит упомянуть, что
работы Аристотеля в области биологии, и в частности
«Возникновение животных » и «О частях животных », производили
серьезное впечатление даже на сторонников эволюционизма. В 1882
году Ч.Дарвин писал переводчику работы «О частях животных»:
«Редко я читал что-либо более меня заинтересовавшее, хотя до
сих пор прочитал не больше четверти самой книги. По цитатам,
которые мне приходилось видеть, я высоко ценил заслуги
Аристотеля, но не имел даже самого отдаленного представления,
что за удивительный человек это был. Линней и Кювье были
двумя моими божествами, хотя и в весьма различных отношениях, а
между тем они — простые школьники в сравнении со стариком
Аристотелем»208.
Итак, аристотелевскую энтелехию можно воспринимать как
проявление законов природы в жизнедеятельности живого тела
и даже — в свете современных знаний — как выражение в
жизнедеятельности особи ее генотипа. Недаром известный
исследователь творчества Аристотеля В.П. Зубов позволяет себе
говорить о душе как энтелехии тела на языке современной
физиологии. «В этом смысле «душа » у Аристотеля,— пишет он,— была
совокупностью функций, присущих живому телу,
отличительных для живого организма »т.
Но тот же В.П. Зубов, следует отдать ему должное, ясно
видит, что аристотелевская «душа » несводима к набору жизнен-
ш Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 403.
207 Там же.
208 Darwin F. The life and letters of Ch. Darwin.— London, 1887.— od. 2.—
Vol. III.- p. 252.
209 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М.,
2000.— С. 179.
131
них функций в духе позднейшего естественно-научного
материализма. Чтобы энтелехия Аристотеля превратилась в
законосообразное действие природного тела, необходимо усилить одни
тенденции в его учении и пресечь другие. Такое возможно, во-
первых, если формальная и движущая причины тела помещены
в саму материю, т. е. отождествлены с материальной причиной
тела. А во-вторых, должна исчезнуть целевая детерминация
тела, о которой постоянно напоминает Аристотель.
Указанная ситуация говорит об изначальной
двойственности аристотелевского учения о душе, которая провоцирует
противоположные методологические подходы. В начале второй
книги трактата «О душе » мы встречаем утверждение: «Жизнью мы
называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющее
основание в нем самом (di ay toy)»210. Но одним из собственных
оснований тела, наряду с формальной и движущей причиной,
является целевая причина, устремляющая тело к вечности и
совершенству t то есть к Богу-Перводвигателю. Целевая причина
живого тела у Аристотеля, в отличие от Платона, находится не
вовне, а внутри него самого. Именно вследствие такой
детерминации живого тела Аристотель именует его существование не
просто «энтелехией » как реализуемой сущностью, а именно
«душой ». Но в результате и сама душа оказывается у Аристотеля не
вовне, а в самом теле. В качестве реализуемой сущности и цели
тела душа неотделима от него. И в этом кардинальная
новизна позиции Аристотеля, в сравнении с Платоном и другими
античными мыслителями. У Аристотеля душа, включая
питающую, ощущающую и даже отчасти разумную, как бы
прорастает из тела, а не дается живому существу как нечто внешнее
и отдельное от тела даже тогда, когда она находится
внутри организма.
В связи с этим стоит обратить внимание на некоторые
различия в переводах одних и тех же мест из работ Аристотеля. Так,
комментируя уже рассмотренный нами фрагмент из четвертой
главы второй книги трактата «О душе» (И, IV, 416 а, 15-20), где
Аристотель спорит с Эмпедоклом насчет огня как источника роста
и питания, Зубов опирается на такой перевод, где слово «Логос»
означает «разумное основание ». В результате одно и то же
место при разных переводах наполняется разным смыслом.
«Между тем,— читаем мы у Зубова,— у всех произведений природы
ш Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 394.
131
есть для их величины и роста предел (πέρας) и разумное
основание (λόγος)»211. «...Между тем для всех естественных
образований,— читаем мы в первом томе сочинений Аристотеля,
изданном в 1975 году,— есть предел и соотношение (λόγος) величины
и роста »212. В переводе Зубова в основании жизни формальное
переплетается с целевым, а это значит, что душа живого
существа сочетает в себе материальное и идеальное. Во втором
переводе эта двойственность сглажена в пользу
Аристотеля-естествоиспытателя, предтечи исследователей Нового времени.
Взгляд на работы Аристотеля с позиций развитого
естествознания с необходимостью провоцирует трактовку души с точки
зрения формы у а не цели, и форма при этом предстает в качестве
функции некоторого органа или всего организма. «При этом,
говоря о форме,— читаем мы в книге «История греческой
философии в ее связи с наукой » у П.П. Гайденко,— Аристотель
имеет в виду не просто внешние очертания, а также окраску и т. д.
живого существа: к форме здесь гораздо ближе функция, чем
морфологические признаки»213. И чуть ниже: «Что же
представляет собой «форма » живого, обеспечивающая его
самосохранение и воспроизведение? Такой формой, по Аристотелю,
является душа »2Н.
Итак, с позиций современного естествознания душа растения
и животного у Аристотеля видится в качестве органической
функции тела, ограниченной жизнедеятельностью организма. За эти
рамки, скорее всего, не выходит следующее утверждение
Гайденко. «Как видим,— отмечает она по поводу души растения и
животного у Аристотеля,— тело есть «средний член » между душой
и пищей, т. е. «началом» живого и средой его обитания »215.
Тем не менее, двойственность материального и идеального
начал в душе составляет главную проблему аристотелевского
учения о душе как энтелехии. И она обнаруживает себя уже там,
где речь идет о растениях и животных. Уже здесь душе присуща
идеальная устремленность к божественному, но она
представлена в действиях тела по преодолению границ единичного,
2.1 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М.,
2000.- С. 169.
2.2 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 403.
2.3 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой.—
М., 2000.- С. 275.
2Н Там же.
2И Там же.— С. 276.
112
бренного бытия. «Действительно,— пишет Аристотель,—
естественная деятельность живых существ, поскольку они
достигли зрелости, не изувечены и не возникают
самопроизвольно — производить себе подобное ( животное — животного,
растение — растение), дабы по возможности быть причастным
вечному и божественному. Ведь все существа стремятся к нему,
и оно — цель их естественных действий. Цель же понимается
двояко: ради чего и для чего. Так как живое существо не в
состоянии постоянно соучаствовать в вечном и божественном (ибо не
может вечно оставаться тем же и быть постоянно единым по
числу), то каждое из них причастно (божественному) по мере
своей возможности: одно — больше, другое — меньше, и
продолжает существовать не оно само, а ему подобное, оставаясь
единым не по числу, а по виду»216.
Органическую целесообразность и видовое постоянство в
живой природе Аристотель здесь вполне определенно толкует
в телеологическом духе. И надо сказать, что телеология в
биологических воззрениях Аристотеля в том случае, когда под
«τέλος » понималось не «целое », а именно «цель », сыграла роль
тормоза в развитии биологии Нового времени. Но в
исследовании аристотелевского учения о душе для нас важнее другое.
«Очевидно также,— пишет Аристотель в трактате «О душе »,—
что душа есть причина и в значении цели. Ибо так же как ум
действует ради чего-то, так и природа, а то, ради чего она
действует, есть ее цель»217. А в «Частях животных» Аристотеля
мы читаем: «Ведь руководствуясь мышлением (διάνοια) или
ощущениями, и врач и домостроитель дают себе отчет в
разумных основаниях (λόγοι) и причинах (αιτιαι), по которым один
занят здоровьем, а другой — постройкой дома, и почему (διότι)
следует поступать именно так. Но в произведениях природы
ради чего и прекрасное (τοχαλον) проявляются в еще большей
мере, чем в произведениях искусства »218.
Это еще раз подтверждает, что в стремлении живых
организмов выжить и продолжить свой род Аристотель видит подобие
целесообразной деятельности человека. И как раз этим
определяется целевая детерминация растения и животного, которая
придает их душам идеальный характер. Еще раз подчеркнем,
2.6 Аристотель. Соч.: В 4 т.- М., 1975.- Т. 1.- С. 401-402.
2.7 Там же.- С. 402.
218 Цит. по: Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба
наследия.- М, 2000.— С. 167.
133
что идеальность души в учении Аристотеля, как и у Платона, не
есть свое иное бестелесности, какой она предстает в расхожем
христианстве. Идеальность души у Аристотеля вырастает
из ее целевой детерминации, и в этом он сходится с
Платоном. Причем представление о душе как энтелехии накладывает
свой существенный отпечаток на характер целевой
детерминации в учении Аристотеля. Целевая направленность здесь
задается телу растения и животного не извне, а изнутри него самого,
она причастна именно этому телу, вместе с которым она живет
и погибает.
О бессмертии разумной души у Аристотеля разговор
впереди. А сейчас уточним разницу между ним и его учителем в
трактовке телесности души. Уже было сказано о том, что душа
растения и животного у Аристотеля идеальна, но еще не бестелесна
в позднейшем христианском духе. Однако, выдвинув этот тезис,
мы оказываемся в ситуации заочного спора и даже конфронтации
с известным русским философом и знатоком античности князем
С.Н. Трубецким. Аристотель в трактовке Трубецкого выглядит
как явный предтеча христианского учения о душе. При этом
Трубецкой и Гайденко в понимании души Аристотелем оказываются
на противоположных позициях. И Аристотель сам дает повод
для таких взаимоисключающих оценок своего учения.
С.Н. Трубецкой был основательным исследователем. И то
христианизированное учение о душе, которое он приписывает
Аристотелю, возникает не вдруг, а вырастает из его трактовки
аристотелевской критики Платона. Трубецкой пишет об
Аристотеле: «В общем он сходится с Платоном, поскольку его
«форма » происходит от «идеи » Платона; он расходится с ним,
поскольку он не признает идеала вне действительности, за
исключением чистого божественного Разума,т<оторый сам есть первая
из действующих причин или энергий. «Сущее », по Аристотелю,
есть не идея, не отвлеченность, а сама действительность »219.
Исток позиции Трубецкого — в сближении аристотелевской
«формы » с платоновской «идеей ». У Трубецкого выходит так,
будто Аристотель лишь изменил местопребывание платоновских
идей. У Платона они пребывали вне мира, а Аристотель поместил
их внутрь самих вещей. Но, несмотря на то, что критика Платона
была сильной и сокрушительной, Аристотель, по убеждению
Трубецкого, был вынужден давать одной рукой то, что разрушал
Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.— С. 432.
1»
другой220. В итоге идеальным началам внутри вещей стали
соответствовать их образцы в уме Бога-Перводвигателя.
Трубецкой так и характеризует аристотелевскую сущность
вещи — как воплощенную форму, соответствующую понятию.
Он пишет: «На вопрос, «что такое это за вещь» —τι εστί или τι
ηυ το πράγμα τούτο ■*- я по необходимости даю общее
определение. Аристотель следующим образом решает этот вопрос:
сущность в самой ее индивидуальности определяется общим видом
или формой, которая в ней воплощается »221.
Надо сказать, что так же трактует нововведение
Аристотеля, в сравнении с Платоном, А.Ф. Лосев. «Вся основа аристоте-
лизма,— читаем мы в книге «Платон. Аристотель»,— в том и
заключается, что Аристотель мыслит себе идею вещи не как-
нибудь отдельно от вещи и не где-нибудь в другом месте, чем то,
которое занимает данная вещь, но в самой же вещи. Ведь идея
вещи есть сущность вещи»222. И далее он еще раз подчеркивает:
«Этот тезис о пребывании идеи вещи внутри самой же вещи
есть то основное и принципиальное, в чем заключается аристо-
телизм в его отличие от платонизма »223.
Но для нас важно понять, как такой взгляд на критику
Аристотелем Платона, сказывается на учении о душе. А потому вновь
вернемся к Трубецкому, который, повторяя на разные лады
мысль о воплощении идеальной формы в материю, остается, тем
не менее, недоволен полученным результатом. И потому в «Курсе
истории древней философии » в параграфе с характерным
названием «Критика метафизики Аристотеля» он задается
риторическим вопросом: «Форма » есть нечто общее, вид,
соответствующий понятию; а материя — только определенная «потенция »
такого вида. Откуда же конкретная действительность?»224.
В указанном вопросе сквозит явное разочарование из-за
того, что воплощением видового понятия в материю как
субстрат никак не объяснишь своеобразия и многообразия
отдельных существ и предметов. Трубецкой пытается утешить себя
тем, что Аристотель вовсе и не стремился выводить действи-
220 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С.422.
221 Там же.- С. 423.
222 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.— С. 314.
223 Там же.
224 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 433.
135
тельность из своих метафизических начал225. И в этом он по
большому счету прав.
Что касается стремления вывести действительность из
метафизических начал, на манер наукоучения И.-Г. Фихте, то у
Аристотеля его, конечно, нет. Но понять, чем определяется
своеобразие отдельных существ и предметов, он, безусловно,
пытался. Здесь от параграфа «Критика метафизики
Аристотеля » в курсе лекций, составленном Трубецким, следует
вернуться к параграфу «Критика Платона. Отношение общего и
частного». Ведь в аристотелевской критике Платона содержится
важный пункт, который недооценил Трубецкой, создавая свою
версию его учения.
Дело в том, что Аристотель в «Метафизике » прямо заявляет:
все, что нас окружает, не может происходить из эйдосов ни в
одном из обычных значений «из»226. В буквальном переводе речь
идет о «несложимости » вещей из эйдосов и невыводимости
вещей из них как из неких образцов. «Говорить же, что они
образцы и что все остальное им причастно,— пишет Аристотель,—
значит пустословить и говорить поэтическими иносказаниями »227.
Не обсуждается Аристотелем и проблема происхождения мира
вещей из идей, сосредоточенных в уме Бога-Перводвигателя.
В «Метафизике » мир вещей предстает в качестве «сущего », т. е.
как некая данность, которую Аристотель берется только
объяснить у имея в виду все богатство наличных подходов и категорий.
Отличие Аристотеля от Платона, а также от Трубецкого,
состоит как раз в том, что даже в присутствии
Бога-Перводвигателя он пытается объяснять вещи из них самих. Хорошо
известно следующее высказывание Аристотеля: «Что это невозможно
для всего, очевидно: ведь мы не можем принять, что есть некий
Дом помимо отдельных домов »228. Из этого чаще всего делают
вывод о номинализме, свойственном Аристотелю. И он дает для
этого повод, периодически утверждая, что существуют лишь
отдельные вещи. Однако номинализм в его классическом виде
отрицает наличие сущности и общего в реальном мире,
позволяя им присутствовать только в нашем мышлении. Что же
касается Аристотеля,то большая часть его «Метафизики» посвяще-
225 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 433.
116 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 330.
227 Там же.
228 Там же.— С. 110.
136
на как раз уяснению того, какова сущность отдельных вещей и
может ли такая сущность быть общей.
В том, что одни обвиняют Аристотеля в номинализме, а
другие — в прямо противоположном, то есть в возврате к
платоновскому реализму, проявляет себя все та же двойственность
его учения. С одной стороны, Аристотель склонен
отождествлять сущность с эмпирическим бытием самих вещей. А с другой
стороны, он вынужден заявить: «Если помимо единичных вещей
ничего не существует, то, надо полагать, нет ничего, что
постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет знания ни о
чем, если только не подразумевать под знанием чувственное
восприятие»229.
В своих попытках определить сущность отдельной вещи
Аристотель идет по пути взаимоисключающих выводов. Так в
третьей и четвертой главах третьей книги «Метафизики » он
разоблачает, с одной стороны, отождествление сущности с самими
единичными вещами, а, с другой стороны, отождествление ее с
их общим родом и видом. У Аристотеля выходит, что общее
каким-то образом представлено в отдельном, но от этого
отдельное не перестает быть отдельным. И такая, на первый взгляд,
межеумочная позиция выражает тот факт, что Аристотель,
определяя сущность вещей, находится на подступах к
категории особенного.
Примером того, как Аристотель вплотную приближается к
решению проблемы особенного, является характеристика им
души растения и животного. Дело в том, что у Аристотеля это
как раз тот случай, когда отдельное оказывается всеобщим,
существуя, тем не менее, рядом и независимо от других вещей.
Характеризуя душу растения и животного, Аристотель
замечает, что здесь каждое предшествующее каким-то образом
сохраняется в последующем. А потому не будет преувеличением
сказать, что в животном присутствуют способности растения, а в
человеке — животного, а через него и растения. Так что человек
в определенном отношении есть растение.
В результате у Аристотеля растительная способность
оказывается как отдельной способностью, так и всеобщей,
поскольку она присутствует во всем живом. Поясняя это положение,
Аристотель приводит пример с геометрическими фигурами:
«С относящимся к душе,— пишет он,— дело обстоит почти так
229 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 109.
137
же, как с фигурами, вот в каком еще смысле. А именно: и у
фигур, и у одушевленных существ в последующем всегда
содержится в возможности предшествующее, например: в
четырехугольнике — треугольник, в способности ощущения —
растительная способность»"0.
Справедливости ради надо сказать, что растительная
способность и треугольник отдельными являются у Аристотеля в
действительности, а всеобщими — только в возможности. Но это
не меняет сути дела. Даже при таком условии перед нами
характерный пример того, как особенное оказывается всеобщим
началом данного рода вещей и явлений.
Категория особенного помогает выразить в мышлении тот
способ, каким всеобщее представлено в единичном, и
растительная способность, как и треугольник, явно демонстрируют нам
это тождество противоположностей. Правда, в данном
конкретном случае Аристотель пытается избежать прямого
отождествления общего и отдельного. Что касается иных случаев, то в
обсуждении темы общего и отдельного он на каждом шагу
высказывает противоречащие друг другу суждения, вопреки
собственным логическим запретам.
Противоречивость позиции Аристотеля — не секрет для
Трубецкого. Имея в виду как раз проблему отношения общего к
частному, он пишет: «Это у Аристотеля не продумано до конца, и
отсюда — множество противоречий его метафизики,
необычайная запутанность некоторых ее понятий231 ». Однако печально то,
что, осознавая данную сторону в учении Аристотеля, Трубецкой
эти противоречия зачастую даже умножает. И прежде всего это
касается его трактовки соотношения формы и материи.
Здесь стоит уточнить, что Аристотель первым ввел в
философию понятие материи (ъХг) ), подобно тому, как Платон первым
ввел в широкий оборот представление об идее (eiôoç). «А под
материей,— читаем мы в третьей главе седьмой книги
«Метафизики»,— я разумею то, что само по себе не обозначается ни как
суть вещи (ti), ни как что-то количественное, ни как что-либо
другое, чем определено сущее »232. И в так понятой материи
Аристотель видит антипода Бога-Перводвигателя. В результате в
230 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 400.
т Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 424.
"2 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 190.
138
учении Аристотеля впервые обозначается противоположность
материального начала мира как чистой возможности и
потенции, пассивной «лишенности» любых определений, и
идеального начала в лице Бога-Перводвигателя как формы форм.
Но одно дело материя как изначально неопределенный
субстрат, который нельзя воспринять чувствами, а можно только
помыслить, и другое дело — вполне определенный и чувственно
воспринимаемый субстрат конкретной вещи. В той же третьей
главе седьмой книги «Метафизики » можно прочесть: «Под
материей же я разумею, например, медь; под формой — очертание-
образ (schema tes ideas); подтем, что состоит из обоих —
изваяние как целое »233. Перед нами, несомненно, два разных
определения материи, которым соответствует введенное Аристотелем
различие между «первой материей »и «последней материей».
По данному поводу В.Ф. Асмус, в частности, пишет: «В
понятии «материя ( «субстрат») Аристотель различает два значения.
Под «материей» он разумеет, во-первых, субстрат в
безусловном смысле. Это только «материя », или, иначе, чистая
возможность. И во-вторых, под «материей» он понимает и такой
субстрат, который уже не только возможность, но и
действительность»234. И чуть далее Асмус уточняет: «Последняя материя»,
согласно разъяснению Аристотеля,— та «материя », которая не
только есть возможность, той или иной «формы », но, кроме того,
будучи такой возможностью, есть одновременно и особая
«действительность». «Последняя материя » обладает своими
особыми, ей одной принадлежащими признаками, и относительно ее
может быть высказано ее определение, может быть
сформулировано ее понятие. Так, —... медный шар, медь, четыре
физических элемента — примеры «последней материи»235.
Не будем далее разворачивать аргументы Асмуса. Отметим
лишь то, что «первая » и «последняя » материя у Аристотеля
отличаются тем, что одна оформлена, а другая нет, т. е. «первая »
материя предполагает форму потенциально, а «последняя»
обладает ею актуально. Иначе говоря, речь идет о материи в двух
ее различных состояниях, на которые так любит ссылаться Ста-
гирит и в других случаях,— потенциальном и актуальном. И в
этом с Асмусом нельзя не согласиться.
гп Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 189.
ги Там же.- С. 15.
»5 Там же.— С. 17.
139
Добавим, однако, что аристотелевская «последняя материя »
в дальнейшем получает другое название — «вторая материя »,
что не меняет сути дела. Зато особого внимания заслуживает
взаимосвязь между формой и «второй » материей в реальной
вещи. У Аристотеля она так же проблематична, как и
взаимосвязь между общим и отдельным. В только что приведенной
третьей главе из седьмой книги «Метафизики », сказано, что
если форма (eidos) первее материи, то она на том же основании
первее того, что состоит из материи и формы236. Это уточнение
можно понять в том смысле, что реальная вещь есть
результат воплощения этой изначальной идеальной формы в
материальный субстрат. И князь Трубецкой именно так понимает
Аристотеля.
У Трубецкого выходит, что все сущее, включая вещи и
живые существа, есть результат воплощения соответствующей
идеальной формы из ума Бога-Перводвигателя в «первую»
материю. В итоге чистая форма материализуется, а материя
оформляется, и мы имеем дело с конкретной действительностью.
«Бесформенная вещь,— пишет Трубецкой,— не есть вещь, а
разве лишь «вещество», т. е. «материал» (\)Àr|) или возможность
вещи; отвлеченная форма или родовое понятие также не есть
действительная вещь, действительное существо, или сущность
(аиОкх), Действительная вещь есть конкретная, воплощенная
форма; она есть целое, состоящее из материи и формы»237.
Но проблема заключается именно в том, что вещи и существа
у Аристотеля невозможно разложить на чистую форму и
неопределенную материю. «Вторая » или, по-другому, «последняя »
материя у Аристотеля постоянно выходит за пределы
пассивного и бесформенного субстрата. В уже приведенном примере с
медным изваянием, медь как его материя отнюдь не является
таким неопределенным субстратом. Наоборот, она, в свою
очередь, предстает как единство формы и материи, а последняя, в
свою очередь,— тоже никакой не субстрат, а состоит из
сочетания природных стихий — земли, огня, воды и воздуха. Уже здесь
можно сделать вывод, что «вторая » материя оказывается у
Аристотеля вовсе не материей, а единством материи и формы.
Более того, при анализе бытия вещей она способна представать то
формой, то материей. Та же медь в отношении формы извая-
Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 189.
Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.— С. 424.
1«
ния является материей, но в отношении составляющих ее
природных стихий — уже форма.
С позиций более развитой диалектической мысли вполне
понятно, что под «второй » материей у Аристотеля, скорее
всего, скрывается категория «содержание». И все метаморфозы
этой «второй » материи у Аристотеля порождены той
органической связью между формой и содержанием, которая
присутствует в реальных вещах и которая отвергается Трубецким.
Причем в свете этой неразрывной связи между формой и
содержанием аристотелевские чистые актуальные формы в уме Бога и
такая же чистая, но потенциальная первоматерия оказываются
только абстракциями, порождениями теоретического ума
человека и не более. В них представлено рассудочное «разрешение»
одного из зафиксированных Стагиритом диалектических
противоречий.
Другой важный момент состоит в том, что относительно
категории «содержание» нельзя изначально заключить,
материально оно или идеально. На этот вопрос может ответить лишь
исследование каждого конкретного предмета. Но Трубецкой,
как уже говорилось, настаивает как раз на изначальной
идеальности аристотелевской формы внутри вещи. Рассуждая о
четырех видах причин, он осознанно противопоставляет
материальной причине формальную, движущую и целевую причины как
нематериальные. Он даже объединяет их в одно, настаивая на
том, что «в понятии формы или энергии совмещаются три
нематериальные причины или начала Аристотеля: они есть,
во-первых, сущность (то xi eôri); во-вторых, причина, от которой
зависит движение, и, наконец, в-третьих, она является как цель,
как благо, к которому стремится все сущее »238.
Именно здесь следует вернуться к проблеме души, которая
у Аристотеля, в подаче Трубецкого, явно тяготеет к
христианству. «Таким образом, по Аристотелю,— пишет Трубецкой,—
душа не есть тело, но не может без тела, как форма не может
быть без материи; она нематериальна и постольку неподвижна
(в отличие от Платона, который считал душу
самодвижущейся). Она есть движущее начало, форма тела, организующая его,
и вместе с тем — цель его: тело есть лишь орудие,
приспособленное к ней,— ее орган; душа — ... та нематериальная энер-
238 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С. 428-429.
141
гия, которая движет тело, созидает его, определяет его
организацию»239.
Из всего сказанного ясно, что душа, согласно Трубецкому,
нематериальна именно в смысле бестелесности. Ведь
нематериальные формы вещей, как он считает, производны от
божественного Разума, или ума Бога-Перводвигателя. Но приведенное
определение души носит общий характер, а потому его следует
отнести не только к людям, но также к растениям и животным.
И здесь мы обнаруживаем неприкрытый парадокс в суждениях
Трубецкого, когда он вынужден приводить примеры,
опровергающие его собственную точку зрения.
Так в параграфе «Учение о форме и материи, энергии и
потенции » Трубецкой в очередной раз заявляет, что каждый
общий вид и каждая особая форма у Аристотеля вечна и
неизменна, подобно идеям Платона240. И тут же приводит известный
аристотелевский пример с медной статуей, ставящий под
сомнение указанный тезис. Медь, пишет Трубецкой, следуя логике
Аристотеля, в одном отношении есть форма вещества, а в
другой — материя для статуи. Но как, напрашивается вопрос,
вечная и неизменная форма может оказаться субстратом? Выхода
из этого парадокса два: либо материя не является субстратом,
либо статуя состоит из двух неизменных форм без какой-либо
материи. В обоих случаях парадокс не разрешается, а корень
противоречия оказывается в предпосылках рассуждения.
Не менее парадоксален следующий за этим пример Трубецкого
с животной душой, которая в его трактовке является формой
человеческого тела и одновременно материей его разумного духа241.
Но это означает, что душа животного в одном отношении
идеальна, являясь целью тела, а в другом — материальна, выступая в роли
субстрата, что противоречит исходным принципам Трубецкого. При
этом цели животных странным образом становятся причастны духу.
Но, несмотря на указанные противоречия, Трубецкой
остается религиозным мыслителем и видит в душе как энтелехии
нечто сугубо идеальное, которое дается любому организму извне.
А с естественно-научных позиций та же энтелехия видится в
качестве материальной функции, присущей самому организму и
"* Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.—
С.438.
240 См.: там же.— С. 428.
ш См.: там же.
142
идущей изнутри него. И за этими полярными трактовками
скрывается реальное противоречие в воззрениях Аристотеля. Это
противоречие между душой как формой тела и душой как
целью того же тела. По сути это противоречие между
материальным и идеальным в основании одной и той же души. Осознается
ли оно Аристотелем в качестве противоречия? И стоит ли
воспринимать его как заблуждение и нелепость, или за этим
скрывается проблема, имеющая реальное разрешение?
Еще раз уточним, что душу растения и животного лучше
всего рассматривать в свете той самой «второй » материи, которая у
Аристотеля всегда оформлена, а потому форму от нее можно
отделить только посредством абстракции. Живое тело у
Аристотеля не есть агрегат, разложимый на активную форму и
пассивную материю. Живое тело — это организм или «вторая »
материя в действии, которая не просто существует, а посредством
души растет, питается и приходит в упадок.
Но своеобразие позиции Аристотеля как раз в том, что душа
не просто обеспечивает жизнедеятельность организма, но и
устремляет его к высшей цели. Наиболее ясно и определенно
целевую детерминацию он демонстрирует на примере души
растения. Именно эта душа, говорит Аристотель, обеспечивает
питание и воспроизведение любого организма. И тем же самым
способом она устремляет любой организм к вечности и
совершенству. Эта цель представлена в Боге-Перводвигателе, а
устремленность к нему выражается в воспроизведении жизни в ее
видовом постоянстве242.
Целевая детерминация, задаваемая душой растения,
выводит организм за пределы его отдельных нужд, ориентируя его
на нужды вида, а посредством его и на общее как таковое. Но
задавая телу такой идеальный ориентир, душа у Аристотеля не
идет наперекор телу, не действует на него извне, не является
антиподом тела, как это было, к примеру, у Сократа.
Своеобразие души растения, подчеркнем еще раз, в том, что идеальные
цели здесь задаются изнутри самого тела. При этом душа как
цель, устремляющая тело к миру горнему, не противостоит душе
как форме, отвечающей за питание и воспроизведение этого тела.
В душе растения, как мы видим, интересы общего и
отдельного расходятся, но не противостоят друг другу и, тем более,
не осознаются Аристотелем в качестве противоречия. Аристо-
242 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 401-402.
143
тель декларирует сочетание формального и целевого начала в
составе любой души. Но применительно к душе растения такое
сочетание оборачивается совершенствованием способа
жизнедеятельности тела. И это позволяет отдельному телу с такой
душой соучаствовать в божественном, не выходя за пределы
своего собственного бытия.
Таким образом, сочетание идеального и материального начал в
растительной душе на деле оборачивается у Аристотеля
совершенно особым взаимоотношением. Именно в трактовке души
растения Аристотель оказывается на пути к пониманию
идеального как снятого материального. Понятно, что в адекватном
гегелевском смысле снятие означает отрицание посредством
радикального преобразования. И о таком снятии в процессе развития
в учении Аристотеля речь не идет. И все же душа растения у
Аристотеля придает телу идеальную направленность не просто в
процессе роста, но в росте, сохраняющем его видовую идентичность.
А это уже касается внутренней формы данного процесса.
Включаясь в состав более масштабного целого, питание и рост
организма, как правило, меняют свой характер, а вместе с ними
по сути трансформируется и то, что Аристотель именует
формальной причиной. Пример — преобразование человеком
формы растения, исходя из представлений о прекрасном. Тот, кто
знаком с цветоводством, знает, что путем подкормки,
изменения освещения, прищипывания и других приемов, можно
трансформировать внешнюю форму растения. А селекционер
способен изменить его внутреннюю форму, т. е. генотип. И в обоих
случаях физический процесс роста под влиянием человека
обретает новую, а именно — культурную форму, а с ней,
соответственно, и черты идеальности.
В указанном примере правомерно говорить об идеальности
тела растения, т. е. всего его организма, «душой» которого
становится новая культурная форма. Согласно такому
пониманию идеального физические процессы, управляемые тем, что
Аристотель именует «формой », уходят в основание иного
процесса, связанного с жизнедеятельностью человека, а значит с
его идеалами и целями. Целевая причина, таким образом,
оборачивается новой формальной причиной, подчиняющей себе
предыдущую.
Но у Аристотеля, напомним, такого рода идеализация
связана с Богом-Перводвигателем, а не с культурой. В результате
можно зафиксировать еще один парадокс аристотелевской по-
144
зиции, суть которого в том, что, характеризуя в трактате «О
душе» душу растения, Аристотель подготавливает почву для
культурно-исторической трактовки идеального, а при
анализе разумной души он возвращается на почву философского
идеализма.
Здесь следует обратить внимание на еще одно противоречие,
связанное у Аристотеля с взаимоотношениями души и тела. Дело
в том, что, указывая на их нерасторжимую связь и в то же
время — на их различие, Аристотель никак не определится в том,
где тут орган, а где управляющая инстанция. Так в споре с
платониками и пифагорейцами, отделяющими душу от тела в
процессе метемпсихоза, Аристотель пишет: «Как уже было
сказано, о сущности мы говорим в трех значениях: во-первых, она
форма, во-вторых,— материя, в-третьих, то, что состоит из того
и другого; из них материя есть возможность, форма —
энтелехия. Так как одушевленное существо состоит из материи и
формы, то не тело есть энтелехия души, а душа есть энтелехия
некоторого тела. Поэтому правы те, кто полагает, что душа не может
существовать без тела и не есть какое-либо тело»243. Но чуть
погодя в том же трактате «О душе » мы читаем: «Ведь все
естественные тела суть орудия души — как у животных, так и у
растений, и существуют они ради души »244. Но если душа — это
энтелехия тела, то почему тело — орган души}
Такого рода противоречия не редкость у Аристотеля. Но здесь
они затрагивают самую суть представлений о душе. И
объяснением в данном случае может быть лишь оборачивание
взаимоотношений между душой и телом, происходящее при
переходе от растения к животному, а от него к человеку. И
действительно, если у растения душа управляет телом в качестве
энтелехии как его же осуществленной сущности, то уже у
животного, а затем у человека эта управляющая функция
обособляется и обретает свое особое представительство поначалу
в психике, а затем — в виде ума. Душа животного —
энтелехия, которая осуществляется уже в действиях особого
органа. И способ бытия этого органа, т. е. психики — одна из
сложнейших проблем психологии. Еще сложнее объяснить, почему у
человека указанная ситуация радикально меняется, и уже
предстает как управление телом со стороны души.
w См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 398-399.
244 Там же.- С. 402.
145
Указанных трех способов реализации души как энтелехии в
работах Аристотеля вычленить невозможно. Но
методологические основания для такого членения имеются. Сразу же отметим,
что у Аристотеля нет и намека на естественную эволюцию
живого, а есть некоторая иерархия живых существ и,
соответственно, душ. Один из важных вопросов, касающихся учения
Аристотеля о душе, связан с тем, считал ли он душу сложной или
простой, делимой или неделимой. Другой аспект, связанный с этой
проблемой: каково местоположение душ внутри организма.
Для многих исследователей точкой отсчета является
Платон, у которого душа, обладая особого рода телесностью,
располагается в разных частях человеческого тела. Напомним, что,
согласно «Тимею», разумная часть души находится в голове.
Обитель неразумной души — туловище. Причем в самом
туловище неразумная душа разделена надвое. Более благородная ее
часть располагается ближе к голове (между грудобрюшной
преградой и шеей). А та, что ведает низкими вожделениями,
связанными с питанием и другими органическими потребностями тела,
располагается между грудью и пупом. Таким образом, каждая
часть души у Платона имеет свое место в теле человека.
Причем, отгораживая разумную часть души от неразумной
телесными преградами, Платон по сути нарушает то ее внутреннее
единство, на котором акцентировал внимание Сократ.
Что касается Аристотеля, то его позицию в этом вопросе
обычно противопоставляют взглядам его учителя. Речь идет о
внутреннем единстве любой души, и, прежде всего, единстве
ее способностей. «Душа, по Аристотелю,— пишет А.Ф. Лосев,—
какие бы отдельные способности она не имела, настолько едина
и неделима и настолько специфична, что к ней нельзя даже
применять такое понятие, как гармония, потому что для всякой
гармонии требуются разные части целого и разные соотношения
этих частей... »245. Но здесь в трактовке души Лосев явным
образом делает идеалистический акцент. А потому неделимость души
у Аристотеля он объясняет тем, что она есть энергия ума.
Поэтому Лосев в данном месте продолжает: «... душа только
потому и может иметь отдельные части, что в основе своей она,
будучи энергией ума, специфична и неделима»246.
™ Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития: В 2 кн.- М. 1992.- Кн. 1.- С. 585.
246 Там же.
148
Принципиально иное обоснование единства души у
Аристотеля мы находим у П.П. Гайденко. Она пишет: «Растения обладают
только растительной душой, животные — растительной и
животной, люди, помимо двух первых,— еще и разумной. Это, однако,
не следует понимать так, что у животных — две души, а у
людей —три: по Аристотелю, растительная душа составляет «часть »
животной, другими словами, более элементарная «душа » —
предпосылка и условие существования более развитой».247
О большей или меньшей «развитости» душ в учении
Аристотеля можно говорить, конечно, только условно. «Сущее » у
Аристотеля не развивается, но оно организовано согласно родам и
видам. В этом заключается внутренняя целесообразность бытия,
связанная с умом Бога-Перводвигателя. А потому в исследовании
природы следует двигаться от частного к общему и от простого к
сложному. Именно так организована известная «лестница
природы » Аристотеля, воссозданная в XX веке Ч. Сингером248.
В соответствии с указанным принципом основанием любой
души у Аристотеля является способность, ведающая питанием
и воспроизведением тела. Будучи в действительности душой
растения, она, как уже говорилось, в возможности присутствует
в душе каждого живого существа. По сути такая способность
коренится в самом теле растения, будучи наиболее явно
выраженной в корнях (питание) и семенах (воспроизведение). Но
каким образом эта низшая способность, или «часть души » может
быть представлена в высшей? Чтобы ответить на этот вопрос,
вновь обратимся к переводу тех терминов, которыми
пользуется Аристотель.
Распространенным и вполне устоявшимся является
определение трех разновидностей души в учении Аристотеля как
«растительной», «животной» и «разумной». И пока речь идет о
первой из них, как она представлена в растении, никаких
проблем не возникает. Но они с необходимостью возникают там,
где речь заходит о растительной части животной души, не
говоря уже о растительной части души человека. Дело в том, что,
ведая питанием и воспроизведением каждого из живых тел,
растительная душа по сути должна формировать животного и че-
247 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой.—
М., 2000.- С. 275.
иь Singer Cb. Studies in the history and method of science.— Oxford,
1921.— V. 2.— P. 16.
147
ловека согласно своему растительному виду и мере. Так почему
же она у Аристотеля формирует из кошки кошку, а из
человека — человека, а не растение, согласно своей растительной
сущности, или «форме»?
Путь к разрешению этого противоречия мы находим у
В.П. Зубова, который говорит не о «растительной», а о
«питающей» душе применительно к учению Аристотеля, и,
соответственно, не о «животной» душе, а о душе «ощущающей».
Характерно, что, отказываясь от общепринятой у нас
терминологии, Зубов вынужден давать свои переводы широко известных
мест из трактата «О душе». Так в первом томе собрания
сочинений Аристотеля мы читаем: «Ведь растительная душа присуща и
другим, (а не только растениям), она первая и самая общая
способность души, благодаря ей жизнь присуща всем живым
существам. Ее дело — воспроизведение и питание»249.
Что касается Зубова, то, опираясь на другой перевод этого
места, он начинает цитату не с начала. А в самом начале, вместо
«растительная душа », он употребляет термин «питающая душа ».
И это существенным образом меняет ситуацию. «Питающая
душа»,— читаем мы у Зубова,— есть «первая и самая общая
сила души, благодаря которой жизнь присуща всему живому.
Ее функция — порождение потомства и усвоение пищи »25°. Сразу
же заметим, что терминология Зубова ближе к тексту
Аристотеля, где используется слово «третсикос » («treptikos»),
производное именно от «питания ». Но в результате Зубов
оказывается ближе не только к самому Аристотелю, но и к сути дела.
Свежему человеку, разбирающемуся в аристотелевском
учении о душе, всегда бросается в глаза несоответствие
растительной и животной души, с одной стороны, и разумной — с другой.
В первом случае речь идет о субъекте души, во втором — о ее
способности или качестве. Более естественным, на первый взгляд,
кажется разговор о душе растения, животного и человека.
В отличие от общепринятой у нас классификации, деление
душна «питающую», «ощущающую»и
«разумную»оказывается более логичным, к чему стремился сам Аристотель. И
главное: при таком делении разрешается указанное выше
противоречие. Ведь differentia specifica питающей души выражается уже
и» Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 401.
250 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М.,
2000.— С. 180.
148
не в видовых особенностях растения, а в самой способности
питания. И в таком качестве питающая душа может
воссоздавать организм как по мерке любого животного, так и человека.
Сложившаяся ситуация, скорее всего, была вызвана
латинским переводом аристотелевской терминологии. В средние века, в
том числе и Фомой Аквинским, использовались термин
«végétativus» для душ растений и «sensibilis » для душ животных251.
«Sensibilis» переводится как «ощущающий »или «чувствующий».
А вот под «vegetativus» можно понимать как то, что принадлежит
к растениям, так и то, что способно к росту вообще. Из этой
двусмысленности латинского термина «вегетативный » во многом и
проистекает укоренившаяся путаница с питающей душой у
Аристотеля. Что касается того, как «ощущающая » душа у
Аристотеля превратилась в душу «животную», то это может прояснить
только особое историко-философское исследование.
Но вернемся к позиции Зубова, своеобразие которой
указанным выше моментом не исчерпывается. Дело в то, что,
различая питающую и ощущающую душу у Аристотеля, Зубов не
видит оснований противопоставлять им мыслящую способность в
виде ядра третьей разновидности —разумной души. В своей
известной работе «Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия »
он оговаривает тот факт, что в конце жизни Аристотель
склонился к существованию такой способности как «ум » (nous), но
Зубов не считает возможным рассматривать эту способность в
качестве основы особой разумной души.
«Кажется ни один аристотелевский текст,— пишет Зубов,— не
породил стольких комментариев и споров, как главы 4 и 5 третьей
книги сочинения «О душе ». Сам Аристотель прекрасно понимал
всю сложность проблемы »252. И далее он добавляет: «В
упомянутых главах третьей книги «О душе », относящихся к последнему
периоду жизни Аристотеля, весьма решительно подчеркнута им-
материальность ума, отсутствие связи ума с телом. И это звучит
тем более неожиданно, что в других местах Аристотель, казалось
бы, намечает пути для выявления подобных связей »253.
В отрицании Зубовым «разумной души » можно увидеть
сознательное усиление линии материализма в учении Аристоте-
2М См.: Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого
средневекового мыслителя.— Долгопрудный, 1999.— С. 160.
252 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М.,
2000.- С.189-190.
2" Там же.- С. 190.
149
ля о душе как энтелехии тела. Но, представив «ум » как
чужеродный элемент аристотелевского учения о душе, Зубов
усиливает позиции естественно-научного материализма,
внутренне связанного с эмпиризмом. И на этом нужно
остановиться особо.
Ранее мы уже обращались к книге Зубова об Аристотеле, где
в 9 разделе главы «Наука » значительное место уделено анализу
целевой причины как разумному основанию любой души. Речь
шла об обусловленности живого тела посредством души как цели
областью вечного и совершенного, т. е. умом Бога-Перводвига-
теля. Но, признав такую обусловленность живого тела умом Бога
в одном случае, Зубов отрицает ее в другом. Уже в следующем
10 разделе главы «Наука » он не считает правомерным говорить
об особой разумной душе, напрямую связанной с умом Бога.
Причину такой непоследовательности следует искать в
понимании самой мыслящей способности. И здесь наиболее
примечательно: характеристику ощущающей души Зубов начинает
с уточнения того, что к функциям такой души Аристотель
относил суждение и мышление1^. Все последующее изложение им
трактата «О душе » должно склонить нас к тому, что
мыслительная способность у Аристотеля органично связана как с телом,
так и с его ощущениями. Но за тенденцией представлять разум в
качестве производного от ощущений всегда стояла методология
эмпиризма. Последний вполне совместим с материализмом и
отличается как раз тем, что разум оказывается здесь чем-то
вроде «усложненного чувства». Таким образом, признание или
отрицание «разумной души» упирается в вопрос о том, был ли
Аристотель эмпириком. И чтобы ответить на него, обратимся ко
второй и третьей книгам трактата «О душе ».
Прежде всего отметим, что именно во второй книге трактата
«О душе » Аристотель дает вполне определенный ответ на вопрос
о делимости души. В отличие от Платона, он считает, что одну
часть души нельзя отделить от другой пространственно, хотя
можно это сделать мысленно. Прежде всего это касается
питающей и ощущающей души. Правда, указывает Аристотель,
существуют случаи рассечения растений и насекомых, при которых
душ оказывается столько, сколько возникших из рассечения
частей. В этих случаях одна душа в действительности оказывается
ги Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М.,
2000.— С. 180.
15В
множеством душ в возможности. Но и в полученном множестве
душ то, что, ведает питанием, ощущением, стремлением и т. д.,
будет единым, а различным будет только по смыслу1™.
Итак, если органы питающей и ощущающей души могут
локализоваться в пространстве, то иначе обстоит дело с самой
питающей и ощущающей душой. Органами питающей души у
растения являются прежде всего корни и семена, а у животного и
человека — пищеварительная и половая система. Ощущающая
душа также существует за счет специализированных органов и
среди них, прежде всего, органов осязания. При этом органы
ощущения растут и формируются за счет питающей души, но по
своей сущности и форме соответствуют душе ощущающей. Так
сопрягаются усилия двух частей души в создании животного и
человеческого организма.
Ощущающая душа, согласно Аристотелю, в иерархии
живых существ впервые появляется у животных. Правда,
Аристотель считал, что растения тоже способны испытывать холод и
тепло. Но это не является подлинным ощущением. «Ясно
также,— пишет он,— почему растения не ощущают,... причина в
том, что у них нет ни средоточия, ни такого начала, которое бы
воспринимало формы ощущающих предметов, а они
испытывают воздействия вместе с материей »256.
Последнее наиболее важно, поскольку суть ощущения как
раз в том, что оно способно воспринять форму отдельно от
материи. «Относительно любого чувства,— пишет Аристотель,—
необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно
воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому
как воск воспринимает отпечаток перстня без железа или
золота. Воск принимает золотой или медный отпечаток, но не
поскольку это золото или медь. Подобным образом и ощущение,
доставляемое каждым органом чувства, испытывает что-то от
предмета, имеющего цвет или ощущаемого на вкус, или
производящего звук, но не поскольку под каждым таким предметом
подразумевается отдельный предмет, и поскольку он имеет
определенное качество,т. е. воспринимается как форма (logos)»257.
В предлагаемой трактовке ощущения видно, что
воспроизведение формы внешнего предмета достигается ощущением за счет
2" См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 397-398.
256 Там же.— С. 422.
257 Там же.— С. 421.
151
некоего уподобления ощущающего ощущаемому. И понятно, что
посредством такого уподобления можно воспроизвести прежде
всего внешнюю форму предмета. При этом Аристотель
уточняет, почему ощущающая способность не совпадает с
соответствующим органом чувств и потому не обладает пространственной
величиной. Если в воске мы находим пространственный аналог
формы, то ощущение формы есть не пространственная
величина, а некое соотношение воздействий, которое сопоставимо с
созвучием и ладом в музыке25*.
У многих исследователей аристотелевского трактата «О
душе» основной интерес вызывают те главы, в которых говорится
о связи ощущающего с ощущаемым в акте зрения, осязания,
обоняния и т. п. Оригинальность позиции Аристотеля в данном
случае состоит в том, что ощущающее у него, в отличие, к
примеру, от Демокрита, всегда связано с ощущаемым посредством
приводимой в движение среды. Даже там, где среда почти
неразличима, а это касается осязания и вкуса, она передает
воздействие, а иначе, указывает Аристотель, ощущение невозможно.
Посредником в случае осязания и обоняния является уже не
воздух, вода и т. п., а сама плоть (soma). При осязании плоть
оказывается той средой, которая передает воздействия органу
чувств, находящемуся внутри тела.
«А именно,— отмечает в связи с этим Аристотель,— нам
кажется, что мы непосредственно соприкасаемся с предметом и
что это никак не происходит через среду. Но осязаемое
отличается от видимого и слышимого тем, что последние мы
воспринимаем вследствие того, что среда воздействует на нас, осязаемое
же мы ощущаем не через среду, а вместе со средой, подобно
тому как получают удар через щит, ибо в этом случае не щит,
получив удар, передает его, а принимают удар вместе и щит, и
тот, кто носит его »259.
Эти наблюдения и выводы Аристотеля особенно интересны
при сопоставлении с достижениями экспериментальной
психологии восприятия, развитие которой приходится на XIX-XX вв.
Что касается перспектив, которые открываются перед
ощущающей душой, то здесь особое место занимает познание «общих
свойств», к которым Аристотель относит движение, покой,
число, фигуру, величину и единство. Для их восприятия, отмечает
258 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 421-422.
т Там же.— С. 420.
152
Аристотель, не существует особого органа. «Общие свойства »
фиксируются всеми органами чувств, причем «привходящим
образом », т. е. нецеленаправленно. Но если нет органа для
восприятия таких свойств, то есть орган для сопоставления
полученных разными чувствами данных. В роли такого органа
выступает сердце. Именно оно является у Аристотеля органом
«общего чувства » (aia9r|Tr|piov %oivov), располагающего знанием
величины, фигуры, числа и т. д. То, что у Аристотеля
осуществляет сердце, сегодня считается функцией мозга. Но Аристотель
игнорировал догадку Алкмеона о мозге как органе мышления,
будучи уверенным в том, что мозг лишен крови и занят лишь
охлаждением работающего сердца.
По сути дела здесь мы уже находимся в области, которая
свойственна человеку. Ведь «общее чувство », согласно
Аристотелю, позволяет нам сравнивать и различать образы, относить
образы к предметам и относить их к нам самим, что по существу
есть начало рефлексии. Но Аристотель не проводит четкой
грани в ощущающей душе между тем, на что способно животное и
на что — человек. Что касается воображения, то его Аристотель
отрицает только у низших животных. «Возможно ли, чтобы у
них было воображение и желание, или нет?— задает вопрос
Аристотель, имея в виду низших животных.—... Но каким
образом у них может быть воображение? Не таким ли образом, что так
же как их движения неопределенны, так и воображение у них
имеется, но в неопределенном виде?»260 И далее Аристотель
продолжает: «По той же причине, по-видимому, низшие животные
не могут составлять мнения, потому что они не способны к
умозаключению, между тем мнение опирается на умозаключение »261.
Приведенные высказывания порождают много вопросов.
Например, кого в трактате «О душе » Аристотель имеет в виду
под «высшими животными »? И причисляет ли к ним в качестве
«общественного животного» человека?
Особого внимания здесь заслуживает характеристика
«воображения », и прежде всего из-за его особого положения
своеобразного посредника между ощущением и разумом. При этом
нужно иметь в виду существенное различие между
«воображением »(Einbildung) в немецкой классике после Канта
и аристотелевской «фантасмой» ((pocvroxna), которую иногда пе-
260 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 444.
М1 Там же.— С. 445.
153
реводят как «фантазия», а чаще — именно как «воображение».
Дело в том, что, начиная с И.-Г. Фихте, в деятельности
воображении будут видеть начало всех наших познавательных
способностей, включая восприятие и теоретическое мышление.
Иначе выглядит эта способность у Аристотеля, где не
восприятие производно от воображения, а воображение — от
восприятия. По сути аристотелевская фантасма — это то, что в
современной психологии и теории познания именуют
«представлением». Такие представления чаще всего являются
копиями прежних восприятий, а потому указанная способность
у Аристотеля тоже связана с «общим чувством » и
деятельностью сердца.
Наиболее интересно то, что без образов представления, по
убеждению Аристотеля, невозможно никакое размышление.
«Размышляющей душе,— пишет он в трактате «О душе»,—
представления как бы заменяют ощущения. Утверждая или
отрицая благо или зло, она либо избегает его, либо стремится к
нему; поэтому душа никогда не мыслит без представлений, а
подобно тому, как воздух определенным образом
воздействует на зрачок, а сам зрачок — на другое... ( точно так же
представления воздействуют на размышляющую душу)»262. И чуть
далее он заключает: «Таким образом, мыслящее мыслит
формы в образах (phantasmata), и в какой мере ему в образах
проясняется, к чему следует стремиться и чего следует избегать, в
такой мере оно приходит в движение и в отсутствие ощущения
при наличии этих образов. Например, восприняв вестовой огонь
и замечая, что он движется, мыслящее (существо) благодаря
общему чувству узнает, что приближается неприятель. Иногда
с помощью находящихся в душе образов или мыслей ум,
словно видя глазами, рассуждает и принимает решение о будущем,
исходя из настоящего»263.
Рассуждения Аристотеля об опоре размышления на образ в
форме представления перекликается с учением И. Канта о
«фигурном синтезе » и схематизме в целом. Но главное опять же не в
этом. В трактате «О душе » Аристотель действительно много раз
указывает на связь воображения с ощущением, с одной
стороны, и мышлением — с другой. И это создает формальный повод
для того, чтобы увидеть в нем предтечу новоевропейского эмпи-
См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 438.
Там же.— С. 438-439.
154
ризма, где преимущества разума исчерпывались возможностью
сопоставлять и комбинировать не только образы восприятия,
но и сложные представления.
Тем не менее, Аристотель многократно указывает на
серьезное различие между ощущением и мыслящей способностью.
И вырастает это различие из того, что ощущение направлено на
единичное, а разум — на общее1". Надо сказать, что в работе
В.П. Зубова тоже приводится данное положение Аристотеля.
Но трактовка этого положения может быть различной, в
зависимости от того, что понимать под общим — сходные свойства
отдельных вещей или сущность, вносящую единство и
постоянство в их существование.
В трактате «О душе » речь идет о постижении внешней
формы вещей посредством ощущения, постижении их общих
свойств посредством «общего чувства » и, наконец, о знании
субстанциальной формы, которое связано с умом. «Поэтому
правы те,— пишет в связи с этим Аристотель,— кто говорит, что
душа есть местонахождение форм, с той оговоркой, что не вся
душа, а мыслящая часть, и имеет формы не в действительности,
а в возможности»265.
Эмпирическая философия всегда делала акцент на
возможностях «общего чувства», о котором пишет Аристотель, с
присущими ему начатками мышления. И эмпирикам, в том числе, к
сожалению, и Зубову, всегда казался излишним бесплотный
«нус» с его знанием общего как субстанциальной формы. Но
там, где эмпирику все ясно, перед Аристотелем стояла
серьезная проблема. Ум у Аристотеля не может обойтись без
чувственного образа как своего подспорья. И тем не менее, его трактовка
бесплотного ума свидетельствует о том, что окончательный
выбор был сделан Аристотелем не в пользу эмпиризма.
Аристотель не без успеха пытался разобрать тот механизм,
посредством которого органы чувств воссоздают внешнюю
форму предмета. Но как аналогичное «сканирование » возможно в
отношении субстанциальной формы вещи} Здесь стоит
вспомнить об известной догадке Аристотеля. «Душа необходимо
должна быть либо... предметами, либо их формами,— пишет он в
трактате «О душе »,— однако самими предметами она быть не
может: ведь в душе находится не камень, а форма его. Таким об-
264 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 407.
265 Там же.— С. 434.
155
разом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так и
ум — форма форм, ощущение же — форма ощущаемого »266.
За рукой и осязанием им признана ведущая роль в
воссоздании внешней формы предметов. Но как рука способна воссоздать
субстанциальную форму? Этого Аристотель объяснить не
может. И находит единственный выход — признать, что знанием о
субстанциальной форме располагает вовсе не телесное существо,
а отдельно существующая разумная душа. Но тем самым
окончательно лишается стройности его учение о душе как энтелехии
тела. «Итак,— читаем мы в третьей книге трактата «О душе»,—
то, что мы называем умом в душе, до того, как оно мыслит, не есть
что-либо действительное из существующего (я разумею под умом
то, чем душа размышляет и судит о чем-то). Поэтому нет
разумного основания считать, что ум соединен с телом »267.
По сути признание средоточием разумной души ум,
существующий отдельно от тела, означает разрыв с той методологией,
которая легла в основу объяснения Аристотелем питающей и
ощущающей души. Весь пафос его критики предшественников и
современников состоит в том, что душа не может быть чем-то отдельным,
со своим природным составом, и при этом извне воздействовать на
тело. Учение о душе как энтелехии по сути направлено на
укоренение души в самом живом организме. Напомним, что общее
определение в трактате <<0 душе » состоит в том, что «душа есть первая
энтелехия естественного тела, обладающего органами »268. Иначе
говоря, в аристотелевской трактовке питания и ощущения,
присущих живому организму, доминирует подход к душе как способу
жизнедеятельности тела. К этому же направлению
размышлений Аристотеля относится следующее предположение,
высказанное в первой книге «О душе»: «Еслимышление есть некая
деятельность представления или не может происходить без
представления, то и мышление не может быть без тела »2W.
Но все упирается в способность познавать истину как
субстанциальную форму вещи, которая из отдельного тела никак не
выводима. В результате, обособив в третьей книге трактата «О
душе » ум от какого-либо тела, Аристотель оказывается на позиции
философского идеализма, впервые заявленной Платоном. И эта
смена методологии при переходе от питающей и ощущающей к
266 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 440.
267 Там же.- С. 433.
268 Там же.— С. 395.
269 Там же.— С. 373.
156
разумной душе рождена не прихотью, а стремлением учесть и
объяснить своеобразие и возможности души человека.
Тем не менее, философский идеализм Аристотеля представлен
в учении о душе вовсе не так, как у Платона. И прежде всего
потому, что бесплотный ум у Аристотеля не владеет истиной
изначально, усматривая ее прямо и непосредственно в мире идей. Не владеет
он ею изначально и в позднейшем декартовском смысле. Дело в
том, что бесплотному уму в учении Аристотеля истина не дана,
а он производит ее своей собственной деятельностью.
Чтобы разобраться, почему Аристотель понимает ум так, а
не иначе, обратим внимание на то, что в трактовке этой
способности души он различает ум деятельный и ум страдательный.
Что касается терминологии, то Э. Целлер специально
указывает, что страдательный ум Аристотель называет νους παθητιχος, а
ум деятельный обозначает эпитетом ποιούν, тогда как термин
νουςποιητιχος появляется только у позднейших писателей270.
Еще раз уточним, что обе разновидности ума направлены на
постижение общего, а не единичного, и различаются способом
выявления субстанциальных форм вещей. Ясную и образную
характеристику возможностей ума, по Аристотелю, мы находим у
А.Н. Чанышева. В своем «Курсе лекций по древней философии »
он пишет: «Конечно, если абсолютизировать сенсуалистическую
тенденцию Аристотеля, можно сказать, что знание общего
является обобщением знания единичного... Но для Аристотеля
характерно мнение, что знание общего не появляется из знания
единичного, а лишь выявляется благодаря такому знанию ».
Приведенная характеристика лучше всего подходит для
страдательного ума, который выявляет субстанциальные формы на
основе чувственного опыта. Другое дело — деятельный ум,
который воссоздает те формы, которые недоступны опыту.
Такой ум может пользоваться образами представления. Но это
не меняет его существа как «ума самого по себе». Ведь
своеобразие деятельного ума заключается в том, что он производит
знание общего, опираясь не на внешний источник, а на свои
внутренние силы и возможности.
Речь по сути идет об особенностях теоретической
деятельности. Осознавая ограниченность чувств и те возможности,
которые открывает такая деятельность, Аристотель как раз и
выходит за рамки эмпиризма. Другое дело, что ум у Аристотеля
270 См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 182.
1S7
телесных органов не имеет, и понятийная деятельность
осуществляется разумной душой за счет своих собственных
возможностей. Но почему указанная деятельность ума рождает истину,
а не заблуждение?
Многие исследователи учения Аристотеля о двух
разновидностях ума склоняются к тому, что истина как знание общего
заложено в уме, а значит в разумной душе, потенциально. И в
этом состоит одно из проявлений аристотелевского идеализма.
Но тот же Аристотель является автором представления о душе
как tabula rasa. Совместить эти два момента в учении
Аристотеля можно лишь в том случае, если гарантом соответствия истин
деятельного ума устройству мира является Бог-Перводвигатель,
который сам есть деятельный ум. И потому разумная душа, даже
будучи пустой, уже потенциально предрасположена к истине,
предрасположена к ней гармонией мироздания.
Итак, трактовка души как энтелехии тела сочетается у
Аристотеля с представлениями о разумной душе как отделенной от
тела. С одной стороны, в трактате «О душе » представлена
попытка исследовать феномен души с позиций нарождающегося
естествознания. С другой стороны, естественно-научный
подход к душе как энтелехии тела не осуществлен здесь в
последовательном виде. С самого начала естественно-научный
материализм в понимании души как способа жизнедеятельности
тела соседствует у Аристотеля с чуждой естествознанию
идеальной детерминацией души как ее стремлением к
совершенству. Что касается разумной души человека, то ее своеобразие
Аристотель толкует явно с позиций идеализма.
Естественно, что такого рода противоречия не могли обойти
стороной последователи Аристотеля. В каких формах
обнаружились эти противоречия у аристотеликов христианской эры,
мы рассмотрим прежде всего на примере мыслителя
Возрождения П. Помпонацци.
V. П. Помпонацци против #омы Ак&инского
и Аверроэса Ь толковании разумной Эуши
Итальянец П. Помпонацци — наиболее яркая фигура
среди аристотеликов эпохи Возрождения. Его философские
работы были опубликованы на русском языке только в 1990 году.
И главная их них — «Трактат о бессмертии души » — интересна
прежде всего тем, что показывает, как учение Аристотеля мож-
ш
но использовать и для обоснования, и для критики
христианской доктрины. Сочинения Помпонацци были тесно связаны с
программой университетского образования, сложившейся в
Европе тех времен. А студенты университетов настоятельно
требовали разъяснять им природу души. И «Трактат о бессмертии
души » —посвящен именно этой проблеме.
Во многом из-за критичного отношения к Аристотелю,
которое наметилось уже в позднем Средневековье, философия
Платона в эпоху Возрождения переживала свой собственный
«ренессанс». Но и аристотелики не сдавали своих позиций. Так в
Италии эпохи Возрождения существовали две известные
школы последователей Аристотеля. Причем, полемика между ними
по вопросу бессмертия души сказалась на дальнейшем развитии
философии.
Аристотелики Возрождения группировались вокруг Паду-
анской школы где исповедовались взгляды, близкие к учению
арабского философа XII века Аверроэса (Ибн-Рушда), и Болон-
ской школы так называемых «александристов», ведущих свою
родословную от аристотелика II—III вв. Александра Афроди-
сийского. Что касается П. Помпонацци, который родился в Ман-
туе, учился в Падуе, а затем преподавал в Падуанском и Болон-
ском университетах, то его воззрения не связаны напрямую ни с
одной из этих школ. Но именно его философские взгляды
считаются наиболее оригинальными среди аристотеликов эпохи
Возрождения. Уже к концу XVI века Помпонацци был признан
главой перипатетической школы Возрождения.
Хотя Пьетро Помпонацци жил во времена Высокого
Возрождения, его биография не содержит событий, достойных ренес-
сансного титана. Внешне и по образу жизни он резко отличался
от таких ярких личностей, как представитель флорентийской
Академии Пико делла Мирандола. В отличие от Пико, он был
небольшим и некрасивым. Домосед Помпонацци предпочитал
подвигам размеренное существование. Он был трижды женат,
дважды вдовел. За всю жизнь Помпонацци не покинул пределов
Северной Италии, посвящая себя ежедневному чтению лекций в
университете. В эпоху великих открытий стоило большого
труда уговорить его выбраться из Болоньи на диспут в соседний
город Модену. В том возрасте, когда автор «Речи о достоинстве
человека » уже ушел из жизни, Помпонацци, который был
старше его на год, только вступил в пору серьезных философских
размышлений.
159
В эпоху блистательной гуманистической образованности
Помпонацци писал на тяжеловесной латыни, смешанной с
родным ему мантуанским диалектом, и совсем не знал греческого
языка. Его работы полны комментариев и бесконечных
различений, напоминая творчество средневековых схоластов. И, тем не
менее, это та самая университетская философия, которая
демонстрирует разложение схоластики изнутри.
«Трактат о бессмертии души » Помпонацци,
опубликованный в 1516 году, был вскоре публично сожжен в Венеции. Но
скромного университетского преподавателя это не смутило. До
костра, на котором будут сжигать Джордано Бруно вместе с его
трудами, было еще почти сто лет. Взгляды «Перетто Мантуан-
ца », как называли Помпонацци современники, лучше всего
демонстрируют нам переход от средневекового к ренессансному
аристотелизму. Тем не менее, его философскую позицию нельзя
считать однозначной, и это касается именно сердцевины его
учения — проблемы бессмертия души. Каждый раз, завершая
чтение курса об Аристотеле, Помпонацци обращался к
студенческой аудитории со следующими словами: «Государи мои... Одно
убедительное доказательство бессмертия разумной души я
предпочел бы и папской власти, и всем богатствам мира... Я больше
хотел бы получить одно доказательство бессмертия, чем тысячу
тысяч лет быть повелителем мира... »271.
Уже в самом названии «Трактата о бессмертии души »
Помпонацци проблема души поставлена в той форме, в какой она
обрела актуальность именно в христианстве. В трактате
Аристотеля «О душе » главная тема — соотношение души и тела в
любом живом существе, а вопрос о бессмертии души тем самым
оказывается вторичным. Более того, в этом сочинении он не
выделен для особого обсуждения. В трактате Помпонацци, как
и у христианских богословов, ситуация иная. В центре его
внимания — природа разумной души. А анализ ее
взаимоотношений с телом служит задаче обоснования или опровержения
бессмертия души человека.
Помпонацци разворачивает перед нами палитру взглядов на
разумную душу, производных от учения Аристотеля, которого
он, как было принято в то время, именует Философом.
Наиболее подробно Помпонацци разбирает и критически оценивает
трактовку Аристотеля арабским мыслителем Аверроэсом (Ибн-
271 Nardi В. Studi su Pietro Pomponazzi.— Firenze, 1965.— P. 280.
110
Рушд), именуемого Комментатором, а также позицию
основателя томизма св. Фомы. Известный исторический факт состоит в
том, что система томизма была создана монахом-доминиканцем
Фомой Аквинским в ответ и в противовес философии Аверро-
эса. Но томизм — это не просто усиление философского
идеализма, представленного в аристотелизме, но и трансформация
его в христианском духе. И на это неоднократно обращает
внимание Помпонацци.
В соответствии с нормами своего времени, разбирая взгляды
Фомы, Помпонацци отмечает, что уверен в истинности его
мнения, «коль скоро его освящает каноническое Писание, которое,
будучи дано Богом, должно быть предпочтено всякому
человеческому разуму и опыту»272. Но тут же с позиций разума им
высказывается сомнение в соответствии этих взглядов учению
Аристотеля. А в ходе анализа томистских представлений о душе
он уже прямо указывает на то, что многие доводы здесь вносят
путаницу. Более того, они «являются специально
придуманными новшествами, ради поддержания этого мнения, и никоим
образом не отвечают мысли Аристотеля»273. Ортодоксальные
взгляды церкви Помпонацци пытается сверить с Аристотелем
как с первоисточником. И в этом состоит характерная черта
философии Возрождения, и позиции Помпонацци в частности.
Несмотря на эти сомнения, прославивший Помпонацци
трактат о душе полон критического пафоса. Подобно другим арис-
тотеликам Возрождения, Помпонацци не склонен доверять
доказательствам бессмертия души, предложенным в томизме. Всех
аристотеликов этого времени объединяет уверенность в том, что
в учении Аристотеля нет аналога индивидуальной бессмертной
души, о которой печется ортодоксальное христианство. Паду-
анцы, вслед за Аверроэсом, искали и находили у Аристотеля
подтверждения тому, что бессмертной является лишь
надындивидуальная бестелесная душа, и другой разумная душа быть не
может. Помпонацци признавал индивидуальную разумную
душу, но стремился доказать, что такая душа у Аристотеля
неотделима от тела, а потому смертна.
Все аристотелики сходятся в том, что, признав душу формой
отдельного тела, св. Фома должен был признать ее тленной. Ведь
171 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 48.
273 Там же.— С. 56.
161
у Аристотеля то, что признано энтелехией тела, вместе с ним
живет и погибает. В переводе трактата Помпонацци
используется выражение «акт тела ». Но разница между «энтелехией» и
«актом » здесь не меняет сути. Важно то, что душа человека в
толковании св. Фомы также есть «форма » или «акт » тела, но,
тем не менее, по природе своей признается бессмертной и
только в некотором отношении смертной274.
Здесь Помпонацци видит главный пункт расхождения Фомы
Аквинского с Аристотелем. Признать душу бессмертной — это
значит, согласно Аристотелю, признать ее бестелесной. Но как
бестелесная душа может быть «актом» тела? И как такую
бестелесную душу могут мучить в аду телесным огнем?275
Указывая на такого рода противоречия во взглядах Фомы,
которые усматривали и аверроисты, Помпонацци утверждает,
что они не соответствуют не только Аристотелю, но также
логике и опыту, то есть «реальности ». В действительности,
утверждает он, все наоборот. Душа человека, согласно Аристотелю,
логике и реальному положению дел, по природе своей смертна и
только в некотором отношении бессмертна. «Ведь если мы
рассмотрим в человеке число его способностей,— пишет
Помпонацци,— то мы найдем только две, свидетельствующие в пользу
бессмертия, а именно разум и волю, и без числа таких, как
чувствующих, так и растительных, которые все свидетельствуют в
пользу смертности »276.
Другой важный пункт, в котором Помпонацци видит
расхождение между св. Фомой и Аристотелем, касается
происхождения человеческих душ. У Фомы Бог творит каждому человеку
его индивидуальную душу. Но здесь Помпонацци
воспроизводит известный аверроистский аргумент, который основан на том,
что у Аристотеля, как и у Платона, множественность
привносится в мир материей, а не Богом277. Следовательно, в античной
классике речь может идти о множестве материальных
смертных душ, а не бестелесных и бессмертных.
Не соответствует Аристотелю и сотворение этого множества
душ Богом, поскольку душа у Аристотеля не сотворенная, а
возникшая. В этом вопросе Помпонацци также присоединяется к авер-
274 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 45.
275 См.: там же.— С. 52.
276 Там же.— С. 49.
277 См.: там же.— С. 56.
162
роистам. Акцентируя внимание на разумной душе, он пишет: «Но
что она возникает не путем порождения, а в акте сотворения — это
не представляется созвучным учению Аристотеля, поскольку он
ни разу не упомянул о подобном творении, напротив, если бы он
его принял, то явно погрешил бы непоследовательностью,
поскольку в VIII книге «Физики » пытался доказать, что мир не имел
начала, и обосновывал это только через процесс истинного
возникновения »278. И далее он уточняет: «Дальнейшее добавление, а именно
что (душа) сотворена непосредственно Богом, также не
представляется созвучным Аристотелю, поскольку он полагает, что Бог не
воздействует на вещи низшего мира иначе, как через
посредствующие причины, в чем заключен присущий миру порядок»279.
И наконец, пункт, касающийся посмертного существования
души. Здесь Помпонацци указывает на обратимость понятий у
Аристотеля, когда имеющее начало должно иметь и конец, а не
имеющее начала, соответственно, и конца не имеет. Из этого
следует, что, согласно Аристотелю, возникшие души должны быть
тленны. А если, мы признаем бессмертие души, то в
аристотелевской системе координат это означает и ее несотворимость.
По сути через посмертное существование души Фомой Ак-
винским обосновывается возможность выхода души за пределы
тела. Но тем самым подтверждается и возможность ее
возвращения назад, т. е. феномен воскрешения, чего не принимал
Аристотель. Проводя грань между убеждениями св. Фомы и
Аристотеля, Помпонацци замечает: «Кроме того, ему бы пришлось
либо принять воскрешение, либо измышлять пифагорейские
басни, либо допустить бездействие для столь благородных
сущностей — все это крайне чуждо Философу»280.
Сложность положения Помпонацци состоит в том, что,
признавая Бога началом мира и считая себя христианином, он по сути
дела отрицает перспективу личного спасения. Если соединить
христианство с аристотелизмом, доказывает он, то в нем не остается
места для личного бессмертия) понимаемого как бессмертие
бестелесной души каждого отдельного человека. В этом позиция
Помпонацци не отличается от убеждений других аристотеликов
Возрождения. Недаром сугубо специальные споры аристотеликов
были осуждены и запрещены католической церковью.
278 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 57.
г1Н См.: там же.
т Там же.- С. 59.
163
В 1513 году V Латеранским Собором была принята булла
Льва X, запрещавшая такого рода споры в качестве опасной
ереси. «Поскольку в наши дни сеятель смуты, исконный враг рода
человеческого,— утверждалось в ней,— осмелился посеять и
взрастить в поле Божьем некие опаснейшие заблуждения... а
именно о природе разумной души, т. е. что она смертна или
едина во всех людях, и некоторые безрассудные философы
утверждали истинность этого по меньшей мере в философском
отношении... мы проклинаем и осуждаем всех, кто утверждает,
что разумная душа смертна или едина во всех людях, или хотя
бы рассматривает эти суждения как спорные »281.
Трактат Помпонацци о бессмертии души, опубликованный
через три года после указанного Собора, начинался и
заканчивался восхвалениями Церкви и неделимой Троицы. Тем не
менее, эта книга была подвергнута сожжению, а ее автор объявлен
еретиком. Но для нас не так важны коллизии во
взаимоотношениях философии и церкви в эпоху Возрождения. Важнее
разобраться в том, чем отличается трактовка разумной души в
античном идеализме, в данном случае представленном Аристотелем,
и христианском идеализме, представленном Фомой Аквинским.
А также понять, содержит ли аристотелизм Возрождения
выход к иному пониманию разумной души?
С этой целью имеет смысл присмотреться внимательнее к
отличиям точки зрения Помпонацци уже не от учения св. Фомы, а
от Аверроэса, из учения которого исходили представители Па-
дуанской школы. Все аристотелики Возрождения сходились не
только в отрицании бессмертия индивидуальных душ.
Объединяло их признание бессмертной надындивидуальной дугши,
существование которой они выводили из учения Аристотеля о двух
разновидностях ума.
Именно аристотелевская трактовка деятельного ума легла в
основу аверроистских представлений о надындивидуальном
начале всех человеческих душ. В результате у аверроистов
получалось так, что смертная душа у каждого из людей своя, а
разумная душа с ее средоточием — нусом — на всех одна. «Аверроэс
и, как я полагаю, еще до него Фемистий,— пишет в связи с этим
Помпонацци,— согласно считали, что разумная душа численно
едина во всех людях, а смертная же множественна »282.
281 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 11.
ш Там же.— С. 31.
164
Странное, на первый взгляд, представление об одной
разумной душе на всех Аверроэс связывал с содержанием этой души —
знанием субстанциальных форм вещей, которое объективно, а
не субъективно по своей природе. Своеобразным посредником
между этим активным умом или умом «самим по себе » и душами
отдельных людей является другая разновидность ума. Эту
разновидность Помпонацци именует «возможным умом», и она
соответствует страдательному уму у Аристотеля, связанному
с многообразием чувственного опыта.
В своих рассуждениях Помпонацци не вдается в тонкости
взаимоотношений активного и возможного ума у Аверроэса,
который считал единство ( «совокупление ») указанных форм ума —
высшим благом для человека. Главное для Помпонацци —
индивидуальна или надындивидуальна разумная душа у Аристотеля,
смертна или бессмертна. А если бессмертна, то в каком смысле...
Интересно то, что Помпонацци не отрицает существования
надындивидуального разумной души и соответствующей
разновидности деятельного или активного ума. Принципиальное
отличие его позиции от Аверроэса, однако, в том, что такого рода
разумная душа с присущим ей умом не имеет отношения к людям, а
является принадлежностью вечных неподвижных сущностей —
интеллигенции, актуализирующихся как небесные тела.
Надындивидуальная разумная душа у Помпонацци вполне
сопоставима не только с душами небесных светил у Аристотеля.
Вполне правомерна параллель между ней и Мировой душой в
трактовке платонизма и неоплатонизма. Иначе у аверроистов, у
которых над- или сверхиндивидуальный характер разумной души
не отдаляет, а сближает ее с человеческими индивидами,
поскольку она может быть истолкована как разум человеческого
рода. И у Аристотеля мы находим предпосылки для такой
трактовки. В работе «О возникновении животных » он пишет: «Одни
существа — вечны и божественны» (таковы светила), «другие
могут быть и не быть » и «природа существ этого рода не может
быть вечной, а потому возникающее вечно лишь в том мере, в
какой для него возможно»283. Ц далее: «Иными словами,
возникающее не может быть вечным нумерически (в каждом
индивиде), ибо сущность существующих вещей заключена в каждой
вещи, и если бы каждая вещь была такова (как и сущность), то и
283 Цит. по: Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба
наследия.— М., 2000.— С.192.
165
она была бы вечной. Поэтому всегда существует род людей,
животных, растений »284.
Не будем доискиваться, чем же в конце концов были люди в
учении Аристотеля —родом или видом живых существ.
Важнее понять, как ум, будучи общим для всех людей, проявляется
в каждом отдельном индивиде. Здесь мы опять упираемся в
вопрос о соотношении общего и единичного. Причем
Средневековье, а затем Возрождение обнаруживают в нем новые аспекты,
которых не знала античность.
Точку зрения аверроистов часто характеризуют как
«монопсихизм», что в переводе на русский язык буквально звучит как
«единодушие». Более определенно «монопсихизмом» принято
именовать позицию французского аверроиста XIII века Сигера
Брабанского, который полемизировал с самим Фомой Аквинс-
ким. Но «монопсихизм» можно понять в том духе, что у людей
вообще нет множества индивидуальных душ, а есть одна
единственная душа. Хотя для того же Сигера Брабанского, как и
для аверроистов Возрождения, вопрос вопросов — как
единство интеллекта проявляет себя на уровне каждой отдельно
взятой души. Иначе говоря, как «монопсихизм» разумной души
соотнести с «полипсихизмом» душ неразумных?
Комментируя представление аверроистов о бессмертной
надындивидуальной душе, Э. Ренан писал: «Человечество
непрерывно живущее — таков, по-видимому, смысл аверроистской
теории единосущности разума»285. Но в том-то и дело, что эту
историческую трактовку, как и другие трактовки учения
Аристотеля о двух видах ума и разумной душе, можно давать только
за пределами античности. Они стали не только возможными,
но и обычными после того, как в лице гуманистов во
всеуслышание заявила о себе человеческая индивидуальность.
Уже античные греки пользовались словом «характер»
(charakter), обозначая различия между людьми. Ведь человек
может быть разговорчивым и молчаливым, суетливым и
медлительным, остроумным и рассудительным. В этике Аристотеля
уже присутствуют начатки характерологии, развитые затем Те-
офрастом, у которого дано описание тридцати человеческих
характеров. Но эти черты отходили у греков на второй план, когда
ш Цит. по: Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба
наследия.— М., 2000.— С. 192-193.
285 Ренан Э. Аверроэс и аверроизм.— Киев, 1903.— С. 85.
ira
речь шла о человеке как гражданине полиса. Именно
гражданские добродетели — критерий для оценки индивида в античности.
И совершенно невозможным посчитал бы для себя грек или
римлянин стремление культивировать в себе индивидуальные
отличия, т. е. то, что различает, а не сближает людей между
собой. А ведь именно с оригинальностью и стремлением к
самовыражению связывают самостоятельную личность сегодня.
Указанный сдвиг в представлениях о человеке и произошел в эпоху
Возрождения, хотя его истоки просматриваются в
христианском Средневековье. Именно в это время творческая энергия
впервые направляется внутрь, т. е. на культивирование своих
уникальных сил и способностей, а не на развитие гражданских
доблестей , как это было во времена античности.
Известно, что один из родоначальников итальянского
Возрождения Петрарка считал самым важным и увлекательным
делом размышления о собственном #. И это индивидуальноеJ7 в
качестве неповторимого внутреннего мира стало едва ли не
главным открытием эпохи Возрождения. Отныне, отмечает
исследователь этой культуры Л.М. Баткин, жизнь и смерть человека
потрясают не повторяемостью, а уникальностью. «Всякое
человеческое существование,— пишет он о новом мироощущении
эпохи Возрождения,— не только единично и подобно другим
существованиям, но — единственное. Каждый раз это целая
неповторимая вселенная, вполне соразмерная той, общей для всех
вселенной. Поэтому индивид огромен, как мир, и бессмертен, как
мир. Если он все-таки определенно умирает, это очень трудно и
даже невозможно вместить и разгадать. В это трудно поверить »286.
Аристотель не знает понятия человеческой
индивидуальности. И по сути он исследует в человеке соотношение не общего и
индивидуального, а общего и отдельного, общего и единичного.
У Аристотеля не только общий всем людям ум, но и душа
отдельного индивида лишена индивидуальных черт, которыми ее
во многом наделяет христианство.
Именно потому, что христианское Средневековье, но в
большей степени Возрождение, признает отдельную душу в качестве
не единичной, а особенной, начинает формироваться подход к
человеку как к личности. Личность есть особое единство моих
действий и состояний. И на слове «моих » стоит сделать акцент.
ш Баткин A.M. Итальянское Возрождение в поисках
индивидуальности.— М., 1989.— С. 24.
167
В конце концов автомат тоже действует единообразно.
Животное обладает единством действия более сложным, чем
автоматизм. И только человек рефлектирует свои действия,
осознавая единство собственных действий и состояний в качестве
некоегоЯ.
Указанный аспект проблемы души выйдет на первый план в
немецкой классике. Внутренний мир индивида будут определять
в качестве «личного Я», «индивидуального духа», но не только
потому, что внимание философов будет перенесено на
деятельность самосознания. Дело в том, что латинское «анима », как и
греческое «псюхе», как правило, предполагает нечто
завершенное и готовое. Потому, приступив к исследованию
индивидуальной души в развитии, классическая философия уточняет
свою терминологию.
Но вернемся к аристотеликам Возрождения, чтобы понять,
как новые представления могут складываться в стремлении к
аутентичному прочтению классики. Опираясь на
аристотелевское понятие разумной души, не только Фома Аквинский, но и
аристотелики Возрождения неизбежно трансформируют его
исходную позицию. Но происходит это парадоксальным
образом, когда каждый из последователей Аристотеля правомерно
обвиняет других в модернизации взглядов учителя. И при этом
никто не достигает аутентичной трактовки. Хотя все находят
существенный пункт в первоисточнике, который позволяет им
развивать свою собственную тему. И таким парадоксальным
образом, надо сказать, происходит развитие не только
философской мысли, но всей духовной культуры.
Напомним, что особенность деятельного ума у Аристотеля в
том, что он лишен черт индивидуального существования. Но как
говорить о личном спасении применительно к безличной
мыслительной способности? Заслуживает или не заслуживает
безличное содержание души спасения} Применительно к Аристотелю
эти вопросы бессмысленны. Бессмысленны еще и потому, что
разумная часть души у Аристотеля не может обрести
бессмертия. Не имея индивидуального существования, она остается
вечной как и была ею.
Опираясь на эту сторону в учении Аристотеля, аверроисты
толкуют бессмертие разумной души соответственно. У Аверро-
эса разумная душа бессмертна, но это бессмертие особого рода,
не сопоставимое с бессмертием личной души в томизме. Но как в
таком случае соотнести родовое начало — активный ум — с
16В
отдельной питающей и ощущающей душой? Как возможно их
органичное единство в рамках каждой человеческой
индивидуальности}
Постановка этих вопросов правомерна уже для средних
веков, и тем более для Возрождения. На острие споров у аристо-
теликов Возрождения — природа индивидуального ума и души.
И этот угол рассмотрения сформирован новыми условиями
христианской эпохи. Они же обнажают объективное противоречие
между аристотелевской трактовкой деятельного ума и теми
поисками, которые в отношении разумной души ведут аристотели-
ки последующих эпох.
До сих пор речь шла о различии в решении проблемы души у
Аристотеля, Аверроэса, Фомы Аквинского и П. Помпонацци в
самых общих чертах. Теперь наступил момент для того, чтобы
дать более развернутую характеристику различий между
Фомой и Помпонацци относительно индивидуальной души у
человека и уточнить перспективы предложенных подходов.
На первый взгляд, Фома Аквинский реализует идею
энтелехии даже более последовательно, чем сам Аристотель. Ведь у
него не только вегетативная и сенситивная, но и разумная душа
человека является формой его тела. На этот момент в
воззрениях Фомы указывает известный историк философии Ф.Ч. Коп-
лстон. В своей книге об Аквинате Коплстон пишет: «Он не хочет
признать, что душа — независимая, завершенная в себе
субстанция..., а он говорит о душе, в терминологии Аристотеля, как
о «форме» (аристотелевская entelecheia) тела»287. Но тут же
Коплстон указывает и на отличие Фомы от Аристотеля. «С
другой стороны,— читаем мы у Коплстона,— он утверждает, что
душа не зависит в своем существовании от тела и что она
продолжает жить по смерти тела. Велик соблазн сказать, что срединная
позиция Аквината равнозначна попытке соединить
аристотелевскую психологию с требованиями христианской теологии. Хотя
в этом утверждении и содержится истина, все же оно
нуждается в оговорке. Ведь, используя аристотелизм, Аквинат в то же
время развивает его... »288
Итак, взгляды Аквината характеризуются Коплстоном в
качестве некой «срединной позиции », суть которой в том, что душа
287 Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого
средневекового мыслителя.— Долгопрудный, 1999.— С. 159.
288 Там же.
160
человека есть форма тела, но такая форма, которая, будучи
бестелесной, способна к существованию вне его. Уточним, что
католик Коплстон — специалист не только в области томизма.
И ему, как историку философии, конечно, известны аналоги
подобных воззрений. К примеру, то, что писал в V веке н. э.
ученик неоплатоника Плутарха Афинского по имени Гиерокл
Александрийский. Тот, в частности, указывал: «Разумная сущность
создана творцом связанной с телом, так что она не есть тело, но
и не существует без тела. Она бестелесна, но вся ее форма
находит завершение в теле »289.
Получается, что мысль Фомы о разумной душе как форме
человеческого тела, которой его наделяет Всевышний, в общем-
то не нова. Как не является новым утверждение о том, что эта
форма сотворена Богом в качестве бестелесной формы. Но как
раз в этом качестве она изначально устремлена к своему телу, с
которым она и представляет собой некое единство.
Новации Фомы Аквинского, таким образом, заключаются не
здесь, а там, где разговор о бестелесной форме нашего тела
затрагивает тему личного спасения. В конечном счете вся эпопея
XIII века с встраиванием учения Аристотеля в фундамент
католической доктрины была вызвана стремлением увязать это
учение со средоточием христианства — верой в личное спасение.
Все известные исследователи томизма акцентируют свое
внимание на том, что душа и тело человека у Аквината являются
неполными субстанциями. И только вместе они образуют
единство, именуемое субъектом. Известный исследователь томизма
Э. Жильсон так характеризует эту ситуацию: «Понятия души и
тела несомненно означают реальности и даже субстанции, но не
действительные субъекты, каждый из которых обладал бы сам
по себе всем необходимым для раздельного существования.
Палец, рука, нога — это, конечно, субстанции; но тем не менее они
существуют только как части целого, то есть человеческого тела.
Так же и человеческая душа — субстанция, и тело —
субстанция; но они не существуют ни как разные субстраты, ни как
разные личности »29°.
Личность, а на латыни «persona », у Аквината есть результат
соединения души и тела. Причем происходит это у Фомы не так,
2Ю Цит. по: Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.— С. 61.
290 Жильсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы
Аквинского.— М.; СПб., 1999.— Т. 1.— С. 245-246.
170
как это было в учении Аристотеля. В соответствии с
христианским вероучением, души людей сотворяются Богом и
соединяются с телом в момент рождения данного человека. Иначе у
Аристотеля, где душа не творится кем-то, а возникает и присуща уже
семени. Таким образом, одушевление тела у Аристотеля
связано с зачатием человека, а у Фомы — с его рождением. Для
сравнения следует сказать, что культурно-историческая теория
связывает одушевление человека с его прижизненным общением и
социальным разбитием.
Но еще более сложный момент в томизме — ситуация
разъединения души и тела. Ведь если смерть, освобождая душу от
тела, лишает ее качеств личности, то каким образом душа несет
персональную ответственность в свете грядущего Страшного
Суда? А если душа, отделившись от тела, остается личностью,
то отчего, опять же, такая бестелесная персона несет
ответственность за прегрешения прежде всего со стороны тела?
Как мы видим, проблема души как персоны напрямую связана
с идеей личного спасения. Здесь вероучение не только
провоцирует определенную постановку проблемы души и тела, но и
склоняет в пользу тех или иных ее решений. Тем не менее, такие
авторитеты как Э. Жильсон и Ф.Ч. Коплстон предлагают нам разные
трактовки души после смерти тела в учении Фомы Аквинского.
Так Э. Жильсон, неоднократно заявляет о том, что душа
человека «принадлежит к разряду уже тех форм, которые не
обладают достаточным совершенством для обособленного
существования »291. И тут же находит в себе силы для диаметрально
противоположного утверждения. «Если подойти к этой
проблеме с фундаментальной точки зрения ...,— пишет он в том же
разделе своей книги о Фоме Аквинском,— мы увидим, что esse
души никоим образом не зависит от esse тела. Верно обратное:
будучи субстанциальной формой, душа сама обладает полнотой
существования, и этого существования довольно не только для
нее, но и для тела, актом которого она является »292.
Все эти резкие повороты в суждениях о полноте и неполноте,
совершенстве и несовершенстве души вне тела подчинены у Жиль-
сона главному — обоснованию того, что с утратой тела душа не
утрачивает свою индивидуацию. В частности он опирается на
2,1 Жильсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы
Аквинского.- М.; СПб., 1999.— Т. 1.— С. 239.
пг Там же.- С. 245.
171
«многозначительное примечание» у Фомы, в котором, в
частности, сказано: «Однако бытие души не уничтожается с гибелью
тела. Также и индивидуация души, хотя и связана некоторым
образом с телом, тем не менее не уничтожается с гибелью тела »т.
«Индивидуация» и есть то, что позволяет характеризовать
душу человека как индивидуальную душу, свойственную
конкретной личности. А это значит, что душа человека, которая,
согласно Жильсону, не может быть личностью до своего слияния с
телом, после того, как она пребывала в единстве с телом, уже не
может утратить качеств личности. И Жильсон находит для
такой трактовки души подтверждения в работах самого Аквината.
Иначе представляет нам решение этой проблемы Аквинатом
Коплстон, согласно которому душа человека в своем
посмертном существовании, отделяясь от тела, но оставаясь его
формой, уже не может считаться полноценной личностью, да и
личностью вообще. Комментируя это положение в учении Фомы,
Коплстон отмечает: «Аквинат называет это состояние praeter
naturam (вне-природным); и он приходит к выводу, что душа в
условиях отделенности от тела не является в строгом смысле
слова человеческой личностью»294.
По мнению Коплстона, аристотелевская энтелехия не
позволяет Фоме говорить о полноценном личном спасении в мире
горнем, но зато выдвигает на первый план тему воскресения из
мертвых. Так Коплстон акцентирует внимание на следующем
фрагменте из «Summa contra Gentiles»: «Противно природе души —
существовать без тела, но ничто, противное природе, не может
быть вечным. Значит, душа не будет без тела вечно. Поскольку
же душа пребывает вечно, она опять должна быть соединена с
телом, и именно это и подразумевается под восстанием (из
мертвых). Таким образом, представляется, что бессмертие души
требует будущего воскресения тел »29\
Оставим для специалистов в области средневековой
философии вопрос о том, кто прав — Жильсон или Коплстон — в
толковании посмертного бытия души у Аквината. Отметим лишь то,
что выделяет в своих комментариях к русскому переводу
четырнадцатого вопроса из «Дискуссионных вопросов о душе Фомы
т Жильсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы
Аквинского.— М.; СПб., 1999.— Т. 1.— С.304.
194 Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого
средневекового мыслителя.— Долгопрудный, 1999.— С. 168.
WJ Цит. по: там же.— С. 169.
172
Аквинского » К.В. Бандуровский: «Для Фомы же... важно
бессмертие не отделенной души, а человеческой личности в целом;
важно, чтобы концепция неразрушимости души могла
обосновать христианский постулат о воскрешении человека во плоти.
Для этих целей аргументация, выработанная платониками,
негодна, и Фома обращается к скрытому потенциалу
аристотелевского учения о душе как форме (энтелехии) тела, которая
позволяет обосновать возможность воскрешения »2%.
К.В. Бандуровский по сути фиксирует здесь своеобразие
христианского идеализма, из осмысления которого и родилось
понимание души у Фомы Аквинского. Напомним, что специфику
античного идеализма в трактовке души наиболее
последовательно выразил как раз Аристотель в своем трактате «О душе »,
где разумная душа оказывается бестелесной субстанцией,
имеющей чисто внешнее отношение к человеческому телу. Ведь ее
ядро — способность ума познать всеобщее — не имеет основы
ни в вещах, ни в организмах.
Но Фома Аквинский в свете вероучения о личном спасении и
воскрешении из мертвых уже не может подобным образом
игнорировать человеческое тело. Индивидуальная душа в
христианстве не может быть столь безразличной к особенностям тела,
как аристотелевский Нус. Именно поэтому Фома берется
распространить аристотелевское представление об энтелехии на
разумную душу. Но внутренней формой тела и способом
жизнедеятельности организма энтелехия у Фомы быть не может.
Душа не может быть в христианстве той внутренней
формой, которая неотъемлема от тела, как неотделимы мелодия от
песни, образ от скульптуры. Если у Аристотеля душа в качестве
энтелехии прорастает из тела, то Фома представляет душу
некой духовной формой, которая, нуждаясь в теле и будучи
актом тела, способна, тем не менее, к автономному существованию.
Иначе говоря, Фома и здесь подправляет Аристотеля с его
трактовкой энтелехии как способа существования питающей и
ощущающей души. С одной стороны, Фома даже в разумной душе
видит энтелехию тела, а с другой — превращает
аристотелевскую энтелехию из внутренней во внешнюю форму тела в духе
неоплатонизма.
296 Бандуровский К.В. Предисловие к переводу вопроса 14-го из
«Дискуссионных вопросов о душе» Фомы Аквинского//
Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.— С. 94.
173
Таким образом и вправду достигается компромисс, но не
только между аристотелизмом и христианством. Аристотелизм
помогает католицизму достичь компромисса между душой и те^
ломтам, где предполагается их принципиальное единство и
одновременно — коренное различие. Христианская идея личного
спасения основана именно на таком противоречивом отношении
между душой и телом в рамках индивидуального образования —
личности. И томизм — это одна из попыток теоретически
представить, как возможно противоречивое единство души и тела в
их земном существовании на фоне последующего автономного
бытия души в существовании посмертном. Но надо сказать, что
найденный Фомой компромисс оказался сугубо теоретическим
решением. Предложенная им трактовка души как
индивидуального акта тела, способного к бытию вне тела,— это чисто
схоластическое решение проблемы, о чем и свидетельствуют
серьезные расхождения у его современных комментаторов.
Для нас, однако, важен не столько результат размышлений
Фомы, сколько обоснование им своеобразия человеческой души.
И здесь, в вопросе о своеобразии души, заключено начало и
исток, из которого по сути рождаются три разных трактовки
человеческой души — античное у Аристотеля, христианское у
самого Аквината и, наконец, ренессансное у Помпонацци.
Дело в том, что Фома, подобно Аристотелю, в своей
характеристике разумной души делает акцент на универсальности
разума (интеллекта), из чего и следует у Фомы его бестелесная,
нематериальная суть. В «Дискуссионных вопросах о душе. Вопрос
четырнадцатый» он, в частности пишет: «Познание же, как
доказывает Философ в третьей книге «О душе », не есть действие,
исполняемое телесным органом,— ведь невозможно обнаружить
некий телесный орган, который был бы восприимчив ко всем
чувственно воспринимаемым природам; прежде всего потому, что
воспринимающему надлежит быть лишенным воспринимаемой
природы, как, например, зрачок лишен цвета. Всякий же телесный
орган обладает некоторой чувственно воспринимаемой природой.
Интеллект же, посредством которого мы познаем, постигает все
чувственно воспринимаемые природы; поэтому невозможно,
чтобы его действие, которое есть познание, исполнялось каким-либо
телесным органом. Из этого становится ясно, что интеллект сам по
себе обладает действием, в котором тело не принимает участия »297.
2,7 Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос
четырнадцатый // Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.— С. 99.
174
В этой аргументации — ядро томистского обоснования
нематериальности разумной души, а значит и души человека в
целом. И суть этой логики в том, что интеллект способен мыслить
обо всем на свете, а значит не может принадлежать ни одному из
органов, который бы ограничивал его возможности. Универсальные
действия несопоставимы с конечностью телесных органов.
Следовательно, интеллектуальные действия, на которые способна душа
человека, коренятся в нем самом, и разумная душа нематериальна.
Фома здесь действительно еще не отступает от позиции
Аристотеля. Вспомним, чем была рождена аристотелевская мысль о
нематериальной деятельности разума. «Душа, необходимо
должна быть либо... предметами, либо их формами,— пишет
Аристотель в трактате «О душе »,— однако самими предметами она быть
не может: ведь в душе находится не камень, а форма его. Таким
образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так
и ум — форма форм, ощущение же — форма ощущаемого»298.
Будучи «формой форм », ум у Аристотеля действительно не
содержит в себе ничего телесного, а потому он — нематериальная
деятельность, воссоздающая формы, которые недоступны телу,
органам чувств, то есть непостижимы при помощи опыта.
Фома Аквинский един с Аристотелем в том, что ум способен
постигать общее, что на языке Средневековья называлось
действием «с универсалиями». Об этом мы читаем в тех же
«Дискуссионных вопросах о душе », где Фома отмечает, что такого
рода действия означают «бытие, возвышающееся над телом»299.
Что касается нововведений Фомы Аквинского в этом
вопросе, то они опять же связаны с разницей между прижизненным и
посмертным бытием души — темой, чуждой Стагириту. Так,
согласно Фоме, душа человека вся, без каких-либо исключений,
разумна и, следовательно, бестелесна. А это значит, что не
только интеллект, но и питающая (вегетативная), и ощущающая
(сенситивная) способности души продолжают существовать
после смерти тела. «... Следует сказать,— отмечает Аквинат в
«Дискуссионных вопросах »,— что чувствующая душа у
животных разрушима; но у человека, поскольку она есть в одной и той
же субстанции с разумной душой,— неразрушима»300. Иначе
говоря, если у животного его ощущающая способность в каче-
т Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 440.
299 Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос
четырнадцатый // Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.— С. 100.
300 Там же.— С. 101.
175
стве энтелехии телесна, то у человека под влиянием разума
ощущающая способность уже оказывается энтелехией
бестелесной и потому, наравне с другими способностями души
человека, способна к автономному существованию в вечности.
Тем не менее, в мире горнем актуально действуют лишь
высшие способности души интеллектуального порядка. Что
касается чувственных способностей, то они актуализируются лишь
при воссоединении души с телом. Так мы подходим к важному
пункту в воззрениях Фомы, согласно которому душа человека
по природе своей бессмертна и бестелесна, а смертна и телесна
лишь в определенном отношении, а именно тогда, когда она
использует органы тела для чувственного познания. Такое
познание, доказывает Фома, возможно только посредством тела, в
отличие от познания разумом, которое в теле не нуждается.
Именно здесь имеет смысл сопоставить точку зрения Фомы с
позицией Помпонацци, осмелившегося в эпоху Ренессанса
отстаивать противоположный тезис, суть которого в том, что душа
человека по природе своей смертна, и только в определенном
отношении бессмертна. Но еще важнее то, что за такой
постановкой вопроса по сути скрывается иной подход к проблеме
разумной души, отличный и оттого, который провозгласил
Аристотель, и от того, который отстаивал Аквинат.
П. Помпонацци говорит о существовании смертной, а не
бессмертной души человека. И, разворачивая свою аргументацию,
он исходит из того же пункта, из которого, вслед за
Аристотелем, исходил Фома Аквинский, т. е. из универсальности
человеческого интеллекта. Это исходная «клеточка» разума —
способность воспринимать и воссоздавать бесконечное число
материальных форм. Но в объяснении этой способности разума
Помпонацци делает ставку не на деятельный, а на
страдательный ум в учении Аристотеля. А в результате перед нами
вырисовывается принципиально иное понимание разумной души.
Способность разума осваивать и воссоздавать любые
природные формы — это аксиома для Помпонацци. При этом в
своем трактате он как будто повторяет мысль Аквината о том, что
«разум нематериален, поскольку он воспринимает все
материальные формы», и тут же уточняет, что любое восприятие
пассивно, а потому «разум окажется движим телесной материей и,
таким образом, будет нуждаться в теле как в объекте »т.
т Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 40.
171
Множество раз и на разные лады Помпонацци в «Трактате о
бессмертии души » воспроизводит одни и те же аргументы. Их
суть в том, что разум можно было бы признать сугубо
нематериальным, а разумную душу бессмертной, если бы разум не
нуждался в теле ни в качестве субъекта, ни в качестве объекта. Но
«...так как материальность противоположна
нематериальности,— читаем мы у Помпонацци,— для (доказательства)
материальности достаточно нуждаться в теле либо как в субъекте, либо
как в объекте »ш. При этом Помпонацци соглашается с
Аристотелем, когда тот говорит в трактате «О душе », что разум не
нуждается в теле как в своем субъекте. Однако в качестве
страдательной способности, подчеркивает он, разум связан с
представлениями, а потому нуждается в теле как в объекте.
Неоднократно Помпонацци воспроизводит слова
Аристотеля из текста 12 книги 1 трактата «О душе», суть которых в том,
что если мышление есть деятельность представления и не может
происходить без представления, то и мышление не может быть
без тела303. И только в одном месте он признается в том, что
Аристотель здесь говорит «не безусловно»,т. е. им высказано лишь
предположение, наряду с другими предположениями
противоположного свойства304.
Как мы видим, характеризуя ум человека, Помпонацци
смещает акценты в трактате Аристотеля «О душе ». Помпонацци
признает универсальность ума. Но по его утверждению, ум
воссоздает многообразие природных форм не в акте творчества, как
деятельный ум в учении Аристотеля, а в процессе общения с
внешним миром, как страдательный ум у того же Аристотеля.
Тем самым человеческий ум в трактовке Помпонацци
оказывается прежде всего страдательной и в этом смысле
материальной способностью, а активный ум он относит, как мы уже знаем,
к способностям не человека, а высших сущностей, движущих
небесные тела.
А из этого следует, что человеческий ум по большому счету
смертен. «Ибо он погибает, когда нечто гибнет внутри него,—
заключает Помпонацци,— потому что он соединен с материей,
отчего он и гибнет при гибели чувствительной способности.
Стало быть, он по сущности своей тленен, а не тленен лишь в неко-
102 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 41.
303 См.: там же.— С. 33, 41, 61, 73 и др.
зм Там же.— С. 33.
177
тором отношении...»305. Ум человека у Помпонацци — субъект,
но его своеобразие состоит в неразрывной связи с телом как
объектом. А потому он и погибает вместе с телом.
Оба — и Фома, и Помпонацци — признают главенство
разума в душе человека. Но признав разум субъектом, они в итоге по-
разному толкуют его действия и способности. И как раз из этого
следуют их противоположные выводы о его перспективах. У
Фомы активность и универсальность действий разума —
достаточное основание, чтобы признать его бессмертным. У Помпонацци
страдательный характер действий этого субъекта —
достаточное основание, чтобы, наоборот, признать его смертным. Так,
смещая акценты в трактовке ума у Аристотеля, Помпонацци
становится антиподом Аквината.
Уточняя свое понимание человеческого разума, Помпонацци
говорит о том, что страдательный разум не отвлечен полностью
от материи и полностью не погружен в нее. В этом смысле разум
у человека, считает он, есть нечто среднее между
познавательной способностью неподвижной интеллигенции, с одной
стороны, и животного — с другой. В случае неподвижной
интеллигенции познавательная способность не зависит от тела как
субъекта и как объекта. Во втором случае эта способность
полностью зависит от тела. И в случае человеческого разума мы
имеем дело с чем-то средним, когда зависимость от тела как
объекта сочетается с независимостью от него как от субъекта.
Повторяя по многу раз одни и те же аргументы,
Помпонацци, тем не менее, очень непоследователен. Но он интересен,
подобно самому Аристотелю, как раз своей
непоследовательностью и двойственностью. И именно там, где он двойственен,
начинают прорисовываться контуры наиболее оригинального для
эпохи Возрождения понимания человеческой души.
Имеет смысл напомнить, что для Помпонацци наиболее
ценно в аристотелевских воззрениях на душу взгляд на нее как на
энтелехию или акт тела. Но, рассуждая об энтелехии
применительно к разумной душе, Помпонации вынужден раздваиваться
и все время уточнять, что со стороны объекта она — акт тела, а
со стороны субъекта — нет. И эти метания между взглядом на
проблему «с одной стороны » и «с другой стороны » достигают
своей кульминации в X главе трактата, где Помпонацци заявля-
305 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990,— С. 55.
171
ет, что субъектом мышления является сам разум, но орудие
разума — все тело человека. «Но поскольку человеческий разум
находится в материи как бы в некотором ее сопровождении,—
пишет Помпонацци,— то и само мышление некоторым образом
находится в материи, но достаточно акцидентально, посколько
разуму в качестве разума случается быть в материи, однако же
мышление не может быть помещено в какой-либо части тела, но
лишь во всем теле, взятом в целом»306.
Речь здесь по сути идет об органе мышления, которого, в
соответствии с Аристотелем и Аквинатом, у этой деятельности
быть не может. Но у Помпонацци ситуация выглядит иначе. Его
аргументация строится на том, что животные при посредстве
органов чувств постигают единичное, неподвижные
интеллигенции без каких-либо органов постигают всеобщее
непосредственно всеобщим образом, а человек в этом смысле опять же
находится посредине у постигая всеобщее в единичном и через
единичное. И такого рода познание возможно лишь там, считает
Помпонацци, где общаются с миром всесторонним способом, а
не одной частью тела или одним органом. Иначе говоря,
универсальность мышления Помпонацци объясняет универсальностью
действий человека во всей полноте его телесной организации.
И только человек, по его мнению, пользуется всем своим телом
в качестве органа мышления.
Итак, универсальные возможности разума у Аристотеля и
Фомы Аквинского стали поводом для того, чтобы настаивать на
его бестелесности. Совсем иначе поступает Помпонацци, у
которого универсальность разума достигается не ограничением, а
расширением участия тела в познании. И в этом новизна хода
его мысли, органично связанная с культурно-историческим
своеобразием Возрождения.
Здесь следует, однако, еще раз уточнить, что по своей форме
«Трактат о бессмертии души » очень схоластичен. Там, где
Помпонацци в десятой главе пишет о разуме как субъекте
мышления и теле человека как его орудии, его рассуждения достойны
образцов Средневековья. Влияние схоластики с ее
бесконечными дистинкциями вообще очень ощутимо в работах
Помпонацци. И на это отличие Помпонацци от Пико делла Мирандола,
Лоренцо Валла и других гуманистов указывают многие
исследователи его творчества.
ш Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 79.
17S
Схоластическая форма, безусловно, сковывает мысль Пом-
понацци, не позволяя адекватно выразить новые представления
о человеческой душе. В соответствии со своей схоластической
манерой изложения, Помпонацци заключает, что разум
находится в самой материи, и тут же уточняет, что он находится как
бы в сопровождении материи. Он заключает, что разумная душа
умирает вместе с телом, но тут же отмечает, что в некотором
отношении она остается бессмертной. Но во многом указанная
двойственность проистекает из того, что, переходя на позиции
материализма, Помпонацци не может отказать душе человека
в том своеобразии, которое отметили уже представители
античной классики и которое в наши дни именуют «идеальностью».
В предыдущих главах речь шла о целевой детерминации
человеческой души, ее обусловленности не частным, а общим, не
столько потребностью, сколько идеалом. И вполне
естественно, что первая попытка объяснить это своеобразие души
человека породила идеализм Платона. А его своеобразной
альтернативой можно считать естественно-научное понимание души,
впервые заявленное в трактате «О душе » Аристотеля.
Именно из идеальности человеческой души так, как она
представлена в познавательном процессе, проистекает главное
противоречие аристотелевского трактата «О душе » — между
материальными способностями питающей и ощущающей души и
нематериальностью способностей души разумной. Что касается
Помпонацци, то он также не может представить разумную душу
производной от сугубо материальных процессов, происходящих
в отдельно взятом теле, а точнее — организме. Но, в отличие от
Аристотеля, он не делает из этого вывода о бестелесности
разумной души. У Помпонацци мы наблюдаем движение к иному
решению этой проблемы, чем он особенно интересен.
Напомним, что в трактате «О душе » Аристотель дополняет в
человеке органические способности к питанию и ощущению
идеальной способностью постигать всеобщее. И материальное с
идеальным в такой трактовке по большому счету соседствуют.
Иначе говоря, то, что является энтелехией отдельного тела, у
Аристотеля как бы дополняется тем, что энтелехией такого тела не
является. По-другому выглядит это соотношение у
Помпонацци, у которого разумная душа, представленная не деятельным, а
страдательным умом, также сродни энтелехии тела. Вслед за
Фомой Аквинским, как уже говорилось, Помпонацци
распространяет аристотелевскую идею энтелехии на разумную душу че-
180
ловека. Но последствия этого преобразования, как и в
толковании разума в качестве субъекта души, у Фомы и Помпонацци
различны. Если у Аквината идеальность души, безусловно,
означает ее бестелесность, то у Помпонацци в свете
гуманистических идей Возрождения идеальность души уже не отрицает,
а, наоборот, предполагает ее телесность.
Но подобный взгляд возможен лишь в том случае, когда
идеальное уже не воспринимается в качестве антипода
материального. Здесь перед нами по сути отказ от средневековых
представлений о духе как антагонисте материи. Новизна толкования
разумной души у Помпонацци в том, что она производна от тела,
происходит из способа его существования. И такая
органическая связь духа с материей будет затем обосновываться Д. Бруно.
Преемственность между Помпонацци и Бруно, который родился
уже после смерти «Перетто Мантуанца », конечно, не в манере
письма, но в сути воззрений на природу души и духа. Недаром в
XVIII веке их имена будут сведены вместе в анонимном трактате
«Джордано Бруно возрожденный, или Трактат о народных
заблуждениях. Критическое, историческое и философское
сочинение в подражание Помпонацци ». Важно и то, что у Д. Бруно мы
находим еще одну интерпретацию аристотелевского понимания
души, которая сказалась на развитии классической философии.
Начнем с того, что Бруно отвергает и аристотелевское
понятие первоматерии как чего-то абсолютно бесформенного, и
аристотелевское понятие формы как чего-то внешнего материи.
«Нельзя и выдумать,— заявляет он,— ничего ничтожней, чем
эта первая материя Аристотеля »ш. А в работе «О причине,
начале и едином» мы читаем, что «материя не является каким-то
почти ничем, т. е. чистой возможностью, голой, без
действительности, без силы и совершенства»308.
Материя, согласно Бруно, возможна лишь в ее единстве с
формой. И как раз внутреннюю способность материи к образованию
форм Бруно называет Душой мира. Подобно неоплатоникам, он
иногда именует ее также Мировой душой. Но при этом у Бруно
это понятие не заключает в себе ничего спиритуального. С другой
стороны, взглядам Бруно часто приписывают так называемый
гилозоизм, имея в виду то, что в его учении вся материя одушевле-
J07 Цит. по: Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.— М.,
1980.— С. 271.
308 Бруно Д. Избранное.— Самара, 2000.— С. 292.
181
на. Но в том-то и дело, что у Бруно материя одушевлена не более
того, как одушевлен растительный или животный организм. Ведь
своеобразная «душа » заключена, например, в семени растения, и
именно она выгоняет из него стебель, ветви, листья, цветы, плоды.
Таким образом, душой у Бруно оказывается как раз то, что
схоласты, вслед за Аристотелем, называли субстанциальной
формой, которая имела рациональный смысл, утраченный
позже механистической философией Нового времени. Душа в
учении Бруно — это форма, но не та, которая на материи, а та,
которая организует материю изнутри. Согласно его учению,
«формы происходят и освобождаются из глубины материи...»309.
Таким образом, Бруно по сути расширяет представление
Аристотеля о душе как энтелехии. Но делает это совсем не так,
как Фома Аквинский, который спроецировал представление об
энтелехии на разумную душу человека и получил еще один
аргумент в пользу доктрины воскрешения из мертвых. Бруно
проецирует аристотелевское представление о душе как энтелехии
на мир в целом. И в результате природный мир у Бруно
оказывается чем-то вроде безмерного тела, которое обладает душой,
восходящей до мыслящего духа. Мировая душа в учении Бруно
находится не вне мира, а внутри него — в качестве его
внутренней формы. Но это не значит, что мышление в учении Бруно в
качестве неотъемлемого свойства или атрибут мира
представлено везде и всюду. Так в каких же случаях эта внутренняя
способность материи предстает в виде мыслящего духа?
Отвечая на этот вопрос, Бруно различает два способа
образования форм: в человеческой деятельности, которую он именует
«искусством», и в природе. Он пишет: «Искусство производит
формы из материи или путем уменьшения, как в том случае, когда
из камня делают статую, или же путем прибавления, как в том
случае, когда, присоединяя камень к камню и дерево к земле,
строят дом. Природа же делает все из материи путем выделения,
рождения, истечения, как полагали пифагорейцы, поняли Анаксагор
и Демокрит, подтвердили мудрецы Вавилона. К ним
присоединился также и Моисей, который, описывая порождение вещей, по
воле всеобщей действующей причины пользуется следующим
способом выражения: да произведет земля своих животных, да
произведут воды живые души, как бы говоря: производит их
материя »31°. Но как мыслящий дух производится «всей материей »?
т Бруно Д. Избранное.— Самара, 2000.— С. 294.
3,0 Там же — С. 295.
182
Здесь мы подходим к тому же вопросу, но как бы с другой
стороны. Как душа мира доходит до состояния мыслящего духа,
или как мыслящий дух производится всей материей — суть у
этих вопросов одна и та же. Она в том, как именно из всеобщего
(материи) рождается особенное (мыслящее тело). По большому
счету Бруно ответа на этот вопрос не дает. Но оригинальность
его позиции в том, что он не видит в духе чего-то
противостоящего материи. Христианские представления о духе и материи,
какими их застал Бруно, были основаны на противопоставлении
одного другому в качестве антиподов. При этом вечный дух в
лице Бога творит материю как свою противоположность.
Великий Ноланец доказывает обратное. В противовес
католической доктрине, он говорит о духе как о производном
материи. Причем дух у Бруно произволен от материи не как
отделимый от нее продукт, а как неотделимая от нее субстанциальная
форма. Эта форма, говоря современным философским языком,
раскрывает себя в способе существования одного из
порождений материи — человека. И такой постановкой вопроса Бруно
предваряет диалектические идеи XVIII и даже XIX века.
Человек считает Бруно, есть та часть мировой материи, в
которой она мыслит. Но это не значит, что мыслит всякая часть
материи. Если вся материя представлена в возможностях
человека, то посредством человека она действительно вся мыслит.
Человек есть в этом смысле, как утверждал уже Николай Ку-
занский, микрокосм^ который стягивает в себе весь
бесконечный макрокосм. «.. .Все вещества,— пишет Бруно,— в своем роде
испытывают все превращения господства и рабства, счастья и
несчастья, того состояния, которое называется жизнью и
которое называется смертью, светом и мраком, добром и злом»311.
Понятно, что всякое вещество может стать мыслящим, если
оно окажется организованным соответствующим образом. Тело
человека, считал Бруно, организовано именно в качестве
мыслящего тела. Большую роль в этой организации, по его мнению,
играет человеческая рука. Здесь Бруно отдает должное мысли
Аристотеля о руке как «орудии орудий », но придает ей новое
звучание. У Аристотеля, напомним, это был, скорее,
художественный образ, позволявший оценить возможности ума как
«формы форм ». Бруно, обращаясь к этой идее, уже имеет в виду
особую роль руки в жизни людей, без чего человек не может
311 Бруно Д. Избранное.— Самара, 2000.— С. 175.
183
быть человеком. И как только такая телесная организация
прекращает свое существование, считает он, вещество, из которого
состояло тело человека, перестает быть «мыслящим ».
Итак, в учениях Фомы Аквинского, Помпонацци и Бруно
представлены разные толкования аристотелевского учения о
душе. При этом Бруно и Помпонацци, в отличие от Фомы,
движутся в направлении философского материализма. Их
сближает стремление вывести дух и душу из устройства природы и тела
человека, которая получит свое развитие у диалектиков XIX века.
Но вернемся к анализу аргументов Помпонацци.
Уже в первой главе «Трактата о бессмертии души»
Помпонацци делает предположение о человеке как существе,
обладающем двумя природами одновременно, материальной и
нематериальной. И тут же он высказывает сугубо возрожденческую
мысль о человеке как о том, кто «властен принимать ту или иную,
какую пожелает, природу»312. А результатом такого положения
дел, согласно Помпонацци, являются три разновидности
людей. Одни люди, пишет он, «подчинив растительную и
чувственную способности, почти стали разумными существами. Другие,
совершенно пренебрегши разумом и устремившись к одним лишь
растительным и чувственным (частям души), превратились
почти что в скотов; вероятно, именно это имеет в виду Пифагорова
притча, гласящая, что души людей переселяются в тела
различных животных. Иные же, напротив, именуются просто
людьми — это те, кто избрал средний путь жизни, согласно
нравственным добродетелям: они не полностью предались разуму и
не совершенно удалились от телесных наклонностей »313.
Указанное место в трактате «О бессмертии » получает новую
окраску, если сопоставить его с еще одним местом уже в
четырнадцатой главе, где Помпонацци присоединяется к тому, что,
вслед за Гермесом Триждывеличайшим, говорил Пико делла
Мирандола об универсальной природе человеческого существа
в целом. «Ведь говорят некоторые,— подчеркивает
Помпонацци,— что великое чудо есть человек, поскольку он является всем
миром и способен обратиться в любую природу, так как дана ему
власть следовать любому, какому пожелает, свойству вещей »зн.
312 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 29.
3,3 Там же.- С. 29-30.
314 Там же.— С. 118.
184
Хотя и в первом приближении здесь выражена та мысль о
человеке, способном творить по меркам любого вида, которая
затем через немецкую классику войдет в марксизм. Здесь
достаточно вспомнить слова К. Маркса из «Экономическо-философ-
ских рукописей » насчет того, что «животное производит только
самого себя, тогда как человек воспроизводит всю природу »315.
И далее: «Животное строит только сообразно мерке и
потребностям того вида, к которому оно принадлежит, тогда как
человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет
прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек
строит также и по законам красоты »316.
Как мы видим, мысль об универсализме человеческого ума у
Помпонацци трансформируется в представление об
универсализме действий человеческого тела. И это скажется на
дальнейшем ходе философской классики и ляжет в основу понятия
предметно-практического деятельности как сути отношения
человека к миру. Помпонацци, конечно, мыслит не так
радикально. И тем не менее, указанный момент серьезным образом
меняет и его понимание разумной души, и его понимание природы
человека.
Ь. Парадокс Помпонацци: смертная Эушз
Ъ присутствии Создателя
Главный парадокс позиции Помпонацци, как уже
говорилось, состоит в том, что Бог творит только смертные души,
не делая исключения для человека. Естественно, что такое
крамольное для христианина допущение возможно на фундаменте
иного понимания природы человека, отличного от оснований
католицизма. Причем в основе этого понимания мы обнаруживаем
ту же своеобразную двойственность, что и в вопросе о
материальности и нематериальности разумной души. Причем
первое внутренне связано со вторым.
Вот как Помпонацци пишет об особом
«материально-нематериальном» статусе человеческой души: «Поэтому в
сравнении с нематериальным сущностями душа может считаться
материальной, а в сравнении с материальными — нематериальной.
И она не только достойна такого наименования, но и причастна
3.5 Маркс К. Энгельс Ф. Соч.— 2-е изд.— Т. 42.— С. 92.
3.6 Там же.— С. 94.
185
свойствам крайностей: ведь по сравнению с белым зеленое не
только именуется черным, но и воспринимается глазом как
черное, хотя и не в такой сильной мере »317.
Итак, душа человека, согласно Помпонацци, безусловно,
телесна. Но такую телесную душу он не может однозначно
причислить к материальным явлениям окружающего мира. На
материальности разумной души он настаивает в свете ее
неразрывной связи с телом. Но суть в том, что, будучи связана с
телом, разумная душа по характеру своих действий явно выходит
за его пределы. Как раз это своеобразие телесной жизни
человека привносит в душу момент нематериальности. И то же самое
касается бессмертия. Душа, согласно Помпонацци, однозначно,
телесна, но она связана с такого рода телесным бытием,
которое придает ей явный налет нематериальности и бессмертия.
В трактате «О душе » Аристотель специально оговаривал тот
факт, что способ действия растительной и питающей души
представлен уже в строении действующего органа. Например, для
питания у животного приспособлен рот, а у растения — корни и
листья. Что касается действий разума при помощи тела, то они у
Помпонацци не могут быть зафиксированы в строении
отдельного органа или же всего тела. Разум тем и отличается от других
способностей человека, что действует не одним присущим этому
телу образом. Наоборот, его универсальность обусловлена этим
постоянным преодолением своей телесной ограниченности.
Иначе говоря, тело человека — это единственноетело в
универсуме, которое стремится воспроизводить в своих действиях
природу других тел.
Здесь важно отметить, что стремление обрести
универсальность, не покидая пределов тела, Помпонацци расценивает не
как достоинство, а как недостаток человеческого разума, в
сравнении с духовными сущностями, мыслящими универсально без
всякого тела. Иначе говоря, своеобразие человеческого ума,
разумной души и природы человека в целом оказывается у
Помпонацци неким компромиссом, связанным со срединным, а отнюдь
не высшим положением человека на лестнице разумных существ.
Во многих местах своего трактата Помпонацци высказывает
сожаление по поводу несовершенства человека, в сравнении с
высшими духовными сущностями, в результате чего нашей душе
3,7 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 118.
11В
присуща лишь некая доля нематериальности. «Но, поскольку она
есть благороднейшая из материальных сущностей,— пишет он о
душе человека,— и находится на грани нематериальных вещей, ей
присущ некий привкус нематериальности, но не по ее природе »318.
Это «привкус нематериальности » и, добавим, бессмертия в
материальной душе, конечно, является наиболее интересным
пунктом учения Помпонацци. В данном учении отсутствует
принцип развития, впрочем, как и весь категориальный аппарат
для адекватного анализа диалектики материального и
идеального в человеке. И тем не менее, Помпонацци делает важный шаг
на пути к философской позиции, в рамках которой как раз и
сложилось культурно-историческое объяснение человеческой
души. И такая подвижка связана с новым пониманием способа
действиячеловека. Ведь именно потому, что в своих действиях
человек преодолевает положенную устройством тела границу,
его душа из материальной функции превращается в нечто,
подобное деятельности, и из сугубо материальной становится
душой идеальной.
Подобный мотив можно встретить и в трактате Аристотеля
«О душе », но только там, где он говорит о соотношении
материального и идеального в растительной душе. Именно в
растительной душе, согласно Аристотелю, сочетание идеального и
материального начал оборачивается особым взаимоотношением,
когда одно подчиняет себе другое. Парадоксальным образом эта
новация Аристотеля в характеристике растительной души дает
свои всходы в анализе разумной души у Помпонацци, где
материальное уже не столько подчиняется, сколько переходит в
идеальное.
Но еще раз подчеркнем, что адекватная терминология и
развитый понятийный аппарат, необходимый для анализа
проблемы идеального, в учении Помпонацци отсутствует.
Помпонацци — не Шеллинг, и живет он не в XIX-м, а в XVI веке. Здесь нет
и намека на диалектическое различение материальной и
идеальной деятельности, в котором совершенствовалась немецкая
классика, начиная с «Системы трансцендентального идеализма ». Тем
не менее, диалектический переход материального в
идеальное — в анализе Помпонацци нематериальности и бессмертия
души в некотором отношении — здесь уже представлен.
3,8 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 67.
187
Учение Помпонацци интересно еще и тем, что указанные
возрожденческие акценты заставляют его противоречить
самому себе и по сути отказываться от исходных идей,
заимствованных у Стагирита. Ранее речь шла о подобных коллизиях у Фомы
Аквинского, который сделал ставку на аристотелевское
понятие деятельного ума. Однако христианская вера в личное
спасение заставила его придать Нусу Аристотеля несвойственную
античности трактовку.
То же происходит и с Помпонацци, который кладет в основу
своего понимания разумной души страдательный ум у
Аристотеля. Главные аргументы Помпонацци в пользу телесности и
смертности души, если судить по его «Трактату о бессмертии
души », связаны именно со страдательным характером нашего
ума, который неотделим от чувственного восприятия. Но
рассуждения Помпонацци об универсальности действий человека
по сути меняют его представления о разуме. В контексте этих
идей и рассуждений разум уже не может быть замкнут на
пассивное восприятие. Наоборот, он оказывается активной
способностью человека, неотделимой от полноценного и
всестороннего существования индивида. Таким образом,
возрожденческая мысль о человеке как универсальном существе, в
противоположность универсальности одного лишь ума,
трансформирует исходные представления Помпонацци. Так он по сути
преобразует страдательный ум Аристотеля в новую
разновидность активного ума, неизвестную античности. Исподволь в
учении Помпонацци место разума как страдательной
способности занимает разум в форме разумных универсальных действий
человеческого тела.
Но тем самым наполняется новым смыслом и представление о
смертной душе человека. В ней появляется момент бессмертия и
налет идеальности, неизвестные животным. Этот новый взгляд
на душу человека связан у Помпонацци, и это стоит оговорить
особо, не с пассивностью, а именно с активностью человеческого
разума, выраженной в форме телесных действий. И такого рода
активность ума была неизвестна Аристотелю, а потому есть
результат неявной, но существенной ревизии его учения.
Указанный поворот в воззрениях Помпонацци можно
считать существенным шагом в направлении деятельностного
подхода к решению проблемы идеального и, соответственно,
природы человека. Но между широко понятым «деятельностным
подходом » и культурно-исторической точкой зрения на сущ-
188
ность человека есть важное различие. Первое является только
предпосылкой второго, поскольку культурно-исторический
подход к человеку — это признание того, что его универсальность
формируется не где-то в глубинах действий отдельного
индивида, но во вполне предметном пространстве его совместной
деятельности с другими людьми319.
А из этого следует, что субстанциальным истоком
своеобразия человека и его разумной души является не некая абстрактная
субъективная деятельность, а те ее вполне конкретные
объективные формы, которые рождаются в культурно-историческом
деятельном общении людей и являются не только результатом
такого общения, но и его необходимой предпосылкой. Таким
образом, культурно-историческая методология предполагает не
только объективное содержание, но и объективные формы, в
которых осуществляется универсальная деятельность людей.
Итак, универсальность универсальности рознь. И человек —
отнюдь не мифический Протей, способный воплощаться в
любую сущность и оборачиваться любой природой. В
бесчисленных американских фильмах о внеземных пришельцах, которые
способны внедряться в земные тела, есть свои штампы. Их суть
наиболее отчетливо выражена в фильме режиссера Д. Карпен-
тера «Нечто ». Найденное в арктических льдах внеземное
«нечто » обладает особой пластичностью, границы которой,
однако, определены жизнью. «Нечто » способно воплощаться
только в живые организмы. И это понятно. Если бы «нечто»
воплощалось во все подряд, то рассказанная история лишилась
бы сюжета. «Телом » этого внеземного пришельца должна была
молниеносно стать вся Земля и по сути все мироздание.
«Философия » такого рода фантазий интересна именно тем,
что здесь по-своему решается вопрос о пределах и формах
пластичности живого существа. Ведь абсолютно пластичное живое
тело — это тоже нонсенс. Если оно способно становиться
любым живым существом, то как тогда понять, где в плененном
существе свое и где чужое} Именно поэтому во всех указанных
кинофантазиях, включая «Нечто », одна органическая форма
воплощается в другие, имея при этом свой собственный облик в
3X9 В России (и бывшем СССР) такая методология была представлена
в философии Э.В. Ильенкова, психологической теории Л.С. Выготского,
работах K.P. Мегрелидзс, исследованиях психологов А.Н. Леонтьева,
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, а также в педагогической теории и
практике А.И. Мещерякова.
119
виде отвратительной помеси осьминога с пауком, снабженного
не менее ужасными и отвратительными зубами.
Такая картина, конечно, впечатляет, но философски
искушенному человеку ничего не объясняет. Ведь абсолютно
пластичная органика не может иметь своей собственной
определенной формы. Самый распространенный на Земле способ
внедрения живого в живое представлен пресловутыми бактериями и
микробами. Но микроб, в отличие от «нечто », внедряясь в
живое тело, не трансформирует его внешнего вида. А если бы он
мог это сделать, то, скорее всего, навязал свой внешний вид, а не
уподобился чужому.
В указанном выше кинематографическом штампе нет логики,
но есть предыстория. Ведь, в конце концов, и сын бога
Посейдона Протей, обладая способностью воплощаться в любое
животное существо, а также в природные стихии, т. е. в огонь, лед и
пламень, согласно античным мифам, имел и свой собственный
облик сонливого старичка. И тому, кто добирался до этого
подлинного облика Протея, он предугадывал будущее и раскрывал
тайны богов.
Но находясь на почве науки и философии, а не
мифологический фантазий, мы можем говорить, прежде всего, о
самоуподоблении живых существ, когда они мимикрируют в борьбе за
выживание. Причем, если до появления человека главный
способ выживания, согласно Ч. Дарвину, заключался в
приспособлении своего тела к окружающей природе, то с появлением
человека возникает новая стратегия жизни. Человек, как уже не
раз говорилось, целенаправленно уподобляет свою
деятельность формам внешнего мира, создавая таким образом из самой
природы приспособления для выживания своего рода.
Биологические возможности тела, тем самым, дополняются у человека
возможностями многообразных «искусственных органов»,
принадлежащих миру культуры.
Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что речь идет о
воплощении в деятельности человека именно формы другого тела. Но
подобное «сканирование» внешних и внутренних форм вещей —
отнюдь не самоцель нашего существования. Стремление к
универсальности как воссозданию форм природы вне всяких
границ — нечто тоже из области фантазий. Таким образом, вновь
возникает вопрос о собственных внутренних регулятивах
универсальной деятельности человека.
ш
Итак, универсальность человека не в том, что он может, как
Протей, превращать свое тело в любую природную форму. Его
универсализм не стоит отождествлять и со стремлением
бесконечно воссоздавать формы природы — в теоретической мысли,
искусстве и практической деятельности. В деятельном
воссоздании форм внешнего мира должна быть своя внутренняя мера
и граница, которая принадлежит уже не природе, а именно миру
культуры. И как раз она выражает универсальность
человеческого существа наиболее адекватным образом.
В наши дни существование этой внутренней меры наиболее
наглядно проявило себя в дискуссиях по вопросу клонирования
человека. С точки зрения технологии деятельности препятствий
для подобного тиражирования уже живущих людей как будто
нет. Зато во весь рост встал вопрос о нравственной стороне дела,
когда узкоспециальную деятельность биологов начали мерить
универсальной мерой Добра и Зла, кантовским категорическим
императивом: «Человек всегда цель и никогда средство».
Этот конкретный случай — прекрасный пример того, что
универсальность нашей деятельности, скорее, не отменяется, а
утверждается ее самоопределением посредством нравственных,
эстетических и других норм и идеалов. Иначе говоря,
человеческая универсальность выражается не в том, сколько природных
форм освоил человек, но в том, как он их освоил.
Универсальность человека выражается не абстрактно-общим
представлением о бесконечном числе освоенных природных форм.
Она, скорее, отсылает нас к универсальному способу освоения
мира человеком. И анализ этого способа с необходимостью
становится анализом всеобщих форм и регулятивов, которые
присущи только деятельности в мире культуры.
Но вернемся к П. Помпонацци, у которого данный поворот
проблемы универсальности человека связан с его анализом
счастья как цели нашего существования. Причем, обращаясь в
связи с этим к этическим работам Аристотеля, Помпонацци опять
же корректирует его позицию.
У Аристотеля неразумная душа всегда существует как
отдельное, а разумная в виде деятельного ума как общее.
Деятельность Нуса и по форме и по содержанию своему, согласно
Аристотелю, является всеобщей. Иначе у Помпонацци, у которого
отдельное может стать общим через универсальную телесную
деятельность. «Кроме того,— читаем мы у Помпонацци,— если
мы рассмотрим все местности, обитаемые людьми, то мы обна-
101
ружим, что больше людей более похожих на диких зверей, чем
на людей, и лишь немного найдется действительно разумных. Да
и эти разумные могут именоваться по своей природе
неразумными и называются разумными только в сравнении с другими в
высшей мере зверскими... »J2°.
Указанный разброс в состоянии человеческих душ, согласно
Помпонацци, не абсолютен. В каждом из нас, считает он,
присутствует начало индивидуального выбора. А потому каждому
доступно восхождение от неразумного состояния к разумному,
по мере которого возрастает и нечто бессмертное и
нематериальное в душе человека. В ходе воспитания и самовоспитания
индивидуальная душа, согласно Помпонацци, не столько
даруется нам, как следует из христианской доктрины, сколько
именно возникает. При этом, как уже говорилось, человек может, с
одной стороны, дать волю питающей и ощущающей
способностям, а с другой — может подчинить их разуму и нравственности,
которые придают всему меру.
Вечное и абсолютное бытие интеллигенции ясно, как божий
день. Сложнее с человеком, хотя и здесь Помпонацци находит
выход из положения у Аристотеля — в его этике
прижизненного приобщения ко всеобщему. Помпонацци говорит о
бессмертии человека, но только в отношении целей души, а не ее самой,
неотделимой от смертного тела. Душа — это единство действий
человека, которые только по своим ориентирам бессмертны.
Именно таким способом индивидуальная душа оказывается у
Помпонацци в «некотором отношении » бессмертной. Но что
говорится о таком приобщении к бессмертию у самого
Аристотеля? Каковы всеобщие ориентиры человеческой души, по
Аристотелю, и как их обретает душа?
Ответ на эти вопросы предполагает развенчание одного из
«мифов », касающихся творчества Аристотеля. В его основе
модернизация оценки Стагиритом человека как «общественного
животного ». Взятое вне контекста, такое определение выглядит
неким преддверием марксизма, и отсюда частые ссылки на него в
философии советского периода. Но такого рода модернизация
обнаруживает свою беспочвенность, если обратиться к работе
«История животных», впервые изданной на русском языке в
1996 году, поскольку именно в ней, а не в этических или полити-
т Помпонацци П. Трактаты *0 бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 49.
18?
ческих произведениях Аристотеля, мы находим исходное
определение человека как «общественногоживотного».
Как следует из названия, «История животных» относится к
биологическим работам Аристотеля. На протяжении столетий она
служила источником знаний для многих поколений биологов,
среди которых великие К. Линней и Ж. Кювье. В этой работе
Аристотель дает свод эмпирических знаний о фауне многих регионов, а
также пытается описать и распределить обнаруженных
животных согласно родам и видам. Именно в этом контексте и
появляется у Аристотеля впервые понятие «общественное животное ».
В первой же главе первой книги «Истории животных»
Аристотель относит человека по образу жизни и действий к «стадным »
животным, какие могут быть и среди ходящих, и среди
плавающих, и среди летающих. Стадные животные
противопоставляются им одиночкам. В свою очередь, среди стадных животных
Аристотель выделяет «общественных животных», которые живут не
разбросанно, а вместе, выполняя определенную функцию в
животном коллективе. К таким «общественным » по характеру
жизни существам Аристотель относит человека, пчелу, осу, муравья
и журавля321. В другом месте, правда, Аристотель отмечает, что
человек по образу жизни может быть не только общественным,
но и одиночным существом, т. е. «бывает и тем и другим »322.
Классификационные признаки человека в «Истории
животных » приведенным выше не ограничиваются. Так Аристотель, к
примеру, относит человека к «домашним животным », наравне с
мулом. «Далее,— пишет он,— есть животные домашние и дикие;
одни бывают такими всегда, как человек и мул всегда бывают
домашними, пард, волк всегда дикими, другие быстро могут
одомашниваться, как слон. Или иначе: все роды, которые являются
ручными, бывают и дикими, например, лошади, быки, свиньи,
овцы, козы, собаки»323.
Кроме этого, в «Истории животных» можно найти
определение человека как животного, которое, будучи двуногим,
единственное является живородящим324. Также, по мнению
Аристотеля, «неподвижным ухом из имеющих эту часть обладает
только человек»325. К отличительным признакам человека, помимо
321 См. Аристотель. История животных.— М., 1996.— С. 74-75.
322 Там же.— С. 74.
323 Там же.— С. 75.
324 Там же.- С. 193.
"' Там же.- С. 85.
193
прочего, Аристотель относит трехкамерное сердце, единое, хотя
и разделенное на две части, легкое, двурогую матку и 8 пар
ребер. По Аристотелю, человек еще и единственное существо, у
которого не болит сердце и который не заболевает после укуса
бешеной собаки.
Приведенные медицинские и анатомические сведения,
конечно, неверны, анатомические — по причине существовавшего
запрета на вскрытие умерших. Но суть не в фактических ошибках
Аристотеля, а в другом. Человек у Аристотеля, как следует из
«Истории животных», не выделяется из животного мира, а
является одной из ступеней в иерархии живых существ. И даже
там, где речь идет об одомашнивании диких животных, человек
оказывается одним из них. Но если человек не является
субъектом окультуривания животного мира, то как возможно само
одомашнивание, и кто хозяин в этом доме?
Наибольшую последовательность в этом вопросе Аристотель
проявляет там, где речь идет о способности человека к
воспитанию и о его способности рассуждать, которые, согласно
Аристотелю, не меняют положения человека в ряду других живых
существ. В этом вопросе Аристотель расходится даже со своим
учеником Теофрастом, в биологических исследованиях
которого можно прочесть: «Человек — существо или единственное, или
по преимуществу поддающееся культуре»326. В
противоположность Теофрасту, Аристотель в «Топике» заявляет, что если
человек — это «живое существо, от природы поддающееся
воспитанию », то не нужно преувеличивать эту способность
человека, т. е. представлять ее «в превосходной степени », как это по
сути выходит у Теофраста327.
Здесь следует заметить, что в работах, посвященных
проблемам этики и политики, Аристотель часто использует
характеристику человека как «политического животного» или же
«полисного животного ». Именно так следовало бы переводить выра-
жение «dzoion politikon» в первой главе первой книги
«Никомаховой этики », где мы читаем: «Понятие
самодостаточности мы применяем не к одному человеку, ведущему одинокую
жизнь, но к человеку вместе с родителями и детьми, женой и
вообще всеми близкими и согражданами, поскольку человек —
по природе [существо] общественное »328. Но в случае с «dzoion
,м Феофраст (Теофраст). Исследования о растениях.— М., 1951.— С. 21.
327 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1978.— Т. 2.— С. 461.
328 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 63
184
politikon » как «полисным животным » Аристотель фиксирует
внимание лишь на внешней стороне образа жизни человека.
Б.А. Старостин, научный редактор и автор предисловия к
переводу «Истории животных » на русский язык,
осуществленному в 1950-м и впервые опубликованному в 1996-м году в
издательстве РГГУ, характеризует аристотелевский подход к
человеку как своеобразное проявление «антропного принципа»*29.
Аристотель действительно встраивает человека в иерархию
животного мира, но с другой стороны, он определяет черты
животных, пользуясь этическими оценками «дурной-хороший»,
«верный-неверный», «разумный-неразумный». Все это, по мнению
Старостина, говорит о «человеческом масштабе», который
Аристотель прилагает к животным и всему остальному миру.
А в результате мир в учении Аристотеля един и гармоничен во
всех частях и проявлениях330.
Если новомодный «антропный принцип» применительно к
Аристотелю может быть и сомнителен, то к утверждению
Старостина о стремлении Аристотеля к гармоничной картине мира
стоит присоединиться. Такое стремление, безусловно,
проистекает из фундаментального античного ощущения мировой
гармонии. Ведь недаром слова «космос» и «косметика» происходят
от одного греческого корня, означающего красоту и
совершенство. Другой вопрос — каким способом достигается эта
гармония. И здесь, Аристотель, скорее всего, действует
наперекор своему учителю Платону.
Напомним, что именно основоположник европейского
идеализма Платон мерял природный мир человеческой мерой. А
потому в его учении мир идей венчает Высшее Благо — начало как
природного, так и человеческого бытия. Иначе выглядит учение
Аристотеля, в котором человек рассматривается с точки зрения
животного и растения, а растение и животное — с точки зрения
человека. Иначе говоря, если платонизм — можно считать
результатом проекции меры человека на природу', то аристоте-
лизм — это во многом результат проекции меры природы на
человека. Конечно, Аристотель, отнюдь не однозначен.
Каждый раз вопрос о методологии Аристотеля нужно решать кон-
329 Старостин Б.А. Аристотелевская «История животных» как
памятник естественно-научной и гуманитарной мысли // Аристотель. История
животных.— М., 1996.— С. 22.
330 См.: там же.— С. 20.
195
кретно. И тем не менее, этические представления Аристотеля по
большому счету адекватны тому естественно-научному подходу
к человеку, который представлен в «Истории животных ».
В анализе того или иного учения нельзя идти на поводу у
терминологии. И если Аристотель говорит о человеке как об
«общественном животном », то это еще не означает, что именно
общественной жизнью у Аристотеля определяется природа
человека. Несмотря на разные эпохи, Аристотель здесь
сопоставим с Л. Фейербахом, который исписывал страницы
рассуждениями о роли общения в жизни человека. Творчество
Фейербаха — это гимн общению, братской любви, любви мужчины к
женщине. И тем не менее, общение Я и Ты в
антропологическом материализме Фейербаха не имеет отношения к реальному
обществу и культуре. «Но любовь!— иронизировал по этому
поводу Ф. Энгельс,— да, любовь везде и всегда является у
Фейербаха чудотворцем, который должен выручать из всех
трудностей практической жизни,— и это в обществе, разделенном на
классы с диаметрально противоположными интересами! »331
Итак, в случае фейербахианства в отношении основных
качеств человека реальная культура и история оказываются
бесплодны. И прежде всего потому, что человек наделен такими
качествами от природы. Взаимная любовь и сердечное общение
у Фейербаха — проявление внеисторической сущность
человека. А реальные формы культуры в лучшем случае исполняют
здесь роль инструмента.
Аналогичное инструментальное отношение к культуре по
сути представлено в этической теории Аристотеля. И это при
том, что исследованию взаимоотношений людей посвящены здесь
три больших произведения, связанных с именем Аристотеля,—
«Никомахова этика», «Эвдемова этика» и «Большая этика».
Указанные произведения отличает та же энциклопедичностъ,
что и его труды в области биологии. И в них так же, как и в
биологических работах, довлеет эмпирическая сторона дела, т. е.
описание многообразных склонностей и типов поведения людей.
Как верно подметил С.Н. Бычков, в своих этических
произведениях Аристотель вновь предстает перед нами как «первый
позитивист». И это видно уже в полемических выпадах против
платоновского Высшего Блага в пользу всегда конкретного относи-
331 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии.— М., 1966.— С. 34.
196
тельного блага. Именно в связи с этой критикой Платона в «Ни-
комаховой этике » появляется широко известное выражение,
ставшее затем афоризмом: «Платон мне — друг, но истина дороже ».
Идея Блага «самого по себе», узнаем мы из «Никомаховой
этики», не оправдала себя, хотя эту идею и «ввели близкие [нам]
люди ». «Что же касается блага,— читаем мы в самом начале
работы,— то оно определяется [в категориях] сути, качества и
отношения,. .., а значит, общая идея для [всего] этого невозможна »332.
И далее ситуация уточняется следующим образом: «Так,
например, благо с точки зрения своевременности, если речь идет о
войне, определяется военачалием, а если речь идет о болезни —
врачеванием; или благо с точки зрения меры для питания
[определяется] врачеванием, а для телесных нагрузок — гимнастикой »333.
Понятно, что и нравственную добродетель, в противовес
Сократу и Платону, Аристотель не признает в качестве
самодостаточного начала, хотя и причисляет добродетельные
поступки к деятельностям, которые избираются сами по себе, наряду с
развлечениями и созерцанием истины334. В этом вопросе
Аристотель опять демонстрирует двойственность. И, тем не менее,
этическое знание (to ethikon) отнесено у Аристотеля к
практическим знаниям, и в качестве практики нацелено не на общее, а
на отдельное в виде действий и поступков человека.
Своеобразие его позиции в том, что нравственная добродетель у
Аристотеля по большому счету не субстанциальна, а акцидентальна.
Если у Сократа и Платона такая добродетель — изначальное
основание человеческой души, из которого выводится
своеобразие действий человека, то у Аристотеля она, будучи
основанием поступков, в свою очередь, выводится из практики. И
выводит Аристотель нравственные добродетели из практической
жизни, опираясь на силу рассудка.
Любые добродетели, согласно Аристотелю, даны нам не от
природы, но и не вопреки природе. В людях заключена
возможность стать добродетельными. Но чтобы она была реализована,
необходимы действия рассудка и усилия воли. Уточняя суть
добродетели вообще, Аристотель говорит о ней, как о складе
души, «при котором происходит становление добродетельного
человека и при котором он хорошо выполняет свое дело »335.
332 Аристотель. Соч.: В 4 т.- М., 1984.— Т. 4.— С. 59.
331 Там же.— С. 60.
334 См.: там же.— С. 279-281.
335 Там же.- С. 85.
117
Во всем непрерывном и делимом, согласно Аристотелю,
можно взять части большие, меньшие и равные, а равенство у него это
«некая середина (meson ti) между избытком и недостатком»336.
Аристотель различает простую арифметическую середину, когда
десять много, а два мало, и в этом случае серединой будет шесть.
В отношении человека, уточняет Аристотель, такое
недопустимо, и, как в питании атлетов, каждый человек в соответствии со
своими потребностями ищет «золотуюсередину» сам.
Известно, что Аристотель различал две разновидности
добродетелей: дианоэтические, т. е., мыслительные, и собственно
этические, которые проявляют себя не в мышлении, а в
поведении. Обеими разновидностями добродетели человек у
Аристотеля овладевает при жизни: дианоэтическими — в процессе
обучения, а этическими — в процессе воспитания. «Итак, при наличии
добродетели двух [видов], как мыслительной, так и
нравственной,— читаем мы во второй книге «Никомаховой этики »,—
мыслительная возникает преимущественно благодаря обучению и
именно поэтому нуждается в долгом упражнении, а нравственная
(ethike) рождается привычкой (ex ethoys), откуда и получила
название: отэтос при небольшом изменении буквы»337.
Что касается нравственных добродетелей, то их Аристотель
характеризует как «середину двух пороков». В страстях и
поступках, отмечает он, тоже есть свой недостаток, избыток и
середина. «Рассудительность» (phronesis), согласно Аристотелю,
является как раз той дианоэтической добродетелью, которая
помогает выявить подобную «золотую середину» в поведении
человека. Дианоэтическая добродетель в данном случае
выступает в роли предпосылки добродетелей собственно этических.
Примеров того, как рассудок определяет нравственную
добродетель, отталкиваясь от двух крайностей в поведении человека,
в «Никомаховой этике » множество. Если такие дурные страсти
как злорадство, бесстыдство, злоба, и такие поступки, как блуд,
воровство и человекоубийство, согласно Аристотелю, не могут
иметь «золотой середины », то она возможна в других случаях.
К примеру, мужество (andreia) — это середина между страхом
(phobos) и отвагой (tharrhe). В отношении чести (time) и бесчестия
(atimia) серединой является величавость ( megalopsykhia) и т. д338.
3,6 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 85.
JJ7 Там же.— С. 78.
,м См.: там же.— С. 88-92.
Ill
«Итак,— пишет Аристотель,— добродетель есть сознательно
избираемый склад [души], состоящий в обладании серединой по
отношению к нам, причем определенной таким суждением, каким
определит ее рассудительный человек »339. Исходя даже из этого
общего определения добродетели, уже видно, что она у
Аристотеля несопоставима с идеалом в традициях, заложенных в свое
время Сократом. К идеалам такую норму поведения, выводимую
посредством рассуждения, а по сути здравого смысла, можно
отнести условно, а точнее — в условиях и рамках, задаваемых
позитивно-научным подходом. И как раз при таком подходе к
добродетели область нравственного выбора и вся социальная жизнь
оказывается чем-то сугубо прикладным и инструментальным.
По большому счету социальная жизнь у Аристотеля должна
обеспечить выживание человеческому роду подобно тому, как
обеспечивает выживание стадным животным их стадо, а
одиночным животным — их изоляция. Человек как «общественное
животное* пользуется у Аристотеля социальными нормой как
инструментом. И такие нормы, как и вся социальная жизнь,
остаются внешними сущности человека. Социальность у
Аристотеля —такая же внешняя форма, как и в антропологии Л.
Фейербаха. Вовсе не здесь, согласно Аристотелю, выражает себя
назначение человека, не здесь он достигает наивысшего счастья.
Итак, после взвешивания на весах рассудка нравственные
добродетели у Аристотеля, в отличие от Сократа и Платона,
лишаются своего субстанциального смысла. Но этические
воззрения Аристотеля, конечно, не такие элементарные и плоские,
как, к примеру, этика позднейшего утилитаризма с его
принципом «разумного эгоизма». И Аристотель, скорее всего,
чувствует уязвимость своей позиции, тем более, перед лицом такого
грозного противника, каким был и остается идеализм Платона.
В частности, в своем в трактате «О душе » Аристотель пытается
обозначить иной угол зрения на этическую проблематику,
которым в силу его непоследовательности смогли воспользоваться
лишь философы отдаленного будущего.
Речь идет о начале первой книги трактата «О душе », где
Аристотель различает две точки зрения на душевные движения
человека такого характера, например, как гнев. Один подход
представлен здесь «рассуждающим о природе», и он, скорее всего,
предваряет позицию современного естествоиспытателя. Другая
339 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 87.
191
позиция у Аристотеля представлена «диалектиком», и он по сути
олицетворяет классическую философию. Аристотель замечает,
' что представители этих двух позиций по-разному определили
бы природу гнева. «А именно:— пишет Аристотель,—
диалектик определил бы гнев как стремление отомстить за
оскорбление или что-нибудь в этом роде; рассуждающий же о природе —
как кипение крови или жара около сердца »J40.
Первый, по мнению Аристотеля, объясняет гнев сущностью,
а значит формой вещи, второй — ее материей. При этом и то, и
другое может лежать в основе определения этого явления.
Аристотель приводит пример с домом, который можно определять
через его форму и цель, т. е. как укрытие, защищающее от
действия ветров, дождя и жары, а также через его материю, т. е.
как нечто, состоящее из бревен, камней и кирпичей. Но и эту
материю, в свою очередь, можно рассматривать с точки зрения
формы и целей, теперь уже целей камня, кирпича и т. д.
Приводя в пример подход математиков, отвлекающихся от
материи отдельных тел в пользу их формы, а также подход
«занимающихся первой философией », которые отвлекаются от всего
телесного вообще, Аристотель предлагает занять новую
позицию «рассуждающему о природе ». Поскольку в вещах материя
всегда оформлена, и состояние тела неотделимо от самого тела,
этот новый подход должен быть не односторонним, а
синтетическим, т. е. строиться на рассуждениях о состояниях и форме
тела как неотделимых от материи341. Таков ход рассуждений
Аристотеля в пользу нового варианта естественно-научного
подхода, который, скорее всего, и попытался реализовать
Аристотель в своем трактате «О душе ».
В начале главы, посвященной Аристотелю, мы уже
сравнивали исходные позиции и итоги, к которым он пришел в трактате
«О душе ». И здесь имеет смысл сделать лишь акцент,
оттеняющий аристотелевскую этическую позицию. Дело в том, что, на
первый взгляд, новый подход, предложенный Аристотелем
«рассматривающим природу», способен поглотить или, на языке
Гегеля, «снять» позицию «диалектика». Но так ситуация
выглядит только на первый взгляд. На деле «в остатке» оказывается
самое существо дела, и именно потому, что в определении
такого нравственного феномена, как гнев, Аристотель сделал
выбор в пользу «рассуждающего о природе».
340 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 374.
341 См.: там же.
m
Дело в том, что применительно к душевным движениям
человека, и нравственным в частности, простой «синтез» точек
зрения содержания и формы ничего не дает. В случае с гневом такой
«синтез » выглядит как «кипение крови из желания отомстить за
оскорбление ». Но в том-то и дело, что в приведенном
определении отсутствует объяснение природы гнева. И как раз потому,
что природа человеческой души находится за рамками
методологических возможностей естествознания.
Кипение крови есть материальный процесс, который присущ
человеку, наравне с животным. И основой гнева он становится
лишь в свете взаимоотношений между людьми. Подчеркнем еще
раз: в свете взаимоотношений между людьми, а не между телом
и душой, как это выходит у Аристотеля. А увязать
материальный процесс с душевным состоянием человека, признав жажду
мести формой и целью кипения крови у человека, еще не значит
объяснить природу гнева. Гнев действительно заставляет кипеть
кровь! Но почему такое бывает у людей, и этого нет у животных?
Объяснить природу гнева — это значит объяснить, почему
люди именно гневаются, а не рычат и кусаются, когда их
оскорбляют. Почему люди отвечают на оскорбление не прямым
физическим действием, а душевным движением, и это идеальное
движение опосредует материальные действия людей, в отличие от
животных? И почему эти опосредующие душевные движения
способны обрести такую гипертрофированную форму, что человек
умирает и именно от переживаний, а не от реальной опасности?
Интересно, что Аристотель указывает в первой главе
трактата «О душе » на случаи неадекватного поведения человека, когда
он может, к примеру, внешне не реагировать на постигшее его
большое горе, зато в другом случае по незначительному поводу
приходит в большое волнение и пугается там, где для этого как
будто нет никаких предпосылок342.
Всеми этими сложными моментами в поведении человека
занимается психология, а не физиология, имеющая отношение
к процессу кипения человеческой крови. Но и психолог
беспомощен, если не понимает того, в чем природа оскорбления, и
почему его нет в животном мире, где ни у кого не кипит кровь в
ответ на нескромный намек или дурное слово.
Иначе говоря, объяснение природы гнева предполагает
переход от натуры к культуре, где собственно и проявляют себя
дружба и ненависть, гнев и смирение. И природу этих душевных
ш Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1984.— Т. 4.— С. 373.
201
состояний не объяснить, исходя из соотношения души и тела в
отдельном человеке. Вне анализа идеалов как субстанциальных
форм поведения человека никак не объяснить идеальности
душевных состояний человека, которые — состояния души, а не
реакции организма.
Итак, в первой главе трактата «О душе» присутствует только
намек на иной способ размышлений в образе «диалектика »,
который отличен и от логики естествоиспытателя (
«размышляющего о природе »), и от логики философа-метафизика (
«размышляющего о первой философии »). Но вернемся к сути
добродетели, которая в этике Аристотеля оказывается прежде всего
средством, которое используют для совместного выживания в
этом мире. И как раз этому практическому занятию, наряду с
творческими занятиями людей, Аристотель противопоставляет
теорию как созерцание всеобщих основ бытия.
Теорией, согласно Аристотелю, занимается философ,
которого впоследствии будут именовать «метафизиком», поскольку
он созерцает первопричины за пределами «фюсиса », т. е.
природы. Здесь используют уже не «рассудительность», а «мудрость»,
которой, согласно Аристотелю, открыто не частное, но общее.
Кстати, следует уточнить: насчет того, сколько и какие диано-
этические добродетели выделял Аристотель, у историков
философии существуют разногласия.
Так всемирно известный немецкий историк философии Э. Цел-
лер указывает на три дианоэтических добродетели в учении
Аристотеля, среди которых мудрость (σοφία), рассудительность
(φρονησιζ), и искусство (τέχνη )*°. Другой немецкий историк
философии В. Виндельбанд предлагает целое «дерево
»дианоэтических добродетелей, от ствола которого отходят три ветви. Одна ветвь
связана с мудростью как высшей дианоэтической добродетелью,
другая — с искусством в форме «τέχνη » и третья — с
практичностью, которая, в свою очередь, предстает в форме
рассудительности и здравого смысла или, по-другому, целесообразности*".
В отличие от них, отечественные историки философии
В.Ф. Асмус345 и А.Н. Чанышев346 указывают на другие дианоэ-
ш См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.—
С. 187.
144 См.: Виндельбанд В. История древней философии.— Киев, 1995.— С. 240.
345 См.: Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.— С. 365.
34*См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.—
С.352.
202
тические добродетели. С Э. Целлером и В. Виндельбандом
наблюдается совпадение лишь в отношении мудрости, помимо
которой Асмус и Чанышев считают дианоэтическими
добродетелями у Аристотеля разумность и благоразумие.
Повод для всех этих разночтений дает сам Аристотель,
который в шестой книге «Никомаховой этики », посвященной диано-
этическим добродетелям, подробным образом характеризует
множество способностей, которые так или иначе участвуют в
действиях разумной части человеческой души. Разбираться в
соотношении этих способностей — дело специалистов. Нам же
достаточно согласиться с окончательным выводом, который
делает Аристотель в той же шестой книге «Никомаховой этики ».
«Но рассудительность,— пишет Аристотель,— все же не
главнее мудрости и лучшей части души, так же как врачевание не
главнее здоровья, но только следит, чтобы мудрость возникла
[и развилась]»347.
Итак, рассудительность и мудрость — вот о чем в итоге
книги о дианоэтических добродетелях говорит Аристотель. А
потому имеет смысл присоединиться к мнению Ф.Х. Кессиди,
различающему практическую мудрость в форме «фронесиса», т. е.
рассудительности, и теоретическую мудрость в форме «софии»,
которые в качестве дианоэтических добродетелей
соответствуют двум частям разумной души в учении Аристотеля348.
Итак, в созерцании первооснов при помощи мудрости как
высшей дианоэтической добродетели Аристотель видит
подлинное счастье, реально доступное немногим.
Аристотель считает, что склонность к теоретическим
занятиям совершенствует людей и в нравственном плане. И в этом
смысле не только рассудительность, но и мудрость является
предпосылкой нравственных добродетелей человека. И тем не
менее, по большому счету только теория у Аристотеля
приобщает людей к идеальному миру. А значит только
теоретическая идея в этике Аристотеля сопоставима с представлением об
идеале у Сократа и Платона. В теоретическом познании у
Аристотеля мы по сути имеем дело с мерой космоса, представленной
в уме Бога-Перводвигателя, к которому приобщается философ.
Иначе выглядит эта ситуация у Помпонацци, для которого сча- -
стье — это не теория, а наоборот, нравственная практика. И в
147 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 190.
ш См.: там же.— С. 24.
203
этой практике человек воплощает скорее не космическую, а свою
собственную абсолютную меру.
В «Никомаховой этике» можно прочесть: «Нет, не нужно
[следовать] увещеваниям «человеку разуметь (phronein)
человеческое» и «смертному — смертное»; напротив, насколько
возможно, надо возвышаться до бессмертия (athanatidzein) и
делать все ради жизни (pros to dzen), соответствующей
наивысшему в самом себе... »34!>. Здесь, как и в других случаях, у Аристотеля
приобщение к бессмертию совпадает с теоретическими занятиями
философа. Но Помпонацци не устраивает, что лишь философам
открыта возможность приобщиться ко всеобщему. Как
представителя Возрождения Помпонацци интересует такая
деятельность, которая была бы доступна не избранным, а всем.
До сих пор речь шла о различении Помпонацци, вслед за
Аристотелем, деятельного и страдательного ума, а в другой
терминологии — ума активного и пассивного. Но под конец своего
«Трактата о бессмертии души », рассуждая о способах достижения
человеком счастья, он говорит уже о трех разновидностях ума:
созерцательном, деятельном и практическом. Указанная
система координат, скорее всего, задана этическими работами
Аристотеля. Но Помпонацци здесь, как и в других случаях, предлагает
нам собственную трактовку и решение проблемы.
Практический разум, отмечает Помпонацци, будучи
механическим, является низшим из всех видов разума. По мнению
Помпонацци, ему причастны не только люди, но и животные,
сооружающие себе жилища, а среди людей прежде всего
женщины, которые ткут, прядут, шьют и пр. Мужчинам тоже
присущ такой разум, пишет Помпонацци, имея в виду
ремесленников, но в таком случае человек исполняет лишь один вид
деятельности, иначе он не преуспеет ни в одном350.
Иначе говоря, применительно к практическому уму не все
люди в равной степени добиваются успехов. И то же касается,
согласно Помпонацци, причастности к уму созерцательному,
связанному со знанием первых начал. Знание первых начал у
Помпонацци, безусловно, обладает всеобщностью. Но, будучи
всеобщим, такое знание не всем доступно. В результате после
общих фраз о причастности людей ко всем видам разума, Пом-
349 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 283.
т См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 98.
204
понацци противопоставляет двум указанным разновидностям ум
деятельный, благодаря которому люди различают добро и зло.
«Не все могут обладать равным совершенством,—
подчеркивает Помпонацци,— но одним оно дано в большей, другим в
меньшей мере. Если же уничтожить это неравенство, род
человеческий либо погибнет, либо будет лишен совершенства. Но есть у
людей нечто, общее им всем или почти всем. Иначе они не были
бы частями одного рода, стремящегося к единому общему
благу...»351. И далее он продолжает: «Деятельный же ум поистине
подобает человеку. И всякий человек, если он не убогий, вполне
может в совершенстве следовать ему.... Ведь человек именуется
хорошим и дурным соответственно его добродетелям и
порокам. А хороший метафизик не называется хорошим человеком,
но хорошим метафизиком; и хороший домостроитель не
называется хорошим в абсолютном смысле, но хорошим строителем.
Вот почему человек не будет считать себя оскорбленным, если
его назовут метафизиком, философом или кузнецом; но если
его назовут вором либо припишут ему невоздержанность,
несправедливость, неблагоразумие и иные пороки, крайне
вознегодует и вспылит, поскольку быть добродетельным или
порочным — в нашей власти, быть же философом или строителем —
не зависит от нас и не обязательно для человека »352.
Итак, теоретической мудрости и практическим знаниям
Помпонацци противопоставляет именно нравственность как
всеобщее, способное сделать любого человека человеком. «Поэтому
всеобщая цель человеческого рода,— читаем мы у
Помпонацци.— заключается лишь в относительной причастности
созерцательному и практическому видам разума и в совершенной
причастности разуму деятельному»353. И в таком понимании он ближе
к Платону, чем к Аристотелю. Именно благодаря нравственной
добродетели человек, согласно Помпонацци, становится
хорошим в абсолютном смысле. И этот акцент, безусловно, чужд
этике Аристотеля.
Тема нравственной добродетели как абсолюта неоднократно
повторяется у Помпонацци и достигает своего апогея в
утверждении самоценности добра. «...И поскольку нет ничего выше и
3.1 См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 96.
3.2 Там же.- С. 98
3.3 Там же.- С. 99.
205
счастливее самой добродетели — пишет Помпонацци,— то
именно ее и следует предпочесть »зн. Добродетель, которая
совершается в надежде на воздаяние или из страха возмездия,
настаивает Помпонацци, «п ривносит в душу нечто рабское, что
противоречит самим основаниям добродетели »3". Поэтому подлинным
воздаянием добродетели должна быть сама же добродетель,
которая делает человека счастливым. «Ибо человеческая
природа,— пишет он,— не может достичь ничего более великого, чем
сама добродетель, потому что она одна придает человеку
уверенность и избавляет от всяческого смятения »356.
Те, кто считают душу смертной, утверждает Помпонацци,
гораздо лучше защищают добродетель, чем те, кто считают душу
бессмертной. И этот аргумент, конечно, направлен уже не против
Аристотеля с его культом теории, а против другого оппонента
Помпонацци — христианства. И тому, и другому Помпонацци
противопоставляет неявным образом этику стоицизма. «О том
же, что и даже при смертности души, в иных случаях следует
предпочесть смерть,—доказывает он,— свидетельствуют и
многие поступки животных, относительно которых нет сомнений, что
они смертны и руководимы природным инстинктом»357.
Конечно, в отличие от животных, человек сознательно
предпочитает смерть бесчестью. И как раз таким образом, предпочитая
смерть, он приобщается к бессмертию. Сохранились свидетельства
кончины самого Помпонацци, который был неизлечимо болен и
сознательно торопил смерть. Согласно свидетельствам, накануне
его кончины состоялся такой диалог: «Я ухожу, и ухожу с
радостью.— Куда же ты хочешь уйти, господин?— Туда, куда и все
смертные.— А куда уходят смертные?— Туда же, куда я и другие »358.
Приведенные слова Помпонацци могут показаться простой
софистикой. Но за ними скрывается философская позиция. В
соответствии с ней выбрать смерть, исходя из идеального
мотива,— это значит приобщиться к бессмертию. А потому,
культивировать в разумной душе моральные начала, в противовес
животному и растительному началу в человеке, означает у Помпонацци
путь к бессмертию. Бессмертие здесь представлено мерой чело-
iU См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.— С. 103.
'"Там же—С. 117.
3.6 Там же.— С. 105.
3.7 Там же — С. 104.
J" Cian V. Nuovi documenti su Pietro Pomponazzi — Venczia, 1987.— P. 30.
2И
веческого в человеке. О том, присутствует ли такая мера в мире
горнем, Помпонацци умалчивает. Но в низшем животном мире
аналога человеческой меры точно нет. Значит человек в свете
нравственной добродетели уникален... Так, отталкиваясь от
вполне скромного положения человека на лестнице разумных
существ, как это было принято у схоластов,.Помпонацци
сдвигается в сторону возрожденческого антропоцентризма.
Итак, человек у Помпонацци реализует свою сущность не в
созерцании, а в действии. И это действие в соответствии не только с
мерой природных вещей, но и с нравственностью как собственной
мерой человека. У Аристотеля высший ориентир поведения
человека — это умозрение, присущее Богу. И по сути такой ориентир
является внешним природе человека. В свете идеологии
Возрождения посредством умозрения человек сливается с мирозданием и
приобщается к бессмертию, но утрачивает свою уникальность.
У Помпонацци, как и у Аристотеля, разум позволяет
противопоставить смерти бессмертие. Смерть тела в аристотелизме в
любой его форме допускает бессмертные действия
человеческой души. Но у Аристотеля, совершая их, разумная душа
отрекается от смертного тела. Иначе у Помпонацци, у которого дело
идет к тому, что разумная душа есть само человеческое тело,
способное преодолеть свою природную ограниченность.
Причем через нравственное действие бессмертие обретает не одна
душа, но человек. Парадоксальным образом в определенных
обстоятельствах именно через смерть человек способен
обрести бессмертие. Но это не то личное бессмертие, о котором
заботится христианство. Это личное бессмертие иного рода —
бессмертие личности в мире культуры, которое не просто
допускает, а предполагает философский материализм.
Завершая разговор о Помпонацци, следует сказать, что,
предположив с самом начале двойственную природу человека,
материальную и идеальную, Помпонацци в итоге не просто
склоняется к единству человеческой природы. Он закладывает основу
для объяснения единой сущности человека как подчинения
материального идеальным. Питающая и ощущающая душа у
Помпонацци должна подчиниться душе разумной.
Когда я действую универсально, хочет сказать Помпонацци,
мое телесное действие из материальной функции превращается
в нечто идеальное, в котором представлено другое — мера
другого тела. Но это еще не все, поскольку в этом действии пред- •
ставлена мера человеческого в человеке. Разумная душа у Помпо-
207
нацци руководствуется не мерой космоса в виде идей разума, а
собственной мерой в форме нравственного идеала. В учении Пом-
" понацци, и в этом его очередная новация, добродетели имеют
более субстанциальное значение, чем в этике Аристотеля. Ведь
именно в них, согласно Помпонацци, представлен момент
нематериальности и бессмертия в смертной душе.
Добродетель у Помпонацци — собственная мера человека, в
которой по сути снята природная мера. И это означает, что
культура, будучи снятой натурой, есть превышение меры природы.
Природа в человеке превышает саму себя, выходит за свои же пределы.
И понятый так Помпонацци оказывается намного ближе к
культурно-историческому пониманию человека, чем Аристотель.
l· Современная психология о
Наиболее противоречивая ситуация с проблемой души
сегодня сложилась именно в психологии, поскольку
история этой науки до сих пор была историей ликвидации души как
псевдопроблемы. Во «Введении в психологию» П.Я. Гальперина
мы читаем: «И когда в конце XVII века в естествознании окрепло
строго причинное мировоззрение, спекуляции о «природе души »
утратили всякое доверие ученых, а душа, как объясняющая, но
сама необъяснимая сила, скрытая позади наблюдаемых
явлений, была исключена из науки »359.
Если для советского психолога Гальперина четверть века
назад изгнание души из психологии означало торжество
собственно научного подхода в исследовании человека, то сегодня это
обернулось торжеством позитивно-научного подхода. Но
повторим уже однажды сформулированный вопрос: является ли
единственной реальной альтернативой позитивной науке
христианское решение проблемы души? Этот вопрос встает наиболее
остро в связи с проектом «христианской психологии »,
представленным в оригинальном учебном пособии «Начала
христианской психологии » (1995) и ряде публикаций руководителя этого
коллектива Б.С. Братуся (1997,1999,2000)360.
JW Гальперин П.Я. Введение в психологию.— М., 1999.— С. 34.
360 См. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы
психологии.— 1997.— № 5; Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания
личности (к 20-летию со дня смерти А.Н.Леонтьева) // Вопросы
философии.— 1999.— № 11; Братусь Б.С. Психология — наука о психике или
учение о душе? // Человек.— 2000.— № 4.
201
Известно, что в далекие времена Средневековья философию
с ее теоретическими возможностями призывали на помощь
христианству. Теперь ситуация в корне изменилась, и уже
теоретики-психологи призывают к себе на помощь христианство, чтобы
разобраться с душой человека. В проекте «христианской
психологии » перед нами новый вариант компромисса между наукой и
религией, а значит симбиоза разных методологических
подходов. Но такого рода симбиоз — не следствие произвола, а
проявление объективного противоречия на пути исследования
человеческой души и природы идеального. И первым это
противоречие обнаружил Аристотель. А потому его учение оказывается
своеобразным ключом к современному проекту «христианской
психологии » и спорам о природе души в целом.
Уже само название процитированного выше издания,
появившегося семь лет назад, свидетельствует о том, что выход из
тупика ее авторы видят в возвращении к христианским
представлениям о душе. Констатируя распадение современной
психологии на множество школ и разделов, фрагментирующих и самого
человека, руководитель авторского коллектива издания
«Начала христианской психологии» Б.С. Братусь указывает на
подлинное «скрепляющее начало психологии », которым является
бессмертная душа. Единство психологии, пишет он,
«обретается через возврат в психологию того, что психология
экспериментально исследовать и измерить числом принципиально не
может. Оно обретается через возврат бессмертной души, ради
спасения которой свершает человек свой путь, вернее (если
соблюдать должную субординацию), через возврат психологии
к признанию реальности и главенствующей роли души. И хотя,
повторим, душа останется преимущественно вне рамок
психологических исследований, ее постулирование, ее благоговейное
признание, постоянная необходимость соотнесения с самим
фактом и целями ее существования неизбежно изменят, преобразят
формы и суть этих исследований»361.
Характерно то, что оценивая в первой главе учебника
взгляды родоначальников психологической науки, которые еще не
распрощались с христианским представлением о душе, Братусь
говорит не столько о единстве их позиции, сколько о ее
внутренней противоречивости. «Интересны ...,— пишет он,—
фигуры первых психологов, например Вильгельма Вундта с его су-
зл' Начала христианской психологии.— М., 1995.— С. 52.
209
губым материализмом, физиологизмом в исследовании
элементарных процессов и идеализмом в сочинениях по истории
народов и философии или — если брать отечественную историю —
Георгия Челпанова. С одной стороны, Челпанов — автор
«Введения в философию », по которому тогдашние российские
гимназисты и студенты знакомились с... формами доказательства
бытия Бога, а с другой, он — автор «Введения в
экспериментальную психологию », где подробно описаны виды тахистоскопов,
кимографов, ящиков сопротивлений... Если бы не одно и то же
имя на обложке, то нельзя было просто поверить, что эти
сочинения написаны одним и тем же человеком»362.
Итак, Г.И. Челпанов был в философии идеалистом, а в
психологии — материалистом. Но отдадим должное
основоположнику отечественной психологии, который исходил из
противоположных принципов 6 разных науках. Тем не менее, это
вызвало у Братуся сомнения в целостности его личности: «нельзя
было просто поверить, что эти сочинения написаны одним и тем
же человеком». Но как в таком случае нужно оценивать проект
«христианской психологии», в которой предлагают сочетать
идеализм с материализмом в рамках одной и той же науки}
Причем в такой «методологической шизофрении » предлагают
видеть гарантию единства будущей психологии?
Если же говорить серьезно, то «христианская психология » —
плод явного компромисса между наукой и религией. Но если
Вундт и Челпанов начали с такого компромисса, то у создателей
«христианской психологии» таков итог долгих поисков. Как
свидетельствует Братусь в журнале «Вопросы психологии », этот
поиск шел от гуманитарной психологии к психологии
нравственной, а от нее к психологии христиански ориентированной363.
Надо сказать, что попытка синтеза религиозной и научной
точки зрения на человека отнюдь не нова для европейской
культуры. На этом базируется вся христианская теология как
сочетание веры и разума, рассуждения и откровения. В отличие от
языческих теогонии, христианская теология возникает тогда,
когда мир нуждается не только в описании или восхищении, но и
в разумном объяснении. Другой пример сочетания истин веры с
истинами науки — это позиция «двойственности истины», кото-
ш Начала христианской психологии.— М., 1995.— С. 9.
363 См.: Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы
психологии.— 1997.— № 5.
210
рую, зачастую вынужденно, занимали многие
естествоиспытатели, начиная с позднего Средневековья. Тем не менее, в обоих
случаях перед нами попытка усидеть на двух стульях, т. е. опыт
изначального и непреодолимого дуализма. И проект
«христианской психологии » по сути повторяет эту ситуацию в иных
условиях, но с аналогичным результатом.
В одной из последних работ на эту тему под названием
«Психология — наука о психике или учение о душе? » Братусь кое-
что уточняет в позиции создателей «христианской психологии»,
а с другой стороны, делает эту позицию более противоречивой и
уязвимой в свете многовековых философских споров о душе и
теле человека. Дело в том, что в указанной статье Братусь
признается в недостаточной проясненности вопроса о составе души
и ее соотношении с психикой. Для него, безусловно, что ядро
человеческой души — это ее метафизическое измерение,
связанное с потусторонним миром. Речь идет о духе, который
обычно связывают с верой и нравственностью, отсутствующими у
животных. Но как определить статус психики, которая,
безусловно, зависит от состояния окружающего нас земного мира и
похожа на то, что есть у животных? Входят психические
процессы в состав души, или не входят? А если входят, то как одно
связано с другим?
С одной стороны, Братусь констатирует, что «психика» —
это не «душа ». «И чтобы понять различие,— пишет он,— не надо
специально получать особого богословского или
психологического образования »зи. С другой стороны, Братусь признает, что
современные представления о «психике» соответствуют не
столько реальному человеку, сколько позитивистским
установкам и подходам, утвердившимся в психологической науке. «Так
или иначе можно констатировать,— пишет он,— что «душа» при
изучении ее учеными обернулась для них «психикой », т. е.
редуцированным пространством, из которого вычли
метафизическое измерение и свет высшего смысла »365.
Но если наша цель — выяснить подлинное, а не превратное
отношение психики и души, то, признавая их различие, нужно
признать и их внутреннее единство. Ведь если психика человека
не имеет органического единства с душой, то это уже не челове-
зи Братусь Б.С. Психология — наука о психике или учение о душе? //
Человек.— 2000.— № 4.
3*5 Там же.
211
ческая психика, не умный человеческий глаз, не человеческие
«чувства-теоретики », а что-то другое, чисто животное, которое, в
конце концов, никак не совместить с верой, разумом, любовью...
В итоге Братусь склоняется к трактовке психики как некоего
посредника между душой и телом. «Иными словами,— читаем
мы в статье Братуся, опубликованной в журнале «Человек »,— в
дихотомии «тело — душа » психика как объект психологии
заняла место между душой и телом, покрывая как часть
телесности или, по точному выражению профессора В.И. Слободчикова,
«область оплотнения психического » (психофизиология), так и
часть области относимой к душе (психические процессы —
мышление, память, восприятие, эмоции и др.)366.
На первый взгляд, связь души и психики установлена. Но это
только на первый взгляд, поскольку, делая дополнительные
различения и вводя новых посредников, мы не решаем проблему, а
только загоняем ее вглубь. И это становится ясно, если
взглянуть на ситуацию с позиций классической философии. Ведь
перед нами все то же старинное противостояние души и тела,
только смещенное внутрь самой психики, одна сторона которой
определяется естественным, а другая — сверхъестественным.
Двойственность достигнутого результата становится явной,
если задаться вопросом, материальна или идеальна
человеческая психика. Материальность человеческого тела, вроде бы не
требует комментариев, как и идеальность нравственных
постулатов, принципов веры, эстетического представления. Но как
быть с психикой, к которой Братусь относит наше мышление,
память, восприятие, эмоции? На первый взгляд, чувственное
восприятие человека материально, поскольку зависит от органов тела.
Но с другой стороны, мы признаем высшие духовные чувства
человека, например, любовь? Однако можно ли считать любовь
возвышенной и духовной, если в ее муках участвует наше тело?
В том-то и дело, что идеальное содержание наших чувств,
как и мышления, из состояния организма и наших органов не
выводимо. Но это совсем не значит, что духовное и идеальное
можно понимать только в качестве антипода всего временного,
телесного и конечного. До сих пор речь шла о двух
методологических подходах к феномену идеального, лежащих в основе
христианского идеализма и вульгарной версии материализма. Для
i66 Братусь Б.С. Психология — наука о психике или учение о душе? //
Человек.— 2000.— № 4.
212
первого идеальное — только антипод материального, для
второго идеальное — функция и производное материального. Но
философская классика знает еще одно решение этой проблемы,
когда идеальное понимают как снятое материальное. И тогда
идеальная форма поведения человека оказывается не
бестелесной, но одухотворенной — благодаря миру культуры.
Но вернемся к проекту «христианской психологии»,
согласно которому наша психическая жизнь зависит от
материального мира, а духовная жизнь по большому счету от
него не зависит. Однако если психика руководствуется
отражением материального мира, а дух — высшими идеальными
принципами, то почему они, как лебедь, рак и щука, не рвут
душу на части, а, наоборот, ведут ее к гармонии? И можно ли
признать психику материальным, а значит смертным,
проявлением идеальной и бессмертной души? Ведь если мышление
как объект психологии мы признаем сугубо материальным и
посюсторонним, то бессмертная душа, отрешившись от него,
может, оказаться безумной?
Такого рода противоречий «христианская психология»
порождает немало. Но они происходят из самой сути
христианского идеализма. Иначе говоря, противоречия, которые
обнаруживаются в «христианской психологии », носят не
субъективный, а объективный характер. Их корень — невыводимость
идеальных сторон человеческой жизни из жизнедеятельности
организма. А потому идеализм как порождение европейской
культуры воспроизводится почти всякий раз, когда
обнаруживается идеальное содержание наших действий и поступков, их
надприродный, абсолютный смысл. И первым на этот путь
вступил великий Аристотель.
Итак, единство жизнедеятельности нашего организма
обеспечивается генотипом. Но человек — нечто большее, чем
организм. И эту целостность, превосходящую единство нашего тела,
как раз и фиксирует классическое, в том числе религиозное
понятие души. Человеческое Я в качестве отличной от тела «души »,
что бы ни говорили о ней философы и психологи,— реальность
массового сознания. Можно, конечно, изгнать понятие души из
науки и философии, даже не пытаясь дать ему
культурно-исторического толкования. Но тогда нужно спокойно смотреть на
то, как оно возвращается в психологию в своем традиционном
обличьи. И тогда мы вынуждены возвращаться к спорам
пятисотлетней давности, не извлекая из них никаких уроков.
213
Здесь стоит обратиться к еще одной работе Б.С. Братуся,
опубликованной в журнале «Вопросы философии » к 20-летию
со дня смерти классика советской психологии А.Н. Леонтьева.
Широко известная теория деятельности Леонтьева
сформировалась в русле культурно-исторической теории Л.С.
Выготского. И в статье Братуся, который долгие годы был
сотрудником Леонтьева, рассматривается эволюция понятия
«личностный смысл » у Леонтьева, начиная с 1947 года, когда он ввел это
понятие, и заканчивая последними годами его жизни.
По мнению Братуся, к концу жизни Леонтьев осознал
ограниченность своего исходного понимания личностного смысла как
простого деривата мотивов и значений, формирующихся в
предметной деятельности человека. «В результате смысловая
вертикаль,— пишет Братусь,— сводится к мотивационной, к
лестнице предпочтений тех или иных предметов (мотивов) деятельнос-
тей, которая выстраивается, складывается в данный момент»367.
Личностные смыслы, доказывает Братусь, в исходной трактовке
теории деятельности оказываются как бы поглощены и
запечатаны в структуре деятельности. А в результате в этой
деятельности оказывается «заперта » и личность в целом.
Но личность не может быть приводным моментом текущей
деятельности, замечает Братусь. И потому, как он доказывает, в
последние годы жизни Леонтьев стал задумываться над иными
истоками личности и личностных смыслов. «Иными словами,—
пишет он,— определяющими в конечном счете оказываются не
внутридеятельностные коллизии, а соотношение их с особой
сферой, прямо им не названной, но очевидно, что эта сфера —
нравственно-ценностная, а если выше и вернее — духовная,
сфера обращения к предельным вопросам, далеко выходящим
за грань конкретной деятельности»368.
Оставим открытым вопрос о том, перешел ли А.Н. Леонтьев
в конце жизни на позиции гегелевского идеализма. Важнее то,
что предпосылкой переосмысления теории деятельности
Леонтьева Братусь считает отказ от связи личностного смысла с
мотивом деятельности в пользу отношения. Личностные смыслы,
согласно Братусю, формируются в системе взаимоотношений
человека с миром и другими людьми. Но в центре узоров
внутренней жизни человека должно быть нечто, что собственно и
ш Братусь B.C. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию со
дня смерти А.Н. Леонтьева)// Вопросы философии.— 1999.— № 11.— С. 82.
ш Там же.
214
связует ткань души. И эту суть души Братусь определяет как
«смысловую вертикаль», которая не предписывает готовых
рецептов поступков, но вырабатывает их общие принципы. «Лишь
на основе этих принципов,— уточняет он,— впервые
появляется возможность оценки и регуляции деятельности не с ее
целесообразной, прагматической стороны,... а со стороны
нравственной...»369. И далее: «Речь идет о той плоскости бытия, где люди
выступают как равные в своих возможностях нравственного
сознания, праве на свою, соотнесенную с нравственными
принципами, оценку себя и других »370.
Таким образом, проект «христианской психологии » в
указанной статье Братуся получает более развернутую реализацию
в виде иерархии «вертикали души », которая уже намечена в
учебнике 1995 года. Нулевой или доличностный уровень души здесь
связывается с операциональными схемами и смыслами, которые
необходимы каждому человеку для решения практических
задач. Следующий уровень уже относится к личности и выражает
эгоцентрическую сторону души, связанную с заботой о
собственном удобстве, выгоде и престиже. Третий уровень души
Братусь определяет как группоцентрическищ и он связан с
коллективными целями и мотивами, когда человек выступает от
имени класса, нации, своего ближайшего окружения. Четвертый
уровень Братусь характеризует как гуманистический или про-
тосоциальный. Этот уровень души отвечает за то, что чаще
именуют «общечеловеческими ценностями ». Здесь душа исходит из
«прав человека », самоценности человека, интересов
человечества в целом. И, наконец, высший пятый уровень «вертикали
души » — собственно духовный, на котором устанавливаются
отношения с Богом и уточняется смысл жизни в свете
запредельного бытия. Здесь, подчеркивает Братусь, «другой человек
приобретает... не только гуманистическую, разумную,
общечеловеческую, но и сакральную ценность»371.
Ознакомившись с такой классификацией уровней душщ
легко ерничать, задавая риторические вопросы об
общечеловеческих ценностях в душе дикаря или эгоцентрической компоненте
у подданных восточных деспотий. Предложенная
классификация, безусловно, внеисторична. И отсюда неизбежны наклад-
зм Братусь B.C. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию со
дня смерти А.Н. Леонтьева)// Вопросы философии.— 1999.— № 11.— С. 85.
370 Там же.
371 Там же.- С. 86.
215
ки, если говорить о разных регионах и исторических эпохах.
Автор, правда, указывает на особый «смысловой профиль»
каждой личности, говорит о возможной победе одного уровня души
над другим, о коллизиях столкновения уровней души в одном
человеке. Но проблема по большому счету в другом.
Дело в том, что сущность человека и, соответственно, природа
души в свете приведенной классификации уже не только двоится,
но даже троится. Она одновременно и биологическая
(индивидуалистическая), и социальная (коллективистская), и
метафизическая (потусторонняя). И все же определяющий уровень души
человека в указанной классификации опять тот, который связывает нас
с Богом. Именно через «зазор » и «пролом » в сверхъестественную
реальность, указывает Братусь, мы приобщаемся к нравственным и
собственно духовным ценностям. Таким образом, из всех
существенных моментов в душе человека нравственность, как уже
говорилось, оказывается главной. И как раз в лице нравственности
сущность человека в учении Братуся вынесена за пределы нашего
существования, подобно теоретическому познанию у Стагирита.
Итак, хотя наш современник Братусь — христианин, а
Аристотель был язычником, их рассуждения имеют общую основу.
Для того и для другого человек необъясним с позиций одного
лишь естественно-научного материализма. И это приводит их
обоих по большому счету к дуалистическому пониманию
природы человека. Правда, у Аристотеля разумная душа человека
бессмертна благодаря безличному Богу-Перводвигателю, а у Бра-
туся — благодаря христианскому Богу в трех лицах. Разница
еще в том, что Аристотель именно разум считает высшей
духовной способностью человека, а в нравственности, в отличие от
Братуся, видит сугубо земной смысл.
Главная коллизия Аристотеля, как уже говорилось,
вырастала из невозможности объяснить душу человека из его
телесной жизнедеятельности. Он прекрасно понимал, что из
жизнедеятельности тела нельзя вывести существование души с ее
всеобщим — идеями, идеалами и принципами. Но такое
субстанциальное содержание души не выводимо и из инструментально
понятой социальности, из простых норм общежития вне
духовного общения. Ни в той, ни в другой области Аристотель не
видит истоков своеобразия человеческой души, ее причастности
к всеобщему и абсолютному. А в результате приобщение
человека к абсолюту совершается у Аристотеля напрямую — в акте
чистого умозрения.
m
Психолог Братусь тоже не собирается сводить человека к
его физиологии. Ему претит и грубый социологизм, через
призму которого он воспринимает теорию деятельности своего
учителя. А в результате не прямым, но косвенным учителем Брату-
ся становится древний и вечно юный Аристотель. У Аристотеля
питающая и ощущающая части души человека производны от
природы, этическая добродетель в разумной душе связана с
обществом, а мудрость в той же разумной душе — с Богом-Перво-
двигателем. Таким образом, как и у Платона, душа у него
распадается на части. И определяющей частью души у Аристотеля
оказывается та, которая приобщает нас к истине в уме Бога-Пер-
водвигателя.
В свою очередь Братусь видит сугубо инструментальный
смысл в социальной и культурной жизни человека, как это
следует из его «смысловой вертикали » души. Более того, он
склонен инструментально подходить и к самой личности. То, в чем
неклассическая философия видела подлинного субъекта и что
пыталась спасти от объективирующих научных трактовок,
Братусь толкует именно в инструментальном ключе. В «Вопросах
психологии» он утверждает: «Другое дело — личность с
позиций психолога. Она может быть понята как особый
психологический инструмент, орудие, принадлежащее, служащее
человеку, как и другие психологические орудия и инструменты »372.
Согласно Братусю, личность — средство, которым
пользуется человек в качестве подлинного субъекта. Но «человек » — это
родо-видовое понятие, а значит получается, что род
манипулирует индивидом во всем его неповторимом своеобразии. Выходит,
что личность не может быть приводным моментом текущей
деятельности. Но она вполне может быть дериватом и даже
средством некой общей инстанции, которой в «христианской
психологии» в конце концов оказывается потусторонний субъект.
Итак, в методологическом плане психологическая теория
Братуся — это возвращение к Аристотелю. И все же
тысячелетия не прошли даром. Аристотель искал пути объединения
распадающейся души человека. Помпонацци продолжил поиск и
даже увидел свет в конце тоннеля. Новизна ситуации в XX веке с
его плюрализмом во всех вопросах в том, что религиозно
мыслящему психологу вполне комфортно жить с душой, разделенной
т Братусь B.C. К проблеме человека в психологии // Вопросы
психологии.— 1997.— № 5.
217
на уровни и антагонизирующие части. В конце статьи о
Леонтьеве он приводит метафору с оконным стеклом. Когда оно
замутнено, мы видим то, что на стекле, смиренно пишет Братусь,
когда оно очищено, мы видим то, что за стеклом. Такова и душа,
констатирует он. На ее поверхности эгоцентрические страсти,
как мутные разводы, а в глубине другие смыслообразующие поля.
При этом духовный уровень Братусь сравнивает с максимальной
«промытостью стекла », когда мы видим тот абсолют, который
уже за пределами самой души.
В классической философии изначальные представления о душе
строились на ее антагонизме с телом, и дальнейшее развитие шло
от дуализма к монизму, от философского идеализма к
философскому материализму, выводящему субстанциальную суть души
из единого культурно-исторического основания. Заметим, что в
стремлении показать, как сущность человека, а значит
субстанциальные основы души, рождаются в процессе его
существования,— новизна культурно-исторической методологии.
Классическая философия шла от постулирования абсолюта и
нравственных принципов к выведению этого абсолютного момента из
культурно-исторической деятельности самого человека. Вектор
движения Братуся противоположный — от деятельностного
подхода ^постулированию нравственности в качестве
производной внешней человеку божественной инстанции.
Классический путь исследования души — от проблем
теологии к проблемам психологии, а не обратно. Таков исторический
путь исследования всеобщих регулятивов поведения человека.
А Братусь идет именно обратно, вновь постулируя и
мистифицируя нравственные устои личности. И при этом игнорирует
«открытие » славного аристотелика Помпонацци. Абсолют,
доказывал последний, тоже причислявший себя к христианам, должен
быть понят как внутренняя мера самой души. Иначе говоря, душа
собственным усилием должна преобразовать животный эгоизм,
придавая ему иной культурный смысл и направленность. Именно
в этом случае она обретает свою субстанциальную основу и
цельность, а не ищет их вовне, опираясь на мистические подпорки.
Таким образом, проект «христианской психологии » есть
результат движения от монизма теории деятельности А.Н.
Леонтьева к дуализму христианизированного Аристотеля. И в этом
свете понятно, почему в оценках успехов
культурно-исторической школы Б.С. Братусь проявляет большую сдержанность.
В учебнике по христианской психологии о A.C. Выготском и его
218
культурно-исторической методологии говорится буквально
следующее: «Нельзя, конечно, сказать, что в научной психологии
не было вовсе попыток повернуться к человеку. Тот же
Выготский в последние годы жизни предлагал строить «вершинную »,
или акмеистическую, психологию, говорил о том, что человеком
двигают не «глубины», а «вершины», ценности, идеалы и
планировал изучение под этим углом сознания, эмоций, личности, их
нормального и отклоняющегося развития. Возможно, что он и
его учение смогли бы реализовать эту линию, эту, на наш взгляд,
первую в советской психологии попытку привнести бытийные,
собственно человеческие проблемы в психологию, если бы не
пришел срок перелома всей советской психологии, срок одного
из новых актов материалистической трагедии страны »373.
Иначе говоря, с точки зрения Братуся, Выготский имел лишь
намерение разрабатывать психологию в ином, отличном от
позитивизма, ключе. Но это стремление объяснить идеальное
(идеалы, высшие эмоции и пр.) по-новому было лишь попыткой, не
реализованной им*и его учениками по причине
«материалистической трагедии страны». Как и в ситуации с Леонтьевым, в
культурно-исторической теории Выготского Братусь ищет «утаенный план
сознания»374, рассматривая ее, подобно «гуманитарной » и
«нравственной » психологии, в качестве некоторой переходной формы
от естественно-научного материализма к религиозной форме
идеализма. А по сути автор учебника «утаивает» от читателя, что
учение Выготского было и является материализмом нового типа,
получившим развитие в психологии и философии XX века.
Это стремление лишить культурно-историческую теорию
собственного методологического подхода, отличного как от
позитивизма, так и от христианского идеализма,— следствие
сознательного выбора создателя «христианской психологии».
Но все предыдущее рассмотрение базировалось на
принципиально ином выборе и стремлении показать, как в классической
философии складывались три разных подхода к проблеме души.
Урок из вышесказанного как минимум в том, что, разбираясь в
истоках проблемы, безусловно, легче понять суть
предлагаемых в наши дни решений.
in Начала христианской психологии.— М., 1995.— С. 14-15.
iu Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию
со дня смерти А.Н. Леонтьева) // Вопросы философии.— 1999.— № 11.—
С. 85.
Если для философии средних веков душа, как правило,
бестелесна, то Новое время, что вполне естественно,
усиливает позиции противников такого подхода. В с-
вое время Климент Александрийский гордо именовал
философию служанкой богословия. В Новое время философы столь же
истово выражают интересы науки, концентрируя свое внимание
на теории познания и методологии научного познания. В такой
ситуации закономерным образом меняет форму
естественно-научный материализм, и, соответственно, меняется способ
критики метафизического понимания души. То же самое можно
сказать о путях формирования культурно-исторического подхода.
Классическая философия, как можно заключить уже post
factum, зачастую ходила кругами, подступаясь к одной и той же
проблеме с разных сторон в зависимости от эпохи. Во времена
Возрождения ближе всех к культурно-историческому пониманию
души оказался П. Помпонацци. Что касается Нового времени, то
здесь движение в указанном направлении совпадает с движением
от скептицизма Д. Юма к трансцендентализму И. Канта.
В Новое время природа души, как и другие проблемы
философии, осмысляются с позиции опыта как главной
объяснительной инстанции. При этом Д. Локк еще пытается как-то
совместить позицию опыта с идеей бестелесной души. В сравнении
с ним, скептик Юм выступает более последовательно. От имени
опыта он открыто выступает против понимания души как
бестелесной субстанции. Но только трансцендентализм вплотную
подводит философию к культурно-историческому пониманию
души. Однако эта сторона учения Канта видна лишь в связи с
последующими поисками неокантианства и марксизма.
220
Особняком здесь стоит антропология Гегеля, в которой душа
принадлежит к природному миру, а потому ее эволюция, в
отличие от становления объективного духа, не предполагает
культурно-исторического объяснения. Более того, Гегель в чем-то
усугубляет методологическую ограниченность трансцендентализма,
не используя при этом открываемых им перспектив в трактовке
происхождения души. Но рассмотрим все по порядку.
1. А Локк о нематериальной с)уше
и тождестве личности
ТА «Опыте о человеческом разумении », над которым Д. Локк
\/ работал с 1671 по 1686 год, т. е. целых пятнадцать лет,
представление о душе разбирается в связи со сложными
идеями, касающимися субстанций. С душой, согласно Локку,
получается та же история, что и с любой другой субстанцией.
Получая простые идеи от внешних ощущений или из внутренней
рефлексии над своими действиями, ум привыкает воспринимать их
вместе. А в результате рождается предположение о неком
субстрате этого комплекса простых идей, который обычно
именуют субстанцией.
Д. Локк, как известно, считает фикцией такое представление
об особом субъекте или носителе качеств предмета. «А так как
мы воображаем, что они не могут существовать sine re substante
«без чего-нибудь, поддерживающего их »,— пишет он о качествах
вещей во второй книге «Опыта о человеческом разумении »,— то
мы называем этот носитель substantia, что в буквальном смысле
слова означает «стоящее под чем-нибудь» или
«поддерживающее»375. По мнению Локка, идея субстанции, рождаясь в опыте,
всегда остается неясной и смутной идеей, и это в равной степени
относится как к телесной, так и к духовной субстанции. «.. .Одну
субстанцию ( не зная, что это такое) мы предполагаем
субстратом простых идей, получаемых нами извне,— отмечает Локк,—
другую (в такой же степени не зная, что это такое) —
субстратом тех действий, которые мы испытываем внутри себя »376.
Идею нематериального духа в качестве субстанции, считает
Локк, мы получаем, соединяя простые идеи мышления, хотения
и возможности вызывать мыслью определенные изменения в
375 Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 1.— С. 346.
т Там же.- С. 348.
221
нашем теле. Понятно, что столь же закономерным образом
можно произвести редукцию этой сложной идеи к ее простым
составляющим. И, тем не менее, чуть погодя, Локк неожиданно
заявляет: «В то время как я познаю посредством зрения, слуха и
т. д., что вне меня есть некоторый физический предмет — объект
данного ощущения, я могу познать с большей достоверностью,
что внутри меня есть некоторое духовное существо, которое
видит и слышит. Я должен прийти к убеждению, что это не
может быть действием чистой, бесчувственной материи и даже не
могло бы быть без нематериального мыслящего существа »377.
Налицо двойственность позиции Локка в отношении души
как нематериальной субстанции. С одной стороны, он
склоняется к фиктивности этой сложной идеи в силу ее смутного и
неясного характера в нашем опыте, а с другой стороны —
декларативно объявляет достоверность такого знания во внутреннем
опыте, причем даже большую достоверность такого знания, чем
то, что мы получаем от внешних вещей.
То, что душа есть нечто нематериальное, в двадцать третьей
главе второй книги «Опыта о человеческом разумении » Локк
именно декларирует. Но то, что душа, существуя отдельно от тела,
способна к передвижению в пространстве, он в 19-22 пунктах
этой главы пытается доказать. «Моя душа, будучи таким же
реальным существом, как и мое тело,— пишет он,— в такой же
степени, как и само тело, несомненно, способна переменить свое
расстояние от какого-нибудь другого тела или существа и, таким
образом, способна к движению»378. «Каждый знает по себе,—
продолжает он,— что его душа может мыслить, хотеть и
воздействовать на его тело в том месте, где она находится... Никто не
может представить себе, чтобы его душа могла мыслить или
двигать какое-нибудь тело в Оксфорде, пока он сам в Лондоне, и не
может не знать, что его душа, соединенная с телом, в течение
всего пути между Оксфордом и Лондоном беспрерывно меняет
место, так же как везущая его карета или лошадь... А если не
признают, что это доставляет нам достаточно ясную идею ее движения,
надеюсь, признают таковым ее отделение от тела при смерти »J79.
В этом месте своего известного трактата Локк спорит со
схоластами лишь по вопросу локализации души в пространстве. Дело
'" Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 1.- С. 356.
"" Там же.— С. 357.
379 Там же.— С. 357-358.
222
в том, что со времен Средневековья схоласты признавали три
способа нахождения тела в пространстве. Первый —
«описательный » — позволяет точно фиксировать положение тела в
пространстве. Второй — «определительный» —фиксирует лишь тот
объем пространства, в котором находится нечто. Третий — «за-
полнительный » — свойственен тому, что заполняет собой все
пространство, присутствуя всюду.
Естественно, что третий способ пространственного бытия
схоласты приписывали вездесущему Богу. Что касается души,
то она, со схоластической точки зрения, присутствует в теле,
не локализуясь в отдельном месте или органе. Схоласты
доказывали, что душа не имеет места, т. к. духи находятся не in
loco, но ubi. И именно с этим спорит Локк, настаивая на том,
что душа способна менять место в процессе передвижения, а
это косвенно свидетельствует и о ее конкретном
местоположении380. Но такое изменение местоположения, считает Локк,
недопустимо для Бога, поскольку он является бесконечным
духом.
Сравнивая идею души и тела, Локк фиксирует внимание на
источнике их движения. Тело, как он пишет, есть плотная
протяженная субстанция, движение которой сообщается внешним
толчком. В противоположность телу, душа способна сама по
себе возбуждать движение мыслью. А потому душу нужно
считать прежде всего мыслящей субстанцией. Но рассуждая о душе
и теле с точки зрения их активности и пассивности, Локк вновь
упирается в проблему нематериальности души.
«А потому заслуживает нашего рассмотрения вопрос,—
пишет Локк,— не является ли активная сила отличительным
свойством духов, а пассивная — отличительным свойством материи?
Отсюда можно предположить, что сотворенные духи не совсем
отделены от материи, потому что они и активны и пассивны.
Чистый дух, т. е. бог, только активен; чистая материя только
пассивна; те существа, которые и активны и пассивны, мы можем
считать причастными и духу и материи »381. К сотворенным
духам, безусловно, относится душа. А это значит, что из ее
причастности как к активности, так и к пассивности Локк делает
вывод о возможной материальности души, что в корне
противоречит его предыдущим декларациям.
380 Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 1.— С. 358.
т Там же.— С. 363.
223
Наблюдая движения локковской мысли от утверждения к
отрицанию нематериальности души, можно увидеть в них некое
преддверие кантовских антиномий чистого разума. Каждый раз
утверждая то абсолютную нематериальность, то частичную
материальность нашей души, Локк уточняет, что основой для
размышлений разума является наш опыт, который свидетельствует
прежде всего о простых идеях. А значит, выходя за пределы
простых идей в своих рассуждениях о природе сложных идей, в
частности о субстанции, разум способен противоречить сам себе.
«Отсюда мне кажется вероятным,— пишет Локк,— что
простые идеи, получаемые нами от ощущения и рефлексии, суть
границы нашего мышления, дальше которых, несмотря ни на
какие усилия свои, душа не может подвинуться ни на йоту и не в
состоянии что-то выявить, когда она пытается проникнуть в
природу и скрытые причины идей»382. Тем не менее, разум к таким
проблемам подступается, а в результате приходит к
противоположным заключениям.
«И я не знаю,— замечает Локк,— почему, имея в себе
одинаково ясные и отличные друг от друга идеи мышления и
плотности, мы не можем допустить существования мыслящей вещи без
плотности, т. е. нематериальной вещи, так же как мы
допускаем существование плотной вещи без мышления, т. е. материи,
особенно потому, что представлять себе, как мышление
существует без материи, не труднее, чем представлять себе, как
материя мыслит»383.
Последнее замечание наиболее важно, поскольку Локк
таким образом по сути заявляет о равноценности
противоположных толкований мыслящей способности души — как
способности материальной и нематериальной. И заявив о равной
возможности представлять душу как мыслящую отдельно от материи,
так и посредством нее, Локк в очередной раз напоминает: «Ибо
всякий раз, как мы хотим идти дальше простых идей,
получаемых нами от ощущения и рефлексии, и глубже вникнуть в
сущность вещей, мы тотчас же впадаем в неведение и мрак,
недоумение и затруднения и не можем обнаружить ничего, кроме своей
слепоты и своего невежества»384.
До сих пор речь шла о двойственности представлений Лок-
ка о душе, но не об оригинальности его позиции, которая про-
т Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т.1.— С. 364.
"■' Там же.— С. 365.
"ы Там же.
224
являет себя только в двадцать седьмой главе второй книги «Опыта
о человеческой разумении ». Чаще всего своеобразие
представлений Локка о душе связывают с идеей «tabula rasa », которая
впервые была высказана Аристотелем. Образ души как чистой
доски, на которой опыт пишет свои письмена, действительно
распространен у представителей эмпирической традиции. Но
оригинальность позиции Локка как эмпирика проявляется как
раз не здесь, а в его решении проблемы тождества
человеческой личности, когда он сопоставляет его с тождеством Бога,
вещи и живого организма. Именно здесь эмпирический подход
Локка к проблеме души получает свое наиболее
последовательное проявление.
Легко рассуждать о тождестве предметов с самим собой, если
к ним ничего не прибавляется и от них ничего не отнимается.
Другое дело меняющиеся тела и организмы. «Дуб, выросший из
саженца в большое дерево, а затем подрезанный, все время
остается тем же самым дубом,— пишет Локк,— жеребенок,
ставший лошадью, которая бывает то откормленной, то тощей, все
равно остается той же самой лошадью, хотя в обоих случаях
может быть явное изменение частей »38ï. В обоих приведенных
случаях масса меняется, но организм остается тем же самым.
Значит, замечает Локк, здесь мы имеет дело с другой
тождественностью, нежели та, когда неменяющаяся масса материи
тождественна сама с собой.
Уточняя разницу между этими двумя вариантами тождества,
Локк пишет: «Масса материи представляет собой лишь
сцепление частиц материи, все равно каким образом соединенных; дуб
представляет собой такое расположение частиц материи,
которое образует части дуба, и такую организацию этих частей,
которая способна воспринимать и распределять пищу так, чтобы
поддерживать существование и образовывать древесину, кору и
листья дуба, в чем и состоит растительная жизнь »386.
Итак, взаимосвязь частей в едином организме, участвующем
в совершенно определенном процессе жизнедеятельности,
гарантирует, согласно Локку, тождество растительного
организма. И то же самое мы наблюдаем в организмах животных, у
которых особая организация тела и жизнедеятельности
определяет родовое и видовое единство
т Локк Д. Соч.: В 3 т.— М., 1985.— Т.1.— С. 382.
т Там же.- С. 382-383.
225
Надо сказать, что о родовой и видовой сущности растений и
животных Локк не говорит. И причина этого вполне понятна,
поскольку род и вид для него такая же фиктивная сложная идея,
как и любая субстанция. В результате, рассуждая о тождестве
живого организма, Локк сосредоточивает свое внимание на
внешней организации и жизнедеятельности организма,
представленных в наших чувствах.
Тождество человека, с точки зрения Локка, также
предполагает тождество его «единой жизненной организации », а не одно
лишь тождество души. Иначе, пишет Локк, мы должны
согласиться с теорией метемпсихоза, согласно которой душа
человека за свои провинности может быть вогнана в тело животного с
соответствующими органами и потребностями. В случае с
переселением душ тело воспринимают лишь как внешнюю оболочку,
а не как органический момент единого человека. «Однако, я
думаю,— пишет Локк, вспоминая римского императора,
отличавшегося разнузданностью нравов,— ни один человек, даже
уверенный в том, что душа Гелиогабала поселилась в одной из
его свиней, не станет утверждать, что эта свинья была
человеком или Гелиогабалом »387.
То, что идея «человек» предполагает существо, обладающее
телом определенной организации, Локк подтверждает рядом
примером. Если мы встретим человека, у которого разума не
более, чем у попугая или кошки, отмечает Локк, мы будем считать
его неразумным человеком, а не попугаем или кошкой. И,
наоборот, повстречав смышленых попугая или кошку, мы на этом
основании не будем считать их людьми.
Но, как уже говорилось, наиболее интересны суждения
Локка о тождестве человеческой личности, которое
обеспечивается нашим индивидуальным действием по осознанию
собственного Я. Человек, пишет Локк, отличается от животного тем, что
в процессе зрения, осязания, обоняния, обдумывания и прочее,
всегда знает, что он это делает. «Так бывает всегда с нашими
настоящими ощущениями и восприятиями;— подчеркивает он,—
благодаря этому каждый бывает для себя «самим собой », тем,
что он называет Я, причем в этом случае не принимается во
внимание, продолжается ли то же самое Я в той же самой или в
различных субстанциях. Ибо поскольку сознание всегда
сопутствует мышлению и именно оно определяет в каждом его Я и
т Локк Д. Соч.: В 3 т.- М„ 1985.- Т. 1.- С. 384.
226
этим отличает его от всех других мыслящих существ, то именно
в [сознании] и состоит тождество личности, т. е. тождество
разумного существа »388.
Говоря современным языком, единство личности, согласно
Локку, представлено в самосознании, которое является
неотъемлемым моментом любого индивидуального опыта. И как раз это
индивидуальное самосознание пусть и неявным образом Локк
превращает в исток и основание индивидуальной души. У
схоластов в индивиде мыслит душа как нематериальная субстанция.
У Локка, в соответствии с его пониманием тождества личности,
мыслит индивидуальное Я, которое по сути является нашей
жизнедеятельностью и опытом, рефлектирующим и
осмысляющим самого себя. В этом новом качестве чувственный опыт
отличается от опыта животных. В нем появляется новое измерение,
под названием сознание, на которое постоянно указывает Локк.
Сознание, вырастая из индивидуального опыта, в свою очередь
организует и направляет его. Соответственно и душа
оказывается у Локка самим индивидуальным опытом, особым образом
организованным и отрефлектированным. Так выглядит
эмпирическое понимание души, впервые заявленное в Новое время
именно Локком.
Человеческая личность, согласно Локку, развернута во
времени. А это значит, что эмпирически понятая душа ограничена
процессом моей непрерывной жизнедеятельности. А там, где он
прерывается сном, потерей сознания или другими
естественными или катастрофическими событиями, Я сознательно
устанавливает связь своих прошлых и настоящих состояний,
подтверждая тем самым цельность индивидуальной души.
Характерно, что Локк постоянно говорит о
самотождественности, но не субстанциальности такого опыта, а значит и души.
Единство у эмпирически понятой души особого рода: это
единство внешнее, а не внутреннее. А потому как материальная, так и
нематериальная субстанция оказываются по отношению к так
понятой душе чем-то внешним. Если в двадцать третьей главе
второй книги «Опыта » Локк отождествляет душу с
нематериальной субстанцией на манер схоластической философии, то в
двадцать седьмой главе той же книги он размышляет о
взаимоотношениях индивидуального Я с материальными и
нематериальными субстанциями. И за этим сдвигом в рассуждениях сто-
т Локк Д. Соч.: В 3 т.— М., 1985.— Т. 1.— С. 387.
227
ит существенное изменение самой методологии исследования
души в учении Локка.
Внешне подтверждая свое согласие с принятым церковью
представлением о душе как нематериальной субстанции, Локк
на протяжении многих страниц убеждает читателя в том, что
такое традиционное понимание в лучшем случае не мешает
современному взгляду на человека. Сутью конкретного человека
является его личность, утверждает он, в отношении которой
тело и любая телесная субстанция является частью. В
обоснование этой мысли Локк приводит пример с отделенными
конечностями. «Так, члены собственного тела,— пишет он,—
являются для каждой личности частью ее самой; она сочувствует
им и беспокоится о них. Отрежьте руку и тем самым отделите
ее от вашего сознания, которое воспринимает тепло, холод и
другие ее состояния, и она уже больше не часть вас самих, так
же как и самая отдаленная часть материи. Таким образом, мы
видим, что субстанция, из которой в одно время состояла
личность, в другое время может измениться без перемены
тождества личности, ибо нет сомнения в тождестве личности, хотя
члены, которые только что были ее частью, отрезаны »389.
Итак, человек, в отличие от животного, есть личность,
которая включает в себя некоторое тело, но только таким
образом и до тех пор, пока она осознает это тело как часть самой
себя. Это значит, что тело, согласно такому эмпирическому
пониманию, присутствует в составе личности лишь в качестве
собственного чувственного образа. Телесная субстанция, в
соответствии с логикой Локка, предстает в составе личности как
факт сознания. И иным способом тело не может быть
включено в состав личности. Но настаивая на этом, Локк по сути в
перспективе открывает дорогу субъективизму Д. Беркли.
Иначе выглядят взаимоотношения личности с
нематериальной субстанцией, которая при всем старании Локка, остается в
лучшем случае безразличной, а в худшем — чуждой
человеческому существу. Отчетливее всего чужеродность идеи
нематериальной субстанции локковскому понятию личности видна на
примере метемпсихоза, к критике которого Локк возвращается
вновь и вновь. Те христиане, платоники и пифагорейцы,
которые верят в предсуществование душ, отмечает Локк,
настаивают на том, что в новые тела вселяется уже существовавшая лич-
т Локк Д. Соч.: В 3 т.— М., 1985.— Т. 1.— С. 389.
228
ность. Я сам встречал такого человека, уточняет он, который был
убежден, что его душа была душой Сократа, хотя в остальном
он проявлял себя на весьма значительной должности как
разумный человек с множеством знаний и способностей. Но если в
этом человеке нет ни мыслей, ни действий Сократа, задается
вопросом Локк, то на каком основании можно утверждать, что в
нем присутствует личность великого философа?390
Там, где в нематериальной субстанции не содержится
сознания предшествующей личности, хочет сказать Локк, подобная
нематериальная душа есть фикция, ничего не дающая
реальному человеку. И тогда совершенно безразлично, есть она в
человеке или нет, а также сколько таких нематериальных
субстанций присутствует в индивиде. «Я есть та сознающая мыслящая
сущность (безразлично, из какой она состоит субстанции,
духовной или материальной, простой или сложной),— пишет в
связи с этим Локк,— которая чувствует и сознает удовольствие и
страдание, способна быть счастливой или несчастной и
настолько заинтересована собой, насколько простирается ее
сознание»391. И далее он подчеркивает: «Ничто, кроме сознания, не
может соединять в одну и ту же личность отдаленные
существования; тождество субстанции не сделает этого. Какова бы ни была
субстанция и как бы ни была она устроена, без сознания нет
личности. И труп мог бы быть личностью в такой же степени,
как всякого рода субстанция без сознания »392. И еще одно
заключение, принадлежащее Локку. «Во всем этом исследовании о
личности,— пишет он,— признается, что одну и ту же
личность образует не одна и та же субстанция, а одно и то же
непрерывное сознание, с которым могут соединяться и снова
расставаться различные субстанции, составляющие часть этой самой
личности все время, пока они оставались в жизненном единении
с тем, в чем тогда обитало это сознание »393.
Всего вышесказанного Локком вполне достаточно, чтобы
убедиться: схоластическому пониманию души, в сторону
которого им сделано немало реверансов, здесь противостоит новая
эмпирическая трактовка того же феномена. Но по отношению к
этому новому пониманию Локк избегает применять
традиционное понятие души, довольствуясь рассуждениями о личности и
т Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 1.- С. 392.
3,1 Там же.- С. 394.
т Там же.— С. 397.
393 Там же.— С. 399.
229
человеческом Я и оставляя душу в ведении старой
схоластической традиции.
Итак, единство человеческого Я, согласно Локку,
определяется актом нашей рефлексии. Именно действие рефлексии
позволяет отнести некоторые идеи к определенному индивиду.
Тем самым чувственные данные превращаются в осознанный
личный опыт. А рефлексивное действие оказывается ядром
нашей личности. Другое дело, что такого рода рефлексивные
действия у эмпирика не могут иметь никаких объективных законов
и правил. Подобно тому, как тело природы является внешне
связанным единством материальных частиц, личность у Локка
является внешне сопряженным единством состояний индивида.
В действиях рефлексии, согласно Локку, нет ничего
необходимого и субстанциального, а потому эмпирически понятое
тождество личности, в противоположность христианской anima, не
несет в себе субстанциальности.
Итак, с одной стороны, рассуждая о бессмертной душе, а с
другой — о самотождествености личности, Локк говорит об
одном и том же, но с разных позиций. И эмпирическое понимание
тождества личности, по сути, служит опровержению
субстанциальности души в ее ортодоксальном католическом смысле.
Локк, правда, нигде не противопоставил одного другому в
откровенной форме. И, тем не менее, сами схоласты со временем
вынудили Локка высказаться по проблеме души более
определенно. При этом представления Локка о душе оказались еще
сложнее и противоречивее.
Произошло это в 1697-1698 гг., когда Локк был вынужден
вступить в полемику с епископом Вустерским Эдуардом Стил-
лингфлитом, обвинившим Локка в своей работе «Трактат в
защиту учения о Троице » в создании антихристианского и
безнравственного произведения. Епископ Стиллингфлит подверг
критике «Опыт о человеческом разуме » с давно известных
ортодоксальных позиций. Зато три письма Локка, написанные в ходе
этой полемики, позволяют существенным образом уточнить его
трактовку человеческой души.
Мы остановимся на том отрывке из первого письма Локка
епископу Вустерскому, где речь идет о духовной субстанции,
существование которой Локк, по словам епископа, отвергает.
Свои контрдоводы последний строит на различном понимании
самих терминов «субстанция» и «дух». «Субстанция», как мы
уже знаем, означает у Локка «подпорку » для некоторого дей-
230
ствия. Действие мышления, пишет он, которое, безусловно,
присуще человеку, не может «самоосуществляться », а потому
нуждается в некотором субъекте. Такой своеобразной «подпоркой»
для мышления и становится субстанция. При этом Локк без
колебаний признает ее субстанцией мыслящей или духовной394.
Другое дело, как именно понимать смысл слова «дух ». И здесь
Локк не утверждает, но лишь допускает, что духовная
субстанция может быть нематериальной. «И поэтому,— пишет Локк,—
если Ваша милость под духовной субстанцией понимает
нематериальную субстанцию, я согласен с Вами, что я не доказал и на
основе моих принципов нельзя доказать ( т. е. убедительно
доказать — это, мне кажется, Вы имеете в виду, милорд), что в нас
заключена нематериальная субстанция, которая мыслит»395.
Локк говорит о высокой степени вероятности того, что
такая духовная субстанция нематериальна. Тем не менее, по его
мнению, однозначного доказательства этого не существует. «Я
бы с радостью,— пишет он,— получил бы от Вашей милости или
от любого другого эти доказательства »3%. Более того, даже цели
религии и нравственности, уточняет Локк, требуют признания
бессмертия души, но не ее нематериальности.
Как мы видим, признавая бессмертие души после кончины
тела, Локк оставляет открытым вопрос о ее нематериальности в
этом мире. Такую не совсем обычную точку зрения он
подтверждает в письме к епископу Вустерскому словами апостола: «Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие»397.
Казалось бы, что после таких заявлений настало время и
место изложить вполне оригинальную концепцию перехода
смертной души в бессмертную, которая бы отличала Локка от его
предшественников. Тем не менее, свои дальнейшие
рассуждения он посвящает уточнению слова «дух» в свете античных
авторитетов Цицерона и Вергилия. «Все согласны с тем,— пишет
Локк,— что душа есть то, что в нас мыслит. И тот, кто обратится
к первой книге «Тускуланских бесед» Цицерона, а также к 6-й
книге «Энеиды» Вергилия, увидит, что эти два великих
человека, лучше всех римлян понимавшие философию, полагали или
т Локк Д. Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 2.- С. 303.
w Там же.- С. 304.
т Там же.
397 Там же.
231
по крайней мере не отрицали, что душа — это утонченная
материя, которую можно назвать aura или ignis, или aether, и эту
душу оба называли spiritus, в понятие которого они, как это ясно,
вкладывали только мысль и активное движение, не исключая,
однако, полностью материю»398.
Под хорошо известным нам от современных целителей и
экстрасенсов словом «аура », Локк имеет в виду некую
утонченную материальную субстанцию, отличную от грубой и легко
ощутимой вещественности. Эту «тонкую материю » римляне срав-
нивали с aura (дуновение воздуха), ignis (огонь), aether (эфир).
Но для Локка важно, что в этом же ряду стоит слово spiritus
(дух), которым Цицерон и Вергилий пользовались, наряду с
остальными. Локк уверен, полагаясь на авторитет древних, что
можно поставить знак равенства между современным словом
anima и древним словом aura. В этом же ряду у него оказывается
греческое слово pneuma (воздух). Он указывает на
соответствующее слово даже в древнееврейском, которым пользовался сам
Соломон.
Изложение своего взгляда на духовную субстанцию Локк
завершает констатацией того, что, без всяких сомнений,
нематериальной субстанцией является Бог. Что касается достоверных
знаний о материальности и нематериальности человеческой
души, то их не существует. С определенной долей вероятности
можно говорить о том, что Бог вложил в нас нематериальную
душу. Но он мог также наделить человека душой в виде ауры, не
чуждой материальности. «Однако это не противоречит тому,—
пишет Локк епископу Вустерскому,— что если бог, этот
бесконечный, всемогущий и совершенно нематериальный дух,
пожелал бы дать нам систему, состоящую из очень тонкой материи,
чувства и движения, ее можно было бы с полным основанием
назвать духом, хотя материальность не была бы исключена из ее
сложной идеи»399.
Все приведенные выше рассуждения и лингвистические
разыскания Локка были бы просто любопытны, если бы за ними не
стояла определенная философская позиция. По большому
счету Локк не возражает Стиллингфлиту в том, что из принципов
его «Опыта» следует особое понимание, отличное от
традиционных взглядов на бессмертие души. Но это оригинальное эмпи-
т Локк А- Соч.: В 3 т.- М., 1985.- Т. 2.- С. 305.
т Там же.— С. 306.
232
рическое понимание души как осознанного индивидуального
опыта, Локк, как мы видим, «подпирает» воззрениями
Цицерона, которые ближе к Демокриту, чем к Платону и Аристотелю.
Заявленное новое понимание души выражено у Локка крайне
непоследовательно. И не только из-за реверансов в сторону
церкви. Эмпирическое понимание души у Локка, в свою очередь,
застревает между идеализмом и материализмом. С одной стороны, в
рассмотренных нами фрагментах из «Опыта » телесная
субстанция недвусмысленно представлена как факт сознания. С другой
стороны, в полемике с епископом Вустерским Локк склоняется к
тому, что одушевленной может быть сама материя. Но при этом
он считает такой мыслящей материей не человеческое тело, как
это было у П. Помпонацци, а особое «тело » самой души.
Материализм в том виде, в каком он представлен у Локка,
конечно, естественно-научного толка. И он далек от тех открытий,
которые задолго до него сделали Помпонацци и Аристотель.
Помпонацци интересовало, каким образом становится одушевленным
человеческое тело. Аристотель выводил одушевленность из
способа жизнедеятельности живого существа. У Локка, если
основываться на его довольно поздней по времени переписке со Стил-
лингфлитом, душа — не способ жизнедеятельности тела, а еще
одно тонкое тело, наряду с другим грубым телом человека. Но это
как раз та точка зрения, над которой в связи с Демокритом
надсмехался Аристотель. А из этого следует, что за представлением
о «tabula rasa » могут скрываться различные представления о душе,
уходящие истоками и к Аристотелю, и к Демокриту.
В самом уважительном тоне Локк цитирует Цицерона из «Тус-
куланских бесед», где, в частности, говорится: «.. .Если душа — это
сердце, или кровь, или мозг, тогда, конечно, она — тело и погибает
вместе с остальным телом; если душа — это дух, то он развеется,
если огонь — погаснет»400. Из этого можно сделать вывод, что
Бесконечный и всемогущий Создатель, на которого постоянно
ссылается Локк, сотворил человеку смертную воздушную душу,
которая в целях спасения должна превратиться в душу бессмертную.
Строить догадки насчет того, как такое возможно, нет никакого
смысла. Важнее понять, что синтезировать новоевропейский
эмпиризм с материализмом в духе Демокрита непродуктивно.
Материализм Локка, подобно современным трактовкам души
как ауры, может вдохновлять своей «близостью» к науке. А во
400 Цит. по: там же.— С. 529.
233
времена Лежка он, безусловно, был едва прикрытым вызовом
церкви. Но это не значит, что он близок к истине. Как это ни
парадоксально, но естественно-научный материализм в духе
Локка даже дальше от истины, чем материализм Аристотеля401.
Все дело в том, что материальный мир в учении Локка лишен
субстанциального единства. Как многократно подчеркивается
в его «Опыте », в мире существуют только отдельные тела. Но
если у античных стоиков, которых можно считать предтечей
средневекового и новоевропейского номинализма, Бог присутствует
в самих телах, то у Локка Бог как творец мира находится вне
тел природы. И к этим взаимодействующим телам сотворенный
Богом мир как раз и сводится. По большому счету мир у Локка
един, поскольку природа сотворена единым Богом. А
собственного развития, именуемого природной эволюцией, у такого мира
быть не может. В результате высказывания Локка о том, что сама
природа созидает сходные и различные тела, нужно
воспринимать в качестве общей декларации, не имеющей в самом учении
Локка серьезного обоснования.
Более того, если растения и животные не связаны друг с
другом происхождением как внутренней генетической связью, то
любая классификация оказывается произволом ученых. А в
результате любая наука, и прежде всего теоретическая, уже
исследует не объективные и существенные связи в природе, а
субъективные связи между нашими идеями и построениями. Так,
номинализм, которого придерживается Локк, оказывается
чреват субъективизмом, хотя извлечет его оттуда только Беркли.
Свою борьбу с материальной субстанцией Локк продолжает и
углубляет, различая номинальную к реальную сущность вещей.
И это закономерно, потому что материальное единство мира в
отдельной вещи предстает как ее внутренняя, доступная
практическим действиям, а вслед за ними и уму, сущность. Именно
поэтому последовательный эмпиризм должен отказаться не только
от субстанции мира, но и от сущности вещи. Что же касается Лок-
401 Сегодняшние трактовки души как феномена, принадлежащего
особому «тонкому миру», находятся в том же русле, что и учения Демокрита
и Цицерона. Наиболее свежие примеры такого понимания души
представлены в работах: Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Великий переход.— СПб.,
2002; Троицкий O.A., Критский В.Г. Диалоги о душе и сознании (в свете
науки и религии).— М., 2000. Такого рода естественно-научный
материализм сродни языческим представлениям о душе, несмотря на настойчивые
ссылки авторов на христианство. Более того, в его адрес остаются
актуальны критические выпады со стороны язычника Аристотеля.
234
ка, то он упраздняет классическое понимание сущности,
предлагая взамен его противоположное эмпирическоетолкование.
Если Ф.Бэкон, отталкиваясь от четырех аристотелевских
причин, сделал ставку на формальную причину вещи, то для Локка
это уже неприемлемо. Аристотель, а значит и Бэкон, связывают
сущность вещи с ее внутренней субстанциальной формой, а на
современном языке — скрытым от чувств законом,
определяющим все ее внешние проявления и связи. Что касается Локка, то
для него указанная «субстанциальная форма» — фикция. Если
же говорить о «реальной сущности », то таковой, по его мнению,
можно считать строение вещи, т. е. пусть скрытый от
человеческого глаза, но, тем не менее, вполне определенный вид, размеры
и соотношение ее плотных частичек.
Свое понимание «реальной сущности », в отличие от его
субстанциального понимания, Локк иллюстрирует на примере
золота, чьи свойства — твердость, плавкость, нерастворимость,
изменение цвета при соприкосновении с ртутью — зависят от
чего-то скрытого от глаз. «Но когда я начинаю исследовать и
отыскивать сущность, от которой проистекают эти свойства,—
пишет Локк,— я вижу ясно, что не могу обнаружить ее. Самое
большее, что я могу сделать,— это предположить, что так как
золото есть не что иное, как тело, то его реальная сущность, или
внутреннее строение, от которого зависят эти качества, может
быть только формой, размером и связью его плотных частиц; а
так как ни о чем этом я вообще не имею определенного
восприятия, то у меня и не может быть идеи сущности золота, благодаря
которой оно обладает своеобразной блестящей желтизной,
большим весом, нежели какая-нибудь другая известная мне вещь...
Если кто скажет, что реальная сущность и внутреннее строение,
от которого зависят эти свойства, не есть форма ( figure), размеры
и расположение.. .плотных частиц золота, а есть нечто,
называемое его особой формой ( form), то я буду еще дальше прежнего от
обладания какой-нибудь идеей реальной сущности золота »*2.
Итак, «реальную сущность», по убеждению Локка, нельзя
воспринятьу но в качестве скрытого строения вещи можно
предположить, а значит учитывать ее возможное существование в
своих действиях и рассуждениях. Что касается
субстанциальных форм вещей, то им в реальных вещах, согласно Локку,
вообще ничего не соответствует. И потому «субстанциальную
форму » он относит к так называемым «номинальным сущностям ».
402 Локк Д. Указ. соч.— С. 433-434.
235
Если «реальная сущность » в учении Локка указывает на
скрытое строение самой вещи, то «номинальная сущность » указывает
на вид и род, к которым вещь относят. При этом последние
оказываются в лучшем случае названиями для больших групп вещей.
«Номинальная сущность », пишет Локк, в действительности
имеет отношение «не столько к бытию отдельных вещей, сколько к
их общим наименованиям»403. Причем одним именам, согласно
Локку, соответствует множество сходных вещей, а другим
вообще ничего не соответствует. Именно к таким фиктивным общим
именам и относит Локк «субстанциальную форму », идея которой
у него выражает всего лишь сочетание звуков**. Здесь Локк
оказывается солидарен с Росцеллином, у которого универсалии как
общие имена, есть колебание воздуха, и не более.
Таким образом, и наши представления о видах и родах
вещей, и наши представления об общих сущностях Локк считает
ложными. Но, отказываясь признавать материю
самостоятельной субстанцией, Локк сохраняет сам этот термин, предлагая в
качестве его содержания один лишь момент плотности (без
протяженности и фигуры). Для него вполне очевидно, что слово
«материя » имеет истинное содержание лишь тогда, когда
обозначает то же, что и «тело »405. Именно в этом смысле и говорит
Локк о возможной «материальности» души в своей полемике со
Стиллингфлитом.
Проверку опытом в учении Локка выдерживают лишь
простые идеи, полученные извне и изнутри. Но картина будет
неполной, если мы еще раз не напомним о той сложной идее,
которую Локк вырывает из общего ряда. Это, конечно, идея Бога,
которую Локк, в противоположность Декарту, не считает
врожденной. Но утверждая, что идея этого вечного, всеведущего,
всемогущего, бесконечно мудрого и блаженного существа —
результат распространения в бесконечность тех сил и
деятельности, о которых мы узнаем путем самопознания, Локк не устает
повторять, что эта идея, безусловно, ясная и отчетливая, в
отличие от других406.
Здесь стоит уточнить, что в советской философии в Локке
тоже видели не вполне последовательного материалиста, учение
которого отягощено влиянием деизма. Такая трактовка проис-
403 Локк Д. Указ. соч.— С. 500.
404 См.: там же.— С. 434.
405 См.: там же-С. 556-557.
40* См.: там же.— С. 503-504.
236
ходит из характеристики Локка в «Святом семействе » Марксом
и Энгельсом, где в частности сказано: «Как Гоббс уничтожил
теистические предрассудки бэконовского материализма, так
Коллинз, Додуэлл, Кауард, Гартли, Пристли и т. д. уничтожили
последние теологические границы локковского сенсуализма.
Деизм — по крайней мере для материалиста — есть не более,
как удобный и легкий способ отделаться от религии »407.
В первой половине XIX столетия, когда Маркс и Энгельс
давали указанную характеристику, деизм Локка, как и других
мыслителей Нового времени, выглядел внешним допущением
Бога, под прикрытием которого набирало силу
материалистическое воззрение на мир. Но XX век с его торжеством
позитивизма вынуждает относиться к Локку по-другому. Ведь именно
у него материализм, не успев набрать силу, оказывается
пораженным эмпиризмом.
Как показала последующая эволюция философии, деизм для
материализма представляет меньшую опасность, нем
эмпиризм. Если у деиста после божественного первотолчка мир
живет по собственным законам, то эмпиризм несовместим с
самодвижением и, тем более, саморазвитием природы. Суть в том,
что в эмпиризме Локка природа лишается силы и основы уже по
другим, не связанным с религией, причинам. Бог в учении Локка,
оставаясь всемогущим существом, уже не в состоянии придать
миру субстанциальный смысл, но и сам мир в его эмпирически-
номиналистской трактовке не в состоянии обрести силы и
значимости. А в результате он рассыпается на тела и явления, по
поводу которых с достоверностью можно говорить лишь об их
отдельных свойствах.
Таким образом, отказывая материи в праве быть
субстанцией, Локк делает материализм бесплодным. И естественное
порождение такого материализма — это его противоположность,
т. е. идеализм берклианского типа. Материализм, идущий от
Локка, не способен породить последовательного в своей
оригинальности понимания души, по-новому объясняющего ее
единство. В свое время Фома Аквинский синтезировал христианские
представления о душе с языческой мудростью в лице Стагирита
и получил предельно схоластичное, хотя и близкое идее личного
спасения, решение проблемы. Локк также склоняется к
компромиссу между христианством и языческой мудростью в лице
407 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— 2-е изд.— Т. 2.— С. 144.
237
Демокрита и Цицерона. Но решение проблемы души,
предложенное им в полемике со Стиллингфлитом, хотя и понятно
наивному сознанию, но еще менее продуктивно, чем предложенное
Фомой.
И тем не менее, бросая вызов идее субстанциальности души,
Локк, по сути, начинает расчищать дорогу субстанциализму
иного толка. Ведь без эмпиризма Локка не мог возникнуть не только
субъективизм Д. Беркли, но и радикальный скептицизм Д. Юма.
А достижение Юма как раз в том, что, не желая компромиссов,
он доводит эмпирический подход к проблеме души до его
предельной четкости и ясности, и тем самым провоцирует
методологический переворот Канта.
V. А. Юм u ftwjoft единству души
Начнем с того, что Давид Юм жил в век Просвещения, и сам
был выдающимся английским просветителем. Он родился
в Эдинбурге — столице Шотландии, которая в XVIII веке
достигла серьезного экономического процветания. Ранее
Шотландия была известна лишь как родина клетчатых мужских юбок,
виски и волынок. Но уже во времена Юма сельское хозяйство
Шотландии стало образцом для всей Европы. В Шотландии
набирал силу промышленный переворот. Что касается культурной
жизни этой части Британских островов, то она была весьма
противоречивой.
С одной стороны, национальная пресвитерианская церковь
ревностно следила за поведением мирян, запрещая даже
выставлять картины и ставить пьесы. А с другой стороны, Эдинбург
именовали Северными Афинами. И связано это было с
шотландскими университетами, в которых преподавали известные
просветители Ф. Хатчесон,А. ФергюсонД. Рид, А. Смит и др.
Большинство преподавателей в университетах имели религиозный сан,
и, тем не менее, в отличие от Оксфорда и Кембриджа, студентам
здесь давали не узкое специальное, а широкое гуманитарное
образование, основу которого составляла «моральная философия »
прославившей себя Шотландской школы.
Обстоятельный анализ проблемы души мы находим в самом
известном произведении Юма, полное название которого
«Трактат о человеческой природе, или попытка применить
основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам ». Уже
в самом этом названии прослеживается отношение Юма к «мо-
231
ральной философии », мимо которой он пройти, конечно, не мог.
Надо сказать, что это было первое крупное произведение Юма,
написанное уже к 25 годам, две части которого он опубликовал
в 1739 году анонимно. Критикой субстанциального понимания
души завершается первая книга трактата под названием «О
познании », что само по себе вполне знаменательно и логично.
Отличаясь от Локка однозначностью постановки и решения
проблем, Юм в вопросе о природе нашего духа выступает
против субстанциализма во всех известных ему формах, т. е.
против материализма и идеализма одновременно. Идея субстанции,
уточняет Юм, предполагает присущность наших впечатлений,
мыслей и аффектов чему-то другому, существующему само по
себе. У материалистов такая субстанция является протяженной,
а значит, уточняет Юм, следуя этой логике, впечатления и
аффекты должны занимать место в пространстве, что, по его
мнению, нелепо. «И действительно, может ли кто-нибудь
представить себе аффект длиной в один ярд, шириной в один фут и
толщиной в один дюйм? »^ — заявляет Юм, полемизируя с
материалистами. А по сути он полемизирует здесь с Локком, у
которого душа тоже занимает определенное место в пространстве.
«Моральное размышление не может быть помещено направо
или налево от аффекта, — замечает в другом месте Юм,— а
запах или звук не может обладать круглой или квадратной
фигурой »409. Речь, таким образом, идет о способе существования или,
как выражается Юм, о локальном соединении души с материей.
И его вывод состоит в том, что то, что принадлежит «душе », в
отношении которой он применяет только английское слово «soul »,
реально существует, однако при этом нигде не находится.
Но опыт демонстрирует нам и другие проявления души,
которые как будто бы связаны с протяжением. Таковы, согласно
Юму, впечатления и идеи, полученные зрением и осязанием, в
отличие отданных слуха и вкуса. В качестве иллюстрации Юм
приводит пример фиги, лежащей на одном краю стола, и оливы,
лежащей на другом. Обычно сладкий вкус фиги, т. е. инжира, и
горький вкус оливы отождествляют с определенными телами в
некотором месте пространства. Но, по убеждению Юма, это
иллюзия, которая рождается из склонности человека к смеши-
408 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.—
С.325-326.
409 Там же.- С. 327.
238
ванию смежного со сходным и сходного в положении со
сходным по качеству. И как всякая иллюзия, считает он, отнесение
вкуса к определенному месту в пространстве должно быть
критически преодолено разумом.
«Итак,— читаем мы у Юма,— мы находимся под влиянием
двух прямо противоположных друг другу принципов, а именно:
склонности нашего воображения, которая принуждает нас
объединять вкус с протяженным объектом, и разума,
показывающего нам невозможность подобной связи. Колеблясь между этими
противоречивыми принципами, мы не отказываемся ни оттого,
ни от другого, но окутываем предмет такой неясностью и
темнотой, что уже не замечаем противоположности. Мы
предполагаем, что вкус существует в пределах тела, но таким образом, что
он заполняет последнее вполне, не будучи протяженным, и
существует в каждой его части целиком, не разделяясь »41°.
Парадоксы такого рода возникают, согласно Юму, из-за
сочетания в нашем опыте разнородных впечатлений, которым
материалисты и идеалисты дают противоположную трактовку.
И выход из этого затруднения связан с принципиально иной
позицией, отвергающей идею субстанции. Такую позицию,
согласно Юму, занимает разум, в котором представлена самокритика
чувственного опыта. Причем разум у Юма несопоставим с этой
способностью у рационалистов, поскольку у него, как и во всей
эмпирической традиции, он непосредственно вырастает из чувств.
И здесь его прямым предшественником, конечно, является Локк.
Но важно иметь в виду, что даже в своей критической ипостаси
разум в учении Юма не является проявлением активности и
даже отдаленно не напоминает разум у
философов-рационалистов. Юм часто намекает на то, что ум есть и у животных, а у
человека он присутствует лишь в превосходной степенщ т. е.
отличается от ума животных только количественно. В любом
случае человеческий ум в учении скептика Юма играет
незавидную роль.
Здесь следует заметить, что Юм критически относится ко
многим сторонам в учении Локка и, в частности, считает, что тот
смазал существенное различие между «впечатлением» и
«идеей », представляя все и вся в роли простых и сложных идей. «Быть
может,— отмечает он в самом начале своего трактата,— я ско-
410 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 330.
240
рее возвращу слову идея его первоначальный смысл, от
которого оно было удалено Локком, обозначавшим с его помощью все
наши восприятия...»'111.
В отличие от Локка, Юм считает исходной реальностью, с
которой мы имеем дело в опыте, именно впечатление.
«Впечатлениями» он называет «все наши ощущения, аффекты и эмоции
при первом их появлении в душе»412. Однако, стоит обратить
внимание на то, что в сравнении с эмпиризмом, к примеру, того
же Лдкка, отношения тут перевернуты. Ведь впечатление у Юма
отнюдь не образ, а образом как раз является идея. «Идеями » он
называет «слабые образы этих впечатлений в мышлении и
рассуждении»413.
И все же, переворачивая отношения между впечатлением и
идеей, Юм по большому счету остается верен эмпирической
традиции. Ведь разница между впечатлением и идеей у него остается
чисто количественной в то время, как differentia specifîca идеи —
в ее качественном отличии от чувственного образа. У Юма идея —
это только образ «впечатления », тогда как, к примеру, идея
паровоза —это вовсе не образ впечатления, которое он производит
в нас. Идея паровоза кому-то пришла в голову раньше, чем
появился сам паровоз, и в этом смысле идея даже предшествует
«впечатлению ». Таков изначальный смысл понятия «идея »,
каким его ввел Платон. Ведь идеи у Платона — не образы, а
прообразы вещей, а значит их всеобщие сущности.
Англичане, как заметит потом Гегель, имея в виду
философов-эмпириков, «идеей » называют даже чувственный образ
собаки. Но идея в изначальном ее смысле не есть чувственное, а
она, наоборот, выражает сверхчувственное в вещах. Если идеи
нет в этом качестве, то ее нет вообще. Иначе говоря, чтобы
вернуть «идее» ее первоначальный смысл, нужно, как минимум,
показать, каким образом в идее подвергается отрицанию
чувственное «впечатление». Но именно этой отрицательности у
Юма нет, и его «идеи » не выводят нас за пределы чувственного
опыта. А если бы такое возвращение Юму удалось, то это бы
разрушило все его последовательно скептическое учение.
По сути Юм переосмысляет большинство классических
представлений. А с другой стороны, он смазывает уже существую-
411 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 58.
412 См.: там же.— С. 57.
413 См.: там же.
241
щие различия. Например, Юм не уточняет различия между
представлением и понятием и употребляет термин «notion» (
понятие) в значении, соответствующем «представлению ».
Впечатления и идеи — это своеобразные «атомы » теории
познания Юма. И свою задачу он видит в анализе их соотношений.
С этой целью Юм вводит принцип ассоциации психических
образов, который стал затем основой ассоцианистской
психологии. В Юме вообще часто видят одного из основоположников
науки психологии. Сам же он считал, что на основе принципа
ассоциации можно создать аналог ньютоновской физики
применительно к человеку. В отличие от Беркли, он видел в учении
Ньютона образец научного знания и руководствовался им при
написании «Трактата о человеческой природе». Особенно
привлекательным для Юма был призыв Ньютона: «Физика,
берегись метафизики! ». Тем же пафосом проникнуты исследования
Юма в области теории познания и моральной философии.
Но если у Ньютона действуют определенные силы, к
примеру, та же самая гравитация, то Юм разлагает и это классическое
представление. Указывая на то, пишет он, что «какое-то
существо высшей или низшей природы обладает некоторой мощью
или силой, пропорциональной некоторому действию, говоря о
необходимой связи между объектами и предполагая, что эта
связь зависит от дееспособности или энергии, которой обладает
один из объектов; пользуясь всеми этими выражениями 6
указанном применении, мы в действительности не придаем им
точного смысла, но лишь употребляем привычные слова, не
соединяя с ними ясных и определенных идей »414. Иначе говоря,
прояснив все эти смыслы, мы должны понять: кажущееся нам
действием силы на деле является простым сочетанием идей. А
потому мнимую идею силы можно редуцировать до сходных
отношений последовательности и смежности, к которым у Юма и
сводятся главным образом ассоциации.
И то же самое касается нашего ума. «Словом, акты нашего
ума,— пишет Юм,— в данном отношении тождественны актам
материи. Мы воспринимаем только их постоянное соединение и
никак не можем выйти за его пределы при помощи рассуждения.
Ни в одном внутреннем впечатлении не содержится явно
энергии более, чем ее имеется во внешних объектах »415. Иначе гово-
ш Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.—
С. 245-246.
<15 Там же.— С. 244.
242
ря, все наши действия и способности, а не только разум,
лишены внутренней энергии и активности. Пассивна память,
которая в учении Юма удерживает образы после прекращения
воздействия извне. Лишено энергии воображение, которое
перемещает идеи, куда угодно.
Хотя Юм отмечает живость и интенсивность наших
впечатлений, в отличие от идей как их слабых образов, то и другое у
него пассивно. Все, что представлено в нашем опыте, не
взаимодействует, а только сочетается. И впечатления, и идеи,
уверен Юм, отражают не общее (сущность), а частное (явление), не
объективную связь, а субъективное отношение. А точнее
говоря, это сугубо внешние соотношения, которые разлагать и
упрощать дальше просто невозможно.
Вообще, скептицизм очень часто играет роль своеобразного
alibi, которое люди себе выдумывают, чтобы спокойно жить на
свете. Суть этого alibi в том, что в мире нет ничего существенного
и постоянного, отношения ни к чему не обязывают, нет никаких
абсолютных ценностей, а потому нечего и беспокоиться. Но
скептицизм Юма еще не обрел того пошлого характера, какой
он имеет в современном мире, где любая жизненная позиция
принимается только сугубо условно в обмен на обеспеченную
жизнь. И серьезность скептицизма Юма проявляется в том, что
он выступил против субстанциальности Бога в то время и в той
среде, где такой образ мыслей вовсе не приветствовался и не
сулил гарантированного жизненного успеха.
У Локка, как мы помним, материальная душа
парадоксальным образом дополняется бытием нематериального Бога. Нечто
подобное было и у Помпонацци. Юм более последователен в
отрицании субстанции любого толка. Новизна его позиции в том,
что существование Бога так же сомнительно, как и
существование материи. Ведь ни то, ни другое не дано нам в чувственном
опыте. Бога, например, мы не видим, не слышим, вообще никак
не ощущаем. Но откуда берется представление о нем не только в
обыденном сознании, но и в теологии?
Юм убежден, что христианская вера в Бога есть результат
неправомерного распространения опытных данных на
сверхопытную область, распространения данных о конечном на
бесконечное. Именно так, по его мнению, поступают теологи в своих
доказательствах бытия Божия. К примеру, они не правы, когда
на основании идеи Бога в нашем разуме утверждают его
реальное существование. А как раз на этом построено известное
243
«онтологическое доказательство » бытия Бога. Более того, все
катафатическое богословие, которое судит о Боге по аналогии с
его творениями, с точки зрения Юма, не выдерживает критики.
«Могут, правда, сказать,— заявляет Юм,— что связь между
идеей бесконечно могущественного существа и идеей любого
действия, которого оно хочет, необходима и неизбежна, но я
отвечу на это, что у нас нет идеи существа, обладающего какой
бы то ни было мощью, а еще менее такого, которое обладало бы
бесконечной мощью»416. Здесь, как мы видим, объектом
критики оказывается метафизика, а точнее рациональная теология
с ее размышлениями над идеей Бога, которую затем будет
критиковать Кант. И точно так же Юм не согласен с
существованием бессмертной души, идея которой в XVIII веке стала
предметом рациональной психологии.
Именно в области метафизики, согласно Юму, мы имеем дело
с множеством смутных и несовершенных идей. Дело в том, что
разум, по его мнению, должен заниматься теми идеями,
которые произошли из восприятий. В ином случае перед нами
фикция, которую следует искоренять. Указанную позицию Юма
впоследствии назовут «бритвойЮма», по аналогии с «бритвой
Оккама », предлагавшего не плодить лишних сущностей.
Естественно, что главная фикция — это субстанция. С одной
стороны, субстанцией считают Бога. С другой стороны, в
качестве субстанции нам представляются отдельные вещи. И
происходит это за счет «игры воображения », способной представить
множество ( «пучок») впечатлений в качестве единого «нечто » с
неизменными качествами. Причем существенную роль здесь
играет язык, который с помощью имени закрепляет такую «игру
воображения». «Особенная идея становится общей,— пишет
Юм,— будучи присоединена к общему имени, т. е. к термину,
который благодаря привычному соединению со многими
другими особенными идеями находится в некотором отношении к
последним и легко вызывает их в воображении »417.
И, наконец, бессмертная душа человека, которую также
привычно мыслят в качестве субстанции. Как и в других случаях,
Юм подробным образом объясняет механизм формирования этой
иллюзии, суть которой в неприметности переходов между впе-
ш Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 341.
417 Юм Д. Соч.: В 2 т.— М., 1966.— Т. 1.— С. 114.
244
чатлениями. И на этой основе воображение формирует
видимость, будто мы имеем дело с чем-то единым. В главе под
названием «О нематериальности души » Юм выдвигает, на его взгляд,
несокрушимые аргументы против идеи души как
нематериальной субстанции. И главный из них связан с атеизмом Спинозы,
который также признавал существование субстанции. «Я
утверждаю, что доктрина о нематериальности, простоте и
неделимости мыслящей субстанции,— пишет Юм,— равнозначна
чистейшему атеизму и что ею можно воспользоваться для оправдания
всех тех мнений, из-за которых Спиноза повсеместно
пользуется столь дурной славой»418.
Юм, издавший свой трактат анонимно, прекрасно сознавал,
что главным обвинением против него будет обвинение в атеизме.
И единственный способ защиты он видел в том, чтобы обернуть
это обвинение против самих обвинителей. Особой мишенью здесь
оказываются Локк и Беркли, которые, разоблачая
материальную субстанцию, признают субстанциальность за началом
духовным, а точнее божественным.
Юм не ставит знак равенства между собой и Спинозой,
который, как мы знаем, считал Богом Природу. Кроме того, будучи
скептиком, Юм высказал как-то на обеде у барона Гольбаха
сомнение в существовании стопроцентных атеистов. Но в любом
случае у теизма и атеизма Юм видит общий серьезный порок.
Его суть в том, что из единого, простого и неделимого бытия
выводят различные и даже противоположные модификации.
«Всякий душевный аффект, всякое материальное образование,—
пишет Юм о Спинозе,— как бы различны и разнообразны они ни
были, принадлежат одной и той же субстанции и сохраняют в
себе присущие им черты отличия, не передавая их той сущности,
которой они принадлежат»419. И далее он уточняет: «Я думаю,
что данное здесь краткое изложение принципов знаменитого
атеиста окажется достаточным для настоящей цели и мне
удастся, не углубляясь далее в эти мрачные и туманные области,
доказать, что указанная мной непривлекательная гипотеза почти
тождественна получившей такую популярность гипотезе о
нематериальности души »42°.
ш Юм А- Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 332.
4,9 Там же.- С. 332-333.
420 Там же.— С. 333.
245
Юм воспринимает как полную нелепость спинозовское
различие между единой субстанцией и многообразными модусами.
* В своей полноте учение Спинозы для него абсолютно
неприемлемо. Но если отбросить спинозовскую субстанцию, то с
модусами в общем-то можно согласиться. По сути содержание
нашего опыта в учении Юма напоминает лишенные своей основы
модусы Спинозы, которые в итоге обрели призрачный характер
субъективных впечатлений.
При этом Юм отрицает не только душу как нечто единое и
неделимое, но и не признает объективности ее содержания в
общепринятом смысле. Уже приводились доводы Юма в пользу
того, что впечатления, конечно, существуют, однако, они, тем
не менее, нигде не находятся. Соотнесенность впечатлений
между собой налицо, но идея необходимой связи впечатлений с
объективным материальным миром — очередная фикция. И все
же надо сказать, что в убеждениях Юма присутствует элемент
наивного материализма, который связан с чисто
психологическим феноменом доверия.
Вера, или доверие, оказывается у Юма одним из главных
проявлений человеческой природы. Причем Юм различает
религиозную веру как «faith» и доверие как «belief». И как раз
внутренняя уверенность в присутствии внешнего мира
отделяет скептицизм Юма от субъективизма типа Беркли. В
отличие от Беркли, Юм не раз упоминает о том, что, хотя мы не
можем судить о подлинном состоянии внешнего мира, а только
о собственном опыте, этот мир существует, в силу нашего
изначального доверия к нему. Любая вера, согласно Юму,
происходит из обыкновенного человеческого доверия. И с этим
связана оригинальность подхода Юма к феномену мистической
религиозной веры. Тем не менее, в соответствии со своей
теорией познания, Юм в конечном итоге редуцирует акт доверия к
особой живости, прочности, твердости и стойкости
впечатления. «Этот акт нашего духа,— пишет он,— еще никогда
не был объяснен ни одним философом, поэтому я вправе
предложить свою гипотезу, состоящую в том, что акт этот не что
иное, как сильное и устойчивое (strong and steady)
представление какой-нибудь идеи, до известной степени
приближающейся к непосредственному впечатлению»421.
411 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 168
(прим.).
2«
Если у Спинозы модусы, в отличие от субстанции как causa
sui, не способны к самодетерминации, то «модусы » Юма не
способны даже к механическому взаимодействию. Как уже
говорилось, взаимоотношения впечатлений и идей Юм редуцирует до
системы внешних соответствий. И, таким образом, в теории
познания Юма человек оказывается лишен не только субъектного
начала, но и любых проявлений активности. Когда мыслители
Возрождения, вслед за античными греками, говорили о
микрокосме как отражении макрокосма, они имели в виду присутствие
в мире и человеке активного творческого начала. Юм редуцирует
активность возрожденческого субъекта к ассоциативным
процессам, и не более. И эту методологию Юм осуществляет
довольно настойчиво, причем не только в теории познания, но и в
своей этике.
Во втором томе его «Трактата о человеческой природе » мы
находим специальный параграф, посвященный развенчанию
мифа о свободе воли. Каждый раз в поступках человека,
доказывает Юм, присутствует некая движущая сила. Пытаясь
вернуть свободу, приводит пример Юм, узник будет
воздействовать на камни и решетки, не полагаясь на неумолимый характер
тюремщиков. И во всем этом, по мнению Юма, проявляется
необходимость, подтверждающая, что у каждого действия
человека есть своя причина422.
Таким образом, боля человека предстает у Юма как
отличная от свободы воли и в своей необходимости исключающая
какую-либо случайность. «Согласно моим определениям,— пишет
он,— необходимость является существенной частью
причинности, а, следовательно, свобода, устраняя необходимость,
устраняет и причины и оказывается тождественной случайности»423.
Юм здесь мыслит, на первый взгляд, парадоксально, поскольку
в других разделах «Трактата о человеческой природе» он как
раз развенчивает миф о существовании причинности. Тем не
менее, все становится на свои места, если предположить, что
непреложной данностью для Юма являются факты нашего опыта
и соотношения между ними. Что касается свободы воли, то она
выглядит как самопроизвольное действие, возникающее само
по себе. Такого ни с чем не связанного факта опыта Юм
потерпеть не может, а потому опровергает его существование от име-
422 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 2.— С. 156.
4" Там же.- С. 157.
247
ни причинности. Ну а затем остается лишь представить
указанную причинную связь как связь не генетическую, а чисто
ассоциативную.
Напомним, что Юм предпосылает теорию познания этике,
считая решение моральных вопросов своей главной задачей. Но
мостиком между теорией познания и этикой Юма является его
учение об аффектах, которое в наши дни можно трактовать
как ассоцианистскую теорию эмоций. Дело в том, что, по
мнению Юма, человеком руководят аффекты, и на них построено
объяснение как этических, так и политических явлений. Под
аффектом, согласно Юму, мы должны понимать сильную и
ощутимую эмоцию нашего духа, возникающую в ответ на некоторое
благо, или зло, или какой-нибудь объект, который в состоянии
вызвать в нас стремление к себе. А главный аффект человека,
если судить по «Трактату»,— это симпатия, противоположная
эгоизму.
Характеризуя суть морального поведения, Юм выступает
против этических учений рационалистов, идущих от великого
Сократа. Разум, по мнению Юма, никак не влияет на наши
поступки. «Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с
разумом,— иронизирует он,— если предпочту, чтобы весь мир был
разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец»424. Как мы видим,
опровергая этический рационализм, Юм приводит примеры в
духе «подпольного человека » Достоевского.
Все тут как будто бы ясно. И в аффектах хотелось бы видеть
аналог сил отталкивания и притяжения в учении Ньютона. Но
на деле в учении Юма все иначе, и аффект в его трактовке столь
же несамостоятелен и пассивен, как впечатление и идея. Обычно
в аффектах видят различные проявления темперамента,
характера и других особенностей субъекта. Но у Юма опять все
наоборот. И аффект в его трактовке определяется не внутренним,
а внешним, не субъектом, а внешними воздействиями. А логика
при этом все та же: разные аффекты не могут быть обусловлены
одним и тем же Я в качестве причины. А значит внутреннее
единство Я есть фикция. «Но, хотя связная последовательность
перцепций, которую мы называем своим я, всегда является
объектом двух упомянутых аффектов,— пишет Юм о гордости и
униженности,— она не может быть их причиной и ее одной
недостаточно для того, чтобы возбудить их »42î.
*и Юм Д. Соч.: В 2 т.— М., 1966.— Т.1.— С. 557.
425 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 2.— С. 10.
241
Итак, наше Я, согласно Юму, не может быть источником
аффектов. И аргументирует он это тем, что один и тот же
человек, к примеру, не может быть одновременно гордым и
униженным426. Но почему же нет? Здесь Юм уже не предвосхищает, а
явно не дотягивает до знания человеческой психологии
Достоевским, у которого состояния героев, как правило,
амбивалентны. Стоит вспомнить хотя бы любовь-ненависть Версилова и
Ахмаковой в «Подростке».
Как мы видим, диалектика нашего Я просто не умещается в
рассудочные клише Юма. И здесь стоит указать на
примечательный факт из его биографии. Дело в том, что Юм с юности
увлекался науками. Но его мать, умная и образованная женщина,
оценила при всем этом таланты младшего сына следующим
образом: «У нашего Дэви превосходный характер, но он
удивительно слаб умом»427. Эту характеристику большинство
биографов воспринимают как парадоксальную и загадочную.
Своеобразной разгадкой, однако, может быть оценка его личности со
стороны М.В. Сабининой, автора прекрасного очерка о Юме в
«Биографической библиотеке Ф. Павленкова». «В своей
прозаичности,— пишет она,— Юм доходил до полного непонимания
красоты и до неумения наслаждаться ею. Живопись,
скульптура и музыка решительно не существовали для этого сухого и
строгого мыслителя... »428.
Вполне возможно, что под «слабостью ума » мать имела в виду
крайнюю рассудочность Юма, проявлявшуюся, прежде всего, в
эстетической ограниченности этого философа. Но, несмотря на
эту явную ограниченность в развитии фантазии, Юм рисует в
своих философских работах невероятную картину мира, в
которой все сводится к аморфным впечатлениям, отношения
которых с трудом поддаются выражению обычными словами. И
надо сказать, что сам шотландский философ постоянно путается в
своих построениях. Разоблачая активность субъекта и отвергая
причинность, он регулярно соскальзывает на рассуждения о
волевых актах, причинно-следственной обусловленности и
взаимодействиях в окружающем мире, т. е. вступает в противоречие
со своими собственными скептическими принципами и выводами.
ш Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 2.— С. 10.
427 См.: Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт.— СПб.,
1998. — С. П.— (Жизнь замечательных людей.)
т Там же.— С. 14.
249
В связи с этим интересны те сомнения в своих построениях,
которые Юм обнародовал в конце первой книги «Трактата о
человеческой природе». «Интенсивное рассмотрение
разнообразных противоречий и несовершенств человеческого разума,—
пишет Юм,— так повлияло на меня, так разгорячило мою
голову, что я готов отвергнуть всякую веру, всякие рассуждения и не
могу признать ни одного мнения хотя бы более вероятным или
правдоподобным, чем другое. Где я и что я? Каким причинам я
обязан своим существованием и к какому состоянию я
возвращусь? Чьей милости должен я добиваться и чьего гнева
страшиться? Какие существа окружают меня и на кого я оказываю
хоть какое-нибудь влияние или кто хоть как-нибудь влияет на
меня? Все эти вопросы приводят меня в полное замешательство
и мне чудится, что я нахожусь в самом отчаянном положении,
окружен глубоким мраком и совершенно лишен употребления
всех своих членов и способностей »429.
Собственные скептические построения могли вогнать даже
добродушного Юма в состояние меланхолии, исцеление от
которой он видел только в обыденных занятиях, способных
развеять любые химеры. «Я обедаю, играю партию в трик-трак,
разговариваю и смеюсь со своими друзьями;— пишет он,— и если
бы, посвятив этим развлечениям часа три-четыре, я пожелал
вернуться к вышеописанным умозрениям, они показались бы мне
такими холодными, натянутыми и нелепыми, что я не смог бы
заставить себя снова предаться им »43°.
Стоит обратить внимание на то, что в своем стремлении
опираться только па опыт Юм в итоге приходит к самым
«натянутым » и «нелепым » умозрениям, которые сам же в сердцах
именует «бредом ». А это говорит о том, что, отказываясь учитывать
специфику разума, мы можем оказаться в плену его самых
худших проявлений. И тогда эмпиризм в своем предельном
выражении оборачивается самой беспочвенной умозрительностью
построений.
В момент меланхолии Юм, по сути, проговаривается в этом.
И последнее подталкивает его к выводу о скептическом
отношении к самому философскому скептицизму. «Истинный
скептик,— пишет Юм,— будет относиться с недоверием не только
429 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 364.
430 Там же.- С. 365.
250
к своим философским убеждениям, но и к своим
философским сомнениям, однако он никогда не откажется от того
невинного удовольствия, которое могут доставить ему как те, так
и другие»431.
Но вернемся к тому месту в «Трактате о человеческой
природе », где, разоблачая идею нематериальной души, Юм обвиняет
Спинозу в мистицизме. При этом его собственная картина мира,
выстроенная философствующим рассудком, не соответствует
даже его обыденному проявлению — здравому смыслу, а
потому нуждается в таинственных подпорках, главной из которых
оказывается «человеческая природа». А в итоге противоборство
с метафизикой оборачивается у Юма той же самой метафизикой
в худшем из ее проявлений.
В свое время Локк не смог вывести разум из ощущений, да
это и невозможно сделать. Разум — особое качество, которое не
содержится непосредственно в ощущениях, но, тем не менее,
организует их, опираясь на возможности практики. А Юм даже
не пытается всерьез объяснить природу разума. Так же, как и у
Локка, разум появляется у него, как античный «бог из машины »,
взявшись неизвестно откуда. Более того, не только разум, но и
все остальные способности человека, включая память,
воображение, веру и пр., являются у Юма изначальными «качествами»
человеческой природы, которые он иногда именует
«принципами », а иногда «инстинктом» наших душ. И сама идея подобных
«качеств» — прекрасная «палочка-выручалочка »в трудно
объяснимых ситуациях.
Выходит так, что избавляясь от одних фиктивных идей, Юм
вводит другие. Впрочем, рассуждения о непознанной, по сути,
человеческой природе, на которую можно все списать, были
очень популярны в его время. Юм нуждается в этом потому, что
даже то минимальное своеобразие, которое он признает за
способностями человека, полностью редуцировать, т. е. свести
без остатка к опыту, невозможно. И тогда появляется все и вся
объясняющая «человеческая природа ». Вот что пишет Юм о
природе нашего духа: «Ибо мне представляется очевидным, что
сущность духа (mind) так же неизвестна нам, как и сущность
внешних тел, и равным образом невозможно образовать какое-либо
представление о силах и качествах духа иначе как с помощью
431 Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 1.— С. 369.
251
тщательных и точных экспериментов и наблюдений над теми
особыми действиями, которые являются результатом
различных обстоятельств »*ш.
Несмотря на некоторые авансы, которые Юм выдает здесь
науке в исследовании природы духа, в других местах он не
уступает ни пяди тем, кто надеется доказать внутреннее единство
души или, как Локк, заменяют традиционную проблему души
новой проблемой тождества личности. В своей критике души как
особой духовной субстанции Юм вполне последователен,
распространяя ее и на локковскую идею тождества личности. Он
открыто выступает с критикой идеи рефлексивной
деятельности нашего Я, посредством которой весь опыт осознается как опыт
конкретной личности. Как всегда, Юм заявляет о фиктивности
этой идеи и указывает на истинную, по его мнению, причину
такой видимости — нашу память.
Не активная рефлексия, а пассивная память, по мнению
Юма, создает видимость тождества личности за счет того, что
мы можем задним числом пробежать последовательность
своих восприятий. «Итак, с данной точки зрения,— пишет Юм-
память не столько производит, сколько открывает личное
тождество, указывая нам отношение причины и действия
между нашими различными восприятиями»433. Но такое личное
тождество тождеством личности в общепринятом смысле,
конечно, не назовешь. Таким образом, Юм изничтожает не
только традиционное схоластическое понимание души как
духовной субстанции, но и собственно эмпирическое понимание
души, где она равна рефлексии опыта, формирующей нашу
личность и наше Я. Юм разрушает как внутреннее единство
души как субстанции, так и ее внешнее единство в виде
тождества личности.
Здесь стоит упомянуть еще об одной работе Юма, напрямую
связанной с проблемой души. Прижизненные издания
«Трактата о человеческой природе », написанного Юмом во Франции,
были анонимными по понятным причинам. То же самое касается
его эссе «О бессмертии души », написанного значительно позже
между 1755 и 1757 годами. Это эссе он вообще изъял из печати,
опасаясь преследований со стороны церкви.
Ail Юм Д. Трактат о человеческой природе.— М., 1995.— Кн. 2.— С. 51.
Aii Там же.— С. 356-357.
252
В этой небольшой по объему работе Юм критикует
метафизические и физические доводы, приводимые обычно в пользу
бессмертия души. Контрдоводы Юма здесь предельно ясны,
доходчивы и кратки. Приведем некоторые из них. Если душа
бессмертна, рассуждает Юм, то она существовала до нашего
рождения. Но если нам нет дела до этого предыдущего
существования, то почему должно интересовать последующее. Далее он
формулирует уместный, по его мнению, вопрос: «Несомненно,
что животные чувствуют, мысляотят и даже рассуждают, хотя
и менее совершенным образом, чем люди. Значит их души тоже
нематериальны и бессмертны?»434.
А вот рассуждения Юма о единстве души и тела: «Слабость
тела в детстве вполне соответствует слабости духа; будучи оба в
полной силе и зрелом возрасте, они совместно расстраиваются
при болезни и постепенно приходят в упадок в преклонных
годах. Представляется неизбежным и следующий шаг — их
общий распад при смерти»435. И далее он продолжает: «Поэтому
противно всякой аналогии изображать, что только одна форма,
по-видимому самая хрупкая из всех и подверженная к тому же
величайшим нарушениям, бессмертна и неразрушима. Что за
смелая теория! Как легкомысленно, чтобы не сказать
безрассудно, она построена»436.
Такие доводы могут принадлежать только атеисту. Тем не
менее, многие исследователи считают, что Юм, в соответствии
со своей скептической позицией, все же допускал
существование некой «высшей причины», о которой мы не имеем
свидетельств в опыте. Такую позицию принято именовать «естествен-
нойрелигией», и она, конечно, не имеет ничего общего ни с
католицизмом, ни с протестантизмом.
Характерная ситуация, в связи с убеждениями Юма,
сложилась в момент его смерти. Молодой журналист Д. Босуэлл
посетил умирающего скептика для того, чтобы убедиться, как в
смертных муках он будет каяться и просить помощи у Бога. Но Юм
умирал с античной невозмутимостью. Более того, он поведал
Босуэллу, что потерял веру в какую-либо религию, когда стал
читать Локка и Кларка. Отвергнув возможность бессмертия на
примере угля, брошенного в огонь, Юм с добродушной улыбкой
434 Юм Д. Малые произведения.— М., 1996.— С. 173.
435 Там же.— С. 177.
436 Там же.- С. 178.
253
поведал журналисту о том, как когда-то признался атеисту
лорду Маршаллу, что в каком-то смысле верит в Бога, из-за чего тот
с ним неделю не разговаривал.
Все это Босуэлл занес в дневник, как и то, что говорилось на
похоронах Юма, где обвинения в атеизме парировались
заявлениями о том, что покойный был честным и порядочным человеком.
Религиозным убеждениям журналиста обстоятельства смерти Юма
нанесли большую душевную травму, которую тот пытался
утопить в вине. В конце концов ему пригрезилось, что найден дневник
Юма, в котором он признается в своей тайной вере в Создателя.
Но вернемся к взглядам Юма и основному противоречию
юмизма. Дело в том, что, опровергая абсолютную истину
схоластической философии и христианской теологии, он по сути
опровергает Истину вообще, в том числе и истину
новоевропейской науки, истину ньютоновской физики. Именно это и выведет
из себя Канта.
Мы начали с того, что Юм был известным просветителем. Но
идеи Просвещения, вырастающие на почве эмпирической
философии, дают специфический результат. Антидогматизм и
критицизм Просвещения в этом случае чреват скептицизмом,
подвергающим сомнению не только догмы, но и идеалы. Стоит заметить,
что с самого начала новоевропейский философский материализм
был связан с эмпиризмом и номинализмом. И поэтому, в отличие
от его античной версии, такой материализм всегда грешил
скептицизмом, последовательно реализованным именно Юмом.
Даже в античности скептицизм был направлен главным
образом против философии Платона. Ведь скептицизм не признает
идею субстанции, идеи причинности и необходимости, идеи
Добра и Зла. Скептики всегда говорили об относительности доброго
и злого. Отсюда моральный релятивизм и индифферентизм
скептицизма. Но исходя из него невозможно построить какую-то
систему практической философии. Итог философии Юма почти
тот же. Она все разрушает, но ничего не строит, ничего не
предлагает взамен, и оставляет нас на развалинах всех прежних
философских систем.
Душа человека редуцируется Юмом до элементарных
составляющих, в отношении которых бессмысленно говорить о
субстанциальном единстве. Но для последователей Юма, подобных
Канту, такая «выжженнаяземля» — это предпосылка нового
взгляда на человека, предпосылка перехода к иному пониманию
субстанциальности.
2S4
Ь. И. Кзит: природа души и
трансцендентальная апперцепция
Нам известно, что именно Юм пробудил Канта от
«догматического сна ». И это «пробуждение » проявилось, в
частности, в формировании критического отношения к метафизике.
Напомним, что в эпоху, когда формировались философские
воззрения Канта, метафизика преподавалась во всех немецких
университетах. В качестве ядра философской системы она была
призвана исследовать «основные формы всякого бытия».
Причем, если естественные науки исследовали природу, опираясь на
чувственный опыт, то метафизика была чисто умозрительной
наукой, признающей одну лишь силу логического
доказательства. В этом виде она господствовала в Германии вплоть до
распространения учения самого Канта.
Свое классическое завершение метафизика нашла в учении
Христиана Вольфа, который как раз и разделил ее на
рациональную космологию у рациональную психологию к
рациональную теологию. В рациональной космологии чисто
умозрительно обосновывалось существование мира в целом, в
рациональной психологии — бессмертной нематериальной души, в
рациональной теологии — Бога. Причем рациональная
теология, уходящая корнями в катафатическое богословие
Средневековья, отличалась именно тем, что пыталась разумом доказать
то, что в христианстве как религии откровения постигается
прежде всего мистически в акте веры.
Надо сказать, что Вольф, будучи учеником Лейбница, сумел
придать его учению «популярный » характер в лучшем смысле
этого слова. Философия Вольфа действительно была
популярной в том смысле, что ее создатель сделал эту философию
общедоступной. Он придал ей диатрибическую форму, т. е. форму
популярного учебника. Большую часть своих сочинений Вольф
писал на немецком языке, что для тогдашней Германии было
внове. Вольф вообще был хорошим «методистом », и его
учебники по философским дисциплинам полностью вытеснили
схоластические компендиумы, что было в общем-то благом для того
времени и тех условий.
Что касается Канта, то в Кенигсбергском университете его
наставниками были Франц Шульц и Мартин Кнутцен, лично
знавшие и обучавшиеся у Вольфа. В частности Кнутцен читал у
Канта философию и математику, и его влияние на взгляды молодого
255
Канта несомненно. Но уже у него наблюдаются некоторые
отступления от учения Лейбница-Вольфа. Так, вступая в 1733 году
в должность заведующего кафедрой логики и метафизики, Кнут-
цен подготовил сочинение о связи души и тела, где выразил
несогласие с идеей «предустановленной гармонии » применительно
к этой проблеме. Если Вольф сузил «предустановленную
гармонию » Лейбница до сугубо «антропологической » гармонии души и
тела, то Кнутцен отступает еще дальше, допуская чисто
физическое взаимодействие души и тела на основе ньютоновской
физики. И надо сказать, что стремление «подправить» Вольфа при
помощи Ньютона чувствуется и в ранних работах самого Канта.
В «докритический » период творчества Кант на протяжении
долгих пятнадцати лет пытался стать профессором именно
кафедры логики и метафизики. Интересным фактом из биографии
Канта является его обращение в 1758 году к императрице
Елизавете после того, как русские войска в ходе Семилетней войны
ненадолго заняли Кенигсберг. Долгие годы биографы Канта
замалчивали тот факт что, будучи короткое время подданным
российской короны, Кант обращался к императрице со следующим
прошением: «Пресветлейшая, всесильная Государыня,
Самодержица всея Руси, всемилостивейшая Государыня и великая жена!
Вследствие смерти доктора и профессора Кипке ( Курке) Professio
ordinario логики и метафизики, которую он занимал в здешнем
Кенигсбергском университете, стала вакантной. Эти науки
всегда составляли главнейший предмет моих занятий. В
продолжение тех лет, которые я находился в здешнем университете, я
каждый семестр читал обе эти науки на частных уроках....
Надежда, с которой я льщу себя посвятить службе Академии наук,
... побуждают меня всеподданнейше просить Ваше
Императорское Величество всемилостивейше пожаловать мне
освободившуюся professionem ordinariam...»437.
Надо сказать, что царский чиновник генерал Корф предпочел
Канту другого, причем ничем не примечательного преподавателя.
И долгожданную должность Кант получил только в 1770 году,
т. е. именно тогда, когда его воззрения в корне изменились и из
адепта метафизики он стал ее последовательным критиком.
Еще в 1759 году Кант написал произведение «Опыты об
оптимизме », в котором ясно выразил свои метафизические убеж-
437 Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт.— СПб., 1998.—
С. 93.— (Жизнь замечательных людей).
256
дения, отчего впоследствии питал отвращение к этой работе.
А уже с 1763 по 1766 гг. он пишет цикл статей, направленных
против духовидческой практики Сведенборга, который, по
убеждению его сторонников, общался с мертвыми, как с живыми, а в
душах живых вычитывал все тайны. Общий пафос этих работ
Канта сродни скептицизму Юма, который также выступал
против чудес языческого и христианского толка. 60-е годы чаще
всего относят к переходному этапу в творчестве Канта, когда он
уже отошел от метафизической точки зрения под влиянием Юма
и вообще английской и шотландской философии, но еще не
определился со своей собственной позицией. Именно в это время
он и пытался разобраться со Сведенборгом.
Уже из названия сатирического произведения Канта
«Сновидения духовидца, поясненные сновидениями метафизики»
видно, что он видит и в том, и в другом плод суеверия. Главный
вопрос — что есть дух и как он связан с телом — у духовидцев
остается без ответа. И так же бесплодна в объяснении природы
духовной субстанции традиционная метафизика. Объяснить все
эти феномены, по мнению Канта, можно лишь патологической
работой воображения, когда его образы принимают за
реальность. Будучи крайне раздраженным шумихой вокруг духови-
дения, Кант высказывается еще более грубо, проводя
физиологические параллели. В частности он указывает в своей сатире на
причину духовидения в виде некоего «ипохондрического ветра ».
«Если во внутренностях свирепствует ипохондрический ветер,—
издевается Кант,— он может принять одно из двух направлений:
либо вверх — тогда получаются явления духовидения, либо
вниз — тогда выходит нечто иное »438. Понятно, что в данном
случае Кант предлагает лечить от духовидения клистиром.
Несмотря на то, что нападки на метафизику в этот период
носят у Канта уже довольно резкий характер, серьезное
наступление на нее он развернет только в «Критике чистого разума».
Если общий замысел этой работы, как известно, сложился у
Канта уже к 1770 году, с которым связывают начало
«критического » периода, то окончательный вариант работы он предложил
почти через десять лет. Нас в этой работе будет интересовать
раздел трансцендентальной диалектики, в котором обычно
останавливаются на антиномиях чистого разума,
проистекающих из космологической идеи. Но проблему души Кант обсуж-
Цит. по: там же.— С. 114.
257
дает в связи с психологической идеей и так называемыми
паралогизмами чистого разума. О них и пойдет речь дальше.
Паралогизмы, как и антиномии, являются вариантами
неверных умозаключений, на которых, по мнению Канта, базируется
вся традиционная метафизика. При этом Кант определяет их
как трансцендентальные умозаключения, поскольку они
возникают не в результате случайной ошибки, а как результат
некоторой видимости, проистекающей из природы нашего
разума. Кант называет их «умствующими » заключениями и
уточняет: «Это софистика не людей, а самого чистого разума; даже
самый мудрый из людей не в состоянии отделаться от них и
разве только после больших усилий может остеречься от
заблуждений, но не в силах избавиться от непрестанно дразнящей его и
насмехающейся над ним видимости »439.
Рациональную психологию как раздел метафизики Кант, вслед
за Вольфом, отличает от эмпирической психологии.
Эмпирическая психология исследует душу, исходя из внутреннего опыта,
тогда как рациональная психология извлекает знание о душе из
понятий и основоположений. Но уже в трактовке возможностей
эмпирической психологии Кант отходит от Вольфа, считая ее лишь
описанием психических процессов, несовместимым со статусом
науки о душе. Что касается рациональной психологии, то здесь
Кант — откровенный противник Вольфа, поскольку он уверен,
что выводы этой науки, связанные с паралогизмами, ложны. Но
тогда смысл рациональной психологии лишь в том, чтобы
продемонстрировать бесплодность попыток извлечь знание о душе из
основоположений чистого разума. Причем, бросая вызов
рациональной психологии, Кант, в отличие от Юма, не декларирует свою
точку зрения, а использует инструментарий логики для
выявления скрытых противоречий в существующем знании.
Таким образом, эмпирическая психология исходит из Я,
каким оно дано внутреннему чувству. Рациональная психология
исходит из понятия Я, которое присутствует в любом
мыслительном акте. «Итак, я мыслю,— отмечает Кант,— есть
единственная ткань (Text) рациональной психологии, на которой она
должна развить всю свою мудрость. Само собой разумеется, эта
мысль, если она должна быть отнесена к предмету (ко мне
самому), не может содержать ничего иного, кроме
трансцендентальных предикатов предмета; ведь самый ничтожный эмпирический
<3' Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 367.
258
предикат нарушил бы рациональную чистоту и независимость
этой науки от всякого опыта »44°.
Как раз из этого <<я мыслю» рациональная психология
выводит все свое знание о душе. В начале появляется понятие
субстанции, отмечает Кант, из чего следует ее неразрушимость. От
тождества интеллектуальной субстанции переходят к понятию
личности. Из всего этого следует понятие духовности.
Отношение к предметам в пространстве толкуется как общение с
телами. А в результате мы имеем «мыслящую субстанцию как
принцип жизни в материи, т. е. как душу (anima) и как основание
одушевленности; одушевленность, ограничиваемая
духовностью, дает [понятие] бессмертия». Но как такое возможно?
Кант уверен, что раскрыл тайну рациональной психологии,
суть которой в том, что модусам самосознания и мышления, т. е.
логическим функциям, приписывают онтологический статус.
Вот как это делается: 1) из того, что Я в мышлении должно
всегда считаться субъектом, а не только предикатом, делается
вывод о том, что Я есть самостоятельная сущность (субстанция);
2) из того, что Я во всяком мышлении не разложимо на
множество субъектов, а значит есть простой субъект, делается вывод,
что Я есть простая субстанция; 3) из суждения о тождестве
меня при всяком сознаваемом многообразии, делается вывод о
тождестве личности; 4) из осознания мною себя как отличного
от других вещей и своего тела делается вывод о существовании
меня как мыслящего существа отдельно от тела.
Во всех этих случаях главный порок, согласно Канту,
состоит в том, что логическое истолкование мышления выдается за
«метафизическое определение объекта »441. При этом
аналитические суждения приравниваются к синтетическим, а в
результате новое знание о душе по сути извлекают ниоткуда.
Обобщая суть трансцендентальных паралогизмов, Кант
приводит следующий известный аргумент:
То, что нельзя мыслить иначе, чем субъект, не
существует иначе как субъект и есть, следовательно, субстанция.
Мыслящее же существо, рассматриваемое только как
таковое, нельзя мыслить иначе как субъект.
Следовательно, оно и существует только как субъект,
т. е. как субстанция.
440 Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1964.— Т. 3.- С. 370.
441 Там же.— С. 375.
259
В приведенном паралогизме, указывает Кант, мышление
берется в обеих посылках в разных значениях: в большой посылке
в отношении к созерцанию, а в малой — в отношении к
самосознанию. А в результате вывод получается чисто софистический,
на основе ложного умозаключения.
Особое место в анализе трансцендентальных паралогизмов у
Канта занимает опровержение доказательства постоянности
души, предложенного Мозесом Мендельсоном. Еще в 1762 году
Кант написал сочинение на конкурс, проводимый Берлинской
академией. Другим соискателем премии был как раз философ
Мендельсон, известный как друг Лессинга и инициатор так
называемой «еврейской реформации » в Германии. Премию
присудили Мендельсону, а работа Канта была признана второй и
напечатана без подписи рядом с премированным трактатом.
Имея в виду одноименный с платоновским диалог
Мендельсона «Федон », Кант указывает на изобретенный им довод в пользу
постоянства души. Традиционно постоянство души доказывали
невозможностью раздробления, т. ^.разделения ее на части. Но
Мендельсон предположил, что душа может лишиться
существования путем своего уменьшения, вплоть до полного
исчезновения. И тут же опроверг эту возможность, объяснив, что душа не
может перестать существовать указанным способом, поскольку
тогда нужно допустить, что между мгновением, когда она
существует, и мгновением, когда она не существует, не должно быть
времени, а такое невозможно.
С завидной легкостью Кант вновь ставит Мендельсона в
тупик, указывая на то, что душа может исчезнуть не только путем
экстенсивного уменьшения, но и интенсивного, т. е. через
постепенное ослабление, что мы часто наблюдаем в области
самосознания и других способностей. «Таким образом, постоянность
души... остается недоказанной и даже недоказуемой;—
заявляет Кант, «расправившись » с Мендельсоном,— правда, ее
постоянность при жизни, когда мыслящее существо (как человек) есть
предмет также внешних чувств, вполне очевидна, но для
рациональной психологии этого недостаточно, так как она стремится
доказать из одних лишь понятий абсолютную постоянность души
даже и после смерти»442.
Явно издеваясь над метафизиками, глубокомысленно
обсуждающими проблему делимости души на части, Кант в том же
«2 Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1964.- Т. 3.- С. 378.
261
параграфе выдвигает гипотезу о том, что душа как простая
субстанция может разделиться на несколько разных субстанций.
Любые силы и способности души, пишет он, можно представить
исчезнувшими наполовину. Почему же утраченную половину
нельзя обнаружить вне исходной субстанции? Кант не уточняет,
имеет ли он в виду раздвоение личности, или что другое. Но, не
менее любопытно и другое его предположение. Точно так же,
замечает Кант, можно предположить, что, наоборот, несколько
субстанций могут слиться в одну единую простую субстанцию.
Возможно именно таким путем, пишет он, пусть не через
химическое или механическое воздействие, а каким-то другим
динамическим способом, происходит создание душ детей из душ
родителей. А затем родители пополняют убыль новым веществом
того же рода.
Кант тут же замечает, что не склонен придавать особую
значимость подобным вымыслам. Но если рационалисты столь
дерзновенны, иронизирует он, что способны превращать
способность мышления в самостоятельную сущность, то почему же
материалисты не имеют права на такую же
«дерзновенность »?443
Параграф, посвященный Мендельсону, интересен как раз тем,
что в нем Кант раздает «всем сестрам по серьгам ». И больше всех
достается Рене Декарту. «Положение я мыслю есть, как уже
сказано,— пишет Кант,— эмпирическое суждение, содержащее
в себе утверждение я существую. Но я не могу сказать все
мыслящее существует, ведь в таком случае свойство мышления
сделало бы все существа, обладающие им, необходимыми
существами. Поэтому утверждение я существую не может считаться
выводом из положения я мыслю, как это полагал Декарт (так
как в противном случае этому положению должна была бы
предшествовать большая посылка все мыслящее существует), а
представляет собой тождественное с ним суждение »4А4.
Кант несколько раз возвращается к Декарту и обнаруживает
нечто, подобное паралогизму, в его исходном тезисе, когда из
факта существования Я как мыслящего субъекта следует вывод
о существовании мыслящей субстанции. В авторе тезиса «cogito
ergo sum » действительно можно увидеть создателя
рациональной психологии. Но то, что обнаруживает Кант, является лишь
«3 Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 379-380 (прим.).
444 Там же.— С. 383 ( прим.).
261
одним из парадоксов сложной проблемы «обоснования
»Декартом мыслящего Я. Ведь, с одной стороны, существование
мыслящего Я как будто бы вытекает из самой его идеи. А с другой
стороны, существование конечного Я оказывается у Декарта
возможным лишь при условии бытия Бога как его бесконечного
прообраза. Так можно ли считать самодостаточным
декартовское cogito?445
Здесь стоит отметить и выпады Канта против
интеллектуальной интуиции как идеи недостаточно точной. В параграфе о
Мендельсоне Кант указывает на «безымянных» логиков, которые
выдают ясность того или иного представления за его осознание,
среди которых первый из первых, конечно, Декарт. На деле,
ясным, доказывает Кант, следует считать только то
представление, в котором сознание доведено до осознания отличия его от "
других представлений. «Если сознания достаточно для
различения,— уточняет Кант,— но не для осознания различий, то
представление должно еще называться неясным »446.
В кульминационный момент исследования рациональной
психологии Кант указывает, что идеализм и материализм не
способны объяснить природу мыслящего субъекта и его субсистен-
циюу т. е. самосущность. «Следовательно, если материализм
непригоден для объяснения моего существования,— подчеркивает
он,— то и спиритуализм также недостаточен для этой цели;
отсюда следует, что мы никаким образом не можем что-либо
узнать о свойствах нашей души, когда речь идет о возможности ее
обособленного существования вообще»447.
Само собой разумеется, что материализму и идеализму Кант
противопоставляет трансцендентализм. А в
трансцендентальной философии суть мыслящего Я выражает единство
апперцепции. Термин «апперцепция», как известно, происходит от
латинского предлога «ad» (к, при) и слова «perceptio»
(восприятие). И первоначально в философии Лейбница, который и ввел
этот термин, апперцепция означала осознанное восприятие, в
отличие от бессознательных восприятий — перцепций. Что
касается Канта, то в «Критике чистого разума »
трансцендентальное единство апперцепции оказывается именно тем, что соб-
445 О других аспектах этой проблемы, включая так называемый «Карте-
зиев круг», см.: А.Д. Майданский. Реформа логики в работах Декарта и
Спинозы// Вопросы философии.— 1996.— № 10— С. 148-149.
ш Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 378 (прим.).
"7 Там же.— С. 382.
2G2
ственно скрывается за метафизической видимостью под
названием «душа».
Трансцендентальное единство апперцепции Кант понимает
как доопытное единство самосознания. В отличие от души в
качестве мыслящей субстанции, Кант характеризует его как «то
единство, благодаря которому все данное в созерцании
многообразное объединяется в понятие об объекте»448. В разделе
«Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий»
Кант подробно разъясняет суть этого единства. Так он
уточняет, что пространство в качестве чистой формы внешнего
чувственного созерцания вовсе не есть еще знание. Оно, по Канту, только
a priori доставляет многообразное в созерцании для возможного
знания. И чтобы познать что-либо в пространстве, например,
линию, необходимо провести ее, т. е. «синтетически осуществить
определенную связь данного многообразного ». А из этого
следует, что единство этого действия есть одновременно единство
сознания, и только благодаря этому познается объект
(определенное пространство)449.
Кант делает вывод, что синтетическое единство сознания есть
объективное условие всякого познания. В нем нуждается
всякое созерцание для того, чтобы «стать для меня объектом ». А без
этого единства, отмечает Кант, я имел бы «столь же пестрое
разнообразное Я (Selbst), сколько у меня есть сознаваемых мной
представлений»450. Уточняя свое понимание синтетического
единства апперцепции, Кант пишет, что оно «есть высший пункт, с
которым следует связывать все применение рассудка, даже всю
логику и вслед за ней трансцендентальную философию; более
того, эта способность и есть сам рассудок »451.
Связывая единство апперцепции с синтетической
способностью рассудка, Кант отличает его от той рефлексии на манер
Локка, которая у последнего как раз и определяет тождество
личности. Нет ничего общего у трансцендентального единства
апперцепции и с внутренним чувством, допускаемым Юмом.
В противовес тем, кто склонен отождествлять апперцепцию и ее
синтетическое единство с неким внутренним чувством, Кант
проводит здесь вполне определенную границу. Трансценденталь-
4At Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.- Т. 3.— С. 196.
449 См. там же.— С. 195.
450 Там же.— С. 193.
AU Там же.
213
ная апперцепция отличается от внутреннего чувства прежде
всего своим априорным характером. И при этом, как мы видим,
единство сознания, скрывающееся за метафизической
видимостью души, через идею синтеза тяготеет у Канта к деятельному
единству.
Кант постоянно подчеркивает, что в данном случае перед нами
объективное единство самосознания. Но вся «Критика чистого
разума » служит обоснованию того, что в априорных формах,
принадлежащих субъекту, представлена объективность и
необходимость иного рода, чем та, которая присутствует в
природных и сверхприродных формах, исследуемых физикой и
метафизикой. Однако до тех шагов, которые затем совершат
Фихте и Шеллинг, еще нельзя говорить о деятельности как особого
рода субстанции. Движение к субстанциальности такого типа
только намечено в «Критике чистого разума ».
Здесь нам стоит вновь перейти к трансцендентальной
диалектике, где Кант однозначно заявляет об очень узких задачах,
которые стоят перед рациональной психологией. «Итак,
рациональная психология,— уточняет он,— как доктрина,
расширяющая наше самопознание, не существует; она возможна только
как дисциплина, устанавливающая спекулятивному разуму в этой
области ненарушимые границы, с одной стороны, чтобы мы не
бросились в объятия бездушного материализма, а с другой
стороны, чтобы мы не заблудились в спиритуализме, лишенном
основания в нашей жизни... »452.
Кант вновь повторяет, что источником рациональной
психологии является заблуждение, суть которого в том, что единство
сознания, лежащее в основе категорий, здесь принимают за
субъект, созерцаемый в виде объекта, и применяют к нему
категорию субстанции. Но если остановиться лишь на указанных
разоблачениях, то картина будет неполной. И прежде всего
потому, что в конце раздела трансцендентальной диалектики Кант
опять возвращается к идее души, но рассматривает ее уже как
необходимый момент процесса познания, а именно как
регулятивную идею разума.
«Разум никогда не имеет прямого отношения к предмету,—
пишет здесь Кант,— а имеет всегда отношение только к
рассудку и посредством него — к своему собственному эмпирическому
применению; следовательно, он не создает никаких понятий (об
Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 382.
264
объектах), а только упорядочивает их и дает им то единство,
которое они могут иметь при максимальном своем расширении,
т. е. в отношении к целокупности рядов...»453. Далее Кант
уточняет, что, подобно тому, как рассудок объединяет
многообразное посредством понятий, разум упорядочивает содержание
понятий посредством идей. Задача разума, таким образом, состоит
в том, чтобы внести момент систематичности в познание. И,
наряду с космологической и теологической, эту функцию
выполняет психологическая идея.
Характеризуя роль психологической идеи в познании, Кант
уточняет, что она является неким принципом в объяснении
явлений души. Исходя из этой идеи, пишет он, мы должны
рассматривать все определения как находящиеся в едином
субъекте, а всевозможные силы — как производные от
первоначальной силы. Всякая смена должна мыслиться как состояние одной
и той же сущности, а явления в пространстве осознаваться как
отличные от действий мышления454.
Кант признает, что указанная психологическая идея есть
понятие (разума) о простой субстанции, которая сама по себе
неизменна и составляет основу тождества личности. Но при этом
недопустимы, уточняет он, легковесные гипотезы о возникновении,
разрушении и возрождении душ, а также размышления о том,
духовна ли природа души самой по себе. «Такая психологическая
идея,— отмечает он,— может быть вполне полезной, если только
мы будем остерегаться принимать ее за нечто большее, чем только
идея, т. е. если будем считать ее годной только для
систематического применения разума к явлениям нашей души »455.
Придавая идее души регулятивный статус, Кант отчасти
реабилитирует ее. Ею уже можно пользоваться в познании в
качестве некоего трансцендентального идеала. Но при этом ее нельзя
относить к самой реальности, как это делает рациональная
психология. Но если мы, остановимся в анализе кантовского учения
в этом пункте, то картина опять же будет неполной. Дело в том,
что бескомпромиссный в сражении с метафизикой, Кант
допускает откровенные компромиссы, когда дело касается церкви.
А это требует дальнейших шагов в реабилитации традиционного
понимания души.
4,3 Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1964.- Т. 3.- С. 552.
454 См.: там же.— С. 579.
<" Там же.- С. 579.
265
Указанная тенденция становится совершенно явной, когда в
трансцендентальной диалектике Кант предлагает тем, кто устал
от бесплодных теоретических спекуляций, искать ответы на
возникающие вопросы в области практики. Именно при
практическом применении разума, уточняет Кант, становится ясно, что
разум заимствует свои принципы «из более высокого
источника». И как раз на практике мы поступаем так, «как если бы наше
назначение выходило бесконечно далеко за пределы опыта,
стало быть, за пределы земной жизни»456.
Иначе говоря, что не позволено Юпитеру, то позволено быку,
Что невозможно в теории, то вполне возможно на практике. А
потому, разоблачив метафизические ухищрения в области теории,
Кант предлагает нам переместиться в область морали, где
полностью преодолеваются те запреты и «ненарушимые границы »,
которые только что определил сам Кант. Уже в «Критике чистого
разума » он указывает на особый статус морального закона,
который ориентирует нас не на пользу, как это происходит у
животного, а на пренебрежение ею во имя иных целей, явно выходящих
за пределы земного существования. Уже здесь Кант говорит о
последовательном ряде (Ordnung) целей, которые относятся к
естественному порядку, и, тем не менее, могут быть расширены
практическим разумом за пределы опыта и человеческой жизни.
В трансцендентальном учении о методе, а именно там, где
речь идет об идеале высшего блага как основании для
определения конечной цели чистого разума, Кант уточняет и
разворачивает эту свою аргументацию. С самого начала Кант
формулирует вопросы: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На
что я могу надеяться? Первый вопрос чисто спекулятивный, и на
него, по мнению Канта, он ответил всем своим предыдущим
анализом. Второй вопрос сугубо практический, а потому лежит за
пределами кантовского анализа. Только третий вопрос Кант
берется разобрать как вопрос практический и теоретический
одновременно. И как раз в связи с этим он высказывает мысль об
особом виде систематического единства, а именно моральном
единстве, сопоставимом с систематическим единством природы.
«Таким образом, принципы чистого разума,— пишет Кант,—
обладают объективной реальностью в его практическом, но
особенно в моральном применении »457. Разворачивая далее свое пред-
Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 579.
Там же.— С. 663.
211
ставление об объективности морального, Кант говорит о некоем
«моральном мире», который должен мыслиться как
умопостигаемый. Но понимать это нужно так, что моральная идея, обладая
объективной реальностью, может и должна влиять на чувственно
воспринимаемый мир, чтобы сделать его сообразным себе458.
От этой системы саму себя вознаграждающей моральности
Кант переходит к идее мыслящего существа, в котором
морально совершенная воля связана с высшим блаженством. Это и есть,
по Канту, идеал высшего блага. В трансцендентальной
диалектике Кант уже характеризовал свое понимание идеалов,
которые, в отличие от платоновских, не имеют творческой силы.
И, тем не менее, они лежат в основе возможности совершения
поступков. «Хотя нельзя допустить объективности
(существования) этих идеалов,— писал Кант,— тем не менее нельзя на
этом основании считать их химерами: они дают необходимое
мерило разуму, который нуждается в понятии того, что в своем
роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и
недостатки несовершенного »459.
Но в дальнейшем Кант уточняет свое понятие идеала,
морального идеала в частности, который из регулятивного
принципа превращается в загробный мир460. Объективность особого
рода, на которой Кант настаивал в первой части «Критики
чистого разума » (трансцендентальное учение о началах), во второй ее
части (трансцендентальное учение о методе) превращается в
объективность вполне традиционного толка. И такая
метаморфоза сравнима с тем, что произошло в античной классике с
сократовской добродетелью, которой Платон в качестве родины
определил мир идей в «занебесье ».
Чтобы не было недомолвок, приведем собственные слова
Канта, которого уже не устраивает самодостаточность
морального закона. «Разум вынужден или допустить такого творца
вместе с жизнью в таком мире, который мы должны считать
загробным — пишет Кант,— или же рассматривать моральные законы
как пустые выдумки, так как необходимое последствие их,
связываемое с ними тем же разумом, должно было бы отпасть без
указанного выше допущения»461. И Кант подчеркивает преиму-
458 Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1964.- Т. 3.- С. 664.
АП Там же.— С. 502.
т См.: там же.— С. 665.
461 Там же.— С. 666.
267
щества такой этикотеологии перед спекулятивной теологией, а
также трансцендентальной и естественной теологиями. В
соответствии с ней блаженство и нравственность составляет высшее
благо в том мире, в который мы должны перенестись462. А
исследование природы в свете этикотеологии обретает характер фи-
зикотеологии, поскольку мир нужно рассматривать как
возникший из идеи и тяготеющий к форме системы целей463.
В указанном разделе Кант не дает развернутого понимания
бессмертия души. Но мы его находим в «Критике практического
разума», где бессмертие души предложено принять в качестве
постулата чистого практического разума. Характеристику этого
постулата Кант начинает с определения святости как полного
соответствия воли и морального закона. В чувственно
воспринимаемом мире такое соответствие недостижимо, поскольку оно
предполагает прогресс, идущий в бесконечность. А значит
идеал святости предполагает бесконечное существование и
бесконечную личность разумного существа, и, тем самым,
бессмертие его души.
«Следовательно, высшее благо практически возможно,—
пишет Кант,— только при допущении бессмертия души, стало
быть, это бессмертие как неразрывно связанное с моральным
законом есть постулат чистого практического разума... »464. И в
таком постулате Кант видит большую пользу не только для
разума, но и для самой религии. Без такого постулата либо
нравственный закон лишается святости, так как его портят,
приспосабливая к нашим удобствам, либо, наоборот, возбуждаются
надежды на обретение святости воли, а в результате предаются
мечтательным теософским грезам, что, с точки зрения Канта,
так же плохо, как и излишний практицизм465.
Итак, проследовав за Кантом в практическую область, мы не
нашли там разгадки тайны априорных форм. Кант не говорит о
том, что за их объективностью и необходимостью скрывается
божественная сущность. Но Кант не говорит и обратного. А в
итоге, решая проблему души, он предлагает нам компромиссное
решение.
С точки зрения теоретического разума, доказывает Кант,
души как мыслящей субстанции нет, а есть априорное единство
«2 Кант И. Соч.: В 6 т.- М., 1964.- Т. 3.- С. 668.
м Там же.— С. 669.
«4 Кант И. Лекции по этике.— М., 2000.— С. 375.
«' См.: там же.— С. 376.
268
самосознания. И объективность такого самосознания
безусловна, хотя и непознаваема, как непознаваема природа
трансцендентального субъекта. От этих рубежей и будут двигаться
неокантианцы.
С другой стороны, если проследовать в практическую
область, можно убедиться в истинности традиционных воззрений.
Не логика, а мораль склоняют нас, по мнению Канта, к
существованию Бога и бессмертной души. К 1793 году у Канта был
готов большой трактат под названием «Религия в пределах
только разума », где, опровергнув пять известных теоретических
доказательств бытия Бога, Кант разворачивает свое «шестое »
моральное доказательство. Именно об этом напоминает в романе
М. Булгакова «Мастер и Маргарита »Воланд Берлиозу. «Вы
полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по
этому поводу,— говорит он.— Но вот курьез: он начисто
разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над
самим собою, соорудил собственное шестое доказательство! ».
Здесь стоит вспомнить другой великий роман, а именно
«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, в котором напрямую
высказана мысль о том, что, если Бога нет, то все позволено. В
учении Канта именно Бог — тот нравственный идеал, без
устремленности к которому человек оказывается зверем. А значит
вопрос веры и вопрос нравственности оказывается одним и тем
же вопросом. И постулаты «Бог существует» и «Моя душа
бессмертна » — это этические постулаты.
Как раз с указанной точки зрения Кант критикует в работе
«Религия в пределах только разума» всевозможные
«суррогаты морального служения 6огу»466. К ним он относит
благочестивые обряды, которыми часто подменяют моральный образ
жизни и мыслей. Еще дальше от истинной связи с Богом
находятся «лжеслужения », когда Богу приносят жертвы не только
словами и благами природы, но и «своей собственной
личностью» в случае с факирами, отшельниками или монахами467.
Суть кантовского компромисса в том, что, перешагнув через
догмы метафизики, Кант не в состоянии пойти против догматов
церкви. Душа как субстанция — это иллюзия, которую Кант
уверенно разоблачает. Но самодостаточность морального
абсолюта оказывается тем препятствием и объективной видимостью,
466 Кант И. Трактаты.— СПб., 1996.— С. 398.
467 См.: там же.— С. 397.
269
которая вынуждает его вернуть полномочия бессмертной душе.
И, тем не менее, кантовская критика метафизики намечает путь
к субстанциальности нового типа, о которой, вслед за Кантом,
заговорят неокантианцы.
Л^нализ зрелой формы часто помогает лучше понять ран-
f 1 нюю еще не развитую форму и перспективы ее развития.
Характерным примером здесь является неокантианство с его
новыми акцентами в учении Канта. Так или иначе на этих
акцентах сказалось послекантовское философское развитие в XIX
веке. И в первую очередь мы имеем в виду тот факт, что в
знаменитой Баденской школе кантианство превратилось в
«философию культуры ».
Глава Баденской школы Вильгельм Виндельбанд был
учеником известного историка философии Куно Фишера и не менее
известного в те времена философа Германа Лотце, под
руководством которого в 1870 году Виндельбанд защитил диссертацию
на тему «Концепции случайности ».В последний период жизни
Виндельбанд возглавил кафедру в знаменитом Гейдельбергском
университете, сменив на этом посту своего учителя Куно
Фишера. И эта замена была безусловно достойной.
Свое отношение к Канту Виндельбанд выразил так: «Понять
Канта значит выйти за пределы его философии ». И первый шаг,
который он совершил на пути «за пределы Канта», состоял в
отказе от кантовской «вещи-в-себе ». Но при этом Виндельбанд
стремится сохранить принцип трансцендентализма, который
у Канта означал существование априорных форм,
представляющих, как известно, объективную сторону в самом субъекте. Для
Канта было совершенно ясно: априорные формы не могут
происходить из «вещи-в-себе », и они не могут быть извлечены из
глубин индивидуального сознания, на которые будут уповать
многие философы, начиная с Киркегора. И в этой ситуации
источником априорных форм оказывается трансцендентальный
субъект. Но, постулируя существование трансцендентального
субъекта, Кант не берется его исследовать, и не берется за эту
задачу из принципиальных соображений. Ведь тайна
трансцендентального субъекта, как и «вещи-в-себе », для него имеет
абсолютный, а не относительный характер.
270
За разгадку этой тайны в свое время, как мы знаем, взялся
Фихте. Почти за сто лет до Виндельбанда Фихте уверенно
отказался от кантовской «вещи-в-себе » в пользу
трансцендентального субъекта как единственного и притом деятельного
источника познания. Сделав это при жизни великого учителя, он
навлек на себя его немилость, после чего последовал разрыв всяких
отношений. Но Фихте был уверен не только в том, что наше
знание зависит лишь от трансцендентального субъекта. Он был
уверен также в том, что последний полностью прозрачен для
рефлексии. Ведь деятельность трансцендентального субъекта,
согласно Фихте, сама по себе рефлексивна, то есть всегда исходит
из Я и направлена на Я, а образ внешнего мира, опосредующий
эту деятельность,— лишь проявление ее изначально
практического характера.
Уточним, что Фихте решает ту же задачу, что и Кант. Его
интересует, как возможно истинное знание, и в первую очередь
теоретическая истина в науке и в философии. Потому главная задача
Наукоучения Фихте — это дедуцировать из сознательной и
бессознательной деятельности воображения те правила, которыми
гарантируется объективность и истинность наших знаний.
Но Виндельбанд живет уже в другую эпоху. Его не волнуют
проблемы научно-теоретического познания в той мере, в какой
они волновали философов Нового времени и немецкой
классики. Естествознание, как в своей опытной, так и в теоретической
форме, является знанием о «сущем », то есть знанием о том, что
есть. Но как возможно знание о «должном», то есть знание о
том, как должно быть} Идеалы, предпочтения, цели,
убеждения — вот что в первую очередь интересует Виндельбанда. И в
своем понимании этих феноменов он опирается на
трансцендентальный идеализм Канта.
Великое завоевание Канта, считал Виндельбанд,
заключается в том, что тот отказался от установки наивного сознания,
для которого наш опыт является отражением внешнего мира.
Зрелому философскому сознанию открывается другая
картина, где опыт не отражает действительность, а выражает
деятельность разума, активность субъекта. В работе «Философия
культуры и трансцендентальный идеализм» Виндельбанд
неоднократно уточняет условия, в которых было сделано данное
открытие. «К этому взгляду Канта привела критика науки,—
пишет он,— более всего отвечавшей его метафизической
потребности и потому более всего интересовавшей его, и на этой
271
критике он построил затем свое опровержение догматической
метафизики и обоснование метафизики явлений в форме
«чистого естествознания »468.
Но с течением времени стало ясно, отмечает Виндельбанд,
что деятельность разума, дающая начало науке, имеет ту же
структуру, что и всякое практическое и эстетическое творчество
культурного человека. Так сложились предпосылки для
возникновения всеобъемлющей «философии культуры», в которой
априорные формы познания являются лишь частным случаем в
«царстве всеобщих значимостей », или «разумных ценностей »,
как выражается Виндельбанд.
В результате априорные формы у Виндельбанда становятся
гарантами всеобщности и необходимости знания не только в
науке, но и в области морали, искусства, религии, права. Но при
этом они не создают даже иллюзии достоверности, как это было
с научным знанием в учении Канта. «Вещь-в-себе» Виндельбан-
дом отброшена, и априорные формы в их кантовском понимании
тоже должны стать излишними: их не к чему применять. А
потому в неокантианстве Баденской школы они превращаются в
нечто другое, а именно — в вечные ценности в качестве той
абсолютной призмы, через которую мы рассматриваем не столько
мир, сколько самих себя. Таким образом, своеобразие этой
философии выражается в том, что ее шаги «за пределы » Канта в
сторону Фихте отличаются робостью и непоследовательностью.
Разум здесь уже стал деятельным, но в осмыслении законов и
истоков этой деятельности Виндельбанд порой оказывается даже
позади Канта, то есть на докантовском уровне.
Философия, по убеждению Виндельбанда, должна быть
философией культуры как того мира, который создает
человек. «Эта философия культуры,— пишет он,— есть постольку
имманентное мировоззрение, поскольку она по существу
своему необходимо ограничивается миром того, что мы переживаем
как нашу деятельность. Каждая область культуры, наука,
общественность, искусство означает для нее срез, выбор,
обработку бесконечной действительности согласно категориям разума:
и в этом отношении каждая из них представляет собой лишь
«явление »... »469. Но в понимании указанного мира культуры для
т Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный
идеализм // Культурология. XX век: Антология.— М., 1995.— С. 63.
469 Там же.— С. 67.
272
Виндельбанда всегда существует абсолютный предел.
Непознаваемой «вещи-в-себе», как уже говорилось, в неокантианстве
нет. В «ином мире », который допускал Кант,
трансцендентальный идеализм новой эпохи уже не нуждается. В этом пункте
взгляды Марбургской и Баденской школ полностью совпадают.
Но в оценке глубинных основ явлений культуры они по
большому счету расходятся.
Для Виндельбанда существенная связь всех явлений
культуры остается непостижимой. «Но эта последняя связь и есть не
что иное,— пишет он,— как только целокупность всего того, что
в отдельных частных формах представляют собой доступные
нам разумные миры знания, общественности, художественного
творчества»470. И далее он констатирует: «Эта причастность к
высшему миру разумных ценностей, составляющих смысл всех
решительно законов, на которых покоятся наши маленькие миры
знания, воли и творчества, эта включенность нашей сознательной
культурной жизни в разумную связь, выходящую далеко за
пределы нашего эмпирического существования и нас самих,
составляет непостижимую тайну всякой духовной деятельности »471.
Таким образом, уже не Господь Бог, не идеалы и
нравственный закон, а мир культуры в целом оказывается здесь
абсолютно самодостаточным. Этот мир культуры уже обладает
субстанциальностью иного типа, чем в природе. И такую
субстанциальность в новых исторических условиях Виндельбанд уже не
связывает с Создателем. Но в понимании субстанции
культуры он по-прежнему стоит на точке зрения статики, а не
динамики, абсолютного бытия, а не человеческой деятельности,
вечности, а не историзма.
Правда, в Марбургской школе, и в частности у Когена,
ситуация не так однозначна. И прежде всего потому, что, сохраняя
приверженность трансцендентализму, Коген, тем не менее,
ставит перед собой задачу выявить то логическое первоначало
(Ursprung), которое для других кантианцев — великая тайна.
Уточняя роль данного первоначала как исходного пункта не
только познания, но и всей культуры, ученик Когена Наторп пишет:
«Метод, в котором заключается философия, имеет своей целью
исключительно творческую работу созидания объектов всякого
т Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный
идеализм // Культурология. XX век: Антология.— М., 1995.— С. 63.
<71 Там же.— С. 68.
273
рода, но вместе с тем познает эту работу в ее чистом законном
основании и в этом познании обосновывает»472.
Из приведенной характеристики видно, что влияние Фихте
на Марбургскую школу было более существенным. И оно
сказывается не только в попытках сделать прозрачной первооснову
нашего мышления, айв явном стремлении придать ей
деятельный характер.
Но вернемся к Виндельбанду, у которого приверженность
трансцендентализму сказалась на решении важнейших
методологических вопросов. Те, кто имеют хоть малейшее
представление о неокантианцах Баденской школы, знают, что последние
различали науки о природе и науки о духе. И в общем это верно.
Однако достижение Виндельбанда заключается в том, что он
впервые стал различать эти науки не по предмету, как В. Диль-
тей, а только по методу исследований. В своей известной речи
«История и естествознание », произнесенной 1 мая 1894 года при
вступлении в должность профессора Страсбургского
университета, Виндельбанд опровергает Дильтея, по мнению которого
науки о природе наблюдают и изучают мир внешних объектов, а
науки о духе, главным образом история, приобщаются к миру
человеческих отношений с помощью внутреннего переживания
(Erlebnis). Согласно Виндельбанду, ситуация в науке выглядит
иначе, и этот новый взгляд на соотношение наук сформировался
благодаря кантовской философии.
После Канта, считает Виндельбанд, философия обрела свой
подлинный предмет, которым является исследование условий и
предпосылок нашего мышления, переживания, поступков и т. д.
Именно кантовская философия открыла нам глаза на то, что
естествознание конструирует изучаемый мир объектов и делает
это по своим строгим правилам. А это значит, что различие
между естествознанием и историей не в том, что изучают, а в том,
как подходят к исследуемому предмету. Более того, к одному и
тому же предмету можно подойти как с точки зрения
естествознания, так и с точки зрения истории. И вторая точка зрения, по
убеждению Виндельбанда, предпочтительнее, поскольку
исторический взгляд раскрывает недоступный естествознанию
культурный смысл и ценность каждой вещи.
Метод наук о природе Виндельбанд определяет как номоте-
тическищчто переводится как «основополагающий» или «за-
472 Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в
философии.— СПб., 1913.— Сб. IV.— С. 99.
274
конополагающий». Суть этого метода в выявлении общего и
регулярного,именуемого «законом». Метод наук о духе глава Ба-
денской школы определяет как идиографический, что
буквально переводится как «описывающий своеобразие ». В этом случае
ученый стремится выявить нечто особенное и даже уникальное.
Его задача — понять не то, что есть всегда, а то, что возникает
однажды в потоке становления. При этом еще раз уточним, что
проявлением общего и чем-то особенным могут быть одни и те
же факты в зависимости от метода изучения. В одном случае мы
рассматриваем факты под знаком общности и единообразия, в
другом — как нечто частное и неповторимое. Так наука об
органической природе, согласно Виндельбанду, номотетична, когда
систематизирует земные организмы, и она же идиографична,
когда рассматривает процесс возникновения и развития этих
организмов. Причем при идеографическом методе мы факт
определяем путем «отнесения к ценностям ».
Роль идеографического метода ярче всего видна при анализе
человеческого существования, истории, культуры. И
действительно, если тот же этнограф или археолог не соотносит
обнаруженные им факты культурной жизни с определенными
ценностями, то ему не ясен смысл изучаемых явлений. Обнаружив,
к примеру, древнюю статуэтку, исследователь не сможет
понять, является она предметом религиозного культа или просто
украшением, если у него отсутствуют представления о
религиозных, эстетических и других нормах этого народа.
Виндельбанд писал, что в человеческом существовании
всегда присутствует нечто, что не схватывается в общих понятиях,
но осознается самим человеком как «индивидуальная свобода ».
А из этого можно сделать вывод, что такие, к примеру, науки,
как этнография и социология, используют неадекватный
своему предмету метод. Уже здесь мы видим, что Виндельбанд,
подобно другим неокантианцам, критически относится к
абсолютизации факта и опыта, свойственной позитивистам. В
позитивизме наш опыт, составляющий фактическую базу науки,—
единственный гарант истины и главная объясняющая инстанция
в науке. У неокантианцев факт из объясняющего становится
объясняемым. Вслед за Кантом, они рассматривают опыт в
качестве результата, а не предпосылки процесса познания. Факты
таковы, какими мы их видим и понимаем, то есть зависят от
принятой системы координат, от методов рассмотрения, от
исходных установок исследователя. В этом, подчеркнем, сходятся все
275
неокантианцы. Расходятся представители Марбургской и Баден-
ской школы в вопросе о том, какие именно внеопытные нормы и
принципы гарантируют истинность научного знания.
У Когена и его ученика Наторпа философия, будучи
методологией научного познания, должна исходить из математики и
математического естествознания, а точнее — из выраженных в
них чистых форм созерцания и рассудка. По мнению
неокантианцев из Марбурга, не только физике, химии, биологии, но
также праву, этике и эстетике следует ориентироваться на точное
знание, которое в этом учении становится идеалом для
философии культуры и даже социальной педагогики. Таким образом,
для Когена и Наторпа методологическими нормами любой
науки должны быть открытые Кантом формы созерцания и
рассудка. При этом пространство и время в Марбургской школе
перестают быть формами чувственности, а становятся
логическими законами, подобными категориям. И в этом качестве они
формируют предмет любой без исключения науки.
Иные акценты в кантовском учении проставляет Виндель-
банд, а за ним Риккерт. Так для главы Баденской школы
наиболее важным в теории познания Канта оказываются идеи разума,
в которых можно увидеть переход к тем идеалам и ценностям,
которыми человек руководствуется уже в практической жизни.
Регулятивные идеи, как мы помним, оказываются у Канта
своеобразным мостиком между миром природы и миром свободы.
Даже обыденный опыт свидетельствует о том, что в области
знаний идея Бога и идея души играют одну роль, а в области
поступков — другую. Именно это различие в способах детерминации,
введенное Кантом, и становится наиболее существенным для
Виндельбанда. Здесь же следует искать корни того
противопоставления наук о природе и наук о духе, которого нет у
представителей Марбургской школы, но которое очень значимо для
Баденской школы. Напомним, что идиографический метод, по
мнению Виндельбанда, более важен для понимания феноменов
культуры, чем метод номотетический. А в результате точка
зрения истории, а не позиция естествознания, оказывается у
Виндельбанда и Риккерта исходным пунктом новой философии
культуры. Соответственно на первый план в их учении выходят
религиозные, этические и эстетические ценности, которые они
ставят безусловно выше логических ценностей.
Если неокантианцы обеих школ являются
родоначальниками особого направления под названием «философия культуры »,
276
то главу Баденской школы Виндельбанда к тому же считают
«отцом » аксиологии как философского учения о ценностях.
Учение о ценностях как фундаменте мира культуры Виндельбанд
создавал, пытаясь синтезировать идеи Канта с теорией
«значимости » (Gelten) своего университетского наставника Лотце.
Уточним, что существование ценностей признавали также
неокантианцы Марбургской школы. Но у Когена с Наторпом
ценности имеют место только в этике как сфере действия «чистой
воли ». Что касается Виндельбанда, то именно у него вопрос о
ценностях становится главным вопросом философии как
философии культуры.
Не будет преувеличением, если мы скажем, что на XX век
приходится расцвет аксиологии. Но, учитывая все
многообразие подходов к ценностям, существующее в наши дни, стоит
иметь в виду тот культурный контекст и традицию, в рамках
которых рождалось это направление у В. Виндельбанда. Дело в
том, что «отцом» аксиологии XX века, наряду с Виндельбандом,
называют М. Шелера. Виндельбанда сближает с Шелером то,
что, в противоположность таким их современникам, как В. Вундт
и Ф. Паульсен, они не считают ценности чем-то сугубо
историческим, а значит относительным. В ситуации, где историзм
означает релятивизм, Виндельбанд безусловно оказывается на
стороне абсолютного. И для Виндельбанда, и для Шелера мир
ценностей объективен и даже абсолютен. Но если Виндельбанд
толкует ценности в духе кантовского трансцендентализма, то в
философии культуры Шелера просматривается явное влияние
Ф. Ницше. А поэтому, в отличие от Виндельбанда, Шелер
балансирует между классической и неклассической трактовкой
«ценностей ». Последние у Шелера, с одной стороны, духовные,
а с другой —- жизненно-витальные, и приобщение к миру
ценностей имеет, не разумный, как у Виндельбанда, а
экзистенциально-чувственный характер.
Здесь следует напомнить, что даже уникальное в мире
культуры, в соответствии с идиографическим методом, оказывается
постижимым только в свете абсолютных ценностей. Иначе
говоря, особенное здесь постигается не в свете всеобщего, а в свете
абсолютного. И этим диалектика особенного у Виндельбанда
отличается от диалектики особенного, как она представлена в
методологии конкретного историзма.
Абсолютные ценности у Виндельбанда не отменяют, а,
скорее, оттеняют неповторимость мира культуры. Только в тени
277
абсолюта можно распознать и прочувствовать уникальность
творения культуры. И столь же парадоксально решает Вин-
дельбанд проблему оснований культуры, применительно к
которым никто из нас как отдельных индивидов не может
приписать себе творческой силы. Налицо парадокс, причем такой,
который присутствует в воззрениях любого мыслителя, стоящего
на позициях трансцендентализма.
Суть этой проблемы, очень важной для неокантианства,
связана с тем, кого следует признать субъектом культуры..
Каждый знает, что культура, в отличие от природы,— произведение
человека. Но уже Кант доказал, что не только в науке, но и в
элементарном чувственном восприятии мы опираемся на не нами
созданные объективные нормы. Кем же является отдельный
индивид: субъектом или объектом? Так проблема субъекта
культуры обретает форму дилеммы. И ответ Канта на вопрос о том,
человек — это субъект или объект, нам известен. Этим ответом
стал трансцендентализм, когда в нас самих различают и
разводят два начала и двух субъектов — эмпирического и
трансцендентального.
Всех сторонников трансцендентализма объединяет
признание объективного начала в самом субъекте в качестве отдельной
инстанции. Все люди разные, но трансцендентальный субъект
один для всех представителей человеческого рода. Наделяя нас
общезначимыми, и в этом смысле объективными
способностями, нормами и идеалами, он привносит единство в наши действия
и тем самым в культуру. Еще раз подчеркнем, что способности и
идеалы таким образом оказываются не дарованными свыше, а
присущими нам изнутри. В этом как раз и заключается разница
между трансцендентным как антиподом имманентного и
трансцендентальным, которому противостоит эмпирическое.
Объективные нормы нашей деятельности, наши способности и
идеалы оказываются неотъемлемыми от человека как субъекта, а
точнее — трансцендентального начала в нем.
Тем не менее, ни эмпирический, ни трансцендентальный
субъект, как они представлены у Канта, не способны на
творчество или, выражаясь языком немецкой классики,
продуктивную деятельность. В качестве эмпирических субъектов мы
создаем, исходя из трансцендентальных предпосылок своих
действий. А потому наша деятельность по большому счету носит
репродуктивный характер. Что касается трансцендентального
субъекта, то напомним, что его истоки и суть, согласно Канту,—
278
абсолютная тайна, и, следовательно, имеет смысл говорить лишь
о том, что дано, а не создано трансцендентальным субъектом.
Итак, в условиях трансцендентализма мы имеем дело с
парадоксом, когда человек, будучи единственным субъектом
культуры, не является ее творцом. И этот парадокс не только не
разрешается, а усугубляется в неокантианстве Баденской школы.
Мир культуры у Виндельбанда является произведением
человека. Но человек создает, исходя из абсолютных ценностей, а
потому в содержательном плане он не творец, а исполнитель, то
есть в строгом смысле не является субъектом.
С одной стороны, неокантианство в лице Виндельбанда дает
нам своеобразный ключ к учению Канта. Превратив кантовский
трансцендентальный идеализм в философию культуры, Вин-
дельбанд указывает на differentia specifica любого
трансцендентализма. Ведь последний вырастает из осознания того, что
истоки абсолютного в человеческом мире имеют не
естественно-природное и не божественное, а именно культурное происхождение.
Но differentia specifica трансцендентализма в том, что
абсолютные начала культуры в нем не выводятся из чего-то другого, а
именно постулируются в качестве самодостаточных. В этом
смысле мир вечных ценностей культуры, которые, по словам
Виндельбанда, не существуют, но значат,— средоточие
наиболее последовательного, и одновременно тупикового варианта
трансцендентализма.
Превратив кантовского трансцендентального субъекта в
царство вечных ценностей, Виндельбанд создает нечто,
сопоставимое с миром идей у Платона. Уточним, что не только Вильгельм
Виндельбанд, но и Пауль Наторп написал книгу, специально
посвященную Платону. Но мир идей Платона тот и другой
толкуют в духе кантовского априоризма, лишая его тем самым
пространственного местопребывания. Суть дела, однако, не в этом,
а в наличии вечной и неизменной мерки для наших мыслей и
действий, которая в неокантианстве является еще и крайне
абстрактной. Мир ценностей, из которого исходит Виндельбанд,
представляет собой как раз такую абстрактную меру
человеческого в человеке.
Логично предположить, что выход из тупика
трансцендентализма связан с иным, а именно более конкретным и
историческим пониманием объективной меры наших мыслей и действий.
И тогда то, что сегодня чаще именуют ^субъективностью », а
когда-то называли «'душой », будет не дано, а «выработано »
278
каждым из нас в предложенных культурно-исторических
обстоятельствах.
В свое время Фихте вступил именно на этот путь, рассмотрев
трансцендентальные предпосылки нашей деятельности
исторически, а точнее генетически. В результате трансцендентальный
субъект для Фихте уже не является тайной, а, наоборот,
оказывается предметом специального исследования. В том варианте
трансцендентализма, который мы находим у Фихте, наши
всеобщие способности рождаются в продуктивной деятельности
трансцендентального субъекта, а потому он уже является
творцом, в отличие от эмпирического субъекта. Иначе говоря, в
своем Наукоучении Фихте обнаруживает творческую природу
трансцендентального субъекта и тем самым в определенном
смысле выходит за пределы этой позиции.
Иногда говорят, что трансцендентальный субъект у Канта и
Фихте является мистифицированным человечеством, создающим
предпосылки для материальной и духовной жизни отдельного
индивида. По большому счету это именно так. И заслуга Канта в
том, что он выделил те основы культуры, не усвоив которых
нельзя жить и действовать как человек. Категории логики,
нравственный закон, суждения вкуса Кант обоснованно считал
объективной предпосылкой человеческого в человеке. Фихте пошел
дальше, доказав, что эти предпосылки могут меняться. Подобно
отдельному человеку, человечество проходит ступени своего
развития. И Фихте выявил деятельный способ
совершенствования нашего коллективного Я, без которого внутри
индивидуального, эмпирического Я нет культуры, а есть одна лишь натура,
то есть физиология.
Но одно дело — постичь развитие объективного смысла и
другое дело — понять, как этот смысл порождается нашим
индивидуальным усилием. Кант отмечал, что от развития воображения
зависит, как индивид будет осваивать всеобщие основы
культуры. Но еще важнее показать, каким образом отдельный индивид
созидает культуру в ее объективных и всеобщих формах.
Разобраться в этом, по большому счету, можно лишь на
почве реальной истории (со всеми ее хитросплетениями
случайного и необходимого). Ясно, что различия между физикой
Ньютона и Эйнштейна нельзя вывести из исторической обстановки,
личной судьбы или характера одаренности того и другого. Но
музыкальное творчество Бетховена или Вагнера, философское
учение Спинозы или Киркегора — это такие общезначимые дос-
280
тижения культуры, которые объяснимы лишь из особого
сочетания объективных обстоятельств и личных усилий. В свою
очередь достижения предшественников становятся объективными
обстоятельствами формирования культурного облика потомков.
И к этим достижениям можно отнести не только музыкальные
произведения и научные теории, но и формы мышления, нормы
вкуса и морали, принципы веры,— все то, что неокантианцы
считают «вечными ценностями».
Итак, природу индивидуального творчества с позиций
трансцендентализма объяснить невозможно. Здесь граница между
эмпирическим и трансцендентальным субъектом — абсолютное
препятствие, имеющее смысл лишь там, где невозможно
адекватно понять характер взаимоотношения людей. Ведь
принципиальное отличие генетизма Фихте от конкретного историзма
Маркса в том, что в последнем случае одно поколение
оказывается трансцендентальным субъектом для другого.
Взаимоотношения трансцендентального и эмпирического субъектов здесь
перемещаются в исторический план, а в результате именно
индивиды как творцы и творения своей эпохи становятся
субъектами культуры.
Тем не менее, указанное взаимоотношение между
эмпирическим и трансцендентальным субъектом для обычного,
наивного сознания наглухо закрыто. Ведь мир идеалов «эффективен»
лишь там, где он обладает статусом абсолюта. И эта
непреложность и самодостаточность, как уже не раз говорилось,
гарантируется его же собственной формой. Такое знание является
предписанием к исполнению само по себе, благодаря своей
непосредственной форме и без каких-либо внешних подпорок. Вспомним,
что моральный поступок, по Канту, обусловлен самой сутью
имманентного ему нравственного закона, в отличие от
легального поступка, который имеет внешние причины.
В свое время Канта сумел развенчать объективную видимость
метафизических понятий, связанную с природой нашего разума.
Но для Канта и неокантианцев осталась неприступной
объективная видимость идеалов в виде абсолютных регулятивов,
императивов и вечных ценностей. Как и первооткрыватель феномена
идеального Сократ, Кант не видел возможности для рождения
всеобщего и абсолютного в конечном, несовершенном общении
эмпирических субъектов. Соответственно и Сократ воспринимал
абсолютную форму идеала как некую изначальную данность, а
не объективную видимость, с необходимостью скрывающую
281
динамику своего формирования. И в этом постулировании
самодостаточного и абсолютного среза бытия — начало и конец
философской классики, а точнее — граница, за которую она не
может выйти, в соответствии со своей сутью и происхождением.
5.1рзисцеис)емтзлизм и антропология Гегеля
Обсуждая проблему души в философской классике, нельзя
обойти фигуру Гегеля. И на первый взгляд гегелевская
методология с ее историзмом и принципом деятельности должна
быть ближе всего к культурно-исторической трактовке души.
Именно здесь стоит ожидать преодоления методологической
ограниченности трансцендентализма. Но все это лишь на первый
взгляд, поскольку гегелевский историзм по большому счету
уравновешивается преформизмом.
Самопознание Абсолютного духа у Гегеля недаром
предстает в виде круга. И душа на этом пути оказывается лишь
моментом самодвижения всеобщего. Более того, своеобразие души в
учении Гегеля не способно проявить себя в нравственном
поступке или эстетическом созерцании. Ее возможности не
распространяются на область размышления. Дело в том, что в
учении Гегеля душа примыкает к природному мируу в котором дух
только «просыпается». В его учении душа — это
нематериальное начало в самой материальной природе. И этим Гегель
существенно отличается как от тех, кто не отделяет душу от мира
культуры, так и от тех, кто считает ее творением Всевышнего.
Гегель принуждает дух и идеальность «проснуться » уже в
материи, а затем природная душа пытается совлечь с себя
материальную форму. «Дух есть экзистирующая истина материи,— пишет в
связи с этим Гегель,— истина, состоящая в том, что сама материя не
имеет своей истины »473. У Гегеля выходит, что по-своему правы те
философы, прежде всего на Востоке, которые представляли
мировую душу средоточием мироздания. В этом случае перед нами еще
«сон духа », но в своих невесомых проявлениях в виде теплоты и
света, а также в формах жизни материя начинает одухотворяться.
«Душа есть нечто всепроникающее,— подчеркивает Гегель,— а не
что-то существующее только в отдельном индивидууме »474.
АП Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 44.
474 Там же.- С. 155.
282
В философии именно пантеизм, по мнению Гегеля, выражает
эту начальную степень одухотворения природы. При этом в
пантеизме указанное состояние природы находит свое адекватное
или неадекватное выражение. Так недостаток пантеистической
философии Спинозы Гегель видит в том, что «субстанция не
достигает в ней своего имманентного развития,— многообразие
только внешним образом присоединяется к субстанции»475.
В формах представления, уточняет он, пантеизм выступает в виде
опьяняющей жизни и вакхического созерцания. «И тем не
менее,— пишет Гегель,— это воззрение составляет для каждой
здоровой натуры естественный отправной пункт. В особенности в
юности мы себя чувствуем через посредство все вокруг и нас
самих одушевляющей жизни в братском единении со всей
природой, симпатизируем ей; так обретаем мы ощущение мировой души,
единства духа с природой, имматериальности самой природы >г .
Но там, где философия делает шаг от чувства к рефлексии,
ей открывается противоположность души и тела. И в такой
постановке вопроса, согласно Гегелю, тоже есть своя истина,
поскольку таким образом дух пытается дистанцироваться от
телесности. Именно в христианской философии душа и тело
выступают как самостоятельные начала. Но помещая душу в
пространство и время, старая метафизика, а точнее
рациональная психология, по мнению Гегеля, не выходит за пределы
природной реальности. Определяя душу как нечто простое, единое,
неизменное, покоящееся, метафизика не покидает почвы
природных характеристик. И это превращение души в вещь
достигает кульминации у Декарта, где идет речь о седалище души.
От такой постановки вопроса, согласно Гегелю, радикально
отмежевалась спекулятивная логика, которая в лице Канта
перешла от анализа души к сознанию и самосознанию, открыв дорогу
диалектике Я и не-Я в учении Фихте. Что касается самого Гегеля,
то переход от души к сознанию в его философии духа
осуществляется именно спекулятивно. А сознание в его рассуждениях
возникает, подобно все тому же античному «богу из машины ».
Итак, душа в учении Гегеля «находится посредине между
лежащей позади нее природой, с одной стороны, и
вырабатывающимся из природного духа миром нравственной свободы — с
другой »477. Но в своей собственной эволюции она, по его мнению, не
475 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 46.
476 Там же.
477 Там же.- С. 53.
283
должна застывать на внешнем противостоянии телу. Душа не
должна оставаться чем-то особенным рядом с телом. Попытку
преодолеть указанный дуализм Гегель видит в учениях Декарта, Маль-
бранша и Спинозы, у которых противоположность души и тела,
мышления и бытия преодолевается в Боге как их тождестве.
Другой вариант преодоления этого дуализма Гегель
указывает в третьем томе «Энциклопедии философских наук » в главе
«Действительная душа» (§411-412). Здесь душа представлена
как преодолевшая разобщенность с телом и поднявшаяся до
опосредствованного единства со своей телесностью. По сути
она здесь превращается во внутренний принцип самого тела.
«В своей телесности, преобразованной душой и ею освоенной,—
пишет в связи с этим Гегель,— душа выступает как единичный
субъект для себя, а телесность является, таким образом,
внешностью в качестве предиката, в котором субъект относится
только к самому себе. Эта внешность представляет не себя, но
душу и является ее знаком»™.
Под внешностью в данном случае Гегель имеет в виду в самом
прямом смысле физиономию человека, которая, согласно
распространенному выражению, есть «зеркало души». Уточняя этот
момент применительно ко всему телу человека, Гегель пишет:
«Напротив, подлежащие теперь нашему рассмотрению свободно
происходящие воплощения (внутренних ощущений — Е.М.)
придают человеческому телу столь своеобразный духовный
отпечаток, что благодаря ему оно гораздо более отличается от
животных, чем вследствие какой-либо только природной
определенности. Со своей чисто телесной стороны человек не очень отличается
от обезьяны; но по проникнутому духом внешнему виду он до
такой степени отличается от названного животного, что между
явлением этого последнего и явлением птицы существует
меньшее различие, чем между телом человека и телом обезьяны »479.
Наиболее характерным образом духовная суть человека
выражена, как считает Гегель, в его лице, а также в вертикальном поло-
жениитела. И точно также человек отличается от представителей
животного мира рукой, в особенности кистью руки. «Рука
человека, это орудие орудий,— отмечает Гегель,— способна служить
выражением бесконечного множества проявления воли»480. Но
47п Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3 —
С. 210.
479 Там же.— С. 212.
ш Там же.- С. 212-213.
284
предложив в главе о действительной душе свое понимание
тождества души и тела, Гегель связывает его главным образом с
чувственной жизнью человека. Очертив особый тип тождества
души и тела, Гегель не усматривает здесь каких-то
дополнительных методологических возможностей. Так действительная
душа представлена у Гегеля прежде всего на уровне привычек.
И таким образом она все равно остается в пределах природы и в
ведении науки антропологии.
Стоит уточнить, что все ступени развития субъективного духа,
согласно Гегелю, находятся в ведении определенных наук.
Проблемой души, как уже сказано, занимается у Гегеля
антропология. Там, где душа переходит в сознание, появляется
феноменология. А когда сознание превращается в собственно дух, им
занимается психология. И каждая из этих областей знания в
гегелевской трактовке выглядит не так, как сегодня. К примеру,
антропология после Л. Фейербаха стала заниматься всем
человеком. А у Гегеля она исследует лишь его природные основы, к
которым Гегель относит расовые признаки, различия темперамента
и физиономии, таланты, предрасположенности и идиосинкразии.
В разделе антропологии также рассмотрены душевные болезни.
О теле человека у Гегеля речь идет только в соотнесении его
с душой. Сознание и самосознание, по Гегелю, к телу уже
отношения не имеют. Они рассматриваются в отношении к миру
вокруг нас. В результате главной проблемой сознания становится
отношение Я и не-Я. Правда, в разделе «Объективный дух »
Гегель опять возвращается к телу, теперь уже к «телу культуры ».
Взаимосвязь души с «телом культуры » — главный мотив
предлагаемой работы. Что касается Гегеля, то душа с миром
культуры у него не соотносится. Общая траектория мирового развития
у Гегеля выглядит так: Абсолют в виде логической идеи —
природа — природная душа — субъективный дух — объективный
дух — абсолютный дух. Душа, повторим, происходит из мира
природы, а культура разворачивается в формах объективного и
абсолютного духа. Культура, таким образом, является внешней
инстанцией по отношению к душе. И на лестнице бытия они не
встречаются.
Здесь стоит остановиться на доводах Гегеля против
материалистов, которые, по его мнению, также пытаются преодолеть
дуализм души и тела. Гегель замечает: «Этому спекулятивному
пониманию противоположности духа и материи противостоит
материализм, который изображает мышление как результат ма-
285
термального и выводит простую природу мышления из
множественного. Нет ничего более неудовлетворительного, чем
развитые в материалистических сочинениях объяснения
многообразных отношений и связей, посредством которых должен быть
порожден такой результат, как мышление»481.
В материализме Гегеля не устраивает стремление вывести дух
из чего-то, лишенного субстанциального смысла, какой
является природа в естественно-научном материализме. И из самой по
себе природы дух действительно не выводим. Из нее, как
известно, не выведешь даже бюрократа. Но между духом и природой
существует опосредствование, из которого можно объяснить
их принципиальное различие. Методология исследования
идеального позволяет извлекать человеческие проявления не из
физиологии нашего конечного тела, а из «тела культуры ». В этом
своеобразном опосредствовании, мире культуры, природа
присутствует в снятом виде. И как раз через такое снятие природа
способна стать основанием субстанциальности нового типа.
В доводах Гегеля против материалистов тоже фигурирует
тема диалектического снятия. Но Гегель считает снятой не
природу в культуре, а прежде всего дух в природе. Дух, по
большому счету, не может быть снятием природного бытия, доказывает
Гегель, наоборот, природное бытие является снятием духа482.
Но такая позиция имеет смысл, если постулировать
своеобразие духа, что как раз характерно для философской классики.
Одновременно Гегель вынужден с самого начала
приписывать природной душе качества того же духа, а иначе перейти от
природы к духу он не может. В этом главный парадокс
гегелевской системы и суть его преформизма. Но преформизм Гегеля —
это защита от естественно-научного материализма.
Итак, специфика духа в гегелевской философии задана как
аксиома. Но если в трансцендентализме эта специфика
отнесена не к Богу или природе, а к трансцендентальному субъекту, то
Гегель, определяющий дух как Абсолют, а Абсолют как Бога,
возвращается к более традиционной постановке вопроса. Даже
там, где Кант вынужден возвратить мораль в лоно Бога, он
делает массу оговорок. Душа, переосмысленная Кантом на манер
трансцендентального единства апперцепции, не умещается в
рамки традиционного идеализма и тяготеет к иным подходам.
4,1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 50.
ш См.: там же.
218
У Гегеля культурно-историческая методология
представлена лишь в деталях, на уровне гениальных догадок. Гегель,
безусловно, еще дальше от культурно-исторической методологии, чем
Кант, Фихте и неокантианцы. Но по большому счету он не
выходит за рамки трансцендентализма, если иметь в виду
методологическую ограниченность этого подхода. Ведь специфика души
и духа им постулируется, и в конечном счете все в гегелевской
философии сводится к Абсолюту. В этом проявляет себя
общая черта философской классики, и специфическая черта
учения Гегеля. И здесь стоит уточнить детали.
Антропология, т. е. человекознание, писал Гегель, есть самое
высокое и трудное занятие. Но в нем нужно исследовать не
отдельные способности, характер и склонности людей, а сущность
духа как такового. Истинным предметом самопознания,
подчеркивал он, должны быть не особые «изгибы человеческого
сердца », а 6сеобгцеет. Страсти и слабости людей — это неподлинное,
от которого нужно продвигаться к духу как к подлинной
реальности, как к субстанции, скрывающейся за различными
человеческими проявлениями. И только такое познание является
философским. «Самопознание в обычном, тривиальном смысле
исследования собственных слабостей и погрешностей индивидуума,—
читаем мы у Гегеля,— представляет интерес и имеет важность
только для отдельного человека, а не для философии; но даже и в
отношении к отдельному человеку оно имеет тем меньшую
ценность, чем менее вдается в познание всеобщей моральной и
интеллектуальной природы человека и чем более оно, отвлекая свое
внимание от обязанностей человека, т. е. подлинного содержания
его воли, вырождается в самодовольное няньчанье индивидуума
со своими, ему одному дорогими особенностями »484.
Итак, философская антропология в гегелевском понимании
должна ориентироваться на всеобщее в человеке. Гегель,
конечно, не отрицает человеческой индивидуальности. Но
индивидуальность ему интересна только там, где она, выражает
всеобщее, а потому становится «великим человеческим характером).
В ином случае перед нами так называемая «дурная
индивидуальность» , выражающая единичное и неподлинное в виде
прихотей, страстей, т. е. того, что является, по сути, не духовным, а
природным в человеке.
483 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 6.
ш Там же.- С. 7.
287
Таким образом, человеческую личность в трактовке Гегеля
не стоит воспринимать в свете всеобщего, которое особым
образом выражено в единичном. Гегелевская диалектика еще не
является той диалектикой особенного, в которой преодолена
безликость всеобщего и бессмысленность единичного. И если уйти
от такой модернизации диалектики Гегеля, то в его философии
духа личность способна выражать как то особенное, в котором
представлено всеобщее (т. е. дух), так и то особенное, в котором
представлено случайное, произвольное (т. е. природа). И в
условиях такого рода дополнительности, Гегель, конечно, на
стороне всеобщего и духовного, в противовес единичному, а значит
природному.
В свете так понятой личности обретает особое значение тот
вызов, который бросила Гегелю, а, тем самым, философской
классике, неклассическая философия. Ведь то, что у Гегеля
уходит на второй плав, для неклассической философии
становится сутью: единичный субъект, его неповторимая душа,
уникальное Я, экзистенция. Но в своем радикальном отрицании
гегелевской диалектики эта философия, начиная с Киркегора, не
преодолевает и перерастает его уровень, а по сути лишь меняет
акценты. Если Гегеля интересовало то особенное, в котором
представлено только всеобщее, то его антиподов интересует
такое особенное, в котором ни грана всеобщего, а только 6
чистом виде уникальное, неповторимое, единичное. Киркегор
выразит это изменение в акцентах наиболее ясно и откровенно,
именуя самого себя Единственным.
Таким образом, бросаясь в другую крайность,
неклассическая философия не в состоянии предложить нам принципиально
нового решения проблемы. И ее сегодняшнее состояние
подтверждает это. Но вернемся к Гегелю, который при изначальной
устремленности к всеобщему, в своей философской антропологии
все же предлагает рассмотреть дух в его инобытии. Таким
природным инобытием духа как раз является душа. Форма души,
согласно гегелевской философии, должна быть совлечена с духа
вместе с оковами природного. А тем самым преодолевается и ее
своеобразие в процессе перехода к сознанию. И тем не менее,
исследуя душу, Гегель останавливается на целом ряде особых
проявлений души в виде душевных расстройств.
В главах, посвященных проблеме души, Гегель анализирует
феномен слабоумия, рассеянности, тупоумия, помешательства,
вплоть до безумия, полагая, что эти отклонения являются мета-
288
морфозами природной основы человека. Вот как выглядит у
Гегеля характеристика тупоумия, которая следует за описанием
бестолковости. Тупоумие, замечает он, «возникает в том случае,
когда рассмотренная выше в своих различных модификациях
замкнутость природного духа в себе получает определенное
содержание и это содержание превращается в навязчивое
представление вследствие того, что еще не вполне овладевший
собой дух в такой же мере погружается в это содержание, в какой
он при слабоумии погружен в самого себя, в бездну своей
неопределенности. Где начинается тупоумие в собственном смысле
слова, с точностью сказать трудно. В маленьких городах,
например, можно встретить людей, особенно женщин, которые до
такой степени погружены в до крайности ограниченный круг
своих частных интересов и в этой своей ограниченности
чувствуют себя до того приятно, что подобного рода индивидуумов мы
справедливо можем считать тупоумными людьми »485.
Приведенный пример очень показателен в
методологическом плане. Гегель причисляет здесь тупоумие, как и слабоумие,
к отклонениям «природного духа », но при этом приводит
пример совсем иного плана. В чем причина тупости мещанки из
немецкого городка, которая согласно писаным и неписаным
законам ограничена тремя «К»: Kinder, Küche, Kirche? Ею является
природа или уклад жизни?
Дальше Гегель рассуждает в том же духе, сравнивая
тупоумие с собственно сумасшествием. Сумасшествие, по его
мнению, возникает тогда, когда человек оказывается во власти
единичного и субъективного представления. Такое душевное
состояние, уточняет он, по большей части есть следствие замыкания
в своей субъективности из-за недовольства действительностью.
Что касается причин такого «полного погружения души в самое
себя », то Гегель здесь указывает на тщеславие и высокомерие^.
Вывести тщеславие и высокомерие из природного мира
довольно сложно. Как сложно вывести из него зависть,
распространенную в той же мещанской среде, или к примеру
пресыщенность жизнью и меланхолию, которой, по мнению Гегеля,
страдают, как правило, англичане. Из этого душевного состояния у
англичан, замечает он, нередко развивается непреодолимое вле-
т Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 190-191.
ш Там же.— С. 191.
288
чение к самоубийству. Правда, Гегель тут же опровергает
«непреодолимость » этого состояния, приведя случай с неким
англичанином, который излечился в тот самый момент, когда на
него, готовящегося утопиться в Темзе, напали разбойники. Борьба
с разбойниками пробудила в нем ощущение ценности жизни,
преодолевшее тягу к самоубийству487.
Такого рода веселых (и не очень) примеров в гегелевской
антропологии много. И большинство из них демонстрируют нам
предвзятость его трактовки душевных расстройств как
патологии только природного, а не культурного, нравственного,
социального развития человека. Надо сказать, что Гегель и сам
чувствует здесь ложную ситуацию, что вынуждает его заявлять:
«Мы имеем при этом в виду то, что помешательство, по
существу, должно быть понято как одновременно и духовная, и
телесная болезнь, что в нем господствует совершенно
непосредственное, еще не прошедшее бесконечного опосредствования
единство субъективного и объективного»488.
Гегеля здесь можно понять в том смысле, что душевная
патология является искажением того тождества души и тела,
которое собственно и есть человек. И тем не менее, он тут же
замечает, что эта патология напрямую не связана с сознанием, Я,
рассудком и разумом. Наоборот, такая патология есть
результат господства душевной стороны, природной самости,
абстрактно-формальной субъективности над объективным,
разумным, конкретным сознанием489.
Тут же Гегель пишет, что душевная болезнь — это то
крайнее состояние, до которого рассудок может опуститься. Но
вдаваться в тонкости в данном случае не так уж и важно. Главное
состоит в том, что Гегель не может возложить вину за
патологические состояния человека на сам дух. И не делает он этого из
принципиальных соображений. Причиной патологических
состояний человека, по его мнению, вполне может быть природа,
которая сама есть отклонение от истины мироздания. Что
касается сознания, то оно находится слишком близко к этой истине,
т. е. к самому духу, чтобы искать здесь причину патологий.
Связать душевную болезнь с повреждением в разуме или
нравственным пороком можно лишь в том случае, если дух сам произво-
ш Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.— Т. 3.—
С. 192.
ш Там же.— С. 184.
AW См.: там же.— С. 185.
211
ден, к примеру, от мира культуры и социального развития. Но
тогда для объяснения душевных болезней нужно пожертвовать
всей гегелевской системой.
Гегель, естественно, не идет на такие жертвы. Не идет он на
них и там, где речь заходит о природе человеческого эгоизма.
В самом начале философии духа он замечает, как уже
говорилось, что философии интересны великие человеческие
характеры, выражающие природу человека в ничем не замутненной
чистоте. Что касается иных черт характера и своеобразия отдельных
духов, то философия к ним безразлична. И при этом Гегель
замечает: «Для жизни такое знание несомненно полезно и нужно, в
особенности при дурных политических обстоятельствах, когда
господствуют не право и нравственность, но упрямство, прихоть
и произвол индивидуумов, в обстановке интриг, когда характеры
людей опираются не на существо дела, а держатся только на
хитром использовании своеобразных особенностей других людей,
стремясь таким путем достичь своих случайных целей »49°.
Указанная здесь ситуация более подробно
проанализирована Гегелем в его «Философии права », где речь идет о
гражданском обществе. И здесь Гегель все же вдается в детальный анализ
такой патологии, как эгоизм. Именно в гражданском обществе
получает максимальное развитие тот тип поведения, пишет
Гегель, когда «каждый для себя — цель, все остальное для него
ничто »491. Но поскольку без взаимодействия с другими людьми
человек не может достичь своих целей в полном объеме, «эти
другие суть поэтому средства для цели особенного »492.
Гегель, у которого история есть «прогресс в осознании
свободы », не отождествляет эту ситуацию с торжеством свободы.
Он прекрасно осознает, что эгоизм, когда мое Я превыше всего
и вся, не есть свобода, соответствующая своему понятию.
Гражданское общество Гегель характеризует как«релище нищеты
и излишества на фоне общего физического и нравственного
упадка. Он отмечает, что своими представлениями и
рефлексиями человек расширяет сферу вожделений, не
представляющую замкнутого круга, как у животного. Но, с другой
стороны, лишения и нужда есть тоже нечто безмерное. И запутан-
490 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.— М., 1977.—
Т. 3.- С. 7.
491 Гегель Г.В.Ф. Философия права.— М., 1990.— С. 228.
492 Там же.
211
ность этого состояния может быть приведена к гармонии
только силой государства493.
Уточняя цель гражданского общества, Гегель пишет, что ею
является конкретное лицо как «целостность потребностей и
смешение природной необходимости и произвола»494. Но произвол,
в свою очередь, в гегелевской трактовке есть влечение,
существующее уже в природе. Однако, в отличие от животного,
человек полагает это влечение своим. А это значит, что по
большому счету эгоистическое поведение не выводит нас за пределы
«животного царства ».
Противовесом эгоизма частных лиц в философии Гегеля, как
уже было сказано, является государство, религия, мораль и
философия. И с той же настойчивостью, с какой Гегель
продвигает душу со всеми ее отклонениями в мир природы, он
сближает с Абсолютом, а значит идеализирует государство, религию,
мораль и философию. Антагонизм материального и идеального,
согласно такой трактовке гражданского общества, буквально
раздирает тело современной цивилизации. И выход из этой
ситуации Гегель видел лишь в балансе сил, что характеризует его,
может быть, как консерватора, но не как утописта.
Напоследок еще раз напомним, что Гегель не только не
преодолел, но в чем-то даже усугубил методологическую
ограниченность трансцендентализма, отказавшись при этом от
присущего ему своеобразия в трактовке происхождения души. У
Гегеля душа принадлежит к природному миру и проявляет себя
ярче всего в патологических состояниях — душевных
болезнях. Иначе вопрос о своеобразии души будет ставить
неклассическая философия. Именно ее духовную неповторимость
противопоставит эта философия гегелевскому всеобщему. Но
затем парадоксальным образом неклассическая философия
вернется к природной патологии как проявлению
индивидуального отличия. И об этом пойдет речь в следующей главе.
493 Гегель Г.В.Ф. Философия права.— М., 1990.— С. 231.
494 См.: там же.— С. 227.
Неклассическзя философия о душе
(начало и итог)
противостоянии классической и современной
неклассической философии у нас заговорили в 1972 году.
Первый шаг в обсуждении этой темы сделали М. Ма-
мардашвили, Э. Соловьев и В. Швырев в статье «Классика и
современность: две эпохи в развитии буржуазной философии »495.
Статья стала событием, хотя проблема в ней ставилась
достаточно узко — о противостоянии двух эпох в развитии западной
философской мысли. Речь шла об отрицании философией XX
века философского развития XVII-XIX веков. Сегодня, через
тридцать лет, вопрос можно ставить значительно шире — об
отрицании неклассической философской традицией XIX-XX
веков всей философской классики от Сократа до Гегеля.
Понятно, что неклассическая философия не явилась на свет,
как джин из бутылки. В качестве одной из тенденций она
присутствовала в недрах широко понятой философской классики. В
античную эпоху это умонастроение явным образом выражали
софисты и киники, в средние века — английские номиналисты, в
Новое время — эмпирик Д. Локк и скептик Д. Юм. Оно
присутствует даже у И. Канта. Но только в XX веке это умонастроение
стало господствующим, о чем можно с уверенностью заявить уже
за его пределами — в XXI столетии. Такая смена господствующей
тенденции дает повод говорить об особом неклассическом
периоде в развитии философии. Причем наиболее актуальными
являются вопросы о начале этого периода и его перспективах.
Ситуация формирования неклассической философии
чрезвычайно интересна, поскольку совпадает с расцветом философ-
495 См.: Философия в современном мире. Философия и наука.— М., 1972.
293
ской классики. 40-е годы XIX века — это время наивысшей
популярности гегелевского учения. Хотя Г.В.Ф. Гегель скончался в
1831 году, он продолжал оставаться кумиром и воплощением
классической философии. Но уже в 1819 году вышла, хотя и
осталась незамеченной, работа А. Шопенгауэра «Мир как воля
и представление». В 1841 году получила серьезный резонанс
«Сущность христианства » Л. Фейербаха. А в 1843 году
появилось первое произведение С. Киркегора «Или-Или »496.
Позиции этих мыслителей различны, но противник у них
один — Гегель. И Л. Фейербах в этом ряду не случаен. Его
учение — это одна из развилок в мировой философии, от которой
дороги ведут к марксизму и к «философии жизни ». Недаром,
отказавшись от Гегеля, Л. Фейербах впоследствии поддержал
А. Шопенгауэра с его противопоставлением гегелевскому
спекулятивному разуму волевого начала.
Именно сегодня можно конкретизировать вклад каждого из
этих мыслителей в становление неклассической философии,
яснее определить, как из отдельных ростков складывалась
традиция и как итог совместных усилии спустя полтора столетия
опроверг первоначальные замыслы. Сложность именно в том, что
неклассическая философия, которая сформировалась в XIX веке,
отрицает философскую классику в самых важных и
принципиальных вопросах. А поэтому отношение классической и
неклассической философии — это не два этапа на пути, идущего по
восходящей, а два разных пути в философии. Формально и
хронологически неклассическая философия следует за
классической и потому ее часто именуют постклассической, но по сути она
претендует быть вместо классической.
Здесь следует уточнить, что весь предыдущий и
последующий анализ, в котором представлены эти две традиции, вовсе не
историко-философское исследование в устоявшемся смысле.
Наше отношение к истории европейской философии по своим
целям и задачам отличается от того, что обычно делает
академическая наука. Прошлое в данном случае интересно прежде всего
в свете настоящего, когда на ранней стадии начинают
проглядывать черты более зрелой формы. По сути перед нами разные
подходы к историко-философскому процессу, разные точки
зрения на его изучение и изложение. Ведь одно дело — быть
4% О различиях в написании имени датского философа С. Киркегора
(Кьеркегора и пр.) в первом параграфе.
2М
фактически точным в воссоздании позиции автора, и другое
дело — выяснить место этой позиции в более широком
духовном и историческом контексте, определить ее отношение к
современному решению проблемы.
Вспомним, как излагал Фихте впечатлившее его учение
Канта, и каково было возмущение самого Канта по поводу этой
«более последовательной» версии его взглядов. При эмпирическом
подходе к историко-философскому процессу указанный
конфликт Фихте и Канта интересен прежде всего как исторический
курьез. С теоретической точки зрения за внешней сменой
событий важно увидеть соотношение позиций в решении
определенной проблемы.
Еще раз подчеркнем, что спор Фихте и Канта имеет особый
смысл, если мы признаем объективное содержание проблем,
которые ставят и решают философы разных эпох. Причем это
содержание может отличаться от осознания его самими
теоретиками. Поэтому их оценки и самооценки нельзя понимать
строго буквально. «Лучшее средство быть непонятым или ложно
понятым,— писал Фридрих Шлегель,— это употреблять слова в
их первоначальном значении, особенно слова, взятые из
древних языков»497. Интересуясь развитием такого объективного
содержания в историко-философском процессе, можно и
нужно удержаться от крайностей позитивистски понятой
достоверности, с одной стороны, и произвола в отношении фактов,— с
другой. Анализ этого движения как раз и позволяет перенести
историко-философское исследование с эмпирического уровня
на уровень теоретический.
При такой постановке вопроса очень важна точка отсчета, и
ею не всегда оказывается современность. Парадокс истории, и, в
частности, истории философии, заключается в том, что
объективной мерой может стать решение, выработанное не сегодня, а
вчера. А иногда этой мерой оказывается не позиция, а
методологический подход как тенденция в освоении и решении проблемы.
Что касается проблемы души, то философия, как мы видели,
то ставила ее на повестку дня, то ее снимала, ликвидируя
окончательно или заменяя другими проблемами. Но при всех атаках
на эту проблему, в ней всегда оставалось определенное нереду-
цируемое содержание. И мы попытаемся уточнить его еще раз
на примере неклассической философии.
497 Литературные теории немецкого романтизма.— Л., 1934.— С. 182.
285
В истории культуры нет банальных взлетов и падений. У
исторических заблуждений, как правило, весомые причины. И
порой важно вычерпать заблуждение до дна, чтобы обозначились
новые пути к истине. Мы попробуем показать, что, отрицая
философскую классику, экзистенциализм и постмодернизм так или
иначе, но продолжают решать классическую проблему души.
И даже там, где эта проблематика как будто в очередной раз
преодолевается, вдруг появляются новые повороты в ее решении.
1. С. Киркегор: отдельная всеобщим
у октября 1855 года в общественную больницу Копенгагена
â^ привезли человека, упавшего посреди улицы в состоянии
физического и нервного истощения. В регистрационной книге
общественной больницы Фредерикса сохранилась запись: «Он
рассматривает свою болезнь как смертельную. Его смерть, говорит
он, необходима для дела, на которое он растратил всю силу
своей души, ради которого он в одиночестве трудился и для
которого, как считает, был единственно предопределен; отсюда
тяжелая работа мысли при такой немощи тела. Если он будет жить,
то должен будет продолжить свою религиозную борьбу, но она
выдохнется, тогда как, наоборот, борьба посредством его
смерти сохранит свою силу и, верит он, принесет победу »498.
Через месяц с небольшим, находясь в больнице, он
скончался. Звали странного господина Серен Киркегор (1813-1855).
Фамилию этого удивительного датчанина также переводят на
русский как Керкегор, Кьеркегор, Киргегард, Киркегаард и даже
Кирхегардт, что говорит об отсутствии традиций в переводе
датских личных имен на наш язык. Мы остановимся на том
варианте, который предложил первый переводчик его произведений на
русский язык П. Ганзен.
С момента окончания университета в 28 лет и до своей
смерти в 42 года Киркегор нигде не служил и занимался
литературным творчеством. Именно в такой форме он вел свою борьбу за
возрождение христианской веры. Сам себя Киркегор именовал
«религиозным писателем », и после 13 лет активной творческой
работы он оставил 28 томов сочинений, из которых 14 томов
■"* Цит. по: Бибихин В.В. Кьеркегор и Гоголь// Мир Кьеркегора.
Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора.— М., 1994.—
С. 89.
296
составляют его дневники. «Толпа »,— писал он в одном из
своих дневников — вот главный сюжет моей полемики... Хочу
открыть толпе глаза, и если она не поймет меня добром, заставлю
насильно. Надо, однако, понять меня. Я не хочу бить толпу
(одиночка не может бить массу), но я хочу заставить ее бить
меня. Вот в каком смысле только я пущу в ход насилие. Раз
толпа примется бить меня, внимание ее поневоле должно
будет пробудиться. Еще лучше, если она убьет меня, тогда
внимание ее сосредоточится всецело, стало быть, и победа моя будет
полной»499.
В некотором смысле свой замысел Киркегор исполнил. Он
начал свою творческую биографию с отрицания
общепризнанной гегелевской философии. А в конце жизни вступил в
конфронтацию с датскими церковными кругами. Биографы
описывают его нападки на Г.Х. Андерсена и множество других
конфликтов. И все это происходило на фоне неординарности
внешности, манер и поступков Киркегора, среди которых
неожиданный разрыв помолвки с невестой, которую он
продолжал любить всю жизнь.
Киркегор обращал на себя всеобщее внимание и
одновременно вызывал раздражение тем, что не хотел «быть, как все ». Но
его противостояние «общему» было не легкомысленной
бравадой, а осознанной провокацией и способом борьбы. Обычная
жизнь светского человека для Киркегора — проникнутое
лицемерием прозябание. И это несмотря на все доводы рассудка. «Был
ли апостол Павел государственным служащим?— спрашивает
Киркегор.— Нет. Имел ли он выгодную работу? Нет.
Зарабатывал ли он большие деньги? Нет. Был ли он женат и производил
ли на свет детей? Нет. Но ведь тогда выходит, что Павел не был
серьезным человеком! »50°
Современный человек очень серьезен. Что касается его души,
то это, как пишет Киркегор в одной из статей,— болото, в
котором все дружно и сидят. «Вместо радости — вечное брюзжание
и недовольство, вместо страдания — упрямая, вязкая,
твердолобая терпеливость, вместо воодушевления — речистая
многоопытная смышленость»501.
4W Киркегор С. Из дневников // Серен Киркегор сам о себе в
изложении Петера П. Роде.— Челябинск, 1998.— С. 350-351.
500 Цит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.—
Челябинск, 1998.— С. 201.
*01 Там же.— С. 182.
297
Парадоксальность позиции Киркегора заключается в том, что
вырваться из объятий «общего » он предлагает через страх и
отчаяние — состояния, хорошо известные ему самому. Вот одна из
дневниковых записей Киркегора: «Я только что пришел из
общества, душою которого я был. Остроты сыпались с моих уст,
все смеялись, восторженно смотрели на меня.— А я, и тут мое
тире должно быть длинным, как радиус земной орбиты,— я
погибал и хотел застрелиться »502.
Меланхолия была каждодневной мукой Киркегора. В свое
время его отец определил это состояние как «тихое отчаяние».
Сам Киркегор говорил о не покидающей его меланхолии как
«вечном умирании без конца » и пытался докопаться до ее причин в
своем творчестве. Страх, тоска и уныние без явных поводов,
способные довести до полного отчаяния,— вот проявления
меланхолии, которую в наши дни чаще именуют депрессией. Древние
греки объясняли это состояние отравлением «черной желчью».
Само слово «меланхолия» происходит от греческого «mêlas» —
«желчь » и «choie » — «черный ». Таким образом, уже у древних
греков подавленность духа у меланхолика имеет не внешнюю, а
внутреннюю причину. Страх меланхолика не вызван внешней
угрозой его существованию, тоска не имеет определенного
объекта, его отчаяние носит безотчетный характер. Именно у
человека эта обусловленность переживания не внешним, а внутренним
обретает особую идеальную форму, по-своему осмысленную
экзистенциализмом.
Дело в том, что избавлением от меланхолии у Киркегора была
литературная работа. «Я счастлив, только когда творю,—
отмечает он в дневнике.— Тогда я забываю все житейские страдания
и неприятности, всецело ухожу в свои мысли. Стоит же мне
сделать перерыв хоть на несколько дней, и я болен, угнетен душою,
голова моя тяжелеет. Чем объяснить такое неудержимое
влечение к работе? »503 Налицо та особая, свойственная лишь
человеку, ситуация, в которой негативные переживания стали
неотъемлемой стороной существования. Они составляют условие
творчества, а, значит, душа уже ищет страданий, переплавляя их в
творческое усилие.
,м Цит. по: Бибихин В.В. Кьеркегор и Гоголь // Мир Кьеркегора.
Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора.— М., 1994.—
С. 87.
ш Киркегор С. Из дневников // Серен Киркегор сам о себе в
изложении Петера П. Роде.— Челябинск, 1998,— С. 350.
298
Сам Киркегор объяснял своеобразие своей личности
следующим образом. «Благодаря неоценимому дару Божию,— пишет
он в дневнике,— человек, испытывающий удары судьбы,
уподобляется редкому инструменту. При каждом новом испытании
лира его души не только расстраивается, но, напротив,
приобретает еще одну струну »î04. А это значит, что страдания Киркегора
не бессмысленны и не напрасны, в них нужно видеть божий дар
и особое предназначение.
Докапываясь до причин своей меланхолии, Киркегор видит в
ней не аномалию физического свойства, а нечто
метафизическое. При этом меланхолия как божий дар у него
непосредственно совпадает с божьей карой, а кара парадоксальным образом
открывает дорогу спасению. Отец Киркегора был женат вторым
браком на служанке. Смерть пятерых своих братьев и сестер
Серен воспринял как кару за произошедшее в давние времена
совращение отцом его матери — служанки. Но еще более
страшный грех, потрясший Киркегора, совершил отец, когда
десятилетним пастухом послал проклятье Господу Богу за свою
невыносимо тяжкую жизнь.
Серен был последним из семерых детей коммерсанта
Михаэля Педерсена Киркегора. В живых, кроме него, оставался брат
Петер Христиан — впоследствии епископ в Ютландии. Серен
был уверен, что не доживет до 33 лет. А, перейдя этот рубеж,
окончательно убедился в своей особой миссии. Но для ее
исполнения ему следовало усугубить свои страдания как
предпосылку «прыжка в веру».
Меланхолия была личной бедой Киркегора. Но, разбираясь
в причинах личных бед, Киркегор неуклонно придает фактам
своей приватной жизни глобальный масштаб, соотнося их с
Богом и вечностью. В этом своеобразие его способа
философствования, которое он противопоставил умозрительным
философским системам, и, прежде всего, философии Гегеля. Если логика,
считал Киркегор, применима лишь к ставшему, свершившемуся,
т. е. прошлому, то будущее как область индивидуального
выбора, область свободы нуждается в особом экзистенциальном
опыте. Главная проблема каждого человека, уверен Киркегор,—
это его собственное существование, его личное будущее, его
судьба. В своем стремлении осуществить вечное во временном, ут-
ш Киркегор С. Из дневников // Серен Киркегор сам о себе в
изложении Петера П. Роде.— Челябинск, 1998.— С. 352.
299
верждает он, каждый действует и выбирает в одиночку. Но его
литературное творчество, в ряде случаев предназначенное для
«единственного читателя»,— свидетельство того, что на этом
пути можно опереться на опыт другого. Иначе писания самого
Киркегора были бы напрасны.
Таким образом, метод философствования, предлагаемый
Киркегором, провоцирует видеть в личной судьбе и своей
духовной организации призму для рассмотрения судьбы другого и
всего человечества. Заметим, что Киркегор уже пользуется
термином «экзистенциальный», позаимствовав его у выдающегося
норвежского поэта-романтика Вельхавена. Именно последнему
мы должны быть обязаны этим термином, подхваченным
Киркегором и ставшим символом одного из значительных явлений в
культуре XX века.505
В свете его «экзистенциального » метода особую роль в
творчестве Киркегора, сказавшемся на облике всей неклассической
философии, сыграла не только знаменитая меланхолия, но и
другой известный факт его биографии. Речь идет о разрыве с
невестой Региной Ольсен (Ольсон, Ользен), впоследствие
ставшей женой Фрица Шлегеля — датского губернатора на
Антильских островах. Регина, которая пережила Киркегора на
полвека, написала незадолго до своей смерти уже в XX веке: «Он
пожертвовал мною ради Бога». И это соответствует тому
объяснению своего поступка, которое дает сам Киркегор в «Стадиях
на жизненном пути ». «Благодаря женщине в жизнь приходит
идеальное,— пишет он.— И кем был бы мужчина без него?
Многие мужчины благодаря девушке стали гениями, иные из них
благодаря девушке стали святыми. Однако никто еще не стал
гением благодаря той девушке, на которой женился; поступив
так, он сможет стать лишь финансовым советником. Ни один
мужчина не стал еще героем благодаря девушке, на которой
женился; благодаря этому он может стать лишь генералом. Ни
один мужчина не стал поэтом благодаря девушке, на которой
женился, ибо посредством этого он становится лишь отцом.
Никто еще не стал святым с помощью девушки, полученной в
жены, ибо кандидат в святые не получает в жены никого; когда-
то он мечтал о своей единственной возлюбленной, но не получил
ее... Женщина вдохновляет, покуда мужчина не владеет ею»5М.
"" См.: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.—
Челябинск, 1998.— С. 47-48.
ш Цит. по: Там же.— С.107.
300
Рассуждения Киркегора, вложенные в данном случае в уста
его героя Константина Констанция (Констанциуса, Констан-
циона), более чем убедительны. Герой, гений, поэт и святой
нуждается в женщине-музе, а не в женщине-хозяйке дома. Муза
вдохновляет и привносит в жизнь идеальное, тогда как отца
семейства обычно порабощают житейские, материальные
заботы. Тут не грех вспомнить Платона, у которого философ,
стоящий во главе идеального государства, также не имеет
права на женитьбу, чтобы не попасть в плен материальных забот,
навязанных супругой. Но, несмотря на указанное сходство,
во взглядах Платона и Киркегора есть явное различие.
Философ у Платона служит общему интересу в лице государства,
которому противостоят частные интересы отдельных лиц.
У Платона именно общее идеально, а частное материально.
И с точностью до наоборот у Киркегора, у которого
государственная служба — это только должность, а не служение
высшим целям. Быть генералом и финансовым советником во
времена Киркегора — совсем не то, что быть стратегом в эпоху
Платона. А потому подчиниться власти «общего », с точки
зрения Киркегора, означает оказаться в тисках материальной
необходимости.
Проблема в том, чем является власть: «кормушкой » или
местом гражданского подвига. В первом случае жена подталкивает
к власти, во втором — отталкивает от нее. Платон опасается, что
жена, будь она у философа, превратит власть в «кормушку»
для удовлетворения интересов семьи. К идеальному, согласно
Платону, человек приобщается не как частное лицо, а в качестве
гражданина — как участник общего дела. Иначе у Киркегора, у
которого идеальное доступно лишь тому, кто стоит в стороне от
общих дел. Но являлось ли положение изгоя сознательным
выбором Киркегора?
Русский философ Лев Шестов был одним из немногих, кто
считал необходимым говорить о скрытой физической стороне
разрыва Киркегора с невестой. Анализируя книги и дневники
Киркегора, он делает вывод о том, что «жалом в плоть» для
того стала невозможность «быть мужчиной ». Но если и суще- •
ствовало такого рода отклонение, то безусловна его связь с
душевной организацией Киркегора. Шестов приводит его
дневниковую запись, в которой говорится: «Я в настоящем смысле ■
слова — несчастнейший человек, с ранних лет пригвожденный
301
всегда к какому-либо доводящему до безумия страданию,
связанному с какой-то ненормальностью в отношении моей души
к моему телу...»507.
Ненормальность во взаимоотношении души и тела Киркего-
ра можно связать с его чрезвычайно развитым воображением.
Но развитое воображение и острая чувствительность здесь
одновременно являются причиной и следствием его необычной
судьбы. Стоит вспомнить детство Киркегора, в котором не было
особых развлечений. Но в качестве компенсации отец предлагал ему
иногда побродить с ним по комнате. «И покуда они бродили взад
и вперед по комнате, отец описывал все, что они видели на
прогулке; они здоровались с прохожими; с грохотом проносились
мимо повозки, заглушая отцовский голос; фрукты у уличной
торговки были заманчивее, чем когда-либо. Он рассказывал обо
всем с такой точностью, так живо, с такой достоверностью вплоть
до самых незначительных мелочей... что, погуляв с отцом
полчаса, сын ощущал себя таким взволнованным и таким усталым,
словно провел на улице целый день»508.
Приведенный отрывок взят из книги Киркегора «Иоганнес
Климакус, или De omnibus dibitandum », а Иоганнес Климакус
был одним из литературных псевдонимов самого Киркегора.
Именно отец приобщил Серена к тому «искусству
комбинирования », которое для отдельных натур становится
привлекательнее и интереснее реальной жизни. «Это волшебное искусство,—
пишет Киркегор,— Иоганнес вскоре сам перенял у отца. То, что
до тех пор протекало перед ним эпически, отныне стало
поворачиваться к нему драматургической стороной; на прогулках они
стали беседовать.... Всемогущая отцовская фантазия
преобразовывала каждое его детское желание в составную часть драмы,
разворачивавшейся у них на глазах. Иоганнесу казалось, что мир
рождается в процессе их беседы, словно бы отец был Господом
богом, а он сам — его любимцем, который мог по своему желанию
весело вмешиваться в любую из его безрассудных фантазий... »т
Впоследствии уже взрослый Киркегор будет чувствовать себя
в мире фантазий, художественных образов и философских
рассуждений куда увереннее, чем в обычной жизни. Внутренний
507 Цит по: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 38.
508 Цит. по: Там же.— С.15.
,0» Там же.
302
мир станет главным миром, в котором будет находиться Кирке-
гор. И это скажется на взаимоотношениях его души и тела.
Совсем иной была Регина Ольсен. Эту разницу между Региной и
Сёреном подметил и удачно выразил один из его биографов —
Петер П. Роде. «Она была дитя природы, юное и невинное,
вдохновляемое само собой разумеющейся самоотверженностью —
пишет Роде.— Он же был артефактом, высокоценным
искусственным продуктом, тысячу лет выводимым в пробирке;
переполненным сознанием греха задолго до свершения самого греха;
одним словом, как биологическое существо он был калекой »ио.
Но Киркегор мог превратить и превращал свои недостатки в
достоинства. И «жало в плоть» — это не только беда, но и
движущая сила его духовной работы. Более того, он начинает
видеть в этой своей особенности свидетельство богоиз(5ранниче-
ства. Еще до знакомства с Региной во времена вполне
легкомысленного образа жизни Киркегор писал в своем дневнике: «Когда
я внимательно рассмотрел большое количество человеческих
феноменов из христианской жизни, то мне начало казаться, что
христианство, вместо того чтобы даровать им силу... да-да,
христианство лишило этих индивидов, если сравнивать их с
язычниками, их мужского начала, и соотносятся они сейчас,
соответственно, как мерин и жеребец »511.
В приведенном суждении Киркегора сквозит явная
симпатия к языческому прошлому человечества. Но пройдет время,
и в своей физической слабости и положении изгоя он будет
видеть предпосылку чего-то неизмеримо более важного и
высокого — христианского подвига. И в этом он будет
отказывать служителям церкви, в том числе близкому его семье
епископу П.Я. Мюнстеру как по сути своей язычнику и эстету.
Характерно, что физические недостатки некоторых
известных людей Киркегор также воспринимал как знак свыше. В
частности в хромоте Талейрана он видел указание на его
религиозное призвание, которое тот проигнорировал. Не покорившись
судьбе, Талейран сделал блестящую светскую карьеру, но, по
мнению Киркегора, погубил в себе религиозного гения.
Отдавая всего себя без остатка сочинительству,
направленному на воссоздание веры, Киркегор надеялся на результаты,
"° Цит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.—
Челябинск, 1998.— С. 91.
'" Цит. по: Там же.— С. 55.
309
сопоставимые с делом Лютера. Но его деятельность дала иные
плоды. Киркегор начал с отрицания философии как Системы.
Теоретической философии он противопоставил учение Христа,
а логике веру. Но действия Киркегора не сказались на
религиозной жизни в Дании, и тем более во всем христианском мире.
Киркегор не стал вторым Лютером. Тем не менее, он оказался одним
из зачинателей иной неклассической философской традиции,
сказавшейся на всей духовной атмосфере последующего XX века.
Киркегор настаивал на том, что личная судьба — единственный
ключ к его воззрениям. И действительно: желание вернуть Регину
является тем истоком, из которого вырастает его представление о
«повторении ». А последнее — одно из важнейших открытий
Киркегора, повлиявших на облик неклассической философии.
В августе 1841 года Серен Киркегор возвращает Регине
кольцо, разрывая тем самым помолвку. А уже в 1843 году выходит
его работа «Повторение», с начала и до конца проникнутая его
переживаниями в связи с этим разрывом. Эту работу нужно
рассматривать в единстве с первым оригинальным произведением
Киркегора «Или — или », написанным чуть ранее и изданным в
том же 1843 году. ( В России основные фрагменты «Или — или »
были изданы в 1894 году в переводе П. Ганзена под названием
«Наслаждение и долг».) То же самое касается другой работы
1843 года под названием «Страх и трепет». То, что в «Страхе и
трепете » доказывается на материале Библии, в «Повторении »
Киркегор пытается извлечь из личного опыта. Недаром у работы
«Повторение» есть нечто вроде подзаголовка: «Повторение.
Опыт экспериментальной психологии Константина Констанция ».
К «Повторению» можно относиться как чисто
литературному произведению, поскольку в нем подробно излагаются
впечатления от поездки в Берлин Константина Констанция — alter
ego самого Киркегора, о котором у нас уже шла речь. Вторая
сюжетная линия «Повторения » связана с любовной историей
юноши, по отношению к которому Константин Констанций
выступает в роли поверенного и наставника. Большинство
исследователей сходятся в том, что второй герой, как и первый,
является все тем же Киркегором. В этих героях представлены
различные полюса его собственной личности.
Известно, что Киркегор был литературным мистификатором,
представляясь то издателем, то рецензентом, то героем (под
псевдонимом) своих произведений. Но при всем богатстве
литературных приемов и множестве психологических наблюдений,
304
придающих своеобразие этому произведению, «Повторение »
посвящено решению проблемы, интересующей именно
философов. И это декларируется автором в самом начале книги.
На первой же странице Киркегор заявляет о том, что проблеме
повторения предстоит играть важную роль в новейшей
философии. «Греки учили,— пишет он,— что всякое познавание есть
припоминание, новая же философия будет учить, что вся жизнь —
повторение »512. Но разобраться в этом вопросе можно лишь в
реальном процессе самой жизни. Так Диоген, напоминает Киркегор,
в споре с элеатами противопоставил их аргументам реальное
движение, прошагав несколько раз взад и вперед. Он буквально
выступил против элеатов, отрицавших движение, из чего следует, что
разобраться в повторении можно, лишь реально пережив его.
Позиция Киркегора здесь выражена вполне ясно,
дальнейшее повествование ему вполне соответствует. И на этом
основании известный датский драматург Й.Л. Хейберг (Хайберг),
приверженец Гегеля, в своей рецензии на «Повторение » причислил
Киркегора к последователям «философии жизни ». Киркегор с
этим в целом согласился, уточнив лишь то, что его занимают
«феномены индивидуального духа »î13.
Итак, заинтересованность Киркегора в том, «выигрывают или
теряют вещи от повторения », следует понимать в свете духовной
жизни индивида. Речь идет не о повторении природных явлений, а
о повторении духовного состояния человека. Именно поэтому
Киркегор берется исследовать эту проблему опытным путем.
Древние греки, начиная с Гераклита и элеатов, исследовали вопрос об
отношении изменчивого к постоянному теоретически. Киркегор
решает проблему соотношения уникального и вечного
практически. Его герой Константин Констанций едет в Берлин, чтобы
воссоздать переживания и настроения, которые он испытал в ходе
предыдущей поездки. Кто выбрал повторение, подчеркивает Киркегор в
одноименном произведении, тот живет. Повторение, если оно
возможно, делает человека счастливым. Поэтому поездка в Берлин
была для главного героя «Повторения » погоней за счастьем.
Тот, кто прочел это произведение Киркегора, знает, что
поездка оказалась неудачной. Константин поселяется у прежнего
хозяина, посещает уже виденные ранее театральные
представления, бродит по уже знакомым местам. Но прежние впечатле-
5,2 Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 7.
43 См.: там же.— С. 126.
305
ния и переживания не возникают в его душе. Из театра он
уходит с мыслью «Повторения не бывает». Окружающая
обстановка в доме оказалась «искаженным повторением прежней ». И
даже случайные неудобства при посещении полюбившейся
кондитерской отбили охоту мечтать о повторении. И только там, где
наблюдалась застывшая монотонность жизни, повторение, с
иронией замечает Киркегор, оказалось возможным.
Единственное, что повторялось во время этой поездки,
раздраженно замечает автор, это невозможность повторения.
Психологический эксперимент Константина Констанция, таким
образом, потерпел провал. Но вместе с ним стали сомнительными
суждения Киркегора о том, что уже в учениях древних греков о
бытии и ничто, небытии и переходе заключены истоки его
категории «повторение». «Диалектика «повторения» несложна,—
рассуждает он в первой части книги,— ведь то, что повторяется,
имело место, иначе нельзя было бы и повторить, но именно то
обстоятельство, что это уже было, придает повторению
новизну. Греки, говоря, что всякое познание есть припоминание,
подразумевали под этим, что все существующее ныне существовало
и прежде; утверждая же, что жизнь — повторение, я говорю
тем самым: то, что существовало прежде, настает вновь. Без
категорий воспоминания или повторения вся жизнь распадается,
превращается в пустую, бессодержательную игрушку»514.
Но уже эксперимент Константина Констанция доказал, что
повторения достойно не любое прошлое. Вторая часть книги
«Повторение » показывает: феномен повторения связан не с
любыми, а с идеальными устремлениями человека. Что касается
припоминания, то у Платона оно было движением к истине и
обращено не к бренным вещам, а к вечным идеям. Но, в отличие
от Платона, который противопоставляет конечным вещам
вечные идеи, Киркегора волнует совпадение конечного и
бесконечного в индивидуальном духе. У Платона истина за пределами
земного мира, у Киркегора она внутри индивида. Главная
проблема для Киркегора — это возможность индивидуального
мгновения, проникнутого вечностью. И в этом принципиальное
различие между древнегреческой и новейшей философией,
представленной в учении Киркегора.
Жизнь есть поток изменений. Но Киркегора интересует
прежде всего тот, кто «слишком горд и не желает, чтобы содержание
,м Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 30-31.
306
всей его жизни оказалось всего лишь делом мимолетной
минуты »515. Мгновение, проникнутое вечностью, он
противопоставляет минуте суеты. И в этом пафосе противостояния
обыденному и ничтожному он предваряет Фридриха Ницше. Внимание
Киркегора сосредоточено на собственных переживаниях. Но это
совсем не тот индивидуализм, когда миру не стоять, а мне чаю
пить. Скорее, миру не стоять, а мне вернуть любовь — Регину.
Речь, таким образом, идет о любви как чувстве, достойном
повторения. Любовь для Киркегора — убежище, где он прячется
от прозябания и суеты. Любовь к женщине — это источник
идеального в жизни мужчины. Но откуда происходят те коллизии,
которые связаны с любовью Киркегора к Регине и которыми
проникнуто все его творчество?
Здесь мы должны вновь вспомнить об их сугубо
физиологическом объяснении, принадлежащем Шестову и
подтверждаемом им, среди прочего, выдержками из «Повторения ». Намного
сложнее выглядит ситуация в глазах Константина Констанция,
который определяет состояние своего подопечного, в котором
легко узнать самого Киркегора, как «любовь-воспоминание»,
когда собственные переживания и воспоминания становятся
важнее самого предмета обожания. «Ясно было, что мой юный друг
влюбился искренно и глубоко,— рассуждает Константин
Констанций в первой части «Повторения »,— и все-таки он готов был
сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. В
сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными
отношениями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой
огромный скачок, что обгоняет жизнь. Умри девушка завтра, это
уже не внесет в его жизнь никакой существенной перемены... »516.
И далее: «...он с первой минуты превратился по отношению к
молодой девушке в старика, живущего воспоминанием.
Очевидно, его любовь являлась каким-то недоразумением... Яснее
ясного было, что молодой человек будет несчастен...
Воспоминание имеет большое преимущество,— начинаясь с потери, оно
уверено в себе, потому что ему больше терять нечего »ш.
Таким образом, особенность «любви-воспоминания » в том,
что она существует в форме тоски по любимой, и в этом
качестве она становится источником поэтического творчества.
«Молодая девушка не была его настоящей любовью, она была
ш Кьеркегор С. Страх и трепет— М., 1993.— С. 44.
516 Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 14.
47 Там же.
317
предлогом, поводом к тому, чтобы в нем пробудился поэт —
уточняет Константин в своих записках.— Вот почему он и мог
любить ее лишь в том смысле, что уже не в силах был никогда
забыть ее, полюбить другую, но при этом лишь тосковать о ней
постоянно, а не желать ее. Она стала частью его существа, и
память о ней была вечно свежа. Девушка имела для него
громадное значение: она превратила его в поэта, а себе тем самым
подписала смертный приговор как возлюбленная»518.
В этом отрывке из «Повторения » перед нами очередное
объяснение тайны разрыва Киркегора с невестой. В связи с ним
приведем одно характерное замечание из работы П.П. Гайденко
«Трагедия эстетизма. О миросозерцании Серена Киркегора ». «Если и
есть правда в словах Киркегора о тайне, которая уйдет в могилу
вместе с ним,— пишет Гайденко,— то эта правда в том, что он
скрывал свои мысли действительно наиболее верным способом —
назойливо навязывая их другим. Его тайна в самом деле скрыта
наилучшим образом: она вся — наверху. А поскольку тайны ищут
обычно под явленным, за невысказанным, то ее найти
достаточно трудно. Доказательство тому — такие «расшифровки» кир-
кегоровской тайны как, например, шестовская »519.
В своей работе о Киркегоре, которая была впервые
опубликована в 1970 году, Гайденко анализирует причину его разрыва с
Региной, как и все его творчество, в контексте развития
романтизма — как типа личности, миросозерцания, художественной
практики и философско-эстетической позиции. А во
внутреннем мире романтика любовные отношения всегда играли
важнейшую роль, и высшее наслаждение связывалось с
напряженным эротическим переживанием. «Мюссе, Жорж Занд, Байрон,
Шлегель — все они не знают более адекватного способа
раскрыть содержание внутреннего мира своего героя, чем через
создание эротически-напряженного отношения «я » и «ты »,—
отмечает Гайденко.— Именно поэтому такая эротическая
напряженность и становится не просто предметом изображения, но и
предметом теоретического анализа Киркегора »52°.
Но своеобразие романтизма, объясняет Гайденко,
заключается также в том, что другое «я » для романтика лишь момент его
собственного внутреннего мира. Новалис говорил о стремлении
поэзии растворить чужое бытие в своем собственном. А это зна-
m Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 16.
'" Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.— С. 128.
,2° Там же.— С. 75.
308
чит, что другое «я», включая возлюбленную, для романтика не
является самостоятельной реальностью. И он даже не пытается
трансцендироватъ, как выражается Гайденко, то есть не
пытается обрести другого не в своем воображении, а в реальности521.
Романтическое чувство к Регине превратило Киркегора в
поэта. Но он, подобно юному герою «Повторения », осознает себя
заложником этой романтической любви, переживает ее как
своеобразную психологическую ловушку. По сути дела жизнь
Киркегора, как и поиски юного героя «Повторения »,— это как раз
попытка трансцендировать за пределы романтического чувства
и умонастроения. Их целъ — обрести любимую не в
воображении, а в реальности. Но как такое возможно?
Романтическая любовь не может выразить себя в обычном
благополучном браке. «Каждое утро я подстригаю бороду всем
моим чудачествам,— пишет в письме Константину Констанцию
герой «Повторения »,— но на другое утро борода снова
отрастает. Я кассирую самого себя, как государственный банк кассиру- .
ет старые ассигнации, чтобы выпустить новые. Но у меня ничего
не выходит. Я размениваю весь свой идейный капитал, все
первородное богатство мыслей на мелкую монету брачной жизни,—
увы и ах!— но в этой валюте богатство мое тает без остатка »т.
Мелкая монета брачной жизни несовместима с идеальным
содержанием романтической любви. Идеальное чувство —
антипод реально существующего брака. Но это не значит, что
идеальному чувству нет места в жизни нигде и никогда.
Отталкиваясь от двух известных противоположностей, Киркегор и герой
«Повторения » стремятся совместить идеальное чувство с
реальностью. Но чтобы любовь повторилась как настоящая, нужен
переворот, который невозможен без Бога.
«Словом, обстоятельства сложились так,— констатирует
Константин Констанций по поводу своего подопечного,— что
ему оставалось только прибегнуть к религии. Вот как любовь
постепенно заводит человека все дальше и дальше »523. Юный
герой ожидает повторения, как удара грома, способного в
одночасье сделать невозможное возможным. Но почему только Бог
дарует повторение? Почему без чуда, производимого «силой
абсурда», невозможно пересоздать личность и ситуацию для
подлинной любви?
521 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.— С. 128.
522 Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 105.
'" Там же.— С. 71.
309
Здесь перед нами главная сложность и главная загадка в
учении Киркегора. На собственном примере он констатирует
разрыв между внутренним миром поэтических фантазий и
реальным процессом жизни, когда первый лишен реальной силы, а
второй — серьезного смысла. Жажда повторения — это
стремление к воссоединению идеального с реальным. Но для
Киркегора такое возможно только силой Бога.
Уточним, что юный герой, о котором идет речь в книге
«Повторение », так и не воссоединился со своей возлюбленной. Она,
подобно Регине Ольсен, вышла замуж за другого. Узнав об этом,
герой спешит сообщить Константину Констанцию, что он,
несмотря ни на что, добился повторения. На последних страницах
мы читаем: «Я снова стал самим собою. Мое «я», которое не
нужно никому другому, снова стало только моим »524. И затем,
иронизируя по поводу своих страданий, он уточняет: «Разве это
не повторение? Разве мне не отдано все снова, да еще в двойном
размере?... Никто больше не властен надо мной, мое
освобождение непреложно, я родил самого себя!»525.
Однако такой трагикомический исход дела не
соответствовал изначальным замыслам Киркегора. Развязка была изменена
в связи с реальным известием о помолвке Регины с Фрицем Шле-
гелем, вызвавшим бурю чувств у автора «Повторения ». Но,
несмотря на указанные коррективы, смысл и пафос этого
произведения остался прежним. Более того, его анализ позволяет
утверждать, что идея повторения — ключ к творчеству Киркегора.
Там, где Киркегор стремится силой повторения воссоединить
идеальное с реальным, он еще в пределах классической
традиции. Там же, где эта трансцендентная сила утверждает себя как
сила абсурда, мы уже на территории неклассической
философии. И вне загадки повторения понять Киркегора как предтечу
неклассического философствования едва ли возможно.
V. С. Киркегор о единстве Эуши силой выбора
К сведению счетов с романтиком внутри самого себя
Киркегор приступил уже в первой работе «Или — или». В
поисках выхода из ловушки романтизма навстречу Регине он
анализирует яркие примеры романтического противостояния миру, и оно
124 Керкегор С. Повторение.— М., 1997.— С. 111.
,;î Там же.
311
предстает в «Или — или » в качестве своеобразной болезни духа,
следствие которой — утрата собственной личности.
Сюжет «Или — или» имеет некоторое сходство с
«Повторением ». Основа первой части этой книги — история
взаимоотношений Иоанна и Корделии, описанная в «Дневнике
обольстителя ». Киркегор представляет дело так, будто к издателю Виктору
Эремите этот дневник, наряду с другими работами, попал
совершенно случайно. Такова же судьба и комментариев к этому
дневнику некоего асессора Вильгельма, выступающего в роли
наставника и критика по отношению к Иоанну. Эти комментарии
составляют весьма обширную вторую часть работы «Или — или».
Любовные истории, рассказанные в «Или—или» и
«Повторении » похожи. В обоих случаях эксцентричный молодой
человек, живущий скорее в мире фантазий, чем в реальности,
покидает свою возлюбленную. Но если для юного друга
Константина Констанция возлюбленная становится поэтической музой, то
из жизни Иоанна Корделия уходит навсегда. «Я любил ее — да,
но теперь она не может занимать меня больше» — отмечает в
своей последней дневниковой записи Иоанн. И далее он
иронично замечает: «Будь я божеством, я сделал бы для нее то, что
Нептун для одной нимфы; превратил бы ее в мужчину»526.
Иоанн так же романтичен, как и юный герой «Повторения ».
Он принадлежит миру грез и способен откликаться лишь на
сильные возбуждающие стимулы со стороны действительности.
Именно здесь начинается своеобразие его натуры, в отличие от
героя «Повторения ». Дело в том, что Иоанн поглощен поиском
ярких ощущений и переживаний, питающих его фантазию.
Именно потому, что действительность способна привлекать его к себе
ненадолго, Иоанн становится обольстителем, для которого
любовь — игра, и ведется она лишь до тех пор, пока девушка не
готова принести ему в жертву все и вся. «Женщина была для
него лишь возбуждающим средством,— констатирует Вильгельм
по поводу Иоанна,— надобность миновала, и он бросал ее, как
дерево сбрасывает с себя отзеленевшую листву: он
возрождался,— она увядала »527.
Но, по мнению Вильгельма, позиция вечного обольстителя,
выраженная, в частности, в образе Дон Жуана, губительно
сказывается на человеческой личности, как, впрочем, и эстетическое
526 Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 191.
527 Там же.— С. 36.
311
отношение к жизни в целом. «Можешь ли ты представить себе
что-нибудь ужаснее развязки,— пишет он, обращаясь к
Иоанну,— когда существо человека распадается на тысячи отдельных
частей, подобно рассыпавшемуся легиону изгнанных бесов, когда
оно утрачивает самое дорогое, самое священное для человека —
объединяющую силу личности, свое единое, сущее «я »? »528
Здесь следует уточнить, что произведение «Или — или »,
подобно «Повторению», можно отнести к жанру художественной
литературы, и не более того. Недаром современники ценили
Киркегора прежде всего как прекрасного писателя,
обладающего блестящим стилем. Но рассказанная Киркегором история
является своеобразной «шкатулкой в шкатулке ». И анализ
личности Иоанна во второй части книги уже может быть воспринят
как вариант некоей «моральной философии ». Для
неискушенного читателя смысл «Или — или» — изложение жизненных
принципов этика Вильгельма в противовес беспринципному
эстетику Иоанну, «подвиги» которого изображены им самим в
«Дневнике обольстителя ». И только сопоставление «Или — или»
с другими работами Киркегора позволяет выявить собственно
экзистенциальный план его размышлений, в котором проблема
проблем — преодоление раскола между идеальным и реальным,
между идеалом и жизнью.
Критика судебным заседателем Вильгельмом эстетического
отношения к действительности в лице Иоанна, а также Дон
Жуана, Фауста и Нерона,— лишь момент в решении более
фундаментальной проблемы. Это проблема взаимоотношений духа
в лице искусства и философии, с одной стороны, и жизни — с
другой. Философ и поэт — два полюса личности самого
Киркегора. И потому противостояние философии и искусства
реальной жизни, которое стало неотъемлемой чертой его времени,
переживается Киркегором как личная трагедия.
Состояние романтического искусства, как и спекулятивной
философии, не устраивает Киркегора именно в силу их
отвлеченности от жизненных проблем данного конкретного
индивида. Истина — Бог теоретика, подобно тому, как Красота
является Богом эстетика. Однако трудности умозрения растут,
запишет в своем дневнике Киркегор, по мере того, как «приходится
экзистенциально осуществлять то, о чем спекулируют». И
далее он замечает: «Но в общем, в философии (у Гегеля, и у дру-
ш Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 198.
312
гих) дело обстоит так же, как и у всех людей в жизни: в своем
повседневном существовании они пользуются совсем другими
категориями, чем те, которые они выдвигают в своих
умозрительных построениях, и утешаются совсем не тем, что они так
торжественно возвещают»529.
Анализ взглядов Киркегора в советской философии всегда
начинался с его понимания истины как чего-то экзистенциально
личного, в противовес общезначимой истине науки и
классической философии. При этом истоки протеста Киркегора против
системности и научности в немецкой философии, как правило,
усматривали в заявившем о себе еще в античности
субъективизме. И тут же перед исследователями возникали неразрешимые
вопросы. Дело в том, что со времен древнегреческих софистов
оборотной стороной субъективизма был релятивизм.
Утверждая субъективную истину, софисты неизбежно
противопоставляли общему всем идеалу многообразие частных интересов и
забот. Но хотя для последовательного субъективиста все в мире
относительно, «миру не стоять» и «мне чаю не пить» — вещи не
одного порядка. А в результате закономерным итогом в
эволюции субъективизма была и остается моя телесная потребность
как мерило для любой истины, принципа и идеала.
Но Киркегор не был релятивистом. Более того, как раз в
релятивизме обвинял он своего антипода Гегеля, сравнивая его с
«отцом » софистов Протагором. Невозможно уличить
Киркегора и в идеологической «всеядности », ассоциирующейся с
релятивизмом в вопросах истины. «Субъективист» Киркегор
придерживался явно выраженных принципов, если разговор касался
области духа.
В результате, обвинив Киркегора в субъективизме,
исследователь его творчества вынужден неизбежно путаться и
противоречить сам себе, как это случилось с известным советским
историком философии Б.Э. Быховским. В своей книге о Киркегоре
он заявляет: «В противовес объективному понятию истины и ее
критерия Кьеркегор выдвигает субъективное понятие истины »53°.
Хотя на той же странице мы уже прочли: «Относительной
истине он противопоставляет абсолютную истину как единственно
достойную признания и отвечающую понятию «истина»»531.
"' Цит по: Шестое А. Умозрение и откровение.— Париж, 1964.—
С.240-241.
530 Быховский Б.Э. Кьеркегор.— М., 1972.— С. 105.
'■" Там же.
313
Но и без этой путаницы ясно, что в лице Киркегора мы имеем
дело с чем-то отличным от традиционного субъективизма. И там,
где он настаивает на истине как экзистенциально личной, нет
смысла погружаться в мир обыденных забот и интересов.
Спекулятивный философ Гегель не устраивает Киркегора потому,
что служение идее за кафедрой и письменным столом тот
совмещал с обывательским существованием в качестве частного лица.
Но чтобы преодолеть эту двойственность положения
философа, нужно не измерять истину мерой повседневной жизни, а,
наоборот, осуществлять экзистенциально то, о чем раньше
только спекулировал. Иначе говоря, философ должен жить в
соответствии со своим идеалом. Философская истина должна
подтвердить свою достоверность, превратившись в образ жизни.
А если без «примирения», а вернее сосуществования
отвлеченного идеала с обыденностью философия невозможна, то Кир-
кегор не может и не хочет быть философом.
Киркегор безусловно был идеалистом. Но быть идеалистом в
реальной жизни в условиях гражданского общества может лишь
изгой. Спекулятивной истине философа и обыденной жизни
большинства Киркегор по сути противопоставляет нечто
«третье» — обособленное существование того, кто сумел сделать
истину образом собственной жизни. Здесь, однако, есть еще один
аспект, который определил своеобразие отношения к Киркего-
ру в советской философии. Дело в том, что спекулятивная
философия, по его мнению, ущербна еще и потому, что ее истины
сориентированы на общее благо и потому не касаются никого в
отдельности. А в результате интерес отдельного лица,
утверждает Киркегор, приносится в жертву всеобщему.
Таким образом, спекулятивная истина, по мнению
Киркегора, абстрактна как бы вдвойне. С одной стороны, она отвлечена
от жизни, а с другой — противостоит отдельному индивиду в
качестве внешней силы, выдающей ему предписания от имени
Всеобщего. Естественно, что, противопоставляя
спекулятивному знанию экзистенциально личную истину, Киркегор делает
двойной акцент — как на ее экзистенциальности, так и на ее
личном характере. Истина — это то, что наполняет смыслом мою
жизнь и способствует моему выбору и свободе.
В официальной советской философии нападкам Киркегора
на объективную истину всегда давали резкий отпор. Эту точку
зрения, причем не совсем заурядно, выразил в 1972 году Б. Бы-
ховский. Но интереснее понять другую позицию, представлен-
314
ную в те же годы в работе П.П. Гайденко. В первой главе ее
книги «Трагедия эстетизма», где речь идет об экзистенциальном
характере истины, альтернативой казенной философии и
идеологии в целом оказывается не что иное, как обыденная жизнь.
Высказана эта мысль, учитывая цензуру того времени, не совсем
явно, но главное — от имени Киркегора.
После того, что произошло с нами в 90-е годы, критика
Гайденко абстрактных положений государственной философии,
уже не так актуальна и интересна как то, что предлагается в
качестве ее альтернативы. А в качестве альтернативы
абстрактным умозрительным истинам здесь предлагаются конкретные
истины, которые не только личностны и субъективны, но и
извлечены из «обыденного бытия». Киркегор требует, пишет
Гайденко, не такой философии, строя которую мыслитель уходит
из своего обыденного бытия, чтобы потом в него вернуться, а
«такой философии, в которой он мог бы постоянно оставаться
«дома», не делая непрерывных переходов и не меняя рабочего
костюма общезначимости на домашние туфли и халат частной
жизни»532. Такая философия, продолжает Гайденко, «должна
исходить из реального существования человека так, чтобы он
мог оставаться «философом» в своем повседневном
существовании. Поэтому, стремясь создать подобную философию,
Киркегор никогда не называл себя философом, заявляя о том, что
он — только «частный мыслитель » »ш. И далее она добавляет:
«Философия для Киркегора становится сферой, где он решает
вопрос «быть или не быть », и решает его для себя, ибо никто не
может решить такой вопрос для другого »534.
Приведенные рассуждения уважаемой Пиамы Павловны
очень интересны, но вызывают, в свою очередь, вопросы. И
главный из них: если допустить, что экзистенциальная философия
извлекает истину из обыденного существования, то можно ли
обыденную проблему поднять до уровня классического «быть или
не быть »? Или иначе, может ли бытовой вопрос стать вопросом
экзистенциальным?
Здесь следует уточнить, что повседневность не стоит
отождествлять с обыденностью. Повседневная жизнь — антипод
жизни необычной и выдающейся. Но только утратившая свой
'" Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.— С. 18.
ш Там же.— С. 18-19.
5М Там же.— С. 19.
315
смысл и цель повседневная жизнь становится изматывающей
человека обыденностью. Однако не только рутина отличает
обыденную жизнь, но и ее замкнутость на вопросах быта. Иначе
говоря, обыденная жизнь — это жизнь, единственным
содержанием которой стал быт и соответствующие ему ценности. Это
жизнь той самой жительницы маленького городка, о тупоумии
которой писал Гегель.
В связи с этим требует разъяснения характеристика, данная
Киркегором «рыцарю веры » Аврааму, который, по его словам,
вел жизнь мирного обывателя, разделяющего порядки и нравы
своего народа. Но так Авраам выглядел только внешне, а за
фасадом частной жизни Авраама скрывалась тайна устранения
этического. Вера Авраама, доказывает Киркегор в «Страхе и
трепете», вывела его не только за пределы логики, но и морали.
Отношения Авраама с Богом недоступны уму и невыразимы на
языке людей, а потому он молчит, готовясь принести в жертву
единственного сына Исаака.
В данном случае проблема не в том, нравственна ли позиция
обывателя или, может быть, устранение этического происходит
уже в момент превращения повседневности в обыденность. Речь
идет о том, что частная жизнь не всегда скрывает за своим
фасадом обыденные интересы, в чем мы убеждаемся на примере
самого Киркегора. Ведь «частного мыслителя » Киркегора трудно
назвать «философом» малых житейских радостей. Скорее он
был «внутренним эмигрантом», решавшим в частном порядке
вопросы, чуждые большинству датчан. Находясь дома и не
снимая халата, он выходит за пределы здравого смысла. И его
философию веры через абсурд даже условно нельзя признать
философией обыденного бытия, как это выходит у Гайденко.
То, что частная жизнь для многих наших сограждан в 70-е
годы была единственным островком свободы,— исторический
факт. В условиях казенной общественной жизни «уход» в
повседневность был своеобразным вызовом, чего не скажешь о
наших днях, когда мы оказались в зеркально противоположном
мире. Одна крайность сменила другую, и теперь уже быт стал
сферой нашей общепризнанной свободы. Сегодня даже ребенку
ясно, что пить «Колу » или «Пепси »,— поле для личного выбора.
А поднять такой бытовой вопрос до уровня смысла жизни —
задача философии повседневности.
Так время способно избавить от исторических иллюзий,
продемонстрировав во всем убожестве дилемму, неистинность ко-
11S
торой была уже ясна Киркегору. В советские времена кто-то
пытался уйти от казенных форм жизни, эмигрируя в
обыденность. Киркегор стремился уйти и от казенщины, и от
обыденности. Общезначимая истина казенной философии или
индивидуальные истины обыденной жизни? В рамках этой дилеммы
формируются в 70-е годы позиции как Быховского, нападающего на
Киркегора, так и симпатизирующей ему Гайденко. В то время как
сам Киркегор предпочитает «третий путь», на котором
христианская истина — смысл и суть индивидуального образа жизни.
Известный теолог XX века Пауль Тиллих в своей статье
«Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель» писал, что по сути
дела Киркегор решает ту же проблему, что и Фейербах, Маркс и
Ницше. Впоследствии ее назовут проблемой отчуждения и
поставят в центр философских размышлений нашего времени. Если
Маркс, отмечает Тиллих, выступал против обособления теории
от практического существования человека, то Киркегор
протестует против обособления мысли от нравственного
существования человека. И тут же Тиллих ссылается на Фейербаха из
«Основных положений философии будущего»: не стремись быть
философом в противовес своему бытию человека, думай как
живое реальное существо535.
По большому счету Киркегор, Фейербах, Маркс и Ницше
действительно решают одну проблему. Но решают ее
по-разному. Как известно, Маркс видел возможность превратить
философию из чистого умозрения в реальную социальную силу, и
связывал эту перспективу с рождением науки нового типа.
Совсем иначе выглядит эта проблема у Киркегора, у которого
спекулятивность современной философии связана как раз с ее
стремлением к идеалу научности, и в этом смысле спекулятивность
современной философии непреодолима.
Но главное своеобразие Киркегора в том, что соединить
философскую истину с жизнью для него означает осуществить ее в
качестве образа жизни изгоя, одиночки. Выступая в роли
социальной силы, любая идея, согласно Киркегору, порождает
насилие и разнузданность536. Напротив, экзистенциально личная
истина преображает жизнь человека подобно тому, как это
произошло с учениками Христа. Таким образом, истинным филосо-
'" См.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры.— М., 1995.— С. 457.
"' См.: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.—
Челябинск, 1998.— С. 181.
317
фом у Киркегора оказывается христианский философ,
поскольку именно в христианстве истинно то, что пережито
индивидуально. И только Христос сказал: «Я есть истина и путь ».
Здесь, однако, нужно вспомнить о конфликте Киркегора с
датскими церковными кругами, который имел все ту же причину:
раздвоенность существования теперь уже не философа, а
церковника. То, что произносят с кафедры священники, доказывал
Киркегор, не соответствует их образу жизни. А образ жизни
философа и священника проистекает не из их идеалов, а из
повседневности, определяемой толпой. Что же делать изгою? И может
ли он изменить толпу? Вот проблема, которую Киркегор хочет
решить ценой своей жизни, а точнее мученической смерти,
пытаясь таким способом возродить для истинной веры большинство.
Сложность состоит еще и в том, что дилемма в качестве
основы для выбора истины была предложена самим Киркегором.
Недаром его первая книга называется «Или — или », а в
трактовке Быховского «Либо — либо». На необходимости выбора из
двух альтернатив, представленных наслаждением и долгом, здесь
настаивает этик — асессор Вильгельм, тогда как эстетик Иоанн
стоит на позиции «или-или,— безразлично», или иначе —
игнорирует выбор. Понятно, что ситуация, в которой индивид,
выбирая, соотносит противоположные позиции, уходит корнями в
немецкую классическую философию от Канта и до Гегеля. Но, в
отличие от Гегеля, у которого тезис и антитезис как моменты
развития снимаются в синтезе, Киркегор настаивает на
непримиримости противоположностей и невозможности их
опосредования диалектической связью.
Но одно дело — декларации, и другое дело — решение
конкретных проблем, при котором Киркегор вынужден уповать на
нечто «третье », стоящее вне заявленной дилеммы. Уже в работе
«Или — или » выбор между наслаждением и долгом постепенно
обретает новое, а именно религиозное решение. А в
«Повторении », как мы помним, антитезы романтической любви и «мелкой
монеты брачной жизни» вдруг дополняются «третьим звеном» в
виде подлинного чувства, реализуемого силой абсурда. И та же
ситуация в вопросе соотношения философии и жизни, когда
выбор между спекулятивным знанием и обыденной жизнью
Киркегор осуществляет в пользу веры, способной превратить
идеал в образ жизни индивида.
Противоположности у Киркегора не примиряются в
результате компромисса и не снимаются в диалектическом синтезе.
311
Диалектика как орудие субъективного выбора для Киркегора
нечто иное, когда из столкновения противоположностей
высекается искра «третьего» решения, рожденного парадоксом..
Но вернемся к главной проблеме «Или — или». Ведь анализ
противостояния спекулятивной философии и жизни в этом
произведении Киркегора неотделим от решения вопроса о сути
эстетического мировосприятия. «Ты стоишь на одной доске с
философами »,— заявляет Вильгельм Иоанну. Конфликт с жизнью,
который характерен для спекулятивной философии и
романтического искусства, является конфликтом духа, идеального мира
и реальности. Но он интересует Киркегора прежде всего
применительно к личности. В глазах Киркегора этот конфликт связан
с определенным состоянием личности, а точнее — с ее
непосредственностью.
Здесь перед нами еще один парадокс в творчестве Киркегора,
поскольку по ходу чтения второй части «Или — или» читатель
выясняет, что возвышение романтика над жизнью сочетается с
прямой и непосредственной зависимостью от нее. В поисках
причины противоречий романтической натуры, чреватых как
меланхолией, так и близостью безумия, Киркегор устанавливает
сходство внешне различных характеров. Примитивно устроенных
людей и аристократов духа может объединять одно — жажда
наслаждений, стремление к удовлетворению своих желаний.
А такого рода жизненная доминанта, как считает Киркегор,
связана с телесной или физической стороной человека.
Определяющей силой в отношении к жизни у Иоанна,
констатирует асессор Вильгельм, стало чувство, а главной целью —
наслаждение. Недаром людей такого рода Вильгельм, а вслед за
ним Киркегор, именуют эстетиками. В данном случае для
Киркегора важен изначальный смысл слова «aisthetes^, что
по-гречески означает «'чувствующий *►. Но в погоне за сильными
ощущениями соблазнитель неизбежно становится рабом случая и
минуты. Всякий, кто желает постичь искусство наслаждения,
пишет Вильгельм Иоанну, не ошибется, обратившись к тебе. Но
желающего уяснить смысл и значение жизни здесь постигнет
разочарование. И причина в том, что живущего наслаждением
человека жизнь по сути связала по рукам и ногам. В его
существовании отсутствует настоящая свобода.
Киркегор, что хорошо известно, был наблюдательным
человеком и тонким психологом. И на страницах «Или — или» он
разворачивает целую палитру характеров, основу которых со-
319
ставляет стремление жить ради исполнения своих желаний. Того,
кто, подобно Иоанну, стоит на высшей ступени эстетического
отношения к жизни, читаем мы в «Или — или », может удивить и
даже возмутить то, что его включили в одну компанию с
прожигателем жизни, обычным кутилой. Тем не менее, того и другого,
по убеждению Киркегора, объединяет стремление к
наслаждению, делающее человека рабом обстоятельств.
Для одних эстетиков, отмечает Киркегор, высшим благом
жизни является здоровье, сохранению которого они подчиняют
все свое существование. У других эстетиков, среди которых
много молодых людей, суть жизни — в наслаждении их внешней
красотой. К эстетикам Киркегор относит тех, кто наслаждается
своим богатством и почестями, а также тех, кто проводят жизнь,
любуясь собственными талантами. Эстетиком, по убеждению
Киркегора, является даже тот, кто, подобно античным киникам,
превратно наслаждается отсутствием радостей жизни.
Вспомним, что киники избавлялись от каких-либо обязанностей,
привязанностей и привычек, способных, по их мнению, ограничить
жизненную свободу. И даже в страстно влюбленной девушке
Киркегор видит пример эстетического отношения к жизни,
поскольку страстная влюбленность предполагает полное
подчинение собственной жизни предмету обожания.
«Как ни разнообразны различные категории эстетиков,—
отмечает Вильгельм в своем послании Иоанну,— все они имеют
между собой то существенное сходство, что непременным
условием принадлежности к каждой из них является не
сознательное умственное или душевное развитие человеческой личности,
а непосредственность »537. Иначе говоря, в образе эстетика перед
нами человек, личность которого определяет непосредственное
чувственное желание, телесная потребность. Последовательный
эстетик — это тот, кто живет запросами тела, ставящими его
поведение в зависимость от внешних условий, позволяющих
удовлетворить плотское желание.
Пример классического эстетика у Киркегора — человек, с
детства подчиненный одному желанию, превратившемуся в
страсть. Такое сильное влечение способно придать личности
цельность и определенность. Но эта цельность — следствие
неразвитости личности и гарантируется как раз отсутствием
духовной жизни. А там, где дух проснулся, он нуждается в иных
,37 Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 220-221.
320
основаниях для единства человеческого Я. «В жизни каждого
человека,— подчеркивает асессор Вильгельм,— настает момент
рано или поздно, когда непосредственность, так сказать, теряет
свое главное жизненное значение, и дух стремится проявить себя
в высшей форме сознательного бытия. Непосредственность, как
цепь, привязывала человека ко всему земному, теперь же дух
стремится уяснить себя самого и извлечь человеческую личность
из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в своем
вечном значении»"8.
Итак, речь идет о разных способах детерминации
человеческого Я. В первом случае цельность моего Я, а значит
последовательность моего поведения, обусловлена неизменными
желаниями тела. Во втором случае гарантом единства человеческой души
уже является не тело, а дух. Не постоянство стремлений тела, а
осознанные действия духа становится здесь объединяющей
силой души. И граница между этими состояниями души, согласно
Киркегору, пролегает через личный выбор.
Мысль Киркегора неспроста вращается вокруг проблемы
единства личности, распад которой, по его мнению, одна из
ужасных развязок в существовании человека. Может тебе и удастся
достигнуть многого, не один раз повторяет в «Или —или »
Вильгельм, обращаясь к Иоанну, ноты можешь лишиться самого
главного, единственного, что придает жизни человека смысл: «ты,
может быть, и обретешь весь мир, но потеряешь себя самого,
повредишь душе своей »539.
Единство человеческой души для Киркегора такой же
абсолют в нравственном и философском смысле, как и для всей
классической философии и культуры. В этом пункте Киркегор,
стоящий у истоков неклассической философии,— антипод ее
современных представителей в лице постмодернистов, у которых
фрагментация личного Я превратилась из ужасной развязки в
норму существования человека. В вопросе единства личного Я
датчанин Киркегор — плоть от плоти немецкой классической
философии, за исключением одного. И как раз в этом пункте
Киркегор выходит за пределы философской классики.
Дело в том, что сила, обеспечивающая единство и
индивидуальное своеобразие Я, у Киркегора не имеет отношения к
всеобщему, которое в философии Канта и Фихте представлено транс-
"■ Киркегор С. Или-или.- М., 1991.- С. 229.
5" Там же— С. 206.
321
цендентальным субъектом, а у Гегеля — субъективным
духом. У Киркегора основная связь привносится во внутреннюю
жизнь личности самим индивидом как эмпирическим субъектом,
который вступает в соприкосновение с вечностью в момент
экзистенциального выбора. И именно здесь исток
неклассического понимания человеческой души, вне которого неясны его
дальнейшие метаморфозы.
Но прежде, чем углубиться в этот вопрос, уточним
особенности перехода от детерминации души чем-то внешним к ее
самодетерминации, который у Киркегора связан со свободой
выбора. Здесь многое объясняют такие сложные и
парадоксальные натуры, как обольститель Иоанн. Асессор Вильгельм отнес
Иоанна к тем эстетикам-аристократам, главная гордость
которых — богатство и разносторонность личности. Именно в этой
разносторонности коренное отличие такого эстетика оттого, кто
живет, подчиняясь единственной страсти. Но как раз такой
человек, с его разбросанностью интересов и стремлением
удовлетворить максимум желаний, по убеждению Вильгельма, ближе
всего к распаду личности. Кроме того, именно такие люди, как
правило, страдают меланхолией. Ведь меланхолия, как
определяет ее Вильгельм в «Или — или », есть ни что иное, как
«истерия духа ». «И вот этот-то душевный недуг, или вернее грех,—
пишет Вильгельм,— самое обычное явление времени, особенно
заметное в Германии и Франции, где падают под его тяжестью
целые поколения молодежи. Я не желаю раздражать тебя и
охотно соглашусь, что в известном смысле меланхолия не совсем
дурной признак, так как поражает обыкновенно лишь наиболее
одаренные натуры »но. Но до тех пор, пока такой человек не
совершил выбор, его удел — изнемогать от меланхолии.
Однако это еще не все, что касается эстетического
отношения к жизни. Дело в том, что на высшей ступени эстетического
развития человек обычно погружается в мир своих фантазий,
становясь поэтом. При этом особое наслаждение он получает от
игры воображения, когда реальность оказывается для него лишь
средством — источником переживаний и образов. В этом пункте
сходятся все романтики, среди которых герой «Или — или»
Иоанн и юный герой «Повторения ». Суррогатом свободы у
такого романтического поэта является ирония. И эквилибристика
иронических оценок заменяет ему свободу поступка.
540 Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 230.
322
Следуя логике Киркегора, мы оставим в стороне
историческую суть романтизма как масштабного явления в искусстве
первой половины XIX века. Игнорируя нравы своей эпохи,
романтики обращались к языческому и христианскому прошлому. Но
прошлое для романтического искусства — это основа и
предпосылка для воссоздания яркой творческой индивидуальности,
которая по большому счету и противопоставляется
существующей действительности. Главное содержание этого искусства —
внутренний мир героя, который по сути занят самим собой. И
такого рода миросозерцание становится приметой времени, в
которое живет Киркегор, а также предметом его
психологического анализа.
Романтик погружен в собственные переживания и фантазии.
В этом сходство юного героя «Повторения », который подчинил
свое Я единственной «любви-воспоминанию », и обольстителя
Иоанна из «Или — или», для которого любовь — способ
получать кратковременные, но яркие переживания. Существенное
различие между ними в том, что Иоанн — это прекрасное
свидетельство того, как романтизм в конце концов приводит к утрате
нравственных ориентиров.
Отстраненное отношение к действительности, как известно,
выразилось в знаменитой романтической иронии. Но для
Киркегора романтическая ирония — это путь к утрате серьезного
отношения к жизни, когда действительность становится только
сферой и средством бесконечной игры. Именно игровой момент
в отношении к жизни, подчеркивает в своем исследовании Гай-
денко, лишает романтика реальной ответственности. Для него
одинаково весомы исключающие друг друга нравственные
установки. Для него одинаково реальны греческий миф и
христианская вера. Но такая позиция не позволяет личности действовать
в реальном мире. Романтический художник знает наперед: то, во
что он вжился, сменится другим. А значит мир — это только
средство для игры воображения, где нет места личному выбору,
долгу, ответственности,^ е. подлинной свободе541.
Таким образом, при всех рассмотренных вариантах
эстетического отношения к действительности индивид, согласно Кир-
кегору, не является хозяином самому себе. У страстной натуры
это выражается в прямой зависимости от тех условий, которые
и] См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.—
С.120-121.
323
дают удовлетворение единственного, но сильного желания. Но
и романтик — не кто иной, как раб игры воображения, в
которой правит случай и минута. Наслаждаясь этой игрой, он ставит
себя в зависимость от обстоятельств, которые вместо него
самого определяют его существование.
Но непосредственность в том виде, в каком она присутствует
в личности романтика, позволяет сделать еще ряд выводов,
уточняющих философскую позицию Киркегора. Дело в том, что те
чувства и переживания, которыми поглощен Иоанн, уже нельзя
напрямую связать с телесными потребностями человека. А
именно так мы поступали, когда, вслед за Киркегором, разбирались с
элементарными случаями эстетического отношения к жизни.
Иоанн посвящает свою жизнь погоне за сильными
ощущениями, но это непосредственное стремление не сопоставимо с
привязанностью обжоры к еде, а пьяницы к выпивке. Понятно, что
человек тем и отличается от животного, что ест, пьет,
удовлетворяет другие потребности своего организма не так, как
животное, а в особой культурной форме. Свою органическую, а
значит материальную потребность в еде человек удовлетворяет с
помощью кулинарии, а потребность в тепле удовлетворяет с
помощью эстетически оформленных одежды и жилища.
Но, встав на такую точку зрения, мы, тем не менее, должны
констатировать, что жажда острых любовных ощущений у
Иоанна связана не столько с телом, сколько с духом. Вообще,
своеобразие эротики — в сосредоточенности на переживаниях, а не на
физиологическом акте. Что касается эротических переживаний
Иоанна, которые подробно описываются Киркегором в
«Дневнике обольстителя », то они неотделимы от жизни духа.
«Корделия! Какое чудесное имя!— читаем мы в дневнике Иоанна.— Я
сижу дома и упражняюсь, произнося его на всевозможные лады:
Корделия, Корделия, моя Корделия, моя возлюбленная
Корделия. Я не могу не улыбнуться при мысли о том, с какой
виртуозностью я придам этому имени нужный оттенок в решительную
минуту. Все должно быть тщательно изучено, подготовлено
заранее, и предварительные упражнения необходимы»542.
Предвкушение и подготовка к встрече с возлюбленной для Иоанна
намного важнее самого общения. Тем не менее, эти сложные,
опосредованные фантазией, переживания имеют своей целью
наслаждение. И в этом главный парадокс романтической натуры.
142 Киркегор С. Или-или.— М., 1991.— С. 74.
324
Киркегор считал себя мастером в изображении и анализе
эротического чувства. На это был способен только тот, кто прошел
школу романтического искусства. Но для нас важен другой
момент. Личность романтика Иоанна — пример того, что
происходит с жизнью духа, когда определяющей силой личности
остается наслаждение и в качестве видоизмененной, но телесной силы
препятствует ее развитию. Там, где душа посредством
наслаждения остается привязанной к частным обстоятельствам и не
имеет ведущего принципа, действия духа не дорастают до
свободного развития, оборачиваясь произвольной игрой.
Эстетика, согласно Киркегору, ведет страсть, влечение,
жажда телесных наслаждений. У его антипода этика дух
руководствуется внутренним принципом, полагаемым актом личного
выбора. Поэтому эстетик зависим, в то время как этик
по-настоящему свободен. Что касается романтической натуры,
подобной Иоанну, то она находится как бы между ними. И такого
рода видоизмененное подчинение чувственности в работе Гай-
денко охарактеризовано как «романический эстетизм»43.
Творческий порыв духа, как показывает Киркегор, есть
мощная сила, присутствующая в романтической личности и
способная противопоставить ее действительности. «Не принадлежа
действительному миру,— пишет Вильгельм об Иоанне в первой
части «Или — или »,— он, тем не менее, постоянно вращался в
нем, но при этом даже в те минуты, когда всецело отдавался ему
телом и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по
его поверхности»544. Однако смысл этого полета духа — в
наслаждении, которое способно привязывать к мимолетной и
внешней стороне дела. Так, отстраняясь от действительности,
романтик остается ее заложником. И, наслаждаясь игрой духа, при
всей видимой свободе он — слуга произвола. '
Даже при написании своего дневника, уточняет Вильгельм,
Иоанн получал сложное и многообразное наслаждение. С
одной стороны, плодом наслаждения для Иоанна был сам
дневник, с другой — то настроение, в котором он велся. «В этом
заключалось для него двойное наслаждение,— пишет Вильгельм,—
в первом случае он сам отдавался упоению эстетическим, во
втором — он эстетически наслаждался своей личностью; в первом —
,43 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.—
С. 118-126.
,4< Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 34.
325
он лично эгоистически наслаждался этой, им же
опоэтизированной действительностью, во втором — его личное «я » как бы
стушевывалось: наслаждаясь каким-нибудь положением, он
смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого
себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана
на одно наслаждение...»545.
Если духовная жизнь романтика проникнута эротическими
переживаниями, то другой полюс этой натуры — размышления,
которые в душе романтика столь же произвольны. Последнее
позволяет Киркегору ставить на одну доску романтического
поэта и спекулятивного философа, ведь они оба не знают
истинной свободы. Не дозрев до личного выбора, современный
философ, считает Киркегор, не вышел за пределы эстетического
отношения к жизни.
Но вернемся к романтику Иоанну, который, наслаждаясь
игрой своего воображения и остроумия, способен запутать не
только других, но и себя самого. Киркегор в тонкостях
описывает ту опасность, которая подстерегает такого человека, который
превратил свое существование в нечто, подобное маскараду.
«Никому еще, по твоим словам,— пишет Вильгельм Иоанну,—
не удалось познать тебя, твоя откровенность с людьми
равносильна каждый раз новому обману.... У тебя же все направлено к
поддержанию твоей таинственности, и надо сказать правду, твоя
маска загадочнее и непроницаемее всех.... Нежную пастушку
ты томно берешь за руку, разом входя в роль сентиментального
пастушка, почтенного духовного пастыря морочишь братским
поцелуем и т. д. »546. Однако за маской таинственности, которую
обычно надевает романтик, скрывается пустота. «Сам по себе
ты — ничто,— утверждает Вильгельм,— ты существуешь лишь
по отношению к другим, является тем, чем тебе нужно быть в
этих отношениях »547.
Здесь перед нами еще одна характеристика души
романтика, который не может, а точнее не желает осуществлять
подлинный выбор. Дело в том, что маска, которую надевает на себя
романтик, согласно Киркегору, является лишь видимостью,
внешней оболочкой, имитирующей единство личности,
собственного Я. На самом деле, уверен он, душа романтика не зна-
™ Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— СМ.
5* Там же.— С.197.
47 Там же.
326
ет никакой объединяющей силы. Место единой страсти в ней
заняли многообразные желания, а в их произвольной игре нет
и не может быть внутренней связи, в которой нуждается
духовная жизнь.
Таким образом, романтик способен заблудиться в себе
самом. «Но человек, заблудившийся в самом себе, скоро
замечает,— читаем мы в первой части «Или — или »,— что попал в
какой-то круговорот, из которого нет выхода; мысли и чувства в
нем мешаются и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать
себя »ш. Правда, его чувства при этом крайне изысканны и
сравнимы с «высшим утонченным самосознанием», которое
поддерживает такую душу в вечно бодрствующем беспокойном
состоянии. Эти метания духа не имеют перспективы, они
бессмысленны и бесплодны. Но не стоит видеть в романтике безумца.
«Нельзя также вполне применить сюда выражение «безумие»,—
пишет Вильгельм по поводу Иоанна,— вечно сменяющееся
богатое разнообразие мыслей не допускает его душу застыть в
неподвижной бесконечности безумия»549.
В лице романтика дух еще живет не своей собственной
жизнью. Но еще важнее то, что критика Киркегором романтизма,
как она представлена в его первой работе «Или — или », по сути
является критикой субъективизма. Субъективизм рождается
там, где тело оказывается мерой для духа. И герой «Или —
или» Иоанн — персонификация этой жизненной позиции и
выражающей ее философии. Киркегор характеризует ситуацию,
где дух подчинен внешней ему частной цели, в роли которой
выступает наслаждение. И психологически тонко он рисует
последствия этого противоречия, когда духовная жизнь лишена своей
внутренней связи и основы. Субъективизм в качестве типа
личности — это человек с духовными запросами, но без идеалов и
принципов. И тогда суррогатом духовной жизни становится
бесконечная болтовня по всевозможным поводам как способ
самолюбования. «Романтик» в его современном исполнении — это
интеллигент, который рассуждает обо всем и вся, занимается
самокопанием и любуется собой в этом процессе до
бесконечности. Здесь возможно богатство натуры, но в душе нет того, что
именуют «внутренним стержнем ». Вариант такой личности
нашел свое отражение в образе «пикейных жилетов ».
"• Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 37.
549 Там же.
327
Произвол как способ жизни духа у Киркегора —
свидетельство его болезни. Эту болезнь духа можно назвать «болезнью
роста ». Но если Гегелем такого рода болезненные явления в
жизни духа рассматриваются во всемирно-историческом масштабе,
то Киркегор смотрит на эту проблему только изнутри.
Исторический и культурный контекст в его рассуждениях выступает
только фоном, часто враждебным духу. Мир культуры,
подобно природе, является у него сугубо внешней инстанцией для духа.
Другое дело — трансцендентный миру Бог, с которым
индивидуальный дух, согласно Киркегору, способен вступить в прямое
соприкосновение уже в момент экзистенциального выбора.
На определенном этапе становления личности, считает
Киркегор, душа человека обретает самостоятельность
относительно тела. И выражается эта самостоятельность в смене способа
детерминации души. Непосредственная связь души и тела
разрушается по мере того, как в человеке просыпается дух. Именно
жизнь духа, согласно Киркегору, становясь средоточием
индивидуальной души, способна возвысить ее над телом. И именно
действия духа формируют новый тип взаимоотношений, когда
душа из ведомого становится поводырем. Внешняя
детерминация души сменяется на ее самодетерминацию.
То действие индивидуального духа, которое меняет способ
существования души, как уже говорилось, Киркегор
характеризует как выбор. Но это не просто волевой акт, выделяющий одну
из множества возможностей. Свое послание Иоанну во второй
части «Или — или » асессор Вильгельм начинает с рассуждений
о природе выбора. Ведь в своем выборе мы часто
руководствуемся чужим указанием. А еще чаще выбираем то, что не способно
сыграть решающей роли в нашей последующей жизни. Все эти
разновидности выбора важны. И, тем не менее, подлинным
выбором, по словам Вильгельма, является только тот, при котором
мы выбираем не предмет, а самого себя.
Но и здесь индивида подстерегает опасность, поскольку,
вступив на путь личного выбора, можно вновь соскользнуть в
область чувственности. Эта новая разновидность эстетизма
формируется на почве отрицания непосредственного чувства. Если
природное существо связано с чувственным удовольствием
непосредственно, то человек, который победил чувственность своей
волей, способен выбрать ее опять, но теперь уже сознательно.
И тогда перед нами демонический эстетизм, основанный на
сладости греха.
328
Как показывает Гайденко, этот тип эстетизма подробно
анализируется в той части «Или — или », где речь идет о моцартов-
ском «Дон Жуане »55°. Именно здесь обнажается природа
эротической чувственности, которая опосредована христианским
осуждением наслаждения. Чувственное наслаждение, начиная
со средних веков, это наслаждение запретным плодом. Это
наслаждение, как пишет Гайденко, прежде всего, своим же
наслаждением551. И в этом своеобразие демонического эстетизма,
который в усугубленном виде предстает в образе Фауста. Ведь у
Фауста тяготение к чувственности опосредовано, кроме
христианской морали, еще и рефлексией.
На подступах к позиции демонического эстетизма находится
император Нерон, который в трактовке Киркегора настолько
пресыщен удовольствиями, что испытывает их лишь в результате
ухищрений. Ведь искусство приносит ему наслаждение лишь на
фоне горящего Рима. Не будучи способным подняться до
нравственного выбора, Нерон использует выбор для изощренных
удовольствий, которые сопровождаются у него внутренним
трепетом. Вот почему, по мнению Киркегора, так мрачен взор Нерона.
Итак, подлинно этический выбор не только меняет способ
детерминации души, но вводит ее в новую систему координат.
Выбор, посредством которого мы преодолеваем границу между
эстетической и этической сферой,— это не просто выбор, но
определенная гарантия того, что наша жизнь уже не подвластна
чуственности и минутным порывам. Но что является основой
такого существования?
Значительное место в характеристике Киркегором сути
этической детерминации души занимает долг. Но в борьбе с
субъективизмом эстетического толка он не предлагает выбор в пользу
общего внутри меня, как это происходит, к примеру, у Канта.
Нравственное чувство у Канта той же природы, что и априорные
формы чувственности, рассудка и разума. А потому даже внутри нас у
они общезначимы, в чем и состоит своеобразие
трансцендентализма. И как раз это не устраивает в кантовской этике Киркегора.
Рассуждая о позиции этика, Киркегор не делает прямых
выпадов против Канта. И тем не менее, он очень последовательно
характеризует долг как нечто сугубо индивидуальное. У
Киркегора долг — это, прежде всего, долг перед самим собой. Уже в
"° См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.— С. 163.
551 Там же.- С. 165.
328
«Или — или » он делает основанием морали не общее, а частное.
«Между тем,— пишет он,— общее ведь и не существует само по
себе, а лежит в самом человеке, энергии его сознания, и от
человека самого зависит, видеть в частном общее или только
частное »552. А в другом месте он уточняет, что суть долга в том,
чтобы «видеть свою жизненную задачу в самом себе » и сознательно
брать на себя «вечную ответственность за ее выполнение »553.
Киркегор часто повторяет в «Или — или », что человек
должен выбрать самого себя в абсолютном смысле. И только после
этого возврат от этического к эстетическому становится
невозможен. Тем самым Киркегор намечает ту стадию в эволюции
индивида, которая напрямую связана с верой. Но в «Или — или »
религиозное еще не отделено от этического. Здесь еще нет и речи об
устранении последнего. Вера и долг в «Или — или » еще едины.
Ясное сознание долга в «Или — или » уже совпадает с
состоянием отчаяния, которое только в своей предельной фазе может
дать результат. «Я указываю тебе на отчание,— пишет
Вильгельм Иоанну,— не как на средство утешения, или состояние, в
котором ты должен остаться навсегда, но как на
подготовительный душевный акт, требующий серьезного напряжения и
сосредоточения всех сил души »"4. Такое состояние, уточняет он
далее, должно уничтожить все суетное, лишнее, ненужное и
привести к сознанию своего вечного значения.
Если сомнение овладевает только сферой мышления, пишет
Киркегор, то отчаяние охватывает всего человека и в
определенном смысле впервые порождает его личность. Душа эстетика,
не устает повторять он, является рабой минуты. Она похожа «на
почву, на которой с одинаковым правом на существование
произрастают всевозможные травы: его «я » дробится в этом
многообразии, и у него нет «я », которое бы стояло выше всего
этого »"*. Иначе обстоит дело с душой этика, который уже выбрал
свое Я, в противовес миру.
Киркегор специально анализирует Писание там, где сказано:
что пользы человеку, если он обретет весь мир, а душе своей
повредит. В данном случае весь мир означает земные блага,
которые дороги эстетику. Но, лишившись их, мы не наносим вред
своей душе. «Что же тогда такое моя душа?— пишет Киркегор.—
"2 Киркегор С. Или-или.- М., 1991.- С.357.
т Там же.— С. 302.
,м Там же.- С. 250.
"' Там же.— С. 266.
331
Что же такое это внутренняя внутренних моего существа,
которое остается невредимым при подобных лишениях»556. Вопрос
остается риторическим. Но Киркегор в связи с ним делает
важное различение между абсолютным отчаянием, которое
спасает душу, и житейским отчаянием, которое способно навредить
душе. «Если же человек предается обыкновенному,
временному, житейскому отчаянию,— отмечает Киркегор,— то он
только вредит душе своей; внутренняя внутренних его существа —
душа не выходит из горнила отчаяния очищенной и
просветленной, а, напротив, как бы цепенеет в нем, грубеет и черствеет. При
этом человек одинаково вредит душе своей — стремится ли он в
своем отчаянии обрести весь мир и обретает его, или отчаивается
потому, что лишился мира,— в обоих случаях он смотрит на
себя только как на земную, конечную величину»557.
В указанной привязанности к внешнему миру Киркегор
уличает и древнегреческих философов, призывавших к
нравственному самосовершенствованию, и христианских мистиков, в
отношении которых к Богу он чувствует определенную
навязчивость. Для нас, однако, в работе «Или — или » важно другое, а
именно то, каким образом Киркегор характеризует абсолют в
качестве сути предельного отчаяния. «Выбирая абсолют,—
пишет по этому поводу Киркегор,— я выбираю отчаяние, выбирая
отчаяние, я выбираю абсолют, потому что абсолют — это я сам;
я сам полагаю начало абсолюту, т. е. сам выражаю собой
абсолют, иначе говоря: выбирая абсолют, я выбираю себя; полагая
начало абсолюту, я полагаю начало себе»558.
Неоднократно повторяя, что я и есть абсолют и что самое
конкретное — это моя свобода, Киркегор, конечно, не забывает
о Всевышнем. Но именно здесь его воззрения начинают
характерным образом двоиться. Отчаяние оборачивается
блаженством. Свобода обнаруживает себя как подчинение воле
Божьей. Соответственно, выбирая самого себя, человек, оказывается
в лоне Бога. И через эту двойственность как раз и проявляет
себя своеобразие религиозности неклассического толка,
начало которой полагает Киркегор. Не только у него, но и у Шесто-
ва, и даже у Ясперса, в отношениях с Богом доминантой
оказывается сам человек. И эта ситуация явным образом представле-
"« Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 263.
557 Там же.
558 Там же.— С. 256.
331
на в трактовке Киркегором подвига, совершенного «рыцарем
веры » — библейским Авраамом.
Как уже говорилось, феномен веры — главная тема
произведения Киркегора «Страх и трепет». И именно здесь идет речь об
устранении этического. Если Кант использовал мораль для
доказательства бытия Бога, а в итоге загробный мир оказался у него
царством нравственности и потому блаженства, то у Киркегора
все наоборот. В результате божественное оказывается у него
антиподом морального уже по эту сторону, а точнее, в момент
движения от посюстороннего к потустороннему — в акте веры.
В «Страхе и трепете» Киркегор сопоставляет трагических
героев античности с библейским Авраамом, шагнувшим из
сферы этического в область веры. Киркегор называет его то «отцом
веры», то «рыцарем веры», имея в виду то, что он первым из
людей испытал состояние максимального отчаяния. Отчаяние
Авраама, который должен принести жертву Богу в виде
единственного долгожданного сына Исаака, достигает предела.
Осознание смертности человека наступает в момент обряда
жертвоприношения с наибольшей силой и ясностью. Но, отрекаясь от
самого дорогого в этой жизни во имя Бога, Авраам возвращает
себе Исаака. Потому что наивысшее отчаяние, согласно Кирке-
гору, парадоксальным образом совпадает с верой. И, тем
самым, провоцируется повторение.
В данном контексте повторение означает, что бывшее
становится небывшим вопреки всем земным законам. На
традиционном языке это называется чудом. Но Киркегор ищет здесь
особый философский смысл. Характеризуя совершенный
Авраамом «прыжок в веру», Киркегор пишет, что тот осуществляет
сразу два противоположных движения. «Он делает
бесконечное движение самоотречения и отдает Исаака...,— отмечает
Киркегор,— однако затем он в то же самое мгновение совершает
движение веры. Это и есть его утешение. Он говорит: «Этого не
случится, или, если случится, Господь даст мне нового Исаака
как раз силой абсурда »559. Это движение навстречу абсурду,
безусловно, парадоксально, и каждый проходит его в одиночку.
В «Страхе и трепете » тема единства души уже не
интересует Киркегора с той же силой, что в работе «Или — или-». На
первом плане в «Страхе и трепете *> другие проблемы, и, прежде
всего, возможность повторения, причем повторения не природ-
"' Кьеркегор С. Страх и трепет.— М., 1993.— С. 104-105.
332
ного или социального факта, а человеческого Я и его состояний
во всей их уникальности. Но залогом такого повторения
оказывается все та же двойственность, которая отличает
неклассическую религиозность. Ведь Бог как вечное становится здесь
гарантом абсолютности моего временного Я, И спасение, таким
образом, оборачивается не бесмертием души в потустороннем мире,
а утверждением моего Я здесь и теперь.
Киркегор называл себя «коррективом эпохи ». Но
корректируя христианскую веру, он вносит в нее тот богоборческий
мотив, который чрезвычайно усилится у Шестова. Вера в
трактовке Киркегора вырастает на почве того индивидуализма,
который породит и ницшеанский атеизм. И как раз ницшеанство дает
ключ к пониманию души в религиозном экзистенциализме в его
развитии от Киркегора к Шестову.
Ъ. Л. Шестов: Эушз зз пределами идеального
Незадолго до смерти в 1938 году Л. Шестов уточнил три
источника, из которых последовательно питалась его мысль.
В статье, посвященной памяти близкого друга Э. Гуссерля, он
отмечает, что «первым учителем» у него был В. Шекспир, от
которого он двинулся к философии И. Канта. «Но Кант не мог дать
ответы на мои вопросы,— пишет Шестов.— Мои взоры
обратились тогда в иную сторону — к Писанию»560.
По неизвестной причине Шестов здесь не указывает еще на
одну фигуру — Ф. Ницше, который определяет суть его учения
не меньше, чем Писание. А между тем, о Ницше идет речь уже в
первых оригинальных произведениях Шестова — «Добро в
учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» и
«Достоевский и Ницше (Философия трагедии)». Именно книга о
Достоевском и Ницше принесла Шестову мировую славу. Ее
перевели на восемь языков, среди которых был даже китайский.
Наиболее радикально по поводу влияния Ницше на Шестова
высказался его давний друг и вечный оппонент Н. Бердяев.
«Ницше был ему ближе Библии,— пишет он о Шестове,— и остается
главным влиянием его жизни. Он делает библейскую
транскрипцию ницшеанской темы, ницшеанской борьбы с Сократом, с
разумом и моралью во имя «жизни »î61. «Транскрипция » в перево-
ш Шестов А. Умозрение и откровение.— Париж, 1964.— С. 304.
561 Бердяев Н. Лев Шестов и Киркегор // H.A. Бердяев о русской
философии.— Свердловск, 1991.— Ч. 2.— С. 98.
333
де с латыни означает «переписывание » или, другими словами,
«буквальная передача». Но может ли Библия быть средством
передачи атеистических воззрений Ницше? И какая вера
рождается из такого синтеза?
К словам Бердяева стоит прислушаться. Он знал, о чем писал.
Творческие биографии Бердяева и Шестова схожи. Получив
первоначальное образование в Киеве, оба затем учились на
юридическом факультете, Шестов в Московском, а Бердяев в
Киевском университете. Между ними было восемь лет разницы, при
этом Шестов и Бердяев прошли один путь от увлечения
социально-экономическими идеями до занятий религиозной
философией. Если Бердяев в юношеские годы считал себя марксистом, то
Шестов не питал особых симпатий к «бледным юношам,
читающим Маркса ». Другое дело — русская религиозная философия,
которая на рубеже XIX-XX веков пережила подъем,
охарактеризованный В. Зеньковским в его «Истории русской философии »
как «религиозно-философскоевозрождение».
Значительная часть русской интеллигенции, пишет В. Зень-
ковский в этой работе, была охвачена в те годы «революционно-
мистическим возбуждением », которое как отдаляло, так и
сближало этих людей с церковью и церковной традицией. Именно в
таких мистических настроениях, по мнению Зеньковского, нужно
видеть исток религиозности Бердяева и Шестова. Но Зеньковс-
кий в конце 40-х, когда он писал «Историю русской
философии », был не только профессором Богословского
Православного Института в Париже, но одновременно протоиереем отцом
Василием. И этим определяется своеобразие его оценок
творчества Бердяева и Шестова.
Главный критерий тех оценок, которые дает Зеньковский
философским взглядам Бердяева и Шестова,— отношение к
секу лиризму. И это естественно для иерарха русской
православной церкви, которой в XX веке был нанесен самый мощный удар
за всю историю человечества со стороны светских властей и
атеистической идеологии. Зеньковский оспаривает мнение,
согласно которому Николай Бердяев — выразитель православного
направления в религиозной мысли. «Бердяева на Западе часто
считают представителем «православной философии»,— пишет
Зеньковский.— В такой форме характеристика Бердяева
совершенно неверна, но, конечно, Бердяев глубоко связан с
Православием, со всей его духовной установкой. К сожалению,
однако, Бердяеву остался чужд богатейший мир святоотеческой мыс-
334
ли, хотя Бердяев одно время и интересовался им. Но, впитав в
себя отдельные черты Православия, Бердяев не находил для себя
нужным считаться с традицией Церкви... »562.
В последней фразе — ключ к тому резкому
противопоставлению Шестова Бердяеву, которое мы обнаруживаем в работе
Зеньковского. Бердяев, вслед за Д. Мережковским, открыто
отказался от исторического христианства, призвав к его
обновлению с помощью язычества. В поиске нового религиозного
сознания Бердяев пребывал всю жизнь и этим действительно
отличался от Шестова, предложившего не идти вперед, а, наоборот,
возвратиться к истокам. У Бердяева задача философии —
помочь созданию «неохристианства», соответствующего новой
эпохе. Для Шестова назначение философии в возрождении
прежней веры, утраченной в погоне за достижениями разума и
прогресса. И эта разница в ориентирах очень значима для отца
Василия Зеньковского.
В оценке учения Льва Шестова Зеньковский также
предлагает отойти от устоявшихся представлений, согласно которым это
учение принадлежит к экзистенциализму. «Кстати отметим,—
пишет он в «Истории русской философии»,— что сам Шестов (а
за ним и некоторые его друзья) сближал свои построения с
модной ныне «экзистенциальной » философией, но по поводу этого
весьма сомнительного «комплимента » Шестову надо сказать,
что, за вычетом нескольких мотивов, творчество Шестова
уходит совсем в сторону от «экзистенциализма » (в обеих его
формах — атеистического и религиозного). По существу же Шестов
является религиозным мыслителем, он вовсе не антропоцентри-
чен, а теоцентричен (как, может быть, никто в русской
философии — кроме, конечно, религиозных философов школы Голу-
бинского, вообще нашей «академической » философии) »563.
Зеньковский признается в том, что нам очень мало известен
религиозный мир Шестова. И, тем не менее, для него аксиома —
религиозное целомудрие этого мыслителя. «Мы не знаем
достаточно содержания его верований,— отмечает Зеньковский,— хотя
не будет большой ошибкой сказать, что он принимал и Ветхий и
Новый Завет,— во всяком случае у него есть немало
высказываний, говорящих о принятии им христианского откровения»564.
ш Зеньковский В.В. История русской философии.— Л., 1991.— Т. 2.
Ч. 2.— С. 80.
1" Там же.— С. 82.
,и Там же.— С. 86.
335
Зеньковский изо всех сил стремится представить Шестова
ортодоксом и в этой роли противопоставить религиозным романтикам
начала XX века.
Налицо парадоксальное расхождение в оценках творчества
этого философа. С одной стороны, мнение Бердяева, согласно
которому Шестов — религиозный реформатор, облекающий
ницшеанство в библейские формы. С другой стороны, точка
зрения Зеньковского, у которого Шестов — религиозный ортодокс,
возвращающийся к библейским основам. Выход один —
обратиться к работам самого Льва Шестова. Обратиться к его ранним
и поздним работам с тем, чтобы понять, как возможен путь от
Ницше к библейской вере. Или учение Шестова — это, в
отличие от откровенного реформаторства Бердяева, скрытый
ревизионизм, опасность которого явно недооценил о. Василий
(Зеньковский)?
Начнем с одной из последних статей Шестова, в которой он
сам указывает на существенные различия между своим
пониманием экзистенциальной философии и ее трактовкой у Бердяева.
Эта статья, вышедшая в 1938 году, называется «Николай
Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия». И уже из
названия следует, что корень расхождения между двумя
экзистенциалистами в характере высшей истины и в том способе, каким
она способна открываться. «Если вы спросите Бердяева,—
пишет Шестов, имея в виду основы его учения,— откуда ему все
это известно, он спокойно сошлется вам на гнозис: все это ему
известно из опыта, правда, не природного, а «духовного»565.
В одних случаях Бердяев извлекает свои важнейшие идеи из
особого духовного опыта, в других — ссылается на интуицию.
Но у разных людей, продолжает Шестов, опыт разный. И если
одному «опыту» противостоит другой «опыт», то кому и на
каком основании нужно отдать предпочтение? Такими вопросами
Бердяев, к сожалению, не интересуется. «И, чтоб положить
конец докучным вопрошаниям,— пишет далее Шестов,— он
ссылается на то, что излюбленный им опыт свидетельствует о
прорыве из иных миров в то время, как всякий другой опыт относится к
миру, как он выражается, природному. В противоположность
Достоевскому, Киргегарду и Ницше (чтобы говорить лишь о
современниках), он на вопросах не любит долго задерживаться и
565 Шестов А. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная
философия // Шестов Л. Сочинения.— М., 1995.— С. 390.
336
задерживать своих читателей — он всегда торопится к ответам,
которые к нему как бы сами собой приходят »566.
Итак, гнозис Бердяев связывает с высшим знанием,
прорывающимся из духовного мира. В отличие от знаний о природе,
высшее духовное знание подобно благодати, которая снисходит
на мудреца, а точнее на экзистенциального философа. Но где
критерий того, что открывшееся знание — экзистенциальная
истина? И где гарантия, что именно на меня, а не на моего
оппонента снизошла философская благодать?
Оставим в стороне ту язвительность, с которой Шестов
вскрывает спорные моменты и слабые стороны в позиции
своего старого друга. Бердяев отвечал ему тем же. Каждый из них
прекрасно видел слабые стороны другого, но обоим явно не
доставало самокритики. Речь, однако, идет не об их
полемическом таланте, а о принципиальном различии между этими
мыслителями. И оно выражается, прежде всего, в том, что
экзистенциальная истина, по убеждению Шестова, не имеет
отношения к гносису, поскольку открывается человеку в акте
веры. «Вера есть источник экзистенциальной философии,—
утверждает Шестов в своей статье о Бердяеве,— и именно
постольку, поскольку она дерзает восставать против знания,
ставить самое знание под вопрос »567.
Рассуждая об особенностях духовного опыта, в котором
Бердяеву открывается высшая истина, Шестов замечает, что здесь
не он выбирает опыт, а, скорее, «опыт выбирает его»568. А это
значит, что экзистенциальная истина в трактовке Бердяева не
разыскивается философом, но сама открывается ему.
Экзистенциальная истина здесь является результатом некоторого
озарения, оставаясь при этом знанием и нуждаясь в понимании.
Сходным образом представляли себе Богопознание
гностики времен раннего христианства. Гностическая ересь в среде
христиан заключалась, в частности, в том, что Христос сообщает
вначале апостолам, а впоследствии узкому кругу избранных,
тайное знание. И этот гностический опыт открывается им в
форме озарения. У гностиков результат божественного озарения —
именно знание, учение, подобно тому, как это происходит в
экзистенциализме Бердяева.
,6é> Шестов А. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная
философия // Шестов Л. Сочинения.— М., 1995,— С. 393.
,Л7 Там же.— С. 402.
5&8 См. там же.— С. 393.
337
Иной предстает экзистенциальная истина у Шестова,
которая не есть знание, а нечто другое, что является ответом на акт
человеческого отчаяния. Шестов повторяет слова Киркегора: если
греческая философия начиналась с «удивления », то
экзистенциальная философия начинается с отчаяния. Вера у Шестова
неотделима от отчаяния, и только в акте безрассудной
отчаянной борьбы человек способен прорваться к истине. «Вера
начинается тогда,— пишет Шестов,— когда по всем очевидностям
всякие возможности кончены, когда и опыт и разумение наше
без колебаний свидетельствуют, что для человека нет и быть не
может никаких надежд»569.
И только когда разум погас, и силы исчерпаны, вера рождает
истину — не в качестве знания, а в качестве новой реальности.
И с этой реальностью имеет дело экзистенциальная философия.
«Экзистенциальная философия,— подчеркивает Шестов,—
есть философия deprofundis. Она не вопрошает, не
допрашивает, а взывает, обогащая мышление совсем чуждым и
непостижимым для философии умозрительной измерением. Она
ждет ответа не от нашего разумения, не от видения — а от
Бога. От Бога, для которого нет ничего невозможного, который
держит в своих руках все истины, который властен и над
настоящим, и над прошлым, и над будущим »57°.
«De profundis» в переводе с латыни — «из глубины». А это
значит, что экзистенциализм, по убеждению Шестова, есть
философствование, соответствующее глубинным стремлениям
человека. Это философия, решающая кардинальные вопросы его
существования, и именно тогда, когда никакими известными
способами они неразрешимы.
Если же говорить простым языком, то речь идет о вере,
способной вернуть человеку безвозвратно утраченное. И при
обсуждении этой темы Шестов постоянно обращается к Киркего-
ру как «отцу » экзистенциализма. О его судьбе и творчестве Ше-
стову стало известно лишь в 20-е годы, во многом благодаря
Э. Гуссерлю. И, поразившись сходству взглядов, он в
дальнейшем стал выступать от их общего имени. «Он раньше никогда не
читал его,— пишет в статье «Основная идея философии Льва
Шестова » Бердяев,— знал лишь понаслышке, и не может быть и
569 Шестов Л. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная
философия // Шестов Л. Сочинения.— М., 1995.— С. 402.
,7° Там же.— С. 402-403.
338
речи о влиянии на его мысль Киркегора. Когда он прочел его, то
был глубоко взволнован, потрясен близостью Киркегора к
основной теме его жизни. И он причислил Киркегора к своим героям »571.
В свое время Киркегор, которого Шестов именует Киргегар-
дом, сам отказался от Регины и, как мы помним, всю жизнь
желал вернуть утраченное счастье. Исследователи творчества Ше-
стова указывают на его собственную страшную муку,
связанную с гибелью сына во время первой мировой войны.
В «Охранной грамоте» Б. Пастернак пишет по поводу своего
желания идти на фронт добровольцем: «Меня заклял
отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с
трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив,
что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю
найти. Вскоре за тем он погиб в первом же из боев по
возвращении на позиции из этого отпуска »572. Вернуть Киркегору
невесту, а Шестову сына по законам природы и общества
невозможно. Именно потому оба отчаянно вглядываются не только в
«рыцаря веры » Авраама, но и в библейского Иова, которому удалось
своей верой свершить невероятное.
Согласно Писанию, Бог разрешил сатане испытать Иова,
который, живя в достатке, был образцом праведности и
благочестия. Вначале погибли его стада вместе с пастухами, затем умерли
его дети. Невинно страдающий Иов не хулил за это Бога. И
тогда Бог позволил сатане мучить Иова проказой, не лишая при
этом жизни. Именно тут возникает конфликт между верой Иова
в божественную справедливость и его знанием о собственной
невиновности. Жена советует ему встать на путь разочарования
в справедливости Бога. «Похули Бога и умри »,— говорит она.
Друзья требуют от Иова признаться в собственной виновности,
за которую ему и ниспосланы все напасти. А мудрец Элиу
предлагает воспринимать страдание не в качестве кары, а как
средство духовного пробуждения.
Известно, что Иов не отказался от Бога и не признал своей
виновности. В конце концов Яхве указал на его правоту. К Иову
вернулось богатство, родились новые дети. А сам он стал
символом смиренного терпения и бескорыстной веры, хотя сатана пер-
571 Бердяев Н. Основная идея философии Льва Шестова // H.A.
Бердяев о русской философии.— Свердловск, 1991.— 4.2.— С. 104.
572 Цит. по: Ерофеев В. Одна, но пламенная страсть Льва Шестова //
Шестов А. Избранные сочинения.— М., 1993.— С. 34.
339
воначально и предполагал, что благочестие Иова — лишь
благодарность за процветание. То, что Иов — символ смирения и
бескорыстия в отношениях с Богом, нужно подчеркнуть особо.
Дело в том, что как раз здесь начинается своеобразие в
трактовке книги Иова Шестовым. И важно определить истоки этой
новой трактовки.
«Быть может, самое раздражающее и самое вызывающее, а
вместе с тем наиболее влекущее и пленительное из того, что
писал Киргегард,— отмечает Шестов,— мы находим в его
размышлениях о книге Иова.... Он просит Иова — и надеется, что
Иов не отвергнет его просьбы — принять его под свое
покровительство. Он хоть не имел так много, как Иов, и потерял только
свою возлюбленную, но это было все, чем он жил, как у
сказочного бедного юноши, влюбленного в царскую дочь, его любовь
была содержанием всей его жизни »ш. «Покровительство Иова »
в данном случае означает возможность вернуть утраченное. Но
вернуть вопреки законам земного мира силой чуда, доступного
Богу. И это возвращение навеки утраченного есть та самая
истинная реальность, которой, согласно Шестову, занята
экзистенциальная философия.
Основной вопрос любой философии, и в этом он солидарен с
Бердяевым, Шестов видит в том, как возможна свобода. Но
умозрительная философия всегда стремилась понять свободу. А
разум, изначально сориентированный на поиск общего и
неизменного, предлагал относиться к свободе как к выбору в пределах
действия необходимости. В низведении свободы к
необходимости, согласно Шестову, состоит порок всей классической
философии, начало которой он видит в учении Сократа, и даже
ранее — в учении Анаксимандра. Бердяев, по убеждению Шесто-
ва, находится в пределах мыслительной традиции от Сократа до
Гегеля. А это значит, что его знание о свободе неистинно, а его
экзистенциальная философия неподлинна, поскольку даже не
доходит до существа дела.
Подлинно экзистенциальный смысл появляется в
философии лишь там, считает Шестов, где речь идет о свободе как
преодолении необходимости. А ее высшее и адекватное
выражение — превращение бывшего в небывшее, то есть изменение
прошлого. Таким образом возникает реальность, которая
ш Шестов А. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная
философия // Шестов Л. Сочинения.— М., 1995.— С. 403.
341
невозможна сточки зрения разума и земных законов. И
экзистенциальная философия не познает, а способствует этой
реальной свободе.
Шестов много раз повторяет слова Киркегора об его отказе
от спекулятивного философа Гегеля в пользу «частного
мыслителя » Иова, о котором у Киркегора речь впервые заходит в
«Повторении». Тема «повторения», согласно Шестову, как раз и
является темой чудесного возвращения безвозвратно
утраченного. Но при этом он задает новый угол зрения, который
объединяет его и Киркегора во взгляде на библейского Иова.
В 1933-1934 годах Шестов пишет большую работу «Кирге-
гард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в
пустыне) ». И уже само название свидетельствует о том, что Иов здесь
отнюдь не образец смирения и покорности Богу. «Глас
вопиющего в пустыне » — это дикие вопли отчаяния, которые издает
Иов, сидя на пепле и скребя черепками струпья на своем теле, в
ответ на аргументы друзей, объясняющих ему закономерность
божьей кары. «Друзья Иова в речах, обращенных к
валявшемуся на навозе замученному старцу, оказываются не менее
просвещенными, чем греческие философы,— пишет Шестов в
указанной книге.— Если формулировать кратко их длинные речи, все
сведется к тому, что говорил обыкновенно Сократ, или, если
довериться Эпиктету, что сказал Зевс Хризиппу: раз нельзя
преодолеть, стало быть — и людям, и богам — должно принять. И,
наоборот, если захотеть в коротких словах передать ответ Иова
друзьям,— то получается, что на свете нет такой силы, которая
принудила бы его «принять» то, что с ним произошло, как
должное и окончательное»574.
Шестов уверен, что благодаря «новому зрению » ему с Кир-
кегором открылся изначальный смысл библейской веры. Суть
любой веры — безотчетная преданность, несовместимая с
корыстью и расчетом. И в поведении Иова, каким его изображает
Шестов, нет ни грана расчета. Но уверенный в своей
невиновности Иов пребывает у Шестова не в смирении, а в отчаянии. Он не
покорно терпит, а отчаянно сопротивляется постигшей его
участи. И таким образом вера Иова в трактовке Шестова из
смиренной и терпеливой преданности превращается в требовательный
протест.
"4 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 45.
Н1
Обратим внимание на то, что из состояния ужаса и отчаяния,
в котором пребывает Иов у Шестова, вырастает протест,
неотделимый от жажды «повторения». В отличие от Киркегора,
Шестов всегда выражался эмоционально, но предельно ясно. И в
криках вопиющего в пустыне Шестову слышится не только
отчаянная вера в Бога, но и отчаянная уверенность в себе. «Иов
говорит: если бы мою скорбь и мои страдания положили на весы,
то они были бы тяжелее песка морского. Даже Киргегард не
решается повторить эти слова. Что сказал бы Сократ, если бы
ему довелось такое услышать? Может ли «мыслящий » человек
так говорить? »575
Шестов уверен в том, что крайние страдания освобождают
человека от власти разума, морали и культуры в целом. Он часто
использует выражение Киркегора о «выпадении из общего».
«Общее » — это в трактовке Шестова как раз те законы логики и
морали, из которых исходят друзья Иова, требуя от него
признания своей вины. Но ужасы жизни уже вырвали Иова из
общества. Он остался один на один со своей болью и богом. И
только его отчаянный эгоизм может обернуться «повторением ».
Крики вопиющего в пустыне — это никак не голос
смиренного Иова. Те, кто читал ранние работы Шестова, без труда
услышат в этих воплях голос «подпольного человека ». Но вера Иова,
как и состояние «подпольного человека » — полная загадка без
Ницше, творчество которого отразило глубинные процессы в
культуре XIX и XX века.
Здесь стоит опять вспомнить статью Шестова, в которой он
указал на главные авторитеты и вехи своей философской
биографии. В этом перечне нет не только Ницше, но и Киркегора.
Но если Киркегор, по словам В. Ерофеева, оказался
своеобразным двойником Шестова, то «встреча с Ницше была встречей
ученика с учителем »576.0 значении этих двух фигур для
творчества Шестова можно судить и по его собственным замечаниям.
Так в 1929 году Шестов пишет, что «Ницше много значительнее,
чем Киргегард», и это несмотря на очень высокие оценки в
отношении его со стороны немцев577. Этим подтверждается то фунда-
,75 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 44.
т Ерофеев В. Одна, но пламенная страсть Льва Шестова // Шестов Л.
Избранные сочинения.— М., 1993.— С. 34.
577 См.: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 240.
342
ментальное воздействие, которое оказало на Шестова
ницшеанство. Но чтобы не оставаться на уровне деклараций, уточним
процесс трансформации взглядов Шестова под влиянием Ницше.
Трагизм человеческой жизни — исходный пункт и главный
мотив всего творчества Льва Шестова. Уже в начале своей
творческой биографии Шестов заявляет о непримиримом
отношении к жизни, которая наполнена «ужасами » и в которой
бесконечно нагромождаются страдания. Молодого литератора
Шестова преследует образ кирпича, который «сорвался с домового
карниза, падает на землю — и уродует человека »578. В этом
образе — зависимость судьбы человека от нелепого случая.
Причем если одни воспринимают власть случая над человеком со
смиренным отчаянием, другие — с тихим недоумением, то
Шестов непримирим. «.. .Со случаем жить нельзя » — пишет он в
самой первой книге, посвященной Шекспиру579.
Но если случай преодолеть нельзя, то он должен быть
оправдан. Именно этим занимается Шестов в книге «Шекспир и
его критик Брандес». Трагедии Шекспира помогают Шестову
понять смысл и значение человеческого страдания в мировом
устройстве. Как для молодого принца датского Гамлета, так и
для 80-летнего короля Лира, считает он, страдания стали
очищающей силой. До появления призрака отца Гамлет, согласно
Шестову, не обладал какими-либо нравственными
достоинствами. То же самое он говорит о короле Лире, который до всех
напастей любил охотиться, грозно всех окрикивал и гнал от себя
лучших людей. И только в результате трагических событий Лир
приходит к осознанию того, что искренняя любовь Корделии
выше всех прежних радостей. Сравнив состояние духа у героев
Шекспира до и после трагедии, Шестов делает вывод о
возвышающей силе страданий. «В «Короле Лире»,— отмечает
Шестов,— Шекспир возвещает великий закон осмысленности
явлений нравственного мира: случая нет, если трагедия Лира не
оказалась случаем »58°.
Взгляды Шестова уже здесь являются «философией
трагедии ». В центре его внимания — страдания и ужасы жизни. Но в
их оценке Шестов пока еще находится в границах классической
философии и культуры. Обращаясь к Шекспиру, Шестов пыта- ■
"" Шестов Л. Собрание сочинений: В 6 т.— СПб., 1911,— Т. 1.— С. 14.
579 Там же.— С. 283.
510 Там же.- С. 245.
343
ется выстроить некую космодицею, суть которой в том, что
трагический случай, способствующий возвышению личности, уже
не является случаем.
Понятно, что этим не оправдать всех трагедий,
происходящих с людьми. И потому торжество Шестова по поводу победы
над случаем здесь, конечно, преждевременно. Тем не менее, эта
ранняя работа очень интересна для реконструкции его
философской биографии. Ведь в работе «Шекспир и его критик Брандес»
Шестов еще близок к стоикам с их известным тезисом об
оправданности страданий человека космической гармонией. У
страданий существует высший нравственный смысл! Но от этого
пафоса не остается и следа в двух следующих работах Шестова,
впервые подписанных известным нам псевдонимом. И такого рода
перелом мог произойти только под влиянием Ф. Ницше.
Вспомним, что своим вторым учителем Шестов признал
И. Канта. Но в работах «Добро в учении гр. Толстого и Ф.
Ницше (Философия и проповедь) » и «Достоевский и Ницше
(Философия трагедии)», после которых Шестов стал широко
известен, нет ничего кантианского. Наоборот, в этих произведениях
Шестов порывает с классической традицией, связанной с
именами Платона, Спинозы, Канта и Гегеля. Кант — дуалист, и в
своем учении исходит из противостояния мира в качестве
непознаваемого ноумена трансцендентальному субъекту. Но при этом
законы разума и нормы морали, как и культура в целом, у Канта
находятся на стороне субъекта. Главная проблема кантианства —
откуда происходит объективная сторона субъективных действий
человека. Вывод Канта в том, что все законы, правила и идеалы,
которыми руководствуется человек, априорны, то есть доопыт-
ны, а значит врождены каждому из нас.
Признать любой закон, принцип и идеал враждебной силой —
как раз и значит выйти за пределы философской классики.
У Канта законы логики неотделимы от процесса познания, а
моральные нормы от свободных поступков человека. Что касается
Шестова, то уже в 1897 году он начинает свой поход против
идеалов Истины и Добра как наиболее ярких выразителей
«общего », противостоящего отдельному человеку.
Поначалу Шестов искал средство, способное примирить
страдающего индивида с миром. В работе «Шекспир и его критик
Брандес » этим средством оказалась нравственность. И в подобном
решении многие усмотрели влияние Л. Толстого. Но после встречи с
Ницше нравственные добродетели, как и сам Толстой, становят-
344
ся главными оппонентами Шестова. Самые сильные страницы в
указанных работах Шестова, как и у самого Ницше, связаны с
критикой лицемерной морали сострадания, сводящегося к
проповедям и бессильным словам. «Сострадать человеку,— пишет
Шестов,— значит признать, что больше ему ничем нельзя помочь.
Но отчего не сказать этого открыто, отчего не повторить вслед за
Ницше: у безнадежно больного не должно желать быть врачом?
Ради каких целей утаивается истина? Для Ницше ясно, что
«добрые » сострадают несчастным лишь затем, чтобы не думать об их
судьбе, чтоб не искать, чтоб не бороться... »ш.
Шестов подчеркивает, что добро — это синоним
человеческого бессилия. И его назначение в том, чтобы дать опору для
жизни посредственному человеку. Проповедь сострадания,
считает Шестов, оберегает людей от серьезных переживаний.
Сострадание — это суррогат страдания. А философский
идеализм выступает союзником этики сострадания, предлагая
вместо решения реальных проблем свои метафизические построения.
«Априорный человек» Канта — это посредственность, для
удобства которой создаются философские теории о категорическом
императиве и о Боге как Абсолютном Добре.
В работе о Толстом и Ницше Шестов так характеризует
учение великого идеалиста Канта: «Пред ним стояло неоконченное
здание метафизики, и его задача состояла лишь в том, чтоб, не
изменяя раз задуманного и наполовину выполненного плана,
докончить начатое. И явились категорический императив,
постулат свободы воли и т. д. Все эти роковые для нас вопросы имели
для Канта лишь значение строительного материала. У него были
незаделанные места в здании, а ему нужны были
метафизические затычки: он не задумывался над тем, насколько то или иное
решение близко к действительности, а смотрел лишь, в каком
соответствии находится оно с критикой чистого разума —
подтверждает ли оно ее или нарушает архитектоническую
гармонию логического построения »582.
Эта большая цитата приведена нами для того, чтобы стало
видно, как яркий образ и литературный прием на каждом шагу
заменяет Шестову серьезную аргументацию. Но в этом
заключена не просто слабость, а урок, усвоенный им у учителя Ф. Ницше.
,К1 Шестов А. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 312.
42 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь)// Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 71.
345
Логике оба осознанно противопоставляют художественный
образ, способный пробудить переживание. В этом своеобразие
«философии трагедии », в противоположность метафизике и
умозрительной философии вообще.
Что касается религиозной позиции Шестова, то в этот
период он еще не противопоставляет христианской проповеди веру,
рожденную отчаянием одиночки. Рассуждая о бесплодности
морали сострадания, Шестов по сути оставляет страдающего
индивида один на один со своими муками. Более того, "критика
лицемерной морали означает у него констатацию того, что
человек может полагаться только па самого себя. С одной
стороны, мир с его лицемерной религиозностью и моралью, а с
другой — страдающий индивид. Вслед за Ницше, Шестов
становится на позиции крайнего индивидуализма. Протест против
лицемерной морали у того и другого оборачивается протестом
против морали вообще, а борьба с несправедливым миром
оказывается борьбой против самой справедливости.
Действенная мораль, по убеждению Ницше и Шестова,
просто невозможна. А значит имеет смысл лишь борьба за самого
себя. И для этого необходимо покинуть тесные рамки
культуры. Жизненная перспектива, как и истинная свобода, возможна
лишь на пути противостояния традиционной западной морали
и религиозности, миру культуры в целом. Иначе говоря, нужно
оказаться «по ту сторону добра и зла ».
Обратим внимание на то, что жизненные перспективы
страдающего индивида Шестов здесь не связывает со спасение души в
его традиционно-христианском духе. Весь пафос Шестова — в
доказательстве того, что страдающий индивид выпадает из
известной нам системы координат, а поэтому имеет право на крайние
формы эгоизма. В этом свете он и разбирает творчество графа Льва
Толстого, противопоставляя ему творчество Ф. Достоевского.
«Все действующие лица «Анны Карениной »,— пишет
Шестов в работе «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше
(Философия и проповедь)», —разделены на две категории. Одни
следуют правилу, правилам и вместе с Левиным идут к благу, к
спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по
мере смелости и решимости своих действий, подпадают более
или менее жестокому наказанию»583. Согласно Шестову, если
ш Шестов А. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь)// Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 50-51.
346
бы Анна смогла пережить позор и отстояла свое право на
счастье, то у графа Толстого исчезла бы точка опоры и духовное
равновесие. Перед Толстым была альтернатива: Анна или он сам.
И великий писатель пожертвовал счастьем отдельного
человека, считает Шестов, во имя правила и закона. «Гр. Толстой
отлично чувствует,— подчеркивает он,— что это за муж для
Анны — Каренин; как никто, он описывает весь ужас
положения даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной
узами брака к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать
обязательными, священными, ибо в существовании
обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии»584.
По сути дела Толстой жизненному эгоизму
противопоставляет самоотречение. Но таким образом, утверждает Шестов, он
совершает насилие над самим собой. Все свои великие
произведения, считает он, Толстой писал не для других, а для себя. «Вся
та огромная внутренняя работа, которая понадобилась для
создания «Анны Карениной » или «Войны и мира », была вызвана
назревшей до крайней степени потребностью понять себя и
окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и
найти для себя — хоть на время — прочную основу »585. Те
сомнения, от которых пытается освободиться Толстой, убивая Анну
Каренину, вызваны идущим из глубины стремлением жить в
соответствии со своими личными желаниями и потребностями, а
не согласно требованиям закона и предписаниям морали.
В «Анне Карениной» неестественные, фальшивые нормы
культуры пытаются одержать победу над живой жизнью. Но их
власть над человеком, замечает Шестов, даже в этом романе
Толстого относительна. Тем более, это касается романа «Война
и мир ». Анализируя эпилог «Войны и мира », Шестов пишет:
«Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку.
Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит
жизнь, не отстоит вовремя своих прав, тот «пустоцвет». Таков
вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был
у него в эпоху создания «Войны и мира ». В этом произведении, в
котором автор подводит итог своей 40-летней жизни,
добродетель an sich, чистое служение долгу, покорность судьбе,
неумение постоять за себя — прямо вменяются человеку в вину »586.
ш Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь) // Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 50.
'" Там же.— С. 54.
m Там же.— С. 52.
347
Приведенный нами вывод Шестов делает на основе
разговора Наташи Ростовой и княжны Марьи, в котором идет речь о
Соне. «Соня — пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие
эгоизма,— пишет Шестов,— несмотря на то, что она вся —
преданность, вся — самоотвержение. Эти качества в глазах гр. Толстого
не качества, ради них — не стоит жить; кто ими обладает — тот
лишь похож на человека, но не человек »î87. И далее Шестов
отмечает: «Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной,
произносится приговор,— над первой за то, что она не преступила
правила, над второй — за то, что она преступила правило »т.
Приведенные рассуждения и оценки Шестова очень важны
для прояснения его позиции. Обратим внимание на то, что Соня
из «Войны и мира », по словам Шестова, «лишь похожа на
человека, но не человек ». Другое дело — Наташа Ростова и княжна
Марья, которые могут умиляться повествованиями странников
и нищих, могут читать священные книги, но для них
добродетель — лишь внешняя сторона или, как выражается Шестов,
«поэзия существования». Они стараются «быть хорошими»,
но по сути своей не таковы. В решительную минуту обе героини
романа, как считает Шестов, умеют «взять от жизни счастье ».
И именно этот жизненный эгоизм делает каждую из них
человеком, в отличие от Сони, искренне следующей добродетели.
Итак, эпилог «Войны и мира», если согласиться с Шестовым,
доказывает, что жизнь в соответствии с моральным законом не
может быть настоящей жизнью. Мораль не органична
человеческой сути. Настоящий человек лишь надевает маску добродетели,
в отличие от сострадательных выродков, вроде толстовской Сони.
Но позвольте, где же те ужасы и неимоверные страдания,
которые вытолкнули Наташу и княжну Марью за пределы морали?
О них в данном случае не говорится ни слова. Наоборот, у
Шестова в отношении Наташи речь идет о «здоровом инстинкте », а не о
болезненном поиске выхода из тупика. Означает ли это, что «по
ту сторону добра и зла » человек не оказывается в результате
страданий, а изначально находится в силу здорового инстинкта?
Вспомним, что философия Шестова — это «философия
трагедии ». И право преступить закон Анна Каренина обрела в
результате страданий, переносимых ею в браке с Карениным. Но
образ Наташи Ростовой обнажает другой, скрытый смысл «фи-
ш Шестов А. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
1роповедь) // Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 52.
ш Там же.
148
лософии трагедии» Шестова. Сопоставляя образы Карениной и
Ростовой, Шестов по сути впервые заявляет, что
противостояние Добру и Истине изначально присуще человеку. Впоследствии
Шестов уделит множество страниц объяснению того, как
страдания Ницше спровоцировали его отказ от морали и мира
культуры в целом. И несмотря на это, образ человека у Шестова
двоится. Эгоизм то присущ ему изначально, то является
результатом неимоверных страданий. Аналогичная двойственность — в
его понимании сути человеческого существования, которое то с
самого начала болезненно трагично, то в нем, наоборот,
изначально царствует здоровая стихия жизни. И надо сказать, что
анализ творчества Достоевского не уменьшает, а усиливает эту
двойственность позиции Льва Шестова.
Сравнивая Толстого с Достоевским, Шестов сопоставляет два
взгляда на свободу. Для Толстого в его зрелые годы истинно
классическое понимание свободы, связанное с ограничением себя
в пользу другого, будь то человек, народ или Бог. И в этом, по
его представлениям, смысл подлинной религиозности и морали.
Иной вектор, согласно Шестову, был в духовной эволюции
Достоевского. Опыт каторги, считает он, помог Достоевскому
открыть противоположный смысл свободы. В обстоятельствах
тюрьмы, каторги, когда человек опускается в «последние
глубины », ему открывается, что свобода — не самоотречение, а
произвол. А в самоотречении — смерть свободы.
Толстой и Ницше были антиподами, но оба видели в
Достоевском великого учителя человечества. При этом, как считает
Шестов, высоко ценили противоположные моменты его
творчества. «Ницше близки были подпольные рассуждения первой
части «Преступления и наказания »,— пишет Шестов.— Он сам, с
тех пор как заболел безнадежно, мог видеть мир и людей только
из своего подполья и размышлениями о силе заменять
настоящую силу. Он простил охотно Достоевскому вторую часть —
наказание за первую — преступление. Гр. Толстой — обратно:
за вторую часть — простил первую»"9.
Поворотный момент в духовной биографии Достоевского
Шестов относит к моменту создания «Записок из подполья ».
Но прежде, чем говорить о феномене «подпольного человека »,
уточним важный пункт во взглядах Шестова, связанный с amor
,ю Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь) // Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 80.
MS
fati, что означает «любовь к необходимости ». Завершая книгу
«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь) », он пишет об отношении Ницше к жизненной стихии,
которую нет смысла ненавидеть и тем более обличать. «Нужно
выбирать между ролью «нравственного» обличителя,
имеющего против себя весь мир, всю жизнь,— отмечает Шестов,— и
любовью к судьбе, к необходимости, т. е. к жизни, какой она
является на самом деле, какой она была от века, какой она будет
всегда. И Ницше не может колебаться. Он оставляет
бессильные мечтания, чтобы перейти на сторону своего прежнего
врага — жизни, права которой он чувствует законными »59°.
Напомним, что и для самого Шестова, когда тот писал
«Шекспир и его критик Брандес », природа, с ее случайностями, и
закономерностями, была самым страшным врагом. Но в книге о
Толстом и Ницше, он примиряется с природой, оставаясь врагом
культуры. Шестов согласен с тем, что Соня — пустоцвет, поскольку
живет согласно искусственным нормам морали. В
противоположность ей, Наташа и княжна Марья живут полноценной
естественной жизнью. Ведь они руководствуются эгоистическими целями,
отгораживаясь от чужого горя общей фразой и маской
сострадания. И такая «философия обыденности » представляет собой
неявную предпосылку «философии трагедии » Шестова.
Но все дело в том, что, с природной точки зрения, наши
страдания и не страдания вовсе. Ведь, если один в жизненной борьбе
победил, а другой оказался повержен, то его муки соответствуют
естественному ходу событий. И в этом смысле они равноценны
тихим радостям Наташи Ростовой. «Мир — сам по себе, человек
сам по себе, как случайно выброшенная на поверхность океана
щепка,— пишет Шестов. —Нет такой высшей силы, нет связи
между движением вод океана и нуждами этой щепки. И если сама
природа так мало заботится о том, чтобы охранять от погибели и
крушения свои творения, если смерть, разрушение, уничтожение
оказываются безразличными явлениями в массе других
безразличных явлений, если — более того — сама природа пользуется
для своих целей убийством и разрушением, то что дает нам право
возводить в закон «добро », т. е. отрицание насилия? »591
Почему систематически практикуемую природой
жестокость, спрашивает Шестов, мы в отношении человека восприни-
m Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь) // Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 146.
591 Там же.— С. 147.
350
маем как противоестественную и незаконную? «Грому —
можно убивать, а человеку — нельзя,— продолжает он.— Засухе
можно обрекать на голод огромный край, а человека мы
называем безбожным, если он не подаст хлеба голодному! Должно ли
быть такое противоречие? Не является ли оно доказательством,
что мы, поклоняясь противному природе закону, идем по
ложному пути и что в этом — тайна бессилия «добра », что
добродетелям так и полагается ходить в лохмотьях, ибо они служат
жалкому и бесполезному делу? »592
Но тогда, вслед за Ницше, «возлюбив » природную
необходимость, Шестов должен, последовательности ради, отказаться
от самих понятий «страдание» и «отчаяние», «добро» и «зло».
И главное — он должен отказаться от своей «философии
трагедии», в которой задана классическая система координат и
оценок. Он должен отказаться от «философии трагедии », в
которой уже присутствует идеал в качестве точки отсчета, в пользу
той самой «философии обыденности», «философии обыденной
жизни », где нет места ни идеалам, ни идеальному. Однако
Шестов этого не делает. И тем самым, более последовательному
Фридриху Ницше он предпочитает непоследовательного
Артура Шопенгауэра, у которого место Бога впервые заняла
животная жажда самоутверждения. Но в своей «философии жизни »
Шопенгауэр так и не смог избавиться от моральной системы
координат, от осуждения страдания, от «вселенского
пессимизма » и потому придумал в борьбе с пессимизмом грандиозный
проект самоубийства Мировой Воли.
Осознание трагичности человеческой жизни, как мы видим,
противоречит amor fati и представлению о человеке как
естественной части природы. Но противоречивость в воззрениях
Шестова нарастает, когда он переходит к феномену
«подпольного человека», который из опыта «униженного и
оскорбленного» сделал самые крайние выводы. Шестов отмечает, что,
осознав ложь жизни в соответствии с идеалами «высокого » и
«прекрасного », этот человек пришел в ужас и нашел силы порвать с
собственным прошлым. И Шестов, вслед за Достоевским,
предлагает нам выслушать этого уединенного человека. «Нужно
выслушать человека таким, каков он есть,— пишет он.— Отпустим
ему заранее все его грехи — пусть лишь говорит правду. Может
т Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь)// Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 147.
351
быть — кто знает?— может быть, в этой правде, столь
отвратительной на первый взгляд, есть нечто много лучшее, чем
прелесть самой пышной лжи? »593
Правда, которую сообщает нам о себе «подпольный
человек», и вправду отвратительна- Эта исповедь мизантропа, и даже
более того. Обращаясь к Лизе, он произносит фразу, которая
теперь широко известна: «я скажу, чтоб свету провалиться, а
чтоб мне всегда чай пить». И это означает эгоцентризм, дальше
которого уже идти просто некуда. Ведь «подпольный человек»
противопоставляет себя не только культуре, но и природе.
«Законы природы », по замечанию «подпольного человека »,
постоянно и больше всего обижали его. А потому он отрекается от
мира, от всего мироздания. Но важно понять, что при этом
остается на стороне индивида.
Эгоцентризм доводит мысль о человеке как мере всех вещей
до ее логического предела. Человеческое Я здесь мера самого
себя, и никто, и ничто ему в этом не указ. Характерно, что такая
позиция получает многообразные обоснования именно в XIX
веке. Это время становления психологии и психопатологии,
после чего наступает их бурное развитие.
У нас уже шла речь о книге историка культуры Л.М. Баткина
о становлении творческой индивидуальности в эпоху
Возрождения, где он отмечает, что именно в XIX веке жизнь и смерть
человека начинает потрясать не своей повторяемостью, а
уникальностью. Но у осознания неповторимости человеческого Я
есть свои грани. И поначалу, замечает Баткин, единственность и
неповторимость Я позволительна лишь «гению» или «демону»,
что демонстрирует вся романтическая поэзия, и лермонтовский
«Демон» в частности. Но проходит время и, достигая зенита,
идея уникальности личности обнаруживает другую сторону. «А,
может быть, любое Я -*- вселенная? » — цитирует Баткин
писателя Ю. Олешу594. И по сути обозначает те рамки и то
направление, в котором движется Достоевский, исследуя этот феномен.
Родион Раскольников решается на убийство, чтобы
проверить, а точнее подтвердить, свою исключительность. Ведь как
раз романтическая исключительность, или, другими словами,
неординарность возвышает его над общим правилом. В противо-
1,3 Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)//
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 199.
îw См.: там же.— С. 25-26.
352
положностьему, «подпольный человек» ординарен. И по
причине своей обыкновенности противопоставляет правилам и
всему миру не гордыню, а бытовую потребность. Протест здесь
соответствует масштабам личности. И в центре пустой «вселенной »,
именуемой «подпольным человеком » стоит стакан горячего чаю.
Подчеркнем, что в книге о Достоевском и Ницше Шестов
заявляет об эгоистической природе человека более
определенно, чем в книге о Ницше и Толстом. Все герои трагедий, о
которых повествует Достоевский, по убеждению Шестова,—
«эгоисты ». И каждый из них по поводу своего несчастья зовет к
ответу мироздание. Ведь не только «подпольный человек », но и Иван
Карамазов в последнем романе Достоевского прямо заявляет: «я
мира не принимаю ». Иван Карамазов, как и его отец, «эгоист до
мозга костей». И потому, хотя и получил серьезное
образование, не желает, пишет Шестов, поступиться своей личностью,
растворяя ее в природе или высшей идее.
В каждом герое Достоевского, отмечает Шестов, живет
«подпольный человек». «Соответственно этому все безобразное,
отвратительное, трудное, мучительное, словом, все
проблематичное в жизни находит себе страстного и талантливейшего
выразителя в Достоевском »595. Но в этом всего лишь часть правды,
потому что «подпольный человек », как подчеркивает Шестов
уже в разговоре о Ницше, таится в каждом из нас. Ссылаясь на
произведение Ницше «Человеческое, слишком человеческое»,
он сравнивает эгоизм со «змеиным жалом », которое существует
всегда, но заявляет о себе лишь в определенных обстоятельствах.
Пока обстоятельства складывались благоприятно, пишет
Шестов, мог ли кто-нибудь заподозрить в кротком и мягком
профессоре Фридрихе Ницше «змеиное жало» — «ту крайнюю форму
эгоизма, которая привела подпольного человека к дилемме:
существовать ли миру или пить чай ему, подпольному герою? »т И мог
ли кто-нибудь, глядя на его преданное служение науке и
искусству, продолжает Шестов, предположить, что наступит момент,
«когда волею судеб пред Ницше предстанет уже не теоретически,
а практически вопрос — что сохранить, воспетые ли им чудеса
человеческой культуры или его одинокую случайную жизнь... »597.
"5 Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 252-253.
m Там же.— С. 273.
"7 Там же.
353
В выраженной здесь антитезе личность вновь
противопоставлена культуре. Но как раз масштаб личности Ницше
позволяет взглянуть на его трагедию с другой стороны.
Неповторимая личность профессора Ницше — порождение не природы, а
культуры XIX века. И именно в ней — культуре XIX века —
причина того, что, попав в беду, Ницше не нашел в ней для себя
опоры. На разгадку этой тайны указывает сам Ницше. В
предисловии к статье о Вагнере он пишет о самом себе: «Я, так же, как
и Вагнер, сын нашего времени, decadent. Только я понял это и
боролся с этим, философ во мне боролся с этим »598.
Декаденство, как известно,— упадок. Ценой упадка в одном
человечество до сих пор достигало прорыва в другом. И этот
закон «предыстории» человечества заявил о себе уже в Древней
Греции, где расцвет духовной культуры совпал с кризисом
полисной организации. Что касается личности как неповторимого
Я, то уже во времена Ницше эта идея превратилась в позу и в
таком виде стала атрибутом современной культуры. Ницше был
воспитан на классической культуре. Но даже она в ситуации,
именуемой «отчуждением», начинает отгораживать людей друг
от друга. Превратившись из формы общения в способ
разделения людей, культура умирает, приходит в упадок, т. е.
становится той позой и внешней манерой, которую отвергает Ницше. И он
отрицает декадентскую культуру тем сильнее, чем отчаяннее
нуждается в общении и содействии со стороны других людей.
К сожалению, Ницше нашел чисто декадентский выход из
своей трагической ситуации. Он был декадентом, и им остался.
Его протест против кризиса культуры — это отражение, а не
преодоление существующего положения дел. Ведь
Сверхчеловек — это декадентская пародия на неповторимое человеческое
Я, где суррогатом его идеального содержания является сугубо
телесная мощь и телесное здоровье. И общение с себе
подобными здесь низведено до той мизантропии и жажды
самоутверждения за счет другого, которая встречается на каждом шагу в
отчужденной культуре до и после Ницше.
Но характерно, что ту ненависть к культуре, которая
рождается у Ницше в болезненной борьбе с самим собой, Лев Шестов
принимает за чистую монету. И хотя ему свойственны
углубленные экскурсы в историю вопроса, везде он видит то, что хочет
"* Шестов А. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 121.
»4
видеть. А потому культурно-историческому объяснению
феномена Ницше Шестов последовательно противопоставляет
объяснение антропологическое. Точнее говоря, никакого другого
объяснения ницшеанства для него просто не существует. В рас-
культуривании человека — основной пафос «философии
трагедии» Шестова. И он сохраняется там, где в книге о Достоевском
и Ницше начинают прорисовываться контуры следующего
этапа его эволюции — «философии абсурда».
В конце книги о Толстом и Ницше Шестов, как мы помним,
уточняет понятие «любой к необходимости». И приводит в
связи с этим дневниковую запись Ницше за 1888 год: «Моя
формула человеческого величия — заключается в словах amor fati: не
желать изменять ни одного факта в прошедшем, в будущем,
вечно...»599. Именно здесь, в этом пункте, и начинается
расхождение Шестова с Ницше, который не желает менять однажды
происшедшего. В противоположность ему, уже в работе о
Достоевском и Ницше Шестов заводит разговор о превращении бывшего
в небывшее, т. е. об упразднении силой чуда трагических
обстоятельств. И на долгие годы это становится его «идеей фикс ».
Данная тема в работе «Достоевский и Ницше (Философия
трагедии) » еще звучит в полголоса. Так Раскольников, по убеждению
Шестова, ищет надежду лишь в сказании о воскресении Лазаря,
игнорируя и нагорную проповедь, и притчу о фарисее и мытаре,—
все то, что перенесено из Евангелия в современную этику. Уже на
каторге, утверждает Шестов, Раскольникова волнует лишь
воскресение Лазаря, знаменующее великую силу творящего чудеса.
И еще загадочные слова: «претерпевший до конца спасется »60°.
Но тема чуда приобретает свойственное только ему, Шесто-
ву, звучание, когда он акцентирует внимание на словах из
«Евангелия »: «блаженны нищие духом ». Здесь намечаются контуры
той мистической морали, которая была предложена им
впоследствии. «Раскольников судил правильно:— пишет Шестов,—
точно существуют две морали, одна для обыкновенных, другая
для необыкновенных людей, или, употребляя более резкую, но
зато более выразительную терминологию Ницше — мораль
рабов и мораль господ»601. Но господином человека делает, под-
,w Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и
проповедь)// Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 145-146.
600 См.: Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 244-245.
ш Там же.— С. 307.
355
черкивает Шестов, не характер, а ситуация, в которой
просыпается присущая каждому жажда жизни — эгоизм. И именно
это «возвышающее свойство» превращает раба в господина.
Шестов определяет эгоизм именно так — «возвышающее
свойство ». «Это значит,— пишет он, оканчивая работу о Ницше и
Достоевском,— что Ницше решается видеть в своем «эгоизме»,
который он когда-то называл «змеиным жалом » и которого так
боялся, уже не позорящее, а возвышающее свойство»602. Таким
образом, именно эгоизм превращает «подпольного человека » из
посредственности в «высшую натуру». Более того, в
мистической морали он становится той огромной силой, которая
способна творить чудеса. Вот что пишет Шестов об области новой
морали: «Сколько ни хлопочи Кант и Милль, здесь — подпольные
люди в этом уже перестали сомневаться — их царство, царство
каприза, неопределенности и бесконечного множества
совершенно неизведанных, новых возможностей. Здесь совершаются
чудеса воочию: здесь то, что было силой, сегодня становится
бессилием, здесь тот, кто вчера еще был первым, сегодня становится
последним, здесь горы сдвигаются, здесь пред каторжниками
склоняются «святые », здесь гений уступает посредственности... »аз
Итак, уже в «философии трагедии » Шестова заложены
основы его «философии абсурда». А в «подпольном человеке»
проглядывают черты «вопиющего в пустыне», который и
вправду добился «повторения ». Иов Шестова остался один на один с
Богом. И его вера достигла цели. Но остается неясно, была
преодолена необходимость силой Бога или эгоистической силой
человека? И почему Бог ответил Иову, если стихия Бога, как
утверждает Шестов,— это стихия божественного каприза}
Именно жажду жизни и самоутверждения Шестов кладет в
основу библейской веры. И она же предстает у него в роли
Божьей воли. Эгоистическая свобода человека, утверждает
Шестов еще в книге о Достоевском и Ницше, близка божественной
стихии. А мир, подчиненный законам, по его убеждению, и так
же, как у гностиков,— результат грехопадения, т. е.
дьявольское создание.
Как мы видим, тема Бога и его присутствия в мире находится
на периферии первых работ Шестова, лейтмотив которых —
602 См.: Шестов А. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 318.
603 Там же.— С 305-306.
356
учение Ницше. Взгляды Шестова органичны «философии
жизни ». А разговор о Боге возникает там, где Шестов хочет сказать:
атеист Ницше ближе Всевышнему, чем лицемерные
проповедники добра и сострадания. Вера для Шестова в эти годы —
желаемое, а не действительное. О ней он говорит как о благодати,
посещающей в наши дни немногих. И в свете этих надежд и
поисков особый смысл обретают отдельные высказывания и
намеки Льва Шестова.
Так в разговоре о своем «предтече» Достоевском, Шестов
говорит о Н. Михайловском, который почувствовал в великом
русском писателе ««жестокого» человека», сторонника темной
силы, искони считавшейся всеми враждебной»604. Шестов не
называет Сатану по имени, но уточняет, что Михайловский не
угадал всей опасности этого врага. «Не мог он думать двадцать лет
тому назад,— пишет Шестов, имея в виду ницшеанство,— что
подпольным идеям суждено вскоре возродиться вновь и
предъявить свои права не робко и боязливо, не под прикрытием
привычных, примиряющих шаблонных фраз, а смело и свободно, в
предчувствии несомненной победы»605.
Не нам судить, кто — Бог или Сатана — победил в конце
концов в сердце Шестова, определив его трактовку библейской веры.
Но ясно то, что такая вера была и есть — антипод любых
идеалов. У этой «веры», несмотря на все симпатии к Шестову со
стороны протоиерея Зеньковского, нет ничего общего ни с
православной соборностью, ни с библейским смирением. Но главное,
что Бог Шестова, признающий только веру «нищих духом », сам
не есть Дух. Более того, Бог у Шестова не имеет отношения к
вечности. И здесь Шестов безусловно превосходит своего
единомышленника Киркегора.
В статье «Лев Шестов и Киркегор» Николай Бердяев
замечает, что Шестов — враг вечности, поскольку она от змия. «Ну а
как же быть с вечной жизнью конкретных живых существ,—
задается он вопросом,— вечной жизнью Иова, Сократа,
несчастного Ницше, и несчастного Киркегора, и самого Л. Шестова? »^
При отсутствии вечности смыслом действий Бога становится
исполнение человеческих желаний, преодоление земных несча-
604 См.: Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) //
Шестов Л. Избранные произведения.— М., 1993.— С. 243.
405 Там же.
ш Бердяев H.A. Основная идея философии Льва Шестова // H.A.
Бердяев о русской философии.— Свердловск, 1991.— 4.2.— С. 99.
357
стий, и не более. «Бог есть возвращение любимого сына Исаака
Аврааму,— пишет Бердяев — волов и детей Иову, возвращение
здоровья Ницше, Регины Олсен Киркегору. Бог есть то, что
бедный юноша, мечтавший о принцессе, получил принцессу, чтобы
подпольный человек «пил чай »... »607. И тогда мы в порочном
круге. Бесконечные возможности Бога служат лишь тому, чтобы
разрешать конечные проблемы земной жизни. При этом ему
неподвластно самое ужасное несчастье человека — смерть,
которой оканчивается любая жизнь...
Бердяеву ясно, что такого рода парадоксы возникают из
несовместимости Библии с ницшеанством, из невозможности дать
библейскую транскрипцию «философии жизни ». Заметим, что,
стремясь к обновлению христианства, Бердяев попадает в ту же
ловушку. Его учение — это иная попытка соединить
ницшеанство с христианством. Потому-то Бердяев и Шестов так хорошо
подмечали недостатки друг друга.
Согласимся с Бердяевым и в том, что из Библии Шестов
всегда брал то, что было нужно для его темы. «Он не библейский
человек,— утверждает Бердяев по поводу Шестова,— он
человек конца XIX и начал XX века »608. С помощью Шестова трудно
проникнуть в суть Библии, добавим мы, зато значительно легче
понять эволюцию неклассической философии. И потому
результат, достигнутый Шестовым в ниспровержении идеалов,
отрицательный, но все же результат.
Прав Бердяев, когда утверждает, что устами Шестова
говорит парадоксальная религиозность человека XX века. Не прав он
тогда, когда ставит знак равенствамежду Шестовым и Киркего-
ром, который так и не смог отречься от истины, идеального и
классической культуры. В ходе предыдущего анализа мы
попытались показать, что, бросив вызов Гегелю, Киркегор не порвал
окончательно с Сократом как «отцом» идеального и не
противопоставил себя, подобно Шестову, всей античности и всей культуре.
«Разве только разум христианин, разве страсти —
язычники?» — задает Киркегор риторический вопрос в эпиграфе к
«Или — Или ». Но это не означает и окончательного разрыва с
разумом, а точнее, с рефлексией. Последняя даже в «Страхе и
трепете» парадоксальным образом сопровождает движение
607 Бердяев H.A. Основная идея философии Льва Шестова // H.A.
Бердяев о русской философии.— Свердловск, 1991.— Ч.2.— С. 100.
608 Там же.— С. 98.
358
веры. Ведь, в отличие от Тертуллиана, Киркегор не настаивает
на том, что лишь наивная душа — христианка. Согласно Кирке-
гору, только там, где человек отдает себе отчет в своих
переживаниях, а значит состояние отчаяния осознается им
предельно ясно и отчетливо, открывается перспектива спасения.
Конечно, разум у Киркегора только проясняет отчаяние,
которое многими воспринимается как фон, а по сути является
смыслом человеческого существования. У разума вспомогательная
роль, ведь именно отчаяние парадоксальным образом
оборачивается верой. По-другому подходит к этому вопросу Шестов, у
которого разум становится первым врагом нашего Я, а вера —
откровенным антиподом рационального в любом его виде. И для
того, чтобы экзистенциализм обрел такую форму, нужен был
Ницше. Только на фоне ницшеанского отрицания культуры
можно объяснить ту трансформацию, которую претерпевает
экзистенциализм у Шестова.
*Г. Ж Аелез: плоть &ззмеи Эуши
Гворческие биографии философов выглядят по-разному.
Вся система Гегеля содержится, как известно, уже в его
ранней работе «Феноменология духа ». Суть воззрений
Киркегора представлена в трех работах 1843 года, после чего все
только развивается и уточняется. Иначе обстоит дело с Кантом,
творчество которого делится на принципиально разные «докрити-
ческий» и «критический» периоды. Что касается французского
философа XX века Жиля Делёза, то его интересы перемещались
из одной области в другую, и специалисты выделяют от трех до
четырех этапов в его творчестве. При этом у Делёза шел процесс
уточнения его методологических принципов. И главным в этом
движении было выдвижение за пределы философской
классики, а затем и философии вообще.
Известно, что Делёз изучал философию в Сорбонне, в
частности, под руководством Жана Ипполита. Его первая книга была
посвящена творчеству Д. Юма и называлась «Эмпиризм и
субъективизм» (1953). Вторым значимым произведением Делёза была
книга «Ницше и философия » (1962). Кроме того, в 60-е годы в
своих работах он анализирует взгляды Платона, Спинозы,
Канта, Бергсона. Уже в это время основным пафосом Делёза
является противостояние линии Платона и Гегеля с их пониманием идей
и идеального.
359
Второй этап в творчестве Делёза обычно связывают с
опубликованием его главной работы на основе докторской диссертации.
Эта работа под названием «Повторение и различие » была
опубликована в 1969 году, и в ней Делёз предложил свою
альтернативу как платонизму, так и кантовскому трансцендентализму. Его
метод так называемого «трансцендентального эмпиризма»,
представленный уже в работе о Юме, здесь направлен на
переосмысление и демонтаж кантовских априорных схем и понятий.
Третий и наиболее самобытный период творчества Делёза
начался после его встречи с психоаналитиком Феликсом Гватта-
ри. Именно после этого проблематика работ Делёза смещается в
социальную и политическую плоскость. Как раз вместе с Гватта-
ри Делёз издает в 1976 году работу «Ризома. Интродукция», в
которой предложено понятие «ризома », заимствованное из
биологии. По-гречески «rhiza» — это «корень». И слово «ризома» в
биологии применяют к разветвленным корням с множеством
узлов, в которых нет каких-либо признаков структуры и
организации. С подачи Делёза и Гваттари в современном
философском мышлении ризома стала символом сингулярности, в
противовес регулярности. Это проявление стихии, в
противоположность порядку, на который делали ставку классическая
философия и наука. Именно ризома, с этой точки зрения,
органична для области духа, в которой должна господствовать не
логика, а ассоциация как произвольное сцепление образов.
Сотрудничество Делёза с Гваттари привело к созданию
другой знаменитой работы «Анти-Эдип: капитализм и шизофрения »,
первая часть которой появилась в 1972 году, а вторая — в 1980.
Уже понятия «шизофренический дискурс» и бессознательно
действующие «машины желания» показывают, как далеко на
этом этапе Делёз уходит не только от классики, но и от
неклассического мышления в лице ницшеанства и фрейдизма. А затем
интересы Делёза окончательно сдвигаются в область политики и
искусства, доказательством чего являются его работа о
британском художнике Френсисе Бэконе в 1981 году и двухтомник о
кино, написанный в 1983-1985 гг.
Нас интересует начальный этап в творчестве Делёза, где он
еще связан с классической философской мыслью, но уже дает
ей свою трактовку. Даже там, где он исследует Юма и Спинозу,
Делёз видит значимость их творчества не в том, на что обращают
внимание остальные. И то же самое касается трактовки Делёзом
взглядов Ницше и Киркегора.
360
Начнем с того, что история философии, согласно Делёзу, есть
некий двойник философии, который предполагает максимально
возможное ее изменение. При этом философия, уточняет Делёз,
должна выглядеть аналогично коллажу в живописи. И в таком
философском коллаже, читаем мы в «Различии и повторении »,
«можно представить философски бородатого Гегеля,
философски безволосого Маркса на том же основании, что и усатую
Джоконду »609. Но искусство коллажа — это только средство и прием.
Гораздо важнее результат усилий Делёза, в котором философия
не только избавляется от классической проблематики, но в конце
концов лишается самого философского размышления,
родившегося 2,5 тысячи лет назад в античной Греции.
Занимаясь философской классикой, Делёз с самого начала
стремится усмотреть «иное в очевидном». «Очевидное» —это
существующая философская традиция. А «иное» возникает из
стремления увидеть в ней то, что авторы скрывали, или то, что
они могли сказать в иных условиях. Это выворачивание
авторской позиции наизнанку, чтобы увидеть ее нутро и тайные
импульсы. Такой способ прочтения классики Делёз определял как
положение «посреди читаемого ». И надо сказать, что он сам
прекрасно осознавал нетрадиционность такого подхода к учениям
прошлого. Широко известно следующее определение им своей
методы работы с классикой: «Я воображал себе, что за спиною
автора делаю ему ребенка, который должен бы быть его
ребенком, но в то же время чудовищем. Очень важно, чтобы ребенок
был его, поскольку необходимо, чтобы автор в самом деле
говорил то, что я его заставлял говорить »61°.
Нетрадиционность такого обращения с классикой в том, что
это одновременно деконструкция и творчество. Несмотря на
признаваемый им момент насилия, рождающего чудовищ, Делёз
часто, вслед за Ницше, сравнивает философствование с танцем,
а философа с танцором. Здесь стоит напомнить, что Киркегор в
борьбе с классической философией сравнивал себя с
Сократом — автором иронической рефлексии. Субъективные истины
Киркегора — продукт такого иронического самоанализа. Но для
Делёза, пишущего во второй половине XX века, Киркегор ценен
другой стороной своего учения. В его учении Делёз делает став-
609 Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.— С.12.
610 Цит. по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа //
Делёз Ж. Ницше.— СПб., 2001.— С. 171-172.
361
ку именно на «повторение», и последнее у него означает
окончательный выход за пределы рефлексии. Гегелевскому
логическому движению, считает Делёз, в конечном счете, должно быть
противопоставлено не иное понимание движения или иная логика, а
реальное действие. На смену логике, подчеркивает он, должны
прийти вибрации, вращения, кружения, танцы и прыжки,
которые воздействуют непосредственно. Именно такого рода
движения и характеризуют, по Делёзу, философа в его творчестве.
В небольшой книжке «Ницше », изданной в 1965 году, Делёз
прямо заявляет, что творец — это «законодатель жизни, танцор ».
И тут же без перехода он уточняет, что «вырождение
философии начинается с Сократа»611. Настоящими философами, по
мнению Делёза, были «досократики », которые выражали
существо жизни, представленное в образе Диониса. Что касается
Сократа, то он «изобрел метафизику », задав жизни меру и
границу. И главное — он сделал мерой жизни «высшие ценности», а
именно Божественное, Истинное, Прекрасное, Благое. «В образе
Сократа,— пишет Делёз,— на сцену выходит философ, который
добровольно и утонченно порабощает себя, причем навека »ш.
Как именно «вырождалась » философия в классику,
порождая «высшие ценности», Делёз подробным образом разбирает в
материале 1969 года «Платон и симулякр». Без такого показа,
считает он, невозможен проект Ницше, который предлагал
«перевернуть платонизм вверх ногами ». Главный мотив теории идей
Платона, закрепившей существование «высших ценностей»,
Делёз обнаруживает в области репрезентации, где различаются
идея и образ, оригинал и копия, модель и симулякр. А в
платоновской диалектике он предлагает видеть не способ деления на
роды и виды бытия, а метод отбора по происхождению.
«Платонизм — пишет Делёз,— философская «Одиссея», а
платоновская диалектика — это не диалектика противоположностей или
противоречия, а диалектика соперничества (amphisbethesis),
диалектика соперников и истцов.... Глубинный смысл этого
метода заключается в принципе отбора по происхождению и
родословной. Он просеивает и сортирует претензии, отличая
истинного претендента от ложного »613.
6.1 Цит. по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа //
Делёз Ж. Ницше.— СПб., 2001.— С. 27.
6.2 Там же.
ш Делёз Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и
текстуальность. Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.— С. 226.
3S2
Указанная селекция, согласно Делёзу, касается, к примеру,
душ в диалоге «Федр», где души, созерцавшие Идеи, имеют
предпочтение, по сравнению с душами, наполненными низменными
намерениями. Предпочтение, указывает Делёз, в таком случае
всегда дается тому, кто ближе к истокам, а значит к оригиналу.
На другом краю в этой иерархии стоит симулякр как отдаленное
подражание и мираж.
В этой системе отбора, считает Делёз, симулякр
обнаруживает себя как извращение и отклонение. В нем доминирует не
подобие, а несходство. Сравнивая образ идеи и симулякр,
Делёз пытается убедить нас в том, что именно Платон закладывает
основу основ классической философии, в которой всякое
подобие есть благо, а несхожесть и отклонение — порок. «Подобие,
будучи как внутренним, так и духовным,— отмечает Делёз,—
является мерой любой претензии^. И главная претензия
философской классики — это претензия на проникновение в
скрытую сущность оригинала.
Характеризуя симулякр, Делёз говорит, что он не имеет
своего первообраза или модели, в лучшем случае он модель Другого
(l'Autre). Пытаясь оттенить специфику симулякра, он
сравнивает Бога и человека, который был сотворен по образу и подобию
оригинала. Но, утратив в результате грехопадения подобие с
Богом, человек, согласно Делёзу, стал симулякром.
В отличие от копирования отношений и пропорций оригинала,
симуляция в трактовке Делёза связана с безумием и
становлением безграничного. Симулякр не признает равенства и границы, он
может быть одновременно больше и меньше. «Наложить границу
на это становление, упорядочить его в соответствии с Тем же
Самым, связать его с подобием — читаем мы у Делёза,— и сделать
это именно стой стороны, которая остается мятежной,—
подавить ее настолько глубоко, насколько возможно, заточить в
пещеру на дне Океана — такова цель платонизма с его волей
обеспечить полную свободу изображений над симулякрами »615.
Как мы видим, из миража и слабого подражания симулякр
вдруг превращается в мятежного вестника стихии и хаоса. И
достигается такое смещение акцентов не путем аргументации, а
чисто литературными приемами. Это следует подчеркнуть имен-
ш Делёз Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и
текстуальность. Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.— С. 229.
6,5 Там же.— С. 231.
313
но в отношении анализа платонизма как одного из наиболее
концептуальных у Делёза. Уже здесь он умело подменяет
логическую аргументацию художественными образами. А впоследствии
эта метода станет определяющей в его творчестве.
Вся классическая философия, согласно Делёзу, стремится
утвердить принцип репрезентации во всех областях,
распространить его на бесконечно большое и бесконечно малое. Делается
это во имя телеологизма, эссенциализма и высшего смысла
истории. И тем не менее, пишет Делёз, с определенного момента си-
мулякр заявляет о себе. Происходит это, прежде всего, в
искусстве, где он проявляет себя как власть фантазма. В
произведениях современного искусства выступают на поверхность
расходящиеся серии, лишенные центра циклы, состояние хаоса
и агрессия симулякра.
Таким образом, мир классики — это мир соразмеренности,
подобий и копий, а современный мир означает победу силы
симулякра. В этом случае подобие становится производным различия. И это,
согласно Делёзу, как раз и совпадает с «переворачиванием
платонизма ». «Таким образом, «перевернуть платонизм вверх
ногами »,— пишет он,— связано с возвышением симулякра и
утверждением его в своих правах среди копий и изображений. Проблема
более не связана с проведением границы между сущностью и
видимостью, моделью и копией. Это различение полностью
действует внутри мира репрезентаций. Скорее, она связана с
предпринимаемым ниспровержением этого мира — «сумерками богов»616.
Приведенный здесь отрывок весьма важен, чтобы понять, как
извлекает Делёз «иное » из «очевидного ». Ведь сущность и
явление только внешне напоминают модель и копию. Но выдать
сущностное единство за внешнее сходство — кредо любого
эмпирика. Именно такого рода подмена в философском движении,
которое Делёз любит сравнивать с игрой, превращает Платона в
первого семиотика, а семиотику — в основу классической
философии. И в такой игре и круговерти Делёз умудряется
избавиться от главного — проблемы идеального, которая собственно и
прославила Платона как величайшего философа.
Платон у Делёза семиотик, а не идеалист — вот в чем дело.
Соответственно идея у него утрачивает свою специфику —
всеобщность. И проблему универсалий, подобно Юму, Локку и
6,6 Делёз Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и
текстуальность. Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.— С. 235.
m
Росцелину, Делёз считает иллюзорной и ложной. А в
результате платоновская идея в его подаче отличается от вещи не как
идеальное от материального и общее от частного, а как одно
единичное от другого единичного. Но это лишь один из ключиков к
его удивительной «концепции»
Термин «концепция » здесь употреблен совсем не случайно.
Ведь философское творчество Делёз характеризует как создание
«концептов». «Просто нам тоже пришло время задаться
вопросом, что такое философия, — читаем мы в совместной книге Делё-
за и Гваттари 1991 года. — Мы и раньше все время его ставили, и
у нас был на него неизменный ответ: философия — это искусство
формировать, изобретать, изготовлять концепты »617.
В книге «Что такое философия? » речь идет о важнейших
концептах философии Делёза —сам «концепт», «планимманенции»,
«концептуальный персонаж » и др. И первое, что бросается в
глаза — это некий скепсис в отношении симуляции, которой авторы
явным образом противопоставляют концептуальную
деятельность. В работе о Платоне Делёз склонен говорить о симуляции с
патетикой, но за четверть века симулякры успели показать себя
не с лучшей стороны. «Переживая новые и новые испытания,—
пишут авторы во введении к «Что такое философия? »,—
философия, казалось, обречена была встречать себе все более нахальных
и все более убогих соперников, какие Платону не примерещились
бы даже в самом комическом расположении духа. Наконец, до
полного позора дело дошло тогда, когда самим словом «концепт »
завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама — все
коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы
творцы, это мы концепторы)... Нет событий, кроме презентаций,
и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать. Этот
общий процесс подмены Критики службой быта не обошел
стороной и философию. Симулякр, имитация какого-нибудь пакета
с лапшой стала настоящим концептом, а презентатор продукта,
товара или же художественного произведения стал философом,
концептуальным персонажем или художником»618.
В народе такую ситуацию характеризуют «концептом»: «За
что боролись, на то и напоролись». Делёза явно не устраивают
обычные для массового общества подмены, когда торговец и
617 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?— М.; СПб., 1998.—
С. 10.
ш Там же.- С. 20.
365
производитель рекламы считают себя философами, а пакет с
лапшой воспринимают как свой концептуальный продукт. Но
Делёз сам долгие годы настойчиво превращал философию в си-
мулякр, а потому мог бы не удивляться, что в глазах обывателя
философия и лапша стали равноценными «продуктами».
И тем не менее, попытка хоть как-то возвысить концепты над
симулякрами не примиряет Делёза с Платоном и философской
классикой. Его отношение к философии остается по сути тем
же, и он продолжает привязывать философа к области
единичного. «Универсалии созерцания, а затем Универсалии
рефлексии,— читаем мы в «Что такое философия? »,— таковы две
иллюзии, через которые уже прошла философия в своих мечтах о
господстве над другими дисциплинами (объективный идеализм
и субъективный идеализм), и ей доставит ничуть не больше
чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин и
отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствующими де
доставить нам правила для воображаемого господства над
рынком и масс-медиа (интерсубъективный идеализм). Творчество
всегда единично, и концепт как собственно философское
творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип
философии состоит в том, что Универсалии ничего не объясняют, они
сами подлежат объяснению»619.
Здесь перед нами очередная подмена. Ведь из того, что
универсалии требуют своего объяснения, совсем не следует то, что
они фиктивны. Но для Делёза, который начал свое
философское творчество с Юма, причинно-следственные связи, скорее
всего, тоже мало что значат. Главным способом обоснования у
него, в противовес философам-классикам, является декларация.
А декларацию дополняет наглядная агитация, которая в книге
о сути философии представлена рисунками620.
Мысль Делёза предельно наглядна. Ее можно было бы
сравнить с живописью, если бы та имела объем. (Недаром под конец
жизни Делёз обращается к исследованию изобразительного
искусства). Она принадлежит, скорее, к области представлений,
чем понятий. И на эту особенность философского стиля Делёза
без всякой зауми, просто и ясно, указывает переводчик «Что
такое философия?» С. Зенкин. Казалось бы, пишет он, слово
"» Аелёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?— М.; СПб., 1998.—
С. 16.
"° См.: там же.— С. 38, 75.
366
«концепт» нужно перевести на русский язык как «понятие».
Ведь философия — это наука о понятиях, разве не логично? На
практике, однако, замечает Зенкин, встает одно препятствие за
другим. Прежде всего, Делёз и Гваттари нигде не связывают
«концепт » с «пониманием ». Зато постоянно рифмуют его с
терминами «проспект», «аффект» и «перцепт». И это склоняет
переводчика к «непереводному» варианту «концепта»621.
Дальше — больше, пишет он, поскольку объем «концепта » у
Делёза и Гваттари иной, чем у «понятия », авторы настаивают на
том, что наука не имеет концептов. Но это, конечно, не означает,
что у науки нет понятий. Концепт, пишет Зенкин,— «очень
специфический вид понятий», свойственных философии, а потому
для иных сфер мысли авторы используют другие французские
термины «notion», «idee».И,наконец,главное: концепты —
нечто, скорее, не процессуальное, а пространственное. «Они
описываются,— замечает Зенкин,— как нечто хоть и изменчивое,
но принципиальное обозримое: у них есть «составляющие»,
неправильные внешние очертания, они накладываются друг на
друга, соединяются «мостами ». Правда, в каждом концепте
заключено некое мыслительное «событие», часто совершаемое
особым «концептуальным персонажем»..., но это отнюдь не всегда
событие понимания, «конципирования ». Концепты
множественны, возникают случайно, взаимодействуют «по соседству» и
случайно же реорганизуются появлением новых «соседей»622. Тем
не менее, Зенкин подчеркивает, что при всей своей простран-
ственности, в большинстве контекстов концепты выглядят как
нетелесные. «Концепты — заключает он,— что-то вроде
кристаллов или самородков смысла — абсолютные
пространственные формы»623.
И такие же сложности возникают с «планом имманенции »
как вместилищем и полем действия концептов. Если русское
слово «план » ассоциируется с некой плоскостью, то термин «plan »
у Делёза и Гваттари не является плоским, а имеет «переменную
кривизну» с «диаграмматическими чертами ».Ему присущи
«сгибы » (именно так Зенкин переводит термин «pli », не
удовлетворившись распространенным переводом «складка »). Кроме того,
"' См.: Зенкин С. Послесловие переводчика // Делёз Ж., Гваттари Ф.
Что такое философия?— М.; СПб., 1998.— С. 281-282.
622 Там же.- С. 281.
62i Там же.- С. 282.
367
он обладет еще и «толщиной ». И в этой толще плана происходят
волнообразные деформации с «бесконечными скоростями »624.
Переводчик проводит параллель между концептами Делёза
и бестелесными смыслами-лептонами у античных стоиков.
Можно, конечно, еще провести параллель между вибрациями
концептов в пространстве имманенции и пространственными
перемещениями идей и душ у Платона. И надо сказать, что сам Делёз
указывает на эту особенность в платонизме. Но если
классическая философия в дальнейшем будет изживать подобный
«натурализм » в понимании идей как наследие мифомышления, то
Делёз сознательно выдвигает этот момент на первый план. И в этом
сказываются фундаментальные предпочтения неклассической
философии на этапе постмодерна.
Хотя аналогия по большому счету не может заменить
объяснения, бывают аналогии и аналогии. Что же касается Делёза, то
здесь напрашивается параллель между «планом имманенции » и
той реальностью, которая представлена в философии Юма.
Изначальной реальностью, которая открылась скептику Юму,
оказались многообразные сочетания единичных впечатлений и идей,
которые взялись ниоткуда и представляли только самих себя.
И эти «натянутые » и «нелепые » построения сам Юм в сердцах
именовал «бредом».
Но, скорее всего, построения Юма Делёз воспринял как
положительный опыт. Ведь трансцендентальный эмпиризм
Делёза продолжает то, что делал Юм, в двух смыслах. Во-первых,
Делёз разрушает все привычные представления о связях,
предлагая везде, где было сходство, увидеть различие. А, во-вторых,
он стирает грань между субъективным и объективным,
выдавая свою конструкцию за единственную реальность, синкретизм
которой не предполагает оппозиций объекта и субъекта, бытия
и мышления.
Различие в трактовке Делёза несовместимо ни с тождеством,
ни с подобием. Несовместимо оно также с аналогией и
противоположностью. Следуя Юму в ликвидации общего, Делёз даже у
различий отнимает возможность быть сопоставленными,
поскольку это предполагает некий общий стандарт. Именно с этой точки
зрения Делёз осуществляет критику Канта в своей работе 1963
года «Критическая философия Канта: учение о способностях».
624 См.: Зенкин С. Послесловие переводчика // Делёз Ж. Гваттари Ф.
Что такое философия?— М.; СПб., 1998.— С. 282-283.
368
«Критикам » Канта Делёз дает свою собственную критику,
обнажающую «иное в очевидном ».Но при схожем
«разрушительном » духе критика у Канта и Делёза — это разная критика.
Кант задал новый импульс развитию философской классики.
Делёз в своих историко-философских работах надевает даме по
имени «классика » на шею петлю, ласково убеждая ее, что это
модный шарфик. Получив мощное классическое образование,
Делёз использует его именно как удавку. И в этом он не одинок.
Все модернистское и постмодернистское искусство создают не
люди с «улицы », а выпускники художественных школ и
литературных институтов.
Историко-философские работы Делёза интересны именно
тем, что удавка в них еще не затянута до конца, а значит
клиентка еще жива. И у многих это порождает иллюзию, будто перед
нами лишь одна из виртуозных и самобытных интерпретаций
«золотого фонда » мировой философии. Именно так
представлены работы Делёза о Канте, Спинозе и Бергсоне в их русском
издании 2000 года. Но вернемся к нашей критике критики Делё-
зом кантовских «Критик».
Одна из основных задач Делёза — рассеять иллюзию под
названием «трансцендентальное единство апперцепции ».
Трансцендентальную функцию, в отличие от Канта, он видит в том, чтобы
обнажить подпочву этого единства, связанную с различием. Душа
у Канта, отмечает Делёз, «ощущается как неопределенное
сверхчувственное единство всех способностей »625. Но это единство на
деле не просто допускается, «оно подлинно порождается,
порождается в разладе »626. Пытаясь и здесь увидеть «иное » в
«очевидном », Делёз допускает генезис человеческих способностей.
Но это совсем не тот генетический подход, который отличал
Фихте. В основании способностей Делёз пытается усмотреть не
закономерное, а стихийное. А в самом опыте его, прежде всего,
интересует различное и неопределенное, которое связано с
апостериорным, а не априорным. «Но рассудок никогда не задает а
priori конкретную материю феноменов,— пишет он,— детали
реального опыта или частные законы того или иного объекта.
Последние познаются только эмпирически и остаются случайно
сложившимися [contingentes] в отношении нашего рассудка »627. .
625 Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях.
Бергсонизм. Спиноза.— М., 2000.— С. 63.
"' Там же.
"7 Там же.— С. 75.
360
Еще более определенно высказывается Делёз в предисловии
к английскому изданию книги о Канте в 1984 году. «Но мы
видим, что Кант,— пишет он через двадцать лет,— в том возрасте,
когда великие писатели редко что могут сказать новое —
берется за решение проблемы, которая вынужденным образом
подведет его к весьма необычному предприятию: если способности
могут, таким образом, вступать в вариабельные отношения,
регулируемые, тем не менее, лишь той или иной из них, то отсюда
должно следовать, что все вкупе они способны вступать в
свободные и неуправляемые отношения, когда каждая способность
движется к собственному пределу и все-таки демонстрирует
возможность некой гармонии с другими способностями... »628.
По мнению Делёза, за управляемым у Канта всегда
проглядывает неуправляемое, а за согласием — породивший его
разлад. И в этом существенная разница восприятия Канта
представителями классической и неклассической традиции. Если Фихте
ищет общий корень у способностей, приписываемых
трансцендентальному субъекту, то Делёз, наоборот, сознательно дробит
и разобщает их. Фихте усиливает момент единства между
чувственностью, рассудком и разумом. Делёз усиливает момент/>оз-
личия между этими способностями. В этом, повторим еще раз,
принципиальная разница трансцендентализма Фихте и
трансцендентального эмпиризма Делёза, классической и
неклассической трактовки Канта.
Везде, где это можно, Делёз пытается заменить предикат
«есть » на связку «и ». В этом он согласен с теорией паратакси-
ческого дискурса, в которой преобладает выстраивание в ряды.
Суть эмпирической логики Делёза в том, что это логика
множественности. «Каждая множественность,— отмечает Делёз в
предисловии к другой работе,— растет с середины подобно
стеблю травы или ризоме. Мы постоянно противопоставляем ризо-
му и дерево как две концепции или даже как два крайне разных
способа мышления. Линия вовсе не идет от одной точки к
другой, а проходит между точками, постоянно раздваиваясь и ди-
вергируя »629. Такие множественности, по убеждению Делёза,
составлены из становлений без истории, из индивидуаций без
628 Цит. по: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди...//
Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсо-
низм. Спиноза.— М., 2000.— С. 336.
629 Цит. по: там же.— С. 327.
370
субъекта, подобно тому как индивидуализируются река,
событие, день и час. Но с наибольшим пафосом этот подход
провозглашается в работе 1975 года «Ризома. Интродукция»: «Будьте
ризомой, а не деревом! Никогда не сажайте! Не сейте, не рвите!
Будьте не единством, а множественностью! Рисуйте линии, а не
точки! Скорость превращает точку в линию! Торопитесь, даже
стоя на месте. ...Не будите в себе Всеобщее!»630
Делёз имел скандальную репутацию «провокатора от
философии». И действительно, выдвинувшись на авансцену
философской жизни в середине XIX века, неклассическая философия
уже в XX веке в лице Делёза дала наиболее парадоксальный
результат. Если Шопенгауэр и Киркегор отрицали классическую
философию, то в творчестве Делёза, как уже говорилось,
намечен выход за пределы философии вообще. Уже здесь
философия превращена в своеобразный философский театр, в
котором запрещено какое-либо размышление. Такой театр должны
заполнять движения, которые, как считает Делёз, напрямую
западают в душу, будучи одновременно душевными
движениями. И таким образом стирается грань между внутренним и
внешним, субъективным и объективным, мышлением и бытием.
«Бесконечное движение двойственно,— читаем мы в «Что
такое философия? »,— и между его сторонами — всего лишь сгиб.
В таком смысле и говорят, что мыслить и быть — одно и то же.
Точнее, движение — это не только образ мысли, но и материя
бытия. Мысль Фалеса, извиваясь ввысь, вовращается в виде воды.
Когда мысль Гераклита превращается в polemos, на нее
обрушивается огонь.... У плана имманенции две стороны — Мысль и
Природа, Physis и Nous. Поэтому столь многие бесконечные
движения заключены одно в другое, сгибаются одно внутри другого,
так что возвратный ход одного мгновенно приводит в движение
другое и этим грандиозным челноком ткется план имманенции »631.
Парадоксальным образом, утверждая различия во всем и вся,
Делёз игнорирует существенное для классики различие между
бытием и мышлением. Здесь для него как раз важно говорить об
одном и том же. И причина такой «непоследовательности »
лежит на поверхности. Ведь в лице не только Жиля Делёза, но и
всего постмодерна, неклассическая философия пришла к свое-
630 Цит. по: там же.— С. 321.
631 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?— М.-СПб., 1998.—
С. 52.
371
образному итогу, а точнее — вернулась вспять, к истокам, к той
ситуации, в которой место философии еще занимал миф, а
Сократу предшествовали «досократики ». Но если у древних
греков аналогичное состояние означало начало культуры, то у
современных интеллектуалов — это итог сознательного «раскуль-
туривания ». И такое «раскультуривание » означает не только
упразднение разницы между бытием и мышлением, но и
разрушение грани между Истиной и Заблуждением, Добром и Злом,
Прекрасным и Безобразным.
Настаивая на бесконечном числе больших и малых различий,
в постмодерне не признают того фундаментального различия, с
которого началась вся классическая культура и классическая
философия. Речь идет о различии материального и идеального.
Ведь, не различив материальное и идеальное, нельзя понять их
единства, которое есть опосредованное единство. В мире
культуры, повторим очередной раз, этим опосредованием является
деятельность человека. Но для Делёза, как и для Киркегора,
любое опосредование — чудовище, напоминающее о Гегеле. А
потому Делёзу, безусловно, ближе Фалес и Гераклит. И в этом,
нужно отдать должное Киркегору, их симпатии расходятся.
Справедливости ради нужно сказать, что Делёз
симпатизировал не только «досократикам», но и Спинозе, у которого он
сделал акцент на бесконечном многообразии атрибутов и
модусов субстанции. Вторым важным моментом в учении Спинозы
Делёз считал тождество души и тела. Здесь Делёза опять не
волнует акцент на тождестве, а значит собственная
непоследовательность, а волнует то, что у Спинозы граница между телом и
душой якобы стирается.
Тело у Спинозы — модус протяженности, а душа — модус
мышления. И при этом душа оказывается идеей
соответствующего тела. Об этом идет речь у Делёза в работе «Спиноза » 1970 года.
Что касается вещи, то она, подчеркивает Делёз, одновременно
является телом и душой, вещью и ее идеей. Но при этом он
различает идею того, чем мы являемся, которая, согласно Спинозе,
принадлежит Богу, и идеи, выражающие состояния нашего тела.
Последние как раз и интересуют Делёза больше всего.
Делёза привлекает у Спинозы то, что тот исключает прямое
взаимодействие между душой и телом, как это было в
средневековой философии. Но такое взаимодействие исключал и
Декарт, полагая, тем не менее, изначальное соответствие между
ними, установленное Богом. В том же направлении мыслил и
972
Лейбниц, который ввел понятие параллелизма состояний души
и тела. Спиноза, по мнению Делёза, в этом вопросе идет
значительно дальше, предполагая не только изоморфизм феноменов
тела и феноменов души, но и изономию принципов протяжения
и мышления, а также изолошю в отношении сути бытия.
«Наконец,— пишет он,— есть тождество бытия (изология), состоящее
в том, что одна и та же вещь, одна и та же модификация
производится в атрибуте мышления под модусом души и в атрибуте
протяженности под модусом тела. Отсюда непосредственно
вытекают практические следствия: в противоположность
традиционной моральной точке зрения все, что является активным
действием в теле, также является активным действием в душе, и
все, что является пассивным состоянием души, также является
пассивным состоянием тела... »632.
При этом Делёз различает эпистемологический и
онтологический параллелизм души и тела у Спинозы. Первый
заключается в том, что идея в мышлении и ее объект в каком-то ином
атрибуте формируют одну и ту же «индивидуальность », а второй
состоит в том, что модусы во всех атрибутах формируют одну и
ту же модификацию633. А конечная форма спинозовского
параллелизма души и тела у Делёза такова: «одна и та же
модификация выражается одним модусом в каждом атрибуте, причем
каждый модус формирует индивидуальность вместе с идеей,
которая представляет ее в атрибуте мышления »634.
Оставим историкам философии возможность разбираться в
том, как именно Делёз сумел представить «очевидное » у
Спинозы в виде «иного ». Для нас важнее понять, к каким выводам в
конце концов он пришел, характеризуя соотношение души и
тела. Эти выводы, вобщем-то, можно предугадать, зная пафос и
общий строй его учения. Но, чтобы не опускаться на уровень
деклараций, приведем еще одну цитату. Речь идет о
расширенном варианте работы 1970 года, который был опубликован в 1981
году. И среди более «зрелых »суждений этого периода можно
найти и такое: «Тело может быть каким угодно; это может быть
какое-то животное, тело звуков, души и идеи; оно может быть
лингвистическим телом, социальным телом, некой коллектив-
632 Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях.
Бергсонизм. Спиноза.— М., 2000.— С. 236.
633 См.: там же.— С. 237.
"« Там же.— С. 238.
373
ностью. Мы называем долготой тела совокупность отношений
скорости и медленности, движения и покоя между частицами,
компонующими его форму с этой точки зрения, то есть, между
не оформленными элементами. Мы называем широтой
совокупность аффектов, занимающих тело в каждый момент.... »635.
Мы прерываем на этом месте цитату, потому что и так ясно,
насколько продвинулся здесь Делёз в трактовке учения
Спинозы как «иного ». В данном контексте тело уже почти растворило
в себе душу, лишив соответствующую проблему какого-либо
смысла636. Однако не стоит думать, что к таким выводам
относительно души Делёз пришел в зрелом возрасте или под влиянием
Гваттари. Все значительно серьезней, поскольку нечто
аналогичное можно вычитать уже в «Различии и повторении » и
«Логике смысла », которые писались примерно тогда, когда и
первый труд о Спинозе. А потому в представлениях Делёза о душе
мы кое-что уточним, опираясь на эти работы.
«Одно все-таки несомненно,— пишет Делёз во введении к
«Различию и повторению»,— когда Кьеркегор говорит об
античном театре и о современной драме, мы уже в другой стихии,
не в стихии рефлексии. Мы открываем мыслителя, живущего
проблемой маски, чувствующего внутреннюю пустоту,
присущую маске, стремящегося заполнить ее, наполнить, пусть и
«совершенно различным»...»637. Пустоту маски Киркегор, по
мнению Делёза, спешит заполнить различием конечного и
бесконечного, выраженным в действии, движении. Именно здесь Делёз
говорит о проблеме движения, непосредственно западающего в
душу в виде душевного движения.
Тем самым Делёз по сути призывает к своеобразной эксте-
риоризации души. Но если для этого Делёз делает акцент на
киркегоровской маске> то у последнего можно обнаружить и
6" Цит по: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди...//
Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсо-
низм. Спиноза.— М., 2000.— С. 346
"* На то, что Делёз в трактовке монизма Спинозы игноририрует
противоположность идеального и материального указывает современный
исследователь творчества Спинозы В. Ойттинен. В этом случае феномен
идеального, обнаруженный философской классикой, утрачивает свою специфику.
Но, согласно Ойттинену, телесное у Делёза растворяется в бестелесных
смыслах. И в этом наши интерпретации позиции Делёза расходятся. (См.:
Oittinen Vesa. Spinozistische Dialectic: die Spinosa-Lectüre des französischen
Strukturalismus und Poststructuralismus.— Frankfurt am Main, 1994.— P. 130).
637 Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.— С. 22.
374
другие акценты. Так в работе «Или — Или » Киркегор
характеризует гримасу, которая соответствует случайной
индивидуальности, в противоположность полноценной личности.
«Жизненной задачей «серьезного » эстетика,— пишет Киркегор,—
является таким образом культивирование своей случайной
индивидуальности, во всей ее парадоксальности и
неправильности; в результате — гримаса, а не человек»638.
Как мы видим, цитата, вмонтированная в философский
коллаж, а не взятая в собственном контексте, может быть только
средством. И вряд ли Киркегора удовлетворила бы Делёзовская
трактовка души как маски вместо человеческого Я. Ведь
замыслы Киркегора определялись пафосом самодостаточности
индивидуального субъекта. Неклассическая философия в целом
возникала из поначалу разрозненных и противоречивых попыток
спасти неповторимый внутренний мир субъекта от диктата
внешних объективных сил. Человеческую индивидуальность в те
времена пытались спасти от диктата всеобщего, свободу и
творчество — от регламентации, чувства — от рассудочных форм.
Но для Делёза философия уже только коллаж и театр. А
Киркегор в этом «философском театре » — работник, задача которого
потрудиться над фрагментацией человеческого Я как итогом
философского движения. Именно о таком Я и идет речь в итоговой
части «Различия и повторения ». Там, где обнажается
«бездонность », из которой все проистекает, по словам Делёза, нет ни Я,
ни субъекта. «Это игра на двух столах,— объясняет он, используя
образы Ницше.— И как же не быть трещине на границе, на стыке
столов? Как узнать на первом — самотождественное
субстанциальное Я, на втором — себе подобный континуальный мыслящий
субъект? Исчезло тождество игрока, а также подобие
расплачивающегося за последствия и воспользовавшегося ими. С одной
стороны, лишь разбитое... пустой формой Я. С другой стороны —
только пассивный, навсегда распавшийся в пустой форме мысля-
ший субъект. Расколотому небу вторит разбитая Земля »639.
Как мы видим, о процессе фрагментации Я, вслед за Ницше,
Делёз здесь говорит весьма патетично. Но одно дело
полумифологическая патетика, а другое дело — анально-оральная
эстетика, к которой тяготеет исследование человеческого Я в «Логике
смысла», появившейся в 1969 году.
"» Киркегор С. Или—или.— М., 1991.— С. 294.
"9 Там же.— С. 341.
375
«Налицо,— пишет здесь Делёз,— переориентация всей мысли
и того, что подразумевается под способностью мыслить: больше
нет ни глубиныу ни высоты. Не счесть насмешек в адрес Платона
со стороны Киников и Стоиков. И всегда речь идет о том, чтобы
низвергнуть Идеи, показать, что бестелесное пребывает не в
вышине, а на поверхности и что оно — не верховная причина, а лишь
поверхностный эффект, не Сущность, а событие »640.
Мы уже говорили о том, что противоположность
материального и идеального Делёз преодолевает в представлении о теле, к
которому по сути редуцирована душа. Место идеального и
материального заняло «тело». Вместо сущности речь идет о
«событии ». Место отдельного и всеобщего занимает «сингулярность »,
а место истины и лжи — «смысл ».
Но такая картина мира требует не только новых концептов,
но и трансформации языка. Все тут, вплоть до языка,
выворачивается наизнанку. «Глубже всякого дна — поверхность и
кожа,— пишет Делёз в «Логике смысла».— Здесь
формируется новый тип эзотерического языка, который сам по себе
модель и реальность»641. «Эзотерика » буквально означает то, что
внутри. В древности эзотерическим знанием называли
потаенное знание, недоступное для непосвященных. Но у Делёза
все наоборот. И «эзотерическим языком» оказывается язык
«поверхности » и «кожи ». И не нужно здесь искать потаенного
смысла, если все находится сверху, а язык, выражающий
поверхность,— сам себе модель и реальность.
Естественно, когда человек редуцирован до тела, в котором
главное — это «поверхность», то его жизнь может проявляться
лишь в физиологических актах. И чем необычнее и
произвольнее этот акт, тем «содержательнее » кажется философия, что и
подтверждает в своих «сериях » Делёз, который, в частности,
пишет: «Естественным продолжением оральности, является
каннибализм и анальность. В последнем случае частичные
объекты — это экскременты, пучащие тело матери так же, как и
ребенка. Частицы одного всегда преследуют другое, и в этой
отвратительной смеси, составляющей Страдание грудного ребенка,
преследователь и преследуемый — всегда одно и то же. В этой
системе рот-анус, пища-экскременты тела проваливаются сами
и сталкивают другие тела в некую всеобщую выгребную яму.
640 Делёз Ж. Логика смысла.— М., 1995.— С. 161.
641 Там же.- С. 172.
376
Мы называем этот мир интроецированных и проецированных,
пищеварительных и экскременталъных частичных внутренних
объектов миром симулякров »642.
Напомним, что «Логика смысла » писалась в 69-м, когда си-
мулякр был еще мил сердцу Делёза. А потому он кладет его в
основу своей анально-оральной метафизики. В свое время
позитивизм заменил метафизику наукой. В свою очередь,
экзистенциализм, а за ним постмодернизм, стал отрицать науку как
ущербную форму сознания. Но по логике отрицательности, а
двойное отрицание есть утверждение, он возвращается к
метафизике. Только это уже не классическая метафизика мира, души
и Бога, а метафизика экскрементальная. Юм, опираясь сугубо
на опыт, тоже создал умозрительный конструкт по поводу идей
и впечатлений. Что касается Делёза, то его трансцендентальный
эмпиризм оборачивается метафизикой тела, анально-оральных
выделений, кожи, гениталий и шизофрении. В основе этой
метафизики корни плоти, лишенной идеального.
Делёз, как и Юм, не может окончательно выйти за пределы
философии. Он балансирует на ее границе, сохраняя тягу к
умозрительности, но рассуждая не об идеальном, а о
трансформациях тела в его отсутствии. То тело, с которым имеет дело
Делёз,— это отнюдь не природное тело и природный организм,
способный жить и радоваться жизни без всяких идеалов.
Делёзовское «тело » — это то, что осталось от человека за
вычетом идеального. И здесь нельзя удержаться от упоминания еще
об одном из «концептов »Делёза — заимствованному Арто «теле
без органов».
Человек тем и отличается от животного, что из его
деятельных органов нельзя «вычесть » идеальное. Разум и нравственное
чувство, эстетический вкус и религиозные устремления —
пример таких человеческих «органов», в которых идеальное
содержание ничем не заменить. И убрав из них идеальное, мы
обязательно получим ампутанта — «тело без органов»,
раздираемое «непосредственной» жаждой жизни и
физиологическими актами.
Делёзовское «тело » — как раз такой ампутант, у которого
есть телесные органы, но в них нельзя узнать органы человека.
О такого рода ампутированной религиозности по сути и идет речь
в работе В. Подороги «Жало и плоть. Физическая экономия
ш Аелёз Ж. Логика смысла.— М., 1995.— С. 224.
377
веры » в сборнике, посвященном Киркегору*43. Подороге, как и
Делёзу, нельзя отказать в остроумии и художественной
убедительности. Но, «сэкономив » на идеальном, мы даже в случае с
киркегоровским Авраамом получаем нечто, скованное телом в
общении с Богом.
«Силы внешнего, —замечает Подорога по поводу Авраама,—
уничтожают все телесные препятствия для полного выявления
амплитуды кричащего тела»644. Указанная амплитуда не
предполагает гримас боли, содрогания, звуков крика и пр. Опыт
«чистой религиозности » Авраама, в трактовке Подороги, выражен в
особой задержке дыхания, когда вдох и задержка совпадают с
погружением в «единственность и уникальность », а выдох
образует особое, замкнутое в себе «пространство жизни »645.
В данном случае весьма характерно то, что автор не призывает
видеть в указанной дыхательной технике всего лишь телесное
основание идеального религиозного чувства. Дыхание у него и
есть имманентный план веры, смысл которой в том, чтобы
«освободить в себе место для Бога », поскольку божественная сила
как раз и нисходит на тех, «кто обладает этой пустотой »646.
Подорога отмечает, что в преддверии веры человек должен «отпустить
от себя все то, что составляет собой независимое и автономное
«я».647 И в этом он, конечно, переоценивает устремления Кирке-
гора, который, прежде всего, желал устранения этического.
В итоге, согласно Подороге, человек в акте веры предстает
перед Богом, лишенным Я и души. «Сила события и
длительность его воздействия,— пишет он,— осуществляется на
косвенных путях (не через «душу» или «сознание»), понимать его
может только тело, становящееся плотью, т. е. тело,
проходящее определенные этапы преобразования »648. Но тело
становится плотью, как уже известно, в состоянии, определяемом
ныряльщиками как «апноэ ». А значит именно через задержку
дыхания тело здесь пытается достичь того, что ортодоксальные
христиане, как правило, связывали с усилием души.
"3 См.: Подорога В.А. Жало в плоть. Физическая экономия веры //
Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьер-
кегора.— М., 1994.
ш Там же.- С. 39.
645 Там же.— С. 41.
646 Там же.— С. 42.
647 Там же.
ш Там же.— С. 36.
378
Еще раз отметим оригинальность и эстетическую
привлекательность трактовки веры у Подороги. Сомнительно, однако,
то, что Киркегор мечтал как раз о такой ампутации религиозной
веры, редуцированной до напряжения плоти. Не верится и в то,
что, «сэкономив» на движениях души, можно решить
поставленную им задачу. Предложенный вариант веры, где она не
идеальный, а сугубо телесный «орган»,скорее,соответствует
«спокойному атеизму» самого Делёза. Хотя последнего
интересовала не столько вера, сколько сексуальность ампутированного
индивида без идеальных органов, но с максимально выраженной
«поверхностью ».
Возвращаясь к Делёзу, стоит уточнить, что интерес к
проблеме пола вполне органичен для такой методологии. Понятно
также, что если нет ни глубины, ни высоты, а есть только «тело »,
а у него «поверхность» и «кожа», то предметом нашего
внимания окажутся не только дырки на «поверхности», но и
некоторые, скажем так, неровности. Речь, конечно, идет о гениталиях.
В результате проблема «тела » с необходимостью переходит у
Делёза в проблему сексуальности. Этой проблеме он
специально посвящает двадцать восьмую «серию» своей «Логики
смысла », хотя эта тема поднимается не только здесь.
Зигмунд Фрейд в свое время рассматривал всю человеческую
культуру, с одной стороны, как результат «сублимации», а с
другой — как нечто «репрессивное » по отношению к
проявлениям человеческой сексуальности. Понятие «репрессивной
культуры » появилось в неомарксизме. Его не было ни у Фрейда, ни у
Ницше, ни у Диогена-Циника. Но сама проблема пола и
раскрепощения человеческой сексуальности у них уже имеется. Уже
Диоген прилюдно делал то, что делать считается глубоко
постыдным. Но Диоген считал всякий стыд ложным и подавляющим
человеческое «естество »: что естественно, то не позорно. В этом и
состоит одно из проявлений того, что называется цинизмом.
Но цинизм приобретает для нас отрицательный смысл
только тогда, когда мы ставим нравственный закон выше «естества ».
Именно этот закон является естественным для человека. И этим
человек отличается прежде всего от животных, которые стыда
не знают. И натурализм, и цинизм оказываются по существу
синонимами, потому что «естественный » человек отрицает
«духовного» человека, а, следовательно, все нормы морали, права,
вкуса и т. д. «Как можно осуждать инцест и каннибализм в той
области,— пишет в «Логике смысла » Делёз,— где страсти сами
370
являются телами, пронизывающими другие тела, и где каждая
отдельная воля является радикальным злом? »649
Здесь стоит уточнить, что в 1961 году, задолго до «Логики
смысла », вышла работа Делёза «Лукреций и натурализм », в
которой он представляет Лукреция и Эпикура как явных предтеч
своих теперешних воззрений. У этих мыслителей Делёза
привлекает то, что уже здесь, по его мнению, природа — это
«сумма, но не единое целое »6Î0. А потому с Эпикура и Лукреция,
согласно Делёзу, начинается натурализм и философский
плюрализм. Мы не будем касаться анализа Делёзом физики Лукреция
и Эпикура. Более интересна безусловная поддержка им теории
познания Лукреция, в которой, по его мнению, образы тоже
являются телами, а точнее, симулякрами.
И то же самое относится к этике Лукреция, связанной с его
атеизмом. Это мнимая вечность, пишет Делёз в поддержку
Лукреция, лежит в основе наших душевных тревог. Но вера в богов
и наши мучения из-за них — все те же симулякры651. А потому и
здесь вечности нужно открыто противопоставить Природу.
Первый философ, заявляет Делёз, был натуралистом. А из
натурализма следует, что боги — это религиозный миф, судьба — это
физический миф, а Бытие, Единое и Целое — это миф «ложной
философии, всецело пропитанной теологией »652.
Еще раз уточним, что так Делёз писал в 1961 году, но вскоре
несовместимость натурализма с верой в Бога утратила свою
актуальность. Зато к 1969 году в свете «сексуальной революции »
актуализировалась несовместимость натурализма с моралью. И
действительно, если человек — это тело среди других тел, в том
числе и живых тел, то его движение должно подчиняться законам
физики и биологии. По сути, на этом основании английский
утилитаризм сводил понятие «хороший» к понятию «полезный» и
«целесообразный ». Однако тогда выходит, что по законам
биологии человек должен пожирать других, в том числе себе подобных.
Но в том-то и дело, что людей нельзя есть не потому, что они
невкусные, или вредные для здоровья, а их нельзя есть потому,
649 См.: Подорога В.А. Жало в плоть. Физическая экономия веры //
Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьер-
кегора.— М., 1994.— С. 162.
650 Делёз Ж. Лукреций и натурализм // Интенциональность и
текстуальность. Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.— С.242.
'" Там же.— С. 249.
6,2 Там же.- С. 250.
380
что это безнравственно. Мотив тут сугубо идеальный, а не
материальный, и потому, если мы отрицаем идеальное вообще, то
мы отрицаем и нравственный мотив, а с ним и нравственный
закон — основной закон, который управляет человеческим
поведением и который радикальным образом отличается от законов
физики и биологии. А если такого закона нет, то тогда «все
позволено»...
Из натурализма и трансцендентального эмпиризма Делёза
следует, что такого закона как раз нет. «Что действительно
аморально,— пишет Делёз в «Логике смысла »,— так это
употребление этических понятий типа справедливое-несправедливое,
заслуга-вина»653. Нет ни заслуги, ни вины, ничего этого нет, есть
только «воля к событию».
История еще раз повторилась: если древний цинизм явился
результатом отрицания идеализма Платона, то новейший цинизм
Шопенгауэра и Ницше явился отрицанием идеализма Гегеля и
Маркса. И Маркс в данном случае идеалист в том изначальном
смысле этого слова, который связан с верой в идеалы. Но в
философии Делёза как «доктрине симулякра » отрицание идеала
доведено до логического конца, которым является похабщина. «Все,
что пишется,— ПОХАБЩИНА»,— читаем мы у Делёза,— (то
есть, всякое зафиксированное или начертанное слово разлагается
на шумовые, пищеварительные или экскрементальные куски)»654.
Не знаешь, как к этому относиться. В свое время различение
субъективного и объективного привело от мифа к Логосу, от
мифологии к философии. Слияние объективного и
субъективного совершенно неизбежно приводит обратно к мифу. Но, в
отличие от мифологии древней, наивной и непосредственной,
этот миф нарочитый и несущий в себе солидный элемент
софистики. Это своего рода философский изыск, что-то вроде
редкой породы собачек или однополой любви. Платон и Гегель здесь
третируются как слишком обыкновенные и банальные.
Итак, круг, пройденный неклассической философией,
привел к такой трактовке человека, когда душа телесна, а для
человека не может быть никаких идеалов. Сделав ставку на
единичное, обязательно утрачиваешь идеальное. И тогда душа вновь
редуцируется к телу. Но нельзя завершить разговор, не
вернувшись к теме повторения, где нашли выражение не только прово-
6,3 А*лёз Ж. Логика смысла.— М., 1995.— С. 181.
"« Там же.- С. 114.
381
кации, но и прозрения Делёза. А потому напоследок
сосредоточимся на этой теме.
Удивительным образом, но в творчестве Киркегора Делёз
выделил именно тему повторения, увязав ее с идеей Вечного
Возвращения у Ницше. «Но ничто не зачеркнет чудо их встречи
вокруг идеи повторения», пишет Делёз, имея в виду Киркегора и
Ницше. «Слово «повторение »они употребляют не
метафорически,— замечает он,— у них, напротив, особая манера
воспринимать его дословно и превращать в стиль»655.
Здесь стоит сделать еще одно уточнение, связанное с местом
Ницше в творчестве Делёза. Мы уже писали о том, что фигуре
Ницше была посвящена вторая крупная работа Делёза,
изданная в 1962 году. Существует мнение, что именно после выхода
этой книги Ницше стали воспринимать во Франции не только
как литератора, но именно как философа. Кроме того, своей
монографией Делёз разрушил стереотип экзистенциалистской
трактовки творчества Ницше, во многом сложившийся под
влиянием А. Камю.
После издания этой книги Делёз вместе с М. Фуко
организует коллоквиум в Руайомоне, посвященный творчеству Ницше.
И результатом дебатов в Руайомоне становится вторая книга
Делёза о Ницше, в которой он уточняет свое понимание этой
фигуры в философии. Определяющей темой у Ницше, по
мнению Делёза, является Венное Возвращение. И здесь он
ссылается на самого Ницше в «Ессе homo ». «Основная концепция этого
произведения,— писал Ницше в «Ессе homo» о «Так говорил
Заратустра »,— мысль о вечном возвращении, эта высшая
форма утверждения, которая вообще может быть достигнута... »656.
Делёз видит опасность в толковании Великого возвращения в
мифологическом ключе как мирового цикла и круговорота. Тем
более, что Ницше дает для этого повод. «Все идет, все
возвращается,— читаем мы в части третьей «Так говорил Заратустра »,—
вечто вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь
расцветает, вечно бежит год бытия »657.
Именно в качестве мирового цикла чаще всего представляют
себе Вечное возвращение у Ницше, и потому Делёз делает
акцент на другой его трактовке. В приведенной им подборке
текстов Ницше он в развернутом виде цитирует другое место из
6" Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.— С. 18
64 Ницше Ф. Соч.: В 2 т.— М., 1990.— Т. 2.— С. 743.
657 Там же.— С. 158.
382
части второй, где Великое Возвращение предстает как протест
против времени и «было » и стремление воли изменить порядок
вещей. «Спасти тех, кто миновали, и преобразовать всякое
«было » в «так хотел я » — читаем мы в данном месте у Ницше,—
лишь это я назвал бы избавлением »658.
Делёз чувствует двойственность идеи Вечного Возвращения
у Ницше и потому мнократно повторяет, что она означает
победу над временем, когда известных нам законов природы уже нет.
«Важно избавить вопрос о Вечном Возвращении,— пишет он в
работе «Ницше» 1965 года,— от всякого рода бесполезных и
фальшивых тем»659. Фальшивят те, считает Делёз, кто говорят,
что Великое Вазвращение было известно уже древним. Древние,
доказывает он, лишь предчувствовали эту тему, но в уста Зара-
тустры вложена современная нам мысль. Будь Вечное
Возвращение замкнутым циклом, добавляет он, что нового и
замечательного было бы в этой идее?
О цикличности Возвращения, согласно Делёзу, Заратустра
думает в состоянии болезни. «Больным его делает как раз идея
цикла,— пишет он,— мысль о том, что все возвращается, что
возвращается То Же Самое, что все к тому же самому и
возвращается. В этом случае Вечное Возвращение не что иное, как
гипотеза,— гипотеза банальная и страшная »66°. И здоровье
приходит к Заратустре вместе с переменой в понимании. Ему приносит
радость взгляд на Возвращение как на противоположность
унылой природной очевидности. Заратустра, наконец, постигает, что
«Вечное Возвращение = избирательному Бытию »661.
Как мы видим, Делёз спрямляет мысль Ницше и игнорирует
тот факт, что тема Вечного Возвращения у того звучит весьма
трагично. И в этом смысле трагизм Ницше сопоставим с
трагизмом идеи повторения у Киркегора. «Обратно не может воля
хотеть; что не может она победить время и остановить движение
времени,— пишет Ницше,— в этом сокровенное горе воли»662.
И далее: «Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля,
которая есть воля к власти,— но как это может случиться с ней?
Кто научит ее хотеть обратно? »663
'" Ницше Ф. Соч.: В 2 т.- М., 1990.— Т. 2.- С. 101.
"' Делёз Ж. Ницше.- СПб., 2001.- С. 48
660 См.: там же.— С 51.
ш Там же. С. 52.
ш Ницше Ф. Соч.: В 2 т.— М., 1990.— Т. 2.— С. 101.
663 Там же.- С. 102.
383
Делёз убеждает читателей в том, что воля к власти — это
имманентная сторона самой Природы. И потому Вечное
возвращение не означает победу чего-то другого над Природой. И в
этом Делёз радикально расходится с Киркегором и его победой
Бога над Природой, хотя и не собирается признавать такого
расхождения. Вечное Возвращение Ницше и повторение Киркего-
ра, по сути, «перерабатываются » Делёзом в собственную идею
становления. В тексте Делёза, однако, отделить ницшеанское
«возвращение » от киркегоровского «повторения » и его
собственной идеи «становления » весьма трудно. Но это необходимо для
решения нашей задачи.
В «философском коллаже» Делеза Вечное Возвращение
выглядит как победа внутренней стороны Природы над внешней и
будущего над настоящим. В гегелевской диалектике Делёз
видит манифестацию реактивных сил бытия как сил отрицания.
Именно их выражает гегелевский закон отрицания отрицания и
его учение об Абсолюте и Едином. Характеризуя указанную
ситуацию в целом, Делёз называет ее «нигилизмом», бросая вызов
тем, кто считал и считает нигилистом Ницше.
К нигилистам Делёз причисляет не только тех, кто предан
«ценностям » свободы и демократии. К ним же относит он
нацистов с их проповедью «расы господ». Делёз согласен с тем, что с
нацизмом творчество Ницше сблизила его сестра Элизабет Ниц-
ше-Ферстер. Что касается самого Фридриха Ницше, то, по
мнению Делёза, он сумел выразить идею воли к власти наиболее
последовательно, доведя ее до «становления многообразного » и
«избирательного бытия ».
«Становлениемногообразного», «избирательнаямысль» и
«избирательное бытие» —таковы главные «концепты»,
посредством которых Делёз уточняет и разворачивает в работе
«Ницше » идею о Вечном Возвращении. «Нужно было дойти до
последнего из людей,— читаем мы в этой работе,— затем, до
человека, который хочет гибели ради того, чтобы отрицание,
обратившись, наконец, против реактивных сил, стало само по
себе действием и перешло на службу высшего утверждения... »ш
Именно после этого, в противовес гегелевскому отрицанию
отрицания, должно восторжествовать ницшеанское
утверждение утверждения. А вместе с ним и посредством него
восторжествует избирательный отбор, когда, в противовес Платону, бу-
ш Ницше Ф. Соч.: В 2 т.- М., 1990.- Т. 2.- С. 43.
384
дет утверждаться лишь различное, несхожее и неповторимое.
Только различное, доказывает Делёз, активизирует
становление, которое есть не только избирательное бытие, но
одновременно и различающая избирательная мысль, разбивающая
пресловутое Я и его самость.
Об избавлении мира от Единого, сущности, повторяемости и
закономерности, естественно, идет речь в «Различии и
повторении ». Но и здесь, соотнося Возвращение с повторением, Делёз
представляет их как имманентный срез бытия, в котором
утверждает себя различие, но не единство и самость, сила и воля, но
не индивидуальность. Всегда акцентируя тему различий, Делёз,
тем не менее, сглаживает разницу между Ницше и Киркегором.
Как и в ряде других случаев, он настаивает здесь на сходстве,
оставляя в тени различие. Но такое различие легко обнаружить,
если задать вопрос об источнике изменений, способных
обернуть время вспять.
У Делёза, как и у Ницше, таким источником, конечно,
является природа. Ее «нутро» наполнено различающей жизненной
волей и энергией. А потому основа их решения вопроса о
повторении — натурализм и атеизм. В свое время Ницше бросил Богу
вызов, заявив, что он мертв. Через сто лет в философии Делёза
атеизм принял более «спокойные» формы. «Спокойный
атеизм,— пишет сам Делёз,— это философия, для которой Бог не
есть проблема, несуществование или даже смерть Бога не суть
проблемы; напротив — условиях, которые необходимо считать
наличными с тем, чтобы выявить настоящие проблемы: иной
скромности не бывает. Никогда прежде философия не
устраивалась столь основательно в чистом поле имманентности »ш.
Рассуждая о повторении у Киркегора, Делёз сравнивает его
не только с Ницше, но также с эпикурейцами и стоиками666. Но
ни разу он не говорит о Киркегоре как о христианском
мыслителе. И причина вполне понятна, поскольку в этом случае нужно
сказать, что поворачивает время вспять у Киркегора не кто иной,
как Бог. А далее следует признать, что Бог у Киркегора не
какой-то суррогат и производное имманенции, а самая настоящая
христианская трансцеденция.
Но это не все, поскольку отношения с Богом складывались у
Киркегора совсем не так, как у Делёза с имманенцией, а у Ниц-
665 Цит по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа // Делёз Ж.
Ницше.- СПб., 2001.— С. 176.
666 Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.— С. 19.
315
ше — с волей к власти. Повторение у Киркегора — акт Божьей
воли. И пафос Киркегора в оценке достойного повторения, еще
связан с идеальными мотивами. А повторения достойно, в
первую очередь, человеческое Я, т. е. тот субъект и самость, фраг-
ментированием которого был занят всю жизнь Делёз.
Итак, в который раз, Делёз смазывает серьезное различие.
И теперь это уже различие между атеистом Ницше и
христианином Киркегором. И все потому, что Делёз не видит смысла
утверждать бытие идеального. Но, как это часто бывает, то, что
изгнали в дверь, протискивается в окно.
Если, вслед за Фуко, считать XX век «веком Делёза » — это
ставить крест на философии со всем ее идеальным
содержанием. Но Делёз не заслуживал бы нашего внимания, если бы не
одно его прозрение, связанное как раз с повторением.
Через сто с лишним лет после знакомства публики с киркего-
ровской идеей повторения в своей работе «Различие и
повторение » Делёз следующим образом уточняет своеобразие
повторения, сравнивая его, в частности, с подобием. Ссылаясь на
Киркегора, он характеризует повторение как способность «придавать
первому разу «энную силу», в то время как подобие
исчерпывается добавлением равноценного. Подобное потому и подобно,
пишет Делёз, что может быть замещено эквивалентом.
Повторяемое, в противоположность этому, не имеет аналогов. Подо- .
бие связано с циклами и равенствами. Повторение же
происходит с тем, что не подлежит замене и замещению, а только
воспроизводится, возобновляется. «Повторение как действие и
точка зрения,— пишет Делёз,— касается особенности, не
подлежащей обмену, замещению»667.
Делёз при этом пользуется категорией особенного, хотя у
Киркегора повторение происходит с единичным, индивидуальным.
Но речь идет об одном и том же. «Произведение искусства,—
приводит пример Делёз,— повторяют как непонятийное
особенное — не случайно поэму нужно выучить наизусть»668. Здесь
нужно остановиться и сосредоточиться. Ведь на примере искусства
Делёз, по сути, подтверждает уникальность явлений духа.
Гераклит говорил, что в одну реку нельзя войти дважды: так им была
выражена мысль об изменчивости окружающего мира. Кратил,
как известно довел эту мысль до логического тупика, заявив, что
ш Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.— С. 13.
668 Там же.— С. 14.
386
в одну реку нельзя войти и однажды. Но явлениям духа суждено
опровергнуть античный релятивизм. Перечитать роман или
заново посмотреть любимый фильм — это значит погрузиться в ту же
самую, а не похожую, реальность. А это значит, что в один и тот
же поток переживаний мы можем войти множество раз.
Искусство, подобно памяти, способно заново воссоздавать
неповторимое. А потому оно демонстрирует возможность
повторения неповторимого и служит примером универсальности
уникального. По сути, здесь мы имеем дело со спецификой
прежде всего духовной культуры, которой нет и не может быть в
природе. Особенное как неповторимое, рассчитанное на
бесконечное повторение, проявляет себя именно в области духа. И
убедиться в этом может каждый и на собственном опыте.
По сути, именно об этом говорит и Делёз, заявляя, что в
произведении искусства мы имеем дело с особенным, которое не
подлежит обмену и замещению, и, тем не менее, своей
уникальности может придать «энную силу ». О том, что идеальное
мгновение в искусстве может быть значительнее фактов «реальной »
жизни, мы знаем еще от Киркегора. Напомним, как он искал
повторения в Германии, посещая, в частности, любимые
театральные представления. Киркегор ищет ситуацию, в которой
жизнь перестает быть делом мимолетной минуты. Такая
диалектика повторения вобщем-то не сложна, заключает в
произведении «Повторение» Киркегор. Она сложна, уточним мы, но
человеческой душе доступна. И, прежде всего, потому, что
человек имеет дело не с первозданной природой, а с миром культуры.
Делёз здесь выходит на передний край в анализе диалектики
особенного. Ведь особенное в мире духовной культуры
существует за счет того, что индивид воссоздает уникальное творение
прошлого своим творческим усилием. И здесь стоит вновь развести
сознательные установки Делёза и те моменты, где он выходит за
пределы этих установок. Делёз вошел в историю как теоретик
посмодерна. А постмодерн в его теории и практике делает акцент
в отношении к прошлому лишь на моменте изменения акцентов,
преобразования, а значит различного, единичного и не Того же
Самого. Для его сторонников наиболее значимы как раз те факты,
где в музыкальном произведении, кинофильме или театральной •
постановке исходный смысл оказывается трансформирован
волей режиссера, актера, исполнителя. И дажетам^где
постмодернист цитирует, он относится к цитате как к единичному, получа- •
ющему в ином контексте иное звучание.
317
Соответственно, вся философия Делёза — это
утверждение того, что из прошлого мы извлекаем единичное, а
уникальность — это никак не То же Самое. Но в указанном нами месте
«Различия и повторения» Делёз явно выходит за пределы
этого понимания, и, сам того не ожидая, предлагает понять
особенное произведение искусства как парадоксальное единство
Того же Самого и Другого. Делёз обращает наше внимание на
то, что реализовать повторение можно только там, где поэма
выучена наизусть. А это значит, что своим творческим усилием
мы участвует в повторении лишь на основе, а не вопреки Тому
же Самому.
Я могу воспринимать книгу так же, как раньше, или иначе.
Я могу бережно перечитывать ( «повторять ») ее, любуясь
неповторимыми оттенками мыслей и чувств, а могу попытаться
воссоздать ( «повторить ») ту же тему или подход, а, может быть,
настроение, в новом произведении или в новой форме. Но в
любом случае придать первому разу «энную силу» и
возобновить уникальное можно лишь там и потому, что в уникальном
уже присутствует момент универсального, а тот, кто творил
первый раз, сумел приобщиться к вечности. И в этом
удивительном сочетании состоит диалектика особенного как способ
бытия культуры.
Киркегор видел исток такого рода «повторения » в
возможностях Бога, в противоположность природе. Делёз, наоборот,
считает источником «повторения» нетрансцеденцию, а имма-
ненцию как оборотную сторону той же природы. Автор этой
книги, в отличие от них обоих, уверена в том, что основанием
«повторения » является именно мир культуры как результат
снятия мира природы. И в феномене повторения проявляет себя
собственная мера этого мира.
И еще об одной стороне этой проблемы. Там, где Делёз
рассуждает о повторении в искусстве, он по сути предлагает нам
один из ключей к пониманию бессмертия души не в
потустороннем, а в этом мире — здесь и сейчас. Пусть в превратной форме,
но он пытается разобраться в том, как в культуре достигают
бессмертия телесного и вечности конечного. Речь у него идет
только об искусстве. Но и за эту крупицу истины Делёзу можно
простить все «концепты », «планы имманенции », а, может быть,
и «шизофренический дискурс ».
Заключение
О трех подходах к проблеме
бессмертия души
Итак, главная оппозиция в обсуждении природы души
в европейской философии и культуре состоит в том,
что она или смертна как производное тела, или
бессмертна как нечто изначально бестелесное. Но картина будет
неполной, если не указать еще на одно решение этой проблемы,
представленное в классической философии, когда душа
оказывается порождением не Бога или Природы, а Культуры.
Естествознание выводит душу, а точнее, сознание человека
из природы, из ее всеобщего свойства отражения. И с этой
точки зрения каждая индивидуальная душа исчезает вместе с ее
носителем-телом. Христианство связывает душу с
Богом-творцом мира, который наделяет бессмертной душой только
человека. Оригинальность третьего подхода к проблеме души состоит
в том, что она одновременно смертна и бессмертна. Именно здесь
душа оказывается не бестелесной субстанцией, но уникальным
единством моих телесных действий и поступков, имеющих иной,
чем у животного, всеобщий смысл и содержание. И в этом
случае именно мир культуры обретает то субстанциальное
содержание, которое способно обессмертить телесное и увековечить
конечное.
Память — удивительная способность человека и
человеческого мира. О ком-то я знаю по различным меткам и
памятникам, оставленным на Земле. Других увековечили в живописи или
литературе. Что касается философии, то с Аристотелем и Пом-
понацци, Юмом и Кантом я могу вступить в беседу сегодня и
сейчас у воспринимая все аргументы и повороты их мысли. Но не
каждый из людей способен достичь их степени бессмертия, имея
дело с культурой в ее зримом телесном обличьи.
319
Только в мире культуры обнаруживает себя особый тип
целевой детерминации, неизвестный природному миру.
Детерминация в мире культуры на первый взгляд парадоксальна и
алогична. Ведь только здесь повторение может быть не антиподом,
а своим иным уникальности, когда в искусстве оно не губит, а
реализует неповторимые черты произведения. В том же
искусстве, как проницательно заметил Ю. Лотман, мы обретаем
парадоксальный «опытнеслучившегося». Нравственный поступок
столь же парадоксально позволяет, отдавая, не утрачивать, а
обретать. А в творчестве даже неэквивалентный обмен
оказывается справедлив. Ведь обмениваясь с кем-то идеями и
способностями, мы оба оказываемся в выигрыше.
Рассудочной логикой такое самовозрастание души не
объяснить. Как не объяснить рассудком способ «воскрешения»
личности через общение с текстом, произведением искусства,
просто вещью, принадлежавшей кому-то. Легче всего в таких
ситуациях призвать на помощь мистику. Дополнение рассудка
мистикой — испробованный способ объяснения. Но
достоинство классической философии состоит как раз в том, что
абсолютное содержание и бессмертие души она пыталась
объяснять не только за счет, но и вопреки мистицизму.
1. Античная литература. Греция: Антология.— Ч.2.— М., 1989.
2. Античные философы: Свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев, 1955.
3. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.
4. Аристотель. О душе // Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.
5. Аристотель. Никомаховаэтика// Аристотель.Соч.: В 4 т.— М., 1984.—
Т. 4.
6. Аристотель. История животных.— М., 1996.
7. Асмус В.Ф. Античная философия.— М., 1976.
8. Асмус В.Ф. Трактат «О душе» //Аристотель. Соч.: В 4 т.- М., 1975.- Т. 1.
9. Асмус В.Ф. Шестов и Кьеркегор// Философские науки.— 1972.— № 4.
10. Ахутии A.B. Одинокий мыслитель // Шестов Л. Соч.: В 2 т.— М.,
1993.-Т.1.
11. Бандуровский К.В. Предисловие к переводу вопроса 14-го из
«Дискуссионных вопросов о душе Фомы Аквинского» //
Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.
12. Баткин A.M. Итальянское Возрождение в поисках
индивидуальности.— M.F 1989.
13. Баткин A.M. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления.—
М., 1978.
14. Баткин A.M. Ренессанс и утопия // Из истории культуры средних
веков и Возрождения.— М., 1976.
15. Батюшков Ф. Спор души с телом в средневековой литературе.— СПб.,
1891.
16. Бердяев H.A. Лев Шестов и Киркегор// H.A. Бердяев о русской
философии.— Свердловск, 1991.— Ч. 2.
17. Бердяев H.A. Основная идея философии Льва Шестова // Н. А.
Бердяев о русской философии.— Свердловск, 1991.— Ч. 2.
18. Бибихин В.В. Кьеркегор и Гоголь // Мир Кьеркегора. Русские и
датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора.— М., 1994.
19. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.
Достоевского.— СПб., 1883.
20. Бородой Ю.М. Воображение и теория познания (Критический очерк кан-
товского учения о продуктивной способности воображения).— М., 1966.
21. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии// Вопросы
психологии.— 1997.— № 5.
22. Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию со
дня смерти А.Н.Леонтьева)// Вопросы философии.— 1999.— № 11.
23. Братусь Б.С. Психология — наука о психике или учение о душе? //
Человек-2000.— № 4.
24. Богданова O.A. Процесс секуляризации и кризис личности в западной
культуре XX века: Диссертация на соискание степени доктора
философских наук.— Ростов-на-Дону, 2001.
ЗЯ1
25. Бруно Д. Избранное.— Самара, 2000.
26. Быховский Б.Э. Кьеркегор.— М., 1972.
27. Бычков С.Н. Два понимания идеального: М.А. Лифшиц и Э.В.
Ильенков // Ильенковские чтения 2000-2001: Материалы 2-й (24-25 марта
2000 г.) и 3-й (16-17 февраля 2001 г.) международной научной
конференции.— М., 2002.
28. Бычков С.Н. Дедуктивное мышление и древнегреческий полис// Стили
в математике: социокультурная философия математики.— СПб., 1999.
29. Вересов H.H. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыты
теоретической рефлексии и монизм в философии // Вопросы философии.—
2000.— № 12.
30. Визгин В.П. Ницше глазами Делёза // Вопросы философии.— 1993.—
№ 4.
31. Виндеяьбанд В. Избранное. Дух и история.— М., 1995.
32. Виндельбанд В. История древней философии.— Киев, 1995.
33. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. История новой философии в ее
связи с общей культурой и отдельными науками (период от Канта до
конца XIX века).— М., 1998.
34. Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный
идеализм // Культурология. XX век. Антология.— М., 1995.
35. Выготский Л.С.Лекции по психологии // Выготский Л.С. Собр. соч.:
• В 6 т.- М., 1982.-Т. 2.
36. Выготский A.C. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч.:
В 6 т.- М., 1982.-Т. 2.
37. Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия серебряного века.—
М., 2001.
38. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой.—
М., 2000.
39. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному.— М., 1997.
40. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше.— Новосибирск, 1992.
41. Гальперин П.Я. Введение в психологию.— М., 1999.
42. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии.: В 3 кн.— СПб., 1993-94.
43. Гегель Г.В.Ф. Философия права.— М., 1990.
44. Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия
философских наук: В 4 т.— М., 1977.— Т. 3.
45. Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского
Возрождения.— М., 1977.
46. Горфункель А.Х. Постоянство разума (Свободомыслие Пьетро Пом-
понацци)// Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О
причинах естественных явлений».— М., 1990.
47. Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бер-
гсонизм. Спиноза.— М., 2000.
48. Делёз Ж. Логика смысла.— М., 1995.
49. Делёз Ж. Лукреций и натурализм // Интенциональность и
текстуальность. Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.
50. Делёз Ж. Ницше.— СПб., 2001.
51. Делёз Ж. Различие и повторение.— СПб., 1998.
52. Делёз Ж. Платон исимулякр// Интенциональность и текстуальность.
Философская мысль Франции XX века.— Томск, 1998.
53. Делёз Ж. Гваттари Ф. Что такое философия?— М.-СПб., 1998.
54. Досократики. Доэлеатовский и элеатовский период.— Минск, 1999.
55. Достоевский Ф.М. Полное собр. соч.: В 30 т.— Л., 1974.— Т. XI.
392
56. Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт.— СПб., 1998.—
(Жизнь замечательных людей).
57. Драницкая Е.В. И. Кант и проблема созерцания// Философия Канта.
Современные исследования и дискуссии: Институт философии АН
СССР.- М., 1983.
58. Драницкая Е.В. Марксово определение идеального: аспект практики //
Актуальные проблемы обеспечения научно-технического прогресса:
Сборник тезисов научно-теоретической конференции.— Свердловск, 1984.
59. Дрепа Г.Н. Идеальное как философская проблема: основания
системного анализа: Диссертация на соискание степени доктора
философских наук.— Самара, 1997.
60. Дубровский Д.И. Проблема идеального.— М., 1983.
61. Ерофеев В. Одна, но пламенная страсть Льва Шестова // Шестов Л.
Избранные сочинения.— М., 1993.
62. Жилъсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы Ак-
винского.— М.; СПб., 2000.— Т. 1.
63. Задорин В.В. Философская антропология Гегеля: Диссертация на
соискание степени кандидата философских наук.— СПб., 1998.
64. Захарова Т.Н. Л.Шестов и экзистенциальная философия: Диссертация на
соискание степени кандидата философских наук.— Екатеринбург, 1996.
65. Зенкин С. Послесловие переводчика //• Делез Ж., Гваттари Ф. Что
такое философия?— М.; СПб., 1998.
66. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т.— Л., 1991.
67. Зинненко В.П. Размышления о душе и ее воспитании (час души) //
Вопросы философии.— 2002.— № 2.
68. Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия.— М., 2000.
69. Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Философия и культура.—
М., 1991.
70. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории.—
М., 1974.
71. Ильенков Э.В. Идеальное// Философская энциклопедия: В 5 т.— М.,
1962.— Т.2.
72. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах.— Мм 1968.
73. Ильенков Э.В. Проблема идеального// Вопросы философии.— 1979.—
№ 6-7.
74. Ильенков Э.В. Философия и культура.— М., 1991.
75. Ильенковские чтения-99.— М.; Зеленоград, 1999.
76. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция
научного мифа.— М., 1998.
77. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов.— М., 2001.
78. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.—
М., 1996.
79. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. соч.: В 6 т.— М.,
1964.— Т. 3.
80. Кант И. Критика практического разума// Кант И. Лекции по этике.—
М., 2000.
81. Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты.—
СПб., 1996.
82. Кант и кантианцы (Критические очерки одной философской
традиции).- М., 1978.
83. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке.— М., 1998.
84. Керкегор С. Повторение.— М., 1997.
333
85. Кьеркегор С. Страх и трепет.— М., 1993.
86. Киркегор С. Из дневников// Серен Киркегор сам о себе в изложении
Петера П. Роде.— Челябинск, 1998.
87. Киркегор С. Или—или.— М., 1991.
88. Классен Э.Г. Становление и развитие идеального (концепция
Маркса): Диссертация на соискание степени доктора философских наук.—
Норильск, 1988.
89. Кропотов С.А. Экономика текста в неклассической философии
искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида.— Екатеринбург, 1999.
90. Копястон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого
средневекового мыслителя.— Долгопрудный, 1999.
91. Ксенофонт. Воспоминание о Сократе.— М., 1993.
92. Кузьменко Г.Н. Анализ религиозно-этической концепции С.Кьерке-
гора: Диссертация на соискание степени кандидата философских
наук.— М., 1999.
93. Курбановский A.A. Делёз, Россия, симулякры. Пунктир
интертекстуального прочтения «Логики смысла» Делёза // Современная
зарубежная философия: проблемы трансформации на рубеже XX-XXI
веков.— СПб., 1996.
94. Аавренцова £.В. Проблема абсурда в философии Серена Кьеркегора:
Диссертация на соискание степени кандидата философских наук.— М., 1999.
95. Аиотар Ж-Ф. Заметки о смыслах «пост» // Иностранная
литература.- 1994.- № 1.
96. Аифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии.—
1984.— № 10.
97. Аифшиц Mux. Собр. соч.: В 3 т.— М., 1984-88.
98. Аенин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полное
собр. соч.— Т. 18.
99. Ленин В.И. Поли. собр. соч.— Т. 29.
100. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.— М., 1975.
101. Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в психологии // Вопросы
философии.— 1972.— № 9.
102. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.— 4-е изд.— М., 1981.
103. Лобастов Г.В. Так что же есть истина? // Философские науки.—
1991.- № 6.
104. Локк Д. Об управлении разумом (Отрывки из трех писем Дж. Локка
к Э. Стиллингфлиту, епископу Вустерскому) // Локк Д. Соч.: В 3 т.—
М., 1985.- Т. 1.
105. Локк Д. Опыт о человеческом разумении. Книги I, II, III // Локк Д.
Соч.: ВЗт.-М., 1985.-Т. 2.
106. Лосев А.Ф. История античной эстетики: В 8 т. Софисты. Сократ.
Платон.— М., 1994.— Т. 2.
107. Лосев А.Ф. История античной эстетики: В 8 т. Высокая классика.—
Харьков; М., 2000.— Т.З.
108. Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель.— М., 1993.
109. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. В 2 кн.— М., 1992.
110. Лунгина Д. А. Керкегор и проблема науки// Вопросы философии.—
2000.- № 1.
111. Лунгина Д.А. Проблемы экзистенциальной диалектики в учении
С. Керкегора о существовании 1843-46 гг.: Диссертация на
соискание степени кандидата философских наук.— М., 1998.
IM
112. Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования.— Л., 1970.
113. Майданский А.Д. Реформа логики в работах Декарта и Спинозы.—
Вопросы философии.— 1996.— № 10.
114. Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты.— Баку, 1946.
115. Маковельский А.О. Понятие о душе в Древней Греции // Χάριτες.—
Варшава, 1913.
116. Мареев С.Н. Встреча с философом Э.Ильенковым.— М., 1997.
117. Мареев С.Н. Формальные и содержательные системы в научном
познании // Вопросы философии.— 1986.— № 6.
118. Мареева Е.В. В. Виндельбанд и философия культуры // Мареев С.Н.
Мареева Е.В. Арсланов В.Г. Философия XX века (истоки и итоги):
Учебное пособие.— М., 2001.
119. Мареева Е.В. Зачем нужна философия в век Интернет? // Aima mater
(Вестник высшей школы).— 2002.— № 5.
120. Мареева Е.В. Канун XXI века и «прощание» с классической
философией// Духовная культура накануне нового столетия: Сборник
тезисов выступлений на научно-практической конференции МГУК.— М.,
1998.- Ч. 1.
121. Мареева Е.В. Лев Шестов о вере, ниспровергающей идеалы//
Культурология: новые подходы: Альманах-ежегодник МГУКИ — № 7.— М., 2000.
122. Мареева Е.В. Л.Шестов: вера против идеала // Мареев С.Н.
Мареева Е.В. Арсланов В.Г. Философия XX века (истоки и итоги): Уч. пос—
М., 2001.
123. Мареева Е.В. Личная судьба как ключ к учению// Социум: Научные
труды МАЭП.— М., 2000.— Вып. 3.
124. Мареева Е.В. Об истоках разума // Ильенковские чтения 2000-2001:
Материалы 2-й (24-25 марта 2000 г.) и 3-й (16-17 февраля 2001 г.)
международной научной конференции.— М., 2002.
125. Мареева Е.В. О методологических принципах исследования
неклассической философии: Сборник тезисов выступлений на
международной научной конференции) // Ильенковские чтения-99.— М.;
Зеленоград, 1999.
126. Мареева Е.В. Проблема души на грани эпох и подходов //
Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы III
Российского философского конгресса.— Ростов-на-Дону, 2002.— Т. 3.
127. Мареева Е.В. Проблема души: противостояние классического и
неклассического подходов: Сборник тезисов выступлений на Ильен-
ковских чтениях 18-19 февраля 1997 года.— М., 1997.
128. Мареева Е.В. Проблема социокультурной обусловленности
чувственной основы сознания// Исторические основания взаимодействия куль-
. тур.— Ростов-на-Дону, 1991.— Вып. 1.
129. Мареева Е.В. С.Кьеркегор: первый опыт экзистенциализма //
Мареев С.Н. Мареева Е.В. Арсланов В.Г. Философия XX века (истоки и
итоги): Уч. пос— М., 2001.
130. Мареева Е.В. Сократ о человеке и сути добродетели // Краткая
история философии: Уч. пос.— М., 2001.
131. Мареева Е.В. Софисты и первый опыт субъективизма // Краткая
история философии: Уч. пос— М., 2001.
132. Мареева Е.В. Способ бытия души: от «досократиков» к Сократу //
Современная социальная онтология: итоги и перспективы:
Материалы конференции.— Уфа, 2001.
133. Мареева Е.В. Философия Платона и проблема идеального// Краткая
история философии: Учебное пособие.— М., 2001.
395
134. Мареева Е.В. Формирование неклассической философии и
религиозные искания С. Кьеркегора// Культурология: новые подходы:
Альманах-ежегодник МГУК.—№ 3-4.— М., 1998.
135. Мареева Е.В. Наступил ли «конец философии»?// Российское
общество XXI века в контексте глобальных трансформаций: социально-
философский аспект (материалы «круглого стола»).— М., 2002.
136. Мареева Е.В. Э.В. Ильенков и проблема идеального (по материалам
Ильенковских чтений-99)// Научная мысль Кавказа.— 1999.— № 4.
137. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1842 года //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— 2-е изд.— Т. 42.
138. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения.— 2-е изд.— Т. 3.
139. Матаков К.А. Онтология идеального: Диссертация на соискание
степени кандидата философских наук.— М., 2001.
140. Межу ев В.М. Культура и история (Проблема культуры в философс-
ко-исторической теории марксизма).— М., 1977.
141. Мещерякова А.Ю. От «Ничто» к «Воскрешению» субъекта:
Диссертация на соискание степени кандидата философских наук.— М., 1998.
142. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого «я».— М., 1976.
143. Морева A.M. Лев Шестов.— М., 1991.
144. Найденкин СМ. Проблема «идеального» в работах советских
философов 1958-1980 гг.: Диссертация на соискание степени кандидата
философских наук.— М., 1992.
144. Наторп П. Кант и марбургская школа// Новые идеи в философии.—
СПб., 1913.- Сб. IV.
146. Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики.— Алма-
Ата, 1968.
147. Начала христианской психологии.— М., 1995.
148. Ницше Ф. Соч.: В 2 т.— М., 1990.
149. Онианс Р. На коленях богов. Истоки европейской мысли о душе,
разуме, теле.— М., 1999.
150. Петровский А., Туровский М. Душа // Философская энциклопедия:
В 5 т.- М., 1962.— Т. 2.
151. Платон. Соб. соч.: В 4 т.— М., 1993-94.
152. Плотин. О бессмертии души // Вопросы философии.— 1994.— № 3.
153. Подорога В.А. Жало в плоть. Физическая экономия веры // Мир
Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена
Кьеркегора.— М., 1994.
154. Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую
антропологию (Материалы лекционных курсов 1992-1994)— М., 1995.
155. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах
естественных явлений».— М., 1990.
156. Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора.—
Тбилиси, 1989.
157. Поппер K.P. Открытое общество и его враги. Чары Платона.— М.,
1992.- Т. 1.
158. Ренан Э. Аверроэс и аверроизм.— Киев, 1903.
159. Риккерт Г. Философия жизни.— Киев, 1998.
160. Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий.—
М., 1998.
161. Савин А.Э. Способ обоснования философии в неклассическом
трансцендентализме: Диссертация на соискание степени кандидата
философских наук.— Томск, 1997.
3SS
162. Свасьян К. Фридрих Ницше — мученик познания // Ницше Ф. Соч.:
В 2 т.- М., 1990.
163. Свежански С. Фома Аквинский, прочитанный заново / МЦИМИ.—
Сретенск, 2000.
164. Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди...// Делёз Ж.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм.
Спиноза.— М., 2000.
165. Семенов И.А. Проблема души у Макробия: Диссертация на
соискание степени кандидата философских наук.— М., 2000.
166. Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.—
Челябинск, 1998.
167. Сигарев С.Ф. Проблема постмодерна в западном теоретическом
сознании: Диссертация на соискание степени кандидата философских
наук.— СПб., 1996.
168. Силичев Д. А. Постмодернизм: экономика, политика, культура.— М.,
1998.
169. Современная западная философия. Словарь.— 2-е изд.— М., 1998.
170. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии
и культуры.— М., 1991.
171. Ставцева О.И. Основные положения кьеркегоровской трактовки
«экзистенции»// Современная зарубежная философия: проблемы
трансформации на рубеже XX-XXI веков.— СПб., 1996.
172. Ставцева О.И. «Экзистенция» в философии С.Кьеркегора и М.Хай-
деггера: Диссертация на соискание степени кандидата философских
наук.— СПб., 1998.
173. Старостин Б.А. Аристотелевская «История животных» как
памятник естественно-научной и гуманитарной мысли// Аристотель.
История животных.— М., 1996.
174. Тахо-Годи A.A. О древнегреческом понимании личности на
материале термина «сома»// Вопросы классической филологии.— М., 1971.—
Вып. III-IV.
175. Тиллих П. Избранное. Теология культуры.— М., 1995.
176. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Великий переход.— СПб., 2002.
177. Троицкий O.K., Критский В.Г. Диалоги о душе и сознании (в свете
науки и религии).— М., 2000.
178. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии.— М., 1997.
179. Феофраст (Теофраст). Исследования о растениях.— М., 1951.
180. Философия в современном мире. Философия и наука.— М., 1972.
181. Философский словарь Владимира Соловьева.— Ростов-на-Дону, 1997.
182. ФишерКуно. Иммануил Кант и его учение// История новой
философии.— 2-е изд.— СПб., 1910.— Т. А.
183. Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа // Делёз Ж.
Ницше.— СПб., 2001.
184. Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос
четырнадцатый // Историко-философский ежегодник '98.— М., 2000.
185. Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против
язычников» и «Сумме теологии».— М., 2000.
186. Фома Аквинский. О единстве интеллекта против аверроистов // Истина
и благо. Классический и неклассический регулятивы.— М., 1999.— Кн. 2.
187. Фома Аквинский. Сочинения.— М., 2002.
188. Фома Аквинский. Суммы теологии // Логос— 1991.— № 2.
189. Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— 4.1.
m
190. Франк CA. Душа человека. Опыт введения в философскую
психологию // Франк С.Л. Реальность и человек.— М., 1997.
191. Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.
192. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.
193. Шестов А. Киргегард и экзистенциальная философия. (Глас
вопиющего в пустыне).— М., 1992.
194. Шестов А. Умозрение и откровение.— Париж, 1964.
Ш. Шестов А. Сочинения.— М., 1995.
196. Шестов А. Избранные сочинения.— М., 1993.
197. Шестов А. Сочинения в двух томах.— М., 1993.
198. Шишков A.M. Проблема соединения души с телом в античной и
средневековой антропологии// Историко-философский ежегодник '98.—
М., 2000.
199. Э.В. Ильенков: личность и творчество/ Под ред. В.А.Лекторского.—
М., 1999.
200. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии.— М., 1966.
201. Энциклопедический словарь Павленкова.— М., 1905.
202. Юм Д. Трактат о человеческой природе: В 2 кн.— М., 1995.
203. Юм Д. О бессмертии души // Юм Д. Малые произведения.— М., 1996.
204. Aristotle // Encyclopedia Britannica, version 1997.
205. Bakhurst D. Consciousness and Revolution in Soviet Philosophy. From
the Bolsheviks to Evald Ilyenkov.— Cambridge, 1991.
206. Cian V. Nuovi documenti su Pietro Pomponazzi.— Venezia, 1897.
207. Evald Ilyenkov's Philosophy Revisited.— Helsinki, 2000.
208. Engestrom Y. Interobjectivity, Ideality, and Dialectics // Mind, Culture,
and Activity.— 1996.— № 3 (4).
209. Jantzen W. Am Anfang war der Sinn: Zur Naturgeschichte, Psychologie
und Philosophie von Tätigkeit, Sinn und Dialog.— Marburg, 1994.
210. Jones Peter E. Symbols, tools, and ideality in Ilyenkov// http://caute.by.ru/
ilyenkov/comments/jones.htm— 1998.
211. Hillar M. The Problem of the Soul in Aristotle's De anima // Contributors
to the Philosophy of Humanism.— Houston, 1994.
212. Nardi B. Studi su Pietro Pomponazzi.— Firenze, 1965.
213. Oittinen Vesa. Aporien des Ideellen Zur Dialektik-Konzeption Ewald
Iljenkows // Dialektik.— 1992.- 1.
214. Oittinen Vesa. Spinozistische Dialectic: die Spinosa-Lectüre des
französischen Strukturalismus und Poststructuralismus.— Frankfurt am
Main, 1994.
215. Pine M. Pietro Pomponazzi // Radical Philosopher of the Italian
Renaissance.— Padua, 1986.
216. Pomponazzi Pietrpo // Encyclopedia of the Renaissance, 1987.
217. Pomponazzi Pietrpo // Encyclopedia Britannica, version 1997.
218. Siemek Marek f. Idea transcendentalismu u Fichtego i Kanta.—
Warszawa, 1977.
219. Seidel H. Aristoteles und der Ausgang der antiken Philosophie.— Berlin,
1984.
220. Singer Cb. Studies in the history and method of science.— Oxford, 1921.—
V. 2.
221. Snell B. The discovery of the mind.— N.-Y., 1960.
222. The soul, mind, and body. The soul-body relationship// Encyclopedia
Britannica, version 1997.
Содержание
Предисловие 3
Глава первая. Переворот в понимании души: от
«досократиков» к Сократу 6
1. «Досократики»: связь души с природными стихиями 7
2. Софисты и первый опыт субъективизма 16
3. Сократ о душе в свете природы добродетели 32
Глава вторая. Проблема души в платонизме 68
1. Платоновский идеализм и проблема «родины» души 68
2. Учение Платона и два современных подхода к идеальному ... 96
Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма 125
1. Душа как энтелехия тела 125
2. П. Помпонацци против Фомы Аквинского и Аверроэса
в толковании разумной души 158
3. Парадокс Помпонацци: смертная душа в присутствии
Создателя 185
4. Современная психология о душе в свете аристотелизма 208
Глава четвертая. Феномен души в преддверии
и в границах трансцендентализма 220
1. Д. Локк о нематериальной душе и тождестве личности .... 221
2. Д. Юм и вызов единству души 238
3. И. Кант: природа души и трансцендентальная
апперцепция 255
4. Проблема души в свете «философии культуры»
В. Виндельбанда 270
5. Трансцендентализм и антропология Гегеля 282
Глава пятая. Неклассическая философия о душе
(начало и итог) 293
1. С. Киркегор: отдельная душа в борьбе со всеобщим 296
2. С. Киркегор о единстве души силой выбора 310
3. Л. Шестов: душа за пределами идеального 333
4. Ж. Делёз: плоть взамен души 359
Заключение. О трех подходах к проблеме бессмертия души ... 389
Библиография 391
399
Мареева Елена Валентиновна
ПРОБЛЕМА ДУШИ В КЛАССИЧЕСКОЙ
И НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ