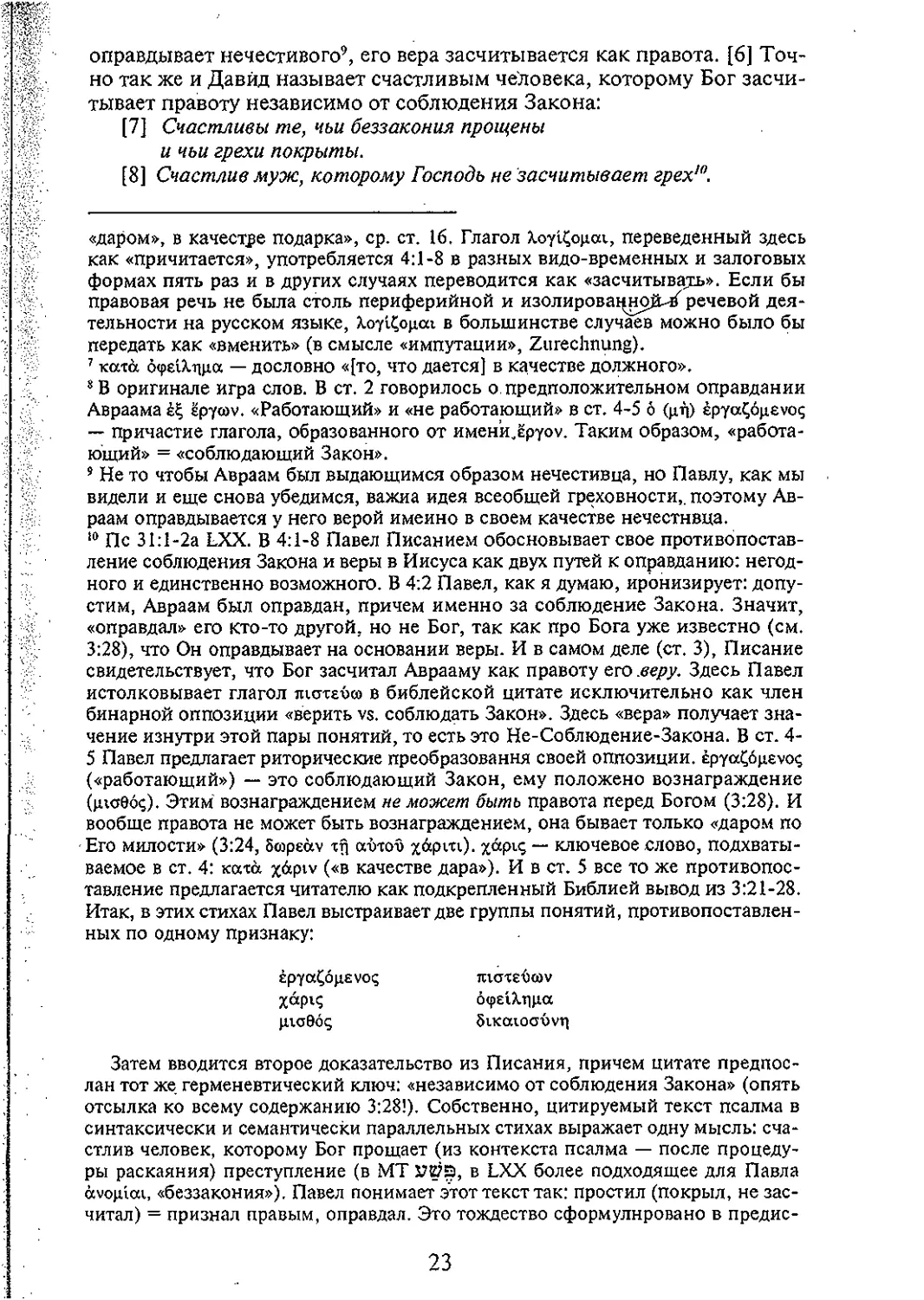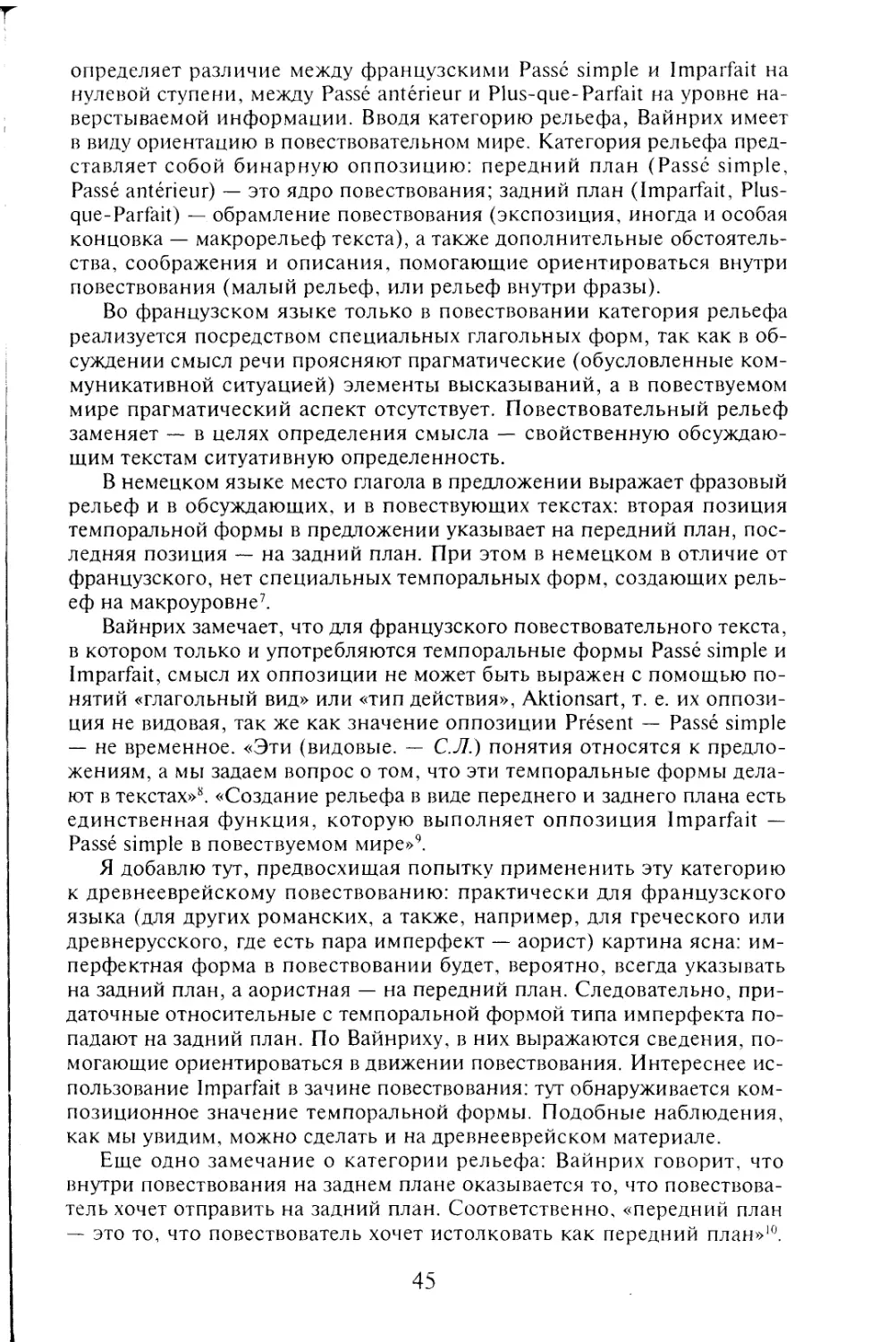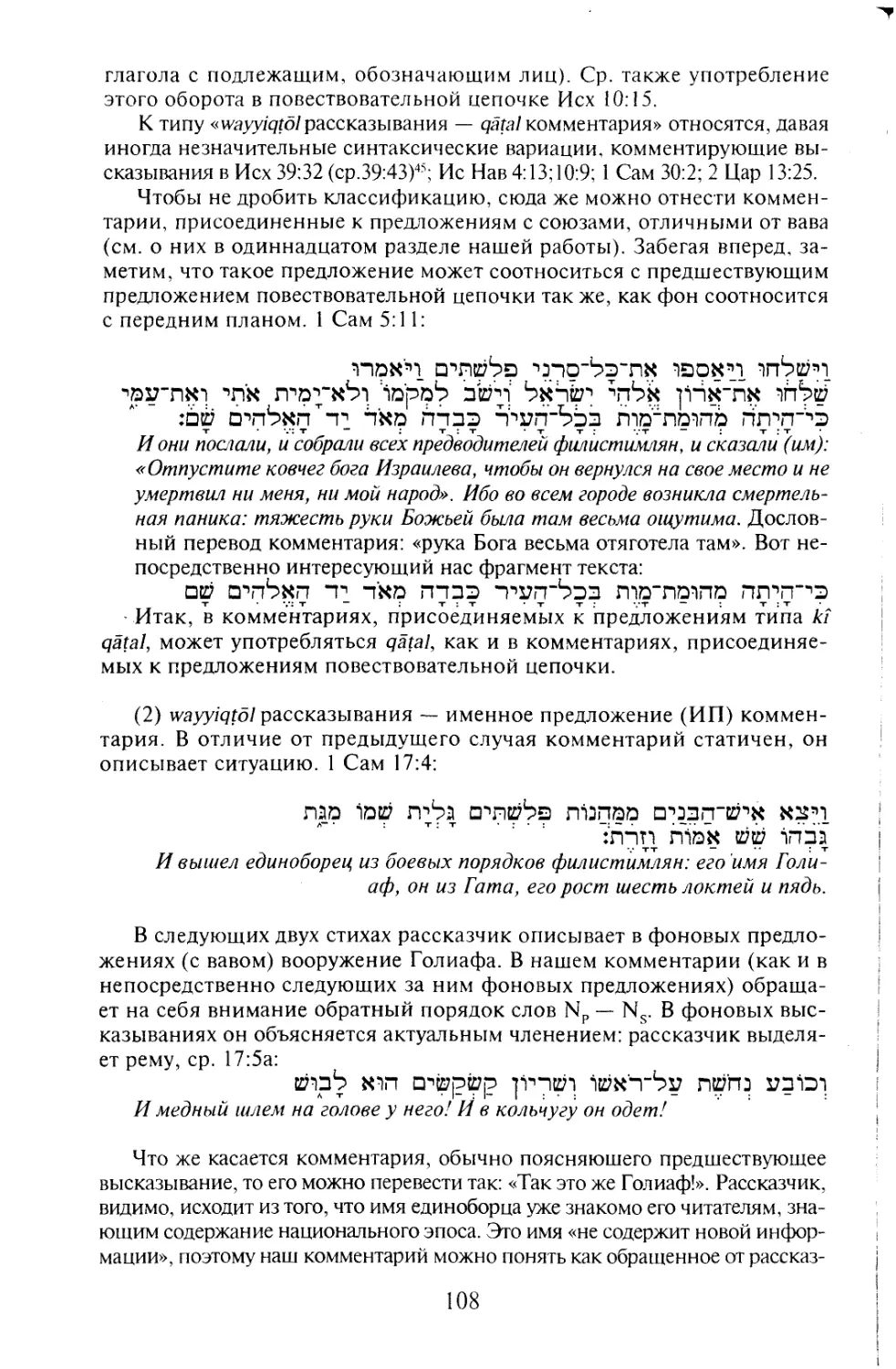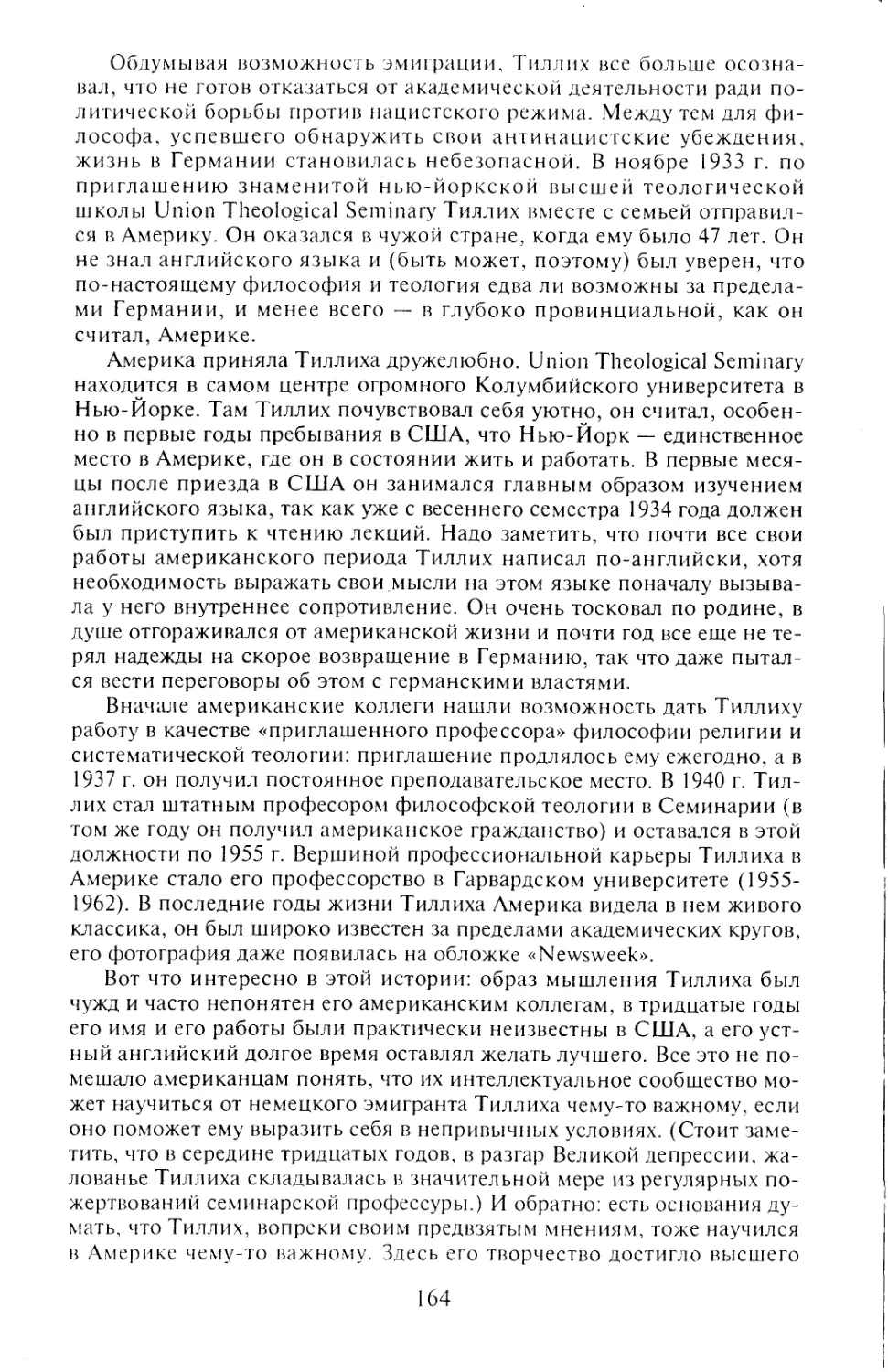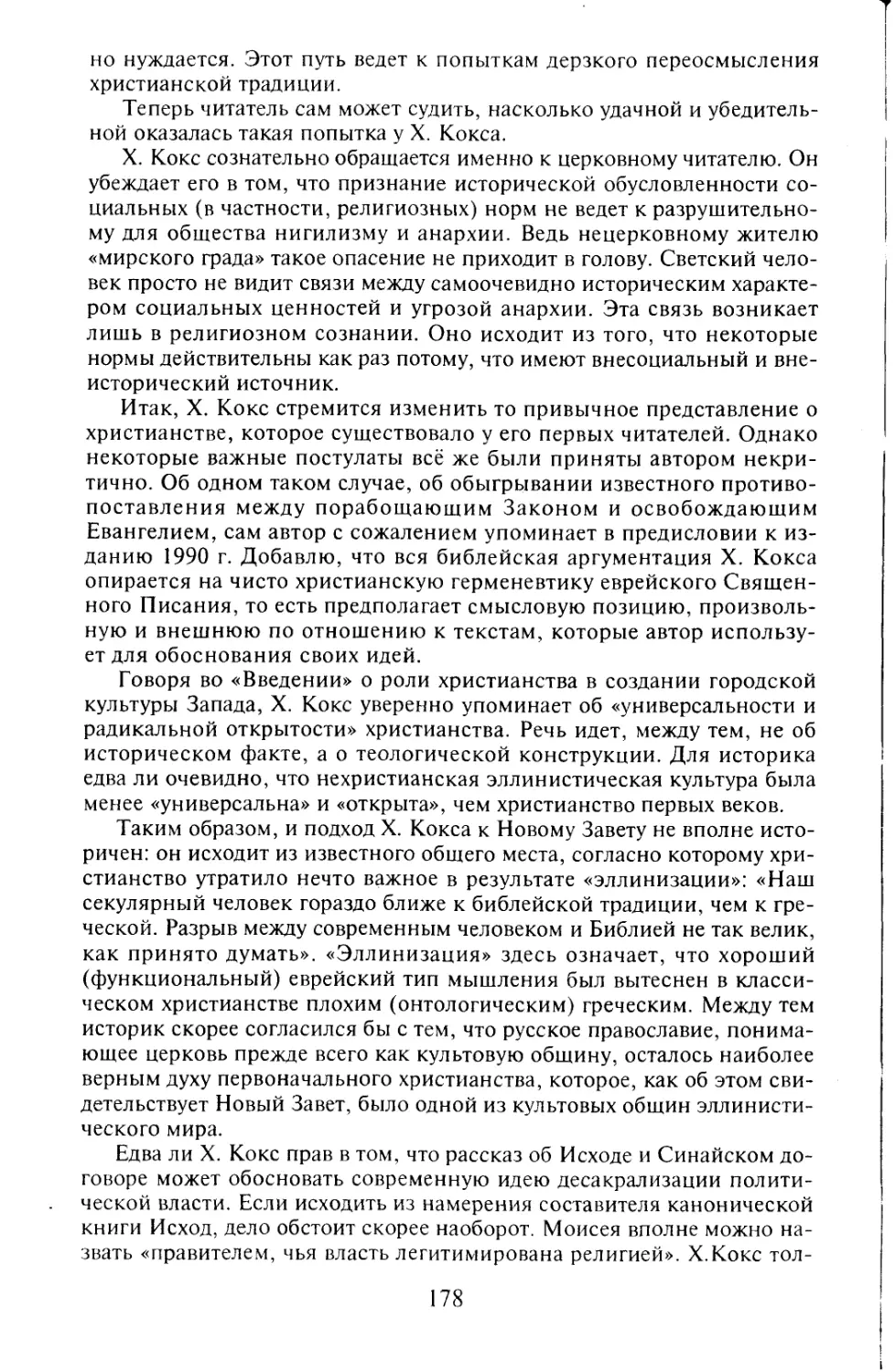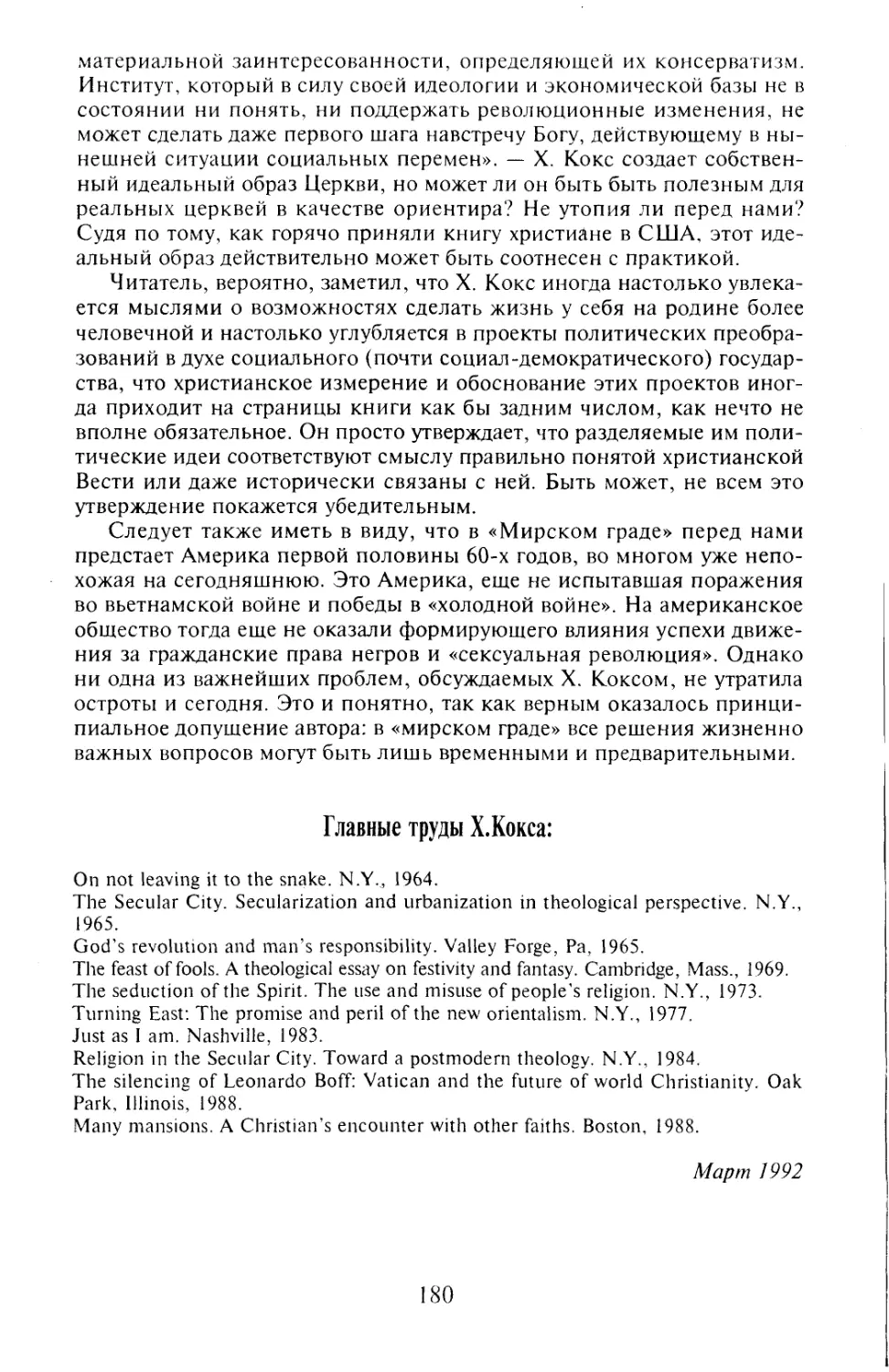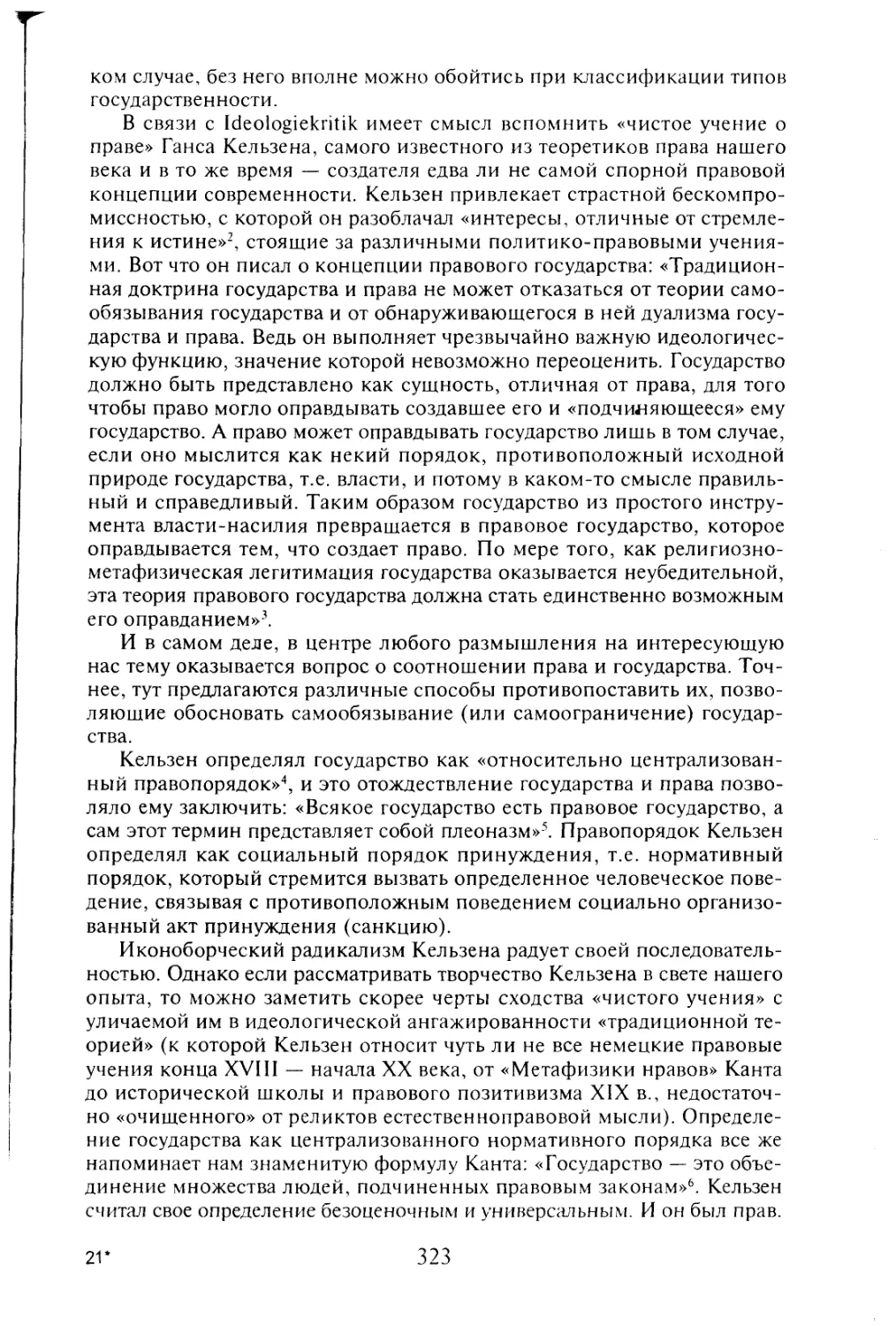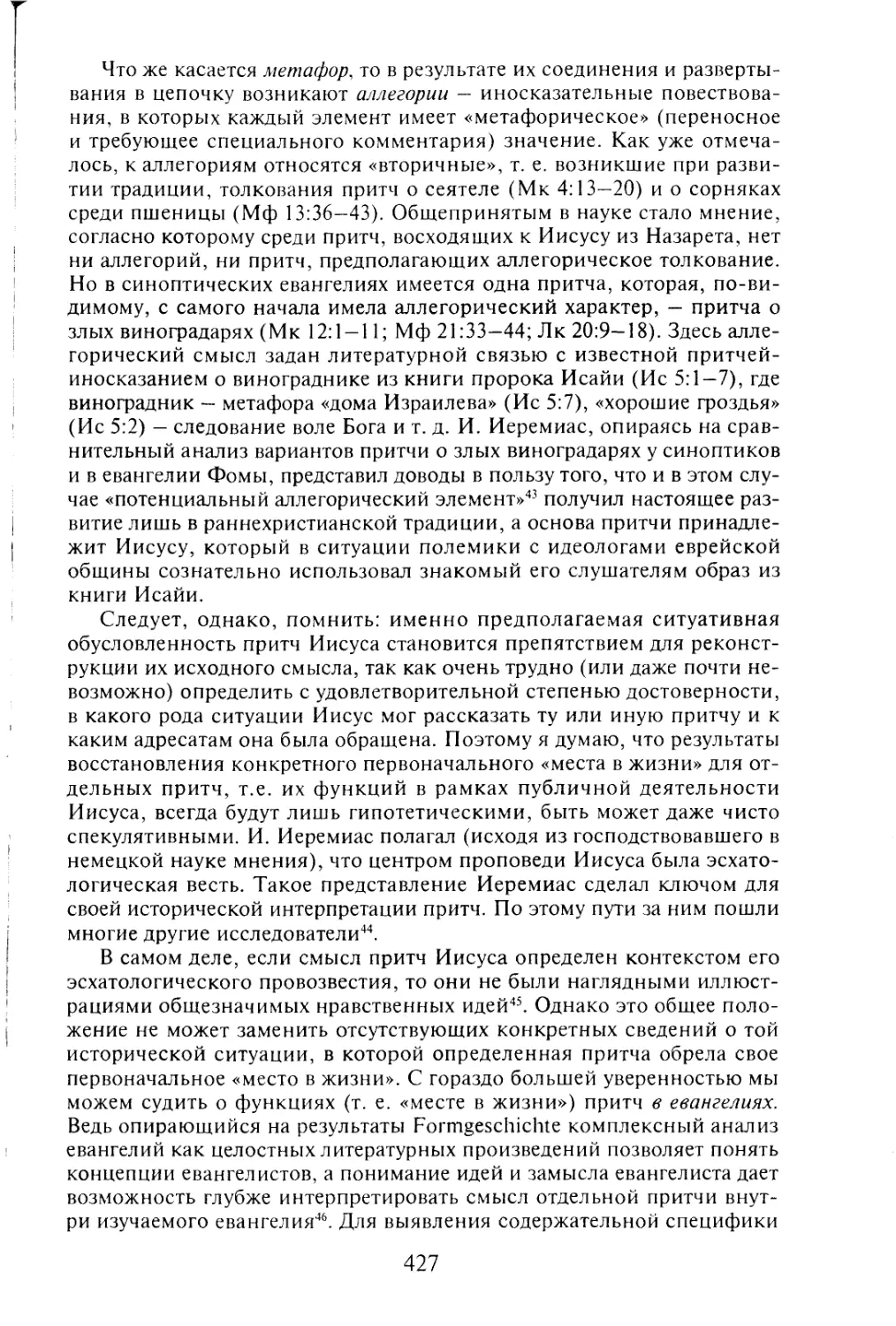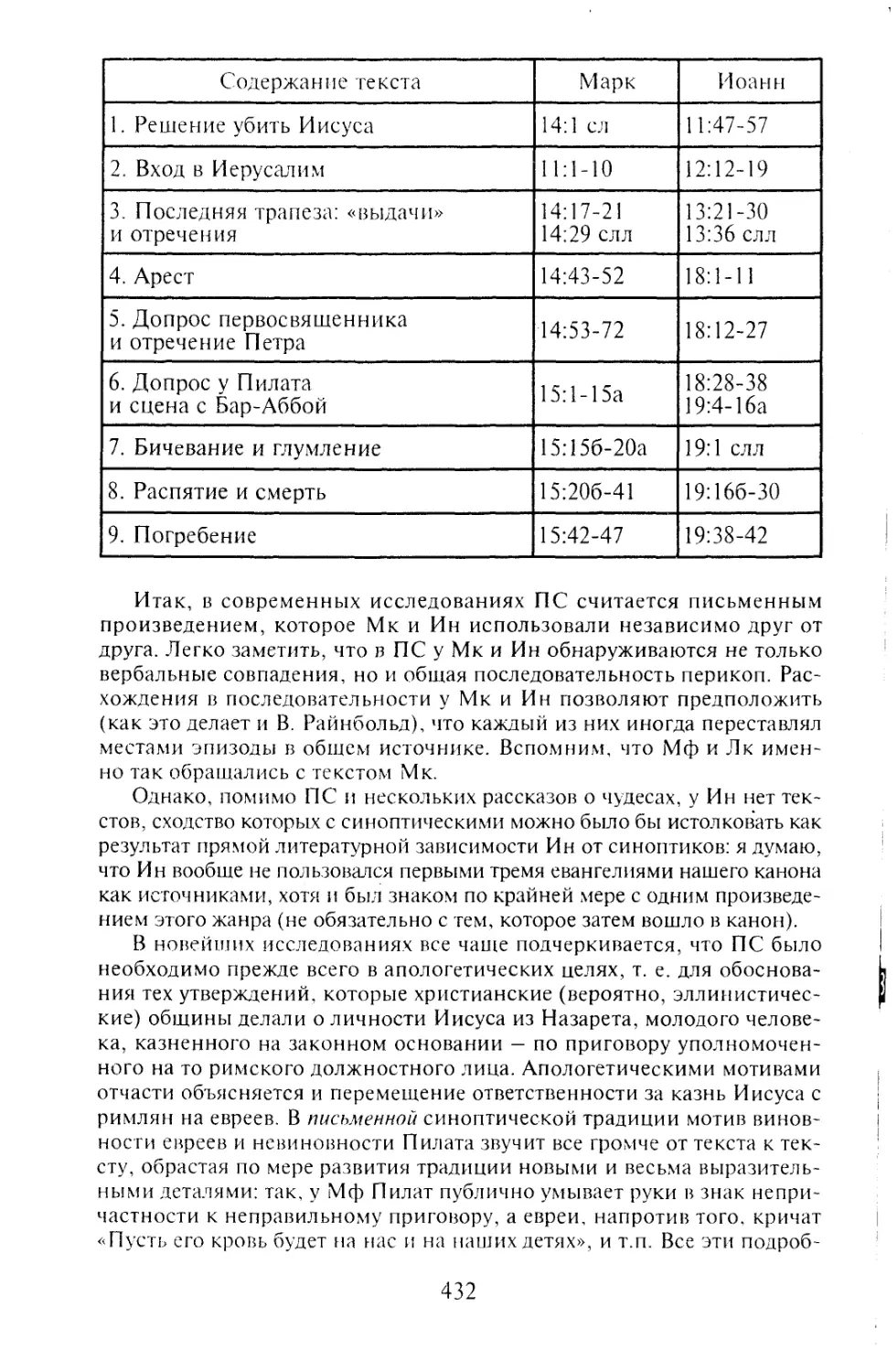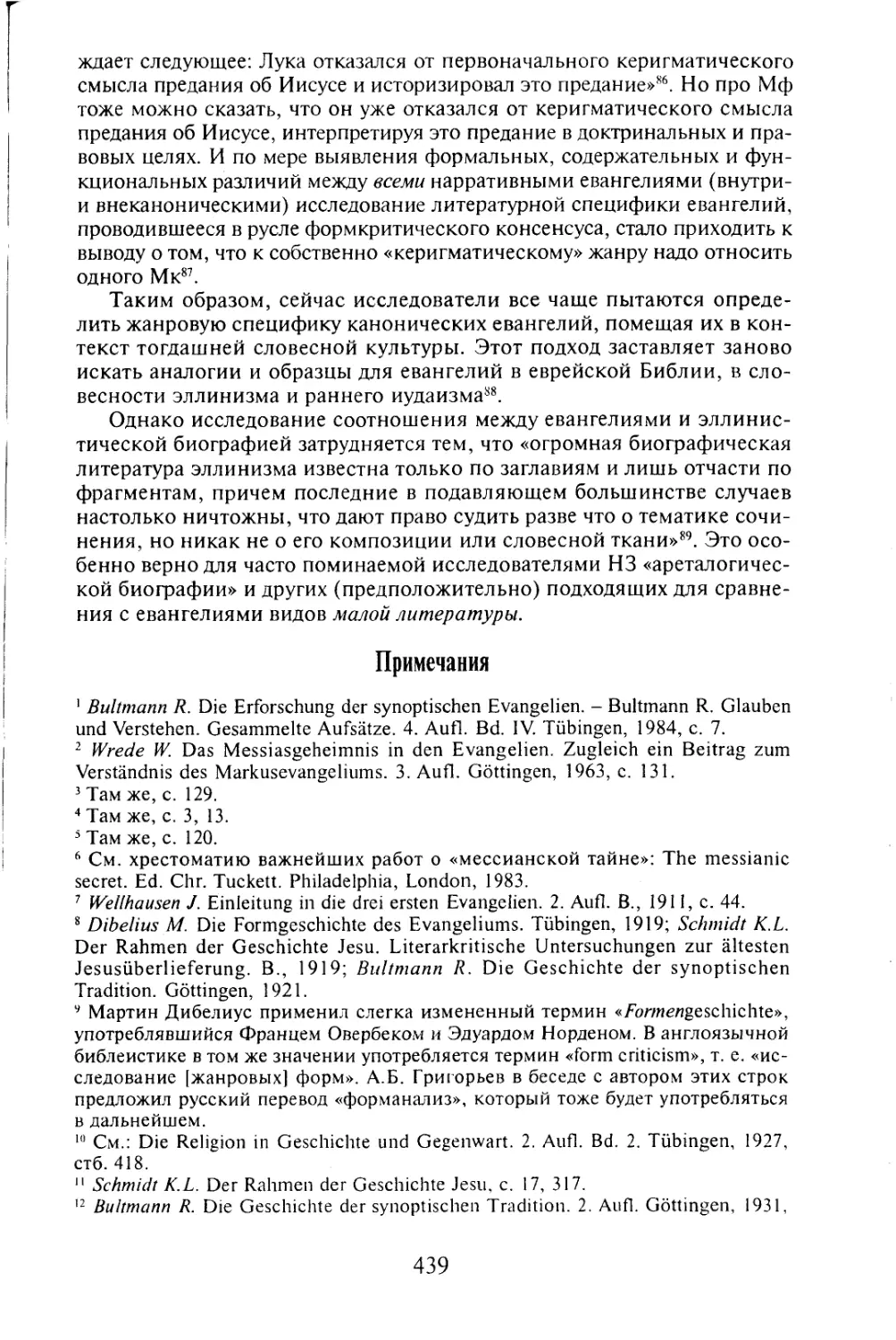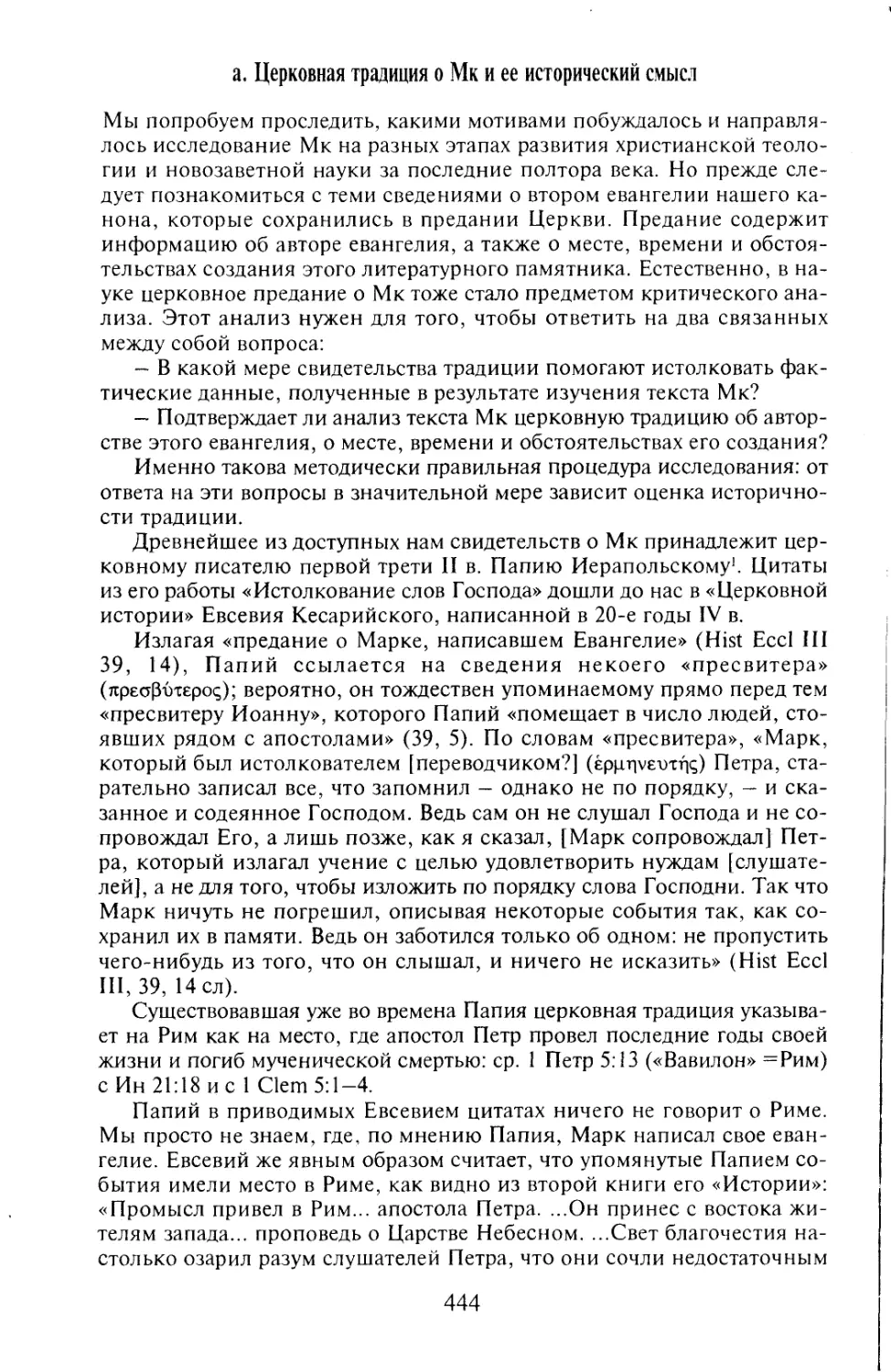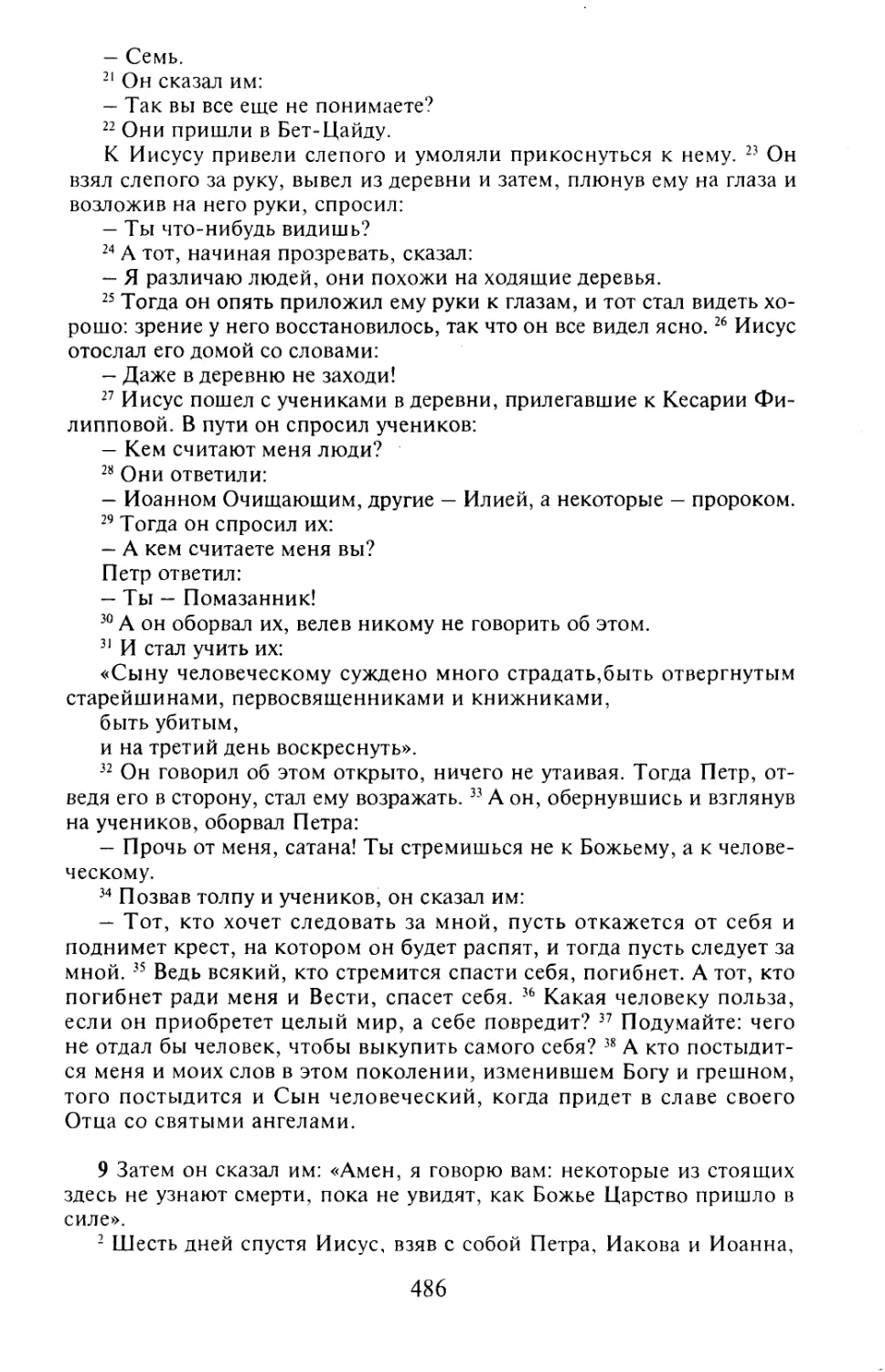Автор: Лёзов С.
Теги: общие вопросы науки и культуры религия философия христианство филология история христианства
ISBN: 5-7914-0033-0
Год: 1998
Текст
оссийские
ропилеи
Сергей
ЛЁЗОВ
Попытка
понимания
Избранные работы
Москва - Санкт-Петербург
Университетская книга
1999
Сергей Лёзов. Попытка понимания: Избранные работы.
М,—СПб.: Университетская книга, 1998. 575 с. —
(Российские Пропилеи)
ISBN 5-7914-0033-0
ISBN 5-7914-0034-9 (Российские Пропилеи)
В том избранных работ русского историка и филолога Сергея Лёзо-
ва вошли его исследования по библейской филологии, работы о
христианской и еврейской теологии XX века, философская и
религиозная эссеистика, публицистические опыты, посвященные
осмыслению новейшей интеллектуальной истории России. Публикуется
также монография «История и герменевтика в изучении Нового
Завета». В ней на материале канонических евангелий анализируется
история изучения Нового Завета с эпохи возникновения новозаветной
науки и до конца XX века.
© С.Я. Левит, составление серии. 1999
© СВ. Лёзов, 1999
© Университетская книга, 1999
От автора
В этой книге помещены специальные работы по библейской
филологии рядом с чисто эссеистическими текстами,
очевидным образом впитавшими «дух и давление времени». Почему
это так? — может спросить читатель. — Я надеюсь, что
разница между этими текстами существует лишь на уровне
материала, но что в сущности они выражают единое движение мысли,
индивидуальную «попытку понимания».
Случилось так, что я никогда не говорил от имени группы, всегда
оставался частным человеком и писал просто по мере появления новых
соображений. Гордиться тут нечем, но и печалиться нечего. В
предлагаемых работах вполне отразились — и, хочется надеяться, выразились
— «духовная ситуация времени» и политические обстоятельства.
Однако как автор я все-таки верю, что эти тексты выражают также и
результаты моего собственного «стремления понять» и поэтому могут
заинтересовать читателя и сегодня.
К середине восьмидесятых годов, когда задумывались первые из
вошедших в этот сборник работ, я пришел (вместе с той крохотной
группой, что сформировала мою «альтернативную реальность»)
прожженным (и, естественно, подпольным) христиански-либеральным
антикоммунистом. Однако «Вестник РХД» (некогда любимое чтение) к той
поре уже давно стал казаться лишенным живой жизни, а «Континент»
— узким в своей антикоммунистической ортодоксии, исключающей
всякое новое знание о нашей стране. При том мысль об «участии в
перестройке» казалась тогда нам предательством идеалов.
Странным образом изучение либеральной протестантской мысли XX
века влияло на мое понимание ситуации. Так — в постоянном
соотнесении тамошнего и здешнего — возникли работы, собранные в разделе
«Современное христианство в контексте интеллектуальной истории».
Итак, хронологически первые из вошедших в этот том текстов были ·
определены моим восприятием христианского (преимущественно
протестантского) либерализма и борьбой вокруг отношения к
«перестройке» на ее ранних этапах (19S6 — 1987 годы). «Но грустно думать, что
напрасно была нам молодость дана ...».- В работе о «правовом государстве
в интеллектуальной традиции» (1989 г.) я естественным образом
сравнивал вторую половину восьмидесятых годов с хрущевской оттепелью.
Грустно сознавать, что это вроде бы близорукое и банальное сравнение
оказалось отчасти верным: период гуманизации оба раза был очень
коротким. В девяностые годы, после отвердения новой власти, лозунг
5
«правового государства» отставили за ненадобностью. О культуре
перестроечной России впору писать исторические исследования, подобные
тем, что сейчас пишутся про шестидесятые годы.
Нет, только заведомо предубежденный (и интеллектуально
недобросовестный) человек стал бы говорить, что «по сути ничего не
изменилось». Но — при всех самоочевидных различиях — интересно (и важно,
и грустно) увидеть родство в культуре «оттепели» и «перестройки»,
заметить структурную общность (и содержательное расхождение) надежд,
оказавшихся иллюзиями. В эпоху оттепели бытовал миф о гуманном
социализме, а в эпоху перестройки развернулся миф о гуманном
капитализме. И оба раза затем наступала стабилизация серых будней,
лишавшая гуманистический миф его места в жизни.
Один из разделов книги называется «Евреи и христиане после
Катастрофы», и в нем собрана часть того, что я писал на еврейские темы.
Из самих текстов ясно, что «еврейский вопрос» возник у меня (чтобы
потом исчезнуть) по мере того, как я решал собственные проблемы,
проблемы своей веры, своей христианской идентичности.
Тут надо добавить два замечания для читателя этого раздела.
Во-первых, изнутри русской ситуации пока еще не вполне понятно, почему
поиски христианской идентичности могут или должны наталкивать
человека на какие бы то ни было «еврейские вопросы». Между тем это
стало чем-то самоочевидным для либерального протестантизма
семидесятых-восьмидесятых годов, в свое время сильно повлиявшего на меня.
И я прошел путь от энтузиастического принятия этого нового движения
в западном христианстве до его оценки как «неолиберальной
христианской юдофилии 70-90-х годов XX века, не всегда искренней и
бескорыстной». Подробности об этом -~ в книге.
Во-вторых, я размышлял и писал на эти темы с середины
восьмидесятых годов — просто как частный человек. Уже гораздо позже «холо-
кост» (увы, корявая транскрипция с американского) стал одним из
важных направлений деятельности еврейских просветительских
организаций в России. Тематика моих работ не связана с этой деятельностью,
важность которой и ее польза для русского общества не вызывают
сомнения. Просто в обоих случаях речь идет о разных вещах.
Публикуемые в этом томе работы по библеистике не являются
популяризацией и претендуют на добывание нового знания. Поэтому я
надеюсь, что они привлекут внимание специалистов и вообще всех,
кому интересна Библия и ее языки. Однако и эти работы (пусть
непрямым образом) возникли из поисков «христианского в христианстве» в
тот момент, когда возможность разговора на общие темы показалась
мне исчерпанной, — надеюсь, не навсегда. В последнее время я
замечаю, что это ощущение невозможности «общих вопросов» тоже
определено ситуацией и разделяется частью общества.
На этом можно и закончить предисловие «от автора». Известно, что
исследовательские тексты в области гуманитарных наук часто
оказываются в какой-то мере автобиографичными. Поэтому я просто
приглашаю читателя мысленно пройти и по моему пути.
10 апреля 1998
6
Библия: история, филология, экзегеза
О непроисховдении христианства
из иудаизма*
Я предлагаю игру по двум наборам правил или на двух полях: на
поле истории и на поле теологии. При этом название работы
должно указывать на авторскую самоиронию: у меня нет наив-,
ности, необходимой для того, чтобы меряться силами с
социально, принятым гуманитарным знанием, а просто возник
повод поделиться некоторыми давно возникшими соображениями.
Занимаясь переводом и комментированием отдельных
произведений Нового Завета, я задумался над тем, что можно назвать разрывом
преемственности между мифическими (или нарративными) истоками
христианства и той реальностью, которая запечатлелась в самом Новом
Завете.
И тут я заметил, что во многих учебниках и справочных изданиях
(библейских энциклопедиях вроде Anchor Bible Dictionary) изложение
ранней истории христианства ведется так, будто этого разрыва не
существует, а преемственность доступна свету истории на основании
источников.
Проблема
Попробую показать, в чем я вижу проблему, то есть разрыв
преемственности,.— отправную точку моих рассуждений.
В евангельском повествовании об основывании христианства (в
христианском мифе об основании) мы находимся внутри еврейского мира,
— это с одной стороны. С другой стороны, все доступные нам
документы созданы авторами, действующими в церквах (христианских
общинах), которые находятся (и, насколько можно судить об истории этих
общин, всегда находились) за пределами еврейского мира.
Мне могут возразить: а подлинные письма Павла? Разве они
написаны «за пределами еврейского мира»? Разве Павел не мыслил
свою деятельность как преобразование Израиля? Опять же, судя по
2 Кор 11:24 («от евреев я пятикратно получал сорок [ударов] без од-
* Доклад, прочитанный 29 сентября 1997 г. на конференции по библеистике,
организованной Библейско-Богословским институтом св. апостола Андрея
(Москва). Публикуется впервые.
9
ного»),ко времени написания этого текста старосты синагог
отождествляли Павла как еврея, и Павел принимал это отождествление:
назначение наказания и его принятие указывают на то, что наказуемый
находится внутри сообщества1. Однако миссионерская деятельность
апостола язычников как раз содействовала возникновению церкви
сразу за пределами Израиля. Получается, что деятельность Павла,
создававшего уже в 40-50 гг. чисто нееврейские общины и не
требовавшего от своих новообращенных обрезания и соблюдения кашрута (=
вступления в Израиль), можно привлечь как одно из подтверждений
моего тезиса.
При этом проблема отношений с евреями важна для многих
новозаветных документов. Наиболее существенна эта проблема для Мф и
для Павла как автора Рим и Гал, по-своему также для Ин и автора Евр.
Согласно преобладающему в науке допущению, до 70 г.
«христианское движение» было сектантским направлением внутри иудаизма.
Но как раз это не вполне подтверждается документами. То, что
послевоенная церковь четко отделялась от еврейской общины, не
вызывает сомнений у историков. Правовую ситуацию (положение обеих
общин в Империи) я не рассматриваю, так как в любом случае
идентификацию христиан со стороны (римскими властями) и их
самоидентификацию следует отделять от вопроса о происхождении, о
реальном становлении.
Согласно другому, производному допущению, эбиониты (о
которых мы знаем от Отцов Церкви) и другие еврейские христианские
группы (общее название в научной литературе — «иудеохристиане»,
Jewish Christians) — происходят по прямой от самой ранней
иерусалимской церкви, от этого самого сектантского движения внутри
иудаизма.
Однако достоверно о них можно сказать лишь следующее: в
писаниях Отцов Церкви (Ириней, Эпифаний, Тертуллиан, Ипполит)
мы сразу застаем их как маргинальные группы на обочине
христианского мира, как еретиков с точки зрения остальных христиан. Чтение
раввинистических источников заставляет предположить, что
некоторые из тех, кого мы суммарно называем иудеохристианами,
стремились утвердить себя скорее (или также?) как часть еврейской.общи-
ны. Если под «миним» из Амиды2 имелись в виду и «ноцрим»
(некоторые редакции этого текста прямо упоминают последних), то их
принадлежность к еврейскому миру очевидна. По-видимому, в
конце концов они стали изгоями с обеих сторон. Так можно понять
совокупное свидетельство раннехристианских писателей и раввинисти-
ческой литературы. Однако их происхождение от «первообщины» не
очевидно, оно не доказывается документами. Можно допустить, что
часть из них была внутрихристианскими «жидовствующими», то есть
одним из направлений («сект») внутри языческого христианства,
рядом с гностическими общинами и другими движениями, которые
становились «еретиками» по мере того, как побеждало движение,
сформулировавшее к концу второго века первую христианскую
ортодоксию.
10
Мой тезис
Другими словами, вместо привычной модели, предполагающей
постепенное и непрерывное («некатастрофическое») развитие от
палестинской еврейской группы сторонников Иисуса в первое десятилетие
после его гибели — через промежуточные этапы — к judenfrei церкви
язычников в конце первого -~ первой половине второго вв., к церкви
«кафолических посланий» НЗ, Игнатия Антиохийского, Юстина Мученика и
др., я бы предложил модель, в центре которой — представление о
разрыве постепенности, «непроисхождение». Может быть (хотя и это не
очевидно), такая модель позволяет меньше додумывать без опоры на
источники, чем привычная схема. Тогда можно представить себе, что
христианство сразу возникло как движение в языческом мире, и
элемент исторической преемственности с еврейской верой был бы сведен
к минимуму. Надо только допустить место для канала, по которому
передавались некоторые содержания (то, что я буду описывать как
«буферную зону»).
Первая модель (привычная) — развитие, поэтому в ее рамках
можно говорить, что раввинистический иудаизм и христианство оба
развились из чего-то одного, то есть из «раннего» (предраввинистического)
иудаизма.
Предлагаемая модель — заимствование (еврейских содержательных
элементов). Заимствован материал традиции об Иисусе (и это главное
заимствование), а заодно — Писание вместе с идеей Писания (так со
временем возникает место для нового канона — канона Нового Завета).
Заимствованы элементы литургики и многое другое. В основе
новозаветного Откровения Иоанна лежит, по мнению многих исследователей,
чисто еврейский оригинал — произведение еврейской
апокалиптической литературы. В «Дидахе» («Учении двенадцати апостолов»),
написанном, как принято считать, уже в первой половине второго века,
присутствует учение о двух путях (гл. 1-6), которое по жанровым
признакам подобно произведениям еврейской моралистической литературы и,
возможно, восходит к еврейскому источнику (известны, в частности
кумранские параллели в 1QS). Этому учению соответствуют
рассуждения о двух духах или ангелах в Пастыре Гермы (Заповеди V-VI) и опять
же учение о двух путях в Послании Варнавы (гл. 18-20), известном
среди прочего своей антиеврейской полемикой. Таким образом,
многочисленные еврейские элементы в христианской письменности сами по
себе еще не свидетельствуют об общем прошлом, а всего лишь о
заимствовании.
Однако возникавшее христианство многое заимствовало и из
субстратных культур. Развитая христология и экклезиология (даже в Новом
Завете, даже, быть может, у Павла) обязана другой, нееврейской,
культурной среде. Уже у Павла крещение толкуется не как «обрезание
сердца», а скорее как умирание с Христом и тем самым соединение с ним,
с тем чтобы верующий смог разделить и его жизнь (Рим 6:5-11), то есть
Павел понимает крещение на манер инициации в мистериальных
религиях. У него сообщество верующих, церковь — это тело Христа (1 Кор
12), — понимание, не имеющее параллелей в Библии и иудаизме. Культ
11
Марии у Мф (в самом «еврейском» евангелии) и у Лк,
физиологически понятое зачатие от духа Божьего — все эти представления
нееврейского происхождения. Почти все важнейшие герои Библии имеют
истории чудесного рождения — но несколько иные. В этом смысле
христианство — синкретическая религия. — Но не в смысле немецкой
школы истории религии, которая видела синкретизм пришедшим в
христианство через иудаизм. Этого я не оспориваю, а просто говорю о другом
синкретизме. При этом, конечно, не подразумевается, что синкретизм
— это плохо, что синкретизм как-то компрометирует христианство.
При встрече культур обычно не обходится без синкретизма. Известно,
например, сильное влияние персидской культуры на евреев эпохи
Второго храма.
Интересен, в частности, жанровый разрыв между Новым Заветом и
еврейской словесностью. Жанр, определивший лицо Нового Завета, его
speciflcum — это биография. После всего, что за сто с лишним лет было
сказано новозаветниками против этого, все же пора признать евангелия
относящимися к биографическому жанру. Элементы пророческой
биографии имеются в биографических главах книги Иеремии. На
основании книги Самуила и начала книги Царей можно написать биографию
Давида, а раввинистическая литература даёт материалы для
жизнеописания рабби Акивы, можно но нигде в Ветхом Завете и в послебиблей-
ской еврейской литературе мы не встречаем подлинного
биографического очерка, подобного Мф или Лк.
Структура Нового Завета — евангелие + апостол. Так придумал
Маркион. Но и послание не относится к важнейшим жанрам еврейской
библейской и послебиблейской словесности (чуть ли не единственный
полноценный образец письма в Библии — 29 гл. Иеремии, письмо
переселенцам). Послание Иеремии (LXX) и Послание Аристея не
относятся к эпистолярному жанру. Как бы то ни было, биография и
послание нехарактерны для литературы иудаизма Второго храма3.
Но и природа той Библии, которую создало протофарисейское
движение, совсем непохожа на суть того Нового Завета, основа которого
сложилась в христианстве весьма рано, уже во втором веке. Еврейская
Библия — это прежде всего национальная история, литературный эпос.
Новый Завет — документ веры. Но это всё дополнительные
соображения, которые можно нанизывать очень долго.
Мне возражали, что перед нами вопрос точки зрения: стакан
наполовину полон или наполовину пуст. Развитие или заимствование —
разные способы описания одного явления. Но в том и дело, что этот
стакан обычно считается полным до краев, — я бы сказал, вопреки
Новому Завету.
Буферная зона — вот, пожалуй, главное, в моем понимании. Это
можно сравнить с тем, как Мухаммад оказался в зоне влияния
христианства и иудаизма, и создал, нечто новое. Это значит, что я признаю
важным фактором при создании христианства притягательное
воздействие еврейского образа веры на язычников. Моя собственная
реконструкция пробела (разрыва преемственности) между Иисусом и
новозаветными образами христианства была бы основана на представлении о
поликультурном восточносредиземноморском сообществе, куда попа-
12
ло палестинское историческое предание об Иисусе и где оно было
переосмыслено.
Вопрос о соотношении раннехристианской керигмы и
исторического предания об Иисусе весьма запутан новозаветниками, видевшими
здесь прежде всего теологическую и вероучительную проблему. Тут
достаточно сослаться на либеральные «поиски исторического Иисуса»,
конструкцию Бультмана и на «новый поиск» 50-60 гг. XX века. Чисто
исторически я представляю себе дело следующим образом. В
Палестине все началось с веры в особый статус погибшего учителя, как бы эта
вера ни оформлялась понятийно (ср. мессианскую веру сторонников
Шабтая Цви на протяжении нескольких поколений, или «веру» в Илью
— мы видим, что евреи в разные времена верили в подобные вещи). Но
это была вера в Иисуса как в человека, которого помнили ио жизни
которого вспоминали. Эти воспоминания — историческое предание, не
лишенное элементов специфического «вероисповедного» содержания.
В диаспоре евреи, предположительно, были больше склонны к
нееврейским путям мышления, и вот там, в буферной зоне между еврейским и
нееврейским, возникает миф (или, если угодно, керигма) об Иисусе как
единственном в своем роде посреднике, новом Моисее (как позже у
Матфея), и более того. После поражения Великого Мятежа (или в ходе
войны, хотя я не верю в историческую достоверность традиции об
эвакуации апостольской церкви в Пеллу4) беженцы-иудеохристиане
приносят традицию в Сирию, где уже были (см. Гал) общины из евреев и
неевреев. Там беженцы, вероятно, со временем ассимилировались.
Перейдем к обзору некоторых новозаветных текстов с предлагаемой
точки зрения.
Часто задается вопрос об источнике логий Q ~~ был ли ранний слой
этого документа специфически христианским? — На возможность того,
что он принадлежал группе чисто еврейских последователей Иисуса,
указывает отсутствие в Q рассказа о смерти и воскресении Иисуса.
Однако не будем забывать, что речь идет всего лишь о реконструкции, а не
о реальном тексте. Американская исследовательская группа в Клермон-
те исходит из того, что Q был целостным письменным произведением,
отражавшим представления галилейских дохристианских
последователей Иисуса, но все же здесь мы имеем дело с гипотезами,
основанными на гипотезах5. Q удобен при решении синоптической проблемы, но
при рассмотрении его как реального текста возникают трудности, не
позволяющие использовать его как настоящий источник. Надо ведь
разбираться со слоями Q, то есть писать его историю, надстраивая
гипотезу над гипотезой, как это и приходится делать исследователям (см.
работу, упомянутую в сноске 5). Если мы стремимся оперировать
надежно установленными фактами, то мы рискуем остаться в итоге с
тощим утверждением, согласно которому в общем материале Мф и Лк
действительно сохранены подлинные слова Иисуса вместе с
творчеством двух-трех поколений протохристианских и/или христианских
групп. О теологии Q как самостоятельного.литературного памятника
говорить сейчас так же трудно, как и сто лет назад.
Евангелие по Матфею. Мф — как многие считают, написан евреем-
христианином для еврейской христианской общины, уже находившей-
13
ся за пределами еврейского мира и ставшей частью нееврейского
христианства. Эти утверждения основаны, в частности, на словах о
гонениях со стороны евреев, на «идите научите все народы... уча их соблюдать
все, что я повелел вам» (а не Тору!!!), и на других указаниях на миссию
к язычникам, содержащихся в Мф. Ср. историю об исцелении слуги
сотника: «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом» (8:11), историю о ханаанейской женщине (гл. 15),
вероисповедное утверждение римских воинов (гл. 27), притчу о
винограднике (гл.21), который будет отдан другим, далее — полная отмена
кашрута (как у Мк — то, что входит в уста, вообще не оскверняет
человека).
Как мы видим, дебаты эпохи Павла в Мф уже далеко позади. При
этом Мф, как считается, написан за пределами Палестины, например
в Антиохии. (Игнатий Антиохийский — первый из Отцов,
цитировавший Мф.)
Мф может скорее подтвердить представление о том, что группы
евреев диаспоры оказались втянутыми в раннехристианское движение, то
есть тезис, который я предлагаю — о возникновении христианства в
буферной зоне в много культурном обществе. Считать Мф настоящим
иудеохристианским евангелием было бы натяжкой.
Установление преемственности (с точки зрения «истории
спасения») между христианским движением и большой еврейской общиной
и ее верой — это, напротив, та цель, к которой по-разному стремятся и
Павел, и Мф и Ин, а также автор Евр.
Что касается происхождения раввинистического иудаизма: тут
исторически, я думаю, не проходит широкий экуменический жест
еврейского историка Джейкоба Ньюзнера: он утверждает, что иудаизм и
христианство — оба «приемные дети» (stepchildren) раннего иудаизма
эпохи конца Второго храма. Скорее уж годится метафора Павла о диком
побеге, привитом на садовую маслину.
Итак, в истории мы не можем проследить преемственное, шаг за
шагом, развитие от еврейской (внутриеврейской) группы
последователей Иисуса к христианской церкви. Мы сразу имеем дело с церковью.
Чуть ли не единственный еврейский элемент, который можно
пощупать руками — это высказывания Павла о правилах поведения для
членов общины, еврееев и неевреев, во время совместных трапез, и шире
— о соблюдении Закона (галахи) евреями и неевреями в христианской
общине. У Павла речь идет об обрезании, кашруте и «днях» (еврейских
праздниках и постах). Я думаю, что Павел как христианский миссионер
к язычникам точно определил, что практически важен был именно
вопрос об условиях допущения в общину (крещение, но не обрезание) и об
условиях совместной трапезы (христиане из евреев могут не соблюдать
кашрут ради единства с христианами из язычников). Очевидно, что для
Павла речь шла о единстве церкви. Книга Деяний исторически ценна
здесь главным образом в той мере, в какой она подтверждает сказанное
в подлинных письмах Павла. В частности, сведения об
эллинистической партии в Деяниях, перенесшей свою деятельность в Антиохию (ср.
Деян 11:19-26), соответствуют тому, что мы узнаем из Гал. Возможна
14
ж·
t; мысль о том, что исторически эти евреи — «эллинисты» и были (в эл-
: я> линистической и грекоязычной Антиохии) главным промежуточным
ί!': звеном в последовательности между еврейскими сторонниками Иису-
;:.-:;, са и нееврейской церковью.
Обратимся к Павлу, важнейшей для нашей темы фигуре. Павел счи-
■; тает совместные трапезы возможными на «нееврейских» условиях (Гал
2:11). Подведение христиан из язычников под «иго заповедей»
свидетельствовало бы*об искажении веры, о том, что «Христос напрасно
умер» (Гал 2:21): Для членов римской общины (если Павел действи-
^ тельно имел в виду ее смешанный характер) Павел рекомендует
взаимную терпимость в деле диетарных правил и «дней» (Рим 14).
Коринфянам он предлагает избегать запрещенные Торой гомосексуальные
связи и инцест: видимо, для Павла еврейские сексуальные нормы были
чем-то самоочевидным. Вот это самое «еврейское», что можно сказать
о Павле, причем его заботы по большей части определены практичес-
кимим нуждами церковного строительства.
Но как богослов Павел — исторически первый богослов Нового
Завета — находится явно за пределами махшевет Йисраэль, еврейской
религиозной мысли. Я покажу это на нескольких примерах.
При всех оговорках все же можно утверждать: нормативный иудаизм
происходит по прямой от протофарисейского иудаизма творцов Торы в
персидский период. Мишна продолжает «керигму» Торы в том смысле,
в каком Павел рвет с ней. Мишна дает некую (внеисторическую)
идеальную картину, как и Тора, приписывающая конституцию
мифическому Моисею. Оба раза мы имеем дело с утопическими элементами
одной природы. Оба раза миф об основании формирует (хочет
сформировать) реальность. А Павел выпадает в какой-то другой миф. У него в
I . самом деле другие исходные постулаты, другой центр. Пусть он
использует еврейскую фразеологию и приемы еврейской экзегезы Писания, —
суть не в них. Для него самое фундаментальное положение — это кериг-
ма о воскресении Иисуса и его мессианском достоинстве, а не Тора.
Более того, он понимает эту керигму как весть о спасении всех — евреев
и язычников — на равном основании веры в Иисуса и помимо Торы.
Как известно, Павлу важно ввести представление о всеобщей
греховности, для избавления от которой и потребовалась смерть Иисуса.
Это ключевое представление Павел обосновывает в Рим сразу несколь-
j кими способами: во-первых, «все согрешили и лишились участия в ве-
j личии Божьем» (3:23). Во-вторых, «Закон учит грешить» (3:20) и бёспо-
| лезен в деле избавления. В-третьих, все поражены последствиями гре-
\ ха, совершенного первым человеком (5:12). В Рим есть и другие попыт-
\ ки рационально обосновать утверждение, согласно которому все нужда-
\ ются в том избавлении, которое Бог предложил через Иисуса (ср. 7:7-25).
! Вероятно, для Павла несущественны возможные противоречия в
обоснованиях этого представления.
г Я думаю, что главная тема Рим (или первых одиннадцати глав, где
развивается теологическая аргументация, дальше следуют увещевания,
паренеза) — соотношение новой (нетороцентричной) общины
преимущественно из язычников и старого Израиля, то есть смысловая позиция
15
Павла — очевидным образом вне «иудаизма», как бы его ни понимать,
— вне всех современных ему «иудаизмов».
Конечно, Павел стремится в конечном итоге доказать, что его
Евангелие — это и есть правильная еврейская вера сегодня (ср. 1:1-4), и ему
необходимо доказать, что фактическое положение христианства —
миссия к язычникам и безразличие евреев — не может быть истолковано в
том смысле, что содержащиеся в Священном Писании обещания Бога
были нарушены.
Как он этого достигает? Путем интерпретации Писания, в нашем
случае — за счет нового истолкования тех мест в Писании, где речь идет
об избрании и отвержении (ср. Рим 9:7-13).
В гл. 9 Павел стремится доказать (путем подбора и интерпретации
цитат из Писания), что абсолютное и исключительное притязание
новой общины, (церкви из язычников и евреев) на обладание спасением
не подразумевает того, что Бог нарушил или объявил
недействительными свои обещания Израилю.
В Рим 9:25-29 Павел дает цепочку цитат из пророков. Ее цель:
доказать, что Бог теперь призвал (быть новым Израилем, то есть
христианами) язычников (цитата из Осии, ст. 25 ел), а старый Израиль Бог решил
ограничить малым «остатком», то есть евреями, принявшими
христианство (ст. 27 и 29 — цитаты из Исайи). Так Павел отвечает на вопрос
своего противника о неверности (9:6) и несправедливости (9:14) Бога,
вроде бы взявшего назад свои обещания Израилю.
«Полное число народов» должно, по мысли Павла, войти именно в
Израиль (11:25). Все рассуждения Павла в Рим 9-11 указывают на то,
что он мыслит церковь как Израиль — избранную Богом общину,
состоящую теперь из «остатка» прежнего Израиля (это христиане из
евреев) и уверовавших в Иисуса «народов». Теперь Павел сообщает
своим адресатам «тайну»: не уверовавшие в Иисуса евреи должны
(согласно замыслу Бога!) вскоре обратиться к Помазаннику, то есть
«вернуться» в истинный Израиль.
Удивительно, насколько рано возникает этот вполне опознаваемо
своеобразный тип христианской веры, христианского отношения к
Богу и миру. Похоже, что Бубер как автор вполне неакадемического
трактата «Два образа веры» более прав, чем те професиональные
теологи- новозаветники, которые считают, что до 70 г. едва ли можно
говорить о христианстве как о самостоятельной величине. Ведь в послании
к римской общине мы видим не экстравагантно мыслящего фарисея, а
вполне сформировавшегося христианского теолога; перед нами уже
готовый христианский образ мышления, я не вижу разрыва между
Павлом (Рим было написано, вероятно, в середине 50-х годов) и самыми
поздними произведениями канона, например 1 и 2 Петр. В Рим мы уже
встречаем продуманное и программное для будущего христианства
представление о фундаментальной испорченности человечества
(частичную аналогию дает лишь апокалипсис Эзры). В том же послании
Павел резкими штрихами создает образ свободного и
«непредсказуемого» в своей милости и в своем гневе Бога. Бог Павла, в отличие
от Бога евреев, — капризный Бог. Павел не видит тут особого
достоинства и прилагает усилия к тому, чтобы уйти от этого вывода, но
16
это у него не вполне получается. В самом деле: если Тора не
обеспечивает оправдания, то зачем было и давать ее? Ясно ответить на этот
вопрос Павел не может.
, Итак, еврейский мир эпохи формативного иудаизма предстает —
при схождениях в деталях — столь непохожим на христианство
Нового Завета, что привычное мнение о близком родстве этих двух
цивилизаций становится (по крайней мере для меня) проблематичным. И тогда
можно понять Маркиона: для христиан второго века Бог Священнно-
го Писания вполне мог показаться (и был!) чужим Богом.
Действительно, образ Бога и образ человека в формативном иудаизме и в раннем
христианстве имеют между собой мало общего.
Как известно, в европейской науке часто постулируется разрыв
преемственности в еврейском мире до и после 70 г. Действительно,
возникновение формативного иудаизма означало выбор одних
возможностей и отбрасывание других. Это пример того, что на самом деле
можно назвать катастрофичеким развитием, -но все же развитием, то есть
разрыва преемствености не было. А еще можно предположить, что в
европейской науке мы имеем дело с секуляризацией чисто
теологического (определенного христианской догматикой) представления о том,
что природа еврейства должна была измениться после возникновения
христианства. А получается наоборот: надо бы говорить о разрыве
преемственности в истории христианских истоков, как эта история
обычно мыслится.
Возможно возражение, которое звучит так: христианство
действительно непохоже на иудаизм Мишны и таннаитских мидрашей, но про-
тохристианство вписывается в более плюралистичный Иудаизм I в., то
есть в иудаизм эпохи конца Второго Храма. Я думаю, что не
вписывается, так как все, что мы имеем в Новом Завете, сосредоточено вокруг
интерпретации личности Иисуса, а не Торы. Вспомним кумранских
сектантов. Аналогии между Учителем праведности и Иисусом
поверхностны.
Последствия моего тезиса для теологии
Теперь, продолжая игру, я начну перемещаться на поле теологии. Что
означают такие общепринятые выражения как «схизма между
христианством и еврейством», «расставание» (parting of the .ways)6 и т.п.? Эти
выражения устроены так, будто подразумевают событие, подобное
разделению восточной и западной церквей в IX-XI вв. или расколу
западного христианства на католическое и протестантское в XVf в. Для
описания происшедшего применяется тот же язык.
В современной литературе представление о «схизме» остается
общепринятым. По-настоящему этот термин был бы уместен лишь для
обозначения раскола между еврейским сообществом в целом и
христианским сообществом в целом. Однако из Нового Завета мы знаем, что
христианство как заметная миру величина обнаружилось уже за
пределами еврейского народа. Христиане-неевреи не могли отколоться от
евреев-нехристиан, так как эти две группы никогда не составляли од-
2 Заказ 257 17
ного множества. Но и в еврейском народе раскола не произошло, так
как отношение к Иисусу и его еврейским последователям не стало
жизненно важным вопросом для евреев Ι-Π вв. н.э. {Если не считать,вме-
сте с некоторыми старыми авторами, само молчание еврейских
источников сознательным замалчиванием!)
Конечно, еврейская община таннаитского периода стремилась
выявить и исключить «еретиков», minim, о чем свидетельствуют
источники и прежде всего проклятие еретикам (birkat hammmim), включенное в
Амиду. Однако все же не эти заботы были в центре внимания
еврейских учителей эпохи формативного иудаизма.
Я думаю, что за общепринятой идеей
непрерывности/преемственности в развитии христианства с последующим расколом между
христианством и иудаизмом может стоять и историзация (в современной
науке) некоторых важных элементов христианского мифа. Научное
представление о расколе коррелирует с присутствующей в Новом Завете
мифологемой о том, что Израиль отверг своего Мессию при его жизни
и затем не воспользовался шансом признать его, когда началась
христианская проповедь.
В итоге получается: евреи, поверившие в Иисуса, «разошлись» в
конце концов с остальными евреями. Но разве это сопоставимые
величины? Уже Павел в Рим 9-11 свидетельствует о провале проповеди
Петра к «обрезанным». О расколе можно говорить в случае с караимами, но
не здесь. Важно помнить еще вот что: уже~самые ранние из текстов,
вошедших в Новый Завет, предполагают, что христианские общины за
пределами Палестины состоят главным образом из неевреев (так у
Павла — уже в начале пятидесятых годов).
Уже в Рим Павел исходит из того, что евреи еще некоторое время
останутся за пределами нового, спасенного сообщества. Но Павел,
живший в ожидании скорого конца истории, не догадывается, что это
означает конец и для «еврейского» христианства.
Иерусалимская община, возглавляемая «столпами» (мы мало
слышим о других еврейских общинах последователей Иисуса),
оказывается уже во времена Павла скорее исключением. По наблюдениям
самого Павла, даже Петр иногда жил «по-язычески» (Гал 2:14), что,
возможно, отчасти объясняет неудачу его проповеди среди евреев.
Быть может, маргинализация «иудеохристиан» началась уже во
времена Павла?
Как я уже говорил: предполагается, что известные Отцам Церкви иуде-
охристианские общины преемственны по отношению к первой
иерусалимской общине и другим еврейским общинам последователей Иисуса.
Но и это не доказано на основании источников. Мы очень мало знаем про
первую иерусалимскую общину, но и наши сведения об истории евреев-
христиан более позднего времени разрозненны и скудны. Во всяком
случае, сопоставление раввинистических свидетельств о миним и пр.
со'свидетельствами Отцов Церкви об иудеохристианах указывает на то, что
еврейские сторонники Иисуса в период написания соответствующих
документов находились за пределами большой церкви.
Я исхожу из того, что все вошедшие в НЗ произведения, кроме семи
подлинных писем Павла, были написаны позже 70 г. И во всех этих
18
послевоенных текстах (кроме, быть может, Мф) отсутствуют
свидетельства о непосредственном контакте их авторов с палестинским
еврейством. При этом даже псевдоэпиграфика, приписывание евангелий и
посланий членам круга «Двенадцати» и другим свидетелям жизни
Иисуса, указывает на отсутствие реальной связи между христианством
новозаветной эпохи и его мифическими корнями и на стремление
утвердить эту связь литературными средствами. Это нечто вроде
ностальгии по утраченной духовной родине.
Чтобы понять, что такие повороты в принципе возможны, важно
помнить следующее: в НЗ мы имеем дело с хорошо известной и в
других культурах быстрой мифологизацией истории. Павел, современник
Иисуса, с которым у него было много общих знакомых (среди них Петр
и брат Иисуса Иаков), говорит о нем целиком в мифических терминах.
И последнее принципиальное различие между всеми видами
иудаизма и самым ранним исторически доступным христианством — это
отношение к миссии. Мне близки слова Бубера:
«Христианство начинается как диаспора и миссия. Миссия означает тут
не просто распространение веры, она составляет жизненный нерв
общины, так как именно миссия обеспечивает повсюду существование
сообщества верующих й тем самым воплощение нового народа Божьего».
Бубер, правда, считал (я думаю, ошибочно), что миссионерство было
свойственно эллинизированному иудаизму диаспоры. Насколько я
понимаю, существовал еврейский прозелитизм, свидетельства
сохранились именно о нем, но не о миссии:
Мф 23:15: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного»-. — Насколько я знаю,
это единственный текст, который можно понять в том смысле, что
фарисеи занимались миссией среди неевреев, что это было их
принципиальной политической установкой. Судя по всему, что мы знаем о
фарисеях из других источников и даже из самого Нового Завета, эти слова
следует считать полемическим перехлестом и, быть может, косвенным
отражением христианской практики.
Отношение к миссионерству тоже указывает на то, что я называю
разрывом преемственности.
Каковы теологические последствия моего тезиса? Они, естественно,
относятся скорее не к русской ситуации, а к западной. Если в какой-то
мере мои рассуждения оправданы, то специфическая западная
либеральная протестантская юдофилия теряет большую часть своего
смысла. Примерно с таким же основанием можно заниматься исламофили-
ей. Более шаткими становятся основания для христианской теологии
христианско-еврейского диалога.
' Теология диалога в последние десятилетия заменила теологию
миссионерства. Это функциональная замена: в обоих случаях в глубине мы
обнаруживаем необходимость как-то осмыслить существование
иудаизма в том смысле, в каком нам не надо осмысливать существование
ислама. Либеральные христиане в связи с диалогом даже развили нечто,
напоминающее комплекс неполноценности. Интересны, в частности,
случаи перехода активных христиан (в частности, христианских
теологов!) в иудаизм; иногда это сопровождается эмиграцией в Израиль. Ес-
т
19
тественно, такие духовные приключения в конце концов основаны на
допущении, согласно которому есть только одна истина (или в этом
случае есть только одна истина). Получается, что искатели правды
рассуждают или чувствуют примерно так: если иудаизм не есть
недоделанное христианство, тогда уж христианство оказывается испорченным
иудаизмом, и поэтому оно неистинно. Но если такой вопрос об
истине вовсе не подразумевается и «общие корни» могут быть поняты не
совсем так, как их принято понимать, то христианский диалог с
евреями или, вернее, христианский монолог о евреях и в присутствии
евреев (как он практикуется на Западе и потихоньку появляется и у нас)
теряет свою неизъяснимую и волнующую прелесть.
29 сентября 1997
Примечания
1 Ср. Sanders KP. Paul, the Law and the Jewish People. — Minneapolis, 1983. — C. 192.
2 См. С 27.
3 О древнееврейской эпистолографии см. «Энциклопедиа микраит», т. 4, с. 966-
974 (статья «Письмо»), — Иерусалим, 1962 (на иврите); Ancor Bible Dictionary,
vol·. 4 (Hebrew Letters), с. 282-285, — NY, etc., 1992, В этой работе дается
полный список мест Ветхого Завета, где цитируются эпистолярные документы.
4 Убедительную критику историчности этой традиции предложил Герд Люде-
ман: Lüdemann G. Paulus, der Heidenapostel. Band П. Antipaulinismus im frühen
Christentum. Göttingen, 1983, с 265-286. .
5 Мои последние сведения о работе этой группы и о подготовляемом ею
издании комментированного греческого текста Q основаны на реферате,
полученном из Интернета в ноябре 1996 г. См. также Mack B.L. The Lost Gospel. The
Book of Q and Christian Origins. San Francisco, 1993. (Образец творчества
ведущего ученого этой группы.)
6 См., напр., Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to 135. Ed. by
James D.G. Dunn. — Tübingen, 1992.
Мидраш об Аврааме в послании
к Римлянам*
(Рим 4:1 - 5:11)
Вниманию читателя предлагается отрывок из
комментированного перевода Послания апостола Павла к Римлянам. Я
выбрал для публикации относительно завершенную часть
Послания, анализ которой позволяет показать, как Павел
работает с текстами Священного Писания.
В работе над комментарием я исхожу из предположения, согласно
которому у Рим был двойной адресат: сама римская община, а также
руководители иудеохристианской общины в Иерусалиме, встреча с
которыми предстояла Павлу вскоре после окончания работы над Рим. Мы
не будем гадать о том, собирался ли Павел представить им копию
этого документа, и если да, то каким образом. Просто в тексте послания,
как я думаю, можно заметить присутствие иерусалимских иудеохристи-
ан как реальных партнеров по диалогу, как адресатов Павловой
аргументации. Я пытаюсь показать это в комментарии.
Из предлагаемой публикации исключены все ссылки на
исследования Рим, остались лишь сокращенные указания на стандартную
справочную литературу. Вот они:
Bauer — W.Bauer. Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments
und der übrigen urchristlichen Literatur. 5.Aufl. Göttingen, 1971.
Bl.D.R. — F.Blass, A.Debrunner. Grammatik des neutestamentlichen
Griechisch. Bearbeitet von F.Rehkopf. 15.Aufl. Göttingen, 1979.
LS — H.G.Liddell, R.Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
Zerwick — M.Zerwick. Biblical Greek. Rome, 1963.
Перевод выполнен по 26 изданию Nestle-Aland
* Публикуется впервые.
21
4! Что же мы скажем о том, что обрел Авраам, наш предок по
плоти2? [2] Если Авраам и в самом деле был оправдан за соблюдение
Закона3, то ему есть чем гордиться4, но не перед Богом. [3] Ведь что говорит
Писание? — «Авраам поверил Богу, и Он засчитал ему это как
правоту»5 [4] Работающему причитается вознаграждение — это не дар6, а то,
на что он имеет право7. [5] А не «работающему»*, но верящему тому, кто
!Я думаю, что весь текст 4:1 — 5:11 представляет собой литературное единство,
нечто вроде проповеди, которая начинается как галахический и
гомилетический мидраш на Быт 15:6, связывает с этим пассажем из Торы текст из Пс 31
LXX, а затем Быт 17 (обрезание Авраама). В 4:24 начинается заключительная,
христологическая часть проповеди, тематически связанная с мидрашем об
Аврааме.
Формулировка вопроса τ'ι οΰν έροΰμεν напоминает 3:1 (τί οΰν) и 3:56 (τί έροΰμεν),
но здесь, в отличие от обоих названных мест, Павел сам предлагает вопрос,
чтобы доказательством из Писания обосновать свою sola fide. Авраам назван
προπάτωρ ημών κατά σάρκα, хотя из 1:13 ясно, что Павел считает римскую
общину нееврейской. В Гал 3 Павел уже обсуждал пример.с Авраамом, и там (ст.
7) «полагающиеся на веру» (οί έκ πίστεως) были названы «сынами Авраама».
Однако неоднократно встречающееся у Павла определение κατά σάρκα в значении
кровного родства (Рим 1:3; 9:3, 5) указывает, что Павел обращается здесь
именно к кровным, а не приемным (ср. об этом дальнейшие рассуждения в нашей
главе, в 9:7-8, и ср. Мф 3:9) потомкам Авраама. Видимо, перед нами прямое
обращение — через голову римского адресата — к иерусалимским собеседникам
Павла.
3 έξ έργων (дословно «издел»), ср. 3:20, 27.
4 έχει καύχημα, ср. 3:2-7.
5 Быт 15:6 LXX. В еврейской культуре талмудической эпохи Авраам
изображается как первый и образцовый прозелит (Мехилта на Исх 22:20, Герим 4:3), а
поэтому он — «наш отец», первый еврей. Он обратился к Ягве из язычества в
99 лет, заключив договор с Ягве (Быт 17). Знаком (Быт 17:11) договора стало
обрезание: Авраам обрезался в 99 лет, а своего новорожденного сына Исаака он
обрезал на восьмой день (Быт 21:4). Раввинистическая словесность исходит из
того, что с тех пор Авраам «соблюдал Тору», то есть выполнял обязанности,
следовавшие из этого договора (согласно Быт 17, единственной обязанностью
Авраама было обрезание). С еврейской точки зрения разговор о «соблюдении»
применительно к Аврааму, жившему до дарования Торы на Синае, не содержит
анахронизма. Павлу важна тема обращения к вере, то есть прозелитизма, и
поэтому он использует этот раввинистический образ Авраама. (Само рассуждение
Павла доказывает, что этот образ уже существовал в середине I в. н.э.) Ср.,
однако, Гал 3:17, где Павел (тоже опираясь на засвидетельствованную у раввинов
традицию) исходит в своих рассуждениях из того, что [Синайский] «Закон»
появился через 430 лет после договора Ягве с Авраамом. Ср. также Рим 5:20.
Принято считать, что раввинистический иудаизм (в отличие от паулинист-
ского христианства) упирает на человеческие достижения, «заслуги»,
«наградой» за которые ("132? = μισθός) должно стать участие в жизни будущего мира
(у Павла в Рим обычно «правота»). Может быть, в общем виде это верно (хотя
в экзегезе последних десятилетий такая трактовка оспоривается), однако в Ме-
хилте на Исх 14:31 Авраам спасается, как и у Павла, именно в качестве
человека веры, причем мидраш ссылается на наш пассаж: «Ты также находишь, что
отец наш Авраам унаследовал этот мир и будущий мир только в наградуОЭШЗ)
за веру, которой он уверовал, ибо сказано «И поверил в Господа и пр.».
6 t& δέ έργαζομένω ό μισθός ού λογίζεται κατά χάριν, κατά χάριν здесь означает
22
оправдывает нечестивого9, его вера засчитывается как правота. [6]
Точно так же и Давид называет счастливым человека, которому Бог
засчитывает правоту независимо от соблюдения Закона:
[7] Счастливы те, чьи беззакония прощены
и чьи грехи покрыты.
[8] Счастлив муж, которому Господь не засчитывает грех'0.
«даром», в качестве подарка», ср. ст. 16. Глагол λογίζομαι, переведенный здесь
как «причитается», употребляется 4:1-8 в разных видо-временных и залоговых
формах пять раз и в других случаях переводится как «засчитывать». Если бы
правовая речь не была столь периферийной и изолированной-^ речевой
деятельности на русском языке, λογίζομαι в большинстве случаев можно было бы
передать как «вменить» (в смысле «импутации», Zurechnung).
7 κατά όφείλημα — дословно «[то, что дается] в качестве должного».
SB оригинале игра слов. В ст. 2 говорилось о предположительном оправдании
Авраама έξ έργων. «Работающий» и «не работающий» в ст. 4-5 ό (μή) εργαζόμενος
— причастие глагола, образованного от ΗΜβΗΗ.έργον. Таким образом,
«работающий» = «соблюдающий Закон».
9 Не то чтобы Авраам был выдающимся образом нечестивца, но Павлу, как мы
видели и еще снова убедимся, важна идея всеобщей греховности,, поэтому
Авраам оправдывается у него верой именно в своем качестве нечестивца.
10 Пс 31:1-2а LXX. В 4:1-8 Павел Писанием обосновывает свое
противопоставление соблюдения Закона и веры в Иисуса как двух путей к оправданию:
негодного и единственно возможного. В 4:2 Павел, как я думаю, иронизирует:
допустим, Авраам был оправдан, причем именно за соблюдение Закона. Значит,
«оправдал» его кто-то другой, но не Бог, так как про Бога уже известно (см.
3:28), что Он оправдывает на основании веры. И в самом деле (ст. 3), Писание
свидетельствует, что Бог засчитал Аврааму как правоту его.веру. Здесь Павел
истолковывает глагол πιστεύω в библейской цитате исключительно как член
бинарной оппозиции «верить vs. соблюдать Закон». Здесь «вера» получает
значение изнутри этой пары понятий, то есть это Не-Соблюдение-Закона. В ст. 4-
5 Павел предлагает риторические преобразования своей оппозиции, εργαζόμενος
(«работающий») — это соблюдающий Закон, ему положено вознаграждение
(μισθός). Этим вознаграждением не может быть правота перед Богом (3:28). И
вообще правота не может быть вознаграждением, она бывает только «даром по
■ Его милости» (3:24, δωρεάν τη αύτοΰ χάριτι). χάρις — ключевое слово,
подхватываемое в ст. 4: κατά χάριν («в качестве дара»). И в ст. 5 все то же
противопоставление предлагается читателю как подкрепленный Библией вывод из 3:21-28.
Итак, в этих стихах Павел выстраивает две группы понятий,
противопоставленных по одному признаку:
εργαζόμενος πιστεύω ν
χάρις όφείλημα
μισθός δικαιοσύνη
Затем вводится второе доказательство из Писания, причем цитате
предпослан тот же герменевтический ключ: «независимо от соблюдения Закона» (опять
отсылка ко всему содержанию 3:28!). Собственно, цитируемый текст псалма в
синтаксически и семантически параллельных стихах выражает одну мысль:
счастлив человек, которому Бог прощает (из контекста псалма — после
процедуры раскаяния) преступление (в МТ УЕ?Э, в LXX более подходящее для Павла
άνομίαι, «беззакония»). Павел понимает этот текст так: простил (покрыл, не
засчитал) = признал правым, оправдал. Это тождество сформулировано в предис-
23
[9] Это счастье достается только обрезанным, или и необрезанным?
—- Ведь мы утверждаем: Аврааму его вера была засчитана как правота.
[10] А когда она была засчитана? После обрезания или до него? Это
произошло, когда он еще не был обрезанным! [11] А обрезание,
которое он принял, — это знак, то есть печать, подтверждающая, что он был
признан правым за ту веру11, что проявил до обрезания, чтобы стать
отцом всех необрезанных верующих, дабы и им засчиталась правота, [12]
и чтобы стать также и отцом тех обрезанных, которые не полагаются
только на обрезание12, но следуют по стопам веры нашего отца
Авраама, которую он проявил до обрезания13.
ловии к цитате («засчитывает правоту»). Следующий шаг: если признал правым
вопреки преступлениям, то, стало быть, χωρίς έργων, а это в интеллектуальном
мире Павла и значит «по вере» (πίστει 3:28). Так Павел добывает еще одно
библейское доказательство своего тезиса. Текст псалма уподобляется тексту про
Авраама: для псалма домысливается нужное Павлу и присутствующее в Быт 15:6
«верить». Это достигается не только за счет созданной Павлом для двух цитат
общей смысловой упаковки, но и благодаря встречающемуся в обоих текстах
глаголу λογίζομαι (LXX оба раза переводит так ЗЮП еврейского текста).
По-видимому, перед нами не изобретенная Павлом техника толкования и не ход ad
hoc, а обычная mttf ГПП («аналогичный оборот») — правило раввинистической
экзегезы, разрешающее (в галахических или гомилетических целях) считать
разные тексты говорящими об одном и том же, если в них встречается одинаковое
слово или выражение. Традиция приписывает первую формулировку этого
правила Гиллелю, работавшему примерно на два поколения раньше Павла. ГНТП
П1Е7 _ второе экзегетическое правило в барайте р.Ишмаэля.
11 «печать, подтверждающая, что он был признан правым за ту веру...», дословно
«печать правоты по [той] вере...» (σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως).
12 Ср. близкое по ходу мысли к 4:9-12 рассуждение в Мехилте к Исх 22:20: «Бог
любит прозелитов (СИЗ), так как отец наш Авраам совершил обрезание
только в 99 лет. А если бы он совершил обрезание в 20 или в 30 лет, то прозелитом
можно было бы стать только в возрасте не старше 30 лет». Бог, говорится
дальше, не спешил предложить Аврааму обрезание, «чтобы не закрыть дверь перед
будущими прозелитами». Так и у Павла Бог признал еще необрезанного
Авраама правым за веру, чтобы не закрыть перед необрезанными (т.е. христианами
из язычников) дверь к оправданию верой, а затем велел ему обрезаться, чтобы
охватить оправданием через веру и евреев.
13 Риторическая стратегия Павла проявляется в том, что для убеждения будущих
иерусалимских собеседников в том, что христиан из язычников не надо
обрезать и вообще ставить «под Закон», он избрал жанр галахического мидраша на
Быт 15:6. По ходу дела, как это обычно и бывает в мидрашах, привлекаются
другие тексты из Писания, с помощью которых автор подкрепляет свой тезис.
В 4:9-12 Павел доказывает, что Авраам, один из главных героев еврейского
мифа, — первый и архетипический христианин из язычников. Для доказывания
он применяет сразу два опознаваемых еврейских экзегетических приема.
(Отметим это вполне естественное для писателя его культурного круга сочетание
[прото]раввинистических и греческих, восходящих к диатрибе как
простонародному философствованию приемов работы со словом.) В ст. 11-12 он
ссылается на Быт 17:10-11, устанавливая из контекста (седьмое правило Гиллеля,
двенадцатое — Ишмаэля. 13OX7D ~1П~1), что оправдание по вере предшествовало
обрезанию. На этом основании он объявляет оправдание более важным
эпизодом в отношениях между Авраамом и Богом, чем установление обрезания.
Это, конечно, противоречит еврейским понятиям, но соответствует прави-
24
[13J Ибо не за соблюдение Закона Аврааму или его семени [было
дано] обещание14 того, что он15 унаследует16 весь мир, а за ту веру, из-
за которой Бог признал его правым17. [14] Если же наследниками
признаются соблюдающие Закон, то, значит, вера обессмыслена, а
обещание отменено. [15] Ведь Закон навлекает гнев18. Но там, где нет
Заколу ΤΡ3ΠΩ 31ЮП *ОП ΧΊρ/ЭЗ DmpPI Ьз (все, что предшествует в тексте
Писания, важнее, чем то, что следует, Мехилта на Исх 12:1). Обрезание из знака
Договора (σημεΐον διαθήκης в Быт 17:11 LXX) стало в ст. 11 печатью,
подтверждающей правоту по вере («знак обрезания» — «печать правоты»), которую
Авраам получил, будучи необрезанным. Естественно, «обрезание» здесь синекдохичес-
ки обозначает «Закон». Для Павла здесь речь идет о единстве Церкви, поэтому в
ст. 11-12 Авраам называется общим предком христиан из язычников и евреев (в
таком порядке!). Объединяет их вера Авраама, прототипического христианина.
14 «Обещание» — επαγγελία. В ВЗ нет термина, которым выражалось бы
«обетование» как религиозное понятие (соответственно, нет и «земли обетованной»).
В LXX επαγγελία употребляется в других значениях. Особое религиозное
употребление у слова επαγγελία появилось в эллинистическом иудаизме в связи с
возникновением апокалиптических движений. Раввинистическая литература
употребляет в теологическом значении глагол ГРОЭП и имя ЛПОЗП.
15 В оригинале солецизм, поневоле переданный и в моем переводе: обещание
адресовано Аврааму (м.р.) или его семени (το σπέρμα ср.р.), но в инфинитивном
обороте, передающем содержание обещания, субъект — местоимение м.р.
επαγγελία ... το κληρονόμον αυτόν είναι κόσμου. Возможное объяснение: в тех
местах Быт, где речь идет об обещании Бога Аврааму, реципиентом будущих благ
иногда выступает сам Авраам, причем подразумевается, конечно, его
потомство, в соответствии с древней ближневосточной моделью родового бессмертия
(она действовала в культуре до создания полноценного
индивидуалистического проекта посмертной судьбы), ср. Быт 15:7, — а иногда стороной в
отношениях с Ягве выступает Авраам и его «семя», ср. Быт 17:7. Я предполагаю, что
Павел в нашем случае следует (подражает?) этому библейскому узусу, ή
(основное значение «или») в предложениях с отрицанием обычно значит «и» (так же
как, например, в английском), но здесь, вероятно, оно значит «то есть», ср.
«светские» греческие примеры в Bauer sub voce.
16 Дословно «что он станет наследником», το κληρονόμον αυτόν εΐναι. Можно
перевести и «он приобретет/получит», так как соответствующий имени κληρονόμος
глагол κληρονομέω значит «получать в наследство» и «приобретать» в
оригинальных греческих текстах (LS sub voce) и в LXX, подобно тому как в библейском
иврите ЮТ и Ьп2 значат (в иных контекстах одновременно, вследствие
двойной точки зрения) «получать в наследство» и «приобретать/захватывать».
17 «За ту веру, из-за которой Бог признал его правым» — парафраз, которому в
оригинале соответствует генитивный оборот δικαιοσύνη 7Йатгах;,»правота веры»
или «правота по вере/за веру». Впервые Павел употребил этот оборот в ст. 11.
Правда, там перед «верой» в родительном падеже употреблен катафорический
артикль, так что в этом первом употреблении «правоту веры» можно принять за
синтаксически свободное и окказиональное сочетание: σφραγίδα της δικαιοσύνης
της πίστεως της έν τη άκροβυστία. Однако в нашем стихе δικαιοσύνη πίστεως
употреблено обособленно и почти приобретает статус созданного Павлом термина.
Однако точно в таком виде это сочетание у Павла больше не встречается, и ср.
10:6, Флп 3:9.
[н Это высказывание, как и 3:206, Павел пока оставляет без объяснений. Он
вплотную займется этой темой в гл. 7.
19 Павел продолжает свое толкование Быт 15. Авраам получил обещание отно-
на, нет и нарушения19! [16] Потому «за веру», чтобы «не по заслугам»20,
дабы обещание имело силу2' для всего потомства [Авраама], не только
для соблюдающих Закон [подобно Аврааму], но и для верующих [без
Закона] подобно Аврааму, который стал нашим общим отцом.22 [17]
Ведь в Писании сказано: «Ибо Я назначил тебя отцом многих народов»2*.
Авраам поверил тому Богу24, который оживляет мертвых25 и наделяет
сительно потомства и земли еще до обрезания, т.е. до договора («Закона»), о
котором говорится в Быт 17. Поэтому возможно, что наше именное
предложение — не правовая максима вроде nulla poena sine lege, (но ср. 3:206), а
указание на «беззаконную» историческую ситуацию Авраама. Часть текстуальной
традиции (в том числе и текст типа койне) читает не ου δε ουκ εστίν νόμος, а ου
γαρ ουκ εστίν νόμος, разрывая связь этого предложения с ό γαρ νόμος в ст. 15а (то
есть связь γάρ с δε) и действительно превращая наше именное предложение в
утверждение из области философии права, что в данном случае едва ли
подходит к контексту, так как ст. 15 явно относится к мидрашу на Быт 15:6.
20 С помощью ключевых слов εκ πίστεως и κατά χάριν (ср. ст.4, где χάρις
употребляется в том же — нерелигиозном — значении, но см. 1:5) Павел ссылается
на свое главное религиозное убеждение об оправдании по вере помимо Закона.
21 εις το είναι βεβαίαν την έπαγγελίαν. βέβαιος значит «прочный, устойчивый,
постоянный». Однокоренной глагол βεβαιόω имеет, в частности, значение make good,
treat as valid, guarantee the validity of (LS sub voce). Соответственно, и βέβαιος
значит «действительный», «имеющий юридическую силу» и употребляется как
антоним καταργέω, «аннулировать, объявлять недействительным» (ст. 14 и ср. 3:3,31).
22 Из сопоставления со ст. 11-12 ясно, что Павел имеет в виду следующее:
Авраам стал отцом всех христиан, как еврейского так и нееврейского
происхождения. Только первые, так называемые «иудеохристиане», имеются здесь в виду
под «соблюдающими Закон». Речь уже не идет о всех евреях. Ср. 4:1, где
Авраам еще называется предком евреев «по плоти» (или и там Павел включал
только иерусалимских адресатов?), с 4:12, где уже подразумевается, что Авраам
Павлова мидраша перестал быть «отцом» евреев, не принявших веру в то, что Иисус
есть Помазанник. Это «отцовство Авраама» в Рим соответствует «сыновству
верующих» в Гал 3:7. Там Павел впервые, в полемическом контексте, назвал
верующих (прежде всего из язычников) «сынами Авраама». Важно отметить
следующее: для Павла здесь вроде бы самоочевидно, что иудеохристиане
соблюдают Тору. Остается пока неясным, считает ли Павел, что они также должны ее
соблюдать.
23 Быт 17:5 LXX. «Многие народы» здесь для Павла значит «христиане из
язычников», это обыгрывание разных употреблений слова έθνη, «народы» и
«неевреи». В ст. 13-17а Павел тематизирует тождество «обрезания» и «Закона»,
предполагавшееся в его рассуждениях 4:9-12. И в ст. 14 Павел высказывается от
имени Авраама, — это его вера была бы обессмыслена, это данное ему обещание
было бы отменено! — и одновременно Павел как апостол язычников
выражает точку зрения тех, кому он открыл веру в истинного Бога и в Его
Помазанника Иисуса, и кого он научил, что «правота» достигается помимо Закона (ср.
Гал 2:21).
24 κατέναντι ου έπίστευσεν θεού. Дословно получается «перед лицом того поверил
Бога». Грамматически правильной конструкцией здесь было бы κατέναντι τοΰ
θεοΰ ω έπίστευσεν «перед лицом того Бога, которому он поверил», но тогда
непосредственно следующий причастный оборот του ζωοποιοϋντος κτλ был бы
отделен от своего определяемого, и вся фраза вышла бы неуклюжей. Павел
перенес антецедент θεός в придаточное а относительное местоимение ος
употребляется не в дат., а в род. падеже в результате аттракции к падежу антецедента.
26
бытием то, что бытием не обладало26. 118] [Поэтому) Авраам надеялся,
хотя надеяться было не на что27, и верил, что станет отцом многих
народов, как [ему] было сказано: «Таким будет твое потомство»2*. [191И
хотя он считал свое тело одряхлевшим — Аврааму было около ста лет —
и [думал,что] чрево его жены Сарры тоже одряхлело, он не ослабел
верой29: [20] он не усомнился в Божьем обещании, не проявил неверия,
но укрепился в вере, воздав [тем самым] славу™ Богу. |21] Авраам был
убежден: то, что [Бог] обещал, [Он] в силах сделать. [22] Поэтому [его
вера] и была засчитана ему как правота. [23] А «ему застилалось» в
Писании сказано не только про него, [24] но также и про нас, которым
[тоже] должна засчитаться [правота], — нам, верящим тому31, кто
воскресил Иисуса нашего Господина из мертвых, [25] который был выдан32
Видимо, Павел пренебрег грамматической правильностью ради быстрого и
ритмичного развития пассажа, вбирающего далее литургическую аккламацию и
торжественную теологическую формулу.
25 «Оживляющий мертвых», ζοροποιών τους νεκρούς — дословный греческий
перевод еврейского D^DD ГРПО. Отметим, что при упоминаниях воскрешения
Иисуса Павел, вслед за уже успевшим сложиться раннехристианским узусом,
использует глагол εγείρω (напр., 1 Кор 15:4, Рим 4:23 ел), а не ζωοποιέω. ΓΡΠΩ
0"ΉΏ — атрибут Бога, употребляемый в Амиде, одной из главных еврейских
ежедневных молитв, в ашкеназских обшинах больше известной под названием
Шмоне-Эсре. Амида читалась во время синагогальной службы уже в первой
половине I в. н.э. Речь у Павла, как и в еврейском литургическом
благословении, идет об эсхатологическом воскрешении мертвых.
26 Дословно «называющий не сущее (ср. р. мн. ч. τα μή οντά) сущим (ως όντα),
то есть «вызывающий не сущее к бытию». Речь идет об акте творения, с
которым сравнивается эсхатологическое воскрешение мертвых. Это высказывание
имеет многочисленные параллели в еврейской литературе эпохи Второго
Храма и в раввинистической словесности.
27 В оригинале изящная игра слов ος παρ' ελπίδα έπ: έλπίδι έπίστευσεν,
дословно «который [Авраам] вопреки надежде в надежде верил (доверял тому), что ..,»
-* Быт 15:5 LXX. Некоторые переводы и комментарии понимают этот текст
иначе: «...так что [в результате] он стал отцом многих народов, как сказано в
Писании...» Я думаю, что εις το γενέσθαι αυτόν πατέρα управляется глаголом
έπίστευσεν, который лексически вносит в это дополнение целевой, а не консе-
кутивный смысл. В ст. 16 такая же конструкция, εις το είναι βεβαίαν την
έπαγγελίαν, только что была употреблена в целевом значении (с эллипсисом
личной формы управляющего глагола), κατά τό είρημένον больше нигде у
Павла не вводит цитату из Писания. Если Павел не уточняет источник (напр.
Давид = Псалмы, Исайя и т.д.), то он всегда вводит цитату словами καθώς
γέγραπται или γέγραπται γαρ. κατά τό είρημένον в качестве отсылки встречается
в НЗ однажды в Лк 2:24, и ср. Деян 2:16; 13:40.
29 В моем переводе порядок частей сложного предложения обратен порядку
оригинала: και μή άσθενήσας τη πίστει κατενόησεν κτλ («но не ослабев верой, он
считал...»). Главная идея этого высказывания выражена причастием μή
άσθενήσας, формально зависящим от личной формы κατενόησεν (ср. B1.D.R. 416).
Такое возможно и в классическом языке (Zerwick 263,376).
30 δόξα здесь — «должное почитание». Авраам положился на творческую силу
Бога, явленную в акте творения.
31 πιστεύειν επί означает «верить/доверять к.-либо».
32 παρεδόθη. В канонических евангелиях глагол ποφαδίδομι в разных формах ис-
27
[на умерщвление] ради наших прегрешений и воскрешен ради нашего
оправдания.
5 Итак, мы признаны правыми за веру33. Мы [теперь] живем в мире
с Богом, и этим мы обязаны34 нашему Господину Иисусу
Помазаннику, [2] через которого мы и получили доступ35 к той [Божьей] милости,
которой мы пользуемся36 и [которой] гордимся, надеясь получить долю
пользуется (в пассиве иногда без прямого и косвенного дополнений) как
terminus technicus для обозначения насильственной смерти Иисуса,
«выданного» в руки врагов, εγείρω («поднимать») — стандартное в раннехристианской
традиции обозначение действия «воскрешать» (ср. τον έγείραντα Ίησοΰν в
предыдущем стихе). Содержательно стих представляет собой вероисповедную
формулу (возможно, в ней отразился Ис 53:12 LXX, где об искупительной жертве
за грех говорится метафорически и дважды употребляется παρεδόθη). Формально
стих делится на два полустишия со строго выдержанным синтаксическим
параллелизмом:
παρεδόθη δια τά παραπτώματα ημών
ήγέρθη δια τήν δικαίωσιν ημών.
Итак, велика вероятность того, что перед нами один из древнейших
христианских литургических текстов. Однако δικαίωσις встречается во всем НЗ
только здесь и в 5:18. Можно допустить, что перед нами Павлова модификация
традиционной формулы. Но какое слово могло бы стоять в этой греческой
формуле до Павла? Я предполагаю, что δια σωτηρίαν ( ср. εις σωτηρίαν 1:16 — тоже,
вероятно, традиционный оборот). Мое предположение основано на следующем
наблюдении: Павел активно внедряет слова с корнем δικ в те области, где
естественнее было бы использовать другие лексемы. Здесь же текст настолько
опознаваем, что Павел как автор может позволить себе слегка изменить его и
повернуть в сторону темы своего мидраша: оправдание Авраама и верующих в
Иисуса помимо Закона.
33 В 5:1-11, заключительном разделе «проповеди» 4:1 — 5:11, Павел переходит
от галахического мидраша, отвечавшего на вопрос «Кого считать потомками
Авраама?», к чисто гомилетической части. Здесь выделяются две темы и,
соответственно, две композиционные единицы.
Первая тема (ст. 1-5 и «вкраплениями» дальше) — нынешняя жизнь
верующих, получивших «правоту», то есть обретших состояние (=status)
«примирения» с Богом (καταλλαγή ст. 11). Похоже, что у Павла «правота» (δικαίωσις 4:25
+ страдательные причастия от δικαιόω, напр.5:1,9) здесь синонимична
«примирению», и обе эти категории близки или даже тождественны «новому
творению» (Гал 6:15, 2 Кор 5:17) и «новой жизни» (6:4). Καταλλαγή указывает на
изменение состояния и не имеет правовых коннотаций, это «change from enmity to
friendship» (LS sub voce). Павел и в других местах использует слова с корнем
δικ— в новом, неюридическом, идиолектическом смысле «переход в сообщество
теху кому предстоит спастись».
Вторая тема (ст. 6-11) — будущее спасение верующих от «Гнева» при
эсхатологическом испытании. Надежду на спасение Павел получает путем
логического вывода из утверждения о наличной «правоте» в первой части гомилии,
используя прием α minore ad maius («кольми паче»), известный в раввинистичес-
кой экзегезе как qui wähömer ("ΊΟΊΠΊ Ьр), «легкое и весящее». У меня нет
уверенности в том, что Павел использовал именно раввинистический прием: qäl
wähömer стоит первым в списках правил р. Гиллеля и р. Ишмаэля как раз из-
за своей самоочевидности. Не надо быть ученым фарисеем, чтобы строить рас-
28
в Божьей славе37. [3] Но это еще не всё: мы гордимся и страданиями3*,
зная, что страдания ведут к стойкости,[4] стойкость [ведет к] испытан-
ности39, испытанность [порождает] надежду. [5] А надежда не может
быть напрасной40, ибо Божья любовь [к нам] наполнила наши сердца,
когда Он дал нам святой дух41. [6] Мы были еще бессильными, когда
Помазанник в [назначенный] срок умер за [нас] нечестивых42. [7] Ведь
суждения по такой схеме. Само выражение πολλώ μάλλον (а fortiori, «кольми
паче», «еще больше») засвидетельствовано и в светских греческих текстах и в
НЗ при сравнении действий, помимо всяких логических заключений (Плат,
Фед 80е, и ср. Мк 10:48 о δέ πολλώ μάλλον εκραζεν, «он еще сильнее закричал»).
Ст. 8-9 и ст. 10, содержащие заключение «кольми паче», параллельны и
выражают близкое содержание с небольшими, но интересными для нас
словесными вариациями:
(ст.9) πολλώ οΰν μάλλον δικαιωθέντες σωθησόμεθα δι' αύτοΰ
(ст. 106) πολλφ μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αύτοΰ.
Параллельное употребление δικαιωθέντες и καταλλαγέντες указывает, как я
думаю, на их синонимичность. У Павла есть еще одно место, свидетельствующее
в пользу такой синонимии, 2 Кор 5:18-21. «Служба примирения» и «слово
примирения» в ст. 18-19 могли бы в Рим стать службой и словом оправдания
(δικαίωσις, ср. 4:25, в НЗ это слово употребляется дважды и только в Рим).
καταλλάγητε τω θεώ в ст.20 значит «уверуйте в спасительное деяние Бога и
обретите спасение» (=«правоту»), что вполне подтверждается следующим стихом,
5:21, где говорится «... чтобы мы обрели правоту от Бога (δικαιοσύνη θεοΰ) в
нем». Можно подумать, что Павел чередует эти термины в зависимости от
характера синтаксических связей. См. также комм, к ст. 10.
Текст 5:1-11 получает единство и за счет употребления окольцовывающего
ключевого слова καυχάομαι (гордиться, хвастаться) — ст.2,3,11. Это
анафорическое употребление, отсылка от правильной гордости верующих в Иисуса к
неправильно обоснованной еврейской гордости Богом (καυχάσαι 2:17) или
соблюдением Закона (καύχησις 3:27).
34 Дословно «через нашего Господина Иисуса Помазанника», δια τοΰ κυρίου κτλ.
35 Синайский кодекс (К) добавляет: «посредством веры (τη πίστει)».
36 Дословно «в которой мы стоим», εν η έστήκαμεν.
"Дословно «в надежде Божьей славы», (καυχώμεθα) έπ έλπίδι της δόξης τοΰ θεοΰ.
Смысл предложенного перевода: надеясь быть принятыми Богом при
эсхатологическом испытании (ср. 1 Кор 15:53 ел). Можно понять иначе: «в надежде
увидеть Божью славу», то есть второе пришествие Иисуса как проявление «славы»
Бога (ср. 1 Фес 4:15 слл). Наконец, при сравнении с καυχώμεθα έν в следующем
стихе возникает третье возможное понимание: «мы гордимся надеждой на славу
Божью» (что бы она ни значила).
^Страдания праведников за веру — важная тема еврейской литературы со
времен Дан и Маккавейских книг. О том, как сам Павел гордится своими
страданиями бродячего проповедника, см. 2 Кор 11:16-32.
39 «Испытанность» — в оригинале δοκιμή, слово того же корня (на другой
ступени чередования гласных), что и δικαιοσύνη (у меня переводится главным
образом как «правота»). Древнееврейское имя Пр"Г^, которое в Септуагинте пе-
реводится как δικαιοσύνη (ср. Быт 15:6 = Рим 4:3) в ряде текстов Библии (в том
числе и в Быт 15:6) содержит в своем значении и идею «испытанности» или
«проверенности».
40 «Не разочаровывает», «ее не приходится стыдиться», ου καταισχύνει, ср.
έπαισχύνομαι в 1:16.
41 Дословно «посредством святого духа, данного нам».
29
едва ли кто умрёт [даже] за невиновного человека. Разве что за
доброго человека, может, кто и решится умереть43. |8) Но Бог показал свою
любовь к нам тем, что Помазанник умер за нас, когда мы еще были
грешниками. [9] И тем более сейчас, получив оправдание посредством
его крови44, мы через него будем спасены от Гнева. [10] Ведь если мы,
будучи врагами, примирились45 с Богом через смерть Его Сына, то тем
более, примирившись, мы будем спасены посредством его жизни. [11]
Но это еще не все: мы гордимся и Богом благодаря нашему Господину
Иисусу Помазаннику, через которого мы теперь получили примирение.
42 В оригинале есть текстологические проблемы и грамматические трудности.
Вот текст, который я перевожу: ετι γαρ Χριστός όντων ημών ασθενών ετι κατά
καιρόν υπέρ άσεβων άπέθανεν. Ватиканский кодекс (В) и минускул 945 вместо ετι
γαρ читают ει γε, «если и в самом деле». Это чтение принималось 25 изданием
Nestle-Aland. Оно дает другой смысл: «Если и в самом деле (как мы верим)
Помазанник, когда мы были бессильными, еще в [назначенный] срок умер за [нас]
нечестивых». Чтение внутри стиха получается более гладким, чем в
принимаемом здесь варианте 26 издания Nestle-Aland, но тогда надо домысливать
отсутствующий аподосис. ετι γαρ засвидетельствовано, в частности, Синайским и
Александрийским кодексами, и это чтение лучше вписывает стих в контекст.
Если считать его (и второе ετι, опускаемое в группе койне) исходным, то
буквальный перевод стиха таков: «Ведь еще — Помазанник — когда мы были
бессильными — еще в срок за безбожных умер». Курсивом я выделил временной
оборот. Субъект главного предложения необычным образом вдвинут в него, так что
порядком слов резче выражается противопоставление «нашего бессилия»
(недостоинства) и спасительного свершения Помазанника. Второе ετι,
грамматически излишнее, «подхватывает» первое и создает параллелизм двух частей
высказывания.
43 Это странное замечание. Я понимаю его так: Помазанник умер за нас
грешных, хотя даже за невиновного (собственно, «за правого», υπέρ δικαίου)
обычно не умирают. И затем, «рассуждая по-человечески» (ср. 3:56), Павел
пытается смягчить свое высказывание: «может, кто и возьмется пожертвовать жизнью
за своего личного добродетеля», — но тут же возвращается в план
божественной мистерии.
44 Ср. 3:25 «в его крови». В нашем стихе упоминание о «крови» звучит как
отсылка к 3:25, где «кровь» появляется в допавловом и традиционном контексте.
В дошедших до нас письмах Павла искупительная кровь Иисуса упоминается
еще дважды, 1 Кор 10:16; 11:27 (тоже, возможно, допавловы высказывания).
Павел, таким образом, при случае охотно ссылается на жертвенную топику, но
сам ее не разрабатывает, выражая собственную христологию с помощью других
символов, образов и метафор.
45 Согласно большинству комментаторов, «примирились» здесь и далее следует
понимать в пассивном значении: «были примирены», «обрели мир» с Богом в
результате искупающей грехи жертвы Помазанника Иисуса. Однако в светской
греческой прозе страдательный аорист κατηλλάγην обычно употребляется в
медиальном значении «приходить к примирению с кем-л.» (см. LS sub voce и ср.
1 Кор 7:11). Но если верно, что страдательный аорист от καταλλάσσω значит у
Павла примерно то же, что страдательный залог δικαιόω, то в «примирение»
входит и ответный акт веры в искупительное деяние, и глагол получается
взаимным, то есть медиальным по значению и. стало быть, депонентным по форме.
Август 1997
30
ьиолеиское повествование
и повествование евангелия Марка*
Изложенные ниже соображения впервые возникли у меня при
переводе на русский язык евангелия Мк1: я занялся
изучением языка этого литературного памятника исходя из целей
перевода. Мне представился случай развить эти мысли, когда в
весеннем семестре 1996 г. я вел аспирантский семинар
«Лингвистика текста и синтаксис библейского иврита»- в Институте
восточных культур Ρ Г ГУ.
Греческий язык Марка обнаруживает все главные характеристики
койне — общегреческого языка, сложившегося в эллинистический период на
аттическо-ионийской диалектальной основе. Многие лексические,
морфологические и синтаксические особенности языка Мк, отличающие его, как
и язык других книг НЗ, от «аттикистского стандарта», т. е. от языка
«высокой» эллинистической литературы I в. н. э., имеют многочисленные
параллели в языке греческих внелитературных папирусов, остраконов и
надписей, отражавшем устный узус той эпохи3. (Эти папирусы находят в
Египте с конца XIX в.) К тому времени, когда Мк писал свое евангелие (я
думаю, это было в начале 70-х годов), христианская традиция уже перешла
с арамейского языка на греческий. Сам автор Мк, судя по всему, имел дело
только с грекоязычной традицией. На синтаксис Мк повлияла Септуагин-
та. Я думаю, что, в отличие от Луки и некоторых других авторов, чьи
тексты вошли в НЗ, Мк не воспринимал LXX как образец высокого и
сакрального стиля. Для Мк LXX была скорее просто образцом литературной
нормы. Семитское влияние на язык Мк проявилось сильнее всего в
синтаксисе, а влияние латыни — в лексике4.
Теперь я предложу несколько тезисов о языке Мк.
1) Евангелие Мк написано по-гречески, это не перевод с
еврейского или арамейского.
2) Автор Мк использовал устную традицию об Иисусе и, возможно,
письменные источники. Все эти источники были греческими. В том, что
касается синтаксиса, автор Мк свободно редактировал свои источники.
Можно указать на языковые (более всего — лексические) отличия
традиционного материала от «редакторских» текстов, впервые созданных самим
евангелистом, но резкой языковой границы между ними нет.
3) Автор Мк не ориентировался на современные ему нормы
греческой письменной словесности.
* «Библия: литературные и лингвистические исследования». Вып. 1. М., 1998.
С. 280-298.
31
4) Языковую норму для Мк дала LXX. Она была для Мк не образцом
высокого и сакрального стиля, а просто нормой письменной речи.
5) LXX, как известно, часто калькирует синтаксис еврейского
оригинала. В результате возникают конструкции, несвойственные
греческому языку.
6) В традиционном материале, использованном у Мк, имеются
многочисленные синтаксические семитизмы. Некоторые из них могли
появиться в результате перевода логий Иисуса с арамейского на
греческий, другие могли возникнуть по аналогии, но по большей части они
объясняются влиянием LXX. Так как у нас есть все основания считать,
что Библией Мк была именно LXX, то здесь исследование стоит на
твердой почве. Нам не нужно гадать о том, как логии Иисуса или
повествовательные тексты устно переводились на греческий, прибегать к
давно скомпрометировавшему себя допущению о «mistranslations» и
другим не основанным на доступных исследованию источниках
предположениям5.
7. Из всего этого следует, что для автора нашего евангелия
синтаксические семитизмы были не стилевым, а нормативным и даже
нормообразующим элементом. Для Мк как писателя еще нет
оппозиции «семитское vs греческое». Это верно и для переработанного им
материала традиции.
8) Для перевода это значит, что русские (или, например,
английские) кальки семитских конструкций Мк впервые создают особый
«библейский стиль», отсутствующий в оригинале. Примет «библейского
стиля» в нашем тексте не существовало ни для автора, ни для первого
поколения его читателей. Это видно, в частности, из того, как авторы
Мф и Лк отредактировали текст Мк. Вероятно, лишь на рубеже I-II вв.,
по мере растворения раннехристианской субкультуры в
эллинистическом мире и создания вселенской («большой») Церкви, греческие
читатели Мк смогли найти в нем библеизмы: их языковой и читательский
опыт был уже существенно отличен от опыта автора.
Поэтому я считаю, что для перевода Мк подходит нейтральный (не
сниженный!) стиль. Коль скоро литературные нормы греческого языка
для автора недействительны, то изображать в переводе анаколуфы Мк
и другие «ошибки» против литературного узуса эпохи ранней Империи,
создавая образ внелитературного и грубого стиля, было бы делом столь
же несправедливым по отношению к оригиналу, как и наделение его
возвышенным «библейским» стилем.
Сказанное относится не ко всему НЗ и даже не ко всем синоптикам,
а только к Мк. В НЗ есть тексты (например, гимны Лк 1:46-55; 68-79),
где синтаксические семитизмы используются как стилистический
прием. Кстати, в языковом и стилевом отношениях Мф и Лк резко
отличаются от Мк и друг от друга; в известных мне переводах это различие
вообще не передано.
Теперь — в порядке иллюстрации предложенных тезисов — я
рассмотрю некоторые типы синтаксических семитизмов у Мк, — из
числа тех, что наиболее важны для перевода. В выборе синтаксического
материала я отчасти следую за Клаусом Байером (Bayer, 1968).
ч
32
1. Конструкция και έγένετο + обстоятельство времени + сообщение;
порядок слов
Мк 1:9: Και г*/г\>гхо έν έκείνοας ταΐς ήμέραις ήλθεν Ίησοΰς...
Дословный перевод: И было в те дни: пришел Иисус...
Ср.: Суд 19:1: Ь*ПЙРЭ ГХ фы ΏΠΠ DW2 ">П^П
А I * * I |«» 1 1 *
LXX: και έγένετο έν ταΐς ήμέραις έκείναις και ουκ ην βασιλεύς έν
Ισραήλ...
Дословный перевод оригинала: И было в те дни, и не было царя в
Израиле.
Как известно, в библейском иврите формула ^mi вместе с
обстоятельством времени вводит сообщение о событии в прошлом. При этом
собственно сообщение (третий член конструкции) начинается с waw
copulativum + N (имя), как в Суд 19:1, или (гораздо чаще) с waw
consecutivum (в традиционной еврейской грамматике «вав
перевертывающий», waw hahippuk + yiqtöl, который изменяет значение формы yiqtöl
и входит в состав единственной в библейском иврите собственно
нарративной глагольной формы wayyiqtol (в традиционной академической
терминологии, imperfectum consecutivum).
Ср.: ИсНав 1:1: mm ΊΏΏ ПрЪ ΠΊΏ ^ΊΠΚ ТГТ
LXX: και έγένετο μετά την τελευτήν Μωυσή εΐπεν κύριος τω Ιησοΐ υίφ
Ναυη...
Дословный перевод оригинала: И было после смерти Моисея, раба
ЙХВХ, и сказал ЙХВХ [обращаясь к] Иошуа, сыну Нуна...
Ср. также: Руф 1:1: ...D">pbiön üStf ЧГЗ ТП
...nmm'anb тзЬ кИк ф^
LXX: και έγένετο έν τω κρίνειν τους κριτάς ... και έπορεύθη άνήρ άπό
Βαιθλεεμ της Ιούδα...
Дословный перевод оригинала: И было в дни, когда судили судьи ... и
пошел человек из Бет-Лехема Иуды...
В классической библейской прозе (в том числе и в прямой речи
персонажей) обстоятельство времени регулярно вводится посредством "'ΓΡΙ
(около 400 случаев в Библии), т. е. во временной клаузуле значение
этого wayyiqtol не лексическое, а грамматическое. В самом деле, VPT
оформляет указание на время, связывая обстоятельство времени с
сообщением (ср.: рамочную функцию двух вавов: Ία^1_<...> TP1!).
Обстоятельство времени, вводимое с помощью ^ГРТ, может быть выражено, в час-
4
тности, предложно-именным оборотом (ср.: Суд 19:1), сопряженным
инфинитивом, управляемым предлогом или предложно-именным
оборотом (ср.: Руф 1:1), а также клаузулой с личным глаголом в форме qätal
(ср.: Быт 39:5а). По подсчетам Клауса Байера, временная конструкция
с ТРТ_ встречается внутри повествования почти вдвое чаще, чем в начале
повествования6. По моим наблюдениям, во многих случаях "■ΓΡΙ
внутри повествования употребляется при рассказе о новом повороте собы-
3 Заказ 257 33
тий, который при современном графическом оформлении текста мог
бы быть отмечен абзацем (ср., например: Быт 34:25; 40:20; Исх 16:27; 1
Цар 8:10). Можно допустить, что в этих случаях "'ΓΡΙ служит также и
членению текста на сверхфразовом уровне, т.е. функционирует как
макросинтаксический знак.
LXX в большинстве случаев переводит формулу буквально: και
έγένετο (έγενήθη, γίνεται и έγένετο δέ (это попытка грецизировать
формулу, она встречается около 50 раз). Оригинальные «светские»
греческие тексты, вводящие обстоятельство времени посредством και έγένετο,
исследователям неизвестны7.
Если я прав в том, что для Мк этот оборот не маркирован
стилистически8, то для нашего евангелия грамматически и стилистически
точный перевод 1:9а будет звучать так: «В то время Иисус пришел...»
Здесь следует учитывать нормальный порядок слов в
древнееврейском повествовании: в стилистически нейтральном предложении (без
эмфазы одного из его членов) личная форма глагола стоит на первом
месте. На «переднем плане»9 повествования препозиция waN
(подлежащего или дополнения) + qatal может выражать противопоставление
ранее сказанному или другие виды эмфазы:
Быт 37: тпк 13"W3[?";1
Быт 39:4: "т "' \р& ΤΓ\ψ\
ί~Ρ3 ]лэ Ъ'^-Ь-ώλ in^-bu тпрв'п
I т ; I "" τ ν τ ; · · — * ■ Ι ■ :
Таким образом, порядок слов в библейском иврите, как и в русском
языке, релевантен на уровне коммуникативной структуры высказывания.
LXX, а за ней и Мк используют препозицию сказуемого как
стилистически нейтральный порядок слов, в то время как вообще в
древнегреческом языке такой порядок слов часто выражает эмфазу, например
логическое ударение на сказуемом10. У Мк сказуемое чаще стоит на
первом месте, чем подлежащее: этим синтаксис Мк выделяется даже в НЗ.
Однако Мк 1:9 — это первое упоминание о действии Иисуса в
нашем евангелии, первый выход главного героя на сцену. С точки зрения
сегодняшнего читателя как раз здесь был бы уместен торжественный
библейский оборот. Но предлагаемое ниже сравнение 1:9 с
остальными употреблениями конструкции και έγένετο/καί γίνεται у Мк позволит,
как я думаю, заключить, что 1:9 — стилистически нейтральный текст для
языка, которым пользовался Мк. Есть основания отнести его к
«редакционным», т. е. впервые созданным автором евангелия, текстам.
Это же сравнение четырех употреблений και έγένετο/καί γίνεται у Мк
позволяет заметить, что рассматриваемая конструкция всегда
встречается в начале нового сверхфразового единства.
Мк 2:15: Και γίνεται κατακείσθαι αυτόν έν τη οικία αύτοΰ, και πολλοί
τελώναι και αμαρτωλοί συνανέκειντο τω Ίησοΰ και τοις μαθηταις αύτοΰ...
Грамматически точный перевод: Когда Иисус возлежал за трапезой у
себя дома, за столом с Иисусом и его учениками собралось много
откупщиков и грешников.
34
Эти слова, по всей вероятности, не входили в устную традицию; они
написаны автором как прелюдия ко второй сцене столкновения
Иисуса с «книжниками».
Мк 2:23: Και έγένετο αυτόν έν τοις σάββασιν παραπορεύεσθαι δια των
σπορίμων, και οί μαθηται αύτοΰ ήρξαντο όδόν ποιεΐν τίλλοντες τους
στάχυας.
Грамматически тонный перевод: Когда он проходил через поле в
субботу, ученики по дороге стали срывать колосья.
Это зачин (по всей вероятности, авторский) к четвертому спору
Иисуса с представителями еврейской общины по поводу его поведения.
Мк 4:4: και έγένετο έν τω σπείρειν ο μεν επεσεν παρά την όδόν...
Грамматически точный перевод: Во время сеяния (или: когда он сеял.
— С.Л.) одни зерна упали у дороги...
Здесь предложение интересующего нас типа впервые встречается у
Мк внутри материала традиции, в тексте притчи о сеятеле, и тоже
начинает рассказ о «судьбе» отдельных зерен.
Как мы видим, во всех трех последних примерах указание на время
оформляется с помощью инфинитива. В Мк 2:15 указание на время
выражено беспредложным инфинитивом с местоименным субъектом в
аккузативе. В Мк 2:23 — то же самое + уточняющий предложный
оборот. В Мк 4:4 инфинитив управляется предлогом, что соответствует
классическому применению конструкции с VPIb Библии.
Ср.: Быт 19:29: "1ЭЭП "ПУ-ПК D^nbK ЛП^З TP"!
П i * * 4 4 * ·
Итак, у Мк мы видим свободное построение повествования по
библейскому образцу в нейтральном контексте. LXX была для Мк своего
рода учебником литературного языка.
Для перевода Мк это значит следующее: конструкция και έγένετο κτλ
передается просто обстоятельством времени; стилистически
релевантная препозиция сказуемого должна иметь достаточное основание в
коммуникативной структуре соответствующего русского высказывания.
2. Паратаксис и praesens в повествовании
В библейском нарративе господствует союзный паратаксис (он
сочетается с немногочисленными подчинительными союзами). Стержень
повествования — форма wayyiqtöl (синтаксически эквивалентная ей
отрицательная форма — wqIö qätat), и она по некоторым (еще не вполне
удовлетворительно описанным) правилам чередуется с конструкциями,
имеющими вид woqätal, wpN + qäial, weN + yiqtöl, а также с именными
предложениями, строящимися по схеме woN + Ν, в частности woN + qöteln.
LXX по большей части переводит этот организующий структуру нар-
3* 35
ратива вав буквально, союзом καί, не выявляя при этом различные
смыслы, присутствующие в повествовании.
У Мк καί становится главным средством для организации
повествования. По всей вероятности, автор нашего евангелия воспринял этот прием
прежде всего из свойственного LXX перевода формы wayyiqtöl. В LXX эта
глагольная форма чаще всего передается посредством και + аорист (ср.:
Быт 1:3—5: και εΐπεν о θεός... και εΐδεν ό θεός... και έκάλεσεν ό θεός...).
В повествовании Мк καί в простых предложениях сочетается с
формами имперфекта, аориста и настоящего времени, причем, как я
думаю, в порядке свободного варьирования12. Так как καί + praesens
встречается и в материале традиции, и в редакционных резюме и
предложениях, оформляющих переход к следующей перикопе (важнейшие
случаи заведомо «редакционных» употреблений — 1:21; 4:1; 6:1бг;
6:30сл.; 8:1, 22; 10:1, 35; 13:1; 14:43 — сплошь стереотипные глаголы
движения и говорения), то у нас нет оснований интерпретировать эту
форму как литературный, «изобразительный» praesens historicum, т. е.
как употребление настоящего времени в несобственном, «переносном»
значении, — как стилистический прием, «оживляющий»
повествование. В пользу того, что перед нами не praesens historicum такого рода,
свидетельствуют еще два соображения. Во-первых, такого рода прием
едва ли может быть характерным для Мк как писателя, далекого от
высокой литературы13. Во-вторых, Мф и Лк в материале тройной традиции
часто заменяют сочинение, в котором участвует καί + praesens (рядом с
историческими временами), на подчинительные конструкции с
глаголами в исторических временах и с причастными оборотами14.
Вероятно, praesens Марка казался им дурным стилем.
В LXX και + praesens употребляется в повествовании сравнительно
редко и не составляет (в отличие от Мк) конститутивную черту нарра-
тива'\ Таким образом, повествовательный praesens у Мк не может быть
объяснен ни из LXX, ни из текста еврейской Библии. В мишнаитском
иврите (при том что его статус как разговорного языка для I в.
остается спорным16) в повествовании вместо библейского wayyiqtöl
используется не qötel, а qätal 1?. Я предполагаю, что употребление настоящего
времени как нарративной формы в традиционных материалах Мк может
восходить к синтаксису арамейского причастия18 через тот социолект
греческого, который использовался в некоторых протохристианских
общинах Сирии и чуть ли не единственным памятником которого стал
наш Мк19. В таком случае клишированные употребления настоящего
времени в указанных выше редакционных текстах объясняются влиянием
литературной «нормы» этого протохристианского социолекта,
предположительно возникшего в Сирии при встрече эллинизированных
протохристианских (т. е. еврейских по этническому составу) общин с возникавшим
нееврейским раннехристианским движением (ср.: Гал 2:11-14)20.
Уже в имперском арамейском21 причастие употребляется как
собственно повествовательная форма (ср., например: Дан 3:3; 5:1) гораздо
шире, чем в библейском иврите, где в особых синтаксических
ситуациях причастие (с субъектом действия, выраженным именем) тоже
используется в нарративном контексте как эквивалент личной формы
глагола (ср.: Быт 25:28; 1 Сам 14:13). В частности, в библейском иврите
36
причастие употребляется в повествовании после "'ГГТ, вводящего точку
зрения персонажа, и за этим qötel может следовать wayyiqtöJ (ср.: Быт
41:2слл.). См. также Быт 41:1: конструкция woN + qötel оЬ"П ПУПЕрТ
i
возможно эквивалентна в повествовательной цепочке конструкции с
wayyiqtöl ГППЭ оЬгРТср.: Л^ЭВ? иЬгРТв Быт 41:5.
Станислав Сегерт прямо утверждает со ссылкой на повествовательные
тексты из арамейских частей Библии: «Предикативное причастие как
средство для выражения действия стало почти равнозначным перфекту и
имперфекту»22. И действительно, простой разбор глагольных форм в
восточных сказаниях Дан 2—6 показывает, что причастие как нарративная
форма употребляется в них рядом с перфектом, причем в приводимых ниже
примерах — в значении темпорального следования (ср.: также: Эзр 5:3, Дан 4:4).
Дан 5:1 ... Ш Dl"6 Ί3Ι7 КэЬо П^Х^Ьз
nnttf κίώπ asba bnpbi
■ Ι + ■ * Ι ■ # * ■
Перевод: Царь Белшацар сделал (перфект) большой пир и перед
тысячью [вельмож] пил (причастие) вино.
Дан 5:5: ...ПЛЭТ СОЗК""^ Ή ]173^N 1рЭЭ ПЛ17ЕГПЭ
Перевод: В тот же миг появились (перфект) пальцы человеческой
руки и писали (причастие)... и царь видел (причастие).
Однако эти примеры — из литературного имперского арамейского
языка, на несколько веков пережившего Ахеменидскую империю, и
только из двух памятников — Дан и Эзр. И, если не брать в расчет
нескольких арамейских слов и фраз в НЗ, у нас нет ни одного
литературного памятника галилейского диалекта арамейского языка I в., т. е.
родного языка Иисуса и его первых последователей.
В повествовательных арамейских текстах из Кумрана главная
глагольная форма — перфект с вавом, образующий цепочки. См. в
особенности Genesis Apocryphon, датируемый обычно I в. до н.э. А в
литературных памятниках еврейского палестинского арамейского, т. е. в
арамейских частях палестинского Талмуда, в палестинских таргумах и в
арамейских частях палестинских аггадических мидрашей (III — V вв.),
мы видим примерно те же синтаксические явления, что и в имперском
арамейском: в повествовательных текстах перфект чередуется с
причастиями; широко используется, как иногда уже и в библейском
арамейском (ср.: Дан 5:7, 10), асиндетическая связь23.
Но для того, кто остается на уровне текста и решает задачу его
перевода, достаточно констатировать свободное варьирование глагольных
форм в повествовании Мк.
Примеры свободного варьирования глагольных форм (praesens и
аорист):
3:20сл.: Και έρχεται εις οίκον και συνέρχεται πάλιν [ό] όχλος... και
άκούσαντες οι παρ1 αυτού έξήλθον κρατήσαι αυτόν... :
6:1: Και έξήλθεν εκείθεν και έρχεται εις την πατρίδα αύτοΰ...
6:30: Και συνάγονται οι απόστολοι προς τόύ Ιησοΰν και άπήγγειλαν αύτω...
37
Ш
Коль скоро чередование форм типа και έρχεται / και ήλθεν не
обладает смыслоразличительной функцией, то оно не отражается в
переводе. Что касается паратаксиса с και, то переводчик должен всякий раз
определять, какие смысловые отношения (какой вид логического
гипотаксиса) стоят за синтаксическим сочинением, и тогда он может
выразить эти отношения средствами русского языка.
Пример:
Мк 12:12: Και έζήτουν αυτόν κρατήσαι, και έφοβήθησαν τον οχλον... και
αφέντες αυτόν άπήλθον.
Перевод: Они хотели схватить его, но побоялись народа... Поэтому
они оставили его и ушли.
Говоря о καί + praesens как нарративной форме, быть может
восходящей к арамейским причастиям, уместно упомянуть и об
употреблении у Мк причастий при построении повествования. В целом
употребление причастий в нашем тексте мало отклоняется от обычного
греческого узуса той эпохи, т. е. причастия не используются вместо личных
форм. Однако несколько раз встречаются цепочки причастий, где
союзная связь перемежается с бессоюзной.
Вот самый яркий пример:
5:25слл: και γυνή οΰσα... και πολλά παθοΰσα... και δαπανήσασα... και
μηδέν ώφεληθεΐσα άλλα... έλθοΰσα, άκούσασα... έλθοΰσα... ήψατο...
Цепочка из семи причастий завершается личной формой
(аористом). Как следует понимать грамматическое и стилистическое
значение этого пассажа?
Я исхожу из того, что рассказ об исцелении женщины, страдавшей
кровотечением, Мк почерпнул из устной традиции. Какие там
употреблялись глагольные формы — этого уже нельзя узнать с полной
достоверностью. Но в тексте, который оформил Мк и который дошел до нас,
я вижу четкое функциональное противоставление причастий —
аористу. Причастия (даже έλθοΰσα описывают отчаянное положение
женщины и обстоятельства, приведшие к тому, что она совершила нечто, а
это действие выражено аористом (ήψατο). И дальше повествование
развивается в аористе (как обычно у Мк, с και ): 5:29: και ευθύς έξηράνθη...
και εγνω...
Таким образом, нашу цепочку причастий нельзя назвать
нарративной, ее грамматическое значение — описание фона для действия,
обозначенного личной формой. И эту оппозицию описания и
повествования надо выразить в переводе. Что касается стилистического эффекта
ретардации, то внутри этой фразы он едва ли имелся в виду.
Я думаю, что у такого непривычного употребления причастий могут
быть семитские истоки — скорее арамейские, чем еврейские, особенно
если считаться с возможностью буквалистского перевода арамейских
причастий греческими при переходе традиции в греческую языковую
среду.
38
3. Лексико-синтаксические средства для выражения ограничительных
значений («только», «только для того чтобы»)
У Мк греческие обороты типа ού[κ]... ει μή (в разных синтаксических
позициях встречаются разные варианты формулы) выражают значение
исключения (ограничения): «только», «только для», «только если» и т. п.
Такие обороты засвидетельствованы и в «светских» греческих текстах,
но там они встречаются гораздо реже, чем у Мк. В нашем евангелии
этот оборот представляет собой кальку еврейских или арамейских
конструкций xbx ...tih или — в зависимости от типа предложения —
эквивалентных им конструкций с предикативными отрицаниями (]■>*< в
иврите, ГтЬ в арамейском). Эти конструкции выражают идею ограничения
в послебиблейской литературе (в Библии в этом значении часто
употребляется конструкция ΏΗ "О ...fib, ср.: Быт 32:276: «Я отпущу тебя,
только если ты благословишь меня»). В современном иврите в письменной
речи (и в «высоком» регистре устной) мишнаитские обороты кЬк ...нЬ и
*ОХ ...рх используются по сей день.
Для меня важно то, что эта конструкция, в отличие от
паратаксиса в повествовании, пришла в Мк скорее всего не через LXX. Здесь
можно предполагать влияние мишнаитского иврита или
палестинского арамейского, опосредованное неким протохристианским
«еврейским» греческим социолектом. (Литературоведческие
соображения заставляют исключить возможность того, что автор Мк
пользовался письменными источниками на мишнаитском иврите или
арамейском,)
Почему я допускаю здесь опосредованное влияние мишнаитского
иврита или арамейского, а не LXX? В Библии оборот нЬн ...lib в
ограничительном значении засвидетельствован около 60 раз, и LXX не
предлагает его единого перевода (ср. Быт 28:17; 32:27; 39:9; Лев 21:1 с л.;
22:6; Ис Нав 14:4; 1 Сам 30:17; Ис 65:6; Ам 3:7; Руф 3:18 с переводами
LXX). В Мк исследуемый ограничительный оборот встречается 16 раз
(по тексту «Нестле — Аланда»; в рукописной традиции существуют
расхождения), — в девять раз чаще, чем в ВЗ, причем 13 раз у Мк в обороте
присутствует εί μή или εάν μή. В LXX ει μή и εάν μή в ограничительном
значении встречаются относительно редко — ср. Суд 7:14 (Ватиканский
кодекс), Неем 2:2,12; Эккл 3:12; Быт 32:27; Лев 22:6; Ам 3:7. Таким
образом, Мк не мог найти этот оборот в LXX в качестве синтаксического
клише24.
А в мишнаитском иврите и в палестинском еврейском арамейском
ограничительные обороты указанного выше типа высоко частотны.
Еврейские примеры:
Мишна Санх 1:5: кЬх Ьтта ]ПЭ ПК ...рт рК
"Г ГКО и">5ПЮ Ью ]"Н П^З ^D bv
Перевод: Первосвященника судит только суд в составе семидесяти
одного.
Дословный перевод: Первосвященника не судят, а только судом в
составе семидесяти одного.
39
*:
Герим, гл.1: bin KP Ь^ПЮП tibi* йЬуп *ПЗЗ нЪ\0
Перевод: Ибо мир создан только ради Израиля.
Дословный перевод: Ибо не создан мир, а ради Израиля.
Арамейский пример:
Берешит Рабба 30:7: ХГСй ΚΥΤΓΠ ΠΎΤΟ bu iOK ίΟΤ3Ω ΎΚ üb НП
Перевод: Потоп приходит только на дом этого человека.
Дословный перевод: Не приходит потоп, а только на дом этого человека.
У Мк конструкция этого типа встречается в следующих местах: 2:7,
26; 3:27; 4:22аб; 5:37; 6:4, 5, 8; 8:14; 9:8, 9, 29; 10:18, 30; 11:13.
Примеры из Мк:
8:14: και εί μη ενα αρτον ουκ εΐχον μεθ' έ#υτών έν τω πλοίω.
Дословный перевод: И кроме одного хлеба не имели с собой в лодке.
Грамматически точный перевод: У них в лодке был только один хлеб
(одна лепешка. — С.Л.).
9:9: διεστείλατο αύτοίς ίνα μηδενι α εΐδον διηγήσωνται, εί μη όταν ό υιός
του άνθρωπου έκ νεκρών άναστη.
Дословный перевод: Он велел им, чтобы они никому не
рассказывали о том, что видели, пока (εί μή όταν) Сын человеческий не
воскреснет из мертвых.
Грамматически точный перевод: Он велел им рассказывать о том, что
они видели, только после того как Сын Человеческий воскреснет из
мертвых.
Итак, я прихожу к следующему выводу: влияние библейского текста
на Мк во всех случаях опосредовано Септуагинтой. Следует учитывать
также возможность того, что на использованную Марком традицию
повлияли мишнаитский иврит и еврейский палестинский арамейский.
Речь идет как о дословном переводе части традиции с арамейского на
греческий, так и о синтаксической аналогии. Я считаю, что о влиянии
мишнаитского иврита или арамейского имеет смысл говорить только в
тех случаях, где синтаксическое влияние LXX заведомо исключается.
В свете предложенных в статье наблюдений и выводов язык Мк
можно понять как образец раннехристианского греческого социолекта,
возникшего во второй трети I в. На становление этого социолекта решающее
влияние оказала Септуагинта, арамейское языковое наследие части его
носителей, а также семитизированныи греческий язык эллинизированных
общин еврейской диаспоры, предположительно в Сирии.
Литература
Айхенвальд А.Ю. Современный иврит. М., 1990.
Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.
Лёзов СВ. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М., 1996.
Соболевский СИ. Древне-греческий язык. М., 1948.
Andersen F. The sentence in Biblical Hebrew. The Hague; Paris, 1974.
Beyer K. Semitische Syntax im Neuen Testament. 2., verb. Aufl., Göttingen, 1968. Bd.
I. Satzlehre. Teil 1.
J
Beyer К. The Aramaic Language. Göttingen, 1986.
Bloss F., Debrunner Α. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch / Bearb. von F.
Rehkopf. 15. Aufl. Göttingen, 1979.
Dawson D. A. Text-linguistics and biblical Hebrew. Sheffield, 1994.
Deissmann A. Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der
hellenistisch-römischen Welt. Tübingen, 1909.
Doudna J. The Greek of the Gospel of Mark. Philadelphia, 1961.
Jenni E. Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Basel; Frankfurt/
M., 1981.
Johannessohn M. Das biblische kai egeneto und seine Geschichte / Zeitschrift für
vergleichende Sprachforschung. 1925, Jg. 53. с 161—212.
Kutscher Ε. A history of the Hebrew Language. Jerusalem; Leiden, 1982.
Mayser E. Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Berlin; Leipzig,
1926. Bd. IL 1.
Moulton J. An introduction to the study of New Testament Greek. London, 1926.
Moulton /., Howard W. A grammar of New Testament Greek. Edinburgh, 1928. Vol. 2.
Niccacci A. The syntax of the verb in classical Hebrew prose. Sheffield, 1990.
Rehkopf F. Die lukanische Sonderquelle. Tübingen, 1959.
Rosenthal F. A grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden, 1968.
Saenz-Badillos A. A history of the Hebrew language. Cambridge, 1993.
Schneider W. Grammatik des biblischen Hebärisch. 7. Aufl. München, 1989.
Segal Μ. A grammar of Mishnaic Hebrew. Oxford, 1927.
Segert S. Altaramäische Grammatik. Leipzig, 1986.
Stevenson W. Grammar of Palestinian Jewish Aramaic. Oxford, 1962.
Weinrich H. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1985 (1. Aufl: 1964).
Примечания
1 Лёзов, 211-258. НЗ в статье цит. по: Nestle, Aland. Novum Testamentum Graece.
26.Aufl. Stuttgart, 1990; B3 — no: Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4.Aufl. Stuttgart,
1990.
2 Русская традиция именования еврейских языков меняется на наших глазах.
См. об этом: Айхенвалъд, 8 ел. Следуя израильскому («ивритскому»!) и
английскому словоупотреблению, я принимаю термины «библейский иврит» и
«классический иврит» — для Библии, «мишнаитский иврит» и «раввинистический иврит» —
для памятников эпохи формативного иудаизма, далее «средневековый иврит», и —
по мере надобности — «новый», «современный» и «израильский» иврит.
3 См.: Deissmann, 37-99 (главным образом лексические примеры); Doudna, 4-62.
Ср.: Blass, 3: «Новозаветный греческий, в его качестве языка нелитературной и
неклассицистской прозы, следует сравнивать с языком внелитературных
папирусов и с языком таких писателей как Эпиктет (60-140 годы).
4 Лёзов, 177-180.
5 Ср.: Beyer, 1968, 8.
6 Beyer, 1968, 30.
7 Johannessohn, 191 — 194. Мартин Йоханнесзон приводит примеры
использования вводного και έγένετο из «ветхозаветных апокрифов». 1 Макк, Юдифь и из
неканонических историй о Беле и Драконе, содержащихся в Дан LXX. Все эти
произведения, вероятно, представляют собой перевод с еврейского оригинала.
* Вопреки мнению Дудны и Байера. См.: Doudna, 131; Beyer, 1968, 30, Anm. 6:
«Während es also im AT sprachliches Mittel ist, scheint es im NT stilistisches Mittel zu sein».
9 В смысле Харальда Вайнриха. См.: Weinrich, 91 — 107.
10 Соболевский, 353: препозиция сказуемого при логическом ударении на нем.
41
Blass, 401: препозиция личной формы глагола часто встречается в
древнегреческом главным образом у глаголов говорения.
11 См.: Andersen, Dawson, Nicacci. Согласно некоторым классификациям, в
библейском повествовании все предложения, начинающиеся с woN, следует
отнести к именным. Ср.: Jenni\ 112; Schneider, 160сл. (к именным относятся все
предложения, не начинающиеся с личной формы глагола); Nicacci, 23.
12 Я исключаю из анализа употребление глагольных форм в придаточных,
оформленных подчинительными союзами, так как я не рассматриваю соотношение
согласования времен в сложноподчиненном предложении у Мк и в
литературном греческом языке той эпохи.
13 Впрочем, чередование форм настоящего времени, имперфекта и аориста
встречается и в греческих внелитературных папирусах. Развернутые примеры см.:
Mayser, 131 ел. Коль скоро настоящее время использовалось и в нелитературном
рассказывании, мы не можем исключить влияния такого узуса на текст Мк.
14 В общем с Мк материале Лк 92 раза заменяет повествовательное настоящее
время Мк на другие формы и конструкции, оставив только один случай (ср. Мк
5:35 с Лк 8:49: ερχονται/ερχεται. Всего у Мк встречается 151 употребление
настоящего времени в повествовании, а у Лк — 12 употреблений. По мнению
Фридриха Рекопфа, 11 не восходящих к Мк употреблений Лк нашел в своем втором
источнике, включавшем общий материал Мф и Лк и особый материал Лк. Если
Рекопф прав, то Лк вообще не употреблял настоящее повествовательное в
собственных («редакционных») текстах. Ср.: Rehkopf, 90, 99.
15 В литературе приводятся следующие цифры. Настоящее время в
повествовании употребляется в LXX 337 раз, причем 232 раза в четырех книгах Царств, из
них 151 раз — в 1 Цар. См.: Moulton — Howard, 456.
16 См.: Beyer, 1986, 34, примеч. 44; Kutscher, 115сл.; Saenz-Badillos, 162-164; Segal,
5сл.; Гранде, 31.
17 Segal, 150.
18 Такое предположение уже высказывалось в литературе и оспоривалось.
Отмечалось, что в первых трех книгах «Истории» Геродота настоящее
историческое встречается 206 раз, в трех книгах Фукидида — 218 раз, в трех книгах Ксе-
нофонта — 61 раз, в трех книгах Полибия — 40 раз. См.: Moulton — Howard, 457.
На мой взгляд, эти подсчеты не могут опровергнуть «арамейскую» гипотезу.
Трудно предположить, что Мк подражал стилю Геродота и Фукидида. А в
эллинистический период обилие форм настоящего времени в повествовании
считалось вульгаризмом, о чем, в частности свидетельствует то, как Лк
отредактировал текст Мк. Я думаю, что уже сама частотность настоящего времени в
повествовании Мк указывает на структурный или грамматический, а не
стилистический характер этого узуса. Для сравнения: текст Ин превосходит Мк по
объему на 21% и в нем встречается 164 употребления настоящего времени в
повествовании, из них 121 — глаголы говорения. Это скорее можно счесть за
стилистический прием, хотя и тут не исключается семитское влияние.
19 См.: Лёзов, 159, 180.
20 Настоящее время в повествовании Мф и Мк обычно интерпретировалось как
стилистический praesens historicum: Blass, 265; Moulton, 187. Как отмечалось
выше, я считаю это мнение необоснованным.
21 Rosenthal, 55; Segert, 380-383.
22 Segert, 380.
23 Stevenson, 56: «The use of particc. in place of perfect tenses in narratives of past
events is very characteristic». Ср.: Stevenson, 48.
24 Ср.: Beyer, 1968, 102-105.
Июль 1996
42
Лингвистика текста и древнееврейское
повествование
1
последние двадцать лет в гебраистике все чаще используются
текстлингвистические подходы к решению классической
проблемы употребления глагольных форм. В настоящей статье чи-
■J
тателю предложен опыт, вдохновленный трудами немецкого
лингвиста Харальда Вайнриха и тех гебраистов, которые уже
применяли его идеи к анализу глагольной системы классического иврита.
Харальд Вайнрих предложил текстлингвистическое понимание
личных форм глагола на материале романских и германских языков.
Согласно этому пониманию, личные (темпоральные, временные) формы
глагола не обозначают ни временных ступеней действия, ни видовых
значений действия. Темпоральные формы не отсылают к внетекстовой
реальности, а служат для организации самого текста. (Говоря о
темпоральных формах, Вайнрих в большинстве случаев исключает из
рассмотрения формы косвенных наклонений — сослагательного и
повелительного, а также, естественно, неличные формы — инфинитивы и
причастия)1.
Для понимания темпоральных форм Вайнрих предлагает три
синтаксические категории или признака, которые он считает
равноправными грамматическими показателями.
В качестве первого шага Вайнрих делит все темпоральные формы на
обсуждающие и повествующие. Так, в немецком языке к обсуждающим
относятся Praesens, Perfekt, Futur и Futur II; к повествующим
Praeteritum, Plusquamperfekt, Konditional и Konditional II.
Во французском языке к группе обсуждающих времен относятся
Passe compose, Present, Futur, к группе повествующих времен — Plus—
que—parfait, Passe anterieur, Imparfait, Passe simple, Conditionnel.
Соответственно, Вайнрих говорит о повествующих и обсуждающих
текстах. Это деление он называет делением по речевой установке
(Sprechhaltung) или речевой ситуации (Sprechsituation). Жанровые
примеры обсуждающей речевой установки у Вайнриха — драматический
* «Библия: литературные и лингвистические исследования». Вып. 1. М., 1998.
Стр. 137-217. Эта статья написана на основе доклада, прочитанного на
семинаре по преподаванию и изучению библейского иврита в Институте
Востоковедения РАН 19 сентября 1996 г.
43
диалог, меморандум политика, передовая статья в газете, завещание,
научный доклад, философское эссе, юридический комментарий и «все
формы ритуальной, формализованной и перформативной речи»2.
Напротив того, повествующая речевая установка типичным
образом выражается в истории из времен юности, в охотничьем
рассказе, в сказке, в благочестивой легенде, в новелле, в историографии и
в романе, или в хроникальном газетном рассказе о ходе
политической конференции.
На многочисленных примерах Вайнрих показывает, что и
повествуемый и обсуждаемый мир (под «миром» он понимает просто совокупность
означаемых) индифферентны по отношению к внетекстовому делению на
«настоящее—прошлое—будущее», т. е. к физическому времени.
Вторая категория Вайнриха — речевая перспектива
(Sprechperspektive). Эта категория возникает в связи с обсуждением текстового
времени (Textzeit) и его соотношения со временем действия (Aktzeit).
Текстовое время — это время развертывания самого текста. Время действия —
это время, изображаемое в тексте, время, в котором развертывается
содержание коммуникации. На протяжении большей части большинства
текстов это соотношение (его Вайнрих и называет речевой
перспективой) не выявляется. Как говорит Вайнрих, оно «беспроблемно», «не
привлекает интереса» читателя. Такое положение дел Вайнрих называет
«нулевой ступенью», Nulstufe. Во французском языке для обсуждающих
текстов нулевая ступень выражается Present, для повествующих —
Imparfait и Passe simple3. По ходу изложения автор может забегать
вперед по отношению к времени действия. Это Вайнрих называет
Vorausschau или vorweggenommene Information, взглядом вперед или
предвосхищаемой информацией. Соответственно, отступление назад от
момента Aktzeit называется Rückschau или nachgeholte Information, т. е.
взглядом назад или наверстываемой информацией.
Из сказанного уже ясно, что для французского языка в обсуждении
предвосхищение выражается посредством Futur, наверстывание —
посредством Passe compose. В повествовании наверстывание выражается
Plus-que-Parfait или Passe anterieur, предвосхищение — Conditionnel.
Замечу, что для Вайнриха речь идет именно о грамматических
значениях упомянутых глагольных форм — более подходящих к делу, чем
те, о которых мы обычно читаем в грамматиках. Он так и пишет:
«Praeteritum и другие временные формы второй группы указывают, что
перед нами повествование. Нельзя сказать, что их задача — указывать,
что перед нами прошлое»4. Это замечание принципиально важно и для
обсуждения древнееврейской глагольной системы.
По наблюдениям Вайнриха, в обеих временных группах нулевые
времена редко составляют меньше 80% всех глагольных форм, а
обычно их частотность еще выше. Это наблюдение тоже интересно сравнить
с распределением временных форм в древнееврейском тексте.
В терминах перспективы Вайнрих истолковывает отличие немецких
Futur II и Konditional II от соответствующих простых форм: они
«совмещают речевую перспективу наверстываемой информации и
предвосхищаемой информации»5.
Третья категория Вайнриха — рельеф (Reliefgebung)7. Эта категория
44
определяет различие между французскими Passe simple и Imparfait на
нулевой ступени, между Passe anterieur и Plus-que-Parfait на уровне
наверстываемой информации. Вводя категорию рельефа, Вайнрих имеет
в виду ориентацию в повествовательном мире. Категория рельефа
представляет собой бинарную оппозицию: передний план (Passe simple,
Passe anterieur) — это ядро повествования; задний план (Imparfait, Plus-
que-Parfait) — обрамление повествования (экспозиция, иногда и особая
концовка — макрорельеф текста), а также дополнительные
обстоятельства, соображения и описания, помогающие ориентироваться внутри
повествования (малый рельеф, или рельеф внутри фразы).
Во французском языке только в повествовании категория рельефа
реализуется посредством специальных глагольных форм, так как в
обсуждении смысл речи проясняют прагматические (обусловленные
коммуникативной ситуацией) элементы высказываний, а в повествуемом
мире прагматический аспект отсутствует. Повествовательный рельеф
заменяет — в целях определения смысла — свойственную
обсуждающим текстам ситуативную определенность.
В немецком языке место глагола в предложении выражает фразовый
рельеф и в обсуждающих, и в повествующих текстах: вторая позиция
темпоральной формы в предложении указывает на передний план,
последняя позиция — на задний план. При этом в немецком в отличие от
французского, нет специальных темпоральных форм, создающих
рельеф на макроуровне7.
Вайнрих замечает, что для французского повествовательного текста,
в котором только и употребляются темпоральные формы Passe simple и
Imparfait, смысл их оппозиции не может быть выражен с помощью
понятий «глагольный вид» или «тип действия», Aktionsart, т. е. их
оппозиция не видовая, так же как значение оппозиции Present — Passe simple
— не временное. «Эти (видовые. — С.Л.) понятия относятся к
предложениям, а мы задаем вопрос о том, что эти темпоральные формы
делают в текстах»8. «Создание рельефа в виде переднего и заднего плана есть
единственная функция, которую выполняет оппозиция Imparfait —
Passe simple в повествуемом мире»9.
Я добавлю тут, предвосхищая попытку примененить эту категорию
к древнееврейскому повествованию: практически для французского
языка (для других романских, а также, например, для греческого или
древнерусского, где есть пара имперфект — аорист) картина ясна: им-
перфектная форма в повествовании будет, вероятно, всегда указывать
на задний план, а аористная — на передний план. Следовательно,
придаточные относительные с темпоральной формой типа имперфекта
попадают на задний план. По Вайнриху, в них выражаются сведения,
помогающие ориентироваться в движении повествования. Интереснее
использование Imparfait в зачине повествования: тут обнаруживается
композиционное значение темпоральной формы. Подобные наблюдения,
как мы увидим, можно сделать и на древнееврейском материале.
Еще одно замечание о категории рельефа: Вайнрих говорит, что
внутри повествования на заднем плане оказывается то, что
повествователь хочет отправить на задний план. Соответственно, «передний план
это то, что повествователь хочет истолковать как передний план»10.
45
Однако эта свобода повествователя все же реализуется в соответствии
с основополагающим правилом: суть рассказываемой истории или, по
другой формулировке, то, ради чего она рассказывается, попадает на
передний план.
Следующий шаг у Вайнриха — анализ переходов от одной
темпоральной формы к другой темпоральной форме в тексте, т. е. он
касается темы, называемой в традиционной грамматике consecutio temporum,
согласование времен. Он рассматривает темпоральные переходы по
трем своим категориям на материале одной новеллы Камю и
показывает, что полученные результаты можно обобщить.
Переходы от формы переднего плана к форме переднего плана или
от формы заднего плана к форме заднего плана (признак рельефа) Вай-
нрих называет равными переходами по признаку рельефа. Забегая
вперед, поясню, что для древнееврейского повествования примеры равных
переходов по признаку рельефа (передний план > передний план) дает
не прерываемая другими темпоральными формами цепочка wayyiqtöl.
Переходы от формы переднего плана к форме заднего плана или от
формы заднего плана к форме переднего плана (в рамках категории
рельефа) Вайнрих называет неравными переходами по признаку рельефа.
Из дальнейшего станет ясно, что в древнееврейском повествовании
пример неравного перехода по признаку рельефа дает, в частности,
последовательность wayyiqtöl > qötel.
Вайнрих рассматривает равные и неравные переходы по всем трем
категориям и приходит к выводу, согласно которому частотность равных
переходов в несколько раз выше, чем частотность неравных переходов.
Он объясняет это с позиций текстлингвистической теории языка:
«Равные переходы обеспечивают связность текста, его
текстуальность»11. Но «чем большей текстуальностью обладает текст, тем
меньше информации он дает, и наоборот»12. Соответственно, неравные
переходы нарушают ожидания слушателя и тем самым меняют его
информационную ситуацию.
Неравные переходы с изменением по одному признаку — это
неравные переходы первой степени, неравные переходы с изменением по
двум признакам — это неравные переходы второй степени, или
темпоральные метафоры13.
Дальше в нескольких главах Вайнрих проясняет и развивает
предложенные категории на материале художественной литературы (главным
образом нового времени), показывая неадекватность видо-временных
теорий для объяснения того, как употребляются темпоральные формы.
Последняя глава книги Вайнриха называется «Andere Sprachen —
andere Tempora?», («Другие языки — другие темпоральные формы?»)14.
Он спрашивает: «Проходит ли структурный рубеж между обсуждаемым
и повествуемым миром через все языки?» И замечает: «Куда ни
поглядишь, повсюду темпоральная форма интерпретируется как время или
вид, либо как то и другое. Это поистине consensus omnium. Однако если
в языках германо-романского культурного круга темпоральную форму
на самом деле нельзя считать временем и видом, то может оказаться,
что и в других языках эти категории не имеют прочной опоры...
Особенно интересно было бы изучить (критически пересмотреть и по воз-
46
можности опровергнуть их бытие. — С. Л.) виды в тех языках, в
которых их впервые открыли: в семитских языках. Или в тех языках, где
они, как кажется, имеют самое надежное место, — в славянских
языках»15. Я, однако, привык думать,что в языкознании нового времени
образцовым материалом для формирования категории вида послужили
славянские языки, и уж затем этой категорией воспользовались
семитологи, в частности гебраисты16.
Завершая разбор работы Вайнриха, замечу, что его признак речевой
перспективы все же можно понять как переосмысление
грамматической категории глагольного времени, а признак рельефа — как
переосмысление категории глагольного вида.
2
Вольфганг Шнайдер, насколько мне известно, первым из гебраистов
использовал теорию Вайнриха, причем в учебной грамматике (первое
издание — 1974)17. Вся синтаксическая часть книги нетрадиционна и
ориентирована на лингвистику текста, — в частности, книгу
завершает глава о макросинтаксических знаках, отмечающих начало
текстового единства, переходы в нем и его конец. В главе «Tempora» (48) своей
грамматики он осторожно, но и последовательно применяет категории
Вайнриха, в первую очередь — категорию речевой установки и в общих
чертах, не вдаваясь в детали, — категории речевой перспективы и
рельефа (этого термина нет, но о Vordergrund и Hintergrund Шнайдер
упоминает). В схеме, завершающей главу о временных формах глагола,
присутствует деление на Haupttempus и Nebentempus (видимо,
отражение категории рельефа), последовательно проводится категория
перспективы (Rück-und Vorausschau). В повествующих текстах, отмечает
Шнайдер, преобладает wayyiqtöl — около 75% всех темпоральных форм,
в обсуждающих текстах (законы, проповеди, пророческие речи,псалмы,
диалоги в повествовательных текстах) преобладает yiqtöl (около 50
процентов всех темпоральных форм). Соответственно, wayyiqtöl и yiqtöl
называются главными временами для повествования и обсуждения18.
Для повествования по Шнайдеру конститутивна повествовательная
последовательность (Erzählfolge), создаваемая с помощью темпоральной
морфемы wa, т. е. форма wayyiqtöl (Шнайдер называет ее «нарратив»,
морфологические ярлыки он не применяет). Перфект Шнайдер
характеризует как Nebentempus в повествовании. По его мнению (на мой
взгляд, неверному), в предложениях, сказуемое которых стоит в
перфекте, повествование не продвигается. Перфект употребляется:
— в тех предложениях, сказуемое которых не находится в вершине
высказывания, что значит в данном случае — не в начальной позиции,
и прежде всего в составных именных предложениях (СИП), т. е. в
предложениях с именем в начальной позиции и с темпоральной формой —
в неначальной;
— после служебных слов вроде kin 'äser,
— после отрицания lö\
Как вспомогательная темпоральная форма (Nebentempus) перфект
47
относится к заднему плану повествования и в своем качестве
перспективной формы выражает взгляд назад во временной перспективе (т. е.
наверстываемую информацию, — этого термина Шнайдер избегает). С
макросинтаксической точки зрения перфект выполняет функцию
обрамления (может использоваться в начале текста).
В гл. 44 «Типы предложений» Шнайдер утверждает, что именные
предложения (в том числе СИП) содержат предпосылки, описания,
указания на состояния и тем самым создают задний план
повествования. Шнайдер делает тут важное замечание о том, что место таких
предложений — «прежде всего начало повествования»19.
Имперфект в повествовательном контексте может использоваться
как перспективная временная форма для обозначения событий,
которые находятся в будущем по отношению к плоскости повествования, —
после 'äser, 'ad 'äsern boterem, и в косвенных вопросах. Примеры
Шнайдера — 2 Цар 13:14; Быт 37:18; Ион 4:5.
В обсуждающих текстах главная темпоральная форма, как уже
говорилось, имперфект, вспомогательная (Nebentempus) — перфект.
Перфект в обсуждающем контексте имеет только перспективную функцию
(т.е. это наверстываемая информация). Употребляя перфект,
говорящий обращается к фактам прошлого, чтобы вовлечь их в речевую
ситуацию. Перфект используется во вводных, обосновывающих и
поясняющих предложениях. Примеры у Шнайдера — Ис Нав 1:16 ел (все
перфекты — наверстываемая информация); Втор 10:20 слл.
Консекутивный перфект {woqatalti) выражает логическое следование
в обсуждающих текстах, и вав имеет именно такое значение (folgerndes
waw). Консекутивный перфект имеет перспективную функцию,
направленную вперед (nach vorn aus), т. е. это предвосхищаемая
информация по Вайнриху.
Оппозиция перфекта и консекутивного перфекта возникает только
в обсуждающей речи и затрагивает направление перспективы, т. е. это
оппозиция по направлению перспективы.
Шнайдер считает, что консекутивный перфект может
употребляться на заднем плане повествования, но это вызывает сомнения: он
отождествляет woqätalзаднего плана с консекутивным перфектом (wsqatalti),
а это, как я думаю, неверно. В дальнейшем я постараюсь показать, что
есть такое явление, как повествование на заднем плане, и для нее
исходная форма — именно wsqätal.
з
Терминология и отчасти методика Вайнриха получила распространение
в гебраистике последнего десятилетия, особенно после появления
книги Альвьеро Никаччи20. Эта монография основана на категориях
Вайнриха и учитывает работу Шнайдера. Однако, не вдаваясь в историю
проблемы, я покажу, как сам понимаю эвристическую ценность идей
Вайнриха для анализа библейского текста21.
Вайнрих анализирует главным образом повествовательные тексты, и
возникает впечатление, что его идеи в самом деле лучше подходят для
48
анализа повествования, чем для анализа «всего остального». Поэтому в
дальнейшем я сосредоточусь на разборе чисто повествовательных
текстов классического периода, так как в эпоху позднего библейского
иврита синтаксис глагола упростился и приблизился к мишнаитскому.
Однако деление на повествование и обсуждение важно в частности
потому, что позволяет вычленить элементы настоящего «обсуждения»
внутри повествовательного текста, т. е. вкрапления обсуждающей
речевой установки в текст, сформированный целиком как повествование.
В рассмотренной выше монографии Вайнрих говорит о темпоральных
формах. Учитывая место именного предложения в семитских языках и
немного расширяя предложенные Вайнрихом рамки, для библейского
текста уместно рассматривать в категориях Вайнриха всякую предикацию, а
не только те, в состав которых входит темпоральная форма. Поэтому я
анализирую также именные предложения (простые и составные).
Я ставлю перед собой задачу грамматикализировать текстлингвисти-
ческую схему Вайнриха применительно к древнееврейскому повество-
VJ
ванию, — в надежде на то, что эта схема окажется методической
основой для новых построений. Я решаю следующие задачи: как отличить
повествование от обсуждения? как устроен передний план? как
устроен задний план? и т. д.
Первый шаг: Деление на повествующий и обсуждающий текст.
Для повествования конститутивен союз «вав». Если нет
подчинительных союзов (Д 'äser), то каждая новая предикация в повествовании
вводится вавом (отступлений от этого правила почти нет).
Следовательно, верно и обратное: если в повествовательном контексте встречается
предложение без вава и без других союзов, то оно противостоит
повествованию как вкрапленная в него форма обсуждения. Примеры:
XA:D^D Ί3 ГК:РН ΊΊ3ΠΊ
* "Л I I — :
Тут они схватили его, тут они бросили его в яму, а яма был пуста: в
ней не было воды (Быт 37:24).
Слова Ώ^Ώ 13 ]ηί< я понимаю как форму обсуждения внутри
повествования. Повествователь оставляет нить рассказа (и цепочка вавов
прерывается!), обращается прямо к читателю и объясняет ему, в каком
смысле «колодец был пуст». Фрагмент обсуждения выражен простым
именным предложением. Как правило, такие обсуждающие вкрапления
не содержат новой информации.
И слово ЙХВХ было редким β те дни: видение не было частым
(1 Сам 3:16).
уНЕ)Э ]ίΤΠ |Ίί< — это тоже фрагмент обсуждения внутри
повествования, выраженный простым именным предложением (ИП). Этот
пример подобен предыдущему.
:ηϊχ-6 b'DV нЬ Шпэ Ъпп imn
Ψ ч
И его глаза начали [становиться/ мутными: он не мог видеть (1 Сам 3:26).
4 Заказ 257 49
ГП&чЬ bDV хЬ — фрагмент обсуждения, на ввод которого
указывает отсутствие вава. Перед нами глагольное предложение со сказуемым
в форме yiqtöl, т. е. в главной форме обсуждения. Все три примера
изоморфны, мы имеем дело с авторскими пояснениями, выпадающими из
повествовательной цепочки.
Еще характерный пример: Суд 21:25. Перед нами известная
редакционная сентенция: «В те дни не было ('ел) царя в Израиле, каждый
делал (ya'äse) справедливое в собственных глазах». Здесь, как и в других
местах книги (17:6; 18:1; но ср. нарративное оформление в 19:1), это
высказывание следует за повествованием, обрывая цепочку wayyiqtol,
глагольное сказуемое употреблено в форме yiqtöl. Таким образом,
редакционная присказка оформляется лингвистически как вставляемая в
повествовательный текст обсуждающая речь (ср. также: Быт 39:23).
Скажем так: отсутствие вава, как правило, указывает на ввод
«обсуждения», а именно обсуждения в жанре авторского комментария, но
такой комментарий может вводиться и с помощью вава в И П. При этом
комментарии лишь содержательно отличается от заднего плана
повествования, который тоже может выражаться ИП. Ср. пример такого
комментария в 1 Сам 6:17—18:
...тггЬ пик d™Sd wtin чюн ηπ·τπ ^Ί'πϋ п*?*о
AT
И вот опухоли из золота, которые филистимляне принесли ИХВХв
качестве компенсации.,.
В этом примере развернутый комментарий включает и
предложения, имеющие схему 'äser qätal Возможно, в дальнейшем удастся
найти критерии для формального различения разных типов обсуждающей
речи в повествовательном контексте (см. также: Ис Нав 11:10—15, где
случай соединения повествующей и обсуждающей речи более сложен,
чем предложенные выше «чистые» примеры).
Второй шаг: Деление повествовательного текста на передний и
задний план по признаку рельефа. Все wayyiqtöl отходят к переднему
плану. Передний план определяется у Вайнриха как ядро повествования, т.
е. содержательно. Поэтому не очевидно, что в нем не может быть
других форм, кроме wayyiqtöl. В уже рассматривавшемся примере Быт 37:24
переход от цепочки wayyiqtol к ИП РЧ ""ПЭГП можно интерпретировать
I *
как переход на задний план — по-моему, главным образом потому, что
это именное предложение. Но можно считать его и продолжением
повествовательной цепочки (это зависит от нашего понимания того, что
относится к переднему плану). Как мы увидим ниже, при разборе 1 Сам
1 — 2, задний план повествования часто выражается простыми ИП (они
встречаются в начале рассказа или перикопы).
Я уже упоминал о том, что Шнайдер (как и многие другие авторы
но в отличие от традиционных грамматик вроде Гезениус — Кауч или
Жоуон — Мураока) считает именными все предложения, не
начинающиеся с личной формы глагола. Это, как известно, соответствует
арабской грамматической традиции. Как уже говорилось, если такое не
начинающееся с глагола предложение содержит личную форму глагола, то
его называют СИП, ср.: лЬ^Ь ΧΊ£> ^tfftb"! (Быт l:5aß).
50
5
Находится ли это предложение woN qätal на переднем плане?
Шнайдер отвечает «нет»: «Предложения, сказуемые которых стоят в
перфекте, не продвигают повествования вперед... Перфект относится к
заднему плану повествования»22. Однако ст. 6 продолжает цепочку wayyiqtol.
Тогда хиастическая конструкция («и тут Бог назвал свет днем, а тьму он
назвал ночью»), создающая СИП, не должна уходить с переднего
плана, она «продвигает повествование», но при этом выражается и
противопоставление сказанному в Быт 1:5аа. В доказательство обратного
приводят ряд примеров, в частности Шнайдер ссылается на Быт 37:11. Он
пишет об этом тексте, что «СИП с перфектом имеет после глагольного
предложения с нарративом завершающую функцию»23, — возможно, в
приведенном им примере это верно, но как общее правило едва ли годится.
По моим наблюдениям, vv^N qätal может выражать задний план не
только внутри цепочки wayyiqtol (как это, допустим, происходит в Быт
37:11), но и в других синтаксических ситуациях. Ср. начало нового
рассказа в 1 Сам 5:1:
:ΓΠ"ΠΕ7Κ' -1ТУП pKD ТГ'КЗ'41
I * ■ τ ι · * *, φ
После того как филистимляне захватили ковчег Божий, они
перевезли его из Эвен-Эзера в Ашдод.
Предложение DTfbxn 7 Vi К ПК ТГрЬ О'ТНоЬэч подытоживает пре-
г л- ν: τ I -: I; "π ■ : * : ж
дыдущий рассказ о захвате ковчега и образует задний план, служащий
началом нового повествования. Именно таким композиционным ходом
объясняется здесь конструкция wpN qätal. Туже конструкцию waN qätal
в начале нового рассказа и в том же синтактико-композиционном
значении встречаем, например, в Быт 39:1:
После того как Иосиф был отведен в Египет (ссылка на рассказ в Быт
37. — С.Л.), его купил Потифар.
Итак, я предусматриваю возможность употребления СИП (и, быть
может, иногда даже простых ИП) на переднем плане. Уверенно можно
сказать, что высокочастотный вид ИП на переднем плане — это
предложения, имеющие вид wohinne N + N. Такие предложения могут вво-
и
дить точку зрения персонажа или персонажей, продолжая при этом
повествование. Пример:
π^ίκ V2sb Ье)*з lim пэт πίπώο тэ^з idsepi
Жители Ашдода проснулись утром и увидели, что Дагон лежит ничком
(1 Сам 5:3).
Разновидностью таких предложений переднего плана,
представляющих точку зрения персонажа, следует считать у/эЫппё qötel (субъект при
qötel может присутствовать либо задаваться контекстом):
4*
51
ППЮ2 П57П ПЭП1 ВТК ТГКЗО'П
Π * ■ » m ■ ·
И тут ему [Иосифу/ повстречался какой-то человек, который увидел,
что [Иосиф] бродит по полю (Быт 37:15).
В таком же значении на переднем плане употребляется конструкция
wohinne qätal + N. Ср. Быт 38:29:
■ ■ ■ w I * *
Когда он убрал руку, [повитуха] увидела, что вышел его брат.
Очевидно также, что wolo' qätal синтаксически эквивалентен
wayyiqtöh это глагольное предложение на переднем плане.
Задний план в предложении (Вайнрих говорит о «малой структуре»,
т. е. о рельефе в сложном предложении24) регулярно выражается, по
моим наблюдениям, конструкциями типа ki qätal. Примеры:
■тт ^зх niun ηοτ1 чк тгт-Ьк ηον> "ίριόι
Иосиф сказал своим братьям: «Я Иосиф!Жив ли еще мой отец?», — но
его братья не могли ответить ему, потому что пришли в ужас перед ним
(Быт 45:3).
■ I 4 ftp ^V * ш 4 ^^ * ■ ^^ i ^v ^b * ■ » » *^" ^^
Моисей спрятал лицо, потому что боялся посмотреть на Бога
(Исх 3:66).
Наконец, для создания заднего плана рассказа употребляются
простые ИП. Пример:
Ьжрцл γψΎ уюгыЬл ...ni-isn γππερι
PDS73 ЕГИП—рЗР D^-ISp 'tÖDttf Π^Ί
Я тут коровы пошли прямо ... и не свернули [ни направо ни налево], а
в это время князья филистимлян шли за ними... А жители Бет-Шемеша
жали тогда [пшеницу в долине]. И тут они подняли глаза и увидели... (1
Сам 6:12 -13).
Ί
Третий шаг: как выражается речевая перспектива в повествовании?
Нулевая ступень оформляется посредством цепочки wayyiqtöl, в которую
включаются также формы wolö' qätal и woN qätal.
Я думаю, что ИП типа woN + Ν, с точки зрения рельефа
остающиеся на переднем плане (см. выше), выражают наверстывание
информации, как в нашем примере Быт 37:24 Л^ЗЗ Ώψ Л^ЭП ЧИКр ЕРИ ]^П
(Шнайдер относит такие предложения к заднему плану.)
Еще пример подобного рода с ИП (передний план, наверстывание
информации):
\rpabp niitfyb пггзп хз^п гттп dVttd "»nil
:rp33TDtf л^зп -»tö'bxö ерх гкп
+ * « + t 4 « * ^—
// лгут он пришел в дом, и тогда никого из домочадцев не было в доме,
и тут она поймала его за одежду (Быт 39:11 ел).
52
ΓΡ33 DE? ГРЗГТ *>νί№Ώ KP Χ ΡΚΊ можно истолковать как сообще-
ние, продвигающее рассказ (передний план), либо как указание на
предпосылку для следующего звена рассказа "ПЭЗЗ ΊΠΚ7ΞΓΙΓΠ (задний
план).
Другая возможность выражения наверстывания на переднем плане
именным предложением: ki+ ИП. Пример:
птз mb^o mm пюи *оп-не;:к bbi
ι ^^ » *■■■ * * ^™ * » * * *~ * *
£го хозяин увидел, что ИХВХ с ним и что всему, что он делает, ИХВХ
спечивает успех (Быт 39:3а).
Здесь существование различия между временем действия и
временем текста менее проблематично, чем в двух предыдущих примерах, так
как имеется служебное слово kl
Наконец, очевидно, что наверстываемая информация на переднем
плане регулярно выражается 'äser qätal, kääser qätal, ki qätal. Примеры:
апЬк пз^т ~\ш nor "пзтЬэ ш vbx η ami
φ ψ «ι t ^™ * * * * * * 4#Ρ fa I fa φ #4V« ^^ щ ψ i^B φ fa * ^^ fa ^fa"i
Φ л * fa * | * Ψ I fat
0«w пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им (Быт
45:2 7).
:mrp "131 пдекэ ппЬк уокгкЬл пичэ'пЬ ртгтп
^Н * * fa * fa ■ ^н » fa*fa> * * « V >«tart v ^faa ^ta j , ^hA ^ , 1 ^№« 4 * »Φ ^"
■ l # * * * * * ' * * | * + *
#o сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил
ИХВХ (Исх 7:22).
"П^ОЧЗК1 Л^ЗЬ ЪпЧ"Ьэ" 1S73
1**14* V ^— fa- * * ^ fa * *> ■ ^^ ■■» *
1 1 Л * Φ «W fa fa ' Ш
Авраам помолился ... они стали рожать, ибо прежде ИХВХ закрыл
всякое чрево в доме Авимелеха (Быт 20:17—18).
Предвосхищаемая информация выражается формой yiqtöl с
подчинительными союзами (ср. выше примеры Шнайдера).
Я указал на некоторые грамматические выражения текстлингвисти-
ческих категорий Вайнриха в древнееврейском повествовании, не
претендуя на то, чтобы предложить полные списки. Подведем предвари-
и
тельные итоги, не ставя своей целью охватить все случаи, но только
предложить ориентацию.
Категория речевой установки
главная форма повествования — wayyiqtöl
главная форма обсуждения — yiqtöl
Категория рельефа в повествовании
передний план — wayyiqtöl (главная форма переднего плана), walo
qätal, vraN qätal, wohinneN + Ν, wohinne qötel, другие (?) И Π
задний план: ИП, woN qätal, ki qätal
Категория речевой перспективы в повествовании
нулевая ступень: wayyiqtöl, wqIo qätal, woN qätal
наверстываемая информация: 'äserqätal, kääser qätal, ki qätal, ИП(?)
предвосхищаемая информация: 'äser yiqtöl.
53
4
Теперь я рассмотрю связный текст и покажу, как строится
повествование на заднем плане.
Я уже упоминал о том, что на заднем плане могут оказываться не
только отдельные предложения, но и сравнительно большие части
текста, — отчасти подобно тому, как это показал Вайнрих для романских
языков. Очень выразительный пример ~ 1 Сам 1—2.
Далее я разбираю текст и даю его выборочный перевод с
транскрипцией обсуждаемых глагольных форм и других относящихся к делу
частей текста. Я предполагаю, что читатель проследит за ходом
рассуждения с оригиналом.
Первые два стиха, (1 Сам 1:1—2) — экспозиция внутри заднего
плана, исполненная посредством именных предложений, в которых
представлены герои предстоящего рассказа.
Жил-был (wayhi) человек из Раматайим-Цофим25, с нагорья Эфраима.
Его звали (й&тд) Элкана... У него были (wqIö) две жены: одну звали
Ханна, а другую звали Лнинна. У Пнинны были (wayhi lipninnä) дети, а
у Ханны не было (üte hannä 'ёп) детей.
Оба wayhiв этом отрывке — не полнозначные глаголы, а скорее мак-
росинтаксические знаки, «сшивающие» именные предложения в
повествование26.
Затем начинается собственно повествование на заднем плане, оно
задается формой woqätal (ст. За):
Этот человек поднимался (wäälä hä'is hähü) из своего города ежегод-
но поклониться и принести жертву ИХВХ воинств в Шило.
Далее с помощью именного предложения описывается ситуация в
Шило (ст. 36):
А там были (wosäm) двое сыновей Эли, Хофни и Пинхас, жрецы ИХВХ.
Затем повествование неожиданно переходит на передний план в ст.
4а, чтобы сразу же вернуться на задний план в ст. 4б-7а:
Однажды (wayhi hayyöm) Элкана принес жертву (wayyizbah 'elqänä). А
[обычно] он давал своей жене Пнинне (wonätan lipninnä) и всем ее
сыновьям и дочерям доли, а Ханне он давал (ühhannä yitten) одну долю, при
том что он любил ('äheb) Ханну, а ИХВХ закрыл (sägar) ее чрево.
Из сказанного выше следует, что экспозицию (именные предложения)
и ст. 36 можно описать как задний план второго порядка по отношению
к повествованию на заднем плане, главная форма которого — woqätaL
Форму yiqtöl в ст. 5 (ühhannä yitten) в конструкции wqN yiqtöl
возникла вследствие инверсии (хиазм по отношению к wonätan lipninnä). Мы
видим, что в повествовании на заднем плане woqätal соотносится с waN
54
yiqtöl так, как wayyiqtol соотносится с woN qätal в повествовании на
переднем плане. В нашем случае инверсия выражает противопоставление.
Ср. также традиционную видо-временную интерпретацию этих форм в
грамматике Гезениуса-Кауча (§ 107 Ь, е; § 112 е—1).
Формы qätal после подчинительного союза27 в ст. 5 ('äheb и sägar) я
объясняю как формы заднего плана (это явления «малого рельефа»
внутри сложного предложения, поэтому здесь нет смысла говорить о
заднем плане второго порядка).
Cm. б— 7α: Ее провоцировала (wokfäsattä) ее соперница, чтобы рассер-
дить ее из-за того, что ИХВХзакрыл (sägar) ее чрево. И так
происходило (woken ya'äse)2* год за годом всякий раз, когда она поднималась в
дом ИХВХ. Вот так она провоцировала ее (ken tak'Tsennä).
Повествование на заднем плане продолжается формой woqätal
(wokfäsattä) и заменяющей ее при инверсии конструкцией woyiqtöL Ст.
7аос «вот так она провоцировала ее (кёп tak'Isennä)» характеризуется
отсутствием вава, я вижу здесь элемент обсуждения в повествовательном
контексте. «Вот так она обычно и поступала!», — замечает автор,
отвлекаясь от повествования и обращаясь прямо к читателю. Эти слова не
содержат новой информации, относящейся к повествуемому миру.
Темпоральная форма yiqtöl без вава (tak'Tsennä) — это, как считает
Шнайдер, главная глагольная форма для обсуждающего контекста.
Ст. 76: И тут она расплакалась и не стала есть (wattibke wold tdkal).
Я думаю, что wayyiqtol wattibke в сюжете рассказа соотносится п^ямо с
предшествующим wayyiqtol в ст. 4а (wayyizbah). При этом темпоральная
форма wold tdkal продолжает повествовательную последовательность на
переднем плане. Мы ожидали бы здесь wolo 'äkolä. Непосредственно
следующие в повествовательных частях текста формы wayyiqtol (ст. 8
wayydmer, ст. 9 wattäqom) ясно указывают на нарративный характер
формы wold tdkal, поэтому внутри повествования эту форму следует
истолковать как нечто вроде praesens historicum, перенесение темпоральной
формы обсуждения в повествовательный контекст («однажды Элкана принес
жертву ... и тут Ханна расплакалась и не ест» — ср. woläme Id tokoliB
прямой речи в ст. 8). По Вайнриху это неравный переход первой степени, т.
е. со сменой одного признака — речевой установки29.
Ст. 8-11 (я пропускаю прямую речь):
И тут сказал (wayyo тег) ей ее муж Элкана... И встала (wattäqom)
Ханна после того как поела ('ahäre 'äkolä) в Шило и попила, [а жрец Эли си-
дел в это время (wo'elf hakköhen yöseb) на стуле у входа в храм ИХВХ, а она
была в глубоком огорчении (wolv märat näpes)], и тут она стала молить-
ся ИХВХ, и она горько разрыдалась, и она дала обет, и она произнесла
(wattitpallelral yhwh übäkö tibke wattiddör neder wattomar).
Co ст. 8 продолжается повествование на переднем плане, qätal в
сочетании со служебным словом 'ahäre 'äkolä — наверстываемая информа-
55
ция, передний(!) план. Ст. 96 и 10а, заключенные в квадратные скобки
в моем переводе — именные предложения на заднем плане,
описывающие ситуацию, в которой Ханна стала молиться. Обращает на себя
внимание переход от wattitpallel к übäkö tibkt. Это неравный переход
первой степени с изменением по признаку речевой установки. Автор
пользуется тем же стилистическим приемом, что и в конце ст. 7. При
равном переходе с абсолютным инфинитивом появилась бы форма qätal
(übäkö ЬаШа) (ср. Быт 20:18; 27:30), но автор снова пользуется
темпоральной формой обсуждаемого мира (ср.: Ίηι rSö ttfe, — «если ты
действительно обратишь внимание», ст. Па).
В ст. 11 — 13 мы снова имеем дело с прихотливым чередованием
переднего и заднего планов, что, на мой взгляд, свидетельствует против
часто высказываемого предположения, согласно которому сложное
синтаксическое устройство ст. 4—7 (маркирование переднего плана
формой wayyizbah и резкое возвращение на задний план, образующее
нечто вроде примечания в скобках) вызвано порчей текста и должно
быть поводом для конъектур30.
Рассмотрим ст. 12—13:
А тем временем она продолжала молиться (wahäyä ki hirbatä hhitpallel)
перед ИХВХ, а Эли наблюдал (wo'eli sömef) за ее ртом, а Ханна говорила
(wohannä hi' modabberet) про себя, только ее губы двигались (raq
sopäteyhä näföt), а голоса не было слышно (woqöläh Iö' yissämea'). И тут
Эли счел ее (wayyahsobehä) за пьяную.
wattö'maruB. переднем плане в ст. 11 соотносится с wayyahsobehä в ст.
136. Все предложения между двумя этими wayyiqtöl отходят на задний
план, излагая обстоятельства, при которых Ханна произнесла свой обет,
а Эли счел наблюдаемый им акт произнесения за признак опьянения.
Переходом на задний план объясняется wahäyä ki qätal, т. е. перед
нами лексически пустой woqätal, употребленный как макросинтаксичес-
кий знак заднего плана31. Для сравнения укажу все случаи употребления
wayhi ki qätal в повествовательном контексте во временном значении:
Быт 6:1; 26:8; 27:1 (ср. также 43:21 и 44:24 — повествование от лица
персонажа внутри прямой речи); Ис Нав 17:13; Суд 1:28; 6:7; 2 Сам 6:13;
7:1; 19:26; 2 Цар 17:7; Иов 1:5. Во всех этих случаях посредством wayhi
временной оборот связывается с повествованием на переднем плане.
Лишь последний пример, Иов 1:5, выпадает из этого списка: вводные
стихи книги Иова обнаруживают, как кажется, свободное варьирование
форм wayyiqtöl и woqätal на заднем плане, что, вероятно, объясняется как
черта позднего библейского иврита32.
В рассматриваемом отрывке 1 Сам 1:12—13 мы встречаем уже знакомые
нам типы предикаций заднего плана: простые ИП с вавом (тип woN + Ν),
СИП woN yiqtöl (вместо qätal на переднем плане). Что касается raq sopäteyhä
nä'öt, то здесь решение зависит от оценки функции служебного слова raq.
Если его считать синтаксическим аналогом вава, то перед нами именное
предложение на заднем плане. Если нет — то это элемент обсуждения,
комментария внутри повествования. Текст ВЗ не дает достаточного
материала для ясного ответа на этот вопрос: w^raq употребляется в нем всего
56
дважды, Ис Нав 6:18 и Суд 11:34, причем лишь во втором случае в
повествовательном контексте. С одной стороны, рассматриваемое предложение
можно было бы отнести к заднему плану, ибо в обсуждении с большой
вероятностью (как это следует из нашего анализа) была бы форма yiqtöl -
tanifeynä. С другой стороны, rag уже в силу своих значений почти не
употребляется в «чистых» повествовательных контекстах, что в нашем случае
свидетельствует в пользу обсуждения33.
В 1 Сам 1:14 — 2:1 повествование построено главным образом на
цепочке wayyiqtol, т. е. со ст. 14 рассказ о рождении и младенчестве
Самуила окончательно выходит на передний план и там же завершается.
Собственно, конец рассказа следует видеть (вопреки принятому в
комментариях делению) в 2:11: слова, вводящие Песнь Ханны в 2:1 «и тут
Ханна стала молиться, и тут она сказала» (wattitpallel hannä wattö'mar),
соотносятся в повествовательном ряду переднего плана с тем, что
следует непосредственно за Песнью в 2:11 и завершает весь эпизод
посещения Шило семейством Элканы: «И тут Элкана отправился (wayyelek
'elqänä) в Раму к себе домой, а мальчик остался служить (wohanna аг häyä
masäret) ЙХВХ при Эли-жреце».
В 1 Сам 2:12—26 собрано несколько повествований на заднем
плане, синтаксис глагола в которых зеркально отражает «нормальный»
синтаксис повествования переднего плана, как тот описан у
Шнайдера и в предыдущем разделе настоящей статьи. Мы заметили эту
симметрию уже при анализе 1 Сам 1 — wayyiqtol как исходной форме переднего
плана соответствует waqätal заднего, вместо woN qätal повествования
переднего плана (инверсия по отношению к исходной форме) при
повествовании на заднем плане употребляется woN yiqtöl. Авторский
комментарий использует темпоральные формы прямой речи. Мы увидим,
что синтаксическая аналогия идет и дальше.
Первое повествование на заднем плане (1 Сам 2:12—17) начинается
в 2:12 именным предложением woN + Ν, за которым следует авторский
комментарий («обсуждение»):
А сыновья Эли (йЬпё fe/i) были негодяями: они не знали ЙХВХ.
«Не знали» — 7ö' yädJü. Вав отсутствует, эту темпоральную форму
можно прочесть и /б' yedo'ü, т. е. как свойственную обсуждению форму
yiqtöl «они не знают» (ср. Быт 19:19, 22, где в прямой речи встречается
16* yiqtöl в индикативном значении). Впрочем, изменение огласовки не
обязательно для того, чтобы увидеть в этом предложении обсуждение.
Ст. 13: А обращение этих жрецов с народом было таково (ümispat
hakköhämm 'et ha"am): когда кто-нибудь приносил жертву (kol 'is zöbe^h
zebah), то приходил (uba) служитель жреца во время варки мяса, и
вилка о трех зубцах (wahammazleg) была у него в руке.
Я считаю, что предлагаемый синтаксический подход позволяет
истолковать ст. 13 как новое именное предложение на заднем плане.
Исследователи в большинстве своем понимают ст. 12—13 по-другому: «Не знали ни
ИХВХ, ни доли жреца от народа» (т. е. причитающуюся жрецам долю жер~
57
твоприношения). Для этого они вместе с LXX читают ümispat hakköhen
те'et ha am, και το δικαίωμα του ιερέως παρά του λαοΰΜ. Маккартеръ даже
находит основания вставить перед mispat nota accusativi, которая
обеспечила бы положение mispat как прямого дополнения yädäu. Однако значение
mispat как «образ действий, обычай» хорошо засвидетельствовано. Мой
выбор допустим содержательно (ведь Маккартеру и другим36 приходится
процедуру с вилкой считать законной практикой, одновременно ссылаясь
на Втор 18:3, где предусмотрен совсем другой mispat), предлагаемое
решение позволяет прочесть консонантный текст без эмендаций и
синтаксически гладко: вавов в тексте оказывается не меньше, чем ожидается, так
как временной период в ст. 136 без насилия над текстом понимается как
развернутое сказуемое при ümispat hakköhänim 'et h£ämv.
Ст. 14a: И тыкал (wshikkä) вилкой в котел, или в кастрюлю, или в чан,
или в горшок. Все что вынимала (kol yäser ya'äle) вилка, жрец забирал
(yiqqah) себе.
Форма woqätal продолжает повествование на заднем плане.
Инверсия ведет к появлению yiqtöl: kol 'äser ya'äle. Мне трудно объяснить
отсутствие вава перед именем kol. Возможно, сказывается влияние
подчинительного союза 'äser. Сказуемое в форме yiqtöl (yiqqah) вызвано
положением составного подлежащего в вершине высказывания.
Ст. 146: Так они поступали (käkä ya'äsu) со всем Израилем,
приходившим туда в Шило.
Здесь мы снова видим фрагмент обсуждения в повествовательном
контексте.
Ст. 15: Бывало, что даже прежде чем [паломники]успевали сжечь жир
(gam boterem yaqtirun), приходил (йЬЗ) слуга жреца и говорил (wo'ämar)
человеку, приносившему жертву...
gam boterem yaqtlrun — предвосхищаемая информация, затем
продолжается повествовательная цепочка из woqätal.
Ст. 16—17 завершают повествование на заднем плане о сыновьях
Эли. В этих стихах встречаются две формы wayyiqtöl, нуждающиеся в
объяснении: из контекста очевидно, что обе они относятся все к тому
же рассказу на заднем плане:
Человек, приносивший жертву, говорил (wayyo тег) ему..., а тот
отвечал (wäämar)... Грех слуг был (wattohi) очень велик перед ЙХВХ, ибо
эти люди презрели (ki mäsQ) дар [приносимый] ЙХВХ.
Комментаторы поправляют wayyo тег в ст. 16а на wq ämar яибо
толкуют эту форму как протасис условного периода, огласовывая ее
woyömar. Но такая же форма wayyo тег встречается в контексте рассказа
на заднем плане в ст. 23, поэтому конъектуры теряют убедительность.
Я предполагаю, что форма wayyiqtol появляется в ст. 16, 17, 23 просто
58
1
потому, что это наиболее устойчивая повествовательная форма —
форма нарратива по преимуществу: рассказ здесь не переходит на передний
план, а просто длится достаточно долго для того, чтобы в нем
возникла основная темпоральная форма рассказывания.
Ср. Быт 41:2:
Он увидел во сне (wohinne), как из Нила вышли Cölöt) семь коров... и
стали пастись (wattirrena) в тростнике.
Такой переход wdhinne qötel > wayyiqtöl несколько раз встречается в
рассказе о снах фараона в Быт 41:3—7. Правда, речь тут идет, как я
думаю, о переднем плане и нулевом уровне перспективы. Важно, однако,
то, что рассказ после wohinne не продолжается причастными формами.
Еще пример; Быт 28:6 ел.:
Исав увидел (wayyaf *esäw), что Исаак благословил (ki berak yishäq)
Иакова у и послал (wosillah) его в Паден-Арам ...и предписал (waysaw)
ему ... и что послушался (wayyisma) Иаков отца и мать, и пошел
(wayyelek) в Паден-Арам.
После wayyaf (esäw идет наверстываемая информация на переднем
плане. Наверстывание выражается цепочкой синтаксически
однородных глаголов ki qätal > wsqätal > wayyiqtöl (3 раза), ki qätal — основная
форма наверстывания, и наблюдаемый темпоральный переход
объясняется как раз особой устойчивостью формы wayyiqtöl.
Третий пример: 1 Сам 7:16—17:
Он [Самуил]ходил (wshälak) ежегодно и обходил кругом (wosäbab) Бег-
Эль, и Гилгал, и Мицпу, и судил (wosäpat) Израиль во всех этих местах.
И он возвращался (Citosübätö) в Раму, [потому что (ki) там был его дом
и там он судил (wosäm säpät) Израиль], и он построил (wayyTben) там
жертвенник для ИХВХ.
На заднем плане (предложения с waqätal и синтаксически
синонимичное им ИП: ütosübätö...) дано резюме деятельности Самуила. Это
явление большого рельефа: рассказ на заднем плане, завершающий
целый раздел книги, ki — предложение, выделенное в переводе
квадратными скобками, представляет собой «фразовый» задний план внутри
этой конструкции. Рассказ заканчивается формой wayyiqtöl, вероятно
тоже относящейся к заднему плану. Этот пример — самый близкий к
разбираемому тексту, но наш текст устроен сложнее. Вернемся к нему.
Для wattehi в ст. 17 можно предположить еще одну функцию: эта
форма завершает повествование, отделяя его от следующего рассказа. Однако
такое допущение нуждается в проверке и уточнении на новом материале.
Ясно лишь то, что эмендации в сторону большей гладкости не помогают.
Ст. 18—20 предлагают еще один рассказ на заднем плане, где все
именные предложения и темпоральные формы четко следуют
описанным выше закономерностям. В ст. 21 рассказ переходит на передний
план, и мы видим цепочку wayyiqtöl, завершающую рассказ о судьбе се-
59
мьи Элканы. Форма ki päqad эквивалентна по значению wayyiqtöi.
4QSama читает wypqd, и такому чтению соответствуют LXX и Пешитта.
Все же и здесь я бы воздержался от эмендации, не имеющей опоры в
самом МТ. Возможно ли, что автор таким необычным образом создал
рельеф и перенес указание на мотивирующее действие божества на
задний план? Этот вопрос приходится оставить без ответа.
Ст. 22 начинает еще один рассказ на заднем плане, и снова с ИП:
А Эли был очень стар (wtfelizäqen mäöd). Он слышал (wQSäma') про все,
что делали (kol 'äser ya'äsün) его сыновья всему Израилю, и про то, что
они ложились с женщинами (wäet' äser yiskobun 'et hannäsim),
служившими у входа в Шатер Собрания.
Здесь мы впервые видим наверстывание в повествовании на заднем
плане. В повествовании на переднем плане оно выражается, как мы
знаем, служебными словами + qätal, а здесь, в соответствии с
принципом симметрии, формой yiqtöl со служебными словами: yääsüny yiskobun.
О wayyomerB ст. 23 как возможной форме заднего плана я уже
упоминал. То, что здесь нет перехода на передний план, подтверждается
тем, что после прямой речи Эли мы видим в ст. 256 ν/οΐδ yiqtöl, опять
же соответствующий форме v/эШ qätal переднего плана: walö' yismäü.
Отметим, что фразовый рельеф в ст. 26 выражен так же, как и внутри
повествования переднего плана:
Ибо ИХВХхотел (ki häpes) умертвить их.
Последняя фраза повествования, ст. 26, — ИП, которое можно
сравнить с глагольным предложением, завершающим предшествующее
повествование в ст. 216. Там была форма wayyigdal, здесь — hölek wogädel.
Обе фразы передают ту же информацию в одинаковой макросинтакси-
ческой ситуации: в конце рассказа они возвращают внимание
читателя от второстепенных персонажей к главному. Повествователь,
по-видимому, свободен в своем выборе, а ИП в ст. 26 можно понять как
грамматическое маркирование концовки, т. е. как особый
синтаксический (и композиционный) ход. В наших терминах это задний план
второго порядка, регулярно выражаемый посредством И П.
Рассмотренные тексты обнаруживают сложную синтаксическую
организацию. Я надеюсь, что предлагаемый метод позволяет прояснить
ее и зачастую избежать толкований ad hoc, что подтверждает его
эвристическую ценность.
Декабрь 1996
Литература
Маслов Ю.С. Аспектология / Лингвистический энциклопедический словарь.
М., .1990. С. 47 ел.
Ackroyd P.R. The First Book of Samuel. Cambridge, 1971. (The Cambridge Bible
Commentary).
60
McCarter PK. 1 Samuel. Ν. Υ., 1980. (AB 8).
Joiion P. A Grammar of Biblical Hebrew / Transl. and Revised by T. Muraoka. Roma,
1991.
Nicacci A. The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose. Sheffield, 1990.
Schneider W. Grammatik des biblischen Hebärisch: ein Lehrbuch. 7. Aufl. München,
1989.
Smith H.P. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Samuel.
Edinburgh, 1977 (1-е изд.: 1898). (ICC).
Weinrich H. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. 4. Aufl. Stuttgart, 1985 (1-е
изд.: 1964).
Примечания
1 Weinrich.
2 Weinrich, 36.
3 Там же, 57—58.
4 Там же, 86.
5 Там же, 63.
6 Там же, 91-95.
7 Там же, 148-156.
8 Там же., 93.
9 Там же, 95.
10 Там же, 94.
11 Там же, 171.
12 Там же, 172.
13 Там же, 190 — 194.
14 Там же, 288 - 315.
15 Там же, 288.
16 См., например: Маслов и приводимую им литературу.
17 Schneider.
18 Там же, 182.
19 Там же, 161.
20 Nicacci.
21 Предложенные ниже соображения возникли в ходе семинара по синтаксису
древнееврейского повествования, который я вел в Институте восточных
культур РГГУ в весеннем семестре 1996 г. Осенью 1996 г. я использовал методику
Вайнриха как основу при чтении древнееврейских текстов со студентами
старших курсов Российского православного университета св. Иоанна Богослова.
Многие предлагаемые в статье ходы и формулировки — наше общее со
студентами достояние, возникшее при совместном осмыслении текстов. Всем им я
признателен. Нелишне заметить, что методика Вайнриха предлагает
увлекательные правила игры, это хорошая дидактическая система.
22 Schneider, 185.
23 Там же, 187.
24 Weinrich, 152.
25 Я перевожу масоретский текст буквально даже в тех случаях, когда
исправления представляются необходимыми большинству текстологов. Я исхожу из
того, что употребление темпоральных форм в дошедшем до нас тексте почти
всегда может быть истолковано как грамматически возможное. Надо также
помнить о том, что конъектуры часто основываются на грамматических
воззрениях текстологов. Во всяком случае лингвистическая интерпретация наличного
текста имеет более прочную основу, чем лингвистический анализ одного из
вариантов его исправления. Опыт последовательной критики текста 1 Сам см. в
комментарии Маккартера (McCarter).
61
26 Ср.: Schneider, 265.
27 'appäyim ki. Этот оборот не получил удовлетворительной интерпретации. См.
комментарий П.Маккартера (McCarter, 51—52). Для моих целей достаточно
приписать этому обороту причинное или уступительное значение.
2* Я перевожу woken ya'äsc безличным предложением «и так происходило»
вместе с NEB (year after year this happened) и NRSV (so it went on year by year). Г. Смит
(Smith, 8) и П. Маккартер (McCarter, 49) считают субъектом yaäse Элкану.
29 Мои выводы частично отличаются от мнения Маккартера (McCarter, 59—60).
Маккартер считает, что wold tö'kal снова разрывает повествовательную
последовательность: «With wold tokallhc Hebrew returns to the habitual sequence, in this
case to indicate that Hannah refused to eat — hence our translation, «would not eat»,
preserving the durative sense of the verb (idem, 60). Г. Смит (Smith) в комментарии,
впервые опубликованном в 1898 г., замечает: «On one occasion Hanna wept and
could not eat» (Smith, 6—7), т. е. предлагает интерпретацию, соответствующую
моей, но не поясняет ее доводами лингвистического характера. NEB переводит
1 Сам 1:1—7а как описание повторяющихся ситуаций, и лишь ст. 76 толкует как
начало действия: «Once that she was in tears and would not eat...». LXX переводит
два последних глагола ст. 7 имперфектами και εκλαιεν και ούκ ήσθιεν,
противопоставляя их аористу в переводе первой темпоральной формы в ст. 8: και εΐπεν
(в этом фрагменте переводчик LXX работал с оригиналом, совпадавшим с
дошедшим до нас древнееврейским текстом).
30 LXX не дает здесь текстуальных вариантов, могущих повлиять на понимание
глагольного синтаксиса ее Vorlage.
31 Предлагаемый анализ показывает, как я думаю, закономерность появления
wohäyä в ст. 12. Поэтому я не согласен с выводом грамматики Жоуона — Мура-
оки о том, что здесь перед нами один из «abnormal instances of wohäyä»,
объясняемых графическим сходством между wayhi и wohäyä, в то время как
первоначально в тексте стояло wayhi (Joüon, Мигаока, 404—405).
32 Здесь мы тоже видим повествование на заднем плане, — в первых пяти
стихах, до wayhi hayyöm wayyiqtöl в ст. 6, где начинается собственно действие. Ср.
1 Сам 1:1—4а.
33 гщ встречается в тексте ВЗ 108 раз, при этом единственное употребление в
полноценном повествовательном контексте, в «чистом» окружении wayyiqtöl и
woN qätal — Исх 9:26.
34 Девять еврейских рукописей читают те'ei. Я думаю, что чтение LXX (или ее
Vortage) и этих девяти рукописей основано на Втор 18:3, где встречается
оборот mispat hakköhämm те'et hi?am. На этом же месте основываются современные
словари (KB, III, 616; но по-другому BDB, 1049) и комментарии, предлагающие
оспориваемое мною понимание (McCarter и Smith, ad loc). Интересно, что в
4QSama это место тоже, по-видимому, понимается как описание нормальной
процедуры (см.: McCarter, 78).
35 McCarter, 78.
36 См.: NEB и комментарий П. Акройда (Ackroyd, 33).
37 Маккартер, напротив того, вынужден переделывать повествовательный текст
ст. 13 в нормативный. В его переводе «the priest's servant was supposed to come...
In his hand would be a three-ponged fork» (McCarter, 77).
62
Si vera lectio
Синтаксис речи рассказчика в древнееврейской
повествовательной прозе
Мише Селезневу
Гебраисты уже не одно столетие пытаются описать употребление
личных форм глагола в библейском иврите. По какому
признаку противопоставлены эти формы: по временному? по
видовому? по какой-либо иной категории? На этот счет в науке до сих
пор нет единого мнения. Гипотезы сменяются гипотезами,
написаны десятки книг и сотни статей, но удовлетворительного решения
эта проблема так и не нашла. Поэтому ее иногда называют «загадкой
еврейской глагольной системы»1.
Тем не менее авторы предлагаемой работы решились попытать счастья
в разгадывании знаменитой загадки. По ряду соображений (они
изложены ниже) нам показалось разумным отыскивать правила употребления
глагольных форм не для всего корпуса ветхозаветных текстов сразу, а по
отдельности для различных жанров. В этой статье речь пойдет о
повествовательной прозе. Мы надеемся, что полученные нами результаты
окажутся полезными не только для дальнейшего изучения синтакиса библейского
иврита, но и для исследования художественных особенностей
ветхозаветной прозы, так как эти результаты дают дополнительные возможности
проследить за замыслом автора. Как увидит читатель, наш синтаксический
анализ может пригодиться также для установления относительных датиро-
вок текстов и для выделения источников.
1. Метод
1.1. Глагольные формы и формы предикации
В грамматиках библейского иврита «синтаксис глагола» и
«предложение» обычно составляют разные главы. Пример — классическая
справочная грамматика Гезениуса. В ней, как и в других работах, указанных
в следующем примечании, «данное», или исходный пункт рассуждений
— глагольная форма, а «искомое» — перечень значений этой формы2.
Такой подход наиболее привычен в европейской (в частности, в
русской) научной и школьной традиции. В конечном счете он восходит к
александрийской филологической школе3.
Однако многочисленные попытки применить привычный подход
при изучении древнееврейского синтаксиса приводят к сложным и не-
* Публикуется впервые. Работа написана в соавторстве с ЯД. Эйделькиндом.
63
убедительным объяснениям, и это не случайно. Дело в том, что в
библейском иврите выбор глагольной формы зависит от порядка слов,
наличия/отсутствия перед глаголом тех или иных союзов и частиц и т. д.,
так что глагольная форма обретает здесь грамматическое значение лишь
в составе некоторой минимальной ячейки, в соединении с другими
элементами, а не сама по себе. Кроме того, многие предложения вообще
не содержат личной глагольной формы, а сказуемое в них выражается
именем (существительным, прилагательным, наречием или
существительным с предлогом). Именные предложения здесь функционально
нагружены больше, чем в русской повествовательной прозе. Поэтому
имеет смысл говорить не о противопоставлении личных форм глагола
(например, yiqtöl — qätal), а о противопоставлении различных форм
предикации. Формой предикации мы будем называть модель, по которой
строится предложение. Этой моделью одновременно задается выбор
одной из глагольных форм или имени в качестве сказуемого, порядок
слов, наличие союза в начале предложения. Примеры выделяемых нами
ниже форм предикации: wayyiqtöl (S), w^lö' qätal (S), woS qätal, waNs Np4
1.2. Речевое произведение, речевой жанр, речевой этикет
Предположим, набор форм предикации для некоторого текста
установлен. Как теперь определить их значение? Прежде всего, даже при самом
беглом знакомстве с древнееврейскими текстами становится
очевидным, что произведения разных жанров синтаксически устроены
по-разному. (Так, бросается в глаза различие между синтаксисом
повествовательной прозы и синтаксисом поэзии.) Это наводит на мысль о том, что
значение форм предикации, то есть признаки, по которым они
противопоставлены, да и сам набор противопоставленных форм в конечном
счете определяются устройством некоторого минимального речевого
произведения.
Итак, мы принимаем следующую аксиому: в изучении синтаксиса
следует идти от минимального речевого произведения — через анализ
его устройства — к значению употребляемых в нем форм предикации5.
А поскольку устройство речевого произведения определяется его
жанром, то понятие речевого жанра6 становится исходным для описания
синтаксиса. Можно сказать, что у каждого жанра есть свой
синтаксический шаблон — набор свойственных этому жанру форм предикации и
правила их употребления.
Такой метод мы считаем эвристически более ценным, нежели
традиционный «предложенческий» подход, при изучении любого языка, но в
особенности — при изучении библейского иврита, который известен нам
только по литературным памятникам. Здесь с самого начала мы имеем
дело не просто с языком как первичной знаковой системой, а с языком
литературы. Надо сказать, что на нынешнем этапе работы, при
исследовании одного речевого жанра, речи рассказчика, мы не всегда стремились
жестко различать языковой код и норму литературного языка. Очевидно,
например, что разбираемые в разделе 5 значения инверсии (или, точнее,
64
хиастической конструкции wayyiqtöl[N {] - woN2 qätal) относятся к области
нормы и при этом основаны на свойственном классическому ивриту
механизме актуального членения: в глагольном предложении препозитивная
тема эмфатична. Однако это утверждение о языковом (или скорее все же
речевом?) механизме инверсии в речи рассказчика мало помогает при
изучении типических значений, созданных в литературном языке за счет
использования такого механизма. И кроме того: фундаментальные черты
древнееврейского синтаксиса естественно было бы выявить при сравнении
синтаксических шаблонов разных жанров, когда они будут описаны. Вот
тогда, при выявлении синтаксических черт, общих для всех или
нескольких жанров, можно будет судить о том, что относится к первичному коду,
а что — к норме.
Как известно, словесное искусство в традиционных обществах
следует весьма жестким канонам. На языковую систему, таким образом,
накладывается система речевых предпочтений — (литературный)
речевой этикет7. При этом, разумеется, каждый жанр обладает особым
каноном: свой канон — у повествовательной прозы, свой — у
законодательных текстов, свой — у поэзии. В то же время библейская
повествовательная проза (в отличие, скажем, от дошедших до нас в составе
Ветхого Завета образцов древнееврейской фольклорной поэзии)
обнаруживает явные признаки индивидуального авторства. Древнееврейские
прозаики, работая в жестких рамках литературного канона, создают тем
не менее свои индивидуальные стили. Все это — и собственные
законы языка, и требования речевого этикета (или шире — литературной
нормы), и авторский стиль — одновременно проявляется в выборе
формы предикации, так что на этом этапе работы нет смысла рассматривать
синтаксис библейского иврита, отвлекаясь от литературной природы
текстов. Суть нашего подхода можно предварительно и несколько
заостренно выразить одной фразой: синтаксис библейского повествования
— это его стилистика.
Ориентировочно, не притязая на полноту, в Ветхом Завете можно
выделить следующие «большие» (по Бахтину, «вторичные» или
«сложные»8) речевые жанры, или даже группы речевых жанров:
а. Поэзия.
б. Правовые тексты.
в. Прозаическая проповедь.
г. Прозаическое повествование.
Личные формы глагола и безглагольные именные предложения
употребляются в каждой из названных групп по разным правилам.
Описание этих правил для каждого речевого жанра с учетом внутрибиб-
лейской диахронии (архаический/классический/поздний язык) даст
основу для учения о синтаксисе библейского иврита. Мы мыслим
«синтаксис библейского иврита вообще» прежде всего как сопоставление
синтаксиса произведений разных речевых жанров и разных эпох9.
В настоящей работе синтаксис речи рассказчика анализируется в
синхронном плане на материале классической библейской прозы (Быт
— 2 Цар). Впрочем, даже в пределах этого корпуса текстов мы имеем
дело, очевидно, не с одной, а с несколькими синтаксическими система-
5 Заказ 257 65
ми. Тут удобно воспользоваться терминами документальной гипотезы:
«девтерономическая история» и «ягвистская история» написаны не
совсем по тем же синтаксическим правилам, что повествовательные
части «жреческого документа». (Что здесь объясняется разным временем
работы авторов, что — возможными диалектными различиями, а что —
просто индивидуальными особенностями их стиля, пока сказать
трудно.) В этой работе мы рассматриваем преимущественно тексты из дев-
терономической истории, осторожно привлекая «ягвистские» примеры
из книг Бытия и Исхода. Примеры из других повествовательных
текстов используются лишь эпизодически.
2. Предварительные замечания о повествовании
Повествовательный текст складывается из речи рассказчика и диалога
персонажей. По сути это два разных речевых жанра с различными
принципами устройства текста, а, следовательно, и с различными
правилами употребления форм предикации.
Иногда в повествование включаются элементы других,
неповествовательных жанров. Это псалмы, плачи, загадки, притчи и т. д., которые
вкладываются в уста персонажей. Они примыкают к диалогу
персонажей, но организованы по другим (свойственным их жанрам)
грамматическим правилам.
Речь рассказчика тоже неоднородна. Рядом с собственно
рассказыванием в ней встречаются этиологические замечания, географические
справки, ссылки на источники, извлечения из генеалогических таблиц
(т. н. Л1чЬ"П) и пр. Все перечисленные элементы (назовем их периферий-
ными) представляют собой своего рода вылазки («экскурсы»)
рассказчика за пределы повествуемого мира. Здесь господствует речевая
установка на обсуждение, а не на повествование, если пользоваться
терминологией Харальда Вайнриха10. В древнееврейской прозе периферийные
элементы речи рассказчика синтаксически отличаются от обычной
повествующей речи рассказчика.
В нашей работе рассматривается только синтаксис повествующей
речи рассказчика. (Ее периферийным элементам и диалогу персонажей,
а также разнообразным неповествовательным жанрам мы надеемся
уделить внимание в следующих работах.)
Следуя предложенному выше методу, мы должны теперь указать
минимальное речевое произведение в речи рассказчика, «единицу
рассказывания», непосредственно поддающуюся грамматическому анализу. В
ее определении мы начнем «сверху» или «снаружи», от данного нам в
ощущении текста священной истории (Быт — 2 Цар), образующего в
еврейском каноне единый блок (по Бахтину, единое высказывание или
единое произведение одного сложного речевого жанра). Это единое
произведение охватывает события от сотворения мира до
Вавилонского плена. В литературном отношении оно делится на части, которые мы
будем называть историями или (отдельными) повествованиями. Среди
66
таких повествовании по чисто композиционным признакам
выделяется пролог священной истории — от сотворения мира до Авраама (Быт 1-
11), история Авраама, затем — история Иакова (для Исаака автор не
предусмотрел самостоятельной истории, не случайно смерть Авраама
смыкается с рождением Иакова). Повествование об Иосифе вставлено в
историю Иакова, так что в плане текстового времени повествования об
отце и сыне (в сущности, две разные истории) заканчиваются почти
одновременно. История Моисея начинается во второй главе книги Исхода и
заканчивается в последней главе книги Второзакония: она послужила
повествовательной рамкой для правового, гомилетического и поэтического
материала, однако с точки зрения устройства повествовательного блока и
она образует единую историю — биографию Моисея. Не пересказывая всю
священную хронику, заметим в качестве примера, что к таким
повествованиям относятся истории Самуила, Саула и Давида.
Повествования или истории состоят из частей, которые мы будем
называть главами, (Не путать с принятым в изданиях Библии начиная
с эпохи средневековья делением всех библейских книг на
пронумерованные главы! Это деление, как известно, введено было из чисто
практических соображений, для удобства обращения с текстом и далеко не
всегда соответствует логике композиции.) При этом в одних случаях
автор придерживается принципа сквозного действия, то есть единая
сюжетная линия почти не прерывается. (Такова, например, история
Иосифа, за исключением вставной новеллы об Иуде и Тамар в Быт 38,
развивающей ряд смысловых элементов истории Иосифа «от
противного»)11. В других случаях автор перемежает главы из разных историй, то
есть развивает разные сюжетные линии параллельно, как это часто
бывает и в европейском романе. Так, повествование о Самуиле включает
главы о его чудесном рождении и детстве (1 Сам 1-2), главу о его
пророческом призвании (гл. 4), главу о Самуиле — народном вожде и
судье (7:3—17), в которой, как видно из содержания и синтаксиса (это
показано в нашей работе), линия Самуила как главного героя особой
истории завершается. Однако в историю Самуила автор вставил другую
(состоящую из нескольких глав) историю, где главный герой — ковчег
завета, его путешествие к филис^млянам и возвращение в Израиль (1
Сам 4:1-7:2). Кроме того, уже посреди истории Саула автор снабжает
повествование о Самуиле гомилетическим (неповествовательным)
эпилогом 1 Сам 12. Самуил и дальше появляется в тексте, но уже как
второстепенный персонаж повествований о Сауле и Давиде.
Наконец, главы делятся на эпизоды. Эпизод — это и есть
минимальное речевое произведение в речи рассказчика (каламбур
ненамеренный). Уже выделение историй и глав в древнееврейском повествовании
имеет не только композиционный, но в некоторых случаях и
лингвистический смысл (это показано в разделах 12-14 предлагаемой работы).
Что же касается нашего понятия «эпизод», то в исследуемой здесь ху-
4j *J
дожественнои прозе оно соответствует той языковой сущности, что в
отечественной литературе по лингвистике текста называют
«сверхфразовым единством», «сложным синтаксическим целым» и т. д.12
Сверхфразовое единство во всех видах текстов вычленяется из потока речи
прежде всего по критерию смысловой дискретности. В лингвистике
5*
67
текста изучаются синтаксические явления в зачине и конце
сверхфразового единства, когезия в сверхфразовом единстве: движение видо-
временных форм, повторы всех типов, дейксис, анафора и катафора,
параллельные конструкции, ситуативная синонимия13.
Рассматриваются и синтаксические явления на границе между сверхфразовыми
единствами и когезия текста как языковой сущности, состоящей
непосредственно из сверхфразовых единств14.
Наша работа предполагает общепринятое в изучении повествования
деление речи рассказчика на передний план и задний план (Vordergrund vs
Hintergrund, foreground vs background). Это деление возникло из
следующих наблюдений: повествование чуть ли не на всех привлекавшихся
для изучения языках лингвистически отделяет продвигающие рассказ
сообщения о фактах (передний план) от информации, позволяющей
адресату речи ориентироваться в повествуемом мире (задний план).
Задний план, естественно, занимает заметно меньше места, чем
передний. Уже поэтому языковые средства его выражения
воспринимаются как маркированные. Опираясь на это наблюдение и стремясь
подчеркнуть описываемую ниже формальную специфику древнееврейского
повествования, мы разделяем повествовательную цепочку (в привычной
терминологии «передний план») и фон («задний план»).
3. Формы предикации в эпизоде: порядок рассмотрения
Для выбора форм предикации существенно место предложения в
начале, внутри или в конце эпизода. Начало и конец эпизода, как сильные
места композиции, могут быть отмечены особой формой предикации,
употребляемой к тому же в особом значении, но это бывает не всегда.
Другими словами, начало и конец эпизода сами по себе не вынуждают
появления специальных форм. Стало быть, если эти формы
появляются, объяснять надо то, почему автор в данном случае грамматически
отметил начало или конец эпизода и что он этим выразил.
Поэтому мы начнем с простейшего (не осложненного
композиционно) случая — с форм предикации, употребляемых внутри эпизода.
Костяк речи рассказчика составляют предложения, вводимые
союзом вав ("I /1). Это главное средство связи между предложениями в
повествующей речи рассказчика. Другие союзы встречаются
сравнительно редко. Еще реже встречаются бессоюзные предложения.
Сейчас мы переходим к анализу форм предикации внутри эпизода,
рассматривая вначале формы предикации с вавом, затем — с нулем вава, за-
тем — с другими союзами. (Поскольку в обычном, немаркированном
случае простое предложение вводится вавом, то бессоюзные формы
предикации мы считаем возможным толковать как формы предикации со
значимым отсутствием вава, или с нулевым вавом). Затем мы рассматриваем
синтаксические явления в начале и конце эпизода, главы и истории.
68
4. Повествовательная цепочка и ее главные формы
(wayyiqtöl w wolö' qätal)
Форма wayyiqtöl (S) — исходная (основная) форма речи рассказчика. За
счет постоянного повторения этой формы речь рассказчика
приобретает вид «повествовательной цепочки». Каждая следующая форма в
цепочке продвигает повествование (совокупность излагаемых
рассказчиком событий) на шаг вперед.
Форма wolcf qätal (S) — отрицательная пара к wayyiqtöl. Любопытно,
что в этом случае отрицание выражается не только частицей lö\ но и
сменой глагольной формы. Форма wolö' qätal часто встречается в
конце цепочки, — например, перед вводом диалога или в конце эпизода.
Неясно, обладает ли она в этих случаях дополнительной
(композиционной, макросинтаксической) функцией.
Примеры:
:Ът Ьпкз an4! пкЬ Ъпкя κ:η
И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер обеих
рабынь, и он не нашел [то, чего искал], и он вышел из шатра Лии, и он
вошел в шатер Рахили (Быт 31:33).
И они отнеслись к нему с презрением, и они не принесли ему даров
(Ί Сам 10:2 7аβ).
baban Ьюпе? кз-кЬч Ь*пою iwx ли1аЬ d^ö"1 nxntö Ьгр*!
:*pbi7ö оюп ps^
XT*- τ χ Ι ν τ- —
И он прождал семь дней назначенной встречи с Самуилом, и Самуил не
пришел в Гилгал, и народ стал разбегаться от него §1 Сам 13:8).
Неверно было бы заключить, что цепочка из wayyiqtöl! walö' qätal вы-
ражает следование точечных событий в реальном времени.
Правильнее допустить, что соотношение между развертыванием повествования
(«временем текста») и развертыванием событий в повествуемом мире
(«временем действия») тут просто не актуализируется15. Итак,
грамматическое значение этой цепочки — простая повествовательная
последовательность, не осложненная дополнительными оттенками. И тогда
вопрос о видо-временном значении каждого элемента цепочки
(отдельной личной формы) не имеет смысла.
Эр!гЬ ГПЬ"1 НС£7К ПКЬ-П2 ПУН КЯГП
:упкп Шэзэ ηήκη?
f "Ίκη к*>Ё?р ""ίππ Ίίοπ~]£ dde? пп'к К"гп
:пэу"ii плх''зэвНт. плк прч1
зрзг-пэт пэ"нэ Ίιορί рзпгп
:луэп пЬ~ЬЪ" пэтп "ibarrnK зпкЧ
Ч * ' * * А ■ *
И Дина, дочь Иакова от Лии, вышла посетить (wayyiqtöl: синтаксичес-
кы неотмеченное начало эпизода) женщин этой страны. И ее увидел
Сихем, сын Хамора-хиввита, правителя той страны, и он овладел ею,
и он лег с ней, и он изнасиловал ее. Дина дочь Иакова понравилась ему,
и он полюбил эту девицу, и он стал ласково утешать ее (Быт 34:1-3).
Цепочка из семи wayyiqtol в ст.2-3 вовсе не изображает цепочку ре-
*j *-*
альных семи действии, следовавших друг за другом в том же порядке.
Действительно, формы Пр^Т, ЗЭКРТ и ПЭХР1 в ст.2 просто описывают
одно и то же действие, так же как ЗПК*1 и (ilÖE)3) рЭЧГЛ в ст.З. При
этом, хотя в тексте сообщение об учиненном Сихемом насилии
предшествует сообщению о его страсти к Дине, причинно-следственный и
временной порядок событий в повествуемом мире был, видимо,
обратным. Линейная цепочка форм wayyiqtol оказывается искусственным
построением рассказчика; это последовательность рассказывания, а не
последовательность рассказываемых событий.
"рэлоэ Pig DfePi "pribpto зрхг χηρ*ι
• *
И Иаков разорвал на себе одежды, и он надел вретище на поясницу, и
он соблюдал траур по своему сыну много дней (Быт 37:34).
В форме ЬЭХЛч1 длительный (неточечный) характер действия не
выражен грамматически: значение длительности передается
семантикой глагола Ьз^ЛП и обстоятельством времени.
:тзк грэ зют ίοπ трш
И Тамар пошла, и она жила (или стала жить) в доме своего отца
(Быт 38:1 lb).
Различие между точечным действием (^Ьгп) и длительным
процессом (или началом процесса, ЗЕ7ЛТ) в этом тексте тоже не получает грам-
матического выражения.
3-117ГП ЗЭЕ7П "'ЛюЬэП Е7-Р1
И приближался этот филистимлянин утром и вечером, и он выходил на
передний край в течение сорока дней (1 Сам 17:16).
Значение итеративности не выражено в формах К?а*Т.и 32РГРТ.
Необходимо сделать одно частное дополнение. Слово "pX — которое
вместе с ЕР в грамматиках нередко относят к «наречиям существования»16
(термин, как нам кажется, неудачный) и которое этимологически,
по-видимому, является именем — скорее всего воспринималось в классическую
эпоху как своего рода недостаточный глагол, у которого все формы
перфекта, имперфекта и причастия омонимичны друг другу, а повелительное
наклонение и оба инфинитива отсутствуют. К такому выводу нас
приводят следующие факты: когда в повествовании встречается конструкция
wQ'en Ν, она по смыслу входит в повествовательную цепочку, т. е.
оказывается эквивалентом формы wayyiqtol (S); в то же время, как мы увидим в
70
разделе 9, конструкция woN 'ёпГаут (отличающаяся от предыдущей, по-
видимому, только порядком слов)17 встречается исключительно в фоновых
предложениях, т. е. эквивалентна либо wqN$ Np, либо woNs qätal
Чтобы показать, что конструкция хуэ'ёп N входит в
повествовательную цепочку, приведем некоторые примеры:
* « Ι ρ *
И утром он [фараон] почувствовал тревогу, и послал он, и призвал всех
магов Египта и всех его мудрецов, и рассказал им фараон свой сон, и не
оказалось никого, кто бы разгадал их [т.е. сны] фараону, И тут
обратился к фараону главный виночерпий,,.(Быт 41:8).
Обратим внимание: в отличие от ГРП ¥&) «не было», "piO означает
скорее: «не оказалось», «не было найдено» или «пропало». Случаи
употребления wolff häyä N в повествовательной цепочке см., например, в Ис
Нав5:1, 12; 8:20.
зптзЬ orte та;п nt£n ире? DV'bv vj^h'hv w'3*i
' — [ · ■ :
И напали они [люди из племени Дан] на Лаиш — на народ, живший
спокойно и беспечно — и перебили их мечом, а город сожгли, и никто им
[жителям Лаиша] не помог (собств. «не нашлось помогающего»)... (Суд
18:27-28).
^^^ ρ * I * φ* ·#Ι * ι w \ *
И ходил Енох с Богом, и пропал он [букв, «и не оказалось его»],
потому что Бог взял его. (Быт 5:22, повествовательная вставка
в генеалогическую таблицу).
ю:п *цЬп пэт -ютгЬк nun кз*1
:п173гёгглк ОХ7П к-р^э г>э-~Ьк ii^ грюо-гю
И подошли люди к пчелиным сотам, и видят — течет мед, но никто не
решился отведать его [букв, «не нашлось никого, кто протянул бы руку
ко рту»], потому что люди боялись заклятия. (1 Сам 14:26).
Ионатан невольно нарушает заклятие и навлекает на израильское
войско гнев Ягве:
or π л1ээ bo übn чюа Ынуз nptfn
:ηνπ лктп лксзпп пл^п поз wni üni
ЛПО"» nlD ^3 43 7Л^З 1ЭКр-ОК "О ЬКП^ЧПХ" ΙΓΕ^ΒΠ ПТП"ТТ ^3
Я С^л сказал: «Подойдите сюда, все предводители народа, и узнайте,
и посмотрите, в чем сегодня состояло это прегрешение. Ибо — клянусь
Ягве, спасителем Израиля — (даже) если это касается моего сына
Ионатана, то он должен будет умереть!»— И никто не отвечал ему
из всего народа [букв.: «и из всего народа не нашлось никого, кто
ответил бы ему»]. (1 Сам 14:38-39).
71
Я он прошел нагорье Эфраима, и он прошел землю Шалаша, и они не
нашли [ослиц], и они прошли землю Шаалим, и (там тоже) не оказалось,
и он прошел землю Вениамина, и не нашли (1 Сам 9:4).
Как видно из последнего примера, подлежащее в конструкции wg en
S может быть опущено (как и при любом wayyiqtöl), и тогда она
приобретает вид *рю.
Ср. также'Быт 39:11, Исх 17:1, Суд 19:15, 1Сам 9:2, 26:12, 1 Цар
18:26, 18:29, 2 Цар 4:31.
5. Выражение со- и противопоставления
в повествовательной цепочке (форма woN qätai)
Форма woN qätai употребляется в целом ряде случаев, на первый взгляд
не схожих между собой. Во всех этих случаях древнееврейский автор
чувствовал необходимость «расщепить» линейную последовательность
изложения, показать два или несколько действий как в некотором
смысле параллельные. Разумеется, при этом форма waN qätai тоже
продвигает рассказ вперед (как и wayyiqtöl), но на значение простой
повествовательной последовательности накладывается здесь значение со- и
противопоставления.
Как отрицательная форма для woN qätai используется w^N lo' qätai
(без изменения личной формы глагола).
Ниже мы пытаемся дать классификацию типичных случаев
употребления формы w;?N qätai, т. е. определить перечень ее конкретных
значений. Эта процедура, конечно, в значительной степени условна.
Поэтому некоторые из приводимых ниже примеров могут быть отнесены
(с большей или меньшей натяжкой) одновремено к двум или
нескольким разрядам нашей классификации.
5.1. Расхождение путей и судеб героев
В Быт 40 рассказывается о том, как Иосиф толкует сны двух
чиновников фараона — главного пекаря и главного виночерпия. Оба сидят в
тюрьме за какие-то провинности, оба видят в одну и ту же ночь сны,
оба обращаются за разгадкой к Иосифу, наконец, в один и тот же день
они покидают темницу. Но дальше их судьбы складываются
противоположным образом (эту противоположность только подчеркивает
каламбурное отнесение к ним обоим двусмысленного выражения Ε7&ΓΊ KE7D):
vnnsrbDb nnttfQ frsn runs ЛХ Л1^П 0*Р "^ЬйП DV>3 ТП
t %
^or dhS -ins ~\uiW2 nSn D^D'xn nicrriio
!" ν τ- — -г ν ": ~~ ττ ■ τ — ν ;
~* ^
Через три дня у фараона был день рождения, и он устроил пир для
своих приближенных. И «вознес» он на глазах у своих приближенных
главного виночерпия и главного пекаря: посадил главного виночерпия на его
прежнее место, и тот стал подавать фараону кубок; а главного
пекаря отправил на виселицу — все, как предсказывал Иосиф (Быт 40:20-22).
Противоположность постигшей двух героев судьбы выражается хи-
астической конструкцией wayyiqtöl Nj — woN2 qätal. N,nN2-
однородные и противопоставленные друг другу подлежащие, дополнения или
обстоятельства. Это и есть самый простой (и, видимо, исходный)
случай употребления формы uoN qätal. Вот еще примеры.
тгг чяЬ грпз огрэю ^innp^i
- · : I — τ ΐττ ' Τ* ~" " τ ν —
И оба они заключили союз перед лицом Ягве, и Давид остался в Хоре-
ше, а Йонатан отправился к себе домой (1 Сам 23:18).
(Об этом примере см. также в разделе 5.3).
ίΠΒΊΚ 13*7 ГРП VP*\ 1X2S П17П ^ЗГГ">т
τ τ —: хт Ι ί - : I ■ · ν ν ш : —
:mrnb ппэо пялкп "пэр "pip кзЦ
irobrtD^f is&is ni-ib3öTiÜTi-Dii'й^зп brim
:inmn~bitt ЬзггЬк mm увгп
πώτ &Ъ inriaö-bin pp-bio
лт τ τ : * ν : I ■ I — :
Авель стал пастухом, а Каин — земледельцем. И вот однажды Каин
принес в жертву Ягве плоды земли, а Авель — отборное мясо ягнят из
первого приплода. И была жертва Авеля угодна Ягве, а жертва Каина
неугодна (Быт 4:26- 5а).
;_
Здесь параллелизм и противоположность путей двух героев
выражается тремя парами wayyiqtöl Ν, — waN2 qätal
В следующем примере две такие конструкции вложены одна в др>
гую по принципу матрешки:
Ьюёро о^эЬк nvhm Ыш Ymra^
•PDO3 ПУЗПЭ 7nrPJDS7 "ТП П*?*0 Ъ*СГ\^ ΊΠ2"1
Ι Λ* τ: * - : * : 1 τ τ j · . it ψ \ ν γ : τ *; *· - ;
♦*» V™b era пЬю Dun —ΙΓΊ7Ί
И выбрал себе Саул из всех израильтян три тысячи человек (две тысячи были
с Саулом в Михмасе, а тысяча — с Ионатаном, в Гиве Вениаминовой и на
нагорье Бет-Эля), а все остальное войско он отправил по домам (1 Сам 13:2).
Здесь D^sbi< bwttf DU V7V*} соотносится с ]P\1V 017 ГП ^biO
(внутренняя «матрешка»), а СРрЪх ПИ?Ье7 Ъм<Ю ib ΗΠΞΡ1 соотносится
с UvW 017П *"1ГР"1 (внешняя «матрешка»). В обоих случаях речь идет о
'I * ■ ■
«разной судьбе» групп израильтян; Саул отделил гвардию от остально-
го ополчения, которое он «отправил по домам», а гвардия была
разделена на две части между Саулом и Ионатаном.
7:
5.2. Антитетический параллелизм для создания эффекта полноты
и исчерпанности описания
Конструкция wayyiqtöl N — woN2 qätal не всегда отражает реальную
противоположность двух действий. Часто она используется с чисто
риторической целью: автор хочет подчеркнуть всеобъемлющий характер
действия и, соответственно, исчерпывающую полноту его описания.
Для этого внутри сообщения о едином по сути комплексе действий
искусственно создается антитеза.
В 1 Сам 6 филистимляне вопрошают своих жрецов, как им
избавиться от опасного присутствия ковчега Ягве. В ответ жрецы дают
подробные инструкции: какими дарами следует задобрить Ягве, какой
должна быть телега, увозящая ковчег, как ее следует запрячь и куда
направить. Одна из важных, с точки зрения жрецов, деталей — чтобы в
качестве упряжных животных были использованы недавно отелившиеся
коровы, еще не ходившие под ярмом (Ьх7 пЬ57"кЪ "ЧЕ7*< Г\*\Ьу ΓΓΠΏ
ОГР;???)· Их нужно отлучить от телят и впрячь в телегу (ст. 7). Далее со-
общается:
гбэуз тлсж^ nVpy niHD тго tip*·) ρ п^экп wv^
:гпээ тээ оггээ'пю
* Φ
// э/τζί/ л/оди /ише w сделали, и они взяли двух недавно отелившихся коров,
и они запрягли их в телегу, а их телят они заперли в доме (1 Сам 6:10).
Для чего автор останавливается на судьбе телят, если дальше в
рассказе они больше ни разу не упоминаются? Только для того, чтобы
показать: все предписания жрецов были точнейшим образом исполнены.
И хотя, формально говоря, пара ^Ьэ аГРЗЗ"ЛК1 — Л1Ч!Э ^ЛК? Τίρ^Ι
здесь подчеркивает, что «жизненные пути» коров и их телят навсегда
разошлись, в действительности единое по сути действие филистимлян
(запряжение отелившихся коров) показано как два параллельных и про-
\-j
тивопоставленных действия.
Искусствено-риторический характер антитезы еще более очевиден в
следующих двух примерах (конструкция wayyiqtöl Nl — woN2 qätal в них
немного модифицирована: с одним wayyiqtöl Nj соотносятся сразу два
ψοΝί qätal):
:Ί3Κ7 ΓΗΙΣ7Π уи-Ьэ-Л«Т "НЭП ПЭП ГПЕ7П ЗС0У_Ьэ ЛК1
τ :α"γ
И побило градом no всему Египту всех, кто находился в поле — и
людей, и скотину; и все, что растет на поле, побило градом; и все
деревья уничтожил град (Исх 9:25).
пл^зп отЬк üiS-лк i^m D-p-лк а"ч&экп τ6ιςρί
* * * I II* · I * *
:T"iao птиггли*!
bl~ra—TS71 ibpD о"»-пзоэ ώπ л^зп плэ_пюк Ъ^экп~л*о
:ппэп нхф wb^i
// 3mw yz/odw протянули руку, и они взяли Лота с собой в дом, а дверь они
закрыли, а тех людей, что стояли у входа в дом, они поразили
слепотой от мала до велика, и те безуспешно искали вход (Быт 19:10-11).
74
Заметим, что во всех приведенных случаях антитетического
параллелизма имя в составе конструкции — это дополнение (в наших
формулах N = О), и ср. раздел 13.1 настоящей работы.
5.3. Этикетно-обусловленное употребление конструкции
wayyiqtöl N1 — woN2 qätal
В одном из приведенных в разделе 5.1 примеров два героя расстаются
в буквальном смысле слова:
тгг чрЬ л^пз игпэе? vnp*}
пл^зЬ фп ]л1)1гт пкппз "in dvj^
■ ■ : l""r I тт * τ ; — --г ν-·~
И оба они заключили союз перед лицом Я гее, и Давид остался в Хоре-
ше, а Ионатан отправился к себе домой (1 Сам 23:18).
Насколько нам удалось установить, в подобных случаях, то есть с
глаголами движения, конструкция wayyiqtöl N{ — woN2 qätal употребляется в
библейском иврите всегда18. Видимо, во всяком рассказе о расставании
присутствует смысл противопоставления (ср. 5.1), выражаемый
препозицией темы во втором высказывании. Но вспомним, что синтаксис
библейского иврита — это его стилистика. Тогда можно предложить не чисто
грамматическое (в терминах актуального членения), а скорее нормативно-
стилистическое объяснение: когда авторы классической прозы
изображают расставание персонажей, то принятая в этой литературе условность
(«речевой этикет») предписывает им употреблять конструкцию wayyiqtöl Ν,
— woN2 qätal, а не грамматически возможную простую повествовательную
цепочку wayyiqtöl N1 — wayyiqtöl N2.
1этгЬ ihn n'pyn iQipfcb pb 3epi ф^
* ^™ * Ι ^™ ^p I ^—+ ^m 1**1 ^r Τ ^r ^r ^"* 1 * ■ *****
И отправился Лаван восвояси, а Иаков отправился своим путем (Быт
32: lb -2а).
Этикетно-обусловленное употребление формы, казалось бы,
неизбежно должно стать рутинным, стершимся, потерять художественную
выразительность. Но мы не раз еще увидим, что древнееврейские
прозаики умели именно с помощью этикетных синтаксических шаблонов
создавать собственные достаточно эффектные построения. Вот
маленький пример.
:ппзвп" :,,кЬэ аигглх n'pEhi
ЬаЬагглк ~Чюн о^овп~]р ηϋ ΐ<ϊπϊ
irhv а^тагп'Ьэ vhvn ικγι on iuk*i
Принеся дары, он проводил сопровождавших его людей, несших дары, а
сам у Песилима, что близ Гилгала, повернул обратно. Вернувшись, он
сказал [царю Эглону]: «Ваше величество, мне надо с вами поговорить
наедине». «Подите все вон!» — приказал царь. Все приближенные вышли
от него, а Эхуд приблизился к нему. (Суд 3:18-20а).
75
Дважды употребленная здесь конструкция wayyiqtöl Nj — woN2 qätal
подчеркивает последовательный уход главного героя от какого бы то ни
было сопровождения (будь то свита враждебного царя или
соплеменники Эхуда). Читателю дают почувствовать, что Эхуд имеет какой-то
тайный замысел (какой — пока неизвестно) и неуклонно добивается того,
чтобы встретиться с Эглоном без свидетелей.
Регулярно описывается с помощью конструкции wayyiqtöl Nj —
waN2 qätal движение двух армий навстречу друг другу.
rranbsS й^пюЬв пнпрЬ Ь*пк?"» К2п
:рЕЖЗ ύπ D^nttfbsi ΊΤΙ7Π рКГгЪг ΙΟΓΠΙ
И вышли израильтяне на войну с филистимлянами, и расположились
они станом у Эвен-Эзера, а филистимляне расположились в Лфеке
(1 Сам 4:16).
гптрЬ пик пЬе? таок'т г\ъгЪъЪ огрзгго-пк D^ncybs ίΒΟϊΠ
AT
:ω^ώί оежз πρτιτ"ρ3Ί пэ1вг,рэ lärm
пЬкп pays lirrn чэЬю Ь'к-1ёг-ег*о" bixtöi
AT
* * 4 ^™* ^™ ^^ ν * * щ ψ * ψ
И филистимляне собрали войска для сражения, и они собрались у Сохо
на территории Иуды, и они разбили лагерь между Сохо и Азекой, в
Эфес-Даммим. А Саул и израильтяне [тоже] собрались и разбили
лагерь в Теревинфовой Долине... (1 Сам 17:1-2а).
I
:пэЧ57за Qianan ^κεγ]3 лдаз-сггк "nasn "р-р пззк κ?24ΐ
И вышел Авнер, сын Hepa, и воины Иш-Бошета, сына Саула, из Маха-
найма в Гивон. А Иоав, сын Церуйи, и воины Давида вышли и
встретились с ними у Гивонского пруда (2 Сам 2:12-13).
Речевым этикетом объясняется использование конструкции wayyiqtöl
Nj — woN2 qätal в описаниях различных ритуализованных действий, где
обязательно должна присутствовать идея исчерпывающей
завершенности исполняемого ритуала (и ср. раздел 5.2). Поскольку в подобных
случаях речь идет преимущественно о манипуляциях с объектами, то
конструкция имеет вид wayyiqtöl 0{ — wq02 qätal.
В 1 Сам 22 рассказывается о том, как Саул послал своего
приближенного, эдомитянина Доэга истребить в культовом центре Нове
жрецов Ягве. (Один из них — вероятно, главный жрец — Ахимелех,
пригрел Давида, избравшего святилище в Нове местом первой остановки
на пути своего окончательного бегства от Саула.) Приведем
повествование о бойне жрецов:
ОЧПЭЗ 17321 ППК 3D ГТтЬ ^Ь?ЭП ΊΟΙΓΊ
А'
D^DÜ ЮПИ D*l43 ЛЕРД ОЧПЭЭ КТГиЭЭ'П ■Ώ'ΙΚΠ ГРП 3011
:"тз -пэк йк?'з Ίζρκ nräpm
mn-ipb пэп о^п'эгг-р!; з'зтгко
Λ'
* *
И приказал царь Доэгу: «Ступай ты и порази этих жрецов!». И пошел
Доэг эдомитянин, и поразил он жрецов, и умертвил он в тот день
восемьдесят пять людей, носящих льняные эфоды. А в Нове, городе
жрецов, он вырезал мечом [все живое]: мужчин и женщин, детей и
младенцев, и волов, и ослов, и овец, — [всех вырезал] мечом (1 Сам 22:18-19).
Современные автору читатели «романа» о Сауле и Давиде, вероятно,
чувствовали в этом тексте горькую иронию автора по поводу непутевого,
слишком импульсивного и уже полусумасшедшего Саула, первого
израильского царя и помазанника Божьего: он санкционировал то, что в
израильской религиозной традиции19 называлось херем («заклятие»), то есть
полное уничтожение какого-нибудь ханаанского города, чьи жители
служили чужим богам. Такие карательные операции мыслились как деяние
священной войны во имя Бога Израиля, а все «заклинаемое»,
подвергаемое херему (люди, скот и добро), тем самым посвящалось (приносилось в
жертву) Ягве. А теперь эта кара — по воле помазанника Ягве! — обратилась
на культовый центр самого Ягве и на его служителей.
Безумный приказ Саула в тексте «романа» прямо соотносится с
рассказом о настоящей священной войне в 1 Сам 15, где, кстати,
встречаются термины D^"inn (ст.З ,8,9,15,18,20) и иПП, (ст. 21); в двух этих
рассказах имеется дословное совпадение в списке подлежащих херему
живых существ (ср. 15:36 и 22:19; последний пассаж выглядит как
ироническое цитирование той самой формулы, что была уместно
употреблена в первом). В первом случае, во время настоящей священной войны
против амалекитян, приказ о хереме дал Саулу сам Ягве (через
пророка Самуила), но этот приказ не был выполнен: Саул позволил народу
разграбить лучшую часть добычи (15:9,15,21). Этот проступок привел к
отставке Саула: Ягве «пожалел» (15:11) о том, что воцарил Саула, и уже
в 1 Сам 16 начинается история возвышения Давида. Таким образом,
рассказ о проявленной Саулом непокорности бросает дополнительный
иронический отблеск на описание погрома в Нове.
В 1 Сам 22 автор выразил все эти смыслы, в частности, за счет
обыгрывания речевого (или, быть может, здесь точнее было бы сказать
«литературного») этикета для описания священной войны, уже прочно
установившегося к тому времени в израильской словесности. Можно сказать, что
описание погрома выполнено в соответствии с речевым этикетом
повествования об израильском газавате. Как мы видели, речевой этикет
присутствует на лексическом и фразеологическом уровнях (и это естественно), но
также и на синтаксическом. Главная синтаксическая форма, выражающая
этикетный характер рассказа — waO qätal, противопоставленная цепочке
wayyiqtöl и следующая за ней. Такое построение создает эффект завершен-
*_* KJ
ности, «закругленности» описываемых действии, наделяет их характером
ритуала, процедуры, «церемонии»: наличные возможности сводятся к
двум, перечисляются, и ситуация тем самым «закрывается», приобретает
завершенность (и ср. 5.2). Ср. следующий рассказ о священной войне
(обратим внимание на лексическую антонимию глаголов!):
:зпгпэУ □"ппп ах7П"Ьэ"лк1
77
РЗГП ]Х25П 3tTD ...bS7 317ГП ЬЩ ЬЬГР!
I
Π
■f ь Ψ ■ 1
τ
И захватил Агага, царя амалекитян, живьем, а весь народ истребил
мечом. И Саул с народом пожалели ... лучшую часть скота ..., а весь
негодный скот истребили (1 Сам 15: 8-9).
Мы уже рассмотрели текст, где синтаксическая конструкция
wayyiqtöl Ы1 — \ν^Ν2 qätal, обусловленная речевым этикетом,
используется «свободно», то есть показали, что в 1 Сам 22:19 это
осознанный литературный прием, передающий отношение рассказчика к
Саулу. Теперь мы вернемся к случаям (их набор ограничен), в кото-
<**
рых использование этой конструкции следует считать признаком
нормы, то есть правилом для литературного языка. Естественно, в
нашем корпусе нарративных текстов искать такие случаи следует
прежде всего среди повествований о ритуальных или ритуализован-
ных действиях. Конечно, сюда относятся и названные выше ситуа-
*j
ции расставания двух персонажей и взаимного расположения двух
армий, где «ритуализация» присутствует скорее на чисто
литературном уровне. Далее мы перечисляем такие ситуации в порядке
убывания «естественной» ритуальности изображаемого:
Описание траура:
П17ПР ГрЬх7 ПШ D^ODn ЛЗГрТ ПЮ*ГгЬу ПЭК ПЯЛ Пр?ГП
:πρυη Trtbh ■nSm пежтЪю ггг оюгп
\ Τ Τ Τ * i Τ | ■ Τ ΤΙ ·■
И Тамар посыпала себе голову пеплом, а пестрое покрывало, что
было на ней, она разорвала, и покрыла (?) рукой голову, и пошла
завывая (2 Сам 13:19).
Контрастная форма, выражающая речевой этикет,
ГЮПР ГпЬХ7 "ΙΕ?« Ο^ΟΞΠ ПЭГОЧ.
■ 4
В отличие от многих других синтаксических выражений речевого
этикета, \уэО qätal здесь не замыкает цепочку форм, описывающих ритуа-
лизованное действо. Описание «ритуала скорби» делится надвое
формой waO qätal, которая хиастически противостоит первому глаголу
(П|ЭГП). Хочется предположить, что автор «поторопился»
синтаксически указать на знаковый характер поведения обесчещенной Тамар: она
требует сатисфакции, которая, как мы узнаем через несколько стихов,
последовала два года спустя (а в «романном» времени — почти сразу же,
в следующем эпизоде).
Описание военной победы и херема:
ч?п"лк укпгп η'ΗΕΡί
:π·τπ Di*n ίώ ηηψύ ob^bn'no^l
и * ΛΙ ρ | Τ TT τ ι ■ · * #
И сжег Иегошуа город Гай, и превратил его в курган навеки, в руины до
сего дня, а царя Гая он повесил на дереве до вечера (Ис Нав 8:28-29а).
зппз пэп пэЬ^-лхт н^гглк nbb^ ^nn луз укКгр зкгп
, AT , ■ ^ ι * ι ■ ι ρ *■ , τ ι
И вернулся Иегошуа в то время, и захватил город Хацор, а его царя
поразил мечом (Ис Нав 11:10а).
78
-ΓΙΕ? ""РКЕ7П JO йГРЭЬо'Ъэ ЛЮ
4 ■
// Иегошуа поразил всю землю: нагорье, Негев, Шефелу и предгорье, и
всех их царей: он не оставил в живых ни одного. А все живое (букв,
«всякое дыхание») истребил (предал херему), как предписал Ягве, бог
Израиля (Ис Нав 10:40).
Это формульное описание херема, которое в книге Иисуса Навина
всегда строится из одних и тех же лексических и фразеологических
элементов — с использованием синтаксического шаблона речевого этикета
либо асиндетически (шаблон «комментария» с нулевым вавом, см.
раздел 10)г, ср. ИсНав 10:28; 11:12,21.
ПЭТ niKD 17ПЕ7 ΟΊΚΟ 111 ahm Ь*ПВР 4SD ППН 03*1
τ χ τ— τ - τ : — ι — ·· :
И арамеи спасались бегством от израильтян, и Давид уничтожил у
арамеев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников, а их главнокомандующего
Шобака он поразил [мечом], и тот умер прямо на месте (2 Сам 10:18).
Описание жертвоприношения:
TlVn Л*ПрЬ Y-ITQTZPX 7ГРП ηΐΠ3 ОЛК ПГП'П П*?*гЬэ~ЛК Ъ'Пр^
Am * ^щш I 4 * * * 4 1**4 м^ м +^ρ +^ ^f^ 4 4 «^» 4 *»^ * ■ · « *·* * ■ I ^^ ■ щШт
//оя взял их всех, и разрубил их пополам, и сложил половинки, а пщиц
не разрубил (Быт 15:10).
ХТТТГЬ Гб*17 ЪиП Л1ПЭГГПК1 пЬгШП ^ХГЛК ТОРЗМ
ι* * 4
// они разрубили телегу на дрова, а коров принесли Ягве в жертву
всесожжения (1 Сам 6:146).
— Описание приготовлений к приему гостей и пиру:
ппё7"Ьк пЬп'кп огпзк 70011
irriya ^?У1 **чэЪ лЬ'оАптэр 'd^kcT ^hp т^па 7ρκ'*ϊ
at -г : — I -г |т -rf — ν :
—: — .. — . — - — ν | ■· ·- τ Ι — |т τ ]у |— * -
И Авраам поспешил в шатер к Сарре, и велел ей: «Быстро приготовь
три меры лучшей муки, замеси ее и испеки пироги». А Авраам прбежал
к стаду, и взял теленка, нежного и хорошего, и отдал его слуге
поспешил приготовить его (Быт 18:6-7).
и тот
Здесь форма waO qatal появляется ближе к началу рассказа о том, как
Авраам собирал угощение (рассказ продолжается формами wayyiqtöl и в
следующем стихе), тоже, быть может, указывая на «этикетный»
характер рассказывания и на ритуальный характер повествуемого.
ήρ·»3~*?κ wa^n тЬк τίο^ι ίηώ аа"п?эп
4 *
Ион очень упрашивал их, и они свернули к нему, и они пришли к нему в дом,
и он устроил им пир, а пресные хлебы он испек, и они ели (Быт 19:3).
79
— Описание переодевания
20.
п^зз или -дох гпапп bian пзэ wx "нпз-пк πρηη пргп
ΆΤ
г- · -
:]ϋρπ п:з apip-ηκ е?э?гп
T>-r>-bs7 πβΗ&π а^т'ип ••■•ha nni? ήκϊ
AT Τ
:τηκΊ25 лрЬп byi
И Ревекка взяла одежды Исава, своего старшего сына, его лучшие
одежды, которые были у нее в доме, и одела [в них] Иакова, своего
младшего сына, а шкурами козлят она обернула его руки и гладкую
часть его шеи (Быт 27:15-16).
Здесь контрастная форма завершает рассказ о переодевании,
включающий два wayyiqtöL и эта позиция контрастной формы действителЁно
создает эффект завершенности: последовательно переряжая Иакова,
Ревекка сумела изменить всю его внешность до неузнаваемости. При сравнении
наших примеров можно даже допустить, что значение этикетности
существует помимо значения завершенности: второе может иногда
прибавляться к первому. Контрастная форма, видимо, сама по себе достаточна для
того, чтобы конституировать этикетное описание, соотносясь со всеми
остальными его высказываниями независимо от своей позиции.
vnttfVno пш π^ύη -пзэ riin
паза com
И Мелхола взяла изваяние [домашнего божества], и положила его на
кровать, а подушку(?) из овечьей шерсти положила ему в изголовье, и
покрыла (его) одеждой (1 Сам 19:13).
5.4. Переход от точки зрения героя к точке зрения автора,
Или противопоставление незнания и знания
В ряде случаев форма wqN qätal противопоставлена не одному-двум
wayyiqtö] а всей предшествующей повествовательной цепочке в целом. (N
здесь всегда подлежащее, поэтому мы будем пользоваться
обозначением wpS qätal) Такой wqS qätal открывает новую повествовательную
цепочку (которая, впрочем, может, как будет видно из примеров,
состоять всего из одного предложения).
K2SQ «Ът ΠΊΠΏΚΠ ™ bnfcni ПКЬ ЬпК31 3ΡΙΓ Ьп'кз pb КЬ*1
:bm Ьпкэ аз4! пкЬ Ьпко к^ч1
:it2Sö *oi ЬгжггЬэ_лк pb шп^
Я вошел Лаван в шатер Иакова, в шатер Лии, в шатры обеих рабынь,
но не нашел [своих домашних божков]. Выйдя из шатра Лии, он вошел
в шатер Рахили. Λ Рахиль тем временем взяла домашних божков, за-
сунуяа их в верблюжье седло и уселась на них. Лаван обыскал весь
шатер, но ничего не нашел (Быт 31:33-34).
80
Подобные случаи в исследованиях синтаксиса древнееврейского
повествования нередко истолковывались как отступление в прошлое
(или «наверстывание информации», в терминологии Вайнриха,
который не признает категорий вида и времени). Предикации woS qätal в
таких контекстах приписывали значение формы Plusquamperfectum в
латыни, а также в романских и германских языках. Но, во-первых, мы
уже видели в главе 4, что в древнееврейской прозе отступление в
прошлое никак специально не отмечается: рассказчик забегает вперед,
возвращается назад, а повествовательная цепочка форм wayyiqtöl
сохраняется. Во-вторых, если бы для древнееврейского повествователя было
существенно противопоставление плана «прошедшего» (времени
рассказа), и «предпрошедшего» (отступление в прошлое по отношению ко
времени рассказа), то он, скорее всего, отмечал бы и обратный переход
из отступления в основной рассказ. Этого, однако, не происходит.
Формы предикации, описывающие действия Рахили — это, начиная со
второй, формы wayyiqtöl (ЗИ'ГП ... DD^farn). Возвращаясь к Лавану,
автор, как ни в чем ни бывало, продолжает повествовательную цепочку
(...ЮЕНУП K22D *<Ь*1). Действия Лавана, относящиеся к временному пла-
*,> и
ну основного рассказа, никак грамматически не отделены от действии
Рахили, предположительно относящихся к плану «предпрошедшего».
Мы предлагаем другое объяснение формы wqS qätal в ст. 34.
Существенно не то, что действия Рахили предшествуют действиям Лавана;
существенно другое — Лаван не знает, что Рахиль спрятала божков.
Форма wqS qätal сигнализирует о том, что автор сообщает читателю
факт (или ряд фактов), не входящий в кругозор персонажа — главного
героя предшествующей повествовательной цепочки. Иными словами,
форма waS qätal отмечает смену повествовательной точки зрения.
Игра точками зрения (всезнающего повествователя,
внутритекстового героя-рассказчика, персонажей) характерна для художественной
прозы в разных литературных традициях, особенно в Новое время. Отно-
*j ч
сительно древнееврейской прозы не раз отмечалось, что повествователь
в ней, как правило, обозревает всю сцену действия «сверху» (а при
желании — сразу же и «изнутри»), он всевидящ и вездесущ. Однако этот
всеведущий повествователь обнаруживает скрытный характер. Вместо
того, чтобы сразу выложить читателю все, что он знает и думает о сво-
*_j *_j
их героях, древнееврейский повествователь предпочитает кое о чем до
поры умолчать, предоставив читателю возможность строить
собственные догадки. При этом было замечено, что во многих случаях
повествователь нарочно заставляет читателя пройти (иногда вместе с кем-то из
героев) путь от ложного или по крайней мере неполного понимания
ситуации — к полному и ясному ее видению21.
Обратим теперь внимание: форма wsS qätal маркирует не переход с
точки зрения всеведущего повествователя на ограниченную точку
зрения одного из героев (тогда в нашем примере особая грамматическая
форма появилась бы в ст. 33), а возвращение обратно, на точку зрения
всевидения и всеведения. Иными словами, в нашем примере
повествователь исподволь принимает точку зрения одного из героев. Исподволь
потому что обычная повествовательная цепочка форм wayyiqtöl при
этом сохраняется. Но затем повествователь показывает читателю то,
6 Заказ 257 81
чего он до сих пор не видел (а герой не видит по-прежнему). Этот-то
поворот и отмечается формой wpS qätal.
Если форма woS qätal маркирует не начало отступления в прошлое,
а возвращение повествователя на точку зрения всеведения, то не
возникает вопроса, почему не маркирован конец отступления (переход из
«предпрошедшего» в «прошедшее», т. е. в план основного рассказа). В
действительности между ст. 34а (ЗЕ7ГП ... DD^t&rn ... ППрЬ ЬГТТ1) и
346 (K25U *Οϊ..Φφθλ..'1) для древнееврейского повествователя нет раз-
рыва, ибо здесь он не покидает точку зрения всеведения.
Проиллюстрируем нашу гипотезу еще некоторыми примерами.
В 2 Цар 7 рассказывается о том, как во время осады Иерусалима
арамеями местные прокаженные решают перебежать к неприятелю:
ΟΊΚ ПЗПО-Ьх Ninb ПЮЭЭ ^mp^
* *
:кгк de? рк пэгп dpk гша п^р-ру ΊΚ3*]
Ьпз ртг bip ою p'ip поп bip' cn*f пэпо"пк sHatfn Ίρύ]
bine?·· "прп чэ^Ъю рок? пэп
nrbs? κϊορ d^psd ""obö-nio D^rinn ·ο5>ο-ηκ
Dn-ninrrnio оггою-п*п οπ^ρπκ-πν ότ^ί рдаэо to^i ^р^
* * ■ *
ίΟΠ PÜKO ПЭПВП
рпк Ьп'к_Ьк Wn^ пэттэо π^ρ-py пЬхгг ο^ρ'εώπ win
TUQtrn ώρ4ι α·Π33Ϊ зпп ρόο aräuv4tfern inizph ^ροίτη
Λ"
: «Э01ЭяУ~ЪЬ,пТ DIED ίκί£Ρ"ϊ' ΡΠΧ bnfc"SU ίΟΡ4"! ΉίΚΡΪ
■ * *
Когда стемнело, они отправились к арамейскому лагерю. Пришли они
к краю арамейского лагеря, смотрят — а там никого нет. А дело в
том, что Господь сделал так, что в лагере арамеев послышался грохот
колесниц и ржание коней, — шум большого войска, и они (арамеи)
сказали друг другу: «Не иначе как царь Израиля подкупил хеттских и
египетских царей, чтобы они на нас напали!» И, вскочив, они бежали,
лишь только стемнело, и оставили все как было: шатры, лошадей,
ослов, весь лагерь — бежали, спасая свою жизнь. Пришли прокаженные
к краю лагеря, зашли в один шатер, поели, попили, потом взяли оттуда
серебро, золото и одежды, пошли и спрятали. Вернулись, зашли в
другой шатер, взяли и оттуда, пошли и спрятали. (2 Цар 7:5-8).
Пустой лагерь арамеев в ст. 5 показан глазами недоумевающих
прокаженных. Вместе с ними недоумевает и читатель, пока в ст. 6
повествователь не сообщает ему причину внезапного бегства
арамейского войска. Таким образом, в ст. 5 господствует точка зрения
прокаженных (причем в этом случае, в отличие от предыдущего
примера, переход на точку зрения героя специально отмечен формой
v/Qhinne (Ns) Np, о которой см. ниже, в главе 6). В ст. 6 рассказчик
вновь становится на точку зрения всеведения — на это указывает
форма wsS qätal. Конечно, события ст. 6-7 предшествуют по
времени событиям центральной линии рассказа, находятся в «плане
Plusquamperfectum». Но это как раз несущественно для
древнееврейского повествователя: из ст. 6-7 в ст. 8 (рассказывающий уже о дей-
82
ствиях прокаженных в пустующем лагере) и далее тянется
непрерывная цепочка wayyiqtöl.
Разумеется, сообщение информации, не входящей в кругозор
персонажа, совсем не обязательно предполагает отступление в прошлое. Герой
может не знать или не видеть нечто, происходящее одновременно или
даже вслед за его действиями — например, где-то в другом месте или за его
спиной. В этом случае тоже употребляется форма wqS qätal.
Ι * * AT Τ ^ TT * * * Ϊ ^^
:rni?i2i кз bib*i
tD^Drärnö mm тъ
^mr ^v ^v I ^^ r * * *
£!два солнце взошло над землей, Лот уже подходил к Цоару. Тогда Ягве
излил на Содом и Гоморру серу и огонь — с небес, от Ягве (Быт 19:23-24).
Здесь наша метафора кругозора примечательным образом
материализуется: Лот, в соответствии с повелением ангелов в ст. 17, не должен
смотреть в сторону уничтожаемых Содома и Гоморры и повернут к ним
спиной. Отметим, что в этом примере значение Plusquamperfectum для
xvoS qätal уже никак невоможно: согласно ст. 22 Ягве не может начать
уничтожение городов, пока Лот не войдет в Цоар.
Во 2-й главе книги Иисуса Навина израильские разведчики
прячутся в доме проститутки Раав. Об этом узнает царь Иерихона и отряжает
к ней своих людей с целью арестовать подозрительных иностранцев.
Раав заверяет посланных, что «те двое» давно покинули ее дом —
man агбип «·>πι
Ι * * ^ш- ^™ I ft * t 4 Φ 4 * * ^»* ^" ^^ Τ ^™* ^^
I + J * * * ш ц + ■*■·
А на самом деле она отвела их на крышу и спрятала их среди льна,
сложенного у нее на крыше, А те люди [т. е. царские слуги] погнались за
ними в сторону Иордана... (Ис Нав 2:6-7).
Преследователи не знают (не видели), что израильские разведчики
спрятались на крыше дома. Но и разведчики не знают, что именно
сказала Раав приходившим за ними людям и куда она их направила. В
первом случае имеет место «отступление в прошлое», во втором — нет.
(Любопытно, что единственным персонажем, чей кругозор совпадает с
авторским, оказывается здесь Раав. Это заранее готовит читателя к
довольно странному, на первый взгляд, ходу повествователя: в ст. 9-11 он
вкладывает в уста язычницы целый монолог, по стилю и смыслу очень
близкий к авторским резюмирующим пассажам, в котором
теологически обосновывается право израильтян на захват Ханаана.)
...:*гпп DV3 ribp хз^ пэпувпо ·ρρ^3"κρκ γ^
ΛΠΕ32Ώ η-π -ρ ХОЭПТ*?17 3IÖ*P ^5v ПЭГТ) Χ'3*Ί
' DVfbKn ]1-|«-bS7 -nrr i3? ΓΠΠ ^D
:-р37ГпЬэ рГТГП тУЭ тагб КЗ ю^т
П-ТП ]*\ЪПП Ьр ПО "ΊΏΚ4Ί Пр573П bip-ЛК' ^bv S7DKP1
6* 83
Odwtf человек из колена Вениамина бежал с поля битвы и в тот же день
появился в Шило...Придя туда, он увидел Эли. Эли сидел у дороги на
жреческом кресле в напряженном ожидании, потому что опасался за судьбу
Божьего ковчега. А тот человек пришел и рассказал [об исходе битвы] в
городе, и плакал весь город. Эли услышал этот плач и подумал: «Что это
за шум?» А тот человек прибежсы и рассказал обо всем Эли (1 Сам 4:12-14).
Здесь тоже рассказчик излагает события в том порядке, в каком они
происходили в повествуемом мире. Никакого отступления в прошлое
при появлении форм wqS qätal (КЗ КГХГП, НПО КГКГП) не происходит.
Эти формы указывают лишь на то, что старый и слепой (ср. ст. 15) Эли
не замечает беглеца — ни когда тот пробегает мимо него по дороге, ни
когда возвращается из города, чтобы сообщить ему о происшедшем.
В заключение рассмотрим один весьма любопытный текст, в
котором трижды появляется форма waS qätal:
пинЬ ф-]ш пл'х зло nbvian ^пз нэп тн-Ьх Ьшю HDiÖI
ггп-; nio'nb?? anbm Ьтгр? η?~грп' ηκ
qbub ]Γ1Π ΓΓΠίΟΞ)
ТП1? ЬЧККГЛЭ 3"10~ЛК лгГлиэ ""»nil
' ТП;ЛК ЬшЕГЛЭ bZ)"1^ ЗПКГП
:^:гуз "пз^п περί buitöS νιΐιϊ
отшЬ&т1 ta'Tmi i^piob iV">hTnT^> пээлк Ьшз' -юхЧ
•V*
* *
Λ*
:nvh ""э" тлплл а'члюэ τη-3?« Ьшю по«'4!
V *
AV
4 » ■
< >
ban ^гр'кз Dp3nST сглюЬа nibni? пкоэ ^з>
гач'лЬ^э—т^з !-птлк' b^snb: Ъшп bixch
_ * * » Τ * 4 I ^^ ' ■
Я Саул сказал Давиду: «Ты знаешь мою старшую дочь Мерав. Я отдам
тебе ее в жены, только будь у меня мужественным воином и
сражайся в войнах Ягве». А Саул думал: «Пусть он погибнет не от моей руки,
а от руки филистимлян». Давид ответил Саулу: «Кто я такой, что
такое моя жизнь и род моего отца по сравнению с другими
израильтянами, чтобы я стал зятем царя?» И пришло время отдать дочь Саула
Мерав Давиду — а она была отдана в жены Адриэлю из Мехолы. И
полюбила Давида дочь Саула Мелхола, и сообщили об этом Саулу, и это
понравилось ему. Подумал Саул: «Отдам-ка я ее ему, чтобы она
стала для него ловушкой и чтобы он погиб от руки филистимлян». И опять
сказал Саул Давиду: «Теперь ты станешь моим зятем». (Далее Саул
пытается подействовать на Давида через своих приближенных, тот
вновь вежливо отказывается.) И сказал Саул [своим приближенным]:
«Вот что передайте Давиду. Царю угодно лишь такое вено — сто
обрезаний филистимлян, чтобы отомстить врагам царя». А Саул
рассчитывал погубить Давида рукой филистимлян. (1 Сам 18:17-21, 25)22.
В ст. 17 две реплики Саула вводятся по-разному:
84
"["И Ьк Ьм<Ю "10*01 и HQX ЬжС£Л. В первом случае повествователь изоб-
•τν τν— — τ τ ; * ^
ражает публичное слово Саула, причем оно воспринято с точки зрения
Давида как прямого адресата (другими словами, wayyiqtöl помещает
собеседников в общее для них и повествователя смысловое пространство):
И Саул сказал (HQiOI) Давиду: «Ты знаешь мою старшую дочь Мерав.
Я отдам тебе ее в жены, лишь будь у меня мужественным воином и
сражайся в войнах Ягве» (ст. 17а)23.
Следующий за этими словами woS qätal изображает недоступную
Давиду мысль Саула. Чтобы показать читателю эту приватную и
потаенную сторону замыслов Саула, повествователю нужно вновь принять
точку зрения всеведения:
А Саул думал (1QK blXETl): «Пусть он погибнет не от моей руки, а от
руки филистимлян» (ст. 176).
В ст. 21 вновь говорится о коварных планах Саула против Давида.
Но цепочка форм wayyiqtöl не нарушается (bwttf ΊΕίόΤ) — ведь здесь
мы с самого начала видим Саула изнутри, а не извне: с точки зрения
повествователя, а не с точки зрения Давида.
В ст. 25 Саул опять показан сначала извне, а потом изнутри.
Публичное слово Саула обращено на сей раз к приближенным, их наивную
точку зрения и принимает повествователь, чтобы затем разоблачить скрытые
от окружающих намерения Саула. Как ив 176, появляется woS qätal:
И Саул сказал: «Вот что передайте Давиду. Царю угодно лишь такое вено
сто обрезаний филистимлян, чтобы отомстить врагам царя». А Саул
рассчитывал (ЗфП blKEh) погубить Давида рукой филистимлян.
Наконец, рассмотрим самое изящное использование приема
контраста точек зрения в нашем тексте, ст. 19. Буквально этот стих следовало бы
перевести так: И когда пришло время отдать (ΠΓΙ ЛУЗ VP1) дочь Саула
Мерав Давиду — она была отдана (ПЗЛЗ ΝΤΓ1) в жены Адриэлю из Мехолы.
г * ■
После временного оборота ЛЛ ЛУЗ ">ГР1 мы ожидаем обычного про-
должения цепочки wayyiqtöl, однако получаем форму woS qätal. На уровне
сюжета этому соответствует неожиданный поворот событий,
обманывающий читательские ожидания. Наивная точка зрения, согласно которой
Саул и впрямь хочет отдать Давиду Мерав, оказывается опровергнутой. Но
чья же это точка зрения? Давида? Царедворцев? Может быть, Мерав? Или
даже самого Саула, которого обуревают противоречивые чувства и
который, возможно, не вполне отдает себе отчет в том, чего же именно хочет
добиться? А может быть, наивная точка зрения просто принадлежит здесь
«проницательному читателю», которого повествователь ведет (по
выражению М. Штернберга) «от правды к полной правде».
5.5. Изображение напрасной суеты, беспорядочных действий «вслепую
»
Вот какой литературно-синтаксический прием мы обнаружили в ряде
текстов: несколько начинающихся на waS qätal цепочек следуют друг за
другом, причем каждая следующая оказывается противопоставленной
предыдущей. Схематически это можно изобразить так:
85
wayyiqtöl· wayyiqtöl· wayyiqtöl,..
wqS qätal-wayyiqtöl-wayyiqtöl-wayyiqtöl...
woS qätal·wayyiqtöl·wayyiqtöl·wayyiqtöl...
waS qätal·wayyiqtöl· wayyiqtöl·wayyiqtöl..
* * 4 *
СГГшЬэ WöEPl 57333 1Щ D^nübQ 3^3 Щ "[ПЭУ» ψ_ι
а^лсоЬэз Ь^~1й7~· декзгит сглйЬеэ з^глк Sike? пэп!пЬкЬ>
4***1 1 « * * * ъ й ■ * * *J^4 * Φ * · * γ #* ■ * » ■ 4 J * ■ й *
3'lb' Ь*ГГЛЭЕГЬ57 '1Щ Ь1ПЗ) DS71 D^tpHD ЕРвЬк ЛИ?КП
оуп Ё7а: ^э b~-\u' ό WV bx"i& гёчп
гггМэзч а^гтп^зт очтЬозК Q^rnnsi nvross/ayrf жэплЧ
ЧУ^Г! IS 7ПК "Π-ΡΠ^ΓΙΚ НзЪ D"h3S71
A4·» * »4 ^№ f + * « ц I · · * н —^ ■ » * ^ » * * #
ΓΊ ■ * * ■ | «- * | * ψ * I * #
Однажды Ионатан разгромил форпост филистимлян в Геве, и
филистимляне услышали [об этом]. А Саул затрубил в рог по всей стране: «пусть,
мол, услышат евреи». А все израильтяне услышали [и догадались]: «Саул
разгромил форпост филистимлян, Израиль теперь ненавистен
филистимлянам!» — и собралось войско по призыву Саула в Гилгал. А
филистимляне собрались на войну с Израилем — тридцать тысяч колесниц, семь
тысяч всадников, а пеших воинов столько, сколько песку на берегу моря — и
пришли, и стали лагерем в Михмасе к востоку от Бет-Эвена. А
израильтяне увидели, что дело плохо и что они в опасности, и стало прятаться
войско в пещерах, в кустах, между скал, в ущельях и в ямах. А евреи
переправились через Иордан в области Гад и Гилад. (1 Сам 13:3-7а).
Эпизод начинается двумя формами wayyiqtöl обычной
повествовательной цепочки: «Ионатан разгромил ... филистимляне услышали».
Далее идут пять цепочек, вводимых формой wqS qätal.
Вот они:
1) Ст.ЗЬ УрП biKKh «а Саул затрубил...» с продолжением в прямой
речи.
2) Ст.4 457DE? ЬкПЁ7п""Ьэ') «а весь Израиль услышал...» с
продолжением в прямой речи +' bWK? *НПК и!7П ^рУЗР] «и собралось войско
по призыву Саула».
3) }ЭГР1 чЬУ'И ... ЧВО&Э DTHtfbsfi «а филистимляне собрались ...
* * * ■ · # ·
и они пришли, и они стали лагерем».
4) 017П ЧКЭПЛ^ ... ΊΚΊ bipfcP КР*0, «а израильтяне увидели ...
и войско попряталось».
5) ]^П*ГГГ1Х Т*ПУ D^nDl?*) «а евреи пересекли Иордан...» (в данном
случае цепочка состоит лишь из одного предложения).
Появление wqS qätal в каждом из пяти случаев можно объяснить, как
и в разобранных в разделе 5.4 примерах, противопоставлением
суженного кругозора персонажа и авторского всевидения и всеведения.
Действительно, события в этом эпизоде стремительно разворачиваются од-
86
новременно на нескольких сценах, и никто из участников не может
окинуть взглядом все происходящее. Все персонажи (филистимляне,
Саул, израильское ополчение, загадочные D^HDI? «евреи» (по всей
видимости, не тождественные в этом тексте «израильтянам») действуют
несогласованно и исходя из частичной информации друг о друге.
Одному лишь повествователю, с его поднятого высоко над всеми
участниками событий наблюдательного пункта, видна общая картина, ведом и
роковой результат их разнонаправленного движения: в ст. 8-14 Саул,
видя панику в своем войске, самовольно принесет жертвы, не
дожидаясь Самуила, за что будет лишен царской харизмы. Напряженность
контраста между точками зрения всевидящего повествователя и
«слепых» персонажей, случайностью и несвязностью отдельных событий —
и роковым значением их совокупного результата невольно заставляет
вспомнить Толстого. Но проведена эта идея, конечно же, совсем
иными, чем у Толстого, средствами: на миниатюрном пространстве текста,
без прямых авторских комментариев, с помощью одного лишь
соположения цепочек, начинающихся формой woS qätaP4.
Итак, на основе приема противопоставления точки зрения автора и
героя, рассмотренного в разделе 5.4, создается, по нашему
предположению, другой прием — прием изображения суматохи, стремительных и
несогласованных действий героев, не понимающих подлинного
смысла событий25. Как видно из этого и следующих примеров, здесь wsS qätal
указывает на то, что кругозор персонажа ограничен в пространственно-
временном или смысловом отношении.
Перед нами рассказ о прибытии телеги с ковчегом завета в Бет-Шемеш:
^branvps ЪеНгг ni'to'b« " пкз π barm
rrnm1? пЬ'у Ъуп ninsrrnxi пЬэугт ^зигпк wpiiii
т ihn—Гв?« тапкп-л«1 mrn рнк_лк rp-ιίπ unfern
:mmb Kinn d^2 ατατ тгэрч nib'y^byn übE?Ln43 *»в;эк1
Взглянув, они [жители Бет-Шемеша]увидели ковчег и обрадовались. А
телега пришла на поле Иегошуа из Бет-Шемеша и остановилась там
(а там был большой камень), и они раскололи телегу на дрова, а коров
принесли в жертву Ягве. А левиты сняли ковчег Ягве и ларец, который
был при нем и в котором находились золотые вещи, и поставили его на
тот большой камень. А жители Бет-Шемеша принесли в тот день
всесожжения и жертвы Ягве. А пять филистимских князей
посмотрели и вернулись в Экрон в тот же день (1 Сам 6:136-16).
В этом примере, в отличие от предыдущего, все герои находятся на
одной сцене и, конечно же, осведомлены о действиях друг друга. В
самом деле, жители Бет-Шемеша не только знают, куда приехала телега с
87
ковчегом, но и сами сопровождают ее. Они и левиты сообща совершают
жертвоприношение, здесь же присутствуют и филистимские князья.
Ради чего же автор разбивает эпизод встречи ковчега на четыре по-
вествовательные цепочки, вводимые формой wqS qätaP. Вероятно, через
изображение ограниченных кругозоров персонажей он хочет показать
неадекватность их действий подлинному (теофаническому) смыслу
явления ковчега. Их радость близорука — дает понять нам автор —
никто из них и не подозревает, какая страшная опасность уже нависла над
ними, о ее причине знает один лишь всеведущий рассказчик: «И он [т.е.
Ягве] поразил жителей Бет-Шемеша, потому что они увидели ковчег
Ягве, и он поразил пятьдесят тысяч семьдесят человек из них» (6:19).
В обоих приведенных выше примерах подчеркивается разрыв между
божественным замыслом и его человеческим восприятием. Персонажи
действуют «вслепую», не замечая «объективного» хода событий,
предопределенного божественным замыслом. Мы могли бы сформулировать это,
немного играя терминами, следующим образом: здесь изображено
качественное различие между всеохватывающим кругозором божества (с
которым совпадает кругозор рассказчика) и частичными кругозорами других
персонажей. Одновременно (по крайней мере, в первом примере)
выражается и взаимная изоляция представленных в эпизоде частных точек зрения.
Посмотрим теперь, как используется тот же прием в менее
«теологически насыщенном» тексте. Здесь, в виде исключения, мы позволим
себе выйти за рамки очерченного в начале работы круга изучаемых
текстов (Быт — 2 Цар) и заглянем в одну из поздних книг — книгу Эсфирь.
Артаксеркс спрашивает у Эсфири, кто замыслил истребить ее народ.
Далее разыгрывается такая сцена:
ГТТП УНП |0П З^К1 Ί2 ЕРК ППОК'ПОКГП
т :пэЪат ^Ьрп "»рр^р "луза "|dph
]грэп лзгЬкх|^_п плйрр члЬпз d£: η^ΏΓΠ
пэЬъг\ плохо ittfprSi* арзЪ nhv 'jprn
:^?рп лхр П57пп:Ък пл^Ь^р nkV^
V*n ПЛСЯТЭТЭ ГРЗ-Ук 1Л^ЗП ЛЭзЪ ЗЕ7 η$ΒΓΠ
грээ ^аих пэЪагглк кИзЬЬ Ъ'ап "пЪвп -юкЧ
•ах ~~ ■ * τ : "- -~ ν : ■ : Ι ν ν — ν —
Отвечала Эсфирь: «Некий враг и неприятель [замыслил это]. Вот
этот злой Аман!» А Амана охватил ужас перед царем и царицей. А царь
в гневе встал из-за пиршественного стола и отправился в дворцовый
сад. А Аман стал умолять царицу Эсфирь пощадить его, ведь он понял,
что царь уготовал ему недоброе. А царь вернулся из дворцового сада в
пиршественную залу, когда Аман лежал, припав к ложу, где была
Эсфирь, и сказал царь: «Уж не собираешься ли ты насиловать царицу
прямо в моем доме и у меня на глазах!» (Эсф 7:6-8а).
Первое, что бросается в глаза при чтении этого отрывка, — это, по
удачному выражению М. Г. Селезнева26, «пропасть непонимания»,
которая разделяет на протяжении всего эпизода двух главных героев,
Артаксеркса и Амана. Каждый из героев следует своей логике, не понимая
или не умея учесть логику поведения партнера. Это и приводит к забав-
88
ному недоразумению в конце: Артаксеркс принимает беспомощное
«припадание» Амана к ложу царицы за попытку ее изнасилования.
На наш взгляд, здесь перед нами еще один вариант использования
все того же приема. Действия героев, чей ограниченный кругозор не
позволяет им понять, что на самом деле происходит, показаны глазами
всеведущего повествователя.
«В порядке бреда» хочется обратить внимание читателя еще вот на что.
И в разбираемом эпизоде из книги Эсфирь, и в 1 Сам 13 дело кончается
тем, что находившийся «в фаворе» герой попадает в немилость: Аман
лишается любви Артаксеркса, как Саул — любви Ягве. Случайна ли эта
перекличка? Автор книги Эсфирь, вероятно, был знаком с текстом девтеро-
номистической истории. Быть может, он намеренно создал сниженно-ко-
мическую вариацию на разработанную в прозе классического периода
тему «избранного и отвергнутого»? Если это и в самом деле так, то юмор
повести об Эсфири и Амане оказывается несколько более тонким, чем
обычно принято думать: читателя приглашают посмеяться не просто над тем.
что вчерашний всевластный визирь теперь болтается на виселице, но и над
шутливым сопоставлением Амана — с Саулом, Артаксеркса — с Ягве.
В заключение приведем пример на тот же синтаксический прием,
где одна из форм wqS qätal допускает и другое объяснение:
ГрЬтЭ ОРТ ГТЗЭПВП bUD *ПО"»0 Tl^
* » *
а*пап nttnn is? π:πώπ "ηπ^η ЗЭПП "ППХ ηΊΊ рпзч
w * *
W Ч Щ WW -W 4Ψ W - ■ ■ щ -т
Сысера сошел с колесницы и бросился бежать пеший. А Барак
преследовал колесницы и войско неприятеля до Харошет-Гоима, и было пере-
бито все Сисерино войско — никого в живых не осталось. А Сысера,
спешившись, убежал в шатер Яэли, жены Хевера-кенита... (Суд 4:156-17а).
Форму гуТП рНЭЧ можно было бы объяснить, исходя из пары:
■ΎΤΊ ΡΊ3Τ — DPI ... Κ"10"Ό "ΤΤΊ (т. е. можно видеть здесь конструк-
| - -г I тт тт- τ ; х л
цию wayyiqtöl N1 — wqN2 qatal, употребленную в соответствии с речевым
этикетом: персонажи направляются в разные стороны из одного пункта).
Но, сопоставив *"ρπ рТЭЧ со второй формой waS qatal в соседнем стихе
(03 KHp-Ol), хочется и в этом примере распознать прием изображения ге-
<j *-*
<j
роев, чей ограниченный кругозор не позволяет им увидеть подлинный
смысл событий. Действительно, оба героя в этом отрывке оказываются
сбиты с толку. Барак, думая, что гонится за Сисерой, теряет его из виду
(тем самым он — конечно, сам того не ведая — уступает честь победы над
Сисерой женщине, во исполнение пророчества Деборы). Сисера, думая,
что он прячется под кров верного друга, спешит навстречу верной гибели.
6. Приглашение в повествование
(конструкция с ΓΤ3ΠΊ)
ПЗГП в повествовательной цепочке вводит предложения, в которых рас-
u^» *-»
сказчик «приглашает» читателя войти в повествуемый мир и увидеть
4J
ситуацию глазами одного из персонажей.
Сказуемое в таком предложении, как правило, выражается именем,
89
т.е. форма предикации — wohinne (Ns) Np, где Ns — подлежащее, Np —
именное сказуемое.
ri7rrbi7 D^onmbs? ntiv mm ерхп-Ьх к'з^п
I * τι τ ~~ ■ — ; — — - · . * . . -T ._· x —
Я [Лаван] пришел к этому человеку и видит — стоит он с
верблюдами у источника (Быт 24:306).
еркп ^nbxtzpi пп&э пил nam er к TrassD^
И повстречался ему [Иосифу] человек, который увидел, что тот
бродит по пустыне, и спросил его этот человек... (Быт 37:15).
ίρτΰ im кз*1 чртгэ mr кгкзп my ib mm -iök^i
:г6деэ nsn'sa im nam rm'si4")
Я e/^e сказал ему Ягве: «Положи руку себе на живот», и он положил
руку на живот, и [затем] он отнял ее, и увидел, что рука стала белой
от проказы как снег (Исх 4:6).
Иногда сказуемое в предложении с ПЗГП выражается перфектом
(форма предикации — wohinne (Ns) qätal). По-видимому, однако, это
возможно лишь для ограниченного числа глаголов (кажется, в
основном это глаголы движения: КЗ, X2"J. и т. п.). Перфект в данном случае
выступает в своем исконном значении «статива», отглагольного имени
в предикативной функции27, и отличается от причастия только
оттенком завершенности действия. (Такое же значение qätal имеет, как мы
увидим, и в фоновых предложениях.)
ттгк хзг nam im э^юоэ vm
И когда он убрал руку, [повитуха] увидела, что вышел его брат (Быт
38:29а).
«з bxiQttf nam nh'vn nlbunb 1лЪээ τη
И как только он [Саул] закончил приносить жертву всесожжения, он
увидел, что подошел [или: «подходит»] Самуил, и Саул вышел
навстречу ему поприветствовать его (1 Сам 13:10).
:очю d^ep аЬрзз mn ΏψΛ
тназч bwtf dud mnamiD кз εγκ: пэтТ^Ьк?п dy>3 vpi
\K7X'mbs7 попкт.очпр
Два дня Давид находился в Циклаге. А на третий день Давид узнал, что
из войска Саула пришел [или: «увидел, что ... идет» ] человек в
разорванных одеждах и с головой, посыпанной землей (2 Сам 1:1б-2а).
В обоих последних примерах КЗ можно понять как перфект, либо
как причастие.
егкз nanto nam myrrba тчвэап mn кз^п
'пэюэ "отгЬзч ЪтЪт'Ътйг)
И пришел Давид со своими воинами в город, и обнаружили они, что город
сожжен в огне, а их жены, сыновья и дочери уведены в плен. (1 Сам 30:3).
90
Здесь форма wohinne (Ns) Np выступает в качестве первого члена хи~
астической конструкции противопоставления, т. е. замещает собой
wayyiqtöi (получается wohinnc (Ns) Np — wqN2 qätal вместо wayyiqtöl Ы{
— wpN2 qätal). При этом одно wshinne фактически относится к обоим
предложениям: и сожжение города, и пленение жен и детей показаны
глазами Давида и его дружинников.
Часто перед wohinne стоит глагол чувственного восприятия (обычно
«увидеть»):
¥ * *
И Бог поглядел на все, что он сделал: все было очень хорошо (Быт 1:31а).
Анализ примеров с wohinne, как и анализ примеров с waS qätal,
приводит нас к понятию точки зрения. Можно было бы подумать, что
wohinne vi woS qätal должны появляться всегда вместе, наподобие
открывающих и закрывающих кавычек, с обеих сторон отделяя увиденное с
точки зрения героя от увиденного с точки зрения автора. В ряде случаев
так и происходит:
п^Ьип л1лЬч пла ^эгк пэт кпз-чу пЬч-р]
:ло пггжЪэз ап^ЬЯк mm ^плегп ' ппавтлх ιπρ^ϊ
Ьпополп ЧУ übDD 4ΤΤίΟ
» * * * + ■ 4V4 * * *
* *
■■ ν ν ν ν . ν
Они ждали, пока совсем не измучились, но, видя, что он не отпирает двери
в комнату, взяли ключ и отперли дверь. Глядь — а господин их лежит на
полу мертвый. А пока они медлили, Эхуд убежал... (Суд 3:25-26а).
В 1 Сам 9 рассказывается о помазании Саула на царство. В поисках
потерянных ослиц Саул и его слуга приходят просить совета у пророка
Самуила:
-РХ7П Ч1ЛЗ 0^3 ΠΏΠ Ч^УЧ ^17*1
:п?эзп riV?xn алкчр? «&"» Ьюыо nam
:чЬкЬ *этке? Kin чЬЬ ччк Ьг Sioab" jTfcrnx гба πιπη
]^ÖJJ3 ]пкр ^»"^»'пЬюк чпЪ ЛУЭ
П^ЛюЬе 4'D *ΉΙ7~ΠΧ τΙ7'"Ί01ΠΪν ^УЧКР ^ΏΙΓ^Κ ЧЧЭЬ ^ППОЕП
'рЬк inpu^ ΓΪΚ3 *»Э "ΌΙΤηΚ "τηκή -ό
Пришли они в город. Едва вошли они в пределы города — глядь, Самуил
выходит им навстречу, отправляясь в святилище. А Ягве сообщил Самуилу
за день до прихода Саула: «Завтра в это же время я пришлю к тебе
человека из страны Вениамина, и ты помажешь его в вожди моего народа
Израиля, и он спасет мой народ от филистимлян. Ибо я обратил внимание
на мой народ и мольбы его дошли до меня». (1 Сам 9:14-16).
Ср. также приведенный выше, в разделе 5.4, пример из 2 Цар.
Однако чаще wohinne и wqS qätal появляются в текстах порознь. Дело в
том, что они акцентируют несколько разные стороны того, что мы
довольно обобщенно воспринимаем как точку зрения одного из персонажей.
Когда употребляется форма wqS qätal, подчеркивается ограниченность
кругозора героя, но при этом мы не обязательно участвуем в его восприятии
ситуации. Когда же употребляется wohinne, нас приглашают пережить то,
что переживает герой, а полнота или неполнота его знания о ситуации
91
здесь несущественна. Другими словами, употребляя wahinne, рассказчик
хочет, чтобы читатель «влез в шкуру» одного из персонажей, не покидая
при этом всеобъемлющего кругозора рассказчика.
W
1. Выделение сообщения в повествовательной цепочке
(woqätal)
В речи рассказчика изредка встречаются одиночные формы woqätal
Грамматики обычно пытаются объяснять часть из них как итеративные (по
аналогии с цепочками woqätal, которые в нашей работе интерпретируются как
«рассказ на заднем плане», см. ниже), а часть — как подлежащие эменда-
ции ошибки переписчика28. На наш взгляд, приписывание отдельно
стоящей форме woqätal значения длительности или итеративности (ср. раздел
нашей работы о «рассказе на заднем плане») представляет собой натяжку:
недаром из грамматики в грамматику кочуют одни и те же примеры, а
другие примеры не рассматриваются (Жоуон-Мураока) либо без достаточных
оснований истолковываются как ошибки или — в лучшем случае —
объявляются не поддающимися классификации (грамматика Гезениуса). На
этом этапе рассмотрения материала, то есть при анализе неначальных и
неконечных форм предикации в повествовательной цепочке, мы
рассматриваем только одиночные waqätal, встречающиеся в цепочке wayyiqtöl.
Вместе с грамматикой Гезениуса мы признаёмся в том, что иные случаи
употребления одиночных форм woqatalut вполне поддаются строгому
объяснению (напр., 1 Сам 17:38), а также принимаем (в измененном виде)
некоторые элементы гипотезы Роберта Лонгейкра29. В интересующем нас
разделе своей статьи он аргументирует «the case for weqatal forms as marking
climactic/pivotal events» (цит. соч., c.71). Однако в части его примеров (в
частности, Суд 3:23; 2 Сам 13:18; 1 Цар 20:21; 2 Цар 14:14;18:36) weqatal
оказывается последней формой предикации переднего плана в эпизоде и,
возможно, получает дополнительное значение «финальной» формы (как
будет врздно из дальнейшего, мы считаем, что у маркированных начальных
и конечных форм предикации эпизода значения инициальное™ и фи-
нальности не единственные: они сопутствуют «обычным» грамматическим
значениям маркированной формы).
Лонгейкр прав в том, что форма wsqätal (добавим: как и wqN qätal)
может быть использована для противопоставления формам wayyiqtöl.
Мы предполагаем, что в нашем случае содержательная сторона
противопоставления — не переломный момент в повествовании (так у Лон-
гейкра), а простое выделение сообщения, выраженного формой wsqätal.
Основания или цели выделения могут быть разными и не всегда
ясными для сегодняшнего читателя. Начнем с примера, который мы заранее
объявили проблематичным:
I : - *■ : —
И Саул одел Давида в свои одежды, а на голову ему надел медный шлем,
и надел на него кольчугу (1 Сам 17:38).
92
4
Рассказчик выделяет надевание шлема (как акт, имевший некий
символический смысл? — мы не знаем) в рассказе о том, как Саул
снаряжал Давида на поединок с Голиафом.
Вот еще тексты, где, на наш взгляд, wsqätal наиболее убедительно
объясняется как способ выделить одно сообщение в цепочке wayyiqtöl.
I** * ■» я*** «
Авраам сказал: «Я поклянусь» — но упрекнул Авимелеха за то, что его
люди отняли у него колодец (Быт 21:24-25).
AT * * Р— * * Τ "*■ * TP И ^ Τ ™ ί Τ * ■ —
:ЧУ"1Т 'ГГГР ПЭ 1Ь ΊΏ^Ί
I # 4 * ^» * J ■ 4 * 4 ^"
:np42S ib γπιογρϊ
ι ί * * * *
Я он (Ягве) вывел его (Аврама) наружу, и сказал: «Погляди на небо и
пересчитай звезды. Сможешь ли пересчитать их?» И сказал ему:
«Таким будет твое потомство». А [Аврам] поверил Ягве, и тот вменил ему
это как правоту (Быт 15:5-6).
4й f 1 * * # ^^т * * * ■^^* 4 * PPV
-** ~l· • ■•In * * ■
И жители Ашдода увидели, что дело обстоит так, и сказали... (1 Сам
5: 7а).
•"ЮЕгЬг |К25П~ЛК ЮИ11 пр'зз тп ОЭКР1
■ЧеЬ vWE "1Е?КЭ η^.1 «fell
И Давид встал рано утром, и поручил овец сторожу, и взял [то, что
ему вручил отец], и пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к
лагерю, и в это время войско выходило на линию боевого построения, а они
(израильтяне) издавали боевой крик (1 Сам 17:20).
В этом разделе работы мы сознательно исключаем из рассмотрения
одиночные woqätal, встречающиеся в другом синтаксическом
окружении внутри эпизода. Это делается ради выделения главной линии
нашего рассуждения: в ряде случаев употребления одиночных форм woqätal,
(ср., напр., Быт 34:5, 37:3), где повествовательная цепочка wayyiqtöl
осложнена формами wpN qätal в разных функциях и именными
предложениями, наше объяснение тоже применимо.
8. Конструкция синхронизации
Речь идет о выражении одновременности или быстрого следования двух
действий. В этой конструкции два предложения тесно связываются за
счет того, что первое из них вводится без вава: можно представить себе
дело так, что вав второго предложения обслуживает всю конструкцию,
включая ее в повествовательную цепочку. Первый член конструкции,
лишенный собственного вава и не имеющий другого союза, тем самым
93
тесно привязывается ко второму, опосредованно вводящему его в
повествовательную цепочку. Но и второй член конструкции претерпевает
деформацию из-за этого тесного контакта; первое предложение
занимает по отношению к нему место препозитивного имени, вызывая
инверсию, так что второе предложение получает вид woS qätal. Сказуемое
первого предложения может быть выражено именем (причастием) или
формой qätal. Если допустить вслед за грамматикой Гезениуса (§§ 116и,
164Ь), что в первой части конструкции именное предложение указывает
*-* <j
на пересечение двух действии во времени, а глагольное предложение с
qätal подчеркивает их непосредственное следование, то конструкция
синхронизации имеет две исходные формы: S qotel— waS qätal и S qätal
— wqS qätaP. Приведем несколько примеров.
S qotel — wqS qatal
DSS7 HZHD Wl\v
:χιπ пуп ^э гггжЬ пюк ж^ггто пйз brm
Он еще говорит с ними, и тут пришла Рахиль с овцами своего отца,
так как она (их) пасла (Быт 29:9),
* *
nil f «, 4 * *
£е выводят, и тут она велела передать своему свекру: «Я беременна от
человека, которому принадлежат эти вещи» (Быт 38:25а),
ψ * ^»# ^* ^^ ■ * # ».
Настает утро, и эти люди были отпущены вместе со своими ослами
(Быт 44:3).
Форму -|ii< можно понять как причастие либо как перфект (словарь
BDB толкует ее как перфект), и, стало быть, последний пример можно
отнести к любой из двух исходных форм конструкции синхронизации.
Истолкование формы как причастия или перфекта зависит от того,
понимаем ли мы изображаемые конструкцией синхронизации действия
скорее как совпадающие во времени или скорее как последовательные.
Ср. 1 Сам 20:366, 41а, где возникает такая же неопределенность
относительно форм ]*Л иХЗи где контекст предполагает скорее
последовательность действий. Ср. также Быт 19:23, приводимый ниже.
D^D ЗтЬ Л1К^ ΙΥΠΧ73 W2SD ΠΒΓΠ "ΡΙ7Π ΓΟΐ7Ώ3 D">bS7 Π73Π
•αχ : " : τ : τ τ ·· : · τ **—:—: · τ ·*
Они поднимаются по склону холма к городу, и тут они встретили
девушек, вышедших набрать воды (1 Сам 9:11а).
^ККгЬх HDK biOQKh П^УП ПГ2РЭ ΟΉΤΡ ПЪП
• 1 4 ■ ■ # ^Г · *
Они спускаются к краю города, и тут Самуил сказал Саулу (1 Сам
9:2 7а а).
В 1 Сам 9:11а обращает на себя внимание редкое (и кажущееся
избыточным) употребление местоимения с формой qätal IK^D ПВП1. Этот
и w
пример подтверждает наше понимание устройства синхронизирующей
94
конструкции: видимо, местоимение заполняет здесь обязательную
позицию имени, так как wayyimsQ'u или umäso'ü невозможны или не дают
нужного смысла.
S qätal — wqS qätal
Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар (Быт 19:23).
1П^З_Ьи 1ШЬ ΊΏΚ nDi^l ... -Р57ГГЛК WS"» ün
Оаш вышли из города ..., и тут Иосиф сказал своему дворецкому...
(Быт 44:4аа).
• #- * ■ ' ■ * I I*«* ■ ^^ ■
0/ш пришли в местность Цуф, и Саул сказал своему слуге... (1 Сам 9:5а).
Таков исходный или простейший вид конструкции синхронизации.
Теперь мы рассмотрим ее усложненные разновидности, которые
можно представить как преобразования ее исходной формы.
S qotel — wshinne S qotel
:позп nibub on*npb Κ2δ'·> Ътпю nam тип тлз о^кэ поп
Входят они в город, и тут же, глядь, Самуил выходит им навстречу,
отправляясь в святилище (1 Сам 9:146).
Как мы знаем, конструкции с v/эЫппё в речи рассказчика
позволяют читателю увидеть ситуацию глазами персонажа, не покидая при
этом всеобъемлющего кругозора рассказчика. Так, в нашем примере
Саул со слугой натыкаются на разыскиваемого ими Самуила, и wohinne
передает их восприятие, в то время как само имя «Самуил» дано с
точки зрения рассказчика: Саул ведь видит Самуила впервые и,
естественно, не может узнать его.
wqS qätal — wqS qätal
тгэг nvrn Ьжкглх ηκη Ьыът
И когда Самуил увидел Саула, то Ягве сказал ему...(1 Сам 9:17а).
■так ■нгш ■»врз«! nxv is^i
πώχ nxnrnü'ws nam ггкз tfriefrh
^^ ^™ ^™ ^* ^^ ^p * * * *·» ^^ ■ * * * «^ *
Я /7ααβ с Авишаем преследовали Авнера, и, когда солнце зашло, они
пришли к холму Амма...(2 Сам 2:24).
niby:) mbun ninbn nam жтп адз тнз$л К2Г «im.
А как только он (Эгуд) вышел, пришли его (Эглона) слуги и увидели, что
двери верхней комнаты заперты (Суд 3:24а).
Как видно из примеров, в этом варианте конструкции синхронизации
выражается последовательность (почти что с временным перехлестом,
ради этого и существует вся конструкция) двух действий. Можно предпо-
■ι
ложить, что начальный вав появился здесь в результате уподобления
первого члена конструкции обычным предложениям повествовательной
цепочки: формальная специфика конструкции оказалась отчасти утрачен-
95
ной, но все же здесь первый wqS qatal нельзя спутать с формами wqS qatal
в значении со- и противопоставления, которые рассмотрены в разделе 5.
wqS qotel — v/Qhinne S qotel
nbiu o^aan егк nam ddu ίβπώ *om
И он (еще) говорит с ними, и в этот момент появляется единоборец (1
Сам 17:23а).
Здесь тоже (ср. с 1 Сам 9:14 выше) начальный вав встраивает первое
предложение в повествовательную цепочку, так что мы получаем
дважды осложненный вид нашей конструкции синхронизации.
wayhi NsNp- waS qätal
Ьхпёрэ nonSsb ittfna a^ntibsi гЪчяп гбюо Ьнюю *»m
# /согдя Самуил приносил жертву всесожжения, филистимляне
приблизились для сражения с Израилем (1 Сам 7:10а).
ПТО ~\ПП ПХЪ Т>Й7Э«1 ПП Π-TD ΊΠΠ П120 ЫНШ "пЬ^
л\* · -гт — · τ τ-: -Ч · тт : ν* τ г ( - · τ f ν
ЪЖК7 "^Эр ГО?? Τ2Π3 ITT ^ГТП
τ : τ : χ χ-: · τ . у ; ■ ; . , τ τ-: - t χ ;
Я Саул подходил с одной стороны горы, и Давид и его воины
[находятся] по другую сторону горы. И Давид пытался ускользнуть (букв, «то-
ропился уйти») от Саула, и Саул и его воины окружают Давида и его
воинов, чтобы схватить их. И тут к Саулу пришел вестник со
словами: «Скорее возвращайся: на (нашу) землю напали филистимляне!» (1
Сам 23:26-27:).
Здесь первый член конструкции удвоен, получаем wayMNS] NP1 wsNs2
Np2— wqS qätal
И когда они были в пути, до Давида дошел слух (2 Сам 13:30).
В этом варианте конструкции отношение двух ее частей
дополнительно выявлено за счет плеонастического wayhl. В самом деле,
сопоставление с приведенными выше примерами (ср. 1 Сам 9:27)
показывает, что в 1 Сам 7:10 смысл синхронизирующего сопоставления двух
действий вполне выражался бы и без wayhi:
Ь*псггз попЬрэЬ wh οτιε^βί nbiun nbun hwnw
Α" τ : · : τ τ : * -* ; * ■ : · : τ τ ν —: ~"
Однако и придаточным временным первый член конструкции здесь
«еще» не стал: для этого после wayhiне хватает подчинительного союза
kdäsei, который к тому же употребляется с перфектом, а не с причастием.
Среди производных форм конструкции синхронизации
встречаются и другие сочетания уже известных нам элементов, причем смысл
целого ясно выводится из семантики составляющих: wayhi S qätal —
wdhinne S qätal (Быт 15:17) — действия последовательны, присутствует
восприятие персонажа; wayhi S qotel — wohinne Ν (2 Цар 2:11) —
действия пересекаются, присутствует восприятие персонажа. Дальнейшие
96
вариации сочетаний тех же элементов дают Быт 27:30; 15:12. Наконец,
однажды встречается конструкция вида woS terem yiqtöl — waS qätal:
4
]\ЗЭЕ?7 DID ПЭГП
:aan~bs7 απ^ύ ппЪЪ kVn
1 4 * * * I *
0/ш ew^e we легли, а она поднялась к ним на крышу (Ис Нав 2:8).
Этот вид конструкции выражает пересечение действий, из чего
следует заключить, что terem yiqtol функционирует здесь как имя, то есть ведет
себя как причастие. Как видно из следующей, девятой главы нашей
работы, форма wqS terem yiqtol встречается и на заднем плане, но в Ис Нав 2:8
характерный порядок слов wdS qätal во втором предложении указывает на
то, что здесь мы имеем дело скорее все же с «девиантнои» разновидностью
конструкции синхронизации на переднем плане рассказа, а не с фоном.
9. Фон
Мы исходим из того, что внутри речи рассказчика фоновые
предложения противостоят описанным выше типам глагольных предложений
как «нерассказ» — рассказу. «Нерассказ» (фон, задний план) — это
высказывания, в которых не происходит поступательное движение
рассказываемой истории. Внутри эпизода фон выполняет разные функции:
сообщает нужные для предстоящего повествования сведения о герое;
позволяет читателю обозреть ту сцену, на которой будут
разворачиваться события; тем самым расчленяет эпизод и создает эффект ретардации
и течения повествовательного времени. В конкретном случае эти
функции представлены в различных сочетаниях.
Формы предикации в фоновых предложениях: чаще всего — w^NsNp
(где Ns — подлежащее, a Np — именное сказуемое); реже — woS qätal,
однажды — wqS terem yiqtöl. Сначала мы рассмотрим
функционирование фоновых предложений на примере форм woNsNp, а затем обсудим
те немногочисленные случаи, в которых к фону относятся предложения
с личными формами глагола.
Более или менее развернутые описания сцены и героев
помещаются обычно в начале эпизодов, глав и целых историй, образуя их
экспозицию (об экспозиции в узком смысле слова см. в разделе 12, где
описываются формы предикации в начале эпизода и главы, о
синтаксических явлениях в начале истории см. в разделе 14).
Если же описательное отступление помещается внутри эпизода, то
оно обычно служит для ретардации, предваряя кульминационный
момент повествования или подготавливая резкий поворот сюжета.
:тппх κτή" bnUH ппэ'лувк? πηκη
тсгр*э α·»Χ3 сгэрт плёл" пп"п*Н
■ ι Л ч ι
7 Заказ 257 97
И он сказал: «Я вернусь к тебе в должное время31 ы у твоей жены
Сарры будет сын». И Сарра слышит у входа в шатер, и он [говорящий?]
был за ним [входом?]32. И Авраам с Сарой стары: им много лет; у Сары
прекратилось то, что обыкновенно бывает у женщин (Быт 18:10-11).
Фоновое описание здесь вклинивается в рассказ в момент
наибольшего напряжения, между неожиданным обещанием Бога — будто у
столетнего старика родится сын — и, быть может, еще более неожиданным
появлением Сары в качестве участника беседы Бога и Авраама.
К таким фоновым описаниям относятся и конструкции wqN 'ел/
'ayin (и ср. в разделе 4 о конструкции переднего плана wo'en Ν).
P **»* * ■ % ш ^^ * fr
И его охватил дух Ягве, и он [Самсон] разорвал его [молодого льва] как
будто это был козленок, и никакого оружия не было у него в руке, и он
не рассказал отцу и матери о том, что сделал (Суд 14:6).
* 4» * t I * # * ) ■ * * I ■ I 4 № *
:тп~-рэ "рк знт
// Давид одолел филистимлянина пращой и камнем, и он поразил
филистимлянина, и он умертвил его, и меча не было в руке у Давида. И
побежал Давид, и стал подле филистимлянина... (1 Сам 17:50-51а).
также Суд 18:7,28: в каждом
Φ
-fcin T^S? Л'эЬ'П ГРГПуЗЧ -Ikirrbü γη-b ГйПЕТЛЗ -nrn
:ππρηι πηηίτηκ "nbtfrri η^οπ *?т1лэ тлгглк хпгп
■*lp i ■ * ■ _ * ι ι. τ · ■
Я до*/ь фараона спустилась к Нилу искупаться, и вот ее фрейлины
идут по берегу Нила, и увидела она корзинку в тростнике, и послала
она служанку, и та взяла ее (Исх 2:5).
Фоновое предложение готовит поворотный момент сюжета —
спасение Моисея.
■>κί 3iüi D4T nsj^os? ^iQix xm ηπ*θ3·η r6tö*n
* *
* 4
:ittn прэ чппюо Dip mm ίο»*]
n^'uDi ктгп üfcno 'mV*?'«' mn^nn nbsrii
* # ί ■ ■ φ ι H *
Я ow [Иессей] послал [за Давидом], и привел его, а тот был
рыжеволосый, с красивыми глазами и хорош собой. И сказал Ягве: «Помажь его,
это он». И взял Самуил рог с оливковым маслом, и помазал его на виду
у всей его семьи, и охватил Давида дух Ягве, (пребывая с ним) начиная
с того дня и впредь (1 Сам 16:12-13).
После того, как Иессей провел перед Самуилом семерых старших
сыновей, и все они оказались неподходящими кандидатами на
получение царской харизмы, читатель с особым напряжением ждет, что же
98
будет с самым младшим, с Давидом, тем более что с виду тот совсем не
мужествен. Чуть позже те же черты внешности Давида введут в
заблуждение Голиафа:
:пкпо пактах? ^biici лиз: п^гпэ
И филистимлянин взглянул и увидел Давида, и отнесся к нему с
презрением, ибо тот был красивым рыжеволосым мальчиком. (! Сам 17:42)
Фоновые предложения, описывающие внешность подростка
Давида, выполняют функцию ретардации, создают «драматическую паузу»33
перед кульминацией эпизода.
Иногда чисто композиционные задачи вынуждают повествователя
переносить в фон сообщение, которое по смыслу продвигает сюжет
повествования и которое мы ожидали бы видеть на переднем плане.
"РОЭ Т>2Г">Э 1СС7Х7"ЛК рП2Г ΠΠΪΟΊ
:зр57*»-л«' лзпк ПрЗП"!
Я Исаак любил Исава, потому что ему нравилась дичь [которую тот
приносил ему], а Ревекка любит Иакова (Быт 25:28).
Этот пример интересен тем, что в нем соединены две конструкции.
Фоновое предложение хиастически соотнесено с предшествующим
wayyiqtöl, так что у читателя возникает ассоциация с конструкцией
wayyiqtöl Nj — wqN2 qätal. А что было бы, если бы во втором
предложении в самом деле стоял перфект ПЗПХ? Мы получили бы
«противопоставление судеб героев» (см. раздел 5.1), по смыслу не вполне уместное
в нашем контексте — ведь не пути Ревекки и Исаака, а пути их детей
разойдутся в этом рассказе. Мы предполагаем, что именно по этой
причине автор не употребил конструкцию wayyiqtöl Nj — woN2 qätal, лишь
«намекнув» на нее.
И вскарабкался Ионатан, цепляясь руками и ногами, и его оруженосец
за ним, и они [филистимляне] падали перед Ионатаном, а оруженосец
добивал их, следуя за ним (1 Сам 14:13).
Умерщвление филистимлян оруженосцем Ионатана — по сути, одно
из событий рассказа, и ничто не мешало рассказчику ввести сообщение
об этом в повествовательную цепочку. Однако автор сознательно
«задвигает» его на задний план. Фоновое предложение
:тппк nnlDQ vbO KB?31
— «драматическая пауза», предваряющая кульминационный момент
эпизода: дерзкая вылазка Ионатана вызывает панику среди
филистимлян, которая в следующем эпизоде приводит к крупной победе Саула
над филистимлянами.
* * .Л. *
// (затем) Самуил проспал до утра, и открыл двери храма Ягве, и
боится Самуил сообщить Эли о видении (1 Сам 3:15).
7* 99
И тут автор был волен написать просто КП^Т, однако предпочел
употребить фоновую форму Х""Р biOOtin34. Возникает эффект
«драматической паузы» перед опасным для Самуила разговором: Самуил
должен сообщить Эли, что он и его дети отвергнуты Ягве, и еще
неизвестно, какова будет реакция престарелого жреца на дерзкую речь юного
прислужника.
ttfDttf грэ тртЬи "птпз ninsn ПЭ*1гё*1
biK'ptin "pp*· Ίίο-кЬ"! i'üai ^Ьп'ЪЪп лпй п$Ьоэ
И коровы пошли прямо по дороге в сторону Бет-Шемеша, по одной
колее: шли они и мычали. И они не свернули ни вправо ни влево. И князья
филистимлян идут за ними до границы Бет-Шемеша. И жители Бет-
Шемеша жнут пшеницу в долине. И они подняли глаза, и они увидели
ковчег, и они обрадовались, что увидели его (1 Сам 6:12-13).
И здесь нарушающие читательские ожидания фоновые формы
(причастия вместо форм wayyiqtöl, обычных при изображении действия
внутри эпизода) создают «драматическую паузу» перед кульминацией
эпизода, изображением встречи жителей Бет-Шемеша с ковчегом.
ban -оггЬи а^пз'и лпо "ibrnn чкэ"пкГк
t ■ ш т ^^ ^^ * + # b *
Μ
* · *
Ί3ΙΠ Т|Ь ■|п*гЪк ТН "1рК'чТ.
ПЛК ПИК ^ИГГЬЭ"! V^-^DI. ■'ЛЗП ""ПК Н'ЗХРД
' о^з'у ayrrbbi bViY bib' afei3 гпкп-^от1
Α" ι τ τ τ * Τ It I * * *Τ* Ττ Τ*
]imp Ьтз лз'у Tjbani
<...>
* ■ *
ob^nn·1 атбкп гп*глк -ιηΌίη ρ*πχ экИ
:0E7 Ί3ΚΡ.1
а^гр-тп nSs7D3 n^y ТГП
ηπ-1 Tjbn wm -пэп "Ъ йхЧУ rofe} r6V
:nb3i r6x7*tösn itöin έτκ fen in>4—\ш'ауггЬЪч
I ■ I + I iVIIIp
И вышел царь, и весь народ (войско?) вслед за ним, и они остановились
у дальнего (последнего?) дома. И все его слуги идут35рядом с ним, а все
критяне, и все плитяне, и все гатяне - шестьсот человек, что пришли
с ним из Гата - проходят перед царем. <... > И Давид сказал Иттаю:
«Иди, ступай дальше», — и Иттай гатянин пошел дальшеу и все его
близкие, и все дети, что были с ним. И вся земля рыдает громким
голосом, и весь народ проходит мимо, и царь пересекает ручей Кидрон, и
весь народ отправляется к дороге в пустыню. <...> И Цадок с Эвиата-
ром вернули ковчег божий в Иерусалим, и сами остались там. Λ Давид
поднимается по склону Масличной горы, поднимается и плачет, и его
100
голова покрыта, и он ступает босыми ногами, и все люди, что были с
ним, покрыли головы, и поднимались [по горе), и плакали, поднимаясь (2
Сам 15:17-18, 22-23, 29-30).
Рассказ об отступлении Давида из Иерусалима с трудом делится на
эпизоды из-за единства действия, сохраняющегося на протяжении
большого пространства текста36; ничто не мешает допустить, что по
крайней мере 2 Сам 15:13-30 составляет один эпизод. И тогда
многочисленные «паузальные» причастные формы, употребленные вместо
ожидаемых форм wayyqtöl, создают в этом исполненном патетики из-
бражении бегства царя чисто стилистический эффект ретардации: ста-
туарность вступает на место динамики.
Для древнееврейской прозы характерен прием, который мы бы
назвали «заметкой на будущее». Суть в том, что краткое замечание о
ситуации, оформленное как фоновое предложение, часто кажется на
первый взгляд несущественной подробностью, неизвестно по какой
причине отмеченной повествователем. Лишь спустя некоторое время эта
информация «срабатывает»:
з^зпэп зет ткзз mrp-гтпэ γηχ rix ηψή wepi
:от^:чвп"Ът|Ькп: л^пз ]ϊΐ*ταΐ7 ^bir^zf "ottf rieh
И народ послал в Шило, и оттуда забрали ковчег завета Ягве Воинств,
сидящего на херувимах, а там — при ковчеге завета Бога — были два
сына Эли, Хофни и Пинхас (1 Сам 4:4).
В фоновом предложении автор предварительно указывает на
присутствие сыновей Эли, чтобы затем, в конце эпизода (4:116), сообщить
об их гибели:
orrrai ->звп чло •Ъхгчз чел
* 4 * mm
И два сына Эли умерли, Хофни и Пинхас.
Следующий пример взят из рассказа о том, как Давид, бежав от
Саула, останавливается в культовом центре Ноб и просит помощи у
жреца Ахимелеха, скрывая, однако, от него свой разрыв с Саулом. Между
сообщениями о том, что жрец дал Давиду священный хлеб и вооружил
его трофейным мечом Голиафа, рассказчик вставляет развернутое
высказывание на заднем плане:
mm ^Dsb Ί^υ: юпп зг>з Ыт "нзуо вгк зкл
■ * ф ^щт * #■ * ^*ш ^^ ^W* * ш * *^» * ч » ^^ *
■ * ■ ^^ *
// /иол* β тот день был человек из числа приближенных Саула,
остановленный37 (?) перед Ягве, и звали его Доэг эдомитянин: он был старшим
среди пастухов Саула ( 1 Сам 21:8).
Внутри эпизода эти сведения не используются, но в 1 Сам 22:9-10
понятный для читателя рассказ Доэга — соглядатая встречи Давида с Ахиме-
лехом — развивает сюжет, а в 22:22. после рассказа о погроме в Нобе, Да-
101
Ахимеле
знал о присутствии
для
дотвращения опасности от Ахимелеха. Чтобы загладить вину, Давид тут же
берет на себя особые обязательства по отношению к Эвиатару — видимо
единственному из жрецов, пережившему бойню в Нобе.
Φ
форм
"jp-оз луза babarr]p bun Ъыт Dp*i
:кгх лпкр юЪэ iQi7 Ь^кзрэп оигглк Ъъш' iph^i
1Q">33 17323 b"»nE7s 01317 КЗМЭП ЪгГтГ 133 7Π3Υη "этквК
Ιλ* τ : * — ν : * : τ ■ -г : · - -г, -г : : 1 τ τ : * τ :
Τ «44 ^ * # * *
Я Самуил встал и ушел из Гилгала в Гиват-Вениамин, и Самуил
пересчитал народ, находившийся с ним, — около шестисот человек. И вот
Саул со своим сыном Ионатаном и с народом, находящимся с ними,
стоят в Геве Вениаминовой, а филистимляне расположились лагерем в
Михмасе (1 Сам 13:15-16).
п-тп liDnn Ър πώ пш^ npi?*sn bip-лх 'Ьгз udkpt
а*/" Ι Tv Ι ν ν — ϊ |τ ϊτ : — Ι . ν ■ ** . — : * —
t"1?»? ia*i кэ*1 ππώ ερκγπ
пав? тЬЁл а^гюггр ^iH
:rrt*nb Stp Ю! nop' vrsn
* # » * « ft γ ft # ■*
Я Злы услышал крики, и спросил: «Что значит этот шум?» А тот
человек подбежал в спешке и (все) сообщил Эли. А Эли было девяносто
восемь лет, и его глаза ослепли, и он не мог видеть. И этот человек
сказал Эли... (1 Сам 4:14-16а).
В отличие от фоновых предложений с именным сказуемым,
фоновый wdS qätal описывает состояние как результат какого-то действия
(«глаза ослепли» — и теперь, на момент описываемых событий, они
слепы; в том же смысле: «а филистимляне расположились лагерем»
K7DDQ3 Ί3Π DTHtfbaVB параллель к именному предложению с прича-
+ f ' * *
стием). Употребление перфекта в фоне (как и в предложениях с
wohinne) — по-видимому, остаток более древней грамматической
системы, в которой qätal был отглагольным именем. Впрочем, по нашим
наблюдениям, фоновый woS qätal редко употребляется самостоятельно,
обычно он ставится (как и в двух приведенных сейчас примерах)
после одного или нескольких «нормальных» для фона именных
предложений — эти именные предложения словно бы помогают «опознать» woS
qätal в качестве фонового, не спутать его с куда более частотным woS
qätal переднего плана (выражающим всякого рода противопоставления
в повествовательной цепочке, см. раздел 5).
Однако мы можем привести пример на фоновые waS qätal, не
предваряемые именными предложениями. В 1 Сам 25:1а, между эпизодом,
где Давид щадит жизнь Саула в Эн-Геди, и главой о том, как Авигай-
иль стала женой Давида (25:lb - 26:42), появляется сообщение о
смерти Самуила, обладающее статусом отдельного эпизода:
102
ΠΏΠ3 1ГРЭЭ ТПЭр"П ^Ь-Ч1ЭОяП Ь^Ю^Ь? 132рч1 ЬКТО5£7 П0Ч1
// Самуил умер, и весь Израиль собрался, и они оплакали его, и они
похоронили его у него на родине, в Раме (1 Сам 25:1а).
В 1 Сам 28 то же сообщение появляется в функции анафоры к 25:1,
образующей фон для эпизода «встреча Саула с некроманткой в Эн-Доре».
imi?:n полз vnap*·! ЬкпюуЬэ ib-nsp^i γ\ώ Ьктоил
a^h&mrrnio ninWn mön Swtih
4 #
А Самуил умер, и весь Израиль оплакал его, и его похоронили в Раме, то
есть в его городе, А Саул изгнал из страны некромантов и
предсказателей (1 Сам 28:3), *
Знание о смерти Самуила и о том, что Саул изгнал некромантов,
относится к пресуппозициям следующего далее рассказа о беседе Саула с
выведенным некроманткой из обители мертвых Самуилом. В тексте
эпизода эти пресупппозиции, естественно, образуют его фон. Для введения
фоновых высказываний здесь дважды употребляется waS qätal. Интересно, что
в фон попадает и следующая за вторым woS qätal цепочка wayyiqtöl:
В древнееврейском повествовании на заднем плане могла
употребляться также форма wa§ terem yiqtöl. Она описывала состояние
(ситуацию) способом «от противного», через указание на еще не
совершившееся, но долженствующее произойти действие. Единственный в Библии
пример фонового wqS terem yiqtöl внутри эпизода (и ср. разбор 1 Сам 3:1
слл в разделе 12 нашей работы) — 1 Сам 3:6-8а:
х'пр mm ηο'^η
Ъ ГКПр "О "ОЭП nDtfn ^birbx Tib4! biODltf ОрчУЬ*ПОВ7 ΪΪ17
ODE? 2W3 "»33 TIX^p-Kb 'ΐΏ&Λ
ΠΤΡ-ПК ΏΊΊ DIU biODKn
:πτρ'--ι:Η гбк hh^ "ο-ιέη
"«МП "IQtfn ^birbK ф^ DP4*! ГРГоЬюЭ Ъ*ОоЮ~*ПР ГПГР ПрЧ
»v ■ 1 ■ I * ' * * 1 » _ I *
И Ягве снова позвал: «Самуил!». И Самуил встал и пошел к Эли, и
сказал: «Я здесь/ Ты ведь звал меня». И (Эли) ответил: «Я не звал (тебя),
сынок. Ступай ложись». И Самуил еще не знал Ягве и слово Ягве еще
не открылось ему. И Ягве позвал «Самуил!» в третий раз, и он встал
и пошел к Эли, и сказал: «Я здесь!».
Два предложения с terem построены хиастически:
wqS terem yiqtöP* // woterem yiqtöl S.
Хиазм, вероятно, дополнительно выделяет это пояснительное
фоновое высказывание из повествовательной цепочки и сообщает ему
собственную организацию. Как и в Ис Нав 2:8, terem yiqtöl
функционирует здесь как своего рода сложное имя.
103
10. Формы предикации с нулем вава
В нашей работе рассматривается лишь одна форма предикации с нулем
вава — «комментарий»39. Исходный вид комментария — краткое
замечание рассказчика, поясняющее смысл предшествующего предложения
повествовательной цепочки или фона. В простейшем и самом частом
случае это пояснение тавтологично: оно не добавляет сведений, новых
по отношению к тем, что уже присутствовали в предшествующем
высказывании, а просто перифразирует это высказывание.
Можно утверждать, что с точки зрения классификации речевых жанров
комментарий находится между собственно рассказыванием (включающем
повествовательную цепочку и фон) и повествовательной периферией, так
как в прагматическом отношении поясняющий комментарий
приближается к периферийным речевым жанрам в повествовании, специфика
которых — прямая обращенность высказывания к читателю. Иными
словами, речевые жанры повествовательной периферии указывают на
присутствие в тексте адресата как повествовательной инстанции, допущение
которой необходимо для успешного понимания смысла текста40.
Тип сказуемого в комментарии зависит от формы предикации в
предшествующей повествовательной цепочке и от характера
комментария. Поэтому можно классифицировать комментарии исходя из форм
предикации, к которым прикрепляется комментарий.
В текстах представлены следующие случаи.
(1) wayyiqtöl рассказывания — qätal комментария. Комментарий
изображает действие.
0^323 ΏΌ ОП*гЬэЭ ОГЗЗЭ D11K3 DKP1
* * ^р · ** * *^ * 4 ■ * ***** * * ^T ^™
И он поставил в Эдоме гарнизоны: во всем Эдоме поставил гарнизоны.
И все эдомитяне стали рабами Давида, и Ягве давал Давиду победу, за
что бы тот ни брался (2 Сам 8:14).
Здесь комментарий просто повторяет сведения, уже содержащиеся в
тексте. Зачем это нужно? Вероятно, синтаксический шаблон комментария
позволяет, в частности, выделить некоторую важную информацию и
«развернуть» ее лицом к читателю. В остраконе из Явне-Яма41, исковой
грамоте VII в. до н.э., написанной на классическом литературном иврите, тоже,
возможно, содержится комментарий такого типа. Излагая фактические
обстоятельства, истец использует повествовательные глагольные формы:
Ό В? р ТП57ЕПП КЗ"П
dd^d πτ -нар nx гЬэ пю*ю -рзх? паз пк πρ·η
-\~ΏΏ ППЗ ПК ПрЬ
И пришел Гошиягу сын Шобая, и забрал одежду твоего раба, когда я
закончил (?) эту мою жатву (как) ежедневно (?): он забрал одежду
твоего раба.
104
Здесь дословный повтор в шаблоне комментария позволяет автору
выделить суть жалобы из рассказа о событиях (естественно, здесь, в
отличие от повествовательной прозы, рассказ ведется от первого лица).
Еще один пример дословного повтора см. в 1 Сам 17:13а:
И отправились трое старших сыновей Иессея: отправились за Саулом
на войну.
Как видно уже из этого примера, в такого типа комментариях могут
содержаться сведения, дополнительные по отношению к последнему
повествовательному высказыванию и находящиеся с ним в одном
смысловом ряду.
свою л->з ηη^-^υ ^тга ninsn пл^т.
biKbfcn rD^YiontVi torn ^Ьп'ЧЬЪп лпк пЪЪъ'п
И коровы пойти прямиком в сторону Бет-Шемеша по одной дороге: шли
они себе и мычали. И они не свернули ни направо, ни налево (1 Сам 6:12а).
оуггЬэгп rnfen пзпаз ппнп T^l
nbn'bV'тип л^повт":531эп
:а">пЬк Υη~ίγ6: тгрп 'rhäri таЧт
#» * * ■ ■ | v ■ Ι φ
// настал страх в лагере, в поле и среди всего народа: передовой отряд
и ударное подразделение*2 тоже дрожали от страха43. И земля
содрогнулась, и настал страх Божий (1 Сам 14:15).
Комментарий позволяет рассказчику уточнить сообщение и
отослать читателя к предшествующему тексту, в котором говорилось о
боевых приготовлениях филистимлян. См. также 1 Сам 14:35:
пХр*? озтр Ъ^Щ }ГР1
:mmb пзттэ ггогб Ьпп in'x
^^ ^™ ^^ + » # » * , φ t ψ ψ
И Саул построил жертвенник Ягве: это был первый жертвенник Ягве,
который он построил.
Комментарий может перефразировать сообщение, содержащееся в
предыдущем высказывании, таким образом уточняя его.
]ή~\ύ "isd" ίιοκ -рул алкэ
И вода, текущая сверху, прекратила движение: она стала одной
стеной очень далеко, у Адама — города, что находится рядом с Цартаном
(Ис Нав 3:16аа).
Комментарий ЛПК f 3 ΊΩρ поясняет, что значит «вода прекратила дви-
жение», и далее он включает географические сведения (а всякого рода
справки часто составляют содержание повествовательной периферии).
В ряду таких комментариев ср. также Быт 13:12 (этот текст
рассматривается в разделе 13.3).
Приведем пример перехода от рассказывания к комментарию и далее
— к чисто периферийному речевому жанру этиологической справки.
105
mrn "p-ικ чвЬ π^ικ товЬ Ьэ'з ]i:n nam. πίπώο чрзэ iöskpi
71:п-грз o^xarrbDi ]i:Y -ого" Ώ-ν-ρ-κν р~ЬзУ
■rt/шкэ ']i:n |про_Ьу
:π·τπ Di^n iv
Я ояи встали на следующий день рано утром, и увидели, что Дагон
лежит ничком на земле перед ковчегом Ягве, и голова Дагона, и обе
кисти его рук (лежат) отрубленные на пороге: только (тело) Дагона
осталось от него. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в храм
Дагона не наступают на порог (храма) Дагона до сего дня (1 Сам 5:4-5).
Вот что получается: от повествовательной цепочки (к которой
относятся и два именных предложения, вводимых одним общим wohinne, с
обычным значением присутствия в кадре наблюдателя из
повествуемого мира, - в нашем случае это жители Ашдода) рассказчик переходит к
отмеченному нулем вава комментарию тЬ^У HKÜD У\У1 ρπ. Потом
рассказчик еще более удаляется от главного русла рассказывания, отступая
на повествовательную периферию44. «Периферийное» этиологическое
замечание вводится союзным оборотом "al кёп с имперфектом. По
поводу этого употребления можно заметить следующее. *al кёп yiqtöl — это
фразеологическая формула: в речи рассказчика во всем ВЗ она
употребляется пять раз (Быт 10:9; Числ 21:14, 27; 1 Сам 19:24; 2 Сам 5:8),
причем все пять раз с глаголом 'mr в qal и л/р'аД то есть при объяснении
происхождения разного рода сентенций, вроде поговорок и цитат. В
нашем же случае употребляется "al кёп /ö' yiqtöl для этиологии обычая.
Это тоже, как кажется, несвободное сочетание для речи рассказчика: в
ВЗ оно употребляется в ней дважды, в нашем месте и в Быт 32:33, и оба
раза в одном значении, то есть для объяснения обычая.
По нашим подсчетам (возможно, неполным), в классической прозе
шаблон такого комментария больше десяти раз включает
фразеологическую формулу речевого этикета типа «не осталось/не оставил
никого» или «не осталось никого, кроме» = «остался/остались только» (не
путать этикетный фразеологизм с синтаксической конструкцией
речевого этикета!). Эта формула этикетна в том смысле, что она часто завер- !
шает рассказ о военном разгроме (как наших, так и врагов) и других
подобных катаклизмах. Шаблон комментария придает этой формуле
функцию подытоживания, ибо та же формула употребляется и в
повествовательной цепочке, не получая синтаксического и смыслового
выделения. Эта фразеологическая формула имеет следующие
разновидности: /ö' niiar S, /ö' hisfir О, ίο' notar S. Именная позиция при каждом из
этих глаголов часто заполняется стереотипно.
Примеры Vö' ni<?ar S. Исх 14:28:
и^ВПЭГГЛКП ηΐηΠ-η« ТОЭ"П Ώ^ΏΠ ЧЭЕГП
tq^3 ЬпНпк Ъ»кзп nuns ^тт ЬЪЪ
И вернулась вода, и покрыла колесницы и всадников, все войско
фараона, вошедшее за ними в море: не осталось из них ни одного.
106
I
I
i
ι
i
ι
Ср. Суд 4:16 (почти дословно совпадающая формула); 2 Цар 17:18
(/ö' niffar raq «остался только»); 2 Цар 24:14 (/ö' nis'ar zülat «остался
только»). Ср. тж. Исх 8:27; 10:19 (не осталось ни одного из "äröbw ни одной
саранчи: здесь наша этикетная формула распространяется на удаление
или уничтожение этих орудий «казней египетских»; видимо, действие
Ягве мыслится как направленное против них). В Ис Нав 8:17; 1 Сам
11:11; 2 Цар 10:21 та же формула используется в повествовательной
цепочке. В 1 Сам 11:11 она возникает при описании массового избиения
врагов, а относительно двух остальных случаев хочется предположить,
что ее зловещее звучание предвосхищает то уничтожение «не
оставшихся», что должно произойти в том же эпизоде.
Примеры /б' ЫПг О. Ис Нав 10:39:
пэЪвЬт h-iznb пЪзгр liniiin^ п&у -itfSä
гпэЬфъ пэзЬ? ПС7У "ΐκκοι
И он захватил его, и его царя, и все его города, и они поразили их
мечом, и они предали уничтожению всех обитателей, которые были в
нем: он не оставил в живых ни одного. Как он поступил с Хевроном,
так он поступил и с Девиром и с его царем, — так же, как он
поступил с Лив ной и с ее царем.
В 396, после формульного комментария, автор выходит из рассказа
на периферию повествования и предлагает свои замечания
непосредственно читателю. В этой главе оборот /ö' hiSir särid употребляется в
шаблоне комментария также в ст. 28, 30, 37, 40, и ср. 11:14. Сюда же,
возможно, относятся 1 Цар 15:29; 16:11. В Втор 2:34 такой комментарий
встречается в рассказе от первого лица. 76' hitfir О встречается и
внутри рассказывания, см. 2 Цар 10:14; 13:7.
Примеры /ö' nötar S. Ис Нав 11:11:
:к;кз пик? -nsrrnio
■ ■ τ I — Τ Τ ν
И они поразили мечом всех жителей, которые были в нем, истребив их:
не осталось ничего живого. А Хацор он сжег огнем.
Последнее высказывание построено по правилам синтаксической
конструкции речевого этикета военной победы (см. выше, раздел 5.3).
Ср. также комментирующее высказывание в Ис Нав 11:22:
Ьапкг ча f пка а^рзи nriiD-^b
*пп«еЬ'"ч^¥к:г1 паз! птуэ ρπ
1 * # * * ■ * ι
Не осталось анаков в земле израильтян, они уцелели только в Газе, в
Гате и в Ашдоде.
Здесь обращает на себя внимание изменение числа личной формы
глагола, — видимо, в зависимости от положения глагола по отношению
к подлежащему (ср. в литературном арабском правило о согласовании
107
глагола с подлежащим, обозначающим лиц). Ср. также употребление
этого оборота в повествовательной цепочке Исх 10:15.
К типу «wayyiqtölрассказывания — qätal комментария» относятся, давая
иногда незначительные синтаксические вариации, комментирующие
высказывания в Исх 39:32 (ср.39:43)45; Ис Нав4:13;10:9; 1 Сам 30:2; 2 Цар 13:25.
Чтобы не дробить классификацию, сюда же можно отнести
комментарии, присоединенные к предложениям с союзами, отличными от вава
(см. о них в одиннадцатом разделе нашей работы). Забегая вперед,
заметим, что такое предложение может соотноситься с предшествующим
предложением повествовательной цепочки так же, как фон соотносится
с передним планом. 1 Сам 5:11:
:db7 егпЬкгГп"1 Ηηώ гппэ п^п'ЬЬз ГПО'ЛЙ^пЬ ПЛ^П"чЭ
И они послали, и собрали всех предводителей филистимлян, и сказали (им):
«Отпустите ковчег бога Израилева, чтобы он вернулся на свое место и не
умертвил ни меня, ни мой народ». Ибо во всем городе возникла
смертельная паника: тяжесть руки Божьей была там весьма ощутима.
Дословный перевод комментария: «рука Бога весьма отяготела там». Вот
непосредственно интересующий нас фрагмент текста:
Итак, в комментариях, присоединяемых к предложениям типа ki
qätal, может употребляться qätal, как и в комментариях,
присоединяемых к предложениям повествовательной цепочки.
(2) wayyiqtöl рассказывания — именное предложение (ИП)
комментария. В отличие от предыдущего случая комментарий статичен, он
описывает ситуацию. 1 Сам 17:4:
лэо IDC? л^Ьа &шЬя лчэпво ачэп-в^к кзгп
:rnn nlax tftf inpn
И вышел единоборец из боевых порядков филистимлян: его имя
Голиаф, он из Гата, его рост шесть локтей и пядь.
В следующих двух стихах рассказчик описывает в фоновых
предложениях (с вавом) вооружение Голиафа. В нашем комментарии (как и в
непосредственно следующих за ним фоновых предложениях)
обращает на себя внимание обратный порядок слов Np — Ns. В фоновых
высказываниях он объясняется актуальным членением: рассказчик
выделяет рему, ср. 17:5а:
Ehab κιη ü^wpiDp р^нкл iiE?*t'-rbi7 η tön: m*D1
И медный шлем на голове у него! И в кольчугу он одет!
Что же касается комментария, обычно поясняющего предшествующее
высказывание, то его можно перевести так: «Так это же Голиаф!». Рассказчик,
видимо, исходит из того, что имя единоборца уже знакомо его читателям,
знающим содержание национального эпоса. Это имя «не содержит новой
информации», поэтому наш комментарий можно понять как обращенное от рассказ-
108
чика прямо к читателю восклицание, вынесенное из повествуемого мира.
Отсюда и эмфатический порядок слов.
Аналогичный в семантико-синтаксическом отношении случай
находим в Суд 3:16:
"иго"» ттт bü' пЪЪ лпла плж nam"
Я Зхуд сделал себе обоюдоострый меч (букв, "меч, и у него два острия):
(всего лишь) локоть его длина/ И он прикрепил его под одеждой к
правому бедру.
Исходя из сравнения этого текста с 1 Сам 17:4 можно предположить,
что комментарий о коротком мече Эхуда тоже относится к сведениям,
уже известным адресатам рассказа. Ведь при обычном фоновом
описании автор употребил бы еще одно ИП: wo'orkäh gömed.
''Чззк тип нЪп *~fckb нгр -пзк-Ьх? оуггЪк τπ к-рт
■ «Φ * V ■ t * fr ■ ■ # ' 'If
И Давид перешел на другую сторону и забрался на вершину горы поодаль
[от лагеря Саула]: велико расстояние между ними! И Давид закричал,
обращаясь к войску [Саула] и к Лвнеру сыну Hepa: «Авнер, ты будешь
отвечать?» (1 Сам 26:13- 14а)
Здесь тоже в ИП комментария препозитивное сказуемое, обратный
порядок слов тоже, видимо, объясняется актуальным членением.
"топ vbx tri ηοή->™ mm ym
Ίτοπ'π^ nig ^^з 1эп ]гт
nnbn л*»зз ~\ш атоктЬэ лк по^-тз ппоптгз пЬ тгт
■ ■* · *
И Я гее был с Иосифом, и Я гее обнаруживал верность Иосифу. И [Ягве]
сделал так, что он [Иосиф] понравился начальнику тюрьмы. И начальник
тюрьмы передал под начало Иосифу всех заключенных, которые были в
тюрьме, и он руководил всем, что делалось там: начальник тюрьмы не
следил за тем, что было у него [у Иосифа?] под началом, ибо Ягве был с
ним, и всему, что он делал, Ягве споспешествовал (Быт 39:21-23).
Этот случай более сложный, чем предыдущие. В ст.22 рассказывание
переходит с переднего плана на задний, где имеется ИП, построенное хи-
астически по отношению к последнему предложению повествовательной
цепочки. Весь ст. 23 представляет собой комментарий к предыдущим двум
стихам, включающий ИП с препозицией сказуемого ('ел sar bet hassöhar rö'e
'e_f kol тэ'ита bsyädö), зависимое от этого ИП придаточное (тоже именное),
а затем вводимое вавом ИП с препозицией дополнения. Комментарий
повторяет и отчасти дополняет сведения, содержащиеся в рассказе.
Забегая вперед, заметим, что этот развернутый комментарий отмечает конец
«главы» (в смысле раздела 2 нашего очерка) в истории об Иосифе,
выполняя композиционную функцию промежуточного резюме.
109
(3) И Π рассказывания — ИП комментария.
■ τι Ι *■ Ι Γ" :
И они схватили его, и бросили его в яму. И яма пуста: в ней нет воды
(Быт 37:24).
Комментарий перефразирует содержание предшествующего
фонового высказывания.
D^nCöbp 322СгЬу H3l6 ]ПЭ*Р K?j?3 ΊΚ7Ν ΓΓΠ3Ι70Π ]^ЗТ
:пэр" "irmn afch p'sla чпкп D^"!
C7DDD biß 71020 ρΪ2ίΟ ППЙП ТИП
:узэ biD эмп'-ггшт
Ϊ * ■ I + H 4
# между переправами, по которым Ионатан хотел переправиться к
передовому отряду филистимлян, был скалистый выступ с одной
стороны и скалистый выступ с другой стороны. И один назывался Боцец,
а другой — Сенне: один выступ возвышался (?) с севера, напротив Mux-
маса, а другой — с юга, напротив Гевы (1 Сам 14:4-5).
Цепочка именных предложений фона перешла в состоящий из
именных предложений комментарий, когда рассказчику потребовалось
уточнить свое описание. Ср. также рассмотренный выше текст Быт
18:11, где в комментарии к ИП употреблено сказуемое в форме qätaL
Опять стативное значение перфекта?
П. Формы предикации, вводимые другими союзами
Из союзов, отличных от вава, в речи рассказчика чаще всего
встречаются kin 9äser. В этом разделе мы ограничимся (главным образом по
соображениям объема) предложениями с союзом Αί, употребляемым
внутри эпизода. Остальные союзы (помимо ki и 'äser) в речи рассказчика
встречаются сравнительно редко.
Как правило, придаточные с Α:ί относятся к фону. В этом они
подобны большинству простых ИП, рассмотренных выше. С точки зрения
речевой перспективы придаточные с ki могут быть на нулевой ступени,
сообщать наверстываемую или предвосхищаемую информацию46.
Предикация kiqätal (S) обычно передает наверстываемую информацию:
btnfcp-bfc атшЬа^эпо ^bin
И филистимляне услыхали, что израильтяне собрались в Мицпе, и тогда
военачальники филистимлян выступили против Израиля (1 Сам 7:7а).
kiB такой конструкции может вводить косвенную речь:
И Эвиатар сообщил Давиду, что Саул убил жрецов Ягве (1 Сам 22:21).
При соподчинении глагольных сказуемых в придаточном
предложено
нии с ki есть две возможности: второй глагол принимает форму wayyiqtol
либо повторяется конструкция ki qätal, предваряемая вавом.
апЬ тпгжп οήπχ п^пЬн "ппк idt ">э woe? кЬ отиавтЬк am
Яо w своих судей они не слушались, ибо блудливо гонялись за другими
богами и поклонялись им (Суд 2:17а).
Это предложение оформлено как обычное рассказывание, хотя оно
находится внутри того, что мы называем повествованием на заднем
плане (Суд 2:16-19, см. об этом ниже в нашей работе); его текст с
точки зрения историко-критического анализа источников возможно
представляет собой соединение нескольких - девтерономистских и более
поздних — редакционных резюме47. Ср. такую же конструкцию
соподчинения после ki в 2 Цар 13:7. >
Примеры соподчинения с wski qätal:
"Innern гтр*ч DMsrnx пап'^эт"
И народ поверил, и (они) услышали, что Ягве посетил сынов Израиля и
что он увидел их бедственное положение. И они поклонились, и
простерлись ниц (Исх 4:31).
См. подобные примеры также в Ис Нав 8:21 (и ср. осложненный
вариант этой конструкции в Ис Нав 10:1); 1 Сам 31:7; 2 Сам 5:12, 1 Цар 11:21.
Между двумя этими способами соподчинения существует ясное
различие: wayyiqtol в позиции второго сказуемого употребляется после
причинного ki, woki qätal употребляется в той же позиции после глаголов
чувственного восприятия (к их числу относится и yd), где ki вводит
придаточное дополнительное.
От обеих моделей отклоняется текст Быт 28:5-7:
сп« пэл1Э η*??! 3'pimn» ρπ:τ nbtf*i
nti?S71 ЗРУ^ иК'пРЗП' ΤΙΚ '''-ΉΊΧΠ :^KV13"73 ')пЬ'Ьн
ПШ DWp i^-nnpy CTIK Π3ΊΕ) ίΠΚ π^ϊ
:|Х73Э тэзр πκίκ' прггкЬ -fax1? v5y "i;rn ίΠΚ 1ЭПЗЗ
:ΠΊΚ пгтв ^Ьчт
τι -: χν "" Ι ν ··"
Я Исаак отослал Иакова, и (тот) отправился в Паден-Арам к
Лавану, сыну арамеянина Бетуэля, брата Ревекки, матери Иакова и
Исава. И Исав увидел, что рЭ) Исаак благословил С^рЗ) Иакова и
отослал (П^КП) его в Паден-Арам взять себе оттуда жену по его [Исаа-
ка] благословению, и наказал 0^п1) емУ- «Ты не должен жениться на
хананеянке». И [Исав узнал, что] Иаков послушался (I7DEPY) отца и
мать, и отправился (^|Ь?Т) в Паден-Арам.
После глагола восприятия с ki начинается цепочка соподчиненных
придаточных. В отличие от предыдущей серии примеров с глаголами
чувственного восприятия, здесь kiwt повторяется, вторая личная форма имеет
111
вид woqätal* последующие — wayyiqtöl. В повествовательных текстах Быт —
2 Цар wQqätalh такой позиции больше не встречается.
В речи рассказчика (Быт - 2 Цар) изредка встречается предикация ki
N qätal, то есть придаточное с именем в вершине высказывания. Эта
предикация часто употребляется в других речевых жанрах, - в диалоге,
в юридических текстах, в прозаических проповедях и в стихах. Вот
выборочный список примеров на употребление λίΝ qätal в этих жанрах из
Быт - 2 Цар: Быт 4:13; 44;27; 50:17; Исх 20:25; 22:20; 23:9; Лев 19:34;
Числ 21:28; Втор 5:15; 10:19; 15:15; 16:12; 23:8; 24:18,22; 32:22,30; Суд
13:22; 1 Сам 4:20; 2 Сам 1:16; 15:8; 2 Цар 4:1.
По нашим подсчетам в речи рассказчика (Быт - 2 Цар) «чистый» ki
N qätal встречается всего четыре раза: Ис Η 5:6 (историческая справка
на периферии рассказывания); 1 Цар 6:6 (описание соломонова Храма
и потому не рассказывание в собственном смысле); Быт 34:7; 40:16. При
этом в Быт 34:7 можно уловить элементы несобственно прямой речи,
слияние высказываний рассказчика и персонажей, то есть это не
чистое одноголосое рассказывание:
-rfcn йпЬ ΊΓΡΐ и"чоэкп чззугр! ÜS7DE73 nifrrnjp 1КЗ з|э1Г *о:п
ν:πί£7ΐτ кЬ ' ριτ зЬг^лэ'пк зэЬЬ bin ер з nbv пЬзэ'-Ь
■ |1 ■ ■ f * ■ m I » ■ if ■ ■ *
А сыновья Иакова пришли с поля, когда услышали [про насилие над Диной],
и они опечалились и сильно разгневались, так как [Шхем] опозорил
Израиля, переспав с дочерью Иакова, а так ведь не подобает делать.
Интересно, что вторая половина стиха (формально это речь
рассказчика) почти совпадает со словами Тамар, которыми она пытается
удержать Амнона от насилия, чем тоже подтверждается близость Быт 34:76
к диалогической речи.
:ПКТП ПЬЗЭГГЛК П&?Л"ЬХ
И она сказала ему: «Не надо, брат, не насилуй меня, ведь так не подобает
делать среди израильтян/ Не совершай этого позорного дела!» (2 Сам 13:12).
Добавим сюда еще два не вполне «чистых» случая: 1 Сам 20:17
(аккузатив содержания отглагольного имени в препозиции к однокоренно-
му перфекту):
ίηκ Шзпхэ τρτηκ 1гзе;гЬ тлзтр ηοί^η
ПЗПК "ШВЭ ГОП*ОЭ
И Ионатан снова заставил Давида поклясться своей любовью к нему,
ибо сам он любил его как себя.
2 Сам 8:10а, где придаточное имеет вид kfMp Ns häyä:
|П 1 ■ * ' ■ * „_ * ■ * * * *
И Той послал своего сына Иорама к царю Давиду приветствовать его
и поздравить его с тем, что он воевал с Гададэзером и разбил его, ибо
Той был врагом Тададэзера.
112
В 2 Сам 8:10 перед нами действительно наверстывание информации
(Той был врагом Гададэзера еще до того, как последний был разбит
Давидом), и глагол häyä ведет себя как настоящий перфект, но гораздо
чаще в речи рассказчика встречается предикация вида ki häyä Ν, ср.
напр. Быт 13:16; 27:23; 36:7; 42:5; 1 Сам 4:13; 14:18; 17:42. Не все из них
сообщают наверстываемую информацию. Противоречивое поведение
личных форм глагола hyh в разных конструкциях (все-таки речь идет об
именных предложениях или глагольных? или решение этого вопроса
зависит от типа конструкции?) требует отдельного исследования, и эта
задача выходит за рамки предлагаемого очерка.
Изредка в речи рассказчика употребляется предикация ki(N) yiqtöl для
передачи предвосхищаемой информации:
:rrmb ипгтлз ^nbnb п^пк ппюч vrik' пюггЪн кэ'Ък mm
И Онан знал, что потомство будет принадлежать не ему, и когда он
совокуплялся с женой своего брата, то он проливал [сперму] на землю,
чтобы не дать потомства брату (Быт 38:9).
D*nnss3 ηον> κί:τηχ7 ппэвггпк wd**i
:anb ύ?ώχ·> Dttf"Q wüw ^э
* *
И они приготовили подарок к приходу Иосифа в полдень, так как они
прослышали, что там [с Иосифом] у них будет [совместная] трапеза
(Быт 43:25).
Гораздо чаще ki (Ν) yiqtöl в речи рассказчика употребляется в
причинном значении. Похоже, что в таких случаях ki yiqtol сигнализирует
о выходе рассказчика на периферию повествования: в этой предикации
рассказчик указывает не просто причину того, о чем сообщалось в
предшествующем звене повествовательной цепочки, но и объясняет (в
более общем виде) причину всей ситуации, сложившейся в повествуемом
мире. Он говорит здесь о «природе вещей», и ki yiqtol передает сведения
справочного характера. Вероятно, именно поэтому в изучаемой
предикации используется имперфект (ср. 1 Сам 9:96). Вот примеры:
сгпЬ Dni?1 ^5^ i^ ^fepi
* * Φ" ' Л
И ему [Иосифу] накрыли трапезу отдельно [от братьев], а им отдельно
]от Иосифа], а евшим с ним египтянам [тоже накрыли] отдельно, ибо
египтяне не могут делить трапезу с евреями, ибо это мерзость для
египтян (Быт 43:32).
Здесь в имперфекте стоит модальной глагол, за первым придаточным
следует второе И-предложение, продолжающее объяснение.
И прошло для него [для тела Иакова] сорок дней, ибо столько дней
требуется для бальзамирования, и египтяне оплакивали его семьдесят дней
(Быт 50:3).
8 Заказ 257 1 13
См. также Быт 29:2; Суд 14:10; 2 Сам 4:2; 13:18. Возможно, сюда же
относится 2 Сам 17:17.
Нулевая ступень речевой перспективы выражается, как и следовало
ожидать, kib И П. Это сравнительно частотный вид придаточного в речи
рассказчика. Здесь ki вводит фоновое придаточное дополнительное
после глаголов речи и чувственного восприятия (примеры: Быт 3:6; 29:12;
42:1; 1 Сам 4:6; 2 Сам 11:16; 2 Сам 14:1), либо указывает на причину
(примеры: Быт 8:9; 13:10; 25:28; 47:22; Ис Нав 2:15; 10:2; Суд 4:3; 8:24;
1 Сам 26:12; 2 Сам 13:2). Порядок слов в обеих разновидностях
придаточных может быть двояким: ki Ns Np или ki NpNs. Видимо, он зависит
от актуального членения высказывания. Ср. следующие примеры:
И Иоав сын Церуйы заметил, что царь был (настроен) в пользу Авша-
лома (2 Сам 14:1).
τ -it: ..— — | τ x —
// Иаков сказал Рахили, что это он — брат ее отца и что это он - сын
Ревекки, и (Рахиль) побежала сказать (об этом) своему отцу (Быт 29:12).
Здесь, видимо, мы имеем дело с акцентуированной темой в
постпозиции.
|V?nn П172 ЬЗП? ΟΊΊίΠΙ
ν τι · τ —ι τ — I* ; τ
И она спустила их на веревке через окно, так как ее дом был в
крепостной стене, то есть в этой стене она жила (Ис Η 2:15).
irn п^лп ">э 1лпх пол тага пЪпппЬ ]ЪщЬ -is η
И Амнон так мучился, что чуть не заболел из-за любви к своей сестре
Тамар, ведь девственницей была она, и Амнону казалось невозможным
подступиться к ней (2 Сам 13:2).
1
Здесь мы видим акцентуированную рему в препозиции.
12. Синтаксические явления в начале эпизода и главы
12.1. Начало эпизода
Как мы уже говорили, язык древнееврейской повествовательной прозы
не предусматривает особых форм для принудительного выделения
начала эпизода. Эпизоды по большей части начинаются прямо с wayyiqtöl.
Стало быть, объяснять нужно те случаи, где в начале эпизода
употребляются предикации, отличные от wayyiqtöl/wolö' qäial простой
повествовательной цепочки.
Все эти предикации и их функции уже известны читателю: они
рассматривались в разделах о формах предикаций в середине эпизода (точнее
114
говоря, в неначальной и в неконечной позиции). В начале эпизода
употребляются фоновые именные предложения и фоновые предложения с
qätal, а также wqS qätal, указывающий на смену точки зрения. Скажем так:
в начале эпизода все эти предикации употребляются в одном из своих
«обычных» значений (как они были описаны выше), получая еще и
дополнительное значение, ибо здесь они указывают на начало эпизода.
Во вводном разделе этой работы уже говорилось о том, что эпизоды
в повествовательном тексте выделяются по содержательным признакам.
Теперь пришла пора уточнить, что эти признаки напоминают
известные классицистские критерии «трех единств». Как правило, действие
эпизода разворачивается на одной площадке («единство места»): чаще
всего эта площадка входит в кругозор действующих лиц, но иногда
охватывается лишь с точки зрения всеведущего, всевидящего и
вездесущего рассказчика (ср. рассмотренный в 5.5 случай чередования
пространственных точек зрения внутри эпизода в 1 Сам 13). Время
действия в эпизоде, как правило, течет линейно, без скачков и разрывов
(«единство времени»): разрыв временной непрерывности может
оказаться одним из критериев членения текста на эпизоды. На протяжении
эпизода набор главных действующих лиц не меняется: появление
нового персонажа тоже может указывать на границу эпизода («единство
действия»). Естественно, мы рассматриваем все эти соображения
относительно деления текста на эпизоды как попытку уловить тенденцию, а не
как набор правил, непременно обнаруживающихся в каждом случае.
Отсюда следует, что фоновые предикации в начале эпизода
сообщают сведения о месте, времени и действующих лицах эпизода, а
меняющий точку зрения w$S qätal вводит кругозор нового персонажа,
подобно тому как это описано в 5.5 (изображение кругозора отдельного
персонажа). Рассмотрим примеры.
1гшх птглк um пчкт
гр~л& -6fn nnfri
I * г" ν v ■ ■ — *- — —
А Адам (между тем) познал свою жену Еву, и она забеременела, и
родила Каина (Быт 4: laß).
woS qätal в начале нового эпизода представляет кругозор Адама,
одновременно переводя читателя из пространства Сада Эдема, где
запросто можно было встретить прогуливающегося Бога, в обычную
местность, где начинается история людей.
Наптпйгп гтняр ппвю п?п
А Сара, жена Аврама, не рожала ему. И у нее была рабыня-египтянка,
которую звали Агарь. И Сара сказала Авраму: «Ты видишь, что Ягве не
позволил мне родить. Поэтому войди к моей рабыне: быть может, я
получу потомство через нее» (Быт 16:1-2а).
Первое предложение (wqS qätal) представляет читателю точку зрения
Сары, озабоченной своим бесплодием, которое почему-то не тревожит
персонажей предыдущего эпизода, Ягве и Аврама, получившего в 15:18
8* 115
от Ягве обетование земли для своего пока что не родившегося
потомства. Далее именные предложения НЭП ПОС^Т ГР~1250 ППрК7 иЬч
сообщают исходные сведения об Агари, героине следующих эпизодов. Все
три предложения вместе образуют экспозицию нового эпизода.
ΠΠΏΊΠ ЬКЮЙГЬК XZPI übö*! ППЗ ΎΠ1
at τ "Π ν "": "г \
А Давид убежал, и спасся бегством, и пришел к Самуилу в Раму, и
рассказал ему обо всем, что ему сделал Саул (1 Сам 19:18а).
wqS qatal переносит нас на точку зрения недоступного Саулу
Давида, отмечая вместе с тем начало эпизода: в центре действия
предыдущего эпизода были жена Давида Мелхола и Саул.
Фоновая экспозиция эпизода не всегда помещается в самом начале,
она может следовать за первыми предложениями повествовательной
цепочки, прямо вводящими нового героя в действие.
кттп DV3 пЪю кгрд пгэп^эпр ]о^ээ"е^к f п*1
:Ан-ЪЪ": πεπκϊ ΐτυπρ vim
хоэггЬу зйК "Ъу nam xib^i
* *
Один человек из колена Вениамина бежал с поля битвы и в тот же день
появился в Шило. Его одежды были разорваны, а голова была посыпана
прахом. Придя туда, он увидел Эли. Тот сидел у дороги на жреческом
кресле ... (1 Сам 4:12-13а).
Изображение внешности вестника, принесшего сообщение о
поражении Израиля и гибели сыновей Эли, прерывает поступательное
движение рассказа. Описание знаков траура отсылает читателя к
содержанию предшествующего эпизода (поражение Израиля) и готовит его к
восприятию дальнейшего повествования. Реприза KilPl указывает на
подхват нити рассказа после описательной экспозиции.
Интересно, что автор книги Самуила дает аналогичное стилистико-
синтаксическое оформление и содержательно параллельному рассказу о
встрече Давида с вестником, принесшим сообщение о бегстве израильской
армии с поля сражения и смерти Саула с Ионатаном. Вот как выглядит
начало эпизода, находящегося внутри большой главы 1 Сам 29:1 — 2 Сам
2:7 (филистимляне воюют с Самуилом, а Давид одновременно воюет с
амалекитянами; дело кончается гибелью Саула и воцарением Давида над
коленом Иуды).
рЬаиггпк л1эпо nui mi bwtf nio ηππκ тт
А"
:ώ^2Ό сто"1 п^рез ϊ*η 3βΗϊ
ΤΗΙΟΊ Ь"\Ш ΏΏΏ Π3ΠΏΠ"ΊΟ КЗ ЕР*« ПЭт^ЮТРгёП Di43 "•ΓΡΙ
ШГ ** 4^ ^— ^^ * ^p * ^4i
А после смерти Саула Давид, разгромивший амалекитян, вернулся с
победой [в Циклаг] и провел в Циклаге два дня. И на третий день
Давид увидел, что кто-то идет со стороны лагеря Саула, и платье
этого человека было разорвано, и на голове была земля. И он, подойдя к
Давиду, упал на землю и распростерся [у ног Давида] (2 Сам 1:2).
116
Эпизод начинается предикацией переднего плана woS qätal,
вводящей новую точку зрения (конкретнее, нового героя в новом месте
действия). Здесь имеет место повествовательная реприза, подхват
прерванного рассказа о Давиде: в 1 Сам 30:26-31 уже сообщалось о
возвращении Давида в Циклаг после его победы над амалекитянами. Возможно,
что начало эпизода на wsS qätal синтаксически указывает на
ограниченность кругозора Давида, которому только сейчас предстоит узнать о
гибели Саула, происшедшей за один эпизод до этого, причем Давид
узнает заведомо (для рассказчика и читателя) ложную версию обстоятельств
его гибели. «То, что было на самом деле» вездесущий рассказчик уже
сообщил читателю в 1 Сам 31:3-6. Далее используются другие
предикации повествовательной цепочки, wayyiqtöl S и wdhinne Ns Np, и лишь за
ними следует (видимо, этикетное) описание вестника, несущего
недобрую весть. Это описание составляет экспозицию нашего эпизода.
Таким образом, wsS qätal в начале эпизода иногда используется для
«переключения» на точку зрения нового персонажа, этот прием хочется
сравнить с красной строкой, начинающей новый*абзац. Видимо, здесь
далеко не всегда мыслится некая содержательная ограниченность этой
точки зрения, т.е. недостаток сведений у персонажа (в отличие от некоторых
случаев, разобранных в 5.5).
:ΠΊ·ΠΙΖ?Χ ΊΤΪ7Π pKD ΊΠΚΖΓΊ
ΤΙ « — * ft * ■ ^V I * * + ft- · * ■ 4 *"
А филистимляне захватили ковчег божий и перевезли его из Эвен-Эзе-
ра в Ашдод (1 Сам 5:1).
Ыщ dud гпо mm nrn
:mm тлко пыптпп чппузч
τι : .. ■. χ-г — ι — —; - ι
А дух Ягве покинул Саула, и его мучил злой дух от Ягве (1 Сам 16:14).
Подобным образом в начале эпизода могут использоваться и
именные предложения — не столько предваряющая действие экспозиция,
сколько введение новых персонажей in medias res:
bxn^i? D^pnbD D^nttfbpi
:и"зЬап ппз а^ЬЬп ibs^i D^ntöba^aaD'bKni^'^aK how
» ft + ft ^^ ^m ψ * Чр» ^^щ * ^— ft * * ■ м Ш ψ Л * + ^V Φ- * ψ * щ *j4* · *v *■■>
Г 4 « ■ * * * t * p ■ * щщ *
А филистимляне между тем сражались с Израилем, и израильтяне
побежали под натиском филистимлян, и пали сраженные [израильтяне]
на горе Гилбоа (1 Сам 31:1).
12.2. Начало главы
Начальный эпизод главы может быть отмечен развернутой
экспозицией, служащей введением для всей главы. 1 Сам 3:1 слл дает пример
развернутого фона в начале главы из истории Самуила. Здесь автор
употребил все формы предикации, которые могут встречаться в фоновых
высказываниях.
•Ъу чрЬ mrp-лк rnitfp Ьыър пуэт
tynsD |ifn ρκ!αππ о^э Hp^mri тт-пзт
iO'pQZl ЗЭЕ7 "бзК" ЫПП DV3 "»rfn
η Ι ι * ■
117
:nl*nb Ь-dv кЬ гппэ Ъпп vrsn
зэю'Ькчпкп пзэ^ diu пттЬк T-m
:а^грк рпк de?—ιε;ϊ< ' mm Ьэта
р:эп *пЬх'я1 ЬюЪегЪк mm k-ip^
* * Ч * * * ^~ * * * *
у4 /ο//6/ύ Самуил был служителем Ягве при Эли. И слово Ягве было редким
в те дни: видение не было частым. Однажды Эли лежал на своем месте,
а глаза его (в то время уже) стали слабыми: он не мог видеть. Л свеча
божья еще не погасла, и Самуил лежал в храме Ягве, где находился ковчег
божий. И Ягве позвал Самуила, и тот откликнулся: «Я здесь» (1 Сам 3:1-4).
Эта пространная экспозиция начинается с именного предложения.
Следующее за ним предложение ΏΠΠ DnQ*3 Hj^ Π VI ГПГР 134^ мы
тоже считаем именным48, оно вводит нас в «духовную ситуацию
времени». Далее идет парафразирующий комментарий в виде ИП с нулевым
вавом. Все вместе представляет собой нечто вроде общего пролога, за
которым следует описание обстоятельств, при которых случилось
первое событие главы: Ягве нарушил свое уже ставшее привычным
молчание и позвал Самуила. Это описание тоже выполнено именными
предложениями, к которым по устройству приближается и ъЬнп ТЭ^ЗЛ
ШПЭ. Здесь ^?ПП действует как фазовый глагол перед именной частью
сказуемого. К этому предложению тоже добавлен парафразирующий
комментарий с нулевым вавом ГП*<-|Ь h>DV tih. Почему сказуемое в
1 I
нем употреблено в имперфекте, а не в перфекте, как можно было
ожидать? (Употребление имперфекта здесь нарушает закономерности,
которые мы описали в разделе о типах предикации с нулем вава.)
Можно предположить, что в этом комментарии использована форма
высказывания диалогической речи /ö' yiqtöl (ср.1 Сам 20:2аос Q; 25:286ß), так
как комментарий (в нашем понимании) - это нечто вроде реплики,
обращенной рассказчиком к читателю. Наконец, предложение
можно понять как именное: в разделе о фоне мы уже предложили
считать такой Ferem yiqFOl композитным именем. Экспозиция
завершается ИП, описывающим положение Самула, которому в следующем стихе
KJ
предстоит вступить в действие.
Рассмотрим теперь начало одной из глав «романа»49 о Давиде, где
повествуется о том, как Авигаиль стала женой Давида.
JL#* I J t t I t * W *** # * * I *
:Ьяпэз ^кзглк'ттаэ "»mi
ГэЬэ 1эЬэ ΚΊΠΪ D^bbvD 17~П ПЮР ВРЙГП
* *
"|3"таэ τη νΏψ),
* *
И Давид отправился в пустыню Паран. — Жил в Маоне один человек,
а его бизнес был на Кармеле. Этот человек был очень богат: у него три
тысячи овец и тысяча коз. Когда его овец стригли, он сам появлялся на
Кармеле. Звали этого человека Навал, а его жену звали Авигаиль. Она
118
была женщина разумная и пригожая, а сам он был неотесанный и
жестокий, и был он из клана (племени ?) Калеба. — И услышал Давид в
пустыне, что Навал стрижет овец (1 Сам 25:16 - 4).
Глава начинается двумя wayyiqtöl повествовательной цепочки,
субъект которых — Давид, один из двух главных персонажей главы.
Затем в ряде именных предложений автор представляет нам новых
героев. Одиночная фраза с wayyiqtöl Ьо~ОЭ iDK^STlNi ТТЗЗ ^ΓΡΊ в
окружении безглагольных предложений не может относиться к переднему
плану. Наконец, когда экспозиция закончена, рассказ возвращается на
передний план: ПЗПр? ТИ S7BEPT. Между этой фразой с wayyiqtöl и от-
крывающим главу высказыванием устанавливается связь за счет
лексического повтора «в пустыне».
Стоящий в начале главы wqS qätal может указывать на «вышни
силы», из перспективы которых следует истолковывать следующий
далее рассказ: без такого указания он был бы непонятен читателю.
Другими словами, это один из частных случаев «игры» точками зрения.
отзола поз оттЬкт пЬнп D^nmn нпк тп
l ι ■ ■ *
Λ «осле этого бог испытывал Авраама.
И он позвал его: *
— Авраам!
И тот ответил:
— Да, я слушаю! (Быт 22:1).
Вероятно, указывающий на точку зрения бога wsS qätal позволяет
читателю сразу же понять то, что скрыто от Авраама: ему предстоит
проверка покорности, а не настоящее принесение Исаака в жертву.
В Быт 39:1 (начало главы из истории Иосифа) wqS qätal образует
inclusio или репризу по отношению к концу предпредыдущей главы, где
рассказ об Иосифе был приостановлен. Там (37:36) мы читали:
о"нзр"*?к ϊηκ про пчпагп
ttrrraton Wfo riins опо ча^ЪЪ'
* ι ^р "- "^* ^» ^* ^» # ι *
А мидианиты продали его в Египет Потифару, сановнику фараона,
начальнику стражи. (Синтаксические явления в конце эпизода и главы
рассматриваются в следующем разделе работы.) Теперь же, после сю-
жетно отклоняющейся главы об Иуде и Тамар, wsS qätal возвращает нас
в пространственно-временной кругозор Иосифа:
■пар йрх о^гтаип -φ nuns onp HD^pis чпэрН
1 ■ 1 » ■ * * *
А Иосиф был отведен в Египет, и его купил Потифар, сановник
фараона, начальник стражи, египтянин, у измаилътян, которые отвели его
туда (Быт 39:1).
Особый случай представляет собой экспозиция ягвистской главы о
сотворении первых людей. Рядом с конструкциями, типичными для эк-
119
ί
спозиции главы и эпизода, в ней использованы формы предикации,
характерные для пролога истории, как это видно из раздела 14 настоящей
работы. Глава, о которой идет речь, и в самом деле начинает
повествование о событиях в Эдеме. Но сейчас неуместно задаваться вопросом о
том, составляет ли Быт 2-3 «историю» в смысле предложенного нами
членения повествовательного текста. Сперва надо проанализировать
прологи и эпилоги тех историй, синтаксическая выделенность которых
представляется нам несомненной.
:o^DKh рпк ^г\Ьн mm nifcy о^э
по2г dhü гп&п 3töS7"bDi"Vni<3vmm ЪНЬ mfcn mb Ьэ'-ι
ιποπκγγγίκ -тзуЬ "ι·»« α~ίκτ τί'κπ-Ьу а^пЬк mm mtann *o "»э
]пхгг]р nbir litt
а-гкгглк о'^пЬк mm пзгЧ
5 /wo время когда бог Ягве сделал землю и небо, никакого полевого
куста еще не было на земле, и никакая полевая трава еще не проросла, ибо
бог Ягве еще не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы
обрабатывать почву. И поток вздымался из земли и орошал всю
поверхность почвы. И [тогда] бог Ягве вылепил человека... (Быт 2:46 - 7а)
В этой экспозиции мы встречаем уже знакомые нам фоновые
конструкции woH terem yiqtöl и w^N 'ел Гауп (последняя конструкция
употребляется в начале эпизода и главы также в Быт 47:13 и Суд 19:1). Но
дальше идут конструкции v/oH yiqtöl/wdqätal, являющиеся, как будет
видно из раздела 14, главными формами предикации для «рассказа на
заднем плане» в прологе и иногда в эпилоге истории.
Заметим, что начало главы, как и начало эпизода, чаще бывает
немаркированным, поэтому и здесь в объяснении нуждаются именно
отклонения от простой повествовательной цепочки.
13. Синтаксические явления в конце эпизода и главы
Как и в начальной позиции, здесь употребляются формы предикации,
исходное значение которых уже установлено нами по их употреблению
в середине эпизода. В конце эпизода или главы эти конструкции
приобретают дополнительное значение «финальной» формы, маркируя
конец. Вообще говоря, в конечной позиции появляется woN qätalпочти во
всех значениях, разобранных в разделе 5 (ср. 5.1 — 5.4); так же и разные
типы фоновых конструкций употребляются иногда и в конце эпизода
или главы. Однако здесь мы остановимся лишь на сравнительно
частотных явлениях, не стремясь указать финальные параллели для всех
нефинальных форм предикации во всех их значениях.
13.1. Антитетический параллелизм в финальной позиции
В конце эпизода и главы иногда используется хиастическое построение
wayyiqtöl N{ — wdN2 qätal, причем имя чаще всего бывает дополнением,
то есть речь идет о «манипуляции объектами», как это обычно бывает
120
при антитетическом параллелизме, применяемом для создания эффекта
полноты и исчерпанности описания внутри эпизода (ср. раздел 5.2). В
финальной позиции применение хиазма — по-видимому, это чисто
стилистический (литературный) прием — привносит в текст значение
завершенности, «закругленности» всего эпизода: действие
«естественным» образом приостанавливается и замирает на woN qätal, не
мотивированном настоящим содержательным противопоставлением.
mm "ρΊχ-ηχ ibiPT. о"ихг mnp wih 1x3*1
:mm il-i*rr« пъЪЪ Че^тр"'1ээ" птуЬ*гл*о
* I # l·* I · ■ 4 * | <■ * * ■ · й *
И пришли жители Кирьят-Йеарима, и подняли ковчег Ягве, и отнесли
его в стоявший на холме дом Авинадава, а его сына Элеазара они
назначили стеречь ковчег Ягве (1 Сам 7:1).
Ь*ПЕгЬ ЬНЧЯР ΠΚΏ D^ntfbS'TFpb ЛК?К З^ЛУП ПЭЗЮЛ1
f * ■ V* * * 1*1 + * I * ' * ■
ЛЗ—F171 |1"1рУ0
И отошли города, которые филистимляне [ранее] захватили у
Израиля, обратно к Израилю, от Экрона до Гата. А окружающие их земли
Израиль [тоже] отбил у филистимлян. И с амдритянами у Израиля
отношения были мирными (1 Сам 7:14).
Из этого текста видно, что финальная форма не обязательно стоит
в обсолютном конце эпизода, подобно тому как конструкции,
относящиеся к экспозиции эпизода, не всегда стоят в его абсолютном начале.
ЬКПЙР'ЛК КПП ЗГ>3 ΠΊΓΡ 57tÖVn
фк "грэ-лк гпГзу папЬЪт
Ι '/τι ·' ν τ : -г χ τ : ■ — :
И Ягве даровал в тот день Израилю победу, а битва вышла за пределы
Бет-Эвена(1 Сам 14:23).
Это спорный текст: не вполне очевидно (но все же возможно), что
]1К Л^З"ЛК ПЛЗУ nonbam создает эффект-подытоживания эпизо-
да. К тому же waS qätal со значением подытоживания в финальной
позиции встречается сравнительно редко (ср. еще один такой пример в
Суд 16:31, рассматриваемый в разделе 14). Отметим: некоторые
комментаторы завершают наш эпизод на ст. 23а50. Однако они не берутся
объяснить, почему тогда первые два предложения подряд в их новом
эпизоде имеют форму wqS qätal:
:])Н л^глк ппзу попЬвт
А битва вышла за пределы Бет-Эвена. А израильтяне утомились в тот
день...(1 Сам 14:236 -24а).
Если же, как мы думаем, первый waS qätal замыкает эпизод, завершая
рассказ о разгроме филистимлян при Михмасе, а второй — открывает
новый эпизод, то объяснение самоочевидно: мы имеем дело с достаточно ча-
121
стотными ситуациями начала и конца эпизода, разбираемыми в этой
работе. В этом случае wqS qätal K7IU Ь^ПС^Г'ЕГХ"! «переключает» точку зрения
при вводе новых персонажей и их кругозора в начале эпизода.
obKh-p ттт ^nctfbsn юхтпк тп πρ*ί
λτ τ
Ψ 4
: :Ύ?πκ3 ab тбэ-пкч
И Давид взял голову филистимлянина, и он отнес ее в Иерусалим, а его
оружие он положил в свою палатку (1 Сам 17:54).
Здесь сам синтаксис речи рассказчика явным образом показывает, что
Давид «сделал все, что мог»: распорядился и телом сраженного им героя,
и его доспехами.
-IT 17"ПП Ή357 Ьк ТП -|ЮК ЭПТП "Ό*?» ЛХ ΊΠ ПР^П
φ * ^— * -τ* чр ^ * ■ *
-ΙΤ57-ΠΠ ■»-1X7 "»ΓΓΟΟΊ п'ЬЗЕП
π"κη пэпп" пюН'эт тп "?\ЬъП ПрЪ
φ *
И Давид забрал золотые щиты, принадлежавшие приближенным Гада-
дэзера, и принес их в Иерусалим. А из Бетаха и из Беротая, городов Га-
дадэзера, царь Давид забрал очень много бронзы (2 Сам 8:7-8).
νι'ΊΗ "нзхгЬэ л« -пЬап л^з плв π*-\^ ээер!
λτ
:1л^'з-Ьх τν ί£η
<...>'
τγοερτ. περί νιφ Ьэ#п in Υ^-ιηρ*!
w *
ν *
Я Урия лег [спать] у входа в царский дворец вместе с [остальными]
приближенными своего господина, и он не пошел к себе домой. <...> И
[на следующий день] Давид [снова] вызвал его, и он [Урия] ел с ним, и
пил, и он [Давид] напоил его. И он вышел вечером спать на своем ложе
в обществе приближенных своего господина, но домой к себе он так и
не пошел (2 Сам 11:9,13).
Весь эпизод «Урия в Иерусалиме» (11:6-13) построен вокруг ключевой
фразы «идти к себе домой», которая дважды употреблена в речи
рассказчика и трижды — в диалогах персонажей. В ст.9 автор использует
нейтральный порядок слов в сообщении «и он не пошел к себе домой» (wolö'
qätal Ν, то есть нейтральный отрицательный эквивалент wayyiqtöl), так что
инверсия (препозиция второй темы) в последнем высказывании эпизода
«но домой к себе он так и не пошел» (woN Iff qätal) создает богатый
смыслами финальный аккорд в развитии повествования: Урия, вопреки всем
усилиям Давида, так и не пошел домой и тем самым (как мы узнаем из
следующего эпизода) вынес себе смертный приговор.
13.2. Quasi - начало эпизода со сменой точки зрения
Здесь значение финальной формы аналогично не «срединному» (как в
13.1), а начальному wqS qätal (ср. примеры начинающего эпизод wqS
qätal из раздела 12.1).
122
I
л
' :т»зк Ink -\·2^_
:отгзюп '-ικ? nuns o*noT па^ьлаЪ'
ЧТ — — — ; — · ; — | :
И стали все его сыновья и все его дочери утешать его, и он отказывался
утешиться, и он сказал: «Нет, я в трауре спущусь к моему сыну в Шеол».
И его [Иосифа] отец отакивал его. А мидианиты продали его в Египет
Потифару, сановнику фараона, начальнику стражи (Быт 37:35-36).
Тут последнее высказывание эпизода и в самом деле указывает на
историю, начинающуюся в 39:1, после главы об Иуде и Тамар. Но и в
общем виде появление в конце эпизода нового персонажа (то есть его
wqS qätal, его точки зрения) создает эффект предвосхищения: это
«конец, чреватый новым началом».
тЬпкЬ егк юз*! Ькпйр паз*! D">ntfbs ΊΟΠ^Ί
π«ρ гптта Г7ЭОП "»ПЛ1
* * ■ * * ■ * * * «ta «#44 4 ^™
:опз*>в} ^ээп inn *6sr,,:h чёл
ιΨ4 * ^* * · 1 * fr **· *«*
■ 1 * г* 1а *
И филистимляне сражались, и Израиль был разгромлен, и
израильтяне разбежались по домам, и поражение было очень велико, и пали со
стороны Израиля тридцать тысяч пеших воинов. А ковчег божий был
захвачен, и оба сына Эли погибли, Хофни и Пинхас. (1 Сам 4:10-11)
Оба woS qatal в конце эпизода переключают внимание читателя на
темы, которым предстоит быть развитыми в дальнейшем рассказе,
особым образом выделяя эти темы.
ηπΐΏ Ъ ^зггкЬч тптгп пт Ъикг-по по'к bv*bn ^3Ϊ
АХ
4 *
/2 Самуил отослал весь народ по домам, а Саул тоже отправился к себе
домой в Гиву. И с ним пошли воины, сердце которых затронул Бог. А
(некоторые) негодяи говорили: «Чем же этот может нам помочь?», и
выказывали ему пренебрежение, и не поднесли ему даров (1 Сам 10:25б-27а).
ΪΓΡ31? ^Ьп b^ETDai (с редкой в речи повествователя частицей, Da),
имеющий значение «закругления» действия, аналогичен случаям,
разобранным в 13.1 (антитетический параллелизм в финальной
позиции). Но второй wqS qätal 0*1 OK Ьу^Ьз η33Ί) уже предлагает новую
персонажную точку зрения и предваряет рассказ о том, как гнев
народный обратился на клеветников Саула (11:12).
ΕΡΝ ηίΚΏ"Ε?Ε73 ГЧЕ?Э*П 4Ή DP*!
1Э^ПГР ΊΙ27Κ3 13^ΠΠ^_Τ П"^17рр Ж2Р1
:пхагЬ Ьиггп ЪЪ^зуро тп оЬог^э пап bixdS'i
-ι τ
# *
123
И Давид со своей дружиной, около шестисот человек, покинул Кегилу,
и они странствовали повсюду, куда их только ни заносила судьба. А
Саулу сообщили, что Давид бежал из Кегилы, и тогда Саул решил не
преследовать его (1 Сам 23:13).
Здесь waS qätal в конце эпизода указывает на новую персонажную и
пространственно-временную точку зрения.
:Ьщю луза in^-Vx пЬи'ЬжкК
IniQ α^-ιυ Ьжеглк лжлЬ bahoizf ηρ^."κ5ι
:bintip~bs7 Ьчккглк η·6ρπ—φ am птггт.
:т?о ^Ь гозз члчк-пэ
1 ■ * * ι * τ τ * * τ *
И Самуил пошел в Раму, а Саул отправился к себе домой в Гиву Сау-
лову. И больше Самуил не видел Саула до самой своей смерти, потому
что Самуил жалел Саула. А Я гее раскаялся в том, что воцарил Саула
над Израилем. И Ягве сказал Самуилу: «Доколе ты будешь жалеть
Саула, ведь я отверг его, он не будет царствовать над Израилем. Налей
в свой рог масла и ступай — я посылаю тебя к Иессею из Бет-Лехема,
я нашел-таки царя среди его сыновей» (1 Сам 15:34 - 16:1).
Здесь, похоже, финал одного эпизода оказывается аро koinou
началом следующего. Ст. 356 binfcp-btf ЬжВГЛК ΤΡ^ΟΓΓΌ Dm mm
можно представить в одном ряду с предшествующими примерами: он
вводит в конце точку зрения нового персонажа, готовя дальнейшее
развитие сюжета; либо (или одновременно) это начало следующего
эпизода, где вводится новый персонаж (ср. аналогичные примеры в 12.1).
Вот практическое резюме: waS qätal в речи рассказчика достаточно
часто указывает на смену точки зрения. Этот меняющий точку зрения
wsS qätal может находиться внутри эпизода, в его начале и в конце. В
начальной и в конечной позиции он приобретает также
дополнительное синтаксическое значение — отмечает начало и конец. Кроме того,
в последнем случае это «конец, чреватый новым началом».
13.3. Фоновая концовка
Эпизод может завершаться фоновым высказыванием типа «заметки на
будущее», то есть мы наблюдаем еще одну разновидность «конца,
чреватого новым началом».
ΏΊ0Ώ üib 170*1 nrnn пээ-Ьэ пх иЪ ib-nnm
:тгт Ьуп EP« гперт.
■[уээ-унхэ зкг плзк
:d'"]P"~ts7 bnioi -фэп Низ 5еН toibi
"ОЧИЭГП D^Sn 'Ώ1Ό ^ЕПК!
т t ι +
124
:~r'KD mmb
ι : τ —
И Лот выбрал для себя всю равнину Иордана, и Лот направился к
востоку, и они расстались: Аврам стал жить в земле Ханаана, а Лот
стал жить среди городов равнины, и он кочевал до Содома. А жители
Содома очень порочные и грешные перед Ягве (Быт 13:11-13).
Заметим, что смысл высказывания в ст. 12 и отсутствие вава при D^QNt
ЭКР указывают на уже известную нам из раздела 10 схему «wayyiqtol
рассказывания — qätal комментария». Завершающее эпизод фоновое
высказывание предвосхищает рассказ о встрече ангелов с Лотом у
ворот Содома и о последовавших за этим событиях.
* *
:v3Sö *i:pi
τπ~ηκ зп'х mim b*nfep~b:5i
И Саул увидел, что ему во всем сопутствует успех, и он пришел в ужас
перед ним. И весь Израиль и Иуда любят Давида, потому что он [в
сражениях] предводительствует ими (1 Сам 18:15-16).
Фоновая концовка исподволь намечает перспективу ослабления
Саула и усиления Давида.
"0
14. Синтаксическое обрамление истории (пролог и эпилог)
В речи рассказчика встречаются целые эпизоды, где в качестве главных
форм предикации используются waqätal (вместо wayyiqtol в
повествовательной цепочке переднего плана) и инвертированная конструкция
wpN yiqtöl (вместо w^N qätal в той же цепочке)51, то есть соотношение
«перфекта» и «имперфекта» зеркально по отношению к обычному в
речи рассказчика. Однако в этих эпизодах мы имеем дело с тем же
распределением форм предикации, что встречается в ритуальных
предписаниях (разновидности правовых текстов), — ср., например, Лев 4.
По нашим наблюдениям, эти формы предикации регулярно
используются для оформления пролога и эпилога целых историй, то есть для
того, что можно назвать «рассказом на заднем плане»52 или «рутинным
повествованием», — либо, по аналогии с
инструкциями-предписаниями, «процедурным повествованием». Каждой отдельной глагольной
предикации в «рассказе на заднем плане» можно приписать значение
итеративности, но решающим обстоятельством в выборе формы и в
наделении ее значением остается ее место в тексте, в нашем случае — в
прологе или эпилоге истории. Грамматически значимо именно место
формы предикации внутри речевого произведения определенного
жанра. Ведь, как мы знаем, в библейском иврите не только глагольные
формы, но и формы предикации не обладают грамматическим значением
сами по себе: так, в диалекте персонажей waqätal употребляется совсем
не в тех значениях, что в речи рассказчика.
Наши «рутинные» формы встречаются и за пределами пролога и эпи-
125
лога истории, ср. обсуждавшийся выше двусмысленный пример Быт 2:6,
а также 1 Сам 13:19-22. Но верно и то, что формы с итеративным
значением всегда употребляются группами в «сильных» местах композиции, -
и
там, где линейное развитие рассказа останавливается и возникает пауза:
отступление, описание длящейся ситуации и т.п. Известные из
справочных грамматик попытки приписать итеративное значение отдельно
стоящим формам wQqätal (ср. Быт 37:36) мы считаем неудачными (и ср. раздел 7).
Итак, woqätal приобретает итеративное значение лишь в
композиционно выделенном «рутинном» контексте. Правила для употребления других
форм предикации в «рассказе на заднем плане» мы выясняем прежде всего
на материале 1 Сам 1:1 - 2:26, так как это самый развернутый и сложно
организованный текст такого рода в древнееврейском повествовательном
корпусе. Именно из анализа этого текста следует, что woqätal — исходная
форма для «рутинного рассказа», а препозиция имени, отрицательной
частицы или подчинительного союза обычно вынуждает употребление yiqtöl.
От правил для рассказа на заднем плане бывают отступления в сторону
«обычной» (наиболее частотной) сочетаемости форм предикации — той,
^ VJ
что свойственна главной линии рассказывания и рассматривалась в нашем
очерке. Поэтому «идеальные» контуры синтаксического шаблона для рассказа
на заднем плане выступают в разных текстах с неодинаковой четкостью.
Приведем один пример из пролога истории Самуила:
Ьхпс^-ЬэЬ -раз ]wvi пюк-^э лктуоёН
nuto brix гтлв nliuan Чгюэггпк тпзэвр""пв$к п*п
« щ * * ^— * * 4 ^ч ш ^m ^v * « I ш * φ ы * * ^»* ■ * *
<...> ünb 10«"1
* * 4 —^ш 1 * * « + ■
А Эли был очень стар. Он слышал про все, что делали его сыновья
всему Израилю, и про то, что они ложились с женщинами, служившими
у входа в Шатер Собрания. И он сказал им... Но они не слушали своего
отца (1 Сам 2:22-25).
Установленные на материале 1 Сам 1 - 2 закономерности
верифицируются на менее развернутых «рутинных рассказах» (см. ниже).
1
Как видно из 1 Сам 1:1 - 2:26, для «рассказа на заднем плане»
характерно также скопление фоновых форм, и это понятно: пролог
образует «фон» (или «задний план») для всей истории, в нашем случае для
истории о Самуиле.
Рассмотрим теперь эпилог этой истории, с точки зрения членения
повествовательного текста обладающий статусом эпизода.
:у>чп ">D1 Ь"Э binfcPVIK Ь*П0Е? USE? 11
пэявт b-бат Ъ*ггрз ззот ^зЬз'пзй "hd ^Sm
'mbkn лчароггЬэ лк 'Ькпвр~пк вэкп
Ькпег-лк' oBttf Dtth irra Ъег'чэ ήήήηπ Votörn
α·· τ T*r τ : ·· τ -ι j τ τ τ τ ,τ χ :
ГПТПЬ Π3Τ0 DE7-T341
ΤΙ ™" — . · · * -у ι ·^ ■ —
И Самуил судил Израиль во все дни своей жизни. И ежегодно он
отправлялся в путь, и он проходил через Бетель, и через Гилгал, и через
Мицпу, и судил Израиль во всех этих местах. И его обратный путь
126
[вел] в Раму, так как там был его дом, и там он судил Израиль, и он
построил там жертвенник Ягве (1 Сам 7:15-17).
В первом предложении wayyiqtöl ÜSKPI объясняется формульным,
клишированным характером фразы: тот же подытоживающий ta'SEPI
используется в редакторских резюме книги Судей, ср.Суд 10:2,3;
12:7,9,П ,1453. Далее следуют три формы waqätal в рутинном значении
«рассказа на заднем плане». Потом рассказчик употребляет ИП ΐΓΩϋΟΓΑ
ΠΠΟΊΠ — тоже в рутинном значении. Естественно, между этим ИП и
(видимо) возможным woqätal — wosäb härämätä — должно быть различие,
но сейчас о его характере можно только гадать, так как мы пока не
нашли надежных синтаксических параллелей к этому месту. Выбор форм
предикации в придаточном предложении ЬюТЕТ"!!^ ODE? ОЕЛ 1ГРЗ 0£Γ"φ
подчиняется правилам, действительным для предложений с союзом ki,
включенных в основную повествовательную цепочку (ср.раздел 11).
Наконец, в последнем предложении эпизода «рутина» обрывается и
рассказ выходит на передний план: в нем употребляется wayyiqtöl
Тут история Самула-судьи, национального лидера, заканчивается.
Далее говорится о неудачном «судействе» его сыновей, и повествование
переходит к выбору царя. Самуил присутствует в рассказе и дальше, но
уже не в качестве центрального персонажа.
Мы заканчиваем этот раздел выборочным перечнем текстов, где в той
или иной степени реализуется описанный здесь синтаксический шаблон
рассказа на заднем плане. 1 Сам 9:1-2 и 14:47-52 образуют пролог и
эпилог истории Саула. В 1 Сам 16:23 (первый вариант рассказа о встрече
Давида с Саулом) цепочка woqätal повествует о положении Давида при
дворе Саула до начала событий, приведших к возвышению Давида, то есть это
пролог к истории Давида. В 1 Сам 27:7-11 рассказчик дает пролог к ряду
глав, объединенных единством места: «Давид в Циклаге». 2 Сам 14:26;
15:2,6 можно рассматривать как части пролога к истории Авессалома.
Сентябрь 1997 — февраль 1998
Примечания
1 Так называется работа британского ученого Л.Макфолла: McFall L. The Enigma of
the Hebrew Verbal System. Solutions from Ewald to the Present Day. — Sheffield, 1982.
2Gesenius' Hebrew Grammar. Edited and Enlarged by E. Kautzsch. Second English
Edition Revised in Accordance with the Twenty-Eighth German Edition (1909) by
A.E. Cowly. — Oxford, 1910. Карл Брокельман (Brockelmann С. Hebräische Syntax.
— Neukirchen, 1956) следует той же процедуре. Из полных описаний
древнееврейского синтаксиса здесь достаточно упомянуть еще три публикации: 1.
Монументальный труд Б.К. Уолтке и М. О'Коннора {Waltke В.К. O'Konnor М. An
Introduction to Biblical Hebrew Syntax. — Winona Lake, In, 1990) исходит из
формы, для установления значений использует возникшую в XIX в. аспектуальную
теорию (то есть теорию глагольных видов), вводит в аргументацию сведения
исторического характера и вообще пытается соединить большинство известных
гебраистике подходов и решений. Результатом оказывается все же не синтез, а,
в лучшем случае, энциклопедия, в худшем — эклектика. 2. Синтаксический том
грамматики Жоуона-Мураоки (Joiion P. A Grammar of Biblical Hebrew. Translated
127
and Revised by T.Muraoka. Volume II. Part Three: Syntax. — Roma, 1991)
предлагает тонко дифференцированную совокупность видо-временных и модальных
значений, исходя целиком из формы. 3. Дж.Гибсон {Gibson J. Davidson's
Introductory Hebrew Grammar. Syntax. — Edinburg, 1994) — одна из последних
работ по древнееврейскому синтаксису, претендующих на стандартный
характер. Гибсон тоже исходит из формы, принимает аспектуальную теорию,
элементы исторической грамматики и упоминает жанровые различия между текстами,
а также место личной формы в высказывании. О его работе (тоже, как мы
думаем, не чуждой эклектике) даст представление краткая цитата: «The (long)
YIQTOL expresses actions which are iterative (frequentative), customary or habitual,
distributive or, in some cases simply proceeding at a particular point in time. It is
found in narrative prose in past contexts and in both prose and poetry in discourses
which are set by their context in present time. In both these genres, as in it's other
usages, it resists the initial position in a clause or that immediately following Vav,
though rather more consistently in prose than in poetry» (c. 73). Нам
представляется очевидным, что столь всеядный подход и столь безбрежная широта охвата
едва ли помогут читателю Ветхого Завета понять, почему в конкретном случае
употреблен «YIQTOL» и что этот «YIQTOL» делает в данном месте текста.
3 См., напр., Аполлоний. Синтаксис, III в книге «Античные теории языка и стиля
(антология текстов)», М., 1996, с.145-149.
4 В дальнейшем N обозначает имя в любой синтаксической функции, S (или
Ns) — подлежащее, О — прямое или косвенное дополнение, Np — именное
сказуемое; (S) указывает на место подлежащего, которое может быть не заполнено.
5 Эту аксиому, быть может, следовало бы назвать текстлингвистической, но что
такое лингвистика текста — это каждый понимает по-своему, поэтому здесь мы
не будем углубляться в ее теоретические проблемы. Выражение «минимальное
речевое произведение» имеет отношение к одной из важнейших задач
лингвистики текста — выделению языковой единицы большей, чем предложение.
Чисто практическое, обусловленное нашим материалом и нашими целями,
решение этой задачи предлагается в следующем разделе статьи.
h Это понятие ввел в науку М. Бахтин. См. его работу «Проблема речевых жанров».
— Бахтин ММ. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5, с. 159 — 206. — М., 1996.
7 Термин «литературный этикет» заимствован из работ Д.С. Лихачева. См.
Лихачев Д.С, Избранные работы в трех томах. Том 1., с. 344-370. - Л., 1987. В
дальнейшем мы предпочитаем говорить о «речевом этикете».
н Исходно Бахтин определяет речевые жанры как устойчивые типы высказываний
(цит. соч., с. 159). И далее: «Вторичные (сложные) речевые жанры — романы,
драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т.д.
— возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и
организованного культурного общения (преимущественно письменного):
художественного, научного, общественно-политического. В процессе своего формирования
они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры,
сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения» (там же, с. 161).
9 В 80-е — 90-е гг. XX в. появилось несколько монографий и десятки статей, в
которых синтаксис библейского иврита рассматривается с применением разных
текстлингвистических теорий. Один из первых опытов в этом направлении был
предпринят в учебной грамматике Вольфганга Шнайдера (Schneider W.
Grammatik des Biblischen Hebräisch. — 7. Aufl.,München, 1989; первое издание
появилось в 1974 г.) См. ее обзор в работе С. Лёзова «Лингвистика текста и
древнееврейское повествование» (с. 43-62 наст, издания). Синтаксическая часть
учебника Шнайдера в основе своей — приложение текстлингвистической схемы Ха-
ральда Вайнриха к библейскому ивриту. Многие конкретные решения
Шнайдера (пожалуй, большинство из них) не подтверждаются нашим чтением
корпуса повествовательных текстов. Критический обзор текстлингвистической
литературы о библейском иврите мы надеемся предложить в отдельной работе.
Здесь достаточно сказать, что наш подход не заимствован из этой литературы,
а наши результаты, как правило, отличаются от наблюдений и выводов других
128
авторов. Главный источник нашего вдохновения — чтение текстов, доклады и
дискуссии в Семинаре по синтаксису библейского иврита при Институте
восточных культур Российского государственного гуманитарного университета.
10 Weinrich Η. Tempus. Besprochene und erzählte Welt, passim. 4. Aufl. Stuttgart,
1985 (первое издание в 1964 г.).
11 Принадлежность Быт 38 к истории Иосифа убедительно показал Роберт Ол-
тер: Alter R. The Art of Biblical Narattive. — N.Y.,1981. - C. 3-12.
12 См., например Гальперин И.P. Текст как объект лингвистического
исследования. — М., 1981. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. — М., 1973. Тура-
ева З.Я. Лингвистика текста. — М., 1986.
13 См. Тураева, ук. соч., с. 115.
14 См. Гальперин, ук. соч., с 69 слл.
15 Ср. категорию «речевой перспективы» у Х.Вайнриха. См. об этом в: Лёзов, ук.
соч.
16 Ср. Joüon- Muraoka, § 102 j, k; 154 k; 160 g.
17 Замена 'ел на 'ayin, как и другие т. н. «паузальные формы», отражает скорее
правила средневекового синагогального пения священных текстов, нежели
какие-то явления в самом библейском иврите.
18 Этот результат получен с применением электронной базы данных.
19 Ср. особенно книгу Иисуса Навина.
20 Как видно из примеров, речь идет не о смене белья, а о переодевании для
того, чтобы создать ситуацию qui pro quo, чтобы ввести кого-то в заблуждение.
Естественное место для повествований о таких приключениях надо искать,
конечно, не во внелитературном (бытовом) рассказывании, а в произведениях
словесного творчества, осознающего себя таковым, например в анекдоте. Тут
снова подтверждается «литературная», нормативно-конвенциональная
природа изучаемого синтаксического явления.
21 О всевидящем и скрытном повествователе в Ветхом Завете см., например,
Bar-Efrat S. Narrative Art in the Bible. Sheffield, 1989. О движении еврейского
повествователя «between the truth and the whole truth» см. Sternberg M. The Poetics
of Biblical Narrative. Bloomington, 1985.
22 Ст. 17-19 отсутствуют в большинстве изводов LXX. Истолкование этого
факта связано с известной проблемой двух литературных слоев в 1 Сам 16 — 18.
Стихи из этих двух глав, отсутствующие в LXX, образуют связный рассказ о
сражении Давида с Голиафом и об обстоятельствах, предшествовавших этому
событию и последовавших за ним. Вопрос в том, получилась ли Vorlage LXX в
результате сокращения более пространной версии, подобной МТ (так думает,
например, А. Рофэ), — или, наоборот, МТ возник в результате включения в
краткий текст типа Vorlage LXX второго рассказа о подвиге Давида (так
думает, например, Э. Тов, а также большинство новейших комментаторов)? См. об
этом Τον Ε. Textual Criticism of the Hebrew Bible. — Minneapolis, etc., 1992. — C.
334-336. Ср. также Τον Ε. The Composition of 1 Samuel 16 — 18 in the Light of the
Septuagint Version. — Empirical Models for Biblical Criticism. Philadelphia, 1985, с
97 — 130. Предлагаемый ниже синтаксический анализ дает основания полагать,
что ст. 17-19 и ст. 25 (присутствующий в LXX!) написаны одним автором. Это
аргумент (пусть не очень броский) в пользу того, что оба рассказа были
соединены в единое повествование уже автором нашего «романа» о Давиде.
23 Тут повествователь показывает, как Саул цинично пользуется речевыми
клише из официальной идеологии священной войны (ср. Числ 21:14).
24 Интересно, что почти в самом конце этой «главы» (13:3 — 14:23а) из истории
Саула, перед подытоживающим ее смысл словом рассказчика «и тут Ягве
даровал победу Израилю в тот день», снова всплывают персонажи — субъекты
конструкции waS qntai уже знакомые нам по разобранному выше отрывку из начала
главы, — см. 14:21-22: ШЛО ... VH ΊΕ7Χ и^НЗУГЛ WDE? ... biOET КРК Ь'ГП. Так
13:4,7 и 14:21-22 создают в этой главе тематическое и лексико-синтаксичёское
окольцовывание (inclusio), которое служит одновременно обособлению нашей
главы как единицы текста и ее внутреннему членению. Ср. МТ стихов 21-22:
9 Заказ 257 129
. 3*130 ПЭПЭЭ DQy, V?I7 "-ΙΕ?«
a^ncabs *ιο3-"3 Til7Qi27 a^iax'-ina ЬгкэппЬп' Ькпйг C7"»K' Ьз1
:пбпЬаэ' ογρίπκ nörran ib:n4i
А*
ш *
25 Μ.Г. Селезнев толкует то же синтаксическое явление не в терминах
меняющейся точки зрения, а как «контраст на уровне сюжетных линий внутри
рассказа: здесь существенно желание говорящего подчеркнуть, что в каждой из
противопоставленных друг другу сюжетных линий — своя программа, свой
сценарий. Если этого желания нет, то переход от одной сюжетной линии к другой [sc.
внутри эпизода — С.Д Я.Э.] может быть осуществлен и в пределах простого
повествования» (тезисы доклада в Семинаре по синтаксису библейского иврита).
26 Устное сообщение в Семинаре по синтаксису библейского иврита.
27 Ср. замечание И.М. Дьяконова; «В настоящее время общепризнано, что
перфективное употребление формы qatal(a) в центрально- и южносемитских
языках является вторичным; не только в аккадском, но и в других семитских
языках древней ступени эта форма была редка и, по-видимому, первоначально
употреблялась для предикатов состояния, другими словами, была вполне
аналогична не только по форме, но и по значению аккадской и древнеегипетской
формам «качества и состояния, наступившего в результате действия», т.е.
аккадскому «стативу», древнеегипетскому «псевдопартиципу». (Языки Азии и
Африки, VI, кн.1. Афразийские языки. Семитские языки. М, 1991, с. 55.)
28 См. Gesenius' Hebrew Grammar, §112. Joüon — Muraoka. A Grammar of Biblical
Hebrew, §119 С
29 См. Longacre Robert Ε. Weqatal Forms in Biblical Hebrew Prose. A Discourse-
modular Approach. — Biblical Hebrew and Discourse Linguistics. Winona Lake, IN,
1994. - С 50-98.
30 В грамматике Гезениуса примеры на конструкцию первого вида приведены
в главе о синтаксисе причастия (§116и), примеры на конструкцию второго вида
— в главе о Temporal Clauses (§164b).
31 Буквально «в срок жизни», что, видимо, значит «по истечении срока
беременности».
32 Неясное место. Самаритянское Пятикнижие и LXX читают «а она была за
ним» (то есть стояла за входом в шатер снаружи).
33 Термин принадлежит М. Г. Селезневу (тезисы доклада в Семинаре по
синтаксису библейского иврита).
34 **"!^ можно рассматривать и как отглагольное прилагательное, и как перфект
(тогда перед нами фоновый woS qätal, о котором пойдет речь ниже); но
последнее менее вероятно, так как фоновый wqS qätal обычно употребляется после
именных предложений. Надо добавить, что в тех случаях, где синтаксически
возможны обе формы, различие между 3 л. ед.ч. м.р. перфекта и отглагольным
прилагательным м.р. ед.ч. можно считать нейтрализованным.
35 Таков буквальный смысл. Он плохо вписывается в контекст, поэтому
некоторые комментаторы предлагают эмендацию «стоят ('отэаТт) рядом с ним».
36 О критериях деления текста на эпизоды см. раздел 12 настоящей работы.
37 Возможно, речь идет о пребывании в храме для выполнения какой-то
предписанной правом процедуры.
3* Мы рассматриваем форму усГ как имперфект, то есть читаем уЫа\ В Библии
terem употребляется с перфектом всего четыре раза, включая наше место. Что
касается остальных трех мест, то Быт 24:15 — поздний (послепленный) текст,
где нормы классического синтаксиса нарушаются (разбор лингвистических и
содержательных признаков позднего происхождения Быт 24 см. в работе Rofe
A. An Enquiry into the Betrothal of Rebekah. — Die Hebräische Bibel und ihre
zweifache Nachgeschichte. — Neukirchen, 1992, S. 28-39). Остальные два места
находятся в неповествовательных текстах (там употребляется boterem) — Пс 90:2
и Прит 8:25. Последний текст очевидным образом поздний, дата создания Пс
130
90 не установлена, но там форму yullädü мы можем истолковать как внутренний
пассив имперфекта Qal с неменьшим успехом, чем как внутренний пассив
перфекта Qal. В нашем тексте хиастическое построение двух высказываний
подтверждает чтение имперфекта (в параллель ко второму члену хиазма).
39 См. Лёзов. Ук. соч.
40 Ср. замечание из области американской нарратологии, исследующей
современную литературу: «...Любой отрывок текста, не представляющий собой
диалога или простого пересказа событий, но что-то объясняющий, косвенно
апеллирует к адресату ..., так как любой объясняющий пассаж предполагает и
объясняющего, и того, кому объясняют». (Современное зарубежное литературоведение.
Страны Западной Европы и США. Концепции, школы, термины. М., 1996, с.63).
41 Donner Υ., Röllig W. Kanaanäische und Aramäische Inschriften, Nr.200. — Wiesbaden, 1966.
42 Cp. 13:17, 23.
43 Некоторые комментаторы считают текст, вычленяемый нами как
«комментарий», вставкой. См. Stoebe H.J. Das erste Buch Samuelis. Gütersloh, 1973, c.260
(Kommentar zum Alten Testament. Bd. VIII/1). Однако из наших наблюдений
следует, что автор книги Самуила довольно часто пользуется этим
синтаксическим приемом, он вполне органичен для стиля книги.
44 В предлагаемую здесь вниманию читателя редакцию нашей работы не вошел
раздел о речевых жанрах повествовательной периферии.
45 Эти два места относятся к жреческому корпусу (Р), состоящему
преимущественно из неповествовательных текстов. Различие в речевых жанрах между
4J %а <*
нежреческои и жреческой прозой вызывает, естественно, и синтаксические
различия. Однако в приведенных местах из Исх 39 можно увидеть элементы
рассказывания, поэтому — для полноты картины — мы решили сослаться и на
тамошние «комментарии».
46 Здесь мы применяем категорию речевой перспективы в смысле Харальда Вай-
нриха. Краткое изложение его текстлингвистических идей см. Лёзов, ук. соч.
47 См. Boling R.G. Judges ad loc. (AB, vol.6a), N.Y., etc., 1975. Soggin JA. Judges ad
loc. (OTL), Philadelphia, 1981.
48 Анализ разных типов предложений с личными формами глагола ГРГТ выходит
за рамки этой работы. Заметим лишь, что подобное фоновое предложение
вполне возможно и без TT^Jl, а вносимое этой личной формой смысловое раз- t
личие трудноопределимо.
49 Читатель, быть может, удивляется тому, что мы время от времени называем
истории из книги Самуила «романом о Давиде». Заметим в свое оправдание: Милан
Кундера считает, что роман становится романом, когда в нем присутствует юмор,
«делающий — по слову Октавио Паса — все на свете двусмысленным». И далее,
роман — это «the realm where moral judgement is suspended» (Kundera M. Testaments
Betrayed, 3-8. — N.Y., 1996). В таком случае книга Самуила гораздо более
соответствует духу Нового времени и походит на роман, чем «Анна Каренина».
50 Stoebe H.J. Das erste Buch Samuelis (ΚΑΤ). McCarter P.K. I Samuel (AB). H.P.
Smith (Samuel, ICC) начинает новый эпизод с 14:24.
51 Грамматическая традиция, представленная справочными грамматиками,
толкует это явление в видовых терминах и видит здесь выражения итеративности
и длительности действия. При этом, как правило, «итеративные» wQqätal и yiqtöl
рассматриваются по отдельности, в разных главах грамматики, а связи между их
«итеративными» употреблениями не уделяется должного внимания. Ср.
Gesenius-Kautsch-Cowley, 107 b-e, 112 е-1; Joüon - Muraoka, 113 e-f. Гибсон в
разделе о синтаксисе имперфекта упоминает о связи между «итеративным»
употреблением обеих форм в повествовании, но не говорит о месте этих форм в
тексте и даже не приводит примеров: «In prose narratives these (sc. итеративные.
С.Л., Я.Э.) usages are recognised by the intrusion of a long YIQTOLform which is not
intrinsic to the genre and in the longer passages by its collocation with Vav cons. QATAL;
like plain QATAL they halt the progress of the story (63). В разделе о консекутивном
перфекте Гибсон утверждает: «In the appropriate contexts Vav cons. QATAL continues
YIQTOL expressing what is customary or general (freq.) in pres. or past» ( 75). Его при-
9*
131
меры для «past», то есть для речи рассказчика: Быт 2:6; 6:4; 1 Сам 2:19-20.
Утверждение Гибсона о последовательности в употреблении этих форм неверно, как это
видно из нашего анализа текстов (в: Лёзов, ук. соч., и в этой работе).
52 Синтаксический разбор рассказа на заднем плане в прологе истории
Самуила (1 Сам 1:1а 2:26) см. в: Лёзов, ук. соч.
53 Но ср. Суд 16:31, завершение истории о Самсоне:
•рз τήχ ччзрп Ъу^_ 1л"к Шр1 max п^з-bzn νπκ πτι
νρκ rhäb ""Ррэ Ь:хлеЫ -ρ:η пупа"
// пришли его братья и весь дом его отца, и они забрали его, и отнесли [его], и
похоронили его между Цорой и Эштаолом, в гробнице его отца Маноаха. Λ он
судил Израиль двадцать лет.
Здесь wqS qätalB конце эпизода (в свою очередь завершающего историю)
используется «для создания эффекта полноты и исчерпанности описания» (ср.
раздел 5.2).
Современное христианство
в контексте интеллектуальной истории
-1ш-
Христианство и политическая позиция:
Карл Барт*
1. Формулировка проблемы
В современных исследованиях о соотношении религии и
политической культуры христианство часто рассматривается как
нечто известное и — в методическом смысле — «данное», т.е.
в качестве исходного пункта или критерия для анализа или
оценки политической реальности и политической истории.
При этом христианские авторы, говоря о политике, обычно не
определяют то «данное», из которого они исходят в своих исследованиях и
интерпретациях. Христианство незаметно отождествляется с религиозным
сознанием и религией вообще, или с «религиозной (христианской?)
этикой», или с самопониманием европейского человека до Возрождения и
Просвещения. У нас особенно любят отождествлять христианство с
каким-нибудь из вариантов светлого прошлого.
Часто утверждают, что основополагающие ценности западной
социально-политической культуры (например, права и свободы человека,
представление о неотчуждаемом достоинстве личности) коренятся в
христианской традиции или в религиозном сознании, причем эти две
величины часто (хотя и неявно) уравниваются друг с другом, а также с
традиционным укладом общества. Сторонники этой точки зрения
считают, что начавшаяся в эпоху Возрождения секуляризация, торжество
мировоззренческого рационализма, возникновение идеала автономного
человека и подобающей ему автономной нравственности (утверждение
самодостаточности личности как независимости по отношению к чему
бы то ни было высшему), а затем и осуществление этого идеала в
истории — привели к тому, что понятия «личность», «права», «свобода»
лишились важнейшего элемента своего значения — измерения глубины.
Корни правовой и свободолюбивой западной цивилизации оказались
перерезанными: ведь они извлекали питательные соки не «снизу», но
«сверху». «Разве может утвердиться миропонимание, основанное на
примате свободы, — без суверенной свободы господствующего надо
всем Бога?» — спрашивает современный католический теолог Вальтер
Каспер1. Свобода, понятая как свобода от высшего, ведет, согласно
этим рассуждениям, к увяданию творческих сил западного общества,
* ПУТЬ. Международный философский журнал. М., 1993, № 1, с. 153 — 180.
135
утратившего свою духовную и нравственную основу. Политическая
демократия не продержится без того видения человека, из которого она
возникла. При этом христианское происхождение демократии
считается доказанным: обычно здесь ссылаются на то, что «христианство
провозгласило равенство всех перед Богом».
Протестантские авторы часто усматривают непосредственные
истоки политической демократии в двух важнейших событиях церковной
истории. Первое из них — Реформация, покончившая с католическим
абсолютизмом и обосновавшая самостоятельное достоинство светской
власти, т.е. положившая начало секуляризации. Второе — борьба
кальвинистских церквей за независимость от государства, т.е. за свободу
религии: в ходе этой борьбы возникали существенные элементы
либерально-демократического общества.
За последние десятилетия и нам, и Западу неоднократно объясняли,
что отрыв от собственных религиозных корней делает западную
политическую цивилизицию со всеми ее высокими идеалами духовно
беззащитной и бессильной перед вызовом и соблазном тоталитаризма именно
потому, что в двухмерном интеллектуальном пространстве, лишенном
измерения духовной глубины, демократия с необходимостью оказывается в
одной плоскости с тоталитаризмом, где она ничего не может
противопоставить тоталитаристскому (материалистическому) детерминизму,
отрицающему абсолютность прав и свобод личности, — ведь прежняя апелляция к
трансцендентной опоре личности, общества, народа и государства
запрещена правилами борьбы в двухмерном пространстве2.
Очевидно, что этот взгляд на соотношение политической культуры
Запада и религии сталкивается с серьезными трудностями при
интерпретации истории политико-правовых институтов и истории
политической мысли. Например, сторонники религиозного обоснования
демократии и либерализма должны во что бы то ни стало представить
доказательства того, что корни философии прав человека уходят в
христианское учение, а не, скажем, в ценностный плюрализм
(индифферентизм), возникший в Европе как реакция на кровопролитные и
фанатичные религиозные войны XVI-XVII вв., на события вроде
Варфоломеевской ночи, т.е. как средство залечивания ран и выживания в
политически и религиозно расколотом мире. Сторонникам этой точки зрения
необходимо также разработать весьма искусно построенное толкование
секуляризации, которое соответствовало бы такому представлению о
генезисе политической демократии, и т.д.
Важнее другое. В рамках христианского теоретизирования о
соотношении между религией и политической культурой выдвигается и
противоположная точка зрения. Ее сторонники считают, что
мировоззренческий либерализм со всеми его социально-политическими
проявлениями чужд или даже враждебен христианству, идеалы современной
западной демократии несовместимы с религиозным сознанием, так как
духовный смысл либерализма (и «либерального гуманизма») неотделим
от чисто светской идеи автономии личности, от самообожествления
постренессансного человека и пр. Как известно, вторая точка зрения
старше первой, в основе своей это искренний ответ консервативного
клерикализма на «радикальное» французское Просвещение, на Вольте-
136
pa с его лозунгом «ecrasez l'infame», на Французскую революцию и
политическую историю XIX в.
Однако для нашей темы важна не противоположность этих двух
взглядов на соотношение между христианством и политической
культурой Запада, а их общие предпосылки. Главную из них я уже назвал:
это представление о «христианском» как о «данном», как об уже
готовом критерии оценок. Но нас интересует ход мысли в обратном
направлении: политический этос, вырастающий из смыслового центра
христианства (который сам не должен считаться содержательно «предзадан-
ным»), будет рассматриваться как искомая величина на фоне уже
готовых, существующих как «данность» политических идеологий и
социальных систем.
Можно было бы ожидать, что здесь будет рассмотрена политическая
теология Иоганна-Баптиста Метца, Юргена Мольтмана и Доротеи Зёл-
ле — в той мере, в какой эти авторы стремятся «выявить внутренне
присущее христианской Вести отношение к обществу»(Ганс Кюнг)3.
Однако, на мой взгляд, их творчество уместно обсуждать в связи с
программой «прогрессивной теологии» 60-90-х годов. Прогрессивной я называю
здесь в формальном отношении «неклассическую» теологию, творцы
которой занимаются политическими темами, при этом они критикуют
буржуазное общество и «буржуазную религию» слева и в своей
критике часто используют элементы марксизма. Многие из них любят бого-
словствовать от имени дискриминируемых меньшинств и вообще от
имени угнетенных. Таким образом, политическую теологию надо
обсуждать вместе с теологией освобождения, теологией революции и
некоторыми типологически сходными с ними направлениями мысли,
которые иногда называют «теологиями родительного падежа».
* * *
А сейчас я попытаюсь раскрыть проблему соотношения христианства и
политической культуры в предложенной здесь формулировке на
материале творчества Карла Барта (1886-1968). Мой выбор определяется не
только тем, что К. Барт — наиболее значительный христианский
мыслитель XX века. Ведь меня интересует, как современная христианская
мысль ищет собственное основание, а еще всех нас интересует
политика. И тут именно творчество Барта дает уникальную возможность рас-
мотреть эти темы в их взаимосвязи. Ведь для христианской мысли Барт
значит не меньше, чем Августин, Фома Аквинский или Лютер. Весьма
далекий от симпатий к протестантизму Пий XII сказал, что Барт —
величайший догматический теолог со времен Фомы. А что касается
политики, то Барт всегда полагал, что теология призвана помочь
христианину в выборе политической позиции. Более того: Барт с самого начала
размышлял над политическими аспектами теологии, так как считал, что
она не должна легитимировать какую-либо предзаданную
политическую доктрину. Напротив, в содержании и структуре теологии должны
содержаться указания на ее собственное политическое измерение.
Именно на этой предпосылке было основано участие Барта в бурных
политических событиях его времени.
137
2. Основные мотивы теологии Барта
Карл Барт родился в Базеле 10 мая 1886 г. в семье кальвинистского
пастора и теолога Фрица Барта. Фриц Барт преподавал Новый Завет и
церковную историю в Базельском университете, он был сторонником
«позитивной» (т.е. умеренно консервативной) теологии. Видимо, у его
сына Карла не было колебаний при выборе профессии. Он начал
изучать теологию у себя в Швейцарии, в Бернском университете. Затем
Карл провел один семестр в Берлине, где на теологическом
факультете преподавали знаменитые теологи Адольф Гарнак и Герман Гункель,
важнейшие творцы либеральной теологии. Подчиняясь воле отца, Карл
продолжил учебу в Тюбингене. В разных университетах существовали
разные интеллектуальные школы; согласно тогдашним представлениям,
для полноценного образование студент-гуманитарий должен был
познакомиться с ними непосредственно. Последние студенческие семестры
К.Барт провел в Марбурге, где он избрал своим учителем
теолога-систематика Вильгельма Германа (1846-1922). В.Герман, соединявший в своем
творчестве наследие пиетизма с нравственным пафосом либеральной
теологии, сильно повлиял на образ мышления молодого Барта.
В 1911 году Барт стал пастором реформатской (т.е. кальвинистской)
общины в Сафенвилле, городке швейцарского кантона Ааргау. Здесь он
провел десять лет, здесь он написал два варианта «Послания к
римлянам» — первого опыта собственной теологии, вдохновленного
экзистенциальной встречей с вестью апостола Павла: книга построена как
комментарий на новозаветное Послание апостола Павла к римлянам.
«Послание к римлянам» принесло Барту известность, и в 1921 г. он
получил приглашение преподавать реформатскую теологию в Гёттингене.
Потом он преподавал догматику в Мюнстере и Бонне. В 1935 году,
отказавшись подписать текст присяги на верность фюреру, что
требовалось от всех государственных служащих, К.Барт вернулся из Германии
в Швейцарию. Он продолжил писательскую и преподавательскую
работу в своем родном городе Базеле.
* * *
Начало оригинального творчества Карла Барта часто называли
теологической революцией: первым самостоятельным шагом Барта был
громко провозглашенный разрыв с либеральной теологией, как она
сложилась в XIX в.
Вспомним, что либеральной теологией были сформулированы
вопросы, которыми христиане интересуются до сих пор: вера и
историческое знание, Иисус истории и Христос веры, христианство и культура,
религия и нравственность, абсолютное притязание христианства и
другие религии. Понятно, что все эти вопросы обусловлены культурной
ситуацией Нового времени: оно сделало невозможным беззаботное
воспроизведение протестантской ортодоксии XVI в. А еще либеральная
теология, вынужденная в эпоху после Канта отказаться от старой мета-
138
физической основы для догматики, задала вопрос, ответы на который
предлагаются до сегодняшнего дня; как говорить о Боге? — точнее.
можно ли вообще говорить о Боге и если да, то в какой системе
понятий, на каком языке? Как мы увидим, все эти вопросы сохранили свой
смысл и для Барта. Только его ответы отличались от «либеральных».
«Теологическую революцию», совершенную реформатским пасто
ром из Сафенвилля и его единомышленниками, можно понять и как
один из ответов христианской мысли на вопросы, порожденные
социальными потрясениями Первой мировой войны и европейских
революций — как ответ на катастрофу, уничтожившую тот мир, что был
естественным «местом в жизни» для либерального христианства.
Важнейшим документом этого нового теологического движения можно считать
второй вариант книги Барта «Послание к римлянам» (1922 г.).
Барт и теологи, чьи позиции в первой половине 20-х гг. были ему
близки — прежде всего это Эдуард Турнайзен, Эмиль Бруннер и
Фридрих Гогартен, а также Рудольф Бультман — называли свою работу
теологией Слова Божьего, а иногда — теологией кризиса. «Либеральные»
противники нового теологического движения прозвали его
неоортодоксией. В историю это теологическое движение вошло под названием
диалектическая теология (сам Барт не считал такое обозначение
удачным). По ходу изложения мы еще проясним смысл этих терминов.
Всеобщий кризис культурного сознания после Первой мировой
войны сказался и в том, что эти молодые теологи усомнились в
способности «религиозного человека» (т.е. «естественной» человеческой
религиозности) быть исходным пунктом христианской теологии.
Диалектическая теология начала с отрицания преемственности между
человеческой религиозностью и Богом, т.е. с отрицания самой основы теологии
либерального типа.
Ближе к концу жизни, в 50-е годы, Барт писал об исторических
обстоятельствах, заставивших его отвергнуть основные постулаты
теологии XIX в.: «Для протестантской теологии фактический конец XIX
столетия как «доброго старого времени» приходится на роковой 1914 год...
Один день в начале августа того года отмечен в моей памяти как черный
день. Девяносто три представителя немецкой интеллектуальной элиты
выступили с публичным обращением в поддержку военной политики
Вильгельма II и его советников. С ужасом увидел я среди этих
интеллектуалов почти всех моих теологических учителей, к которым я
относился с величайшим почтением. Разочаровавшись в их этосе, я
почувствовал, что больше не смогу следовать ни их этике, ни их догматике,
ни их пониманию Библии и истории. Теология XIX в. — по крайней
мере для меня — больше не имела будущего»5. (Среди теологов,
подписавших обращение, был и самый любимый учитель Барта Вильгельм
Герман, автор авторитетных работ по этике.)
В этих словах можно услышать важнейший мотив творчества Барта:
теология не может быть интеллектуальной игрой на фоне «настоящей
жизни» или в ее перерывах; догматика, персональная и социальная
этика, а также политика — неразделимы. Если нравственное и
политическое поведение христианина оказались неприемлемыми, то это может
свидетельствовать о глубоком изъяне в его понимании веры.
139
Центр, предполагающий единство этики и догматики, был найден
Бартом с самого начала в христологии — в учении об Иисусе Христе как
о едином Слове Бога, т.е. единственном и окончательном слове Бога к
человеку. И поэтому о соотношении «критического» и «позитивного»
периодов в творчестве Барта можно без особой натяжки сказать так:
утверждаемое Бартом в его монументальной «Церковной догматике»
(«Die kirchliche Dogmatik», 1932-1967) следует из его отрицательных
суждений в «Послании к римлянам» и в полемических статьях 1919-
1923 гг., хотя в зрелый период Барт отказался от некоторых своих
положительных суждений ранней поры. Что же до «диалектической
теологии», то она существовала как направление мысли и кружок
единомышленников главным образом за счет единства в отрицании. К
диалектической теологии можно отнести известные слова Пауля Тиллиха:
«Отрицание живет исключительно за счет того содержания, которое оно
отрицает». При выявлении положительных следствий отрицания пути
оригинальных мыслителей из числа членов кружка с необходимостью
разошлись. В результате о Бультмане и Бруннере можно сказать то же,
что и о Барте: они сохранили верность себе (хотя Барт и упрекал их в
отходе от общей позиции).
Определим, в чем состоит диалектический и отрицающий характер
теологии молодого Барта и близких к нему авторов из основанного ими в
1922 г. журнала «Между временами». Основатели журнала определили свое
направление как «теологию Слова Божьего», а в качестве названия
журнала они взяли заглавие статьи Гогартена 1920 г., в которой с особенной
четкостью выражено настроение послевоенного «потерянного поколения» в
теологии: «Вот судьба нашего поколения: стоять между временами. Мы
никогда не принадлежали тому времени, что сейчас уходит. Будем ли мы
принадлежать тому времени, что придет? ... А пока мы стоим между
временами. И это тяжкая человеческая нужда. Ведь тут терпит крах все
человеческое и становится бесчестьем — все, что было, и все, что будет. Но
поэтому мы можем — и до конца постигаем нужду — вопрошать о Боге»6.
В предисловии ко второму варианту своего «Послания к римлянам»
Барт заявлял: «Меня обвиняют в том, что я привношу смысл в текст
(послания Павла — С/7.) вместо того, чтобы извлекать его из текста.
Это обвинение — первое, что приходит в голову при обсуждении моей
работы. Вот что я могу сказать в ответ. Если у меня есть «система», то
она заключается в следующем: я прилагаю все возможные усилия,
чтобы не упустить из виду положительного и отрицательного значения
того, что Кьеркегор назвал «бесконечным качественным различием»
между временем и вечностью. «Бог на небесах, а ты — на земле».
Отношение такого Бога к такому человеку и отношение такого человека к
такому Богу — вот для меня тема Библии и одновременно сумма
философии. Философы называют этот кризис человеческого познания
Первоисточником. Библия видит на том же распутье Иисуса Христа»7.
Кризис — одно из ключевых слов для Йарта и его тогдашних
единомышленников. Употребление этого слова у них основано на
совмещении его современного значения с этимологией: по-гречески крисис
значит «суд». Барт писал в «Послании к римлянам»: «Но подлинный Бог
есть лишенный всякой предметности источник кризиса всякой пред-
140
метности, — Судья, отрицание и небытие мира»8. Отсюда и
обозначение всего направления как «теологии кризиса». Из «бесконечного
качественного различия» следует, что откровение Бога имеет
диалектическую структуру, и туже структуру имеет ответное «отношение такого
человека», т.е. теология, человеческие высказывания об этом откровении.
Диалектика откровения состоит в том, что оно соединяет
взаимоисключающие величины: Бога и человека, время и вечность. У «раннего»
Барта диалектика не знает синтеза, но лишь статическую
противоположность тезисов, единство которых «не наглядно». Следовательно,
откровение в Иисусе Христе открывает Бога именно как неизвестного Бога,
и как раз в этом заключается кризис, суд над «всякой плотью».
Здесь начинается тема теологической критики религии,
противопоставление веры и религии. Религия для молодого Барта — продукт
человеческого стремления спастись любой ценой, т.е. наиболее
последовательное из всех проявлений неверия. Барт с пророческим пафосом
заявлял, что религиозный опыт, религиозные чувства, потребности и
переживания, человеческая религиозность вообще существуют помимо
Бога, ибо Бог не нужен для успешного функционирования религии.
Вот почему диалектическая теология начинает с отрицания связи между
религией и Богом или — что то же самое — с утверждения диастаза,
полного разрыва, между культурой (религия — ее часть) и верой.
«Евангелие — писал Барт в 1923 г. — имеет столь же много или столь же мало
общего с «варварством», как и с культурой»9.
«Истину Бога они заменили ложью, они поклонялись и служили
творению вместо Творца» (Римл 1:25). Комментируя эти слова апостола
Павла из Послания к римлянам, Барт говорит, что религия служит своему
«небогу» — «таким полудуховным, полуфизическим образам как Семья,
Народ, Государство, Церковь, Отечество»10. Но если религия тождественна
неверию и идолопоклонству, то вера (верность) — как и праведность
(справедливость) — свойство в первую очередь не человека, а Бога.
Поэтому Барт обращает особое внимание на те места у Павла, где греческое
слово пистис («вера») может быть понято как «верность» (Бога)11.
Барт утверждает, что откровение Бога — кризис религии, он говорит
о неустранимой противоположности между религией как тем, что
переживается во времени, и Откровением как «математической точкой»,
единственным деянием Бога, которое становится «наглядным» лишь в
событии Христа.
Итак, Бог Иисуса Христа судит религию: «Ни одна религия в своей
конкретности не избежит суда»12. Но, согласно диалектике Барта, в
«наглядности» суда и гнева проявляется «не наглядная» милость Бога, — точно
так же как «наглядность» Креста заключает в себе «не наглядное»
Воскресение: «Суд — не уничтожение, а восстановление... Гнев Бога — это
откровение Его праведности по отношению к неверию, ибо Бог поругаем не
бывает. Гнев Бога есть праведность Бога — помимо и без Христа»13.
Для Барта религия — естественное самопонимание человека,
предполагающее, что он может познать Бога в природе и в истории.
Запомним это положение — оно важно и для обсуждения позиции Барта в
церковно-политической борьбе, которая началась после прихода
Гитлера к власти.
141
Форма религии (закон, культ) — след Откровения в таком же
смысле, как воронка — след взорвавшейся бомбы, сухое русло — след
прорвавшегося потока. И молодой Барт настойчиво противопоставляет
«возможную возможность» культуры, религиозного опыта, закона —
«невозможной возможности» веры. «Подлинно творческий акт, в
котором люди становятся детьми Аврааму, «камни сии» превращаются в
^ *-*
сыновей, — состоит не в возможной возможности религиозного
закона, а в невозможной возможности веры»14.
Используя образы Кьеркегора, Барт говорит, что с точки зрения
человека вера — пустота и прыжок в пустоту. Но теологическая революция Барта
пусть и с весьма консервативными чертами — в том и состоит, что он
попытался повернуть в обратную сторону (re-volvere) само направление
христианской мысли, начав не «снизу» — с религии и человека, а «сверху»
— с веры как верности Бога, явленной в его Слове. Поэтому «Послание к
римлянам» звучит как «чума на оба ваши дома!», как отвержение и либе-
XJ *-*
ральной теологии и церковной ортодоксии, которые — каждая на свои лад
пестовали человеческую религиозность как прояатение «тайной
божественности» человека — в этическом или культово-сакральном
понимании. Здесь Барт охотно соглашается с Фейербахом.
Понятно, что статическая диалектика и идея суверенной свободы
Бога, необъективируемости его Слова не позволяют Барту сказать
ничего определенного о содержании откровения в Иисусе Христе: Бог
Иисуса — «неизвестный Бог» неокантиантства (Г.Коген), «совершенно
иной» (Р.Отто). Метафизика, как и у либералов, — под запретом, а
новая возможность говорить о Боге положительно, не обращаясь ни к
метафизике, ни к философской антропологии и этике, пока не найдена.
Собственно, вначале Барт и не искал такой возможности. Отрицающая
и диалектическая речь как раз соответствовала его задачам. Он прямо
пишет об этом в одной из статей 1922 г., сравнивая «три пути» теолога
— догматический, критический и диалектический: «Подлинный
диалектик знает, что этот центр — живой Центр всякой теологии —
непостижим и «не нагляден», и поэтому он не станет давать прямые
сведения об этом центре, ибо он знает, что все такие сведения,
положительные и отрицательные, — на самом деле не сведения, но всегда либо
догма, либо критика. По этому скалистому гребню можно только идти;
если он попробует остановиться, то упадет — направо или налево, но
упадет непременно. Остается только идти и идти — страшное зрелище
для тех, кто подвержен головокружению, — идти, переводя взгляд с
одной стороны на другую, от утверждения к отрицанию и от отрицания к
утверждению, тем самым соотнося их друг с другом»15.
Именно в таких терминах Барт говорит в «Послании к римлянам» о
событии Христа: «Иисус как Христос есть план, лежащий за пределами
нашего восприятия. Тот план, который известен нам, Он пересекает
вертикально сверху... Вокресение есть раскрытие Иисуса как Христа. В
воскресении новый мир Святого Духа касается старого мира плоти, но
так, как касательная касается окружности, — то есть не касаясь его. И
именно потому, что он не касается его, он касается его как граница
как новый мир»16.
Эта недоказуемость откровения была общим «отрицательным»
142
убеждением сообщества «Между временами», вытекающим из
представления о Боге как о «совершенно ином», — убеждением, не позво-
LI
лявшим диалектической теологии «упасть направо», отграничивавшим
ее от «позитивной» (т.е. антилиберальной) теологии17. В категориях
этой диалектики Барт интерепретирует и Воскресение: «Воскресение
Иисуса не есть событие внутри истории рядом с другими событиями его
4J
жизни и его смертью, но внеисторическое соотнесение всей его
исторической жизни с ее источником в Боге»18.
Бартова трактовка Слова Бога и религии позволяет пояснить и
конкретизировать то, что я сказал о преемственности между ранним и
зрелым периодами в его творчестве.
К началу 30-х годов Барт сумел сделать положительные выводы из
своих отрицательных суждений. Бога нельзя познать вне его единого
Слова — Иисуса Христа, утверждал ранний Барт. Но во Христе Бог
действительно открывает себя, т.е. позволяет сделать себя настоящим
объектом познания, — смог добавить Барт в ту пору, когда он отказал-
*-*
ся от чистой диалектики и перешел к построению христоцентричнои
догматики с помощью метода, который принято называть христологи-
неской аналогией, В отличие от естественной теологии,
умозаключающей от творения к Творцу («Несведом тварей вам конец? Скажите ж,
коль велик Творец?»), христологическая аналогия Барта идет опять же
«вертикально сверху» — от Бога к человеку. При этом, конечно,
вместе с идеей отрицания и диалектикой Барт опускает и неокантианские
суждения о «неизвестном Боге». Заметим, что такая «естественная
теология» известна всем главным христианским конфессиям.
Апологетика обычно начинает с того, что познание Бога в какой-то мере
доступно разуму, и лишь для его завершения требуется «особое» христианское
Откровение. В католицизме это утверждение о познаваемости Бога «в
природе и истории» приобрело догматический статус.
Ведь, как мы уже знаем, для Барта христианская теология — ответ
на приходящее «вертикально сверху» суверенное Слово Бога: это и
только это. Значит, теология не противопоставляется вере. Поэтому
Барта — автора «Церковной догматики» перестали волновать кьеркего-
ровски-экзистенциалистские темы, до конца важные для Бультмана и
Бруннера: истина как событие встречи, внеположное
объективирующим суждениям теологии; необходимость преодоления «субъектно-
объектной схемы» и т.п.
Понятно, что эта новая рациональность Барта, вылупившаяся из
скорлупы кьеркегоровской парадоксальности, его способность
утверждать там, где «научная теология» — во имя интеллектуальной
честности — могла только отрицать, — все это было воспринято его прежними
союзниками по диалектической теологии как «объективация веры»
(Бруннер) и «мифологическая речь» (Бультман). Следует, однако,
помнить, что тут Барта критиковали теологи, сознававшие себя очень во
многом обязанными ему, но шедшие своими путями. Отметим также,
что Дитрих Бонхёффер, до определенного времени глядевший на
Барта «снизу вверх», в письмах из тюрьмы называл его теологию
«позитивизмом Откровения», т.е. учением, для которого «все, будь то
девственное зачатие, Троица или что бы то ни было, есть одинаково важный и
143
необходимый элемент целого, которое должно быть либо проглочено
именно как целое, либо целиком извергнуто»19.
Барт с самого начала скептически относился к философской теологии
и к самой возможности «христианской философии». В конце 30-х годов он
писал: «За эти годы я узнал, что христианское учение должно быть
исключительно и последовательно, во всех своих суждениях, прямо или косвенно
— учением об Иисусе Христе как о сказанном нам живом Слове Бога»20.
Поняв всю свою работу как «христологическую концентрацию» и увидев
в событии Христа источник положительных суждений, Барт смог вообще
отказаться от философской системы, так как любые эпистемологические
предпосылки внеположны откровению: «Теолог, не стыдясь своей
философской наивности, должен заявить прямо и безоговорочно, что единая и
неделимая истина его — Христос, и это определенно указывает ему путь
мышления и словесного выражения и потому отрезает для него
философский путь. Речь идет не об идее Христа, а о Христе Иисусе из Назарета, что
жил при Августе и Тиберии, умер и воскрес, чтобы больше никогда не
умирать, но не как прекрасное (быть может, самое прекрасное) средство
выражения мыслей, а как истинный Бог и истинный человек, как
олицетворение установленного Богом союза между Ним и человеком»21.
Так «не наглядное» единство противоположностей стало наглядным,
сделалось предметом теологии и критерием истинности ее суждений. В
соответствии с этим положительным настроем Барт в «Догматике»
заново продумывает свою критику религии и говорит об «откровении
Бога как снятии религии». Уже в «Послании к римлянам» Барт —
следуя Гегелю — обыгрывает в «диалектических» целях многозначность
немецкого слова «Aufhebung». Русский перевод этого термина —
«снятие» — отчасти передает сочетание двух нужных для «игры» значений
немецкого слова: «устранение» и «возвышение». А в «Догматике» дело
обстоит так: поскольку религия есть человеческое неверие, Бог судит ее,
и его Слово «устраняет» религию. Но коль скоро «Слово стало плотью»
и приняло человеческую природу, то Бог принимает и, следовательно,
«возвышает» религию как человеческий ответ на Слово.
Разумеется, в таком контексте речь может идти только о
христианской религии. Барт почти не успел почувствовать проблематичность
христианского абсолютного притязания: эта тема стала неизбежной и
важной для христианской мысли лишь в последней трети XX века. Что
касается теологического диалога между религиями, то он
по-настоящему попал в поле зрения Барта только под конец жизни22.
З.Время решать: теология, церковь и политика
в Третьем рейхе
Так как сейчас моя главная задача — рассмотреть попытку Барта
выявить политический этос христианства как должное, с необходимостью
следующее из смыслового центра веры, то теологическую позицию,
сформулированную Бартом в начале 30-х годов, следует поместить в
контекст опыта той церкви, при основании и в жизни которой, по сло-
144
вам теолога и церковного историка Эрнста Вольфа, «уникальным
образом соединились теология (а именно теология К. Барта — С.Л.) и
община»23. Речь идет, конечно, об Исповедующей церкви (Bekennende
Kirche).
«Неоортодоксальная» теология — в отличие от либеральной — очень
настаивала на том, что ее дело есть церковное дело, она стремилась
ввести теологическую работу в Церковь, «снять» противостояние
университетской (научно-теологической) и церковной (проповеднической)
кафедр. К. Барт написал свое «Послание к римлянам», исходя из
опыта, который он приобрел за годы служения в качестве пастора и
проповедника; эта книга обращена скорее к людям Церкви, нежели к
академическому миру. В начале 50-х годов Р. Бультман доказывал, что его
«программа демифологизации» — чисто церковное дело, и считал
безответственным и вредным для Церкви решение лютеранского синода
1952 г., объявившего «демифологизацию» ложным учением. А название
главного (оставшегося незаконченным) труда Барта «Церковная
догматика» говорит само за себя.
Однако немецкая евангелическая церковь двадцатых годов была
бесконечно далека от идей диалектической теологии. Ведь Барт и его друзья на-
■J 1_* *-*
чали с утверждения диастаза между культурой и христианской верой, и эту
идею Барт всегда лишь заострял. А отсутствие преемственности (диастаз)
L* VJ
между культурой и верой означает несочетаемость национального и
христианского24. Вспомним: в 1921 г. Барт писал о религии, служащей
«небогу» Народа и Государства в комментарии к Римл 1:23-27, т.е. он
сравнивал попытку совместить «опыт» национального и христианского с
половыми извращениями, о которых Павел говорит: «Потому предал их Бог
постыдным страстям...» (Римл 1:26). А вот как характеризует Э.Вольф (он сам
был членом Исповедующей церкви) положение немецкой евангелической
церкви после Первой мировой войны:
«Она должна была достичь самостоятельности, оказавшись зажатой
между собственной консервативной церковно-политической и теологи-
•J *-Г
чески-мировоззренческои традицией и новым государственным
партнером, Веймарской республикой, стоя на зыбкой почве «хромающего»
отделения церкви от государства, и в условиях усиливающегося оттока
людей из церкви. Естественно, что церковные круги весьма
благосклонно относились к новому национализму, возникшему из
военного поражения 1918 г. В традиционном консервативном сочетании «трон
и алтарь» на место «трона» была помещена «нация». Казалось, что
немецкий национализм и протестантское христианство внутренне
связаны между собой. При этом лютеранское начало нередко противопостав-
4J
лялось демократии, отвергаемой как кальвинистски-западническая
идея. Эти «германско-церковные», или «германско-христианские»
настроения воздействовали на широкие круги евангелической «образо-
ванщины» («Halbbildung») ... Консервативно настроенная церковная
общественность порой воспринимала национал-социализм как нечто
вроде политического движения покаяния ... С 1931 г.
национал-социалисты стали впрягать и евангелическую церковь в борьбу против
«веймарской системы», против «марксизма, жидовства и центра»... Возник-
ч~*
ло руководимое партией церковно-политическое движение «немецких
<
10 Заказ 257 145
христиан». На прусских церковных выборах 1932 г. они получили
около трети мест в синоде»25.
В исторической литературе многократно описывалось то
переживание национального возрождения, единства, новой осмысленности
жизни, которое испытала значительная часть немцев (в том числе и
христиан) после прихода национал-социалистов к власти. Для большинства
светлые идеалы национал-социализма все же оказались
привлекательнее серой действительности Веймарской республики начала тридцатых
годов.
Июльские церковные выборы 1933 г., проводившиеся под
контролем новых властей, принесли победу «немецким христианам»,
провозгласившим создание «Евангелической церкви германской нации» и
решившим «явить миру германского Христа». Радикальное крыло
немецких христиан, поддерживаемое партийными кругами, жаждало
немедленного национального «завершения» Реформации, удаления всего
негерманского из богослужения и вероисповедания, «обезъевреивания»
(Entjudung) Евангелия и церкви; они требовали создания расово-чисто-
го христианства вокруг нордически-героического образа Иисуса26.
Учение «немецких христиан» основывалось на ключевых понятиях
национал-социализма — Народ, Раса, Вождь, а их манифест 1932 г.
воспроизводил формулировки партийной программы: «Мы стоим на почве
позитивного христианства. Мы исповедуем положительную и расово-
чистую (artgemäß) веру во Христа, соответствующую германскому духу
Лютера и героическому благочестию ... Мы видим в расе, народе и
нации порядки жизни, дарованные и доверенные нам Богом. Закон Бога
для нас состоит в том, что мы должны заботиться о сохранении этих
порядков. Поэтому следует противостоять расовому смешению ... В
миссионерстве среди евреев мы видим серьезную опасность для
нашего народа. Это ворота для входа чужой крови в народное тело ... Браки
между германцами и евреями должны быть запрещены»27. Заметим: в
программе национал-социалистической рабочей партии Германии
(1920 г.) уже содержится положение о том, что «партия представляет
мировоззрение^позитивного христианства» (пар. 24).
Последнее из приведенных положений манифеста «немецких
христиан» на три года опередило законодательный акт, запрещавший
браки с «неарийцами» — «Закон о защите крови» от 15 сентября 1935 г. Но
первый расовый закон был принят уже 7 апреля 1933 г. Это был
«арийский параграф», согласно которому евреи подлежали увольнению с
государственной службы и устранению из культурной жизни.
5-6 сентября 1933 г. в Берлине состоялся Генеральный синод
евангелической церкви Пруссии, который положил начало введению
расового законодательства в церковь. Это собрание вошло в историю как
«Коричневый синод», потому что немецко-христианское большинство
его членов нарядилось в коричневую партийную форму. Но, несмотря
на эти успехи «немецких христиан», раскол в церкви все же произошел,
и непосредственной причиной раскола стал «арийский параграф», хотя
речь на синоде шла пока лишь о запрете ординации евреев, но не об
отстранении уже служивших пасторов. Впрочем, перспектива изгнания
из церкви всех «неарийцев» вырисовывалась уже достаточно ясно. 12
146
сентября Мартин Нимёллер и Дитрих Бонхёффер составили «Протест»
против решений Генерального синода. Протест Подписали 22 пастора. Так
возник Чрезвычайный союз пасторов, который к концу года насчитывал
около шести тысяч членов. Он стал ядром Исповедующей церкви.
Эти события можно считать началом церковной борьбы
(Kirchenkampf). Для нашей темы о соотношении христианской веры и
политической позиции важно прояснить одно обстоятельство: почему
многие компетентные интерпретаторы церковной борьбы и
деятельности Исповедующей церкви — теологи, авторитетные представители
послевоенной церкви (они же — руководители Исповедующей церкви)
настаивают на том, что смысл событий, о которых идет речь, будет
полностью извращен, если считать их всего лишь борьбой против
ложного учения «немецких христиан» или только сопротивлением национал-
социализму.
«История церковной борьбы в немецком протестантизме, — пишет
Эрнст Вольф, — это история возобновлявшихся усилий и повторявших-
*J ±J
ся поражении на пути евангелической церкви к новому
теологическому самопониманию, история невыдержанных испытаний ...
Штутгартское покаяние Совета евангелической церкви в Германии 19 октября 1945
г. констатировало все это в форме самооценки и тем самым
принципиально исключило возможность героизировать церковную борьбу»28.
Действительно, церковная борьба свелась к борьбе церкви за
выживание и самосохранение. В соответствии с учением Лютера о двух
царствах и о двух формах правления Бога на земле, христианин обязан
подчиняться любой мирской власти не за страх, а за совесть, ибо всякая
власть «установлена Богом» (ср. Римл 13:1). При этом должно быть
выполнено только одно условие: государство не вправе ограничивать
свободу христианской церкви и не должно вмешиваться в дела веры. Лишь
ущемление этой христианской свободы дает христианину право на
сопротивление, право не повиноваться мирской власти. Помимо этого
Церковь не должна вмешиваться в политику и вообще в сферу
компетенции мирской власти. — Таково было старое самопонимание
немецкого протестантизма, не выдержавшее испытания. Защита церковной
свободы — тот последний рубеж, который церковь не могла сдать, не
перестав быть церковью в собственных глазах. Однако выяснилось, что
этого недостаточно. Дитрих Бонхёффер уже в апреле 1933 г., после
принятия «арийского параграфа», почувствовал, что классическое
лютеранское учение о государстве не дает опоры в новой ситуации, — именно
почувствовал, так как обосновать это с помощью доступных ему аргу-
4J <J
ментов он не мог, а выйти за рамки лютеранской ортодоксии он еще не
был готов. Поэтому знаменитый тезис его статьи «Церковь перед
еврейским вопросом» (апрель 1933), согласно которому в некоторых случаях
церковь должна «сама броситься под колеса»29 машине
террористического государства, чтобы быть там вместе с его нехристианскими
жертвами, — этот тезис остался без всякой вероучительной опоры. Он
прозвучал как одинокий голос человека, который в конце концов сам
сделал то, чего напрасно ждал от своей церкви, — «бросился машине под
колеса». Вот почему послевоенное церковное руководство «исключило
возможность героизировать церковную борьбу».
10* 147
* * *
Теперь, когда в ходе краткого экскурса в историю немецкого
протестантизма 20-30-х годов мы увидели, что в ней можно и чего в ней нельзя
найти, мы вернемся к нашей главной теме и рассмотрим то
теологическое обоснование, которое церковная борьба получила в Исповедующей
церкви. Вот что пишет об этом Эрнст Вольф:
«В январе 1949 г. Братский совет евангелической церкви в Германии
заявил, что считает своим долгом — ввиду тенденции к реставрации
церковных институтов — отстаивать основополагающие истоки
Исповедующей церкви, ибо она «возникла не как движение сопротивления
немецким христианам и национал-социализму, но из нового понимания
Слова Бога и теологии реформаторов». — Этими словами Совет
правильно указал на истоки Исповедующей церкви в начавшемся после
Первой мировой войны теологически-церковном переломе, которому
способствовала прежде всего диалектическая теология»30.
Исповедующая церковь как «правомочная Германская
евангелическая церковь» была создана на первом исповедническом синоде в
Бармене (район Вупперталя) 29-31 мая 1934 г. Главным документом синода
была Теологическая декларация. «Бармен» надолго стал «знамением
пререкаемым» для теологии и церкви.
«Церковная борьба превратилась по своей глубочайшей сути в
борьбу вокруг «Бармена», так как Теологическая декларация стала своего
рода концентрированной самокритикой протестантизма»31. Как
известно, автором проекта Барменской декларации, документа,
выразившего общую веру немецкой евангелической церкви, был Карл Барт.
Декларация состоит из шести статей. Во втором томе своей «Церковной
догматики» Барт приводит текст первой и важнейшей статьи
«Бармена», а затем комментирует его в рамках догматической темы о
познаваемости Бога (этот раздел «Догматики» написан в конце 30-х годов).
Вот текст этой статьи:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу иначе,
чем через Меня» (Ин 14:6). «Истинно, истинно говорю вам: всякий, кто
не входит в овчарню через дверь, а проникает иначе, тот вор и
разбойник ... Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот спасется...» (Ин 10:1,9).
Иисус Христос, как Он засвидетельствован нам в Священном
Писании, есть единое Слово Бога, которое мы должны слушать, которому
мы должны доверять и покоряться в жизни и в смерти.
Мы отвергаем ложное учение о том, что Церковь якобы может и
должна признавать в качестве источника своего провозвестия, помимо
этого единого Слова Бога и рядом с ним, еще и другие события и силы,
образы и истины как откровение Бога»32.
Формулировки этой статьи сохраняют безошибочно узнаваемую
тональность теологии Барта во всем ее своеобразии, со всеми ее сильными
и слабыми сторонами. Именно голос этого швейцарского кальвинистского
пастора и немецкого профессора смог стать внутренне авторитетным
голосом христианской церкви в Третьем рейхе. Именно его теология смогла
устоять, оказалась готовой к испытанию и кризису. Поэтому стоит
обратиться к его комментарию на эту первую статью «Бармена».
148
Барт считает, что главная проблема, с которой имеет дело этот текст
(она же — главная ошибка немецкого протестантизма), — соотношение
VJ ^J
христианской и естественной теологии:
«Этот текст важен и относится к делу потому, что он представляет
собой первый вероисповедный документ евангелической церкви, в
котором рассматривается проблема естественной теологии. Теология и
тексты исповеданий эпохи Реформации оставили этот вопрос
открытым. Правда, он обострился только в последние столетия из-за того, что
естественная теология все больше грозила превратиться из скрытого в
явное мерило и содержание провозвестия и теологии Церкви. Этот
вопрос стал жгучим в тот момент, когда евангелическая церковь в
Германии была недвусмысленно и последовательно поставлена перед новым
образом естественной теологии, а именно перед требованием
распознать в политических событиях 1933 г., и прежде всего в образе
посланного Богом Адольфа Гитлера, источник особого, нового откровения
Бога, которое, требуя доверия и покорности, должно было стать рядом
с откровением, засвидетельствованным в Священном Писании, и
которое должно быть признано церковью рядом с этим откровением в
качестве обязательного и обязывающего. С этого требования, а также с того,
что многие вняли ему, началась так называемая немецкая церковная
борьба. С тех пор обнаружилось, что за этим первым требованием
стояло совсем другое. Уже в 1933 г. существовал замысел, хотя тогда он
лишь неясно вырисовывался, провозгласить — в соответствии с
динамикой политической жизни — это новое откровение единственным, а
евангелическую церковь превратить в храм мифа о германской
«природе» и истории»33.
Итак, Барт считает, что неспособность христиан в Германии
противостоять искушению национал-социализма есть необходимый
результат внедрения «естественной теологии» в провозвестие церкви; по
мысли Барта, в протестантизме это внедрение длится около двух столетий.
Надо заметить, что объем понятия «естественная теология»
складывается у Барта из разнородных компонентов.
Прежде всего он имеет в виду программы типа «Евангелие и...»:
«Маленькие веселые черточки ставились, например, между словами
*_> *-*
«современный» и «позитивный», или «религиозный» и «социальный»,
или «немецкий» и «евангелический», словно это было чем-то само
собой разумеющимся ... В конце концов принципиальное принятие этих
сочетаний начало приобретать силу настоящей ортодоксии, стало
казаться основой теологии и церковного строя, а возражения против этих
сочетании, когда они изредка возникали, оказывались под
подозрением как мечтательная односторонность и преувеличение»34. Барт
настаивает на том, что всякое «и», всякое «также», помещенное рядом с
христианской Вестью, по логике вещей должно в конце концов
вытеснить Весть — церковное провозвестие об Иисусе Христе; это «также»
должно перейти в «только», И если этого не произошло уже давно, если
все-таки Слово Бога не оказалось в полном забвении, то, добавляет
Барт, это объясняется лишь «страхом, непоследовательностью, ленью и
безразличием всех участников ... Ведь естественная теология без
стремления к единовластию уже не была бы естественной теологией»35.
149
Поэтому Барт — вполне в духе своего «позитивизма Откровения»,
который, конечно, присутствует и в формулировке первой статьи
Декларации, — включает в объем понятия «естественная теология» также
все философские обоснования и интерпретации христианства,
предложенные в XVIH-XX вв., имея в виду не только Шлейермахера и
крупнейшего либерального теолога XIX в. Альбрехта Ричля, названных
прямо, но и своих современников, имена которых легко угадываются по
некоторым ключевым словам:
«Опять постучали в дверь Церкви — уже в который раз за последние два
века — представители, как тогда (в 1933 г. — С.Л.) казалось, нового
направления человеческого духа, со вполне понятным (после всего
предыдущего) желанием, чтобы и их идеалы нашли себе место в Церкви: как
современная форма выражения, как новая историческая опора, как самим
Богом данная «точка соприкосновения» для провозвестия Евангелия, к
которому иначе и не подступиться36. Ведь именно так все и было, когда в
начале XVIII в. возродившийся гуманизм Стой, а столетием позже идеализм,
а вслед за ним — романтизм, а затем позитивизм буржуазного общества и
науки XIX в., национализм того же времени и, наконец, социализм —
получили возможность высказаться в Церкви»37.
После таких прецедентов, заключает Барт, у христиан Германии
были все основания принять национал-социализм, а у христиан других
стран не было никаких оснований упрекать их за это, ибо «сочетание
познаваемости Бога в Иисусе Христе с Его познаваемостью в природе,
разуме и истории ... признавалось законным в Англии и Америке,
Голландии и Скандинавии ... В принципе ничего не меняется от того, что
на сей раз речь шла о сочетании с мало симпатичным всему
остальному миру агрессивным национализмом, как и от того, что это сочетание
было осуществлено по-немецки основательно»38.
Вот как Барт характеризует отношение евангелической церкви к
национал-социализму: «В Германии было много причин выступить с
энтузиазмом именно за это новое сочетание. Особенно благоприятным
оно было для немецкого лютеранства: оно представлялось его
собственным и окончательным решением вопроса о соотношении христианской
и естественной теологии. Оно могло предстать могучим потоком, в
котором соединятся разные до сих пор разделенные струи немецкой
церковной и религиозной истории. Казалось, оно обещает и «культурпро-
тестантам», и «церковникам» нежданное исполнение их заветных
желаний. Казалось, оно поднимет севший на мель корабль Церкви и —
словно приливная волна — наконец-то вынесет его в открытое море
национальной жизни, а значит, в реальный мир»39.
Следовательно, Церковь не могла всерьез противостоять «немецким
христианам» и национал-социализму, не могла противиться «жуткому
признаку нового бога и помазанника его», не найдя предварительно
собственного основания. Отвержение всего постороннего (в терминах
Барта, «естественной теологии») — лишь обратная сторона великого
утверждения. Именно в этом утверждении, считает Барт, состоит
значение «Бармена», так как остальные положения Декларации логически
следуют из принципа, сформулированного в первой статье.
Правда, позже Барт признавал тот очевидный факт, что некоторые
150
положения Декларации — результат компромисса между его
собственными идеями и настроением большинства участников синода,
озабоченных исключительно угрозой церковной свободе. В особенности это
относится к пятой статье Декларации, в которой синод должен был
высказаться об отношениях между Церковью и государством
применительно к опасной ситуации 1934 г. Барт считал, что учение Лютера о
соотношении функций Церкви и государства устарело, но синод,
державшийся за исторические исповедания веры как за опору в борьбе с
ложным учением «немецких христиан», не мог и не хотел решительно
отойти от классических постулатов, согласно которым Церковь не
участвует непосредственно в ответственности за политическое сообщество. Вот
как Барт писал об этом после войны, в 1952 г.: «Сделанные теологические
выводы нельзя оценивать в соответствии с тем, что тогда должна была бы
и могла сказать очень сильная и очень живая церковь. Упрек национал-
социалистическому государству в этой статье содержался только
косвенный, приговора не было вовсе. И все же по отношению к
господствовавшей тогда в Германии политической идеологии сказанное, при всей
своей умеренности, прозвучало совершенно неслыханным возражением.
Заявленное был^тем минимумом, меньше которого община, защищая свою
веру, сказать не могла, но одновременно и тем, что она еще была в силах
сказать, собрав все свое мужество, находясь в очень трудном положении и
объединяя людей разных политических ориентации. Очень сильной и
очень живой церковью мы как раз и не были»40.
Заключая в конце 30-х годов разбор первой статьи «Бармена» в
своей «Церковной догматике», Барт делает близкие по смыслу замечания:
«Все заблуждения и колебания Исповедующей церкви связаны с тем,
что утверждение «Бармена»: Иисус Христос есть единое Слово Бога,
которому мы должны доверять и покоряться, — не только не соответствовало,
но прямо противоречило плоти и крови Церкви, и она должна была
подтверждать, завоевывать и осуществлять его в тяжелой борьбе. Где этого не
было, там были лишь лавирование и уступки. Но где это происходило, там
автоматически появлялись воля и силы к противостоянию. Немецкая
Исповедующая церковь обладает либо силой экуменического дара и задания,
которые она получила в Бармене, либо она вовсе бессильна... Смысл
всего сказанного здесь сводится к тому, что Иисус Христос сказал нечто, а
именно — Он сказал о себе самом: «#есмь путь и истина и жизнь. #есмь
дверь». Церковь живет тем, что она слышит голос этого Я, слышит
обещание, которое — согласно этому голосу — заключено лишь в этом Я; тем,
что она избирает тот путь, признает ту истину, живет той жизнью, идет
через ту дверь, имя которым — сам Иисус Христос. И только поэтому ...
она говорит свое «нет» всему, что хотело бы быть путем, истиной и
жизнью помимо Него. Это «нет» не обладает самостоятельным значением.
Оно полностью зависит от «да»41.
Теперь мы можем понять, почему свидетели событий с такой
настойчивостью говорят, что антинацистское толкование «Бармена» было
бы извращением его смысла. С приходом национал-социализма
евангелическая церковь была вынуждена приступить к очень трудной
задаче: учиться стоять на собственных ногах. Но как раз это христианское
прямо-стояние оказывалось очень трудной, до конца, быть может, ни
151
разу в истории Церкви не осуществленной задачей. А ведь ее решение,
собственно, и означало бы, что Церковь дает обществу то, чего
общество не может получить иным путем, что Церковь сообщает людям то,
чего они не могли знать заранее, что она делает свое собственное дело.
А это и значило бы — в весьма конкретном и ощутимо посюстороннем
смысле — что ее единственный глава и Господь — Христос.
Когда Церковь превращается в опору социального порядка, или в
символ национальной идентичности, или в организационную базу
политической оппозиции — то есть в орудие, инструмент политической
борьбы, — то принципиально это подобно самопониманию Церкви как
блюстительницы высокого уровня морали, что нередко бывало в
католических странах (упадок «религии» — моральный распад), или — как
в современном русском православии — превращению Церкви в некое
бюро ритуальных (культовых) услуг и в средство социальной (суб)ком-
пенсации для личности. Все это формы не прямостоящей, а лежачей,
«мертвой», «кажущейся» церкви. Последние два определения я взял из
выступления К.Барта на Амстердамской ассамблее 1948 г., учредившей
Всемирный совет церквей42.
Согласно Барту, социальная ответственность Церкви состоит
прежде всего в том, что она должна выполнить собственную задачу, которую
не может взять на себя никто другой. Церковь, понятая в смысле Бар-
менской декларации, добивается лишь одной свободы — свободы
следовать Слову Бога. Но эта свобода Церкви ведет и к политическим
последствиям, имеющим значение для общества в целом. По мысли
Барта, само существование такой свободной Церкви ограничивает
государство, если оно стремится стать «единым и тотальным порядком
человеческой жизни»43.
А внимательное слушание Слова Бога, стремление полагаться
только на него позволит Церкви найти верную — то есть соответствующую
Евангелию — политическую позицию в конкретной ситуации, позволит
взять на себя конкретную политическую задачу и ответственность, а
также найти средства противостоять конкретному злу. По мысли
Барта, именно неумение «доверять и покоряться» единому Слову Бога
стало причиной политической несостоятельности Исповедующей церкви.
Следовательно, Барменский синод нельзя назвать антинацистским
потому, что добро нельзя называть «антизлом». Добро, как мы все
знаем по опыту, не нуждается ни в какой противоположности, оно не
нуждается в зле для собственной реализации. Отсюда — структура Бармен-
ской декларации: «Иисус Христос есть единое слово Бога» — и только
поэтому «мы отвергаем ложное учение...» Если бы христианство
поняло себя как противостояние злу, как силу сопротивления — то оно и в
самом деле оказалось бы единоприродным этим «другим событиям и
силам, образам и истинам», оно было бы целиком определено
некоторым конкретным злом и — можно предположить — как раз поэтому не
смогло бы сопротивляться ему.
Здесь уместно снова указать на преемственность в мысли Барта. В
«Послании к римлянам» он говорит о «не-боге» человеческой
религиозности, которому противостоит открывающий Себя «вертикально
сверху» Бог Иисуса Христа. В разбираемом тексте из «Догматики» Барт
152
говорит о «страшном призраке» нового бога естественной геологии, о
\ ■■
том, что этот призрак уплотнился и материализовался в коричневой
мифологии расы, нации, почвы и крови, а также в образе мессии
нового бога — в Адольфе Гитлере. Для Барта национализм такого рода
предельное и предельно ясное выражение человеческой религиозности.
* * *
Таково содержательное пространство теологии Барта, в границах
которого он искал то, что в начале этой работы было названо собственным
политическим этосом христианства. И таковы контуры
предложенного Бартом ответа на вопрос о соотношении христианства и
политической культуры, который Барт переформулировал как вопрос о христиан-
стве и политическом решении.
Правда, в конце 30-х годов Барт стал разрабатывать христианское
обоснование либеральной демократии. Он хотел показать, что
демократическая государственность и даже ее отдельные институты — «оправданное
продолжение нравственного учения Нового Завета»44. Я не рассматриваю
здесь эти попытки Барта, так как, на мой взгляд, по содержанию они
наименее специфичны для его теологии и сближают его с многими другими
христианскими писателями, — если, конечно, отвлечься от возможности
интерпретировать эти попытки в только что предложенном смысле: как
конкретный христианский ответ Барта на конкретную угрозу тоталитариз-
и и
ма в определенной исторической ситуации.
Видимо, контуры политической мысли Барта прочерчены слишком
резко и определенно, чтобы на самом деле стать контурами «реальной»,
пусть и «христианской», политики. Американский теолог Рейнхольд
Нибур, который считается одним из главных творцов христианской
социальной этики XX в., вдумчивый интерпретатор и критик Барта,
однажды заметил: «Вероятно, эта теология построена исключительно в
расчете на великие исторические кризисы»45.
Принято считать, что именно за счет отказа от политической
специфичности учение Барта приобрело ту прочность, которая позволила ему
устоять в испытании.
Однако тут возникают вопросы, которыми, как мне кажется,
уместно завершить эту попытку рассмотреть политическую этику Барта.
Да, Барт настаивает на «широком» толковании «Бармена», и это
соответствует его учению о Слове Бога. НО: Ханс Асмуссен, один из
лидеров Исповедующей церкви, тоже подчеркивал (представляя проект
Декларации участникам синода), что на самом деле обличается не
нацистское государство, а «двухсотлетнее ошибочное развитие Церкви»,
дух Просвещения и т. п. Ясно, что для большинства присутствовавших
консервативных немецких протестантов, традиционно лояльных по
отношению ко всякой власти — обличения Просвещения были более
приемлемыми, чем критика в адрес национал-социалистического
государства. Очевидно, что такая позиция устраивала большинство
делегатов — они просто боялись, а теперь у них было оправдание на случай
упреков в нелояльности.
153
На протяжении последних тридцати лет своей жизни К. Барт
неоднократно писал о «Бармене». И в его интерпретациях Декларации
часто можно различить мотивы самооправдания, а со временем — и
самокритики. В 1968 г. Барт написал, что конформизм большинства «не
извиняет» его самого за отказ от борьбы за принятие документов, прямо
осуждающих расизм национал-социалистов46.
И тут возникает вопрос: какова будет целостная оценка
политической позиции Барта и его поведения в Бармене как ярчайшего примера
«теологии Барта в действии»? Ведь политика действительно следовала
у Барта из догматики.
Пока что мы познакомились лишь с тем, что говорил об этом сам
Барт.
Сегодняшний анализ сильных и слабых сторон теологии Барта
отметит ее «монологичность»: эта позиция закрыта для диалога, не терпит
релятивации. Верно ли, что именно это помогло теологии Барта устоять
в испытании? — Вот вопрос, который имело бы смысл обдумать.
4. Эпилог. «Предпоследнее» и «последнее»:
Барт, Бультман, Бонхёффер
Итак, теология «Бармена» — это теология Барта со всеми ее сильными и
слабыми сторонами. Барт подчеркивает важность сосредоточенности на
главном, и поэтому для него история Исповедующей церкви означает:
«Всё остальное не поможет тебе в этом испытании, когда речь идет о
бытии или небытии церкви. Когда всё остальное отказывает, помогает
только это — чудо, сила и утешение единого Слова Бога»47. Однако сам Барт
предпочитает говорить не о «главном», а о «целом». Он предлагает нам
поверить во внутреннюю рациональность откровения, делающую ненужной
всякий философский герменевтический ключ. Действительно,
современные философы определяют самое герменевтическую ситуацию как
ситуацию кризиса доверия, а также как ситуацию непонимания.
И конечно, именно здесь, при переходе к содержанию откровения
и к обсуждению языка, на котором это содержание можно выразить, у
ведущих теологов века возникло взаимное непонимание и неприятие.
Бесспорно, Барт уходит от апологетики, от всякой попытки «сделать
понятной» христианскую Весть (Евангелие). В 1949 г. он великолепно
заканчивает свой доклад о проблеме «нового гуманизма»: «Если бы это
была проповедь, мне следовало бы призвать каждого: «Покайся и веруй
в Евангелие». Но это не проповедь, а лишь тема, которая должна быть
доведена до конца. Мне не остается ничего другого, как посмотреть на
это со стороны и попросту уточнить, что если бы христианская весть
стала «здешней и теперешней» для нового гуманизма, то речь шла бы о
покаянии, вере и, разумеется, обращении»48.
Но вот вопрос: сохранит ли непонимаемое Евангелие характер
радостной вести, т.е. «хорошей новости»? Видимо, именно этот вопрос имел
в виду Бонхёффер: «Позитивизм откровения слишком облегчает себе
задачу, воздвигая в итоге закон веры... Но мир при этом остается поки-
154
нутым и предоставленным самому себе. Здесь есть ошибка»49. Как раз
это я имею в виду под «слабыми сторонами» теологии Барта. Может
быть, христианство обречено на апологетику, с громогласного отказа от
которой начиналась диалектическая теология?
Проблема понимания ведет нас на территорию Бультмана,
которого Барт осуждал за последовательное применение чуждой христианству
экзистенциальной аналитики «раннего» Хайдеггера. Но здесь нам
важно увидеть, поверх явно непримиримых противоречий, общность
пафоса у нескольких христианских мыслителей-современников, —
общность, проявившуюся в определенный исторический момент.
Барт, как известно, отверг бультмановскую программу
демифологизации, но разве нельзя понять его христологическую концентрацию, его
«нет!» в адрес естественной теологии как стремление противопоставить
Слово Бога тотальной мифологизации сознания, происходившей в XX
веке, т.е. именно как попытку демифологизации (на языке Барта:
попытку очищения) в эпоху расцвета разноцветных мифов: «Всякий иной
источник (христианского провозвестия — С. Л.) мог бы быть при таком
положении вещей лишь мифом, а потому — концом всего, во всяком
случае — концом церкви»50.
И разве нельзя понять прочитанный впервые 21 апреля 1941 г.
доклад Бультмана «Новый Завет и мифология» как опыт прояснения того,
что значит утверждение «Иисус Христос есть единое Слово Бога» — в
категориях, непосредственно затрагивающих, как считал Бультман,
современное сознание: христианское бытие — подлинное бытие, переход
в эсхатологическое существование, т.е. в состояние последней свободы
от мира. Очевидно, что применительно к Германии 1941 г. эта
последняя свобода «автоматически» (как сказал бы Барт) означала
сопротивление.
Вот общий пафос Барта и Бультмана: теперь (в «последний час»!)
надо заново думать только о самом главном, безоговорочно отказаться
от всего «предпоследнего» ради «последнего» (эту терминологию
употребляет Бонхёффер в своей незаконченной «Этике»).
Доклад Бультмана «Новый Завет и мифология» был обращен к
теологам и пасторам Исповедующей церкви, которые в большинстве
своем отвергли идеи Бультмана. Д.Бонхёффер, правда, писал тогда по
этому поводу: «Расцветшее здесь тупое высокомерие — настоящий позор
для Исповедующей церкви»51. Как известно, теологи Исповедующей
церкви были настроены весьма консервативно. Здесь обнаруживается
знакомая нам закономерность: церковь, борющаяся за выживание,
бывает обычно крайне охранительной в богословском отношении.
Исповедующая церковь в целом следовала этому правилу. Перед лицом
немецких христиан и их лжеучения больше всего боялись
«обновленчества». И все же К.Барт справедливо заметил, что для преодоления
лжеучения от церкви потребовался творческий акт, а не обращение к
традиции: «Бармен» не мог сослаться на вероисповедные документы
Реформации, ревнители лютеранской ортодоксии в рядах Исповедующей
церкви подозревали в «обновленчестве» сам Барменский синод.
Однако с точки зрения теологов, сформировавших христианскую
мысль XX в., жизнь и смерть (т.е. в конечном счете и «выживание»)
155
христианства зависят не от усилий по сохранению правой веры, а от
попыток заново понять главное, приготовиться к встрече с тем, кого
Новый Завет называет «первым и последним» (Откр 2:8), «зачинателем и
завершителем веры» (Евр 12:2). Поэтому Д. Бонхёффер, один из
активных участников «церковной борьбы», пишет из берлинской тюрьмы
Тегель — протестуя против «консервативной реставрации»52 в
Исповедующей церкви — письма о «б^зрелигиозном истолковании
Евангелия», стремясь доказать, что ответы не только Барта, но и Бультмана
несостоятельны. Как известно, тюремные письма и наброски Бонхёф-
фера подготовили новую эпоху в христианской мысли53.
Для моей попытки проследить «общий пафос» важно то, что
подробный план книги, в котором намечена оценка тогдашнего состояния
христианства и программа безрелигиозного толкования библейских
понятий, был написан после 20 июля 1944 г., когда Бонхёффер уже знал
о неудаче покушения на Гитлера, о раскрытии заговора Канариса и,
следовательно, о собственном скором конце. Бонхёффер не написал эту
книгу. Очевидно, однако, что его судьба — прямое политическое
следствие его понимания христианства, точнее — прямое свидетельство и
толкование веры. Иначе и нельзя понять его путь: от преподавания
теологии в Берлинском университете к руководству семинарией
Исповедующей церкви, и дальше — от церковной борьбы к участию в
политическом Сопротивлении, и еще дальше — к виселице в концлагере
Флоссенбюрга. В теологическом плане этому соответствует движение
из самых глубин лютеранского благочестия и ортодоксии к
совершенно новому образу христианской веры.
30 апреля 1944 г. Бонхёффер написал: «Прошло время, когда все
можно было высказать с помощью слов — будь то теологические или
благочестивые слова»54. И потом: «Вы не могли один час бодрствовать со мной?»
— спрашивает Иисус в Гефсимании. Это противоположно всему, чего
религиозный человек ждет от Бога. Ведь тут человек призывается страдать
вместе с Богом в безбожном мире. Следовательно, он вынужден
по-настоящему жить в безбожном мире и не должен как-либо прикрывать или
преобразовывать его безбожность в религиозном смысле. Он вынужден жить
«по-мирски», и именно так он участвует в страданиях Бога. Он может
жить «по-мирски», т.е. он освобожден от ложных религиозных
обязательств и ограничений.... Не религиозный акт делает человека
христианином, а страдание вместе с Богом в мирской жизни»55.
Этот пример поможет нам и дальше продумывать тему
«христианство и политическая позиция». Ведь судьба Бонхффера проясняет то,
«чего нельзя сказать словами». И наоборот: то, что он все-таки сказал,
помогает понять его судьбу — судьбу теолога и пастора, погибшего не
за дело религии, но решившего, что он должен участвовать в общем
деле сопротивления — «в безбожном мире», вместе с такими вполне
«безбожными» людьми, как адмирал Канарис.
Дитрих Бонхёффер, бывший сотрудник абвера, был уничтожен по
приказу Гиммлера 9 апреля 1945 г. вместе с некоторыми другими
участниками заговора. Так в его жизни и смерти выразилось его
понимание Nachfolge — следования за Христом.
Апрель 1986
156
Примечания
Раздел этой статьи «Основные мотивы теологии Барта» вошел также в мою
монографию «История и герменевтика в изучении Нового Завета».
1 Kasper W. Jesus der Christus. — Mainz, 1978. — С. 55.
2 Ср., напр., публицистику А.Солженицына. Так, в его Гарвардской речи
словосочетание «юридическая цивилизация» употребляется как отрицательное
оценочное понятие.
3 Kiing Η. Christ sein. — München, 1976. — С. 29. Русские переводы работ Меца
и Мольтмана см. в «Вопросах философии», № 9, 1990, с. 83-146.
4 Русское слово «образование» — калька с немецкого Bildung. О понятии
«образование» в немецкой философской традиции см. Х.Г.Гадамер. Истина и
метод. Основы философской герменевтики. (Перевод с немецкого) — М.:
«Прогресс», 1988, с. 50-61.
5 Barth К. Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. Zürich, 1957, с. 6.
6 Gogarten F. Zwischen den Zeiten. — Anfänge der dialektischen Theologie. Teil II.
Hrsg. von J.Moltmann. München, 1977. — С 95, 100.
7 Barth K. Der Römerbrief. — 13. unveränd. Abdr. d. neuen Bearb. von 1922. —
Zürich, 1984. - С XIII.
8 Там же, с. 57.
9 Barth К. Klärung und Wirkung: Zur Vorgeschichte der «Kirchlichen Dogmatik» und
zum Kirchenkampf. — В., 1966. — С. 345.
10 Barth К Der Römerbrief, с 26.
11 Ср. Римл 3:3: «А если некоторые оказались неверны, то разве из-за их
неверности прекратится верность Бога?»
12 Barth К. Der Römerbrief, с. 112.
13 Там же, с. 53, 19.
!4Там же, с. 114.
15 Barth К. Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge. München,
1929, с 171-172.
16 Barth K. Der Römerbrief, с 6.
17 Ср. Pannenberg W. Dialektische Theologie. — Die Religion in Geschichte und
Gegenwart (RGG), 3.Aufl. 2.Bd. - Tübingen, 1958. - Sp.l 71.
18 Der Römerbrief, c. 175.
19 Bonhoeffer D. Widerstand und Ergebung. — München, Hamburg, 1965. — C. 137,
161. Русский перевод писем Д.Бонхеффера из тюрьмы см. в «Вопросах
философии», 1989, № 10-11. Здесь и далее я цитирую их в своем переводе.
20 Barth К Klärung und Wirkung, с. 20-21.
2! Barth К. Philosophie und Theologie. — Philosophie und christliche Existenz.
Festschrift für H.Barth. — Basel, 1960. — C. 101. Перевод этих строк принадлежит
В.К.Зелинскому.
22 См. об этом статью Лотара Штайгера: Steiger L. Die Theologie vor der
«Judenfrage» — Karl Barth als Beispiel.// Auschwitz — Krise der christlichen Theologie. Eine
Vortragsreihe. Hrsg. von R.Rendtorff u. E.Stegemann. — München, 1980. — С 82-98.
23 Wolf Ε. Bekennende Kirche. — RGG, 3.AufL, l.Bd. - Sp.987.
24 На эту тему см.мою статью «Национальная идея и христианство» в журнале
«Октябрь», 1990, № 10.
25 WolfE. Kirchenkampf. - RGG, 3.AufL, 3.Bd. - Sp. 1444-1445.
26 Ср.: там же, ст. 1446.
27 Kupisch К. Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus (1871-1945).
Göttingen, 1960, c. 251-252. О «немецких христианах» и начале «церковной
борьбы» см. фундаментальное исследование Клауса Шольдера: Scholder К. Die
Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1. Vorgeschichte und Zeit der Illusionen, 1918-
157
1934. — Frankfurt a. Mam, 1977. Bd. 2. Das Jahr der Ernüchterung. 1934. Barmen
und Rom. — В., 1985.
?s Wolf E. Kirchenkampf, Sp. 1443.
γ) Bonhoeffer D. Die Kirche vor der Judenfrage. — Bonhoeffer-Auswahl. Bd.2. —
München und Hamburg, 1970. -— C. 26.
,ü Wolf E. Bekennende Kirche. Sp. 987.
31 Wolf E. Barmen. - RGG, 3. Aufl., l.Bd. - Sp. 876.
ri Цит. по: Barth К. Die kirchliche Dogmatik. — 7. Aufl. - Zürich, 1987. Bd. 2. Hbd
1. Die Lehre von Gott. (KD 11,1) - С 194.
33 Там же.
34 Там же, с. 195.
35 Там же.
36 «Точка соприкосновения» (Anknüpfungspunkt) — имеется в виду
предложенная в начале 30-х годов Эмилем Бруннером идея о «точке соприкосновения»
Евангелия с человеческой природой, соответствующие этой идее философская
антропология и «отрицательная» (выполняющая пропедевтическую задачу)
естественная теология. Бруннер в споре с Бартом отстаивал «общее откровение»
помимо Христа (как в католицизме) и лютеранскую идею «порядков
сотворенного бытия» (Schöpfungsordnungen) как основание христианского учения об
обществе и социальной справедливости. Понятно, что представление об
установленных Богом порядках (или категориях) бытия, т.е. учение о божественном
происхождении «семьи, частной собственности и государства» имплицитно
содержит консервативную политическую позицию. И действительно, Э.Бруннер
делал из своей теологии консервативные политические выводы.
''Barth К. KD 11,1. -С. 195.
38 Там же, с. 196.
34 Там же.
40 Barth К. Klärung und Wirkung, с. 405.
41 Barth К. KD II, 1. - С. 197, 199.
42 Русский перевод этого выступления см. в кн.: Современный протестантизм.
Часть I. — М., 1973. — С. 79-106. (Издание «для служебного пользования»
Института философии АН СССР.)
43 Это слова из пятой статьи Барменской декларации.
44 См. Jüngel £. Zum Verhältnis von Kirche und Staat nach Karl Barth. — Zeitschrift
für Theologie und Kirche. — Tübingen, 1986. — Beiheft 6. — C. 76-135.
45 Лит. по: Lovin R. Christian faith and public choices: The social ethics of Barth,
Brunner and Bonhoeffer. — Philadelphia, 1984. — С 23.
46 См.: Там же, с. ПО.
47 Barth К. KD 11,1.-С. 199.
48 Современный протестантизм, с. 58-59.
49 Bonhoeffer D. Widerstand und Ergebung. — С. 137.
50 Barth К. KD И, 1. -С. 198.
51 Цит. по: Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der
Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. — 2.Aufl. Hrsg. von E.
Jüngel. - München, 1985. - С 8-9.
52 Bonhoeffer D. Widerstand und Ergebung. — С 162.
53 Впервые Бонхёффер стал известен в Германии благодаря его книге
«Nachfolge» («Следование за Христом»). В ней Бонхёффер предложил
интерпретацию Нагорной проповеди, основанную на его тогдашнем понимании задач
Исповедующей церкви.
54 Bonhoeffer D. Widerstand und Ergebung. — С. 132.
55 Там же, с. 180.
158
Теология культуры Пауля Тиллиха
Пауль Тиллих — крупнейший христианский философ и
теолог, оказавший значительное влияние на
религиозно-философскую мысль XX века.
Он родился 20 августа 1886 г. в Пруссии, в небольшом
селении (сейчас это территория Польши). Тиллих вырос и
сформировался под сильным влиянием лютеранского христианства и
классической немецкой культуры XIX века. Оба эти компонента
соединились в личности его отца, лютеранского пастора, который был
высшим авторитетом в мире юного Пауля. В зрелом возрасте Тиллих
сохранил духовную близость с отцом, однако сознательно преодолевал
зависимость от отцовского авторитета: эта борьба была важна для развития
его личности и для его творчества.
Пауль учился в классических гимназиях в Кенигсберге и Берлине,
университетские годы (1904-1909) он провел на теологических
факультетах Берлина, Тюбингена, Галле. С гимназических лет он изучал
античную и немецкую класическую философию. В студенческие годы
Тиллих увлекался философией Шеллинга и написал диссертацию
«Предпосылки и принципы концепции истории религии в позитивной
философии Шеллинга», за которую в 1910 г. получил ученую степень
доктора философии в университете Бреслау. Два года спустя он стал
также доктором теологии, представив в университет Галле работу
«Мистицизм и осознание вины в философской эволюции Шеллинга».
В студенческие годы для Тиллиха была важна встреча с Мартином
Келером, профессором университета Галле. Под конец жизни, уже в 60-
е годы, Тиллих вспоминал, что зерно его идеи об «оправдании
сомнением» содержалось в лекциях Келера: «Он учил нас: сомневающийся в
любом утверждении Библии или вероисповедного документа может,
тем не менее, быть принят Богом. Можно сочетать уверенность в том,
что ты будешь оправдан, с самым радикальным сомнением».
В августе 1912 г. Тиллих стал лютеранским пастором. Два года он
служил в рабочих кварталах Берлина, а с началом первой мировой
войны пошел добровольцем в армию и был назначен капелланом в
артиллерийский полк.
П.Тиллих провел на фронте почти всю войну. Его военный опыт во
* Послесловие к книге: П.Тиллих. Теология культуры. М., «Юрист», 1995,
с. 461-471.
159
многом подобен опыту тех молодых интеллигентов, которые позже
написали «На Западном фронте без перемен» и «Прощай, оружие», —
книги, выразившие новое мировосприятие «потерянного поколения».
Когда двадцатидевятилетний пастор Тиллих попал на Западный
фронт, он был монархистом, вполне традиционным лютеранином и
политически наивным немецким патриотом. За годы войны он пережил
решающий и, как я думаю, единственный в своей жизни перелом.
Немецкая культура XIX века, сформировавшая его и давшая смысл его
жизни, рухнула у него на глазах. В этом эсхатологическом крушении
Тиллих участвовал всем своим существом.
Сначала он разделял всеобщий патриотизм, надежду на скорую
победу и «веру в доброго Бога, который всё устроит к лучшему». Во
время боевых действий он иной раз подвергался тем же опасностям,
что и солдаты. В мае-июне 1916 года Тиллих участвовал в Вердене-
ком сражении — самой кровопролитной битве той войны.
Длительный опыт сосуществования со смертью и страданиями опрокинул его
представление о мире. В декабре 1916 г. он писал отцу: «Мы
испытываем страшнейшую из катастроф — конец мирового порядка...
Конец близится, и он сопровождается глубочайшими страданиями».
Переживание того, что вместе с сотнями тысяч жертв гибнет вся его
цивилизация, чтобы уступить место некоему новому миру, Тиллих
назвал своим «личным кайросом». (καιρός — греческое слово,
означающее в данном случае «время свершения» и употребляющееся в
Новом Завете; оно стало одним из важнейших понятий в социальной
мысли Тиллиха.) Личный кайрос молодого капеллана Тиллиха — это
осознание того, что нечто новое и непредвиденное врывается в его
жизнь в момент, когда и он созрел для перемен, готов принять это
новое и действовать в согласии с ним.
Результатом стало переосмысление собственной веры. Вера в доброго
Бога, который все устроит к лучшему, утратила достоверность. Старое
понятие о Боге рухнуло, на его месте возникла пустота, «значимое
отсутствие», смысл которого человеку веры теперь предстояло осознать.
Поэтому в декабре 1917 г. Тиллих написал: «Продумав идею оправдания верой
до ее логического завершения, я пришел к парадоксу о вере без Бога».
В самом деле: ведь по учению реформаторов человек
оправдывается sola fide, только верой, а тогда даже при распаде предмета или
содержания веры сам акт веры не делается бессмысленным. Тиллих имел в
виду именно это: несколько десятилетий спустя, в «Мужестве быть», он
напишет о «безусловной вере», которая появляется, отделеннная от всех
утративших свой смысл религиозных содержаний, «когда Бог исчезает
в тревоге сомнения». Таким образом, болезненные для пугливого
традиционализма формулировки Тиллиха находятся в прямой
преемственности с учением творцов Реформации.
Пастор Тиллих прошел через опыт молчания, когда почувствовал,
что более не способен проповедовать надежду перед лицом
бессмысленной смерти. Погибали миллионы, а он оставался жить, и это
порождало чувство вины.
Война закончилась поражением, в Германии разворачивалась
революция. Тиллих, молодой философ и бывший фронтовик, видел свою
*
160
задачу в том, чтобы на обломках буржуазной цивилизации участвовать
в создании чего-то нового, что он вскоре назовет «религиозным
социализмом».
Однако прежде всего ему хотелось продолжить свою прерванную
академическую карьеру и достичь положения ординарного профессора
философии.
В конце войны Тиллих вернулся в Берлин и после увольнения из
армии получил место приват-доцента в университете. Русский
читатель знает о Берлине начала двадцатых годов, в частности из прозы
Набокова, Шкловского и Эренбурга. Это было время бурного
обновления интеллектуальной культуры на фоне социальной смуты и
экономического хаоса. Война и революция сломали старый порядок и
его ценности, а облик нового мира был неясен. Наступило время
растерянности и поиска. Тиллиха манило все новое:
экспрессионистская живопись, экспериментальный театр, новые социальные и
психологические теории. В берлинский период обнаружилась его
склонность к тому, что он описывал словом «богема», т.е. к тем
социокультурным явлениям, которые противоречили буржуазному порядку и
его ценностям; богема — это все «пограничное» в культуре. Богема
притягивала Тиллиха: он посещал кафе, где собирались «новые»
художники и поэты; его интересовали психоанализ и марксизм, что
предполагало критическое отношение к буржуазному обществу и его
морали. И все же Тиллих был не в состоянии забыть свою кровную
связь с немецкой культурой XIX века и лютеранской традицией. Всю
жизнь он хотел примирить эти два взаимоисключающие
устремления: верность традиции и тягу ко всему неизведанному, едва
появляющемуся. Эта особенность духовного склада Тиллиха определила и
vj *->
его творчество: в своей апологетической «системе» он попытался
соединить и синтезировать то, что другие великие христианские
теологи нашего века (и прежде всего Карл Барт) стремились разделить и
развести. Поэтому Тиллих с самого начала не принял «теологию
кризиса» К. Барта, к главным идеям которой относится постулирование
разрыва, «диастаза», между христианской верой и культурой
(светской и религиозной).
В двадцатые годы Тиллих начал искать ответы на вопросы, возник-
*-* ^
шие в результате кризиса западноевропейской культуры и
христианства. Тогда же начал складываться собственный язык Тиллиха, на
котором позже он сформулировал свою апологетическую теологию —
попытку ответа на все эти вопросы. Так рождалось его учение о кайросе,
его теология культуры, представление о демоническом в человеческой
душе и истории, — все то, что затем вошло в его «систему».
«Теология культуры», по мысли Тиллиха, призвана выявить конк-
w ^ ^
ретный религиозный опыт, находящийся в основе культуры во всех ее
проявлениях; религия рассматривается здесь как субстанция культуры,
а не как одна из ее областей. Следовательно, Тиллих не принял ставшее
после К. Барта популярным в протестантизме противопоставление
«религия» (плохо) versus «вера» (хорошо).
В те же годы формировалась и социальная мысль Тиллиха, его
«религиозный социализм». В 1919 г. Тиллих прочел доклад на собрании
11 Заказ 257 161
Независимой социалистической партии, за что его критиковали в
церковных кругах. Лютеранская церковь оставалась одной из самых
консервативных сил в немецком обществе. Между тем доклад Тиллиха,
текст которого был опубликован отдельной брошюрой, назывался
«Социализм как вопрос Церкви».
В 1920 г. Тиллих посещает собрания религиозного
социалистического кружка, который стал известен в Берлине как «кружок кайроса».
Религиозный социализм Тиллиха родился из надежды на возникновение
нового социального порядка, который будет религиозным и
социалистическим одновременно. Целью религиозного социализма в
понимании членов этого кружка была теономия, т.е. суверенное господство
Бога, признание людьми того, что Бог есть все во всем. Тиллих считал,
что, в отличие от гетерономии и автономии в их Кантовом понимании,
теономия предполагает бльшую открытость общества навстречу
творческому участию Духа в истории. Стремление к теономному порядку
общества, по мысли Тиллиха, противостоит демоническому началу и
4J
должно преодолеть его господство в человеческой истории, в
социальном и политическом устройстве. Представление о кайросе как о
моменте исполнения такого эсхатологического чаяния, моменте соединения
божественного порядка с человеческой историей, всегда оставалось
центральным в социальной мысли Тиллиха, хотя со временем его
политические взгляды стали более реалистичными.
Двадцатые годы и начало тридцатых были для Тиллиха временем
плодотворной работы в разных университетах Германии. После приват-
доцентства в Берлине он преподавал теологию в Марбурге, а затем,
наконец, его пригласили на должность профессора философии и религии
в Дрезденский технологически институт. Последним и наиболее
блестящим этапом его академической карьеры в Германии стал франкуфур-
тский период (1929-1933); он был профессором философии вплоть до
эмиграции в 1933 г. В эти годы вышли в свет его первые крупные
работы — «Религиозная ситуация современности», «Оправдание и
сомнение», «Социалистическое решение».
Как известно, после первой мировой войны возникла и привлекла
к себе всеобщее внимание диалектическая теология, которую ее
противники называли «неоортодоксией». Диалектическая теология,
сделавшая главным объектом своей критики либеральную теологию XIX
начала XX вв., заявила о себе как о принципиально новой
модели теологического мышления. Первый теоретик диалектической
теологии Карл Барт указывал на пагубность отождествления
христианства с культурой и социальными институтами буржуазной
(«христианской») Европы. Христианство находится «по ту сторону
буржуазной религии». Вера как парадоксальное откровение «неизвестного
Бога» не опосредуется (не выражается и не передается) религией,
Церковью или культурой.
Когда Тиллих начал преподавать в университетах Германии, среди
студентов-теологов (особенно в Марбурге) было немало последователей
Барта. Тиллих всегда держался в стороне от этого нового
теологического движения и относился к нему скорее критически. А собственные
идеи Тиллиха, опиравшиеся на наследие философии религии, на тра-
162
дицию протестанстского мистицизма и использовавшие язык
классической немецкой философии, марксизма и психоанализа, были чужды
значительной части его аудитории.
Как уже отмечалось, Тиллих искал возможность синтеза там, где
Барт провозглашал «диастаз», разрыв. Философско-теологическая
система Тиллиха стремилась сделать все области культуры предметом
христианской теологии. Более того, дальнейшее развитие мысли Тилиха
показывает; его апологетическая теология «примиряет» либерализм и
неоортодоксию.
Пять лет во Франкфурте в должности профессора философии стали
для Тиллиха годами первой славы. Франкфуртский университет был
известен своим левым радикализмом, в это время возникла знаменитая
Франкфуртская школа социальной философии. Здесь Тиллих
чувствовал себя гораздо лучше, чем в протестантском Марбурге. Он,
естественно, не был членом Франкфуртского института социальных
исследований и не отождествлял себя со «школой», но дружба Тиллиха с ее
создателями, его готовность обсуждать проблематику новой социальной
философии в предложенных ими категориях свидетельствуют о том, что
открытость к «ситуации» действительно была жизненной предпосылкой
творчества Тиллиха.
Уже в начале тридцатых годов, по мере усиления нацистов, над
Франкфуртским университетом стали сгущаться тучи: он получил
прозвище «красного университета». Отношение Тиллиха к
национал-социализму было безусловно отрицательным; его друзья, в частности Теодор
Адорно, попросили его выразить свою позицию публично. Так в 1932
г. появилась работа «Социалистическое решение». В ней Тиллих
характеризовал национал-социализм как политический романтизм,
способный вернуть европейское общество в эпоху варварства. Когда в 1933 г.
Гитлер пришел к власти, «Социалистическое решение» было сразу же
запрещено и изъято из продажи. Книга не оказала сколько-нибудь
заметного влияния. В том же 1933 г. Тиллих в числе других профессоров
был отстранен от преподавания.
Приход нацистов к власти подменил собой кайрос или исполнение
«нового бытия», которого Тиллих ждал в 20-е годы. Он решил, что
теперь история европейской цивилизации повернула вспять (к «новому
Средневековью», как сказал бы Бердяев). Торжествующий национал-
социализм вызывал у Тиллиха прежде всего отвращение. В Гитлере его
более всего раздражала вульгарная манера говорить по-немецки.
Уже в первые месяцы национал-социалистического господства пе-
\j \j и
ред гуманитарной интеллигенцией, не готовой к сотрудничеству с но-
VJ
вой властью, встал вопрос о возможности и оправданности эмиграции.
Жена Тилллиха настаивала на отъезде. Вот как он вспоминал об этих
обстоятельствах в пятидесятые годы: «К моменту нашей эмиграции нас
более всего шокировала не его [Гитлера] тирания и жестокость, а его
невообразимо низкий культурный уровень, проявлявшийся в его речи.
Мы вдруг поняли, что если немецкая культура смогла породить
Гитлера, то с этой культурой что-то не в порядке. Это подготовило нас к
эмиграции в Америку и сделало более открытыми для восприятия но-
*j *j
вой реальности, с которой мы здесь встретились».
11
163
Обдумывая возможность эмиграции, Тиллих все больше
осознавал, что не готов отказаться от академической деятельности ради
политической борьбы против нацистского режима. Между тем для
философа, успевшего обнаружить свои антинацистские убеждения,
жизнь в Германии становилась небезопасной. В ноябре 1933 г. по
приглашению знаменитой нью-йоркской высшей теологической
школы Union Theological Seminary Тиллих вместе с семьей
отправился в Америку. Он оказался в чужой стране, когда ему было 47 лет. Он
не знал английского языка и (быть может, поэтому) был уверен, что
по-настоящему философия и теология едва ли возможны за
пределами Германии, и менее всего — в глубоко провинциальной, как он
считал, Америке.
Америка приняла Тиллиха дружелюбно. Union Theological Seminary
находится в самом центре огромного Колумбийского университета в
Нью-Йорке. Там Тиллих почувствовал себя уютно, он считал,
особенно в первые годы пребывания в США, что Нью-Йорк — единственное
место в Америке, где он в состоянии жить и работать. В первые
месяцы после приезда в США он занимался главным образом изучением
английского языка, так как уже с весеннего семестра 1934 года должен
был приступить к чтению лекций. Надо заметить, что почти все свои
работы американского периода Тиллих написал по-английски, хотя
необходимость выражать свои мысли на этом языке поначалу
вызывала у него внутреннее сопротивление. Он очень тосковал по родине, в
душе отгораживался от американской жизни и почти год все еще не
терял надежды на скорое возвращение в Германию, так что даже
пытался вести переговоры об этом с германскими властями.
Вначале американские коллеги нашли возможность дать Тиллиху
работу в качестве «приглашенного профессора» философии религии и
систематической теологии: приглашение продлялось ему ежегодно, а в
1937 г. он получил постоянное преподавательское место. В 1940 г.
Тиллих стал штатным професором философской теологии в Семинарии (в
том же году он получил американское гражданство) и оставался в этой
должности по 1955 г. Вершиной профессиональной карьеры Тиллиха в
Америке стало его профессорство в Гарвардском университете (1955-
1962). В последние годы жизни Тиллиха Америка видела в нем живого
классика, он был широко известен за пределами академических кругов,
его фотография даже появилась на обложке «Newsweek».
Вот что интересно в этой истории: образ мышления Тиллиха был
чужд и часто непонятен его американским коллегам, в тридцатые годы
его имя и его работы были практически неизвестны в США, а его
устный английский долгое время оставлял желать лучшего. Все это не
помешало американцам понять, что их интеллектуальное сообщество
может научиться от немецкого эмигранта Тиллиха чему-то важному, если
оно поможет ему выразить себя в непривычных условиях. (Стоит
заметить, что в середине тридцатых годов, в разгар Великой депрессии,
жалованье Тиллиха складывалась в значительной мере из регулярных
пожертвований семинарской профессуры.) И обратно: есть основания
думать, что Тиллих, вопреки своим предвзятым мнениям, тоже научился
в Америке чему-то важному. Здесь его творчество достигло высшего
164
подъема. Именно работы, написанные в США, сделали Тиллиха одним
из важнейших творцов христианской мысли нашего века. При этом
Америка сумела сделать Тиллиха своим достоянием, как и некоторых
других беглецов от нацизма.
Действительно, Паулю Тиллиху выпала редкая судьба. В его
творчестве встретились европейская и американская интеллектуальные
традиции. Изжив «немецкий провинциализм», он почувствовал себя
уже не эмигрантом, а «гражданином мира». В современную ему
американскую философию, где господствовал прагматизм Джона Дьюи,
он внес элементы класического немецкого идеализма и
экзистенциализма, христианскую мысль в Америке он обогатил синтезом
философии и теологии.
В 1947 г. Тиллих впервые после отъезда посетил Германию.
Впоследствии он еще несколько раз приезжал на родину, читал лекции в
немецких университетах. В 50-60-е годы его идеи стали возвращаться в
немецкую академическую среду, о чем свидетельствовали переводы его
американских книг и публикация четырнадцатитомного собрания его
сочинений на немецком языке.
Тогда же, в пятидесятых — начале шестидесятых годов, выходят в
свет важнейшие произведения Тиллиха. Главным своим трудом и
делом всей жизни он считал трехтомную «Систематическую теологию»,
в которой был сформулирован окончательный вариант «системы».
Следуя немецкой интелектуальной традиции,Тиллих считал
необходимым облечь свой вклад в историю мысли в форму «системы». Мы
уже знаем, что Тиллих называл свою систему «апологетической». Вот
как он объяснял это понятие: «Апологетическая теология — это
«отвечающая теология». Она отвечает на вопросы, содержащиеся в
«ситуации». При этом она исходит из вечной христианской Вести и
использует средства, предоставленные той ситуацией, на чьи вопросы
она отвечает».
Ситуацию, с которой имеет дело теолог, Тиллих определял как
«творческую интерпретацию человеческого существования», то есть как
интеллектуальную культуру, истолковывающую свою социальную
среду. Итак, теология отвечает на вопросы, задаваемые культурой.
Построение системы оказывается возможным благодаря
предложенному Тиллихом «методу корреляции», то есть постоянного соотнесения
друг с другом христианской Вести и ситуации, на вопросы которой
Весть должна ответить.
Таковы некоторые важные предпосылки, на которых основана
«Систематическая теология» Пауля Тиллиха. Однако среди его работ
наибольшей популярностью у читателей пользуются три тома проповедей
и несколько небольших книг, в которых разработаны отдельные
элементы «системы». Именно эти работы вошли в предлагаемый
вниманию читателя сборник.
Пожалуй, самое яркое из этих сочинений — «Мужество быть»,
опубликованное в 1952 году. Эта книга сразу же привлекла к себе внимание
читателей в разных странах. Она была переведена на все главные
европейские языки и выдержала множество переизданий. «Мужество быть»
относится к философской классике нашего века.
Эта небольшая работа обращается скорее к «обычному» читателю,
нежели к специалистам по философии, поэтому язык ее прост и
«нетехничен». В книге говорится о том, что было важно для человечества на
протяжении всей его истории, — о проблеме тревоги. Тиллих
выделяет три типа тревоги — тревогу судьбы и смерти, тревогу вины и
осуждения, тревогу пустоты и отсутствия смысла.
Предлагая читателю свое понимание природы тревоги, Тиллих
описывает и пути ее преодоления. Человек преодолевает тревогу
посредством утверждения своего Я вопреки небытию, т.е. посредством того,
что Тиллих называет «мужеством быть». При этом, как показывает
автор, для разных культурных эпох характерно преобладание разных
типов мужества, которые он описывает как «мужество быть частью»,
«мужество быть собой» и «мужество принять приятие». Этот последний вид
мужества Тиллих понимает как осознание человеком того, что он
«принят», т.е. оправдан «силой самого бытия». Здесь мы видим ответ Тил-
лиха на вопрос той «ситуации», в которой прошла его собственная
жизнь. Из его опыта следовало, что в культуре XX века распадаются все
унаследованные из прошлого смыслы. Поэтому вопрос ситуации
формулируется следующим образом: какое мужество может справиться с
тревогой пустоты и отсутствия смысла?
В «Мужестве быть» Тиллих для раскрытия своей философской
концепции обращается к политическим идеям, к психологии, к истории
философии, литературы и искусства. Дело в том, что разработанная им
философская категория «мужество быть» соединяет этическую
проблематику с онтологической, охватывая их и открывая путь к новому
философскому синтезу. Этот синтез позволяет автору дать оригинальное
толкование важнейших явлений в истории западной цивилизации. Так,
Тиллих рассматривает литературу, искусство и философию середины
XX века как проявление «мужества быть».
«Динамика веры» развивает темы последней, специфически
«христианской» главы «Мужества быть». В «Динамике веры» яснее, чем где бы то
ни было еще, Тиллих проявил себя как продолжатель — по моему мнению,
самый яркий — классической либеральной систематики (от Шлейермахера
до Трёльча) в XX веке и как теолог, сознательно пытавшийся выразить
специфику протестантской религиозности и описать то, что он сам
называл «протестантским принципом». Этот термин (точнее, этот образ или
лейтмотив) по-разному используется в трудах Тиллиха американского
периода. Но в разных обработках любимого мотива Тиллиха заметен
инвариант, который следует выделить. «Протестантский принцип» — это
символ «правильной» религиозности, признающей абсолютную инакость Бога
и поэтому трезво оценивающей самое себя: ведь Бог равно далек (или
равно близок) и по отношению к сакральной и по отношению к профанной
деятельности человека. Стало быть, секулярная сфера жизни не менее —
ни и не более — близка к божественному, чем религиозная. Это
основополагающее приятие мирского вместе с сакральным тоже
принципиально отличает «теологию культуры» зрелого Тиллиха от «теологии кризиса»
молодого Барта, для которого религия была тождественна неверию и
идолопоклонству, а вера (верность) провозглашалась свойством в первую
очередь не человека, а Бога.
166
Вот что Тиллих как апологет имеет сказать в «Динамике веры» об
абсолютном притязании христианства: «Радикальная самокритичность
христианства делает его способным к универсальности, — в той мере,
в какой христианство поддерживает эту самокритичность в собственной
жизни».
В Америке Тиллих окончательно понял свое творчество как
мышление, осуществляющее себя «на границе». Его первая интеллектуальная
автобиография так и называется — «На границе». Заглавие этой книги
*-*
содержит аллюзию на ключевой термин экзистенциализма и
современной психологии — «пограничная ситуация». В одной из своих поздних
речей Тиллих говорил о том, что задача философии и социального
действия — сначала признать, а затем преодолеть границы, проходящие
между идеями, людьми и народами. Как мы видели, это положение
укоренено в собственном жизненном опыте Пауля Тиллиха.
Действительно, мысль Тиллиха пересекает границы философии,
теологии и психологии, его философская теология стремится соотнести
между собой Откровение и историческую ситуацию («кайрос»),
христианскую веру и светскую культуру XX века. Это ведет к переосмыслению
основополагающих понятий самой христианской традиции. «Бог»
становится «основанием бытия», «вера» — «предельной захваченностью»
(или «тем, что касается меня безусловно», «предельным интересом»),
«грех» — «отчуждением от бытия», «благодать» — «приятием».
Центральный для Реформации принцип «оправдания верой»
трансформируется в «оправдание сомнением». Здесь можно увидеть опыт того, что
Дитрих Бонхёффер называл «нерелигиозной интерпретацией
библейских понятий».
Пауль Тиллих умер 22 октября 1965 г., в один год с Мартином Бубе-
ром и Альбертом Швейцером, двумя другими великими творцами
западной религиозной философии XX в.
Май 1992
Христианское в христианстве*
ι
Быть может, самое мучительное интеллектуальное состояние,
испытываемое человеком — это утрата смысловых
ориентиров, сомнение в надежности и достоверности мира смыслов.
Инстинкт смысла, как показывает современная психология,
иногда определяет наше поведение в еще большей степени,
чем инстинкт самосохранения или неосознаваемые мотивы, раскрытые
психоанализом. Сегодняшнему человеку свойственно искать гарантии
принимаемого им смысла, он ищет доказательства «правильности»
разделяемой им картины мира. Однако Новое время принципиально
утвердило невозможность единой картины мира1.
Пожалуй, это верно даже в самом общем смысле, когда под
картиной мира определенной эпохи понимаются лишь наиболее
фундаментальные постулаты, значимые для всех людей, которым случилось жить
в эту эпоху. К их числу относится, например, античное представление
о мире как о конечном и «обозримом» или новоевропейское
представление о бесконечности мира. Ведь, разбив прежнюю, единую и
поэтому обязательную для всех картину мира, Новое время не уничтожило
ее. Разные картины мира стали сосуществовать внутри одного
политического сообщества. Следовательно, картина мира постепенно стала
приобретать черты миро-воззрения.
Как должно вести себя христианство в этой ситуации неустранимого
мировоззренческого плюрализма? Ведь христианский универсализм
исторически был связан с притязанием христианства на выражение всей
полноты истины, т.е. со стремлением ограничить истинность других
мировоззренческих систем, а в конечном счете — вытеснить их и заменить собой.
Русскому читателю известен оптимистический взгляд на эту
проблему, выраженный Владимиром Соловьевым: «... Критическое движение
последних веков ведет к обнаружению и торжеству истинного
христианства — живого, общественного и универсального, — не
отрицающего, а перерождающего человеческую и природную жизнь»2.
Но В. Соловьев имел в виду некое будущее осуществление
христианства как учения, которое «заключает в себе полную истину»*. Истина
* Предисловие к сборнику переводов «Социально-политическое измерение
христианства». М.: «Восточная литература», 1994. — С. 3-12.
168
христианства осуществится до конца в результате последовательного
преодоления «средневекового миросозерцания», представляющего
собой «исторический компромисс между христианством и язычеством»,
который «ошибочно принимается за само христианство как его
противниками, так и защитниками»4. Историку же христианской мысли
Нового времени хорошо известно, что как раз «критическое движение
последних веков» вызвало кризис христианства, сделало его
обороняющейся стороной, постоянно сдающей свои позиции.
Посмотрим на место христианства в интеллектуальной истории
Нового времени. Что же мы увидим? Во-первых, мы найдем уже едва ли
кем оспориваемое общее место, согласно которому основополагающие
ценности западной культуры сформированы христианством.
Во-вторых, голос самого христианства внутри этой культуры приобрел
специфически апологетический оттенок. Получается так, что христианство
заняло почетное место в музее европейской цивилизации.
Слово «апологетика» я употребляю в самом широком смысле: это
стремление «сделать понятным» некоторое предзаданное доктриналь-
ное содержание, т.е. заново истолковать его, приспособив к
изменившейся историко-культурной ситуации. «Заново истолковать»
отличается от «заново понять», и в этом различии суть интересующей меня
проблематики: новое понимание предполагает «мужественную решимость
поставить под вопрос истинность принятых предпосылок» (Хайдеггер),
оно ведет к переосмыслению и новым смысловым определениям.
И тут возникает вопрос о возможности неапологетического
христианства. В одном из новозаветных посланий мы читаем:
[Будьте] всегда готовы дать ответ всякому,
требующему у вас отчета о вашей надежде.
(1 Петр 3:15).
Словом «ответ» здесь переводится греческое απολογία, что значит в
частности «(судебная) защита, оправдание», а словом «отчет» —
греческое λόγος, которое тут можно понять как «осмысленная, разумная
аргументация». В терминах этого текста мою постановку вопроса можно
переформулировать следующим образом: искомая апологиа должна
быть именно ответом, а не апологетикой. Но реально оправдание
присутствует едва ли не во всех попытках христиан показать миру смысл
нашей надежды и ее возможное значение для современного мира.
Определяя целевую установку нашей антологии как «христианское
в христианстве», я хочу сопоставить под одной обложкой христианскую
апологетику (к ней относится, в частности, анализ культуры и
политики с какой-либо уже готовой «христианской точки зрения») с
попытками заново определить смысловой центр христианства («заново
понять»). И я исхожу из того, что все усилия «заново понять» вызваны к
жизни конкретными культурно-историческими (прежде всего
политическими) ситуациями.
Стало быть, я вовсе не приглашаю читателя насладиться некоей
вневременной мудростью и отвернуться от «политической суеты».
Напротив, можно смело утверждать, слегка изменив слова героя Кафки: всё
169
на свете имеет отношение к политике. Именно поэтому для цели этой
антологии наиболее подходят тексты, так или иначе затрагивающие
социально-политическое измерение христианства.
2
Такая формулировка вопроса предопределяет обращение к западной,
преимущественно протестантской, мысли. Ведь рефлексия по поводу
оснований собственной веры тематизирована именно в протестантской
традиции.
Очевидно также, что выбор материала подразумевает некоторое
отношение к нашей традиции, к традиции православной Церкви и
русской религиозной философии. Я исхожу из предпосылки, согласно
которой наша «родная» христианская мысль в принципе не может
ответить на вопросы, прямо-таки навязанные нам самой жизнью.
Вероятно, это объясняется тем, что в России христианская мысль пошла по
путям, где вообще нельзя найти ответы на эти вопросы. Мы уже не
способны дать отчет о нашей надежде.
К истории «мысли» (тем более — чужой) часто обращаются именно
тогда, когда почему-либо невозможно говорить о самом главном
прямо, от первого лица. У меня действительно нет такой возможности. У
меня нет языка, готового и общепонятного, который позволил бы
прямо говорить «о том, что захватывает меня безусловно» (П. Тиллих), —
о вере. Но у меня есть определенное предпонимание относительно
того, что здесь в конечном счете важно, а что — нет.
Так, я полагаю, что сейчас — быть может, больше, чем когда-либо
— для нас (в пределе, для христианской Церкви в России) необходимо
не христианское осмысление ситуации (политики, культуры и пр.), а
новое осмысление христианского, с необходимостью исходящее из
нашего исторического опыта и определенного отношения к нему.
Поэтому в качестве первого шага я хотел бы познакомить читателя
с некоторыми путями христианской мысли, лежащими за горизонтом
центральной русской традиции. Конечно, у меня нет презумпции
«неценности» всего, что содержится в русской религиозной мысли. Но нет
у меня и притязания на христианское осмысление чужой богословской
культуры. На единственно важный для меня критерий указывает само
название темы — «христианское в христианстве». С этой точки зрения
можно было бы рассматривать русских и западных писателей в одном
ряду. Западный материал выбран лишь потому, что там эта тема проду-
мывалась с методической четкостью и последовательностью. Ведь
замечание В. В.Зеньковского о том, что в русской философии «есть
некоторые ... особенности, которые ... отодвигают теорию познания на
второстепенное место»5, еще более справедливо для христианского
богословия на русской почве.
Проследив некоторые направления западной мысли, мы сможем
найти себе спутников и в родной традиции. Но я предполагаю, что то
важное, что обнаружится для нашей темы в творчестве Л. Толстого,
Ф. Достоевского, В. Соловьева, Н. Бердяева или (если обратиться к
170
академическому богословию) Μ.Μ. Тареева, по-настоящему
проясняется лишь с точки зрения, которая сама «вненаходима» по
отношению к их мысли.
Так, критика индивидуалистической жажды личного спасения у
Соловьева, его размышления о том, что из христианства нельзя исключить
социальное измерение, — все это было систематически продумано и
доведено до необходимых выводов (которые Соловьев, быть может, не
принял бы) именно в протестантском либерализме: аполитичные
элементы учения Лютера о двух царствах (т.е. о Церкви и мирском
обществе) и о двух формах правления Бога на земле (духовной и светской)
критиковалось изнутри протестантизма. Говоря в «Самопознании» о
своем понимании смыслового центра христианства, Бердяев замечает:
«Преодоление «просвещения» должно означать не совершенное его
отрицание, не возврат к состоянию «до-просвещения», а достижение
состояния высшего, чем «просвещение», в которое войдут его
положительные завоевания. Я имею в виду прежде всего «просвещение» в
более глубоком, кантовском смысле совершеннолетия и свободной само-
деятельности разума»6.
Бердяев ссылается на Кантово понятие Просвещения как «выход
человечества из состояния несовершеннолетия, в котором оно само
повинно». Интересно, что именно из этого определения Просвещения
исходил Дитрих Бонхёффер при разработке ключевой для теологии в. ν
рой половины нашего века идеи о «мире, ставшем совершеннолетним»,
— идеи, которая обосновывает у него программу «нерелигиозного
истолкования библейских понятий». То, что такая идея оказалась в
центре теологического мышления, как раз и свидетельствует о попытке
серьезно продумать сегодняшнее состояние христианства.
Естественно, для нас будут важны опыты нетрадиционных христо-
логий: ведь «христианское в христианстве» — это прежде всего
попытки по-новому осмыслить христологическую проблематику. И здесь
одним из наших спутников в русской традиции будет Достоевский с его
«Легендой о Великом инквизиторе». Ее интерпретировали крупнейшие
творцы русской религиозной философии нашего века, в частности
Розанов, Мережковский, Шестов и Бердяев. Инквизитору обычно
доставалось больше внимания, чем его молчащему оппоненту. Но если
рассмотреть «Легенду» в рамках нашей темы, то смысловые акценты
переместятся и лейтмотивом «Легенды» станет вопрос, четырежды заданный
Великим Инквизитором:
«Зачем же ты пришел нам мешать?»
Внутри русской традиции эти слова воспринимаются как
характеристика Инквизитора, едва ли не избыточная. Но за горизонтом этой
традиции, в другой системе координат, они могут быть поняты совсем
иначе: «Тот-кто-пришел-нам-мешать» — неожиданное и точное
определение миссии Иисуса, своего рода христологический титул, рядом с
титулами «Сын Божий», «Христос», «Сын человеческий». И
местоимение «нам» теперь уже соотносится не с единомышленниками
Инквизитора, не с «ними», а именно с нами. «Легенда» повторяет евангельский
171
сюжет: «Сожгу тебя за то, что пришел нам мешать», — говорит
Инквизитор.
В перспективе европейской традиции «Легенда» оказывается рядом
с христологией молодого Альберта Швейцера, автора «Истории
исследования жизни Иисуса», закончившего свою книгу такими словами:
«Мы не находим обозначений, которые выразили бы Его сущность доя
нас. ... Неизвестный и безымянный, приходит Он к нам, — как
некогда, на берегу моря Галилейского, Он подошел к людям, которые не
знали, кто Он. Он говорит те же слова: «Иди за Мной!» — и ставит нас
перед задачами, которые Он должен решить в наше время. Повелевает Он.
И тем, кто повинуется Ему, мудрым и немудрым, Он откроет себя в
покое, действии, борьбе и страдании, которые им суждено пережить
вместе с Ним. И они узнают — как невыразимую тайну — кто Он»7.
з
Итак, нас будут интересовать именно идеи, а не социология
религиозности или психология неофитов во времена массового поворота к
религии и духовным ценностям. Как мне кажется, предлагаемый здесь
подход становится особенно уместным сейчас, в эпоху быстрой
христианизации мира. В последней четверти XX в. миссионерская деятельность
теологически консервативных протестантских движений (руководящие
центры миссии находятся главным образом в США) привела к
огромным успехам, прежде всего в Азии и Африке. По сведениям одного
американского информационного бюллетеня, к январю 1991 г. в мире
еженедельно открывались три с половиной тысячи христианских церквей8.
И когда руководители миссии говорят, что на наших глазах
христианство впервые становится воистину всемирной религией, то их слова не
лишены оснований: ведь христианство принимают миллионы людей в
тех частях мира, где оно раньше не имело настоящей опоры. Кстати,
американские миссионеры собираются заняться и евангелизацией
Западной Европы, где влияние христианских церквей на общество
уменьшилось. Что же касается России, то в последнее время здесь
государственные масс-медиа навязчиво пропагандируют православное
христианство, и эта пропаганда влияет на массовое сознание. Однако к
христианской мысли все эти перспективные движения прямого отношения
не имеют. Ведь они не создали нового содержания, более того — их
действенность обратно пропорциональна их интеллектуальному
потенциалу. Лидеры и адепты этих христианских движений хотят, чтобы
другие, объект их пропаганды, стали такими же, как они9. Поэтому для тех,
кому важна намеченная здесь тема, эти миссионеры не могут стать
собеседниками и спутниками в поисках: они годятся лишь для того,
чтобы стать объектом социологического исследования.
Но и у размышляющих над своей верой неофитов рано или поздно
может наступить отрезвление. Его первый признак — тревожное
ощущение, которое можно выразить словами: «Что же мне делать с моим
христианством?» Человек воспринял христианскую Весть как «то, что
касается его безусловно» и уже не может жить так, будто встречи с
172
Евангелием не было. Но что же ему делать дальше? Не все новоообра-
\^ ^*
щенные могут стать «паствой», ведомой «ловцами человеков», и
принять то, что им предлагает сегодняшняя Церковь. Но и забыть встречу
со Словом могут не все. О ней можно сказать так, как было сказано о
встрече учеников с Воскресшим на пути в Эммаус: «Разве не горело
сердце наше, когда Он говорил нам на пути..?» (Лк 24:32). Не всем
удается забыть это и целиком вернуться к прежней жизни. И тогда для
вчерашних неофитов может стать важным опыт христианских мыслителей,
которые выросли в одной из конфессиональных традиций, получили ее
по праву наследства, и затем почувствовали потребность заново
продумать ее содержание, выйти за ее пределы и самостоятельно, на
собственный страх и риск, ответить на вопрос о христианском в
христианстве.
И поэтому для интересующей нас проблематики можно найти еще
одно ключевое слово — «боль освобождения». Легко заметить, что на
самом деле здесь затрагивается очень широкая тема, где религия и те-
и *J
ология — только частный случаи, один из возможных предметов
исследования.
Что такое «боль освобождения»? Представим себе следующую
ситуацию. Человек «выламывается» из своей культуры, испытывает
отчуждение от нее, если он обнаруживает, что культура не в состоянии
ответить на его «последние» вопросы или вовсе не обладает языком, на
котором эти вопросы могут быть заданы. По мере обнаружения этого он
постоянно наталкивается на то, что его родная культура лишена
некоторых важных содержаний, существенные для него смыслы не
выражены в ней. Все это вызывает отчуждение:
«сильней на свете тяга прочь,
И манит страсть к разрывам».
И эта грозящая разрывом с родной традицией тяга прочь причиняет
боль и в то же время ведет к освобождению, к болезненному,
травмирующему все твое существо — но и освобождающему — второму
рождению.
Опыт и боль освобождения — вот настоящий исходный пункт для
поисков «христианского в христианстве». Имеется в виду освобождение
человека от беспросветной обусловленности собственной религиозной
традицией. Необходимость разрыва с «верой отцов», с тем духовным
миром, в котором ты вырос, причиняет тебе боль и вместе с тем испы-
тывается как освобождение.
Пожалуй, именно этот опыт — необходимое условие для
возникновения темы о «христианском в христианстве». Именно здесь отправная
точка, — здесь, а не в вопросе о Боге, т.е. не в вопросе, который, как
хочется думать теологам, тревожит каждого человека и направляет его
поиски еще прежде, чем он находит слова для выражения своего
вопроса. Наша тема — это не тот поиск Бога, когда «неспокойно сердце
наше, доколе не успокоится в Тебе». Такова классическая
формулировка, принадлежащая Августину. На этой предпосылке строили свои
попытки пробиться к современному секулярному человека и принести
173
*
ему христианскую Весть великие теологи XX века Рудольф Бультман и
Пауль Тиллих, творчество которых представлено в этой антологии.
Но все же внесем ясность: на самом деле этот вопрос о Боге
определяет поиски людей, оказавшихся на пороге Церкви и готовых
вступить в культурное пространство определенной христианской традиции.
Что же касается нашего вопроса о «христианском в христианстве», то
он направляет поиски людей, уже успевших испытать разочарование в
своей традиции.
Боль отторжения, которая становится болью освобождения — вот
тот исходный опыт, который заставляет человека заново продумывать
вопрос о последнем основании и смысле своей веры.
Декабрь 1989, май 1991
Примечания
1 Писателем, глубже и пронзительнее всех выразившим ностальгию по
«Старому времени», я считаю М.Хайдеггера. Среди пяти конститутивных черт
Нового времени он называет «обезбожение»: «Это выражение не означает простого
изгнания богов, грубого атеизма. Обезбожение — двоякий процесс, когда, с
одной стороны, картина мира расхристианизируется..., а с другой —
христианские церкви осовремениваются, перетолковывая свое христианство в
мировоззрение (христианское мировоззрение). Обезбоженность есть состояние
нерешенности относительно Бога и богов». (М.Хайдеггер. Время картины мира//
Новая технократическая волна на Западе. — М., 1986. — С. 93.)
2 Соловьев B.C. Сочинения в двух томах. Т.2, с.357, — М., 1989.
3 Соловьев B.C. Там же, с. 351. (Выделено В.Соловьевым.)
4 Соловьев B.C. Там же, с. 356.
5 Зеньковский В.В. История русской философии.Т.1. — М,1956, с. 12.
6 Николай Бердяев. Собрание сочинений. Т. 1. Самопознание (опыт
философской автобиографии). — Париж, 1989. — С. 210.
7 Schweitzer А. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. — München, etc., 1966. — С. 630.
* См. National and international religion report. Vol. 5, № 3. — Washington, D.C.,
1991. -C. 1.
9 Поразительно, что даже лучшие выразители этого типа веры не видят здесь
морального изъяна и поэтому не чувствуют потребности как-то прикрыть такой
образ мыслей. Митрополит Антоний Сурожский (Блум) сказал в своем
интервью журналу «Звезда»: «... Иноверный, инославный, язычник по нашим
понятиям, неверующий ... может сказать слово правды, и мы можем научиться чему-
нибудь. За это меня тоже осудят, но я опять-таки скажу, что я слишком много
людей видел достойных, с которыми я никак не могу согласиться и которыми
я все равно восхищаюсь: замечательные люди». («Звезда», № 1, 1991, с. 128).
Видимо, митрополит Антоний всю свою долгую жизнь провел в такой
культурной среде, которая не давала ему повода задуматься об оскорбительном
смысле подобных высокомерно-снисходительных похвал.
174
Христианин в обезбоженном мире
Харви Кокс родился в 1929 г. в городке Мальверн (штат
Пенсильвания, США). Он учился в Пенсильванском
университете, получил профессиональные квалификации бакалавра и
магистра теологии в Йельской теологической семинарии и
ученую степень доктора философии по специальности «история и
философия религии» в Гарвардском университете. В 1956 г. он стал
баптистским пастором. Преподавал в нескольких теологических
учебных заведениях США, а также в Германии. В настоящее время —
профессор Гарвардского университета. X. Кокс — автор многих книг, в
которых с разных сторон анализируется положение религии в
сегодняшнем мире.
X. Кокс задумал и написал «Мирской град» как пособие для
участников молодежного протестанстского движения «Национальная
студенческая христианская федерация», имея в виду прежде всего
учащихся колледжей. Почему эта книга стала важной для гораздо более
широкой публики в США, а затем — для читателей в Латинской Америке и
Азии, для католиков и вообще для людей, интересующихся религией?
Почему, наконец, автор этих строк считает, что и сейчас знакомство с
«Мирским градом» будет интересно русскому читателю?
Тема книги — христианское осмысление секуляризации, которую
X. Кокс уже на первых страницах отождествляет с «совершеннолетием
человека» в смысле великого христианского теолога XX века Дитриха
Бонхёффера (1906-1945) и с «расколдовыванием мира» в смысле
известного положения Макса Вебера. Кстати, X. Кокс неоднократно писал,
что «Мирской град» надо понимать именно как развитие идей Д.
Бонхёффера.
Автор «Мирского града» последовательно истолковывает
секуляризацию теологически как «законное дитя библейской религии» и
еще конкретнее — как результат действия христианской Вести
(Евангелия) в истории. Он принимает известный социологический
тезис о христианстве как специфически городском типе культуры,
связывая эту идею с «универсальностью и радикальной открытостью
христианства». Современный город («технополис») — это
социальный облик нового секулярного мира. В одной из глав книги X.
* Послесловие к книге: Харви Кокс. Мирской град: секуляризация и
урбанизация в теологическом аспекте.М., «Восточная литература», 1995. — С. 256-262.
175
Кокс стремится показать, что технополис — «живая и конкретная
реализация древнего символа Царство Бога». Можно было бы
сказать, что Кокс понимает мирской град как нерелигиозную
метаморфозу (в смысле Шпенглера) этого новозаветного символа. Другими
словами, перед нами опыт того, что Д. Бонхёффер называл
«нерелигиозной интерпретацией библейских понятий».
Уже Бонхёффер исходит из того, что западный мир перестал быть в
каком бы то ни было традиционном смысле «христианским»: это
безбожный, или, как выражается Мартин Хайдеггер, «обезбоженный» мир.
Однако подлинный нерв всей этой проблематики в другом: готово
ли христианство понять себя в новом мире как заведомо частичное
мировоззрение, или радикальная теология тоже станет решать обычную
апологетическую задачу — пытаться охватить мир в его целостности
единым христианским истолкованием?
Для христиан, оказавшихся в ситуации «мирского града»,
возникает вопрос о смысле их веры в «обезбоженном мире». Вот ответ
Бонхёффера: «Вы не можете один чао бодрствовать со мной?» —
спрашивает Иисус в Гефсимании. Здесь все, чего религиозный
человек ждет от Бога, обращается в свою противоположность. Человеку
предлагается страдать вместе с Богом в безбожном мире. Стало быть,
он вынужден по-настоящему жить в безбожном мире и не должен
как-либо прикрывать или преобразовывать его безбожность в
религиозном смысле. Он вынужден жить «по-мирски», и именно так он
участвует в страданиях Бога. Он может жить «по-мирски», т.е. он
освобожден от ложных религиозных обязательств и ограничений...
Не религиозный акт делает человека христианином, а страдание
вместе с Богом в мирской жизни».
Этот ответ заставляет думать, что Бонхёффер остался в
«состоянии нерешенности» (Хайдеггер) относительно того, насколько
честным будет последовательно христианское толкование безбожного
мира. В его первом теологическом письме из тюрьмы (30 апреля 1944
г.) есть один пронзительный и «наивный» поворот мысли, который
кажется мне ключевым и для понимания книги X. Кокса. Здесь
Бонхёффер впервые развернуто формулирует главный тезис своей
теологии: эпоха религии в истории западной цивилизации прошла. А это и
значит: тотально религиозные истолкования реальности навсегда
утратили центральную роль в формировании общества и стали уделом
меньшинств, неспособных к «нормальным» формам
самоутверждения. Однако Бонхёффер тут же, на одном дыхании, спрашивает: «Но
как же тогда Христос станет Господом безрелигиозных людей? <...>
Если религия — лишь оболочка христианства, <...> что же такое
безрелигиозное христианство? <...> Как мы же мы будем «по-мирски»
говорить о «Боге»? <...> Ведь тогда Христос — не объект религии, а
нечто совсем иное, воистину Господь мира».
Под «наивностью» я имею в виду стремительный и вроде бы нереф-
лектирующий переход — в одном высказывании! — от отрициния к
утверждению: для Бонхёффера самоочевидно, что Христос непременно
станет Господом секулярного западного человека, — того самого
«прагматика и профана», о котором двадцать лет спустя напишет Харви
176
г
Кокс. Радикализм Бонхёффера предстает как естественный рост от
самых корней (radix — «корень») его собственной традиции, из глубин
лютеранского благочестия, — рост, приводящий к совершенно новому
образу христианской веры.
X. Кокс тоже прочно укоренен в одной из традиций христианского
благочестия (об этом он говорит подробно в автобиографической
книге), и «Мирской град» можно понять как опыт «актуальной
апологетики». Однако сам вдохновенно описанный им «стиль мирского града»,
вырастающий из принципиального культурного плюрализма
американского «технополиса», делает некорректным вопрос о том, кто все же
обладает «настоящей» истиной. X. Кокс показывает, почему этот
вопрос перестает задаваться и какие вопросы идут ему на смену.
По мнению Кокса, христианство Нового времени находилось в
состоянии круговой обороны и отступления. В результате Церковь просто
подчинилась «духу времени», пошла к нему на службу.
Исходный пункт размышлений X. Кокса можно сформулировать
так: религия есть форма нормативного регулирования мышления и
поведения, свойственная эпохам, предшествовавшим Новому времени.
Точнее: специфичная для этих эпох, господствовавшая в эти эпохи. В
современном мире традиционным «авраамическим религиям»
(иудаизму, христианству и исламу) приходится заново искать свое место, то
есть приспосабливаться. Обнаружилось, что классические
монотеистические религии с трудом выживают в принципиально секулярном и
плюралистическом обществе, которое представляет собой сообщество
сообществ (этнокультурных, религиозных и др.). Им надо учиться жить
в этом сообществе сообществ «без общего знаменателя». И учеба
дается традиционным религиям с трудом.
Я мог бы описать эту ситуацию теологически (или мифологически)
с помощью библейской метафоры: после нескольких неудач Бог
отказался от попыток добиться Своих целей через общину веры, Он
больше не пытается осуществить Свой замысел о человечестве с помощью
«религии», и в этом корень секуляризации: «Ибо ваши мысли — не Мои
мысли, а Мои пути — не ваши пути» (Ис 55:8). Бог стал пробовать
строить Свои отношения с людьми по-другому. Так и возникло
европейское Новое время с его сдержанным отношением к христианству как
традиционной религии Запада.
Ведь сам образ Бога в иудаизме, христианстве и исламе таков, что он
предполагает бескомпромиссность и нетерпимость этих религий — в
отличие от «настоящих» восточных религий, например религий Индии.
Можно говорить о доктринальной агрессивности монотеистических
религий, которая порождала нетерпимость и на практике.
Но Х.Кокс относится к числу тех теологов, которые, вслед за Д. Бон-
хёффером, считают, что христианству не обязательно выбирать между
двумя путями, ведущими к поражению, между упрямой
бескомпромиссностью (фундаментализм) и пассивным приспособлением (учет
«духа времени»). Они полагают, что для христианства возможно такое
изменение самопонимания при сохранении специфики, которое
позволит ему предложить миру нечто ценное, что помимо христианства
отсутствовало бы в «мирском граде» и в чем «взрослый» мир действитель-
12 Заказ 257 177
но нуждается. Этот путь ведет к попыткам дерзкого переосмысления
христианской традиции.
Теперь читатель сам может судить, насколько удачной и
убедительной оказалась такая попытка у X. Кокса.
X. Кокс сознательно обращается именно к церковному читателю. Он
убеждает его в том, что признание исторической обусловленности
социальных (в частности, религиозных) норм не ведет к
разрушительному для общества нигилизму и анархии. Ведь нецерковному жителю
«мирского града» такое опасение не приходит в голову. Светский
человек просто не видит связи между самоочевидно историческим
характером социальных ценностей и угрозой анархии. Эта связь возникает
лишь в религиозном сознании. Оно исходит из того, что некоторые
нормы действительны как раз потому, что имеют внесоциальный и вне-
исторический источник.
Итак, X. Кокс стремится изменить то привычное представление о
христианстве, которое существовало у его первых читателей. Однако
некоторые важные постулаты всё же были приняты автором
некритично. Об одном таком случае, об обыгрывании известного
противопоставления между порабощающим Законом и освобождающим
Евангелием, сам автор с сожалением упоминает в предисловии к
изданию 1990 г. Добавлю, что вся библейская аргументация X. Кокса
опирается на чисто христианскую герменевтику еврейского
Священного Писания, то есть предполагает смысловую позицию,
произвольную и внешнюю по отношению к текстам, которые автор
использует для обоснования своих идей.
Говоря во «Введении» о роли христианства в создании городской
культуры Запада, X. Кокс уверенно упоминает об «универсальности и
радикальной открытости» христианства. Речь идет, между тем, не об
историческом факте, а о теологической конструкции. Для историка
едва ли очевидно, что нехристианская эллинистическая культура была
менее «универсальна» и «открыта», чем христианство первых веков.
Таким образом, и подход X. Кокса к Новому Завету не вполне
историчен: он исходит из известного общего места, согласно которому
христианство утратило нечто важное в результате «эллинизации»: «Наш
секулярный человек гораздо ближе к библейской традиции, чем к
греческой. Разрыв между современным человеком и Библией не так велик,
как принято думать». «Эллинизация» здесь означает, что хороший
(функциональный) еврейский тип мышления был вытеснен в
классическом христианстве плохим (онтологическим) греческим. Между тем
историк скорее согласился бы с тем, что русское православие,
понимающее церковь прежде всего как культовую общину, осталось наиболее
верным духу первоначального христианства, которое, как об этом
свидетельствует Новый Завет, было одной из культовых общин
эллинистического мира.
Едва ли X. Кокс прав в том, что рассказ об Исходе и Синайском
договоре может обосновать современную идею десакрализации
политической власти. Если исходить из намерения составителя канонической
книги Исход, дело обстоит скорее наоборот. Моисея вполне можно
назвать «правителем, чья власть легитимирована религией». Х.Кокс тол-
178
кует Библию как нечто целостное, то есть опять же чисто
теологически (исходя из нужд своей конструкции), а не исторически. Это верно и
для его рассуждений в главе «Стиль мирского града» о том, что
«человеку отводится решающая роль в создании мира». Библейское
доказательство этой идеи X. Кокс находит, ссылаясь на авторитет Г. фон Рада,
в Быт 2, где человек дает имена животным. Здесь X. Кокс находит
«библейское обоснование» важного для его работы представления,
согласно которому человек ответствен за свой мир. Рядом с
«ответственностью» и «взрослением» в книге X. Кокса есть еще одно ключевое для его
теологии слово — «демифологизация». Соотвественно, первый рассказ
о творении мира (Быт 1:1 — 2:4а) X. Кокс рассматривает как пример
демифологизации в самой Библии. Однако с исторической точки зрения
Быт 1 и Быт 2 — совершенно независимые друг от друга рассказы о
сотворении мира и человека. Они написаны в разные эпохи и
предполагают разные мировоззрения. У каждого из них есть свой смысл и
интенция. Быт 1 действительно стремится быть немифическим,
натурфилософским (хочется сказать — почти научным) повествованием о
началах. Напротив того, повествование Быт 2 целиком мифично. Здесь Бог
вначале собственными руками лепит человека из глины, затем
разбивает сад где-то на востоке от того места, где жил автор повествования: из
этого сада вытекают четыре известные ему реки. Бог поселяет
человека в саду, чтобы человек «обрабатывал и хранил его». Тут же Бог
замечает, что человеку скучно быть одному, и решает сделать ему
«подходящего помощника». Он слепил из земли разного рода животных и
показал их человеку. Человек дал им имена, но подходящего помощника
среди них не нашел. Тогда Бог создал из ребра человека женщину,
которая и стала подходящим ему помощником.
Получается, что X. Кокс использует библейские тексты «несекуляр-
но», то есть отвлекаясь от их собственного смысла и контекста ради
доказательства чего-то, о чем сам текст не знает. Тут он продолжает
аллегорически-типологическую экзегезу древности и средневековья,
отходя от собственных предпосылок.
Я думаю, что истоки секуляризации надо искать все же не в Библии,
а в самом Новом времени. А структурной основой для нее стало
противопоставление церкви и мира, специфичное именно для христианской
цивилизации. В иудаизме и исламе нет института, вполне аналогичного
церкви. Поэтому секуляризация — чисто христианское явление.
Быть может, «Мирской град» будет интересен и русскому читателю,
далекому от христианства — но не как миссионерское сочинение, а как
свидетельство об образе христианской веры, отличном от того, который
предлагают ему наши масс-медиа. Здесь достаточно сослаться на одно
из определений церкви, которое дает X. Кокс: «Церковь — это
экспериментальная модель будущего», которое имеет смысл создавать. В
этом определении сочетается теологический пафос Карла Барта и
специфический лейтмотив американской культуры, который ни с чем не
спутаешь. На мой взгляд, учение о Церкви — наиболее сильная
сторона книги.
Приведу одно из характерных высказываний X. Кокса на экклезио-
логическую тему: «Сегодня церквам особенно необходима свобода от
и
12* 179
материальной заинтересованности, определяющей их консерватизм.
Институт, который в силу своей идеологии и экономической базы не в
состоянии ни понять, ни поддержать революционные изменения, не
может сделать даже первого шага навстречу Богу, действующему в
нынешней ситуации социальных перемен». — X. Кокс создает
собственный идеальный образ Церкви, но может ли он быть быть полезным для
реальных церквей в качестве ориентира? Не утопия ли перед нами?
Судя по тому, как горячо приняли книгу христиане в США, этот
идеальный образ действительно может быть соотнесен с практикой.
Читатель, вероятно, заметил, что X. Кокс иногда настолько
увлекается мыслями о возможностях сделать жизнь у себя на родине более
человечной и настолько углубляется в проекты политических
преобразований в духе социального (почти социал-демократического)
государства, что христианское измерение и обоснование этих проектов
иногда приходит на страницы книги как бы задним числом, как нечто не
вполне обязательное. Он просто утверждает, что разделяемые им
политические идеи соответствуют смыслу правильно понятой христианской
Вести или даже исторически связаны с ней. Быть может, не всем это
утверждение покажется убедительным.
Следует также иметь в виду, что в «Мирском граде» перед нами
предстает Америка первой половины 60-х годов, во многом уже
непохожая на сегодняшнюю. Это Америка, еще не испытавшая поражения
во вьетнамской войне и победы в «холодной войне». На американское
общество тогда еще не оказали формирующего влияния успехи
движения за гражданские права негров и «сексуальная революция». Однако
ни одна из важнейших проблем, обсуждаемых X. Коксом, не утратила
остроты и сегодня. Это и понятно, так как верным оказалось
принципиальное допущение автора; в «мирском граде» все решения жизненно
важных вопросов могут быть лишь временными и предварительными.
Главные труды Х.Кокса:
On not leaving it to the snake. N.Y., 1964.
The Secular City. Secularization and urbanization in theological perspective. N.Y.,
1965.
God's revolution and man's responsibility. Valley Forge, Pa, 1965.
The feast of fools. A theological essay on festivity and fantasy. Cambridge, Mass., 1969.
The seduction of the Spirit. The use and misuse of people's religion. N.Y., 1973.
Turning East: The promise and peril of the new orientalism. N.Y., 1977.
Just as I am. Nashville, 1983.
Religion in the Secular City. Toward a postmodern theology. N.Y., 1984.
The silencing of Leonardo Boff: Vatican and the future of world Christianity. Oak
Park, Illinois, 1988.
Many mansions. A Christian's encounter with other faiths. Boston, 1988.
Март J 992
180
Харви Кокс:
Религия после конца Нового времени
Читатель статьи «Религия в мирском граде», вероятно, впервые
встретится с творчеством американского теолога Харви Кокса.
Между тем вот уже четверть века Х.Кокс, автор
опубликованной в 1965 г. книги «Мирской град»1, остается, быть может,
самым читаемым писателем на религиозные темы в США.
Судьба «Мирского града» необычна для книги по систематической теологии
(а именно так следует определить жанр этого экстравагантного по
своей композиции сочинения). Книга, написанная тридцатишестилетним
баптистским пастором и професором теологии, в течение двух-трех лет
разошлась миллионным тиражом и была переведена на одиннадцать языков.
Х.Кокс начинает эту работу с характеристики современного
«мирского града» — «технополиса». Его жителя он определяет как
«прагматика» и «профана», который вообще не испытывает потребности задавать
так называемые последние вопросы в их экзистенциалистской
трактовке: ведь эти вопросы (как и сам экзистенциализм) принадлежат
ушедшей эпохе. «Секулярный человек попал в город уже после того, как
религиозная картина мира была похоронена. У него нет ощущения
утраты и ему нечего оплакивать... И дело не в том, что он не питает уважения
к религии. Просто он чувствует, что вопросы, которые его занимают,
относятся к другой сфере... Поэтому пытаться заставить секулярного
человека задавать религиозные вопросы — бессмысленно и нечестно.
Сначала мы должны научиться с ним разговаривать. Прежде всего нам следует
принять прагматика таким, как он есть...»2, — писал Х.Кокс.
В формулировке проблемы «христианская Весть (Евангелие) и
безрелигиозный человек» Х.Кокс сознательно следует за Дитрихом Бонхёффе-
ром, одним из важнейших религиозных мыслителей XX века, но в
разработке этой проблемы он идет гораздо дальше. «Мирской град» — это
главным образом опыт разговора с религиозным человеком о
«совершеннолетнем мире» (по терминологии Бонхёффера), но затем Х.Кокс начинает
разговор о Евангелии непосредственно с гражданином «технополиса».
В отличие от civitas terrena, «земного града» Августина, у X.Кокса
сам «мирской град» становится образом царства Божьего. Такой
поворот мысли подробно аргументируется уже в одной из глав книги
«Мирской град». Я думаю, читатель «Мирского града» сможет убедится, что
не конъюнктурные соображения, а изучение того смысла, которым об-
* «Октябрь», № 6, с. 161-164. — М., 1992.
181
ладает евангельский символ «царство Божье», привели X.Кокса к
выводу: «Царство Бога, выраженное в жизни Иисуса из Назарета, остается
наиболее полным проявлением сотрудничества Бога и человека в
истории. Пытаясь влиять на жизнь мирского града, мы тем самым
проявляем верность Царству сегодня»3.
Именно тут возникает основа для принципиально нового разговора
христианской теологии с «секулярным человеком». По мнению Кокса,
христианство Нового времени находилось в состоянии круговой
обороны и отступления4. В результате Церковь просто подчинилась «духу
времени», пошла к нему на службу. Что же касается Бонхёффера, то он
первый увидел теологическую возможность всерьез принять
«совершеннолетний мир» таким, как он есть, и при этом не приспосабливать
Весть к потребностям этого мира. Для зрелого Бонхёффера очевидно,
что Иисус должен стать Господом нерелигиозных людей, — вопрос
лишь в том, как могут христиане помочь Ему в этом.
И этот вопрос, оставшийся у Бонхёффера без ответа, становится
главным в творчестве христианского теолога Харви Кокса.
В размышлениях над этим вопросом Х.Кокс исходит из общей у
него с Бонхёффером веры в то, что настанет день, «когда люди будут
снова призваны проповедовать слово Бога так, что под его
воздействием изменится и обновится мир»5.
В перспективе этого главного вопроса становится понятным, в
каком смысле X. Кокса можно считать «радикальным теологом», коль
скоро такое обозначение прочно ассоциируется с его работой. В книге
«Совращение духа. Употребление народного благочестия и
злоупотребление им» Х.Кокс замечает: «Я терпеть не могу ярлыков, но согласен
называться «радикальным» теологом, если мне будет предоставлено
право самому определить,что это значит»6.
Напомню читателю, что не только вчерашние наши специалисты по
критике буржуазной идеологии создавали злобно-карикатурные
изображения современной «неклассической» (или «радикальной»)
христианской мысли. Нечто подобное мы находим и у защитников
традиционного образа христианской ортодоксии, у идеологов христианского
холизма (например, в книгах покойного К.С. Льюиса, которые
издаются у нас сейчас в русских переводах). Видимо, и современные
христианские апологеты не в состоянии спокойно наслаждаться полнотой
своей истины и чувствуют потребность опорочить тех, кто думает иначе.
Во всяком случае, X.Кокса тоже обвиняли в разрушении основ веры,
хотя именно в его теологической работе нельзя не заметить того, на что
надеялся Бонхёффер, — перехода христианской Вести от обороны к
j
наступлению, стремления «проповедовать слово Бога так, что под его
воздействием изменится и обновится мир». Как раз в таком смысле
Х.Кокс считает себя «радикальным» теологом. Разумеется, «переход в
наступление» предполагает новое осмысление христианской Вести: об
этом и говорится в опубликованной здесь статье Кокса.
Для понимания этой работы, да и всего творчества X. Кокса, важно
указать еще на одну линию его преемственности с Бонхёффером. Вся
западная интеллектуальная традиция приучила нас к тому, что
правильная мысль должна предшествать разумному социальному действию.
182
«Радикальная» теология Кокса в какой-то мере меняет эту посылку на
противоположную. Х.Кокс исходит из того, что «ортопраксия» (или,
как сказал бы Д.Бонхёффер, «страдание вместе с Богом в мирской
жизни») — это как раз та ситуация, в которой происходит становление
социально ответственного мышления.
Итак, по мнению X.Кокса, эпоха обороны и отступления
христианства закончилась: оно снова может стать творческой силой,
формирующей западную культуру. И эту возможность Х.Кокс связывает с
концом «современности».
Тут мы вступаем в область сегодняшних историософских споров
вокруг понятия «постмодернизм» (нем. «die Postmoderne», англ.
«postmodernity»). В философском сообществе, как известно,
наибольшим признанием здесь пользуются два направления: 1. французский
постструктурализм Ж.-Ф.Лиотара, Ж. Деррида и М. Фуко; 2.
концепция, разработанная в рамках Франкфуртской школы М. Хоркхаймером,
Т. Адорно и Ю. Хабермасом. Что же касается X.Кокса, то он
учитывает все эти точки зрения, но для его теологических целей более всего
подходит отождествление «современности» с Новым временем (такое
определение тоже существует в философской литературе). Тогда
«постмодернизм» (или «постсовременная эпоха») — это период,
наступивший после «конца Нового времени».
Публикуемая здесь статья X. Кокса представляет собой тезисное
изложение главных идей его книги 1984 г. «Религия в мирском граде: к
постмодернистской теологии»7, в которой социологическое
исследование сегодняшнего религиозного возрождения (в том числе и за
пределами западного культурного круга) сочетается с
теологически-нормативным подходом.
В этой книге Х.Кокс дает развернутое определение уходящего
«современного мира», выделяя пять его конститутивных признаков:
1. Суверенные национальные государства как компоненты мирового
политического порядка.
2. Основанная на науке технология и научная картина мира,
ставшая источником важнейших культурных символов.
3. Бюрократический рационализм как главный способ организации
человеческой деятельности.
4. Стремление извлечь максимальную прибыль, ставшее главной
мотивацией в трудовой деятельности, а также в обмене товарами и
услугами.
5. Секуляризация и тривиализация религии: священное ставится на
службу профанному, религия нужна современному миру для
поддержания личной морали и публичного порядка.
«Модернизм» (modernism) Х.Кокс определяет как интеллектуальную
деятельность (в искусстве, философии и религии), порожденную
этими специфическими условиями современного миран.
Как считает Х.Кокс, все эти пять опорных конструкций современности
(modernity) на наших глазах «разлагаются изнутри». В кратком
послесловии я могу лишь резюмировать аргументацию Х.Кокса, не пытаясь
оценивать ее убедительность. Надо лишь заметить: затронувшие весь мир
сегодняшние перемены помогают заново продумывать эту аргументацию (как,
183
впрочем, и целокупную философскую проблематику «постсовременного
мира»), но не опрокидывают ее как заведомо устаревшую.
Вот в чем Х.Кокс видел в 1984 г. признаки конца современной эпохи.
Система суверенных национальных государств изживает себя,
появляются основы новой организации мирового сообщества. Идущее в
последние десятилетия обсуждение «пределов роста» и
«ограниченности научной парадигмы» показывает, что роль научной технологии в
постсовременном мире должна сильно измениться, хотя убедительные
ответы на вопросы о месте науки и технологии в новую эпоху еще не
найдены. Бюрократический рационализм тоже исчерпывает свои
возможности, и на смену ему идут новые, спонтанно возникающие
«снизу» формы взаимодействия людей при решении общих задач.
Неограниченный рыночный либерализм (принцип максимальной прибыли
как единственный регулятор) вытеснил бльшую часть человечества —
бедные и голодающие нации, а также значительные социальные
группы в западных странах — на «окраины» современного мира. Этот факт,
а также неизбежное «движение коммунистических стран к рыночной
экономике»9 заставляет задать вопрос о новой,
«посткапиталистической» мировой экономической системе. Наконец, эпоха «тривиализиро-
ванной» и «прирученной» религии закончилась. Х.Кокс подробно
анализирует возрождение агрессивной фундаменталистской
религиозности. Как социолог он констатирует: религия возвращается в «мирской
град». Как теолог он говорит об опасностях и надеждах, связанных с
превращением религии в самостоятельную политическую величину.
«Я не хочу сказать, что одно лишь христианство создаст
религиозную основу для постсовременного мира. Однако я верю, что
христианство может и должно внести решающий вклад в создание новой
мировой цивилизации. Этот вклад будет принципиально отличаться от тех
функций, которые христианство выполняло в Новое время. Но лишь
радикально преображенное и «демодернизированное» христианство в
состоянии выполнить такую задачу. Итак, возможно ли
«постмодернистское» или «демодернизированное» христианство?»10 — такой вопрос
задает Х.Кокс, говоря о своей надежде. Некоторые подходы к ответу на
этот вопрос представлены в опубликованной здесь статье.
Стремясь познакомить читателя с творчеством X.Кокса, я исхожу из
того, что его голос значим для российской политико-культурной
ситуации 90-х годов. Все мы знаем: в России христианство привычно
ассоциируется с вполне определенным,
консервативно-националистическим, типом политического мировоззрения. Получается, что
политическое «место в жизни» для христианства в нашей стране, т.е. его
политическое назначение, определено заранее. Мы наперед знаем, чему нас
будут учить наши сегодняшние православные христианско-демократи-
ческие (или недемократические) мыслители, поэтому нам, читателям и
слушателям, едва ли удастся завязать с ними серьезный разговор.
Между тем в Западной Европе, США и Латинской Америке
политическое измерение христианства выглядит иначе.
Поэтому я думаю, что сейчас для русского читателя будут особенно
интересны такие христианские подходы к политике, которые далеки от
стремления к реставрации прежних, «более христианских», образов со-
184
циальной жизни, — например, от ностальгии по утраченному
мифическому раю «великой России, которую мы потеряли».
Так, Х.Кокс, обсуждая политические аспекты сегодняшнего
христианства, говорит в своих работах о «теологии социальных перемен» и о
«теологии революции». Важно понять, что речь идет не о христианском
оправдании изменения социального порядка (в частности, об
оправдании революции), а о том, какие возможности политического поведения
открываются для христиан в ситуации резких социальных перемен.
Кроме того, знакомство с западным христианством, активно
формирующим свое социальное измерение, позволит нам продумать и
современную (т.е. «неностальгическую») христианскую критику либерально-
демократического государства и общества, — критику,
сформированную не радикальными вариантами марксизма, а стремлением уже
сейчас взять на себя долю политической ответственности за будущее
либеральной демократии. Ярчайший пример здесь творчество, жизнь и
судьба Мартина Лютера Кинга, с которым Харви Кокс сотрудничал в 60-е
годы, в эпоху Движения за гражданские права. Видимо, для нашей
собственной ситуации эта христианская критика либерализма во имя
будущего важнее, чем христианская (в стиле «Вестника РХД»,
А.Солженицына и И.Шафаревича) критика безбожного коммунизма, которая мало
что добавляет к тому, что мы и так неплохо знаем. Опять же, здесь мы
можем сделать шаг вперед и по сравнению с надоевшей пропагандой на
тему «свободный рынок — хорошо, социализм — плохо».
И наконец, последнее — и, быть может, самое важное — замечание
об актуальности творчества X. Кокса для сегодняшней русской
публики. Я уверен, что лишь стремление христианского автора разделить с
читателем (по большей части «прагматиком» и «профаном») открытые
вопросы самого христианства поможет передать этому читателю
представление о живом смысле веры, — о том, что должно быть главной
ценностью в мире христианского автора. А вербовка, сопровождаемая
посулами и угрозами, всегда отталкивает свободного человека.
Май 1992
Примечания
1 Сох Н. The Secular City. Secularization and urbanization in theological perspective.
- N.Y., 1965.
2 Там же, с. 93.
3 Там же, с.124.
4 Ту же мысль находим и у Бонхёффера: «Главная проблема: Церковь
защищается. Никакого риска ради других». (См. «Вопросы философии». N11, с. 144. —
М., 1989.)
5 Там же, с. 122.
6 Сох Н. The seduction of the Spirit. The use and misuse of people's religion. — N.Y.,
1973. - P.169.
7 Cox H. Religion in the Secular City. Toward a postmodern theology. — N.Y., 1984.
* Там же, с. 183 слл.
9 Там же, с. 190.
10 Там же, с.207.
185
Эрнст Кассирер и философия мифа
Исходные определения
В гуманитарных и социальных науках разработаны десятки
определений понятия «миф». Вот каков, на мой взгляд, их общий
элемент: миф — это вненаучное знание, позволяющее
включенному в некое сообщество человеку осмыслить свою жизнь.
Другими словами, миф «нужен» для того, чтобы человек мог
обрести себя и свой мир. Если принять такое понятие мифа, то он не
обладает истинностным значением: миф не может быть истинным или
ложным, его нельзя доказать или опровергнуть. Миф предписывает
человеку нормы и ценности, его главная характеристика —
действенность. Если миф оказывается не в состоянии интегрировать сообщество
и предложить его членам смысл жизни, то он просто утрачивает свою
социальную функцию. Тогда его заменяет другой миф. Стало быть, миф
содержит — в нерасчлененном виде — религиозные, философские,
правовые и моральные компоненты. Миф формирует образ мышления и
действия человека как в сакральной, так и в профанной сфере.
Таким образом, миф — одновременно способ создания социальной
реальности и средство социализации, то есть включения человека в эту
реальность.
Названные черты позволяют говорить о мифе как об одной из
важных категорий гуманитарного и социального знания, идет ли речь о
традиционном или о современном обществе.
Применительно к современному обществу понятие «миф» указывает
на более глубокий уровень социальной реальности, чем тот, для
описания которого используются понятия «идеология» и «мировоззрение».
Греческое слово mythos означает, в частности, «повествование», и
здесь этимология важна для определения формальной стороны мифа.
В самом деле, в типичном случае все эти функции выполняются в
ходе рассказывания некоторой истории или историй. Иногда такая
история не рассказывается, но просто подразумевается, то есть в
данном обществе она обладает статусом общепризнанного и
общедоступного знания.
Скажем, основополагающий миф американской демократии подра-
* Послесловие к публикации статьи Э. Кассирера «Техника политических
мифов». «Октябрь», № 7, 1993. - С. 164-167.
186
зумевает рассказ о первых переселенцах, покинувших Старый Свет
ради религиозной свободы, а также об отцах — основателях союза
бывших колоний: это люди, которые ради «общего блага» и данного
Творцом «права на стремление к счастью» восстали против «абсолютного
деспотизма» короля Великобритании.
В том же смысле миф русского коммунизма о социальной
справедливости предполагал известное всем с детского сада повествование:
Так в Октябре упала власть
буржуев и дворян,
Так в Октябре мечта сбылась
рабочих и крестьян.
Миф и культура Нового времени: попытки уйти от мифа
С эпохи Просвещения в западной культуре господствовало отношение
к мифу как к «плоду невежества и обмана»1. Разные философские
школы занимались тем, что в XX веке получило название
«демифологизация».
Если мы попытаемся очертить основополагающие различия в
современной философии мифа и тем самым классифицировать ее, то
фундаментальный исследовательский выбор окажется, на мой взгляд, таким:
неокантианство или неомарксизм.
Слово «неокантианство» я употребляю здесь в самом нестрогом
смысле: речь идет о такой помнящей свое родство с Кантом критике
познания, которая уже не может последовательно противопоставить
себя ни феноменологии, ни философской герменевтике, ни даже
аналитической психологии Юнга, то есть другим (причем исходно
антикантианским) эпистемологическим проектам. Я думаю, что примерно
таким было «неокантианство» позднего Кассирера, автора «Мифа о
государстве». Сюда же я отнес бы и интерпретацию мифа в
университетской «научной теологии» — от ведущего протестантского теолога
эпохи Просвещения Иоганна Саломо Землера (1694-1768) до Рудольфа
Бультмана и французского христианского философа Поля Рикера
(автора книги «Символизм зла»), у которого миф истолковывается как
повествование, раскрывающее смысл таких «первичных символов», как
«осквернение», «грех» и «вина».
«Неомарксизм» здесь тоже понимается весьма широко. Прежде
всего имеется в виду «постмарсксистская» критика западной цивилизации
в «Диалектике Просвещения» теоретиков Франкфуртской школы Хорк-
хаймера и Адорно, где важное место занимает понятие мифа. Далее
можно указать на связь между употреблением понятия «миф» в
современной феноменологической социологии (Питер Бергер и Томас Лук-
ман) и Мангеймовой «критикой идеологии», которая, в свою очередь,
предполагает марксистское определение идеологии как «ложного
сознания». (Мангейм важен для нашей темы и как создатель «социологии
знания»). Сюда же относится культурантропология, обратившаяся к
изучению современного западного общества, используя весь свой опыт
187
исследования традиционных обществ Юго-Восточной Азии, Океании и
Африки. Так, исследования в области «политической антропологии»2
показали, ч^, к примеру, цель обычного судебного заседания в
демократических странах — не только установление истины или разрешение
конфликта, но прежде всего — «драматизация идеалов». Суд должен
преподать обществу нравственный урок, поддержать принятую в нем
систему ценностей. Как известно, миф в архаическом обществе
нуждается в ритуале для своей актуализации. Соответственно в политической
антропологии судебное действо рассматривается как один из ритуалов,
посредством которых современные мифы выполняют свойственную им
функцию конструирования и поддержания социальной реальности.
Наконец, Ролан Барт в своей антибуржуазной публицистике соединил
структуралистский и марксистский словари, анализируя (точнее,
разоблачая) политические «мифы» Франции пятидесятых годов3.
Таким образом, и неокантианская, и неомарксистская трактовка
мифа наследуют Просвещению в своем стремлении «очистить» нашу
интеллектуальную жизнь от мифа, ясно противопоставить научное
(хорошее) мифическому (плохому и вредному).
В самом деле, «миф стал одним из центральных понятий
социологии и теории культуры в XX веке»4, но тема «современного мифа» и
«политического мифа» звучала здесь обычно в полемическом и «идео-
логокритическом» контексте, что дает повод говорить о нарушении
принципа историзма при употреблении понятия «миф».
Особую группу составляют психоаналитические теории культуры,
оперирующие понятием мифа, и прежде всего аналитическая
психология К. Г. Юнга.
Сейчас у меня нет возможности рассмотреть эти теории по
существу, и поэтому я отсылаю читателя к работам A.M. Руткевича,
современного русского исследователя и переводчика К.Г. Юнга. В одной из
своих статей5 A.M. Руткевич наметил очень интересный подход к
социологической интерпретации творчества Юнга: «По критериям,
предложенным самим Юнгом, его учение можно считать одним из
проявлений бездомности протестантского сознания, утратившего
символический космос и церковность, а потому обреченного блуждать в поисках
точки опоры. Юнг нашел ее в архетипах коллективного
бессознательного, в природе «внутреннего человека», религиозной задачей
которого является самопознание». (Как известно, по Юнгу архетипы
выражаются в мифах.)
Это насыщенное смыслами высказывание, к тому же оно
опирается на тексты самого Юнга (ср. «Об архетипах коллективного
бессознательного»). Можно ли говорить о протестантском сознании как о
равной себе величине, и далее — справедливы ли суждения об отсутствии
в протестантизме символического космоса и о «бездомности», — все это
было бы интересно обсудить подробно, но сейчас мне важен сам
принципиальный подход — попытка исследователя социологически
«охватить» определенную теорию мифа и выявить те экзистенциальные
вопросы, на которые стремился ответить ее автор.
В подтверждение своего тезиса о «бегстве от мифа» я сошлюсь на
христианскую мысль XX века, в которой сам термин «философия ми-
188
фа» ассоциируется прежде всего с «программой демифологизации»
Рудольфа Бультмана6.
Я понимаю Бультмана как мыслителя, чутко воспринимавшего
массовое сознание немецкого «культурпротестантизма»: если наша
христианская вера «мифична», то есть имеет нечто общее с мифом, она тем
самым дискредитирована и становится недостоверной, ее невозможно
защищать перед «образованными людьми, презирающими религию»
(по известному выражению немецкого философа и теолога Шлейерма-
хера). Теологическая «герменевтика подозрения» по отношению к
мифу возникла как реакция на позитивистское религиеведение и
сравнительное изучение мифологии в XIX — начале XX вв. Традиционный
образ веры делался все более недостоверным для самих христиан в
христианской Европе. Пришла пора «критической интерпретации» мифа.
У Бультмана эта интерпретация получила название «экзистенциальной»
и свелась к отделению старомодной оболочки христианства
(мифического языка, отражающего донаучную картину мира) от вечно
актуальной истины Евангелия. Эту истину Бультман в соответствии со своей
апологетической задачей хочет представить как жизненно важную для
«современного человека», используя некоторые понятия
экзистенциальной философии. Таков пасторский смысл «демифологизации».
Однако допущение, согласно которому возможно адекватно
перевести некоторое содержание с мифического языка на немифический,
едва ли выдержит филологическую и философскую критику.
Содержание мифа скорее всего так же непереводимо в философскую
систему, как музыка непереводима в слово. Если мы честно хотим
понять, где мы находимся, нам надо описать природу и функции мифа
без предварительного «социального заказа», состоящего в том,
чтобы избавиться от мифа. Этот подход столь же уместен
применительно к современной политической мифологии, как и к классической
мифологии великих религиозных традиций. К примеру: без
понимания конкретного устройства христианского мифа мы не поймем
специфики христианской веры, то есть ее оригинального вклада в
мировую культуру. (Я, естественно, исхожу из предпосылки, согласно
которой самое ценное и важное в каждой из великих религиозных
цивилизаций — это то, что отличает ее от всех других.)
Эрнст Кассирер о возвращении мифа
Эрнст Кассирер (28.07.1874 — 13.04.1945) знаком русскому читателю
главным образом по философским справочникам и обзорным статьям
как один из ведущих мыслителей младшего поколения марбургской
школы неокантианства, разработавший в зрелый период своего
творчества оригинальную философию культуры7. «Настоящий» Кассирер по
известным причинам остался непереведенным на русский язык. В 1912
г. в Санкт-Петербурге вышел перевод его ранней книги «Познание и
действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции», в 1922
г. опубликован перевод его небольшой работы «Теория
относительности Эйнштейна», которая остается в рамках неокантианской критики
189
познания. Единственный текст, представляющий русскому читателю
Кассирера как создателя философии мифа — это глава «Миф и
религия» из опубликованной в 1944 году книги «Опыт о человеке»8.
Предлагаемая здесь вниманию читателей работа Кассирера
«Техника наших современных политических мифов» — это лекция,
прочитанная немецким философом в Принстоне 18 января 1944 г. Содержание
лекции прямо связано с последней книгой Кассирера «Миф о
государстве», которую он тогда заканчивал (книга опубликована посмертно, в
1946 г.).
После прихода Гитлера к власти Эрнст Кассирер, ректор
Гамбургского университета, как «неариец» (то есть еврей) был лишен права
занимать должности на государственной службе. Он эмигрировал из
Германии, работал в Англии и Швеции, а последние годы жизни провел в
США, преподавал в американских университетах. «Опыт о человеке» и
«Миф о государстве» написаны по-английски.
Как известно, свою «систему» Кассирер изложил в трехтомной
«Философии символических форм». Второй том этого его главного труда
называется «Мифическое мышление» и представляет собой одну из
наиболее фундаментальных конструкций философии мифа во всей
интеллектуальной традиции Запада. Миф рассматривается здесь как один
из способов построения символического мира культуры. В этом
смысле миф довлеет себе и не должен пониматься как «космология
донаучной эпохи» (по выражению немецкого теолога Р. Бультмана). Однако в
«Философии символических форм» Кассирер работает только с
материалом «классических» мифов, возникших в досовременных обществах.
Что же касается современного Кассиреру политического мифа
(прежде всего — мифа немецкого национал-социализма), то к его
осмыслению философ обращается в годы эмиграции.
В конце публикуемой здесь лекции Кассирер полушутливо
ссылается на Кантов принцип соответствия долгу как единственный мотив,
сообщающий поступку положительную моральную ценность: философ не
испытывает «склонности» к анализу нацистской мифологии и делает
это единственно «из обязанности». Так он понимает то, что сегодня мы
бы назвали «социальной ответственностью философа».
Засилье мифа в политике XX века Кассирер истолковывает как
искусственный возврат к типу мышления, господствовавшему в эпохи до
Нового времени, как победу социального атавизма: «В критические
моменты общественно-политической жизни миф вновь обретает свою
вековую силу. Он постоянно таится на заднем плане, ожидая своего
часа. Этот час наступает, если другие связующие силы общества по той
или иной причине утрачивают свое влияние и уже не могут
противостоять демонической власти мифа».
Кассирер писал, учитывая опыт национал-социализма и
свойственную ему «технику» обработки сознания. Конечно, сегодняшний
русский читатель легко обнаружит в анализе Кассирера аналогии с тем, что
делают нынешние средства массовой коммуникации.
Устарела, на мой взгляд, лишь исходная идея Кассирера об
архаической природе мифа. В самом деле: сейчас у нас много говорится о
«политизации» массового сознания, но плодотворнее представить про-
190
исходящее в России как, во-первых, смену основополагающих мифов,
ответственных за конструирование реальности, и, во-вторых, как
борьбу соперничающих мифических систем. «Идеология» рациональна, а
миф «экзистенциален»: именно он способен втиснуть «в один слог всю
гамму человеческих страстей», как это показывает и Кассирер.
Нетрудно убедиться, что многие печатные издания и политические партии
предлагают нам сегодня скорее миф, нежели «идеологию». Поэтому
чтение публикуемой работы Кассирера может быть интересным не
только любителям немецкой философии.
Апрель 1993
Примечания
1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. — М., 1976, с. 13. Первая глава этой
монографии дает глубокий анализ современной философии мифа, превосходящий
все, что до сего дня написано на эту тему в русской научной литературе. В
перспективе своего исследования Е.М. Мелетинский исходит из того, что
применительно к современным обществам в отличие от архаических «можно говорить
о мифологизме лишь «фрагментарном» или «метафорическом», о квазимифо-
логизме. В противном случае понятия «мифология» и «культура» будут
растворены друг в друге» (с. 159). В предлагаемых вниманию читателя заметках я
принимаю другую предпосылку. Я разделяю мнение, согласно которому понятие
мифа плодотворно в деле понимания современных культур. «Миф» не
становится при этом полемическим или метафорическим обозначением чего-либо
другого — картины мира, мировоззрения, идеологии. Однако это не значит, что
все содержание современной социальной и интеллектуальной культуры можно
или нужно описывать в категориях «мифа». Кроме того, очевидно, что
сегодняшняя публицистика явно злоупотребляет понятием «миф»: оно стало просто
бранным словом.
2См., напр.: O'Barr W. Linguistic Evidence: Language, Power, a. Strategy in the
Courtroom. — N. Y., 1982. Ср. тж.: Liebes-Plesner Т. Rhetorics in the Service of
Justice: The Sociolinguistic Construction of Stereotypes in an Israeli Rape Trial. —
Studies of Legal Discource (ed. by Danet B.) Amsterdam, 1984, c. 173-192.
3См.: Барт P. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Μ., 1989.
4 Мелетинский Е.М. Цит. соч., с.29.
5 См. «Октябрь». 1993, № 5, с. 184.
6 Будьтман Р. Новый Завет и мифология. «Вопросы философии», 1992, № 11, с.
86-114.
7 Отметим, что в отечественной философской литературе имеется блестящая
монография о Кассирере: Свасьян К.А. Философия символических форм Э.
Кассирера. Ереван, 1989.
*См. журнал «Философские науки». 1991, №7, с. 97-134.
191
Очерки современного православного
либерализма
*
ак-то в начале августа 1992 г. Российское телевидение в
программе новостей сообщило urbi et orbi, что настоящая
нравственность бывает только у верующих людей, а точнее — у
христиан.
Это известие никого не удивило. Все понимают, что так
называемое «массовое сознание» (а тележурналисты, увы, обычно стремятся к
его уровню) тяготеет к действиям с простейшими смысловыми
элементами. Средства массовой информации стремятся минимизировать
умственные усилия, когда и если изменение ситуации требует таких усилий.
Однако обсудим новость, переданную Росийским телевидением. В са-
4J
мом деле, русское православие назойливо рекламируется
государственными масс-медиа в качестве естественной для русского человека формы
удовлетворения религиозных потребностей. Между тем общим местом для
части церковной интеллигенции стало признание того, что Русская
Православная Церковь больна. Новые отношения РПЦ с государством: отказ
власти от жесткого контроля за всем, что происходит в Церкви, отмена
репрессивных правовых норм, фактически запрещавших церковную
деятельность за пределами храма, некоторое заигрывание власти с РПЦ с
целью проверить, нельзя ли как-то использовать Церковь или образ
Православия в политических целях, — всё это, как справедливо отмечают, лишь
обнаружило старые и давно диагностированные недуги Церкви.
В новой ситуации обнажилась внутренняя несостоятельность РПЦ,
ее неготовность жить в условиях свободы. Речь идет не о
предполагаемых старых связях иерархии с КГБ и других обвинениях такого рода.
Эта тема меня вообще не интересует. Больно другое: Церкви, похоже,
просто нечего сказать сегодняшнему обществу, а это гораздо хуже. В
частности, и политическое измерение православного христианства
остается невыявленным. Посторонним приходится судить о нем по
великой и страшной борьбе митрополита Санкт-Петербургского Иоанна с
мировым сионизмом и по подобным вещам.
Что касается иерархии, то она, по-видимому, заботится главным
образом о сохранении и укреплении своего влияния, о приумножении
собственности и т.п. Противники иерархии из числа православного
духовенства и мирян занимаются тем, что, роясь в архивах КГБ и ЦК
КПСС, собирают на нее политический «компромат». Дело это доволь-
*
«Знамя». № 3. - М., 1994. - С. 171-190
192
но неопрятное, но так привлекают к себе внимание те, кто не способен
на более осмысленные и творческие способы самореализации. «Всюду
жизнь»: здесь тоже идет борьба за власть.
Но я некомпетентен писать о том, как обнаруживает себя Церковь в
годы впервые обретенной свободы. Мне кажется важным обратить
внимание читателя на попытки самостоятельного мышления и действия внутри
нашего православия в ту эпоху русской истории, что кончилась у нас на
глазах. Слово «современный» в заглавии очерков звучит и для меня
самого несколько странно: это православный либерализм, современный годам
юношеских исканий нашего еще сравнительно молодого поколения,
оставшийся по ту сторону исторического перелома, но продолжающийся и
сегодня: ведь и вся наша новая эпоха строит из старых кирпичиков.
В 60-80 годы в этой Церкви возвещали христианское Евангелие
люди, верившие в то, что кризис «наличного» русского православия
преодолим. Они исходили из того, что наша Церковь еще сможет
сказать Слово жизни. Они думали о реформе РПЦ — реформе ее
канонического строя, литургии и богословия. Их деятельность можно назвать
попыткой подготовить условия для создания «либерального» варианта
православия. Поэтому их оттесняли на окраину Церкви. Похоже, их
надежды на будущее не оправдались. Но опыт этих людей заслуживает
внимания. Как знать, может, правы все-таки они, а не автор этих строк.
Я не обладаю материалами, необходимыми для написания истории
внутрицерковного инакомыслия. Специалистам знакома основательная
работа английской исследовательницы Джейн Эллис «Русская
Православная Церковь: новейшая история» (Ellis J. The Russian Orthodox Church. A
contemporary history. 1986, Keston College), написанная еще во времена
«железного занавеса». Впрочем, Дж. Эллис интересуется главным образом
устройством РПЦ в послесталинский период и церковно-политической
оппозицией со времени ее возникновения в шестидесятые годы и до
середины восьмидесятых годов. Для меня же важнее проблематика,
относящаяся к социологии религии. Поэтому, не притязая на полноту в раскрытии
темы, я предлагаю интересующемуся внутриправославными делами
читателю некоторые соображения о церковном либерализме нашего времени.
Материал я ограничу деятельностью двух ярких выразителей
православного либерализма — священников Александра Меня (1935-1990) и Сергия
Желудкова (1909 -1984). Ведь каждый из них по-своему продумывал
возможности создания либеральной субкультуры в нашей Церкви.
Сейчас я хочу вернуться к тому, как пытались справиться со
старыми недугами православия люди Церкви в 60-80 гг. Они работали в
условиях, которые теперь уже хочется назвать не столько «подпольными»,
сколько «лабораторными». Ведь эти люди в некотором смысле
готовились к нашему суетливому времени, когда христианству снова суждено
стать товаром, предлагаемым на каждом углу.
Чтобы показать, что имеется в виду, я процитирую два
высказывания о. Сергия Желудкова, навсегда оставшегося средоточием добра и
света для узкого круга людей, так или иначе соприкасавшихся с ним.
Первое высказывание относится к концу семидесятых годов, когда,
казалось, «хоть тридцать лет скачи — ни до какого государства не
доскачешь»: «Когда я воображаю себе мысленно лично мне знакомых агно-
13 Заказ 257 193
стиков и атеистов доорои воли, то у меня возникают единовременно два
соображения. Первое: нет, настанет день, когда выйдет он (или она) всё-
таки из неправды своей идеологии. Второе: нет, никогда он (она) не
сможет, невыносимо будет ему (ей) согнуться, съежиться,сломаться —
войти в сегодняшнюю нашу церковность».
А в шестидесятые годы, в книге «Почему и я — христианин», о.
Сергий писал: «Иногда воображается кошмар: вот завтра пробудится
широкий интерес к христианству, вот станут все расспрашивать о
христианстве — и окажется, что мы к этому совершенно не подготовлены».
Альтернативная реальность
Думается, что наш религиозный долг гораздо больше
заключается в поисках истины, нежели в том,
чтобы любой ценой сохранить старые представления.
A.B. Мень
Вот уже много лет я думаю о проповеди и личности о. Александра —
человека, встреча с которым повлияла на мою жизнь. А после гибели о.
Александра, когда его судьба предстала перед нами как завершенное
целое, мне захотелось предложить эти размышления читателю.
Я предложил бы задуматься о следующем: несколько лет прошло с тех
пор, как оборвалась жизнь о. Александра, и его деятельность уже стала
немаловажной частью нашей истории, а настоящего анализа его
интеллектуального наследия мы пока не видели. Есть лишь огульное неприятие и
брань со стороны большинства православных идеологов и их
приверженцев и восторженные славословия со стороны либеральных диссидентов в
РПЦ и сочувствующей христианству части интелигенции. Все эти реакции
понятны и предсказуемы, в особенности естественны слова тех, кому
хочется защитить от грязных нападок память дорогого им человека. Но
славословия не заменят попытки понимания, предполагающей новый взгляд.
Продумать и оценить деятельность человека, ставшего, может быть, одним
из символов эпохи, нам необходимо — не для того, чтобы выставить ему
«баллы», а чтобы понять эпоху тогдашнюю и растущую из нее нынешнюю,
в конечном счете — понять самих себя. Скажут, что критиковать
покойника кощунственно, что о нем — aut bene aut nihil. Но, возможно,
критический взгляд иногда предполагает не меньшее уважение к памяти
выдающегося человека, чем круговая защита.
Я впервые увидел о. Александра осенью 1980 г.
Примерно за год до этого я уже прочел «Сына человеческого» в виде
переплетенной ксерокопии с брюссельского издания. Ксерокопию мне
продал за тридцать рублей один аспирант-философ, с которым мы
вместе работали ночными комендантами в главном здании МГУ на Ленинских
горах. Об Андрее Боголюбове, авторе «Сына человеческого», философ
заметил, что это виднейший русский богослов, преподает в Париже. Тогда
же я прочел «Магизм и единобожие»: эту книгу, как и почти все остальные
работы о. Александра, я уже получил от членов сообщества, которое можно
194
назвать «окружением» о. Александра: прихожане нынешние, бывшие или
будущие (т.е. люди, знакомые с «духовными детьми» о. Александра и
готовые сами войти в этот круг), и даже прихожане бывших прихожан о.
Александра. В частности, этих людей я считаю носителями и
«потребителями» либеральной субкультуры в русском христианстве, о которой здесь
идет речь. Разумеется, круг участников этой субкультуры далеко не
ограничивался прихожанами о. Александра. Поэтому в моей работе будет и
второй герой — о. Сергий Желудков.
Конечно, среди интеллигенции обеих столиц слой людей, хоть как-
то поднимавших голову над поверхностью, был очень тонок, и
созданный о. Сергием «круг» не мог быть вполне отделен от «круга» о.
Александра. Да и два эти священника были знакомы, довольно часто
встречались, переписывались, хорошо представляли себе работу друг друга.
Известно, что были и другие православные группы «либерального»
толка, и все они собирались вокруг священников. На худой конец, они
стремились получить явно выраженное одобрение («благословение») своей
деятельности от священника. Эту потребность ярко описывает Евгений Па-
зухин; в своих воспоминаниях (самиздатская версия второй половины
восьмидесятых годов) он хочет разобраться в том, как в Ленинграде
родилась, жила и умерла одна подпольная православная группа, члены которой
пытались всерьез изучать богословие (действие происходит в конце
семидесятых — начале восьмидесятых). Говоря о православном либерализме,
естественно вспомнить покойного о. Всеволода Шпиллера, а также целый
выводок молодых священников, окончивших духовные школы
Ленинграда при митрополите Никодиме, известном своей западнической ориентацией.
Я намеренно исключаю из рассмотрения хорошо известный
«Христианский семинар», основанный в 1976 г. Александром Огороднико-
вым и Владимиром Порешем. Деятельность Семинара, рассчитанная на
то, чтобы привлечь к себе публичное внимание Запада, относится
скорее к истории антикоммунистического сопротивления, чем к истории
православного либерализма, которой касаются эти заметки.
Но и для нас неизбежен разговор о политическом измерении
«либеральной субкультуры» в православии.
Мы живем в свободной России
Среди моих знакомых есть люди, пришедшие к о. Александру в
начале шестидесятых годов — его первый «призыв». Некоторые из них
сейчас сами священствуют — на родине или в эмиграции. От них я
знаю, что создание «либеральной субкультуры внутри Церкви» было
задачей, которую о. Александр эксплицитно формулировал уже в
своей первой общине.
Надо сразу сказать, что речь там шла не о пассивном
сопротивлении, а о том, что знаменитый американский социолог религии Питер
Бергер называет «a finite province of meaning», ограниченной областью
смысла. Другими словами, речь шла о поисках укрытия, пазухи, в
которую можно было бы «выпадать» из большого мира, из главной
реальности. (По словам героя поэмы «Москва-Петушки», это пространство,
где не всегда есть место подвигу.)
13* 195
l·
Один из моих образов такой «пазухи» тоже связан с книгой о.
Александра. Была еще одна его работа, которую я получил из нехристианских рук.
В мае 1980 г. мой знакомый-библиофил показал мне объявление с
телефоном, которое он нашел на автобусной остановке: «Продаю философскую
литературу». Я позвонил по телефону, и вскоре переместился из
солнечной большой реальности (начало Бутырского вала, на здании напротив
Белорусского вокзала многометровые буквы: «ГАЗЕТА — НЕ ТОЛЬКО
КОЛЛЕКТИВНЫЙ АГИТАТОР...») — в пыльную малую реальность
запущенной квартиры: высокие потолки, зашторенные окна, заваленный
старыми книгами рояль, хозяин-антропософ, собирающийся в Израиль. Из
его книг я не купил ничего, а почитать выбрал «У врат молчания», одну из
частей будущего шеститомника по истории религии, оставшегося главным
литературным достижением о. Александра.
Меня, провинциала, выросшего в маленьком русском городе, где
большая реальность царила, по-видимому, безраздельно и просветов в
«ограниченные области смыслов» обнаружить не удавалось, — меня
и Ч-»
изумляла эта легкость перехода из запуганной и напичканной
милицией предолимпиадной Москвы 1980 г. в пространство, где всерьез
говорилось про астрал и другие диковинные вещи.
Еще о «пазухе»: середина семидесятых годов, Университет, встречи
с «инопланетянами», привозившими подрывную литературу. Кельи для
иностранных аспирантов и стажеров в здании на Ленинских горах,
комнатки-пеналы, где «всё прослушивается». Маленькие YMCA-
PRESSoBCKHe томики «Архипелага» в бумажных обложках песочного
цвета, а еще полный посевовский текст «Мастера и Маргариты»,
книжечка духовных бесед бесстрашнейшего о. Дмитрия Дудко, репринты
Цветаевой и Гумилева. Показать в общежитии знакомым, кому
доверяешь, дать почитать на ночь. Да, это был настоящий опыт инициации,
■J
так это и переживалось: сознание своей причастности к тайному
ордену русской интеллигенции, сознание необходимости бороться за то,
чтобы «прогнать коммунистов».
Я знаю, что многие в моем поколении начали путь в Церковь
примерно так и принесли туда это (неверное и опасное с точки зрения
членов служилой Церкви) убеждение: православная церковность и борьба
против коммунистов содержательно связаны между собой.
Кроме прочего, семидесятые годы — «звездный час» А.И.
Солженицына, пик его влияния на умы всех поколений тогдашней читающей
публики, то есть людей, самостоятельно искавших информацию — если угодно,
на умы интеллигенции. На стыке семидесятых-восьмидесятых мои
знакомые (обычные люди, еще сохранившие молодой интерес к новому)
перепечатывали, как слово правды, записанную с радиоголоса текущую
публицистику Солженицына — «Чем грозит Западу непонимание России»,
многочисленные статьи о проигранной Западом «третьей мировой» (т.е. о
«разрядке») и т.п. Я думаю, что для молодежи «Архипелаг» по своей
текстуальной прагматике тогда был, несомненно, «романом воспитания». Я
предлагаю это не как метафору, а как попытку жанрового определения:
«Архипелаг» по жанровым признакам можно поставить рядом с романами Руссо и
Гёте. Вероятно, именно таков был замысел автора. В странствиях
(подобно гётевскому Вильгельму Майстеру) воспитывался главный герой «Архи-
196
пелага» молодой зэк Александр Солженицын, в то время как автор книги
стремился оказать формирующее влияние на молодого читателя. В самом
деле, этот текст адресован прежде всего молодежи — тем, кто не испытал
сталинщину, но кому предстояло «прогнать коммунистов». Автор берет за
руку любознательного комсомольца и ведет его по кругам ада, постепенно
раскрывая правду, ибо способность читателя вместить должна
увеличиваться по ходу чтения (ср. главы о генерале Власове в разных частях книги).
И вот, Солженицын в «Великопостном письме Всероссийскому
Патриарху», в сборнике «Из-под глыб», в «Теленке» тоже постулирует
эту связь православия и деятельного антикоммунизма.
Естественно, реальная РПЦ не могла этого принять, так как она
вообще не могла принять идею публичного политического действия.
Осенью 1983 г. о. Александр был у меня на новоселье. За столом
разговор зашел о моих профессиональных делах, и я вспомнил, как мой
первый духовник когда-то напутствовал меня, выпускника
филологического факультета МГУ: «В свободной России Вы будете переводить
богословскую литературу!» (И он оказался прав!) Гости — мои друзья,
в свое время вместе со мной пришедшие к о. Александру в Новую
Деревню, — с энтузиазмом стали обсуждать тему «свободной России».
Кто-то спросил мнение о. Александра. Его ответ сразу повернул
разговор в другое измерение: «А мы — мы уже живем в свободной России!»
И правда: в ту осень в следственном изоляторе «Бутырки» находился
подпольный католический священник Владимир Никифоров, в недавнем
прошлом — «духовный сын» о. Александра. По делу Никофорова
«таскали» и прихожан о. Александра, у нескольких были обыски. Кроме того,
чекисты проявляли демонстративный интерес еще к одному человеку из
паствы о. Александра (и вскоре этого человека тоже арестовали). Было
впечатление, что на нашего батюшку накинули удавку и потихоньку
сжимают ее. Отбой политическим репрессиям был дан в самом конце 1986 г., а
пока что, пересажав участников открытой политической оппозиции
(«диссидентов»), «органы» выполняли план, добирая всё, что хоть как-то
давало о себе знать. До потепления (мы не догадывались, что доживем до него)
оставались три с лишним года — быть может, это были самые тяжелые
годы в общественном служении о. Александра. На него давили, заставляя
отказаться от публикации новых книг за границей и публично заявить об
этом, — он увертывался, признавая право своих собеседников из ГБ и
Совета по делам религий предъявлять ему такие требования, но стараясь
избежать ясного «да» или «нет».
Я надеюсь, что сказанного достаточно для характеристики
политического измерения того христианства, которое предлагал о. Александр.
Всякому очевидно, что для работы в эпоху коммунизма гуманитарной
интеллигенции, не желавшей уходить в подполье («внутреннюю
эмиграцию») или вступать в открытую политическую борьбу с режимом,
было необходимо умение лавировать. Это суждение о факте, а не
нравственная оценка: другого способа заниматься своим делом не было.
Будем же честны хоть задним числом: все мы — сегодняшние
сорокалетние — сломлены, изнасилованы, жизнь при коммунизме растлевала
каждого из нас ежедневно. (Наверно, поэтому и «капитализм» мы такой
197
гнусный создаем — по нашему собственному образу.) Давайте хоть не
будем обзывать других и друг друга «совками», это неумно и стыдно. Ведь
приходилось не на компромиссы идти, а именно лавировать. Компромисс
есть средство решения противоречий в сложно структурированном
обществе, он предполагает принципиальное равенство сторон, компромисс —
как раз черта либерального этоса. «Бескомпромиссный» —
характеристика упрямого дурака. Здесь же речь шла просто о том, как обмануть
свирепое и подлое начальство. И это тоже растлевало нас.
Естественно, что осенью 1983 г. о. Александр хотел, чтобы
прихожане вели себя потише, т.е. совсем-совсем тихо. Он неоднократно (в том
числе в тот запомнившийся вечер у меня дома) просил убрать
подальше антикоммунистическую литературу: «Всё прочитали? Всё поняли?
Вот и прекрасно! А теперь надо почиститься! А вы знаете, кто наш
главный враг? — Телефон!»
Но в высшем смысле прихожанам предлагалась жизнь в свободной
России, предлагалась неуловимая, как Джо, христианская духовная
свобода, предлагалась обаятельная личность батюшки, предлагались те
формы общения, которые еще не очень строго карались начальством.
Предлагалась альтернативная реальность. Конечно, игрушечная, но
очень уютная — прежде всего для тех, кому не хватало сил утверждать
себя в главной и единственно подлинной реальности, кому для
самореализации и сохранения себя была нужна «альтернативная
идентичность» и карьера в альтернативном сообществе. Получается, что о.
Александр был великим мастером в деле создания контр-мира.
Но не то ли происходило и в других православных группах?
Как бы то ни было, о. Александр не хотел (или был не в состоянии)
говорить своим поклонникам правду о нашей общей социальной
ситуации христиан, живущих после победы коммунизма. Правда
разрушает альтернативную реальность, так как предполагает ее описание и
понимание ее функций. Правда предполагала, что прихожане-«активис-
ты» должны были бы осознать свою вторичную и несамостоятельную
роль «профессиональных духовных детей».
Конечно, играть можно в любые игры — если их правила известны
всем участникам. Но этого не было. Игровой контр-мир предлагался
людям, которые приходили к о. Александру в поисках способа сохранить себя
в большом мире. Это желание присуще человеку как человеку. Иначе
говоря, многие люди — особенно молодежь — приходили к о. Александру
Меню в поисках смысла; далеко не все искали иллюзорную
«альтернативную реальность». Однако правила игры им не объяснялись, люди не
понимали, что именно они делают и что делается с ними. Те из них, кто
обнаруживал обман, оказывались травмированными. И они уходили с этой
травмой — либо вовсе из христианства, либо на север от Новой Деревни
по Ярославке — в Загорск, в «настоящее» православие наставников из
Лавры, либо еще куда-нибудь. О. Александр даже мне как-то жаловался на
«текучесть» в общине. А некоторые из тех, кто остался навсегда, оказались
в состоянии наркотической зависимости от общения с батюшкой.
Специалисты пишут, что такая опасность существует в отношениях
психоаналитика и пациента, а у нас всякому серьезному духовнику приходилось брать
на себя, в частности, и функции психоаналитика.
198
Итак, политический аспект созданного о. Александром в 60-е —
начале 80-х гг. сообщества составляла иллюзия духовного самостояния и
даже противостояния (христианского, конечно) власти, — иллюзия,
вступавшая в ироническое соотношение с настоящей (профанной,
нехристианской) жизнью, где о. Александру приходилось «крутиться» и
выкручиваться, вступать в не предусмотренные буквой правопорядка
отношения с сотрудниками ГБ — являться куда скажут по любому
вызову, не имевшему процессуального основания.
Почему результаты жизни о. Александра как церковно-политичес-
кого деятеля я оцениваю ниже, чем другие авторы? — Потому что его
делом оказался он сам: альтернативная реальность была возможна лишь
в силовом поле его знаменитой «харизматической мощи».
Люди из окружения о. Александра — «духовные дети» — в своих
воспоминаниях фактически свидетельствуют против него. Например,
Л.Василенко, сотрудник Института философии, называет нашу
интеллигенцию «духовно запущенным сословием», в котором «должна бы
сформироваться новая генерация социально активных христиан,
способных преодолевать разлагающее давление полуязыческой мирской
жизни и создавать светлые очаги жизни по Евангелию... В земной
жизни нам не удается войти в Церковь целиком со всем нашим
творчеством». (Надеюсь, что здесь читатель, как и я, порадуется за Церковь.)
Читая воспоминания профессиональных детей, я чувствую боль за о.
Александра и стыд за «новую генерацию». Ведь личность о. Александра
была гораздо значительнее, чем позволяют судить эти свидетельства.
Еврейский вопрос
Еврейская тема в этих заметках неизбежна. С.С. Аверинцев как-то назвал
о. Александра Меня «миссионером для племени интеллигенции». А в
нашей столице, как известно, среди членов этого племени немало людей «с
пятым пунктом», — людей, чьи бабушки и дедушки были «иудеями»,
инородцами в Российской империи. Молодежь «с пятым пунктом» — заметная
часть паствы о. Александра в последние два десятилетия его служения. Что
касается еврейства самого о. Александра, то оно вдохновило известного
русского филолога (и православного христианина) В.Н. Топорова на
пространный историософский очерк «Спор или дружба». Заслуживает
внимания концовка этого очерка: «Имея в виду евреев-ненавистников
христианства, Вяч. Иванов спрашивал: «Но что значат эти блуждания званых и не
избранных перед единым свидетельством апостола Павла?» Отсюда —
единственно верная позиция христианства в отношении иудаизма. Об
этом кратко, просто, мудро говорил отец Александр Мень в его интервью,
озаглавленном «Евреи и христианство». В своем жизненном опыте он был
верен этой позиции. Своей жизнью он явил высокий пример русского еврея
(выделено мною — С.Л.), и, пока есть такие люди, будут и последователи и
продолжатели, а та общая благая часть, которая связывает русских и евреев,
будет возрастать даже при сознании своей разности. «Спор или дружба?» —
спрашивал в подобных обстоятельствах Розанов. — И спор и дружба и любовь».
Не буду разбирать строй мышления В. Топорова: очевидно, что само
его отношение к миру людей сформировано расовыми категориями. У
199
него русский православный священник — всего лишь образчик еврея,
с которым у Топорова, православного филолога с «русской ментально-
стью» (так в тексте — С.Л.) должны быть запутанные «диалогические»
отношения. Если это не расизм, то что же? Здесь об этом очерке
достаточно сказать: его юдофилия вся строится из юдофобских, «розанов-
ских» кирпичиков; к сожалению, другого строительного материала
наша культура для этой темы не дает.
Но для меня важен упомянутый В. Топоровым документ. В 1975 г.
о. Александр дал интервью самиздатскому журналу «Евреи в СССР».
Насколько я знаю, в посмертных публикациях работ о. Александра
интервью «Евреи и христианство» не переиздавалось, и поэтому мне
придется привести выдержки из него.
В начале интервью о. Александр предлагает программное
утверждение: «Еврей-христианин не только не перестает быть евреем, но еще
глубже начинает понимать смысл духовного призвания своего народа».
Отсюда следует, что о. Александр, всю жизнь испытывавший на себе
проявления ксенофобии в РПЦ, сам не был чужд мышлению в расовых
(или если угодно, этнорелигиозных) категориях.
Вот что говорит о. Александр в упомянутом интервью о возможном
христианском будущем евреев:
«Каждый христианский народ, кроме религиозных праздников,
имеет и освященные церковью национальные праздники, например
связанные с воспоминанием о чудесном освобождении от вражеских
нашествий. Почему бы евреям-христианам не считать праздником,
скажем, день победы Маккавеев — Хануку? <...> В ту эпоху, когда церковь
состояла в основном из евреев, многие христиане считали, что
крещение должно предваряться принятием иудаизма. В связи с этим в 51 г.
н.э. был созван собор, который постановил, что иудаистские обряды
(обрезание, суббота и др.) не обязательны только для христиан из
язычников, но сохраняют прежнюю силу для евреев-христиан. Решения
этого апостольского собора не отменены. Да и вряд ли можно «отменить»
слова апостолов. О частностях, относящихся к нашему времени, я
судить не берусь. Вопрос этот также подлежит соборному рассмотрению.
...Конкретное место еврейской церкви в ряду прочих церквей я
предвидеть, разумеется, не могу. Убежден лишь, что она должна иметь
апостольское преемство. Никакая «самодеятельность» в этом
отношении недопустима. Поэтому, пока общины евреев-христиан
немногочисленны, они должны находиться в юрисдикции одной из
апостольских церквей. Их отношения между собой и с евреями-христианами
различных протестантских конфессий могли бы определяться
Национальным советом евреев-христиан Израиля (по типу Национального
совета церквей Америки) как интегрирующей экуменической
организацией, обнимающей все еврейское христианство. Со временем эти
общины смогут объединиться в автокефальную еврейскую церковь».
Эти суждения О.Александра примечательным образом
перекликаются с программной статьей русского философа Льва Платоновича
Карсавина «Россия и евреи», впервые опубликованной в 1928 г. в
парижском журнале «Версты».
Работу Карсавина я вспоминаю здесь лишь для примера: он не оди-
200
нок в своих мнениях и предлагает, в сущности, вполне стандартное
*_>
христианское решение «еврейского вопроса», слегка подкрашенное
*_>
православными и евразийскими тонами:
«Православие не предоставляет <...> иные веры и иные исповедания
их собственной участи; активно, хотя путем любви, а не путем
принуждения, оно стремится к тому, чтоб и они, оставаясь собой, из себя самих
свободно стали православными. Так и в отношении к народу
еврейскому. Он — исконный и вечный враг Православия. Но нам сказано:
«любите врагов наших», а у нас нет и не должно быть другого средства
борьбы с ними, кроме любви. <...> Признак истинной любви в том, что
она активна и плодоносна. в том, что она бескорыстно стремится к
благу любимого. В чем же благо еврейского народа, как не в обращении его
ко Христу? Православие и стремится к тому, чтобы еврейский народ
обратился в Православие, но свободно и себя сохраняя. Идеалом
Православия должен быть, по моему разумению, еврейский народ как
православная еврейская церковь, дабы отдельные, разрозненно ныне
обращающиеся к Христу евреи в Православной Церкви нашли, наконец, и
эмпирически свой еврейский народ. <...> Последняя цель не в обращении
отдельных евреев, отнюдь не в том, чтобы свести такими обращениями на
нет еврейский народ, но — в обращении самого ветхого Израиля...
Так и соперничество преображается любовью в твердую и
долготерпеливую веру во спасение еврейского народа, без чего и мир не
преобразится. Ибо, с религиозной точки зрения, судьбы мира связаны с
обращением еврейства ко Христу».
Замечу на полях этих двух текстов: как страшно, что точно такие же
религиозно-националистические фантазии встречаются у незлых
людей, которыми наша культура привыкла гордиться. Навязчивые идеи о
спасении евреев во Христе были у философов В.С.Соловьева и
Н.А.Бердяева, и даже у нашей православной мученицы матери Марии,
погибшей в гитлеровском концлагере. Документы, опубликованные ее
биографом священником Сергием Гаккелем, показали: в разгар гено-
цида мать Мария мечтала, чтобы Катастрофа как-то приблизила
крещение Израиля. Как страшно: ведь мать Мария сама спасала жизнь
французским евреям, но все равно не могла увидеть в них просто братьев,
«всего лишь» людей. Людей, предки которых много раз шли на смерть
и изгнание, чтобы избежать нашего христианского спасения во
Христе. Как это понять? Проще всего — с помощью исторической аналогии:
вот так, наверно, на исходе Средневековья благочестивейшие из
христиан радовались спасению во Христе тех неправильно веровавших
людей, которых Церковь — ради их блага — посылала на смерть.
Вот основание моей аналогии: в обоих случаях присутствует опасное
знание о том, в чем состоит благо другого. Вспомним риторический
вопрос Карсавина: «В чем же благо еврейского народа, как не в
обращении его ко Христу?».
Вот единственный «еврейский вопрос», который возникает изнутри
классического христианства: в чем смысл продолжающегося
существования иудаизма и евреев для нас, христиан? Этот вопрос исходит из
предпосылки, согласно которой с приходом Христа историческая роль «старого»,
«ветхозаветного» Израиля исчерпана. Классическое христианство не виде-
?0
ло в еврействе субъекта истории. Евреи — живое ископаемое, и Бог
сохранил их лишь ради того, чтобы они своим жалким существованием в
качестве доисторической окаменелости свидетельствовали (как бы «от
противного») о христианской истине. К тому же они оказываются «тормозом
прогресса»: очень рано в христианстве возникает идея, согласно которой без
«спасения» (т.е. крещения) евреев «и мир не преобразится» (Л.П. Карсавин).
А в процитированном интервью о. Александр будто бы берется за
осуществление программы, изложенной Карсавиным (как мы знаем, не
им одним). О. Александр оказывается идеальным евреем-христианином
русского мессианизма.
Тут я не вправе ссылаться на «случаи из жизни» — все они
касаются болезненных точек в чужих судьбах. Укажу на литературные
примеры — приложение о фарисеях в книге «Сын Человеческий» и главу о
раннем (предраввинистическом) иудаизме («Фарисеи и устный Закон»)
из книги «На пороге Нового Завета».
Обычная пошлость о духовном сужении, иссушении и т. п. еврейской
веры после того как все лучшее из нее вошло в христианство соединяется
здесь с попыткой осторожно внушить читателю положительное отношение
к фарисеям и продолжателям их дела — религиозным учителям эпохи
Талмуда. Впрочем, они привлекательны для о. Александра не как создатели
самостоятельной религиозной культуры, а лишь в той мере, в какой их
нравственное учение перекликается с этикой Нового Завета.
Но я не хочу грешить неисторичностью. О. Александр начинал свое
профессиональное церковное служение на рубеже 50-х — 60-х годов, —
в эпоху, когда еврейская вера в России была практически «невидима»,
то есть не существовала как публичная величина. (С православием дело
обстояло иначе, именно поэтому были «хрущевские» гонения на
Церковь.) Едва ли о. Александр мог тогда догадываться о следующем
повороте истории, на котором некоторые его прихожане станут гражданами
Израиля и будут воспринимать как помеху свое либеральное
православие, полученное от о. Александра.
Вернемся к соображениям, возникающим в связи с «еврейским»
интервью о. Александра и статьей В.Н. Топорова. Я отнюдь не хочу сказать,
что мышление в расовых категориях свойственно только христианам или,
скажем, русским христианам. Утверждение о. Александра:
«Еврей-христианин не только не перестает быть евреем, но еще глубже начинает понимать
смысл духовного призвания своего народа», можно понять и как
полемическую инверсию общепринятого в традиционной еврейской культуре
представления, согласно которому еврей при добровольном крещении
покидает свой народ, хотя латентное еврейство этого еврея не может быть
отменено ничем — даже отступничеством: община считает его именно евреем-
отступником. Предполагается, что добровольное обращение еврея к
«чужому служению» объяснимо лишь его предварительным отчуждением от
и ^J
еврейской жизни, т.е. совершенным над ним или его родителями
культурным насилием. Еврейская традиция называет таких людей
«похищенными детьми» — «тинокот ше-нишбу» (буквально «дети, которые взяты в
плен»). О. Александр Мень часто говорил о том, что православную веру он
202
воспринял от своей матери Елены Семеновны, крестившейся вместе с
семимесячным Аликом в катакомбной Церкви. Елена Семеновна в
воспоминаниях «Мой путь» рассказывает, что тяга к христианству у нее возникла
еще в детстве, в дореволюционные годы. Она выразительно говорит о том,
с каким ужасом воспринимали это духовное развитие ее родители, уже
оторвавшиеся от традиции евреи.
Я думаю, что древнее представление о «похищенных детях»
неадекватно ситуации, если нужно всерьез объяснить переход в христианство
евреев, живущих в современных обществах, где церковь отделена от
государства и правопорядок запрещает расовую, этническую и
религиозную дискриминацию. В таких обществах еврейские общины
развиваются свободно, а их члены могут участвовать в культуре и политике, не
переставая быть евреями, как это происходит сегодня в США. Но
история евреев со времен эмансипации (предоставления равноправия) и
статистика показывают, что именно в доброжелательном окружении
евреи быстро ассимилируются, часто вступают в смешанные браки и
иногда переходят в другую веру (необязательно в христианство).
Концепция «похищенных детей» здесь едва ли применима.
Однако при коммунизме наше общество во многих отношениях было
ближе к средневековью, чем к современности. И относительно
«еврейского вопроса» в советской России со времен «борьбы с космополитизмом»
можно сказать совсем просто: уже после эмансипации евреев (когда,
следовательно, о «евреях» как религиозной общине, соотносящейся с
другими общинами, речи уже не было), власть создала своего рода гетто, в
которое загонялась часть русских граждан, объявленных евреями.
В этой связи я остановлюсь на двух тезисах.
Во-первых, у о. Александра обнаруживается вся топика
классического (т.е. не поколебленного кровавыми событиями нашего века)
христианского антииудаизма — чистого и интеллектуально невинного.
Во-вторых, отношение О.Александра к «еврейскому вопросу»
обнаруживает ту же непоследовательность, нечестность (если бы это было
возможно, я бы хотел употребить это слово в строго описательном, а не
оценочном смысле), о которой я говорил применительно к церковно-
политическим, общественным делам. То же иллюзионерство. «Своим»,
т.е. новообращенным, проявлявшим религиозный интерес к
собственному еврейству, о. Александр мог предложить опять же только иллюзию
— заигрывание с идеей о том, что можно быть православным и одно-
временно — в некотором религиозном смысле — можно быть евреем.
Вспоминается строчка из Высоцкого: «Раздали маски кроликов,
слонов и алкоголиков». Одна из масок — в нашей жизни не лучше и не
хуже просто православия и просто иудаизма — маска иудеохристиан. Во
всех этих случаях мы имеем дело с вариантами finite provinces of
meaning, в моей терминологии — с вариантами альтернативной
(«малой», «игровой») реальности.
Продумывая христианско-еврейскую проблематику, постепенно
начинаешь видеть и другую, более обширную тему. Самое страшное в
христианстве — то, что это религия победителей. Не «Иисус — победитель» (так
Карл Барт когда-то формулировал суть той вести, которую он хотел сооб-
203
щить своим читателям), а — христиане. Христианство — тайна беспощад-
ной силы белого человека, расчищающего мир от «малоценной жизни»
(как сказали бы нацисты) дикарей, чтобы утвердить в Америке и
«протестантскую этику», и «дух капитализма». Когда американские evangelicals
крестят толпы людей в Черной Африке или в московском бассейне и
раздают новообращенным Библии и фирменные, made in USA, карандаши, то
они эксплуатируют человеческую слабость — рабское стремление
завистливых людей приобщиться к тайне богатых и благополучных.
А можно ли осмысленно возразить христианским писателям,
озабоченным «спасением Израиля», оставаясь на христианской почве, или
тут приходится ограничиваться аргументами, внешними по отношению
к христианству?
После первой публикации этой работы я получил из Иерусалима
письмо от моего друга филолога Абрама Торпусмана. Он очень открытый,
добрый и свободный человек, а еще он израильский патриот. Вот что он
написал на тему о спасении в связи с моим текстом: «Как Вы знаете, я
агностик, симпатизирующий иудаизму — издалека. Просто иудаизм — это
«мое», так же как русский язык, скажем. В христианстве, как я понимаю,
главное — это идея личного спасения. Там нет места идеям «праведников
народов мира» и «законов Ноевых сынов». (Речь идет о категории
неевреев, которые, согласно трактату «Санхедрин» в Тосефте и в Талмуде,
«имеют долю в будущем веке», то есть в вечной жизни». — С.Л.) Значит,
христианин, хорошо относящийся к евреям, по определению обязан думать об
их обращении. Иначе он как бы юдофоб... Если Вы полагаете, что вечная
жизнь — удел и праведников-иудеев (а может быть, и язычников???), то
оговорите это! А то — пусть катятся евреи в свой ад, а мы их обращать не
должны «по моральным соображениям»... Объясните Ваше понимание
вечной жизни, и Вы найдете единомышленников, я почти уверен».
- Действительно, я много думал о том, что Абрам условно назвал
«вечной жизнью», то есть о содержании религиозной надежды. И сейчас я
все больше склоняюсь к тому, что представление о нашей вере как о
религии спасения по преимуществу — не единственно возможное. В
Новом Завете это представление господствует почти безраздельно
(христианство достойно внимания потому, что оно — единственный путь к
оправданию и спасению, в этом суть Евангелия у Павла), но возможен
и другой образ христианства, где спасение (в любом, даже самом
рафинированном его понимании) — не в центре. Кое-какие возможности
для такого поворота мысли дает и Новый Завет — не очень, правда,
большие. (Некоторые соображения на эту тему я изложил в статье
«Национальная идея и христианство» в связи с обсуждением плюрализма
как возможной христианской ценности.)
Вот как обычно отвечал на вопрос о спасении нехристиан о. Александр
Мень; «Но Вы спросите: а как же верующие других религий? Они же вне
Христа. И чаще всего не по своей вине. Но неужели Господь Сам не
решит их судьбы без нас? Они — наши братья, во многом единоверцы, а
тайны спасения в руках Божиих». Так о. Александр писал о. Сергию Желуд-
кову, и это классический ответ христианского либерализма. (О. Сергий,
как мы увидим, предложил собственный ответ на этот вопрос.)
204
Но меня не привлекает аргументация, которую можно вывести из этого
ответа. Вот ее суть: другие религии тоже в каком-то смысле истинны и
тоже дают путь к спасению. В этом пафос некоторых творцов современной
экуменической теологии, обосновывающей межрелигиозный диалог. Нет,
пусть другие религии сами скажут о себе, а я бы вывернул проблематику
миролюбивой и плюралистической христианской теологии экуменизма
наизнанку: во-первых, нам стоит отказаться структурировать другие
религии (по образцу нашего христианства) как пути — правильные или
неправильные — к спасению', во-вторых, и само наше христианство мы можем
представить иначе, вообще не как путь к спасению. Скажем, понимать его
как религиозную культуру, которая предложила человеку один из способов
соответствовать воле Бога и служить Ему. Я не думаю, что для
религиозного человека «спасение» должно естественным образом оказываться
самой главной заботой, содержанием его «предельного устремления» (Пауль
Тиллих). Как писал в одном из тюремных писем Дитрих Бонхеффер, у нас
есть дела поважнее, чем забота о спасении. Правда, Бонхеффер тут же
добавляет: есть дела поважнее, чем забота о спасении, но не чем само
спасение. Бонхеффер, воспитанный в традиционном лютеранском благочестии,
считал собственную мысль шокирующе смелой. Именно так воспринял ее
и я при первом чтении. (Это было в начале 1984 г., и читал я английский
перевод, полученный от о. Александра.)
0. Александр как писатель
Нет смысла опровергать фантастические утверждения «профессиональных
духовных детей» ö том, что о. Александр был одним из ведущих
христианских мыслителей современности, самостоятельным исследователем
Библии и т.п. Конечно, как писатель он был христианским апологетом и
популяризатором западной христианской литературы, а применительно к
библеистике и смежным с ней отраслям гуманитарного знания
популяризация сейчас — почти единственная возможность для специалиста,
пишущего по-русски. (Однако есть русские люди, которые живут в России и
свои труды по гуманитарным наукам пишут и публикуют сразу
по-английски или по-немецки, так как относят себя непосредственно к
международному сообществу ученых: это тоже возможный выбор.) Достаточно
вспомнить блестящую книгу И.Д. Амусина «Кумранская община», автор
которой был самостоятельным исследователем и при этом в больших своих
работах должен был заняться популяризацией: трудно продолжать «из
пустоты», при отсутствии национальной научной школы. Здесь уместно
сравнение с русской литературой последней четверти XVII и почти всего XVIII
*-* KJ
века, перед которой стояла задача рецепции западноевропейской
словесности. Тогда наша литература готовила почву, на которой возникла проза
Пушкина, Лермонтова, а далее — вся та словесность, которая по праву от-
*J \-Г
носится к вершинам европейской культуры.
Как бы то ни было, своей научной школы в библеистике у нас нет.
Создать ее можно лишь на путях глубокого усвоения того, что сделано
в мире — прежде всего в Германии и США. И плохо лишь то, что биб-
лейские сочинения (книги и комментарии) о. Александра заведомо не
передавали пафоса и смысла той литературы, которую они использова-
205
^
ли как источник. Отдельные элементы научного знания втискивались
в тесное пространство некоей «православной библеистики». В
последнее время на страницы периодики попали фрагменты спора о том, был
ли О.Александр православным комментатором Библии или его
сочинения содержат еретические элементы. Естественно, сами предпосылки
этого спора для меня неинтересны. Очевидно, что о. Александр как
автор работ на библейские темы стремился оставаться в рамках
московского православия, понемногу раздвигая эти рамки. (В начале
шестидесятых годов главы из его книги «Сын Человеческий» публиковались в
«Журнале Московской Патриархии».) И само это стремление не
позволяло ему сосредоточиться на том, о чем, собственно, идет речь в науке.
Мы приходим к тому же выводу: как писатель о. Александр создает
иллюзию научного творчества, критического (но и бережного!)
подхода к традиции, иллюзию православной библеистики и т.д.
С выводом о преимущественно апологетическом характере
творчества о. Александра согласуется и то обстоятельство, что как писатель он
тяготел к жанру суммы, предполагающей слово, которое возвышается
над частичными смыслами и подводит итог чужим поискам. Главный
его шеститомник претендует на роль популярной суммы духовных
исканий человечества до Христа. «Таинство, слово и образ» — сумма того,
что интеллигентному человеку, ставшему членом общины о.Александ-
ра, полезно знать о православном богослужении.
В 1984 г. я получил от о. Александра на короткое время почитать его
новую работу: два переплетенных машинописных тома под названием
(даю его по памяти) «Опыт исагогики Священного Писания Ветхого
Завета». Автор сам смеялся над хитроумной замысловатостью заглавия:
по-русски это значило «Введение в Ветхий Завет». Эта рукопись была
его диссертацией, представленной в Московскую Духовную академию
для получения степени доктора богословия. Книга, конечно,
предназначалась и для публикации, но что-то помешало ее изданию.
Тогда я уже занимался Новым Заветом, изучал научную (то есть
западную) литературу о нем (в частности, я брал книги из библиотеки о.
Александра). Я был знаком с несколькими стандартными немецкими и
американскими пособиями по дисциплине «Введение в Новый Завет», то есть
работал как раз с теми источниками, которыми о. Александр пользовался
в своей литературной деятельности. И «Исагогику» я стал читать с теми же
жанровыми ожиданиями: я надеялся «по дешевке» (по-русски, уже в
переваренном виде) получить информацию о тех темах, которые принято
рассматривать в учебном курсе «Введение в Ветхий Завет»: история каж-'
дого из произведений на фоне истории Израиля, текстологические
вопросы, история складывания канона. Каковы наиболее распространенные в
науке мнения по этим вопросам («критический консенсус»), каково
направление поиска сегодня, откуда исходит «угроза» нынешнему
критическому консенсусу, то есть возможность его пересмотра? — Вот вопросы, на
которые обычно отвечают такого рода пособия.
Пролистав «Исагогику», я закрыл ее с чувством, которое лучше всего
изобразить словами: «Не гонись ты, поп, за дешевизной». Книга явно
отвечала на какие-то другие вопросы. Осторожное изложение гипотезы
Вельгаузена об источниках Шестикнижия (главная работа Вельгаузена на
206
эту тему доступна по-русски) начиналось после обширных подступов о
русской библеистике и о том, что в основу «Исагогики» положены идеи
академика Б.А. Тураева, автора написанной в начале XX в. «Истории
Древнего Востока», православного мирянина и участника Поместного Собора
РПЦ 1917-1918 гг. Трудно сказать, выполнил ли о. Александр свое
обещание «писать по Тураеву». Одно мне известно точно: двухтомная тураевская
«История» устарела даже на фоне русской исторической литературы,
существовавшей ко времени написания «Исагогики». Просветительская цель не
достигается — читатель не может пробиться за редуты, воздвигнутые для
защиты от атак начальства Духовной академии, да и неясно, есть ли за
редутами какая-нибудь полезная информация.
Последняя (и, быть может, не вполне завершенная, сумма о.
Александра — словарь по библеистике в нескольких томах. Судя по
словнику и по тем готовым статьям, что попадались мне на глаза в рукописи
или (в последнее время) были опубликованы в журнале «Мир Библии»,
тут действительно уже было притязание на охват и осмысление всего
ценного, что сделала западная наука. На мой взгляд, автор словаря не
вполне корректно поставил задачу: трудно представить себе
достоверную энциклопедию по сложнейшей отрасли гуманитарного знания,
написанную одним специалистом.
С.С. Аверинцев как-то осторожно заметил в предисловии к одной из
посмертных публикаций книги о. Александра «Сын Человеческий»:
главное значение его трудов состоит в том, что они вообще были
написаны — вопреки месту, времени и обстоятельствам их создания. Я
думаю, это одна из точных оценок писательской деятельности о.
Александра: его труды нужно судить не по научным критериям.
Вот мой вывод: о. Александр стремился втиснуть христианство в
рамки дозволенного политической ситуацией и этосом РПЦ, — но уж
в эти рамки он хотел втиснуть как можно больше. Для создания того,
что можно назвать «либеральным стилем» в православии, он
заимствовал отдельные смысловые элементы из современной христианской
мысли и практики Запада.
Однако этот путь оказался неплодотворным.
О. Александр не хотел допустить мысль о том, что из наличной РПЦ
уже давно ушла живая жизнь.
Как бы то ни было, его имя стало важным культурным символом, так
как сегодняшнее общество ищет новые образы и образцы святости. Такая
потребность возникла не в Церкви, а именно в светском обществе. О.
Александр оказался очень удачным кандидатом, и складывающаяся
посткоммунистическая культура быстро приняла его образ в свой канон и
поместила его там где-то не очень далеко от образа А.Д. Сахарова.
Формирование в русском обществе нового общезначимого культурного
канона, принципы, по которым в него отбираются тексты, образы и
символы, — вот еще одна большая тема, которую будущие историки наверняка
рассмотрят и на примере о. Александра Меня. Вся его деятельность
поместилась внутри культурной эпохи, конец которой и вызвал потребность в
новом каноне. Мировоззрение реального («исторического») о.
Александра стало возможным в результате совмещения двух одинаково важных для
него и при этом весьма различных культурных слоев: это русское право-
207
славие, помнящее о политическом сопротивлении («катакомбная
церковь», «негюминающие») и открывающаяся навстречу «западным»
влияниям оттепель 50-60 гг. («Вон там моя школа. Я учился вместе с Андреем
Вознесенским!» — с гордостью сказал мне о. Александр в 1982 г., когда мы
ехали в такси по Замоскворечью.) А становление канонического образа о.
Александра стало возможным лишь в эпоху, когда обе эти культурные
величины утратили витальность и просто перестали быть понятными. Новая
эпоха берет из старого материала то, что ей кажется нужным, решительно
меняя самое смысловую структуру этого старого материала. Его режут на
куски и шьют что-то новое.
Пока еще не сшили.
Тихий голос
Сегодня ... самый простой человек
повседневно ощущает ... трудность
вообще говорить о христианстве.
С.А. Желудков
В сегодняшней смуте тема о либерализме в РПЦ важна еще вот
почему: как известно, либеральная демократия вызревает из вполне
определенных мировоззренческих основ, это поздний плод некоторой
социальной культуры. Очевидно, что самая совершенная конституция,
принятая самыми нравственно чистыми, воспитанными и никогда не
перебивающими друг друга государственными мужами, не сможет
конституировать «либеральную демократию»: для этого прежде всего
требуется свободная воля сообщества свободных людей. Видимо, создание
такого сообщества и должно быть целью наших усилий. (Я прошу у
читателя прощения за этот трюизм: к сожалению, с головой вовлеченные
в ситуацию борцы и зрители иногда забывают о нем.)
Принято считать, что особый тип религиозной культуры относился к
числу важнейших предпосылок для складывания либеральной демократии
в тех странах, где она впервые вызрела как автохтонный плод. У нас, как
показывают социологи и свидетельствует опыт обыденной жизни,
отсутствуют чуть ли не все главные составляющие той интеллектуальной и
социальной культуры (в частности, религиозной, политической, правовой),
которая может стать почвой для создания либерального общества. Но это
не значит, что дело русского либерализма безнадежно.
Вот отсюда мне хочется начать разговор об о. Сергии Желудкове.
Как и о. Александр Мень, он был прежде всего человеком Церкви. Это
значит, что о. Сергий искал смысл в качестве человека Церкви, он
задавал самому себе «последние вопросы», он мучился сомнениями в
качестве человека Церкви. И в политическом сопротивлении
(эвфемистически называвшемся «правозащитным движением») он тоже участвовал
потому, что был человеком Церкви: в либеральную политическую
оппозицию о. Сергия привело его понимание веры. Таких людей в нашей
новейшей истории немного, но само их присутствие вселяет надежду.
В 1967 г. Г.С. Померанц написал статью об интеллигенции под
названием «Человек ниоткуда», где есть слова, ставшие для меня очень важ-
208
ными в ту далекую эпоху, когда эта статья была написана, а затем
приобретшие новый смысл и в сегодняшней ситуации:
«Может ли меньшинство чего-то добиться? ... Я думаю, что всё
великое начинается с меньшинства, и даже больше того — с одиночки,
отказавшегося выть. (Этому предшествуют известные строки М.И.
Цветаевой — С.Л.) На этого одиночку я и рассчитываю».
Рука тянется написать: тихий голос Сергея Алексеевича, отца
Сергия. Почему? И тут я замечаю, что думаю в терминах со- и
противопоставления.
В самом деле, голос о. Александра Меня был громким. Как удачно, что
он все-таки успел побыть телепроповедником! Ведь уже в конце
семидесятых — начале восьмидесятых о. Александр озвучил слайды из фильма
Дзеффирелли об Иисусе (их показывали в Новой Деревне в порядке
катехизации), с актерским блеском записал на магнитофон отрывки из
романа Грэма Грина «Сила и слава» (о преследованиях католиков в Мексике):
пусть каждая семья в приходе слушает запись и чувствует духовное
присутствие батюшки! У о. Александра то и дело возникали идеи разных
инсценировок и театрализованных представлений, он явно мыслил в
категориях «я и публика», а в маленьком храме ему очевидным образом не хватало
слушателей и, главное, зрителей. — Да, именно громким и даже шумным
(но и вкрадчивым) должен быть голос мужественно-красивого
телепроповедника, чтобы он смог сделать фокус, сотворить телечудо — хоть на
минуту воскресить на наших глазах преднаходимое, как сказал бы М.М.
Бахтин, — уже готовое и (добавим) уже давно мертвое слово.
Но «не вокруг творцов нового шума, — вокруг творцов новых
ценностей вращается мир; он вращается неслышно» (Фр. Ницше).
Почему тихий голос о. Сергия может стать нужным сейчас?
С.А. Желудков пришел к глубокому пониманию того, что выше было
названо «внутренней несостоятельностью РПЦ». Сам он называл это
«современным учительным кризисом» Церкви. И от церковно-политических
проблем, волновавших православных диссидентов шестидесятых-семи-
десятых годов (например, от проблемы каноничности, то есть
легитимности епископата сталинских и послесталинских времен), он перешел к по-
tj
пыткам самостоятельно продумать сам смысловой центр христианства.
И здесь «наш известный леворадикальный богослов» (так о. Александр
Мень охарактеризовал С.А. Желудкова в приложении к своей книге «Сын
Человеческий») движется от традиционной апологетики, от преднаходи-
мого'и уже мертвого слова к попыткам сформулировать собственное
понимание, которое не переводится на привычный язык православного
богословия и благочестия. Не громогласное слово Правды, а одинокое
размышление сомневающегося, тихий голос — вот модальность его речи.
Школа сомнения
Во второй половине шестидесятых годов о. Сергий написал книгу с
очень характерным для него названием «Почему и я — христианин»
(напомню, что это парафраз названия книги Б. Рассела «Почему я не
христианин»). Читатель этой книги увидит, что известный о. Сергию
14 Заказ 257 209
понятийный аппарат не вмещает того, что он хочет сказать. Но нового
языка еще нет, и поэтому С.А. Желудков строит собственную
конструкцию преимущественно из «чужих слов». Новый, медленно
вызревающий смысл высказывается в необычном сочетании цитат. В ход идет
все, что годится для этой постройки — от Отцов Церкви до
современных западных теологов: сведения об их идеях о. Сергий черпал даже из
советской антирелигиозной литературы.
Таким образом, сомнение, ставшее для о. Сергия чуть ли не главным
проявлением духовной жизни, не разрушило целостности его личности.
Напротив, оно стало источником творчества. Ведь в своих поисках он
исходил из твердого убеждения: «Наш современный учительный кризис — не
упадок, не грех; это совершеннолетие ума, кризис развития, в котором
христианин двадцатого века понимает ограниченность нашего разумения,
освобождается от наивностей схоластики, вникает в научную критику
Писания, различает историческое и условное от вечного и абсолютного».
Мои сведения о жизни о. Сергия скудны и почерпнуты из
вторичных источников: я познакомился с ним в последний его приезд в
Москву из Пскова в январе 1984 г., ко мне домой его привел общий друг.
Первое впечатление от о. Сергия: маленький, тихий и почти беззубый
старичок, одетый в черный, сильно поношенный костюм. Войдя в мою
квартиру, он представился: «Сергей Алексеевич, священник». Ему
предстояла госпитализация в клинике Первого медицинского института и срочная
операция, через несколько дней после которой он скончался.
Ко тому времени я уже знал главные темы его творчества и смог
обсудить с ним некоторые вопросы, которых касаюсь и в этой статье.
Биографические сведения о С.А., которые я нашел в разных
источниках, отчасти противоречивы в том, что касается дат и подробностей его
жизни до 60-х годов. Вот что получается при сопоставлении устной
традиции и немногочисленных публикаций в зарубежной русской прессе.
С.А. родился в 1909 г. Москве, в семье церковного старосты, в
молодости был близок к православным «обновленцам» и даже посещал в
качестве вольнослушателя их Духовную академию. Много лет он
работал в провинции бухгалтером и уже в зрелые годы поступил в
Ленинградскую Духовную семинарию, окончил ее в 1954 г. Сан священника он
принял в 1946 г., до учебы в духовной школе, что соответствует
практике РПЦ, особенно в послевоенные годы. Во время хрущевских гонений
С.А. служил в Пскове, к этому периоду относится его конфликт с
церковным начальством, суть которого мне неизвестна. В 1960 г. С.А. был
уволен за штат и снят с государственной регистрации.
Читатель отрывка из книги С.А. «Почему и я — христианин»
(«Российская газета», 7 марта 1992 г.) К.Н. Петров свидетельствует в своем
письме: «Жил он в 60-е годы в нетопленой избе во Пскове на пенсию
заштатного священника 25 руб., питался хлебом с чесноком <...> и
привечал каждого, кто хоть немного проявлял интерес к его
просветительской деятельности» (письмо хранится в моем архиве — С.Л.).
Так как труды о. Сергия до сих пор почти не публиковались на
родине1, а люди, знавшие Сергея Алексеевича близко и наблюдавшие за
развитием его мысли, пока не предложили анализа его творчества в
210
контексте нашей интеллектуальной и политической истории, то я
решаюсь на опыт такого рода. Я понимаю, что неточностей и пробелов
мне не миновать, но надеюсь возбудить ревность историков,
профессионально занимающихся этой тематикой.
В 1971 г. о. Сергий создал новую редакцию «Литургических заметок»
(220 страниц машинописи). Эта работа, к которой он приступил еще в
начале пятидесятых годов, представляется мне начальными классами
той «школы сомнения», в которой Сергей Алексеевич учился до
смерти. Эта метафора принадлежит самому С.Α.: даже в последние свои дни
он говорил о замысле новой книги, которую он собирался назвать
«Школа сомнения» (парафраз заглавия книги митрополита Антония
Сурожского «Школа молитвы»).
О. Александр Мень написал очерк православного богослужения для
начинающих — «Таинство, слово и образ» (в первой редакции — «Небо
на земле»). Это справочник, не предусматривающий оценочных
суждений автора (помимо конвенциональных выражений благочестия) и
рассчитанный на новых членов РПЦ.
Что желкасается С.Α., то его книга о богослужении подразумевает
церковного читателя, успевшего испытать сомнения относительно
нашей литургии, но относящегося к литургическим вопросам как к
своим, то есть очень серьезно. С.А. стремится непредвзято рассмотреть все
свои и чужие вопросы и сомнения, в полную меру своего понимания,
ничего не сглаживая и не заминая.
Во вступительном слове к новой редакции «Литургических заметок»
о. Сергий пишет: «ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ. Мои заметки разных
лет и письма разных лиц по практическим вопросам русского
церковного Богослужения. «Несвоевременные размышления», главным
образом — критического свойства.
Обычно принято восхвалять наше русское церковное богослужение как
верх всякого совершенства. Это действительно верно по отношению к
подлинным драгоценностям, которые мы и должны бережно сохранять,
проявляя добрую, интеллигентную консервативность. Но вместе с ними в
нашем литургическом наследии присутствуют и такие исторические
наслоения, <...> от которых нам должно по мере возможности освобождаться.
<...> Наше церковное Богослужение <...> не соответствует величию нашей
веры, представляется не славой, а унижением Церкви. Сегодня у нас, как
и на Западе, можно говорить о литургическом кризисе Христианства».
Вот, на мой взгляд, то главное, что показывают жизнь и мысль о.
Сергия: обычное, исходно не подверженное никаким чуждым
влияниям церковное православие, соединенное с нравственной чуткостью и
интеллектуальной честностью (эти качества — особый дар CA., но в
какой-то мере их можно ожидать от каждого), изнутри самого себя
порождает не только сомнение, но и потребность в собственной
критической переоценке. Но пример о. Сергия показывает и другое: ответить на
эти сомнения, последовательно провести эту переоценку изнутри
православия нельзя, вопрошающий и ищущий неизбежно выходит за
пределы того, что оставшиеся на месте называют православием.
В предисловии к зарубежному изданию книги «Почему и я — христи-
14* 211
анин» («Посев», 1973 г.) известный православный писатель, декан Свято-
Владимирской духовной семинарии под Нью-Йорком о. Александр Шме-
ман (он умер в декабре 1983 г., на месяц раньше Сергея Алексеевича)
пишет: «С формальной точки зрения <...> книга отца Сергия Желудкова
полна «ересей»... Но мне кажется, что <...> подходить к ней с мерками
отвлеченной «православности» значило бы проглядеть ее подлинное значение.
Значение это прежде всего в том, что о. Сергий Желудков ставит перед
православным сознанием вопросы, ответить на которые рано или поздно
необходимо. Наше школьное, отвлеченное, самодовольное богословие
вопросов не ставило и на них не отвечало — и оно больше всего виновато
в том ужасающем омертвении богословских интересов в Церкви и в
церковном обществе, которое так часто делает Церковь бессильной в
современном мире. Приемлемы или неприемлемы ответы самого отца Сергия,
они укоренены в живом и глубоко личном понимании вопросов, а также
в страстном желании, чтобы вера Христова снова засияла победной силой
в ушедшем от нее мире».
«Вопросы, ответить на которые рано или поздно необходимо...»
Похоже, А.Шмеман не знал того, что, вероятно, по-настоящему открылось
только в сегодняшнем опыте: наличное русское православие так же «пара-
стабильно» и «нереформируемо», как и коммунистическая цивилизация.
Вынь один камень, переставь (в порядке «перестройки») другой, задай два-
три вопроса, ответы на которые не известны заранее (т.е. не содержатся в
системе) — и довольно быстро все рухнет. Сгнившая старая постройка
завалится, а на обломках станет расти что-то новое. Я думаю (или, вернее
сказать, надеюсь), что самое главное для судеб русского христианства
происходит пока что неслышно, не на телеэкранах, а в практике отдельных
православных священников и мирян. И будущее будет, оно уже
пробивается в трещинах и разломах старого здания Православия.
А такой подход к «еретическим» высказываниям позволяет отнести
самого о. Александра Шмемана к той «либеральной субкультуре» в
русском православии, которая больше всего интересует нас в этом
разговоре. Более прозорливые, чем А. Шмеман люди сразу отсекали
вопросы С.А. как неуместные для православного человека. Возможно, сам
С.А. не принял бы мой вывод о «нереформируемости» православия, но,
похоже, именно так воспринимает сегодняшнюю ситуацию та часть
иерархии, что способна и склонна к ее анализу.
Естественно, литургические проблемы о. Сергий понимал как
частное проявление кризиса христианства, который затронул не только
православие, но и всю Церковь. Однако строй мышления о. Сергия
определяется надеждой: «Тот, кто воистину прикоснулся святыне
Христианства — тот может быть уверен, что оно превозможет все трудности
современной своей проблематики и будет исповедано на новом уровне
универсальности и свободы. Подобным образом можно увереннно
утверждать, что «если будет будущее» (любимое выражение о. Сергия. —
С.Л.) — то будет и дальнейшее литургическое развитие в Христианстве».
В книге «Почему ия~ христианин» CA. обращается к своим
«последним вопросам»: предлагает и обосновывает собственное
исповедание христианской веры. Здесь появляются темы и даже конк-
212
ретные формулировки, которые до конца останутся в центре
внимания о. Сергия.
Иначе говоря, перед нами (как и в творчестве о. Александра)
попытка систематической апологетики, но выраженной «своими словами»:
«Пока старшие молчат — совершенно необходимо мне сегодня хотя бы
только для себя сообразить ответы на главные наши недоумения и
проблемы. Итак, в моем лице простой человек нашего времени,
полуобразованный священник, намеревается не обращать или поучать кого-
либо, а прежде всего себе самому дать отчет о нашем уповании».
Мне кажется, что С.А. не справился с этой задачей. Видимо,
потому, что в ее формулировке присутствует неточность. При чтении
книги становится ясно: ее автор остается христианином «просто» вопреки
всем известным ему «недоумениям и проблемам», вопреки
недостоверности канонических евангелий, вопреки проблематичности некоторых
догматов, вопреки «унижениям христианства» в истории. Он понимает
все это, — «и вот, по совести: душа моя знает своего Господа». «Просто»
в центре жизни для автора стоит евангельский образ Христа: «Мы
веруем — мы надеемся, что та духовная Красота, которая открывается нам
в Личности Христа, <...> имеет абсолютное, Божественное значение...»
Неточность, которую я замечаю в формулировке задачи книги,
состоит в том, что С.А. не отделяет личное исповедание веры (как на него
возразишь?) от совсем другой цели, от миссионерски-апологетической
установки представить свою веру как «оптимальный» (слово С.А.)
выбор для читателя: «Христианство имеет универсальное, решающее
значение для всех людей на земле».
Церковь доброй воли
В переписке с К.А. Любарским, который тогда отбывал наказание в
Мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме за участие в издании
«Хроники текущих событий», С.А. попытался выявить религиозный
смысл политического сопротивления: с его участниками он встретился
во второй половине 60-х годов и сам не остался в стороне от этого
движения: он писал открытые письма в защиту политзаключенных и на
церковно-политические темы.
Сильная сторона этой попытки в том, что С.А. первым увидел в
«диссидентстве» религиозно значительную тему, слабость — в смешении
новой задачи со старой апологетикой: фактически он пытается чуть ли
не доказать атеисту К.А. Любарскому, что в некотором смысле тот уже
христианин. В этой переписке С.А. развивает идею «анонимного
Христианства», или «Христианства воли», присутствующую и в книге
«Почему и я — христианин».
Обсудим идею о. Сергия об «анонимном Христианстве». Если
продумать ее последовательно, то можно убедиться, что она противоречит
стремлению о. Сергия освободить веру от остатков «средневекового
миросозерцания» (выражение B.C. Соловьева, часто встречавшееся у CA.):
христианство наивно (и нельзя сказать, что вполне безвредно) мыслится
внутри этой идеи как средоточие всего «высокого и прекрасного». Другие
религии истинны в той мере, в какой их содержание приближается к христиан-
213
ству. Эта формула христианского экспансионизма встречается у о. Сергия
неоднократно, в частности когда К.А. Любарский предлагает ему прямо
высказаться об отношении христианства к другим религиям. Но
«анонимному Христианству» у о. Сергия противопоставляется «Христианство
веры», большинство носителей которого оказываются «номинальными
христианами», то есть христианами только по имени, не
соответствующими высокому и прекрасному христанскому идеалу.
По сути дела, у о. Сергия выстраивается следующая оппозиция:
анонимное христианство «номинальных» безбожников в мирской жизни
versus
номинальное христианство «данных нам в ощущении» церковных христиан
Эта оппозиция неудовлетворительна в обоих членах. В светском
государстве вообще нет оснований для разговора о номинальном
христианстве, это обозначение имеет смысл только там, где церковь обладает
статусом государственного учреждения. Понятно, почему в середине
XIX века христианский философ Кьеркегор, подданный
христианского королевства Дании, считал, что настоящее христианство может быть
делом лишь немногих. Он спрашивал: как можно быть христианином
в официально христианском мире? При этом он имел в виду
отождествление христианства с определенными типами культуры и
государственности. В самом деле, со времен императора Константина, когда
христианство впервые стало официальной религией мировой державы, оно
использовалось для легитимации всего, что требовалось
легитимировать. Если мы принимаем основополагающие постулаты Нового
времени, то нам останется только разделить недоумение мыслителя Нового
времени Кьеркегора по поводу того, как в таких условиях порядочный
человек может быть христианином. Однако сейчас ушел в прошлое не
только официально христианский мир. Многие страны бывшего
«христианского Запада» (и прежде всего США) перестают быть даже
«неофициально христианскими». В сознании американских граждан
христианство действительно все больше становится одной из существующих в
стране религий, а не «нашей духовной родиной», «нашим всем» и т.п.
«Христианский мир» уходит: это значит, что в публичной сфере
никто не интересуется моим отношением к религии, слова «иноверец»,
«инославный» и пр. удаляются из официального узуса. Именно
поэтому нам, христианам, нет нужды вводить такие понятия как анонимные/
номинальные христиане. Хорошие люди — это просто хорошие люди,
живущие ради других. Христиане — это просто члены одной из
религиозных общин, сосуществующей с общинами других вер, т.е. христиане
— это люди, удовлетворяющие тем требованиям, которые данная
община предъявляет к своим членам.
На эту тему у меня есть свидетельство из уже цитированного письма
К.Н. Петрова: «В те времена (речь идет о конце 60-х годов — С.Л.) о.
Сергий <...> полемизировал с о. Александром Менем о том, откуда же в наше
страшное время в людях «неверующих» все-таки проявляются те качества
(доброта, жажда правды, самоотверженное бескорыстие до положения
«души за други своя»), за которые Иисус Христос называл людей блажен-
214
ными? На этот вопрос тогда я ответил (и был очень доволен, что
О.Александр меня поддержал), что это остатки христианского учения. Отец
Сергий имел другое (и гораздо более верное, как показал мне дальнейший
жизненный опыт) мнение — это «отображение Христа в человеке». Имен-
^j
но с этих позиции он и исповедовал христианство».
Действительно, в письме составителям самиздатского «Сахаровского
сборника» (1981 г.) о. Сергий писал:
«Андрей Дмитриевич Сахаров. Его личность, его дело, его судьба, воспо-
* *
минания о немногих личных с ним встречах — все это вызывает у меня
чувство восхищения и боли... Да, дорогому Андрею Дмитриевичу не
повредит, если я признаюсь, что подсмотрел у него некоторые черты личной
святости. Всякий раз я уходил от него глубоко взволнованный
впечатлениями от обаяния его личности. Не постесняюсь сказать, что это были
религиозные впечатления. Андрей Дмитриевич не принадлежит ни к какой из
христианских церквей. Но он — величайший представитель единой
всечеловеческой Церкви людей доброй совести и воли. Христианство <...>
обнимает и жизненный подвиг академика Сахарова: его личное милосердие,
<...> его бесстрашное мужество в борьбе <...> за права человека — за
достоинство человека, которое освятил пришествием Своим Иисус Христос».
Для христианина естественно искать христианское истолкование
нравственности и политики. В ходе истолкования понятие
«христианского» может оказаться не равной себе величиной, а тем, что
нуждается в пересмотре и новом содержательном определении. В сущности,
таким пересмотром (пусть, на мой взгляд, недостаточно
последовательным) и занимался о. Сергий!
Читатель уже заметил, что образ Христа, находящийся в центре веры
о. Сергия — это прежде всего образец нравственной красоты. И
поэтому суть мыслей С.А. об «анонимном христианстве» сводится к
следующему: нехристиане, живущие для других, уже следуют за Христом,
который «пришел служить и отдать самого себя как плату за
освобождение многих» (Мк 10:45). Они уже делают Его дело, поэтому о. Сергий
готов согласиться, что нет такого большего, чего можно было бы еще
ждать от них. Обозначение «христианин» просто ничего не прибавило
бы к «личности, делу и судьбе» А.Д. Сахарова. Однако о. Сергию жаль,
что такие люди не разделяют его собственой религиозной радости и его
надежды на будущее торжество Христа.
С.А. не готов пойти на кражу и каким-нибудь хитрым манером по-
настоящему, в онтологическом смысле, причислить А.Д. Сахарова к
христианству (то же относится и к его интерпретации личного мужества
других участников политического сопротивления). Однако
«Христианство (как его понимает о. Сергий. — С.Л.) обнимает и жизненный
подвиг академика Сахарова...»
И все же о. Сергий решительно расходится с самой интенцией
немецкого теолога Карла Ранера (1904-1984), создателя идеи «анонимного
христианства». И это заметил М.С. Агурский (1923-1991) в письме о.
Сергию, написанном в 1974 г. Агурский критикует о. Сергия с
православной точки зрения. Он отмечает: Карл Ранер считает, что
«анонимное христианство стало возможным благодаря мистическому
воздействию христианства веры на духовную основу всего человечества». По-
215
яснив эту мысль Ранера, М. Агурский продолжает: «Современный
атеизм такого типа, который Вы согласны включить в «Церковь доброй
воли», есть также продукт прямого религиозного (по смыслу —
«христианского». — С.Л.) влияния. <...> Такой подход к «Церкви доброй
воли» был бы более плодотворным, чем простое уравнение агностиков
в правах с христианами веры. В таком случае агностик мог бы понять,
что его мораль обусловлена религиозным влиянием».
С.А. отвечает с характерной для него твердостью и готовностью
отстаивать свои убеждения, никак не смазывая пунктов расхождений:
«В моем недостойном лице Вы имеете, если можно так выразиться,
христианского агностика, который смиренно исповедует, что и Промысел,
и священное Писание, и догматы, и Церковь — всё, всё это бесконечно
таинственно. Привычные же гностические суждения об этих предметах
представляются мне спорными, принудить себя к безоговорочному
принятию их я не хочу. Вразумить меня в кратком письме невозможно».
С такой же решительностью о.Сергий, вероятно, отклонил бы мое
предложение отбросить представление о тотальном, всеобъемлющем
характере христианского образа веры. Согласно этому обычному для
христиан представлению, христианство включает все хорошее, что есть в
других религиях, оно «оптимально», как неоднократно писал о. Сергий.
Поэтому оно включает и «жизненный подвиг академика Сахарова». Судя по
всему, CA счел бы отказ от христианской тотальности умалением Христианства.
Собственные проблемы христианства
Однако и со своей (на мой взгляд, непоследовательной) позицией о.
Сергий остался в одиночестве. Чтение нескольких томов устроенных им
богословских переписок (два тома опубликованы на Западе, еще два доступны
только в самиздатском виде) показывает, что о. Сергий настойчиво искал,
но так и не нашел собеседников для обсуждения главного, что занимало
его мысль в 70 — 80 гг. А этим главным стали «собственные, внутренние
проблемы Христианства» (слова из вводного письма С.А. для второго тома
переписки «Христианство и атеизм», 1981-1983.)
Первую такую переписку о.Сергий начал в 1974 г. с К.А.
Любарским, тогдашним политзаключенным, и привлек к участию в ней еще
несколько своих знакомых из числа православных христиан. По
условию переписки, они подписывали свои тексты какой-нибудь одной
произвольно выбранной заглавной буквой. Среди участников
переписки был и о. Александр Мень, «корреспондент 3.», написавший по
письму о. Сергию и К. Любарскому.
Письма о. Александра подтверждают приведенное выше
свидетельство К.Н. Петрова. В письме С. Желудкову от 27.09.1974 о. Александр
справедливо упрекает его за наивные (и, повторяю, не вполне
невинные) призывы к Крониду Любарскому «переименоваться в агностика»,
а в перспективе — и в «анонимного христианина». О. Александр пишет:
«Я готов принять Ваш тезис, что в каждом нравственном поступке
— отблеск Христова света. <...> Навязывать же нехристианину этот
взгляд — бессмысленно и нетактично. Мы можем сказать ему лишь, что
216
опознаем в его добре действие высшего Добра. Но уж его дело, как он
к нашим словам отнесется».
Но дальше о. Александр излагает общее место христианской
апологетики, согласно которому представление о безусловной ценности
человеческой личности может быть обосновано только в рамках
христианства: «Только из Евангелия естественно и логично вытекает этика
самоотвержения и действенной любви (а не просто сострадания).
Поэтому можно и говорить об «анонимных христианах» (в плане
объективном). <...> Весь комплекс понятий о добре и зле вырос из
христианства». (Любопытно, что именно с этим последним положением не
соглашается о. Сергий в своем ответе о.Александру.)
Переписка составляет существенный элемент уже в «Литургических
заметках», а с конца семидесятых годов о. Сергий обращается к ней в
попытке сформировать круг общения, найти новые точки зрения, в
каком-то смысле институализировать «школу сомнения».
Это относится к переписке 1979 г. вокруг только что переведенной на
русский язык книги Ганса Кюнга «Быть христианином», и особенно — к
двум томам (1980-1983) под общим названием «Христианство и атеизм».
Попытка о. Сергия сформулировать и обсудить «проблематику
современного христианства» не удалась из-за отсутствия у участников
разговора общих предпосылок и общего языка. Не получилось
«принять за основу» и книгу Г. Кюнга, претендующую на роль новой
теологической суммы для образованных католиков. Во-первых, эта книга
отвечает на вопросы и сомнения, возникшие в другой культурной
ситуации. Во-вторых, — и это самое интересное — о. Сергий сумел
почувствовать за еретической (для православного уха) фразеологией книги
несвободу ее автора, стремление успокоить сомневающихся и показать
им, что и сейчас можно оставаться католиком, что это не стыдно и
интеллектуально приемлемо. Я думаю, возбужденное Ватиканом «дело
Кюнга» объясняется главным образом неповоротливостью иерархии:
она не оценила талантливого и плодовитого апологета.
Что же касается о. Сергия, то он хотел — и на интеллектуальном
уровне не сумел — совместить две ценности, отказ от которых означал
бы для него разрушение собственной личности: свое христианство и
свою свободу последовательного сомнения. Эту свободу он назвал
«христианским агностицизмом», в противоположность нерассуждающему
принятию какой-либо ортодоксии. (Такой образ веры он называл
«гностицизмом».) На этой ноте в ноябре 1983 г. и обрывается второй том
Переписки (письмо о. Сергия корреспонденту Е.):
«... В опыте сомнений <...> мы выходим к принципиальной
нерешаемости самых главных проблем Христианства. Такова тайна зла и
невинных страданий в Божием мире. Или значение библейского мифа о
грехопадении. Не знаем!,.. Такова и центральная тайна Христианства —
тайна личности Христа. Все мы, христиане, согласно исповедуем:
Христос воскрес и пребывает «одесную Бога» (Мк 16:19). В остальном же у
нас, христиан —разномыслие, которого ни в каких словопрениях
разрешить невозможно, ибо оно ведет свое начало из самих текстов Нового
Завета. Вот интересная идея: построить «агностическое» исповедание
Христианства. Убедиться в принципиальной нерешаемости основных
Ή 7
проблем. Увидеть в ней высшее провиденциальное значение — понять,
что в нашем здешнем существовании эта нерешаемость есть
непременное условие нашей свободы... Поэтому неразрешимые проблемы так и
оставить открытыми, сосредоточиться на том, что несомненно, что
драгоценно, что побуждает нас к достойной жизни — в надежде
Воскресения. Жаль, что Переписка не дошла до этой проблемы».
В 1974 г.о. Сергий завершил свою программную статью «Церковь
доброй воли» словами «ДОСТОЙНО ЖИТЬ В НЕИЗВЕСТНОСТИ».
Вспоминая приведенные выше слова Г.С. Померанца, я бы добавил:
может быть, иногда подобает оставаться в одиночестве?
Эпилог; «Если будет будущее...»
Я, конечно, не буду заниматься предсказаниями и ограничу свои
суждения сформировавшей меня, родной, но уже прошедшей эпохой: это
то, что в какой-то мере доступно подытоживанию.
Отрицательные результаты поисков, о которых здесь говорилось,
важны для русского христианства, для его будущего. Вот главный итог,
вот почему мне кажутся достойными внимания жизнь и мысль о.
Александра и о. Сергия.
Читатель видел: оба героя этих очерков стремились к тому, чтобы у
православия появилось будущее, чтобы все существующие в интеллигентском
сознании (увы, справедливые) представления, ассоциирующие наличную
РПЦ с ксенофобией, нетерпимостью, политической реакцией и
творческой импотенцией, — с серой смертью, а не с жизнью, — чтобы эти
представления перестали соответствовать реальности. Оба они думали о том,
как преодолеть те недуги православия, которые укоренены в самой его
сердцевине. Отсюда следует, что в «настоящем» православии и о. Александр
Мень, и о. Сергий Желудков были фигурами явно маргинальными. Что
касается о. Сергия, то всякому видно: он избрал эту позицию
сознательно. Читатель его работ легко убедится, что С.А. в зрелом возрасте, после
многих лет размышлений фактически покинул то, что в каком бы то ни
было строгом смысле можно назвать Православием и из подручных
материалов стал строить собственную теологию — «христианский
агностицизм», в котором область ignoramus — того, что мы не можем знать (или
«нам не надо знать») — все время расширялась.
Mutatis mutandis это применимо и к о. Александру Меню. Конечно,
он тоже был маргиналом в РПЦ. Я вспоминаю свидетельство об
О.Александре митрополита Антония Сурожского (Блума) — сегодня, пожалуй,
самого авторитетного из наших иерархов и богословов: его
нравственная репутация незапятнана, его приверженность классическому
образу Православия несомненна, его литературные труды переводятся на
иностранные языки во всем христианском мире в качестве яркого
современного выражения специфически православной духовности.
И вот, в одном из интервью 1992 года владыку Антония спросили о его
отношении к о. Александру. Ответ прозвучал очень спокойно, но суть его
218
была жесткой: о. Александр был «весьма открыт к иноверию (это правда!
— С/7.) и в этом шел дальше, чем многие могут воспринять. Но не надо
спешить осуждать его. Те, кому он открыл Веру, Бога, Таинства, стоят как
свечи перед Господом в молитве за него. Если отец Александр чем и
согрешил, Сам Бог может таинственно исправить, обогатить, освятить в душах
этих людей то, что они получили» («Независимая Газета», 17 июня 1992 г..
с. 6). Я понял это высказывание следующим образом: митрополит
Антоний считает экуменическую открытость о. Александра грехом, но
оставляет для него надежду на счастливый исход.
Митрополит Антоний, человек пожилой и в силу своего сана давно
привыкший учить правой вере, действительно говорил от полноты
своей веры, той странной веры, Бог которой менее милосерден к
человеку, чем мы — обычные, ограниченные люди, все же иногда находящие
в себе силу принять другого, не разделяющего нашу единственно
верную веру, и даже допустить правоту этого другого.
Получается, что для митрополита Антония и всей стоящей за ним
традиции Бог — это православный христианин, Бог — настоятель
строгого православного монастыря.
Я уверен, что этот образ веры обречен, да и нынешний
фундаменталистский (или, как сказали бы наши журналисты,
«постмодернистский») мятеж против современности наверняка провалится.
О. Александр предлагал, конечно, совсем другой образ веры: он тоже
в сознательном возрасте выбрал позицию маргинала. Теологически он
тоже очень далеко ушел от православия катакомбной Церкви и
загорских старцев — от среды, в которой он получил свое христианское
воспитание, которую хорошо знал и причастностью к которой гордился.
Но для историка культуры, который хочет оставаться человеком
Церкви, «маргинальность» — вовсе не бранное слово. Ведь как раз на
окраинах старой цивилизации, ad marginem, обычно появляются
ростки нового. Будущее будет, если эти ростки пробьются «сами собой» (Мк
4:28), помимо деяний поместных и архиерейских соборов РПЦ. Надо,-
чтобы зерна нового
упали на добрую землю,
и давали урожай, поднимаясь и вырастая,
и плодоносили тридцатикратно, и шестидесятикратно, и стократно
(Мк4:8).
Но пока что зерна в земле — мы их не видим.
Июль 1992 - июнь 1993,
май 1998
Примечание
1 В журнале «Октябрь» ( N10-11, 1991) напечатаны обширные извлечения из
ранее опубликованной на Западе переписки С.А. Желудкова с К.А. Любарским
(1974 — 1975 гг.) . Публикация включает статью С.А. «Церковь доброй воли или
Христианство для всех», которая в какой-то мере дает представление о
специфике христианских убеждений ее автора.
219
о религии
Яше Эйделъки
Das Rätsel gibt es nicht
L.Wittgenstein
Я было думал, что никогда в жизни уже не открою компьютер,
чтобы писать «без сносок», как выражается одна моя приятель
ница из Америки, то есть нечто эссеистическое. Но вот, Вы
вызвали меня на разговор «о том, что касается нас (меня)
безусловно» (Тиллих). И я решился принять вызов, так как
мысли мои на эту тему снова, кажется, достигли определенности.
Ницше где-то писал о том, что христианство порождает стремление
к интеллектуальной ясности, несущее ему, христианству, разрушение.
Похоже, он был прав.
В моих рассуждениях центральное место принадлежит понятию
«Новое время», или «современность». Дискуссия о постмодернизме как
историософской категории ничего не меняет в моем понимании ситуации, ибо
«эпоха после Нового времени» не изменила, как я думаю, разрядного
значения религии в нашей жизни. Я знаю, что это утверждение небесспорно,
но мы не будем решать здесь историософские проблемы.
Начнем с того, что все великие религиозные культуры возникли до
Нового времени и не могут быть поняты вне контекста породивших их
цивилизаций.Возможно, до некоторых пор интеллектуальная культура
просто не располагала языком, отличным от языка религии. Например,
у Иисуса из Назарета видимо были оригинальные социальные идеи,
которые он понимал и выражал как идеи религиозно-реформистские.
Можно даже допустить, что он был политиком, говорившим на языке
религии, так как другого языка не было.
Барух Спиноза первым в еврейской культуре покинул свою общину,
не перейдя в другую веру, но это произошло уже в XVII веке. До тех пор
религия была тотальной формой интеллектуальной культуры. Можно
выразить это так: религия не была противопоставлена нерелигии.
Русское слово «крестьянин» происходит от «христианин», то есть некогда
значило просто «человек». «Нехристь» — нелестное определение,
подобно слову «нерусский» в этнически ориентированном сообществе:
«Эй вы, нерусские!».
Интеллектуальный (духовный) и социальный протест принимал
форму религиозной ереси. Но затем эта тотальность распалась, и
религия выделилась в чистом виде, — как нечто, способное противостоять
нейтральной публичной сфере, как «глубоко интимное переживание»,
* «Знамя», № 6, 1997, с. 191-197.
220
как то, что происходит между Богом и душой. Это вытеснение религии
из публичной сферы немецкие теологи называют ее приватизацией.
Следовательно, по-настоящему религия и возникла лишь в Новое
время. Она стала обосабливаться от других видов интеллектуальной
деятельности. Схоласты — они философы или теологи? Некоторые идеи
Оккама важны для философии науки, другие предвосхищают чисто
теологическое творчество Лютера. В Средние века христианская теология
и была христианской философией. Начиная примерно с XVII века
возникшая впервые религия стала искать себе применение в новой
местности, пока наконец во второй половине XX века не стала элементом
либерально-демократической цивилизации. Вот немецкое телевидение:
на одном канале — воскресная проповедь, на другом — познавательный
фильм из жизни летучих мышей, еще на другом — классическая опера,
а еще на одном — воскресный эротический фильм, а еще на третьих —
документальные многосериики о немецкой вине и ученые дискуссии о
том, что не все легальное — легитимно. А еще есть передачи для турок
и сексуальных меньшинств. Все это в разное время и на разных
каналах. Важно тут, что пространство находится для всего — в свое время и
на своем месте. (Наверно, и у нас уже становится так?)
Ссылка на Бога в преамбуле Основного Закона ФРГ («Осознавая
свою ответственность перед Богом...») выглядит уже как анахронизм,
оправдываемый лишь смутой 1945 — 48 гг., которую Германия
переживала накануне создания новой государственности.
Я излагал соображения о том, как религия ищет себе новое место,
все той же американской приятельнице, ссылаясь на свои наблюдения
за жизнью американских христиан и евреев. Она возражала в духе
political correctness: американский плюрализм — показуха, на самом
деле страной управляют WASPs, белые протестанты англо-саксонского
происхождения. Но мне неважно, что на самом деле, сколько времени
пройдет от того момента, когда две еврейки стали сенаторами от
Калифорнии, до того ноябрьского дня, когда президентом США наконец-то
станет темнокожая лесбиянка. Важен вектор: все это по прямой
возникло из мира «Алой буквы», из сектантских колоний правоверных, где
жгли ведьм и терпели — в строго определенных границах —
гетеросексуальные склонности.
Согласно моему тезису, либеральная демократия не возникала из
протестантской религиозности, — вопреки мнению многих протестан-
стских теологов и политических деятелей (вспомним хотя бы бывшего
президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера). Представление о том, что
либеральный гуманизм — это секуляризация нашего христианского
догмата о вочеловечении Бога, есть апологетический аргумент,
последняя линия защиты или, скорее, последнее утешение для
религиозного сознания. Настоящий либеральный гуманизм есть нечто, что
возникает прямо на наших глазах. То, что было нормальным сорок лет назад
(например, в США), сейчас неприемлемо. И, соответственно, наоборот.
Человек в смысле либерального гуманизма может быть слаб и
несимпатичен. Он не обязательно звучит гордо. Вопреки всем
достижениям науки и техники у него седеют и выпадают волосы, отрастает живот,
у него дурно пахнет изо рта, а главная его слабость (так в дневнике Вар-
221
лама Шалимова) в том, что ему не обойтись без четырехразового
ежедневного питания. Вот несимпатичный или заурядный такой и
объявляется главной ценностью. Вовсе не потому, что за этого слабого Христос
умер (Римл 14:15), а просто — потому что, увы, больше не находится
ничего более ценного. Хочу обратить внимание на небанальность — для
религиозного человека — этих банальных соображений. Всякая
нормативная система, имеющая (квази)религиозную основу — хотя бы, к
примеру, наш бывший коммунизм — предполагает в качестве
самоочевидного допущения, что мы живем для чего-то высшего, чем мы сами
или чем я сам, то есть не просто «для счастья». Коммунистический
лозунг «всё для блага человека» не имел в виду обычного человека с
улицы, такие утверждения никогда и не понимались в смысле будничного
буржуазного гуманизма.
Один мой собеседник, православный священник из интеллигенции,
сказал мне, выражая волю к обладанию Высшим Смыслом: он хочет,
чтоб в его жизни было место для пафоса. Мы, конечно, тоскуем по
метафизическому пафосу.
(Тут мне хочется предложить, чтобы мы оба все же не стыдились и
не стеснялись самих себя — интеллигентных московских людей,
привыкших думать о смысле жизни. Чего только не бывает.)
Места для метафизического пафоса, однако, нет, хотя примириться
с этим трудно.
Одно дело, как предлагает в своих увещеваниях Павел, терпеть
слабость слабых (Римл 15:1), потому что и за них умер Помазанник, или
потому, что в них тоже отображен лик Божий, — и совсем другое дело
— терпеть этих других, чужих, неприятных единственно потому, что мы
все в одной лодке, как тараканы в старом доме, — делим одну судьбу,
и приходится как-то устраиваться, причем желательно создать более
уютную жизнь, чем та, что мы устроили у себя на родине. Степень уюта
— это и есть критерий гуманизма конкретной культуры.
Итак, данная нам в ощущении религия не создает основы ни для
собственно гуманного (антропоцентричного) гуманизма, ни, в
частности, для полноценной толерантности.
Получается, что собственные ценности христианства (то, что я в
прежних работах называл христианским в христианстве) и либеральной
демократии (то есть гуманизма по преимуществу) скорее находятся в
отношениях противостояния, чем взаимодополнения. В той мере, в
какой они не исключают друг друга, они просто оказываются в разных
пространствах, «не пересекаются». Я пришел к этому простому выводу,
убедившись в том, что либерализм на самом деле не происходит из
христианства как его собственная метаморфоза (в смысле Шпенглера).
Однако либеральное христианство, естественно, зависит в своем
происхождении от обычного нерелигиозного либерализма.
У нас в России эта констатация может интересовать лишь узкий круг
людей, признающих своими одновременно и либеральные, и
христианские ценности. К числу этих людей отношусь и я. Вот ведь что интересно:
в России христианство не успело обрести человеческое лицо, то есть
гуманизироваться, поэтому либеральная интеллигенция настороженно
относится к «религии» (к православию, а затем и ко всякой религии), а рели-
222
гиозно (опять же по преимуществу православно) мыслящая часть
интеллигенции еще «из-под глыб» критиковала секулярный гуманизм.
В Америке или в Германии дело обстоит иначе, там либеральное
LJ K.t
христианство стало социально признанной величиной.
Тогда вопрос вот в чем: каково место «религии» в либеральной
демократии Нового времени и современности?
Сразу же извиню себя. Я сознательно принимаю здесь русскую
манеру философствовать: без развернутых доказательств, без ссылок на
всех известных мне авторов, касавшихся проблемы, стремясь лишь
донести до собеседника собственное понимание ситуации, с
необходимостью ограниченное и субъективное, а также надеясь на сочувственное
внимание и понимание.
Так вот: по мере вызревания либеральной демократии религия все
меньше определяет облик публичной жизни и одновременно все
больше отходит к тому, что я назвал бы «ценностями досуга».
«Досуг» в моей терминологии не имеет пейоративного смысла.
Люди свободных профессий пока что в меньшинстве, а в Европе и
США университетский профессор гораздо менее властен в
распоряжении своим временем, чем гуманитарий в России. Средний класс «на
Западе» (увы, я не смог обойтись без этого обобщающего слова!) в
немалой мере состоит из служащих, работающих в больших корпораци-
\_* *j *-*
ях: возможность этих людей вложить творческий смысл в свои труд
ограничена, в то время как работать приходится с большим нервным и
интеллектуальным напряжением. По вечерам и в выходные надо
отдохнуть и «добрать» то, чего недостает на работе. Недостает, как я думаю,
элемента спонтанной творческой самореализации, свободного общения
по интересам и того, что мы торжественно называем СМЫСЛОМ.
Еще оговорюсь: мои рассуждения вроде бы подразумевают
сравнение «нашего» и «западного». Если проводить такое сравнение по одно-
му-двум параметрам, то выходит ерунда, потому что элементов
различия больше, чем общего. Помня об этом, я все же допускаю упрощения,
чтобы не подменить тему рассуждений.
Известно, что в гуманистической цивилизации ценность досуга
растет, самореализация «на досуге» означает новые степени свободы для
человека.
И вот, религия предлагает один из способов создания второй — «до-
сужной» — идентичности. Это как любительское творчество в
коллективах художественной самодеятельности, которыми, однако, руководят
профессионалы.
Нечто подобное происходит, кстати, и у нас. В старой работе о
православном либерализме в России 60 — 80 годов я писал, рассматривая
творчество покойного протоиерея Александра Меня, что наша
интеллигентская религиозность предполагала создание альтернативной реаль-
tj
ности, — в частности, для «поколения дворников и сторожей», но
также и для научных сотрудников.
В нашей теме есть коллизия, которую я остро чувствую, но теперь
уже не уверен, что смогу передать это чувствование собеседнику.
В свое время «религия» была делом предельной серьезности. Речь
шла о жизни и смерти, о готовности отдать жизнь за веру и самому пре-
223
следовать неверных. У Пауля Тиллиха есть маленькая книжка «Morality
and Beyond». И сейчас я имею в виду именно трансморальный (как его
называет Тиллих) аспект религии. Наше моральное мнение, согласно
которому смерть за убеждения — это возвышенно и прекрасно, а
преследование чужих убеждений — низко, преодолевается в этом
трансморальном аспекте, наши критерии гуманизма снимаются — потому что
речь идет о чем-то большем, чем просто человек. (Вот, повторяю, то,
чем подлинно религиозное мировоззрение отличается от подлинно
гуманистического.)
Несломленная («ungebrochene» — в смысле философии мифа
Шеллинга) религия, — религия, еще не прирученная и не переваренная
Новым временем, — это пафос рабби Акивы, Игнатия Антиохийского,
Кальвина и протопопа Аввакума. Мученики и гонители оказываются в
одном ряду, и эти функции могут меняться. Объединяет их пламень
правой веры, сжигающий наши моральные критерии.
Но мы, интеллигентные люди, устроены по-другому. Ведь уже
гуманисты эпохи Реформации были гибче протестантских реформаторов.
Они, в отличие от Лютера, уже могли «стоять иначе».
Можно сказать и так: в Новое время религия все меньше
формирует образ культуры, и наоборот, господствующие мировоззрения
переделывают религию и приспосабливают ее к себе. Карл Барт справедливо
писал в своем комментарии к Барменской теологической декларации,
что пацификация немецкой евангелической церкви принципиально не
отличалась от ее союза с идеализмом, либерализмом и социализмом в
предшествовавшие полтора столетия. Другое дело, что его собственный
(хочется сказать, фундаменталистский) протест был безнадежным и
бесперспективным. Впереди у церкви Реформации было увлечение
теологией освобождения, феминизмом, экологической озабоченностью,
правами меньшинств, диалогом с иудаизмом и т.п.
«Иисус Христос, как Он засвидетельствован нам в Священном
Писании, есть единое Слово Бога, которое мы должны слушать, которому
мы должны доверять и покоряться в жизни и в смерти».
Так красиво написано в Барменской декларации, но приходится
признать это реакционной утопией.
Я, конечно, вижу, что все мое описание и весь мой анализ
сформированы чисто теологическим подходом, моим личным религиозным
опытом, моим взглядом изнутри. Свободное от таких предпосылок
социологическое рассуждение о месте религии в современном обществе
выглядело бы совсем иначе, описывались бы другие факты и на другом
языке. Так что в этом смысле я остаюсь безнадежным религиозником.
То, что я определяю как переход религии в область ценностей
досуга, лишь отчасти совпадает с тем, что некоторые немецкие теологи
называют «приватизацией религии», о чем я уже упоминал. Суть скорее
не в том, что религия перемещается из публичной сферы в приватную,
а в том. что меняется ее функция внутри публичной жизни.
Celebration of unity гомосексуалистов в либеральной (не без
консервативного оттенка) пресвитерианской общине, лесбиянские и мужские
гомосексуалистские синагоги (все это в США) — тоже явления
публичной жизни. А новые религии и близкие к религии движения, например
224
New Age? Это соединение христианских элементов, астрологии, восточ-
ноазиатских и индейских мотивов под знаком протеста против Нового
времени предлагает новый стиль жизни, Simple Living, но все равно:
получается игра внутри большой реальности. Вот так и у нас любители
литературной мифологии Толкина создают свои клубы, и
функционально они не отличаются от религиозных объединений.
«Хотя со времени распада коммунистического мира ясно
обнаружилось, что прогноз, согласно которому «религия» со временем будет
заменена «наукой», ошибочен и представляет собой заблуждение,
свойственное позднему Просвещению и атеизму, возрождение классических
религий и их традиций не наступило. Вместо этого возникла «новая
религиозность», противопоставившая себя традиционным религиозным системам»
(Theologische Realenzyklopädie. Bd.XXIV, В., N.Y., 1994, 299, Peter Gerlitz).
С моей точки зрения, это означает следующее: спрос на игровую
духовность растет, соответственно растет и предложение. Говоря
«игровая», я имею в виду «относящаяся к сфере досуга» или «альтернативная
по отношению к общей реальности». И я допускаю, что «игра» может
иметь серьезные последствия для личности ее участника.
Изменение разрядного значения религии выразилось еще и в том,
что язык религии и теологии перестал быть общезначимым. Фома Ак-
винский и даже Лютер писали о том, что затрагивало всех
образованных людей. Но уже Шлейермахер вел речи о религии «среди
образованных людей, презирающих ее». Карл Барт, величайший теолог-догматик
XX века, обращался заведомо к сравнительно узкой аудитории, которая
интересовалась протестантской теологией. В его эпоху у религии уже не
было общезначимого слова.
Возьмем, к примеру, повсеместно ведущиеся дискуссии о смертной
казни. Если ее противник говорит, обращаясь к широкой публике
через средства массовой информации: «Смертная казнь недопустима, ибо
жизнь человеку дал Творец, и человек не вправе отнять ее ни у себя, ни
у других», или (еще хуже): «Христос умер за всех, и за этих
преступников тоже», — то такие аргументы действуют отчуждающе на всех
неверующих (говорящий позволяет себе не замечать их) и на часть
верующих (они понимают, что это фальшивая нота). И ведь действительно,
существуют доводы против смертной казни, более убедительные, чем
эти теологические аргументы.
Выходит, у христианства нет своего слова для мира. Старинные
притязания христианства понять мир лучше, чем он сам себя
понимает, и предложить ему нечто, чем он сам по себе не обладает, — все
это развеялось.
Так я возвращаюсь к «христианскому в христианстве».
Меня не устраивает и «философская вера», противопоставленная
«вере в откровение». Философская вера (К. Ясперс) — это
мировоззрение, в центре которого представление о божестве как о гаранте смысла
и разумности моей жизни. «Но видит Бог, есть музыка над нами...» У
Паскаля, как известно «Бог Авраама, Исаака и Иакова» противостоит
«Богу философов и ученых». Но я вдруг замечаю, что христианская
религиозность может и вовсе обойтись без Бога. Бог нужен для
конечного утверждения справедливости и для детских надежд на загробное не-
15 Заказ 257 225
что, но в некоторых видах христианской религиозности важнее всего
Иисус, — помимо всякого Бога.
Но, может быть, у нас еще осталось атавистическое представление о
христианстве как о средоточии всего высокого и прекрасного? В
январе 1997 г. я познакомился с новой книгой известного немецкого ново-
заветника Герда Людемана «Несвященное в Священном Писании.
Другая сторона Библии». Несвященное — это прежде всего геноцид
коренного населения Ханаана, притязания евреев на избранность Богом, а
также антииудаизм Нового Завета. Истинно вдохновляющее и
потенциальная основа церкви — образ Иисуса, созданный в результате истори-
ко-критической реконструкции. Людеман обещает нам еще одну
книгу об Иисусе. Ее источники — те 15 процентов слов Иисуса, которые
автор считает истинными. Все высокое и прекрасное сосредоточено в
этих пятнадцати процентах.
Итак, остается образ Иисуса, по сути своей отличный от других
образов положительных героев мировой литературы. Сократ «Апологии»
Платона, князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского или доктор Живаго
соответствуют прежде всего авторскому идеалу, а здесь, получается, мы
должны заменить автора (если мы профессиональные новозаветники)
или принять чужую реконструкцию. Выходит как-то запутанно и
неправдоподобно. Иисус как положительный герой Марка или Иоанна
нас уже не устраивает, мы уже не можем войти в какое-либо
осмысленное отношение с ним, в то время как с Сократом Платона возможно
отождествление.
Действительно, что-то было: прошел пророк, возбудивший и
поразивший современников. Затем происходит почти мгновенная
мифологизация его образа. Но почему мы думаем, что свет исходит от этих
«настоящих» искорок, а не от целостных образов, продуктов творчества
церкви и евангелистов?
Если мы не считаем Библию обязывающим нас Священным
Писанием, а просто собранием литературных памятников, то нам не нужно
продумывать неинтересные вопросы о ее безнравственных страницах
(это чисто богословская постановка вопроса, нас она не касается), о
том, как нейтрализовать новозаветный антииудаизм и т.п. И тогда,
наверное, проще считать Иисуса целиком артефактом раннего
христианства, а евангелиста Марка — великим писателем. Опять получается, что
недостижимое «бывшее-на-самом-деле» вовсе не так уж важно.
Определяет интеллектуальную историю и наше мышление то, к чему
вполне можно прикоснуться: наличные литературные памятники и
традиция их истолкования. В нашем случае: культура реального
христианства, которому свойственно стремиться к своим мифическим истокам.
В самом деле: разве мы можем сказать, что Франциск Ассизский
«неправильно» понял образ Иисуса? Мы оба знаем примеры
подлинного «следования за Христом», не обусловленные предварительным
литературоведческим и историческим анализом. Похоже, что только такие
примеры и дает нам история.
Вот что получается: обратимся ли мы к историческому изучению
Нового Завета или к достижениям современной философской теологии, нам
захочется в итоге представить себе демистифицированное христианство, а
226
это уже известный вопрос Бонхёффера: как возможно «безрелигиозное»
христианство? Бонхёффер мыслил категориями диалектической теологии,
противопоставившей принципиально хорошее христианство
принципиально плохой религии (так у раннего Барта). В сущности «безрелигиозное»
у Бонхёффера и значит «демистифицированное», освобожденное и от
толщи религиозной культуры, и от супранатурализма.
При первом чтении тюремных писем Бонхёффера я переживал этот
вопрос о безрелигиозном христианстве как затяжной прыжок с
парашютом, который может еще и не раскрыться. Так получилось, что
Бонхёффер успел задать вопрос, в полной готовности разработать в ответ
программу «безрелигиозного толкования библейских понятий», но его
ответ нам неизвестен (может, он и существовал, как знать).
Но опять же: Бонхёффер был насквозь религиозным человеком, его
сформировало лютеранское благочестие, и в своих письмах из Тегеля
он обращался к другому религиозному человеку. А если ответ, — как я
думаю, — отрицателен? Безрелигиозное христианство никак
невозможно, затяжной прыжок — иллюзия, потому что глубины нет и высоты
нет. Мы просто покидаем пространство религиозной культуры,
прыгаем со сцены на пол и вдруг оказываемся на одном уровне с публикой.
(Я, может быть, запутался в метафорах, но суть дела — иллюзорность
глубины, das Rätsel gibt es nicht, «загадки нет»). Общезначимой
оказывается именно политическая позиция Бонхёффера, либерального
консерватора и немецкого патриота.
Вспомним знаменитый тезис Бонхёффера про mündig gewordene Welt,
«повзрослевший мир». «Взросление» соответствует у него нашему понятию
о Новом времени. А христианство? А другие классические религии? Они
способны к «взрослению»? Да, но именно в смысле приспособления к
«современности», то есть так, как я это здесь пытаюсь описать.
Вот я нахально заявляю: «глубины нет и высоты нет». Истинно
религиозный человек возразил бы мне (если бы снизошел), что
настоящим евреем можно стать, лишь обогатив память знанием всех богатств,
которые накопила религиозная мысль Израиля и, конечно, лишь
приобретя опыт соблюдения всех 613 заповедей. — Да, конечно. Но я бы
попросил этого религиозного человека попытаться поверить, что эти
богатства и этот опыт обозримы качественно и поэтому в какой-то мере
доступны и мне. Например, я знаю, какую радость дает жизнь в ритме
литургического года. И так можно долго перечислять: открытие того,
что священные книги и традиция способны отвечать на новые
вопросы; сознание того, что через тебя проходит связь времен в сообществе
избранных; уверенность в присутствии собеседника...
И теперь: как же может выглядеть сообщество людей, объединенных
приязнью к образу Иисуса? — Бонхёффер писал, что в повзрослевшем
мире христиане пока что могут проявить себя как христиане лишь
добрыми делами и молитвой. И я всегда понимал так, что речь у
Бонхёффера идет об индивидуальной молитве. Публичная молитва, если это не
рецитация традиционного и потому нейтрального литургического
текста, часто и даже обычно оказывается формой паренезы или индоктри-
нации. Прагматика авторской публичной молитвы такова, что ее
адресат на самом деле не Бог, а собрание молящихся: они узнают от автора
15* 227
молитвы (особенно если это лидер), каково здесь и теперь (в этой
общине) правильное христианское отношение к текущим делам,
упоминаемым (хочется сказать «рассматриваемым») в молитвенных
прошениях. Фиктивность адресата может подорвать у некоторых участников
доверие к «чистоте» правил игры. Поэтому публичная молитва не
годится в качестве проявления христианской жизни. Или не так резко: я уже
не могу в ней участвовать и знаю, что некоторые другие люди
разделяют это отношение.
На память приходит голос Бёллевского клоуна из уже далекого 1963
года:
Они молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем,
ужасно программному: «... и молим Тебя научить нас равно воздавать и
традициям старины, и новым веяниям», и так далее, и только потом перешли к
«теме» вечера: «Бедность в нашем обществе».
На это Вы можете возразить, что настоящее место паренезы — в
проповеди, а не в молитве. Но опять же: нормальные, неущербные
взрослые люди вообще,как я надеюсь, не испытывают потребности в
том, чтобы их поучали, то есть воспитывали, снабжали моральными
или метафизическими директивами, так же как и сами они не
испытывают потребности воспитывать других взрослых людей. Ведь жанр
проповеди предполагает монологическое слово, обращенное сверху вниз
(как бы это ни смягчалось в практике либерального протестантизма).
Ситуация проповеди в сегодняшнем мире — либо игровая (игра в
дочки-матери), что соответствовало бы моему главному тезису, либо эта
ситуация свидетельствует о социальном неблагополучии. Проповеднику
требуется некоторое ... хочется сказать «нахальство». Вот если бы
после проповеди были возможны вопросы и выступления... Тогда это был
бы нормальный доклад с обсуждением, — не специфически
христианский, но вполне безупречный речевой жанр.
И напоследок — еще одно соображение о разной природе
светского гуманизма и всех известных нам изводов христианства как главной
религии западной цивилизации, в которой и возник гуманизм.
Либеральный гуманизм в идеальном виде — это чистая потенция,
это допущение любых содержаний, лишь бы они не исключали
возможности взаимного сосуществования. В этом смысле гуманизм
противостоит теологически окрашенной морали, то есть всем этическим
системам, санкционированным единой Истиной. (Ср. ненависть Фридриха
Ницше к «теологам».) Гуманизм формален, у него нет
содержательного пафоса, которого взыскуем мы, религиозные люди. Перефразируя
формулу утилитаризма, можно сказать, что гуманизм ищет
максимального удобства для максимального числа людей. Вопрос задается о
формальных условиях возможности этого удобства, пафос «служения
людям» для гуманизма необязателен. В экстремальных (неблагоприятных
для человека) ситуациях гуманизм может приобретать религиозные
обертоны жертвенности, но не в этом его субстанция.
Если этот бессодержательный гуманизм возьмет верх, то «одной
иллюзии» (Фрейд) обеспечено будущее.
Гёттинген, январь 1997 г.
228
Евреи и христиане после Катастрофы
/
Национальная идея и христианство
Опыт в двух частях
*
1 .Христианство после Освенцима
ынешнее культивирование агрессивного национализма и
антисемитизма в русском обществе, приведшее к исходу
евреев из России и обещающее множество серьезных
последствий в будущем, чаще всего рассматривают в чисто
политическом контексте. Если привлекается историческое
измерение, то это, как правило, наша собственная история — то, что лежит
под рукой: русская националистическая мысль XIX-XX вв., русская
имперская государственность последних трех веков, десять веков
русского христианства и т.п. Мы всегда увлекались историософской
проблематикой, и в этой области написано столько, что сегодня автор, пы-
*_*
тающиися при анализе антисемитизма опереться на некоторое
понимание русской истории, оказывается как бы на митинге, где каждый
пытается перекричать всех и никто никого не слушает. Ведь у каждого
автора уже есть мнение о евреях, о св. равноапостольном князе
Владимире, о причинах русской революции, церковного раскола XVII в., о
русской идее, о Достоевском, о Ленине, об истоках и смысле русского
коммунизма, об истинной сути православия и о многом другом.
Как мне кажется, для разговора о русском национализме в XX веке,
в частности о месте православия и антисемитизма внутри этого
феномена, могла бы пригодиться и точка зрения, находящаяся вне
плоскости привычных политических и историософских дискуссий. Я хочу
предложить такую точку зрения — в надежде, что она окажется
полезной читателю в его размышлениях на эти темы.
* * *
Многие, вероятно, согласятся, что одно из главных изобретений XX века
это лагеря массового уничтожения, что он войдет в историю как век
ГУЛАГа и Освенцима. Меня, христианина и историка христианской
мысли новейшего периода, профессионально интересуют существующие
попытки теологического осмысления этого подлинно нового явления.
*«
Октябрь», № 10, с. 148-160. - М., 1990
231
В таком случае читатель вправе ждать рассказа об осмыслении
православным богословием ГУЛАГа и всего, что стоит за этим словом, он
будет ожидать размышлений на тему «русское христианство после
ГУЛАГа». Но православного осмысления ГУЛАГа нет. Православного
богословия после ГУЛАГа нет, просто потому что и христианского богословия на
русском языке сейчас нет.
Остается Освенцим. Я надеюсь показать, что некоторые смысловые
позиции, найденные в этой области западной христианской мыслью,
могут стать важными и для нас.
I
В западной ( прежде всего в американской и немецкой)
теологической литературе слово «Освенцим» — одно из обозначений геноцида
европейского еврейства в годы господства национал-социализма.
Евреи называют это событие Катастрофой, или еврейским словом
«Шоа», т.е. «несчастье», «разрушение». Но чаще всего
употребляется слово «Голокауст», что по-гречески значит «всесожжение». Это
слово из древнегреческого перевода еврейской Библии, им
обозначается такое жертвоприношение, при котором тело жертвенного
животного сжигалось целиком.
Смысл библейской метафоры прозрачен. Писатель Жан Амери,
спасенный из лагеря уничтожения и всю жизнь затем пытавшийся
справиться с «необходимостью и невозможностью быть евреем» (борьба эта
кончилась самоубийством 17 октября 1978 г.), так сказал об этом: «Все
арийские узники, хотя и оказались в одной пропасти с нами, евреями,
стояли выше, более того, были отделены от нас расстоянием в
несколько световых лет... Еврей был жертвенным животным. Ему предстояло
испить чашу до последней, горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до
меня и дошло, что значит быть евреем»1.
Что такое «христианство после Освенцима»? Какой смысл имеет
тема Освенцима в современной христианской теологии? Первый
подход к этой теме можно сформулировать так: «Евреев уничтожали не
христиане, а нацисты и их пособники (хотя в большинстве они были
крещеными и воспитывались в христианской среде, а некоторые
продолжали считать себя членами Церкви). Но ответственность за то, что
это стало возможным, лежит и на христианах».
Какого рода ответственность имеется в виду? В 1946 г. известный
немецкий философ Карл Ясперс опубликовал книгу «Проблема вины»,
в которой говорилось о «немецкой вине», т.е. о вине немецкого
народа за преступления против человечества, совершенные
национал-социалистами. Эта книга стала значительным явлением в духовной жизни
послевоенной Германии. Подобной постановки вопроса ожидаешь и
здесь, в разговоре о «христианстве после Освенцима». Но на самом деле
речь идет не о «немецкой вине», перенесенной в область религии и
теологии, а о чем-то более фундаментальном. В современной
христианской (причем не только немецкой) теологии обсуждается главным
образом не морально-политическая ответственность христиан за Голока-
232
уст, а вопрос о смысле собственно «христианского» после Катастрофы,
вопрос о содержательном ядре христианства перед лицом Голокауста.
Философ и теолог Пауль Тиллих (1886-1965), один из наиболее
значительных творцов христианской мысли нашего века, сказал, что
христианин сейчас «не может присоединиться к хору тех, кто живет в мире
неопровергнутых утверждений»2. Тиллих имел в виду не Катастрофу, а
современный кризис доверия ко всем наличным мировоззренческим
системам, в том числе и к христианству. Однако словами Тиллиха
можно выразить исходную смысловую установку теологии после Освенцима:
сейчас, после Катастрофы, христианин больше не может жить «в мире
неопровергнутых утверждений».
Почему геноцид евреев вызвал у христиан кризис доверия к
содержанию собственной веры? Мы будем говорить об этом подробно. Но
сразу замечу: западное христианство сегодня было бы мертвой
идеологией, если бы этот кризис, пусть с большим опозданием, всё же не
начался. Самые первые попытки христианского осмысления Голокауста
относятся к концу 60-х годов. Так что мы обсуждаем направление
христианской мысли, которое начинает развиваться на наших глазах. Еще
в 1968 г. еврейский философ Эмиль Факенхайм с полным правом
говорил: «Нееврейский мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней,
но также и потому, что эта тема подразумевает вину — реальную или
воображаемую — за случившееся»3.
Исторически я бы выделил здесь три этапа продвижения в глубину
проблематики.
1. Признание морально-политической ответственности церквей за
Катастрофу. Речь идет о том, что уже после прихода Гитлера к власти
церкви — протестантская и католическая, европейские и американские
— могли бы выступить в защиту евреев, но не сделали этого. Такое
признание собственной ответственности содержится, например, в
«Резолюции об обновлении отношений между христианами и евреями», принятой
Рейнландским (земельным) синодом немецких протестантов в 1980 г.4
Заметим, что подобное признание отсутствует в Nostra aetate, знаменитом
документе Второго Ватиканского собора (1965 г.) об отношении като- .
лической церкви к евреям.
2. Христианские теологи начали исследовать многовековой
церковный антииудаизм как один из источников современного
расистского антисемитизма. Долгая история церковной вражды к евреям
стала теперь приобретать новый, зловещий смысл. Например,
правила IV Латеранского собора (1215 г.) относительно режима, каторый
должен был быть создан для евреев внутри христианского общества,
оказались сравнимыми с нацистским расовым законодательством.
Собор даже постановил, что евреи должны носить отличительные
знаки на одежде, как прокаженные или проститутки. Это
предвосхитило предписание от 1 сентября 1941 г., согласно которому евреи на
контролируемой Рейхом территории должны были нашить на
одежду желтые шестиконечные звезды.
Христиане начали замечать голоса свидетелей, переживших Голока-
уст. Тут следует хотя бы упомянуть имя Эли Визеля, подростком
попавшего в Освенцим. Эли Визель стал всемирно известным писателем, ла-
уреатом Нобелевской премии мира, «вестником для всего
человечества», как сказал о нем известный христианский теолог Роберт Мака-
фи Браун, написавший книгу о его творчестве5. Для христиан,
начавших понимать, о чем идет речь, стали важны также голоса еврейских
философов, теологов и историков, писавших о Голокаусте. Поэтому и
мы будем прислушиваться к ним.
Черты сходства между раннехристианским и средневековым
каноническим правом, с одной стороны, и нацистским законодательством,
с другой, подробно разобрал историк Катастрофы Рауль Хилберг в
своем фундаментальном труде «Уничтожение европейских евреев». По
мнению Хилберга, нацистское «окончательное решение еврейского
вопроса» следует рассматривать в преемственности с христианским
преследованием евреев. Хилберг выделяет три типа антиеврейской
политики, следовавшие один за другим начиная с IV в. н.э. — с тех пор
как христианство стало государственной религией в Римской империи:
обращение в христианство, изгнание (в том числе изгнание в гетто) и
уничтожение. «Христианские миссионеры, — пишет Хилберг, —
говорили нам, в сущности, следующее: вы не имеете права жить среди нас
как евреи. Пришедшие им на смену светские правители провозгласили:
вы не имеете права жить среди нас. Наконец, немецкие нацисты
постановили: вы не имеете права жить... Таким образом, этот процесс
начался с попытки насильно обратить евреев в христианство. Развитием
этого процесса стало изгнание преследуемых. И в конце этого процесса
евреев обрекли на смерть. Следовательно, нацисты не отбросили
прошлое; они основывались на нем. Не они начали этот процесс, они лишь
завершили его»6.
На этом этапе христианские теологи впервые задумываются над
темой «антииудаизм в Новом Завете». Они обнаруживают юдофобский
потенциал Нового Завета, — потенциал, который сполна реализовался
в истории Церкви. Чуть дальше я попробую объяснить, на чем
основываются эти непривычные для русского культурного сознания
представления.
3. От Нового Завета естествен переход к самому глубокому пласту —
к смысловому центру христианства, к христологии — христианскому
учению об Иисусе из Назарета как о Мессии (Христе) и Сыне Божьем,
и к вытекающему отсюда универсальному притязанию христианства.
*
Внутренние закономерности размышлений над всеми этими новыми
вопросами привели некоторых теологов к убеждению, что после
Освенцима и смысловой центр христианской догматики должен выглядеть
по-иному.
Конечно, для такого осмысления требуется честность и готовность
к мучительным усилиям по пересмотру всей традиции. Я бы сказал, что
для последовательного теологического продумывания Катастрофы
христианам требуется известное мужество — мужество задать вопрос об
основах собственного мировоззрения.
Неизбежность поворота в христианской мысли очень точно выразил
в 1979 г. немецкий лютеранский теолог Фридрих-Вильгельм Марк-
вардт: «Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над нашим
христианством, над прошлым и нынешним образом нашего христианско-
234
го бытия, и более того — если смотреть глазами жертв Освенцима — он
надвигается на нас как суд над самим христианством. И еще: Освенцим
надвигается на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна
измениться не только наша жизнь, но и сама наша вера. Результатом
осмысления Освенцима должны стать не только этические, но и вероучитель-
ные последствия. Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали
Слово Божье совсем не так, как нам передали его наши теологические
учителя и проповедники старших поколений. Это покаяние-обращение
затрагивает сущность христианства, как мы понимали ее до сих пор»7.
II
Чтобы разобраться, почему сами западные христиане пришли к мысли
о необходимости таких изменений, и чтобы лучше увидеть, что
именно предполагается изменить, я предлагаю вместе перечитать текст,
недавно ставший широко доступным и многим, вероятно,
запомнившийся — статью H.A. Бердяева «Христианство и антисемитизм». Надо
иметь в виду, что эта работа Бердяева не относится к числу его
малоизвестных или забытых произведений; напротив, ее всегда знали
специалисты, ее переводили на иностранные языки. Политическая
ориентация опубликовавших ее «Дружбы народов» и «Огонька» позволяет
предположить, что эти журналы решили использовать произведение
одного из самых уважаемых русских философов как «старое, но грозное
оружие» в борьбе с растущим антисемитизмом, культивирование которо-
U
го стало исходным пунктом также и наших рассуждении.
Это эссе Бердяева о религиозной судьбе еврейства — таков его
подзаголовок — позволит нам увидеть «прошлый образ нашего
христианского бытия» (Ф.-В.Марквардт), т.е. некоторые важные для нас аспекты
той теологии, с которой в эпоху Освенцима входили даже наиболее
чуткие христианские мыслители. Бердяев написал это эссе в начале 1938 г.
как опыт христианского ответа на расистский антисемитизм немецких
нацистов. В то время он уже был философом с европейским именем.
Но наш разговор — о западном христианстве, и мы могли бы
рассмотреть известные работы крупнейших западных теологов,
написанные в то же время и с той же целью — дать христианское обоснование
борьбе с нацистским антисемитизмом. Однако идеи, занимающие нас
сейчас, одинаково отчетливо выражены и у этих теологов, и у
Бердяева: ведь речь идет об идейном наследии, общем для разных
христианских традиций, а также для либералов и консерваторов внутри каждой
традиции.
Тем важнее для нас обратиться именно к работе Бердяева.
Историк христианской мысли, читающий этот текст сейчас, в
эпоху после Освенцима, когда начался еврейско-христианский диалог, в
котором христиане пытаются смотреть на себя глазами жертв
Освенцима (Ф.-В. Марквардт) и учатся слушать голоса евреев, — историк
отметит у Бердяева как автора трактата о религиозной судьбе еврейства
прежде всего отсутствие интереса к реальной истории евреев. Не то
чтобы Бердяев не знал еврейской истории и еврейской мысли. Он ссыла-
235
ется на Франца Розенцвайга и Мартина Бубера, на еврейского историка
середины XIX в. Сальвадора, написавшего жизнеописание Иисуса из
Назарета, на некоторые эпизоды из истории евреев последних
двадцати веков. Но история евреев — «то, что произошло на самом деле» — не
становится у Бердяева предметом осмысления, потому что ее место у
нашего философа заняла их религиозная судьба, которая при ближайшем
рассмотрении оказывается интерпретацией истории евреев, с
необходимостью следующей из христианского учения.
Так, в начале статьи Бердяева мы встречаем положение, на котором
автор основывается как на чем-то самоочевидном: «Евреи народ
особой, исключительной религиозной судьбы, избранный народ Божий и
этим определяется трагизм их исторической судьбы. Избранный народ
Божий, из которого вышел Мессия и который отверг Мессию, не
может иметь исторической судьбы, похожей на судьбу других народов»8.
Я не предлагаю читателю подумать о том, какой смысл приобрели
бы эти благочестивые слова о закономерном трагизме еврейской
судьбы, если бы они прозвучали на краю киевского Бабьего Яра через три
года после их написания — в последние дни сентября 1941 г., когда в Яр
легли десятки тысяч киевских евреев, земляков Бердяева, который
первые 24 года своей жизни провел в Киеве. Не предлагаю потому, что
никакого нового смысла они бы не приобрели: «историческая судьба»
евреев, на которую их обрекли христианские народы, в Бабьем Яре
просто продолжалась. Гитлеровцы были не первыми, кто устроил массовое
уничтожение евреев на Украине. Их предшественником был Богдан
Хмельницкий, один из самых страшных злодеев в исторической памя-
и
ти еврейского народа.
Задумаемся лучше над тем, какое теологическое обоснование дает
Бердяев этой судьбе: «Избранный народ Божий ... отверг Мессию».
Принимая это положение, Бердяев развивает тему о христианском
антисемитизме: «Религиозный антисемитизм есть в сущности
антииудаизм и антиталмудизм. Христианская религия действительно враждебна
еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос
не был признан ожидаемым евреями Мессией. Иудаизм до Христа и
иудаизм после Христа — явления духовно различные»9. Все эти
классические постулаты теологического антисемитизма Бердяев тоже
принимает и идет дальше. Он соглашается — после недолгого колебания — и
с известным обвинением евреев в богоубийстве, и с представлением о
том, что евреи в своей истории несут за это проклятие:
«Еврейский народ сам себя проклял, он согласился на то, чтобы
кровь Христа была на нем и на его детях. Он принял на себя
ответственность... Таково обвинение. Но ведь евреи же первые и признали
Христа. Апостолы были евреи... Еврейский народ кричал «распни, распни
Его». Но все народы имеют непреодолимую склонность распинать
своих пророков, учителей и великих людей... И не только евреи распяли
Христа. Христиане или называвшие себя христианами в течение долгой
истории своими делами распинали Христа, распинали и своим
антисемитизмом...»10.
Тут Бердяев повторяет древнюю клевету на евреев, которая имеет к
исторической истине такое же отношение, как и кровавый навет, т.е.
236
обвинение евреев в ритуальных убийствах иноверцев, которое в
Средние века часто было предлогом для массовых гонений на евреев.
В самом деле, что значат слова «евреи отвергли Христа»? Легко
убедиться в том, что отвержение Христа, т.е. сознательное непризнание
евреями Иисуса из Назарета своим Мессией, относится не к истории
еврейского народа, а к истории христианского вероучения. Принято
считать, что Иисус был распят по приговору римского префекта Иудеи
в 30 г. I в. общепринятого летоисчисления. Его последователи в
Палестине, христианская первообщина, состоявшая из соблюдавших Тору
евреев, была немногочисленной и воспринимались теми, кто знал о ее
существовании, как часть фарисейского движения. (Об этом
свидетельствует историк Иосиф Флавий.) Середина I в. в Палестине
характеризуется растущей политической напряженностью, партизанской борьбой
зелотов (сторонников «священной войны» против Рима) с римской ок-
и *> и
купациеи, частой сменой римских наместников и зависимых от римлян
правителей из дома Ирода, обилием религиозно-политических партий
и течений, появлением мессианских претендентов, одним из которых,
вероятно, был и Иисус из Назарета. В целом страна медленно
сползала к Великому Восстанию 66-73 гг. Поражение востания, разрушение
Храма, утрата народом последних остатков
национально-государственного устройства, гибель и продажа в рабство сотен тысяч палестинских
\j \j
евреев, — все это стало началом новой эпохи в истории еврейского
народа.
Если учесть, что этот период (до Восстания) был отмечен бурным
расцветом религиозного многообразия в еврейской общине, что резко
<j KJ
отличает «ранний иудаизм» той эпохи от классического иудаизма,
начавшего формироваться после поражения антиримского восстания, то
можно сказать: с тонки зрения историка Иисус и его последователи, так
же как, например, Иоанн Креститель и его последователи, — одна из
групп внутри еврейского общества эпохи раннего иудаизма. Поэтому
повторяемое Бердяевым положение о том, что «еврейский народ отверг
Мессию», не имеет исторического смысла. В истории еврейского
народа такого события просто не было.
Я не буду отвлекать внимание читателя сведениями об истории
евреев конца I и II-III веков, это уведет нас слишком далеко от нашей
главной темы, «Христианство после Освенцима». Упомяну лишь о том,
что незадолго до 120 г., когда существовала опасность полного запрета
практиковать еврейскую религию, когда против римлян восстала
диаспора и назревало новое восстание в Палестине, синедрион отлучил
евреев-христиан от общины как ненадежных членов (еврейский источник
называет их «доносчиками» и «еретиками»). Это решение, впрочем,
было одинаково маловажным как для еврейской общины, так и для
Церкви, в которой тогда уже давно преобладали христиане из
язычников и которая практически не заметила этого решения (ведь
соблюдавшие Тору христиане еврейского происхождения были «еретиками» и с
точки зрения Церкви). Важно здесь то, что Церковь на очень раннем
этапе эллинизировалась и пополняла свои ряды за счет обращения
язычников, так что в реальной истории II-III веков еврейская и
христианская общины не очень сильно соприкасались между собой.
237
Впервые в истории евреи как община получили шанс «отвергнуть
Иисуса Христа» лишь после того, как христианство стало в IV веке
государственной религией в империи и Церковь, опираясь на мощь
государства, начала ограничивать евреев в правах, принуждая их к
крещению. Это та самая ситуация, которую я уже описывал словами Рауля
Хилберга.
Но самую зловещую роль в истории христианских гонений на евреев
сыграло принимаемое Бердяевым обвинение евреев в том, что они
«распяли Христа» и теперь несут на себе проклятие, коллективную
ответственность за то, что стало называться преступлением «богоубий-
ства». Чудовищные последствия теологической идеи о проклятии
таковы, что после Голокауста даже католическая церковь пришла к
необходимости отмежеваться от этой идеи в упомянутой декларации (1965 г.)
Второго Ватиканского собора:
«Хотя еврейские руководители со своими сторонниками
потребовали смерти Христа (Евангелие Иоанна, XIX, 6), тем не менее то, что
произошло в Его страстях, не может быть вменено в вину ни всем без
различия евреям, жившим в то время, ни современному еврейству. И хотя
Церковь — это новый народ Божий, не следует считать, что евреи
отвергнуты и прокляты Богом, как если бы это вытекало из Священного
Писания»11.
Это с трудом выдавленное из себя Собором полупризнание поможет
нам понять, как возникла идея о том, что «евреи отвергли Христа», и
как возникло представление о богоубийстве и проклятии.
Конечно, наше Священное Писание, Новый Завет, содержит
начатки учения, согласно которому «евреи отвергнуты и прокляты Богом».
Авторы Декларации лукавят. Интереснее другое: соборная Декларация
*j tj
ясно указывает на то, что это учение связано с другой теологической
идеей, тоже восходящей к Новому Завету, — с концепцией Церкви как
«нового народа Божьего», или нового Израиля.
-ч
Связь этих двух комплексов идей объясняет значительную часть
новозаветного антииудаизма и возникшей на его основе христианской
юдофобии.
Давайте подумаем: что могла значить для судьбы евреев новозаветная
идея Церкви как нового избранного народа Божьего, нового Израиля?
Только одно: устранение «старого Израиля» из истории как
сыгравшего свою роль источника единственно-верного учения. Поэтому
христиане назвали еврейские Писания «Ветхим Заветом», т.е. утратившим
силу законом, противопоставляя его содержание «Новому Завету», т.е.
спасительному откровению Бога во Христе, новому божественному
tj
декрету, отменившему старый.
Идея «нового Израиля» подразумевает христианскую версию истории
спасения, — версию, которая начала формироваться уже в посланиях
апостола Павла (напр., Послание к Римлянам, IX-XI) и в евангелии
Луки. Здесь дается ответ на вопрос: как бывшие язычники стали новым
избранным народом? Так как понятие избранного народа и идея
истории спасения заимствованы христианами из еврейской Библии, то и
ответ на этот вопрос должен был включать упоминание о «старом»
избранном народе.
238
Этот ответ можно резюмировать примерно так: Бог совершил
спасительное деяние, послав людям своего Сына, который «вочеловечил-
ся» как член народа Божьего — Израиля. Явление Христа — решающее
событие истории спасения, т.е. истории того, что произошло между
Богом и людьми. Предварительным этапом истории спасения, на
котором шла подготовка к этому событию, была история отношений
между Богом и Израилем, описанная в Ветхом Завете. Каждый человек,
согласившийся с истинностью вести о спасении во Христе и
выполнивший определенные условия, становился членом общины «спасенных»,
т.е. христианской Церкви.
В обычной, несвященной истории этому соответствовал тот факт,
что Церковь за пределами Палестины почти с самого начала
пополнялась главным образом за счет язычников, эллинизированного
населения Империи, духовные потребности которых удовлетворялись
христианским учением, а оно, в свою очередь, уже со времен Павла (50-е годы
I века) в своем развитии ориентировалось именно на эллинистический
мир.
Таково происхождение исходных постулатов христианского
антисемитизма, согласно которым «евреи отвергли Христа, распяли Его и
несут за это вечное проклятие».
Христиане узурпировали еврейскую идею истории спасения,
которая в качестве сакральной истории охватывала не только все прошлое
от сотворения Адама, но и все будущее — до Последних дней, когда Бог
положит конец миру; они вытеснили Израиль из этой истории,
заместив его Церковью и оставив евреям место лишь в прошлом. Заодно
христиане присвоили и всю еврейскую Библию в качестве первой части
христианского Священного Писания, истолковав ее по-новому — как
собрание пророчеств о Христе.
Однако настоящий, т.е. «старый» Израиль был все еще жив, и
ранней Церкви пока что приходилось мириться с этим фактом, давая
ему теологическую интерпретацию, с новозаветными истоками
которой мы познакомились. Так возник миф о дурных евреях, отвергших
Спасителя и распявших его. Но спасительным событием стала
считаться сама смерть Иисуса, толкуемая христианами из язычников как
искупительное жертвоприношение Сына Божьего. И здесь
появляется самая зловещая сторона мифа о дурных евреях: в христианском
сознании они стали служителями дьявола и врагами Бога,
намеренно умертвившими Спасителя и тем самым — помимо воли —
ставшими орудиями Провидения. Евреям, к их несчастью, досталась
функционально важная роль в христианском мифе. Так в евангелии
Матфея мы находим представление о Церкви как о подлинном
Израиле, по отношению к которому сбываются обетования Ветхого
Завета, а также пароль христианского антисемитизма: «Весь народ
сказал: пусть кровь Его будет на нас и на наших детях» (27:25). Что
же касается евангелия Иоанна, то в нем есть текст, ставший
ключевым для христианского варианта идеи жидо-масонского заговора:
«Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желания отца вашего»
(8:44). У Иоанна «иудеи» вообще и «фарисеи» в особенности —
символ неверия и духовной слепоты.
239
I
Теперь мы можем понять, что значат процитированные выше
суждения Бердяева, в частности, такое: «Иудаизм до Христа и иудаизм
после Христа — явления духовно различные». Ясно также, почему у
Бердяева еврейское сознание времен возникновения христианства
характеризуется как «закостенелое», хотя историческая оценка была бы
противоположной: это сознание было очень подвижным и быстро развивалось.
Наш философ просто воспроизводит общие места христианского
учения, отрицавшего положительную ценность иудаизма в «христианскую»
эпоху. Исторические сведения не подтверждают это учение, и поэтому
история не играет заметной роли в бердяевской концепции
«религиозной судьбы еврейства».
В последней части своего эссе Бердяев спрашивает: «Разрешим ли
еврейский вопрос в пределах истории?». Четкого ответа в эссе нет, но
теперь читатель легко догадается, какой исход кажется Бердяеву
наиболее приемлемым: конечно, обращение евреев в христианство. Вот что
он пишет: «Мы живем в эпоху не только зверского антисемитизма, но
и все увеличивающегося количества обращений евреев в христианство...
Религиозные антисемиты могут видеть единственное разрешение
еврейского вопроса в обращении еврейского народа в христианство. В
этом с моей точки зрения есть большая правда»12. Дальнейшие
рассуждения сводятся к тому, что, в отличие от христиан-антисемитов,
Бердяев настаивает на строгом соблюдении принципа добровольности в этом
деле и не считает «естественным погром... при несогласии евреев
обратиться»13.
Константин Леонтьев назвал христианство Льва Толстого и Федора
Достоевского «розовым». Религиозные убеждения Николая Бердяева на
основании этого эссе можно было бы охарактеризовать как
«христианство с человеческим лицом», т.е. «приверженность традиции минус
погром». Эта позиция подкрепляется у Бердяева фразами, которые теперь
воспринимаются как нестерпимая псевдоблагочестивая фальшь: «Для
обращения евреев в христианство очень важно, чтобы сами христиане
обратились в христианство, т.е. стали христианами не формальными, а
реальными»14.
Чем же аргументируется высказанное в эссе убеждение Бердяева,
согласно которому христианство на самом деле несовместимо с
антисемитизмом, а «антисемитизм неизбежно должен выявить свою
антихристианскую природу»? Бердяев приводит два доказательства. Одно из
них внешнее: германский расизм «имеет совершенно не христианские
корни». Имеется в виду исторический факт сдержанного отношения
национал-социалистов к христианству. Собственно христианское
доказательство сводится к напоминанию о еврейских корнях христианства.
Мы уже видели, что анализ «еврейских корней» помогает объяснить
характер христианской юдофобии. Но доводом против антисемитизма это
напоминание может служить только на эмоциональном уровне, вроде
восклицаний о еврействе Марии, Иисуса и апостолов, с которых
начинается статья. История показывает полную неэффективность таких
доводов и ссылок на «общее наследие»: к сожалению, они никогда еще не
помогали.
Разумеется, к предпосылкам рассуждений Бердяева относится пред-
240
ставление о христианстве как о квинтэссенции всего высокого и
прекрасного. Это представление обнаруживается в многочисленных
пышных сентенциях вроде следующих: «Ненавидящие и распинающие не
могут быть названы христианами, сколько бы они ни били поклонов...
Христианам прежде всего подобает защищать правду... Именно
христианам подобает защищать достоинство человека, ценность человеческого
лица, независимо от расы...»15.
Может, это и так. Однако Бердяеву, видимо, не приходилось думать
о том, что еврей, член общины веры Израиля, может оказаться
религиозно важен для него, Бердяева, именно благодаря своему еврейству, а
не как потенциальный выкрест.
Заканчивая разбор этого текста, я бы хотел заверить читателя, что не
стремился создать у него неблагоприятное мнение о H.A. Бердяева. Как
и многие мои сверстники, выросшие в нерелигиозной среде, я в свое
время именно из книг Бердяева почерпнул свои первые сведения о
христианстве и всегда буду благодарен их автору.
* * *
Ведь, повторяю, речь идет об общем достоянии христианской теологии,
— о том, что казалось самоочевидным до Освенцима. Скажем,
величайший из русских философов В.С.Соловьев, известный своей
юдофилией, обладавший огромными знаниями в области истории евреев и
талмудической литературы, специально выступавший в защиту Талмуда от
антисемитских наветов, разделял тем не менее все те общие места,
которые мы рассмотрели на примере эссе Бердяева. Дело в том, что
после Голокауста начал меняться сам язык теологии.
Ссылка на русских христианских писателей в связи с нашей
темой важна еще и потому, что «Освенцим» для нас не должен быть
просто именем-шифром, вызывающим в сознании образ ГУЛАГа.
Создание таких культурных ассоциативных связей и само по себе
было бы гнусным делом, так как каждая невинная жертва
уникальна и не должна становиться поводом для политических спекуляций.
Кроме того, мы не имеем права противопоставить Освенцим ГУЛА-
Гу по признаку «чужое-своё». Ведь значительная часть Голокауста
происходила на территории нашей страны. Из шести миллионов
евреев, умерщвленных во время Голокауста, полтора миллиона были
гражданами СССР в старых (до 1939 г.) границах. Гитлеровцы не
смогли бы сделать этого без помощи коренного населения. Так же
как и во всех оккупированных странах, судьба евреев часто бывала в
руках национального большинства. Каждый знает, как датчане
спасли практически всех своих евреев. Гораздо меньше известно у нас о
том, что коренное население оккупированных нацистами территорий
СССР активно участвовало в уничтожении евреев. А ведь историки
знают даже о погромах, которые местное население устраивало
после ухода Красной армии идо вступления гитлеровцев16. А в Израиле
известны и имена «праведников народов мира»17 из нашей страны, —
тех, кто спасал евреев в годы Катастрофы.
16 Заказ 257 241
Ill
До сих пор я пытался хотя бы отчасти прояснить следующее: почему во
время Голокауста церкви не выступили в защиту евреев; почему после Го-
локауста христиане не могут жить «в мире неопровергнутых утверждений»,
в том числе и догматических утверждений об Иисусе из Назарета; почему
у западных теологов возникла мысль о том, что осмысление Голокауста
должно иметь для христиан вероучительные последствия.
Теперь мы обратимся к содержанию «теологии-после-Освенцима».
Вот что говорит о возможных направлениях пересмотра, обращаясь к
христианам, еврейский теолог Эмиль Факенхайм: «Соответствует ли
изменение в христианском отношении к евреям по своей радикальности тому,
что после Освенцима стало категорическим императивом? Церковному
христианству легче всего отбросить древнее обвинение в богоубийстве,
труднее — увидеть корни антисемитизма в Новом Завете, но самое
трудное для него — признать тот факт, что евреи и еврейская вера всё еще
живы. Сохранение еврейства после прихода христианства оказалось
неудобным обстоятельством для теологов, они стали воспринимать иудаизм
как некое ископаемое, анахронизм, тень... Нелегко признать, что и евреи
и еврейская вера прошли несломленными через целую эру христианства»18.
Мнение Факенхайма согласуется с тем, что мы отметили при разборе
статьи Бердяева. И теперь мы можем взглянуть на дело шире. Ведь речь
идет не о хирургическом лечении «больного» христианства путем
отсечения негодных элементов учения и не о безоговорочной капитуляции, т. е.
не о признании христианской веры чем-то порочным, более не способным
распрямить человека. Нет, речь идет об ориентации в мире, где уже не
осталось неопровергнутых утверждений. Стало быть, тут возникает
творческая задача обновления самых основ христианской идентичности.
Вот что писал о прежней христианской идентичности, рухнувшей
после Катастрофы, христианский историк Роберт Эриксен:
«Христианство настолько смешалось с целым набором культурных факторов, что
его уже невозможно извлечь в чистом виде. Христианство — это
немецкая культура. Христианство — это нравственность среднего класса.
Христианство — это уважение к власти. Христианство за закон и
порядок. Христианство на стороне «положительных» социальных групп в их
борьбе против анархии. Именно в подобных воззрениях причина того,
что очень многие христиане приняли национал-социалистическое
движение за религиозное возрождение»19.
Таким образом, необходима новая концепция отношений между
Церковью и государством, новое осмысление связи между
«христианским» и «национальным», и самое главное — новая постановка
вопроса о религиозной истине. То, что христианство «до Освенцима» было
неспособно признать самостоятельную ценность иудаизма, его
самодостаточность, мы должны истолковать как указание на центральное
место нового понятия о религиозной истине в
«теологии-после-Освенцима». Речь идет о содержании христианского кредо и о связанном с ним
вопросе об универсальном притязании христианства на выражение
полноты истины, о его притязании исключить или ограничить истинность
других религий и мировоззрений.
242
Мы вернемся к этому вопросу после краткой характеристики
проблематики «христианское и национальное». В теологии культуры «до
Освенцима» господствовал следующий постулат: христианство составляет
ценностный стержень национальной культуры. Национальная культура обладает
ценностью в той мере, в какой она — христианская культура.
В более вульгарном варианте это соотношение меняется на
обратное, и христианство воспринимается как часть национальной
культуры. А на практическом уровне эти концепции сливаются, они
неразличимы, и мы можем наблюдать «национально-религиозные движения».
И здесь «теология-после-Освенцима» приходит к выводу о том, что
несостоятельность христианства в нацистской Германии перед лицом
Голокауста поставила под вопрос самоё возможность совмещения
«христианского» с «национальным».
* * *
И теперь, воспользовавшись процитированными словами Роберта Эрик-
сена, я сформулирую центральный для рассматриваемого теологического
направления вопрос: как могло бы выглядеть после Голокауста
«христианство, извлеченное в чистом виде»? Размышления над тем, что называют
«теологией после Освенцима», подводят к следующему выводу: это было
бы христианство, выработавшее собственную политическую культуру, не
зависящую от характера политических режимов; христианство,
отказавшееся от всякой опоры на национальные ценности и традиции; наконец,
христианство, релятивировавшее собственное притязание на причастность
к абсолютной истине и изменившее вытекающие из этого притязания
миссионерские установки. Как мы видели, последнее дается с
наибольшим трудом. Известный католический теолог Иоганн-Баптист Метц
спрашивает в этой связи: «Готово ли и способно ли христианство — и если да,
то в какой мере — признать мессианскую традицию иудаизма в ее
неотчуждаемой самобытности, признать ее продолжающееся мессианское
достоинство — и при этом не предавать и не унижать содержащуюся в
христианстве хр и отологическую тайну?»20
Я бы сформулировал этот вопрос в более общем виде: как можно с
последней серьезностью относиться к своей истине — и с такой же
серьезностью принимать существование «чужих» истин? Может ли
плюрализм значить нечто большее, чем способ мирного сосуществования в
мировоззренчески расколотом мире? Возможно ли, чтобы плюрализм
стал положительной ценностью в самом христианстве, т.е.
христианской ценностью?
IV
Но для ответа на этот вопрос я должен обратиться к понятию веры. Если
вера — это согласие с истинностью ряда утверждений, то она, конечно,
несовместима с сомнением, которое подразумевается при серьезном
отношении к чужим взглядам. Как говорится в таких случаях, сомнение
16* 243
разрушает веру. Если же мы, вслед за Паулем Тиллихом, определим
веру как захваченностъ тем, что касается меня безусловно («захвачен-
ность» в смысле «плененность»), т.е. поймем веру как способ
существования, то сомнение станет необходимым элементом такой веры. Если
вера как безусловная отдача («захваченность») связана с риском (это
утверждение привычно для многих традиций христианского
благочестия), то, как говорит П.Тиллих, «сомнение верующего — это сомнение
человека, захваченного предельным устремлением, имеющим конкретное
содержание»21. Это экзистенциальное сомнение, отличное от
методологического сомнения ученого и догматического сомнения скептика. Вера как
безусловная отдача включает в себя и сомнение. Сомнение оказывается
структурным элементом веры, а не психическим состоянием.
И я хотел бы показать, что связанное с этими размышлениями над
«теологией-после-Освенцима» понятие веры, отрицающей собственные
универсальные притязания, и, конечно, соответствующее такому
понятию веры понятие о БОГЕ, — более «благочестиво», чем
абсолютистское и «неплюралистическое» понятие веры. Ведь легко понять, что вера,
включающая риск и сомнение в свою структуру, подразумевает более
«возвышенного», более «божественного» Бога, чем вера, живущая «в
мире неопровергнутых утверждений». В самом деле, вера, лишенная
элементов риска и мужества, утрачивает характер веры и приобретает
черты единственно-верной идеологии. Здесь происходит
неблагочестивое умаление Бога, низведение Его на положение идола.
Чтобы пояснить мое представление о плюрализме как о собственно
христианской ценности, я обращусь к традиционному в западной
теологической мысли различению «последнего» и «предпоследнего».
Вполне достоверна (не вызывает сомнения, не связана с риском) лишь
безусловность Безусловного, — реальность, которая дана мне столь же
непосредственно, как мое собственное «я» (т.е. охваченность тем, что
касается меня безусловно). Это область «последнего». Но принятие
конкретного содержания этого безусловного — акт мужества,
связанный с риском.
Христианин может сказать: Иисус из Назарета стал для меня
содержанием моего «последнего», содержанием того, что касается меня
безусловно. В нем, в Иисусе из Назарета, Бог открыл мне все
необходимое для того, чтобы моя жизнь наполнилась смыслом. Апостол Павел
в Гал 2:21 пишет: «А если оправдание можно получить с помощью
Закона, то Христос умер напрасно». (Кстати, это классическое выражение
абсолютного притязания христианства!) Так и для меня смысл
Радостной Вести (Евангелия) выражается в похожем условном периоде: «Если
я не беру на себя определенную ответственность, если я уклоняюсь от
нее, — то Христос умер напрасно», Сейчас я попробую пояснить, что
это значит.
Есть слова, которые в нашем сознании связаны с именем
немецкого мистика XVII в. Иоганна Шеффлера (Силезского Ангела): «Если нет
меня, то и Бога нет». Эти слова встречаются в мистических традициях
разных религий. Мистик пытается выразить свой опыт: бытие Бога в
каком-то смысле «зависит» от бытия человека. А в Британской
энциклопедии, в статье «Философская антропология», я неожиданно нашел
244
слова, с другой стороны касающиеся того же предмета: «Удивительное
соответствие есть между темами смерти Бога и смерти человека.
(«Теология смерти Бога» была популярна на Западе в 60-е годы. — С.Л.)
Кажется, что это соответствие выявляет глубинную взаимосвязь между
теологией и антропологией... Если в прошлом мысль стремилась
прежде всего доказать бытие Бога, то главная трудность для современной
мысли — доказать бытие человека»22. ( Я думаю, не нужно подробно
объяснять, что вопрос «о бытии человека» возникает в мире, где был
Освенцим.)
Так и в моем понимании Вести: в Иисусе Бог уже сделал все, что
зависело от Него. А теперь смысл жизни и смерти Иисуса зависит от
меня. Если я не беру на себя то бремя следования за Иисусом, о
котором говорит Новый Завет, то он «умер напрасно».
Таков мой опыт восприятия смыслового центра христианской
Вести. И этому соответствует понятие о Боге как о Том, Кто может дать
мне силы взять на себя это бремя.
Конечно, такая теология и такая христология не станут выдвигать
абсолютистское притязание на обладание всей полнотой истины. Я
воспринял эту веру в Церкви, но не могу притязать на то, что и другие
«поверят» в нее. Я даже не испытываю потребности «передать», т.е. как-то
навязать ее.
Мое безусловное и «последнее» не обязывает других. Я не могу
указать им на их путь к «оправданию» и «спасению», я даже не могу знать,
определяется ли для них смысл их жизни с Богом в этих терминах или
в каких-то других. И здесь открывается пространство для христианского
плюрализма.
2. Русское православие и новый патриотизм
В первой части этой работы мы говорили об осмыслении западными
христианами Голокауста, геноцида европейского еврейства, и в этой
связи — о специфике христианского отношения к «еврейскому
вопросу». Я пытался показать, что эта вроде бы частная тема позволяет
увидеть нечто важное в «прошлом и нынешнем образе христианского
бытия» и даже заставляет задуматься о «сущности христианства, как мы
понимали ее до сих пор» (Ф.-В. Марквардт).
Но, конечно, наша главная тревога и отправной пункт всех
рассуждений — рост агрессивного национализма и антисемитизма в русском
обществе.
И здесь тоже еврейская тема только кажется частной. У писателя
Бориса Хазанова есть слова, над которыми стоит задуматься:
«Антисемитизм — это универсальная школа зла». В последнее время
немало говорится о чертах сходства между идеологией русского
национализма и немецким нацизмом. А для национал-социалистов
антисемитизм был чем-то гораздо более важным, чем просто одним из
положений их программы. Как известно, деление человечества на
245
«арийцев» и «неарийцев» (под которыми понимались прежде всего
евреи) составляло стержень их расистской мифологии. Эмиль Фа-
кенхайм пишет: «Евреи в Освенциме были не представителями одной
из низших рас, но скорее прообразом, исходя из которого
определялось само понятие низшая раса. И движение национал-социалистов
достигло успеха лишь тогда, когда стало антиеврейским. И когда все
другие нацистские планы потерпели крушение, осталась одна цель —
уничтожение евреев».
Говоря о сходстве этих двух видов агрессивного национализма, я
предлагаю оставаться на почве исторического подхода к ним и
поэтому вовсе не пытаюсь внушить читателю мысль о том, что они
тождественны . Тот тип национализма, что прочно связан в сегодняшней
политической жизни с названием «Патриотическое объединение
«Память», возник в условиях, лишь отдаленно напоминающих Германию
после Первой мировой войны. И, конечно, броские параллели и
констатация реальных черт сходства не заменят исторического анализа.
Поэтому, основываясь на сказанном ранее и следуя общему плану
первой части этой работы, я попробую кратко изложить свое
понимание «нового патриотизма» (участников движений типа «Памяти» я буду
называть патриотами, используя их самоназвание). Затем — и это
главное для меня — я разберу православные оценки этого движения, —
оценки, которые я считаю типичными. Я надеюсь, что такой подход
позволит нам увидеть некоторые существенные черты современнного
русского православия.
I
Новый патриотизм часто уподобляют черносотенству, — расистскому
национализму протонацистского типа, вышедшему на поверхность
политической жизни России в самом начале XX в. и
активизировавшемуся в период демократических реформ, начавшихся в 1905 г. Затем
русский национализм этого толка развивался в эмиграции, на Дальнем
Востоке даже действовала Руская фашистская партия с центром в
Харбине. Историческая связь между черносотенством и новым
патриотизмом несомненна (например, одно движение получило в наследство от
другого «Протоколы сионских мудрецов»), но черты преемственности
не должны заслонять специфику нового патриотизма.
Попробуем выделить те специфические черты нового патриотизма,
которые обусловлены его возникновением внутри коммунистического
сообщества. Я предлагаю двойное утверждение об этой специфике:
1. Содержание идеологии нового патриотизма черпается главным
образом из расистской мысли, будь то русской, немецкой или
западноевропейской вообще (например, из английских и французских расовых
теорий прошлого века).
2. Структура новой национальной идеологии во многом
определена структурой той коммунистической идеологии, что до недавнего
времени почти безраздельно господствовала в нашей стране.
Последовательно стремясь избежать «крупноблочного» мышле-
246
V
ния, мы должны были бы определить, что здесь понимается под
коммунистическим сообществом и коммунистической идеологией. Но
это сильно увело бы нас в сторону, так как удовлетворительного
определения этих понятий нет, а поэтому я просто выделю те черты
коммунистической идеологии, которые существенны для нашей
темы.
Итак, под структурными характеристиками коммунистической
идеологии здесь имеются в виду тотальность и дуализм. Тотальность — это
притязание идеологии дать ответы на все вопросы человеческого бытия,
охватить собою все, не оставив открытых вопросов. Дуализм — это
четкое определение светлого и темного полюсов, образ социальной
реальности, поляризованный по признаку «свои-чужие», «друзья-враги»,
«прогрессивное человечество — силы реакции».
Можно сказать, что коммунизм в России сформировал ту массовую
политическую культуру, внутри которой возник национализм
«Памяти». Ведь если рассматривать коммунизм и расизм как наукообразные
учения, возникшие в Европе XIX века и ставшие массовыми
идеологиями в XX веке, то надо будет отметить их общую содержательную
особенность: антилиберальный пафос, их общее противостояние
либеральным ценностям.
В новом патриотизме, как и в коммунизме, присутствует
тотальность, отвечающая потребности в простом и всеохватывающем
истолковании социального опыта. Что касается дуализма, то новейший
национализм считает темным полюсом, источником всех зол,
«сионистов», составивших заговор с целью захвата власти над всем миром.
Пожалуй, теперь уже всерьез, а не эвфемистически, говорят именно о
«сионистском» заговоре, а не просто о «еврейском» или «жидо-масонс-
ком». В том, что именно «сионизм» стал ключевым словом для
обозначения врага в идеологии нового патриотизма, сказалось и влияние
официальной антисионистской пропаганды, влияние созданного ею
мифического образа сионизма.
Итак, мы видим, что и для новейшего русского национализма
«еврейский вопрос» — не частность. Расистский антисемитизм в форме
антисионистского мифа и здесь составляет самый центр программы.
Можно сказать и так: антисемитизм остается единственным языком
национализма.
Вспоминается известный афоризм Гегеля из введения к его
«Философии истории»: «Единственный практический урок истории
заключается в том, что она никогда никого ничему не научила».
Конечно, хотелось бы надеяться, что история тем не менее научит
чему-то и сторонников «нового патриотизма». Но нас, простых людей,
обывателей, не горящих любовью ни к одному «изму», история
Освенцима и история ГУЛАГа должна была бы научить тому, что самое
страшное в человеконенавистнических идеологиях — это деление
реальности на Абсолютное Добро и Абсолютное Зло, отождествление Зла
с каким-либо человеческим сообществом и вытекающее отсюда
«окончательное решение» проблемы Зла, попытка уничтожения тех людей, на
которых идеология указала как на носителей Зла, на воплощение
темного полюса.
247
II
Передо мной два текста, авторы которых стремятся дать критический
анализ агрессивного русского национализма с православной точки
зрения. Это статья Глеба Анищенко «Кто виноват?» (журнал «Гласность»
№ 15, февраль 1988 г.) и открытое письмо Виктора Аксючица
Владимиру Осипову, редактору журнала «Земля» («Гласность», № 18, апрель
1988). Мы вправе рассматривать две эти работы вместе, так как В.Ак-
сючиц пишет: «В целом мое отношение к «Памяти» совпадает с
мнением моего соиздателя по журналу «Выбор» Глеба Анищенко».
Авторы обоих текстов воспроизводят обсуждавшийся в первой
части этой работы постулат, согласно которому христианство составляет
ценностный стержень национальной культуры, а национальная культура
обладает ценностью в той мере, в какой она — христианская культура.
Мы видели, что после Освенцима в западной христианской мысли этот
постулат был поставлен под вопрос. Более того, в ходе великой
переоценки ценностей, которая началась в эпоху после Освенцима,
христианские теологи усомнились в самой возможности совмещения
«христианского» с «национальным». Но, несмотря на историческую
катастрофу, пережитую нашим народом, подобное по смыслу движение не
возникло в русском христианстве.
По мнению Г. Анищенко, «для утверждения христианского
миропонимания (а это и есть основа русского национального сознания)
необходимо стремиться к положительному, умиротворяющему разрешению
проблем, а не к разжиганию вражды и злобы, не к воспитанию
национальной безответственности». В. Аксючиц считает, что «среди
разрушенного в нашей стране особенно пораженным оказалось
патриотическое сознание, — его десятилетиями выжигали из наших душ. Понятно,
что возрождаться безболезненно оно не может (курсив мой. — С.Л.)...
Долгий процесс нашего оздоровления требует от нас терпения и
терпимости друг к другу, понимания и участия, покаяния и прощения. То
есть того, что стремилось воспитать в нас Русское Православие».
Размышляя над этими опытами христианской критики новейшего
русского национализма, я заметил в них две особенности.
1. Христианский взгляд на проблему неявно отождествляется с
идеологической позицией, которую я бы назвал «классическим
националистическим антикоммунизмом», — идеологией, враждебной по
отношению не только к коммунизму, но и к либерализму. Эта идеология
возникла в первой послереволюционной эмиграции. Её рецепция на
отечественной почве произошла в публицистике Александра
Солженицына, Игоря Шафаревича, Дмитрия Дудко и др. (впервые в
развернутом виде — в сборнике «Из-под глыб», 1974 г., где участвовали первые
двое из названных авторов). Православие составляет ее необходимый
компонент: «безбожник» не может стать полноценным
антикоммунистом в смысле этой идеологии.
В сознании многих политизированных православных младшего
поколения этот националистически^ антикомунизм приобрел почти
канонический авторитет. В 1986 г. автор одного из ответов на самиздат-
сткую анкету о современном православии (см. Вестник Русского Хри-
248
стианского Движения. — Париж, 1987. — № 149) советовал
сомневающимся «почаще перечитывать великолепную «Образованщину»
Солженицына, а еще лучше — выучить ее наизусть».
Г.Анищенко исходит из самоочевидного для него «факта, что
параллельно с духовным уничтожением русской нации шел другой процесс:
формирование русофобии». «Я не буду, — говорит он, —
останавливаться на анализе русофобии: он дан в работах А. Солженицына «Наши
плюралисты» и И. Шафаревича «Русофобия». Добавлю только, что Ак-
сючиц в статье «Из глубины» весьма точно показал органическую связь
коммунизмофилии с русофобией».
Таким образом, те сторонники идеологии националистического
антикоммунизма, для личной идентичности которых важнее всего их
принадлежность к Русской Православной Церкви (среди них — издатели
журнала русской христианской культуры «Выбор» В. Аксючиц и Г. Ани-
щенко), исходят в своих оценках «нового патриотизма» из ряда
политических и историософских утверждений, истинности которых сами
они, судя по всему, уже не проверяли. Эти утверждения принимаются
на веру и, следовательно, теперь уже считаются частью русской
христианской культуры.
2. Мировоззрение христианских критиков агрессивного
национализма имеет немало общего с идеологией, ставшей объектом их
критики. Г. Анищенко пишет: «Если соборность, лишенная религиозной
основы, превращается в стадность, то точно так же «всемирная
отзывчивость», оторванная от православных корней, создает предпосылки для
коммунистического «интернационализма» и космополитизма. Процесс
кастрации русского национального сознания шел все эти 70 лет».
Такой, считает Г. Анищенко, должна быть точка зрения подлинного
христианина, которому русская культура дорога лишь потому, что она, по
мнению того же автора, «основана на высшей истине — христианских
идеалах». Г. Анищенко признает: «Память поставила вопрос о
разрушении русской культуры довольно радикально и правдиво».
Ту же оценку «новому патриотизму» дает В. Аксючиц: «Меня радует,
что в «Памяти» впервые во весь голос заговорили о многих
животрепещущих наших проблемах... Я считаю, что в определенных кругах столичной
интеллигенции бытуют сильно преувеличенные представления об
опасностях, исходящих от общества «Память». В.Аксючиц упрекает авторов
воззвания «Памяти» от 8 декабря 1987 г. в том, что они «не хотят доходить до
некоторых выводов из предлагаемых ими же посылок».
* * *
Итак, «Память» и ее православных критиков объединяет любовь к
русской культуре и стремление «восстановить национальное
самосознание». Г. Анищенко и В. Аксючиц упрекают идеологов «Памяти» в
недостаточном антикоммунизме и в неправильном понимании
христианства. Г. Анищенко поясняет: «История показала, что культуру народа не
спасут отреставрированные храмы, могут даже не спасти и те, где идет
служба. Самосознание нации зависит от того духа, который царит в хра-
74Q
ме. Единственный антипод существующей идеологии — Христианство.
Если бы удалось изъять из русской культуры христианский стержень, то
она перестала бы приходить в прямое противоречие с
коммунистическими идеалами».
* * *
Все это напоминает мне один эпизод из истории христианской
апологетики, едва ли известный русскому читателю. В октябре 1930 г.
Альфред Розенберг опубликовал антихристианскую, антилиберальную и
антиеврейскую книгу «Миф XX века». В январе 1934 г. Адольф Гитлер
назначил Розенберга своим «уполномоченным по идеологической
работе в партии». Из работы частного лица «Миф XX века» превратился
почти что в официальное выражение нацистской идеологии. И тогда
теологи Германской евангелической (лютеранской) церкви
почувствовали себя обязанными дать ответ на «Миф» Розенберга. Так появились
книги Вальтера Кюннета «Ответ на Миф: решение в пользу
нордического мифа или библейского Христа», «Миф й Евангелие» Рудольфа Го-
мана, «Евангелический ответ на Миф XX века Розенберга» Генриха
Гюфмайера и др. Вот почему я вспомнил про них: сегодняшний
читатель этих критических по отношению к нацистсткой мифологии
сочинений, написанных в середине тридцатых годов, тоже заметит прежде
всего черты сходства в позициях евангелических теологов и
критикуемого ими Розенберга. Так, В. Кюннет доказывает, что христианин
понимает немецкие национальные и расовые ценности глубже, чем
Розенберг: лишь христианское Откровение позволяет познать Расу, Народ
и Государство как порядки сотворенного бытия, укорененные в
охранительной воле Бога. Согласно «Мифу XX века», германская раса
извечно противостоит тлетворному влиянию еврейской «противорасы».
Оспаривая с христианских позиций расистские суждения Розенберга о
Ветхом Завете, В. Кюннет добавляет: тлетворность современного
«мирового еврейства» — следствие проклятия, тяготеющего над евреями
после того, как они распяли Христа. Розенберг же, отвергая
христианство, не может постичь этот глубочайший источник описанной им
расовой вражды.
В середине тридцатых годов немецкие теологи еще не понимали, что
национал-социализм — это тотальная идеология (в предложенном
выше смысле этого термина) и поэтому ее языком пользоваться нельзя:
на нем можно выразить лишь смыслы, принадлежащие этой идеологии.
Это непонимание объясняется историко-культурными причинами:
упомянутое изначальное сходство позиций (а точнее, общность ряда
принимаемых на веру утверждений) не позволяло христианским
оппонентам Розенберга найти точку зрения, необходимую для
последовательной и глубокой критики национал-социализма. Такая точка зрения
должна быть внеположна объекту критики, т.е. находиться если не
«вверху», то хотя бы где-нибудь «сбоку». А евангелические христиане
ощущали себя в ту пору внутри бурного подъема национальной жизни.
Выходит, что тогдашнее (первой половины 30-х годов) непонимание
250
того, что христианская церковь не вправе заигрывать с «национальной
идеей», исторически объяснимо. Как писал Карл Барт, величайший
протестантский теолог нашего века и последовательный враг нацизма,
«в Германии было много причин выступить именно за это новое
сочетание (христианства с национальной идеей. — С.Л.). Особенно
благоприятным оно было для немецкого лютеранства... Оно могло предстать
могучим потоком, в котором соединятся разные до сих пор разделенные
струи немецкой церковной истории... Казалось, оно поднимет севший
на мель корабль церкви и, как приливная волна, наконец-то вынесет
его в открытое море национальной жизни».
Это заблуждение так же объяснимо, как объяснима разобранная
нами неудачная попытка Бердяева противостоять расистскому
антисемитизму, используя традиционный христианский образ иудаизма и
евреев.
Но ведь катастрофы нашего века как раз и выявили несочетаемость
тех взглядов и идеологий, которые раньше казались сочетаемыми (это,
относится, например, к «союзу» либеральной традиции с
национализмом: на таком сочетании были основаны многие политические учения
XIX века). Произошло великое разделение в мире идей. Очевидными
истинами стали мысли, которые раньше были мнением
незначительного меньшинства. И наоборот, стало невозможным повторить то, что
раньше воспринималось как общее место. Католический теолог И.-Б.
Метц пишет: «Я даю своим студентам вроде бы простой, но весьма
жесткий критерий оценки теологических систем. Спросите себя: могла ли
теология, которую вы учите, оставаться одинаковой до и после
Освенцима. Если да — то держитесь от нее подальше!».
Теперь такого рода непонимание стало непростительным.
III
Однако это разделение, прояснение и очищение не затронуло нас.
Именно поэтому новейшие православные ответы на
человеконенавистнический миф русского национализма обнаруживают отсутствие
тонки зрения, которая была бы адекватна задаче настоящего
критического анализа. Православная критика не может охватить свой предмет в
целом, ей не хватает глубины: ведь, как мы уже видели, у нее нет
собственной смысловой позиции. В нашем случае это значит, что у нее нет
самостоятельно выработанного понимания христианства, —
понимания, вобравшего в себя опыт нашей исторической катастрофы;
понимания, вышедшего из размышлений о том, почему в 1917 году «не спасли те
храмы, где шла служба», т.е. почему русское православие оказалось
несостоятельным перед лицом большевизма, почему Русская Православная
Церковь не справилась с делом духовного руководства народом.
Беда не только в том, что авторы разбираемых работ, как и многие
другие современные православные писатели, не могут и не хотят
разделить христианское и национальное, не только в том, что они, как
кажется, считают классикой современной христианской мысли «Русофобию»
И.Р. Шафаревича, содержащую новую редакцию мифа о всемирном
251
ч
еврейском заговоре и о русском народе как о жертве этого заговора (как
мы видели, это основополагающий миф «нового патриотизма»). Хуже
то, что неизменной осталась культурная матрица, порождающая
подобные высказывания: образ нашего христианского бытия остался прежним
(Ф.-В. Марквардт).
Русское православие продолжает жить «в мире неопровергнутых
утверждений», который рухнул под ударами истории XX века. Задача
очищения, т.е. критического анализа традиции, вообще не поставлена.
Напротив, усилия направлены как раз на сохранение целостности
православной традиции, все элементы которой признаются ценными и
важными. Поэтому сегодня в России возрождается то самое православие,
которое не выдержало испытания и во многих отношениях уже
проявило свою несостоятельность.
Я думаю, что наше православное христианство утратило характер
Евангелия, т.е. радостной вести, «хорошей новости». Взамен оно стало
«стержнем русской культуры». Плоть этого нашего православия
соткана переплетением своеобразных политических, национальных и
духовных устремлений. Произошло нечто очень простое: после того как
новые типы самопонимания (например, «коммунистический
интернационализм») потерпели крушение, стали возвращаться оттесненные было
прежние формы массового сознания: «религиозное» и «национальное».
За идеалом не пришлось далеко ходить: он лежал под рукой и готовый
к употреблению. Но степень закрытости, непроницаемости этого
идеала (вернее, этой идеологии) обнаруживается лишь постепенно в
«живом религиозном опыте», о котором у нас всегда так сладостно писали
и говорили. «Религиозное» и «национальное» внутри нашего
православия слились до такой степени, что «выделить христианскую основу в
чистом виде» (вспомним слова Р. Эриксена, процитированные в первой
части) невозможно, да никто к этому и не стремится.
* * *
Естественно, что такое православие не дает настоящей опоры для
противостояния расистскому антисемитизму «новых патриотов». В
самом деле, мифотворческий национализм голосит: «Сионизм перешел в
открытое наступление на патриотический фронт!» («Обращение»
Совета патриотического объединения «Память» от 1 февраля 1988 г.). А Глеб
Анищенко поясняет, что «предлагаемый Памятью ответ на вопрос «Кто
виноват?» — вовсе не фикция, тут в основе лежит реальнейший и
серьезнейший вопрос — проблема драматических (если не трагических)
отношений между русским и еврейским народами в русской истории и в
русской жизни (курсив мой — С.Л.). Но эта же проблема может быть и
питательной средой для возникновения всякого рода паразитических
явлений».
Как это напоминает ответ лютеранского теолога В. Кюннета на миф
о противостоянии арийской и евр.ейской рас «в немецкой истории и в
немецкой жизни»...
Самое большее, чего можно ждать от православных богословов и
252
публицистов в деле противостояния антисемитизму — это
воспроизведения тех утверждений, которыми пользовался и Бердяев:
— христианство вненационально и персоналистично;
— «антисемитизм противен Евангелию Христову, которое
обращено ко всем людям без какой-либо расовой дискриминации» (это слова
из опубликованного в апреле 1990 г. Заявления нескольких русских
православных богословов Зарубежья по поводу роста антисемитизма в
России);
— апостол Павел в Послании к Римлянам дал нормативную
христианскую интерпретацию иудаизма, сосуществующего с Церковью
(избранность евреев не отменена, а временно приостановлена для того,
чтобы дать место язычникам; в конце времен «весь Израиль спасется»);
— не будем говорить о вине евреев в смерти Спасителя, а лучше
подумаем о том, что мы сами ежедневно распинаем Его своими грехами.
Вот всё или почти все, что могут сказать православные,
встревоженные тем, что «некоторые лица и группировки соединяют антисемитизм
с Православием» (из Заявления православных богословов). Это
относится и к недавним полемическим заметкам Зои Крахмальниковой
против «Русофобии» И. Шафаревича.
Мы знаем, что такая теология уже позволила Церкви молчать все те
годы, пока нацисты уничтожали Шесть Миллионов.
Молчит Русская Православная Церковь и сейчас, хотя ее
зарубежные члены знают: «Еще поныне висит над миром ужас уничтожения
евреев во время Второй мировой войны».
Боюсь, что она не нарушит молчания: ей нечего сказать в защиту
евреев.
Апрель 1988, сентябрь 1990
Примечания
1 Цит. по: Metz J.В. Jenseits bürgerlicher Religion: Reden über die Zukunft des
Christentums (München: Kaiser. Grünewald, 1980), c. 35.
2 Tillich P. Systematic theology. Vol.I (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1951), c. 25.
3 FackenheimE.L. Jewish faith and the Holocaust. A fragment. (Commentary, № 8,
1968. -N. Y.),c. 30.
4 Die Erklärung der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland «Zur
Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden (1980).
5 R. McAfee Brown. Elie Wiesel: Messenger to all humanity (Notre Dame, London:
Univ. of Notre Dame Press, 1983). В 1993 г. московское издательство «Олимп»
опубликовало русский перевод автобиографической трилогии Эли Визеля
«Ночь. Рассвет. День.».
6 Hüberg R. The destruction of the European Jews (N.Y.: Harper and Row, 1961),
с 4.
7 Marquardt F.-W. Christsein nach Auschwitz// Freiburger Rundbrief: Beitr. zur
christlich-jüdischen Begegnungen. — 1979. — Jg. 31. — C. 87.
* Бердяев Η. Хриспанство и антисемитизма (Религиозная судьба еврейства). —
Издание религиозно-философской академии. Парижъ (б. г.).
9 Бердяев, цит. соч., с. 8.
253
10 Там же, с. 18.
11 Nostra aetate, 4.
12 Бердяев, цит.соч., с. 27.
13 Там же.
14 Там же, с. 28.
15 Там же.
16 О погромах в Литве см. Dov Levin. On the relations between the Baltic peoples and
their Jewish neighbours before, during and after World War II.// Holocaust and
genocide studies. An international journal. — Oxford, etc., 1990. — Vol. 5, № 1, cc.
53-66. О погроме во Львове см. Redlich S. Metropolitan Andrei Sheptyts'kyi,
Ukrainians and Jews during and after the Holocaust. — Ibidem, cc. 39-51. Об
участии украинцев, литовцев и белорусов в геноциде евреев на территории,
оккупированной нацистами, см. также в фундаментальной монографии Норы Левин
о Голокаусте: Levin Nora. The Holocaust. The destruction of European Jewry 1933-
1945. - N.Y., 1973. - С 247 слл.
17 О «праведниках народов мира» см. ст. «Почва и судьба».
18 Fackenheim, ук. соч., с. 34-35.
19 Ericksen R. Theologians under Hitler: Gerhard Kittel, Paul Althaus and Emanuel
Hirsch. — New Haven, etc., 1985. — P. 46.
20 Metz J.В., ук. соч., с. 36.
21 Tillich Р. Wesen und Wandel des Glaubens. — Frankfurt a. M.-Berlin: Ullstein
Bcher, 1963. - C.30.
22 21. Encyclopaedia Britannica, 15th ed., vol.l, Chicago, etc., 1974 (Anthropology,
Philosophical).
Новый Завет и юдофобия
Когда кончилась война и обнаружились размеры геноцида,
катастрофы европейского еврейства, христиане едва ли не
впервые начали глубоко продумывать христианские корни
антисемитизма.
Берущиеся за эту тему христиане очутились в неприятном
положении. Веками нас приучали к мысли о том, что евреи отвергли и
убили Христа Спасителя и что, стало быть, из самой сути нашей веры
следует некое особое отношение к евреям. Теперь, когда давление
внешних обстоятельств вынуждало Церковь дезавуировать христианский
антисемитизм, ее теологам предстояло доказывать, что антисемитизм
никак не связан со смысловым центром Евангелия, что вражда к
евреям проникла в Церковь в результате действия некоторых исторических
факторов.
Во многих случаях терминологически точнее было бы говорить о
«христианском антииудаизме», но этот термин вводит в заблуждение:
может возникнуть впечатление, будто речь идет о теоретическом
неприятии некоего «изма», а не о воспитании настороженного или
враждебного отношения к живым людям. Поэтому я предпочитаю более ясный
термин «юдофобия».
В понтификат Иоанна XXIII из католического богослужения
Страстной Пятницы были изъяты слова «Oremus et pro perfidis Judaeis»,
«помолимся и за неверных (т.е. неверующих, предателей, вероломных)
иудеев». Вдумаемся: вот как Церковь призывала верных молиться за
узников лагерей уничтожения, за расово-чуждых и к тому же неверных
иудеев. Как известно, это молитвенное прошение отличалось от других
тем, что при нем верующие не преклоняли коленей (12, с. 88 ел.).
Вместе с новым текстом молитвы о евреях было опять введено
коленопреклонение (историко-литургический анализ см. в 12, с. 219-226).
Nostra aetate, Декларация II Ватиканского собора об отношениях
Церкви к нехристианским религиям, провозглашает: «Церковь, осуждающая
всякое гонение против людей, сознающая общее с евреями наследие и
движимая не политическими расчетами, а евангельской любовью,
сожалеет о всех выпавших на долю евреев гонениях, ненависти и проявлениях
антисемитизма, во всякое время и от кого бы они ни исходили».
* «Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки.
Выпуск 3. Христианство и политика». — М., ИНИОН, 1991, с.17 — 99.
255
Nostra aetate, 4 (раздел Декларации, излагающий отношение
Церкви к «роду Авраама») выглядит, впрочем, не как признание Церковью
собственной вины, а как опровержение обвинения в адрес евреев:
«Хотя еврейские руководители со своими сторонниками потребовали
смерти Христа (Ин 19:6), тем не менее то, что произошло в Его
Страстях, не может быть вменено в вину ни всем без различия евреям,
жившим в то время, ни современному еврейству. И хотя Церковь — это
новый народ Божий, не следует считать, что евреи отвергнуты и
прокляты Богом, как если бы это вытекало из Священного Писания».
Такова официальная католическая позиция, развитая и
интерпретированная в 70-80 годы. В 1975 г. Ватикан издал «Руководство по
проведению в жизнь соборной Декларации Nostra aetate», 15 февраля 1985 г.
Иоанн Павел II встретился с делегацией Американского еврейского
комитета. В Обращении к делегатам Папа назвал Nostra aetate
«выражением веры» и «словом Божественной мудрости» (но таково всякое
соборное постановление; эти плеоназмы должны, вероятно, указывать на
намерение Папы всерьез противостоять католическому
антисемитизму). Близкую по смыслу декларацию опубликовал Всемирный совет
церквей на своей I ассамблее в 1948 г. В 70-80 годы об отношениях
между христианами и евреями высказывались и национальные
католические епископаты, а также рейнландский (земельный) синод
Евангелической церкви в Германии.
В соборном документе содержится указание (или, скорее, стыдливо-
прозрачный намек) на некоторые истоки христианского
антисемитизма, но нет анализа этих истоков. Изучение церковных документов
заставляет задуматься о возможностях и границах такого — проводимого
с христианских позиций — анализа. Что касается границы, то в
соборной Декларации она прочерчена четко: Церковь, как и прежде,
ожидает (пусть в неопределенном будущем) массового обращения евреев в
христианство. Следовательно, основа церковного варианта
«окончательного решения еврейского вопроса» остается неизменной, что бы
при этом ни говорилось о «диалоге».
А между тем «после шока гитлеровского Голокауста пробудилась
совесть. Христиане не хотят чувствовать себя виновными в пролитии
еврейской крови. Было сделано немало попыток снять обвинение с
христианства как такового. И антииудаизм в христианстве считается неким
отклонением. Вина возлагается иногда на средневековье, иногда — на
эллинизацию христианства, иногда — на Отцов Церкви. Однако при
этом, как правило, исключается из поля зрения Новый Завет» (9, с. 82).
Так писал в 1975 г. известный еврейский историк Давид Флуссер.
Вернувшись три года спустя к этой теме, он добавил: «Сейчас чуть ли не все
пытаются доказать, что в Новом Завете антииудаизма нет. Я прекрас-
но понимаю скрывающийся за этими усилиями соблазн апологетики. ί
Но ускользнуть от этого вопроса христианам не удастся, если они хо- |
тят добраться до корней зла: ведь в противном случае они не смогут ис- i
целиться (цит. по: 3, с. 68).
И все же за последние два десятилетия появилось немало работ, в ί
которых исследуются новозаветные предпосылки и истоки христиане- !
кой юдофобии. Многие из них написаны христианскими теологами. |
256
Ε
ί
1
Я попытаюсь познакомить русского читателя с некоторыми
направлениями исследования по этой теме. Задача затрудняется тем, что
работы о новозаветном антииудаизме в большинстве своем адресованы
публике, знакомой с основами современного научного понимания
Нового Завета, т.е. предполагает некоторую совокупность знаний, почти
полностью отсутствующих в нашей культуре. Поэтому для первой
ориентации я выбрал опубликованный в 1986 г. доклад английского
ученого Хайама Маккоби «Истоки антисемитизма». Как мне кажется, этот
доклад помогает «войти» в тему, так как X. Маккоби, опираясь на
современные научные исследования Нового Завета, раннего иудаизма и
поздней античности, обращается к вненаучной проблеме, и это
позволяет ему достаточно ясно сформулировать основные религиозные (а
также социальные) вопросы, относящиеся к нашей теме.
Сразу замечу: предлагаемая в этом докладе концепция более
полемична (и, как теперь принято выражаться «провоцирующая»), нежели
научна. К тому же построения Маккоби во многом определены (и
отягощены) психоисторической методикой, научная ценность которой ка-
жется мне сомнительной. «Разбить» эту концепцию нетрудно. Но, быть
может, важнее все же обратиться к более трудной задаче и впервые
осознать сформулированные здесь вопросы именно как вопросы.
Перевод доклада я снабдил обширными примечаниями,
задуманными как научно-популярный комментарий. Такого рода комментарий
необходим уже потому, что доклад Маккоби адресован специалистам:
он был подготовлен для обсуждения на научной конференции,
организованной Нью-Йоркским институтом по изучению Голокауста. В
комментарии широко используются современные зарубежные
исследования проблематики, затронутой в докладе Маккоби.
Маккоби X.
Истоки антисемитизма*
Если определить антисемитизм просто как острую неприязнь к
евреям, сочетающуюся со стремлением видеть в них причину всякого
рода зла, то антисемитизм возник не с христианством: вспомним
хотя бы Манефона, Апиона и Сенеку1. И даже более радикальный
антисемитизм, который считает евреев земными орудиями некоей
космической силы зла, возник не с христианством. Этот синдром
можно наблюдать в гностицизме сифиан2, который, как показывают
новейшие исследования, существовал, по всей видимости, еще до
возникновения христианства. Но христианство послужило руслом,
по которому этот радикальный антисемитизм проник в
средневековый и современный мир. Представление о том, что евреи — народ
дьявола, что им суждено играть зловещую роль в истории, можно
найти в евангелиях (например, Мф 23 и повсюду у Иоанна)3; это
*Науат Maccoby. The Origins of Anti-Semitism//The Origins of the Holocaust:
Christian Anti-Semitism. Ed. by R.D.Braham. — N.Y., 1986, с 1-14.
17 Заказ 257 257
представление было глубоко развито в сочинениях Отцов Церкви, а
затем получило дальнейшую разработку в средневековье.
Современный антисемитизм использовал все возможности, содержащиеся в
этом древнем и средневековом материале.
Возникает вопрос: что в христианстве питает антисемитизм? Что
это: нечто несущественное, не затрагивающее сути христианского
учения, досадное заблуждение — или же это нечто глубокое и
основополагающее? Что такое христианский антисемитизм: результат неверного
понимания христианского учения или существенная часть самого этого
учения?
В последние годы все больше обнаруживается несостоятельность
ответа, на который прежде возлагались большие надежды. Вот этот
ответ: в Новом Завете антисемитизма нет, он возник в Церкви в
результате неверного истолкования Нового Завета. Сейчас серьезные
исследователи в большинстве своем согласны, что антисемитизм
присутствует в Новом Завете, и тогда вопрос принимает следующий вид:
насколько глубоко он укоренен в Новом Завете? Отделим ли он от смыслового
центра новозаветной вести или нет? — На этот вопрос были даны
разные ответы.
Вот ответ, вытекающий из исследований Розмари Рютер.
Новозаветный антисемитизм возник в ходе христианского соперничества с
иудаизмом. Чтобы как-то примириться с дальнейшим существованием
иудаизма в качестве независимой религии, не признающей Иисуса
Мессией, христиане сочли необходимым опорочить иудаизм и,
следовательно, евреев. И тогда был создан выразившийся в некоторых
новозаветных текстах миф о том, что евреи всегда были дурным народом.
Они постоянно отвергали пророков, посылаемых им Богом. Так они
отвергли и Иисуса: это была вершина в ряду отвержений; событие,
происшедшее по уже готовой модели. Пророки Ветхого Завета не
считались при этом ни евреями, ни выразителями иудейской религиозности:
их считали прахристианами, а евреям отводили архетипальную роль
врагов Бога и отступников*.
Этот ответ позволяет надеяться на то, что христианство сможет в
дальнейшем существовать как религия, очищенная от антисемитизма.
Ведь антисемитизм, согласно этому мнению, проникает в христианство
на неглубоком уровне: это результат религиозного соперничества, а не
выражение некоего учения, принадлежащего к сути христианства.
Тогда решение проблемы заключается в признании иудаизма как религии
с самостоятельной ценностью. Исходя из идей Р. Рютер, некоторые
авторы (например, Дж. Гейгер) утверждали, что в Новом Завете (у Павла)
даже существует основа для такого признания. Однако все ученые
школы Р. Рютер согласны с тем, что миф о злом еврействе присутствует в
более поздних книгах Нового Завета, в том числе и в евангелиях, и что
поэтому для дальнейшего существования христианства необходима
принципиальная переоценка части новозаветного материала*.
Я приветствую выводы школы Р. Рютер как значительное продвиже-
* Ruether R. Faith a. fratricide. The theological roots of Anti-Semitism. —
Minneapolis, 1974.
258
ние вперед и освобождение от мнения, согласно которому в самом
Новом Завете нет антисемитизма (это мнение разделяется огромным
большинством даже тех христиан, которые проявляют тревогу по поводу
христианского антисемитизма). Однако я полагаю, что исследование
Р.Рютер останавливается в самом начале пути. Антисемитизм в Новом
Завете укоренен гораздо глубже, чем признает Р.Рютер. Ведь
антисемитизм — не просто побочный продукт религиозного соперничества, а
существенный компонент христианского мифа об искуплении. У евреев
есть своя роль среди dramatis personae в этом мифе, так что они отнюдь
не просто религиозная группа, которую нужно вытеснить или
дискредитировать. Результатом того, что евреям была назначена определенная
роль в этой драме, — роль, обладающая большим
ассоциативно-образным потенциалом, способная глубоко влиять на умы и чувства, —
стало то, что антисемитизм достиг современности и (в секуляризованной
форме) сохранился в таких постхристианских сообществах, как
нацистская Германия и Советская Россия.
Если бы то, что евреи отвергли Иисуса, было решающей причиной
христианского антисемитизма, то не существовало бы качественной
разницы между христианской и мусульманской враждебностью к
евреям: ведь евреи отвергли и Мухаммада. Однако на самом деле эта
разница бросается в глаза. Мусульманская враждебность к евреям — того же
характера, что и мусульманская враждебность к христианам. Она
часто приводила к насилию и гонениям, но дьяволизации евреи в
традиционном исламском мышлении не подвергались. (Впрочем, в самое
последнее время дьяволизация евреев — по политическим причинам —
произошла и в исламе; однако достойно внимания, что материалы для
этого, например кровавый навет и «Протоколы сионских мудрецов»,
заимствовались из христианского мира. В исламской традиции таких
материалов просто нет.)
В христианском же мире евреи подверглись дьяволизации, и это
обусловлено не тем, что евреи отвергли Иисуса, а тем, что евреям была
назначена мифическая роль убийц Иисуса, или богоубийц. Само по
себе убийство еще не привело бы к такой дьяволизации. Например,
легализованное убийство Сократа афинянами не повлекло за собой
последствий такого рода. Но представление (исторически неверное) о том,
что евреи совершили легализованное убийство Иисуса, было
соединено с обожествлением Иисуса, и в результате получилось мифическое
преступление богоубийства. Но даже этого бы недостало, чтобы
породить характерную для антисемитизма смесь брезгливого отвращения с
метафизическим ужасом, если бы смерть Иисуса не была
мифологизирована в качестве космического жертвоприношения, так что евреи
выступают в мифе в роли тех, кто приносит в жертву Бога. Хотя они не
истолковывают Его смерть как жертвоприношение, а действуют,
движимые злым умыслом, тем не менее их действия приводят к необходимой
смерти, которая приобретает значение события, спасительного для
членов христианской Церкви.
Таким образом, в центральном христианском мифе о спасении
евреи выступают в роли, для которой можно подобрать параллели и в
других мифах. Там рядом с богом, приносящим спасение своей смертью,
17* 259
часто присутствует злой бог, причиняющий эту необходимую смерть.
Например, Сет убивает Осириса, Муту — Балу, Локи — Бальдра.
Евангельский Иуда предстает именно в качестве такого носителя
предопределенного зла. Но ведь Иуда — это просто эпонимический
представитель еврейского народа в целом; так его и понимали на протяжении
всей истории христианского антисемитизма. Иуда предает Иисуса
потому, что сатана «входит»5 в него, а сатана — это злое божество, точно
соответствующее Сету, Муту или Локи. Евреи — его земные
служители, они так и считаются «сатанистами». Роль сатаны как устроителя
смерти, составляющей Божественное Жертвоприношение, не имеет
аналогии в иудаизме, так что христианский сатана — это оригинальное
создание христианской мифологии. Аналогии можно найти только в тех
языческих мифах, где в жертву приносится божество.
Мифология вырастает из антропологии, и поэтому мы можем задать
вопрос, каков был тот ритуал, в котором коренились мифы об
умерщвлении доброго бога злым богом. В ответ следует указать на ритуалы
человеческих жертвоприношений. Там, где в решающие моменты
жизни сообщества совершались человеческие жертвоприношения
(особенно при основании города либо когда городу или племени грозила
гибель), вина за кровопролитие часто перекладывалась на человека,
выполнявшего функцию Палача: его проклинали и изгоняли в пустыню,
но он сохранял некоторую неприкосновенность как исполнитель
ритуального действия, спасшего племя. Следы такого ритуала еще заметны
в рассказе о Каине; однако авторам еврейской Библии настолько
претят человеческие жертвоприношения, что ритуальное умерщвление
Авеля было заменено на обычное убийство. И все же в упоминании об
иммунитете Каина сохраняется черта первоначального повествования.
Отцы Церкви, отождествляя евреев с Каином, а Иисуса — с Авелем,
улавливали эти мотивы жертвоприношения в рассказе о Каине и Авеле.
Евреи выполняют функцию Священного Палача для
христианского сообщества, и этим объясняется характерная для
антисемитизма странная смесь отвращения и суеверного страха. После того как
Исполнитель божественного жертвоприношения (т.е. Палач)
проклят и изгнан в пустыню, племя снимает с себя ответственность за
кровавое деяние, принесшее ему спасение. Дело спасения племени
целиком зависит от смерти жертвы, и поэтому племя желает ее
смерти. Но это желание вызывает глубокое чувство вины, которое в виде
ненависти переносится на того, кому было поручено совершить
жертвоприношение. Чем больше племя ненавидит и проклинает Палача,
чем свободнее оно чувствует себя от ответственности за убийство,
устроенное на самом деле им самим.
Итак, от антисемитизма в Новом Завете нельзя избавиться ни с
помощью «дезавуирования» текстов, изображающих евреев как врагов
Бога и отступников, ни посредством увещеваний признать иудаизм как
независимую религию, хотя, конечно, такие меры надо приветствовать.
Тут поможет лишь радикальная критика центрального христианского
мифа о спасении, мифа, ставшего средством переноса вины и
ответственности: главное бремя вины перенесено на самого Иисуса, а
«вторичная» вина, связанная с процедурой жертвоприношения, перенесе-
260 |
г
Ϊ
на на евреев. Следует обратить внимание на следующие темы:
обожествление Иисуса; понятие искупления; евреи как воплощение всего
худшего в человеческой природе или как представители сатаны.
Постхристианские светские изводы антисемитизма должны быть
проанализированы в их соотношении с христианским мифом и рассмотрены как
«рационализации», посредством которых главные элементы этого мифа
получают псевдонаучное обоснование.
Такова вкратце моя точка зрения на антисемитизм как на
феномен, укорененный в религиозном мифе. Теперь я перехожу к более
подробному изложению некоторых аспектов этой темы, с тем чтобы
полнее раскрыть мой тезис и показать его возможности как
программы исследований и просвещения. Я считаю, что в христианском
антисемитизме можно различить три главных элемента. Первый из них
заимствован из гностицизма, второй — из иудаизма и третий — из
мистериальных религий.
Я уже упоминал, что в древнем мире не только христианство считало
евреев орудиями некоей космической силы зла, что в некоторых
гностических сектах это воззрение существовало еще в дохристианские
времена. Есть ли в таком случае историческая преемственность между
гностическим антисемитизмом и христианским? Я полагаю, что есть.
Гностический антисемитизм можно наблюдать, например, в
дохристианском памятнике сифианского гностицизма «Апокалипсис Адама».
Характерным для гностического антисемитизма был миф о том, что мир
создан злым богом, демиургом, который, дав евреям Тору, сделал их
своим избранным народом. Но истинный Высший Бог обеспечил
передачу подлинного гносиса по цепочке посвященных, начинающейся с
Сифа. Отметим, что гностический антисемитизм выбирает из
еврейской Библии нееврейских персонажей (Сифа, Еноха, Мелхиседека) и
наделяет их особой функцией: они хранят и передают знание (гносис),
соперничающее с Торой и превосходящее ее; евреи же низводятся до
положения служителей ложного бога. Поскольку гностицизм черпал
содержательные элементы из еврейской Библии, то иногда
высказывается мнение о еврейском происхождении гностицизма. Но что
касается гностического антисемитизма, то, на мой взгляд, его удастся понять
глубже, если исходить из предположения о том, что он возник в
эллинистической нееврейской среде, в группах, на которые сильное
впечатление произвела еврейская Библия и притязание евреев на
избранность. Однако в качестве реакции они вывернули еврейскую идею
наизнанку, так что в итоге получился антисемитский миф. Перед нами
случай культурного соперничества и зависти. Амбивалентное отношение
любви-ненависти к иудаизму привело к созданию мифа, отражающего
желание вытеснить евреев и занять их привилегированное положение
любимцев Бога, и это же отношение позволило использовать
еврейскую литературу для создания такого мифа6. Оформившись, этот миф
способствует возбуждению агрессивных чувств по отношению к евре-
ям и становится мощным орудием антисемитской пропаганды, которая
— если бы не привлекательность, свойственная широкому
ассоциативно-образному полю мифа, — осталась бы на абстрактном уровне.
Христианский антисемитский миф отчасти представляет собой
261
облегченный вариант гностического антисемитского мифа. Тора
считается не порочной, а лишь ограниченной. Она была дана не
злым богом, а второстепенными сверхъестественными существами,
ангелами7, чтобы стало ясно, что полной истины она не содержит и
действует лишь временно. Мир не был создан злым богом, но попал
под его власть, т.е. под власть сатаны («князя мира сего»)8, а евреи,
продолжая чтить Тору после того, как она утратила силу, стали
любимцами сатаны. Таким образом, христианство несколько
сглаживает дуализм гностического мифа, подает его в умеренной форме, но
при том удерживает антисемитский образ евреев, созданный с
использованием библейских материалов.
Однако другая сторона гностического мифа не сглажена в
христианстве, а, напротив, выпячена. Речь идет о мотиве вытеснения или
«замены». Гностицизм сконструировал себе альтернативную «традицию»,
призванную соперничать с традицией иудаизма: вместо
последовательности еврейских пророков была разработана последовательность
одиноких голосов, носителей гносиса, свидетельствующих о
потустороннем избавлении от скорбей этого мира. Что же касается христианства,
то оно узурпировало материал еврейской традиции с гораздо большим
размахом (анализ этой узурпации и составляет главный вклад Розмари
Рютер в изучение христианского антисемитизма). Христианство при-
и
своило самих еврейских пророков, истолковав их как христиан или
прахристиан. Оно присвоило также величественную историческую
схему иудаизма, его план всемирной истории от сотворения Адама до
Последних Дней. Так христианство приобрело универсализм,
отсутствовавший в гностицизме: там была историческая последовательность
одиночек, но не было понятия об исторической миссии сообщества.
(Впоследствии ислам сходным образом узурпировал как еврейский, так и
христианский материал: Авраам был представлен мусульманином, а в
повествовании об Акеде9 Исаак был заменен Измаилом, предком
арабов). Как доказывает Р. Рютер, такая узурпация образует мощный
источник антисемитизма. Верно, но все же христианская узурпация
еврейской традиции принципиально не отличается от сходного процесса
в исламе, породившего у мусульман антиеврейские и антихристианские
представления. Таков, на мой взгляд, второй элемент в христианском
антисемитизме, элемент, заимствованный из самого иудаизма. Перед
нами усвоение христианством еврейской исторической схемы,
неизбежно ведущее к вытеснению из этой схемы самих евреев.
Следует также отметить, что применявшийся гностиками метод
вытеснения посредством альтернативной традиции знаком и
христианству: он обнаруживается в использовании библейских
персонажей-неевреев (Мелхиседека и Еноха) для того, чтобы доказать существование
нееврейского гносиса, превосходящего Тору10.
Третий и наиболее глубокий антисемитский элемент в христианстве
(я рассматривал его в книге «Священный Палач») заимствован из ми-
стериальных религий. И он гораздо более опасен, чем антисемитизм
гностического типа. В гностическом мифе изображается
последовательность «спасителей», нисходящих в мир и иногда подвергающихся
гонениям со стороны евреев, но этот мотив не становится центральным, ибо
262
главная цель «спасителя» (или «искупителя») — сообщить гносис, а не
погибнуть культово-жертвенной смертью. Христианство же выдвинуло
на первый план мотив насилия. Образ гностического искупителя
слился с образом искупителя из мистериальных религий, где умирающий-
и-воскрешаемый бог наделяет своих почитателей бессмертием именно
посредством своей жертвенной смерти. Сами мистериальные религии
были не антисемитскими, так как функцию Священного Палача в них
выполнял бог-соперник, и никакой человеческой общности не
приписывалась роль его служителей. Существовавшие в рамках гностицизма
антисемитски настроенные секты приписали евреям, вполне
определенной человеческой общности, роль врагов гносиса, но углубить вину
евреев было суждено христианству: оно превратило искупителя в
однократную жертву, в то время как в гностицизме «искупители» — это
приходящие один за другим носители гносиса. Неповторимое своеобразие
христианства состоит именно в этом соединении гностицизма с мисте-
риальной религиозностью, в соединении, породившем антисемитский
миф с беспрецедентными возможностями. Содержательная сторона
мистериальных культов была ограниченной. Гностицизм, напротив,
был универсальной системой, предлагавшей путь спасения для всего
человечества и обращавшейся к conditio humana как таковой. Такой
универсализм (не исторического, а космического типа) наделил евреев
дурным универсализмом: они стали носителями космического зла и
врагами универсального решения человеческих проблем. Христианский
антисемитизм усвоил этот универсализм и добавил к нему еще одно
измерение: представление о единственном искупителе, спасшем
человечество не гносисом, а собственной жертвенной смертью, причиненной
ему силами зла при посредстве евреев.
Каковы же этапы в становлении христианского антисемитского мифа?
Сам Иисус и его первые последователи в Иерусалимской церкви (которую,
по существу, еще нельзя считать церковью) и понятия не имели о каком-
либо антисемитском мифе: ведь они сами были практикующими евреями
и ожидали, что скоро наступит мессианский век, или царство Бога, в
котором евреи будут высокочтимым народом священников для всего мира,
а не космическими злодеями. Иисус, на мой взгляд, вовсе не считал себя
божественным существом. Он считал себя Царем-Мессией, которому
предстоит вернуть евреям независимость и установить на всей земле век
мира, о котором пророчествовали Исайя и Захария. Следовательно, его
врагами были не евреи, а римляне, имперская военная мощь которых
преграждала путь к мессианскому веку мира на всей земле. Иисус не
рассматривал свою смерть как божественное жертвоприношение для искупления
грехов человечества. Его первые последователи-евреи тоже не
истолковывали его смерть в таком смысле.
Первым творцом христианского мифа был Павел: он обожествил
Иисуса и истолковал его смерть как космическое жертвоприношение,
в котором силы зла стремились погубить дело добра, но, против воли,
добились противоположного, т.е. содействовали событию спасения11.
Уже в сочинениях Павла мы находим представление о евреях как о
невольных орудиях спасения, чей злой умысел — добиться смерти
Иисуса — обращается ко благу, ибо именно эта смерть нужна для спасения
263
^
грешного человечества12. Такое сочетание злобы и слепоты имеет
точный аналог в древнескандинавском мифе о Бальдре, где коварный бог
Локи воплощает злобу, слепой бог Хед — слепоту, а вместе они
причиняют Бальдру смерть, которая одна только и может обеспечить хороший
урожай и спасение от голодной смерти13. Так Павел создал
христианский миф, соединив в своем творческом воображении спасение в смысле
мистериальных религий с универсальностью и дуализмом гностиков, а по
ходу дела он создал и космических злодеев, евреев, сохранив при этом
иудейскую схему истории спасения. Все это построение возникает в
результате того, что Павел деполитизирует исторического Иисуса,
лишает Иисуса всех политических признаков, характеризовавших его как
еврея того времени, и превращает его во внеисторический образ, в
пришельца-инопланетянина с чисто духовной миссией, не имеющей
политического измерения. Вильгельм Буссет назвал это «гениальным
ходом», позволившим христианству избежать столкновения с Римом,
который — по смыслу созданного Павлом мифа — уже не был врагом, так
как представлял собой чисто политическую величину. Соответственно,
враги появились на духовном уровне, и этими врагами стали евреи.
Понятно, что такая антиполитическая установка была результатом
хитрого политического маневра: вместо могущественного политического
сообщества, Рима, роль архетипального врага отводилась политически
слабому и побежденному сообществу, евреям. Эта подмена расчистила
путь для установления мирных отношений между паулинистским
христианством и Римом и в итоге способствовала тому, что Рим принял
христианство в качестве официальной религии с центром в самом
Риме, — развязка, которая верному своей традиции еврею Иисусу,
чтившему Иерусалим как духовный центр мира, показалась бы
чудовищной и нелепой.
Миф, эскизно намеченный Павлом, расцвел пышным цветом и
обогатился образностью в евангелиях, которые все были написаны под
влиянием идей Павла и для употребления в паулинистской
христианской Церкви. Здесь мы имеем дело с детально разработанным
мифологическим повествованием, построенным на основе исторических
материалов, которые переделаны так, что в итоге вышел род мелодрамы с
резким противопоставлением добра и зла. Создан впечатляющий образ
Иуды Искариота: это человек, обреченный совершить страшное
злодеяние и даже прямо предназначенный для этого своей жертвой Иисусом.
Иуда одержим сатаной и выполняет свою злодейскую роль по
принуждению, но все же не может избежать участи проклятого. Все это точно
соответствует роли Священного Палача, которому поручают совершить
кровопролитие, а затем подвергают за это проклятию. Иуда
выполняет эту роль на индивидуальном уровне, а еврейский народ — на уровне
сообщества. Еврейский народ делает это, побуждаемый то слепотой, то
злобой, требуя распять Иисуса в кульминационной сцене с Вараввой и
принимая на себя ответственность за жертвоприношение со словами:
«Пусть кровь Его будет на нас и на наших детях!» (Мф 27:25). То, что в
посланиях Павла было лишь наброском мифа, приобрело здесь
определенность и упругую повествовательную форму, стало орудием
культурной индоктринации и источником неизгладимых впечатлений для де-
264
тей, слушающих эту историю. Одновременно много стараний
прилагалось к тому, чтобы снять с римлян всякую ответственность за
происшедшее: их жестокое, грабительское владычество в Иудее
изображается как заботливое отеческое правление, а их главный представитель
Понтий Пилат (он был, как известно, кровожадным и алчным)
действует, согласно евангелиям, из самых лучших побуждений и проявляет
снисходительность. Все, что могло бы характеризовать Иисуса с
политической стороны, тщательно устранено и сгустилось в вымышленной
фигуре его двойника — Иисуса Вараввы14. Таким образом,
ответственность за смерть Иисуса целиком перекладывается на руководителей
еврейской общины. Для этого придуман религиозный конфликт между
Иисусом и фарисеями, а политический конфликт Иисуса с
первосвященником представлен как чисто религиозный15. Истолковав смерть
Иисуса как искупительную жертву в космической борьбе между
силами добра и зла, авторы евангелий отделили Иисуса от всякой
политической реальности и от подлинных обстоятельств его смерти.
Передвинутое на мифологический уровень, это повествование
мифологизировало и евреев.
На протяжении дальнейшей истории Церкви был обстоятельно
разработан миф о евреях-богоубийцах, принесших в жертву
воплотившегося Бога, что привело к еще большей их демонизации. Для завершения
этого процесса потребовалось несколько столетий. Поначалу рядовые
христиане были склонны считать евреев обычными людьми, с
которыми возможны нормальные социальные отношения. Несколько раз
такие социальные отношения запрещались церковными соборами, а
великие христианские проповедники (например, св. Иоанн Златоуст)
осуждали всякие дружеские отношения с евреями и создавали образ
евреев как проклятого народа, с которым не должен общаться ни один
христианин16*. Однако евреи, внутри христианского общества все более
и более загоняемые в положение парий (им запрещалось заниматься
всеми обычными профессиями), все же выполняли некую социальную
роль, точно так же, как они играли необходимую роль в христианской
мифологии. Их роль была подобна роли «неприкасаемых» в индусском
обществе — с той разницей, что «неприкасаемые» выполняют для
общества физически грязную работу, а евреи в христианском сообществе
выполняли нравственно грязную работу, считавшуюся необходимой, но
неподходящей для христиан. Поэтому даже удачно, что есть такая
социальная группа отверженных и обреченных, которая как раз в состоянии
выполнять эту работу. Так евреи были вовлечены в «ростовщичество»,
запрещенный Церковью, но экономически необходимый вид
деятельности. Во многих местах евреев заставляли выделять из своей среды
палачей, приводивших в исполнение смертные приговоры
преступникам: кому же пристало совершать официальное кровопролитие в
христианском обществе, как не евреям, исполнителям необходимого
убийства (или казни) Иисуса?
Выполнение необходимой функции, пусть даже отвратительной и
презренной, все же давало евреям некоторую защиту. Ведь именно
постоянное присутствие евреев, которые несли заслуженное наказание,
бесконечно расплачиваясь за убийство Иисуса, позволяло христианам
265
снять с себя вину за это убийство и, обратив нравственное возмущение
на евреев, почувствовать себя принятыми Христом. Кроме того, один из
текстов Павла породил поверье о том, что Второе Пришествие Христа
произойдет лишь тогда, когда все евреи обратятся в христианство17. Это
поверье не раз спасало евреев от полного уничтожения. Однако,
согласно поверью, во время Второго Пришествия евреи должны будут
исчезнуть: они либо вольются в Церковь в качестве новообращенных, либо
(в более зловещем варианте) будут полностью уничтожены в войнах
Антихриста против Христа. Последний вариант был признан миллена-
ристскими сектами и находил солидную поддержку в христианской
литературе, однако официальная Церковь смотрела на эту идею в целом
неодобрительно, поскольку она вела к взрывам расовых чувств, которые
могли обратиться и против самой Церкви с ее руководителями.
А во времена Второго Пришествия евреи больше не будут нужны,
потому что жертвенная смерть Иисуса больше не будет нужна.
Христос Торжествующий появится, когда человеческий грех (именно из-
за него возникла необходимость в Божественном
жертвоприношении) будет окончательно побежден. А когда больше не будет нужды
в страдающем на кресте Иисусе, не будет нужды и в демоническом
народе его проклятых палачей: он может исчезнуть, будь то путем
обращения или полного уничтожения. И действительно, во времена
оживления милленаристских настроений предпринимались попытки
уничтожить евреев: таково было намерение толп, совершавших
массовые убийства европейских евреев в эпоху крестовых походов.
Согласно распространенному в милленаристских движениях историчес-
г
кому сценарию, Антихрист будет евреем, которого евреи
провозгласят своим Мессией и который на самом деле создаст еврейскую
империю с центром в восстановленном Иерусалимском Храме. Но
затем воинство Христово сокрушит его — и вот тогда-то евреи будут
уничтожены все до единого. Этот сценарий лежит в основе секуляр-
ного, постхристианского милленаристского движения гитлеризма, в
котором сам Гитлер играл роль Христа Торжествующего и в котором
использовались многие лозунги христианского милленаризма
(хилиазма), в том числе лозунг «Тысячелетнего рейха».
Таким образом, постхристианский антисемитизм может оказаться
еще опаснее для евреев, чем христианский, поскольку в нем исчезли
моральные ограничения христианства, а остался один лишь миф о
демоническом еврействе. И.этот миф живет в среде, чреватой
вспышками популистского милленаризма, где возрождается мечта о расово
чистом, judenrein, национальном сообществе.
Между тем в христианских церквах уже возникло сознание
ответственности христиан за антисемитизм, хотя это сознание еще не в
достаточной мере проникло на нижние образовательные ступени;
недостаточно осознан и вред, наносимый самим сюжетом христианского
мифа. Напротив, многие полагают, что красота христианского мифа не
увяла под натиском современного историко-критического
исследования Библии. Настоящего успеха в искоренении христианского
антисемитизма удастся достигнуть лишь тогда, когда глубокому
критическому анализу подвергнется феноменология самого христианского мифа (со-
266
вершенно независимо от вопроса о его исторической недостоверности).
Усилия в этом направлении принесут пользу не только христианам, но
и «постхристианам» всякого толка, будь то левым, правым или
представителям «центристского» либерального агностицизма: на них на всех
христианский миф о евреях повлиял больше, чем они это осознают.
Ведь им по-прежнему трудно увидеть в евреях обычных людей, ничего
общего не имеющих с персонажами мифологической драмы ужасов.
Подведем итоги. Я попытался показать, что в христианском
антисемитизме можно различить три аспекта: первый, заимствованный из
гностицизма, формирует дуализм, позволяющий рассматривать евреев
как народ дьявола; второй, заимствованный из иудаизма, формирует
представление о Церкви как о месте, где Бог дает и выполняет свои
обетования в истории — от сотворения Адама и до Последних Дней, что
приводит христианство в столкновение с Израилем, у которого оно
узурпировало притязания на такого рода отношения с Богом; третий и
наиболее важный аспект заимствован из мистериальных религий. Это
представление о распятом Боге, спасающем грешный мир от
последствий греха. Этот Бог нуждается в мрачной фигуре Священного
Палача, который причиняет Ему спасительную смерть, берет на себя
зловещую, но необходимую роль убийцы, становясь служителем злого бога
— сатаны. Отсюда и пошел клич: «Кто убил Христа?» Это тот клич, что
слышался во время нацистского Голокауста и при всяком другом
массовом убийстве евреев в христианском обществе. Вот почему массовое
уничтожение евреев при Гитлере проводилось с молчаливого согласия
огромного большинства его подданных. Гитлер предложил также
«программу эвтанасии» (умерщвления больных наследственными
болезнями), но общественное возмущение и протесты Папы заставили его
отказаться от нее. Однако положение евреев не вызывало таких
протестов и возмущения. Ведь христианам свойственно считать, что бого-
убийцы-евреи заслуживают всех мыслимых страданий.
Комментарий
I Манефон — египетский жрец и историк, писавший в царствование Птолемея
II (282 — 246 гг. до н.э.). Автор «Египетской истории», где излагается и
история евреев. О Манефоне пишет Иосиф Флавий в своей апологии иудаизма
«Против Апиона» (1, 26). «Изложение древней истории у Манефона
представляет собой как бы еврейскую священную историю навыворот, где каждое
библейское указание извращено и переделано для вящего посрамления евреев и
возвеличения египтян» (1, с. 61). Лпион — александрийский грамматик I в. н.э.
По оценке С. Лурье, литературная и общественная деятельность Апиона
составила «кульминационный пункт всего античного антисемитизма» (там же, с. 66).
Апион известен как создатель одного из вариантов «кровавого навета», а
также как организатор еврейского погрома в Александрии в 38 г. н.э. — «самого
ужасного из всех погромов древности» (там же, с. 69). Лущи Анней Сенека
называл евреев «преступнейшим племенем» (sceleratissima gens). Ему принадлежит
также одна из ранних формулировок идеи еврейского заговора: «Victi victoribus
leges dederunt» («побежденные дали законы победителям»). Впрочем, если
Сенека имеет в виду культурно-религиозное влияние, то следует вспомнить близ-
267
кое по смыслу высказывание о соотношении между «побежденной Грецией» и
«победителями-римлянами».
2 См. ниже примеч. 6.
3 Современные интерпретации евангелия Матфея исходят из того, что эта
книга была написана после разрушения Иерусалимского Храма (70 г. н.э.),
как и все книги Нового завета, за исключением подлинных доеданий
Павла. Как известно, поражение восстания ускорило разрыв между
христианской общиной и иудаизмом. Матфей явно истолковывает разрушение
Иерусалима и Храма как наказание за то, что Израиль отверг Иисуса (23:37 ел.).
Автор этого евангелия стремится доказать христианам и — насколько
удастся — иудеям, что теперь церковь — это истинный Израиль. Он использует
характерную для некоторых еврейских сект завершавшейся
«эсхатологической» эпохи идею «остатка» верных: каждая из таких сект
противопоставляла себя как институциальному иудаизму, так и другим нонкомформистским
течениям в качестве истинного остатка Израиля, который, согласно секстан-
тской экзегезе Писания, Бог сохранит в Последние Дни; ср. тж. Рим 9:27 —
11:5, где Павел развивает «теологию остатка» как раз в связи с «еврейским
вопросом». Не исключено, что кроме вероучительной и апологетической
целей Матфей имел в виду также и миссию к иудеям. Генеалогия Иисуса и
история его детства (изложенная как исполнение пророчеств Писания)
должны показать, что Иисус — настоящий еврейский Мессия, Царь иудеев. Мф
27:25 — единственное место в книге, поддающееся интерпретации,
согласно которой ответственность за смерть Иисуса возлагается на весь еврейский
народ (однако это один из ключевых легитимирующих текстов в истории
христианского антисемитизма). Складывается впечатление, что Матфей по-
разному оценивает еврейскую общину и ее законных (ср. 23:2) религиозных
лидеров, книжников и фарисеев, которые у Матфея противостоят Иисусу и,
следовательно, изображаются в весьма мрачных красках. Один из ведущих
немецких специалистов по Новому завету Вернер Георг Кюммель считает,
что у Матфея имеет место дьяволизация (Verteufelung) еврейских
религиозных лидеров (цит. по: 22, с. 442). Впрочем, тендециозное (ср. 23:34 :
фарисеи, распинающие христианских миссионеров!) изображение фарисеев у
Матфея (он находит его уже в своих источниках, т.е. оно господствует во всей
синоптической традиции) все же можно объяснить тем «религиозным
соперничеством», о котором так много говорится в литературе по новозаветному
антииудаизму. Ведь, как известно, после разрушения Храма фарисеи стали
единственной консолидирующей силой иудаизма и тем самым главными
оппонентами для христианских полемистов новозаветной эпохи.
Что же касается евангелия Иоанна, то еще в начале века французский
католический священник Тома Кальм писал в своем комментарии: «Четвертое
Евангелие — самая антиеврейская книга в Новом завете» (цит. по: 11, с. 309).
Некоторые комментаторы, не боясь упреков в модернизации, прямо говорят об
«антисемитской тенденции» в евангелии Иоанна. Здесь мы встречаем текст,
ставший ключевым для христианского варианта идеи жидо-массонского
заговора: «Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желания отца вашего» (8:44). У
Иоанна «иудеи» вообще и «фарисеи» в особенности — символ неверия и
духовной слепоты (ср. 9:22-41). Среди исследователей нет единого мнения о числе и
характере источников этого памятника. Однако часто для евангелия Иоанна
постулируется существование некоего в теологическом отношении близкого к
иудаизму «исходного документа». Быть может, этим отчасти объясняются и
противоречивые оценки «иудеев» в этой книге. Так, Иисус говорит
самаритянке: «Вы поклоняетесь тому, чего не знаете (самаритяне признают лишь Тору,
которую, по мнению ортодоксальных иудеев, нельзя «познать» вне контекста
всей нормативной традиции Израиля), а мы поклоняемся тому, что знаем, ибо
268
спасение — от иудеев» (4:22). Бл. Августин не смог пройти мимо такого
противоречия и в своем комментарии к Ин. 4:22 (Нот. in Joan. XV, 26) заметил, что
спасение «не от всех иудеев, не от отверженных, а от таких, как апостолы и
пророки». Современный христианский исследователь пишет, излагая результаты
целой эпохи (от конца 40-х годов и до наших дней) исследований по теме
«Евреи и иудаизм в Новом Завете»: «Иисус остается евреем — даже и в евангелии
Иоанна... Антифарисейство мы встречаем и у синоптиков, но у Иоанна оно
существенно заострено. Чем больше мы удаляемся от времен Иисуса и
углубляемся в раннее христианство, тем резче становятся высказывания о фарисеях.
Это объясняется просто: группа последователей Иисуса образовала новую
секту, а при-всяком создании секты происходит полемика между старым и новым
сообществом. Историография секты включает и легенду об основании; при
этом отношение секты к «материнской церкви» проецируется в легендарное
прошлое и приписывается самому основателю» (15, с. 163-164). Таким образом,
и применительно к евангелию Иоанна объяснение новозаветного иудаизма
обычно делается на уровне истории и социологии религии и сводится к
мотиву соперничества между дочерней и материнской общинами.
4 Речь идет о том, что в христианской теологии принято называть проблемой
«канона в каноне». 27 «книг», вошедших в новозаветный канон, были
написаны примерно между 50 и 150 гг. н.э.; содержащиеся в этих текстах религиозные
учения, в особенности интерпретации личности и судьбы Иисуса из Назарета,
несводимы в единую и непротиворечивую «теологию Нового Завета». Нельзя
найти смысловое единство и на уровне предшествующей Новому Завету устной
традиции. Говоря о невозможности реконструировать лежащую в основе всех
новозаветных текстов единую первоначальную керигму (весть, Евангелие),
известный англиканский теолог Реджинальд Фуллер констатирует неустранимый
плюрализм Нового Завета: «Новый Завет —< это не единый статичный документ,
универсально применимый в качестве нормы провозвестия и вероучения, а
памятник, запечатлевший разные идеи на разных этапах их развития» (10, с. 193).
Поэтому в христианской теологии возникает вопрос, как можно усмотреть
нормативное содержание в Новом Завете. При этом (как и в концепции Маккоби)
вопрос ставится не столько о сравнительной авторитетности отдельных частей
канона, сколько об отношении к определенным теологическим идеям,
выраженным в канонических текстах. Вот в чем суть проблемы «канона в каноне».
Вероятно, с точки зрения нашей темы (возможность христианства, свободного от
антисемитизма) речь здесь прежде всего должна идти о новой интерпретации и
оценке повествования о Страстях (они обладают наибольшим юдофобским
потенциалом среди повествовательных текстов Нового Завета) и о новом
подходе к смыслу «искупительной жертвы», т.е. к христианскому учению о спасении,
связанном с историческим событием гибели Иисуса на Кресте.
5 Ср. Ин 13:27.
6 О сифиаиах расказывают церковные писатели первых веков. Так, у Епифания
(Panarion haer, 39) сифиане — это христианская секта, члены которой возводят
свой род к Сифу, сыну Адама (ср. Быт 5:3). Церковные источники указывают
на неортодоксальный характер христологии сифиан: у них Христос каким-то
образом связан с Сифом, к тому же сифиане называют Спасителя не
«Христом», а «Иисусом» (Epiphanius, Pan. 39. 1. 3.). Вероятно, это значит, что у
известных Отцам Церкви «сифиан» была сотериология гностического, а не
мессианского типа. О сифианском гностицизме как об одной из главных
гностических школ стали говорить в ходе изучения рукописей из Наг-Хаммади (они были
найдены в 1946 г., значительная их часть была издана между 1956 и серединой
70-х годов). При содержательной классификации трактатов «гностической
библиотеки» из Наг-Хаммади в ней выделяют прежде всего памятники сифианс-
кого и валентианского гносиса (26, с. 22 ел.)· Памятники сифианского гноси-
269
*
са более многочисленны, к ним относятся, н частности, «Евангелие Египтян»,
«Апокалипсис Адама», «Три стелы Сифа», «Аллогенес», «Апокриф Иоанна». В
некоторых из них (в том числе в «Апокалипсисе Адама») отсутствует прямая
связь с христианством. В этих памятниках запечатлен полнокровный
гностический миф с образом гностического спасителя: этот образ, как принято
считать, не зависит от Христа новозаветной традиции (ср. 17, с*619). Согласно
широко распространенному мнению, такой тип гностицизма возник
независимо от христианства, но нет веских доказательств того, что сифианский
гностицизм предшествует христианству. Однако Х.Маккоби, в соответствии со
смыслом своей концепции, исходит из допущения о том, что сифианский
гностицизм составляет один из источников христианского мифа (постулируя тем
самым не только определенную хронологию, но и содержательную
преемственность между сифианским гностицизмом и христианством). Впрочем, уже
Р.Бультман рассматривал возможность того, что гностические идеи повлияли
на христологию евангелия Иоанна (6, с. 365).
«Гностический антисемитизм». Как известно, гностики пользовались
сюжетами еврейской Библии, реинтерпретируя их в рамках своей мифологии. При
этом библейские оценки менялись (иногда на противоположные). Согласно
классическому определению валентинианина Феодота, гносис должен дать
ответы на вопросы о том, «кем мы были и кем мы стали; где мы были и куда
заброшены; куда мы стремимся и откуда мы спасаемы (букв, «искупляемы»); что
такое рождение и что — новое рождение» (Clem. Alex., Exe. ex Theod. 78, 2).
Соответственно, гностики дали множество мифологических интерпретаций
отдельным эпизодам библейского «повествования об истоках» (Быт. 1 — 11), в
частности, рассказам о грехопадении Адама и Евы, об убийстве Авеля Каином, о
Потопе. Некоторые из этих интерпретаций имеют «агрессивно-полемический»
по отношению к иудаизму характер (ср. 18, с. 52 слл.). В целом же антиудаизм
гностиков принято связывать с мироотрицающим пафосом гностицизма.
Антикосмический протест влечет за собой стремление унизить библейского Бога-
Творца, представить его падшим духовным существом невысокого ранга (см.
обзор литературы по теме «Гносис и еврейство» в 27, с. 155-161).
«Апокалипсис Адама». Последнее произведение сборника апокалипсисов в
Кодексе V из коптской гностической библиотеки в Наг-Хаммади. По
жанру это «завещание» Адама его сыну Сифу. В ночном видении три небесных
мужа открыли Адаму будущий ход истории, и он передает это знание Сифу.
Предварительно он истолковывает в гностическом духе свое грехопадение.
(Адам служил завистливому богу-творцу, скрывавшему от него истинное
знание, но небесные пришельцы объяснили Адаму его положение). Далее
излагается содержание откровения. Злой бог-творец будет пытаться
уничтожить потомство Сифа (Потоп, разрушение Содома и Гоморры). Но всякий
раз ангелы спасают носителей гносиса, так что семя Сифа не погибает. На
последнем этапе истории (в соответствии с исторической схемой еврейской
апокалиптики) является небесный спаситель, «Просветитель гносиса», и
вступает в борьбу со служителями злого бога-творца. В итоге гностики
побеждают, а все прочие каются в том, что служили богу-творцу (см. 16).
Надежных оснований для датировки этого памятника нет. Некоторые
специалисты, исходя из жанровых и теологических особенностей «Апокалипсиса
Адама», предполагают, что он был написан в I или II в. н.э.
7 См. Гал 3:19; ср. тж. Евр 2:2 ел.
8 См. Ин 12:31; 14:30; 16:11; ср. тж. 2 Кор 4:4 («бог века сего»).
9 «Акеда» (евр. «связывание») — термин еврейской традиции, которым
обозначается «жертвоприношение Авраама» (Быт 22). Образован от глагола *aqäd
(связывать), употребленного в Быт 22:9: «Авраам... связав сына своего Исаака,
положил его на жертвенник поверх дров».
270
10 См. Евр 7 (Иисус как Первосвященник по чину Мелхиседека). В
новозаветном Послании Иуды (14 ел.) цитируется еврейский апокриф «Книга Еноха».
11 Разделяемое Хайамом Маккоби представление об историческом Иисусе
возникло почти одновременно с рационалистской критикой Нового Завета. Как
известно, оно сформулировано уже в сочинении гамбургского профессора
восточных языков Германа Самуэля Реймаруса (1694-1768) «О цели Иисуса и его
учеников» (его опубликовал Лессинг в 1778 г.). Альберт Швейцер писал в
своей знаменитой книге «История исследования жизни Иисуса: от Реймаруса до
Вреде»: «В величественной увертюре Реймаруса прозвучали все темы
будущего исследования жизни Иисуса» (25, с. 69). Вот эти темы: соотношение
Иисуса истории и Христа веры, примат эсхатологии над этикой в проповеди
Иисуса, тема политического Иисуса (более радикального борца с римским
владычеством, чем зелоты и сикарии) и последующей спиритушизации его учения,
соотношение истории и догмы в Новом Завете (или, в других терминах,
соотношение исторического и мифического).
В этом комментарии невозможно оценить точку зрения X.Маккоби на
Иисуса, Павла и теологию канонических евангелий по существу. Трудность не
только в том, что специальная литература на эти темы практически необозрима.
Главная трудность здесь — методологического характера. Бесспорно, что
начавшееся еще в XVII в. (в 1689 г. французский католик Ришар Симон
опубликовал «Критическую историю Нового Завета», положив тем самым начало
научной дисциплине «Введение в Новый Завет») внедрение историко-критическо-
го метода в христианскую теологию было обусловлено «духом и давлением
времени». Известно, что к текстам Нового Завета применялись методики,
разработанные при изучении фольклора и тех литературных памятников древности
(в частности еврейской Библии), в которых устная традиция предшествовала
письменной фиксации текста. Но результатом всего этого стала теологическая
дисциплина, в рамках которой раннехристианская литература новозаветной
эпохи (будущий канон и современные ему произведения) изучена столь
тщательно, как, вероятно, не изучена никакая другая литература древности. И в
рамках этой теологической дисциплины были детально разработаны все те
представления об Иисусе истории, о первоначальной церкви и Павле, из
которых исходит X. Маккоби. Некоторые из них даже стали общепринятыми.
Методологически здесь важнее следующее: пока что у нас практически нет
научных сведений о Новом Завете, независимых от христианской научной
традиции («Но почему же она «христианская»? — спросят меня: лексикограф
скажет вам, что любой словарь пропитан идеологией не меньше, чем газетная
передовица.) Новый Завет так и не стал, в отличие от шумерской или
древнеегипетской литературы, предметом чисто академического изучения. Например,
еврей Йозеф Клаузнер в своих книгах об Иисусе и Павле исходил из ряда
научных гипотез, разработанных в немецкоязычной евангелической теологии XIX
в. X. Маккоби тоже пользуется некоторыми выводами развившейся в
христианском мире новозаветной науки, отнюдь не претендуя на статус христианского
теолога. Итак, для того, чтобы по существу оценить его суждения по этим
вопросам, нам пришлось бы предварительно выявить научные и идеологические
предпосылки новозаветной экзегезы.
Поэтому я ограничусь комментарием к нескольким ключевым словам.
«Иисус как политический лидер» — это тема, присутствующая в современных
новозаветных исследованиях. Очевидно, что интерес к ней обусловлен
«размышлениями о том, какова должна быть роль христиан в сопротивлении
насильническим политическим режимам» (см. 13; в этом сборнике представлены
работы довольно консервативных британских «новозаветников», а не сторонников
теологии освобождения). Вот как можно сформулировать достаточно
распространенный в христианской научной литературе подход к этой теме: религиоз-
271
ное учение Иисуса в условиях Палестины I в. н.э. не могло не иметь
политического измерения и политических последствий. Некоторые развивают этот
тезис: казнь Иисуса по приговору римского наместника была одним из таких
политических последствий, имманентных учению Иисуса (ср. обзор литературы в
14, где в отдельном разделе рассматриваются исследования о процессе над
Иисусом, в том числе и статья X. Маккоби «Иисус и Варавва»).^
Вопрос о том, считал ли Иисус себя Мессией, или, шире, вопрос о
самопонимании и «притязании» Иисуса обладает длинной историей (в последние
десятилетия специальные исследования по этому вопросу свелись в основном к
интерпретации термина «Сын человеческий»). В качестве точки отсчета (в том
числе и в полемическом контексте) до сих пор часто принимается
классическая позиция Р. Бультмана, сформулированная им в 1926 г. в книге «Иисус»:
«Все внимание (в исследовании) направлено единственно лишь на то, чего он
хотел... И не то чтобы мне приходилось делать хорошую мину при плохой игре:
конечно, я признаю, что о жизни и личности Иисуса мы не можем узнать
практически ничего... Я думаю, что Иисус не считал себя Мессией, — но я не
воображаю, будто это помогло мне составить более ясное представление о его
личности. Так что в своей книге я вообще не принимал во внимание этот
вопрос, — и в конечном итоге не потому, что об этом нельзя сказать ничего
определенного, а потому, что я считаю этот вопрос несущественным» (5, с. 11-12).
В одной из своих поздних работ Р. Бультман связал вопрос о
самопонимании Иисуса с исторической интерпретацией его смерти: «Главное препятствие
при попытках составить представление о личности Иисуса — это то, что мы не
можем узнать, как Иисус понимал свой конец, свою смерть,,. Достоверно лишь то,
что он был распят римскими властями, т.е. принял смерть как политический
преступник. Едва ли можно понять эту казнь как внутренне необходимое
следствие его деятельности; скорее, она произошла в результате ложного
истолкования его деятельности как политической. Тогда его участь — с исторической
точки зрения — следовало бы признать следствием нелепой случайности.
Находил ли Иисус в этой участи какой-либо смысл и если да, то каким образом,
мы не можем знать: нельзя закрывать глаза и на возможность того, что он был
сломлен» (7, с. 11).
«Первым творцом христианского мифа был Павел», Как видно уже из
вышесказанного, Маккоби опирается здесь на общепринятое в христианской
теологии положение, «драматизируя» его в пользу своей концепции. Догматическое
ядро христианства — это интерпретация смерти Иисуса как спасительного
события. Как известно, эту интерпретацию Павел «принял» в уже готовом виде
(см. I Кор 15:3-7). Таким образом, «первыми творцами христианского мифа»
были все же «последователи Иисуса в Иерусалимской церкви».
(Следовательно ходячая фраза «Христианство создал Павел» не вполне верна.) Павел,
первый христианский писатель, разработал оригинальное теологическое
обоснование миссии к язычникам, провозгласив равенство всех во грехе: «Я уже
обвинил всех, евреев и язычников, в том, что они находятся под властью греха»
(Рим 3:9). Так он придал христианству универсализм и при этом,
противопоставив спасительное Евангелие неспасительному Закону, поневоле истолковал
иудаизм как «пройденный этап». Тем самым он положил начало
теологическому принижению иудаизма. Однако есть основания полагать, что абсолютное
притязание содержалось уже в допавловых вариантах христологической догмы,
так что — при религиозном расколе еврейской общины — авторитет Мессии
должен был столкнуться в сознании последователей Иисуса с авторитетом
Закона. В целом можно заметить, что Маккоби трактует Павла с достойным
сожаления упрощением.
12 См. I Фес 2:14-16.
!ϊ Подытоживая разбор мнений современных западных исследователей о культо-
г
272
вой функции и происхождении мифа о Бальдре, Е.М.Мелетинский пишет:
«Нельзя полностью исключить связи мифа о Бальдре с культом плодородия и
древневосточными мифами, а тем более христианских влияний. Однако, в
отличие от ванов (группа богов плодородия), Бальдр несомненно относится к
мифологии Одина. В своей основе миф о Бальдре скорее всего представляет собой миф о
первой смерти, осложненный мотивами воинских инициации» (2, с. 160).
14 В нескольких авторитетных в текстологическом отношении рукописях Мф
27:16-17 выглядит следующим образом: «Был тогда у них известный узник,
называемый Иисусом Вараввой. И когда они собрались, Пилат сказал им: «Кого
хотите, чтобы я отпустил вам: Иисуса Варавву или Иисуса, называемого
Христом?» Этот вариант чтения, известный и Оригену, многие текстологи считают
первоначальным. У Марка сказано, что Варавва был в заключении «вместе с
повстанцами, которые совершили убийство во время восстания». Некоторые
исследователи предполагают, что грамматически необычный оборот:
...называемый Вараввой был в заключении» (Мк 15:7), — указывает на то, что в тексте
Марка первоначально было написано: «Иисус по прозвищу (называемый)
Варавва» (Бар-Абба, «сын отца»), т.е. почти так же, как в соответствующих
рукописях Мф 27:17. Однако для Марка это предположение не находит никакой
текстуальной поддержки. Впрочем, не следует думать, что имя «Иисус
Варавва» может прояснить многочисленные неясности, связанные с фактическими
обстоятельствами осуждения Иисуса. В имеющемся контексте (Мф 27) это имя
придает теме «Евреи убили Христа» весьма эффектный оборот: оказывается, у
«толпы» был выбор между двумя Иисусами.
Говоря о «вымышленной фигуре Иисуса Вараввы» X. Маккоби имеет в виду
реконструкцию суда над Иисусом, предложенную им в статье «Иисус и
Варавва» (1970). Смысл этой, по признанию самого автора, «весьма спекулятивной»
реконструкции сводится к следующему. Иисус вступил в политический
конфликт с коллаборационистом-первосвященником, поддерживаемым саддукеями.
В этом конфликте «народ» был на стороне Иисуса (доказательство —
повествование о входе Иисуса в Иерусалим). По приказу первосвященника Иисус был
арестован и передан римским оккупационным властям. Когда Пилат прибыл в
Иерусалим, перед его дворцом собралась толпа, требовавшая освободить
Иисуса. Но Пилат, как известно, осудил Иисуса на распятие... Марк (первый
евангелист) взял на себя задачу перенести ответственность за смерть Иисуса с
римских властей на евреев. Для этого он переработал свои источники:
оказывается, та иерусалимская толпа требовала «освободить другого Иисуса,
называемого Иисусом Вараввой». Стало быть, «Иисус из Назарета и Иисус Варавва — это
на самом деле один и тот же человек». (X. Маккоби даже допускает, что
наименование «Бар-Абба» могло быть титулом Иисуса из Назарета.) Но позже
игра с именами стала казаться странной и не вполне благочестивой, и тогда
первое имя Иисуса Вараввы было удалено из текстов (ср. изложение и
критику в 14, с. 398). В книге «Революция в Иудее: Иисус и еврейское
сопротивление» X. Маккоби делает «проблему Вараввы» исходным пунктом своей
полуроманической реконструкции жизни Иисуса.
15 В последние десятилетия тема «еврей Иисус» усиленно разрабатывается и
еврейскими, и христианскими учеными. Еврейские ученые обратились к
«историческому Иисусу» с того времени, когда возникла «Wissenschaft des
Judentums», т.е. уже в первой половине XIX в. Еврейский «поиск исторического
Иисуса» шел параллельно христианскому (последний в XIX в. был в основном
ограничен рамками протестантской «либеральной теологии»). В обоих случаях
«поиск исторического Иисуса» определялся чаще всего апологетическими
соображениями (исторический обзор еврейских исследований см. в 15, с. 24-42).
Христианские историографы обычно выделяют два периода в еврейских
исследованиях «исторического Иисуса»: в первом периоде преобладает крити-
18 Заказ 257 273
чески-отрицательное отношение к Иисусу, во втором подчеркиваются
скорее положительные черты Иисуса из Назарета. Таким образом, критерий
периодизации — преобладающее оценочное суждение еврейских писателей
об Иисусе. Так, авторитетный христианский исследователь Нового Завета
ВТ. Кюммель пишет в 1985 г.: «Г. Баумбах указал на разные направления в
новейшем научном изучении Иисуса еврейскими исследователями, но
подлинно важный факт — это то, что представленные в моем оозоре книги Ш.
Бен-Хорина, А. Финкеля, Д. Флуссера, П. Лапида и Г. Вермеса уже отнюдь
не выражают отрицательного отношения к личности и учению Иисуса;
важно то, что у этих исследователей обнаруживается общая тенденция:
изображать Иисуса как благочестивого еврея, который ничуть не противопоставлял
себя фарисеям... Это мнение я считаю целиком ошибочным. И хотя
настойчивые напоминания еврейских исследователей о еврействе (Judesein)
Иисуса заслуживают благодарности и, конечно, должны быть всерьез
восприняты христианскими учеными, тем не менее отвержение земного Иисуса
большей частью его народа заставляет нас задавать вопрос о причинах этого
отвержения и, стало быть, о том новом, что характерно для Иисуса и что
отделяет его от еврейства» (14, с. 537).
Это резюме оказалось довольно близким к позиции X. Маккоби (Иисус как
благочестивый, но не занимавшийся теологическим творчеством фарисей),
однако оно дает не вполне верное представление о самом направлении мысли и
работы названных еврейских историков. Ведь они вовсе не пытаются доказать,
что Иисус был заурядным евреем, а его конфликт с фарисеями и его
религиозное притязание — полностью неисторичны, т.е. измышлены зарождавшимся
христианским движением в ходе полемики с фарисейским иудаизмом. (Кстати,
X. Маккоби усматривает уникальность притязания Иисуса в том, что он считал
себя одновременно пророком и Царем-Мессией, чей приход должен стать
кульминацией истории человечества. — См. «Революция в Иудее».) Когда
еврейские теологи говорят о «возвращении Иисуса домой (в еврейский народ)», то
вопрос ставится о своеобразии Иисуса как еврея, о его своеобразии в рамках
религиозной традиции еврейства (такую же постановку вопроса можно увидеть
и у некоторых христианских писателей).
Как известно, еврейский любитель диалога с христианами, Шалом Бен-Хо-
рин назвал Иисуса «центральной фигурой еврейской истории и истории
еврейской веры» (4, с. 14). Речь идет, конечно, о том, что вера Иисуса, его
безграничное доверие к Отцу — это подлинно еврейская вера («эмуна» в смысле М.Бу-
бера), а судьба Иисуса — подлинно еврейская судьба, символ судьбы его
народа. Бен-Хорин считает, что Иисус не укладывается до конца ни в одну из
известных нам религиозных школ своего времени, но ближе всего стоит к
фарисеям, «правда, к внутренней оппозиции в составе этой крупнейшей в
тогдашнем иудаизме группы» (там же, с. 22). Давид Флуссер говорит о «необходимой
напряженности между харизматическим чудотворцем Иисусом и институциаль-
ным иудаизмом» (8, с. 54) Еврейский историк Эллис Ривкин тоже считает, что
фарисеи неизбежно должны были вступить в конфликт с Иисусом (21, с. 662-
663). Самуэль Сэндмел, еврейский историк, много писавший о Новом Завете,
ставил Иисуса в один ряд с пророками допленной эпохи, которые, как
известно, не раз вступали в религиозный конфликт со своим народом и его лидерами.
Здесь напрашивается сравнение Иисуса с Амосом, Исайей и Иеремией. Во всех
случаях мы имеем дело с критикой изнутри еврейской традиции (23, с. 477).
Из христианских исследований по этой теме можно указать на книгу австрийского
католика Курта Шуберта «Иисус в свете религиозной истории еврейства» (24).
16 От Иоанна Златоуста дошли восемь «слов против иудеев», произнесенных в
Антиохии в 386 и 387 гг. Современный читатель этих бесед с тревогой заметит,
как просто и естественно в поток «обычной» христианской риторики вливаются
274
струйки того, что в сегодняшнем контексте воспринимается как расистский
антисемитизм.
«Итак, если они не знают Отца, распяли Сына, отвергли помощь Духа, то
кто не может смело сказать, что синагога — это жилище демонов? Нет, там
не поклоняются Богу, там место идолослужения (1,3)... Иудеи... живут для
чрева, прилепились к настоящему, и по своей похотливости и чрезмерной
жадности нисколько не лучше свиней и козлов; они только и знают, что есть
да пить... (1,4) Следует ли даже обмениваться с ними приветствиями и
делиться простыми словами? Напротив, не должно ли отвращаться их, как
всеобщей заразы и язвы для всей вселенной? Какого зла они не сделали? Не все
ли пророки употребляли множество длинных речей для обличения их?
Какого злодейства, какого беззакония не затмили они своими гнусными
убийствами? (1,5) Итак, чтобы иудеи не упорствовали и не приписывали своего
порабощения людям, Бог попустил не только пасть городу и разрушиться
храму, но прекратиться и тому, что имело свое начало с неба: огню, гласу,
сиянию камней и т.п. Так что когда иудей станет говорить тебе: люди
восстали на нас, люди сделали зло, — то скажи ему, что люди не восстали бы,
если бы Бог не попустил этого» (6, 4)
Английский католик (по научной специальности — историк католической
церкви в Великобритании) Малькольм Хей отвел Иоанну Златоусту целую главу
в своей книге «Кровь брата твоего», вышедшей первым изданием в 1950 г.
Насколько я знаю, это одна из первых историй христианского антисемитизма,
написанная христианином. В самом начале книге М.Хей говорит о безразличии
правительства Великобритании к угрозе еврейского геноцида, а затем приводит
показания одного свидетеля на суде над главными нацистскими военными
преступниками в Нюрнберге. Свидетель рассказывает о том, как 5 октября 1942 г.
нацисты уничтожали еврейское население украинского города Дубно. Эсесов-
цы заставляли своих жертв раздеваться и укладываться в ров трехметровой
глубины. Там их расстреливали в затылок, группу за группой. Ров заполнялся
равномерно... Заканчивая главу об Иоанне Златоусте, М. Хей пишет: «Св. Иоанн
Златоуст мог бы прочесть великолепную проповедь над тем рвом. Уж он бы
объяснил, что это мстительный Бог наказал маленького еврейского мальчика,
старавшегося сдержать слезы, чтобы немцы не увидели, что ему страшно; и того
младенца, и всю еврейскую семью, сошедшую в ров. Св. Иоанн уже заготовил
и текст, подходящий для такого случая» (11, с. 30). И М. Хей цитирует
приведенный выше отрывок из «Шестого слова против иудеев».
17 Ср. Рим 11:25 ел.
Август 1987
Список литературы
1. Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире, попытки объяснения его в науке
и его причины. — Пг.: Былое, 1922.
2. Мелетинский Е.М. «Бальдр» // Мифы народов мира: Энциклопедия. — М.:
Сов. энцикл., 1980. - Т. 1. - С. 159-160.
3. Baumbach G. Antijudaismus im Neuen Testament — Fragestellung und
Lösungsmöglichkeit // Kairos. — Salzburg, 1983. — № 25. — C. 68-85.
4. Ben-Chorin Seh. Bruder Jesus. — München, 1967.
5. Bultmann R. Jesus. — Tübingen, 1964.
6. Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments. — 6., durchges. Aufl. — Berlin,
1970.
7. Bultmann R. Das Verhälthis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus. — 4. Aufl. — Heidelberg, 1978.
18* 275
8. Flusser D. Jesus in Selbsrzeugnissen und Bilddokumenten. — Hamburg, 1968.
9. Flusser D. Theses on the emergence of Christianity from Judaism // Immanuel.
Jerusalem, 1975. — № 5. — C. 74-84,
10. Fuller R. New Testament trajectories and biblical authority // Studia Evangelica
/ Ed. by Livingstone E.A. - Berlin, 1982. - Vol. 7. C. 189-199.
11. Hay M. The roots of Christian Anti-Semitism. — N.Y., 1981.
12. Isaak J. Genesis des Antisemitismus. Vor und nach Christus. — Wien etc., 1969.
13. Jesus and the politics of his day // Ed. by Bammel Ε., Moule G. — Cambridge
etc., 1984.
14. Kümmel W.G. Dreissig Jahre Jesusforschung: 1950-1980. — Bonn, 1985.
15. Lindeskog G. Das jüdisch-christliche Problem. Randglossen zu einer
Forschungsepoche. — Uppsala, 1986.
16. McRae G. Adam, Apocalypse of// The interpreter's dictionary of the Bible:
Supplementary Volume / Ed. by Crim K. — Nashville, 1976. — C. 9-10.
17. McRae G. Nag Hammadi // The interpreter's dictionary of the Bible:
Supplementary Volume / Ed. by Crim K. - Nashville, 1976. - C. 613-619.
18. Nagel P. Die Auslegung der Paradieserzählung in der Gnosis // Altes Testament.
Frühjudentum. Gnosis / Hrsg. von Tröger K.-W. — Berlin, 1980. — С 49-70.
19. Nineham D. The Gospel of St. Mark. - L., 1979.
20. The origins of the Holocaust: Christian anti-Semitism / Ed. by Braham R.L.
N. Y., 1986.
21. Rivkin E. Pharisees // The interpreter's dictionary of the Bible: Supplementary
Volume / Ed. by Crim K. - Nashville, 1976. — C. 657-663.
22. Rüssel £. The image of the Jew in Mathew's Gospel //Studia Evangelica / Ed. by
Livingstone E.A. - Berlin, 1982. — Vol. 7. C. 427-442.
23. Sandmel S. Jews, New Testament attitudes toward // The interpreter's dictionary of
the Bible: Supplementary Volume / Ed. by Crim K. — Nashville, 1976. - C. 477-479.
24. Schubert K. Jesus im Lichte der Religionsgeschichte des Judentums. — Wien, 1973.
25. Schweitezer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. — München, Hamburg, 1966.
26. Tröger K.-W. Einführung: Zum gegenwärtigen Stand der Gnosis- und Nag-
Hammadi-Forschung // Altes Testament. Frühjudentum. Gnosis / Hrsg. von Tröger
K.-W. - Berlin, 1980. - С 11-33.
27. Tröger K.-W. Gnosis und Judentum // Altes Testament. Frühjudentum. Gnosis /
Hrsg. von Tröger K.-W. - Berlin, 1980. - С 155-168.
276
Глазами убитых детей
Мир Эли Визеля
Читатель держит в руках первую опубликованную в России
книгу Эли Визеля, всемирно известного еврейского прозаика
и философа1.
В 1986 году, когда Эли Визелю вручали Нобелевскую
премию мира, Эгиль Орвик, председатель Нобелевского
комитета, сказал в своей речи: «Он вышел из бездны лагерей уничтожения как
вестник, посланный человечеству. . . В нем мы видим человека,
испытавшего предельное унижение и ставшего одним из наших самых
авторитетных духовных учителей».
Читатель трилогии «Ночь. Рассвет. День» увидит, что ее автор
действительно пришел к нам со своей вестью, то есть с чем-то важным, что
не сводится к уже известному.
Действие книг, объединенных в трилогию, происходит на трех
континентах: в оккупированной нацистами Европе, в Палестине 1947 года,'в
США конца пятидесятых годов. Единство возникает на смысловом
уровне. Подобно автору, его герои пережили нацистский геноцид, и трилогию
можно рассматривать как опыт духовной автобиографии Эли Визеля.
Элиэзер Визель родился 30 сентября 1928 года в г. Сигет,
расположенном в закарпатской Северной Трансильвании, недалеко от нынешней
румынско-украинской границы. В 1940 году Румыния, под немецким
давлением, передала эту территорию Венгрии, а в результате послевоенного
передела, проведенного по советскому плану, она снова стала частью
Румынии.
В Сигете прошло детство Элиэзера. Для писателя Эли Визеля детство
— больше чем одна из важнейших тем творчества, детство — его первая
жизнь, и единственная, которую он сам считает настоящей. «... В
сущности, я вовсе не покинул того места, где родился, где научился ходить и
любить: ведь вселенная — всего лишь продолжение затерянного в
Трансильвании городка Мармаросигет» («Песнь мертвых»). До 15 лет его космосом
была сигетская еврейская община, насчитывавшая около пятнадцати
тысяч человек — примерно половина населения Сигета.
Элиэзер получил еврейское религиозное воспитание. Он вырос в мире
традиционного благочестия и еврейской мистики, где все было насыщено
* Послесловие к кн.: Эли Визель. «Ночь. Рассвет. День». — М., «Олимп», 1993.
- С. 246-253.
277
присутствием Бога. До начала депортации евреев, до весны 1944 года, этот
замкнутый на себе мир был для него единственной реальностью; «В
Польше, на Украине, в Германии небо и земля пылали день и ночь
напролет, в оккупированной Европе уже почти не было евреев, но для нас мир
оставался неизменным ... В йешивах молодежь учила Талмуд; в хедерах
дети изучали Библию ... И если бы кто-нибудь решилоРнам сказать, что
близок день, когда город избавится от своих евреев, словно от какой-то
зачумленной своры, его бы просто осмеяли» («Песнь мертвых»).
«Ночь», первая часть трилогии, — единственное произведение Э.
Визеля, которое можно считать чисто автобиографическим. И это
единственная из его более тридцати книг, где он непосредственно пишет о
Голокаусте, геноциде европейского еврейства. Как узнает читатель
«Ночи», весной 1944 года Элиэзер, его родители и три сестры были
депортированы — вместе со всеми сигетскими евреями — в Освенцим. В
газовых камерах Освенцима погибли его мать Сара и младшая сестра
Циппора. Отец Элиэзера, Шломо Визель, умер от истощения и
дизентерии в Бухенвальде ранней весной 1945 года.
11 апреля 1945 года Бухенвальд был освобожден американцами, и для
шестнадцатилетнего Элиэзера, как и для других евреев, переживших
Катастрофу, начались годы скитаний: «Мы выжили, но нам не позволили
стать победителями. . . Мы были попрошайками, никому не нужными и
всем мешавшими. Нас лишили родины и приговорили к изгнанию.
Своим существованием мы напоминали людям о том, что они сделали с нами
и с собой. Неудивительно, что со временем они стали упрекать нас за свою
собственную мутную совесть» («Иерусалимский нищий»).
После войны продолжалось то безразличие мира, которое евреи
уже испытали в годы Катастрофы. То безразличие, в котором
писатель Эли Визель увидит соучастие: «Треблинка, Биркенау, Берген-
Бельзен, Бухенвальд, Освенцим, Маутхаузен, Белжец, Понары, Со-
бибур, Майданек — ночные столицы диковинного царства, где
смерть заняла место Бога . . . Время действия: 1941-1945 . . . Ни одно
государство не берет евреев под защиту. . . Все ведут себя так, будто
евреев никогда и не было. Как будто Освенцим — всего лишь
мирный городок в Силезии. . .Обе воюющие стороны заранее обрекли
евреев на смерть ... А Гитлер уверен: его противники еще
поблагодарят его за то, что он решил для них этот вечный еврейский вопрос»
(«От заката до рассвета»).
Кстати, именно Визелю принадлежит знаменитое изречение,
ведущее независимую от своего создателя жизнь: «Противоположность
любви — не ненависть. Противоположность любви — безразличие».
Тема безразличия-соучастия, образ безучастного наблюдателя станут
важными мотивами в творчестве писателя.
К концу войны мир, в котором Элиэзер провел детство, мир
восточноевропейского еврейства, больше не существовал. Тем же, кто
случайно уцелел в лагерях уничтожения, уже некуда было возвращаться.
В 1945 году Визель оказался в числе четырехсот сирот Бухенвальда
(им было от шести до шестнадцати лет), которых по решению
генерала де Голля приняла Франция. Путь в Палестину был закрыт
британскими властями. В 1948-1951 годах Э. Визель изучал литературу, фило-
278
софию и психологию в Сорбонне, углубленно изучал французский
язык, на котором написаны практически все его произведения и на
котором он пишет до сих пор.
В 1948 году, вскоре после провозглашения государства Израиль,
Э. Визель поехал туда репортером французской газеты «Арш», а в Па-
риж он вернулся коррепондентом тель-авивской газеты «Иедиот Ахаро-
нот». В 1954 году израильский журналист Эли Визель встретился со
знаменитым французским католическим писателем Франсуа Мориаком.
Мориак рассказал об этой встрече в предисловии к «Ночи». С тех пор, по
желанию Э.Визеля, «Ночь» всегда печатается с предисловием Мориака.
Этот факт требует объяснения. Ведь читатель легко заметит, что
предисловие Мориака не просто устарело: оно отражает взгляд на мир,
глубоко чуждый мышлению Визеля, для которого принять любые готовые
ответы на вопрос о смысле страдания значило бы предать своих мертвых. В
еврейской традиции он не нашел удовлетворительных ответов. И уж тем
более неприемлемы здесь христианские ответы: как не раз замечал Э.Ви-
зель, христианам в этом деле лучше молчать и просто принять правду, не
пытаясь снабдить ее сводящими концы с концами истолкованиями.
Позднее Визель неоднократно писал о своей встрече с Мориаком.
Как и было положено корреспонденту тель-авивской газеты, он
задавал Мориаку дежурные вопросы на еврейские темы. В каждом
ответе католического писателя звучало имя Иисуса из Назарета. «Израиль?
О, это земля, где родился Иисус. Иерусалим? О, это вечный город, где
Иисус обратил своих учеников в апостолов. Библия? Ах, это Ветхий
Завет, который благодаря Иисусу обогатился Новым Заветом. Текущая
политика? Иисус никогда не занимался политикой».
Естественно, в ходе беседы обнаружилось, что для Мориака
символом всякого страдания была крестная смерть Иисуса из Назарета.
И тут молодой репортер не выдержал. Он закрыл блокнот и сказал
живому классику, что не понимает этого избирательного христианского
интереса к страданиям одного еврея: «Уважаемый мэтр, господин
Мориак, десять лет назад я видел сотни еврейских детей, каждый из
которых страдал, быть может, больше, чем Иисус на кресте. Но мы об этом
не шумим. Мы молчим о них».
Визель вышел, и тотчас же ему стало стыдно за эту сцену: «Что я
наделал! Ни с кем в моей жизни я не был невежлив. А он — он был
участником Сопротивления, это человек с чистым прошлым. Зачем я
обидел его? Ведь Иисус — это задевает его больше всего...»
Писатель догнал его уже около лифта и попросил вернуться. «Мы
пошли обратно в его комнату, мы сели на те же стулья. И тут я
покраснел, я почувствовал жар как будто от адского пламени. А он начал
плакать. Я никогда раньше не видел, чтобы старый человек так плакал. Мы
ни о чем не говорили, он не распрашивал меня о том, что я сам
испытал... И так прошло около часа. Затем он встал, обнял меня и сказал:
«Быть может, вы все же должны рассказать об этом» («Этапы жизни»).
Дело в том, что после освобождения из Бухенвальда Элиэзер дал
обет не писать об увиденном в течение десяти лет: словам, по его
мнению, должно предшествовать молчание. Встреча с Мориаком почти
совпала со сроком окончания обета.
279
Первый вариант книги об Освенциме Визель написал на идиш, она
называлась «А мир молчал». Второй вариант, сильно сокращенный, он
написал по-французски и послал Мориаку. Тот взял на себя заботы о
публикации, и в 1958 году книга под названием «Ночь» была
опубликована во Франции с его предисловием.
Теперь я попробую ответить на вопрос, почему ВизеЛь решил
сохранить предисловие Мориака. Для этого попытаемся представить, что же
произошло при их встрече?
Как мне кажется, при свидании с вестником другого мира Мориак
вышел за пределы той идеологии, которая закрывает пути к
пониманию, — хотя в нормальном, «монологическом» состоянии, при работе
над предисловием Мориак уже не пытается ничего понять, а просто
комбинирует готовые идеологические блоки.
В «нормальном» состоянии от встречи и от выхода за собственные
пределы у Мориака осталось одно: он доволен, что удержался от тех
слов, которые он «должен был сказать этому еврейскому мальчику» в
соответствии со своей верой: он не изрек «все благодать» по поводу
гибели полутора миллионов еврейских детей. Вместо этого он плакал. Но
это и все, дальше этого он не пошел.
Но и Визель во время свидания вышел за пределы своего
«нормального» кругозора. Последним словом посланца мертвых детей не стал
разрыв: позже он неоднократно встречался с Мориаком, между ними
возникли отношения, которые, наверное, можно назвать дружбой. Уже
в семидесятые годы, после смерти Мориака, Визель обещал
опубликовать записи их тогдашних бесед. Как мне кажется, желание Визеля
сохранить предисловие Мориака к «Ночи» — не только выражение
благодарности к старому мэтру, благословившему его при входе в
литературу. Возможно, для Визеля предисловие Мориака — это не только
овеществленная память о моментах встречи с другим, об открытости для
другого, но и знак того, что понимание возможно и достижимо.
Ведь в итоге каждый остался при своем, но каждый помнит, что
значит выйти на мгновение за собственные пределы.
Когда «Ночь» была опубликована во Франции, ее автор уже жил в
США. Эли Визель поехал туда в 1956 году как израильский журналист
с французским видом на жительство. В том же году в Нью-Йорке он
попал под машину, после чего ему пришлось год провести в
инвалидном кресле. В 1963 году Визель получил американское гражданство.
Сейчас Эли Визель — профессор Бостонского университета, где
преподает Библию и еврейскую историю. Среди его книг — не только
романы, но и сборники эссе. Он написал несколько работ о Библии,
Талмуде и религиозных учителях восточноевропейского еврейства.
В декабре 1991 года в Москве на организованной им международной
конференции «Анатомия ненависти» Эли Визель заметил, что одно из
прекраснейших мест в Библии начинается заповедью: «Да не будешь ты
стоять рядом равнодушно...» Легко убедиться, что такой фразы в
Библии нет, однако слова эти Визель сказал не случайно. В них — указание
на два главных, связанных между собой направления в его творчестве.
280
Первое — это художественная проза и эссеистика, так или иначе каса-
ющаяся темы Катастрофы. Эли Визель понимает свою работу (и он
неоднократно говорил об этом) как свидетельство, свидетельство о че-
KJ
ловеке, если угодно — о природе человека, какой она открывается в
экстремальной ситуации, на границе между жизнью и смертью, на
пороге нравственного решения... А перед необходимостью такого решения
чаще всего оказывается все же не жертва или палач (палач тоже
нередко бывает «вброшенным» в ситуацию, где уже нет места настоящему
выбору), а тот, кто стоит за пределами их отношения, кто наблюдает их
со стороны. Так в творчестве Визеля появляется тема безразличного
наблюдателя. Она разрастается в целую этическую доктрину, согласно
которой именно безразличие приносит наибольшее зло человечеству.
Что касается отношения «палач — жертва», то в романе «Рассвет»
(1960), второй части публикуемой здесь трилогии, Э. Визель
рассматривает его исходя из конкретных исторических обстоятельств. Люди,
испытавшие участь жертв, чудом выжившие в нацистских лагерях
уничтожения и добравшиеся до Палестины, убеждены: они должны сами
убивать, чтобы геноцид не повторился. Такова судьба героя романа
Элиши, который участвует в борьбе с англичанами за создание
независимого еврейского государства. Он становится террористом и должен
убить заложника — британского офицера, то есть стать палачом.
Сюжет романа основан на известных фактах из истории борьбы
еврейских подпольных вооруженных формирований с британскими
мандатными властями Палестины. В мае 1947 года в ответ на казнь трех
бойцов террористической организации «Эцель» были убиты
заложники — два английских сержанта. Эти события широко обсуждались в
мировой прессе.
Большая часть «Рассвета» — это «внутренний диалог» Элиши в ночь
перед убийством с его погибшими родными, учителями и друзьями
детства, то есть с теми, кто стал частью его личности. В диалог вступает не
названный по имени собеседник — умерший в Освенциме Бог детства
Элиши.
Герой испытывает душевные муки, но о выборе речи нет:
основополагающее решение было принято уже тогда, когда он включился в
Движение за национальное освобождение.
Мучает же Элишу только память о его мертвых, которые,
оказывается, вовсе не говорят ему в ночном разговоре: «Иди и убей».
Герой «Рассвета» — это alter ego автора, помещенный в ситуацию,
которую сам Эли Визель не пережил, но воспринимает и исследует как
нереализованную возможность собственной судьбы. Этот роман
откровенно философичен и интеллектуален, он обнаруживает жанровые и
тематические связи с литературой французского экзистенциализма
сороковых — пятидесятых годов, и шире — с традицией французского
философского романа-эссе XVIII-XX вв.
Жизнью Элиши, пережившего Освенцим, движут «последние
вопросы»: «Где человек обретает Бога? В страдании или сопротивлении?
Что делает человека человеком? Что делает с ним страдание —
очищает или превращает в животное?»
За этими вопросами стоит еврейское представление о Боге как о
281
Господине истории. В «Ночи» узники Освенцима обращались к Нему
с мольбой и надеждой, но ответа не было. Бог молчал, когда гибли
Шесть Миллионов. И герой повести восстает против Бога: «Я больше
не мог жаловаться. Напротив, я чувствовал себя очень сильным. Я был
обвинителем, а Бог — обвиняемым. Мои глаза открылись, и я
оказался одинок, чудовищно одинок в мире — без Бога и без человека. <...>
Я был всего лишь пеплом, но чувствовал себя сильнее, чем этот
Всемогущий, к которому моя жизнь была привязана так давно».
Поэтому герою «Рассвета» больше не о чем говорить с Богом, к Нему
Элиша ни разу не обращается по имени. А ответ на свои вопросы он
пытается найти не в еврейской вере, а в светской идеологии сионизма:
чтобы выжить и сохраниться, еврейский народ сам должен стать господином
своей истории. Для мыслящего в религиозных категориях Элиши это
значит: человек становится на место Бога. В мире романа для этого
требуется одно — научиться убивать, сохраняя ощущение своей правоты.
После первого террористического акта Элиша «посмотрел на себя из
своего прошлого. И увидел себя в форме — в темно-серой форме СС».
Бог великих обетовании и мессианской надежды умер в Освенциме.
Но Элиша не может обрести спокойствие, потому что на глубине
своего существования он хранит верность мертвому Богу, к которому его
жизнь «привязана так давно» — и навсегда. Причина его мучений —
именно эта верность, невозможная и бессмысленная. Верность
неизвестно кому или тому, кому, быть может, все это безразлично.
Элиша хочет спросить у товарища по оружию: «А может, Бог — бог
войны — тоже носит форму?» И дальше мы читаем: «Но я промолчал.
Я подумал: Бог не носит форму. Он, скорее всего, участник
Сопротивления. Бог — террорист».
Элиша не может принять Бога, благословляющего убийство, но и
отвергнуть такого Бога он не в состоянии. Он убивает заложника. В
романе этот «абсолютный акт» затрагивает все существо юного палача и
становится тождественным самоубийству. «Ну вот, — подумал я, — это
произошло. Я убил. Убил Элишу.» Вот так — без попытки катарсиса,
примирения, «снятия» — заканчивается «Рассвет».
В романе «День» (1961), завершающем трилогию, снова возникает
мотив утраты смысла и самоубийства. Элиэзер, главный герой этой книги,
тоже выжил в лагерях уничтожения, стал журналистом и работает в Нью-
Йорке. Он попадает под машину. Окружающие принимают это за
несчастный случай, но читателю ясно: мир погибших в Катастрофе
притягивает героя. В больнице его тело отказывается бороться за жизнь. Элиэзер не
способен жить среди людей, не причастных к памяти о его мертвых.
Мир Элиэзера — это мир уцелевших, то есть евреев, переживших
геноцид. Это мир «тех, кого случайно пропустила судьба,
заживо-мертвых». Они избежали судьбы большинства, которые были задушены в
газовых камерах и, став пеплом, развеяны по ветру из труб лагерных
крематориев. Но прежде всего это мир погибших. «Все укрылось в небе,
— думает Элиэзер ночью накануне «несчастного случая». — И какая же
пустота здесь, на земле! <...> Наши мертвые уносят с собой в иной мир
не только одежду и пропитание, но и будущее своих потомков. <...>
Планета опустошена, и гигантский поезд все унес в небо».
282
Мир героя закрыт для посторонних, даже для любящей его
женщины. Ведь это мир Сары, которую в двенадцать лет сделали в
Освенциме проституткой для лагерных офицеров. «Тот, кто слушает Сару и не
меняется, кто входит в мир Сары и не создает себе новых богов и
религий, тот заслуживает смерти и уничтожения. Одна лишь Сара была
вправе судить, что есть добро, а что зло, вправе отличать подлинное от
того, что хочет им казаться», — думает Элиэзер.
Классическое богословие — и еврейское, и христианское —
занималось теодицеей, оправданием Бога перед лицом мира, в котором нет
справедливости. А герой духовной автобиографии Эли Визеля снова и
снова обвиняет Бога: «Я никогда не мог понять, почему Бог <...>
обязательно хочет убить человека, которому удавалось Его увидеть. Теперь
мне все стало ясно. Богу стыдно. Бог любит спать с
двенадцатилетними девочками. И Он не хочет, чтобы об этом знали. Тот, кто это видел
или угадал, должен умереть, чтобы не раскрылась тайна».
Смысловой центр «Дня» — встреча мира мертвых и случайно
выживших с большим миром, где люди существуют так, будто
Катастрофы не было.
В романе этот мир, существующий помимо Освенцима, символически
представлен врачом, помешавшим Элиэзеру умереть, и художником,
другом Элиэзера, который внезапно, подобно младшему из собеседников
Иова, появляется в самом конце. Место встречи двух миров — сознание и
искалеченное в результате «несчастного случая» тело Элиэзера. Художник
Дюла пишет в больнице его портрет. Изображение вбирает в себя не
отпускавшую Элиэзера тягу к смерти. Художник сжигает портрет и этим
символическим актом освобождает своего друга для жизни среди живых.
Но роман заканчивается словами о том, что художник «забыл
забрать пепел». Пепел — символ посмертного бытия погибших.
Счастливый конец отменяется, герой остается со своими мертвыми.
Категория памяти, а также мотив свидетельства связывают те два
направления, которые по внешним, тематическим признакам можно
выделить в творчестве Э.Визеля. Первое направление — это тема
Катастрофы. Второе — история еврейского народа, прочитанная и
пересказанная человеком, который вырос в хасидской среде, прошел через
Освенцим и стал американским профессором. После Освенцима, этой
попытки геноцида, который был задуман и идеологически
обосновывался как создание нового человечества, свободного от евреев, само
повествование об истории евреев приобрело характер свидетельства —
не меньше чем рассказ о лагере.
Для Э.Визеля писатель — это прежде всего свидетель, а его
творчество — это свидетельство и нравственный акт.
Март 1993
Примечание
'В Израиле и США на русском языке опубликованы несколько книг Э.
Визеля. У этих русских переводов есть существенный недостаток — они
выполнены не по французским оригиналам, а по английским переводам.
«Если есть на свете детский бог»
*
1
итатель «Октября» познакомится с двумя эссе Эли Визеля,
которые входят в его сборник «Весть Библии»**. По жанру все
собранные в этой книге эссе приближаются к мидрашу.
Мидраш (букв, «изучение», «толкование») — общее
название для различных по методу и цели толкований текстов из
еврейского Священного Писания. Как особый жанр мидраш возник в
первые века новой эры, то есть в эпоху формирования раввинистичес-
кого иудаизма.
Для мудрецов эпохи Талмуда тексты Писания выполняют ту же
функцию последнего критерия истины, источника бесспорных фактов, что
и природа во многих философских системах. Писание для еврейского
ученого той эпохи заменяет природу. Мидраш основан на
предпосылке: человек способен прояснить смысл Писания посредством
размышлений и логических операций. Почему? Почему создатели раввинисти-
ческого иудаизма полагали, что разум, действующий в рамках Писания,
порождает истину? Потому что они верили: человеческий разум создан
«по образу и подобию» Божественного разума, он способен
воспроизвести творческий акт Бога, которым была создана Тора.
Творцы мидрашей стремились объяснить то, что им представлялось
противоречиями в Библии. Мир Талмуда уже очень далек от Библии
многие места были для мудрецов той эпохи столь же «темными», как и для
нас. Они истолковывали эти места и устраняли противоречия, пользуясь
доступными им средствами и исходя из своего горизонта понимания.
Естественно, к исследованию авторов мидрашей побуждал не
академический интерес. Сначала в жизненной ситуации еврейской общины
возникал вопрос, потом — ответ, а уж затем раввины обращались к
Писанию для обоснования правильности этого ответа. В ситуации первых
веков новой эры вопрос задавался о возможностях выживания
Израиля в новых условиях, когда иерусалимский Храм уже давно лежал в
развалинах, а народ был рассеян по свету и обречен жить под властью
чужих и часто враждебных правителей.
Ответом на этот вопрос стал иудаизм Талмуда и мидрашей.
Толкование Писания, предложенное Эли Визелем, опирается на
*j
классические мидраши и при этом отвечает на вопрос, возникший из
жизненной ситуации автора — еврея, спасшегося из Освенцима и пе-
* Предисловие к публикации глав из книги Э. Визеля «Весть Библии». —
«Октябрь» № 7, 1994, с. 160-161.
** Elie Wiesel. Celebration Biblique. - Paris, 1975.
284
режившего Катастрофу европейского еврейства в годы господства
национал-социализма.
Вопрос, который движет Эли Визелем в его интерпретациях
Библии, как и во всем его творчестве, звучит, насколько я понимаю, так:
«Почему Бог не оправдал надежд своего народа, почему Он не
выполнил своих обещаний, почему Он оказался неверным и злым Богом?»
На этот вопрос еврейские мыслители нашего времени отвечали
по-разному. Мартин Бубер предложил символ «затмение Бога» как указание на
тайну зла. Несколько писателей следующего поколения (среди них и Э.
Визель) разработали представление об уникальности Катастрофы, которая
понимается как сверхисторическое откровение Зла посреди истории XX
века. Идее уникальности вызывающе противостоит подход Ханны Арендт
(«Эйхман в Иерусалиме») — разгадка Катастрофы в «банальности зла».
И теперь для Эли Визеля понимание между людьми, их братство
возможны не как дар Бога, а вопреки божественному.
Роман Э.Визеля «Город Удачи» заканчивается притчей:
«Легенда рассказывает, что однажды человек обратился к Богу с
такими словами:
— Давай поменяемся. Стань человеком, а я стану Богом. Только на
одну секунду.
Бог ласково улыбнулся и спросил:
— А ты не боишься?
— Нет. А ты?
— А я боюсь, — ответил Бог.
Но просьбу Он выполнил. Бог стал человеком, а тот занял Его
место и тут же воспользовался своим всевластием — он отказался вернуться
в прежнее состояние.
Поэтому ни Бог, ни человек больше не были тем, чем они казались.
Прошли годы, столетия, может быть, даже вечности. И неожиданно
драма достигла кульминации. Прошлое для одного и настоящее для
другого стали непомерно тяжелым бременем.
Но освобождение одного связано с освобождением другого, и
поэтому они снова начали разговор, отзвуки которого доносятся до нас в
ночи. Эти отзвуки полны ненависти, сожаления, а больше всего —
бесконечной тоски».
Здесь автор пытается как-то объяснить свой чудовищный образ злого
Бога — образ, спокойно жить с которым он не в состоянии: но усилие
оказывается тщетным, оно не удовлетворяет Э. Визеля, и в эссе «Иов, или
Революционное молчание» автор снова целиком на стороне своего героя
— против Бога. Автор эссе хочет верить, что Иов не был сломлен и устоял
в своем бунте. Точно так же в публикуемой здесь «Историия первого
геноцида» главным виновником убийства оказывается сам Бог.
Но как отождествить несправедливого Бога с добрым Властелином
мира, который когда-то давно, до прихода немцев, жил в трансильванском
городке Сигете, там, где жил и мальчик — хасид Элиэзер, которому
предстояло случайно выжить в Освенциме? И как может принять жестокого
Бога этот бывший мальчик, сполна испытавший то интимное отношение
к Всевышнему, которое, собственно, и называется «религией»?
Нет, это невозможно.
Из этой невозможности возникает напряжение, на котором
держится творчество писателя Эли Визеля.
Май 1994
285
чва и судьба*
Кричат мне с Сеира: сторож, сколько [осталось §о конца] ноны}
Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.
Исайя 21:11 ел
?
Один ребе спросил учеников: как определить, что ночь
кончилась и начался день? Один ученик сказал: «Может, когда
издали отличаешь овцу от собаки?» — Нет, — ответил ребе.
«Может, — сказал другой ученик, — когда издали отличаешь
яблоню от сливы?» — Нет, — ответил ребе. «Но как же?»
спросили ученики. «Если, глядя в лицо человеку, вы видите в
нем брата, значит, наступил рассвет. А если не видите, то
знайте, что еще продолжается ночь».
Хасидская притча
ейчас, когда трилогия Эли Визеля «Ночь. Рассвет. День» вышла
у нас отдельной книгой в переводе с французского Ольги
Боровой, мне показалось, что теперь я уже могу предложить
читателю собственные размышления, связанные с творчеством
Э. Визеля. Ведь он уже давно стал для меня настоящим
спутником и собеседником, стал моим — как Дитрих Бонхёффер, как о.
Сергий Желудков, как поэт Мария Петровых, как еще очень немногие
(часто далеко не самые великие) писатели нашего века.
«Ночь» Эли Визеля американские школьники часто изучают в
курсе истории, когда речь идет о нацизме, второй мировой войне и Шоа,
Катастрофе европейского еврейства. Но эта маленькая книга — не
просто об Освенциме, о геноциде. Ее главная тема ~ отношения между
автором и Всевышним. И это главная и почти единственная тема
тридцати с лишним книг, сильных и слабых, написанных Эли Визелем.
Что я, христианин, могу понять в отношениях между бывшим
еврейским мальчиком, маленьким хасидом, который когда-то жил в
трансильванском городке Сигете, и его (тоже вроде бы бывшим)
еврейским Богом, который (если верить мальчику) тоже когда-то жил в этом
городке?
Чужой для меня мир, чужой для меня Бог. Да-да, а про единого Бога
трех авраамических религий пусть теологи и интеллигентные миряне
расскажут армянам, вырезанным при Абдул-Гамиде или уничтоженным
в месопотамской пустыне Дейр-Зор. Членам бывшего «зрмени миллет»
Османской империи полезно будет узнать про общего Бога армян и ту-
Публикуется впервые.
286
рок. Пусть участники иудео-христианского диалога возьмут на улице за
руку еврейского ребенка, которому в Кишиневе 1903 года православные
погромщики забили гвозди в глазницы, и объяснят ему, что он
поступает неправильно, когда, издалека увидев на своем пути кнессию,
христианскую церковь, обходит ее стороной. Пусть покажут ребенку, что
убьющие его поклоняются тому же Богу.
Мудрецы эпохи формирования Талмуда смотрели на эту проблему
гораздо более трезво. Если человек поклоняется Всевышнему,
благословен Он, то он следует Его Торе. Значит, этот человек — еврей. В га-
лахическом мидраше Сисррей Дварим читаем: «Каждый, признающий
чужое служение [идолопоклонство], отвергает всю Тору, а каждый,
отвергающий чужое служение, признает всю Тору».
Но в ту же эпоху утвердилось более гибкое представление, понятие
о «праведниках народов мира», соблюдающих союз Всевышнего с
Ноем, но не знающих единственного Бога Синайского союза. Со
временем к «Ноевым сынам» стали относить мусульман, так как
монотеистический характер ислама (в отличие от христианства) не вызывал у
евреев сомнений. В Тосефте (Санх 13:2) читаем: «Праведники народов
мира [те, кто соблюдает семь заповедей, данных Ною] имеют долю в
грядущем мире». Однако евреи не отождествляли Аллаха мусульман с
YHWH, одним Богом Синайского Договора. Что же касается христиан,
то евреи причислили их к «Ноевым сынам» лишь в позднем
средневековье, — насколько я понимаю, скорее по внешним, политическим
причинам, то есть не вполне искренне.
Мне хочется сказать, немного заостряя и (как я надеюсь) выявляя
тенденцию и мотив исторического развития: «единый Бог
монотеистических религии» — конструкция даже не систематической теологии,
возведенная с помощью логики и мистики, а скорее все же политически
обусловленная идея.
Исторически это подтверждается тем, как каждая из «авраамичес-
ких религий» (иудаизм, христианство и ислам) истолковывала
остальные. Особый статус «народов Писания» в исламе и евреев в
средневековой Европе был определен прежде всего
социально-политическими соображениями.
В.В. Розанов, писатель с очень развитым «обонятельным и
осязательным отношением» к этим делам, правильно учуял здесь фальшь:
«Если Бог и истинный у одного народа, у другого — непременно диа-
вол». («Юдаизм», 1903. Цит. по: «Тайна Израиля», с. 115.) И
феноменологически он прав: это гораздо более честный взгляд на сам этос
исторических религий Запада — еврейства, христианства и ислама, чем мисти-
ко-политическое представление о религиях как разных окнах, выходящих
в одно небо. Другой русский писатель, Г.С. Померанц, очень
красноречиво проповедовал у нас это представление, но за всей
философичностью и всей мистичностью, за цитатами из писем поэтессы З.М. о
духовной красоте Господа нашего Иисуса Христа я, увы, по-розановски
<-*
чувствую главный мотив:
«Что бы ни делали, лишь бы письки не трогали», сказала
воспитательница детсада.
287
И для Эли Визеля: единство, понимание между людьми, их братство
возможны не в едином Боге, а вопреки божественному.
Еврейский Бог устроил своему народу Освенцим, но люди оказались
сильнее Бога, братство между ними все равно возможно (Педро в
романе «Город Удачи»). В мире Визеля именно человек — вопреки всему —
способен к творчеству, например к деторождению. Бог*в этом мире не
способен к положительному творчеству, но Ему хочется проявить себя
и Он убивает созданных человеком детей.
Главный вопрос, над которым мучается Визель; вопрос, для мучений
над которым он стал писателем: «Почему Бог оказался плохим?
Почему он злой и безнравственный?»
Вот что: за «единым Богом» стоит неинтерес к истине и безразличие
к неповторимому, непереводимому на язык философии смыслу любой
религиозной культуры. Блуждающий в «материально-телесном низу»
ум Розанова ближе к смыслу «религиозного», чем стерильный ум тех,
кто устремился в горние выси и поднялся над всяким
партикуляризмом. Розанов ближе к сфере того интимного, теплого, темного,
пропахшего бытом отношения к Партнеру, — того отношения, которое
собственно и формирует общину веры, — того отношения, которое и
называется «религией».
То, о чем я сейчас думаю, явно перекликается со словами еще
одного моего собеседника, Мартина Бубера: «Под историей веры я понимаю
историю человеческого участия (насколько оно известно нам) в том, что
произошло между Богом и человеком. Соответственно, под историей
веры Израиля я понимаю историю участия Израиля (насколько оно
известно нам) в том, что произошло между Богом и Израилем. В истории
веры Израиля есть нечто, что поддается познанию только изнутри
Израиля, так же как в христианской истории веры есть нечто, что
поддается познанию только изнутри христианства. И я прикасался к этому
и
второму «нечто» лишь с непредвзятостью и уважением, которые
свойственны тому, кто слушает Слово» («Два образа веры»).
Однако пора заметить, что Эли Визель (как и еврейский теолог
Эмиль Факенхайм) потрудился над изданием идеи «уникальности»
Освенцима (а она бы явилась непременно!), которая уже явно принесла
вред еврейскому народу, как об этом не раз писали израильские
авторы. Нельзя создавать культ страдания.
Продумывая все это, я стал по-новому понимать тему «христианство
после Освенцима», о которой много писал за последние годы. Чувство
христианской вины, Schuldfrage, — все это ни к чему и может стать даже
вредным. В Германии, в городе Гёттингене, я когда-то видел
испоганенный мемориал немецким полкам и дивизиям, полностью
уничтоженным в Верденской битве 1915 г. — вероятно, это было самое
кровопролитное сражение той войны. Кресты поломаны, плиты с
названиями полков разбиты и изгажены, и повсюду был намалеван лозунг «Nie
wieder Deutschland» — «Да не будет больше Германии». Через
несколько лет я стал то и дело встречать в прессе сообщения о том, что
германские власти не хотят признать глубокие корни ксенофобии, которую
проявляет молодежь. Не нужно культивировать вину, тем менее —
коллективную вину или ответственность за что бы то ни было. Это часто
288
кончается плохо. Нужно совсем иное — бескорыстное стремление
понять другого человека в его инакости. — Вот начало всего доброго.
«Диалог» не нужен. Соваться со своими болячками и обидами, со своими
трудностями не нужно (всё равно их решать самому). Нужен интерес к
другому.
Подумаем о важном моменте при осмыслении «еврейско-христиан-
ского диалога» — не нашего, а западного. Резолюция Рейнского
синода евангелической церкви в Германии (1980) говорит об исповедании
Иисуса как «Мессии Израиля, который есть Спаситель мира и который
соединяет народы мира с народом Божьим». Иисус для христиан —
еврейский Мессия! Получается, как ни крути, что мы утверждаем следу-
XJ _ *-*
ющее: мы знаем про еврейскую веру и историю этой веры нечто, чего
сами евреи не знают, и это нечто «объективно» оказывается гораздо
более важным, чем все остальное — чем все то, что евреи про себя знают.
Как с этим быть? Это ли не наглость?
Нужен не диалог, а именно опыт обсуждения чужих проблем, участия
в чужих разговорах, опыт обсуждения вопросов, сформулированнных
другими (Р. Коллингвуд пишет, как сильно это способствовало
становлению его мышления.) Мне ближе, чем идея уникальности, подход Х.А-
рендт («Эйхман в Иерусалиме») — разгадка Катастрофы в
«банальности зла». От «уникальности» один шаг до банального в своей
провинциальности расизма американского еврея р.Меира Кахане («Never more!»
называется его книга, переведенная на русский в Москве моим
другом Авигдором Эскиным и изданная в Израиле), ставшего лидером
праворадикальной израильской партии «Ках», а затем погибшего в Нью-
Йорке от руки террориста (возможно, своего духовного брата с той,
арабской, стороны). Путь «уникальности» не ведет к пониманию.
Не нужно заботы о благе другого (о том, что я считаю его благом).
Нужно только понимание, даже меньше — нужна просто честная
попытка понять, вырваться из одиночки. Всё прочее приложится.
Человек одинок — это норма. Ты не одинок — это нуждается в
доказывании.
Апрель 1994
19 Заказ 257 289
Анна Франк в Москве
28 ноября в Государственной библиотеке иностранной литературы
состоялось торжественное открытие выставки «Мир Анны Франк (1929-1945)».
Материалы выставки привез в Москву голландский Центр Анны Франк.
Здесь надо напомнить, что «Дневник Анны Франк»,
опубликованный у нас в 1960 г., стал одной из важных книг, формироваваших у
моего поколения представление о добре и зле.
С тех пор, насколько мне известно, эта книга в нашей стране не
переиздавалась, и сегодняшней молодежи имя Анны Франк, возможно,
мало что говорит.
Под влиянием детских воспоминаний я и принял приглашение
посетить открытие выставки в «Иностранке».
В своем вступительном слове Иохана Книсмейер, директор Центра
Анны Франк, заметила: «Мы не чисто еврейская организация. В нашей
деятельности мы руководствуемся основополагающими понятиями о
человеческом долге». А заместитель директора библиотеки Екатерина
Гениева призвала собравшихся «к сопротивлению и к свидетельству».
Архиепископ Смоленский Кирилл, председатель отдела внешнецер-
ковных сношений Московской Патриархии, построил свое слово как
ответ на вопрос: «Можно ли найти смысл в бессмысленном
страдании?». Он говорил как христианский богослов и представитель Русской
Православной Церкви.
Наверное, владыке Кириллу известно (хотя бы в силу служебного
положения), что вопрос о возможном смысле Катастрофы
европейского еврейства стал мучительным камнем преткновения для современной
еврейской религиозной мысли. Удовлетворительного ответа на вопрос
о смысле этого события для веры не найдено.
Конечно, христиане осмысливают Катастрофу, исходя из своих ве-
роучительных предпосылок. Так, архиепископ Кирилл говорит: «Во
всем этом ужасе лишь одно несет укрепление: всякое невинное
страдание имеет своим прообразом Голгофское страдание ... Безвинное
страдание очищает сей мир и находит отзыв в горних мирах. Неизвестно,
смогли бы мы вообще сохранить человеческое достоинство, не будь в
мире этого безвинного страдания ... Быть может, страдание и гибель
девочки Анны Франк имели искупительный смысл».
Слушатели вежливо поаплодировали этой речи. Аплодировал
главный раввин Московской хоральной синагоги Шаевич, аплодировала
руководившая открытием выставки Екатерина Гениева ...
Тут я не удержался и бросил реплику: «Это же богохульство!» Мне
трудно судить, трудно быть объективным: возможно в ту минуту
кощунственный смысл слов архиепископа Кирилла не поранил тех людей, чей
слух привык к убаюкивающему звучанию христианской фразеологии. И
все же я заметил: после его речи среди публики раздался легкий ропот.
«Страна и мир», № 6, с.24-25. — Мюнхен, 1990.
290
Как мне позже сообщили, один из приглашенных на церемонию
зарубежных раввинов даже покинул зал.
Конечно, в наших условиях торжественное мероприятие — не
лучшее место для богословских дискуссий. Да и речи были составлены
заранее — для удобства перевода. Наверное, поэтому никто не пытался
возразить владыке Кириллу. Лишь посол Нидерландов сказал:
«Архиепископ хотел внушить нам долю оптимизма относительно безвинных
страданий ... Но все же в мире слишком много зла, и надо думать о том,
как спасать от него людей ...»
Однако слова о необходимости руководствоваться
основополагающими принципами о долге, слова о свидетельстве и защите человеческого
достоинства уже прозвучали, и они, как мне казалось, звучали обязывающе.
Поэтому я написал Екатерине Юрьевне Гениевой записку с
просьбой предоставить мне слово на 2-3 минуты после того, как
предусмотренные программой выступления закончатся.
Когда записка была готова, я вдруг обнаружил, что окружен кольцом
молодых женщин (как выяснилось сотрудниц библиотеки, в задачи
которых входило наблюдение за порядком). Это живое кольцо оттеснило
меня подальше от первых рядов публики. И тут появился милиционер,
предложивший мне покинуть помещение: знавшие свое дело
сотрудницы сказали ему, что я могу «сорвать мероприятие».
Но мне повезло. Эту сцену заметили знакомые, успокоили
милиционера и передали мою записку Е. Гениевой. Ее ответ был
отрицательным. А мне хотелось сказать нечто очень простое.
Мы хорошо знаем, кто уничтожал народ, к которому принадлежала
девочка Анна Франк. Мы немало знаем и о жертвах наших собственных
лагерей (владыка Кирилл сказал и о них, развивая мысль об
искупительном смысле страдания невинных). Мифологизация геноцида — а к
этому сводится христианская идея «искупительного смысла» в такой
трактовке — снимает ответственность и с палачей, и с безразличных
наблюдателей. А мы при этом избавляемся от чужой боли.
И в самом деле, архиепископ Кирилл вообще не упомянул о тех, на
ком лежит реальная вина, ничего не сказал и о молчании мира,
сопровождавшем (и делавшим возможными) величайшие преступления
против человечества, совершенные в нашем веке. Он ничего не сказал о
раскаянии — а это важнейшее в христианстве понятие дает
возможность для принципиально другого религиозного истолкования того, что
христианские народы сделали с евреями.
По этому умолчанию и по всему смыслу сказанного православным
иерархом выходит, что сам Бог направлял палачей, чтобы мы «могли
сохранить человеческое достоинство». Так Он позаботился о нас.
Вот что уверенно и спокойно сказал о высшем смысле чужого
страдания владыка Кирилл.
Как христианин я считаю это богохульством. Но это не все. В таких
рассуждениях об «искупительном смысле» явно различимо неуважение
к памяти жертв, теологически обоснованное безразличие к реальным
человеческим страданиям, просто к судьбе одной еврейской девочки —
Анны Франк.
В сущности — то самое безразличие, которое обрекло жертвы на их
участь.
Вот и все, что я хотел тогда сказать.
Декабрь 1990
19* 291
«Еврейский вопрос» в русской
о
интеллектуальной жизни
1985-1995*
Дейвиду Ваксбергу
еня интересует публично значимый образ евреев в русской
культуре (в частности, в политике) последнего
десятилетия.
Что было известно около 1985 г. об отношении русской
публики к евреям? Возможность публичного выражения в
ту пору была ограничена, поэтому правильно будет сказать: публично
1.J и
значимой позиции по «еврейскому вопросу» просто не существовало.
Ведь об общественном мнении можно говорить лишь там, где имеется
общество — специфическая и исторически локализованная форма
организации и взаимодействия индивидов и коллективов, которая впервые
возникла в Европе Нового времени. Я думаю, что при советской
власти у нас не было ни государства (в смысле Нового времени), ни
общества. В свое время я попытался обосновать это мнение в отдельной
работе1.
Пусть публично значимой позиции не было, но что же было? Мы
знаем: была юдофобия черни, была дискриминация евреев, быладемо-
низация сионизма как разновидности расизма или как жидовского
заговора с целью захвата господства над миром, было несуществование
еврейской культуры, был интериоризированный антисемитизм у
интеллигенции еврейского происхождения. Вероятно, существенным
элементом в квазипубличном образе «еврейского» было знание о
существовании «израильского канала»: почти всем людям (прежде всего из
числа политических оппозиционеров), которые соглашались на
предложение властей эмигрировать, приходилось обзаводиться фиктивными
приглашениями — якобы от родственников в Израиле.
Зарубежная (эмигрантская и израильская русская) пресса
воспроизводила те идейные блоки по «еврейскому вопросу», что сложились уже
давно — в первые три десятилетия XX века. То же самое происходило
и в русском подполье. Я помню, что в начале восьмидесятых годов в
*В основе предлагаемой работы — доклад, прочитанный, на исследовательском
семинаре Института по изучению современного еврейства Еврейского
университета в Иерусалиме (24 января 1996 г.). «Знамя», № 9, 1996, с. 182-187.
292
самиздате мне попадались копии книг Сергея Нилуса с «Протоколами
сионских мудрецов».
Общим местом в подпольных разговорах и в либеральной
эмигрантской публицистике было представление о том, что будущий крах
коммунизма приведет к массовым беспорядкам, среди которых будут
и еврейские погромы, а в результате крушения коммунизма к
власти придут русские националисты. Соответственно, в невидимых
миру кругах национально мыслящей интеллигенции семидесятых
годов поддерживалась идея о еврейском характере большевизма, о
вине евреев перед русским народом, и т.д. Назову для примера са-
миздатский журнал Владимира Осипова «Вече» (начало-середина
семидесятых), а в начале восьмидесятых —
православно-шовинистическую публицистику Геннадия Шиманова (в частности, его журнал
«Многая лета»).
Оттепель второй половины 80-х гг. и началась с реанимации или
выхода на поверхность всех этих старых содержаний. Но период
рецепции пришедших из прошлого готовых идейных блоков был очень
кратким, пусть и весьма бурным, — с миллионными тиражами советских
толстых журналов, на две трети заполненных перепечатками и
перепевами эмигрантских публикаций2. Этим содержаниям не была суждена
новая жизнь, а большинству деятелей подпольного контрмира не
пришлось исполнять новые публичные роли. И вообще — новое время
потребовало новых героев, эмигрантский и подпольный
«альтернативный» истеблишмент оказались по большей части не удел.
Можно констатировать, что даже накануне распада коммунизма
«еврейский вопрос» был в центре внимания и в официальной советской
идеологии. Об этом свидетельствовало наличие в СССР
организованного антисионизма, в частности отделов по изучению Израиля в разных
академических и неакадемических заведениях, существование
Антисионистского комитета советской общественности (АКСО),
непропорциональное стратегическому или какому бы то ни было значению
Израиля количество антисионистских публикаций в нашей стране и пр.
Причины этого ясны. С позднесталинских лет евреи были чем-то
вроде потенциального внутреннего врага, представителями
американского империализма, то есть слугами Дьявола советской мифологии. Здесь
советская и русская националистическая мифологии обретали общий
элемент. Обе они содержали теорию заговора, в рамках которой было
место для евреев. Итак, и для официальной советской и для
националистической мысли «еврейский вопрос» имел метафизический смысл,
то есть не сводился просто к отношению к евреям как одному из
национальных меньшинств.
Такая ситуация сохранялась в идеологии и в первые годы
перестройки, пока еще держались старые критерии оценок. Первое
публичное проявление общества «Память» с его понятием «сионизма» в
смысле «Протоколов» и мирового еврейского заговора привлекло в
мае 1987 г. всеобщее внимание, никак не соответствовавшее
реальному политическому весу этой группы. Однако пока сохранялась
преемственность официальной идеологии (в виде горбачевского
социалистического выбора), сохранялся и официальный антисионизм,
293
даже вопреки тому, что сами власти считали своими реальными
интересами: сравни проблему восстановления дипломатических
отношений между СССР и Израилем.Правда, под конец своего
существования АКСО опубликовал еврейскую контрпропаганду, вышедшую
из-под пера Иосифа Флавия — In Apionem.
В марте 1988 г. я участвовал — в качестве оппонента
специалистов из официальных институций — в обсуждении темы
«антисионизм/антисемитизм в официальных масс-медиа», которое было
организовано в московском Доме ученых отделом межнациональных
отношений ЦК КПСС, и там я предложил дедемонизировать сионизм
и считать его просто еврейским национализмом или (что то же
самое) еврейским национальным (национально-освободительным)
движением, но это мое предложение тогда не встретило понимания
и явно оказалось преждевременным3.
После короткого бессодержательного переходного периода (вторая
половина 1989 — первая половина 1991 г.) прежняя идеология была
просто заменена на антикоммунистическую, американский
империализм стал нашим лучшим другом, в прессе началась массированная
проамериканская пропаганда, и политический антисионизм как
коррелят антиамериканизма («сионизм — передовой отряд империализма»)
тем самым просто утратил смысл.
Ожидавшийся по мере ослабления коммунистической власти
всплеск антиеврейского насилия (вроде того, что был в годы
гражданской войны) не состоялся. Среди более или менее организованных
еврейских кругов в Москве дважды (в 1988 и в 1990 гг.) распространялись
сведения о близких погромах. Насколько я знаю, в большом обществе
об этом почти ничего не было известно.
В конце 80-х — начале 90-х годов, будучи одним из редакторов
правозащитного еженедельника «Экспресс-Хроника», я собирал, пользуясь
разветвленной сетью корреспондентов, информацию об актах
идеологически мотивированного насилия по отношению к евреям. Были
зарегистрированы несколько случаев осквернения могил на еврейском
кладбище в Вострякове, а в 1989 г. — погром армянских кварталов в
одном из узбекских городов, задевший также евреев и русских (эта
информация достигла меня одновременно по армянским и еврейским
каналам).
И все же, почему не было антиеврейских погромов? Я думаю,
объяснение этого очевидно. Евреи в России и всем бывшем СССР уже
давно не существуют или почти не существуют (или, во всяком случае,
пока что не существуют) как национально или религиозно
определенная группа со своими интересами, которые могут сталкиваться или как-
то иначе соотноситься с интересами других групп. (Очевидно, что в
революционном движении начала XX в. и затем — во властных
структурах 20-х годов евреи были очень широко представлены
[«overrepresented»] не в своем качестве евреев, а из-за сочетания
внешних по отношению к еврейству и внутриеврейских причин,
приведших к высокой социальной мобильности этой этнической группы, но
для сегоднешней ситуации все эти обстоятельства уже давно стали ир-
релевантными.)
294
ь
Мы видели, как за истекшие десять лет по мере распада советской
власти актуализировались и привели к насилию и кровопролитию все
потенциальные конфликты между этническими группами, как эти
конфликты вызвали затяжные войны на окраинах, изгнание сотен тысяч
людей из родных мест, разрушение городов на Северном Кавказе и в
Закавказье. Еврейский же вопрос в СССР существовал главным
образом в сфере идеологии. Грубо говоря: на самом деле евреи никому не
мешали, только раньше это не было известно.
***
Естественно, здесь я ожидаю вопроса читатетелей: а разве, к примеру,
притязаниям Гитлера евреи мешали? Или: а разве вся богатая история
антиеврейского насилия в Европе Средних веков и Нового времени
адекватно объясняется тем, что интересы инициаторов насилия
сталкивались с групповыми интересами евреев?
Для начала замечу: весьма вероятно, что насилие здесь не возникло
бы без участия некоторых мифологических конструкций (в одном
случае — это мифы христианства, в другом — мифы расовых теорий, «гер-
манства», «почвы и крови»). Да я и сам обращал внимание читателей на
миф как на смысловое образование, важное для понимания даже вполне
реальных межнациональных конфликтов, например событий «в
Нагорном Карабахе и вокруг него» в 1988-92 гг.4
Поясню, в каком смысле я использую слово «миф», и почему я
считаю его важным для интерпретации даже таких вполне реальных
конфликтов, в которых два народа претендуют на одну страну (отношения
евреев и арабов по поводу Палестины/Земли Израиля или армян и
азербайджанцев по поводу Нагорного Карабаха/ Арцаха). Мифом будем
называть социально значимое верование (или «знание» в смысле
социологии знания), позволяющее включенному в некое сообщество
человеку осмыслить свою жизнь. Миф предписывает человеку нормы и
ценности, его главная характеристика — действенность5.
Приведу простой пример функционирования мифа в моем
понимании. 30 августа — 1 сентября 1995 г. в поселении Неве-Илан около
Иерусалима состоялся организованный израильскими левыми
политическими организациями семинар для репатриантов из России, большая
часть участников которого в бытность свою на «доисторической
родине» принадлежала к гуманитарной интеллигенции. Тема семинара: ев-
рейско-арабские отношения, то есть самый жгучий вопрос
политической жизни Израиля Я был гостем этого семинара. В тексте
приглашения на семинар и затем в качестве смысловой рамки для дискуссии был
предложен миф о русской интеллигенции, о ее противостоянии
коммунизму, о созданных и культивируемых ею гуманистических ценностях,
о свойственном русской интеллигенции отрицательном отношении к
насилию, о евреях как важной части русской интеллигенции в
советский период и т.д. Это была простая отсылка к (как я сказал)
«социально значимому верованию/знанию», предположительно разделяемому
295
по крайней мере некоторыми из участников семинара. В той мере, в
какой эта отсылка не срабатывала, предложенная организаторами
семинара смыслообразующая конструкция («миф») оказывалась
нефункциональной и вместо нее некоторые из выступавших предлагали другие
каркасы смысла — доверчивые, беззащитные и интеллигентные евреи
против безродных, жестоких и хитрых арабов, набежавших откуда-то на
нашу землю.
Нельзя спросить, что более верно: что русская интеллигенция —
носительница высоких идеалов или что с арабами следует говорить
только на доступном им языке силы. В невозможности такого вопроса и
проявляется, в частности, нормативная, а не логическая природа мифа.
Слепая прихоть истории столкнула два упомянутых мифа и сделала их
конкурирующими в сознании бывших советских, а теперь израильских
интеллигентов, собравшихся в гостинице киббуца под Иерусалимом. Я
думаю, что вопрос об истинности мифа неважен уже потому, что смыс-
лообразующие конструкции массового сознания (например, религия)
вполне могут функционировать без опоры на реальность. Они не
предполагают фальсификации/верификации посредством фактов и
экспериментов.
***
Теперь я сделаю одно замечание о причинах присутствия
антисемитизма в русских мифах XIX-XX вв.
Прежде всего, я отвергаю как не подтверждаемое фактами то
объяснение антисемитизма, которое содержится в самом еврейском мифе:
согласно этому теологическому или мифологическому объяснению,
вражда к евреям — обратная сторона их онтологической выделенное™
или особости, то есть их уникальной избранности Богом (см. об этом,
например, сочинение американских авторов Прейгера и Телушкина в
русском переводе: «Почему евреи?»). Впрочем, верно и другое —
завистью к этой мифологеме и стремлением узурпировать еврейские
притязания на уникальные отношения с Богом, на избранность,
определяется многое в христианской и исламской юдофобии. Я думаю, что
завистью к народу, обладающему самым настоящим Богом, объясняются и
известные мне случаи перехода в иудаизм некоторых
профессиональных христиан из Западной Европы, даже известных христианских
теологов, — некоторых из них я встречал уже в Израиле. Они искали са-
и ν* *_*
мои-самои подлинной веры, и в ходе этих поисков пришли к мысли о
вторичности и ущербности христианства, о его производности по
отношению к иудаизму.
При разговоре о русском антисемитизме трудно не упомянуть
Ф.М. Достоевского. Достоевский едва ли был близко знаком хоть с
одним евреем6. Тем жутче (и притягательнее) был для него этот яркий
образ «чужих».
Видимо, одна из специфических русских причин неприязни и
вражды к евреям в новейшее время — слабость нашего самоотождествления,
296
вызывающая — в сочетании с присущим нам, как и любому народу,
сознанием избранности — нечто вроде страха перед носителями яркого
мифа об этой избранности.
Здесь имеет смысл сравнить еврейский миф с армянским, — просто
чтобы дать себе материал для обдумывания темы уникальности.
Известные армянофильские параллели между евреями и армянами не
имеются здесь в виду, — я думаю, что сходство между евреями и армянами
сильно преувеличено (и ср. работу, указанную в прим. 4).
И теперь я могу ответить на упреждаемый мною читательский вопрос:
почему даже при отсутствии реального столкновения интересов евреев
с интересами других групп в одних случаях (веймаровская Германия)
юдофобия в интеллектуальной культуре и в массовом сознании
расцветает, а в других (Россия девяностых годов XX в.) — нет?
Просто потому, что с изменением политических обстоятельств евреи
как враги или просто как протагонисты выпали из центральных русских
мифов девяностых годов XX в. Для большинства действующих лиц
политической сцены социальная реальность создается и поддерживается
другими мифами и другими врагами. Таким образом, еврейский вопрос
становится здесь своеобразным case study при изучении сегодняшней
русской мифологии.
В этом — и только в этом — смысле можно говорить о
«нормализации» еврейского вопроса в русской жизни. Речь пока не идет о
нормализации в классическом сионистском смысле слова, то есть о создании
условий для «нормального» функционирования институций еврейской
общины в большом сообществе и для вполне комфортного
самоощущения евреев внутри него.
Однако бытовой антисемитизм, более не поддерживаемый мощью
государства, перестает мотивировать у граждан еврейского
происхождения аутоагрессию и самоненависть. На его проявления можно уже
безнаказанно отвечать по принципу «сам дурак».
В связи с ключевым относящимся сюда обстоятельством сошлюсь
на свидетельство поэта, который ощущал свое творчество «частью речи»
и органом, через который язык высказывает себя: «Судьба слова
зависит от множества его контекстов, от частоты его употребления. В
печатном русском языке слово «еврей» встречалось так же редко, как
«пресуществление» или «агарофобия». Вообще, по своему статусу оно
близко к матерному слову или названию венерической болезни»7. Пресса,
мои наблюдения и устные свидельства респондентов указывают, что и
это изменилось: евреи могут употреблять слово «еврей» не шепотом и
не с вызовом, а просто так, особый статус этого слова теряется на
наших глазах.
Итак, в постперестроечные времена выяснилось, что помимо
прежней официальной антизападнической идеологии, как она сложилась
с позднесталинских времен, для антисионизма уже нет серьезных
оснований, и вместе с ним рухнула и система квазиофициальной дискрими-
297
нации в публичной сфере. Одновременно и «еврейский вопрос» стал
утрачивать свой прежний метафизический смысл для русской
политической культуры. Антисемитизм перестал быть универсальной школой
зла (так его назвал один современный русский писатель). Но не
потому, что мы как общество стали относиться к евреям благожелательнее
(это вопрос конкретного исследования, и к моей теме он прямо не
относится). Кажется, Фейхтвангер называл антисемитизм
международным языком фашизма. Но похоже, что в России «фашизм»
(агрессивный национализм с тоталитарными наклонностями) стал вырабатывать
другой язык, более отвечающий требованиям момента. Существенно и
то, что национализм и империализм в последние десять лет перестали
быть языком власти. Укажу на изменения в языке фашизма:
сравнительно с советскими временами усилился элемент популистской
демагогии, появились новые, более легко распознаваемые образы врага:
«демократы», «новые русские», «черные» и т.д. Серьезных попыток
отождествить демократов или нуворишей с евреями почти не
предпринималось, так как для адресатов фашистской и коммунистической
пропаганды такое отождествление едва ли правдоподобно. Во всяком случае,
стало труднее (менее правдоподобно с точки зрения нужд агитации)
отводить роль «внутреннего врага» евреям. Прямо расистская и
классически юдофобская пропаганда газет вроде «Русского Воскресения»
остается скорее маргинальным явлением.
Всем известно, что антисемитская пропаганда соседствует в
некоторых периодических изданиях и на лотках с пропагандой христианства,
русского национализма и коммунизма. Дело тут, как мне кажется, не
только в том, что политическому измерению всех этих трех
мировоззрений может быть присуща юдофобия, но также и в том, что в
сегодняшней жизни все они имеют общий эмоциональный инвариант или
общий политический смысл, — тоску по мифическому доброму старому
времени. Советские учебники литературы метко называли такие
явления «реакционным романтизмом». Поэтому добрый старый образ
врага оказывается тут не лишним как своего рода знак качества.
Следовательно, юдофобия все же не до конца утратила смысл пароля,
понятного всем «нашим».
Важно отметить, что и сам идеологически обоснованный
антисемитизм некоторым образом нормализовался, то есть перестал считаться в
нашем обществе неприличным и нереспектабельным, ибо и
агрессивная ксенофобия вообще больше не считается неприличной и
нереспектабельной. Какое-нибудь «Возвращение блудного сына» Ильи
Глазунова, вызвавшее столько шуму на выставке в Манеже летом 1978 г., в
сравнении с тем, что способно возбудить чувство неприязни к чужим у
сегодняшней публики, — это как любовные сцены у Тургенева в
сравнении с обложками непристойных журналов, которые мы видим на
каждом шагу на улице. Но как это истолковать? Я бы так и сравнил этот
феномен откровенного, в нацистском стиле, антисемитизма, с хорошо
известной пассажирам московского метро рекламой
ароматизированных запахом розы презервативов, которые «придадут Твоей личной
жизни разнообразие и романтику». В обоих случаях мы имеем дело с
отменой табу, на которых держалась прежняя цивилизация.
298
Наша ситуация отличается от хорошо известных нам параллельных
случаев: Россия начала века или Германия между войнами. Для
националистов и коммунистов «Запад», естественно, остался врагом, но
евреи уже в гораздо меньшей степени ассоциируются с Западом.
Итак, евреи официально признаны просто одним из народов
Российской Федерации. Возникла сеть дневных и воскресных еврейских
школ, в том числе государственная школа в Москве. Высшие
государственные чиновники поздравляют евреев с их праздниками.
Выезд, прежде всего в Израиль, стал рутинным делом. Созданы
всякого рода еврейские организации. Здесь я не говорю о перспективах
еврейской общины в России, это совершенно отдельный вопрос.
Важно лишь то, что общество ведет себя так, будто эта обшина уже
существует как одно из национальных меньшинств. Еще пример: в
апреле 1992 г. у нас впервые публично отмечали День памяти
Катастрофы и Героизма европейского еврейства, и с тех пор отмечают его
ежегодно. По этому поводу бывают публикации в центральной
печати, собрания общественности и пр.
Каков образ еврея и еврейства в сегодняшней русской культуре
(опять же включая политику)?
1. В обыденном сознании, судя по опросам общественного мнения,
прежние антисемитские стереотипы русской культуры присутствуют,
но постепенно ослабевают. Так, евреи отодвигаются назад в списке
ненавидимых народов. Об этом свидетельствуют, например, опросы
ВЦИОМа под руководством Льва Гудкова и Бориса Дубина. Подобные
опросы проводились не раз, разными исследователями, по
инициативе разных заказчиков, по разным методикам, и их результаты хорошо
известны.
2. В интеллигентском сознании, как оно отражается, например, в
публицистике, еврейский вопрос сохраняет в некоторой степени
сверхценность в том смысле, что быть евреем то ли хорошо, то ли плохо.
«Еврей» остается нравственной категорией.
3. В политике. Образа «еврея» в политике вообще нет. Интересно,
что Григорию Явлинскому и Владимиру Жириновскому их еврейское
происхождение не мешает в карьере, не помешало и на выборах в Думу
в декабре 1995 г. Даже электорат Жириновского простил ему еврейское
присхождение. Ельцин недрогнувшей рукой включал в кабинет
министров евреев на ключевые посты, и это никак не тематизировалось в
масс-медиа.
4. Создается положительный образ симпатичного и
дружественного нам Израиля, большая алия интерпретируется как шанс в
отношениях между Россией и Израилем. Сейчас у миллионов русских граждан
есть родственники в Израиле, и уровень социально признанного
знания об этой стране повышается.
Так на наших глазах происходит то, что можно назвать
«нормализацией» еврейского вопроса в русской культуре. Я еще раз подчеркиваю,
что между этой нормализацией и уровнем наших антиеврейских чувств
нет прямой связи.
299
Примечания
1 Лёзов С. Правовое государство в интеллектуальной традиции. — «Страна и
мир», № 5, с. 129-138. - Мюнхен, 1989.
2 См. об этом мою работу Освобождение или выживание? — «Искусство кино»,
№ 1, с. 71-80. — М., 1991. На какой-то момент почудилось, что покойный A.A.
Галич, выразивший в семидесятые годы метания нашей помятой совести, все
же ошибся, сложив: «ЭРИКА берет четыре копии. Вот и всё. И этого
достаточно». Но Галич оказался прав.
3 О диспуте в Доме ученых и сопутствовавших ему обстоятельствах см. Lyosov S.t
Tischschenko S. Anti-Semitism in the Soviet Society. — «Jews and Jewish Topics in
the Soviet Union and Eastern Europe», № 1 (8), c. 10-51. — Jerusalem, 1989.
4 См. Лёзов С. «В Нагорном Карабахе и вокруг него». — «Российская газета»,
1992, 72.
5 См. об этом подробнее в статье «Эрнст Кассирер и философия мифа». —
«Октябрь», № 7, 1993,с. 164-167.
6 См. об этом: У.Лакер. Черная сотня, Происхождение русского фашизма. М,
«Текст», 1994, с.43 -44.
7 И.Бродский. Набережная неисцелимых. — М, 1993, с.12.
Январь 1996
^
овский геноцид и еврейская
идентичность*
ι
ι
Поговорим оо осмыслении геноцида евреев в разных
еврейских сообществах и за их пределами.
Как известно, Катастрофа была крупнейшим массовым
уничтожением евреев, история которых богата такими
событиями. Достаточно вспомнить Великое восстание 66-73 гг.
н.э. или резню евреев при Богдане Хмельницком.
Здесь я не рассматриваю израильскую ситуацию, так как ее
специфика потребовала бы отдельной работы. Я обращаюсь к опыту
крупнейшей общины диаспоры, к опыту американского еврейства. При этом я
не привлекаю обширную социологическую литературу вопроса, а
основываюсь исключительно на личных наблюдениях.
В интеллектуальной жизни общин еврейской диспоры можно
выделить национальный и религиозный полюса. Осмысление
гитлеровского геноцида происходило в поле напряжения между ними. Это
замечание не самоочевидно. Для сравнения вспомним уничтожение черкесов
в XIX в., историю чеченцев в XIX — XX вв. или геноцид американских
индейцев, а также геноцид армян в Османской империи. Мы либо
почти ничего не знаем об осмыслении этих событий в самих
подвергнувшихся угрозе уничтожения сообществах, либо знаем, что система
координат при осмыслении была другой. Замечу, что и для нынешней
армянской идентичности геноцид 1915 г. оказался конституирующим
событием. Тут есть типологические сходства с еврейской
самоидентификацией после Шоа, но есть и различия.
Я не буду подробно рассматривать осмысление Катастрофы,
исходящее из чисто «национального» понимания того, «что такое еврей».
Замечу лишь, что национальное осмысление связано со светским
сионизмом, для которого антисемитизм в некотором смысле заместил
Всевышнего традиционной религии. Для светского сионизма (особенно в
его формативную эпоху) юдофобия столь же вечна, неизменна и
вездесуща, как для еврейской религиозной традиции Бог вечен, неизменен
и вездесущ.
Итак, я буду говорить о еврейском религиозном осмыслении
Катастрофы. Дежурное объяснение: геноцид — это Божье наказание
евреев за их грехи (так, например, у некоторых еврейских ортодоксальных
писателей в США). Это объяснение было неприемлемым для многих.
Доклад в Русском общинном центре Иерусалима. Публикуется впервые.
301
Гитлер
Столь легкое отношение к страданиям и гибели (в частности, детей)
казалось циничным.
Но допустить бессмысленность происшедшего и тем самым вообще
отказаться от теологической системы координат было еще труднее.
Хотелось смысла.
У американских евреев сознание вины (не всегда формулируемое
или адекватно выражаемое) тоже мешало допустить бессмысленность
геноцида. (Как известно, американские евреи чувствовали, что в годы
войны они сделали для помощи европейскому еврейству меньше, чем
могли бы.) Так стало возникать религиозно и мифологически
окрашенное понимание Катастрофы — то, что я буду называть еврейским
мифом о катастрофе.
Чтобы прояснить, что имеется в виду, я упомяну (отчасти по
контрасту) сионистское осмысление геноцида (один из вариантов
«национального»). В общем виде оно весьма простое: «Мы не позволим
(мы бы не позволили), чтобы нас уничтожали как скот».
Парашютисты в Европе как символическое действие палестинского ишува (не
только как практическая помощь). Катастрофа не ставила под вопрос
сионистскую идентичность в том смысле, в каком Катастрофа была
проблематичной для той еврейской религиозности, что уже успела
заразиться христианскими вопросами о смысле страдания, о
«слезинке ребенка» и проч.
Поэтому не вполне ортодоксальная религиозная (или
квазирелигиозная) еврейская мысль стала создавать миф о катастрофе, сразу же
скажу — изоморфный еврейскому религиозному мифу об Исходе.
Итак, миф о катастрофе — секуляризация еврейского мифа.
Инвариантом оказывается теологическое представление об избранности
еврейского народа, о его исключительности. Возьмем американское
еврейство. Сила общины — в хорошем политическом представительстве
и в том, что после войны в Америке антисемитизм перестал быть
заметной политической величиной. Слабость этой общины — в угрозе
ассимиляции и утраты идентичности. Согласно известной метафоре, евреи
в Америке стали «куском сахара в теплой воде».
Вот тут и возникает сопряжение темы катастрофы и темы
идентичности, острой для американской еврейской общины. И это интересно
для моего подхода в частности потому, что Катастрофа не затронула
американское еврейство непосредственно. Тут чистый случай
мифотворчества.
Юдофилия стала модной в большом американском сообществе, в
особенности в либеральных протестантских конгрегациях. В духе этой
моды сейчас в некоторых протестантских общинах практикуется хрис-
танская литургия Йом-Киппура. Из моих личных впечатлений и из
чтения новейшей теологической литературы следует, что в последние два
десятилетия американские либеральные христиане успешно воспитали
в себе нечто вроде комплекса вины по отношению к евреям.
Не случайно, что посредственный в художественом отношении
фильм «Список Шиндлера» получил — в духе political correctness —
высшие кинематографические награды.
Выдвижение Катастрофы как центра еврейского самоотождествле-
302
ния, вероятно, связано с конкретными политическими проблемами.
Американское еврейство не сумело (не смогло и не захотело) выстроить
свою идентичность вокруг Израиля как смыслового центра, в частности
потому что безусловная поддержка израильской политики, какой бы
она ни была, оказалась в американских условиях невозможной, а так
называемая «критическая солидарность» и вовсе не годится в качестве
стержня для массовой самоидентификации. Вероятно, отчасти поэтому
в начале восьмидесятых годов Катастрофа стала становиться центром
публичной самоидентификации.
Я думаю, что теологическое осмысление катастрофы сегодня уже в
значительной мере сформировало идентичность американской
еврейской общины.
В самом деле, в сознании американских евреев и части большого
общества Катастрофа приобрела статус внеисторического,
космического события. Доминирует идея уникальности. Тема катастрофы стала
секулярным аналогом еврейского религиозного мифа об основании.
Иногда кажется, что Катастрофа в сознании неортодоксального
большинства заместила представление о даровании Торы на Синае, — то
есть стала центральным событием в секулярном варианте еврейского
мифа. Мне знакомы нетрадиционные тексты пасхального седера, в
которых присутствуют мотивы Катастрофы.
Уникальность функционально соответствует теологической и
мифологической идее об избранности евреев и об уникальности еврейского
Бога.
Не то чтобы классический еврейский миф стал полностью
чуждым, но он нуждается в актуализации, в подновлении. Инвариант
мифа — опыт, сознание и переживание исключительности, и
именно это актуализируется. А сегодняшнему человеку легче
отождествить себя с теми, кто шел в газовые камеры, чем с персонажами
классического мифа. Опять же учтем условия диаспоры, в которых
опыт «они и мы» дан еврею с самого начала, а этот опыт тоже тема-
тизируется в переживании Катастрофы. Ведь при поисках
идентичности деление на своих и чужих вообще очень важно, а здесь оно
вполне естественно, так как нацисты уничтожали евреев по чисто
расовому признаку.
Поясню, как в Америке понимается уникальность Катастрофы.
Считается неправильным, бестактным и даже чуть ли не
антисемитским сравнивать Катастрофу с другими случаями геноцида,
сравнивать — в смысле ставить ее в один ряд с ними, вводить ее внутрь
истории. Когда я слышал обсуждения этой темы в Америке, то мне
даже казалось, что люди испытывают по этому поводу какую-то пер-
версивную гордость. Вероятно, это своеобразная актуализация
представления о еврейской уникальности. Эмиль Факенхайм,
американский еврейский теолог, теоретически оформил это представление в
нескольких книгах и множестве статей. Он прямо доказывал
«уникальность», даже по пунктам. Творчество Эли Визеля тоже
понималось в этом смысле.
Либеральные христиане в Америке и, естественно, в Германии, тоже
поддержали эти идеи. И это понятно, так как и здесь речь идет о тео-
303
логическом осмыслении истории, в ходе которого возникает вопрос о
вине христиан вообще перед евреями вообще.
При этом смазывается простое обстоятельство: в либеральном
обществе и в либеральном правопорядке вопрос о вине и ответственности
всегда конкретен. Правопорядок секулярных обществ обычно не
устанавливает коллективную ответственность за конкретные деяния, и уж
тем более не принято считать людей ответственными за преступления
их предков (в отличие от архаического права, отразившегося в
частности в Библии).
Когда и если про всех русских людей, достигших определенного
возраста, говорится, что все они ответственны за коммунистические
злодеяния, то бывший член Политбюро ЦК КПСС, заведомо причастный
к оным злодеяниям, получает шанс стать президентом. Когда немецкая
студентка в Иерусалиме говорит мне, что она тоже «чувствует отве-
ственность» за преступления нацистов против евреев, то я жалею ее как
жертву индоктринации.
Что же касается американских евреев, то мой вывод сводится к
следующему: классические модели интерпретации (теология) и их
секуляризованные варианты не приближают нас к пониманию истории и
политики и в этом смысле «не работают», но в некоторых случаях
(Америка) они способствуют интеграции сообщества. Именно такова их
нынешняя функция.
Сентябрь 1995
Политические мифологии
f
Освобождение или выживание?
Давайте после драки
помашем кулаками...
Борис Слуцкий
Этот текст был написан в феврале-апреле 1987 г., после того как 9
февраля я узнал об освобождении в порядке помилования нескольких десятков
политзаключенных. Правительство провело первый опыт такого рода. Для
меня новая эпоха началась именно с того дня. Среди освобожденных были
мои знакомые, так что перед 9 февраля у меня хватало поводов думать о
причинах и смысле того, что мы оказались по разные стороны колючей
проволоки. И вот, в те февральские дни ощущение смуты начавшегося
исторического перелома вместе с уже окончательным стыдом («ведь теперь,
вероятно, не посадят») и тоской по утраченной ясности, — все это
вызвало потребность подвести для себя итоги только что закончившейся
эпохи и заново найти точку опоры. Тогда мои рассуждения были адресованы
узкому кругу читателей. Сейчас, готовя эту старую работу к печати, я
решил не подправлять тогдашние оценки: ведь они тоже передают
самопонимание, выработанное в том подпольном интеллектуальном
пространстве, где мы жили.
С.Л.
1
Многие рассматривают нынешние реформы в терминах
перехода от «тоталитаризма» к какому-то другому состоянию
государства и общества. Я не стану браться за анализ
сегодняшнего развития и вместо этого сделаю несколько
замечаний об уже закончившемся периоде нашей истории.
Естественно, изложенные ниже соображения дают мне опору для
суждений о характере реформ и их перспективах.
То, что спасены люди, которые, казалось, уже никогда не выйдут
на свободу, и, может быть, будут спасены и другие, в частности
узники спецпсихбольниц, — великое дело. Если действительно
(допустим это на минуту) будут освобождены все политзаключенные, если
будет остановлен афганский геноцид — это будет огромным
облегчением для нашей, для моей больной и нечистой совести. Излишне
говорить о том, что в этом не будет никакой «нашей» заслуги. Заслуга
принадлежит (отвлечемся пока от оценки действий советской влас-
* «Искусство кино», № 1, с. 71-80. — М., 1991.
9П* 307
ти) таким людям как Анатолий Марченко. Но для меня очевидно,
что проблема политзаключенных, как и проблема эмиграции, — не
самые больные проблемы нашего общества. Это становится
особенно ясным, когда оказывается, что они хотя бы частично поддаются
решению.
Я исхожу из того, что сообщество, в котором мы живем, следует
охарактеризовать как «тотальное». Не «тоталитарное», а именно
тотальное. (Напомню, что известный немецкий государствовед Карл
Шмитт употреблял термин «тотальное государство» и в
описательном, и в оценочном — положительном — смысле.) Но самое эту
тотальность не так просто определить: суть ее не в известной
идеологии, и не в терроре, и не в стремлении к экспансии. Мне кажется, ее
природа наиболее ясно обнаруживается на
функционально-семантическом уровне: тотальность стремится определить через себя все, что
встречает на своем пути. Все должно быть включено в totum, в целое,
и только от него получить свой смысл. Каким будет этот смысл —
решает единый носитель и хранитель тотальности.
Эта проистекающая из единого центра и все обнимающая
тотальность оказывается в состоянии навязать свои смыслы всем уровням
человеческого бытия, всем межличностным связям. Даже семья, даже
художественное или научное творчество получают общезначимый смысл
через эту тотальность, становятся ее частицами и орудиями. Речь идет
не о реминисценциях из Орвелла или Замятина, а об осмыслении
нашего собственного опыта, если угодно — нашего быта.
Поэтому нынешние реформы («революцию сверху») я считаю
попыткой решения «очередных задач советской власти». Ради
концептуальной точности можно назвать все это «очередными задачами
тотального сообщества». Конституирующие сообщество смыслы могут
меняться, но при одном условии: они остаются тотальными
смыслами. У тотальности изумительное пищеварение, она может переварить
любое содержание и сделать Qro своим; именно «переварить»: всякое
содержание становится частью тотальности, определяется через нее.
Все вроде на месте, все то — да не то. Главное в этом содержании уже
подменили.
Поясню сказанное на примере. В 1958 г. смысл тотальности
требовал растоптать Бориса Пастернака за его роман. В 1988 г. может
оказаться правильным и полезным опубликовать «Доктора Живаго» в
СССР и по-новому интерпретировать поэта и его произведение в
рамках все той же тотальности (ведь «Тихий Дон», гораздо более глубокое
и «антисоветское» произведение, был опубликован при Сталине — и
ничего не произошло, стены не дрогнули, камни не возопили). То же
относится и ко всем «незаслуженно убитым» (по остроумному
выражению Юрия Карабчиевского) деятелям отечественной культуры.
Если допустить, что исторический процесс в нашей стране (по
каким-то причинам, которые сами нуждаются в истолковании) идет
циклично, то закончившийся на наших глазах период истории
можно назвать «послесталинским». В дальнейшем я исхожу из того, что
связанное с реформами новое «расслабление» замкнуло цикл, и
поэтому о примерно тридцатилетнем «послесталинском» периоде те-
308
перь можно говорить в прошедшем времени. Александр Некрич во
втором томе «Утопии у власти» называет послесталинским периодом
«оттепель», правление Хрущева, после свержения которого
«коллективное руководство» предприняло попытки идеологической рестали-
низации. Но сегодня можно предположить, что полный цикл — или
период — включает «расслабление» и «сжатие». И здесь, отвлекаясь
от историософского вопроса о происхождении нашей «тотальности»
и от политико-идеологического вопроса о возможностях ее распада,
я намеренно остаюсь в рамках этой схемы: тотальное сообщество и
имманентные ему закономерности. Почти биологический ритм
«расслаблений и сжатий» объясняется на этом уровне потребностями
самой системы. Я думаю, что новое «сжатие» в нашем тотальном
сообществе наступит с необходимостью, но у меня нет исходных данных,
чтобы судить о его сроках и формах. Так что я ограничусь
заметками о некоторых итогах и перспективах развития независимой
общественной мысли в России этого периода.
2
Лучшее, что дал нам послесталинский период — это
«демократическое движение» (феномен «диссидентства»). Я думаю, что значение
этого движения — не столько в его содержательной, идейной
стороне, не в программах и лозунгах, а главным образом просто в том, что
оно было, существовало. Главное, почти единственно важное в этом
движении — просто тот факт, что после того, как страх уже стал
определяющим мотивом всех наших действий, нашлись все же люди,
которые распрямились и встретили грудью машину тотального
государства. Или, если угодно, «бросились под колеса» этой машине (это
слова из статьи Дитриха Бонхёффера 1933 года «Церковь перед
еврейским вопросом»). Я говорю, конечно, о ненасильственном, о
чисто нравственном противостоянии: бронированная машина
Государства — и ничем не защищенное, слабое человеческое тело. После
демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади мы стали
называть это словами Галича — «выйти на площадь». Поводом могло быть
вторжение в Чехословакию или несправедливость по отношению к
одному (часто незнакомому) человеку; повод не так важен. Формой
могли быть «пять минут на Красной площади», свободная статья,
кампания «подписей» в защиту несправедливо гонимого и т.п.
Форма сама по себе тоже не так важна. По-настоящему важен лишь сам
акт, его нравственный мотив и его нравственный смысл. Я понимаю,
что подправляю реальную «историю инакомыслия», выделяю в ней
лишь один аспект и, конечно, идеализирую ее. Но, мне кажется,
такая идеализация имеет право на существование: «Может, в жизни
было по-другому, только эта сказка вам не врет».
Исходное определение нравственного смысла этого акта можно
сформулировать так: речь идет о действии, разрывающем стальной и
резиновый кишечник тотальности и ведущем в какое-то другое
смысловое пространство.
309
Может показаться, что смысл «нравственного акта» я определяю
чисто отрицательно: это то, что обязательно «против», то, «чего
нельзя». То есть «нравственное» оказывается у меня содержательно
зависимым от безнравственного, от содержания «тотальности» в
данный момент. Я думаю, это не так. Очевидно ведь, что нравственная
жизнь, решение каких-то положительных задач — культурное
творчество, создание настоящей человеческой общности — все это
возможно лишь для свободного человека. Поэтому содержание того
первого нравственного акта, который я только и имел в виду, говоря о
демократическом движении, определяется одним словом:
освобождение. И демократическое движение мне важно здесь лишь в той мере,
в какой на него можно указать как на общеизвестный пример
такого освобождения. Если бы я ошибался и этого элемента там не было,
то следовало бы признать, что мой пример выбран неудачно. Но по
сути это ничего не меняло бы: акт освобождения с неизбежностью
становится публичным актом, так как свободному человеку негде
укрыться в тотальном сообществе: его нельзя «переварить» и у-сво-
ить, т.е. сделать своим. По точному советскому выражению, он
становится от-щепенцем (от «тотальности», от целого).
Поэтому, как мне кажется, основополагающая альтернатива может
быть сформулирована только так: освобождение или выживание. В
более привычной формулировке: «Всякий, кто хочет спасти свою жизнь,
погубит ее; всякий, кто погубит свою жизнь ради меня и Радостной
Вести, обретет ее» (Мк 8:35).
Следовательно, путь и достижение таких людей как Василь Стус
и Анатолий Марченко — не просто одна из возможностей. Это
достижение (общезначимое и общеобязательное, как рождение)
порогового уровня, начиная с которого только и можно говорить о
собственно «человеческом». Дальше, после прохождения этого порога,
открывается реальная возможность выбора позиций, подлинный
плюрализм, настоящая жизнь. Отказ от выживания, освобождение —
лишь предварительное условие возможности всего настоящего.
Короче: это различение (освобождение versus выживание) кажется мне
онтологически столь же обоснованным, что и различение ноосферы
и биосферы (например, у Тейяра)1. Это различение конститутивно
для «собственно человеческого».
Поэтому для меня столь важен образ людей, сумевших победить
страх (силу выживания) и освободивших себя, — людей, сумевших
выстоять в одиночку. Поэтому мне так близка предложенная Паулем Тил-
лихом в книге «Мужество быть» трактовка мужества как бытийной, а не
чисто этической характеристики человека2.
Итак, если принять все эти посылки и допустить, что предложенная
здесь альтернатива «освобождение или выживание» в какой-то мере
годится для описания нашей ситуации, то может выясниться, что шаги к
«освобождению», к разрыву тотальности, к выходу за ее пределы ведут
в конечном итоге в пустоту. Таков, на мой взгляд, важнейший
результат независимого интеллектуального развития в закончившийся «пос-
лесталинский» период нашей истории. Дальше я попробую обосновать
и раскрыть этот тезис.
310
3
Как известно, в «послесталинский период» русская советская
интеллигенция открыла для себя и заново усвоила все наличные (уже готовые)
мировоззренческие системы. При этом: 1) речь идет о типах
мировоззрения, так или иначе проявившихся на русской почве до революции;
2) в советских условиях все эти идеологии подверглись осознанной или
неосознанной трансформации; 3) идейная мода, отражающая какие-то
реальные процессы, все время перемещалась «вправо».
Похоже, что к началу восьмидесятых годов этот процесс усвоения
новых старых идей подошел к своему завершению. Юрий Айхенвальд
в «Дон-Кихоте на русской почве» удачно назвал его
«археологическими раскопками». Сходная метафорика встречается и у Бориса Хазано-
ва, когда он говорит о поисках «затонувшего колокола» русской
самобытности3. Понятно, что в ходе раскопок упорные археологи
непременно докопаются до нижней границы культурного слоя.
Несомненно, что современный русский либерализм4 не может
претендовать на столь же «ископаемую» природу, что и
национально-православное направление (хотя у идеи либерального правового
государства на русской почве есть более чем столетняя история — от
М. Сперанского до Б. Чичерина и идеологов партии
конституционных демократов).
Но в устройстве либеральной, «чисто православной» и
национально-почвенной идеологий есть нечто общее: все они исходят из уже
готовых предконцепций, из известных ответов на вопрос о смысле,
— ответов, выработанных задолго до нас и, вероятно, не вполне
адекватных нашей уникальной исторической ситуации. Ценности
соответствующих теоретических традиций не подвергались
критической проверке. Их использовали лишь как «старое, но грозное
оружие» для критики марксизма. Выбор — во всяком случае, уже для
сегодняшних сорокалетних — всегда шел только между готовыми
системами взглядов, и поэтому в самом глубоком смысле этот выбор не
был личным. Ведь такой выбор предполагает вхождение в некое
альтернативное по отношению к «тотальности» сообщество,
становящееся для меня гарантом смысла, а подчас (в случае религиозных
сообществ — всегда) и «альтернативного» социального статуса. Вопрос о
смысле в таких условиях воспринимается как нечто деструктивное,
как угроза для коллективной идентичности членов сообщества.
Оставаясь в рамках обсуждения идей, я не стану опираться на свои
весьма небогатые личные впечатления, а вместо этого использую
литературный источник. Я процитирую слова первого историка
инакомыслия Людмилы Алексеевой. Речь идет о событиях 1977-78 гг.:
«Чтобы этот новый слой активных людей, потянувшихся к
правозащитникам, превратился в действительных правозащитников, к
новеньким нужно было долгое время быть снисходительными и
терпеливо работать с ними, как польские интеллигенты со своими
рабочими. Большинство московских правозащитников оказалось не
приспособленными к этой роли. Их плюрализм и представления о
свободе воли не позволяли им стать пропагандистами своих идей, на-
311
саждать их, они были лишь их распространителями. К тому же и в
1977 -78 гг. ядро московских правозащитников составляли
зачинатели этого движения, по преимуществу рассматривавшие его как
чисто нравственное противостояние, не имеющее каких-либо
политических целей, в том числе и целей вербовки сторонников. Они не
ставили и цели расширения движения, распространения его в другие
социальные слои, как это имело место в Польше, а когда это
произошло само собой, без их усилий, не оценили этого и отшатнулись
от чужаков. История взаимоотношений ветеранов правозащитного
движения, его ядра в 1977-78 гг., с пополнением, разбуженным их же
энергией и потянувшимся к ним, показала, что обе стороны не были
готовы к встрече и тем более сотрудничеству, не нашли общего
языка» (Л. Алексеева, «История инакомыслия в СССР». — Khronika
Press, 1984, с.326-327).
Если, исходя из того, что за этим текстом стоят некоторые реальные
ситуации, перевести его с языка агиографии на язык социологии, то мы
получим подтверждение — хотя и косвенное — моих соображений.
Я хочу повторить: истинная сила демократического движения не
столько в его идеологии, сколько в личном свидетельстве его
участников, в их готовности «служить и отдать свою жизнь в жертву за многих».
Так, как это сделал Анатолий Марченко. Передо мной текст его
обращения из Чистопольской тюрьмы: «Господа, вы не находите способа
потребовать от Советского Союза выполнения взятых им на себя
обязательств. Я вынужден сам, в одиночку, добиваться того, что
гарантировали подписанные всеми вашими правительствами соглашения.
Сегодня, 4 августа 1986 года, я объявляю голодовку и буду держать ее до
конца вашего совещания в Вене».
И такие свидетельства никогда не прекращались.
4
Что же касается идейного аспекта основных течений «диссента», то к
нему можно подойти и с другой стороны, с другой меркой. Для себя
я называю эту другую мерку «критерием Анатолия Якобсона». В 1968
г. он прочел своим ученикам-старшеклассникам лекцию о
«романтической идеологии»5. В ней он очень просто и убедительно, исходя из
кругозора московских школьников второй половины шестидесятых
годов, показывает нравственную несостоятельность «революционно-
романтической» поэзии (М. Светлова, Н. Тихонова, Э. Багрицкого и
др.). Анатолий Якобсон говорит, в частности, о том, что
романтизация большевистского террора (культ силы, культ чекиста) уже
содержит in mice оправдание всех последующих злодеяний режима.
Безнравственна всякая апология всякого насилия, объясняет Якобсон
московским старшеклассникам. Затем он сравнивает эту
«романтическую идеологию» с нравственно-религиозным учением Льва
Толстого, которое, «как его ни вывертывай», нельзя обратить в сторону
насилия над человеком. Это учение может оказаться весьма
несовершенным, оно, вероятно, не дает удовлетворительного ответа на мно-
312
гие вопросы, — но ничего злого (то есть насильнического) из него
вывести нельзя. «В этом направлении идея неотчуждаема». Такую
вот проверку идеи относительно пределов ее возможной
отчуждаемости я и называю «критерием Анатолия Якобсона». (Очевидно, что
этот критерий определен традицией европейского Просвещения,
этикой Канта, гуманистическим толкованием христианства. И сам
Толстой опосредует эту традицию в русской культуре.)
Если мы применим теперь «критерий Якобсона» к независимым
идейным направлениям среди русской интеллигенции
рассматриваемого периода, то, пожалуй, лишь правозащитная идеология может
выдержать такую проверку. И в этом, как мне кажется, ее главное
(пусть и отрицательное) достоинство: из нее нельзя вывести ничего
злого, антигуманного. В ней нет притязаний на обладание полнотой
истины, неотъемлемо присущих всем известным в России формам
религиозной идеологии. В ней нет пороков, имманентных всем
формам национального сознания. Понятно, с какой естественностью и
даже необходимостью свидетельство о своей причастности к
религиозной истине подразумевает чувство исключительности, и далее —
миссионерское или нетерпимое (смотря по обстоятельствам)
отношение к тем, кто не принимает эту истину. Что же касается
национальной идеологии, то мы обладаем достаточными доказательствами
того, что в рамках любого национального сознания с неизбежностью
образуется континуум «патриотизм — национализм — шовинизм —
расизм».
Но это достоинство — чисто отрицательное. Правозащитная (то есть
либеральная par excellence) идеология остается действенной и
привлекательной до тех пор, пока она существует именно в качестве
«идеологии», не претендуя на статус теории, и пока она воспринимается
(например, моим поколением) как нечто целое, уже-готовое, как
альтернатива другим идейным направлениям (или, скажем, другим стилям
оппозиционного поведения).
А обсуждавшаяся в начале рассматриваемого периода
возможность движения, которое было бы национальным (или религиозным)
по содержанию и правозащитным — по методам (то есть «правоза-
щитность» как универсальная в наших условиях форма
оппозиционного движения), — такая возможность со временем все больше
отвергалась русской советской интеллигенцией. Ведь «я/шво-защитное»
мировоззрение — это выражение правовой идеи, а отношение к
праву в России всегда было не слишком благосклонным. В русской
культуре право никогда не относилось к числу высших ценностей,
более того, оно вообще не считалось самостоятельной,
самодовлеющей ценностью. Крупнейший русский правовед Б.А. Кистяковский
опубликовал в 1909 г. в «Вехах» статью «В защиту права», —
единственную работу на правовые темы в этом знаменитом «сборнике
статей о русской интеллигенции». Кистяковский говорит, что
правовые идеи, философия права никогда не попадали в центр внимания
нашей интеллигенции, а русская мысль не дала в этой области
ничего оригинального. Кистяковский смиряется с этим и даже готов
признать, что в мире ценностей праву действительно принадлежит лишь
313
второстепенное место. И вот в этих рамках он занимается защитой
права, — заранее, я думаю, обрекая свое дело на поражение. А через
70 лет после публикации «Вех» А.И. Солженицын в своей
знаменитой Гарвардской речи привычно обругал западную цивилизацию
«юридической», что значит: лишенной глубоких нравственных основ
и бездуховной.
В послереволюционной России правовой нигилизм русской
культуры соединился с правовым релятивизмом марксизма, который
принципиально отвергает абсолютную ценность права. Вот какое отношение к
праву унаследовала оппозиционная интеллигенция послесталинского
периода, когда она занялась рецепцией «новых старых идей».
Приведу одно свидетельство, взятое из статьи московского
православного автора, пишущего о начале религиозного пробуждения в
интеллигентской среде: «У образованного слоя нации, казалось,
были навсегда задушены устойчиво-порочной
«либерально-демократической традицией» религиозный инстинкт и религиозное начало.
... И разве не достойно радостного удивления, что именно в этой
духовно обнищавшей среде забил наконец-то живой родник...» И у
того же автора — прямо к нашей теме: «Когда же совесть
пробудилась, то сторонники эгалитарно-демократических взглядов стали
правозащитниками и обрекли себя на суровую и страстную борьбу,
а искавшие не внешних, а духовных альтернатив повернули к
традиции и религии» (А. Бутаков, «Возрождение, оживление или
пробуждение?», Вестник РХД № 148, III, 1986, Париж, - с. 235, 227-228.)
Заметим, что для А.Бутакова противоположность между
«духовностью» и «религиозным началом», с одной стороны, и демократией и
либерализмом, с другой, относится к области самоочевидного, потому что
она содержится в воспринятой им традиции. Ведь только в
либеральном мировоззрении право может стать «духовной альтернативой», ибо
только здесь оно обладает самостоятельным метафизическим
достоинством, абсолютной ценностью, — также, как, например, любовь.
Прибавим к этому тот факт, что в правозащитном движении — впервые на
русской почве — идея права стала восприниматься как абсолютная
ценность. Это, я думаю, важнейшее интеллектуальное достижение всего
«послесталинского периода». Мы приходим к тому, что право-защитные
методы все же неотделимы от «устойчиво-порочного» либерального
содержания. Столь же закономерно открытие «новых старых ценностей»
влечет за собой отречение от гуманизма и либерализма.
5
Важнее другое. Более пристальный взгляд на самое правозащитную
идеологию обнаруживает в ней противоречия, могущие стать источником
кризиса. Для удобства опять сошлюсь на «Историю инакомыслия» Л.
Алексеевой, где часто встречается тезис, согласно которому
демократическое движение ставило проблемы, «которые можно решить только в
W
сотрудничестве с властями» (с. 239). Вот как Л.Алексеева
характеризует известный замысел Ю.Ф.Орлова: «Его многолетние раздумья были
посвящены поиску путей диалога о кардинальных проблемах страны
314
между властями и обществом. В таком диалоге он видел единственны!!
путь к либерализации режима, без которой не выйти из
экономического, политического и морального кризиса советской системы. Попытки
прямого обращения к властям Орлов испробовал дважды. ... Этот : ι
ный опыт, как и известные Орлову безуспешные обращения Сахарова,
Турчина и Медведева, Солженицына и др. в 1970-е годы заставляли
искать посредников, которые могли бы склонить советских правителей
прислушаться к голосам своих граждан» (с. 310 -311). (Посредники —
это, конечно, общественность и правительства демократических стран.)
Но чаще у Л. Алексеевой встречается другой тезис. Вот одна из
его формулировок: «Зачинатели правозащитного движения постоя;
но подчеркивали, что оно — «вне политики», что их цель — не кл
кой-то результат в будущем, а лишь продиктованное возмущенным
нравственным чувством нарушение рабьего молчания сейчас, по
каждому случаю попрания человеческих прав и достоинства
человека, несмотря на отсутствие надежды на преодоление зла в данном
конкретном деле и безотносительно к тому, возможен ли успех в
будущем» (с.351).
То же самое в формулировке А.Д.Сахарова:
«Лозунг «Народ и партия едины» — не вполне пустые слова. Но из
этого же народа вышли защитники прав человека, ставшие против
обмана, лицемерия и немоты, вооруженные только авторучками, с
готовностью к жертвам и без облегчающей веры в быстрый и
эффективный успех. И они сказали свое слово, оно не забудется... Дело тут
не в арифметике, а в качественном факте прорыва
психологического барьера молчания».
Или в формулировке Андрея Амальрика:
«[Правозащитники] сделали гениально простую вещь — в
несвободной стране стали вести себя как свободные люди и тем самым менять
моральную атмосферу и управляющую страной традицию».
Эти две цитаты обрамляют главу о правозащитном движении в
книге Л. Алексеевой. И в них встречаются ключевые слова «прорыв»,
«освобождение», определившие и мое восприятие этого движения. Для
меня, стороннего наблюдателя, такая оценка кажется самоочевидной и
имеет силу нравственного вызова. Я убежден, что на интеллектуально
честных путях этот вызов не удастся ни снять, ни релятивировать.
Как мы уже заметили, интеллектуальную специфику правозащитной
идеологии составлял ее юридический характер. Один из наиболее
популярных лозунгов: «Пусть они соблюдают свои же законы!» Л.
Алексеева пишет: «За 60 лет существования советской власти оказалось
способным выжить и даже развиваться только сопротивление на правовой
основе» (с. 393).
Можно показать, что эти основные характеристики правозащитной
идеологии не вполне согласуются между собою, образуя единство не на
логическом уровне (как система идей), но лишь на экзистенциальном,
как образ мышления и действия отдельных личностей. Для интеграции
этих «первичных интуиции» в целостную теорию потребовалась бы
самостоятельная разработка социальной философии применительно к
«нашей тотальности», необходима и серьезная историософия. Пока об-
315
суждение не продвинулось намного дальше мифологической
альтернативы, согласно которой коммунизм в нашей стране возник либо из
исконно злого начала в русском народе, либо в результате заражения
здорового национального организма расово-чуждыми идеями, — пока
разговор в таких терминах еще способен привлекать к себе серьезное
внимание, можно считать, что вопрос вообще не поставлен. А между тем
дело идет о понимании природы той власти, с которой
правозащитники намеревались вступить в диалог.
Быть может, описанная выше нравственная позиция уже содержит
в себе, пусть и имплицитно, возможность определенного понимания
природы режима. Такой путь — через осмысление некоторого
нравственного опыта, опыта противостояния, — тоже возможен.
Наиболее концентрированное и ясное из известных мне выражений
этой нравственной позиции содержится в одном из «Колымских
рассказов» Варлама Шаламова. (Я не помню его названия и пересказываю
по памяти.)
Зэки сидят ночью у топящейся печки и по очереди высказывают
свои заветные желания. Последний из них, alter ego автора, говорит
примерно так: «А мне хотелось бы стать обрубком — без рук, без ног.
Живым человеческим обрубком. Тогда бы я смог плюнуть им в морду».
Этот разговор происходит в колымском лагере. Вероятно, позиция
бескомпромиссного нравственного противостояния в ее приведенных выше
формулировках подразумевает взгляд на страну как на «большую зону», —
термин, часто встречавшийся в неподцензурной публицистике.
Следовательно, существует по крайней мере возможность
противоречия между первыми двумя тезисами, составляющими центр
правозащитной идеологии: представлением о желательности диалога
«между властями и обществом» для решения важнейших проблем
страны и идеей самоценного нравственного противостояния злу. И
тут снова возникает вопрос о смысле «правовой основы»
сопротивления. Да, идея права впервые обрела здесь самостоятельную
ценность, но все я думаю, что «законничество» послужило не столько
основой, сколько риторическим оружием сопротивления.
Современный русский либерализм (основной формой которого в
рассматриваемый период я считаю правозащитное движение) не создал своей
философии права. Он эклектически соединил позитивно-правовую
аргументацию, используя возможности внутреннего права СССР (в
особенности ссылку на провозглашенные в Конституции СССР
основные права и свободы) и апелляцию к ратифицированным
Советским Союзом международным пактам о правах человека, а с 1976
года — к «гуманитарным» статьям Заключительного акта
Хельсинкских соглашений.
Согласование правопорядка СССР со стандартами, выраженными в
международных договорах, — не та цель, которую можно ставить
всерьез, поскольку такое согласование требует предварительного
радикального изменения социально-экономического строя нашей страны, а от
этого демократическое движение эксплицитно отмежевывалось. В
самом деле, можно показать, что классический каталог основных прав и
свобод предполагает свободу собственности. Но даже если утверждение
316
о связи социального строя и правопорядка, предоставляющего
человеку его основные права, не самоочевидно, то все равно круг
замыкается, и мы возвращаемся к вопросу о природе режима.
Я попробую подтвердить сказанное двумя соображениями.
(1) Борьба посредством юридической аргументации (требование
соблюдать так называемые «основные права человека», то есть и те,
которые не позитивированы в советском внутреннем праве) имела
огромный успех во внешнем мире — и это выявилось в ходе
конференций в Белграде, Мадриде и теперь в Вене, — но не ослабила
репрессивности режима. (Нельзя сказать, что нынешнее «расслабление»
началось под давлением организованной оппозиции и что у
правительства не было альтернативы.) Так что успех правозащитников был
«риторическим». Соответственно, и правительства стран Запада
стали использовать «вопрос о правах человека в СССР» в своей
политической риторике: последовательные политические действия в этой
области для них так же невозможны, как нам невозможно превратить
нашу страну в либеральное правовое государство.
(2) Если бы вдруг Конституция СССР была заменена каким-нибудь
чрезвычайным постановлением, а международные пакты о правах
денонсированы, то, мне кажется, сопротивление все равно сохранило бы
правовые лозунги. Думаю, что переменился бы лишь характер
риторики: не «Конституция» и «Хельсинки», а «естественные права и
достоинство человека». Тут нужно продумать связь правового идеала с
нравственной позицией.
6
Ситуация нынешнего «расслабления» показывает, что различные
интерпретации смысла и задач демократического движения,
существующие внутри него самого, могут вступить в конфликт между собой и
оказаться взаимоисключающими.
Я ограничусь здесь одним примером, подтверждающим важность
идейной стороны движения (демократическое движение как
современная форма либерализма на русской почве).
Некоторые из правозащитников считают гласность и перестройку (в
той мере, в какой речь идет о действиях власти) обычной тотальной
политической кампанией, — кампанией, структурно не отличающейся
от (к примеру) борьбы против космополитизма в позднесталинские
годы или новой волны «преодоления культа личности и его
последствий» в позднехрущевские (1961-64). По их мнению, эта политическая
кампания имеет то же принципиальное устройство, что и все такие
«мероприятия», проводившиеся с конца двадцатых годов. Так, в советской
прессе можно написать про кого-нибудь, что он «еще не перестроился»,
так же как 60 лет назад сталинцы могли сказать про троцкистов, что они
«еще не разоружились перед Партией».
Я истолковываю эту точку зрения как утверждение своего рода
морального алиби: «Нас там не было и нет, мы ни на секунду не
поддавались на эту ложь и не участвовали в ней». Другими словами, это
констатация неизменности той позиции нравственного сопротивле-
317
ним которой говорилось выше. Следовательно, подтверждение
это и позиции в новых условиях содержит в себе отказ от самой идеи
со дничества с «режимом», которая была частью правозащитной
идеологии. Выражения этой точки зрения содержат и полемику с
τe^ и «критиками режима» из числа правозащитников, которые
K.J S._T
п\ i всей критической дистанции — дают «перестройке» авансы и
возлагают на нее свои надежды.
А позиция «конструктивного сотрудничества» означает, в свою
очередь, отказ от правовой идеи как важнейшего компонента
правозащитной идеологии: ведь освобождение определенной части
политзаключенных (в частности, депортированного в Горький А.Д. Сахарова),
ставшее необходимым не только для внешней, но и для внутренней
политики реформаторов, было прежде всего актом произвола. Юридически
здесь больше произвола, чем в их осуждении. А поэтому отказ от
публичной оценки этих освобождений как произвола означает либо отход
от «сопротивления на правовой основе» (Л. Алексеева), либо
непонимание «несгибаемой» сути правового идеала.
Во всем этом я вижу признаки кризиса нашей либеральной
идеологии, которая — в силу крайне неблагоприятных условий — не успела
развиться до уровня теории.
Известный немецкий советолог Корнелия Герстенмайер еще в
начале семидесятых годов дала демократическому движению в СССР
следующую характеристику: «Это сопротивление коренится не в
желании удовлетворить какие-то конкретные социальные интересы и
не в политической обиде и озлобленности, а в неразрушимом
человеческом стремлении к свободному самоосуществлению и
самостоятельному поиску истины. ... Но именно их [правозащитников]
интеллектуальная бескорыстность и независимость ведут эту борьбу к
политическим г!оследствиям, которые имеют значение для будущего
России и тем самым для будущего всего мира»6. И действительно,
самое важное, что можно усмотреть во всем нашем ин&ко-м ысл и и 9 —
это бескорыстное стремление к истине, которую еще только
предстоит найти; именно в силу своей бескорыстности, безоглядности, в
подлинном смысле слова независимости этот поиск истины «ведет к
политическим последствиям», то есть обнаруживает собственные
политические последствия.
Такова задана, то есть таким должно быть «сопротивление», ибо
именно таково его собственное притязание. Ведь если это движение не
приводит к настоящему освобождению его участников, и далее, если
оно не создает собственного содержания, если в нем отсутствует та
самая интеллектуальная бескорыстность и независимость, — то оно едва
ли достигнет серьезных политических результатов и уж наверняка не
сможет привести к тем последствиям, на которые претендует.
Раз так, то я могу переформулировать свой исходный тезис
следующим образом: слова о «ведущем в пустоту освобождении».означают
лишь то, что такого «собственного содержания» наша независимая
мысль еще не создала. И тогда сложившуюся к началу нового
«расслабления» ситуацию можно осмыслить как этап в развитии независимой
мысли, один из моментов в процессе становления ее содержания.
318
7
В самом деле, попытки выработать альтернативное мировоззрение
внутри марксистской парадигмы (50-60-е годы) оказались тупиковыми.
Подпольная «евромарксистская» группа «Левый поворот»,
существовавшая в Москве в начале 80-х годов, воспринималась как анахронизм и
пародия одновременно. Во второй половине 60-х годов можно было
наблюдать резкую «смену парадигмы». При этом — по точной
формулировке Л. Алексеевой — «наибольший приток произошел,
естественно, к вытесненным в свое время официальной идеологией
традиционным формам сознания — национальным и религиозным». Но и эти
формы сознания на наших глазах исчерпывают свой творческий
потенциал. Или, может быть, точнее: здесь исчезает иллюзия относительно
наличия такого творческого потенциала.
Как бы чарующе ни звучали слова-пароли о «великой русской
культуре» или о «духовной чистоте Православия», — то, что реально стоит
за ними, не дает настоящей опоры в новой ситуации. Иначе и быть не
может: русская культура находится внутри того «единого потока»,
который принес нас туда, где мы сейчас оказались. Если не сводить культуру
к набору фраз, понадерганных у разных авторов (объявляя все прочее
«некультурой»), то следует признать, что у русской культуры нет алиби:
она была именно там, где совершались все роковые события нашей
истории, и она как-то влияла на ход этих событий.
Однако, как я пытался показать, и наша либеральная мысль (в
социальном плане ей соответствует «демократическое движение») довольно
быстро остановилась в своем развитии. Другими словами,
правозащитная идеология тоже превратилась в «уже-готовое» и равное себе
смысловое образование. Похоже, что наличное либеральное сознание тоже
исчерпало свой творческий потенциал. Если это так, то некий этап в
развитии мысли оказывается завершенным, и с его концом иссякает
запас готовых мировоззренческих систем, находящихся в нашем
распоряжении. Рискну предположить, что здесь можно увидеть одну из
глубинных причин кризиса правозащитного движения. Вероятно, этот
кризис нельзя объяснить только жестокостью репрессий в конце
семидесятых-первой половине восьмидесятых годов. Ведь сейчас, когда
внешние условия улучшились, кризисные явления стали еще заметнее.
Я уже упоминал о том, что в нашей ситуации выбор между
наличными, готовыми системами взглядов не есть по-настоящему личный выбор.
Исходя из всего сказанного, я бы определил нашу ситуацию как ситуацию
отсутствия иллюзий и надежд. Это значит: все наши надежды оказались
иллюзорными, и мы — просто из честности — должны от них отказаться.
И здесь, в отсутствие каких бы то ни было иллюзий и надежд,
впервые со всей ясностью может быть поставлен вопрос о личном
выборе. Лишь в такой ситуации можно говорить о действительно
личном выборе, о целиком личной ответственности. Пока речь идет
лишь о выборе той или иной уже готовой системы взглядов, о реше-
*J и
нии в пользу той или иной из уже установившихся версии
социальной реальности, еще нельзя говорить о личном выборе и еще менее
о личной ответственности. Речь в таком случае обычно идет лишь
319
о включении человека в реальную или идеологически постулируемую
(вроде «невидимой Церкви», «русской интеллигенции» и т.п.)
социальную группу, которая — предположительно — берет на себя бремя
ответственности, гарантируя мне смысл жизни («метафизический
комфорт») и социальный статус (христианина, русского
интеллигента, временно находящегося на территории СССР гражданина
Израиля и т.п.).
Я предполагаю, что в новейшей русской истории описанная
ситуация возникла впервые. Поэтому требуется заново осмыслить самые
глубинные основы всех наличных мировоззрений, необходима попытка
проверить все то, что раньше принималось в качестве постулатов.
Поэтому «последние вопросы» становятся самыми и — в пределе —
единственно важными: ведь все «предпоследнее» утратило свое
самоочевидное основание и смысл.
8
Размышления над историей и содержанием демократического
движения «послесталинского периода» в этой новой перспективе, когда
вся эпоха на наших глазах отошла в прошлое, приводит меня к
мысли, что само движение началось с поражения, с событий 1968 г.,
когда служилой интеллигенции указали на ее место, когда солидных
«подписантов» выгоняли с работы и затем эти люди в большинстве
своем стали проситься обратно в истеблишмент. Некоторые не
покаялись, но всеобщий испуг и на них наложил отпечаток.
Меньшинство приготовилось к дальнейшей и более жестокой кофронтации,
уже зная о последствиях по первым послехрущевским политическим
процессам. И теперь это меньшинство исходило — как из
самоочевидной и не подлежащей дальнейшему анализу данности — из
чувства: «от нас ничего не зависит».
Вот это, как я стал думать, и есть то поражение, которое лежит у
истоков демократического движения. Можно даже предположить, что
здесь уже запрограммирована его траектория.
Ведь и сам чисто нравственный, аполитичный пафос («Мы — вне
политики») можно понять и как обратную сторону бессознательно
принятого «От нас ничего не зависит».
Что же следует из этого основополагающего экзистенциала «От-нас-
ничего-не-зависит»?
Прежде всего — социальная безответственость. Ведь «мы живем,
под собою не чуя страны», в которой мы все равно ничего не можем
изменить. В самом деле, если применить к идее чисто
нравственного (без расчета на общезначимый успех и т.п.) противостояния и ко
всему комплексу представлений, которым обросла эта идея,
«критерий Анатолия Якобсона», то обнаруживается, что она поддается
отчуждению именно в направлении социальной безответственности, и
даже в направлении миропонимания по принципу «чем хуже — тем
лучше».
Вопреки русской традиции, я бы не стал противопоставлять
мораль политике как «чистое» — «грязному». Политика должна быть
320
самым чистым человеческим делом, так как человеческие судьбы
зависят от нее больше, чем от чего бы то ни было другого. Кроме того,
у морали и политики есть общее основание — общий для них
социальный характер, который обнаруживается в обоих случаях в
публичном, социально значимом акте. С этой точки зрения вообще нет
критериев для принципиального различения между «моральным» и
«политическим».
Февраль — апрель 1987
Примечания
1 См. Тейяр де Шорден, Феномен человека. — М., 1965.
2 Пауль Тиллих (1886-1965) — протестантский теолог, в 1933 г. эмигрировал из
Германии в США, где стал одним из ведущих христианских мыслителей
Америки. Его книга «Мужество быть» опубликована в 1952 г.
3 Борис Хазанов. По ком звонит затонувший колокол// Страна и мир (Мюнхен),
№ 12, 1986 г.
4 Мировоззренческим либерализмом я называю «свободомыслие, субъект
которого стремится освободиться от традиций, обычаев, догм и стоять на
собственных ногах» (таково определение «либерализма» в одном немецком
философском словаре). Следовательно, либерализму свойственно интеллектуальное
бесстрашие. Может быть, со временем нам удастся очистить это слово от тех
отрицательных коннотаций, которые оно приобрело в русском языке.
5 Лекция А. Якобсона теперь опубликована в «Новом мире», № 3, 1989.
6 Gerstenmaier С. Die Stimme der Stummen. Frankfurt a. Μ., 1973. — С. 9.
21 Заказ 257
*
*
Правовое государство
в интеллектуальной традиции*
Философия — это усилие,
связанное с постоянной проверкой всех очевидностей.
Лешек Колаковский
Ой, не надо «Скорой помощи»!
Дайте медленную помощь.
Александр Галич
Словосочетание «правовое государство» оказалось ключевым
термином при обсуждении нынешней реформы
политико-правовой системы. В газетах появились рубрики «На пути к
правовому государству» и т.п. На наших глазах эти слова
становятся метафорой с произвольным смыслом. Так, этонолог Л.Н.
Гумилев в интервью по поводу выхода в свет своего труда «Этногенез и
биосфера Земли» сказал: «Живая природа, частью коей мы являемся, —
это «правовое государство», и человек не может по своей прихоти
отменить в ней ни одно из вековечных предписаний» («Известия» от 23
июня 1989 г.). У читателя, стремящегося к точности словоупотребления,
возникают в этой связи два вопроса: 1)Что значит «правовое
государство» в той традиции, где это понятие возникло? 2)Для чего оно
понадобилось советским реформаторам и что оно значит в контексте
реформ?
Я попытаюсь наметить подходы к ответу на оба эти вопроса, так как
«здесь и теперь» размышление о сущности правового государства
неизбежно (т.е. помимо нашей воли) связано с вопросом об употреблении
этого термина в современном политическом дискурсе.
1
Знакомство с традицией о правовом государстве заставляет думать, что
содержательное ядро этого понятия — вовсе не юридическое. Правда,
в теоретической литературе можно встретить рассуждения о том,
какими признаками «правовые» государства современности отличаются от
«неправовых», но и здесь обычно предлагаются неинституциальные
критерии различения1. Направление социальной мысли, известное в
немецкоязычном регионе под названием «Ideologiekritik», показало, что
понятие «правовое государство» не имеет научного содержания. Во вся-
«Страна и мир», № 5, с. 129-138. — Мюнхен, 1989.
322
ком случае, без него вполне можно обойтись при классификации типов
государственности.
В связи с Ideologiekritik имеет смысл вспомнить «чистое учение о
праве» Ганса Кельзена, самого известного из теоретиков права нашего
века и в то же время — создателя едва ли не самой спорной правовой
концепции современности. Кельзен привлекает страстной
бескомпромиссностью, с которой он разоблачал «интересы, отличные от
стремления к истине»2, стоящие за различными политико-правовыми
учениями. Вот что он писал о концепции правового государства:
«Традиционная доктрина государства и права не может отказаться от теории само-
обязывания государства и от обнаруживающегося в ней дуализма
государства и права. Ведь он выполняет чрезвычайно важную
идеологическую функцию, значение которой невозможно переоценить. Государство
должно быть представлено как сущность, отличная от права, для того
чтобы право могло оправдывать создавшее его и «подчиняющееся» ему
государство. А право может оправдывать государство лишь в том случае,
если оно мыслится как некий порядок, противоположный исходной
природе государства, т.е. власти, и потому в каком-то смысле
правильный и справедливый. Таким образом государство из простого
инструмента власти-насилия превращается в правовое государство, которое
оправдывается тем, что создает право. По мере того, как религиозно-
метафизическая легитимация государства оказывается неубедительной,
эта теория правового государства должна стать единственно возможным
его оправданием»3.
И в самом деле, в центре любого размышления на интересующую
нас тему оказывается вопрос о соотношении права и государства.
Точнее, тут предлагаются различные способы противопоставить их,
позволяющие обосновать самообязывание (или самоограничение)
государства.
Кельзен определял государство как «относительно
централизованный правопорядок»4, и это отождествление государства и права
позволяло ему заключить: «Всякое государство есть правовое государство, а
сам этот термин представляет собой плеоназм»5. Правопорядок Кельзен
определял как социальный порядок принуждения, т.е. нормативный
порядок, который стремится вызвать определенное человеческое
поведение, связывая с противоположным поведением социально
организованный акт принуждения (санкцию).
Иконоборческий радикализм Кельзена радует своей
последовательностью. Однако если рассматривать творчество Кельзена в свете нашего
опыта, то можно заметить скорее черты сходства «чистого учения» с
уличаемой им в идеологической ангажированности «традиционной
теорией» (к которой Кельзен относит чуть ли не все немецкие правовые
учения конца XVIII — начала XX века, от «Метафизики нравов» Канта
до исторической школы и правового позитивизма XIX в.,
недостаточно «очищенного» от реликтов естественноправовой мысли).
Определение государства как централизованного нормативного порядка все же
напоминает нам знаменитую формулу Канта: «Государство — это
объединение множества людей, подчиненных правовым законам»6. Кельзен
считал свое определение безоценочным и универсальным. И он был прав.
21* 323
Оно безоценочно и универсально внутри традиции западной социаль-
*-* L#
ной мысли, исходящей из определенного типа политической культуры.
Но для нашей темы важнее то, что Кельзен, теоретическое мышление
которого сформировалось в Австро-Венгрии перед Первой мировой
войной, смог выделить в качестве главного и даже абсолютизировать
правовой аспект государства. Для сравнения: известный советский
политолог Федор Бурлацкий вообще не употребил слово «право» в своем
исходном определении государства, зато включил в это определение
слова одного большевистского публициста: «Государство есть машина
для угнетения одного класса другим» (см. «Философский
энциклопедический словарь», М., 1983 г., статья «Государство»). Я сомневаюсь, что
Ф. Бурлацкий стремился развить социологическое понятие государства
в противовес юридическому. Скорее здесь сказывается некий тип мыс-
yj KJ ι_ι
ли и культуры, радикально отличный от европейской традиции,
внутри которой возникла идея правового государства вместе со своими
критиками.
(Меня могут упрекнуть: зачем цепляться к казенному идеологу,
разводить глубокую философию на мелких местах? В ответ я мог бы
сказать, что не считаю эти места мелкими. Напротив, дело идет об
основах мышления и самопонимания, которые складываются на
протяжении жизни многих поколений. Их можно изучать не только по статьям
Бурлацкого, но даже по уличным вывескам.)
И все же с Кельзеном можно согласиться: при достаточно широком
определении права всякое государство окажется правовым
государством. (Скажем, право как уполномочивание централизованной
властной инстанции на свободное осуществление власти можно
противопоставить концепции права как нормативного порядка. В такой системе
единственной общей нормой будет та, которая уполномочивает
произвольные действия властной инстанции.) Это возвращает нас к
представлению, согласно которому в понятии «правовое государство»
подразумевается не столько «право», сколько моральная «правильность» и
справедливость (об этом упоминает и Кельзен). А это и указывает на
неюридическую природу понятия о правовом государстве.
Русский юрист С.А. Котляревский аргументированно обосновыва-
*-* *-l «J
ет такой подход к нашей теме в своей книге о правовом государстве,
опубликованной в 1915 г. Вот одно из его резюмирующих замечаний:
«Правовое государство выражает только известный уклон, устремление,
запечатлевшееся в государственном строении и деятельности. Правовое
w VJ
государство относится к миру идеи, но идеи неизменно
осуществляющихся и преобразующих факты. Смысл его совершенно метаюридичес-
^ ^
кии, и юрист-догматик чистой воды имеет право им не
интересоваться. Он справедливо чувствует, что, начиная размышлять о правовом
государстве, он принужден оказаться в подозрительной для него
близости к моралисту, философу, историку, — во всяком случае за пределами
строгой юриспруденции»7.
Повсюду в истории политических идей мы видим поиски
принципа, который должен ограничить власть-насилие. Своеобразие Запада
лишь в том, что здесь политическая культура возложила функции
такого принципа-ограничителя на право. Приведу для сравнения один при-
324
мер: «Древнекитайская мысль исходила из логично обоснованного
тезиса о том, что ... тирании узурпатора или власти силы может быть
противопоставлено только отеческое отношение мудрого правителя к
народу»8.
Далее, в исторически сложившемся понятии «правовое государство»
уже содержится отношение к государству как к злу (пусть и
неизбежному) и вытекающее отсюда нравственное задание уменьшить это зло,
смягчить его.
У CA. Котляревского мы находим соответствующее стержневой ев-
<j LJ
ропеискои традиции трезвое отношение к государству, ясное
понимание того, что его возможность творить добро гораздо меньше, чем
свойственный ему потенциал зла: «Власть должна быть ограничена правом
во имя справедливости; справедливость должна быть восполнена
деятельной благожелательностью, которая в известном смысле есть
высшая справедливость, вытекающая из достоинства человеческой
личности... Высшая ступень дает смысл низшей, объемлет ее. Но для
общества невозможно непосредственно подняться на высшую, и в этом
основное оправдание государства правового... Правовое государство
это преддверие, так сказать, общежития, гармонирующего с духовными
запросами человека... [Государство] глубокими корнями связано со
стихией насилия и эгоизма; лишь в известных пределах может в нем
воплотиться верховенство права, в меньших — господство справедливости.
*-г и
а в еще меньших — справедливости высшей, расширенной до
милосердия... Но если государство не есть земное божество Гегеля, то оно и не
холодное чудовище, каким его увидел Ницше; оно — отражение всей
человеческой природы — и в ее темных низах, и в обращенных к
вечному свету ее вершинах»9.
Итак, мы убедились в том, что европейская традиция, неотделимая
от естественноправового учения, понимает под «правовым
государством» в первую очередь не «верховенство права» (которое в массовом
сознании превращается в «соблюдение законности»), а приближение
сообщества к некоему идеалу, содержание которого может меняться.
Мы увидели, что слово «правовое» в этом термине соотносится не
только с позитивным правом, но и — даже в большей степени — с
неформализованным представлением о справедливости и защищенности.
Теперь, чтобы продолжить разбор понятия правового государства, надо
ответить на вопрос: что означает «государство» внутри традиции о
правовом государстве?
Прежде всего надо заметить, что рассматриваемая нами традиция
ориентируется на тот тип властной организации человеческого
общежития, который возник в Европе Нового времени. Ни древневосточные
империи, ни греческий полис, ни позднеантичный Рим, ни
средневековые королевства не были государствами в том смысле, в каком это
слово употребляется в составе термина «правовое государство».
Представление о государстве как о явлении, специфичном для
Нового времени, опирается не на какую-то определенную историософию,
а скорее представляет собой широко распространенное в современной
L*
европейской науке положение, разделяемое сторонниками различных
школ, в том числе и некоторыми марксистами (и оспоривается это по-
325
ложение тоже с разных позиций). Так, испанский правовед и
политический деятель Г. Песес-Барба Мартинес в своей написанной с
марксистских позиций работе о происхождении теории прав человека
замечает: «Государство — явление современной эпохи (в смысле «die
Moderne». — С.Л.), хотя оно и усвоило идеи и институты античности и
средневековья... Термин «государство» означает не всякую форму
политической организации, а лишь ту, которая возникает в Новое время. К
ее отличительным чертам относятся, в частности, суверенная власть,
рациональность администрации, государственная собственность,
постоянная армия, религиозный нейтралитет»10. Итальянский историк
римского права Рикардо Орестано показывает, что применение
термина «государство» к условиям Древнего Рима мешает понять специфику
изучаемых правовых отношений. Помехой становятся современные
коннотации этого термина: «История не знает государства античного и
государства современного, а только современное, потому что только к
нему может относиться в техническом смысле наименование
«государство» и то, что оно должно обозначать»11.
Помня об этом, перейдем к содержательному определению понятия
«государства», как оно используется в теоретической традиции о
правовом государстве.
Самая общая формулировка будет звучать примерно так: государство
— это политическая организация общества. Наличие выделенных
общей теорией государства и права XIX в. признаков — территории и
населения — здесь подразумевается. Понятие «политическая
организация» будем считать (в соответствии с исследуемой традицией)
тождественным понятию «публичная власть». Ю. Хабермас даже назвал
государство «публичным пространством». В свою очередь, «публичная
власть» означает систему публичного (прежде всего государственного,
или конституционного) права. Таким образом, понятие права
включено в понятие государства. (Здесь остается место и для кельзеновского
«безоценочного» определения государства как относительно
централизованного правопорядка.) Далее, из этого определения следует, что
государство в новоевропейском смысле предполагает существование
общества, которое предстоит политически организовать. Другими
словами, общество — предпосылка государства. Например, абсолютистские
государства Западной Европы XVII-XVIII веков политически
организовывали сословное общество, в котором уже было «третье сословие».
Понятно, что общество обладает сложной и подвижной структурой.
Кроме того, всякое общество в контексте изучаемой традиции — это
«массовое общество».
Как раз эти признаки — собственная структура и массовый характер
— подразумеваются в выражении «гражданское общество». Если
принять, что государство — феномен Нового времени, то термин
«гражданское общество» практически означает «буржуазное общество». Таким
образом, предикаты «массовое» и «гражданское» («буржуазное») уже
входят в содержание понятия «общество», как оно употребляется в
теоретической традиции о правовом государстве.
Выражение «гражданское общество» (или просто «общество») стало
одним из ключевых в русской публицистике последних лет. Здесь оно
326
обладает несколькими связанными между собой значениями. Прежде
всего, «общество» как синоним «общественного мнения», т.е. некоей
силы, от имени которой публицисты (как они считают) уполномочены
что-то говорить, в особенности — предъявлять те или иные требования
«властям». Далее, «общество» воспринимается как более или менее
организованная политическая сила, противостоящая государству. Так,
в одной недавней статье читаем: «В обществе, еще не успевшем
осознать и воссоздать себя как гражданское — через систему
демократических институтов, обусловленности обязанностей государства правами
человека, независимости печати и т.д., — в нашем обществе все еще
силен недуг отказа от самопознания»12. Осенью 1988 г. в большом
собрании московских ученых-социологов говорилось о том, что «события
в Армении надо интерпретировать как конфликт между гражданским
обществом и государством».
Для понимания специфики разбираемой темы важно не упускать из
виду одно обстоятельство, — никем вроде бы не оспориваемое, но
почему-то часто забываемое: демократические институты, позитивиро-
ванные государственным законодательством права человека, свободная
пресса и мн. др. — это лишь поздние плоды «гражданского общества»,
но вовсе не его конститутивные признаки. Гражданское общество
может существовать — и существует — без всех этих признаков. Оно не
может существовать лишь без пространства свободы — не духовной
свободы, не мифической «тайной свободы», которую «пели мы вослед
тебе», а свободы в самом элементарном смысле. Герой книги В.
Гроссмана «Все течет» говорит о ней: «Я раньше думал, что свобода — это
свобода слова, печати, совести. Но свобода — она вся жизнь всех
людей, она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто,
печь хлеб, который посеял, хочешь, продавай его и не продавай...»
«Пространство свободы» — это прежде всего свобода
собственности. Правовой институт частной собственности — единственный
демократический институт, без которого не может существовать общество как
самостоятельная величина, отличная от государства.
Итак, понятие гражданского общества подразумевает не
«гражданственность», а буржуазность, т.е. некоторую степень экономической
*_*
независимости человека от государства, возможность получать свои
хлеб не из рук государства; возможность писателю — пописывать,
читателю — почитывать, возможность жить в мире, где все продается и
покупается, а не распределяется государством по заслугам. Именно
здесь начинается «пространство свободы», конститутивное для
гражданского общества. Тут уместно привести мысль Канта о том, что
активным гражданином «истинной республики» (или членом societas
civilis) может быть лишь человек, обладающий, в частности, «атрибутом
гражданской самостоятельности — быть обязанным своим
существованием и содержанием не произволу кого-то другого в составе народа, а
своим собственным правам и силам»13. Как известно, именно Кантова
философия права лежит в основе традиции о правовом государстве
(Гоббс, Локк, Монтескье и Руссо были ее предтечами, в их творчестве
разработаны необходимые компоненты будущего учения о правовом
государстве, но как целостное интеллектуальное построение это учение
327
оформилось у Канта, получив свое нынешнее имя еще позже — в
трудах немецких правоведов первой половины XIX в.)
Конечно, и Кантову философию права надо интерпретировать в
свете нашего опыта. Так, Кант считал «активными гражданами» людей,
состоящих на государственной службе, — рядом с «европейским
столяром или кузнецом, которые могут публично выставлять на продажу
изготовленные ими изделия»14. Естественно, это применимо лишь к
описанному выше понятию государства.
Кантов критерий гражданской самостоятельности (по Канту, лишь
активные, т.е. экономически самостоятельные граждане должны
обладать избирательным правом) уже предполагает существование
рыночной экономики, основы гражданского общества. Государственные
служащие (в частности, бюрократический аппарат, составляющий,
согласно известному тезису Макса Вебера, один из конститутивных
признаков государства Нового времени) лишь приравниваются у Канта к
изначально самостоятельным гражданам. И это приравнивание вполне
оправданно, если исходить из определения государства как формы
политической организации гражданского общества. Но рассуждения
Канта обессмысливаются, если допустить, что государство само
становится единственным работодателем.
Как известно, Кант был противником того, что теперь называют
социальным государством. По его мнению, забота о благосостоянии
граждан не должна входить в число юридических обязанностей
государства, так как «счастье» (результат такой заботы) не может стать
правовым (т.е. всеобщим) принципом, поддающимся одинаковому
применению. Ведь вся этика Канта (философия права составляет ее часть) — это
поиск всеобщих и общеобязательных оснований для действия.
Понятно, что такой подход к нравственнности и праву соответствует всему
стилю мышления Канта. Кроме того, Кант полагал, что возведенная в
закон (т.е. принудительная) благотворительность подразумевает
деспотическое, патерналистское отношение государства к человеку.
Вероятно, было бы опрометчиво полностью редуцировать эти
мысли Канта к их социальному контексту — к абсолютистскому государству
эпохи «неразвитого капитализма» в Пруссии конца XVIII в. — и
отрицать их релевантность для сегодняшней либеральной демократии, для
«демократического и социального правового государства» (Основной
закон ФРГ, ст. 28). Современное социальное государство с его
механизмами перераспределения благ и защиты аутсайдеров было бы
немыслимо без предварительного ничем не ограниченного развития рыночной
экономики, т.е. того самого «пространства свободы», которое
составляет специфику гражданского общества. Моральная оправданность
социального государства как проявления «институциализированной любви
к ближнему» не вызывает сомнений. Однако ясно, что принцип
«социальности» по природе своей гораздо ограниченнее принципа
основанной на праве свободы. Соответственно, «классические» (т.е.
гражданские и политические) права человека имеют глубокое онтологическое
(или философско-антропологическое) обоснование, которого нет у
экономических и социальных прав. Идея социального государства — это
корректива, пусть и принципиально важная.
328
Подведем итоги нашим рассуждениям, касающимся первого из
предложенных в начале статьи вопросов: каково традиционное
значение понятия «правовое государство»? Разумеется, я стараюсь учитывать
лишь общие черты различных вариантов этой теоретической традиции
и не углубляться в темы, составляющие и сейчас предмет споров.
Традиция о правовом государстве представляет собой череду
непрекращающихся попыток совместить взаимоисключающие начала:
автономию личности и внешний по отношению к человеку порядок
принуждения (устанавливаемое государством право); «пространство
свободы» и создаваемое властью «публичное пространство»
(проблематика «государство и общество»); демократические ценности
(законодательствующая воля большинства) и либеральные ценности,
выразившиеся в классической концепции прав человека.
Конституционализм, теория и практика разделения властей,
сочетание сложных систем представительной демократии с элементами не-
*_#
посредственной демократии, система политических партии — все это
возникло на путях поиска синтеза или, точнее, подвижного равновесия
этих начал.
Следовательно, институты современного западного государства и
общества можно понять как обусловленные местом и временем рамки,
внутри которых снова и снова ставится вопрос о форме
сосуществования личности и публичной власти и даются (всякий раз
предварительные) ответы на этот вопрос, — основной вопрос традиции о правовом
государстве.
2
Теперь я перехожу ко второму вопросу: как можно истолковать тот
факт, что М. Горбачев выдвинул в центр программы реформ политико-
правовой системы именно словосочетание «правовое государство»,
словосочетание, обладающее именно таким семантическим полем,
которое я попытался описать в первой части статьи?
Летом 1986 г. в Москве на улице Горького висел огромный плакат:
«
ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ. ОНИ КОСНУТСЯ КАЖДОГО»
М. ГОРБАЧЕВ
Время показало, что автор процитированных на плакате слов был
прав. Понятно, что в наших условиях для проведения тотальной
(«коснуться каждого») политической кампании необходимы
удовлетворяющие определенным требованиям лозунги. Вдумываясь в семантику и
прагматику лозунга «формирование социалистического правового
государства», можно понять и характер этих требований, продвинувшись
тем самым в попытке осмысления всей нашей проблематики.
Здесь поможет сравнение с эпохой Хрущева.Мне кажется, что
«социалистическое правовое государство» Горбачева — функциональный
аналог «коммунизма» Хрущева.
Рассмотрим черты сходства этих идеологических конструкций.
:ро
^х'
Если Программу КПСС 1961 г. и другие тексты того времени,
упоминающие о «построении коммунизма», рассмотривать в их
историческом контексте, то обнаруживается, что, вопреки ожиданиям, они не
производят впечатления самодостаточной идеологической
конструкции, не имеющей никакого отношения к реальности. В самом деле,
между 1953 и 1961 годами уровень жизни в нашей стране повышался.
После «сельскохозяйственного» Пленума ЦК КПСС в сентябре 1953 г.
прекратилось более чем тридцатилетнее вымаривание деревни голодом:
крестьянам разрешили заводить приусадебные хозяйства и скот,
отменив «завышенные нормы поставок продуктов с приусадебного
хозяйства» (потом сам же Хрущев все это порушил). Появились у нас и
начатки социального обеспечения: в пятидесятые годы пенсии по
старости для некоторых категорий работающих стали соизмеримы с
прожиточным минимумом, и благодаря этому впервые возникла сама
возможность «уйти на пенсию» (раньше и слов таких не было). В сталинской
Москве отдельные квартиры были главным образом у семей начальства,
а Хрущев начал массовое жилищное строительство. Рабочий день был
сокращен до 7 часов. Цены на предметы первой необходимости в
пятидесятые годы почти не повышались, а минимальная зарплата росла.
Словом, «оттепель» (т.е. прекращение массовых репрессий и частичная
десталинизация в идеологии) шла на фоне экономического подъема,
который правительство использовало в целях социальной политики.
(Противоположные тенденции, сказавшиеся, в частности, в денежной
реформе и в повышении цен на пищевые продукты, стали явными
лишь в последние годы правления Хрущева.)
На этом фоне нехитрый коммунизм Хрущева вовсе не казался чем-
то ирреальным. Ведь подлинной точкой отсчета служил не «1913 год»
советской пропаганды, а наши тридцатые-сороковые. «От каждого — по
способностям, каждому — по потребностям». Но «нынешнее поколение
советских людей», которому предстояло жить при коммунизме,
выросло в бараках, и не так уж велики были его потребности. «Хрущоба»
вполне заменяла хрустальный дворец утопии.
В самом деле, в начале шестидесятых годов молодые люди с
техническим образованием строили графики экономического развития, беря
за основу статистику нескольких предыдущих лет (было такое
увлечение). И получалось, что, исходя из наличного уровня и заданных
темпов роста, можно в указанные сроки достичь показателей, близких к
тем, которые предполагались программой построения «материально-
технической базы коммунизма». Показатели эти не были
фантастически высокими. Коммунизм мыслился как гигантский,
распространенный на все население, спеираспределителъ. Все материальные блага
окончательно изымаются из свободного оборота и распределяются «по
потребностям», т.е. в соответствии с некоторыми нормам. Денег в этой
ситуации действительно не нужно, и поэтому все станет бесплатным.
Стилистически программа построения коммунизма полностью
соответствовала ленинско-сталинскому волевому подходу к истории: «Нет
таких крепостей, которых не могут взять большевики!» И в чисто
экономическом плане эта программа была не более безнадежной, чем первый
пятилетний план. В общем, нелепого и неосуществимого в ней было не
330
больше и не меньше, чем во всех предыдущих хозяйственных
начинаниях коммунистов. В конце концов, нет ничего удивительного в том,
что в окружении Хрущева не было специалистов по нашей
«политической экономике», которые показали бы, что уменьшение темпов
экономического роста, а затем и стагнация, — неизбежны.
Лишь одна черта сразу же выдавала безумный характер всего замысла.
Конечно, я имею в виду лозунг «догнать и перегнать Америку». (Это
«догнать и перегнать» мыслилось как условие или необходимый признак
построения коммунизма.) Встретившись в 1960 г. «лицом к лицу с
Америкой», Н.С.Хрущев не понял, что основа ее экономического могущества не
в «производстве стали на душу населения в стране» и не в кукурузных
полях, на которых он беседовал с американскими фермерами. Он не знал,
что эту основу следует искать совсем на другом уровне.
Хрущев — пусть неверный, но сталинец, — мог бы взять и эту
крепость и объявить свой малогабаритный коммунизм построенным. Но
он, вероятно, не понимал, что его военно-феодальная империя, наша
родина, живет в историческом времени, отличном от того, в котором
существует современное индустриальное (теперь уже
«постсовременное» и постиндустриальное) общество. Что лозунг «догнать и
перегнать» бессмыслен даже на грамматическом уровне.
В чем сходство между программами «построения коммунизма» и
«формирования социалистического правового государства»?
Во-первых, в том, что оба эти понятия использовались для
политической мобилизации масс в периоды реформ. (Оба они, функционируя
внутри известной идеологии, обозначают некое идеальное состояние
социума, оказываются секулярными аналогами представления о
царстве Божьем.)
И во-вторых, в том, что содержание обоих этих понятий подверглось
радикальной редукции, когда они стали ключевыми терминами
реальной политики. Мы уже видели, как это случилось с «коммунизмом».
Конечно, понятия «коммунизм» и «правовое государство»
относятся к разным традициям социальной мысли Запада. Поэтому
достойно внимания то обстоятельство, что Горбачев, в отличие от
Хрущева, заимствовал ключевое слово своей программы из чужого
словаря. Вот как воспринял это один советский правовед из поколения
«ровесников Октября»: «Без тени смущения сознаюсь, что первое
печатное упоминание «социалистического правового государства»
вызвало во мне чувство, близкое тому, которое испытал Робинзон
Крузо, узрев на своем богоспасаемом острове след чужестранной
человечьей ступни. И было отчего. Разве мы не писали о правовом
государстве как об идеалистической концепции, бесцеремонно
подменяющей...» и т.п.
Но определенные навыки мышления устойчивее, чем его
содержание. Соответственно, в Идеологии форма важнее и долговечнее
смысла. Поэтому, включившись в ее строго организованное пространство,
идея правового государства была ассимилирована, т.е. формально
уподоблена основному составу Идеологии. Понятно, что это ведет и к
содержательной редукции.
Обратимся к документу, в котором дается наиболее полная офици-
331
альная трактовка «социалистического правового государства», — к
резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «О правовой реформе».
Резолюция использует гуманистические коннотации понятия
«правовое государство», не давая, однако, его определения. Поиски
элементов определения в тексте приводят к следующему результату:
социалистическое правовое государство характеризуется тем, что в
нем обеспечено «верховенство закона» и усилены «механизмы
поддержания социалистического правопорядка на основе развития
народовластия». Далее перечисляются направления правовой реформы:
пересмотр законодательства, создание комитета конституционного
надзора и т.д. Тут же встречаются фразы, не имеющие
юридического смысла: «Следует повысить ответственность каждого гражданина
перед своим трудовым коллективом, государством и обществом в
целом». (В праве вопрос об ответственности — это вопрос об
установлении адресата санкции. Следовательно, ответственность нельзя ни
повысить, ни понизить.)
Наконец, вызывает сомнения осмысленность самого
словосочетания «социалистическое правовое государство». Прилагательное
«социалистическое» указывает здесь одновременно на господствующую в
нашей стране форму собственности и на определенную идеологию. Но,
как мы видели, идея правового государства неотделима от
мировоззрения, исключающего эту идеологию. Более того, идея правового
государства уже подразумевает частную собственность в качестве первичной и
исходной. Социальное правовое государство остается, с марксистской
точки зрения, буржуазным государством.
Но гораздо важнее то, что сама формулировка цели — «создание
правового государства» (пусть даже без прилагательного
«социалистическое») — возникла в полном отрыве от социальной реальности,
«данной нам в ощущении». Это целеполагание основано на ложных
предпосылках, — точно так же, как поставленная Хрущевым цель «догнать
и перегнать Америку».
Остановлюсь на главной из этих предпосылок. Юридическая
публицистика исходит, как правило, из того, что у нас уже есть государство,
и теперь посредством юридических реформ надо сделать его правовым.
А ведь на свете существует лишь одна — западная — традиция о
правовом государстве. Как я пытался показать, эта традиция оперирует
понятием о государстве как о политической организации гражданского
общества, о публичной власти. Мы видели, что идея права уже содержится
в таком понятии государства.
Между тем фундаментальная особенность существующей в нашей
стране организации власти — ее подпольный, нелегальный характер.
Отсутствует составляющее специфику современной государственности
«публичное пространство». Все важнейшие решения (в первую очередь,
решения относительно того, кому, когда и как предстоит решать тот
или иной вопрос) принимаются неформальной элитой, которую нельзя
отождествить с каким-либо «видимым» органом власти.
Я не могу до конца согласиться с известной концепцией
«партократии», если эта концепция подразумевает, что верховная власть
принадлежит политбюро ЦК КПСС, где решения по важнейшим вопросам
332
принимаются большинством голосов. Неприемлемо для последних
десятилетий и представление о единоличной диктатуре Генерального
секретаря. В обоих этих случаях наличествовал бы некоторый минимум
если не публичности, то «прозрачности» власти. Некоторые авторы
считают, что важнейшие решения принимаются в результате выработки
консенсуса между «внутренней партией», КГБ и руководством «военно-
промышленного комплекса» (именно поэтому КГБ и армия обычно
имеют представителей в Политбюро).
Разумеется, эти разногласия интересны для нашей темы лишь
потому, что они тоже свидетельствуют о подпольном, внерациональном и
непредсказуемом характере власти. Надо добавить, что в период
нынешних реформ этот непредсказуемый, неформальный характер
власти усилился. В самом деле, можно ли достичь правового состояния на
неправовых путях?
Таким образом, неверна предпосылка, согласно которой у нас есть
государство, да еще и сильное (или всепроникающее, вездесущее и
т.п.). Как справедливо заметил В.С.Нерсесянц, не следует путать
этатизм с тоталитаризмом15. Что же касается «гражданского общества» (в
предложенной выше, да и в любой из существующих интерпретаций
этого термина), то специальных доказательств его небытия в нашей
стране, видимо, уже не требуется.
Стало быть, есть серьезные основания предполагать, что
нынешний лозунг о «создании правового государства» стоит в одном
смысловом ряду с «человеческим фактором», «социалистическим
плюрализмом», «белыми пятнами» и «приматом общечеловеческих
ценностей». Само неуклюжее строение этих политических неологизмов
указывает на то, что перед нами попытка вместить в готовые
идеологические формы новое содержание, заимствованное из западной
гуманистической традиции. Но еще палестинские крестьяне эпохи
римского принципата знали; «Никто не пришивает к старой одежде
заплату из новой ткани: иначе новая заплата оторвется от старой
одежды, и прореха станет еще хуже. И никто не вливает молодое
вино в старые мехи: иначе вино прорвет мехи — и вино вытечет, и
мехи пропадут».
В конечном счете нет смысла доискиваться, когда рассуждения в
этих терминах ведутся bona fide, а когда — из пропагандистских
соображений. Ведь дело идет о судьбе нашей страны, оказавшейся в
историческом тупике, быть может — на пороге новой катастрофы, которая
«коснется каждого». И если в этой ситуации вообще оправдан анализ
лозунгов, то можно сказать так: не надо красивых слов насчет
«социалистического правового государства». Надо медленную помощь.
Нужно просто государство, т.е. следует «просто» вывести власть из
подполья, придать ей публичный характер. Движение в этом направлении
(«создание государства») привело бы к последовательному упразднению
всех нелегальных структур нынешней политической организации. В
частности, «создание государства» подразумевает освобождение власти
от идеологии, т.е. отказ от всякой высшей легитимности в пользу
простой легальности.
Читатель, вероятно, спросит: можно ли в политическом развитии
333
весны-лета 1989 г. увидеть шаги в эту сторону? В самом деле, весенние
выборы депутатов, затем Съезд и (в меньшей степени) создание
правительства на сессии Верховного совета дали нам то, что можно расценить
как первые попытки открытой политической борьбы (вместо
подпольной аппаратной грызни) и публичного формирования государственной
воли. Можно ли видеть во всем этом возникновение «публичного
пространства»?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Можно было бы сказать: «Время
покажет», — но я не уверен, что у реформаторов в запасе осталось
много времени. Как бы то ни было, события тех же месяцев
свидетельствуют, что реальная власть (полномочие принимать важнейшие решения)
по-прежнему принадлежит неформальной элите.
Август 1989
Примечания
1 См., напр., Miaille Μ. Le retour de Г Etat de droit. Le debat en France. // L'Etat
de droit. Sous la direction de Dominique Colas. — P., 1987, С. 215 -251.
2 Kelsen Η. Reine Rechtslehre. - Wien, 1960, c. 112.
3 Там же, с. 288.
4 Там же, с. 289.
5 Там же, с. 314.
6 Кант И. Соч. в шести томах. Том 4, часть 2, — М., 1965, с. 233.
7 Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. — М.,
1915, с. 350.
8 Васильев Л. С. Политическая и правовая мысль Китая. // История
политических и правовых учений. Древний мир. — М., 1985, с. 198.
9 Котляревский С.А. Цит.соч., с.403-404.
10 Peces-Barba Martines G. Tränsito a la modernidad у derechos fundamentales. —
Madrid, 1982. - P.31.
!! Orestano R. II problema delle «persone giuridiche» in diritto romano. — Torino,
1968. с 188.
12 Гусейнов Г.Ч., Драгунский Д.В. Национальный вопрос: попытка ответа.// М.,
Вопросы философии, 6, с. 44.
13 Кант И. Цит.соч., с. 235.
14 Там же, с. 235.
15 Нерсесянц B.C. Правовое государство: история и современность // М.,
Вопросы философии, 1989, 2, с. 11.
334
«В Нагорном Карабахе и вокруг него»:
Опыт интерпретации мифического мышления*
Нет дурных народов...
(из газет)
... Каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему
(великий писатель земли Русской)
Вначале марта 1992 г. я беседовал с летчиками в ереванском
аэропорту «Эребуни». Это загаженное и промерзшее здание: в
результате блокады не топили всю зиму, которая оказалась
необычно суровой. Мы сидели в комнате начальника перевозок
в Карабах. Вылетов в тот день не было: «для вертолетов
погода нелетная». Да и вообще «в Карабахе журналистов больше, чем надо:
и так мы каждый день видим наших ребят в «Новостях». Они солдаты,
а не кинозвезды. Что от вас, журналистов, толку? Вам одно важно —
подороже продать свои ленты». (Говорил все время один и тот же
летчик, остальные одобрительно кивали.)
Хотелось как-то отделить себя от неправильных журналистов: у
меня-дескать даже фотоаппарата с собой нет, я не репортер, мое дело
— писать, анализировать ситуацию.
На это последовала реплика: «А ты разве не понимаешь, что
происходит? Не знаешь, что один народ сражается за свободу, а другой не
дает ему освободиться?»
Мне запомнилась эта простая формулировка. В самом деле: когда ты
находишься за пределами интеллектуального истеблишмента, ничто не
мешает говорить правду: некому осуждать тебя за
несбалансированность подхода к сложной проблеме.
Я думаю, что формулировка моего собеседника истинна, но она
сводит вопрос к «праву народов на самоопределение» — теоретически
всюду признанному и «закрепленному», а практически, к сожалению,
целиком зависящему от конкретного соотношения политических сил и
интересов.
Но ведь можно описывать происходящее и в чисто историческом
плане, отвлекаясь от юридических определений и нравственной
оценки. Посмотрим на карту Кавказа и Передней Азии. Отметим на ней
районы компактного проживания армян в начале 10-х годов XX века.
Не имея собственной государственности, армяне жили общинами в
Российской и Османской империях на пространствах от
малоазиатского побережья Средиземного моря (Киликия) до Тифлиса и Северного
Кавказа, от Баку до Черного моря. В Турции армянское население на-
«Российская газета», 1992, № 72.
335
t
считывало больше двух с половиной миллионов человек, большинство
которых жило в шести малоазиатских вилайетах. (Важно отметить:
спустя 80 лет примерно такова же численность населения сегодняшней
Республики Армения.) «До 1-ой мировой войны б. ч. армян (около 4
млн. чел.) жили компактно на территории исторической Армении: из
них в Российской империи — ок. 1,5 млн. чел., остальные — в Турции»
(Народы мира. Историко-этнографический справочник. — М., 1988, с.
69.) Под исторической Арменией обычно понимается пространство,
включающее озера Севан (на востоке), Ван (на юго-западе) и Урмия (на
юго-востоке).
И при таком описательно-демографическом подходе история армян в
XX веке выглядит как растянутая на десятилетия национальная
катастрофа, которая грозит обернуться полным уничтожением этого народа.
В самом деле, вспомним общедоступные факты.
В результате геноцида армян в Османской империи Западная
Армения (восточная часть современной Турции) практически лишилась
коренного населения: в 1915-1916 гг. от полутора до двух миллионов
армян были лишены гражданских прав, депортированы и, наконец,
уничтожены «под шумок» мировой войны. В этой последовательности
событий читатель легко узнает модель физического уничтожения целых
социальных групп, которая затем неоднократно применялась в нашем
веке. Именно так русские коммунисты уничтожали эксплуататорские
классы, а немецкие национал-социалисты — евреев. Вот результат:
сейчас в Турции всего около 100 тысяч армян, они живут
преимущественно в Стамбуле и других крупных городах, в большинстве своем они
сильно ассимилированы, отрицают — в соответствии с официальной
турецкой версией истории — геноцид 1915 года, подчеркивают свою
лояльность Турции. А во всем мире общее число армян за прошедшие
после геноцида восемь десятилетий выросло лишь незначительно:
последствия этого события ощущаются до сих пор.
За катастрофой в Османской империи последовала резня армян в
Нахичеване, Баку и Шуше (1918-1921). В конце 1920 г. независимая
Армянская республика, продержавшись менее трех лет, пала под
ударами турецкой и русской армий. Армянские территории были разделены
между кемалистской Турцией и коммунистической Россией. Согласно
Московскому договору, подписанному 16 марта 1921 г., было
подтверждено право Турции на Карсскую область и некоторые другие западно-
армянские территории, захваченные Россией во время русско-турецкой
войны 1877-1978 гг. и вошедшие в ее состав по Берлинскому трактату
1878 г. (Впервые Россия отказалась от этих территорий в
Брест-Литовском договоре.) Согласно тому же Московскому договору Нахичеван-
ская область, относящаяся к ядру исторических армянских территорий,
была передана под протекторат Азербайджана. Этот договор стал
правовой основой для образования Нахичеванской АССР в составе
Азербайджана. Известное постановление о включении Нагорного Карабаха
на правах автономии в Советский Азербайджан, принятое Кавбюро
РКП(б) 5 июля 1921 г., тоже определено попытками русских
большевиков найти общий язык с Турцией, которая тогда, как и сегодня,
стремилась быть покровителем азербайджанцев.
336
В Нахичеване мы видим тот же результат, что и в Западной
Армении: в 1917 г. армяне составляли около 40% его населения, в 1926 г. их
численность сократилась почти в 5 раз, а к началу восьмидесятых гг. в
этой армянской автономии Азербайджана оставалось лишь два
армянских села, т.е. армянская община Нахичевана более не существует. От
нее, как и в Малой Азии, осталось лишь армянское название области.
За пятьдесят лет, непосредственно предшествовавших нынешнему
карабахскому кризису, доля армянского населения в НКАО и
прилегающих к области районах Азербайджана (Шаумяновск, Дашкесан, Хан-
лар, Шамхор) непрерывно уменьшалась. По многочисленным
свидетельствам, устным и литературным, армянская и азербайджанская
общины в Карабахе при советской власти жили в состоянии «заморожен-
<J *-* l·^
t>
ной воины» — взаимной вражды, время от времени приводившей к
кровопролитию.
Расспрашивая специалистов-этнографов и грузинских армян (к 1988
году их было около полумиллиона), я узнал, что существование
армянской общины в Грузии тоже оказалось под угрозой. Эта тема мало
обсуждается, так как из политических соображений о ней не принято
говорить слишком громко. Здесь тоже была глухая вражда,
вырывавшаяся на поверхность по мере подъема грузинского
национально-освободительного движения. Армянские культурные институты
сворачивались, армянам навязывался статус «гостей», поставленных перед
выбором: ассимиляция или эмиграция. При Звиаде Гамсахурдиа такое
отношение к армянскому меньшинству фактически стало государственной
политикой. Грузинские армяне уезжают на Северный Кавказ и в
Россию, их немало и среди кандидатов на эмиграцию в США.
Уже в ходе конфликта «в Нагорном Карабахе и вокруг него» сотни
тысяч армян были изгнаны из Баку, Кировабада (Гянджи), а также из
Ханлара, Шамхора, Дашкесана и других сельских районов
Азербайджана. Здесь нет нужды подробно говорить о сумгаитской резне в феврале
1988 г., о кировобадских погромах в ноябре 1988, о бакинских погромах
в январе 1990 г.: все, кто этим интересуется, хорошо помнят
упоминаемые события, в результате которых в Азербайджане не осталось армян.
Повторяю: речь идет не о моральной оценке, а об описании
исторического процесса, который, как кажется, идет с необратимостью
геологического сдвига. Страшно сказать, но даже землетрясение 7 декабря
1988 г., разрушившее половину Армении, естественным образом
вписывается в эту картину.
И на этом фоне Карабахское движение можно понять как
последнюю судорогу народа, цепляющегося за жизнь, как последнюю
попытку «повернуть» динамику армянской истории, оборвать эту тенденцию,
не пустить ее в будущее. По понятным причинам используемые мной
понятия вызывают неприятные ассоциации, но дело идет именно о
борьбе за жизненное пространство. Ведь всякий, кому знаком
чудовищно раздувшийся за последние два-три десятилетия Ереван, кому
приходилось путешествовать по Армении, знает, что эта крохотная горная
страна, болеющая всеми болезнями «третьего мира», не в состоянии
прокормить собственное население, тем менее — принять сотни тысяч
беженцев.
22 Заказ 257 337
Таким образом, «карабахская проблема» сводится к животному
стремлению народа выжить, уцепиться на последнем рубеже. Это
инстинкт самосохранения, который находится «по ту сторону добра и
зла», который внеположен нравственности, как и само национальное
начало, понимаемое в биологически-этническом смысле.
Угроза изгнания и уничтожения — константа армянской истории,
наиболее ярко проявившаяся в XX веке, но возникшая гораздо раньше.
Именно она способствовала окончательному оформлению той модели
интерпретации истории, которую можно назвать армянским мифом.
Ключевой символ армянского мифа — цивилизованность. За этим
словом-шифром стоит представление об армянах как о древнем народе с трех-
тысячелетней историей, о наследнике настоящей античной культуры,
распространяющем ее цивилизующее влияние на другие народы.
Концепция цивилизованности, резко выделяющей армян из среды окружающих
народов, функционально подобна концепции избранности народа единым
Богом, которая находится в центре еврейского мифа.
Второй важнейший элемент армянского мифа — представление об
армянах как о христианском народе, форпосте христианского мира на
Востоке.
С этими двумя элементами мифа связан третий — самопонимание
армян как венной беззащитной жертвы в руках нецивилизованных иноверцев
и как народа, преданного Западом во имя ложно понятых политических
интересов. Армянский народ обречен на невинные страдания подобно
самому Христу. В армянской истории заключен некий урок, который
христианское человечество не хочет усвоить. — Именно эти представления
дали возможность азербайджанскому писателю Анару говорить об
«армянском мазохизме», о свойственном армянам культе страдания.
Этот миф окончательно оформился в советской Армении за последние
25 лет, где он сейчас даже более действен, чем в армянской диаспоре. В
60-е годы советские армяне добились права отмечать день памяти жертв
геноцида — 24 апреля, с тех же пор в Армении появляется обширная
литература о геноциде. Образ непризнанного и замолчанного миром
злодеяния решающим образом повлиял на армянское культурное сознание:
рядом с культом страдания возникает культ героя-федаина, борца с турками.
Легко заметить, что все элементы мифа способствуют изоляции армян,
ибо последовательно противопоставляют этот народ «соседям», т.е.
тюркским и другим мусульманским народам. (Тут я вспоминаю о моих
друзьях из Степанакерта, которые вместо слов «азербайджанцы» или «турки»
всегда говорят перифрастически: «наши соседи».) В сущности, миф
формирует идентичность армян как «антитурок». Очевидно, что этот партику-
ляристский миф чужд современному западному этосу: господствующее в
Западной Европе и США либеральное мировоззрение основано на секу-
лярности и универсализме. Другими словами, армянский миф не
поддается адекватному переводу на язык мифа о правах человека.
Что же касается «московских друзей армянского народа», то они, к
сожалению, за прошедшие четыре года часто занимались актуализацией
и перифразированием армянского мифа. Здесь надо уточнить:
имеются в виду те, кому действительно важна судьба армян, а не
славолюбивые люди из числа «так называемых демократов» (М.С. Горбачев), ис-
338
пользовавшие в свое время армянскую тему и доверчивость
армянского народа как трамплин для своей публичной карьеры. Я уверен: эти
последние понимают смысл собственного предательства. Надеюсь, что
иногда они испытывают стыд.
По моим наблюдениям, «московские друзья» нередко добивались
эффекта при помощи запрещенного приема: обращаясь к армянской
аудитории, они использовали глубоко укорененные антитюркские и
антиисламские чувства армян, то есть унижались до пропаганды наци-
<J v_* *-J
ональнои и религиозной вражды в чужой стране, относясь при этом к
армянам как к «братьям нашим меньшим», с которыми можно и
нужно говорить именно на расистском языке. «Московские друзья»
укрепляют как раз те элементы армянского мифа, что изолируют армян от
соседних народов и обеспечивают их «антитурецкую» идентичность.
Могут возразить, что я преувеличиваю влияние политических мифов
на развитие конфликта. Но вот еще одно наблюдение: армянские
лидеры и масс-медиа как правило подавляют ту информацию, что
противоречит мифу. На мой взгляд, одно из решающих событий,
окончательно придавших конфликту характер борьбы до конца, т.е. до физического
уничтожения или изгнания одной из этнических групп, — это
депортация азербайджанцев из Армении в ноябре 1988 г. По моим сведениям,
более ста тысяч азербайджанских крестьян были изгнаны (главным
образом из Гугаркского, Горисского и Степанаванского районов
Армении) за несколько дней, десятки убиты. Лидеры тогдашнего
Карабахского движения Армении (сейчас многие из них — руководители
государства) не заявили публично, что армяне руководствуются пещерным
tj
принципом кровной мести и коллективной ответственности,
свойственным «нецивилизованным» народам. Случившееся не стало
предметом публичного обсуждения и осмысления. Оно не было
воспринято как национальный позор армян. Вместо этого смутно давалось
понять, что армянские азербайджанцы сами во всем виноваты, ибо вели
себя нелояльно. На демифологизацию никто в Армении не отважился.
По мере пробуждения азербайджанского общества здесь
формировался (из уже готовых блоков) и становился публичной величиной
«контрмиф» о коварных армянах и по-детски наивно-доверчивых
азербайджанцах. Характерно, что вместо демифологизации массовому
сознанию предлагается борьба мифов. А в Азербайджане растет
уверенность в том, что русская и западная публика не откажется от двойных
стандартов: христианский мир всё равно будет на стороне
цивилизованного народа, проявляя свойственный ему европоцентричный расизм. У
всех перед глазами бесчувственность западной совести перед
страданиями палестинского народа. Ведь в современном западноевропейском и
американском сознании на роль страдальцев прочно определены евреи
(кстати, к ним испытывают ревность и носители армянского мифа), и
пока тема вины христиан перед евреями за Голокауст вконец не
надоест западному (христианскому) интеллектуальному сообществу,
христианская совесть едва ли обременит себя новыми заботами такого же
рода. «Боливар не вынесет двоих».
Что касается «московских друзей» армян, то они перед лицом таких
событий как изгнание азербайджанцев из Армении либо демонстриро-
22*
339
вали кровожадность болельщиков за свою команду, либо
обнаруживали беспомощную растерянность и даже разочарование в цивилизованных
армянах: «Как такое возможно?» Особенно ясно всё это проявилось
после публикации сообщений о массовых убийствах азербайджанского
населения при штурме поселка Ходжалы в конце февраля 1992 г.
А попытки «объективного подхода» в центральной и (затем)
российской прессе тоже не назовешь удачными: с осени 1988 г. здесь
помещают армянскую и азербайджанскую версии событий в двух соседних
колонках. Однако «неумение найти и сказать правду» (Б.Л. Пастернак)
такой объективностью не заменишь.
Здесь мы вступаем на узкую и опасную тропу. Ведь очевидно, что
быть «болельщиком» безнравственно, а принять (выраженный в
неявном виде) принцип коллективной ответственности невозможно.
Однако и либеральная догма о том, что «нет дурных народов» (т.е., в
пределе, «все народы одинаковы») не способствует пониманию ситуации, а
иногда прямо вредит делу.
То, что мне важно выразить, очень близко к словам французского
католического писателя Жоржа Бернаноса, написанным в ноябре 1943
г. в споре с одной прогрессивной американской журналисткой: «Дороти
Томпсон считает несправедливым распространять на весь немецкий
народ ответственность за преступления, совершенные фашистами. А я
полагаю столь же несправедливым исключить фашистов из немецкого
народа, тем самым сбрасывая со счетов смягчающие их вину
обстоятельства, то есть наследственность среды, культурные и нравственные
традиции. Да, среди немцев есть маньяки и садисты... Но есть еще одна,
самая многочисленная категория немцев, которые, хоть они не маньяки
и не садисты, тем не менее смотрят на жестокость и насилие иначе, чем
мы.» Неудобное высказывание, но его стоит продумать.
Недавно американский друг обвинил меня в расизме за слова: «В
русской культуре человеческая жизнь не относится к
основополагающим ценностям». Вероятно, он отнесся к этим словам примерно так же,
как я оценил бы стандартные обвинения в адрес «грузин», звучащие
где-нибудь в московской очереди. («Вся их нация такая» и т.п.). И
однако: мы знаем, что разные народы смотрят на жестокость и насилие
по-разному,так же как разные народы по-разному относятся к
человеческой жизни.
Осенью 1990 г. я прожил неделю в доме моего знакомого аскеранца. По
несколько раз в день он возил меня на «Жигулях» из Аскерана в
Степанакерт и обратно. Прямая дорога ведет через Ходжалы, и однажды шедшую
перед нами армянскую машину там закидали камнями. В следующие дни
армянские водители предпочитали труднопроезжую окольную дорогу. По
этому поводу я услышал: «Если бы весной 1988 г. мы сожгли в Ходжалы
пару домов, азербайджанцы сами ушли бы оттуда».
Тут уместно вспомнить, что первый поход толпы погромщиков из
Агдама на Аскеран был 22 февраля 1988 г., через два дня после
внеочередной сессии совета народных депутатов НКАО, ходатайствовавшей
перед Верховными Советами обеих республик о передаче НКАО из
состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Этот поход стал
первой с начала карабахского движения попыткой насилия со стороны
340
азербайджанцев, и одновременно — первой публично значимой реакцией
азербайджанцев на решение карабахского облсовета. На своем пути
толпа избивала армян, разоряла постройки. Погромщики были
остановлены выстрелами милиции на окраине Аскерана — там, где четыре
года спустя, в начале марта 1992 г. были остановлены прорывавшиеся
к Аскерану азербайджанские бронетранспортеры.
Второй реакцией азербайджанского общества на стремление кара-
бахцев освободиться был сумгаитский погром 27-29 февраля 1988 г.
Сополагая все эти разнородные эпизоды, я пытаюсь обосновать два
утверждения.
Во-первых, отношение к насилию в азербайджанской и армянской
политических культурах действительно разное. Мне трудно представить
себе, чтобы нейтральный историк смог аргументированно опровергнуть
такой вывод. Погром и массовая резня — это именно тот отклик,
которого в феврале 1988 г. было естественно ожидать. Именно такие
ожидания вытекали из всего опыта сосуществования армян с тюрками в
критические моменты истории. Угроза резни (так называемый
«азербайджанский фактор») действительно стала политическим аргументом
с самого начала конфликта.
Во-вторых, заданный «Сумгаитом» уровень политической морали
побеждает у нас повсюду — и не только в Закавказье. (Это утверждение
уже стало общим местом у авторов, анализирующих динамику
массового насилия в эпоху распада СССР.) Армяне тоже успешно усвоили
аргумент насилия: тебя никто не защитит, поэтому убивай противника и
захватывай его позиции, если не хочешь оставаться беззащитной
жертвой. Таков сегодняшний вывод из призыва «Сумгаит не должен
повториться», и именно в этом смысле я понял сожаление моих аскеранских
знакомых об упущенной возможности изгнать азербайджанцев из Ход-
жалы. Если бы не упорное вооруженное сопротивление армян, то уже
давно состоялось бы «окончательное решение» карабахского вопроса
путем уничтожения армян.
К сожалению, попытки решения споров «цивилизованным»
способом, т.е. путем взаимных уступок, компромиссов, в Закавказье почти не
имели успеха, отчасти из-за беспомощности и некомпетентности
центральных властей, но не только поэтому. Возможность компромисса
наметилась в то время, когда в Карабахе губернаторствовал Аркадий
Вольский (лето 1988 — ноябрь 1989), вначале как представитель ЦК
КПСС и ВС СССР, а затем в качестве главы Комитета особого
управления, ответственного перед Π ВС СССР. Но то, что он пытался сделать
и уже сделал, было разрушено совместными усилиями Азербайджана и
Армении. В обеих республиках ситуацией овладевали силы, не готовые
к компромиссу.
Впрочем,это неудивительно: даже в Европе новый мировой
порядок, основанный на исключении силы в качестве главного
политического аргумента, лишь начинает утверждать себя. Распад Югославии
тоже поставил под вопрос судьбу этнических меньшинств (например,
сербов в Хорватии). Объединяющаяся Европа не смогла или не захотела
предотвратить там гражданскую войну, резню и изгнание населения.
Или вот пример другого рода. Как только Вацлав Гавел стал президен-
341
том Чехо-Словакии, он попробовал в одной из речей чуть-чуть пробле-
матизировать послевоенную поголовную депортацию немцев из Судет-
ской области. Речь шла не о юридической обоснованности этого
события (никакие заигрывания с Германией не имелись в виду); Гавел
усомнился лишь в моральном величии и красоте этого акта. Его выступление
вызвало бурную отрицательную реакцию, ясно показавшую, что многие
чехи придерживаются принципа коллективной ответственности.
Предложенное здесь понимание ситуации ведет к следующему
прогнозу. В решении карабахской проблемы, по-видимому, существует
лишь такая альтернатива: армянскую общину Карабаха уничтожают
(возможно, при военном поражении остатки ее спасаются бегством),
либо Карабах обретает фактическую самостоятельность (как бы она ни
называлась). Что касается проектов «реальной автономии» внутри
Азербайджана, то они, видимо, неосуществимы, если допускают хоть какой-
то контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом.
Сейчас события развиваются так, что вероятность первого решения
гораздо выше. Очевидно, что при нынешнем положении вещей
многократное превосходство военного потенциала Азербайджана скоро
проявится, а помощь Карабаху со стороны Армении незначительна.
«Воздушный мост» ненадежен, он может быть разрушен очень скоро.
Сельское население Карабаха доедает старые запасы, и уже близок
настоящий блокадный голод. Пытаясь укрепить свои позиции, карабахцы
почти наверняка пойдут на штурм Шуши, и это приблизит развязку.
Первое крупное военное поражение карабахцев означает поголовное
вырезание населения. При прорыве карабахского фронта правительство
Армении, даже оставшись в полной изоляции, придет на помощь
Карабаху, армянские вооруженные формирования попытаются пробить
сухопутный «коридор» в Нагорный Карабах через район Лачина. По
словам высших должностных лиц Армении, возможности действовать
иначе в такой ситуации уже не будет. Отказ от решительных действий
означал бы потерю власти.
Следует иметь в виду, что между властью Республики Армения и
руководством провозглашенной 2 сентября 1991 г. Нагорно- Карабахской
Республики (НКР) есть напряженность и противоречия. Руководители
национально-освободительного движения армян в Карабахе никогда не
зависели от Еревана, и уж совсем неверно думать о них как о «ставленниках»
армянских политических сил. С ходом времени и утратой иллюзий
влияние ереванских властей на карабахцев скорее уменьшается. Из опыта
поездок в Карабах и постоянного общения (по телефону, а также в Ереване
и Москве) с карабахцами я вынес впечатление, что они стремятся не
столько слиться с Арменией, сколько вырваться из-под контроля Баку:
фактическую независимость от Азербайджана они считают необходимой
предпосылкой для сохранения своей общины. В феврале 1988 г. «миацум»
(соединение с Арменией) представлялся единственной конституционной
возможностью уйти из-под власти Азербайджана. Кстати, все участники
февральских событий, включая партийно-советскую элиту области,
прекрасно понимали, что своими действиями раз и навсегда отрезают себе
путь назад: прощения уже никогда не будет. Поэтому февральское
решение сессии облсовета и соответствующее ему по смыслу постановление
342
пленума Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана следует считать
актами высокого мужества.
А когда ПВС СССР 28 ноября 1989 г. упразднил Комитет особого
управления НКАО и снова отдал Карабах в полное распоряжение
азербайджанским властям, руководители Армении и НКАО предприняли
отчаянный шаг с целью хоть как-то воздействовать на «Центр»: 1
декабря 1989 г. в Ереване на совместной сессии ВС Армении и
Национального совета НКАО было объявлено о создании единой Армянской
республики, включающей Нагорный Карабах. Это решение осталось без
последствий, а новая, посткоммунистическая власть Армении
предпочитает не брать на себя ответственность за него. Между тем в свое
время именно Армянское общенациональное движение (АОД),
пришедшее к власти в 1990 г., разработало проект этого решения и навязало его
старому ВС. Более того, АОД возникло и добилось первых успехов
именно под «карабахскими» лозунгами, которые оно сворачивало по
мере приближения к власти. (Читатель, быть может, помнит, что
руководство АОД было с весны 1988 г. известно как «комитет Карабах».)
Такая непоследовательность порождает у карабахских армян недоверие
к Еревану. И наоборот: упорство карабахцев, их желание выжить на
своей земле, скорее мешает новому руководству Республики Армения
наладить добрые отношения с Азербайджаном и Турцией. Надо
заметить, что в Армении помощью Карабаху занимается не столько
правительство, сколько оппозиция, прежде всего партия Дашнакцутюн.
Попытка пробить «лачинский коридор» означала бы войну по всему
фронту между Арменией и Азербайджаном. Исход такой войны зависел бы
от позиции соседних государств и потому не поддается прогнозированию.
Одно ясно: сейчас у Армении, в отличие от Азербайджана, нет настоящих
союзников, поэтому речь пойдет уже не о Карабахе, а о бытии или
небытии армян в Закавказье. На горизонте — угроза нового геноцида.
Логическая возможность избежать такого развития — признание
международным сообществом Нагорно-Карабахской Республики.
Однако сегодня, видимо, никто не готов к такому решению.
Март 1992
343
Ответственность, покаяние
и наша церковь
(тезисы)
1.Почти что с первых дней горбачевской оттепели теологическая
символика стала доминировать в деле оформления новых культурных
смыслов. Летом-осенью 1986 всё мыслящее и передовое обсуждало
«Плаху» Айтматова, а с начала 1987 — «Покаяние» Абуладзе. С тех
пор в нецерковном (политическом) обиходе ключевое слово покаяние
успешно применялось для того, чтобы вытеснять мысль о личной
(индивидуальной) ответственности. Так, за всей проблематикой
«суда над КПСС», как она сложилась в сознании большинства,
стоит не принцип индивидуальной ответственности, принятый в
современных правопорядках, а пещерное представление о коллективной
вине. Такое представление легко сочетается с расхожим пониманием
покаяния: их объединяет антиличностный и в то же время
антисоциальный пафос. Согласно этому пониманию, покаяние как нечто
«глубоко интимное, происходящее между душой и Богом», имеет ме-
•г- /Г
сто по ту сторону социально значимой, пуоличнои констатации лич-
\j
ной ответственности.
1.1. Под вопросом об ответственности я понимаю прежде всего
вопрос об установлении адресата моральных или правовых санкций.
Правовая ответственность, естественно, может быть индивидуальной и
корпоративной. Так, акционерное общество обычно отвечает своим
имуществом за правонарушения, приписываемые ему как субъекту
публичного права. Нас же сейчас интересует ответственность личная
(индивидуальная), будь то моральная или правовая.
2. Раз у нас принято такое понятие о покаянии, то надо сказать: в
покаянии наше общество не нуждается. А нуждаемся мы в трезвом (как
говорят православные, смиренном) осознании нашего положения. И
важен именно публичный характер такого осознания. Но «нового
Нюрнберга», к сожалению, быть не может: не из кого собрать Трибунал, нет
социальной силы, которая была бы вправе взяться за декоммунизацию
по образцу денацификации, проведенной союзниками в западных
оккупационных зонах Германии.
2.1. Задачей «нового Нюрнбергского трибунала» было бы
доказательство того, что коммунистический порядок был преступным, т.е. что
преступления против человечества были предусмотрены его содержани-
«Независимая газета», 29 октября 1992 г.
344
ем. Прилагался бы список фактических составов, которые Трибунал
признал наиболее крупными, а также «типовыми» коммунистическими
преступлениями против человечества (своего рода Уголовный кодекс
для рассмотрения конкретных дел).
2.2. Коль скоро все это считалось бы установленным, то на основе
таких норм можно было бы учреждать комиссии по декоммунизации.
Задачей комиссий было бы определение того, соучаствовал ли каждый
из нас в преступлениях против человечества, содержание которых
определено Трибуналом. Понятие «соучастия» тоже должно было бы
получить точное юридическое определение. Вероятно, для некоторых
категорий граждан была бы предусмотрена презумпция виновности,
например для партийных чиновников не ниже определенной ступени. Им
пришлось бы доказывать, что в преступлениях коммунистического
порядка они не участвовали. (Так было и в Германии.)
2.3. Итак, речь шла бы об установлении ответственности и
измерении вины каждого из нас, кто был бы найден вменяемым и виновным.
3. Скажут: все эти разговоры запоздали, сейчас всеобщее
справедливое недовольство обращено на нынешнюю демократическую власть,
которая уже вызывает более сильные отрицательные эмоции, нежели
коммунисты. — Верно, но если бы мы жили в условиях, где декомму-
низация в описанном смысле была бы возможна, то и у демократов не
возникло бы ощущения безнаказанности.
3.1. Еще до прихода демократов к власти я высказывал
предположение (в статье «Миф о правовом государстве», журнал «Октябрь», март
1991) о том, «что политическая этика сегодняшних демократов во
многом производна от того нравственного уровня, который задали в нашем
обществе коммунисты». Это предположение подтвердилось, что значит:
пока демократы у власти, подлинная декоммунизация невозможна.
Демократы способны думать лишь об устранении политических
соперников, от демократической «декоммунизации» будет только вред. Об этом
свидетельствуют и слушания в Конституционном Суде по «делу
КПСС».
3.2. И все же я уверен: наше общество не сможет приблизиться к
«нормальности», пока, например. Афганская война не дождется
своего «Нюрнберга», пока она будет гнить в нашей жизни как труп в
трюме. Одна мера вины у тех, кто по своему положению должен разделять
ответственность за политические решения, которые привели к гибели
более миллиона жителей Афганистана. Другая — у партийных
полпредов и наместников вроде Полянички. Еще другая — у боевых
командиров вроде Громова, Грачева, Лебедя и Руцкого. И так до «простых
солдат», например, до тех, которые оказались в плену, а затем — в
Западной Европе. Там они давали интервью представителям международных
правозащитных организаций о том, как участвовали в уничтожении
мирного населения. «Наши мальчики», о которых столько плакали в
прессе вскоре после вывода советских войск, а потом забыли, — наши
бедные мальчики, оказывается, травили мирное население
Афганистана как клопов.
3.3. Еще до того, как проблема наших «афганцев» была признана, я
иногда встречал их, этих афганских ветеранов. С одним в июне 1985
познакомился в кафе «Континент», что возле метро «Сокол». Хотя было
выпито много коньяку, голова моего собеседника продолжала
подергиваться, он не мог оторваться от разговора про «Афган». После дембеля
он, сломленный (быть может, навсегда) пережитым, устроился работать
в какой-то мастерской, о настоящей профессии думать уже не мог, в
«Континенте» был постояным клиентом.
3.4. А что я мог сказать ему? Что тоже был в армии, но мне
повезло, это произошло на полтора десятка лет раньше? (Это я сказал ему.)
Мог бы еще рассказать — но не стал, это было бы фальшиво — как в
последние дни декабря 1979 г. я бродил по Москве в тоске и унижении,
не решаясь ни на один из шагов, который был бы публичным
выражением моей оценки вторжения 27 декабря.
3.4.1. Думал и не решался. Если комиссия по декоммунизации
рассмотрит вопрос о моей ответственности и мере моей вины, это будет в
порядке вещей.
4. Очевидно, что идея правовой оценки нашего недавнего
прошлого на основе принципа индивидуальной ответственности не относится
к числу простых для исполнения. Столь же ясно, что сейчас она не
может быть осуществлена. Однако я не вижу, как мы сможем стать
нормальным сообществом, если попробуем перескочить через этот этап
публичной оценки. Не «очищения», нет, с очищением — это уж как у
кого получится. Не самооценки, а оценки как бы со стороны — по
критериям того общества, каким нам только еще хочется стать. И это была
бы публичная оценка, полностью отделенная от борьбы за власть, — в
отличие от всего, что мы видим сейчас. Собственно, именно поэтому
мы и обречены гнить дальше — ведь сейчас даже невозможно
помыслить такую публичную оценку, подразумевающую к тому же
юридические последствия.
4.1. Но перепрыгнуть или как-то обойти этот этап нельзя. Пусть
это будет позже, когда мы сможем сами себя накормить, когда мы —
в ходе нашего освобождения — создадим власть, способную к
минимуму последовательности и вменяемости, когда заработаем свое,
пусть маленькое, экономическое и политическое чудо. Как говорил
когда-то Бен-Гурион, «нет других евреев». И оккупационной
администрации тоже нет. Нам придется самим вытаскивать себя за
волосы из нашего болота.
5. Итак, я не вижу в нашем обществе стремления создать условия,
позволяющие сформулировать простой вопрос о личной
ответственности. Вместо этого время от времени нам предлагают покаяться.
5.1. Слово «покаяние» обозначает христианское таинство и в наш
политический лексикон попало в конечном итоге из христианства,
точнее — из Русской Православной Церкви (РПЦ). В православие
слово «покаяние» пришло из Нового Завета, а туда — из еврейской
Библии.
5.1.1. В Библии еврейское слово, переводимое на русский как
«покаяние», означает «возвращение (или обращение)к Богу». Переводчики
346
еврейской литературы на греческий передали это слово (не вполне
удачно) как «metanoia», сожаление (внутренняя форма этого
греческого слова означает «перемена ума»). Этот греческий термин был
использован и в Новом Завете.
5.1.2. Интересно, что Новый Завет еще сохраняет память о еврейс-
ко-библейском смысле этого понятия: здесь «metanoia» часто
употребляется (в отличие от обычного греческого узуса) не для обозначения
сожаления о дурных поступках, раскаяния, а в положительном смысле, для
обозначения начала новой религиозно-нравственной жизни (ср. Деян
20:21, МфЗ:8).
5.1.3. Мартин Бубер, рассматривая весть Иисуса о приближении
царственного правления Бога, замечает, что слова Иисуса
«Обратитесь и доверьтесь Вести!» (Мк 1:15), «затрагивают того, к кому
обращена Весть, т.е. человека из общины Израиля. И через этого
человека призыв обратиться к Богу затрагивает Израиль как таковой, а в
нем обретает конкретную реальность всё человечество» («Два
образа веры», 1952 г.).
5.2. Как мы видим, первоначально идея покаяния-обращения не
подразумевала чего-то интимно-сокровенного, что происходит между
«душой и ее Богом» (ср. 1). Напротив, речь идет о социально значимом
акте, который затрагивает сообщество. Акт обращения имеет не приват-
ный, а публичный смысл. Новое, «интимное» понятие покаяния воз-
никло и укреплялось по мере спиритуализации христианства. Так по
каяние стало церковным таинством. В православной церковной
практике таинство покаяния («исповедь») стало непременным условием уча-
стия в Евхаристии (или «причащения»); в сознании членов РПЦ два эти
таинства слились в один литургический комплекс, целиком
находящийся в духовной, культово-сакральной, сфере. Социальный смысл
библейской идеи обращения был утерян, а сама Церковь в массовом
сознании прихожан (и не только в нем) стала совокупностью
спасающихся, культовой общиной кающихся грешников. В православном
богословии и благочестии все эти представления получили глубоко
эшелонированное интеллектуальное и эмоциональное обеспечение,
приобрели статус самоочевидной истины.
6. Однако нормативные для христиан новозаветные высказывания
о Церкви противоречат широко распространившемуся в
последующие века мнению, согласно которому Церковь — это общество
«покаявшихся» (или время от времени «кающихся») грешников. В
Церкви грешников нет. Церковь, как ее понимает Новый Завет, это как
раз общество «святых». (Интересующийся читатель сам найдет
тексты по новозаветным конкордансам.) Новый Завет предлагает тот
нормативный минимум, при нарушении которого говорить о Церкви,
т.е. о «собрании (общине) Господа», уже не приходится. Христиане
по определению выделены из мира своей святостью. Собственно,
святость и значит отделенность (так получается на языке еврейской
Библии, и как раз в этом смысле Новый Завет называет христиан
«святыми»).
6.1. Итак, христианская Церковь — это сообщество людей, консти-
347
туированное особым нормативным порядком. Члены этого сообщества
доверяют свидетельству своей учредительной хартии (или конституции)
— Нового Завета, который утверждает, что этот порядок исходит от
Бога через Господа Иисуса.
6.2. Говоря об отделенности, которая позволяет отличить
христианина от членов других сообществ, я, естественно, не имею в виду
известные знаковые формы поведения, позволяющие человеку выделиться из
гражданского сообщества в качестве православного христианина. Речь
идет не о том, что заставляло в недавнем прошлом нормальных людей
относиться к «верующим» так, как взрослые иногда относятся к
подросткам — со снисходительной деликатностью и опаской («как бы не
обидеть, не оскорбить чувств...»). Это отношение стало
модифицироваться с тех пор как взрослые регулярно испытывают на себе подростковую
агрессивность.
6.3. Выделенность (или святость) Церкви как общины Господа
нашего Иисуса Христа значит следующее. Церковь — это та часть мира,
которая — в соответствии со своим самопониманием — знает, что Бог
делает в мире и для всего мира. Церковь — это «небо на земле», проект
и образ христианского будущего для общества, малая модель того, что,
по мнению христиан, Бог хочет сделать с миром. Ведь, по
христианскому учению, Бог — господин мира, Он не так слаб, чтобы
распространять Свои планы только на общину «спасаемых». Церковь — авангард
Бога в мире. Если воспользоваться аналогией из русской истории, то
Церковь для мира — это как сталинская ВДНХ СССР или образцовый
колхоз, куда пускали иностранцев, образ того будущего, которое, по
утверждению коммунистов, они уготовали для всего человечества. А
сами христиане, согласно Новому Завету, верят, что Церковь — это
сообщество, в котором всякий непредвзятый наблюдатель может увидеть
примиряющее и освобождающее действие Бога в истории, может
увидеть надежду для мира.
6.4. Значит, христианская община отделяется от мира только для
того, чтобы затем снова придти к нему, чтобы жить в солидарности с
миром, для мира.
6.5. Таковы минимальные критерии, позволяющие отождествить
общину Иисуса Христа и отличить ее от других общественных
организаций.
7. Как может такая община возникнуть из нынешней РПЦ — не
вполне ясно, если сама РПЦ, по-видимому, этого не хочет. Ведь ее
цели — совсем другие, ее самопонимание не развивается в этом
направлении, а голоса, подобные моему, справедливо воспринимаются как
маргинальные, не имеющие отношения к настоящей церковной жизни.
7.1. Но в этом последнем пункте уже можно поспорить. Ведь, как
всегда, дело тут в конечном счете идет о власти, в нашем случае — о со~
хрании власти в руках иерархии. Я уверен, что со временем люди сами
разберутся, что к чему, раз уж они добились возможности свободно
выбирать между разными мировоззрениями.
7.1.2. А что может предложить человеку сегодняшнее служилое
православие, т.е. иерархия и весь клир? Садомазохистскую идеологию Сер-
348
гиева Посада, монашеский и старческий идеал послушания? «Богатую
литургическую жизнь»? Упражнения в способах достижения вечного
блаженства? Авторитарное устранение всякого личного вопрошания?
Боюсь, что Русской Православной Церкви нечего сказать «человеку с
улицы», нечего сказать городу и миру. Последним ее словом остается
позволение войти в культовую общину и следовать принятым там
нормам.
7.1.3. Увидев, что им предлагают нечто ненужное и неуместное,
люди просто покинут РПЦ, и православная иерархия утратит свою
нынешнюю власть, свое положение в русском обществе. Слово иерархии
перестало быть внутренне авторитетным в обществе уже задолго до 1917
г. Потом история повернулась так, что если не слово (слова-то и не
было), то самый образ Православной Церкви стал снова приобретать
вес. Теперь люди могут уйти из РПЦ навсегда, а это и будет означать
для иерархии окончательную утрату власти.
7.2. Люди уйдут из этой Церкви в поисках Слова.
18 июля 1992
В защиту судьбы
В ноябре 1989-го я принес в редакцию журнала «Юность»
биографическую заметку о Низаметдине Ахметове: в третьем
номере (1990) шло его эссе «Улица Свободы». Автор жил тогда в
Германии. Редактор, с которым мы работали над
публикацией, пробежал глазами заметку — перечисление тюремных и
лагерных сроков — и упрекнул меня: «Что же вы не написали самого
главного? Как он возвысил свой голос, как он выступил в защиту ...» Я
растерялся от неожиданного поворота разговора и буркнул: «Да не был он
идиотом. Голоса не возвышал».
Мой невежливый ответ относился, конечно, не к тем, кто некогда
«возвысил голос»; просто ... те же шкафы, те же столы, те же
сотрудники — но на столе лежит машинописный (перепечатанный с
западного издания) текст погибшего в тюрьме Анатолия Марченко «От Тарусы
до Чуны», но сотрудники просят помочь им в поиске какой-нибудь
более свежей и пикантной «антисоветчины». Нельзя ли, например,
достать «материал о связях советских властей с международной
наркомафией»?
Низаметдин Ахметов — насколько я могу судить по личному
общению с ним, по его письмам, по его стихам и прозе — всю свою
сознательную жизнь «выступал в защиту» лишь собственного человеческого
достоинства, отстаивал целостность того образа и подобия, что
вложены в нас, но принадлежат не нам.
* * *
Одинокая борьба человека за «образ и подобие», за верность судьбе и
стала главной темой в творчестве писателя Н. Ахметова. В одной из
публикуемых здесь глав даже колеса арестантского вагона отстукивают
бетховенскую «тему судьбы» из Пятой симфонии («На железной
дороге»). Эта тема присутствует в самом названии романа — «Камушки для
кумалака бабушки Шамсии». Кумалак — это распространенный среди
тюркских народов Приуралья и Средней Азии способ гадания на
камушках, способ определения судьбы.
* «Искусство кино», 1991, 5, с. 99-100. Предисловие к публикации глав из
романа Н. Ахметова «Камушки для кумалака бабушки Шамсии».
350
Двадцать лет лагерей, тюрем и психбольниц «за стакан ворованного
шампанского» («Эскимосник в доме Мюллеров») становятся лишь местом
и временем, в которых разворачивается эта, как сказал бы Лев Шестов,
«великая и последняя борьба» за смысл того, что значит быть человеком.
Вот как тема верности судьбе впервые появляется в «Улице Свободы»:
«13 сентября 1967 года меня арестовали, но не отсюда начали отсчет
мои худшие годы... Я выжил, хотя, конечно, эту двадцатилетнюю
войну не выиграл. Я каждый день терпел в ней поражения, каждый день
сдавал позиции, и уже казалось иногда, что бессмысленно
сопротивление, потому что нечего было отстаивать, все уже потеряно и предано,
но всегда находилось что-то, какой-нибудь пустяк непременно, за что
ты дрался снова. А пока было что защищать, стоило жить и заставлять
врага считаться с тобой».
У писателя и его героя эта борьба начинается еще до ареста и
продолжается после освобождения. Поэтому особенно важно отметить:
выйдя на волю после двадцати лет за решеткой, Н. Ахметов никогда
не работал в жанре лагерных мемуаров, в жанре «свидетельства». В
«Улице Свободы», так же как и в публикуемых здесь главах нового
романа, лагерные пространство и время разомкнуты в обе стороны,
для автора они принципиально не отличаются отдолагернои «воли»
(эпизоды в Кунашаке и Ташкенте) и послелагерного «Запада»
(немецкие сцены романа): все это — пространство и время «великой и
последней борьбы», моменты испытания на верность собственной
судьбе.
В первой «горсти» («Абсурд») это ощущение единства судьбы
передано прихотливым чередованием сцен из личной жизни героя, «эскимоса
Ниси»: Гамбург в 1988 году — Владимирская тюрьма — опять Германия —
психбольница — Германия — гулянка в Ташкенте 1967 года — Германия
— эвакуация южноуральской деревни, подвергшейся радиоактивному
заражению в результате испытания ядерной бомбы в 1954 году, — школа в
Челябинской области в начале шестидесятых — снова Германия.
Тема верности судьбе возникает и в очерке об Илье Габае
(«Юность», 1990, №12), где герой вроде принадлежит к миру
«шестидесятников» — московской оппозиционной интеллигенции, — к миру,
для автора чужому и далекому. Но перед нами не Илья Габай
«московских кухонь», о самоубийстве которого Юлий Ким, автор предисловия
к публикации, говорит со вздохом: «Если бы это был не 73-й, а 87-й ...»
Н. Ахметов видит Габая совсем по-другому. Заметьте, как
контрастирует со вздохами Ю. Кима о «87-м» сам подзаголовок очерка: «Памяти не-
перестроившегося».
В конце очерка «тема судьбы» звучит открыто:
«Москва и москвичи живут без Ильи, все спешат перестроиться, и
недосуг вспоминать о тех, кто ломался, не умея перестраиваться».
И даже самоубийство Ильи Габая, выбросившегося с балкона своей
квартиры, становится у Низаметдина «последней попыткой продолжить
полет», последним актом верности.
351
* -к *
В лагерном стихотворении «Я говорю с тобой по-русски» башкир Н.
Ахметов обращается к России, используя классические
четырехстопные ямбы:
Прости за то, что не могу я
Любить тебя ценой измен.
Речь идет, разумеется, об изменах самому себе. Жизнь постоянно
пытается навязать Н. Ахметову и его литературному двойнику,
«маленькому эскимосу Ниси», готовые социальные роли, но «маленький
эскимос» все время нарушает правила игры. Он не стал «хорошим
эскимосом», но и «настоящим политзаключенным» он тоже не стал. Он не
«возвысил голос», он сел за украденное другими шампанское и двадцать
лет провел в неволе — просто из-за «скверного характера»: он не хотел
свободы «ценой измен».
Но вот в 1987 году «узник совести Н. Ахметов», лауреат нескольких
западных литературных премий и почетный член английского,
французского, датского и австрийского ΠΕΗ-клубов, оказывается на свободе
и в Германии, о нем много пишут в немецкой прессе.
Однако правильным политэмигрантом Низаметдин тоже не стал. Он
не разоблачал ни ужасы коммунизма, ни ложь перестройки, он
оставался частным человеком и писателем. В ночь с 7 на 8 ноября 1990 года, не
дождавшись официального разрешения вернуться на родину, Н.
Ахметов нелегально пересек польско-литовскую границу, был арестован и
доставлен в следственный изолятор КГБ г. Вильнюса. Потом был
долгий этап на родину — в Челябинск. «Я окончательно почувствовал себя
дома, — рассказывал Низаметдин, — после того как на пересылке в
Смоленске меня обобрал и избил конвой». 11 января в Челябинске он
был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.
Центральная пресса стилизовала Низаметдина под положительного
персонажа наших героических будней — «бывшего диссидента». Так
величает его автор статьи в «Комсомольской правде» от 5 февраля 1991
года. Между тем в Башкирии, где шла кампания в его защиту, Низамет-
дину уже была приготовлена гораздо более интересная социальная роль
— башкирского национального героя. Ведь мы живем в великую
эпоху пробуждения национального сознания угнетенных народов, и
поэтому возник повышенный спрос на бесспорных героев,
символизирующих величие нации.
Конечно, попытка «национализировать» Н. Ахметова тоже не
удалась. Многие из его башкирских заступников были разочарованы в
своих ожиданиях.
<<
Великая и последняя борьба» продолжается.
Февраль 1991
352
История и герменевтика
в изучении Нового Завета
л
F>
Предисловие
В 60—70-е годы XX в. молодые русские люди,
интересовавшиеся, подобно автору этой работы, философией и религией,
хотя бы иногда пользовались такими справочными
изданиями как однотомный «Философский словарь» (впервые
издан в 1954 г.) или «Атеистический словарь». Чтобы извлечь из
таких изданий сведения об интересовавшем его предмете, читатель должен
был знать устройство мировоззрения, предполагавшееся в этих
справочниках как критерий оценок и отбора материала, а также конкретные
культурные условия, в которых создавался тот или иной справочник: для
извлечения истины пятый том «Философской энциклопедии» надо было читать не
совсем по тем же правилам, что упомянутый «Философский словарь», и т.п.
Когда я заинтересовался Новым Заветом (НЗ) и впервые открыл для
себя существование историко-филологической науки о НЗ, я, конечно,
не мог «с ходу» установить правила для чтения научной литературы (в
частности, словарей новозаветного греческого языка и теологических
словарей НЗ). Неясно было, в какой мере имеющаяся там информация
соотносится с самим делом, а в какой — выражает содержания, уже
присутствующие в культуре, породившей эти словари, конкордансы,
филологические «ключи» к греческим текстам, стандартные пособия для
студентов и богатую справочную литературу. Ведь правила для чтения
советской гуманитарной литературы сложились и применялись у нас без
особого теоретизирования, так как речь шла о родной для нас культуре.
Попытка разобраться в этом и привела меня к занятиям историей
науки. Некоторые результаты этих занятий предлагаются здесь, среди
прочего, вниманию читателя.
В этой книге я пытаюсь соединить разбор важнейших тем из
области изучения НЗ (на материале канонических евангелий) с очерками по
истории науки, выделяя то, что, с моей точки зрения, дает ключ к
пониманию этой истории.
Сколько-нибудь обстоятельных работ о западной теологии XX в. и
о современных исследованиях НЗ на русском нет совсем, практически
полностью отсутствуют и переводы самих этих научных трудов. И если
учесть один важный вненаучный фактор, — то, что для нашей
культуры НЗ значит больше, чем, например, литературные памятники кум-
ранской общины, — то приходится сказать следующее: сейчас пишущий
о НЗ по-русски испытывает одновременно безнаказанность и
беспомощность. Безнаказанность — потому, что писатель не всегда может
рассчитывать на профессиональную критику по существу дела. Беспо-
23* 355
мощность — потому, что всякое краткое изложение вырывает явления
интеллектуальной истории из их собственной жизненной ситуации,
нарушает естественные связи и пропорции. В таких случаях читателю
бывает трудно отделить общие места от того нового или
специфического, что хочет сообщить ему автор.
Имея в виду эту трудность, я сочетаю детальный разбор важных для
меня тем с экскурсами в историю протестантской теологии и
новозаветной науки. Так как источники остаются недоступными большинству
читателей, мне приходится кратко реферировать некоторые из них. Я
надеюсь, что это служит интересам читателя.
От сведений общего характера, рассчитанных на всех, кто
интересуется историей и литературой раннего христианства, я перехожу к
изложению идей, за которые целиком отвечаю сам. В частности, главы об
истории исследования НЗ полностью определены моим собственным,
с необходимостью субъективным, образом науки.
Я надеюсь, что книгу можно будет использовать и как учебное
пособие. Поэтому, с одной стороны, история науки (ее вчерашний день)
описывается более подробно, чем ее сегодняшнее состояние, как это и
подобает делать в учебном пособии. Но, с другой стороны, я
сознательно анализирую и оцениваю эту историю с точки зрения сегодняшних
забот науки, а также имея в виду те задачи, которые, по моему мнению,
будут решаться в будущем.
В монографию вошли, в переработанном виде, и мои статьи, ранее
публиковавшиеся в журналах «Вопросы философии» (1992, № 11; 1994,
№ 12), «Путь» (1992, № 1) и в книге «Канонические евангелия» (М.,
1992). При цитировании источников (см. Указатель источников) я
предлагаю, как правило, собственный перевод.
•kick
Эта публикация дает возможность и повод поблагодарить многих
людей, которые помогли мне в работе, отразившейся, в частности, и в
предлагаемой вниманию читателя книге.
Я начал знакомиться с наукой о НЗ в то время, когда нам не
приходилось думать об учебе или исследовательской деятельности в тех
местах, где древо познания было автохтонным растением, а научная
литература о НЗ, поступавшая в гуманитарную библиотеку Академии наук
СССР (ФБОН), отправлялась, как правило, в спецхран. Сотрудниц
спецхрана ФБОН, когда-то облегчивших мне работу с литературой, я
вспоминаю с благодарностью.
Многие вопросы, обсуждаемые в книге, я впервые задал себе в
начале 80-х годов, когда мы небольшой группой в течение примерно
полутора лет читали и обсуждали греческий текст евангелия Марка.
Постоянным участникам этого маленького семинара — Е.В. Барабанову,
В.Н. Кузнецовой, СВ. Курдюкову, СВ. Тищенко — я благодарен за то,
что в то время узнал о самом бытии новозаветной науки.
В тесном сотрудничестве с Е.В. Барабановым я написал в 1984 г.
свой первый текст о Рудольфе Бультмане — писателе, который стал
моим постоянным спутником и одним из героев этой книги.
356
Немецким коллегам и друзьям профессору д-ру Герду Людеману и
профессору д-ру Берндту Шаллеру я благодарен за помощь, которую
они оказывали мне со времени нашего знакомства в апреле 1991 г. и по
сей день. В дружеском общении с ними, живыми носителями той
традиции, которую я начал изучать как нечто недостижимо далекое, я
получил возможность проверить и переосмыслить свое понимание
истории и современного состояния немецкой науки о НЗ.
Американскому коллеге и другу профессору д-ру Герману Уэйчену
(Herman Waetjen), преподавателю НЗ в теологической семинарии
пресвитерианской церкви (Сан-Франциско) и автору захватывающе
интересной книги о евангелии Мк, я благодарен за деятельную поддержку
всех моих академических начинаний в последние пять лет, а также за
беседы о евангелисте Марке и его идеях.
В Мишне приводятся слова одного из авторитетов в области галахи: «Я
учился у всех, но более всего я учился у моих учеников». Я благодарен
моим первым студентам, теперь уже молодым коллегам, в частности, за то,
что мне было с кем обсудить излагаемый здесь материал, и за то, что
среди них я нашел критиков, одновременно строгих и доброжелательных.
Я благодарю моих московских коллег Л.М. Баткина, Н.В.
Брагинскую, СЮ. Неклюдова, И.С. Свенцицкую, И.С. Смирнова, Н.Ю. Ча-
лисову за серьезное обсуждение моей работы. Нечего и говорить о том,
что я один ответствен за все ее слабости и недостатки.
При работе над книгой мне помогали несколько научных фондов и
других учреждений.
Мои голландские друзья из христианской организации Europa
Commissie van de Raad van Kerken in Nederland начали по моей просьбе
снабжать меня научной литературой больше десяти лет назад, еще через
«железный занавес», и до сих пор поддерживают мои исследовательские и
издательские планы. Теологическая семинария Сан-Франциско (San
Francisco Theological Seminary), пресвитерианская конгрегация в Тибуро-
не (ее глава — пастор Даг Ханики) и Bay Area Council for Soviet Jews (его
глава — Дэйвид Ваксберг) обеспечили мне возможность работать в
Северной Калифорнии в январе-марте 1990 г. и в ноябре 1991 - январе 1992 г.
Немецкий научный фонд Volkswagen-Stiftung предоставил мне стипендию
для исследовательской работы в Гёттингене (апрель—июнь 1991 г.). Фонд
имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) дал
мне возможность вернуться в Гёттинген и работать там в сентябре 1993 —
марте 1994 г.. Международный фонд «Культурная инициатива» выделил
мне в 1994 г. грант для работы над этой книгой, а Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland дал мне стипендию для
исследовательской поездки в Гейдельберг в январе—феврале 1995 г., во время которой
был в основном закончен предлагаемый вниманию читателя текст.
Первую редакцию публикуемого здесь перевода евангелия Марка я
приготовил при финансовой поддержке московского издательства
«Протестант», в рамках проекта «Новая русская Библия: Новый Завет»,
которым руководил СВ. Тищенко.
Май 1995
357
К формулировке проблемы
Главный предмет исследования в книге — история научного изучения
НЗ на материале канонических евангелий. В первых шести главах
рассматривается проблематика так называемого «общего введения» в НЗ.
В первой части седьмой главы разбираются вопросы «специального
введения» на материале евангелия Марка, древнейшего из
канонических евангелий. Здесь же я намечаю свою интерпретацию этого
литературного памятника.
В той же главе предлагается новый перевод евангелия Марка. В
переводе я исхожу из результатов, полученных в предшествующей части
работы, и тем самым, в частности, стремлюсь показать значение
научной экзегезы для переводов Библии на русский язык. Во введении к
переводу я определяю его задачи и обосновываю его принципы.
Во второй части книги вниманию читателя предлагаются очерки
важнейших этапов истории науки о НЗ.
Следует иметь в виду, что в рамках изучения раннехристианской
истории и литературы термином «Введение в Новый Завет» обозначается
отдельная историко-филологическая дисциплина, которая исследует
происхождение каждой из книг канона, историю изменения текста
отдельных произведений (т. е. это новозаветная текстология) и историю
создания канона.
Композиция первой части моей работы соответствует в общих
чертах структуре исторически сложившейся научной дисциплины
«Введение в НЗ».
Далее, следует учитывать, что эта дисциплина сформировалась на
протестантских теологических факультетах Германии в конце XVIII —
первой половине XIX в. Поэтому ее границы с самого начала были
очерчены не по чисто научным основаниям: ведь НЗ — это лишь часть
дошедшей до нас христианской литературы I—II вв. Следовательно, при
возникновении науки предполагалось догматическое (вненаучное)
представление об особом характере произведений, вошедших в канон.
Так при рождении этой науки соединились собственно исторические и
полемически-апологетические интересы, между которыми с самого
начала возникло отношение напряжения.
В предлагаемой работе особое внимание уделяется анализу этого
отношения. Оно прослеживается для всех главных этапов истории
новозаветной науки и детально рассматривается на конкретных примерах
— в главах о либеральной теологии, о Школе истории религий и о
Рудольфе Бультмане.
358
Говоря об «истории», я подразумеваю поиск, направленный на
увеличение наших знаний о христианских истоках, в частности различные
подходы к классической проблеме «исторического Иисуса». Под
«догматикой» имеются в виду не только положения христианского учения
эпохи вселенских соборов или их переосмысление в лютеранской
ортодоксии, но также теологические системы крупных протестантских
мыслителей последних двух веков (от Фридриха Шлейермахера до Карла
Барта и Рудольфа Бультмана), которые давали основу для осмысления
результатов, предлагаемых научным исследованием.
Идея чисто научного исследования НЗ укоренилась и дала плоды
прежде всего в некоторых частях протестантского мира. Лишь в самые
последние десятилетия стало возможным говорить о мировой науке о
НЗ, отвлекаясь от конфессиональной принадлежности исследователя,
не делить библиографии на протестантскую и католическую части и т.п.
Так как моя тема - развитие науки, а не история ее рецепции
(например, в католическом мире после Второго Ватиканского Собора), то я
почти целиком ограничиваюсь протестантской литературой.
Рассматривая важнейшие этапы истории протестантской библеис-
тики, я затрагиваю и вопрос о возможном влиянии исторического
исследования на содержание христианской веры. При продумывании
этого вопроса возникает и встречный вопрос — о влиянии
мировоззренческих установок ученого на предпосылки и результаты исторического
поиска. Следовательно, «догматику» я рассматриваю в ее качестве
герменевтической системы.
Я стремлюсь обосновать и проиллюстрировать следующий тезис:
последовательно исторический и герменевтический подходы к
прошлому не обязательно дополняют друг друга, иногда они вступают в
конфликтные отношения. Именно это обычно происходит, когда изучением
христианских истоков занимаются исследователи, связанные с
христианской традицией. Рассматриваемая тема становится особенно
интересной потому, что полноценной традиции изучения НЗ, независимой
от христианской теологии (например, в рамках классической
филологии или истории древнего мира), просто не существует.
Именно поэтому я всякий раз пытаюсь выявить мировоззренческие
предпосылки новозаветной экзегезы как теологической (т. е. по
природе своей нормативной) дисциплины, занимающейся историей.
Я понимаю, что предлагаемый тезис звучит несколько наивно.
Читатель спросит: а разве история как наука о res gestae может быть
негерменевтической? — Надеюсь, что из текста станет яснее, что здесь
имеется в виду.
НЗ важен для нашей культуры в частности потому, что он содержит
христианский миф об основании. Этот миф стал одним из источников
западной светской цивилизации, поэтому и сегодня его толкование
привлекает к себе внимание всего сообщества гуманитариев.
В интерпретации НЗ можно выделить три эпохи. Principium divisi-
onis — основополагающее отношение к мифу.
1. Интерпретация, исходящая из жизни в мифе. Миф — главная
(хотя и не единственная) реальность. Об этом выразительно и с тонким
нюансированием темы «миф как наиреальнейшая реальность» писал
359
Α.Φ. Лосев в «Диалектике мифа»1. Эрнст Кассирер во втором томе
своей «Философии символических форм», который называется
«Мифическое мышление», говорил о мифе как о тотальной «символической
форме», где нет дихотомии «Я и мир», «вещь и имя/значение», «познание
и бытие». Здесь обнаруживается единство в тех областях, где другие
типы культуры предполагают дифференциацию; это главная
характеристика мифа у Кассирера2.
Такое отношение к христианскому мифу господствовало вплоть до
Нового времени.
2. Эпоха интерпретации мифа путем его перевода на какой-либо
немифический язык. В нашем случае этим занялась новозаветная наука
Нового времени. Ее сверхзадача — найти в мифе (или «за» мифом — ср.
«поиски исторического Иисуса») содержание, которое было бы
функционально аналогичным тому содержанию, которым уже обладают
участники мифа, «посвященные» (в нашем случае — «обычные»
христиане, не затронутые скепсисом), и которое было бы релевантным для
«образованных людей, презирающих религию» (Шлейермахер).
Собственно, такова задача «демифологизации» у Рудольфа Бультмана. В эту
эпоху появляется историко-критическое исследование НЗ в рамках
христианской теологии. Но постепенно стало обнаруживаться, что перевод
мифа на немифический язык едва ли может быть вполне успешным.
Вероятно, религиозным людям сейчас может понадобиться как раз «ре-
мифологизация», в качестве условия предполагающая новый этап в
осмыслении мифа.
3. Понимание мифа как мифа, исследование его функций в жизни
человека и общества. Можно показать, что историко-критическое
исследование НЗ внутри христианской теологии отчасти подготовило этот этап,
при всем его содержательном и логическом отличии от предыдущего.
Используя любимое выражение Пауля Тиллиха, этот этап можно
назвать эпохой «сломанного мифа»: миф продолжает присутствовать в
жизни человека и сообщества, но в этом же сообществе его понимают
именно как миф3.
Здесь необходимо определить понятие «миф», которое я
использую в этой работе4. Мифом будем называть социально значимое
верование (или «знание» в смысле социологии знания), позволяющее
включенному в некое сообщество человеку осмыслить свою жизнь.
Другими словами, миф «нужен» для того, чтобы человек мог
обрести себя и свой мир. Если принять такое понятие мифа, то он не
обладает истинностным значением: миф не может быть истинным или
ложным, его нельзя доказать или опровергнуть. Миф предписывает
человеку нормы и ценности, его главная характеристика —
действенность. Если миф оказывается не в состоянии интегрировать
сообщество и предложить его членам смысл жизни, то он просто
утрачивает свою социальную функцию. Тогда его заменяет другой миф.
Стало быть, миф может содержать — в нерасчлененном виде —
религиозные, философские, правовые и моральные компоненты. Миф
формирует образ мышления и действия человека как в сакральной, так
и в профанной сфере.
Таким образом, миф — одновременно способ создания социальной
360
реальности и средство социализации, т. е. включения человека в эту
реальность.
Греческое слово μύθος означает, в частности, «повествование», и
здесь этимология важна для определения формальной стороны мифа. В
самом деле, в классическом случае все эти функции выполняются в
ходе рассказывания некоторой истории или историй, а само
повествование оказывается частью публично значимого ритуала, в котором миф
осуществляет свои социальные функции. Иногда такая история не
рассказывается, а просто подразумевается, т. е. в данном обществе она
обладает статусом общепризнанного и общедоступного знания.
Я, конечно, не отрицаю существенной разницы между (1)
архаическими мифами, (2) мифологическими компонентами развитых
религиозных систем и (3) мифологическим элементом в современных
культурах. Однако мне важно выделить общую функцию мифа (как я его
понимаю) в разные эпохи и в разных обществах. Поэтому при
определении мифа для меня важны главным образом не содержательные, а
функциональные и формальные характеристики.
Какими могут быть исходные постулаты при изучении
новозаветного мифа об основании нового, спасенного сообщества людей?
1. Бог вмешался в историю (в христианском смысле); это постулат,
из которого исходят сами авторы НЗ.
2. Бог не вмешивался здесь в историю в христианском смысле -
описываемые в НЗ события имеют другой теологический смысл.
Вспомним образ Иисуса (Иешу) в талмудической словесности или Ису
как коранического персонажа.
3. Кроме того, христианский миф об основании можно
рассматривать и помимо теологических предпосылок — как культурное явление (в
его социальной обусловленности) среди других культурных явлений.
Третью возможность будем называть научной. В европейской
культуре Нового времени существительное «наука» и прилагательное
«научный» приобрели положительные оценочные коннотации (ср. «научный
подход» vs «ненаучный подход»). Понятие «миф», напротив того,
часто используется в отрицательном смысле. В моей работе эти оценочные
коннотации не имеются в виду.
Что же касается теологии, то это размышление над мифом в
терминах самого мифа (ср. классическую христианскую догматику),
актуализация и интерпретация мифа в конкретных культурных условиях.
Вспомним «отвечающую теологию» Пауля Тиллиха; для Тиллиха
заниматься теологией значит выражать уже данную нам христианскую Весть
как ответ на вопрос «ситуации» и на наличном культурном языке5.
В теологическом дискурсе могут быть использованы
содержательные элементы, попавшие туда из науки, — при этом они приобретают
новое качество. Точно так же элементы естественнонаучного или
гуманитарного знания могут применяться при создании
повествовательного мира в художественном тексте6.
Эти замечания можно резюмировать следующим образом. Вера
удовлетворяет потребность человека в смысле, а также в идентичности.
А наука удовлетворяет потребность человека в поиске истины.
361
Стандартные пособия по дисциплине «Введение в Новый Завет»,
постоянно используемые в книге7:
Campenhausen Η. Die Entstehung der christlichen Bibel. Tübingen, 1968
(сокр.: Кампенхаузен).
Conzelmann #., Lindemann Α. Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 7.,
verbess. u. ergänz. Aufl. Tübingen, 1983 (сокр.: Концельман, Линдеман).
Feine P. Einleitung in das Neue Testament. 4. Aufl. Lpz., 1929 (сокр.:
Файне).
Koch К. Was ist Formgeschichte? Methoden der Bibelexegese. 3., verbess.
Aufl. Neukirchen—Vluyn, 1974 (сокр.: Кох).
Koester Η. Introduction to the New Testament. Vol. 2. History and
literature of early Christianity. N.Y.—В., 1987 (Translation of: Einführung in
das Neue Testament, 1980) (сокр.: Кестер).
Kümmel W.G. Einleitung in das Neue Testament. 21., erneut ergänz. Aufl.
Heidelberg, 1983 (сокр.: Кюммель).
Metzger В.Μ. The canon of the New Testament: Its origin, development
and significance. Oxf., 1987 (сокр.: Мецгер, 1987).
Metzger В. Μ. The text of the New Testament: Its transmission, corruption
and restoration. 2d ed. Oxf.-N.Y., 1968 (сокр.: Мецгер, 1968).
Perrin N. The New Testament. An introduction. Proclamation and
parenesis, myth and history. N.Y., etc., 1974 (сокр.: Перрин, 1974).
Perrin N. What is redaction criticism? Philadelphia, 1970 (сокр.: Перрин,
1970).
Schmithals W. Einleitung in die drei ersten Evangelien. В.—Ν.Υ., 1985
(сокр.: Шмитхальс).
Schneemelcher W. (Hrsg.) Neutestamentliche Apokryphen. In dt. Ubers.
hrsg. von Wilhelm Schneemelcher. 6. Aufl. der von Edgar Hennecke
begründeten Sammlung. 1. Bd. Evangelien. Tübingen, 1990 (сокр.: Шнее-
мельхер).
Vielhauer Ph. Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das
Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter. В.—N.Y.,
1975. (сокр.: Фильхауэр).
К терминологии
Протохристианством я называю движение сторонников Иисуса внутри
еврейского мира (преимущественно в Палестине) в 30-60-е годы I в.
Ранним христианством я называю весь период создания книг,
вошедших в НЗ. Таким образом, здесь вводится не только
хронологическое, но и содержательное различие между этими двумя терминами.
Например, основанные Павлом в 50-е годы общины состояли, по моему
мнению, главным образом из обращенных в христианство (не в
иудаизм!) язычников. Следовательно, эти общины называются здесь
раннехристианскими.
Ранним иудаизмом в книге называется эпоха от Маккавеев до пора-
жения Великого Восстания (середина II в. до н. э. — 70 г. н.э.).
Формативным иудаизмом называется эпоха, начавшаяся
деятельностью школы в Явне и завершившаяся созданием обоих Талмудов.
362
■ ■ \
1 ь
Примечания
1 Лосев Α.Φ. Из ранних произведений. М., 1990, с. 416—422.
2 Cassirer Ε. Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das mythische
Denken. 3. Aufl. Oxf., 1958, с 285.
3 Tillich P. Dynamics of faith. N.Y., 1958, с. 48-54.
4 Подробнее об этом см. в моей статье «Эрнст Кассирер и философия мифа»,
текст которой частично использован в предлагаемом здесь обсуждении мифа
(«Октябрь», № 7, 1993, с. 164-167).
5 Tillich P. Systematic theology. Vol. 1. Chicago, 1951, с. 3-8.
6 Анализ современных философских теорий мифа см. в: Jamme Chr. «Gott an hat
ein Gewand». Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der
Gegenwart. Frankfurt a/M, 1991. См. также: Мелетинский Ε.Μ. Поэтика мифа.
Μ., 1976. Первая глава этой монографии дает глубокий анализ современной
философии мифа, превосходящий все, что до сего дня написано на эту тему в
русской научной литературе.
7 Ссылки на литературу из этого списка оформляются следующим образом:
приводится выделенное полужирным шрифтом имя автора в русской
транскрипции, а затем указывается страница книги.
Часть 1
Контуры науки о Новом Завете
Глава 1
Состояние исследования
Каноническими называют четыре евангелия — Матфея (Мф), Марка
(Мк), Луки (Лк) и Иоанна (Ин), принятые Церковью в качестве
Священных Писаний и вошедшие в канон Нового Завета. Словом «канон»
в данном случае обозначается закрытый список древних христианских
текстов, вероучительный авторитет которых признается всей Церковью.
Новый Завет — это состоящий из 27 сочинений сборник, помещенный
христианами рядом с еврейскими Писаниями (священный характер
последних Церковь признавала всегда). После возникновения Нового
Завета еврейские книги стали для Церкви «Ветхим Заветом», первой
частью христианской Библии.
Все остальные сочинения, называвшиеся «евангелиями», были
довольно рано отвергнуты как еретические. Об этом свидетельствуют
христианские писатели конца II—IV в., а также то, что названия этих (так
называемых апокрифических) евангелий не встречаются в известных
нам древних перечнях христианских Писаний, т. е. в ранних
свидетельствах о составе новозаветного канона1.
Канонические евангелия изучены лучше любого другого памятника
античной литературы. Более того, это, пожалуй, наиболее тщательно
исследованные тексты во всей мировой литературе. Научное изучение
евангелий продолжается вот уже более двухсот лет. Чтобы
охарактеризовать количественную сторону этих усилий (отнюдь не главную, но все
же показательную), достаточно сказать, что между 1960 и 1990 гг.
опубликовано несколько сотен исследований (книг и статей) о евангелии
Марка2. Естественно, столь мощный научный интерес по-своему
отражает значение этих текстов для той культуры, в рамках которой
сложилась новозаветная наука.
Сочетание различных культурных факторов привело к тому, что в
XIX-XX вв. в России не укоренилась научная библеистика. Среди
писателей, работавших до 1917 г. в рамках профессионального богословия
русских православных духовных школ, лишь очень немногие
занимались НЗ как своей главной научной специальностью, и они не
достигли сколько-нибудь заметных научных результатов. «Школьные»
богословы с явно выраженной склонностью к историческому исследованию
364
(вспомним В. В. Болотова) предпочитали заниматься церковной
историей, так как в этой области было меньше идеологических и цензурных
ограничений. Ситуация не изменилась в благоприятную для научного
исследования НЗ сторону и в академических центрах русского
православного рассеяния.
Из дореволюционных русских авторов, писавших о НЗ, в первую
очередь следует упомянуть H.H. Глубоковского и М.М. Тареева. Н. Глу-
боковский интересен нам как автор объемистой работы о Павле: Глубо-
ковский H.H. Благовестие Св. Апостола Павла по его происхождению и
существу. Кн.1. СПб., 1905, LXX, 890 с; кн.2. СПб., 1910, 1307 с; кн.З.
СПб., 1912, 80 с. Автор стремится доказать, что в главном Павел не
зависел ни от еврейской, ни от эллинистической интеллектуальной
культуры. Доказывание основывается преимущественно не на новом
анализе источников, а на разборе обширной западной (прежде всего
немецкой) литературы предмета: H.H. Глубоковский примыкает к мнению
тех протестантских авторитетов, которые помогают ему в обосновыва-
нии его точки зрения. Главный труд М.М. Тареева — «Основы
христианства» (М., т. I—IV, 1908; т. V, 1910). При построении собственной
христологии М. Тареев занимается экзегезой источников, опираясь
опять же на современную ему немецкую научную литературу о НЗ. Из
литературы русского православного зарубежья следует упомянуть
книгу епископа Кассиана «Христос и первое христианское поколение»
(Париж, 1950). Книга была написана как учебник для студентов
Православного Богословского Института в Париже, ее цель определяется как
«пособие к чтению Нового Завета в свете истории» (с. VI). Учебник
предполагает православную догматику и благочестие, однако при обзоре
новозаветной литературы (например, хронологии жизни и литературной
деятельности Павла) автор черпает фактические данные из
протестантской научной традиции.
Западная научная литература о НЗ никогда не переводилась на
русский язык. В начале XX в. (особенно в 1907—1914 гг.) и в 90-е годы XX
в. на русском языке были опубликованы некоторые работы крупных
протестантских теологов: Шлейермахера, Трёльча и некоторых других
писателей XIX в., программные работы А. Швейцера, К. Барта, Р. Бульт-
мана, Д. Бонхёффера, П. Тиллиха, Ю. Мольтмана — из числа
протестантских писателей XX в. Но эти работы имеют почти исключительно
общемировоззренческий характер. До перевода специальной
исследовательской литературы о НЗ дело пока (за немногими исключениями)
не дошло. А многочисленные работы фундаменталистских
протестантских авторов о НЗ, опубликованные в последние годы в русском
переводе, имело бы смысл рассматривать главным образом при разговоре о
миссионерстве в России.
Эти обстоятельства не помогают читателю следить за предлагаемым
анализом истории науки о НЗ. Я рискую оказаться в знакомом
положении автора, критикующего источники, заведомо недоступные
читателю, не специализирующемуся в этой области. Чтобы по возможности
избежать этой опасности, я обязан установить систему координат, т. е.
впервые создать картину развития науки, претендующую на
убедительность. Для этого, по моему мнению, следует:
365
1) Предложить по необходимости краткое введение в современную
проблематику изучения канонических евангелий «в целом». Сюда же
относятся обязательные для понимания нынешнего состояния науки
сведения об истории исследования НЗ и характеристика методов
историко-филологической экзегезы.
2) Проанализировать современные представления о специфике
одного из евангелий (Мк) и рассмотреть наиболее распространенные
толкования этого литературного памятника.
Одновременно я предлагаю собственную интерпретацию истории
науки, исходя из сформулированных выше предпосылок. Я убежден в
том, что в русской науке любая попытка возобновить изучение НЗ
будет брать начало не там, где остановилась работа русских духовных
академий начала XX в., а с осмысления результатов, достигнутых мировой
наукой к концу XX в. Поэтому, в частности, я не даю подробную
библиографию работ на русском языке3.
Примечания
Монография «История и герменевтика в изучении Нового Завета» впервые
опубликована в 1996 г. издательской фирмой «Восточная литература» РАН,
Москва.
1 В некоторых из этих списков названия неканонических евангелий
перечисляются в разделе «апокрифов», т, е. не принятых Церковью книг. Об
апокрифических евангелиях и истории канона НЗ см. гл. 3.
2 Оценка «несколько сотен исследований» получена следующим образом.
Уильям Телфорд, составитель антологии из восьми статей о Марке, представляющих
разные современные подходы к этому тексту, сообщает, со ссылкой на
другого исследователя, что между 1967 и 1974 гг. были опубликованы 44 работы о
четвертой главе Марка (т. е. о собрании притч). Самому же У.Телфорду при
составлении этой опубликованной в 1985 г. антологии «пришлось оценить более
двухсот пятидесяти статей и книг о Мк, 90 процентов которых были написаны
после 1960 г.» (The interpretation of Mark. Ed. with an Introduction by W. Telford.
Philadelphia—London, 1985, с 1). Французский библиографический ежеквар-
тальник «Bulletin signaletique. Histoire et science des religions», публикующий
аннотации статей и книг, выходящих на всех европейских языках, в каждом
выпуске помещает сведения о нескольких работах о Мк. Так, в 1989 г. этот
бюллетень аннотировал 31 исследование евангелия Марка, и в предыдущие годы
количество аннотаций под рубрикой «Марк» тоже исчислялось десятками.
Однако наиболее полную библиографию (правда, без аннотаций) новых
публикаций в области новозаветной науки содержал ежегодник Папского
Библейского института в Риме «Elenchus Bibliographicus Biblicus». Так, т. 57 (1976 г.)
сообщает данные 159 новых работ о Мк, т. 65 (1984 г.) — данные 139 работ. После
65-го тома издание этой библиографической серии прекратилось, а в 1988 г.
Папский институт продолжил публикацию библейской библиографии и
выпустил первый том новой серии — «Elenchus of biblical bibliography». Этот том
информирует о публикациях 1985 г. и содержит данные 145 работ о Мк.
3 Библиографию работ о канонических евангелиях, написанных по-русски, см.
в кн.: Лифшиц Г.М. Очерки историографии Библии и раннего христианства.
Минск, 1970. См. также библиографию в любом из многочисленных изданий
книги: Мень A.B. (А.Боголюбов). Сын Человеческий.
366
Глава 2
εύαγγέλιον и евангелия
Слово «евангелие» в современном русском литературном языке имеет
два значения: 1) христианская проповедь о спасении; 2) особый жанр
раннехристианской литературы: сочинения, повествующие о жизни,
смерти и воскресении Иисуса из Назарета1.
Греческое слово εύαγγέλιον значит «хорошая новость», «радостная
весть». В НЗ оно стало употребляться в специфическом смысле,
связанном с христианской миссионерской деятельностью, — «христианское
провозвестие», т.е. весть о спасении во Христе и проповедь, главное
содержание которой составляет эта весть. В канонических текстах слово
εύαγγέλιον еще не употребляется как название письменного сочинения.
В греческом языке классического периода слово εύαγγέλιον имеет
также значение «воздаяние (награда) за радостную весть»,
«благодарственная жертва за радостную весть». В эпоху ранней Империи это
слово приобрело религиозный смысл в контексте культа римского
императора: «радостными вестями» назывались сообщения о различных
событиях в жизни обожествленного правителя.
Известны также и еврейские истоки новозаветного употребления
слова εύαγγέλιον в значении «весть о спасении, которое принес Иисус»,
т.е. (первоначально) весть о том, что Иисус — это ожидавшийся
евреями Мессия. В еврейской Библии встречается слово Π*ΊΪ£73,
употребляющееся в значениях «весть» и «радостная весть» (2 Сам 18:20, 22, 25, 27;
2 Цар 7:9), «награда за радостную весть» (2 Сам 4:10). Греческий
перевод этого слова в Септуагинте, которая была Писанием первых
христиан, — εύαγγέλιον. К числу мессианских пророчеств ранние христиане
относили текст из Второисайи Ис 52:7: «Как приятны на горах ноги
того, кто несет радостную весть [смысл: как приятно видеть его!], кто
возвещает мир, кто несет весть о благе, кто возвещает избавление, кто
говорит Сиону: твой Бог воцарился!» Так, Павел цитирует этот текст в
Рим 10:15. В еврейском тексте Ис здесь употребляется
субстантивированное причастие ПЁ7Лр («вестник», «благовествующий»), в Септуагинте
— причастие от глагола ευαγγελίζομαι («благовествовать»). Эпоха
возникновения христианства была временем ожидания Мессии в части
еврейской общины (об этом свидетельствуют, в частности, документы
Кумранской общины и сообщения Иосифа Флавия о претендентах на
статус Мессии). Возможно, само слово «радостная весть»
ассоциировалось в этой культуре с мессианскими ожиданиями, т.е. оно могло
обозначать ожидаемое вскоре известие о приходе Мессии. Так, в кумран-
ском библейском комментарии 1 IQ Melch, содержащем интерпретацию
Мелхиседека как эсхатологического избавителя, текст Ис 52:7 толкуется
следующим образом: «горы - это пророки, а вестник — это Мессия».
Исследователи датируют этот комментарий I в. до н. э.
Можно подумать, что в тексте Мк 1:1 — «Весть о Иисусе
Помазаннике. Начало» — слово εύαγγέλιον (в моем переводе — «Весть»)
употребляется как указание на авторское название этого сочинения. Скорее
всего именно это место позже решающим образом повлияло на опре-
367
г*·
деление нового жанра христианской письменности как «евангелия», но
у самого Μ к здесь, как и в других местах (ср. 1:14 ел), слово «евангелие»
имеет не литературный, а теологический смысл. Привычные для нас
названия, например «Евангелие по Матфею» или «От Луки святое
евангелие», возникли, вероятно, уже после написания этих книг, их
жанровое определение как «евангелий» не принадлежит их авторам.
В нескольких канонических текстах εύαγγέλιον обозначает проповедь
самого Иисуса (например, Мк 1:14 ел), но в большинстве новозаветных
употреблений εύαγγέλιον — это христианская весть о спасении,
совершившемся в Иисусе Христе2. Так как речь идет об одном событии,
происшедшем «раз и навсегда» (ср. Рим 6:10; Евр 7:27), то ему
соответствует одно провозвестие, и поэтому слово εύαγγέλιον не имеет в НЗ
множественного числа и может употребляться абсолютно, т.е. без
определений, указывающих на содержание этой вести (например, Рим 1:16:
«Ведь я не стыжусь Евангелия»).
У Павла слово εύαγγέλιον близко по значению к слову κήρυγμα,
которое в светском греческом языке значило «объявляемая глашатаем
весть», а в некоторых текстах НЗ стало значить «проповедь о
спасительном деянии Бога во Христе». Ср. 1 Кор 15:1 («Напоминаю вам, братья,
Евангелие, которое я возвестил вам») со словами Павла из той же
главы (15:14), относящимися к только что изложенному им «Евангелию»
о воскресении Христа: «А если Христос не воскрес, тогда наша керигма
бессмысленна, да и ваша вера бессмысленна». Уже с конца XVIII в. в
протестантской академической литературе о НЗ термином «керигма» —
вслед за новозаветным употреблением — обозначается устная проповедь
об Иисусе как Мессии и Спасителе, предшествовавшая созданию
первых письменных текстов, со временем вошедших в канон НЗ.
Вероятно, содержанием керигмы протохристианских общин было то
Евангелие, которое Павел «напоминает» коринфянам, — весть о смерти и
воскресении Иисуса как о спасительном событии (см. 1 Кор 15:3 елл; см.
также Деян 2:22 елл, 36). Таким образом, слова и дела Иисуса, т.е.
события его жизни и его учение, не были частью Евангелия ни в
протохристианских общинах, ни у Павла. Здесь я исхожу из того, что
подлинные послания Павла были написаны в 50-е годы I в., а канонические
евангелия — в последней трети I в.3
Впрочем, в протестантской литературе XX в. о НЗ, особенно у
Р. Бультмана и в его школе, «керигма» стала скорее теологической,
нежели исторической величиной. С одной стороны, «керигма»
превратилась в важнейшее понятие современной систематической теологии:
высказывания Бультмана о том, что «сама керигма есть
эсхатологическое событие, Иисус действительно присутствует в керигме»4, имеют
чисто вероучительный смысл. С другой стороны, собственно
историческая реконструкция содержания самой ранней, в эпоху до Павла,
христианской проповеди («керигмы») оказывается трудным делом из-
за неудовлетворительного состояния источников. Я бы сказал, что
содержание проповеди протохристианских общин ускользает от
исторической реконструкции почти в той же степени, что и проповедь
исторического Иисуса: в обоих случаях отсутствуют прямые письменные
свидетельства.
368
В первой половине II в. слово εύαγγέλιον по-прежнему указывало в
первую очередь на содержание христианской проповеди, но по мере
того, как нормативный авторитет Иисуса переходил на книги,
сообщавшие о его словах и делах, εύαγγέλιον становилось литературным
термином, т. е. обозначением этих книг.
Самое раннее из известных нам употреблений слова «евангелие» для
обозначения письменного документа относится к рубежу I — II вв. Мы
находим его в «Учении двенадцати апостолов» (Дидахе), древнейшем
сохранившемся своде предписаний относительно церковного
устройства: «Обличайте друг друга не в гневе, но в мире, как имеете в
Евангелии» (Did 15:3). В так называемом «Втором послании Климента»,
написанном неизвестным автором примерно в середине II в., слово
«евангелие» встречается в значении «письменный рассказ об Иисусе»: «Ибо
Господь говорит в Евангелии: "Если вы не сохраните малого, кто даст
вам большое?"» (2 Clem 8:5).
Наконец, в первой «Апологии» Юстина, написанной в 50-х годах II
в., мы впервые встречаем слово «евангелие» во множественном числе,
т. е. как название литературного жанра, представленного некоторым
количеством произведений:
Ибо апостолы в созданных ими воспоминаниях, которые
называются евангелиями, передали, что им было предписано, так: «Иисус взял
хлеб, и благодарил, и сказал: это делайте в воспоминание обо мне,
это мое тело...» (Apol I 66,3).
Таким образом, со временем письменное изложение истории Иисуса
стало пониматься как «евангелие», т. е. как форма провозвестия о
спасении. Тесная связь теологического и литературного значения термина
«евангелие» обнаружилась в том, что во II в. эти книги стали называть
«евангелие по Матфею», «евангелие по Иоанну» и т. д. Вероятно, у этих
сочинений существовали и авторские названия, но они не дошли до нас,
так как были заменены единой теологически значимой формулой:
«Евангелие по»5. За этой формулой стояло представление, согласно которому
единое Евангелие (одна и та же Весть) существует в разных изложениях.
Поэтому греческую формулировку εύαγγέλιον κατά можно передать
по-русски как «Евангелие в изложении». (Ср. ниже название моего перевода
Мк.) Так, в каноне Муратори, комментированном перечне книг,
употреблявшихся западной Церковью6, евангелие Луки обозначено как «третья
книга Евангелия, по Луке» (tertium evangelii librum secundum Lucam).
На теологическом представлении о том, что может быть только одно
Евангелие в подлинном смысле слова — «Евангелие об Иисусе Христе»,
— основана и первая известная попытка гармонизации содержания
четырех наших евангелий, предпринятая учеником Юстина по римской
школе сирийцем Татианом около 170 г. Под гармонизацией здесь
следует понимать прежде всего согласование четырех версий истории
Иисуса. Составленное Татианом сводное повествование получило
название Диатессарон, что по-гречески значит «[Евангелие] по четырем»
(το δια τεσσάρων εύαγγέλιον). Неясно, на каком языке — сирийском или
греческом — был написан оригинал Диатессарона. (Сохранился малень-
24 Заказ 257 369
кий греческий фрагмент этого текста; согласно литературным и
текстологическим свидетельствам, на Востоке использовался сирийский Диа-
тессарон.) Как и многие последующие авторы, стремившиеся к
согласованию «четвероевангелия», Татиан достигал своей цели путем редукции.
В сирийской церкви Диатессарон применялся вместо канонических
евангелий до V в. включительно, но так как богословие Татиана,
порвавшего с римской церковью и ее «ортодоксией», было признано
еретическим, то в итоге Диатессарон изъяли из употребления, его списки
были уничтожены, и in extenso этот памятник раннехристианской
литературы сохранился лишь в переводах (в частности, на латинский и
арабский языки). Известен также комментарий к Диатессарону,
написанный Ефремом Сирином (ум. в 373 г.); до нас дошел армянский
перевод этого комментария в двух списках из библиотеки мхитаристов, а
также единственный список сирийского оригинала7.
Потребность в гармонизации четырех версий истории Иисуса,
содержащихся в НЗ, всегда ощущалась в Церкви и порождала новые
опыты такого рода. Важнейшая попытка согласования евангелий,
предпринятая в патристический период, содержится в труде Августина «De
consensu evangelistarum libri quattuor» (см., например, II 5). Заметим
также, что и в современных православных изданиях НЗ иногда в качестве
приложения публикуется таблица «Евангельская история Господа
нашего Иисуса Христа. Согласование Четвероевангелия», которая
представляет собой конспективное изложение истории Иисуса,
сглаживающее расхождения между каноническими евангелиями.
Однако внутренняя форма выражения «евангелие по» довольно
быстро стерлась и перестала однозначно указывать на теологическую идею
о единстве истинного Евангелия. Это видно из того, что церковные
писатели последней трети II—IV в. говорят не только о «[принятых
Церковью] евангелиях», но и о евангелиях по Фоме, по Василиду, по
Евреям, по Египтянам8 и т.д., отвергая тем не менее названные сочинения
как еретические или сомневаясь в их авторитетности. Следовательно,
для Иринея, Климента Александрийского, Оригена или Евсевия слово
«евангелие» могло быть и просто названием литературного жанра, к
которому, по разделявшемуся ими мнению, принадлежали также и
апокрифические произведения9.
Примечания
1 В первом (теологическом) значении слово «Евангелие» употребляется
по-русски в переводах НЗ (ср. 1 Кор 15:1: «Напоминаю вам, братья, Евангелие,
которое я благовествовал вам...») и в христианской богословской литературе.
2 Таким образом, εύαγγέλιον в НЗ может обозначать и «весть, которую принес
Иисус», и «[христианскую] весть об Иисусе». Нелегко определить, какое из этих
значений реализуется в Мк 1:1: 'Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού.
Существуют доводы в пользу обоих толкований: «Начало вести Иисуса Христа» и
«Начало вести об Иисусе Христе». В моем переводе выбрано второе толкование.
Аргументы в пользу первой интерпретации собраны в статье немецкого экзегета
Георга Штрекера: Strecker G. Das Evangelion Jesu Christi. — Strecker G. Eschaton
und Historie. Aufsätze. Göttingen, 1979, с 183-238 (215-220).
3 О еврейских и эллинистических истоках понятия «евангелие» и о его истории
370
ι
г
в протохристианстве до Павла см.: Stuhlmacher Р. Das paulinische Evangelium. I.
Vorgeschichte. Göttingen, 1968.
4 Bultmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus. 4. Aufl. Heidelberg, 1978, с 27.
5 Точка зрения, согласно которой наши евангелия первоначально были
анонимными и не имели нынешнего родового названия εύαγγέλιον, господствует в
научной и учебной литературе уже с XIX в. Некоторые аргументы в ее пользу
изложены выше. Однако известный исследователь НЗ Мартин Хенгель
выдвигает хорошо обоснованные возражения против этого общепринятого воззрения.
Он считает, что будущее второе евангелие канона с самого начала своего
распространения носило заглавие εύαγγέλιον κατά Μάρκον и по этому образцу были
названы новые произведения того же жанра. (См.: Hengel Μ. Die
Evangelienüberschriften. Heidelberg, 1984.) Как бы то ни было, работа М.Хенге-
ля проясняет следующее обстоятельство: общепринятое мнение остается лишь
более или менее вероятным предположением, которое при нынешнем
состоянии источников не может быть строго доказано.
6 Канон Муратори (названный в честь Л.А.Муратори, нашедшего его в 1740 г.)
не поддается точной датировке. Согласно наиболее распространенному
мнению, он был составлен около 200 г., но есть и аргументы в пользу того, что этот
документ следует датировать серединой IV в. См.: Sundberg A. Canon Muratori:
A fourth-century list. — The Harvard theological review. Vol. 66, 1973, c. 1—41. Сам
этот найденный в Милане текст представляет собой фрагмент латинской
рукописи VIII в. (см.: Кюммель, с. 434 слл; Шнеемельхер, с.20 слл, 27 слл). Текст
канона Муратори опубликован, среди прочих свидетельств о канонических
евангелиях из эпохи ранней патристики, в приложении к синопсису Курта Алан да
(Aland К. Synopsis quattuor evangeliorum. 3. Aufl. Stuttgart, 1965, с. 538.)
7 См. издания сирийского текста с параллельным латинским переводом: Saint
Ephrem. Commentaire de l'Evangile Concordant. Texte Syriaque (Manuscript Chester
Beatty 709) edite et traduit par Dom Louis Leloir, O.S.B. Dublin, 1963; Saint Ephrem.
Commentaire de l'Evangile Concordant. Texte Syriaque (Manuscript Chester Beatty
709). Folios Additionnels edites et traduits par Dom Louis Leloir, O. S. B. Leuven—
Paris, 1990.
8 В последних двух случаях конструкция с κατά не вводит имя
предполагаемого автора, а указывает на общины, в которых читались соответствующие
сочинения. Значит, эта греческая предложная конструкция приобрела еще одно
значение.
4 См., например: Irenaeus. Haer HI 11, 9; Clemens Alexandrinus. Strom I 136, 2; HI
93, 1; Eusebius. Hist Eccl III 27, 4; IV 22, 8.
24* 371
Глава 3
Евангелия и канон
Христиане с самого начала обладали Писанием: как известно,
Библией раннехристианских общин были еврейские книги,
распространенные за пределами Палестины в греческом переводе, называемом Сеп-
туагинтой1. Собственно христианская письменность возникает, как мы
знаем, не позже 50-х годов I в., когда апостол Павел направлял свои
послания христианским общинам, основанным им или попавшим в
сферу его деятельности. Однако ни Павел, ни авторы наших евангелий
не брались за перо с намерением создать священные или канонические
книги. Сами христианские тексты первых времен не содержат
притязания на то, чтобы быть Священным Писанием. Как случилось, что часть
раннехристианской литературы, написанной в I — начале II в.,
получила статус Священного Писания и составила отдельный от еврейских
книг сборник — канон Нового Завета? Мнения исследователей,
пытавшихся ответить на эти вопросы, довольно сильно расходятся. История
канона остается одной из самых трудных областей новозаветной науки.
Однако, прежде чем подойти к предлагаемым в науке ответам на эти
вопросы, мы должны определить употребляемые здесь понятия.
а. Терминология: канон, апокрифы, Новый Завет, Ветхий Завет
Канон. Греческое слово κανών происходит от слова κάνη («камыш,
тростник»), заимствованного из семитской языковой среды2. Слово κανών
первоначально значило «прут» и далее, в порядке возникновения
переносных значений, «отвес», «линейка для графления [у писца]»,
«правило, норма», «мера, образец»; во множественном числе (κανόνες) это
слово приобрело значение «таблицы» (математические, астрономические,
хронологические). Александрийские филологи II в. до н. э. назвали
«канонами» составленные ими списки образцовых греческих писателей (5
эпиков, 5 трагиков, 9 лириков и т.д.). Таким образом, в употреблении
этого слова у александрийцев сошлись два элемента значения:
«[содержательная] норма» и «[формальный] перечень». Оба эти семантические
элемента реализуются и при отнесении понятия «канон» к Новому
Завету, сборнику Священных Писаний христианской Церкви, что
впервые засвидетельствовано в середине IV в., когда сам этот сборник
существовал уже довольно давно, Так, правило 59 Лаодикийского собора
запрещает читать «неканонизированные книги» (ακανόνιστα βιβλία) в
церкви.
Что касается текстов, вошедших в НЗ, то в них слово κανών
употребляется у Павла в значениях «правило» (Гал 6:16) и «критерий оценки»
(2 Кор 10:13, 15 ел).
В церковном словоупотреблении II — начала III в. κανών в значении
«словесная формулировка нормы» входит в термины κανών της αληθείας
и κανών της πίστεως («правило истины» и «правило веры»). Они
обозначали и само основное содержание веры, и формулировку ее главных
372
истин в вероисповедных текстах (например, в крещальном credo)3. С IV
в. решения церковных соборов, ранее именовавшиеся δροι или δόγματα,
стали называться κανόνες. Кроме того, уже для Никейского собора (325 г.)
засвидетельствовано употребление слова κανών в значении
«официальный список клириков, служащих в данной диоцезе». Отсюда
происходит и слово «каноник», которым на католическом Западе иногда
называют священников и монахов.
Апокрифами4 гностики II в. называли сочинения, в которых были
изложены их эзотерические учения. Предполагалось, что эти книги следует
держать в тайне и не знакомить непосвященных с их содержанием.
Церковные писатели взяли этот термин у гностиков, переосмыслив его
значение. У Иринея и Тертуллиана «апокрифические» писания тождественны
«поддельным» и «ложным»5. Естественно, употреблять их в богослужебных
целях и даже читать их дома запрещалось. В III в. церковные писатели
проводили различие между апокрифами и «спорными» (αντιλεγόμενα)
книгами. В последнюю группу входили сочинения, пользовавшиеся
популярностью и авторитетом в некоторых частях Церкви. Так, к «спорным»
относились Дидахе, Послание Варнавы, «Пастырь» Гермы, 1 и 2 Послания
Климента. На Западе до IV в. не признавали «писанием» Послание к
евреям, а Восточная часть Церкви довольно долго причисляла к «спорным»
Откровение Иоанна, которое на Востоке самым последним было
допущено в собрание христианских Писаний. След давнего нежелания принимать
Откровение Иоанна как Писание сохранился в православии до сих пор:
так, литургический календарь Русской Православной Церкви не содержит
чтений из этой книги.
Что касается текстов под названием «евангелия», признанных
Церковью апокрифическими, то от многих из них до нас дошли лишь
цитаты в сочинениях церковных писателей. В современной науке принято
деление апокрифических евангелий на три группы.
1. Сочинения, связанные с традициями, которые легли в основу
канонических евангелий. К этой группе относят ряд найденных в Окси-
ринхе (Средний Египет) фрагментарных текстов на папирусе, которые
не удалось отождествить как отрывки из уже известных евангелий.
Большое внимание привлекает к себе так называемое неизвестное
евангелие синоптического тина — папирусный фрагмент, найденный в Ок-
сиринхе в 1905 и впервые опубликованный в 1908 г. В научной
литературе его обозначают аббревиатурой Р. Ох. 840. Сюда же относится
Папирус Эджертона 2 (он назван в честь фонда Британского Музея,
купившего его), опубликованный в 1935 г. Эта папирусная рукопись
содержит четыре отрывка неизвестного евангелия. Его текст
обнаруживает параллели с синоптической традицией и с традицией,
использованной в евангелии Иоанна. Вопрос о возможной литературной
зависимости этого текста от (будущих) канонических евангелий и о времени его
написания остается спорным6.
К первой группе относятся также «иудеохристианские евангелия» и
евангелие Петра. Все эти тексты принадлежат к самому раннему слою
апокрифической литературы и сохраняют главную формальную
характеристику литературного жанра «евангелие» — повествование о земной
жизни Иисуса как способ выражения вести о спасении во Христе.
373
2. Гностические евангелия, имеющие особую теологическую задачу
— передачу тайного знания (гносиса). В соответствии с гностическими
представлениями, спасутся только обладатели тайного знания. Так, в
знаменитом введении к гностическому евангелию Фомы написано:
Это тайные слова, которые сказал живой Иисус и которые
записал Дидим Иуда Фома. И Он сказал: «Тот, кто найдет
истолкование этих слов, не вкусит смерти».
«Живой Иисус» евангелия Фомы — это воскресший Господь,
небесный Искупитель, открывающий ученикам судьбы мира и человека7. По
своей речевой прагматике такие гностические тексты — скорее
откровение (апокалипсис), нежели «евангелие». Автору евангелия Фомы уже
не нужен образ земного Иисуса (так же как Павлу он был еще не
нужен). Поэтому и в литературном отношении подобные сочинения не
относятся к жанру «евангелие». Так, евангелие Фомы представляет
собой собрание из 114 изречений, приписанных Иисусу. И содержание
ряда гностических текстов, и тот факт, что гностики называли свои
сочинения евангелиями, — все это указывает на знакомство авторов
гностической литературы с некоторыми из евангелий, принятых
Церковью, а также на то, что термин «евангелие» как литературное
обозначение широко применялся в то время, когда были созданы гностические
тексты, найденные в 1945—1946 гг. в Наг-Хаммади, в частности
евангелие Фомы. По широко распространенному мнению (см. Шнеемельхер,
с. 97), греческий оригинал найденного в Наг-Хаммади коптского
текста евангелия Фомы был создан в середине II в., однако начало этому
собранию логий могло быть положено гораздо раньше. Что касается
многочисленных речений Иисуса, засвидетельствованных и у Фомы, и
в канонических евангелиях, то, судя по отсутствию общей (для какого-
либо из канонических евангелий и Фомы) последовательности логий,
использованная в евангелии Фомы традиция не зависит от
канонических евангелий.
3. Третья группа апокрифов уже предполагает существование
канонических евангелий в качестве таковых (т. е. в качестве Писания) и
стремится дополнить те сведения о жизни Иисуса из Назарета, что
содержатся в канонических евангелиях. Для удовлетворения
благочестивой любознательности используется легендарный фольклорный
материал, возникший вне всякой связи с историей Иисуса. К этой группе
относятся, в частности, сочинения, называемые в исследовательской
литературе «евангелиями детства». Наиболее важны два произведения,
написанные во второй половине II в., — так называемое «Протоеванге-
лие Иакова» и «Сказание Фомы, израильского философа, о детстве
Господа». В жанровом отношении эти тексты тесно связаны с
эллинистическим романом и «низовыми» повествовательными жанрами поздней
античности. Главная тема «Протоевангелия Иакова» — прославление
Марии, матери Иисуса. Хотя «Протоевангелие Иакова» было
отвергнуто Церковью, оно пользовалось огромной популярностью среди
христиан, сюжеты этой книги воздействовали на католическое и
православное благочестие, а также на католическое учение о Марии. Влиянием
374
4
этого апокрифа объясняется почитание родителей Марии — Иоакима и
Анны, появление в православном календаре праздников Рождества
Пресвятой Богородицы и Введения во храм Пресвятой Богородицы8.
Для истории канона и, следовательно, для истории раннего
христианства важны датировки апокрифических евангелий. Согласно
критическому консенсусу первой половины XX в., все апокрифические
евангелия были написаны позже, чем все канонические, т. е. самые древние
апокрифы возникли во II в. При этом считалось, что авторы апокрифов
были знакомы с каноническими евангелиями. Эта точка зрения не
очень правдоподобна, так как согласно ей апокрифы фактически
становятся свидетельствами очень раннего формирования канона, чему
противоречат другие данные. В последние два-три десятилетия прежний
критический консенсус стал разрушаться. Для Папируса Эджертона 2,
евангелия Фомы и евангелия Петра все чаще предполагаются
независимое от будущих канонических евангелий происхождение и более
ранние датировки, чем те, что допускались прежним критическим
консенсусом9.
Исследования, направленные на то, чтобы обнаружить в ранних
апокрифах (и в традиционном материале евангелия Фомы)
дополнительные по отношению к будущему канону исторические сведения об
Иисусе из Назарета, пока не привели к общепризнанным
положительным результатам10. Однако значение более ранних по сравнению с
прежними датировок некоторых внеканонических текстов, содержащих
высказывания Иисуса, заключается не в том, что переоценка этих
текстов способна дать новый материал для «поисков исторического
Иисуса» (что тоже возможно!), а прежде всего в том, что исследование
раннего христианства освобождается от «догмы о каноне», от не
имеющего исторического смысла представления, согласно которому внекано-
нические тексты как источники по истории раннего христианства
менее важны, чем тексты, вошедшие в НЗ.
Термин Новый Завет у Павла (1 Кор 11:25; 2 Кор 3:6) имеет
юридически-теологический смысл, который можно описать примерно так:
«Эсхатологический порядок бытия, возникший в результате нового
декрета Бога. Этим декретом Бог заменил свой старый декрет, изданный на
Синае (т. е. Ветхий Завет). Новый декрет провозглашает спасение
человечества, совершившееся в смерти и воскресении Иисуса. Этот декрет
есть последнее и окончательное слово Бога к человеку».
Как известно, в составе этих терминов «завет» — перевод
греческого слова διαθήκη, что значит «завещание», а также «распоряжение»,
«волеизъявление». В Септуагинте словом διαθήκη передается
еврейское имя ГРПЭ («союз», «договор»), библейское название Синайского
«декрета» и других нормативных волеизъявлений Бога. По
определению Й.Бема, «διαθήκη - это распоряжение, посредством которого
Бог изъявляет свою суверенную волю в истории и устанавливает
отношения между собой и людьми ради их спасения; это властное
божественное установление, которым учреждается соответствующий
ему порядок вещей»'1.
В Библии идея будущего эсхатологического порядка (т. е. «нового
договора») засвидетельствована в книге пророка Иеремии:
375
Скоро придут дни, говорит Господь, когда Я заключу с долгом
Израиля и с домом Иуды новый договор. Не такой договор, какой Я
заключил с их предками, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
Египта. Тот договор со Мной они нарушили, а Я был верен им,
говорит Господь (Иер 31:31 ел).
Эта идея получила развитие в раннем иудаизме: кумранская
община уже понимала себя как народ «нового договора», т. е. как
сообщество, живущее в соответствии с новыми правовыми предписаниями
Бога12.
Следовательно, в раннем христианстве значение терминологической
VJ *J
пары «новый завет — ветхий завет» развивалось в том же направлении,
что и значение термина «евангелие». В обоих случаях название
некоторого содержания было перенесено на текст документа, в котором
изложено это содержание.
В Послании к евреям (см. в особенности Евр 8:6—9:28)
основополагающий христианский миф о спасительной смерти Иисуса
истолковывается в терминах иератической «теологии двух заветов». «Первый
завет» (ή πρώτη διαθήκη, Евр 9:15), т. е. правопорядок, установленный
Моисеевым Законом, понимается здесь как «притча» (παραβολή, 9:9), а
отдельные культовые предписания этого правопорядка - как «образы»
(υποδείγματα, 9:23; αντίτυπα, 9:24) «нового завета» (διαθήκη καινή, 9:15),
т. е. порядка, установленного в результате искупительной смерти
Иисуса. В Евр διαθήκη понимается не как «договор», а именно как
«завещание» (ср. 9:16).
Как известно, Послание к евреям написано анонимным автором
в конце I в. н. э. Но уже у Павла есть место, где можно увидеть
признаки литературного применения одного из интересующих нас
терминов. В 2 Кор 3:14 он говорит о «чтении Ветхого Завета», под
которым имеется в виду Тора. Однако новое, литературное значение этих
двух терминов утвердилось лишь после того, как отдельное от
еврейской Библии собрание христианских Писаний уже в основном
сформировалось.
Евсевий (Hist Eccl V 16, 3) приводит слова некоего антимонтани-
ста, написанные в конце II в.: «Я доныне удерживался... по
опасению, как бы не показалось кому, что я... ввожу в учение нового
завета Евангелия что-нибудь чуждое, между тем как человек,
желающий жить по евангельскому закону, не может ни прибавить к нему,
ни отнять от него что-либо». Однако в конце II в. термин «Новый
Завет» как название формирующегося сборника христианских
Писаний еще не стал общепринятым: он отсутствует у Иринея
Лионского, специально занимавшегося проблемой авторитетных
христианских сочинений. Наконец, у Тертуллиана, Климента
Александрийского и Оригена названия «Новый Завет» и «Ветхий Завет»
употребляются как относительно недавние, но уже установившиеся
обозначения двух частей христианской Библии13.
Из сказанного, в частности, следует, что христианский термин
«Ветхий Завет» (παλαιά διαθήκη) произволен от «Нового Завета».
376
б. Евангелия как часть Нового Завета
Итак, Священным Писанием возникавшего христианства была
еврейская Библия, которая в ранних христианских текстах обозначается как
«Писание» (Рим 9:17) или «Писания» (1 Кор 15:3), «Священные
Писания» (Рим 1:2), а также «Закон и Пророки» (ср. Рим 3:21; Мф 5:17; Лк
16:16). Последнее название указывает на знание об устройстве
складывавшегося к тому времени канона еврейской Библии (ср. также Лк
24:44). Однако христиане с самого начала воспринимали библейские
тексты не как критерий (критическую норму) своей проповеди о
Христе, а как одно из доказательств ее истинности. Истина, т. е.
спасительное деяние Бога во Христе, открылась им помимо Писания. Как
говорит Павел,
Теперь же, помимо Закона, явлена правота от Бога,
засвидетельствованная Законом и Пророками (Рим 3:21).
Поэтому в раннем христианстве еврейские Писания использовались
«как вспомогательное апологетическое и полемическое средство для
толкования того, что Бог совершил в Иисусе Христе» (Фильхауэр, с.
780), т. е. либо для обоснования христианского кредо внутри
христианской общины, либо в спорах с членами еврейской общины — для
отстаивания своей позиции доказательствами из Писания.
Протохристианские палестинские общины состояли из евреев.
Вероятно, члены этих общин верили в Иисуса как в обещанного
Писаниями Мессию, а его дело и судьбу считали исполнением библейских
обетовании. Если так, то первые последователи Иисуса воспринимали себя
как еврейскую эсхатологическую общину, которая толкует Писание
правильнее, чем остальные евреи. Стало быть, они не видели
никакого противоречия между возвышенным Мессией Иисусом и Писанием
как нормативными величинами. Вероятно, они сами не осознавали, что
применяют еврейское Писание просто как один из источников для
создания совершенно нового учения.
Как отмечает известный историк литературы Эрих Ауэрбах, в
раннем христианстве еврейская Библия «была снижена в своем значении
народной истории и еврейского Закона, она свелась к цепочке фигур-
предзнаменований, указывающих на явление Иисуса и на связанные с
этим события. Всё содержание Писания оказалось теперь в таком
контексте интерпретации, где смысл событий далеко уходил от своей
реальной и конкретной основы»14.
Из посланий Павла видно, что в действительности единственной
нормой веры и высшим авторитетом для ранних христианских общин
был сам Иисус, почитаемый как Мессия и Господь. Его волю верующие
находили в устном предании об Иисусе, которое включало отдельные
«слова Господа», рассказ об установлении «вечери Господней» (он
передавался в литургическом контексте), повествование о смерти и
воскресении Иисуса, а также вероучительную интерпретацию этих
событий как решающего спасительного деяния Бога. Интерпретация имела
форму слов Господних, вероисповедных и литургических формул (см.
377
1 Кор 11:23 слл; 15:1 слл; Флп 2:6—11; 1 Фес 4:15). Авторитет апостолов
основывался на их статусе свидетелей земной жизни и воскресения
Иисуса, т. е. был производным по отношению к абсолютному и
безусловному авторитету Иисуса, признаваемого Мессией и Господом.
После того как поколение первых апостолов и их непосредственных
слушателей ушло из жизни, а Церковь стала обретать твердые институ-
циальные очертания, христианские общины все больше ощущали
потребность искать авторитетный голос Господа и апостолов не только в
устном предании, но и в письменных свидетельствах веры. Вероятно,
этой потребностью объясняется сохранение и собирание посланий
Павла, само создание наших евангелий, а также тот факт, что авторство
евангелий было приписано апостолам (Матфею и Иоанну) и спутникам
апостолов (Марку и Луке). Следовательно, рано или поздно должен был
возникнуть и вопрос об авторитете отдельных документов, т.е. вопрос
о критериях отбора текстов.
Что касается инспирации (боговдохновенности), то считалось, что
все члены общины получают дар Духа при крещении, и поэтому
инспирация не могла стать критерием различения между разными
христианскими текстами, т. е. основанием для отбора некоторых
произведений раннехристианской письменности в качестве подлинных и
авторитетных свидетельств веры.
Имея в виду все это, мы можем обратиться к вопросу о мотивах
создания сборника раннехристианских произведений, обладающих в
Церкви более высоким статусом, чем еврейские священные книги, и о
причинах включения в этот сборник наших четырех евангелий, т. е. о
критериях отбора.
Я исхожу из общепринятого мнения, согласно которому создателем
литературного жанра «евангелие» был автор евангелия по Марку15. Мф
и Лк в своей жанровой форме зависят от Мк, а автор евангелия по
Иоанну сознательно избрал этот уже сложившийся жанр для
выражения собственной теологии. Что касается самых ранних
«апокрифических» евангелий, входящих по предложенной выше классификации в
первую группу, т. е. удовлетворяющих тем же жанровым требованиям
и созданных на основе той же традиции, что и (будущие) канонические
книги, то они, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам,
черпали свой материал не только из будущих канонических евангелий,
но и непосредственно из устного предания (ср. Шнеемельхер, с. 13, 83).
При различении «правильных» и «апокрифических» евангелий
Церковь II в. прежде всего принимала те книги, которые уже давно
читались при богослужении христианами главных церковных центров (Рим,
Малая Азия, Антиохия). Важнейший признак того, что определенное
христианское сочинение уже приобрело статус «Писания» (γραφή), —
это способ его цитирования в работах христианских писателей II в.
Если христианский текст вводился теми же формулами, что «Закон и
Пророки» (например, «как написано», «как говорит Писание» и т.п.), то
для цитирующего он имел такой же авторитет, как и священные
книги, доставшиеся христианам от евреев.
Первыми евангелиями, завоевавшими бесспорное признание во
всей «большой Церкви»16 — как на Востоке, так и на Западе, — были Мф
378
и Мк. Несколько труднее шла рецепция Лк, так как эту книгу
использовал в своей версии специфически христианского канона «ересиарх»
Маркион. Римская церковь почти до конца II в. с большой
настороженностью относилась и к евангелию Иоанна, которое очень ценили
«еретики». Вальтер Бауэр в классической работе «Ортодоксия и ересь в
v>
древнейшем христианстве» на основании анализа множества прямых и
косвенных свидетельств показывает, что римские христиане
чувствовали «в евангелии Иоанна дух ереси», с которым не могли примириться
«в Риме, этом центре ортодоксии»17. Но к концу II в. евангелие
Иоанна прочно утвердилось и в Риме.
Таким образом, во II—III вв. авторитет отдельных христианских
сочинений признавался не в результате соборных решений, а на
основании согласия, возникавшего между крупнейшими христианскими
общинами. Точно так же постепенно вырабатывавшееся правило веры —
общее понимание того, что существенно для веры и совместимо с ней,
— позволило Церкви довольно рано отвергнуть «апокрифические»
евангелия. Некоторые из них — например, евангелие Петра или «Прото-
евангелие Иакова» — оказались неприемлемыми в теологическом
отношении, другие — например, гностические евангелия — не просто
противоречили «правилу веры», но и возникли за пределами большой Церкви и
не пользовались в ней сколько-нибудь значительной популярностью.
Из сказанного следует, что критерий апостоличности, т.е.
преимущественного авторитета, которым наделялось свидетельство учеников
Иисуса и их спутников, не был сам по себе решающим в процессе
отбора. Скорее этот критерий был выдвинут post factum, при обосновании уже
совершившегося выбора: естественно, что важны были именно
апостольские свидетельства, но апостольским признавалось то, что уже ранее было
признано существенным для веры. Так, евангелие Петра, написанное от
первого лица и претендующее на статус свидетельства главы апостолов,
было тем не менее отвергнуто Церковью как «еретическое»18.
В современной науке сложились две резко очерченные и
взаимоисключающие теории, призванные объяснить причины, которые
привели к созданию НЗ — сборника собственно христианских священных
текстов, существующего рядом с еврейским Писанием и обладающего
большим нормативным авторитетом, чем принятые Церковью
еврейские книги. Обе эти теории возникли еще в конце XIX — начале XX в.
Теодор Цан (1838—1933), автор фундаментальных исследований
по истории новозаветного канона, был сторонником ранней
датировки. Т. Цан сформулировал точку зрения, согласно которой первые
версии канона НЗ появились уже в начале II в.: они возникли с
внутренней необходимостью как результат естественного становления
христианской Церкви. В «Очерке истории новозаветного канона» Т. Цан
утверждает: из установленных и проанализированных им фактов
«следует, что уже задолго до 140 г. во всей вселенской («katholisch»)
Церкви вместе с Писаниями ВЗ читалось (при богослужении. — С.Л.)
собрание из четырех евангелий, а также подборка из 13 посланий Павла и что
таким же достоинством наделялись некоторые другие тексты — Откр,
Деян, а в отдельных частях Церкви также и Евр, 1 Петр, Иак и
послания Ин, а возможно, также и Дидахе»19.
379
В дискуссию с Т. Цаном вступил известный церковный историк и
теолог Адольф фон Гарнак (1851 — 1930). Свои взгляды на историю канона
НЗ Гарнак изложил в нескольких работах, среди которых особенно важна
его книга «Маркион: Евангелие о чужом Боге»20, ставшая основой и
точкой отсчета для всех дальнейших исследований о Маркионе и его эпохе.
Гарнак выдвинул следующий тезис: Маркион первый предложил
идею нового, чисто христианского Священного Писания, и он же
первый создал двухчастный план этого Писания: «евангелие» и «апостол».
Маркион, приехавший в Рим из Малой Азии во второй половине
30-х годов II в., по-своему развил некоторые теологические идеи
Павла. Как и многие радикальные христианские мыслители и
реформаторы последующих эпох, Маркион считал себя продолжателем дела
Павла. В основе теологии Маркиона лежит Павлово противопоставление
еврейского Закона и христианского Евангелия. Маркион пришел к
следующему убеждению: подлинное учение Павла, единственного
истинного апостола Иисуса (ведь Павел, вслед за Иисусом, отверг Закон),
было искажено неправильным церковным толкованием: по его
мнению, в Церкви «pseudoapostoli et Judaici euangelizatores» («ложные
апостолы и проповедники еврейского учения») превратили Павла,
возвещавшего истинное Евангелие, в толкователя «Закона и Пророков».
Подлинное Евангелие Павла, по Маркиону, состояло в том, что Бог-
творец, выразивший свою волю в Законе, справедливый Бог Ветхого
Завета, не мог быть тождествен Богу любви, Отцу Иисуса Христа.
Справедливость Бога-творца противостоит любви «чужого» (по отношению
к этому сотворенному еврейским Богом миру) Бога, явившего себя в
Иисусе Христе, и именно поэтому Закон у Павла противостоит
Евангелию. Выделяя этот главный для Маркиона мотив, А.Гарнак назвал
теологию Маркиона «Евангелием о чужом Боге». Спасение, по
Маркиону, означает, что справедливый и карающий за нарушения Закона
Бог-творец лишен власти, ибо «чужой» Бог любви отдал своего Сына
как выкуп справедливому Богу за его творение.
Это событие, заключает Маркион, привело к тому, что Закон
утратил силу, т. е. почитаемые Церковью еврейские Писания потеряли свой
нормативный смысл. Отбросив еврейскую Библию, Маркион должен
был предложить христианам новое Священное Писание, и он сделал
это. Маркионов канон, первый христианский канон Писания, состоял
из евангелия Луки и десяти посланий Павла (из Павлова корпуса
будущего ортодоксального канона в собрание Маркиона не вошли
пастырские послания и Послание к евреям). Маркион сильно отредактировал
эти тексты, по возможности очистив их от еврейских мотивов,
противоречивших его теологии: такие места (в частности, повествование о
рождении Иисуса и его генеалогию у Лк, а также цитаты из Библии у
Лк и Павла) он считал вторичными церковными добавлениями.
Таким образом, для Гарнака канон Маркиона был новым не в том
смысле, что он заменял собою собрание христианских священных текстов,
которым Церковь уже располагала (по мнению Гарнака, нет никаких
доказательств того, что какая-либо форма канона существовала до
Маркиона), — он был новым потому, что был призван заменить собой
общепризнанные в Церкви канонические книги — еврейскую Библию.
380
В 40-х годах Маркион, учение которого было признано
еретическим, был отлучен от римской церкви и создал собственную церковную
организацию, распространившуюся на Западе и на Востоке. Впервые в
своей истории христианство разделилось на две институциальные
церкви. Маркионитские общины просуществовали несколько столетий.
Итак, Гарнак стремился доказать, что именно канон Маркиона
побудил Церковь к созданию собственного Священного Писания. При
этом Гарнак не отрицал, что подборки посланий Павла существовали и
до Маркиона: о них свидетельствует христианская литература конца I —
начала II в. (см. Кюммель, с. 425). Так, в 2 Петр 3:15 ел упоминается о
«всех посланиях», написанных «нашим возлюбленным братом Павлом».
Следовательно, автор 2 Петр (этот текст датируется первой половиной
II в.) исходит из того, что его адресаты знакомы с такой подборкой.
Более того, Гарнак допускал, что сборник, состоявший из наших четырех
евангелий, тоже появился до Маркиона и даже читался при
богослужении вместе с еврейским Писанием21, хотя у нас нет прямых
свидетельств о богослужебном употреблении евангелий до эпохи Юстина,
т.е. до середины II в. (см. Кюммель, с. 427, 429).
Можно заметить: Т. Цан и А. Гарнак при построении своих теорий
исходили из одних и тех же фактических данных, но оценивали их по-
разному, так как они пользовались разными понятиями каноничности.
Для Т.Цана чтение текста при богослужении уже было равнозначно его
каноническому статусу. Что же касается Гарнака, то он понимал
каноничность более строго — как принадлежность определенного
христианского произведения к сборнику, обладающему в Церкви высшим
нормативным авторитетом. Моделью каноничности для Гарнака был статус
Писания в еврейской общине. Он справедливо полагал, что понятия
«вероучительный авторитет» и «каноничность» не тождественны.
К середине II в. таким чисто христианским каноном Церковь не
обладала, — в этом современные исследователи согласны с Гарнаком.
Сомнению подвергается вывод Гарнака, согласно которому все три
конститутивных компонента «раннекатолической Церкви» — канон НЗ,
правило веры и иерархия (Amt) — возникли в ответ на деятельность
Маркиона22.
Критики Гарнака отвергают мысль о том, что именно Маркион
побудил большую Церковь к созданию канона, и разрабатывают главную
идею Т. Цана: НЗ складывался естественным образом в ходе развития
Церкви. Маркион, по их мнению, лишь ускорил этот процесс. Эту идею
подробно аргументирует Кюммель (с. 434 слл). Вильгельм Шнеемельхер
тоже считает возникновение новозаветного канона результатом
«развития, которое начинается уже в I в. и выходит за пределы II в.»23.
Впрочем, он же отмечает, что «состояние источников не позволяет строго
доказать ни одну из этих двух гипотез» (Шнеемельхер, с. 16).
Идеи Гарнака развивает немецкий экзегет и церковный историк
Ганс фон Кампенхаузен. Он показал, что Маркион действовал в эпоху,
когда авторитет еврейского канона в христианской Церкви уже
перестал быть самоочевидным и все больше подвергался сомнению, а
нового авторитетного литературного корпуса, удостоверявшего
историческую истинность христианского Откровения, еще не существовало. Пер-
381
вый шаг к созданию такого корпуса сделал Маркион. И далее Кампен-
хаузен подробно разрабатывает представление, согласно которому
ортодоксальный канон был впервые создан как реакция на канон Марки-
она, как средство борьбы с Маркионовой церковью. «Маркион дал
своей церкви маленькую, догматически переработанную подборку,
состоявшую из тех раннехристианских документов, которые он считал
подлинными. Поэтому и большая Церковь была вынуждена, в свою
очередь, противопоставить ему и всем другим еретикам собрание текстов
такого же рода, но значительно более широкое по составу и
включающее несокращенные документы» (Кампенхаузен, с. 379).
Я думаю, что правомерна точка зрения, позволяющая объединить
эти две теории. Ведь уже из нашего обсуждения видно, что канон Мар-
киона возник не просто как проявление его личного теологического
радикализма; сам этот радикализм был формой «естественного»
самоутверждения христианства по отношению к евреям, а такое
самоутверждение с самого начала (об этом свидетельствуют уже подлинные
послания Павла) сделалось важным формирующим фактором и в
становлении большой Церкви. В частности, оно было одной из причин
создания отдельного от еврейских книг канона НЗ.
В этой связи интересно заметить, что и для протестантского
теолога Гарнака творчество еретика Маркиона оказывается как раз на
центральном направлении развития христианской мысли. Как отмечает
Гарнак, Маркион разработал идеи, содержавшиеся в посланиях Павла
и в евангелии Иоанна, и, в свою очередь, предвосхитил Лютерову
Реформацию24. Что же касается деканонизации ВЗ, то, как доказывает
Гарнак, она была бы преждевременной и потому вредной во II в., но
для протестантского христианства XIX в. такой шаг был не только
уместен, но и теологически необходим: сохранение ВЗ в качестве
канонического документа свидетельствует «о религиозном и церковном
параличе протестантизма»25.
Первый вариант «ортодоксального» канона НЗ сложился к концу II
в., з особенности благодаря усилиям Иринея Лионского по борьбе с
«ересями», прежде всего с маркионитством и гностицизмом. Ириней
принял двухчастную («евангелие» и «апостол») структуру, созданную
Маркионом. В «евангельской» части канон Иринея содержит Мф, Мк,
Лк и Ин. Именно у Иринея мы находим первое ясное указание на
Четвероевангелие (το τετράμορφον εύαγγέλιον) как на «закрытый список»,
завершенный сборник, состоящий из четырех разных евангельских
книг. Оправдывая этот новый подход, Ириней даже пытается доказать,
что наличие в Церкви четырех, и только четырех евангельских
сочинений предопределено Богом и следует из самого устройства мироздания
(Наег III 11, 8). В самом деле, новизна того, что сделал Ириней,
очевидна. Ведь ни Маркион, ни Татиан еще не воспринимали сами
евангельские тексты как священные. Поэтому Маркион решительно сократил
текст Луки, а Татиан, знавший все четыре наших евангелия, решил
заменить их своей компиляцией.
Канон Иринея отражает церковный консенсус в Галлии, Риме и,
вероятно, в Малой Азии, откуда Ириней был родом. Реконструкция
текста канона Муратори (Рим) показывает, что этот перечень тоже со-
382
держал наши четыре евангелия в их нынешней последовательности. О
том же составе и количестве принятых Церковью евангелий
свидетельствуют Тертуллиан для Карфагена и Климент Александрийский для
Египта (конец II — начало III в.)26. На более поздних этапах
формирования НЗ, в III—IV вв., эта часть канона больше не подвергалась
изменениям.
Примечания
1 Септуагинта (=LXX), греческий перевод еврейских священных Писаний,
возникла в Александрии египетской, в еврейской эллинистической диаспоре. LXX
включает ряд книг, не вошедших в еврейский канон, который, как принято
считать, был окончательно «закрыт» явнийским Синедрионом в конце I в. н. э.
Некоторые из этих книг были написаны в диаспоре на греческом языке; это
литературные памятники эллинистического иудаизма. Церковь не приняла
ограничений еврейского канона и включила в христианский Ветхий Завет почти
все книги LXX.
2 Возможно, это слово было заимствовано из финикийского языка. На
древнееврейском Назначит, в частности, «тростник, стебель, ствол». Об истории
слова κανών см.: Мецгер, 1987, с. 289—293.
3 См., например, Irenaeus. Наег I 9, 4; Clemens Alexandrinus. Strom IV 98, 3. Об
истории употребления этих двух терминов в ранней Церкви см.: Eynde D. van
den. Les normes de l'enseignement chretien dans la litterature patristique des trois
premiers siecles. Gembloux—Paris, 1933, с 281—313.
4 Слово «апокриф» происходит от греческого απόκρυφος (скрытый,
сокровенный, тайный), прилагательного, образованного от глагола αποκρύπτω (скрывать,
прятать, утаивать).
5 См.: Irenaeus. Наег I 20, 1; Tertullianus. De pud 10, 12; ср. также Шнеемельхер,
с. 5 слл.
6 См.: Crossan J.D. Four other Gospels. Shadows on the contours of canon. San
Francisco, 1985, c. 65—75.
7 Дж.Д. Кроссан (Four other Gospels, c. 27) считает, что в евангелии Фомы, в
отличие от других текстов Наг-Хаммади (например, Апокрифа Иакова), говорит
не воскресший, а земной Иисус.
* Стандартное двухтомное издание «новозаветных апокрифов» в немецком
переводе, где тексты сопровождаются статьями крупнейших исследователей
раннехристианской литературы, работавших во второй половине XX в., —
Шнеемельхер. На русском см. также: Апокрифы древних христиан. Исследование,
тексты, комментарии. М., 1989; Трофимова М.К. Историко-философские
вопросы гностицизма. М., 1979; Мещерская E.H. Деяния Иуды Фомы. М., 1990.
Русские переводы Дидахе, «Пастыря» Гермы и других сочинений христианских
писателей послеапостольской эпохи см. в издании «Антология. Мужи
апостольские и апологеты» (Брюссель, 1978). Из русской научно-популярной
литературы о «новозаветных апокрифах» см.: Жебелев С.Л. Евангелия канонические и
апокрифические. Пг., 1919; Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы
истории. М., 1988.
9 См.: Crossan J.D. Four other Gospels; а также: Koester H. Ancient Christian
Gospels. Their history and development. Philadelphia, 1990.
10 Вопрос о том, содержит ли внеканоническое христианское предание
подлинные слова Иисуса, рассматривался в книге известного немецкого экзегета
Иоахима Иеремиаса «Неизвестные слова Иисуса» {Jeremias J. Unbekannte
Jesusworte. 3. Aufl. Gütersloh. 1963). Из более поздней литературы см.: The
383
historical Jesus and the rejected Gospels. Ed. by Ch.W. Hedrick. Atlanta, 1988
(Semeia. Vol. 44).
11 Behm /. Art. διαθήκη. — Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Hrsg.
von G.Kittel. 2. Bd. Stuttgart, 1935, с 137.
12 См.: Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983, с. 107 слл.
13 Tertullianus. Adv Marc IV 1, 1; Clemens Alexandrinus. Strom V 85, 1; Origenes.
Princ IV 1, 1.
14 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе. М., 1976, с. 67.
15 Обоснование этой точки зрения см. в гл. 5.
16 Я называю, в соответствии с научной традицией, «большой Церковью» (или
просто «Церковью») то направление в христианском движении конца I—II в.,
которое в конфессионально ориентированных работах часто называется
ортодоксией (православием). Именно это направление создало Церковь как
иерархически организованную институцию (ее первые элементы появляются на
рубеже I—II вв.), а во II в. оно оказалось сильнее «ересей», т. е. новых течений в
христианстве (гностиков, маркионитов, монтанистов), и сформулировало
содержание тогдашней «ортодоксии».
17 Bauer W. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum. Tübingen, 1934,
с 210.
18 Ср. Eusebius. Hist Eccl VI 12, 2-6.
19 Zahn Th. Grundriss der Geschichte des Neutestamentlichen Kanons. Eine
Ergänzung zu der Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. Lpz., 1904, с 35.
20 HarnackA. Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. 2. Aufl. Lpz., 1924.
(Первое издание вышло в 1921 г.)
21 Там же, с. 211. См. также: Нагпаск А. Die Entstehung des Neuen Testaments und
die wichtigsten Folgen der neuen Schöpfung. Lpz., 1914, с 48 слл.
22 См.: HarnackA. Marcion, с. 196—215.
23 Schneemelcher W. Art. Bibel (III). — Theologische Realenzyklopädie. Hrsg. von
G. Müller. 6. Bd. B.-N.Y., 1980, с 25.
24 Нагпаск Α. Marcion, с. 215 слл.
25 Там же, с. 217.
26 См., например: Tertullianus. Adv Marc IV 2, 2; Clemens Alexandrinus. Strom III,
93, 1.
384
Глава 4
Проблемы текстологии НЗ и текст канонических
евангелий
а. Рукописная традиция греческого текста НЗ
Греческие рукописи НЗ делятся по палеографическим признакам на
три группы (ср. Мецгер, 1968, с. 36-66).
1. Папирусы. Папирусные списки произведений, вошедших в НЗ,
очень важны для истории и реконструкции текстов, так как
фрагменты папирусных кодексов — единственные прямые свидетельства текста
II и III вв. Известные нам ранние папирусы сохранили лишь
небольшую часть НЗ. К концу 70-х годов XX в. были обнаружены и
исследованы 88 фрагментов папирусных кодексов с новозаветными текстами.
Они написаны между II и VII вв. с применением разных типов письма.
Особенности письма служат одним из оснований для датировки
папирусов.
2. Унциалы (маюскулы). Они представляют собой пергаменные
кодексы с текстом, выполненным унциальным письмом, т.е. не
соединяющимися между собой буквами, напоминающими нынешние
заглавные, без пробелов между словами. Знаки ударения и другие
диакритики в наших унциалах обычно не употреблялись. В большинстве своем
унциалы относятся к периоду между IV и X вв. Унциалы — наиболее
важная часть рукописной базы для изучения истории текста НЗ.
Древнейшие из дошедших до нас полных рукописей НЗ — это унциалы IV и
V вв. Всего сохранилось более 250 унциалов с текстами из НЗ.
3. Минускулы. Минускул — разновидность греческого письма,
появившаяся в IX в. Буквы походят на нынешние строчные. По сути это
скоропись, которая использовалась в Византии при составлении
деловых документов. Для нее характерны слитные или связные написания
букв, сокращения, словораздел, применение диакритиков и знаков
препинания1. С XII в. бумага в качестве писчего материала для библейских
рукописей начала вытеснять пергамен. В некоторых минускульных
кодексах бумажные листы чередуются с пергаменными. До нас дошли
тысячи минускульных рукописей НЗ, самые древние из которых
датируются X в. Все они каталогизированы, но подробное сличение текстов
проведено лишь для небольшой части минускулов. Большинство
минускулов содержит позднюю (так называемую византийскую) редакцию
текста НЗ, но в некоторых из них есть древние чтения, ценные для
изучения ранних этапов истории текста.
Таким образом, у исследователя текста НЗ имеется в распоряжении
очень большой рукописный материал. Однако богатство рукописной
традиции в этом случае мало облегчает задачу восстановления
первоначальных текстов2. Чтобы понять причины такого положения, мы
должны познакомиться с некоторыми специфическими проблемами
текстологии (или «критики текста») НЗ.
До нас дошло больше пяти тысяч греческих рукописей НЗ, полных
25 Заказ 257 385
или фрагментарных (включая лекционарии — сборники новозаветных
чтений по церковному календарю), множество рукописей древних
переводов и, наконец, огромное количество цитат в сочинениях Отцов
Церкви (начиная со II в.). Интересно, что даже очень плохо
сохранившиеся рукописи часто содержат отрывки из нескольких произведений3.
По-видимому, все это означает, что текстология НЗ находится в гораздо
более благоприятном положении, чем текстология античных
памятников: сочинения античных авторов сохранились, как известно, в
немногочисленных средневековых списках (правда, папирусные находки в
Египте расширили рукописную базу классической текстологии).
Однако это количественное и хронологическое преимущество
новозаветной текстуальной традиции по сравнению с классической не
следует переоценивать. Ведь самые древние из доступных нам рукописей,
значимых для истории евангельских текстов, датируются концом II —
началом III в. Следовательно, мы все же не располагаем текстом
канонических евангелий в его первичном виде. Древнейшие рукописи — это
фрагменты папирусных кодексов, которые происходят лишь из одного
региона — Египта. Канонические евангелия были написаны не в
Египте, поэтому маловероятно, что египетские списки евангелий
генеалогически близки к автографам. С точки зрения истории канона это значит,
что у нас нет прямых свидетельств о тексте евангелий в период,
предшествовавший их фактической канонизации, т. е. почти не осталось
свидетельств от первых ста лет рукописной передачи этих
произведений. Мы уже видели, как свободно христиане обращались с текстом
евангелий во II в. Можно утверждать, что особое внимание к тексту
стало возникать лишь после канонизации евангелий, по мере того как
развивалось представление о сакральности, боговдохновенности
евангельского слова.
Тут исследователь НЗ имеет дело с той же проблемой, что и
филолог, изучающий литературные памятники классической древности.
Текстологам-классикам известно, что наиболее сильная порча текста
при переписывании (например, пропуски и другие грубые ошибки,
ведущие к непоправимой утрате смысла), а также самые значительные
целенаправленные изменения древних текстов (например, создание
новых редакций памятника) происходят чаще всего на протяжении
примерно первых ста лет рукописной передачи этих текстов, т. е. в
течение того периода, когда значение данного текста или его автора для
будущего еще не определилось. В самые первые годы своего
существования текст может подвергнуться гораздо более значительным
изменениям (сознательным и бессознательным, т. е. редактированию и порче),
чем за последующие столетия рукописной передачи. Поэтому
абсолютная хронология списков, где новозаветная текстуальная традиция столь
явно превосходит классическую, не имеет решающего значения для
приближения к автографам: папирус III в. может быть не лучшим
свидетелем оригинала, чем средневековый минускул. По той же причине
не так уж важно количество рукописей, дошедших до нас от III в. и
более поздних времен, так как ни одна из этих рукописей не дает нам
непосредственных сведений об истории текста в первые десятилетия
после создания автографа.
386
Поэтому любые реконструкции архетипов дают лишь сведения о
текстах евангелий, как они существовали во второй половине II в.,
точнее, ближе к его концу.
Кроме того, богатство рукописной традиции затрудняет
установление «родства» между списками каждого произведения. Практически
невозможно составить стемму, т. е. графическую схему
генеалогического соотношения между списками одного и того же литературного
памятника, вошедшего в НЗ. Стемма списков какого-нибудь из
канонических евангелий была бы бесполезна из-за своей чрезмерной
сложности. Между тем в текстологии памятников античной литературы
составление стеммы считается основой для реконструкции архетипа.
Неблагоприятно для реконструкции и географическое
распределение свидетельств текста НЗ: все древние папирусные рукописи
происходят из Египта, и нет прямых свидетельств из других мест,
представляющих другие редакции текстов в ту же эпоху (конец II — III в.). По
этим причинам в текстологии НЗ не принято составлять стеммы.
Взамен в основу классификации кладется попытка разделить рукописную
традицию на семейства, т. е. на группы списков, обнаруживающие одни
и те же варианты чтений. Такое совпадение вариантов объясняется
предполагаемой общностью их происхождения (например, в
результате создания новой редакции данного памятника). По семействам
классифицируются не только списки отдельных памятников, но и целые
сборники новозаветных произведений. Дело в том, что при сличении
текстов было сделано следующее наблюдение: в одном и том же
рукописном своде, например в знаменитых унциальных рукописях IV в. —
Синайском и Ватиканском кодексах, собраны произведения в тех же
редакциях, что и в некоторых других рукописных собраниях
новозаветных произведений. Напротив, в ряде других кодексов встречается
устойчивое сочетание других редакций тех же произведений. Такого рода
наблюдения позволяют оперировать понятием «семейство» не только
при анализе текста отдельного памятника, но и применительно к
истории текста НЗ в целом.
Таким образом, при классификации рукописной традиции по
семействам деление идет по внешним признакам, но за ними стоят,
предположительно, разные редакции текста.
В XVIII—XIX вв. текстологи выделяли следующие семейства:
Западный тип (текст, семейство); представлен прежде всего
кодексом Безы [D], созданным в V в.
Александрийский текст — цитаты у Климента Александрийского,
Оригена, Синайский [К], Ватиканский [В] (оба - IV в.),
Александрийский [А] (V в.) унциальные кодексы, а также несколько папирусов. Это
редакция.
Кесарийское семейство; предполагается, что его архетипом был
текст, который Ориген привез с собой в Кесарию из Египта. К этому
семейству относятся несколько унциалов и минускулов, а также
армянский и грузинский переводы.
Византийский текст — самое позднее из семейств. В этом типе
текста параллельные места у синоптиков подверглись гармонизации.
После последних гонений на христиан в Римской империи (в начале IV в.
25* 387
при Диоклетиане), во время которых уничтожались рукописи НЗ, и
после того, как христианство при Константине стало официальной
религией, византийский текст оказался наиболее распространенным на
востоке Империи. Именно он лежит в основе многих переводов НЗ, в
частности того перевода на южнославянский диалект, который стал
первым памятником славянского литературного языка, созданного в
ходе этого перевода («церковнославянский язык»).
Ценность деления рукописного материала на семейства иногда
подвергается сомнению, но, на мой взгляд, это деление остается полезным
для первоначальной характеристики списка.
Цель текстологии НЗ не сводится к воссозданию возможно более
ранних редакций или к попытке как можно точнее реконструировать
автограф. Другая важная задача текстологии — изучить историю текста
сочинений, вошедших в НЗ. Ведь история текста произведения,
передававшегося в списках, — это одновременно история его восприятия и
интерпретации в отдаленную от нас эпоху. Разночтения в рукописной традиции
часто указывают на то, как определенные тексты истолковывались в первые
века христианства. В частности, наблюдения за вариантами текста
позволяют обнаружить, какие места вызывали сомнения у переписчиков, как в
текст проникали догматически обусловленные изменения и вставки и т.д.
Анализ рукописной традиции показывает, что текст евангелий
целенаправленно изменялся и после их канонизации. Цитаты из еврейской
Библии сверялись по тексту тех книг, из которых они происходили.
Параллельные тексты в евангелиях гармонизировались. Проводилась
стилистическая правка для приближения текста к греческой
литературной норме. А в византийском типе текста смешались чтения,
характерные для разных древних семейств. В научной литературе эта редакция
называется также типом «койне». (Название образовано от греческого
слова κοινός — «общий». Имеется в виду, что со временем этот
текстуальный тип стал общепринятым в восточной Церкви.)
Первая разновидность текстуального типа «койне» была создана в
конце III в. Лукианом Антиохийским (погиб мученической смертью в
312 г.). Лукиан отредактировал весь текст греческой христианской
Библии, при редактировании ВЗ он сопоставлял LXX с еврейским
оригиналом. Большинство сохранившихся списков евангелий относится к
«койне» — этому самому позднему семейству, очень далеко ушедшему
даже от известных нам древних редакций евангельских текстов.
Образование текстуального типа «койне» в позднеантичный период
и повсеместное распространение в восточной Церкви рукописных
сводов НЗ, принадлежащих к этому семейству, не значило, что развитие
текста НЗ прекратилось. Текст не мог «застыть» в условиях
продолжавшейся рукописной передачи: ведь не было ни жесткого контроля над
этой передачей, ни официальных церковных решений о дословной
форме текста. Поэтому с точки зрения истории текста Новый Завет на
протяжении почти четырнадцати веков оставался живым и
развивающимся литературным корпусом, содержание которого постоянно
обогащалось за счет «впитывания» новых теологических идей. Развитие
текста продолжалось вплоть до появления первых печатных изданий
греческого НЗ в эпоху Ренессанса и Реформации.
388
б. Печатные издания греческого текста НЗ
Текстуальную базу для первого печатного издания греческого НЗ
составили два не вполне исправных позднесредневековых минускула,
содержащих текст типа «койне». Это издание, появившееся в 1516 г.,
подготовил Эразм Роттердамский. В изданиях XVI—XVII вв. предложенный
Эразмом греческий текст подвергался лишь незначительным
изменениям. На его долю выпал огромный успех. Возникшая в ту эпоху
протестантская ортодоксия признала его подлинным, единственно истинным,
боговдохновенным текстом Священного Писания Нового Завета.
Почти четыре столетия он господствовал не только в протестантстве, но и
во всем христианском мире как наиболее авторитетный и достоверный
греческий текст НЗ. Его критика оставалась важнейшей задачей
текстологии НЗ с XVII до конца XIX в. Лишь в XX в. он окончательно
утратил свое значение стандартного текста для теологов и переводчиков: в
этом качестве его заменили критические издания греческого текста.
Рассмотрим публикацию Эразма в контексте первопечатных
изданий греческого НЗ.
В 1502 г. по распоряжению кардинала Хименеса группа испанских
теологов приступила к подготовке печатного издания Библии на
еврейском, греческом и латинском языках. Это издание называют Комплу-
тенской полиглоттой, так как оно печаталось в городе Алкала-де-Эна-
рес (его римское название — Complutum). Первые четыре тома Комп-
лутенской полиглотты включали набранные параллельными столбцами
тексты Ветхого Завета на еврейском, греческом и латыни. Эти тома
были готовы к публикации в 1517 г. Пятый том этой полиглотты,
содержавший греческий текст НЗ и принятый в католической Церкви
латинский перевод НЗ (Вульгату), был набран еще раньше — в 1514 г. Точных
сведений о том, какие греческие рукописи были использованы как
текстуальная основа этого издания, не сохранилось. Однако с историко-
критической точки зрения текст Комплутенской полиглотты лучше,
чем текст Эразма, а также издателей XVI—XVII вв. Стефануса и
братьев Эльзевиров, опиравшихся главным образом на издание Эразма.
Публикация Комплутенской полиглотты была задержана, потому что
разрешение папы Льва X было дано лишь в 1520 г.
Между тем базельский книгоиздатель Иоганнес Фробен, знавший о
работе над испанским изданием и стремившийся опередить Хименеса,
предложил в 1515 г. Эразму подготовить для печати греческий текст НЗ. В
июле 1515 г. Эразм приступил к работе, 2 октября того же года уже начался
набор, а 1 марта 1516 г. издание Фробена вышло в свет. Оно включало
текст всего НЗ и его латинский перевод, выполненный Эразмом.
Как мы уже знаем, Эразм использовал для своего издания
рукописи с текстом низкого качества. Такой выбор лишь отчасти объясняется
тем, что подготовка издания велась в великой спешке. Эразм
сознательно ориентировался на наиболее привычный для него тип текста и
отверг те немногие доступные ему рукописи, которые сохранили более
древние чтения. Это стремление остаться в рамках привычного и
общепринятого сказалось и в том, что Эразм в нескольких местах своего из-
1_> <^ *■ ■*
дания «выправил» имевшийся у него греческий рукописный текст так,
389
чтобы он соответствовал латинской Вульгате, официальному тексту
католической Церкви.
В четырех переизданиях Эразм исправил сотни опечаток первого
издания и несколько улучшил текст, но его основа осталась прежней. Именно
с Эразмова текста или с текстов зависящих от него изданий делались
переводы НЗ на все новоевропейские языки, в частности Лютеров немецкий
перевод и стандартный английский перевод (так называемый King James
Version и его многочисленные последующие редакции).
В XVI в. появилось еще несколько изданий греческого текста.
Парижский издатель Робер Этьен (Стефанус) в основном следовал тексту
Эразма, заменяя в некоторых случаях чтения этого издания на чтения
Комплутенской полиглотты. В третьем издании (1550 г.) Стефануса
впервые появился критический аппарат. Он представлял собой
помещенный на внутреннем поле каждой страницы указатель разночтений
между публикуемым текстом и текстом Комплутенской полиглотты, а
также пятнадцати доступных издателю греческих рукописей. Четвертое
издание Стефануса (1551 г.) известно тем, что в нем впервые было
введено деление текста на стихи, до сих пор сохраняющееся во всех
изданиях оригинала и переводов НЗ.
Что касается современного деления новозаветных произведений на
главы, то оно было предложено Стефаном Лэнгтоном, будущим
архиепископом Кентерберийским, еще в 1205 г. Лэнгтон провел это деление
по тексту Вульгаты, затем оно было перенесено в греческий текст, а
оттуда — в переводы на новоевропейские языки. Древняя рукописная
традиция НЗ тоже знает разбивку на главы, но она не вполне совпадает с
современной.
Теодор Беза, преемник Кальвина на посту руководителя женевской
реформатской общины, выпустил во второй половине XVI — начале XVII
в. десять изданий НЗ с параллельными греческим и латинским текстами.
Эти издания приобрели нормативное значение в кальвинизме. Их
греческий текст почти тождествен тексту Стефануса в издании 1550 г.
Голландские книгоиздатели Эльзевиры выпустили в 1624—1678 гг.
семь изданий греческого НЗ. Текст этих изданий мало отличается от
текстов Стефануса и Безы. В предисловии ко второму изданию
Эльзевиров (1633 г.) читателю сообщается: «Textum ergo habes nunc ab
omnibus receptum» («Итак, теперь в твоем распоряжении есть текст,
признанный всеми»). От этого заявления и пошло выражение «textus
receptus», обозначающее ту форму печатного текста греческого НЗ,
которая, происходя от поздних рукописей семейства «койне», впервые
засвидетельствована изданием Эразма и окончательно установилась в
издании Эльзевиров. Строго говоря, для континентальной Европы
функцию textus receptus выполнял текст Эльзевиров, а для англоязычного
мира — текст Безы. Эти два потомка Эразмовой редакции различаются
между собой лишь в 287 чтениях.
В XVII в. началась работа по сличению греческих списков,
рукописей древних переводов и цитат из НЗ, приводимых
раннехристианскими писателями. С этих пор можно говорить о зарождении текстологии
НЗ как научной дисциплины. Французский католический священник
Ришар Симон, занимавшийся такими изысканиями, опубликовал
390
«Критическую историю текста Нового Завета» (1689 г.), «Критическую
историю переводов Нового Завета» (1690 г.) и «Критическую историю
главных толкований Нового Завета» (1693 г.). Интересно, что в своей
критической работе Р. Симон исходил из апологетических побуждений.
В полемике с протестантами Симон стремился показать, что
реформаторы, отвергнув авторитет Предания и провозгласив принцип sola
Scriptum (Библия как единственный источник Откровения), не обрели
твердого основания для вероучения: текст Писания сохранился в столь
ненадежном виде, что он не может быть понят «из себя самого» и
поэтому нуждается в авторитетном толковании, основанном на
церковном Предании.
Англиканский теолог Джон Милль, используя данные Р. Симона и
собственные исследования, опубликовал в 1707 г. первое большое
критическое издание НЗ. Оно воспроизводило «признанный текст» без
изменений, но под текстом находился превышающий его по объему
критический аппарат. Он насчитывал около тридцати тысяч разночтений,
обнаруженных при сличении textus receptus с другими печатными
изданиями, со всеми доступными Миллю греческими рукописями, с
древними переводами и с новозаветными цитатами у Отцов Церкви4.
Авторитет «признанного текста» стал, как мы уже говорили,
предметом веры, и поэтому текстологи XVIII в. были вынуждены
пользоваться этим текстом как основой для своей критической работы. Так как
v>
они не решались изменить его, то в аппарате критических издании
помещались чтения, заведомо более древние и лучше
засвидетельствованные списками, чем те, что имелись в «признанном тексте».
Лишь в 1774—1775 гг. Иоганн Якоб Грисбах, используя результаты,
достигнутые несколькими поколениями исследователей текста (в
частности, уже существовавшую к тому времени классификацию
рукописей по семействам), опубликовал в качестве исходного греческого
текста, к которому в критическом аппарате научного издания подводятся
разночтения, не textus receptus, а собственную реконструкцию
(критическую редакцию) греческого текста5.
К важнейшим критическим изданиями XIX в. относятся
публикации немецкого текстолога Карла Лахмана (1831 г.), а также знаменитого
исследователя и издателя новых списков Константина фон Тишендор-
фа (Editio octava critica maior, 1872 г.). Оба они стремились
реконструировать сравнительно ранние (II—IV вв.) редакции текста НЗ. Издание
Тишендорфа знаменито своим критическим аппаратом,
предоставляющим очень богатую информацию о рукописном материале.
Путь к современным критическим изданиям греческого текста НЗ
проложила работа кембриджских ученых Брука Весткотта и Фентона
Хорта. В своих изысканиях последней трети XIX в. они доказали, что
Li
«признанный текст» происходит от поздней редакции, которую они
называли «сирийской» (теперь ее называют «византийской»). Они
считали, что два унциала IV в., Синайский и Ватиканский кодексы (первый
из них был найден Тишендорфом), сохранили свидетельство о тексте в
том его виде, который существовал задолго до создания этих кодексов.
Весткотт и Хорт характеризовали текст этих кодексов как «нейтраль-
*-> <.j
ныи», т. е. возникший в результате простого переписывания, а не со-
391
знательного редактирования. Сейчас принято считать, что текст,
сохранившийся в Синайском и Ватиканском кодексах, тоже представляет
собой редакцию. Однако его большая ценность для реконструкции по-
прежнему признается. Критическое издание греческого НЗ,
подготовленное Весткоттом и Хортом, было опубликовано в 1882 г.
Наибольшей популярностью в XX в. пользовался критический текст
Novum Testamentum Graece, впервые опубликованный немецким
ученым Эберхардом Нестле в 1898 г. В 1963 г. вышло его 25-е издание.
Первоначально «Нестле» предназначался для учебных и других
практических целей, его текст и критический аппарат основывались не на
новых исследованиях, а на сведениях, имеющихся в крупнейших научных
изданиях XIX в., в частности у Тишендорфа и Весткотта—Хорта.
Благодаря тому что издание Нестле подытожило достижения новозаветной
текстологии XIX в. и в особенности вследствие удачной конструкции
критического аппарата (его нынешнюю форму разработал Эрвин
Нестле, сын Эберхарда Нестле, в 13-м издании 1927 г.) «Нестле»
разошелся в сотнях тысяч экземпляров и стал своего рода новым textus receptus.
Особенность критического аппарата «Нестле» состоит в том, что
тщательно разработанная и удобная для пользования система обозначений
позволяет показать в небольшом объеме свидетельства очень
большого числа списков.
В 1979 г. немецкий исследователь Курт Аланд из Института по
изучению текста НЗ (Мюнстер) выпустил 26-е издание «Нестле». Для этого
издания было проведено новое сличение всех свидетельств, в результате
чего были существенно изменены и текст и критический аппарат. В
сегодняшней науке этот «Нестле—Аланд» признается наиболее
авторитетным критическим текстом греческого НЗ.
В 1993 г. опубликовано 27-е издание «Нестле—Аланда». Его текст не
отличается от текста 26-го издания, но рукописная база несколько
изменена, а критический аппарат упрощен.
Международная организация «Объединенные библейские
общества», которая содействует переводу Библии на современные языки,
опубликовала текст «Нестле—Аланда» в третьем и четвертом изданиях
своего «The Greek New Testament». Критический аппарат издания «The
Greek New Testament» включает лишь те разночтения, которые
оцениваются издателями как существенные для переводчика в установлении
текста. Зато текст вариантных чтений дается целиком и для каждого
чтения приводится полный перечень рукописных свидетельств, что
делает аппарат очень наглядным.
Издание К. Аланда содержит текст, который, по мнению крупнейших -
современных специалистов, отражает (настолько точно, насколько это
возможно для текста, полученного в результате реконструкции) архетип
нескольких текстуальных семейств, существовавший в конце II в. Таким
образом, здесь предлагается текст, не засвидетельствованный в свой
целостности ни одним списком. Альтернатива этому подходу — издание
отдельных списков, а именно таких, текст которых сильно различается. Такова,
как известно, практика научных изданий еврейской Библии:
воспроизводится текст одного списка, а критический аппарат показывает разночтения
в текстуальной традиции и конъектуры издателей6.
392
Текстология НЗ сталкивается с рядом проблем, не имеющих
простого решения. Однако в канонических евангелиях не так уж мною мест,
где текст вызывает сильные сомнения (например, из-за предполагаемой
порчи на раннем этапе рукописной передачи). В целом же можно
считать, что сегодняшний критический текст канонических евангелий
достаточно близок к автографам.
Примечания
1 Ср. Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской
литературы. М., 1985, с. 23 ел.
2 Понятие «первоначальный текст» не всегда имеет самоочевидный смысл
применительно к произведениям, вошедшим в НЗ. Как будет видно из следующей
главы, наши евангелия (или, по крайней мере, некоторые из них) возникли в
результате переработки и соединения нескольких письменных источников.
Кроме того, в ходе изучения всех четырех канонических евангелий были
сформулированы разнообразные гипотезы о «последних редакторах». Общий для
этих гипотез смысловой элемент заключается в следующем: канонический Мф
(соответственно Мк или Ин) появился в результате работы «последнего
редактора», который прибавил к «Протоматфею», произведению евангельского типа,
новые материалы и переработал старый текст.
3 Исключение составляют фрагменты папирусных кодексов НЗ: в большинстве
своем они сохранили отрывки лишь из какого-либо одного произведения. Здесь
можно упомянуть один из наших древнейших папирусов — «папирус Райленд-
са 457» ('Р52), небольшой фрагмент евангелия Иоанна (Ин 18:31 слл, 37 ел) из
списка, датируемого первой половиной II в. Невозможно установить, был ли
этот список Ин частью сборника раннехристианских текстов. В связи с
рассмотренной выше проблемой канона надо заметить, что некоторые знаменитые
рукописи IV—V вв., содержащие Ветхий и Новый Завет, включают в
новозаветной части Послание Варнавы, «Пастыря» Гермы, Первое и Второе послания
Климента, т. е. произведения, не вошедшие в окончательный вариант
новозаветного канона.
4 О Ришаре Симоне и Джоне Милле см.: Kümmel W.G. Das Neue Testament.
Geschichte der Erforschung seiner Probleme. München, 1958, c. 41—51.
5 О вкладе Грисбаха в новозаветную науку мы будем говорить подробнее в
следующей главе.
6 Τον Ε. Textual criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis, etc., 1992, с 371—378.
393
Глава 5
Литературные источники канонических евангелий
С точки зрения истории возникновения канонических евангелий ни
одно из них нельзя считать произведением, с начала до конца
созданным одним автором. И дело тут не только в том, что характерное для
Нового времени понятие индивидуального авторства далеко не всегда
применимо к литературам Древнего мира и Средневековья.
Исследователи НЗ установили, что при создании по крайней мере некоторых из
канонических евангелий были использованы письменные источники.
Для понимания наших евангелий важно и то, что по своей природе эти
письменные источники не были внелитературным или долитературным
«сырым материалом»: ни какими-нибудь заметками для памяти,
написанными очевидцами происшедшего или их слушателями, ни чем-то
вроде конспектов, составленных людьми, которые слушали проповеди
Иисуса или апостолов. Письменные источники, которые удается
восстановить при анализе наших евангелий, тоже были литературными
произведениями, принадлежавшими к определенным жанрам. Это
значит, что нам известны памятники древних литератур, имеющие те же
жанровые характеристики, что и реконструируемые исследователями
и
литературные источники канонических евангелии.
Наиболее важная в истории исследования НЗ и потому наиболее
разработанная источниковедческая тема — это вопрос о литературных
связях между тремя первыми евангелиями канона. В науке этот вопрос
называется синоптической проблемой.
а. Исходные определения. Синоптики и Иоанн
Синоптическими называют три первых евангелия новозаветного
канона: Матфея, Марка и Луку. Для краткости мы будем употреблять
традиционное имя автора вместо названия произведения. По-гречески σύν-
οψις означает «обо-зрение»; συν-οπτικός значит «способный обозреть всё
вместе». При чтении легко заметить, что эти евангелия содержат
совпадающие по содержанию (так называемые параллельные)
повествовательные эпизоды; кроме того, иногда наблюдается и общая для двух или
трех евангелий последовательность этих повествовательных эпизодов,
или перикоп]. Между греческими текстами параллельных перикоп в двух
или во всех трех синоптических евангелиях часто обнаруживаются
вербальные совпадения. Для примера приведем здесь два таких случая.
Совпадение целых фраз в трех евангелиях можно проследить в
повествовании об исцелении прокаженного: Мф 8:2 слл; Мк 1:40-45; Лк 5:12
слл. Яркий пример текстуальной близости в параллельных текстах из
двух евангелий - история об исцелении слуги центуриона: Мф 8:5—13
и Л к 7:1 — 10. Настоящая вербальная близость между Мф и Л к
обнаруживается здесь в прямой речи центуриона и Иисуса: ср. Мф 8:8 слл с Лк
7:66-9.
Что касается содержательного и композиционно-сюжетного сход-
394
ства между тремя первыми евангелиями, то оно очень велико. А все
это вместе — общая композиция, общая последовательность перикоп и
вербальные совпадения — заставляет предположить существование
литературных связей между этими евангелиями. Исследование
литературных связей здесь, как и обычно, подразумевает
источниковедческую проблематику: вопросы о том, послужили ли какие-либо из
синоптических евангелий источниками для других синоптических
евангелий, были ли у этих евангелий не дошедшие до нас общие
письменные источники и т.п.
Если же сравнить синоптические евангелия с евангелием Иоанна
(Ин), то сходство обнаружится главным образом лишь на уровне
внешней композиции, т. е. в общей последовательности больших
повествовательных частей: (1) рассказ о публичной деятельности Иисуса,
начало которой связано с Иоанном Крестителем; (2) деятельность Иисуса
заканчивается казнью в Иерусалиме; (3) далее сообщается о
воскресении Иисуса. За исключением повествования о Страстях, у Ин совсем
немного перикоп, параллельных синоптическим.
В этом легко убедиться, познакомившись с изданием «Синопсиса
четырех евангелий»2, где полные греческие тексты евангелий
помещены в четыре столбца, так что на одном уровне по вертикали
расположены тексты, «параллельные» по содержанию. Четвертый столбец, где
помещено евангелие Иоанна, часто оказывается пустым там, где
остальные три заполнены, и наоборот — там, где в столбец напечатаны,
например, большие тексты Прощальной беседы и молитв Иисуса по
Ин, остальные три столбца пустуют, так как настоящих параллелей
этим речам у синоптиков нет.
Читатель евангелий легко замечает также, что Иисус у
синоптиков мало похож на Иисуса у Ин. Наиболее бросающееся в глаза
отличие состоит в том, что Иисус Четвертого евангелия подробно и по
разным поводам говорит о себе, в особенности о статусе собственной
личности, причем делает это в характерных только для Ин
выражениях. Разумеется, мессианское достоинство Иисуса — важнейшая
тема синоптиков. Но утверждения вроде «Я есмь хлеб жизни», «Я
есмь путь и истина и жизнь» едва ли могли бы войти в одно из
первых трех евангелий; эти выражения несут печать содержательного и
стилевого своеобразия Ин.
Итак, синоптическая проблема — это вопрос о том, как объяснить
сложное сочетание сближений и расхождений между текстами трех первых
евангелий новозаветного канона, и — шире — вопрос об их письменных
источниках (ср. Файне, с. 18—35). В качестве научной задачи
синоптическая проблема была сформулирована в конце XVIII в. До этого авторитетом
в Церкви пользовались источниковедческие высказывания Августина,
отчасти опирающиеся на предание, а отчасти основанные на его
собственных наблюдениях. В трактате «De consensu evangelistarum» (I 2) Августин
говорит, что наши евангелия были написаны в той последовательности, в
какой они стоят в каноне, а более поздние евангелисты знали сочинения
более ранних и использовали их в своей работе. В частности, Августин
считал, что Мк — это сокращенный вариант Мф: «Marcus... pedisequus et
breviator eius videtur» (De consensu I 2,4).
395
б. Первые попытки решения синоптической проблемы
В последней четверти XVIII — первой половине XIX в. были
предложены четыре гипотезы, которые очертили все главные возможности
решения синоптической проблемы. Ее интенсивная разработка
объяснялась возникшим в эпоху Просвещения и затем лишь
усиливавшимся стремлением извлечь из раннехристианской литературы
исторически достоверные данные об Иисусе из Назарета, т. е. так
называемыми поисками исторического Иисуса, В перспективе этих
поисков прояснение литературных связей между синоптиками было
нужно для того, чтобы установить, какое из евангелий самое древнее.
Предполагалось, что самый древний текст как наиболее надежное
свидетельство о том, «что произошло на самом деле», даст опору для
реконструкции жизни Иисуса.
Теория протоевангелия. Эта теория, впервые предложенная Готхоль-
дом Эфраимом Лессингом (1729—1781)\ объясняет сходство
синоптических евангелий их общим происхождением от текста утраченного
древнейшего евангелия, написанного по-арамейски, или, как говорит
Лессинг, на сирийско-халдейском языке4. Различия между
синоптическими евангелиями эта теория объясняет тем, что синоптики
использовали разные части протоевангелия и по-разному перевели их. В первой
трети XIX в. эта теория теряет влияние, так как она оказалась
непригодной в качестве рабочей гипотезы: с ее помощью не удавалось объяснить
имеющиеся факты, т. е. известные черты сходства и различия между
существующими греческими текстами.
Теория устной традиции. Эта теория, связанная с именем
Иоганна Готфрида Гердера5, объясняет текстуальные данные тем, что
синоптические евангелия независимо друг от друга черпали материал
из устной традиции первых христианских общин, которая обрела
устойчивость в результате постоянного повторения и заучивания одних
и тех же изречений и повествований. Содержание этой традиции
было сформулировано по-арамейски, а затем переведено на
греческий. Согласно этой точке зрения, расхождения между синоптиками
возникли из-за того, что евангелисты были знакомы с различными
вариантами традиции, удовлетворявшими потребности и интересы
разных общин6. Эта теория тоже не смогла объяснить причины
конкретных совпадений и расхождений между нашими текстами, ее
слабость особенно обнаружилась при попытках объяснить наличие у
синоптиков больших порций практически идентичных материалов и
случаи общей последовательности параллельных перикоп. Однако в
ее рамках были сформулированы гипотезы, оказавшиеся важными
для будущих исследований: перед составлением (письменной
фиксацией) синоптических евангелий был длительный период устной,
«фольклорной» передачи элементов их содержания; единицы
традиции при передаче воспроизводились с большой точностью, так как в
общине они выполняли вполне определенные функции (например,
литургические).
Теория фрагментов. В истории синоптической проблемы она
связана с именем Фридриха Даниэля Шлейермахера. В 1817 г. Шлейер-
396
махер опубликовал работу о евангелии Луки7, где утверждал, что Лк
пользовался не протоевангелием или «протоевангелиями», т.е.
письменными источниками, охватывающими всю жизнь Иисуса, а
большим числом письменных «сочинений», каждое из которых
объединяло несколько фрагментов. По мысли Шлейермахера, эти
«сочинения» были написаны для раннехристианских общин, которые
нуждались в сведениях о жизни и учении Господа Иисуса. Среди их
авторов были и очевидцы, в частности апостолы. А читатели и
собиратели «сочинений» могли подбирать письменные фрагменты по
жанровому признаку: один собирал речи Иисуса, другой — рассказы о
чудесах, третий — притчи или повествования, относящиеся к Страстям,
и т.п. Лк же «с начала до конца был лишь собирателем и
систематизатором уже имевшихся письменных текстов, которые он
переписывал без всяких изменений»8. В посмертно опубликованных лекциях
по дисциплине «Введение в Новый Завет» Шлейермахер
распространяет свою гипотезу об источниках Лк на все синоптические
евангелия, которые он называет «суммирующими», противопоставляя их
целостному «биографическому» Ин9.
Теория фрагментов не годилась как решение синоптической
проблемы по той же причине, что и теория устной традиции: с ее
помощью нельзя объяснить многочисленные черты фундаментального
сходства между синоптиками. Однако она тоже содержала
положения, которые в дальнейшем оказались важными для работы над
синоптическими евангелиями: представление о «сборном» характере
этих книг и о роли евангелистов как своего рода «редакторов-соста-
^
вителеи».
Теория использования одних синоптических евангелий в качестве
источников для других. Как упоминалось, это воззрение самое древнее, его
придерживался уже Августин. Иенский ученый Иоганн Якоб Грисбах,
который ввел в науку сам термин «синоптики» и в 1776 г. опубликовал
первый греческий синопсис трех евангелий, разработал гипотезу,
согласно которой Мк возник как переработка Мф и Лк, а синоптические
евангелия были написаны в следующем порядке: Мф — Лк — Мк10.
Таким образом, Грисбах отверг представления Августина, согласно
которым целью Мк было сокращенное изложение Мф, а Лк, в свою
очередь, пользовался текстом Мк. Тот факт, что почти все вошедшие в Мк
материалы имеются также у Мф и/или у Лк11, Грисбах истолковывал
как свидетельство в пользу того, что Мк работал с двумя этими
текстами одновременно. И.Грисбах первым использовал при решении
синоптической проблемы доказательство от последовательности. Он показал,
что когда последовательность повествований у Мк не совпадает с
расположением тех же повествований у Мф, то она совпадает с их
порядком у Лк. По мысли Грисбаха, это свидетельствует о том, что Мк
следовал то за Мф, то за Лк. Гипотеза Грисбаха нашла поддержку у
Фердинанда Христиана Баура (1792—1860) и в созданной им Тюбингенской
школе истории первоначального христианства12.
Гипотеза Грисбаха продержалась в науке до середины XIX в., а
затем ее вытеснила гипотеза двух источников, впервые возникшая в
30-е годы XIX в.
397
в. Гипотеза двух источников.
Суть этой гипотезы сводится к двум положениям:
1. Мк — самое древнее евангелие и источник для Мф и Лк.
2. Мф и Лк использовали еще один общий письменный источник,
который до нас не дошел, но поддается реконструкции при
сопоставлении текстов Мф и Лк. Этот источник содержал главным образом
изречения Иисуса, поэтому в науке он получил название «источника ло-
гий»13. Его обозначают аббревиатурой Q (от нем. Quelle — «источник»).
Возникновение гипотезы двух источников было подготовлено
двумя важными статьями. Одна из них принадлежит Шлейермахеру и
опубликована в 1832 г.14 Анализируя сохраненные церковным
историком Евсевием свидетельства Папия (епископа Иераполя, писавшего в
первой трети II в.) о Матфее и Марке, Шлейермахер предположил, что
слова Папия «Матфей соединил логии на еврейском языке, а переводил
их каждый как мог» (Eusebius. Hist Eccl III 39, 16) указывают на
собрание изречений Иисуса, Ранее эти слова понимали как свидетельство
того, что Матфей написал арамейское евангелие15, собрав устные
предания о словах и делах Иисуса. Это предположение Шлейермахера
помогло сторонникам гипотезы двух источников интерпретировать слова
Папия как указание на текст, по структуре подобный гипотетическому
Q. Кроме того, Шлейермахер предположил, что Папий, говоря о
произведении Марка, имеет в виду не нашего канонического Мк, а более
ранний вариант этого текста. Так в обиход была введена гипотеза «Про-
томарка», которая живет в науке и до сего дня.
Вторая из упомянутых статей принадлежит филологу Карлу Лахману16
и опубликована в 1835 г. К. Лахман был сторонником теории протоеван-
гелия, из которого черпали Мф, Мк и Лк. Стремясь путем анализа
синоптиков установить последовательность повествований в этом протоеванге-
лии, Лахман пришел к выводу, согласно которому последовательность
повествований исходного евангелия лучше всего сохранилась у Мк. Свой
вывод Лахман сделал на основе наблюдения, которому вскоре суждено
было стать решающим доводом в пользу первенства Мк:
Если сопоставить последовательность тех перикоп, которые имеются
у всех трех синоптиков, то обнаружится, что последовательность этих
общих перикоп совпадает у Мф и Лк лишь в тех случаях, когда тот же
порядок наблюдается у Мк.
Как мы знаем, Грисбах использован близкое (но отличающееся по
охвату материала) наблюдение о соотношении последовательности
общих материалов у всех трех синоптиков для обоснования своей
гипотезы о зависимости Мк от Мф и Лк.
Для дальнейшего исследования синоптической проблемы
наблюдение Лахмана означает, что последовательность повествований у Мк
первична и конститутивна для Мф и Лк. Чтобы увидеть, почему
именно такое объяснение последовательности повествований у синоптиков
оказалось наиболее убедительным, рассмотрим несколько примеров.
Вначале мы проследим за порядком текстов, общих для всех трех
евангелий (их называют материалами тройной традиции), исходя из их
последовательности во второй главе Мк.
398
В материале тройной традиции, содержащемся в Мк 2, Мф и Лк
вначале обнаруживают порядок, общий с Мк.
Тройная традиция
в последовательности
Марка
Исцеление параличного
и спор о прощении
грехов
Призвание сборщика
податей и вопрос
о трапезе
с грешниками
Вопрос о посте
Марк
2:1-12
2:13-17
2:18-22
Матфей
9:1-8
9:9-13
9:14-17
Лука
5:17-26
5:27-32
5:33-39
Однако начиная с 9:18 Мф отходит от порядка Мк и дает эпизоды
тройной традиции в другой последовательности; естественно, Мф
добавляет к ним перикопы, имеющие параллели только у Лк, т. е.
материалы двойной традиции: согласно гипотезе двух источников, они
происходят из источника логий (Q). Здесь же встречаются перикопы, для
которых нет полноценных параллелей у других синоптиков. В научной
литературе они называются особым материалом, в нашем случае это
особый материал Мф. Проследим за перикопами Мф оттуда, где он
покидает последовательность Мк, и до того места, где он снова
возвращается к ней, а также за синоптическими параллелями к этим перикопам.
Матфей
9:18-26
9:27-31
9:32 слл
9:35-38
10:1-16
10:17-25
Содержание перикопы
Дочь старейшины
синагоги и женщина
с кровотечением
Исцеление двух слепых17
Исцеление немого
бесноватого18
Логия «жатва велика,
а работников мало»
Напутствие двенадцати
апостолам: перечень
апостолов и миссионерские
наставления19
Продолжение напутствия:
о будущих гонениях20
Марк
5:21-43
.—
6:7
3:13-19
6:8-11
13:9-13
Лука
8:40-56
11:14 ел
10:2
9:1
6:12-16
9:2-5
10:1-12
12:11 ел
6:40
21:12-19
399
Остальная часть напутственной речи (Мф 10:26—42) имеет очень
близкие параллели у Л к. Материалы Мф 11: вопрос Иоанна
Крестителя и ответ Иисуса, свидетельство Иисуса об Иоанне, благодарственная
молитва Иисуса Отцу, — тоже имеются у Лк, но в другой
последовательности. Источником всех этих текстов, не имеющих параллелей у Мк,
принято считать Q. К особому материалу Мф относится 11:28 слл, ло-
гия «Придите ко мне... и я успокою вас».
Затем Мф возвращается к последовательности Мк и Лк.
Тройная традиция
в последовательности
Марка
Спор о срывании
колосьев в субботу
Исцеление сухорукого
в субботу
Призвание Двенадцати21
Марк
2:23-28
3:1-6
3:13-19
Матфей
12:1-8
12:9-14
10:1-4
Лука
6:1-5
6:6-11
6:12-16
Далее Мф продолжает давать материалы тройной традиции в
последовательности Мк, а Лк отходит от нее и включает «проповедь на
равнине», параллельную Нагорной проповеди у Мф, и другие тексты,
имеющие параллели у Мф, в частности исцеление слуги центуриона,
вопрос об отношениях между Иоанном и Иисусом (гл. 7). В гл. 8 Лк
возвращается к последовательности Мк, начиная с притчи о сеятеле, что
соответствует гл. 4 у Мк. «Пропущенные» материалы тройной
традиции, находящиеся у Мк в гл. 3, Лк включает в других местах.
Гипотеза двух источников была сформулирована в 1838 г.
Христианом Германом Вайсе в двухтомном труде «Евангельская история в
критическом и философском освещении»22, и независимо от него
первенство Марка отстаивалось в книге Христиана Готлоба Вильке «Праеван-
гелист», опубликованной в том же году23.
В последней трети XIX в. наиболее авторитетной работой,
аргументированно излагавшей гипотезу двух источников, была книга Генриха
Юлиуса Хольцмана «Синоптические евангелия: их происхождение и их
исторический характер», опубликованная в 1863 г.24 В этой работе Холь-
цман доказывал, что Мф и Лк использовали общий источник логий (он
называл его «Ламбда») и некий текст, близкий к нашему Мк и ставший
основой этого евангелия (по Хольцману, источник «Альфа»).
Допущение такого рода принято называть «гипотезой Протомарка», и об этом
мы еще будем говорить. «Протомарк» Хольцмана отличается от многих
других разновидностей этой гипотезы тем, что, по Хольцману, автор
канонического Мк сократил источник «Альфа», удалив из него речи
Иисуса. Более поздние сторонники «Протомарка» чаще стремились до-
400
казать, что автор Мк, напротив, несколько дополнил свой источник, т.е.
«Протомарка» (впрочем, см. ниже обсуждение гипотезы В. Шмитхальса).
Результаты изучения литературных связей между синоптическими
евангелиями в XIX в. были изложены Паулем Вернле в книге
«Синоптическая проблема»25. В ней гипотеза двух источников приобрела
«стандартный» вид самоочевидной предпосылки для дальнейших исследований.
Надо помнить, что от исследования синоптической проблемы
непосредственно зависело изучение двух других тем: истории начального
христианства и жизни Иисуса. Понятно, что эти темы были центром
страстной идейной борьбы, так что история литературного анализа
евангелий лишь отчасти (а именно в том, что касается разработки
критического метода работы с источниками) напоминает споры вокруг
«гомеровского вопроса» или анализ «Истории» Ливия, проделанный Б.
Нибуром, который показал неисторический, «фольклорный» характер
того, что было принято считать ранними пластами истории Рима. Как
задиристо заметил в свое время Д.Ф. Штраус, «когда пишут о
властителях Ниневии или о фараонах египетских, то можно руководствоваться
только историческим интересом; но христианство настолько живая
сила, а вопрос о его началах заключает столь важные последствия для
самого непосредственного настоящего, что следовало бы жалеть о
тупоумии критиков, которые стремятся найти в этих вопросах чисто
исторический интерес»26. В начале XX в. Альберт Швейцер написал:
«Историческое исследование жизни Иисуса исходило не из исторического
интереса; напротив, оно обратилось к Иисусу истории как к
помощнику в борьбе за освобождение от догмы»27.
Знакомство с историей исследования синоптической проблемы дает
основания заключить, что в середине XIX в. гипотеза двух источников
стала побеждать не только из-за своей убедительности. Это значит, что
она утвердилась не только потому, что предлагала более связную и
всеобъемлющую по сравнению с другими гипотезами интерпретацию
фактических данных и в наибольшей мере избегала запрещенного
принципом «бритвы Оккама» постулирования «скрытых сущностей», т.е.
обходилась допущением всего лишь одного гипотетического источника Q.
Успех гипотезы двух источников во второй половине XIX в.
отчасти объясняется мировоззренческими причинами. Мк в роли первого и
потому наиболее близкого к историческим фактам евангелия давал как
умеренной апологетике, так и внутрихристианской критике «лучшего»
Иисуса, чем Мф: у Мк не было ни легендарной предыстории,
включающей непорочное зачатие, ни явлений Воскресшего28, ни «власти
ключей», ни длинных монологов Иисуса, которые в их нынешнем виде не
могут претендовать на подлинность. «Простой и подлинный» Иисус у
Мк мог, казалось, противостоять сокрушительному панмифологизму
Д. Штрауса, «подрывающему всякую веру». В частности, все эти
соображения присутствуют в книге Хр. Вайсе, который предпринял первую
в науке попытку подробного обоснования гипотезы двух источников
именно в полемике со Штраусом. Приоритет Мк позволял продолжить
исследование жизни Иисуса (или «евангельской истории») с надеждой
на хорошие результаты. В то же время для либеральной экзегезы
«недогматический» Иисус Мк был лучшим «помощником в борьбе за ос-
26 Заказ 257 401
вобождение от догмы», чем основывающий Церковь как новый
Израиль, насквозь клерикальный Иисус Мф. Недаром Д. Штраус и в работах
1860-х годов отстаивал первенство Мф от «наших молодых и старых львов
Марка»: он видел апологетическую тенденцию этой гипотезы, а также ее
слабые места, заставлявшие многих ее сторонников постулировать «Про-
томарка», т.е. предполагать, что источником тройной традиции у
синоптиков был не наш Мк, а более ранний вариант этого текста.
г. Мк и Q как источники. Вопрос об источниках Ин
Дело в том, что гипотеза двух источников, как она была
сформулирована выше, не может, конечно, объяснить все сближения и расхождения
между текстами первых трех евангелий. У Мф, как мы уже знаем, есть
особые материалы; еще больше таких материалов у Лк. Наличие этих
материалов позволяет некоторым исследователям постулировать
дополнительные источники (устные или письменные) для двух «больших»
синоптических евангелий. Наконец, особые материалы, т.е. тексты, не
вошедшие ни в Мф, ни в Лк, есть и у Мк. Я назову те из них, для
пропуска которых, по моему мнению, не было предложено убедительных
объяснений: Мк 4:26—29 (притча о семени, растущем само по себе), Мк
9:48 (логия об огне, не гаснущем в месте вечных мучений); 14:51сл
(упоминание о юноше, следовавшем за Иисусом после его ареста и
бежавшем нагишом, когда его попытались схватить). А при изучении
материалов тройной традиции (т. е., по гипотезе двух источников,
материалов Мк) в составе Мф и Лк было замечено, что в ряде текстов оба
больших евангелия дают одинаковый вариант чтения, отклоняющийся
от соответствующего текста у Мк. Эти случаи согласования Мф и Лк
против Мк (так называемые «minor agreements») стали в 60—70-х годах XX
в. одним из главных доводов в пользу пересмотра классического
варианта гипотезы двух источников.
Яркий пример этого явления дает сравнение Мк 14:65 с
параллельными местами Мф 26:68 и Лк 22:64. У Мк, согласно варианту чтения,
предлагаемому наиболее авторитетными рукописями, участники
избиения Иисуса «закрыли ему лицо» и сопровождали удары глумливыми
словами: «Прореки!» В параллельных местах у Мф и Лк читаем:
«Прореки, кто ударил тебя!». Кюммель (с. 36) объясняет этот и некоторые
другие случаи согласования Мф и Лк против Мк влиянием устной
традиции. Что касается других примеров этого явления, то сторонники
нашего Мк как источника для Мф и Лк считают, что в большинстве
своем случаи согласования против Мк в общем материале — это
«грамматические и стилистические улучшения текста Мк» (Кюммель, с. 36),
так что «совпадения оказываются либо неизбежными, либо легко
объяснимыми» (там же). Речь идет о том, что Мф и Лк в качестве
редакторов заменяли настоящее время, которое Мк использует как
повествовательную форму, на аорист того же глагола, вводили причастные
конструкции вместо характерного для Мк семитического паратаксиса: союз
+ личная форма глагола. У Мк эта конструкция очень часто открывает
перикопу и далее применяется для развития повествования (о синтак-
402
сисе Мк см. с. 196—208). Некоторые совпадения могут быть результатом
уподобления текстов Мф и Лк при переписывании синоптических
евангелий. Такая гармонизация параллельных мест в рукописной
традиции хорошо известна текстологам. В нашем примере — Мк 14:65 —
чтение «кто ударил тебя» появляется, под влиянием параллельных мест,
и во многих сравнительно поздних рукописях Мк.
Наблюдения о согласовании Мф и Лк против Мк использовались
при новых попытках обосновать приоритет Мф, но чаще — для
подтверждения гипотезы Протомарка. Другие важнейшие аргументы в пользу
Протомарка - наличие у Мк «особого материала» и «большой пробел
Лк», т.е. отсутствие в евангелии Лк материалов, параллельных Мк 6:45
- 8:26.
Я думаю, что гипотеза Протомарка порождает больше трудностей,
чем разрешает. При попытке объяснить названные явления с помощью
этой гипотезы приходится постулировать по крайней мере два
«протомарка»: в одном из них (источнике Мф) будут отсутствовать особые
материалы Мк и другие тексты Мк, не вошедшие в евангелие Матфея,
например Мк 12:41—44, в другом (источнике Лк) должны отсутствовать
особые материалы Мк и Мк 6:45—8:26. Понятно, что «умножение
сущностей» на этом может не остановиться. Не углубляясь пока в
проблему источников Мк29, заметим, что допущение, согласно которому в
основе нашего Мк лежит другой документ, близкий к нему по составу и
композиции, противоречит тому представлению о целостности этого
литературного памятника, которое утвердилось в науке в результате
исследований последних десятилетий.
Поэтому в ответ на сомнения 60—70-х годов многие сторонники
гипотезы двух источников предпочитают считать источником Мф и Лк
дошедший до нас текст Мк, хотя и в литературе 80-х годов предлагались
новые варианты гипотезы Протомарка. Так, Вальтер Шмитхальс
считает, что в основе Мк лежит больший по объему «исходный документ»
(Grundschrift), который «начинался выступлением Иоанна Крестителя
и заканчивался повествованием о Страстях и Воскресении»
(Шмитхальс, с. 410). По мнению Шмитхальса, Лука знал не только Мк, но и
этот «исходный документ» и взял из него некоторые свои особые
материалы, в частности Лк 5:1-11; 7:36—47 (см. Шмитхальс, с. 366, 368, 410
слл), но широкого признания эта идея не нашла.
Новейшие попытки оживить гипотезу Грисбаха30 не привели к
положительным результатам. Сторонники приоритета Мф справедливо
указывали, что аргумент от последовательности сам по себе еще не
доказывает первенства Мк. Однако детальные исследования Мф и Лк
позволяют убедительно объяснить, какими соображениями могли
руководствоваться авторы этих евангелий при переработке (сокращении,
расширении и стилистическом редактировании) отдельных перикоп
Мк, при изменении последовательности Мк и даже при пропуске
материалов Мк. Такого рода объяснения выдвигаются не ad hoc, они
хорошо согласуются с (имеющими смысл независимо от гипотезы двух
источников) современными представлениями о композиционной
технике этих двух евангелистов и об их теологических целях. Напротив,
никто не сумел убедительно объяснить, какими мотивами мог бы руко-
26* 403
водствоваться автор Мк при сокращении Мф и/или Лк, а также Лк при
переработке Мф (либо наоборот).
Что касается Q, то в пользу существования такого письменного
источника на греческом языке свидетельствуют не только вербальные
совпадения между материалами, общими для Мф и Лк, но и частичное
совпадение последовательности этих материалов. Например,
композиционная близость обнаруживается между параллельными материалами
Нагорной проповеди в Мф 5—7 и Проповеди на равнине в Лк 6.
Попытки истолковать литературную связь между материалами двойной
традиции как зависимость Лк от Мф оказались неубедительными, так как
различия между греческими текстами этих евангелий трудно объяснить
как результат того, что автор Лк использовал, внося редакторские
изменения, известный нам текст Мф. (Принято считать, что Мф немного
старше Лк.) Напротив того, гипотеза, согласно которой Мф и Лк
независимо друг от друга использовали общий источник, наилучшим
образом объясняет фактические данные31.
На каком языке был написан тот текст Q, которым пользовались Мф
и Лк? Естественно, не раз выдвигалась «арамейская» гипотеза, но она не
позволяет убедительно объяснить наличные расхождения между Мф и Лк
внутри материалов двойной традиции. Эти расхождения гораздо лучше
объясняются с помощью допущения, согласно которому Мф и Л к
использовали разные изводы греческого текста Q (но не разные переводы с
арамейского), а главное — по-разному редактировали текст этого источника.
Здесь у исследователя есть достаточно надежное основание: мы можем
проследить за тем, как Мф и Лк использовали текст Мк.
Согласно другому предположению, первая редакция источника
логий была записана по-арамейски, а затем переведена на греческий. На
мой взгляд, это предположение (как и другие гипотезы относительно
письменных арамейских источников для канонических евангелий) оста-
ется чисто спекулятивным, так как наши греческие тексты не
позволяют обосновать ее. Популярные в первой половине XX в. наблюдения
над «неправильными переводами» с арамейского на греческий в Q
(«mistranslations») были столь произвольными, а выводы из них — столь
предвзятыми, что в итоге эти «mistranslations» окончательно
скомпрометировали идею арамейских письменных оригиналов для текстов
синоптической традиции. Предполагаемые арамеизмы проще и
методически последовательнее объясняются как результат влияния на
синоптическую традицию «семитизированного» варианта греческого языка,
представленного, в частности, Септуагинтой (подробнее на эту тему см.
в разделе о языке Мк).
Сопоставление последовательности материалов двойной традиции
позволяет предположить, что источник логий начинался с речей
Иоанна Крестителя и заканчивался предсказаниями Иисуса о парусии
(παρουσία — здесь «пришествие в славе») Сына человеческого. Однако
не следует отождествлять объем Q как реконструируемого
литературного памятника с объемом двойной традиции. Мы видели, что Мф и Лк
использовали текст Мк по-разному. Вероятно, дело обстояло так же и
при их работе с источником логий. Поэтому можно предположить, что
часть особых материалов Мф и Лк тоже почерпнута из Q.
404
Как известно, автор Мф перерабатывал все свои источники по жан-
рово-тематическому признаку и собирал материал в большие блоки. У
Лк, напротив, материал двойной традиции представлен в более
компактном виде. Значит, последовательность логий Q у Лк могла
сохраниться лучше, чем у Мф. Поэтому при реконструкции текста Q за основу
обычно берется порядок этих логий у Лк.
Важнейшая особенность Q, на основании которой часть
исследователей пыталась раскрыть теологическую специфику этого документа, —
отсутствие в нем повествования о Страстях и рассказов о явлениях
воскресшего Иисуса32.
Если источник логий действительно существовал как отдельное
письменное произведение, то возникает вопрос о его литературном
характере, о его жанровой форме: ведь жанр нельзя придумать, он не
возникает ex nihilo. В случае с Q на этот вопрос, похоже, можно дать
вполне ясный ответ. Источник логий, по всей вероятности, относился к
известному в литературах древности жанру «речений мудрых». Пример
такого жанра — собрания изречений в книге «Притчи Соломона». За
пределами еврейской литературы этот жанр представлен евангелием
Фомы и подборками изречений греческих философов.
Таким образом, источник логий был книгой, претендовавшей на
передачу учения Иисуса, и внеканоническим произведением,
предшествовавшим тем текстам, что попали в канон НЗ. Однако до сих пор не
сложилось общего мнения о месте и времени создания этого
памятника, а также о его авторстве, точнее, об общине, в которой он возник и
которая пользовалась им. Ответы на эти вопросы зависят в первую
очередь от того, как реконструируется текст Q, но любая реконструкция с
необходимостью остается в области гипотетического.
Проблематичность исследований, связанных с Q, заключается в
следующем. Вероятность того, что текст такого рода действительно
существовал, очень велика, так что специалисты в большинстве своем
склонны считать, что речь должна идти о доказанном факте. Как мы
видели, письменный «источник логий» — это лучшая из гипотез,
объясняющих происхождение двойной традиции Мф и Лк. Таким образом,
гипотеза Q хороша для ответа на вопросы, возникающие при изучении
синопсиса трех евангелий. Но как только от решения синоптической
проблемы мы переходим к новым вопросам, возникающим из-за
допущения бытия Q, твердая почва уходит у нас из-под ног. Если этот
документ и в самом деле был впервые написан по-гречески, то он едва ли
мог принадлежать еврейским группам сторонников Иисуса в
Иерусалиме и Иудее: есть основания допускать высокую степень эллинизации
всего палестинского еврейства в ту эпоху, но нам неизвестны
литературные тексты, написанные в то время евреями Палестины
по-гречески. Но если так, то можно ли считать Q документом христианской
миссии для языческого мира? И если Q был написан по-гречески, то
каково происхождение сохраненной в нем традиции? Вероятно, на все
исторические вопросы, которые естественно задать по поводу Q как
реального литературного памятника, никогда не будут даны
удовлетворительные ответы.
Сопоставление трех евангелий показывает, что в Мк и Q имеются
405
тематически близкие тексты: проповедь Иоанна Крестителя (Мк 1:7 ел;
ср. Мф 3:7—10, Лк 3:7 елл), искушение Иисуса (Мк 1:12 ел; ср. Мф 4:1-
11, Л к 4:1 — 13), напутствие Иисуса апостолам (Мк 6:7—11; ср. Мф 10:7—
16, Лк 10:3—12) и др. В двойной традиции, т.е. у Мф и Л к, объем
материалов на эти темы значительно больше, чем у Мк. Возникает вопрос:
существует ли прямая литературная связь между Мк и Q, т.е. зависит ли
один из этих текстов непосредственно от другого? Для ответа на этот
вопрос надо знать, когда были написаны эти два текста.
Мы знаем, что первохристианские общины вскоре после своего
возникновения стали собирать «слова Господа». Это доказывают ссылки на
них в подлинных посланиях Павла, датируемых 50-ми годами (см. 1
Фес 4:15 елл; 1 Кор 7:10 ел; 9:14; 11:23 слл). Мк был написан, по
наиболее распространенному мнению, около 70 года. Таким образом, Q
может оказаться старше Марка. Однако мы слишком мало знаем о
первых собраниях логий Иисуса, чтобы судить об/их соотношении с Q. Мы
также не можем сказать ничего определенного об этапах
литературного развития Q, о предшествующих и последующих слоях его текста, т. е.
о возможном разрастании этого сборника слов Иисуса до того времени,
когда он стал одним из источников для Мф и Лк.
Есть основания считать, что Мк тоже использовал какое-то
собрание логий Иисуса, некоторые из которых входили и в Q. Однако здесь
исследование источников теряет надежное основание из-за недостатка
фактических данных. Поэтому наиболее достоверным остается
предположение, согласно которому Мк (или составитель использованного
Марком собрания слов Иисуса) и Q независимо друг от друга брали
близкие по содержанию материалы из общего устного предания.
Кроме того, не вызывает сомнений, что повествование о Страстях
(Мк 14—15) было доступно евангелисту Марку в готовом (возможно,
письменном) виде, хотя он и переработал это повествование.
Анализ синопсиса четырех евангелий позволяет предположить, что
какая-то редакция этого же повествования о Страстях стала одним из
источников евангелия Иоанна. Ин скорее всего пользовался этим
текстом в письменном виде, но не в составе Мк (см. Кестер, с. 49.). По
формальным признакам повествование о Страстях следует отнести к
«актам (т. е. литературно обработанным судебным протоколам)
мучеников» — жанру, известному в эллинистической литературе I—II вв. н.э. и
имеющему параллели в еврейской письменности33. Широкое
признание нашло также мнение Р. Бультмана, согласно которому Ин
использовал так называемый источник (или книгу) знаков, т. е. письменное
собрание рассказов о чудесах. Жанровое определение этого текста — аре-
талогия, т. е. сборник рассказов о деяниях «божественного мужа»34.
Хельмут Кестер считает, что этот сборник был еще одним (кроме
повествования о Страстях в разных редакциях) общим источником для Мк
и Ин: «Содержание и последовательность нескольких рассказов о
чудесах у Мк и Ин обнаруживают общность, которая дает основания
заключить, что их источниками в этих евангелиях были разные варианты
одного и того же литературного собрания. Иисус предстает здесь как
целитель, наделенный чудесными силами и облеченный властью
повелевать стихиями (см. повествования о хождении Иисуса по воде и о на-
406
%
сыщении толп)» (Кестер, с. 47). Бультман полагал, что у Ин был и
третий письменный источник — гностическое собрание речей Иисуса,
содержащих откровение (Offenbahrungsreden)45, но сейчас исследователи
евангелия Иоанна в большинстве своем отвергают эту идею.
Оценивая старые и новые опыты по установлению письменных
источников канонических евангелий, мы приходим к следующим
выводам. Источниковедческая (или литературно-критическая) разработка
синоптической проблемы в основном закончилась утверждением
гипотезы двух источников. Попытки продвинуться в литературном анализе
на шаг дальше и реконструировать, исходя из наличного материала
синоптической традиции, тексты еще более ранних литературных
источников первых трех евангелий не дали надежных результатов. Даже до-
марковская редакция текста повествования о Страстях не может быть
восстановлена с той степенью точности и достоверности, которая
доступна при реконструкции текста Q. То же относится и к датировке
древнейшего письменного повествования о смерти Иисуса; с
уверенностью можно сказать лишь следующее: terminus post quem для
повествования о страстях — смерть Иисуса (ок. 30 г.), terminus ante quem —
создание Мк (ок. 70 г.)36.
Что касается евангелия Иоанна, то для него постулируются два-три
письменных источника, но их тексты не поддаются сколько-нибудь
надежному вычленению.
Можно считать, что на этом разрешающая способность
литературно-критического метода реконструкции источников оказалась
исчерпанной. Новые возможности для поисков источников (в том числе,
возможно, и письменных) канонических евангелий предоставил метод
анализа форм.
Примечания
1 «Перикопа» (от греч. περι-κοπή — «обрубание [по краям]», «обрубленный
кусок») — здесь фрагмент евангельского текста, содержащий один
повествовательный эпизод, притчу, более или менее завершенную часть проповеди и т. п.
Текст евангелий (и других книг НЗ) был разделен на перикопы в
литургических целях. Для обозначения церковных евангельских и апостольских чтений
термин «перикопа» применяется в лютеранской церкви с XVI в. Оттуда он
вошел в обиход библеистики.
2 В исследовательских и учебных целях обычно используется греческий
«Synopsis quattuor evangeliorum», изданный Куртом Аландом, крупнейшим
немецким исследователем текста Нового Завета (13. Aufl. Stuttgart, 1985). Для
сравнения первых трех евангелий наиболее удобен синопсис, впервые
составленный Альбертом Хуком: Huck Α. Synopse der drei ersten Evangelien. 11. Aufl.
Unveränderter Nachdruck der 10. Aufl. der unter Mitwirkung von Lie. H.G. Opitz,
von H. Lietzmann völlig neu bearbeiteten 9. Aufl. Tübingen, 1970.
3 Lessing G.E. Theses aus der Kirchengeschichte (1776). — Sechs theologische
Schriften Gotthold Ephraim Lessings. Hrsg. von W. Gericke. В., 1985, с. 83-89; он
же. Neue Hypothese über die Evangelisten als bloss menschliche Geschichtsschreiber
betrachtet (1778). - Lessings Werke. Hrsg. von K.Woelfel. 3. Bd. Frankfurt а. M.,
1967, с 387-406.
4 Как известно, церковные писатели первых веков христианства упоминают о
евангелиях, которые сейчас принято называть «иудеохристианскими»: это еван-
407
гелие назареев, евангелие эбионитов и евангелие евреев. До нас дошли лишь
цитаты из них, содержащиеся по большей части в трудах Иеронима, Евсевия,
Эпифания, Оригена и Климента Александрийского. Лессинг отождествляет
гипотетическое арамейское протоевангелие с евангелием назареев.
5 Herder J.G. Von Gottes Sohn, der Welt Heiland. Nach Johannes Evangelium. Regel der
Zusammenstimmung unserer Evangelien aus ihrer Entstehung und Ordnung. Riga, 1797.
6 См.: Gieseler J.C.L. Historisch-kritischer Versuch über die Entstehung und die
frühesten Schicksale der schriftlichen Evangelien. Lpz., 1818.
7 Schleiermacher F.D.E. Über die Schriften des Lucas, ein kritischer Versuch. -
Sämmtliche Werke. 1. Abt.: Zur Theologie. 2. Bd. В., 1836.
н Там же, с. 219.
9 Schleiermacher F.D.E. Einleitung ins neue Testament. — Sämmtliche Werke. 1. Abt.:
Zur Theologie. 8. Bd. Aus Schleiermachers handschriftlichem Nachlass u.
nachgeschriebenen Vorlesungen hrsg. von G.Wolde. В., 1845 (см. с. 217—233).
10 Griesbach J.J. Commentatio qua Marci Evangelium totum e Matthaei et Lucae
commentariis decerptum esse monstratur. Jena, 1789.
11 У Лк нет большого комплекса Мк 6:45 — 8:26 (так называемый «большой
пробел» Лк), где ряд повествований объединен мотивом странствований Иисуса в
окрестностях моря Галилейского, а Мф включает 90 процентов материалов Мк.
12 Baur F.Ch. Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr
Verhältnis zu einander, ihren Charakter und Ursprung. Tübingen, 1847.
13 Греческое слово λόγιον значит «изречение».
14 Schleiermacher F.D.Ε. Über die Zeugnisse des Papias von unsern beiden ersten
Evangelien. -Theologische Studien und Kritiken. Jg. 5. Hamburg, 1832, c. 735-768.
15 Есть основания считать, что разговорным языком палестинских евреев в
эпоху Второго Храма был арамейский. Папий же хотел сказать, что Матфей
составил «логии» на своем родном семитском языке, а не на греческом, т. е. под
«еврейским» здесь можно понимать арамейский.
16 Lachmann С. De ordine narrationum in evangeliis synopticis. — Theologische
Studien und Kritiken. Jg. 8. Hamburg, 1835, с 570-590.
17 У Мф есть еще одно исцеление двух слепых: 20:29—34. Сравнение текстов
синоптиков показывает, что именно этот текст принадлежит тройной традиции,
ср. Мк 10:46—52 (исцеление слепого по имени Бар-Тимай) и Лк 18:35—43
(исцеление слепого). Во всех трех текстах действие происходит у Иерихона;
толпа пытается «запретить» слепым обратиться к «сыну Давида»; исцеленные
следуют за Иисусом. Текст Мф 9:27—31 написан по образцу Мк 10:46—52 пар., а его
конец содержательно и вербально напоминает последние стихи в эпизоде
очищения прокаженного Мк 1:40-45. Перед нами повтор эпизода внутри одного
евангелия; такие тексты принято называть дублетами. Наличие дублетов часто
истолковывается как указание на то, что евангелист пользовался разными
источниками, содержавшими близкие материалы.
п К этому тексту есть дублет: Мф 12:22.
19 Указатель мест, параллельных этой части напутственной речи у Мф,
свидетельствует, что материалы, собранные у Мф в одной части его книги, у Мк и Лк даны
в нескольких местах: сначала список Двенадцати и гораздо позже — напутственная
речь. Анализ параллельных мест позволяет предположить, что напутственная речь
содержалась и в Q. На это, среди прочего, указывает то, что отсутствующая у Мк
логия «Вот, я посылаю вас как овец/ягнят посреди волков» почти дословно
совпадает у Мф и Лк (Мф 10:16 и Лк 10:3). Отметим также дублет у Лк: напутствие 72
апостолам (10:1 — 12), по главным темам и вербально близкое к напутствию
Двенадцати (9:1—6). Возможно, что одно напутствие Лк взял из Мк, а другое — из Q.
Именно таково происхождение многих дублетов у Мф и Лк.
20 Мф собрал здесь логии, которые Лк включил в разные речи Иисуса, в том
числе в апокалиптическую речь (гл. 21). Мк использовал некоторые из этих ло-
408
гий в своем «малом апокалипсисе» (гл. 13). Можно предположить, что
некоторые материалы, собранные в этом разделе Мф и имеющие параллели у Мк,
содержались также и в Q. В апокалиптической речи Иисуса у Мф (гл. 24)
повторяется одна логия, присутствующая в этой части Мф (10:22) и имеющая
параллель в Мк.
21 Мф здесь ненадолго отклоняется от последовательности Мк.
22 Weisse Ch.H. Die evangelische Geschichte kritisch und philosophisch betrachtet. Bd.
1-2. Lpz., 1838.
23 Wilke Ch.G. Der Urevangelist oder exegetisch-kritische Untersuchung über das
Verwandtschaftsverhältnis der drei ersten Evangelien. Dresden-Leipzig, 1838.
24 Holzmann HJ. Die synoptischen Evangelien. Ihr Ursprung und ihr geschichtlicher
Charakter. Lpz., 1863.
ъ Wernle P. Die synoptische Frage. Leipzig-Tübingen, 1899.
2Ь См.: Штраус Д.Φ. Жизнь Иисуса. Полный перевод М. Синявского. Под ред.
Н.М. Никольского. Т. 1—2. СПб., 1907, с. 3. (В оригинале: Strauss D. Das Leben
Jesu für das deutsche Volk bearbeitet. Lpz., 1864, c. XIII.)
27 Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. München, 1966, с 47.
28 Мк 16:9-20 (текст, в котором рассказывается о явлениях Воскресшего Марии
Магдалине, двум ученикам, затем о его явлении Одиннадцати и о
благословении их на вселенскую проповедь, наконец, о вознесении Иисуса) отсутствует
в двух важнейших греческих унциалах IV в., в Синайском и Ватиканском
кодексах, где Мк кончается стихом 16:8; таков же конец Мк в ряде древних
переводов и в греческих списках, которыми пользовались Евсевий и Иероним.
Содержательно текст Мк 16:9—20 зависит от Мф и Лк. К середине XIX в. уже
никто из специалистов по текстологии НЗ не считал, что Мк 16:9—20
первоначально был частью этого евангелия. Сейчас многие экзегеты исходят из того,
что первоначальный текст Мк заканчивается стихом 16:8.
29 См. об этом в гл. 7.
30 См.: Furnish V.P. Griesbach hypothesis. — The interpreter's dictionary of the Bible.
Supplementary volume. Ed. by K.Crim. Nashville, 1976, c. 381; Neirynck F. Synoptic
problem. — Там же, с. 845—848.
-1 См.: Tuckett СМ. Q (Gospel source). — The Ancor Bible dictionary. Ed. D.N,
Freedman. Vol. 5. N.Y., 1992. с 567-572.
32 См.: Mack B.L. The lost Gospel. The book of Q and Christian origins. San
Francisco, 1993. Автор излагает историю исследования Q, дает обзор важнейшей
литературы последних десятилетий, предлагает свою реконструкцию этого
памятника и выдвигает собственную гипотезу о его месте в истории христианских
истоков.
33 См.: Dormeyer D. Die Passion Jesu als Verhaltensmodell. Literarische und
theologische Analyse der Traditions- und Redaktionsgeschichte der Markuspassion.
Münster, 1974, с 43—47. См. также издание греческого оригинала «Актов
александрийцев»: Acta Alexandrinorum. De mortibus Alexandriae nobilium fragmenta
papyracea Graeca. Ed. Herbert Musurillo. Lipsiae, 1961.
34 См. об этом в гл. 6.
35 Bultmann R. Johannesevangelium. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart.
3. Aufl. Hrsg. von K.Galling et al. Bd. 3. Tübingen, 1959, стб. 840-850.
36 Из новой литературы на эту тему см.: Reinhold W. Der älteste Bericht über den
Tod Jesu. Literarische Analyse und historische Kritik der Passionsdarstellung der
Evangelien. В., N.Y., 1994. Автор сопоставляет истории Страстей в
канонических евангелиях (повествование о Страстях в евангелии Петра зависит, по его
мнению, от будущих канонических евангелий) и затем дает собственную
реконструкцию древнейшего повествования о смерти Иисуса. Из анализа В. Раин-
больда следует, что в истории Страстей у Ин переработан письменный
документ, но «Иоанн не использовал синоптиков как источники» (с. 41).
409
Глава 6
Устная традиция как источник канонических евангелий.
Метод анализа форм
а. Истоки метода
Итак, в последней трети XIX в. исследователи НЗ исходили из того, что
они обладают двумя древними текстами — Мк и Q, которые можно
считать относительно надежными источниками для реконструкции
последовательности событий в жизни Иисуса, для изучения развития его
личности (вопрос о возникновении и эволюции «мессианского
самосознания» Иисуса) и для выяснения содержания его учения. Большое
значение придавалось тому обстоятельству, что источник логий мог
быть достаточно ранним документом, т. е. составленным до взятия
Иерусалима Титом и разрушения Храма в 70 г. н. э. При допущении
гипотезы Протомарка возникала возможность ранней (до 70 г.)
датировки также и большей части текста канонического Мк.
Следует иметь в виду, что разрушение Иерусалима и уничтожение
многих еврейских институтов стало не только важнейшим рубежом в
еврейской истории (а именно началом эпохи формативного иудаизма),
но и существенной вехой для возникавшего христианства: упадок
палестинского еврейства способствовал усилению эллинистических христи-
анскихобщин и победе греческого христианства над палестинским
еврейским протохристианством. Начавшиеся после поражения Великого
восстания жестокие гонения римлян против евреев, включавшие запрет
на соблюдение Торы, способствовали окончательному оформлению
христианской Церкви как институции, находившейся за пределами
еврейства. Поэтому для историка первоначального христианства столь
важна датировка документов относительно этого события.
В конце XIX в. исследователи НЗ полагали, что чем меньше
времени прошло между событием и созданием текста, описывающего это
событие, тем больше историческая ценность этого текста, т.е. его
ценность как источника сведений об этих событиях. Однако уже в первые
годы XX в. применимость такой предпосылки к евангелиям была
поставлена под вопрос. Тем самым были поколеблены и надежды,
возлагавшиеся в ходе «поисков исторического Иисуса» на гипотезу двух
источников.
Представитель школы истории религий Вильям Вреде (1859-1906)
опубликовал в 1901 г. книгу «Мессианская тайна в евангелиях и
истолкование евангелия Марка». В этой книге, которую один из создателей
метода анализа форм, Рудольф Бультман, охарактеризовал в 1925 г. как
«самую важную работу предшествующего поколения по исследованию
евангелий»1, было показано, что Мк нельзя считать историческим
свидетельством об Иисусе, — ни о его жизни, ни о его мессианском
самосознании, ни о его учении. Как это формулирует сам Вреде, «евангелие
Марка относится к истории [христианской] догматики»2, а не к истории
Иисуса из Назарета. Книга Вреде, углубляя «радикальную критику»
410
Д.Ф.Штрауса, привела к тому, что изменилось само понимание
функции повествования у Μ к.
Подробно анализируя Мк, Вреде доказывает, что сквозные мотивы
этого текста — мессианская тайна Иисуса и непонимание Двенадцатью
личности, учения и деятельности Иисуса, — впервые возникли в
традиции не как воспоминания о фактах прошлого, а как элементы
создаваемой в общине христологии. Следовательно, Марка, древнейшее из
евангелий, надо изучать как источник сведений о вере ранних
эллинистических общин, и лишь исходя из результатов такого исследования
можно спрашивать о том, позволяет ли историку характер этого
документа проникнуть дальше и использовать Мк как источник сведений об
Иисусе из Назарета, т. е. об эпохе, которая на профессиональном
языке протестантских теологов называется «допасхальным временем». Что
же касается Марка как писателя, то, согласно выводу Вреде, он «уже не
имел никакого реального представления о жизни Иисуса»3.
Полемический пафос книги Вреде заключался в доказательстве того,
что «обычный критический взгляд [исследователей жизни Иисуса]
привносит идею развития в повествование Мк»4, а на самом деле
евангелист вовсе не пытается проследить изменение самосознания Иисуса и
выделить разные этапы в его публичной деятельности; точно так же
Марку чужда современная идея о развитии учеников, об изменениях в
их отношении к Иисусу (например, до и после «исповедания Петра»,
8:27-30). Евангелие Мк — не психологический роман. Вреде замечает:
«Если бы исповедание Петра находилось в гл. 2 или гл. 12, если бы
предсказания Страстей были бы рассеяны по гл. 3—8 и 12—14, а сцену
Преображения мы читали бы в гл. 6, то, на мой взгляд, содержательно,
т.е. с точки зрения идеи Марка, ничего бы не изменилось»5. Вреде
показывает, как догматический мотив мессианской тайны
«перерабатывает» материалы исторической традиции об Иисусе.
В. Вреде считал μοίΑβ «мессианской тайны» — часто
встречающееся у Мк требование Иисуса к окружающим хранить молчание о его
чудесах — литературным приемом, возникшим в эллинистических
общинах при передаче традиции. По его мнению, этот прием должен был ус-
и
транить противоречие между верой эллинистического христианства в
Иисуса как в сверхъестественного Сына Божьего и ранним
палестинским преданием, которое ничего не знало о проявлениях
сверхъестественного могущества Иисуса. Идея Вреде сводилась к следующему:
представление о том, что Иисус при жизни был «тайным» Мессией —
Сыном Божьим и что этой тайне суждено было раскрыться лишь
после Воскресения (ср. Мк 9:9), позволяло общине объяснить
немессианский характер раннего предания об Иисусе.
Вклад Вреде в исследование Мк заключается прежде всего в том, что
он доказал неисторический характер мотива «мессианской тайны». Это
доказательство основано на анализе, из которого следует, что
требования хранить молчание первоначально отсутствовали в тех перикопах,
где мы теперь читаем о них. После выхода книги Вреде прошло почти
сто лет, и за это время было предложено множество других
интерпретаций смысла этого мотива, который, бесспорно, служит ключом к
пониманию теологии евангелиста Марка. Эти интерпретации в большин-
411
стве своем исходят из того, что мотив «мессианской тайны» возник в
послепасхальное время6. Однако предложенное Вильямом Вреде
объяснение того, как возникла «теория тайны», было отвергнуто в ходе
дальнейших исследований синоптической традиции. Здесь возобладало
мнение, согласно которому истоком традиции была пасхальная вера (т.
е. вера в воскресение Иисуса), подразумевающая определенную хрис-
тологию. Предание о земной жизни Иисуса возникло в результате его
отождествления с возвышенным Мессией, Господом или Сыном Бога.
Следовательно, «недогматического» (в понимании Вреде) предания об
Иисусе просто не существовало, так как не существовало допасхального
предания.
На мой взгляд, эту точку зрения можно принять только отчасти.
Как уже говорилось, в реконструируемом из материала двойной
традиции Матфея и Луки источнике логий отсутствуют упоминания о
смерти и воскресении Иисуса. Быть может, создавшая этот документ
община просто ничего не знала о воскресении и видела значение
Иисуса как раз в его учении? Интересно сравнить в этом отношении
Q с другим реконструируемым письменным источником синоптиков
— повествованием о Страстях. Даже если Мк 16:1—8 (рассказ о
пустой гробнице) не входил в этот документ, то трудно представить себе,
какой смысл повествование о смерти Иисуса имело бы для общины,
в которой этот текст возник, если бы сам этот текст не предполагал
веру в то, что Бог «оправдал» Иисуса, т. е. веру в воскресение
Иисуса или в его «возвышение» к Богу.
ш
Однако подход Вреде прокладывал путь к изучению того, как
менялась синоптическая традиция, и поэтому проделанная им работа
оказалась важной предпосылкой метода анализа форм, который занимается
состоянием традиции до ее фиксации в наших евангелиях.
К близким результатам пришел и Юлиус Велльгаузен (1844—
1918), крупнейший исследователь еврейской Библии,
опубликовавший в начале XX в. комментарии к Мк, Мф, Лк и «Введение в три
первых евангелия». Вот что он говорит о цели Марка: «Марк пишет
не о жизни и характере Иисуса (de vita et moribus Jesu), у него нет
намерения наглядно представить личность Иисуса или сделать ее
понятной. Для Марка эта личность целиком растворилась в ее
божественном призвании. Марк хочет доказать, что Иисус есть Христос»7.
В работе Велльгаузена можно выделить три идеи, которые легли в
основу метода анализа форм.
1. При анализе синоптических евангелий материалы традиции
следует отличать от результатов редакторской деятельности евангелистов.
Предшествующая составлению евангелий устная традиция состоит из
отдельных фрагментов, исходно не имевших между собой никакой связи.
2. Евангелисты, таким образом, не только внесли много изменений
в традицию, но и впервые создали повествовательную структуру
целого (это относится прежде всего к Марку, создателю жанра «евангелие»).
3. И евангелия, и их источники определены в своем содержании
верой и мировоззрением первохристианских общин.
Особая заслуга Велльгаузена заключается в том, что он применил
эти положения и к источнику логий: этот документ тоже сформирован
412
I мировоззрением общины и не дает надежных сведений об учении
! Иисуса. Более древние материалы (среди них те, что восходят к
Иисусу из Назарета) соединены в Q с текстами, возникшими в общинах уже
после гибели Иисуса.
1
]
ι
j
I
б. Расцвет метода
Таким образом, когда с концом первой мировой войны академическая
жизнь в Германии активизировалась, идеи метода анализа форм уже
«витали в воздухе». В 1919 г. появилась программная книга Мартина
Дибелиуса (1883—1947) «Анализ форм Евангелия» («Die Formgeschichte
des Evangeliums»), давшая название методу. В том же году вышла
книга Карла Людвига Шмидта (1891 — 1956) «Обрамление истории Иисуса»,
в 1921 — книга Рудольфа Бультмана (1884—1976) «История
синоптической традиции»8. Немецкий термин Formgeschichte, который в
дословном переводе значит «история форм»9, не имеет общепринятого
русского эквивалента, и весь смысл его не удается выразить одним русским
термином. Здесь я передаю его как «метод анализа форм». Термин
/b/vw-geschichte подразумевает анализ перикоп, составляющих
синоптическую традицию, с точки зрения жанровой формы этих перикоп, а
также восстановление истории синоптической традиции до ее
письменного закрепления в евангелиях. Последнее из названных направлений
исследования иногда обозначается термином «история предания»
(Uberlieferungsgeschichte, Traditionsgeschichte).
Согласно определению Р. Бультмана, задача анализа форм
применительно к евангелиям состоит в следующем: «Описать историю
переработанного в евангелиях материала традиции от внелитературных
истоков и до литературной фиксации в различных евангелиях, исходя из
того, что материал традиции первоначально существовал в виде не
связанных между собой элементов (Einzelstücke), возникновение и
историю которых можно узнать путем исследования их формы»10.
Это определение подразумевает целую программу изучения
евангелий с позиций метода анализа форм, или форманализа. Действительно,
из работ К.Л. Шмидта, М. Дибелиуса и Р. Бультмана следует, что
программа Formgeschichte включает такие задачи:
— разделение традиции и редакции, восстановление того облика
перикоп, который они имели до включения в евангелия;
— анализ формы отдельных перикоп в их дописьменном виде, т. е.
прежде всего определение их жанра;
— изучение отдельных жанров раннехристианской традиции об
Иисусе;
— попытка проследить историю материала традиции от его
возникновения и до его окончательной фиксации в евангелиях.
Эти задачи не обязательно решаются последовательно, скорее их
нужно понимать как взаимосвязанные направления исследования.
Лишь относительно первой задачи — разделения традиции и редакции
— можно сказать, что ее (пусть «черновое») решение предшествует
исследованиям по другим только что названным направлениям.
413
Проделанное уже К.Л. Шмидтом разделение традиции и редакции
привело к выводу, согласно которому «обрамление» евангельского
материала целиком принадлежит самим евангелистам. Опираясь в своем
исследовании на работы Ю. Велльгаузена, К.Л. Шмидт показывает, что
композиция («контур») Марка не имеет исторической ценности: «Мк
содержит древнейший контур истории Иисуса, но этот контур с
исторической точки зрения — точно такая же схема, как и план Иоанна».
Следовательно, «древнейшее обрамление истории Иисуса,
содержащееся в евангелии Марка, необходимо объяснить исходя из него самого»
(т. е. как результат литературной работы евангелиста). И в конце
книги К.Л. Шмидт пишет: «В целом там [в евангелиях] нет жизнеописания
Иисуса как развивающегося повествования, как хронологического
очерка истории Иисуса, а есть лишь отдельные эпизоды - перикопы,
снабженные обрамлением»11.
Таким образом, К.Л. Шмидт употребляет слово «обрамление» в двух
значениях. Во-первых, это композиция всего евангелия,
составленного из существовавших ранее в устной традиции перикоп; во-вторых, это
те литературные приемы, с помощью которых создается связное
повествование. К ним относятся введенные евангелистом в отдельные
перикопы указания на место и время, служащие для связи между перикопа-
ми, а также «редакторские» тексты, написанные евангелистом для
скрепления всей конструкции.
Р. Бультман и М. Дибелиус в своих исследованиях двигались как бы
навстречу друг другу, начиная работу с разных исходных позиций (ср.
Концельман, Линдеман, с. 74—93).
Несколько упрощая, о методе Бультмана можно сказать следующее.
Он анализировал отдельные перикопы и затем пытался обнаружить
закономерности их изменения в ходе письменной передачи: от Мк к Мф
и Лк или от той (реконструируемой) редакции, которую определенная
перикопа могла иметь в источнике логий, к Мф и Лк. Затем анализ
Бультмана распространялся и на «апокрифические» редакции
синоптического материала. Бультман полагал, что выявленные в ходе такой
работы закономерности действовали и при изменении материала традиции
прежде ее письменной фиксации. Отсюда возникает возможность делать
заключения о развитии традиции на более ранних этапах, т. е. при ее
устной передаче в протохристианских и эллинистических общинах.
М. Дибелиус начинал с противоположного конца — с
характеристики тех общин, в которых возникла традиция об Иисусе. Опираясь на
свое понимание жизни и мировоззрения этих общин, он рассматривал
материал традиции в его дописьменном виде. Далее Дибелиус
анализировал собирание и редакцию этого материала в евангелии Марка,
выявляя теологическую концепцию евангелиста. На примере истории
Страстей Дибелиус сравнил редакторскую работу авторов Мк, Мф и Лк.
Сопоставляя собственный «аналитический» метод исследования
синоптической традиции с «конструктивным» методом Дибелиуса,
Бультман заметил во втором издании «Истории синоптической традиции»:
«Важно понимать, что при работе, использующей метод анализа форм,
как и при всякой исторической работе, применяется круговая
аргументация. На основании жанровых форм литературной традиции следует
414
делать выводы относительно общинной жизни, породившей эти
формы. И наоборот, на основании общинной жизни следует добиваться
понимания жанровых форм. Нет никакого общего правила,
регулирующего чередование и соотношение этих двух процедур. Нельзя
предписать в общем виде, с чего надлежит начинать. И если М. Дибелиус при-
и
меняет «конструктивный метод», то есть реконструирует историю
синоптической традиции исходя из некоторого представления об
общине и ее потребностях, а я, наоборот, начинаю с анализа материалов
традиции, то речь идет не о взаимоисключающих, а о дополняющих и
корректирующих друг друга методиках работы»12.
в. Происхождение традиции и ее история.
«Место в жизни»
Из сказанного следует, что Formgeschichte — это прежде всего
методика анализа литературных памятников, вобравших в себя материал
устной традиции (хотя, как читатель сможет заметить, этот метод
применим и для социолингвистического анализа современных внелитератур-
ных речевых жанров — рекламы, объявления, газетной информации о
политических событиях и т. п.).
Исследователи НЗ, разработавшие метод анализа форм
применительно к евангелиям, опирались на работы Германа Гункеля (1862—
1932) о еврейской Библии, в которых он создал метод анализа жанров
(Gattungsgeschichte). Под жанровыми формами Гункель понимал не
категории классической поэтики, а скорее именно то, что М.М. Бахтин
называл «речевыми жанрами». Всякое осмысленное высказывание
соответствует определенным формальным требованиям, т. е. относится к
тому или иному речевому жанру. В еврейской Библии выделяются, в
частности, жанровые формы пословицы, правового предписания,
предсказания, благословения, сказки, притчи, а также собственно
литературные жанры — различные поэтические формы, легенда,
жизнеописание, мартирология и т.д. Отдельные тексты (в частности,
фольклорного характера), существовавшие в традиции до вхождения в книги
еврейской Библии, Г. Гункель называл «малыми единствами». Этот термин
стал применяться в новозаветной науке как синоним выражения «пери-
копа в ее долитературном виде».
По мысли исследователей устной раннехристианской традиции, она
имела «фольклорный» характер: материал воспоминаний об Иисусе
переплавлялся в «малые единства», принимавшие те жанровые формы,
что уже существовали в культуре словесного творчества раннего
иудаизма и эллинизма. Поэтому, как писал М. Дибелиус, изучение устной
традиции «может основываться лишь на предпосылке, согласно
которой форма этих малых единств содержит некоторую информацию об их
происхождении, а история долитературного предания развертывается
по определенным законам», неподвластным воле людей, фиксирующих
это предание. И далее Дибелиус замечает, что в рамках Formgeschichte
исследование «сознательно проводится с антииндивидуалистических и
социологических позиций»13.
415
У Бультмана, в отличие от Дибелиуса, прямые формулировки
социологических вопросов отсутствуют14. Однако Бультман в «Истории
синоптической традиции» предлагает более тщательный и подробный
анализ того материала, который рассматривает также и Дибелиус в
«Анализе форм Евангелия».
Итак, эти «малые единства» классифицировались по
функционально-жанровой форме: пословица, притча, рассказ о чуде, легенда и т. д.
Сам НЗ содержит указания на то, что еще до включения в евангелия
«малые единства» выполняли определенные функции в христианских
общинах, т.е. использовались в литургии, миссионерской проповеди,
катехизации, в полемике и апологетике, в моральном наставлении (па-
ренезе). Об этом свидетельствуют, в частности, послания Павла.
Следовательно, материал традиции, на которой основаны наши
евангелия, передавался на протяжении большей части устного
периода в публичном и «формализованном» контексте. А это значит, что по
форме и содержанию отдельного «малого единства» можно судить о его
социальной функции, или «месте в жизни» ранней церкви (Sitz im
Leben)15. В свою очередь, сведения о социальной функции, которую
данная перикопа выполняла в жизни общины, позволяют глубже
понять формальные и содержательные особенности «малых единств»,
входивших в устную традицию.
Как отмечает современный исследователь Генрих Циммерман,
«стремление делать выводы о литературных формах исходя из знаний
о первохристианской жизни, а по литературным формам судить о
жизни первохристианских общин не следует рассматривать как
порочный круг. В основе этих попыток лежит понимание связи между
жизнью и литературной формой: ведь любое историческое
исследование становится возможным именно благодаря существованию этой
взаимосвязи»16.
Важнейшим «местом в жизни» для многих форм доевангельской
традиции был культ, христианское богослужение. Историко-религио-
ведческое изучение культов эллинистической эпохи имеет немало
общего с историко-этнографическим изучением обряда в архаических
обществах. Поэтому работу, проделанную сторонниками форманализа,
можно сравнить с исследованиями XX в. в области этнографии и куль-
турантропологии. Исследователи архаического общества, работающие
в рамках этих дисциплин, тоже переходят от текста к его социальному
контексту, а затем обратно к тексту. Так, русский филолог В.Я. Пропп
(1895-1970) в своей классической книге «Исторические корни
волшебной сказки» основывается на предпосылке, согласно которой «сказка
сохранила следы исчезнувших форм социальной жизни... эти остатки
нужно изучить, и... такое изучение вскроет источники многих мотивов
сказки»17. По мнению Проппа, разделяемому многими современными
культурантропологами, волшебная сказка сложилась главным образом
из повествований, входивших в обряд инициации, после прохождения
которого мальчик получал статус взрослого мужчины. Как отмечает
Пропп, «если установлена связь между обрядом и сказкой, то обряд
служит объяснением соответствующего мотива в сказке... [Но] могут
быть случаи, когда сказка из объясняемого явления при ближайшем
416
изучении окажется явлением объясняющим, она может быть
источником для изучения обряда»18. Следовательно, весь анализ Проппа
построен на том, что обряд инициации (одна из разновидностей «обрядов
перехода», rites de passage) был «местом в жизни» для повествований,
которые позже — после утраты своей функции в обряде — составили
сюжет волшебной сказки. Обряд инициации в архаическом обществе
обнаруживает черты структурной близости с собственно религиозным
культом. В особенности это относится к мистериальным культам
эллинистической эпохи, повлиявшим на формирование христианства.
Отсюда и сходство в методике исследования.
Как мы видели, принятие исходных постулатов Formgeschichte
делает более трудной задачу исследования исторического Иисуса, так как
означает окончательное признание того, что даже самое древнее из
евангелий, Мк, не дает последовательности событий для описания
жизни Иисуса. Зато анализ синоптиков с помощью нового метода
позволяет судить об истории традиции и о том, что протестантские исследова-
*-*
тел и называют «теологией евангелистов», т. е. о содержательной
специфике каждого из наших евангелий, коль скоро эта специфика
выразилась в отборе и переработке традиционного материала.
Это значит, что для евангельской традиции в целом, для ее
отдельных жанров и для конкретных перикоп могут быть найдены три
последовательно сменявших друг друга «места в жизни».
1. Провозвестие Иисуса. Не вызывает сомнений, что некоторая часть
традиции восходит к Иисусу из Назарета. Критерии «подлинности» в
этом смысле многократно уточнялись в ходе исследования и до сих пор
остаются предметом споров. Бесспорно одно: определенный элемент
традиции — например, приписываемое Иисусу изречение — надо
соотносить с целостным пониманием личности и учения Иисуса. Такое
понимание и будет искомым первоначальным «местом в жизни» для
этого изречения. Но попытки установить конкретные обстоятельства, при
которых Иисус мог произнести те или иные слова, заведомо обречены
на неудачу: ведь биографическое «обрамление» традиционного
материала имеет чисто литературный характер и создано значительно позже,
чем сам этот материал.
2. Ранние христианские общины. Именно в них, по мнению
создателей форманализа, впервые возник главный массив традиции, позже
и
вошедшей в наши евангелия.
Исследование исходит здесь из того, что в мировоззрении
палестинских протохристианских общин доминировало эсхатологическое
«близкое ожидание» (т. е. ожидание скорой парусии, возвращения в славе и
зримого воцарения Мессии Иисуса), означающее конец истории, конец
«мира сего». Послания апостола Павла тоже свидетельствуют о том, что
их автор жил ожиданием близкого конца. Евангелие Марка показыва-
и
ет, что и в эллинистическом раннем христианстве ожидание скорой
парусин составляло центр веры. Мотив «близкого ожидания»
сохраняется еще и в евангелиях Мф и Лк (ср. Мф 10:23; 24:27; Лк 21:25 слл).
Лишь в евангелии Иоанна мы видим принципиальный отказ от
«близкого ожидания» и перенос решающего эсхатологического свершения в
прошлое: у Ин событие спасения впервые полностью отождествляется
27 Заказ 257 417
с приходом в мир Иисуса, воплощенного Логоса и Сына Божьего, с его
смертью и воскресением.
Для первого поколения христиан земная жизнь Иисуса, его
возвышение к Богу и его ожидаемая вскоре парусия составляли три этапа
актуального, длящегося, еще не завершенного настоящего времени. Все
эти события мыслились как три акта одной «драмы спасения».
Композиция этой драмы не предусматривала никакого будущего времени
внутри истории.
Исходя из такого эсхатологического понимания истоков
христианства, создатели метода анализа форм полагали, что для первых
христиан земной Иисус, некогда учивший своих спутников, был в очень
конкретном смысле тождествен прославленному Христу, чьего скорого
пришествия они теперь ожидали. Пасхальная вера — вера в то, что
воскресший Иисус присутствует в общине и говорит устами ее пророков,
а также ожидание парусии сделали ненужным самодовлеющий
исторический интерес. Ведь Иисус - не погибший учитель, чьи слова следует
бережно хранить и передавать. Напротив, теперь община может
научиться у него гораздо большему, чем первые ученики в дни его земной
жизни. Как раз теперь прославленный Иисус в состоянии сообщить
своим последователям всю истину и о себе, и об их жизни19.
Отсюда исследователи выводили важнейшую особенность
раннехристианского предания: диалог верующих с воскресшим Господом
излагается в форме бесед земного Иисуса с учениками. Оба диалога
происходят в одном и том же актуальном настоящем, между ними нет
исторического рубежа. Так общение с живым и возвышенным Господом
стало источником «творческого элемента» в традиции (термин А.
Швейцера).
Говоря о специфике евангелий в истории литературы, Бультман
выделяет именно эту их особенность: «В итоге этот процесс
(формирования евангельской традиции. — С.Л.) можно понять лишь исходя из
основополагающей предпосылки: во всем, что повествуется об Иисусе,
говорит тот, кого вера и культ признают Мессией или Господом и кто
присутствует в общине, которая в своем провозвестии сообщает о его
деяниях и передает его слова»20.
А в самых ранних дошедших до нас христианских сочинениях —
посланиях Павла — вообще отсутствует интерес к жизни Иисуса. Как не
раз подчеркивал Бультман, для Павла важен лишь «миф о Христе», т. е.
смерть Иисуса на кресте и его воскресение, которые толкуются как
решающее спасительное событие.
Я думаю, что такое объяснение возникновения и роста традиции об
Иисусе не лишено правдоподобия, но с исторической точки зрения все
же трудно — вопреки Бультману - признать его единственно
возможным и исчерпывающим. Во-первых, это «керигматическое» объяснение
предлагается изнутри того мифа, в рамках которого возникла сама
изучаемая традиция. Во-вторых, здесь отсутствует настоящее сравнение с
тем, как возникали и росли другие традиции, сопоставимые с
синоптическим преданием об Иисусе.
Бультман и Дибелиус сравнивают отдельные жанры синоптической
традиции с еврейским (прежде всего раввинистическим) и греческим
418
материалом. В книге Дибелиуса этому посвящена даже отдельная
глава «Аналогии» (с. 130-178). Но создатели форманализа не применяли
компаративистский подход к самому складыванию синоптической
традиции. Между тем возникновение и развитие традиции о Гиллеле (ср.
Мишна Авот 1:12 слл, 2:5 слл, 4:5; Тосефта Брахот 2:21, 6:24; Сифре на
Втор, 113; Тосефта Писха 4:13; ТЙ Псахим 39а; ТБ Шабат 306—31 а)
тоже определяются учительными, а не историческими потребностями,
хотя эта традиция не исходит из веры в особый (наподобие
мессианского) статус Гиллеля.
Однако создатели форманализа задавались вопросом о мотивах, под
действием которых могла сформироваться та традиция, которую
следующее поколение христиан зафиксировало в евангелиях, и о ее
социальных функциях. Ведь возникновению синоптической традиции об
Иисусе — значительной по объему материала и обладающей сложной
жанровой структурой — должно было, по мнению исследователей,
препятствовать ожидание близкого конца.
Ответ на этот вопрос предложил М.Дибелиус своей «теорией
проповеди». Суть ее передана в знаменитом тезисе: «У истоков всей
творческой деятельности (geistige Produktion) в первоначальном христианстве
находится проповедь: миссионерская и адресованная общине, в форме
повествования и паренезы, в виде пророческих речей и толкования
Писания»21. Дибелиус считал проповедь (понятую в самом широком
смысле) «единственной существенной функцией этих общин,
ожидавших скорого конца; так удается найти «место в жизни» для первых
элементов предания»22.
В своей книге «Анализ форм Евангелия» Дибелиус реконструирует
сначала содержание проповеди, а затем, исходя из результатов этой
реконструкции, «место в жизни» для различных жанров предания.
Реконструкция основывается на «ранних» миссионерских проповеднических
речах из «Деяний апостолов» (Деян 2; 3; 10; 13).
Как известно, Лука, автор «Деяний», строит эти речи по единой схеме:
— керигма о смерти и воскресении Иисуса (здесь упоминались
некоторые события из жизни Иисуса — совершенные им чудеса и исцеления);
— основанные на Писании доказательства мессианского достоинства
Иисуса;
— призыв к покаянию и к вере в мессианство Иисуса.
По мнению Дибелиуса, Лука воспроизвел очень старую схему
проповеди, восходящую к самым истокам христианской общины. Дибелиус
подкрепляет свою идею ссылкой на знаменитый текст Павла, где
апостол «напоминает» коринфянам то предание, которое он сам принял в
качестве Евангелия: провозвестие о смерти и воскресении Иисуса как
о спасительных событиях (1 Кор 15:1-7).
Дибелиус полагал, что и возникновение повествования о Страстях
было тесно связано с так понятой проповедью.
Позднее, при детальном исследовании миссионерских речей из
«Деяний», некоторые конкретные положения теории Дибелиуса не
выдержали критики. Так, Ульрих Вилкенс показал, что композиция «ранних»
речей целиком и полностью принадлежит Луке, она предполагает
существование синоптической традиции, причем скорее всего уже в форме
27* 419
евангелий. А содержание миссионерских речей в Деян 2—13
определено специфической теологией Луки, его концепцией истории спасения
и его представлением о месте евреев в этой истории. Следовательно, на
основании речей из «Деяний» нельзя реконструировать керигму
еврейского протохристианства, т. е. исходный тип христианской проповеди23.
Однако эти возражения не затрагивают главного в той идее, с
помощью которой Дибелиус объяснял происхождение традиции об Иисусе.
Критика Вилкенса не относится к принципиальному положению,
согласно которому решающим фактором в возникновении, оформлении,
разрастании и передаче этой традиции было христианское провозвестие
(керигма), или «проповедь» в широком смысле, включающая
различные перечисленные Дибелиусом функции.
3. Наконец, каждое из четырех канонических евангелий, а также
апокрифы, использующие те же материалы, тоже можно рассматривать как
«место в жизни» для традиции об Иисусе. Специфика этого «места в
жизни» раскрывается при исследовании того, как каждый из
евангелистов использовал доступную ему традицию. Об этом мы будем говорить
в гл. 7, при характеристике метода «анализа редакций».
Метод форманализа быстро привился в Германии: сразу же вслед за
книгами Шмидта, Дибелиуса и Бультмана появились (отчасти
независимые от них) работы М. Альберца и Г. Бертрама. В 1933 г. известный
английский новозаветник Винсент Тейлор опубликовал свои лекции о
«складывании евангельской традиции»: это была первая и успешная попытка
«натурализовать» форманализ в английской науке. Эта работа
предложила удачную английскую терминологию для нового направления
исследования и повлияла на изучение устной доевангельской традиции в Англии
и США. В. Тейлор отказался от бультмановского «скепсиса» и начал свои
лекции с того, что форманализ не обязательно подтверждает выводы
Вреде: форманализ, по мнению Тейлора, совместим и с признанием
историчности композиции (outline) Мк, и с тем, что это евангелие основано
непосредственно на «частных воспоминаниях» Петра, а в том, что касается
событий последней недели (т. е. повествования о Страстях), — «на
воспоминаниях самого Марка о днях молодости»24. Но в дальнейшем
исследователям по большей части все же приходилось выбирать между тем, что пред-
лагает историку форманализ, и церковным преданием об обстоятельствах
создания евангелия Марка (см. об этом в гл. 7).
г. Жанровые формы устной традиции
Исходя из разделения традиции и редакции, М.Дибелиус подробно
анализирует редакционные резюме евангелиста Марка, которые он
называет «собирательными сообщениями» (Sammelberichte). Вот первый и
весьма яркий пример такого резюме у Марка:
А вечером, когда село солнце, к нему понесли всех больных и
одержимых демонами. Весь город собрался у дверей. Он излечил многих,
страдавших разными болезнями, и изгнал много демонов. Он не
позволял им говорить, ибо демоны знали, кто он (1:32 слл).
420
Вот как Дибелиус противопоставляет редакционные пассажи
евангелиста-собирателя» тем перикопам, которые были частью устной
традиции: «В таких собирательных сообщениях нет наглядности и
заостренности, которая отличает парадигмы и новеллы; это обобщения, в
которых без всякой индивидуализации на множество случаев
распространяется то, о чем в отдельных историях говорилось индивидуально...
Ведь у собирателя, чей материал состоял лишь из разрозненных кусков,
едва ли была другая возможность превратить эти отрывки в целостное
изложение»25.
Здесь мы подходим к вопросу о жанровой форме перикоп,
составлявших материал традиции. Только что упомянутые парадигмы и новеллы —
названия некоторых из этих жанров по классификации Дибелиуса.
Жанровые формы устного предания об Иисусе были описаны не
только Дибелиусом, но и (более подробно) Рудольфом Бультманом.
Классификации Дибелиуса и Бультмана в значительной степени
совпадают. В современных исследованиях привилось восходящее к Дибели-
усу и Бультману деление всего материала синоптического предания на
традицию слов и традицию повествований.
В ходе исследования определяется «место в жизни» каждого из
жанров устного предания. «Парадигмой» (т. е. примером, образцом)
Дибелиус называет логию, снабженную повествовательной рамкой. По его
теории возникновения и развития синоптической традиции, такие
тексты использовались в первохристианской проповеди как примеры
мессианского поведения Иисуса. Таково было их «место в жизни». К
парадигмам Дибелиус относит, в частности, текст Мк 2:1 — 12, эпизод
исцеления параличного. В центре парадигм находятся высказывания
Иисуса, имеющие самостоятельное значение для христианской веры, в
данном случае слова «У Сына человеческого есть власть прощать грехи на
земле» (2:10). Дибелиус26 сравнивал синоптические «парадигмы» с
жанром, который в античной риторике назывался хрией (χρεία), т. е. с
афоризмом, снабженным указанием на ситуацию, в которой он был
произнесен. Дибелиус ссылается, в частности, на такие афоризмы, собранные
Диогеном Лаэртским в книге о знаменитых философах.
Бультман причисляет эти тексты к традиции слов и определяет их
как «апофтегмы». В классической филологии апофтегмами
называются изречения, обрамляемые кратким повествованием (хрию можно
считать одним из видов апофтегмы). Бультман показывает, что в
некоторых евангельских апофтегмах обрамление слабо связано с
высказыванием Иисуса. Отсюда Бультман заключает, что вошедшая в такую
апофтегму логия Иисуса первоначально существовала в традиции
отдельно, а потом получила повествовательную рамку. Это относится,
например, к Мк 2:15 слл, где для высказывания Иисуса: «Не здоровым
нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а
грешников» — искусственно создан подходящий по смыслу контекст —
трапеза со сборщиками податей. О вторичности обрамления
свидетельствует невозможное «в жизни» появление на этой трапезе фарисейских
книжников, вступающих в разговор с учениками Иисуса.
В связи с наблюдениями над вторичным повествовательным
обрамлением логий Иисуса надо отметить, что деление доевангельского ма-
421
териала на традицию слов и традицию повествований важно не только
для точной жанровой классификации предания, но и при исследовании
исторического Иисуса. Часть традиции слов восходит к самому
Иисусу: подлинные высказывания Иисуса (например, многие притчи) были
лишь переосмыслены в первоначальном христианстве для
использования в проповеди. Что же касается повествований об Иисусе, то,
естественно, все они сложились уже в христианской среде: функция
повествовательных жанров (их «место в жизни») может быть понята лишь
при изучении христианских общин, их проповеди, их миссионерской
деятельности. Поэтому вопрос о «подлинности» повествований, т. е. об
их возможном «историческом ядре», должен ставиться совсем в иной
плоскости, нежели вопрос о подлинности высказываний Иисуса.
Первая глава «Истории» Бультмана так и называется — «Традиция
слов Иисуса». По жанровым признакам Бультман делит весь
рассматриваемый здесь материал на две группы — включающие
повествовательную рамку апофтегмы и собственно слова Господни (Herrenworte),
которые сами по себе были (или «могли быть») самостоятельными
элементами традиции (ср. с. 8 ел, с. 73). В свою очередь, среди слов
Господних Бультман выделяет пять жанровых форм.
Речения мудрости (точное название этой части традиции у
Бультмана — «логии, или Иисус как учитель мудрости»). Это жанровая форма,
известная также и в еврейской письменности27. В синоптических
евангелиях к этому жанру относятся такие пословичные речения, как
«Пророка не ценят только на родине, среди родственников и дома» (Мк 6:4),
«Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф 6:34), «От полноты
сердца говорят уста» (Мф 12:34), «Где будет падаль, там соберутся орлы»
(Мф 24:28). Многие синоптические речения мудрости имеют
параллели в еврейской литературе. Например, «правила поведения гостей за
столом» (Лк 14:7—11), заканчивающиеся словами «Тот, кто возвышает
сам себя, будет унижен; а тот, кто принижает себя, будет возвышен»,
напоминают текст из Притч Соломона:
Не хвались перед царем
и не занимай место важных людей.
Потому что лучше, чтобы тебе сказали:
«сядь сюда повыше!»,
чем если тебя пересадят ниже из-за знатного
(Прит 25:6 ел).
По мысли Бультмана, речения мудрости —жанр, наименее
характерный для проповеди Иисуса из Назарета. Это мнение обусловлено тем,
что Бультман считал земного Иисуса прежде всего пророком последних
времен, центр проповеди которого составляли эсхатологические темы.
Кроме того, многие речения мудрости, засвидетельствованные и
еврейскими источниками, наши евангелия передают в специфически
христианском (т. е. сравнительно позднем) контексте. Следовательно,
можно предположить, что некоторые из этих логий были включены в
традицию об Иисусе уже при составлении больших речей (возможно, это
работа самих евангелистов). Например, поговорка «Всё тайное стано-
422
вится явным», близкая по смыслу к русской «Шила в мешке не
утаишь», истолковывается у Марка (4:22) в контексте его теории о
«мессианской тайне», а у Матфея (10:26 ел) и Луки (12:2 ел) связывается с
проповедью апостолов, т.е. с миссионерской деятельностью христиан.
Таким образом, переосмысление этой пословицы и включение ее в
корпус слов Иисуса можно приписать христианской общине.
Пророческие и апокалиптические слова. Их содержание —
провозвестие евангельского Иисуса о близком конце, о наступлении Царства
Бога и следующий из этого призыв к возвращению
(покаянию—обращению), обещание спасения тем, кто готов к приходу Бога, и угроза
погибели тем, кто не покаялся. В «Теологии Нового Завета» Бультман
отмечает, что эти мотивы действительно были центральными для
исторического Иисуса: «Мк удачно выражает суть проповеди Иисуса в
словах «Исполнилось назначенное время, и приблизилось Владычество
Бога» (Мк 1:15)»28. К пророчески-апокалиптическим словам
принадлежат и обещания блаженства (макаризмы), вошедшие в Нагорную
проповедь у Матфея и в Проповедь на равнине у Луки (Мф 5:3—9 и Лк 6:20
ел). «Эти слова отличает сжатость и жесткость формулировок — черты,
напоминающие старых пророков, но не имеющие параллелей в
современной Иисусу апокалиптике. Очевидно, что перед нами не типичные
плоды апокалиптической фантазии, а оригинальные слова пророческой
личности»29. Именно среди пророчески-апокалиптических слов,
полагает Бультман, наиболее велика вероятность встретить ipsissima verba
Jesu, подлинные слова Иисуса. «Однако и в этой группе встречаются
слова, которые христианская община переняла из еврейской традиции и (с
изменениями и добавками) отнесла к Иисусу»30. Так, апокалиптическую
речь Иисуса в Мк 13 Бультман, как и многие другие исследователи,
считает результатом «христианизации» еврейского апокалиптического
произведения, существовавшего до написания евангелия Марка.
Из сказанного видно, что при определении «подлинности» (т. е.
возможной принадлежности Иисусу из Назарета) тех или иных
высказываний Бультман сознательно пользуется принципом, позже
получившим название критерия «несхожести», «двойного отграничения» или
«двойной несводимости». Смысл этого критерия состоит в следующем:
Иисусу в первую очередь можно приписывать материал, не имеющий
(насколько известно исследователям) явных параллелей ни в иудаизме
той эпохи, ни в раннем христианстве. Предполагается, что «место в
жизни» для таких высказываний — уникальная ситуация
эсхатологического провозвестия Иисуса о Царстве Бога31.
В разделе о притчах Бультман сам предлагает формулировку этого
критерия: «Больше всего оснований считать, что перед нами подлинная
притча Иисуса, имеется в тех случаях, где присутствуют контраст по
отношению к еврейским морали и благочестию и одновременно
эсхатологический настрой, который составляет характерную черту
провозвестия Иисуса, но при этом отсутствуют специфически христианские
черты»32.
Слова закона. К ним Бультман причисляет критические
высказывания Иисуса о еврейском Законе и о том типе благочестия, которое
видело суть жизни с Богом в максимально строгом соблюдении религиоз-
423
ных предписаний. Здесь слова Иисуса тоже имеют параллели в
проповеди классических израильских пророков.
Самый выразительний пример таких «слов закона» — антитезы
Нагорной проповеди у Матфея — Мф 5:21 ел, 27 ел, 33—37 («Вы слышали,
что сказано древним... А я говорю вам...»).
К словам закона относятся также логии Иисуса, имеющие форму
Галахи, т. е. нормативных предписаний, регламентирующих различные
аспекты жизни евреев. Вот пример типично галахического
высказывания: «Всякий, кто отвергает жену и женится снова, изменяет ей» (Мк
10:11). К этой же группе слов Иисуса Бультман относит и
«высказывания, которые посредством цитаты из Писания или ссылки на него
обосновывают новое воззрение или защищают его от старых взглядов»33,
например Мк 7:6 елл (спор об устном Законе):
«Правильно пророчествовал о вас, лицемерах, Исайя в Писании:
Этот народ почитает Меня на словах,
а их помыслы далеки от Меня.
Они поклоняются Мне напрасно,
так как учат человеческим предписаниям.
Оставив предписание Бога, вы соблюдаете человеческое предание».
Сюда же Бультман относит слова, в которых выражается вера
общины в Иисуса, например три предсказания Страстей у Марка (8:31; 9:31;
10:33 ел). По мнению большинства исследователей, эти слова впервые
возникли в христианской общине как выражение ее кредо.
Речения от первого лица (Ich-Worte), например: «Если же я силой
Бога изгоняю демонов, значит, уже настигло вас Владычество Бога»(Лк
11:20). Эту логию Бультман склонен возводить к Иисусу из Назарета, в
то время как большинство речений от первого лица он считает
продуктами творчества палестинской общины и эллинистических общин (ср.
Мк2:17; 10:45).
Притчи. Исследование евангельских притч исходит из того, что этот
важнейший «речевой жанр» провозвестия Иисуса по своему
происхождению связан с еврейским Ьт. В еврейской (библейской и
талмудической) письменности словом bvjfc обозначается целая группа жанровых
форм (от благословения и аллегории до загадки, пословицы и
насмешливой поговорки-дразнилки), которые обычно так или иначе
включают или подразумевают сравнение (см., например, Числ 23:7—24; 1 Цар
10:12; Иез 12:22 ел; 17:2 елл; Прит 1:6).
Предложенные в середине и второй половине XX в. реконструкции
проповеди Иисуса о Царстве Бога были основаны на представлении,
согласно которому содержание этой проповеди лучше всего
сохранилось в притчах. Вероятно, именно поэтому даже само слово «притча»
приобрело в новозаветных исследованиях переносные значения. Так,
некоторые описанные в евангелиях действия Иисуса называются в
современной экзегезе «притчами в действии»34. К ним относят, например,
часто встречающуюся в традиции тему общения Иисуса с
«грешниками», т. е. с людьми, не соблюдающими предписаний Торы, — традиция
указывает здесь на сборщиков податей и пошлин, проституток и про-
сто на «грешников» без особых признаков. А Эдвард Схилебекс в
своей фундаментальной книге, притязающей на подытоживание — в
догматическом плане — двухсотлетних исследований жизни и учения
Иисуса, назвал жизнь (и евангельскую историю) Иисуса «притчей
Бога»35.
Специальные словари показывают, что еврейское слово bttfft имеет
в библейской литературе больше десяти значений, а греческое слово
παραβολή («притча») в НЗ встречается в семи значениях36. Поэтому
признаки притчи как жанра раннехристианской традиции нельзя вывести
из значения соответствующих слов в наших литературных памятниках.
Адольф Юлихер (1857-1938) первым доказал, что притчи Иисуса,
знакомые нам по синоптическим евангелиям, были радикально
переосмыслены в раннехристианском предании посредством аллегорического
метода интерпретации37. Последующие исследования подтвердили и развили
этот вывод Юлихера. Переосмысление притч в предании привело к тому,
что принципиально изменились их структура и коммуникативная
функция. Согласно распространившемуся в экзегезе второй половины XX в.
мнению, в провозвестии Иисуса притчи, основанные на развертывании
образа, представляли собой «речевые события», которые вовлекали
слушателя в определенную ситуацию, т. е. в ситуацию принятия или отвержения
эсхатологической вести Иисуса о том, что «срок исполнился, Божье
Царство близко»38. А в раннехристианской традиции появилось новое «место
в жизни» для притч: они стали использоваться как назидательные истории,
многие из них приобрели аллегорические толкования. Эсхатологический
смысл был заменен моральным или вероучительным, «речевое событие» —
аллегорической «мудростью».
Таким образом, современные исследования притч основываются на
том, что все включенные в синоптические евангелия аллегорические
толкования (например, Мк 4:13—20; Мф 13:36—43) возникли в
раннехристианской традиции или были созданы самими евангелистами.
Исторический анализ этого процесса «аллегоризации» дал Иоахим Иере-
миас в книге «Притчи Иисуса»39. Он, в частности, показал, как
аллегорические черты проникали в текст самих притч, меняя их смысл.
Аллегоризация притч Иисуса не завершилась с созданием
евангелий: у христианских авторов конца II — III в. (например, у Иринея
Лионского и Оригена) встречаются теологические осмысления притч,
построенные на аллегорическом методе интерпретации Писания. В
последующие века аллегорическое толкование в качестве принципиального
подхода к тексту стало господствующим в христианской экзегезе.
А. Юлихер выделил три основных типа евангельских притч:
— «притча в узком смысле слова»;
— «парабола», или «притчевое повествование»;
— «повествование-образец» (Beispielerzählung).
Р. Бультман перенял классификацию Юлихера и дополнил ее
анализом «малых» жанровых форм образной речи в синоптической
традиции: образных выражений (например, Мк 2:17), метафор (например,
Мф 7:13 ел; Лк 9:62) и сравнений (например, Мф 24:27). Как считает
Бультман, именно из образных выражений и сравнений развиваются
притчи в узком смысле слова. Они отличаются от сравнений или образ-
425
ных выражений лишь «обстоятельностью в разработке образа»40.
Соответственно он делит притчи на две группы - по происхождению из
образного выражения или из сравнения. (В терминологии Бультмана
«образное выражение» имеет ту же структуру, что и «сравнение»; в первом
случае отсутствует лишь союзная связь «как ..., так...».)
В результате развертывания образных выражений возникли, в
частности, притчи о «рабе пашущем или пасущем» (Лк 17:7—10), о ночном
воре (Лк 12:39 ел), о верном домоправителе (Лк 12:42-46). Из
сравнений выросли, например, притчи о детях на улице (Мф 11:16—19), о
сокровище, зарытом в поле (Мф 13:44), о драгоценной жемчужине (Мф
13:45 ел), о неводе (Мф 13:47-50), о смоковнице (Мк 13:28 ел), о
бодрствующем привратнике (Мк 13:33-37).
Образ, на котором строятся такие притчи «в узком смысле»,
указывает на обычное поведение в некоторой типичной (часто бытовой)
ситуации. Кроме только что названных притч к этой группе относятся,
например, Лк 15:4-7 (притча о потерянной овце), Лк 15:8 елл (притча
о потерянной драхме).
Параболами называют такие образные повествования, где
«означающее» развертывается в целую историю, сюжетом которой часто
становится какое-нибудь странное и даже шокирующее слушателя
происшествие. К параболам относятся, в частности, евангельские притчи о
блудном сыне (Лк 15:11—32), о наемных работниках (Мф 20:1 — 15), о
неправедном судье (Лк 18:2-5: Бог сравнивается с несправедливым
судьей!), о неверном домоправителе (Лк 16:1-8).
Важнейший элемент в структуре обеих форм — «притч в узком
смысле» и парабол — составляет tertiiim comparationis, т. е. основание
для сравнения «означающего» (формальной стороны образа) с
«означаемым» (содержательной стороной образа), их общий признак.
Притчи часто содержат указание на tertium comparationis в своем
зачине: «Подобно Царство Небес...». Так, в Мф 13:45 ел действия купца,
нашедшего драгоценную жемчужину, уподобляются
(подразумеваемым) действиям человека, ищущего и находящего Царство. Основание
для сравнения — решимость отдать всё ради приобретения наивысшей
ценности. Иногда основание для сравнения формулируется
эксплицитно, как в притче о потерянной овце: «Говорю вам, что так же на небе
будет радость из-за одного обратившегося грешника...» (Лк 15:7). Здесь
общий признак, объединяющий формальную и содержательную
стороны притчи (tertium comparationis), — радость.
«Повествование-образец» отличается, по Бультману, от «притчи в
узком смысле» и от параболы тем, что в нем «отсутствуют признаки
образности», хотя оно обладает «большим формальным сходством» с
параболой41. «Повествование-образец» однопланово, здесь нет tertium
comparationis, так как нет и самого сравнения. Эта форма
представляет собой историю, демонстрирующую «модель правильного
поведения»42. Вслед за Юлихером и Бультманом современные исследователи
относят к «повествованиям-образцам» четыре текста, составляющие
«особый материал» Луки: 10:29-37 (о милосердном самаритянине),
12:16—21 (о богатом глупце), 16:19-31 (о богаче и Лазаре), 18:9—14 (о
фарисее и сборщике податей).
426
Что же касается метафор, то в результате их соединения и
развертывания в цепочку возникают аллегории — иносказательные
повествования, в которых каждый элемент имеет «метафорическое» (переносное
и требующее специального комментария) значение. Как уже
отмечалось, к аллегориям относятся «вторичные», т. е. возникшие при
развитии традиции, толкования притч о сеятеле (Мк 4:13—20) и о сорняках
среди пшеницы (Мф 13:36—43). Общепринятым в науке стало мнение,
согласно которому среди притч, восходящих к Иисусу из Назарета, нет
ни аллегорий, ни притч, предполагающих аллегорическое толкование.
Но в синоптических евангелиях имеется одна притча, которая,
по-видимому, с самого начала имела аллегорический характер, — притча о
злых виноградарях (Мк 12:1-11; Мф 21:33—44; Лк 20:9—18). Здесь алле-
U KJ KJ
горическии смысл задан литературной связью с известной притчей-
иносказанием о винограднике из книги пророка Исайи (Ис 5:1—7), где
виноградник — метафора «дома Израилева» (Ис 5:7), «хорошие гроздья»
(Ис 5:2) — следование воле Бога и т. д. И. Иеремиас, опираясь на
сравнительный анализ вариантов притчи о злых виноградарях у синоптиков
и в евангелии Фомы, представил доводы в пользу того, что и в этом слу-
потенциальный аллегорический элемент»43 получил
принадле
жит Иисусу, который в ситуации полемики с идеологами еврейской
оощины сознательно использовал знакомый его слушателям оораз из
книги Исайи.
Следует, однако, помнить: именно предполагаемая ситуативная
обусловленность притч Иисуса становится препятствием для
реконструкции их исходного смысла, так как очень трудно (или даже почти
невозможно) определить с удовлетворительной степенью достоверности,
в какого рода ситуации Иисус мог рассказать ту или иную притчу и к
каким адресатам она была обращена. Поэтому я думаю, что результаты
восстановления конкретного первоначального «места в жизни» для
отдельных притч, т.е. их функций в рамках публичной деятельности
Иисуса, всегда будут лишь гипотетическими, быть может даже чисто
спекулятивными. И. Иеремиас полагал (исходя из господствовавшего в
немецкой науке мнения), что центром проповеди Иисуса была
эсхатологическая весть. Такое представление Иеремиас сделал ключом для
своей исторической интерпретации притч. По этому пути за ним пошли
многие другие исследователи44.
В самом деле, если смысл притч Иисуса определен контекстом его
эсхатологического провозвестия, то они не были наглядными
иллюстрациями общезначимых нравственных идей45. Однако это общее поло-
*_*
жение не может заменить отсутствующих конкретных сведении о той
исторической ситуации, в которой определенная притча обрела свое
первоначальное «место в жизни». С гораздо большей уверенностью мы
можем судить о функциях (т. е. «месте в жизни») притч в евангелиях.
Ведь опирающийся на результаты Formgeschichte комплексный анализ
евангелий как целостных литературных произведений позволяет понять
концепции евангелистов, а понимание идей и замысла евангелиста дает
возможность глубже интерпретировать смысл отдельной притчи
внутри изучаемого евангелия46. Для выявления содержательной специфики
427
каждого из евангелии сопоставляются имеющиеся в них редакции
одной и той же притчи. Так, характерные черты Мф проявляются и в том,
как он отредактировал притчи, взятые им из Мк.
В традиции повествований создатели форманализа тоже выделили
несколько жанровых форм: рассказы о чудесах и «исторические
рассказы и легенды» (Бультман) либо новеллу, легенду и миф (Дибелиус; он
добавляет к повествовательным жанрам и «парадигму»). Как замечает
Ф. Фильхауэр, по формальным признакам среди повествований
вычленяется лишь тот жанр, который Дибелиус назвал новеллой, а Бультман
— рассказом о чуде (см. Фильхауэр, с. 301).
В «новеллах» чудо всегда составляет композиционный центр
повествования, что отличает «новеллы» от тех «апофтегм» (по Дибелиусу —
«парадигм»), где тоже сообщается о чуде (ср. «новеллу» Мк 7:32—35 с
«апофтегмой» Мк 3:1—5). Ведь главное в «апофтегмах» — авторитетное
слово Иисуса, а чудесное исцеление в таких случаях становится лишь
поводом и повествовательным контекстом для логии Иисуса.
Нетрудно заметить, что в «новеллах» о чудесных исцелениях важна
не судьба исцеленного, а демонстрация божественной власти Иисуса.
Стало быть, рассказы о чудесах («новеллы») — это повествования об
эпифаниях, зримых явлениях божества. Как показывает Бультман,
топика этих рассказов, т. е. совокупность используемых в них устойчивых
приемов и образов, обнаруживает многочисленные параллели с
повествованиями о чудесах в «низовой» словесной культуре эллинизма47.
Возможно, некоторые такие повествования использовались в готовом
виде: они были отнесены к Иисусу и включены в материал предания.
Так, рассказ об исцелении бесноватого близ Герасы (Мк 5:1—20)
Бультман называет «настоящей простонародной историей» и дает
эллинистические параллели для большинства мотивов этого повествования.
Бультман делит материалы этого жанра на рассказы о чудесных
исцелениях (Heilungswunder) и «природные чудеса» (Naturwunder).
Последние сравнительно немногочисленны, к ним относятся, например,
повествования об усмирении бури (Мк 4:35-41) и об умножении хлебов
(Мк 6:35—44; 8:1-9). Что же касается чудесных исцелений, то рассказы
о них строятся по устойчивой трехчастной схеме:
1. Экспозиция, в которой описывается болезнь и говорится о том,
как Иисуса просят о помощи (ср. Мк 5:3 слл; 9:17 слл).
2. Далее следует описание того, как Иисус совершает чудесное
исцеление. При этом иногда рассказывается о магических действиях
Иисуса-целителя (Мк 7:33; 8:23), передаются его слова на непонятном для
греческого читателя языке (Мк 5:41; 7:34). Однако, замечает Бультман,
«в этом пункте евангельские рассказы о чудесах довольно сдержанны»,
так как христианская традиция стремится не допустить, чтобы к
образу Иисуса примешивались черты колдуна, не чуждые преданиям об
эллинистических божественных чудотворцах48.
3. Рассказ часто заканчивается исходящими от наблюдателей
выражениями трепета и благоговения (Мк 1:27; Лк 5:26; 7:16), которые
Бультман, применяя аналогию с греческой трагедией, называет
«хвалебными возгласами хора». Тут же показывается реальность чудесного
исцеления: больная женщина поднимается с постели (Мк 1:31), параличный
428
встает и берет свою постель (Мк 2:12), воскрешенную дочь Иаира
нужно накормить (Мк 5:43).
Все эти содержательные и композиционные особенности «новелл»
указывают на то, что в раннехристианской традиции интерес к чуду как
таковому мог быть обусловлен определенной христологией, т.е. вероу-
чительной интерпретацией личности Иисуса. Здесь Иисус предстает
как божественный чудотворец, θειος άνήρ («божественный муж»), в чьих
действиях проявляется мощь Бога. Связь между чудесами и христоло-
гическим интересом подтверждается и наблюдениями над историей
традиции. Изображение чудес в письменной традиции разрастается: у Мф
и Лк элемент чудесного выражен сильнее, чем у Мк, у Ин — сильнее, чем
у синоптиков, а в некоторых апокрифических евангелиях происходит
прямо-таки нагромождение чудесного; к тому же в апокрифах рассказы о
чудесах разукрашены яркими подробностями, которых нет в каноне.
Научная дискуссия о месте христологии такого типа в НЗ
продолжается на протяжении всего XX века, со времен Школы истории религий
и до наших дней49. Само словосочетание θείος άνήρ отсутствует в НЗ.
Это и близкие по смыслу выражения употреблялись в греческой
словесности. Однако единого понятия о «божественном муже» в классической
древности и в эллинизме не было, это выражение не стало настоящим
terminus technicus и в мире эллинистической религиозности. Так, θείος
άνήρ во времена Аристотеля употреблялся в значении «богоподобный
муж», т. е. во всех отношениях совершенный и потому достойный
наивысшего уважения человек, являющий собой пример добродетели и
мудрости. Позже оборот θειος άνήρ приобрел новое значение: «мудрец,
получивший от божества способность творить чудеса». В позднеантич-
ную эпоху, уже после создания наших евангелий, образцом
божественного мужа-чудотворца стал Пифагор, герой Порфирия («Жизнь
Пифагора»), Ямвлиха («Жизнь пифагорейская»), а также сочинений, не
дошедших до нас и известных лишь в пересказах50. В римский период
выражение θειος άνήρ было связано и с культом императоров.
В современной науке повествования о чудесах, совершенных
«божественными мужами», называют ареталогиями (от греческого слова
άρεταλογία: αρετή здесь значит «доблесть», во мн. ч. — «славные деяния,
подвиги», λόγος — «отчет, сообщение»)51. Мозес Хадас и Мортон Смит
в своей известной книге «Герои и боги: духовные биографии в
древности» рассматривают ареталогию как один из устойчивых жанров
античной литературы52. Эту точку зрения принимает и Хельмут Кестер53.
Русская исследовательница и переводчица античной литературы
Елена Георгиевна Рабинович, обсуждая записки Дамида (один из
источников «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата),
отмечает: «Это было произведение жанра, который сейчас называют аретало-
гическим, а в древности он определенного названия не имел, так как к
изящной словесности не причислялся. Ареталогия в буквальном
значении представляет собой рассказ о подвигах некоего лица...» В записках
Дамида повествовалось «о подвигах Аполлония, а преимущественно о
сотворенных им чудесах. Ведение подобных записей для античности
было нормой. Чаще всего записи хранились в храме — например при
храме Асклепия в Эгах велась хроника чудесных исцелений»54.
429
Христология «божественного мужа» была основой сборника
рассказов о чудесах, возможно ставшего (в разных редакциях) общим
источником для Мк и Ин55. Ареталогия (деяния божественных мудрецов)
могла быть жанровым образцом для такого собрания.
В доталмудической еврейской словесности некоторые черты
сходства с эллинистическими ареталогиями обнаруживают «Жизнь Моисея»
Филона Александрийского и Первая книга Маккавейская в той части,
где рассказывается о воинских подвигах Иуды Маккавея, совершенных
во имя Господа и по Его воле. Повествование о старшем из братьев
Маккавеев заканчивается словами:
Прочие же дела Иуды и сражения и мужественные подвиги,
которые он совершил, и его величие не описаны, ибо их было весьма
много (1 Макк 9:22).
Это очень походит на тот текст из Ин, которым, как принято
считать, завершался использованный евангелистом «источник знаков»:
Иисус в присутствии своих учеников показал и много других знаков,
о которых не написано в этой книге (Ин 20:30).
Сравнение евангельских «новелл» с эллинистическими рассказами
о чудотворцах помогает установить «место в жизни» для этого жанра
раннехристианского предания: это миссионерская пропаганда, в ходе
которой образ Иисуса конкурировал с образами других божественных
чудотворцев той эпохи. Естественно, такая функция подразумевает
приспособление содержания веры и проповеди к религиозным
представлениям эллинистического мира, в котором действовали
христианские миссионеры.
Рассмотренные здесь идеи о решающем влиянии эллинистической
(т. е. нееврейской) культуры на складывание синоптических рассказов
о чудесах стали в современной экзегезе почти общепризнанными,
однако как и всякое историческое знание, выведенное из интерпретации
текстов, эти представления подвергаются проверке и переосмыслению.
Так, американский исследователь Бэрри Блэкберн56, опираясь на идеи
Мартина Хенгеля, крупнейшего представителя «неоконсервативного»
направления в немецкой протестантской науке, ставит под сомнение
идею о внепалестинском происхождении рассказов о чудесах,
вошедших в евангелие Мк.
М. Хенгель в своей фундаментальной работе «Еврейство и
эллинизм»57 обосновывал тезис, согласно которому уже к середине II в. до
н.э. эллинистическая культура укоренилась среди говоривших
по-арамейски евреев Палестины гораздо глубже, чем это обычно допускалось
в науке, т. е. Хенгель хотел доказать, что ко времени возникновения
христианства привычное для ученой публики противопоставление
«греческое — еврейское» (или, в терминах философской публицистики,
«Афины — Иерусалим») уже давно утратило резкость.
Основываясь на исследованиях Хенгеля и на представлении о Марке
как о «консервативном редакторе», Б. Блэкберн стремится продемонст-
430
ι.
»w
рировать, что «местом в жизни» для значительной части рассказов о
чудесах, вошедших в Мк, могла быть проповедь протохристианской
иерусалимской общины. С этой целью Блэкберн подбирает палестинские
параллели к важнейшим темам и мотивам этих рассказов, т. е.
еврейские предания, существовавшие, по его мнению, уже в Палестине I в. н.
э. Имеются в виду, в частности, рассказы о чудесах в «ветхозаветных
апокрифах», а также рассказы о чудотворцах Хони га-Меагеле и р. Ха-
нине бен Досе — известный агадический материал, вошедший в
Вавилонский Талмуд. Однако полностью исключить внепалестинское
происхождение части евангельских рассказов о чудесах Б. Блэкберн,
конечно, не пытается. Что же касается еврейских палестинских параллелей к
синоптическим повествованиям о чудесах, то, как мы знаем, на них
указывал уже Р. Бультман.
По мнению создателей метода Formgeschichte, повествование о
Страстях (ПС) приобрело связную (возможно, письменную) форму до
составления евангелия Марка58. Эти исследователи считали, что
древнейшее ПС было необходимо для первохристианской проповеди («ке-
ригмы») о смерти и воскресении Иисуса. Вот как писал об этом
Бультман: «В отличие от других материалов традиции, для рассказов о
Страстях связующий контекст (Zusammenhang) возник очень рано; даже
хочется сказать, что контекст был здесь первичной величиной. Ибо к
связному изложению привела... прежде всего та керигма, что
присутствует в предсказаниях страданий и воскресения в Мк 8:21; 9:31; 10:33
ел и в речах из Деян. Эту керигму следует рассматривать как
древнейшую связную традицию о страданиях и смерти Иисуса. Но, как пока-
KJ w
зывает наш анализ, рядом с этой традицией существовало также
краткое, основанное на исторических воспоминаниях повествование об
аресте, суде и казни Иисуса»59. По мысли Дибелиуса, «среди всех
повествовательных материалов только истории страданий могло
принадлежать ведущее значение в провозвестии. ...В ней соединились интересы
назидания, древнейшей теологии и простейшей апологетики»60. По
мнению творцов форманализа, функциональным контекстом, или
«местом в жизни», для ПС стала также и раннехристианская евхаристия:
как видно из 1 Кор 11:23 елл, повествование о последней совместной
трапезе Иисуса с учениками составляло элемент евхаристического
ритуала61. Дибелиус подчеркивает целостность древнейшего ПС: его
элементы в большинстве своем не могли ранее существовать в традиции в
качестве отдельных повествований62, а Бультман стремится свести набор
сцен в древнейшем ПС к минимуму и показать, что многие
повествования, вошедшие в Мк 14—15, ранее передавались вне контекста ПС63.
Основанные на форманализе, и в особенности на работах Бультма-
на и Дибелиуса, исследования доевангельского ПС продолжаются по
сей день. Одна из последних реконструкций древнейшего ПС
предложена немецким экзегетом Вольфгангом Райнбольдом, который исходит
из сопоставления Мк и Ин64. Автор реконструкции полагает, что
первоначальный текст ПС состоял из девяти сцен, текст которых, конечно,
уже нельзя восстановить дословно. Однако он считает возможной зада-
чей установление начала ПС, его конца и последовательности эпизодов.
Вот результат его реконструкции.
431
Содержание текста
1. Решение убить Иисуса
2. Вход в Иерусалим
3. Последняя трапеза: «выдачи»
и отречения
4. Арест
5. Допрос первосвященника
и отречение Петра
6. Допрос у Пилата
и сцена с Бар-Аббой
7. Бичевание и глумление
8. Распятие и смерть
9. Погребение
Марк
14:1 ел
11:1-10
14:17-21
14:29 слл
14:43-52
14:53-72
15:1-15а
15:15б-20а
15:206-41
15:42-47
И о а ы н
11:47-57
12:12-19
13:21-30
13:36 слл
18:1-11
18:12-27
18:28-38
19:4-16а
19:1 слл
19:166-30
19:38-42
Итак, в современных исследованиях ПС считается письменным
произведением, которое Мк и Ин использовали независимо друг от
друга. Легко заметить, что в ПС у Мк и Ин обнаруживаются не только
вербальные совпадения, но и общая последовательность перикоп.
Расхождения в последовательности у Мк и Ин позволяют предположить
(как это делает и В. Райнбольд), что каждый из них иногда переставлял
местами эпизоды в общем источнике. Вспомним, что Мф и Лк
именно так обращались с текстом Μ к.
Однако, помимо ПС и нескольких рассказов о чудесах, у Ин нет
текстов, сходство которых с синоптическими можно было бы истолковать как
результат прямой литературной зависимости Ин от синоптиков: я думаю,
что Ин вообще не пользовался первыми тремя евангелиями нашего канона
+
как источниками, хотя и был знаком по крайней мере с одним
произведением этого жанра (не обязательно с тем, которое затем вошло в канон).
В новейших исследованиях все чаще подчеркивается, что ПС было
необходимо прежде всего в апологетических целях, т. е. для
обоснования тех утверждений, которые христианские (вероятно,
эллинистические) общины делали о личности Иисуса из Назарета, молодого
человека, казненного на законном основании — по приговору
уполномоченного на то римского должностного лица. Апологетическими мотивами
отчасти объясняется и перемещение ответственности за казнь Иисуса с
римлян на евреев. В письменной синоптической традиции мотив
виновности евреев и невиновности Пилата звучит все громче от текста к
тексту, обрастая по мере развития традиции новыми и весьма
выразительными деталями: так, у Мф Пилат публично умывает руки в знак
непричастности к неправильному приговору, а евреи, напротив того, кричат
«Пусть его кровь будет на нас и на наших детях», и т.п. Все эти подроб-
432
ности помещены у Мф в повествовательную рамку Мк, ср. Мк 15:6—15 и
Мф 27:15-26. Вероятно, христиане после 70 г. (т. е. после поражения
Великого восстания и ухудшения правового положения евреев в Империи)
*j
начали искать признания у государства в качестве отдельной от евреев
religio licita и соответственно в качестве collegia licita. Коль скоро такое
желание возникло, для христиан стало невозможно допустить, чтобы в их
мифе об основании в качестве главного врага (вроде Египта в библейском
мифе об Исходе) фигурировал представитель имперской власти65.
Но, может быть, то, что верно для ПС в евангелиях, справедливо и
для древнейшего письменного текста ПС? Здесь я отвлекаюсь от
вопросов историчности: весьма вероятно, что некоторые детали этого
рассказа восходят к свидетельствам первых последователей Иисуса и
преданию древнейшей иерусалимской общины. Но когда в качестве
«места в жизни» для древнейшего ПС снова и снова указывают просто на
«культ» или «керигму», то возникает впечатление, будто ранние
христианские общины существовали в чистом теологическом пространстве,
полностью изолированном от нехристианской профанной жизни
Римской империи середины — второй половины I в. н. э.
Я думаю, что «место в жизни» древнейшего ПС подобно функции
ПС в евангелиях: в обоих случаях ПС обращено «вовне» и
предполагает борьбу раннехристианских общин за легитимный социальный статус
в «большом» обществе, т. е. апологетику и вербовку сторонников
(миссию). Возможно, ПС возникло в эллинистических общинах, как и те
евангелия, в которых оно используется. Однако при изучении ПС, как
и в случае с источником логий, мы быстро достигаем границ
методически возможного в работе с гипотетически реконструируемым текстом:
место и время создания древнейшего ПС, его авторство и «место в
жизни» нельзя определить с той же степенью достоверности, что для
канонических евангелий. Я думаю, правильнее было бы говорить о еще
меньшей степени надежности и достоверности.
Как мы уже знаем, в жанровом отношении историю Страстей можно
отнести к «актам мучеников», или «мартирологиям»66. Известный историк
эллинизма Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) в своем очерке о
найденных в Египте папирусных документах, получивших название «Акты
александрийцев», пишет, в частности, об «Актах Аппиана»: «Документ...
ясно показывает нам, как... эти Феоны, Исидоры, Аппианы облекались в
ореолы мучеников и как о них создавалась целая литература (выделено
мною. — С.Л.) мученических полудостоверных актов»67.
д. Проблема жанра канонических евангелий
В третьей и последней главе «Истории синоптической традиции»
анализируется «Редактирование материала традиции». Здесь Бультман
исследует, в частности, «композицию евангелий»68. Композиция литературного
^j
произведения есть, как известно, конкретное выражение его жанровой
формы. И действительно, создатели метода анализа форм предложили
понимание жанровой специфики наших евангелий, которое на несколько
десятилетий стало почти общепринятым в протестантской науке о НЗ.
Поэтому имеет смысл обсудить, как понимался жанр евангелий до
28 Заказ 257 433
возникновения форманализа, как сформировался и распался формкри-
тический консенсус и какие идеи пришли ему на смену.
Первое указание на жанровую природу евангелий можно усмотреть
у Юстина в тексте, уже процитированном в гл. 2:
Ибо апостолы в созданных ими воспоминаниях (έν τοις γενομένοις
υπ' αυτών άπομνημονεύμασιν), которые называются евангелиями,
передали, что им было предписано, так: «Иисус взял хлеб, и
благодарил, и сказал: это делайте в воспоминание обо мне, это мое
тело...» (ΛροΙ 166,3).
В Apol I 67,3 Юстин пишет, что во время воскресного богослужения
читаются «воспоминания апостолов (τα απομνημονεύματα των αποστόλων)
или писания пророков». Слово απομνημονεύματα в этом же и в подобных
ему сочетаниях более десяти раз встречается и в «Диалоге с Трифоном»,
в гл. 88 — 107 (см., например, Dial 106, 1, и ср. 106, 3: εν τοις
άπομνημονεύμασιν αυτού, в его [Петра] воспоминаниях). Неясно,
однако, идет ли здесь речь о литературном terminus technicus, так как,
кроме «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта, до нас не дошли тексты с
таким названием, а для самого этого имени во мн.ч. значение
«письменные воспоминания» («мемуары») едва ли бесспорно
засвидетельствовано за пределами текстов Юстина. Большой древнегреческо-анг-
лийский словарь Лидделла и Скотта дает значение мн. ч.
απομνημονεύματα — «воспоминания (memoirs), как у Ксенофонта о
Сократе»69, и приводит две ссылки на тексты. Но в одном из этих текстов
(Плутарх. Марк Катон, 9) рассматриваемое слово употребляется явно не
в том значении. В гл. 8-9 Плутарх дает подборку остроумных
высказываний Катона (многие из них можно отнести к жанру хрии), завершая
ее словами το μεν ούν των απομνημονευμάτων γένος τούτον έστιν — «вот
какого рода были достопамятные слова [Катона]» (пер. С.П.Маркиша).
Возможно, Юстин употреблял απομνημονεύματα в широком и
неспецифическом смысле - как слово, более понятное для его языческой
аудитории, чем ευαγγέλια (ср. Apol I 66, 3: одно понятие определяется
через другое)70. Возможно также, что выражение «воспоминания
апостолов» у Юстина должно было указывать на особую достоверность
христианских писаний.
Но лексикографические данные допускают, на мой взгляд, и
предположение о том, что мн. ч. απομνημονεύματα у Юстина имеет
специфический смысл, но не тот, на который указывает словарь Лидделла и
Скотта. Возможно, у Юстина τα απομνημονεύματα των αποστόλων значит
именно «достопамятные слова»: тогда их автором Юстин считал не
апостолов, а Иисуса. В таком случае апостолы (или один из них, как Петр
в Dial 106, 3) — это те, кто запомнил и передал или записал слова
Иисуса. Если так, то Юстин употреблял απομνημονεύματα в том же значении,
в каком Папий Иерапольский употреблял слово λόγια: λογίων κυριακών
- «слов Господних» (Eusebius. Hist Eccl III 39, 1, ср. 39, 16).
Как бы то ни было, название απομνημονεύματα не было воспринято
другими раннехристианскими писателями, и в качестве родового
обозначения ряда текстов утвердилось слово «евангелие» (ср. гл. 2).
434
Исследование литературной природы евангелий началось в эпоху
Просвещения, т. е. с того времени, когда в библейской экзегезе стали
применяться методы критического анализа исторического предания.
Готхольд Эфраим Лессинг называет авторов канонических
евангелий историографами (Geschichtsschreiber), тем самым определяя и
литературную специфику этих текстов. Защищая историческую
достоверность евангелий от слишком далеко идущих выводов Германа Самуэля
Реймаруса (см, гл. 8), Лессинг сравнивал противоречия между
евангелистами с расхождениями в рассказах римских историков об одном и
том же событии. Как это будет и в более поздних исследованиях,
вопрос о литературной специфике связан у Лессинга с оценкой
исторической достоверности евангелий как основополагающих документов
христианства. Предваряя тезис Бультмана о том, что вера не может
зависеть от результатов исторического исследования, Лессинг отделил
теологическую истину (для него она тождественна философской) от
исторической: «Случайные исторические истины никогда не могут стать
доказательством необходимых истин разума»71.
В XIX в. многие протестантские теологи (в особенности либералы)
считали евангелия жизнеописаниями Иисуса, т. е. относили их к жанру
биографии. При этом они, по-видимому, не всегда четко отделяли античные
биографии от того понятия биографии, что возникло в Новое время,
особенно в романтизме XIX в. В самом деле, биография («жизнь
замечательных людей») в литературе Нового времени обычно изображает
становление и развитие «замечательного человека» в конкретной исторической
ситуации. Но, как показал Альберт Швейцер в «Истории исследования
жизни Иисуса», в XIX в. биографы Иисуса (авторы книг типа «Жизнь
Иисуса») тоже исходили из того, что по евангелиям можно проследить
развитие личности Иисуса. Примеры такого «романтического» чтения
евангелий мы находим чуть ли не на каждой странице хорошо известной
русскому читателю «Жизни Иисуса» французского писателя Эрнеста Ренана
(1823—1892), порвавшего с Церковью бывшего студента католической
семинарии, востоковеда, философа и публициста. Отношение Ренана к НЗ
в значительной мере было определено немецкой протестантской наукой.
Первый вариант этой книги Ренан написал в 1860—1861 гг., когда он
работал в Сирии, занимаясь поиском и изучением финикийских надписей. Во
«Введении» Ренан определяет литературный характер евангелий: «Это не
биографии в духе Светония и не легендарные вымыслы в духе Филостра-
та; это легендарные биографии. Я охотно сопоставил бы их с легендами о
святых, с жизнеописаниями Плотина, Прокла, Исидора и другими
подобными произведениями, где в различных пропорциях сочетаются
историческая правда и стремление дать образцы добродетели»72. Заметим, что
Ренан как автор «Жизни Иисуса», при всем своем неисторизме и
пристрастности, все же пытается найти место для евангелий среди жанров
современной им словесности и предлагает богатое смыслами определение, ставшее
важным для исследований последних десятилетий: «легендарная биография».
Как это часто случается в истории науки, важнейшие идеи,
составившие «формкритический консенсус» относительно жанра евангелий,
были впервые сформулированы еще до появления Formgeschichte. Они
принадлежат швейцарскому евангелическому теологу Францу Овербе-
28* 435
ку (1837—1905), в 1870—1897 гг, профессору НЗ и древнейшей
церковной истории в университете Базеля. Русской читающей публике Фр.
Овербек известен главным образом как друг Фридриха Ницше.
В работе 1882 г. «Об истоках патристической литературы» Фр. Овербек
предложил тезис об отсутствии прямой связи и преемственности между
христианской «протолитературой» (Urliteratur) — к ней он относил НЗ,
Мужей апостольских, а также сочинения Егезиппа и Папия, о которых мы
знаем главным образом из «Церковной истории» Евсевия, — и
патристической письменностью. Согласно этому тезису, патристика использует
формы профанной литературы своего времени, в то время как
христианская «протолитература» в формальном отношении изолирована от своего
греческого окружения: у «протолитературы» не было ни образцов в
прошлом, ни продолжения в последующую эпоху. Термин «христианская
протолитература» — не хронологическая, а качественная характеристика этой
письменности: «Речь идет о литературе, которую христианство создало, так
сказать, собственными силами, ибо она выросла исключительно на почве
и из внутренних интересов христианской общины еще до ее смешения с
окружавшим ее миром»73. Отсутствие преемственности в области
литературных форм указывает, по мысли Овербека, на разрыв между верой
первоначального христианства и христианством большой Церкви (со второй
половины II в.). В содержательном плане этот разрыв объясняется, по
Овербеку, эсхатологическим характером первоначального христианства.
Насколько я знаю, Овербек первым, еще до исследователей из Школы
истории религий (см. гл. 9), стал говорить о центральном значении
эсхатологии для понимания раннего христианства. По мнению Овербека,
ожидание скорого конца истории и соответствующее ему мироотрицающее
самопонимание первоначального христианства были его конститутивными
чертами. Но парусия не состоялась, христианство усвоило мироутвержда-
ющее самопонимание, и так возникла христианская Церковь.
Что касается формальной стороны, то Овербек признает зависимость
НЗ от форм религиозной литературы более ранних времен. Исключение
составляют евангелия как чисто христианский жанр — «единственная
оригинальная форма, которой христианство обогатило литературу»74.
Этот тезис Овербека восприняли создатели форманализа. По словам
Дибелиуса, в ходе исторического изучения источников возникает
понимание того, что «применительно к письменности первых христианских
десятилетий речь вообще идет не о литературе, которая появилась по
воле отдельных писателей, но об образованиях (Gestaltungen), которые
с необходимостью возникли из бытия и деятельности чуждых
литературе кругов. В этом смысле Франц Овербек отделил «христианскую про-
толитературу» от патристической литературы»75.
Консервативный евангелический теолог Мартин Келер (подробнее о
нем см. в гл. 10) в докладе 1892 г. «Так называемый историчный Иисус и
исторический, библейский Христос» предложил понимание евангелий как
документов «провозвестия» (Verkündigung), цель которого — пробуждать
веру в Иисуса как в Спасителя76. Келер дал емкую формулу: «Евангелия
можно назвать историями Страстей с обстоятельным введением»77. Все это
Келер высказывал в полемике с либеральной теологией, которая хотела
опереться на научное исследование жизни Иисуса.
436
Идеи Келера, также подразумевавшие внелитературный характер
евангелий, были развиты сторонниками форманализа, которые, как мы
знаем, видели в евангелиях нарративное выражение керигмы, т. е.
раннехристианского провозвестия о Христе.
И в самом деле, по мнению Бультмана, цель Марка, первым
написавшего евангелие и, следовательно, создавшего этот жанр, можно
сформулировать так: «Соединение эллинистической керигмы о Христе, главное
содержание которой — миф о Христе (Christusmythos), известный нам из
посланий Павла (см. Флп 2:5 слл; Рим 3:24), с преданием об истории Иисуса»1*.
Таким образом, для Бультмана евангельские повествования, как и
вероисповедные формулы, дошедшие до нас в посланиях Павла, — это
выражения христологической керигмы, т. е. провозвестия об Иисусе Христе,
распятом и воскресшем, который теперь пребывает одесную Бога и вскоре
вернется на облаках судить живых и мертвых.
Согласно броской формулировке Бультмана, «евангелия — это
культовые легенды», так как евангелисту Марку удалось укоренить
«христианские мистерии — крещение и евхаристию — в предании о жизни Иисуса»79.
Так работы создателей метода анализа форм содействали
повсеместному принятию представления, названного выше «формкритическим
консенсусом»: евангелие — это не биография, а провозвестие в
повествовательной форме, уникальный жанр, не имеюший ни образцов, ни
продолжения в мировой литературе. По их мнению, специфика этого
нового жанра определена его керигматическими и культовыми
функциями. К.Л. Шмидт опубликовал в 1923 г. большую статью «Место
евангелий во всебщей истории литературы», где евангелия характеризуются
как «простонародные культовые книги»: «Евангелие исходно
относится не к высокой литературе (Hochliteratur), а к малой литературе
(Kleinliteratur), это не продукт индивидуального творчества, а народная
книга, это не биография, а культовая легенда»80. К.Л. Шмидт
сравнивает евангелия не только с текстами той же эпохи, но и с
произведениями низовой литературы более позднего времени, например с народной
книгой о докторе Фаусте в ее разных редакциях и с хасидскими
легендами, собранными в книге М. Бубера «Великий маггид». М. Дибелиус
тоже относил евангелия к «малой (т. е. низовой. — С.Л.) литературе,
которая была обращена к публике, не имевшей связей с «высокой»
культурой эллинизма»81. Сторонники форманализа указывали на то, что
отсутствует само основание для сравнения канонических евангелий с
«высокой» литературой эллинизма.
Эти определения — в отличие от полемических тезисов Келера —
имеют по видимости чисто историко-филологический характер. Но то,
что канонические евангелия выводятся здесь за пределы современной
им профанной словесности и наделяются особым статусом, можно
понять и как функциональный аналог догмы о каноне.
Мировоззренческий аспект этих жанровых определений достаточно
заметен. Опосредованным образом они соотносятся с
противопоставлением христианства и культуры у Карла Барта (см. гл. 10). Поэтому,
несмотря на критику со стороны представителей классической немецкой
школы новозаветных исследований, в последние десятилетия как
американские, так и европейские специалисты все чаще снова рассматри-
437
вают наши евангелия на фоне позднеантичной биографической
литературы. По мнению американского ученого М.Дж. Саггса, керигматичес-
кое содержание евангелий (прежде всего Мк и Ин) не противоречит тому,
что в формальном отношении евангелия были модификацией жанра
биографии. Он замечает: «Если для евангелий можно найти место внутри
античной биографической литературы, то, по-видимому, этим местом
следует считать биографию с ареталогическими чертами»82. К близким
выводам приходит и немецкий автор Хуберт Канчик в статье «О жанре
«евангелие». Евангелие Марка и античная историография»83.
Детлев Дормайер в своем исследовании «Евангелие как
литературный и теологический жанр» хочет доказать, что «искусственное
различение между керигмой и дидактикой» можно устранить, так как это
различение возникло в новозаветной науке в силу чисто идеологических
причин. «Биографии [античных] философов и евангелия имеют одну и
ту же прагматическую функцию, которая с равным успехом может быть
названа керигматической или дидактической»84.
Многое, однако, зависит от того, какое определение «жанра»
подразумевается в дискусии. Будем считать, что к одному жанру относятся тексты,
обнаруживающие сходство формальных (в том числе стилевых),
содержательных и функциональных характеристик. Я думаю, что некоторая
формальная близость евангелий и античных биографий очевидна. В обоих
случаях в центре произведения находится один персонаж; в евангелиях, как
и в античных биографиях, повествовательные эпизоды перемежаются с
подборками высказываний героя. Мф и Лк, подобно многим
эллинистическим биографиям, содержат рассказы о происхождении и детстве героя.
Что же касается содержательных и функциональных определений, то «ке-
ригматичность» евангелий едва ли может считаться их конститутивным
жанровым признаком: как показывают исследования последних
десятилетий, каждое из евангелий обладает собственным «местом в жизни»85, так
что «керигмы» в евангелиях не больше, чем полемики, апологетики,
юридического материала и паренезы. Если отказаться от определения
содержательной специфики евангелий по «керигматическому» признаку, то
легко увидеть содержательную черту, общую у них с разными видами
античной биографии, представленными, например, «Ликургом» и некоторыми
другими биографиями Плутарха, «Жизнью Аполлония Тианского» Флавия
Филострата, «Жизнью Пифагора» Порфирия, а также написанной в
конце V в. Марином биографией Прокла: во всех этих случаях одна из
главных целей автора — прославление героя, имеющее дидактический или
моралистский смысл.
Кроме того, двухчастная работа Луки (евангелие и Деяния) очевидным
образом имеет биографический и историографический (или хотя бы
«квазиисториографический») характер в том смысле и в той степени, в каких
Μ к такого характера не имеет. Для нашей темы о жанре этот пример —
самый яркий. Уже Бультман называл Лк жизнеописанием Иисуса, а Деян —
историей ранней Церкви: «В своем евангелии Лука, в отличие от авторов
других евангелий, стремится описать жизнь Иисуса как историк. ...В Деян
он предлагает историю первообщины, историю начала миссии и историю
миссионерских путешествий Павла вплоть до римских уз. ...Он написал
Деян в качестве продолжения своего евангелия, и сам этот факт подтвер-
438
ждает следующее: Лука отказался от первоначального керигматического
смысла предания об Иисусе и историзировал это предание»86. Но про Мф
тоже можно сказать, что он уже отказался от керигматического смысла
предания об Иисусе, интерпретируя это предание в доктринальных и
правовых целях. И по мере выявления формальных, содержательных и
функциональных различий между всеми нарративными евангелиями (внутри-
и внеканоническими) исследование литературной специфики евангелий,
проводившееся в русле формкритического консенсуса, стало приходить к
выводу о том, что к собственно «керигматическому» жанру надо относить
одного Μ к87.
Таким образом, сейчас исследователи все чаще пытаются
определить жанровую специфику канонических евангелий, помещая их в
контекст тогдашней словесной культуры. Этот подход заставляет заново
искать аналогии и образцы для евангелий в еврейской Библии, в
словесности эллинизма и раннего иудаизма88.
Однако исследование соотношения между евангелиями и
эллинистической биографией затрудняется тем, что «огромная биографическая
литература эллинизма известна только по заглавиям и лишь отчасти по
фрагментам, причем последние в подавляющем большинстве случаев
настолько ничтожны, что дают право судить разве что о тематике
сочинения, но никак не о его композиции или словесной ткани»89. Это
особенно верно для часто поминаемой исследователями НЗ «ареталогичес-
кой биографии» и других (предположительно) подходящих для
сравнения с евангелиями видов малой литературы.
Примечания
1 Buhmann R. Die Erforschung der synoptischen Evangelien. - Bultmann R. Glauben
und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. 4. Aufl. Bd. IV. Tübingen, 1984, с 7.
2 Wrede W. Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum
Verständnis des Markusevangeliums. 3. Aufl. Göttingen, 1963, c. 131.
3 Там же, с. 129.
4 Там же, с. 3, 13.
5 Там же, с. 120.
6 См. хрестоматию важнейших работ о «мессианской тайне»: The messianic
secret. Ed. Chr. Tuckett. Philadelphia, London, 1983.
7 Wellhausen /. Einleitung in die drei ersten Evangelien. 2. Aufl. В., 1911, с. 44.
8 Dibelius Λ/. Die Formgeschichte des Evangeliums. Tübingen, 1919; Schmidt K.L.
Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literarkritische Untersuchungen zur ältesten
Jesusüberlieferung. В., 1919; Bultmann R. Die Geschichte der synoptischen
Tradition. Göttingen, 1921.
9 Мартин Дибелиус применил слегка измененный термин «/br/wewgeschichte»,
употреблявшийся Францем Овербеком и Эдуардом Норденом. В англоязычной
библеистике в том же значении употребляется термин «form criticism», т. е.
«исследование [жанровых] форм». А.Б. Григорьев в беседе с автором этих строк
предложил русский перевод «форманализ», который тоже будет употребляться
в дальнейшем.
10 См.: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 2. Aufl. Bd. 2. Tübingen, 1927,
стб.418.
11 Schmidt K.L. Der Rahmen der Geschichte Jesu, c. 17, 317.
12 Bultmann R. Die Geschichte der synoptischen Tradition. 2. Aufl. Göttingen, 1931,
439
с. 5 ел. Это второе издание по объему оказалось почти вдвое больше первого (в
котором было 10 + 232 с.) за счет более детального анализа материала: план
книги во втором издании не изменился. Последующие издания «Истории»
идентичны второму. Работа была расширена в 1958 г. за счет «Дополнения»
(Ergänzungsheft), изданного отдельной брошюрой. Последнее, продолженное за
счет включенных прямо в текст обзоров новой литературы, издание
«Дополнения» подготовил Герд Тайсен (Gerd Theissen), оно вышло в 1971 г.
13 Dibelius Μ. Zur Formgeschichte der Evangelien. - Theologische Rundschau. Neue
Folge. Bd. 1. Tübingen, 1929, с 188.
14 См. об этом: Schmithals W. Kritik der Formkritik. - Zeitschrift für Theologie und
Kirche. 77. Jg., Tübingen, 1980, с 149-185 (167).
15 Термин «Sitz im Leben» принадлежит Г.Гункелю.
,6 Zimmermann Η, Formen und Gattungen im Neuen Testament. - Einführung in die
Methoden der biblischen Exegese. Hrsg. von J.Schreiner. Würzburg, 1971, c. 256.
17 Пропп В.Я, Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 11. Достойно
внимания то обстоятельство, что при критическом анализе методологических
предпосылок Formgeschichte использовались исследования русских
«формалистов» П.Богатырева и Р.Якобсона о соотношении устного творчества и его
письменной фиксации. См.: Güttgemanns Ε. Offene Fragen zur Formgeschichte
des Evangeliums. München, 1970, с 134 ел, ср. с. 66.
18 Пропп В,Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 15.
19 Ср. Bultmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum
historischen Jesus. 4. Aufl. Heidelberg, 1978, passim.
20 Bultmann R. Die Geschichte, c. 373.
21 Dibelius M. Die alttestamentlichen Motive in der Leidensgeschichte des Petrus und
des Johannes-Evangeliums. - Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.
Beiheft 33. Giessen, 1918, c. 125.
22 Dibelius M. Zur Formgeschichte der Evangelien, с 191.
23 Wilckens U, Die Missionsreden der Apostelgeschichte. Form und
traditionsgeschichtliche Untersuchungen. Neukirchen—Vluyn, 1961, c. 72—99.
24 Albertz M. Die synoptischen Streitgespräche. В., 1921; Bertram G. Die
Leidengeschichte Jesu und der Christuskult. Göttingen, 1922; Taylor V. The
Formation of the Gospel tradition. L., 1935 (второе издание; первое издание
вышло в 1933 г.). Приведенные слова В. Тейлора см. на с. VIII ел.
25 Dibelius Μ. Die Formgeschichte des Evangeliums. 4. Aufl. Tübingen, 1961, с 226.
26 Там же, с. 151 ел.
27 В доталмудической еврейской литературе «речения мудрости» собраны,
например, в книгах «Притчи Соломона» и «Мудрость Иисуса, сына Сирахова».
Классический пример этого жанра в ранней раввинистической литературе —
трактат «Пиркей Авот», включенный в Мишну.
2* Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments. 3. Aufl. Tübingen, 1958, c. 4.
29 Bultmann R. Die Erforschung der synoptischen Evangelien, c. 27 ел.
30 Там же, с. 28.
31 Разбор некоторых «критериев подлинности» см. у Нормана Перрина: Perrin N.
Rediscovering the Teaching of Jesus. L., 1967, с 15—53. См. также: Hahn F.
Methodologische Überlegungen zur Rückfrage nach Jesus. - Kertelge K. (Hg.). Rückfrage
nach Jesus. Freiburg, 1974, с 118—144. Популяризирующий обзор литературы на эту
тему содержится в книге голландского католического теолога Эдварда Схилебек-
са «Иисус. Христологический эксперимент»: Schillebeeckx Ε. Jesus. An experiment in
Christology. L, 1979, с 81 — 100. Из более новой специальной литературы на эту
тему см.: Boring Μ.Ε. The historical-critical method's «criteria of authenticity»: the
beatitudes in Q and Thomas as a test case. Atlanta, 1988 (Semeia. Vol. 44), c. 9-44.
32 Bultmann R. Die Geschichte, с. 222.
33 Там же, с. 144.
34 Впрочем, и для такого употребления есть опора в еврейской Библии, где нуж-
440
> * ._ . . . _ . _ .. _..____. _ f
лающиеся в истолковании символические действия пророков иногда тоже ооо -
значаются термином btöfc. См., например, Иез 24:3 слл,
35 Schillebeeckx Ε, Jesus, с. 626 слл.
36 См.: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Hrsg. von GJ.Botterweck, H.
Ringgren, H.-J. Fabry. Bd. V. Stuttgart u.a., 1986, стб. 69—73; Theologisches Wörterbuch
zum Neuen Testament. Hrsg. von G. Friedrich. Bd. V. Stuttgart, 1944, с 741—759.
3Ί Julicher Α. Die Gleichnisreden Jesu. Tübingen, Bd. I, 1888; Bd. II, 1899.
3S Понятие «речевое событие» появилось в интерпретации притч в результате
заимствования идей, разработанных философско-лингвистической теорией
речевых актов. (См. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XVII. Теория
речевых актов. — М., 1986.) Это понятие легло в основу анализа притч у Эрнста
Фукса и Эты Линеман. См.: Fuchs Ε. Bemerkungen zur Gleichnisauslegung. -
Gesammelte Aufsätze. Bd. II. Zur Frage nach dem historischen Jesus. Tübingen,
1960, c. 136—142; Linnemann E. Gleichnisse Jesu. Einführung und Auslegung.
Göttingen, 1961.
39 Jeremias J. Die Gleichnisse Jesu. 8. Aufl. Göttingen, 1970.
40 Bultmann R. Die Geschichte, с 184.
41 Там же, с. 192.
42 Там же.
43 Jeremias J. Die Gleichnisse Jesu, с. 74.
44 См.: Perrin N. Jesus and the language of the Kingdom. Symbol and metaphor in
New Testament interpretation. Philadelphia, 1976, с 89 слл.
45 См.: Jeremias J. Die Gleichnisse Jesu, с. 17 ел.
46 См. статью С.ВТищенко «Основные мотивы интерпретации Мф»
(Канонические евангелия. М., 1992, с. 198), где разбирается смысл притчи о злых
виноградарях в евангелии Мф. См. также гл. 7 о месте той же притчи в евангелии Мк.
47 См.: Bultmann R. Die Geschichte, с. 233 — 260 (Form und Geschichte der
Wundergeschichten). Здесь же Бультман сравнивает синоптические рассказы о
чудесах с материалами еврейской традиции.
48 Bultmann R. Die Erforschung der synoptischen Evangelien, с 16.
49 См.: Dunn J. Christology in the making. L., 1980, c. 16, 273 ел.; Schillebeeckx E.
Jesus, с 424—429 (литература!). Наиболее полная монография на эту тему: Bieler
L. ΘΕΙΟΣ ANHP. Das Bild des «göttlichen Menschen» in Spätantike und
Frühchristentum. Wien, 1. Bd., 1935; 2. Bd., 1936.
50 Русский перевод сочинения Порфирия опубликован в кн.: Диоген Лаэртский.
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, с. 449-461.
Образ Пифагора у самого Диогена Лаэрция (там же, с. 332—346) почти не
содержит черт тауматурга, т. е. божественного чудотворца.
51 Это редкое слово несколько раз встречается в оригинальных греческих
источниках, однажды в LXX: Сир 36:19 (16) и однажды в дошедшей до нас части
перевода Симмаха: Пс 29 (30):6.
52 Hadas Λ/., Smith Μ. Heroes and gods: spiritual biographies in antiquity. N. Y., 1965,
с 57-66.
53 Koester H. One Jesus and four primitive Gospels. — The Harvard theological review.
Vol. 61. Cambridge, Mass., 1968, с 207-247 (230-236).
54 Рабинович Ε.Г. «Жизнь Аполлония Тианского» Флавия Филострата. — Флавий
Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М., 1985, с. 221 ел.
55 См. выше, гл. 5.
56 Blackburn В. Theios anerand the Marcan miracle traditions: a critique of the theios
aner concept as an interpretative background of the miracle traditions used by Mark.
Tübingen, 199 1.
57 Hengel M. Judentum und Hellenismus. 3. Aufl. Tübingen, 1988.
58 Ср.: Bultmann R. Die Geschichte, c. 297.
59 Там же, с. 297 ел.
60 Dibelius Μ. Die Formgeschichte des Evangeliums, c. 21.
441
61 См.: Bertram G. Die Leidengeschichte Jesu und der Christuskult.
62 Dibelius M. Die Formgeschichte des Evangeliums, с 180 слл.
63 Bultmann R. Die Geschichte, с 297-302.
64 Reinbold W. Der älteste Bericht über den Tod Jesu. Literarische Analyse und
historische Kritik der Passionsdarstellung der Evangelien. В., Ν. Υ., 1994, с. 119—177.
65 См. обзор литературы и анализ евангельских текстов на эту тему в работе
английского исследователя Дж.Данна: Dunn J.D.G. The question of anti-semitism in
the New Testament writings of the period. - Jews and Christians: the parting of the
ways A. D. 70 to 135. The Second Durham Tübingen Research Symposium on Earliest
Christianity and Judaism. Ed. by James D.G.Dunn. Tübingen, 1992
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Bd. 66), c. 177—211.
66 См. выше, гл. 5.
67 Ростовцев Μ.И. Мученики греческой культуры в I—II вв. по Р.Хр. — Мир
Божий. Год X, № 5. СПб., 1901, с. 12. Об «Актах александрийцев» см. также в кн.:
Нахов ИМ. Киническая литература. М., 1981, с. 150—153.
вц Bultmann R. Die Geschichte, с. 362 слл.
64 A Greek-English Lexicon compiled by H.G. Liddell and R.Scott, rev. by H.L.Jones.
Oxf., 1968, c. 209 ел (s.v. απομνημονεύματα).
70 Надо, однако, заметить, что в Apol II 11 Юстин пересказывает одно место из
«Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта (II, 1). Возможно, Юстин и в самом
деле хочет уподобить евангелия сочинению Ксенофонта.
71 Lessings Werke. Hrsg. von K.Woelfel. 3. Bd. Frankfurt a. M., 1967, с 327.
72 Ренан Э. Жизнь Иисуса. Μ., 1990 (Репринт издания 1906 г.), с. LXIV (я
отредактировал текст цитаты, сравнив его с французским оригиналом).
73 Overbeck Für. bber die Anfänge der patristischen Literatur. — Historische Zeitschrift.
Bd. 48, 1882, с 417—472. Цит. по новому изданию, вышедшему отдельной
книжкой: Darmstadt, 1954, с. 36.
74 Там же.
75 Dibelius Λ/. Die Formgeschichte des Evangeliums, с 5.
76 Kahler M. Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische
Christus. Neu hrsg. von E.Wolf. 2. Aufl. München, 1956, c. 105.
77 Там же, с. 60.
n Bultmann R. Die Geschichte, c. 372 ел.
79 Там же, с. 372.
80 Schmidt К.L. Die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Literaturgeschichte. —
Schmidt K.L. Neues Testament. Judentum. Kirche. (Kleine Schriften). München,
1981, с 37-134 (66 ел).
81 Dibelius Μ. Die Formgeschichte des Evangeliums, c. 1.
H2 Suggs MJ. Gospel, genre. — The interpreter's dictionary of the Bible. Supplementary
volume. Ed. by K. Crim. Nashville, 1976, с 371.
83 Cancik H. Die Gattung Evangelium. Das Evangelium des Markus im Rahmen der
antiken Historiographie. — Markus-Philologie. Hrsg. von H.Cancik. Tübingen, 1984,
с 85-113.
84 Dormeyer D. Evangelium als literarische und theologische Gattung. Darmstadt, 1989,
с 190.
85 См. гл. 7 и статьи СВ. Лёзова и СВ. Тищенко в кн. «Канонические
евангелия» (М., 1992).
*6 Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments, 1958, с. 469.
*7 См.: Talbert Ch.H. What is a Gospel? Philadelphia, 1977, с. 6, 20.
Hii См.: Aune D. The New Testament in its literary environment. Philadelphia, 1987. Из
русской литературы на эти темы следует упомянуть статью Ольги Михайловны
Фрейденберг (1890—1955) «Евангелие — один из видов греческого романа» (Атеист.
№ 59, 1930, с. 129—147). Автор стремится доказать, что античный любовный роман
и евангелия могут быть сведены к общей мифологической и культовой основе.
К9 Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 12.
442
Глава 7
Евангелист Марк
I. Метод анализа редакций; интерпретация Мк
Разговор о методах и целях интерпретации, появившихся после
торжества форманализа и определивших облик науки о НЗ в последние 50
лет, не имеет смысла вести иначе, как на конкретном материале. Таким
материалом у нас будет евангелие Марка. Я начну с его
характеристики по стандартным параметрам дисциплины «Введение в НЗ»: место и
время создания Мк, авторство, источники и т. д.
В последние три десятилетия количество опубликованных
исследований о евангелии Марка превышает число работ по
интерпретации любого другого новозаветного текста. Однако острый интерес к
Мк возник гораздо раньше — еще в середине XIX в., когда при
разработке синоптической проблемы (см. гл. 5) утвердилось
представление о Мк как об исторически первом евангелии и одном из
источников Мф и Лк. С тех пор этот интерес только увеличивался, и каждая
новая идея, проникавшая в новозаветную науку, сразу же
применялась к анализу Мк.
В самом деле, если это сочинение было первым евангелием, то в
историко-культурном плане Мк следует считать одним из самых влия-
*j *_t
тельных произведении мировой литературы.
Тем не менее и сегодня Мк остается наиболее загадочным из
евангелий. В науке еще не установилось согласие относительно главных
идей Мк, до сих пор выдвигаются очень непохожие и часто
взаимоисключающие интерпретации замысла евангелиста Марка. Едва ли
возможно выделить даже то минимальное общее мнение об основах
истолкования Мк, которое годилось бы для изложения в учебных или
популярных целях. Интенсивное изучение «теологии Мк» идет в разных
направлениях, и это видно даже при сравнении глав о Мк в стандартных
пособиях по университетскому курсу «Введение в Новый Завет» (см.
список литературы на с. 17—18).
Такое положение дел объяснимо с точки зрения истории
раннехристианской традиции об Иисусе. Гипотеза двух источников дает
возможность показать, как Мф и Лк использовали доступный нам
текст Мк и реконструируемый текст источника логий, т.е.
открывает простор для исследования «редакторской деятельности» этих
евангелистов. Недаром сторонники метода анализа редакций при
изучении Мф и Лк достигли более наглядных результатов, чем при
изучении Мк или Ин. Ведь в первом случае у интерпретатора,
занимающегося содержательной спецификой произведения, есть надежные
исходные данные — итоги работы нескольких поколений ученых,
исследовавших изменения материала традиции при переходе от Мк к
Мф и Лк.
С Мк дело обстоит иначе, поэтому сегодня наиболее полное
представление о своеобразии этого текста даст лишь очерк, включающий и
сведения об истории его истолкования.
443
а. Церковная традиция о Мк и ее исторический смысл
Мы попробуем проследить, какими мотивами побуждалось и
направлялось исследование Мк на разных этапах развития христианской
теологии и новозаветной науки за последние полтора века. Но прежде
следует познакомиться с теми сведениями о втором евангелии нашего
канона, которые сохранились в предании Церкви. Предание содержит
информацию об авторе евангелия, а также о месте, времени и
обстоятельствах создания этого литературного памятника. Естественно, в
науке церковное предание о Мк тоже стало предметом критического
анализа. Этот анализ нужен для того, чтобы ответить на два связанных
между собой вопроса:
— В какой мере свидетельства традиции помогают истолковать
фактические данные, полученные в результате изучения текста Мк?
— Подтверждает ли анализ текста Мк церковную традицию об
авторстве этого евангелия, о месте, времени и обстоятельствах его создания?
Именно такова методически правильная процедура исследования: от
ответа на эти вопросы в значительной мере зависит оценка
историчности традиции.
Древнейшее из доступных нам свидетельств о Мк принадлежит
церковному писателю первой трети II в. Папию Иерапольскому1. Цитаты
из его работы «Истолкование слов Господа» дошли до нас в «Церковной
истории» Евсевия Кесарийского, написанной в 20-е годы IV в.
Излагая «предание о Марке, написавшем Евангелие» (Hist Eccl III
39, 14), Папий ссылается на сведения некоего «пресвитера»
(πρεσβύτερος); вероятно, он тождествен упоминаемому прямо перед тем
«пресвитеру Иоанну», которого Папий «помещает в число людей,
стоявших рядом с апостолами» (39, 5). По словам «пресвитера», «Марк,
который был истолкователем [переводчиком?] (ερμηνευτής) Петра,
старательно записал все, что запомнил - однако не по порядку, - и
сказанное и содеянное Господом. Ведь сам он не слушал Господа и не
сопровождал Его, а лишь позже, как я сказал, [Марк сопровождал]
Петра, который излагал учение с целью удовлетворить нуждам
[слушателей], а не для того, чтобы изложить по порядку слова Господни. Так что
Марк ничуть не погрешил, описывая некоторые события так, как
сохранил их в памяти. Ведь он заботился только об одном: не пропустить
чего-нибудь из того, что он слышал, и ничего не исказить» (Hist Eccl
111,39, 14 ел).
Существовавшая уже во времена Папия церковная традиция
указывает на Рим как на место, где апостол Петр провел последние годы своей
жизни и погиб мученической смертью: ср. 1 Петр 5:13 («Вавилон» =Рим)
сИн21:18ис1 Clem 5:1-4.
Папий в приводимых Евсевием цитатах ничего не говорит о Риме.
Мы просто не знаем, где, по мнению Папия, Марк написал свое
евангелие. Евсевий же явным образом считает, что упомянутые Папием
события имели место в Риме, как видно из второй книги его «Истории»:
«Промысл привел в Рим... апостола Петра. ...Он принес с востока
жителям запада... проповедь о Царстве Небесном. ...Свет благочестия
настолько озарил разум слушателей Петра, что они сочли недостаточным
444
лишь однажды со слуха [узнать] незаписанное изложение
божественного провозвестия. Они всячески просили Марка, евангелие которого
имеется [у нас] — а он был спутником Петра, — чтобы он оставил для
них запись учения, переданного им устно. ...Как рассказывают,
апостол, узнав по откровению Духа то, что произошло, обрадовался
старанию этих людей и разрешил это писание (την γραφήν) для употребления
в церквах. Климент приводит эту историю в 6-й книге своих «Очерков»
(ύποτυπώσεων). Согласно с ним свидетельствует и Иерапольский епископ
по имени Папий (выделено мной. — С.Л.). Петр упоминает о Марке в
первом Послании...» (Hist Eccl II, 14, 6—15,2). Эти же не дошедшие до
нас «Очерки» Климента Александрийского Евсевий цитирует в шестой
книге «Истории». Судя по всему, во второй книге Евсевий имеет в виду
тот самый текст, который он цитирует в шестой.
Как мы видели, в Hist Eccl II Евсевий излагает традицию о
евангелии Мк в собственном связном тексте, а затем ссылается на три
источника: 1 Петр, Папия и Климента. Цитату из 1 Петр он приводит тут же,
а Папия и Климента Евсевий цитирует соответственно в III и VI
книгах «Истории», где речь идет о деятельности этих церковных писателей.
Вот интересующая нас цитата из Климента: «Когда Петр в Риме
публично проповедовал Слово и Духом возвещал Евангелие, то многие
из бывших там просили Марка (давнего его спутника, помнившего все,
сказанное им) записать рассказанное [Петром]. Марк, написав
Евангелие, передал его тем, кому оно было нужно. Узнав об этом, Петр не
возражал, но и не интересовался [этим сочинением]» (Hist Eccl VI 14, 6).
Быть может, эта древняя традиция о связи между евангелием
Марка и Петром косвенным образом засвидетельствована и у Юстина.
Согласно Dial 106,3, в воспоминаниях (άπομνημονεύμασιν) Петра
написано, что Петру его имя дал Иисус, который также и «двум братьям,
сыновьям Зеведея, дал имя Боанергес, что значит сыновья грома». В НЗ
это сообщение про двух братьев содержится только в Мк 3:17, а также
(без упоминания о Зеведее) в Лк 6:14 D («кодекс Безы»), куда он попал,
возможно, из Мк. Если учесть, что «Диалог с евреем Трифоном» был
написан, как позволяют заключить свидетельства самого текста2,
между 155 и 161 гг., когда традиция о связи между Петром и Марком уже
существовала, то можно считать почти доказанным, что
«воспоминаниями Петра» Юстин назвал евангелие Марка. Заметим, что Юстин не
цитирует Мк, а пересказывает его: в тексте Dial лишь слова Βοανηργές,
о έστιν υίοι βροντής совпадают с Мк. Насколько я могу судить,
по-гречески это звучит настолько естественно, что едва ли может быть легко
выражено иначе. Об остальном тексте Мк 3:16 ел этого не скажешь.
Видимо, Юстин читал нашего Мк и здесь излагает его по памяти.
Другая возможность, редактирование письменного текста, кажется мне
менее вероятной именно из-за сильной несхожести сравниваемых
отрывков.
У Иринея Лионского есть краткое упоминание об обстоятельствах
создания Мк: «Матфей передал евреям писание Евангелия на их
собственном языке, когда в Риме Петр и Павел благовествовали
(εύαγγελιζομένων) и основывали Церковь. А после их исхода [—смерти]
Марк, ученик и истолкователь (ερμηνευτής) Петра, сам передал нам за-
445
пись того, что проповедовал Петр» (Наег III 1,1 = Eusebius. Hist Eccl V
8,2-3).
Как понимать соотношение между этими текстами и
представленными в них данными?
Свидетельство Юстина можно истолковать как косвенное указание
лишь на один элемент нашего предания, на связь между Петром и
текстом, известным нам как евангелие Мк. О римском происхождении Мк
Юстин ничего не говорит; впрочем, место написания «воспоминаний
Петра» не имеет отношения к теме Dial 106. Откуда Юстин получил эти
сведения? Я думаю, что при нынешнем состоянии источников о
греческом и римском христианстве середины II в. об этом нельзя сказать
ничего определенного. После обращения в христианство Юстин вел
жизнь странствующего христианского философа, потом учил в Риме и
погиб там мученической смертью около 165 г. Где он написал «Диалог»,
мы не знаем.
Что же касается текстов Климента и Иринея, то они явно
обнаруживают литературную связь со свидетельством «пресвитера», которое
впервые записал Папий. Похоже, что сообщения Иринея о Мф и Мк
прямо зависят от Папия, т. е. используют его текст. Сообщение
Климента тоже удовлетворительно объясняется как истолковывающее
изложение того, что Климент нашел у Папия. Поэтому для оценки
церковной традиции о создании Мк мы можем ограничиться анализом
текста Папия, процитированного у Евсевия.
Папий приводит слова «пресвитера», в которых сообщается, что (1)
Марк, написавший книгу об Иисусе, не знал его лично, но имел какое-
то отношение к Петру и что (2) в изложении Марка не соблюден
порядок (τάξις) событий в жизни Иисуса. Смысл употребленного
пресвитером слова ερμηνευτής («истолкователь, переводчик») неясен. Сам
Папий, видимо, вкладывал в это слово значение «переводчик». Однако
едва ли Петр учил и проповедовал через переводчика. Поэтому, как
замечает Кюммель (с. 28), «непонятно, имелись ли у пресвитера
достоверные сведения об отношениях Марка и Петра». Неясно также, что
значит упрек Марку в отсутствии «порядка» при изложении слов и деяний
Иисуса. Кюммель полагает, что у пресвитера подразумевается сравнение
с последовательностью эпизодов в евангелии Мф, «наиболее
авторитетном в конце I в.» (с. 28). Однако последовательность Мф немногим
отличается от последовательности Мк; при сравнении этих евангелий мы
скорее могли бы ожидать вопрос о причинах отсутствия у Мк рассказов
о рождении и детстве Иисуса, Нагорной проповеди и пр.
Очевидно, что цель разбираемого текста — защитить достоверность
сочинения Марка, автора, про которого было известно, что он не был
свидетелем жизни Иисуса. Вероятно, со слов «Ведь сам он не слушал
Господа» начинается истолкование, которое Папий дал словам
пресвитера: Марк передал рассказы Петра с максимальной
добросовестностью, а неправильная последовательность объясняется
несистематическим характером «учения» Петра. Папий хочет прочно связать книгу
Марка с неоспоримым авторитетом Петра, главы апостолов. То же
самое делали и более поздние авторы, использовавшие сообщение Папия.
Содержится ли в этом сообщении исторический элемент? Ничто в
446
евангелии Марка не указывает на то, что оно восходит к личным
воспоминаниям или проповедям Петра. Напротив, сам характер
сохраненной в Мк традиции об Иисусе заставляет думать, что личные
воспоминания не могли оказать сколько-нибудь значительного прямого влияния
на материал, вошедший в евангелие Мк. Нет в тексте также и прямых
указаний на Рим как на место написания Мк. Латинизмы в греческом
тексте Мк — это главным образом военные и политические реалии
эпохи ранней Империи, т. е. слова, которые греческий язык естественным
образом заимствовал из латыни. Что касается времени создания Мк, то
анализ текста позволяет предположить, что это евангелие было
написано вскоре после падения Иерусалима, т. е. после 70 г. Это событие,
возможно, подразумевается в притче о злых виноградарях (12:1—9), в
сообщении о том, что в момент смерти Иисуса разорвалась завеса в храме
(15:28), а также в Марковой редакции «синоптического апокалипсиса»
(см. 13:2). Я исхожу из того, что Мк был написан в начале 70-х годов,
но многие комментаторы датируют Мк периодом незадолго до падения
Иерусалима. Понятно, что решение в пользу той или другой
датировки сильно влияет на интерпретацию текста.
Итак, если считать, что в тексте Мк действительно содержатся
указания на падение Иерусалима, то terminus a quo для этого евангелия —
70 г. Гипотеза двух источников дает нам относительный terminus ante
quem — время создания Мф и Лк.
В связи с датировкой Мк следует упомянуть о дискуссии вокруг
одного греческого папирусного фрагмента из Кумрана, который часть
исследователей отождествляют как Мк 6:52—53.
Как известно, в седьмой кумранской пещере (7Q) были найдены 18
папирусных обрывков со следами греческого текста (в той же пещере
были найдены черепки: вероятно, владельцы папирусных рукописей
запечатали их в кувшинах и оставили в пещере, затем кувшины были
разбиты, а рукописи разорваны). Фотографии этих фрагментов были
опубликованы в 1962 г. Два из них были сразу же отождествлены: это
отрывки из греческого перевода Исх и из апокрифического Послания
Иеремии. В 1972-1973 гг. испанский папирологХосе О'Каллаган (Jose
O'Callaghan) предложил отождествить девять неопознанных отрывков
из 7Q как фрагменты произведений, вошедших в НЗ: Мк, Иак, 1 Тим,
Деян, Рим, 2 Петр3.
В дискуссии вокруг этого предложения наибольшее внимание но-
возаветников привлек фрагмент 7Q 5, в котором О'Каллаган увидел Мк
6:52—53. Остальные отождествления фрагментов из 7Q с
новозаветными текстами покоятся на столь зыбких основаниях, что эти
предложения — несмотря на соблазнительную возможность устроить
«землетрясение в науке о НЗ» — почти не нашли сторонников в академическом
мире4.
7Q 5 — кусок папируса размером 3,9 χ 2,7 см с остатками текста на
площади 3,3 χ 2,7 см. На этом куске сохранились следы пяти строк, на
четырех из них расположены 9 надежно читаемых букв, кроме того,
имеются следы еще 11 букв. По мнению О'Каллагана, в каждой
строке столбца было от 20 до 23 букв. Во второй строке надежно читается
сочетание букв το, в третьей — καιτ, в четвертой — νη (согласно всем ре-
конструкциям, слева от бесспорной буквы «ню» можно увидеть еще
одну, что дает чтение ννη). в пятой — одна буква «эта». На этом
основании О'Каллаган читает в третьей строке καιτιαπερασαντες (вм. καιδια-
περασαντες, δ>τ; смешение зубных в койне засвидетельствовано для
Египта и Малой Азии), в четвертой строке — γεννησοφετ.
Я не в состоянии по достоинству оценить ни папирологическую
аргументацию за и против этою отождествления, ни противоречивые
данные компьютерных исследований. Однако ясно, что компьютерные
анализы фрагмента 7Q 5 с применением конкорданса для всего НЗ и
некоторых других литературных древнегреческих текстов
отождествляли либо не отождествляли этот фрагмент с Мк 6:52—53 в зависимости
от некоторых предварительных субъективных решений: например, от
того, допускалась ли возможность чередования δ/τ, или от того, как
оценивалась длина строки, а также от учета разночтений в рукописной
традиции НЗ. Как известно, при восстановлении плохо читаемых букв
исследователи (точно так же как читатели текстов, написанных дурным
почерком) руководствуются ожидаемым смыслом, т. е. гипотетической
идентификацией фрагмента.
Стихи, о которых идет речь, принадлежат к редакторским резюме
Марка, т. е. они немыслимы вне контекста евангелия. Когда и если
отождествление 7Q 5 = Мк 6:52-53 ел будет доказано, то это, вероятно,
скажется на датировке Мк и других евангелий. Однако сейчас сама эта
гипотетическая идентификация вызывает столько вопросов, что не
может служить основанием для новых гипотез.
Вернемся к церковному преданию о Мк. Хорошо известна
тенденция приписывать авторитетные в Церкви сочинения апостолам. Тот
факт, что наше евангелие соотнесено с Петром лишь косвенно,
свидетельствует о древности предания, согласно которому автором этой
книги был христианин по имени Марк, не принадлежавший к кругу
непосредственных учеников Иисуса.
Скорее всего это древнее предание об авторстве Мк было
соединено с апостольским авторитетом Петра в результате толкования того
места из Первого послания Петра, где впервые устанавливается связь
между Петром и неким Марком: «Приветствует вас Марк, сын мой» (1
Петр 5:13). 1 Петр — псевдонимное послание, написанное на рубеже I—II
вв. То, что ученик («сын») Петра назван в нем Марком, могло дать толчок
к развитию традиции, зафиксированной у Папия: Марк — автор евангелия
был отождествлен с Марком — учеником Петра из 1 Петр 5:13.
Итак, у нас есть основания считать, что автора этого сочинения и
в самом деле звали Марком, но больше мы не можем сказать о нем
ничего определенного: его отождествление с персонажем Деян
палестинским евреем Иоанном-Марком, спутником Павла и Варнавы
(см. Деян 12:12,25; 13:5, 13; 15:37 елл, и ср. Кол 4:10), тоже
противоречит тексту, так как уроженец Палестины едва ли мог иметь столь
смутное и иногда прямо неверное представление о ее географии,
какое обнаруживает автор (ср., например, Мк 7:31; 10:1). В тексте Мк
содержатся прямые указания на то, что это евангелие было написано
за пределами Палестины для грекоязычной христианской общины,
уже не имевшей ни непосредственных связей с еврейством, ни точ-
448
ных сведении о еврейских ооычаях, но сохранявшей палестинское
предание об Иисусе (ср., например, Мк 7:3 ел). Некоторые экзегеты
предполагают, что местом написания Мк могла быть Сирия, где уже
в довольно раннюю эпоху существовали нееврейские христианские
общины (ср. Гал 2:11 — 14). Это предположение опирается, в
частности, на гипотезу двух источников. Дело в том, что евангелия Мф и
Лк, согласно широко распространенному мнению, были написаны в
Сирии в 80—90-е годы. Следовательно, авторы обоих «больших» (или
«младших») синоптических евангелий использовали нашего Мк
вскоре после его написания, когда эта книга еще не могла
распространиться очень широко. Раннее знакомство авторов Мф и Лк с Мк
легче всего объяснить тем, что Мк тоже был написан в восточном
Средиземноморье. Кроме того, уже по географическим
соображениям Сирия — одно из наиболее вероятных мест для первой встречи
палестинского предания об Иисусе и эллинистического культового
мифа о Христе, — для той встречи, из которой, по мысли Бультмана,
и возникла наша синоптическая традиция (см., однако, ниже разбор
языковых свидетельств о месте написания Мк).
Таким образом, на оба сформулированных выше вопроса
приходится ответить отрицательно. Сохраненное у Евсевия сообщение Папия не
помогает, несмотря на свою древность, изучению Мк и противоречит
свидетельствам самого этого текста. Следовательно, церковная
традиция не содержит исторически достоверных сведений о нашем
евангелии.
б. Мк и исследование жизни Иисуса:
от начала «либерального» поиска до форманализа
Середина и вторая половина XIX в. была в немецком протестантизме
эпохой расцвета либеральной теологии. Один из ее предтеч, Фридрих
Даниэль Шлейермахер (1768—1834), разработал целостную систему
христианского вероучения, среди главных элементов которого он выделял
«философскую теологию» и «историческую теологию». Первая
мыслилась как опыт современной философской интерпретации основных
положений догматики, а к исторической теологии относились в первую
очередь исследования НЗ, а также история христианской догматики.
Для самой новозаветной науки, сформировавшейся внутри
либеральной теологии, важнейшей задачей —. в соответствии с духом времени -
стало исследование «исторического Иисуса». Предпосылкой «поисков
исторического Иисуса» было допущение, согласно которому
историческая наука в состоянии открыть для человека XIX в. подлинного
Иисуса, в котором нуждается христианская вера. Стало быть, здесь
постулировалось тождество между историческим Иисусом (результатом
критической реконструкции) и подлинным (по позднейшей терминологии —
«земным») Иисусом — человеком, некогда жившим в Палестине.
Когда евангелие Марка было признано самым древним сочинением
о жизни Иисуса, оно оказалось в центре этих теологически
обусловленных исследований. Они опирались на постулат, позже названный
«марковской гипотезой»: самое древнее из евангелий, ближе всех остальных
29 Заказ 257 449
стоящее к описываемым событиям, должно быть и самым исторически
достоверным источником сведений об Иисусе. Кроме того, как уже
говорилось, историзирующему прочтению Марка способствовали
некоторые особенности этого евангелия. Так, повествование Мк казалось в
основе своей простым и бесхитростным изложением фактов, —
отчасти потому, что у Мк нет ни явно легендарных рассказов о рождении и
детстве Иисуса, ни явлений Воскресшего.
«Марковская гипотеза» сформировалось в ходе исследований ряда
протестантских теологов-«новозаветников». Эти ученые, из которых
самым значительным по своему вкладу в науку был Генрих Юлиус
Хольцман (1832-1910), разрабатывали проблему письменных
источников евангелий и стремились преодолеть радикально-критические и, как
тогда часто казалось, целиком отрицательные результаты Давида
Фридриха Штрауса и Фердинанда Христиана Баура. Особенно тяжелое
впечатление на университетских теологов произвели выводы Штрауса,
считавшего все евангельские материалы «мифами», т. е.
повествованиями, выражающими религиозные (догматические) идеи и не
имеющими непосредственной исторической ценности5.
Историзирующая интерпретация Мк, делавшая этот памятник
основой для реконструкции жизни Иисуса, почти безраздельно
господствовала в академической теологии до начала XX в. (см. гл. 6). Она была
поколеблена работой В. Вреде 1901 г. «Мессианская тайна в
евангелиях: вклад в истолкование евангелия Марка». В. Вреде показал, что в
повествовании Мк нет ничего «простого, непритязательного и
бесхитростного» и вообще нет изложения исторических фактов в нашем
понимании, ибо «как-это-было-на-самом-деле» современного
(постпросвещенческого) исторического мышления не имеет ничего общего с тем
представлением о «действительно бывшем», которое разделял
евангелист Марк. Здесь Вреде развивает мифологическую концепцию Д.Ф.
Штрауса и прокладывает путь для тех представлений о Мк, которые
вполне раскрылись лишь во второй половине XX в. Анализ Вреде
обнаруживает, что евангелие Мк насквозь «мифично», т. е. сформировано
догматическими идеями: его можно понять только как выражение
определенной теологии (подробнее о работе Вреде см. в гл. 6). Альберт
Швейцер в заключительных главах своей «Истории исследования
жизни Иисуса», вышедшей первым изданием в 1906 г., пыталсй
противостоять тому, что он назвал «последовательным скепсисом Вреде». А.
Швейцер еще не был готов признать, что в тексте Мк отсутствует
опора для реконструкции истории Иисуса. Поэтому Швейцера не могла
удовлетворить предложенная Вильямом Вреде интерпретация Мк,
которую Швейцер называет чисто литературной.
Однако будущее принадлежало именно «литературным»
интерпретациям. Как было показано в гл. 6, к окончательному отказу от идеи,
согласно которой композиция («обрамление») Мк обладает непосред-
ственной исторической ценностью для изучения жизни Иисуса,
привела работа создателей метода анализа форм, — ученых, занявшихся
исследованием устной традиции, предшествовавшей написанию
синоптических евангелий.
Они внесли важнейший вклад в изучение устной традиции как глав-
450
ного источника Мк. Они же попытались проследить, как Мк ипользо-
вал этот источник. На первом этапе развития форманализа
евангелисту отводилась скорее техническая роль; популяризаторы нового метода
сравнивали Марка с человеком, вырезавшим картинки из готового
набора и наклеивавшим их на страницы альбома для аппликации.
Действительно, М. Дибелиус отстаивал мнение, согласно которому
«литературное понимание синоптических евангелий начинается с признания
того, что они представляют собой собрания материалов традиции.
Составителей [евангелий] можно считать авторами лишь в самой малой
степени. Они прежде всего собиратели и хранители традиции, а также
редакторы»6.
М. Дибелиус, как и Р. Бультман, различал композиционные
(«писательские», или «прагматические») и догматические мотивы
Марка-редактора.
Композиционные мотивы определяют собирание тематически и
формально близких «малых единств» в более крупные повествовательные
«блоки»: например, Мк 2:1—3:6, где собраны пять сообщений о спорах
Иисуса с евреями, изображаемыми как его противники (Дибелиус
относит эти материалы по большей части к жанру парадигм), собрание
притч в Мк 4:1-34 или собрание рассказов о чудесах в Мк 4:35—5:43.
Впрочем, создатели метода форманализа допускали, что более или
менее устойчивые устные собрания однородных материалов возникали в
христианской среде еще до Μ к, а затем некоторые их них были
использованы и переработаны евангелистом.
Так, часто предполагают, что рассказ об исцелении женщины,
страдавшей кровотечением (5:25—34), был соединен с историей о
воскрешении дочери Иаира (5:22—43) еще в устной традиции. Однако
наблюдения за языком и композицией Мк не подтверждают это
предположение. Ср. второй «шов», 5:35: ετι αύτοΰ λαλούντος έρχονται από του
αρχισυναγώγου κτλ. Такое соединение двух перикоп с помощью genitivus
absolutus, указывающего на одновременность, встречается в одном
очевидном случае марковской редакции, притом с тем же глаголом, в 14:43:
και ευθύς ετι αύτοΰ λαλούντος παραγίνεται Ιούδας κτλ. Кроме того, в
другом месте автор сознательно использует прием ретардации
повествования вставным эпизодом. Ср. 6:14—29: рассказ о гибели Иоанна
помещен между речью Иисуса, отправлявшего Двенадцать на проповедь, и
«резюмирующим сообщением» об их возвращении. Так возникает
чисто повествовательный эффект: автор «дает время» апостолам для
проповеди, рассказывая нечто вроде вставной новеллы. Возможно, то же
происходит и в 5:25—34: пока автор рассказывает об исцелении больной
женщины, «успевают» прийти люди из дома старейшины синагоги и
сообщить ему, что его дочь умерла.
Вероятно, в распоряжении Мк было собрание изречений и притч
Иисуса, которое Мк называет «учением», διδαχή (ср. 1:22; 4:2; 12:38). Как
уже отмечалось, часть материалов этого собрания имеет параллели в Q.
«Малый апокалипсис» (Мк 13) представляет собой, по мнению
большинства исследователей, отредактированное Марком еврейское
апокалиптическое произведение. Эта гипотеза основана преже всего на
следующих фактах: текст апокалипсиса явно целостный (за небольшими
29* 451
изъятиями); он содержит много параллелей с еврейской
апокалиптической литературой той эпохи (в частности, с апокалиптическими
частями Дан и с 4 Эзр). Кроме того, гипотеза основана на допущении,
согласно которому сам Мк не смог бы сочинить такой текст «по мотивам»
еврейской апокалиптики.
Как мы уже знаем, Мк лишь переработал повествование о
Страстях, доставшееся ему из раннехристианской традиции в готовом
виде (см. гл. 6).
Не раз высказывалось предположение о том, что некоторыми из
этих источников Марк располагал в письменном виде. Прямое
указание на то, что при составлении своего «малого апокалипсиса» Мк
использовал письменный документ, можно усмотреть в Мк 13:14: «Пусть
читатель поймет!» (о άναγινώσκων νοείτω). Эти слова,
вклинивающиеся в речь Иисуса, можно истолковать либо как фрагмент письменного
апокалипсиса, который послужил для Мк оригиналом (в таком случае
Мк переписал то, что должен был бы опустить), либо как
(несвойственное Марку) прямое обращение евангелиста к читателю. Во всяком
случае, Мф при редактировании Марка увидел здесь несообразность и
поправил текст, введя ссылку на книгу Даниила: у Мф (24:15) Иисус
призывает своих слушателей внимательно читать и правильно понимать
пророчество Даниила о «кощунственной мерзости», которое
присутствовало в «малом апокалипсисе» уже у Мк и, по всей вероятности, в
переработанном им источнике (ср. Дан 9:27; 12:11).
Здесь следует вспомнить также гипотезу о том, что в своих
рассказах о чудесах Мк использовал письменный источник, близкий к
«источнику знаков» у Ин (см. выше, с. 92).
Композиционными мотивами обусловлены и проанализированные
М. Дибелиусом «резюмирующие сообщения» евангелиста: они служат
для установления связи между создаваемыми Марком
повествовательными «блоками» (см., например, Мк 1:32 слл; 3:10 слл; 6:54 слл). К
писательским приемам Марка Дибелиус относит также замечания,
подготавливающие рассказ о дальнейших событиях. Например, упоминания
о враждебном отношении членов еврейского истеблишмента
(«фарисеев», «иродиан», «первосвященников» и «книжников») к Иисусу (Мк 3:6;
11:18) предваряют повествование о решающем конфликте с
руководителями общины, который привел к гибели Иисуса. Такие же замечания
служат мелкими композиционными скрепами. Например, лодка, с
которой Иисус рассказывает собравшемуся народу свои притчи (4:1),
вводится в повествование заранее (3:9). Позже эта лодка упоминается в 4:36 и в
5:21. Тем самым учение в притчах композиционно связывается с
усмирением бури и далее - с рассказом о воскрешении дочери Иаира.
Вслед за К.Л. Шмидтом Дибелиус рассматривает «обрамляющие
замечания» (например, 6:7, 12 ел — обрамление напутственной речи
Иисуса, адресованной апостолам) как композиционный прием Марка,
служащий для того, чтобы соединить разрозненные логин и другие
материалы традиции в целостное повествование.
Разбирая композиционную технику Мк, Дибелиус называет его
консервативным редактором, который лишь слегка историзировал материал
традиции, чтобы выстроить из него единое произведение.
452
J
Но все же своеобразие книги Марка определяется, по Дибелиусу, не
наличным составом традиции, а спецификой замысла автора, т.е.
теологическими («догматическими») мотивами. И тут Дибелиус оценивает
Марка как писателя более положительно, чем Вильям Вреде.
Последний, как известно, считал, что догматические и даже литературные
мотивы, сформировавшие евангелие Мкч были анонимны, т.е. за ними
стояла стихийно складывавшаяся в общинах христология, а не
индивидуальное теологическое творчество автора. По мнению Вреде (см. гл. 6),
существующая в этом евангелии последовательность эпизодов вообще
не важна для «идеи Марка», т. е. для того смысла, который стремился
передать евангелист.
Дибелиус — вслед за Вреде — видит ключ к Мк в теории тайного
мессианства Иисуса. Эта теория, по Дибелиусу, составляет первую и
важнейшую особенность теологии Мк. Как и Вреде, он считает, что Марк
ставил перед собой задачу выразить веру общины. Смысл веры той
общины, для которой писал Мк, сводился, по Дибелиусу, к
определенному пониманию мессианства Иисуса: Мессия Иисус — это пришедший
от Бога Сын человеческий, которому «должно» пострадать, чтобы
снова возвыситься к Богу и чтобы теперь община могла почитать его и
ждать его скорого возвращения «с облаками небесными» (ср. Мк 14:62).
В отличие от Вреде, не признававшего, что композиция Мк
выражает сколько-нибудь существенный теологический смысл, Дибелиус
считает, что именно догматические идеи автора установили
содержательные связи между элементами предания. Таким образом, речь идет о
толковании традиции в сочинении евангелиста. У Мк Иисус трижды
предсказывает ученикам свои страдания и гибель (8:31 слл; 9:31; 10:32
слл). Дибелиус считает эти предсказания Страстей плодом творчества
евангелиста, т.е. авторским выражением того смысла, который община
видела в гибели Иисуса. Но титул Иисуса, фигурирующий в
предсказаниях («Сын человеческий»), Дибелиус считает обозначением
страдающего Иисуса, применявшимся в общине еще до создания Мк.
Предсказания Страстей (и близкие к ним по смыслу слова Мк 9:11 слл) — «это
тексты, содержание которых составляет теология, а источник которых
— рефлексия, но не индивидуальная теология и рефлексия
евангелиста, а теологическое воззрение, которое распространялось в общинах
посредством проповеди»7. Таким образом, по мысли Дибелиуса, идеи
принадлежали общине, а тексты предсказаний Страстей, где эти идеи
выражены, впервые написал Μ к.
Вторая особенность Марка в трактовке Дибелиуса — концепция
притч как чего-то тайного, скрытого, загадочного (ср. Мк 4:11 ел) -
следует из «теории тайны». Притчи, как и чудеса, — это эпифании,
явления божественного в мир, но их смысл доступен лишь для
избранных, которым дано познать тайну Царства Божьего. (Для большинства
евреев, по Марку, все это должно остаться загадкой, в соответствии с
замыслом Бога!)
Анализируя композицию Мк, Дибелиус соглашается с тем, что
«исповедание Петра» (8:27 слл) составляет поворотный пункт, но не
в жизни Иисуса или в развитии учеников, а в раскрытии замысла
автора, т.е. в развитии теологической темы евангелия. За исповедани-
453
ем Петра следуют предсказания Страстей, принадлежащие, по
мысли Дибелиуса, самому Марку, а также эпифаническая сцена
Преображения — божественное подтверждение мессианства Иисуса.
«Легко понять смысл этой композиционной группировки: Иисус —
подлинный Мессия, но для мира он остается (вплоть до Воскресения)
презираемым, страдающим и гибнущим. Его божественное величие
открывается лишь узкому кругу избранных... Итак, евангелие
Марка было написано как книга тайных эпифаний»*. То же самое,
полагает Дибелиус, относится и к первым сценам евангелия. Очищение
в Иордане, которое Иисус принимает от Иоанна, — это первая
тайная эпифания, рассказ о божественном усыновлении Иисуса,
которое осталось потаенным от мира: «Тайная эпифания — это
характеристика также и первых перикоп Марка. Именно с этой точки
зрения Мк собрал и переработал предание»9.
Что же касается Р. Бультмана, то, как уже отмечалось в предыдущей
главе, он считал главной литературной характеристикой Мк соединение
эллинистического мифа о Христе с палестинским преданием о жизни
Иисуса. В этой связи заслуживает внимания мысль Бультмана о том,
что у Мк «мифический элемент выступает сильнее, чем у Мф и Лк.
Хотя у них изображение чудесного усиливается и в повествование
проникают новые мифические элементы, композиция целого оттесняет
миф о Христе на задний план, так что на переднем плане оказывается
образ действующего на земле Иисуса»10.
Я считаю Мк первым повествовательным выражением христианского
мифа об основании; поэтому мысль Бультмана о том, что мифическое
выражено у Мк интенсивнее, чем у Мф и Лк, кажется мне достойной особого
внимания. (Под мифом Бультман имеет здесь в виду эллинистическую
христологию; позже понятие мифа у него изменилось, ср. гл. 10.)
Р. Бультман, тщательно проанализировавший редакторскую работу,
которую Мк проделал над материалом традиции11, полагал, как и
Дибелиус, что евангелист был автором лишь в ограниченном смысле.
Поэтому, по мнению Бультмана, «не следует пытаться указать (за
исключением очень немногих случаев, это невозможно) на то, каковы были
ведущие идеи Марка... Мк не настолько владеет своим материалом, чтобы
создать самостоятельное систематическое построение»12.
в. Марк как теолог и писатель: метод анализа редакций и его модификации
Однако уже следующее поколение исследователей нашего евангелия
направило свои усилия именно на выявление «ведущих идей Марка».
Этот поворот в научной работе был обусловлен возникновением и -
после второй мировой войны — бурным развитием метода анализа ре-
дакцийи.
Термин «анализ редакций» (или «история редакций»
—«Redaktionsgeschichte») принадлежит Вилли Марксену, автору книги «Евангелист
Марк: исследования по истории редакции Евангелия»14. В предыдущей
главе я пытался показать, что основная проблематика будущей
Redaktionsgeschichte была сформулирована уже создателями форманализа,
она с самого начала входила в их исследовательскую программу. Как мы
454
I
I
только что видели, у Дибелиуса и Бультмана встречаются
характеристики Мк как литературного произведения. По сути дела, сторонники фор-
манализа уже рассматривали отдельные евангелия как третье «место в
жизни» для традиции об Иисусе.
Однако исследователи, предложившие Redaktionsgeschichte как
новый подход, противопоставляли свою работу форманализу.
Дело в том, что в работах с позиций форманализа преобладал исто-
рико-биографический интерес, и поэтому «обрамление» евангелий, не
представлявшее самостоятельной ценности для такого подхода,
получало гораздо меньше внимания, чем собранный в евангелиях материал
традиции.
Напротив того, В.Марксен отмечает в своем программном эссе
«Анализ форм и анализ редакций»: «Мы видим подлинное
достижение Марка прежде всего не в собирании материала, а как раз в
«обрамлении». Этот термин следует понимать весьма широко, он
включает не только географические указания и связки между отдельными
сценами, но и текстуальные изменения в материале традиции, — в
той мере, в какой мы можем их распознать»15. И далее Марксен
задается вопросом о специфическом «месте в жизни» для каждого из
евангелий, т.е. об их социальных функциях, обусловленных их
содержательным своеобразием.
В. Марксен пишет, что сверхзадачей форманализа все же оставалось
изучение традиции с точки зрения ее ценности для «поисков
исторического Иисуса»; что же касается метода анализа редакций, то он «с
самого начала исключает вопрос о том, что произошло на самом деле»16.
Действительно, Бультман в «Истории синоптической традиции»
формулирует критерии подлинности логий (т. е. их принадлежности
Иисусу), и задача восстановления истории традиции предполагает
поиск самого раннего ее слоя, который можно отнести к Иисусу из
Назарета. Поэтому в плане истории науки оправданным представляется
такое утверждение: исследование исторического Иисуса принадлежит не
только к целям, но и к предпосылкам Formgeschichte.
А для Redaktionsgeschichte важен религиозный смысл евангелий как
целостных сочинений. При таком подходе вопросы о происхождении и
об исторической достоверности того или иного материала, вошедшего
в евангелие, теряют первостепенное значение. Здесь Иисус из
Назарета становится прежде всего литературным героем, персонажем
религиозного сочинения. Точно так же Сократа у Платона и Ксенофонта
можно рассматривать как персонаж философской и мемуарно-биографи-
ческой прозы, отвлекаясь от вопроса об «историческом Сократе». Еще
более яркий пример такого рода — образ Пифагора, таинственного
мудреца и чудотворца VI в., в литературе поздней античности.
Так, в уже упомянутом эссе, служащем введением к книге о Мк,
Вилли Марксен отвечает на вопрос о том, чем создается единство
образа Иисуса в традиции — за счет личности Иисуса или за счет его
жизнеописания: «Единство личности Иисуса предшествует традиции
и все еще отражается в ней, хотя и в преломленном виде. Традиция
растекается в разных направлениях. А единство, впоследствии
созданное евангелистами (и прежде всего Марком), — это уже нечто
455
совсем иное. Это систематически построенное произведение, и его
нельзя понять как «завершение» анонимной передачи материала.
Передача ведет скорее к окончательной «фрагментации».
Редакторская работа, напротив, противодействует этому естественному
направлению развития. И такое противодействие нельзя понять без
учета личности автора, который в своем произведении стремится
достичь определенной цели»17.
Я думаю, что в методологических рассуждениях Марксена все же
есть некоторое полемическое преувеличение. По его мнению,
Redaktionsgeschichte могла развиться уже в начале XX в. (после фиксации
источниковедческой гипотезы двух источников в работе Пауля Вернле
1899 г.) как непосредственное продолжение исследований В. Вреде и
Ю. Велльгаузена. Этого не произошло, предполагает Марксен, лишь
потому, что «их (Вреде и Велльгаузена. — С.Л.) результаты
оттолкнули исследователей (занявшихся изучением устной традиции. — С.Л.), у
которых не нашлось мужества последовательно разработать их
методы»1*. Марксен не вполне прав: ведь форманализ позволяет узнать
историю устной традиции об Иисусе в период до Мк, а обладание этим
знанием — необходимое предварительное условие, которое должно
быть выполнено прежде, чем исследователь займется изучением того,
что хотел сообщить своему читателю автор, использовавший
материалы этой традиции.
Как показали Норман Перрин и Хельмут Кестер19, осмысление
результатов, полученных при изучении отдельных евангелий в их
содержательной целостности, позволяет приступить к изучению
«теологической истории раннего христианства», т. е. истории христианской мысли
новозаветного периода. Уже Марксен замечает; если мы сравним
«место в жизни» для каждого из четырех канонических евангелий, т.е.
религиозный смысл каждой из этих книг, то «получится очень живая
картина истории ранней Церкви»20.
Но история христианской мысли новозаветного периода — лишь
одно из научных направлений, развившихся в 70—90-е годы XX в. на
основе Redaktionsgeschichte, понятой как метод изучения евангелий в их
содержательной и литературной целостности. Именно из этого метода,
преимущественно из его американского варианта21, усвоившего
современные «светские» процедуры анализа литературного текста, возникли
новые направления в исследовании евангелий, — направления, часто
утверждающие себя под знаком разрыва с более чем двухсотлетней
традицией историко-филологического изучения НЗ в рамках
христианской теологии.
Здесь я могу лишь упомянуть о том, что в последней четверти XX в.
возникает «постмодернистская и посткритическая парадигма» в библе-
истике, в частности в изучении евангелий22. Конечно, «постмодернизм»
(нем. «die Postmoderne», англ. «postmodernity») здесь надо понимать как
историософский, а не как искусствоведческий термин, т. е. это
название культуры той эпохи, что наступила после «конца Нового времени»
(нем. «die Moderne» как синоним «Neuzeit»). Философ Жан-Франсуа
Лиотар говорит, что «простейшим определением» сути этой эпохи
следует считать «недоверие ко всем метанарративам», т. е. к повествовани-
456
к
ям «второго порядка», в качестве языка использующим понятия какой-
либо идеологии23.
Недоверием к идеологии и тягой к посткритической целостности, к
«мышлению посредством повествований» отчасти объясняется и то, что
в новозаветной науке 70—90-х годов расцвела «нарративная
герменевтика», сделавшая повествование самостоятельным предметом
исследования. «Повествование» становится здесь таким же ключевым словом,
каким для форманализа были «формы и жанры» или «традиция и
редакция». С точки зрения истории интерпретации Мк важно отметить, что
новейшие исследования евангельского повествования исходят из
результатов, достигнутых при помощи метода «анализа редакций», хотя и
в этом случае сторонники нового подхода декларируют отталкивание от
привычных процедур.
Так, Дейвид Роудз и Доналд Мики пишут в своей книге «Марк как
литературное произведение. Введение в повествование евангелия
Марка»: «Автор евангелия Марка, конечно, использовал источники,
содержание которых было определено историческими событиями,
связанными с жизнью Иисуса, но получившийся в результате текст можно
рассматривать как самодовлеющее произведение искусства, обладающее
собственной целостностью. Точно так же Мона Лиза Леонардо — это
живописное произведение, в котором выразилось некоторое
понимание жизни, и при этом не имеет значения, походит ли изображение на
«оригинал». И точно так же историческая пьеса Шекспира обладает
целостностью независимо от того, как ее герои соотносятся с
историческими деятелями, чьи имена они носят. Евангелие Марка можно читать
и истолковывать вне связи с реальными событиями, которые дали
повод к его написанию. Автор евангелия не просто собрал материалы
предания, соединил их в определенном порядке и добавил резюмирующие
замечания, — он еще рассказал историю, причем драматичную историю,
сюжет которой захватывает нас при чтении»24.
Нетрудно заметить, что этот путь к литературоведческому
осмыслению Мк (включая анализ субъектной структуры повествования и
повествовательных моделей) был открыт уже в программном эсссе В. Мар-
ксена. А само литературоведческое изучение Мк было подготовлено,
как мы увидим, тремя десятилетиями работы над текстом Мк с позиций
«анализа редакций».
Именно из Redaktionsgeschichte (пусть под лозунгами отталкивания
и разрыва преемственности) вырастает и структуралистское изучение
НЗ, сторонники которого сознательно оставляют в стороне
историческую проблематику критической экзегезы и сосредоточиваются на
структурном анализе повествования евангелий как целостных текстов,
существующих в синхронном плане.
Датский исследователь Оле Давидсен в книге с характерным
названием «Нарративный Иисус. Семиотическое чтение евангелия
Марка» так объясняет соотношение структуралистской и
исторической интерпретации: «Речь не идет о возвращении на докритическую
ступень. Семиотическое чтение нельзя считать попыткой обойти
историческую критику. Если одна из составных частей
некритического отношения к Библии — это незадумывающееся отождествление
457
повествования и истории, то можно сказать, что историко-критичес-
V*
кии метод выявил различие между повествованием и историей.
...Шаг за шагом историко-критический метод разрушал евангельский
текст как историческое сообщение, то есть как связное и ясное
описание подлинных событий. Но тем самым историческая критика
способствовала — хотя и ненамеренно — пониманию евангельского
текста как повествования»25.
В классической немецкой экзегезе можно найти и истоки
методологических начинаний Чикагской школы новозаветных исследований,
представители которой, используя результаты форманализа и «анализа
редакций», обращаются к социологическому исследованию
раннехристианских общин. Социологическое изучение НЗ, давшее первые
результаты еще в начале XX в. (в работах Адольфа Дейсмана), расцвело в
современной американской новозаветной науке. По мысли
американских ученых, исследование «социального мира первоначального
христианства» должно дополнить привычный вариант историко-критичес-
кого подхода к НЗ, оформившийся в виде теологической дисциплины
«Введение в НЗ»26.
Очередной подъем интереса к Мк, вызвавший упомянутый в
начале этой главы поток литературы 1960—90-х годов, объясняется как раз
новыми возможностями, которые метод Redaktionsgeschichte и его
модификации открыли для изучения идейного мира новозаветного
христианства и самих евангелий как литературных произведений.
В связи с вопросами о традиции и редакции в Мк и об
источниках Мк снова обсуждались особенности языка этого произведения.
Согласно современным представлениям27, греческий язык Марка
обнаруживает все главные характеристики койне — общегреческого
*-> XJ
языка, сложившегося в эллинистический период на ионииско-атти-
ческой диалектальной основе. Некоторые морфологические и
синтаксические особенности языка Мк, отличающие его, как и язык
других книг НЗ, от языка «высокой» эллинистической литературы I
в. н. э., имеют параллели в языке греческих внелитературных
папирусов, отражавшем устный узус того времени. (Эти папирусы
находят в Египте с конца XIX в.) К тому времени, когда Мк писал свое
евангелие, христианская традиция перешла с арамейского языка на
греческий. Часть традиции впервые возникла уже в грекоязычной
среде, более ранняя ее часть была переведена на греческий с
арамейского28. Сам автор Мк, судя по всему, имел дело только с
грекоязычной традицией. На синтаксис Мк повлияла Септуагинта. Я думаю,
что, в отличие от Луки и некоторых других авторов, чьи тексты
вошли в Н35 Мк не воспринимал Септуагинту как образец высокого и
сакрального стиля. Для Мк Септуагинта была скорее просто
образцом литературной нормы. Семитское влияние на язык Мк
проявилось сильнее всего в синтаксисе, а влияние латыни — в лексике.
Лексические латинизмы у Мк связаны с военной и аминистративно-пра-
вовой областями. К той же сфере употребления примыкают
латинские названия мер и весов, а также названия римских монет, имевших
хождение и на Востоке: их использовали для платежей в имперскую
казну.
458
Вот наиболее важные примеры лексических латинизмов:
δηνάριον (6:37; 12:15; 14:5) = denarius
Καίσαρ (12:14,16,17) = Caesar
κεντυρίων (15:39) — ceiiturio
κήνσος (12:14) = census
κοδράντης (12:42) = quadrans
λεγιών (5:9,12) = legio
μόδιος (4:21) = modius
ξέστης (7:4) = sextarius
πραιτώριον (15:16) = praetorium
σπεκουλάτωρ (6:27) = speculator
φραγελλόω (15:15) = flagello.
Знак <=> чаще всего указывает здесь на тождественное значение, но
в некоторых случаях — просто на происхождение от латинского слова.
Об общеимперском характере этих слов свидетельствует, в частности,
то обстоятельство, что многие из них встречаются и в раввинистичес-
кой литературе.
Мк дважды поясняет греческое обозначение с помощью
латинского (12:42: λεπτά δύο, ό έστιν κοδράντης; 15:16: εσω της αυλής, δ έστιν
πραιτώριον).
Интересно, что все немногочисленные фразеологические
латинизмы Мк встречаются в сценах суда и расправы над Иисусом, где речь
идет о действиях членов синедриона, Пилата и римских солдат:
14:65: ραπίσμασιν αυτόν ελαβον = verberibus eum acceperunt
15:15: το ίκανόν ποιείν = satisfacere
15:19: τιθέναι τα γόνατα = genua ponere.
Если бы речь шла о каком-нибудь другом тексте, то в применении
латинизмов следовало бы увидеть прием, изощренный стилистический
ход. Но, быть может, это верно и для Мк? Если мы не будем оценивать
его произведение по заведомо чуждым ему критериям, то заметим у
этого автора тонкую работу со словом. Первая из «тайных эпифаний»,
сцена откровения Иисусу при очищении в Иордане, включает слова:
«[Иисус] увидел, как разорвались небеса...», εΐδεν σχιζομένους τους
ουρανούς (1:10). А в конце сцены распятия Иисуса мы читаем: «И тогда
завеса в Храме разорвалась надвое...», και το καταπέτασμα του ναοΰ
εσχίσθη εις δύο (15:38). Мк употребляет глагол σχίζομαι только в этих
двух местах, в самом начале и в самом конце рассказа о жизни Иисуса.
А сцену смерти Иисуса Мк дает как последнюю из «тайных эпифаний»:
в 15:39 следует исповедание уверовавшего центуриона, которое, быть
может, перекликается с «исповеданием Петра» (8:29), оказавшегося
неверным учителю. Сопоставление водного очищения и смерти обладало
в первоначальном христианстве глубокими мифологическими
смыслами, связанными с еврейским ритуалом инициации прозелитов и с
христианской мистерией водного крещения (очищения). Ср. Рим 6:3 ел:
«Разве вы не знаете, что все мы, в очищении соединившиеся при
погружении в воду с Помазанником Иисусом, очистились через погружение
в его смерть? Мы были погребены вместе с ним, погрузившись в его
смерть, чтобы, как Помазанник был воскрешен славой Отца, так и мы
смогли бы вступить в новую жизнь». Эта связь между культовыми дей-
459
ствиями и настоящей смертью предполагается и в Мк 10:38: «Можете
ли выпить чашу, которую я пью? Или принять очищение, которым я
очищаюсь?»
Естественно, интерпретация латинизмов важна в споре вокруг
исторической традиции о римском происхождении Мк. Наиболее веским
доводом в пользу Рима здесь можно было бы считать перевод греческих
монет в римские (12:42). Но этот довод ослабляется, на мой взгляд, тем,
что у Мк римские денарии фигурируют в разговорах между Иисусом и
учениками (6:37; 14:5). Это соответствует археологическим,
эпиграфическим и литературным данным о широком хождении римских денег в
восточных провинциях Империи. Они были общепринятыми; быть
может, именно поэтому Мк считал нужным пояснить достоинство
самой мелкой тогдашней греческой монеты, указывая на ее римский
эквивалент. Важно также, что лептон в I в. был не очень употребительной
монетой: уровень цен был таков, что за один лептон нельзя было купить
почти ничего. Кроме того, монета с таким названием обладала разным
достоинством в разных городах, так как ее могли чеканить на местах:
например, в одной малоазийской надписи упомянут серебряный (не
медный!) родосский лептон, άργύριον 'Ρόδιον λεπτόν29. Возможно,
именно по этим причинам у автора появилась потребность уточнить размер
взноса через римскую монету твердого достоинства.
Если это верно, то здесь, как и в случаях с остальными
лексическими латинизмами, нет указания на западное происхождение нашего
евангелия. Что же касается фразеологических латинизмов, то они были
распространены в разговорном греческом языке той эпохи30.
Еще один сильный языковой аргумент сторонников римского
происхождения Мк — обозначение финикийской женщины в Мк 7:26 как
Συροφοινίκισσα. Мк употребляет этот термин как указание на этническую
принадлежность собеседницы Иисуса. Сам термин,
засвидетельствованный у греческих авторов периода Империи (например, в мужском роде у
Лукиана, Deor Cone 4), предполагает противопоставление по отношению
к ливийской Финикии и ливиофиникийцам (Λνβυφοίνικες), жившим в
районе Карфагена. Латинская форма этого этнонима, Syrophoenix, встречается
и у римских писателей, например у Ювенала (сатира 8, 159). Мф (15:22)
заменяет это слово на Χαναναία, ханаанеянка, а ведь он, как мы уже
говорили, скорее всего писал именно в Сирии!
Согласно этому аргументу, для жителей Рима «просто» финикийцы
ассоциировались с хорошо им знакомыми финикийцами из области
Карфагена в Северной Африке, поэтому Марку и потребовалось более точное
выражение. Но стройной аргументации этот довод не предлагает: если
«просто» финикийцами для римлян были бы карфагеняне, то термин «ли-
виофиникийцы», встречающийся у Тита Ливия и Плиния Старшего, был
бы избыточен. Надо также иметь в виду, что слово «финикийцы» начиная
с гомеровского эпоса постоянно встречается в греческой литературе для
обозначения народа на восточном побережье Средиземного моря. Но при
этом у Лукиана, который сам был сирийцем, Дионис назван «внуком
некоего сирофиникийского купца» (Deor Cone 4).
Я думаю, что вопрос о месте написания Мк не может быть
убедительно решен на основании языковых свидетельств. Но и признание
460
западного происхождения Мк само по себе еще не подтверждает
традицию о связи между Марком и Петром.
С позиций названных выше новых подходов была заново
сформулирована проблема жанра Мк, которая до сих пор остается одной из
самых спорных в новозаветной науке. Как мы знаем, в последние
десятилетия выводы Formgeschichte, которые сводились к тому, что Мк -
произведение sui generis, стоящее за пределами современной ему
эллинистической словесности, уникальное создание раннего христианства,
сформированное задачами и спецификой раннехристианского
провозвестия — керигмы, т. е. в каком-то смысле внелитературная величина (в
отличие от Лк и даже от Мф), — эти выводы были модифицированы.
Заново были осмыслены идеи исследователей доевангельской традиции
о форме ПС, о подборках рассказов о чудесах, возможно
существовавших до написания Мк, об источнике логий и т. п. Как уже говорилось,
все эти источники Мк сами имели литературный характер. Таким
образом, эти исследования дают возможность понять Мк как
произведение, для которого можно указать на некоторое количество «частичных»
жанровых параллелей в литературе той эпохи: «речения мудрых», аре-
талогии, деяния мучеников (мартирологии), а также апокалипсисы. Мк
включил все это в единую повествовательную рамку, которая устроена
примерно так же, как «обрамление» некоторых античных биографий. По
моему мнению, такой взгляд лучше всего объясняет фактические данные.
Если рассматривать Мк как целостное литературное произведение,
то, вероятно, замыслу евангелиста соответствует трехчастное деление
текста. Вот как выглядит в таком случае композиция Мк.
A. Первая часть: публичная деятельность Иисуса в Галилее и
смежных областях.
1. Пролог: «Весть об Иисусе Помазаннике. Начало» (1:1 — 13).
2. Начало публичной деятельности Иисуса (1:14—45).
3. Сцены конфликтов (2:1—3:6).
4. Иисус, ученики и народ: притчи как эпифании (3:7—4:34).
5. Четыре рассказа о чудесах: чудеса как эпифании (4:35—5:43).
6. Странствования Иисуса. Иисус и неевреи (6:1—8:26).
Б. Вторая часть: путь Иисуса к мученической смерти и учение о
смысле «следования за Иисусом». Безуспешная попытка «открыть
глаза» ученикам.
1. Исповедание Петра, первое предсказание Страстей и
Воскресения, «следование за Иисусом», эсхатологические слова (8:27—9:1).
2. Преображение, исцеление бесноватого мальчика, второе
предсказание Страстей, учение о том, что значит быть учеником Иисуса (9:2—
50).
3. Слова Иисуса о нерасторжимости брака, благословение детей,
слова о богатстве, третье предсказание Страстей, просьба сыновей Зе-
ведея, исцеление слепого у Иерихона (гл. 10).
B. Третья часть: Иисус в Иерусалиме.
1. Вход в Иерусалим, изгнание торговцев из Храма (11:1 —25).
2. Иисус учит в Иерусалиме, споры с представителями еврейской
общины (11:27-12:44).
461
3. Апокалиптическая речь (гл. 13).
4. Последние дни: повествование о Страстях (гл. 14—15).
5. Пустая гробница (16:1—8).
6. Вторичное (не принадлежащее автору евангелия) заключение
(16:9-20).
Изучая «поэтику композиции»31 Мк, исследователи рассматривают
категории времени и пространства в этом произведении. Анализ
времени и пространства у Мк помогает выявить «ведущие идеи» евангелиста.
У Мк, в отличие от Лк, отсутствует настоящий хронологический
интерес. Лишь иерусалимская («страстная»!) неделя (гл.11-15)
«расписана по дням», что подчеркивает центральное место истории Страстей в
книге Марка и, быть может, связано с литургическим календарем в его
общине. Женщины обнаруживают пустую гробницу и узнают о
воскресении Иисуса (16:2—7) на восьмой день после входа Иисуса в
Иерусалим (11:1-11).
К Марку особенно применимо уже известное нам определение формы
и смысла евангелий, предложенное'Мартином Келером: «Евангелия
можно назвать историями Страстей с обстоятельным введением»32.
Хронологические указания в гл. 1—10 настолько несистематичны и
немногочисленны, что можно прийти к выводу: Μ к вообще не задавался вопросом о
временных промежутках между описанными им событиями, а скорее мыслил
их как отдельные примеры, указывающие на характер деятельности
Иисуса. Об этом же свидетельствуют и редакторские резюме Марка (см. 1:32
слл; 3:10 слл; 6:54 слл). Не интересовал Марка и вопрос о
продолжительности публичной деятельности Иисуса. По-видимому, для Мк все эти
сведения еще не имели отношения к εύαγγέλιον.
Пространственные обозначения у Мк, как было показано Э.Ломай-
ером и В. Марксеном33, имеют важную смысловую нагрузку. «Галилея»
и «Иерусалим» для Мк — скорее теологические, нежели географические
понятия. В. Марксену удалось продемонстрировать, что существующее
в тексте смысловое противопоставление «Галилея — Иерусалим»
создано автором евангелия: само слово «Галилея» встречается лишь в
«редакторских» текстах Мк (единственное исключение — 6:21, рассказ о том,
как галилейский правитель Ирод обрек на смерть Иоанна).
Галилея у Мк — это средоточие откровения, от первого публичного
выступления Иисуса (1:14 ел) и до будущего явления Воскресшего
(14:28; 16:7), которое для Мк было, по-видимому, тождественно
ожидаемой парусии.
Иерусалим у Мк — это средоточие вражды к новому откровению. Мк
меняет на противоположное то символическое значение, которое этот
город имел в современной ему еврейской культуре. Иерусалим, священное
место, с которым издревле были связаны великие эсхатологические
ожидания избранного народа, становится символом вражды евреев к Иисусу.
Из Иерусалима в Галилею приходят его враги — книжники и фарисеи
(3:22; 7:1), в Иерусалиме вынашивается замысел «погубить» Иисуса, и там
же этот замысел осуществляется (11:18; 12:12 ел; 14:1 ел; 15:1).
В Галилее Иисус совершает все свои чудеса, которые имели для Мк
смысл эпифаний — откровений Бога в делах Иисуса. В Иерусалиме
Иисус совершил лишь одно чудо — силой слова заставил засохнуть бес-
462
плодную смоковницу (11:12 слл, 20 ел). Я думаю, что Мк понимает это
чудо как «притчу в действии» — как символ того, что Израиль отныне
отвергнут Богом.
Вот смысл оппозиции «Галилея — Иерусалим»: Мк делает
полуязыческую (и это важно!) Галилею центром эсхатологического откровения,
а священный Иерусалим - центром, из которого исходит неверие,
ожесточенное неприятие откровения. Таким образом, эта оппозиция
выражает сформулированную уже Павлом идею о переходе избранничества
от неверных евреев к уверовавшим язычникам34.
Как известно, теория тайны (в терминологии В.Вреде —
«мессианская тайна») составляет ключевой элемент в писательском замысле Мк.
Современные интерпретаторы Мк сильно расходятся в истолковании
того смысла, который хотел передать евангелист, введя в текст эту идею.
Начнем с положения, признаваемого многими экзегетами. Теория
тайны, выразившаяся в нескольких сквозных редакционных мотивах -
в требовании хранить молчание о чудесах Иисуса и о его подлинной
сущности (ср.1:25,34,44; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26,30; 9:9), в концепции
притч как таинственных речений, служащих «неспасению» (4:10 слл,
34), а также в непонимании учениками личности, судьбы и действий
Иисуса (ср. 7:13 ел; 8:17 ел; 9:30 ел; 10:10), - эта теория полемически
направлена против того толкования личности Иисуса, которое следует
из христологии типа θειος άνήρ. Согласно этой линии экзегезы,
понимание Иисуса как божественного чудотворца было распространено в
традиции, использованной Марком (см. гл. 6). В своей «истории
Страстей с обстоятельным введением» Мк спорил с христологией,
укорененной в доставшейся ему традиции (например, в собрании рассказов
о чудесах), и стремился показать, что правильное понимание
откровения в Иисусе возможно лишь при осмыслении его страданий и
воскресения. Подлинная вера должна опираться не на чудеса, а на это
центральное для христианской керигмы событие. Требование Иисуса
хранить молчание интерпретируется здесь как выражение авторской
полемики с христологией божественного мужа, а предсказания Страстей и
композиционно связанное с ними учение о следовании за Иисусом по
пути страданий понимаются как формулировки «теологии Креста» —
собственной теологии Марка35.
В 60—70-е годы эти положения были развиты и заострены Теодором
Уиденом, Норманом Перрином и Эдвардом Схилебексом в их
исследованиях христологии Марка.
Американский автор Т. Уиден опубликовал в 1968 г. статью «Ересь,
для борьбы с которой было написано евангелие Марка»36. Он
утверждает, что Мк изображает эволюцию в отношении учеников к Иисусу — «от
невосприятия (1:16—8:26) к неправильному пониманию (8:27—14:9) и
далее — к отвержению Иисуса (14:10—72)»37. Затем Уиден доказывает,
что ученики у Мк выражают «еретическую» христологию
божественного мужа, или теологию славы (theologia gloriae), распространенную в
общине Мк, а Иисус выражает Маркову идею страдающего Мессии —
«теологию Креста», theologia crucis.
В 1971 г. Т. Уиден опубликовал книгу «Марк: конфликт традиций»,
где он развил эти идеи. В частности, он пытается подробнее реконст-
463
руировать «место в жизни» для Мк путем исследования общины Мк. По
его мнению, речь идет о ситуации начала 70-х годов, когда
напряженное ожидание парусин, связанные с ее отсрочкой разочарования, а
также начавшиеся преследования породили у христиан кризис веры. Эта
обстановка была благоприятна для распространения христологии
божественного мужа, предполагавшей мистическое слияние верующих с
возвышенным Господом Иисусом, который наделяет их своей
чудотворной силой. Эсхатологическое ожидание делалось тем самым
излишним, страдания лишались смысла. Для борьбы с этой ложной
христологии Марк и написал свое евангелие38.
По мысли Н. Перрина39, продолжившего разработку этой гипотезы,
адресатом евангелия Марка была христианская община, жившая в
напряженном апокалиптическом ожидании близкого конца, которое
отчасти было следствием Великого восстания и разрушения Иерусалима.
Эта община восприняла ложную христологию, которая
сосредоточивалась исключительно на триумфе и славе Иисуса Христа, Сына
Божьего, и это привело общину к неверным (с точки зрения автора нашего
евангелия) представлениям о том, какой должна быть жизнь
христианина в промежутке между мученической смертью Иисуса и его
приходом в качестве Сына человеческого. Евангелист Марк призывает свою
общину задуматься над тем, что Иисусу, Сыну Божьему и Сыну
человеческому, пришлось пройти путь, который вел его к триумфу и славе,
через страдания, и поэтому самим читателям евангелия, если они
стремятся приобщиться к «славе» Иисуса (ср. Мк 10:37 слл), предстоит
последовать за Иисусом по тому же пути страданий.
Чтобы разъяснить эту идею своей общине, Мк по-новому представляет
знакомую его читателям традицию об Иисусе: ученики выражают мнение
читателей Марка, их ложное понимание христологии и христианской
жизни, в то время как Иисус дает правильное понимание. (Кстати, мысль о
том, что ученики у Мк «представляют» читателей или общину Марка,
встречается уже у Бультмана в «Истории синоптической традиции»40.)
Следовательно, слова Иисуса в повествовании Марка обращены
прямо к читателям, и сами они с их заботами непосредственно
изображены в евангелии.
Как считает Перрин, такое построение евангелия возможно потому,
что для Мк время Иисуса и то, в котором живет сам евангелист и его
читатели, — одно и то же время. Если так, то по содержанию евангелие
Мк приближается к апокалиптической литературе. В типично
апокалиптическом духе Мк видит себя и своих читателей вовлеченными в
драму, развертывающуюся между Богом и людьми: эта драма началась
служением Иоанна Крестителя и скоро достигнет развязки, когда
Иисус вернется в Галилею с небесными облаками в качестве Сына
человеческого. Всё это - события одной и той же драмы, одного и того же
времени. «Понимание этого позволяет нам проникнуть в суть
евангелия Мк и в то же время готовит нас к тому, чтобы мы могли адекватно
оценить, насколько радикально евангелисты Мф и Лк переосмыслили
евангелие Мк»41, — заключает Н. Перрин.
Э. Схилебекс в книге «Иисус», опираясь на идеи Уидена и
Перрина, стремится доказать, что содержание Мк определено «христологией
464
отсутствия и невмешательства», которая действительна в период
между смертью Иисуса и его ожидавшейся парусией. Схилебекс считает,
что в Мк 13 Иисус изображен как уходящий учитель, который дает
своим последователям прощальные наставления.
По мысли Схилебекса, главное в повествовании Мк — земной путь
Иисуса и его смерть. Мк хотел поместить в центр своей керигмы пару-
сию, сопротивляясь (всеобщей, уже отчасти победившей у Павла)
тенденции сделать само Воскресение, а не парусию центром провозвестия.
К моменту написания Мк парусию ждали уже давно, на протяжении
жизни двух поколений, и поэтому возникало желание поместить
момент эсхатологического свершения в прошлое (как считает Схилебекс,
это сделали Мф, Лк и Ин, каждый по-своему). А у Мк воскресение -
лишь залог надежды, основание для ожидания парусин.
Мк показывает, что центром веры христиан должен быть Иисус из
Назарета как Мессия, который пришел, чтобы страдать и быть
отвергнутым и чтобы вскоре снова прийти «в силе» как Сын Бога и Сын
человеческий.
Возвышение (прославление) Иисуса для Мк связано не столько с
воскресением, сколько с будущей парусией. Вслед за Э. Ломайером и В. Мар-
ксеном Схилебекс строит свое толкование на том, что Мк действительно
закончил книгу стихом 16:8: « и никому ничего не сказали — боялись они».
Продолжением событий должна была стать парусия в Галилее.
Главные тексты в поддержку этой точки зрения — 2:18 слл («будут
поститься в отсутствие Жениха»), 14:61 ел («вы увидите Сына
человеческого... идущего с облаками небесными»), в ее пользу говорит также
связь между 14:28 («Но когда я воскресну, я приду раньше вас в
Галилею») и 16:7 (напоминание в тех же словах о том, что встреча
воскресшего Иисуса с учениками будет в Галилее). По мнению Схилебекса,
Марк сознательно отвергает засвидетельствованную у Павла (1 Кор 15:3
слл) древнюю традицию о явлениях Воскресшего и вместо нее вводит
обещание парусин.
В этом промежутке между Крестом и парусией Иисуса просто нет
(«реальное отсутствие», если выражаться в терминах евхаристической
теологии), он не действует в Церкви. Схилебекс приводит
свидетельства в пользу того, что подобная христология, предполагающая не
воскресение Иисуса, а его «удаление» к Богу (подобно библейскому
пророку Илие), отразилась и в других произведениях, вошедших в НЗ.
Исходя из таких посылок, Схилебекс заключает, что «мессианская
тайна» - это не столько тайна, сколько запрет (со стороны Мк) на ложную
христологию «божественного мужа» и всякую христологию «с позиции
силы». Для Мк крайне важно, чтобы Иисус, Сын Бога, был понят прежде
всего как страдающий Сын человеческий. Пасха в этой перспективе
означает, что Иисус возвышен (оправдан Богом), но еще не облечен «силой».
Развивая свое понимание Мк, Схилебекс рассматривает подборку
логий Иисуса, начинающуюся «исповеданием Петра» (8:27 слл), —
подборку, которую уже Дибелиус считал важнейшей для раскрытия
замысла автора частью этой книги. За признанием Иисуса Мессией следуют
первое предсказание Страстей, упрек Петру в том, что он смотрит на
будущие страдания Иисуса не с точки зрения божественного должен-
30 Заказ 257 465
ствования (δει), а чисто по-человечески (8:33); далее идет учение о
подлинном смысле следования за Иисусом: «Ведь всякий, кто стремится
спасти себя, погибнет. А тот, кто погибнет ради меня и Вести, спасет
себя» (8:35). По замыслу Мк, все это означает отвержение
несвоевременной «христологии с позиции силы».
По мнению Схилебекса, Марк, в отличие от Павла, не знает
никакой мистики Христа, никакого опыта духовного общения с воскресшим
Господом. У Мк есть только мистика следования за земным и
страдающим Иисусом, который возлагает всю надежду на скорый приход
царственного владычества Бога.
Евангелие Мк говорит об отсутствии Иисуса, оно сосредоточено на
воспоминании о земном Иисусе и надежде на его приход в качестве
небесного Сына человеческого, который принесет конец «века сего» и
владычество Бога. Если выражаться в терминах протестантской
литературы, смысловой центр Мк состоит в «еще-не» христианской
эсхатологии. Христология Мк — принципиально антитриумфалистская. Главное
в ней — отвергнутый Иисус из Назарета.
Соответственно со времени ухода Иисуса верующие должны
пережить период, когда вера подвергается испытаниям (13:9—13)42.
В 70—80-е годы эта теория стала предметом оживленных споров,
отголоски которых слышны и в самых последних работах о Мк43. Против
тезиса Уидена были выдвинуты довольно убедительные возражения
исторического характера44. Некоторые экзегеты, развивая интерпретации Мк,
предложенные в свое время Дибелиусом и Бультманом, пытаются
доказать, что Мк сам был сторонником эллинистической христологии
божественного мужа45. Но для нашей темы о соотношении исторического
исследования и герменевтики важно отметить, что мысли об антитриумфа-
листском христианстве Марка, о пути страданий и о теологии Креста как
центре христианской жизни, об отсутствии Иисуса, о перемещении
надежды в будущее — всё это созвучно идеям, вышедшим на передний план
христианской систематической теологии 50—70-х годов. Нельзя не
заметить, что такое прочтение Мк гармонирует с общим настроем
влиятельного направления в христианской мысли этого периода. В частности,
разобранная трактовка Марка перекликается с «программой демифологизации»
Бультмана, с «теологией смерти Бога», с «Динамикой веры» и «Мужеством
быть» Пауля Тиллиха, с «Распятым Богом» Юргена Мольтмана, с
«теологией после Освенцима». И дело не только в том, что экзегеза заимствует
идеи у систематики, — скорее речь должна идти об общем для них
интеллектуальном мире. Здесь мы снова замечаем то согласие с «духом
времени», которое обнаружилось в экзегезе XIX в., сделавшей нашего Мк
основой для систематических построений либеральной теологии.
г. Перспективы изучения Мк
По моему мнению, изучение Мк в XX в. позволяет убедиться в том, что
совокупность сквозных мотивов этого текста, получившая общее
название «мессианской тайны», действительно находится в смысловом
центре этого евангелия и должна дать ключ к его пониманию.
Как редакционный «мотив тайны» встраивается в текст Мк? Или:
466
как этот мотив формирует материал традиции? Чтение текста в свете
всего сказанного выше позволяет заметить: «мотив тайны» направлен
на то, чтобы известные в традиции эпифании из явных стали
«тайными». Так, притчи из средства прояснения некоторой истины делаются
у Мк средством ее затемнения, сокрытия.
Вот что говорит об этом евангелист Марк: «А когда Иисус остался
один, его спутники и Двенадцать спросили, почему он учит в притчах.
Он ответил: «Вам тайна Божьего Царства открыта, а посторонним всё
дается в притчах,
чтобы они вглядывались и не видели,
вслушивались и не понимали,
и не обратились к Богу,
и не получили прощения»» (4:10 слл).
Вполне вероятно, что «спутники и Двенадцать» представляют
христианскую общину — адресатов Мк, а «посторонние» — не уверовавших
в Иисуса евреев, к которым, согласно традиции, была обращена его
проповедь.
Таким образом, одна из важнейших задач Мк — объяснить, почему
Помазанник не был замечен народом («отвергнут»). Он пытается
справиться с этой задачей, создавая «теорию ожесточения». Приведенный
текст — одно из ее наиболее ясных выражений. Эту теорию можно
назвать апологетической, если под «апологетикой» понимать стремление
Мк объяснить своей общине, почему евреи не поверили собственному
«правильному» Мессии.
Итак, «еврейская тема» оказывается в центре интерпретации Мк. У
него именно мотив тайны позволяет объяснить, почему народ не
принял своего Мессию: выясняется, что это входило в замысел Бога. Мк не
был первым христианским писателем, предложившим такое
объяснение; до него это сделал Павел в Послании к римлянам.
Автор Мк, обращавшийся к общине последователей Иисуса в начале
70-х годов, должен был ответить на несколько трудных вопросов. Как
мы видим, «мессианская тайна» позволяет автору ответить на вопрос об
отношении христианской общины к Израилю.
Другой, не менее трудный, вопрос: почему обещанная парусия и
конец «века сего» не наступают? Как это понимать и как действовать в
таких условиях? Представление о тайном мессианстве Иисуса,
связанном со страданиями, а также отказ от изображения Воскресшего дают
Марку возможность перенести ситуацию «тайны» и «должных»
страданий в свое («послепасхальное») время и тем самым внушить членам
общины надежду, не отвергая при этом представления о скорой парусии.
«Позвав толпу и учеников, он сказал им:
— Тот, кто хочет следовать за мной, пусть откажется от себя и
поднимет крест, на котором его распнут, и тогда пусть следует за мной.
Ведь всякий, кто стремится спасти себя, погибнет. А тот, кто погибнет
ради меня и Вести, спасет себя. Какая человеку польза, если он
приобретет целый мир, а себе повредит? Подумайте: чего не отдал бы
человек, чтобы выкупить самого себя? А кто постыдится меня и моих слов
зо* 467
в этом поколении, изменившем Богу и грешном, того постыдится и
Сын человеческий, когда придет в славе своего Отца со святыми
ангелами.
Затем он сказал им: «Амен, я говорю вам: некоторые из стоящих
здесь не узнают смерти, пока не увидят, как Божье Царство пришло в
силе» (8:34-9:1).
Такое направление интерпретации Мк остается, на мой взгляд,
эвристически наиболее обещающим.
И. Перевод евангелия Марка
О принципах и задачах нового перевода
Для перевода использовался «критический текст» 26-го издания
«Novum Testamentum Graece» Нестле-Аланда46. В некоторых случаях я
предпочитал чтения, которые это издание помещает в аппарате, а не в
тексте. Так, при совпадении чтения в Синайском и Ватиканском
кодексах я обычно предпочитал это чтение, даже contra textum
критического издания.
При делении русского текста на абзацы я исходил из 26-го издания
Нестле-Аланда. Однако прямая речь, как правило, дается с красной
строки и пунктуационно оформляется так, как это делается в
современной художественной прозе. Ритмически организованные части
оригинала получают стихотворное графическое оформление. Прямые
цитаты из еврейского Священного Писания выделены курсивом. В
примечаниях указаны некоторые важные для смысла расхождения в рукописной
традиции, даны варианты перевода там, где текст допускает разные
толкования, определяются некоторые термины, поясняется перевод отдельных
слов, предлагаются исторические и литературоведческие замечания.
Предлагаемый перевод экспериментален. Необходимо объяснить,
что здесь понимается под «экспериментом». Для этого я сделаю
несколько замечаний о проблеме перевода НЗ на современные языки.
Из множества аспектов проблемы выделим тот, что первым делом
бросается в глаза. Как следует переводить инокультурный текст,
отделенный от нас девятнадцатью веками? И как отражается на переводе
сверхзначимость этого текста для некоторых религиозных сообществ?
Существующие русские переводы НЗ так или иначе зависят от
синодального: в частности, известные мне новые переводы Мк на русский
язык либо находятся в русле традиции, созданной синодальным
переводом47, либо сознательно отталкиваются от него48.
Синодальный перевод — это памятник русского литературного
языка, «русской мысли» или «русской идеи», то есть определенного типа
мировоззрения, благочестия и т.п. И лишь во вторую очередь этот
перевод можно считать свидетельством об оригинале.
Современные переводы НЗ на европейские языки в большинстве
своем преследуют цель «актуализации» текста для той или иной общи-
468
ны. Это относится, например, к New International Version, к Die gute
Nachricht, но также и к New English Bible или к La Bible de Jerusalem.
Разные переводы отличаются за счет того, что актуализация понимается
по-разному. Однако текст при этом не воспринимается в своей «чуже-
сти», инокультурности. Метод этих переводов — допрос с
пристрастием, в результате которого из литературного памятника выжимаются
нужные показания — его так называемая ВЕСТЬ, «весть Библии
современному человеку». В русском православии дело обстоит иначе,
задача актуализации интересовала здесь немногих. Но, надо думать, по мере
вхожения в «современность» и у православия появится потребность
актуализировать свою проповедь, как это произошло в последние
полстолетия в разных католических странах. Первые литературные признаки
этого уже имеются, к ним относится и перевод канонических
евангелий, выполненный В.Н. Кузнецовой.
Мой эксперимент заключается в том, что я попытался создать перевод,
не находящийся в какой-либо ясно определяемой преемственности с
синодальным. Его замысел не предполагает ни цели обновления традиции,
ни цели сознательного противостояния ей. Статус синодального издания
Библии в русской словесности таков, что простой разрыв прееемственно-
сти почти недостижим, однако попытка все же не кажется мне
бессмысленной. Во всяком случае можно надеяться на то, что у нас со временем
возникнет та же ситуация с переводами Библии, что и в англоязычных
странах или в Германии. Там рядом с периодически подновляемыми
переработками классических переводов, созданных в эпоху протестантской
Реформации и складывания современных литературных языков,
существует множество переводов, которые основаны на разных принципах и
обращены к разным группам читателей. Пусть цель большинства этих
переводов, как я только что заметил, миссионерская: все равно читатель
выигрывает от их разнообразия. Я хотел бы, чтобы и предлагаемый перевод Мк
содействовал развитию в этом направлении.
Перевод исходит из того понимания Мк, что было намечено в
предыдущем разделе («Метод анализа редакций: интерпретация Мк») и из
проделанного мной исследования синтаксиса Μ к49. Как следует из этой
работы, перевод должен передать восприятие текста той общиной, для
которой он был впервые написан: речь, вероятно, должна идти об
общине, к которой принадлежал автор нашего евангелия. Естественно,
при этом остаются открытыми два важнейших вопроса: (1) достижима
ли в принципе такая реконструкция читательского восприятия? (2)
осуществима ли она средствами перевода, поддерживаемого минимальным
комментарием? Если на оба эти вопроса нельзя ответить
положительно, то не имеет смысла судить и об успешности предлагаемого опыта.
Остается обсудить некоторые лексические (или, скорее, лексико-фоне-
тические) особенности предлагаемого перевода.
В тексте Мк есть арамейские слова и фразы, снабженные греческим
переводом. При их передаче я исходил из реконструкции их
арамейского звукового облика, а не из их греческой транслитерации или
традиционной русской^передачи.
Вот места, где встречаются глоссированные арамейские слова и
фразы: 3:17; 5:41; 7:34; 14:36; 15:22,34.
469
В одном месте у Мк (7:11) поясняется по-гречески еврейское слово
]ЭПР (корбан), встречающееся в Библии, ср. Лев 1:2; 7:38; Числ 28:2.
Я «семитизировал» - в пределах распознаваемости - звучание
некоторых имен с арамейским элементом «бар» (сын). Это касается имен,
которые мало прижились в современных языках и у русского читателя
ассоциируются прежде всего с евангельской историей. Вот они: Бар-Тимай
(10:46) Бар-Абба (15:7). Сам текст дает для этого основания: в одном
случае арамейское прозвище «Бане-Регеш» переведено на греческий (3:17), в
другом случае настоящее арамейское имя Бар-Тимай перефразируется по-
гречески, что тоже можно понять как глоссу (10:46).
Семитизированы также некоторые палестинские топонимы,
прежде всего те, в которых явно выделяется элемент «бет» (ГРЗ), «дом». Ср.
6:45; 8:22: Бет-Цайда; 11:1: Бет-Паге и Бет-Анийа.
В связи с семитизированием топонимов замечу, что в 9:43-47 я
позволил себе заменить «геенну» (в греческом тексте γέεννα - это
варваризм) на стоящий за этим словом еврейский топоним «Ге-Хинном»:
дело в том, что в русском языке и литературе «геенна огненная»
зажила собственной полнокровной жизнью, и смысл этого русского
выражения почти так же далек от образа у Мк, как «крещение» — от «боевого
крещения».
Во всех этих случаях я учитывал и русскую норму: желательно,
чтобы фонетический облик этих имен не мешал им склоняться по
правилам русского именного словоизменения.
Примечания
1 Полный свод сохранившихся фрагментов Папия и упоминаний древних
источников о Папии и его трудах см.: Körtner U.HJ. Papias von Hierapolis. Ein
Beitrag zur Geschichte des frühen Christentums. Göttingen, 1983.
2 См.: Die Apologeten. Ausgewählt und übersetzt von H. Ristow. В., 1973, с. 14.
3 См.: Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983, с. 89 ел.
4 Литература на эту тему уже насчитывает несколько монографий и десятки
статей. См.: Rohrhisch F. Markus in Qumran? Wuppertal, 1990; Christen und Christli-
sches in Qumran? Hg. B. Meyer. Regensburg, 1992. См. также: Тантлевскый И,P.
История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994, с. 16, 25
(реконструкция, предлагаемая сторонниками отождествления 7Q 5 с Мк 6:52—53).
5 Конечно, Д.Ф. Штраус не оспоривал историчности Иисуса. В его работе 1864 г.
даже имеется «Исторический очерк жизни Иисуса», где в соответствии с
методологией либеральных исследований НЗ он попытался отделить историческое
ядро от мифологических интерпретаций и наметил собственный образ
исторического Иисуса. Первая работа Д.Ф. Штрауса об Иисусе, принятая
теологической публикой очень неприязненно и принесшая ее автору скандальную
известность, вышла двумя томами в 1835—1836 гг. О Д.Ф. Штраусе см. подробнее в
гл. 8.
6 Dibelius Μ. Die Formgeschichte des Evangeliums. 4. Aufl. Tübingen, 1961, с 2.
7 Там же, с. 228 ел.
* Там же, с. 232.
9 Там же, с. 234.
10 Bultmann R. Die Geschichte der synoptischen Tradition. 2. Aufl. Göttingen, 1931,
с 374.
470
11 Там же, с. 362—376.
12 Там же, с. 374 ел.
13 В межвоенный период основы метода «анализа редакций» заложили
немецкий теолог Э.Ломайер и английский экзегет Р.Лайтфут. См.: Фильхауэр, с. 290;
Перрин, 1970, с. 21-24.
14 Marxsen W. Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des
Evangeliums. 2. Aufl. Göttingen, 1959.
15 Там же, с. 12.
16 Там же.
17 Там же, с. 9.
18 Там же, с. 11.
19 См.: Перрин, 1974, с. 39 елл; Кестер, с. 71 слл.
20 Marxsen W. Der Evangelist Markus, с. 13.
21 См.: Perrin N. The Christology of Mark: a study in methodology.— The journal of
religion. Vol. 51. Chicago, 1971, с 173-187.
22 См.: Marti J,P. Toward a post-critical paradigm. — New Testament studies. Vol. 33.
Atlanta etc., 1987, с 370-385 (литература!).
23 Lyotard J.-F. The postmodern condition: a report on knowledge. (Trans, from the
French by Geoff Bennington and Brian Massumy.) Minneapolis, 1984, c. XXIV.
24 См.: Rhoads D.t Michie D. Mark as story. An introduction to the narrative of a
Gospel. Philadelphia, 1982, с 3.
25 Davidsen 0. The narrative Jesus. A semiotic reading of Mark's Gospel. Aarchus,
1993, c. 5. О повествовании Мк см. также сборник: Der Erzähler des Evangeliums.
Methodische Neuansätze in der Markusforschung. Hrsg. von F.Hahn. Stuttgart, 1985.
См. также: Jacobson R. The structuralists and the Bible. — Interpretation. Vol. 28.
Richmond, Virginia, 1974, с 146—164; Kelber W.H. Mark's story of Jesus.
Philadelphia, 1979; Kjärgaard M.S. Metaphor and parable: a systematic analysis of the
specific structure and cognitive function of the synoptic similes qua metaphors.
Leiden, 1986; Wilder A.N. The Bible and the literary critic. Minneapolis, 1990; Moore
S.D. Literary criticism and the Gospels: the theoretical challenge. New Haven, 1989.
26 Обзор социологических исследований НЗ см. в кн.: Кее Н.С. Knowing the
truth. A sociological approach to the New Testament interpretation. Minneapolis,
1989. Лучшее социологическое исследование Мк, учитывающее последние
достижения «классической» экзегезы: Waetjen Н.С. A reordering of power. A
sociopolitical reading of Mark's Gospel. Minneapolis, 1989. О новых направлениях в
интерпретации НЗ см. сборник: A guide to contemporary hermeneutics. Major
trends in biblical interptetation. Ed. by D.K. Mckim. Grand Rapides, Michigan, 1986.
27 См.: Deissmann A. Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten
Texte der hellenistisch-römischen Welt. 4. Aufl. Tübingen, 1923; Blass F., Debrunner
A. Grammatik'des neutestamentlichen Griechisch. Bearb. von F.Rehkopf. 15. Aufl.
Göttingen, 1979, c. 1-9; Black Μ An Aramaic approach to the Gospels and Acts.
Oxf., 1946; Doudnal The Greek of the Gospel of Mark. Philadelphia, 1961.
28 Помимо указанной в предыдущем примечании книги Мэттью Блэка об ара-
меизмах в канонических евангелиях см. в исследовании Клауса Байера: Beyer К.
Semitische Syntax im Neuen Testament. Bd. I. Satzlehre, Teil 1.—2., verb. Aufl.
Göttingen, 1968.
29 См.: Corpus inscriptionum Graecarum 2693; cp. A Greek—English Lexicon
compiled by H.G. Liddell and R. Scott, s.v. λεπτός. О сравнительном достоинстве
этой монеты см.: Strack H.L., Billerbeck Α Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch. 9., unveränd. Aufl. 1. Bd. München, 1986, с 294.
30 Ср. Blass F., Debrunner A. Grammatik, c. 9.
31 Термин «поэтика композиции» принадлежит Б.А. Успенскому. См.:
Успенский Б А. Поэтика композиции. М., 1970. Б.А. Успенский развил созданную
американскими и немецкими филологами теорию «точки зрения». Эта теория
471
предлагает особую методику анализа литературного произведения. Успенский
выделяет следующие типы точки зрения, проявляющиеся в литературном
тексте: оценочная точка зрения, языковая (фразеологическая) точка зрения, про-
странственно-временнбя точка зрения, точка зрения в плане психологии.
Концептуальный аппарат Б. Успенского (эта его книга переведена на немецкий и
английский языки) успешно применяется при исследовании повествовательной
структуры Мк с литературоведческих позиций. Возможности анализа Мк с
помощью теории «точки зрения» показаны, в частности, в статье американского
филолога Нормана Петерсена «Точка зрения в повествовании Марка»: Petersen
N. «Point of view» in Mark's narrative. - The poetics of faith. Ed. by W.A. Beardslee.
Missoula, Montana, 1978 (Semeia. Vol. 12), c. 97-121, а также в монографии Д.
Роадза и Д. Мики (см. примеч. 24).
32 Köhler Μ. Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische
Christus. Neu hrsg. von E.Wolf. 2. Aufl. München, 1956, c. 60.
33 Lohmeyer E. Galiläa und Jerusalem. Göttingen, 1936; Marxsen W. Der Evangelist
Markus, c. 33 слл.
34 Ср. Фильхауэр, с. 340; Кюммель, с. 61.
35 Ср. Фильхауэр, с. 343. Фильхауэр ссылается на работы известных экзегетов
Ханса Концельмана и Эдуарда Швайцера, которые предложили такую
интерпретацию Мк в 50-60-е годы.
36 Weeden Th.J. The heresy that necessitated Mark's Gospel. — Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft. Bd. 59. В., 1968, с. 145-158. Статья
перепечатана в сб.: The interpretation of Mark. Ed. with an Introduction by W. Telford.
Philadelphia-London, 1985, с 64-77.
37 The interpretation of Mark, c. 66.
38 Weeden Th.J. Mark - traditions in conflict. Philadelphia, 1971, с 159 слл.
39 Perrin N. Historical criticism, literary criticism, and hermeneutics: the interpretation
of the parables of Jesus and the Gospel of Mark today.-The journal of religion. Vol.
54, № 4. Chicago, 1972, с 361-375.
40 Bultmann R. Die Geschichte, с. 376.
4! Perrin N. Historical criticism, с 366.
г"
42 Schillebeeckx Ε. Jesus. An experiment in Christology. L., 1979, c. 320 слл.
43 См. один из недавних комментариев: Guelich RA. Mark 1:1—8:26. — Word
biblical commentary. Vol. 34A. Dallas, 1989. Консервативно настроенный автор
доказывает, что причиной написания Мк не могла быть конкретная ересь.
Напротив, утверждает он, именно отсутствие ситуативно обусловленной
специфичности делает Μ к ценным для сегодняшнего читателя.
44 См., например: Schweizer Ε. Neuere Markus-Forschung in USA. — Evangelische
Theologie. Jg. 33. München, 1973, с 533—537.
45 См.: The interpretation of Mark, c. 19 слл.
46 Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. 26.Aufl. — Stuttgart, 1981.
47 Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна и Деяния апостолов. Лондон, 1963. Евангелие. Авторский перевод с
древнегреческого о. Леонида Лутковского. Киев, 1990.
4* Канонические евангелия. Перевод с греческого В.Н. Кузнецовой. М., 1992.
49 См. мою работу «Библейское повествование и повествование евангелия
Марка», с. 31-42 настоящего издания.
472
В изложении Марка
1 Весть об Иисусе Помазаннике. Начало.
2 Во исполнение написанного у пророка Исайи:
«Смотри, Я посылаю перед тобой вестника,
который проложит путь для тебя.
3 Голос зовет в пустыне:
Приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте тропы Ему», —
4 в пустыне появился Иоанн Очищающий и провозгласил очищение
для возврата [к Богу] и прощения грехов. 5 К нему приходила вся Иудея
и все иерусалимляне, и принимали от него очищение в реке Иордан,
признаваясь в грехах. 6 Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и
кожаный пояс, а питался саранчой и диким медом.
7 Он провозгласил: «За мной идет тот, кто сильнее меня. Я
недостоин даже нагнуться и снять с него обувь. 8Я очищал вас водой, а он
очистит вас святым духом».
9 В те дни Иисус пришел из Назарета Галилейского и был очищен
Иоанном в Иордане. 10И тотчас, выходя из воды, Иисус увидел, как
разорвались небеса и дух, как голубь, сошел на него. и С небес прозвучал
голос: «Ты мой любимый сын, Я благоволю к тебе».
12 И тотчас дух погнал его в пустыню. 13 Сорок дней он оставался в
1:1. Весть об Иисусе Помазаннике. Часть рукописной традиции добавляет: «Сыне
Божьем».
1:4. Провозгласил очищение для возврата [к Богу] и прощения грехов. В
оригинале κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών.
Очищение (βάπτισμα). Имеется в виду очищение в воде от ритуальной
нечистоты (евр. rH"QD). В конце эпохи Второго храма очищение в воде (вместе с
обрезанием и жертвой) стало конститутивным элементом обряда инициации
прозелитов (евр. ü"h:i), а затем и центром христианской инициации — крещения.
Существительное μετάνοια и глагол μετανοέω в НЗ имеют значения, следующие
не столько из их «профанного» греческого узуса, сколько из употребления
глагола μετανοέω в LXX для перевода еврейских глаголов ОПЗ (Ni — «испытывать
сожаление») и Л1Е7 (Qal — «поворачиваться, возвращаться»). Μετανοέω
встречается в переводах канонических библейских текстов лишь около 20 раз, так как
очень частотный глагол 3W обычно переводится в LXX επιστρέφω и его
производными (ср. Мк 4:12 с Ис 6:10). Глагол 2W («поворачиваться» и множество
переносных значений, как это обычно бывает у глаголов движения)
употребляется в Библии и в «теологическом» смысле, в том числе и в сочетании
«вернуться к Богу». Ср. Ам 4:6—11, где 2W применяется в этом смысле как terminus
technicus пророческой проповеди, а также Втор 30:2: ^пЬх П1П"> ι у Г13Ю1
«вернись к твоему Богу YHWH».
Поэтому для перевода μετάνοια и μετανοέω в Мк я использую слова «возврат» и
«вернуться», добавляя еще в одном месте подразумеваемое «к Богу». Ср.
остальные употребления этого глагола у Мк: «Срок исполнился, Божье Царство близко.
Вернитесь и верьте Вести!» (1:15). «Отправившись в путь, они возвещали, что
нужно вернуться [к Богу]» (6:12). Я думаю, что такой перевод достаточно точно
выражает смысл соответствующих слов в раннехристианской традиции и у Мк.
473
18
пустыне, и сатана испытывал его. Там он был среди диких зверей, а
прислуживали ему ангелы.
14 А после того как Иоанн был выдан, Иисус вернулся в Галилею,
провозглашая Весть от Бога: 15 «Срок исполнился, Божье Царство
близко. Вернитесь и верьте Вести!»
16 Идя по берегу Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея,
брата Симона: они забрасывали в море сети, так как были рыбаками. 17
Иисус сказал им:
— Идите за мной! Я сделаю вас ловцами людей.
Они тут же последовали за ним, оставив сети. 19 Пройдя немного,
он увидел Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна: они чинили сети
в лодке. 20 Он тотчас позвал их. А они оставили своего отца Зеведея в
лодке с работниками и отправились за ним.
21 Они пришли в Капернаум. Когда настала суббота, он сразу же
вошел в синагогу и стал учить.22 И люди поражались его учению, ведь он
учил их как обладающий властью, а не как книжники.
23 А в синагоге как раз был человек с нечистым духом. Дух закричал:
— 24 Иисус Назаретянин, чего тебе нужно от нас? Ты пришел
уничтожить нас? Я знаю, кто ты: ты Божий святой.
25 А Иисус унял его:
— Замолчи и выйди из него!
26 Нечистый дух, сотрясши этого человека и испустив громкий крик,
вышел.27 Все пришли в ужас и стали спорить между собой:
— Что это такое? Новое учение, основанное на его власти? Он даже
нечистым духам приказывает, а они повинуются ему!
28 Молва о нем тут же разошлась по всей Галилее.
29 Выйдя из синагоги, они сразу же отправились в дом Симона и
Андрея, и с ними были Иаков и Иоанн. 30 А теща Симона лежала в жару,
и ему тотчас сказали о ней. 3] Он подошел и, взяв ее за руку, поднял.
Жар оставил ее, и она прислуживала им.
32 А вечером, когда село солнце, к нему понесли всех больных и
одержимых демонами. 33 Весь город собрался у дверей. 340н излечил
многих, страдавших разными болезнями, и изгнал много демонов. Он
не позволял им говорить, ибо демоны знали, кто он.
35 Очень рано, еще затемно, он ушел оттуда в безлюдное место и там
стал молиться.36 Симон и его спутники бросились за ним, 37 нашли его
и стали говорить:
— Все ищут тебя!
38 А он сказал им:
— Пойдемте дальше, в соседние селения. Я буду и там возвещать,
для этого я и вышел.
39 И он ходил по всей Галилее, провозглашая Весть в синагогах и
изгоняя демонов.
40 Однажды к нему подошел прокаженный и, пав на колени, стал
умолять:
— Очисти меня от проказы, если хочешь! Это в твоей власти!
ли, что он — Помазанник».
предлагают
474
41 Сжалившись, он протянул руку, коснулся его и сказал:
— Хочу, стань чистым.
42 Проказа тотчас оставила его, и он стал чистым. 43 Иисус сразу же
прогнал его, прикрикнув:
— 44 Смотри, никому ничего не рассказывай, но ступай покажись
священнику и принеси в жертву за очищение то, что предписал
Моисей, для свидетельства им.
45 А тот ушел и стал повсюду рассказывать о случившемся, так
что Иисус больше не мог открыто появляться в городах, а
оставался за их пределами, в безлюдных местах. Но люди приходили к
нему отовсюду.
2 А когда через несколько дней он снова вошел в Капернаум, в
городе стало известно, что он дома.2 Собралось много народу, так что не
было места даже в дверях. Он стал учить их. 3 Тут пришли четверо и
принесли к нему параличного. 4 Из-за толпы они не могли пробиться
к Иисусу. Тогда они раскрыли крышу дома, где он был, проделали
отверстие и опустили носилки с параличным.5 Иисус, видя их веру,
сказал параличному:
— Дитя, твои грехи прощены.
6 А там сидели книжники и думали: 7 «Почему он так говорит? Он
кощунствует! Кто, кроме Бога, может прощать грехи?» 8 А Иисус,
тотчас поняв, что они думают, сказал:
— Почему вы так думаете? 9 Что легче: сказать параличному «Твои
грехи прощены» или сказать ему «Встань, возьми носилки и ходи»? 10
Убедитесь, однако, что Сын человеческий обладает властью прощать
грехи на земле!
И он приказал параличному:
*— ll Встань, возьми носилки и ступай домой!
12 Тот сразу же встал, взял носилки и вышел на глазах у всех, так что
все изумлялись и, прославляя Бога, говорили:
— Такого мы никогда не видели.
13 Он снова вышел на берег моря. Весь народ шел к нему, и он учил
их. 14 Затем он пошел дальше и увидел откупщика Левия, сына Алфея,
сидевшего на месте сбора пошлин, и сказал ему: «Следуй за мной». Тот
встал и последовал за ним.
1:44. Для свидетельства им. εις μαρτύριον αύτοΐς значит, скорее всего, «для
свидетельства общине об очищении от проказы». Некоторые интерпретаторы
понимают αύτοΐς как dativus incommodi, что дает «для свидетельства против них»,
т. е. против тех, кто не понял смысла совершаемых Иисусом исцелений (ср.
6:11).
2:14. Слову «откупщики» в оригинале соответствует τελώναι. Это греческое
слово обозначает откупщиков таможенных пошлин, т. е. тех, кто купил (ώνέομαι)
у государства право взыскивать таможенные пошлины (τέλος). Однако
синоптические евангелия словом τελώναι называют обычно не самих этих
откупщиков, а занятых ими служащих, которые, собственно, и занимались
взыскиванием платежей. Часть собираемых ими денег шла в римскую казну, поэтому они
считались предателями. Кроме того, условия их работы не позволяли им
соблюдать фарисейские правила ритуальной чистоты.
475
]* Однажды, когда Иисус возлежал за трапезой у себя дома, за
столом с Иисусом и его учениками собралось много откупщиков и
грешников, ибо за ним следовало много народу. 16 Книжники из числа
фарисеев, увидев, что он делит трапезу с грешниками и откупщиками,
спросили его учеников:
— Что же это он делит трапезу с откупщиками и грешниками?
17 Услышав это, Иисус ответил:
— Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не
праведных, а грешников.
18 Ученики Иоанна и фарисеи постились. К Иисусу пришли и
спросили:
— Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои
ученики не постятся?
19 Иисус сказал:
— Разве могут поститься гости на свадьбе, когда жених с ними? Пока
жених с ними, они не должны поститься.20 Но придут дни, когда будет
отнят у них жених, и тогда они будут поститься! 21 Никто не латает
старый плащ лоскутом новой ткани. А то заплата оторвется, новое от
старого, и прореха станет больше. 22 Молодое вино не наливают в старые
мехи, а то прорвет оно мехи — и вино пропадет, и мехи. Молодое вино
наливают в новые мехи.
23 Когда он проходил через поле в субботу, ученики стали срывать по
дороге колосья.24 Фарисеи спросили его:
— Почему они делают в субботу то, чего не позволено?
25 А он сказал им:
— Разве вы никогда не читали о том, как поступил Давид, когда он
и его спутники оказались в нужде и проголодались? 26 Как он вошел в
дом Божий во времена первосвященника Авиатара и ел жертвенный
хлеб, который позволительно есть только священникам, и дал его
также своим спутникам?
27 И он добавил:
— Суббота создана для человека, а не человек для субботы. 28
Поэтому Сын человеческий и над субботой господин.
3 Он снова вошел в синагогу. А там был человек с сухой рукой. 2 За
Иисусом пристально наблюдали, не излечит ли он его в субботу, чтобы
обвинить его. 3 Тут он сказал сухорукому:
— Встань посередине!
4 А наблюдавшим сказал:
— Что позволено делать в субботу: добро или зло, исцелить
человека или оставить его погибать?
Они промолчали. 5 Оглядев их всех в гневе и печали из-за
очерствения их сердец, он сказал тому человеку:
— Протяни руку!
Тот протянул руку, и она снова сделалась здоровой.
2:15. Слово «грешники» (αμαρτωλοί) употребляется как terminus technicus: евреи,
не соблюдавшие фарисейские правила ритуальной чистоты.
2:26 Этот хлеб приносили в жертву только в субботу. Ср. Лев 24:5-9.
476
6 Выйдя из синагоги фарисеи тотчас стали совещаться с
приверженцами Ирода, как бы погубить Иисуса.
7 А Иисус с учениками вернулся к морю, и за ним последовало
великое множество народу из Галилеи, а также из Иудеи, * Иерусалима,
Идумеи, из-за Иордана, из окрестностей Тира и Сидона. Все они,
услышав о его делах, шли к нему. 9 Он велел ученикам держать наготове
лодку, чтобы его не раздавили в толпе. 10 Ведь он излечил многих, и
поэтому все, страдавшие болезнями, протискивались сквозь толпу, чтобы
прикоснуться к нему.11 А нечистые духи, когда видели его, падали ему
в ноги и кричали: «Ты Сын Божий!». 12 Он унимал их, резко обрывая,
чтобы они не открыли людям, кто он.
13 Однажды он поднялся на гору и позвал с собой тех, кого пожелал.
Они пришли к нему, м и он назначил Двенадцать, чтобы они были при
нем и чтобы посылать их провозглашать Весть. 15 Для этого он наделил
их властью изгонять демонов.
16 Вот Двенадцать, которых он назначил: Симон (он дал ему имя
«Петр»), 17 Иаков, сын Зеведея, и Иоанн, брат Иакова (он дал им имя
«Бане-Регеш», что значит «сыны грома»), 18 Андрей, Филипп,
Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Фаддей, Симон Кананей 19 и
Иуда Искариот, который и выдал его.
20 Однажды он вошел в дом, и снова собралась толпа, так что им
даже поесть не удавалось. 21 А его близкие, узнав, что он там, пришли,
чтобы силой увести его, ибо люди говорили: « Он сошел с ума».
22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили: «Он одержим
Беэлзевулом и изгоняет демонов с помощью властелина демонов».
23 Тогда он, подозвав их, стал говорить с ними в притчах:
— Как может сатана изгонять сатану? 2А Если царство разделится, не
сможет такое царство устоять. 25 Если дом разделится, не сможет такой
дом устоять. 26 И уж если сатана сам на себя восстал, разделившись, то
он не сможет устоять, но приходит ему конец. 27 Ведь нельзя, войдя в
дом силача, разграбить его имущество, если прежде не связать силача.
И уж затем можно ограбить его дом.
28 Амен, я говорю вам: всё может быть прощено людям — и грехи, и
любое злословие. 29 Но никто из злословящих святой дух не будет
прощен вовеки: они подлежат вечному наказанию за грех.
30 Ведь они перед тем говорили: «В нем нечистый дух».
31 Тут пришли его мать и братья и, стоя снаружи, послали позвать
его. 32 Вокруг него сидела толпа. И тут ему говорят:.
— Смотри, там снаружи твоя мать и братья, они ищут тебя.
33 Он спросил:
— Кто моя мать и кто мои братья?
3:6. Часть рукописной традиции вместо «стали совещаться» предлагает чтение:
«приняли решение [погубить его]». Ср. Мк 15:1.
3:14. И он назначил Двенадцать. Часть рукописной традиции добавляет:
«которых и назвал апостолами».
3:22. «Беэлзевул», по-арамейски значит «хозяин дворца (возвышенного
жилища)».
3:32. Часть рукописной традиции добавляет: «и твои сестры».
477
34 И, оглядев людей, сидевших вокруг него, сказал:
— Вот моя мать и мои братья. 35 Ибо всякий, кто исполняет волю
Бога, тот мне и брат, и сестра, и мать.
4 Он снова начал учить у моря. К нему собралась огромная толпа,
так что он вошел в лодку и отплыл от берега, а толпа стояла на берегу.
2 Он многому учил их в притчах, и вот что он сказал им:
3 «Послушайте!
Вышел сеятель в поле.
4 Когда он сеял,
одни зерна упали у дороги,
и прилетели птицы, и все склевали;
5 а другие зерна упали на камни,
где не хватало земли.
И они тотчас проросли,
ибо слой земли был слишком тонок.
6 Но когда взошло солнце, то ростки опалило.
А глубоких корней у них не было — и они засохли.
7 Другие зерна упали в заросли колючек.
И поднялись колючки,
и заглушили ростки,
и они остались бесплодными.
8 А еще были зерна, упавшие в добрую землю.
Они давали урожай, поднимаясь и вырастая,
и плодоносили тридцатикратно, шестидесятикратно
и стократно».
9 И он сказал: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит!»
10 А когда Иисус остался один, его спутники и Двенадцать
спросили, почему он учит в притчах. и Он ответил: «Тайна Божьего Царства
открыта вам, а посторонним всё дается в притчах,
12 чтобы они вглядывались и не видели,
вслушивались и не понимали,
и не обратились к Богу,
и не получили прощения».
13 Он сказал им: «Если вы не понимаете эту притчу, то как же вы
постигнете все остальные? и Сеятель сеет слово. 15 Вот те, что «у дороги»,
у которой сеется слово: когда они слышат его, тотчас приходит сатана
и похищает слово, посеянное в них. 16 А вот те, что посеяны «на
каменистой почве»: когда они слышат слово, тотчас с радостью принимают
его. i7 Но «корня» у них нет, они нестойкие, и во время бедствий или
гонений за слово они тотчас отступаются. 18 А вот и другие — те, что
посеяны «в колючках»: они услышали слово, 19 но затем к ним приходят
мирские заботы, страсть к богатству и прочие желания, и заглушают
слово, и оно остается бесплодным.20 А вот и те, что посеяны «в добрую
землю»: они слышат слово, принимают его и плодоносят
тридцатикратно, шестидесятикратно и стократно».
21 Он сказал им: «Разве светильник приносят в дом для того, чтобы
4:15-20. В оригинале смешаны семена-«слова» и те, кто «принимает» их.
478
накрыть его горшком или спрятать под кровать? Разве не для того,
чтобы поставить его на подставку? 22 Ибо скрытое должно обнаружиться,
а потаенное — явиться открыто. 23 У кого есть уши, чтобы слышать,
пусть услышит!»
24 Он сказал им: «Будьте внимательны к тому, что слышите! Той
мерой, что вы отмеряете, будет отмерено и вам, и еще добавлено. 25 Ибо
тому, кто HNfeeT, будет дано. А у того, кто не имеет, будет отнято и то,
что он имеет».
26 Он сказал: «Божье Царство — это как если бы человек посеял в
землю зерно, v и спал бы ночью, и бодрствовал днем, а зерно давало бы
побег. Побег растет, а как — человек не замечает. 28 Земля плодоносит
сама собой. Сначала появляется стебель, потом колос, потом
полновесное зерно в колосе. 29 А когда зерна созреют, человек тотчас пускает в
дело серп, ибо пришла пора жатвы».
30 Он сказал: «С чем нам сравнить Божье Царство или какой
притчей изобразить его? - 31 Сравним его с горчичным зернышком. Когда
его сеют в землю, оно меньше всех семян в земле. 32 Но когда его
посеют, оно поднимается и становится больше всех огородных растений,
и пускает длинные ветви, так что в его тени укрываются птицы».
33 Он учил их, рассказывая много подобных притч — сообразно тому,
что они могли понять. 34 А без притчи он ничего им не говорил, но
наедине с учениками объяснял им всё.
35 В тот же день, когда настал вечер, он сказал им:
— Давайте переправимся на другой берег!
36 Отпустив толпу, они вошли к нему в лодку и отплыли. Рядом были
и другие лодки. 37 Поднялась сильная буря, и волны захлестывали
лодку, так что она уже наполнялась. 38 А он спал на корме, положив
голову на подушку. Они разбудили его и сказали:
— Учитель, разве тебе нет дела, что мы тонем?
39 Проснувшись, он унял ветер и сказал морю:
— Тихо, замолчи!
Ветер сразу унялся, и наступило глубокое затишье.
40 А им он сказал:
— Чего вы боитесь? У вас все еще нет веры?
41 Они пришли в ужас и спрашивали друг у друга:
— Кто он такой, что и ветер и море ему подчиняются?
5 Они прибыли на другой берег моря, в область Герасы.2 Как толь-
*j
ко он вышел из лодки, ему встретился человек, одержимый нечистым
духом.3 Он жил в гробницах, и его уже не пытались связывать даже
цепью, 4 потому что прежде его часто сковывали по рукам и ногам, а он
разрывал цепи на руках и разламывал оковы на ногах, и никто не был
в силах укротить его.5 Всегда, ночью и днем, он оставался в гробницах
и в горах, издавая крики и нанося себе удары камнями.6 Издалека
увидев Иисуса, он подбежал и, распростершись перед ним, 7 закричал:
— Иисус, сын Бога Всевышнего, чего тебе надо от меня? Заклинаю
тебя Богом, не мучай меня!
8 Ведь перед тем Иисус сказал ему: «Нечистый дух, выйди из этого
человека!»
479
' Иисус спросил:
— Как твое имя?
А тот ответил:
— Мое имя Легион, ибо нас много.
10 И они умоляли его, чтобы он не высылал их из этой земли.
11 А там под горой паслось большое стадо свиней. 12 Демоны взмоли-
ь: «Посели нас в свиней!» 13 И он им это позволил. Тогда, выйдя из
ювека, нечистые духи вошли в свиней. И стадо, тысячи две свиней,
жилось с обрыва в море и утонуло.
14 А свинопасы побежали и сообщили об этом в городе и селениях,
жители пошли посмотреть, что случилось. 15 Они пришли к Иисусу
видели, что бывший одержимый, в котором был Легион, одет и в
-ем уме. И они пришли в ужас. 16 А очевидцы рассказали им, что про-
ошло с одержимым и со свиньями. 17 Тогда жители стали умолять
ir 1исуса уйти из их краев.
18 Когда он садился в лодку, человек, в котором раньше были демо-
■ι, умолял Иисуса: «Позволь мне быть с тобой!» 19 Но он не позволил,
место этого сказал ему: «Ступай домой к родным и расскажи им, как
-юго сделал для Тебя Господь, сжалившись над тобой». 20 Он ушел и
"ал рассказывать в Десятиградье о том, как много сделал для него
icyc. И все изумлялись.
21 А когда Иисус снова переправился на другой берег, к нему
собрать большая толпа, и он был у моря. 22 Тут пришел старейшина сина-
ги по имени Йаир. Увидев Иисуса, он припал к его ногам 23 и стал
олять: «Моя дочь при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы
а исцелилась и жила!» 24 Иисус пошел с ним. А за Иисусом следова-
большая толпа, и люди плотно обступали его.
15 Тут одна женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением 26 и
ого натерпевшаяся от многих врачей, потратившая на них всё, что
ела, и ничуть не поправившаяся, а еще больше ослабевшая, 27 услы-
в об Иисусе, подошла к нему сзади в толпе и прикоснулась к его пла-
. 28 Ибо она думала: «Исцелюсь, если коснусь хотя бы его одежды».
Сровотечение у нее тотчас прекратилось, и она телом ощутила, что
;ечилась от болезни. 30 А Иисус, тотчас почувствовав, что из него
шла сила, обернулся в толпе и спросил:
— Кто прикоснулся к моей одежде?
31 Ученики ответили ему:
— Ты видишь, как обступил тебя народ, а еще спрашиваешь: «Кто
ткоснулся ко мне?»
-2 А он стал оглядываться, чтобы увидеть ту, которая сделала это. 33
женщина, испугавшись и дрожа, поняв, что случилось с ней, подо-
а, пала ему в ноги и сказала всю правду. 34 А он сказал ей:
— Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Ступай с миром — теперь ты
»рова.
35 Не успел он это произнести, как появились люди из дома старей-
1ны синагоги и сказали:
— Твоя дочь умерла. К чему теперь надоедать учителю?
36 А Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине синагоги:
— Не бойся, а только верь!
480
37 И следовать за собой он позволил только Петру, Иакову и
Иоанну, брату Иакова. 3* Когда они подошли к дому старейшины синагоги,
Иисус увидел людей в смятении, плачущих и громко стенающих.
39 Войдя в дом, он сказал им:
— Почему вы в смятении и плачете? Девочка не умерла, а спит!
40 Они стали насмехаться над ним. Тогда он выгнал всех, взял с
собой только родителей девочки и своих спутников и вошел в комнату,
где лежала девочка.4! Там он взял ее за руку и сказал: «Талита кум!», что
в переводе значит «Девочка, я велю тебе, встань!». 42 Девочка тотчас
поднялась и стала ходить. А было ей двенадцать лет. Люди не могли
прийти в себя от изумления. 43 А он строго наказал им: «Пусть никто не
знает об этом!» И велел, чтобы девочке дали поесть.
6 Оттуда он отправился к себе на родину, и за ним следовали
ученики.2 Когда наступила суббота, он стал учить в синагоге, и многие,
слушая, поражались и говорили: «Откуда у него это? Кто дал ему эту
мудрость? И что это за силы такие, что действуют через него? 3 Разве он не
плотник, не сын Марии и брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И
разве не его сестры живут здесь, рядом с нами?» И они отвернулись от
него.4 А Иисус сказал им: «Пророка не ценят только на родине, среди
родственников и дома».5 Он не мог проявить там силу, только
нескольких больных излечил, возложив на них руки. 6 И он изумлялся их
неверию.
И, обходя окрестные деревни, он учил.
7 Созвав к себе Двенадцать, он стал посылать их по двое и давать им
власть над нечистыми духами. 8 Он велел им: «В дорогу берите только
посох. Вам не нужно ни хлеба, ни котомки, ни денег в поясе! 9 Но
ступайте, обувшись в сандалии, и не берите с собой двух рубах!» 10 Он
сказал им: «Если на новом месте вы войдете в дом, то в нем и живите, пока
не покинете это место. п А если где-нибудь вас не примут и не будут
слушать, то, уходя оттуда, отряхните землю с подошв как свидетельство
против них». 12 Отправившись в путь, они возвещали, что нужно
вернуться [к Богу]. !3 Они изгнали много демонов, помазали оливковым
маслом многих больных и излечили их.
14 Между тем молва об Иисусе дошла до царя Ирода, ибо имя Иисуса
стало известным и люди говорили о нем: «Это Иоанн Очищающий. Он
воскрес, и поэтому в нем действуют силы». 15 Некоторые считали, что
это Илия, другие говорили: «Он пророк — как прежние пророки». 16 А
Ирод, услышав об этом, сказал: «Это воскрес Иоанн, которого я
обезглавил!»
17 Ведь Ирод велел схватить Иоанна, заковать и посадить в тюрьму
из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа, ибо Ирод женился на
ней, 18 хотя Иоанн говорил Ироду: «Тебе не позволено иметь жену
брата!» i9 Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но не мог-
5:41. Талита кум — таково чтение Синайского и Ватиканского кодексов. Кум (евр.
и арам.) — форма императива мужского рода, здесь употребленная неправильно
(или в качестве немаркированной формы?). В Александрийском кодексе и в
текстуальном типе койне читаем «талита кум и» с императивом женского рода.
31 Заказ 257 481
I
ла, 20 потому что Ирод боялся Иоанна, зная его как человека
справедливого и святого, и оберегал его. Слушая Иоанна, он не умел возразить,
однако слушал его охотно.
21 Удобный случай представился, когда Ирод вдень своего рождения
устроил пир для придворных, военачальников и галилейской знати.22 К
ним вышла дочь Иродиады и танцевала. Она понравилась Ироду и
возлежавшим с ним на пиру. Царь сказал девушке:
— Проси у меня все, что захочешь, и я дам тебе.
23 И он поклялся ей:
— Дам тебе все, что ни попросишь, хоть полцарства моего!24
Девушка вышла и спросила у матери:
— Чего мне просить?
А та сказала:
— Голову Иоанна Очищающего!
25 Поспешно вернувшись к царю, девушка попросила его:
— Хочу, чтобы ты сейчас же на блюде дал мне голову Иоанна
Очищающего!
26 Царь опечалился, но из-за клятв, произнесенных перед гостями,
не решился отказать ей. 27 Он тотчас послал палача, приказав ему
принести голову Иоанна. Палач обезглавил Иоанна в тюрьме, 28 принес
голову на блюде и отдал ее девушке, а девушка — матери. 29 Ученики
Иоанна, услышав об этом, пришли, забрали его тело и положили в
гробницу.
30 Между тем апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо
всем, что они делали и чему учили. 31 Он сказал им: «Отправляйтесь
одни в безлюдное место и отдохните немного». Ибо много народу
приходило и уходило, так что у них даже не было времени поесть.
32 И они одни отправились в лодке в безлюдное место. 33 Но все
увидели, как они уходят, и многие поняли куда, и посуху из всех городов
поспешили в то место, и добрались туда раньше, чем они.
34 Выйдя из лодки, Иисус увидел большую толпу, и сжалился над
людьми, ибо они были как овцы без пастуха, и долго учил их.
35 Когда время было уже позднее, ученики подошли к Иисусу и
сказали ему:
— Место здесь безлюдное, и час уже поздний. 36 Отпусти их, чтобы
они пошли в окрестные селения и деревни и купили себе поесть.
37 А он ответил им:
— Это вы дайте им поесть!
Они спросили:
— Не пойти ли нам купить хлеба на двести денариев, чтобы дать им
поесть?
38
А он спросил:
Сколько у вас хлеба? Ступайте посмотрите!
!
Узнав, они ответили:
— Пять хлебов и две рыбы.
39 Тогда он приказал ученикам расположить всех на зеленой траве
группами для трапезы. 40 И они возлегли группами — по сто или по
пятьдесят человек.4| Он взял эти пять хлебов и две рыбы, поднял глаза
к небу, произнес благословение над хлебом, стал разламывать его и да-
482
вать ученикам, чтобы они раздавали людям, и две рыбы тоже разделил
между всеми. 42 И все ели, и наелись досыта. 43 И унесли двенадцать
корзин, наполненных оставшимися кусками хлеба, и рыба тоже
осталась. 44 А ели хлеб пять тысяч человек.
45 И тотчас он заставил учеников сесть в лодку и отправиться на
другой берег к Бет-Цайде раньше него, пока он будет отпускать толпу. 46
Расставшись с толпой, он ушел на гору помолиться.47 При наступлении
вечера лодка была посреди моря, а он один на земле. 48 Он увидел, что
им тяжело грести, так как ветер был встречный, и в четвертую стражу
ночи подошел к ним, ступая по морю, и хотел пройти мимо них. 49 Аь
они, увидев, как он идет по морю, подумали, что это привидение, и
закричали. 50 Ибо все его увидели и пришли в смятение. А он тотчас
заговорил с ними: «Мужайтесь! Это я, не бойтесь!» 51 Затем он поднялся к
ним в лодку. И ветер стих. Они были крайне изумлены.52 Ведь их
сердце очерствело, и даже после умножения хлеба они ничего не поняли.
53 Переправившись, они достигли земли в Генисарете и причалили.
54 Когда они вышли из лодки, люди тотчас узнали его. 55 Они обежали
всю ту местность и стали приносить на носилках больных туда, где он,
как они слышали, находился. 56 Во всех деревнях, городах или
селениях, куда он входил, выносили на площади больных и умоляли его,
чтобы он позволил им коснуться хотя бы кисти на его плаще. И все, кто
прикасался к нему, исцелялись.
7 Однажды собрались у него фарисеи и книжники, которые пришли
из Иерусалима. 2 Они увидели, как его ученики едят неосвященными,
то есть неомытыми, руками.
3 Дело в том, что фарисеи и все евреи не приступают к еде, если не
омоют рук особым образом, соблюдая предание отцов. 4 И, придя с
рынка, не приступают к еде, пока не очистятся водой. Есть еще и
многое другое, что они приняли и соблюдают: очищение чаш, кувшинов и
медных сосудов.
5 Фарисеи и книжники спросили его:
— Почему твои ученики не поступают по преданию отцов и едят
неосвященными руками?
6 А он сказал им:
— Правильно пророчествовал о вас, лицемерах, Исайя в Писании:
«Этот народ почитает Меня на словах,
а их помыслы далеки от Меня.
7 Они поклоняются Мне напрасно,
так как учат человеческим предписаниям».
8 Оставив предписание Бога, вы соблюдаете человеческое предание.
6:48. В четвертую стражу ночи — между тремя часами пополуночи и шестью
утра.
6:56. ...коснуться хотя бы кисти на его плаще — του κρασπέδου του ιματίου αυτού.
Под κράσπεδον имеется в виду одна из «цицит» (мн. ч. «цицийот») - четырех
кистей, которые Тора предписывает носить на четырех краях одежды (Числ
15:37-40; Втор 22:12).
7:4.Часть рукописной традиции добавляет: «и постелей».
31*
483
9 И затем он объяснил им:
— Как ловко вы упраздняете предписание Бога, чтобы утвердить
свое предание! 10 Ведь Моисей сказал: «Чти отца имать\» и «Тот, кто
оскорбляет отца или мать, достоин смерти\» п А вы говорите: Если
человек скажет отцу или матери: «То, что ты мог бы получить от меня,
это корбан (то есть уже принадлежит Богу)...», — 12 и вы уже позволяете
ему ничего не делать для отца или матери. 13 Так вы отменяете Божье
слово вашим преданием, которое передаете другим. И еще много
подобного вы делаете.
4 и И, снова призвав к себе толпу, он сказал:
— Послушайте меня все и поймите! 15 Ничто входящее в человека
извне не может осквернить его; оскверняет человека то, что из него
выходит!
17 Когда он оставил толпу и вошел в дом, ученики спросили его об
этой притче. 18 Он сказал им:
— Вы тоже не понимаете? Неужели вам непонятно, что ничто
входящее в человека извне не может осквернить его? 19 Ибо оно входит ему
не в сердце, а в желудок и выходит в отхожее место! (Так он объявил
чистыми все виды пищи.)
20 Затем он сказал:
— То, что выходит из человека, — вот что делает его нечистым.
21 Ибо изнутри, из человеческого сердца, выходят дурные намерения,
разврат, воровство, убийство, 22 посягательство на чужую жену,
своекорыстие, злоба, коварство, невоздержанность, зависть, злословие,
заносчивость, безрассудство. 23 Все эти пороки выходят изнутри и
оскверняют человека.
24 Оттуда он отправился в область Тира. Остановившись в одном
доме, он хотел, чтобы никто о нем не узнал, но не сумел остаться
незамеченным. 25 О нем тотчас услышала женщина, дочь которой была
одержима нечистым духом. Придя к Иисусу, женщина пала ему в ноги.
26 А женщина эта была язычница, родом сирофиникиянка. Она
просила его изгнать демона из дочери. 27 А Иисус сказал ей:
— Пусть вначале наедятся дети. Нехорошо отнять хлеб у детей и
бросить собакам.
28 Она ответила:
— Господин, даже собаки под столом едят крошки, которые
остаются от детей.
29 Он сказал ей:
— За эти слова ступай домой, демон вышел из твоей дочери.
30 Придя домой, женщина увидела, что ее дочь лежит на постели.
Демон из нее вышел.
31 Покинув область Тира, он через Сидон снова вышел к
Галилейскому морю со стороны Десятиградья. 32 К нему привели глухого и
косноязычного и стали умолять его, чтобы он возложил на него руки. 33 А
Иисус, отведя его в сторону подальше от толпы, вложил ему пальцы в
уши и плюнул на язык. 34 Затем Иисус поднял глаза к небу, застонал и
7:15. Часть рукописной традиции добавляет ст. 16: «У кого есть уши, чтобы слы
шать, пусть услышит!»-
484
сказал «этпетах!», то есть «откройся!». 35 Уши глухого тотчас открылись,
язык освободился от оков, и он стал говорить ясно. 36 Иисус запретил
людям рассказывать об этом. Но чем строже он запрещал, тем больше
они рассказывали о случившемся.
37 И все чрезвычайно поражались и говорили: «Как хорошо он всё
делает: и глухие у него начинают слышать, и немые — говорить!»
8 В те дни, когда снова собралась большая толпа и им нечего было
есть, он подозвал учеников и сказал:
— 2 Мне жалко этих людей: они уже три дня со мной, и им нечего
есть. 3 Но если я отправлю их по домам голодными, то у них не хватит
сил на дорогу, а ведь некоторые пришли издалека.
4 Ученики ответили:
— Как же накормить их здесь, в безлюдном месте?
5 А он спросил их:
— Сколько у вас хлебов?
Они сказали:
— Семь.
6 Тогда Иисус велел толпе расположиться на земле для трапезы. Он
взял эти семь хлебов, произнес благодарение, стал разламывать хлеб и
давать ученикам, чтобы они раздавали людям, и они раздали. 7 Еще у
них было несколько рыбешек. Произнеся над ними благословение, он
велел и их раздать. 8 Люди ели, и наелись досыта, и унесли семь
плетенок оставшихся кусков.9 А там было около четырех тысяч человек. И он
отпустил их.
10 Он тотчас сел в лодку с учениками и отправился в область Далма-
нуты.
11 Пришли фарисеи и начали с ним спорить. Они требовали от него
знака с Неба, стремясь разоблачить его. 12 Тяжело вздохнув, он сказал:
«Почему это поколение требует знака? Амен, я говорю вам: не будет
ему дано знака!» 13 И, оставив их, он снова сел в лодку и отправился на
другой берег.
14 А ученики забыли взять с собой хлеб, так что в лодке у них была
только одна лепешка. 15 Иисус предупреждал их:
— Смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода!
16 А они стали рассуждать:
— Это из-за того, что у нас нет хлеба.
17 Услышав это, он сказал им:
— Почему же вы рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Все еще не
замечаете и не понимаете? Сердце у вас очерствело?
18 Глаза у вас есть, но вы не видите,
уши у вас есть, но вы не слышите?
И не помните? 19 Когда я разломил пять хлебов для пяти тысяч
человек, сколько вы унесли полных корзин с кусками?
Они сказали ему:
— Двенадцать.
—20 А когда семь — для четырех тысяч, сколько вы унесли плетенок,
наполненных кусками?
Они сказали:
485
— Семь.
21 Он сказал им;
— Так вы все еще не понимаете?
22 Они пришли в Бет-Цайду.
К Иисусу привели слепого и умоляли прикоснуться к нему. 23 Он
взял слепого за руку, вывел из деревни и затем, плюнув ему на глаза и
возложив на него руки, спросил:
— Ты что-нибудь видишь?
24 А тот, начиная прозревать, сказал:
— Я различаю людей, они похожи на ходящие деревья.
25 Тогда он опять приложил ему руки к глазам, и тот стал видеть
хорошо: зрение у него восстановилось, так что он все видел ясно.26 Иисус
о
отослал его домой со словами:
- Даже в деревню не заходи!
27 Иисус пошел с учениками в деревни, прилегавшие к Кесарии
Филипповой. В пути он спросил учеников:
- Кем считают меня люди?
Они ответили:
Иоанном Очищающим, другие — Илией, а некоторые — пророком.
28
29 Тогда он спросил их:
— А кем считаете меня вы?
Петр ответил:
Ты - Помазанник!
30
А он оборвал их, велев никому не говорить об этом.
31 И стал учить их:
«Сыну человеческому суждено много страдать,быть отвергнутым
старейшинами, первосвященниками и книжниками,
быть убитым,
и
и на третий день воскреснуть».
32 Он говорил об этом открыто, ничего не утаивая. Тогда Петр,
отведя его в сторону, стал ему возражать.33 А он, обернувшись и взглянув
на учеников, оборвал Петра:
— Прочь от меня, сатана! Ты стремишься не к Божьему, а к
человеческому.
34 Позвав толпу и учеников, он сказал им:
— Тот, кто хочет следовать за мной, пусть откажется от себя и
поднимет крест, на котором он будет распят, и тогда пусть следует за
мной. 35 Ведь всякий, кто стремится спасти себя, погибнет. А тот, кто
погибнет ради меня и Вести, спасет себя. 36 Какая человеку польза,
если он приобретет целый мир, а себе повредит? 37 Подумайте: чего
не отдал бы человек, чтобы выкупить самого себя? 38 А кто
постыдится меня и моих слов в этом поколении, изменившем Богу и грешном,
того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе своего
Отца со святыми ангелами.
9 Затем он сказал им: «Амен, я говорю вам: некоторые из стоящих
здесь не узнают смерти, пока не увидят, как Божье Царство пришло в
силе».
Ш
486
поднялся на высокую гору. Его облик изменился у них на глазах. 3 Его
одежда стала ослепительно белой — так ни один сукновал на земле не
может отбелить. 4 Тут они увидели Илию с Моисеем, беседовавших с
Иисусом. 5 Тогда Петр сказал Иисусу: «Рабби, хорошо, что мы здесь.
Давай мы сделаем три шалаша: один для тебя, другой для Моисея,
третий для Илии!» 6 Ведь он не знал, что сказать: их поразил страх. 7 И
тогда появилось облако, укрывшее их тенью. Из облака прозвучал голос:
«Это Мой любимый сын, слушайте его!» 8 И вдруг, оглянувшись, они
увидели рядом с собой одного только Иисуса.
9 Когда они спускались с горы, он велел им рассказывать о том, что
они видели, только после того, как Сын человеческий воскреснет из
мертвых. 10 Они запомнили эти слова и стали спорить между собой, что
такое «воскреснуть из мертвых».
11 А его они спросили:
— Почему книжники говорят, что сначала придет Илия!
12 Он ответил им:
— Да, Илия придет сначала и все восстановит. А как же тогда
написано о Сыне человеческом, что он будет много страдать и его будут
презирать? 13 Что же, я говорю вам: Илия уже пришел, и люди поступили
с ним так, как хотели, как и написано о нем.
14 Вернувшись к остальным ученикам, они увидели вокруг них
большую толпу и книжников, споривших с ними. |5 Все в толпе, как
только увидели Иисуса, изумились и побежали приветствовать его. 16 Он
спросил:
— Что вы спорите?
17 Кто-то из толпы ответил:
— Учитель, я привел к тебе сына, в нем дух немоты. 18 Везде, где его
схватывает дух, он валит его на землю, у мальчика изо рта идет пена, он
сжимает зубы, а потом застывает. Я просил твоих учеников изгнать
духа, но они не смогли.
19 Иисус ответил им:
— О неверное поколение! Долго ли мне еще быть с вами?! Долго ли
мне еще терпеть вас?! Ведите мальчика ко мне!
20 Его привели к Иисусу. А дух, увидев Иисуса, тотчас скрутил
мальчика: он упал и стал кататься по земле, испуская пену. 21 Иисус спросил
у отца:
— С каких пор это у него?
Тот ответил:
— С раннего детства. 22 Дух часто бросал его даже в огонь и в воду,
чтобы погубить. Но если ты что-нибудь можешь, помоги нам, сжалься
над нами!
23 Иисус сказал ему:
— Ты говоришь «Если можешь...» Все может тот, кто верит.
9:3. Так ни один сукновал (γναφεύς) на земле не может отбелить. — Сукновалы
в то время отбеливали сукно при его изготовлении. Ср. 2:21 «лоскут новой
ткани» — έπίβλημα ράκους άγνάφου, т. е. заплата из непропитанной отбеливающим
составом и потому «несевшей» ткани. При стирке ткань заплаты «сядет» и
потянет старую ткань — прореха станет больше.
487
24
Отец мальчика тотчас воскликнул:
Я верю! Помоги моему неверию!
25 А Иисус, увидев, что к ним сбегается толпа, унял нечистого духа,
сказав ему:
— Дух немоты и глухоты, я тебе приказываю: выйди из него и
больше никогда не входи!
26 Нечистый дух, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. Мальчик
стал как мертвый, так что многие говорили: «Он умер». 27 А Иисус
поднял его за руку, и он встал.
28 Когда он вошел в дом, ученики наедине спросили его:
— Почему мы были не в силах изгнать его?
29 Он сказал им:
— Эту породу можно изгнать только молитвой.
30Уйдя оттуда, они шли по Галилее, и он хотел остаться неузнанным.
31 Ибо он принялся наставлять учеников:
«Сын человеческий будет выдан в руки человеческие.
И убьют его.
Но на третий день после смерти он воскреснет».
32 Ученики не могли понять эти слова, а спросить его боялись.
33 Они пришли в Капернаум. Войдя в дом, Иисус стал спрашивать у них:
— О чем вы спорили в пути?
34 А они молчали, потому что в пути они спорили между собой, кто
из них главнее.35 Тогда он сел, позвал Двенадцать и сказал:
— Тот, кто хочет быть первым, пусть станет самым последним и
слугой для всех!
36 Затем он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он
сказал:
— 37 Кто принимает таких детей ради моего имени, принимает меня.
А кто принимает меня, принимает и Пославшего меня.
38 Иоанн сказал ему:
— Учитель, мы видели, как некто твоим именем изгонял демонов, и
хотели помешать ему, ибо он не следовал за нами.
39 А Иисус сказал:
— Не надо мешать ему! Всякий, кто проявит силу, призывая мое имя,
уже не сможет вскоре оскорбить меня. ^ Кто не действует против нас, тот
уже за нас. 41 И кто напоит вас хоть кружкой воды ради того, что вы носите
имя Помазанника, — амен, я говорю вам, он не потеряет своей награды.
42 А всякому, кто заставляет отступиться одного из таких малых,
верящих в меня, лучше быть брошенным в море с жерновом на шее.43 И
9:37. Кто принимает таких детей ради моего имени, принимает меня. В этом
стихе, как и в следующих, автор и стоящая за ним традиция явно имеют в виду
отношения в христианской общине. Оборот «ради моего имени» (επί τω ονόματι
μου) означает здесь, как и оборот εν ονόματι δτι Χριστού έστε в ст. 41,
принадлежность Иисусу, т. е. членство в христианской обшине. На это указывает и
необычное, лишь однажды встречающееся у Мк, предикативно-притяжательное
употребление титула Χριστός (ст. 41).
9:43. Часть рукописной традиции добавляет ст. 44: «Где червь пожирающий не
умирает и огонь не гаснет».
488
если твоя рука заставляет тебя отступиться, отруби ее! Лучше тебе
одноруким войти в жизнь, чем с обеими руками попасть в Ге-Хинном, в
неугасимый огонь!. 45 И если твоя нога заставляет тебя отступиться,
отруби ее! Лучше тебе одноногим войти в жизнь, чем с обеими ногами
быть брошенным в Ге-Хинном! 47 И если твой глаз заставляет тебя
отступиться, вырви его! Лучше тебе с одним глазом войти в Божье
Царство, чем с обоими глазами быть брошенным в Ге-Хинном, 48 где червь
пожирающий не умирает и огонь не гаснет.
49 Ведь каждый будет посолен огнем. 50 Соль хороша. Но если соль
станет пресной, чем ее поправите? Имейте в себе соль и живите в мире
друг с другом.
10 Оттуда он отправился в Иудею и за Иордан. К нему снова
сходились толпы, и он по своему обыкновению учил их.
2 Тут подошли к нему фарисеи и спросили, испытывая его:
— Позволено ли мужу отвергать жену?
3 А он их спросил:
— Что вам предписал Моисей?
4 Они ответили:
— Моисей разрешил мужу отвергать жену и при этом давать ей
свидетельство о разводе.
5 Тогда Иисус сказал им:
— Он дал вам это предписание Закона из-за вашего жестокосердия.
6 А в начале творения Бог создал человека мужчиной и женщиной. 7
Поэтому пусть оставит человек отца и мать и соединится с женой, 8 и
пусть они станут одной плотью. Так что их уже не двое, но они — одно
существо.9 Человек не должен разъединять то, что соединил Бог.
10 В доме ученики снова спросили его об этом. и Он сказал им:
— Всякий, кто отвергает жену и женится снова, изменяет ей. 12 И
если женщина, отвергнув мужа, выходит замуж, она повинна в измене.
13 К нему хотели подвести детей, чтобы он прикоснулся к ним. А
ученики не пустили их. 14 Но Иисус, увидев это, рассердился и сказал
им: «Позвольте детям подойти ко мне, не надо мешать им, ибо для
таких вот предназначено Божье Царство. !5 Амен, я говорю вам: тот, кто
не примет Божьего Царства как ребенок, не войдет в него!» 16 И,
обнимая детей, благословил их, возложив на них руки.
17 А когда он отправлялся в путь, один человек подбежал к нему и,
пав на колени, спросил:
— Благой учитель, что мне делать, чтобы получить долю в вечной
жизни?
18 А Иисус сказал ему:
— Почему ты называешь меня благим? Благ только Бог. 19 Ты же
знаешь предписания Бога: не убивай, не посягай на чужую жену, не кради,
не лжесвидетельствуй, не грабь, чти отца и мать.
9:45. Часть рукописной традиции добавляет ст. 46: «Где червь пожирающий не
умирает и огонь не гаснет».
10:7. В Синайском и Ватиканском кодексах и еще в нескольких списках слова
«и соединится с женой» отсутствуют.
489
20 д тот сказал ему:
— Учитель, всё это я соблюдаю с юношеских лет.
21 Тут Иисус с любовью поглядел на него и сказал:
— Тогда тебе недостает одного. Ступай домой, продай все, что у тебя
есть, и отдай бедным — и получишь сокровище на небе. А затем
приходи и следуй за мной!
22 От этих слов тот помрачнел и ушел в печали, ибо он был очень
богатым.
23 Оглядев учеников, Иисус сказал им:
— Как трудно богачу войти в Божье Царство!
24 От этих слов ученики пришли в ужас. А Иисус снова сказал:
— Дети, как трудно войти в Божье Царство!25 Легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Божье Царство.
26 А ученики поражались чрезвычайно и говорили друг другу:
— Но кто же тогда может спастись?
Иисус посмотрел на них и сказал:
Для людей это невозможно, но не для Бога. Ведь у Бога все воз-
27
можно.
28 Тогда Петр сказал ему:
— Смотри, мы оставили все и последовали за тобой.
29 Иисус сказал:
— Амен, я говорю тебе: всякий, кто оставил дом или братьев, или
сестер, или мать, или отца, или детей, или пашни ради меня и ради
Вести, 30 тот получит сторицей и дом, и братьев, и сестер, и матерей, и
детей, и пашни — уже сейчас, в этом веке, посреди гонений, а в грядущем
веке обретет вечную жизнь.31 Ведь многие из первых станут
последними, а последние — первыми.
алим
них. Следовавшие за ним были в страхе и ужасе. Он снова отвел
Двенадцать в сторону и стал говорить им о том, чту ему предстоит:
— 33 Итак, мы поднимаемся в Иерусалим.
Сын человеческий будет выдан первосвященникам
и книжникам.
Они осудят его на смерть и выдадут иноверцам.
34 И те будут глумиться над ним:
оплевывать и бичевать его.
И убьют его.
Но на третий день он воскреснет.
35 К нему подошли Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, и сказали:
— Учитель! Мы хотим, чтобы ты сделал для нас все, чего мы ни
попросим.
36 Он спросил:
— Что же вы хотите, чтобы я сделал для вас?
37 Они ответили:
— Позволь, чтобы в твоей славе один из нас сел справа от тебя, а
*_>
другой — слева.
38 А Иисус сказал им:
— Вы не понимаете, о чем просите. Можете ли выпить чашу,
которую я пью? Или принять очищение, которым я очищаюсь?
490
39 Они ответили:
— Можем!
А Иисус сказал им:
— Мою чашу вы выпьете, и моим очищением вы очиститесь. 40 Но
сесть справа или слева от меня я не могу позволить: там сядут те, кому
это предназначено.
41 Услышав это, остальные десять стали негодовать на Иакова и
Иоанна.42 А Иисус, подозвав их, сказал:
— Вы знаете, что те, кого народы признают своими правителями,
угнетают их, и великие употребляют власть против них.43 А у вас — не так. Но
всякий среди вас, кто хочет стать знатным, пусть станет слугой для
остальных, ^ и всякий из вас, кто хочет быть первым, пусть будет рабом для всех.
45 Ведь и Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а
чтобы служить другим и отдать себя за освобождение многих.
46 Они пришли в Иерихон. А когда он выходил из Иерихона, и вме
сте с ним ученики и немалая толпа, у дороги сидел сын Тимая Бар-Ти-
май, слепой нищий. 47 Услышав, что это Иисус Назаретянин, он стал
выкрикивать:
ι
— Сын Давида, Иисус, сжалься надо mhoi
48 Многие пытались унять его. Но слепой еще громче выкрикивал:
— Сын Давида, сжалься надо мной!
49 Остановившись, Иисус сказал:
— Позовите его.
Слепого окликнули:
— Смелей, подымайся, он зовет тебя.
so д тот сбросил плащ, вскочил и подошел к Иисусу. 5i Иисус
спросил его:
— Чего ты хочешь от меня?
Слепой ответил:
— Раббуни, хочу снова стать зрячим!
52 Иисус сказал ему:
— Ступай домой, твоя вера исцелила тебя.
Зрение тотчас вернулось к нему. И он пошел вслед за Иисусом по
дороге.
11 Когда они приближались к Иерусалиму и оказались неподалеку
от Бет-Паге и Бет-Ании, что у горы Олив, он послал вперед двоих
учеников 2 и сказал им:
— Ступайте в это селение — оно прямо перед вами. Войдя в него, вы
тотчас найдете привязанного осленка, на которого еще никто не
садился. Отвяжите его и ведите сюда. 3 А если вас спросят: «Что это вы
делаете?», скажите: «Он нужен господину, он тотчас вернет его сюда».
4 Они пошли и нашли осленка, привязанного у наружной двери на
улице, и стали отвязывать его. 5 Стоявшие там люди спросили:
— Что вы делаете? Зачем осленка отвязываете?
6 А они ответили так, как им сказал Иисус, и их отпустили. 7 Они
привели к Иисусу осленка, покрыли его одеждами, и Иисус сел на него.
8 Многие устилали дорогу одеждами, а другие — листьями, сорванными
в полях.9 Люди, шедшие перед ним и вслед за ним, восклицали:
491
— Хошанна! Благословен тот, кто входит,
призывая имя Господа!
10 Благословенно наступающее царство нашего отца
Давида!
Хошанна в небесах!
11 Он вошел в Иерусалим, в Храм и, осмотрев все, вернулся в Бет-
Анию вместе с Двенадцатью, так как час был уже поздний.
12 А наутро, когда они вышли из Бет-Ании, Иисус проголодался.
13 Вдали он увидел смоковницу, покрытую листьями, и подошел к
дереву посмотреть, нет ли на нем чего-нибудь, но нашел только листья: ведь
пора плодов еще не настала. 14 И он обратился к дереву:
— Пусть больше никто не ест твоих плодов!
И ученики слышали это.
15 Они пришли в Иерусалим. Он вошел в Храм и стал изгонять
продававших и покупавших, опрокинул столы менял и сиденья торговцев
голубями 16 и не давал никому ничего проносить через Храм.17 Затем он учил их:
— Разве не написано, что
мой дом назовут домом молитвы
для всех народов?
А вы превратили его в логово разбойников.
18 Первосвященники и книжники услышали это и стали искать
способ погубить его. Но они боялись Иисуса, ибо весь народ поражался его
учению. 19 А когда настал вечер, Иисус и ученики вышли из города.
20 Наутро, проходя мимо смоковницы, они увидели, что дерево
засохло до корней.21 И Петр, вспомнив, сказал ему:
— Рабби! Посмотри: дерево, которое ты проклял, засохло.
22 А Иисус ответил им:
— Имейте веру — и будете как Бог! 23 Амен, я говорю вам: если кто
скажет этой горе: «Поднимись и рухни в море» — и не будет
сомневаться, а будет верить, что это сбудется, то так для него и будет!24 Поэтому
я говорю вам: если вы о чем-то просите для себя во время молитвы,
верьте, что вы уже получили все это, и так для вас и будет! 25 И когда
стоите на молитве, прощайте все, что имеете против других, чтобы и
ваш небесный Отец простил вам ваши проступки.
27 Они снова пришли в Иерусалим. Когда он ходил по Храму, к нему
подошли первосвященники, книжники и старейшины 28 и спросили:
— Какой властью ты это делаешь? Кто дал тебе власть делать такое?
29 А Иисус сказал им:
— Задам и я вам один вопрос. Ответьте мне — и я скажу вам, какой
властью это делаю. 30 Очищение Иоанна было от Неба или от людей?
Ответьте!
31 Они стали рассуждать:
— Если мы скажем: «От Неба», то он спросит: «Почему же вы не
поверили ему?» 32 А может, сказать: «От людей»?..
Но они боялись народа. Ведь все считали Иоанна настоящим
пророком. 33 И они ответили Иисусу:
11:25. Часть рукописной традиции добавляет ст. 26: «А если вы не прощаете, то
и ваш небесный Отец не простит ваши проступки».
492
— Мы не знаем.
И тогда Иисус сказал им:
— Я тоже не скажу вам, какой властью это делаю.
12 Затем он начал говорить с ними в притчах: «Один человек разбил
виноградник, обнес его оградой, вырыл яму для виноградного чана,
построил башню, отдал виноградник внаем земледельцам и уехал из той
страны.2 В условленное время он послал к земледельцам раба, чтобы он
забрал у них часть урожая.3 А они схватили его, избили и отослали
обратно с пустыми руками.4 Тогда он послал к ним другого раба. Они
разбили ему голову и прогнали с позором.
5 Он еще одного послал, и они убили его. Затем он посылал много
других рабов, но они одних избивали, а других убивали.6 А у него был
еще единственный, любимый сын. Он послал его к ним последним,
подумав: «Сына они послушаются».7 А земледельцы договорились
между собой: «Это наследник. Давайте убьем его, и наследство станет
нашим!» 8 Они схватили его, убили и выбросили из виноградника. 9 Что
же сделает хозяин виноградника? Он придет и предаст земледельцев
смерти, а виноградник отдаст другим. ш Разве вы не читали в Писании:
Камень, который отвергли строители,
оказался во главе угла!
11 Это деяние Господа,
изумительное для наших глаз».
12 Они хотели схватить его, но побоялись народа. Ведь они поняли,
что эту притчу он рассказал о них. Поэтому они оставили его и ушли.
13 К нему подослали фарисеев и приверженцев Ирода, чтобы те
поймали его на слове. 14 Они пришли и сказали ему:
— Учитель! Мы знаем, что ты человек прямой и тебя не заботит, что
о тебе скажут другие. Ты не стремишься понравиться людям, а прямо
учишь о пути, угодном Богу. Позволительно ли платить налог цезарю
или нет? Платить нам или не платить?
15 А он, видя их неискренность, сказал им:
— Что вы меня испытываете? Покажите мне денарий.
16 Они принесли ему денарий. А он спросил:
— Чье здесь изображение и имя?
Они сказали ему:
— Цезаря.
17 Тогда Иисус сказал им:
— То, что принадлежит цезарю, верните цезарю. А то, что
принадлежит Богу, верните Богу!
Они были крайне изумлены его словами.
18 К нему пришли саддукеи, которые считают, что нет воскресения.
Они спросили:
— 19 Учитель! Моисей написал для нас: «Если у кого-нибудь брат ум-
рет бездетным и оставит вдову, пусть он возьмет эту женщину и
продолжит род брата». 20 Было семь братьев. Первый женился и умер, не
оставив потомства. 21 На вдове женился второй брат и умер, не оставив
потомства. И с третьим случилось то же самое. - И так все семь не
оставили потомства. После всех них умерла и эта женщина. 23 По воскре-
493
и
сении кому из них она будет женой? Ведь все семеро были женаты на
и*
ней.
24 Иисус сказал им:
— Так вот из-за чего вы заблуждаетесь?! Вы не знаете ни Писаний,
ни Божьей силы. 25 Когда люди воскреснут из мертвых, они не будут
жениться и выходить замуж, а будут жить как ангелы на небесах. 26 А о
том, что мертвые воскресают, разве вы не читали в книге Моисея
место о терновнике? Там Бог сказал Моисею: «Я — Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова» 27 Он Бог не мертвецов, а живых! Вы сильно
заблуждаетесь.
28 Один книжник, подойдя и услышав, как они спорили и как
хорошо он ответил им, спросил у него:
— Какое предписание Закона самое главное?
29 Иисус ответил:
— Вот главное предписание Закона: «Слушай, Израиль! Наш Бог —
Господь, Господь — единственный Бог\ 30 Ты должен любить Господа,
своего Бога, всем сердцем, и всей душой, и всем разумом, и всеми силами». 31
А вот второе предписание Закона: « Ты должен любить ближнего как
себя». Нет предписания важнее, чем эти.
32 Книжник сказал ему:
— Прекрасно, учитель! Ты сказал правду: «Он один, и нет другого
Бога, кроме Него».33 И «любить Его всем сердцем, и всеми мыслями, и
всеми силами», и «любить ближнего как себя» — важнее всех всесожжении
и других жертв.
34 Иисус, видя, как разумно он ответил, сказал ему:
— Ты недалек от Божьего Царства!
И больше никто не отваживался задавать ему вопросы.
35 Иисус обратился к народу, продолжая учить в Храме:
— Почему книжники говорят, что Помазанник должен быть сыном
Давида? 36 Ведь Давид сказал, побуждаемый святым духом:
«Господь сказал моему господину:
сиди по правую руку от Меня,
а Я повергну твоих врагов
тебе под ноги».
Давид называет Помазанника своим господином. Так как же По-
37
мазанник может быть сыном Давида?
Большая толпа охотно слушала его.
38 Он учил их: «Остерегайтесь книжников, которые любят
расхаживать в праздничных одеждах, и принимать приветствия на площадях,
39 и в синагогах сидеть впереди, и на пирах возлежать на почетных
местах. 40 Это они прибирают к рукам имущество вдов и долго молятся
напоказ. Их ждет очень большое наказание».
41 Он сел перед сокровищницей и смотрел, как народ бросает в нее
монеты. Подходило много богачей, и они бросали помногу.42 И тут по-
12:30. Ср. Втор 6:5. Слово «Господь» (гр. κύριος) употребляется здесь у Мк, вслед
за LXX, как имя собственное, т. е. просто как личное имя Бога Израиля П1ГГ
(YHWH), и не указывает на атрибуты Бога, отношения господства—подчинения
и т. п.
494
дошла одна бедная вдова и положила два лептона, что составляет один
квадрант.43 Он подозвал учеников и сказал:
— Амен, я говорю вам: эта бедная вдова положила больше всех,
бросавших в сокровищницу. 44 Ведь все отдавали то, что им было не
нужно, а она отдала то, в чем нуждалась сама, — всё, что у нее было, всё
свое достояние.
13 А когда он выходил из Храма, один из учеников сказал ему:
— Учитель! Посмотри, какие каменные плиты и какие строения!
2 Иисус сказал ему:
— Ты видишь эти большие строения? Здесь ни один камень не
останется лежать на другом, все они будут разбиты.
3 А когда он сидел на горе Олив, что напротив Храма, Петр, Иаков,
Иоанн и Андрей, оставшись с ним наедине, спросили:
— 4 Скажи нам, когда это будет и какой будет знак, что все это вот-
вот совершится?
5 Тут Иисус стал говорить им:
— Смотрите, как бы вас не ввели в заблуждение. 6 Многие придут
под моим именем, говоря «Я — это он!», и многих введут в заблуждение.
7 А когда вы услышите шум сражений и вести о сражениях, не
тревожьтесь. Этому суждено случиться, но это еще не конец.8 Народ
поднимется против народа и царство против царства, тут и там будут
землетрясения, будет голод. Это начало предсмертных судорог.
9 Вы же будьте готовы. Вас будут выдавать на суд синедрионам и
избивать в синагогах, вы предстанете перед правителями и царями,
чтобы свидетельствовать им обо мне. 10 Ведь первым делом Весть должна
быть провозглашена всем народам. п И всякий раз, когда вас будут
выдавать властям, не заботьтесь заранее о том, что вам сказать на суде. Что
вам будет дано в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, а
святой дух. п Брат выдаст брата на смерть, а отец — сына, а дети
восстанут против родителей и убьют их. 13 И все будут ненавидеть вас из-за
меня. Но кто выстоит до конца, тот спасется.
14 А когда вы увидите «мерзость опустошения», то есть ставшего там,
где не должно (читающий пусть догадается!), — тогда те, кто живет в
Иудее, пусть спасаются бегством в горы. 15 Кто окажется на крыше,
пусть не спускается в дом, чтобы что-нибудь взять, 16 а кто окажется в
поле, пусть не возвращается за плащом. i7 Горе беременным или
кормящим грудью в те дни!
18 Молитесь, чтобы этого не произошло зимой. |9 Ибо те дни будут
13:8. Это начало предсмертных судорог. Возможен перевод: «Это начало родовых
схваток». В иудаизме I в. роды были одним из образов прихода мессианской
эры.
13:9. Синедрионы — здесь корпоративно-представительные органы еврейского
местного самоуправления, которые до 70 г. н. э. обладали, в частности,
довольно широкими судебными полномочиями.
13:14. Вероятно, автор имеет в виду появление Антихриста, которое, согласно
раннехристианским апокалиптическим представлениям, должно было
предшествовать победному возвращению Иисуса. Ср. 2 Фес 2:3—10.
495
таким бедствием, какого не было доныне от начала мира, который
создал Бог, и не будет впредь. 20 И если бы Господь не назначил конец
этим дням, то не уцелел бы никто. Но из-за избранников, которых Он
избрал для Себя, Он назначил конец этим дням.
21 И тогда, если кто-нибудь скажет вам: «Посмотри, Помазанник
здесь!.. Посмотри, он там!», не верьте! 22 Ибо придут
лжепомазанники и лжепророки, явят знаки и ужасы, чтобы, если удастся, ввести в
заблуждение избранников. 23 А вы будьте наготове — вам я все сказал
заранее.
24 Но в те дни, после тех бедствий
солнце померкнет,
и луна не будет светить,
25 и звезды будут с неба падать,
и силы небесные поколеблются.
26 Тогда увидят, как Сын человеческий идет по облакам с великой
силой и славой. 27 Он пошлет ангелов и соберет своих избранников с
четырех стран света - от края земли и до края неба.
28 Вот притча, которой вы научитесь от смоковницы: как только ее
ветвь набухает от сока и покрывается листьями, вы знаете, что лето
близко. 29 Вот так и тут: когда вы увидите, что это сбывается, то
знайте, что он — близко, на пороге.
30 Амен, я говорю вам: это поколение еще не успеет исчезнуть, а все
уже сбудется.31 Небо и земля исчезнут, а мои слова останутся.
32 А тот день и час не знает никто, кроме Отца: ни ангелы на небе,
ни Сын.
33 Будьте наготове, не спите!
Ведь вы не знаете, когда настанет срок.
34 Это — как человек, уезжающий в далекие страны.
Он оставил свой дом и дал рабам задание,
каждому свое дело.
А привратнику велел бодрствовать.
35 Бодрствуйте и вы!
Ведь вы не знаете, когда придет хозяин дома:
вечером, в полночь, или когда поют петухи, или утром.
36 Как бы он, придя внезапно, не застал вас спящими!
37 А то, что я говорю вам, говорю и всем:
бодрствуйте!
14 Через день после этого наступала Пасха и праздник Пресного
Хлеба. Первосвященники и книжники хотели незаметно схватить его и
убить.2 Ведь они беспокоились: «Лишь бы не во время праздника,
чтобы не было смуты в народе».
3 Когда он был в Бет-Ание, в доме Симона-прокаженного, и
возлежал за трапезой, туда вошла женщина с алебастровым флаконом
дорогих благовоний из нардового и фисташкового масла, надломила флакон
и вылила благовония ему на голову. 4 Некоторые из возлежавших ста-
14:3. Из нардового и фисташкового масла. Возможен и другой перевод: «Из
настоящего [чистого] нардового масла».
496
ли негодовать: «Зачем так расходовать благовония? 5 Ведь их можно
было продать за триста с лишним денариев и раздать деньги бедным»,
И стали кричать на нее.6 А Иисус сказал:
— Оставьте ее в покое. За что вы ее браните? Она сделала для меня
доброе дело. 7 Ведь бедные всегда с вами: вы можете помогать им
всегда, когда пожелаете. А я буду с вами не всегда. 8 Она сделала то, что
было в ее силах: заранее умастила мое тело для погребения. 9 Амен, я
говорю вам: по всему миру, где будет провозглашаться Весть, будут
вспоминать и ее и рассказывать о том, что она сделала.
10 А Иуда Искариот, один из Двенадцати, пошел к
первосвященникам, чтобы выдать Иисуса. и Узнав об этом, они обрадовались и
обещали ему денег. И он стал искать удобного случая, чтобы выдать
его.
12 В первый день Пресного Хлеба, когда приносят в жертву
пасхального ягненка, ученики спросили его:
— Где ты хочешь есть пасхальную трапезу? Мы пойдем туда и все
приготовим.
13 Он послал двух учеников и сказал им:
— Ступайте в город, там вам встретится человек, несущий кувшин
с водой. Идите за ним. м И хозяину дома, куда он войдет, скажите:
«Учитель спрашивает: где комната, в которой он с учениками будет
есть пасхальную трапезу?» 15 Он покажет вам большую комнату
наверху, в которой все устлано и готово. Вот там и приготовьте нам
трапезу.
16 Ученики пошли в город и нашли все, как он сказал им, и
приготовили пасхальную трапезу.
17 Вечером он пришел туда с Двенадцатью. 18 Когда они возлежали за
трапезой, Иисус сказал:
— Амен, я говорю вам: один из вас выдаст меня — один из тех, кто
ест со мной.
19 Они опечалились и стали спрашивать его один за другим:
— Неужели я?
20 А он сказал им:
— Один из Двенадцати, обмакивающий хлеб в этом блюде вместе со
мной. 2| Да, Сын человеческий уходит, как написано о нем, но горе
тому человеку, руками которого Сын человеческий будет выдан. Лучше
бы тому человеку вовсе не родиться.
22 Когда они ели, он взял хлеб, произнес над ним благословение,
разломил его, дал им и сказал:
— Возьмите, это мое тело.
23 И взяв чашу, он произнес над ней благодарение, дал ее им, и все
пили из нее.
24 Затем он сказал им:
— Это моя кровь, скрепляющая Договор. Она проливается за
многих. 25 Амен, я говорю вам: в следующий раз я буду пить от плода
виноградной лозы только в Божьем Царстве.
26 Спев хвалебный псалом, они вернулись на гору Олив.
27 Тут Иисус сказал им:
— Вы все отступитесь, ибо написано:
32 Заказ 257 497
«Поражу пастуха,
и овцы разбегутся».
28 Но когда я воскресну, я приду раньше вас в Галилею.
29 А Петр сказал:
— Даже если все отступятся, я — нет.
30 Иисус ответил ему:
режде
ды пропоет петух, ты трижды откажешься от меня.
31 А тот все повторял:
— Даже если мне суждено погибнуть с тобой, все равно не откажусь
от тебя!
И все остальные говорили то же самое.
32 После этого они пришли в место под названием Гат-Шманим, и
он сказал ученикам:
— Посидите здесь, пока я буду молиться.
33 И отошел с Петром, Иаковом и Иоанном. Ужас и тоска охватили
Иисуса. 34 Тогда он сказал им:
— Мне страшно, меня мучает смертельная печаль. Оставайтесь здесь
и не спите.
35 Отойдя немного, он пал на землю и молился, чтобы, если
возможно, этот час не настал для него.36 Он молил:
— Абба, Отец! Ты всё можешь — отведи эту чашу от меня. Но пусть
будет не как я хочу, а как Ты.
37 Он вернулся, застал их спящими и сказал Петру:
— Спишь, Симон? Ты не в силах был бодрствовать и часу? 38
Молитесь, не смыкая глаз, чтобы избежать испытания. Пусть дух готов, да
плоть слаба.
39 Он снова ушел и молился, повторяя те же слова. 40 Вернувшись
снова, он застал их спящими: их веки набрякли и опустились, они не
знали, что сказать ему.4i Он пришел в третий раз и сказал им:
— Спите дальше и отдыхайте. Уже всё, пробил час. Сын
человеческий выдается грешникам.42 Что ж, просыпайтесь, идем. Тот, кто выдаст
меня, уже здесь.
43 Не успел он это произнести, как появился Иуда, один из
Двенадцати, и с ним толпа с мечами и дубинами, посланная
первосвященниками, книжниками и старейшинами.44 Тот, кто должен был выдать его,
условился с ними: «Кого я поцелую, это он и есть, крепко хватайте его
и уводите». 45 Придя в то место, он тотчас подошел к нему, и, сказав
«Рабби!», расцеловал его.46 А те набросились на Иисуса и схватили его.
47 Один из стоявших рядом вынул меч и ударил раба первосвященника,
и отсек ему ухо.
48 Иисус сказал им:
— Почему вы пришли за мной с мечами и дубинами, будто я
разбойник? 49 Ежедневно я был с вами в Храме и учил, и вы не схватили меня.
Но пусть исполнятся Писания!
50 Тогда все покинули его и убежали.
51 Лишь какой-то юноша в тонком плаще, надетом на голое тело,
последовал за ним, но его схватили. 52 А он сбросил плащ и убежал
нагишом.
498
53 Иисуса отвели к первосвященнику. Туда собрались все
первосвященники, старейшины и книжники. 54 А Петр, следовавший за
Иисусом на отдалении, вошел во двор первосвященника. Он сел рядом со
слугами и стал греться у огня.
55 Первосвященники и весь синедрион искали какое-нибудь
свидетельство против Иисуса, чтобы приговорить его к смерти, но не
находили. 56 Многие лжесвидельствовали против него, но их показания не
совпадали. 57 Некоторые лжесвидетельствовали:
—58 Мы слышали, как он говорил: я разрушу этот рукотворный Храм
и
и на третий день построю другой, нерукотворный.
59 Но и в этом их показания не совпадали. 60 И тогда
первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса:
— Так ты ничего не отвечаешь на то, что они свидетельствуют
против тебя?
61
А он молчал. Первосвященник снова спросил его:
Ты ли Помазанник, сын Благословенного?
62 Иисус сказал:
— Я. И вы увидите, как Сын человеческий сидит по правую руку
Всемогущего и идет с облаками небесными.
63 Тогда первосвященник, разорвав на себе одежды, сказал:
— Зачем нам еще свидетели? 64 Вы слышали богохульство. Как вы
считаете?
Все признали, что он виновен и достоин смерти.
65 А потом они плевали в него, закрывали ему лицо, давали
пощечины и требовали:
— Пророчествуй!
И слуги избивали его палками.
66 А пока Петр был внизу, во дворе, туда пришла одна из служанок
первосвященника. 67 Увидев Петра, гревшегося у огня, она пристально
посмотрела на него и сказала:
— И ты был с Назаретянином, с Иисусом.
68 А он стал отрицать это:
— Я не знаю и не понимаю, о чем ты говоришь.
Он вышел наружу, во внешний двор. Тут запел петух.
69 Служанка увидела его и там и снова стала говорить людям,
стоявшим рядом:
— Он из тех.
70 А он снова стал отрицать это. Вскоре стоявшие рядом с ним тоже
сказали ему:
— А ты и правда из тех. Ты ведь из Галилеи.
71 Но он стал клясться и отрицать:
72
Я не знаю человека, о котором вы говорите!
И тотчас во второй раз запел петух.
14:53. Первосвященники - так Мк называет членов иерусалимского синедриона
из числа священнической аристократии. Собственно первосвященника Мк
считает главой иерусалимского синедриона. Ср. 11:27; 14:1.
14:68. В Синайском и Ватиканском кодексах и еще в нескольких списках
слова «Тут запел петух» отсутствуют.
32*
499
Тогда Петр вспомнил слова Иисуса: «Прежде чем дважды пропоет
петух, ты трижды откажешься от меня». И он разрыдался.
15 Ранним утром, приняв решение, первосвященники со
старейшинами и книжниками, то есть весь синедрион, велели тотчас надеть на
Иисуса оковы, увести его и выдать Пилату.
2 Пилат спросил его:
— Ты царь евреев?
Он ответил ему:
— Это сказал ты!
3 Первосвященники обвиняли его во многом. 4 А Пилат снова
спросил его:
— Ты ничего не отвечаешь? Смотри, какие против тебя обвинения!
5 Но Иисус больше ничего не ответил, так что Пилат изумлялся.
6 По праздникам он освобождал одного узника, за которого просил
народ. 7 А тогда в тюрьме сидел человек по имени Бар-Абба. Его арестовали
вместе с повстанцами, совершившими убийство во время восстания.8 Тут
пришел народ и стал просить Пилата о том, что он обычно делал для них.
9 Пилат спросил их:
— Хотите, освобожу вам царя евреев?
10 Ведь он знал, что первосвященники выдали его из ненависти. п А
первосвященники подбивали народ просить, чтобы он освободил им не
Иисуса, а Бар-Аббу. 12 Пилат снова спросил у них.
— Что же мне сделать с тем, кого вы называете царем евреев?
13 Они в ответ закричали:
— Распни его!
14 Пилат сказал им:
— Но что же он сделал дурного?
А те еще громче закричали:
— Распни его!
15 Пилат, желая успокоить толпу, освободил им Бар-Аббу, а Иисуса
велел бичевать и затем выдал его на распятие.
16 Солдаты отвели его во дворец, то есть в преторий. Туда созвали
всю когорту. 17 Иисуса одели в пурпуровую мантию и надели ему венок,
сплетенный из колючих растений. 1S Они стали приветствовать его:
— Приветствуем тебя, царь евреев!
19 Потом они били его палками по голове, плевали в него,
становились на колени и падали перед ним. 20 Наглумившись над ним, они
сняли с него пурпуровую мантию и одели в его собственную одежду.
15:1. Приняв решение. Возможен и другой перевод: «собрав совещание».
Однако контекст указывает скорее на то, что Мк говорит здесь об окончании и
результате того заседания синедриона, что началось ночью (ср. 14:53 слл).
15:2. В устах Пилата обвинение против Иисуса принимает чисто политический
характер (и ср. 14:61). Как видно из дальнейшего, Иисуса казнят как мятежника
против римской власти (ср. 15:9, 18, 26)
15:12. Часть рукописной традиции предлагает чтение: «[Что же] вы хотите,
[чтобы я сделал]...?»..
15:16. Преторий — здесь служебная резиденция римского наместника.
500
:^
И вывели его, чтобы отвести на распятие.
21 По дороге они остановили человека, шедшего в город. Это был
Симон из Кирены, отец Александра и Руфа. Они заставили его нести
крест. 22 Иисуса отвели на место под названием Голгота, что в
переводе значит «Череп». 23 Ему дали вина с дурманящим питьем, но он не
стал пить. 24 И тогда его распяли, и стали делить между собой его
одежду, бросая жребий, кому что взять. 25 Его распяли в третьем часу. 26 Там
была надпись с обвинением против него:
царь евреев.
27 С ним распяли двух разбойников, одного справа, а другого слева
от него. 29 Прохожие оскорбляли его, они качали головой и говорили:
— Ну что же ты! Собирался разрушить Храм и на третий день
восстановить его! 30 Спаси себя, спустись с креста!
31 Первосвященники с книжниками тоже насмехались над ним:
— Других он спас, а себя не может спасти! 32 Помазанник, Царь
Израиля! Пусть он теперь спустится с креста, чтобы мы увидели и
уверовали!
И даже те, кто был распят вместе с ним, оскорбляли его.
33 А в шестой час тьма настала по всей земле, и это продолжалось до
девятого часа.
34 В девятом часу Иисус позвал громким голосом: «Элахи элахи лэма
шавактани», что в переводе значит: «Бог мой, Бог мой! Для чего ты
покинул меня?»
35 Некоторые из стоявших там, услышав это, говорили:
— Смотри-ка, Илию зовет!
36 Один из них отбежал, напитал губку уксусом и, нацепив ее на
палку, дал ему пить, говоря:
— Ну-ка, посмотрим, придет ли Илия снять его!
37 Тут Иисус, громко вскрикнув, испустил дух.
38 И тогда завеса в Храме разорвалась надвое, сверху донизу.
39 Стоявший прямо перед ним центурион, увидев, что он так
скончался, сказал:
— Поистине этот человек был Сыном Божьим!
40 А издали на все это глядели женщины. Среди них была Мария из
Магдалы, Мария — мать Иакова младшего и Иосета, а еще Саломея.
41 Когда он был в Галилее, они следовали за ним и прислуживали ему.
Там же были и многие другие женщины, которые поднялись вместе с
ним в Иерусалим.
15:25. В третьем часу — в девять часов утра.
15:27. Часть рукописной традиции добавляет ст. 28: «И исполнилось Писание,
гласящее: "Он был причислен к преступникам14». Этот стих отсутствует в
наиболее авторитетных списках Мк. Он засвидетельствован в сравнительно
поздних списках и, вероятно, появился в тексте Мк под влиянием Лк 22:37.
15:33. В шестой час — в полдень. До девятого часа — до трех часов пополудни.
15:39. Центурион — здесь римский офицер, ответственный за приведение
смертных приговоров в исполнение.
501
42 Настал вечер. И так как был день приготовления, то есть канун
субботы, 43 то Иосиф из Ариматеи, влиятельный член Совета, тоже
ждавший Божьего Царства, набрался мужества прийти к Пилату и
просить у него тело Иисуса. 44 А Пилат изумился, что Иисус уже
мертв, и, позвав центуриона, спросил, давно ли он умер. 45 И, узнав
об этом от центуриона, он разрешил Иосифу забрать тело Иисуса. 46
Купив саван, Иосиф снял тело с креста, завернул его в саван,
положил в гробницу, вырубленную в скале, и ко входу в гробницу
привалил камень.
47 А Мария из Магдалы и Мария мать Иосета видели, куда его
положили.
16 Когда кончилась суббота, Мария из Магдалы, Мария, мать
Иакова, и Саломея купили благовоний, чтобы пойти умастить его
тело.2 Рано утром в первый день недели с восходом солнца они пришли
к гробнице. 3 Они думали: «Кто же отвалит нам этот камень от входа .в
гробницу?»
4 И тут они заметили, что камень отвален, а он был очень большой.
5 Они вошли в гробницу и увидели, что справа сидит юноша, одетый в
белую праздничную одежду. И они пришли в ужас.
6 А он сказал им:
— Не ужасайтесь! Вы ищете Иисуса Назаретянина, который был
распят. Он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он лежал. 7 А вы
ступайте скажите его ученикам и Петру, что он придет раньше вас в Галилею.
Там вы его увидите, как он и сказал вам.
8 Они вышли наружу и побежали прочь от гробницы, ибо их охватил
страх и изумление.
И никому ничего не сказали — боялись они.
ПРИЛОЖЕНИЕ: попытки написать новый конец евангелия Мк.
/. Краткая концовка
Всё, что им было велено, они коротко рассказали тем, кто окружал
Петра. А после этого и сам Иисус послал через них от Востока до
Запада священную и нетленную весть о вечном спасении. Амен.
15:43. Влиятельный член Совета — вероятно, автор имеет в виду иерусалимский
синедрион.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Обе эти концовки не принадлежат автору евангелия. Мк
16:9—20 отсутствует в Синайском и Ватиканском кодексах, где Мк кончается
стихом 16:8; таков же конец Мк в ряде древних переводов и в греческих
списках, которыми пользовались Евсевий и Иероним. Содержательно текст Мк
16:9—20 зависит от Мф и Лк. Краткая концовка встречается в ряде списков
перед пространной. Пространная концовка стала частью того текста Мк, который
вошел в канон Нового Завета.
Краткая концовка. А после этого и сам Иисус... Некоторые списки добавляют:
«явился» или «явился им».
Пространная концовка. 16:15 ел. — Язык пространной концовки, весьма стертый
и клишированный, заметно отличается от языка Мк. Сам стиль концовки
свидетельствует о том, что она возникла в другую эпоху, позже Мк. Поэтому здесь
я εύαγγέλιον перевожу как «Евангелие», βαπτίζομαι — «креститься».
502
2. Пространная, каноническая концовка 9 Воскреснув рано утром в
первый день недели, он явился сначала Марии Магдалине, из которой
раньше изгнал семь демонов. 10 Она отправилась и известила тех, кто
был с ним, горевавших и плакавших. п А те, услышав, что он жив и что
она видела его, не поверили. п После того он открылся по дороге
двоим из них в другом облике, когда они шли из города. 13 Они вернулись
и известили остальных, но и им не поверили. 14 Наконец, он открылся
Одиннадцати, возлежавшим за трапезой, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, ибо они не поверили тем, кто видел его воскресшим. 15 Он
сказал им:
— Пройдите по всему миру и провозгласите Евангелие всему
творению. 16 Тот, кто поверит и крестится, спасется, а тот, кто не поверит,
будет осужден. 17 А уверовавших будут сопровождать знаки: моим
именем они будут изгонять демонов, будут говорить на новых
языках. 18 Если возьмут в руки змей или выпьют смертельный яд, то это не
причинит им вреда. Они будут возлагать руки на больных, и те будут
выздоравливать.
19 Сказав это, Господь Иисус вознесся на небо и воссел справа от
Бога. 20 А они пошли и проповедовали повсюду, и Господь
содействовал им и подтверждал Слово сопровождавшими его знаками.
I
Часть 2
История и герменевтика
Глава 8
Либеральная теология
а, От Христа к Иисусу: исторический Иисус в проекте либеральной теологии
Для традиционного церковного благочестия Иисус Христос —
основатель Церкви как нового народа Божьего. Он незримо присутствует в
Церкви, и поэтому Церковь может совершать таинства и учить от его
имени. Церковь — продолжающееся присутствие Христа в мире, она
продолжает дело спасения.
Как известно, уже в средние века эта претензия Церкви вызывала
несогласие. Возникавшие на христианской почве движения протеста, часть которых
были объявлены еретическими, противопоставляли наличной Церкви
евангельский идеал. Здесь достаточно сослаться на Франциска Ассизского, который
всем своим образом жизни выразил призыв вернуться к евангельской (в его
понимании) простоте и бедности. «Самая его суть, основа той мощи, с
которой он выступил, — это воля, направленная на радикальное и жизненно
практическое подражание Христу»1.
И в дальнейшей истории христианского мира протест против
официальной Церкви постоянно стремился опереться на личность и учение
Иисуса Христа. Ориентация на евангельского Христа (solus Christus)
стала исходным мотивом протестантской Реформации XVI в.
Важно и то, что со времен св. Франциска эта ориентация на
евангельского Христа означала также и острое переживание его этического
вызова. Люди, услышавшие этот вызов, считали, что Церковь со
сложными интеллектуальными построениями своей догматики, со своей
иерархией и культом заглушила голос евангельского Христа. Здесь
можно забежать вперед и указать на близкий нам пример — на Льва
Толстого, излагавшего учение Иисуса как что-то истинное, простое,
необходимое для жизни и тем самым противостоящее «фальши» и
непростоте догматики и церковной практики.
Историю социально-этического восприятия Иисуса в отталкивании
от Церкви можно проследить до второй половины XX в. — до
молодежного «движения Иисуса», до хиппи с их «братом Иисусом», до слов
философа-неомарксиста Роже Гароди: «Верните его нам» - верните
Иисуса нам, людям нецерковным и даже неверующим.
504
Понятие исторический Иисус возникло в эпоху Просвещения2. По-
требность найти Иисуса вне церковных стен соединилась со
свойственным Новому времени идеалом научной истории, и так возникло
стремление обосновать научными методами образ Иисуса,
противопоставленного Христу Церкви. Под научностью здесь понимался сознательно
проводимый исторический подход, исключающий оглядку на
догматику и авторитетное предание. Уже Лессинг говорил о «диаметральной
противоположности религии Иисуса (т. е. его учения. — С.Л.) и
христианской религии».
Как известно, один из первых образов «исторического Иисуса»,
повлиявших на дальнейшее исследование, принадлежит гамбургскому
преподавателю восточных языков Герману Самуэлю Реймарусу (1694—
1768). Его работа «О цели Иисуса и о цели его учеников» была
опубликована Лессингом уже после смерти автора, в 1778 г.3.
Для Реймаруса Иисус был чисто политической фигурой, его целью
было освобождение евреев от римского владычества, а ученики после
его смерти намеренно фальсифицировали его «цель» и придумали
чисто «духовное» (политически безобидное) толкование его учения.
Кроме того, смысл реконструкции Реймаруса был оскорбителен для
христианского сознания: в ней отсутствует всякий пиетет по отношению к
личности Иисуса, ставший общепринятым в западной культуре.
Однако Альберт Швейцер в своей знаменитой книге «История исследования
жизни Иисуса: от Реймаруса до Вреде» заметил: «В величественной
увертюре Реймаруса прозвучали все темы будущего исследования
жизни Иисуса»4. Вот эти темы: соотношение между Иисусом истории и
Христом веры; примат эсхатологии над этикой в проповеди Иисуса;
тема политического Иисуса как борца с римским владычеством и
последующей спиритуализации его учения; соотношение истории и догмы
в НЗ (или, в других терминах, соотношение исторического и
мифологического).
Вспомним, что в IV—V вв., в эпоху формирования классической
христологии, теология задавала Новому Завету именно догматические
вопросы, и главный из них звучал так: «Насколько (или: в каком
смысле) Христос божествен?» Ответ христианского Писания не мог быть
ясным и недвусмысленным, потому что НЗ и Церковь IV—V вв.
говорили на разных языках, т.е. при создании христологии они опирались на
разные интеллектуальные традиции5. Напротив того, возникшее в эпоху
Просвещения научное исследование раннего христианства стало
задавать Новому Завету исторические вопросы, и одним из первых был
вопрос о «подлинном», т. е. доцерковном, недогматическом, Иисусе. Здесь
различение Иисуса истории и Христа Церкви стало общепринятой
предпосылкой. Но позже, как мы увидим, и тут появятся сомнения:
может ли научное исследование найти «недогматического Иисуса» в
самом НЗ?
Как мы уже знаем, для протестантского либерализма исследование
исторического Иисуса стало центральной научной задачей.
Центр современного католического и протестантского благочестия
— это тот Бог, который открывает себя решающим образом в жизни,
страдании, слабости, смерти и воскресении одного человека — Иисуса
из Назарета. Но так было не всегда. Главным предметом «научной» (т.
е. «школьной», академической) теологии томистского типа был Deus
sub ratione deitatis, метафизическая сущность Бога, «а человек Христос,
как и вообще вся история спасения относились к obiecta secundaria
теологии»6.
В средние века, когда философия была наукой par excellence,
научность схоластической теологии выражалась в том, что она смогла
создать целостную картину мира, где всё сущее — и Бог, и Его творение
— описывалось с помощью единой системы понятий. Соответственно
главные проблемы теологии формулировались не в историософских
(история спасения!), а в космологических терминах. Протестантская
реформация первоначально не разрушила эту картину мира, а лишь
внесла в нее драматическое напряжение борьбы между Богом и
дьяволом, сосредоточенность на sola gratia в противоположность
«практическому полупелагианству» средневековой мысли. Но после века
Просвещения, после возникновения критической истории, и самое главное -
после Канта немецкая протестантская теология испытала то, что мы
сейчас назвали бы кризисом языка.
Так впервые раскрылась герменевтическая пропасть, по ту сторону
которой остались протестантские реформаторы XVI в. вместе с
творцами тринитарной догмы, Августином, Фомой и многими другими
христианскими мыслителями, которых не объединяет ничто, кроме места
— по ту сторону пропасти.
Это не значит, что через пропасть до нас не доносятся голоса этих
людей. Достаточно вспомнить известные слова Августина: «Tu nos fecisti
ad te, et cor nostrum inquietum est donec requiescat in te» («Ты создал нас
для Себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе»).
Столь же непосредственно мы понимаем, почему у Данте обманувшие
доверившихся и вообще все предатели помещены в последний, девятый
круг ада («Ад», 32-34). Однако мы говорим о герменевтической
пропасти как раз потому, что в начале XIV в. литературная мифология Данте
в общем не противоречила ни общенародной, ни научной
(философски-теологической) картине мира. Но для либерального протестантизма
XIX в. утратила смысл даже самоочевидная предпосылка этой картины
мира: Бог как трансцендентная основа космической (земной, небесной
и инфернальной) гармонии. Сложное единство эстетической системы
«Комедии» как раз и выражает идею мировой гармонии, свойственную
средневековому христианству, т. е. составляет художественный
эквивалент теологии зрелой схоластики.
Таким образом, либеральная теология, вынужденная в эпоху после
Канта отказаться от старой метафизической основы для догматики,
задала вопрос, ответы на который предлагаются до сегодняшнего дня: как
говорить о Боге? Точнее, можно ли вообще говорить о Боге, и если да,
то в какой системе понятий, на каком языке?
В структуре либеральной теологии можно выделить две опорные
конструкции: христианскую философию религии и исторического
Иисуса.
Задача такой философии религии близка к апологетическим
функциям фундаментальной и естественной теологии в католицизме7. Ведь
506
протестантская мысль должна была найти новый способ говорить о
Боге в эпоху после Канта, когда критическая философия разрушила
старую метафизику и тем самым подорвала представление о том, что
сущность Бога самого по себе — законный предмет теологии. Во всяком
случае, метафизическая речь о Боге более не допускалась в
дисциплине, претендовавшей на статус науки. Новой исходной точкой стало
«религиозное а priori» человека, его нравственный и религиозный опыт.
Адольф Гарнак, один из поздних представителей либеральной
теологии, близок к отождествлению морали и религии. По его мнению,
«Иисус связал мораль и религию воедино; в этом смысле религию
можно назвать душой морали, а мораль — телом религии»8. А Мартин Ке-
лер, известный прежде всего своей критикой либерального замысла
«поисков исторического Иисуса», отметил опасность оправдания веры
с помощью «общезначимых» моральных критериев. Он считал, что
Кантово постулирование Бога из практического разума подрывает
основы теологии: «На место философской теологии Вольфа встала
философская мораль Канта. Философской моралью обосновывается вера в
Бога, философская мораль Канта используется для критики
христианства. Речь теперь идет уже не об usus organicus rationis. Разум — не
просто инструмент для обработки определенного материала, но ratio, и при
этом не абстрактное ratio, a ratio, достигшее определенных
философских результатов и ставшее критерием истинности христианства. Но это
значит, что по-человечески мораль внушает больше доверия, чем
религия. Убедительность религии зависит от морали, которая становится
человеческим доводом в пользу бытия Бога. Религия права лишь в той
мере, в какой она служит морали»9.
Вторая опорная конструкция либеральной теологии — исторический
Иисус. Структурно он соответствовал догматическому Христу
классической теологии.
В отличие от реформаторов XVI в., создатели либеральной теологии
рассматривали НЗ как религиозную литературу, как первоисточник по
истории ранней церкви. НЗ — в том числе и евангелия —
свидетельствует прежде всего не об Иисусе из Назарета как реальном историческом
лице, а о вере ранней Церкви. НЗ содержит различные христологии —
церковные толкования личности и учения Иисуса, предполагающие его
божественность, т.е. сущностную и уникальную связь с Богом. Эти
толкования противоречат друг другу и подлежат изучению в рамках
истории первоначального христианства.
В одной из поздних работ Бультмана эта проблематика
резюмирована следующим образом: «В эпоху исследований жизни Иисуса, или так
называемой либеральной теологии, эта проблема (проблема
соотношения между историческим Иисусом и новозаветной вестью о Христе. —
С.Л.) возникла в связи со стремлением освободить образ Иисуса от
позднейших наслоений, которыми он был покрыт в первохристианской
вести, в керигме. Главное внимание поэтому уделялось констатации
различий между Иисусом и керигмой»10.
Так в протестантском либерализме возникла потребность в «научной»,
т. е. использующей при реконструкции элементы
историко-филологических методов, биографии Иисуса, и в результате появился особый жанр
507
*
«жизнь Иисуса». Уже Давид Фридрих Штраус указал на противоречие,
присущее самой идее христианского жизнеописания Иисуса:
«Догматический Христос вовсе не предмет биографии, и биография —
неподходящий способ изложения его дела. Идея жизни Иисуса есть не только
современная идея, это также противоречивая идея. Оба ее элемента,
догматическая концепция личности Христа и рациональная концепция истории,
издавна стояли изолированно друг от друга. Только идея соединить их
более современна. Она принадлежит XVIII в. и ясно свидетельствует о
внутреннем противоречии, служащем признаком таких переходных эпох. Как
только ставили серьезно вопрос биографии, для догматического Христа
уже не оставалось места; и наоборот, если хотели сохранить
догматического Христа, то приходилось отказываться от биографии»11.
Об этом внутреннем противоречии нагляднее всего
свидетельствуют церковно-апологетические жизнеописания Иисуса, которые стали
появляться в конце XVIII в. и пишутся по сей день. Для примера
можно назвать книгу, существующую в русском переводе (и недавно
переизданную), — «Жизнь Иисуса Христа» англиканского
священнослужителя, церковного писателя и беллетриста Фредерика Фаррара (Frederic
William Farrar, 1831 —1903)12. Она была впервые опубликована в 1874 г.,
при жизни автора выдержала тридцать изданий, а теперь полностью
забыта.
Автор делает попытку — в те времена уже заведомо неправомерную
с научной точки зрения — изложить евангельскую историю, т.е.
согласовать повествования всех четырех канонических евангелий и выстроить
их в один событийный ряд. Для этого он берет за основу
последовательность Мф (иногда с отклонениями в пользу Лк) и в произвольных
местах присоединяет эпизоды из Ин. Ключом к толкованию этого
жизнеописания Иисуса служит англиканская ортодоксия.
Здесь примечательны два обстоятельства. Во-первых, то, что такие
книги вообще писались: до конца XVIII — начала XIX в. (т. е. до
появления историко-критических исследований жизни Иисуса) Церковь не
испытывала потребности в подобной литературе. Другими словами,
раньше Церковь не нуждалась в собственной версии исторического
Иисуса. Поэтому с исторической точки зрения апологетические
«жизни Иисуса» можно считать побочным продуктом исследований,
проводившихся с позиций теологического либерализма. Во-вторых, Фарра-
ру (как и другим авторам апологетических «жизней Иисуса»)
приходилось учитывать добытые исследователями НЗ знания об эпохе
возникновения христианства, и поэтому по ходу повествования он дает
разнообразные историко-филологические сведения, которые на самом деле
вовсе не нужны для той догматической концепции, которую он
защищает. Так, Ф. Фаррар упоминает нехристианские источники сведений
об Иисусе, рассказывает о результатах археологических раскопок в
Палестине и т. п.
Фундаментальная работа самого Д.Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса в
критическом освещении», впервые опубликованная в двух томах в
1835—1836 гг.13, при своем появлении вызвала ожесточенную и, как
часто бывает в таких случаях, неплодотворную дискуссию. Однако
некоторым идеям Д. Штрауса была суждена долгая жизнь.
508
В своей «Жизни Иисуса» Штраус развернул радикальную критику
историчности евангелий и предложил их мифологическую
интерпретацию.
Под «историчностью» здесь имеется в виду представление, согласно
которому евангелия — достоверные описания жизни Иисуса, а их
авторы — либо первые апостолы, непосредственные свидетели его жизни
(Матфей и Иоанн), либо спутники и сотрудники апостолов (Марк и
Лука). В начале XIX в. это докритическое представление все еще
преобладало в протестантской библеистике. Главная трудность возникала
при интерпретации евангельских чудес. Трудность сохранялась даже в
случае их безусловного признания, без попыток рационального
объяснения чудесных исцелений и т. п. Если интерпретатор соглашался
переходить по мере надобности к супранатурализму от
рационально-исторической (в том числе моральной) аргументации, предполагающей
непрерывность естественных причинно-следственных связей, то он
вынужден был жертвовать методической строгостью. В условиях более или
менее свободного от внешних запретов развития мысли такое
положение не могло сохраняться долго. Да и сами термины оппозиции «суп-
W
ранатурализм — рационализм» были не очень удачными.
Супранатурализм кончается там, где начинается работа историка. А
рационалистические (точнее, рационализирующие) истолкования сообщений о
чудесах (не воскрешение Лазаря, а его пробуждение от летаргического сна
и т. п.) настолько противоречат смыслу евангелий, что они довольно
быстро были отброшены как несерьезные.
Рационализирующая интерпретация тоже исходила из докритичес-
кого понятия об историчности наших источников: согласно этому
подходу, евангелия содержат достоверные сведения о событиях вместе с
недостоверными сведениями о чудесах, которые (в соответствии с
принятым историками допущением) на самом деле не могли произойти
так, как они описаны в источниках. Именно этим последним
обстоятельством вызывалась потребность в рационализирующей
интерпретации. И вклад Штрауса состоит в том, что он вообще отказался
интерпретировать евангелия в рамках этой оппозиции и предложил взамен
мифологическое истолкование, т. е. стал истолковывать все
евангельские повествования как выражения идей, независимо от соотношения
этих повествований с «тем, что случилось на самом деле». Штраус,
естественно, исходил из того, что изучение евангелий позволяет добыть
исторически достоверные сведения об Иисусе. Новизна его подхода в
том, что он первый отделил «поиски исторического Иисуса» от
изучения евангелий как литературных памятников раннего христианства.
Как мы знаем, такое двухполюсное понимание евангелий нашло себе
прочное место в протестантской библеистике лишь гораздо позже, во
второй половине XX в., а при жизни Штрауса эвристический потенциал
его подхода не был оценен по достоинству14.
Итак, Д.Ф. Штраус вошел в историю теологии прежде всего как
писатель, который первым последовательно применил понятие мифа к
анализу канонических евангелий. Поэтому мы должны рассмотреть
понимание мифа у Штрауса. Для него миф - это выражение религиозных
идей с помощью повествования. По формулировке самого Штрауса, «но-
509
возаветные мифы — это не что иное, как историзованное облачение
(geschichtsartige Einkleidung) раннехристианских идей, спонтанно
сложившиеся саги»15. Для нашей темы особенно важно то, что
«герменевтические принципы и критерии, посредством которых Штраус
устанавливает мифическое содержание в евангелиях, свободны от
специфически спекулятивных предпосылок (имеется в виду философское понятие
мифа у Гегеля. — С.Л.). Предпосылки его критики... имеют чисто
эмпирически-рациональный характер»16. Итак, в работе Штрауса, при всей
ее полемичности, можно увидеть первую попытку чисто
исторического исследования евангелий. Под чистым историзмом я имею в виду тот
подход, который обнаруживается, например, в исследованиях
крупнейших немецких историков XIX в. - Бартольда Георга Нибура (1776—
1831) и Леопольда фон Ранке (1795-1886)17.
Штраус, естественно, не отрицал историчности Иисуса; он исходил
из того, что научный анализ евангелий, отделяющий мифологическое
от исторического, впервые дает возможность реконструировать жизнь
и учение Иисуса. «В итоге разрыв между Иисусом истории и Христом
веры и в дальнейшем будоражил христианство, религию, которая
утверждает, что ее суть и центр — откровение в истории»18.
Отсюда понятно, почему исследование НЗ, проводимое в рамках
христианской теологии и претендующее на научность, обычно
соотносит себя с какой-либо философией истории, т. е. с последовательно
продуманным пониманием истории как предмета исследования,
историка как его субъкта, а также метода как способа достижения истины.
(Так, Г.С. Реймарус вдохновлялся историческими концепциями
английского деизма.) Это справедливо, разумеется, и для любого
исторического исследования; только что упомянутый «чистый историзм» тоже
исходит из философских допущений, например из позитивистского
идеала беспредпосылочной науки.
б. Либеральная теология: история или герменевтика?
Д.Ф. Штраус был членом «Тюбингенской школы» в области истории
раннего христианства. Его учителем и создателем школы был
Фердинанд Христиан Баур (1792-1860). Творчество Баура позволяет увидеть,
как принцип радикального историзма прокладывал себе путь в
протестантской теологии XIX в. и как он переплетался с философской
герменевтикой истории.
Напомню, что у нас практически нет исторических сведений о НЗ,
независимых от христианской научной традиции. Например, Мартин
Бубер в своей реконструкции проповеди Иисуса19 опирается
исключительно на работы протестантских экзегетов. То же относится и к другим
еврейским авторам, писавшим об Иисусе из Назарета20. Так что по ходу
изложения я всякий раз отмечаю мировоззренческие предпосылки
новозаветной экзегезы как теологической дисциплины, занимающейся
историей.
«Заслуга Ф.Х. Баура состоит в том, что он безоговорочно признавал
радикально историческую природу христианской Церкви и христианс-
510
кой веры»21. В предисловии к первому изданию своей книги
«Христианство и христианская церковь первых трех веков» Баур заметил: «Мою
точку зрения можно назвать чисто исторической, т. е. я стремлюсь
найти и представить исторически данное в его чистой объективности — в
той мере, в какой это вообще возможно»22.
Для Баура Иисус был еврейским учителем нравственности, а его
последователи (палестинская «первообщина») — создателями
«простого» (недогматического) христианства. Так возникла иудеохристианская
партия в первоначальном христианстве. По мысли Баура,
мировоззрение иерусалимской первообщины отчасти сохранилось в Мф. Во II в.
эта «иудаизирующая» тенденция в христианстве связывалась с именем
Петра. Иудеохристианству, как считал Баур, противостояли Павел и
паулинизм. Соответственно развитие христианства в первые два века
его истории определялось борьбой и последующим примирением этих
двух партий. Примирение паулинистов и антипаулинистов в конце II в.
привело к созданию вселенской («католической») Церкви.
Автора Лк Баур считал сторонником универсалистского
эллинистического христианства, созданного Павлом, а Мк — последним из
синоптиков, «католическим» синтезом Мф и Лк23. Баур полагал, что из всего
Corpus Paulinum Павлу принадлежат только четыре письма — Гал, 1 и 2
Кор и Рим. Мк он датирует серединой II в. Автор Мк использовал в
своей работе текст Мф и Лк, которые, как считал Баур, тоже были
написаны во II в.24.
Сегодня мы можем уверенно заметить, что собственно исторические
результаты Ф.Х. Баура оказались по большей части ошибочными. Как
было показано в середине XIX в., наиболее удовлетворительно
фактические данные объясняет гипотеза о приоритете Мк. Далее, по чисто
историческим основаниям был отвергнут вывод Баура о том, что почти
вся раннехристианская литература (за исключением четырех названных
выше писем Павла и Откровения, автором которого Баур считал
евангельского персонажа апостола Иоанна) была создана во II в.
Выводы Баура были определены его пониманием всего корпуса
раннехристианских текстов как принадлежащих паулинизму или антипау-
линизму. После того как в ходе чисто исторической работы Баур
пришел к такому пониманию источников, он в какой-то мере принял
философскую герменевтику Гегеля, т. е. гегелевскую схему философии
истории. Представления Баура о развитии раннего христианства
приближаются к известной схеме тезиса (иудеохристианство), антитезиса
(универсализм Павла и паулинистов) и синтеза, устраняющего
противостояние двух предшествовавших тактов исторического процесса
(«католическое христианство» Мк, Ин, соборных посланий). При этом
симпатии Баура как теолога были скорее на стороне Павла — создателя
концепции оправдания верой, а не на стороне теоретиков «католического»
примирения двух раннехристианских партий25.
Ф.Х. Баур оценил работу своего бывшего ученика Д.Ф. Штрауса как
«чересчур отрицательную критику». Не принял он и «миф» как
центральную категорию интерпретации. Во второй трети XIX в. слово
«мифическое» все еще воспринималось как отрицательная оценка, как
указание на недостоверность сообщения. Либеральная теология XIX в. не
HI
Г
511
восприняла подход Штрауса, ибо в соответствии с духом времени она
на место мифического Христа догматики поставила исторического
«галилейского рабби». Исходя из чисто теологических побуждений,
либеральная экзегеза стремилась восстановить реальную историю Иисуса и
его учение. Для этого евангельские повествования нужно было очистить
от всего легендарного, чудесного, неправдоподобного. Как
предполагалось, характер евангелий в их качестве исторических источников таков,
что эта операция в принципе осуществима: если мы удалим все
позднейшие наслоения, в частности все христианские интерпретации, то
нам удастся реконструировать ipsissima vox et ipsissima gesta Jesu,
подлинные слова и дела Иисуса, которые станут основой для нового
образа христианской веры. Оценивая весь либеральный проект Leben-Jesu-
Forschung, поисков исторического Иисуса, Альберт Швейцер заметил:
«В исследовании истории догматики немецкая теология выяснила свои
отношения с прошлым; в попытке создания новой догматики она
стремилась сохранить в сознании настоящего место для религиозной
жизни; в поисках исторического Иисуса она работала — чисто и
безоглядно веря в истину — для будущего»26.
Все это значит, что создатели либеральной теологии — от Шлейер-
махера до Альбрехта Ричля и Адольфа фон Гарнака - дали свой ответ
на вопрос: «Что означает Иисус Христос для христиан сегодня?» Для
них Иисус был идеалом нравственности, носителем высшего типа
религиозного сознания и учителем чистой этической религии. Именно
таков Иисус в известных берлинских лекциях Адольфа фон Гарнака
«Сущность христианства» (1901 г.).
Бультман рассматривал герменевтический проект либеральной
теологии как одну из попыток заново интерпретировать христианство с
помощью понятий, непосредственно затрагивавших человека XIX в.,
т.е. как опыт того, что сам Бультман называл демифологизацией. Так,
в своей программной работе «НЗ и мифология» он писал: «Для прежней
«либеральной» теологии характерно то, что она считала
мифологические представления исторически ограниченными идеями и поэтому
просто исключала их как несущественные; существенными эта теология
считала лишь великие религиозные и этические принципы. Либераль-
ная теология различала в религии смысловое ядро и историческую
оболочку»27.
Следовательно, протестантский либерализм пытался ослабить
исторический характер христианства. Ведь «сущность» христианства для
либеральной теологии (как и для классической византийской догматики!)
заключалась во вневременной истине, абсолютной и общеобязательной,
а потому не зависящей от исторического исследования. Классическая
догматика формулировала эту единую истину в космологических и
метафизических категориях, а либерализм выражал ее преимущественно
в терминах этики и философии религии. И тем не менее христианство
неизбежно связано с историей, т. е. с определенным историческим
событием, с жизнью и смертью Иисуса из Назарета. Как мы увидим, эта
связь может быть осмыслена по-разному.
512
Примечания
1 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе. М., 1976, с. 172.
2 Стандартное пособие по истории научного исследования НЗ — Kümmel W.G.
Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme. München, 1958.
Из обширной литературы о раннем периоде науки можно указать на две новые
монографии, одна из которых целиком посвящена истории исследования
канонических евангелий: Baird IV. History of New Testament research. Volume One:
From deism to Tübingen. Minneapolis, 1992; Lang M.H. De opkomst van de
historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangelien van
Calvijn (1555) tot Griesbach (1774). Leiden, 1993.
3 Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger: Noch ein Fragment des Wolfenbütteischen
Ungenannten. Hrsg. von G.E. Lessing. Braunschweig, 1778.
4 Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. München, 1966, с 69.
5 См.: Hanson R.P.C. Biblical exegesis in the early church. - The Cambridge history
of the Bible. Vol. I. From the beginnings to Jerome. Ed. by P.R. Ackroyd and C.F.
Evans. Cambridge, 1970, с 412-453.
6 Ratzinger J. Kath. Theologie. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl.
Bd. 6. Tübingen, 1962, с 775-779 (776).
7 Как пишет современный протестантский систематик, «термин
фундаментальная теология до сих пор употребляется главным образом в католической
теологии, где он имеет вполне определенное значение: это обоснование права
теологии считать своим фундаментом откровение Бога. Это право
обосновывается через философское указание на то, что человеческий разум сам по себе
«настроен на прием» откровения и нуждается в нем» (Joest W. Fundamentaltheologie:
Theologische Grundlagen und Methodenprobleme. Stuttgart u. a., 1974, с 9).
N Harnack A. Das Wesen des Christentums. 4. Aufl., Lpz., 1901, c. 47. (Есть два
русских перевода.)
9 Köhler Μ. Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert. München,
1962. Это первое издание стенограммы курса лекций, записанной в 1898 г. Usus
organicus rationis (инструментальное использование разума) — термин
старопротестантской теологии, указывающий на то, что функция разума —
систематизировать и прояснять откровение, составляющее нормативное содержание веры.
10 Biiltmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus. 4. Aufl. Heidelberg, 1978, с 6.
11 Штраус Д.Φ. Жизнь Иисуса. Полный перевод М. Синявского. Под ред. Н.М.
Никольского. Т. 1-2. СПб., 1907, с. 11.
12 Фаррар Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. Перевод с последнего английского
издания М.П. Фивейского. СПб., 1904. Русский перевод в издании 1893 г.
перепечатан «Советским писателем» в 1991 г.
13 Strauss D.F. Das Leben Jesu kritisch bearbeitet. Bd. I—II. Tübingen, 1835—1836.
14 О связи теологии Штрауса и Бультмана см.: Backhaus G. Kerygma und Mythos
bei David Friedrich Strauss und Rudolf Bultmann. Hamburg—Bergstedt, 1956.
15 Strauss D.F. Das Leben Jesu, Bd. I, с 75.
16 Η artlich Chr., Sachs W. Der Ursprung des Mythosbegriffes in der modernen
Bibelwissenschaft. Tübingen, 1952, c. 147.
17 О немецкой философии истории в XIX в., и в частности о творчестве Нибу-
ра и Ранке, см. в: Трёяъч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.
!s Baird W. History of New Testament research, с 258.
14 Buber Μ. Zwei Glaubensweisen. — Werke. Bd. 1. Schriften zur Philosophie.
München, Heidelberg, 1962, с 651-782. Русский перевод см.: Бубер Μ. Два образа
веры. М., 1995, с. 233-340.
20 См. об этих исследованиях в моей работе: Новый Завет и Голокауст. - Акту-
33 Заказ 257 513
альные проблемы современной зарубежной политической науки. Вып. 3.
Христианство и политика. М, ИНИОН, 1991, с. 141-184. Ср. также книгу
еврейского историка Давида Флуссера «Иисус» (М, 1992). Из вторичной литературы
о еврейских «поисках исторического Иисуса» см.: Hagner D.A. The Jewish
reclamation of Jesus. Grand Rapides, Mi, 1984; Lindeskog G Das jüdisch-christliche
Problem. Randglossen zu einer Forschungsepoche. Uppsala, 1986.
21 Hodgson P.C. The formation of historical theology: A study of Ferdinand Christian
Baur. N.Y., 1966, с 1.
22 Baur F.Chr. Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten
Jahrhunderte. Tübingen, 1853, c. IV ел.
23 См.: Baur F.Chr. Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr
Verhältnis zu einander, ihren Charakter und Ursprung. Tübingen, 1847.
24 Baur F.Chr. Das Markusevangelium nach seinem Ursprung und Charakter. Nebst
einem Anhang über das Evangelium Marcion's. Tübingen, 1851.
25 Не вызывает сомнения, что Гегель был важен для Баура как теолога. Но
вопрос о степени влияния философии Гегеля на исторические выводы Баура
остается спорным. Лучшие знатоки источников считают, что в популярной
литературе это влияние было сильно преувеличено, но не исключают его полностью.
См.: Lüdemann G. Paulus, der Heidenapostel. Bd. II. Antipaulinismus im frühen
Christentum. Göttingen, 1983, c. 13—23, 55.
26 Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, c. 46. Интересно, что Α.
Швейцер не вполне ясно видел «догматические» цели Leben-Jesu-Forschung,
которые сегодняшнему читателю этой литературы прямо-таки бросаются в глаза.
27 Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der
Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung, 2. Aufl. Hrsg. von E.
Jüngel. München, 1985, c. 25 ел.
*"
Глава 9
Школа истории религий
а. Либеральная теология и возникновение Школы
До сих пор не написана полноценная «светская» история
первоначального христианства (от истоков до эпохи ранней патристики), которая
отвечала бы обычным научным критериям и использовала все
фактические данные, накопленные за двести с лишним лет исследования.
В 90-е годы XX в. программу создания «светской» истории
христианских истоков как внутрихристианскую (или, в привычной
терминологии,»теологическую») задачу сформулировали несколько ученых,
среди них наиболее яркие — Хейки Рейзенен и Герд Людеман1. Речь идет
не об «истории идей», не о Geistesgeschichte, а о проекте, жанровыми
прецедентами для которого могли бы послужить исследования
Теодора Моммзена об истории Древнего Рима, «Социальные учения
христианских церквей и групп» Эрнста Трёльча, работы М.И. Ростовцева об
эллинистическом мире или «Социальная и религиозная история
евреев» С. Барона.
И здесь обнаружилось, что при подходе к такой задаче сегодняшний
исследователь осознает свою преемственность не только с новозаветной
наукой и теологией XX в., но также (и даже в первую очередь) с
исследованиями НЗ и теологией второй половины XIX — начала XX в. - с
«либерализмом», с «культурпротестантизмом» и Школой истории
религий, т. е. с теми явлениями в немецком протестантизме, которые, как
известно, получили отрицательную оценку у К. Барта и Р. Бультмана,
так как противоречили «теологии Слова Божьего» (Барт) или «керигма-
тической теологии» (Бультман). Вот с этой отрицательной оценкой, в
тени двух гигантов христианской мысли XX в., либералы XIX в. и
вошли в сознание современной теологической публики. Теперь
выясняется, что такая оценка нуждается в пересмотре, а незавершенная
программа «либералов» — в развитии.
Поэтому в этой главе я рассмотрю проблему «история и
герменевтика» на материале творчества ученых из Школы истории религий конца
XIX - начала XX в. Я исхожу из того, что их работа и сейчас может
стать чем-то бульшим, чем просто фоном для истории диалектической
теологии и других направлений протестантской мысли в XX в.
Школа истории религий (Religionsgeschichtliche Schule) возникла в Гёт-
тингене на рубеже 80—90-х годов XIX в., а затем получила
распространение и на других протестантских теологических факультетах немецких
университетов2. Исследователи, которых относят к Школе истории религий,
развивали радикально исторический подход к НЗ, намеченный Тюбинген-
ской школой, в частности Д.Ф. Штраусом и Ф.Х. Бауром3.
Школа истории религий (далее иногда просто Школа) появилась
внутри либеральной теологии. Но ее участники стали отходить от постулатов
и целей либеральной систематики (т. е. новой, неортодоксальной
систематической теологии), более того — они сознательно (пусть
непоследовательно и не всегда успешно) пытались освободиться от либеральной догмати-
зз* 515
ки. По словам Эрнста Трёльча (1865—1923), виднейшего немецкого теолога
конца XIX — начала XX в., в котором часто видят систематика Школы,
«теология теперь уже не либеральна, а научна»4.
Таким образом, от соответствовавшей духу времени христианской
апологетики (т. е. от протестантского либерализма) создатели Школы
истории религий стали переходить к чисто научному изучению
раннего христианства и его мира. Швейцарский пастор и психоаналитик
Оскар Пфистер написал, имея в виду понимание науки, свойственное
участникам Школы: «Науку о христианской вере точно так же нельзя
считать христианской, как науку о преступности нельзя считать
преступной. Ее целью должна быть не польза для Церкви, а исключительно
истина сама по себе»5.
Однако члены Школы были (и по роду деятельности, и по
самопониманию) христианскими теологами, а задача освобождения
исследования от догматических и апологетических установок имеет все же
чисто отрицательный характер. Школа истории религий не сумела создать
собственной систематики: дело ограничилось частичным отрицанием и
частичным подтверждением основ либеральной теологии, или — шире
— того понимания мира и христианской религии, которое было
свойственно культурпротестантизму. Под «культурпротестантизмом»
понимается предпринятая в конце XIX — начале XX в. либеральными
кругами Германской евангелической церкви попытка модернизировать
протестантское христианство и христианизировать немецкое общество.
Речь шла о взаимном сближении и даже синтезе христианства Рефор-
4J
мации и современной постпросвещенческои культуры, — о том самом
синтезе, который после первой мировой войны Карл Барт обличал как
отпадение Церкви от Бога и идолопоклонство.
«Автономизация исторического сознания Школы иногда с
необходимостью приводила к критике культурпротестантизма, который
отстаивал тезис «теология должна служить Церкви». До сих пор неясно,
возможна ли вообще систематическая теология, по-настоящему
учитывающая идеи Школы истории религий», — резюмирует Г. Людеман6.
«История религий» в названии Школы означает прежде всего
углубленное исследование истоков собственной религии (т. е. первоначального
христианства) в сравнении с другими религиями той эпохи. Далее,
сторонники Школы подходили к раннему христианству не как к учению (т. е. не
как к явлению Geistesgeschichte, интеллектуальной истории), а как к
религии: они видели в новозаветном христианстве релиогиозную практику, для
исследования которой необходимо применять психологические и
социологические категории. Предметом изучения в Школе стали
раннехристианские общины, т. е. их культ и другие формы публичной жизни.
б. Историко-критический метод
Понятно, что при таком подходе к предмету исследования участники
Школы последовательно продумывали и вопрос о научном методе.
В 1898 г. Э. Трёльч прочел программный доклад «Об историческом
и догматическом методе в теологии»7.
516
Сформулированное в этом докладе понимание исторического
метода было присуще именно Школе. Трёльч заявляет, что теолог не
сумеет быть последовательным и честным, если будет использовать в своей
работе не исторический метод как таковой, а лишь фрагменты
исторического знания, включенные в догматическую конструкцию (с. 107,
110). Принятие исторического метода — дело принципиального
выбора: «Исторический метод, если его начинают применять для изучения
Библии и церковной истории, становится закваской, которая
преображает всё и разрывает прежние методы теологической работы» (с. 106).
Современный «светский» исторический метод подразумевает, по
мнению Трёльча, три основополагающих принципа: «принципиальную
привычку к исторической критике, использование аналогии, а также
корреляцию, которая существует между всеми историческими
процессами» (с. 107).
Принцип критики в понимании Трёльча означает прежде всего то,
что в исторической науке допустимы лишь вероятностные суждения.
Ни одна традиция не обладает раз и навсегда установленным положи-
тельным истинностным значением. Можно говорить не об истинности,
а лишь о степенях вероятности исторического предания. То же самое
относится и к результатам исторического исследования. (Однако
Трёльч считает — не формулируя этого прямо, — что неисторичность,
т.е. отрицательное истинностное значение предания, может быть
установлена при применении принципов аналогии и корреляции.) Стало
быть, степень истинности религиозного предания определяется точно
так же, как степень истинности всякого исторического предания,
которое становится предметом критического анализа (с. 107 ел).
Принцип аналогии есть средство, которое делает возможным
критический подход к историческому преданию. «Обманы и разочарования,
заблуждения, мифотворчество, следование партийным интересам — всё
то, что мы видим своими глазами в сегодняшней жизни, — суть
средства, которые позволяют нам найти подобные содержания и в
историческом предании». Все, что противоречит нашему (и всякому
многократно засвидетельствованному) опыту, наделяется низкой степенью
вероятности. Научная реконструкция прошлого предполагает аналогию
с социальным опытом исследователя (с. 108).
Принцип корреляции выводится из принципа аналогии: «Но если эта
сила всё выравнивающей аналогии возникает лишь как следствие
общности и гомогенности человеческого духа и его исторических
манифестаций, то отсюда следует третье основополагающее историческое
понятие — взаимосвязь всех интеллектуальных проявлений человеческой
жизни в истории. Это значит, что всякое изменение в одном месте
неразрывно связано с прошлыми и последующими событиями в других
местах». События образуют единый поток, в котором каждое
происшествие так или иначе соотносится («коррелирует») со всеми остальными
(с. 108 ел).
Трёльч признает, что возникновение исторического метода (теперь
его чаще называют историко-критическим) связано с некоторыми
философскими идеями. «Так бывает при возникновении всякого метода»
(с. ПО). Однако для его плодотворного применения «не требуется ни-
517
каких всеобщих философских теорий» (там же). Исследователь,
применяющий принципы критики, аналогии и корреляции, впервые получает
возможность исторически понять культуру прошлого. Историко-крити-
ческий метод находит подтверждение не в теории более высокого
уровня, а исключительно в тех результатах, которые были получены с его
помощью (с. 111).
Трёльч называет исторический метод, применяемый к изучению
религий прошлого, методом исследования истории религий,
religionsgeschichtliche Methode (с. 114). Этому историческому методу
«принципиально и абсолютно противостоит старый, догматический метод» (с.
115), который христианская апологетика применяет при рассмотрении
истории. «Суть этого метода — в авторитете, предполагающем точку
зрения, недосягаемую для исторической критики, результатам которой
свойственна принципиальная ненадежность» (там же). Здесь речь идет
о фактах, недоступных для критики, аналогии и корреляции. Это
факты и события не профанной истории, а истории спасения. «Они могут
быть восприняты только верующим сердцем. И поэтому они имеют
признаки, противоположные признакам тех событий и фактов, которые
профанная критическая история может, в соответствии со своими
критериями, рассматривать как имевшие место» (с. 116). Догматический
метод не терпит критики именно потому, что «он не может вынести
связанную с критикой ненадежность результатов» (с. 115 ел).
Запомним этот вывод Трёльча: проповедь о спасении во Христе,
неизбежно использующая факты прошлого, не может последовательно
принять научный исторический метод для своих целей прежде всего
потому, что результаты исторического исследования не претендуют на
окончательность. Восстанавливаемая историком картина прошлого
изменчива. Это соображение окажется очень важным и для Рудольфа
Бультмана, когда он от чисто исторического исследования НЗ перейдет
к решению герменевтических задач, вызванных потребностями
христианской проповеди.
Доклад Трёльча о методе до сих пор сохраняет значение как
документ самосознания и самопознания протестантского христианства.
Мартин Хенгель опубликовал в 1984 г. тезисы «Исторические методы и
теологическое толкование Нового Завета»8, в которых он критикует
Трёльча как теоретика исторического метода за «догматический
позитивизм» (с. 107). Однако вот что предлагает сам Хенгель:
«Историческое познание ведет к «случайным историческим истинам» (Лессинг),
которые обычно обладают разными степенями достоверности. Вера,
напротив того, основывается на конкретном обетовании. Поэтому
теологические суждения должны иметь ассерторическую форму: tolle
assertiones et Christianisrnurn tulisti (Лютер). Итак, теологическое
суждение приписывает «факту» свободного самораскрытия Бога в
конкретном историческом месте такую степень достоверности, которой
историческое исследование со всеми его методами не может да и не хочет
достичь» (с. 109). Если считать это суждение Хенгеля описательным, то с
ним, пожалуй, следует согласиться. Однако оно высказано в ходе внут-
ритеологической полемики, и читатель заметит, что М. Хенгель
уверенно повторяет здесь общие места неоортодоксальной систематики XX в.,
518
следуя за К. Бартом и отчасти за Р. Бультманом. Пробиться к новому
пониманию он, в отличие от Трёльча, не пытается.
Подытоживая сказанное Трёльчем о методе, смысл «научного»
подхода к религиозному преданию можно свести к трем положениям:
— все тексты рассматриваются по единым правилам (для «научного»
анализа тексты не делятся на сакральные и профанные);
— все события вписываются в «естественную»
причинно-следственную связь (в описании прошлого нет места для «произвольных»
вмешательств добрых и злых сверхъестественных сил);
— историческое время повсюду «одинаково»: для историко-крити-
ческого метода нет деления на сакральное и профанное время.
Мы сразу же замечаем, что историко-критический («научный»)
метод соотносится не столько с догматическим (так у Трёльча), сколько с
мифологическим мышлением. Ведь наличие сакральных текстов,
присутствие «разрывов» в природной причинности, качественное отличие
священной истории, развертывающейся в сакральном времени, от
светской, профанной истории — все это признаки мифологического типа
мышления («миф» и в особенности «миф об основании» я понимаю
так, как это было описано в разделе «К формулировке проблемы»).
Итак, историко-критический подход как научный метод в
гуманитарном знании определяет себя (иногда неявно) в отталкивании от
«мифологического».
в. «Поздний иудаизм» и эсхатологический Иисус
В конце 80 — начале 90-х годов XIX в. участники возникавшей тогда
Школы обратились к изучению иудаизма в период между созданием
последней книги, вошедшей в канон Библии (книга Даниила,
написана незадолго до 164 г. до н. э.), и восстанием Бар-Кохбы (132—135 гг. н. э.).
Они считали, что эта эпоха и ее литература (в протестантской традиции
часть ее называют «ветхозаветными апокрифами и псевдоэпиграфами»)
образуют естественный интерпретационный контекст для исследования
проповеди Иисуса и истории ранней Церкви. Здесь молодые
исследователи сознательно уходили от взглядов своего учителя Альбрехта Ричля
(1822-1889), влиятельного либерального систематика, в 1864—1889 гг.
преподававшего в Гёттингенском университете. А. Ричль исходил из
некритически воспринятой догматической идеи (она содержится уже в
НЗ), согласно которой необходимый и достаточный фон для
понимания НЗ следует искать в еврейском каноне Писания (протестантский
Ветхий Завет совпадает с ним по набору произведений).
Результатом их исследований было открытие Spätjudentum —
«позднего иудаизма» с его апокалиптикой и эсхатологическими
устремлениями, а также опирающееся на это открытие новое толкование
личности и учения Иисуса. Для экзегезы почти всего XX века это толкование
стало нормативным.
Первым сформулировал эсхатологическое понимание учения Иису-
са участник Школы Иоганнес Вайс (1863-1914) в книге «Проповедь
Иисуса о царстве Бога», вышедшей первым изданием в 1892 г.
519
В 1964 г. вторая редакция (1900 г.) «Проповеди Иисуса о царстве Бога»
Вайса была переиздана с предисловием Бультмана. Это краткое
предисловие интересно потому, что, как нередко бывает, оно говорит о Бультмане
и его эпохе не меньше, чем о И. Вайсе и экзегезе конца XIX в.
Вот что важно в книге Вайса для Бультмана: «Здесь было
достигнуто последовательное и всеобъемлющее понимание того, что личность и
провозвестие Иисуса эсхатологичны. Сделанное Й. Вайсом решающим
образом повлияло на дальнейшее исследование. Но в ту пору даже сам
И. Вайс был не в состоянии до конца оценить значение своих выводов.
Сегодня эсхатологический смысл проповеди Иисуса (да и вообще всей
раннехристианской проповеди) стал для нас чем-то самоочевидным, и
систематическая теология делает из этого свои выводы. А тогда
теологический мир был охвачен ужасом. ...Новые результаты разрушали
прежде всего общепринятое понимание нравственного учения Иисуса.
Теперь обнаруживалось, что его важнейшие требования имели
отрицательный характер, а вся его этика была рассчитана на короткий
«переходный период». ...Так что нам надо помнить о значении работы,
проделанной в свое время Иоганнесом Вайсом, Германом Гункелем,
Вильгельмом Буссетом, Вильгельмом Хайтмюллером и их
единомышленниками. Их исследования обнаружили, насколько идеи НЗ далеки от нас.
В противовес укоренившемуся пониманию христианства их работа
показала с пугающей ясностью, насколько чужим по отношению к
нашему миру выступает новозаветное провозвестие. И тем самым их работа
помогла создать то новое и правильное понимание новозаветного
провозвестия, которое теперь сказывается во всех областях теологии»9.
И.Вайс доказывал, что в проповеди Иисуса приход царства Бога
никак не связан с нравственными усилиями людей, а мыслится
исключительно как действие самого Бога, кладущее конец истории. Иисус
говорил на языке еврейской апокалиптики своего времени, он жил
ожиданием скорого конца. Центр его вести — Бог как суверенный владыка,
а царство Бога Иисус представлял себе как «божественную бурю,
которая ворвется в историю, разрушая и обновляя. Человек не может ни
вызвать эту бурю, ни повлиять на нее» (с. 5). Исходя из этого, Вайс
доказывает, что экстремизм нравственных требований Иисуса также
целиком обусловлен его эсхатологическими ожиданиями (с. 138—144).
В предисловии ко второму изданию «Проповеди Иисуса о царстве
Бога» И. Вайс пишет, что его книга возникла «в результате гнетущего
внутреннего конфликта» (с. XI) между его собственной экзегетической
работой и приверженностью теологическим идеям его учителя А. Ричля10.
Ричль был ярчайшим выразителем либеральной интерпретации
«царства Бога» в евангелической систематике. Вот как он сформулировал свое
понимание главного в христианстве: «Христианство следует сравнивать не
с окружностью, расположенной вокруг одного центра, а с эллипсом,
который образуется двумя фокусами: спасением и царством Бога»11.
Ричль считал спасительное деяние Бога во Христе предпосылкой для
достижения конечной цели — царства Бога, которое в либеральной
теологии мыслилось как социально-нравственная величина, а
следовательно, как возможная цель усилий личности и сообщества верующих.
Поэтому А. Ричль мог сказать, что у Бога и человека общая цель. Так
520
нравственность получила религиозное обоснование внутри
христианского либерализма. Ведь для Ричля «Бог есть любовь» имеет тот смысл,
что Бог делает человека своей целью.
Как мы уже знаем, эта окрашенная мотивами философского
идеализма систематика стала во второй половине XIX в. герменевтическим
ключом к НЗ, в особенности к историческому Иисусу. Ведь задача
либеральных поисков исторического Иисуса как раз и сводилась к тому,
чтобы поставить религию самого Иисуса на место догматической
религии об Иисусе.
Но такого рода социально-этическую интерпретацию понятие
«царство Бога» получало на протяжении почти всей истории христианства.
Либералы продолжили многовековую традицию. У ее истоков стоит
Августин. Он первым из крупных христианских теологов сблизил
евангельский символ «царство Бога» с Церковью как существующей сейчас
общиной, которой предстоит торжество в конце времен12.
Средневековая мысль сближала царство Бога с иерархической
Церковью как социальным институтом, замещающим и представляющим
Иисуса Христа в этом мире: церковь мыслилась как уникальное место спасения
(extra ecclesiam nulla salus). Учение Лютера о двух царствах (т. е. о церкви
и мирском обществе) и соответственно о двух формах правления Бога на
земле (духовной и светской) тоже связано с этой традицией13.
Либеральный протестантизм сохранил структуру этой спекулятивной
интерпретации, отчасти изменив ее содержание. Так, либеральные «куль-
турпротестанты» считали, что наблюдаемое в истории XIX в. смягчение
нравов, возникновение юридических гарантий «естественных» прав
человека, вообще все формы социального прогресса суть этапы в построении
Царства и проявления владычества Бога в истории. Ведь всё это
происходит вследствие того, что светская культура усваивает евангельский иде&т.
Естественно, либеральные теологи верили в то, что этическое толкование
царства Бога может опереться на историко-критическую экзегезу НЗ.
Однако открытие новозаветной эсхатологии лишило либеральную
систематику возможности ссылаться на НЗ. Ведь Й. Вайс сознательно
противопоставил свою чисто историческую реконструкцию учению о
царстве Бога в теологии Ричля. Он просто констатировал разрыв
между провозвестием Иисуса и христианством конца XIX в. По мнению
Вайса, либеральное христианство не может притязать на
преемственность с проповедью еврейского апокалиптика Иисуса из Назарета54.
Вайс по-прежнему считал, что учение Ричля правильно, уместно и
полезно для современного христианства, но его «подлинные корни —
философия Канта и теология Просвещения», а не НЗ15.
Вот как описал возникшую здесь апорию А. Швейцер: «Странная
вещь случилась с исследованием жизни Иисуса. Исследователи вышли
на поиски исторического Иисуса в надежде привести его — таким, как
он есть на самом деле, — в наше время в качестве учителя и спасителя.
Они разрубили цепи, которыми он в течение столетий был прикован к
скале церковного учения, и радовались, видя, как исторический
человек Иисус приходит в сознание, как к нему возвращаются жизнь и
движение. Однако он не остался на месте, он прошел сквозь наше время и
вернулся в свое собственное»16.
521
Эта апория не имела чисто интеллектуального решения. Она была
и
устранена лишь после изменения культурно-политической ситуации,
когда мировая война опрокинула «веру в прогресс» и уничтожила тот
мир, в котором прежний либеральный ответ на вопрос о сущности
христианства мог иметь смысл.
***
Ведущие теологи XX в. восприняли из Школы истории религий не
только образ эсхатологического Иисуса, но и вполне определенное
представление о Spätjudentum как мировоззренческом фоне для
провозвестия Иисуса.
Понимание истории еврейской веры в почти четырехвековой
период между Маккавейскими войнами и кодификацией Мишны (167 г. до
н. э. — ок. 200 г. н. э.) - не менее принципиальная проблема, чем
вопрос об историческом Иисусе и первоначальном христианстве. (В
западной, т. е. «христианской», науке эти две темы всегда были связаны.)
Здесь тоже предлагались взаимоисключающие интерпретации,
принципиальные возможности толкования истории тоже формировались
различными мировоззренческими и политическими интересами. Чисто
исторический подход и здесь прокладывал себе путь с большим трудом.
Историк науки найдет тут богатый материал для размышлений на тему
«беспредпосылочная наука и герменевтика».
Термин «Spätjudentum» принадлежит участнику Школы Вильгельму
Буссету (1865-1920) и появляется в его книге «Проповедь Иисуса в ее
противостоянии иудаизму», опубликованной в 1892 г.17 На с. 6 читаем:
«Здесь ставится задача понять (насколько это возможно) личность
Иисуса исходя из той почвы, на которой она выросла, то есть исходя из
позднего иудаизма».
Буссет пытался оспорить последовательно эсхатологический образ
Иисуса, созданный Й. Вайсом (см., например, с. 48—52, 71). Более того,
его книга в какой-то мере была специально направлена против идей
Вайса. Однако опровержения Буссета неубедительны, а конкретного
анализа отдельных евангельских текстов в его работе гораздо меньше,
чем у Вайса.
Насколько мне удалось установить, в новозаветной науке термин
Spätjudentum (в понимании Школы) впервые засвидетельствован в
тезисах к лиценциатской работе Вильяма Вреде (Гёттинген, университет
Георга Августа, февраль 1891 г.). Однако есть основания думать, что
Вреде воспринял этот термин от своего гёттингенского коллеги В.
Буссета, а уже после выхода книги Буссета понятие Spätjudentum стало
широко употребляться в возникавшей тогда Школе, а затем и во всей
науке того времени.
У Вреде термин Spätjudentum встречается в форме прилагательного:
«Словарь к НЗ сможет удовлетворять научным потребностям лишь в
том случае, ^сли он будет включать также предшествовавшую
новозаветным текстам позднееврейскую литературу (die spätjüdische Literatur)
и следовавших за НЗ Мужей Апостольских»1*.
522
Ранее в немецкой науке речь шла о «späteres Judentum»
(«позднейшем иудаизме»). Этот термин относился к эпохе создания
«ветхозаветных апокрифов и псевдоэпиграфов», т. е. текстов, написанных позже
тех, что вошли в канон еврейского Писания.
В XIX в. немецкие ветхозаветники называли «иудаизмом» эпоху
Второго Храма, отличая ее тем самым от допленной эпохи. Уже Ю. Велльга-
узен употреблял эту терминологию как общепринятую. Получалось, что
иудаизм стал «поздним», едва успев возникнуть. Кстати, у Велльгаузе-
на для обозначения послепленной эпохи употребляется и термин
«spätjüdisch». Я приведу один интересный для нашей темы пример из
«Введения в историю Израиля», вышедшего первым изданием в 1878 г.
В цитируемом тексте речь идет о жреческом документе: «Смелость в
указании чисел и имен, точность в сообщениях о незначительных
внешних подробностях не гарантируют их достоверности. Ведь эти
сообщения основаны не на современных событиям записях, а
исключительно на фантазии позднего иудаизма (spätjüdische Phantasie), которая, как
известно, не создает живописных и образных картин, а только
рассчитывает и конструирует и в итоге порождает лишь скучные схемы»19.
Чтобы читатель сразу увидел, в чем здесь суть, я начну прямо с
конца: в современной научной литературе то же историческое явление и
тот же круг текстов (между Библией и Мишной) обозначаются
термином Frühjudentum (по-английски соответственно early Judaism),
«ранний иудаизм».
Это значит, что, несмотря на весь критический радикализм Школы,
ее создатели при рассмотрении истории еврейской веры в конечном
счете все же исходили из нерефлективно усвоенной христианской идеи
истории спасения, согласно которой религия древних евреев была
предварительной ступенью и предпосылкой для возникновения
христианства. Лишь с этой догматической точки зрения еврейскую веру I в. н. э.
можно было охарактеризовать как «поздний иудаизм». Исторически
такую классификацию обосновать нельзя. Сейчас иудаизм I в. н. э.
историки называют «ранним» просто потому, что он предшествует
формированию «нормативного» иудаизма Талмуда. Внутри исторической
классификации цивилизация древних евреев (т. е. библейский период)
вообще не называется «иудаизмом», а относится к его предыстории20.
Принятый в Школе (а затем и во всей европейской науке о НЗ XX в.)
образ «позднего иудаизма» создал Вильгельм Буссет, опиравшийся, в
частности, на труды Ю. Велльгаузена. Первый шаг к этому был сделан в его
книге «Проповедь Иисуса в ее противостоянии иудаизму». Буссет
стремится последовательно показать несводимость самого важного в Иисусе к
«позднему иудаизму», для характеристики которого (как и у Велльгаузена)
постоянно применяются отрицательные оценочные суждения: еврейская
апокалиптика обнаруживает «болезненную тягу к потустороннему»21,
«поздний иудаизм был гениален в умении ненавидеть»22 и т. п.
Вспомним, что Früh (ранний) — Mittel (зрелый) — Spät (поздний) —
это обычная для нескольких исторических школ терминология. Она
может предполагать как цивилизационное, так и формационное
понимание истории. Эта терминология возникла в середине XIX в. при
применении биологических идей для объяснения общественного развития
523
и быстро распространилась за пределы собственно «органических»
теорий в социальных науках. Например, марксизм, весьма далекий от
«органического» понимания общества, тоже говорит о «раннем» и
«позднем» средневековье и т. д.
При формационном подходе, свойственном и либеральной
экзегезе, термин «поздний» означает период распада и перехода к
качественно новому и более высокому этапу развития. Здесь достаточно
упомянуть о «поздней античности» — это общепринятый термин,
встречающийся и у Трёльча (Spätantike).
Но если так, то что означает перемена названия одного и того же
явления с «позднего» на «ранний» (иудаизм)? Ведь тогда все равно надо
бы говорить о «зрелом» и «позднем» иудаизме?! Пока постулируемый
историком цикл развития не замкнулся, эта терминология
по-настоящему не имеет смысла. Однако методическая строгость тут не
выдерживается. Так, общепринятый термин «раннее христианство» не
обязательно предполагает бытие «позднего христианства».
Свой образ Spätjudentum Буссет разработал в учебном пособии
«Религия еврейства в новозаветную эпоху»23.
Буссет — вслед за Велльгаузеном — считает, что само еврейство той
эпохи двигалось от национальной религии к «церкви», т. е. от
этнической и культовой к универсальной и духовной религии. Вторая глава
книги, следующая за обзором источников, так и называется: «Развитие
еврейского благочестия в направлении к церкви»24.
Под «церковью» Буссет понимает определенный этап в развитии
различных религий той эпохи, а именно движение от партикуляризма
к универсализму. В этой связи Буссет упоминает митраизм и
эллинистические мистериальные культы, но «еврейскую церковь» он считает
наиболее ярким и исторически важным примером такой эволюции25.
Однако развитие к универсализму «остановилось на полпути»26,
потому что верность Закону означала сохранение национального
характера еврейской религии.
Читатель книги Буссета «Религия еврейства в новозаветную эпоху»
заметит, что эта работа обнаруживает стройность и выдержанность
замысла. Она обладает бесспорными дидактическими достоинствами.
Известный американский исследователь НЗ и иудаизма I—II вв. н. э. Эд
Сэндерс, который весьма далек от предпосылок Буссета, замечает, что
«книга Буссета «Религия еврейства» до сих пор остается необходимым
стандартным пособием»27.
Буссет исходит из целостного видения эпохи, которое определило и его
анализ источников. Тем яснее обнаруживается, что историк не может
понять фактические данные так, как это предлагает делать Буссет, если этот
историк не руководствуется христианской герменевтикой или
христианской идеей истории спасения, т. е. смысловыми образованиями,
внешними и произвольными по отношению к делу, о котором идет речь28.
Но герменевтический подход Буссета можно определить и точнее. Я
думаю, что Буссет описывает и оценивает еврейство той эпохи с точки
зрения либерального протестантского христианства и в этом одна из
причин его исторических ошибок. Предубеждение против
«церемониальных законов», «казуистики» и т. п., основанное на свойственном
524
XIX в. идеале универсальной этической религии, не содействовало в
этом случае работе историка.
Надо сказать, что подобного рода замечания о творчестве Буссета
могут быть определены и специфической неолиберальной христианской
юдофилией 70—90-х годов XX в., неискренней и небескорыстной. Но это
необязательно. Так, современник В. Буссета американец Джордж Фут Мур
(1851 — 1931), пресвитерианский пастор и исследователь Библии и
иудаизма первых веков н.э., показал в статье 1921 г. «Христианские писатели об
иудаизме», что «христианский интерес к еврейской литературе всегда был
более апологетическим и полемическим, нежели историческим»29. В
частности, и работы Буссета, по мнению Мура, основываются на уходящей в
средневековье полемико-апологетической традиции, а не на
самостоятельном чтении источников. Джордж Мур, один из крупнейших западных
исследователей раввинистического иудаизма, продемонстрировал
неосновательность работы Буссета не с помощью идеологических выкладок, а
просто опираясь на знание источников.
г. Христианство как синкретическая религия
Однако даже вроде бы самоочевидное представление, согласно
которому еврейство в том или ином смысле можно считать «почвой», на
которой возникло христианство, тоже не имеет столь твердых исторических
оснований, как принято думать. В христианском мифе об основании,
засвидетельствованном в НЗ, вера в Иисуса Христа предстает как
правильная еврейская вера, Церковь — как правильный новый Израиль, сам
Иисус - как новый Моисей30. Так обстоит дело в мифе. А что
произошло в истории — это отдельный вопрос.
Идею о «непроисхождении христианства из иудаизма» стали
продумывать и высказывать с методической последовательностью лишь совсем
недавно31, но она была подготовлена в Школе истории религий. Ее участник
Герман Гункель (1862-1932) предложил и обосновал тезис о том, что с
исторической точки зрения христианство есть синкретическая религия. В
своей небольшой книге «К пониманию НЗ с точки зрения истории
религий»32 Гункель стремится показать, что многие христианские
представления (в частности, христологические идеи — с. 89—95) почерпнуты из
восточных (не из эллинистических!) религий через еврейство (с. 1—37). Вот как
Гункель формулирует главный тезис своей книги: «Новозаветная религия
при своем возникновении и развитии в некоторых важных и даже
определяющих пунктах испытала влияние других религий, и это влияние было
передано людям Нового Завета через еврейство» (с. 1).
Мы уже говорили о том, что Гункель в работах о книге Бытия и
псалмах разработал метод анализа жанров (Gattungsgeschichte). Гунке-
лю принадлежит и термин «Sitz im Leben» - «место в жизни»,
жизненная ситуация текста. Этот термин указывает на социологическое
направление исследования, которое стремилось выявить функцию текста
в жизни общины33.
В связи с проблемой раннехристианского синкретизма можно сделать
еще одно замечание о герменевтике Школы. Гункель исходил из принци-
525
па, согласно которому каждый факт должен быть помещен в широкий
исторический контекст, «всякое явление может быть понято лишь тогда,
когда его сравнивают с каким-либо родственным явлением»34. Этот метод
сравнения религий позволял обнаружить синкретический характер
христианства. Однако все синкретические элементы первоначального
христианства становились в Школе (прежде всего у Буссета) предметом отрица-^
тельных оценочных суждений и отделялись от «сущности» христианства,
которую Буссет усматривал в нравственном провозвестии Иисуса.
Получалось, что «ядро» проповеди Иисуса было свободно от мифологических и
синкретических содержаний. Г. Гункель считал «чужеродным» элементом
у Иисуса только эсхатологию, «в особенности учение о воскресении всех
людей в день Страшного суда»35. К тому же Буссет и Гункель
расценивали провозвестие Иисуса как высшую точку в истории религий36. И только
И. Вайс, не пытаясь свести концы с концами в решении
герменевтической проблемы, считал все учение Иисуса полностью иррелевантным для
христианина конца XIX в.
Здесь явно возникало затруднение, устранить которое попытались
К. Барт и Р. Бультман — каждый по-своему.
Но как же сами участники Школы осмысляли «разрушительные»
результаты своей деятельности? Ведь я уже приводил мнение В.Марксе-
на: «Их результаты оттолкнули исследователей (следующего поколения.
— С.Л,), у которых не нашлось мужества последовательно разработать
их методы»*1.
Как уже отмечалось, участники Школы в той или иной мере
считали свою работу церковным делом, они хотели служить христианству
Реформации. По словам Г.Людемана, «их научный и религиозный этос
можно определить словом правдивость, и в этом они были едины с
лучшими умами XIX в. Поэтому всю жизнь они задавались вопросом о
теологическом смысле своих исследований, о соотношении истории и
веры. Но они не смогли прийти к общему пониманию веры»38.
Эта правдивость означала прежде всего принципиальное допущение,
согласно которому всякое историческое знание остается ненадежным.
Поэтому у некоторых теологов (например, у Д.Ф. Штрауса и Буссета)
возникал вопрос: «Можем ли мы по-прежнему называться
христианами?» Другими словами, сама историческая работа, помимо всяких
предзаданных философских убеждений, подводила исследователей к
мысли о возможности чисто рационалистической религии, которой
предстоит явиться из «устаревшего» христианства. Естественно, такая
«философская вера» подразумевала отказ от того понимания
Откровения, согласно которому окончательная истина была явлена раз и
навсегда в истории. Однако разрыв с историческим центром христианства,
с Иисусом из Назарета, мог быть приемлемым для отдельных теологов,
но не для Церкви.
К Школе истории религий в высшей степени применима оценка,
которая некогда была дана всей либеральной теологии: в ней
«победили принципы самоотрицающей правдивости в исторической области и
крайней добросовестности — в борьбе за догматические вопросы»39.
В этой связи уместно процитировать важные слова Альберта
Швейцера, которые позволяют лучше понять пафос всего в широком смысле слова
526
*
либерального направления в теологии: «Всякое продвижение вперед, всякое
постижение состоит в односторонности, в невозможности и далее
соединять то, что раньше казалось единым, в необходимости от чего-то
отказаться и с чем-то порвать. И поэтому всякий, кто решается на этот шаг
вперед, должен считаться с законом инерции массового мышления,
которое полагает, что оно еще может сочетать несочетаемое более, и даже
видит свою особую мудрость - по сравнению с односторонним мышлением
— в том, что оно не теряет из виду и другую сторону дела»40.
Быть может, самое важное в поисках, о которых здесь шла речь, —
это «fides quaerens intellectum» (Ансельм Кентерберийский) и intellectus
quaerens fidem, т. е. интеллектуальная деятельность, часть которой —
самоосмысление веры. Мы видели, что вера как объект
интеллектуального усилия оказывается хрупким сокровищем, не выдерживающим
такого обращения.
Я думаю, что «научная теология» рубежа XIX—XX вв. вырастала из
двух взаимоисключающих донаучных потребностей: из желания создать
надежную систему апологетики, но также и из стремления к
самопониманию. Эту теологию можно охарактеризовать словами Пауля Тилли-
ха, виднейшего продолжателя традиций либеральной систематики в XX
в., сознательно пытавшегося выразить специфику протестантской
религиозности: «Радикальная самокритичность христианства делает его
способным к универсальности в той мере, в какой христианство
поддерживает эту самокритичность в собственной жизни»41.
Примечания
1 См.: Räisänen Η. Beyond New Testament theology A story and a programme.
London, Philadelphia, 1990; Lüdemann G. Die Religionsgeschichtliche Schule und
ihre Konsequenzen für die Neutestamentliche Wissenschaft. - Müller HM. (Hrsg.).
Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums.
Gütersloh, 1992, с 311-338.
2 О начальных этапах истории Школы см.: Lüdemann С, Schröder Μ. Die
Religionsgeschichtliche Schule in Göttingen. Eine Dokumentation. Göttingen, 1987.
Перевод «религиозно-историческая школа», встречающийся в русской
литературе, неудачен.
3 См.: Schmithals W. Von der Tübinger zur Religionsgeschichtlichen Schule (Otto
Pfleiderer). — Besier G., Gestrick CA.(Hg). 450 Jahre Evangelische Theologie in Berlin.
1989, c. 309-331; Rollmann //. From Baur to Wrede. The quest for a historical
method. Ν. Υ. 1988 (Studies in religion. Vol. 17).
4 Troeltsch E. Rückblick auf ein halbes Jahrhundert der theologischen Wissenschaft.
- Gesammelte Schriften. Bd. 2. Tübingen, 1922, с 193-226 (196). О месте Трёль-
ча в Школе см.: Graf Fr W. Der «Systematiker» der «Kleinen Göttinger Fakultät».
Ernst Troeltschs Promotionsthesen und ihr Göttinger Kontext. - Troeltsch-Studien.
Hg. von H. Renz und Fr.W. Graf. Gütersloh, 1982, с 235-290.
5 Pfister O. Die Aufgabe der Wissenschaft vom christlichen Glauben in der
Gegenwart. Göttingen, 1923, с 13. О теоретических предпосылках, из которых
исходили члены Школы, см. также: Lüdemann G. Das Wissenschaftsverständnis
der Religionsgeschichtlichen Schule im Rahmen des Kulturprotestantismus. - Müller
H.M. (Hg). Kulturprotestantismus. ^Beiträge zu einer Gestalt des modernen
Christentums. Gütersloh, 1992, с 78-107.
527
(' Lüdemann G. Das Wissenschaftsverständnis, с. 107.
I Troeltsch Ε. Über historische und dogmatische Methode in der Theologie. -
Theologie als Wissenschaft. Aufsätze und Thesen. Hrsg. von G. Sauter. München,
1973, c. 105-127. Далее при ссылках на эту работу страницы указываются
прямо в тексте.
N Hengel Μ. Zur urchristlichen Geschichtsschreibung. Stuttgart, 1984, Anhang:
Historische Methoden und theologische Auslegung des Neuen Testaments, с 107-
113. Далее при ссылках на эту работу страницы указываются прямо в тексте.
4 Weiss J. Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Nachdruck der zweiten,
neubearbeiteten Auflage von 1900. Göttingen, 1964, c. V ел. Далее в тексте
следуют ссылки на страницы этого издания.
10 См. об этом в книге Бертольда Ланнерта: Lannert В. Die Wiederentdeckung der
neutestamentlichen Eschatologie durch Johannes Weiss. Tübingen, 1989, c. 140—15k
II Ritschi A. Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. 3. Aufl.
Bd. 1-3. Bonn, 1889, Bd. 1, с 19.
1,2 Ср. Aurelius Augustinus. De Civitate Dei. Кн. XX, гл. 9. Здесь из своей
интерпретации притч и логий Иисуса Августин выводит: «Ergo et nunc ecclesia regnum Christi
est regnumque caelorum» («Поэтому и сейчас Церковь есть царство Христово и
царство небесное»). Ср. там же, XV, 1: Августин считает, что Авель, в отличие от
первого строителя земного града Каина, pertinens [est] ad civitatem Dei.
13 Ср. семитомную хрестоматию, составленную швейцарским христианским
писателем Эрнстом Штелином, которая дает материалы к истории употребления
термина «царство Бога» в христианской теологии от НЗ до середины XX в.:
Staehelin Ε. Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi.
Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen. Bd. 1—7. Basel, 1951 —
1965. На эту тему см. также книгу Нормана Перрина: Perrin N. Jesus and the
language of the Kingdom: symbol and metaphor in New Testament interpretation.
Philadelphia, 1976, с 34—80 (анализ нескольких важных случаев употребления
термина — точнее, «символа» — «царство Бога» в христианской литературе от НЗ
до второй половины XX в.).
14 Weiss J. Die Predigt Jesu, с. 154-159.
15 Там же, с. XI.
16 Schweitzer Α. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. München, 1966, с. 620.
i7 Bousset W. Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum. Ein
religionsgeschichtlicher Vergleich. Göttingen, 1892. Далее при ссылках на эту книгу
страницы указываются прямо в тексте. (Известно, что сам ученый произносил
свою фамилию с конечным t.)
18 Лиценциатские тезисы Й. Вайса, В. Буссета, Э. Трёльча, В. Вреде и
будущего исследователя и издателя Септуагинты Альфреда Ральфса (Alfred Rahlfs)
впервые опубликованы в; Troeltsch-Studien. Hg. von Η. Renz und Fr.W. Graf.
Gütersloh, 1982, с 296—303. Приведенная цитата из Вреде — на с. 303.
19 Wellhausen /. Prolegomena zur Geschichte Israels. 6. Ausg. В., Lpz., 1927. Ср.
русский перевод этого текста Η.Μ. Никольским: Ю. Велльгаузен. Введение в
историю Израиля. СПб., 1909, с. 306 ел.
20 Историографический очерк на эту тему см. в: Sanders Ε.P. Paul and Palestinian
Judaism. A comparison of patterns of religion. Philadelphia, 1977, с 33—59.
'! Bousset W. Jesu Predigt, с. 44.
Ώ Там же, с. 46.
·' Bousset W. Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter. В., 1903.
24 Там же, с. 54-184 (Die Entwickelung der jüdischen Frömmigkeit zur Kirche). Что
касается понятия «церковь», то оно, я думаю, вообще не подходит для описания
еврейской цивилизации (как, впрочем, и понятие «религия»). Церковь как институт.
в некотором смысле противостоящий светскому обществу, — специфически
христианское явление. Вероятно, именно наличие в христианских обществах осново-
528
полагающего различия между «церковью» и «миром» сделало возможной
секуляризацию. В исламе тоже нет «церкви», и в исламских обществах не было
секуляризации в западном (т. е. христианском) смысле этого слова.
25 Там же, с. 55.
26 Там же, с. 185.
27 Sanders Ε.P. Paul and Palestinian Judaism, с. 39.
2* Подробный разбор этой работы Буссета см. в кн.: Verbeule Α.F. Wilhelm
Bousset. Leben und Werk. Ein Theologiegeschichtlicher Versuch. Amsterdam, 1973,
с 91-130.
29 Moore G.F. Christian writers on Judaism. - Harvard theological review. Vol. XIV.
Cambridge, Mass., 1921, с 197-254 (197).
30 См., например: Тищенко СВ. Основные направления интерпретации Мф. -
Канонические евангелия. М., 1992, с. 197—202.
31 См., например: Mack В. Myth of innocence: Mark and Christian origins.
Philadelphia, 1988. Тут, конечно, не имеются в виду попытки
националистически настроенных немецких теологов 20—40-х годов обосновать представление о
том, что Иисус и христианское Евангелие свободны от «еврейского духа».
Самый известный опыт в этом направлении принадлежит значительному
лютеранскому систематику Эмануэлю Хиршу (1888—1972). Ср. Hirsch Ε. Die
gegenwärtige geistliche Lage im Spiegel philosophischer und theologischer
Besinnung: Akademische Vorlesungen zum Verständnis des deutschen Jahres 1933.
Göttingen, 1934; он же. Deutsches Volkstum und evangelischer Glaube. Hamburg,
1934.
32 Gunkel H. Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments.
Göttingen, 1903 (FRLANT. H.l). VII, 96 с. Далее ссылки на страницы этой книги
указываются прямо в тексте. FRLANT - Forschungen zur Religion und Literatur
des Alten und Neuen Testaments; эта авторитетная серия монографий начала
выходить под редакцией Гункеля и Буссета.
33 См.: Klatt W. Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und
zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode. Göttingen, 1969 (FRLANT.
НЛ00), с 144-148.
34 Gunkel H. Reden und Aufsätze. Göttingen, 1913, с 47.
35 Gunkel H. Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments, c. 86.
16 Cp. Lüdemann G. Die Religionsgeschichtliche Schule. - Theologie in Göttingen.
Eine Vorlesungsreihe. Hg. von B.Moeller. 1979, c. 325-361 (352).
37 Marxsen W. Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des
Evangeliums. 2. Aufl. Göttingen, 1959, c. 11.
38 Lüdemann G. Die Religionsgeschichtliche Schule, c. 361.
39 Nade. Kirchlicher Liberalismus. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 2.
Aufl. Bd. 3. Tübingen, 1929, стб. 1626-1629 (1627).
40 Schweitzer Α. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, c. 254.
41 Tillich P. Dynamics of Faith. - Main Works/Hauptwerke. Vol. 5. В., Ν. Υ., 1989,
с. 289.
34 Заказ 257 529
Глава 10
Рудольф Бультман как историк и теолог
а. «Ранний» Бультман: этапы жизни и становление ученого
В гл. 6 мы познакомились с «Историей синоптической традиции»,
которая, на мой взгляд, осталась главным вкладом Р.Бультмана в
исследование раннехристианской литературы.
Таким образом, Бультман обнаружил себя как выразитель
некоторой систематической позиции в теологии, когда он уже достиг важных
научных результатов как историк христианской литературы,
опиравшийся непосредственно на результаты Школы истории религий и
развивший работу Школы в ее собственном смысле и направлении.
И все же отметим сразу: при всей важности достижений Бультмана-
историка он остался в памяти последующих поколений создателем
программы демифологизации — выдающимся апологетом («защитником»)
христианства перед судом «современного человека». Он прославился
как теолог, разработавший новую теологическую герменевтику НЗ, как
проповедник, который говорил о христианстве, обращаясь к
«образованным людям, презирающим религию» (Шлейермахер).
Рудольф Карл Бультман (1884-1976) был первенцем в семье
лютеранского пастора Артура Кеннеди Бультмана (1854—1919). Его младший
брат Артур (1897—1917) погиб на фронте первой мировой войны.
Бультман окончил гимназию в Ольденбурге в 1903 г. Он изучал
евангелическую теологию в Тюбингене (1903—1904) и Берлине (1904—
1905). В Берлине Бультман работал в ветхозаветном семинаре Г. Гунке-
ля. Затем он учился в Марбурге (1905-1906), где посещал новозаветные
курсы Йоханнеса Вайса и Адольфа Юлихера.
В 1910 г. Бультман получил ученую степень лиценциата теологии, в
1912-1916 гг. преподавал НЗ в Марбурге в качестве приват-доцента.
Его лиценциатская работа «Стиль проповеди Павла и диатриба
киников и стоиков»1 была опубликована в 1910 г. как тринадцатый выпуск
в серии FRLANT. Вторая квалификационная работа Бультмана (1912
г.), необходимая для получения доцентуры в университете, была
посвящена творчеству известнейшего из экзегетов антиохийской школы Фе-
одора Мопсуэстийского (ум. в 428 г.)2.
В 1916-1920 гг. Бультман был экстраординарным профессором
НЗ в университете Бреслау. Там он написал свою главную работу по
истории раннехристианской литературы — «Историю синоптической
традиции». Первоначально Бультман хотел посвятить книгу памяти
i
Д.Φ. Штрауса, но затем отказался от этой мысли: имя Штрауса в
посвящении имело бы полемически-провоцирующий смысл, а
молодому ученому, еще не ставшему ординарным профессором, скандал
был бы скорее вреден3.
В 1920 г., после смерти Вильгельма Буссета, Бультман был
приглашен в университет Гисена ординарным профессором НЗ на место
Буссета, В Гисене Бультман преподавал два семестра, а потом принял
приглашение перейти в Марбург. Он оставался профессором НЗ в Марбур-
530
гском университете, пока не ушел на пенсию в 1951 г. В Марбурге он
прожил до своей смерти 30 июля 1976 г.
•kick
Когда Бультман в 1903 г. стал студентом-теологом, он готовился к
деятельности лютеранского пастора, руководителя церковной общины.
Бультман с самого начала понимал свою жизнь как служение церкви
Реформации. Он, конечно, осознавал как нечто самоочевидное
преемственность со своими предками — пиетистами и лютеранскими
пасторами. При этом уже со студенческих лет он исходил из того, что зада-
KJ *J
ча пастора и теолога — преодолеть разрыв между научной теологией и
традиционным образом лютеранского благочестия, который теряет
свою достоверность, более того, не выражает сути веры. В 1907 г. он
заметил в письме другу: «Человек, который действительно признает
учение о заместительном жертвоприношении Христа, не может жить по-
настоящему глубокой религиозной жизнью, потому что такой человек
не понимает до самой глубины, что значит грех и что значит милость»4.
Эти слова звучат почти как цитата из программной работы Бультмана
1941 г. «Новый Завет и мифология».
Теология реформаторов и протестантский либерализм XIX в. с его
духом свободного исследования, с его требованиями правдивости и
интеллектуальной честности — вот те ценности, которые сформировали
интеллектуальный мир молодого теолога Бультмана. Как исследователь
он сложился под влиянием Школы истории религий. Первые работы
Бультмана имеют «историко-религиозный» (в понимании Школы)
характер. Интересно, что тему для своей лиценциатской работы —
сравнение посланий Павла и эллинистической диатрибы — Бультман
выбрал по совету Й. Вайса5.
б, Бультман и диалектическая теология
В американских лекциях 1951 г. Бультман заметил, что христианская
проповедь никогда не обходится без философских предпосылок.
Вопрос может задаваться лишь о выборе «правильной» философии6. И
исторически Бультман, конечно, прав. Теологическая интерпретация НЗ,
опирающаяся на «правильную» философию, существовала всегда. Так,
в эпоху классической греческой патристики НЗ истолковывался с
помощью понятий, восходящих к неоплатонизму. Мы видели, что на
либеральную экзегезу влияла философия Гегеля. Напротив того,
последовательно историческая интерпретация, стремящаяся только к
увеличению наших знаний, — нечто принципиально новое, появившееся лишь
в «современную» эпоху.
В самом деле: у нас есть достаточные основания думать, что мы
знаем об истоках христианства, а также об иудаизме (или, как сейчас
говорят, об «иудаизмах») и эллинистической культуре I в. н. э. больше, чем
было известно сто или пятьдесят лет назад.
Как мы увидим, Бультман понимал себя прежде всего как теолога,
34* 531
свою работу — как церковное дело. Поэтому он всегда думал о том, как
можно теологически интерпретировать результаты исторического
исследования, в частности результаты его собственного изучения
синоптической традиции.
Уже в 1920 г., после окончания работы над «Историей
синоптической традиции», Бультман впервые выступил с публичной критикой
либеральной теологии — в докладе «Этическая и мистическая религия в
первоначальном христианстве (Urchristentum)», прочитанном на
теологической конференции в Айзенахе 29 сентября 1920 г.7
В этом докладе Бультман относит себя к либеральным теологам8,
однако отвергает основы либеральной герменевтики. Почему это
произошло?
Изучение раннего (до 1920 г.) творчества Бультмана позволяет
предположить, что в его мышлении вообще не было резких поворотов и
«обращений»: теологический вопрос об истинной религии с самого
начала занимал его не меньше, чем чисто исторические задачи9. Однако
первые подступы Бультмана к созданию собственной «системы» нельзя
понять помимо его встречи с возникшим сразу же после конца первой
мировой войны «новейшим теологическим движением» —
диалектической теологией. Ее главным создателем был, как известно, Карл Барт.
Что касается Бультмана, то в первой половине 20-х годов он стал
участником этого нового теологического направления. Его книга «Иисус»,
опубликованная в 1926 г., относится к важнейшим документам
диалектической теологии.
Поэтому здесь я предлагаю контурное изображение мысли Барта —
в надежде, что оно будет полезно в наших попытках понять
специфику теологии «зрелого» Бультмана.
•kick
Карл Барт родился в Базеле 10 мая 1886 г. в семье кальвинистского пастора
и теолога Фрица Барта. К. Барт начал изучать теологию в Бернском
университете. Затем он провел один семестр в Берлине, где, как и Бультман,
посещал курсы Адольфа Гарнака и Германа Гункеля. Барт продолжил
учебу в Тюбингене, а последние студенческие семестры провел в Марбурге,
где он избрал своим учителем теолога-систематика Вильгельма Германа
(1846—1922). В. Герман, соединявший в своем творчестве наследие
пиетизма с нравственным пафосом либеральной теологии, сильно повлиял на
молодого Барта. Читатель помнит, что Бультман учился в Марбурге
примерно в те же годы. И для Бультмана творчество В. Германа стало одним
из важных источников его собственной теологии.
В 1911 г. Барт стал пастором реформатской (т. е. кальвинистской)
общины в Сафенвиле, городке швейцарского кантона Ааргау. Здесь он
провел десять лет, здесь написал два варианта «Послания к римлянам»
— первого опыта собственной теологии, вдохновленного
экзистенциальной встречей с вестью апостола Павла: книга построена как
комментарий на новозаветное Послание апостола Павла к римлянам.
«Послание к римлянам» принесло Барту известность, и в 1921 г. он получил
приглашение преподавать реформатскую теологию в Гёттингене (нео-
532
бычная карьера для теолога, не защитившего диссертацию ни к тому
времени, ни позже!). Потом он был профессором догматики в Мюнсте-
ре и Бонне. В 1935 г., отказавшись подписать текст присяги на верность
вождю, что требовалось от всех государственных служащих, К.Барт
вернулся из Германии в Швейцарию. Он продолжил писательскую и
преподавательскую работу в своем родном городе Базеле10.
Начало оригинального творчества Карла Барта часто называли
теологической революцией: первым самостоятельным шагом Барта был
громко провозглашенный разрыв с либеральной теологией, как она
сложилась в XIX в.
«Теологическую революцию», совершенную реформатским
пастором из Сафенвиля и его единомышленниками, можно понять и как
один из ответов христианской мысли на вопросы, порожденные
социальными потрясениями первой мировой войны и европейских
революций, — как ответ на катастрофу, уничтожившую тот мир, что был
естественным «местом в жизни» для либерального христианства.
Важнейшим документом этого нового теологического движения стала книга
Барта «Послание к римлянам» (1922 г.).
Барт и теологи, чьи позиции в первой половине 20-х годов были ему
близки - прежде всего это Эдуард Турнайзен, Георг Мерц и Фридрих
Гогартен, а затем Эмиль Бруннер и Рудольф Бультман, — называли
свою работу теологией Слова Божьего, а иногда — теологией кризиса.
«Либеральные» противники нового теологического движения назвали
его неоортодоксией. В историю это теологическое движение вошло под
названием диалектическая теология (сам Барт заметил, что это
обозначение было дано со стороны — «каким-то зрителем»11). По ходу
изложения мы еще проясним смысл этих терминов.
Всеобщий кризис культурного сознания после первой мировой
войны сказался и в том, что эти молодые теологи усомнились в
способности «религиозного а priori» (т. е. «естественной» человеческой
религиозности) быть исходным пунктом христианской теологии.
Диалектическая теология начала с отрицания преемственности между
человеческой религиозностью и Богом, т. е. с отрицания самой основы теологии
либерального типа.
Ближе к концу жизни, в 50-е годы, Барт писал об исторических
обстоятельствах, заставивших его отвергнуть основополагающие
постулаты теологии XIX в.: «Для протестантской теологии фактический конец
XIX столетия как «доброго старого времени» приходится на роковой
1914 год... Один день в начале августа того года отмечен в моей
памяти как черный день. Девяносто три представителя немецкой
интеллектуальной элиты выступили с публичным обращением в поддержку
военной политики Вильгельма II и его советников. С ужасом увидел я
среди этих интеллектуалов почти всех моих теологических учителей, к
которым я относился с величайшим почтением. Разочаровавшись в их
этосе, я почувствовал, что больше не смогу следовать ни их этике, ни их
догматике, ни их пониманию Библии и истории. Теология XIX в. — по
крайней мере для меня — больше не имела будущего»12.
Новый центр, предполагающий единство этики и догматики, Барт
нашел в христологии — в учении об Иисусе Христе как о едином Сло-
533
ве Бога, т. е. единственном и окончательном слове Бога к человеку. И
поэтому о соотношении «критического» и «позитивного» периодов в
творчестве Барта можно без особой натяжки сказать так: утверждаемое
Бартом в его монументальной «Церковной догматике» («Die kirchliche
Dogmatik», 1932—1967) следует из его отрицательных суждений в
«Послании к римлянам» и в полемических статьях 1919—1923 гг., хотя в
зрелый период Барт отказался от некоторых своих положительных
суждений ранней поры. Что же до «диалектической теологии», то она
существовала как направление мысли и кружок единомышленников
главным образом за счет единства в отрицании. К диалектической теологии
можно отнести известные слова Пауля Тиллиха: «Отрицание живет
исключительно за счет того содержания, которое оно отрицает». При
выявлении положительных следствий отрицания пути оригинальных
мыслителей из числа членов кружка разошлись. В результате о Бультмане
и Бруннере можно сказать то же, что и о Барте: они сохранили верность
себе (хотя Барт и упрекал их в отходе от общей позиции).
Определим, в чем состоит диалектический и отрицающий характер
теологии молодого Барта и близких к нему авторов из основанного ими
в 1922 г. журнала «Zwischen den Zeiten» («Между временами»).
Основатели журнала определили свое направление как «теологию Слова
Божьего», а в качестве названия журнала они взяли заглавие статьи Гогарте-
на 1920 г., в которой с особой четкостью выражено настроение
послевоенного «потерянного поколения» в теологии: «Вот судьба нашего
поколения: стоять между временами. Мы никогда не принадлежали тому
времени, что сейчас уходит. Будем ли мы принадлежать тому времени,
что придет? ...А пока мы стоим между временами. И это тяжкая
человеческая необходимость. Ведь тут терпит крах и становится бесчестьем
все человеческое — все, что было, и все, что будет. Но поэтому мы
можем — и до конца постигаем необходимость — вопрошать о Боге»13.
В предисловии ко второму варианту своего «Послания к римлянам»
Барт заявлял: «Меня обвиняют в том, что я привношу смысл в текст
(послания Павла. — С/7.) вместо того, чтобы извлекать его из текста.
Это обвинение — первое, что приходит в голову при обсуждении моей
работы. Вот что я могу сказать в ответ. Если у меня есть «система», то
она заключается в следующем: я прилагаю все возможные усилия,
чтобы не упустить из виду положительного и отрицательного значения
того, что Кьеркегор назвал «бесконечным качественным различием»
между временем и вечностью. «Бог - на небесах, а ты — на земле».
Отношение такого Бога к такому человеку и отношение такого
человека к такому Богу — вот для меня тема Библии и одновременно сумма
философии. Философы называют этот кризис человеческого познания
Первоисточником. Библия видит на том же распутье Иисуса Христа»14.
«Кризис» — одно из ключевых слов для Барта и его тогдашних
единомышленников. Употребление этого слова у них основано на
совмещении его современного значения с этимологией: по-гречески κρίσις
значит «суд». Барт писал в «Послании к римлянам»: «Но подлинный
Бог есть лишенный всякой предметности источник кризиса всякой
предметности — Судья, отрицание и небытие мира» (с. 57). Отсюда и
обозначение всего направления как «теологии кризиса».
534
Из «бесконечного качественного различия» следует, что откровение
Бога имеет диалектическую структуру, и ту же структуру имеет ответное
«отношение такого человека», т. е. теология, человеческие
высказывания об этом откровении. (Забегая вперед, отметим, что и «систему»
Бультмана можно назвать теологией откровения.) Диалектика
откровения состоит в том, что оно соединяет взаимоисключающие величины:
Бога и человека, время и вечность. У «раннего» Барта диалектика не
знает синтеза, но лишь статическую противоположность тезисов,
единство которых «не наглядно». Следовательно, откровение в Иисусе
Христе открывает Бога именно как неизвестного Бога, и как раз в этом
заключается кризис, суд над всем человеческим.
Здесь начинается тема теологической критики религии,
противопоставление веры и религии. Религия для молодого Барта — продукт
человеческого стремления спастись любой ценой, т.е. наиболее
последовательное из всех проявлений неверия, Барт с пророческим пафосом
заявлял, что религиозный опыт, религиозные чувства, потребности и
переживания, человеческая религиозность вообще существуют помимо
Бога, ибо Бог не нужен для успешного функционирования религии.
Вот почему диалектическая теология начинает с отрицания связи между
религией и Богом или — что то же самое — с утверждения диастаза,
полного разрыва, между культурой (религия — ее часть) и верой.
«Евангелие, — писал Барт в 1923 г., - имеет столь же много или столь же мало
общего с «варварством», как и с культурой»15.
«Они заменили Божью истину ложью, они поклонялись и служили
сотворенным вещам, а не Творцу» (Рим 1:25). Комментируя эти слова
апостола Павла из Послания к римлянам, Барт говорит, что религия
служит своему «не-богу» — «таким полудуховным, полуфизическим
образам, как Семья, Народ, Государство, Церковь, Отечество» (с. 26). Но
если религия тождественна неверию и идолопоклонству, то вера
(верность) — как и праведность (справедливость) — свойство в первую
очередь не человека, а Бога. Поэтому Барт обращает особое внимание на
те места у Павла, где греческое слово πίστις («вера») может быть
понято как «верность» (Бога).
Барт утверждает, что откровение Бога — кризис религии, он говорит
о неустранимой противоположности между религией как тем, что
переживается во времени, и Откровением как «математической точкой»,
единственным в своем роде деянием Бога, которое становится
«наглядным» лишь в событии Христа.
Итак, Бог Иисуса Христа судит религию: «Ни одна религия в своей
конкретности не избежит суда» (с. 112). Но, согласно диалектике
Барта, в «наглядности» суда и гнева проявляется «не наглядная» милость
Бога, точно так же как «наглядность» Креста заключает в себе «не
наглядное» Воскресение: «Суд — не уничтожение, а восстановление...
Гнев Бога — это откровение Его праведности по отношению к неверию,
ибо Бог поругаем не бывает. Гнев Бога есть праведность Бога —
помимо и без Христа» (с. 53, 19).
Для Барта религия — естественное самопонимание человека,
предполагающее, что он может познать Бога в природе и в истории.
Форма религии (закон, культ) — след откровения в таком же смыс-
535
ле, как воронка - след взорвавшейся бомбы, сухое русло - след
иссякшего потока. И молодой Барт настойчиво противопоставляет
«возможную возможность» культуры, религиозного опыта, закона
«невозможной возможности» веры. «Подлинно творческий акт, в котором люди
становятся детьми Аврааму, «камни сии» превращаются в сыновей,
состоит не в возможной возможности религиозного закона, а в
невозможной возможности веры» (с. 114).
Используя образы Кьеркегора, Барт говорит, что, с точки зрения
человека, вера — пустота и прыжок в пустоту. Но теологическая
революция Барта - пусть и с весьма реакционными чертами — в том и
состоит, что он попытался повернуть в обратную сторону (re-volvere) само
направление христианской мысли, начав не «снизу» — с религии и
человека, а «сверху» — с веры как верности Бога, явленной в его Слове.
Поэтому «Послание к римлянам» звучит как «чума на оба ваши дома!»,
как отвержение и либеральной теологии и церковной ортодоксии. По
мнению Барта, обе они - каждая на свой лад - пестовали человеческую
религиозность как проявление «тайной божественности» человека — в
этическом или культово-сакральном понимании. Здесь Барт охотно
соглашается с Фейербахом.
Понятно, что статичная диалектика и идея суверенной свободы
Бога, необъективируемости его Слова не позволяют Барту сказать
ничего определенного о содержании откровения в Иисусе Христе: Бог
Иисуса — «неизвестный Бог» неокантиантства (Герман Коген),
«совершенно иной», totaliter aliter (Рудольф Otto). Метафизика, как и у
либералов, — под запретом, а новая возможность говорить о Боге
положительно, не обращаясь ни к метафизике, ни к философской
антропологии и этике, пока не найдена. Собственно, вначале Барт и не искал
такой возможности. Отрицающая и диалектическая речь как раз
соответствовала его задачам. Он прямо пишет об этом в одной из статей 1922
г., сравнивая «три пути» теолога — догматический, критический и
диалектический: «Подлинный диалектик знает, что этот центр — живой
Центр всякой теологии — непостижим и «не нагляден», и поэтому он не
станет давать прямые сведения об этом центре, ибо он знает, что все
такие сведения, положительные и отрицательные, — на самом деле не
сведения, но всегда либо догма, либо критика. По этому скалистому
гребню можно только идти; если он попробует остановиться, то упадет
— направо или налево, но упадет непременно. Остается только идти и
идти — страшное зрелище для тех, кто подвержен головокружению, -
\j
идти, переводя взгляд с одной стороны на другую, от утверждения к
отрицанию и от отрицания к утверждению, тем самым соотнося их друг
с другом»16.
Именно в таких терминах Барт говорит в «Послании к римлянам» о
событии Христа: «Иисус как Христос есть план, лежащий за пределами
нашего восприятия. Тот план, который известен нам, он пересекает
вертикально сверху... Вокресение есть раскрытие Иисуса как Христа. В
воскресении новый мир Святого Духа касается старого мира плоти, но
так, как касательная касается окружности, то есть не касаясь его. И
именно потому, что он не касается его, он касается его как граница —
как новый мир» (с. 6).
536
Эта недоказуемость откровения была общим «отрицательным»
убеждением сообщества «Между временами», вытекавшим из
представления о Боге как о «совершенно ином», — убеждением, не позволявшим
диалектической теологии «упасть направо», отграничивавшим ее от
«позитивной» (т.е. антилиберальной)теологии.
В категориях этой диалектики Барт интерпретирует и Воскресение:
«Воскресение Иисуса не есть событие внутри истории рядом с другими
событиями его жизни и его смертью, но внеисторическое соотнесение
всей его исторической жизни с ее источником в Боге» (с. 175).
Бартова трактовка Слова Бога и религии позволяет пояснить и
конкретизировать то, что я сказал о преемственности между ранним и
зрелым периодами в его творчестве.
К началу 30-х годов Барт сумел сделать положительные выводы из
своих отрицательных суждений. Бога нельзя познать вне его единого
Слова - Иисуса Христа, утверждал «ранний» Барт. Но во Христе Бог
действительно открывает себя, т. е. позволяет сделать себя настоящим
объектом познания, — смог добавить Барт в ту пору, когда отказался от
чистой диалектики и перешел к построению христоцентричной догма-
Lf
тики с помощью метода, который принято называть христологынескои
аналогией. В отличие от естественной теологии, умозаключающей от
творения к Творцу («Несведом тварей вам конец? Скажите ж, коль
велик Творец?»), христологическая аналогия Барта идет «вертикально
сверху» — от Бога к человеку. При этом, конечно, вместе с идеей
отрицания и диалектикой Барт опускает и неокантианские суждения о
«неизвестном Боге». Заметим, что такая «естественная теология»
существует во всех главных христианских конфессиях. Апологетика обычно
начинает с того, что познание Бога в какой-то мере доступно разуму и
лишь для его завершения требуется «особое» христианское откровение.
В католицизме это утверждение о познаваемости Бога «в природе и
истории» приобрело догматический статус.
Как мы уже знаотч, для Барта христианская теология — ответ на
приходящее «вертикально сверху» суверенное Слово Бога: это, и только это.
Значит, теология не противопоставляется вере. Поэтому Барта — автора
«Церковной догматики» перестали волновать темы ранней диалектической
теологии, навсегда оставшиеся важными для Бультмана: истина как
событие встречи, внеположное объективирующим суждениям теологии;
необходимость преодоления «субъект-объектной схемы» и т. п.
Понятно, что эта новая рациональность Барта, вылупившаяся из
скорлупы кьеркегоровской парадоксальности, его способность
утверждать там, где «научная теология» во имя интеллектуальной честности
могла только отрицать, - все это было воспринято его прежними
союзниками по диалектической теологии как «объективация веры» (Брун-
нер) и «мифологическая речь» (Бультман). Следует, однако, помнить,
что тут Барта критиковали теологи, сознававшие себя очень во многом
обязанными ему, но шедшие своими путями. Отметим также, что
Дитрих Бонхёффер, долгое время смотревший на Барта «снизу вверх», в
письмах из тюрьмы называл его теологию «позитивизмом откровения»,
т. е. учением, для которого «все, будь то непорочное зачатие, Троица
или что бы то ни было, есть одинаково важный и необходимый элемент
*ч
}П
}. > /
Ϊ
целого, которое должно быть либо проглочено именно как целое, либо
целиком извергнуто»17.
Барт с самого начала скептически относился к философской
теологии и к самой возможности «христианской философии». В конце 30-х
годов он писал: «За эти годы я узнал, что христианское учение должно
быть исключительно и последовательно, во всех своих суждениях,
прямо или косвенно, учением об Иисусе Христе как о сказанном нам
живом Слове Бога»18.
Поняв всю свою работу как «христологическую концентрацию» и
увидев в событии Христа источник положительных суждений, Барт
смог вообще отказаться от философской системы. По его мнению,
любые эпистемологические предпосылки внеположны откровению:
«Теолог, не стыдясь своей философской наивности, должен заявить прямо
и безоговорочно, что единая и неделимая истина его — Христос, и это
определенно указывает ему путь мышления и словесного выражения и
потому отрезает для него философский путь. Речь идет не об идее
Христа, а о Христе Иисусе из Назарета, что жил при Августе и Тиберии,
умер и воскрес, чтобы больше никогда не умирать, но не как
прекрасное (быть может, самое прекрасное) средство выражения мыслей, а как
истинный Бог и истинный человек, как олицетворение
установленного Богом союза между Ним и человеком»19.
Так «не наглядное» единство противоположностей стало наглядным,
сделалось предметом теологии и критерием истинности ее суждений. В
соответствии с этим положительным настроем Барт в «Догматике»
заново продумывает свою критику религии и говорит об «откровении
Бога как снятии религии». Уже в «Послании к римлянам» Барт, следуя
Гегелю, обыгрывает в «диалектических» целях многозначность
немецкого слова «Aufhebung». Русский перевод этого термина - «снятие» —
отчасти передает сочетание двух нужных для «игры» значений
немецкого слова: «устранение» и «возвышение». А в «Догматике» дело
обстоит так: в той мере, в какой религия есть человеческое неверие, Бог
судит ее, и его Слово «устраняет» религию. Но коль скоро «Слово стало
плотью» и приняло человеческую природу, то Бог принимает и,
следовательно, «возвышает» религию как человеческий ответ на Слово.
Разумеется, в таком контексте речь может идти только о
христианской религии. Барт почти не успел испытать проблематичность
абсолютного притязания христианства: эта тема стала предметом
христианской мысли лишь в последней трети XX в. Что касается
теологического диалога между религиями, то он по-настоящему попал в поле зрения
Барта только под конец жизни20.
Таковы — в схематичном изложении — важные для нашей темы
аспекты мысли Карла Барта.
•ick*
Итак, в докладе 1920 г. «Этическая и мистическая религия в
первоначальном христианстве» Бультман впервые формулирует свое мнение о
«новом благочестии», обнаружившем себя в первом издании «Послания
к римлянам» Барта и в статьях Гогартена.
538
Это мнение настолько характерно и важно для дальнейшего
развития мысли Бультмана, что я позволю себе процитировать его почти in
extenso: «Современное направление мысли оценивает историко-крити-
нескую работу со всё большим пренебрежением. Я понимаю
разочарование и враждебность, стоящие за утверждениями, согласно которым
для религии и Церкви эта работа бесплодна. Но сам я думаю, что она
имела и по-прежнему имеет некоторое значение для Церкви, пусть не
центральное, не бесспорное и даже не вполне безопасное. Нынешнее
направление благочестия, которое отказывается от исторической
работы, называют гностицизмом. И это обозначение справедливо в той
мере, в какой новейшее благочестие стремится вообще разорвать связь
веры с историческими силами и целиком перетолковывает историю в
миф. Именно так, на мой взгляд, обстоит дело у Барта в «Послании к
римлянам». Столь же справедливо новое благочестие называют чистой
мистикой. ...Таким образом, это благочестие протестует против
представления, согласно которому наша связь с историей должна
покоиться на возможно более точном знании истории, то есть на историко-кри-
тической работе. И этот протест справедлив.
Далее, это благочестие протестует против представления о том, что
одна эпоха или одна личность прошлого (пусть даже классическая
эпоха или личность) может служить нормативным основанием для
религиозного сообщества. Как полагают выразители этого благочестия,
неисчерпаемое и постоянно создаваемое заново содержание религии
находит выражение лишь в величинах, возвышающихся над временем и
историей, то есть в мифе и культе. И это тоже справедливо.
Таким образом, против историко-критической работы (или, как
часто говорят, против той «либеральной теологии», к которой я
причисляю и себя) выдвигаются два возражения. 1. Общее возражение против
того, что историко-критическая работа возводится в основу
благочестия. 2. Конкретное возражение против того, что определенный период
истории и определенная личность, «исторический Иисус»,
рассматриваются как нормативные»21.
Заметим, что Бультман, автор «Истории синоптической традиции»,
открыто соглашается с правомерностью прорыва иррационального
(«мифологического» и «мистического») и даже антирационального
мышления в теологию. Возникает впечатление, что Трёльч и Школа
истории религий дошли до предела: большей рациональности
протестантская мысль не могла себе позволить, наступила реакция.
Но как историк литературы Бультман был вынужден искать место
для исторической работы внутри по-новому понятой теологии. Как ни
странно, в этом ему помогла философия Хайдеггера.
в. Встреча с Хайдеггером: керигма и миф
Как видно, в частности, из рецензии Бультмана на второе издание
книги Барта «Послание апостола Павла к римлянам»22 и из его
программной статьи 1924 г. «Либеральная теология и новейшее теологическое
движение»23, Бультман глубоко воспринял отстаиваемое Бартом пред-
539
ставление о Боге как о «совершенно ином» (totaliter aliter), как о
радикальном отрицании всех возможностей, которыми человек может
обладать сам. «Бесконечное качественное различие» между Богом и миром
подразумевает, что о Боге ничего нельзя узнать обычными методами
познания: Бог, не будучи объектом в мире объектов, не может стать и
объектом познания. Стало быть, непосредственно о Боге нельзя сказать
вообще ничего. Отсюда Бультман выводит, что подлинная теология
всегда будет «отталкивающей бессмыслицей» или «камнем преткновения»
для людей, мышление которых остается в рамках субъект-объектной
схемы. Тут Бультман постоянно ссылается на текст Павла (1 Кор 1:21 —
24), в котором он видит авторитетное выражение некоторых важнейших
мотивов собственной теологии: «Так как мир своей мудростью не
познал Бога в [проявлениях] мудрости Божьей, то Бог соблаговолил с
помощью [нашего] безумного провозвестия спасти верующих. Ведь евреи
требуют [подтвержающих] знаков, а греки ищут мудрости, мы же
возвещаем Помазанника [как] распятого: для евреев [он] источник
отвращения, а для других народов — глупость; для самих же призванных, будь
то евреи или греки, [он] — Помазанник, сила Бога и мудрость Бога».
Словом «провозвестие» здесь переведено греческое κήρυγμα. Термин
«керигма» стал одним из центральных для системы Бультмана, так что
его теологию иногда называют «керигматической». «Отталкивающая
бессмыслица», «камень преткновения», «источник отвращения» — все
это описательные переводы употребляемого Павлом греческого слова
σκάνδαλον, которое, как видно из сказанного, тоже очень важно для
Бультмана: он постоянно говорит о том, что христианская керигма, т.
е. весть о распятии Мессии как о спасительном событии, имеет «скан-
4
дальный» характер, оскорбляет здравый смысл. Соответственно и
христианская теология, определяемая Бультманом как самоистолкование
веры или внутренне последовательное (wissenschaftlich) истолкование
керигмы, должна будет «оскорблять» здравый смысл.
Таким образом, «Бог не есть данность или (пока еще) не-данность
в смысле идеалистической философии... Понятие «Бог» означает
полное устранение всего чисто человеческого, отрицание человека. «Бог»
означает, что человек радикально ставится под вопрос, это суд над всем
человеческим»24. Основополагающая для христианской теологии
характеристика человека как «грешника» и «падшего» тождественна для
Бультмана утверждению о «бесконечном качественном различии», о
невозможности прямого познания Бога. Хотя Бог как «совершенно
иной» не может быть объектом познания, Он определяет человеческое
существование: Бог сам «находит» человека, «встречается» с ним и
обращается к нему. Поэтому я как человек могу говорить именно об этом:
о том, что мое существование «затронуто» Богом. А если я христианин,
я могу говорить о том, что Бог обращается ко мне в слове христианского
провозвестия, керигмы25.
Свою теологическую позицию, сложившуюся в 20-е годы, Бультман
до конца жизни выдерживал с замечательной последовательностью,
применяя однажды выработанную сумму идей в новозаветных
исследованиях, в работах по систематической теологии, этике и истории
культуры. Так, в эссе 1963 г. «Идея Бога и современный человек», написан-
г
540
ном в связи с публикацией книги англиканского епископа Дж.А.Т.
Робинсона «Честно перед Богом» и работы американского теолога Габри-
эла Вааняна «Смерть Бога», Бультман противопоставляет этим (по его
мнению, незрелым) опытам «радикальной теологии» свой глубоко
продуманный экзистенциалистский подход: «Только концепция Бога,
согласно которой безусловное можно искать и найти в обусловленном,
потустороннее — в посюстороннем, трансцендентное — в самом близком,
— лишь концепция Бога, предусматривающая возможность такой
встречи, приемлема для современного человека. И тогда нам нужно всегда
оставаться открытыми для встречи с Богом в мире, во времени»26.
Как показывает статья Бультмана 1925 г. «Что значит говорить о
Боге?», он стремился развивать собственную теологию в рамках
статичной диалектики «раннего» Барта. И Бультман нашел такую
возможность в представлении о Боге как о том, кто затрагивает человека на
уровне его личной истории и определяет его существование словом ке-
ригмы: «Мы не можем сказать: так как Бог правит миром, то он и мой
Господь; напротив, лишь если я понимаю себя как человека, к
которому Бог обратился в моем собственном существовании, для меня имеет
смысл говорить о Боге как о Господе мира... Разговор о Боге, если бы
он был возможен, всегда должен был бы оказываться одновременно и
разговором о нас. Так что на вопрос «Как можно говорить о Боге?» надо
ответить: только говоря о нас»27. Вот так Бультман, исходя из известных
постулатов диалектической теологии, преодолевает «субъект-объектную
схему»: настоящим предметом христианской теологии у него
становится человеческое существование в мире как нечто, что может быть
определено Богом.
Вероятно, такой (в нестрогом смысле слова) «экзистенциалистский»
теологический ход стал возможен и потому, что в то время Бультман
воспринял элементы экзистенциальной аналитики (т. е. философского
анализа человеческого существования) Мартина Хайдеггера, своего
коллеги по Марбургскому университету в 1923-1928 гг. В эти годы для
Бультмана стала (и навсегда осталась) важной философия Хайдеггера
периода «Бытия и времени» (1927 г.)28.
Вопрос о соотношении теологии Бультмана и философии
Хайдеггера успешно запутан усилиями авторов обширной вторичной
литературы (главным образом докторских диссертаций по теологии)29, но для
развития темы о соотношении истории и теологии в исследованиях НЗ
я могу ограничиться элементарными сведениями, которые полезны при
чтении и обсуждении работ Бультмана, написанных после встречи с
Хайдеггером.
Бультман считал, что некоторые идеи (или даже всего лишь
понятия) Хайдеггера можно использовать для теологического анализа
человеческого существования как определенного Богом и для
интерпретации НЗ с этих позиций. Поэтому мы рассмотрим те термины
Хайдеггера, знание которых требуется для понимания теологии Бультмана30.
В «Бытии и времени» (SuZ, с. 42) Хайдеггер различает бытие
человека (Dasein), которое он обозначает термином «существование»
(Existenz), и бытие вещи, которое он обозначает термином «наличие»
(Vorhandenheit). Хайдеггер выдвинул ряд важных для теологии Бультма-
541
на утверждений о специфике человеческого бытия, часть из которых —
в предельно упрощенном изложении — выглядит так:
— Человек существует в состоянии «вброшенности» (Geworfenheit) в
мир, который он не выбирал (SuZ, с. 135 слл); бытие человека есть
«бытие в мире» (In-der-Welt-sein), среди возможностей, набор которых
тоже не зависит от человека (SuZ, с. 53 слл).
— Человек обладает самопониманием, т.е. некоторым отношением
к себе и к миру.
— Бытие человека характеризуется постоянной необходимостью
принимать решения, «решимостью» (Entschlossenheit). Человек
постоянно «проецирует» себя вперед, т. е. в будущее. Человек есть то, чем он
станет завтра в результате решений, которые он примет сегодня (SuZ,
с. 295 слл).
Поскольку возможность — фундаментальная характеристика
экзистенции, Хайдеггер выделяет две исходные экзистенциальные
возможности: подлинное (букв, «собственное», eigentlich) существование и
неподлинное. Неподлинное («несобственное») существование означает
для Хайдеггера осуществление возможности потерять себя в мире,
погрузиться в него и отождествить себя с ним, жить «как люди». В
неподлинном существовании человек поглощен заботой (Sorge) и
стремлением спрятаться от главной и неизбежной возможности своей жизни — от
перспективы смерти. Человек бежит в мир, чтобы спрятаться от
смерти, он стремится достичь состояния, в котором ему не приходится
думать о смерти.
Но в бытийной структуре человека содержится и возможность
подлинного (или «собственного») существования: если бы подлинное
существование не было структурной возможностью, то нельзя было бы
говорить и о неподлинном существовании. Человек в принципе
способен решить в пользу подлинного существования, т. е. сознательно
принять неизбежность смерти и ничтожность и бессмысленность своей
жизни, - осознать свою ограниченность «фактичностью» (Faktizität) и
свою жизнь — как «бытие-к-смерти» (das Sein zum Tode). Тогда
человеку незачем обманывать себя и не от чего прятаться: он принимает
неизбежное и живет с ним.
Я думаю, что для Бультмана хайдеггеровский анализ важен главным
образом лишь потому, что он допускает возможность перехода от
неподлинного существования к подлинному. Бультман по-своему (точнее
сказать, в смысле главной христианской догмы о спасении через Христа)
определяет «подлинное» и «неподлинное» и вводит представление ö Боге как
о том, кто делает переход к подлинному существованию возможным.
Далее, Бультман перенимает у Хайдеггера идею о решении человека как о
необходимом (но — и так естественно думать христианскому теологу —
недостаточном) условии перехода к подлиному существованию.
Для Бультмана подлинное существование (или «самопонимание
веры») достигается в решении человека, принимаемом в ответ на
обращенное к нему слово керигмы о Распятом и Воскресшем, которое
истолковывается как слово Бога. (Речь идет о постоянно
возобновляющемся контакте, по аналогии с отношениями между людьми, которые
развиваются лишь в общении.)
542
Из сказанного видно, что содержание понятия «подлинное
существование» у Бультмана отлично от хайдеггеровского. Бультман
«подлинным» считает «эсхатологическое существование», т. е. жизнь в вере
(бультмановское понимание эсхатологии мы рассмотрим позже).
Верующий в слово керигмы перестает отождествлять себя с миром, он
живет для будущего, которое воспринимается как дар Бога. Там, где у Хай-
деггера — решимость принять неизбежность смерти, у Бультмана —
призыв к вере и ответная решимость избрать будущее, т. е.
экзистенциалистский вариант христианской сотериологии, учения о спасении
человечества в событии Христа11.
Вот что Бультман пишет об этом в докладе «НЗ и мифология»:
«Экзистенциальный анализ [человеческого] бытия (Dasein) у Мартина Хай-
деггера кажется лишь профанным философским изложением
новозаветного взгляда на человеческое бытие (vom menschlichen Dasein);
человек исторически существует в заботе (Sorge) о самом себе на
основании тревоги (Angst), постоянно испытывая момент решения между
прошлым и будущим: потерять ли себя в мире наличного и безличного (an
die Welt des Vorhandenen, des «man») либо обрести свое подлинное
существование (Eigentlichkeit) в отказе от всяких гарантий и в
безоглядной отдаче будущему! Разве не таково же понимание человека и в
Новом Завете? А когда мои критики возражают против того, что я
интерпретирую Новый Завет с помощью категорий хайдеггеровской
философии экзистенции (Existenzphilosophie), то, боюсь, они закрывают
глаза на реально существующую проблему. По моему мнению, скорее уж
следует испугаться в связи с тем, что философия самостоятельно
разглядела то, о чем говорит Новый Завет»32.
Не получается ли, что философия дает христианское понимание
человека — но без Христа?
Вот формулировку этого вопроса у Бультмана: «Вполне может
показаться, что христианское понимание бытия (Seinsverständnis)
осуществимо и без Христа, что в Новом Завете впервые было найдено и
более или менее ясно выражено (в мифологическом облачении)
понимание бытия, которое в сущности представляет собой то естественное
понимание человеческого бытия, которое проясняется философией. При
этом философия не только снимает с него мифологическую оболочку,
но и последовательнее разрабатывает (и исправляет) принятую им в
Новом Завете форму. В этом случае теология оказалась бы — что
понятно и с точки зрения интеллектульной истории — предшественницей
философии, самой философией оставленной далеко позади, так что
теология теперь превратилась в ненужную и назойливую соперницу
философии»33.
И здесь Бультман находит точку опоры в самой христианской
традиции. Он рассуждает так: НЗ утверждает, что человек не в состоянии
достичь подлинного существования собственными усилиями, помимо
откровения Бога во Христе. Но, конечно, НЗ не может доказать
истинность этого утверждения, так же как философия не в состоянии
доказать, что человек способен сам пробиться к подлинному
существованию, о возможности которого он знает. Используя терминологию Хай-
деггера, Бультман говорит, что подлинное существование, будучи онто-
543
логической возможностью для человека (т.е. структурным элементом его
бытия), не есть его оптическая возможность (т. е. возможность, которая
реально присутствует в его жизни). Таким образом, в решающем
пункте, когда речь идет о переходе к подлинному существованию, Бульт-
ман оставляет схему Хайдеггера и просто утверждает (опираясь на Лю-
терово понимание Павла), что подлинное существование — это
христианская свобода, т. е. свобода от греха, это оправдание, которого нельзя
достичь «делами Закона», под которыми в лютеранском благочестии
понимаются любые человеческие усилия. «Вот в чем состоит решающее
различие между Новым Заветом и философией, между христианской
верой и «естественным» пониманием бытия: Новый Завет говорит и
вера знает о деянии Бога, благодаря которому человек впервые
становится способным к самоотдаче, способным к вере и любви, к
подлинной жизни»34.
Бультман считает, что суть христианской веры или, точнее,
христианской жизни, — это событие, в котором Бог освобождает человека:
человек становится свободным от обусловленности своим прошлым и
открытым для дара будущего, он начинает жить «из будущего», в котором
ему предлагается дар подлинного существования. Речь, конечно, идет
не об историческом будущем, а об эсхатологическом: Бог освобождает
человека от власти «мира сего». Оставаясь в пространстве истории,
христианин в решении веры получает точку опоры вне истории35.
Вот как Бультман характеризует то, что он считает главным и
решающим для христианского самопонимания: «Новый Завет говорит о
событии, в котором Бог даровал людям спасение. Новый Завет
возвещает Иисуса в первую очередь не как учителя, который сообщил людям
нечто принципиально важное, за что мы всегда будем благоговейно
чтить его, но чья личность вообще-то безразлична для человека,
воспринявшего его учение. Напротив, именно эту личность Новый Завет
возвещает как решающее событие спасения»36.
И в заключительном разделе «НЗ и мифологии» он возвращается к
этой мысли: «Как тот, в ком присутствовал и действовал Бог, в ком Бог
примирил мир с собой, есть реальное историческое лицо, так и слово
Бога — это не таинственное слово оракула, а спокойный рассказ о
личности и судьбе Иисуса из Назарета, раскрывающий их значение для
истории спасения»37.
Итак, используя терминологию Хайдеггера, Бультман намечает «ке-
ригматическое» истолкование центрального новозаветного мифа о
спасении во Христе, стремясь раскрыть экзистенциальное содержание этого
мифа, непосредственно затрагивающее современного человека, т.е.
превратить равную себе догму в обращенную к слушателю и
непосредственно понятную ему весть. В этом Бультман видит важное отличие
своего герменевтического проекта от прежней либеральной теологии,
которая стремилась вовсе исключить миф как устаревшую оболочку
религиозно-нравственного учения, вечная истина которого в принципе
может быть выражена и воспринята помимо христианского мифа, т. е.
без помощи теологически интерпретированной истории жизни и
смерти Иисуса.
Заметим, что Бультман не пользуется последовательно разработан-
544
ной теории мифа, само слово «миф» у него многозначно. Миф — это и
донаучная картина мира, и неправильное понимание человеческого
существования, и разговор о потустороннем в терминах посюстороннего,
например выражение идеи трансцендентности через образ
пространственной удаленности: «Бог - на небесах» (см. «НЗ и мифология»,
passim).
г. Иисус из Назарета: экзистенциальная интерпретация
Теперь мы обратимся к тому, как Бультман видел это «реальное
историческое лицо», и рассмотрим его подход к изучению «личности и
судьбы Иисуса из Назарета».
Бультман принимает результаты историко-критического
исследования евангелий конца XVIII - начала XX в., так что здесь его следует
считать продолжателем либеральной теологии. Стало быть, он исходил
из того, что у нас не так много исторически достоверных сведений о
жизни и личности Иисуса. Как мы видели, разработанный Бультманом
и Дибелиусом применительно к синоптикам метод анализа форм еще
более отдалил Иисуса от читателей НЗ.
Бультман пытался по-новому истолковать природу связи между
верой и историей, точнее, между христианской верой и историей
Иисуса из Назарета. Но новым у Бультмана было и само понимание
истории. Ведь при создании своей системы Бультман соединял
современную ему антирационалистическую христианскую мысль (некоторые
положения теологии «раннего» Барта) с элементами межвоенной
«светской» философии, тоже, по моему мнению, «антисовременной» (Хай-
деггер). Примерно тем же путем Бультман пришел к своему пониманию
истории. В его основе — некоторые идеи Мартина Келера,
принадлежавшего к поколению учителей Бультмана, а также основополагающий
для диалектической теологии и создателей философии немецкого
экзистенциализма постулат о различении между «объективирующим»
мышлением и постижением бытия, преодолевающим «субъект-объектную
схему». Этот исходный постулат экзистенциализма присутствует (под
разными названиями) в учении Мартина Бубера о диалоге, в онтологии
раннего Хайдеггера, в концепции «коммуникации» Карла Ясперса. (Я
называю только тех философов, которые в той или иной мере
повлияли на Бультмана и с которыми у него была «обратная связь»: все они
публично высказывались о работе Бультмана.)
Мартин Келер вошел в теологию XX в. как автор впервые
опубликованной в 1892 г. небольшой книги «Так называемый историчный
(historisch) Иисус и исторический (geschichtlich), библейский
Христос»38. Критикуя современную ему либеральную литературу о жизни
Иисуса, он предложил различение между «историчным Иисусом»,
жизнь которого исследуется с помощью научных методов и
психологических построений, и «историческим Христом» евангельского
провозвестия. Келер считал, что природа евангелий, единственных
источников наших сведений об Иисусе, такова, что их надо исследовать
прежде всего как свидетельства веры. Тем самым Келер предлагал «антили-
35 Заказ 257 545
беральный» ответ на вопрос о том, каким образом вера может
ориентироваться на исторические факты или даже основываться на них. Под
историческими фактами Келер имеет в виду результаты научных
исследований. Научное исследование и его результаты Келер называл
Historie. А евангельского Христа, свидетельство о котором, возникнув
в прошлом, способно вызвать веру сегодня, Келер относит к Geschichte,
т. е. к той истории, с которой мы можем «встретиться» в нашем
настоящем и которая в этой встрече воздействует на современность.
Мы уже знаем, что Бультман, достигший своей окончательной,
сорокалетней интеллектуальной зрелости в эпоху прорыва
экзистенциалистского мироощущения в немецкую культуру (и в протестантскую
теологию), во многом отождествил себя с этим новым движением,
оставаясь укорененным в лютеранской традиции и не отказываясь от
научного наследия либеральной теологии. Естественно, что келеровское
различение Historie—Geschichte оказалось очень близким Бультману
именно как экзистенциалистскому теологу, занимающемуся историей.
Ведь веру он определяет как самопонимание, специфическое
отношение человека к себе и к миру. Что же касается истории, то она, по
мнению Бультмана, может повлиять на самопонимание человека лишь как
Geschichte: как слово, пришедшее из прошлого и обратившееся ко мне
в моей сегодняшней ситуации, сообщающее мне нечто важное для моей
борьбы за осмысленное существование, т. е. изменяющее мое
самопонимание.
Утверждение М. Келера о том, что центр веры христиан — не
исторический Иисус, реконструируемый протестантскими новозаветника-
ми, а Христос, которого верующие встречают в евангелиях,
возвращает нас к вопросу о природе и функции евангелий. Как мы уже знаем,
Д.Ф. Штраус думал, что в содержательном отношении евангелия — это
миф, т. е. выражение религиозных идей посредством повествования.
Соответственно евангельского Христа он считал мифологическим
образом, созданным христианскими общинами. И Бультман признал это
более точным определением природы евангелий (вернее,
синоптической традиции, раннехристианского предания), чем обычное
представление, которое видело в евангелиях искаженные позднейшими
наслоениями сведения о жизни и учении Иисуса. По мнению Бультмана, в
НЗ мы имеем дело с изображением мифологического существа: весть о
событии, в котором Бог даровал людям спасение, была выражена на
мифологическом языке еврейской апокалиптики и эллинистических
мистериальных религий. Это значит, что керигма не проявляет
исторического (в смысле historisch) интереса к личности и жизни Иисуса - к
«тому, что произошло на самом деле»; для нее (по мысли Бультмана)
это несущественно, потому что «на самом деле» Иисус умер ради
спасения людей, а Бог воскресил его. Так, в одной из своих последних
статей — «Первохристианская весть о Христе и исторический Иисус» (1960 г.)
Бультман пишет: «Сочетание исторического повествования и керигма-
тической христологии в синоптических евангелиях вовсе не
преследует цель легитимировать керигму посредством исторических фактов, а
как раз наоборот: легитимировать жизнь Иисуса в качестве
мессианской, рассматривая ее в свете керигматической христологии»39. Вот что
546
это значит: первые поколения христиан должны были как-то
осмыслить то обстоятельство, что согласно их вере Бог сделал «Господом и
Христом» (ср. Деян 2:36) Иисуса, жизнь которого почти не была
замечена современниками. Следовательно, керигма для обоснования
требования поверить в того, о ком она возвещала, нуждалась не в земном
Иисусе из Назарета с его (по всей видимости) немессианской жизнью,
а в собственной версии «исторического Иисуса» — в таинственном
Сыне Божьем, явившемся на землю и жившем среди людей, в Христе,
которого Бог уже на земле «засвидетельствовал силами, чудесами и
знамениями» (Деян 2:22).
Вот как Бультман подытоживает результаты исторических
исследований жизни Иисуса: «С известной осторожностью о деятельности
Иисуса можно сказать следующее. Для него характерны экзорцизмы,
нарушения заповеди о субботе, нарушение предписаний о ритуальной
чистоте, полемика с еврейским законничеством, общение с такими
деклассированными личностями, как сборщики податей и проститутки,
симпатия к женщинам и детям. Следует также заметить, что Иисус, в
отличие от Иоанна Крестителя, не был аскетом, а любил поесть и не
отказывался от вина. Пожалуй, можно еще добавить, что он призывал
людей следовать за собой и собрал небольшую группу приверженцев,
мужчин и женщин»40.
По поводу этого пассажа замечу сразу же: он, вероятно, кажется
констатацией «критически гарантированного минимума» или даже про-
явлением#«гиперкритического подхода», но на самом деле сказанное
Бультманом зависит от вполне конкретного типа христианского
благочестия. Обратим внимание хотя бы на то, что Иисус здесь
определяется главным образом в противоположность еврейству, что исторически
едва ли правдоподобно, но объясняется некоторыми специфическими
чертами христианской догматики и апологетики.
Бультман продолжает: «Самая большая помеха при попытке
составить представление о личности Иисуса — это то, что мы не можем
узнать, как Иисус понимал свой конец, свою смерть. Вот что
симптоматично: принято думать, что Иисус сознательно шел на страдания и
относился к своей смерти как к естественному, т. е. необходимому,
завершению своей деятельности. Но откуда нам это известно, если
критическое исследование вынуждено признать предсказания Иисусом своих
страданий vaticinia ex eventu? ...Достоверно известно лишь то, что он
был распят римлянами, то есть принял смерть политического
преступника. Едва ли можно понять эту казнь как внутренне необходимое
следствие его деятельности; скорее она произошла в результате ложного
истолкования его деятельности как политической. Тогда его участь - с
исторической точки зрения — следовало бы признать результатом
нелепой случайности. Находил ли Иисус в этой участи какой-либо смысл,
и если да — то каким образом, мы не можем узнать. Нельзя закрывать
глаза и на возможность того, что он был сломлен»41.
Приняв различение истории как Geschichte и истории как Historie,
Бультман придерживался следующего принципа: историческое
исследование может стать важным для сегодняшней жизни делом лишь в том
±j
случае, если исследователь стремится вступить в диалог с историей, т.е.
35* 547
задает истории вопросы, важные для его соЬственнои жизни, готов
услышать неизвестный ему заранее ответ истории и принять его всерьез:
изменить собственное мнение, и даже изменить свою жизнь. В
терминологии Бультмана, такое исследование изменяет «самопонимание»
историка. А интерес к «личности» в представлении XIX в., т. е. к
психологии исторического деятеля, может лишь помешать серьезному ди-
KJ
алогу с историей, в конце концов сделать невозможной мою личную
встречу с историей. Другими словами, здесь происходит то же самое,
что и в нашем общении с людьми: «психологический»
(объективирующий) подход исключает экзистенциальный, т.е. по-настоящему
личностный. В самом деле, если я стремлюсь «объективно» истолковать
позицию собеседника, то я неизбежно редуцирую обращенное ко мне
смысловое целое к внеличным причинно-следственным связям («вот
что заставляет его так думать!»), классифицирую его позицию («N
думает так, как свойственно думать членам множества X») и тем самым лишаю
ее серьезности, т.е. способности повлиять на мое самопонимание.
Для Бультмана экзистенциальная интерпретация учения Иисуса
(«встреча» с ним) предполагает, в частности, следующее: настоящее
слушание и диалог исключают завершающую оценку личности
собеседника и его позиции, последовательное объяснение этой позиции. Слово
собеседника должно быть воспринято как обращенное ко мне,
осмысляться должны те возможности, которые это слово открывает для меня,
и те требования, которые это слово предъявляет мне (ср. учение о
диалоге у Бубера и Бахтина). Замена слушания объяснением личности
собеседника на основе его слов — это подмена встречи
«объективирующим созерцанием». Бультман постоянно выражает опасение по поводу
возможности такой подмены и именно этим объясняет свой отказ от
всяких биографических соображений в книге «Иисус», опубликованной
в 1926 г. Реконструкция провозвестия (Verkündigung) Иисуса в этой
работе основана на результатах, полученных Бультманом в «Истории си-
*_*
ноптическои традиции».
Для нашей темы о соотношении истории и герменевтики у
Бультмана важно Введение к этой книге, где Бультман подробно говорит о
методе исторического исследования.
«Настоящая работа основана на предпосылке, согласно которой
историю, если мы хотим познать ее существо, нельзя «рассматривать» или
«созерцать» подобно тому, как человек рассматривает окружающий
мир, природу и, рассматривая, ориентируется в ней. Отношение
человека к истории не похоже на его отношение к природе. Человек
отличает себя от природы, если он познает себя в своем подлинном бытии
(das eigentliche Sein). Если он обращается в созерцании к природе, то
обнаруживает там только нечто наличное (ein Vorhandenes), к
которому он сам не принадлежит. Если же он обращается к истории, то он
вынужден сказать себе, что он есть часть истории и поэтому обращается
к совокупности связей («причинно-следственных связей»), в которую
он сам вплетен своим бытием. Стало быть, человек не может
рассматривать эту совокупность связей просто как нечто наличное, как
природу, ибо в каждом высказывании об истории он некоторым образом
высказывается и о самом себе. Потому не может быть объективного рас-
548
смотрения истории в том смысле, в каком существует объективное
рассмотрение природы»42.
Это методологическое рассуждение Бультмана основано на
классическом для немецкой философии различении наук о природе и наук о
духе и соответственно на различении методов естествознания и
истории43. Затем, речь идет об основополагающем топосе всей (в 20-е годы
только зарождавшейся) экзистенциальной философии. Так, у Хайдег-
гера читаем: «Dieses Seiende hat nicht und nie die Seinsart des innerhalb der
Welt nur Vorhandenen» (SuZ, с 43), что можно передать по-русски
следующим образом: «Это сущее (т. е. Dasein, человек. — С.Л.) никогда не
обладает тем способом бытия, который присущ тому сущему, что лишь
наличествует внутри мира».
Далее Бультман отмечает, что способ бытия природы («наличного»)
и метод познания природы имеют аналог и в области истории: «Для
познания того в истории, что может быть познано посредством
объективных методов, а именно для ориентации среди поддающихся
хронологической фиксации событий прошлого, такое (объективное. — С.Л.)
рассмотрение истории полезно и поэтому всегда необходимо. Но если
рассмотрение истории ограничивается этим, то оно проходит мимо
подлинной сущности истории. Ведь тогда история рассматривается
лишь на основе определенных предпосылок, а именно предпосылок
объективного метода. И хотя так исследователь узнает из истории много
нового в количественном отношении, однако он не узнает ничего по-
настоящему нового о человеке и его истории» (с. 8).
Из сказанного следует, что Бультман работает с двойным понятием
истории. При этом история как tua res agitur («речь идет о тебе»), как
личная («экзистенциальная») встреча с прошлым плохо согласуется у
Бультмана с понятием об истории как объективном
(«объективирующем») изучении «того, что было на самом деле». И если посмотреть на
вещи непредвзято, то легко заметить: ценности исторического метода и
■_■ _ V*
диалектической теологии, отрицающей валидность исторического
исследования вообще, и в самом деле несовместимы44.
«Такому (сравнительно-историческому. — С.Л.) рассмотрению
чужды всякие апологетические намерения. Христианство не следует
изображать как венец истории древних религий, как исполнение их
смысла (в духе гегелевского понимания истории), здесь не следует также
выявлять причины «победы» христианства над его конкурентами и тем
самым показывать его превосходство над ними. Историк не должен
заниматься апологетикой и доказывать истинность христианства.
Принятие истинности христианства, как и истинности любой другой религии
или мировоззрения, есть дело личного решения, а историк не может
взять на себя ответственность за чье бы то ни было решение. ...Однако
он может прояснить, что значит «решение». Ведь его задача —
истолковать события прошлого исходя из принципиальных возможностей
понимания человеческого существования. Оживляя для своего
современника события прошлого, историк должен объяснить ему: tua res agitur,
речь идет о тебе»45 — так высказывался Бультман об интересующей меня
теме уже в публикации 1949 г.
Во Введении к книге «Иисус» Бультман отвергает то, что он назы-
549
вает либеральным подходом к Иисусу, со свойственной (по мнению
Бультмана) этому подходу неподвижной системой ценностей,
механически налагаемой на историю, и высмеивает присущий XIX в. культ
великих исторических личностей. Все это делается, по словам Бультмана, для
того, чтобы читатель узнал о личной (как стали говорить позже,
«экзистенциальной») встрече автора с Иисусом — с его словом, с его вестью.
Бультман пишет: «В моей книге нет общих мест, где об Иисусе
говорилось бы как о великом человеке, гении или герое: он не
представлен ни демоническим, ни чарующим; его слова не называются
глубокими, его вера не называется сильной, и все его существо не называется
детским. Ничего не говорится также ни о вечном значении его вести,
ни о том, что он открыл вневременные глубины человеческой души.
Все внимание направлено лишь на то, чего он хотел, и что,
следовательно, будучи требованием его исторического существования, может стать
и нашей современностью. И не то чтобы мне приходилось делать
хорошую мину при плохой игре: да, я признаю, что о жизни и личности
Иисуса мы не можем узнать практически ничего, так как христианские
источники этим не интересовались (кроме того, они очень
фрагментарны и обросли легендарными наслоениями), а других источников
сведений об Иисусе не существует» (с. 10). Далее Бультман отмечает, что
даже о таком важнейшем для биографа вопросе, как мессианское
самосознание Иисуса, высказываются взаимоисключающие мнения, а раз
даже в этом решающем пункте нельзя достичь ясности, то это и значит,
что мы ничего не можем сказать о личности Иисуса. Вот характерное
для отношения Бультмана к проблеме исторического Иисуса резюме:
«Я думаю, что Иисус не считал себя Мессией, но я не воображаю,
будто это помогло мне составить более ясное представление о его
личности. Так что в книге я вообще не принимал во внимание этот вопрос, и
в конечном счете не потому, что по нему нельзя сказать ничего
определенного, а потому, что я считаю его несущественным» (с. 11 ел).
Следовательно, мы можем узнать, «чего хотел» Иисус, т. е.
восстановить его учение. Но и здесь, настаивает Бультман, он не занимался
реконструкцией «системы общих истин, которые сохраняют свой смысл
вне конкретной жизненной ситуации говорящего» (с. 13). Ведь в
противном случае он вернулся бы к отвергнутой им позиции: всякая
система общих утверждений неизбежно оценивается с точки зрения того
мировоззрения, положения которого разделяет историк, и тогда в
результате исследования он может получить только то, что знал уже
заранее. А учение Иисуса должно быть понято во встрече с «конкретной
ситуацией человека, жившего в определенное время: как истолкование
его собственного существования, обретаемого в борьбе, в
неуверенности, в решении» (с. 14). Слова Иисуса встречают нас как «вопросы о
том, как мы сами понимаем свое существование» (там же).
Каким же было то понимание человеческого существования,
которое, по мнению Бультмана, выразилось в провозвестии Иисуса?
В центре проповеди Иисуса находится, как принято считать, тема
царства Божьего46. В предыдущей главе мы уже говорили, что
либеральная теология разработала этическое толкование провозвестия Иисуса о
Царстве. Затем Йоханнес Вайс предложил эсхатологическую интерпре-
550
тацию. Проект либеральной теологии XIX в. не оставлял места для
Иисуса — еврейского апокалиптика, поэтому либеральная систематика
отвергла результаты, достигнутые Школой истории религий в изучении
христианских истоков. Правда, Альберт Швейцер в «Истории
исследования жизни Иисуса» разработал «последовательно эсхатологическое»
истолкование учения и деятельности Иисуса: Иисус у него гибнет как
обманувшийся в своей надежде на Бога апокалиптик47. Но
«последовательная эсхатология» у Швейцера должна была противостоять
«последовательному скепсису» Вреде, т. е. мотивы Швейцера в какой-то мере
апологетические.
После первой мировой войны эсхатологическая интерпретация
проповеди Иисуса о Царстве победила: она приобрела статус важнейшей
истины не только среди исследователей НЗ, но и в догматических
построениях Карла Барта. Уже в «Послании к римлянам» он писал:
«Христианство, которое не является целиком, полностью и без остатка
эсхатологией, — целиком, полностью и без остатка чуждо Христу»48.
Однако к тому времени европейская культура XIX в. уже испытала
собственный последний час (το εσχατον) и рухнула под ударами начавшегося в
1914 г. XX века; либеральное христианство утратило почву под ногами.
В этой связи возникает вопрос о соотношении науки и идеологии в
гуманитарном знании.
В самом деле, открытие новозаветной эсхатологии, о котором
говорилось в предыдущей главе, было результатом автономного развития
науки. Сам Й.Вайс не сумел примирить образ эсхатологического
Иисуса с либеральной систематикой. Что касается Бультмана, то он в книге
«Иисус» начал с того места, где остановился Вайс, и поставил перед
собой чисто герменевтическую (вненаучную) задачу: рассказать о своей
личной «встрече» с эсхатологическим Иисусом. Для нашего
«объективирующего рассмотрения» это значит: Бультман стремился перебросить
мост через герменевтическую пропасть, которую наука создала между
протестантской теологией и историческим Иисусом. И Бультман
нуждался в мировоззрении, отличном от теологического либерализма, по
многим причинам ставшего непригодным для этой цели. Другими
словами, ему была нужна другая идеология в качестве герменевтического
ключа. В качестве такового принимаются известные нам положения
диалектической теологии и экзистенциалистское понятие истории как
tua res agitur.
Обращаясь к диалектической теологии и экзистенциалистской
философии как к теориям более высокого уровня, Бультман в книге
«Иисус» создает свою герменевтику, которую он позже назовет
«демифологизацией, то есть экзистенциальной интерпретацией НЗ». Бультма-
новский Иисус 1926 г. использует мифологическую эсхатологию своей
эпохи для выражения особого понимания экзистенции, суть которого
сводится к следующему: человек поставлен в ситуацию решения перед
Богом — соответственно провозвестие Иисуса ставит человека перед
необходимостью сейчас принять решение «за» или «против» Бога, волю
которого возвещает Иисус (ср. с. 46 ел).
Бультман стремился представить провозвестие исторического
Иисуса (которого наука тогда считала еврейским апокалиптиком) так, что-
551
бы это провозвестие стало понятным для читателя, к которому он
обращался. А «сделать понятным» для Бультмана значит поставить под
вопрос самопонимание адресата. И Бультману удалось достичь своей
цели: читатель этой книги воспринимает весть бультмановского Иисуса
как обращенный к нему вызов (разумеется, если адресат этого текста
разделяет с автором некоторые культурные предпосылки).
В литературе о Карле Барте принято говорить о «пылающих
страницах» его книги «Послание к римлянам». Пожалуй, это верно и для
«Иисуса» Бультмана. Книга, которая подытожила (в герменевтическом
или теологическом плане) научную работу Бультмана над
синоптическими евангелиями, воспринимается как цикл проповедей, передающих
пафос диалектической теологии. Интерпретируя весть Иисуса о скором
приходе царства Божьего, Бультман пишет: «Ради царства Божьего
следует отказаться от всего; человек поставлен перед великим «Либо —
Либо»: захочет ли он решиться в пользу Царства и пожертвовать ради
него всем остальным. ...Этот призыв к решению есть одновременно
призыв к покаянию, ибо люди цепляются за этот мир и не стремятся
полностью решиться в пользу Бога. Они желают царства Божьего, но
желают его наряду с другими вещами, вместе с богатством и почетом:
они не готовы к покаянию» (с. 30 ел).
«Что же значит «царство Божье»? Как понимать его? Ответ прост:
Царство - это спасение для людей, причем эсхатологическое спасение,
кладущее конец всему земному. Это единственное спасение, о котором
имеет смысл говорить, и именно поэтому оно требует от человека
решения. Оно не то, чем можно обладать наряду с другими вещами, не та
цель, к которой можно стремиться наряду с другими целями. Это
спасение встает перед человеком как «Либо — Либо»» (с. 33).
Возвращаясь к нашему вопросу о соотношении позитивной науки и
идеологии в гуманитарном знании, мы обнаруживаем, что только в 20-е
годы XX в. — в экзистенциалистской теологии — были осмыслены те
исторические выводы, к которым исследование пришло на рубеже
веков. Получается, что в гуманитарном знании новые научные
результаты могут приобрести общезначимость лишь тогда, когда они
оказываются включенными в некое целостное мировоззрение (идеологию) и
обретают смысл внутри него, т. е. «перекодируются» в качестве его
элементов, переводятся на язык этого мировоззрения. В качестве просто
фактов или обоснованных гипотез итоги гуманитарного (в нашем
случае — исторического) исследования вообще не способны вызвать
публичного интереса до тех пор, пока не возникает потребность
перевести их на язык идеологии. Но приходит время, и идеология начинает
использовать науку как поставщика доказательств своей правоты.
Для пояснения этого тезиса я предлагаю посмотреть, как
мировоззренчески нейтральные или даже «отрицательные» выводы ученых,
связанных со Школой истории религий, становятся органической частью
проповеди Бультмана: «Теперь ясно, что царство Божье (в провозвестии
Иисуса. — С.Л.) не есть высшее благо в этическом смысле. Это не то
благо, к которому могут стремиться воля и действие человека. Царство
Божье — вообще не то, что в каком бы то ни было смысле может быть
достигнуто посредством человеческих усилий; не то, что в каком бы то
552
ни было смысле нуждается в людях, чтобы обрести реальность. Царство
Божье эсхатологично и, следовательно, полностью внемирно. ...Итак,
царство Божье есть нечто чудесное, целиком и полностью чудесное, оно
не имеет ничего общего ни с чем здешним и теперешним, оно «совсем
иное» (по слову Р. Отто), небесное» (с. 35). Как мы видим, то, что у И.
Вайса было обескураживающим выводом, у Бультмана гремит как
обличение маловеров, как утверждение важной для религиозной совести
истины.
Так эсхатологический Иисус Й. Вайса и А. Швейцера нашел себе
настоящее «место в жизни» только в 20—50-е годы XX в. — в
христианской историографии, сформировавшейся под влиянием
диалектической теологии и экзистенциализма. Здесь Иисус был осмыслен как тот,
кто зовет людей к последнему решению, «в последний час», как
говорит Бультман. Ведь для «подлинного существования» в трактовке
Бультмана последним, эсхатологическим часом должен стать каждый час.
Уже после второй мировой войны, когда «школа Бультмана» стала
задавать тон в новозаветных исследованиях на Европейском
континенте, было написано немало исследований об историческом Иисусе, в
которых с христианских позиций осмыслялся эсхатологический
характер его вести: авторы этих работ показывают, как Иисус не только
словом, но всей своей жизнью вынуждал людей занять позицию «за» или
«против» своей вести о Боге. При этом подчеркивалось вызывающее,
скандальное поведение Иисуса: в послебультмановской литературе
особое внимание уделяется связи между «провоцирующей» вестью
Иисуса и его «неблагочестивым», оскорбляющим добрые нравы, даже
шокирующим образом жизни49.
Естественно, тут возникает еще один вопрос: не есть ли
эсхатологический Иисус проекция определенных мировоззренческих установок
первой половины и середины XX в., так же как этический и
религиозный Иисус был проекцией философского идеализма XIX в.?
Интересно заметить в этой связи, что сейчас «эсхатологический»
Иисус как исходная модель интерпретации, пусть существующая во
множестве вариантов, постепенно утрачивает доверие в академическом
сообществе. «Эсхатология» — это уже не последнее слово в
исследовании Иисуса из Назарета. Во второй половине XX в. появилась и дала
первые оригинальные результаты американская новозаветная школа.
Все заметные американские исследователи учились в Германии и
оказались в состоянии продолжить как раз там, где немецкая наука стала,
по-видимому, утрачивать витальный напор, замыкаясь в повторении
уже известных тем. В 80—90-е годы в американских исследованиях все
яснее звучит подчеркнуто неэсхатологическая тема «Иисус из
Назарета как странствующий кинический учитель мудрости»50. На наших гла-
зах возникает новая авторитетная модель интерпретации Иисуса из
Назарета, претендующая на охват всего доступного исследованию
материала.
История исследования подталкивает нас к банальному выводу:
каждая эпоха находит в Иисусе нечто важное для себя, либо, со сменой
оценочного элемента высказывания: каждая идеология находит в
Иисусе лишь самое себя.
553
По существу дела пока что можно сказать следующее: наш век тоже
создал идеологизированные образы Иисуса, и эсхатологический (в
«экзистенциальном смысле») Иисус Бультмана — один из таких образов.
д. Иисус из Назарета и керигма о Христе
Почти четверть века спустя после публикации «Иисуса» Бультман
издал последнюю большую книгу, подытожившую труд его жизни, —
«Теологию Нового Завета» (1948 г.). В первой части книги -
«Предпосылки и мотивы новозаветной теологии» — Бультман поместил краткий
очерк «провозвестия Иисуса».
Книгу «Иисус» я охарактеризовал как проповедь в духе
диалектической теологии, да и сам автор говорит, что эта книга возникла в
результате историко-критического исследования, за которым последовала
экзистенциальная встреча с историей как Geschichte. А здесь, в «Теологии
НЗ», даже жанр обязывает автора к «объективирующему рассмотрению»
темы, к чисто историческому (в смысле historisch) описанию Иисуса из
Назарета. Поэтому интересно сравнить изображения Иисуса в этих двух
книгах.
Глава об Иисусе в «Теологии НЗ» открывается формулировкой
принципиальной позиции автора по вопросу о соотношении между
Иисусом из Назарета и керигмой о Христе: «Провозвестие Иисуса
принадлежит к предпосылкам теологии НЗ и не составляет ее части. Ведь
теология НЗ есть раскрытие идей, в которых христианская вера
обретает свой предмет, свое основание и свои следствия. Однако христианс-
кия вера существует лишь с тех пор, с каких существует христианская
керигма, т.е. керигма, возвещающая Иисуса Христа как
эсхатологическое спасительное деяние Бога, при этом Иисуса Христа как Распятого
и Воскресшего. А это впервые происходит лишь в керигме первообши-
ны (Urgemeinde), а не в провозвестии исторического Иисуса, хотя
община часто вносила в сообщения о провозвестии Иисуса мотивы
своей собственной керигмы. Итак, лишь с керигмы первоообщины
начинается теологическое мышление, начинается теология НЗ. Конечно, к
историческим предпосылкам керигмы принадлежат деятельность и
провозвестие Иисуса; и в таком качестве провозвестие Иисуса должно
быть включено в рассмотрение новозаветной теологии»51.
Бультман здесь, как и повсюду, предпочитает говорить не об учении,
а о провозвестии Иисуса. В «Теологии НЗ» Бультман снова
доказывает, что specificum провозвестия Иисуса составлял его эсхатологический
характер, а центральным понятием этого провозвестия было царство
(или правление, «владычество» - Herrschaft) Бога.
В «Теологии Нового Завета», как и в других работах52, Бультман
резко противопоставляет Иисуса еврейству, при этом образ «позднего
иудаизма» у Бультмана основывается на вторичной литературе, в
частности на упоминавшейся в предыдущей главе работе В. Буссета
«Религия еврейства в новозаветную эпоху».
Вслед за Буссетом и многими другими авторами Бультман пишет,
что для еврейского благочестия той эпохи Бог был небесным, потусто-
554
i
ι
ронним Царем, Он был далеким Богом (с. 23 ел). Отношения между
человеком и Богом опосредованы и урегулированы Законом и культом.
Иисус релятивирует значение этих опосредовании, и его Бог снова
становится близким Богом, непосредственно обращающимся к человеку и
требующим исполнения своей воли. И такое противопоставление
Иисуса иудаизму формулируется в «Теологии НЗ» по нескольким
позициям.
Легко заметить, что Бультмана просто устраивает такая схема.
Ведь из его размышлений о том, что закон исключает подлинную
покорность воле Бога (с. 10 ел), следует, что еврейство — тип (образ)
неподлинного существования и неправильной религии,
неправильного отношения человека к Богу (короче, еврей — собирательный
«отрицательный персонаж» в драме человеческой истории, точно как в юдо-
фобской литературе), а весть (учение, проповедь) Иисуса (который
остается у Бультмана «евреем, а не христианином») — ярчайшее
выражение «правильного» понимания экзистенции, которое мы затем
встречаем также у Павла и Иоанна. Таким образом, в «Теологии НЗ» Бультман
применяет и заполняет модифицированную хайдеггеровскую
оппозицию «подлинное vs неподлинное существование»: один ее член — евреи,
другой — Иисус и затем некоторые авторы НЗ.
Может ли такая конструкция претендовать на историчность? Сам
этот вопрос звучит как риторический.
Все изложение в «Теологии НЗ» основано на неверных постулатах.
Неверно, что мы не можем ничего узнать о жизни и личности Иисуса.
Неверно, что Иисус не относится к предметам теологии НЗ. Неверно,
что раннее христианство не интересуется земным Иисусом. Это не
исторические, а догматические (в нерелигиозном смысле) утверждения.
Бультман кончился как историк и начался как теолог.
Конструкция «Теологии НЗ» Бультмана соответствует его
пониманию христианской теологии как интерпретации керигмы. Такая
ориентация христианской мысли на керигму, а не на исторического Иисуса
и называется керигматической теологией. Именно здесь мы видим
новизну и оригинальность системы Бультмана по сравнению с
критической (либеральной) теологией XIX в.: если задача теологии —
истолкование керигмы и ответа на ее слово («самопонимания веры», «нового
понимания экзистенции»), то это значит, что теология как вид
интеллектуальной деятельности становится недоступной для исторической
критики.
И тогда возникает вопрос о том, как Бультман толковал
соотношение между земным Иисусом и керигмой о Христе.
В самом деле, Бультман настойчиво отрицает, что Иисусу истории
может принадлежать конститутивная и центральная роль в
христианской теологии. Чтобы объяснить такое отрицание, Бультман обычно
предлагает некоторые «внутрисистемные» основания: Иисус не был
христианином и потому не мог возвещать о «событии Христа» как акте
спасения. Однако Бультман никогда не скрывал, что его герменевтика
(в частности, «программа демифологизации») направлена на то, чтобы
сохранить достоверность христианства для современного человека и
одновременно не поступиться основополагающими чертами христиан-
555
ской идентичности. Как известно, либеральная теология XIX в.
заменила Христа догматики в качестве своей систематической основы и
предмета на Иисуса историков (т. е. на величину, производную от
методики исследования, от имеющихся фактических данных, с которыми
работает историк, от его мировоззрения и многого другого), и в результате
как теология она потерпела крушение. Можно сказать, что она сама
себя разрушила. Интересно, что в XX в. те исследователи НЗ, которые
в споре с Бультманом и учеными из созданной им школы продолжали
вслед за либеральной теологией предыдущего века настаивать на
центральности исторического Иисуса для христианской веры, оказались
значительно консервативнее Бультмана и в оценке евангелий как
источников сведений о земном Иисусе, и в систематическом плане
(самый яркий пример — творчество Иоахима Иеремиаса).
Бультман прокомментировал эту тенденцию уже в 1960 г.: «С тем,
что исследования жизни Иисуса, проведенные в свое время,
провалились, согласны все компетентные в этой области теологи; здесь,
однако, предпринимаются отчаянные попытки спасти из-под развалин хоть
что-нибудь. Забавно при этом наблюдать, как поменялись роли...
Сегодня именно правое теологическое крыло возобновляет на свой лад
провалившееся предприятие либеральной теологии, чтобы
исторически обосновать образ Христа, существующий в догматике»53.
Будучи профессиональным историком, Бультман понимал;
исследования жизни Иисуса из Назарета непригодны для того, чтобы
обосновать или хотя бы проиллюстрировать образ Христа догматики. История
и догматика не могут иметь общий предмет, историку нечего сказать о
втором лице Троицы: историк занимается делами людей. Неизбежная
связь христианской веры с историей как Historie — это связь с чем-то
зыбким, изменчивым и ненадежным. Вспомним, как часто меняются
научные представления об отдаленных и даже не очень отдаленных
событиях и эпохах мировой истории. Поэтому Бультман бросает Иисуса
из Назарета на произвол историков и заявляет, что христианская вера
— это вера в «событие Иисуса Христа», в решающее эсхатологическое
деяние Бога, о котором возвещает керигма. Что же касается земного
Иисуса, то керигма для развертывания своего содержания «нуждается»
лишь в самом факте его жизни и насильственной смерти (das Dass — в
терминологии немецкой философии и Бультмана). Этот минимум, как
надеется Бультман, историческое исследование всегда сможет
гарантировать.
Рассмотрим «керигматическую» герменевтику Бультмана на
примере его толкования Воскресения. Бультман считает, что за
объективирующим языком мифа: возвращение трупа к жизни как доказательство
того, что убитый — предсуществующий безгрешный Сын Божий, а его
смерть - заместительная жертва, искупающая грех мира, — за этим
представлением о воскресении Иисуса как о чуде-доказательстве
(beglaubigendes Mirakel) в самом НЗ стоит эсхатологическое
содержание, которое в соответствии с намерением новозаветных авторов (в
частности, Павла) может быть понято в экзистенциальном смысле.
Бультман исходит из того, что НЗ уже самое крестную смерть Иисуса
понимает как событие суда и спасения. Тогда Воскресение — это истолкова-
556
ние значения Креста как спасительного события. Вот несколько
высказываний Бультмана на эту тему из работы «НЗ и мифология»:
«Рядом с историческим событием распятия в НЗ находится
Воскресение, которое не относится к числу исторических событий...
Может ли речь о воскресении Христа быть чем-либо другим,
нежели просто способом выразить значение Креста? Не значит ли идея
Воскресения, что крестную смерть Иисуса надо рассматривать не
просто как гибель человека, а как освобождающий суд Бога над
миром - суд Бога, лишающий смерть ее силы? Не выражается ли
именно эта истина в утверждении НЗ о том, что Распятый не был удержан
смертью, но восстал из мертвых? ...Крест и Воскресение составляют
единство, вместе образуя одно «космическое» событие, которое
несет миру суд и создает возможность подлинной жизни (echtes
Leben)... Итак, вера в Воскресение есть вера в Крест как в спаситель-
г
ное событие... Мы встречаем Христа, Распятого и Воскресшего, в
слове провозвестия — и больше нигде... Понимающая вера в это
слово и есть подлинная пасхальная вера... Пасхальное событие, в той
мере, в какой его можно назвать историческим событием рядом с
событием Креста, есть не что иное, как возникновение веры в
Воскресшего, — веры, которая стала истоком провозвестия»54.
Почти двадцать лет спустя, в споре с бывшими учениками, Бультман
еще резче формулирует ту же позицию:
«Многократно говорилось, главным образом в виде критики в мой
адрес, что в соответствии с моей интерпретацией керигмы Иисус
воскрес в керигму. Я принимаю этот тезис. Он абсолютно верен — при
условии его правильного понимания. Он предполагает, что сама керигма
есть эсхатологическое событие, и он означает, что Иисус
действительно присутствует в керигме, что слово, с которым слушатель
встречается в керигме, — действительно его Слово. Если это так, то все
рассуждения о способе бытия Воскресшего, все рассказы о пустой гробнице и
все пасхальные легенды, какие бы элементы исторических фактов они
ни содержали и как бы истинны они ни были в своем символическом
содержании, — все это становится безразличным. Верить в Христа,
присутствующего в керигме, — вот смысл пасхальной веры»55.
Как мы видим, Бультман делает попытку «рационалистической»
интерпретации мифологических представлений о воскресении Иисуса,
выраженных в НЗ, сводя событийный и содержательный аспекты
воскресения к возникновению экзистенциалистски истолкованной кериг-
м ы.
Другими словами, Бультман стремится любой ценой спасти
догматическое представление о Воскресении, которое необходимо для его
теологической схемы перехода от неподлинного существования к
подлинному. Для этого Бультман подвергает идею Воскресения
своеобразной рационалистической обработке, сводя «пасхальное событие» к
возникновению керигмы, т.е. к исторически бесспорному факту. Тем
самым доктринальное содержание (Воскресение как эсхатологическое
событие) становится недосягаемым для исторической критики. Мы
видим, что Бультман четко разграничивает сферы компетенции историка
и теолога.
557
е. Заключение
Итак, мы уже знаем ответ Бультмана на вопрос о связи христианской
веры с историей. Судя по Бультману, вера была реально связана с
историей жизни Иисуса из Назарета лишь для первых проповедников,
лично знавших Иисуса: «Крест был для них событием их собственной
жизни». Для последующих поколений эта живая связь утрачена
навсегда. Теперь для нас вера практически не связана с историей Иисуса.
Бультман сочувственно цитирует своего ученика Ханса Концельмана:
«Если предмет веры сам по себе не нагляден для мира, то соотнесение
веры с историческим Иисусом может быть лишь точечно-временным;
и единственной исторической точкой отсчета остается по сути лишь тот
голый факт, что Иисус некогда существовал»56.
А верить в христианском смысле для Бультмана означает верить в то,
что Иисус присутствует в «слове провозвестия», в керигме (т. е. в
проповеди Церкви), что слово керигмы — его слово. Что же касается веры,
то Бультман говорит: «В вере человек всегда, раз за разом, понимает
себя заново. Это новое самопонимание может сохраняться лишь как
возобновляющийся и всякий раз новый ответ на слово Бога,
возвещающее Его деяние в Иисусе Христе. То же самое происходит и в
обычной жизни. Новое самопонимание, возникающее из встречи человека
с человеком, может сохраняться, лишь если отношения между этими
двумя людьми продолжаются»57.
Следовательно, вера, возникающая в результате встречи со словом
керигмы, не есть просто согласие с некоторыми утверждениями
догматики. «В вере мир и моя жизнь в нем становятся новыми, и всегда
необходимо овладевать этой верой заново, ибо вера не может быть
просто чем-то, что у меня «есть» — как научное знание или как
интеллектуальное согласие с положениями догматики», — писал Бультман в
статье 1972 г. «Протестантская теология и атеизм»58.
Что же касается сведения преемственности между Иисусом из
Назарета и керигмой о Христе к точечному «das Dass», т. е. «голому
факту» жизни Иисуса, то быстро обнаружилось, что даже ближайшие
ученики Бультмана оказались неготовы к такой радикальной редукции.
Многие теологи, критиковавшие Бультмана, были согласны в
одном: христианская вера связана с историей Иисуса гораздо глубже, чем
готов был допустить Бультман.
Почему же Бультман отказался хоть в чем-то уступить критике,
исходившей не от консервативных теологов, а от его учеников?
Вероятно, дело в том, что идея о теологической неуместности
вопроса об историческом Иисусе сложилась у Бультмана еще в конце 20-х
годов. Например, эта идея подробно разрабатывается в его статье 1929
г. «Значение исторического Иисуса для теологии Павла», где мы можем
прочесть уже знакомые нам слова: «Человек встречает Иисуса Христа в
керигме — и больше нигде; точно так же встретил его Павел и
оказался перед неизбежностью решения»59. Я не могу обойтись здесь без
попытки психологического объяснения, касающегося одной из тем этой
работы, а именно сооношения позитивного гуманитарного знания и
идеологии. Бультман был студентом, когда под ударами исторической
558
критики пошатнулась либеральная «теология жизни Иисуса».
Разработанный сразу после первой мировой войны метод анализа форм, одним
из создателей которого был Бультман, означал, по его собственным
словам, «пожар» в доме либеральной теологии, так как этот метод
«сжег» предпосылки, на которых основывалась реконструкция жизни
Иисуса в XIX в. Сознательный «критический радикализм» Бультмана
позволил ему написать в статье 1927 г. «К вопросу о христологии»: «Я
спокойно отношусь к этому пожару, ибо я вижу: то, что там горит, -
всего лишь фантастические образы, созданные теологией жизни
Иисуса, и сам «Христос по плоти»»60.
Если бы Бультман был только историком, то не было бы и повода
для речи о «критическом радикализме», речь бы шла просто о методах
критического анализа источников, которые со временем
совершенствуются и без которых нет исторической науки в современном смысле.
Но Бультман был выдающимся историком и одновременно одним
из крупнейших теологов XX в. Этим он и интересен. «Критический
радикализм» — это теологическая самооценка его исторической работы.
После крушения «либерального» исторического Иисуса Бультман смог
остаться теологом и историком одновременно как раз за счет
«критического радикализма», т. е. спасая керигму и жертвуя историческим
Иисусом. Бультман так и писал в 1943 г., отвечая одному из первых
критиков своей программы демифологизации: «Я избегаю всякой
встречи с историческими явлениями, в том числе и встречи с Христом
по плоти, и обращаюсь к единственной встрече с возвещаемым
Христом, а Он встречает меня в керигме, которая застает меня в моей
исторической ситуации. Я думаю, что это единственный способ сохранить
парадокс или скандалон христианской эсхатологии, которая заявляет о
вхождении эсхатона в историю»61.
А для следующего за Бультманом поколения христианских
исследователей НЗ крушение надежд либералов на то, что им удастся
«привести исторического Иисуса, как он есть на самом деле, в нашу эпоху в
качестве учителя и спасителя» (Альберт Швейцер), было уже не личным
разочарованием, а просто историческим фактом, одним из эпизодов в
истории теологии. Поэтому они снова были готовы утверждать
содержательную связь между Иисусом и христианской верой там, где Буль-
тману приходилось держаться за отрицание и резко разграничивать
критическую задачу историка и герменевтическую задачу теолога.
Подведем итоги. Рудольф Бультман был, вероятно, последним
великим исследователем НЗ, работавшим в рамках теологии, т. е. последним
«несекулярным» писателем, внесшим значительный вклад в изучение
раннехристианской литературы.
Бультман стремился решить герменевтическую проблему. Согласно
словоупотреблению современной философии, герменевтическая
проблема возникает в герменевтической ситуации, которая определяется
как ситуация непонимания и кризиса доверия. Это значит, что по
каким-то причинам люди не могут больше воспринимать некоторое
содержание как авторитетное и принципиально важное для своей жизни.
Как мы видели, Бультман именно в такой ситуации стремился сделать
новозаветные свидетельства веры значимыми для своих современников
559
Но главный вопрос, возникающий при чтении Бультмана, я бы
сформулировал так: какова сверхзадача, каков последний
побудительный стимул при решении герменевтической проблемы? Такой
сверхзадачей может быть либо поиск нового понимания, т. е. стремление
заново понять содержание традиции, либо «оправдание веры отцов»,
стремление привести решение задачи к уже известному ответу, т.е.
апологетика в дурном (на мой взгляд) смысле этого слова.
Отсюда вытекает последний вопрос: не бывает ли, что эти два
стимула в пределе совпадают, т. е. не обречена ли христианская теология
на «дурную» апологетику?
Примечания
1 Bultmann R. Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe.
Göttingen, 1910 (FRLANT. H. 13.).
2 Bultmann R. Die Exegese des Theodor von Mopsuestia [1912], postum hg. von H.
Feld und K.H. Schelkle. Stuttgart u. a., 1984.
3 См.: Evang M. Rudolf Bultmann in seiner Frühzeit. Tübingen, 1988, c. 71.
В.Шмитхальс отмечает значение Д.Φ. Штрауса для работы Бультмана над
синоптической традицией: «Исследователи устной традиции (formgeschichtliche
Schule) вернулись — после периода Leben-Jesu-Forschung — к Давиду
Фридриху Штраусу и стали развивать его идеи в новых условиях». (См.: Schmithals W,
Kritik der Formkritik. - Zeitschrift für Theologie und Kirche. 77. Jg. Tübingen, 1980,
с 149-185 [176 ел].)
4 Цит. по: Evang Μ. Rudolf Bultmann in seiner Frühzeit, c. 102.
5 См.: Evang M. Rudolf Bultmann in seiner Frühzeit, с 30.
6 Bultmann R. Jesus Christus und die Mythologie. - Bultmann R. Glauben und
Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Bd. IV. 4. Aufl. Tübingen, 1984, с 169. Русский
перевод О.В.Боровой см. в журнале «Октябрь» (1995, № 12).
7 Это была конференция либеральной протестантской организации «Freunde der
Christlichen Welt». Die Christliche Welt, важнейшее периодическое издание
«культурпротестантов», — еженедельный журнал, издававшийся с 1886 по 1931 г.
* Bultmann R. Ethische und mystische Religion im Urchristentum. - Anfänge der
dialektischen Theologie. Teil II. Hg. von J. Moltmann. München, 1963, c. 29-47 (33).
9 Материалы к интеллектуальной биографии молодого Бультмана см.: Evang Μ.
Rudolf Bultmann in seiner Frühzeit, c. 251—332.
10 Биографии Барта и очерки его теологии стали появляться уже при его
жизни, а сейчас они исчисляются десятками. Из литературы последнего
десятилетия см., например: Frey? Chr. Die Theologie Karl Barths. Eine Einführung. Frankfurt
am Main, 1988.
11 Barth K. Abschied von «Zwischen den Zeiten». — Anfänge der dialektischen
Theologie. Teil II, с 313.
12 Barth K. Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. Zürich, 1957, с 6.
13 Gogarten F. Zwischen den Zeiten. - Anfänge der dialektischen Theologie. Teil II,
с 95, 100.
14 Barth K. Der Römerbrief. 13. unveränd. Abdr. d. neuen Bearb. von 1922. Zürich,
1984, c. XIII. Далее ссылки на страницы этого издания даются прямо в тексте.
15 Barth К. Klärung und Wirkung: Zur Vorgeschichte der «Kirchlichen Dogmatik»
und zum Kirchenkampf. В., 1966, с. 345.
16 Barth К. Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge. München,
1929, c. 171 ел.
17 Bonhoeffer D. Widerstand und Ergebung. München, Hamburg, 1965, c.137, 161.
560
Русский перевод писем Д. Бонхёффера из тюрьмы см.: Вопросы философии.
1989, № 10—11. Есть также издание отдельной книгой: Бонхёффер Д.
Сопротивление и покорность. М., 1994. Здесь я даю цитату в своем переводе.
18 Barth К. Klärung und Wirkung, с. 20 ел.
19 Barth К. Philosophie und Theologie. — Philosophie und christliche Existenz.
Festschrift für H.Barth. Basel, 1960, c. 101. Перевод этих строк принадлежит В.К.
Зелинскому.
20 См. об этом статью Лотара Штайгера: Steiger L. Die Theologie vor der
«Judenfrage»: Karl Barth als Beispiel. — Auschwitz. Krise der christlichen Theologie. Eine
Vortragsreihe. Hrsg. von R. Rendtorff u. E. Stegemann. München, 1980, c. 82—98.
21 Bultmann R. Etische und mystische Religion, c. 41.
22 Bultmann R. Karl Barths «Römerbrief» in zweiter Auflage [1922]. - Anfänge der
dialektischen Theologie. Teil I. Hg. von J. Moltmann. München, 1962, с 119-142.
23yBultmann R. Die liberale Theologie und die jüngste theologische Bewegung [1924].
- Bultmann R. Glauben und Verstehen. 8. Aufl. Bd. I. Tübingen, 1980, с 1-25.
24 Там же, с. 18.
25 Bultmann R. Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden? [1925]. - Bultmann R.
Glauben und Verstehen. Bd. I. с 26—37, passim.
26 Bultmann R. Der Gottesgedanke und der moderne Mensch. — Bultmann R. Glauben
und Verstehen. Bd. IV, с 113-127 (126).
27 Bultmann R. Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden? — Bultmann R. Glauben und
Verstehen. Bd. I, c. 26-37 (33).
27 Известный гейдельбергский новозаветник Клаус Бергер пишет об этом
следующее: «Бультман увлекся философией Хайдеггера потому, что считал
преодоление субъект-объектной схемы теологической необходимостью. Ведь
мышление в рамках субъект-объектной схемы — устанавливающее и представляющее
(feststellend und vorstellend); и то и другое запрещается также и в
диалектической теологии. Бультман отвечает на этот вопрос так: о Боге можно говорить,
лишь говоря одновременно и о человеке. Так предотвращается объективация
Бога. Ибо о Боге нельзя сказать ничего адекватного, если не говорить о вере,
прощении грехов и милости. Таким образом, при обращении к Хайдеггеру
Бультмана интересовал прежде всего вопрос о языке теологии» (Berger К.
Exegese und Philosophie. Stuttgart, 1986, с. 134 ел.)
2S Из литературы см.: Macquarrie J. An existentialist theology. A comparison of
Heidegger and Bultmann. Ν. Υ., 1965. (Популяризирующая книга
консервативного англиканского историка теологии, переводчика Хайдеггера на английский;
быть может, лучшее, что было написано на эту тему.) Список литературы см. в:
Berger К. Exegese und Philosophie, с. 128 ел. Из более поздней литературы: Lill Λ/.
Zeitlichkeit und Offenbarung: ein Vergleich von Martin Heideggers «Sein und Zeit»
mit Rudolf Bultmanns «Das Evangelium des Johannes». Frankfurt am Main, etc.,
1987; Trocholepczy B- Rechtfertigung und Seinsfrage. Anknüpfung und Widerspruch
in der Heidegger-Rezeption Bultmanns. Freiburg, etc., 1991.
29 Я согласен с К, Бергером: «...при обращении к Хайдеггеру Бультмана
интересовал прежде всего вопрос о языке теологии» (см. примеч. 27). Более того, я
считаю, что вопрос о соотношении творчества Хайдеггера и Бультмана можно
(немного упрощая дело в интересах изложения) свести к проблеме терминологии.
За последнее время вышло несколько работ Хайдеггера в русских переводах
и начала появляться литература о его творчестве. Авторы, печатавшие в
академических малотиражных изданиях «для служебного пользования» переводы и
изложения Хайдеггера в 1970—80-е годы (прежде всего, это В.В. Бибихин),
переиздали все, что считали нужным, поэтому я не ссылаюсь на старые
публикации и на издания статей и отрывков в философских антологиях. Главная для
нас книга Хайдеггера (и, вероятно, его важнейший вклад в философию)
«Бытие и время» не опубликована по-русски (за исключением § 31 — 38 в переводе
36 Заказ 257 561
A.B. Михайлова). При работе над этим разделом книги я обращался к
следующим русским изданиям: Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге.
Избранные статьи позднего периода творчества. М., 1991; он же. Время и Бытие.
Статьи и выступления. М., 1993 (перевод В.В. Бибихина); он же. Работы и
размышления разных лет. М., 1993 (перевод A.B. Михайлова); Философия Мартина
Хайдеггера и современность. М., 1991. Я пользовался следующим изданием
«Бытия и времени»: Heidegger Л/. Sein und Zeit. 17. Aufl. Tübingen, 1993. Далее
ссылки на страницы этого издания (сокр, SuZ) даются прямо в тексте.
30 Позволю себе замечание о терминологии Бультмана. В программной работе
«НЗ и мифология» он говорит о «демифологизации события Христа»
(Christusgeschehen), так называется один из разделов этой работы. При этом он
отвлекается от того, что само выражение Christusgeschehen не имеет никакого
содержания, кроме мифологического. А ведь «демифологизировать» в смысле
Бультмана можно лишь то, что «облечено» в мифологическую скорлупу, но при
этом имеет собственное (немифологическое) значение. Поэтому Бультман
часто использует полюбившуюся уже немецким теологам XIX в. метафору Kern —
Schale (ядро — оболочка).
Еще один пример такого рода. Бультман не раз предлагал понимать
воскресение Иисуса радикально немифологически — как возникновение керигмы о
Христе (см. об этом ниже). Но возникла не «керигма» — возникли общины
верующих в Иисуса и его воскресение. Некоторые из этих общин занимались
миссионерством. Обращенная вовне (миссионерская) проповедь (=керигма)
была одним из проявлений жизни этих общин, не обязательно самым важным.
Миссия была делом жизни лишь для профессионалов вроде Павла или
Варнавы. Выходит, Бультман мифологизирует само понятие «керигмы».
31 Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologi-
sierung der neutestamentlichen Verkündigung. 2. Aufl. Hg. von EJüngel. München,
1985, с 41 ел. (Русский перевод Г.В.Вдовиной см.: Вопросы философии. 1992,
№ 12, с. 86-114.)
32 Там же, с. 40.
33 Там же, с. 52.
34 Ср. Buhmann R. History and eschatology. Edinburgh, 1958, с. 154.
35 Bultmann R. Neues Testament und Mythologie, с. 26.
зьТам же, с. 64.
37 Köhler Μ. Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische
Christus. Neu herausgegeben von E.Wolf. 3. Aufl. München, 1963.
38 Bultmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus. 4, Aufl. Heidelberg, 1978, с 13. (В моем распоряжении имеется рукопись
русского перевода этой статьи, выполненного А.Б. Григорьевым. Я отчасти
использую этот перевод при цитировании.)
39 Там же, с. 11.
40 Там же, с. 11 ел.
41 Bultmann R. Jesus. Tübingen, 1964, с. 7. Далее ссылки на страницы этого
издания следуют прямо в тексте. Есть русский перевод этой книги (выполненный
А.Б. Григорьевым) в журнале «Путь» (М., 1992, № 2, с. 3-131; см. также
биографическую справку о Бультмане на с. 132—136).
42 См., например: Риккерт Г. Философия истории. Перевод с немецкого С. Гес-
сена. СПб., 1908, с. 14-29.
43 Двойное понятие истории у Бультмана рассмотрено в книге известного
евангелического систематика Генриха Отта: Ott Η. Geschichte und Heilsgeschichte in
der Theologie Rudolf Bultmanns. Tübingen, 1955. Автор занимается имманентным
(внутритеологическим) анализом идей Бультмана, показывая плодотворность
двойного понятия истории для работы теолога.
44 Bultmann R. Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. München,
1992, с. 7сл.
562
45 Об истории исследования см.: The Kingdom of God in the teaching of Jesus. Ed.
by B. Chilton. Philadelphia, London, 1984; The Kingdom of God in 20th-century
interpretation. Ed. by W, Willis. Peabody, Ma, 1987.
46 Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, с. 402—450.
47 Barth К. Der Römerbrief, с. 298.
4ii См., например, работу, принадлежащую одному из известнейших экзегетов из
«школы Бультмана», Гюнтеру Борнкаму: Bornkamm G. Jesus von Nazareth. 13.
Aufl. Stuttgart, etc., 1983.
49 См., например: Mack В. Myth of innocence: Mark and Christian origins.
Philadelphia, 1988; Funk R. The Gospel of Mark: Red Letter Edition. Sonoma, Ca,
1991; Crossan J. The historical Jesus: The life of a Mediterranean Jewish peasant. San
Francisco, 1991.
50 Bultmann R. Theologie des Neuen Testaments. 3. Aufl. Tübingen, 1958, с. 1 ел.
Далее ссылки на страницы этого издания даются прямо в тексте.
51 Bultmann R. Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, с 87—97.
Естественно, Бультман исходит из того, что «провозвестие Иисуса принадлежит
еврейской религии» (с. 87).
52 Bultmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus, с 10.
53 Bultmann R. Neues Testament und Mythologie, c. 53—61.
54 Bultmann R. Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen
Jesus, с 27.
55 Там же, с. 9.
56 Bultmann R. Jesus Christus und die Mythologie. Hamburg, 1975, с 183.
57 Bultmann R. Protestant theology and atheism. — Journal of religion. Vol. 52, № 4.
Chicago, 1972, с. 331-335 (334 ел).
58 Bultmann R. Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus für die Theologie des
Paulus. - Bultmann R. Glauben und Verstehen. Bd. I, с 188-213 (208).
59 Bultmann R. Zur Frage der Christologie. — Bultmann R. Glauben und Verstehen Bd.
I, c. 85—113 (101). Cp. 2 Kop 5:16: «Даже если мы и знали Христа по плоти, то
теперь больше не знаем». Павлово выражение «Христос по плоти» Бультман
часто употребляет метафорически, как библейский аналог понятия
«исторический Иисус».
60 Bultmann R. Zu J. Schniewinds Thesen, das Problem der Entmythologisierung
betreffend. - Kerygma und Mythos. Ein theologisches Gespräch. Herausgeber Prof.
Dr. H.-W. Bartsch. 5. Aufl. Hamburg-Bergstedt, 1967, с 122-138 (134).
36* 563
Сокращенные названия библейских книг
Еврейская библия
1
Быт
Исх
Лев
Числ
Втор
Ис Нав
Суд
1 Сам
2 Сам
1 Цар
2Цар
Ис
Иер
Иез
Ос
Иоил
Ам
Авд
Ион
Мих
Наум
Abb
Соф
Агг
Зах
Мал
Пс
Пр
Иов
Песн
Руф
Плач
Эккл
Эсф
Дан
Эз
Несм
1 Хр
2 Хр
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иисус Навин
Судьи
1 Самуил
2 Самуил
1 Цари
2 Цари
Исайя
Иеремия
Иезекииль
Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия
Псалмы
Притчи
Иов
Песнь Песней
Руфь
Плач Иеремии
Экклезиаст
Эсфирь
Даниил
Эзра
Неемия
1 Хроники
2 Хроники
Новый Завет
Мф
Мк
Лк
Ин
Деян
Иак
1 Петр
2 Петр
1 Ин
2Ин
3 Ин
Иуд
Рим
1 Кор
2 Кор
Гал
Ефес
Флп
Кол
1 Фес
2 Фес
1 Тим
2 Тим
Тит
Флм
Евр
Откр
Евангелие
по Матфею
Евангелие
по Марку
Евангелие по Луке
Евангелие
по Иоанну
Деяния апостолов
Послание Иакова
Первое послание
Петра
Второе послание
Петра
Первое послание
Иоанна
Второе послание
Иоанна
Третье послание
Иоанна
Послание Иуды
Послание
к римлянам
Первое послание
к коринфянам
Второе послание
к коринфянам
Послание
к галатам
Послание
к ефесянам
Послание
к филиппийцам
Послание
к колоссянам
Первое послание
к фессалоникийцам
Второе послание
к фессалоникийцам
Первое послание
к Тимофею
Второе послание
к Тимофею
Послание к Титу
Послание
к Филимону
Послание
к евреям
Откровение
Иоанна Богослова
564
Указатель имен
Абдул-Гамид
Абуладзе Т.
Аввакум, протопоп
Август Октавиан
Августин Аврелий
Аверинцев С.С.
Агурский М.С.
Адорно Т. (Adorno Τη.)
Айтматов Ч.
Айхенвальд А.Ю.
Айхенвальд Ю.
Акройд П. (Ackroyd Р.)
р. Акива
Аксючиц В.
Аланд К. (Aland К.)
Алексеева Л.
Альберц М. (Albertz Μ.)
Амальрик А.
Амери Ж. (Amery J.)
Амусин И.Д.
Ангел Силезский (Angelus Silesius,
наст, имя Иоганн Шефлер)
Анищенко Г.
Ансельм Кентерберийский
Антоний Сурожский (Блум),
митрополит
Апион
АрендтХ. (Arendt Η.)
Асмуссен X. (Asmussen Η.)
Ауэрбах Э. (Auerbach Ε.)
Ахметов Η.
Багрицкий Э.
Байер К. (Beyer К.)
Бар-Кохба
Барабанов Е.В.
Барон С. (Baron S.)
Барт К. (Barth К.)
-
Барт P. (Barthes R.)
Барт Ф. (Barth F.)
Баткин Л.Μ.
Баумбах Г. (Baumbach G.)
Баур Ф.Х. (Baur F.Ch.)
Бауэр В. (Bauer W.)
Бахтин М.М.
Беза Т. де (Beza, de Bze Т.)
Бем Й (Behm J.)
Бен-Гурион Д.
Бен-Хорин Ш. (Ben-Chorin Sh.)
Бёлль Г. (Böll Н.)
Бергер К. (Berger К.)
Бергер П. (Berger Р.)
Бердяев H.A.
Бернанос Ж. (Bernanos G.)
Бертрам Г. (Bertram G.)
Бибихин В.В.
286
344
224
538
137, 173, 181, 269, 370, 395, 397, 506,
521, 528
207, 442
215, 216
183,187
344
40, 41
311
62
224
248,249
371, 392,407, 468
311, 312, 314, 315, 318, 319
420
315
232
205, 470, 385
244
248, 249, 252
527
174, 211, 218, 219
257, 267
285,289
153
377, 384, 513
350-352
312
32, 33, 40, 41, 471
519
356
515
137-156, 161, 163, 179, 224, 225, 227, 251,
359, 365, 437, 515, 516, 519, 526, 532-539,
561, 562, 564
188, 191
138
357
274, 275
397, 408, 450, 510, 511, 514, 515
21, 379, 384
65, 66, 128, 209, 415, 548
387, 390, 445
375, 385
346
274, 275
228
562
187, 195
163, 170, 171, 174, 201, 235-242, 251, 253
340
420, 440, 442
562, 563
565
Блэк Μ. (Black Μ.)
Блэкберн Б. (Blackburn В.)
Богатырев П.
Богдан Хмельницкий
Болотов В.В.
Бонхёффер Д. (Bonhoeffer D.)
Борнкам Г. (Bornkamm G.)
Боровая О.В.
Брагинская Н.В.
Бродский И.
Брокельман К. (Brockelmann С.)
Бруннер Э. (Brunner Ε.)
Бубер Μ. (Buber Μ.)
Бультман Α.Κ. (Bultmann Α.Κ.)
Бультман Ρ.Κ. (Bultmann R.K.)
Бурлацкий Φ.
Буссет В. (Busset W.)
Бутаков Α.
Ваанян Г. (Vahanian G.)
Вайнрих X. (Weinrich Η.)
Вайей. (Weiss J.)
Вайсе Xp.Г. (Weisse Ch.Η.)
Вайцзеккер Р. фон
(Weizscker R. von)
Ваксберг Д. (Waksberg D.)
Василенко Л.
Вдовина Г.В.
Вебер М. (Weber Μ.)
Веллыаузен Ю. (Wellhausen J.)
Вермес Г. (Verms G.)
Вернле П. (Wernle Р.)
Весткотт Б. (Westcott В.)
Визель Ш.
Визель Э. (Wiesel Ε.)
Вилкенс У. (Wilkens U.)
Вильгельм II, германский император
ВилькеХ.Г. (WilkeCh.G.)
Витгенштейн (Wittgenstein L.)
Владимир, князь
Вознесенский А.
Вольф X. (Wolff Chr.)
Вольф Э. (Wolf Е.)
Вреде В. (Wrede W.)
Высоцкий В.
471
441
440
236, 301
365
147, 154-156, 158, 171, 175-177, 181-183,
185, 205, 227, 286, 309, 365, 537, 561, 562
564
561
357
297, 300
127
139, 140, 143, 158, 533, 534, 537
16, 19, 167, 236, 274, 285, 288, 347, 437,
510, 513, 545, 548
530
1, 2, 139, 140, 143, 145, 155, 156, 174,
187, 189, 190, 191, 272, 270, 275, 356,
358, 359, 365, 368, 371, 406, 409, 410,
413, 416, 418, 420-428, 435, 436, 438-442,
451, 454, 466, 472, 507, 512-515, 518-520,
526, 530-564
324
264, 520, 522-526, 528, 529, 530, 554
314
541
41, 43-55, 61, 66, 81, 129, 131
519-522, 526, 528, 530, 531, 550, 551, 553
400,401,409
221
292, 357
199
563
175, 328
412, 438,456, 523, 524, 528
274
401, 456, 401, 409, 456
391, 392
278
233, 234, 253,277-289, 303
419, 420, 440
139, 533
400, 409
220
231
208
507
145, 147, 148
271, 410, 412, 439, 450, 454, 455, 456,
463, 522, 528, 551
203
Гавел В. (Havel V.)
Габай И.
Гаккель С.
Галич A.A.
Гамсахурдиа 3.
Гарнак A. (Harnack А.)
Гароди P. (Garaudy R.)
Гегель Г.В.Ф. (Hegel G.W.F.)
Гезениус В. (Gesenius W.)
Гейгер Дж. (Geiger J.)
341, 342
351
201
300, 309, 322
337
138, 380-382, 384, 507, 512, 513, 532
504
144, 247, 325, 511, 514, 531, 538
63, 92, 94, 130
258
566
Гениева Е.Ю.
Гердер И.Г. (Herder J.G.)
Герман В. (Hermann \ЛЛ)
Геродот
Герстенмайер К. (Gerstenmeier С.)
Гессен С.
Гёте И.В. (Goethe J.W.)
Гибсон Дж. (Gibson J.)
Гиммлер Г.
Гитлер А.
Гиллель
ro66c(HobbesTh.)
Гогартен Ф. (Gogarten F.)
Гоман P. (Homan R.)
Глазунов И.
Глубоковский H.H.
Горбачев М.С.
Гранде Б.М.
Григорьев А.Б.
Грин Г. (Greene G.)
Грисбах И.Я. (Griesbach J.J.)
Грачев П.С.
Гроссман В.
Гудков Л.
Гумилев Л.Н.
Гункель Г. (Gunkel Η.)
Гюфмайер Г. (Hüffmeier Η.)
290, 291
396,408
138, 139, 532
42
318, 321
563
196
128,131
156
149, 153, 156, 163, 283, 250, 266, 267
24, 28, 419
327
139, 140, 533, 534, 538
250
298
365
329, 331, 338
40,42
439, 563
209
391, 393, 397, 398, 403, 408
345
327
299
322
138, 415, 440, 520, 525, 526, 529, 530, 532
250
Давидсен О. (Davidsen О.)
Дамид (Damis)
Данн Дж. (Dunn J.D.G.)
Данте Алигьери
Дейсман A. (Deissmann А.)
Деррида Ж. (Derrida J.)
Дибелиус Μ. (DibeMus Μ.)
Диоген Лаэртский
Диоклетиан, римский император
Дормайер Д. (Dormeyer D.)
Достоевский Ф.М.
Дубин Б.
Дудна (Doudna J.)
Дудко Д.
Дьюи Дж. (Dewey J.)
Дьяконов И.Μ.
457, 471
429
20,441, 442
506
41, 458, 471
183
413-416, 418-421, 428, 436-438, 440-442,
451-455, 465, 466, 545
421, 441
388
409, 438, 442
170, 226, 231, 240, 296,
299
41
196, 248
165
130
Евсевий Кесарийский
Егезипп (Hegesippus)
Епифаний (Epiphanius
Ефрем Сирин
370, 371, 384, 398, 408, 444, 445, 446, 449
436
10, 269, 408
370, 371
Жебелев С.А.
Жоуон П. (Joüon Р.)
Желудков С. (о. Сергий)
Жириновский В.В.
383
92, 127
193-195, 204, 208-219, 286
299
Замятин Е.И.
Зелинский В.К.
Землер И.С. (Semler J.S.)
Зеньковский В.В.
ЗёллеД. (Solle D.)
308
562
187
170, 174
137
Игнатий Антиохийский
Иеремиас И. (Jeremias J.)
10, 14, 224
383, 425,427, 441,557
567
Иероним
Иоанн XXIII, папа римский
Иоанн Златоуст
Иоанн Павел II, папа римский
Ипполит Римский
Ириней Лионский
Ирод Великий
Исидор Севильский
Ишмаэль
Йоханнесзон М.(Johannessohn Μ.)
Кальвин Ж. (Calvin J.)
Кальм Тома (Calme Τη.)
Кампенхаузен Г. (Campenhausen Η.)
Камю Α. (Camus А.)
КанарисФ.В., адмирал
Кант И. (Kant I.)
Канчик X. (Cancik Η.)
Карабчиевский Ю.
Карсавин Л.П.
Каспер В. (Kasper W.)
Кассиан (Безобразов), епископ
Кассирер Э. (Cassirer Ε.)
Катон (Cato Major)
Кафка Φ. (Kafka F.)
Келер Μ. (Khler Μ.)
Кельзен Г. (Kelsen Η.)
Кестер X. (Köster Η.)
Ким Ю.
КингМ.Л. (King M.L.)
Кирилл, архиепископ Смоленский
Кистяковский Б.А.
Клаузнер Й. (Klausner J.)
Климент Александрийский
Климент Римский
Коген Г. (Cohen Η.)
Кокс X. (Сох Η.)
Колаковский Л.
Коллингвуд Р. Дж. (Coliingwood R.G.)
Константин, римский император
Концельман X. (Conzelmann Η.)
Котляревский С.А.
Крахмальникова 3.
Кроссан Дж. Д. (Crossan J.D.)
Ксенофонт
Кундера М. (Kundera Μ.)
Курдюков СВ.
Кузнецова В.Н.
Курдюков СВ.
Кьеркегор С (Kierkegaard S.)
Кюммель В. Г. (Kümmel W.G.)
Кюнг Г. (Küng Η.)
Кюннет В. (KünnethW.)
Лайтфут P. (Lightfoot J.)
Ланнерт Б. (Lannert В.)
Лапид П. (Lapide Р.)
Лахман К. (Lachmann С.)
Лебедь А.
Лев X (Leo X, в миру - Giovanni di Medici),
папа римский
408, 409
255
265,274, 275
256
10
10, 370, 373, 376, 382, 371, 382, 383, 425,
445, 446
237
435
24, 28
41
224, 390
268
362, 381
46
156
171, 187,334, 506, 507
438,442
308
200-202
135
365
187, 189-191, 360, 363
434
169
159, 436, 437, 442, 462, 472, 507, 513, 545,
546, 563
323, 324,334
383, 406, 407, 429, 441, 456, 471
351
185
290, 291
313
271
370, 371, 373, 376, 383, 384, 387, 408, 445, 446
373
142, 536
175-185
322
289
214, 388
362, 414, 559
324, 325, 334
253
383,564
434, 442, 455
131
356
356, 489, 472
356
140, 142, 214, 534, 536
268, 274, 276, 362, 381, 393, 402, 446, 472, 513
137, 217
250,252
471
528
274
391, 398, 408
345
389
568
Левин Η. (Levin Ν.)
Ленин В.И.
Леонардо да Винчи
Леонтьев К.
Лермонтов М.Ю.
Лессинг, Г.Э. (Lessing G.E.)
Ливии Тит
Лиддел, Х.Г. (Liddell H.G.)
Линдеман, А. (Lindemann А.)
Линеман Э. (Linnemann Ε.)
Лиотар Ж.-Φ. (Lyotard J.-F.)
Лихачев Д.С.
Локк Дж. (Locke J.)
Ломайер Э. (Lohmayer Ε.)
Лонгейкр Р. (Longacre R.)
Лосев А.Ф.
Лукиан Антиохийский
Лукиан Самосатский
Лукман Т. (Luckman Т.)
Лурье С.Я.
Лутковский Л.
Лэнгтон С. (Langton S.)
Любарский К.А.
Людеман Г. (Lüdemann G.)
Лютер М. (Luther Μ.)
Макафи Браун Р. (McAfee Brown R.)
Маккартер П. (McCarter P.)
Маккоби X. (Maccoby Η.)
Макфолл Л. (McFall L.)
Мангейм К. (Mannheim С.)
Манефон
Марин
МарквардтФ.-В. (Marquardt F.-W.)
Маркион
Маркиш СП.
Марксен В. (Marxsen W.)
Марченко А.Т.
р. Меир Кахане
Мелетинский Е.М.
Мень А. (о. Александр)
Мережковский К.С.
Мерц Г. (Merz G.)
МетцИ.-Б. (Metz J.В.)
Мецгер Б.М. (Metzger В.Μ.)
Мещерская E.H.
Мики Д. (Michie D.)
Милль Дж. (Mill J.)
Михайлов A.B.
Мольтман Ю. (Moltmann J.)
Моммзен Т. (Mommsen Τη.)
Монтескье Ш. (Montesquieu Ch.)
Мориак Φ. (Mauriac F.)
Мур Дж. Φ. (Moore G.F.)
Мураока (Muraoka Т.)
Муратори Л. A. (Muratori L. А.)
Нахов И.М.
Неклюдов СЮ.
Некрич А.
НерсесянцВ.С.
Нестле Эберхард (Nestle Eberhard)
Нестле Эрвин (Nestle Ervin)
Нибур Б. Г. (Niebuhr B.G.)
254
231
457
240
205
271, 396, 407, 435, 505, 518
401, 460
21, 434, 442
362, 414
441
183,456, 471
128
327
462, 465, 471, 472
92
360, 363
388
460
187
275
472
390
213, 216, 219
20, 226, 357, 514-516, 526-529
137, 171, 221, 224, 225, 382, 518, 521, 544
234, 253
58, 62
257, 269-274
127
187
257, 267
438
234, 235, 245, 252, 253
12, 16, 379-382
434
454-457, 462, 465, 472, 529
308, 312, 350
289
191,273, 275,363
193-209, 211, 213-217, 219, 223, 366
171
533
137,243, 251, 253, 254
362, 383, 385
383
457, 471
391
563
137, 365, 466
515
327
279, 280
525, 529
92, 127
369, 371
442
357
309
333, 334
392, 468
392
401, 510, 513
569
Нибур P. (Niebuhr R.)
Никаччи A. (Nicacci Α.)
Никифоров В.
Никодим, митроплит
Никольский Н.М.
Нимёллер М. (Niemöller Μ.)
Ницше Φ. (Nietzsche F.)
Норден Э. (Norden Ε.)
Ньюзнер Дж. (Neusner J.)
Овербек Φ. (Overbeck Fr.)
Огородников Α.
О'Калаган (O'Callaghan)
О'Коннор Μ. (O'Connor Μ.)
Оккам У. (Ockham, Occam)
Олтер P. (Alter R.)
Орвелл Дж. (Orwell J.)
ОрвикЭ. (Orvig E.)
Орестано P. (Orestano R.)
Ориген
Орлов Ю.Ф.
Осипов В.
Ott Г. (Ott Η.)
Otto P. (Otto R.)
Павел, апостол
Пазухин Ε.
Палий Иерапольский
Пас О. (Paz О.)
Пастернак Б.Л.
Перрин Н. (Perrin Ν.)
Песес-Барба Мартинес Г.
153
41, 42, 48, 62
197
195
409, 528
147
209, 228, 436
439
14
435,
195
447,
127
221,
129
308
277
326,
370,
314,
248,
436, 438, 442
448
401
334
376, 384, 387, 408, 425
315
293
563
142, 536, 553
9-11, 14-16, 18, 19, 21-30, 138, 140, 141, 145,
199, 204, 222, 238, 239, 244, 253, 263, 264,
271, 272, 362, 365, 367, 368, 372, 374-382,
406, 416-419, 437, 438, 445, 448, 463,
465-467, 511, 532, 534, 540, 544, 556,559
195
398, 408, 434, 436, 444, 446, 448, 449
131
308, 340
362, 440, 441, 456, 463, 464, 471, 472, 528
(Peces-Barba Martines G.)
Петерсен Η. (Petersen Ν.)
Петров К.Η.
Петровых Μ.
Пий XII, папа римский
Пифагор
Платон
Плиний Старший
Плотин
Плутарх
Померанц Г.С.
Пореш В.
Порфирий
Прокл
Пропп В.Я.
Пушкин A.C.
Пфистер О. (Pfister О.)
Рабинович Е.Г.
Рад, Г. фон (Rad G. von)
Райнбольд В. (Reinbold W.)
Ральфе A. (Rahlfs А.)
Ранер К. (Rahner К.)
Ранке Л. фон (Ranke L. von)
Рассел Б. (Russell В.)
Рейзенен X. (Risnen Η.)
Реймарус Г.С. (Reimarus H.S.)
Рекопф Ф. (Rehkopf F.)
326, 334
472
210, 214
286
137
429, 441,
226, 455
460
435
438
208, 218,
195
429, 438,
435, 438
416,417,
205
516, 527
429,441
179
409,442
528
215
510, 513
209
515, 527
271, 435,
42
455
287
441
440
505, 510
570
\
J
Ренан Э. (Renan Ε.)
Риккерт Г. (Rickert Η.)
Ричль A. (Ritschi Α.)
Робинсон Дж.А.Т. (Robinson J.A.T.)
Розанов В.
РозенбергА. (Rosenberg А.)
Розенцвейг Ф. (Rosenzweig F.)
Ростовцев Μ.И.
Роудз Д. (Rhoads D.)
Рофэ A. (Rofe А.)
Руссо Ж.-Ж. (Rousseau J.-J.)
Руткевич A.M.
Руцкой Α.
Рютер P. (Ruether R.)
Carre М.Дж. (Suggs M.J.)
Сахаров А.Д.
Свасьян K.A.
Свенцицкая И.С.
Светоний
Светлов М.
СегертС. (Segert, S.)
Селезнев М.
Сенека
Симмах
Симон Р. (Simon R.)
Синявский М.
Скотт Р. (Scott R.)
Слуцкий Б.
Смирнов И.С.
Смит Г. (Smith G.)
Смит Μ. (Smith Μ.)
Соболевский СИ.
Сократ
Солженицын А.
Соловьев B.C.
Сперанский М.
Спиноза Б.
Стефанус (Робер Этьен)
(Stephanus, Estienne R.)
Стусь В.
Схилебекс Э. (Schillebeeckx Ε.)
Сэндмел С. (Sandmel S.)
Тайсен Г. (Theissen G.)
Тантлевский И.Р.
Тареев М.М.
Татиан
Тейяр де Шарден П.
(Teilhard de Chardin P.)
Тейлор В. (Taylor В.)
Телушкин Й. (Telushkin J.)
ТелфордУ. (Telford W.)
Тертуллиан
Тиберий, римский император
ТиллихП. (Tillich Р.)
Тит, римский император
Тихонов Н.
Тишендорф К. фон (Tischendorf К.
Тищенко СВ.
Тов Э. (Τον Ε.)
Толкин Дж. (Tolkien J.)
von)
435
563
150
541
171
250
236
442
457
129
196
188
345
258
442
512, 519-521, 528
287
515
471
131
327
259, 362
438, 442
207, 215, 315, 318
191
357, 383
435
312
37,41,42
63, 88, 130
257, 267, 268
441
271, 390, 391
409
21, 434, 442
307
357
62
429, 441
40, 41
259, 434
157, 185
168,170
311
220
455
196, 197, 248, 314
171, 174, 201, 213,
241
389, 390
310
425, 463, 464-466, 472, 440, 441
274, 276
440
470
171, 365
369,370, 382
, 321
,440
310
420
296
365
10, 373, 376, 383, 384
538
140
244
466
410
312
391
300
129
, 159-167, 170, 174, 205, 220, 224, 233,
, 253, 254, 310, 321, 360, 361, 363, 365,
, 527, 529, 534
, 392
, 356, 357, 441, 442, 529
, 393
571
Толстой Л.Η.
Топоров В.Η.
Торпусман А.
Трёльч Э. (Troeltsch Ε.)
Трофимова Μ.К.
Тураев Б.А.
Турнайзен Э. (Thurneysen Ε.)
Уиден Т. (Weeden Th.J.)
Уолтке Б.К. (Waltke В.К.)
Успенский Б.А.
Уэйчен Г. (Waetjen Η.)
Файне П. (Feine Р.)
Факенхайм Э. (Fackenheim Ε.)
Фаррар Φ.В. (Farrar F.W.)
Фейербах Л. (Feuerbach L.)
Фейхтвангер Л. (Feuchtwanger L.)
Феодор Мопсуэстийский
Феодот
Филон Александрийский
Фильхауэр Ф. (Vielhauer Ph.)
Финкель A. (Finkel А.)
Флавий Иосиф
Флавий Филострат
Флуссер Д. (Flusser D.)
Фома Аквинский
Франк Анна
Франциск Ассизский
Фрейд 3. (Freud S.)
Фрейденберг О.М.
Фробен И. (Froben J.)
Фукидид
Фуко М. (Foucault Μ.)
Фукс Э. (Fuchs Ε.)
Фуллер P. (Fuller R.)
Хабермас Ю. (Habermas J.)
Хадас Μ. (Hadas Μ.)
Хазанов Б.
Хайдеггер Μ. (Heidegger Μ.)
Хайтмюллер (Heitmüller W.)
Ханики Д. (Huneke D.)
Хей Μ. (Hay Μ.)
Хенгель Μ. (Hengel Μ.)
Хилберг P. (Hilberg R.)
Хименес (Jimenez de Cisneros), кардинал
Хирш Э. (Hirsch Ε.)
Хоркхаймер Μ. (Horkheimer Μ.)
Хорт Φ. (Hort F.)
Хольцман Г.Ю. (Holzmann HJ.)
Хрущев Η.С.
Хук Α. (Huck Α.)
ЦанТ. (ZahnTh.)
Цветаева Μ.И.
Цви Шабтай
Циммерман Г. (Zimmerman Η.)
Чалисова Н.Ю.
Чичерин Б.
87, 170, 240, 504
199, 200, 202
204
166, 365, 513, 515-519, 524, 527, 528, 539
383
207
139, 533
463, 464, 466, 472
127
471
357
362, 395
233, 242, 246, 253, 288, 303
508, 513
142, 536
298
530
270
430
362, 377, 428, 471, 472
274
237, 267, 294, 367
429, 435, 438, 441
256, 274, 275, 514
137,225, 506
290,291
226,504
228
442
389
42
183
441
269, 276
183, 326
429,441
245, 311, 321
»
155, 169. 174, 539, 541-544, 545, 549, 562
563
520
357
275, 276
371, 441, 518, 528
234, 238, 253
389
529
183, 187
391, 392
400, 409, 450
309, 329-332
407
379, 381, 384
209
13
416, 440
357
311
Шаевич А.
290
572
Шаламов В.
Шаллер Б. (Schaller В.)
Шафаревич И.
Швайцер Э. (Schweizer Ε.)
Швейцер Α. (Schweitzer А.)
Шекспир В. (Shakespeare W.)
Шеллинг Φ. (Schelling F.)
Шестов Л.
Шиманов Г.
Шлейермахер Ф. (Schleiermacher F.D.E.)
Шмеман А.
Шмидт К.Л. (Schmidt K.L)
ШмиттК. (Schmitt К.)
Шмитхальс В. (Schmithals W.)
Шнайдер В. (Schneider W.)
Шнеемельхер (Schneemelcher W.)
Шольдер К. (Scholder К.)
Шпенглер О. (Spengler О.)
Шпиллер В.
Штайгер Л. (Steiger L)
Штелин Э. (Staehelin Ε.)
Штернберг Μ. (Sternberg Μ.)
Штраус Д.Ф. (Strauss D.F.)
Штрекер Г. (Strecker G.)
Шуберт К. (Schubert К.)
221, 222,316
357
185, 248, 249, 251,253
472
167, 172, 271, 365, 401, 409, 435, 450, 505,
512-514, 521, 526, 528, 529, 551, 553, 560, 564
457
159, 224
171, 351
293
150, 166, 225, 359, 360, 365, 396, 397,408,
449, 512
212
413, 414, 420, 437, 439, 442, 452
308
362, 401, 403, 440, 527, 561
41, 42, 47-48, 50-53, 57, 62, 63, 128
362, 374, 378, 381, 383, 384
157
176,222
195
157,562
528
85
401, 402, 409, 411, 450, 470, 508-511, 513,
515, 526, 530, 546, 561
370
274
Эйделькинд Я.Д.
Эллис Дж. (Ellis J.)
Эльзевиры (Elsevier) братья
Эпиктет
Эразм Роттердамский
Эриксен Ф. (Ericksen R.)
Ювенал
Юлихер A. (Julicher А.)
Юнг К.Г. (Jung CG.)
Юстин (lustinus Martyr)
Явлинский Г.
Якобсон А.
Якобсон Р. (Jakobson R.)
Ямвлих
Ясперс К. (Jaspers К.)
127,
193
390
41
389,
242,
460
425,
187,
220
390
243,
426,
188
252
441,
530
10, 369, 381, 434, 442,
299
312,
440
429
225,
313,
232,
321
545
445,
446
573
Содержание
От автора
5
Библия: история, филология, экзегеза
О непроисхождении христианства из иудаизма 9
Мидраш об Аврааме в послании к Римлянам 21
Библейское повествование и повествование евангелия Марка 31
Лингвистика текста и древнееврейское повествование 43
Si vera lectio 63
Современное христианство в контексте
интеллектуальной истории
Христианство и политическая позиция: Карл Барт 135
Теология культуры Пауля Тиллиха 159
Христианское в христианстве 168
Христианин в обезбоженном мире 175
Харви Кокс: Религия после конца Нового времени 181
Эрнст Кассирер и философия мифа 186
Очерки современного православного либерализма 192
Письмо о религии 220
Евреи и христиане после Катастрофы
Национальная идея и христианство 231
Новый Завет и юдофобия 255
Глазами убитых детей 277
«Если есть на свете детский бог» 284
Почва и судьба 286
Анна Франк в Москве 290
«Еврейский вопрос» в русской интеллектуальной жизни 292
Гитлеровский геноцид и еврейская идентичность 301
Политические мифологии
Освобождение или выживание? 307
Правовое государство в интеллектуальной традиции 322
«В Нагорном Карабахе и вокруг него»: 335
Ответственность, покаяние и наша церковь 344
В защиту судьбы 350
История и герменевтика в изучении Нового Завета
Предисловие 355
К формулировке проблемы 358
Часть 1. Контуры науки о Новом Завете 364
Глава 1. Состояние исследования 364
Глава 2. εύαγγέλιον и евангелия 367
Глава 3. Евангелия и канон 372
574
а. Терминология: канон, апокрифы, Новый Завет, Ветхий Завет 372
б. Евангелия как часть Нового Завета 377
Глава 4. Проблемы текстологии НЗ и текст канонических
евангелий 385
а. Рукописная традиция греческого текста НЗ 385
б. Печатные издания греческого текста НЗ 389
Глава 5. Литературные источники канонических евангелий 394
а. Исходные определения. Синоптики и Иоанн 394
б. Первые попытки решения синоптической проблемы 396
в. Гипотеза двух источников 398
г. Мк и Q как источники. Вопрос об источниках Ин 402
Глава 6. Устная традиция как источник канонических евангелий.
Метод анализа форм 410
а. Истоки метода 410
б. Расцвет метода 413
в. Происхождение традиции и ее история. «Место в жизни» 415
г. Жанровые формы устной традиции 420
д. Проблема жанра канонических евангелий 433
Глава 7. Евангелист Марк 443
I. Метод анализа редакций: интерпретация Мк 443
а. Церковная традиция о Мк и ее исторический смысл 444
б. Мк и исследование жизни Иисуса:
от начала «либерального» поиска до форманализа 449
в. Марк как теолог и писатель: метод анализа редакций и его
модификации 454
г. Перспективы изучения Мк 466
II. Перевод евангелия Марка.... 468
О принципах и задачах нового перевода 468
В изложении Марка 473
Часть 2. История и герменевтика .....504
Глава 8. Либеральная теология 504
а. От Христа к Иисусу: исторический Иисус в проекте либеральной
теологии 504
б. Либеральная теология: история или герменевтика? 510
Примечания 513
Глава 9. Школа истории религий 515
а. Либеральная теология и возникновение Школы 515
б. Историко-критический метод 516
в. «Поздний иудаизм» и эсхатологический Иисус 519
г. Христианство как синкретическая религия 525
Глава 10. Рудольф Бультман как историк и теолог 530
а. «Ранний» Бультман: этапы жизни и становление ученого 530
б. Бультман и диалектическая теология 531
в. Встреча с Хайдеггером: керигмаи миф 539
г. Иисус из Назарета: экзистенциальная интерпретация 545
д. Иисус из Назарета и керигма о Христе 554
е. Заключение 558
Сокращенные названия библейских книг 564
Указатель имен. Составитель А. К. Лявдаиский 565
575
Сергей Лёзов
Попытка понимания
Избранные работы