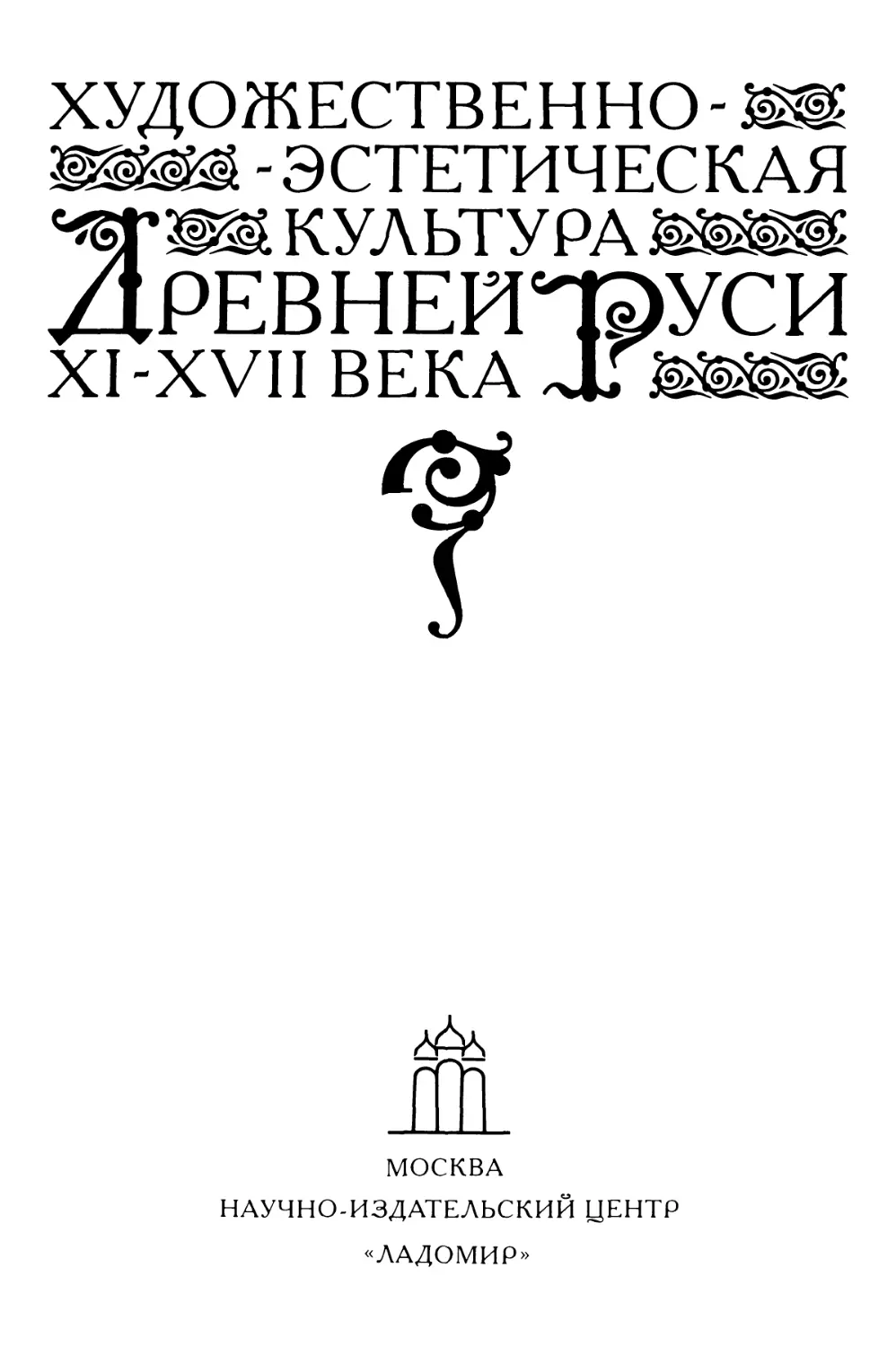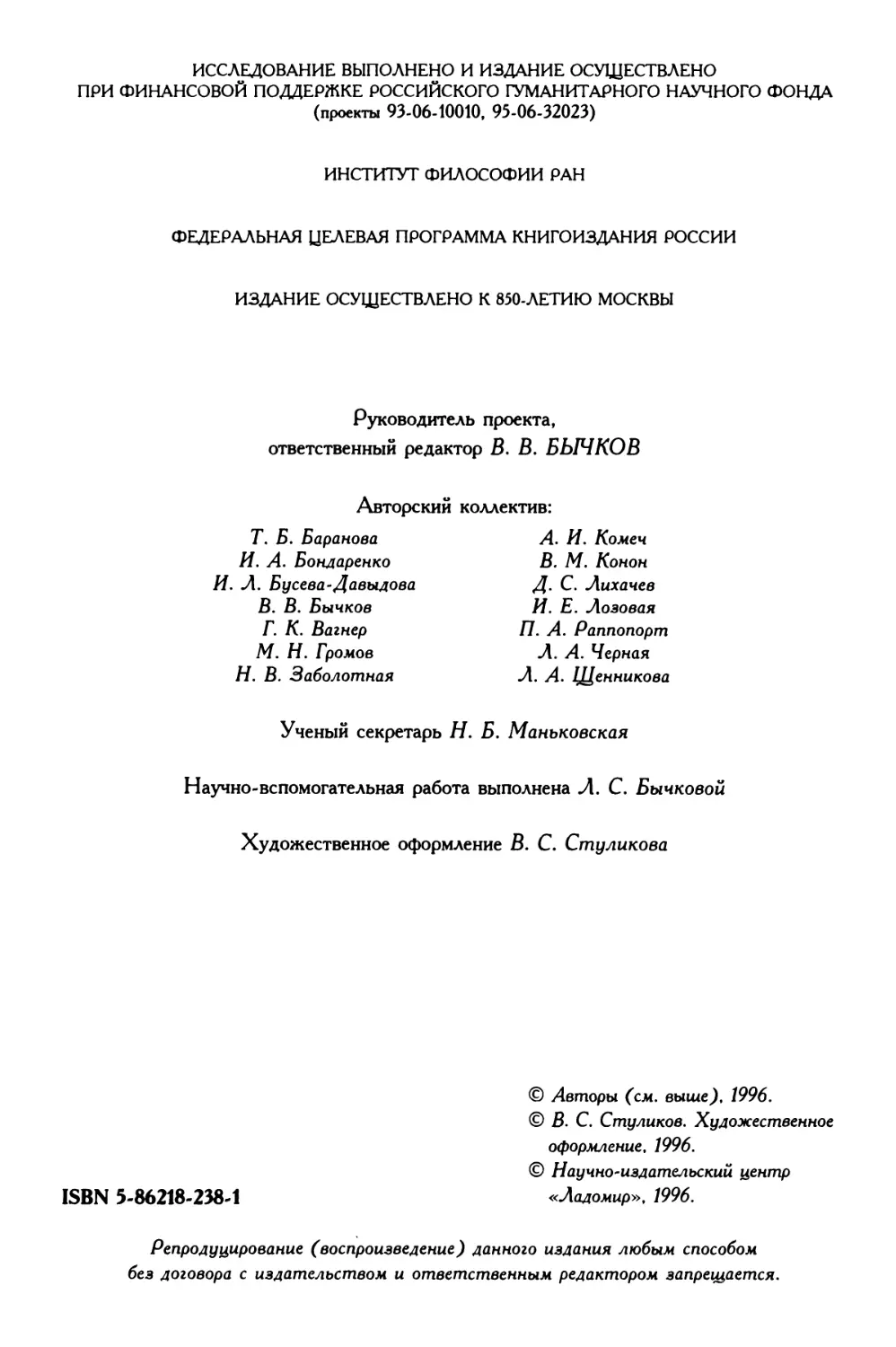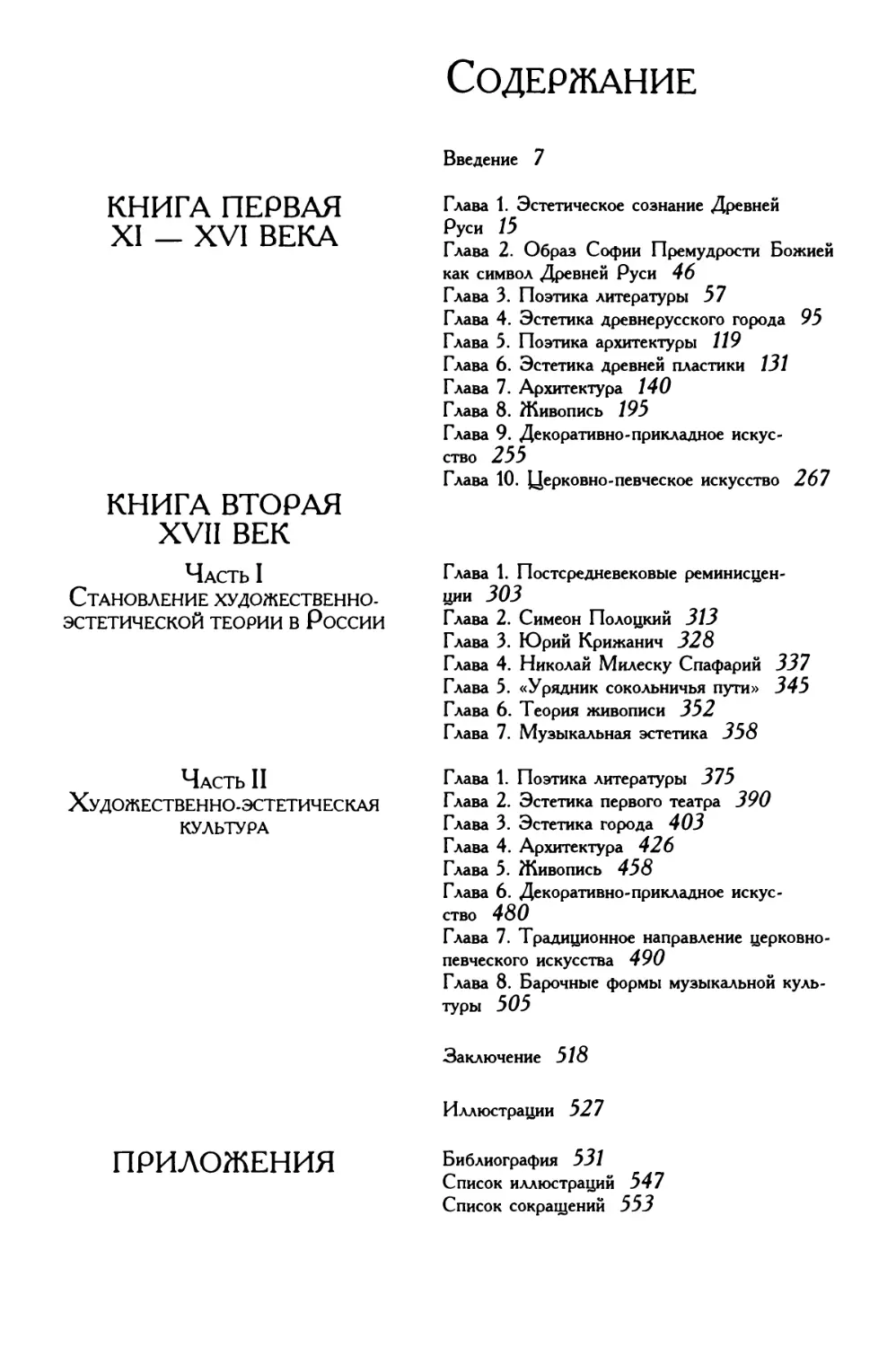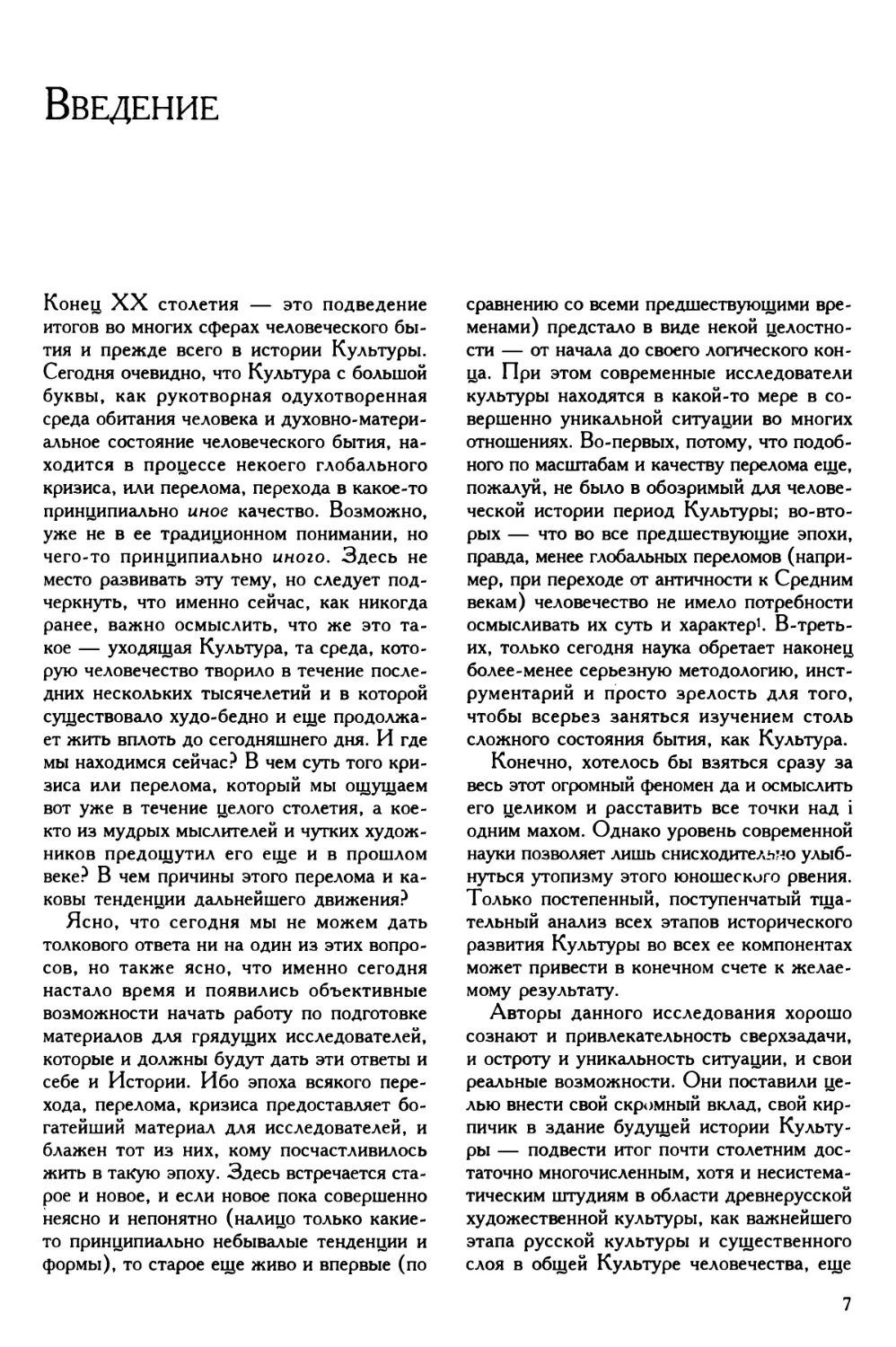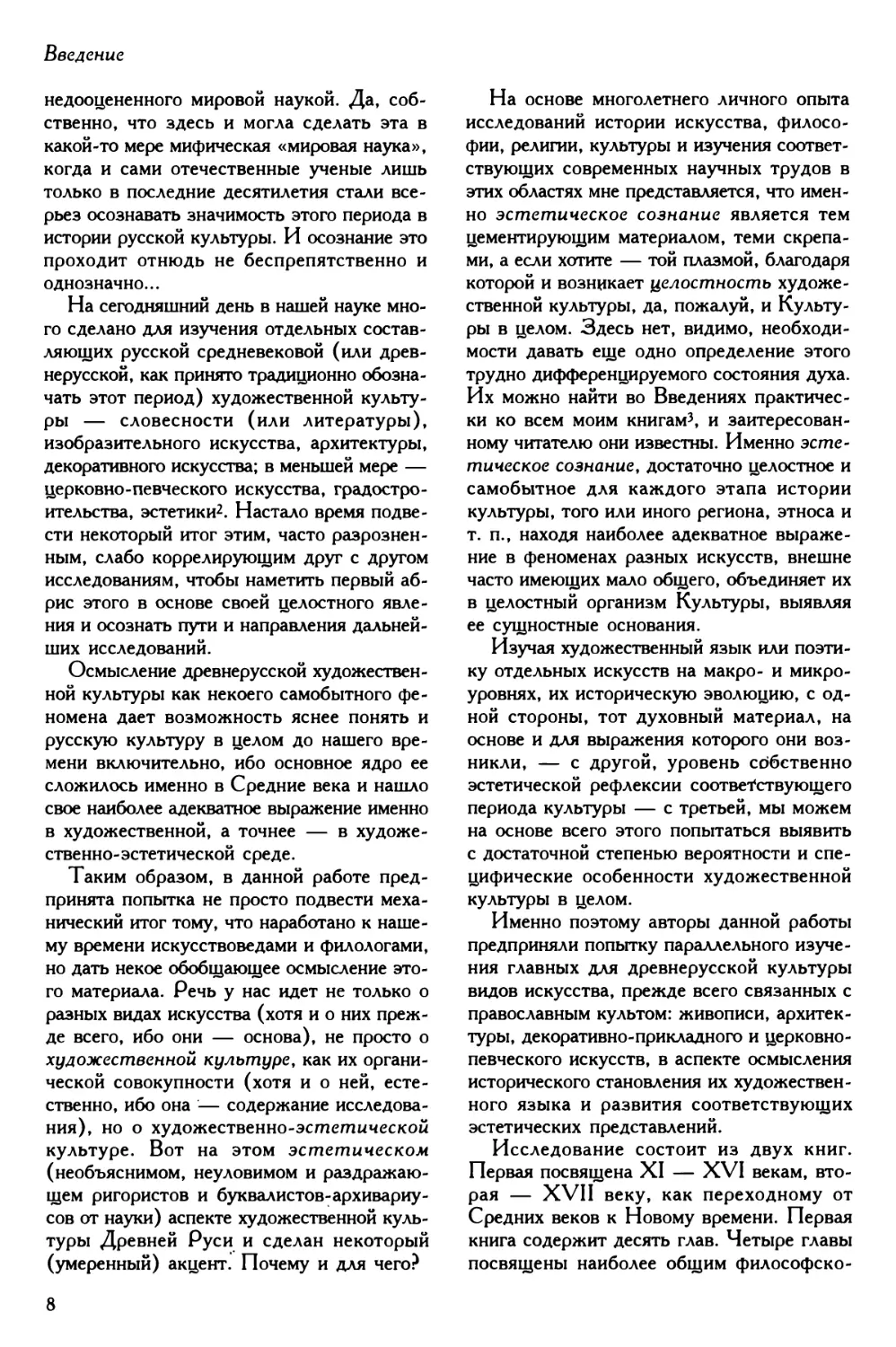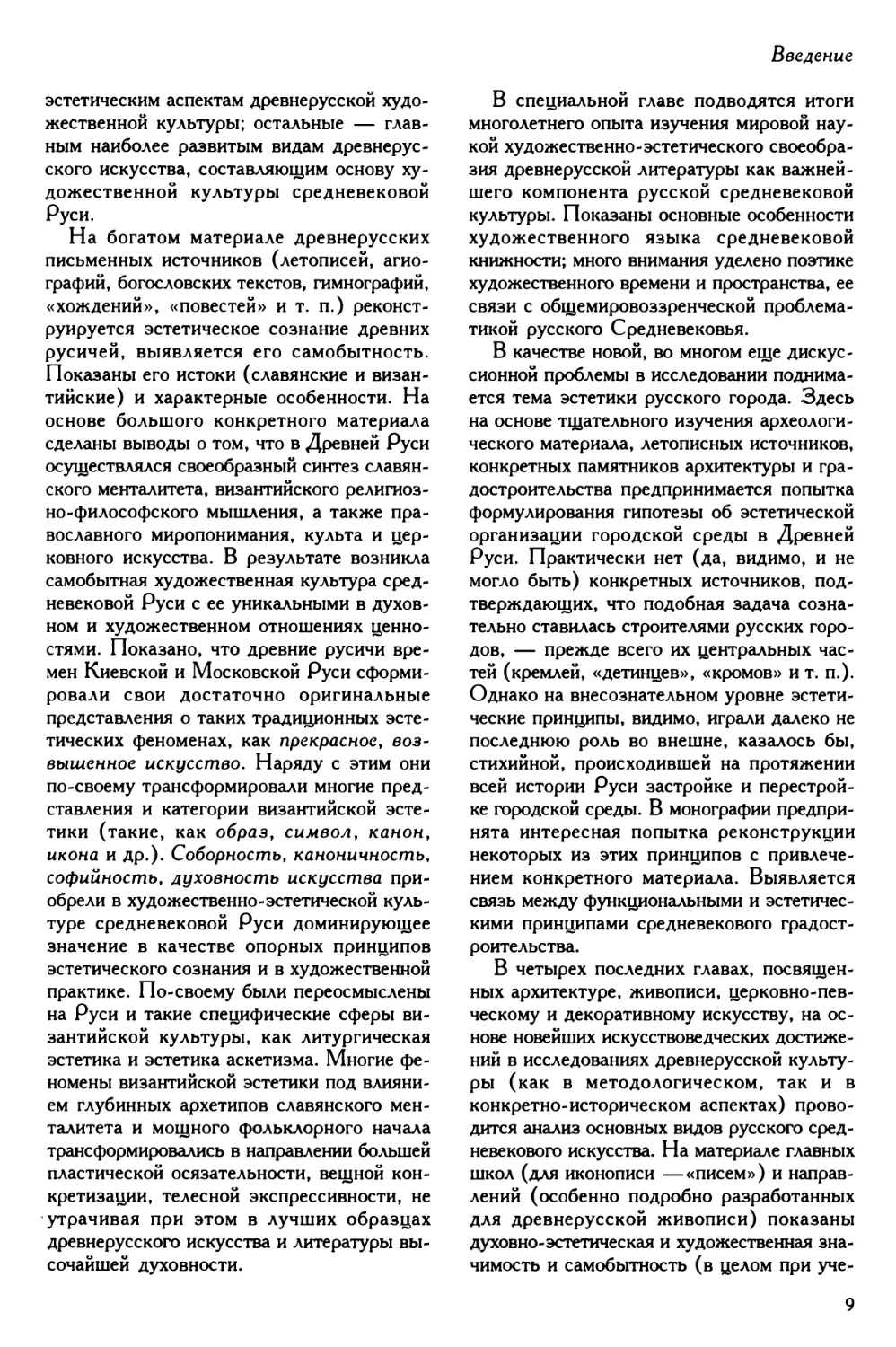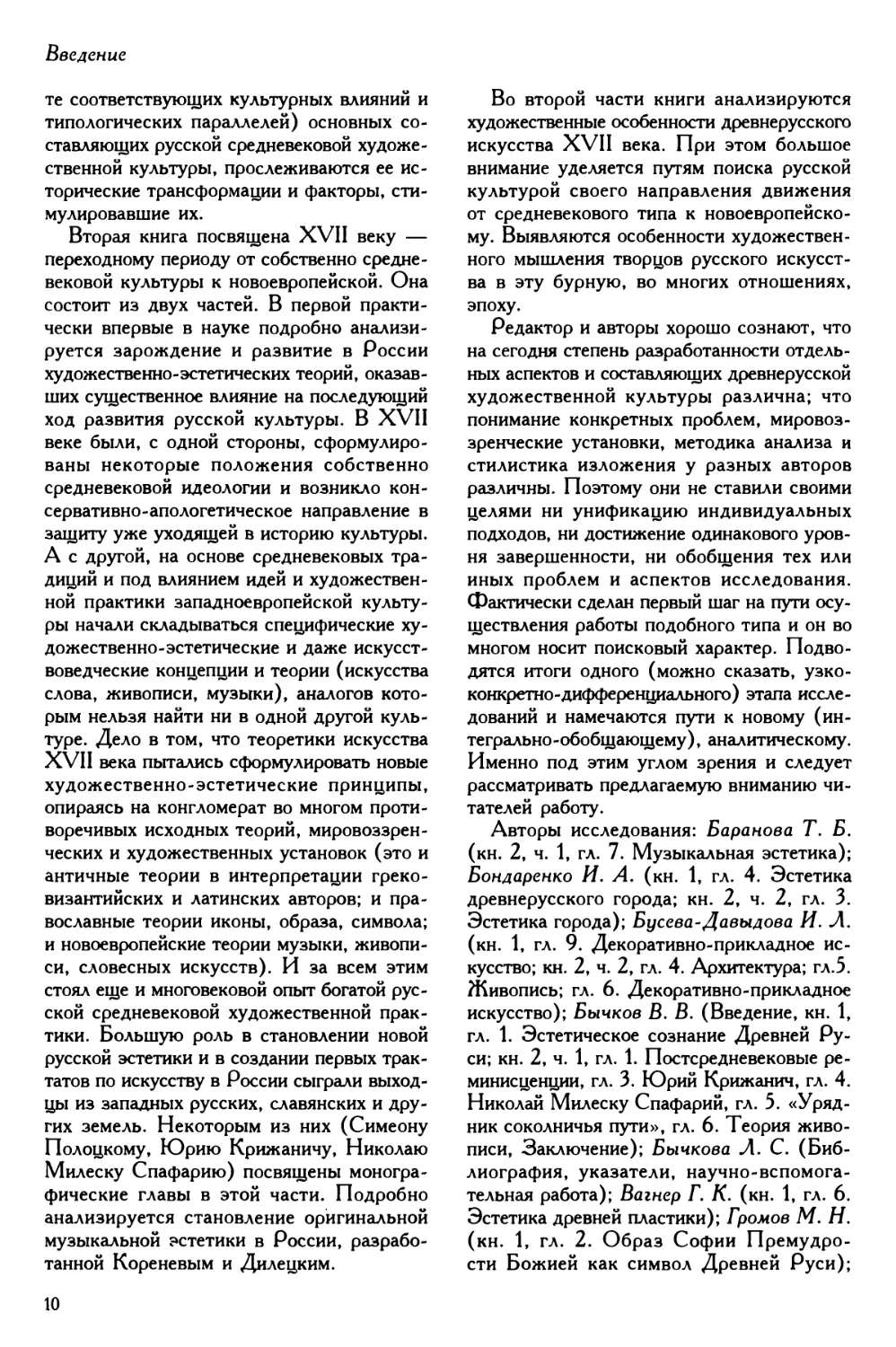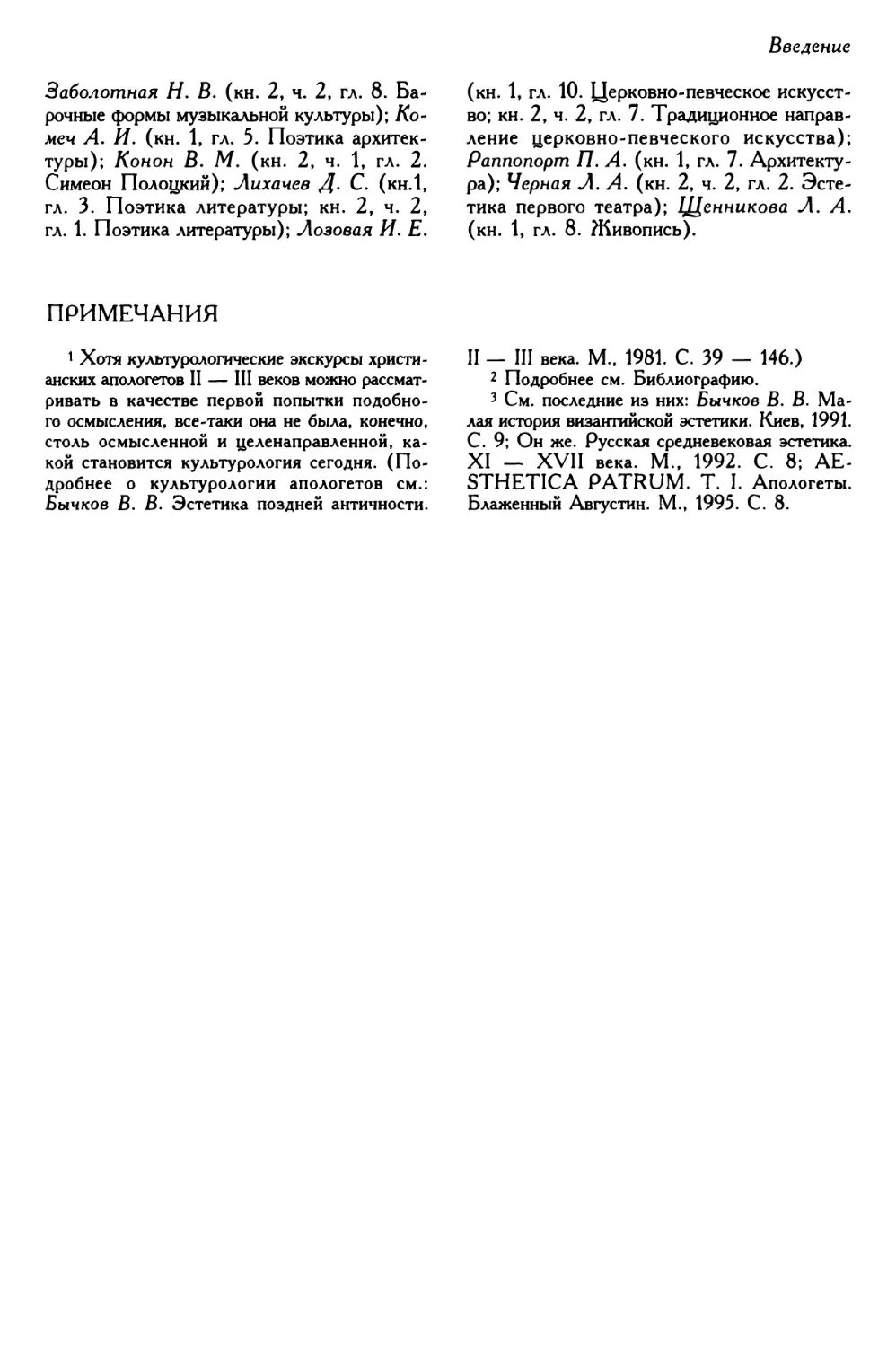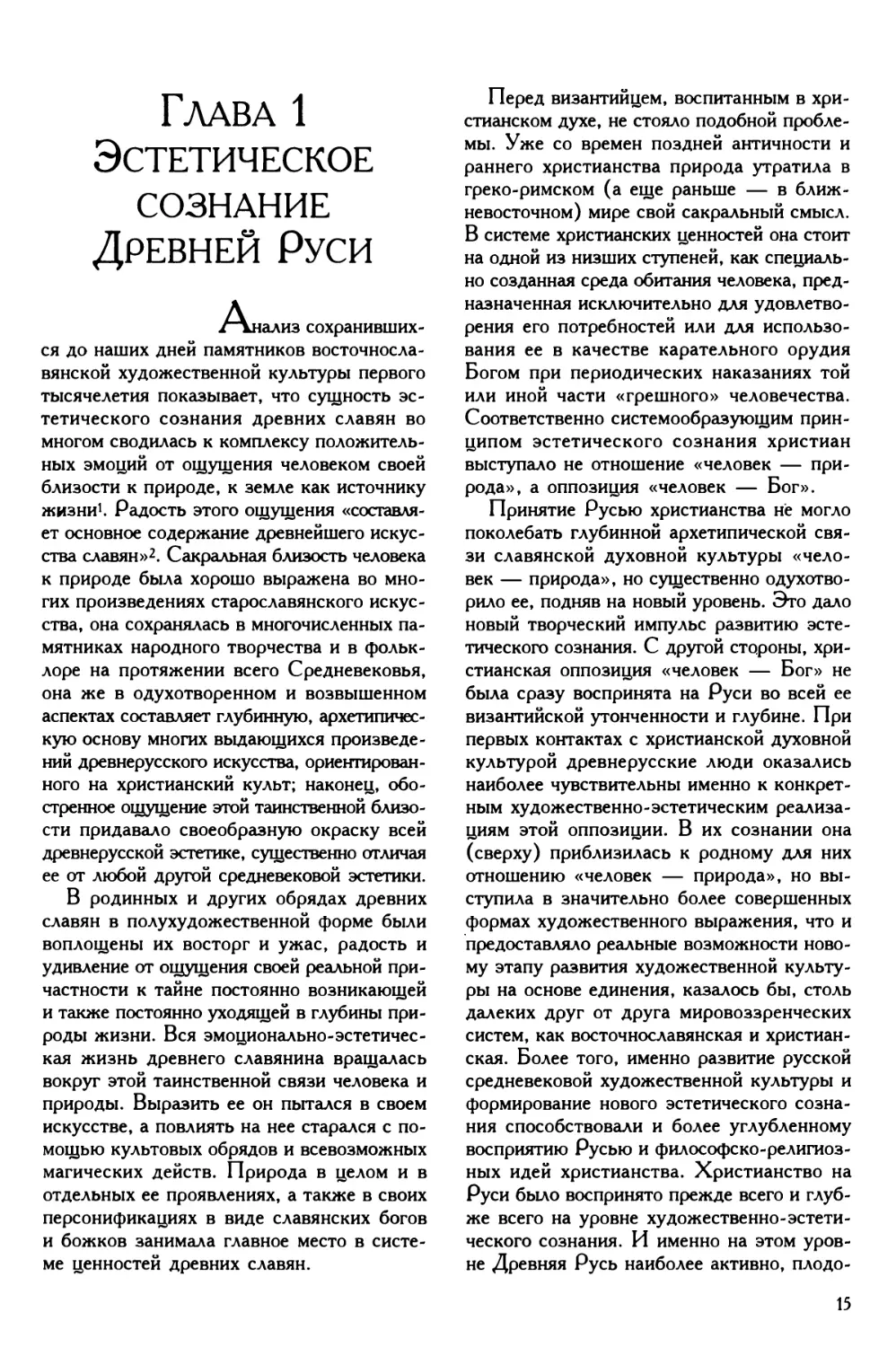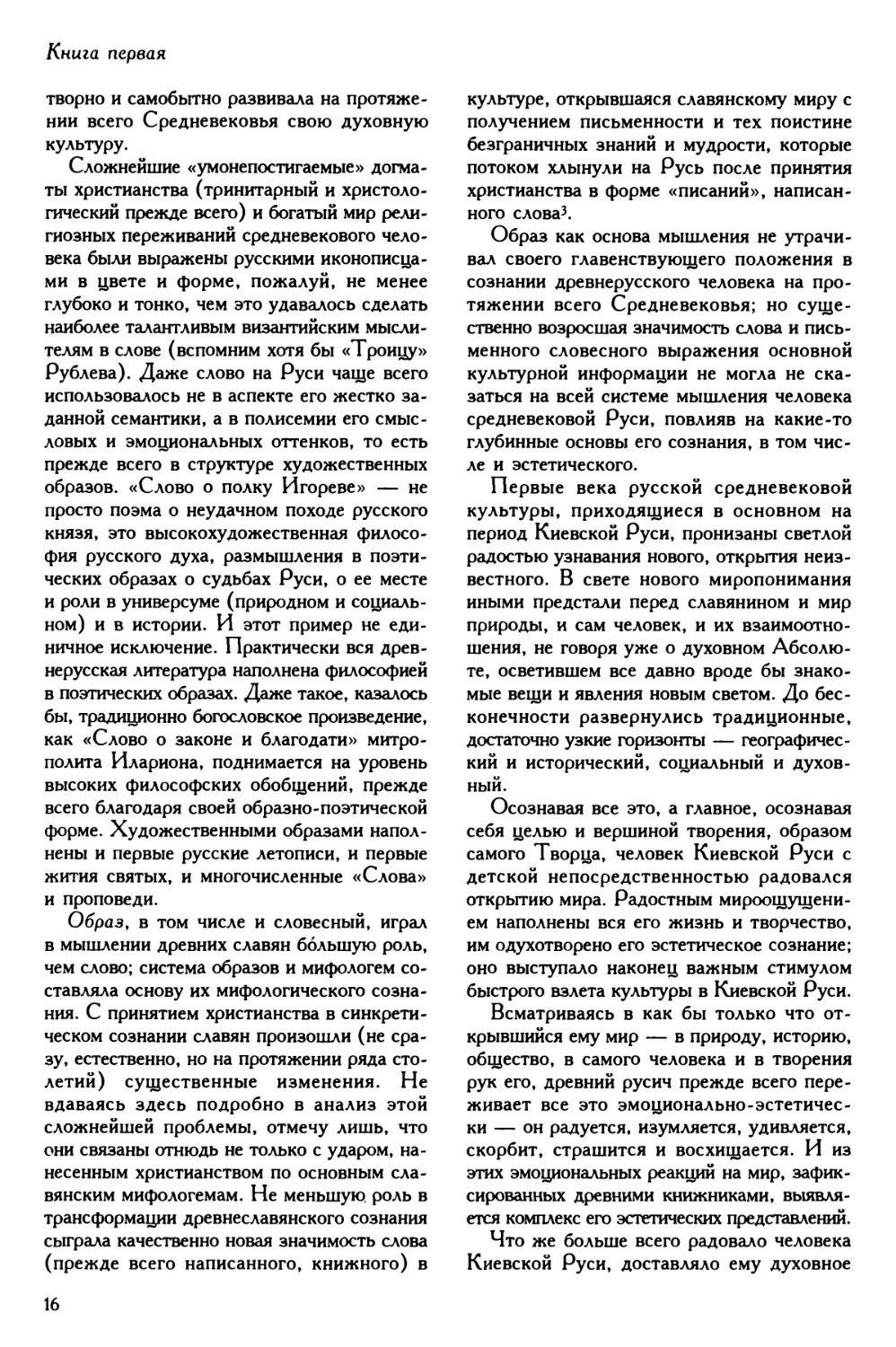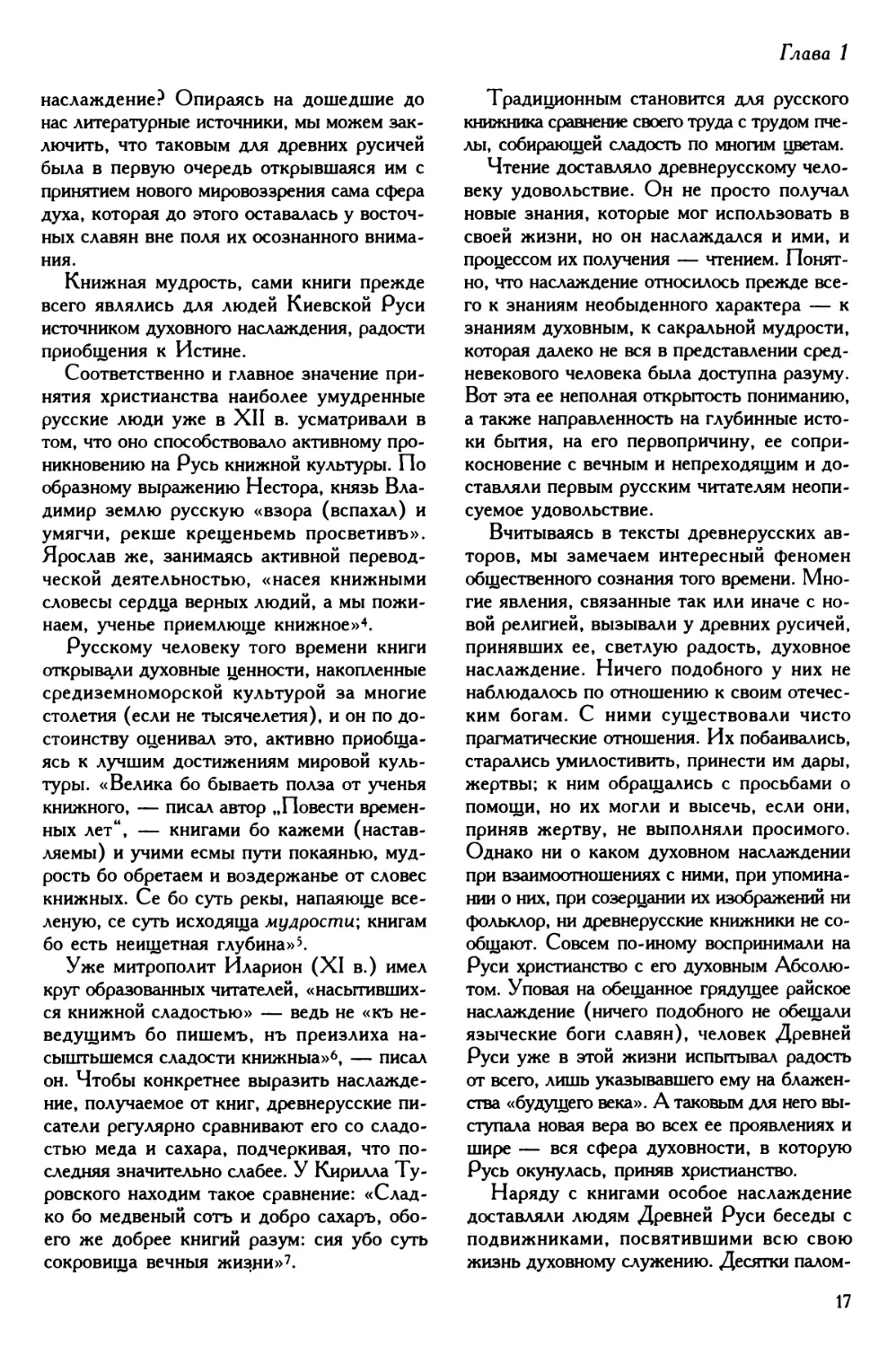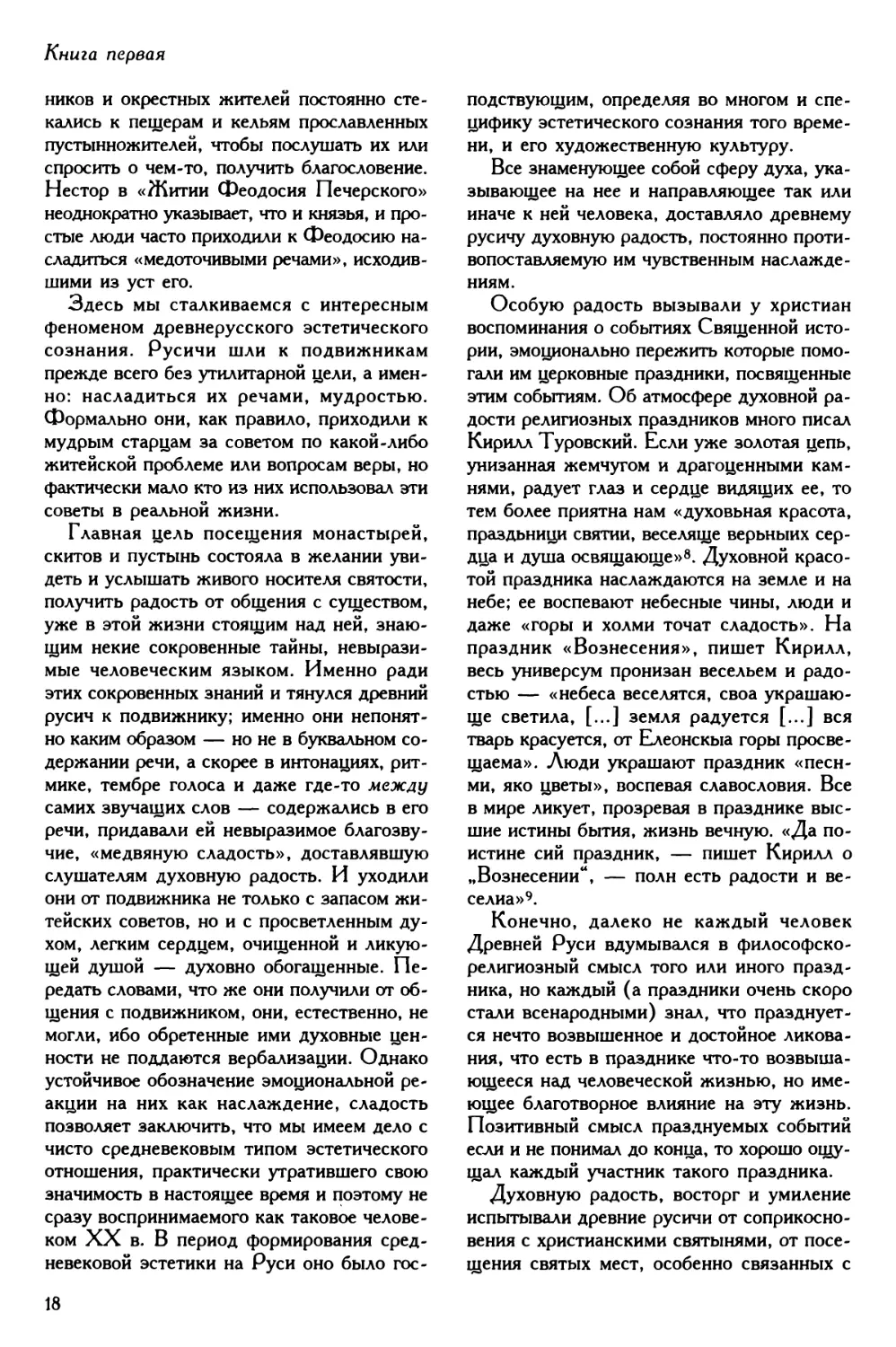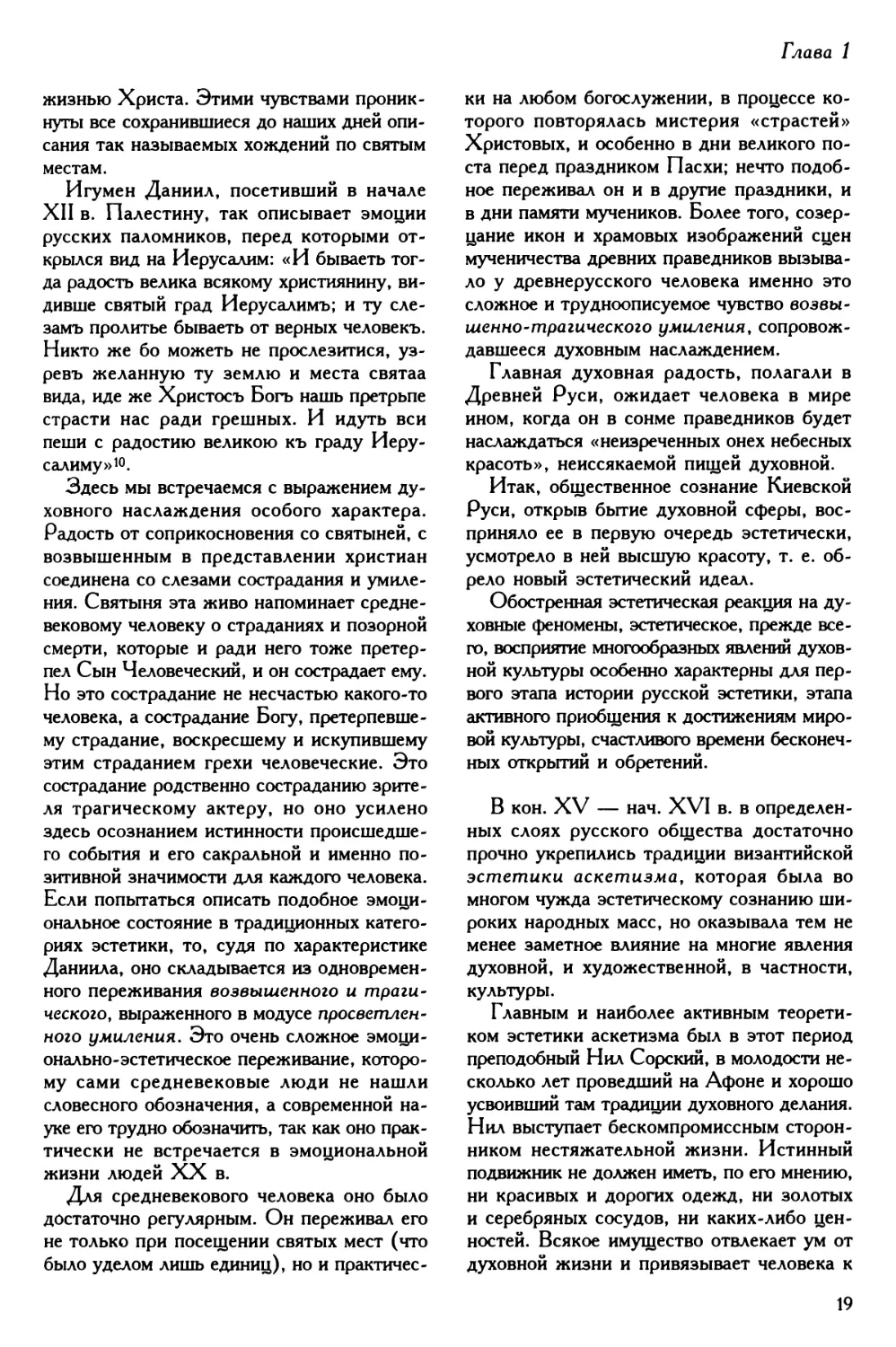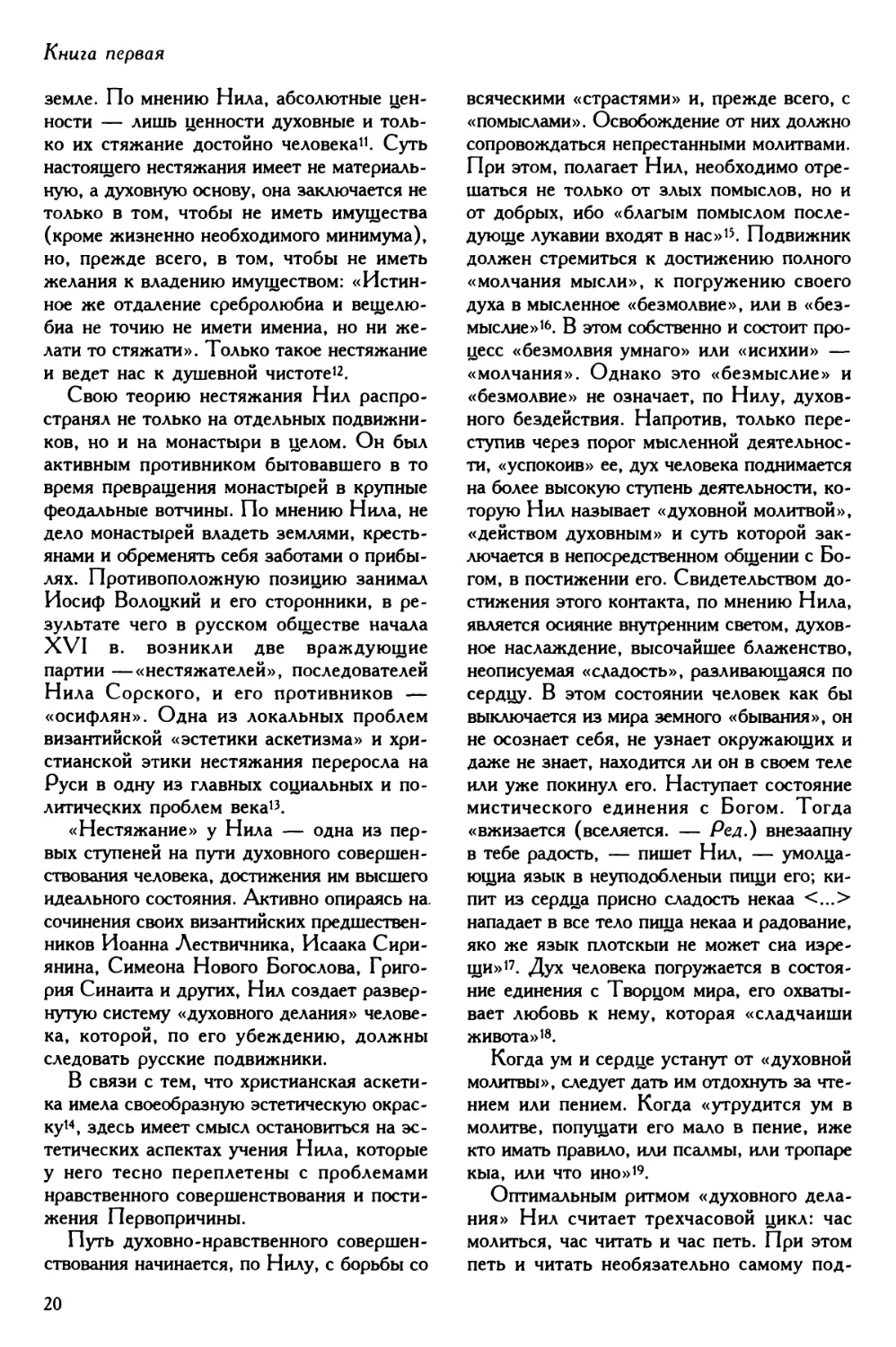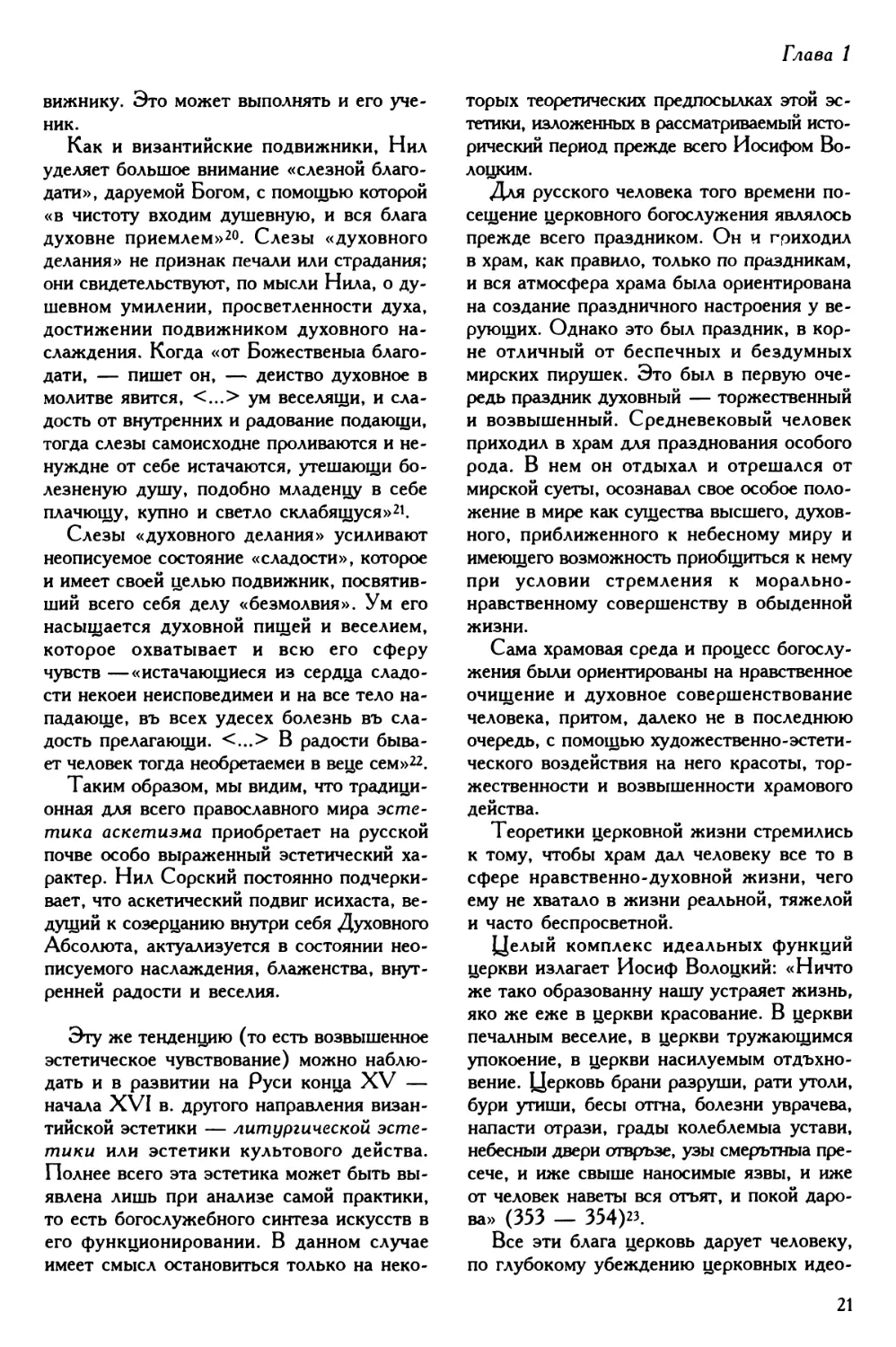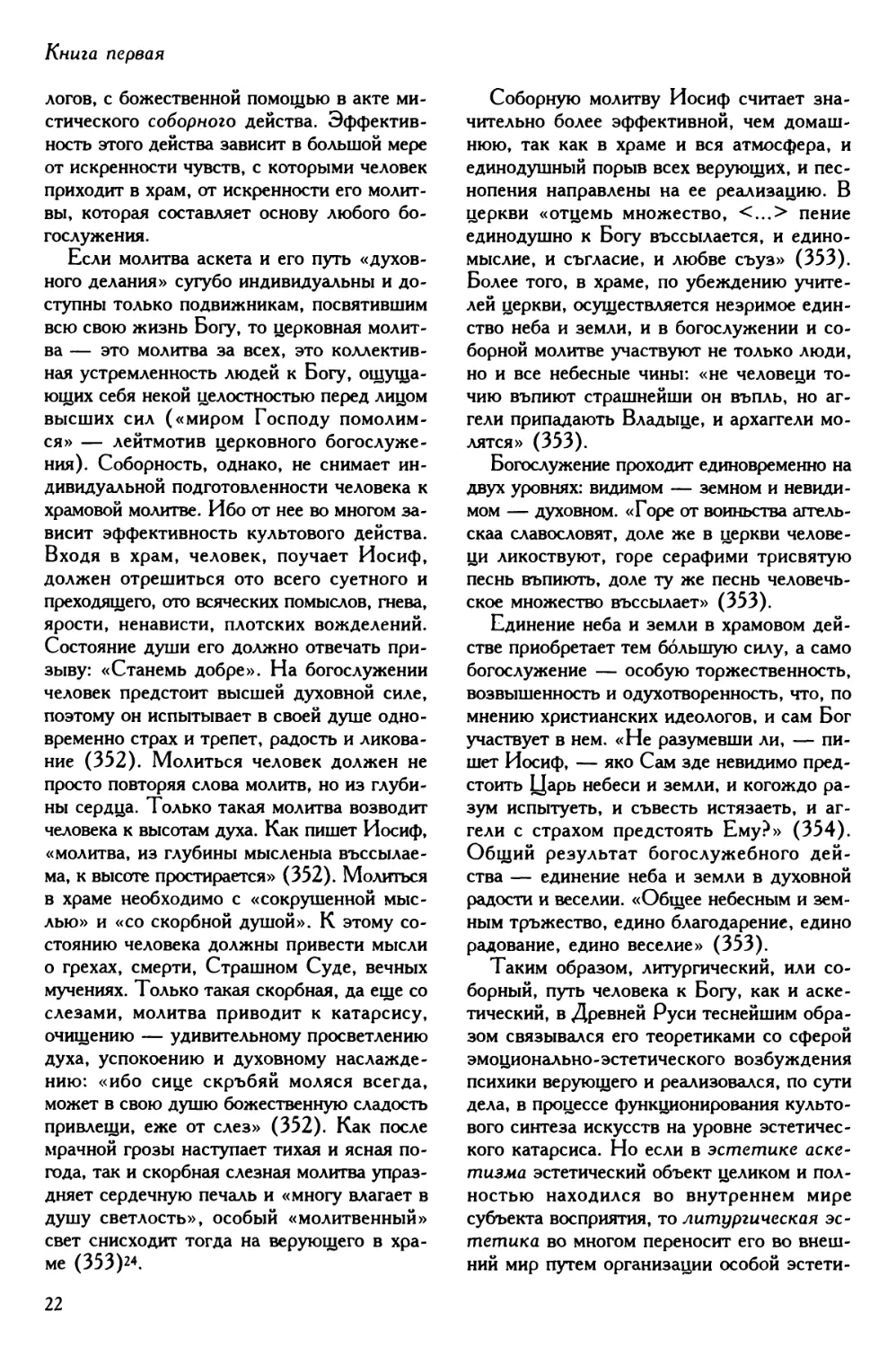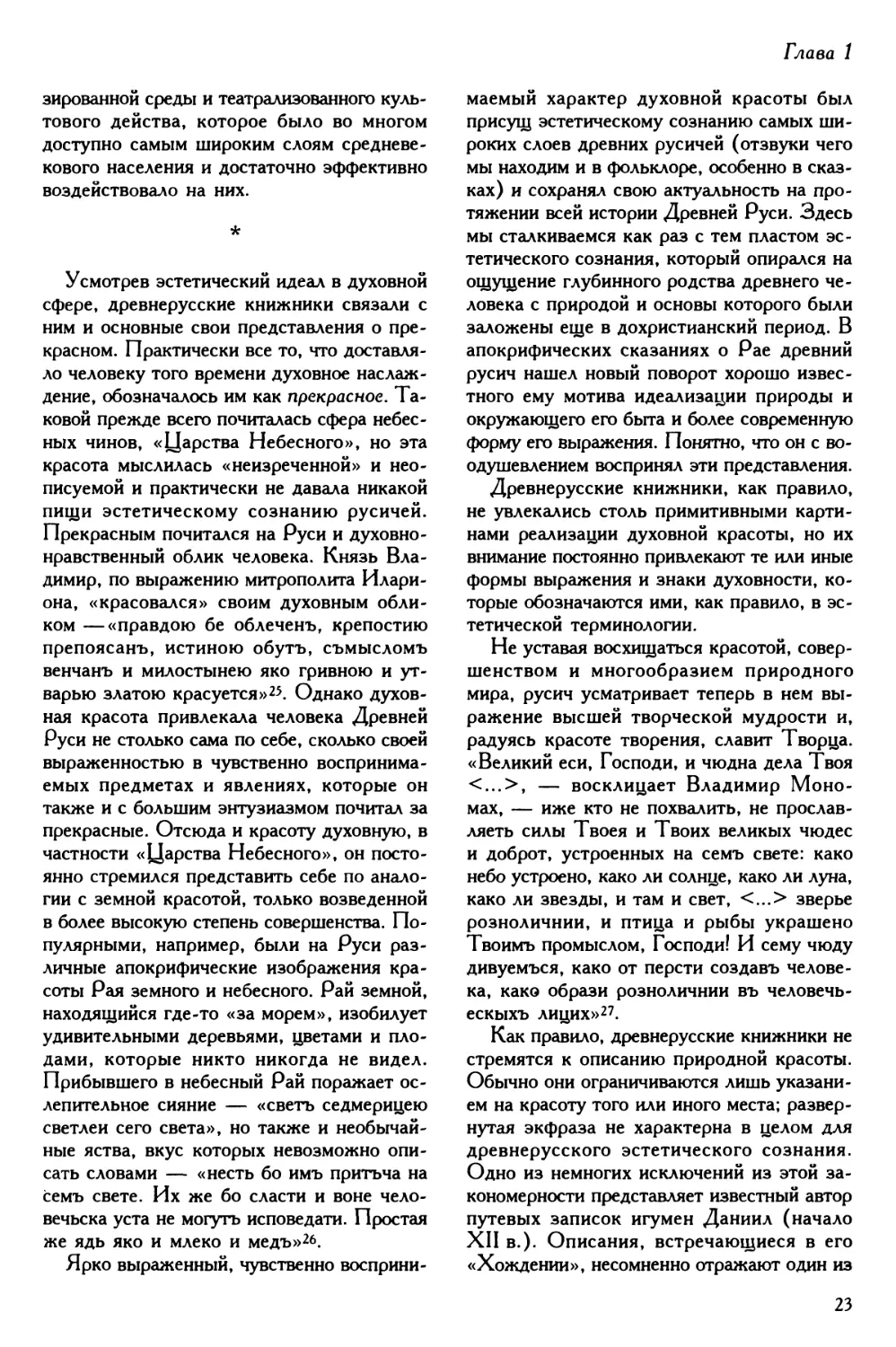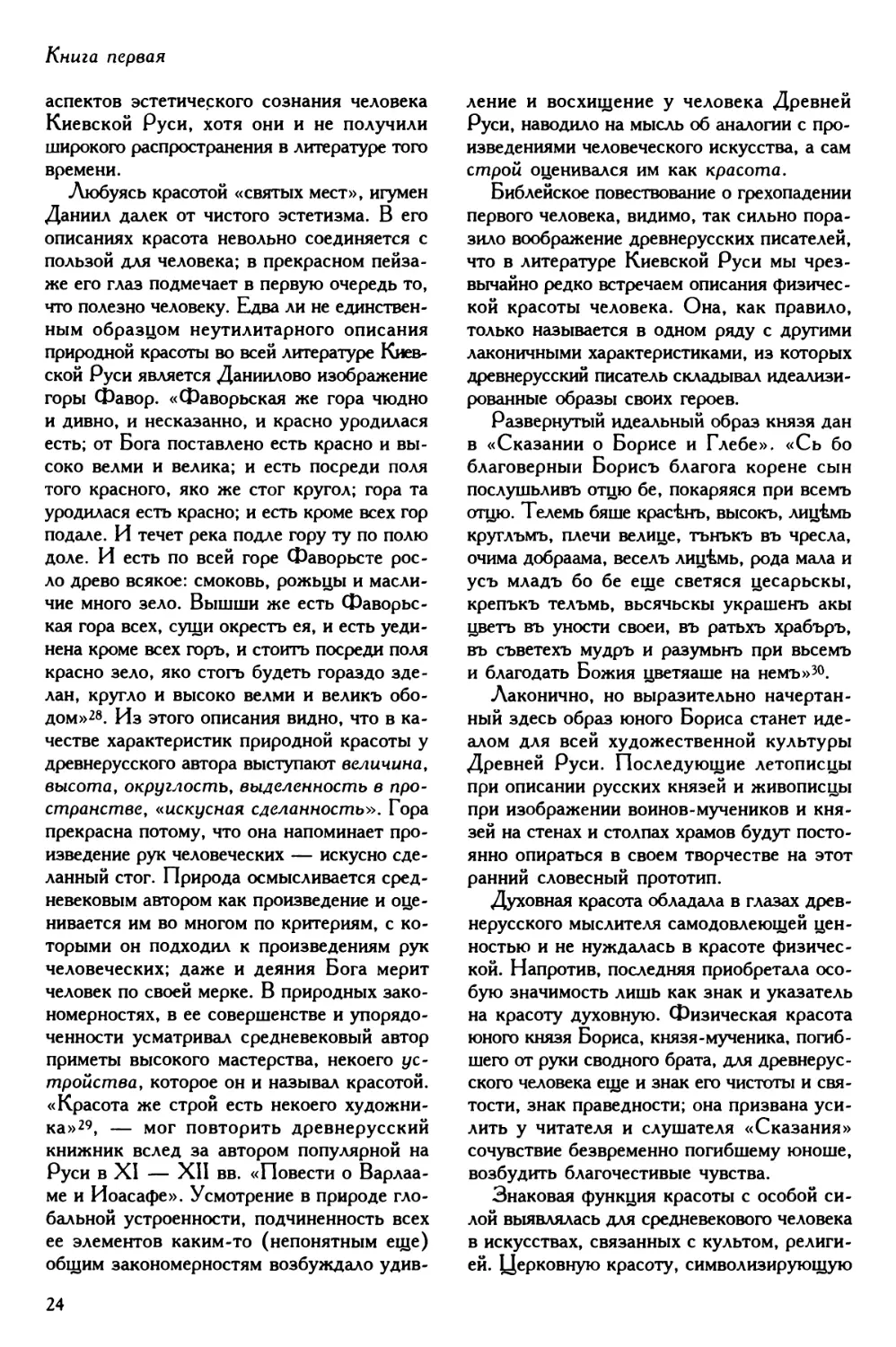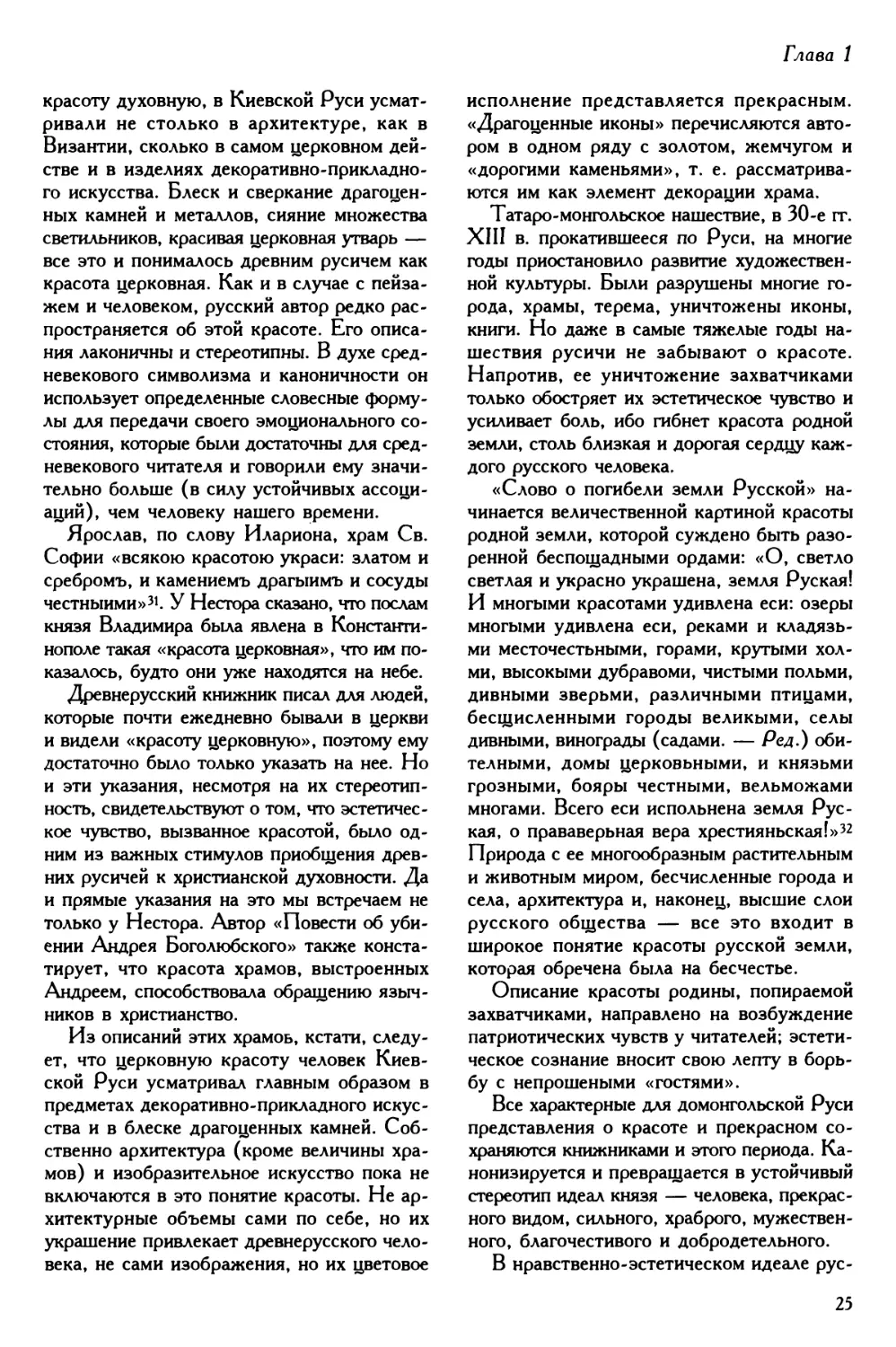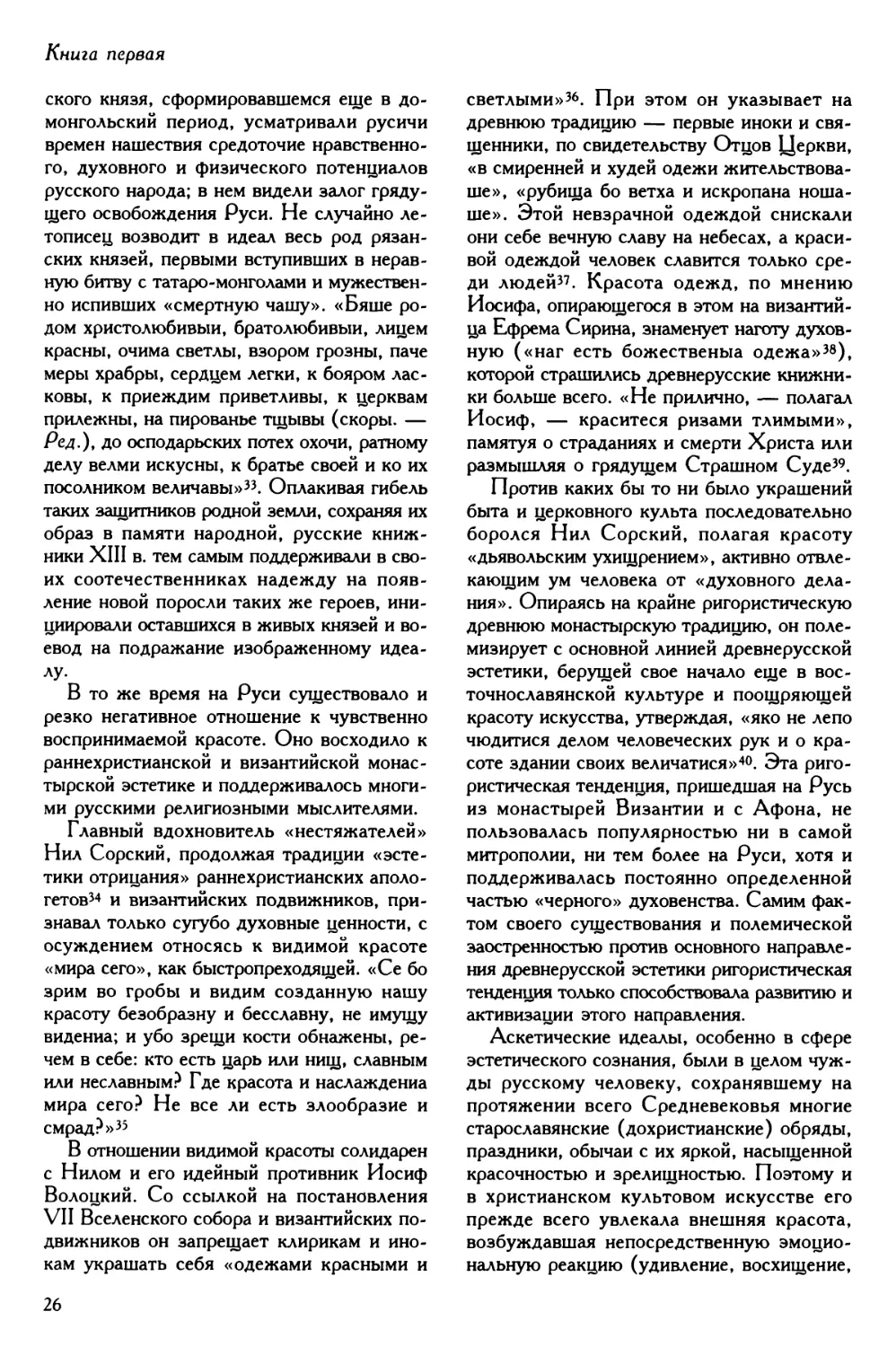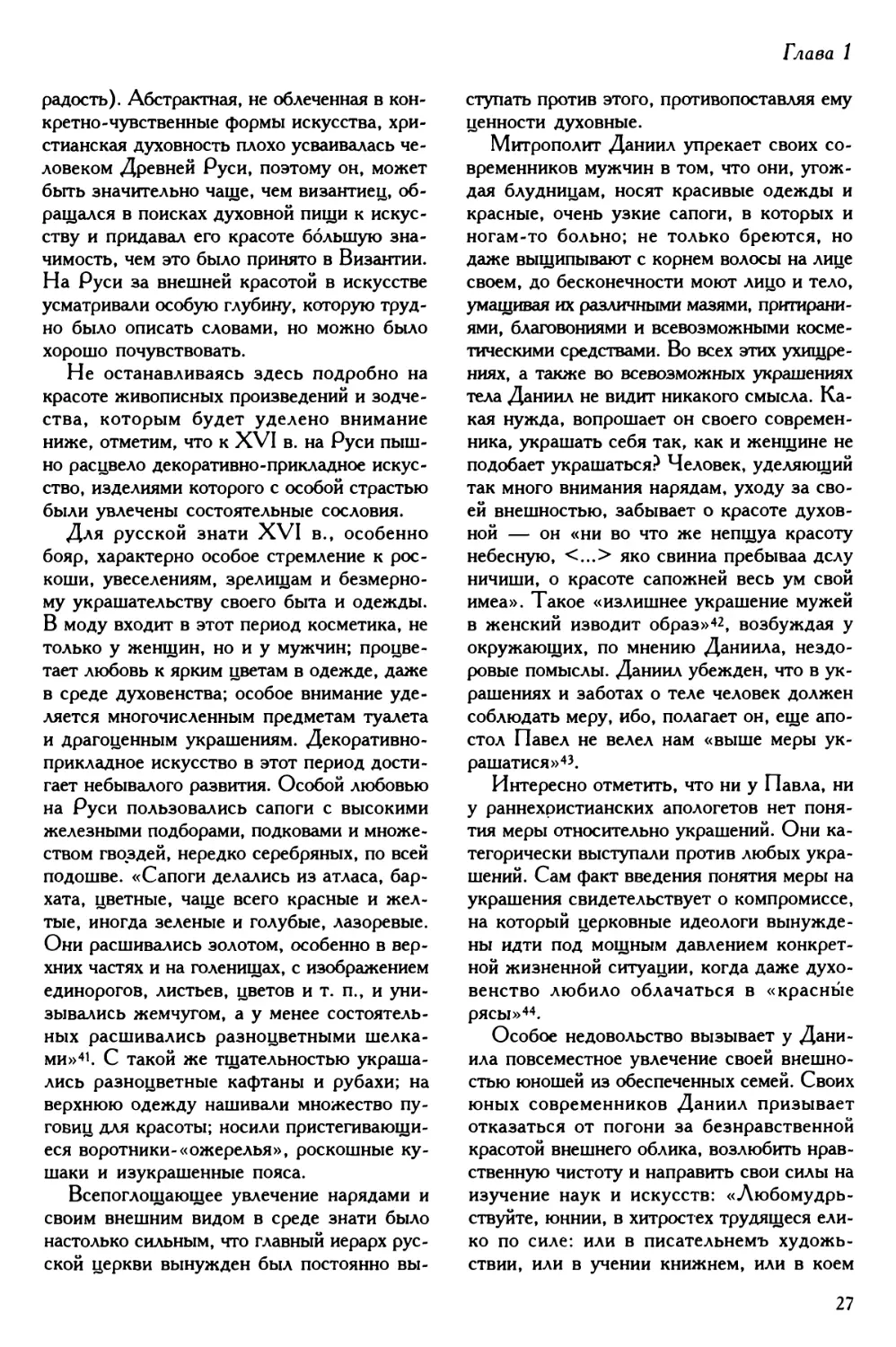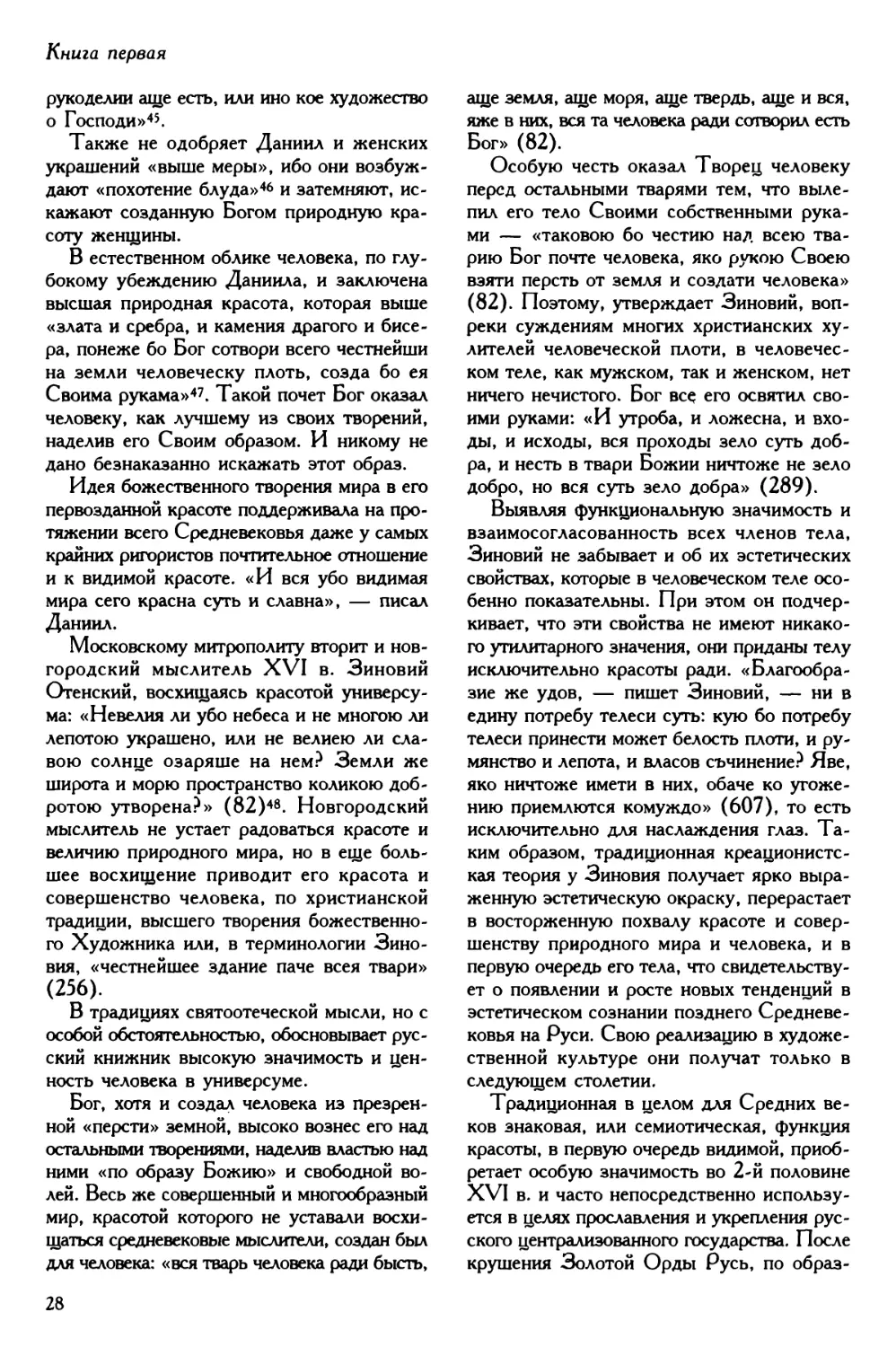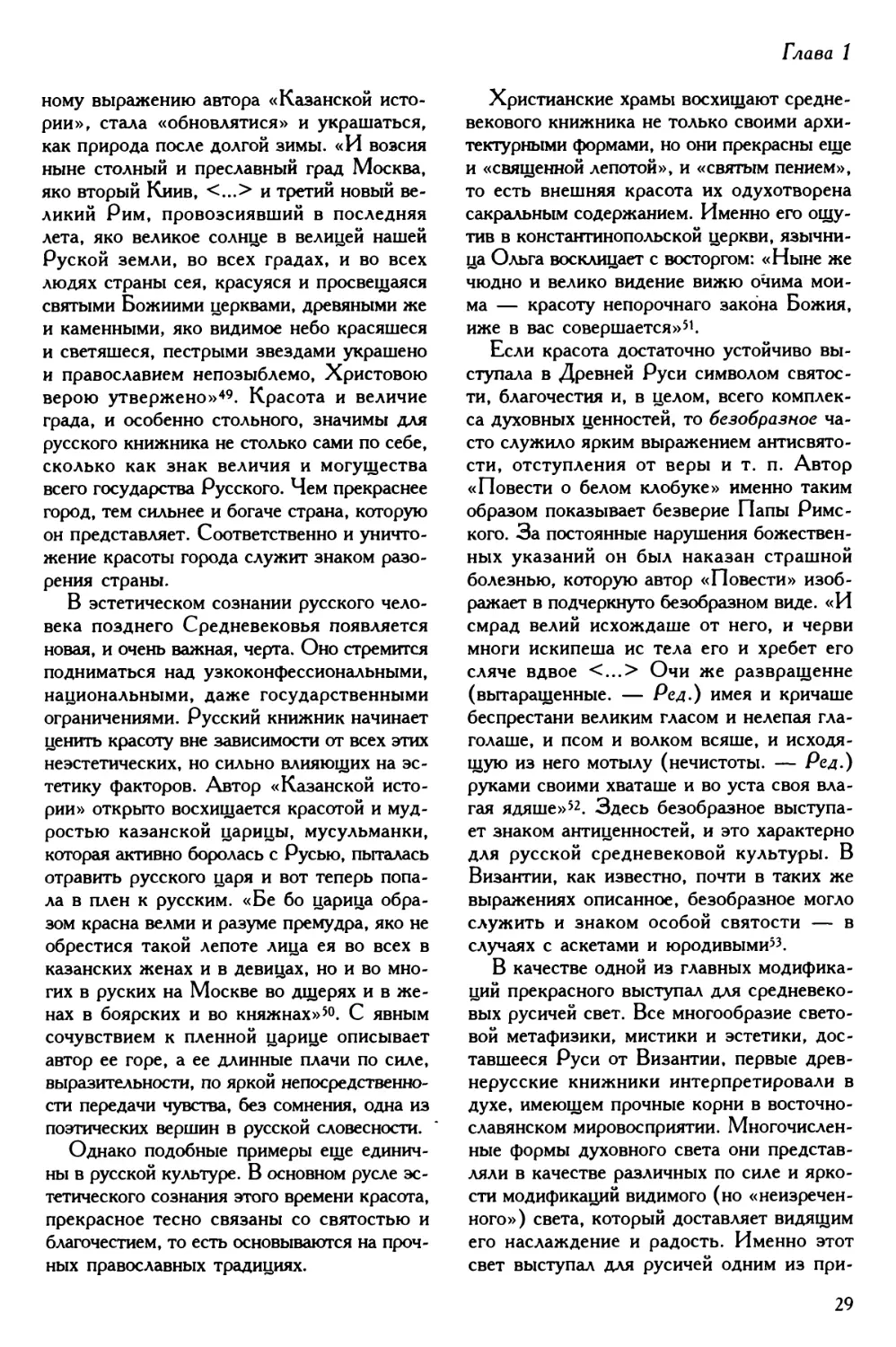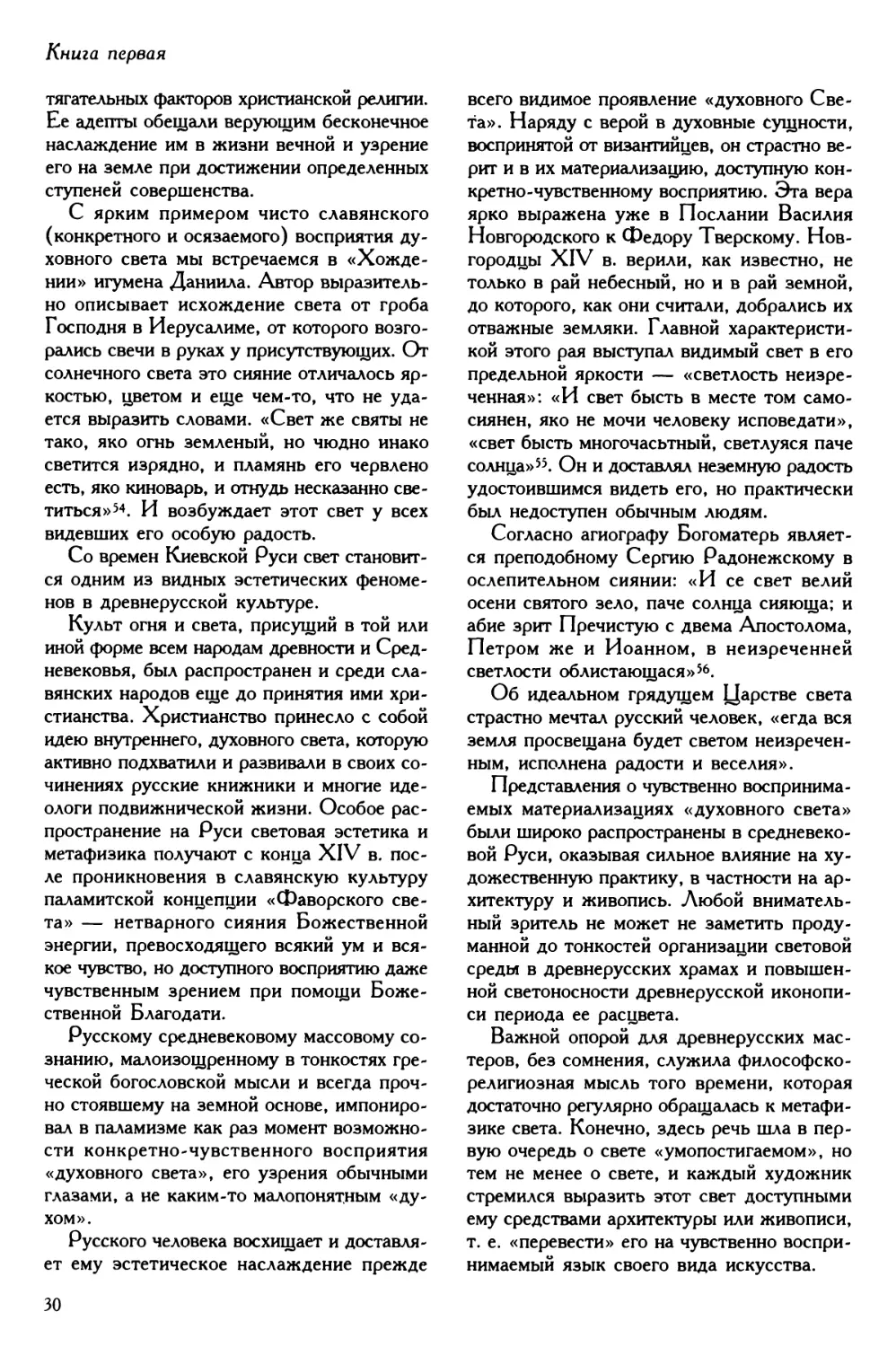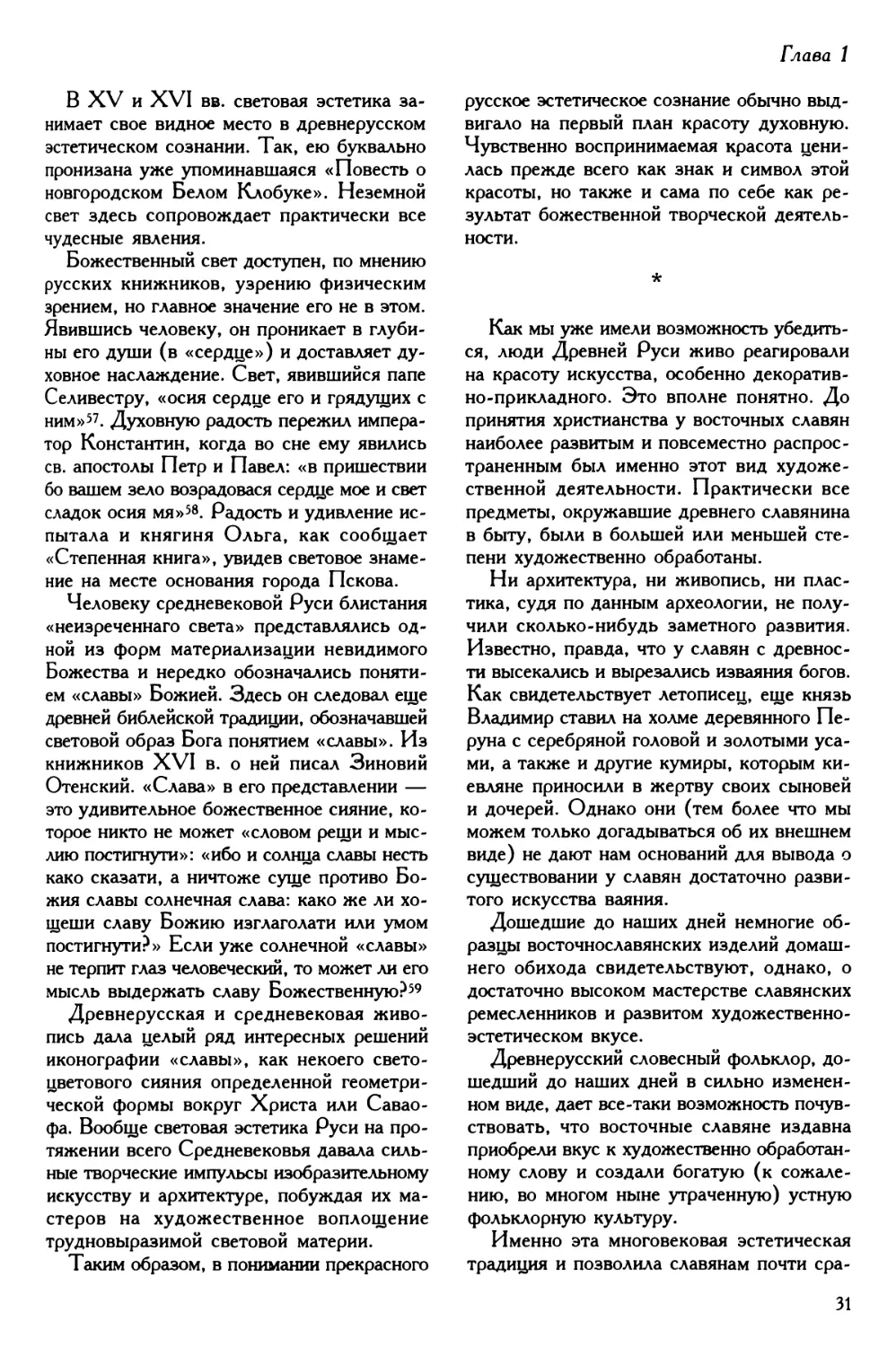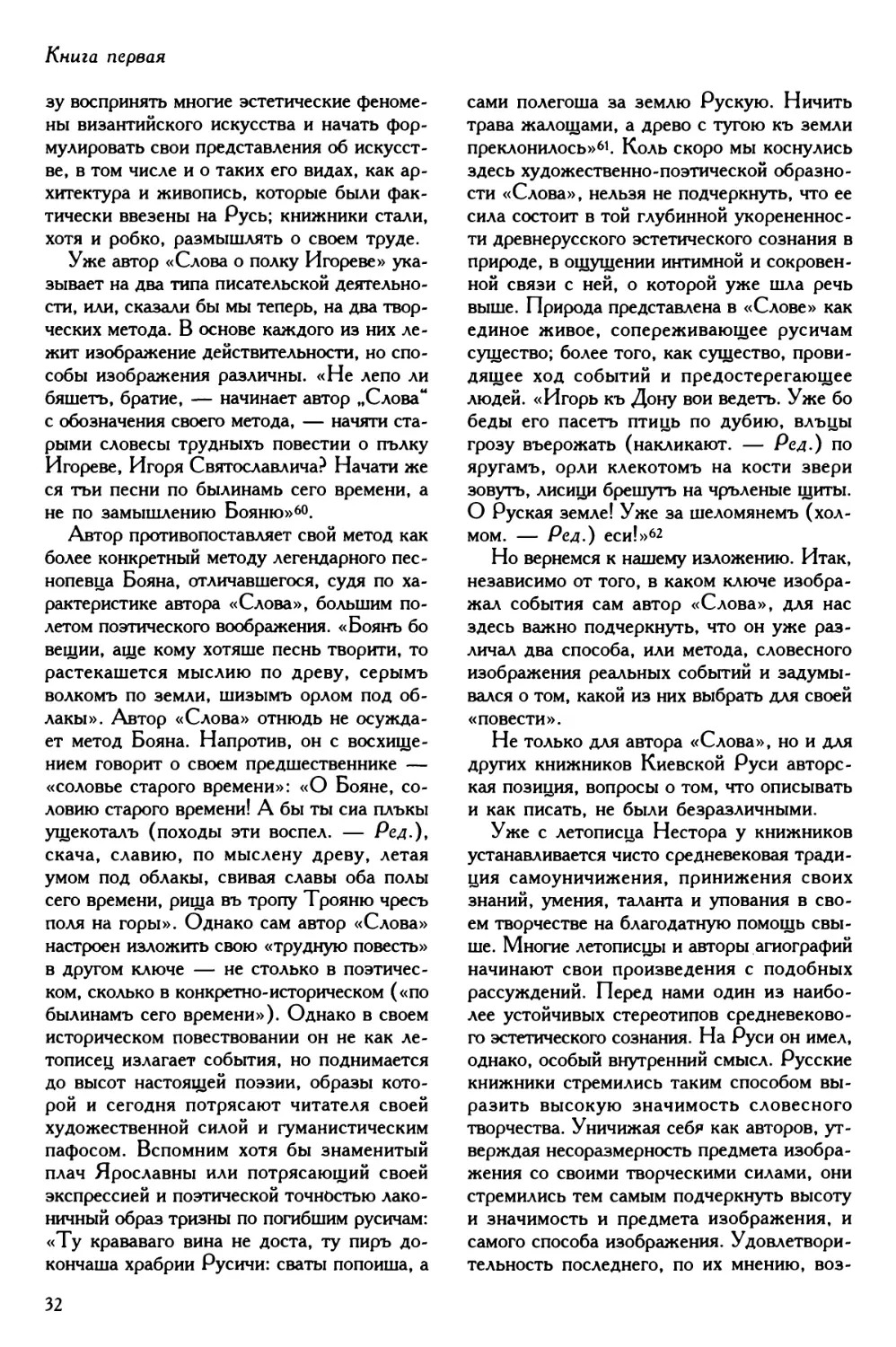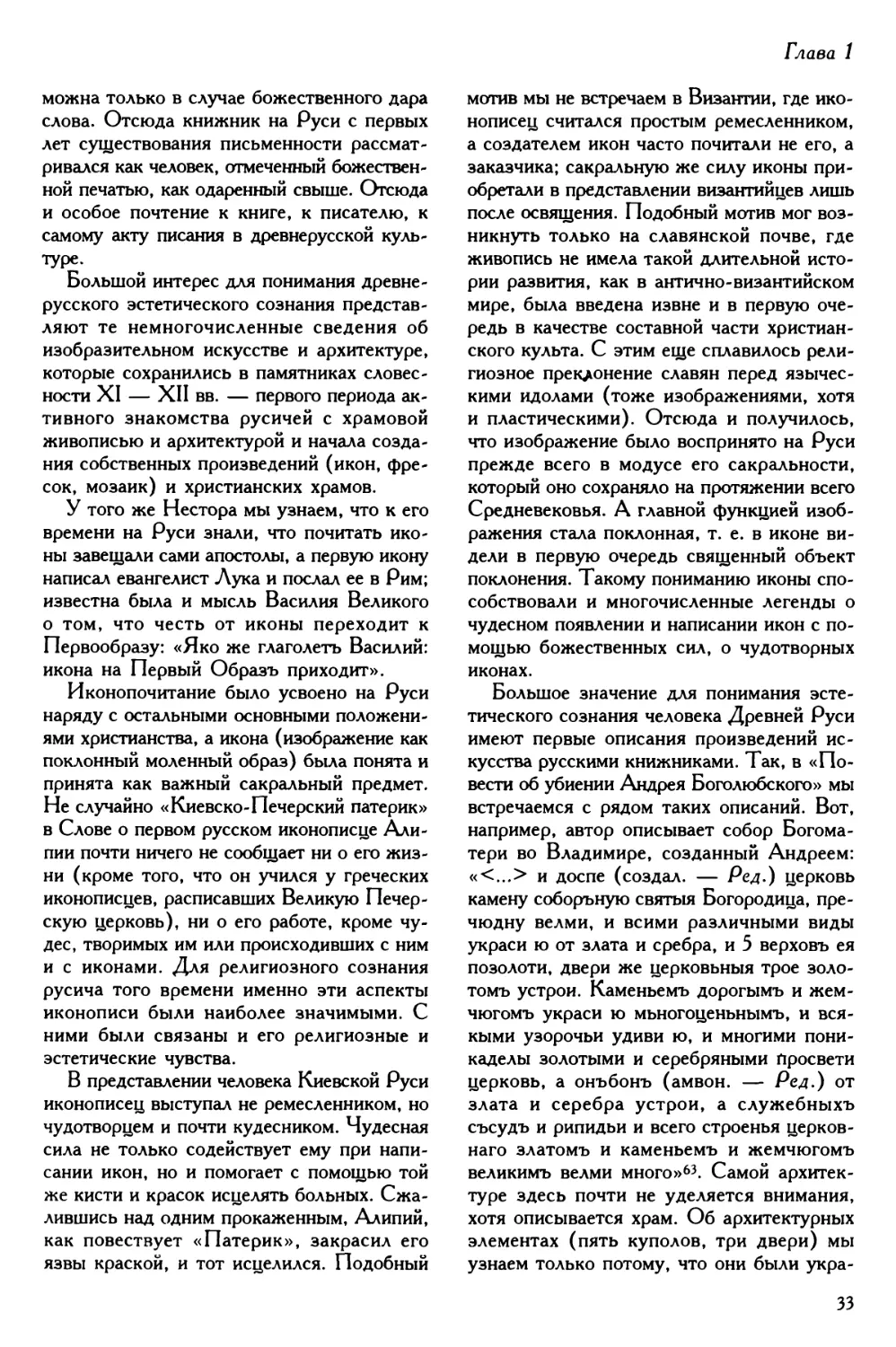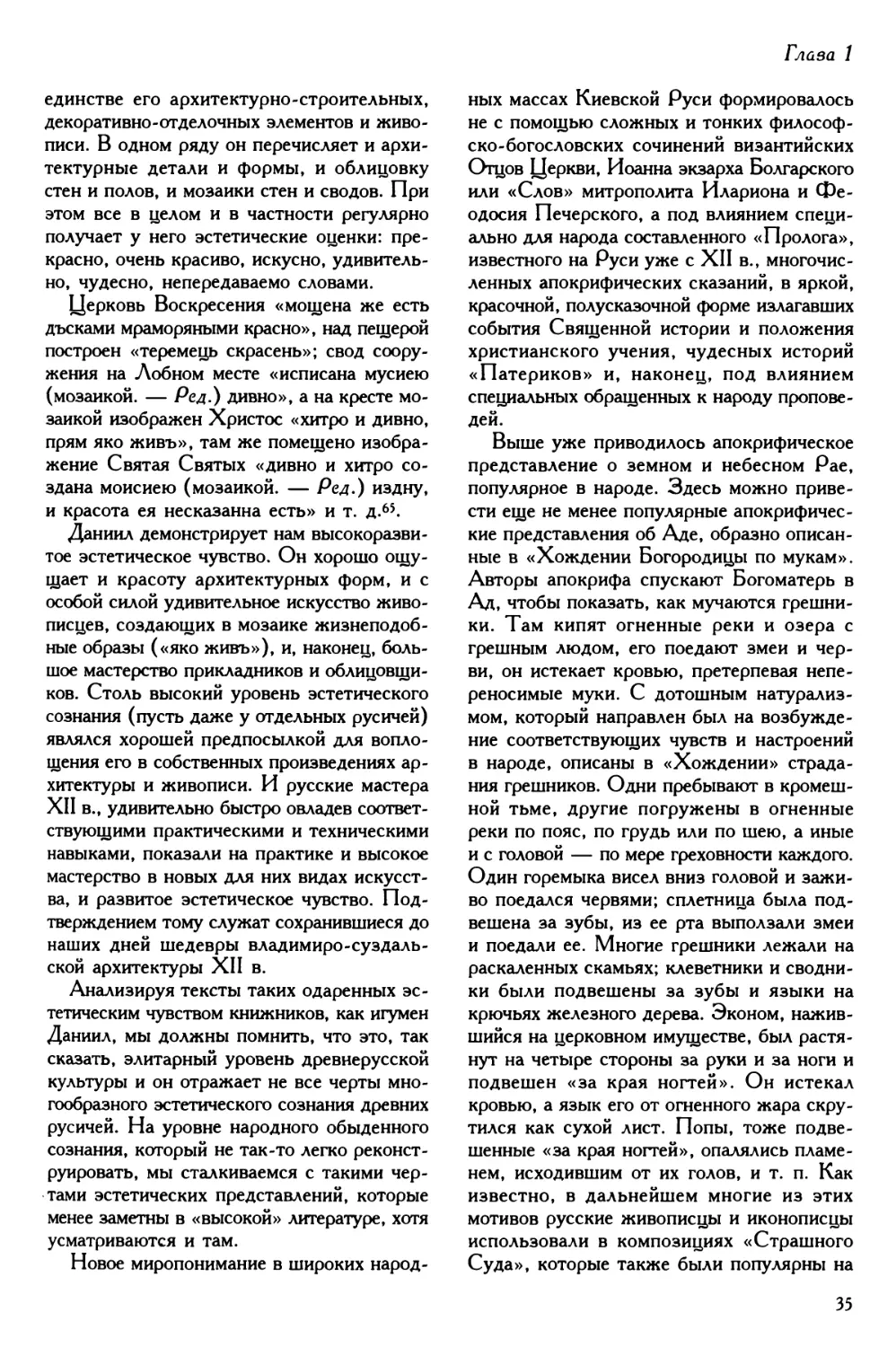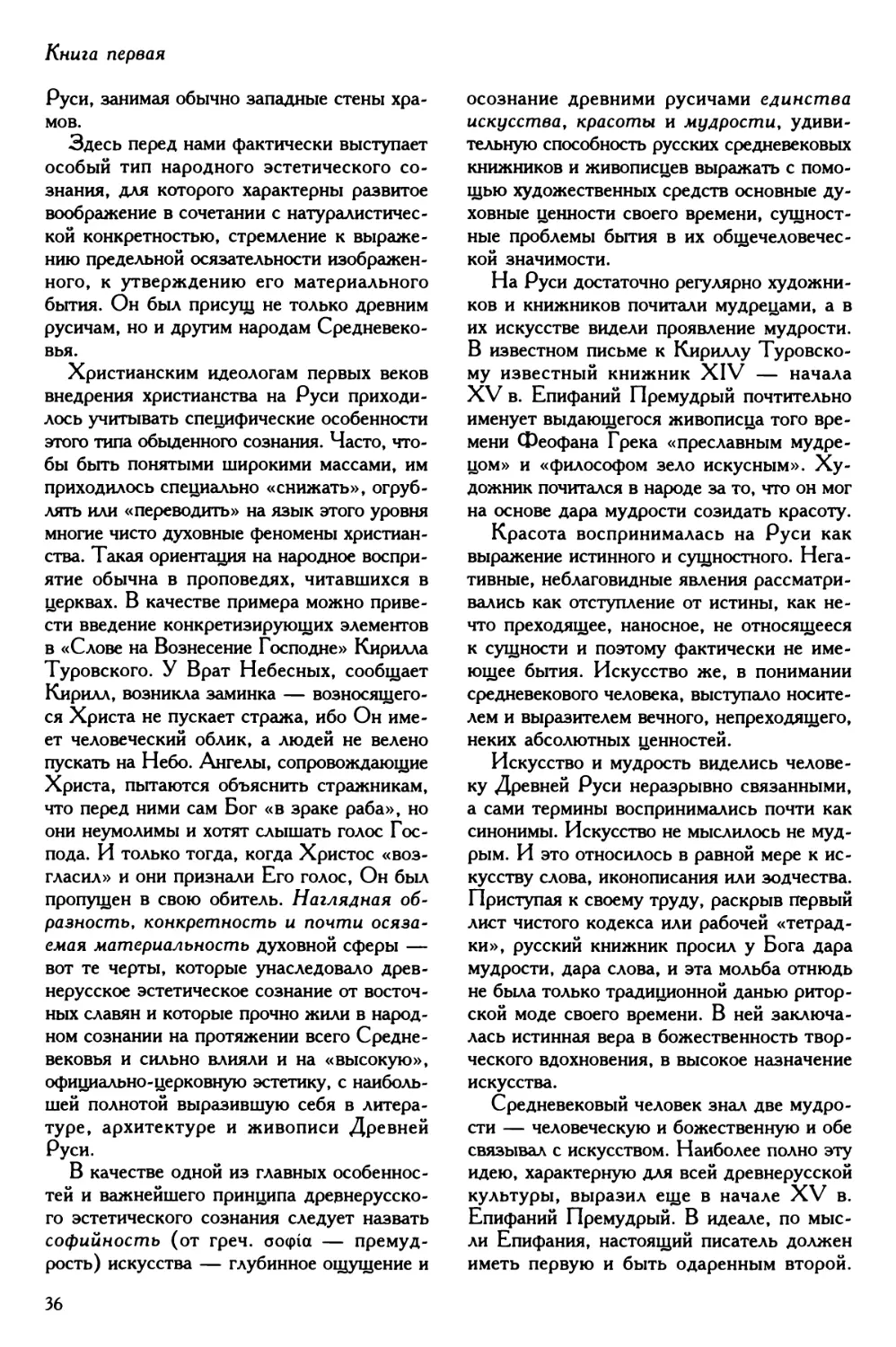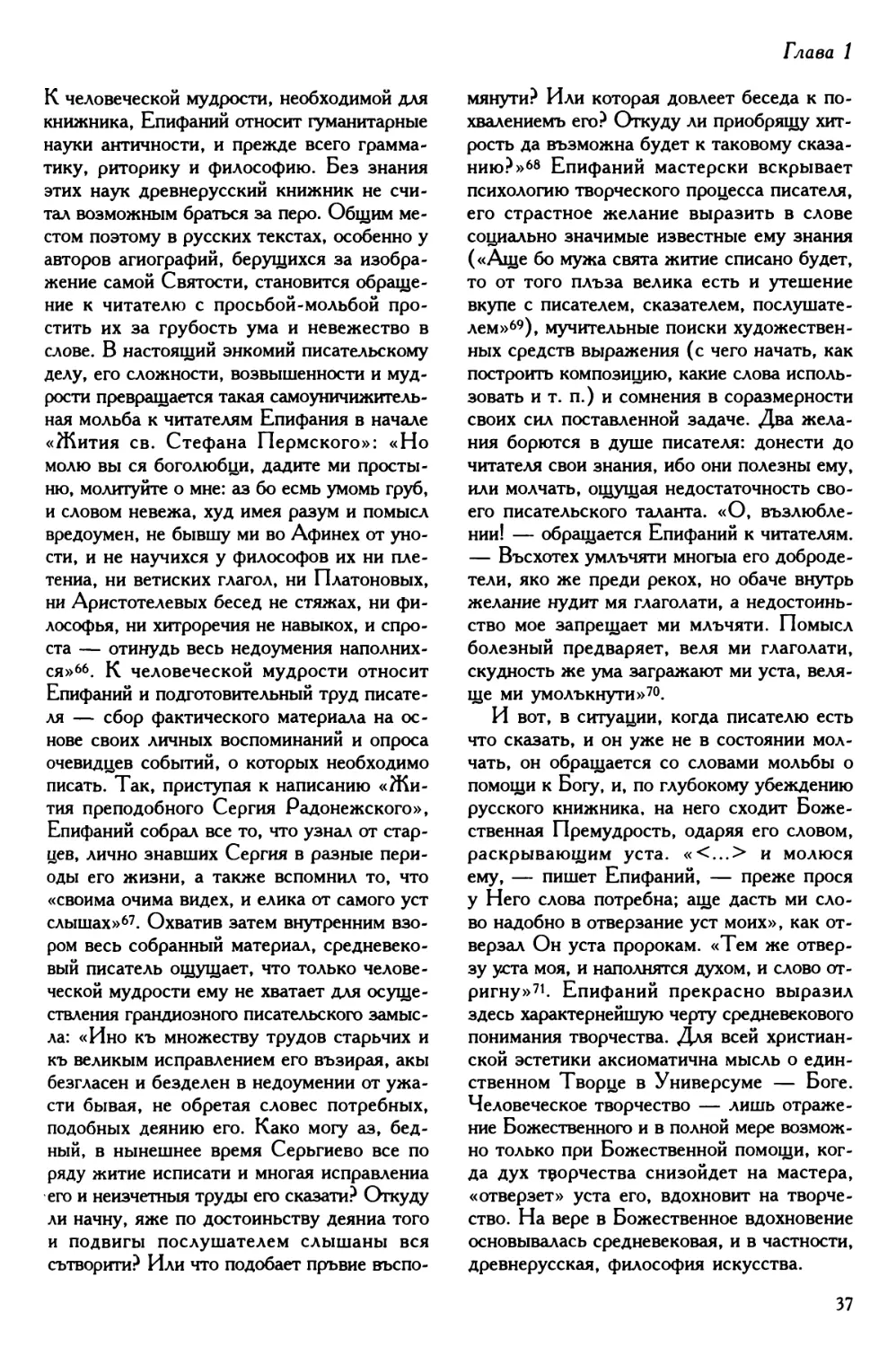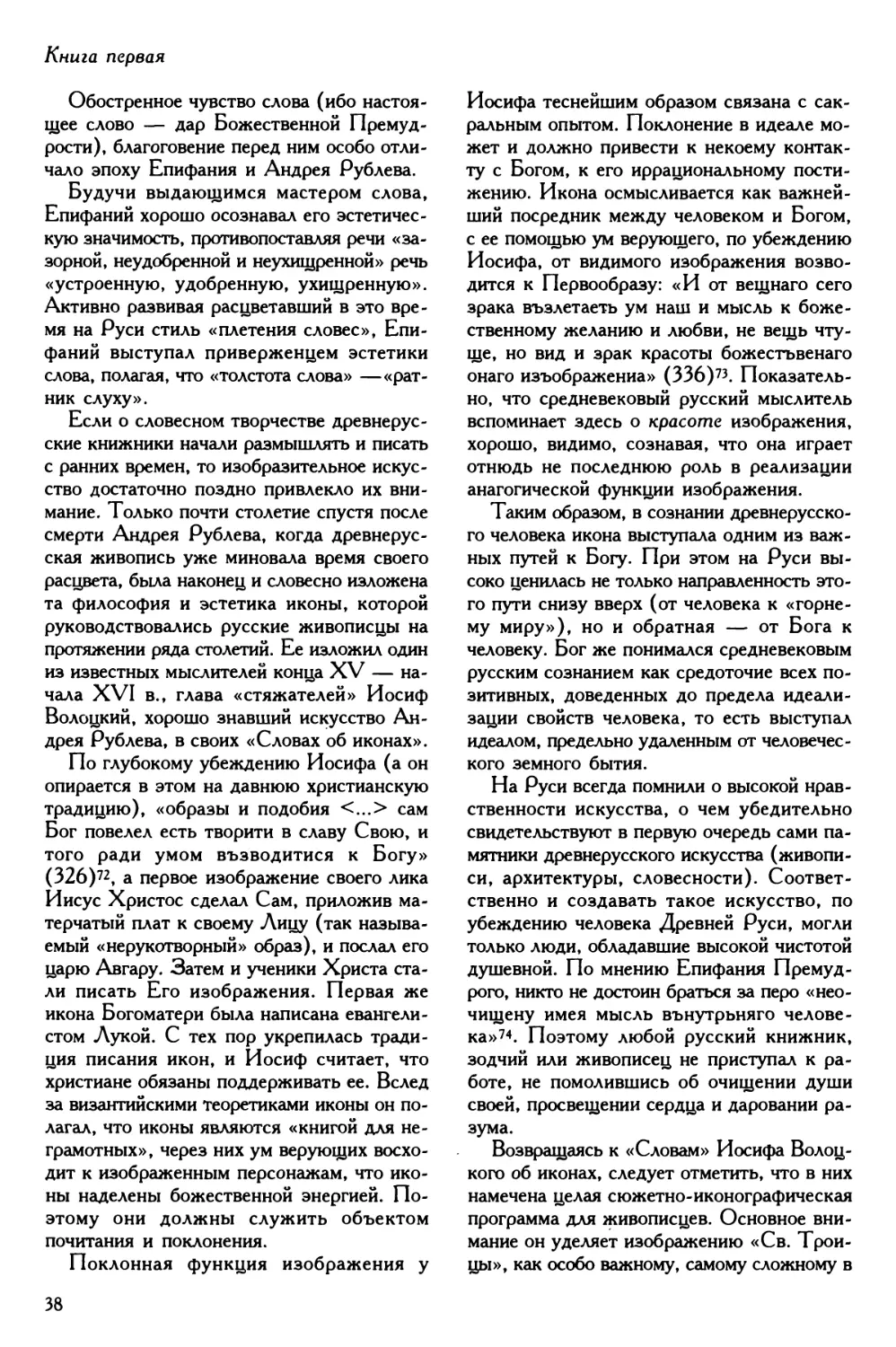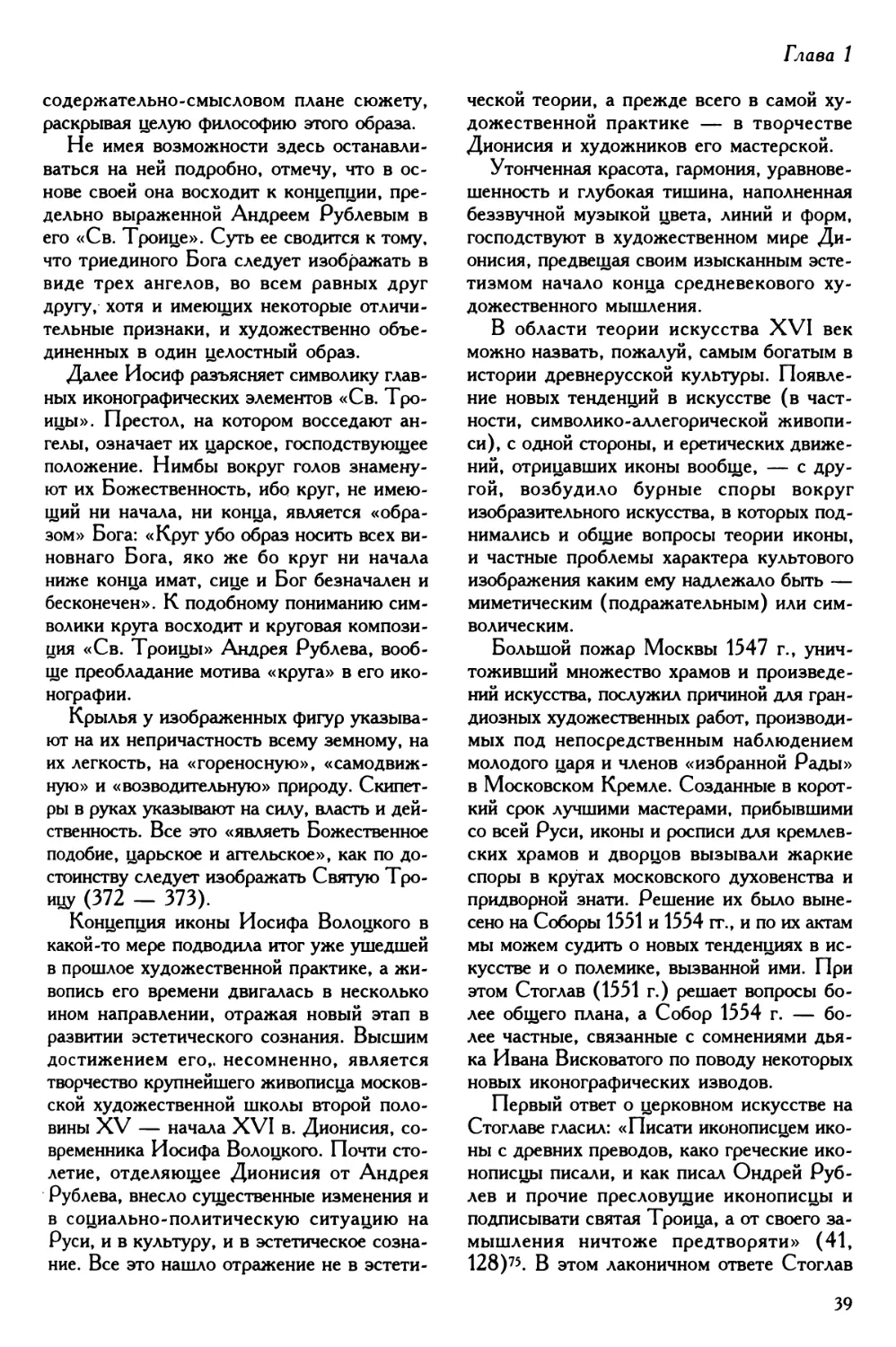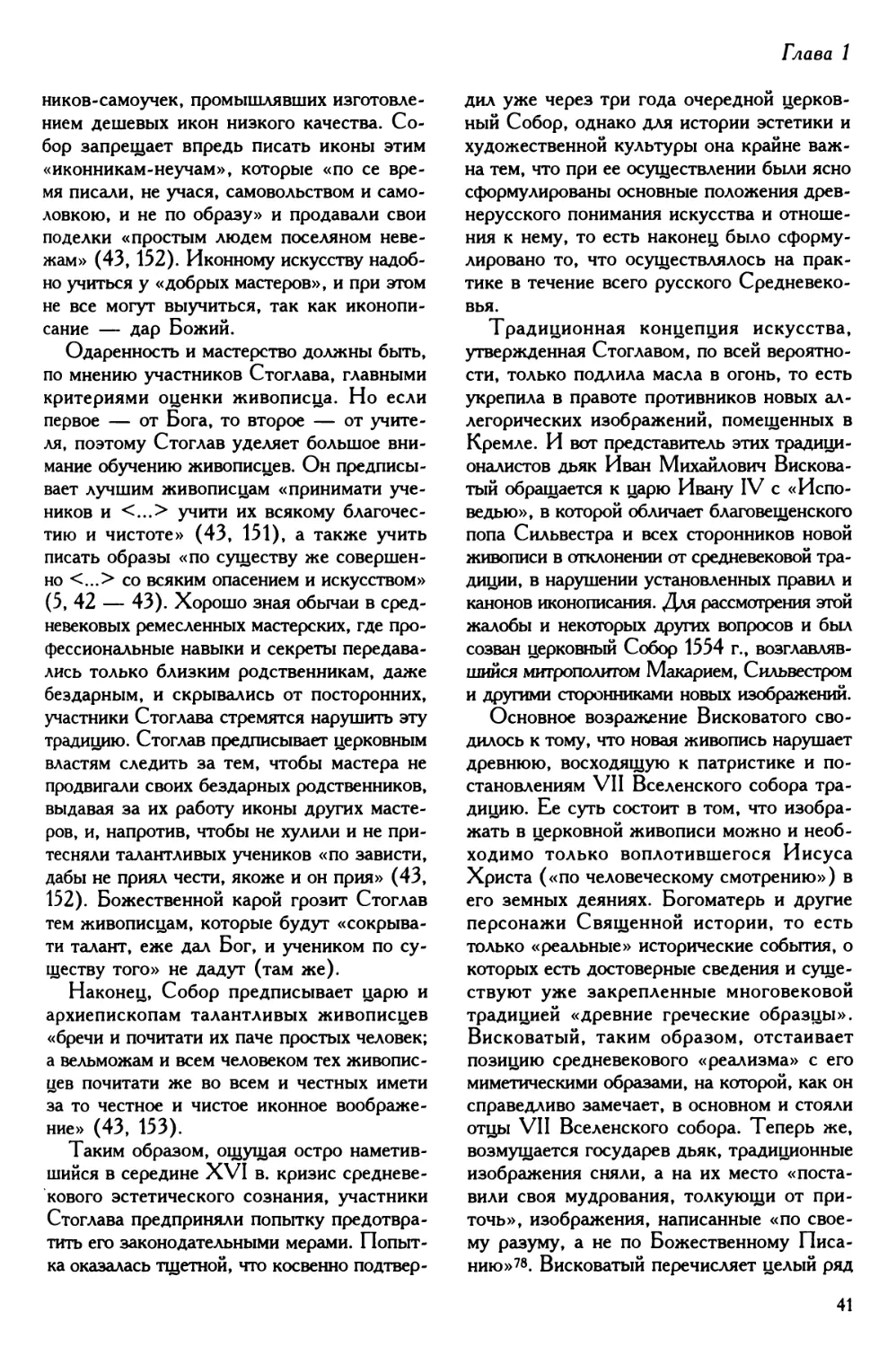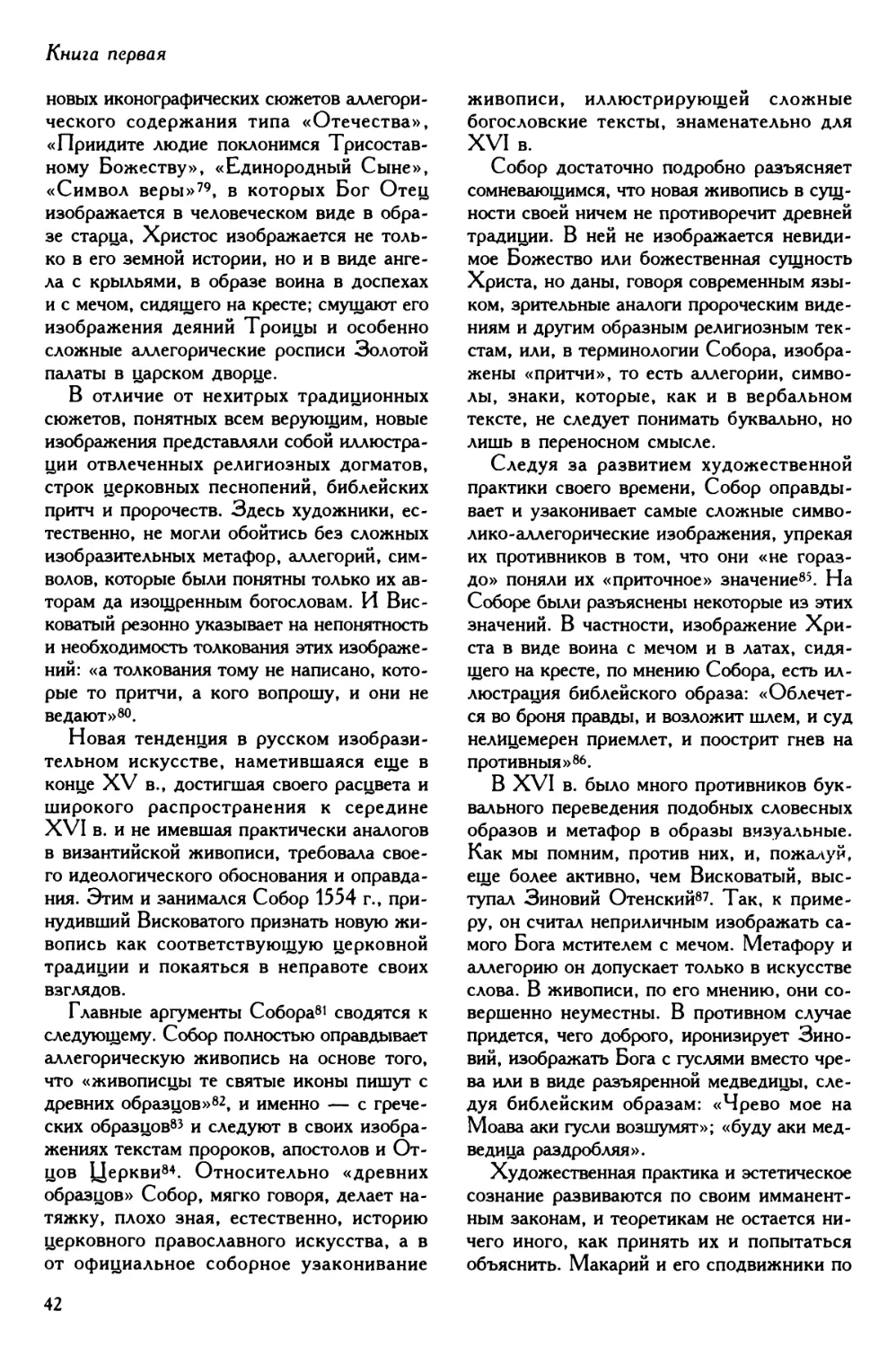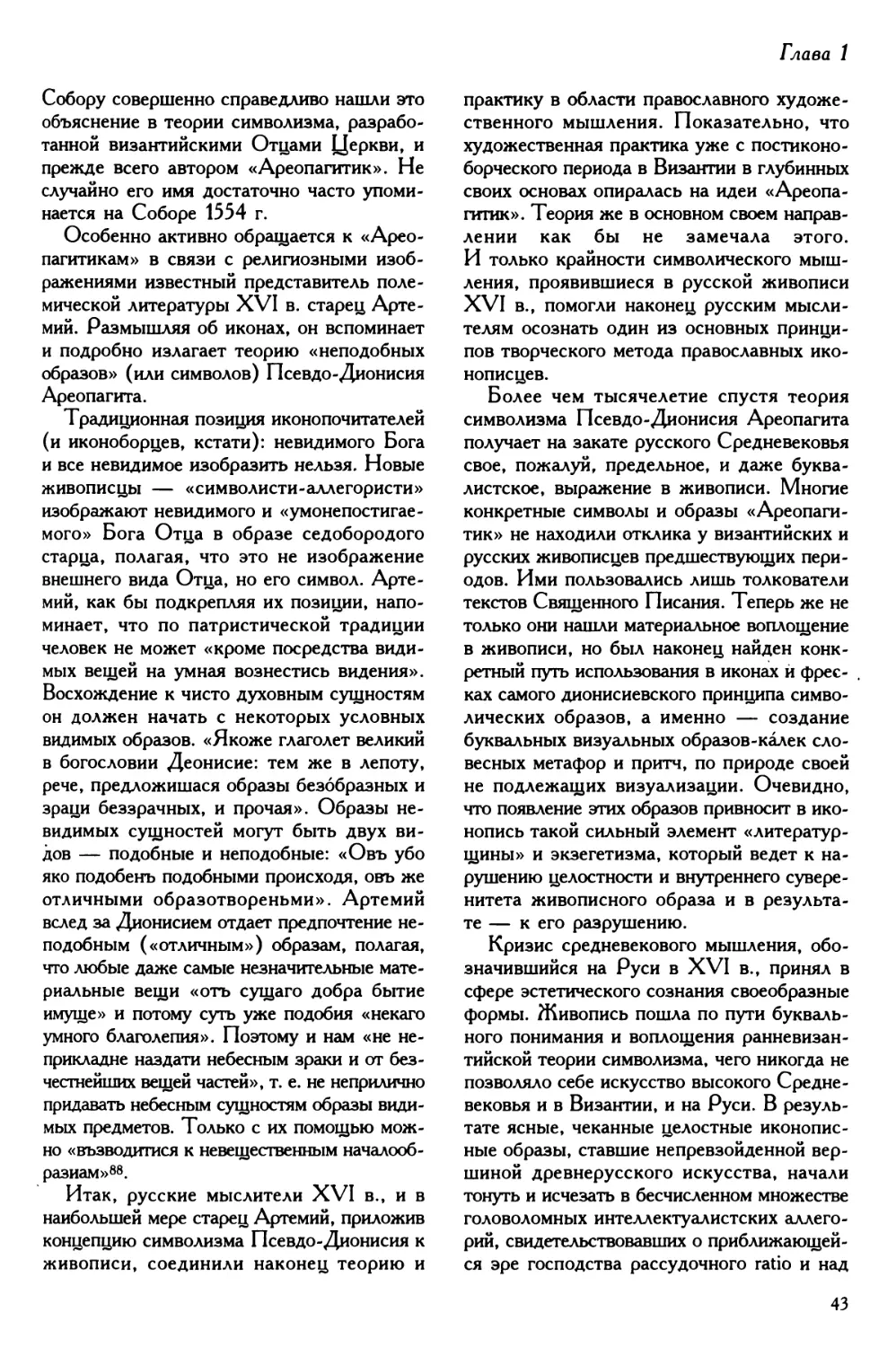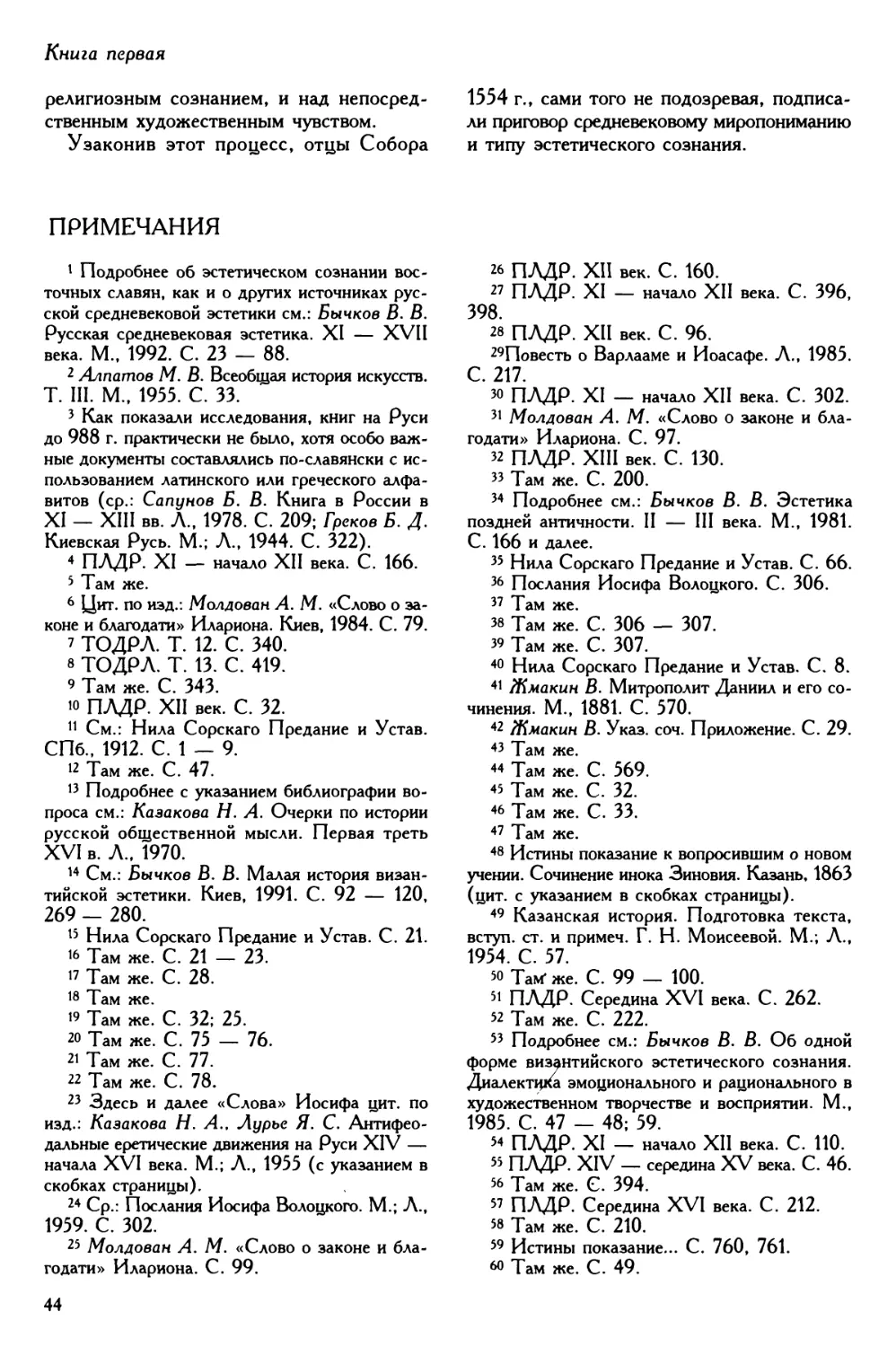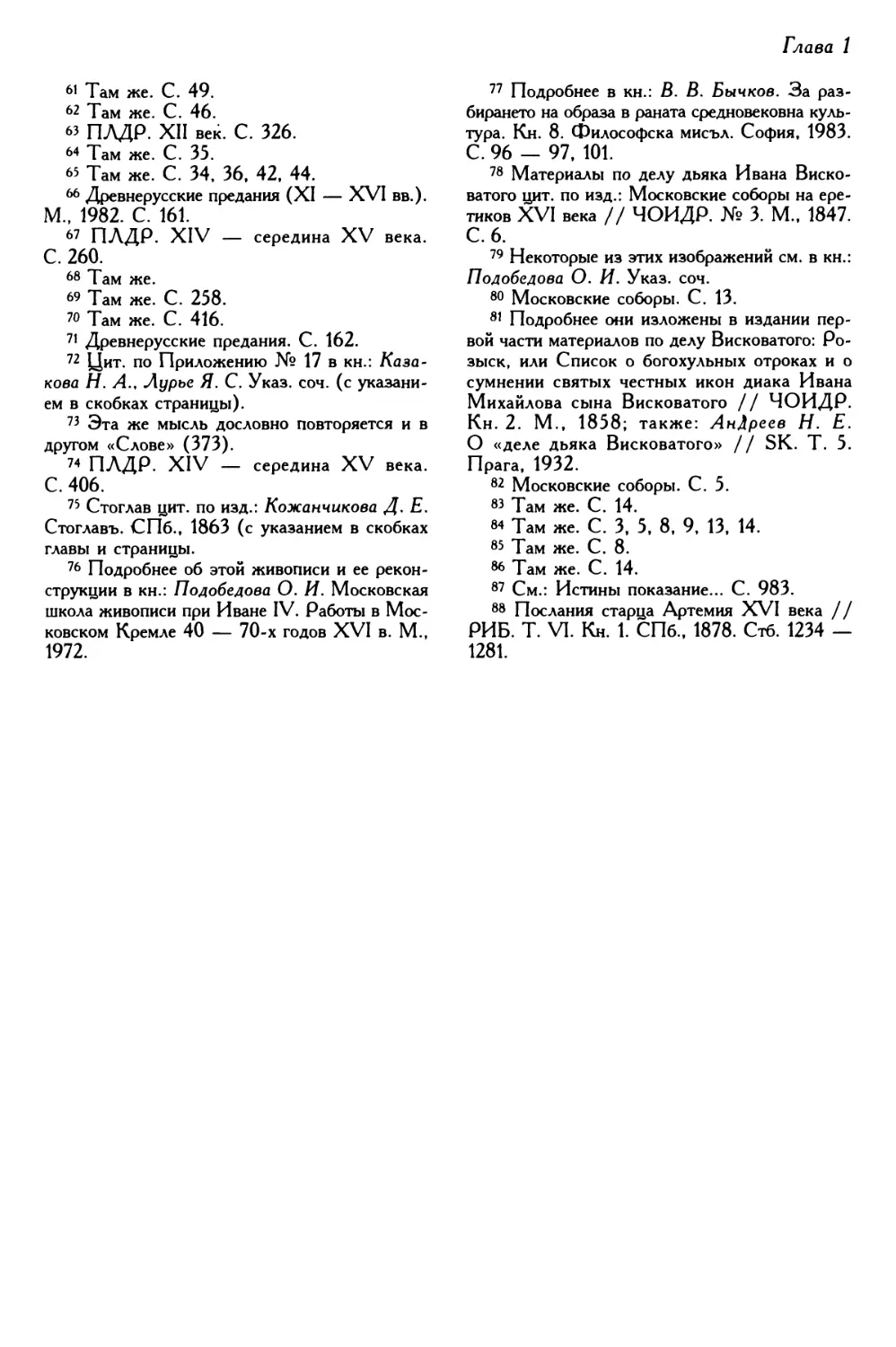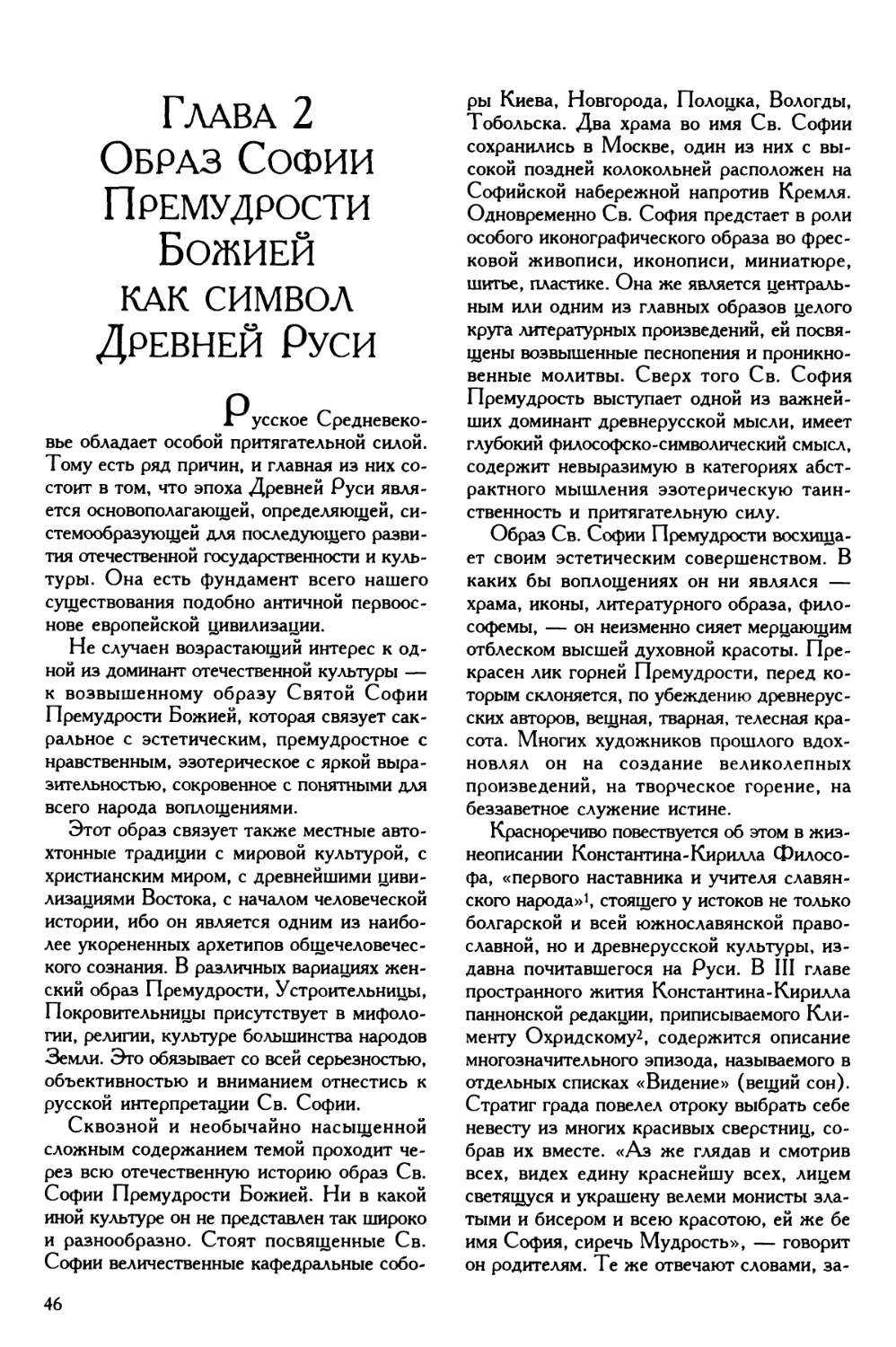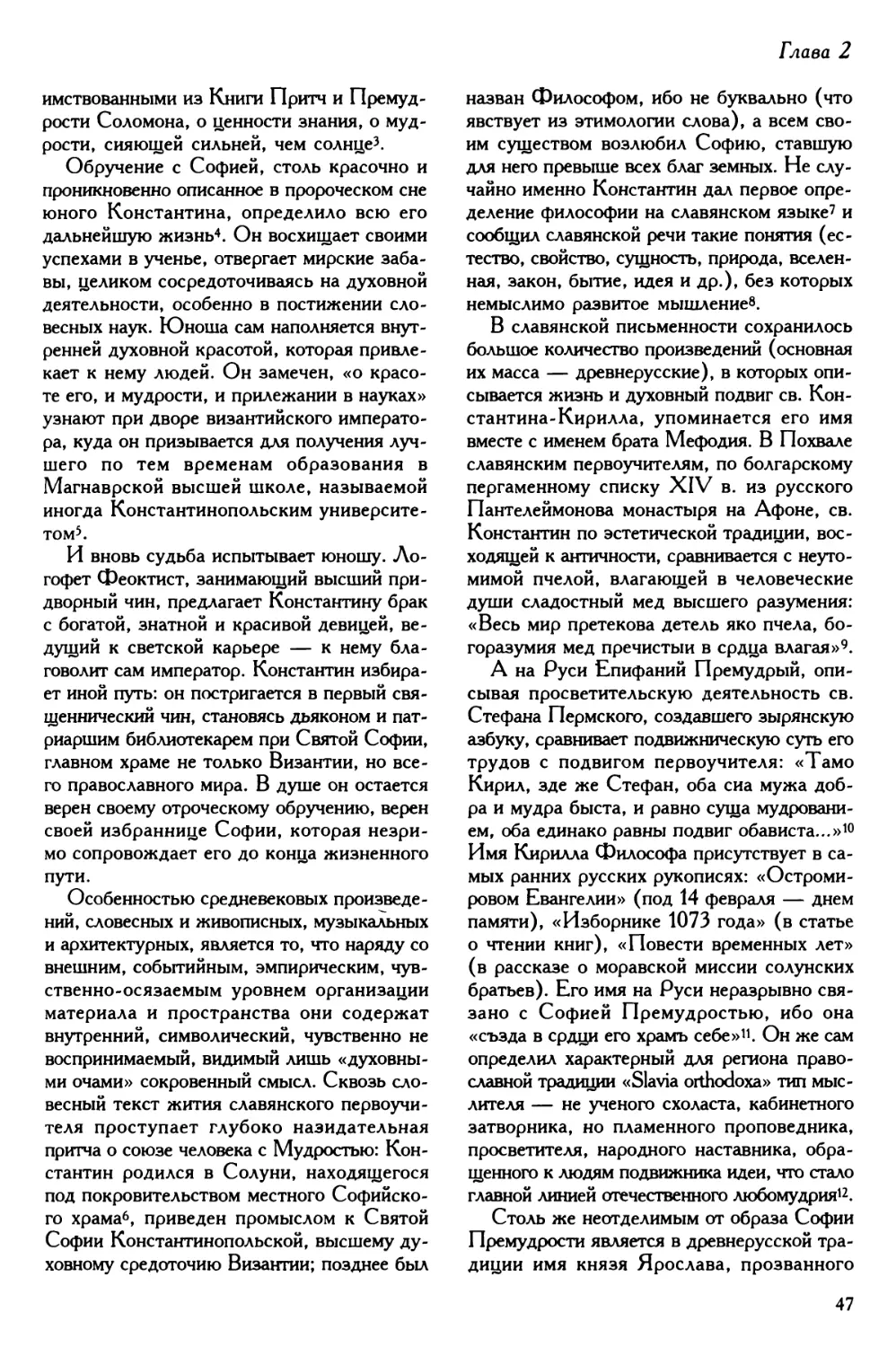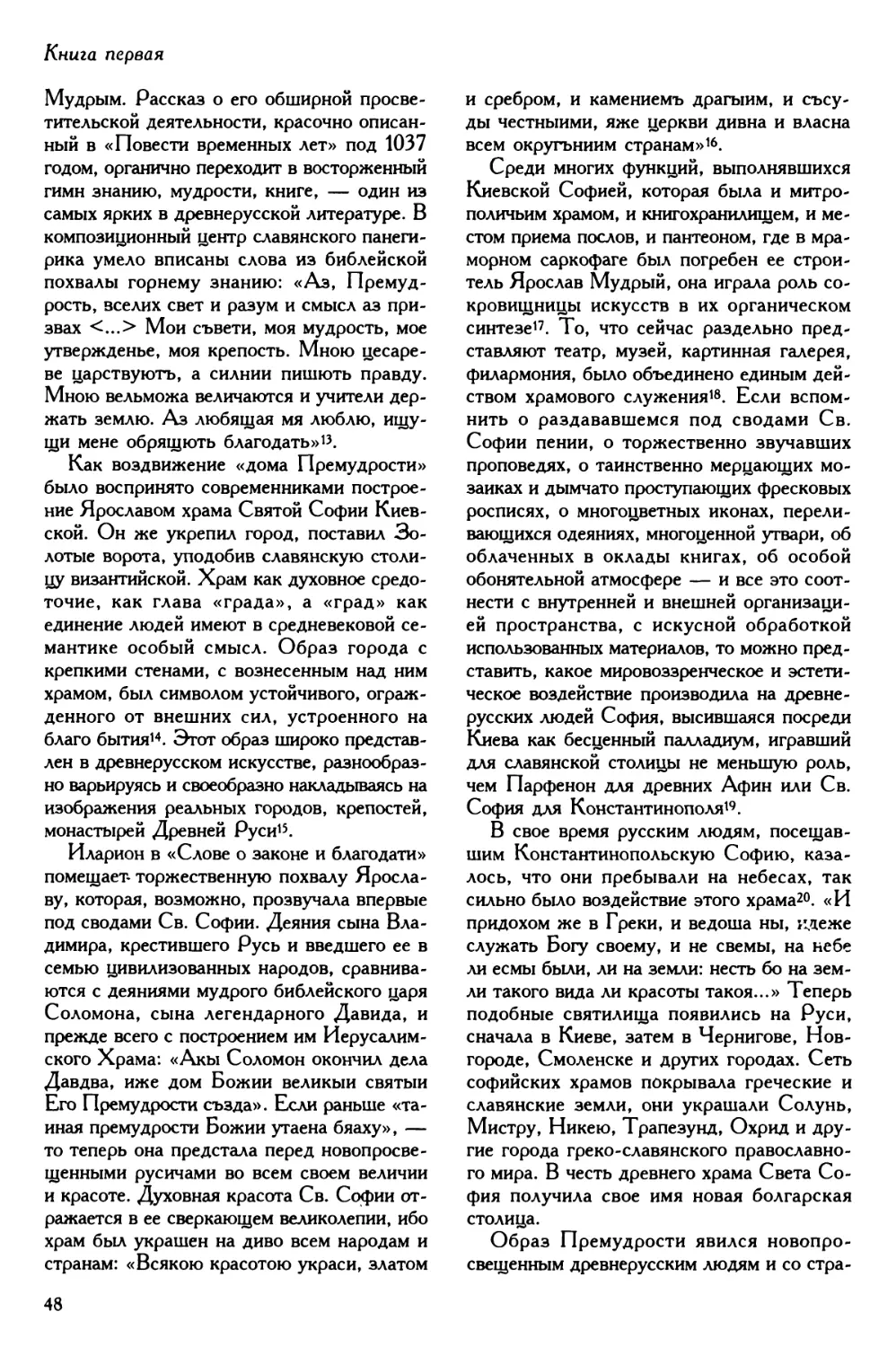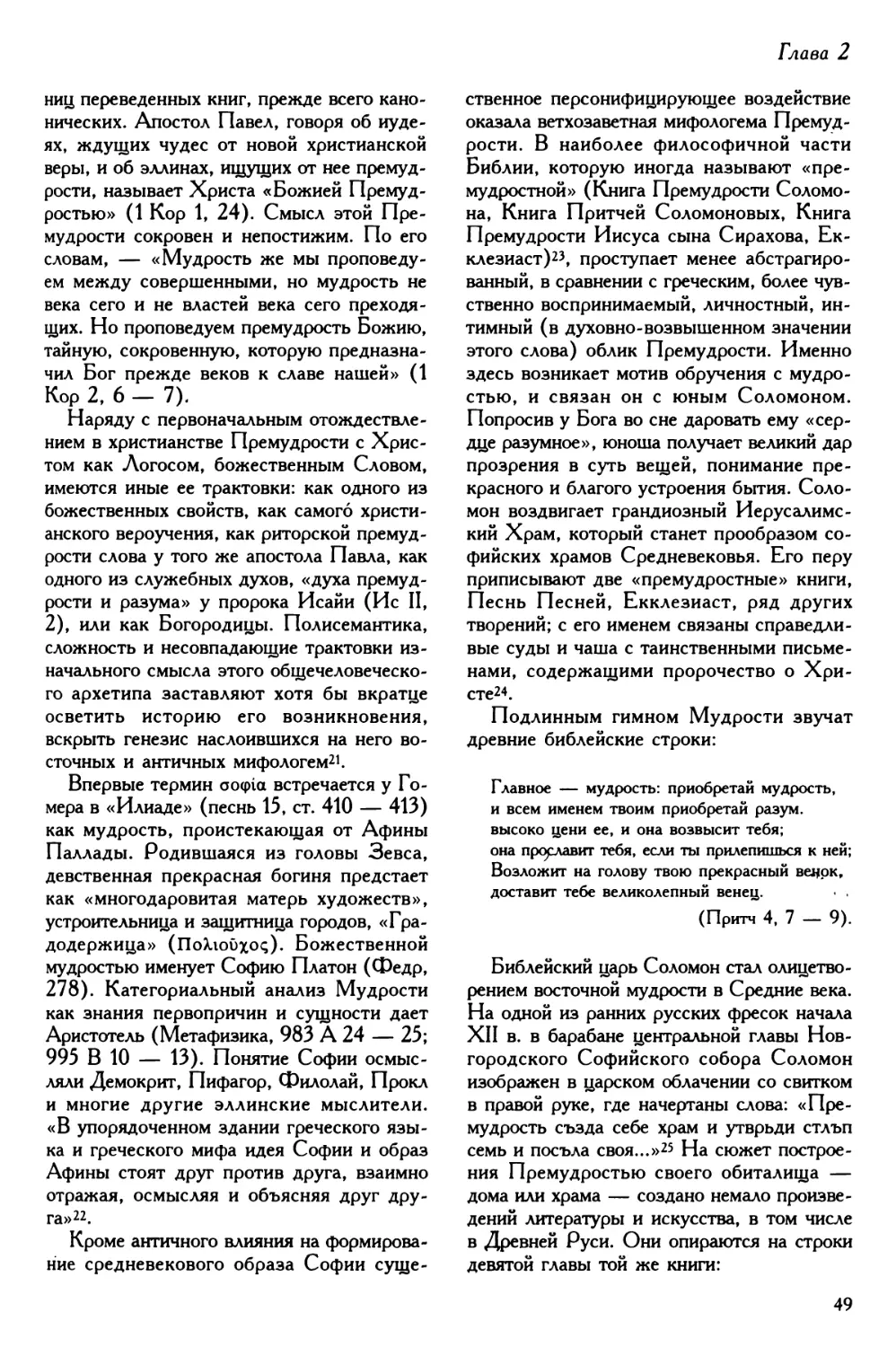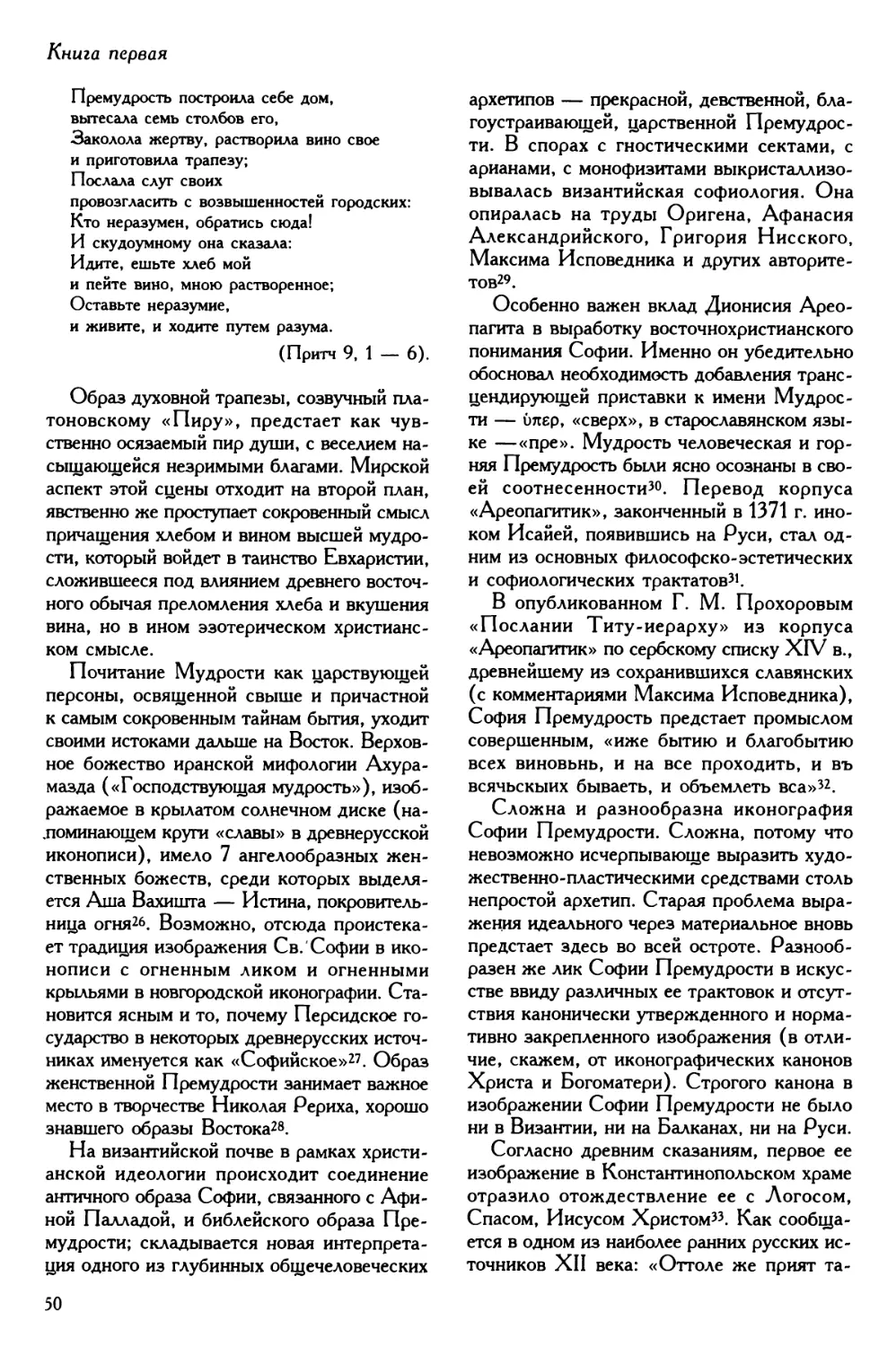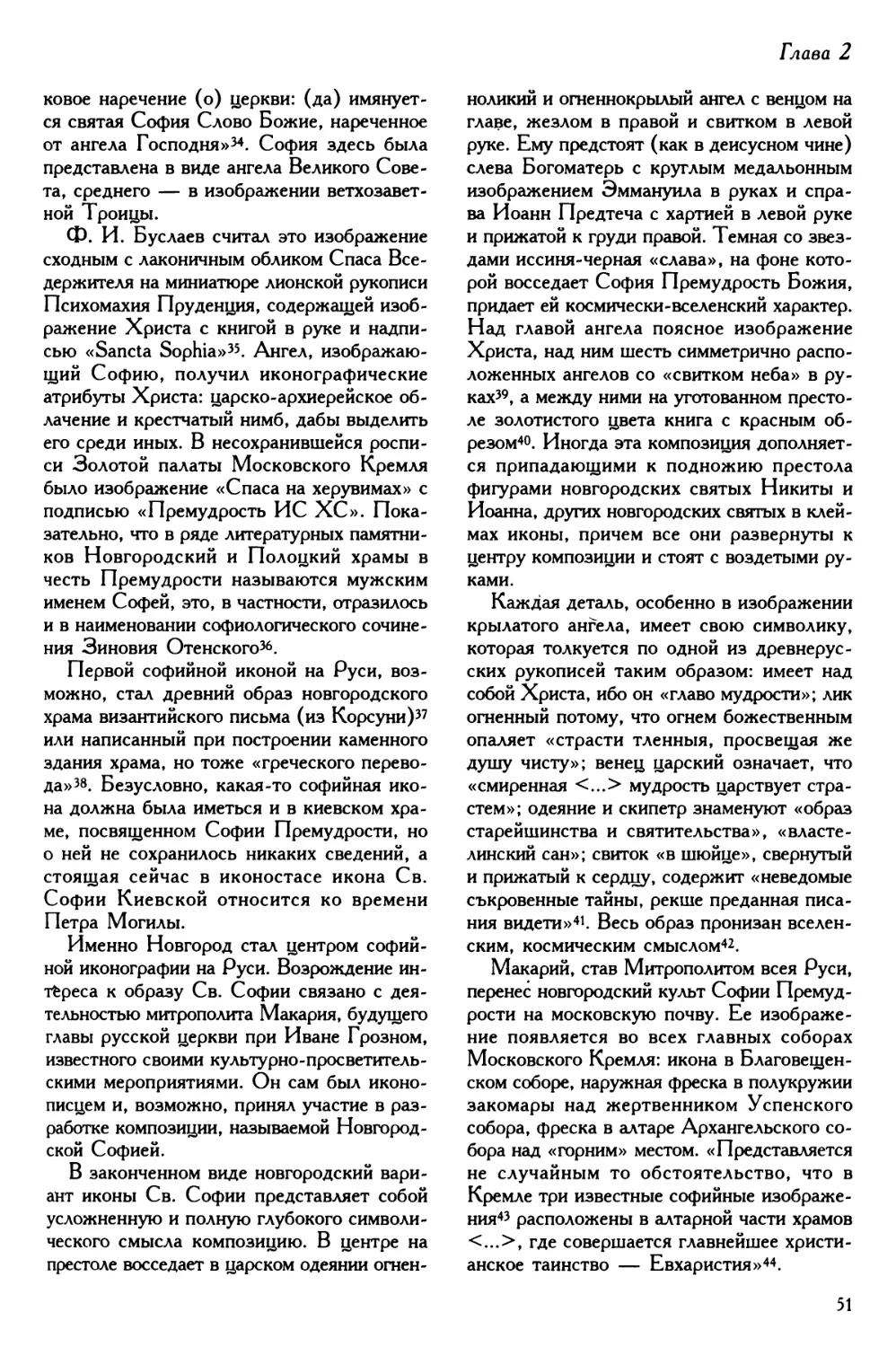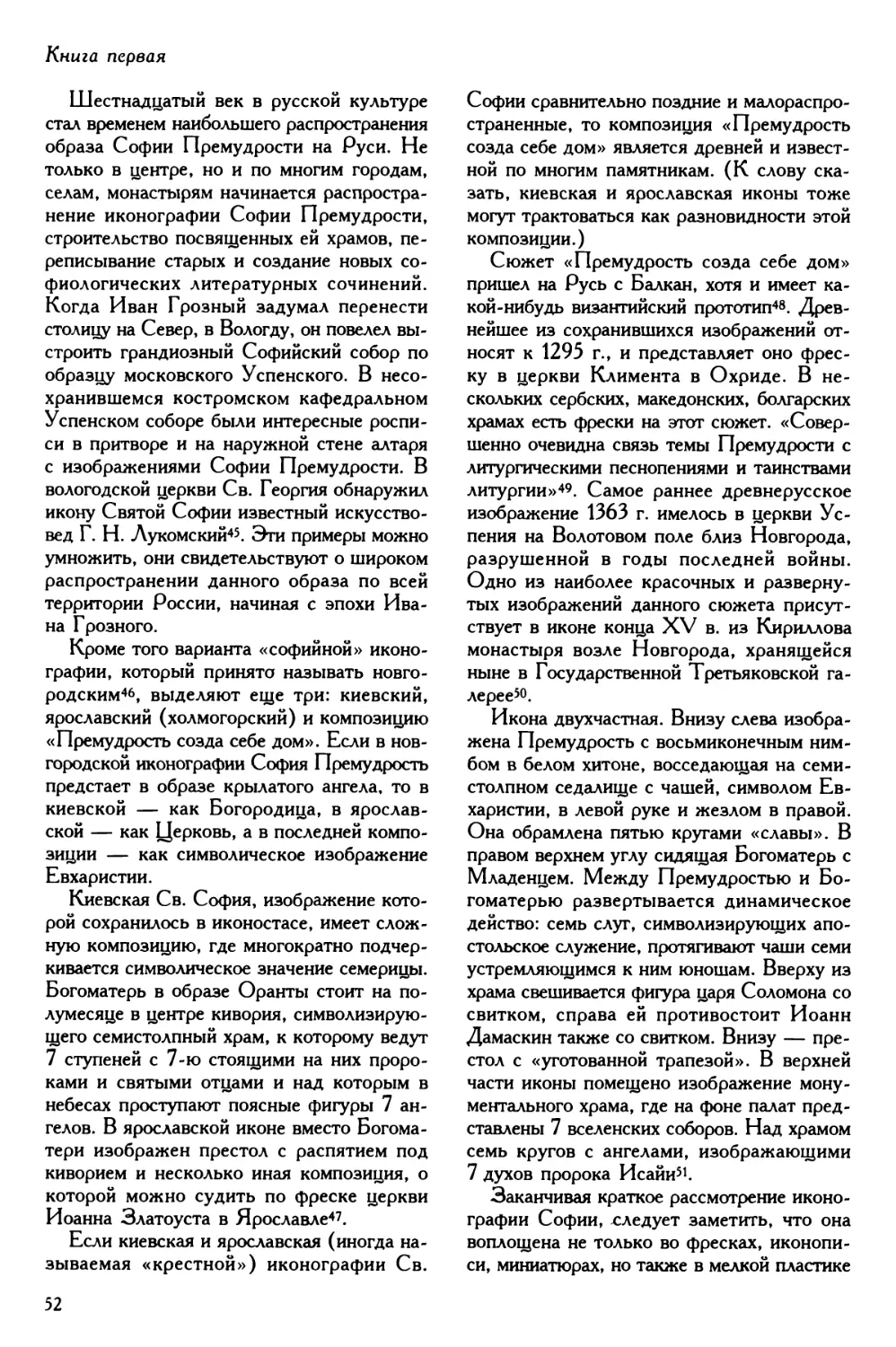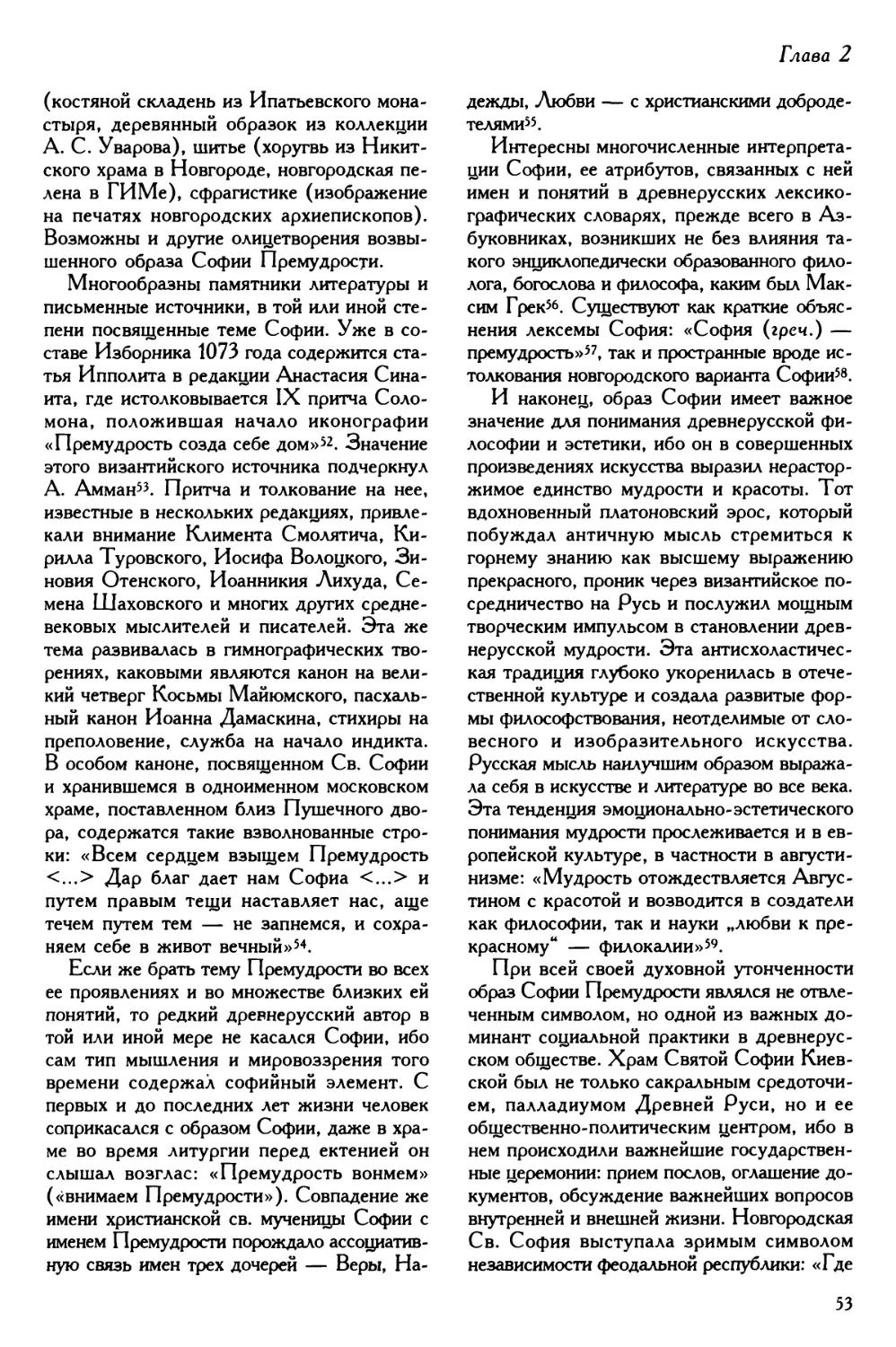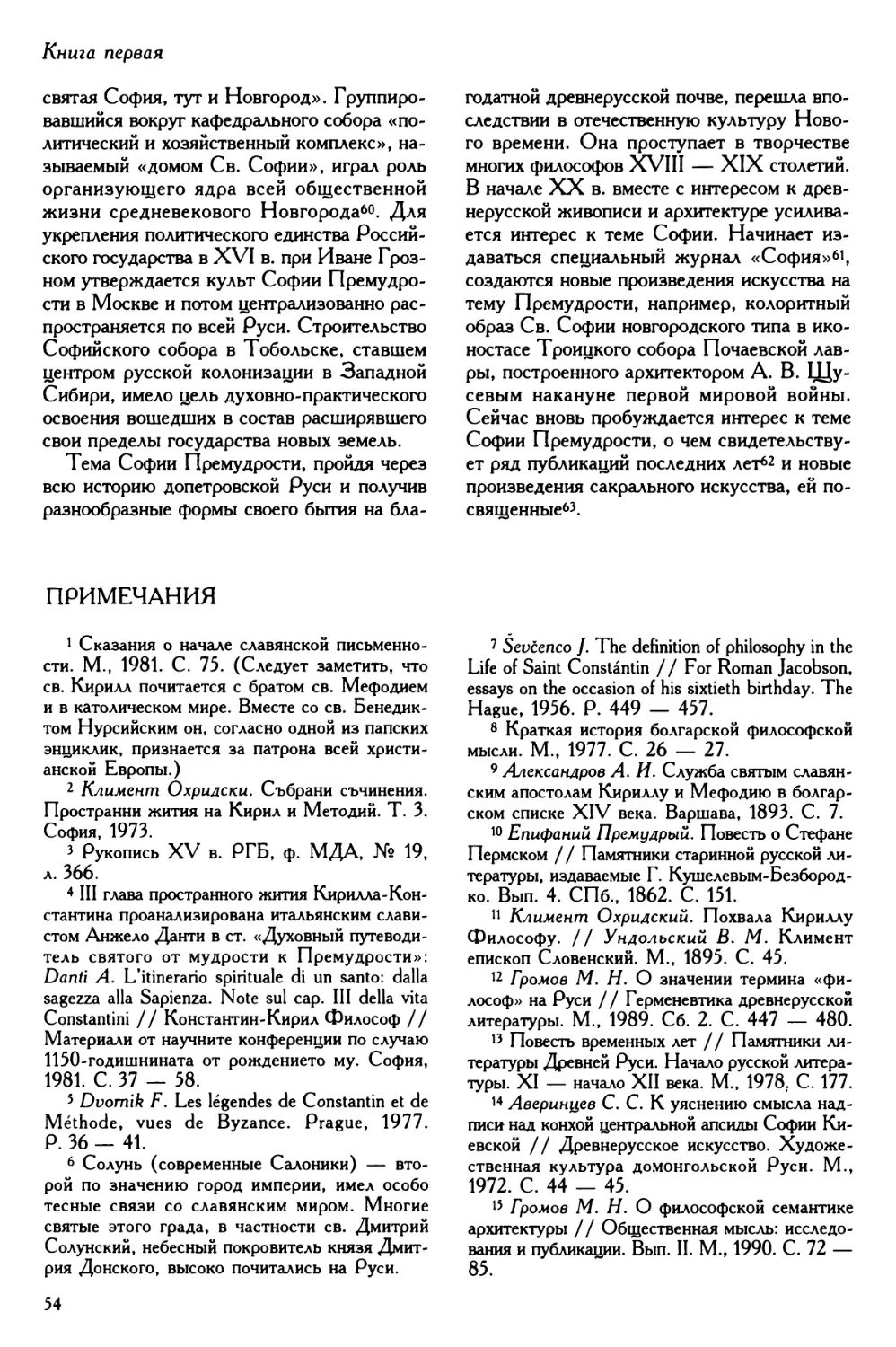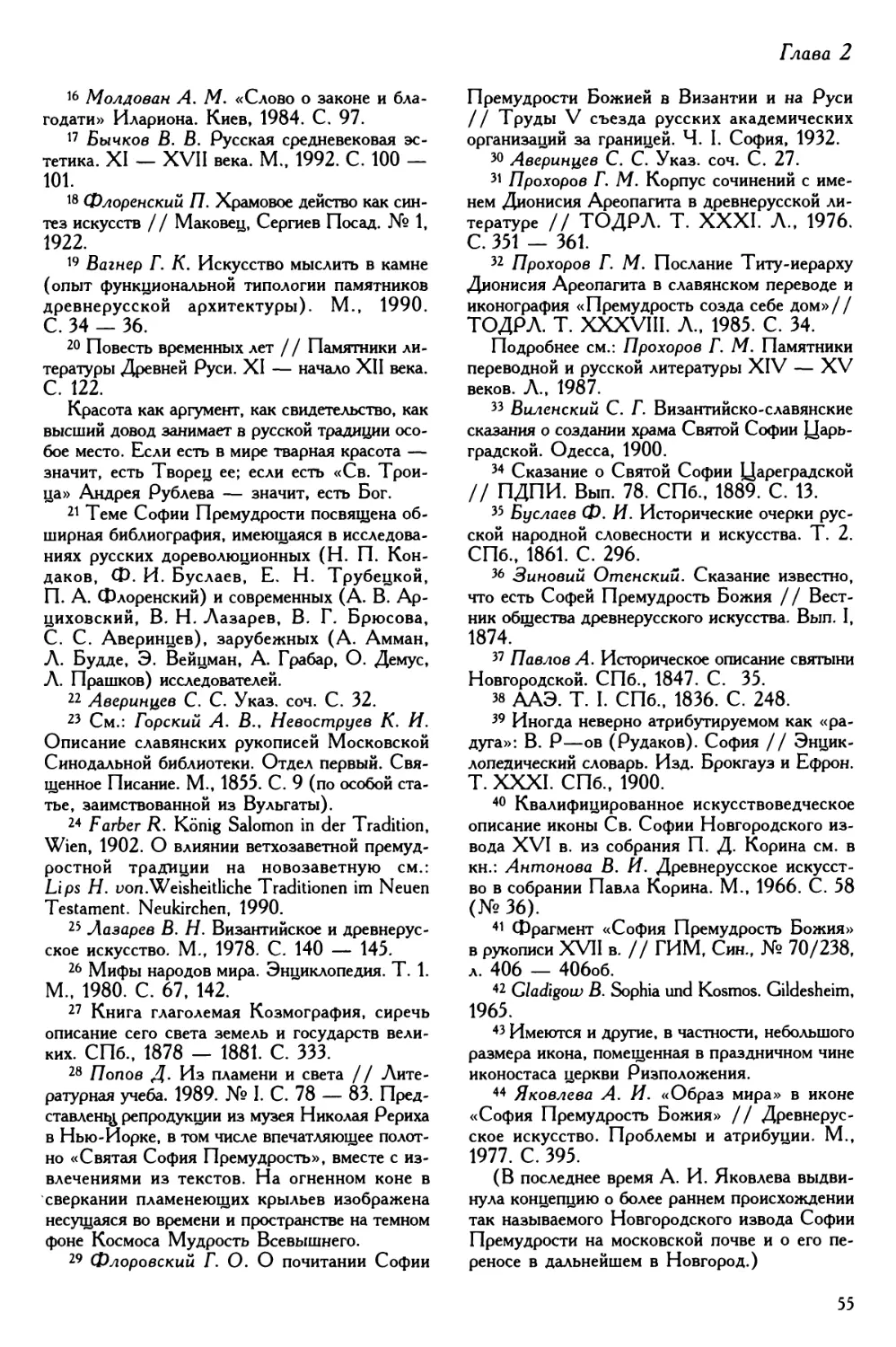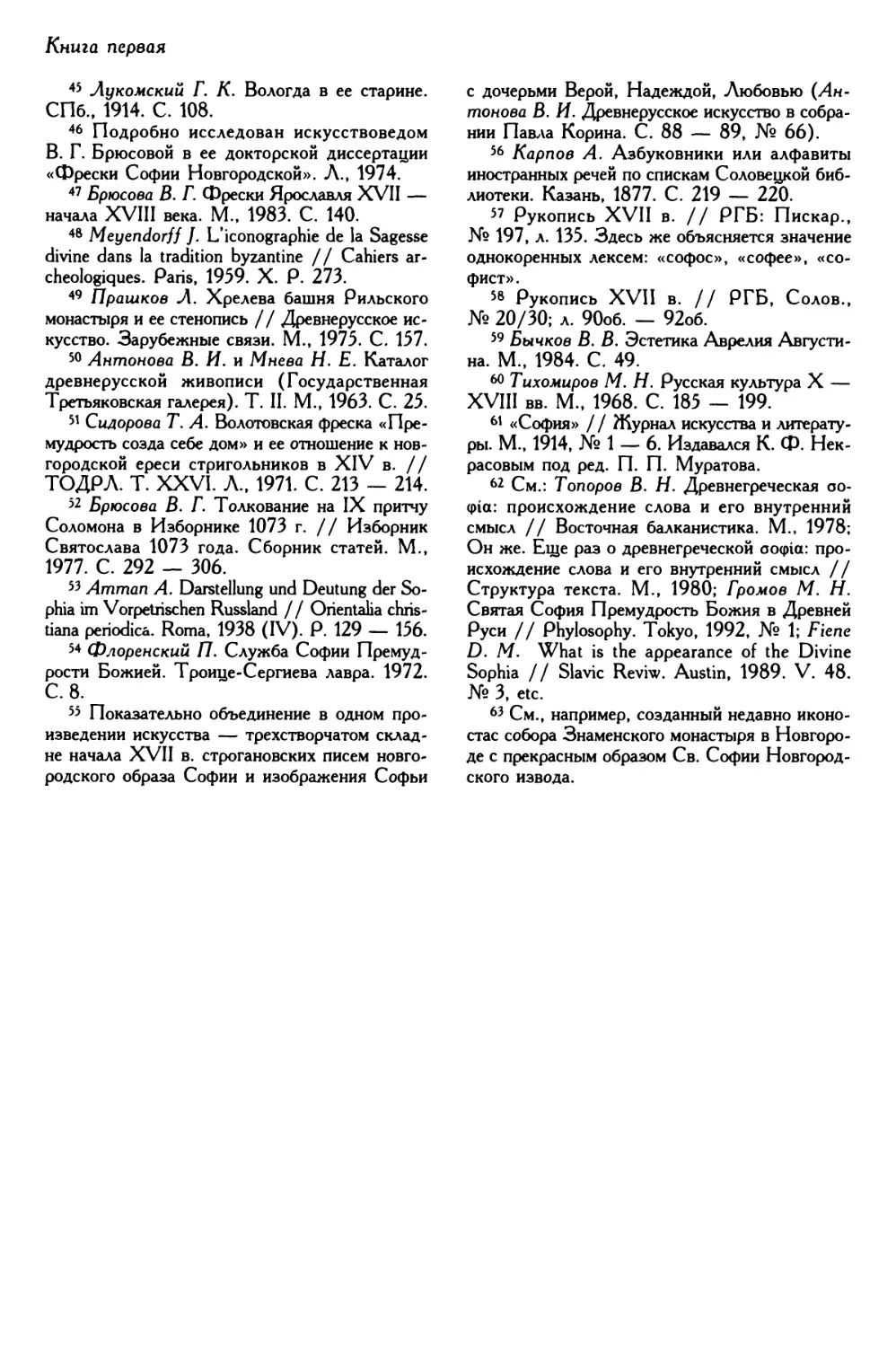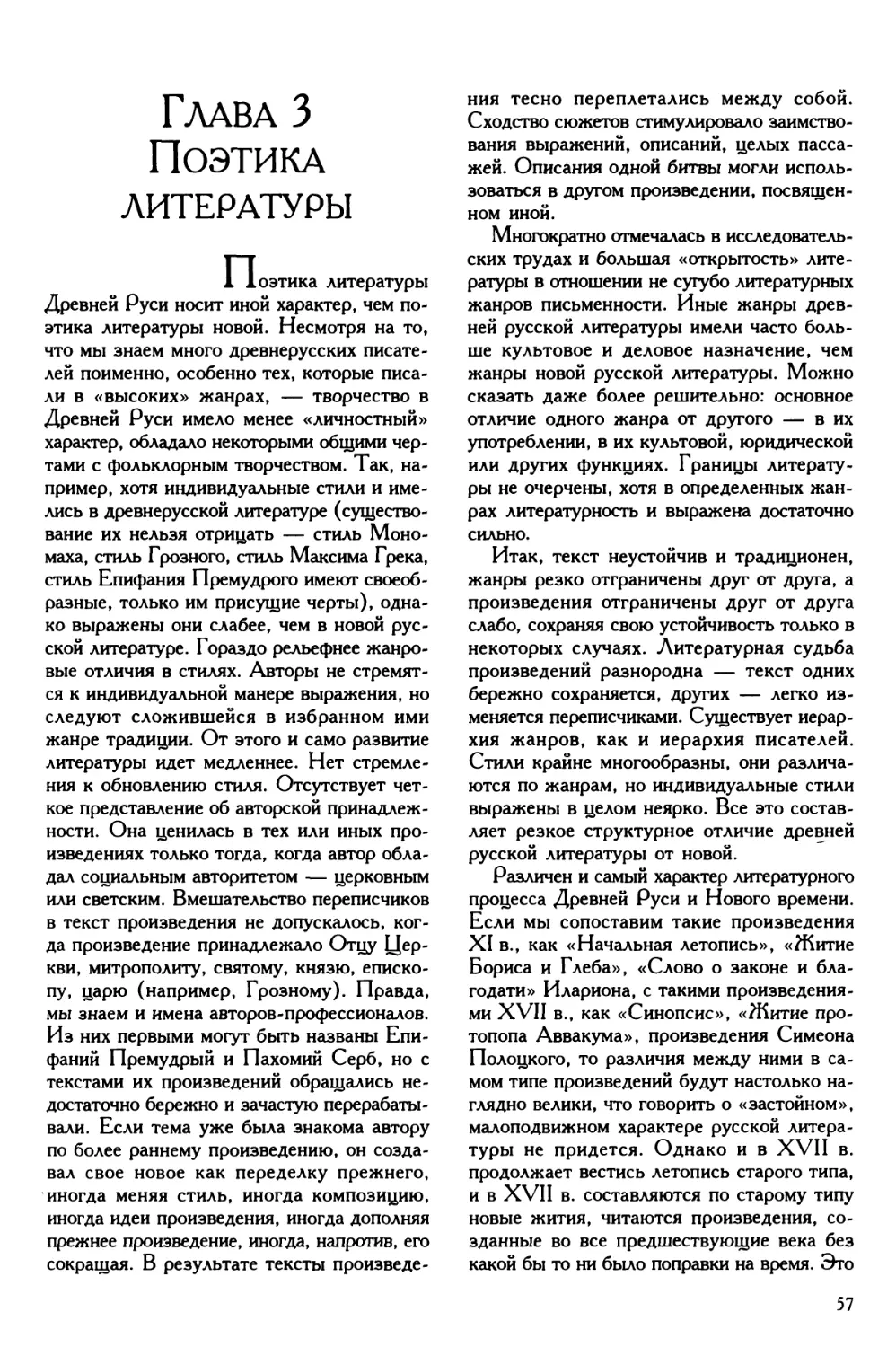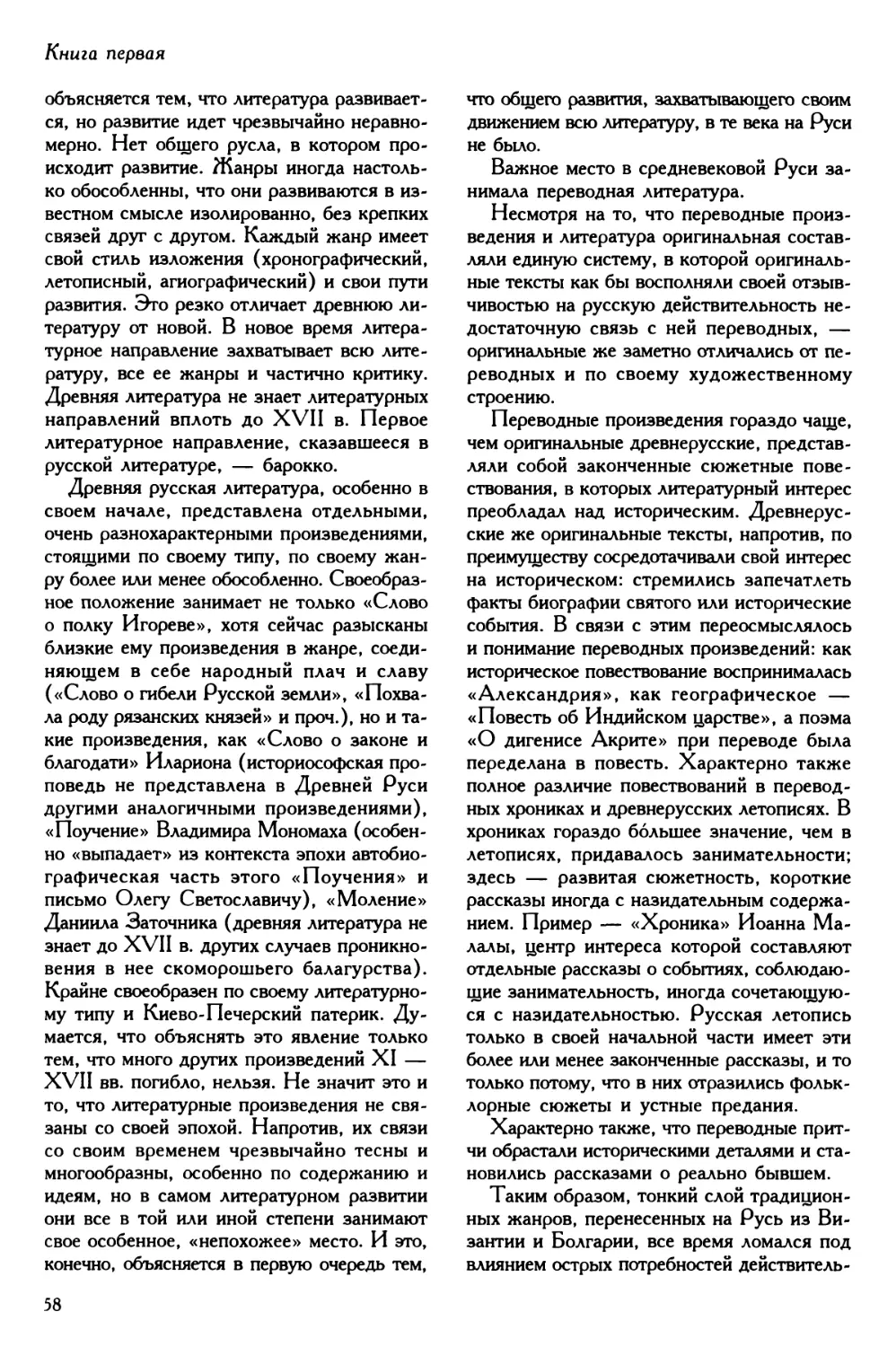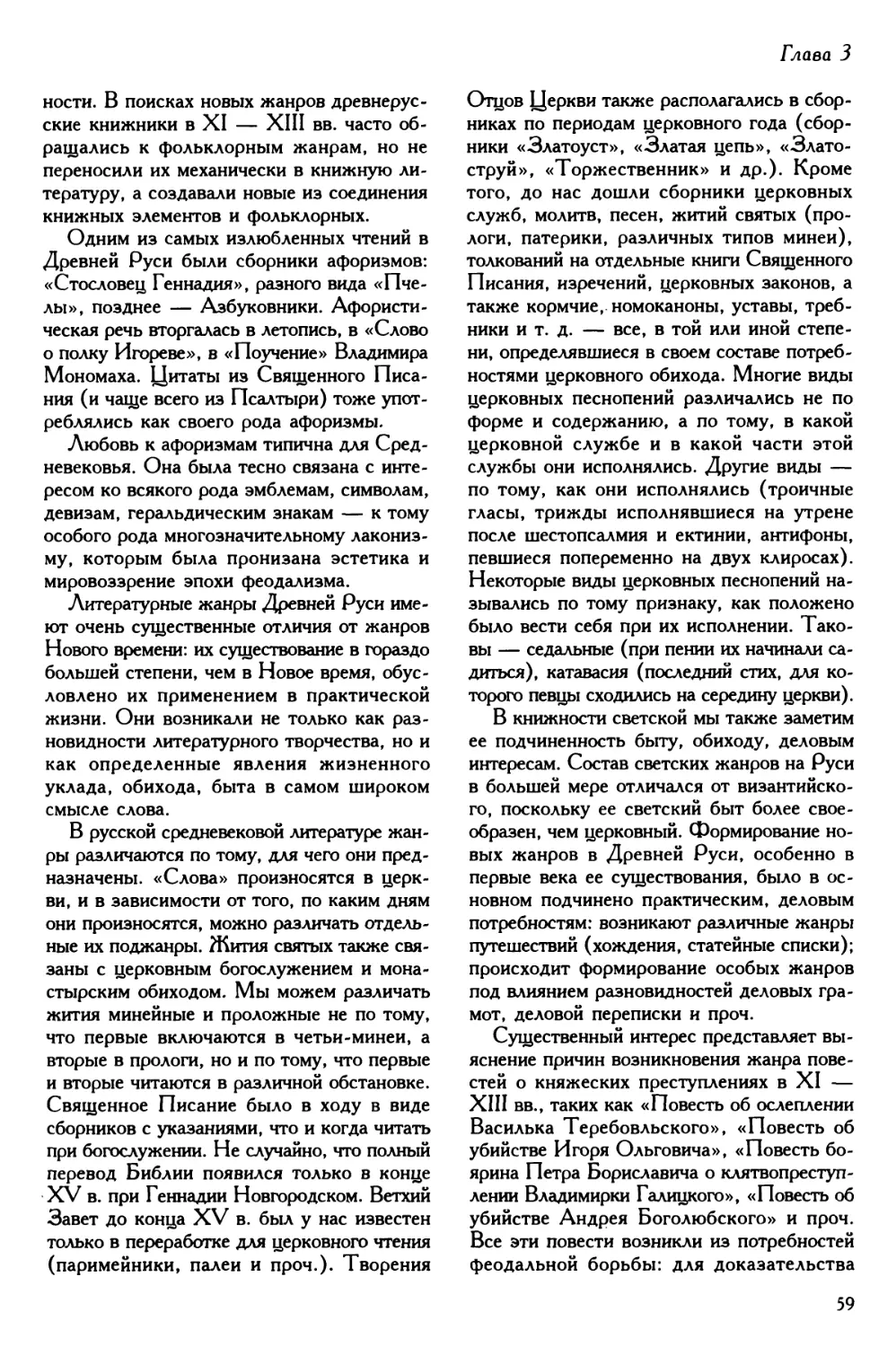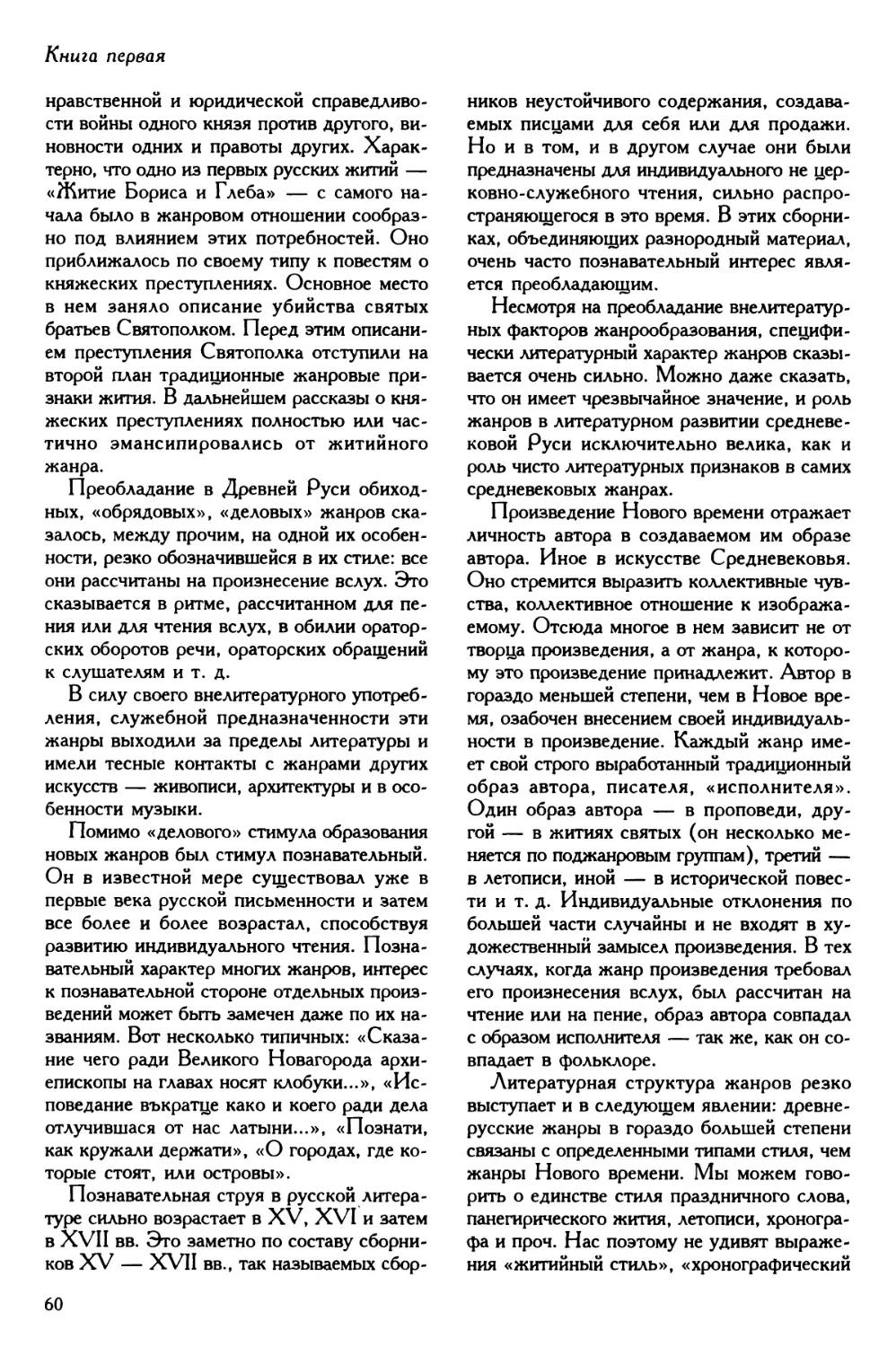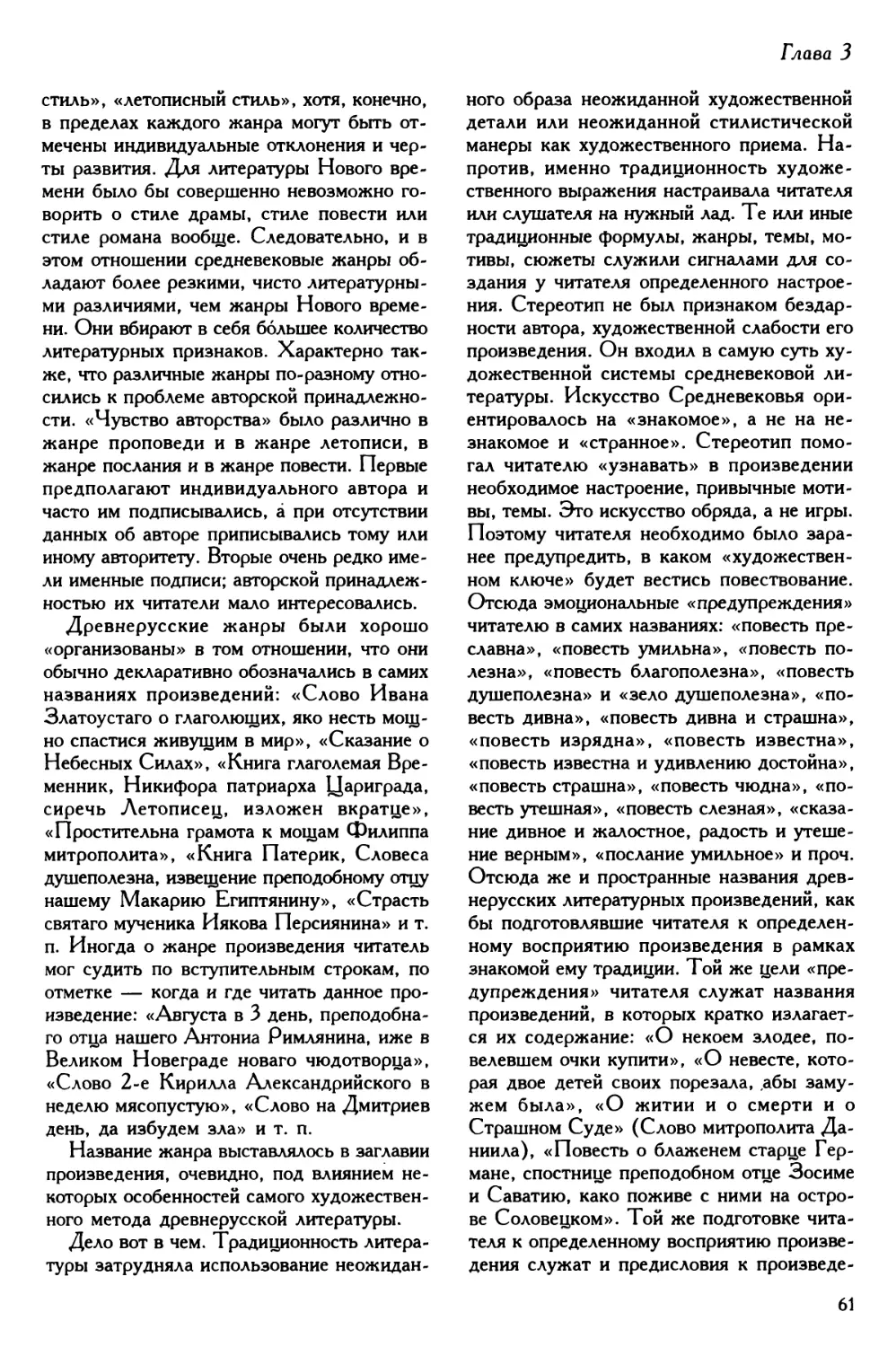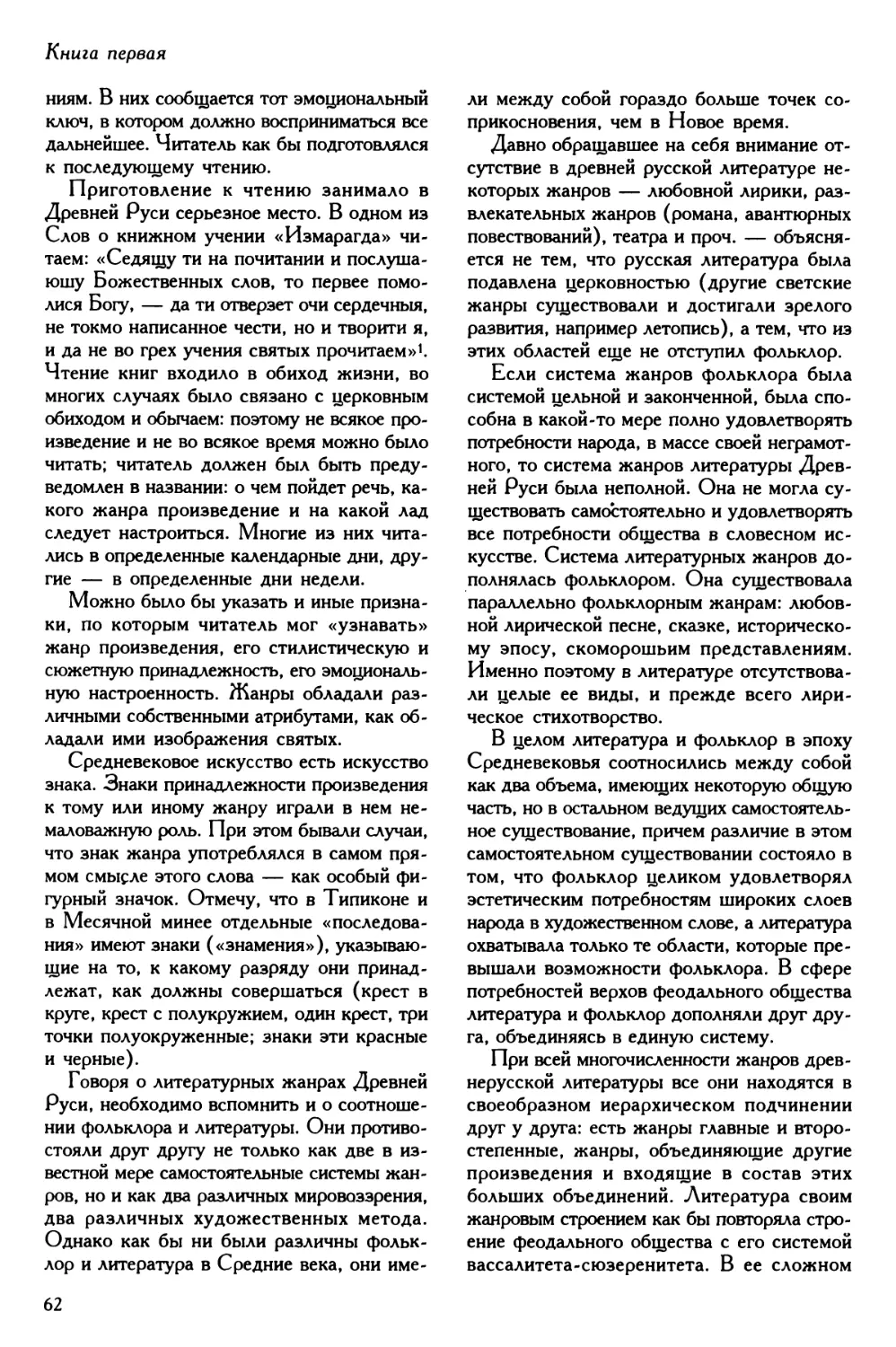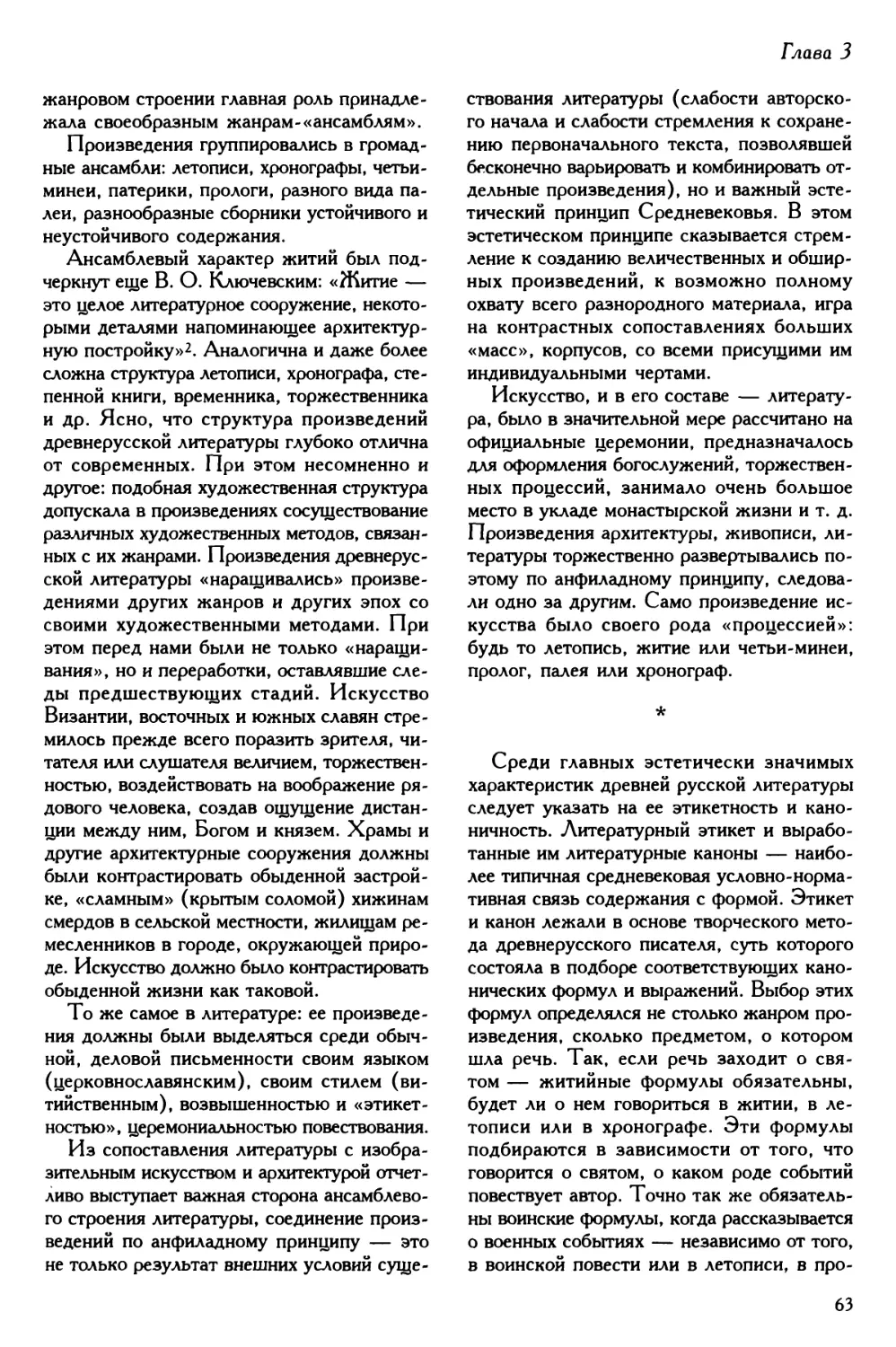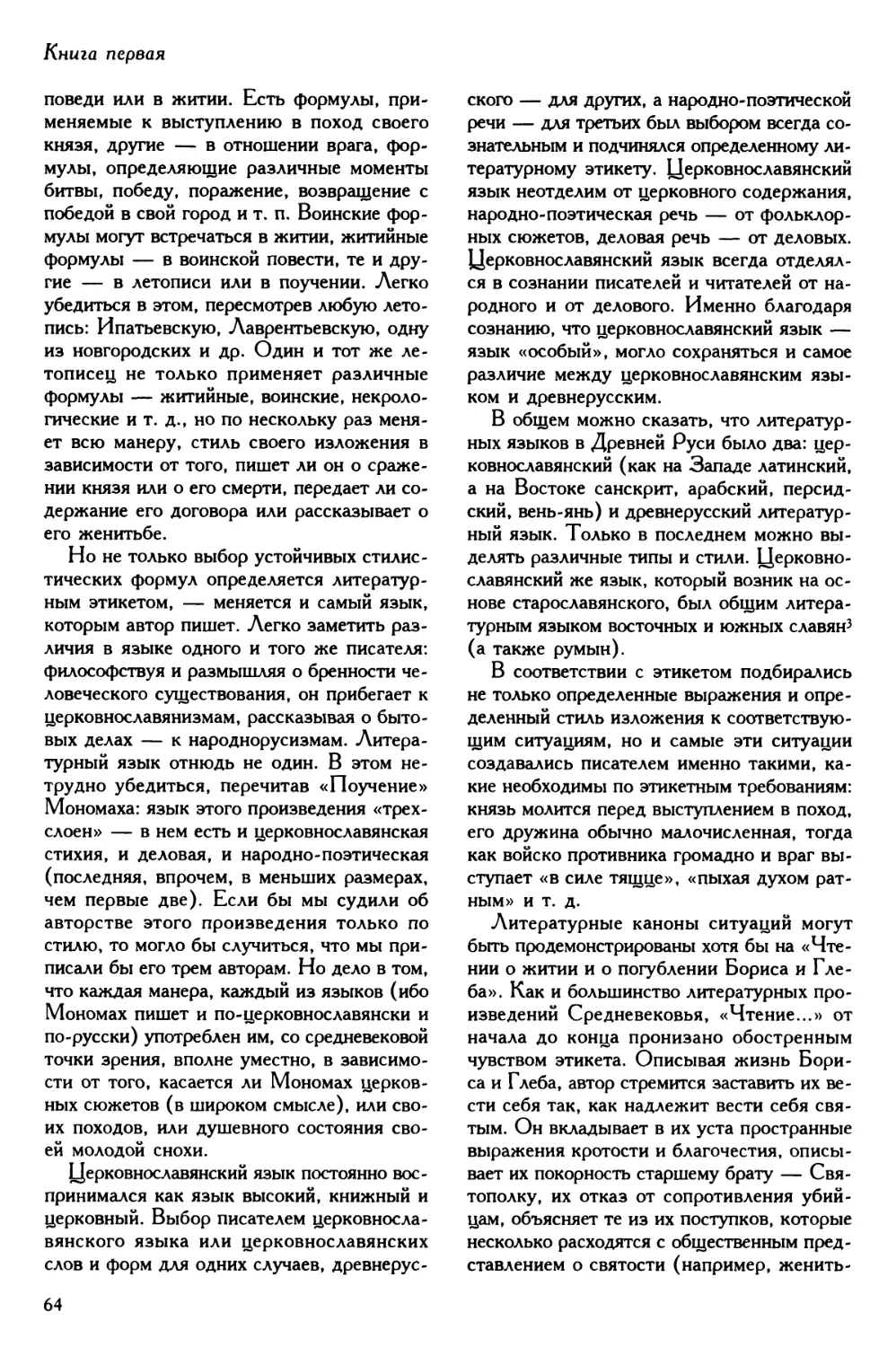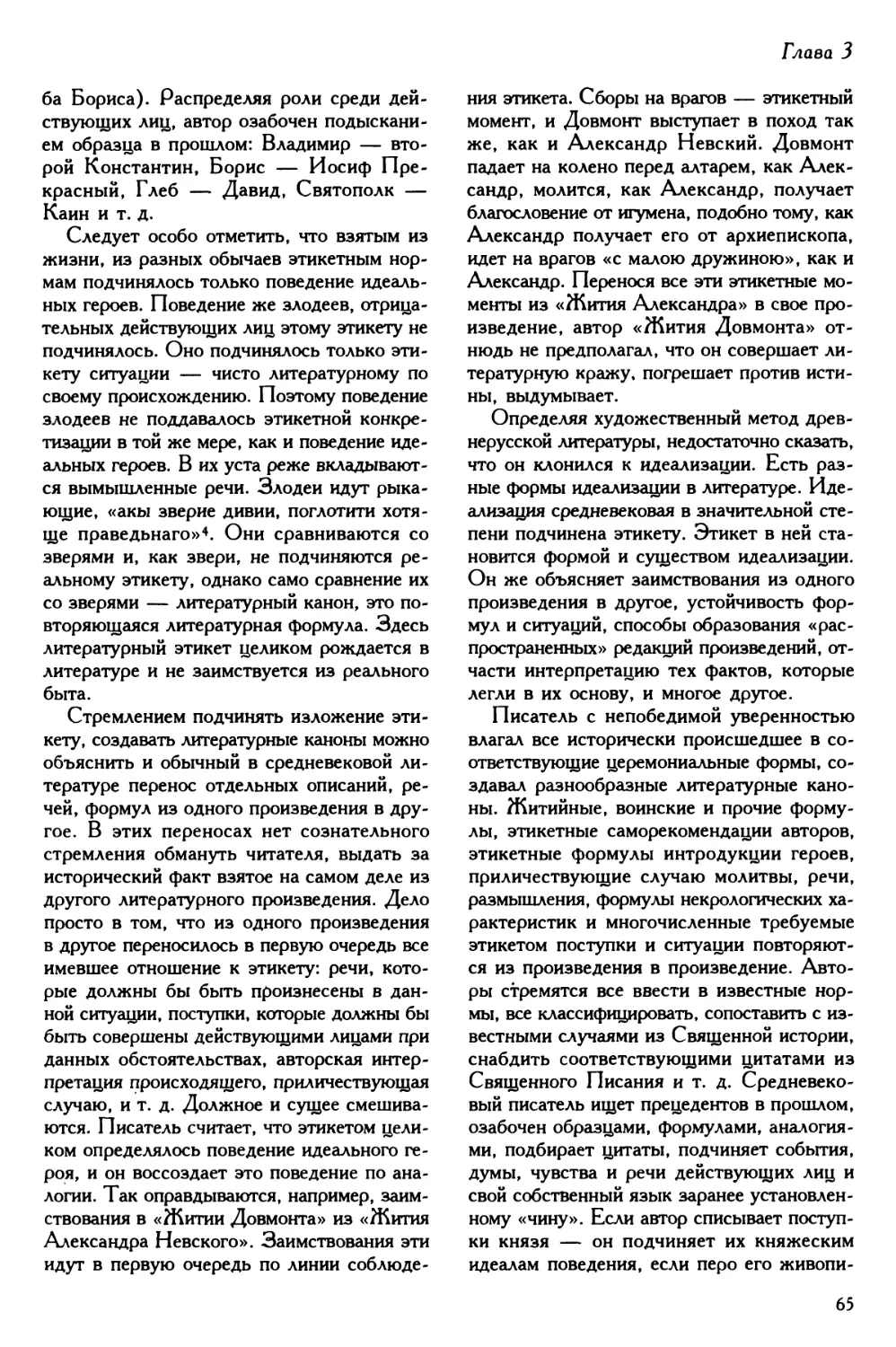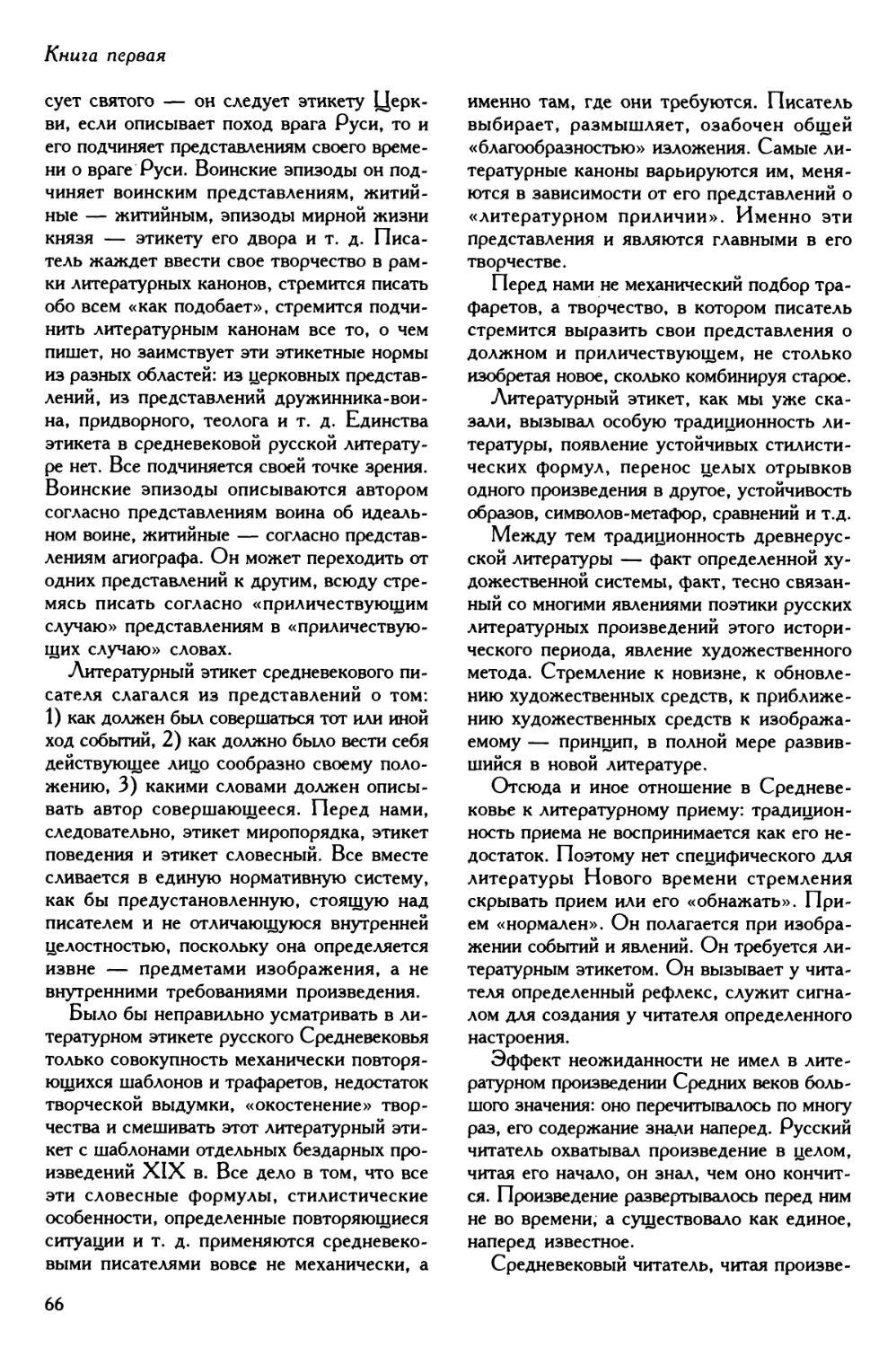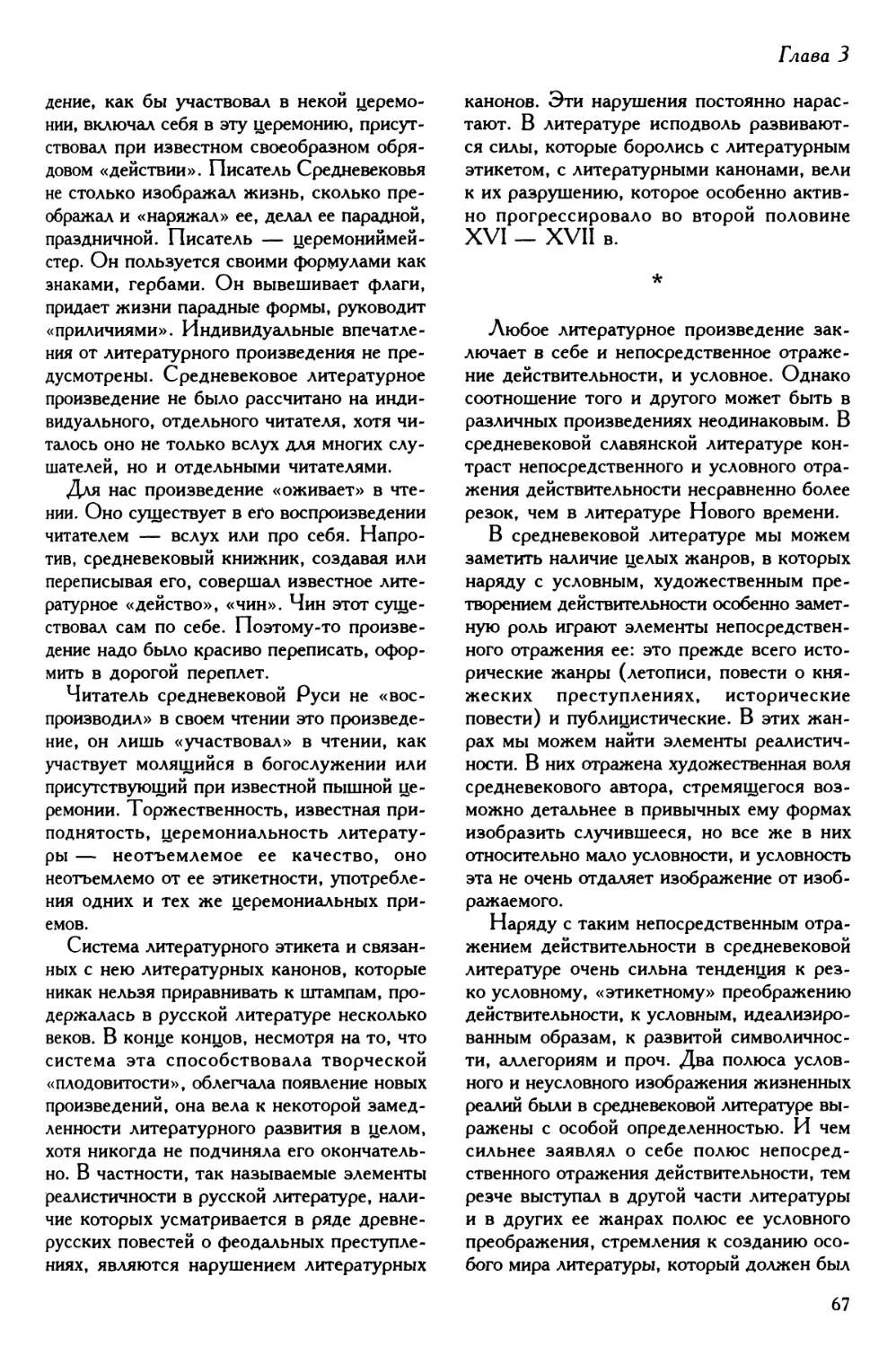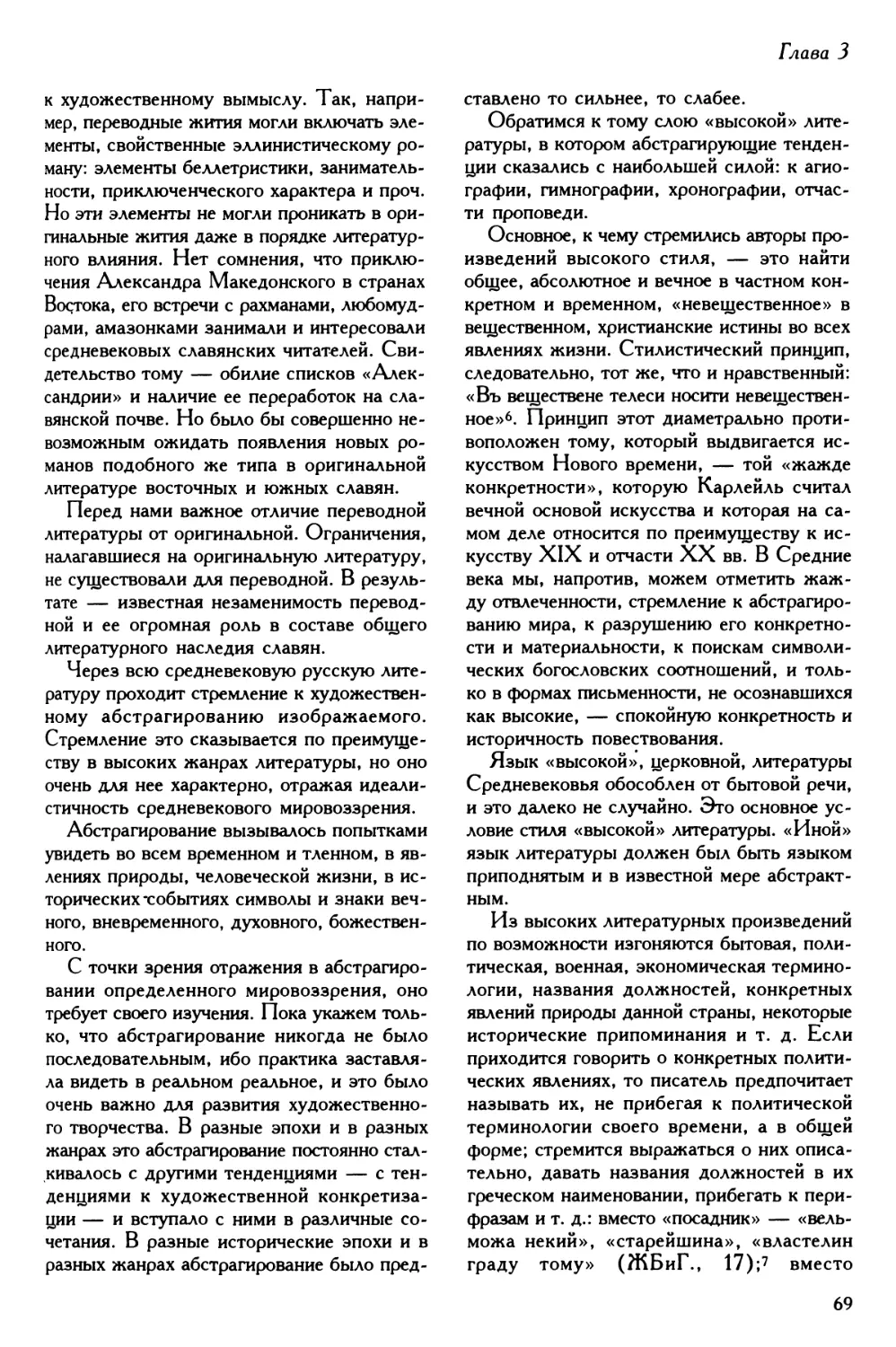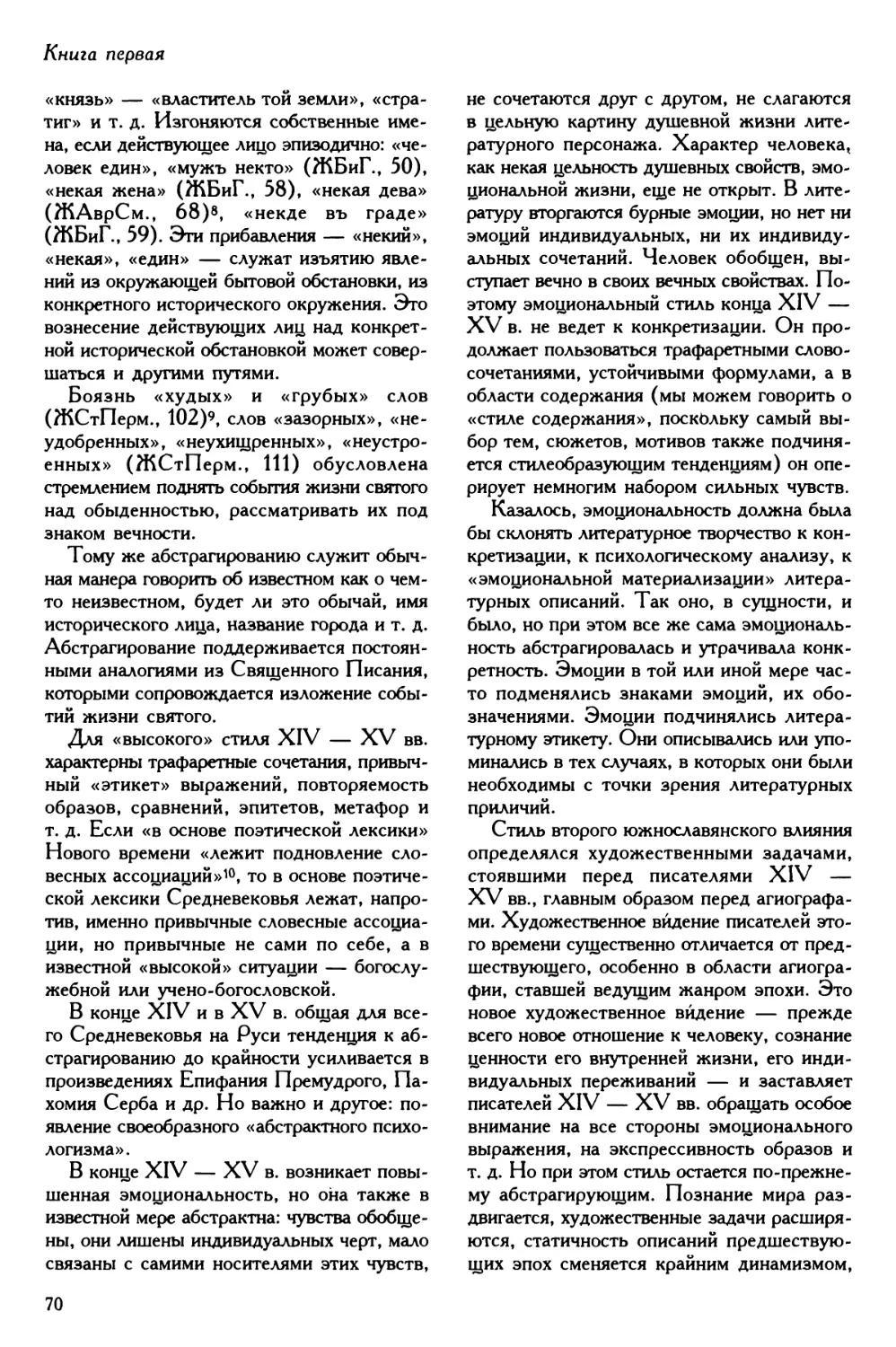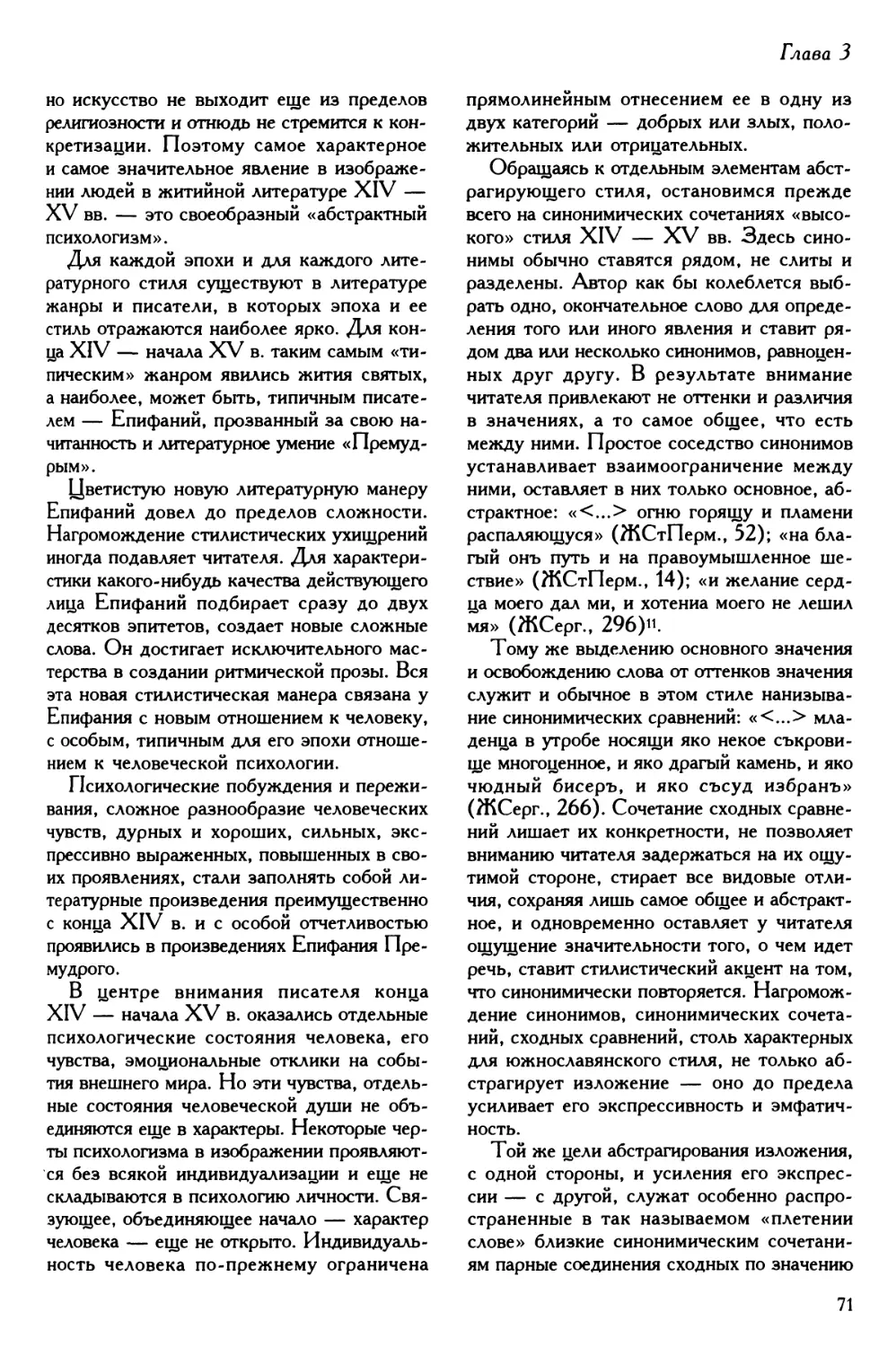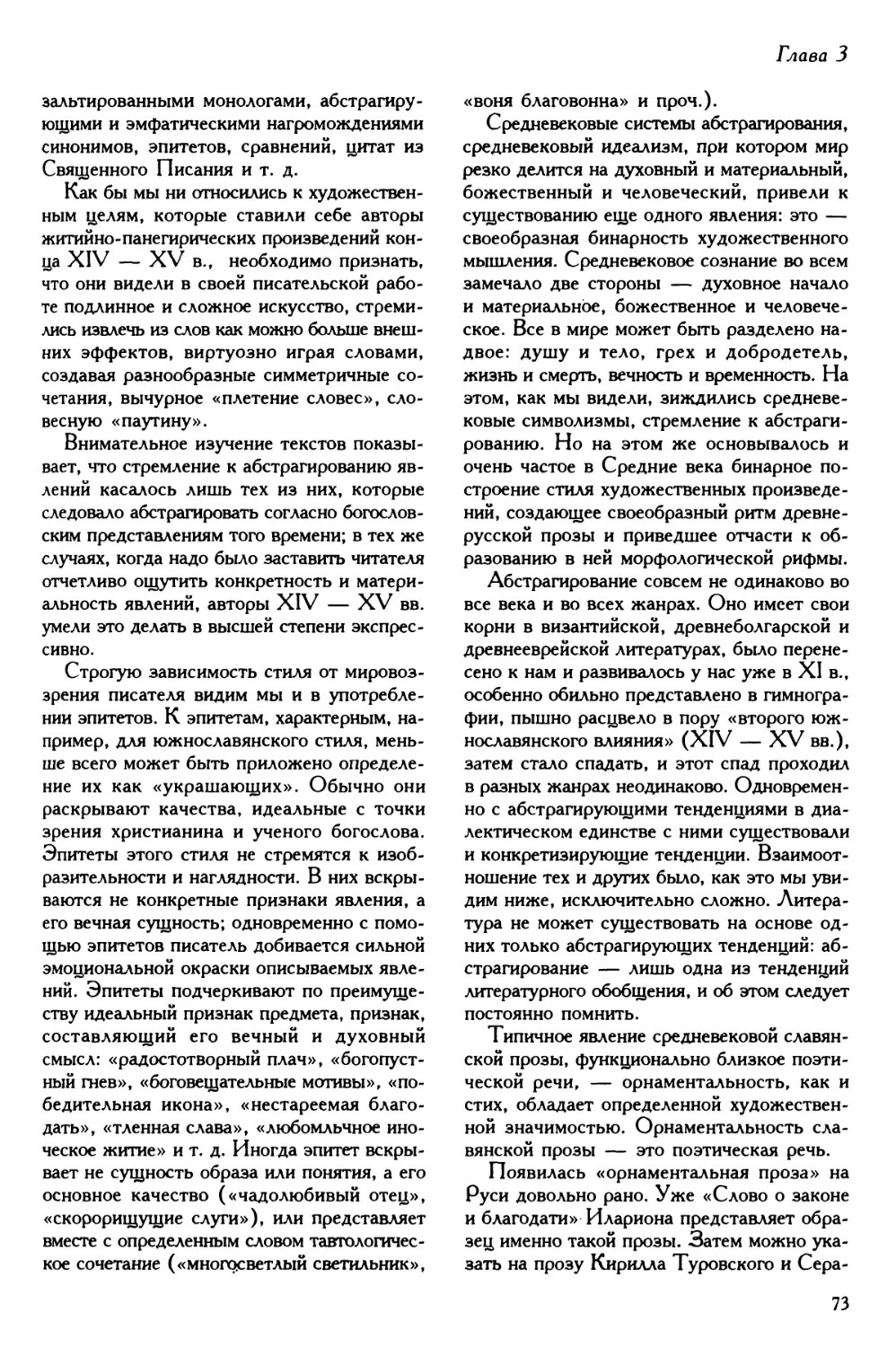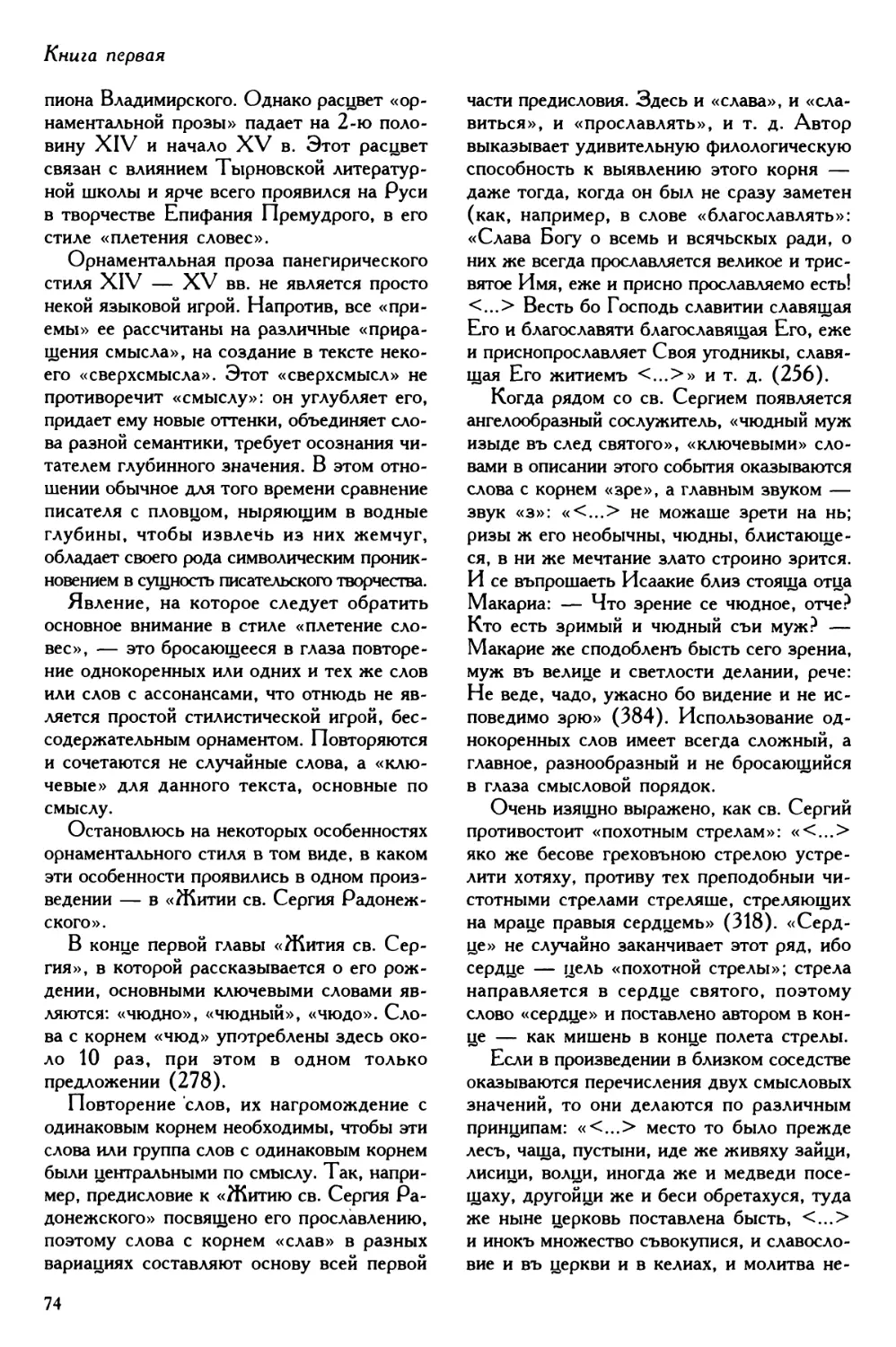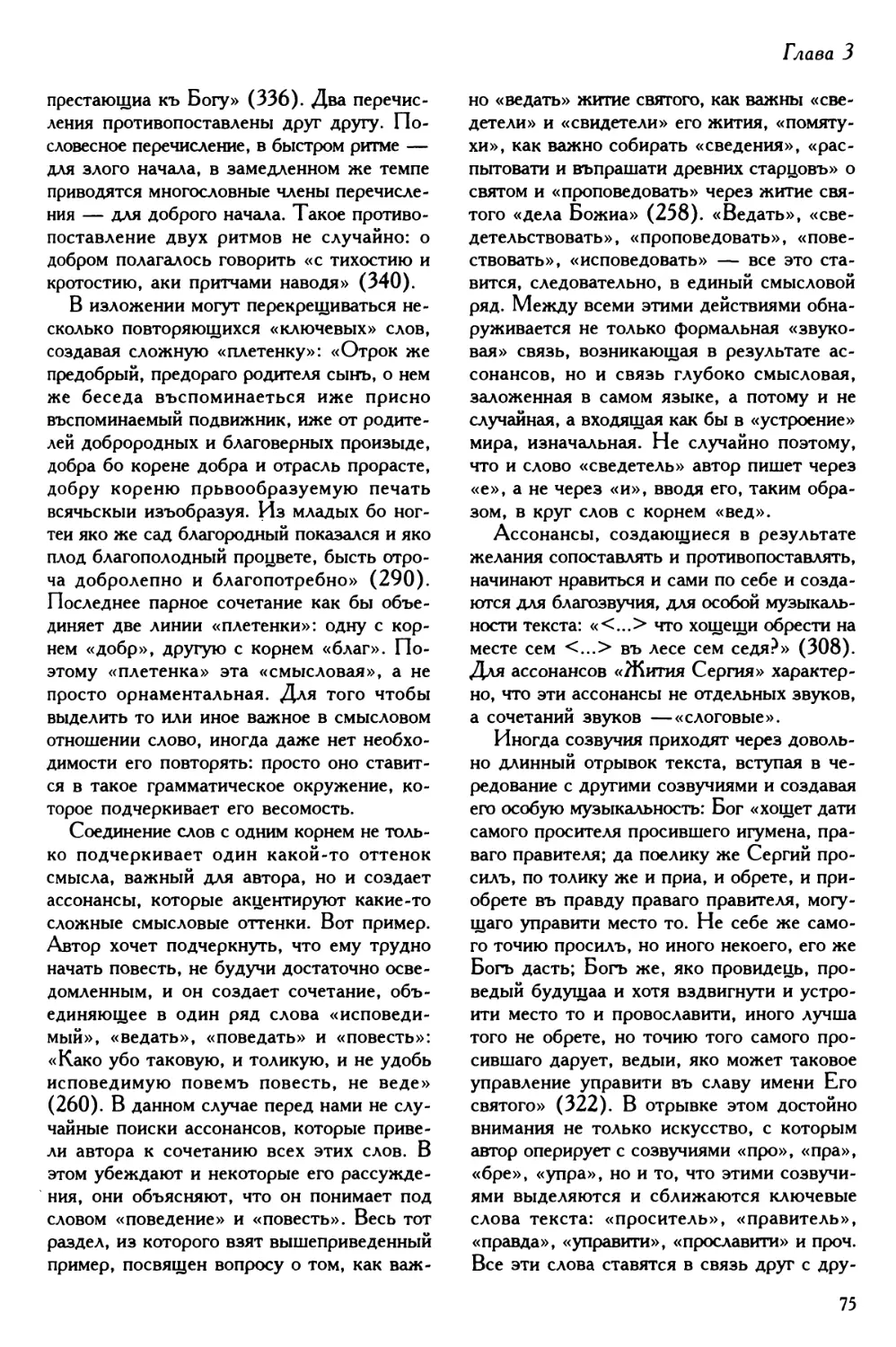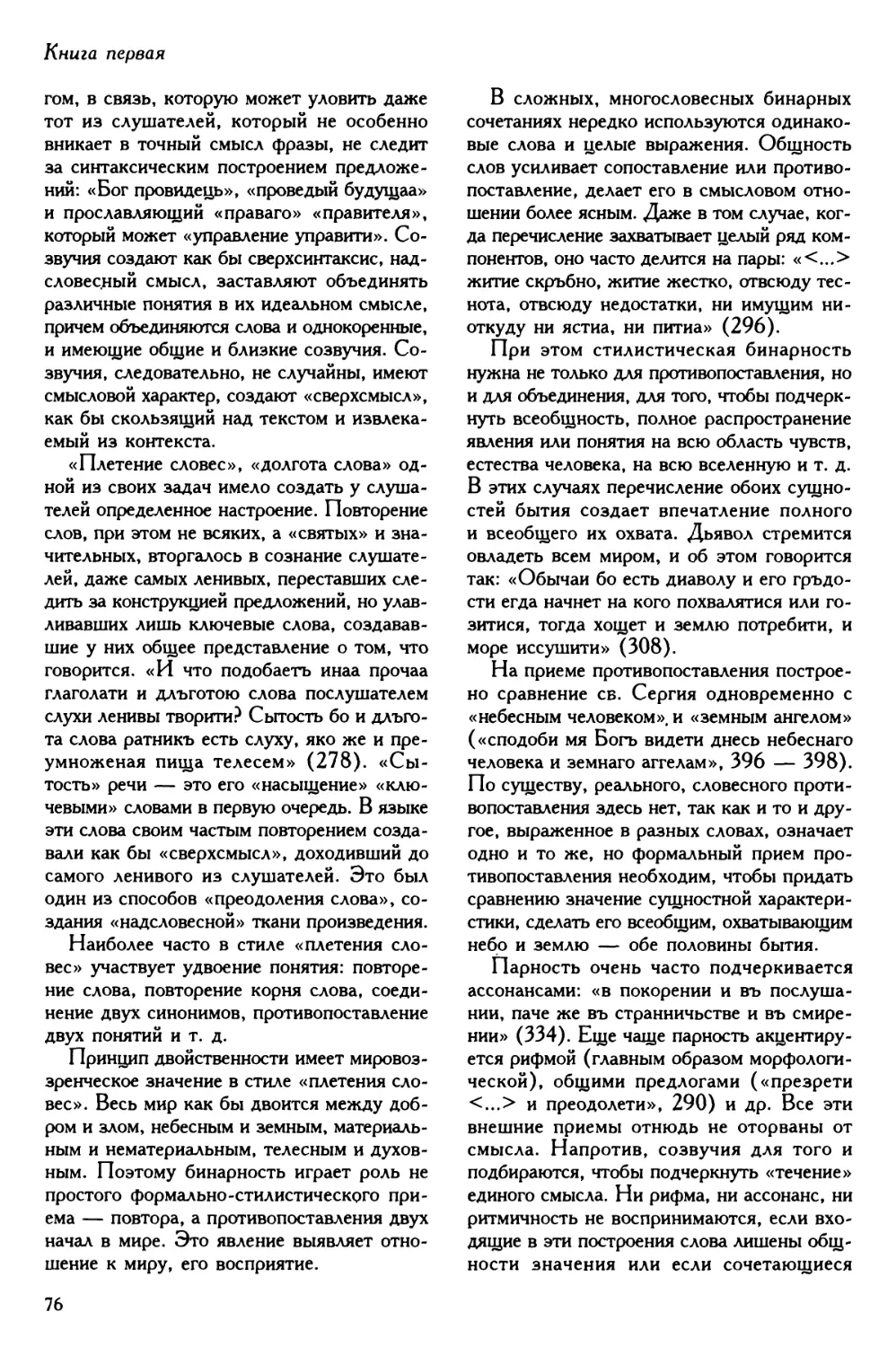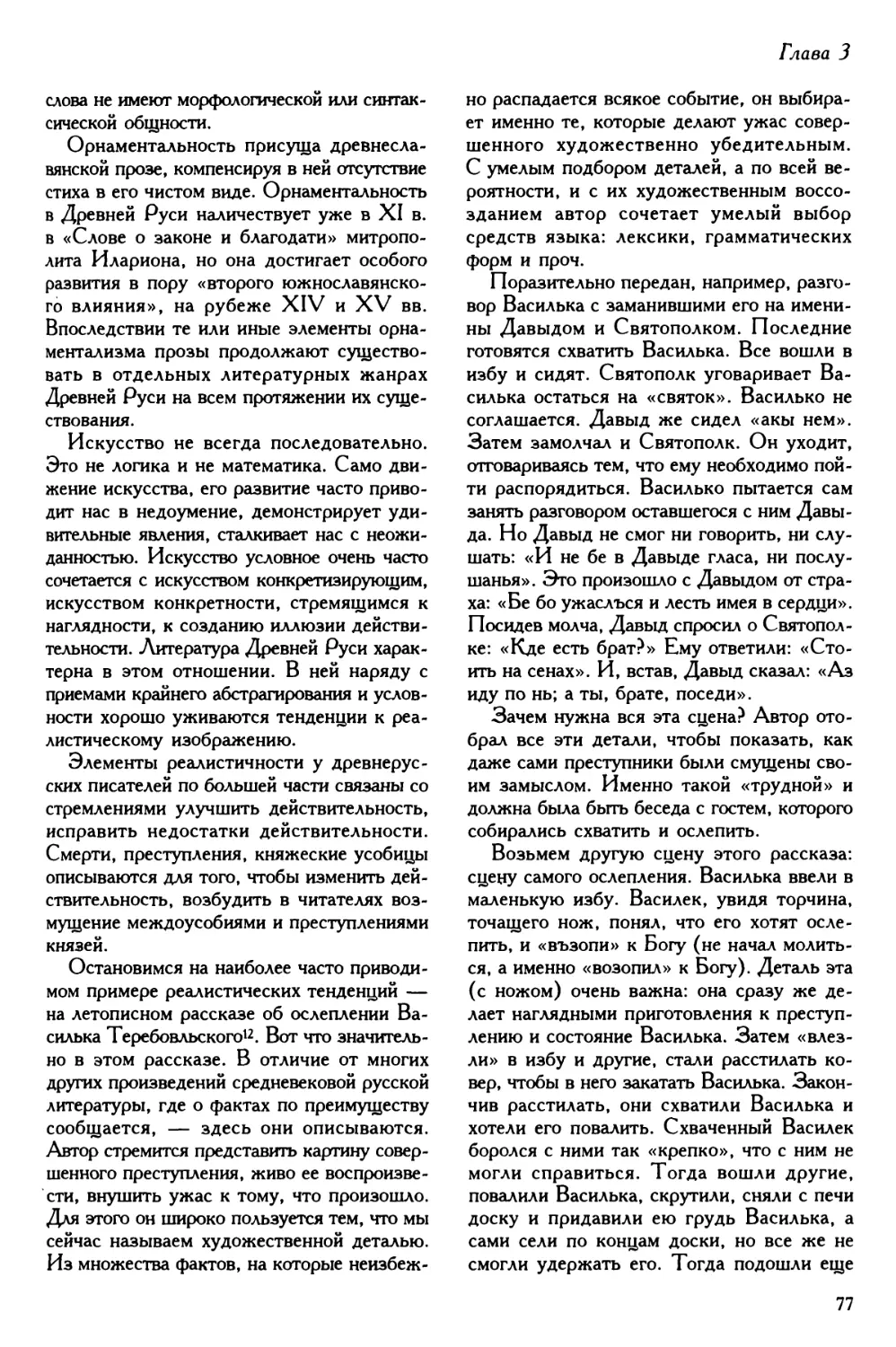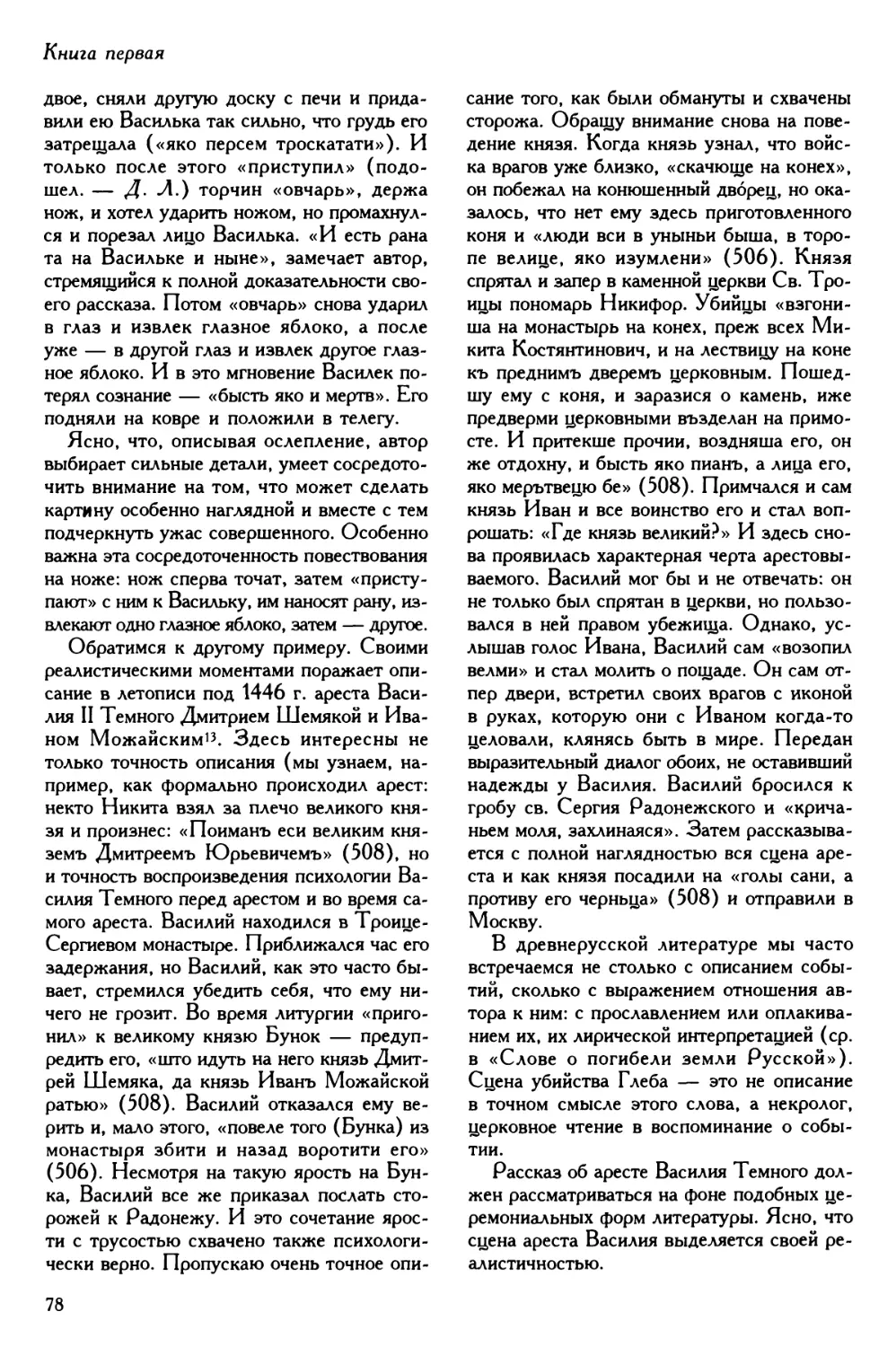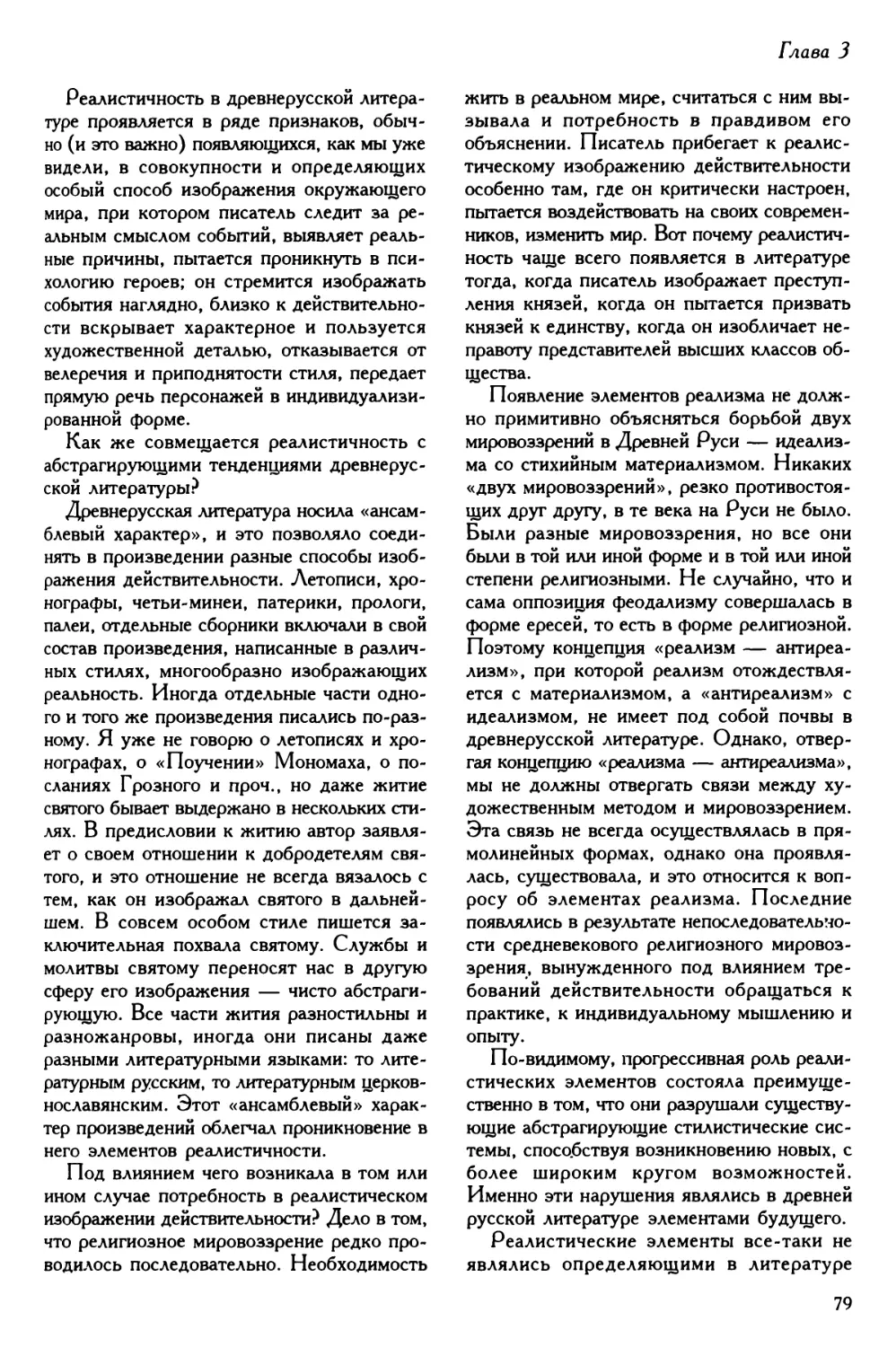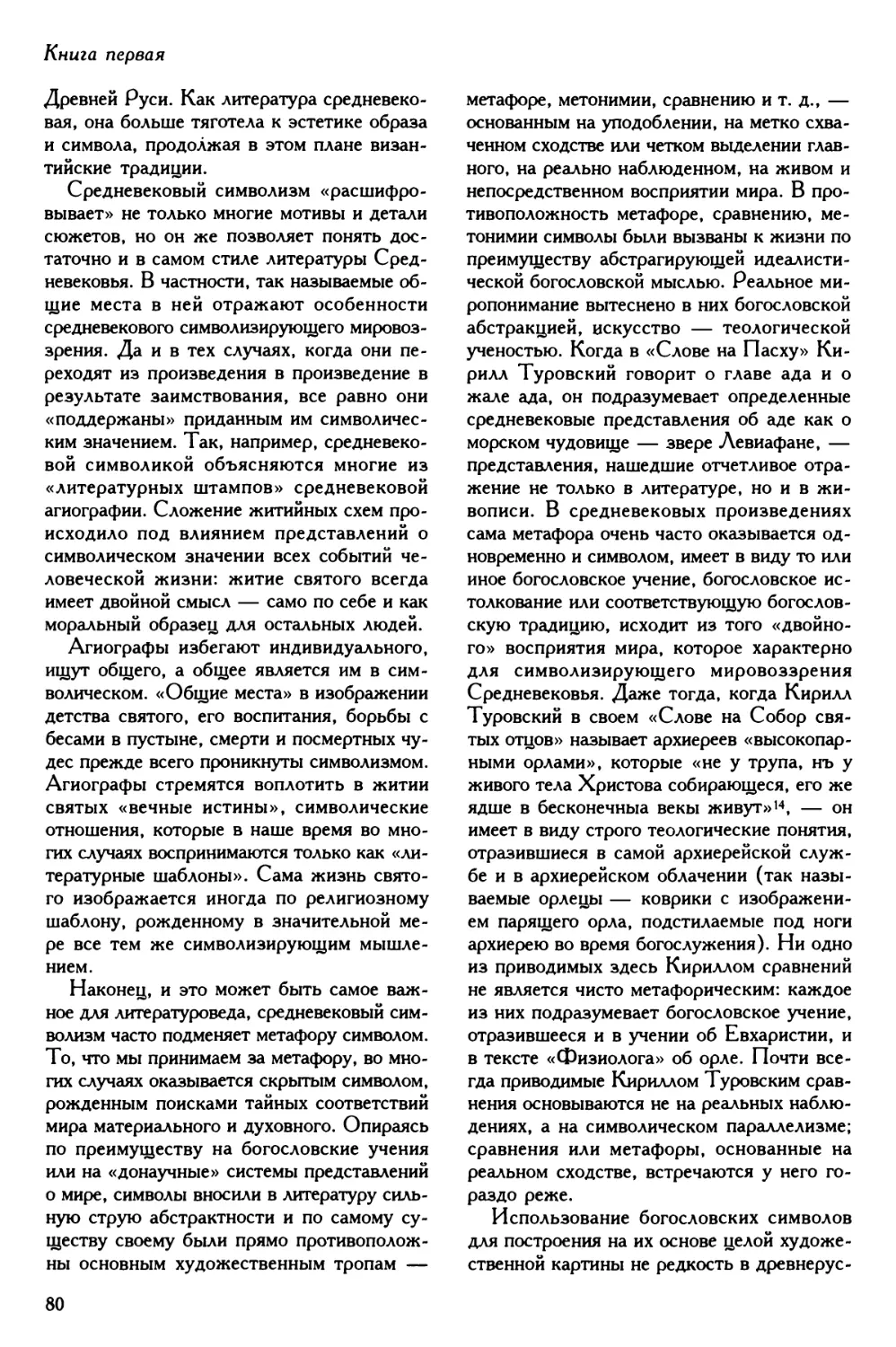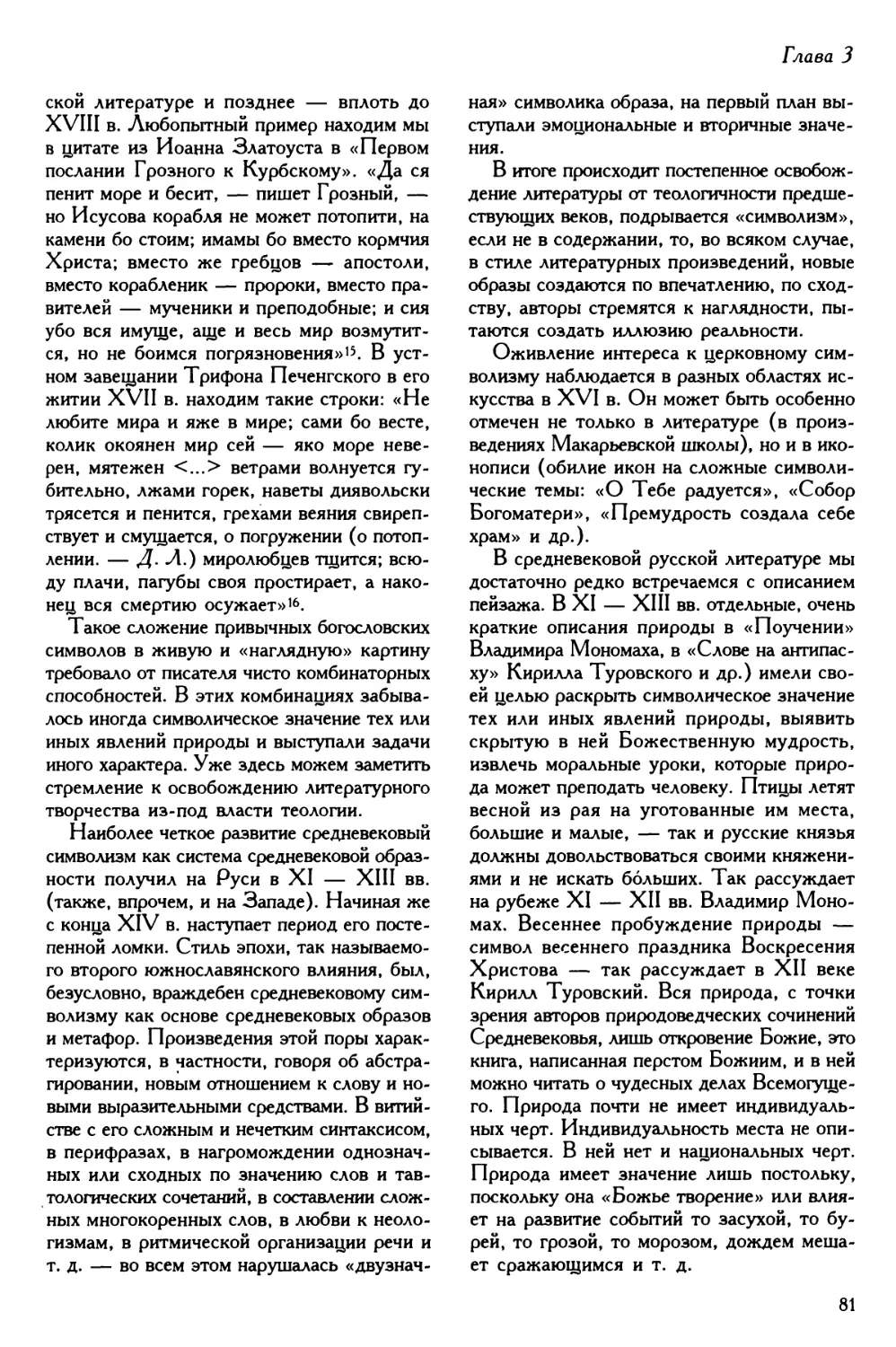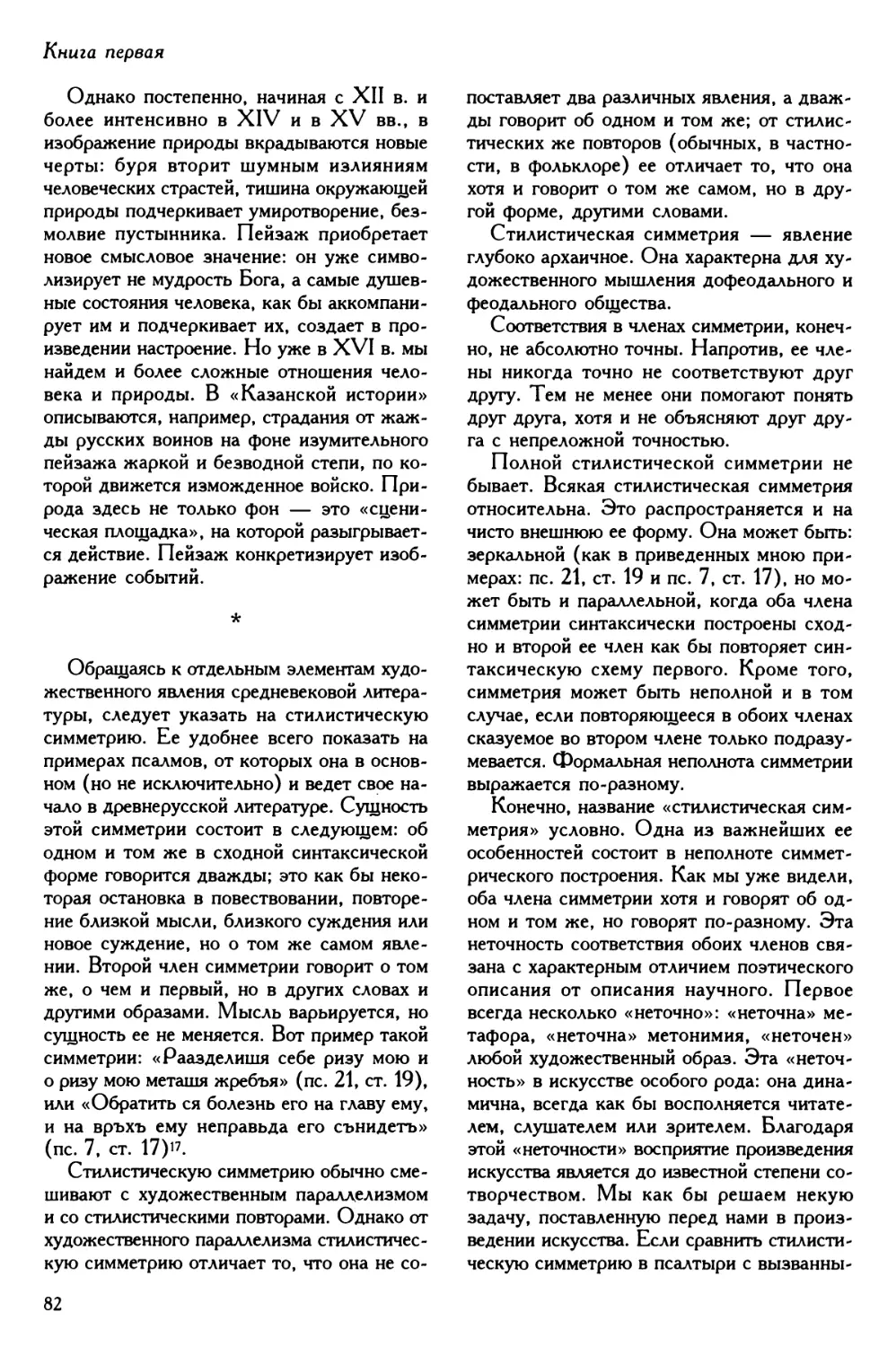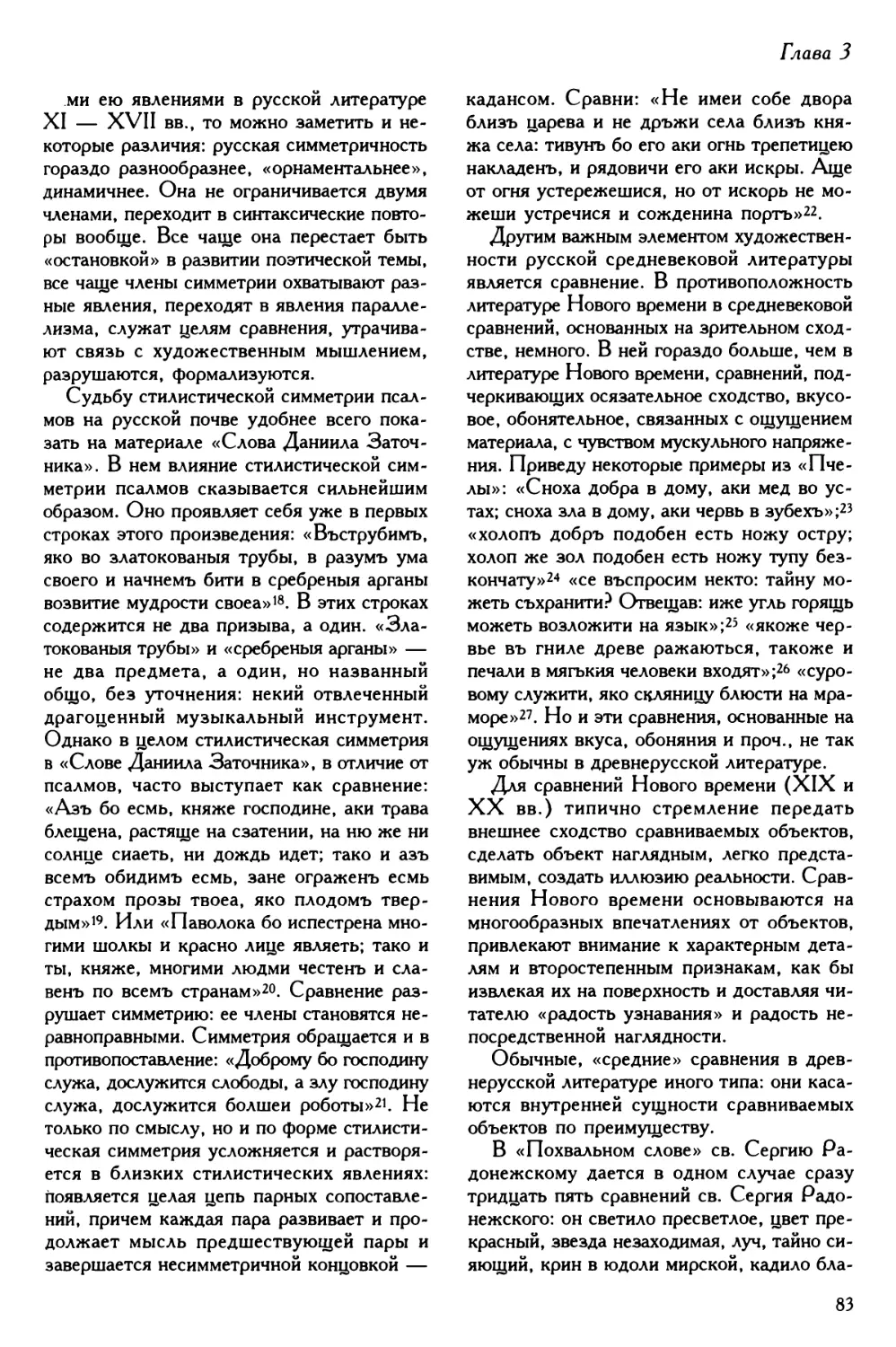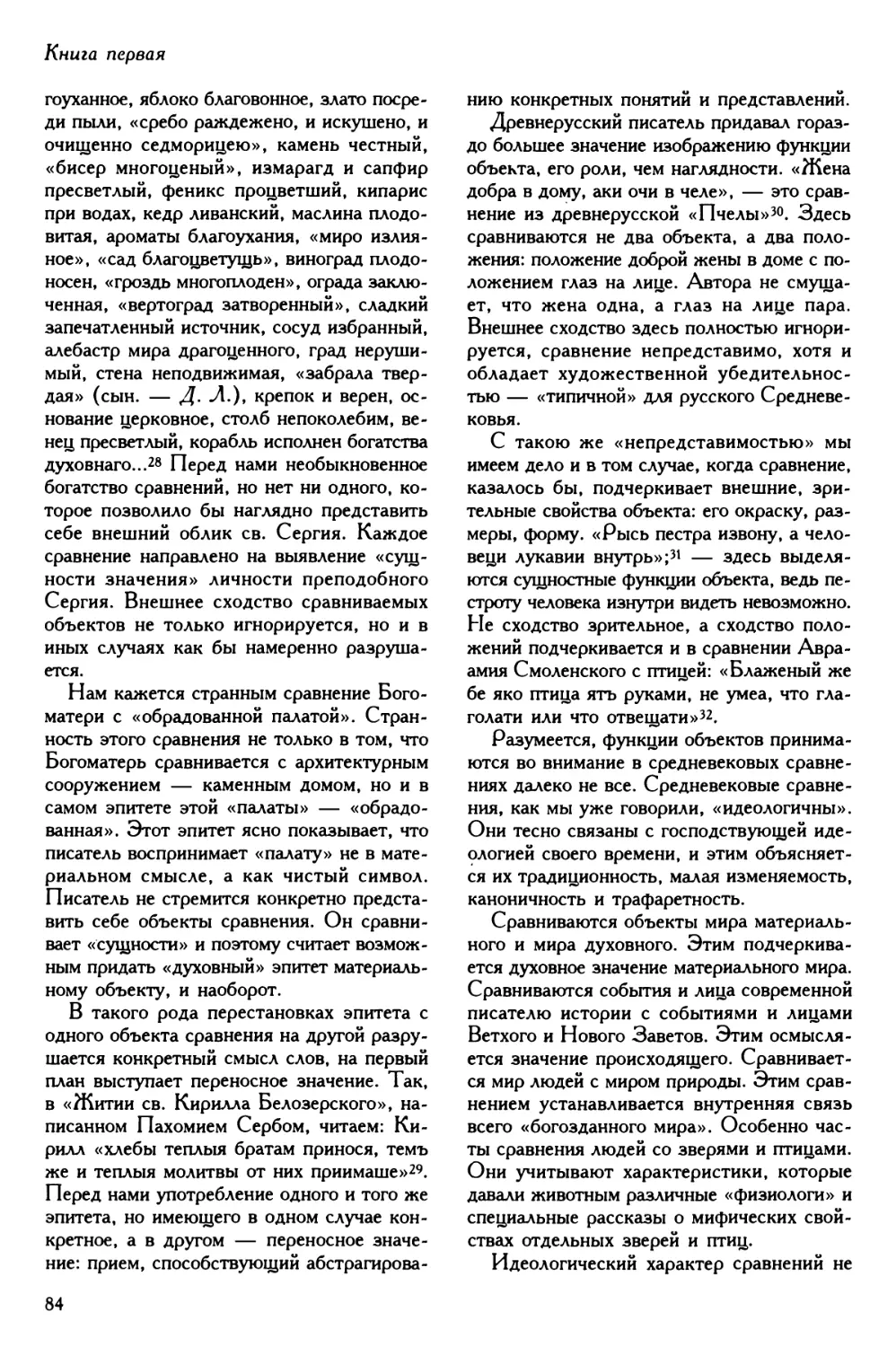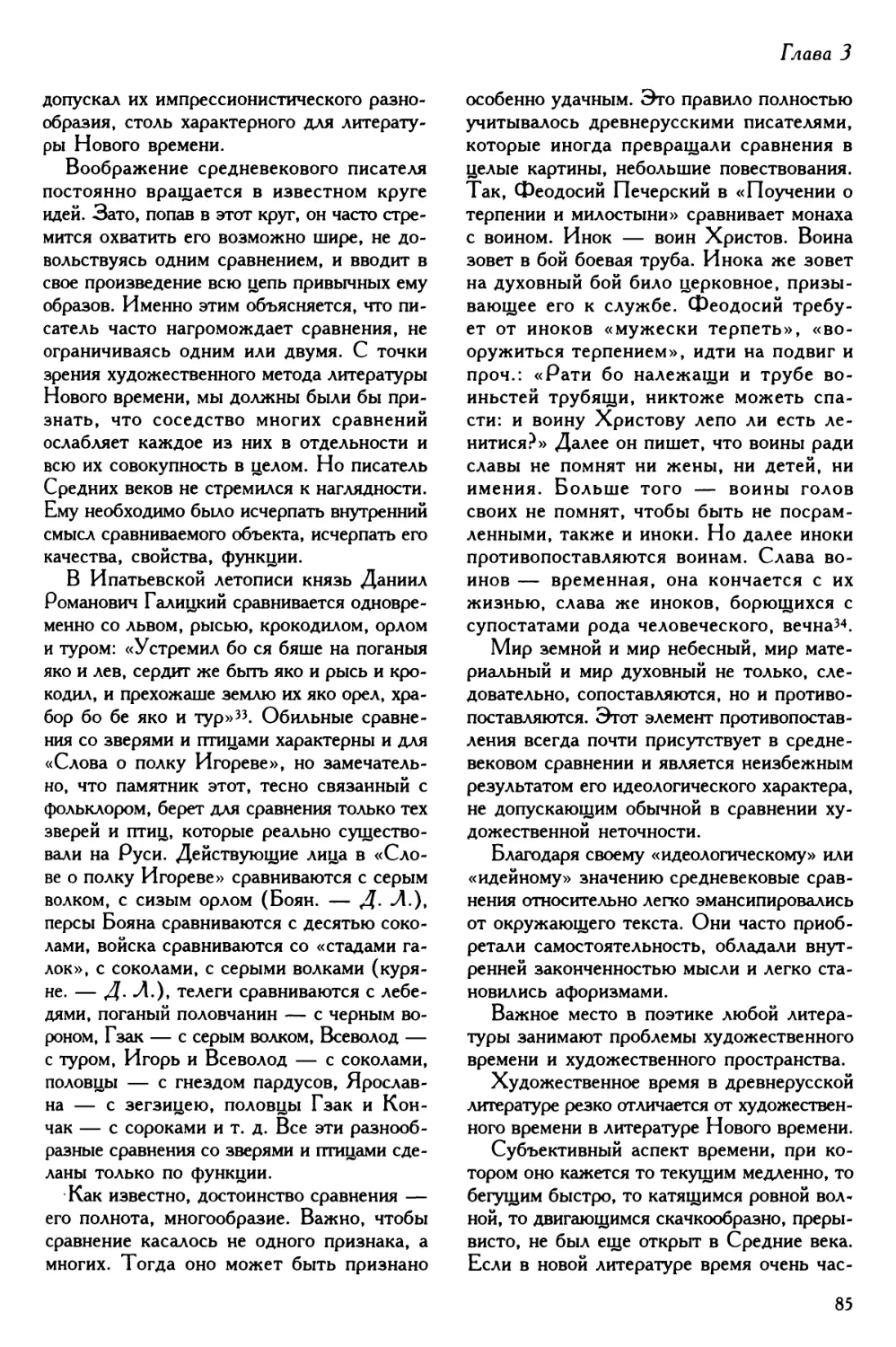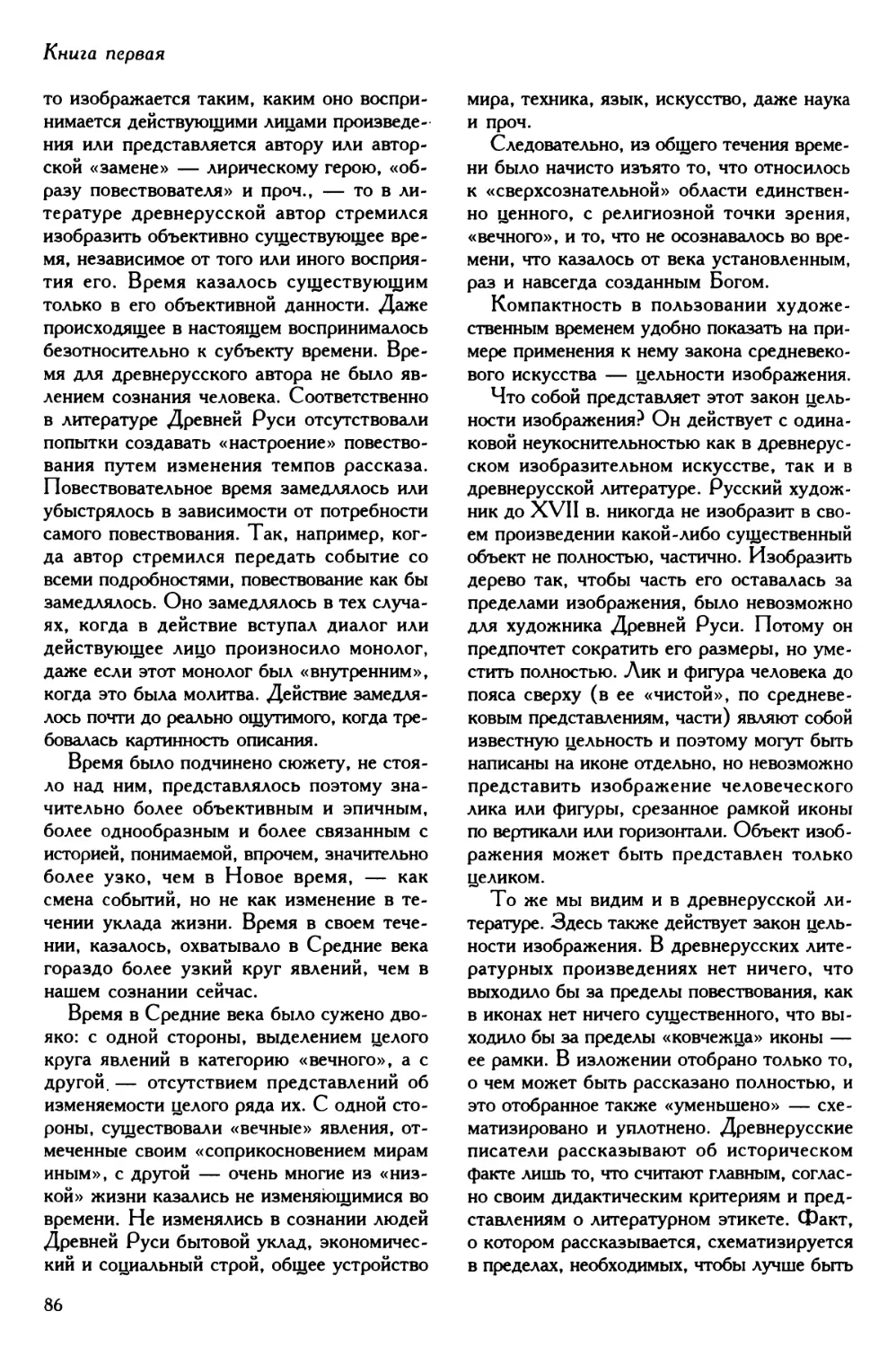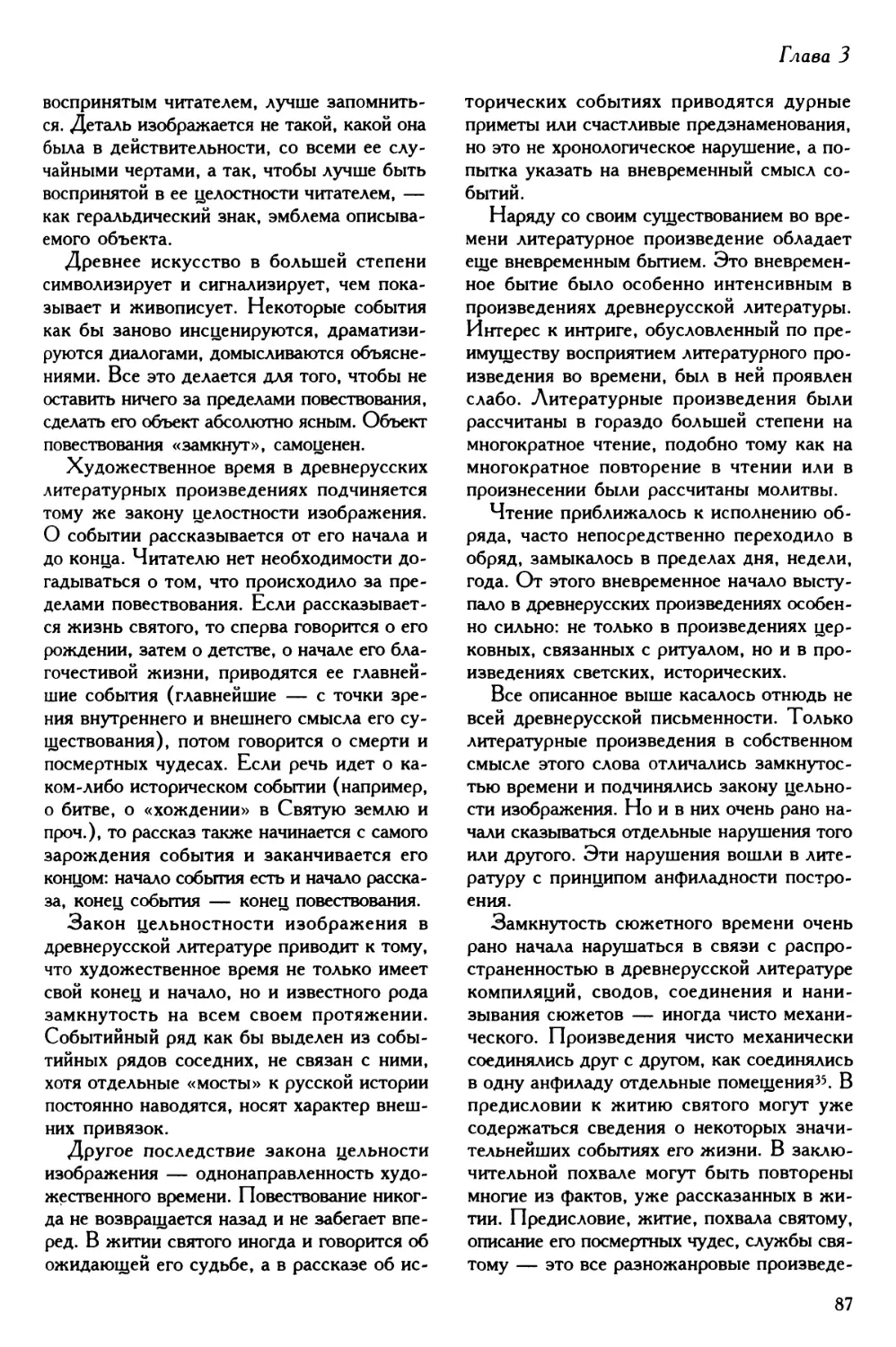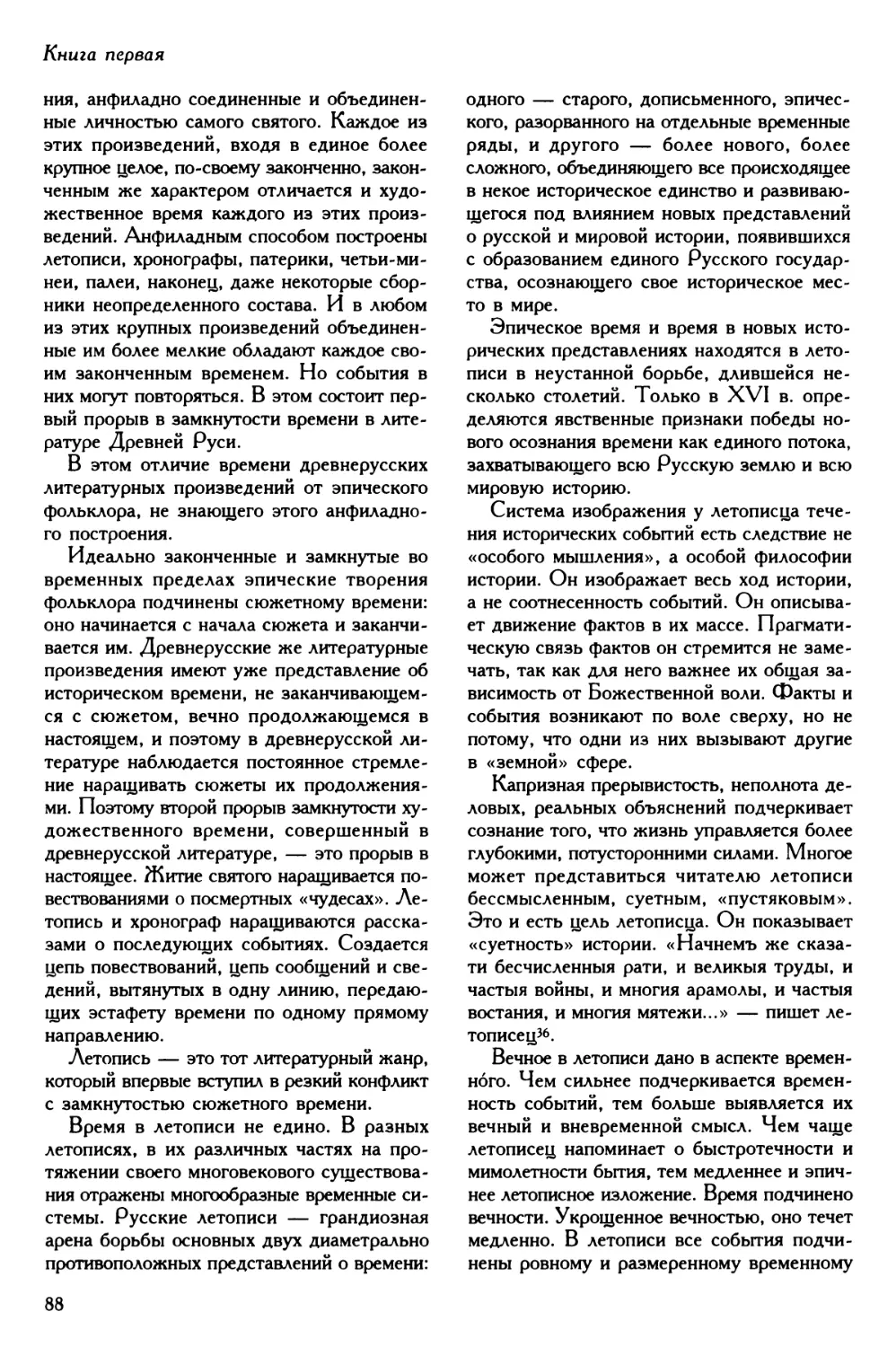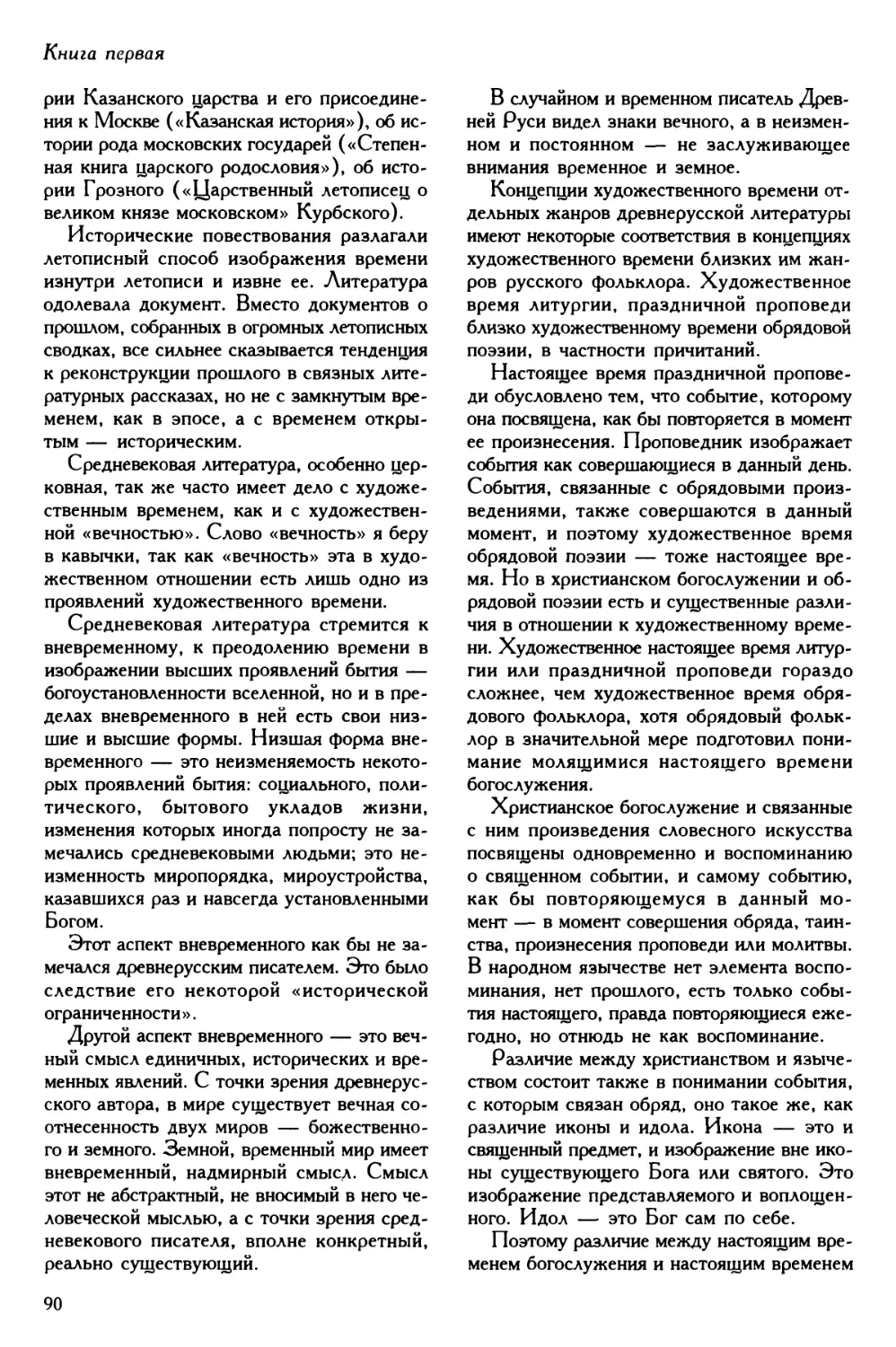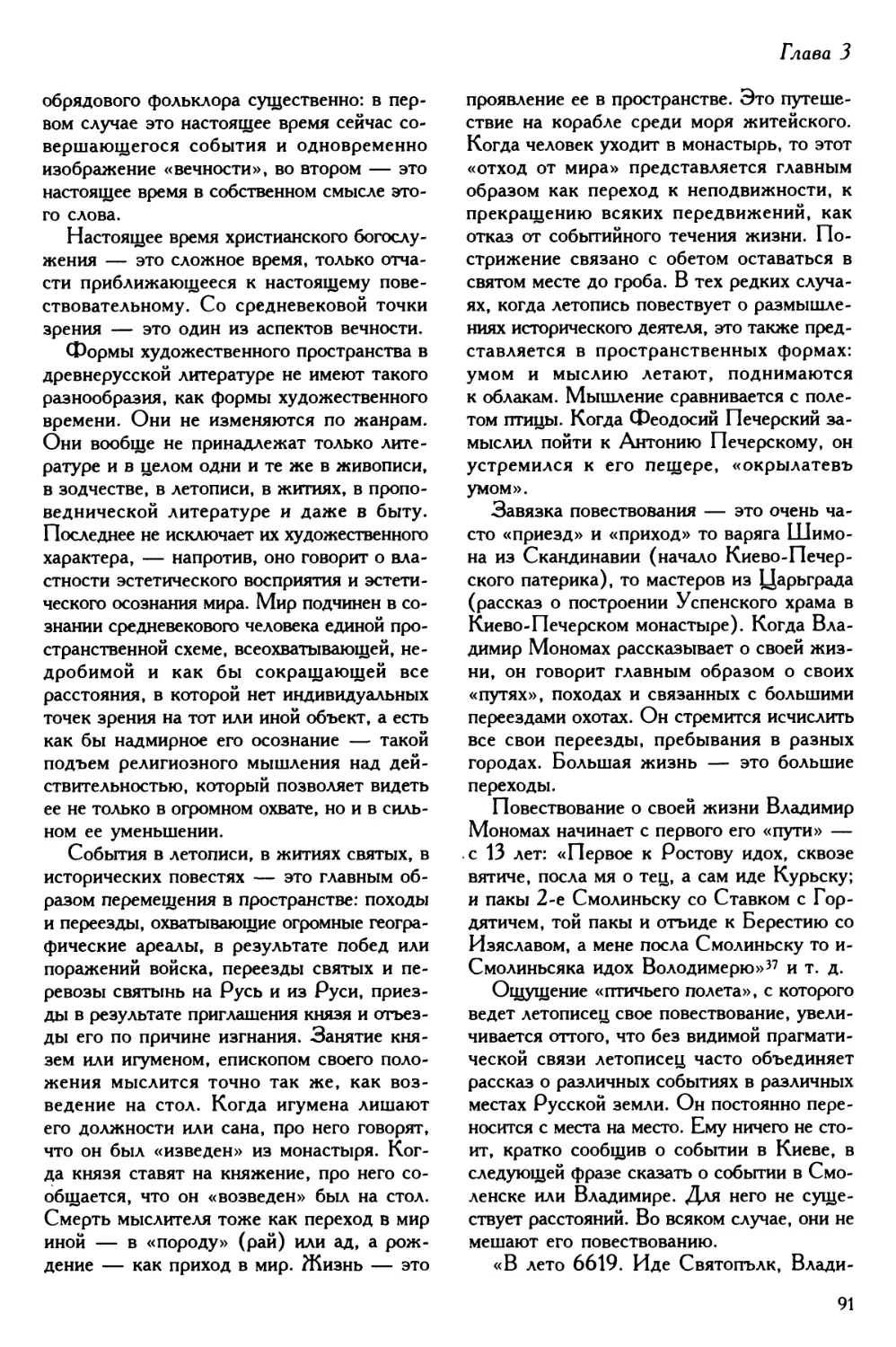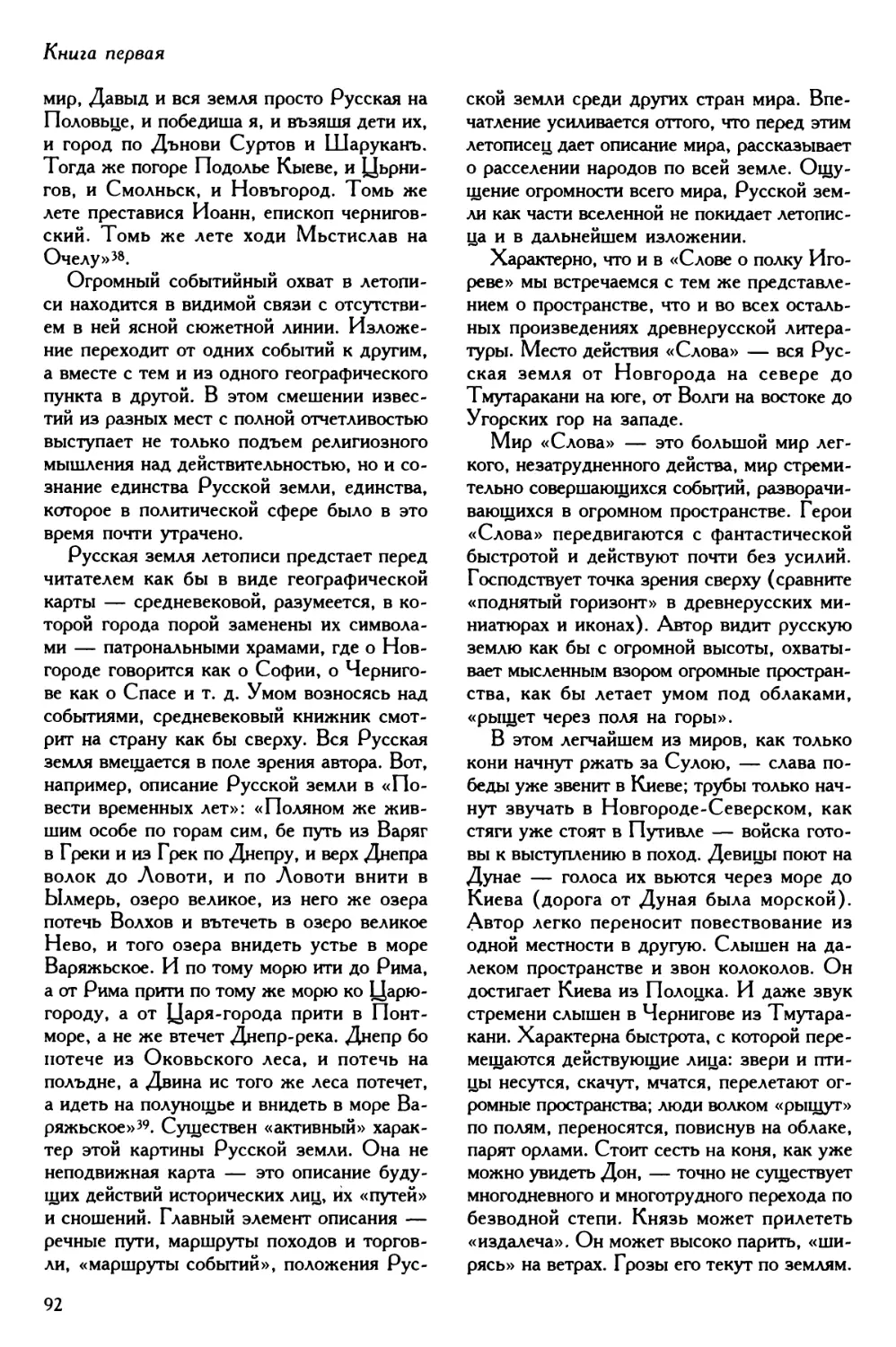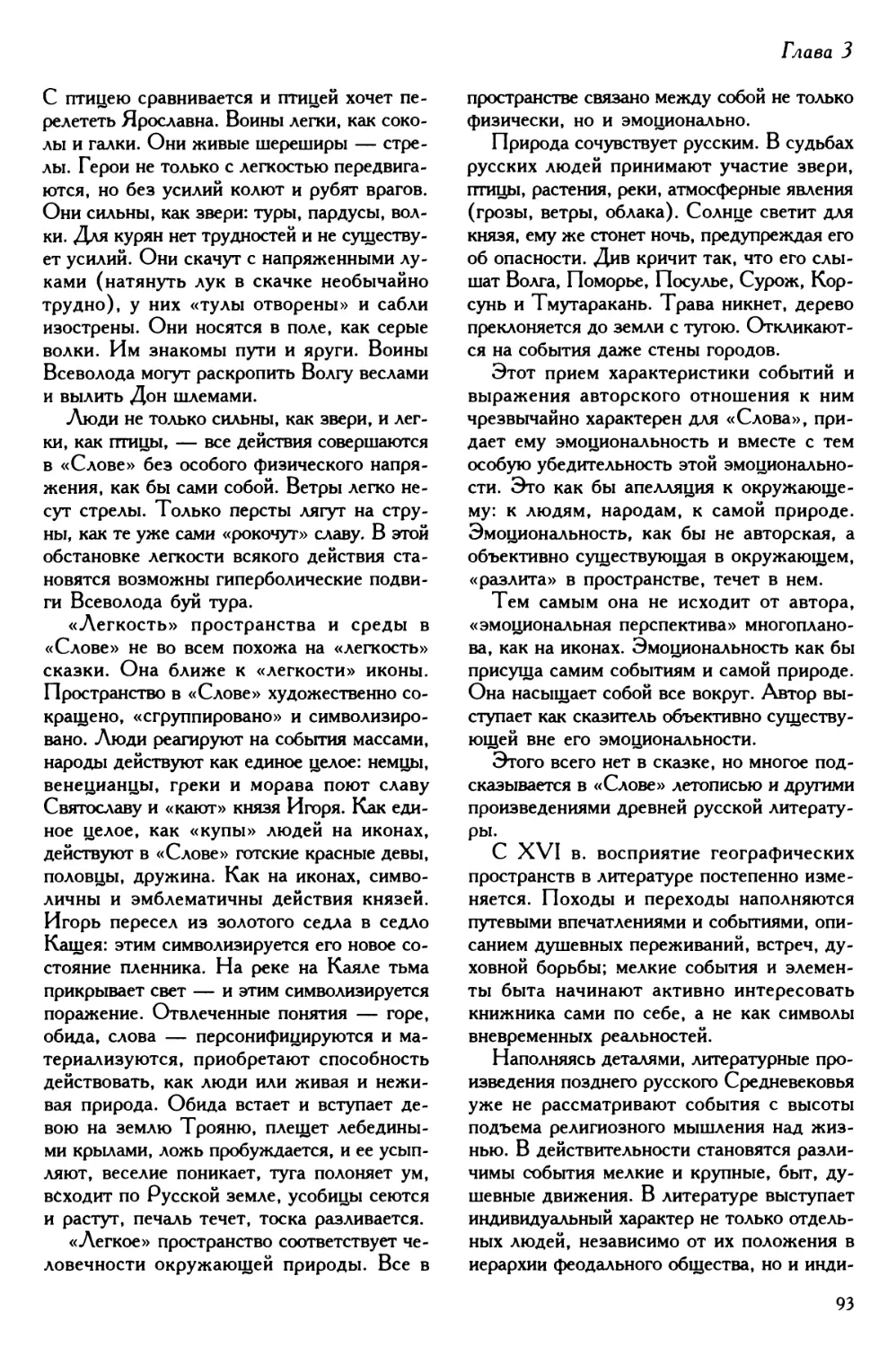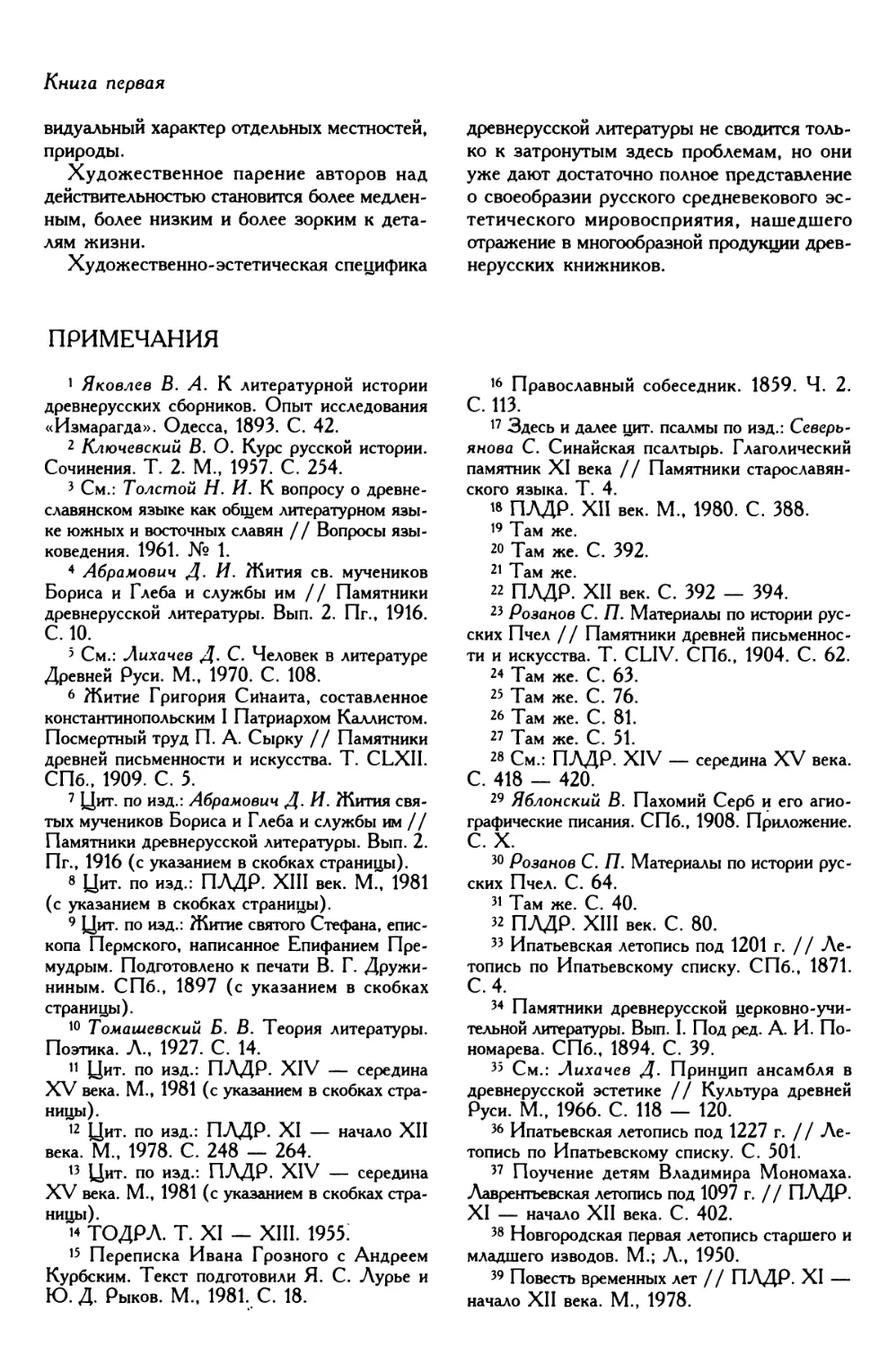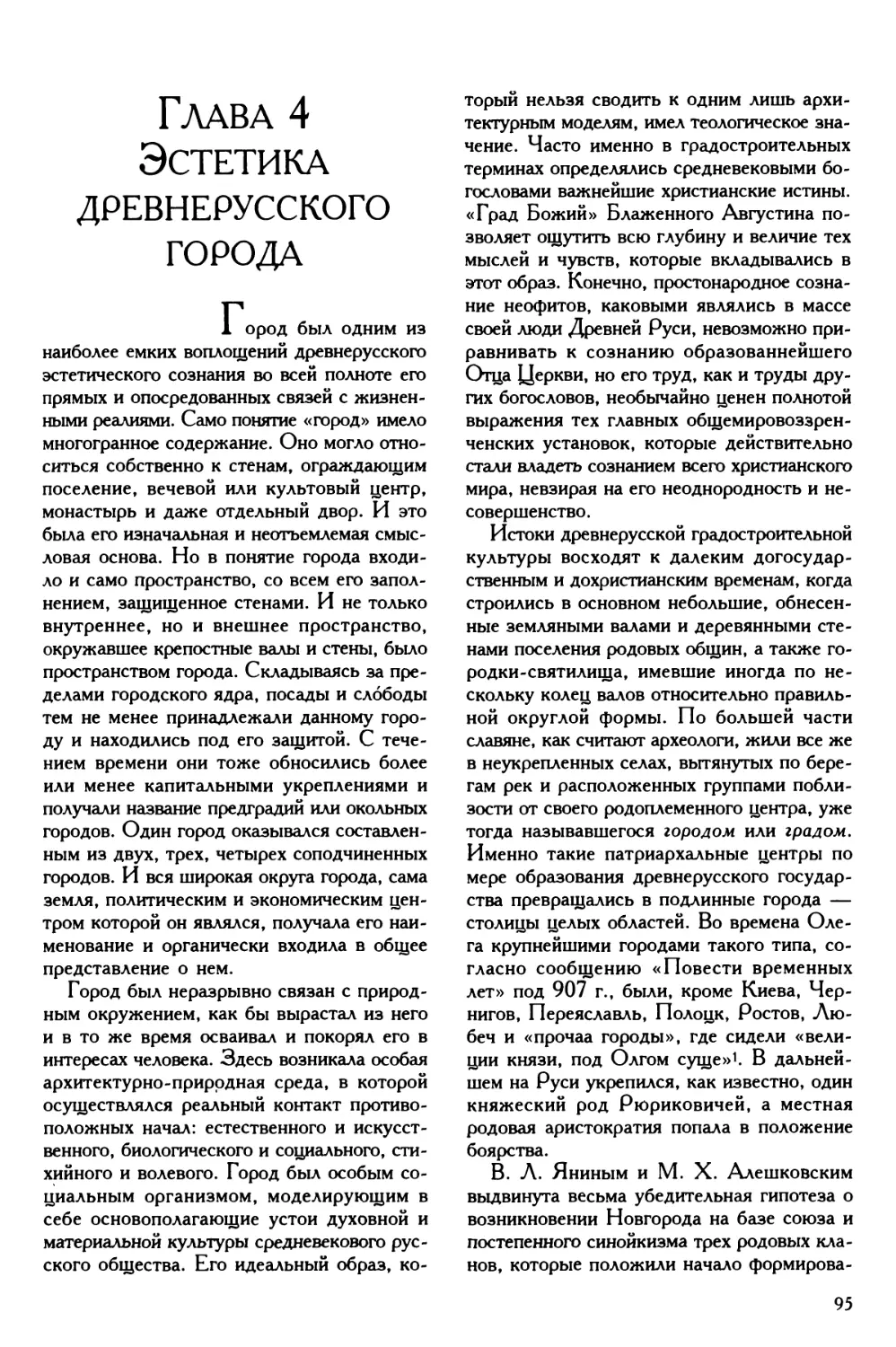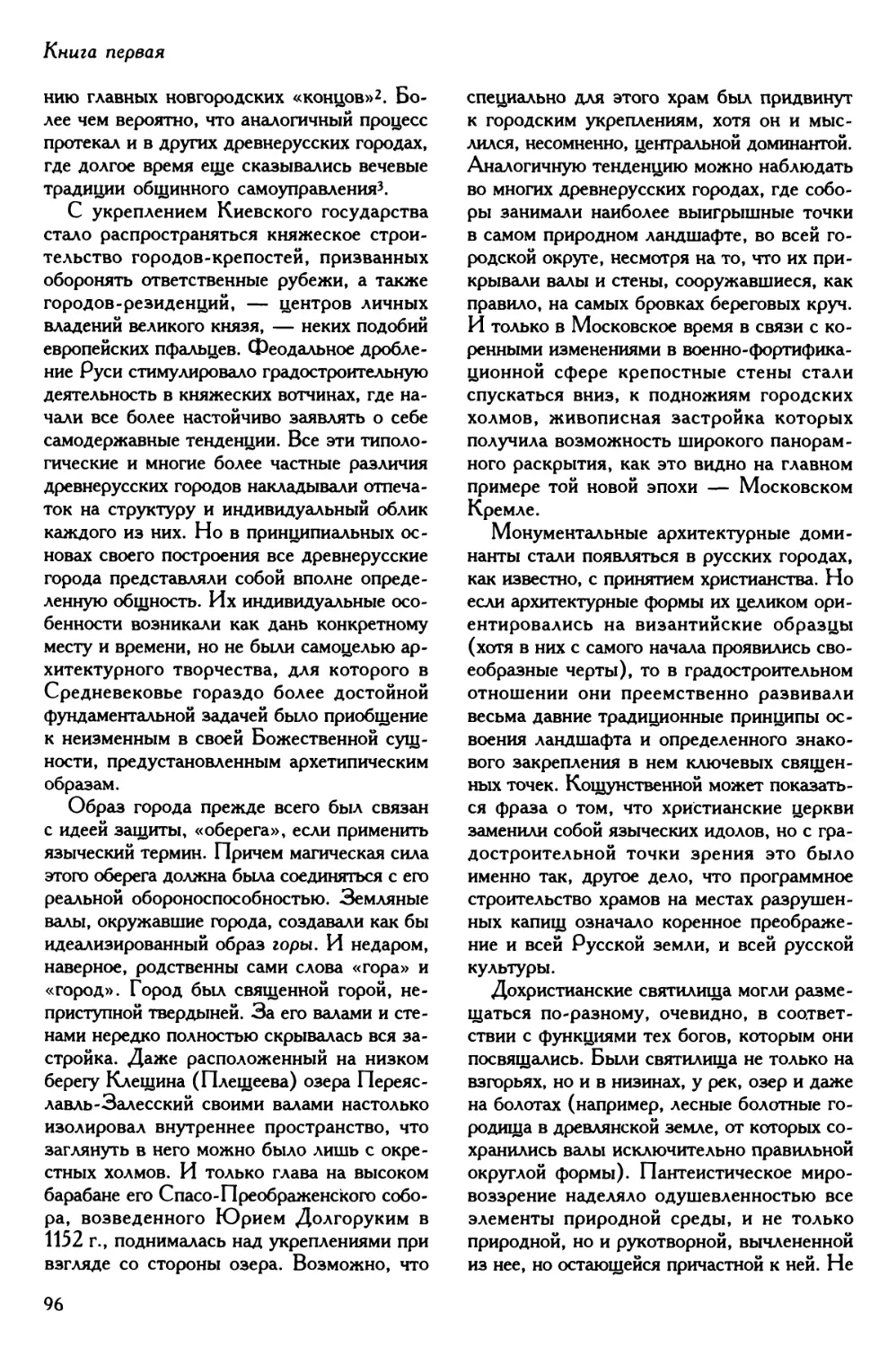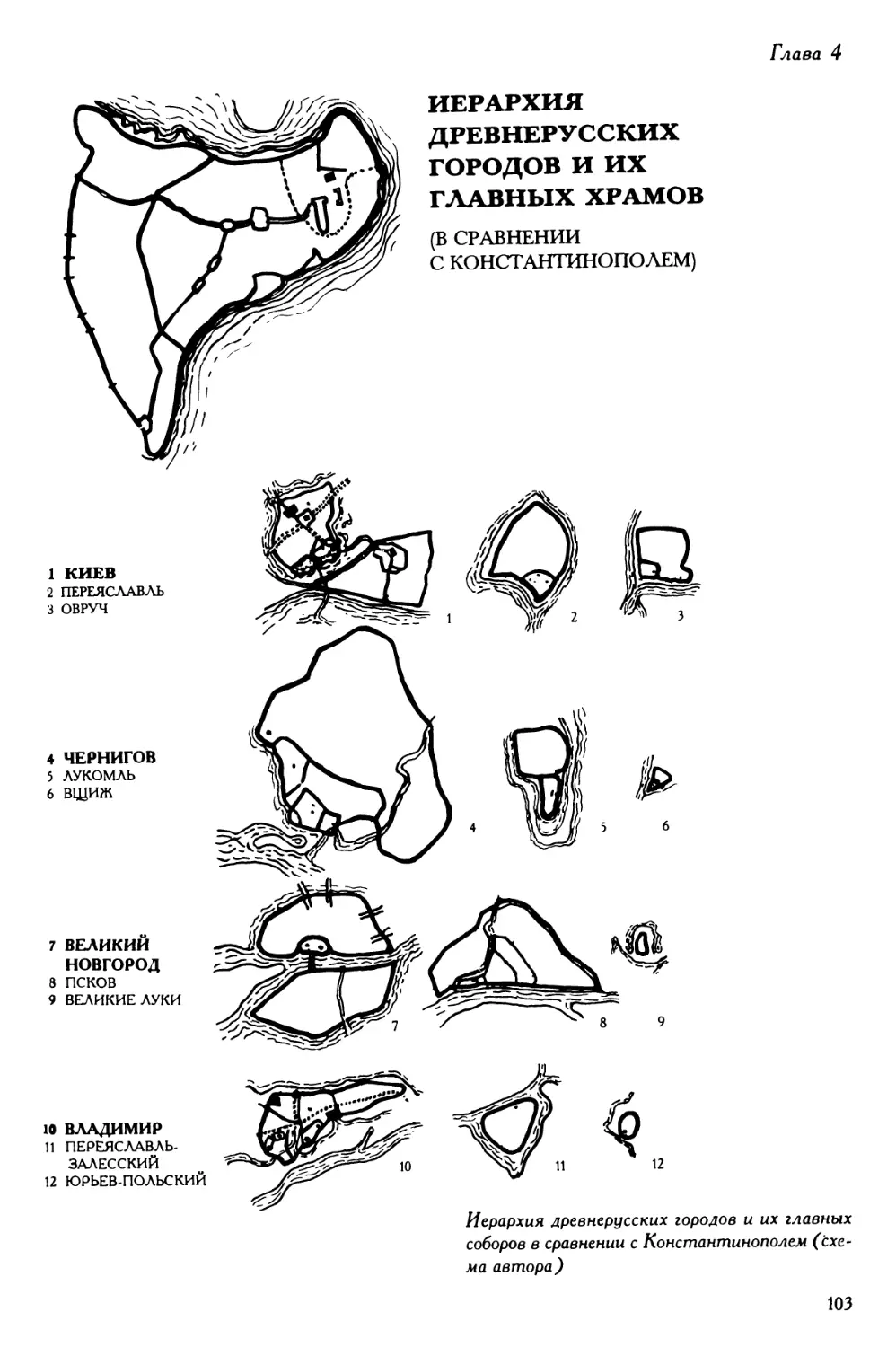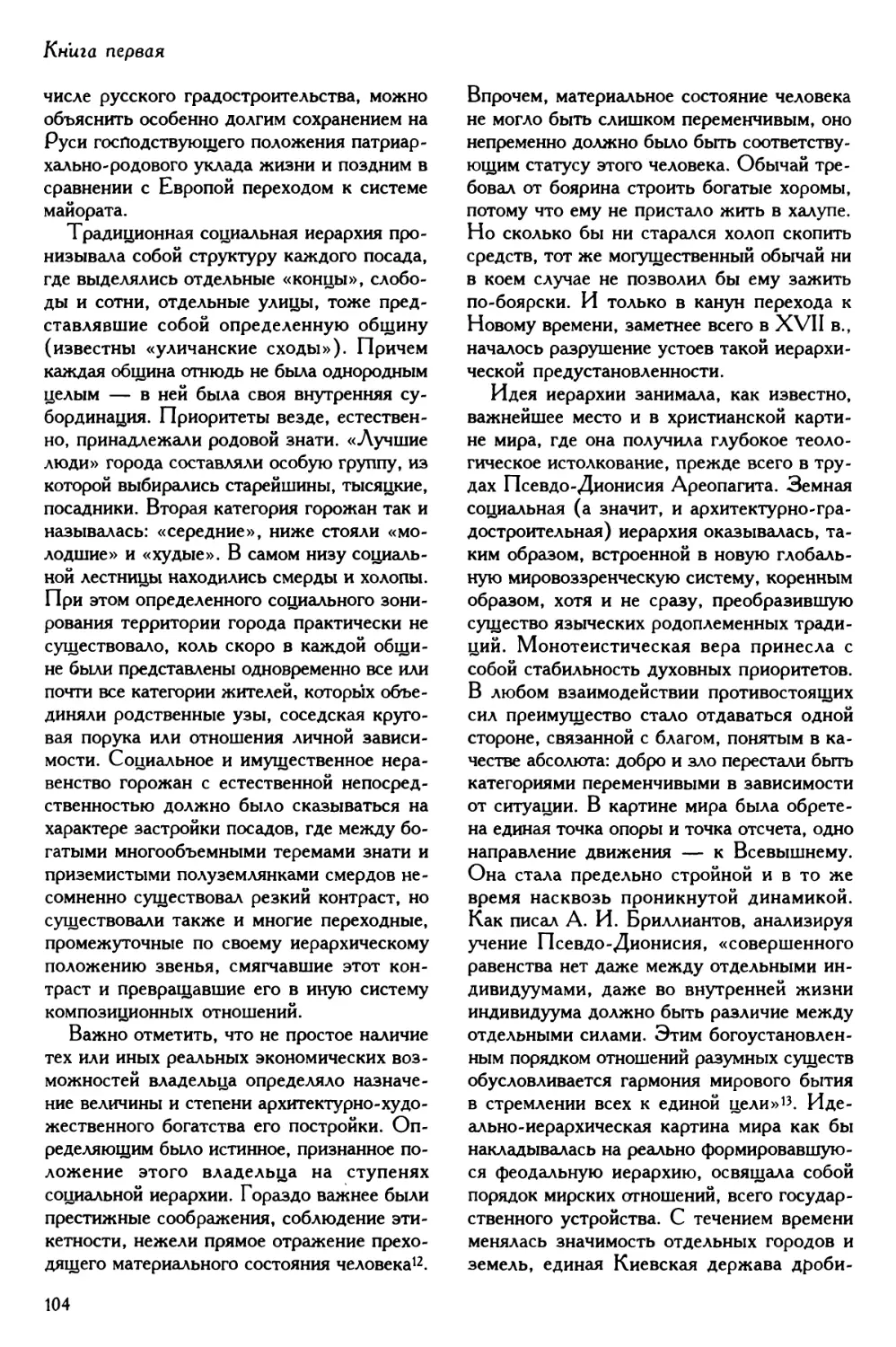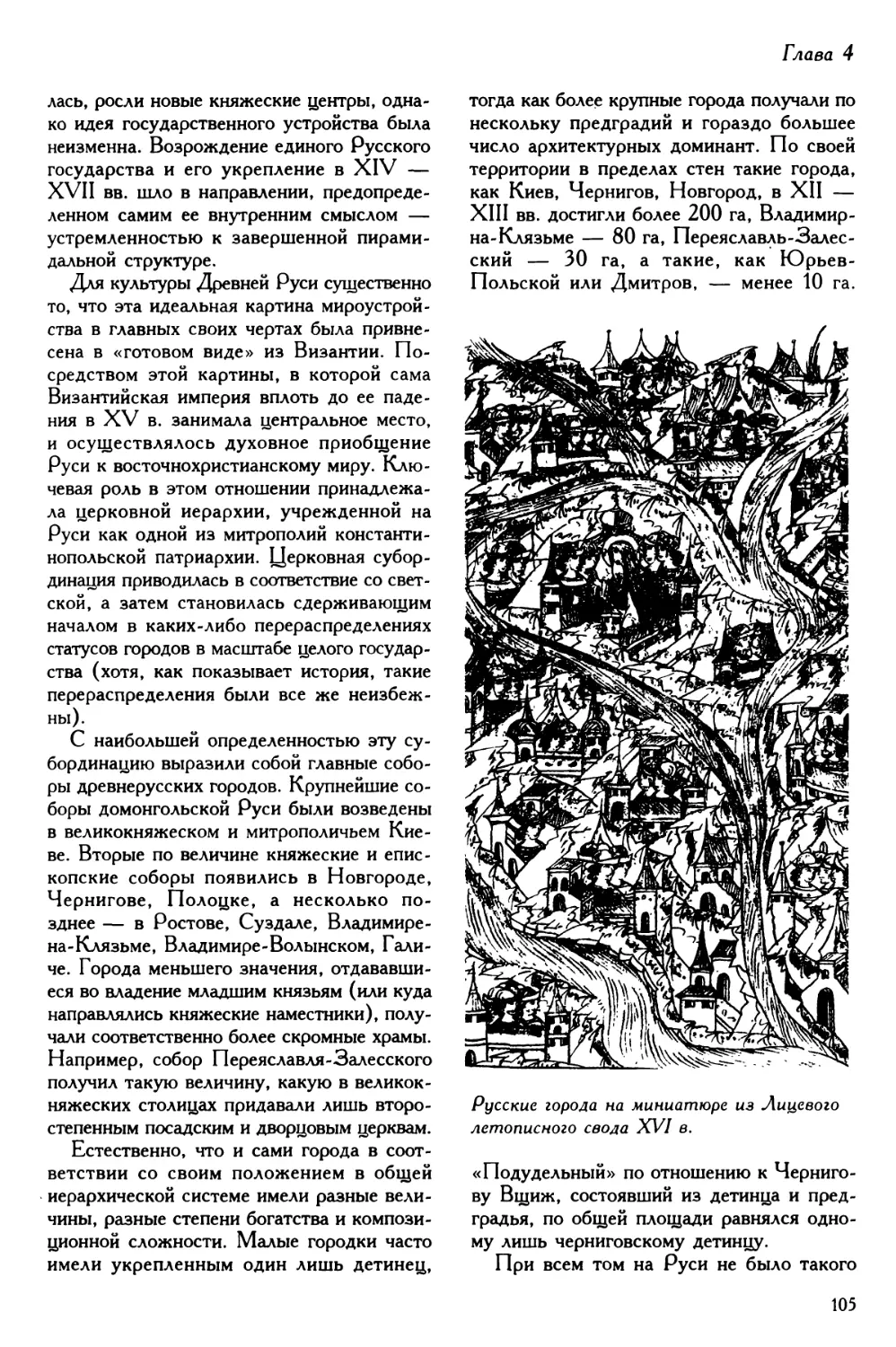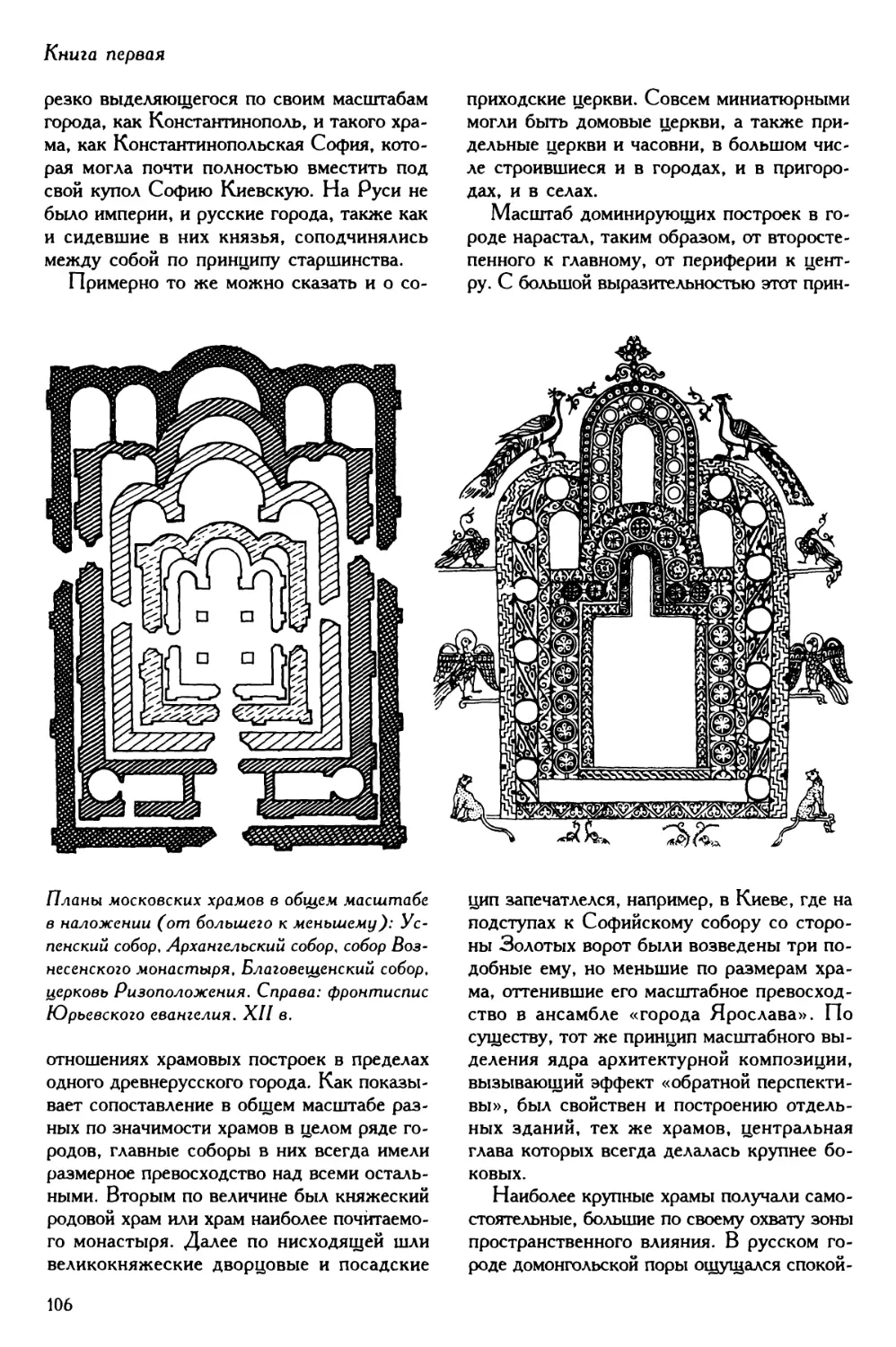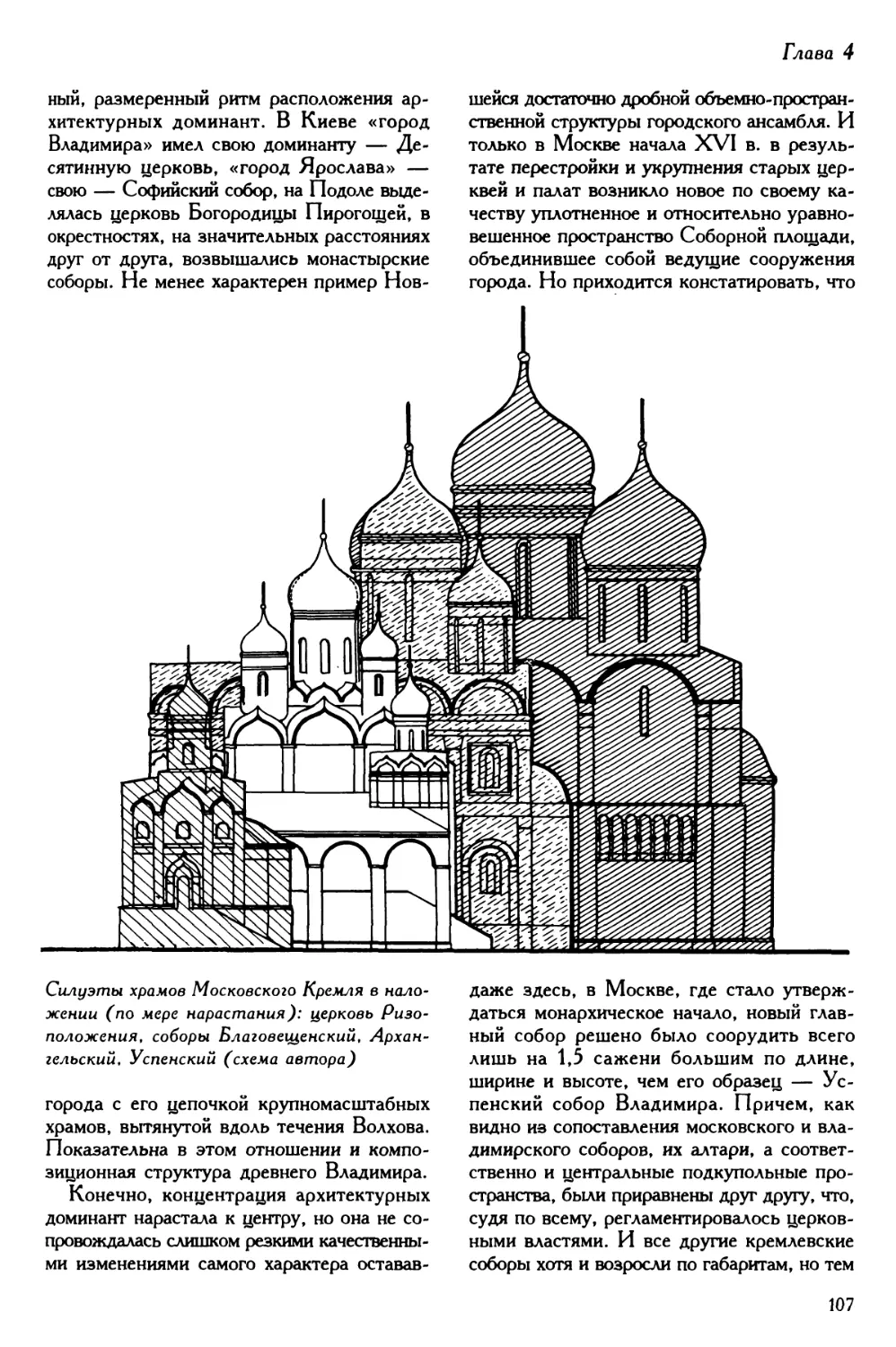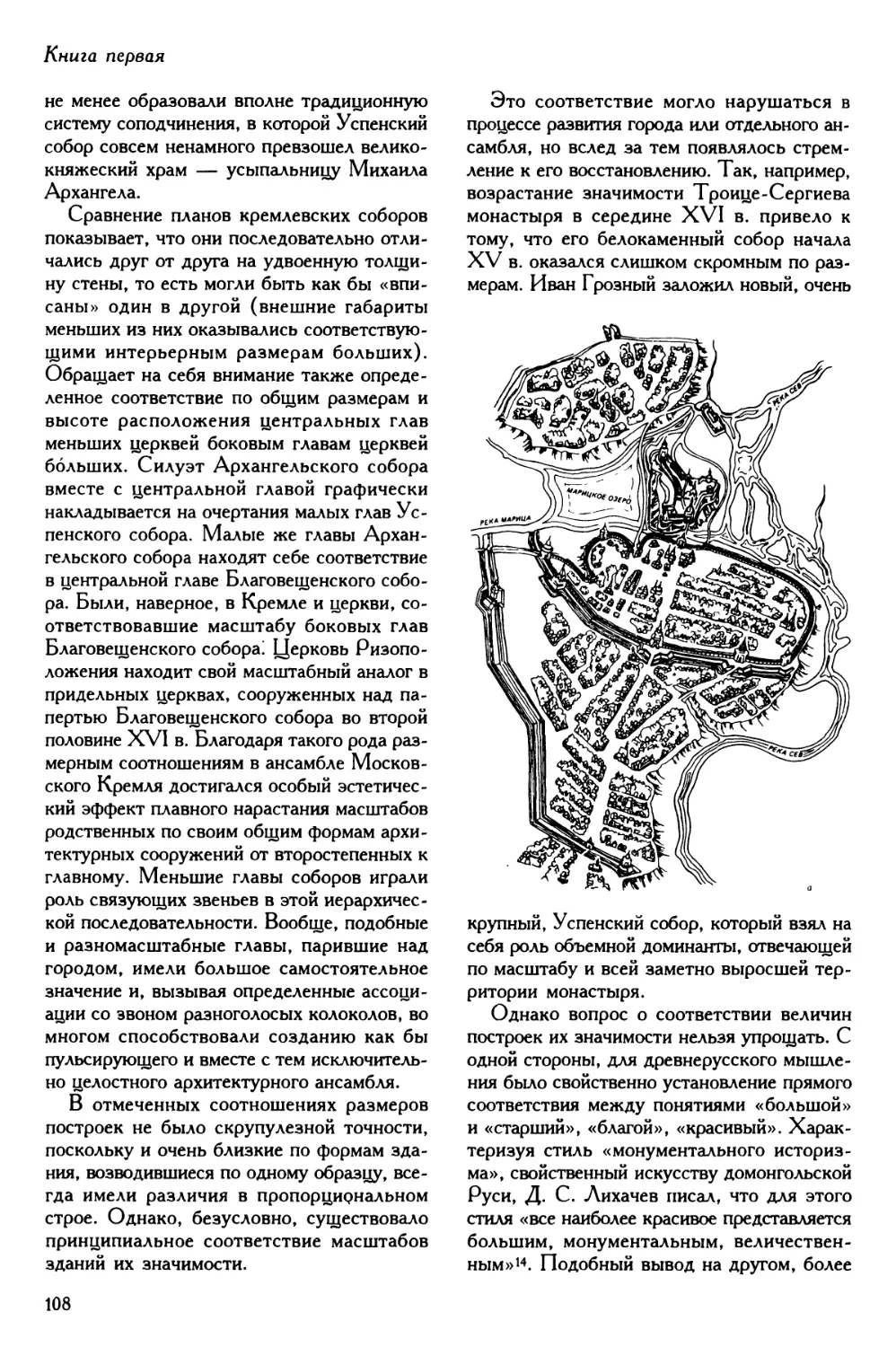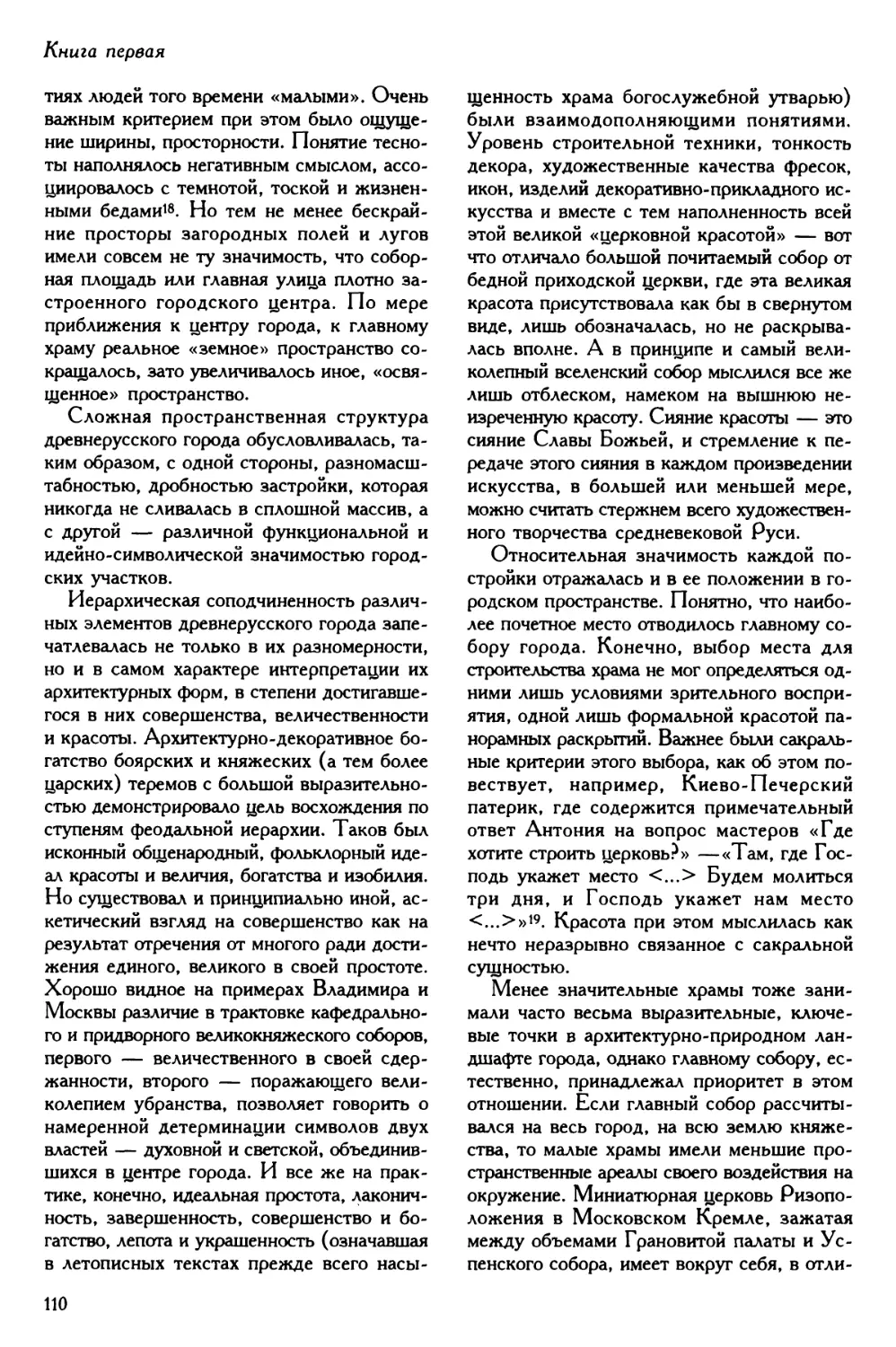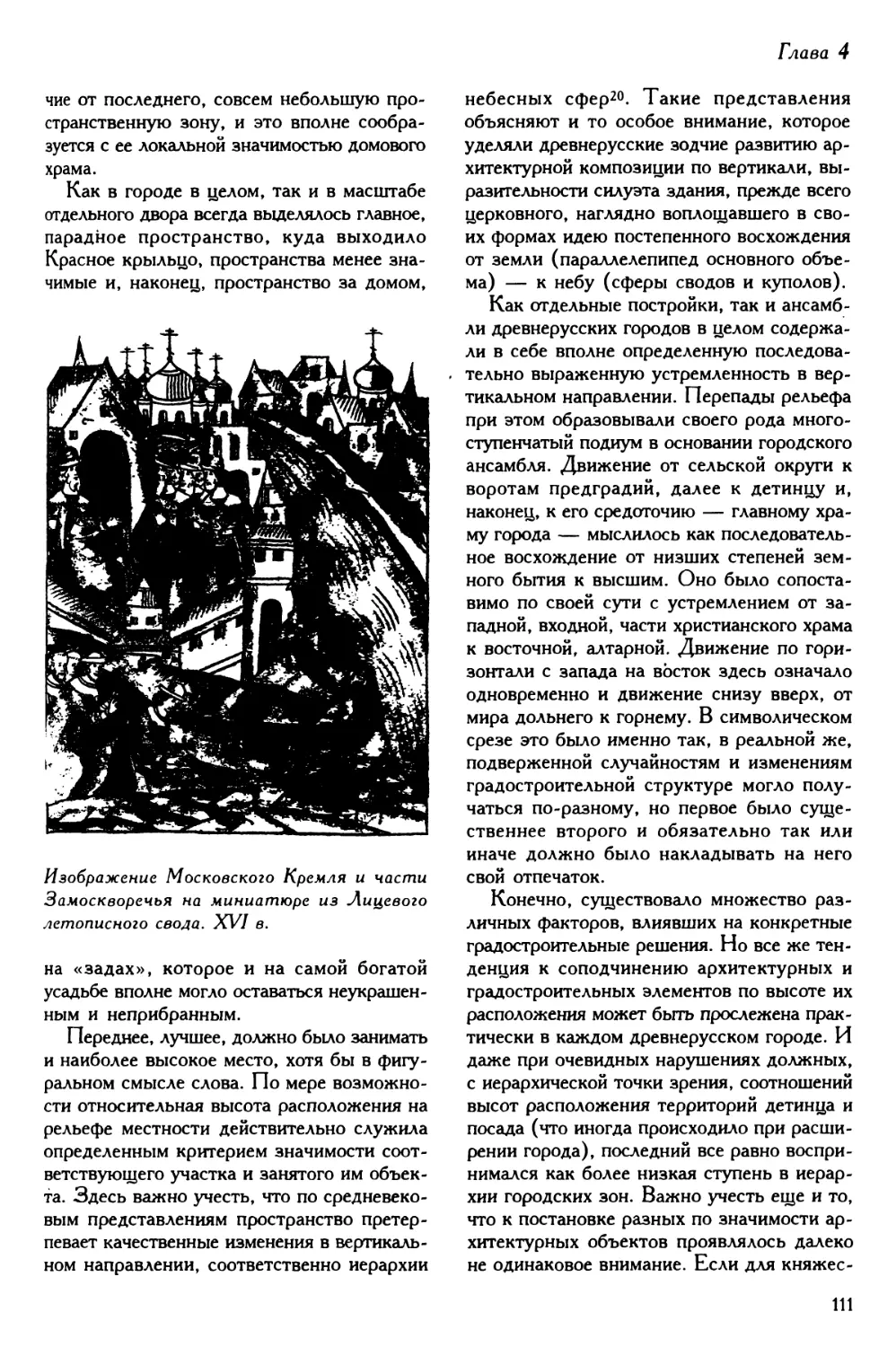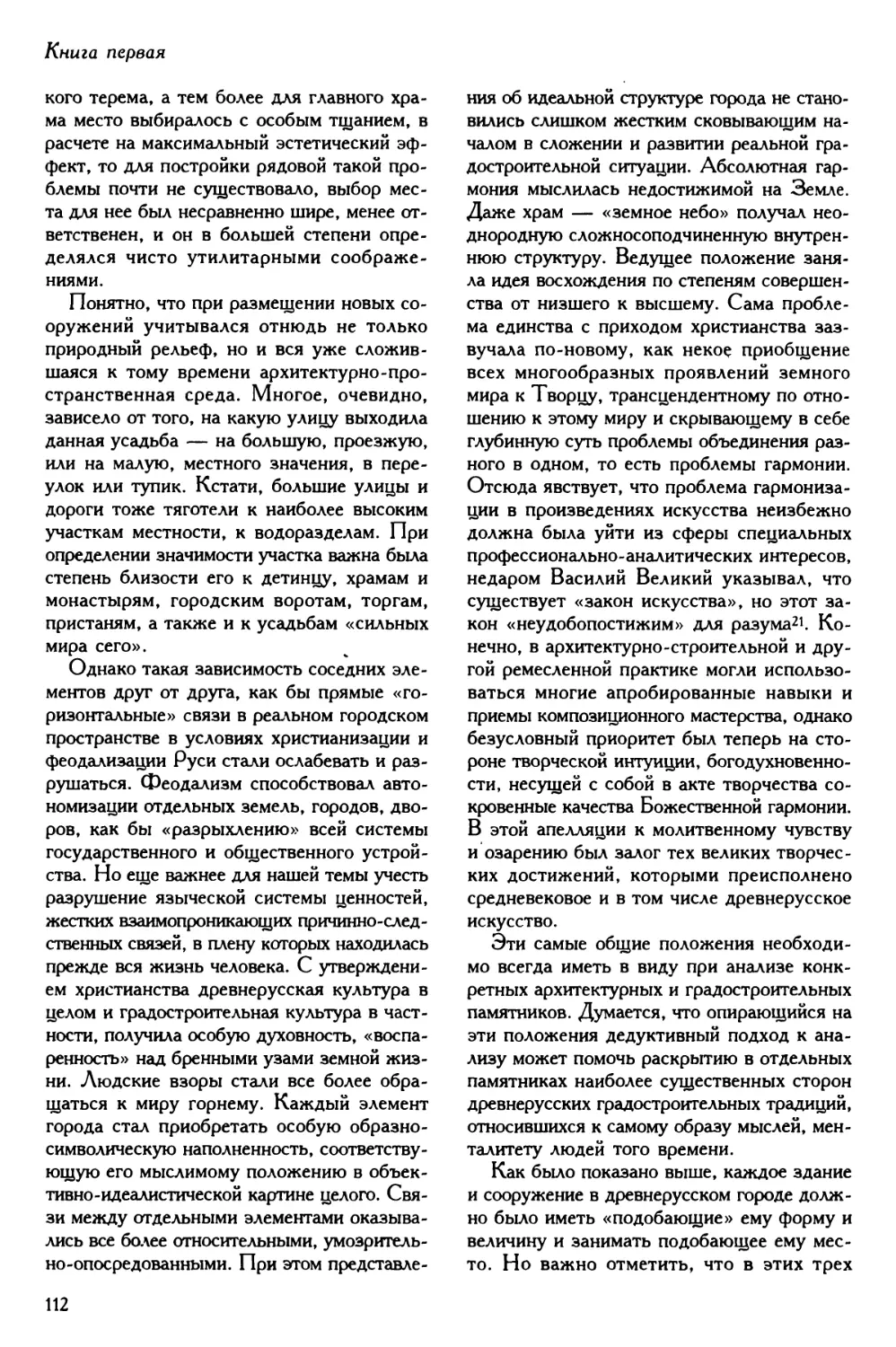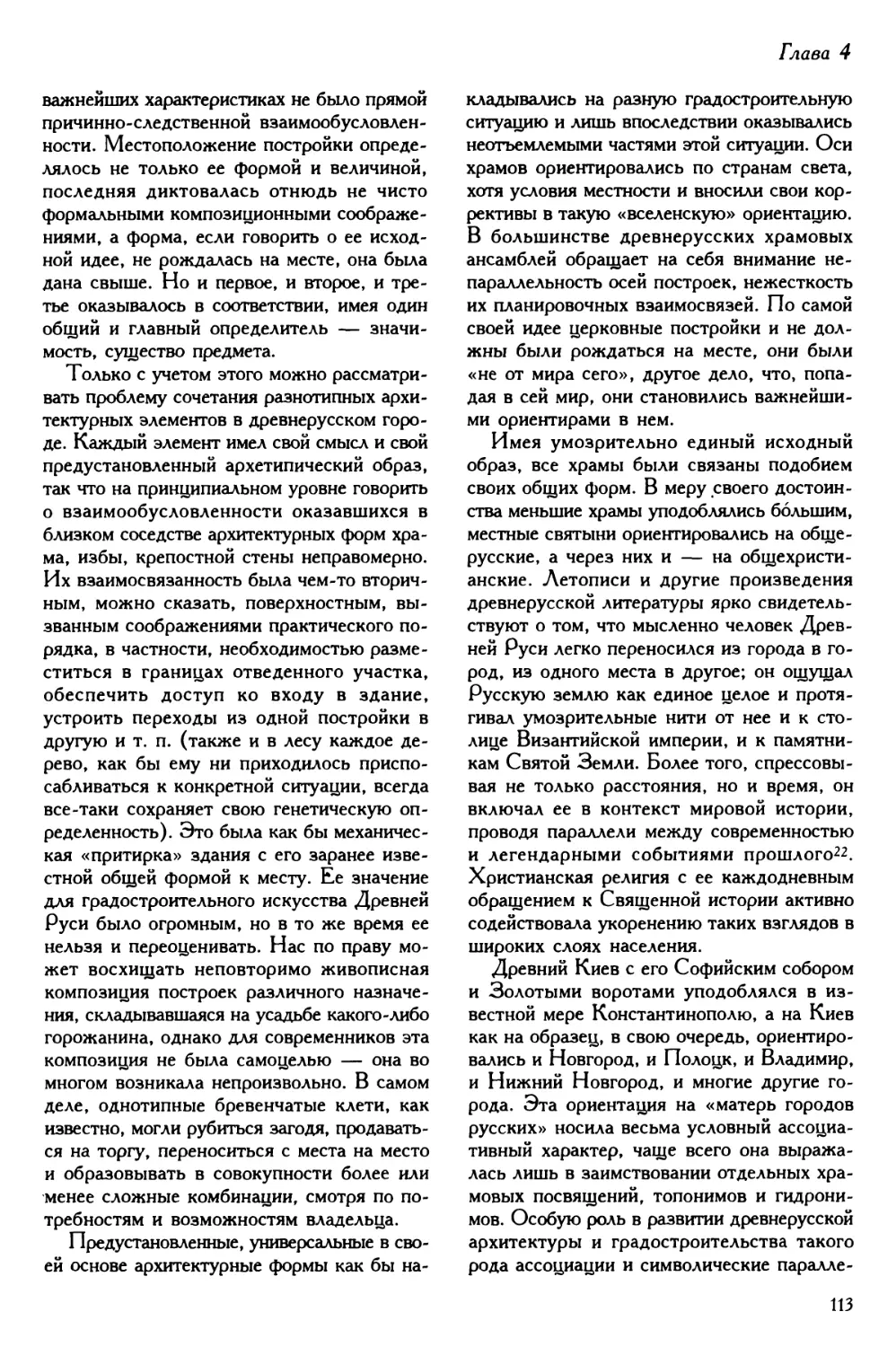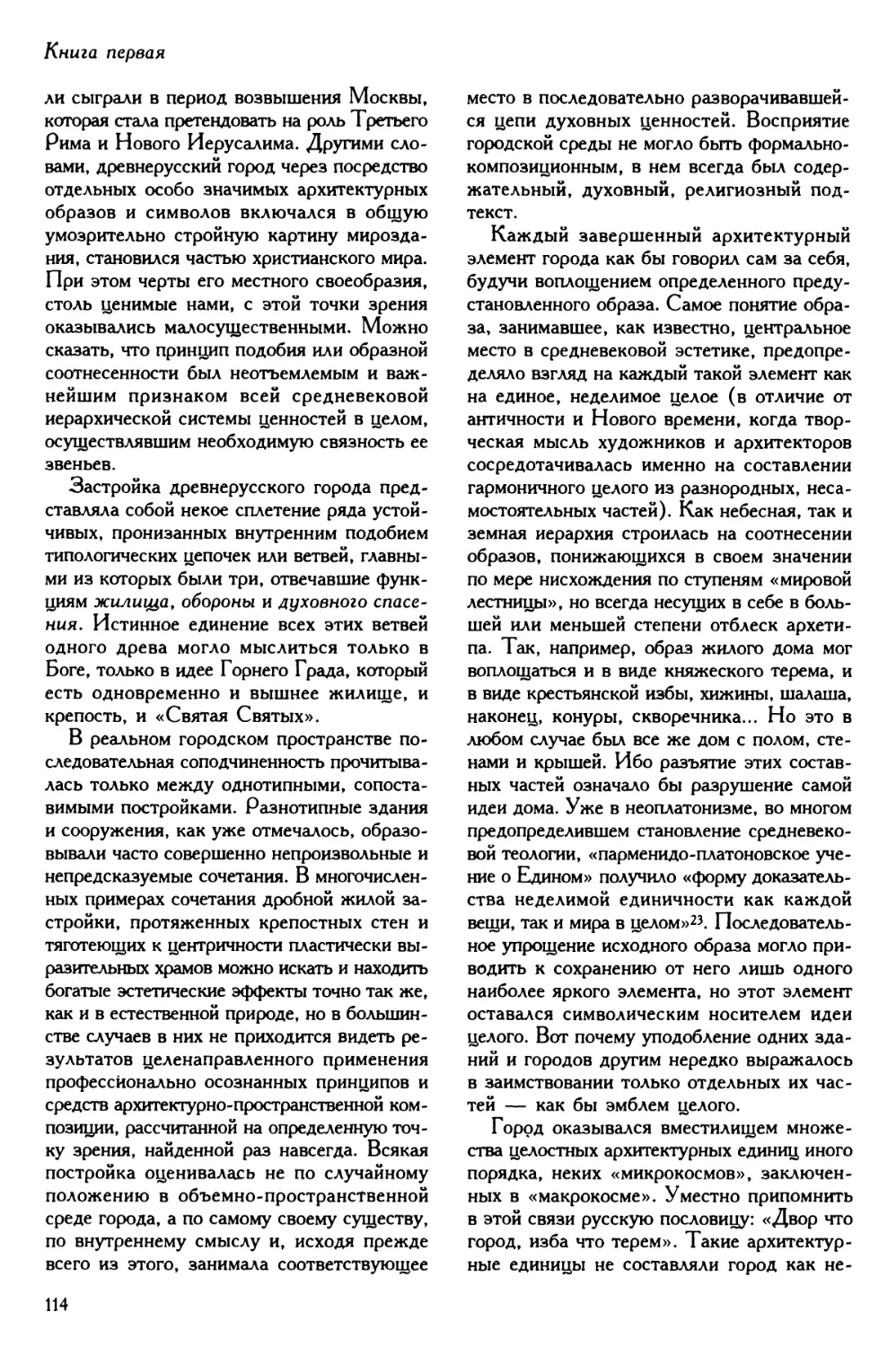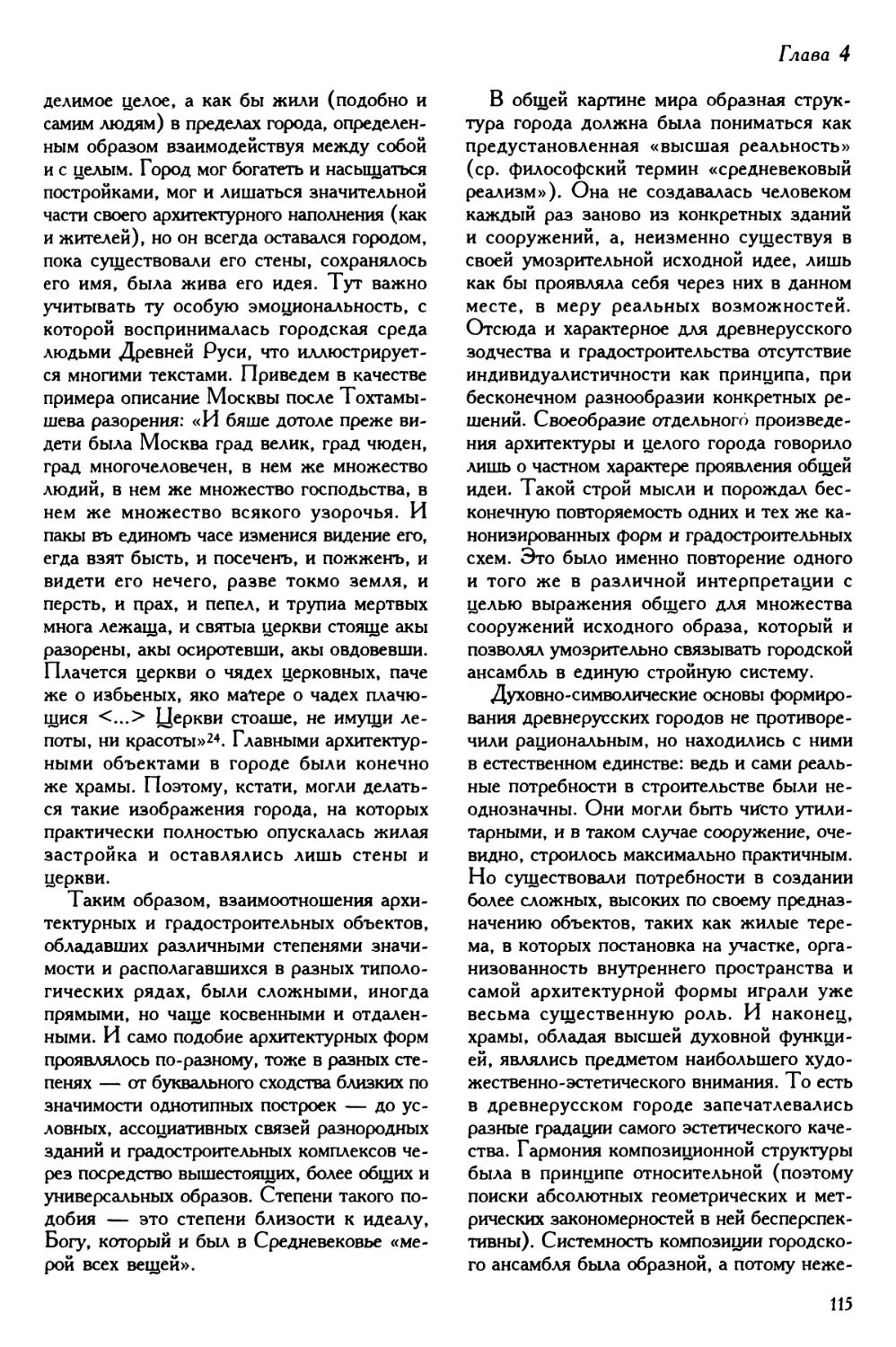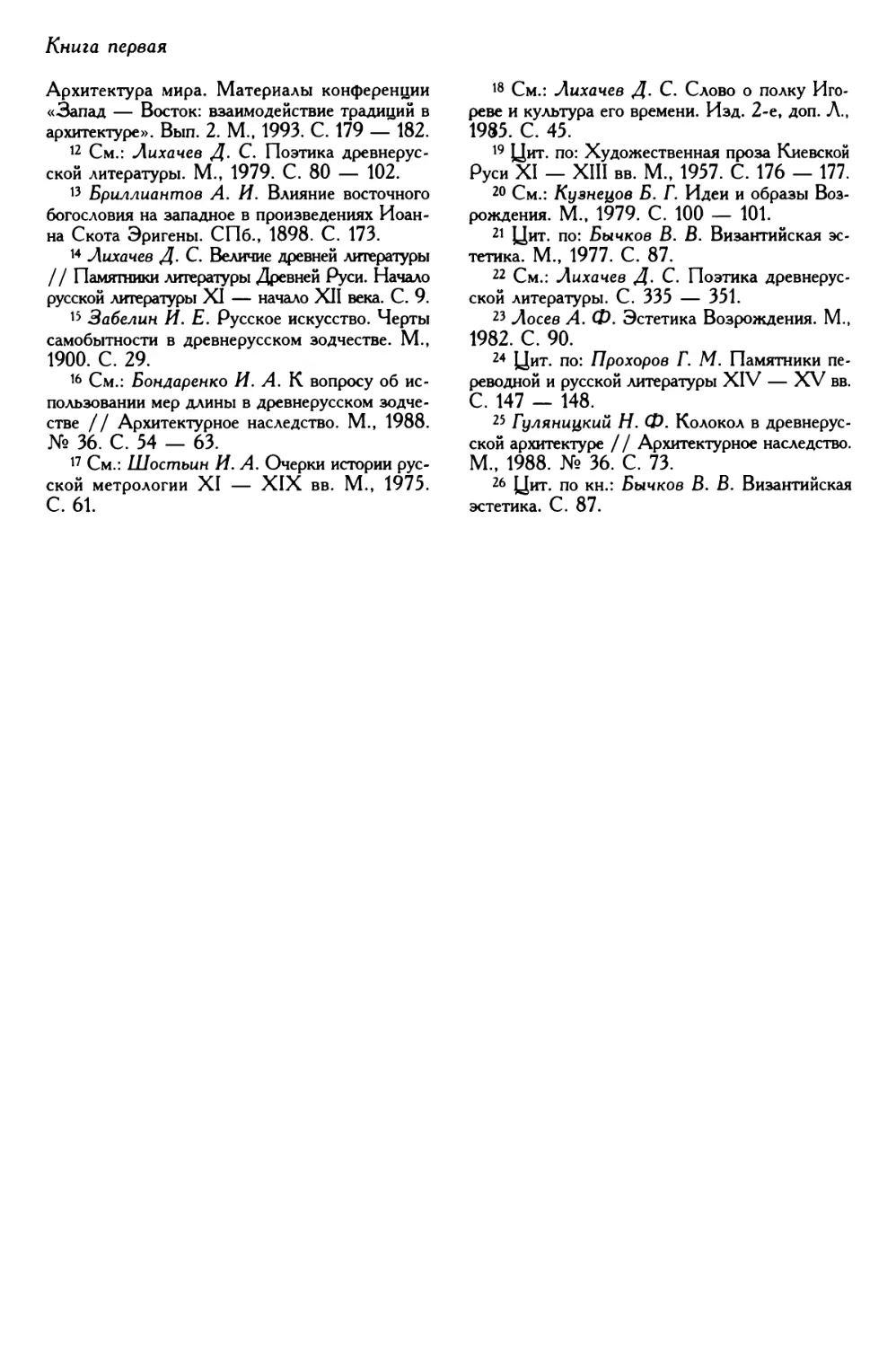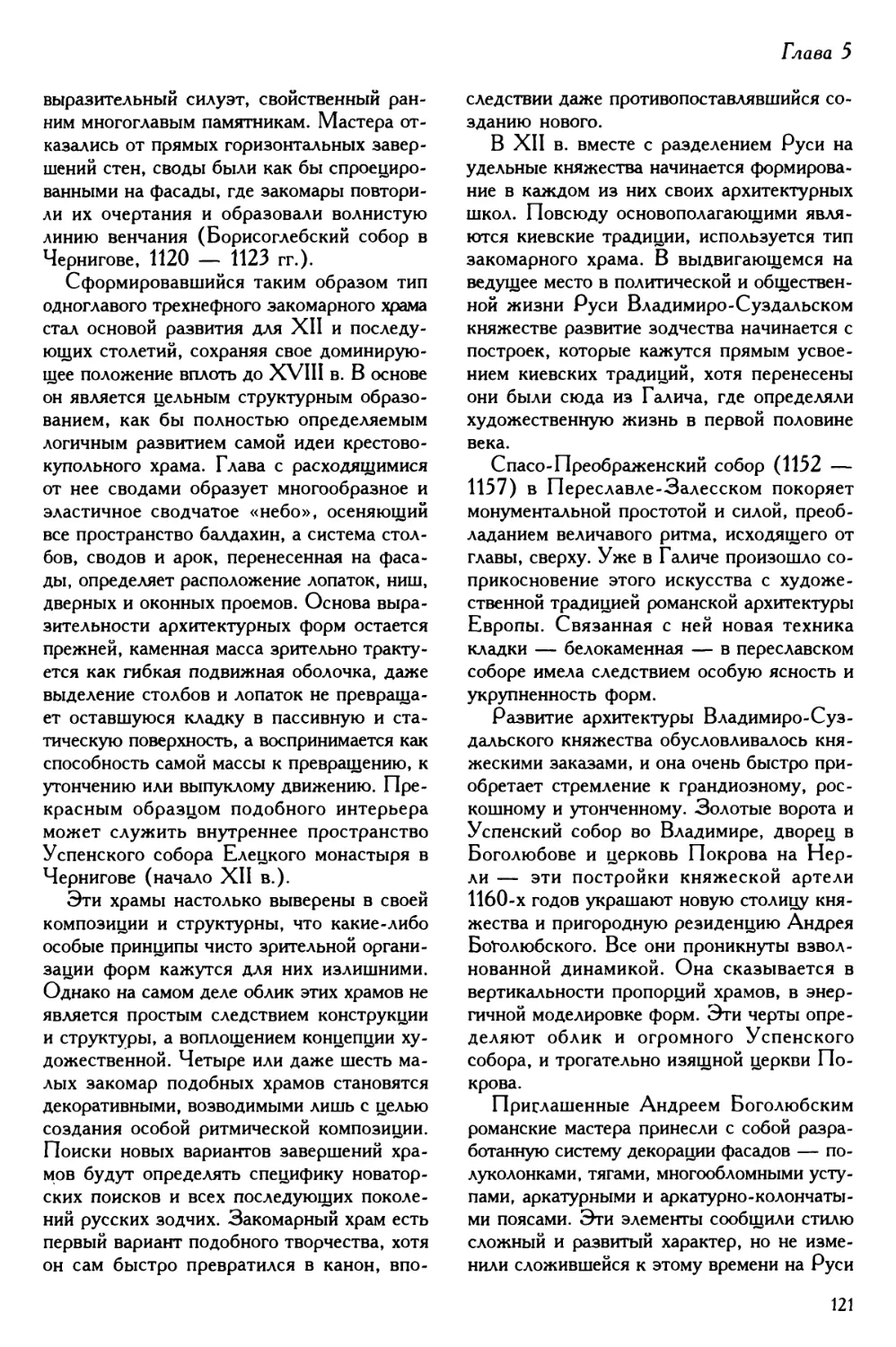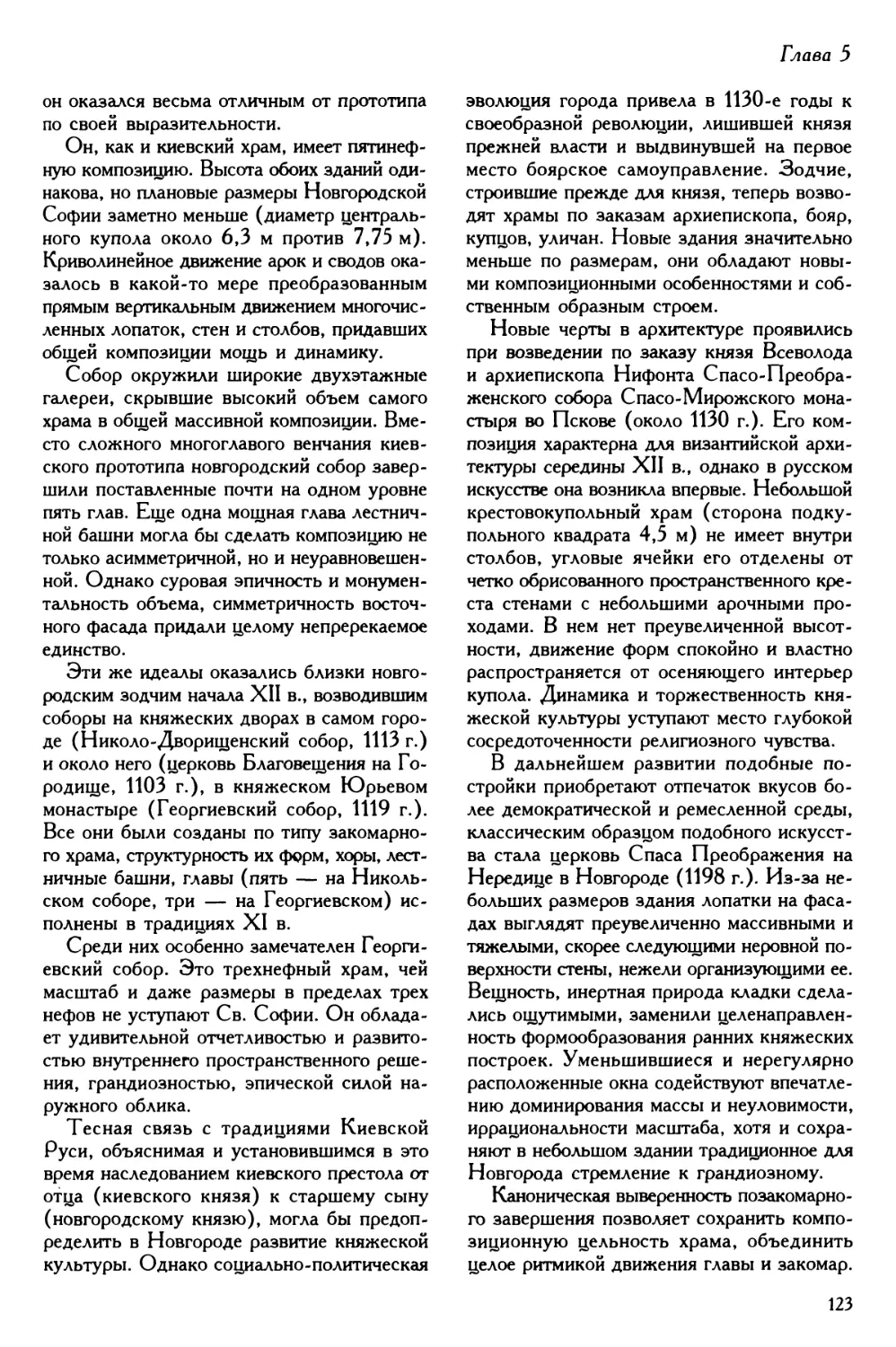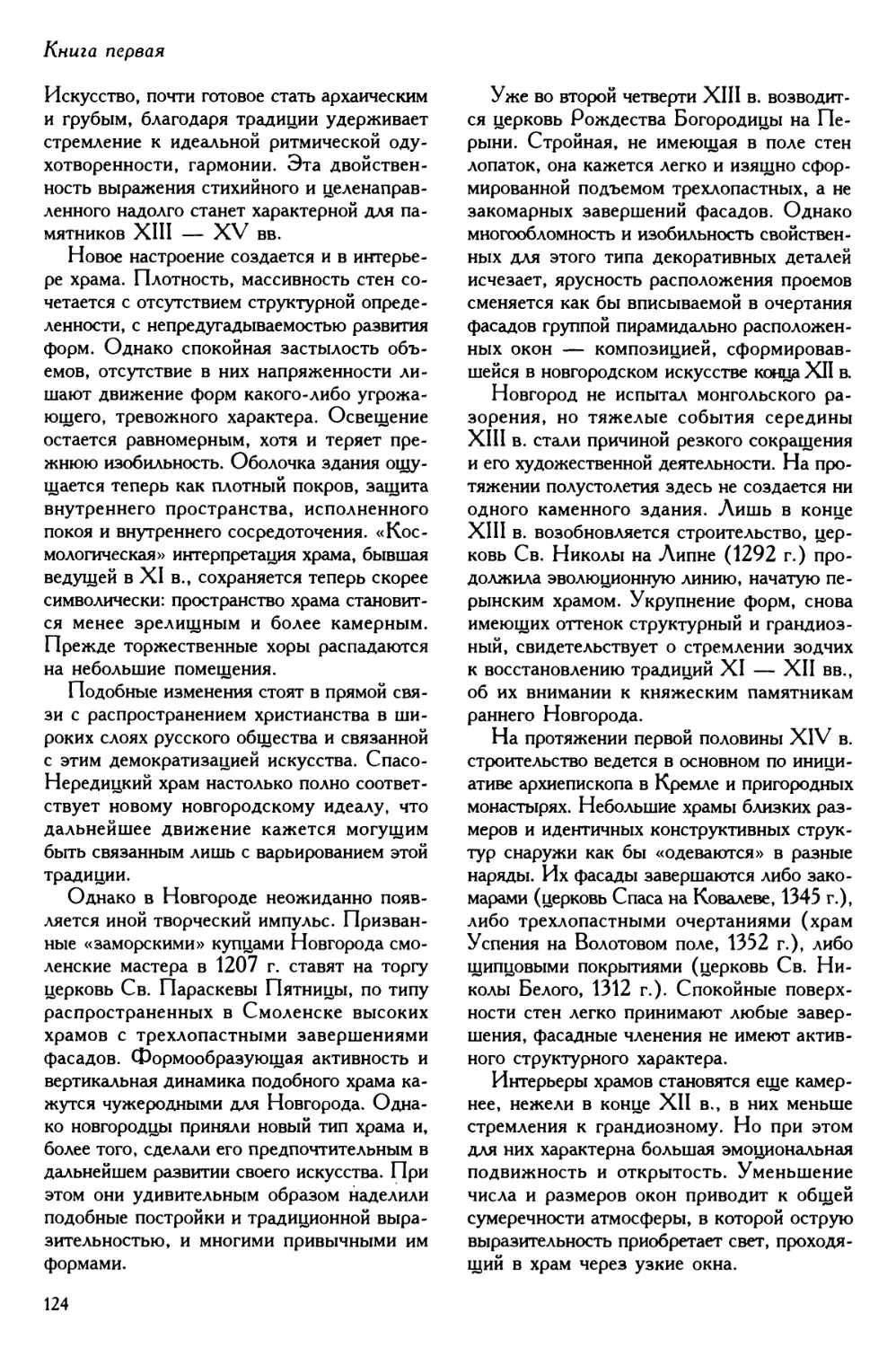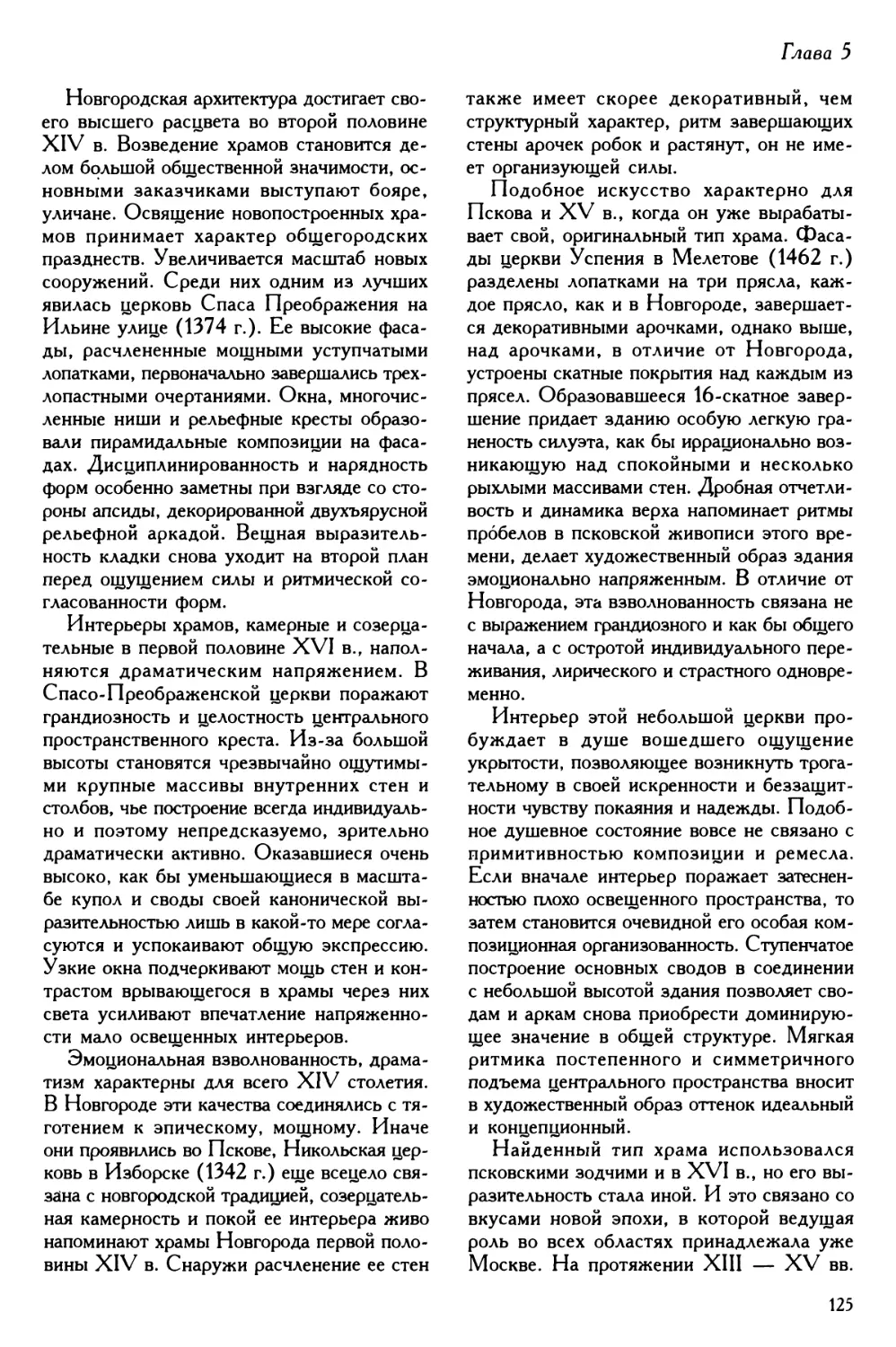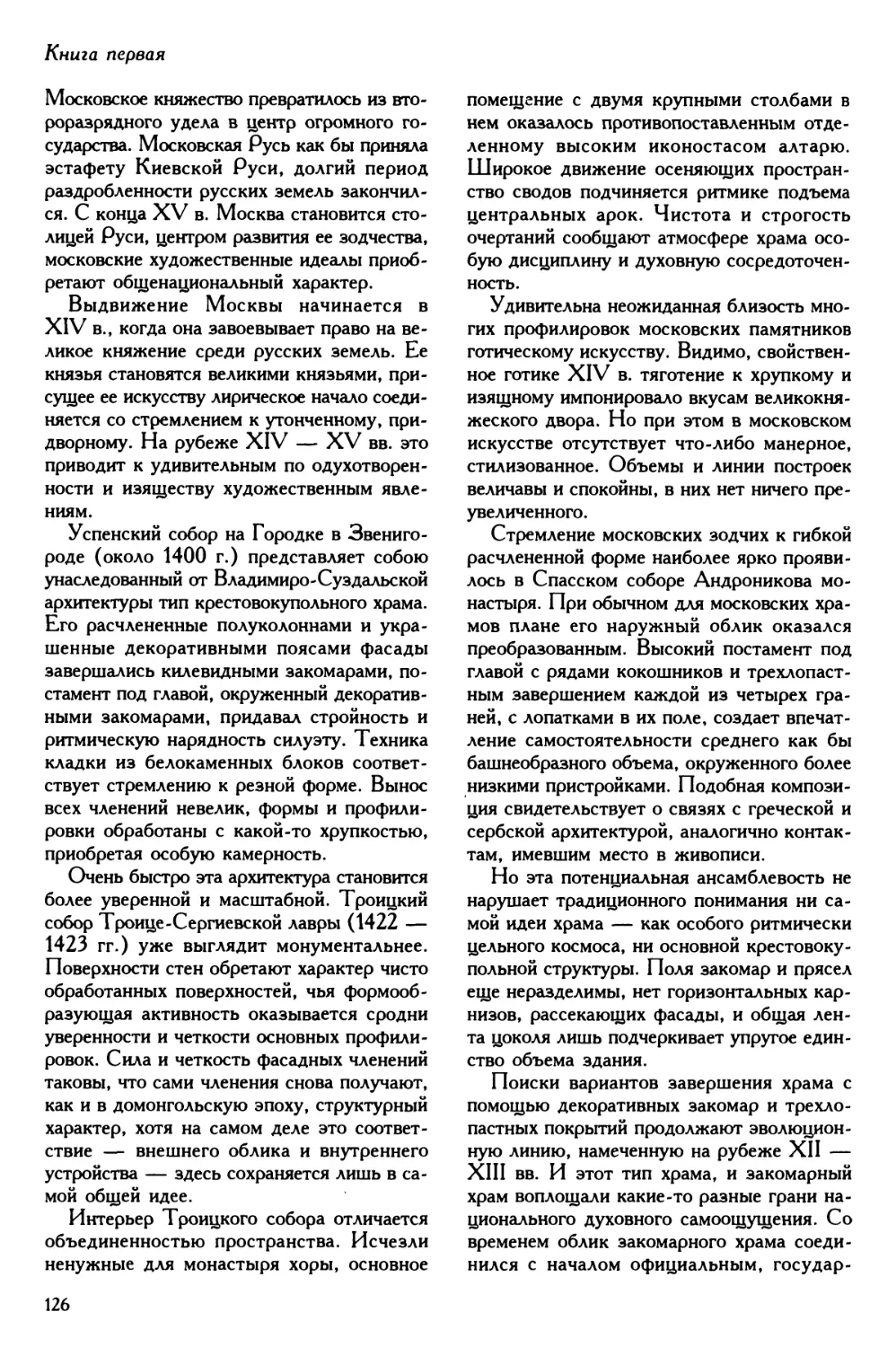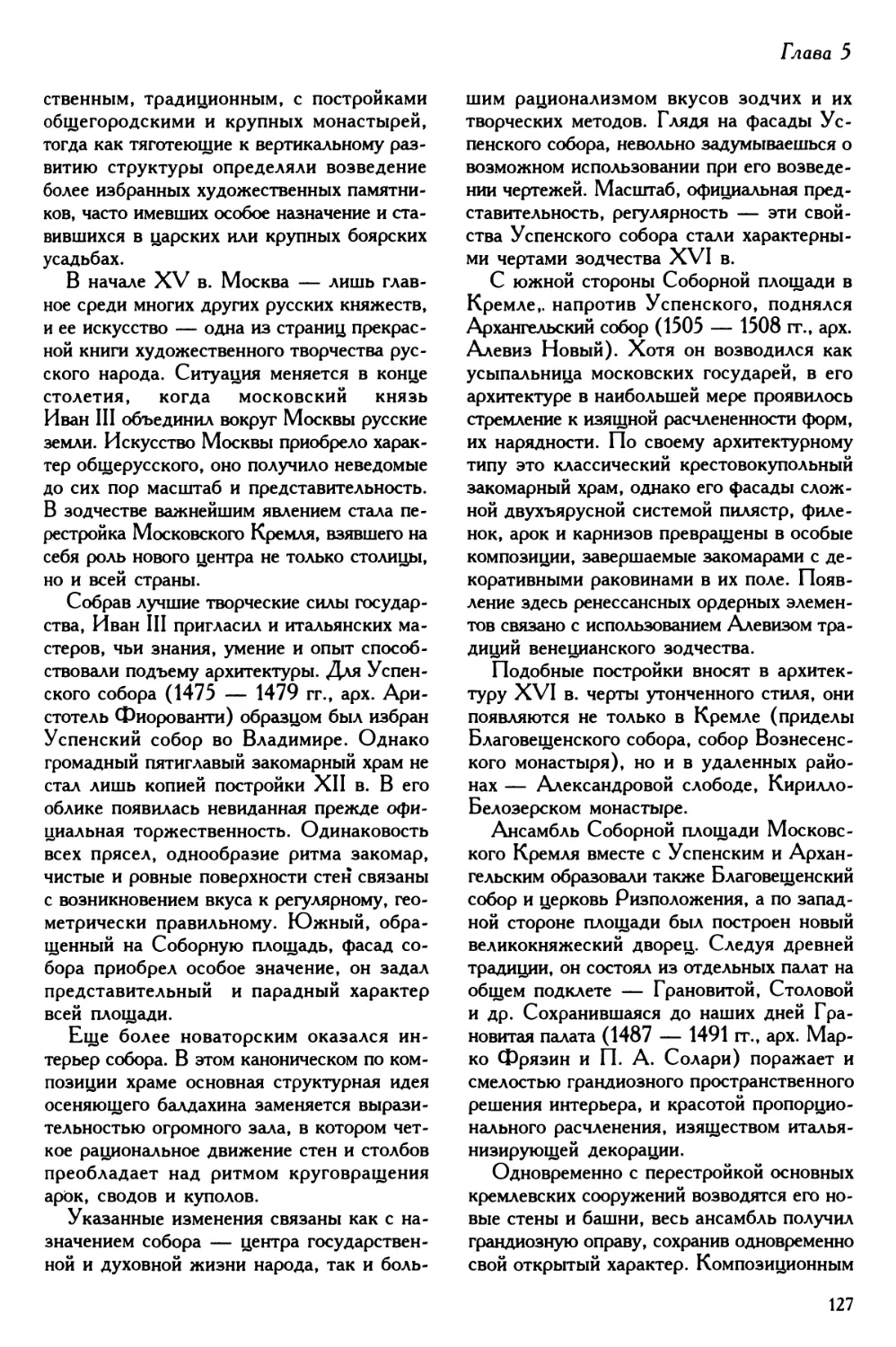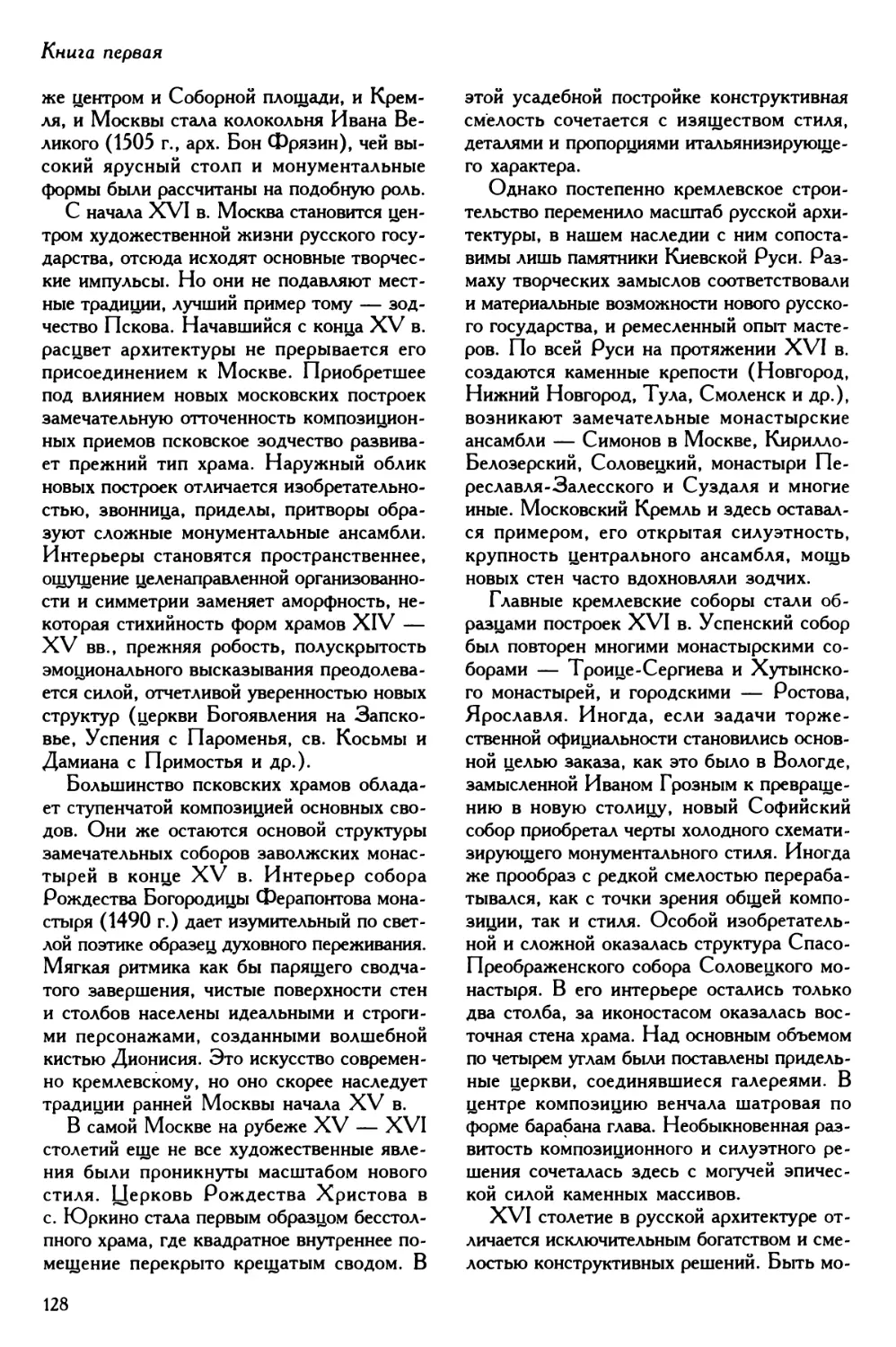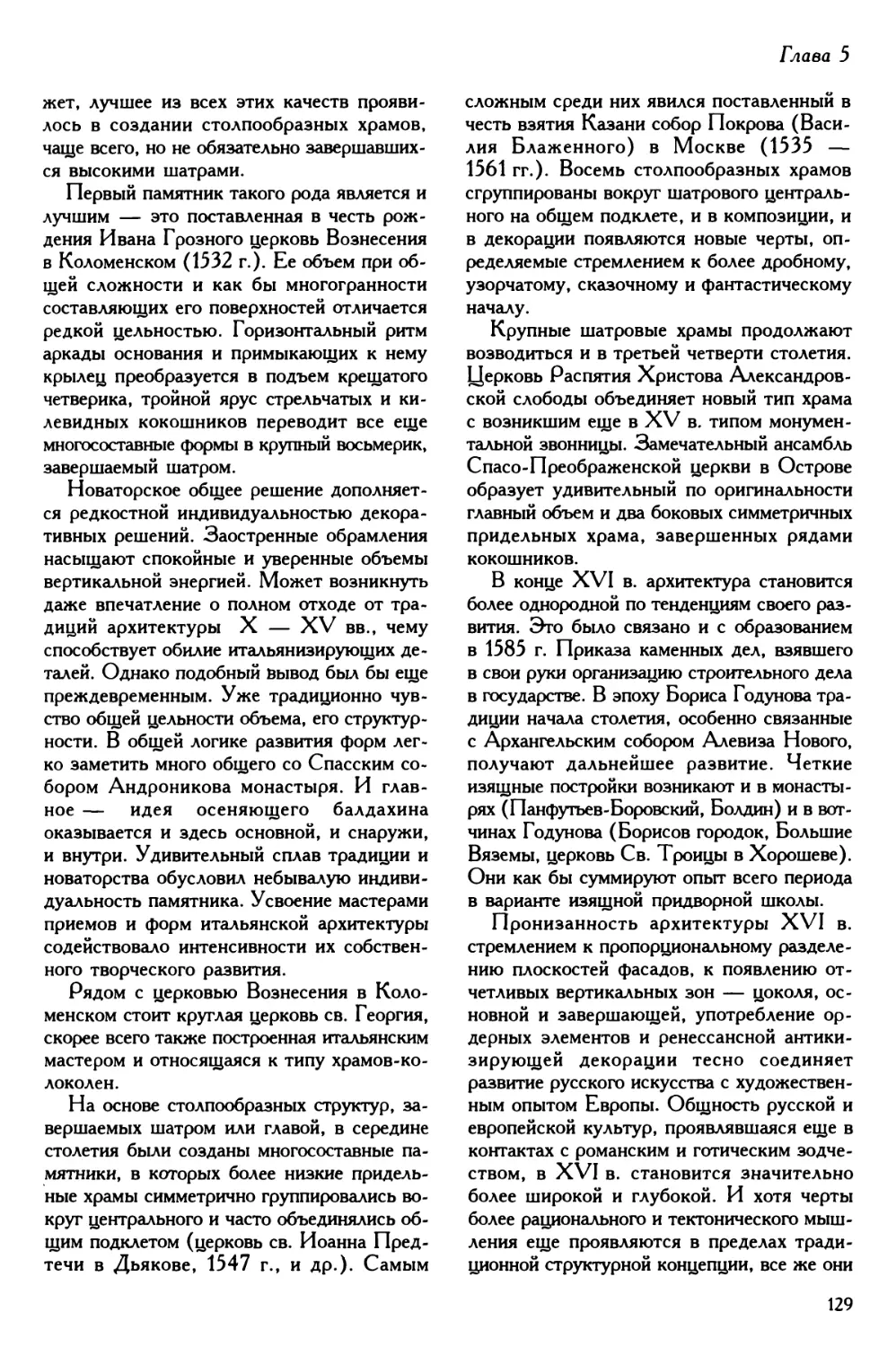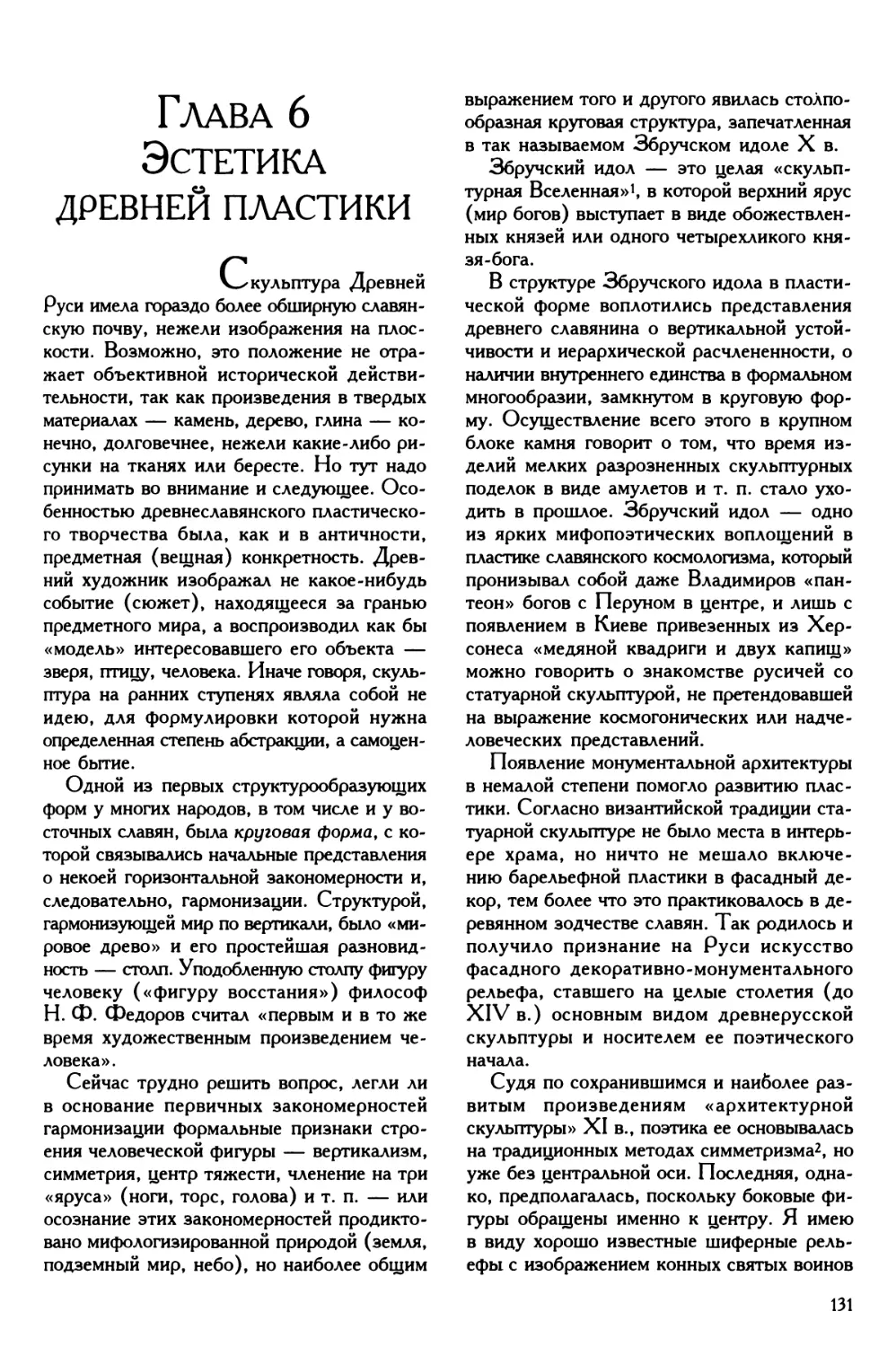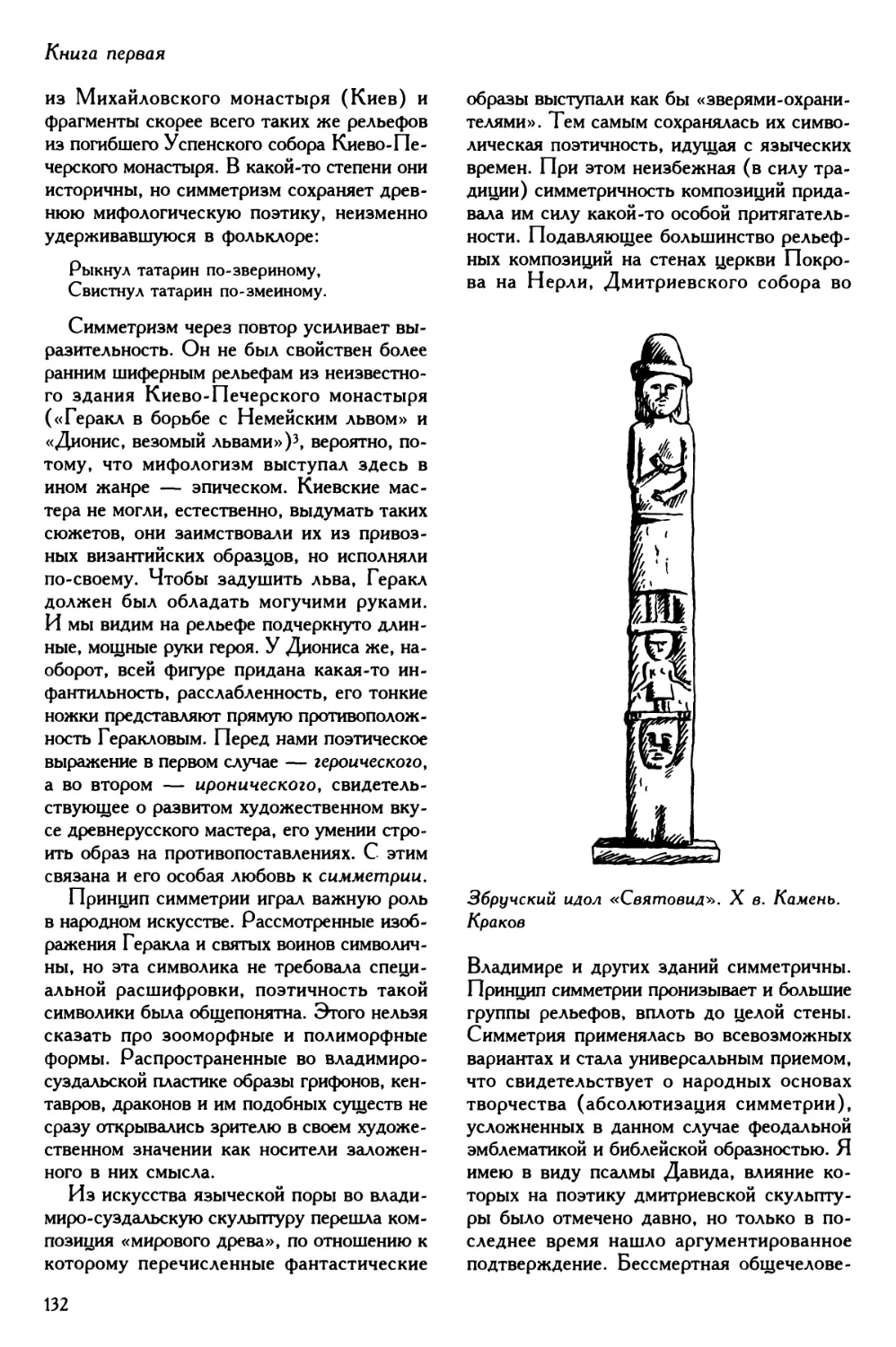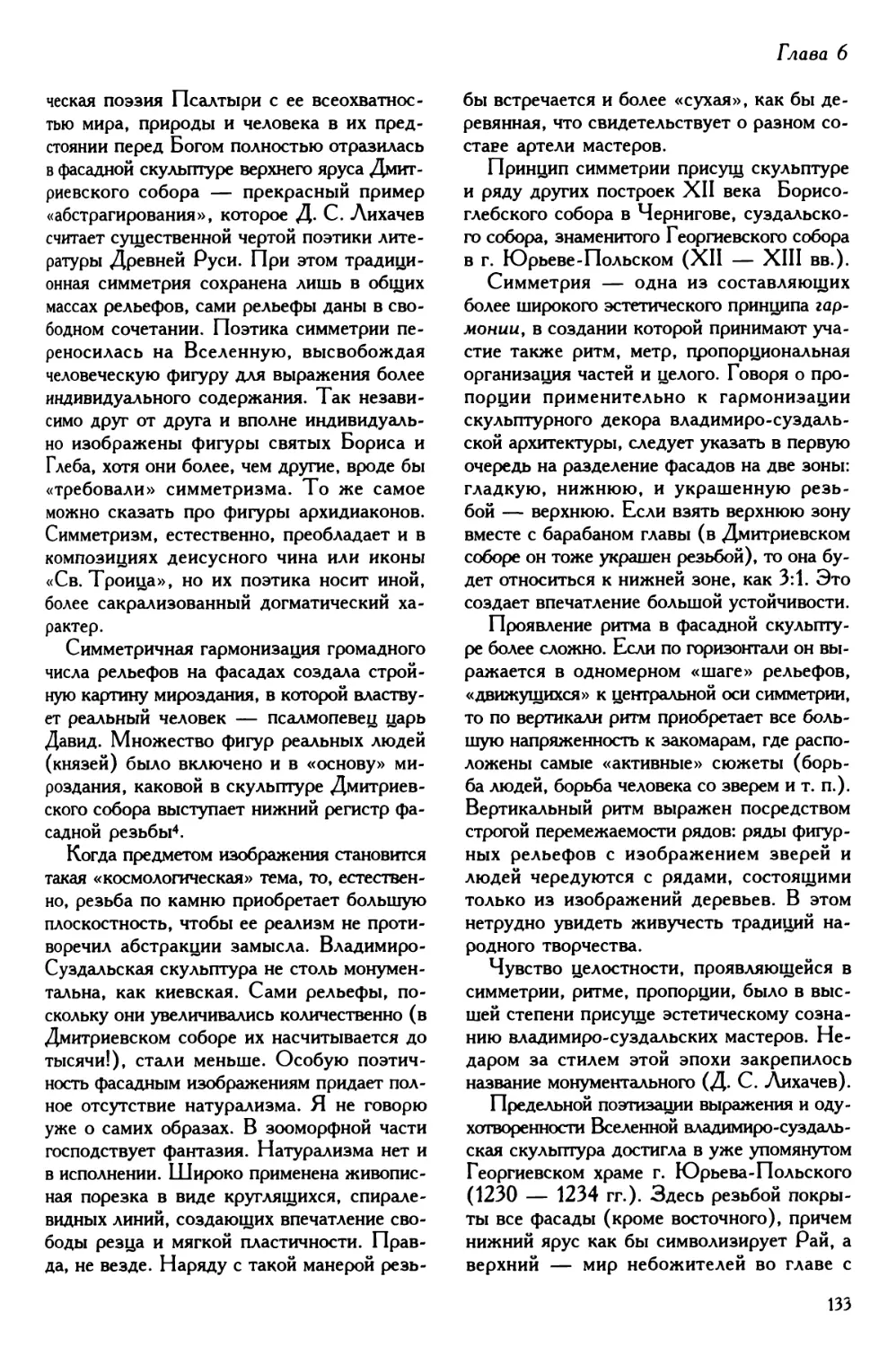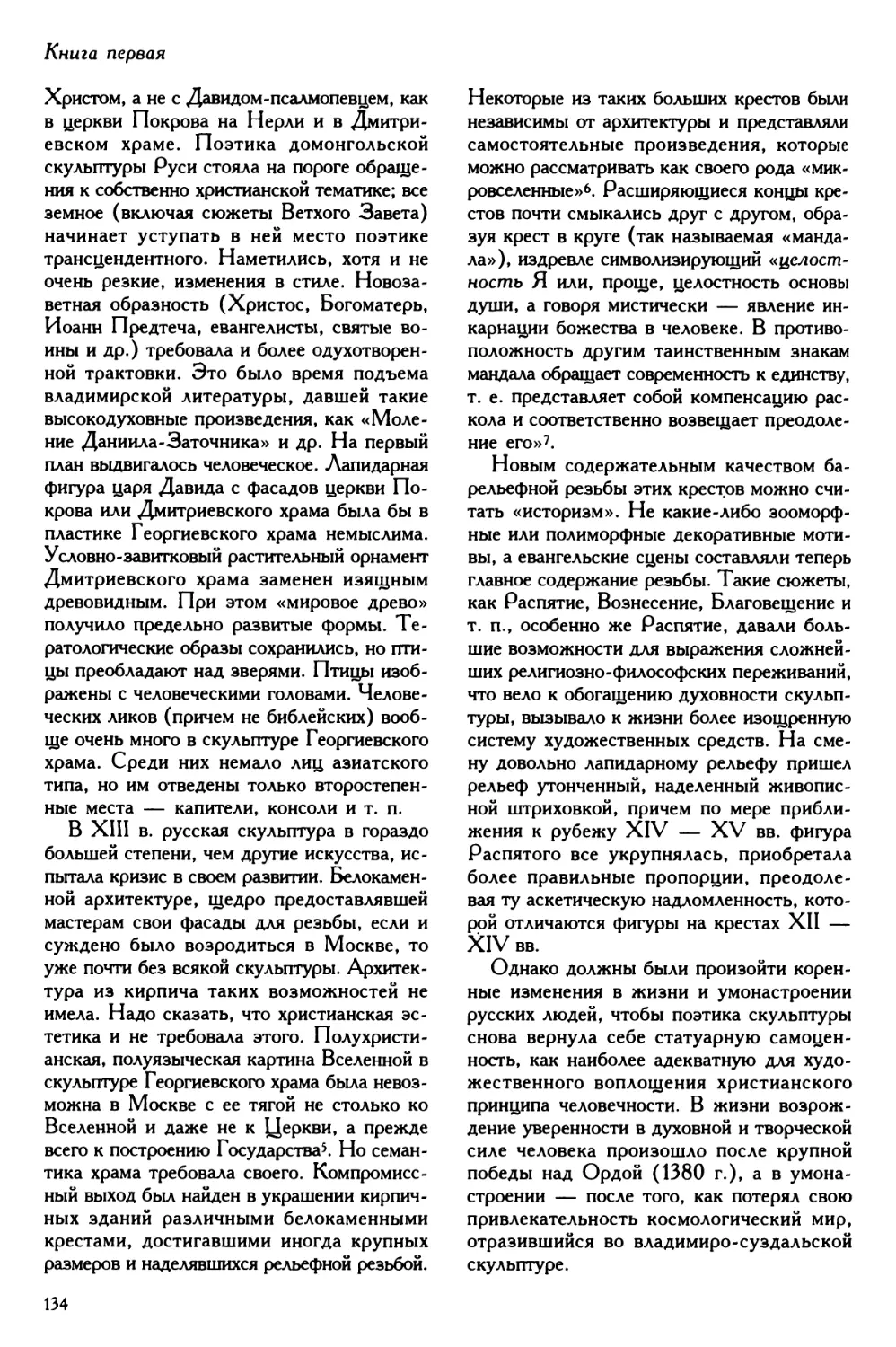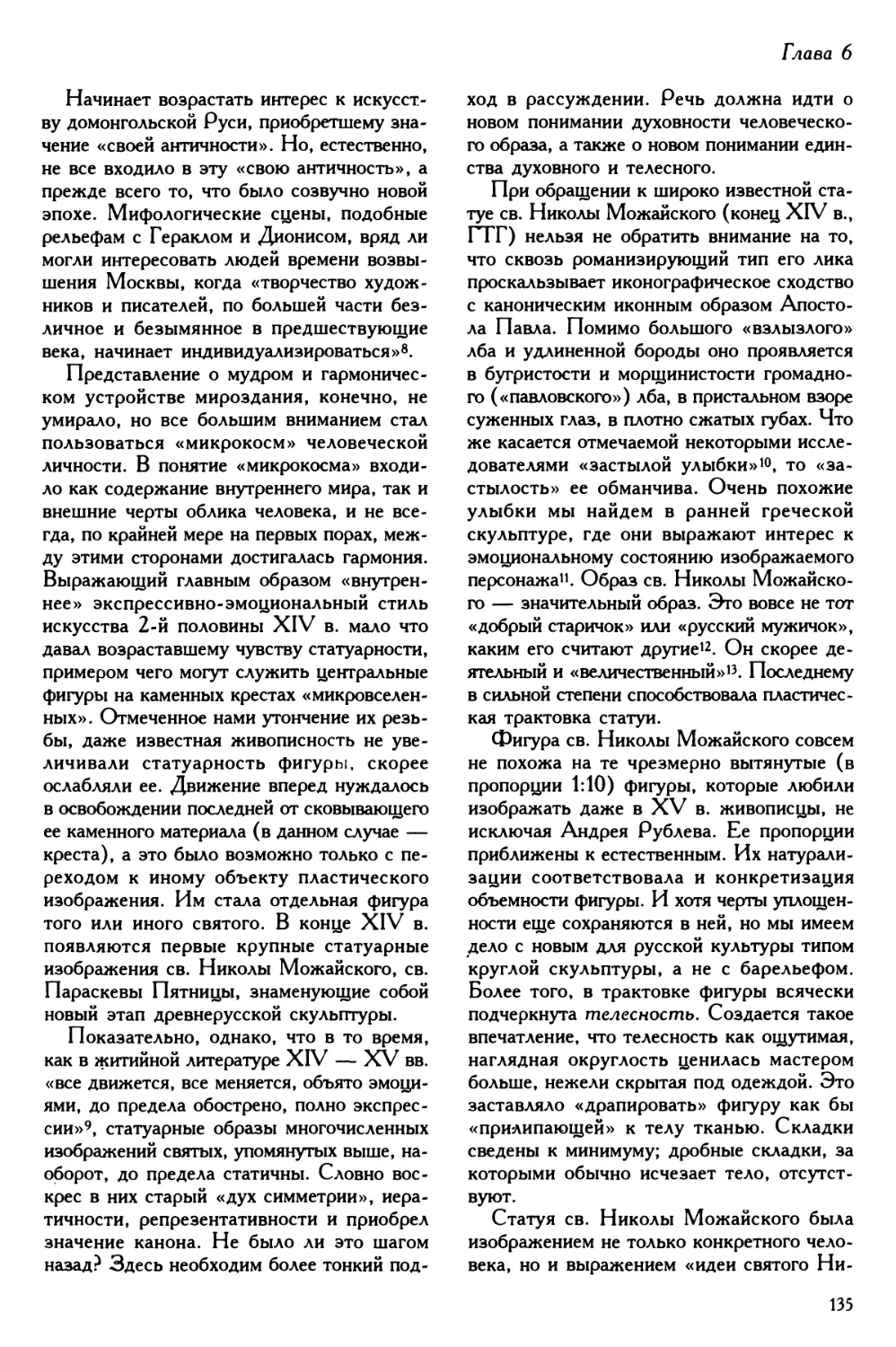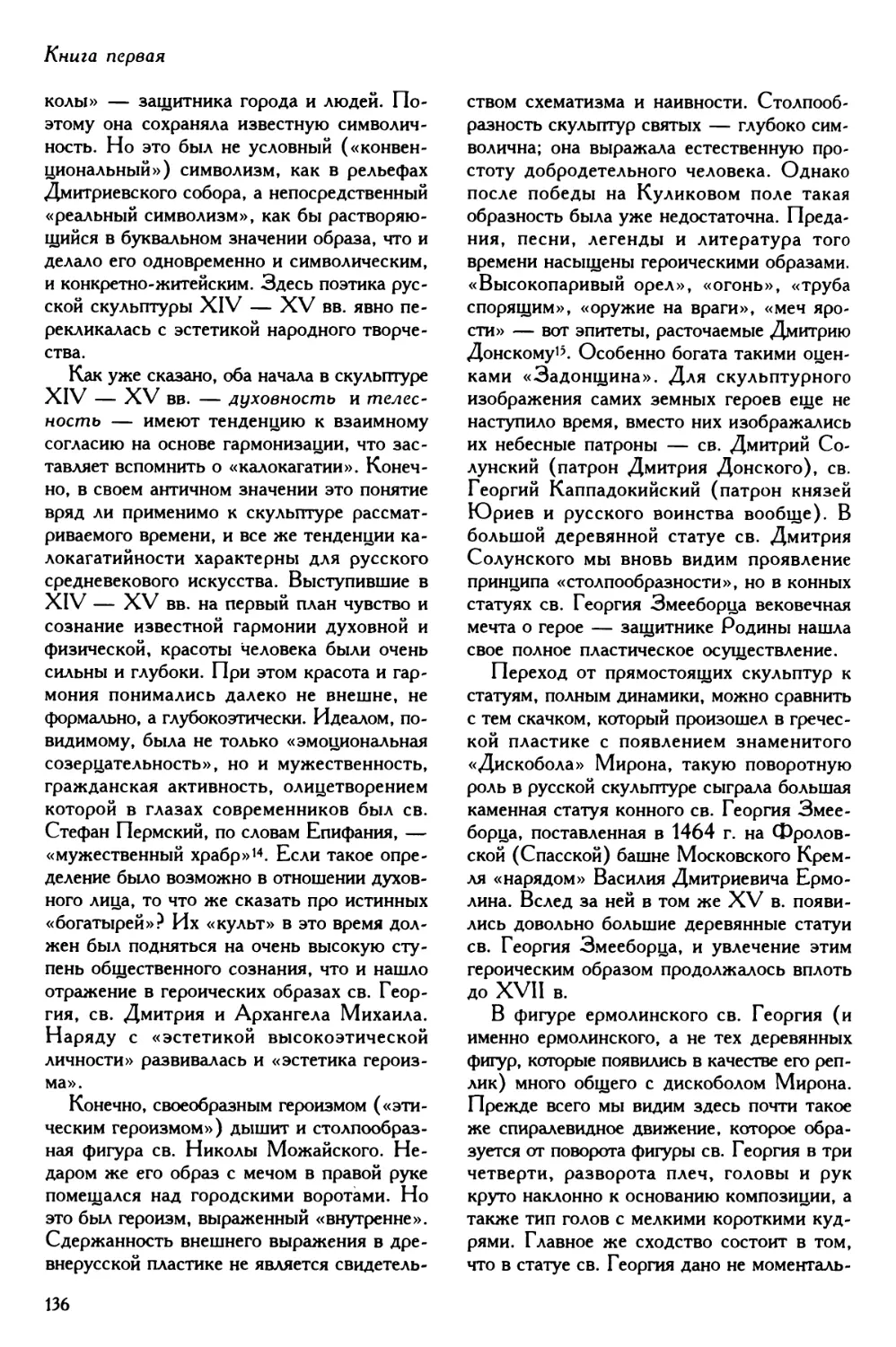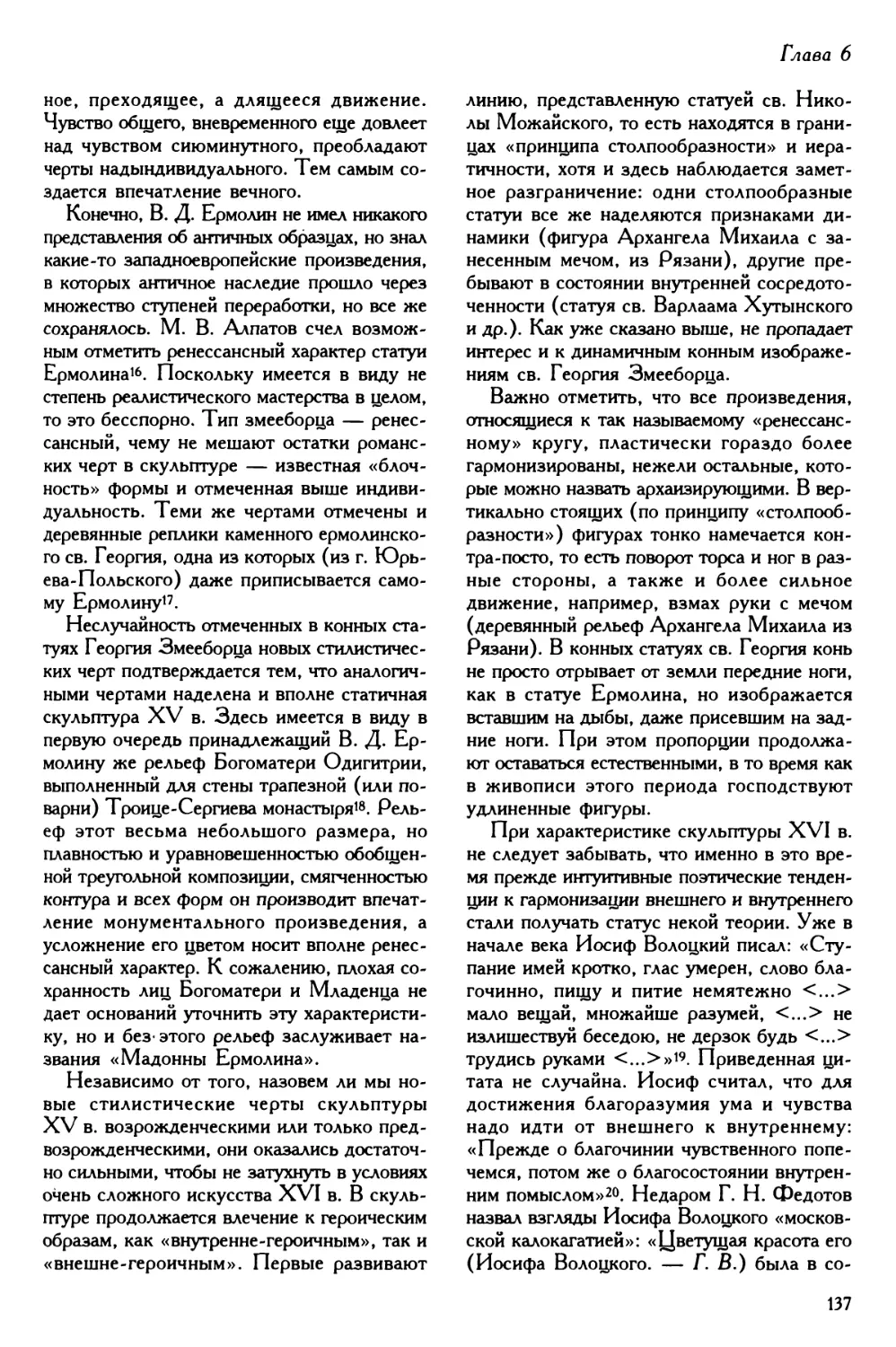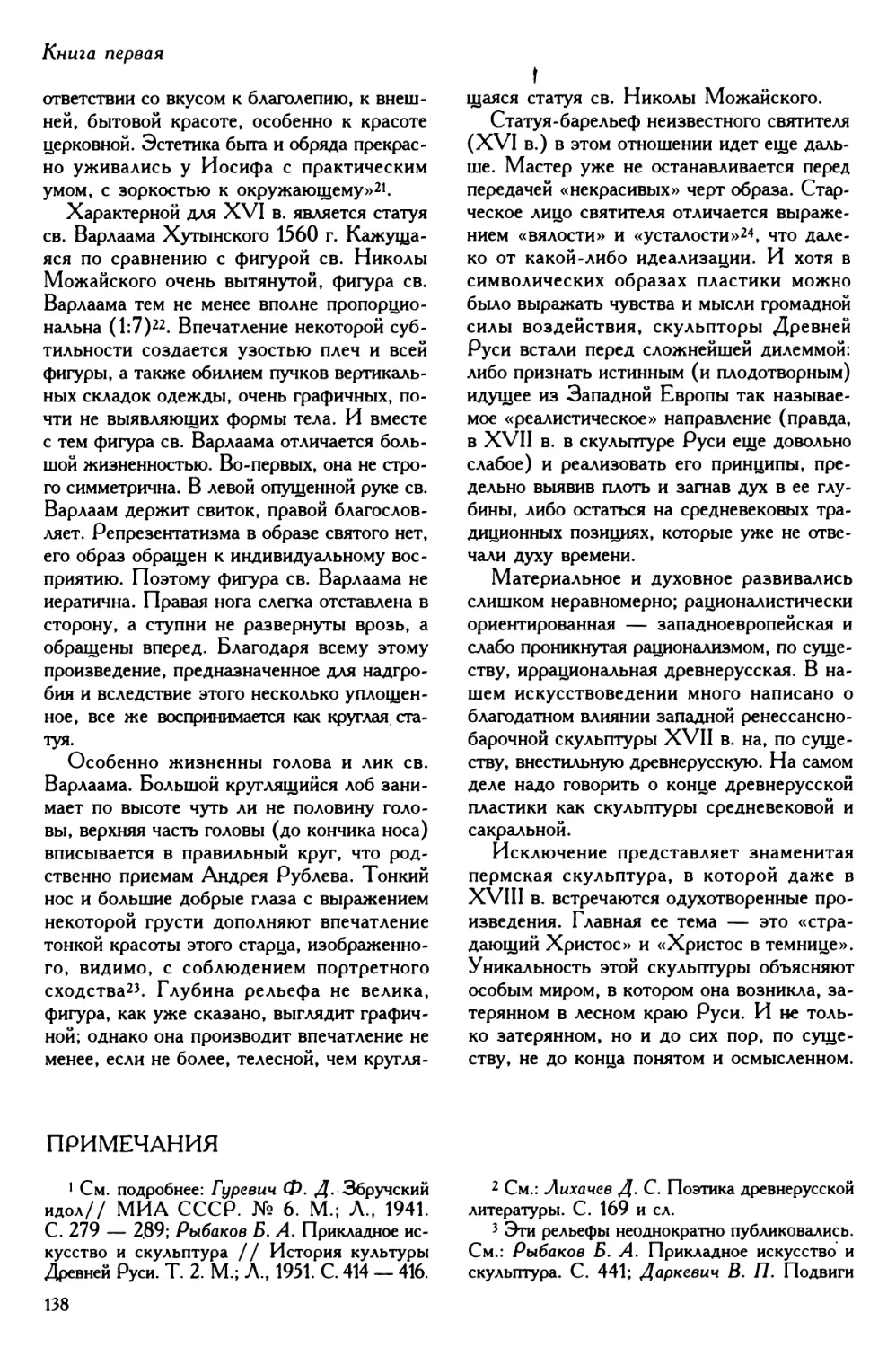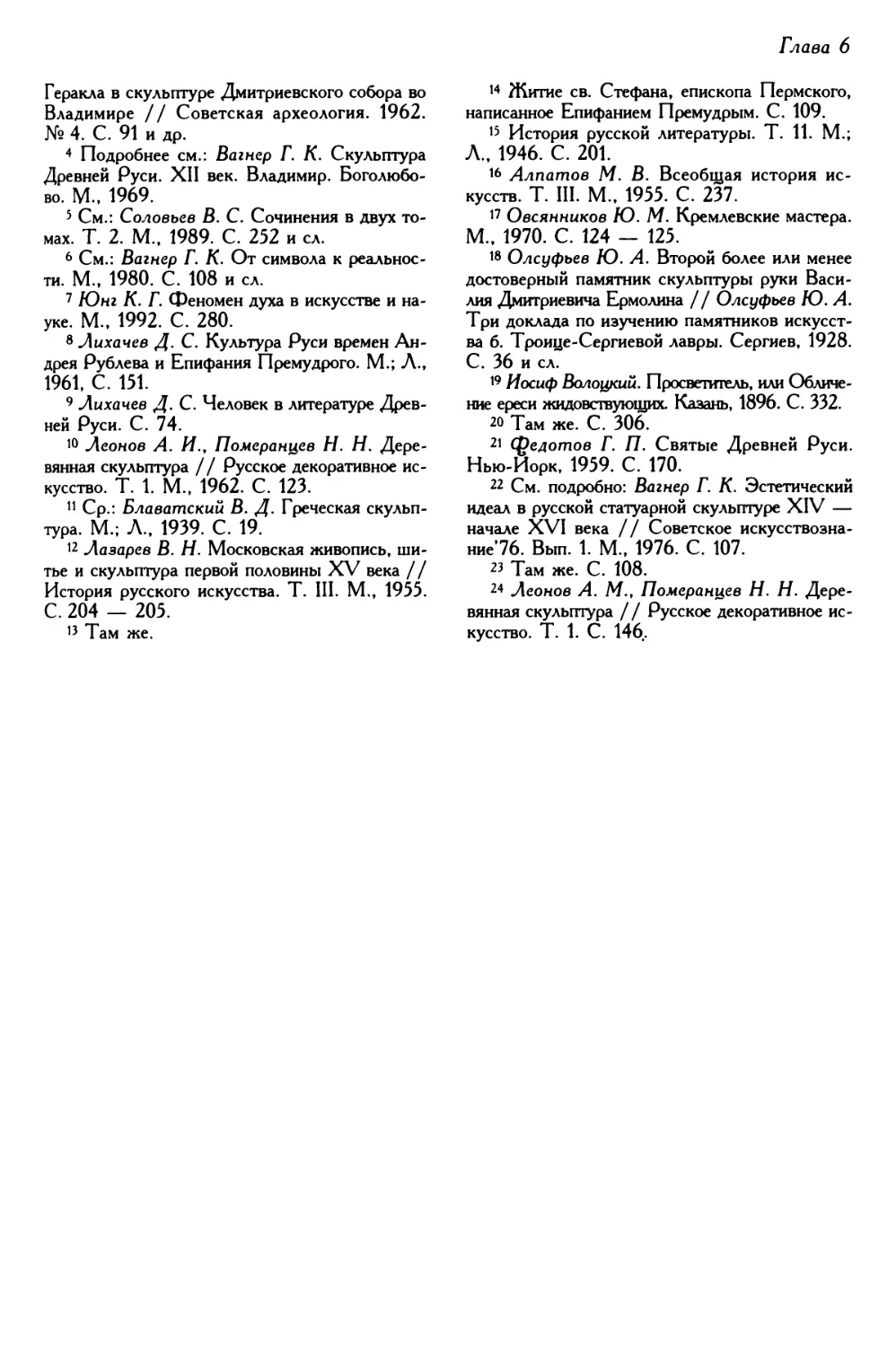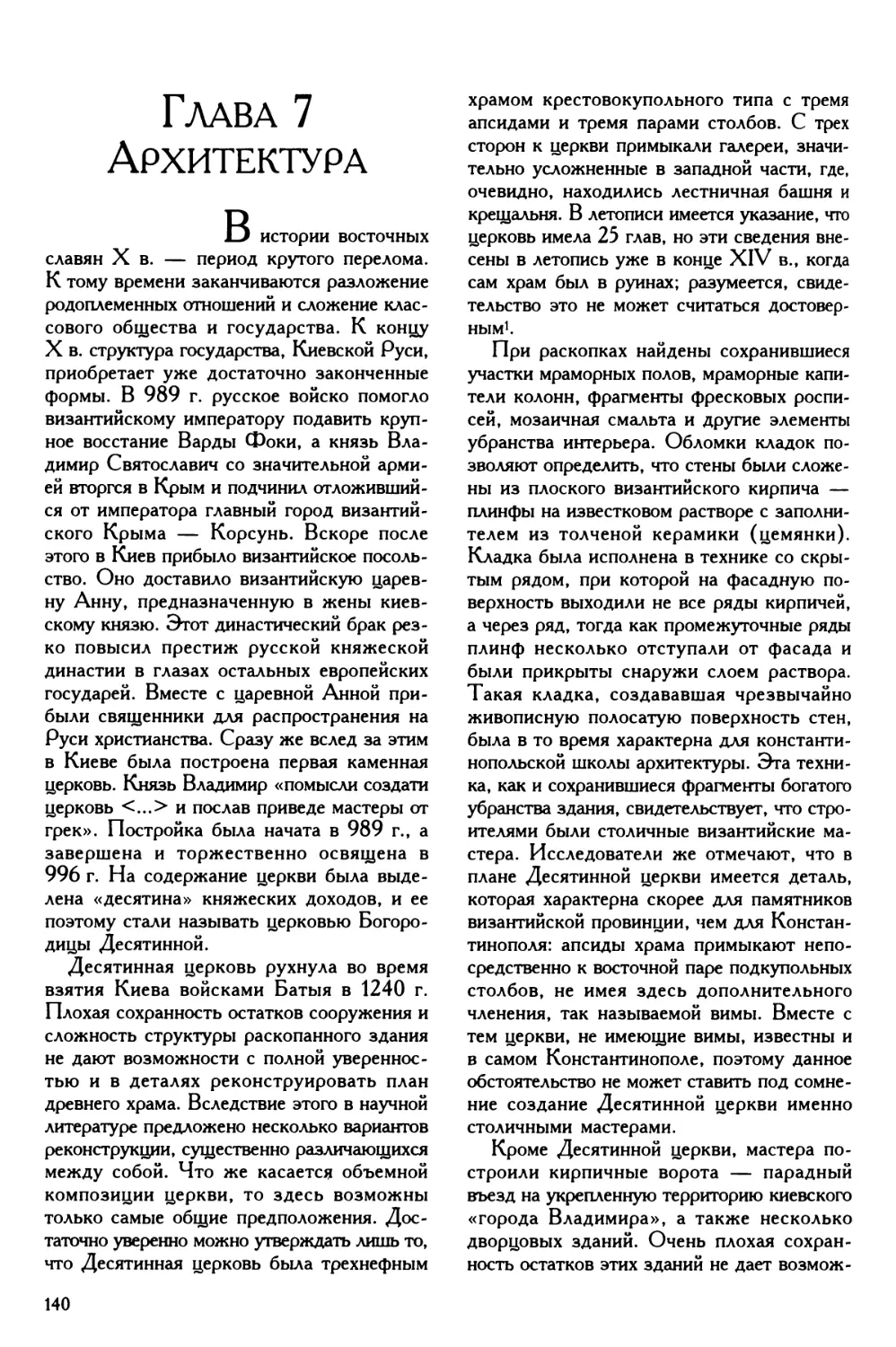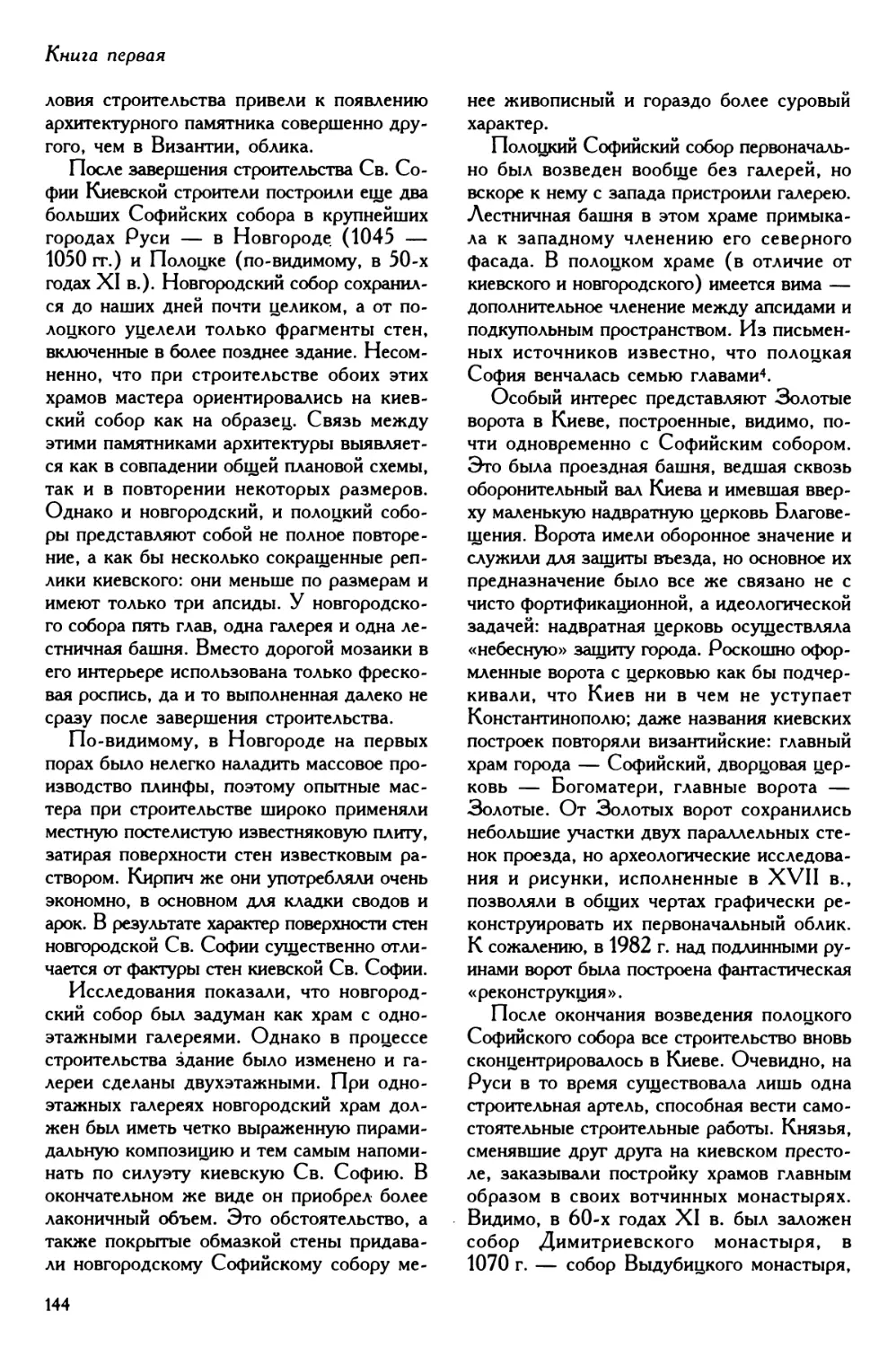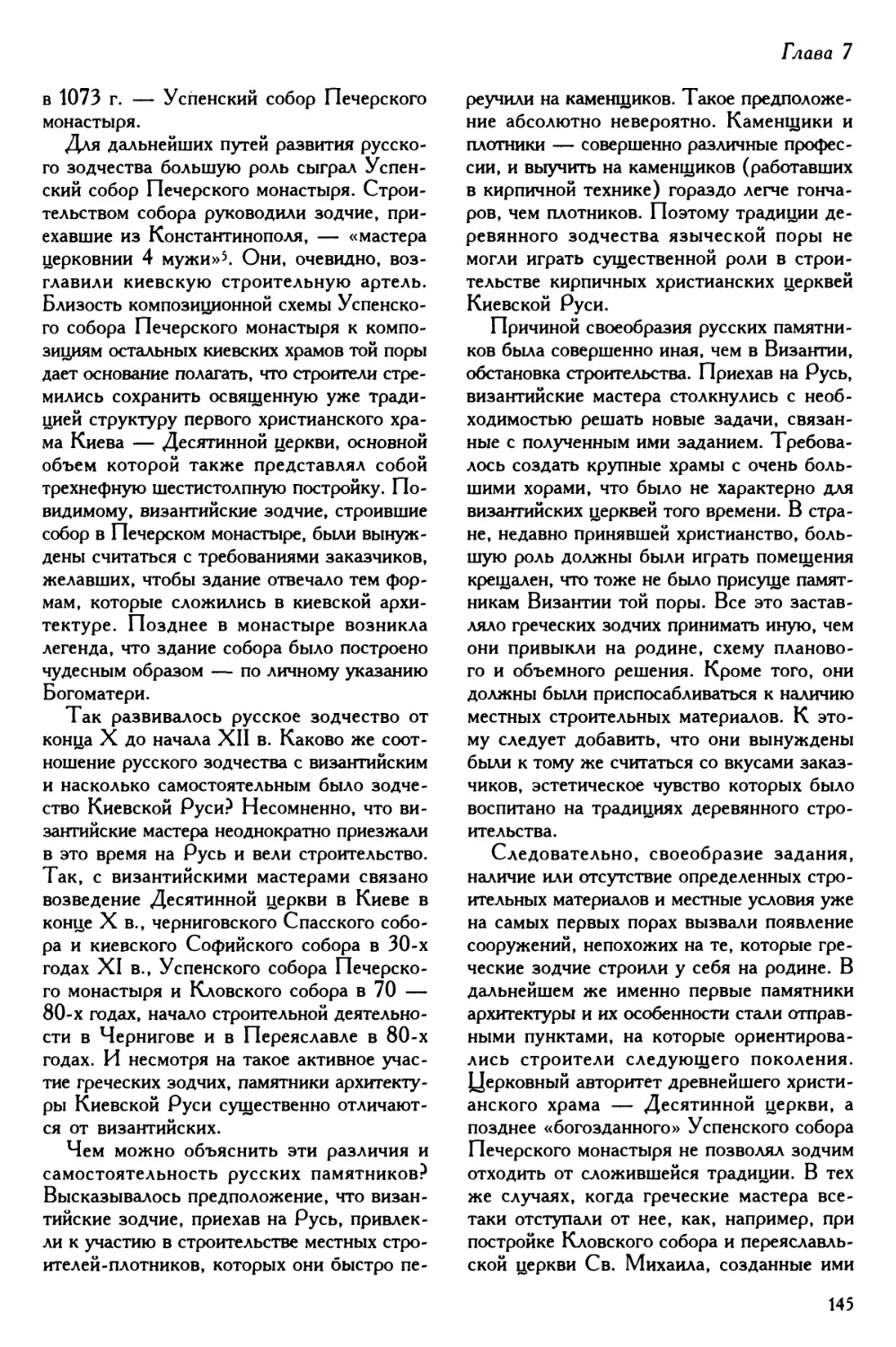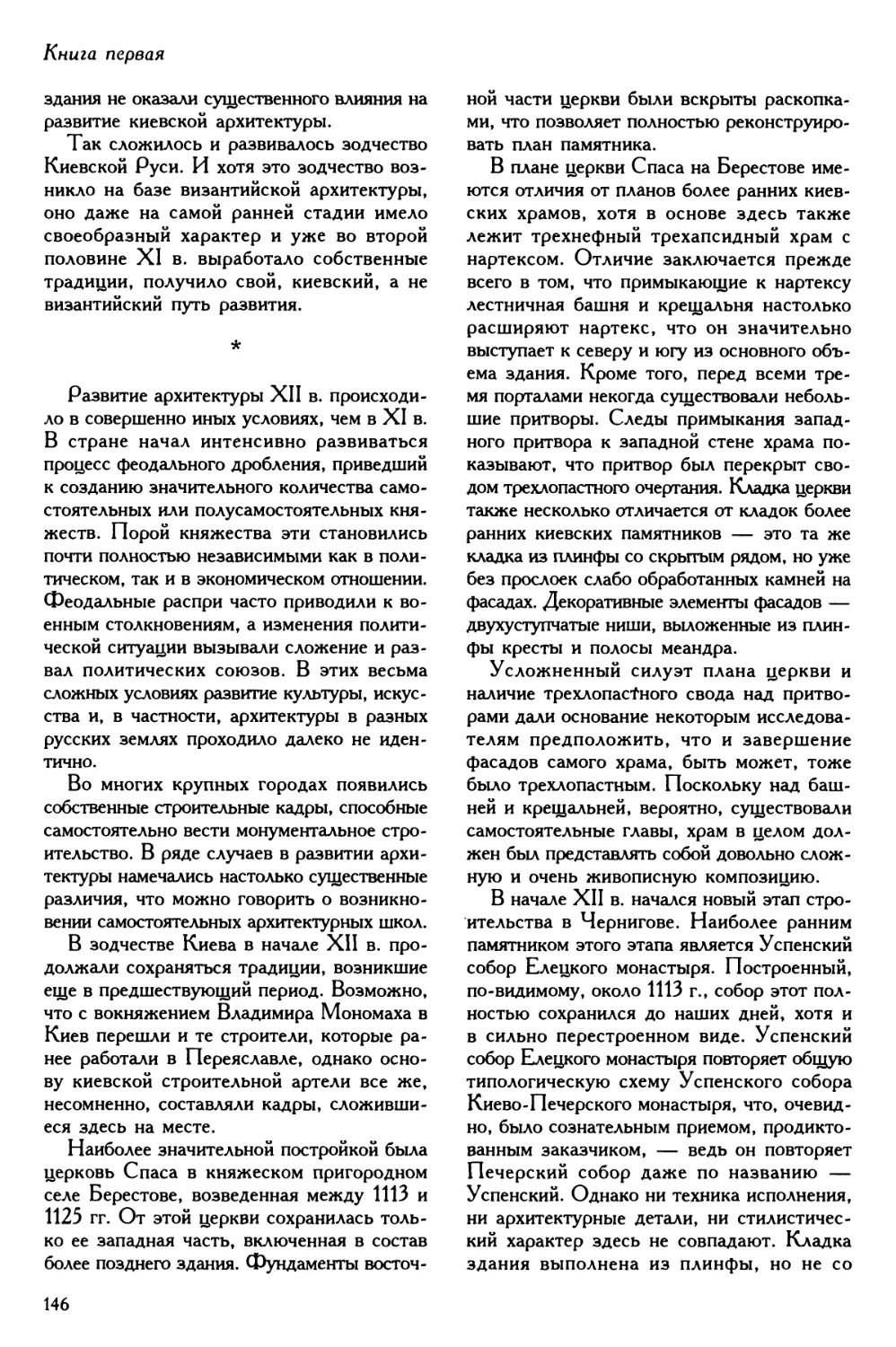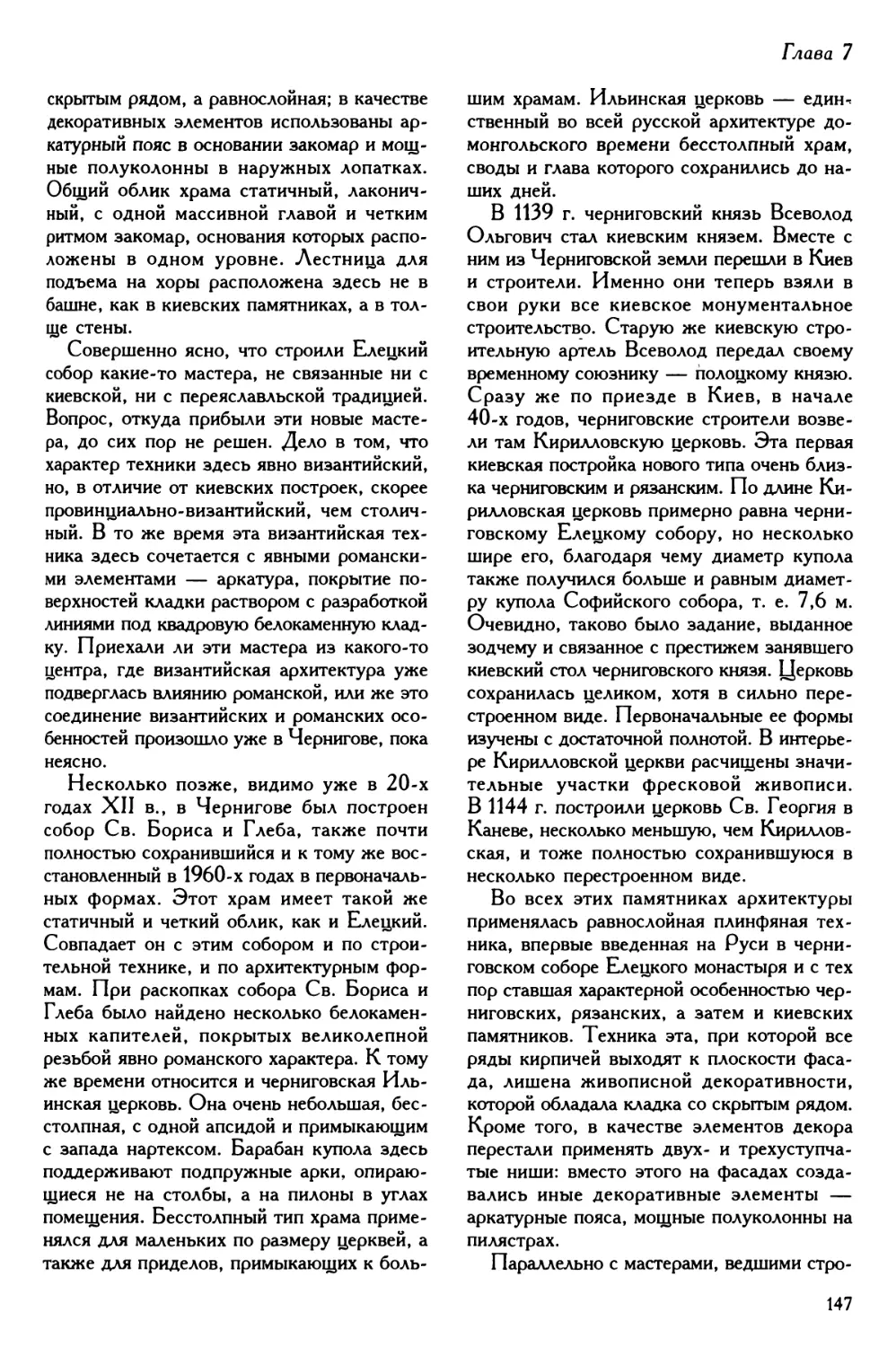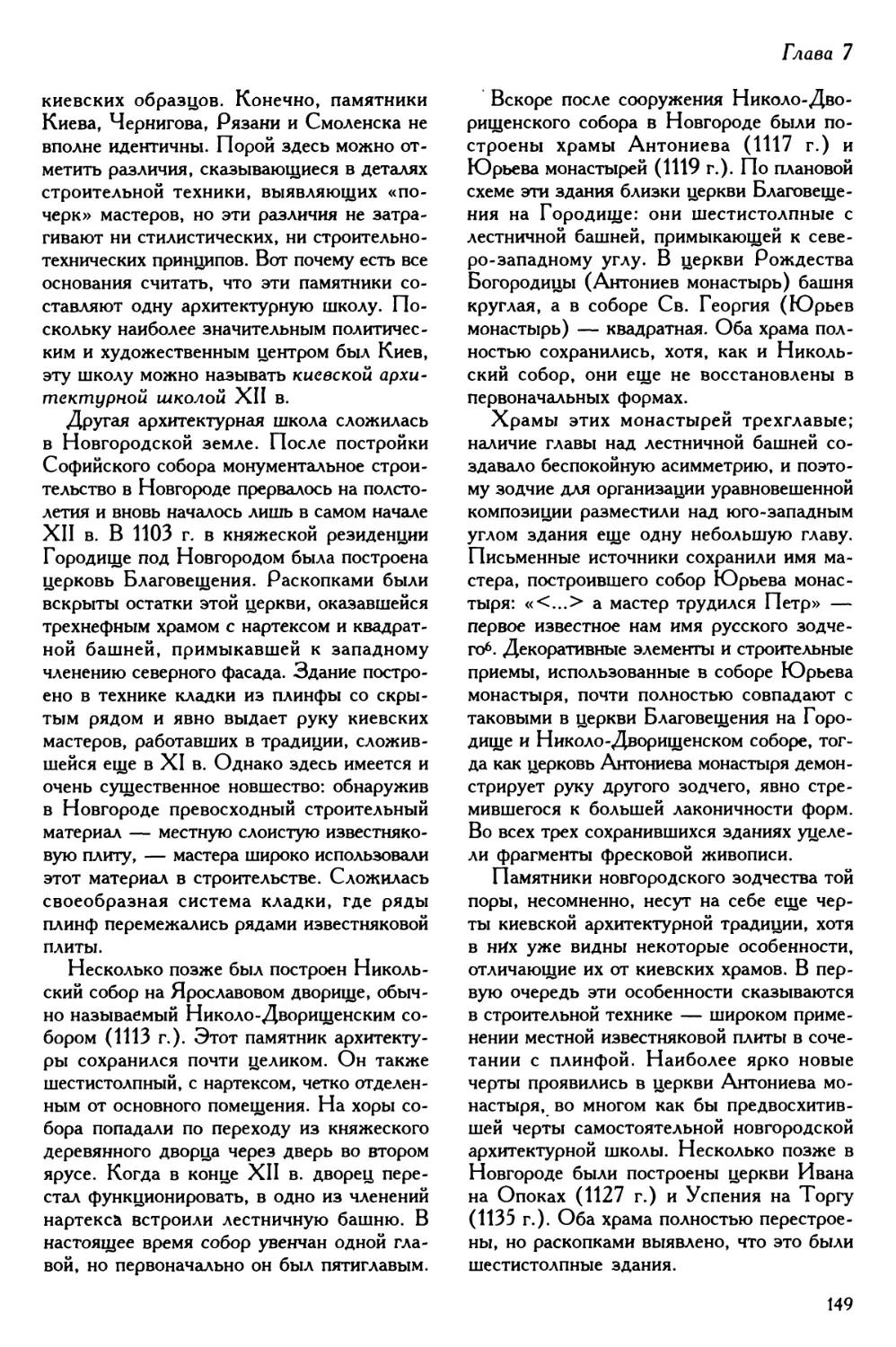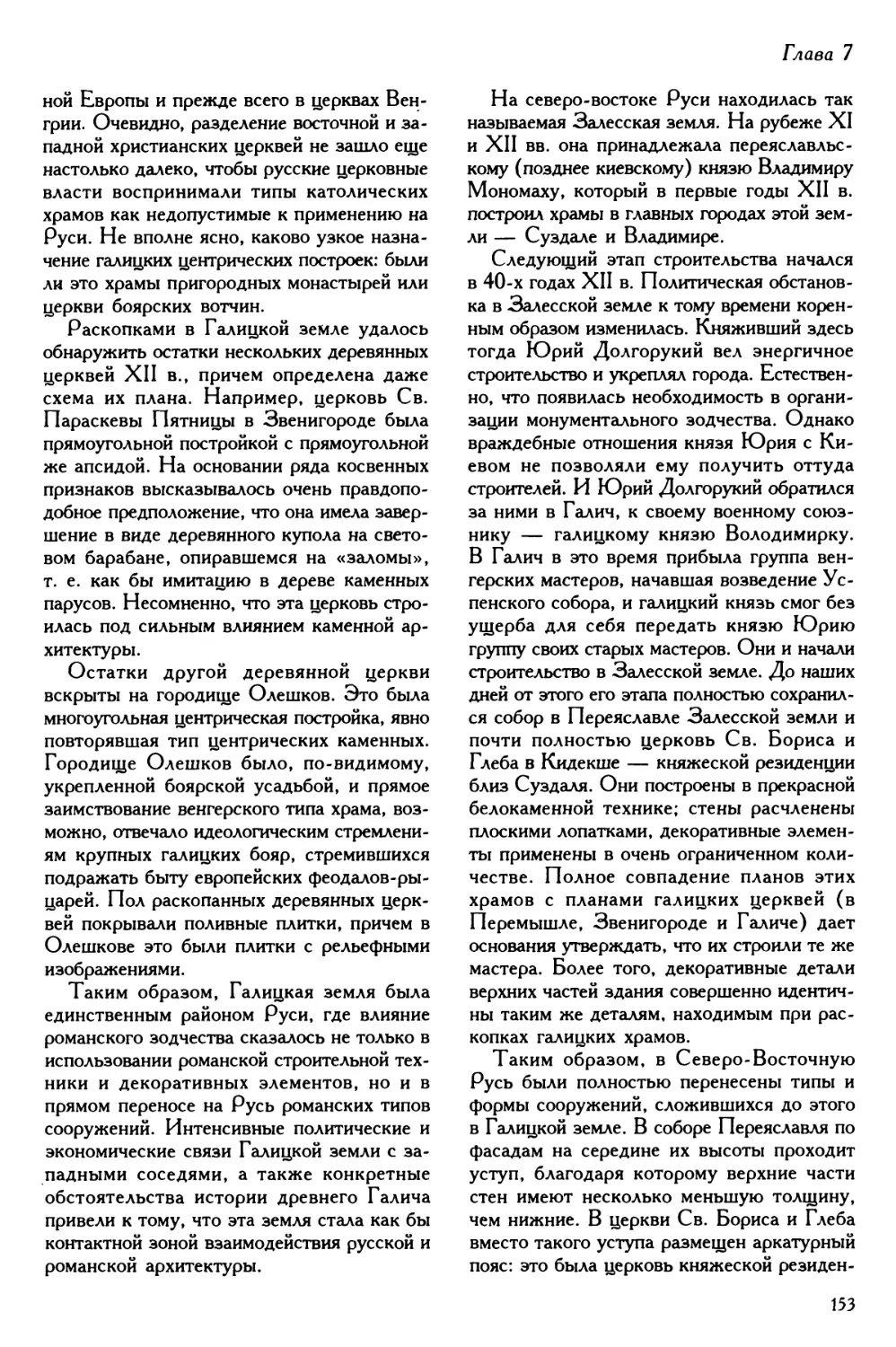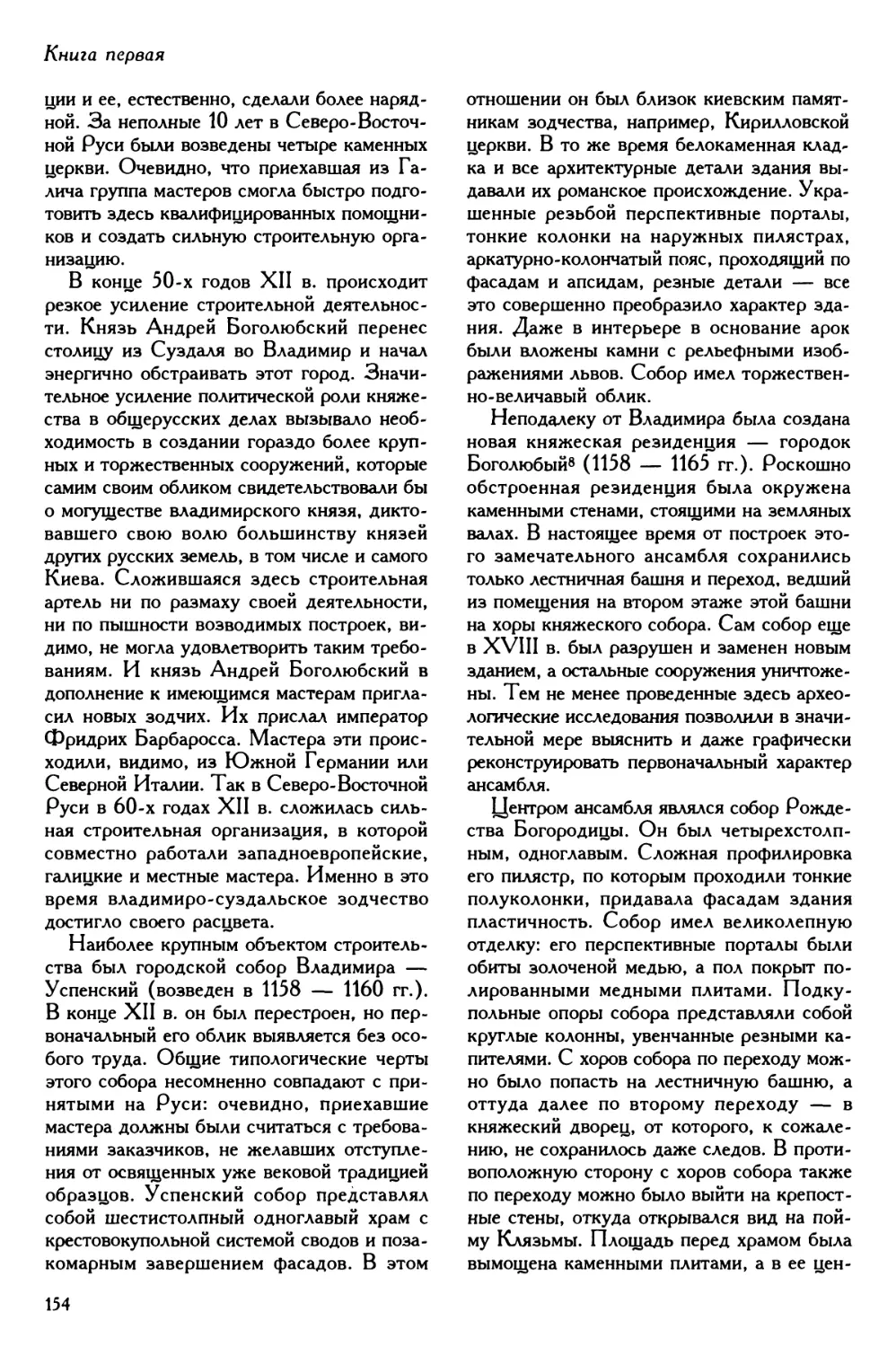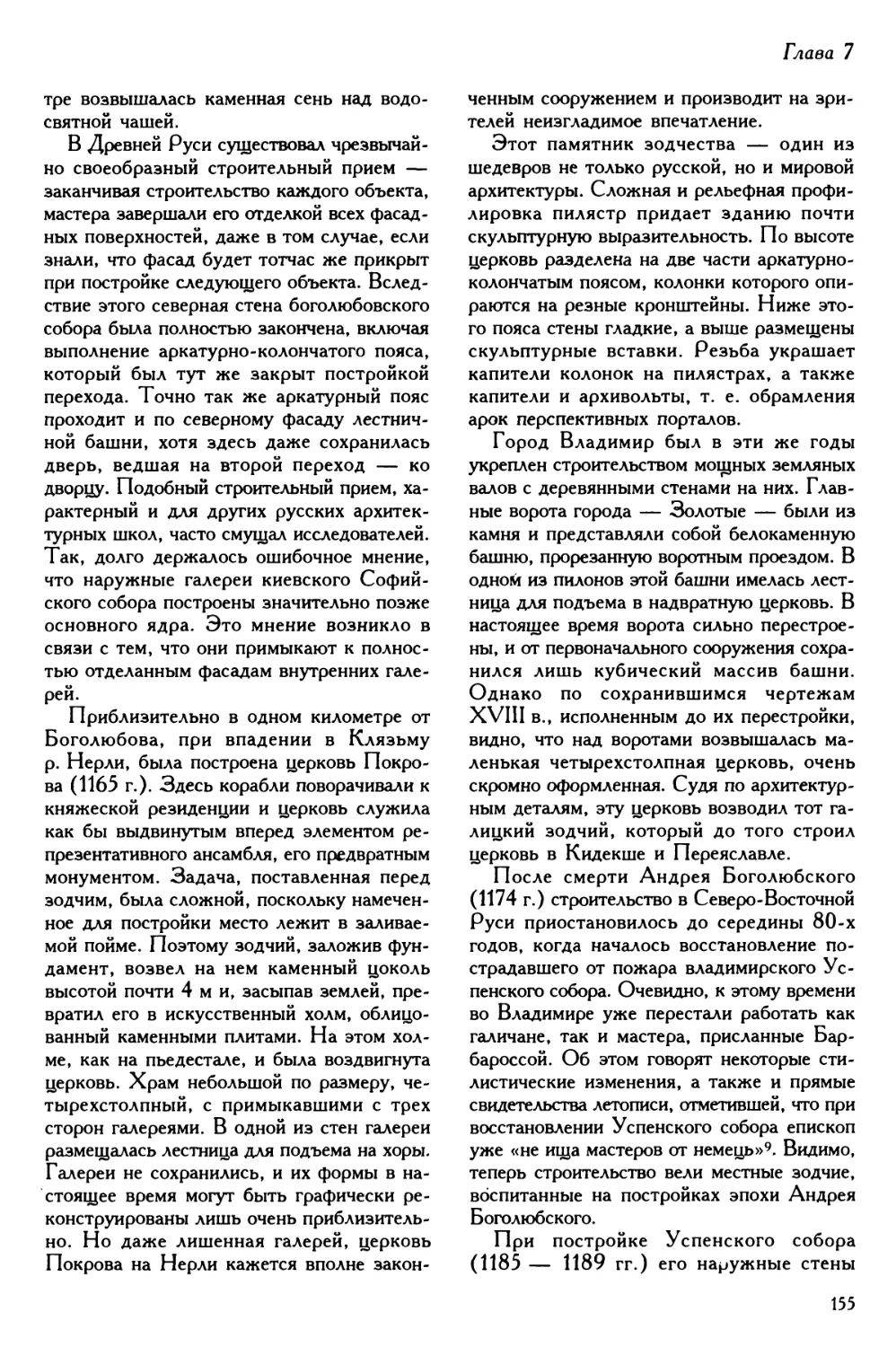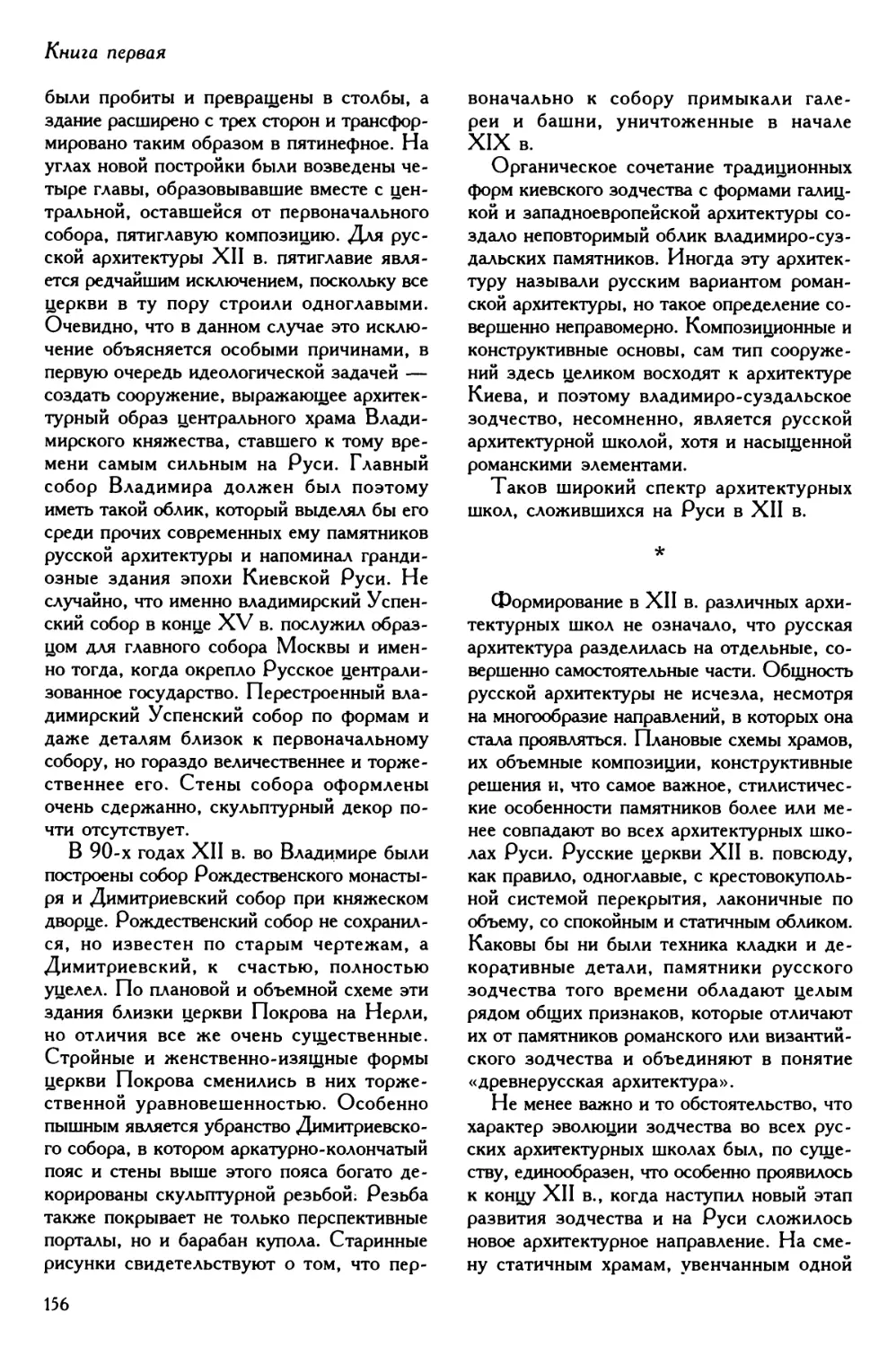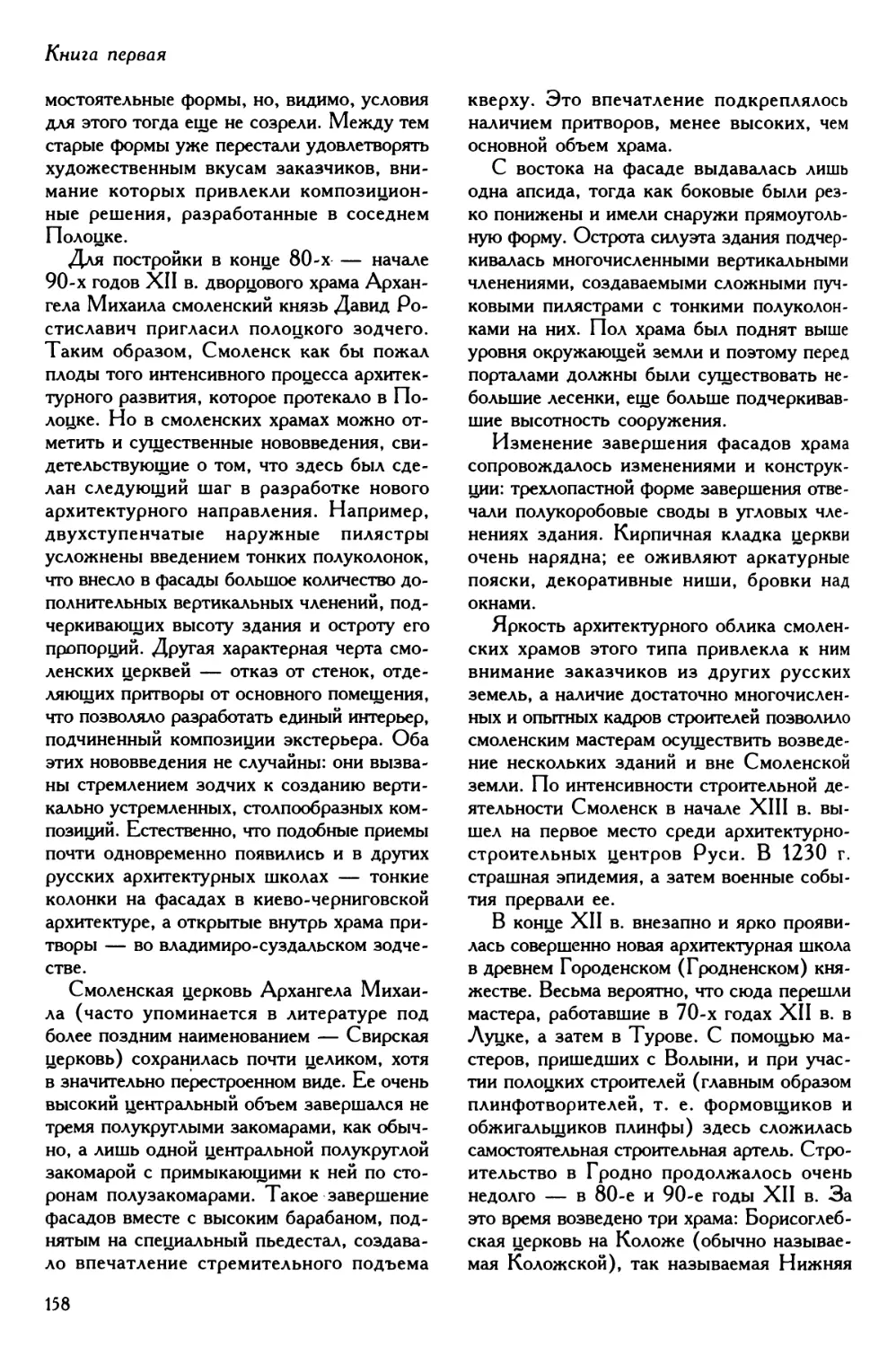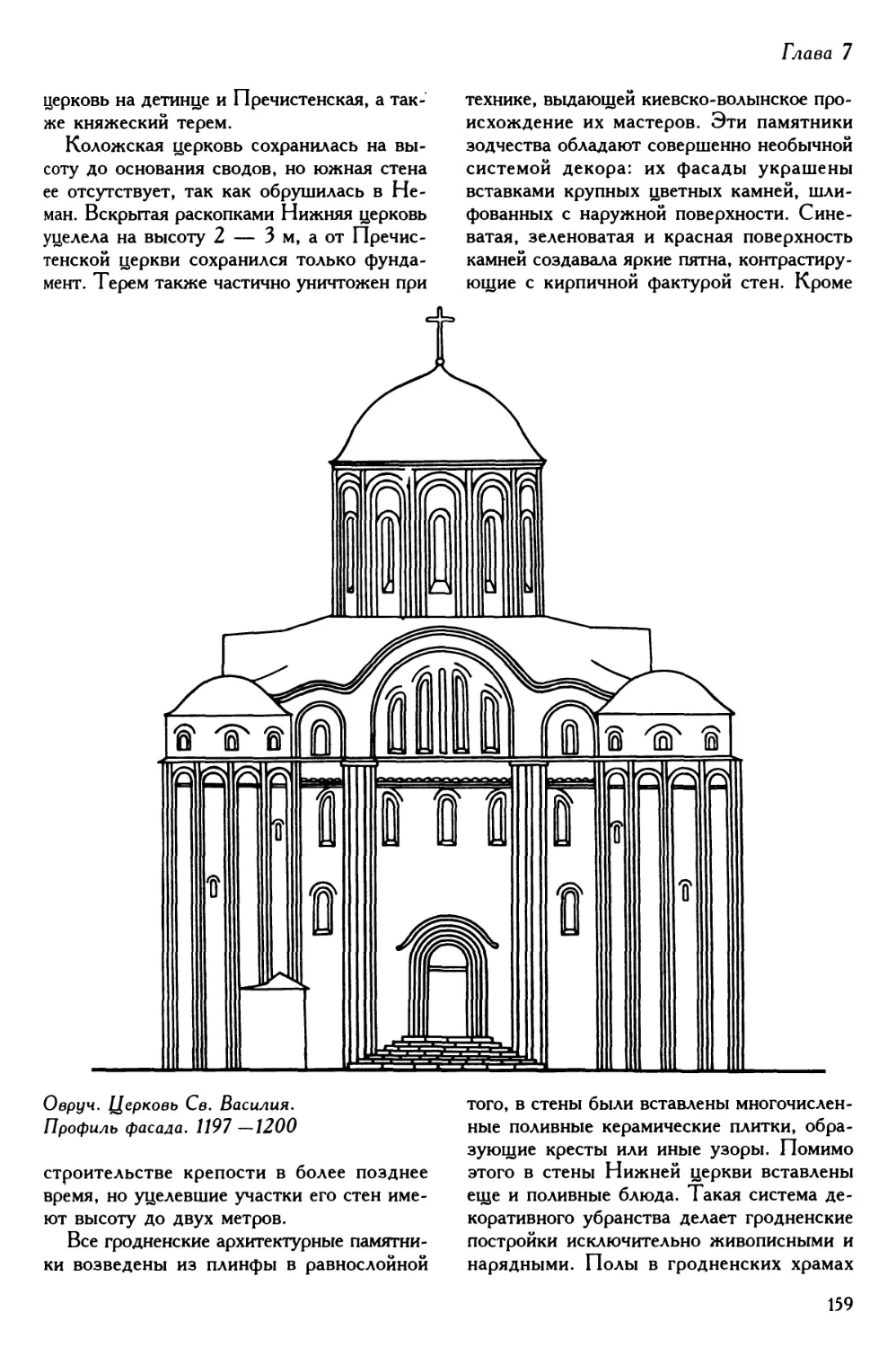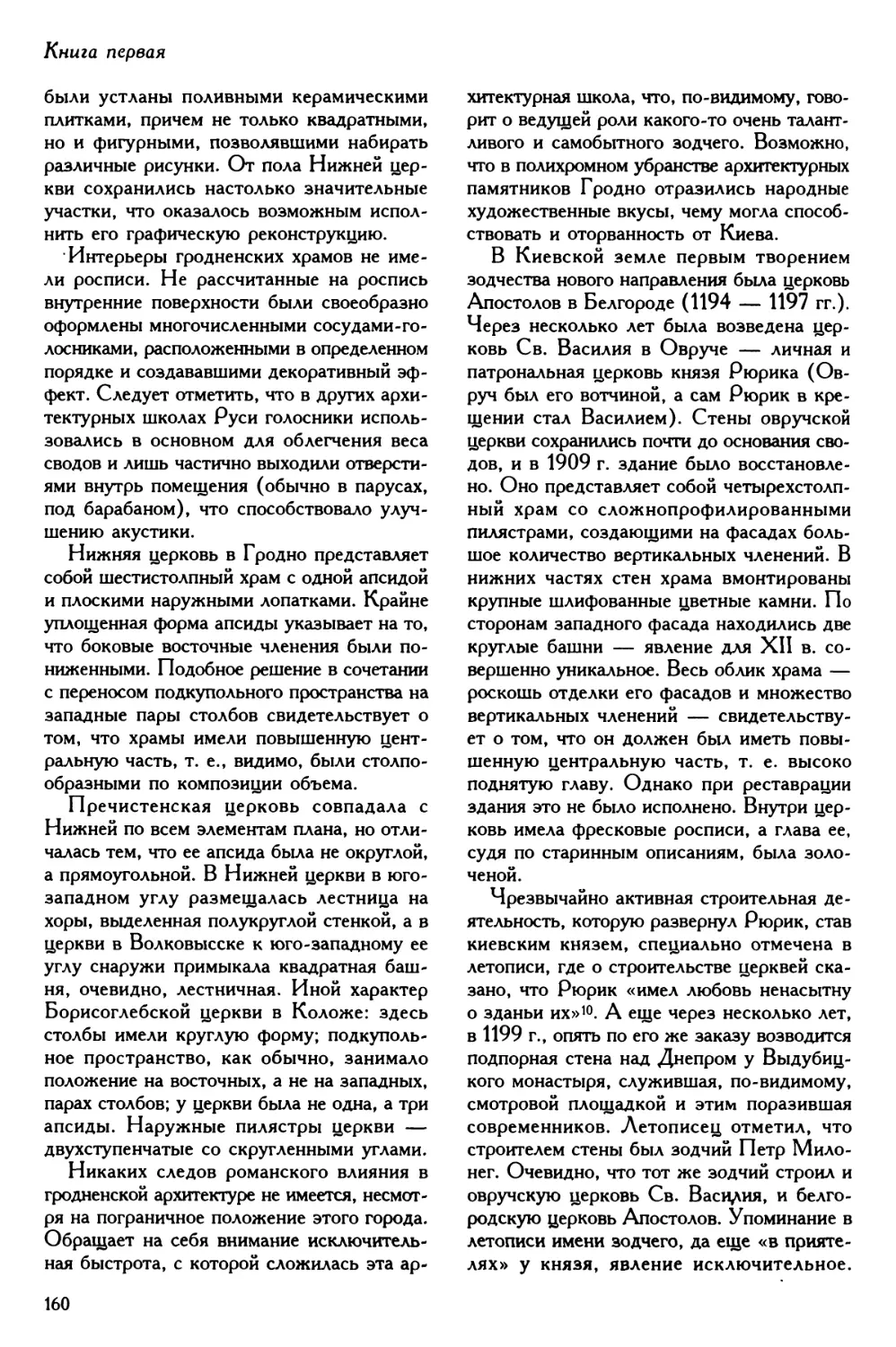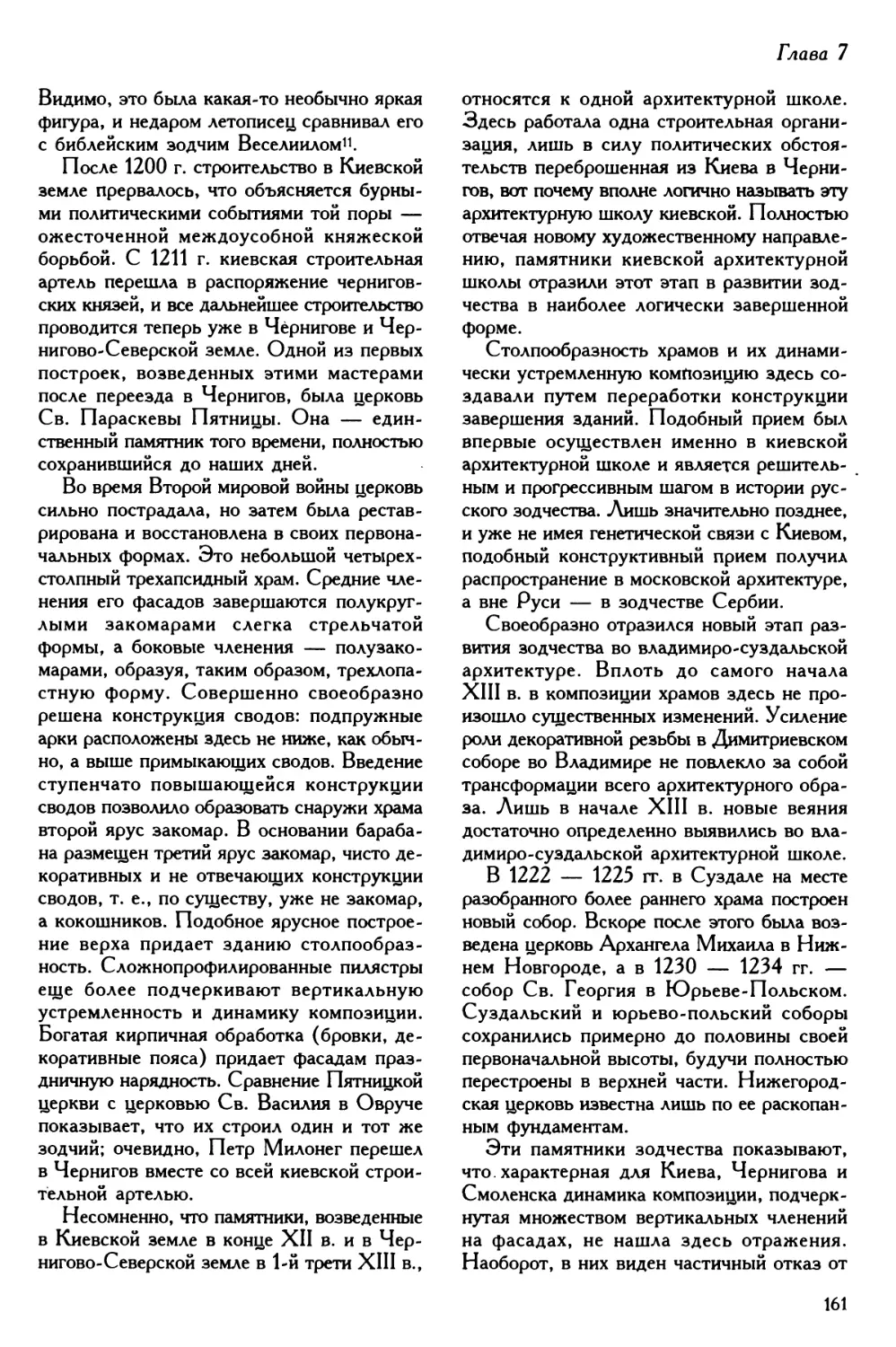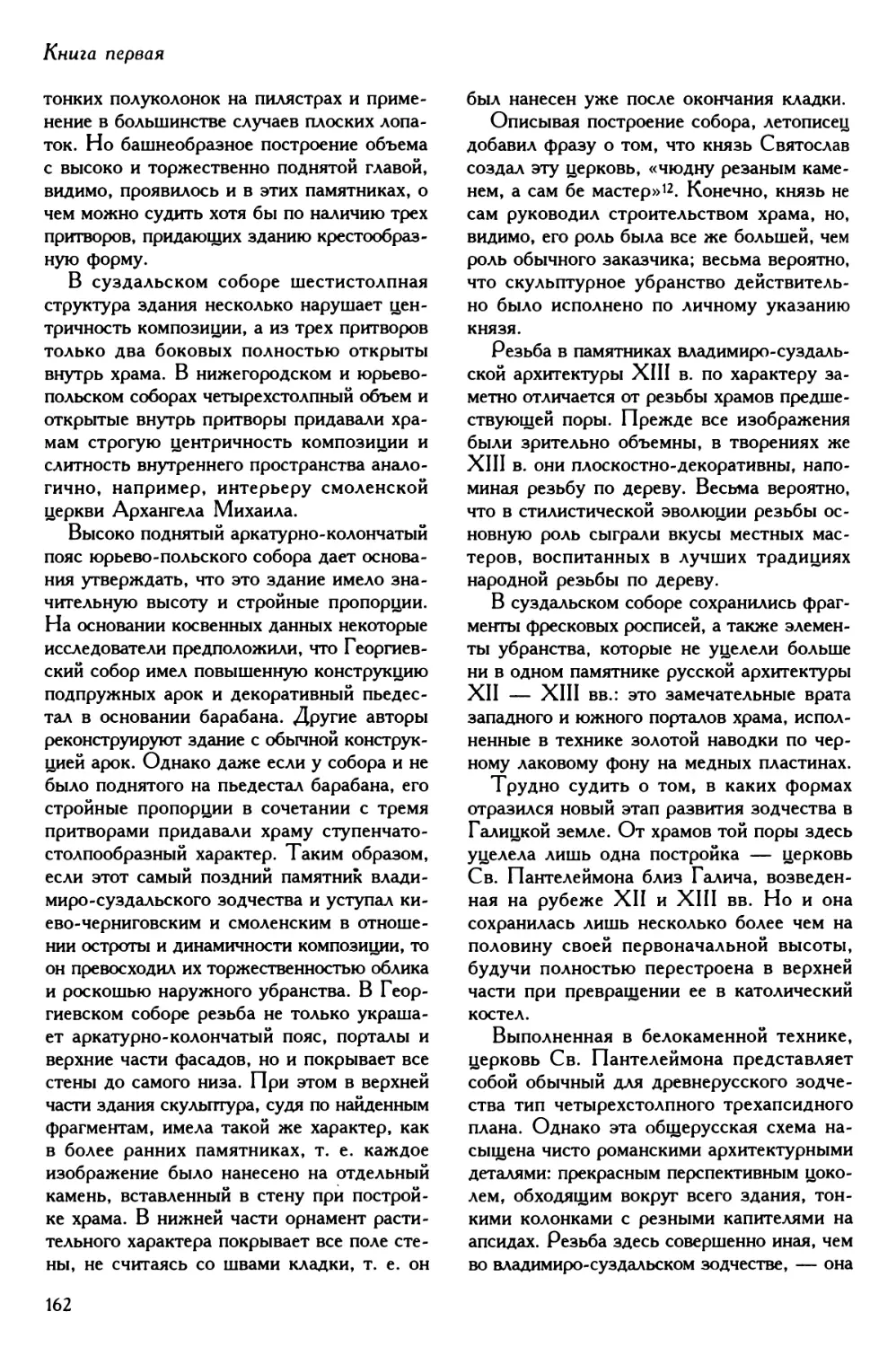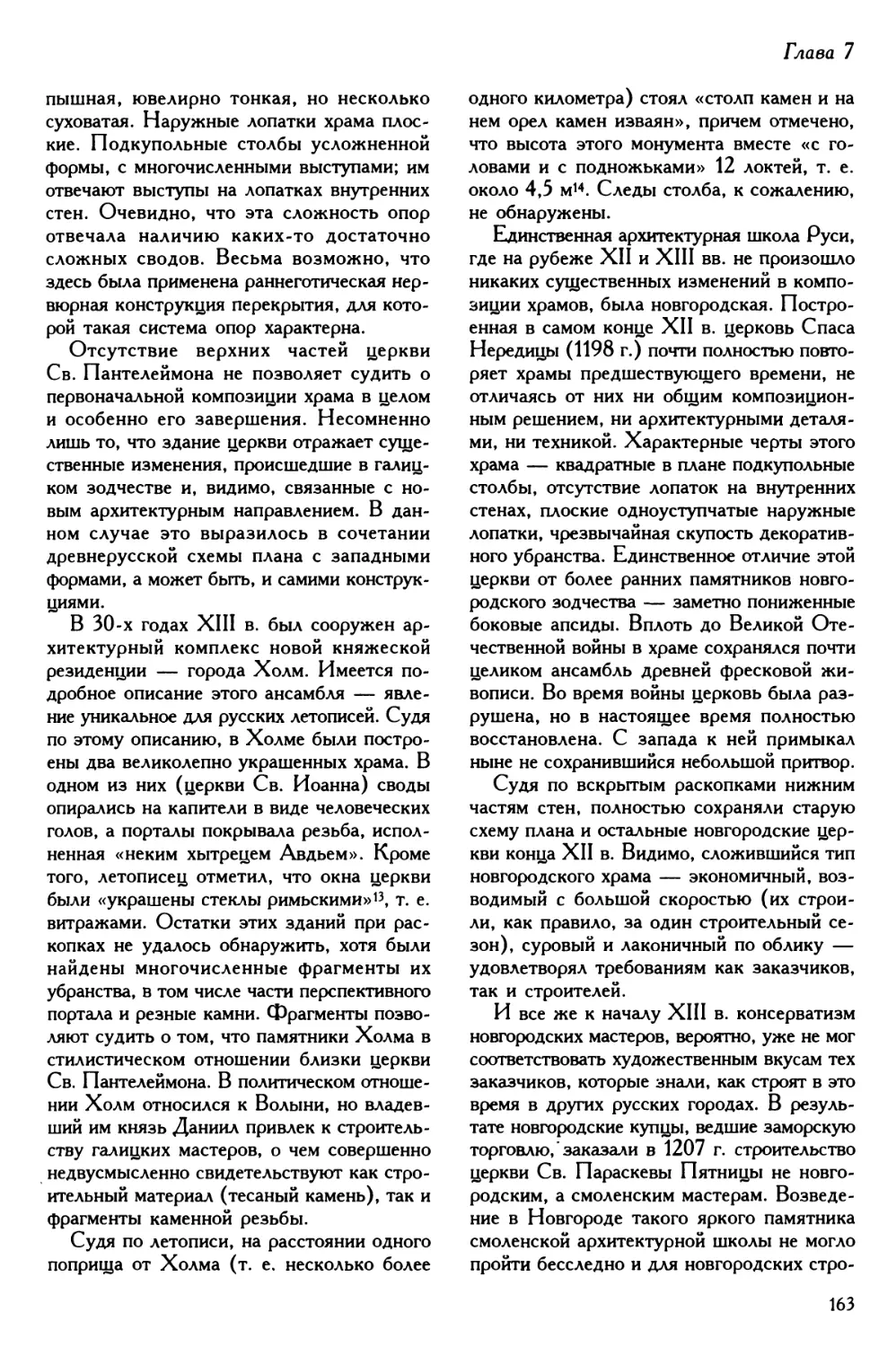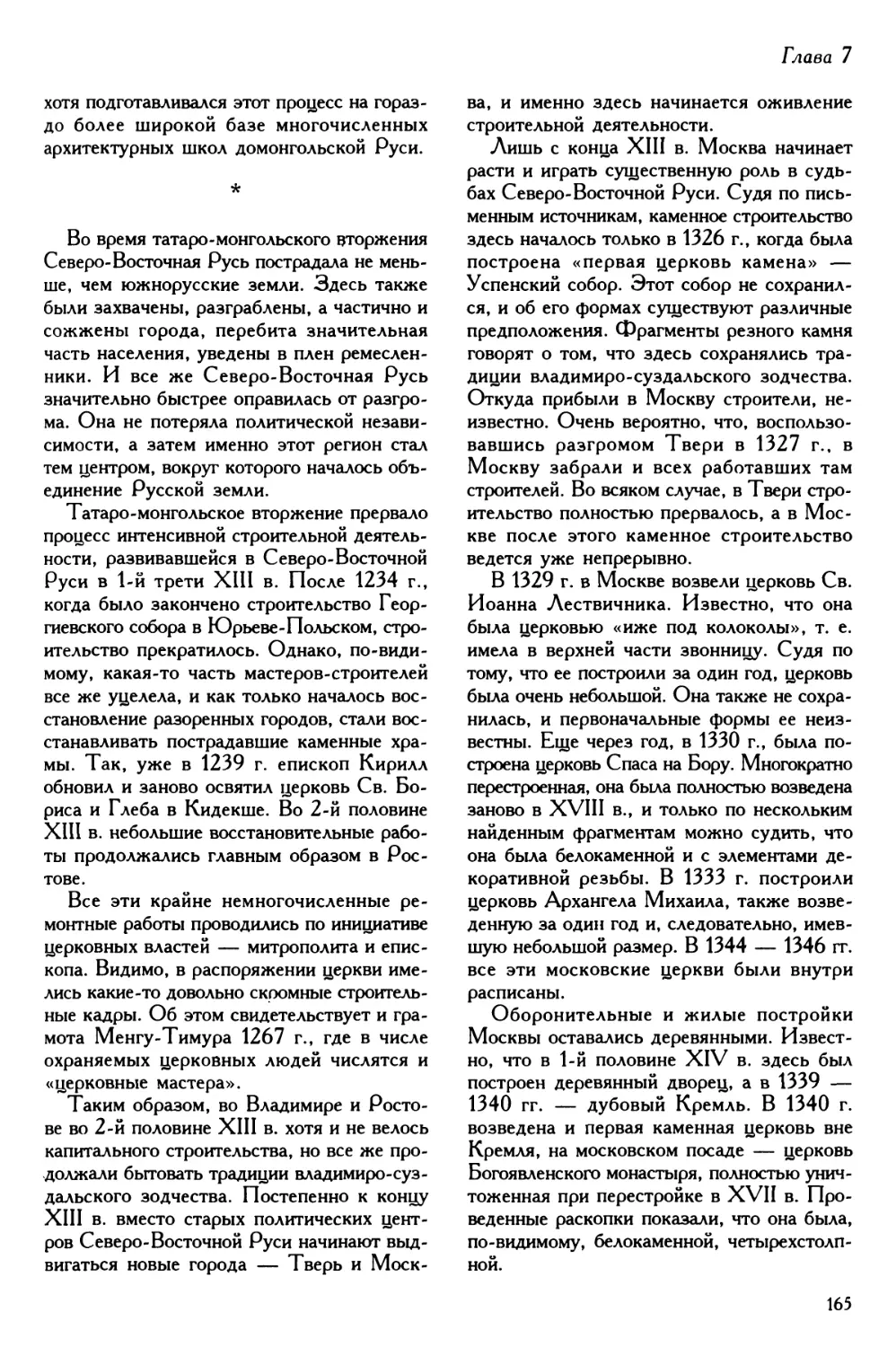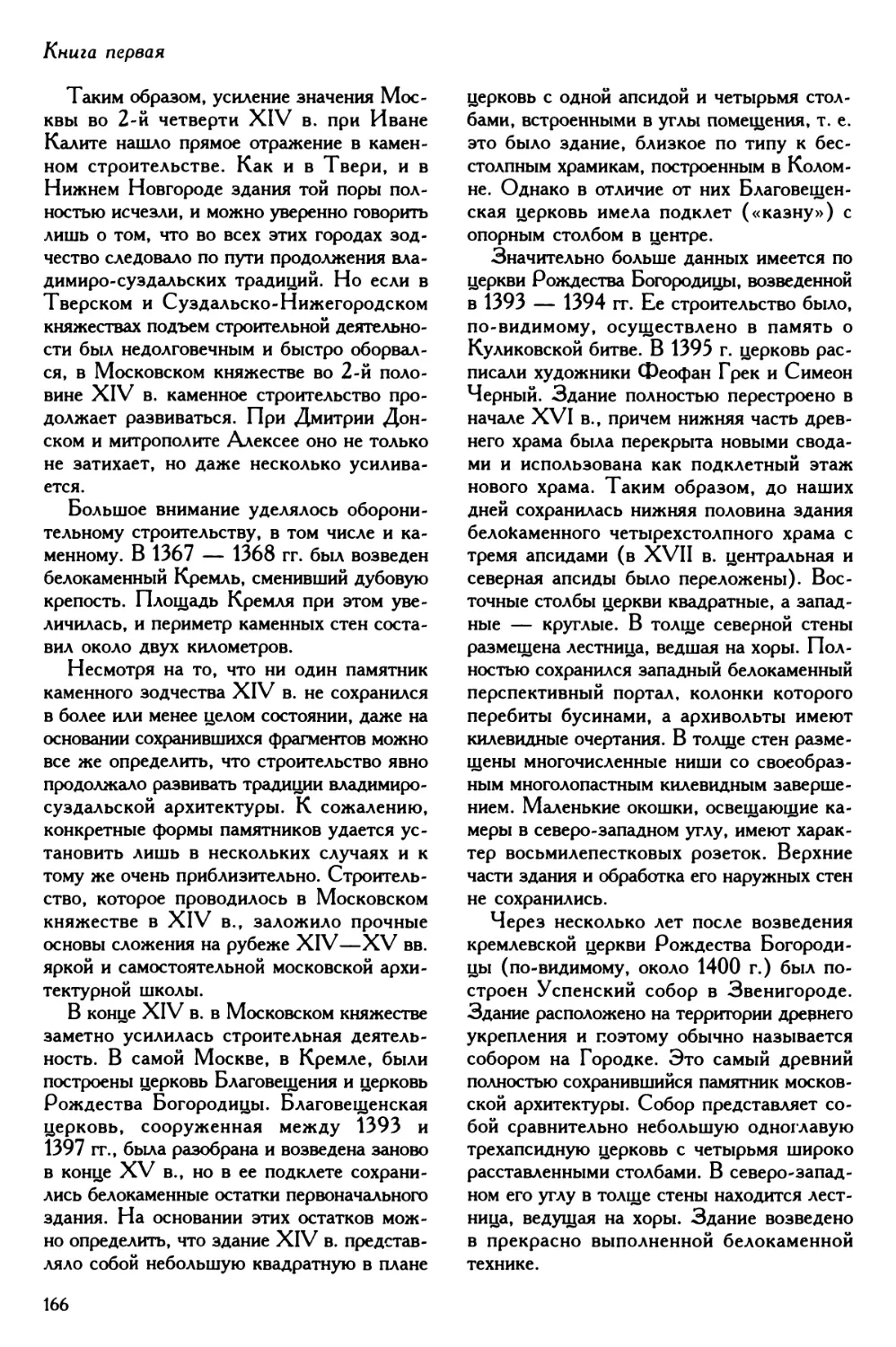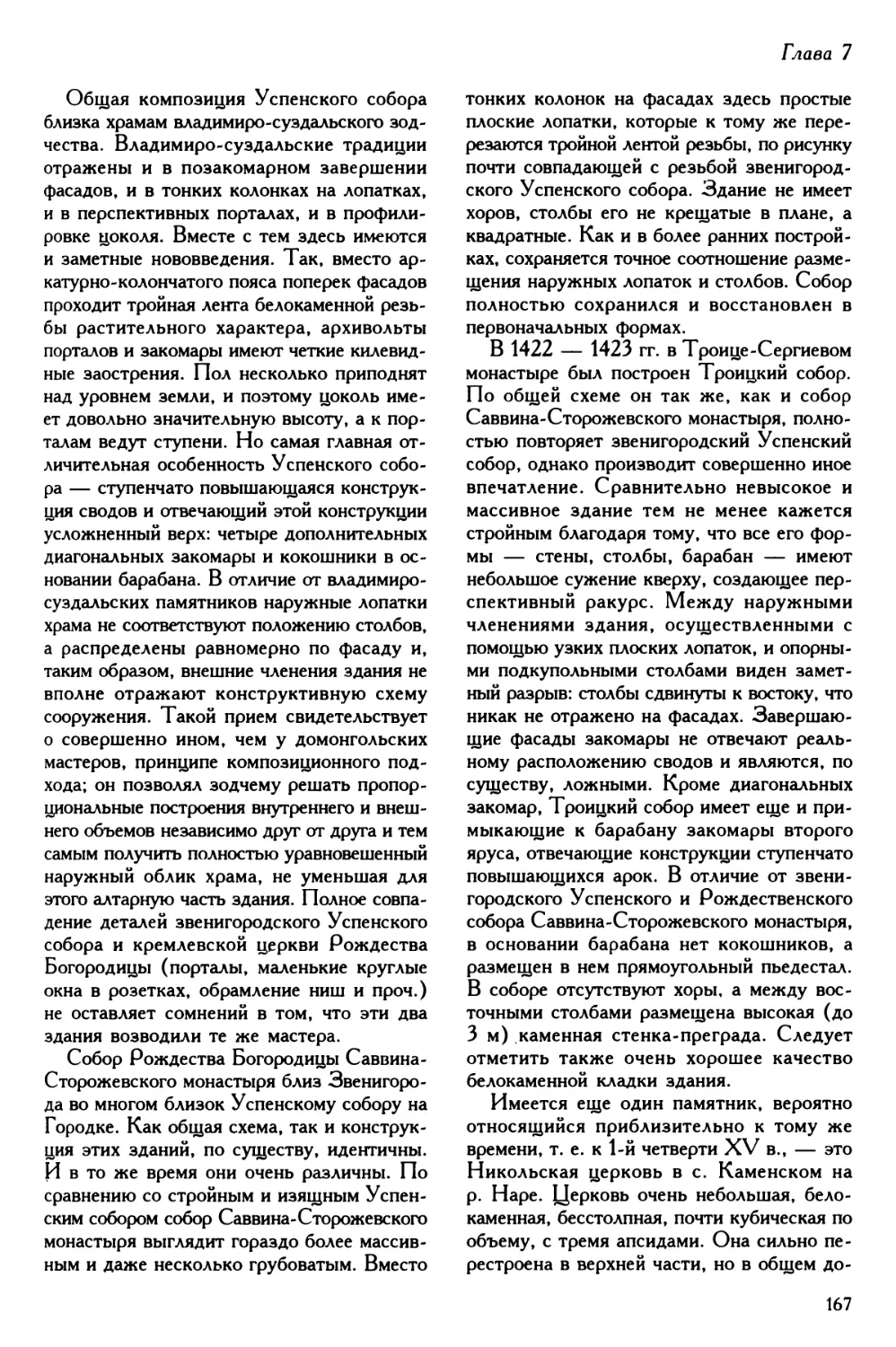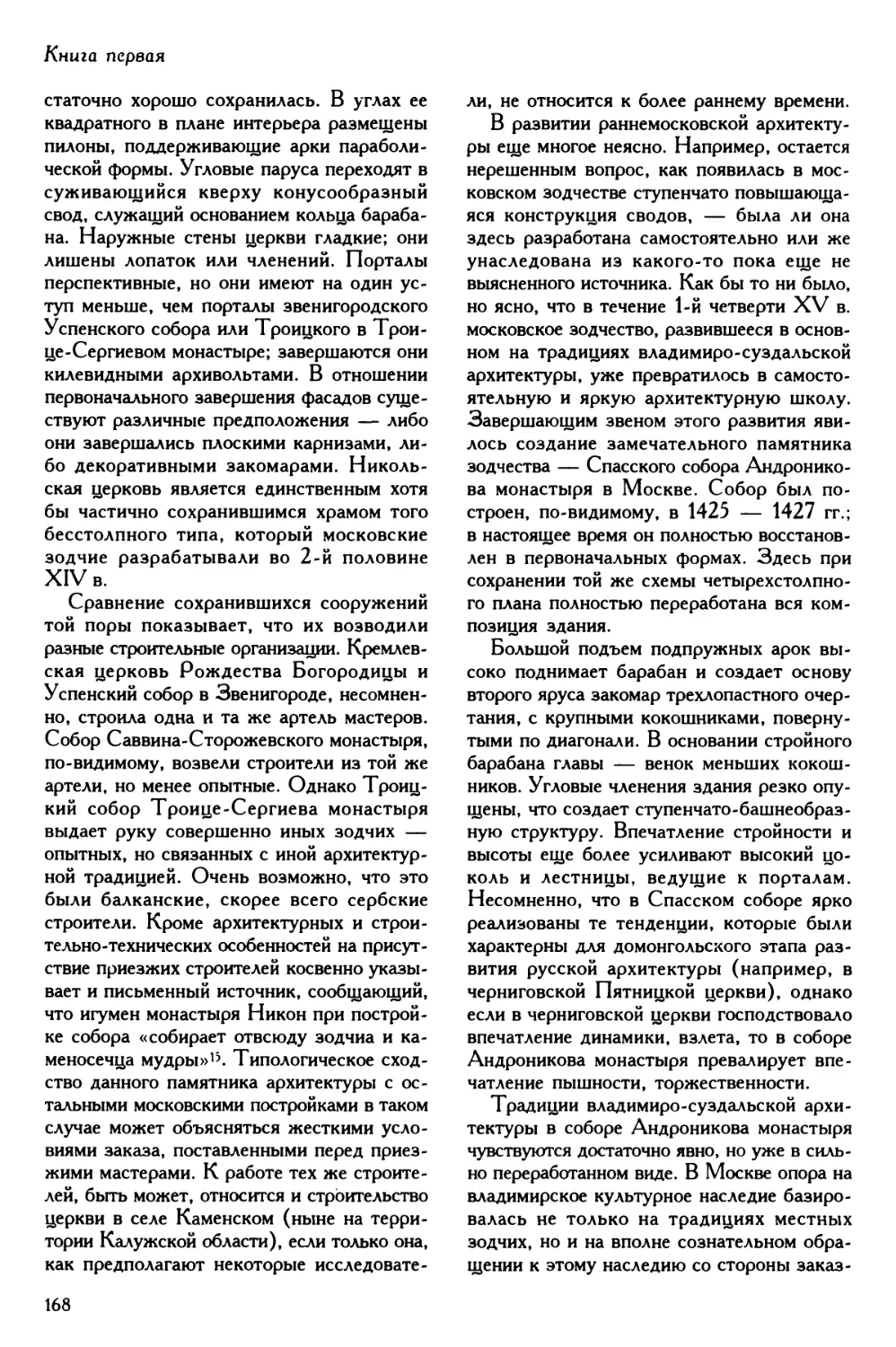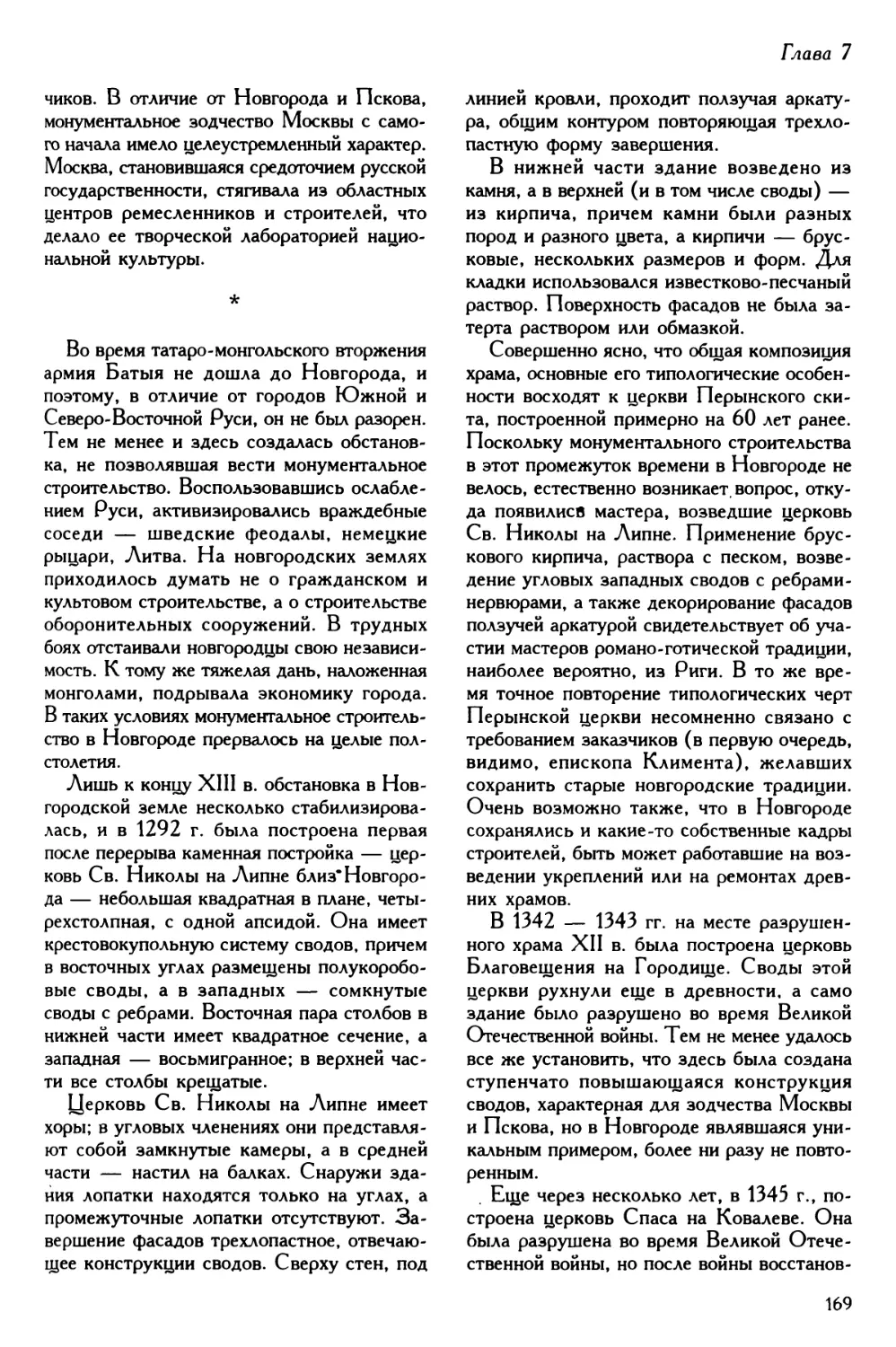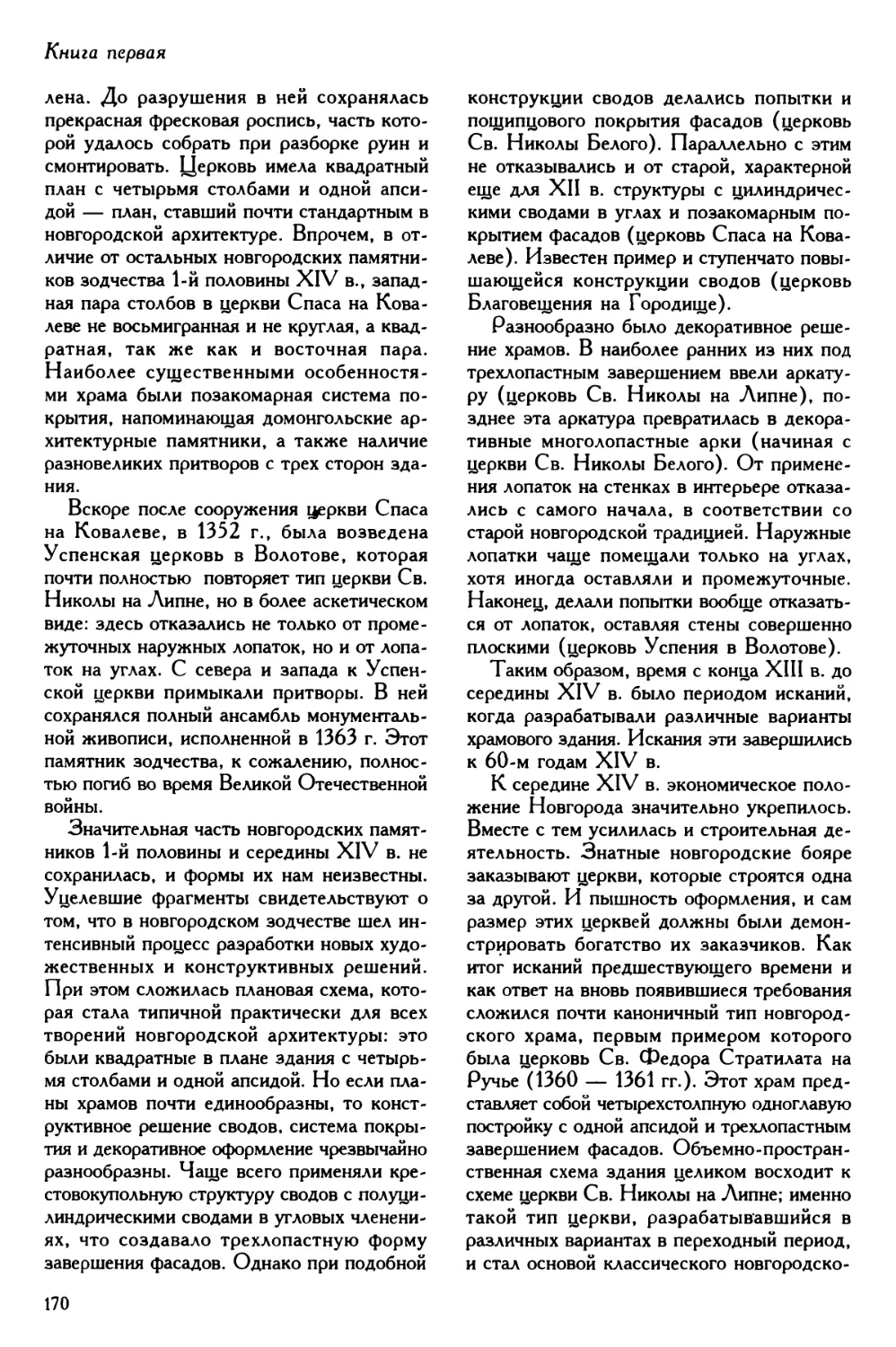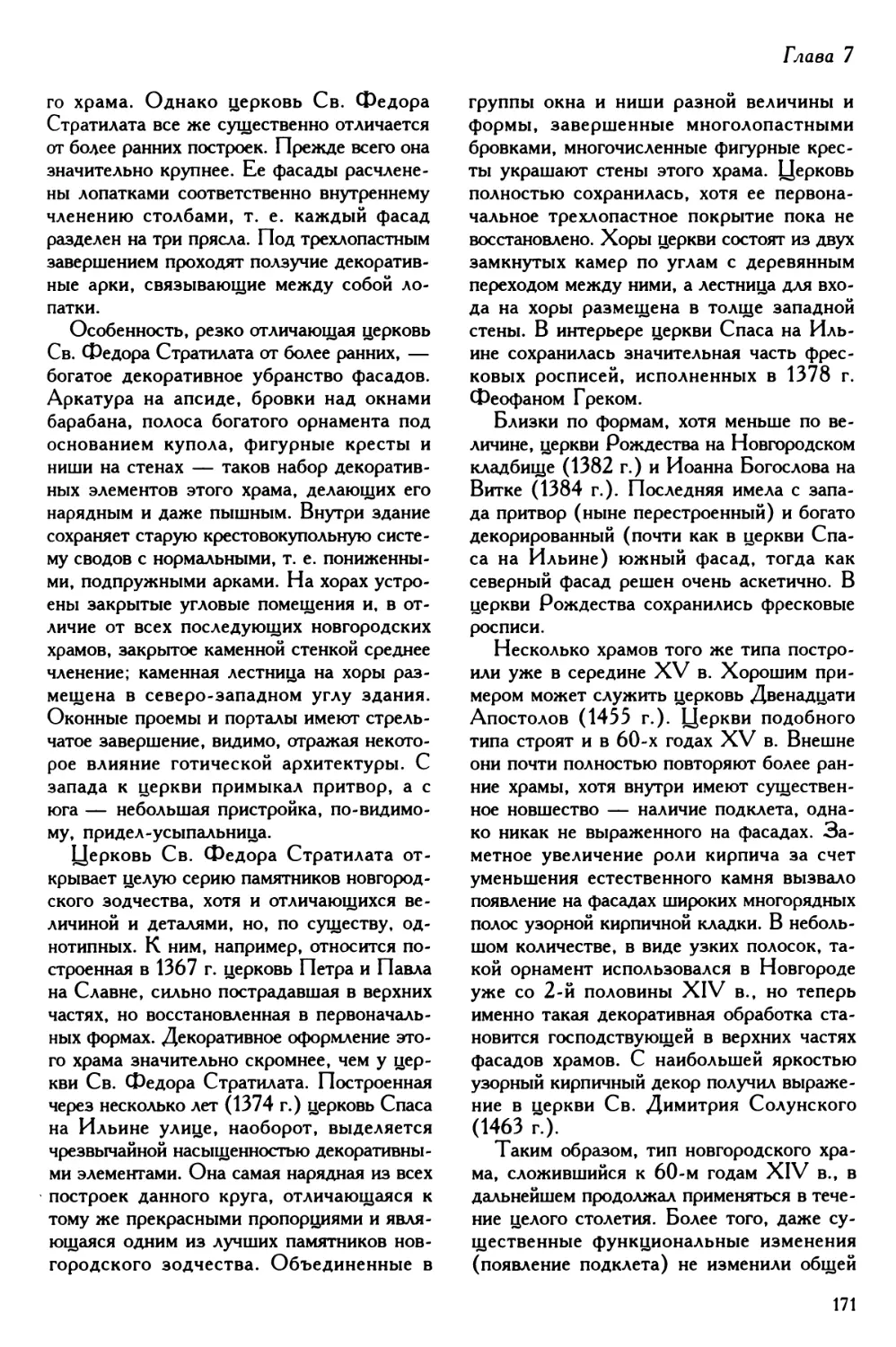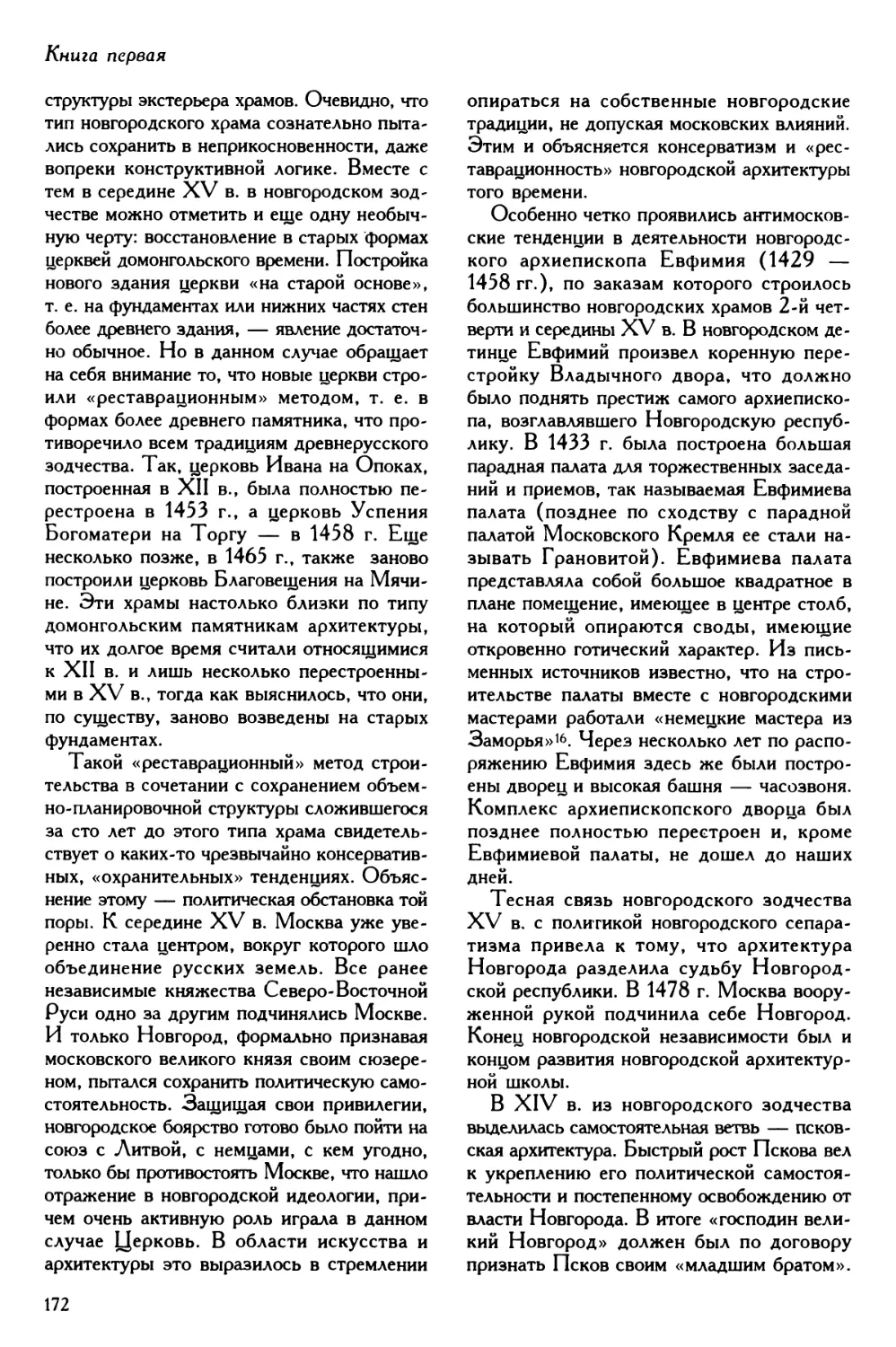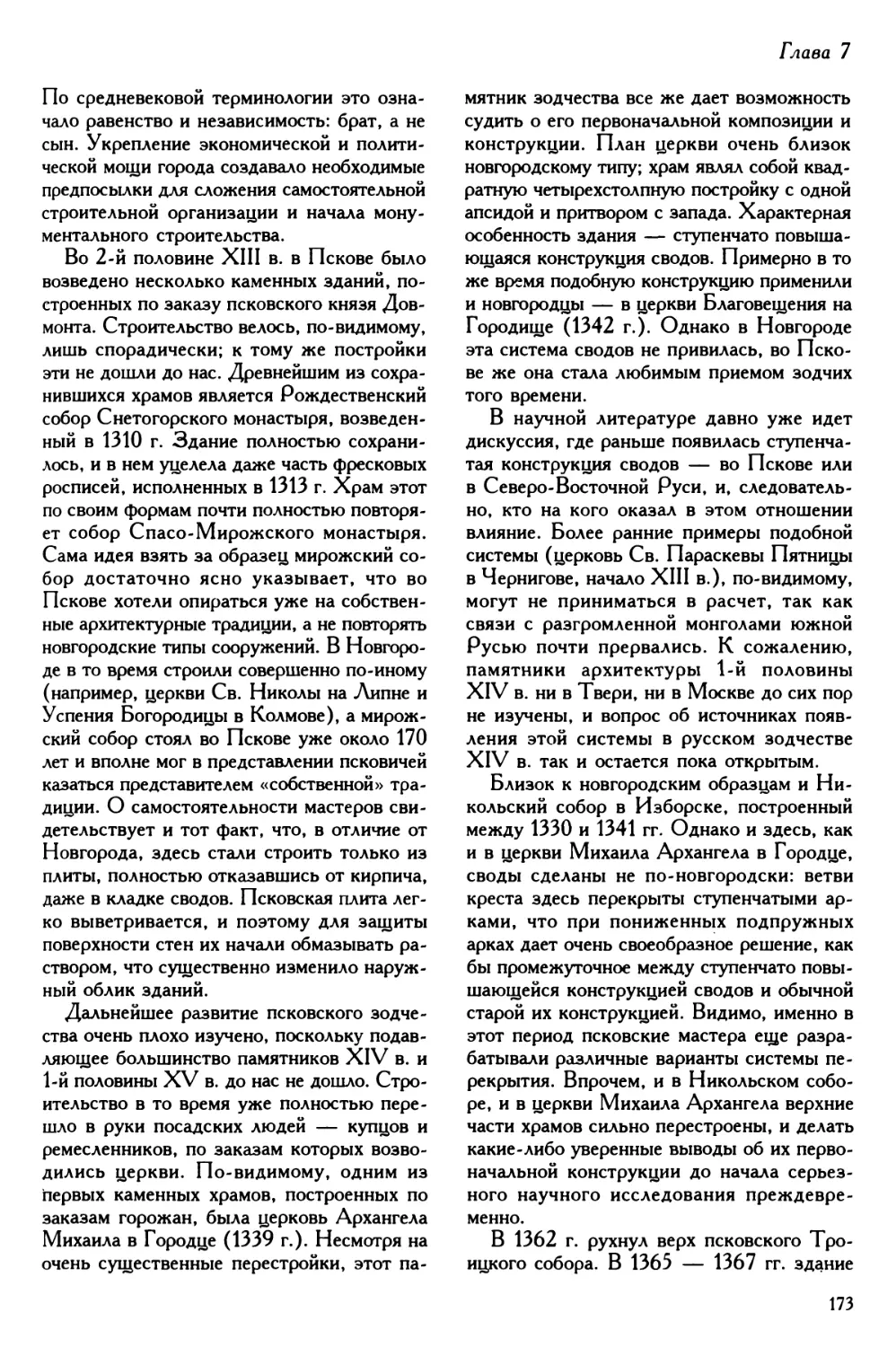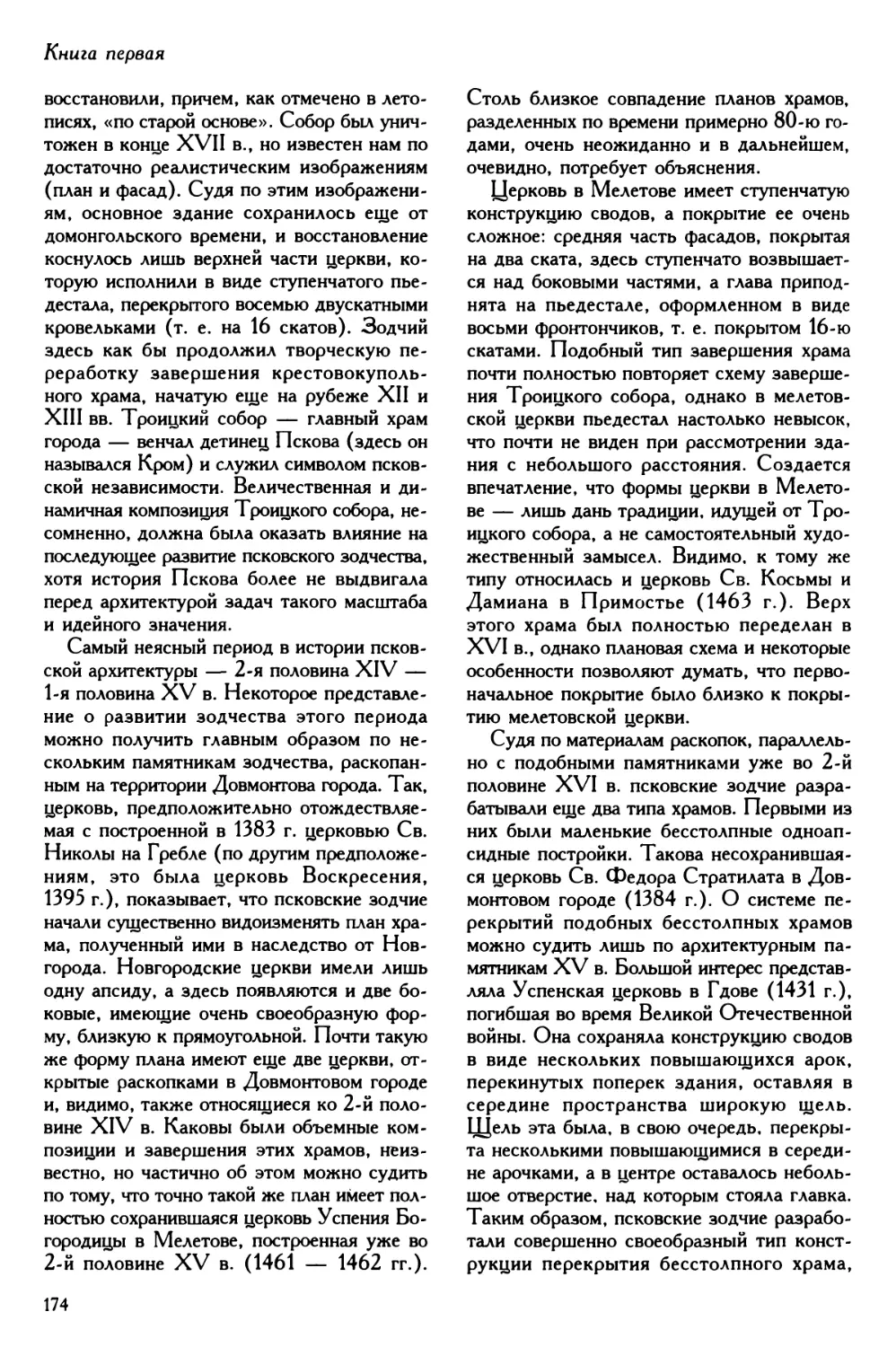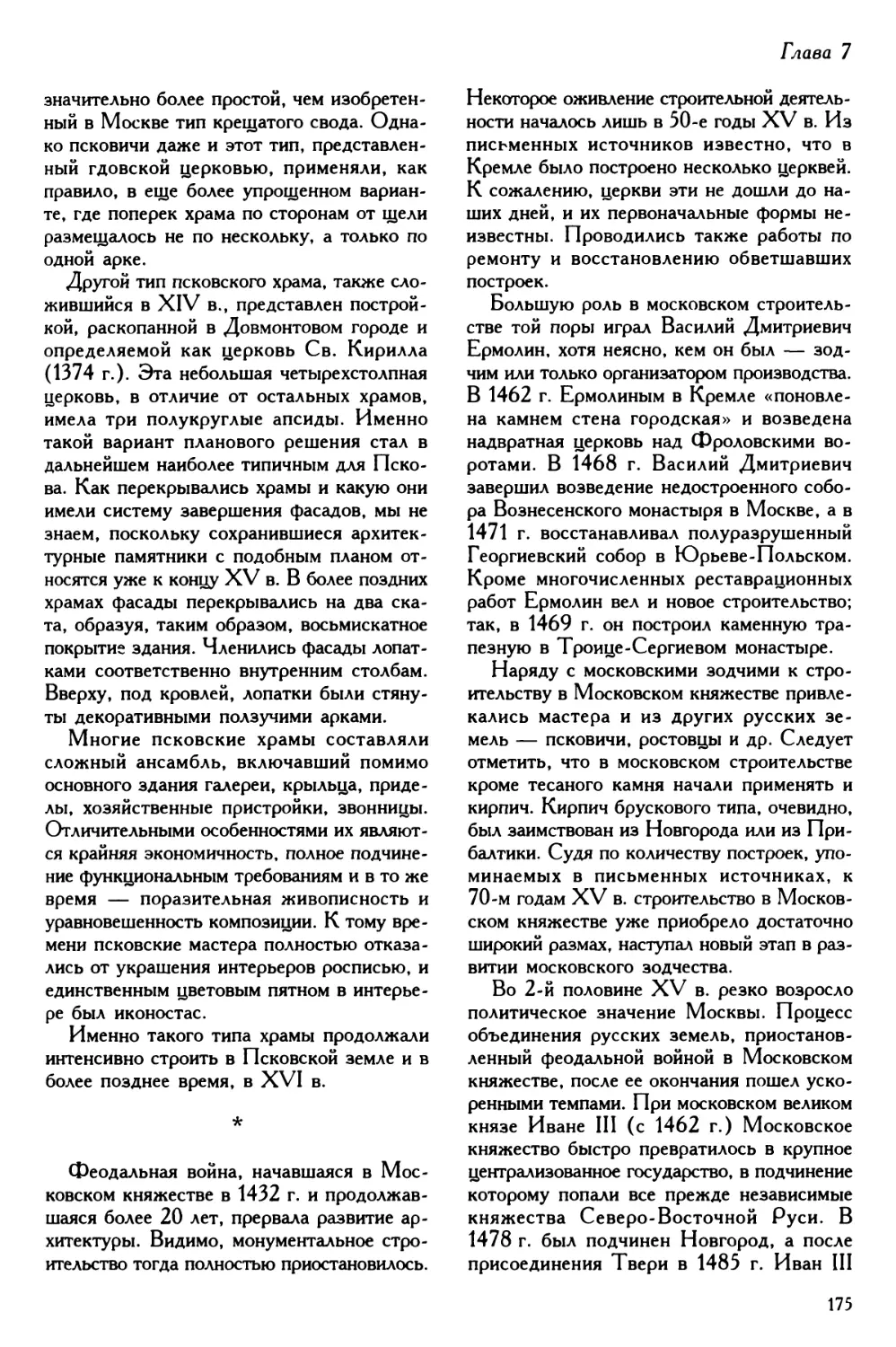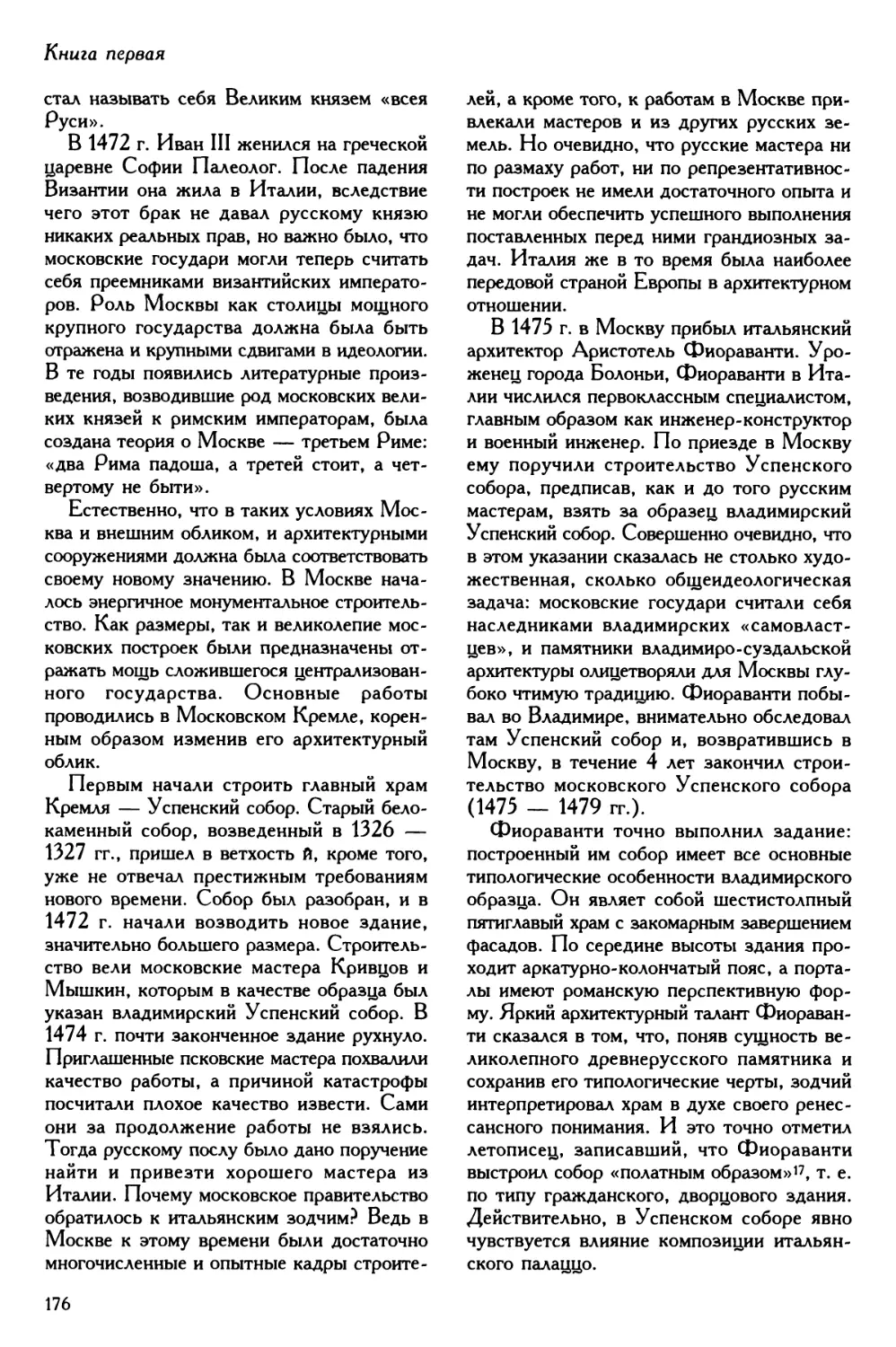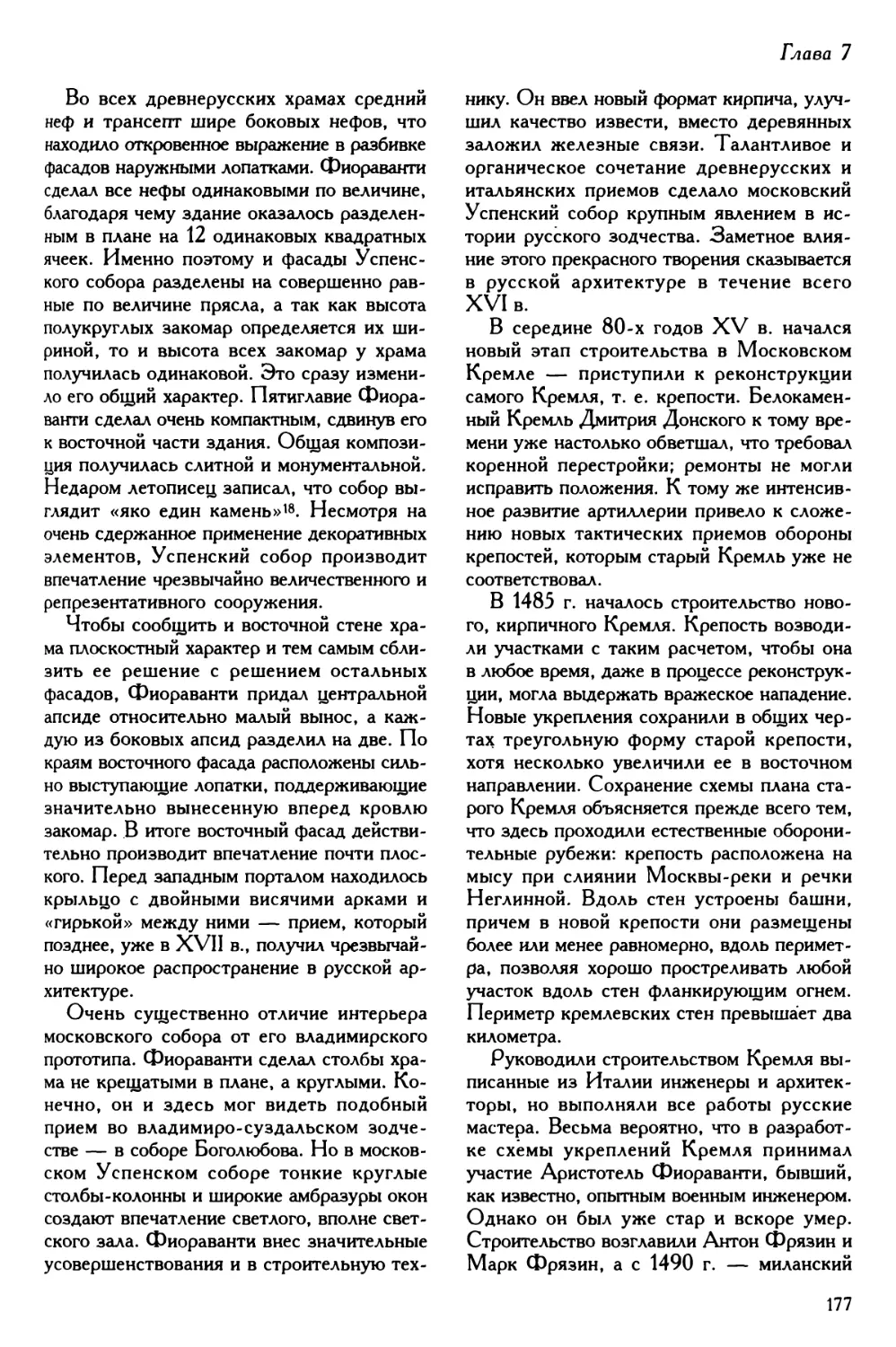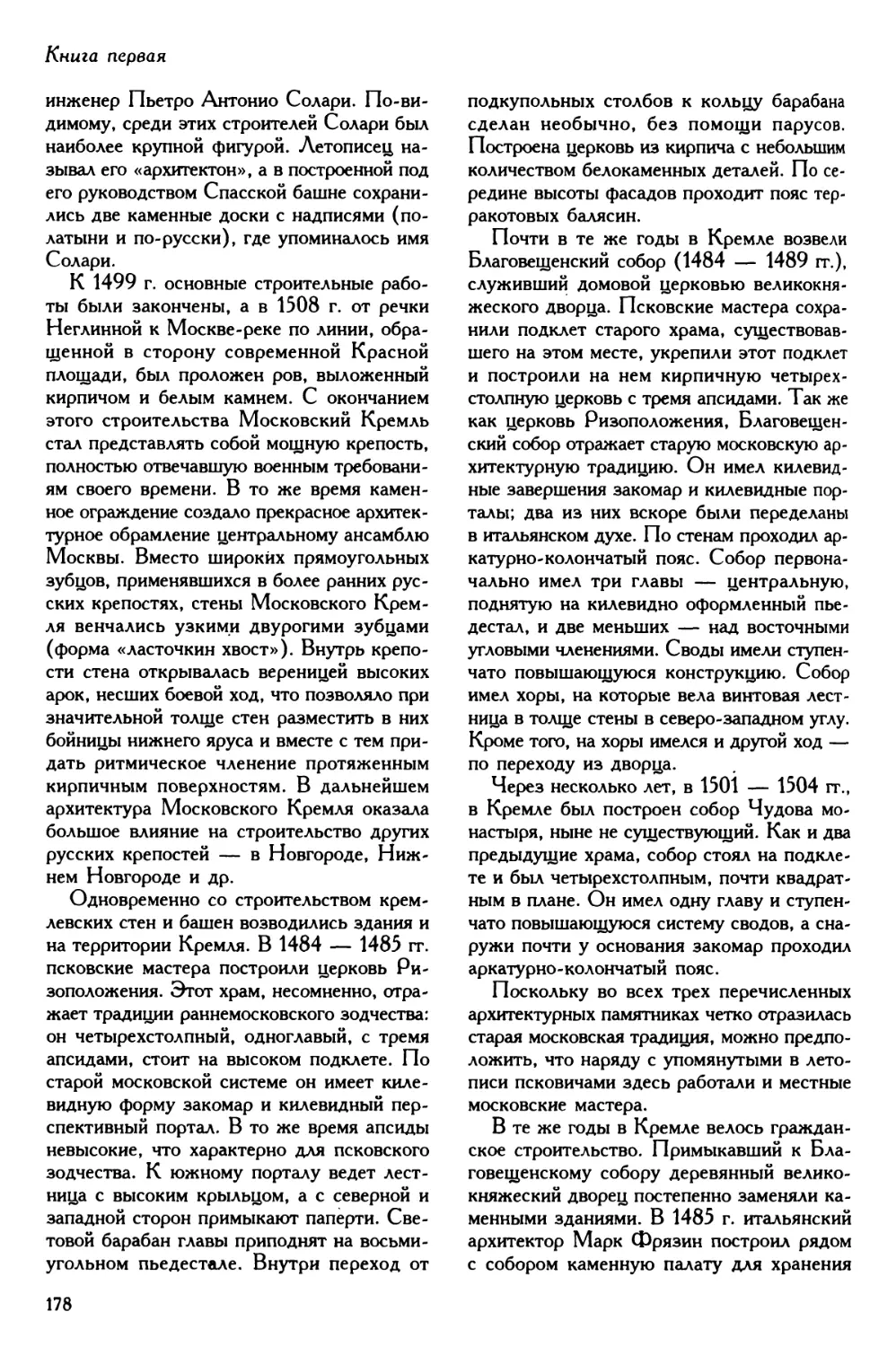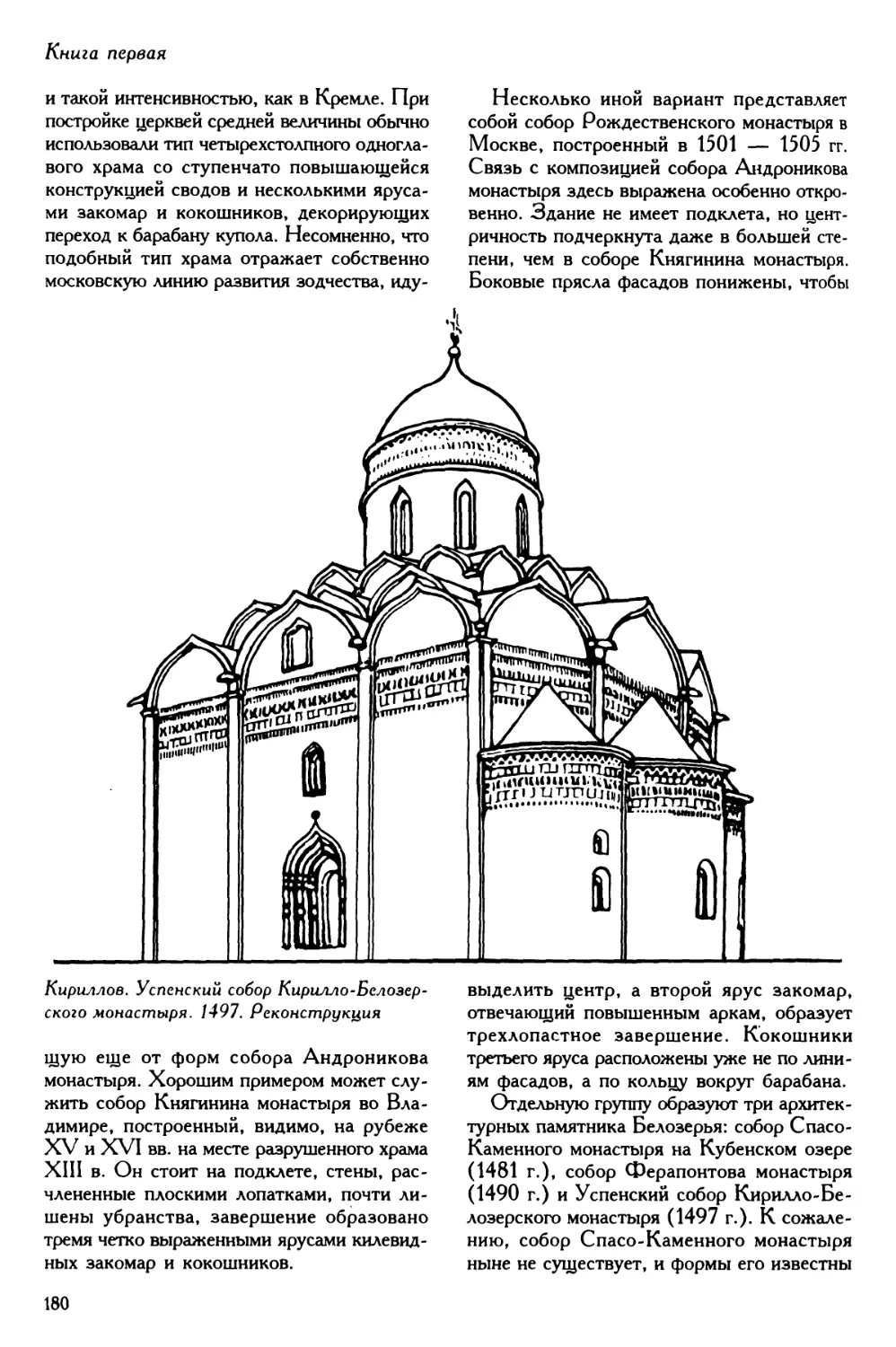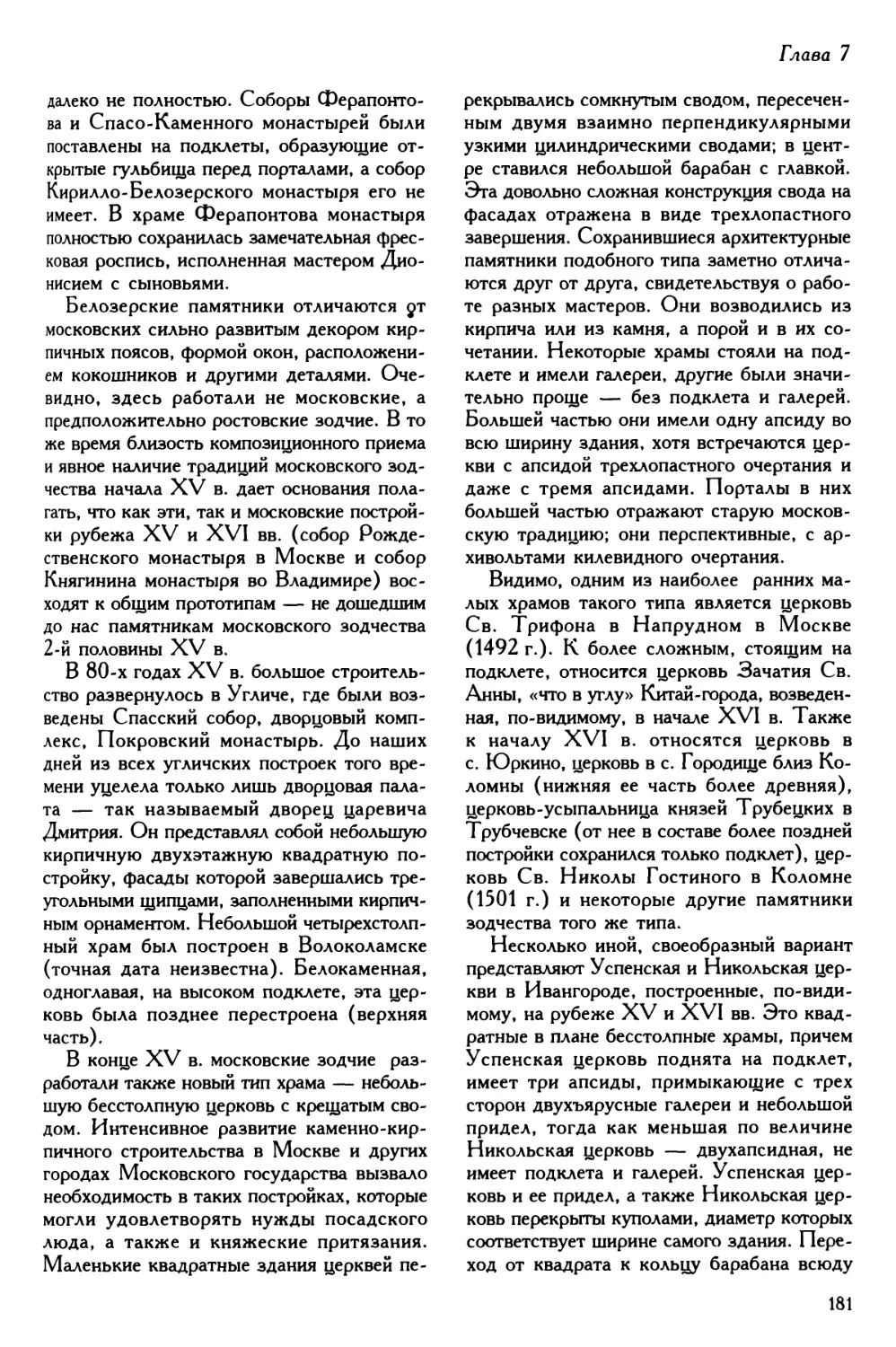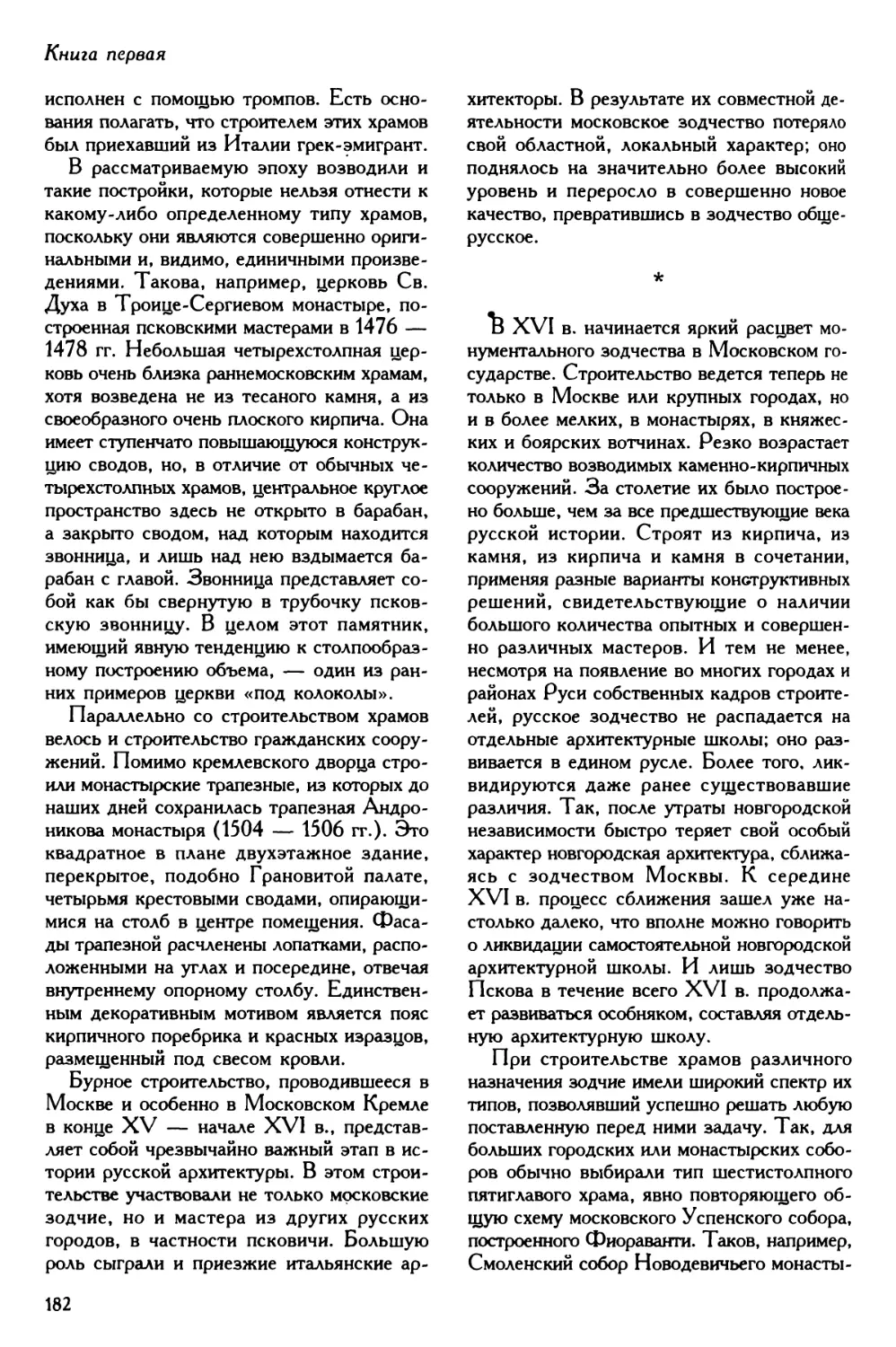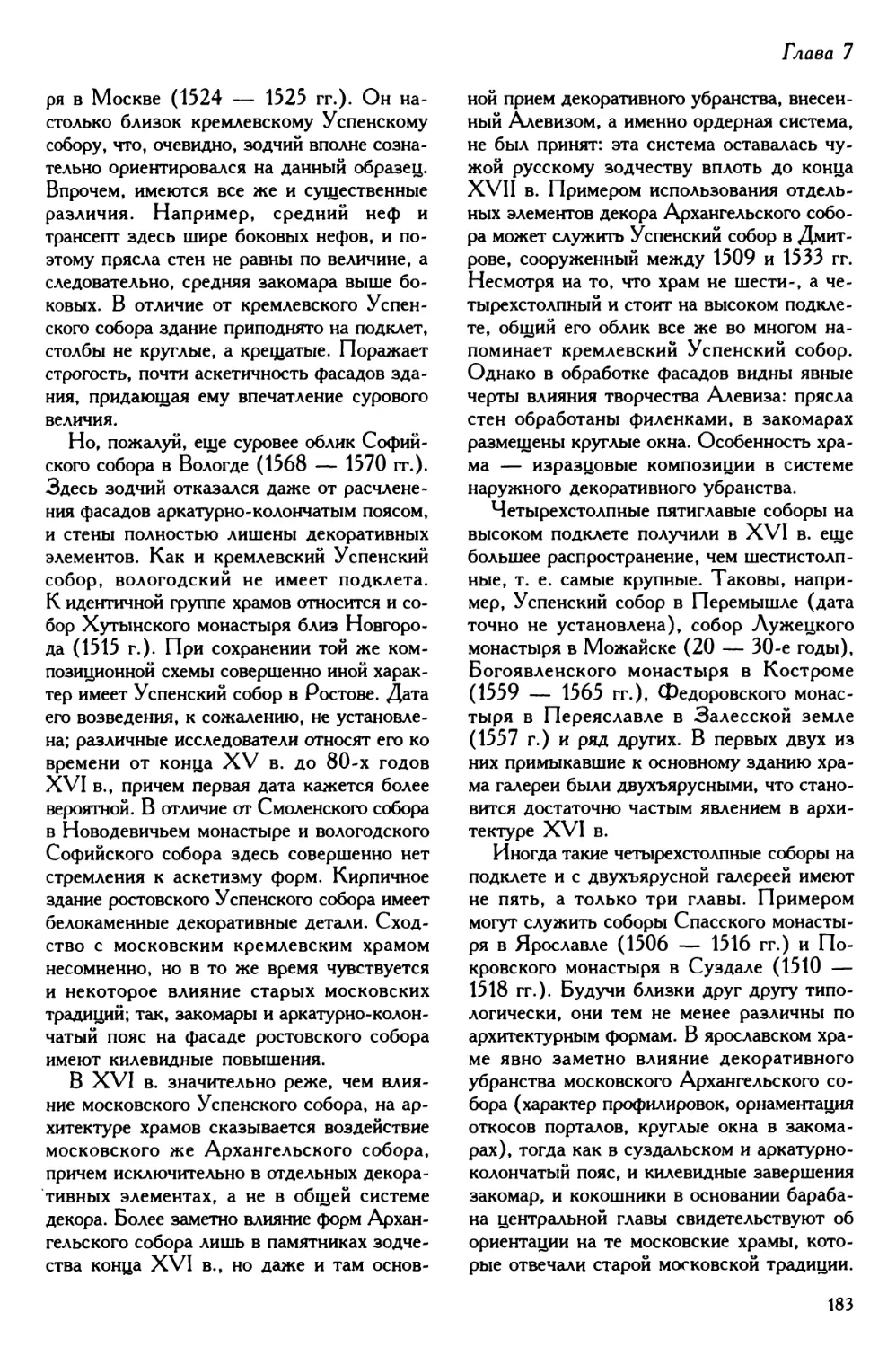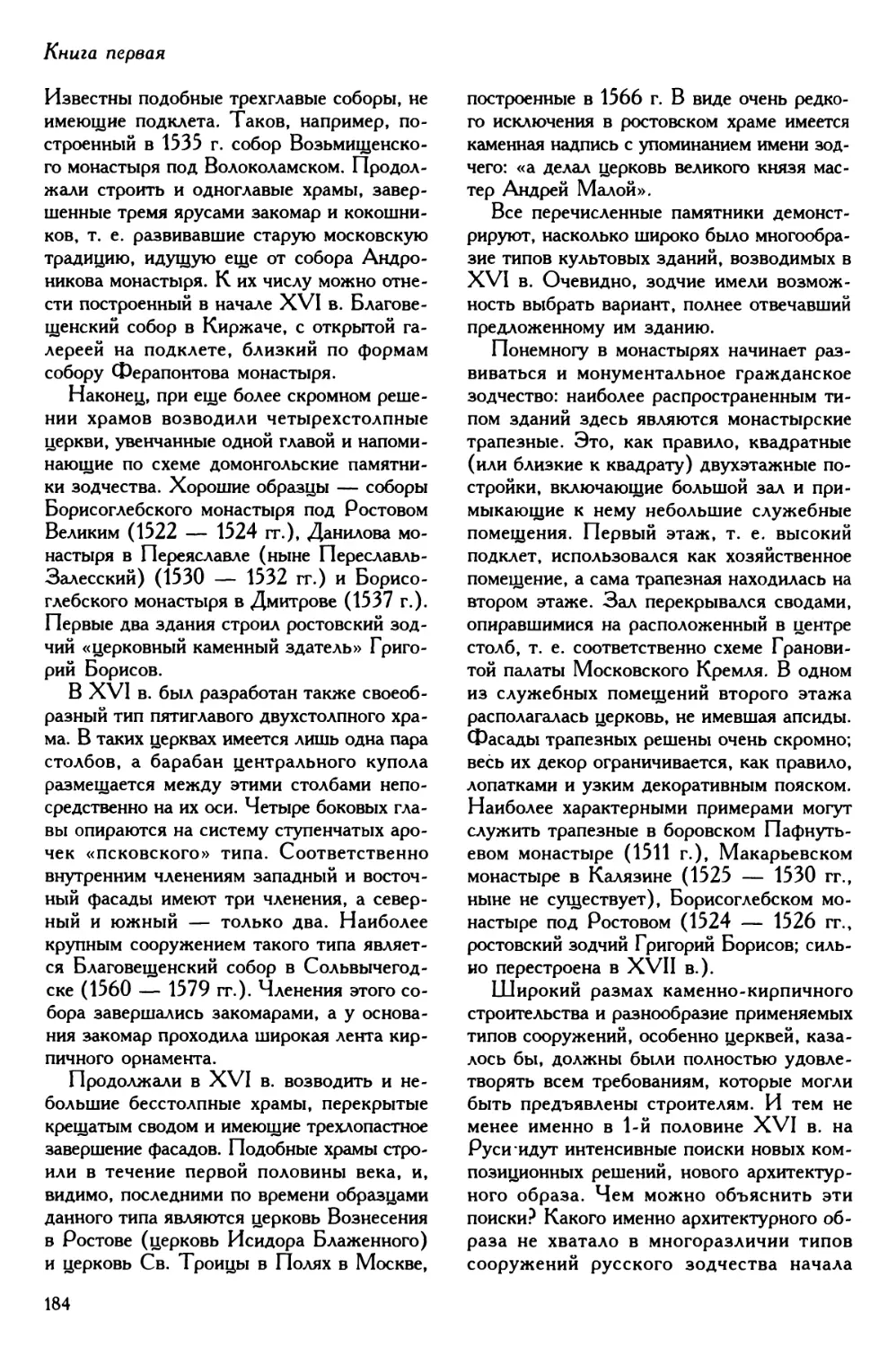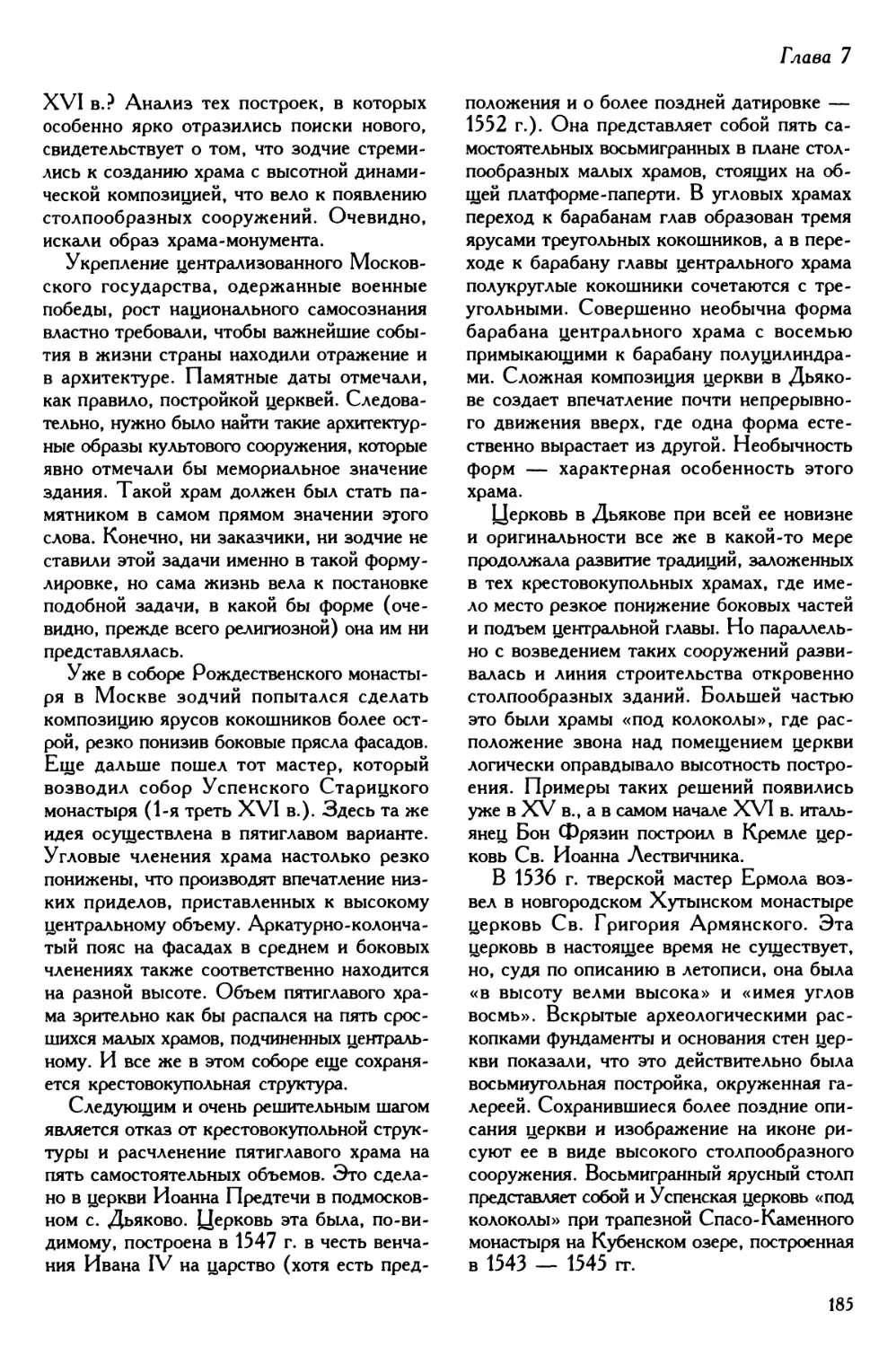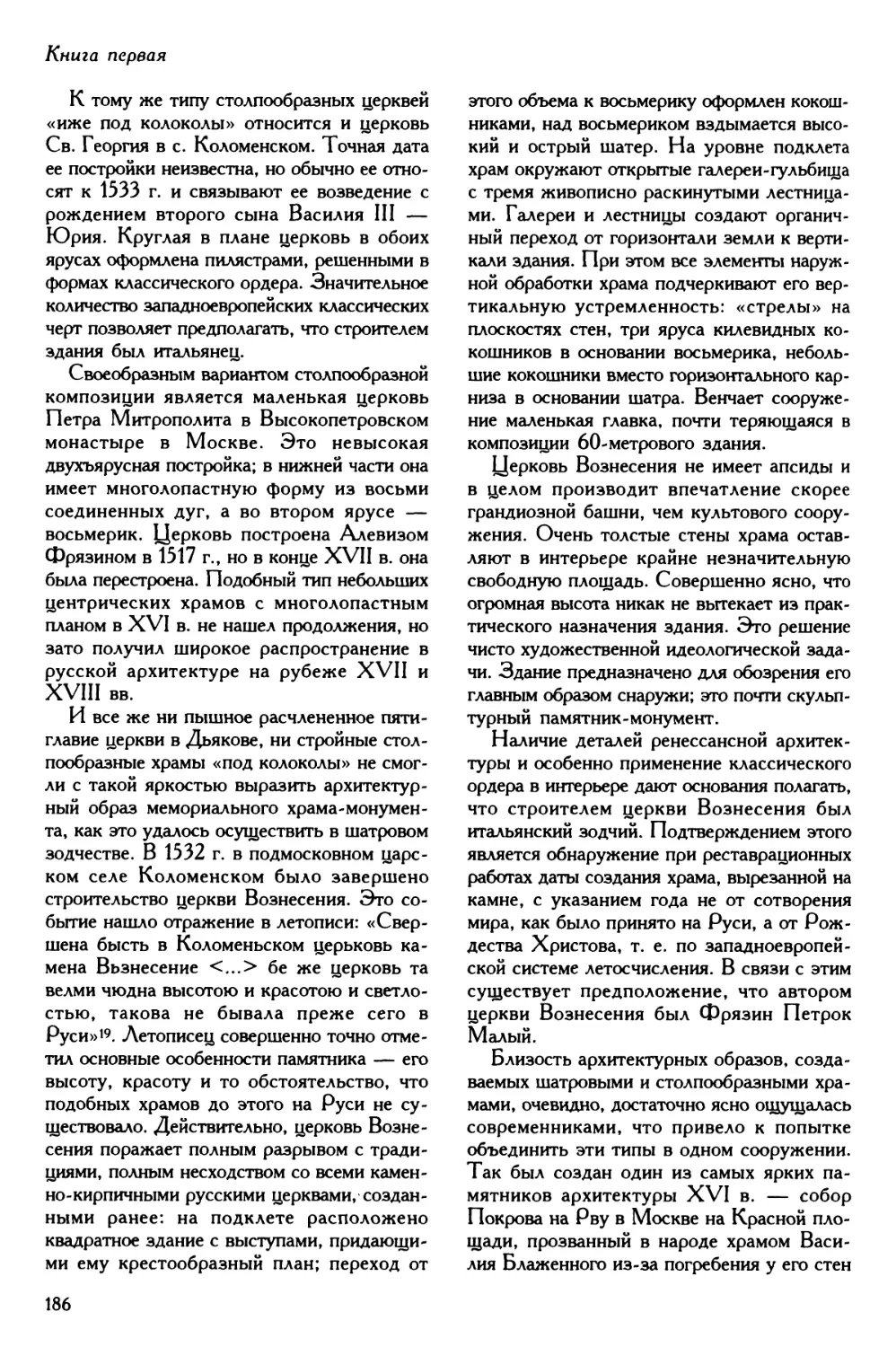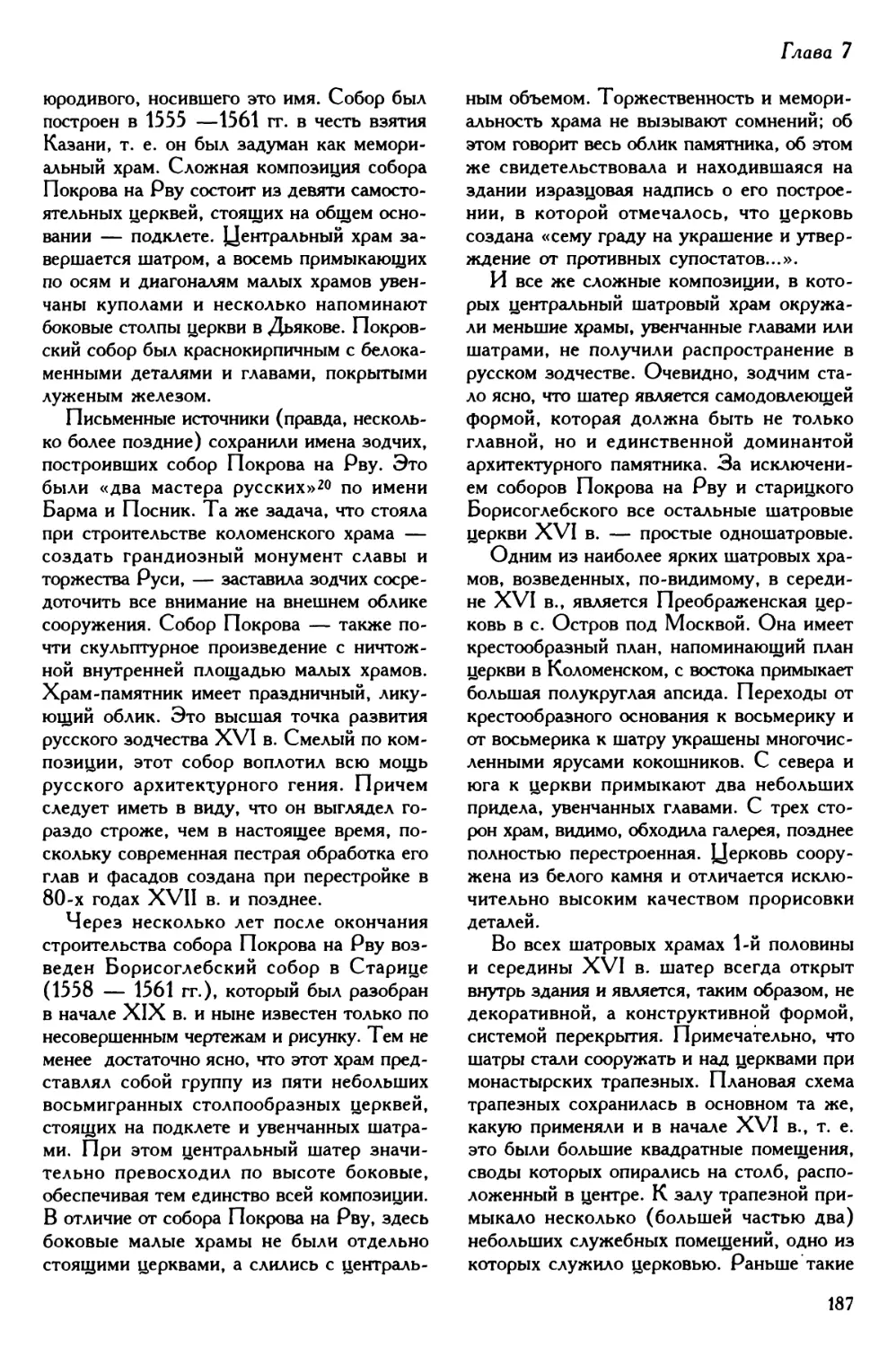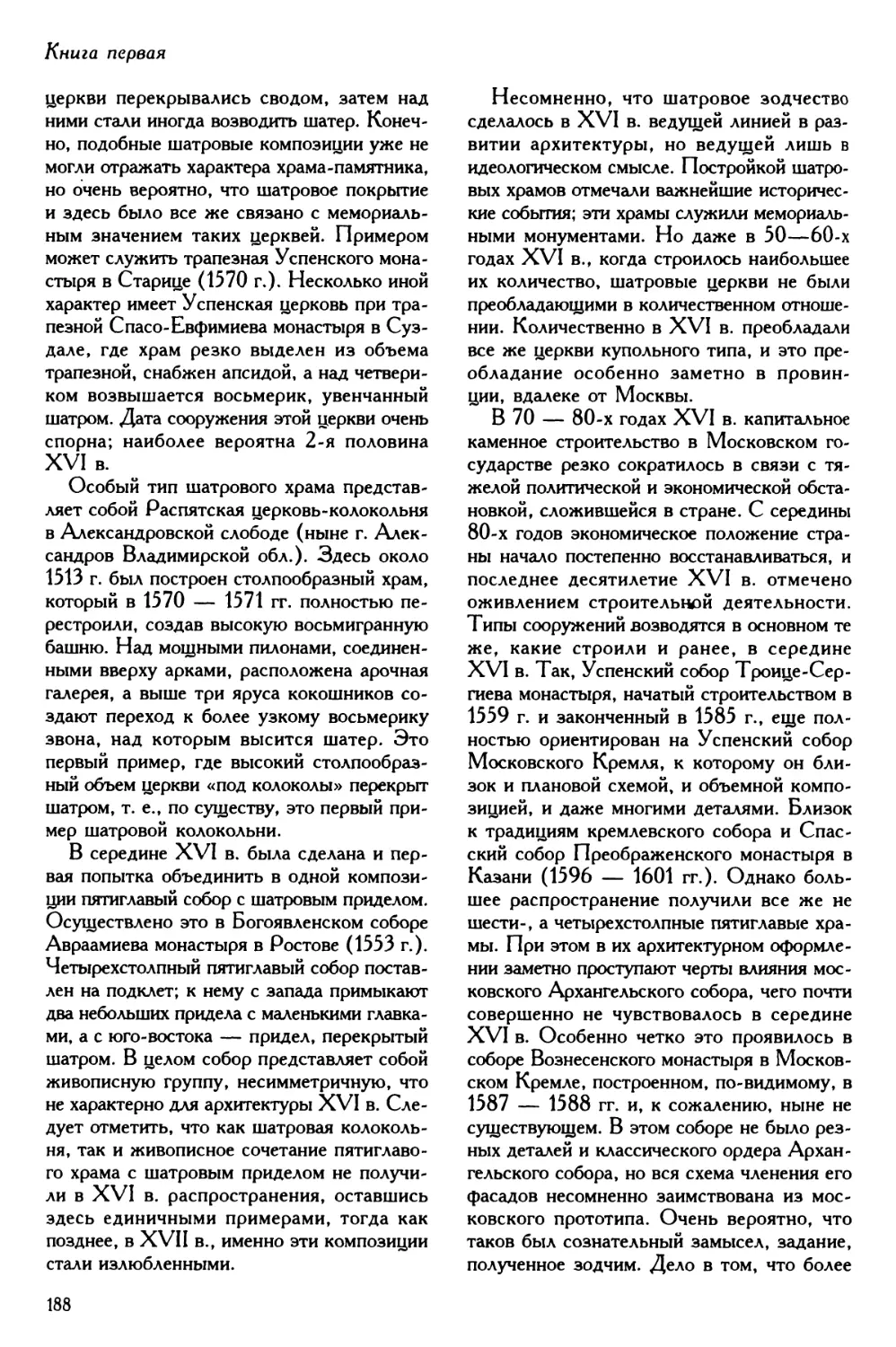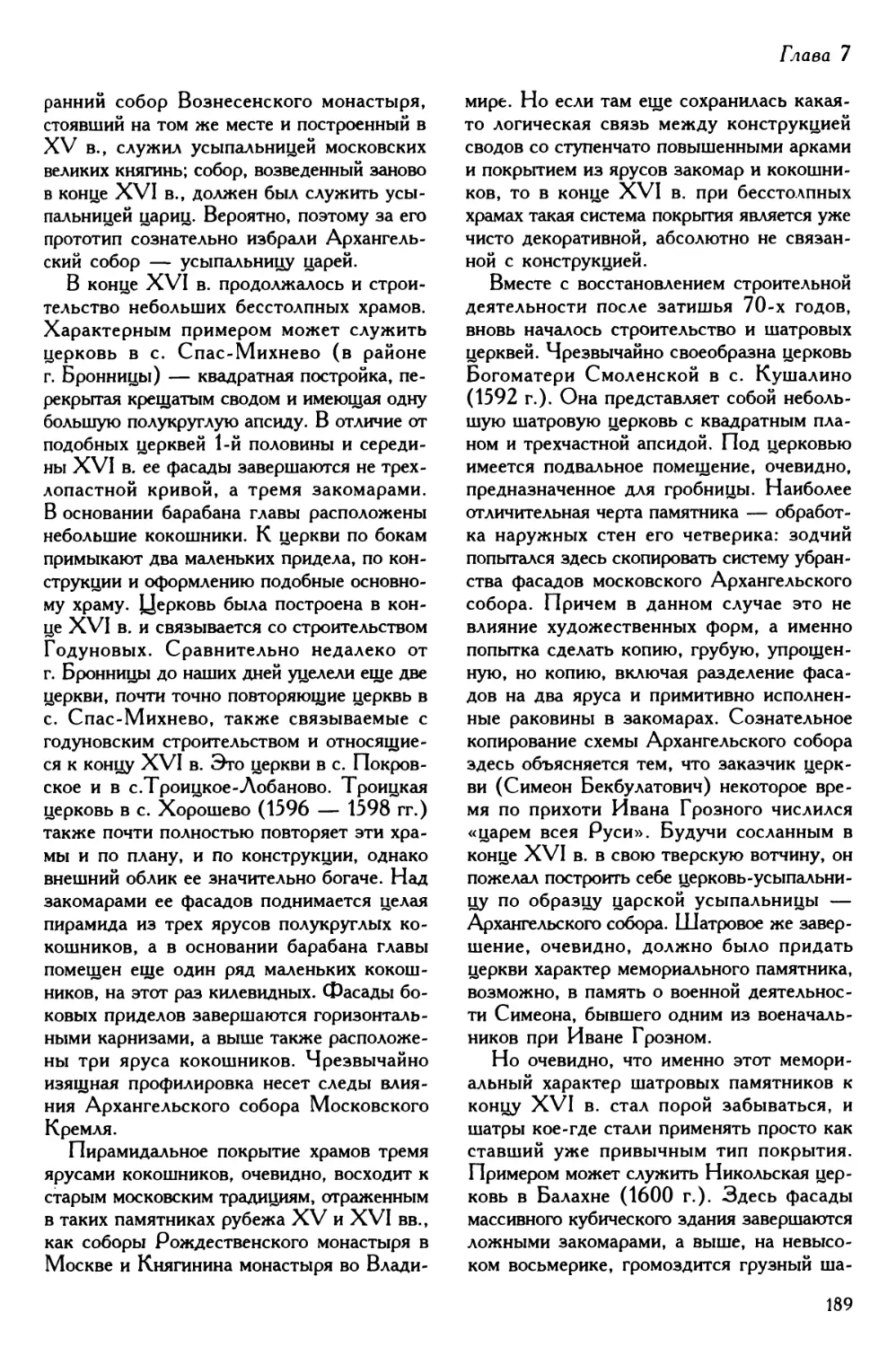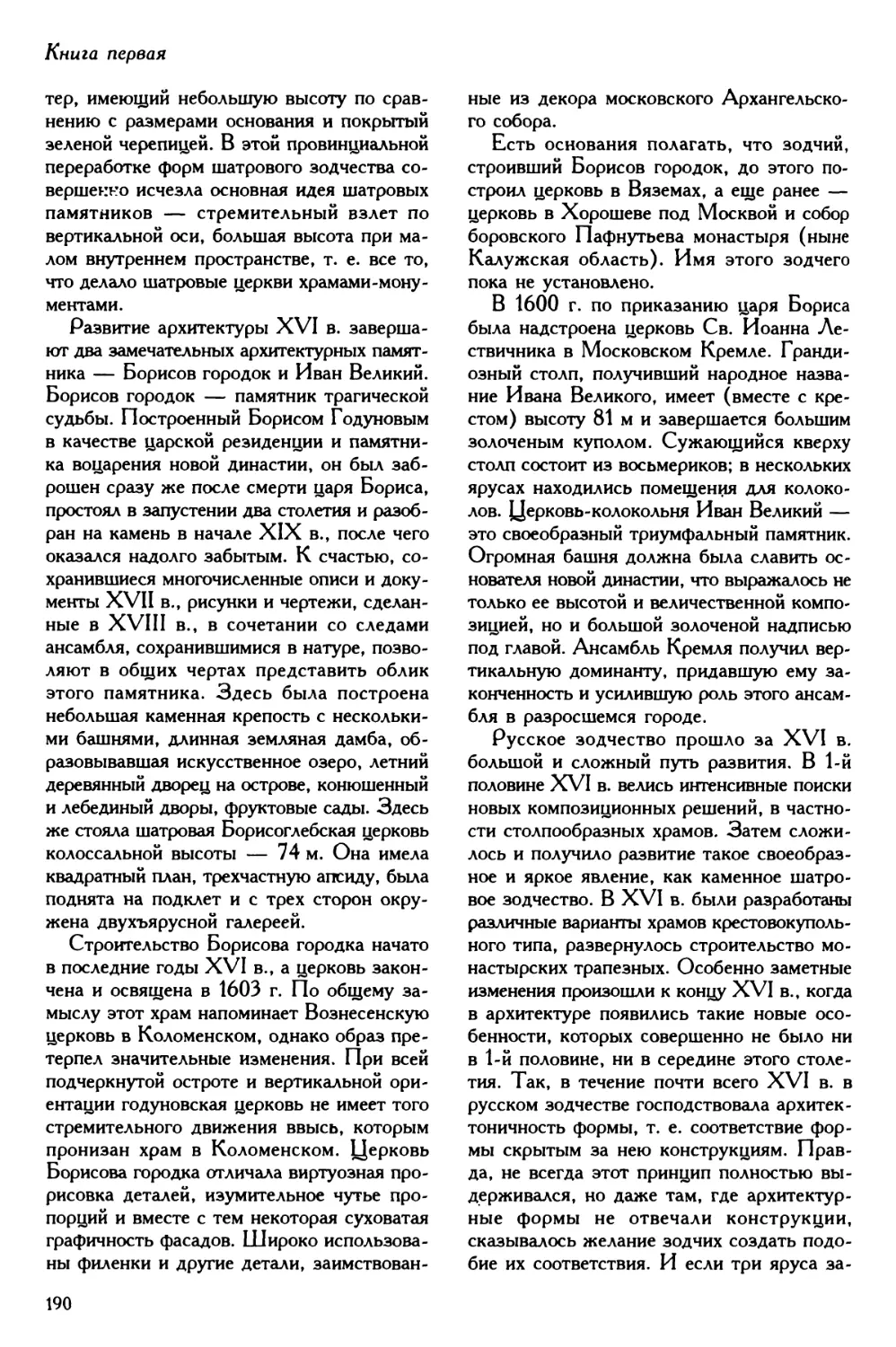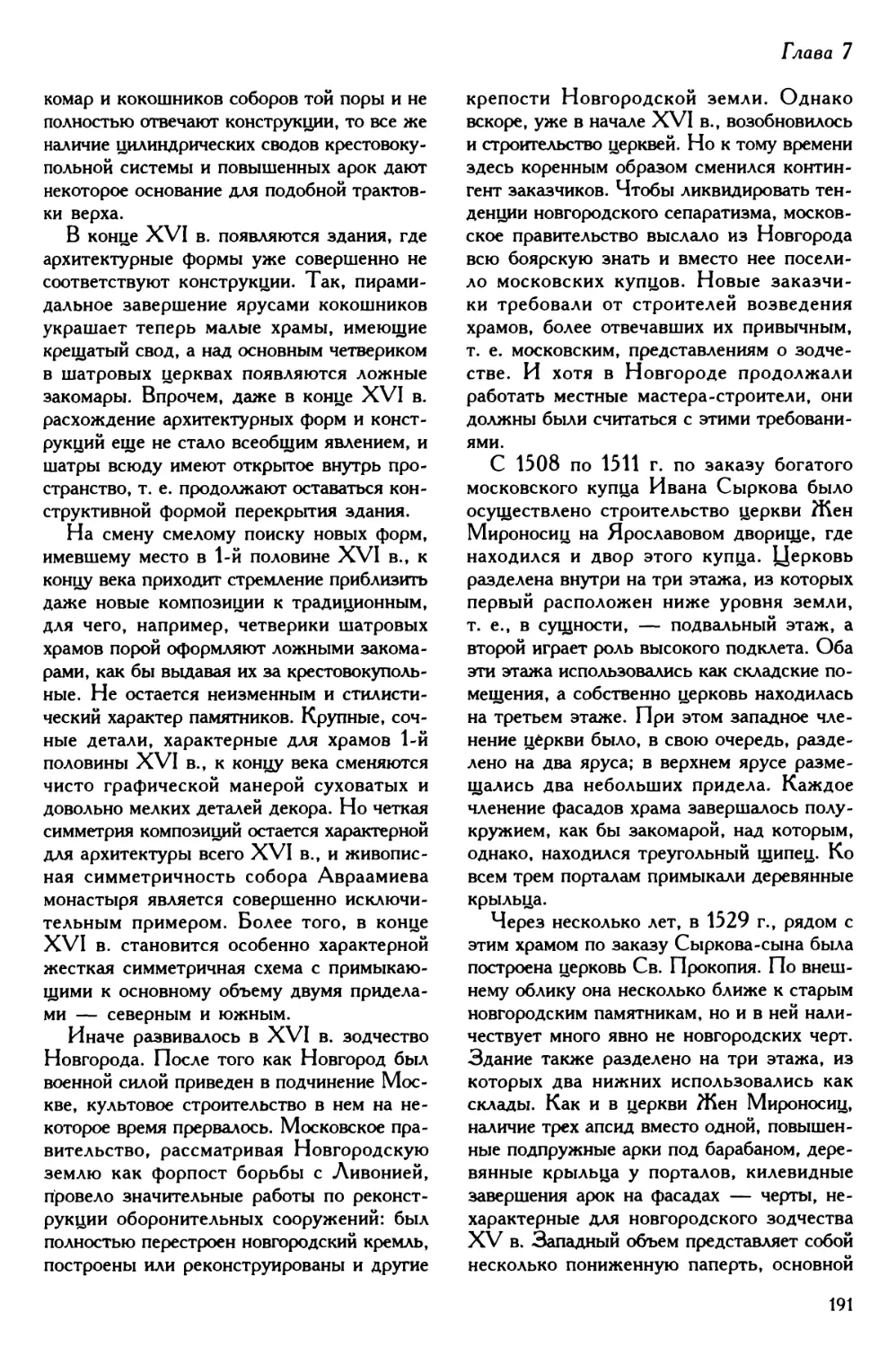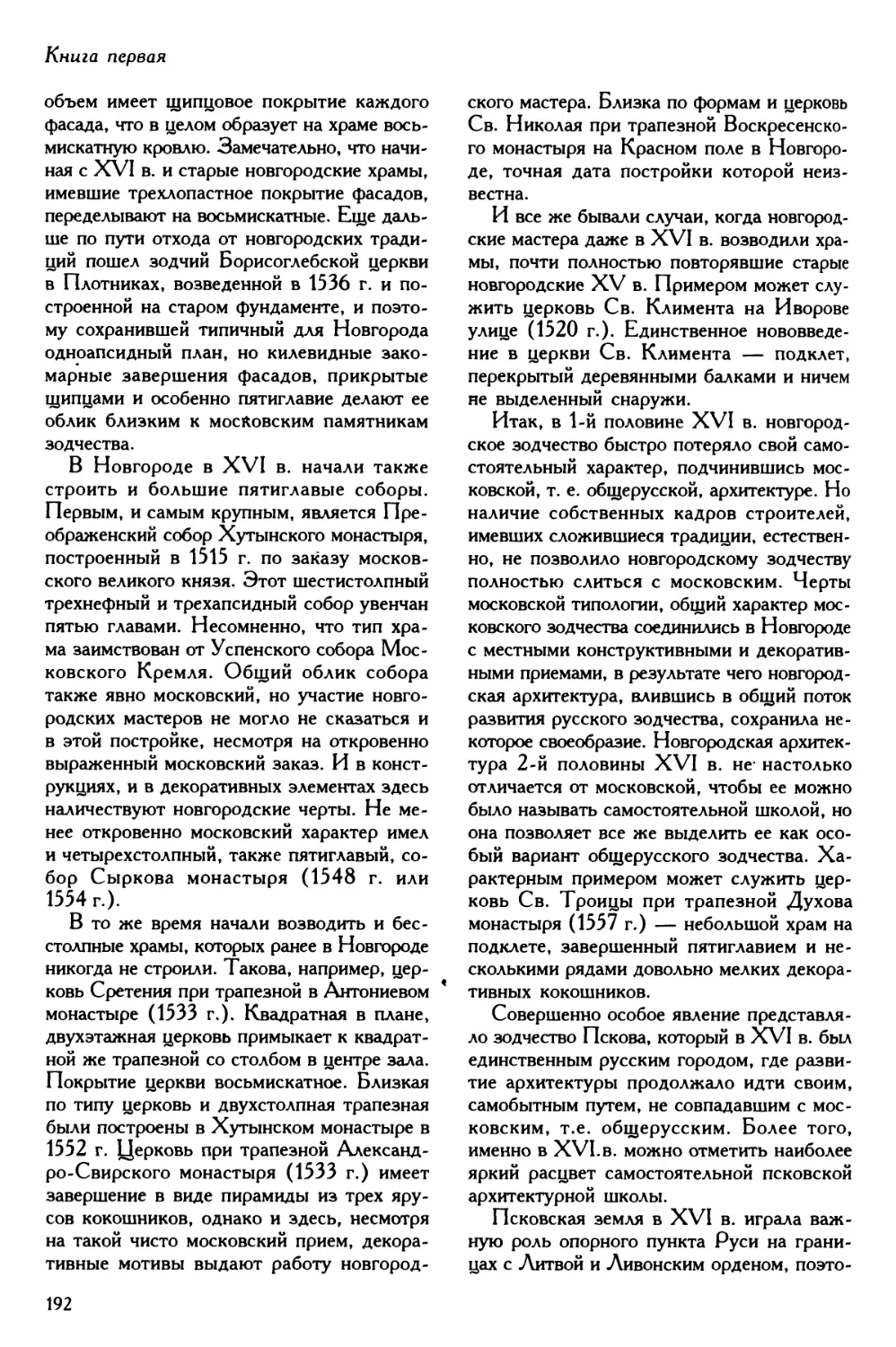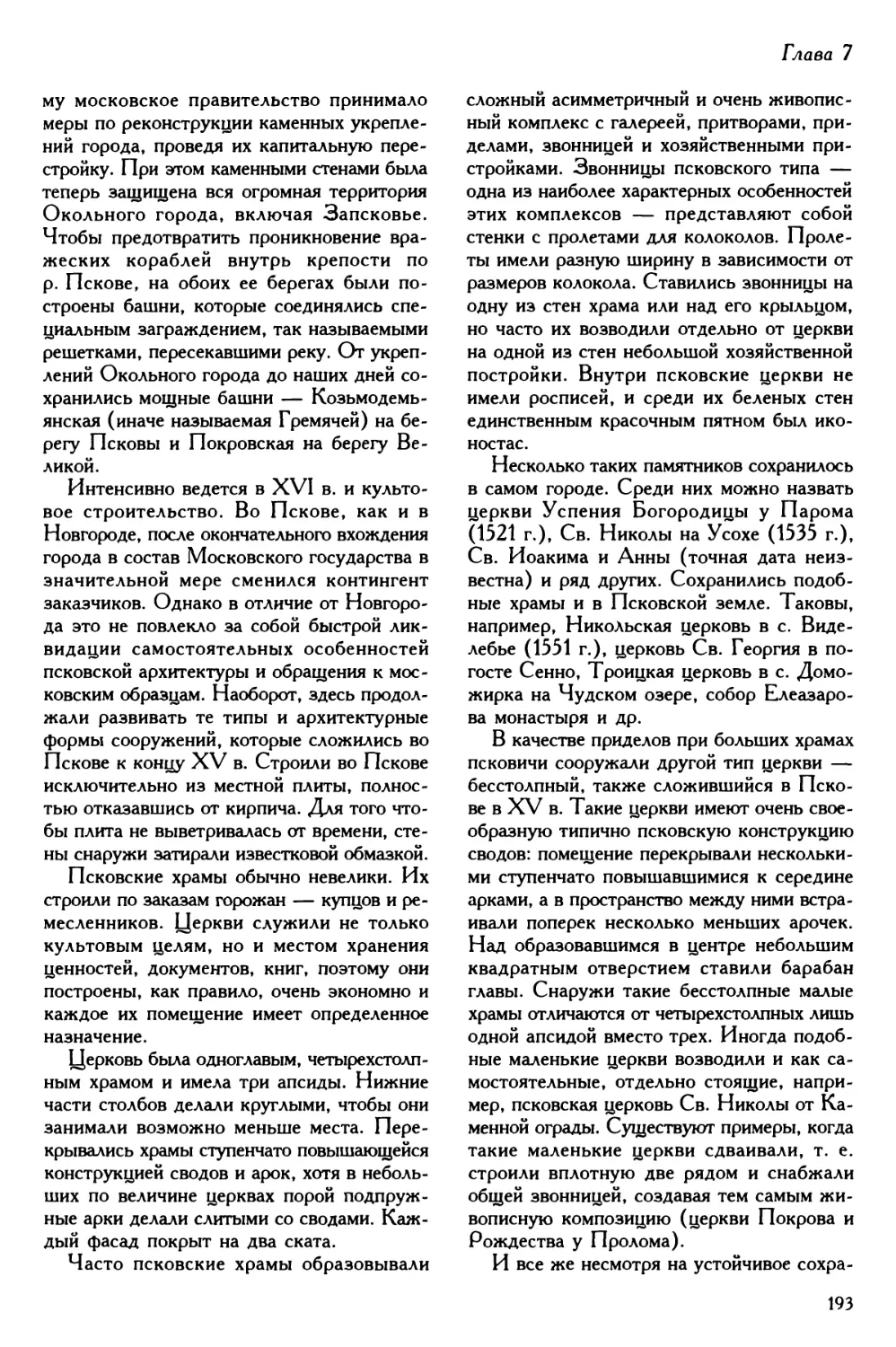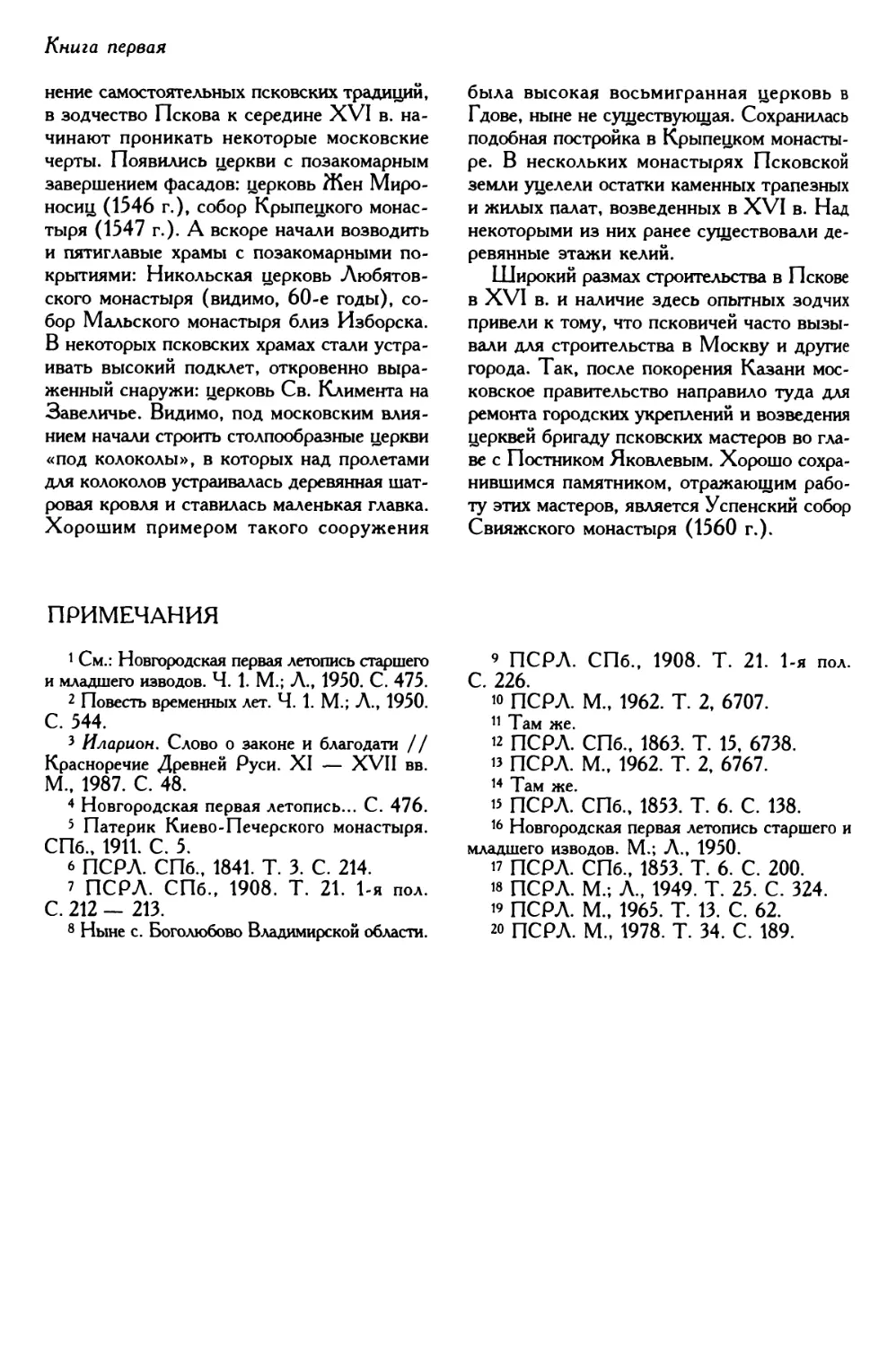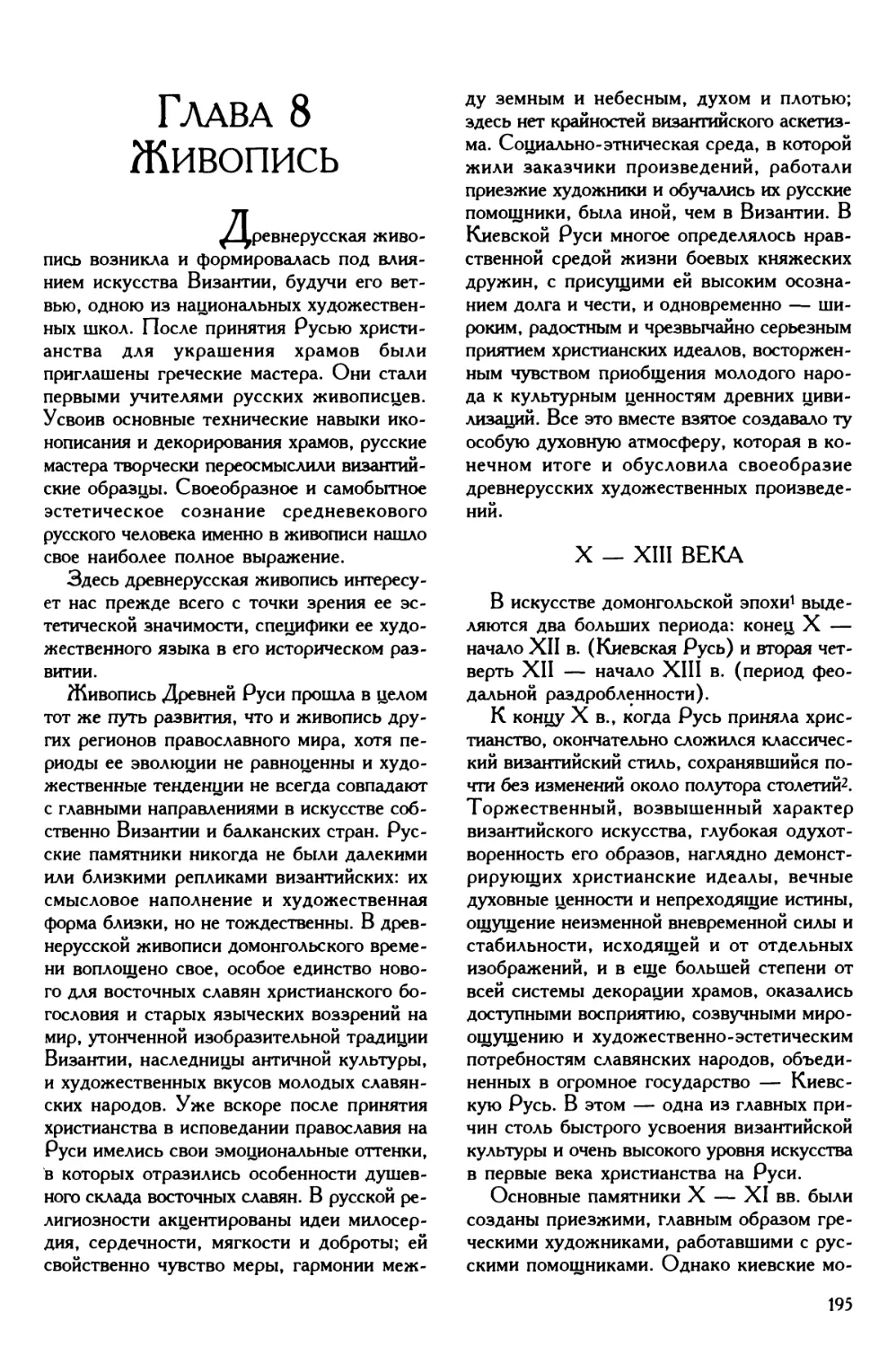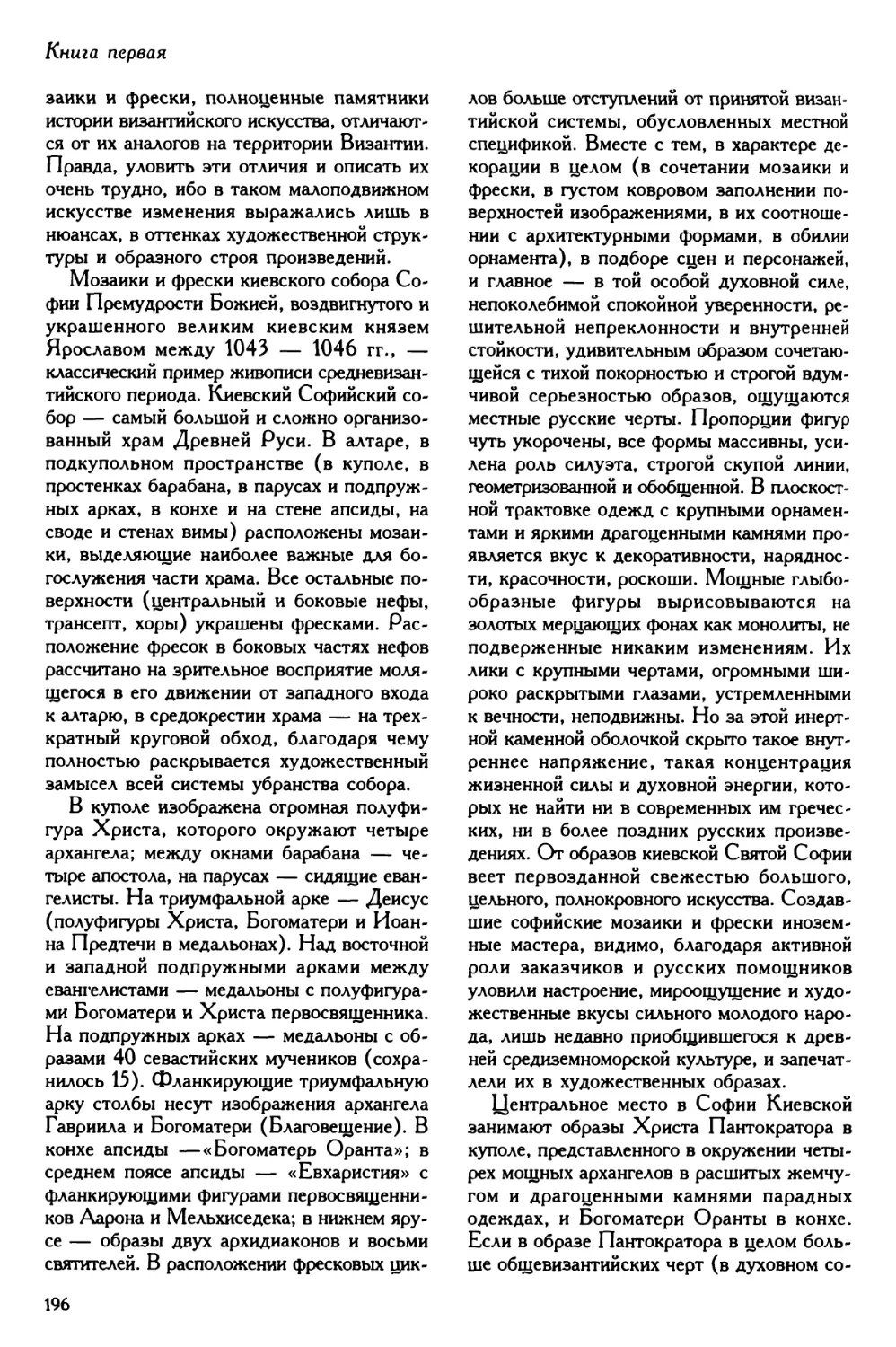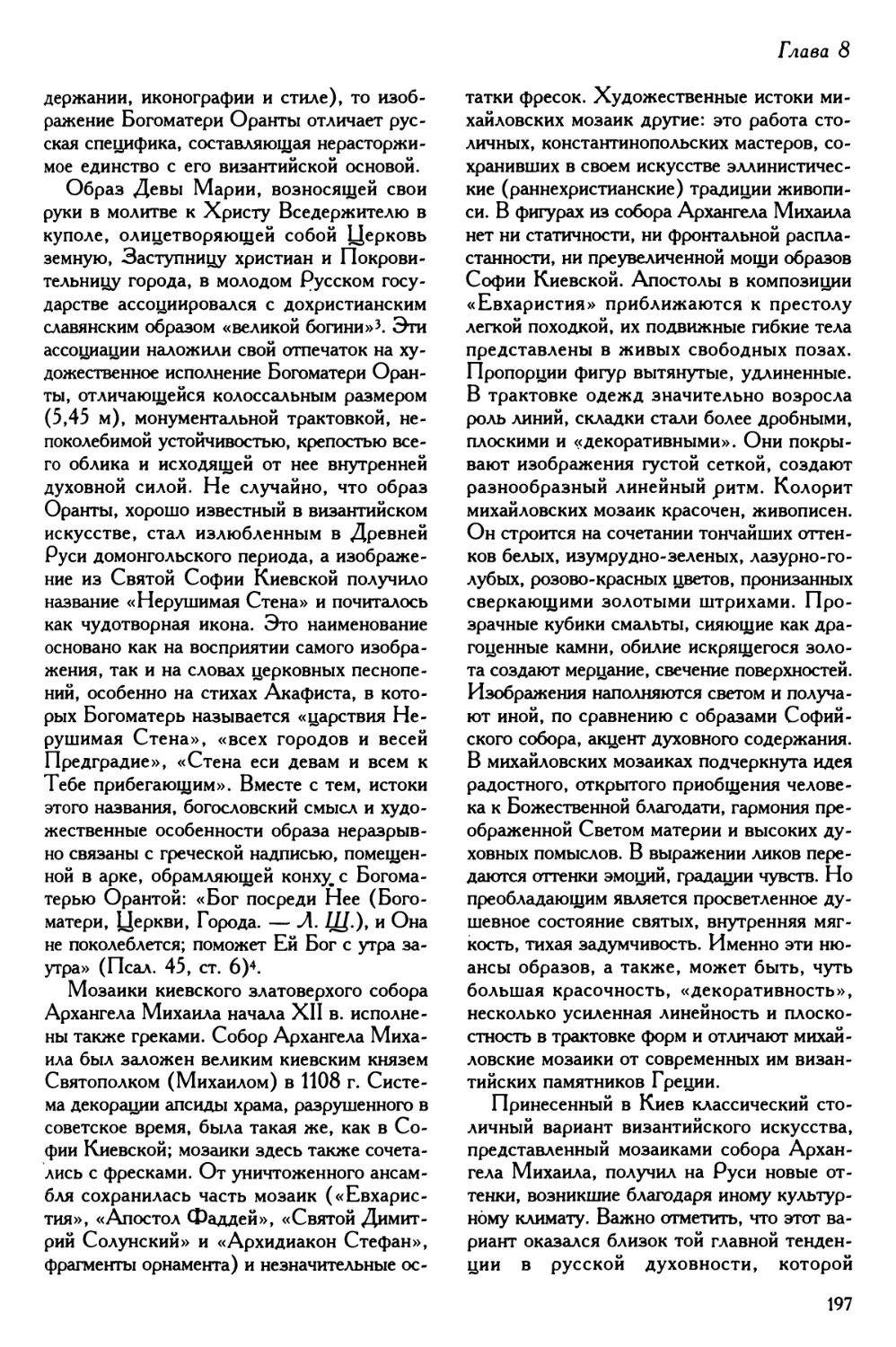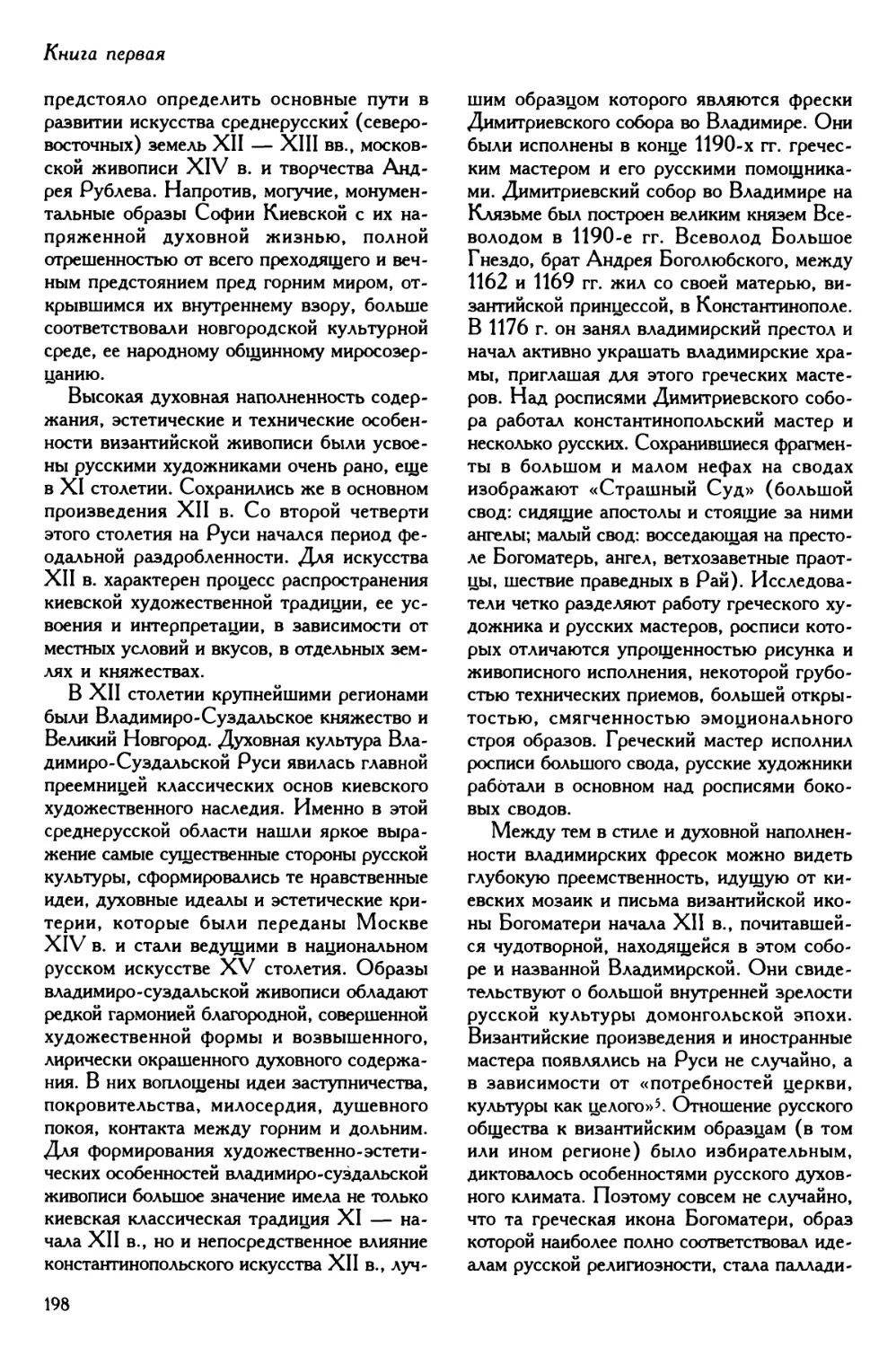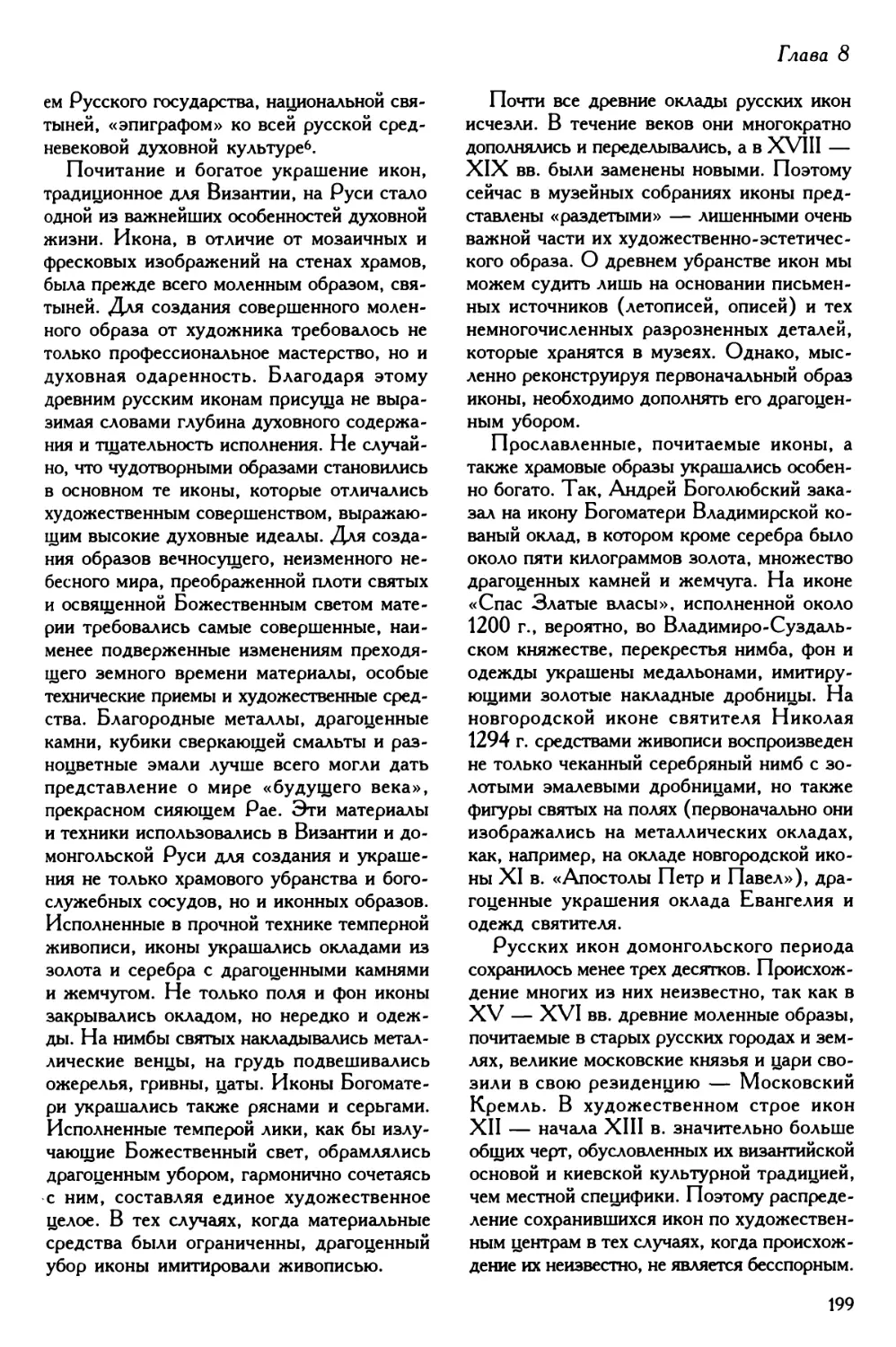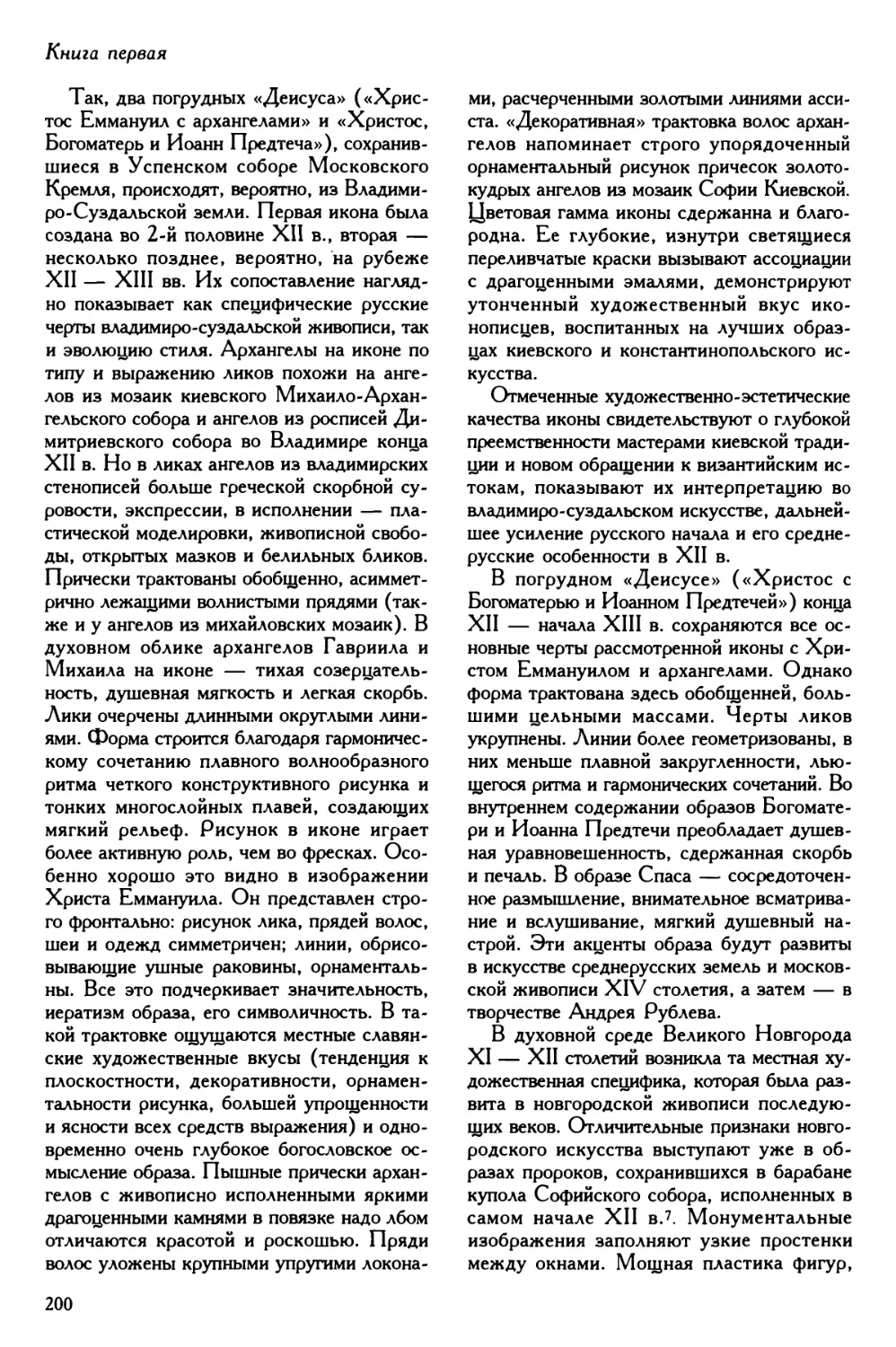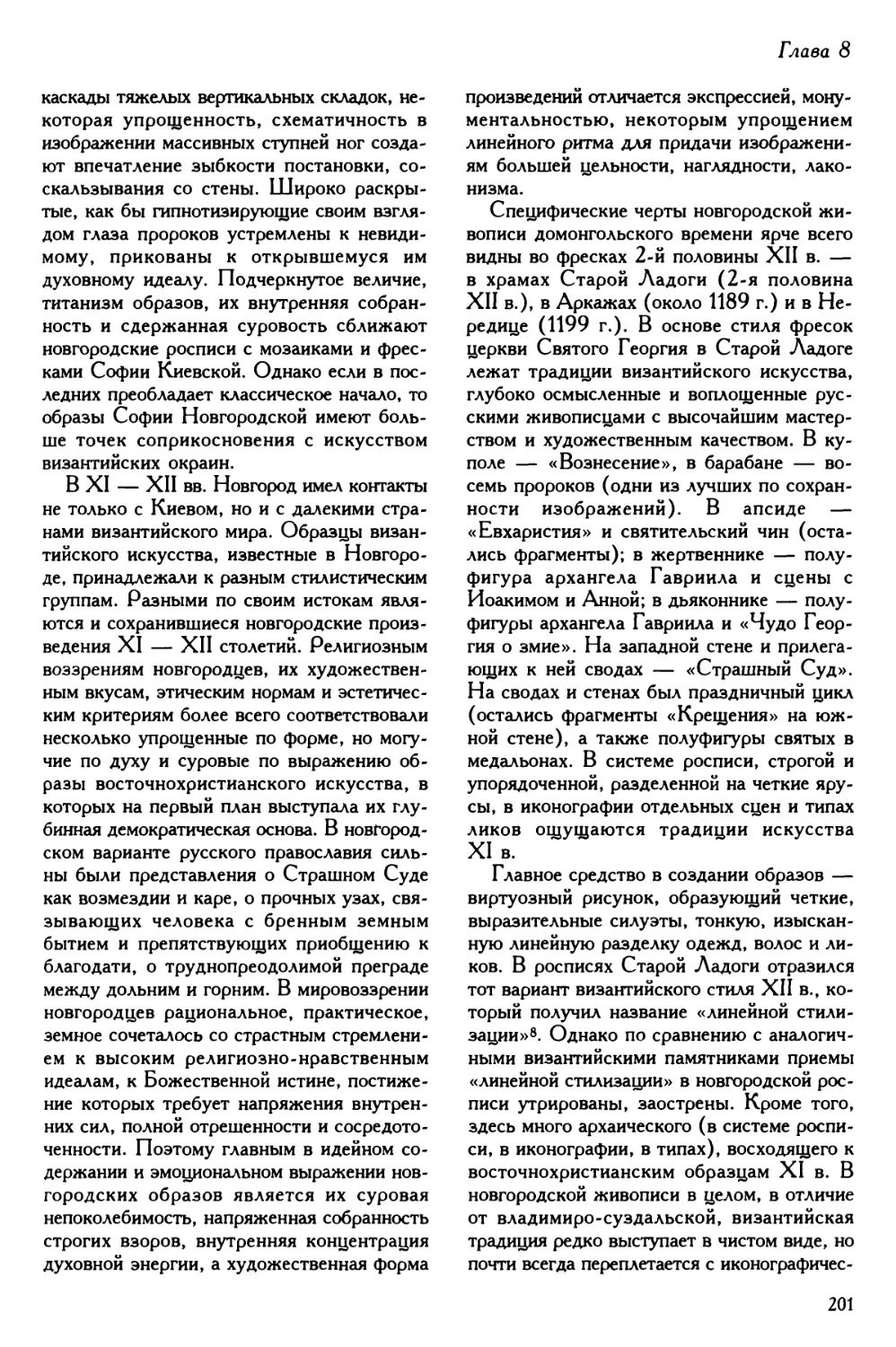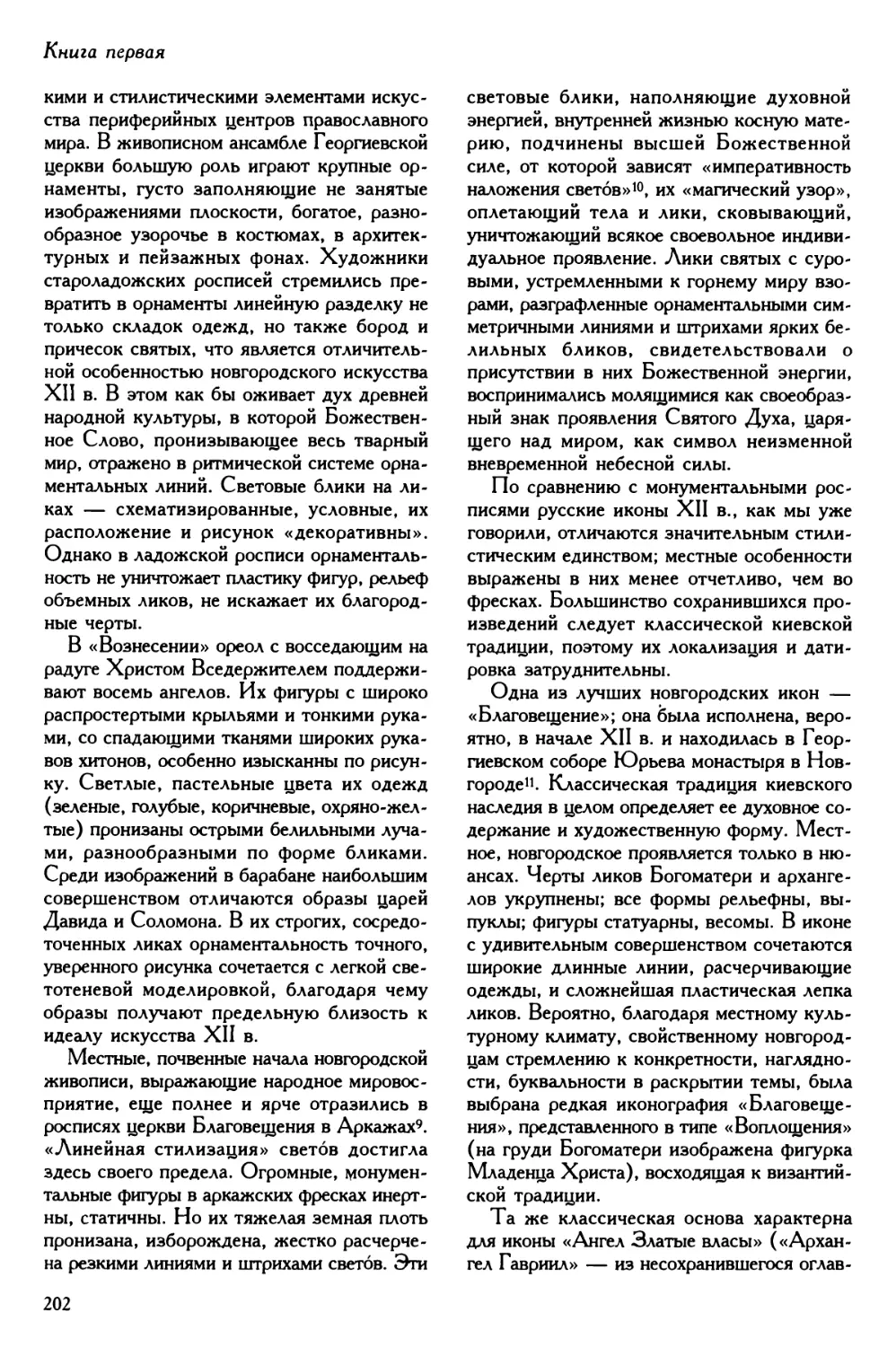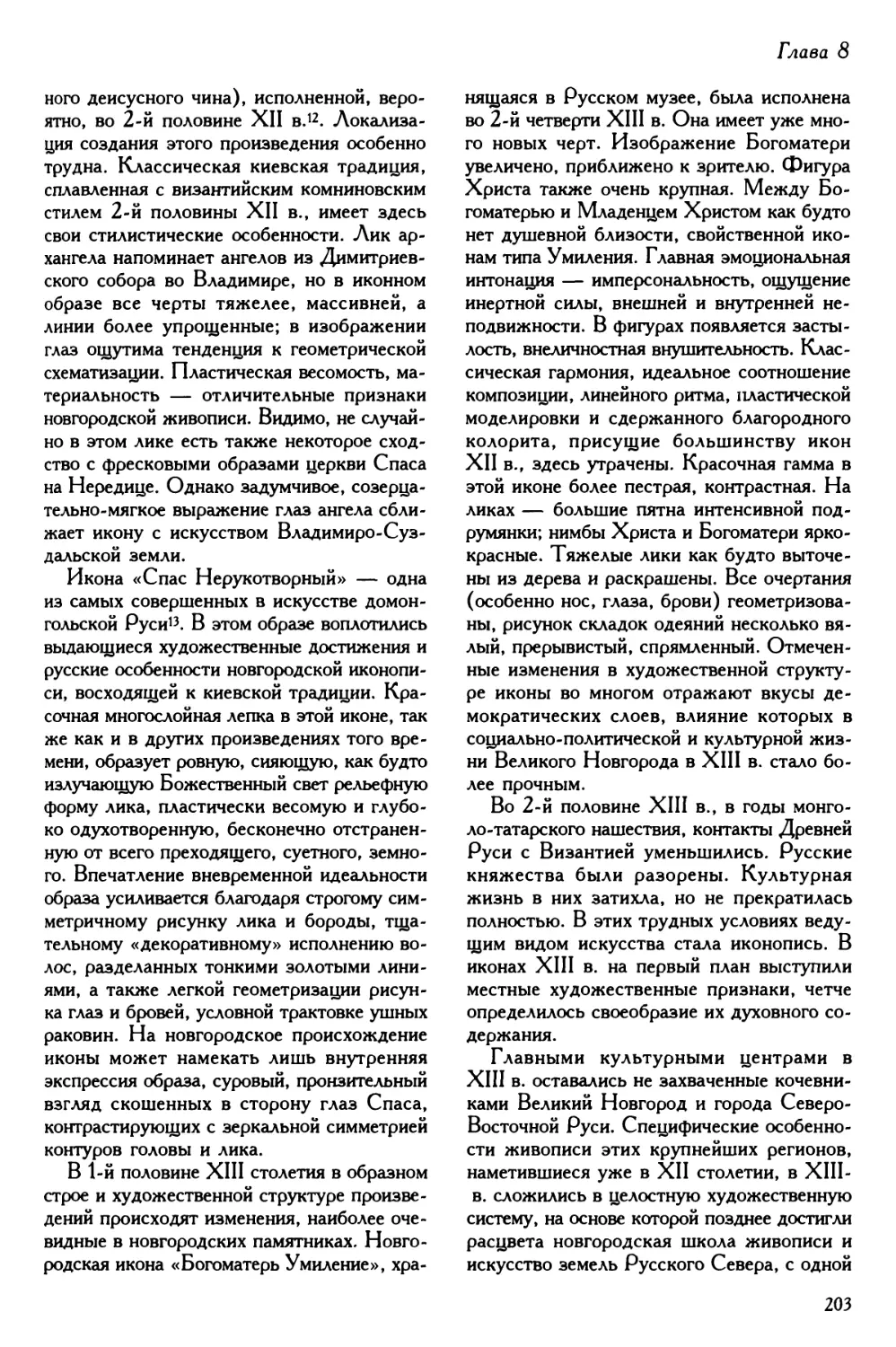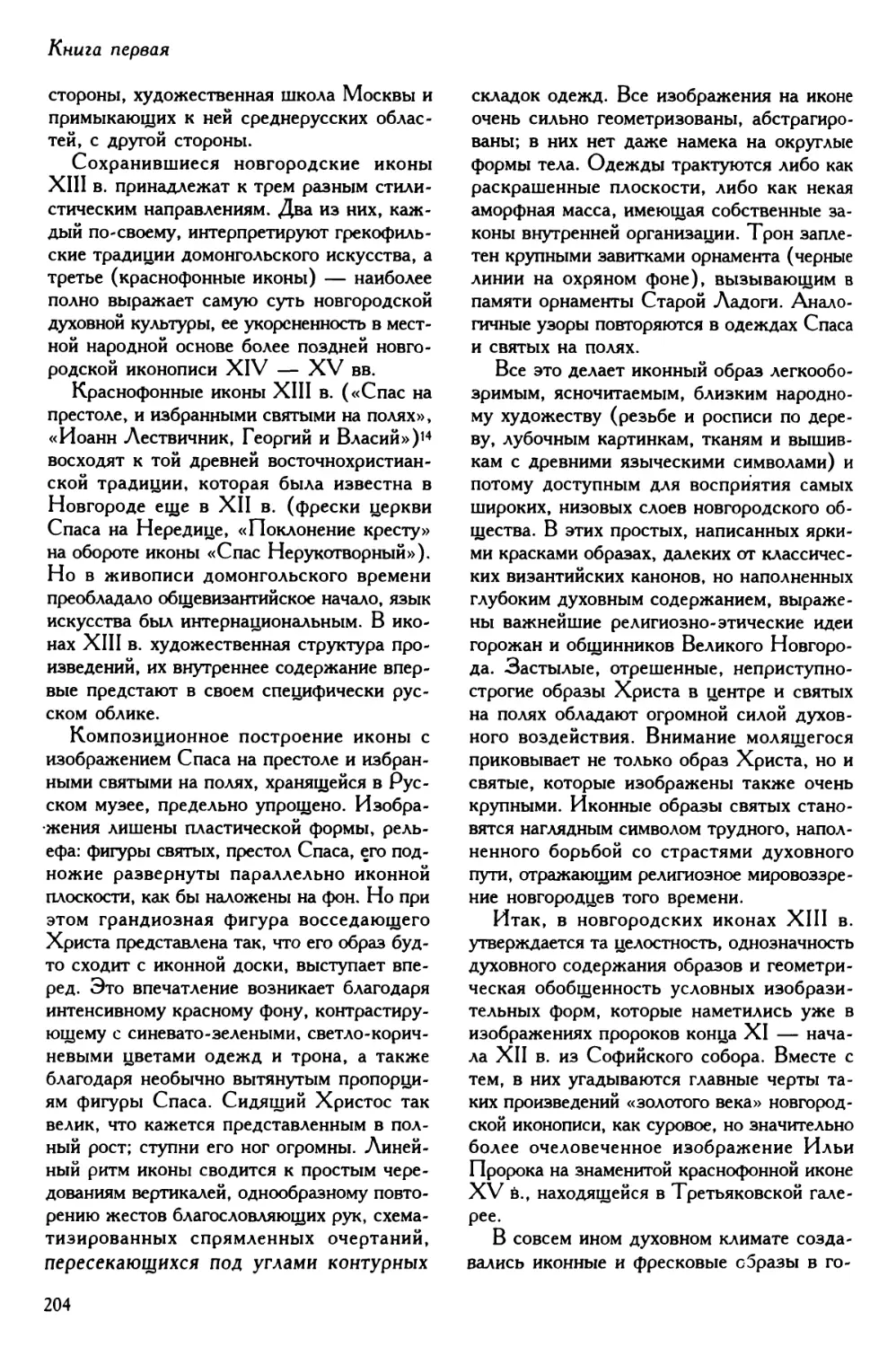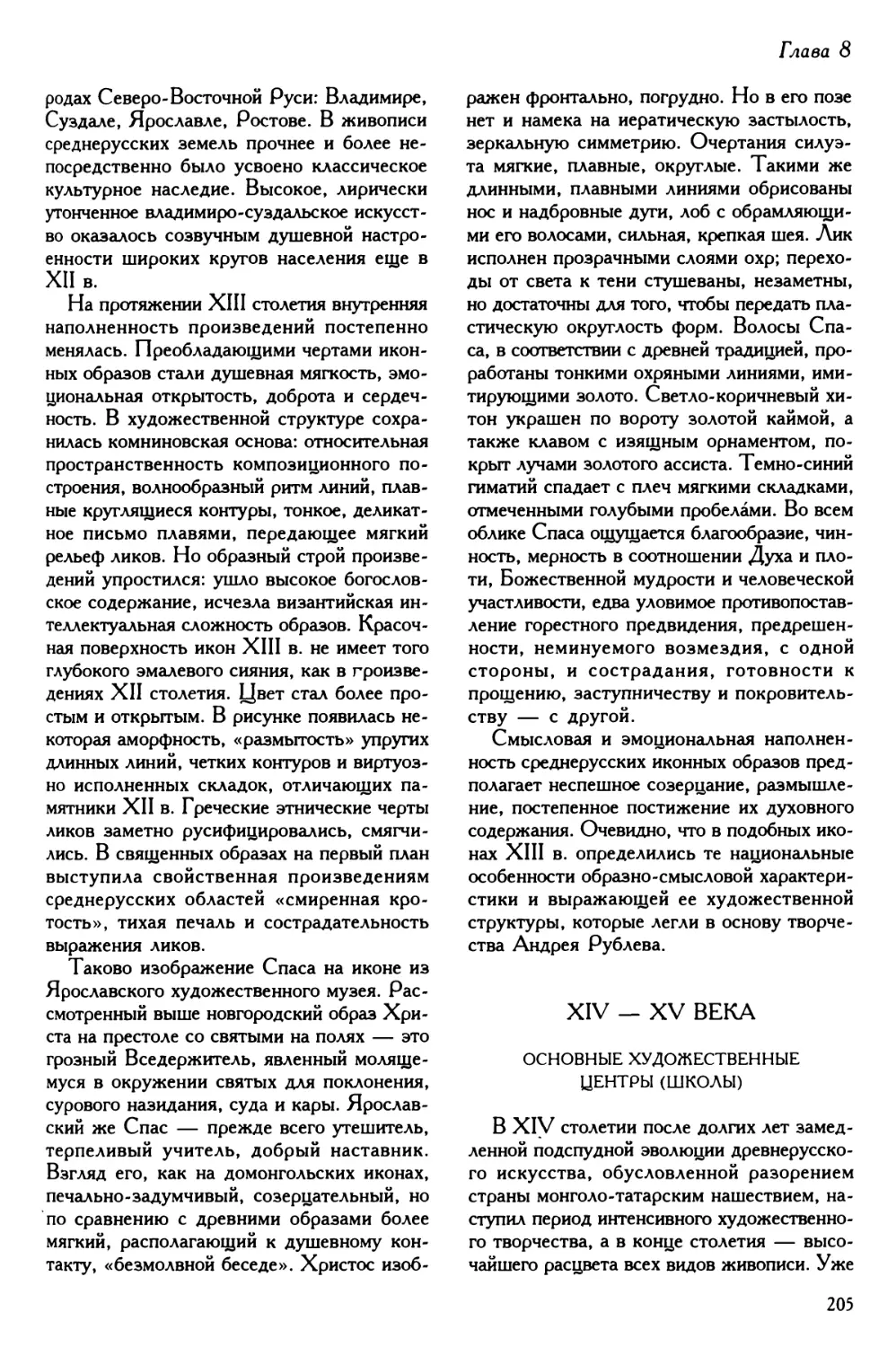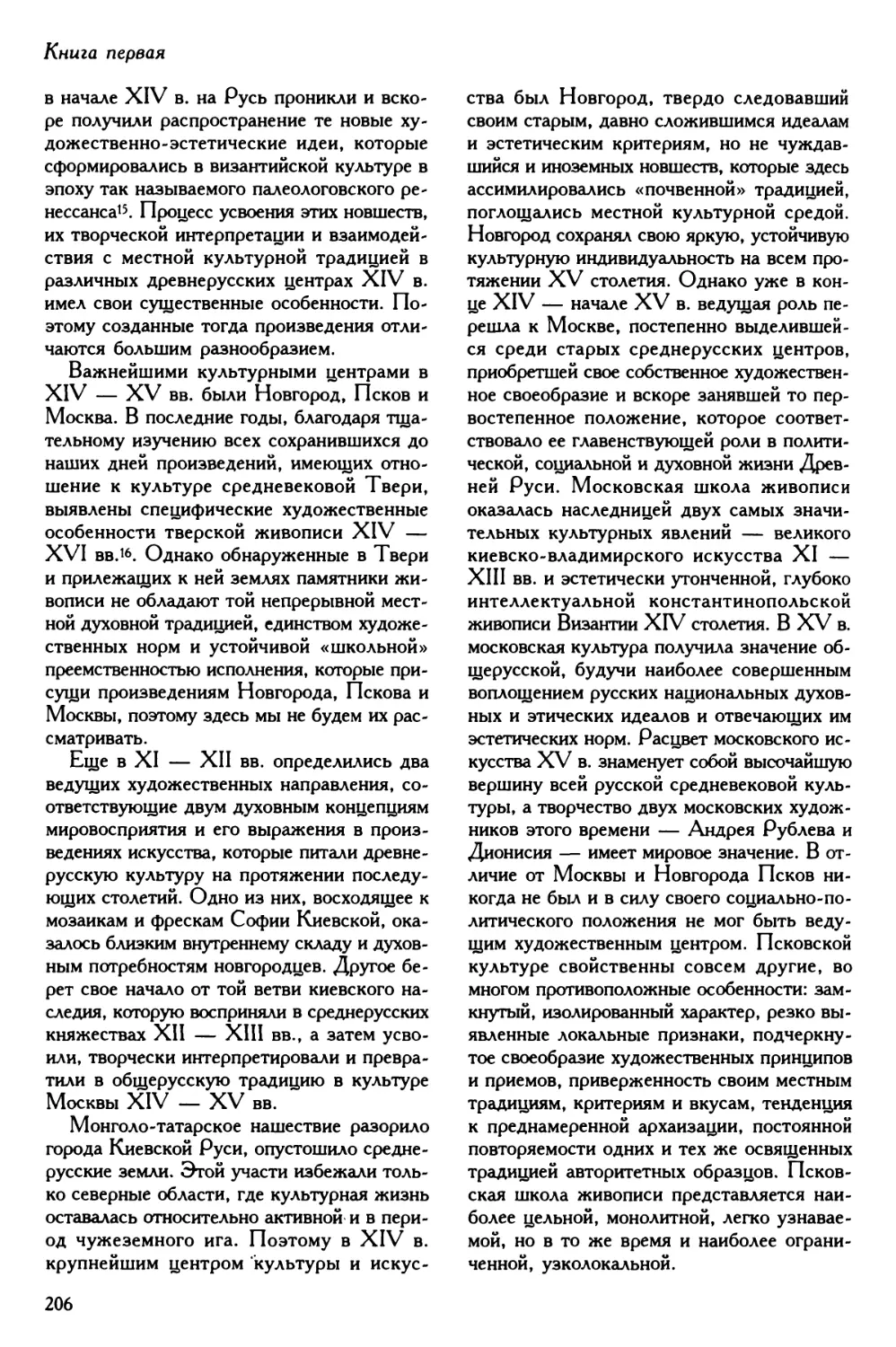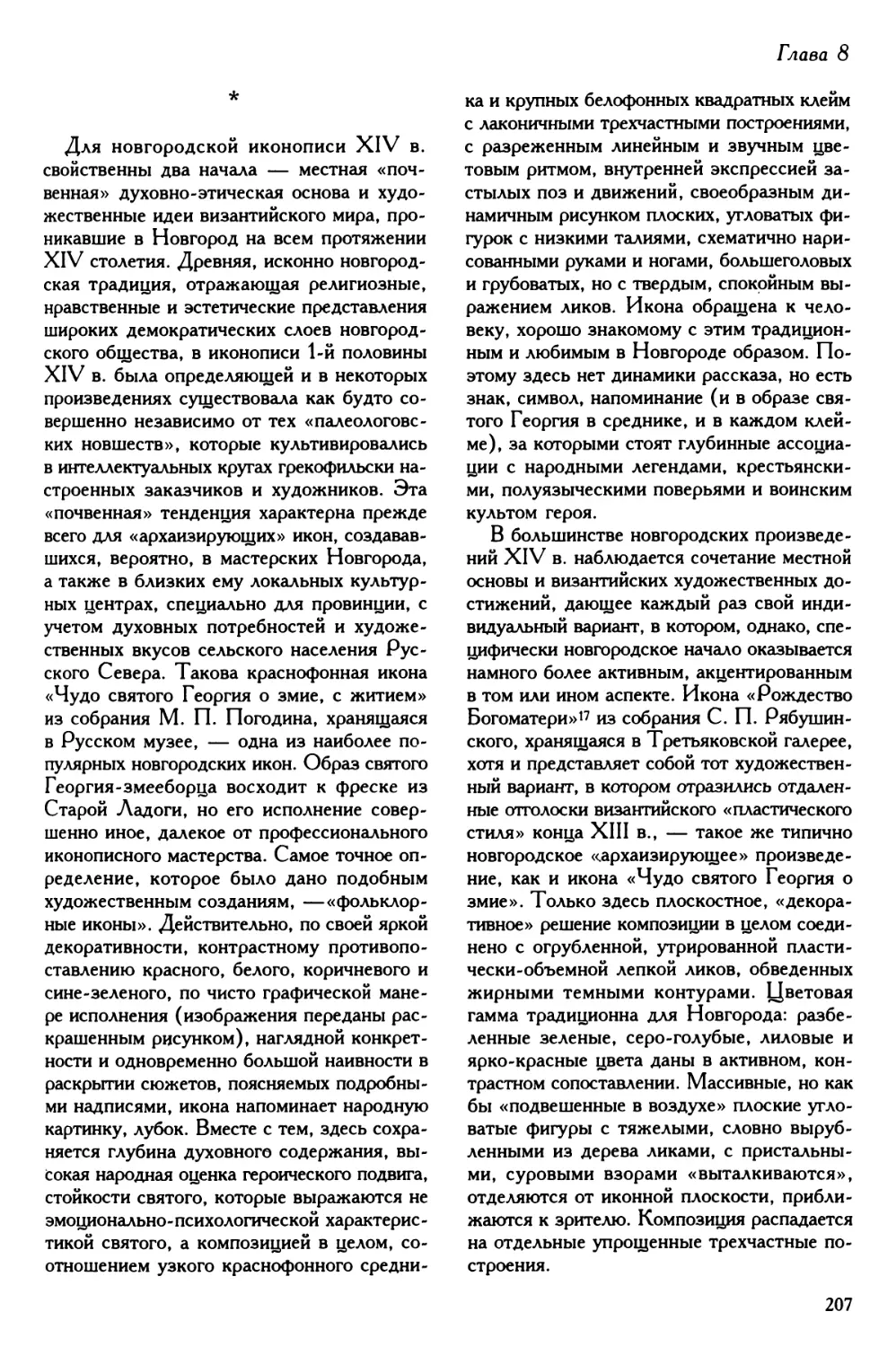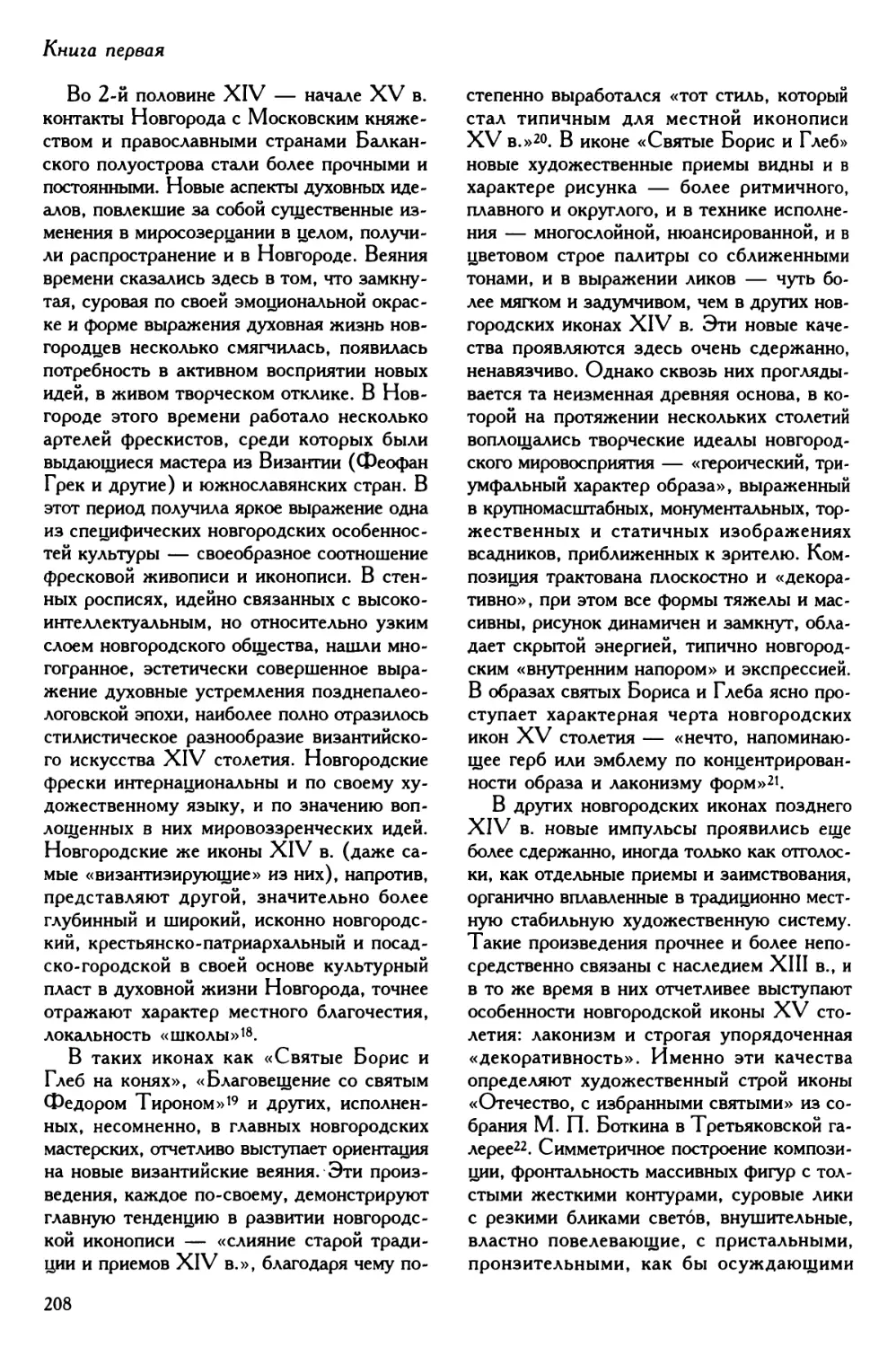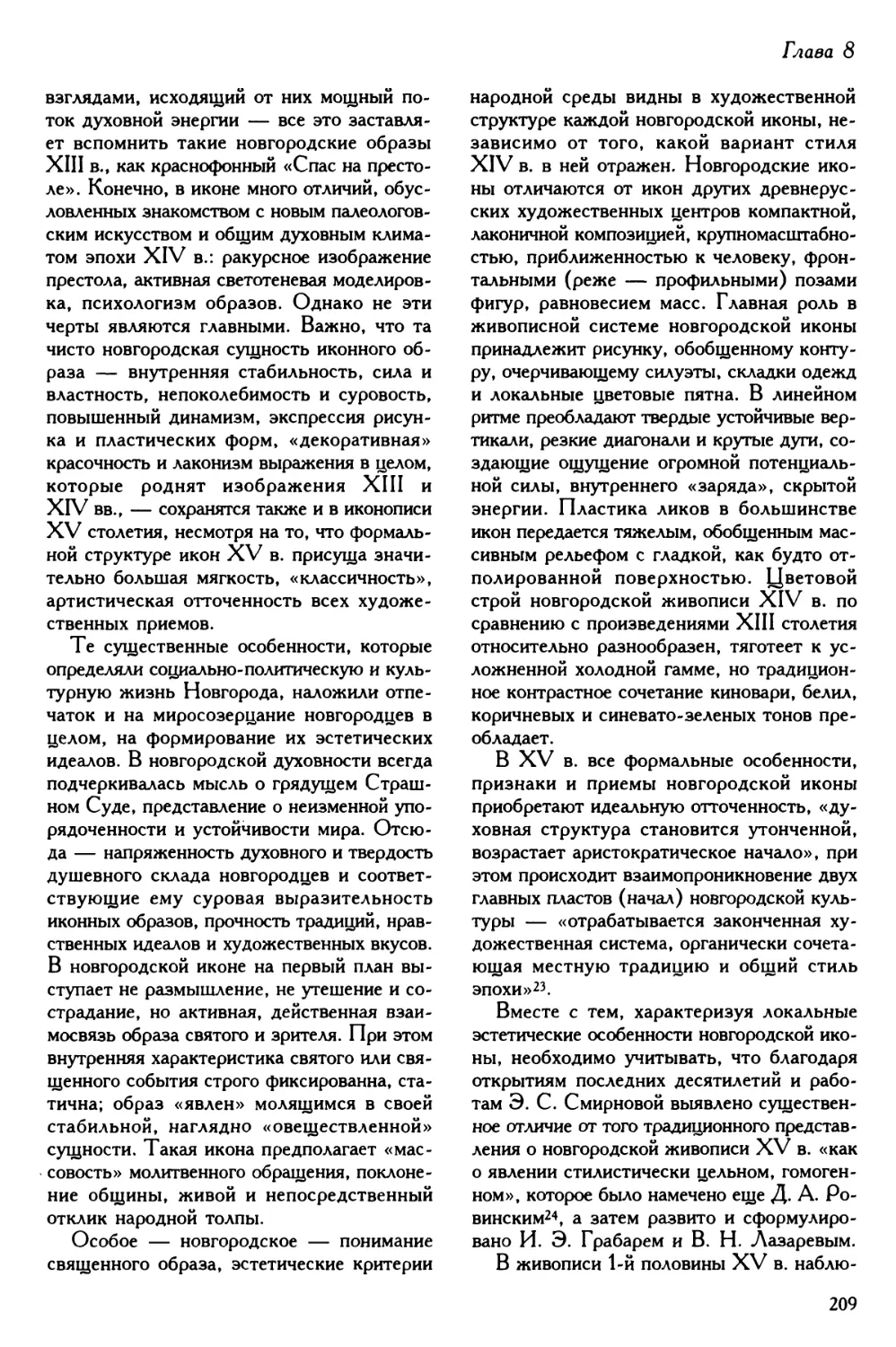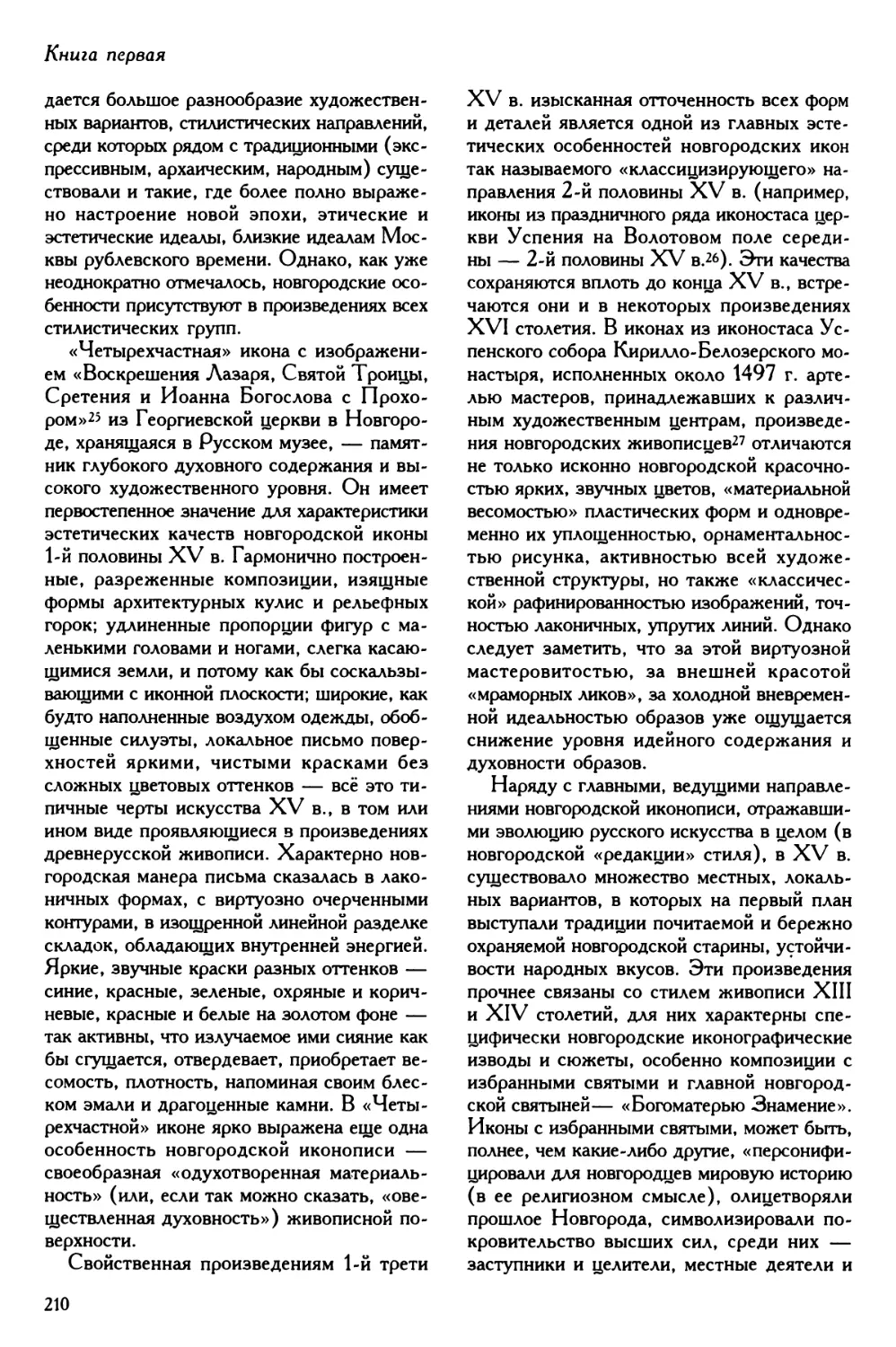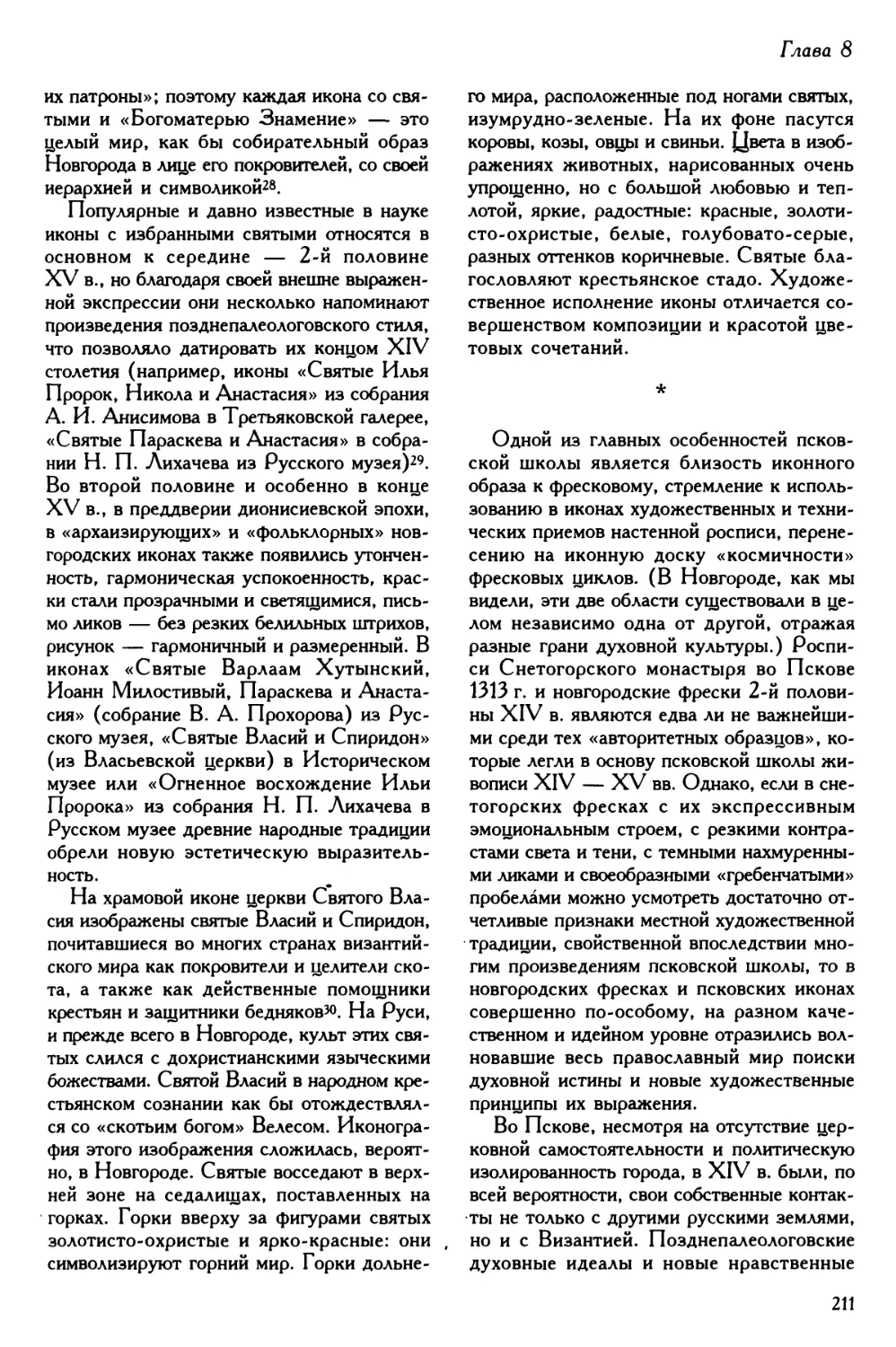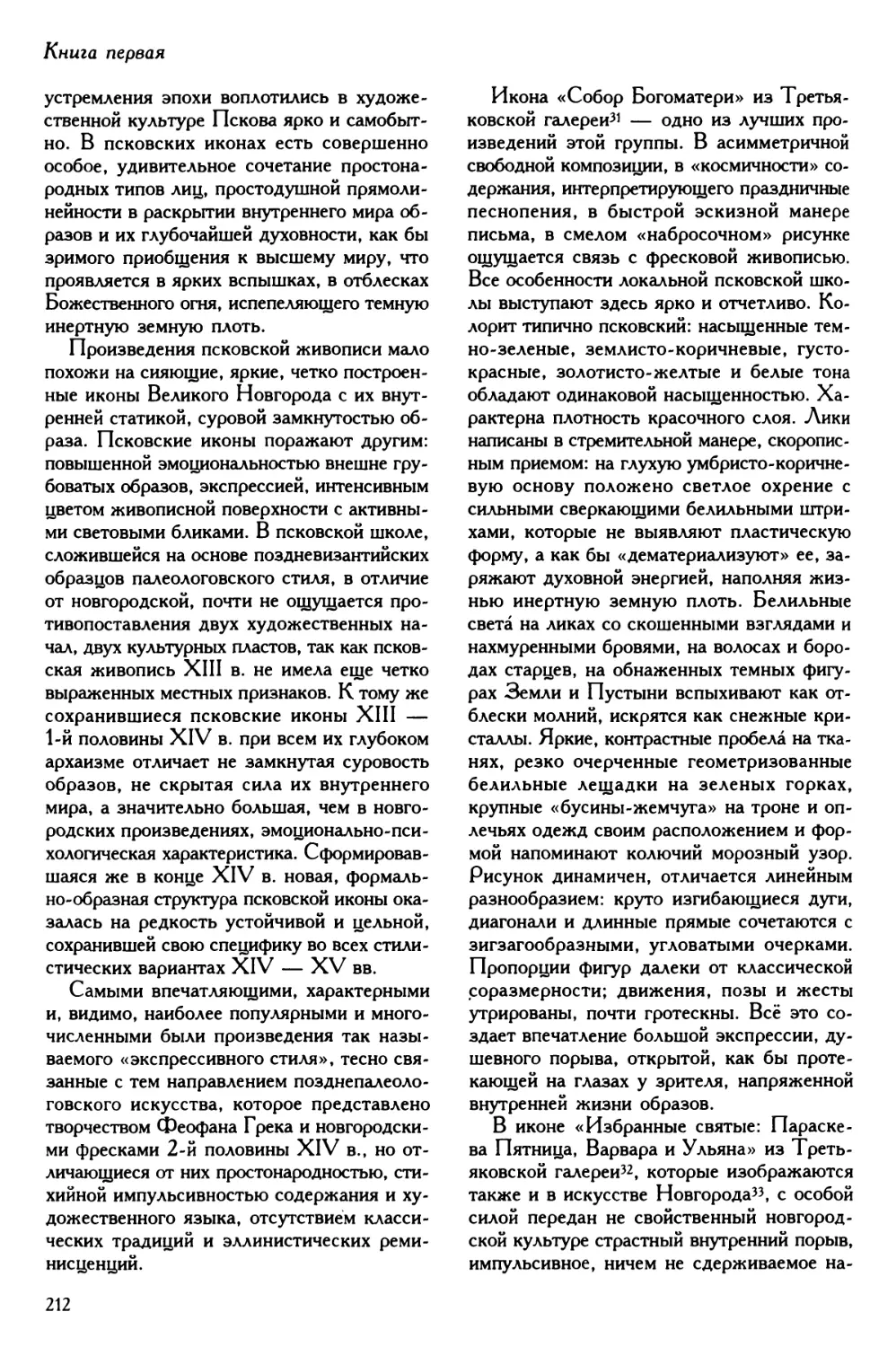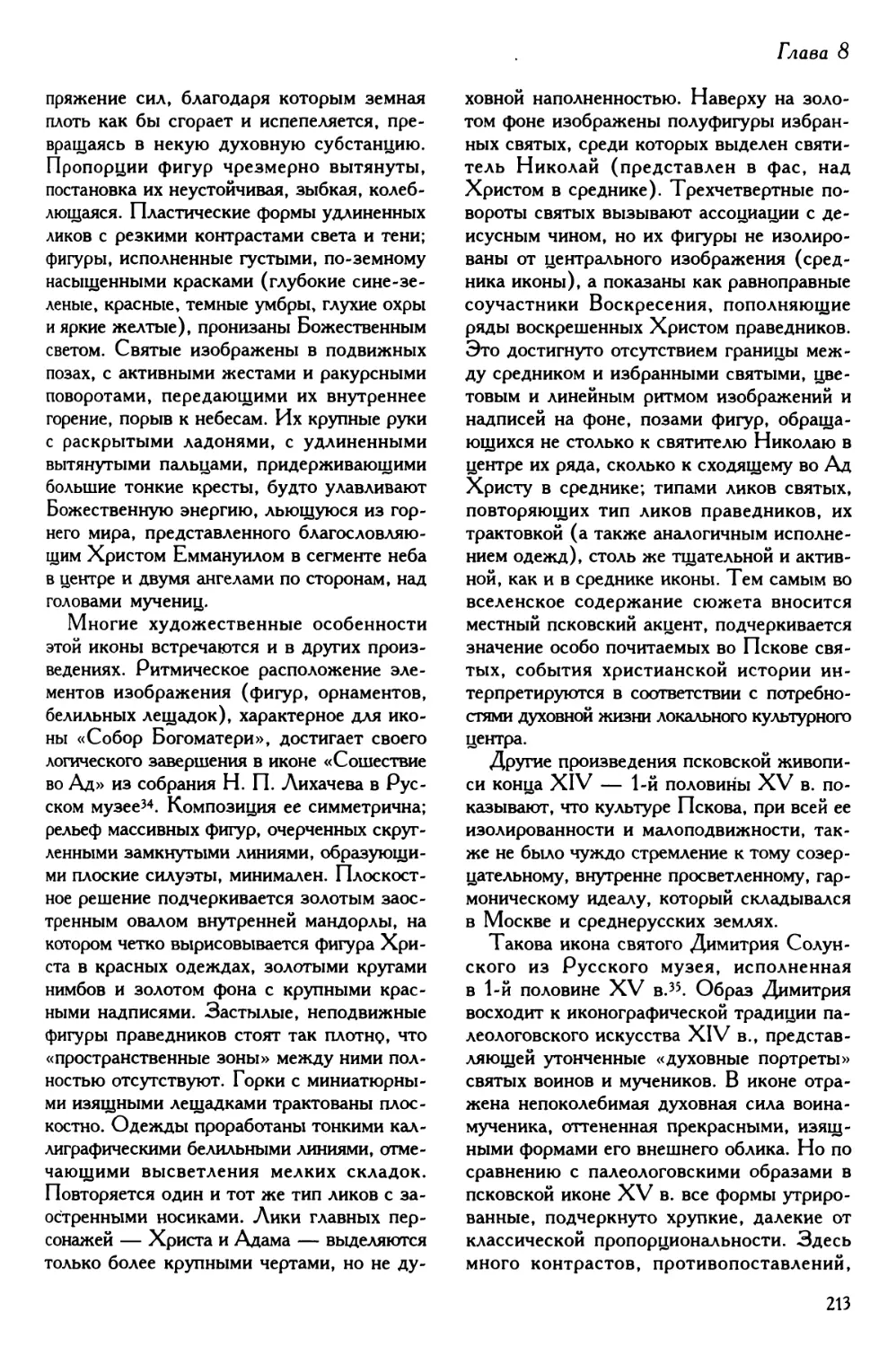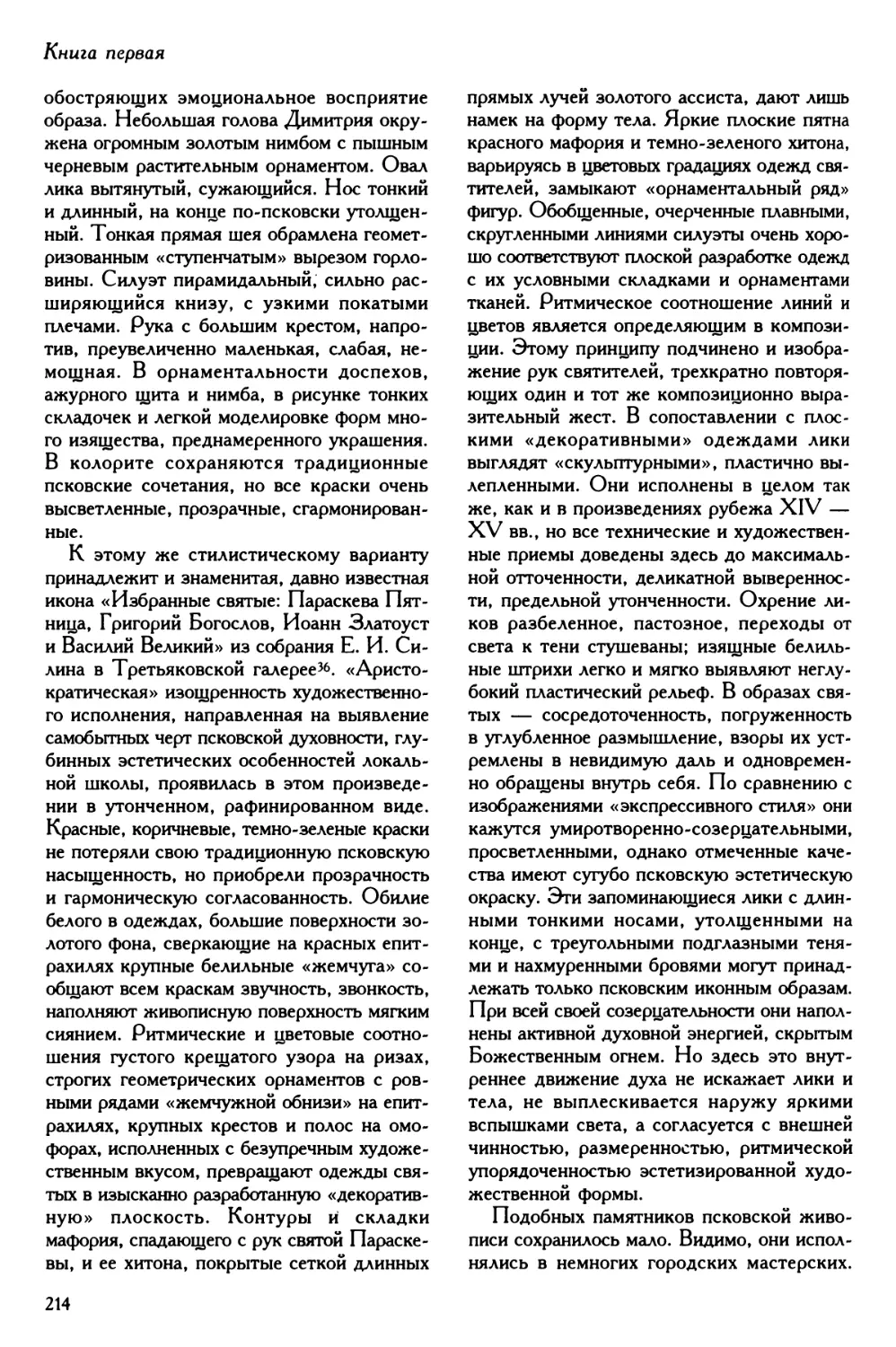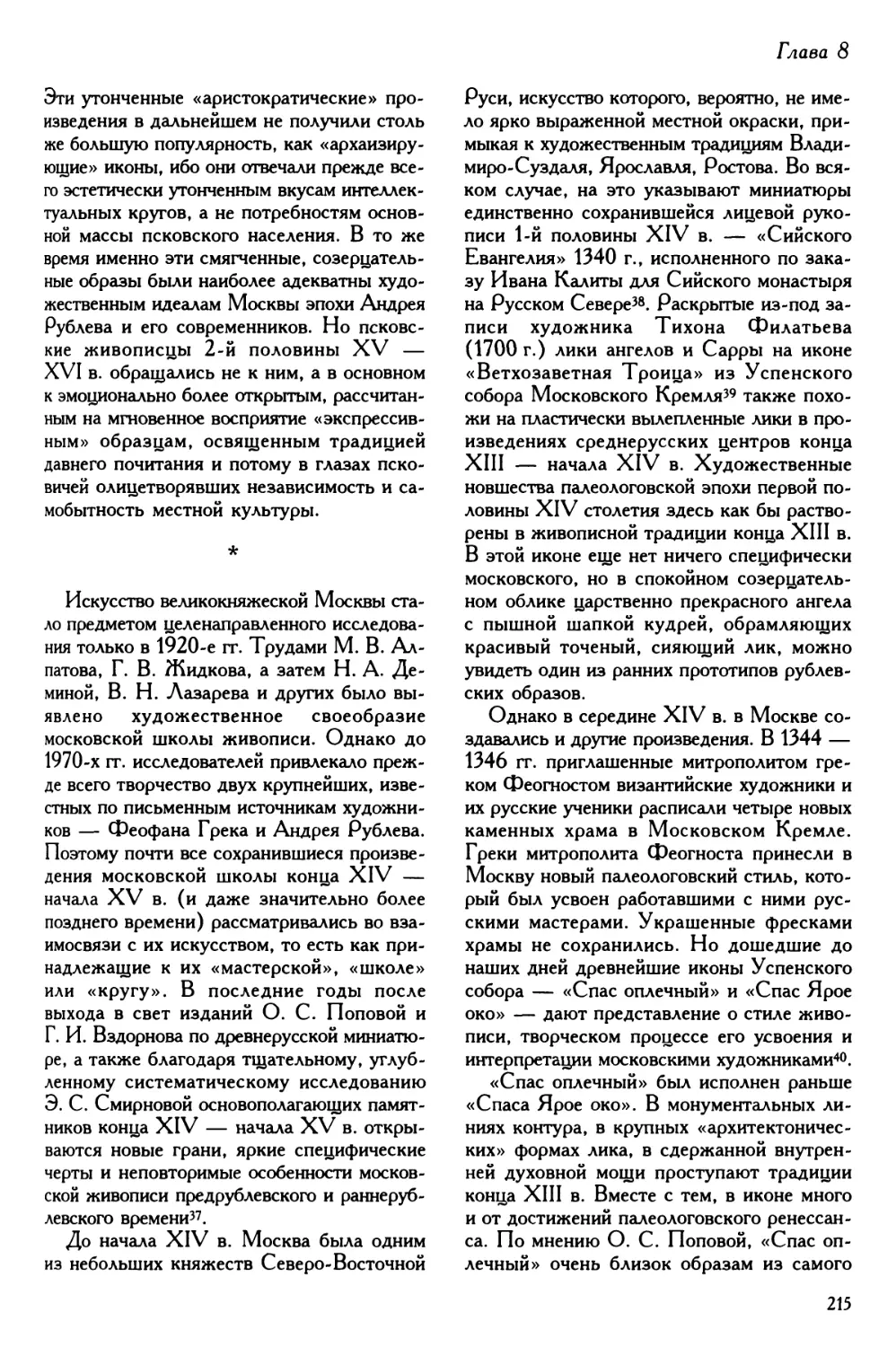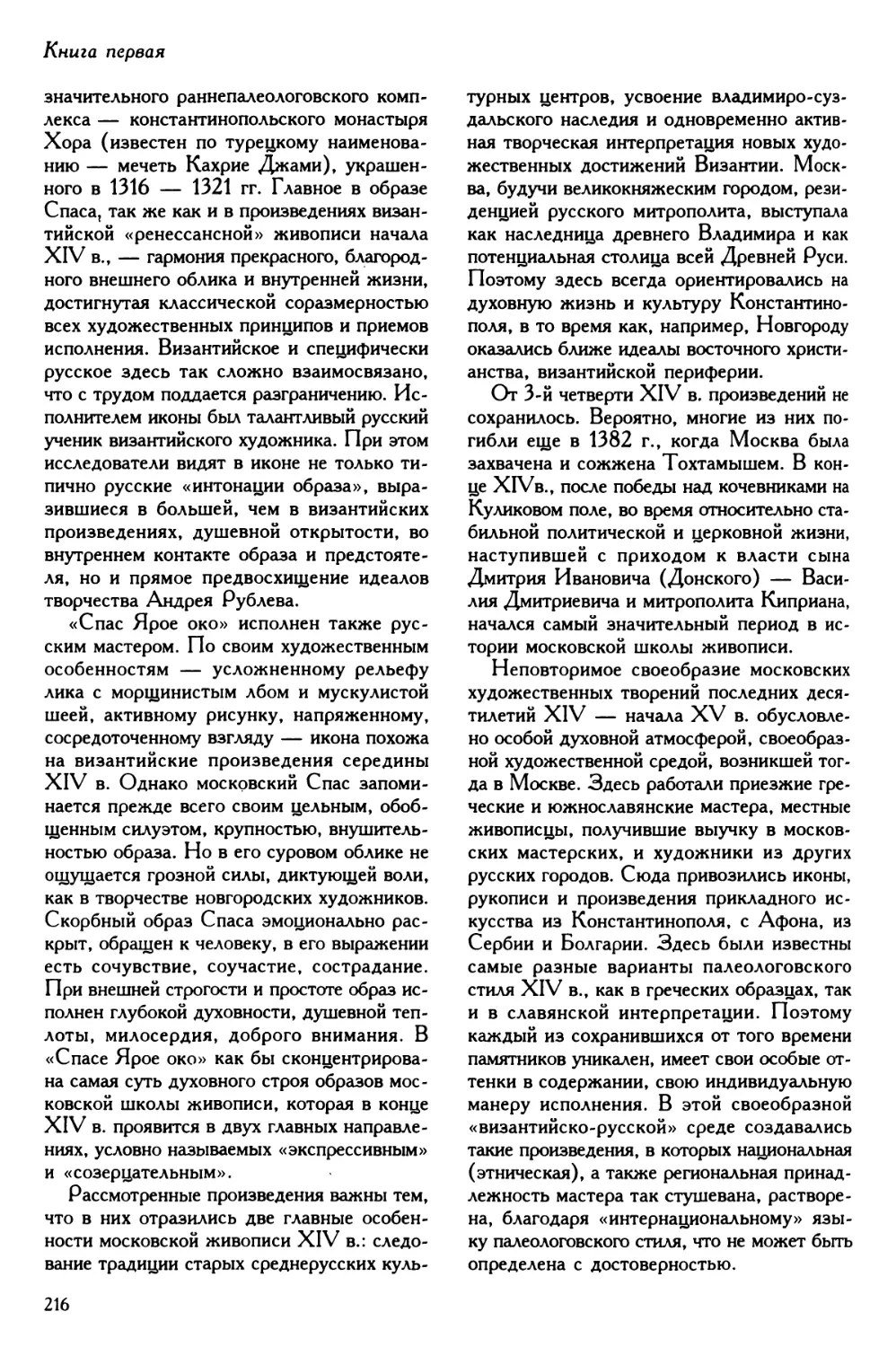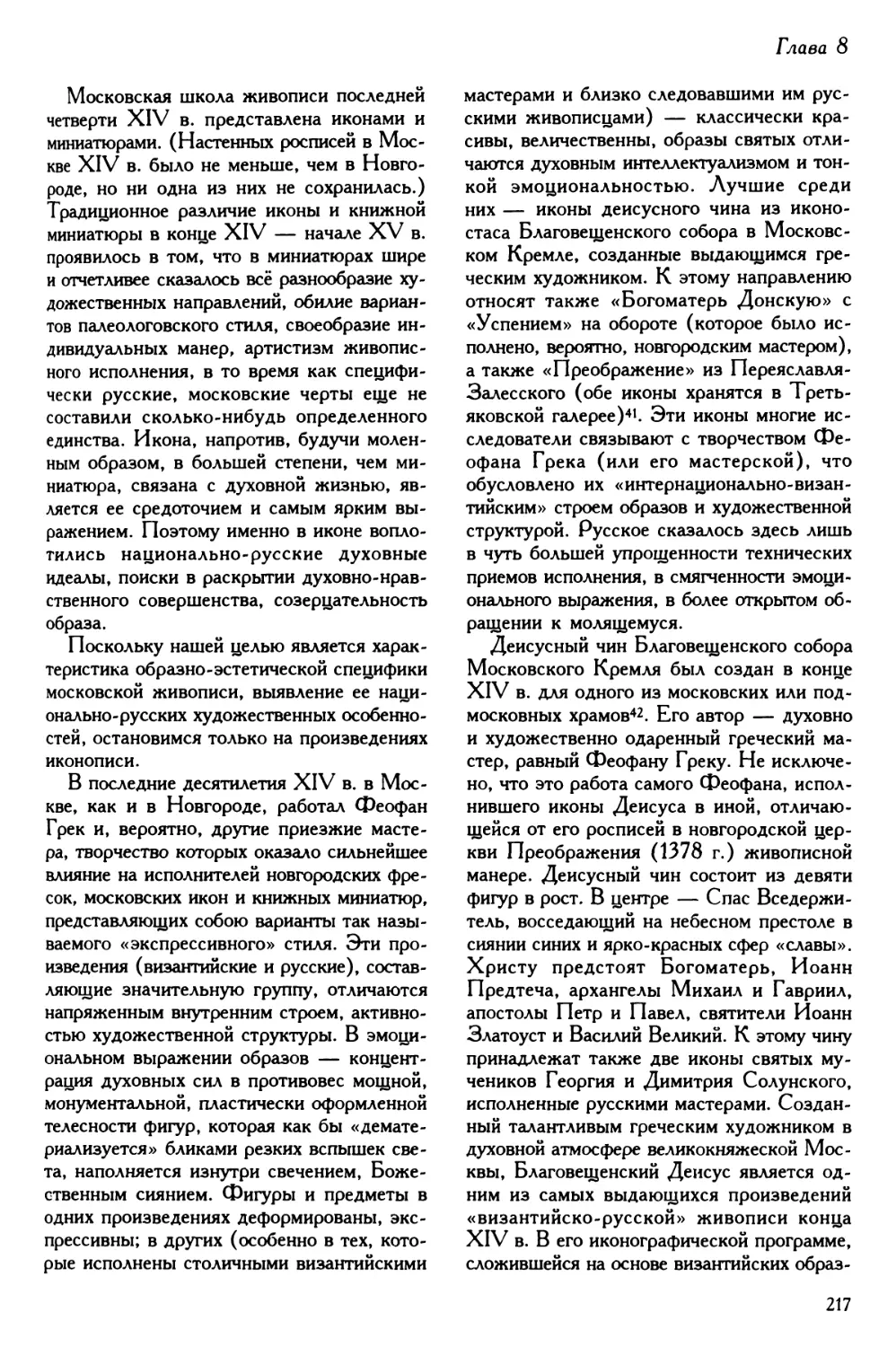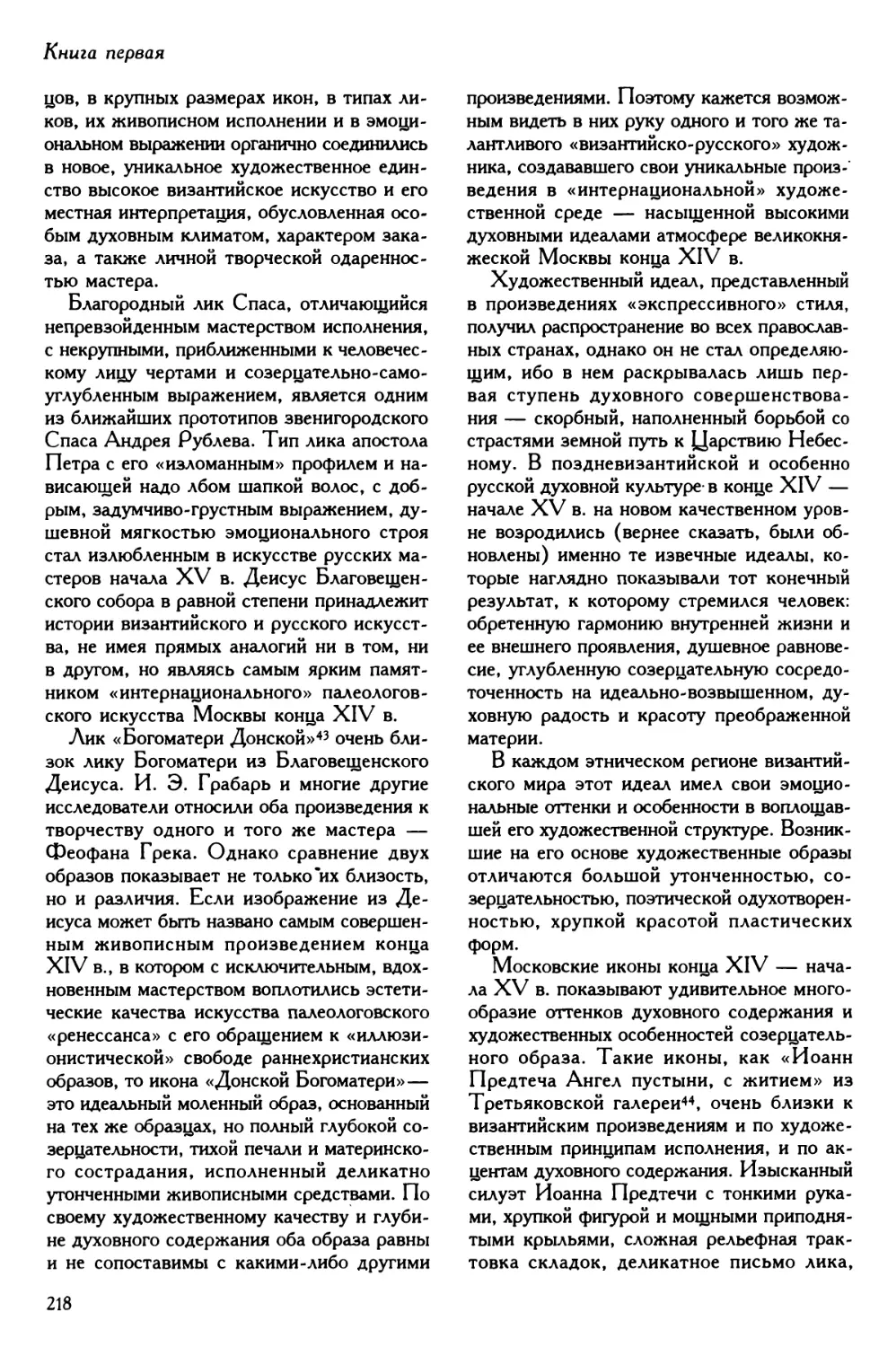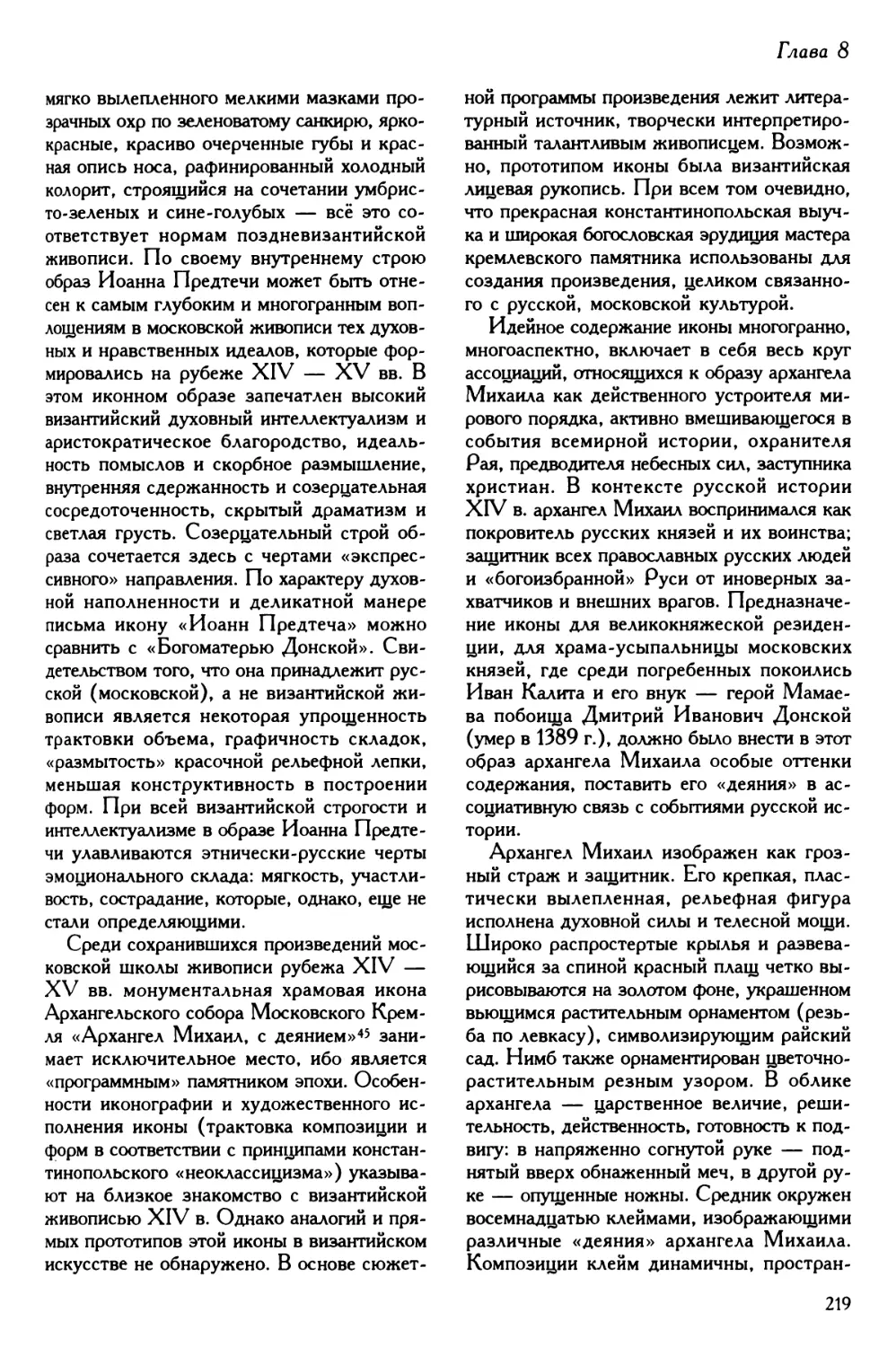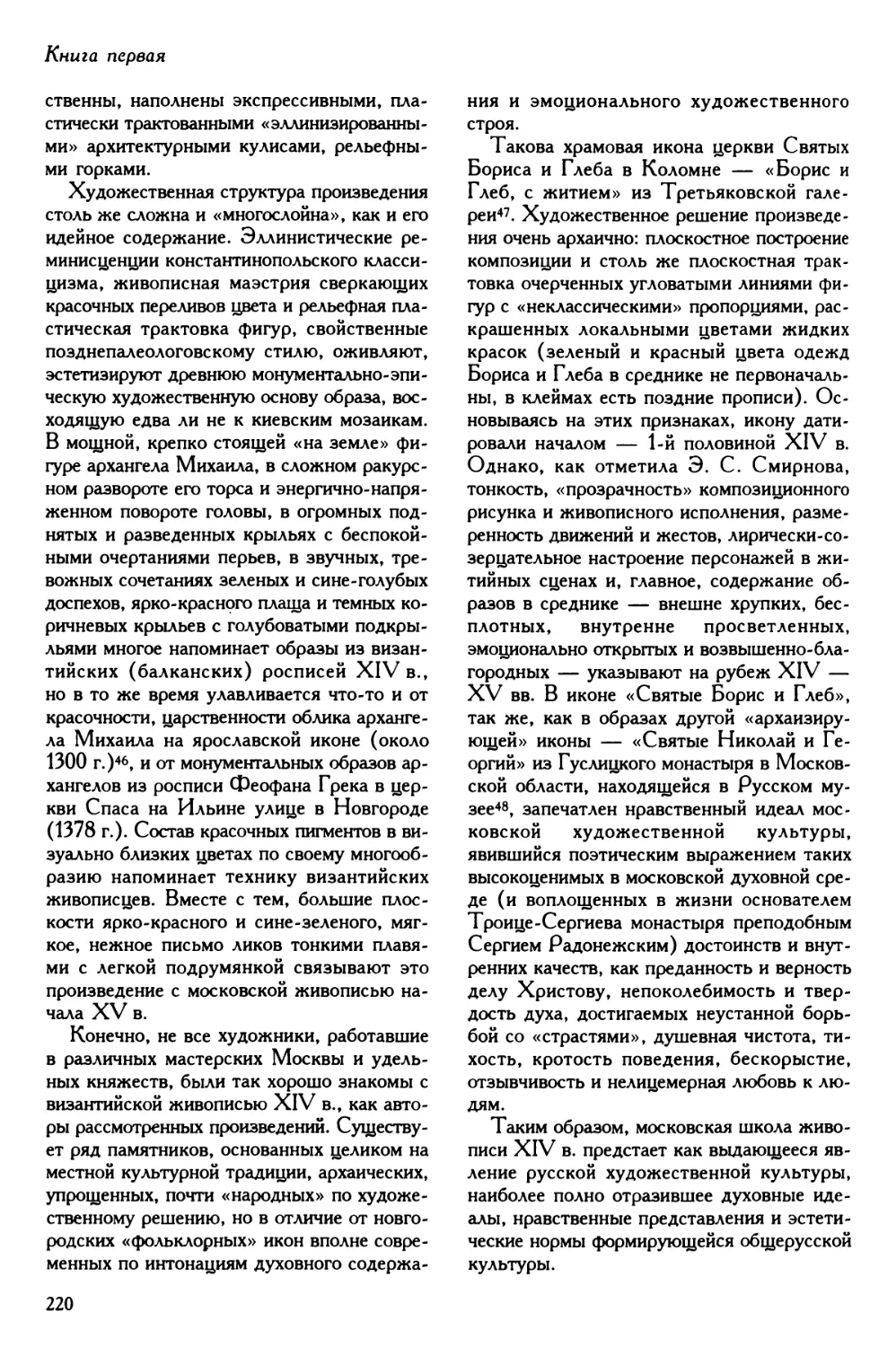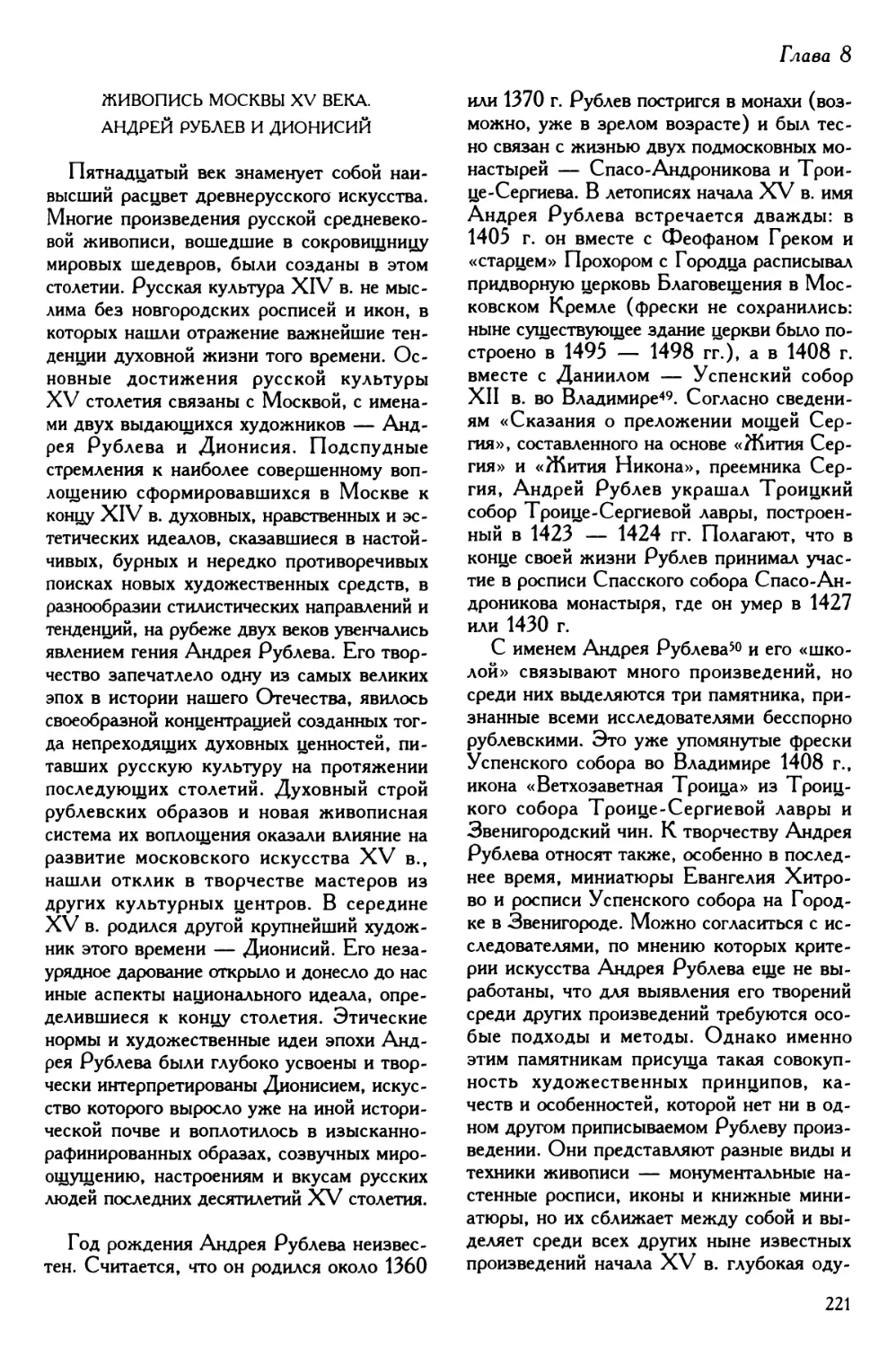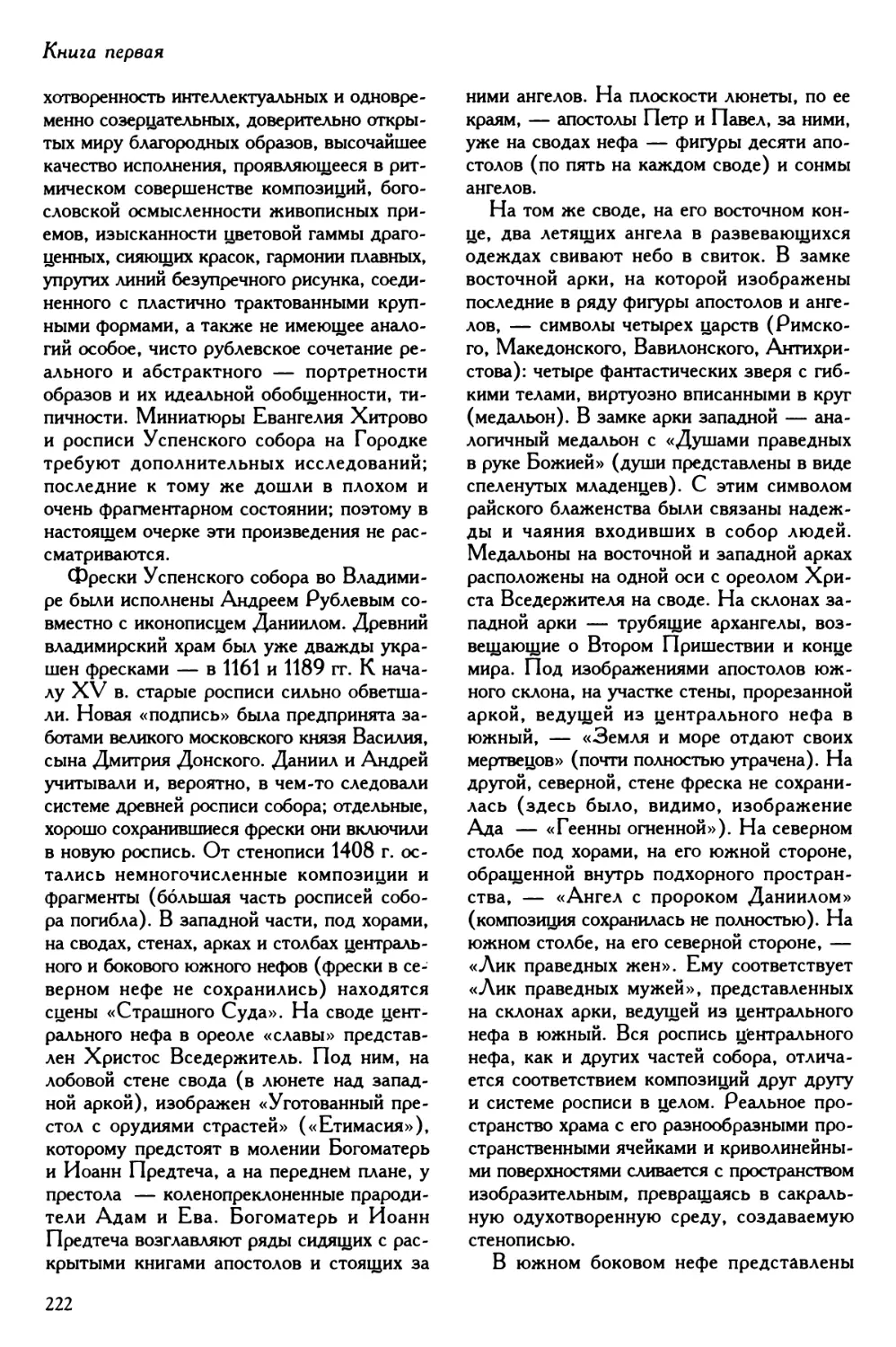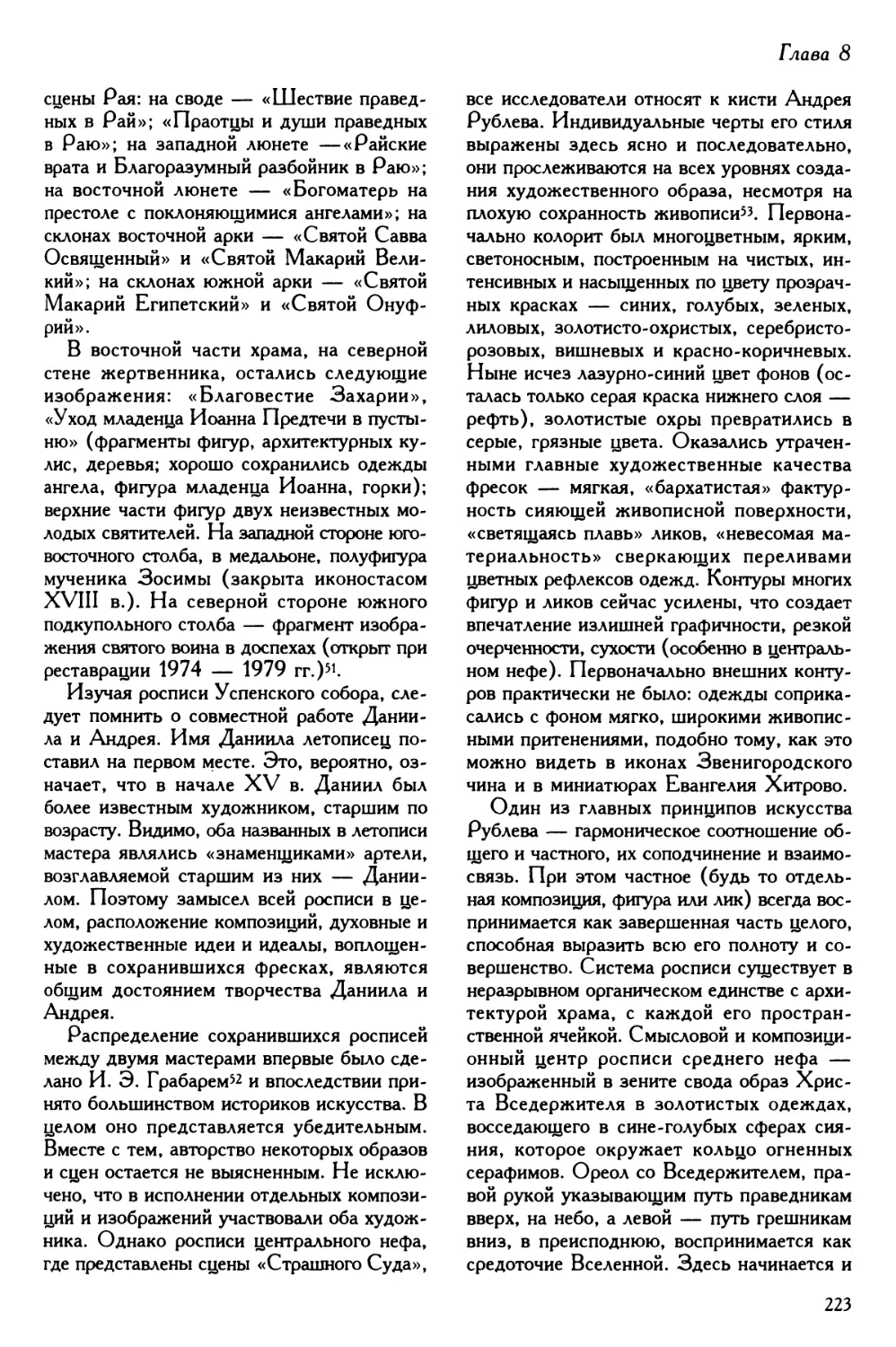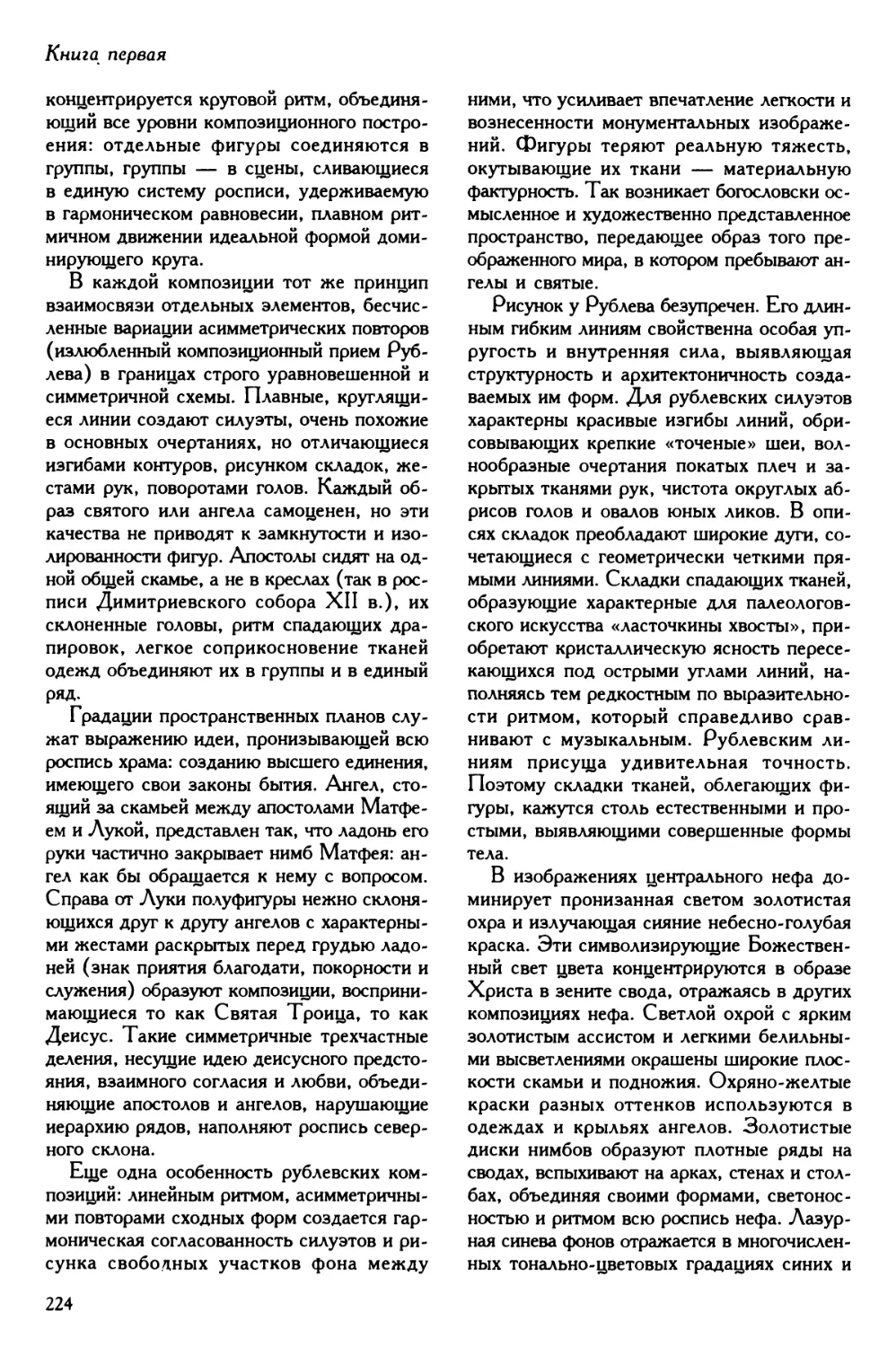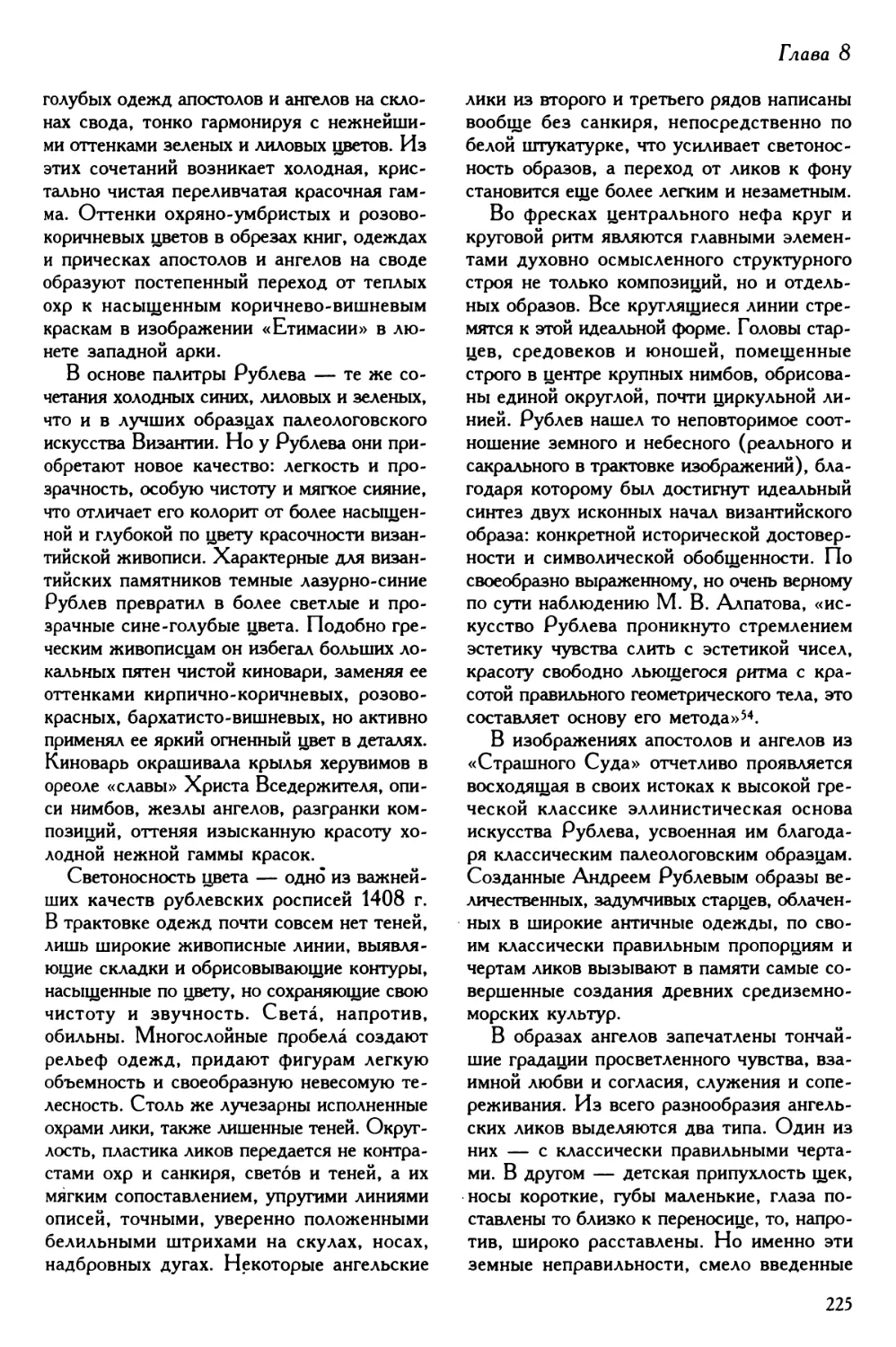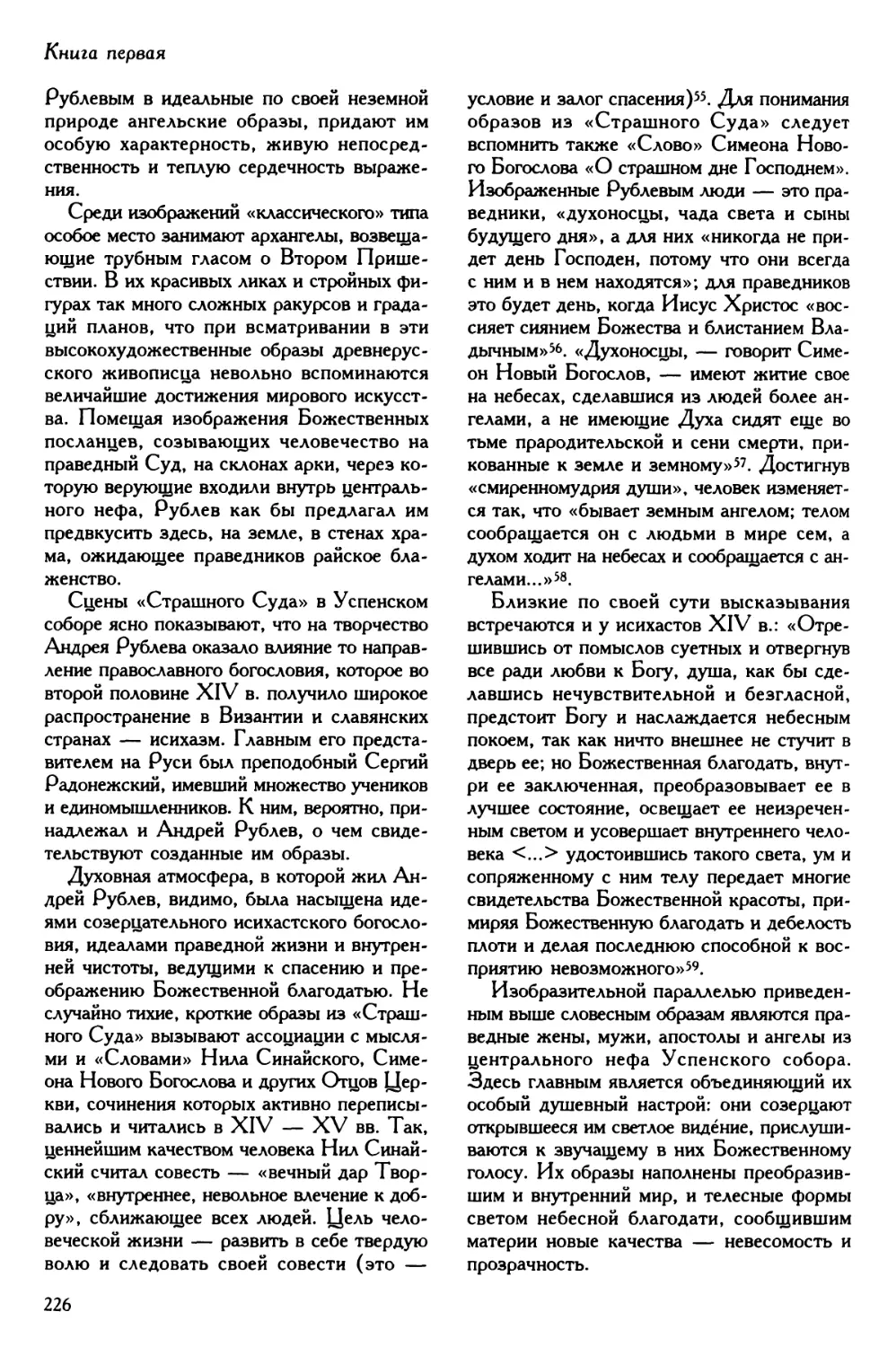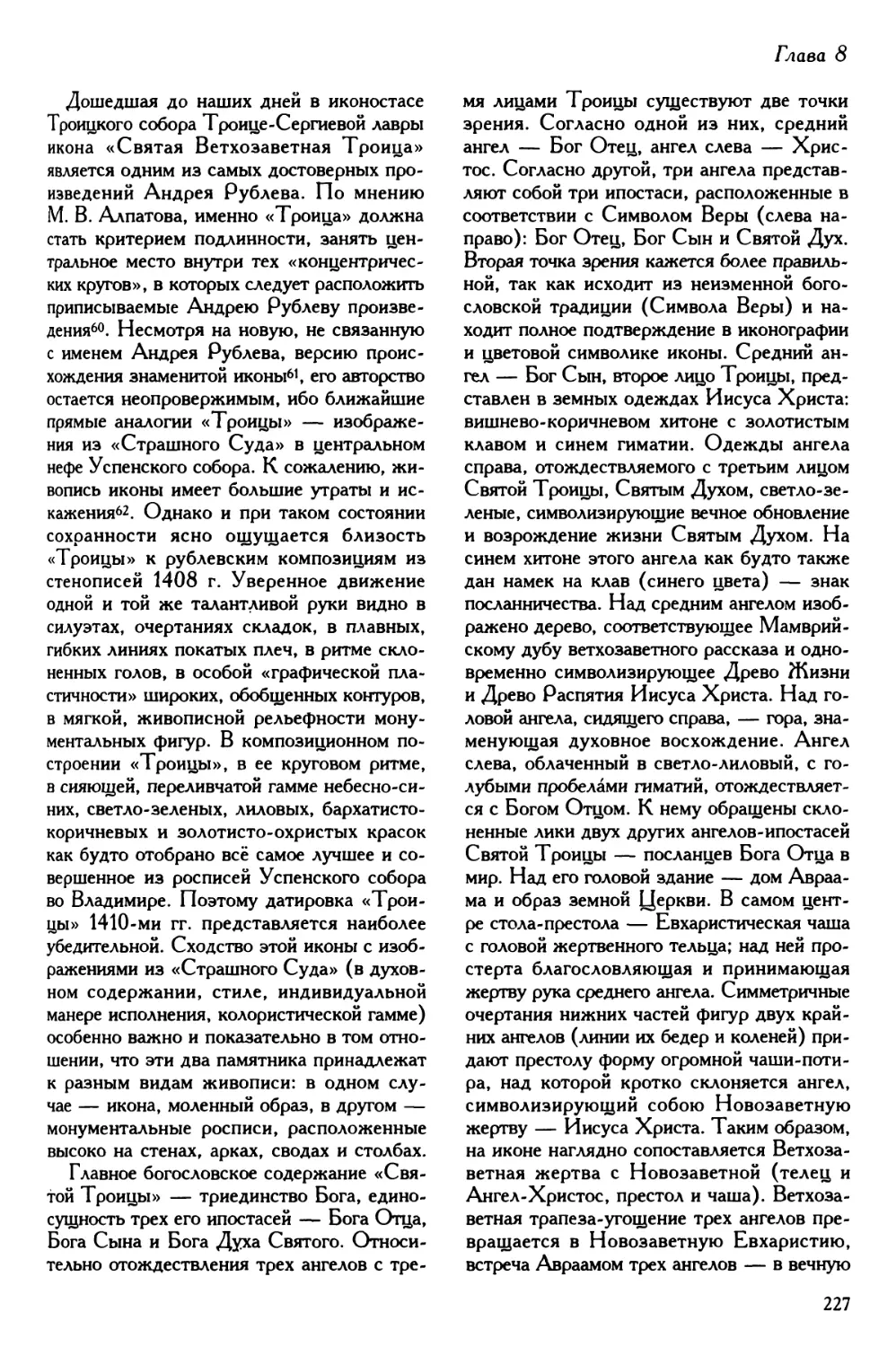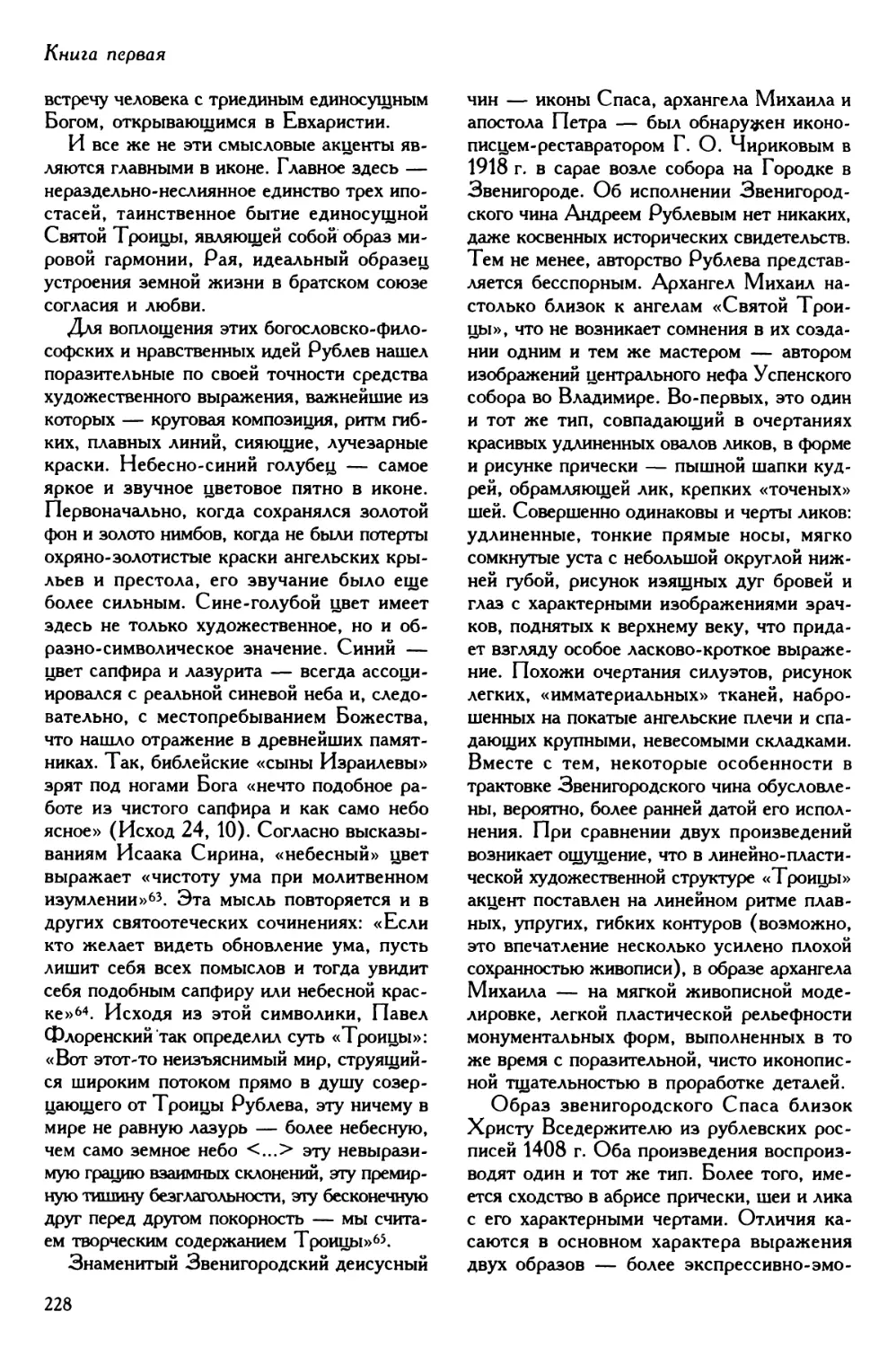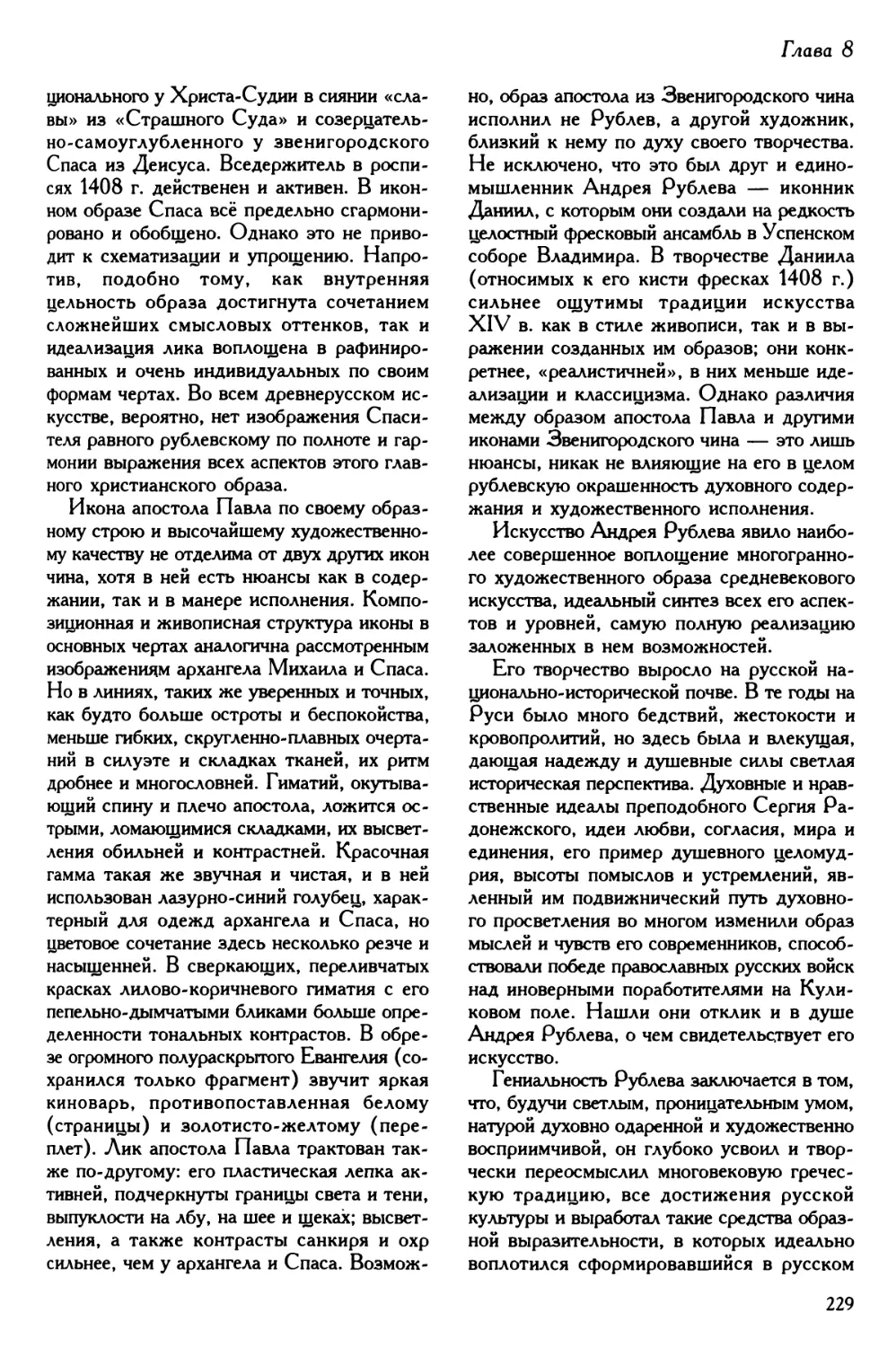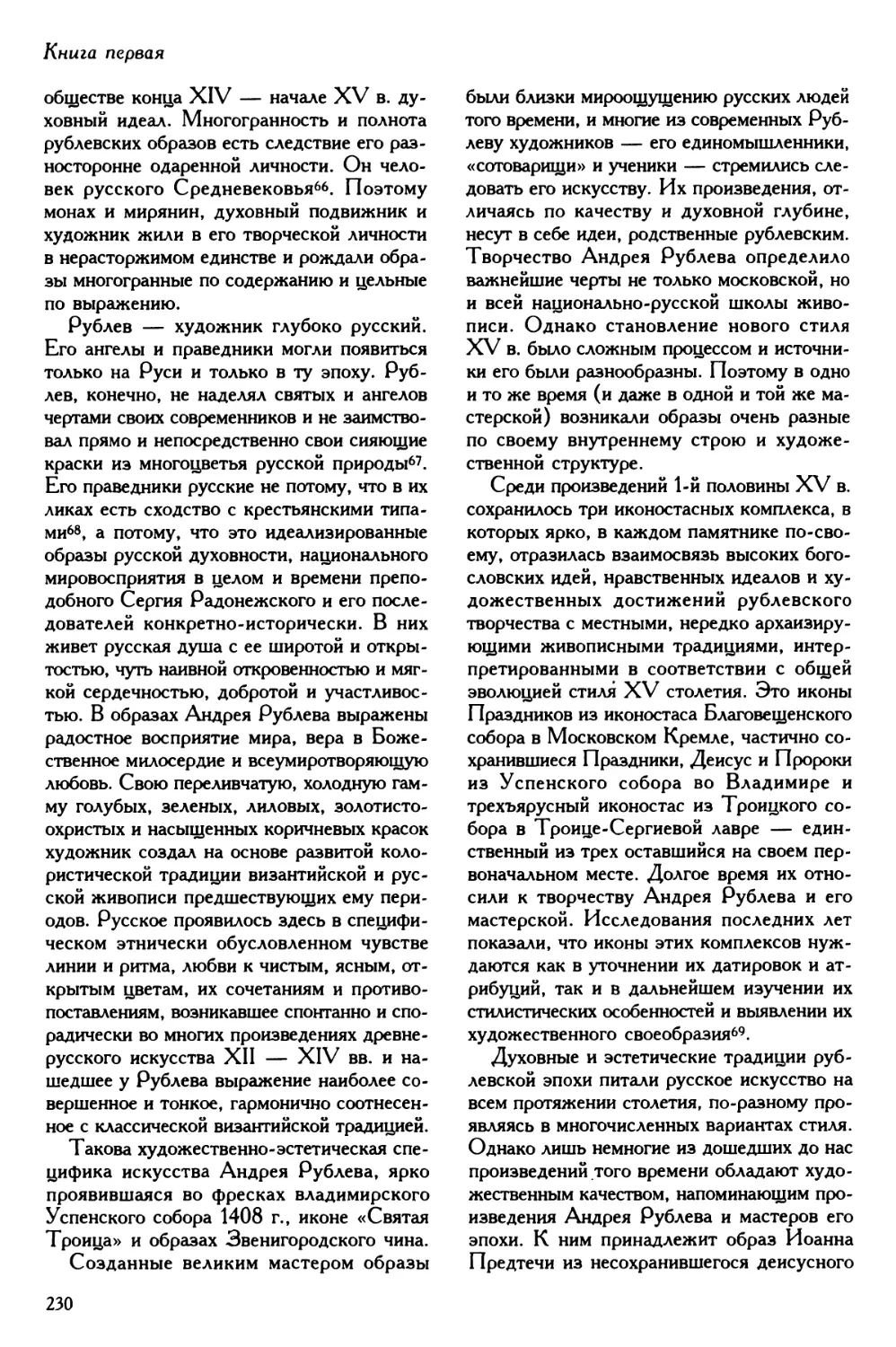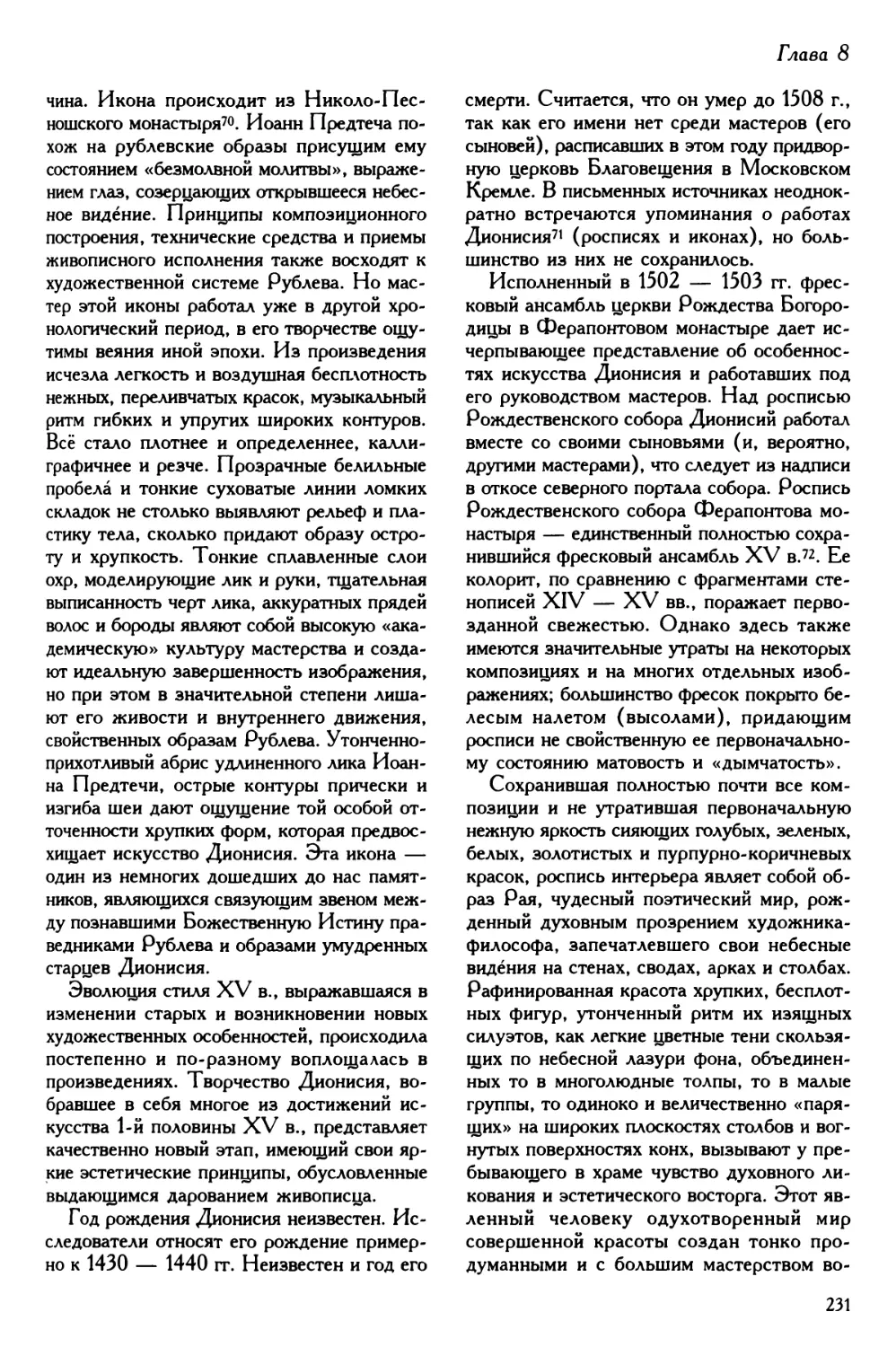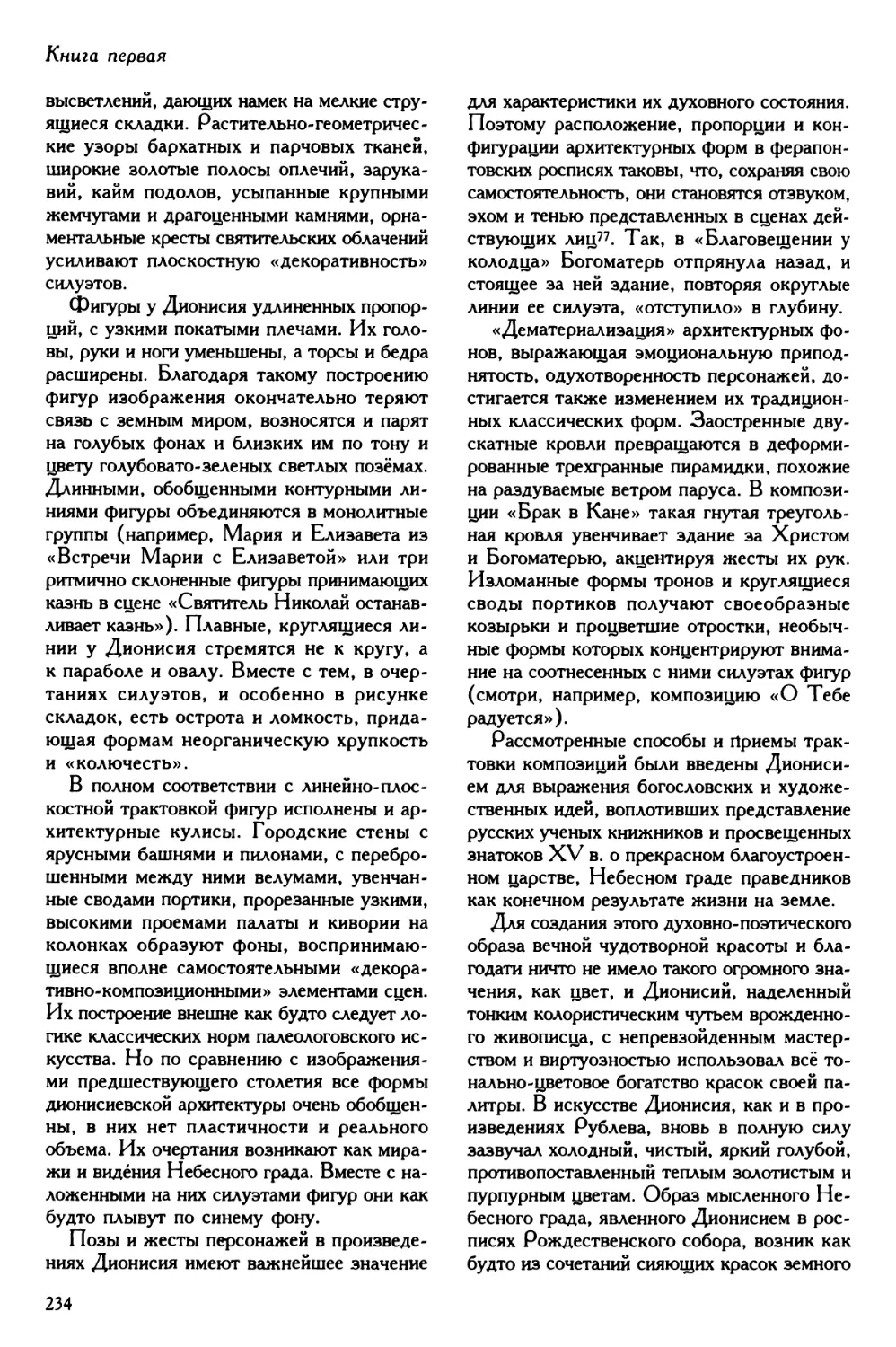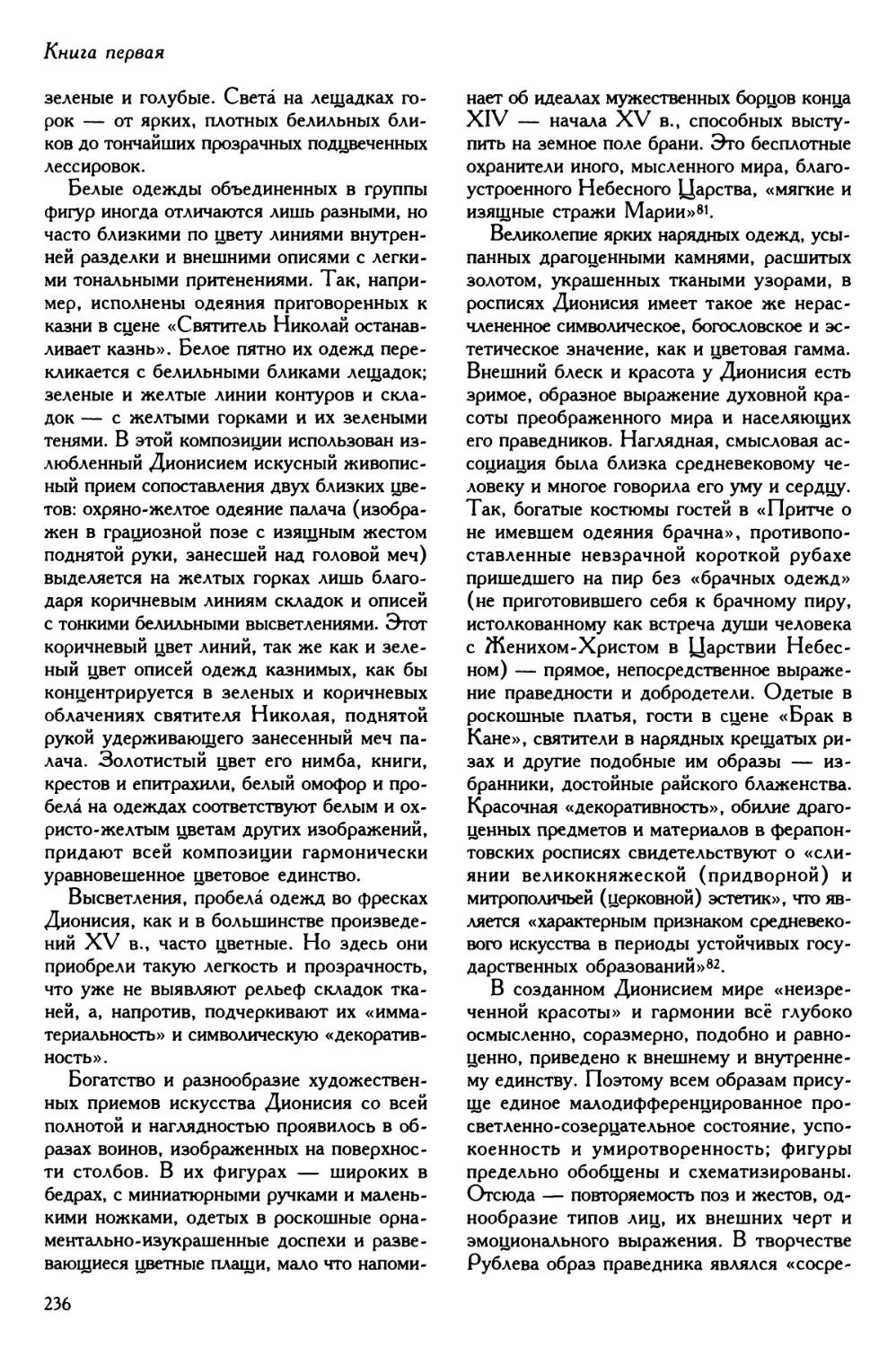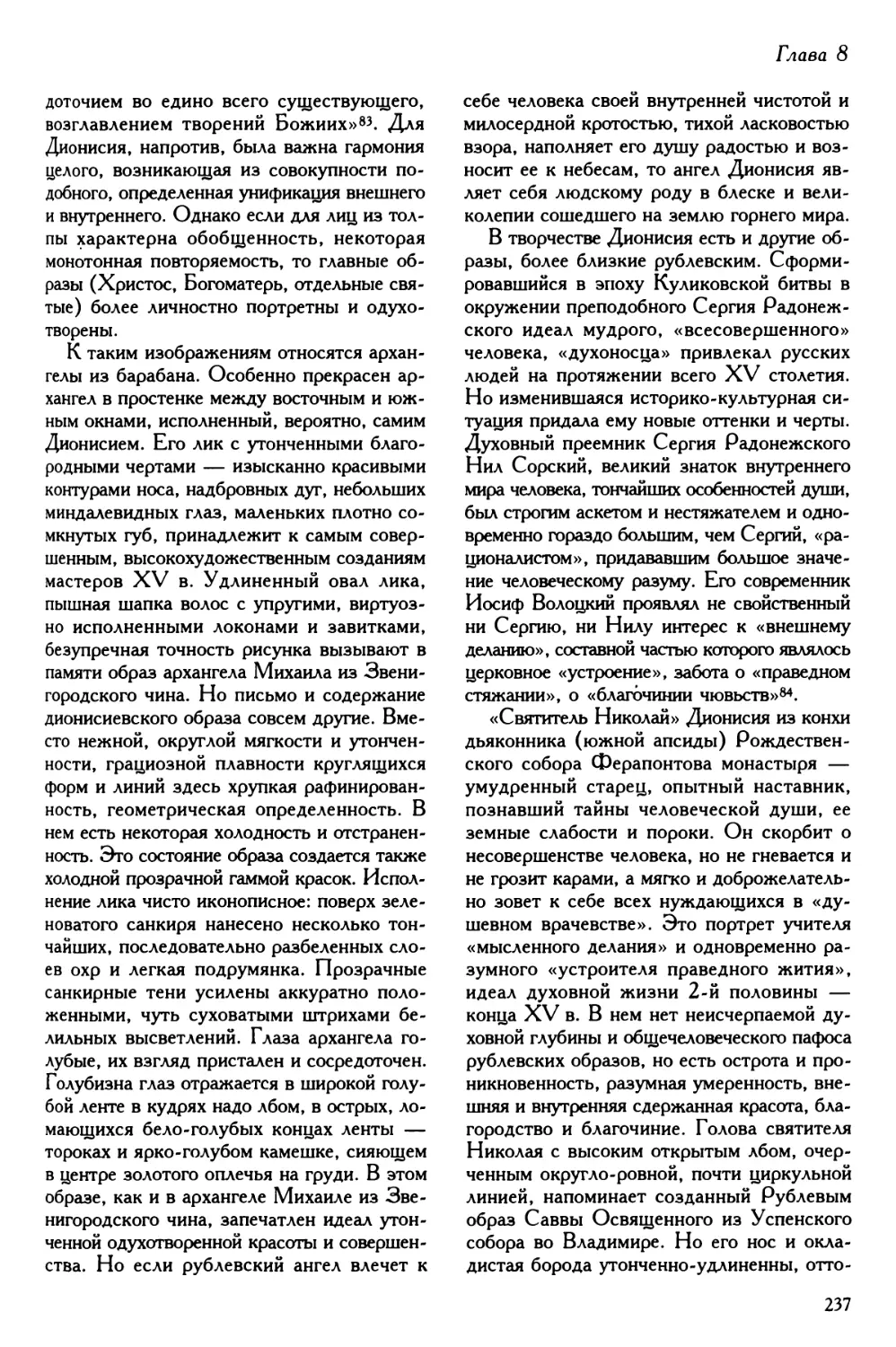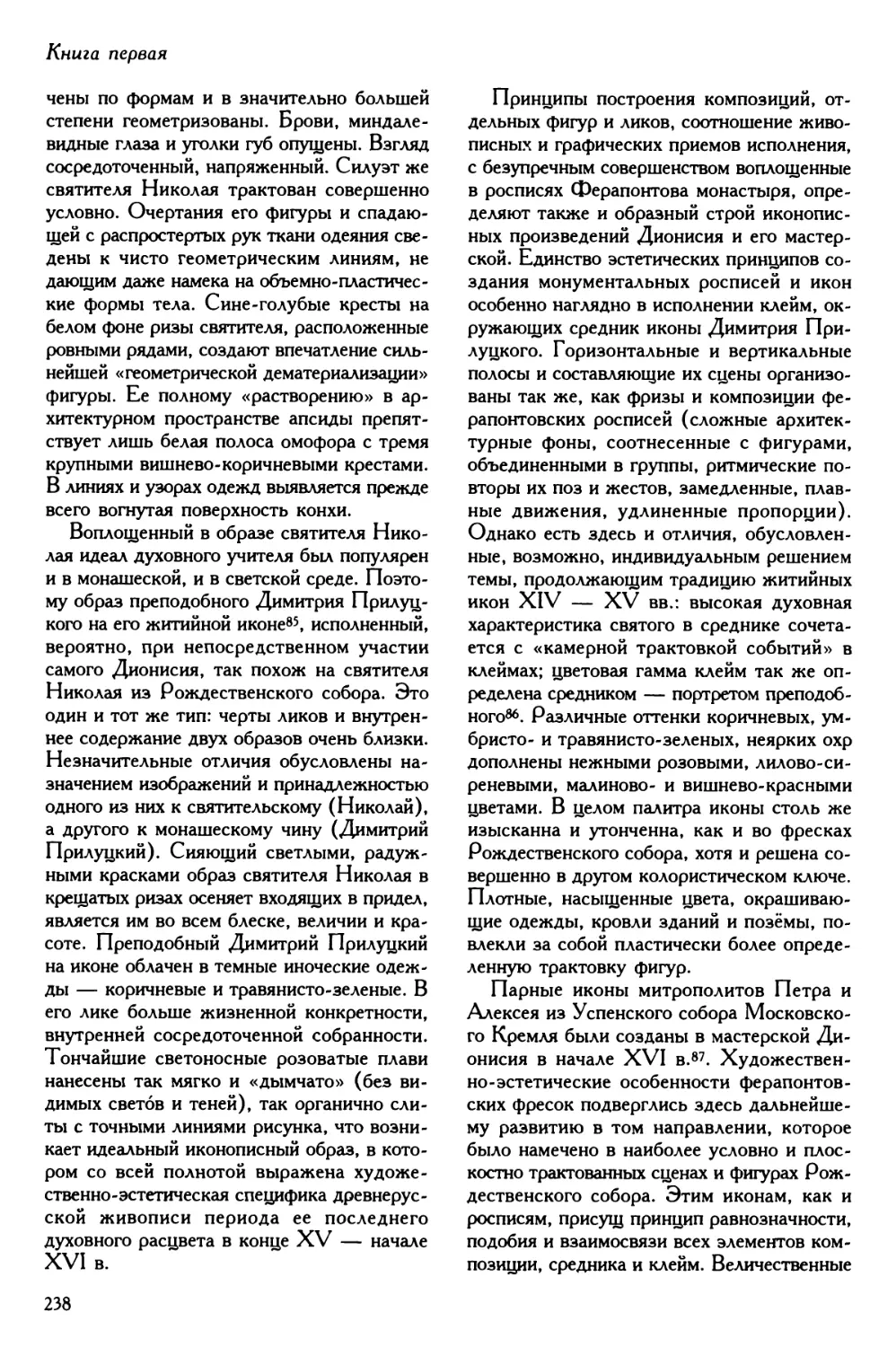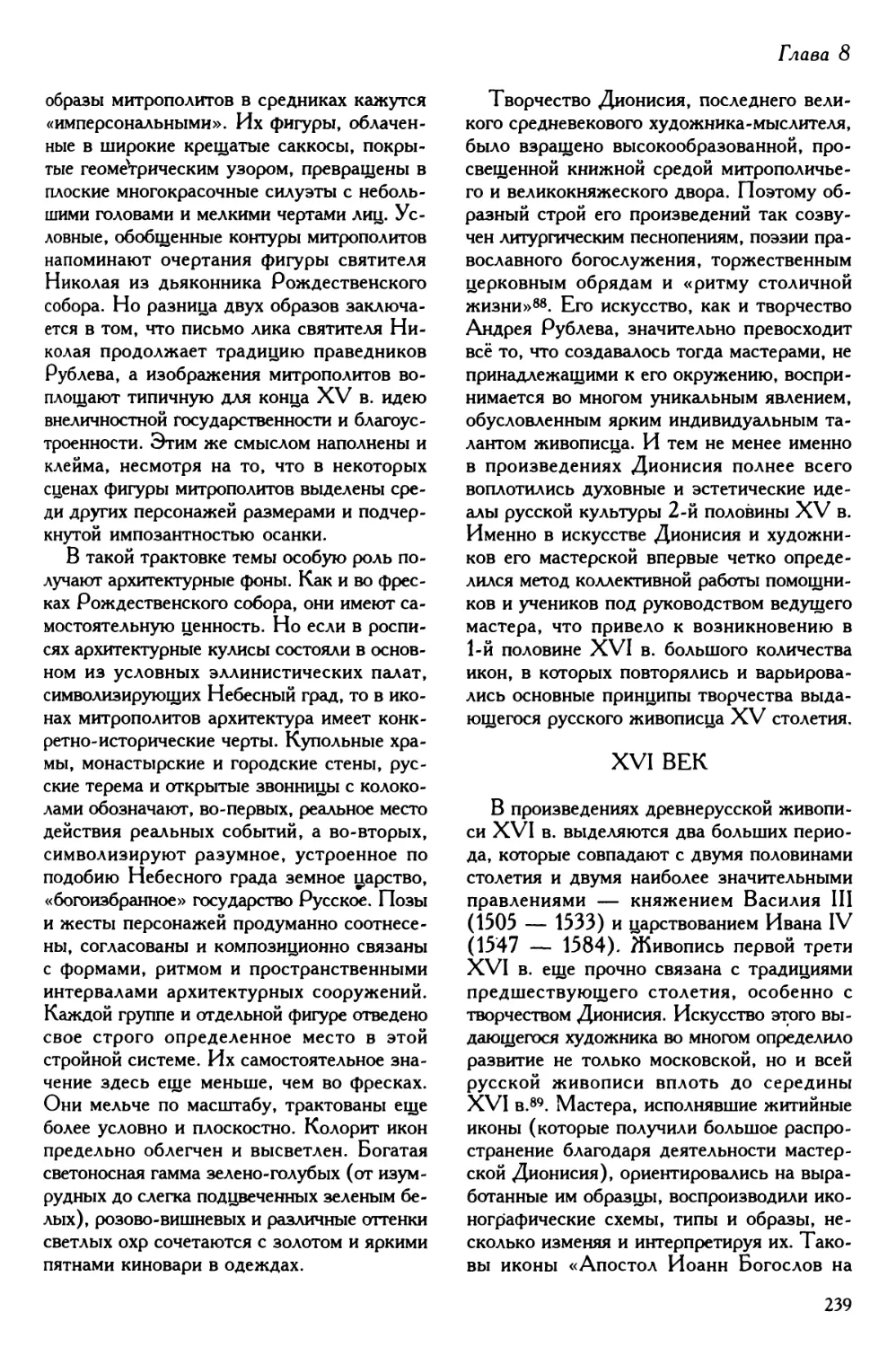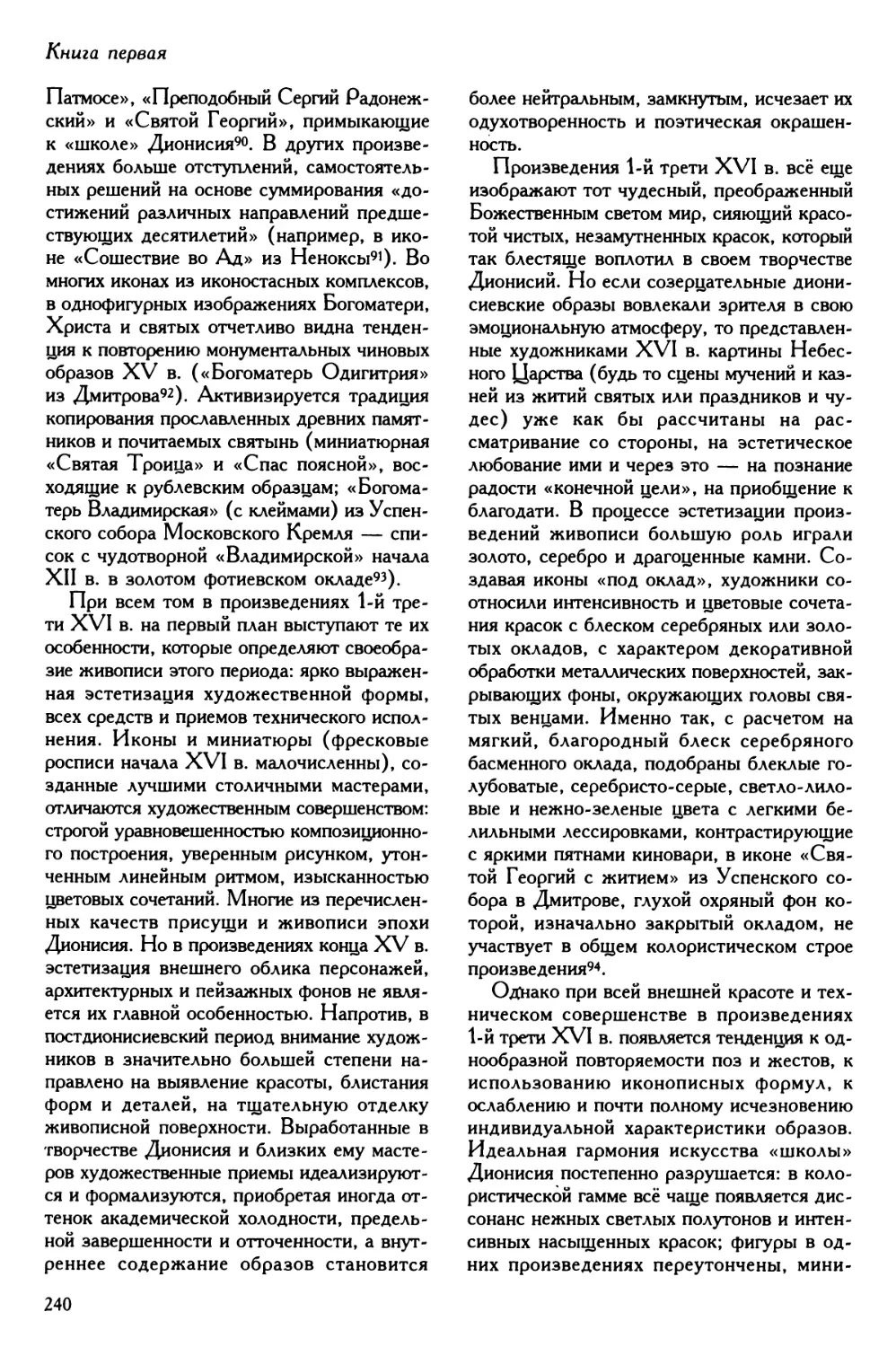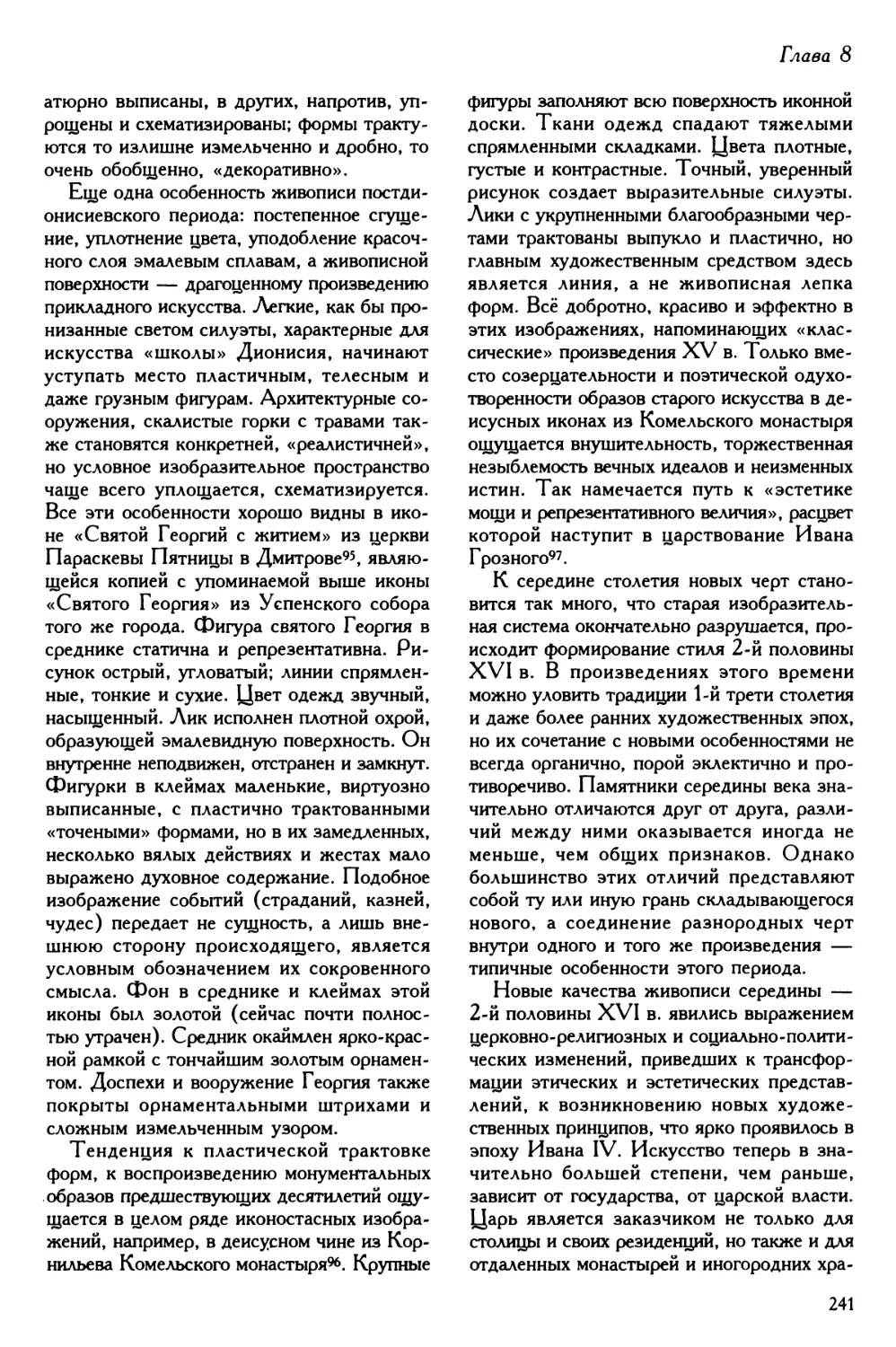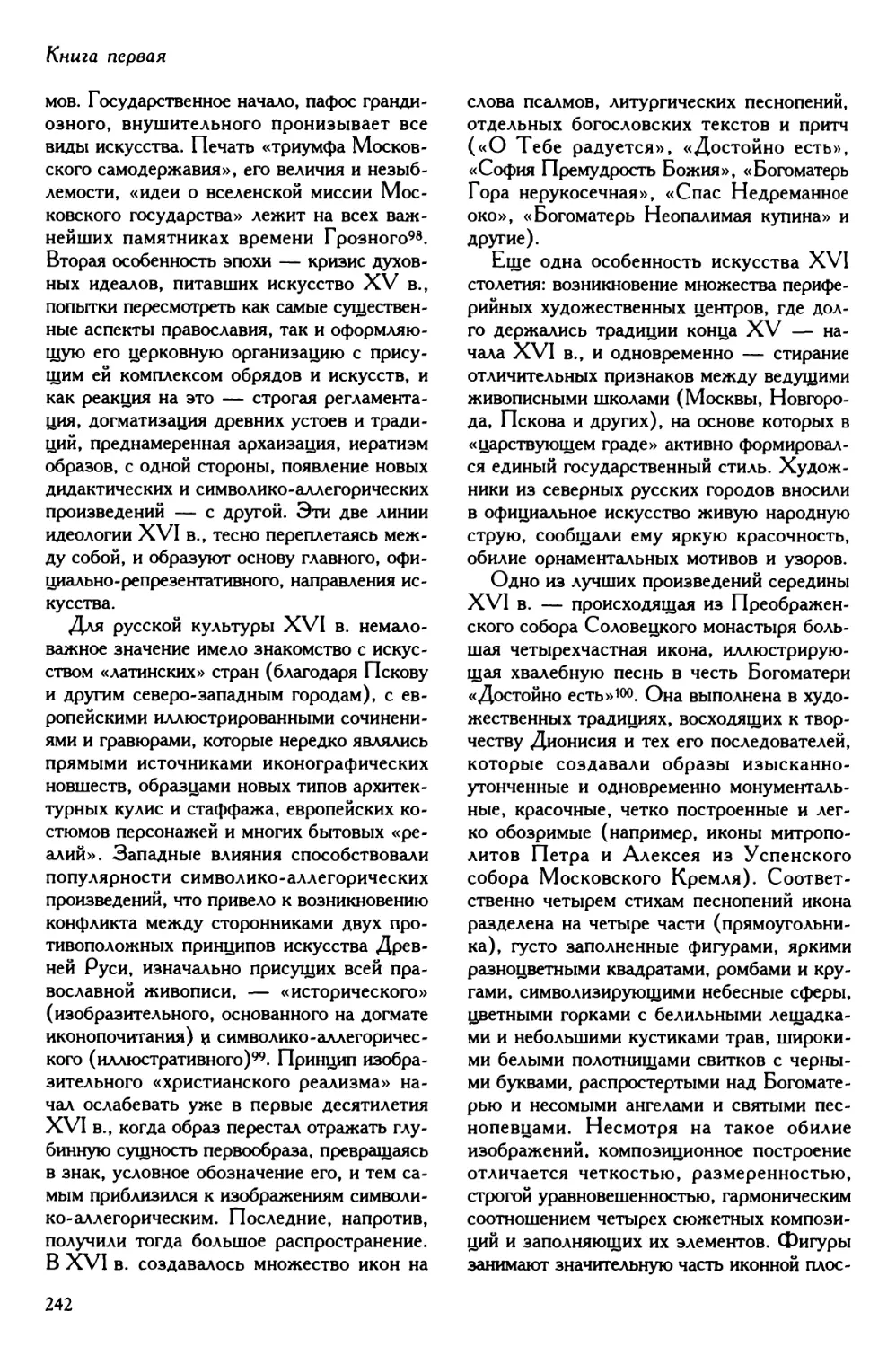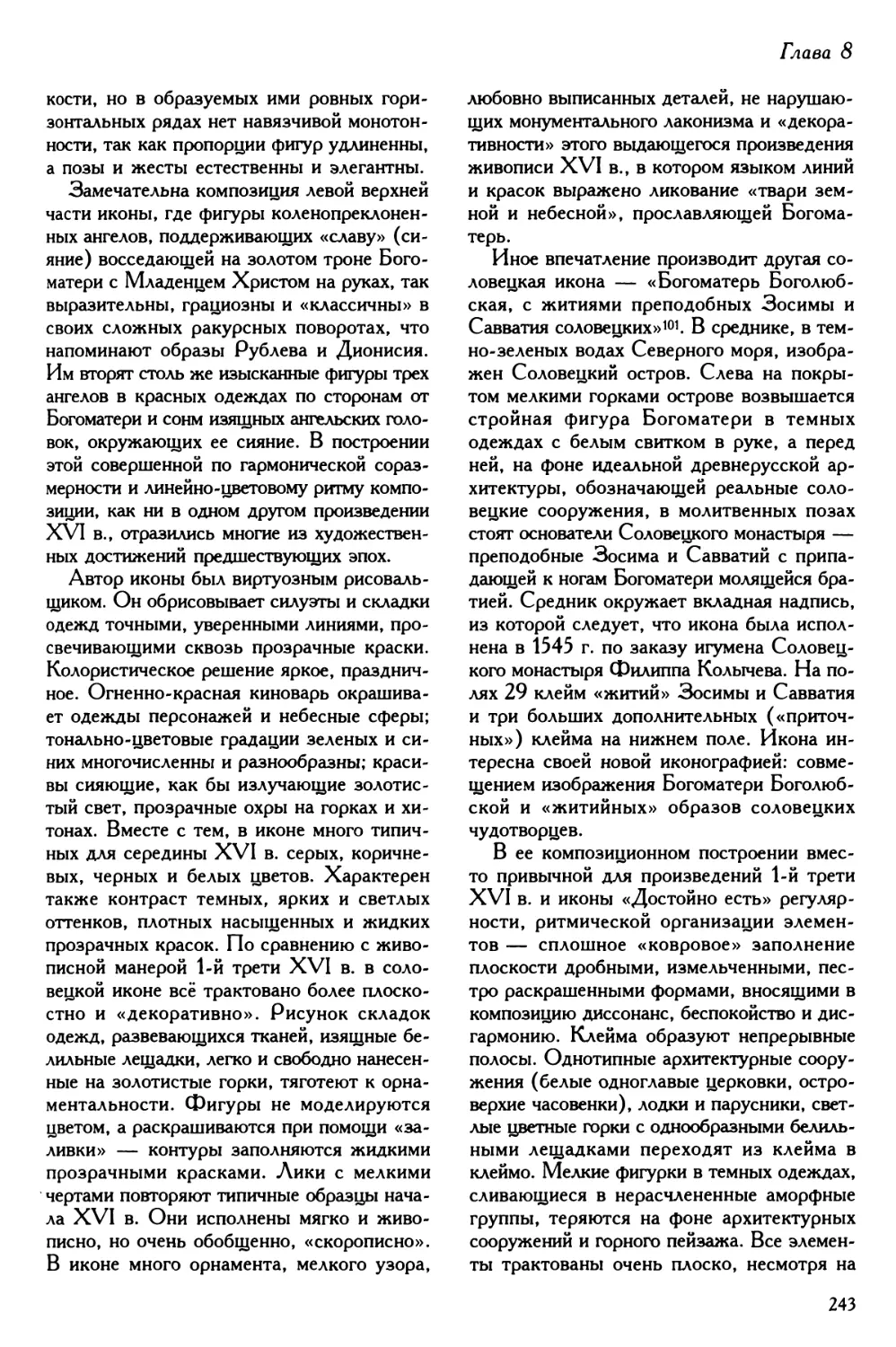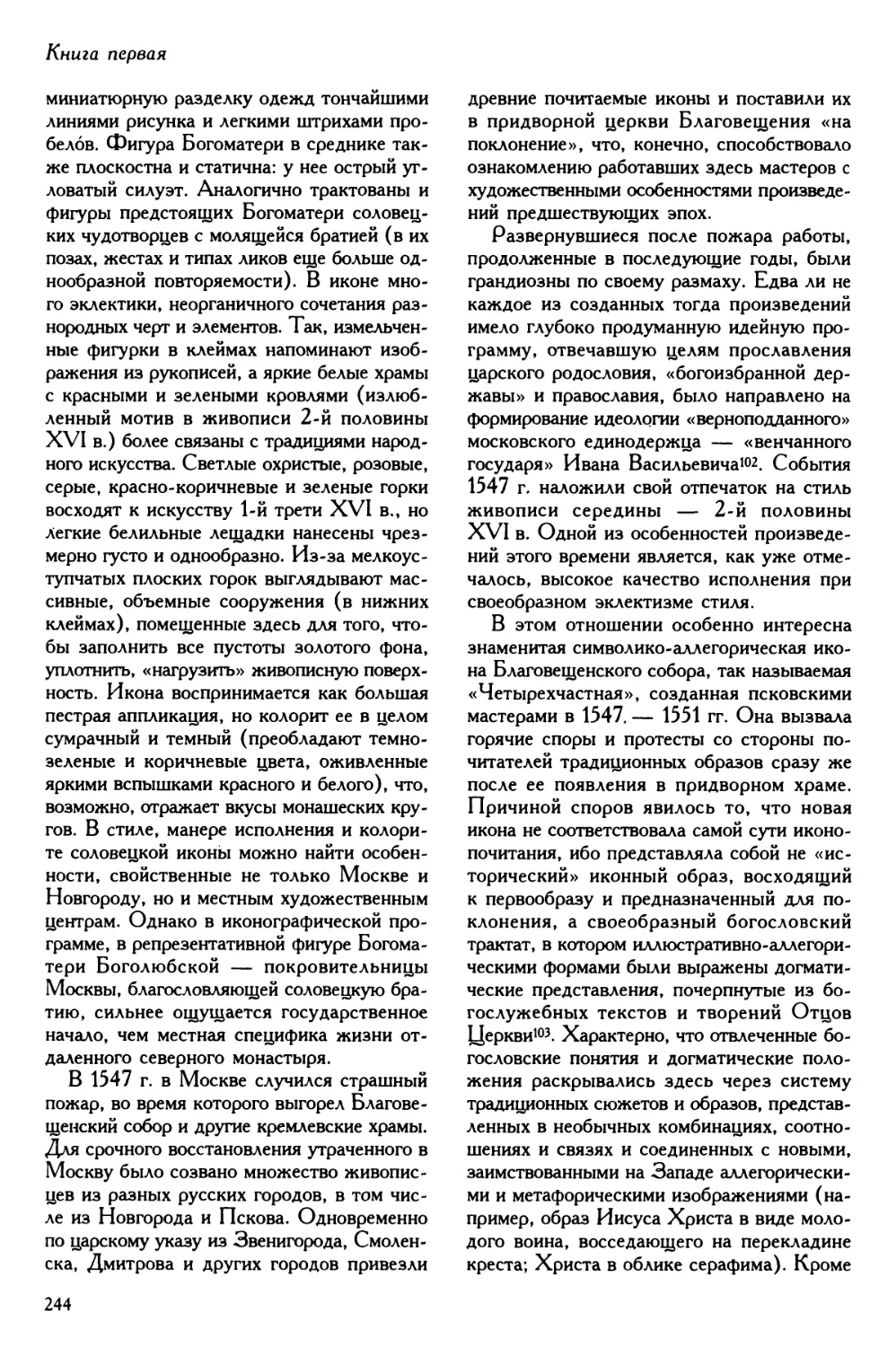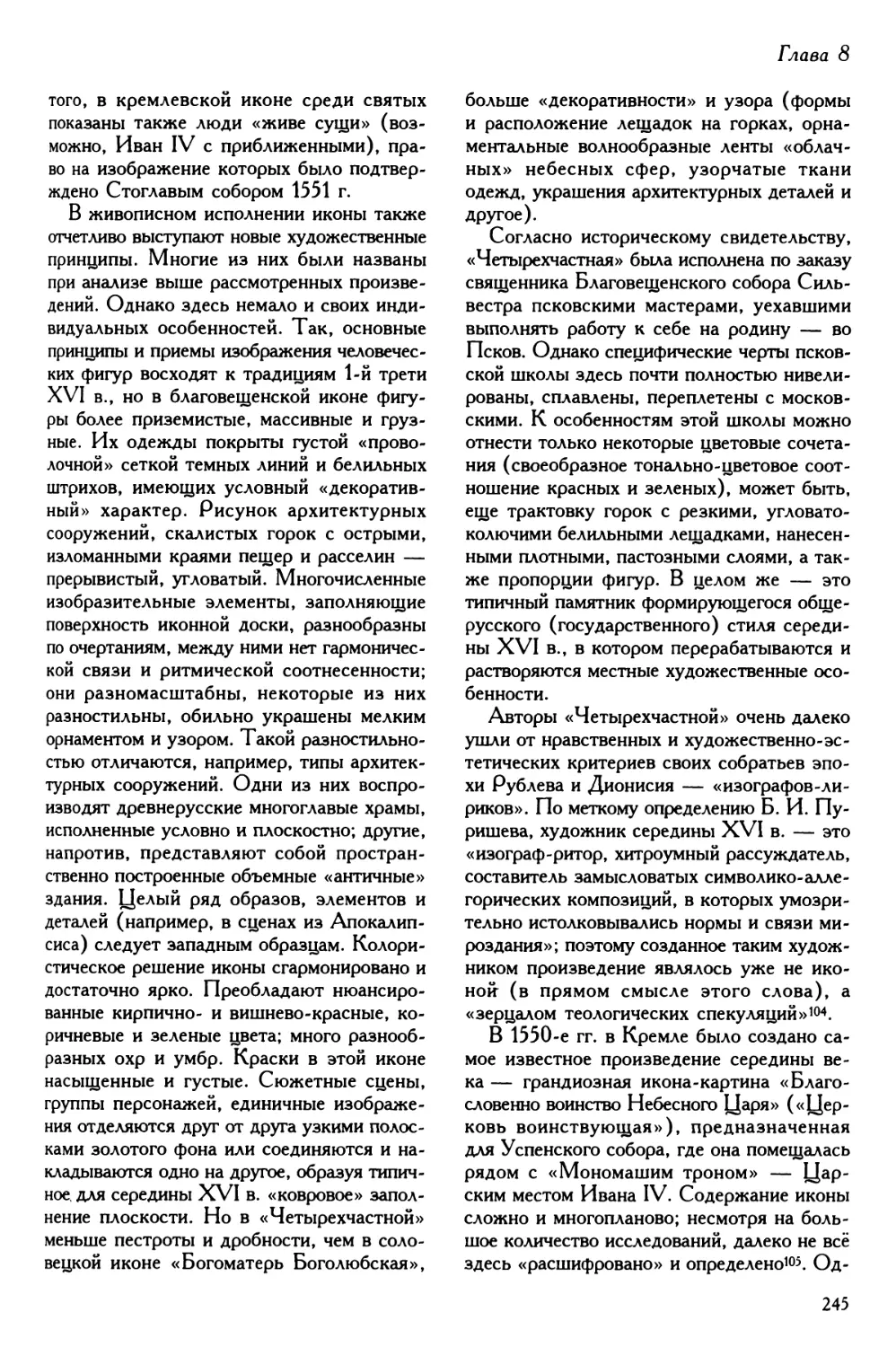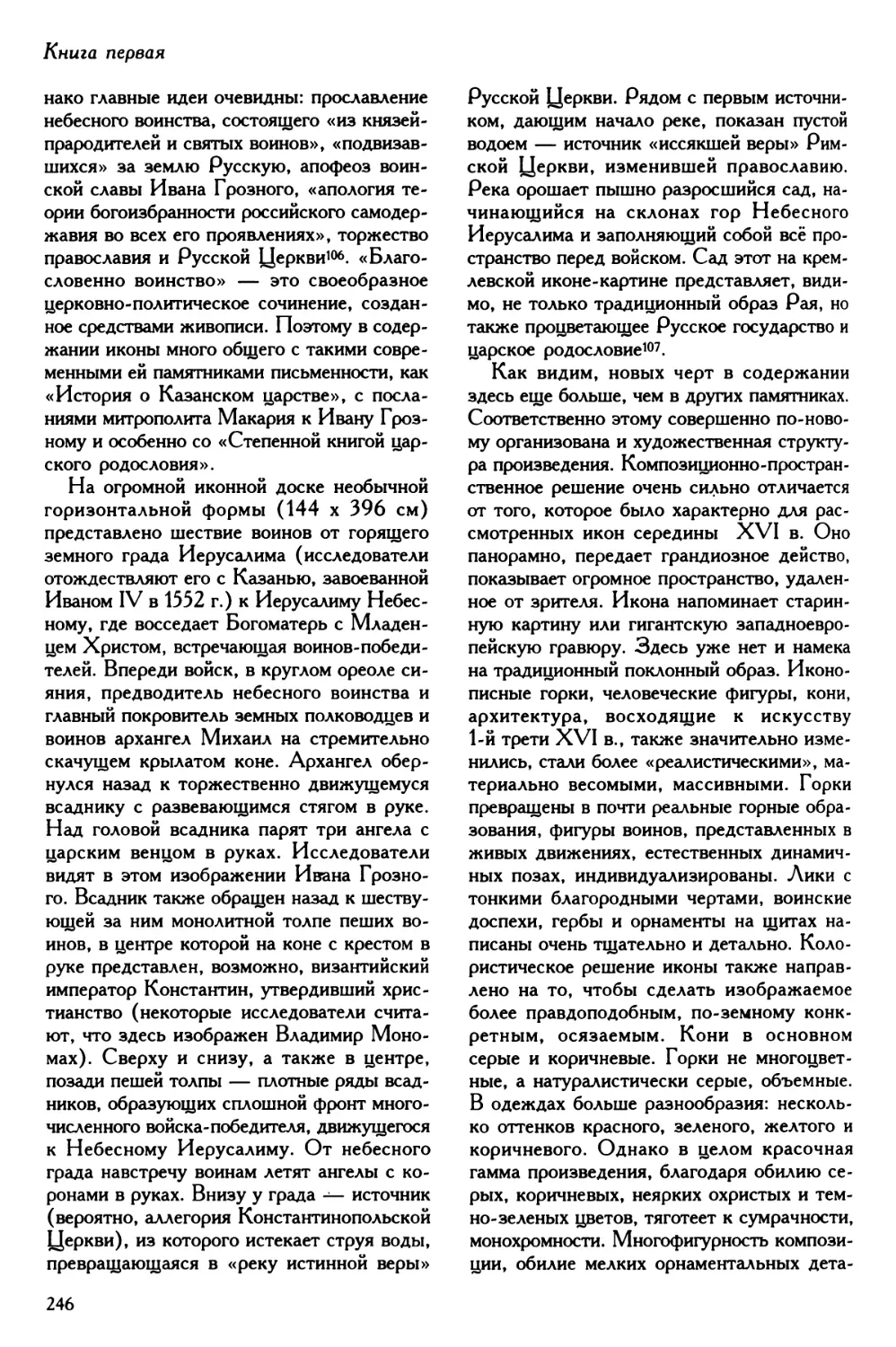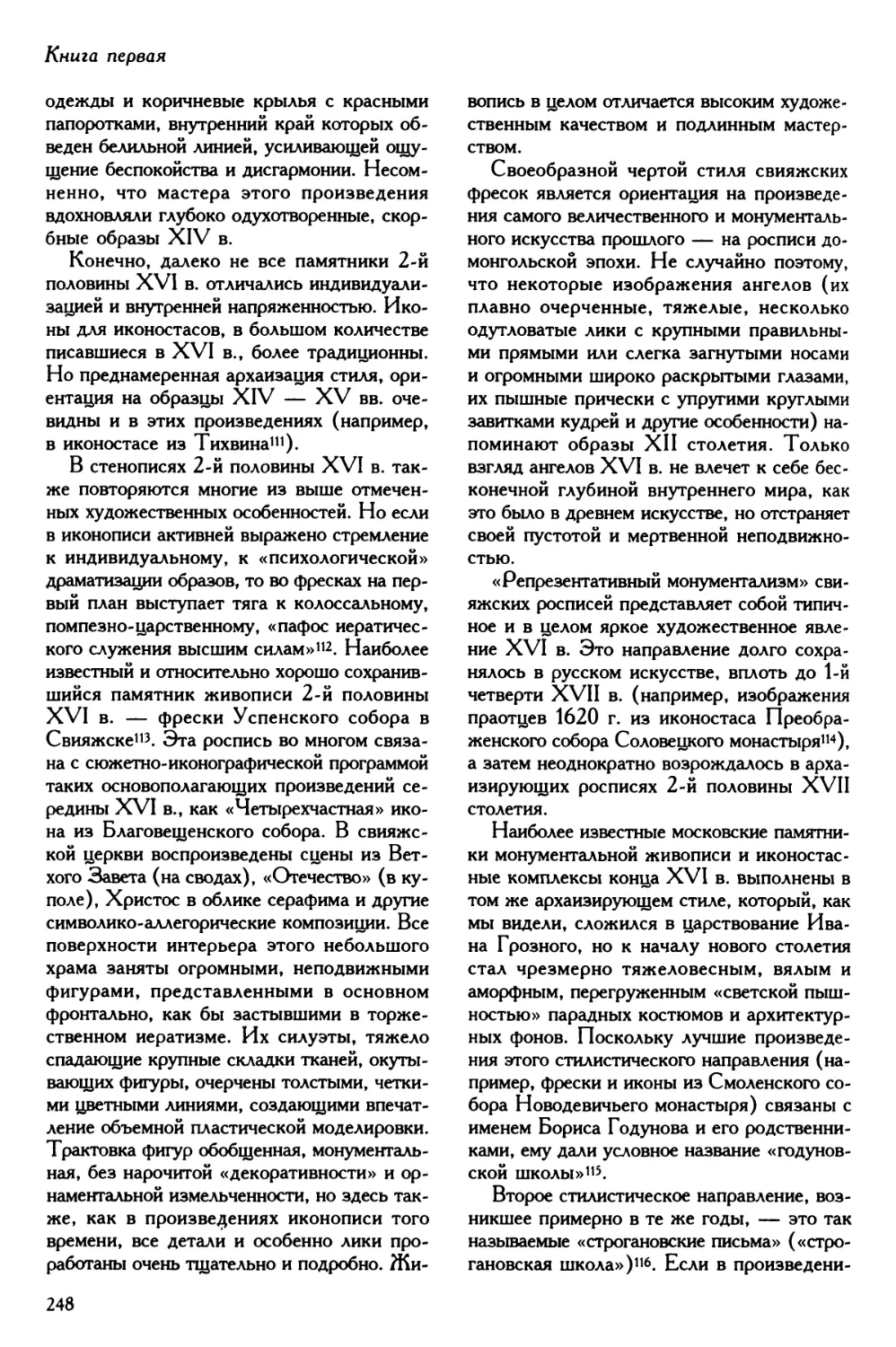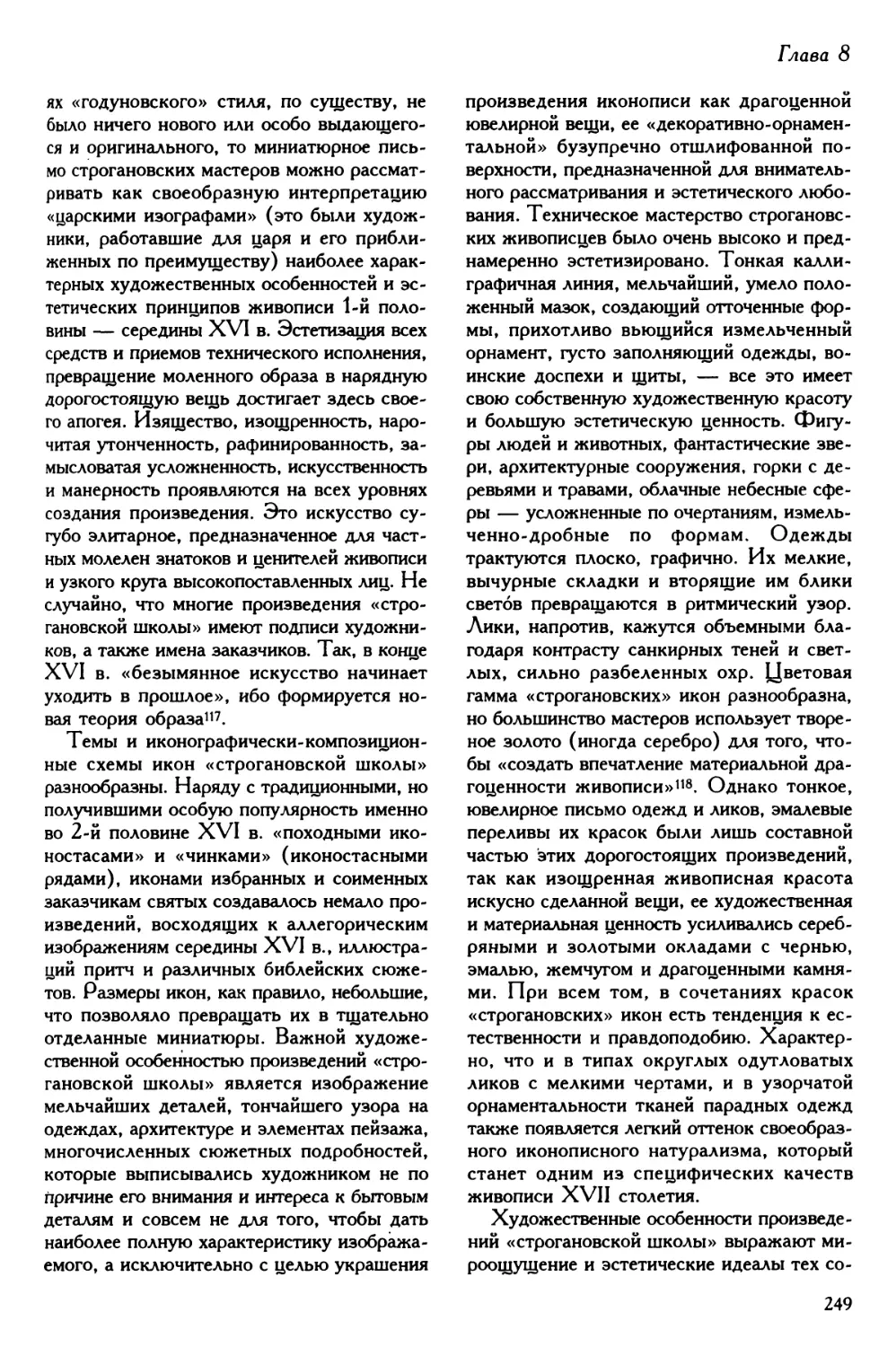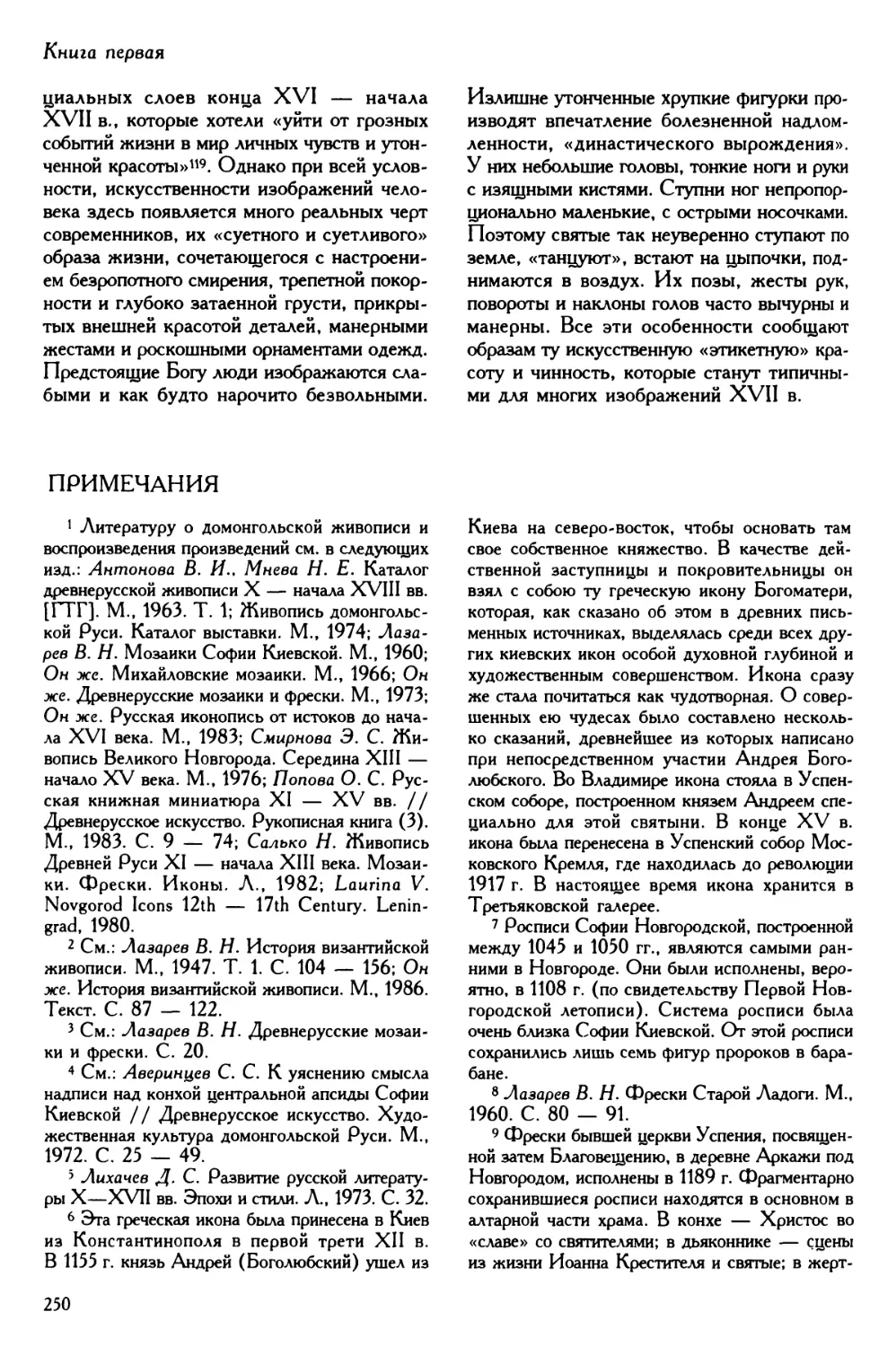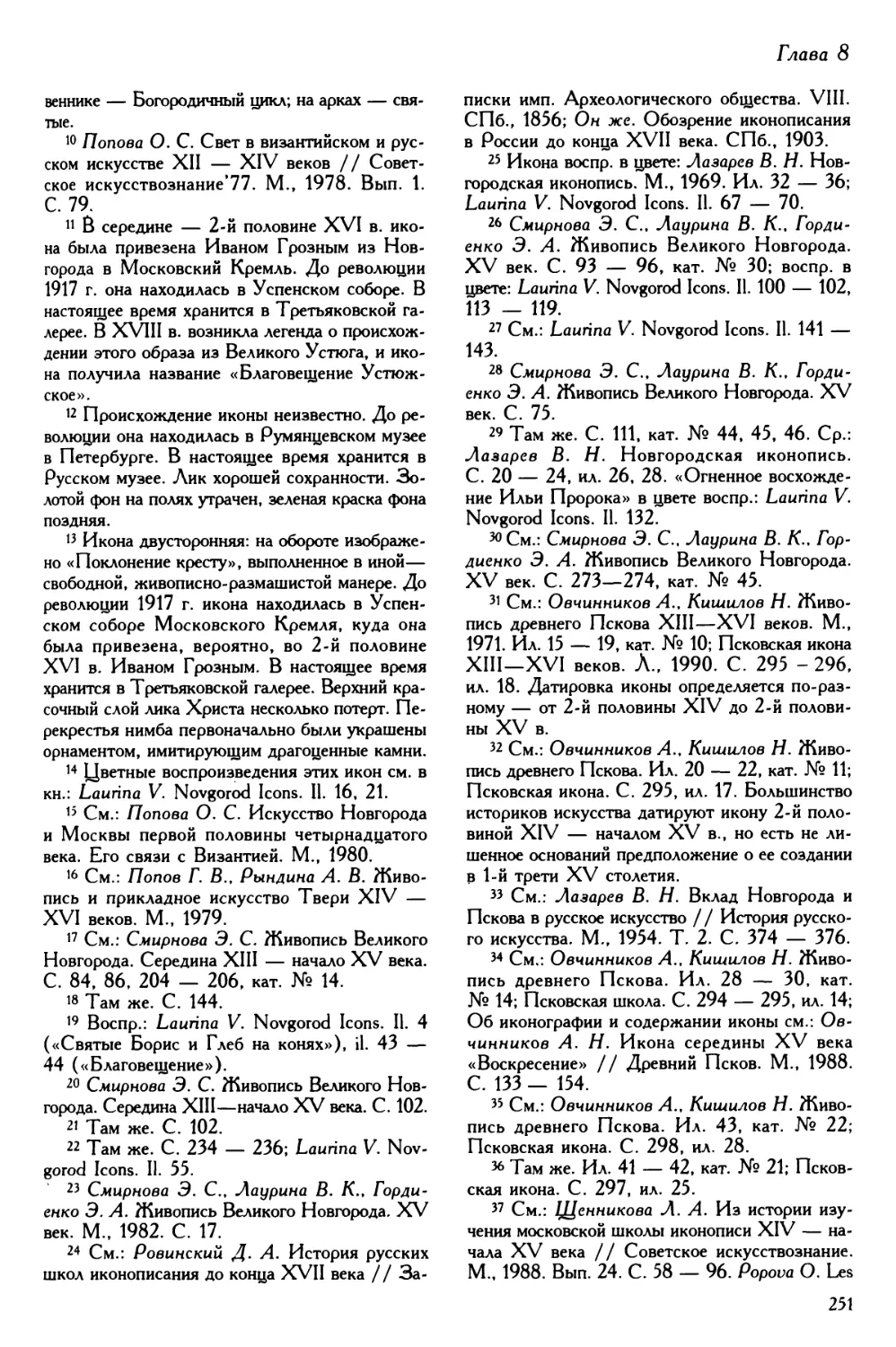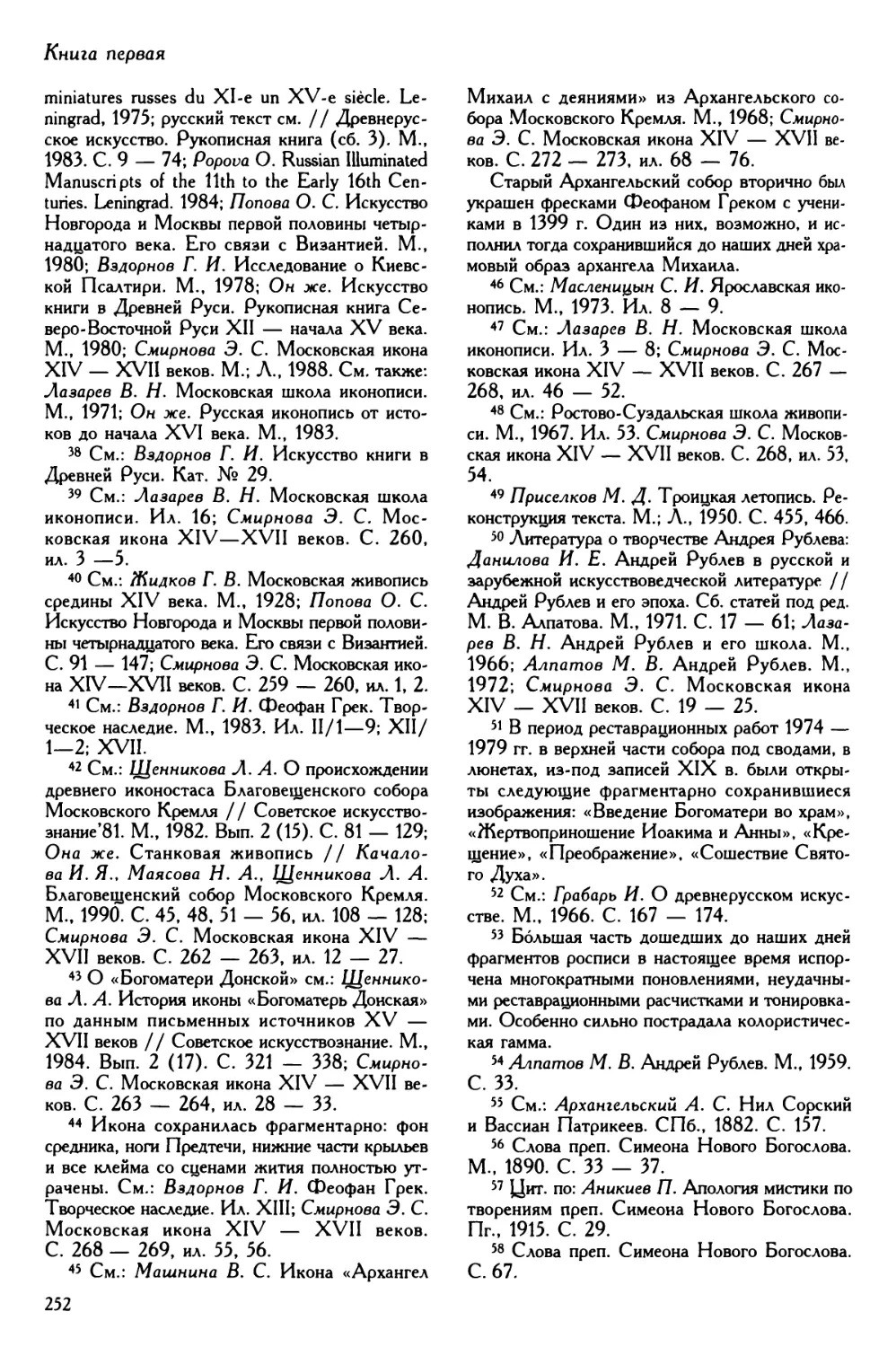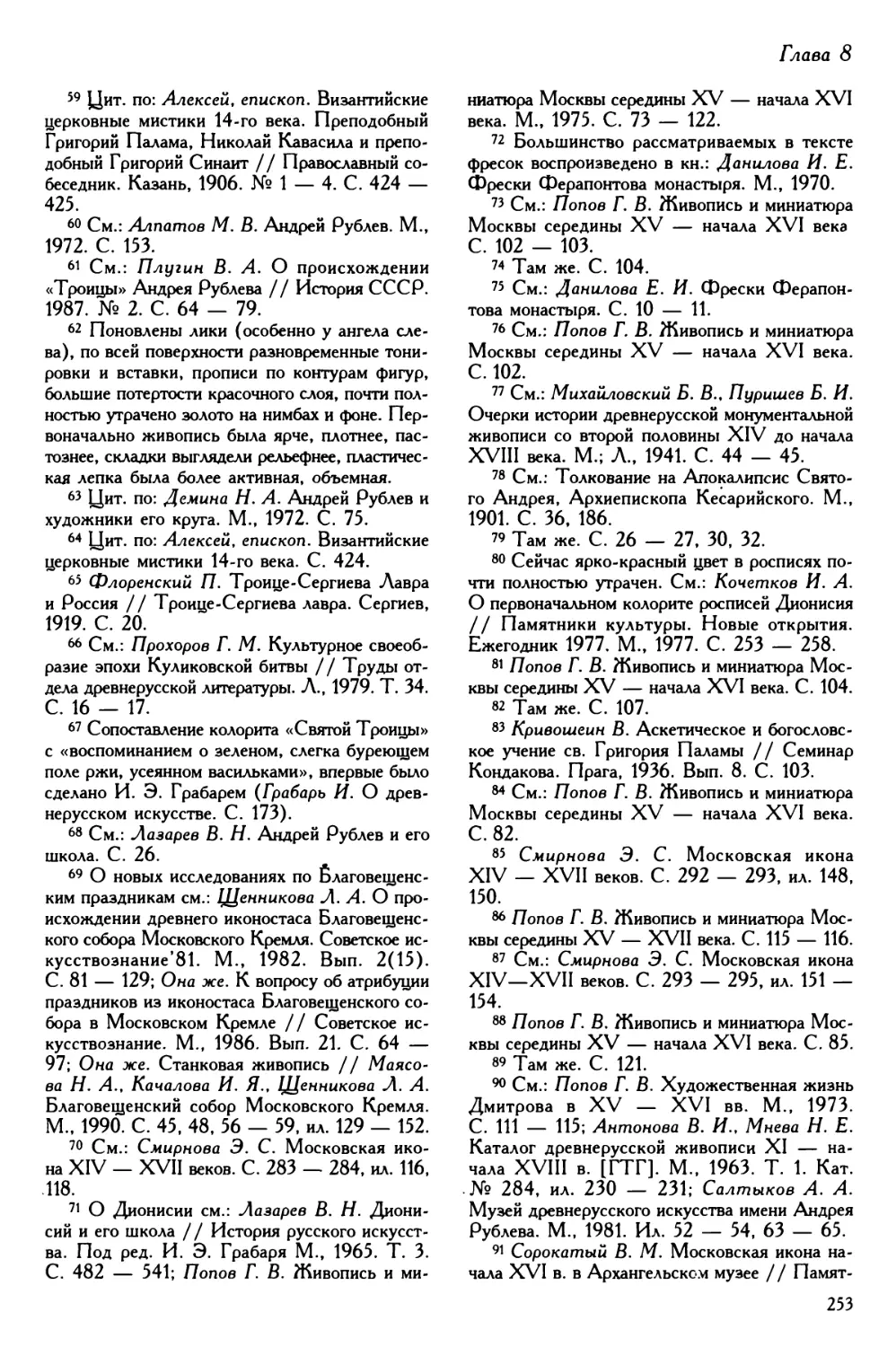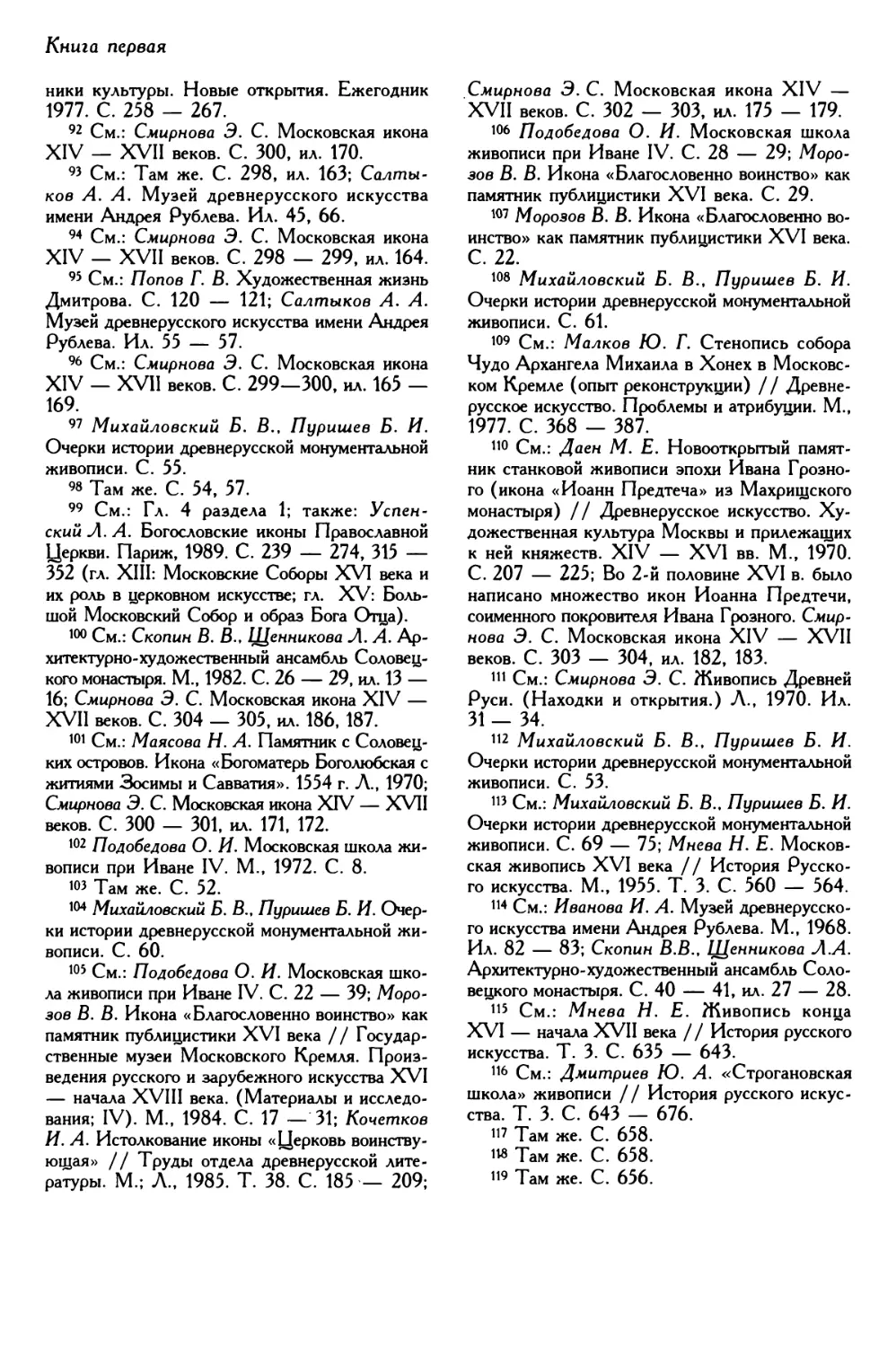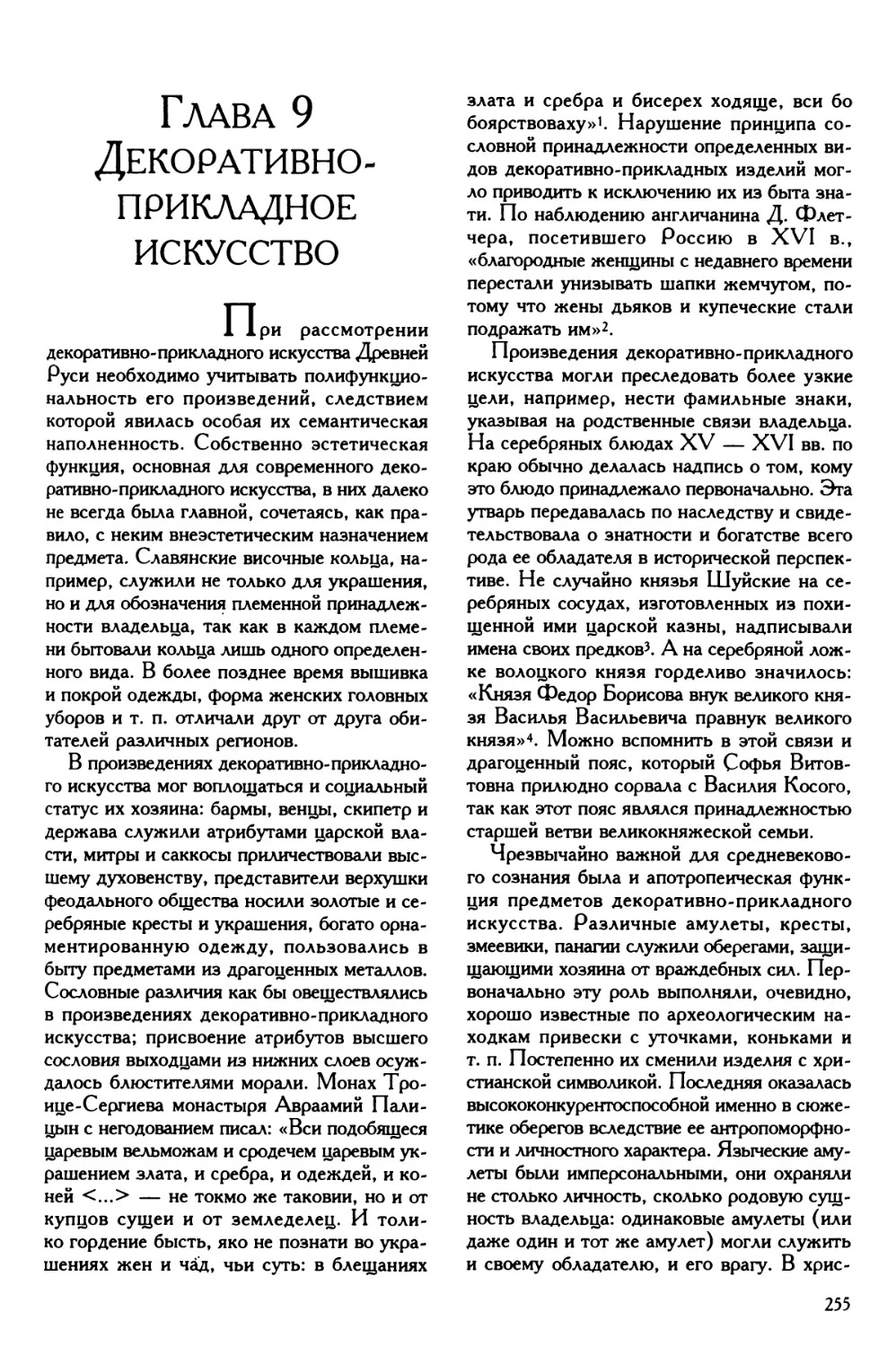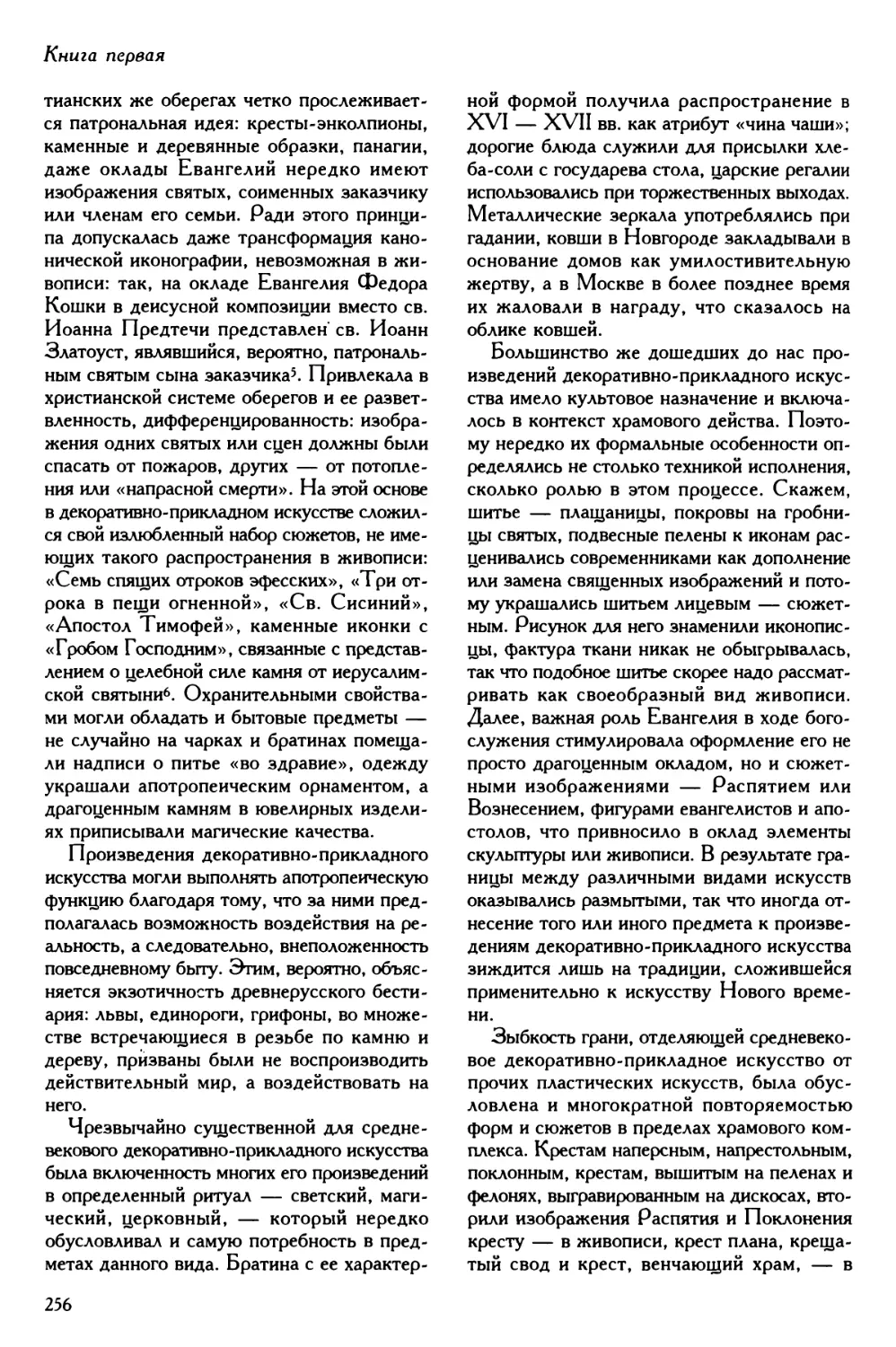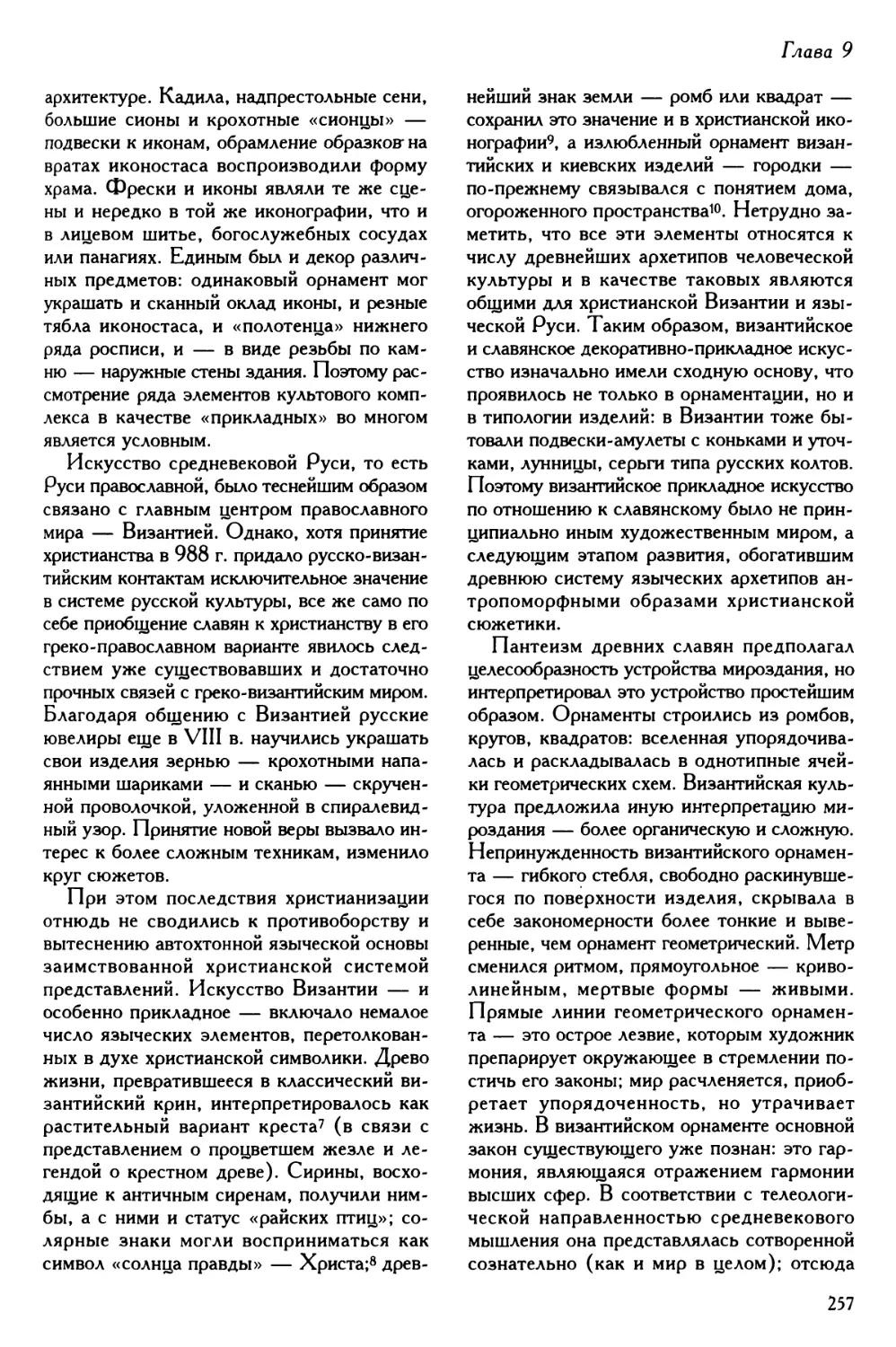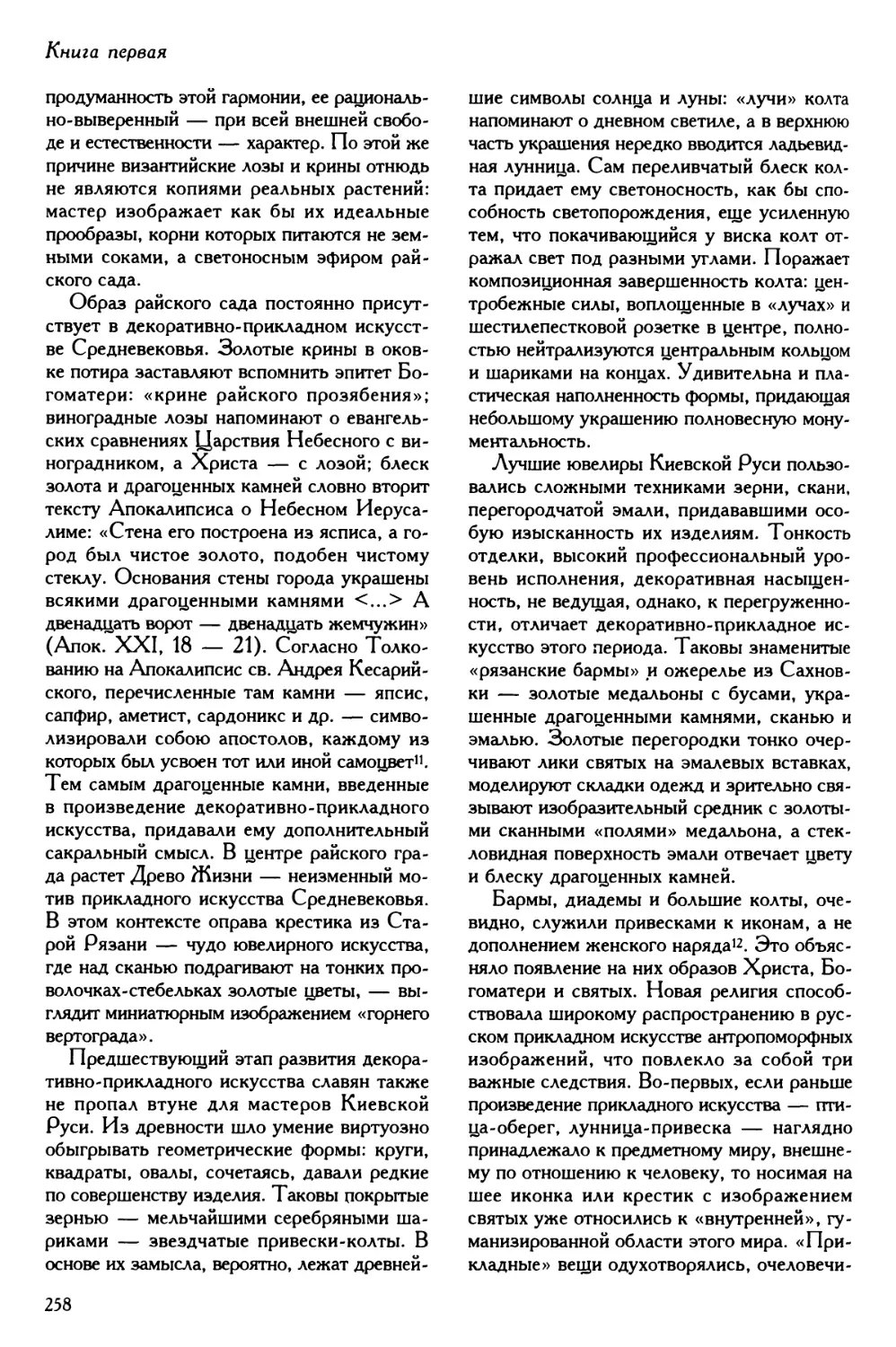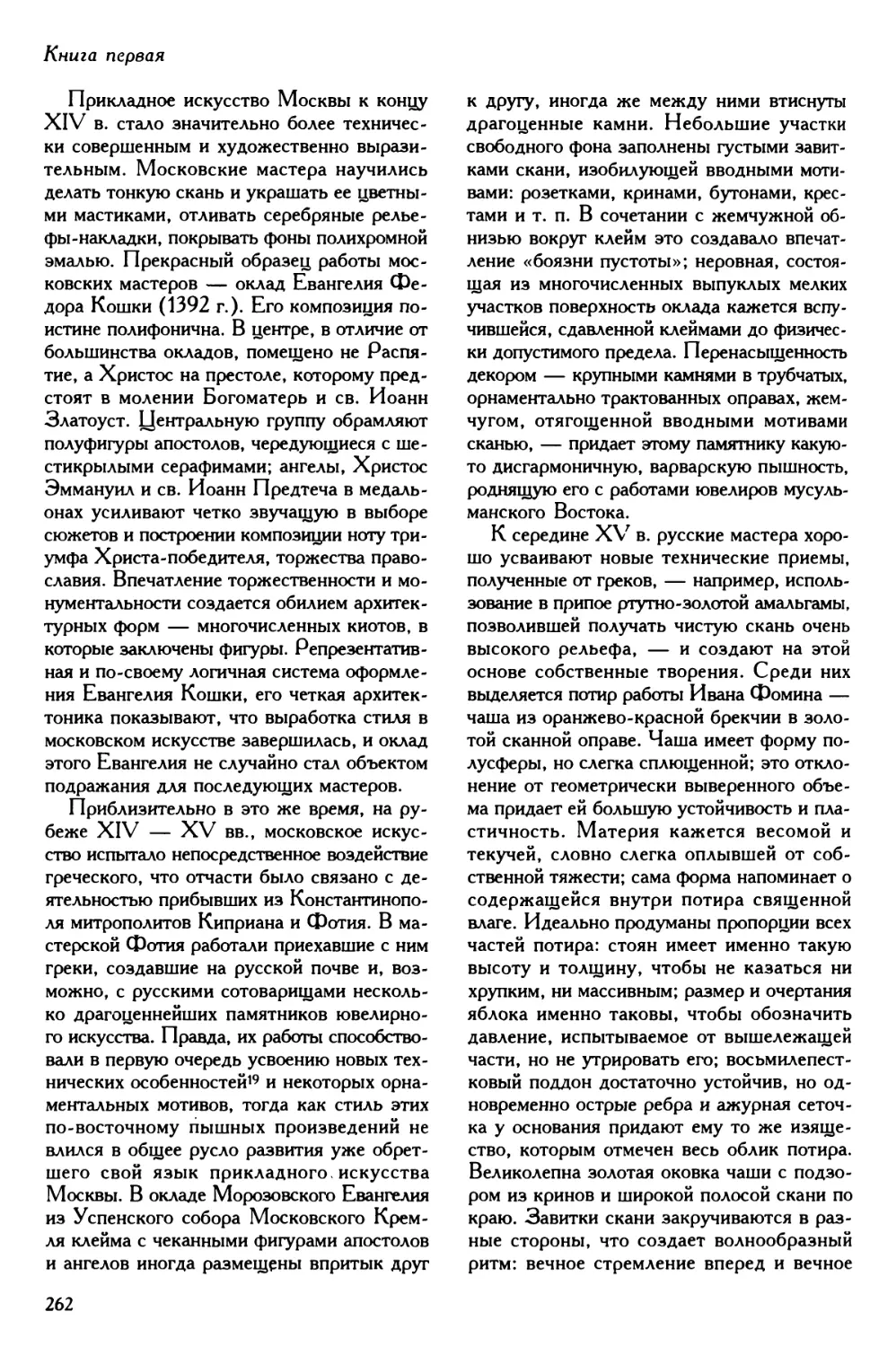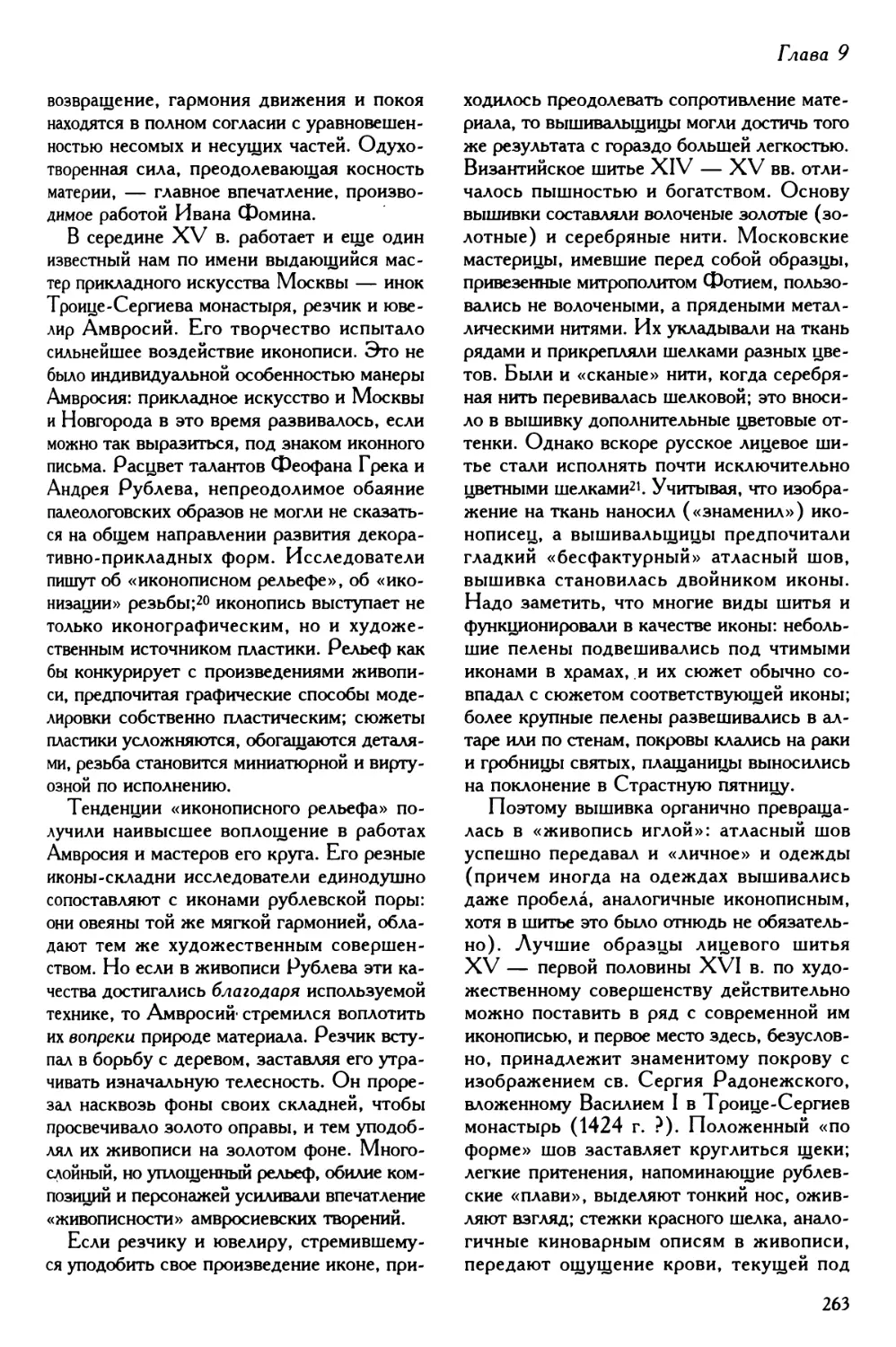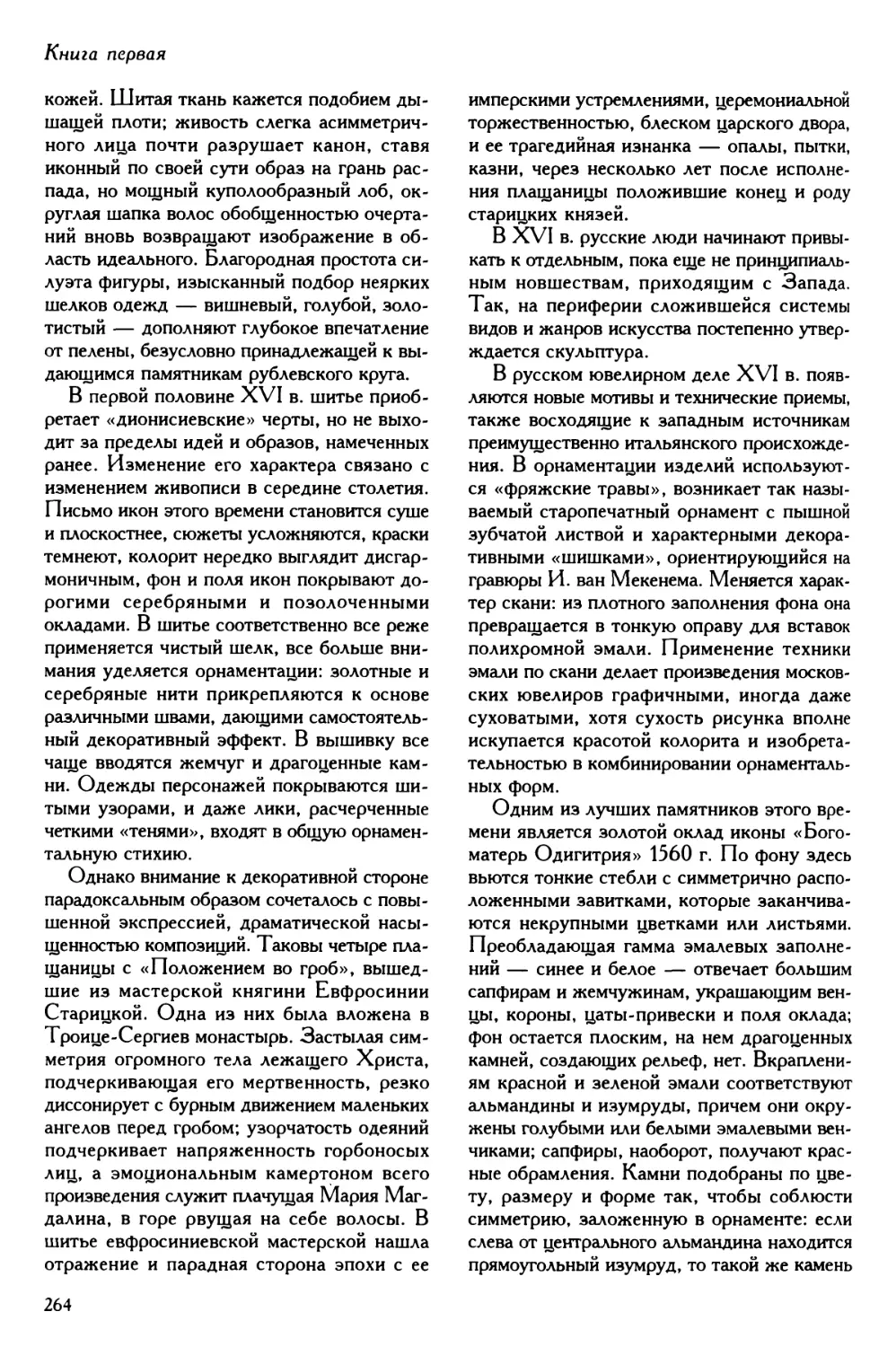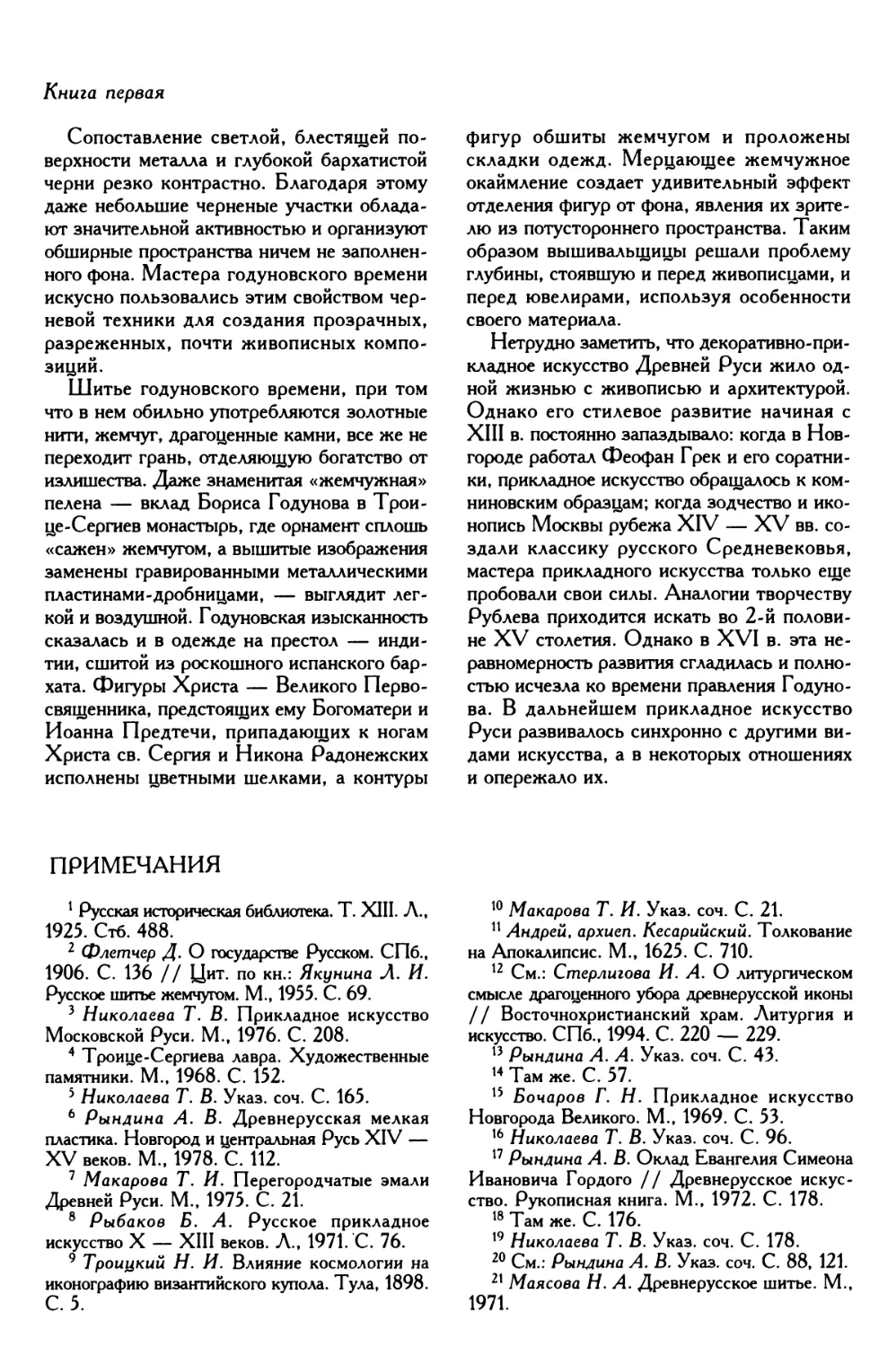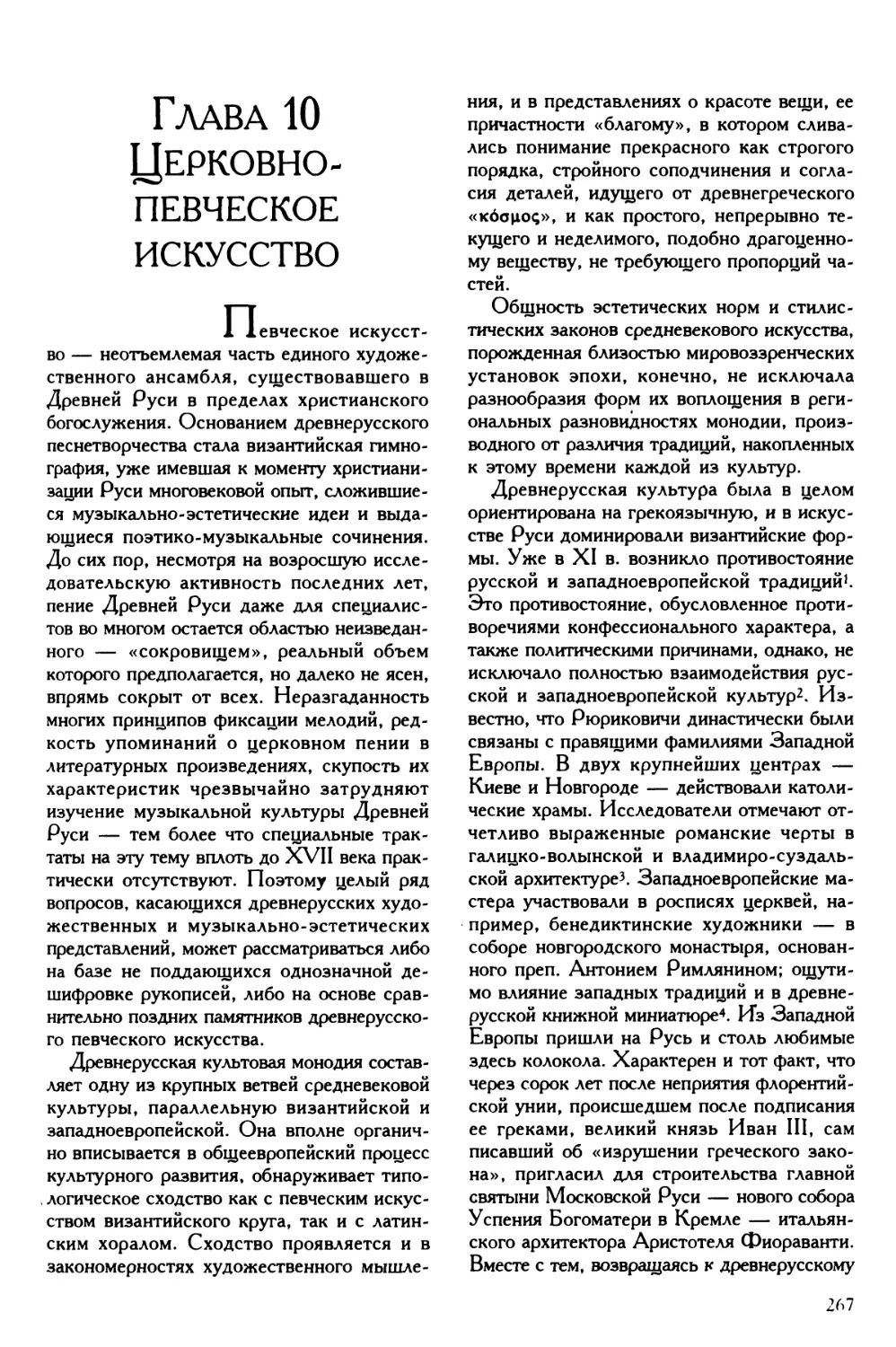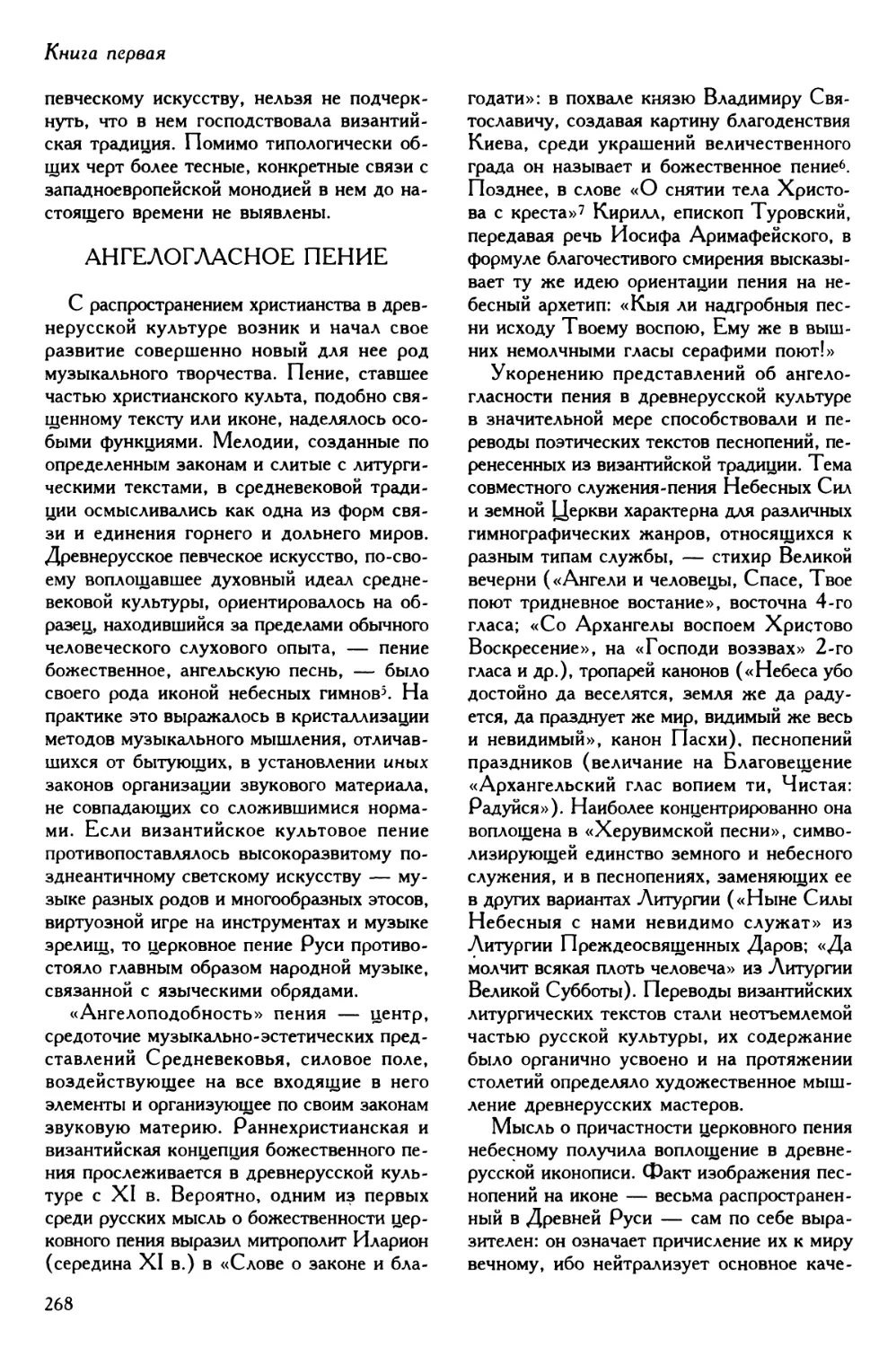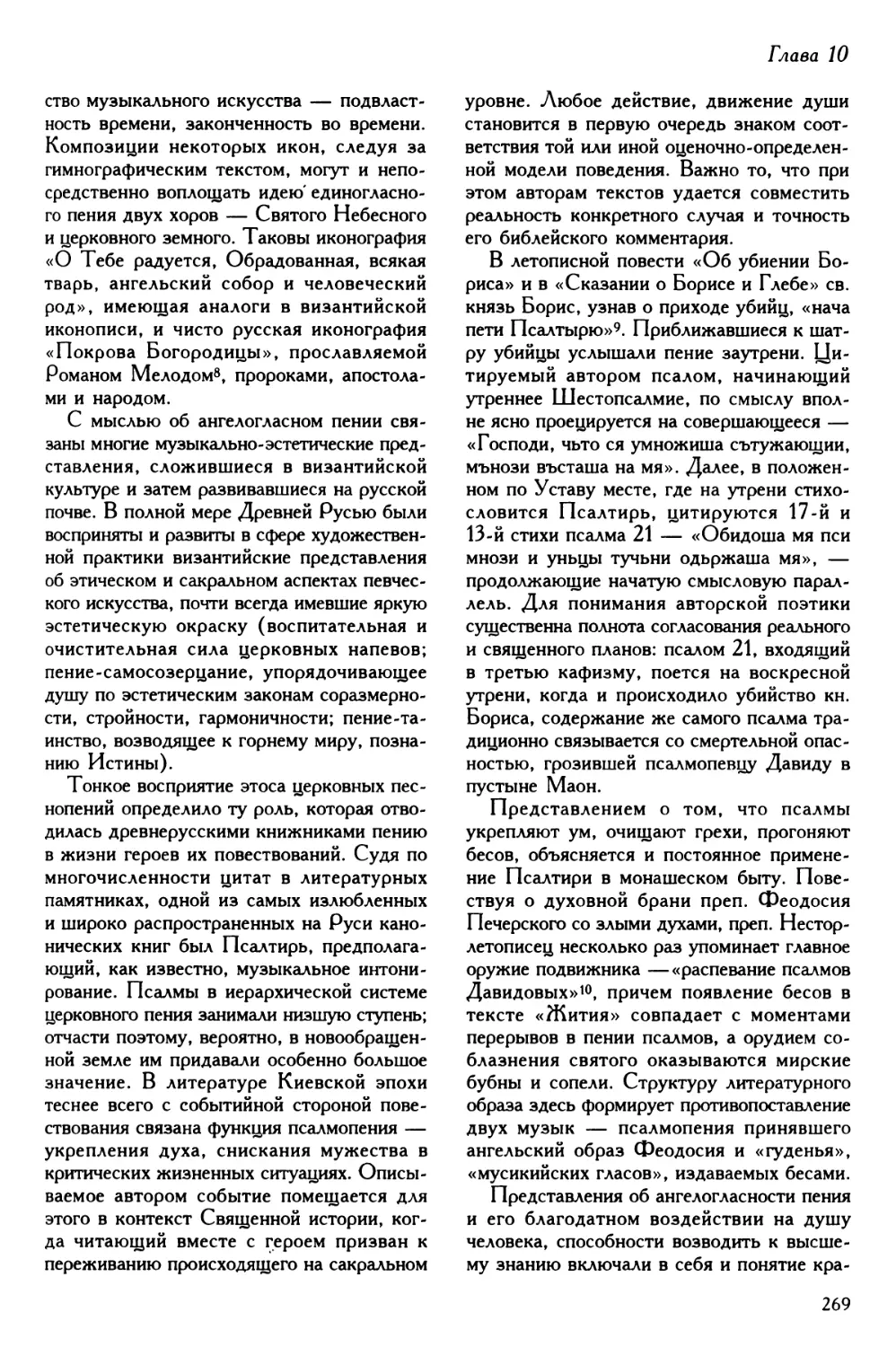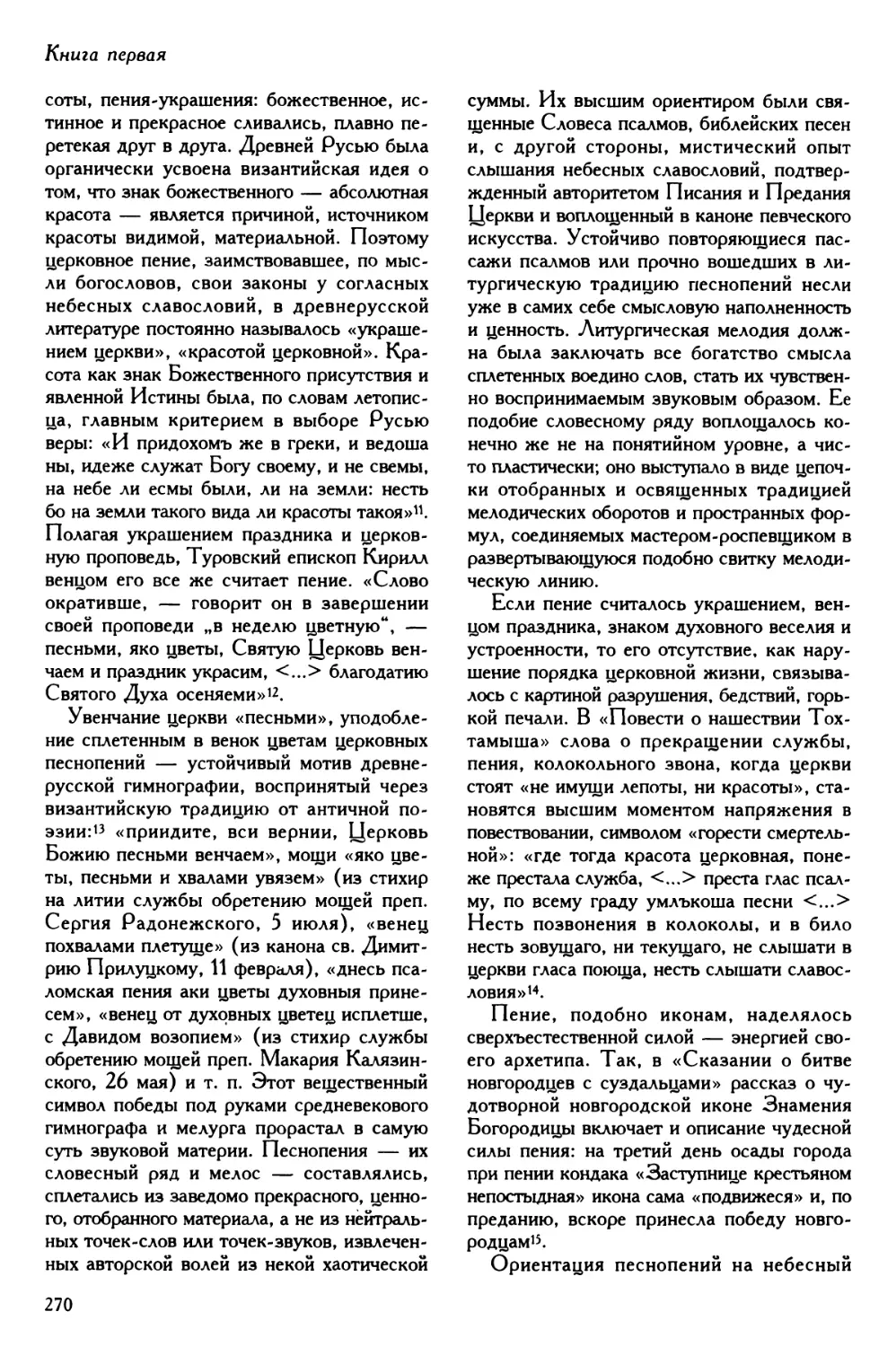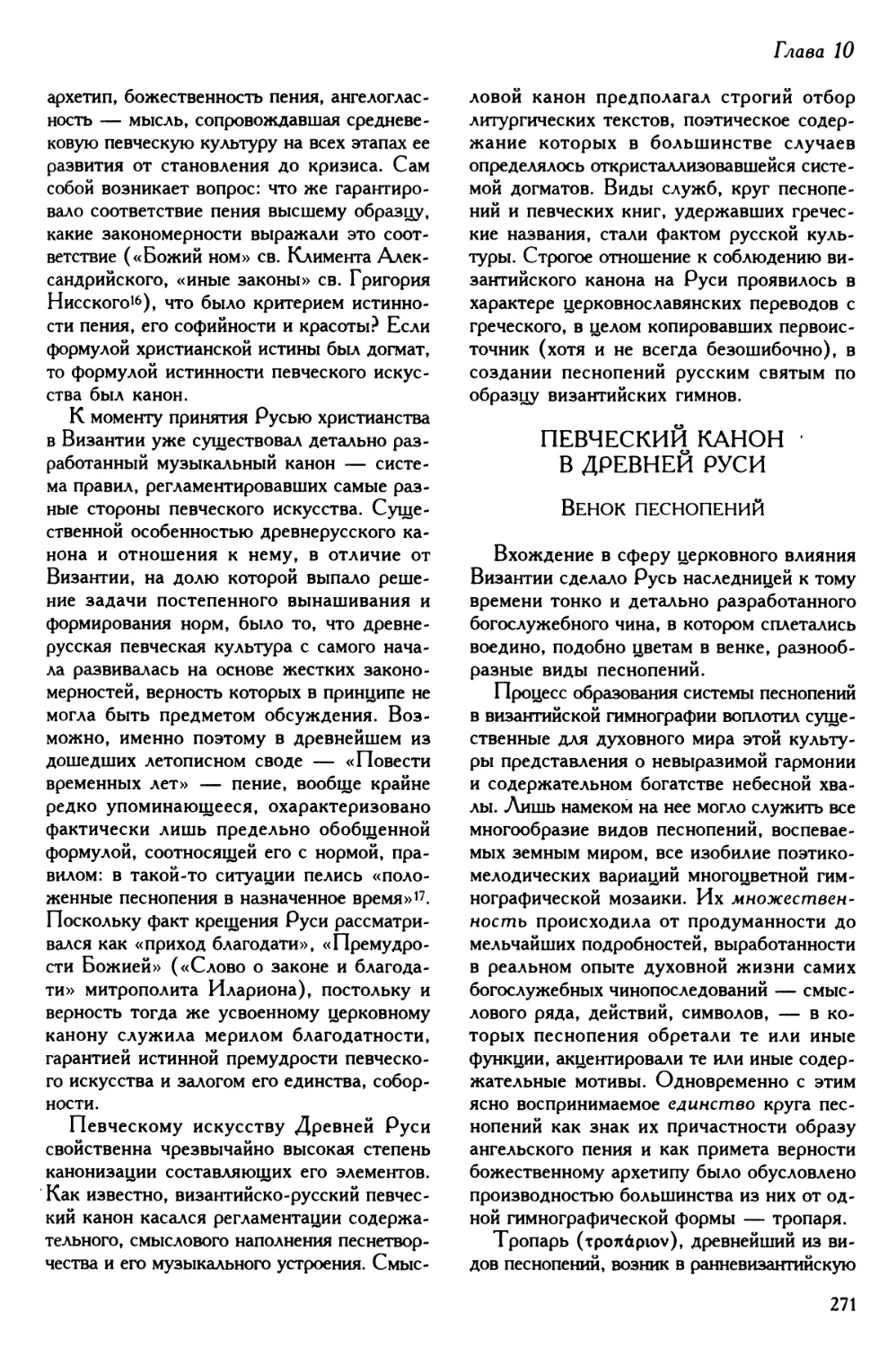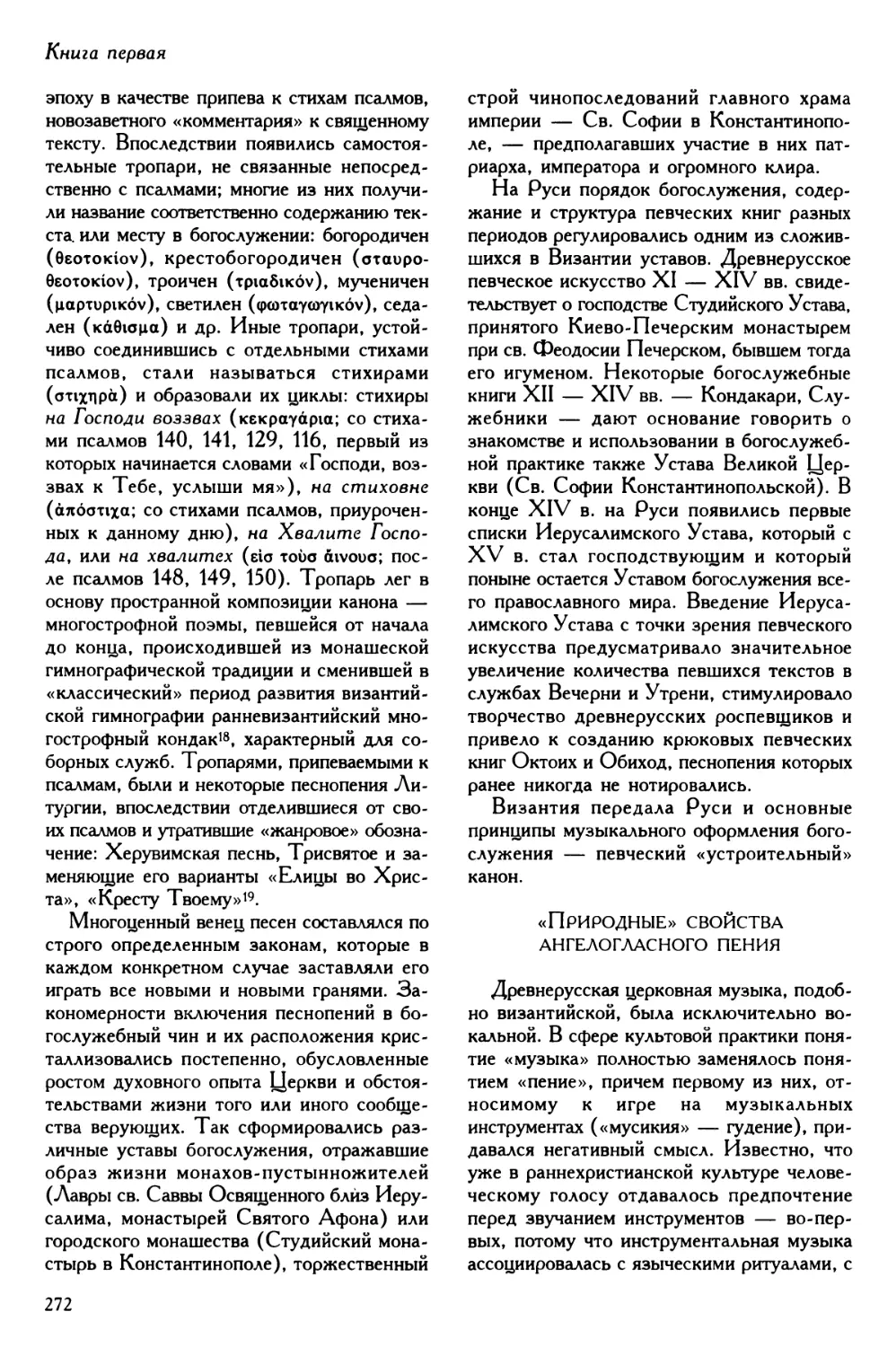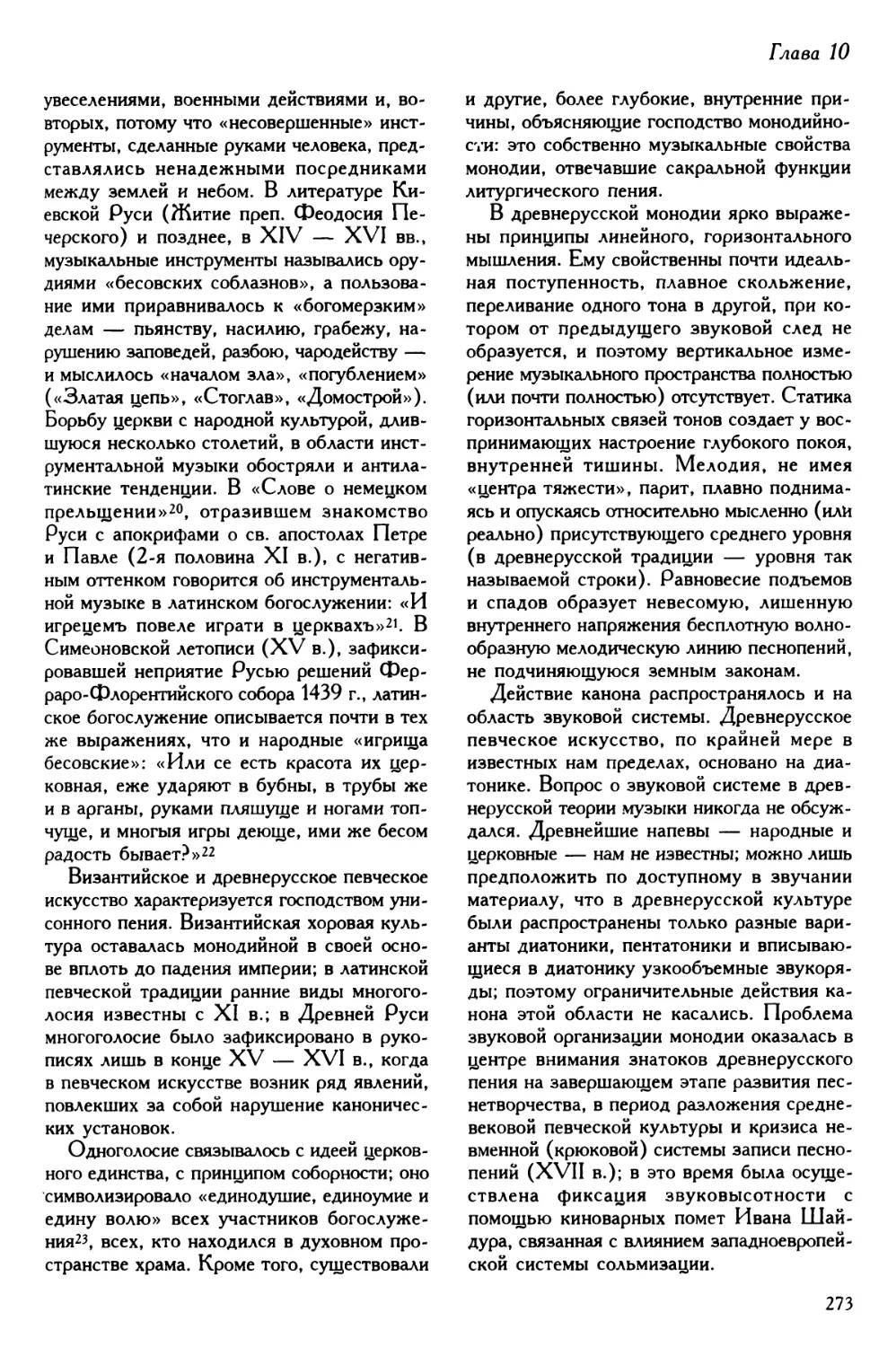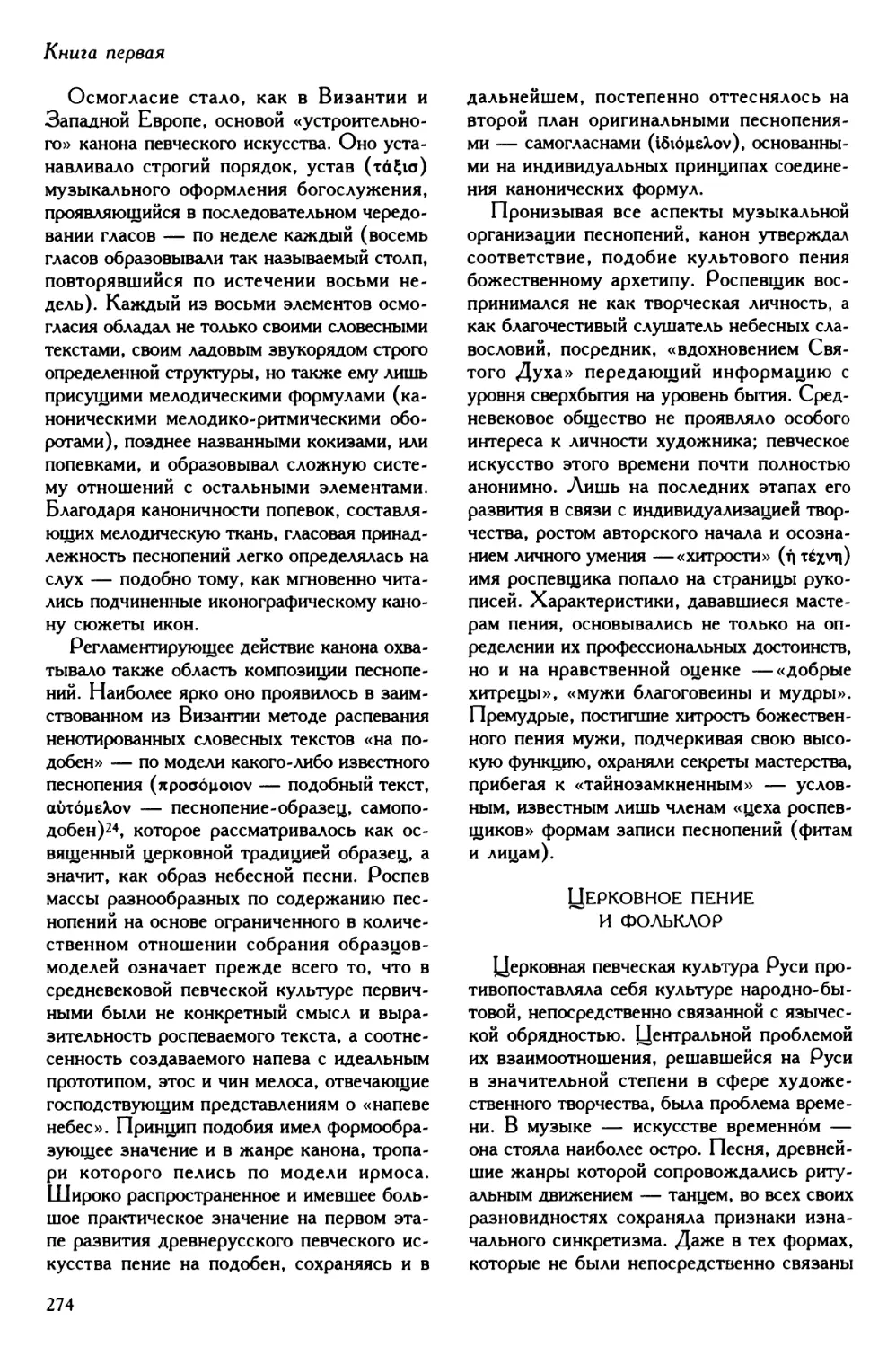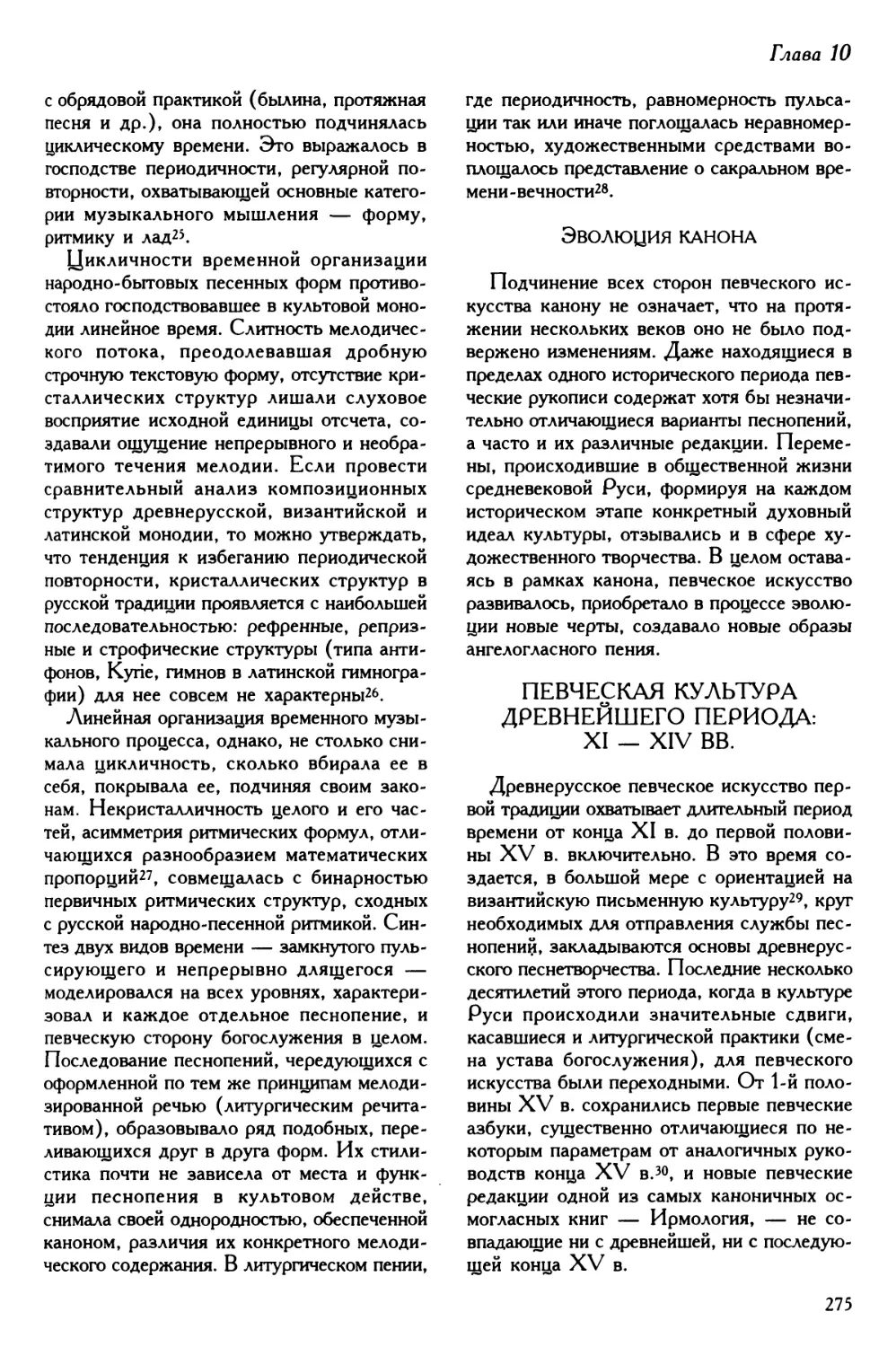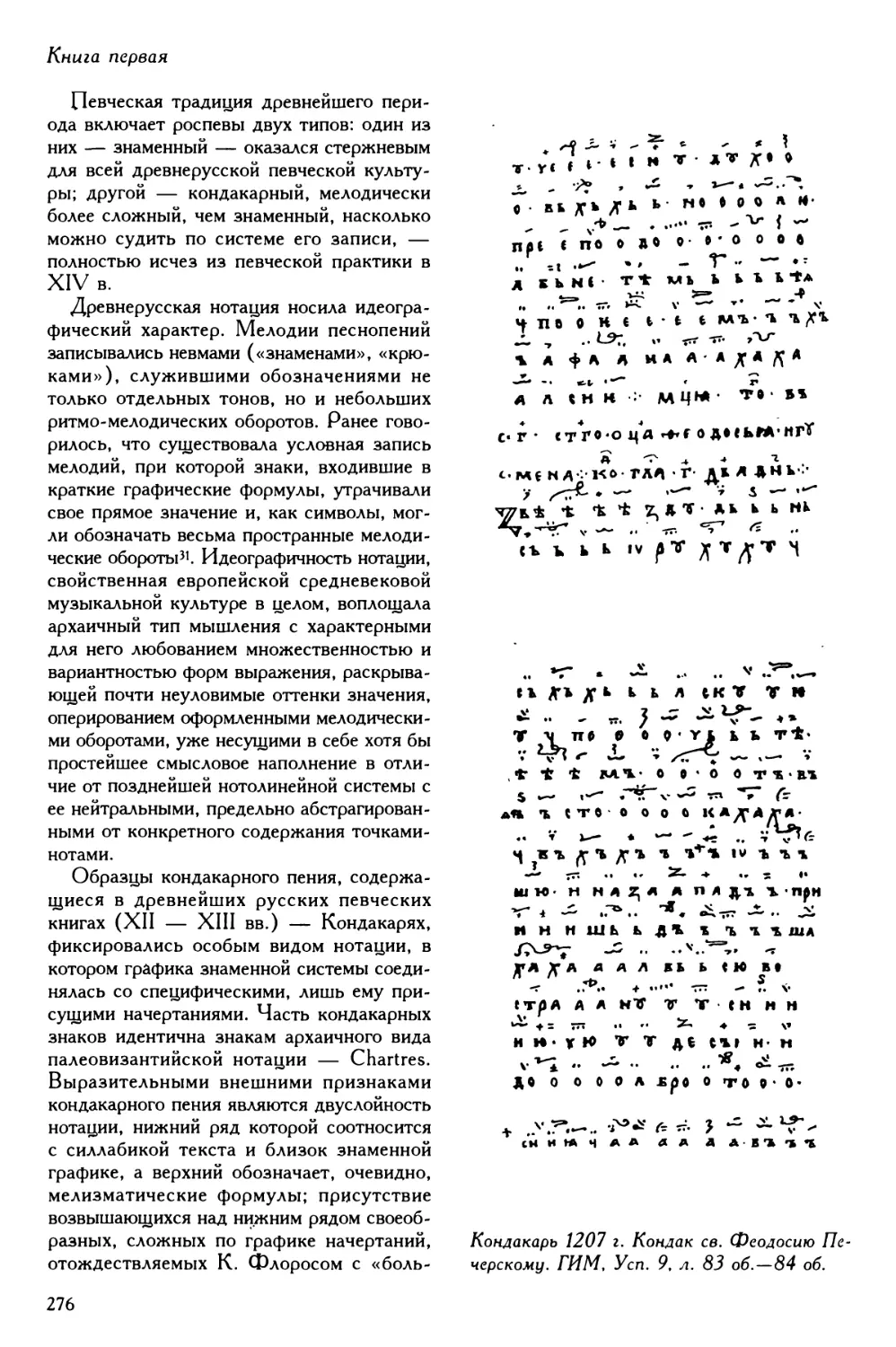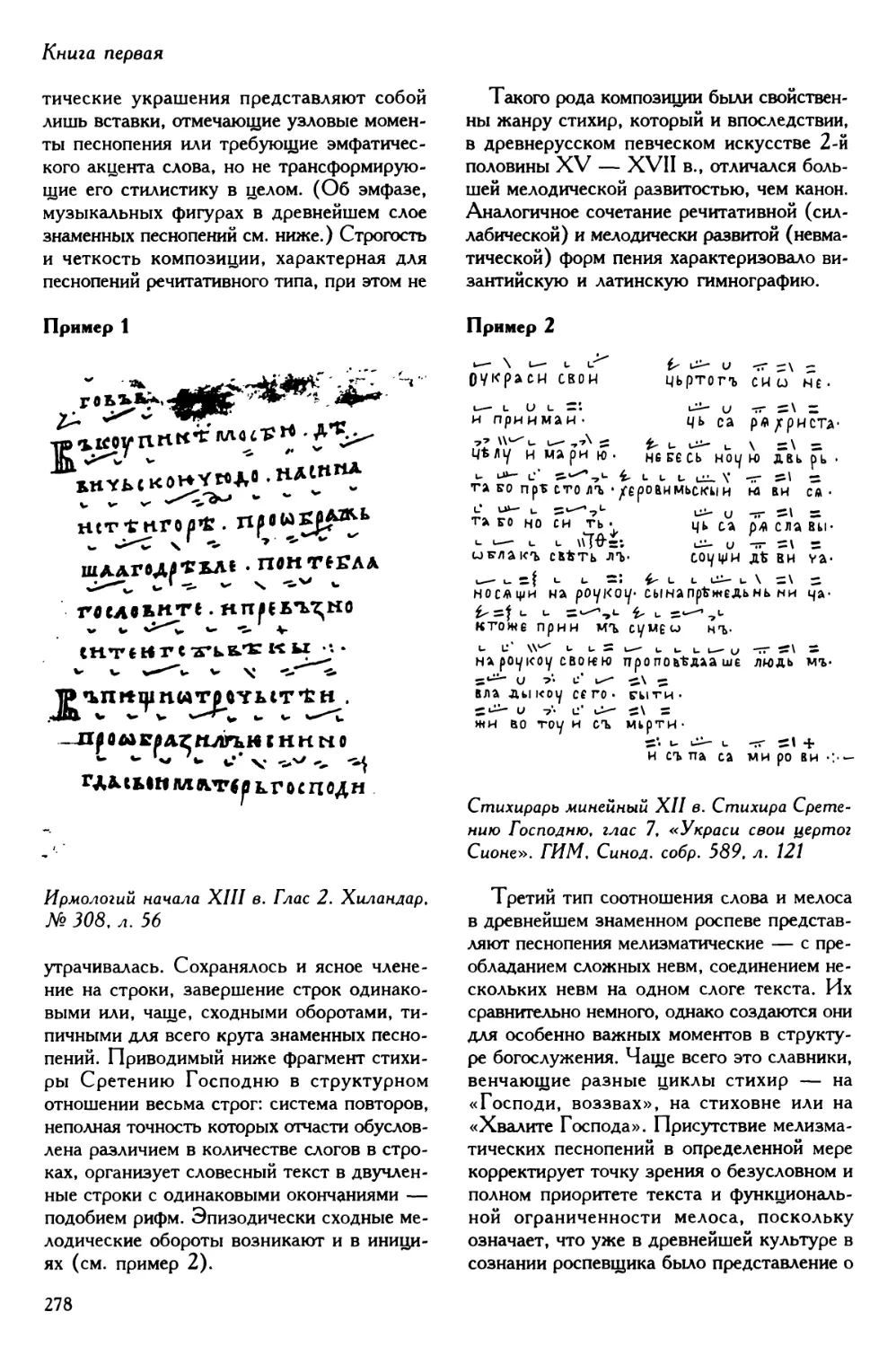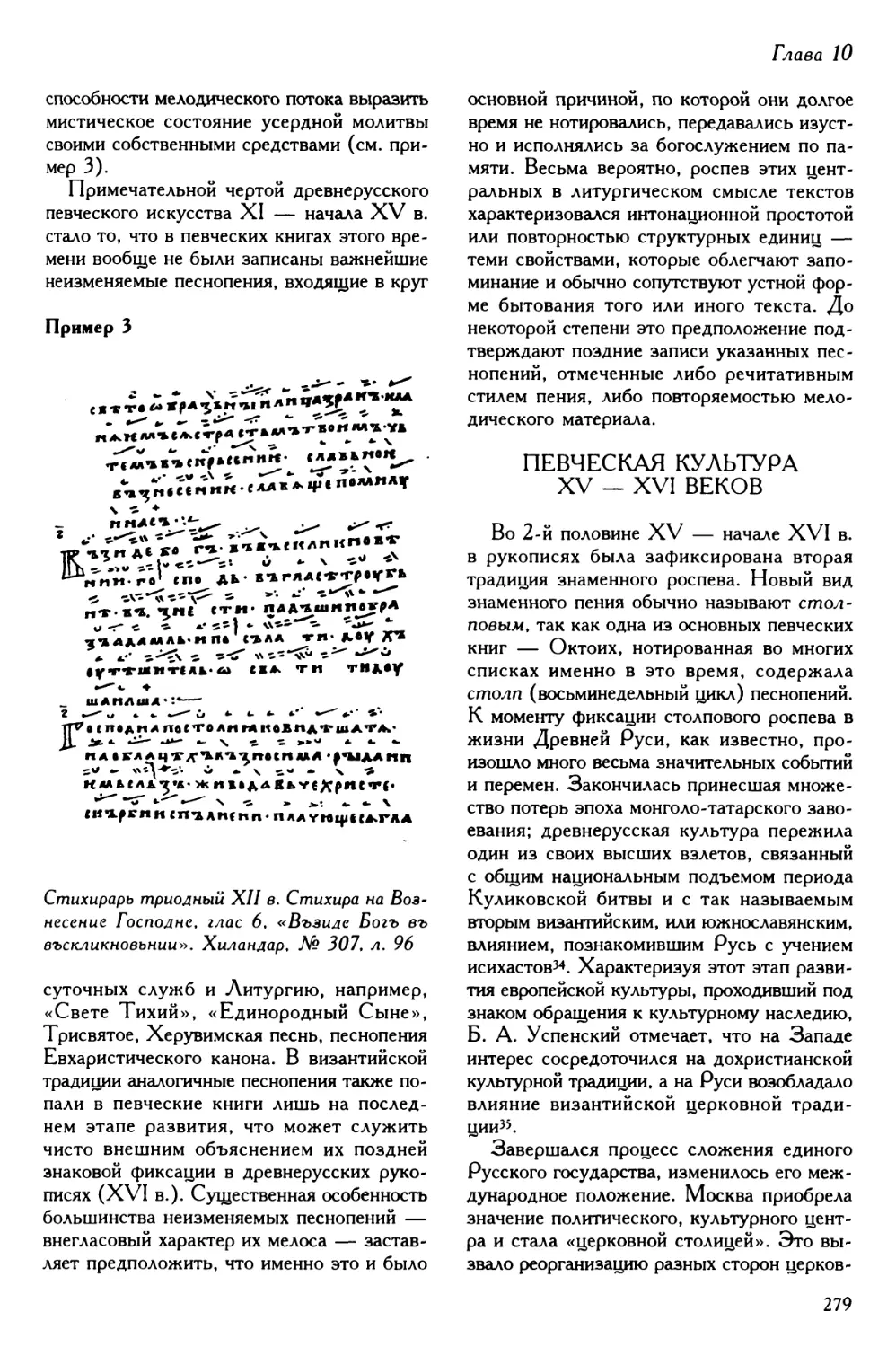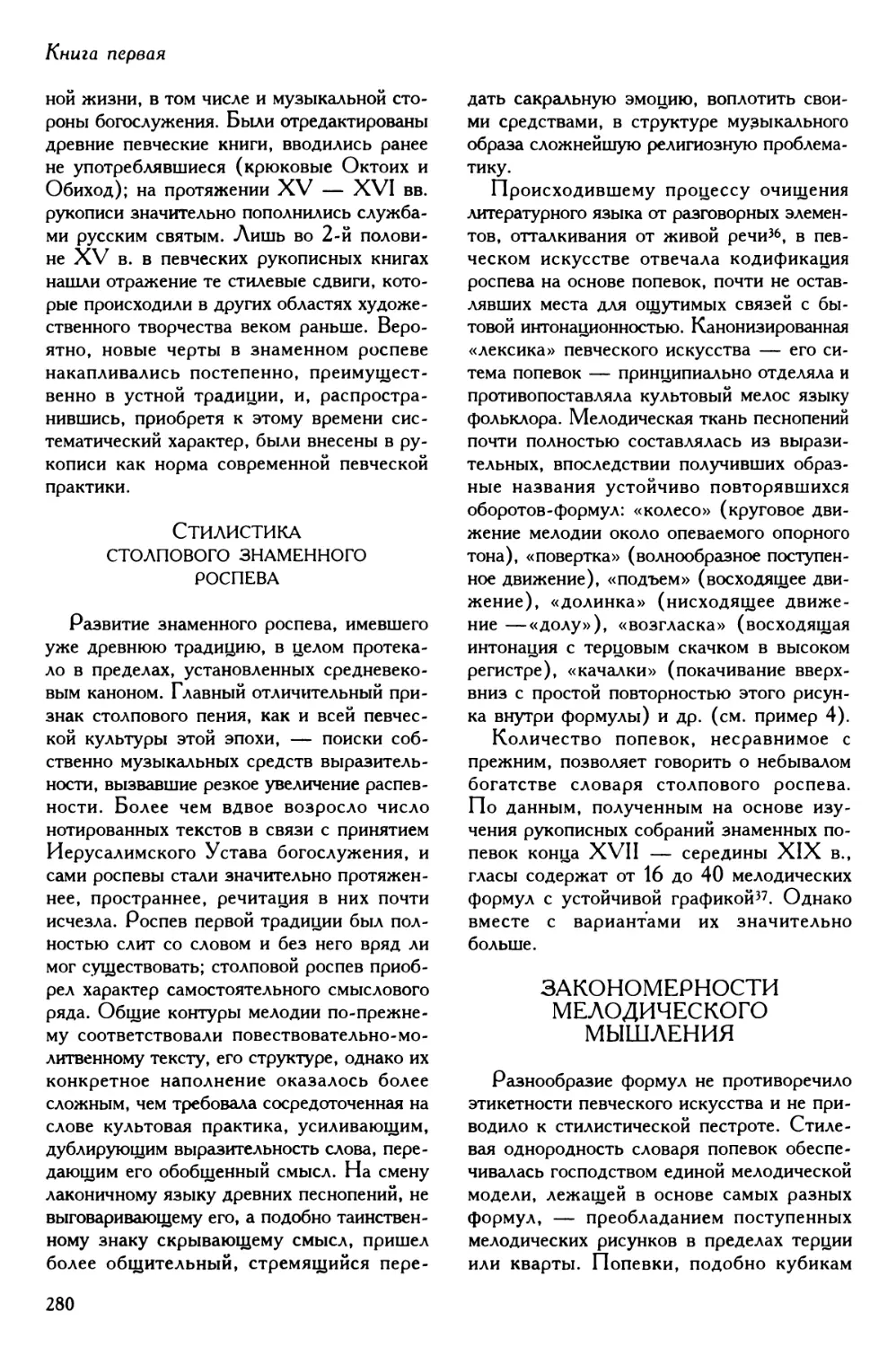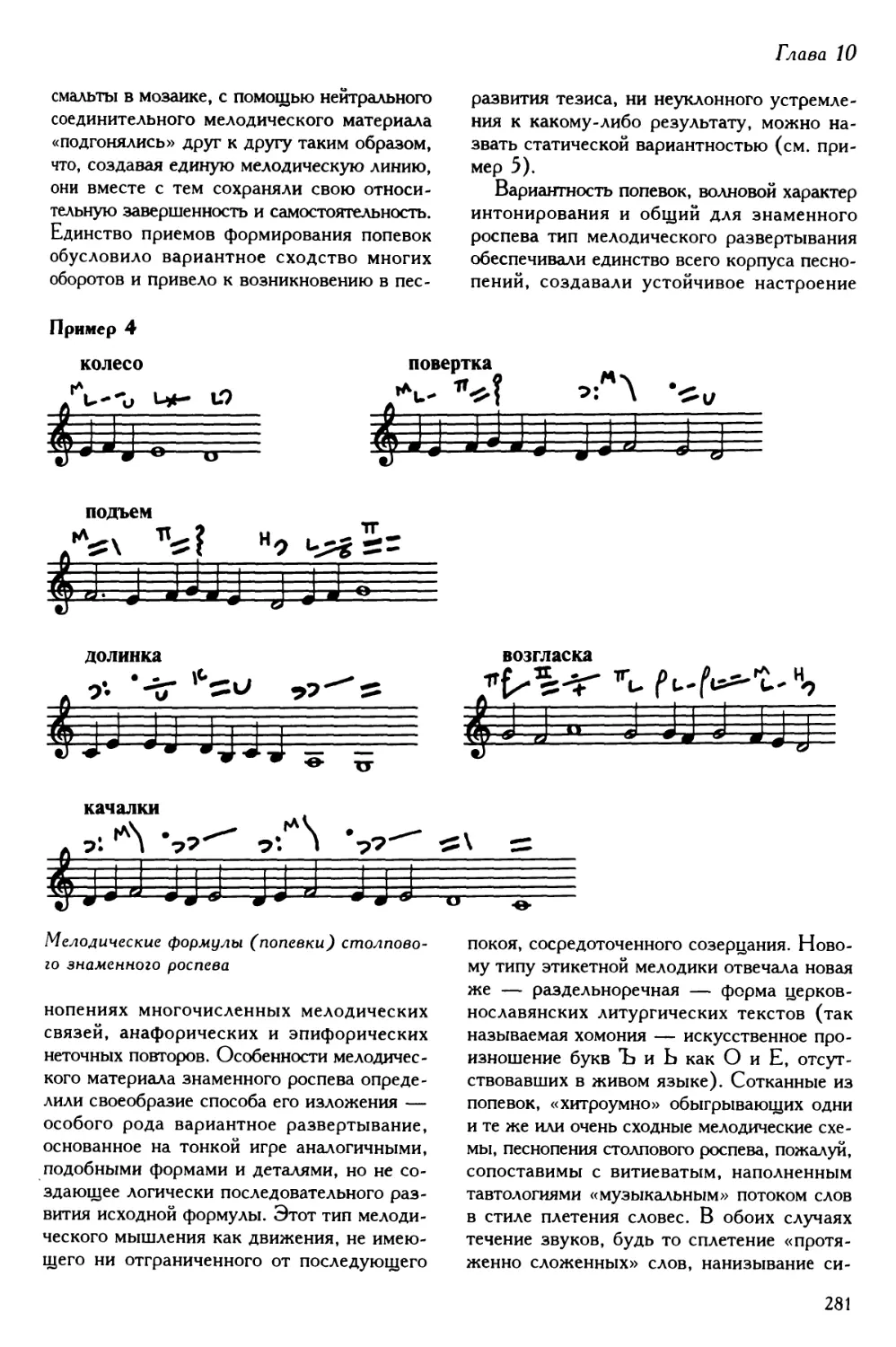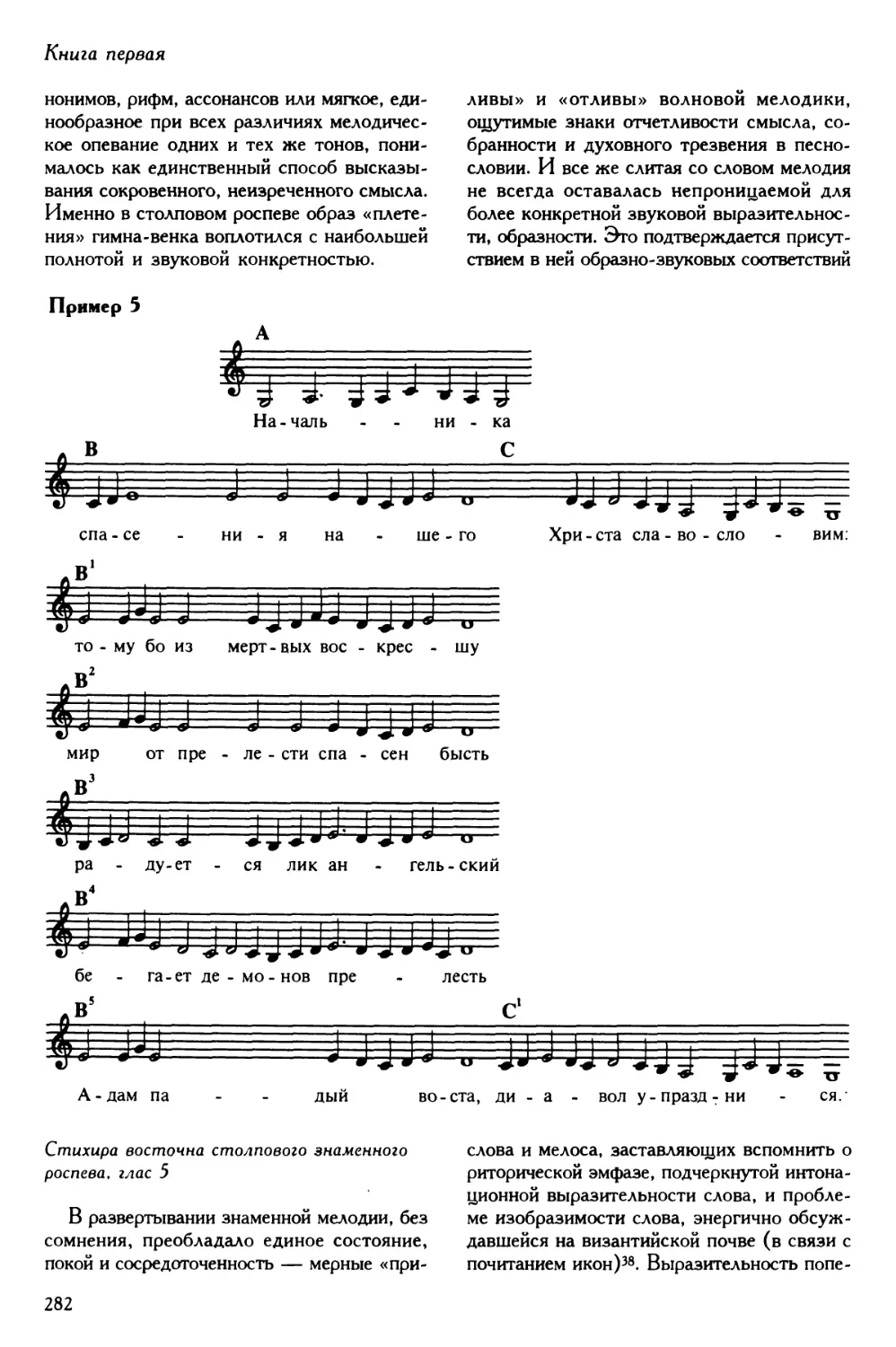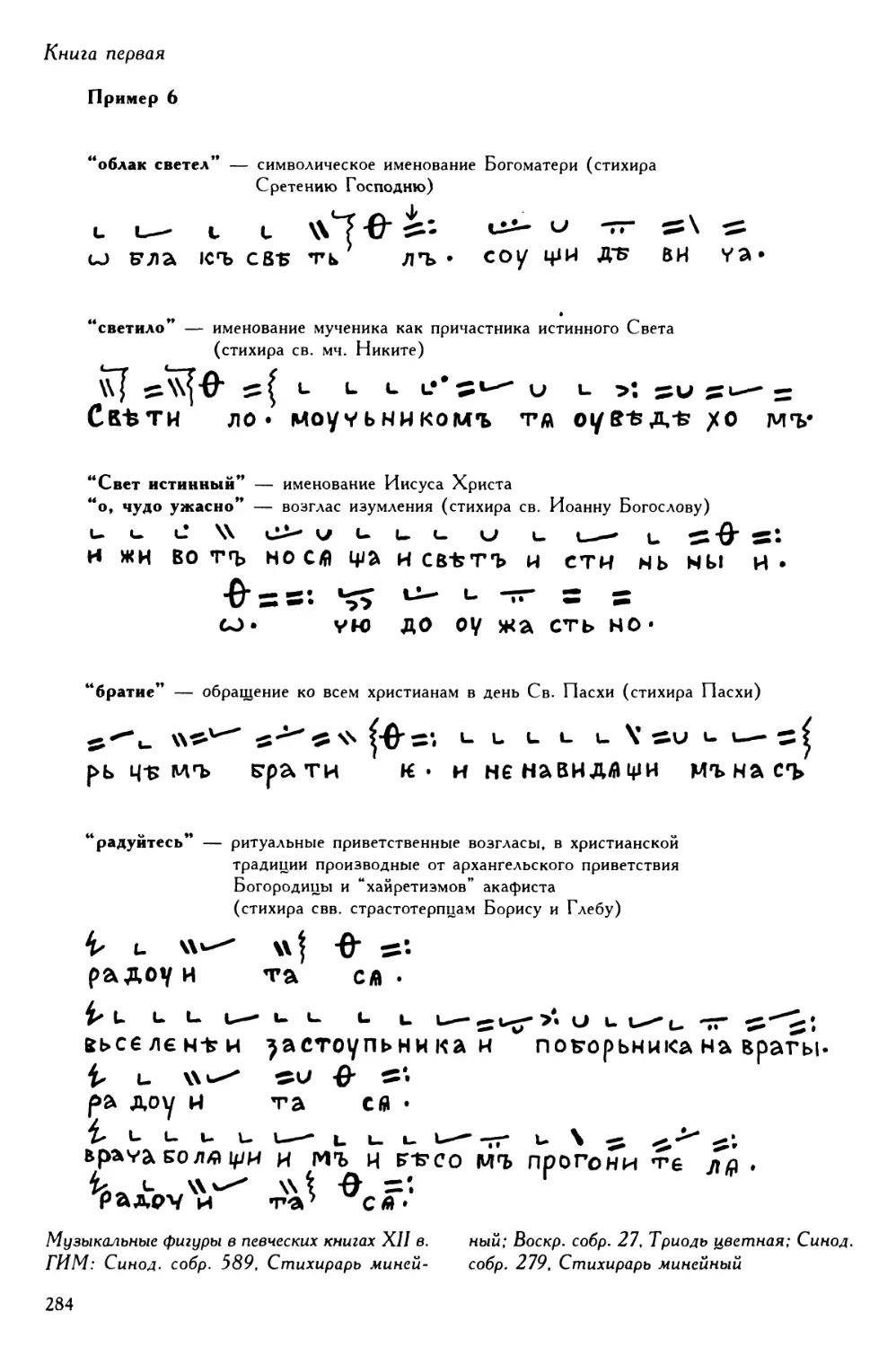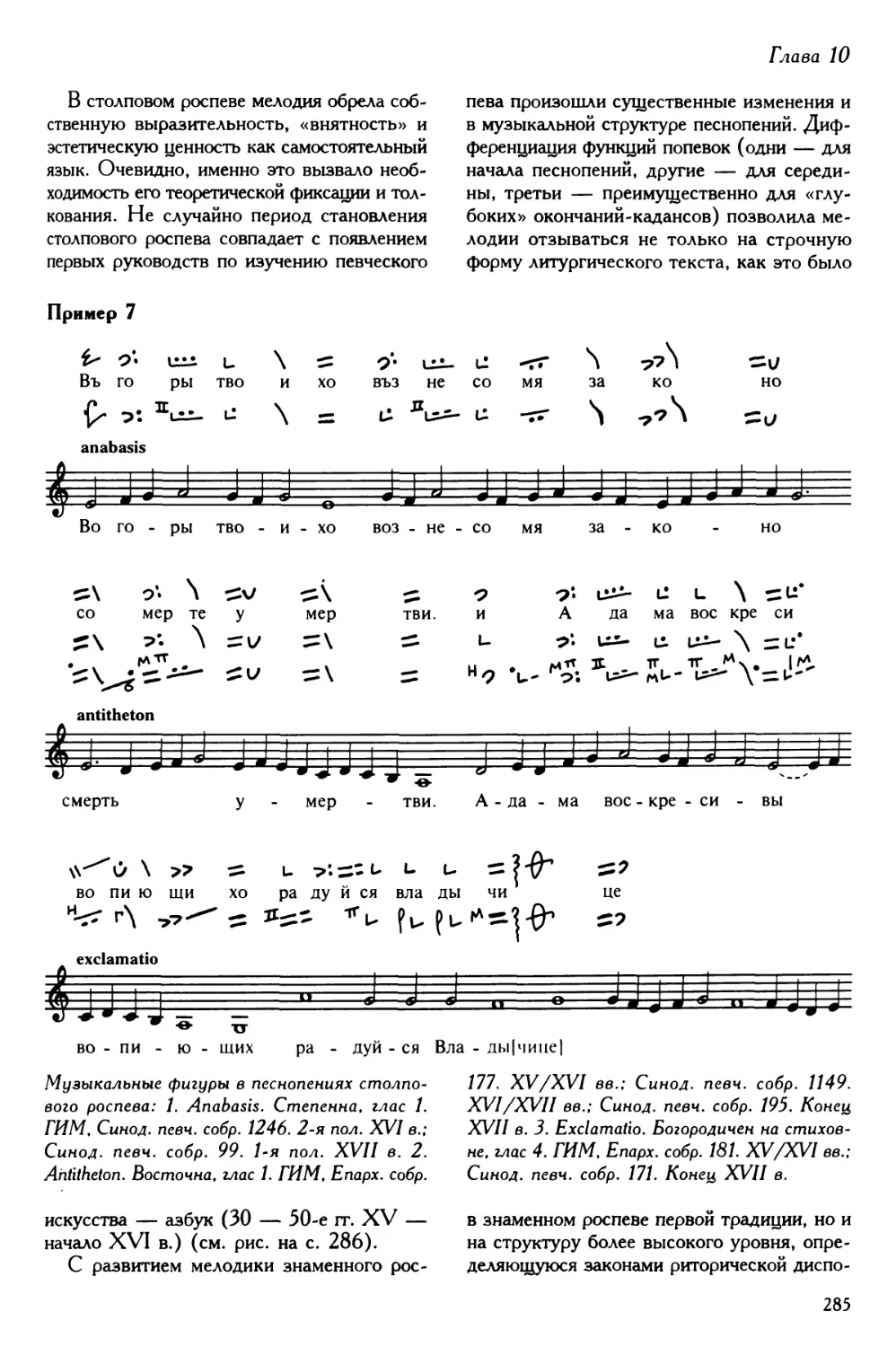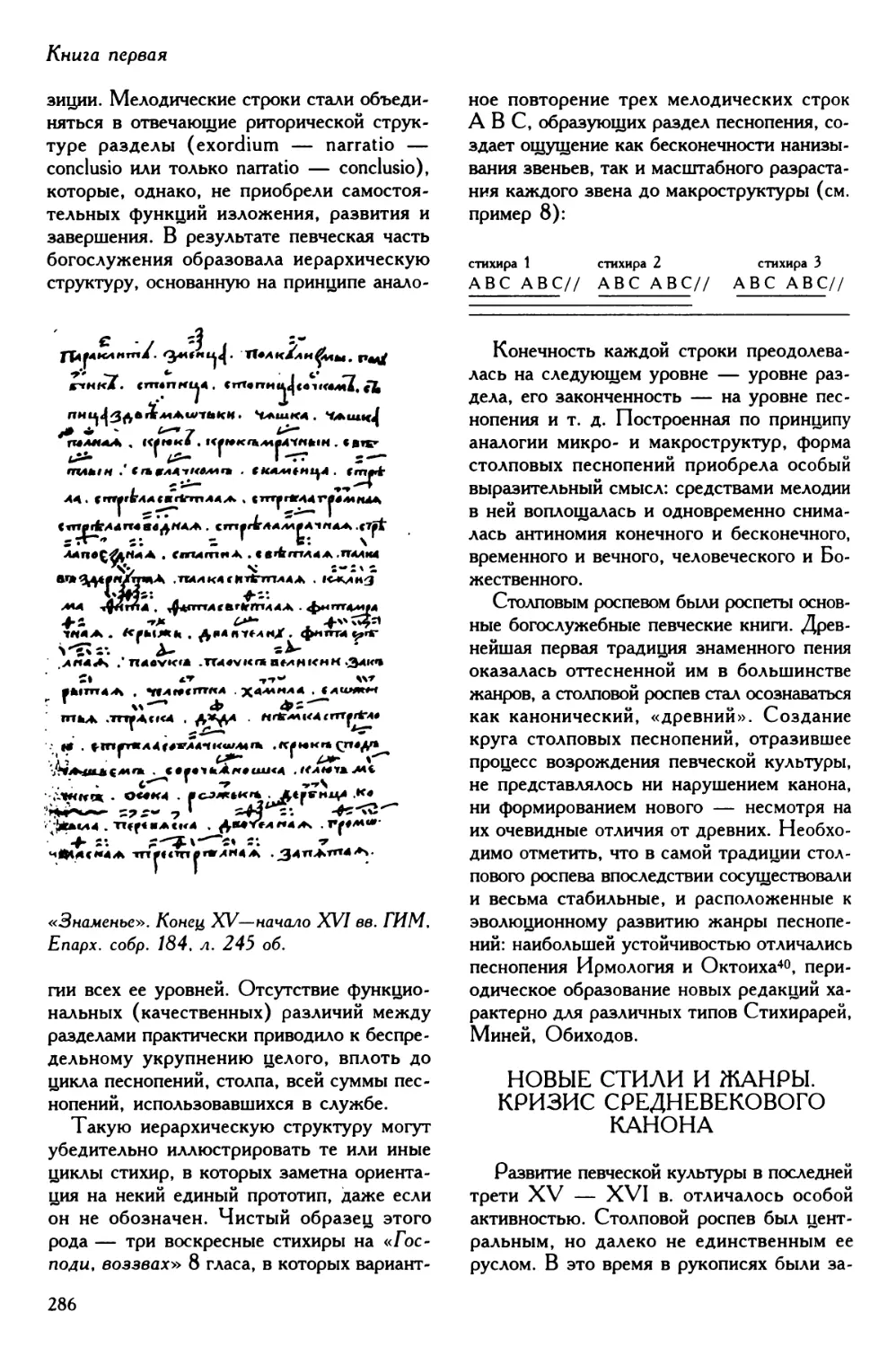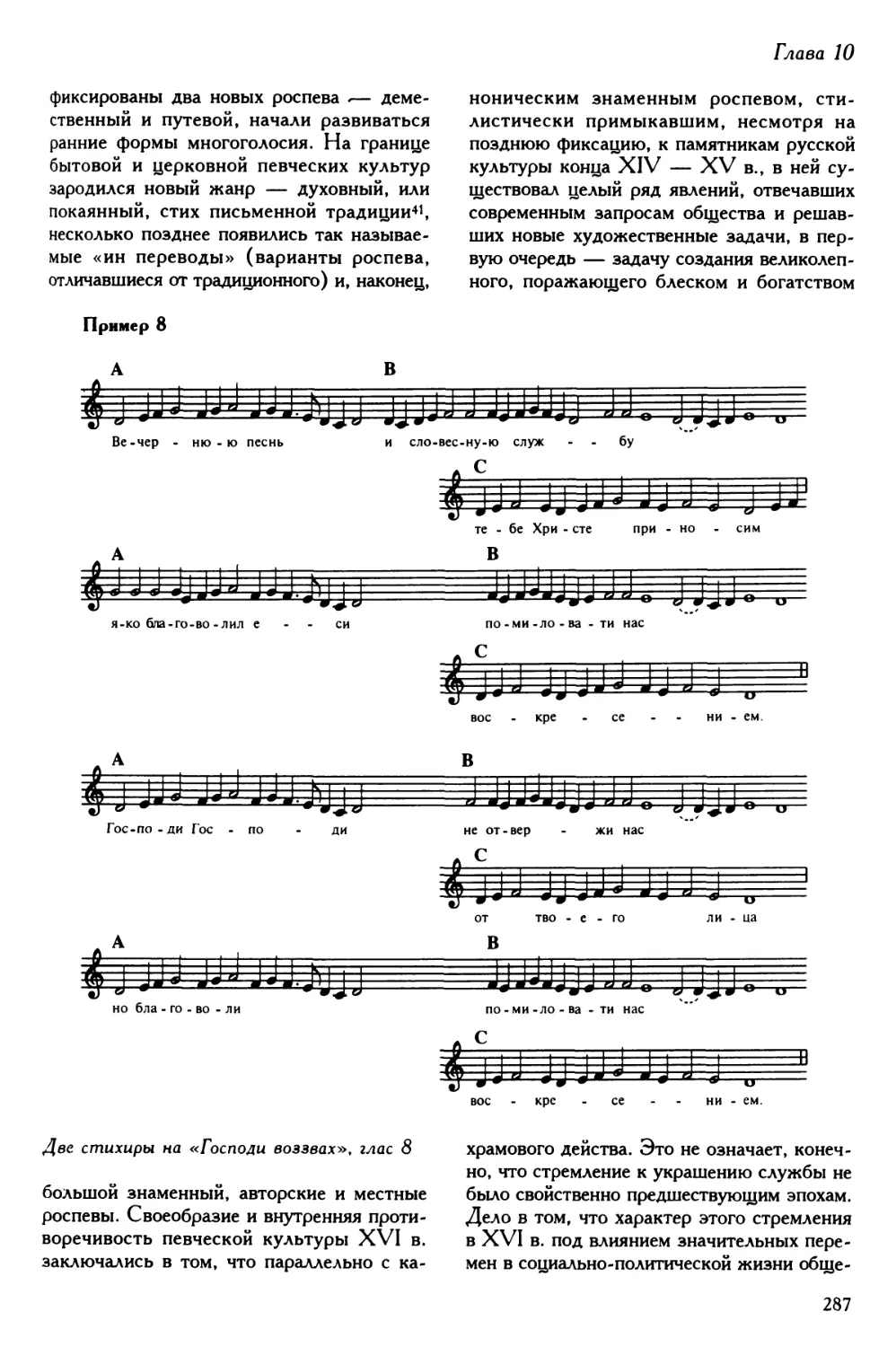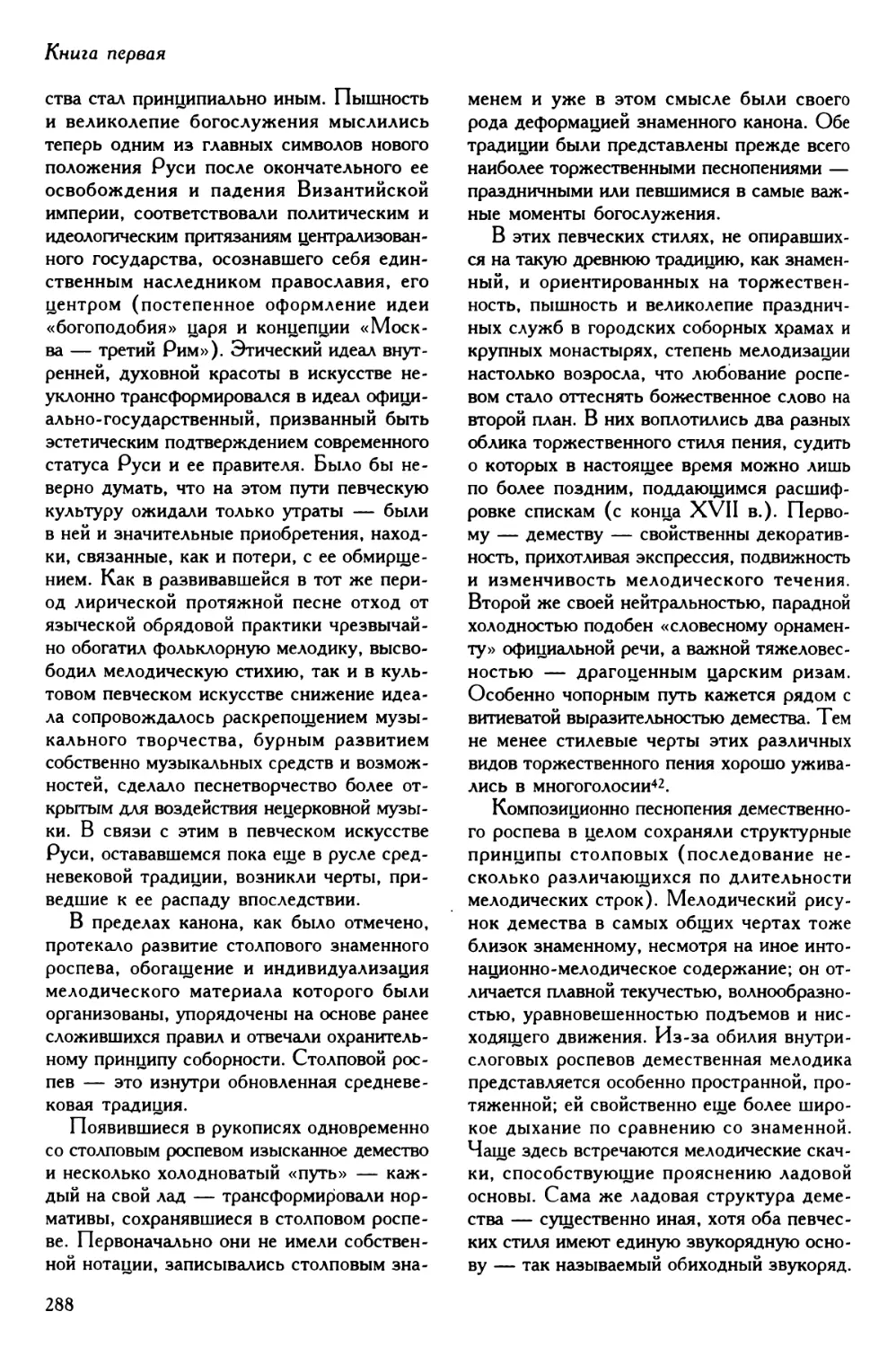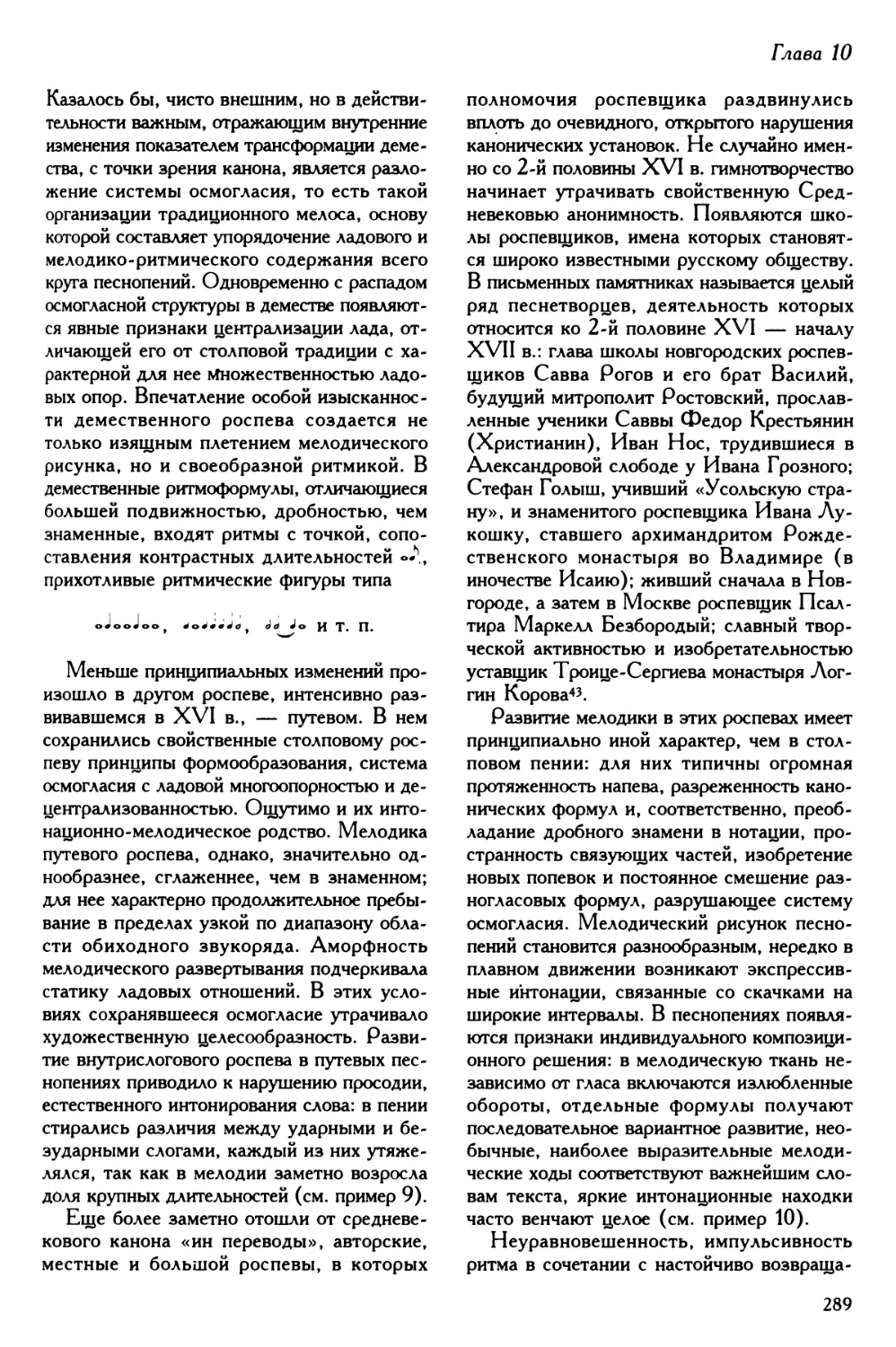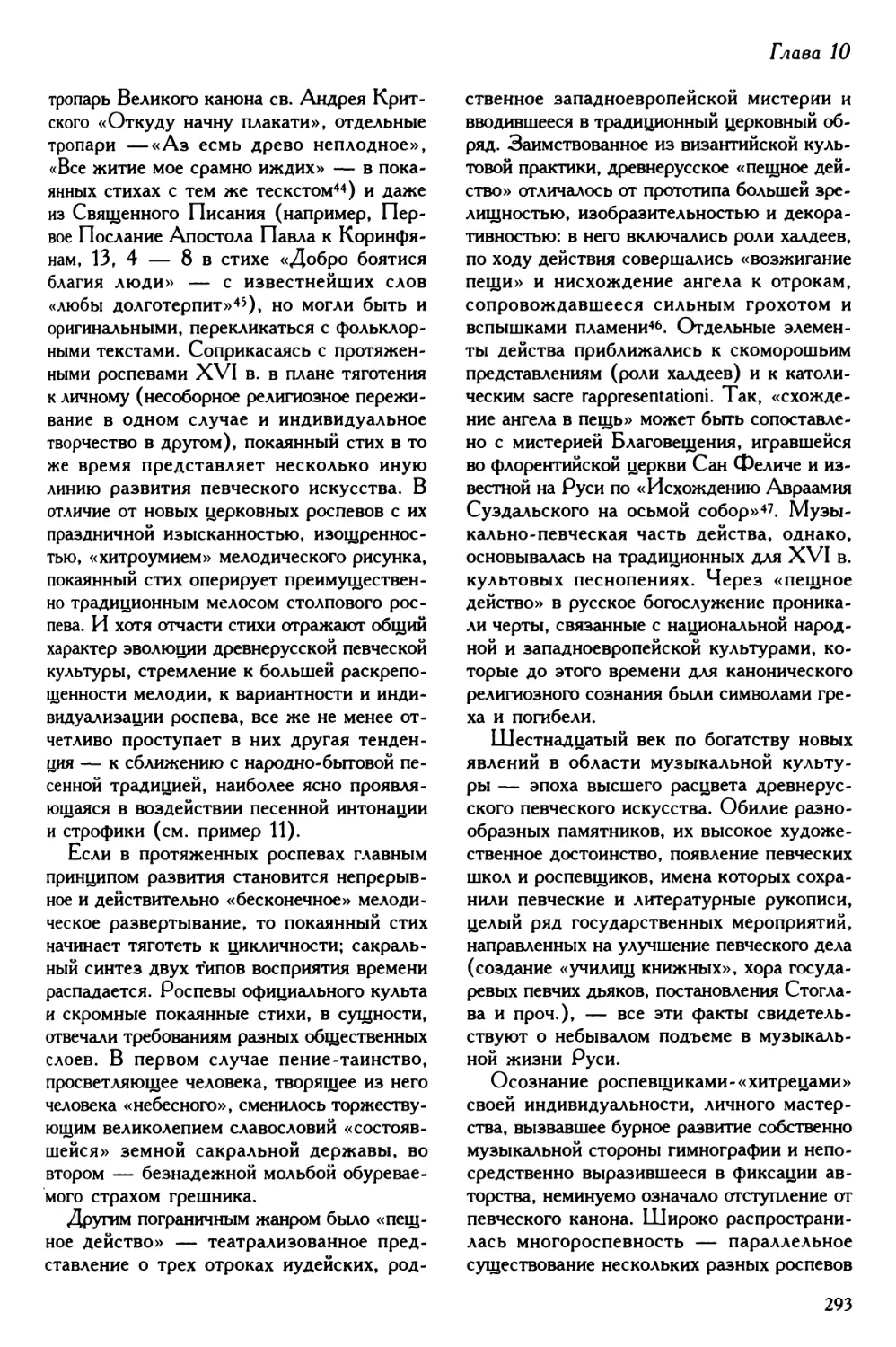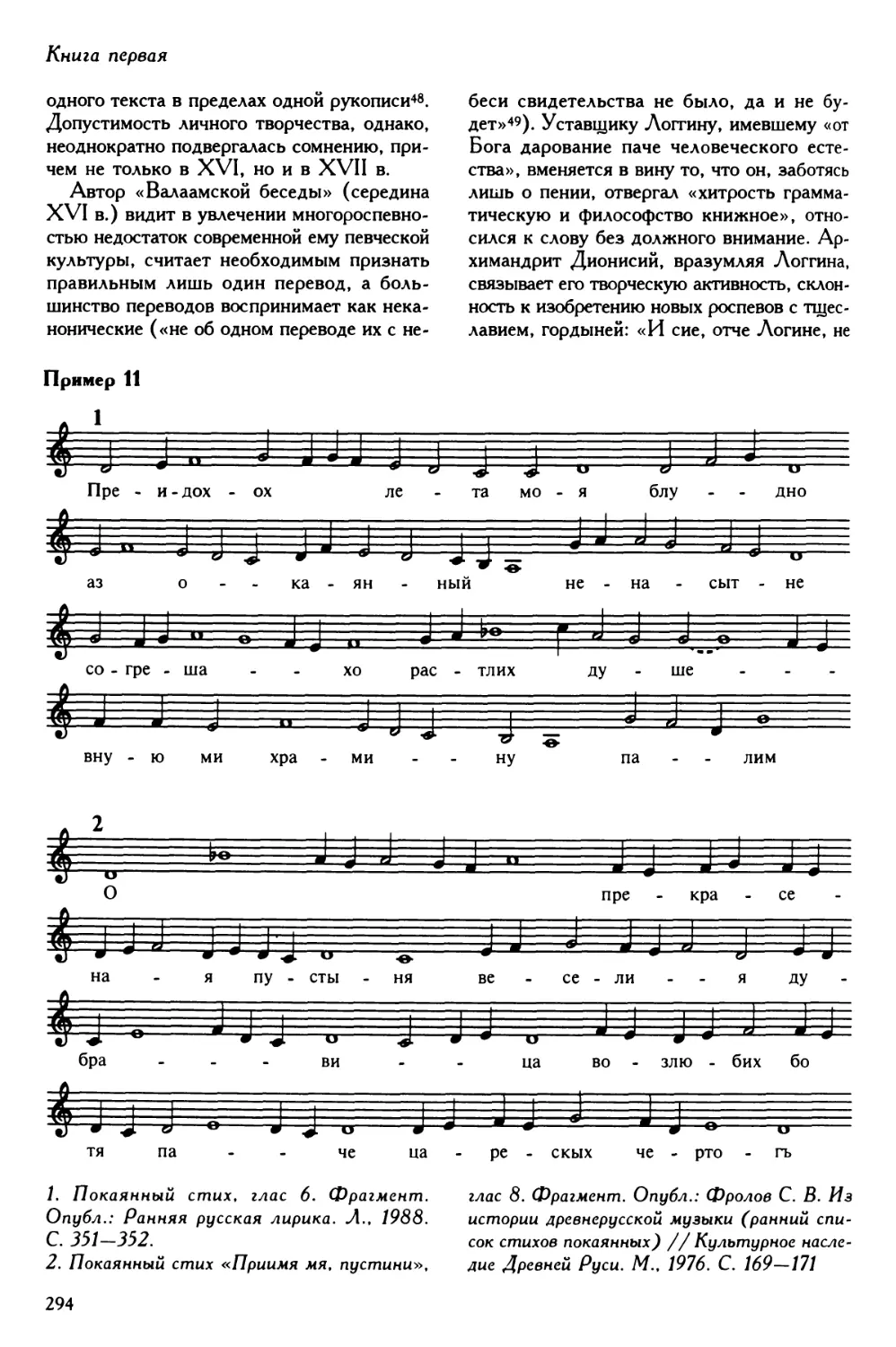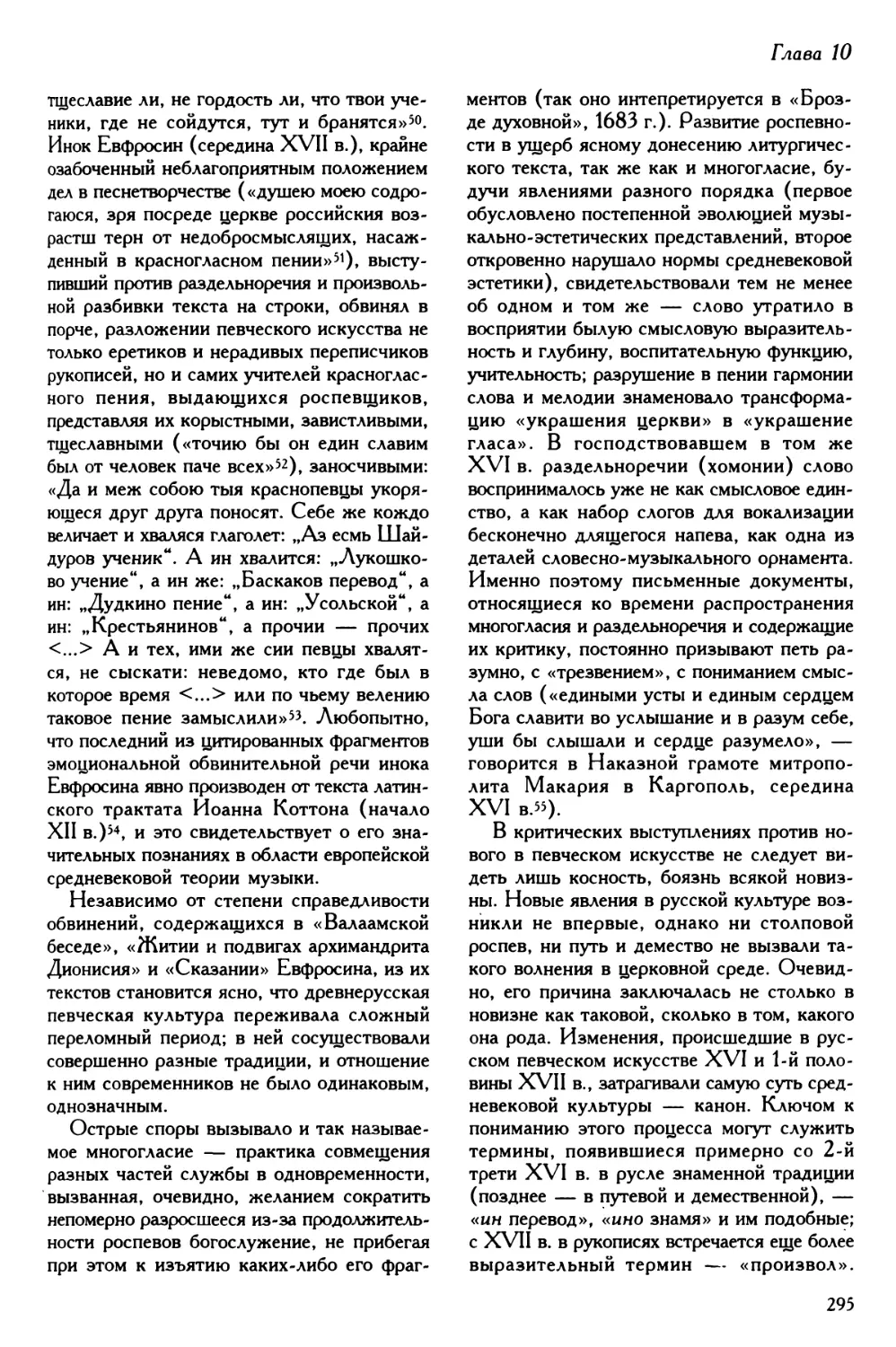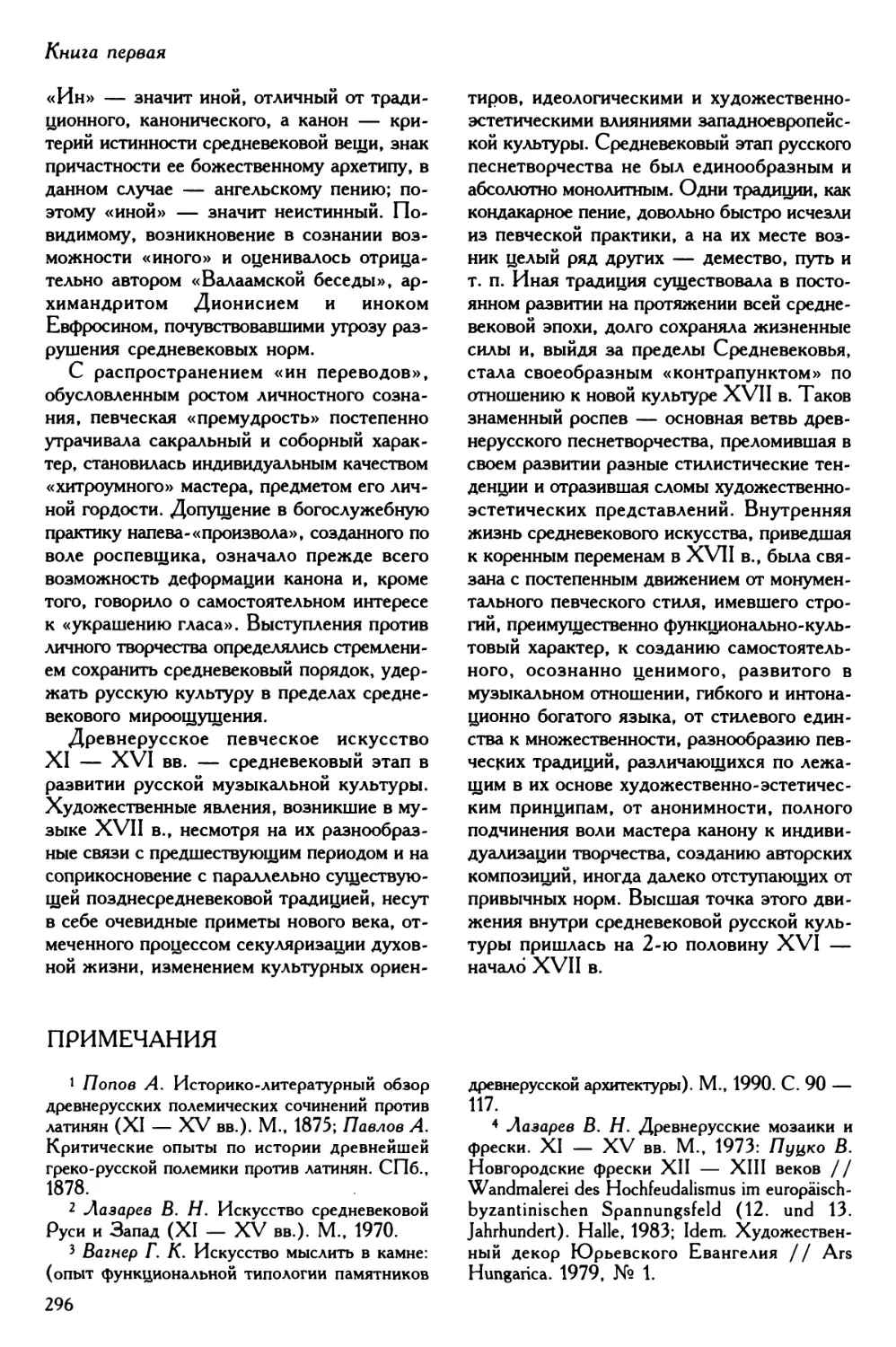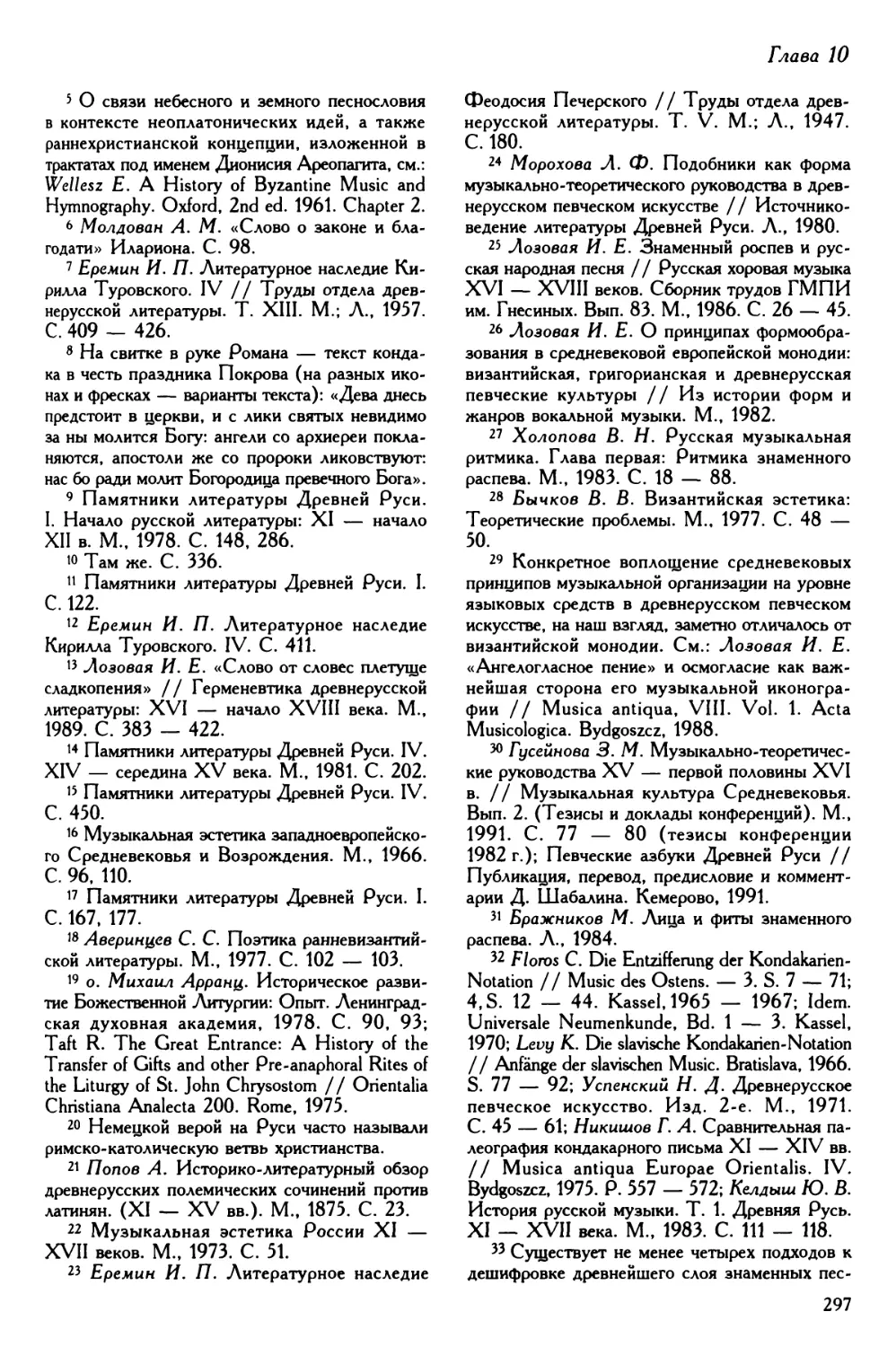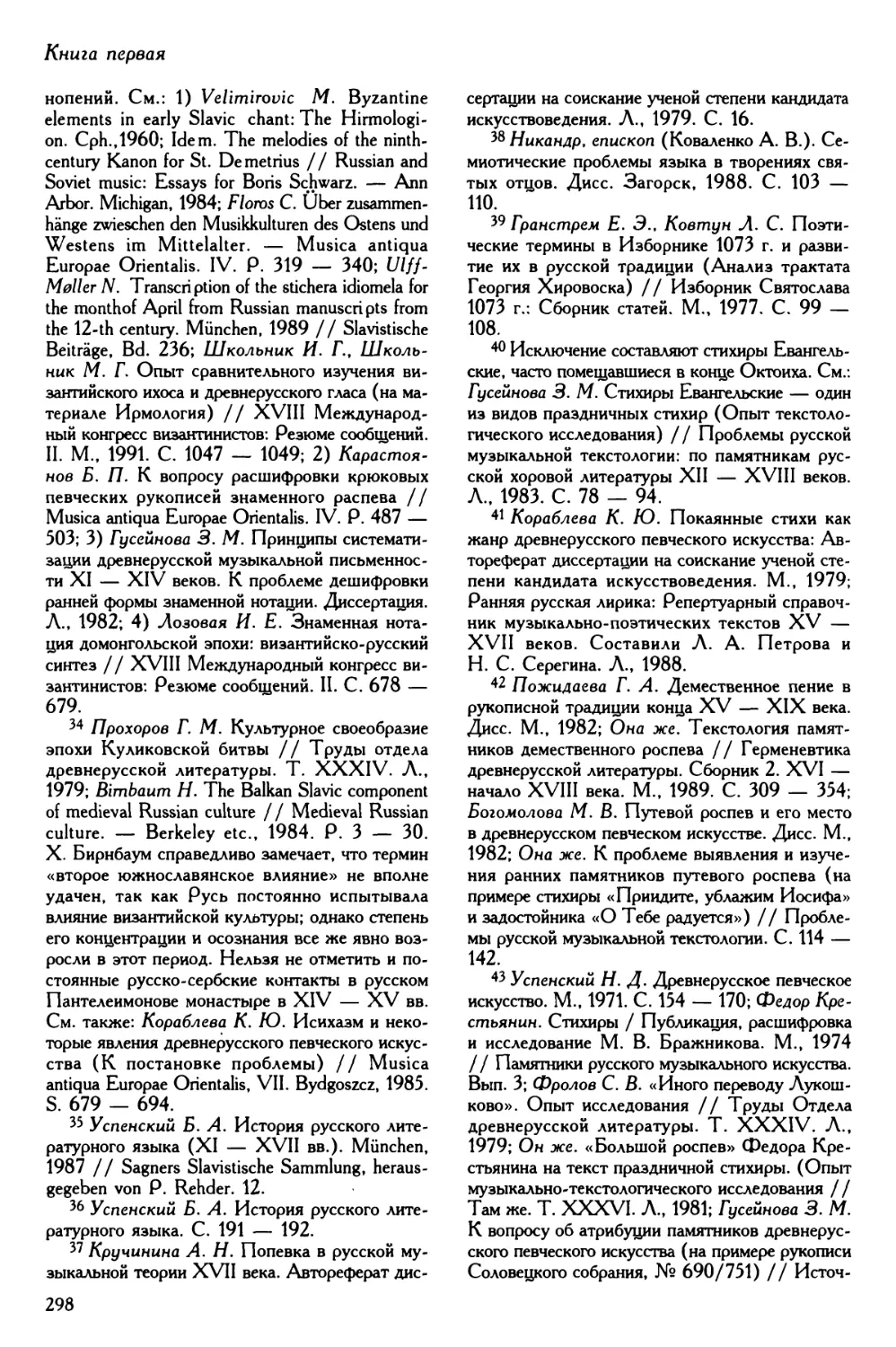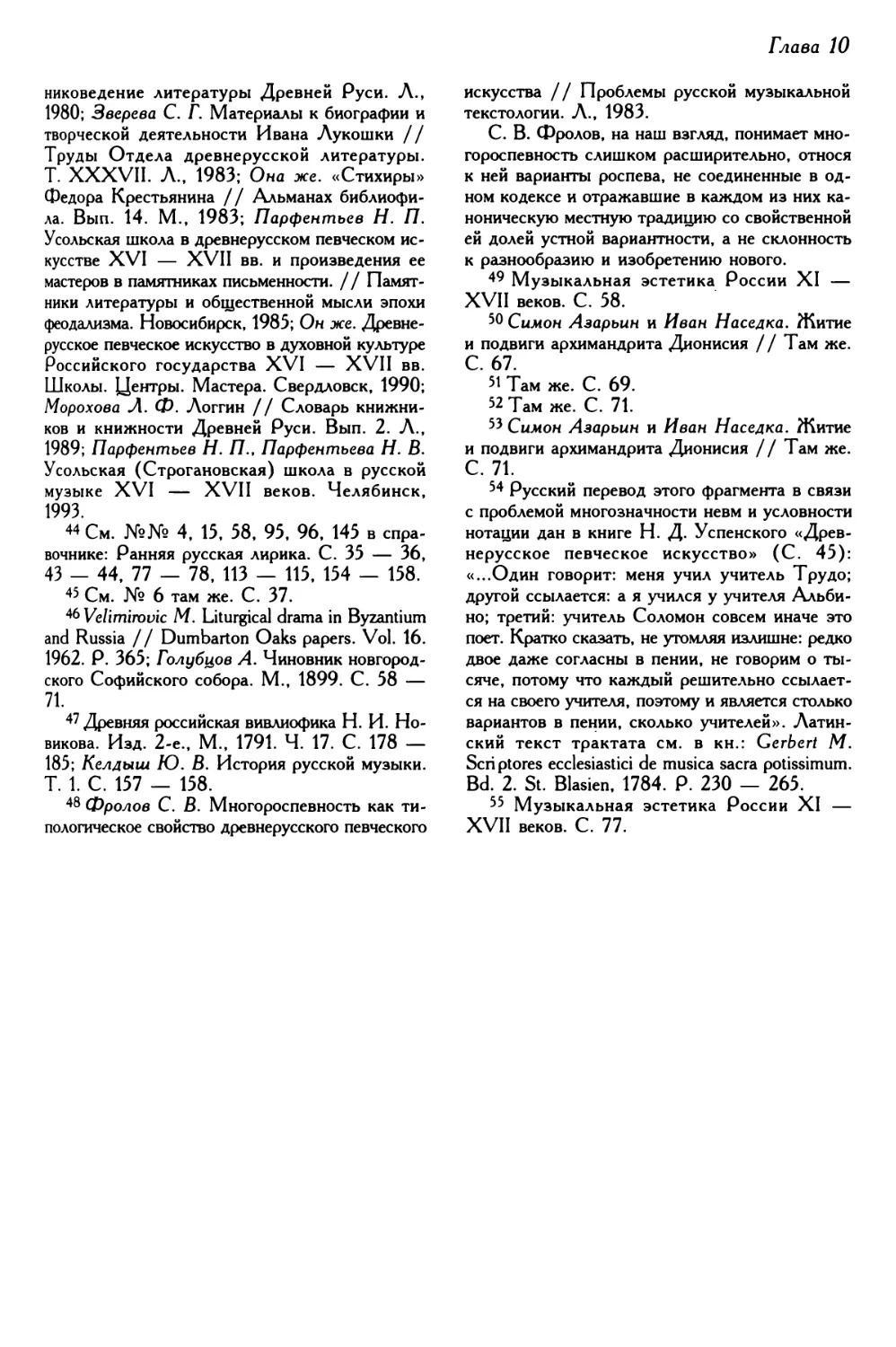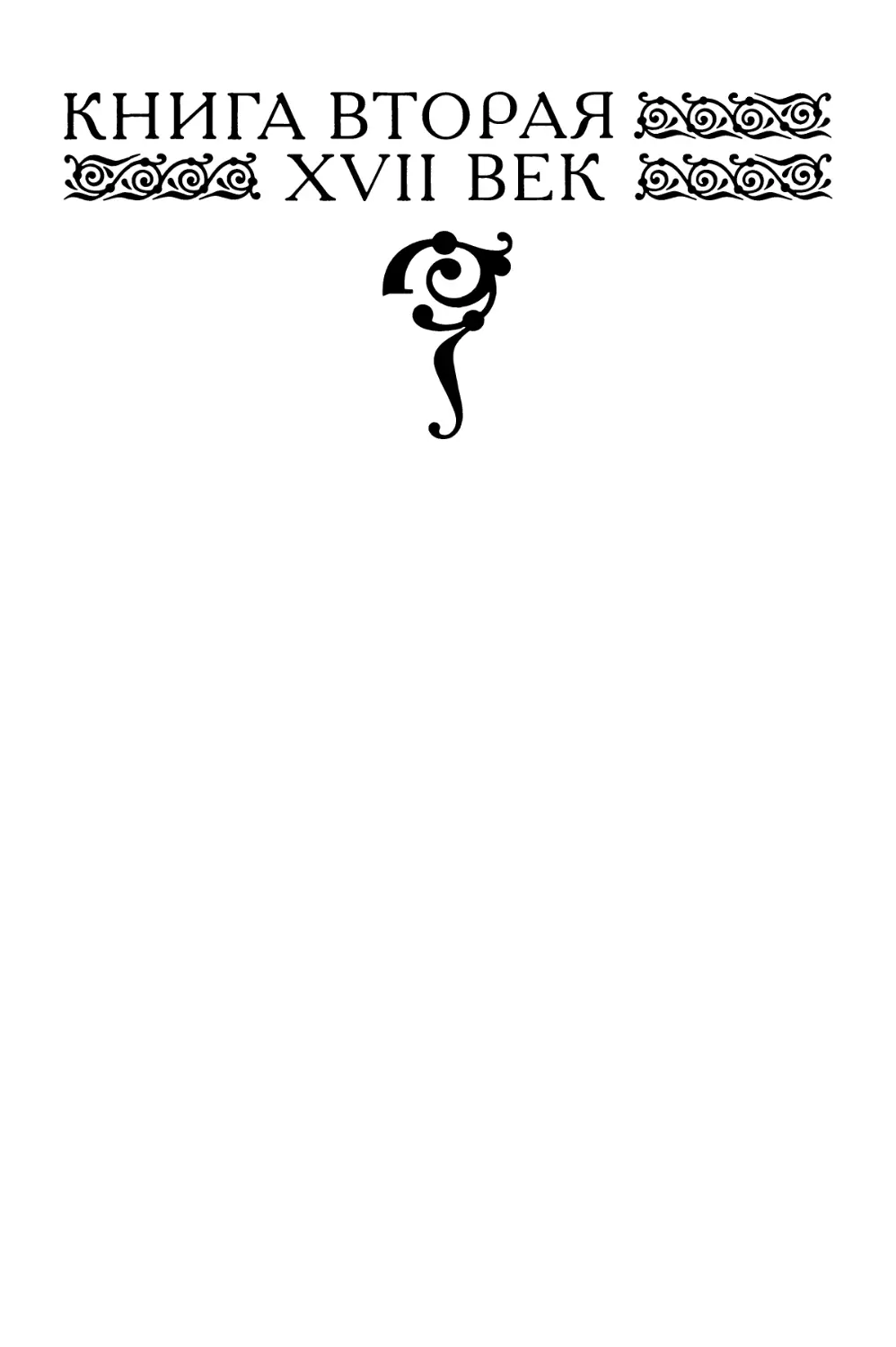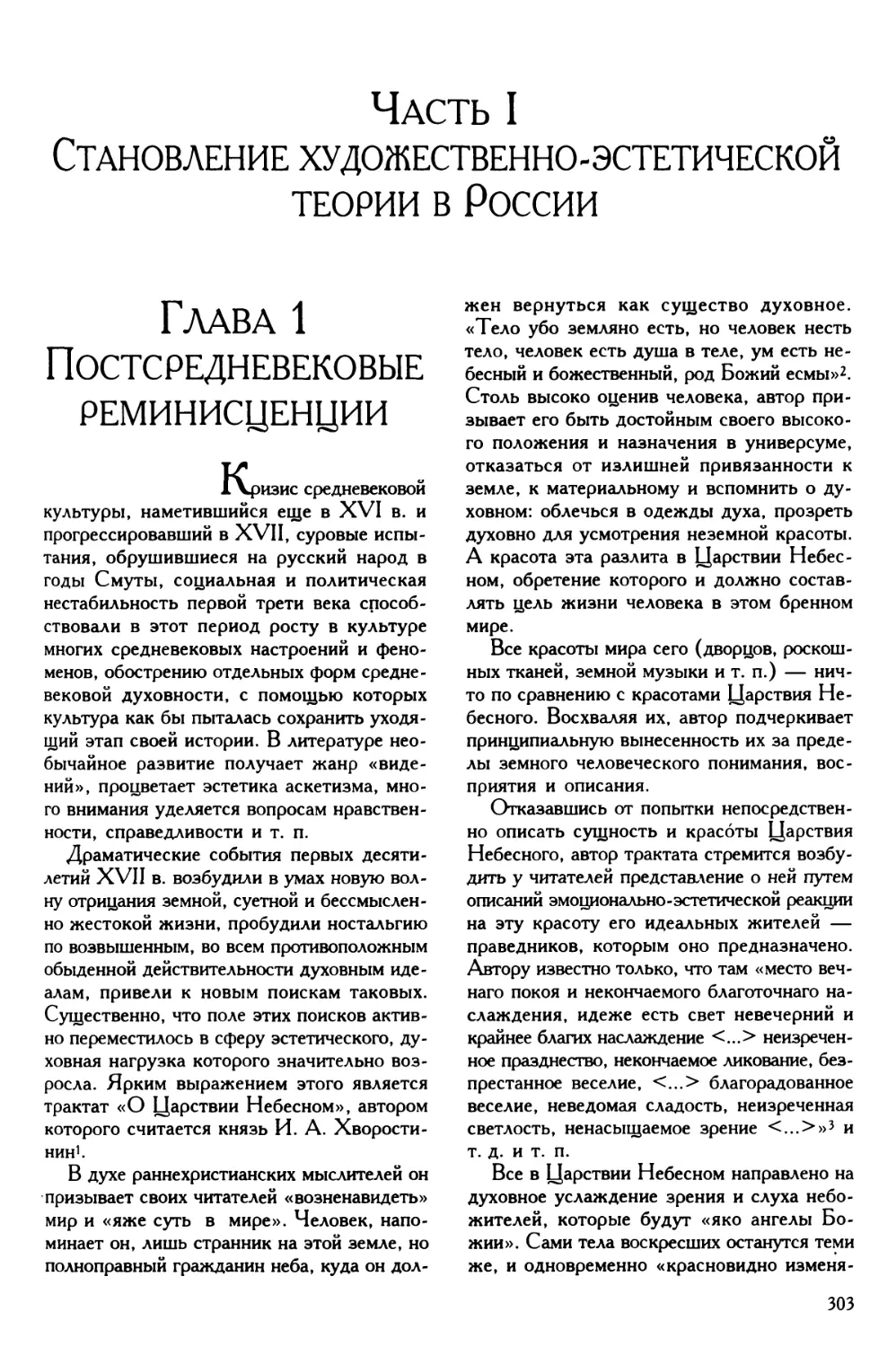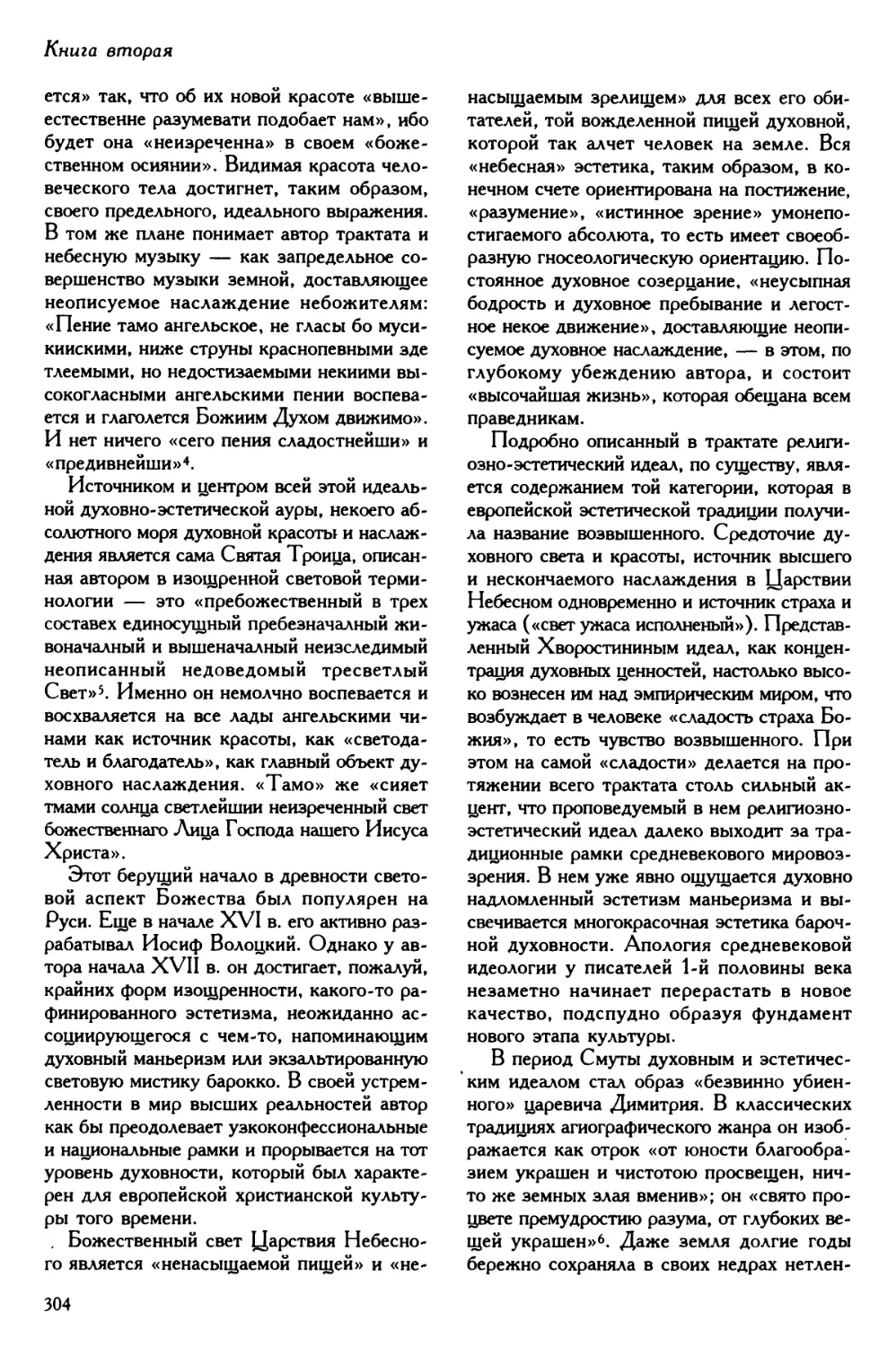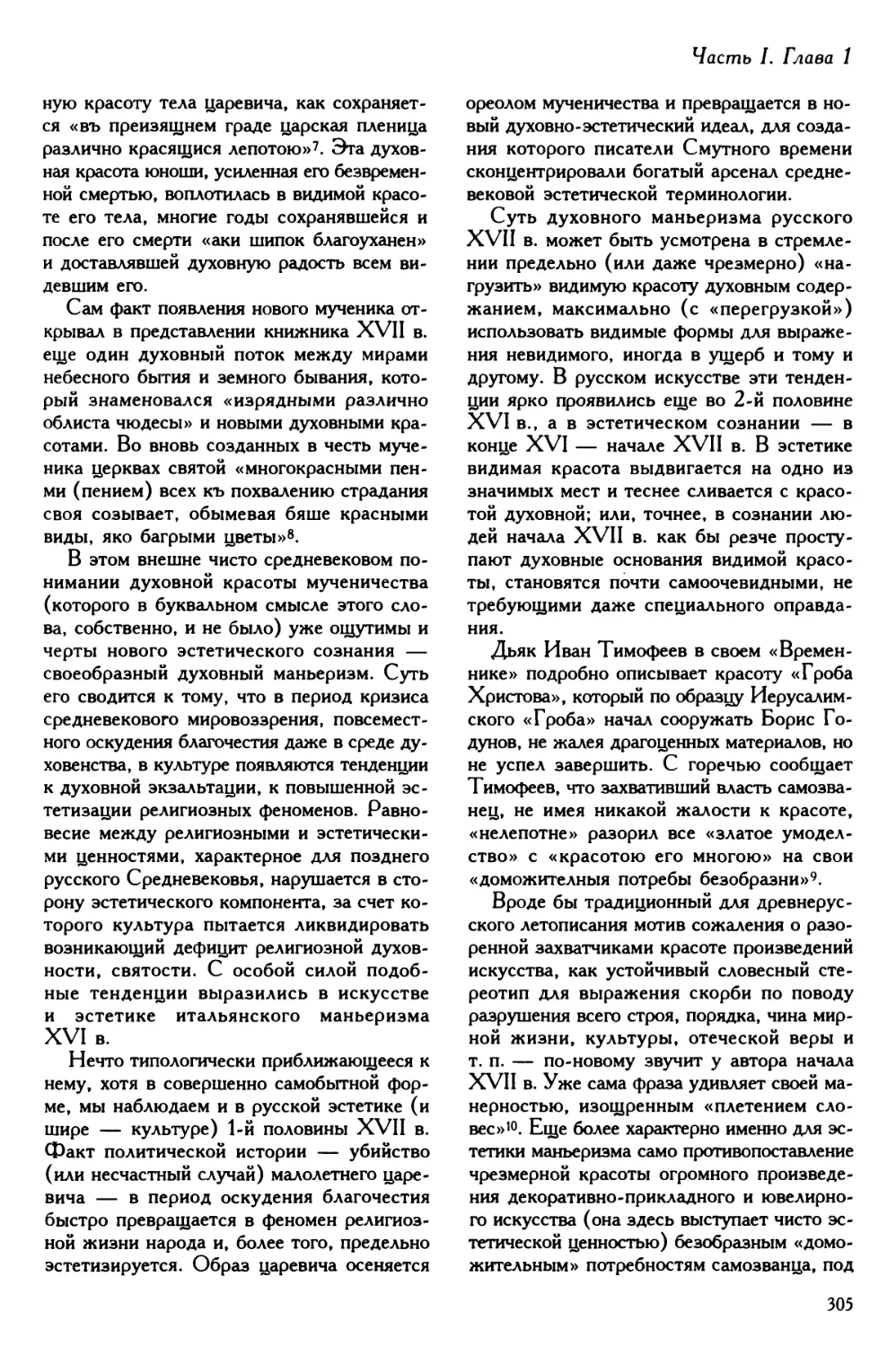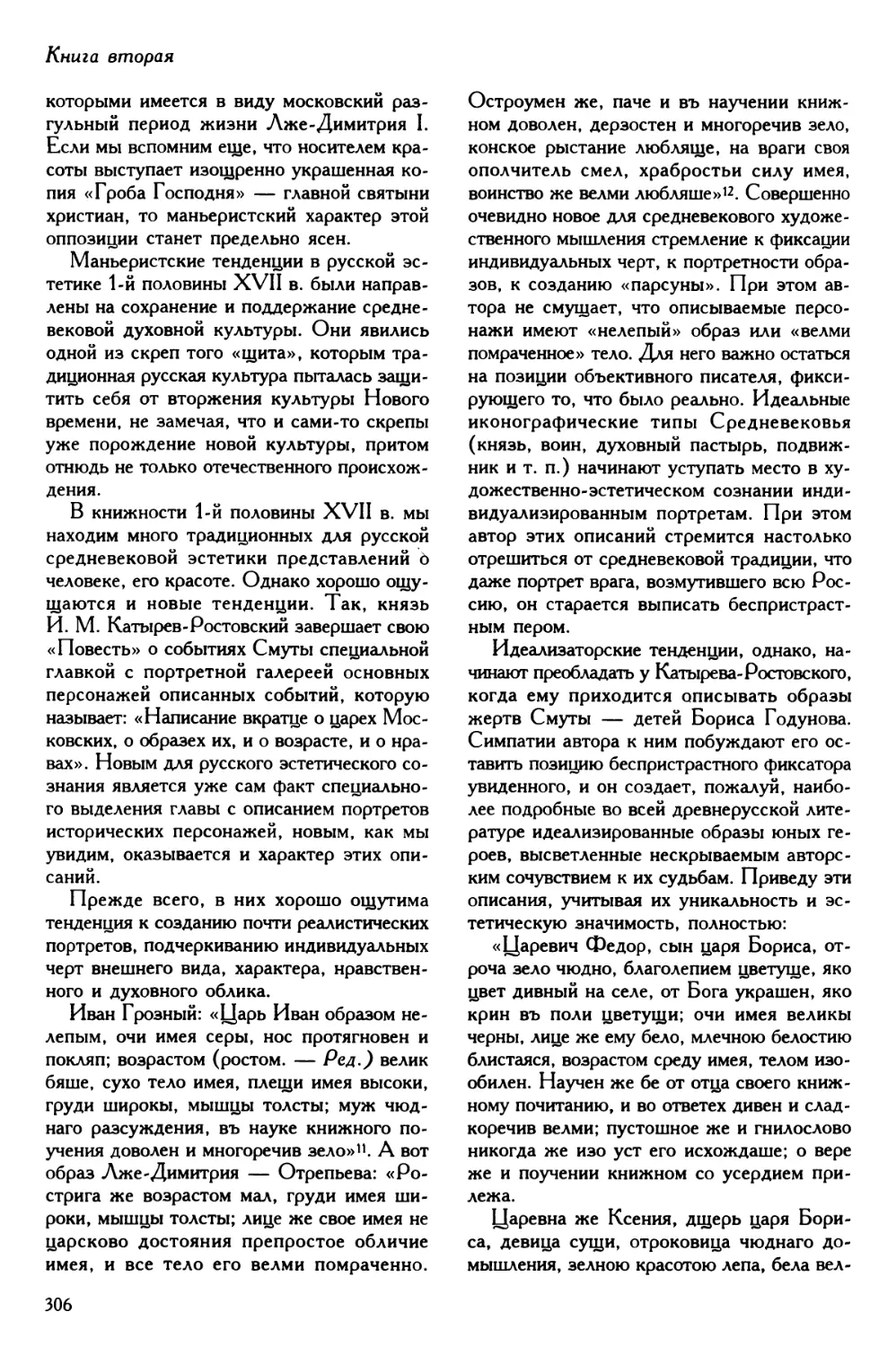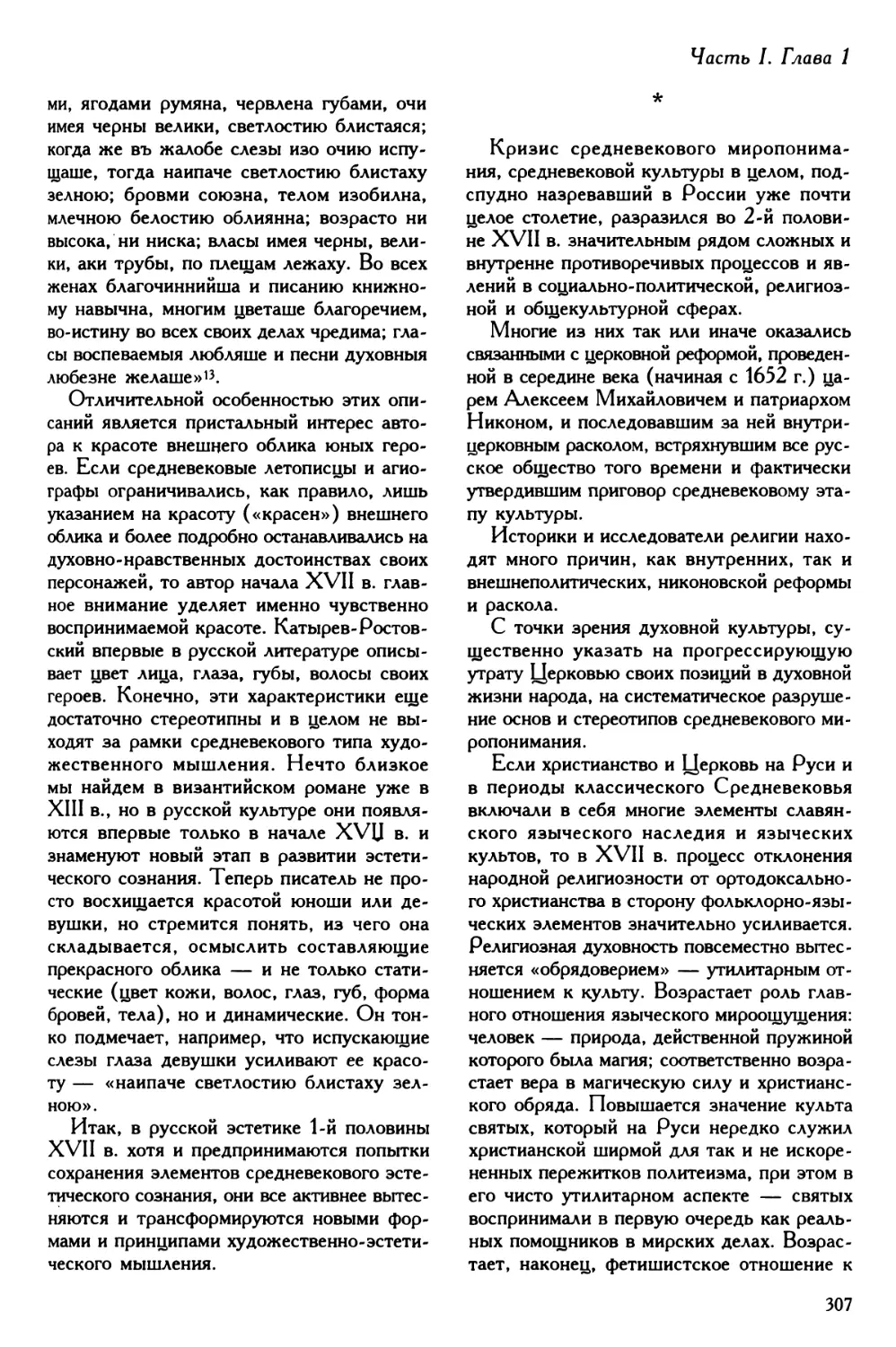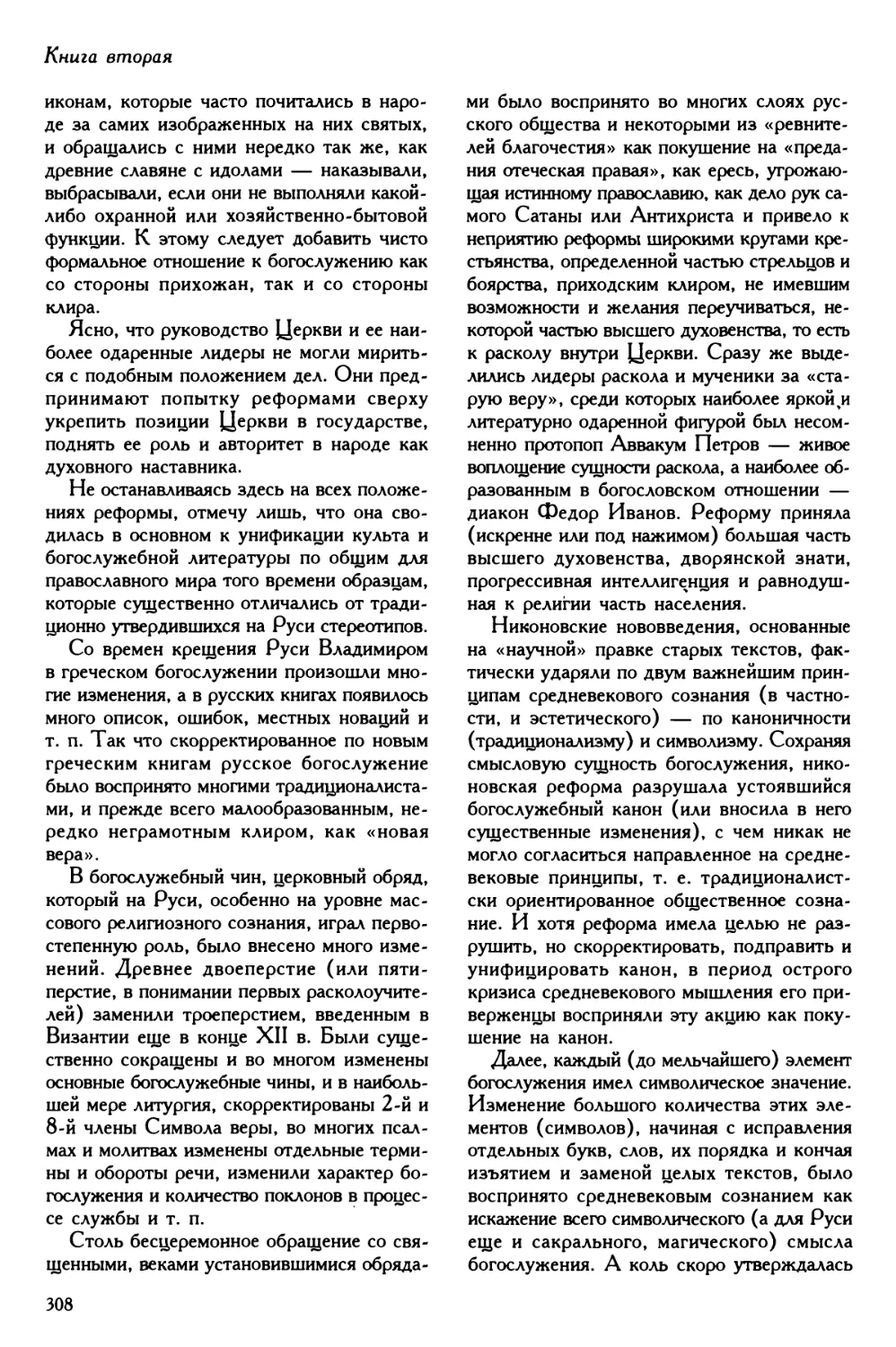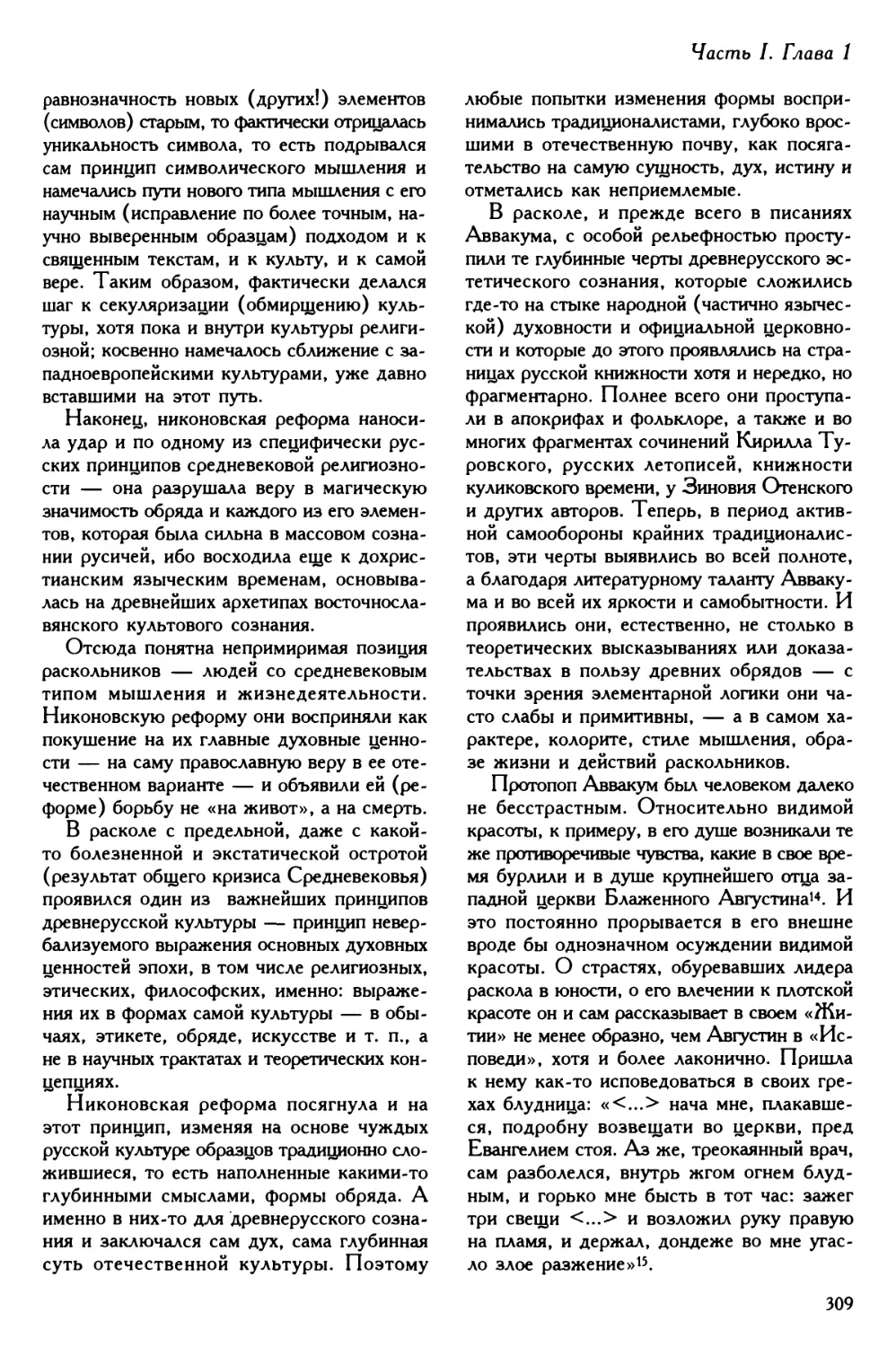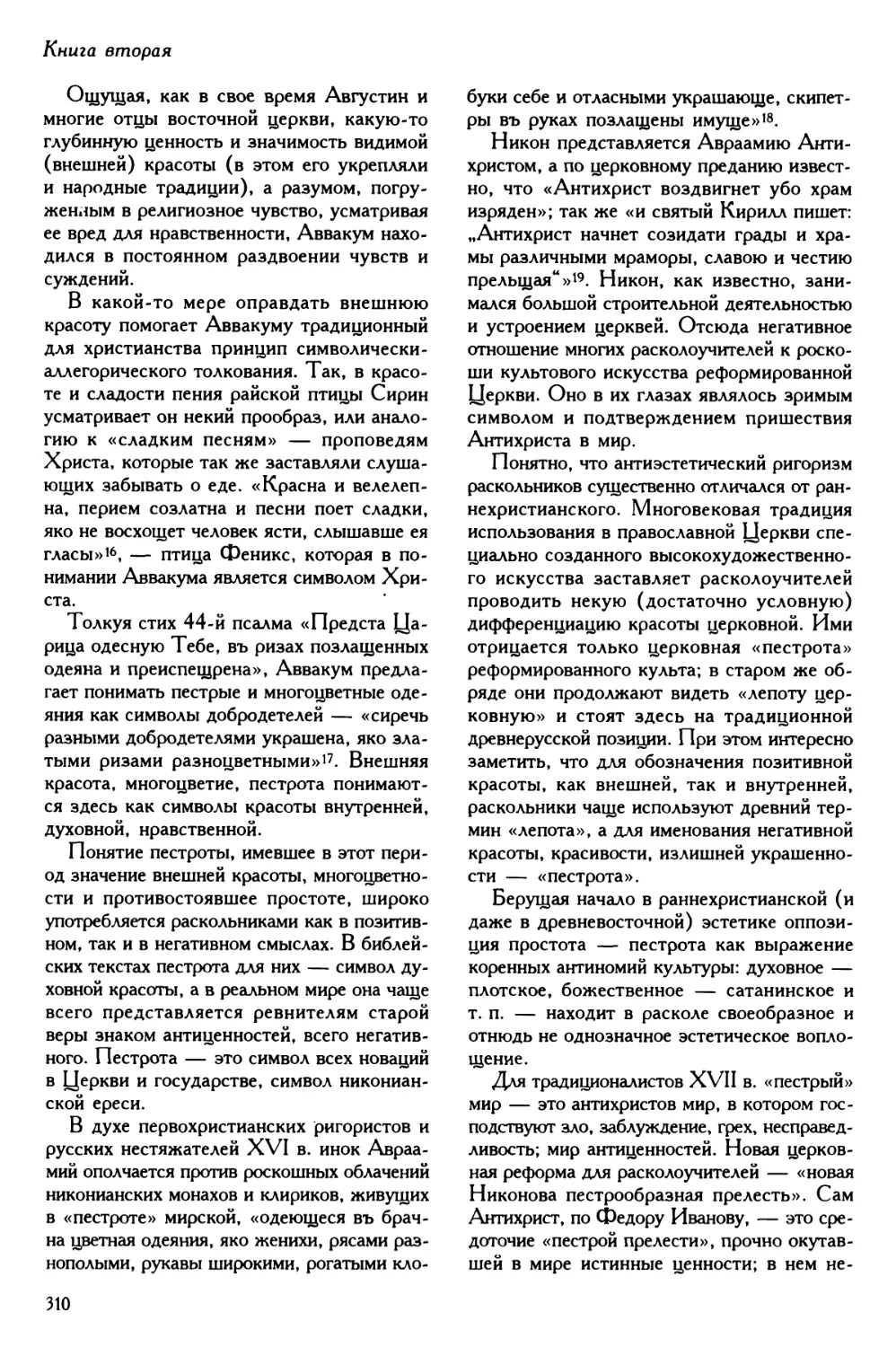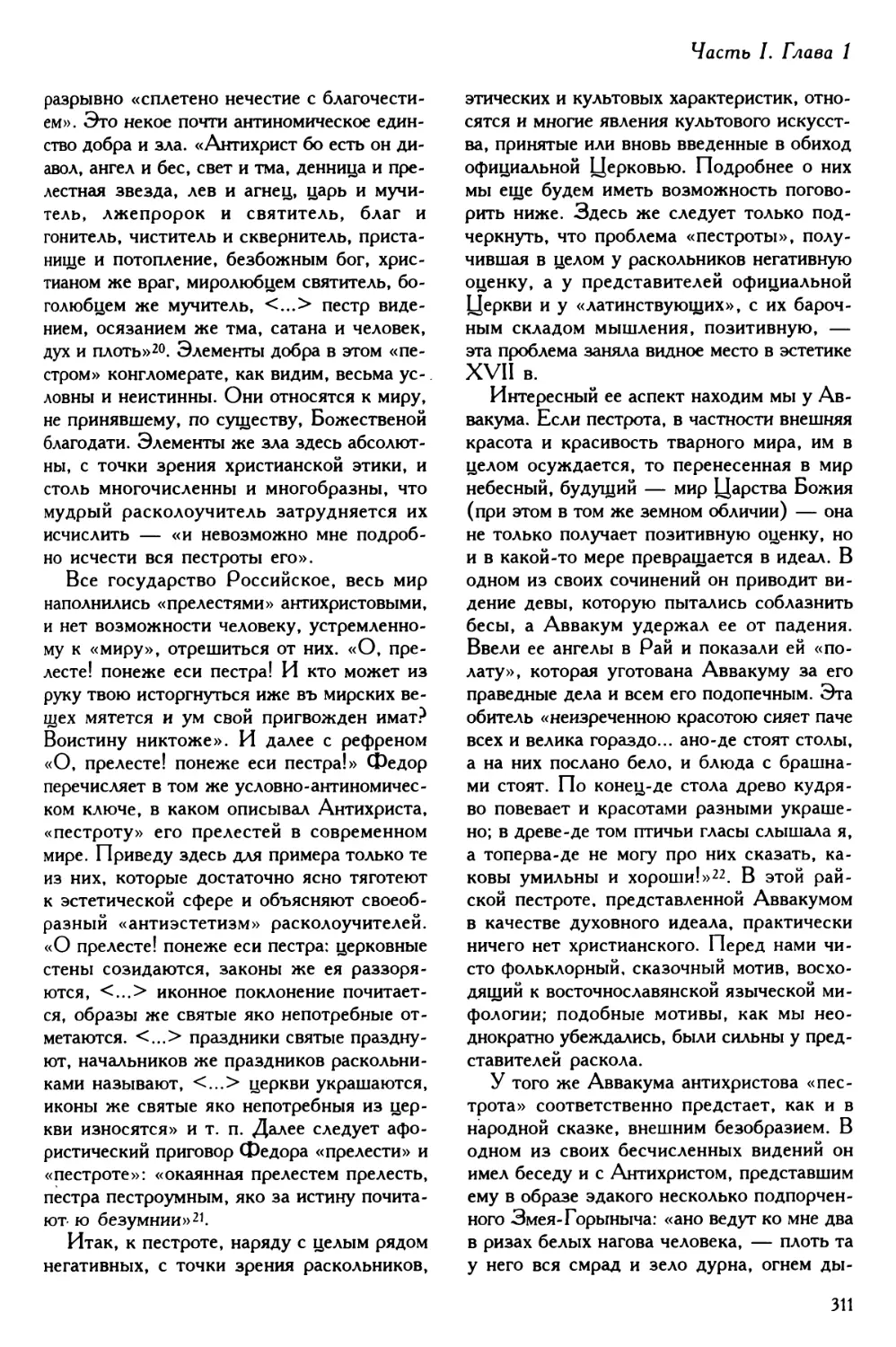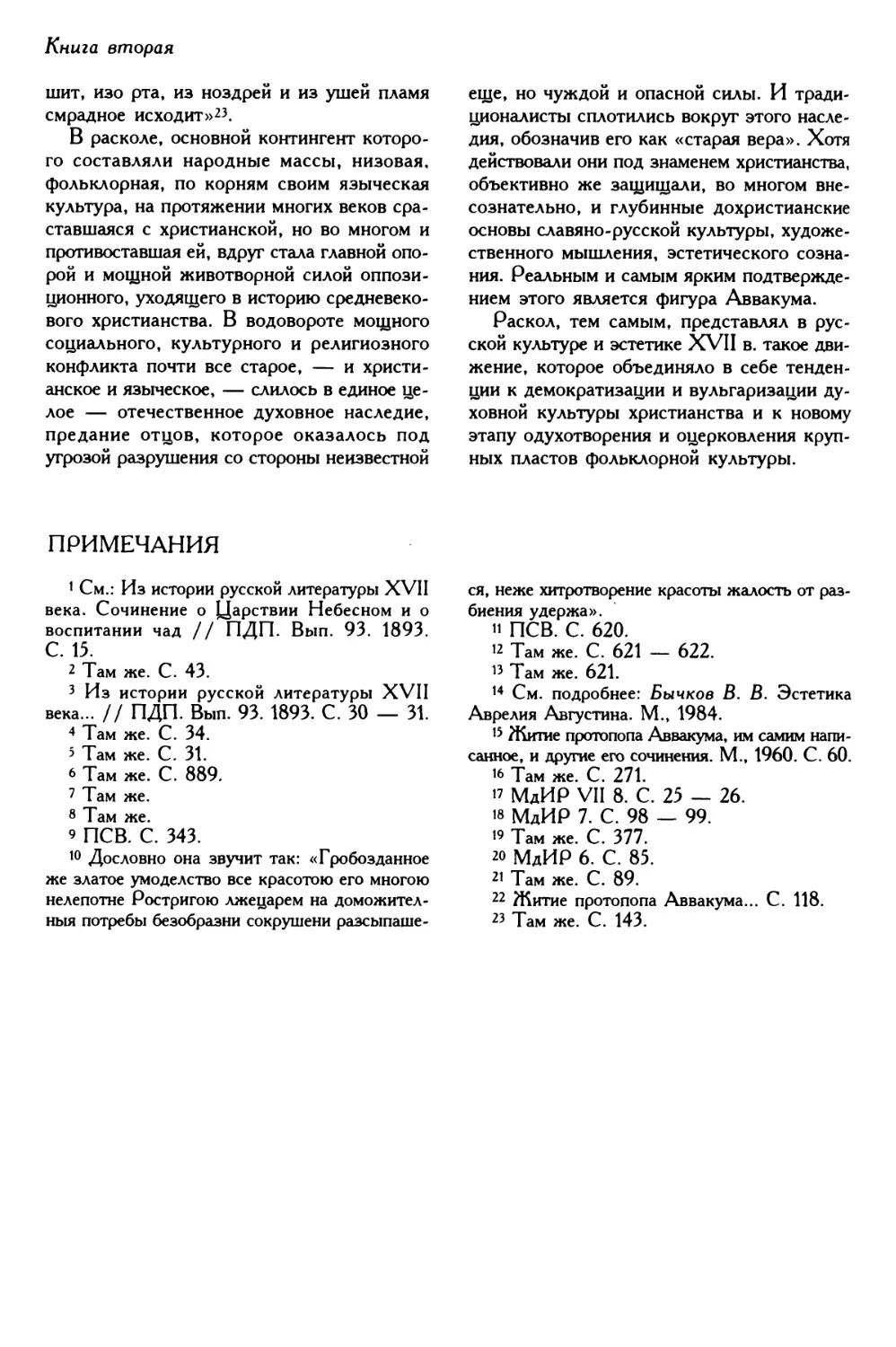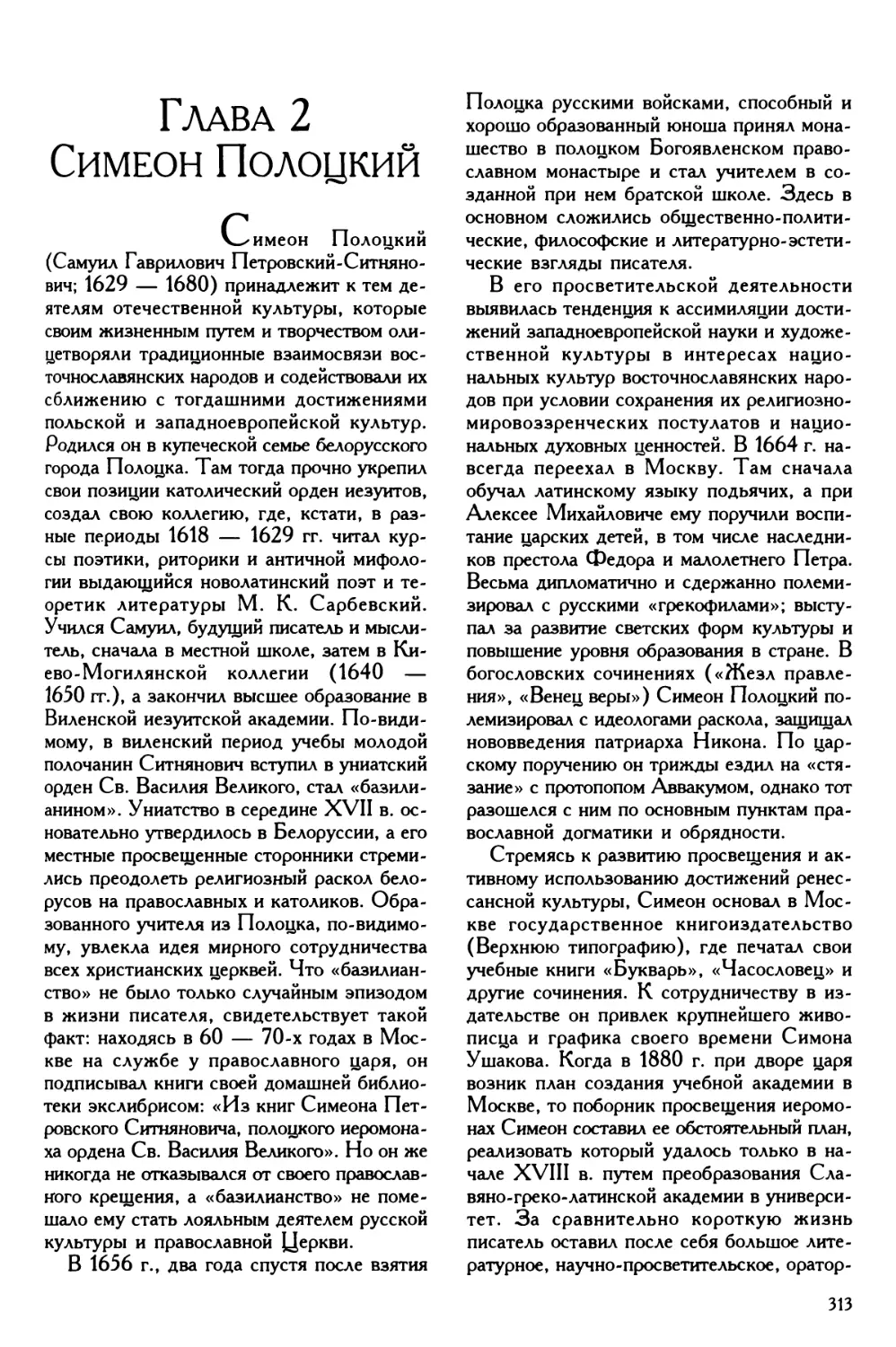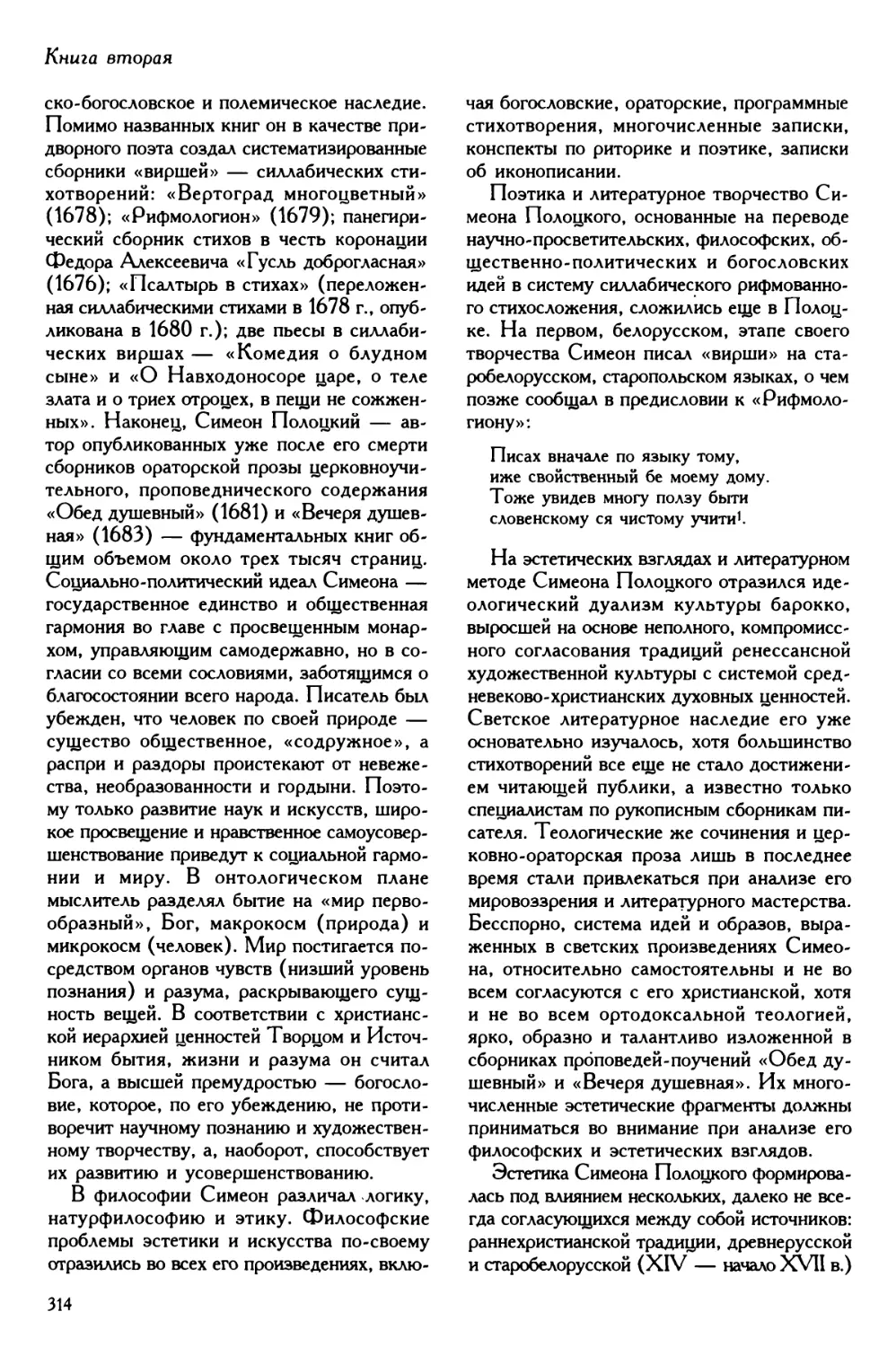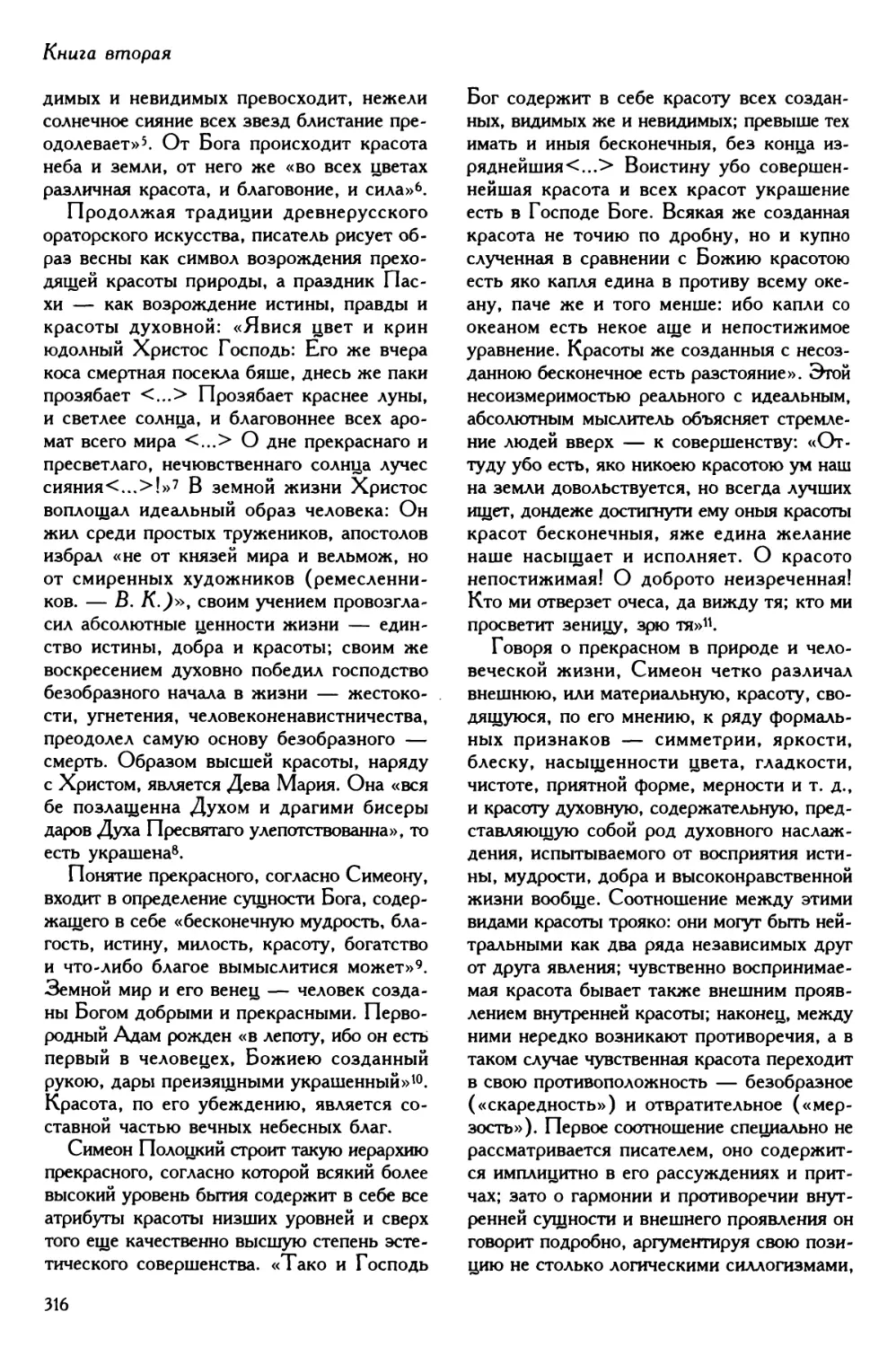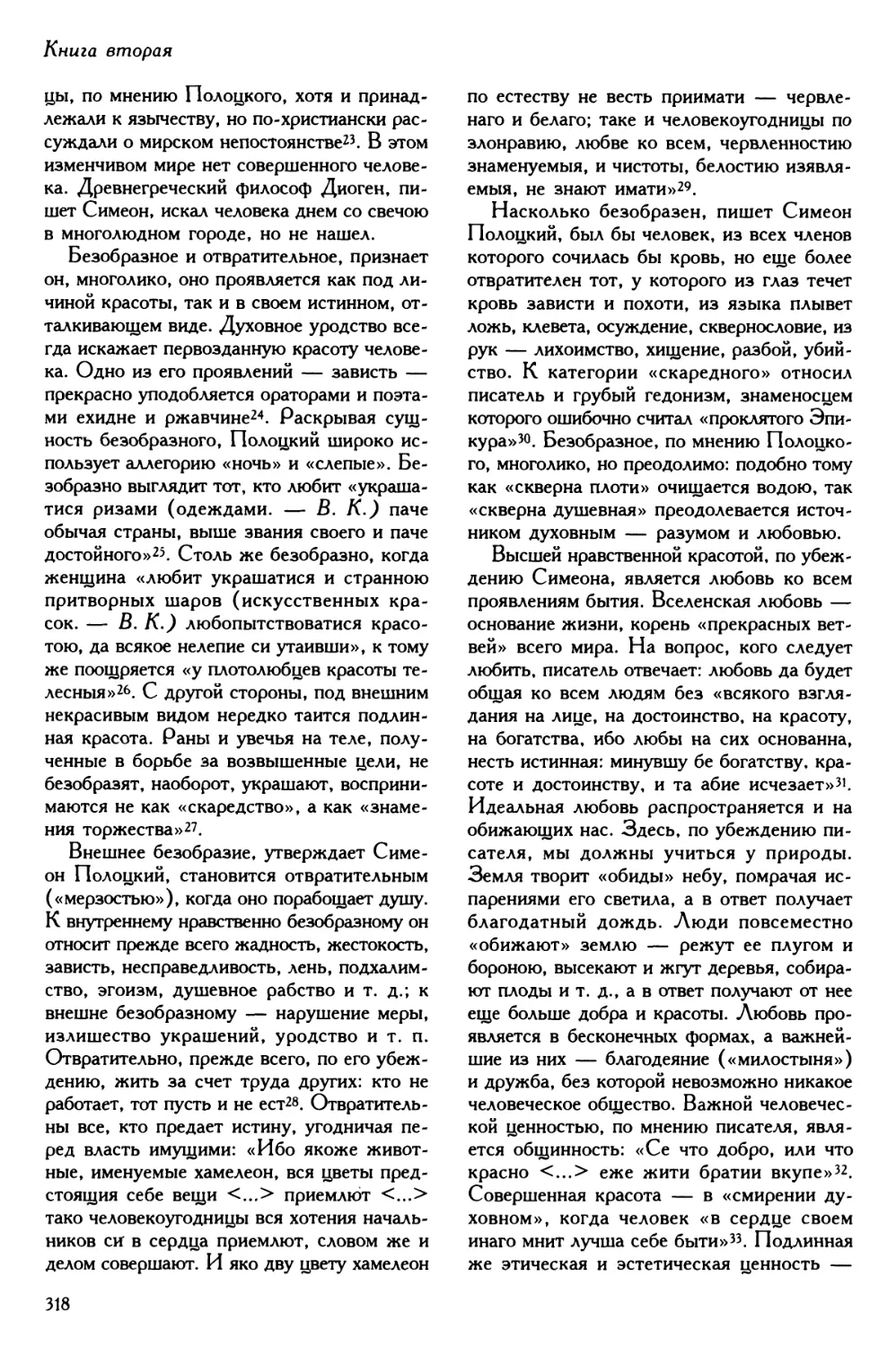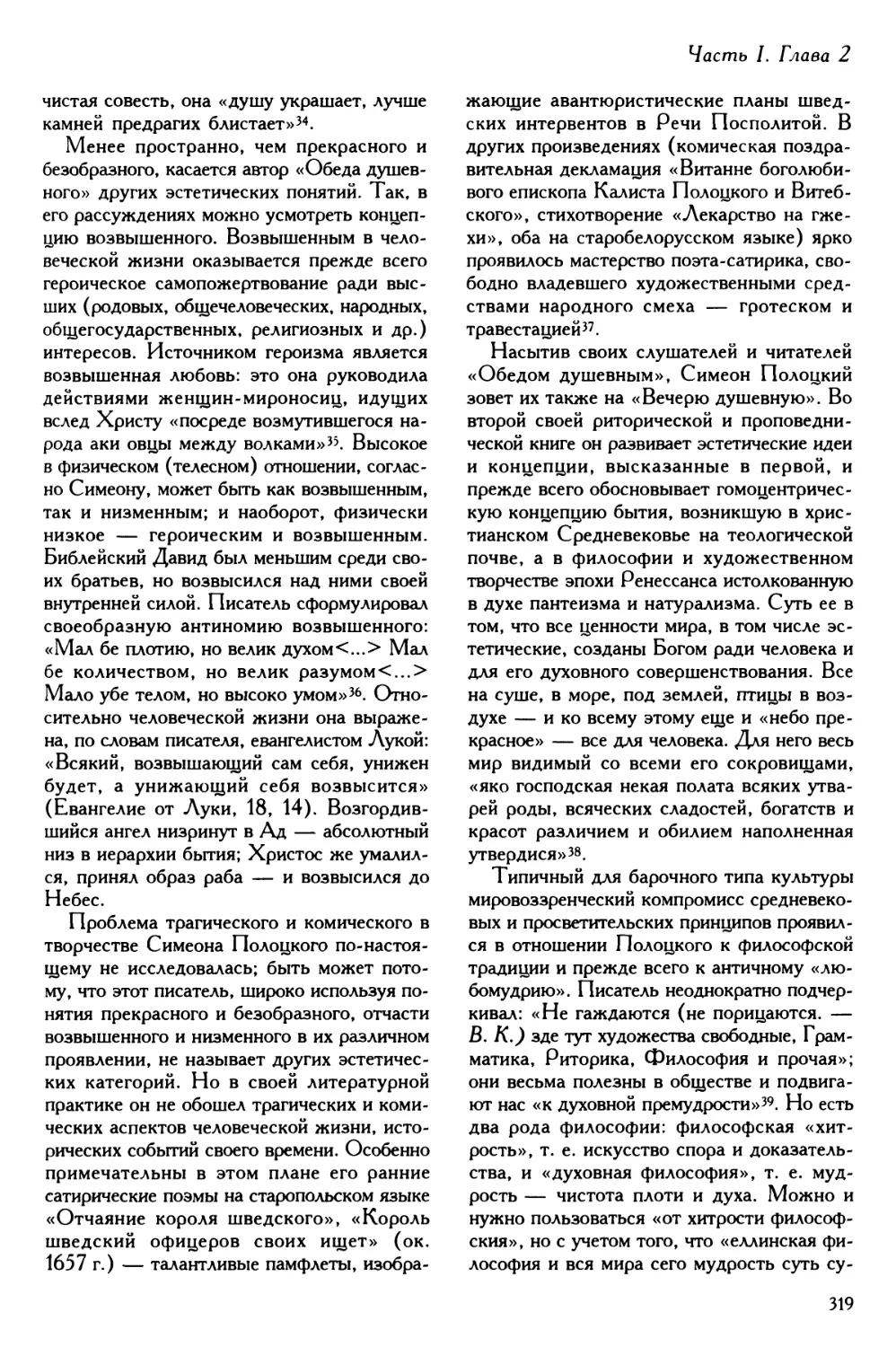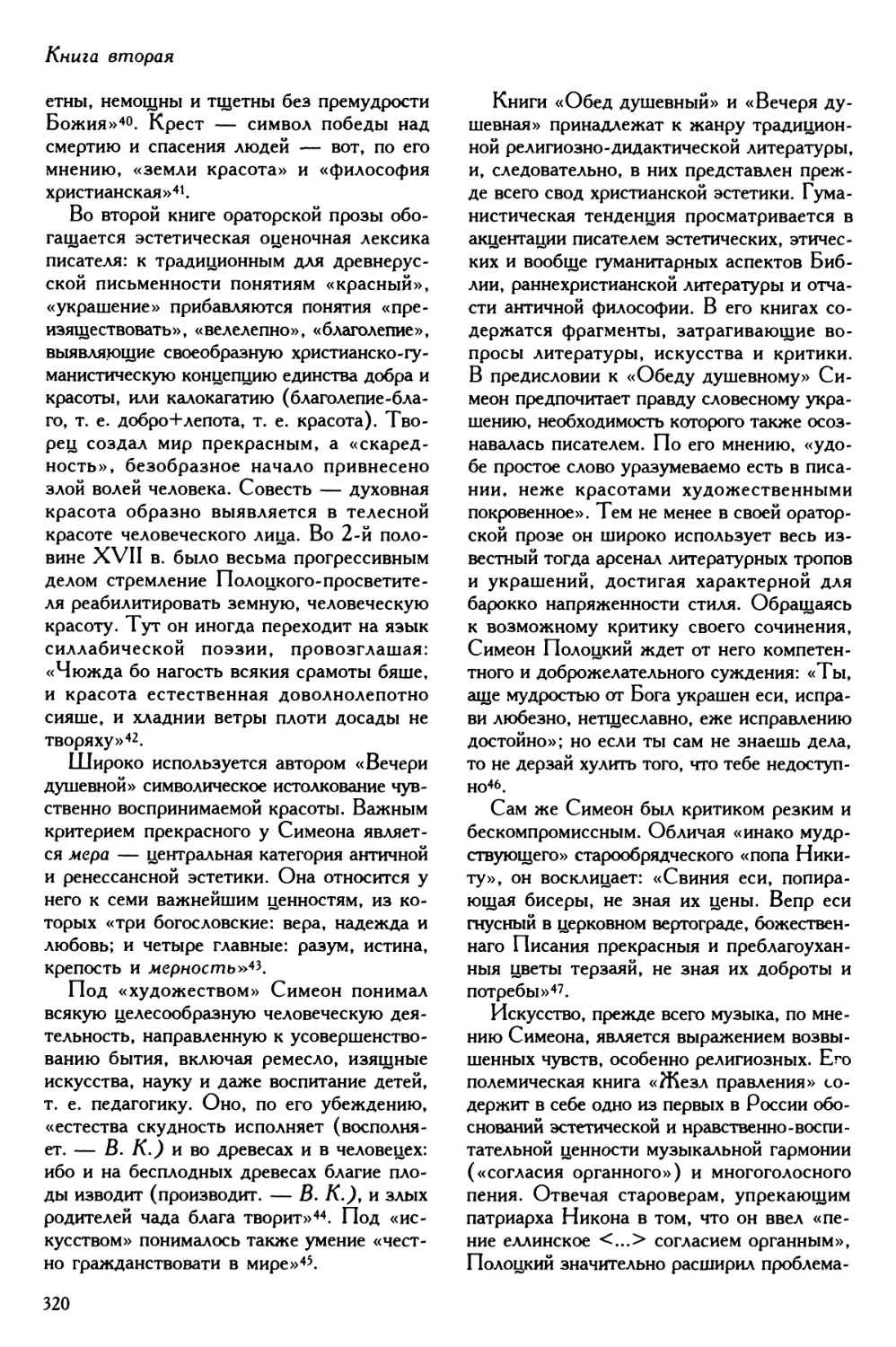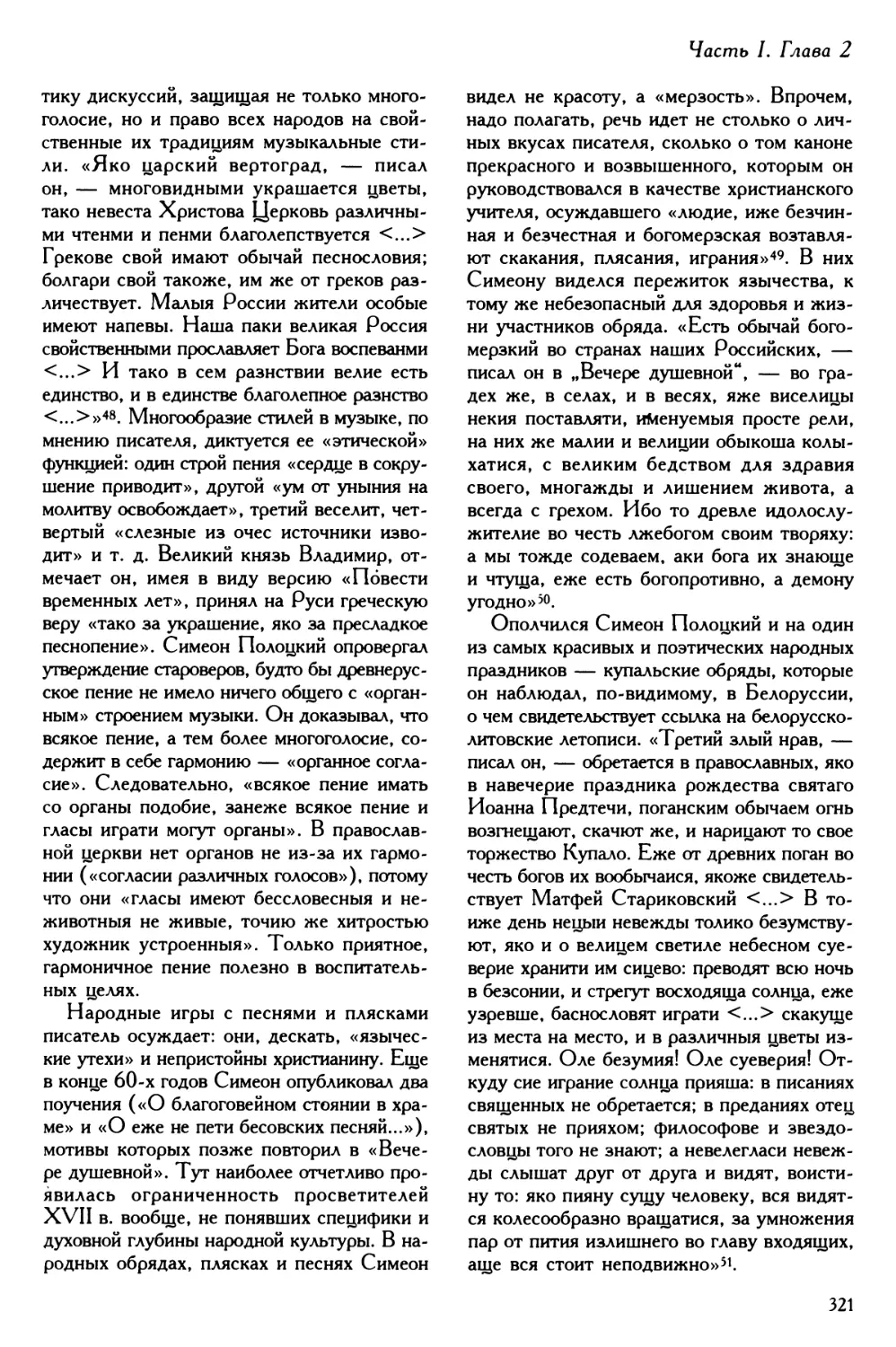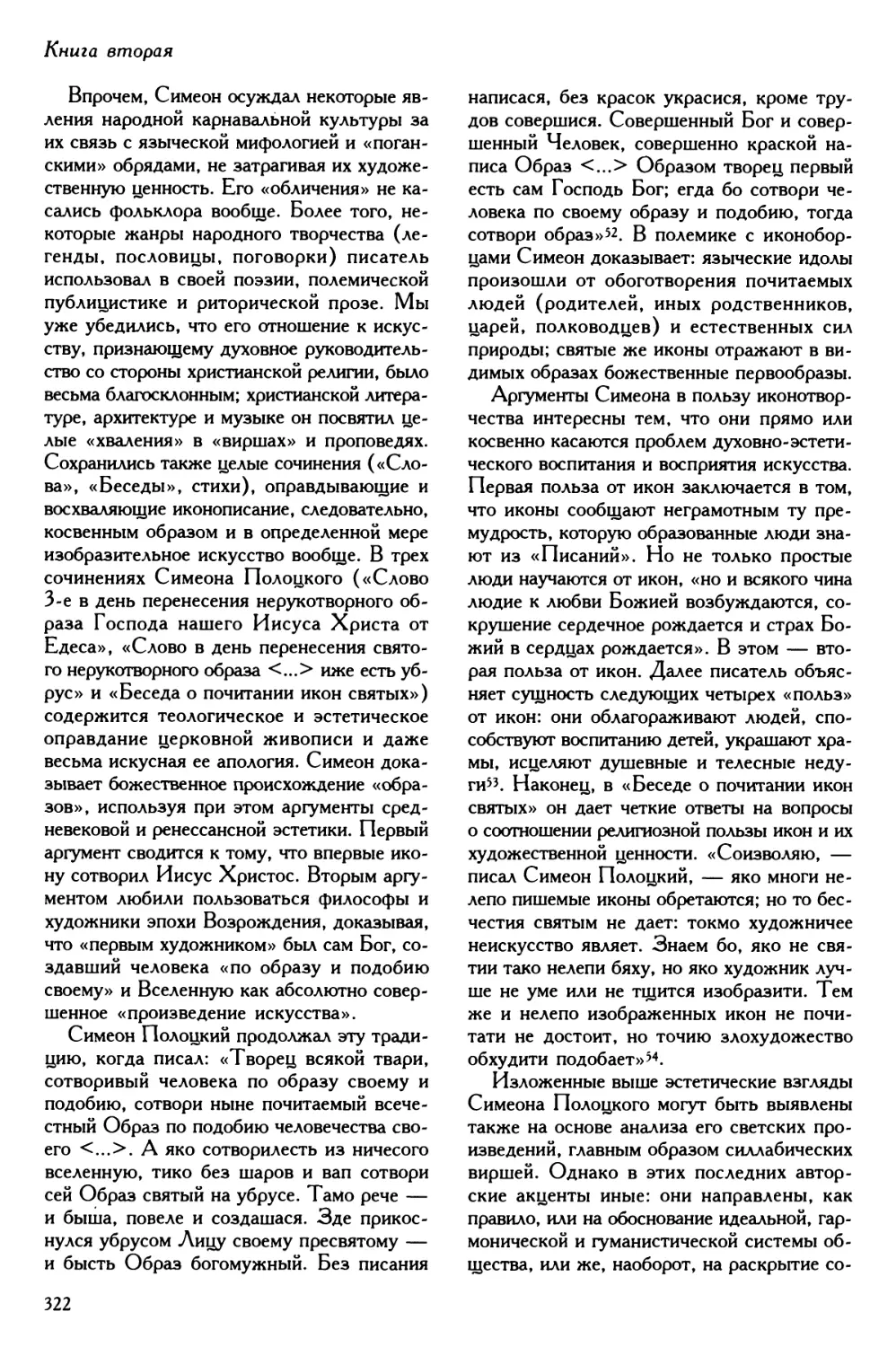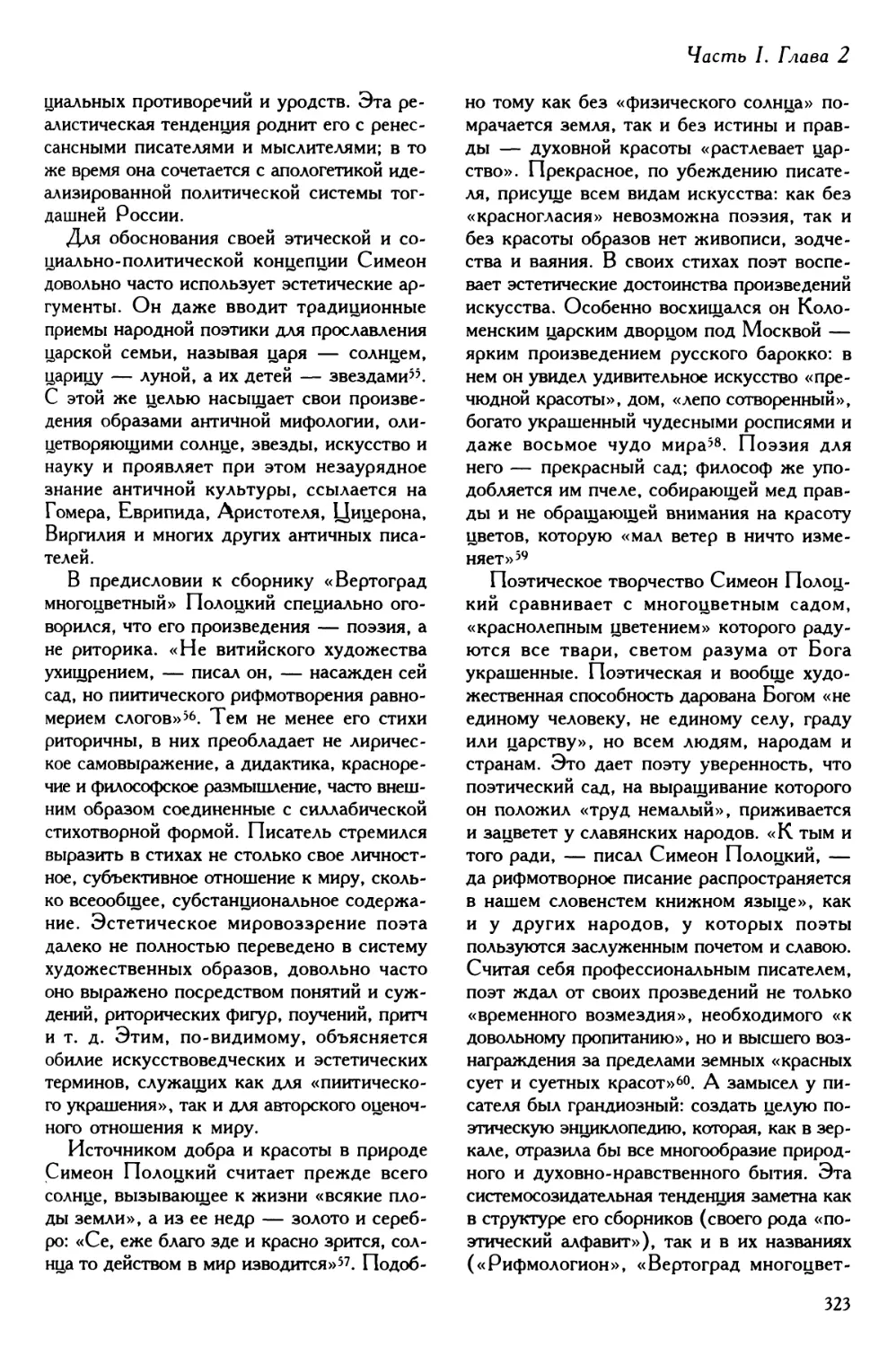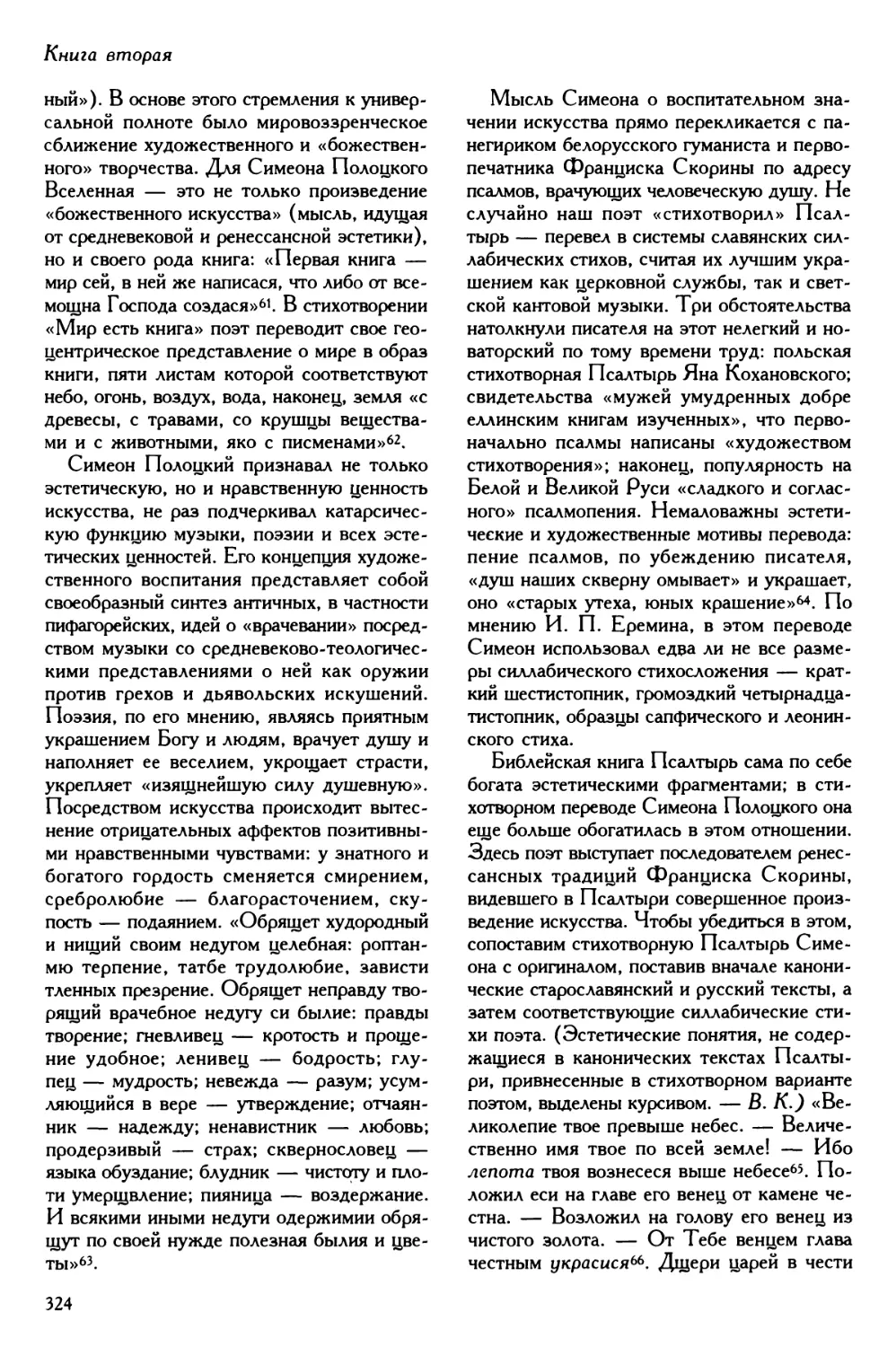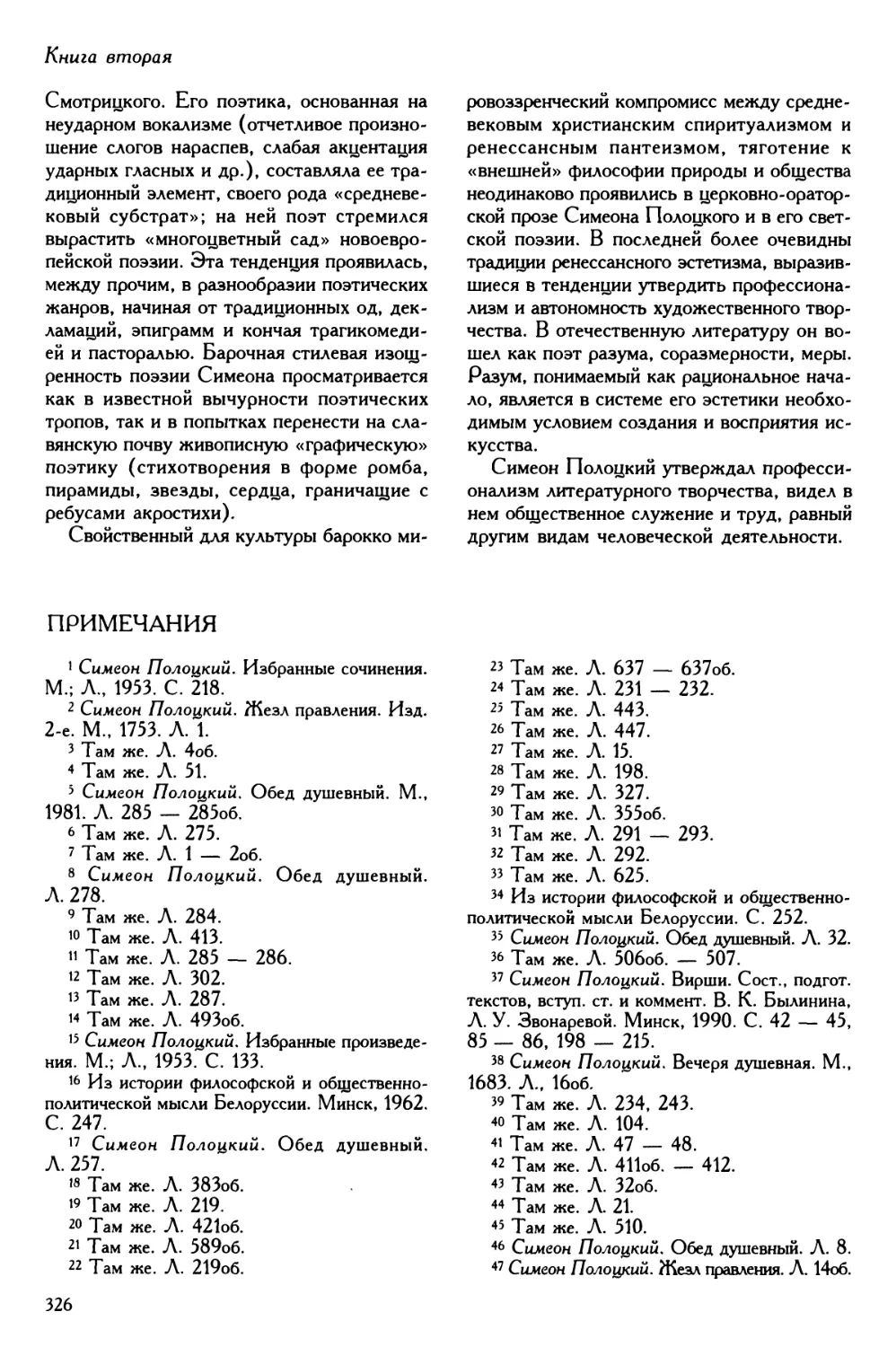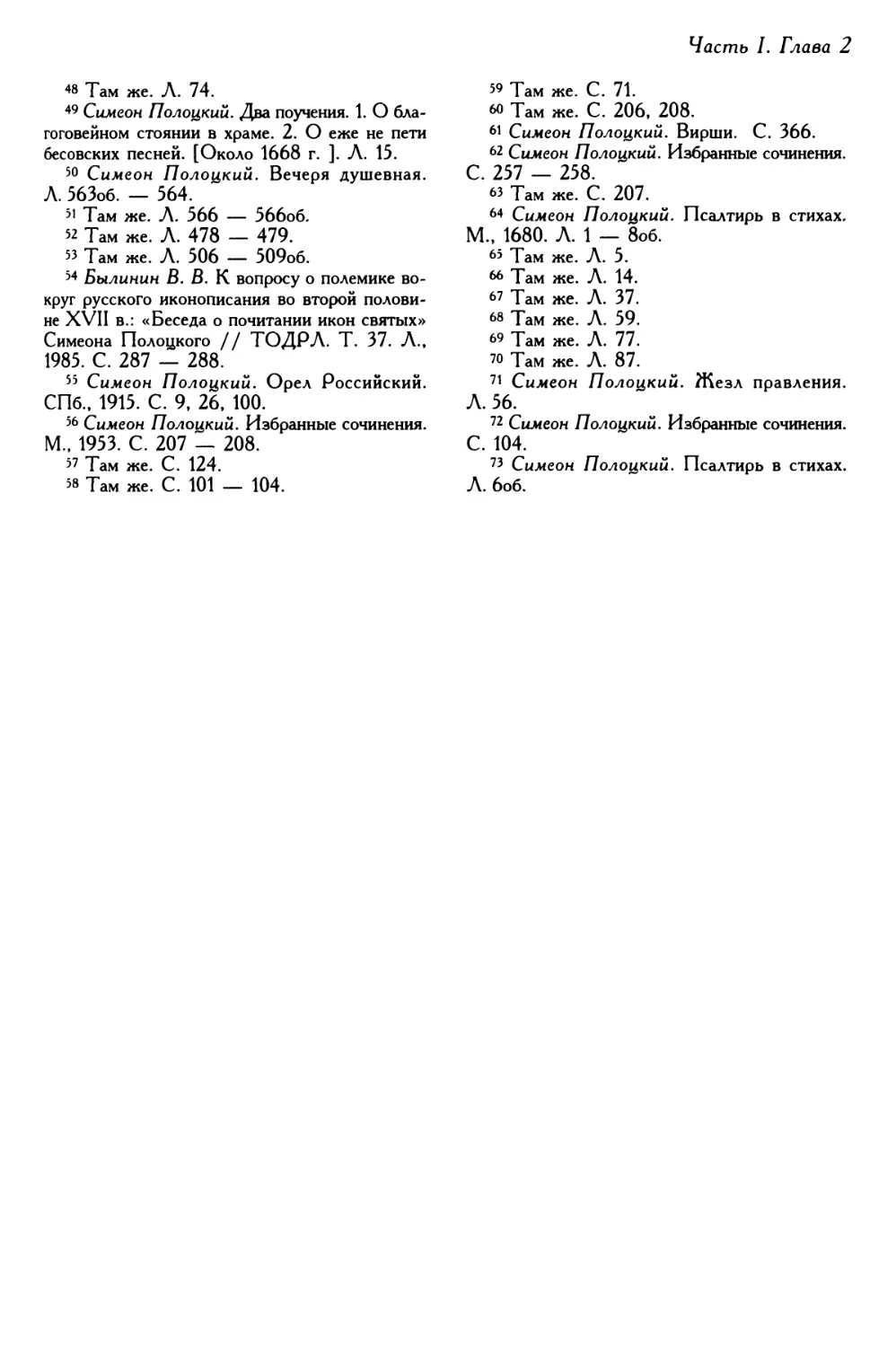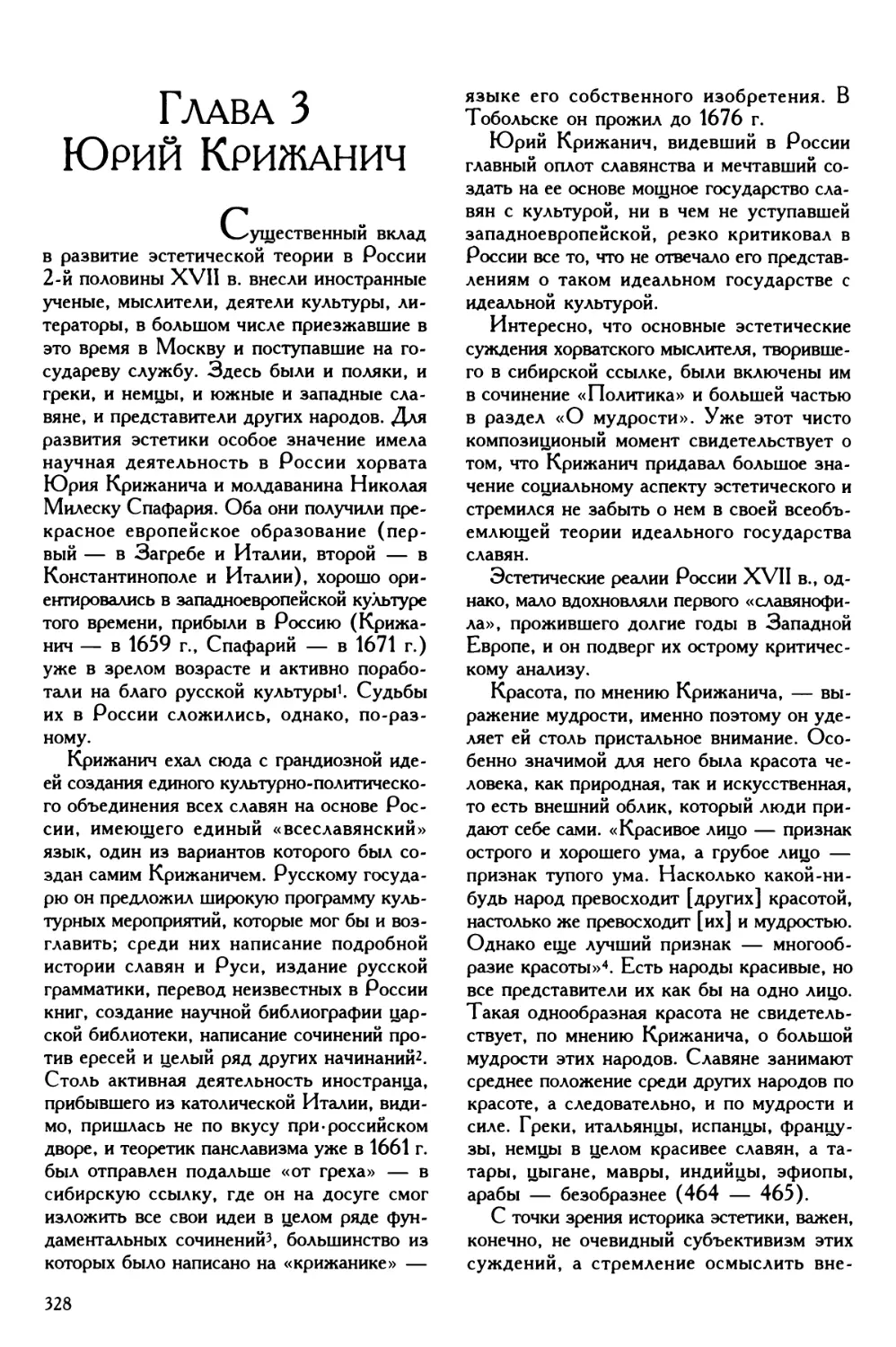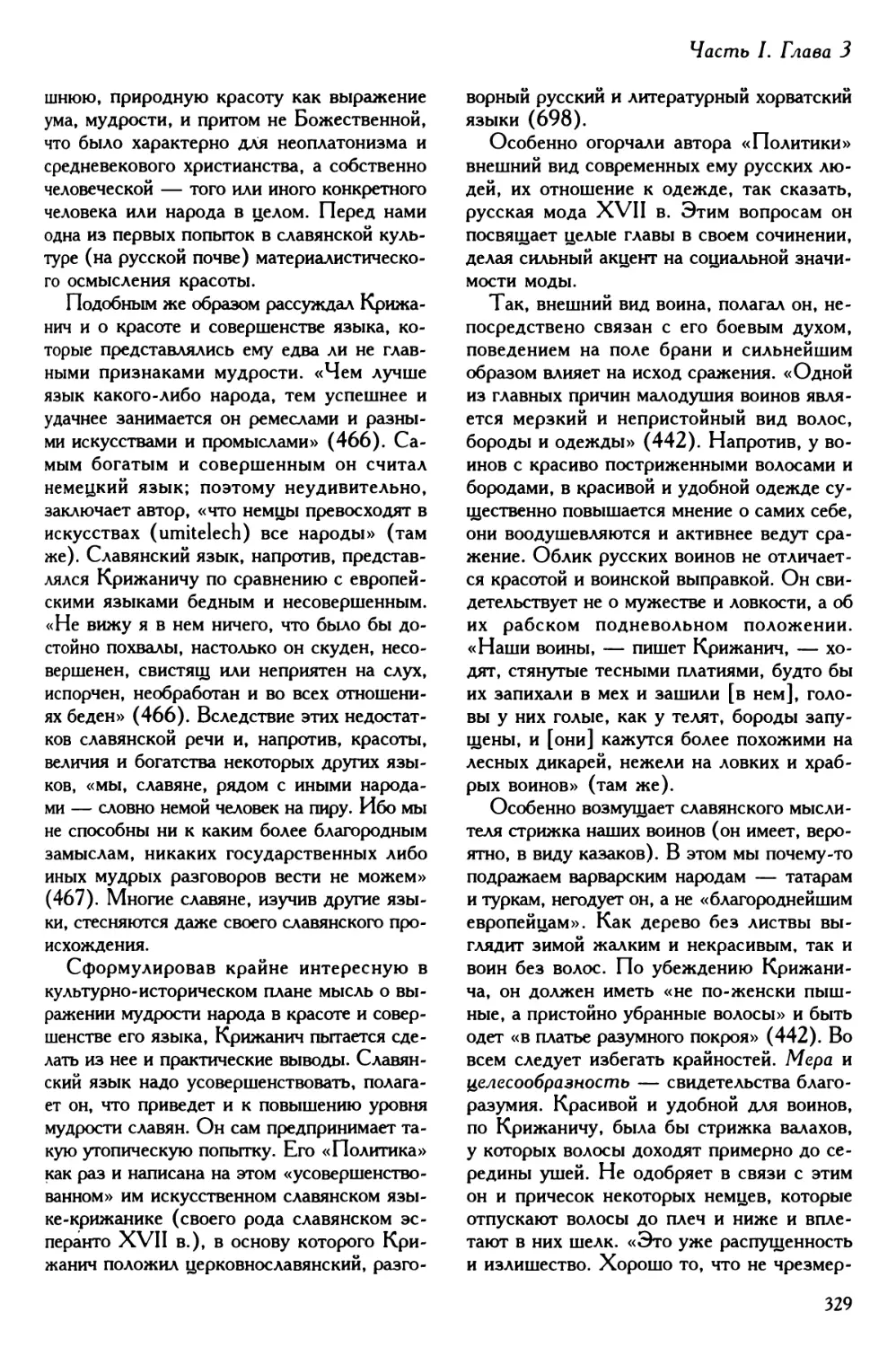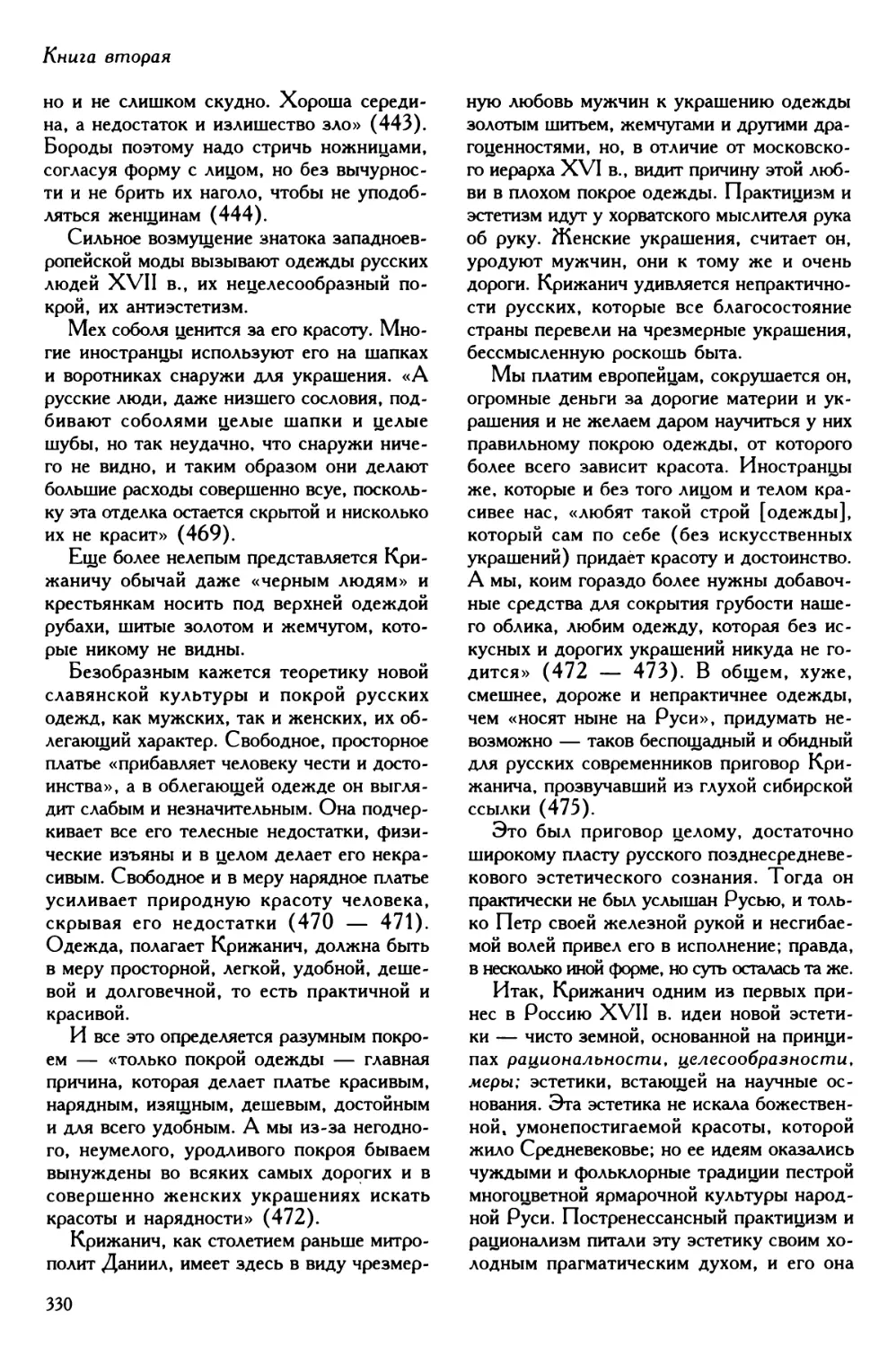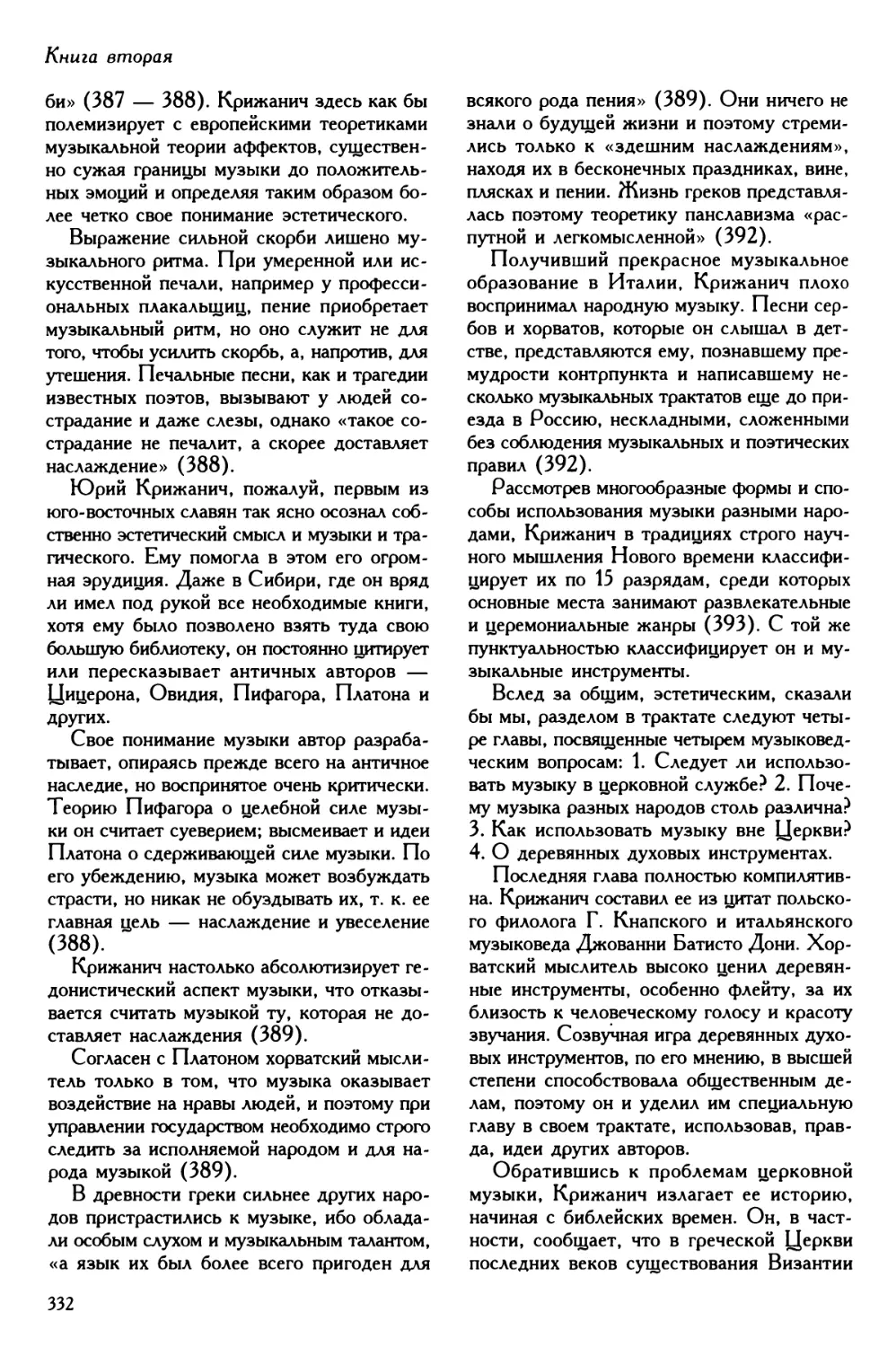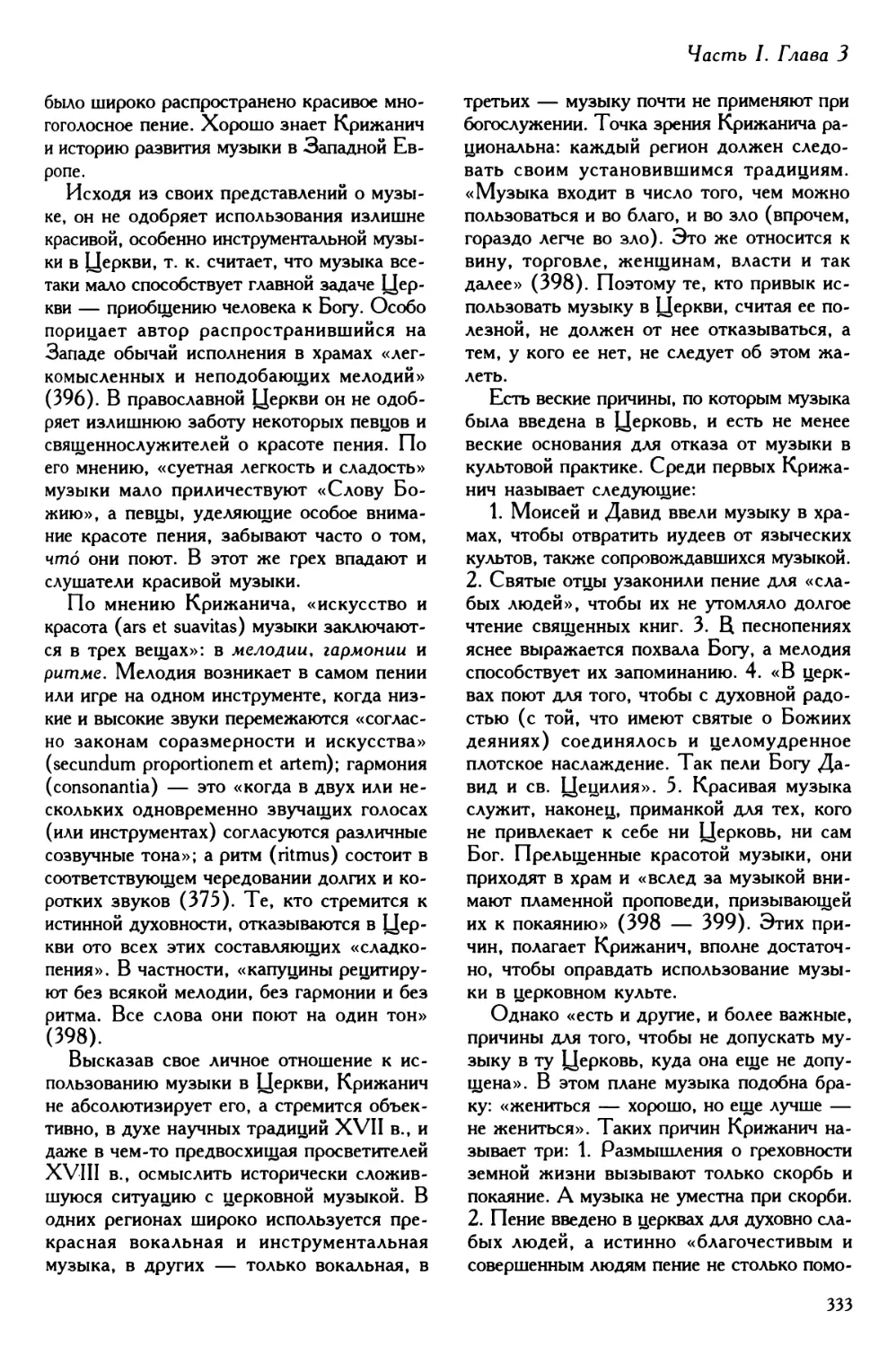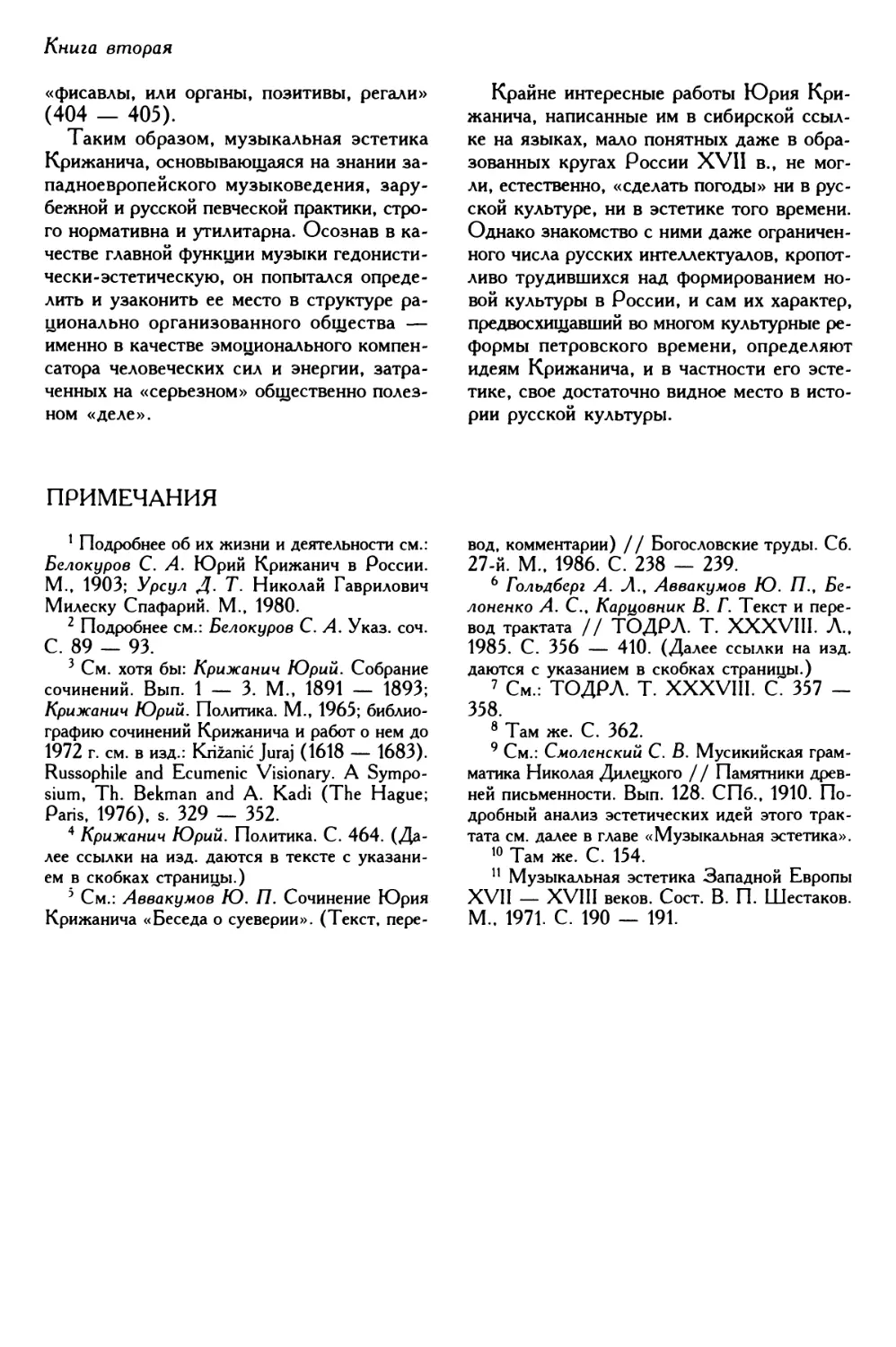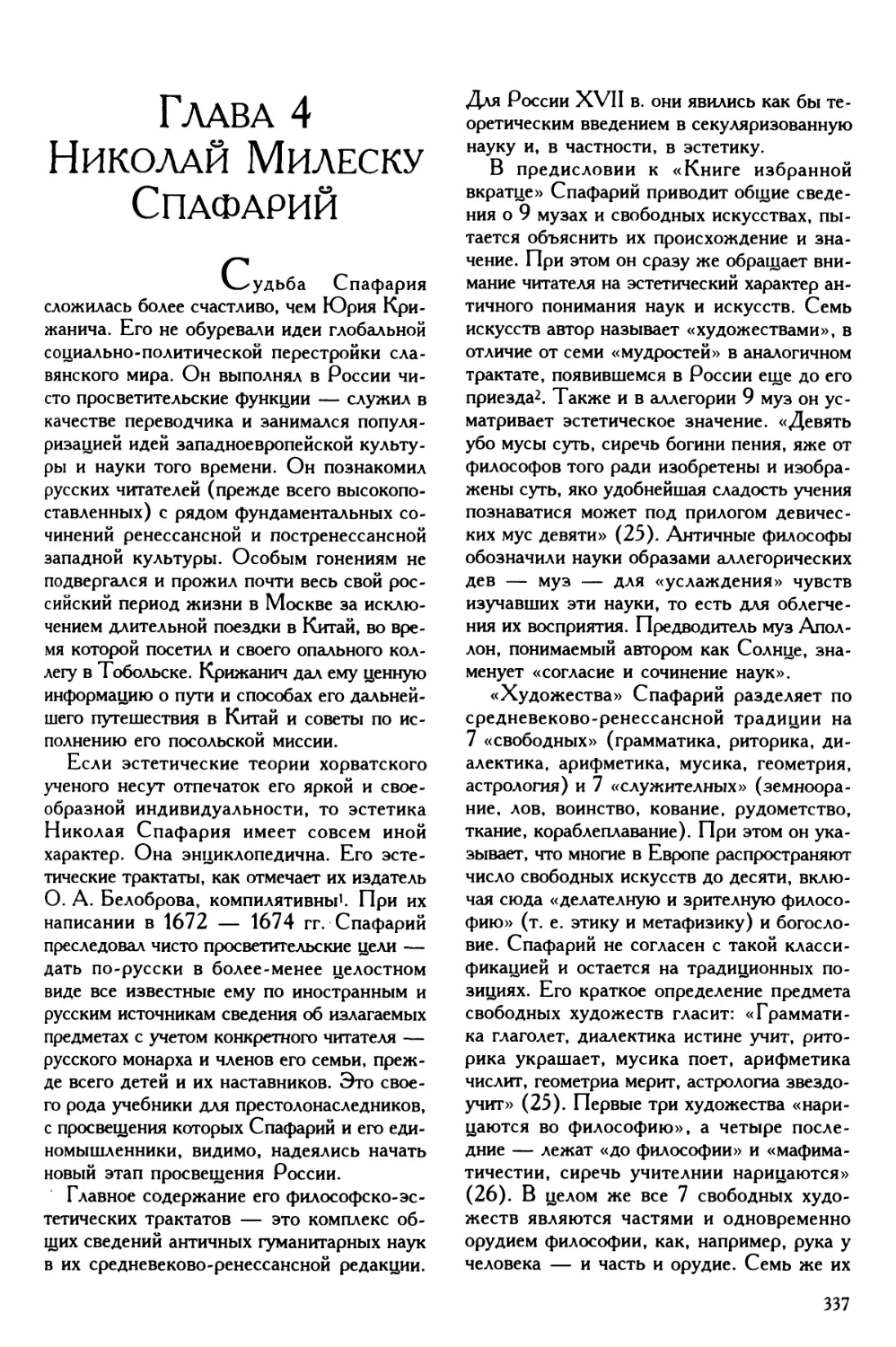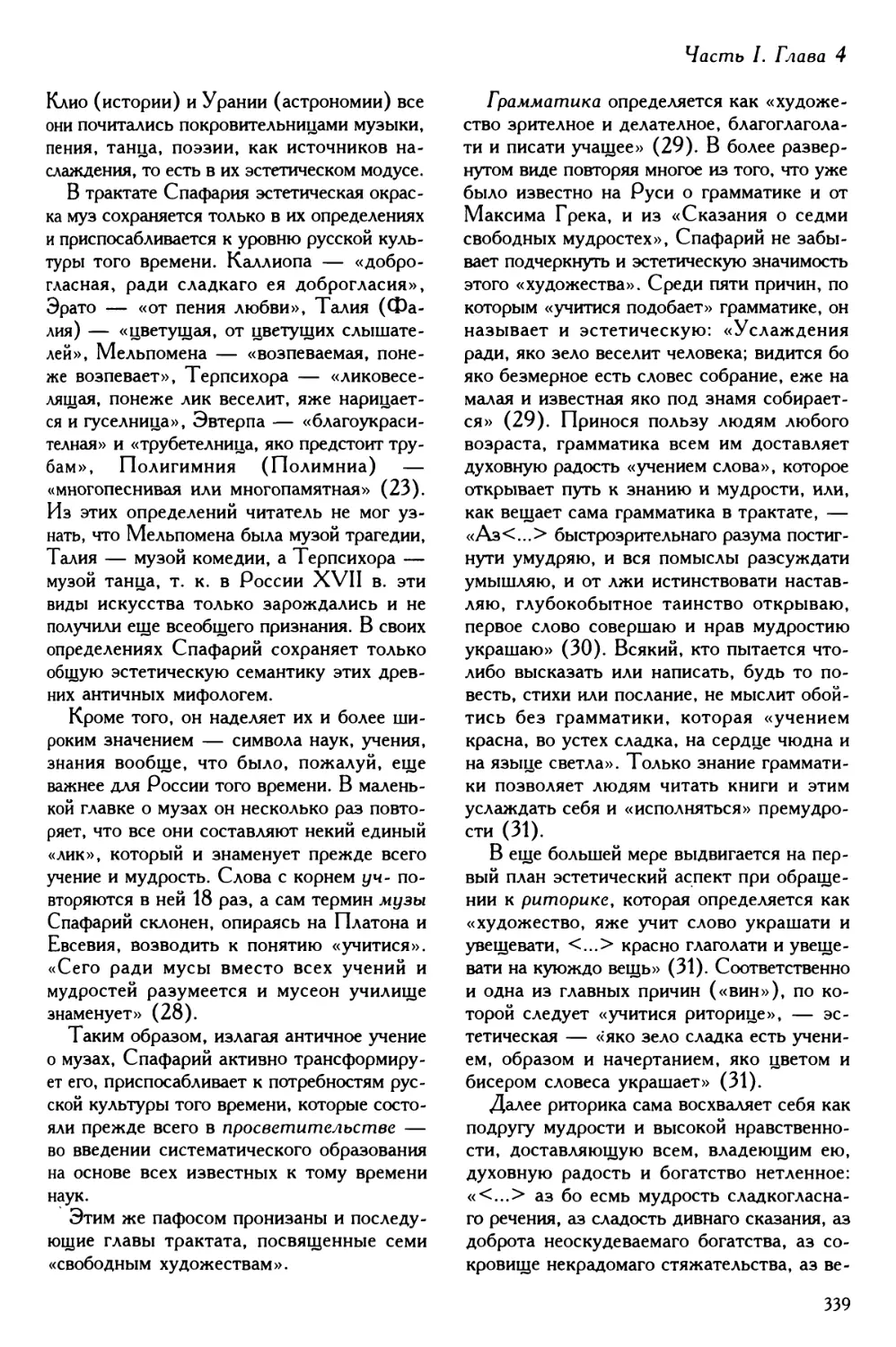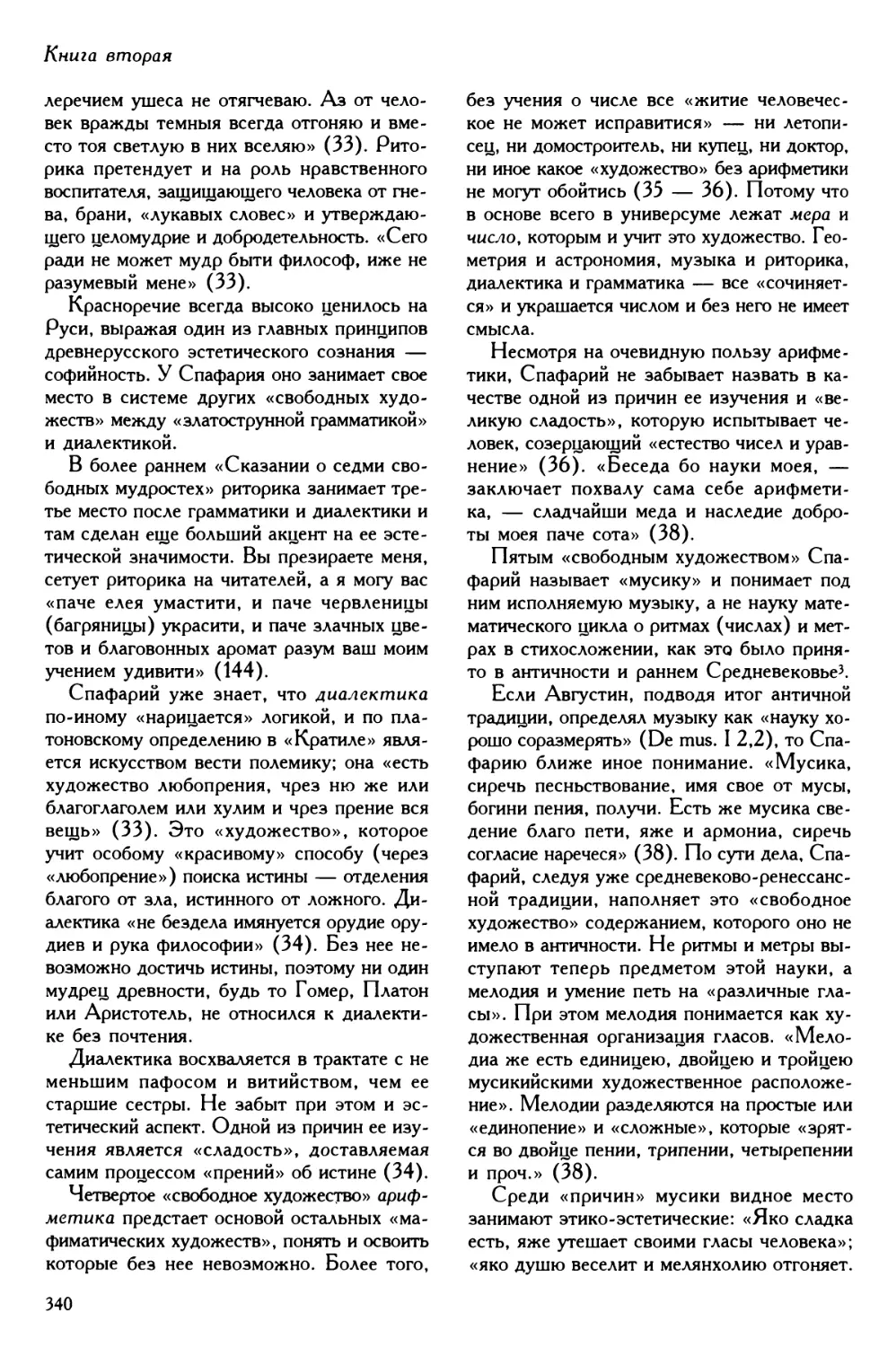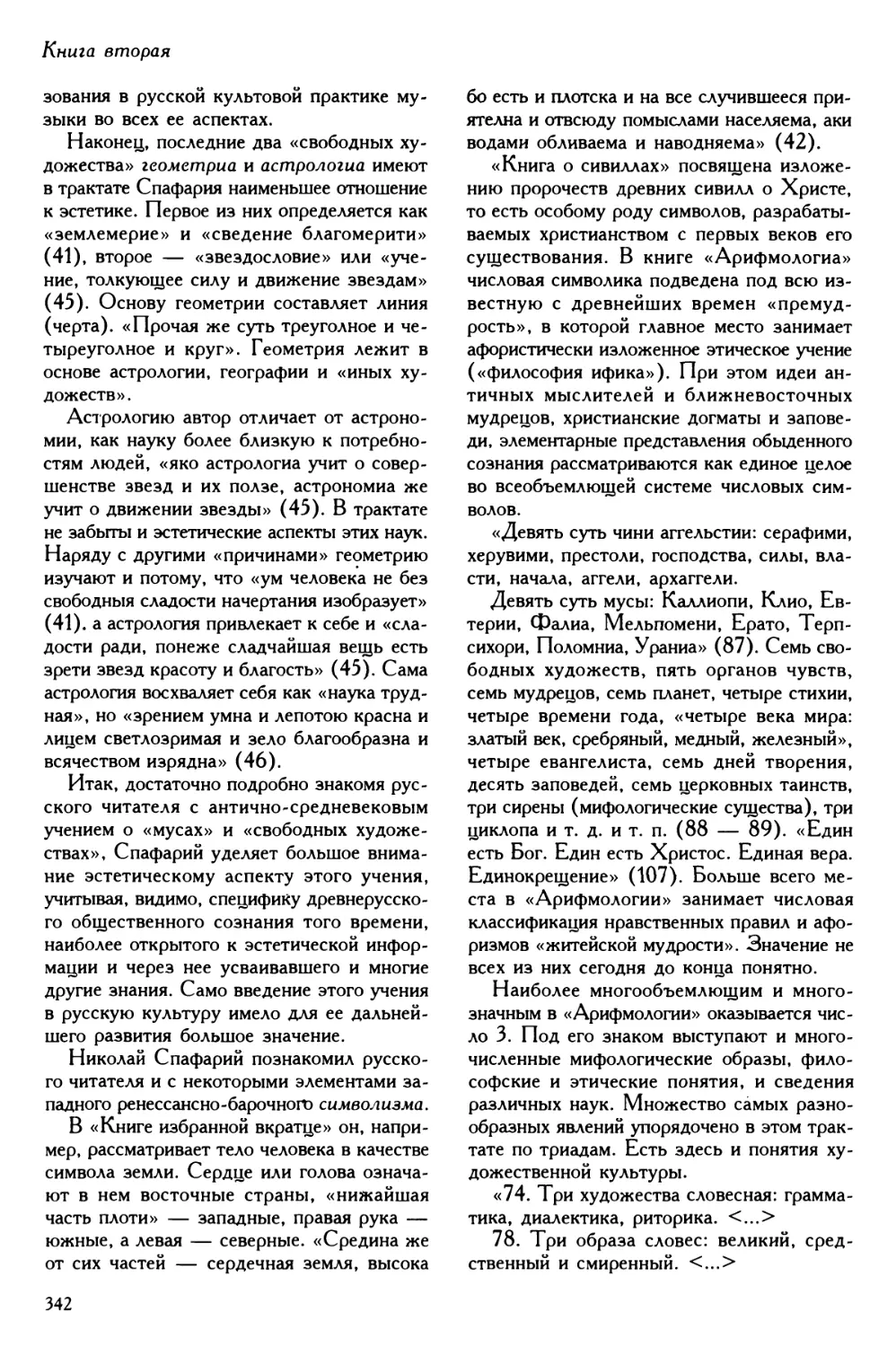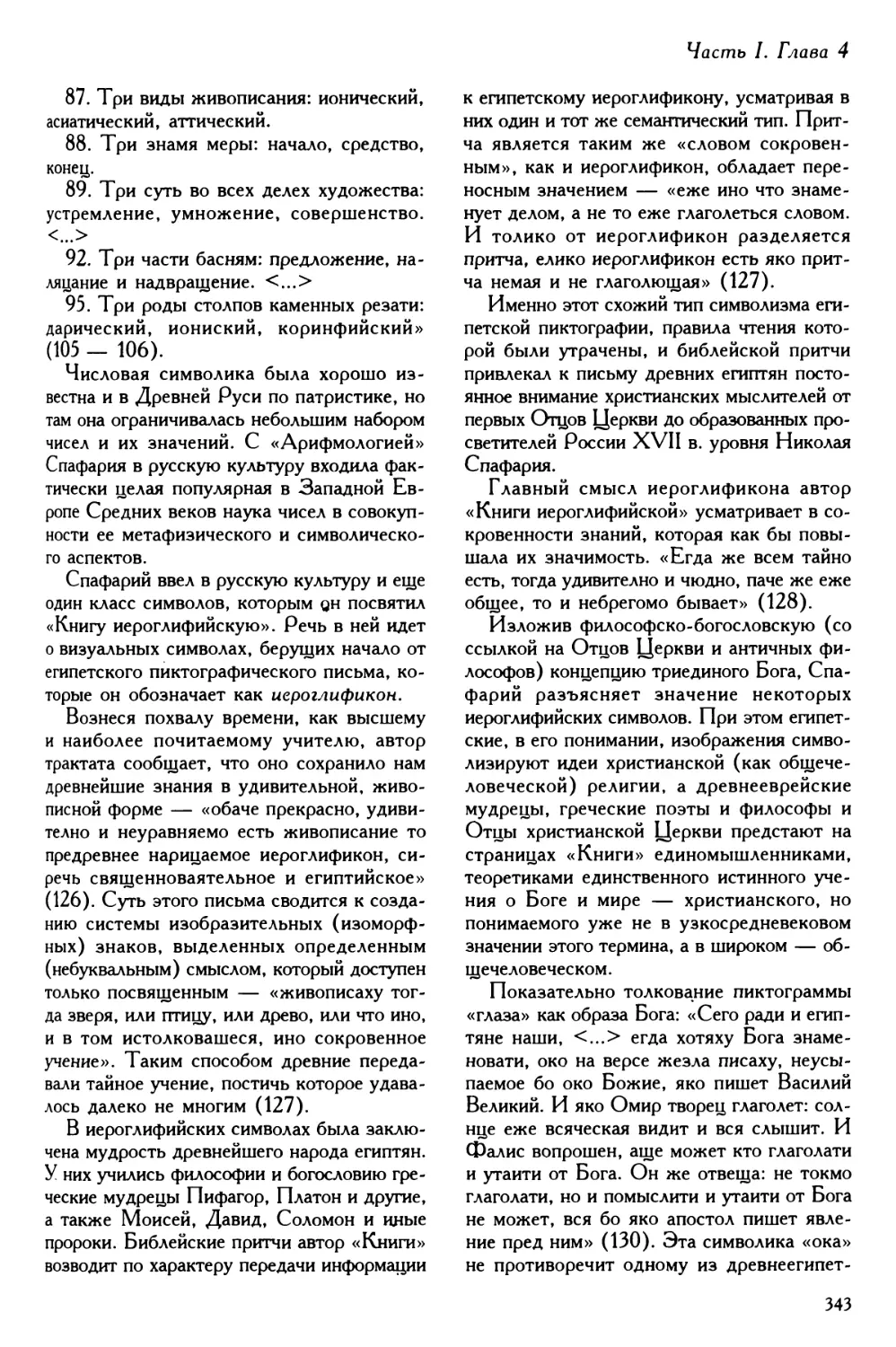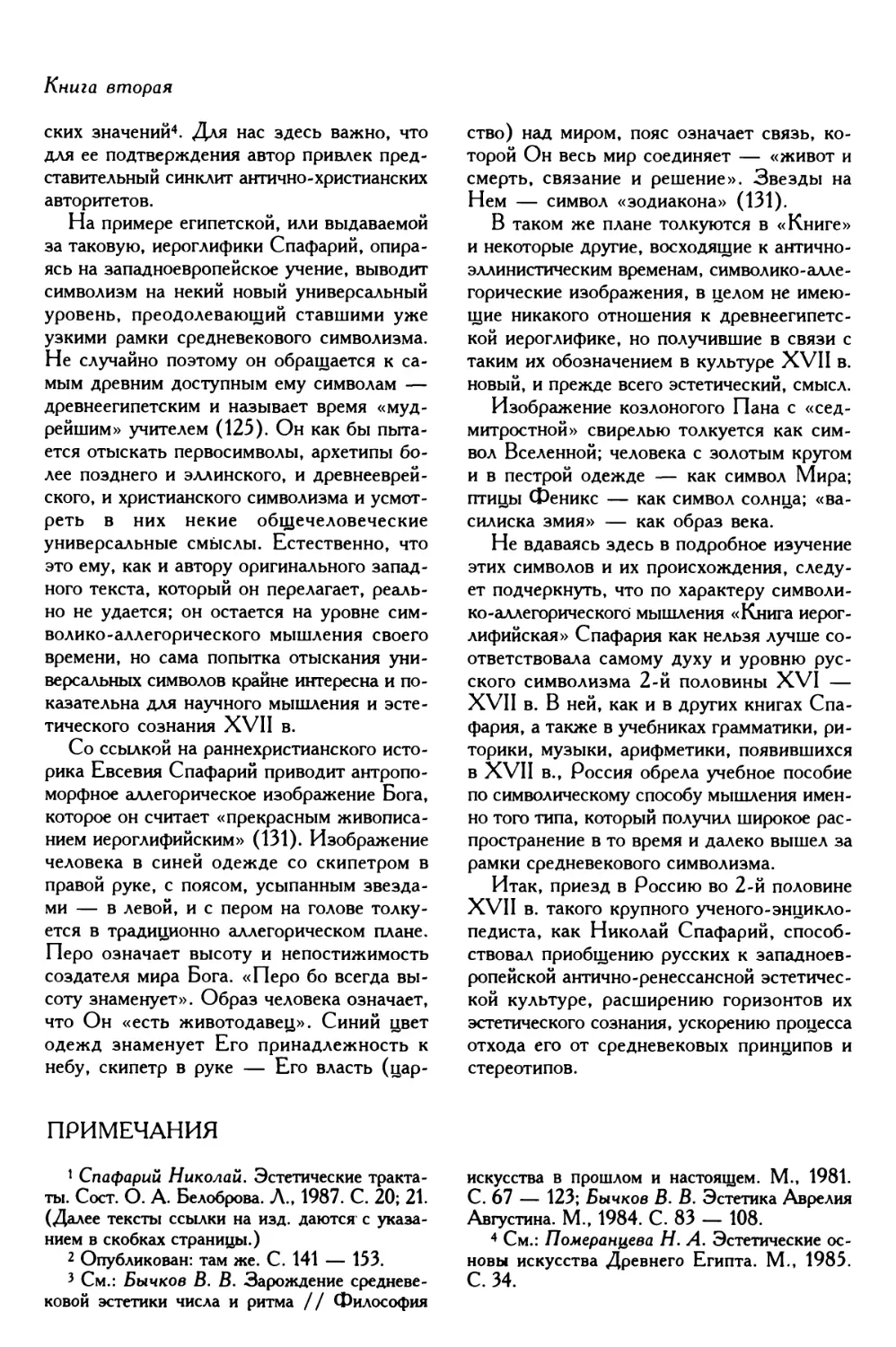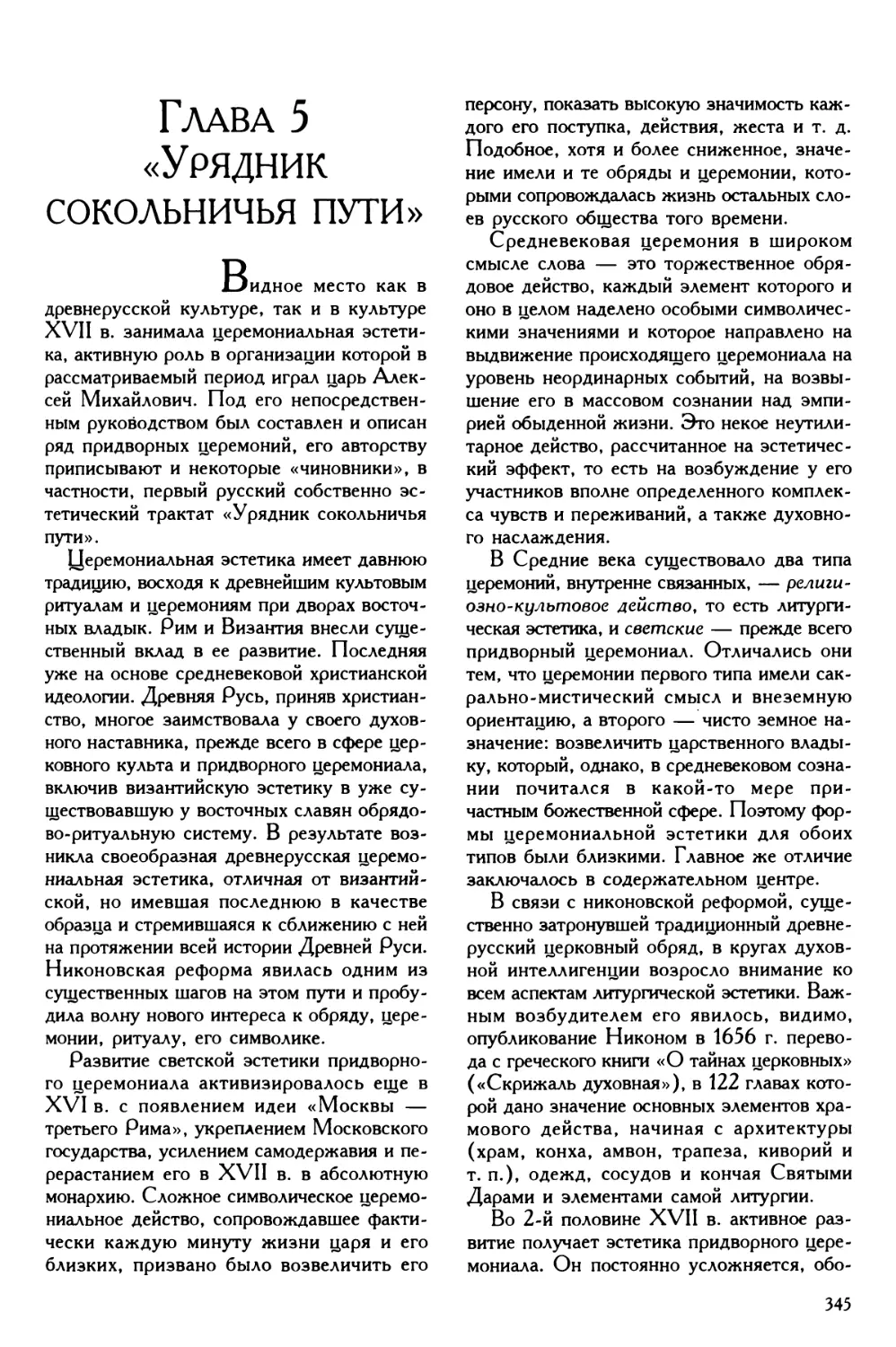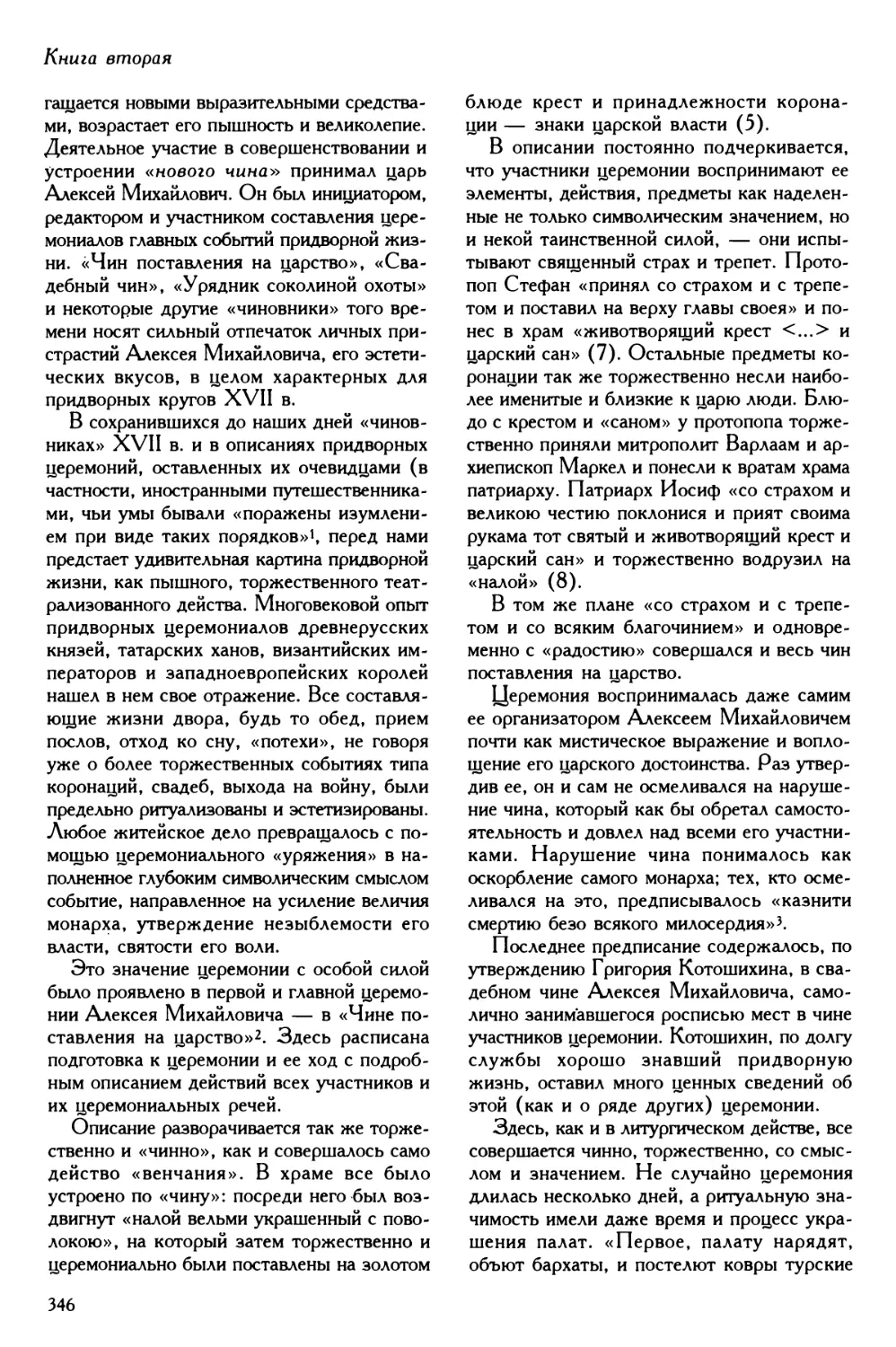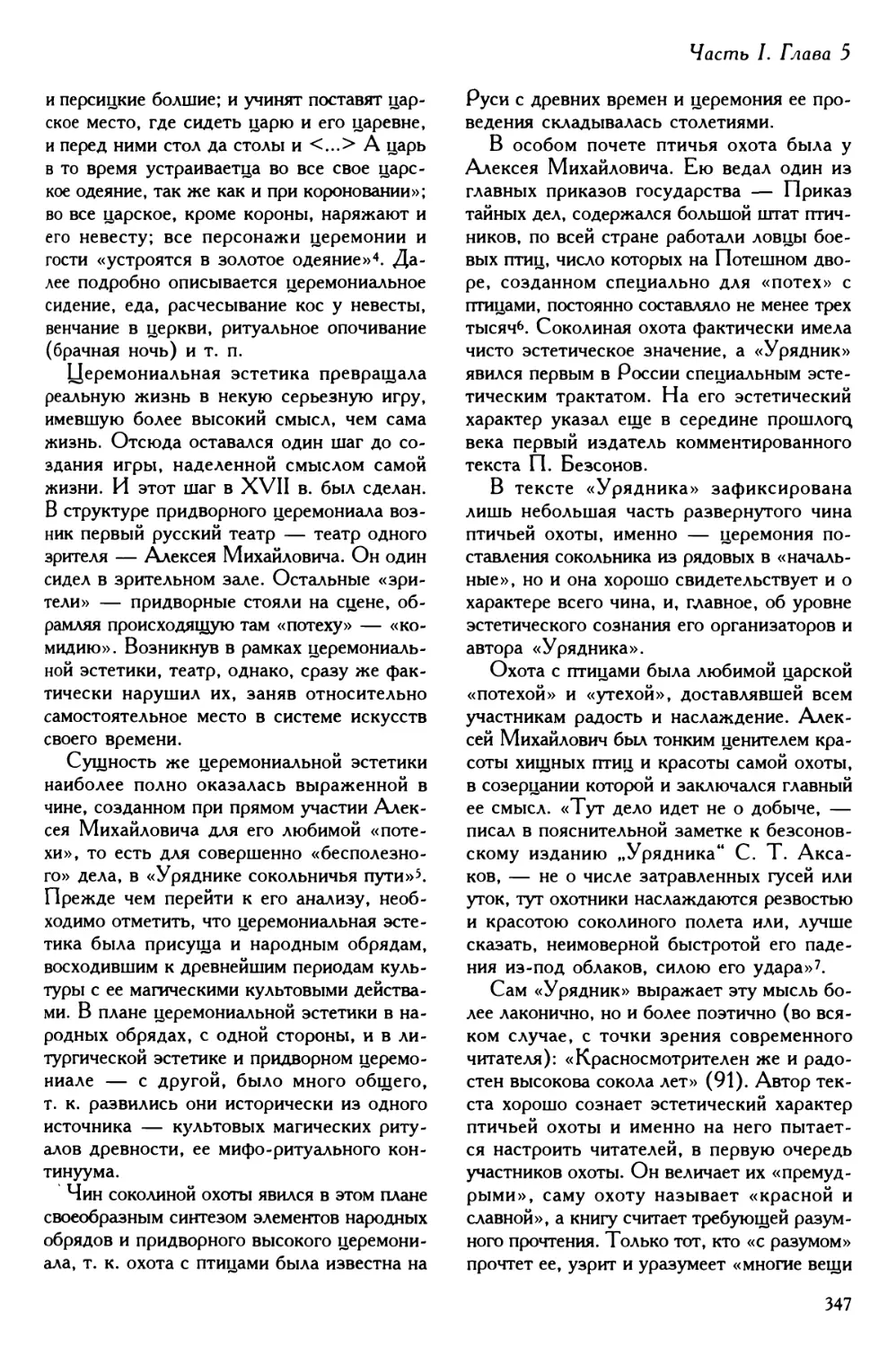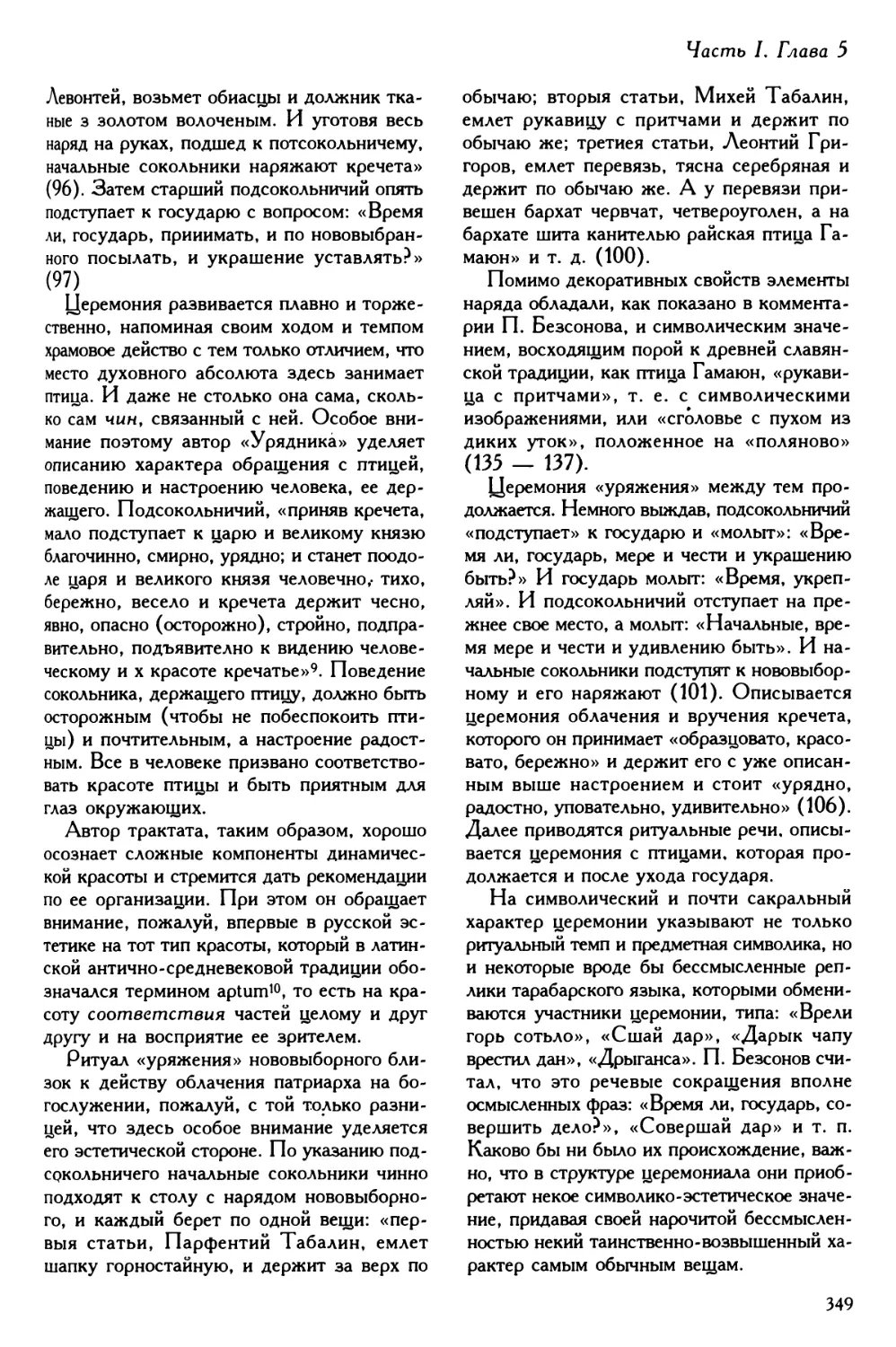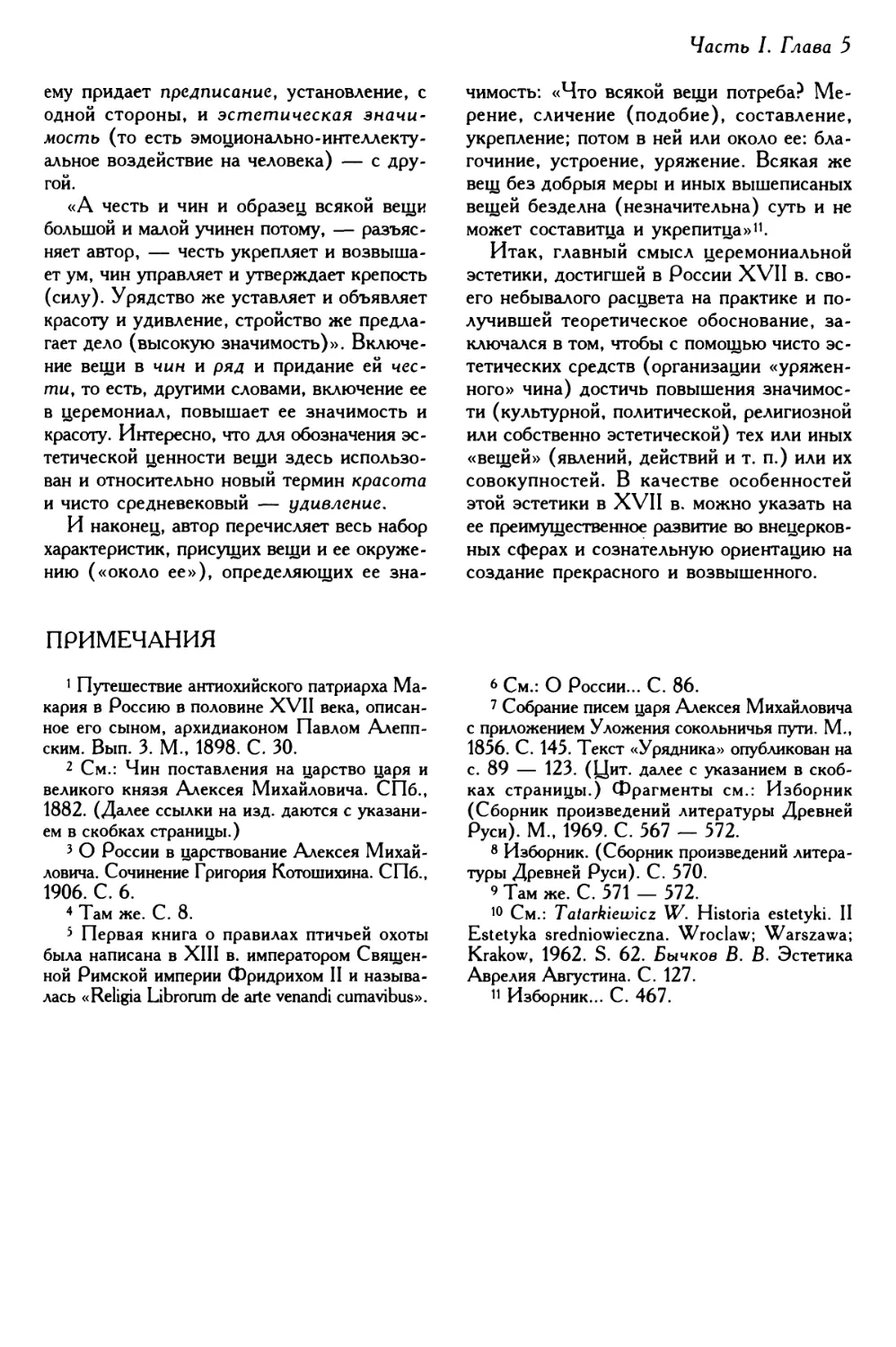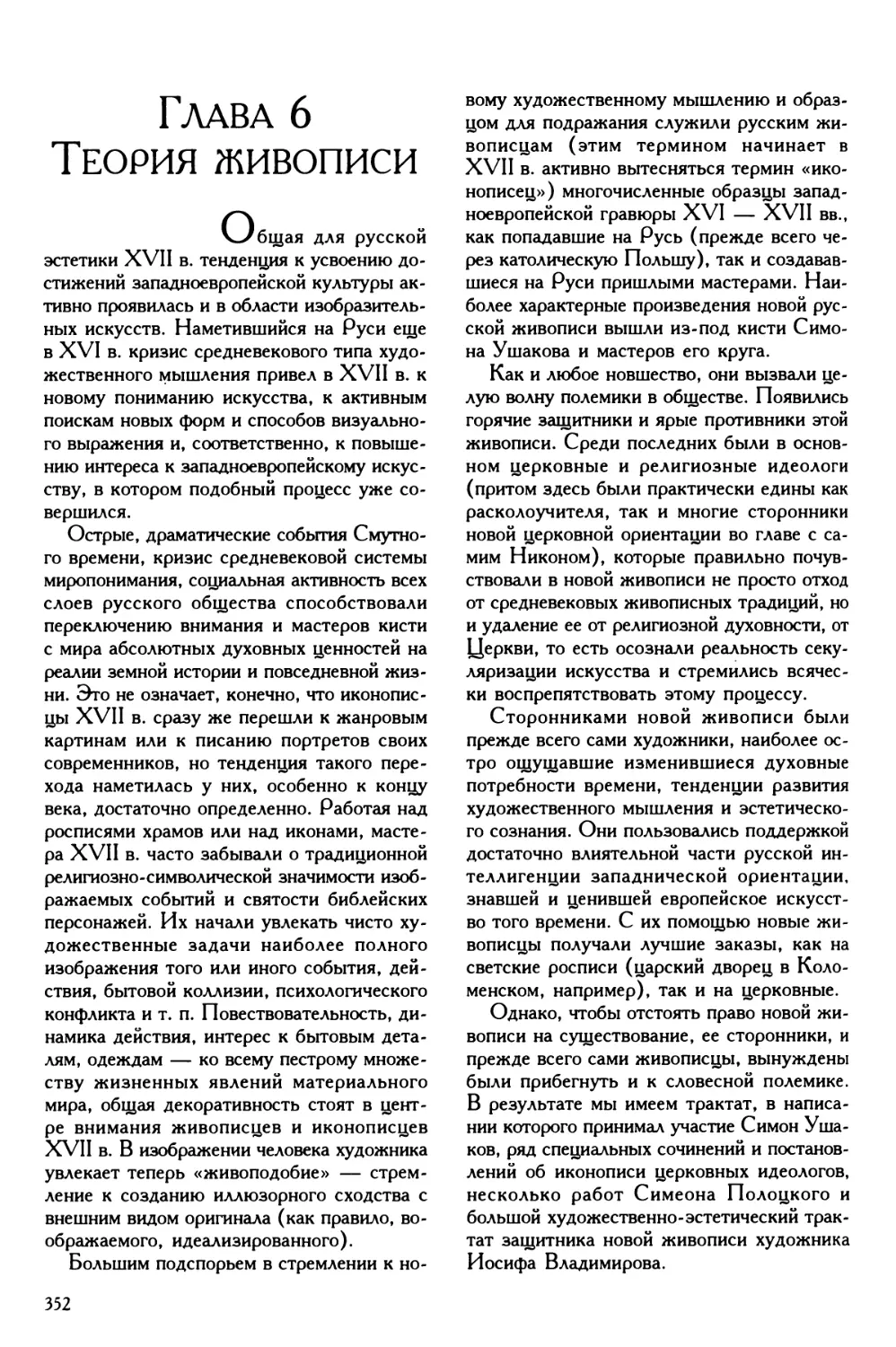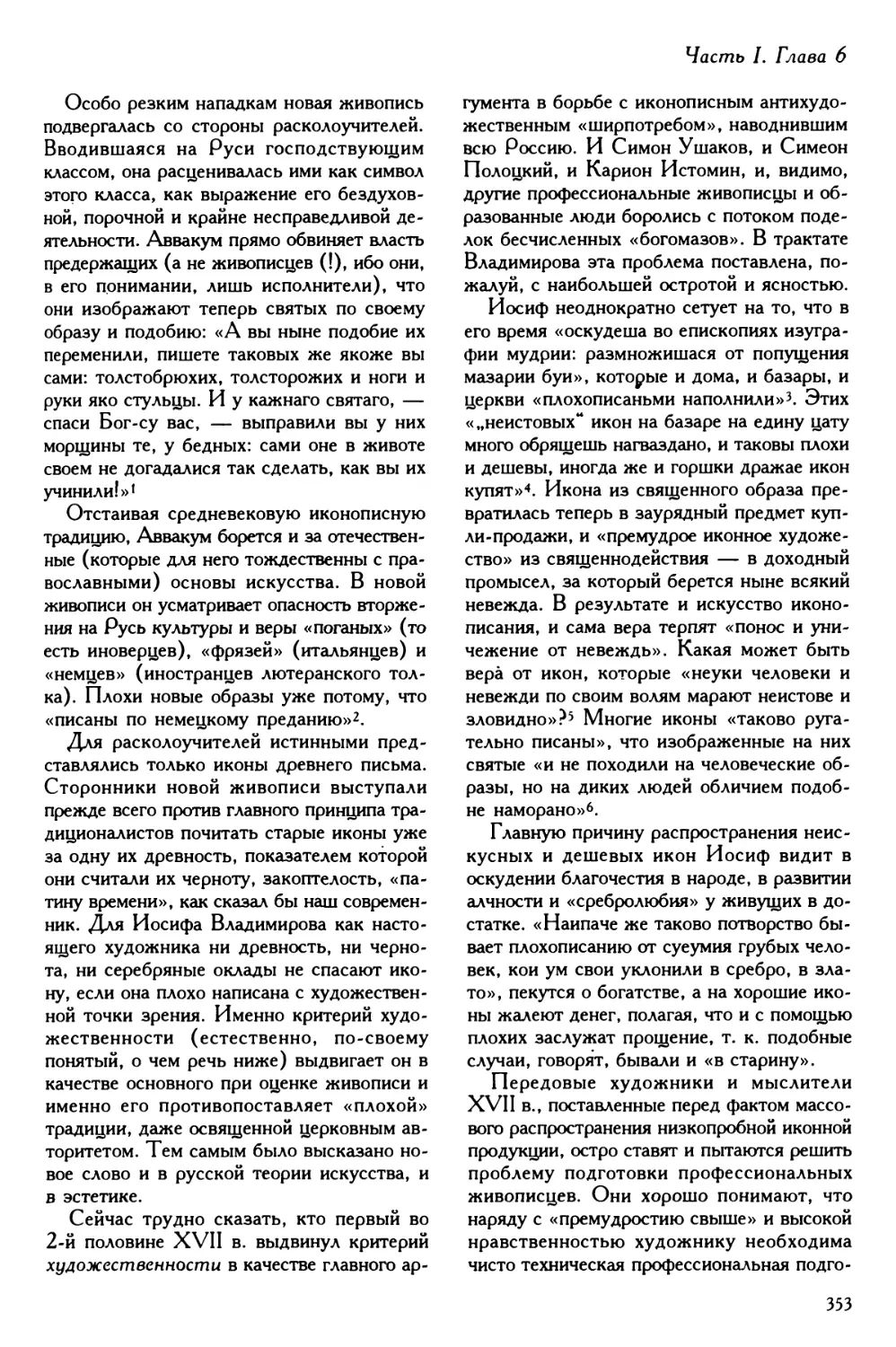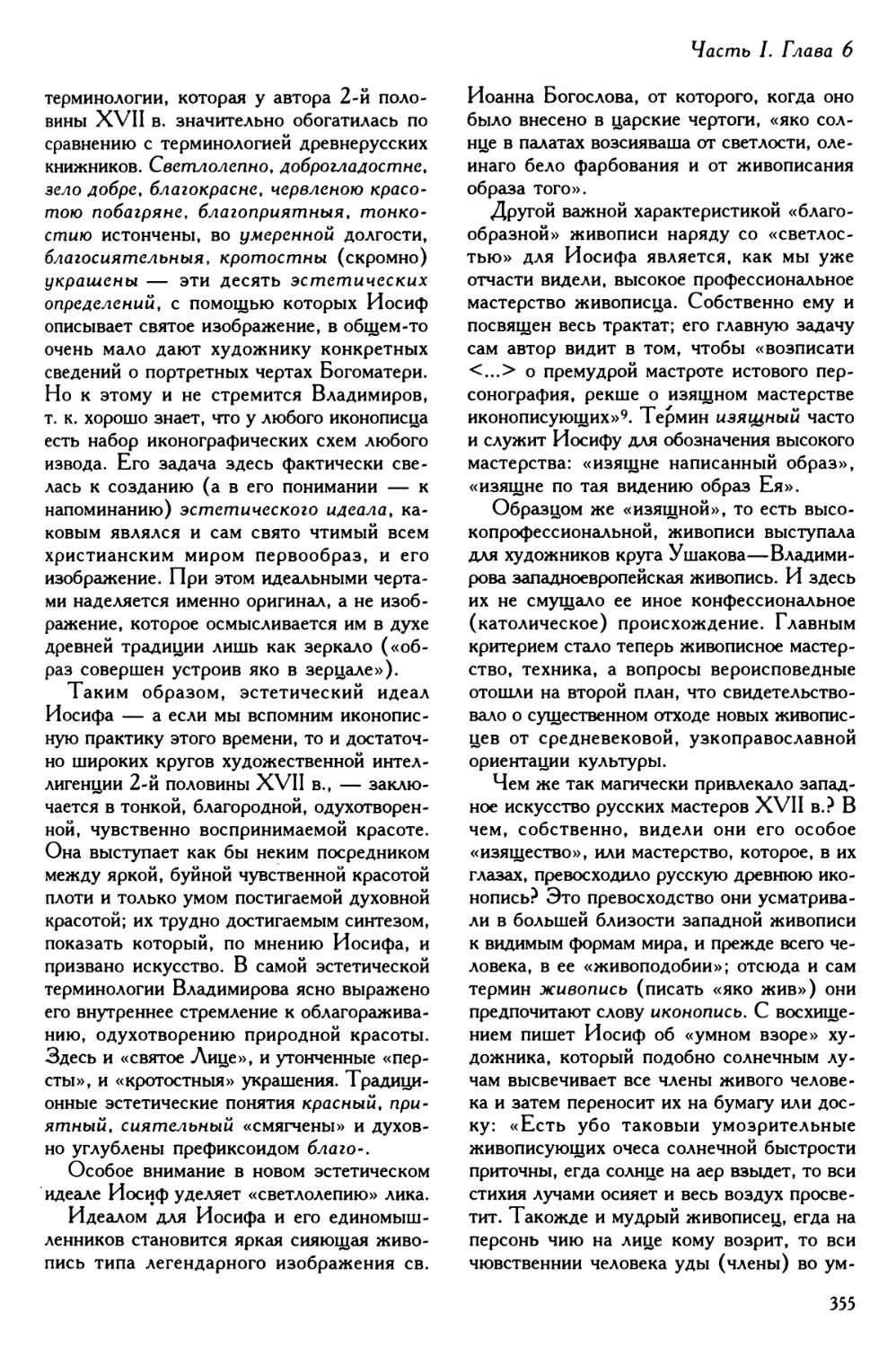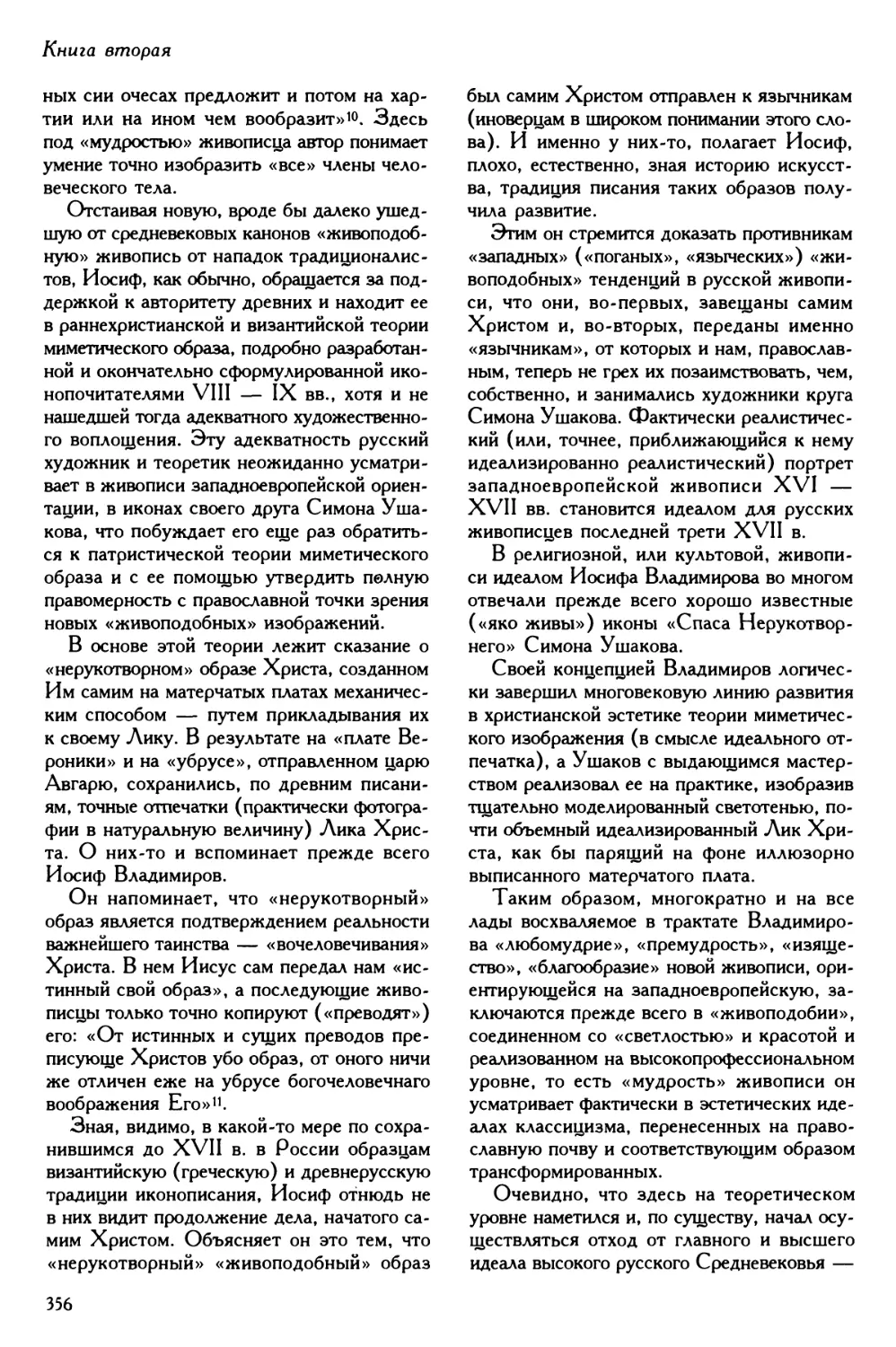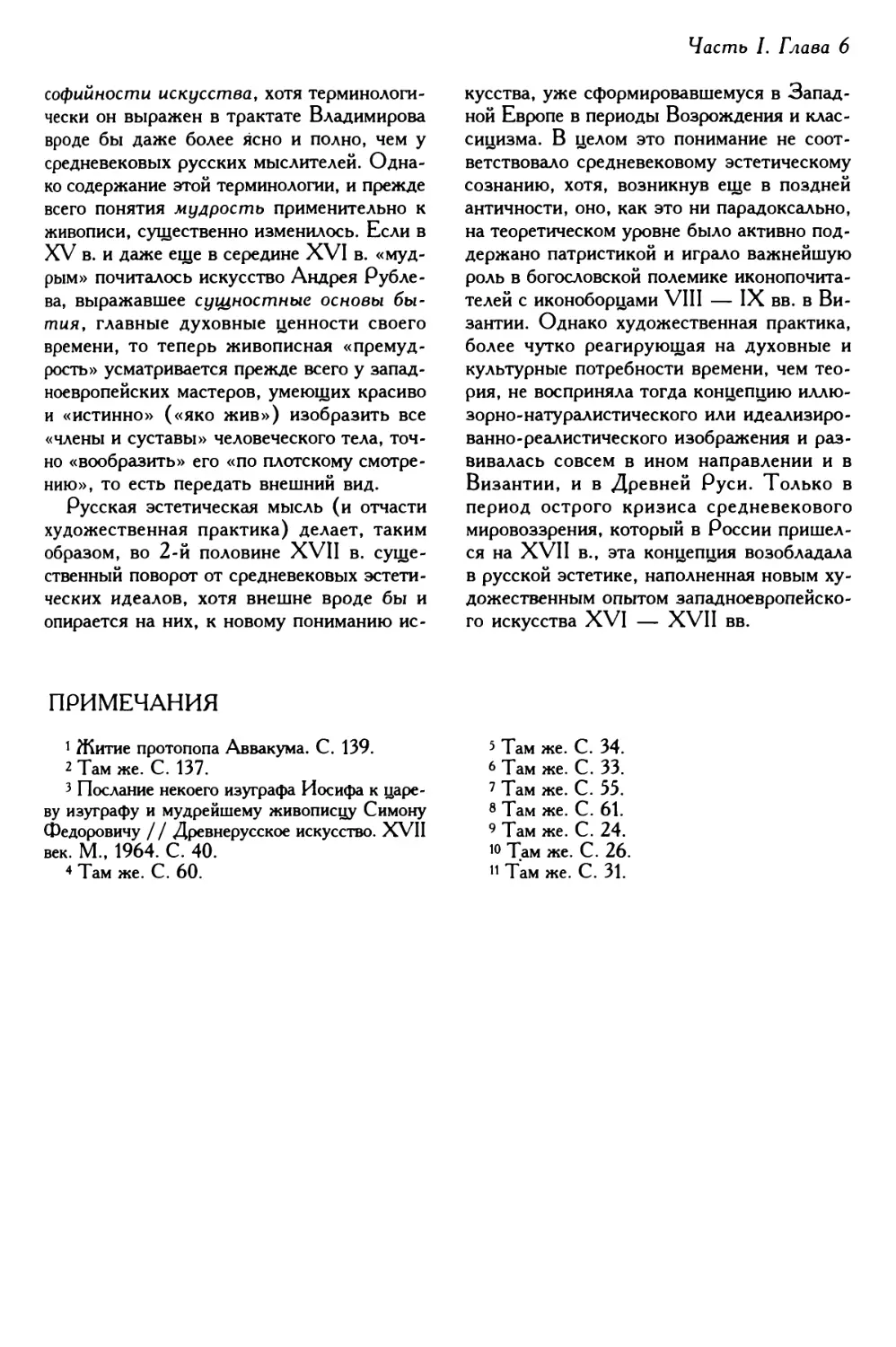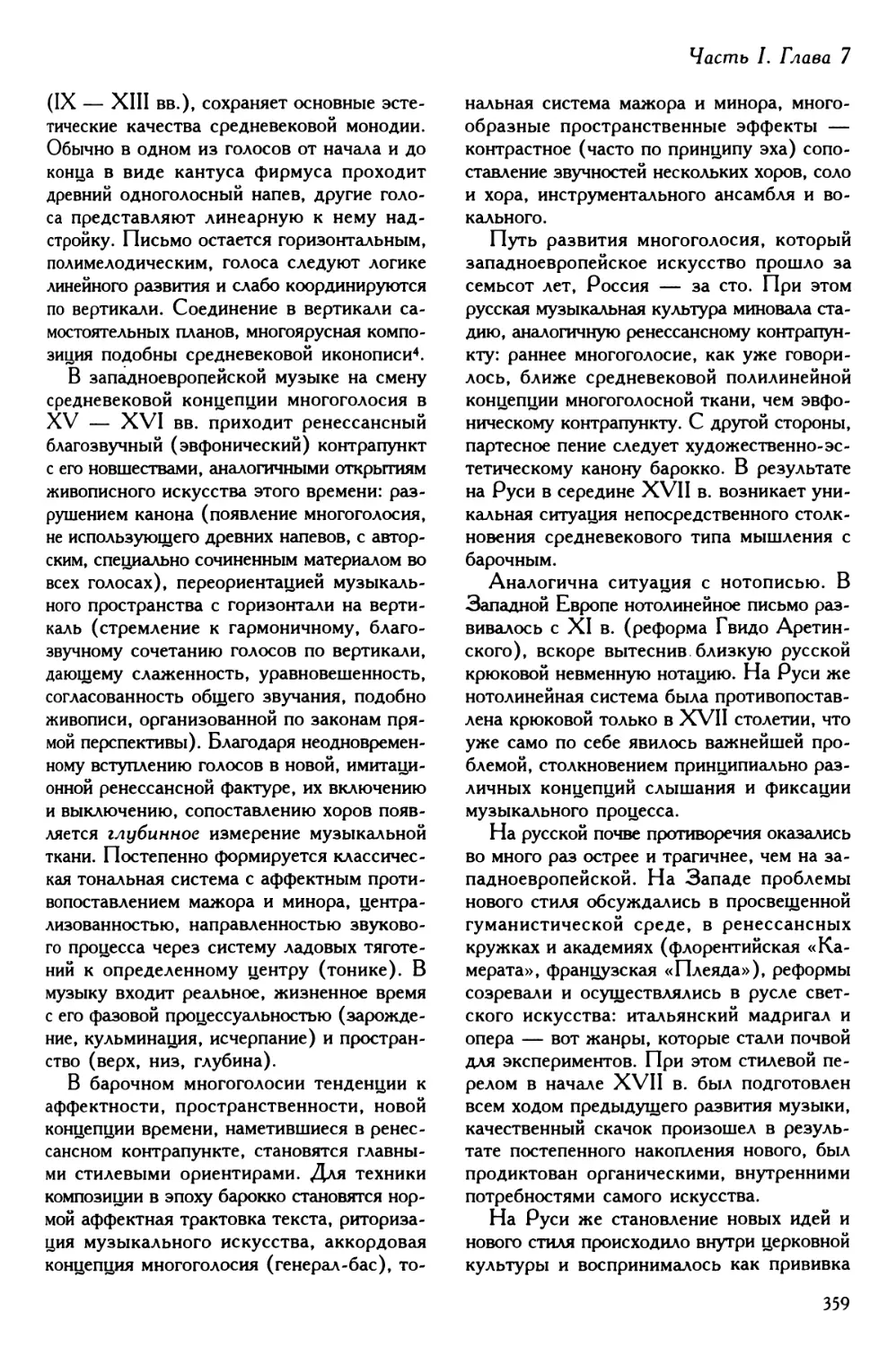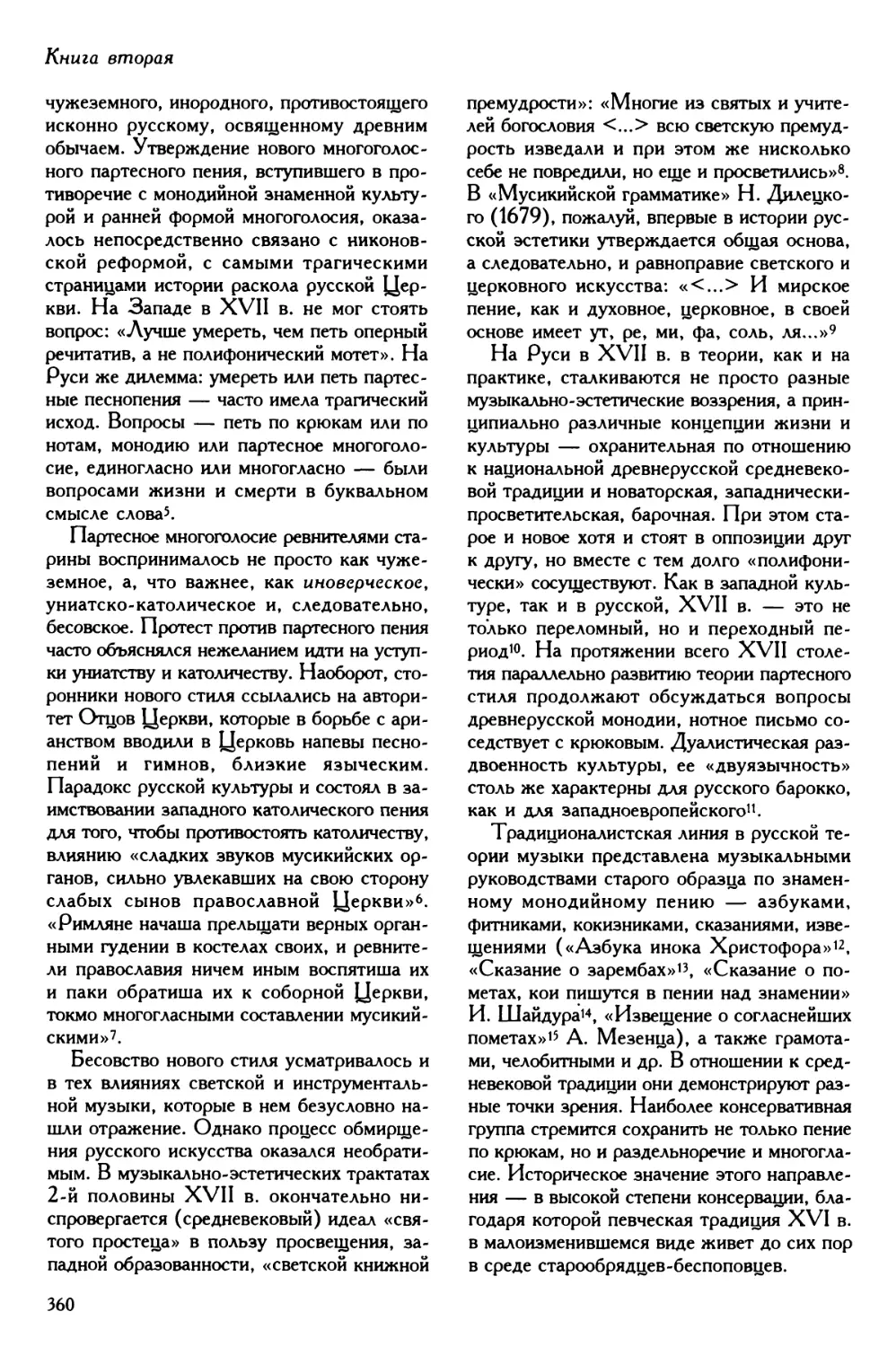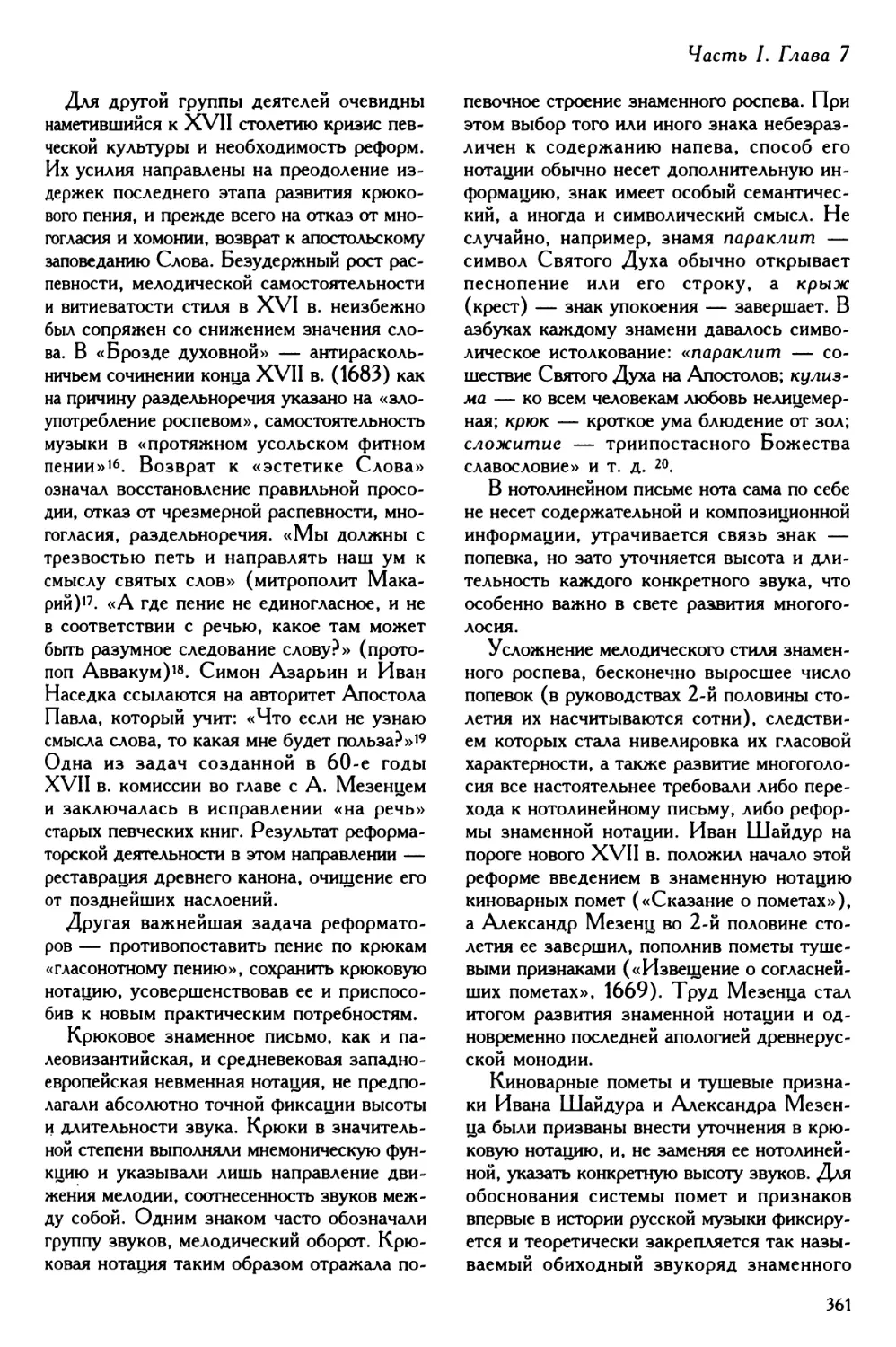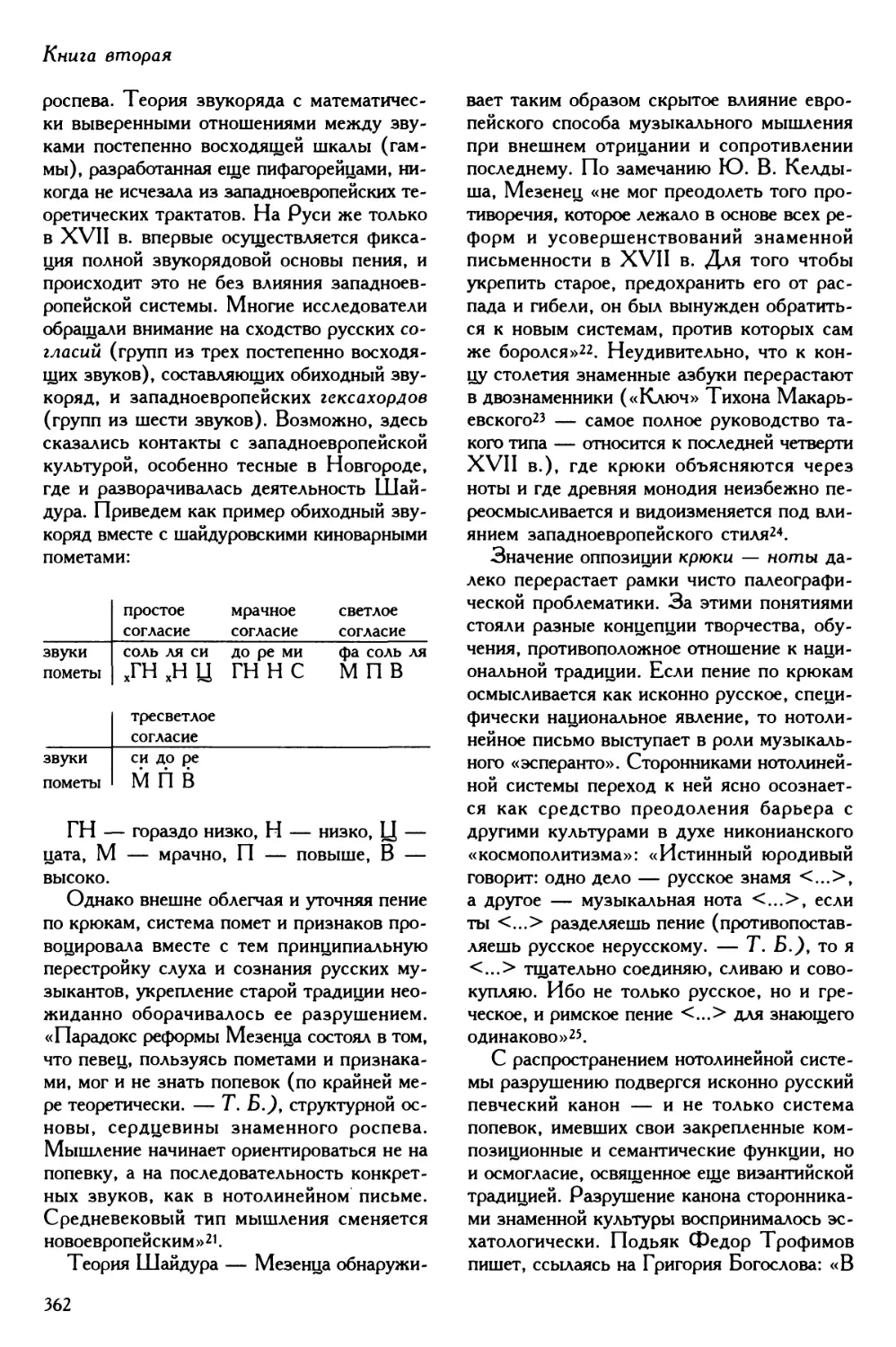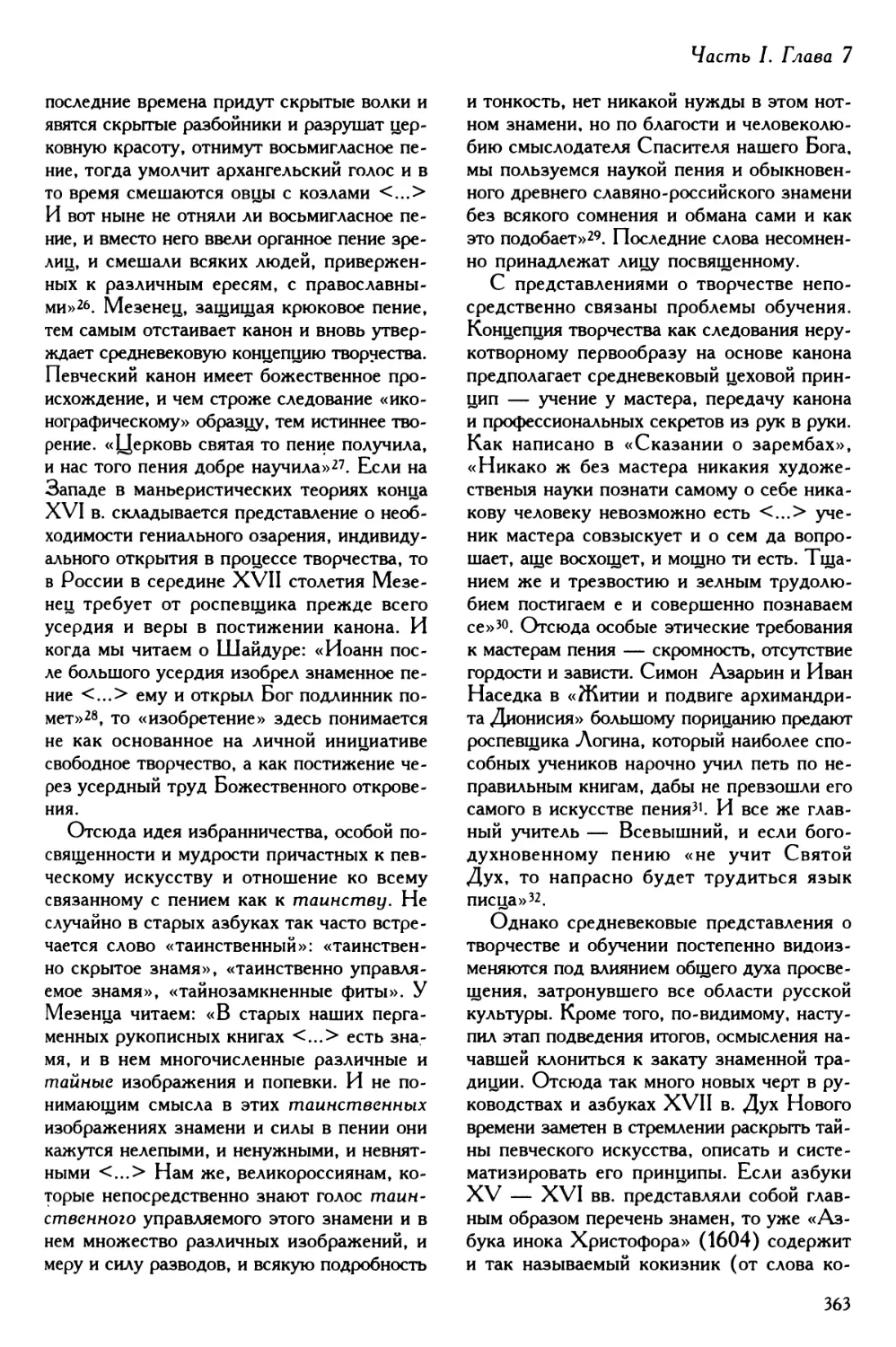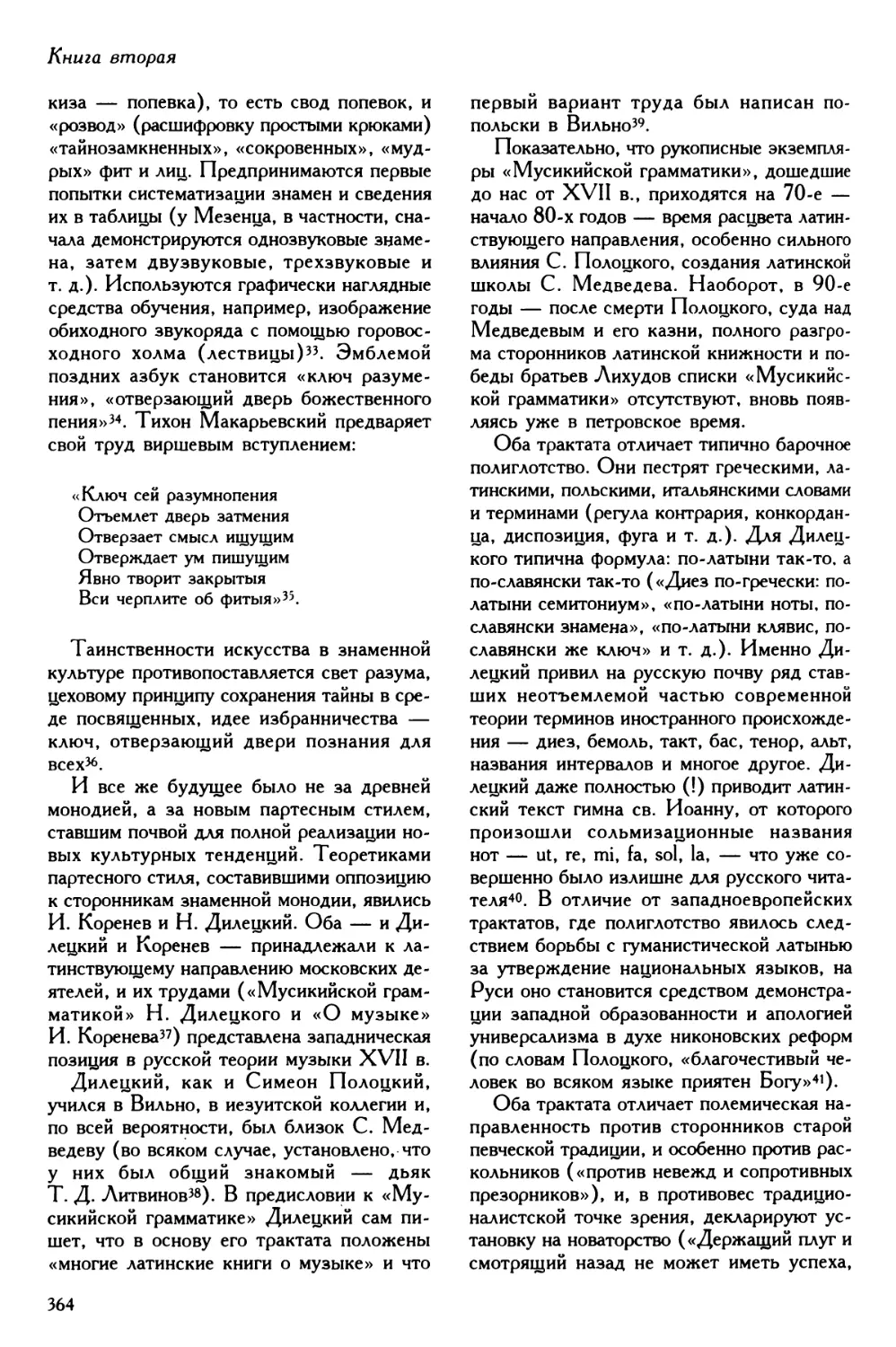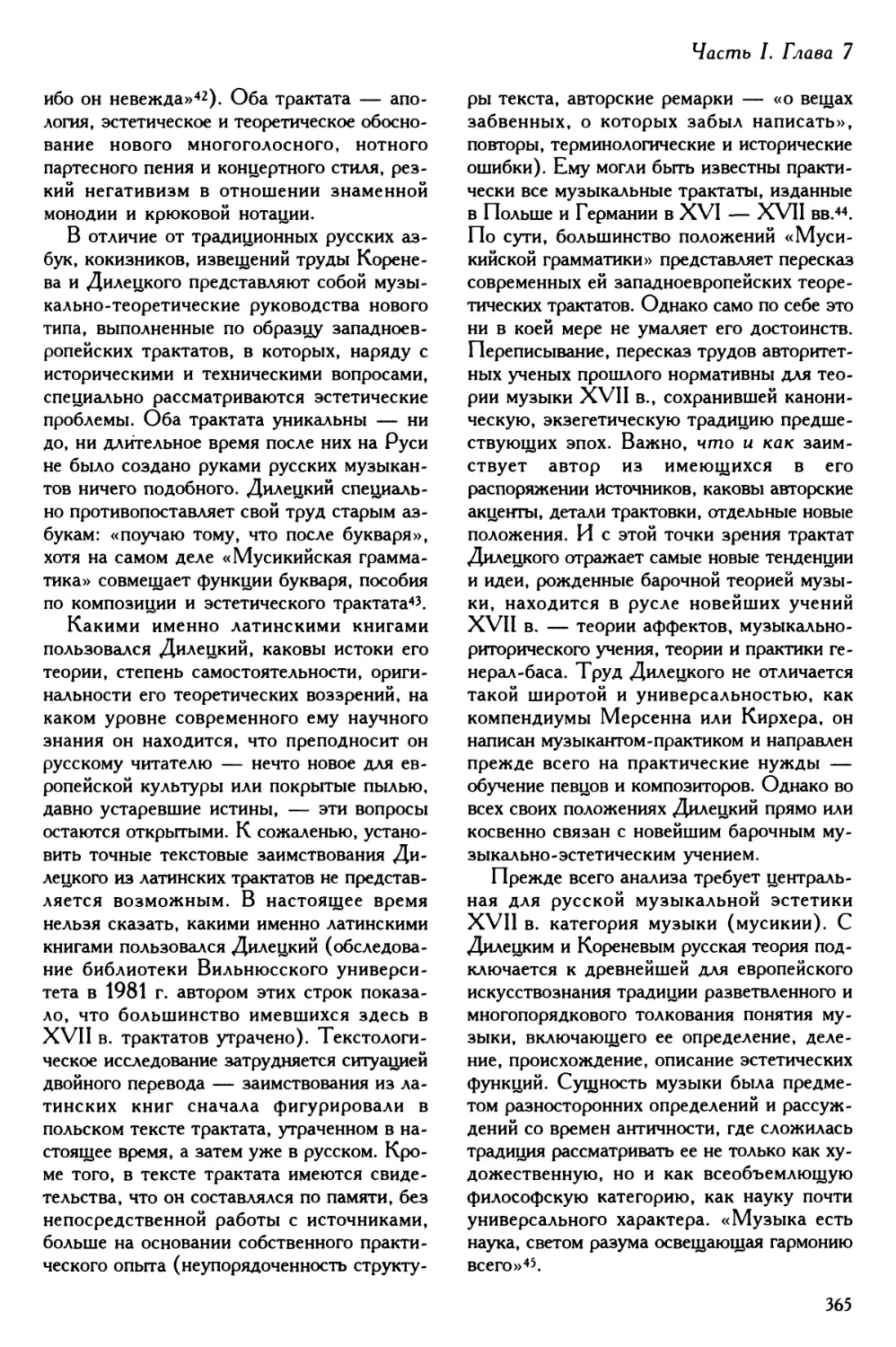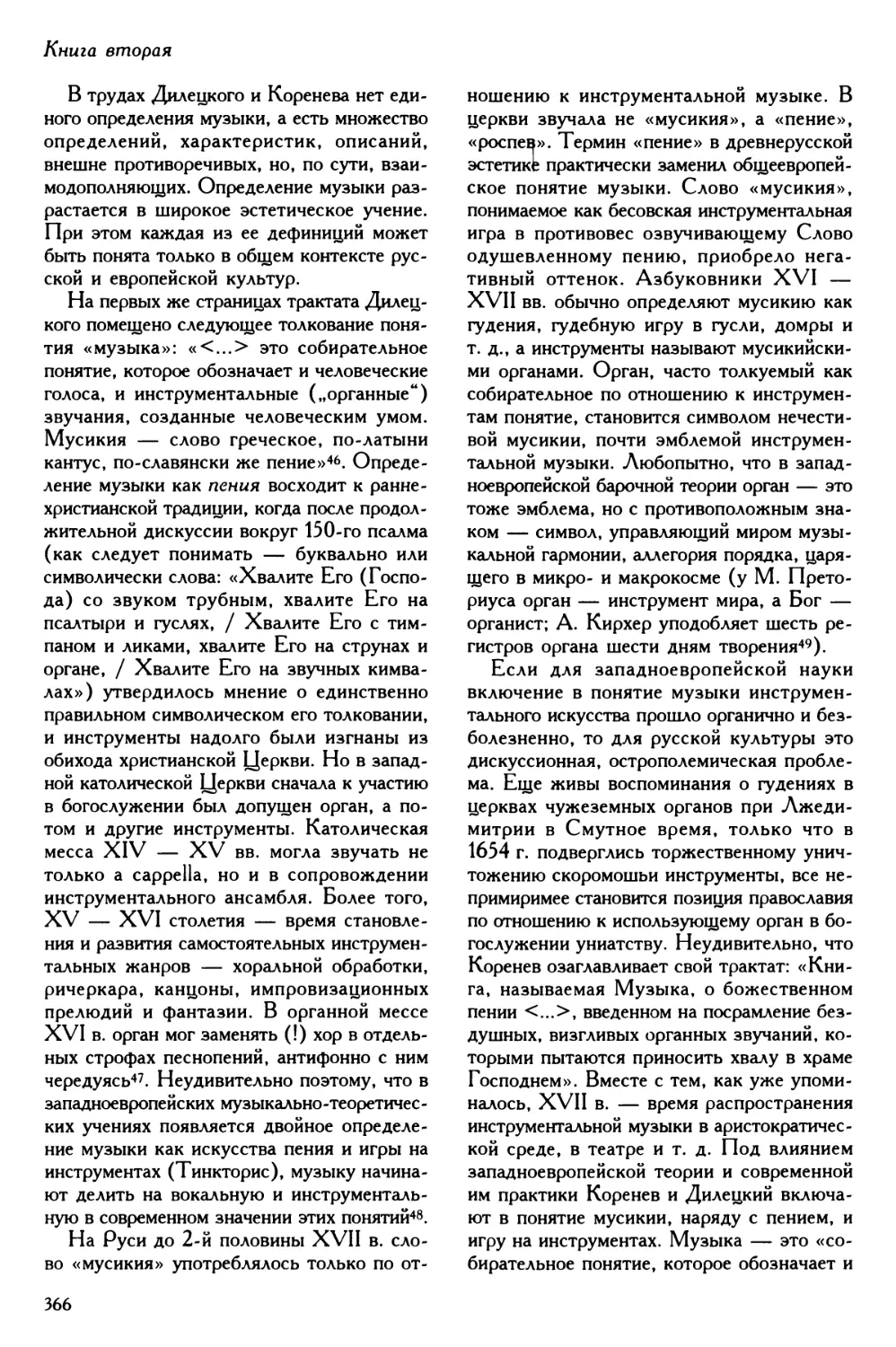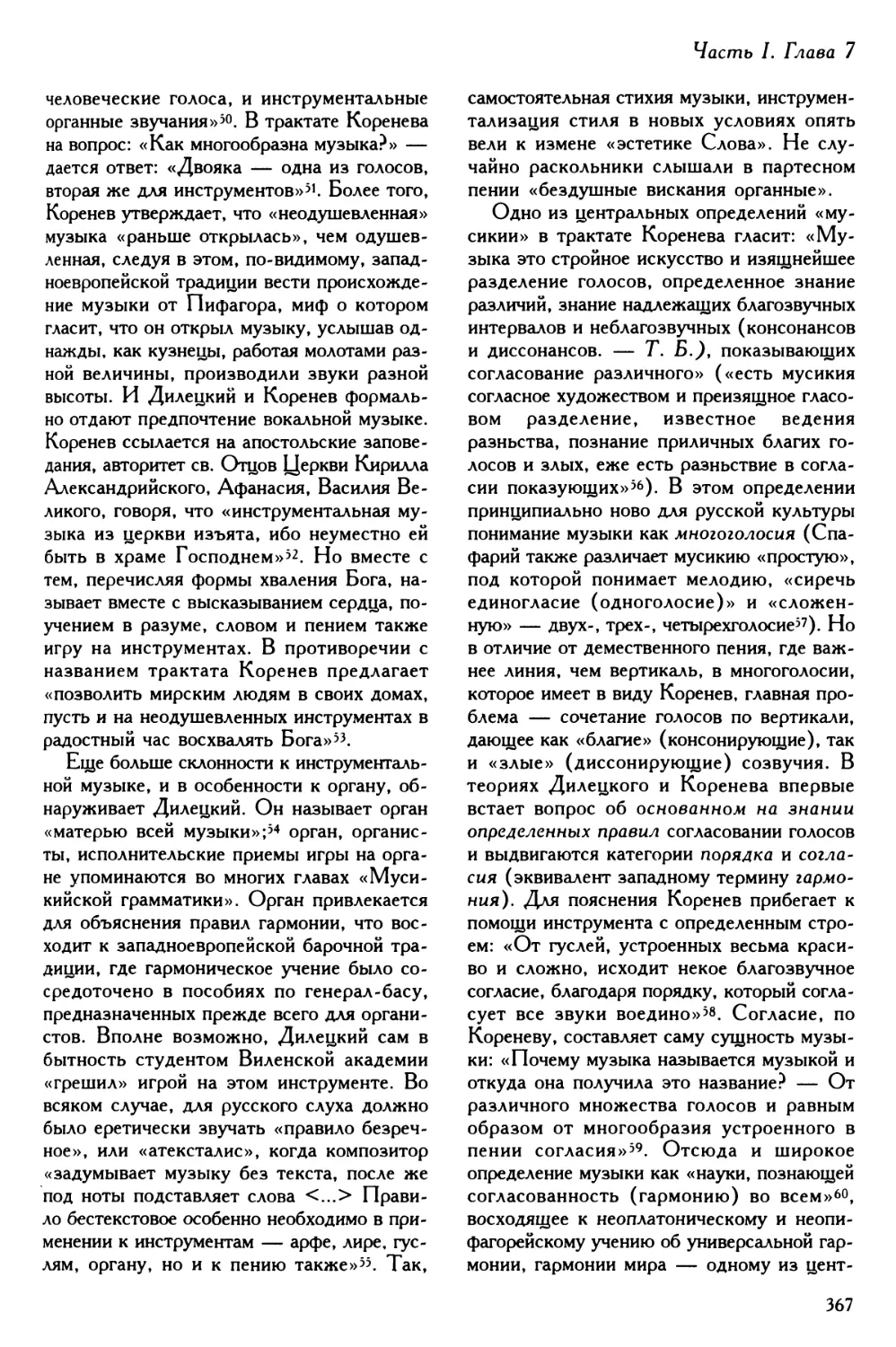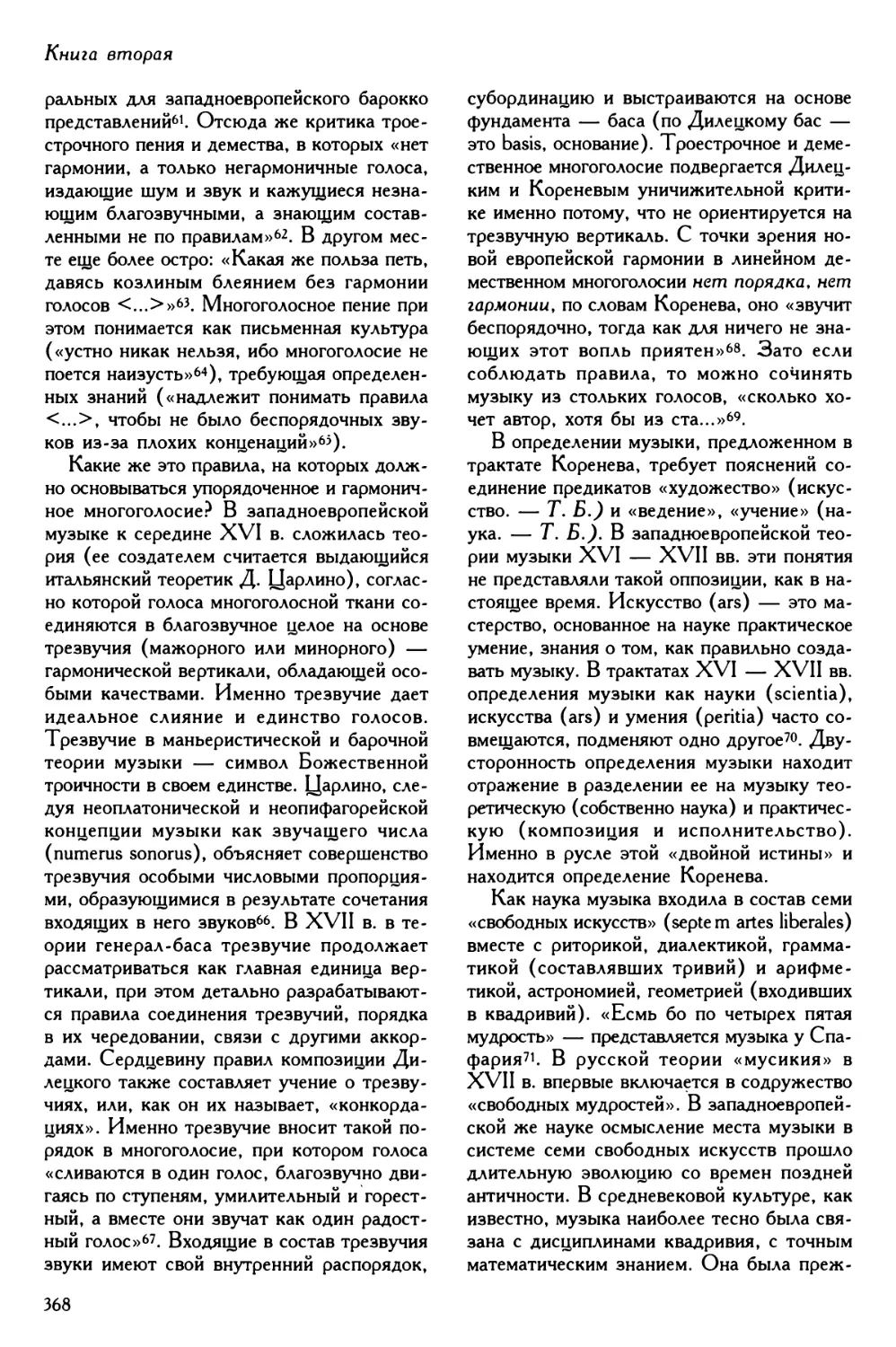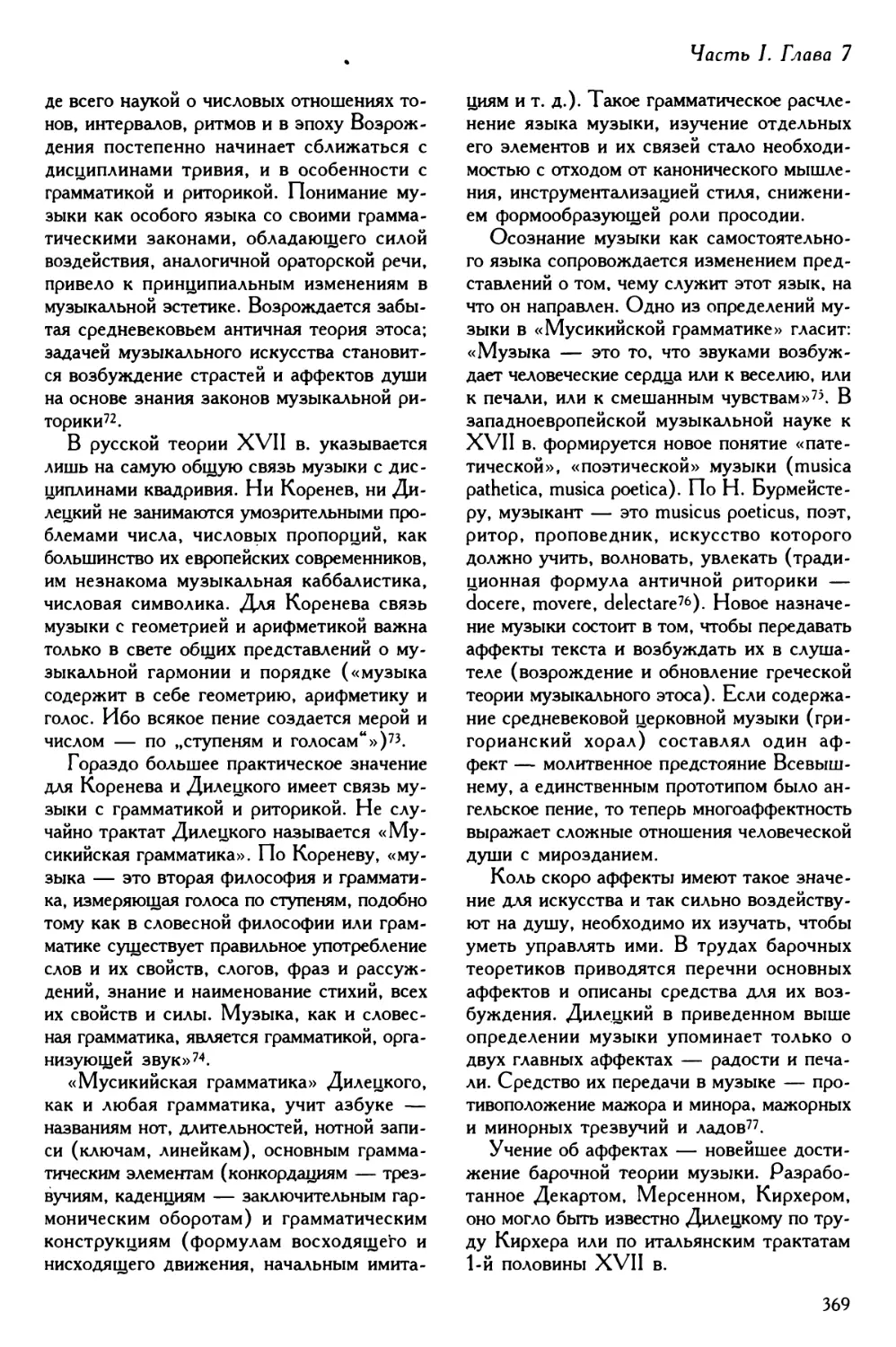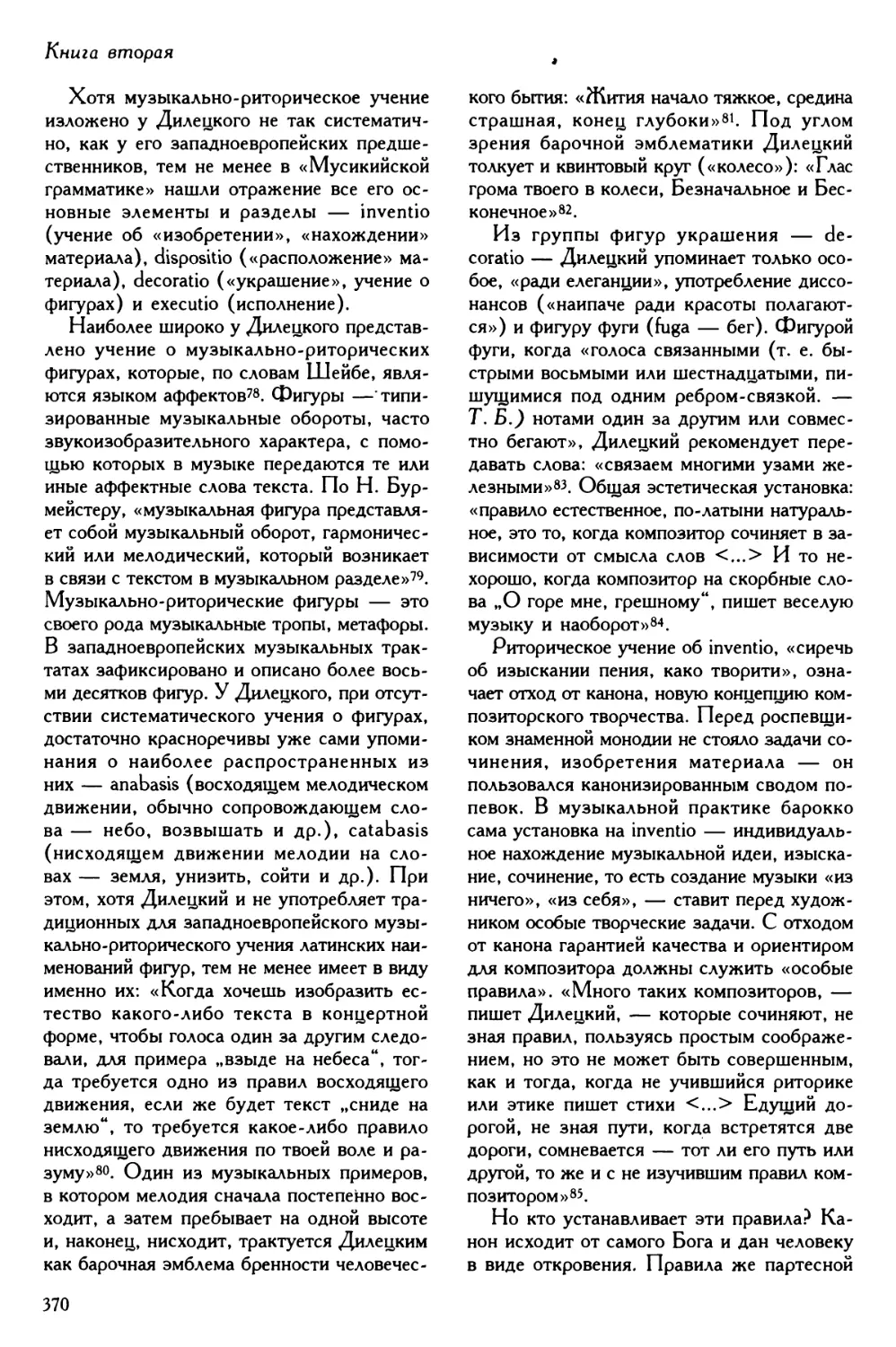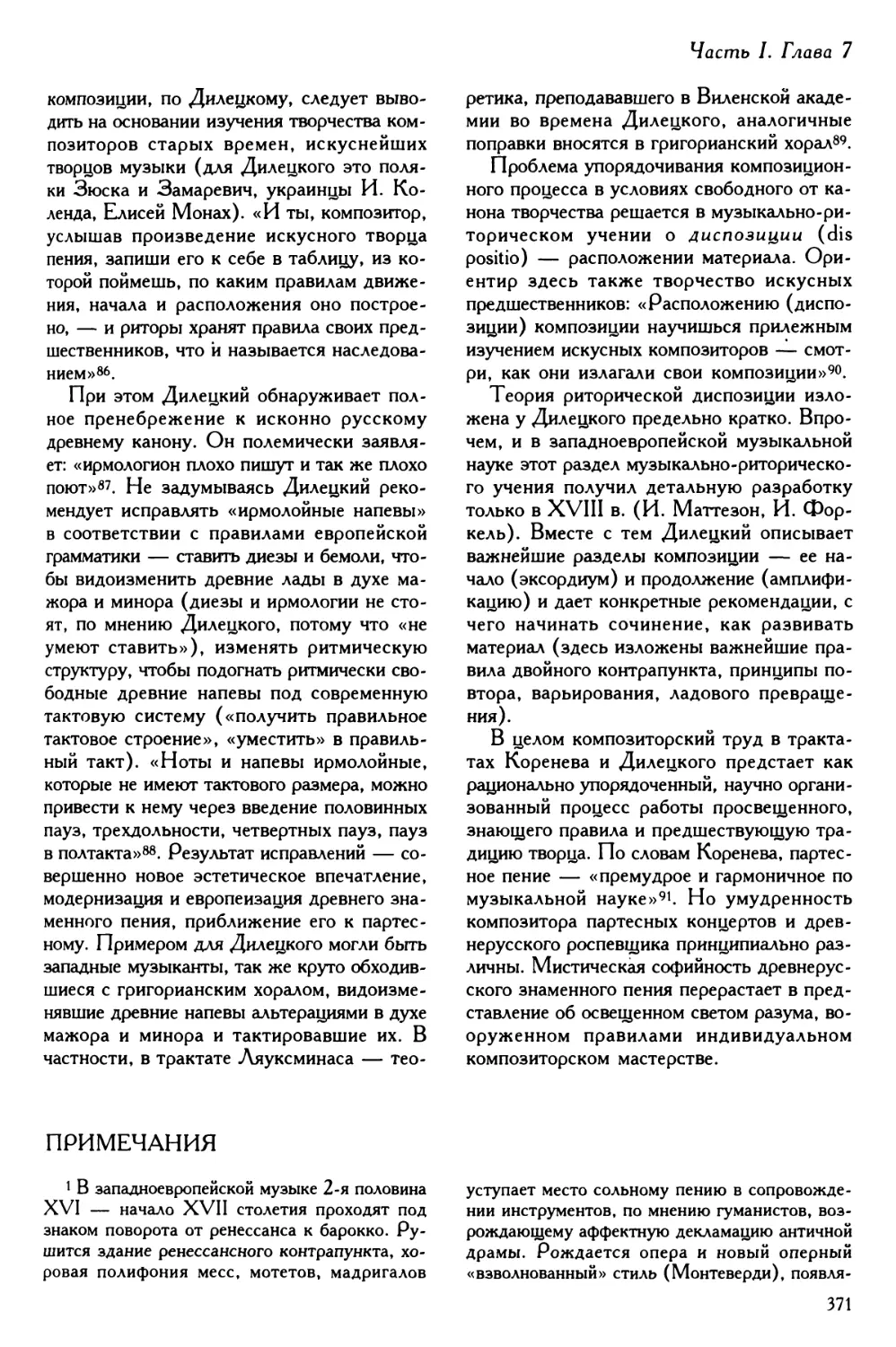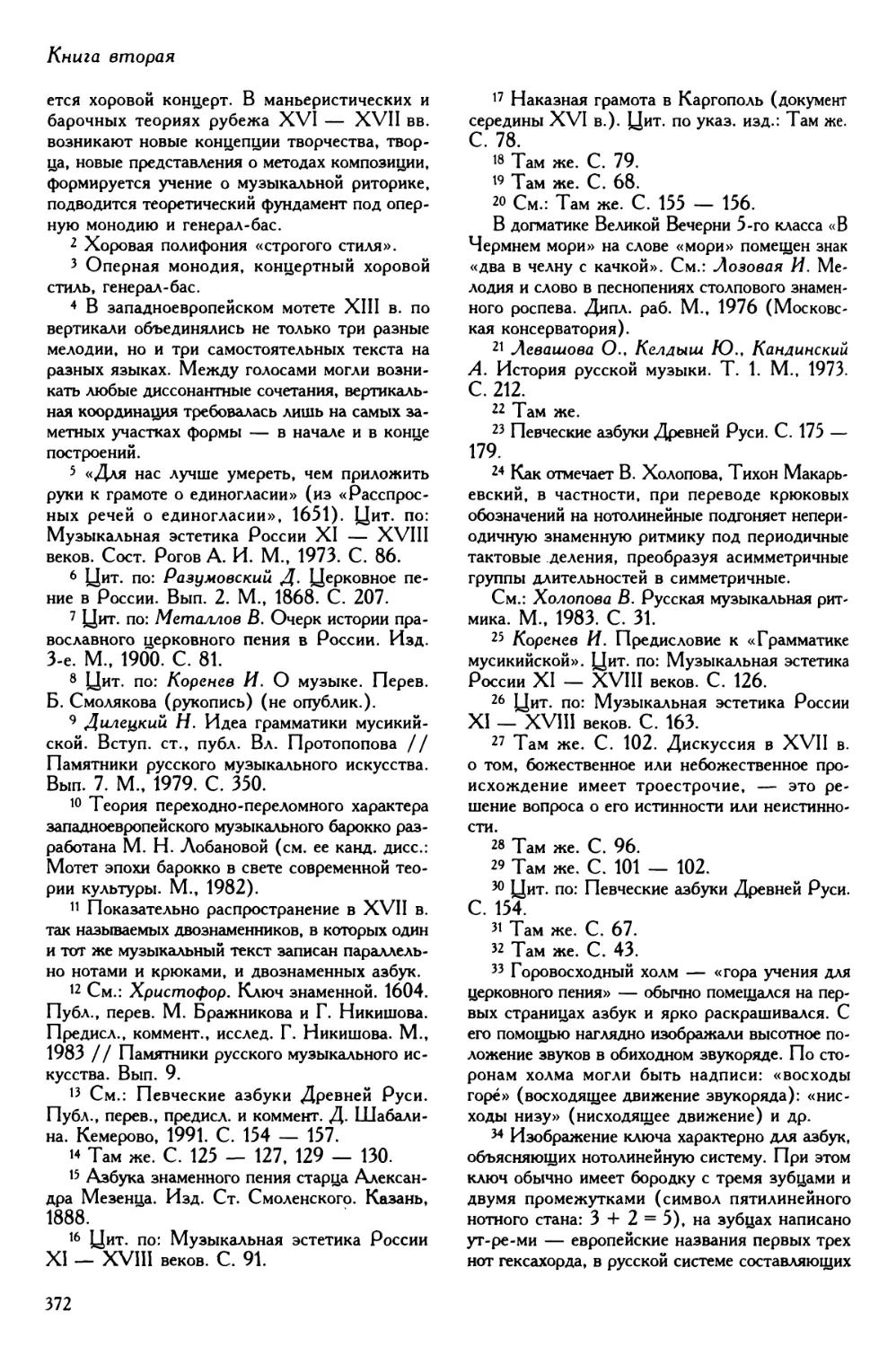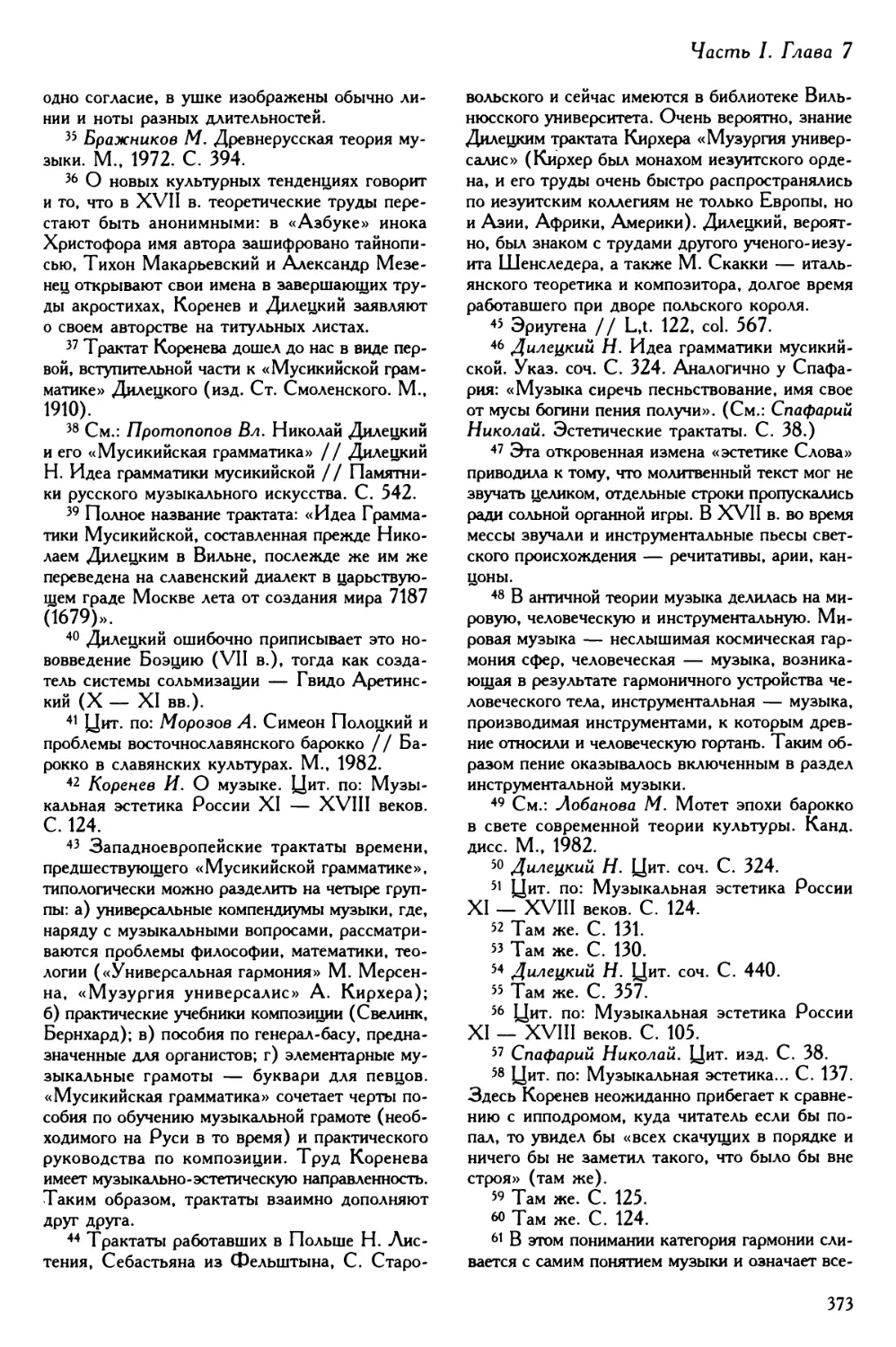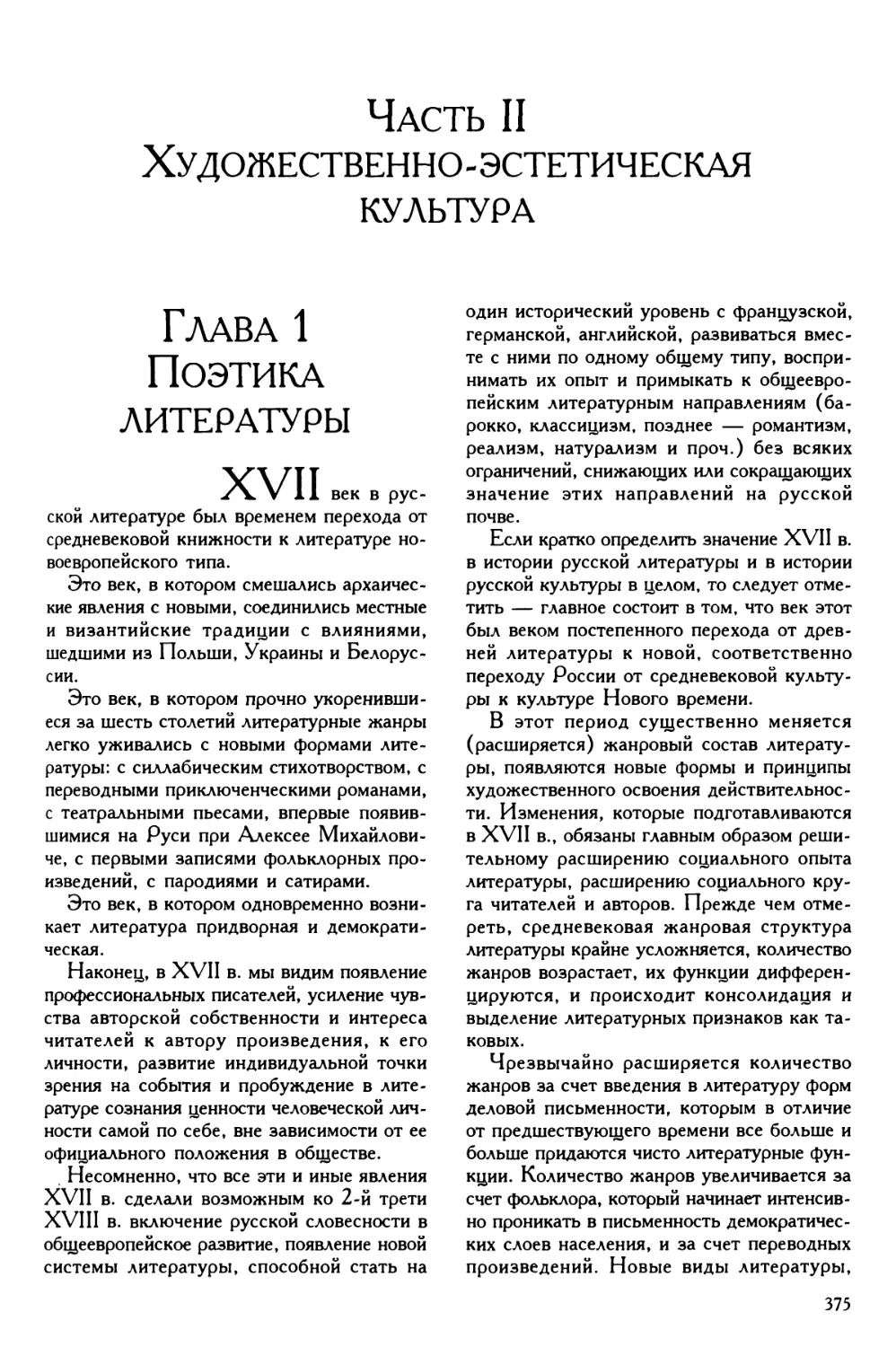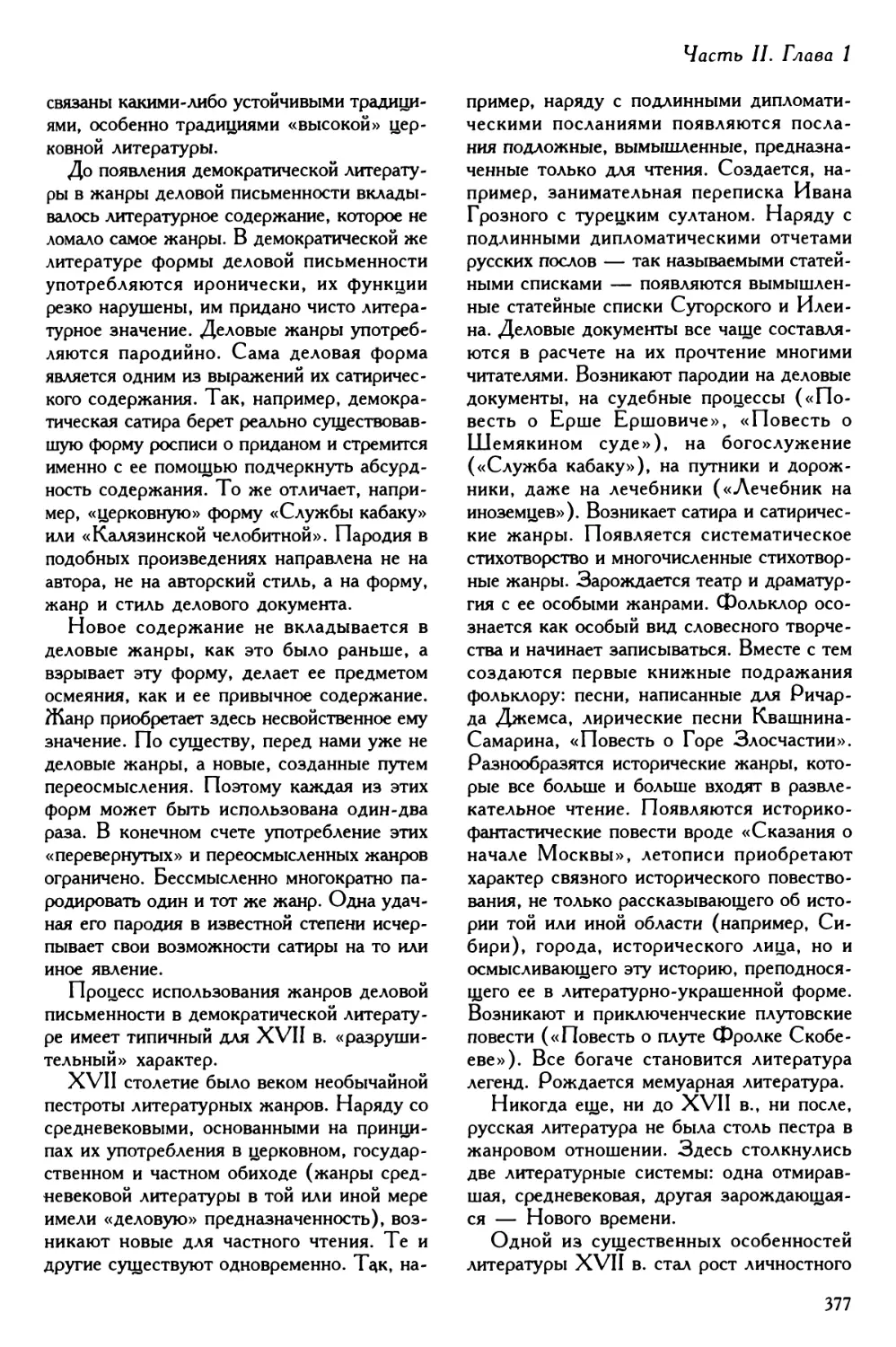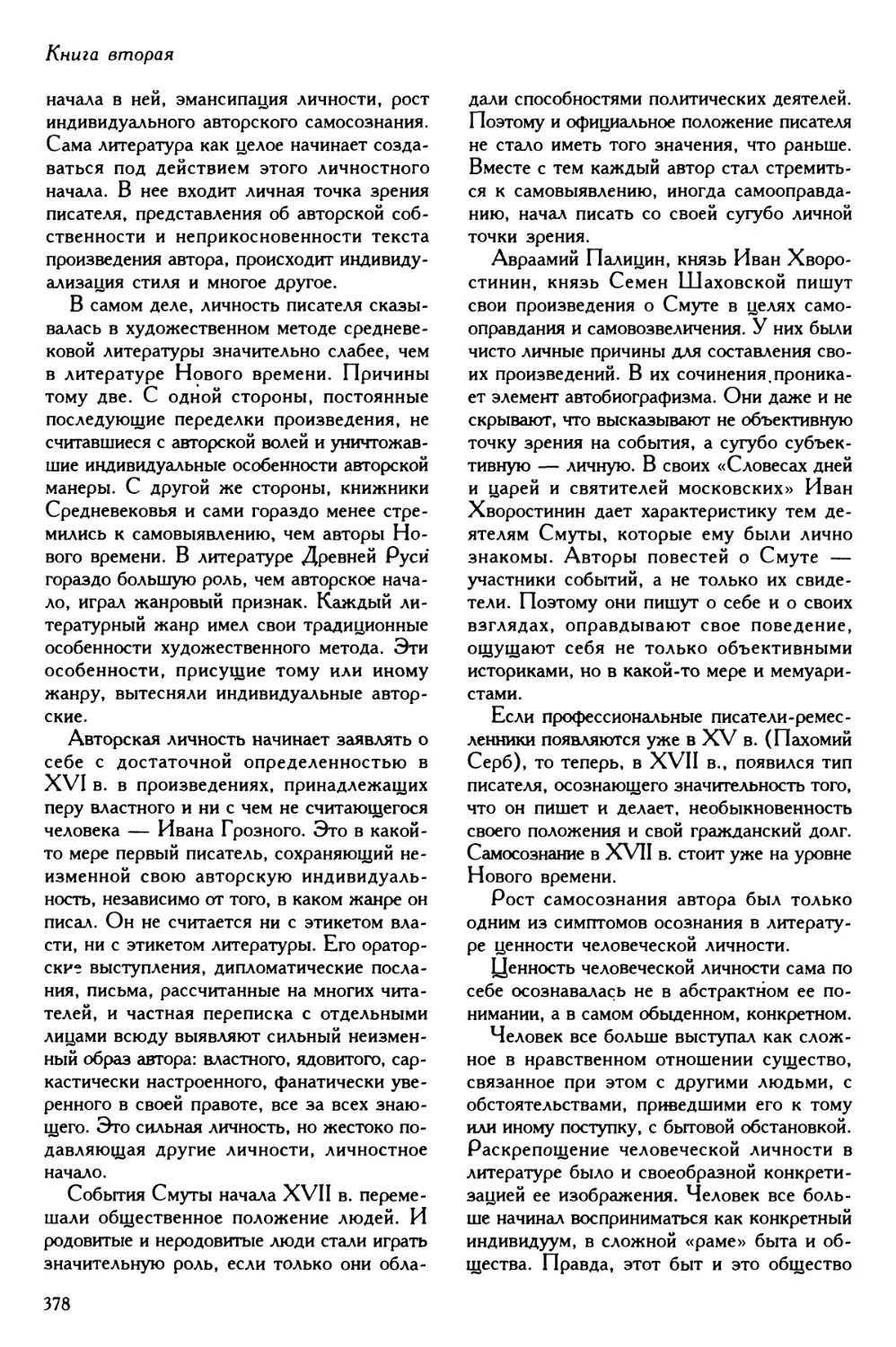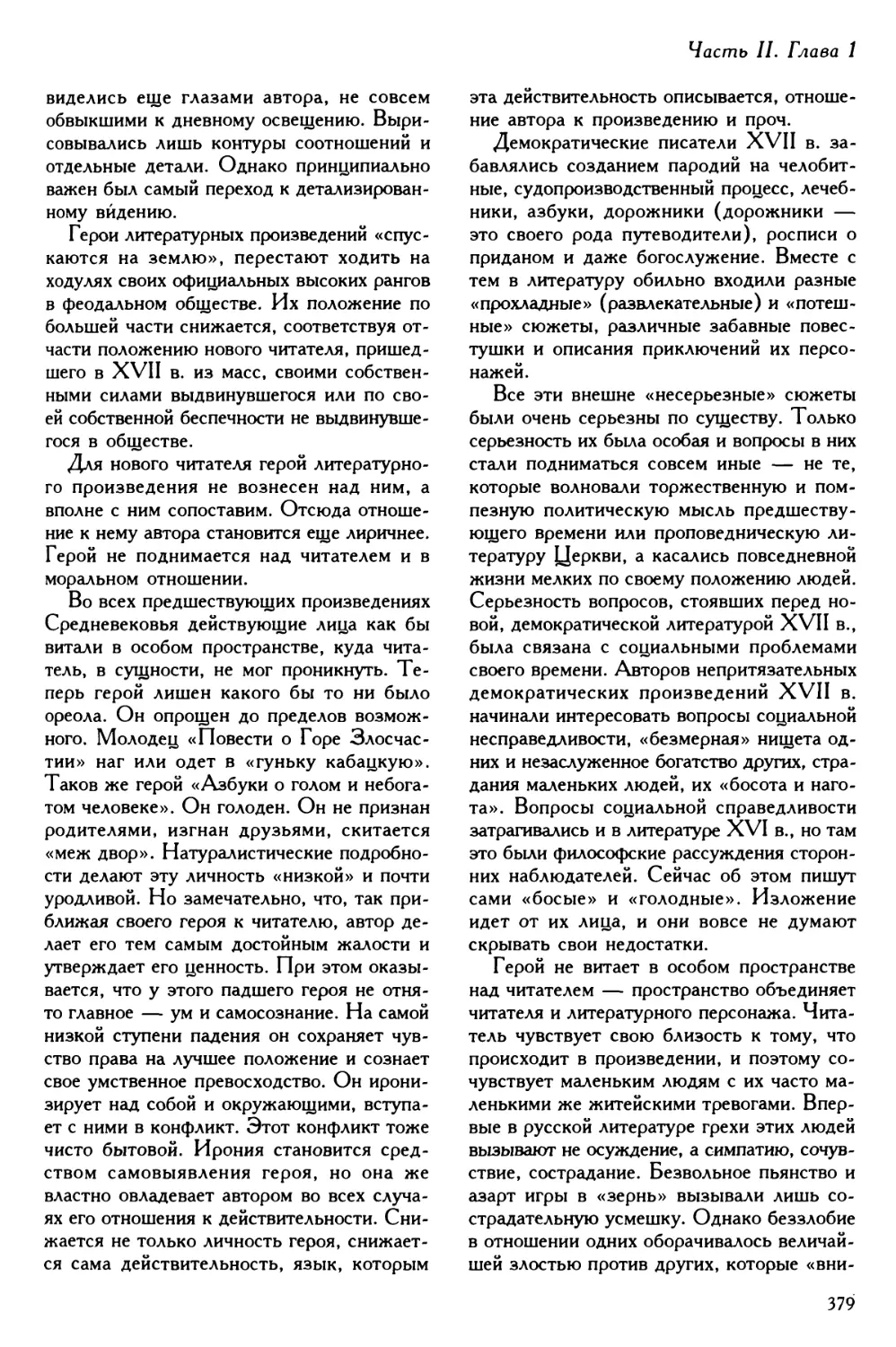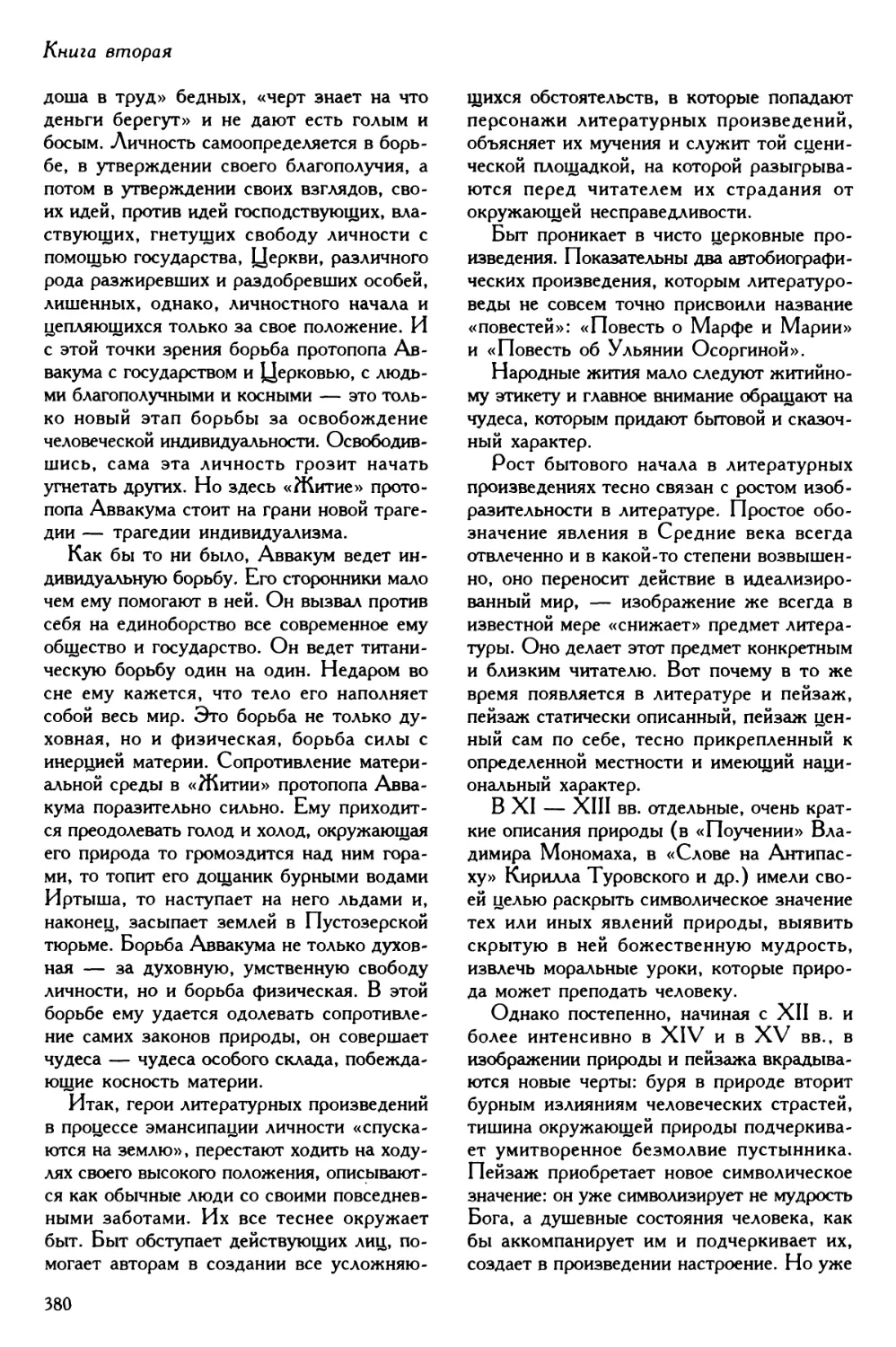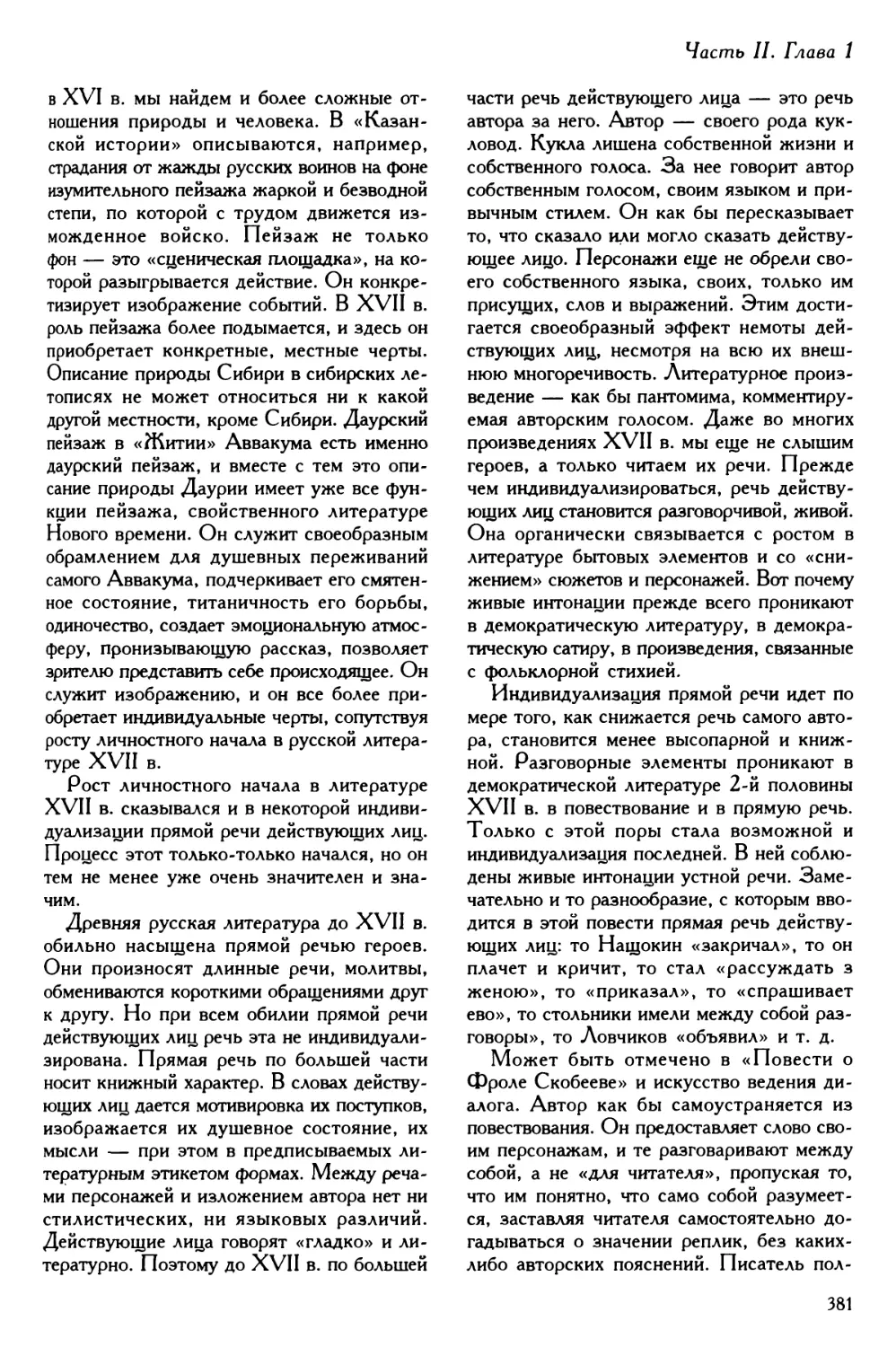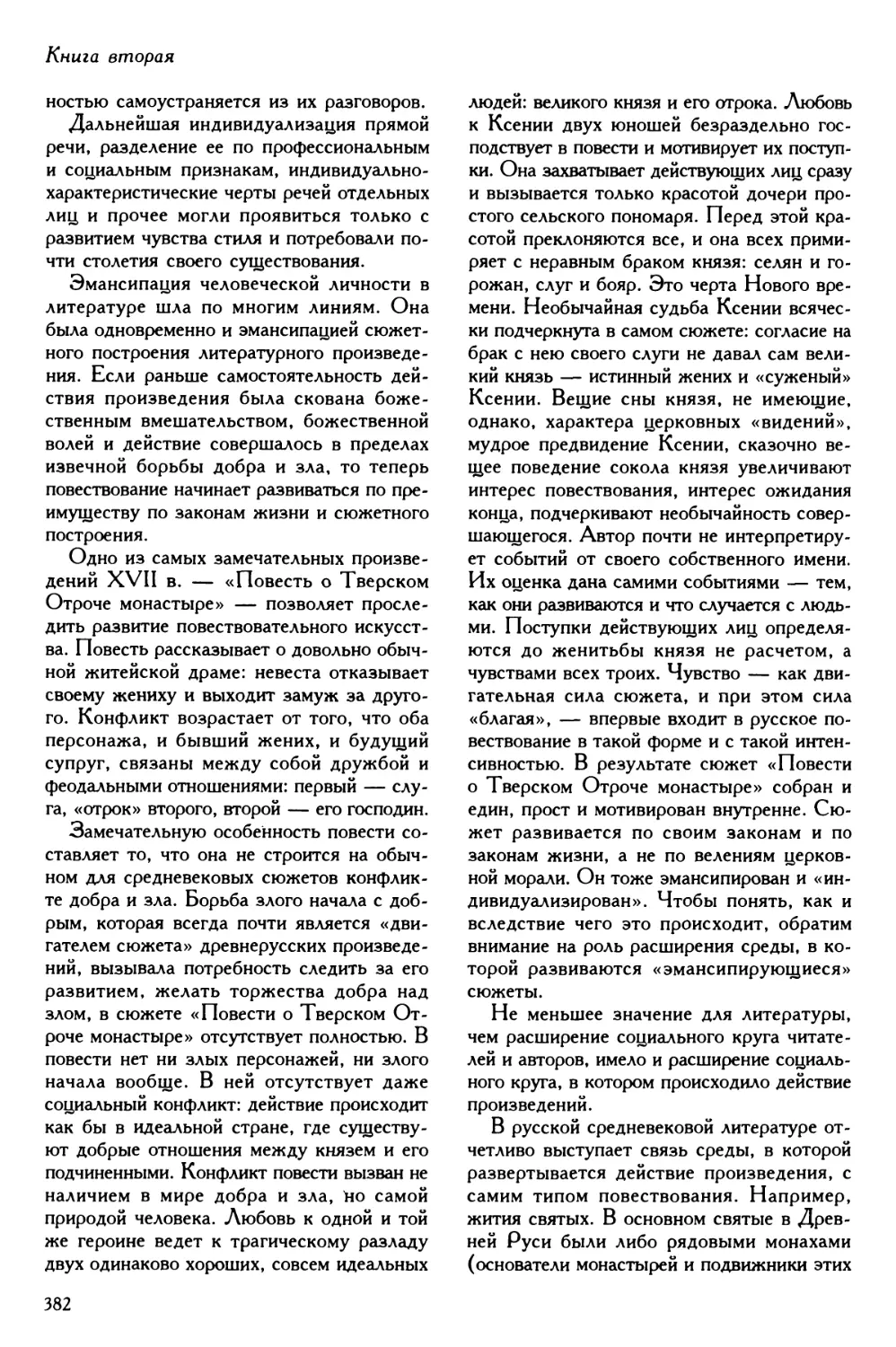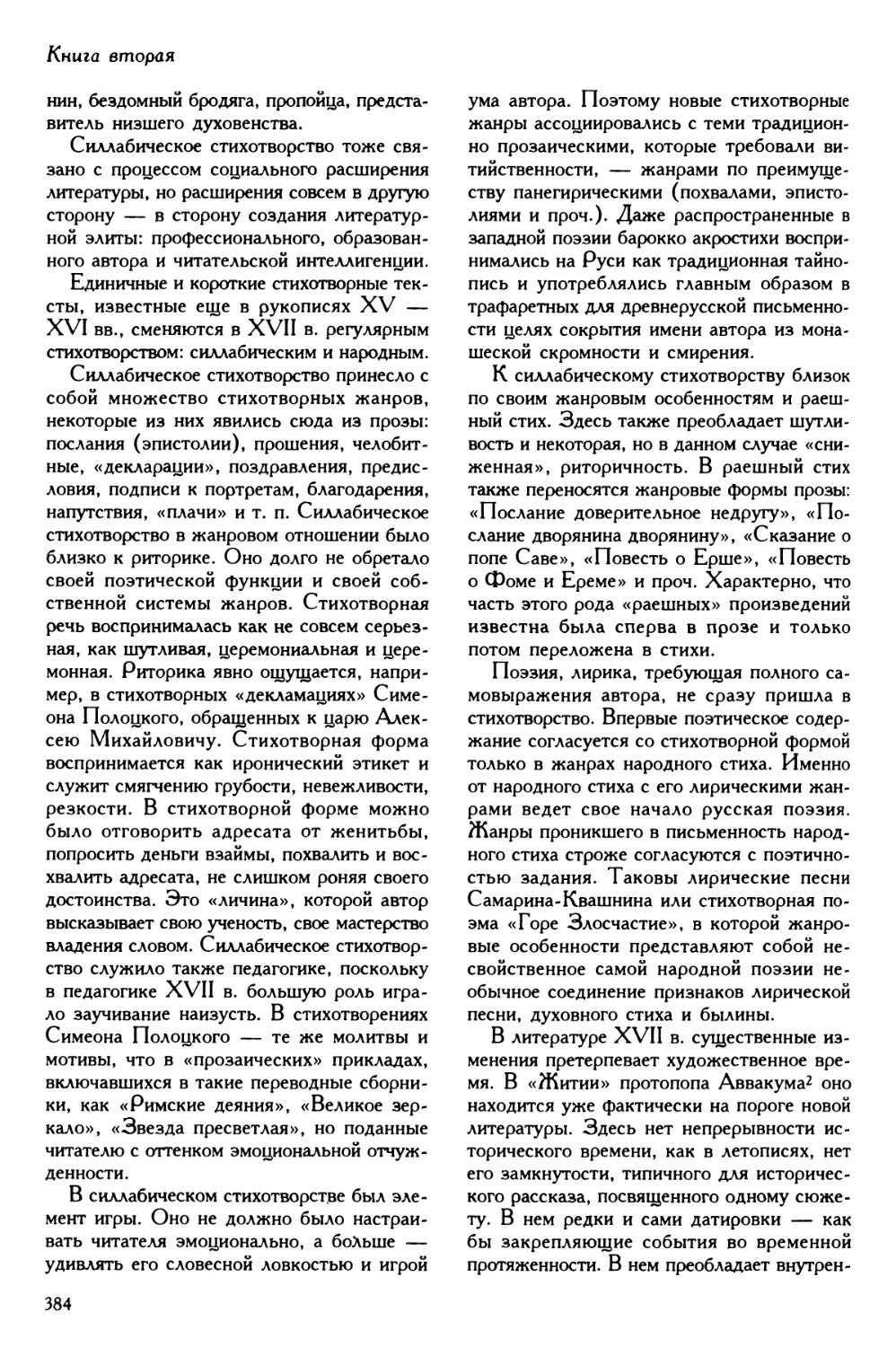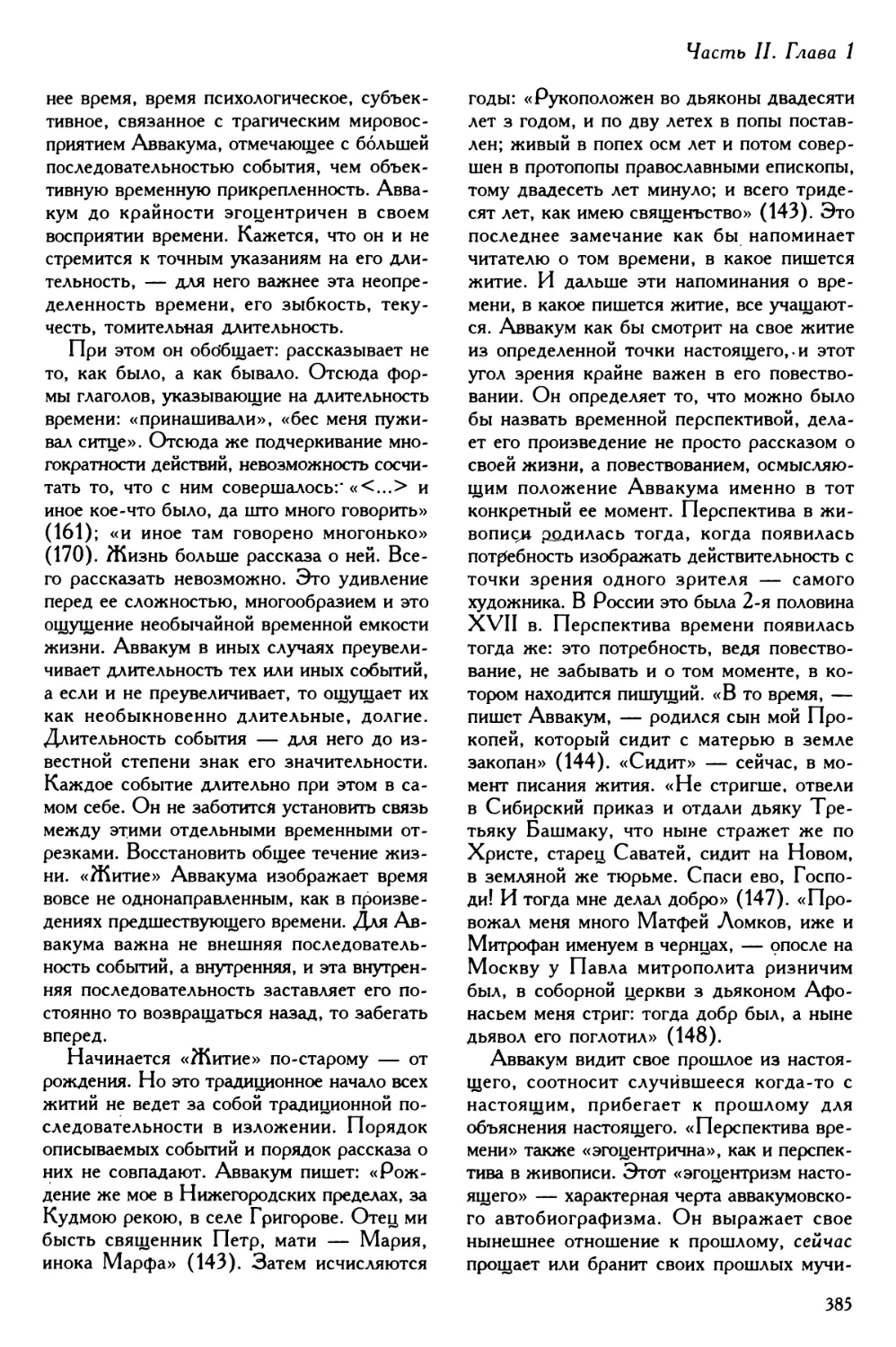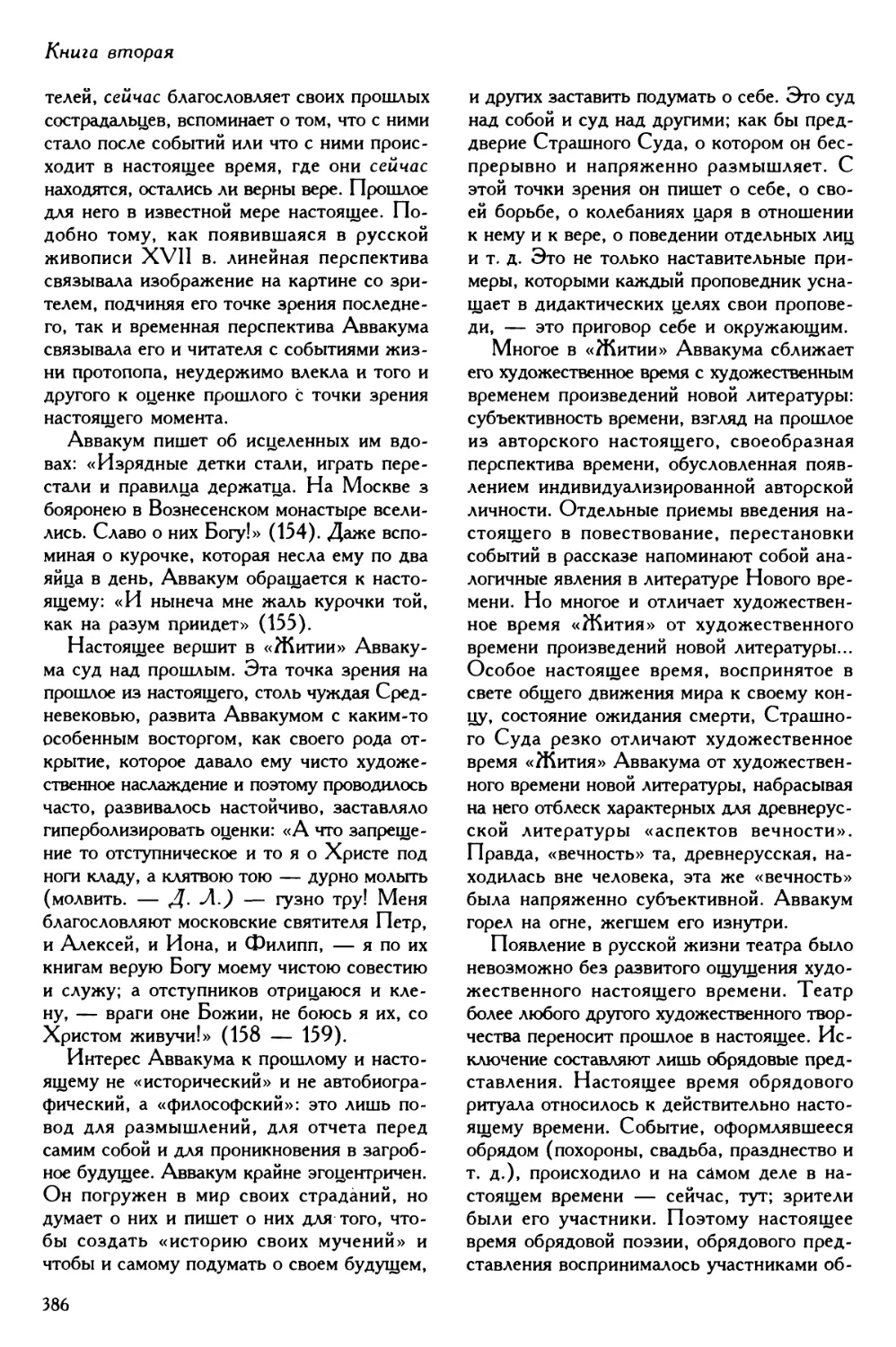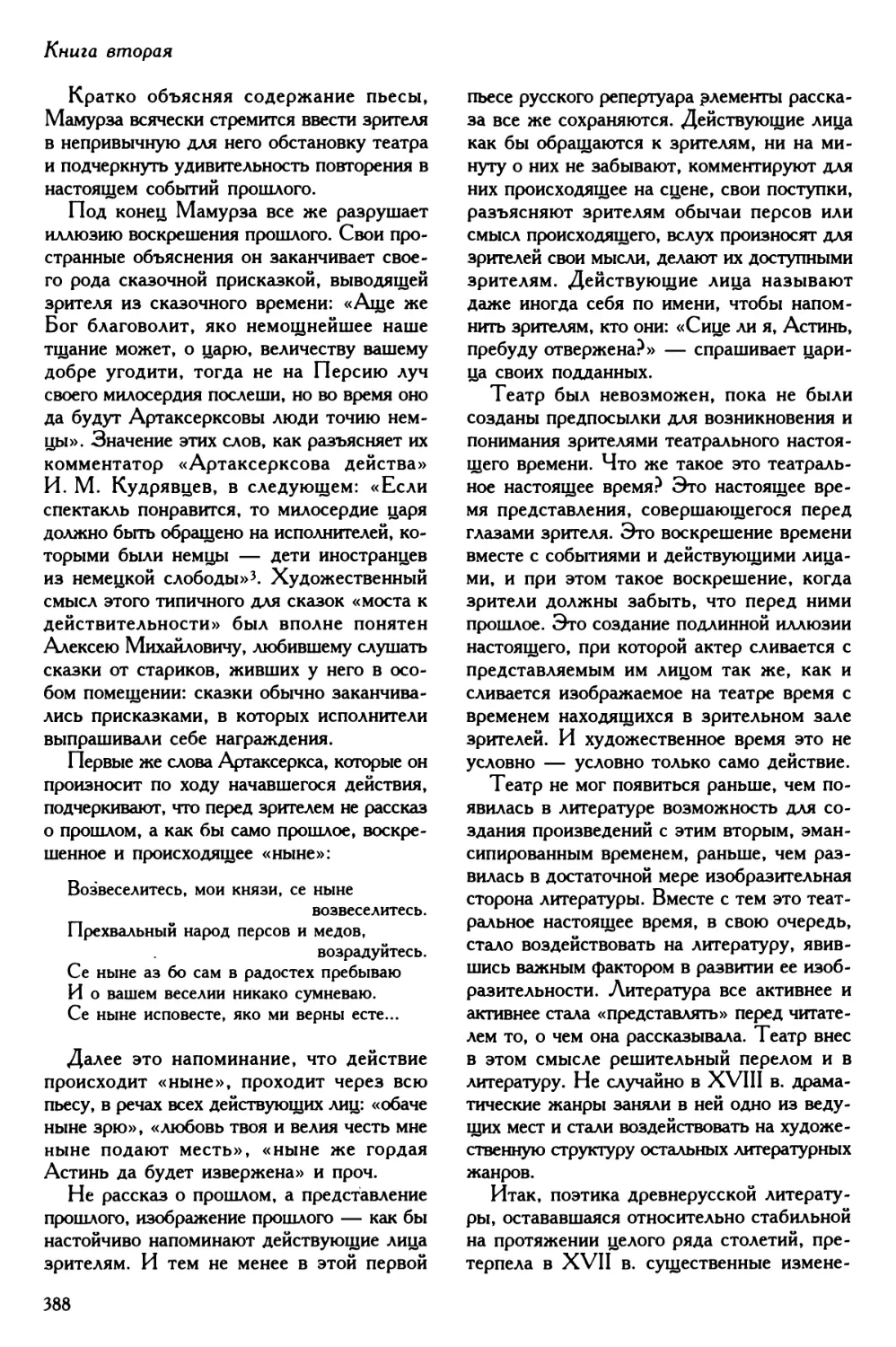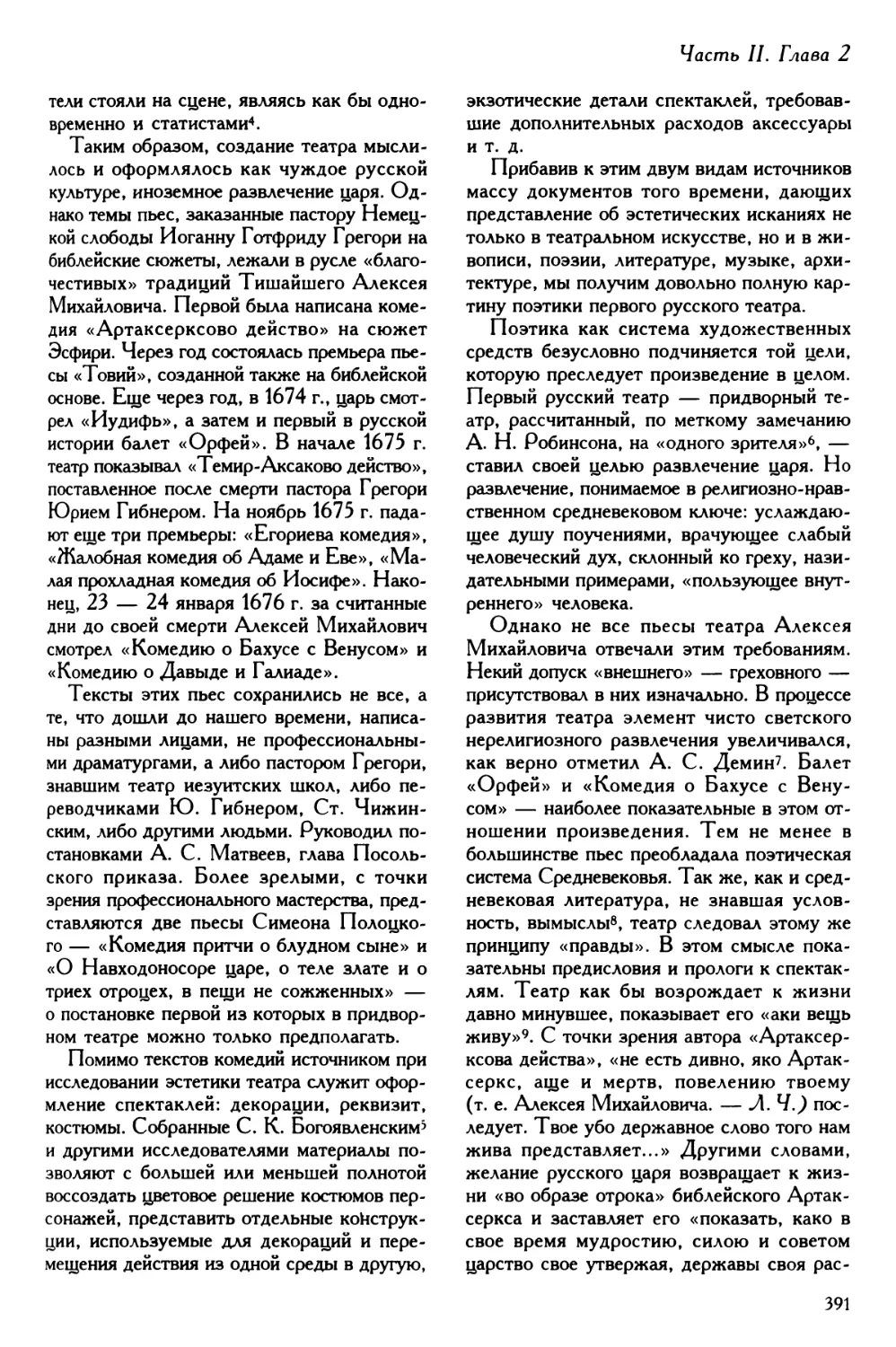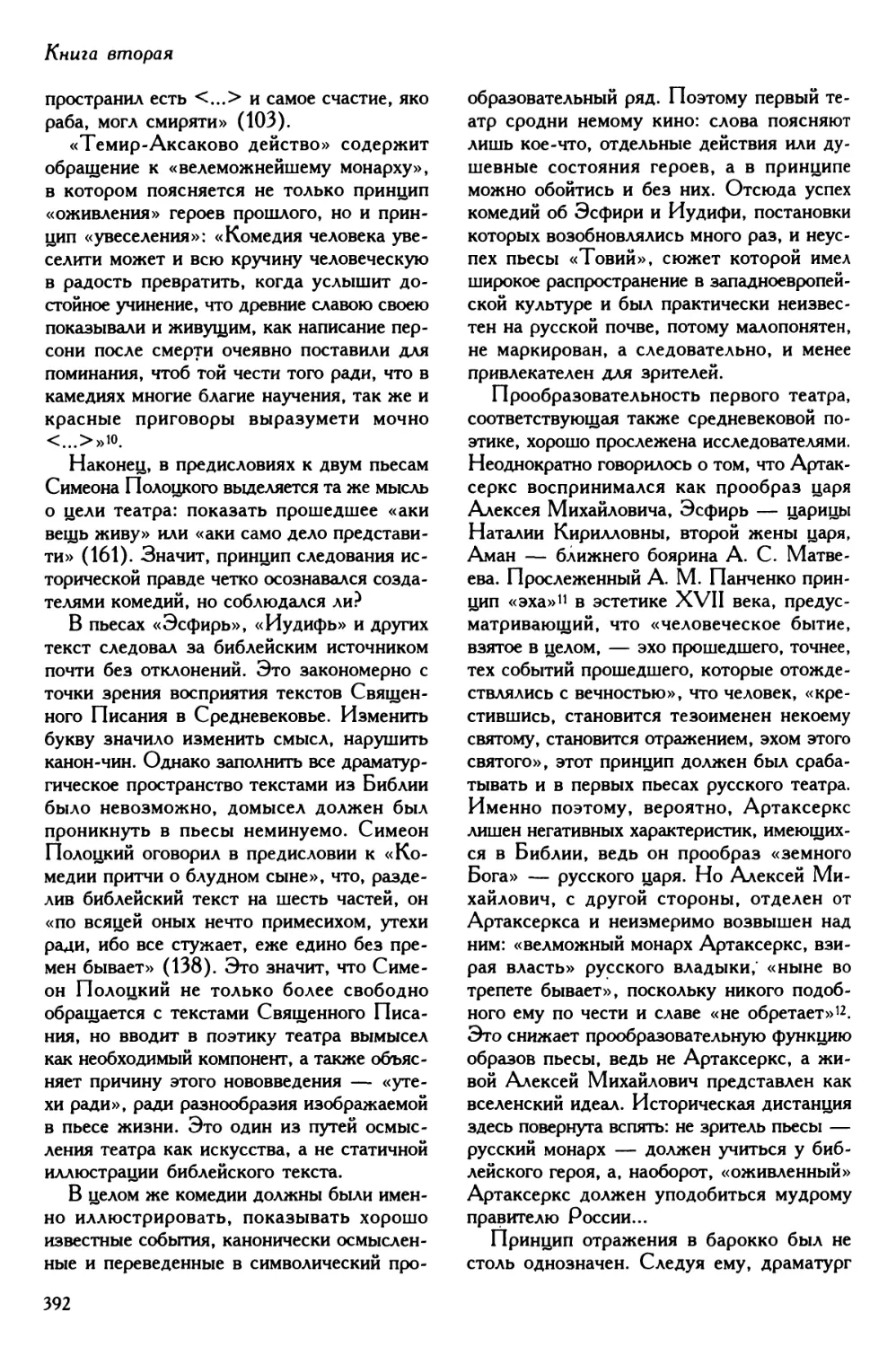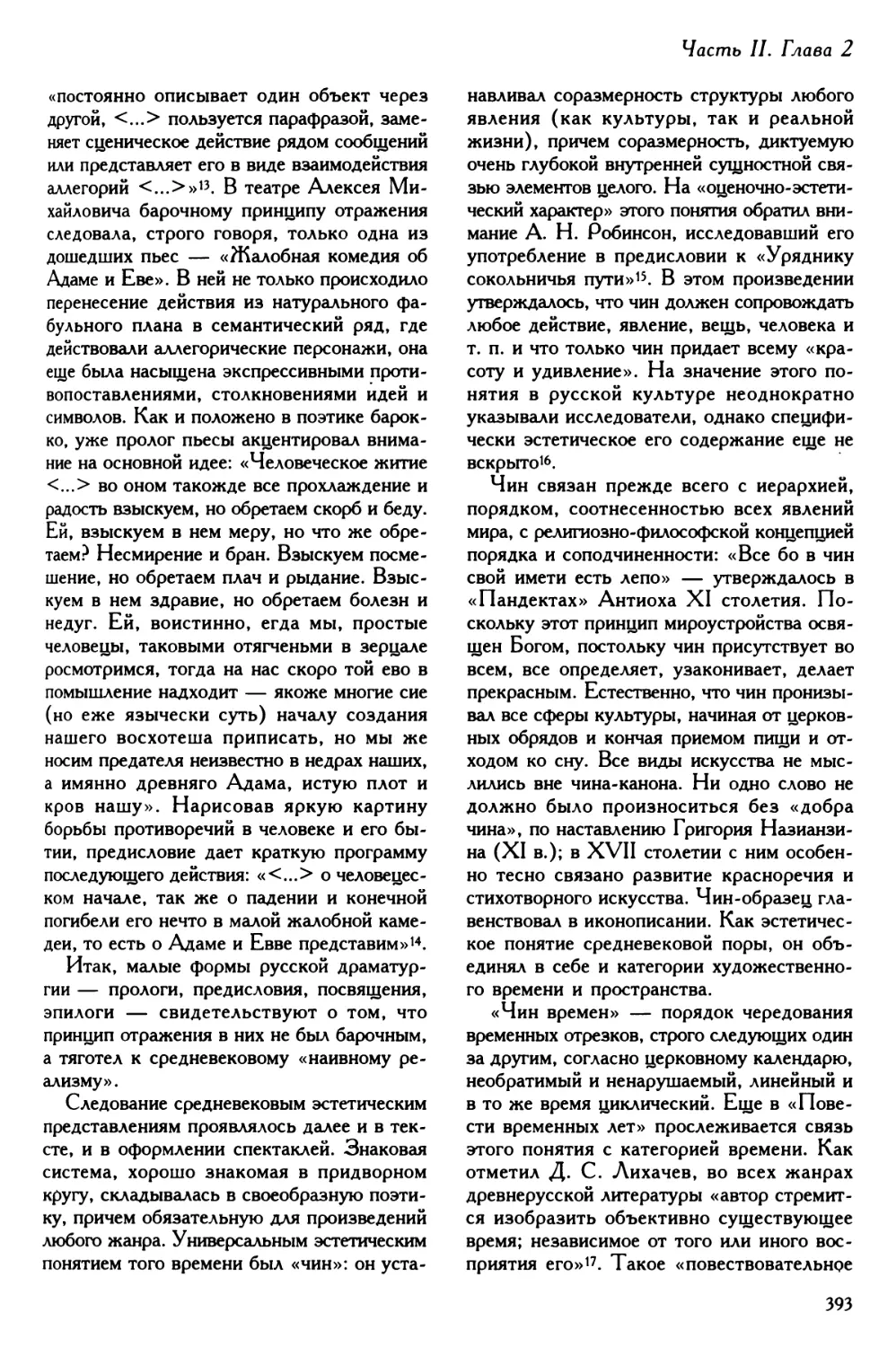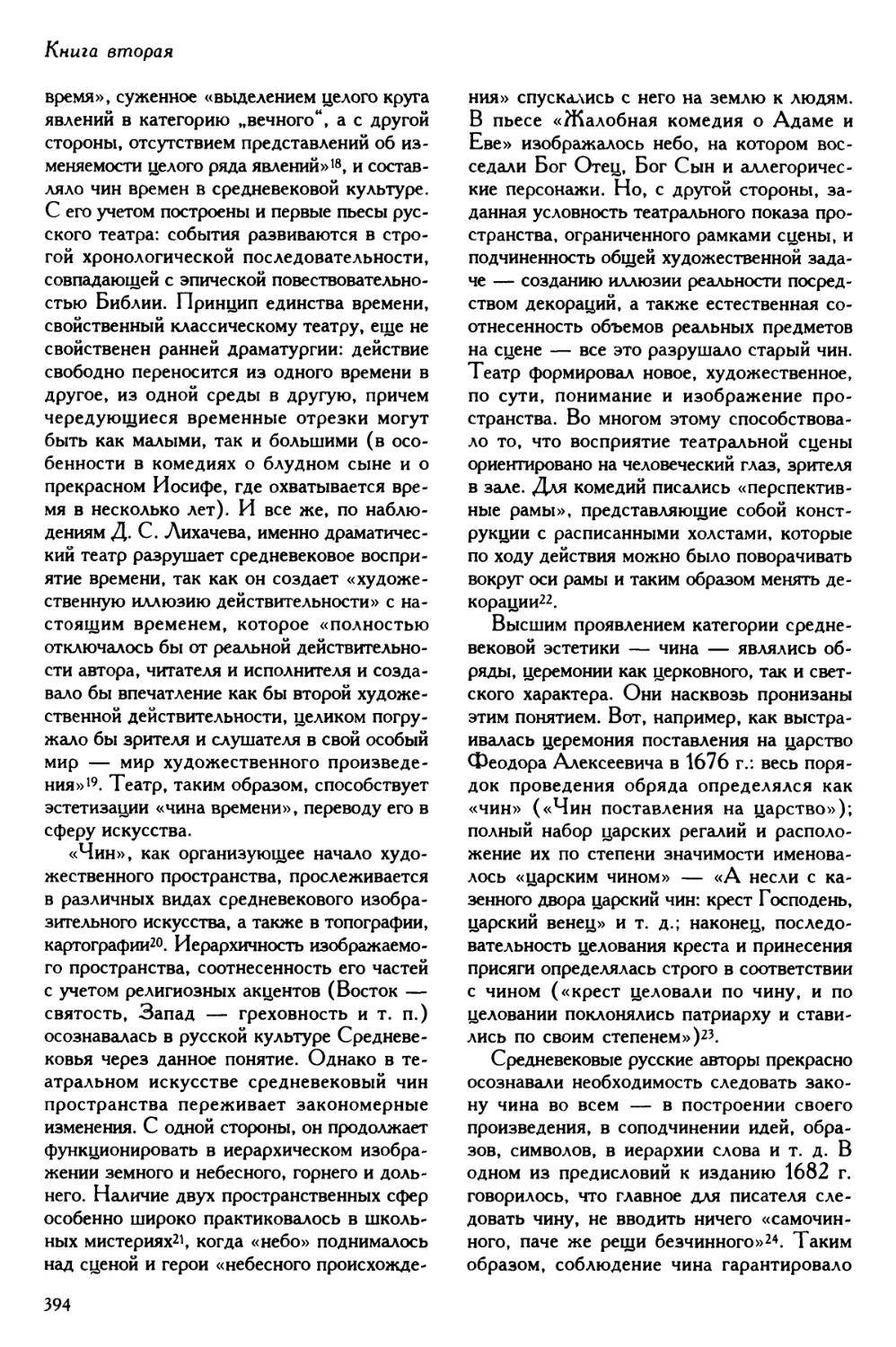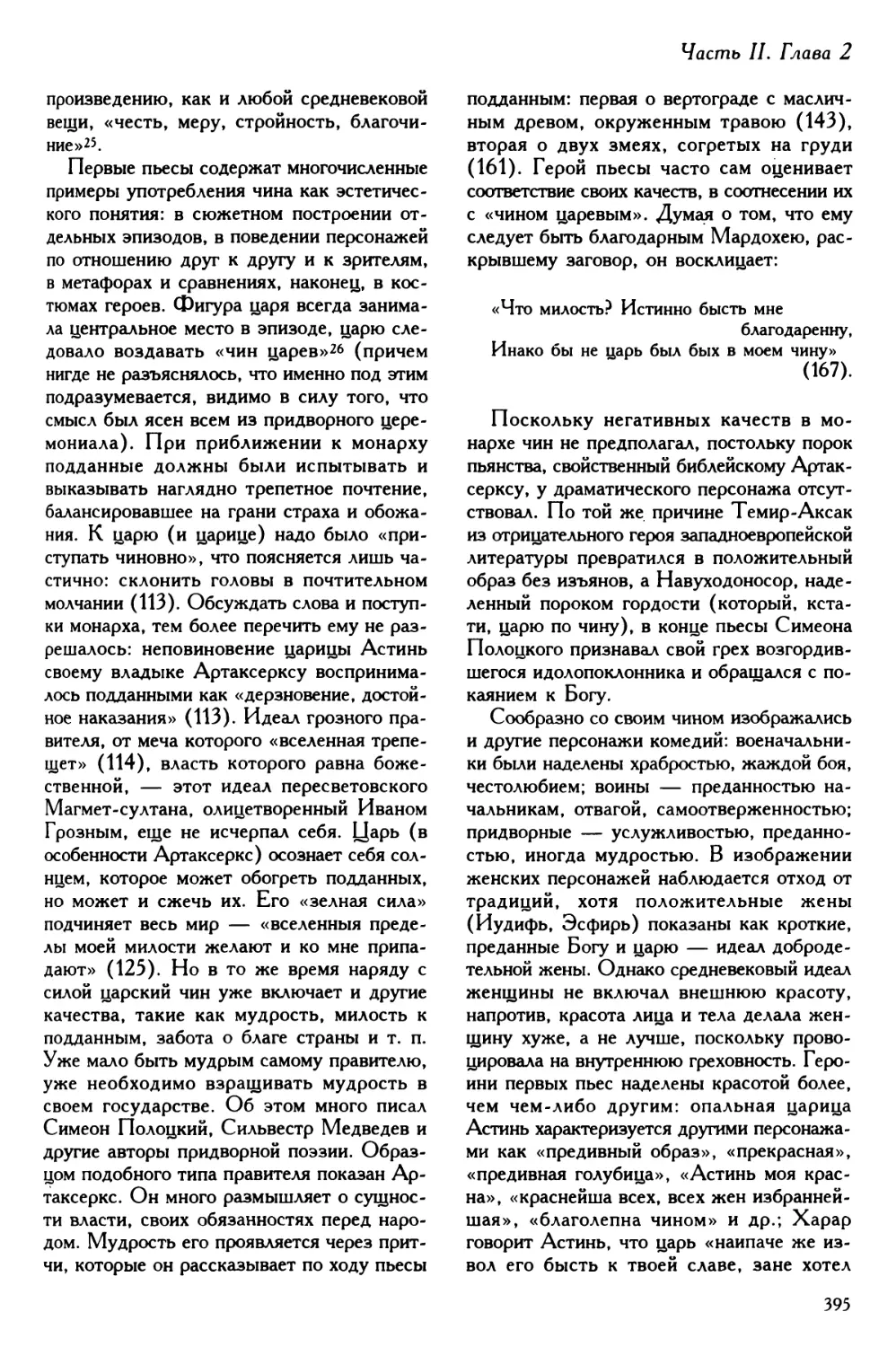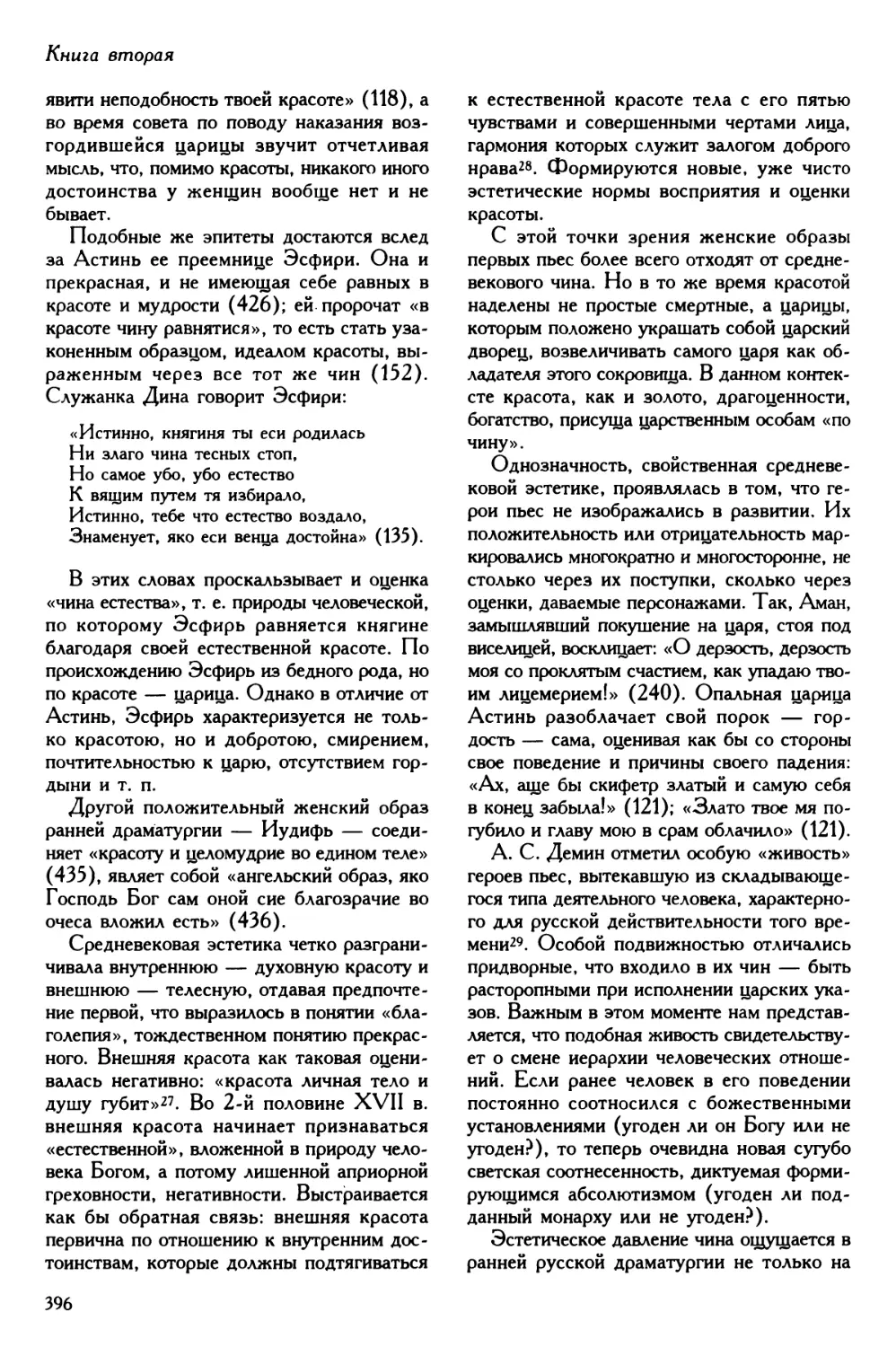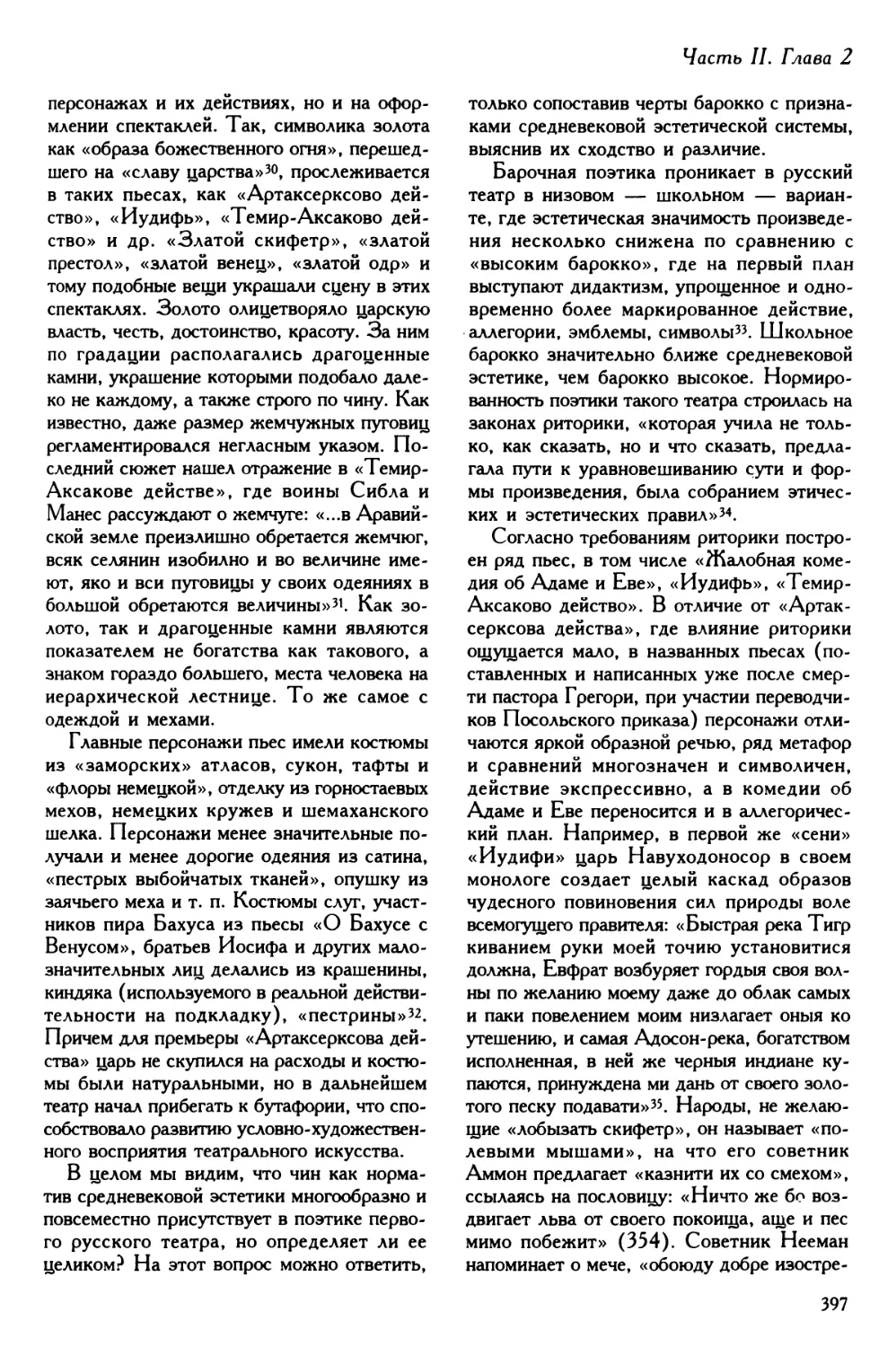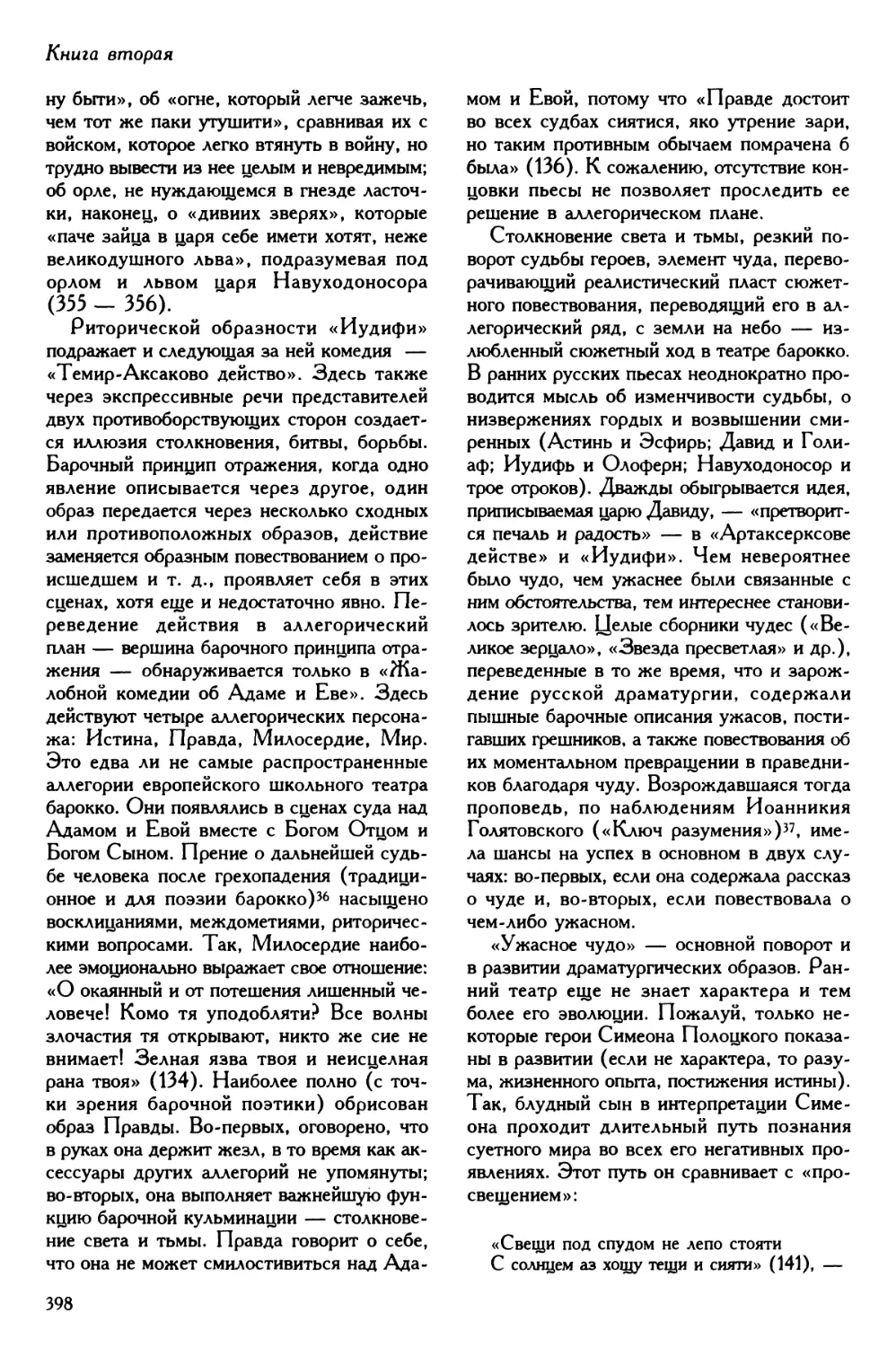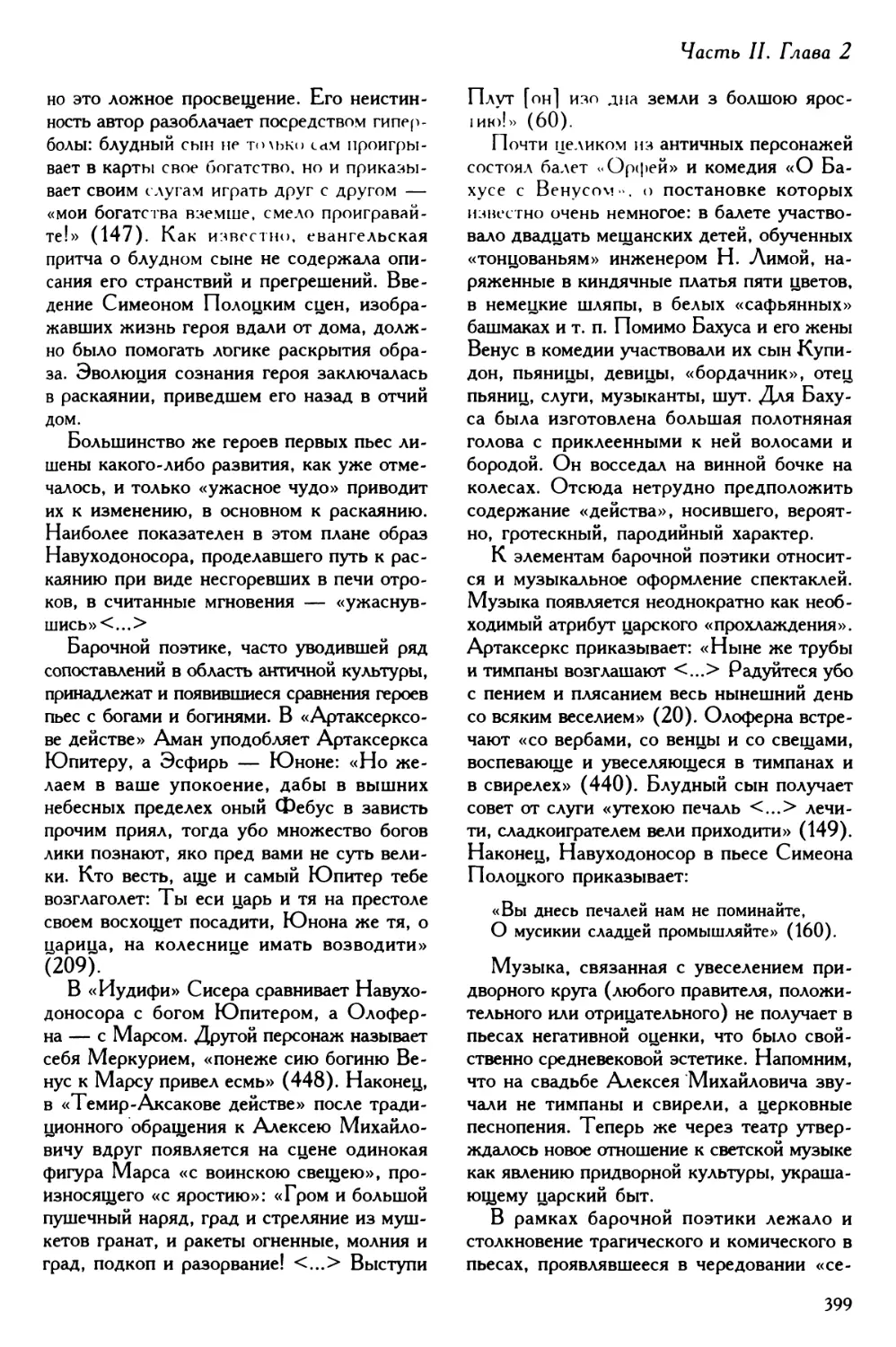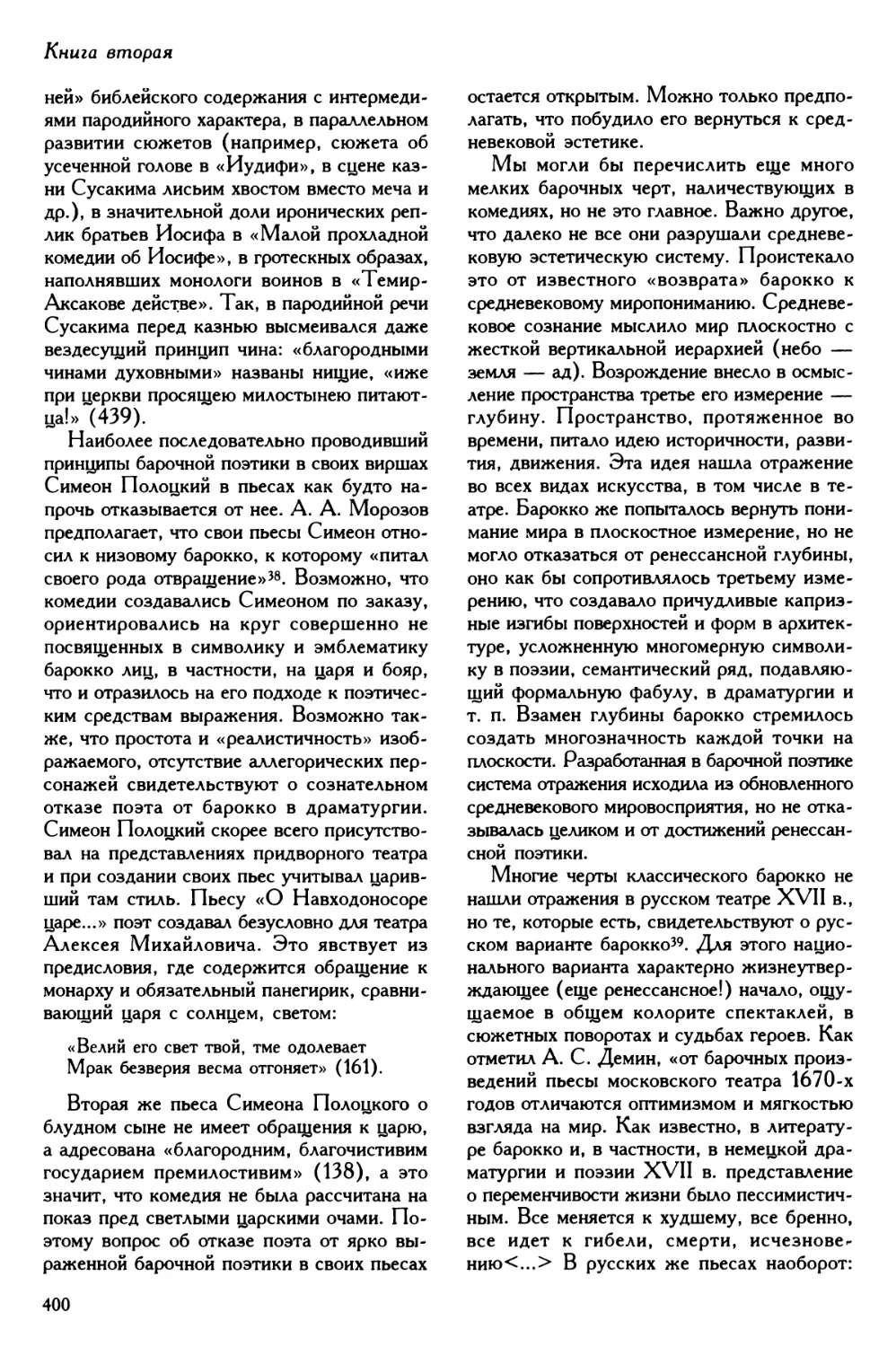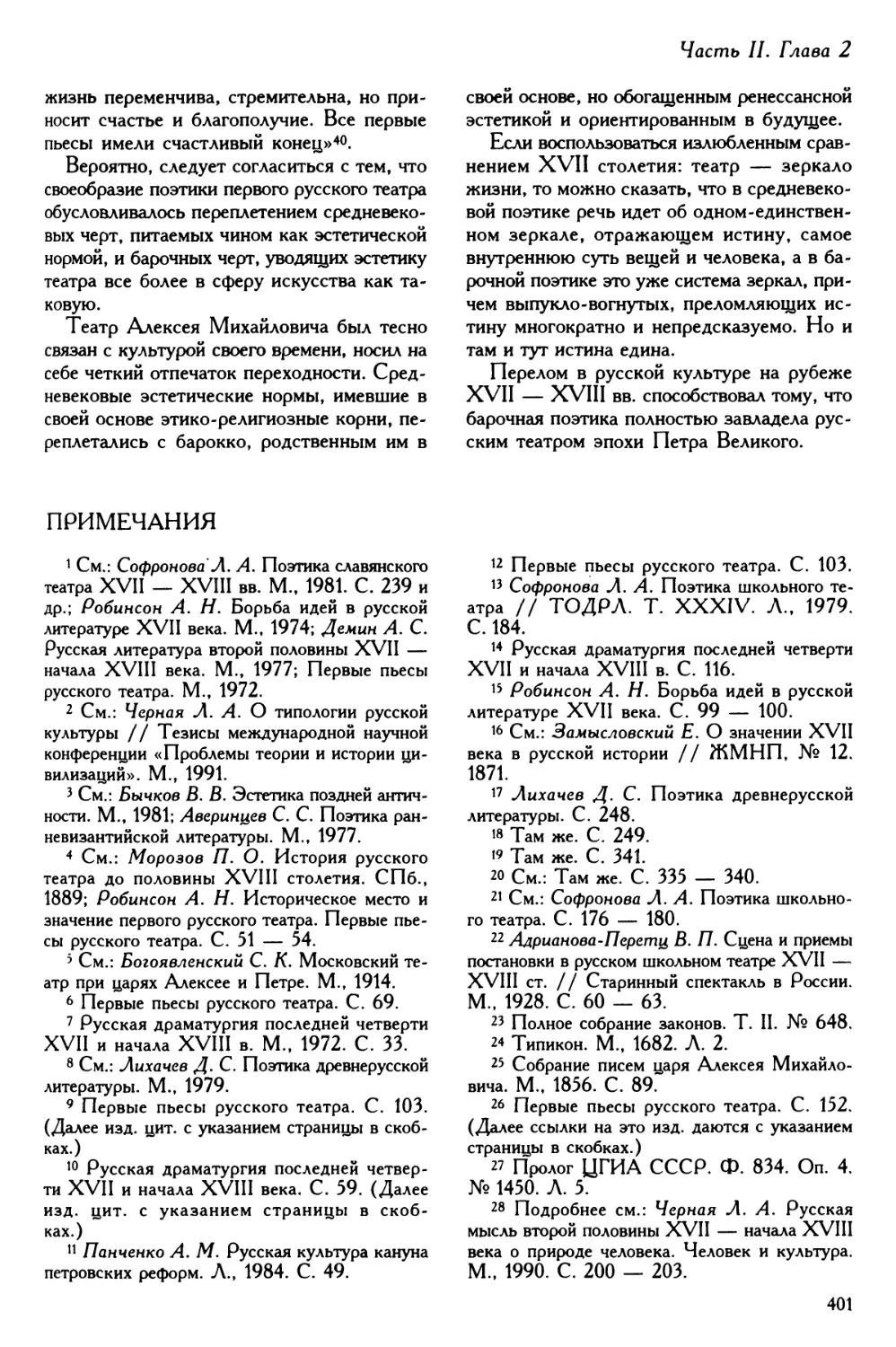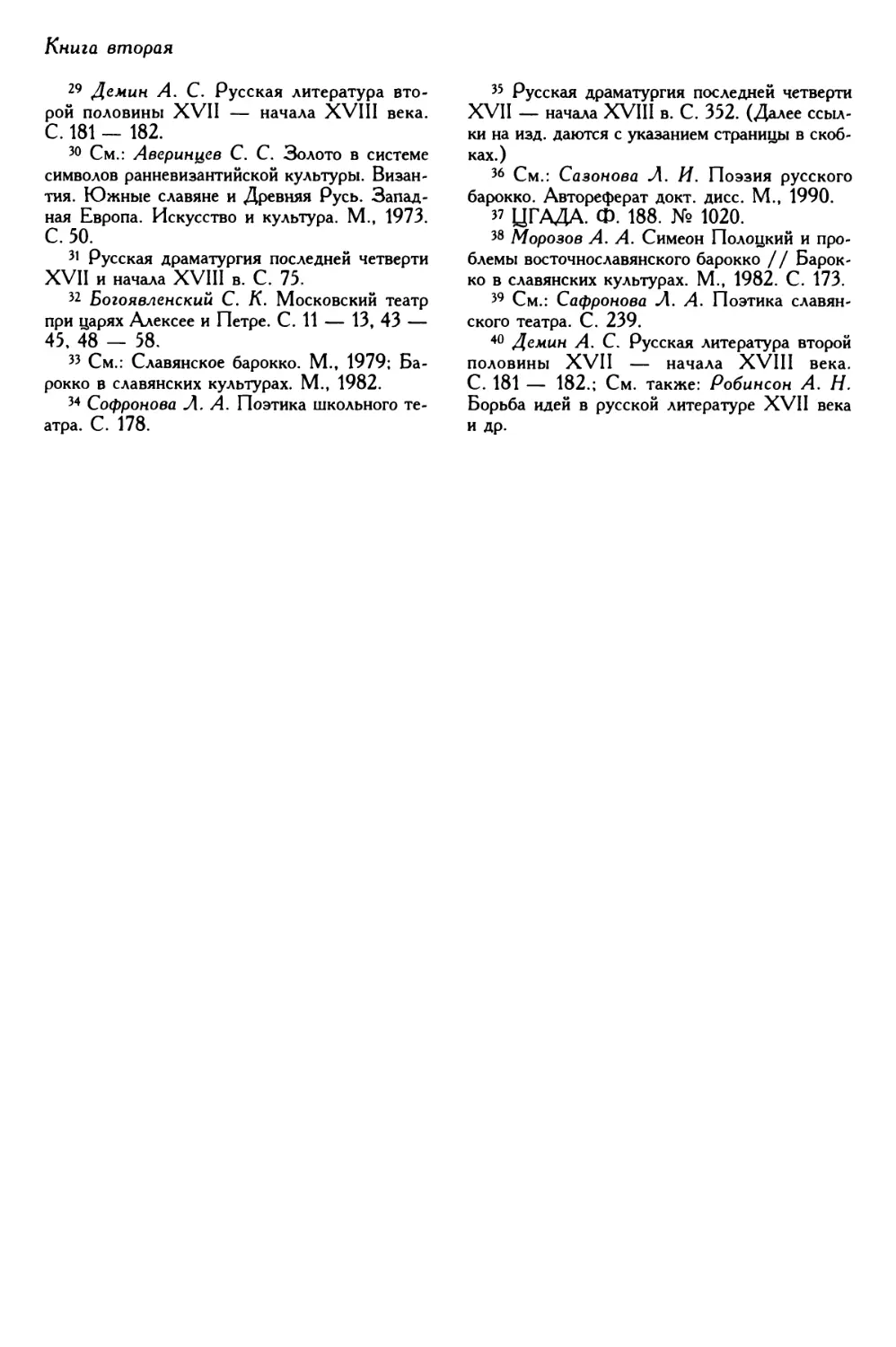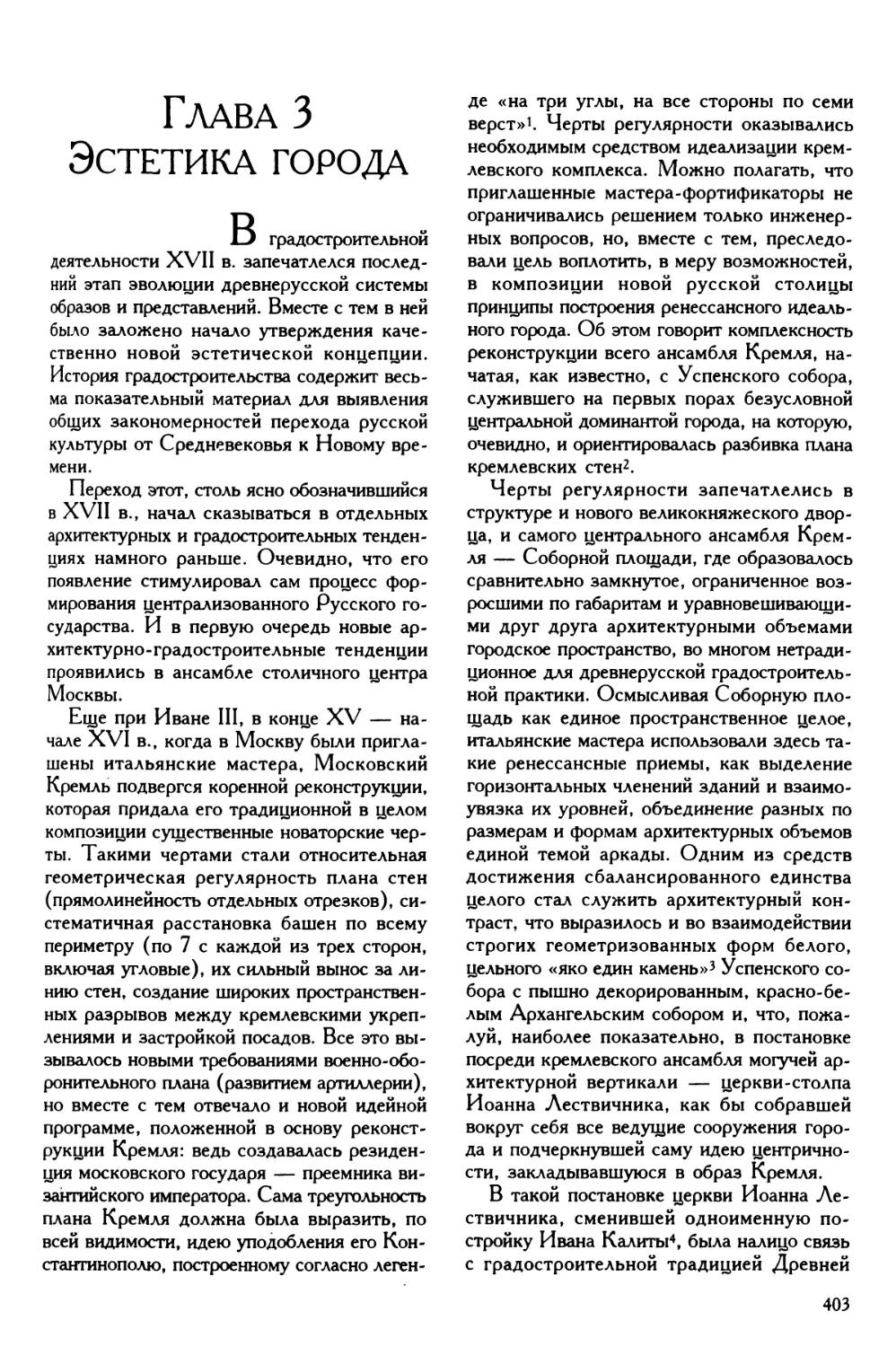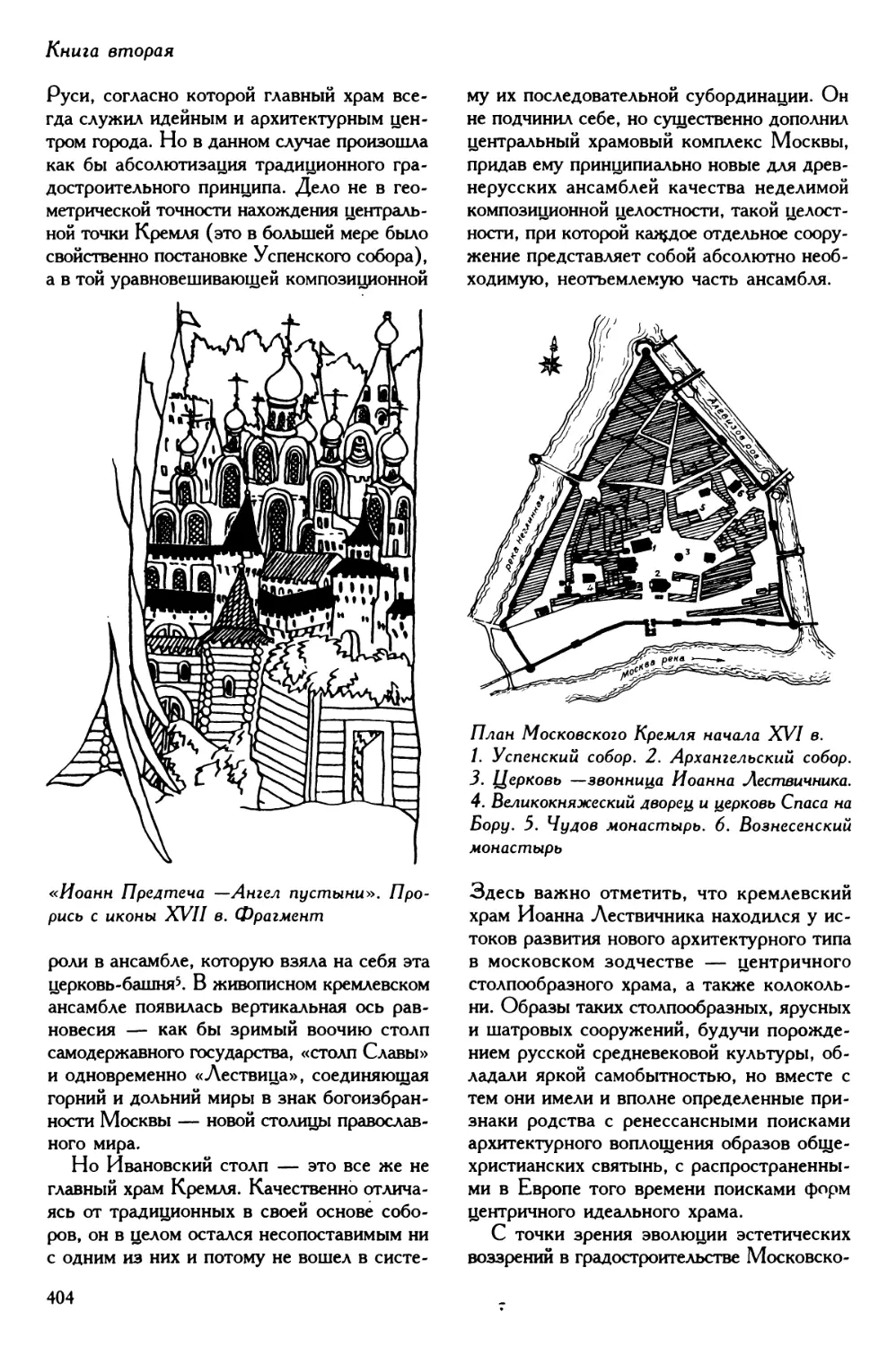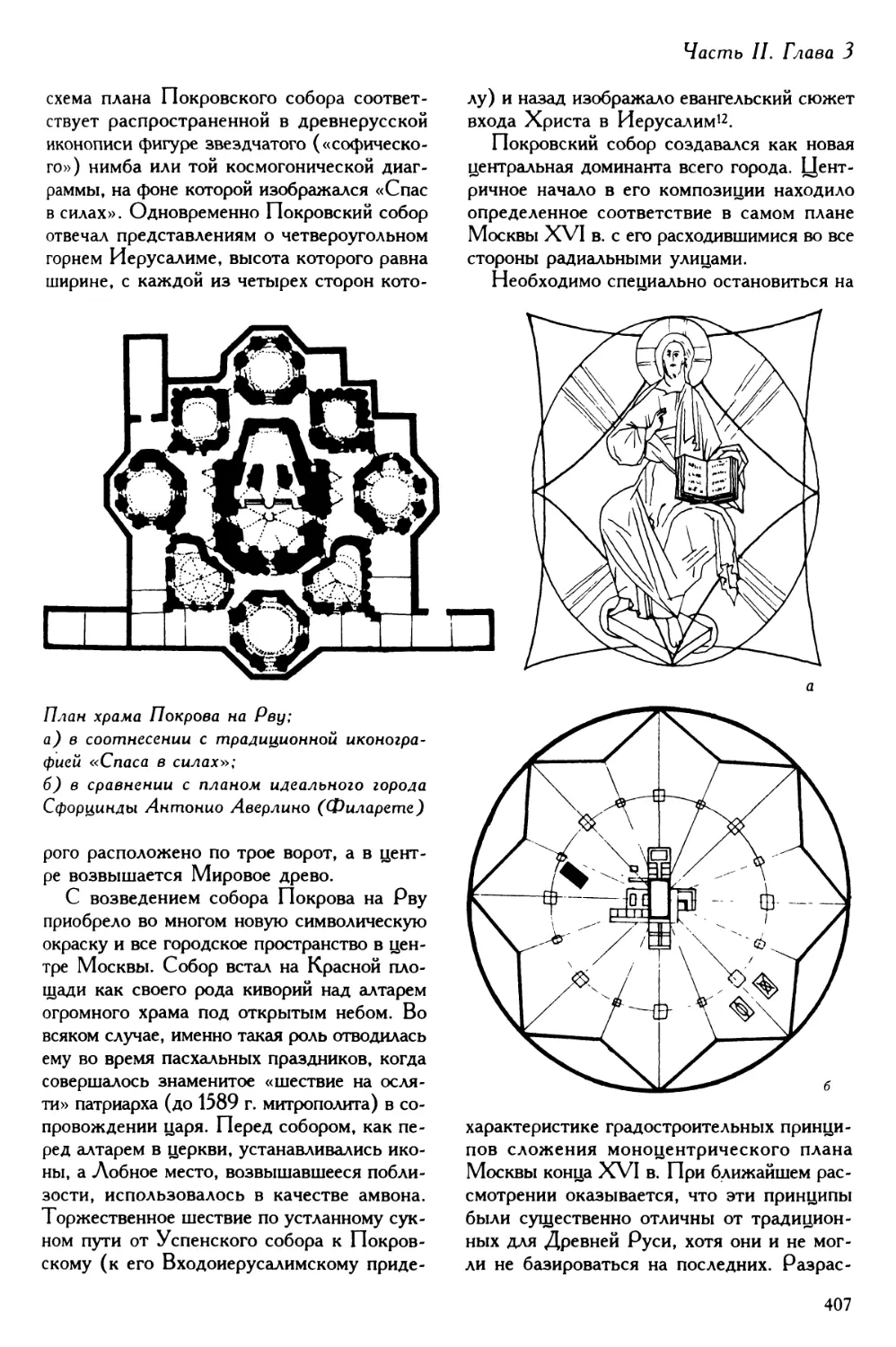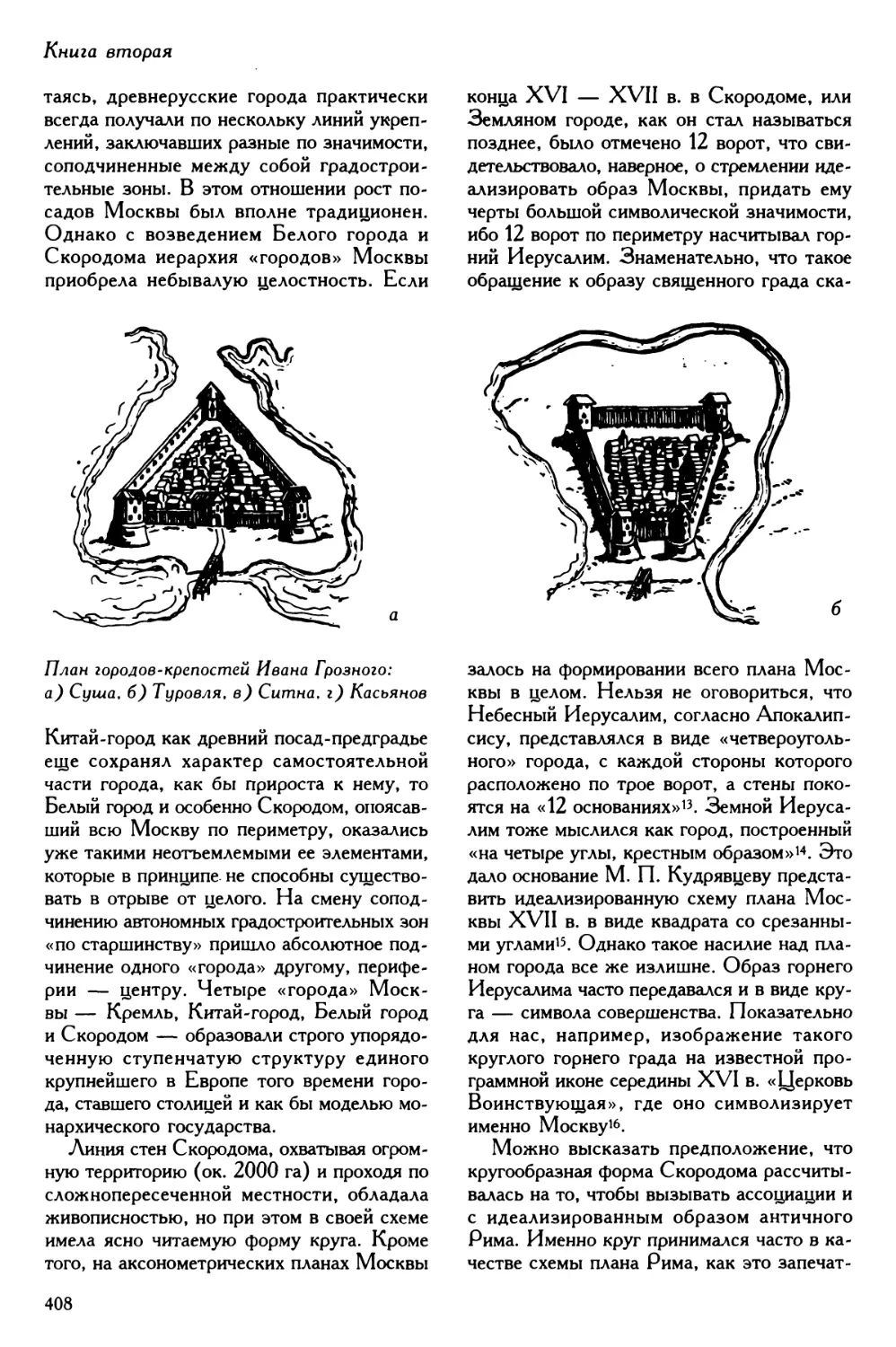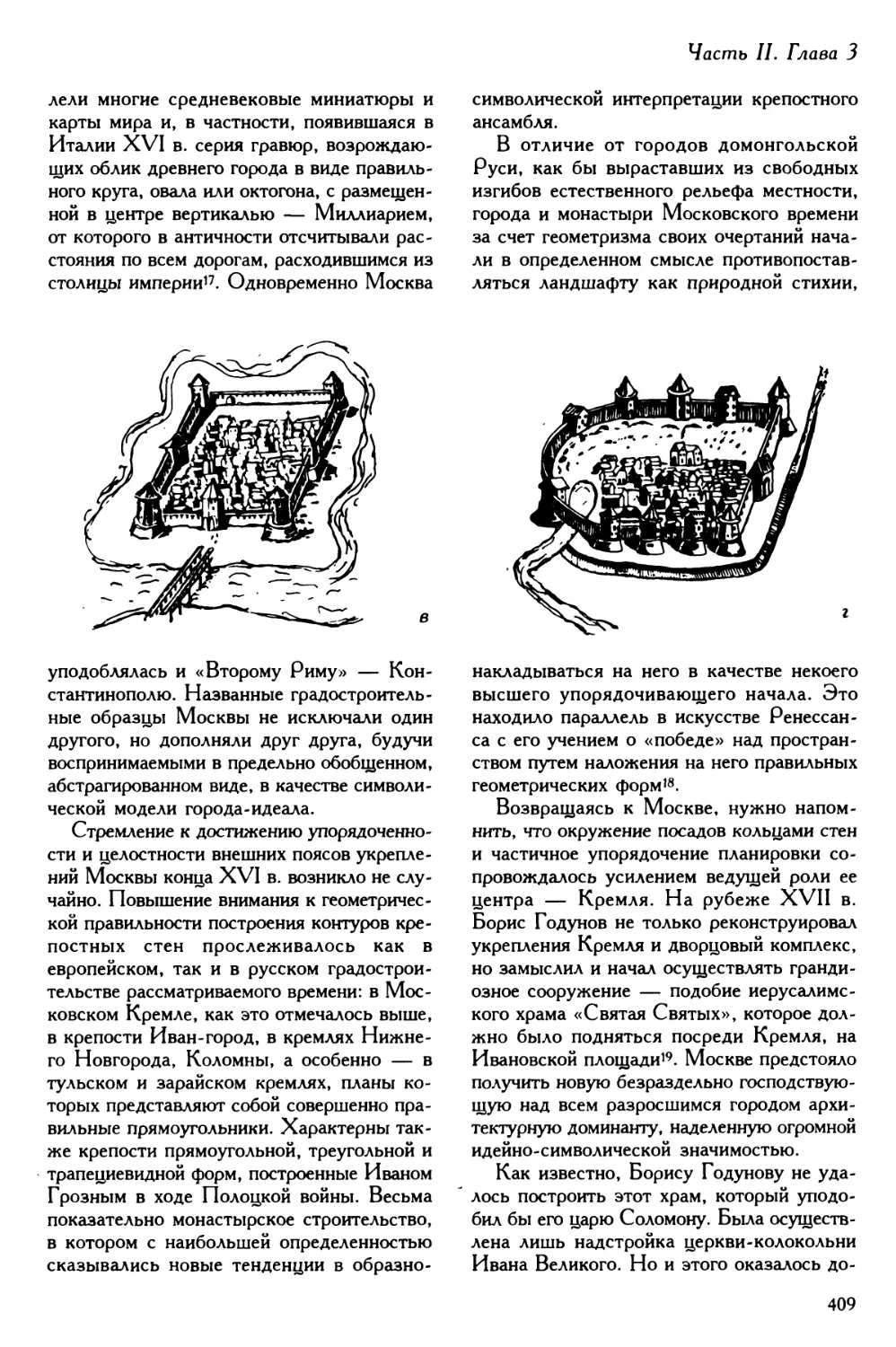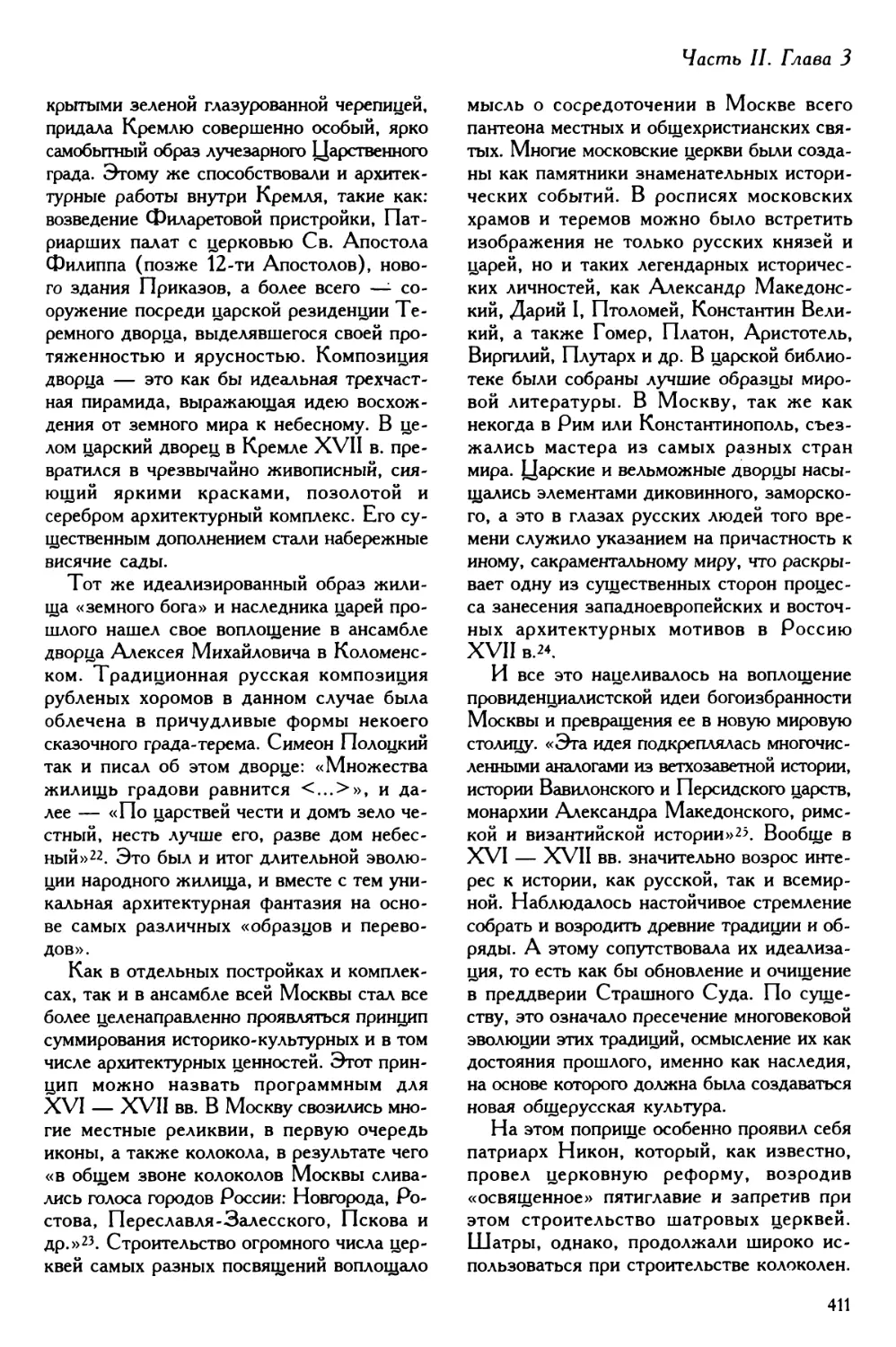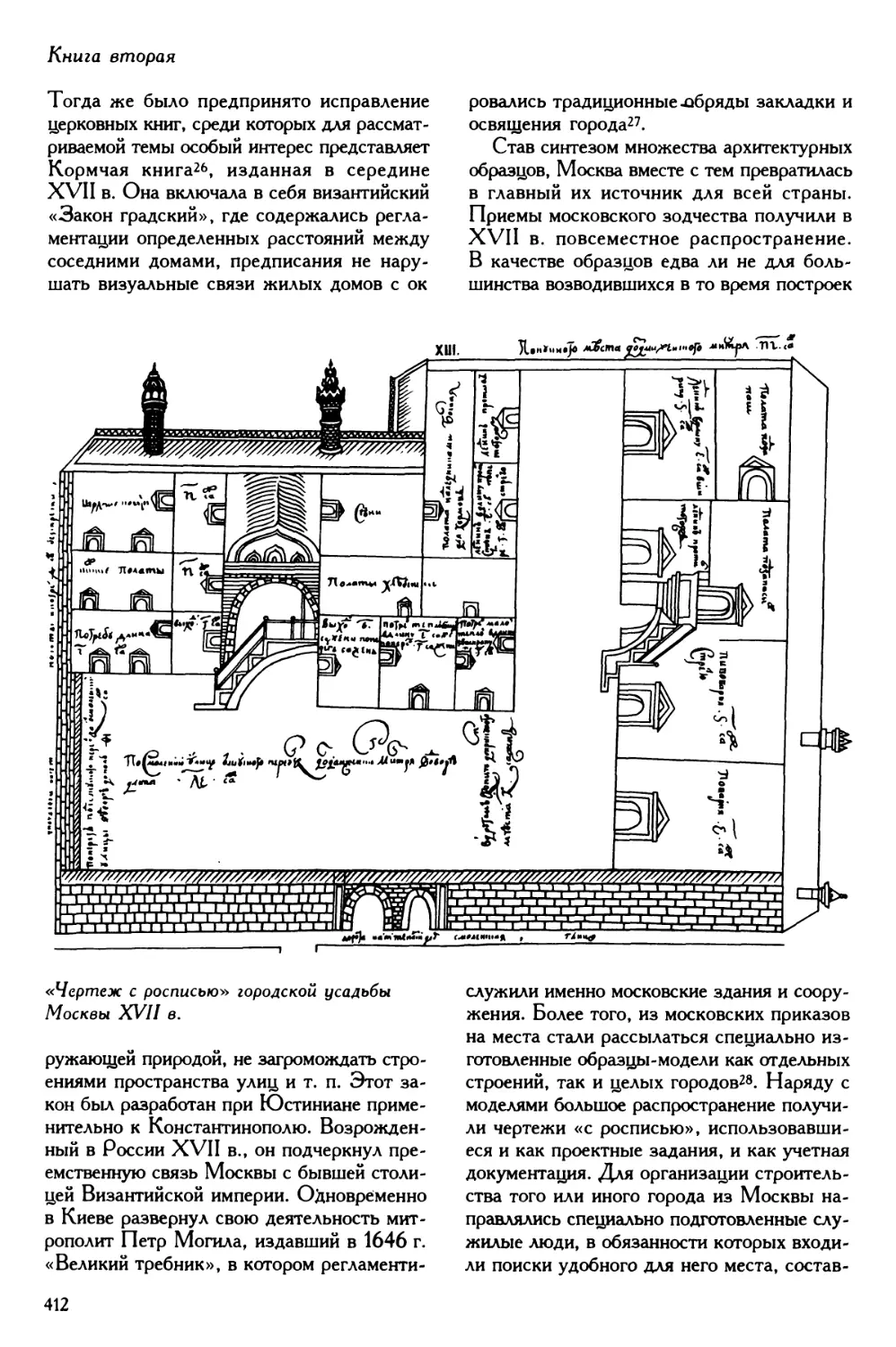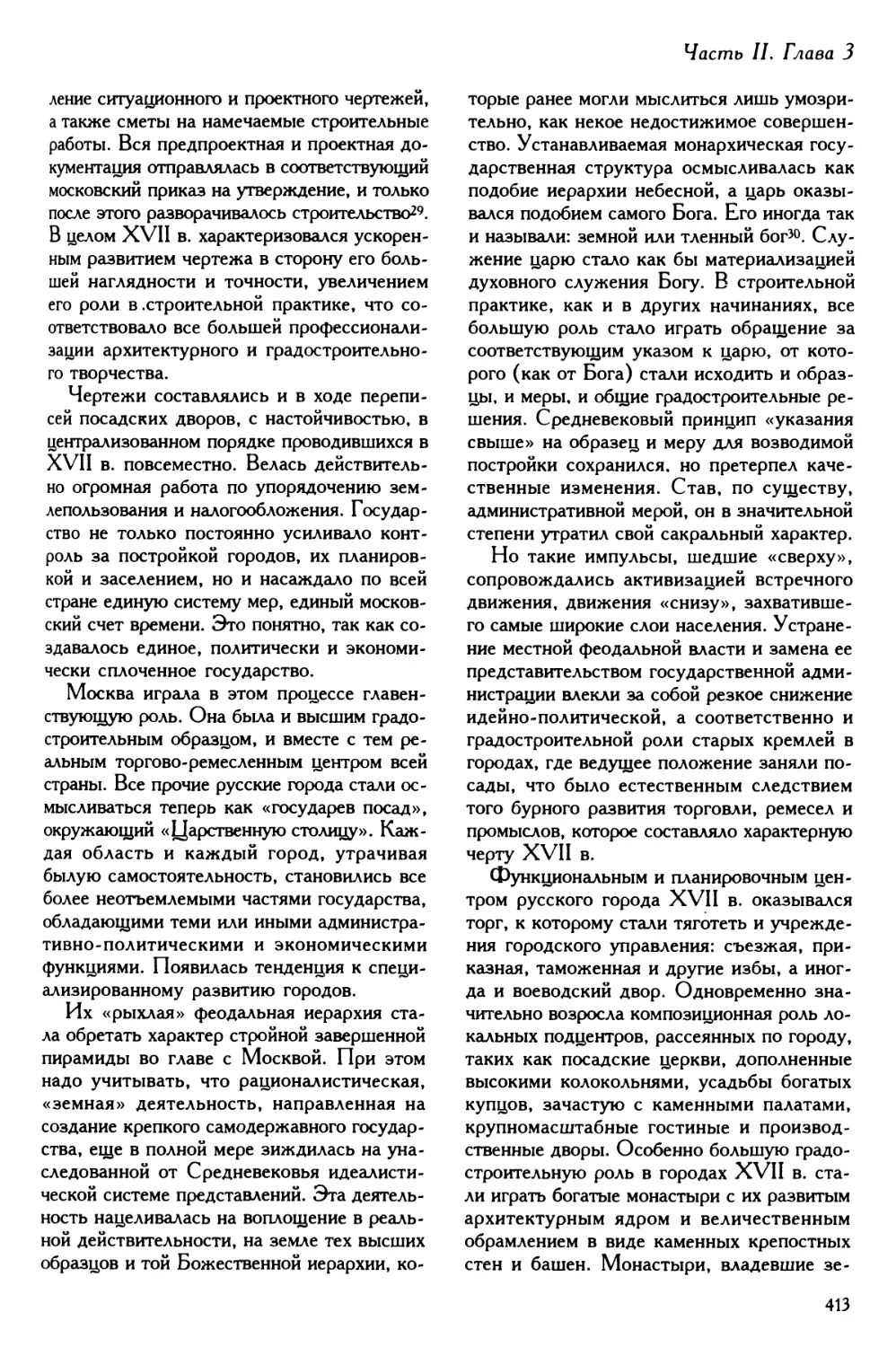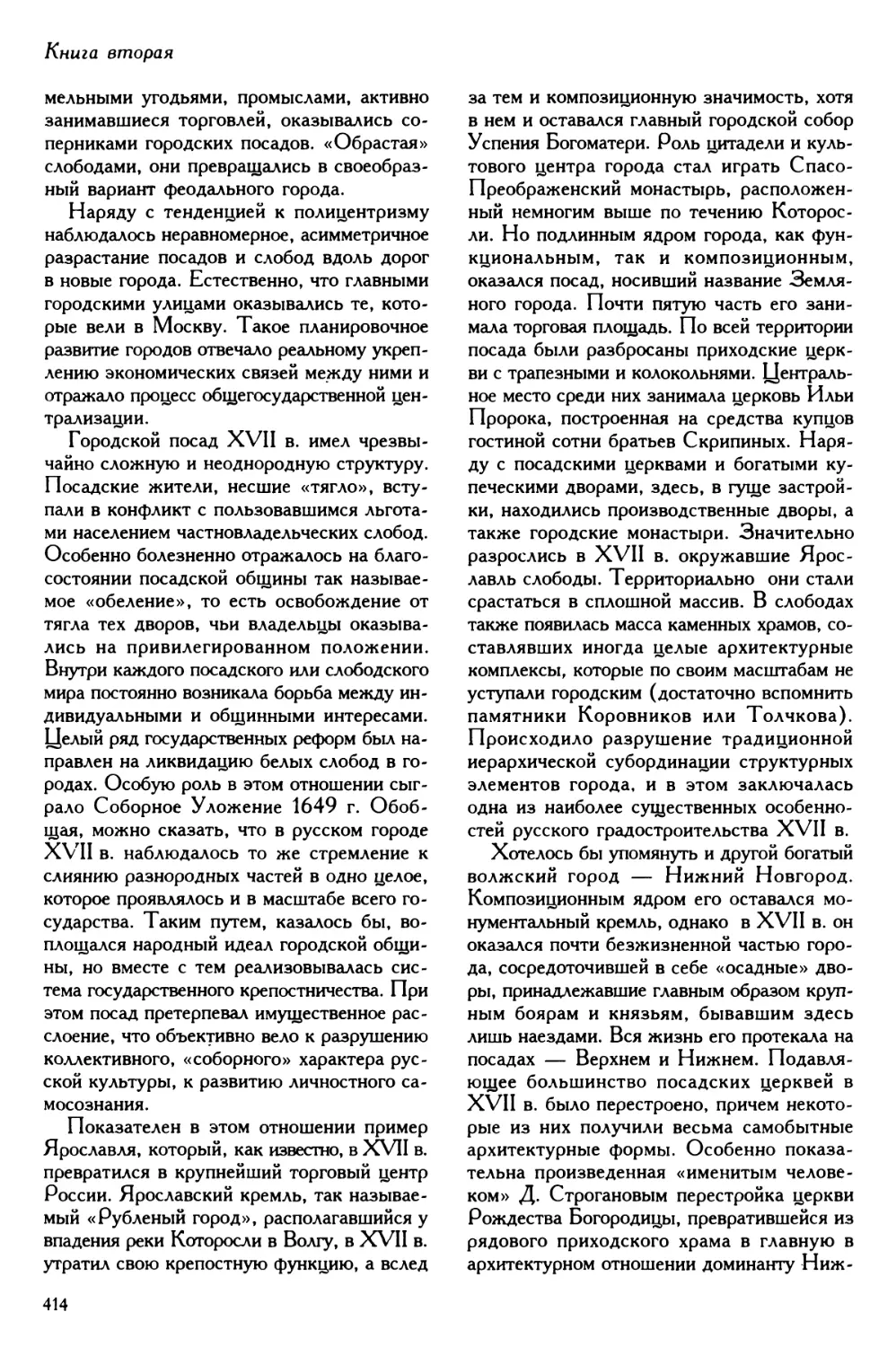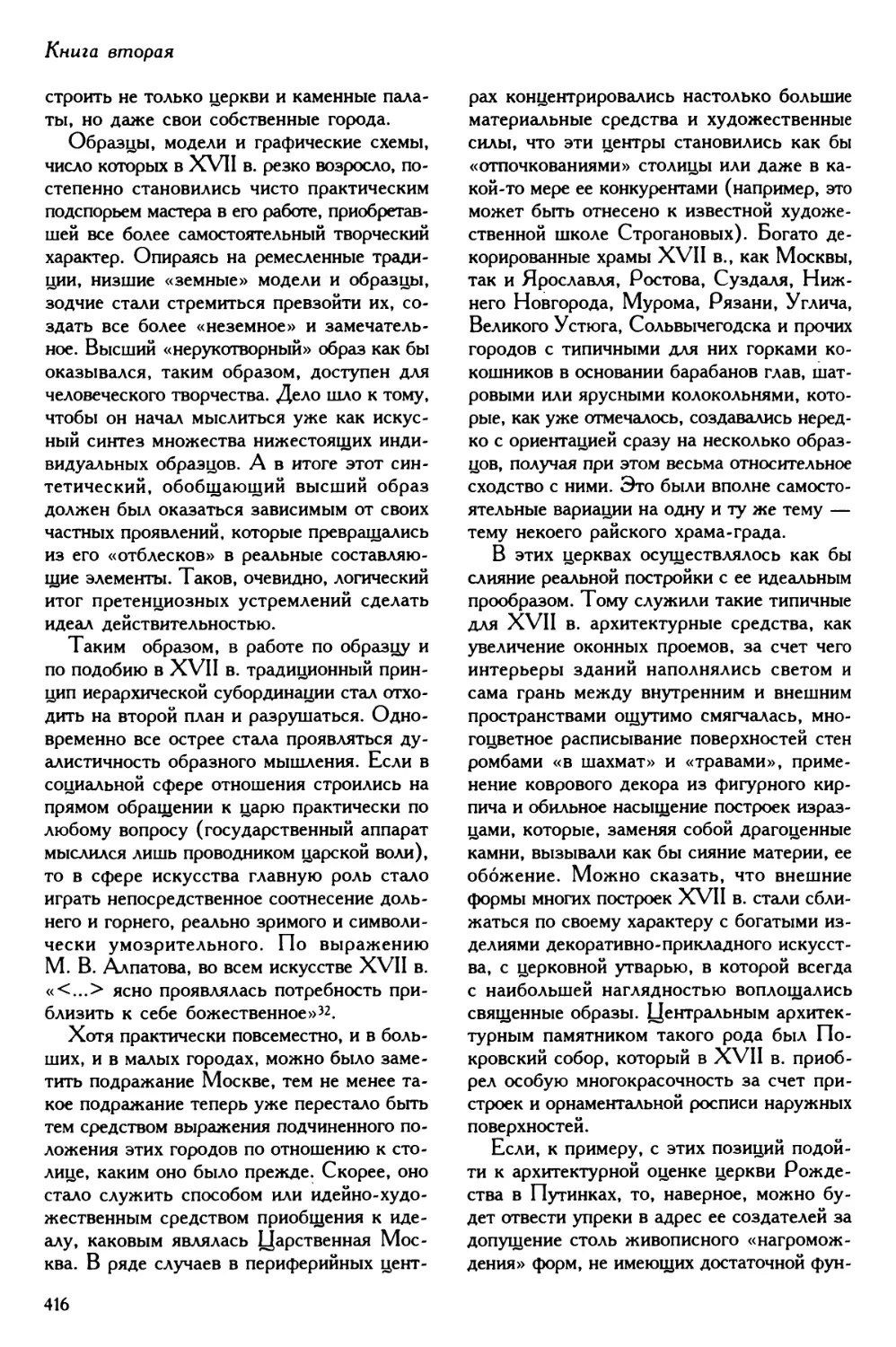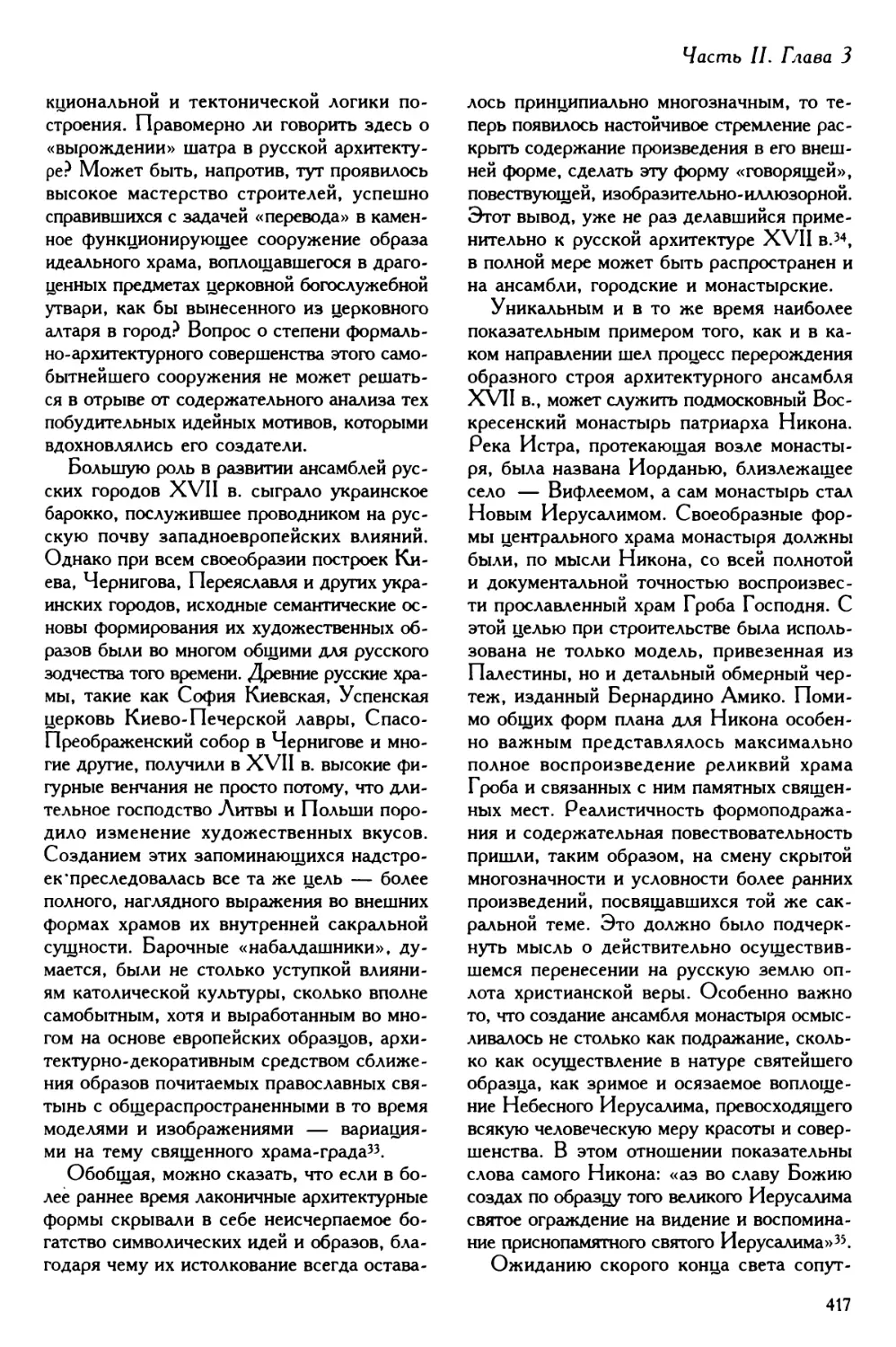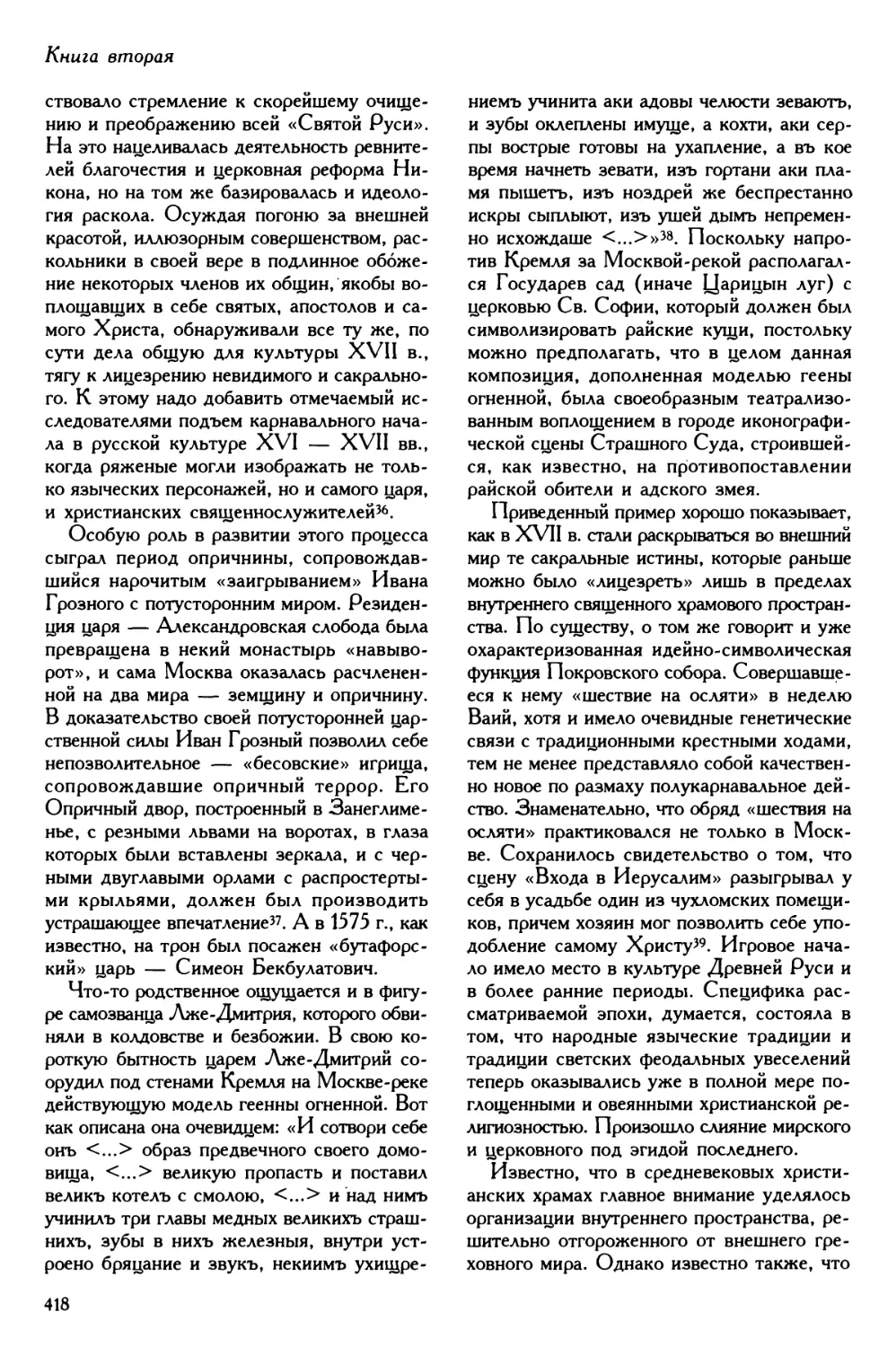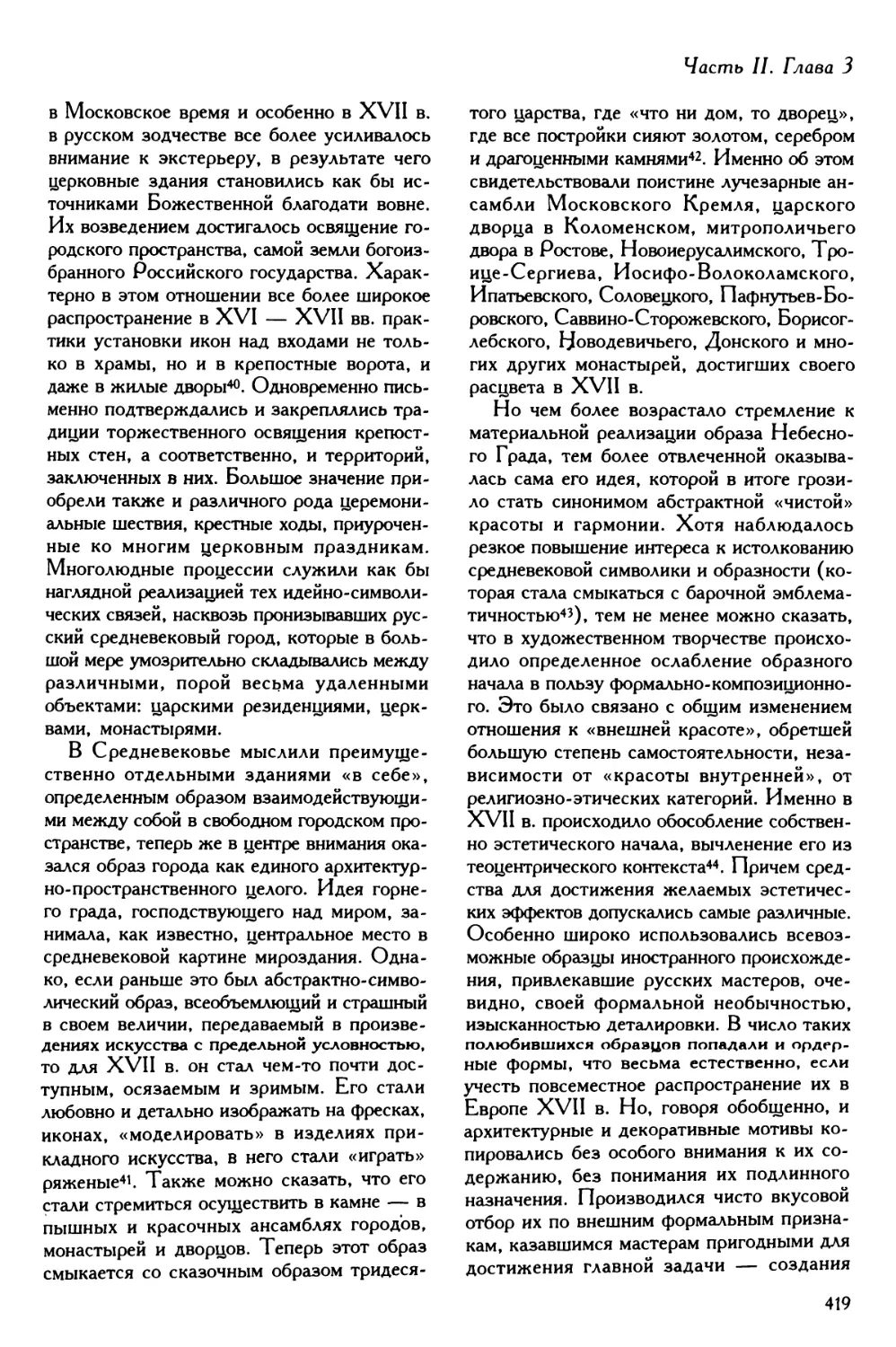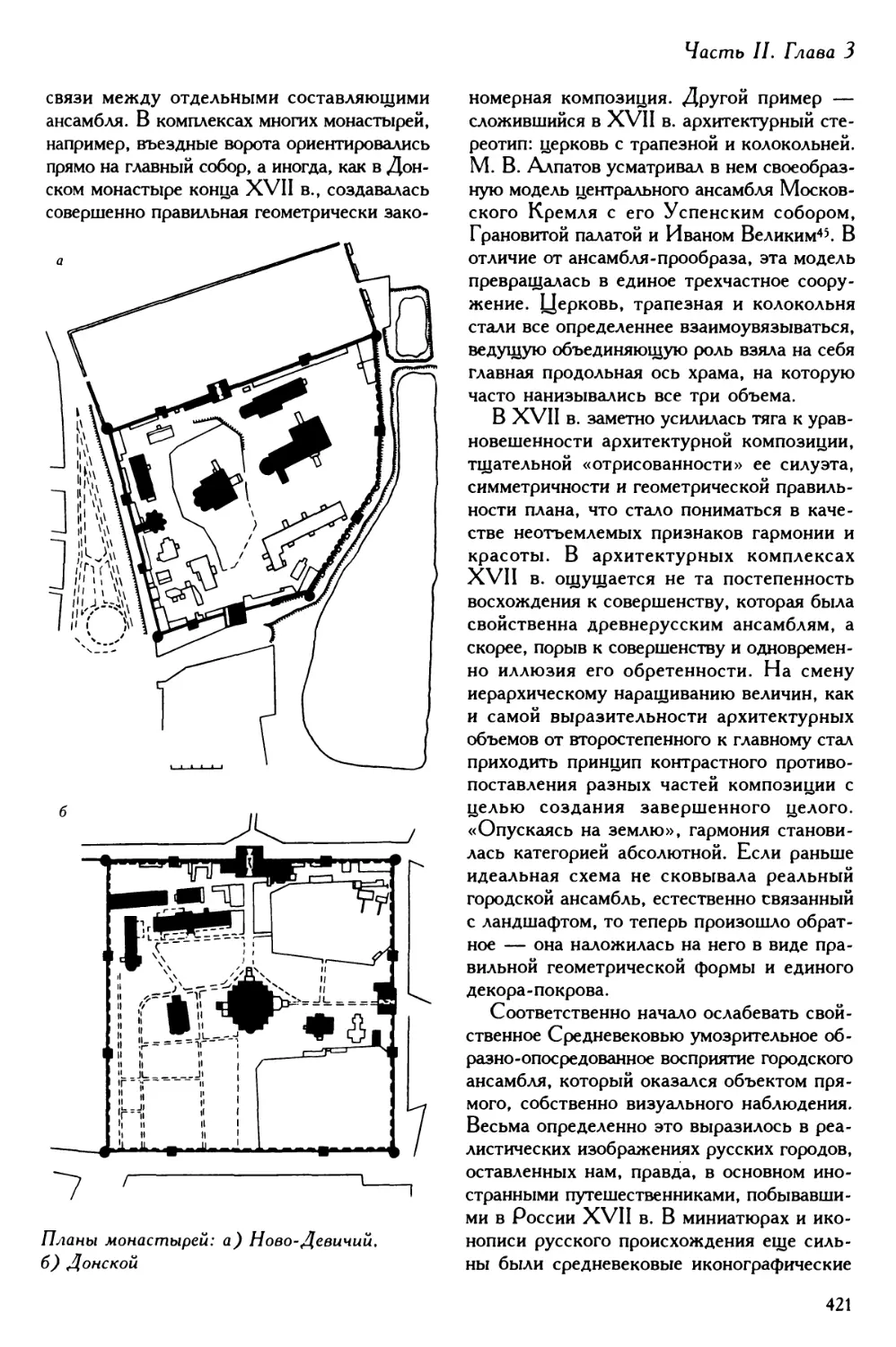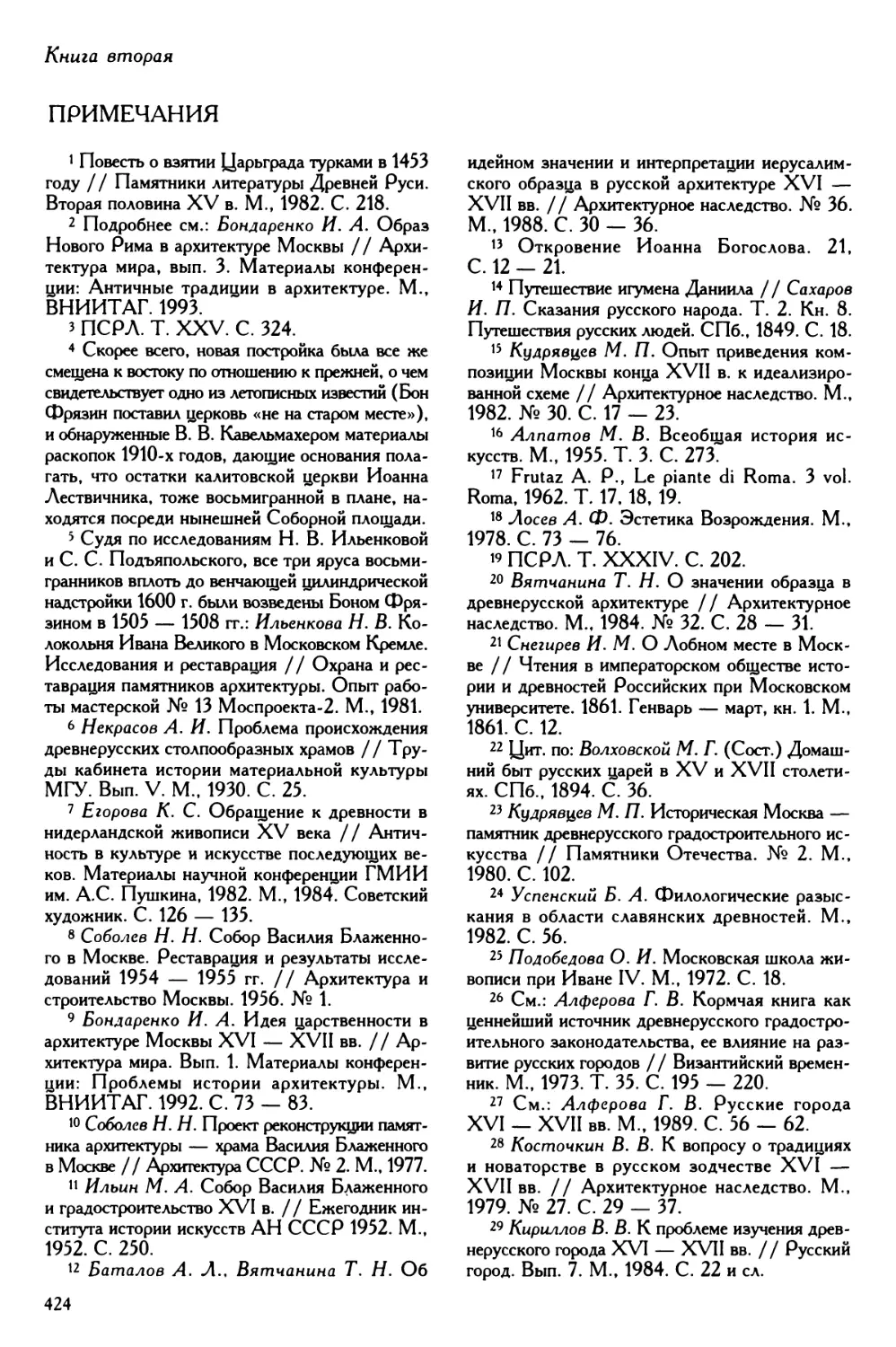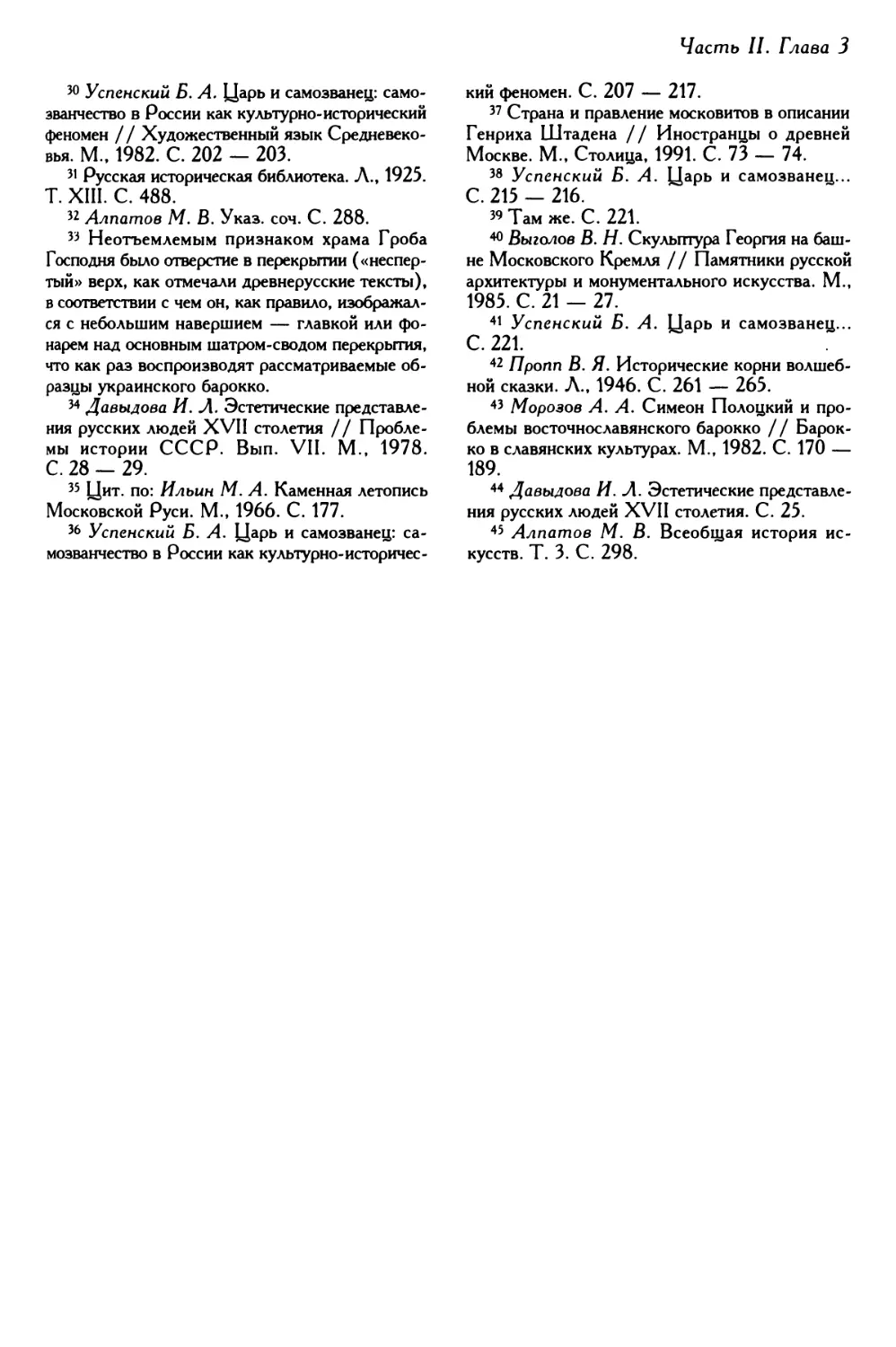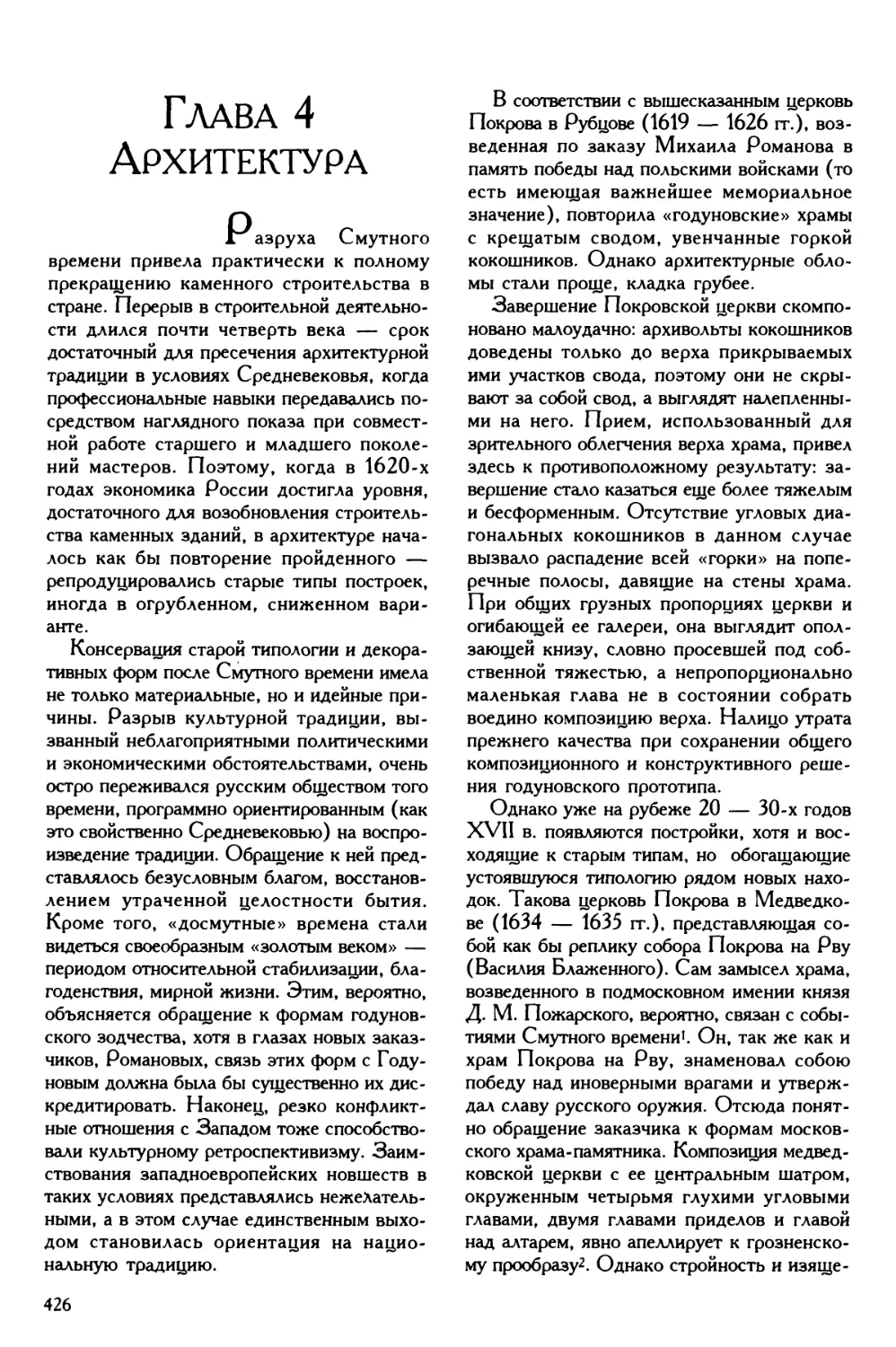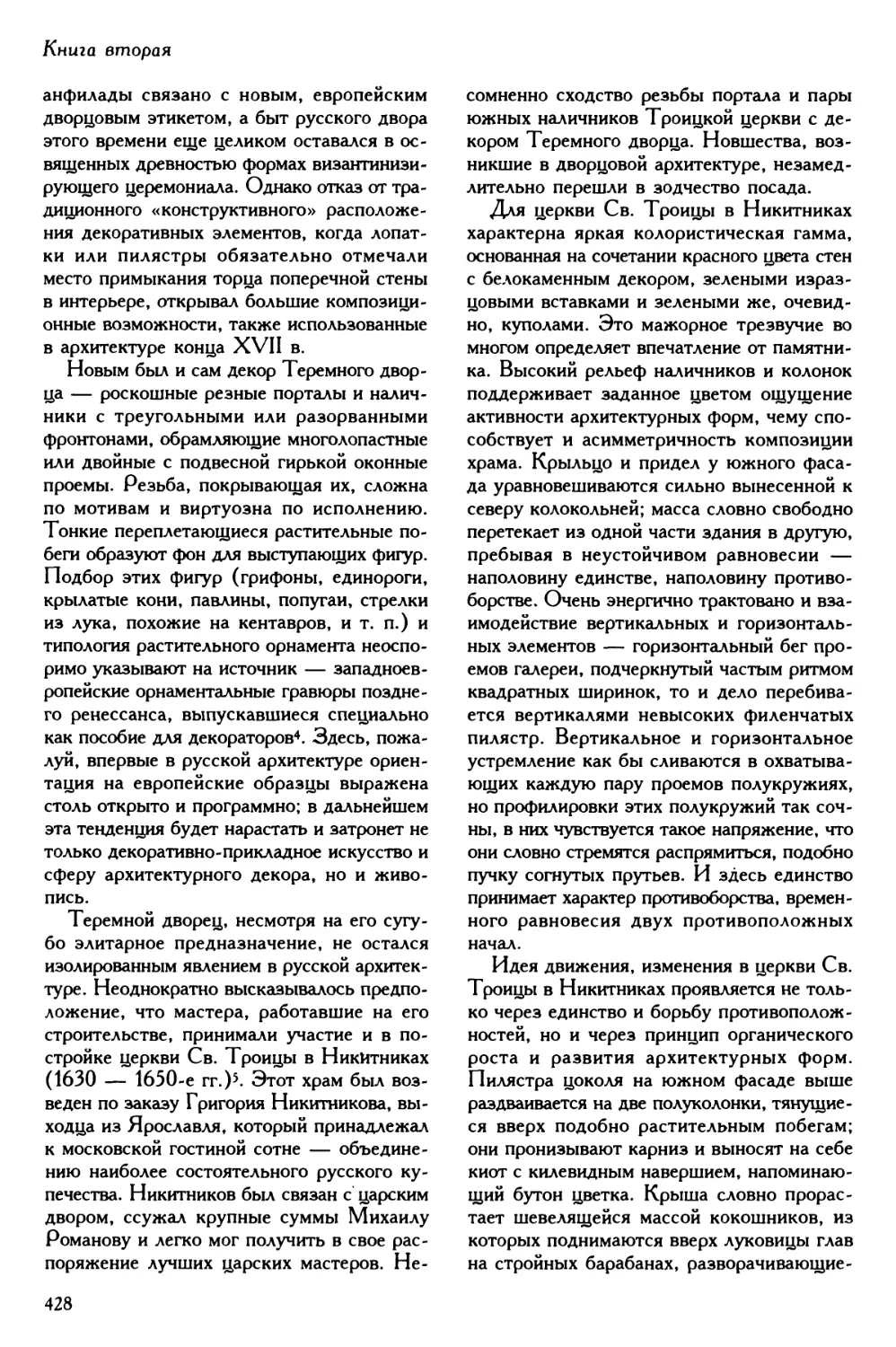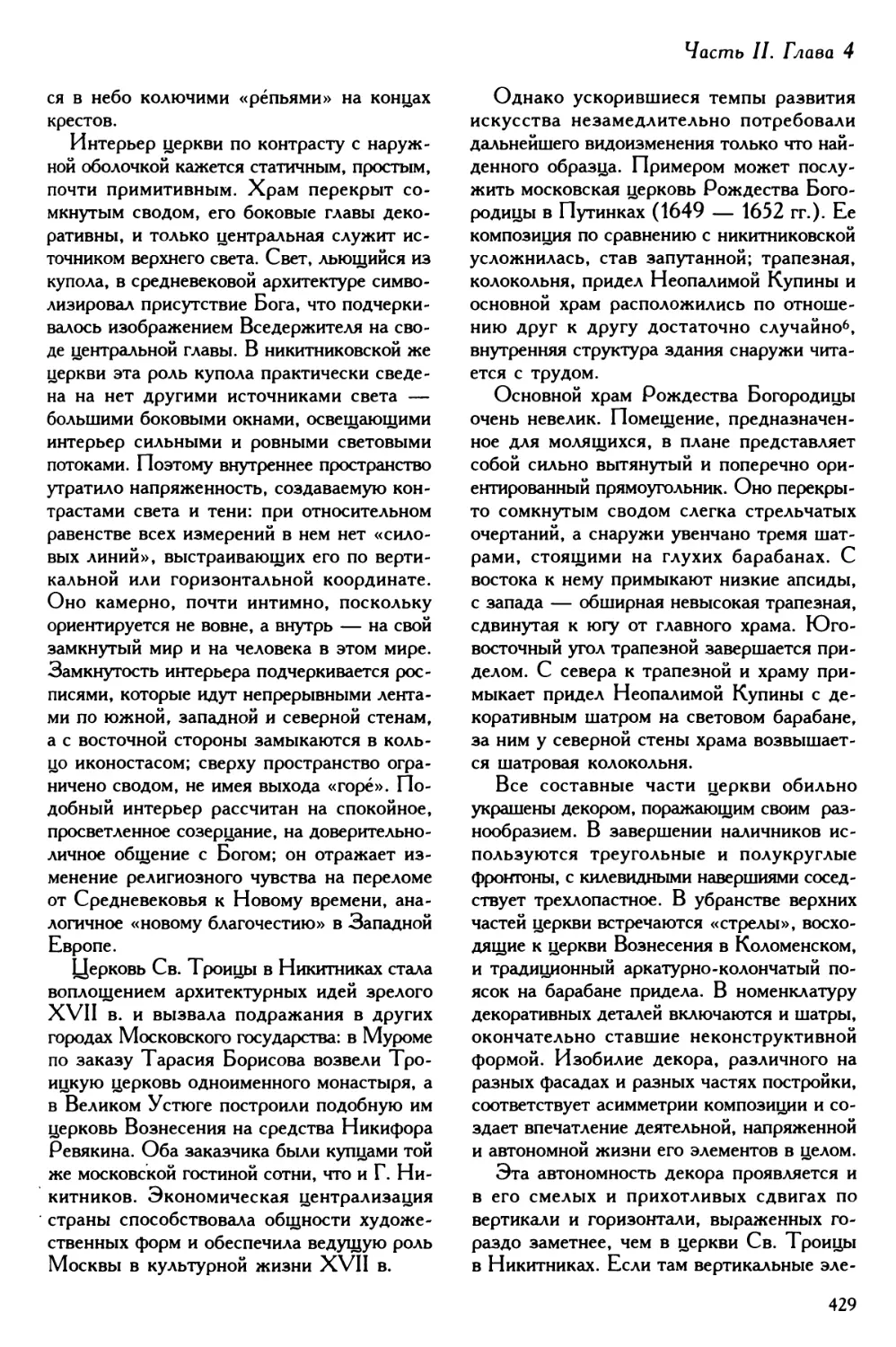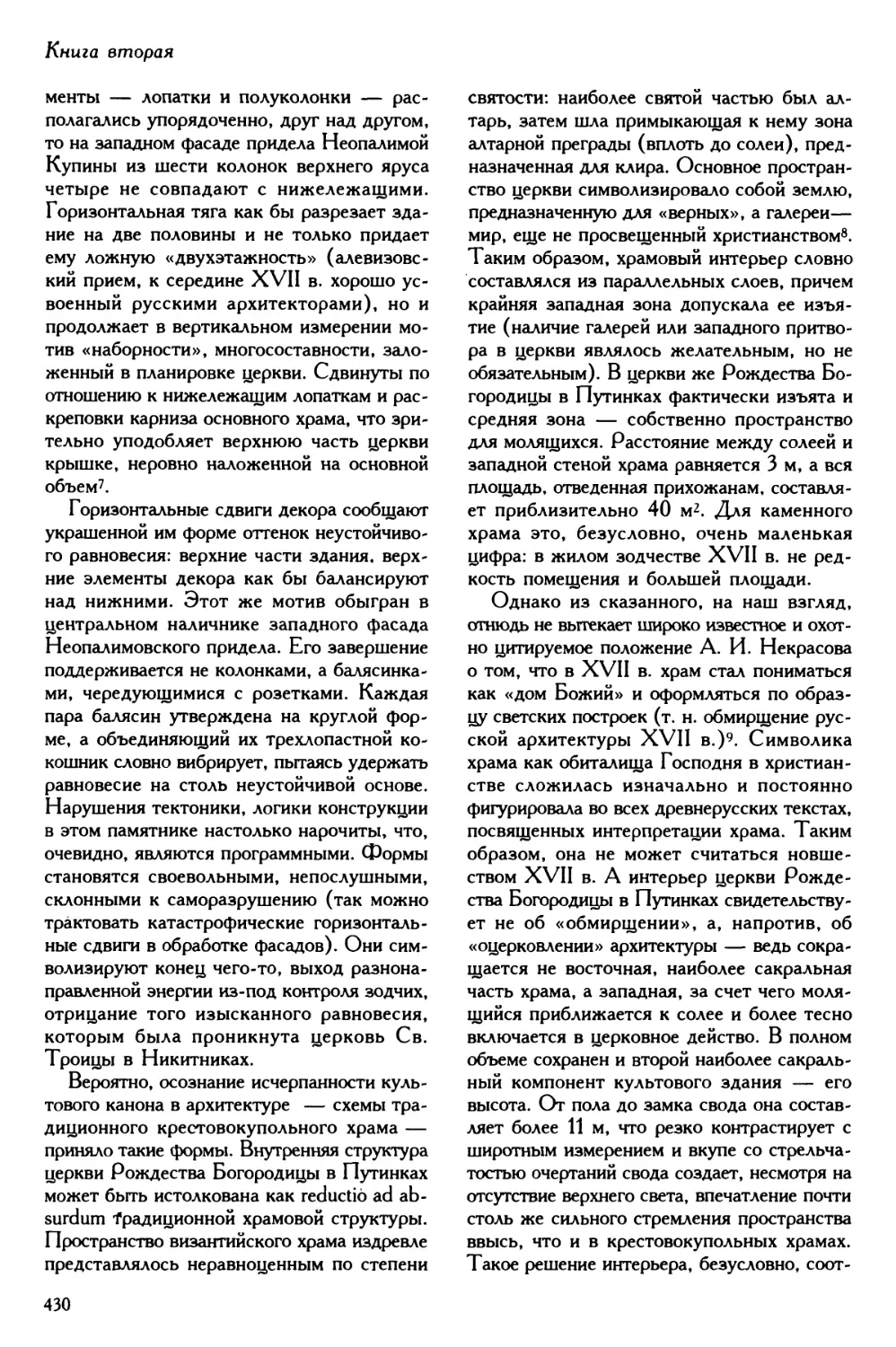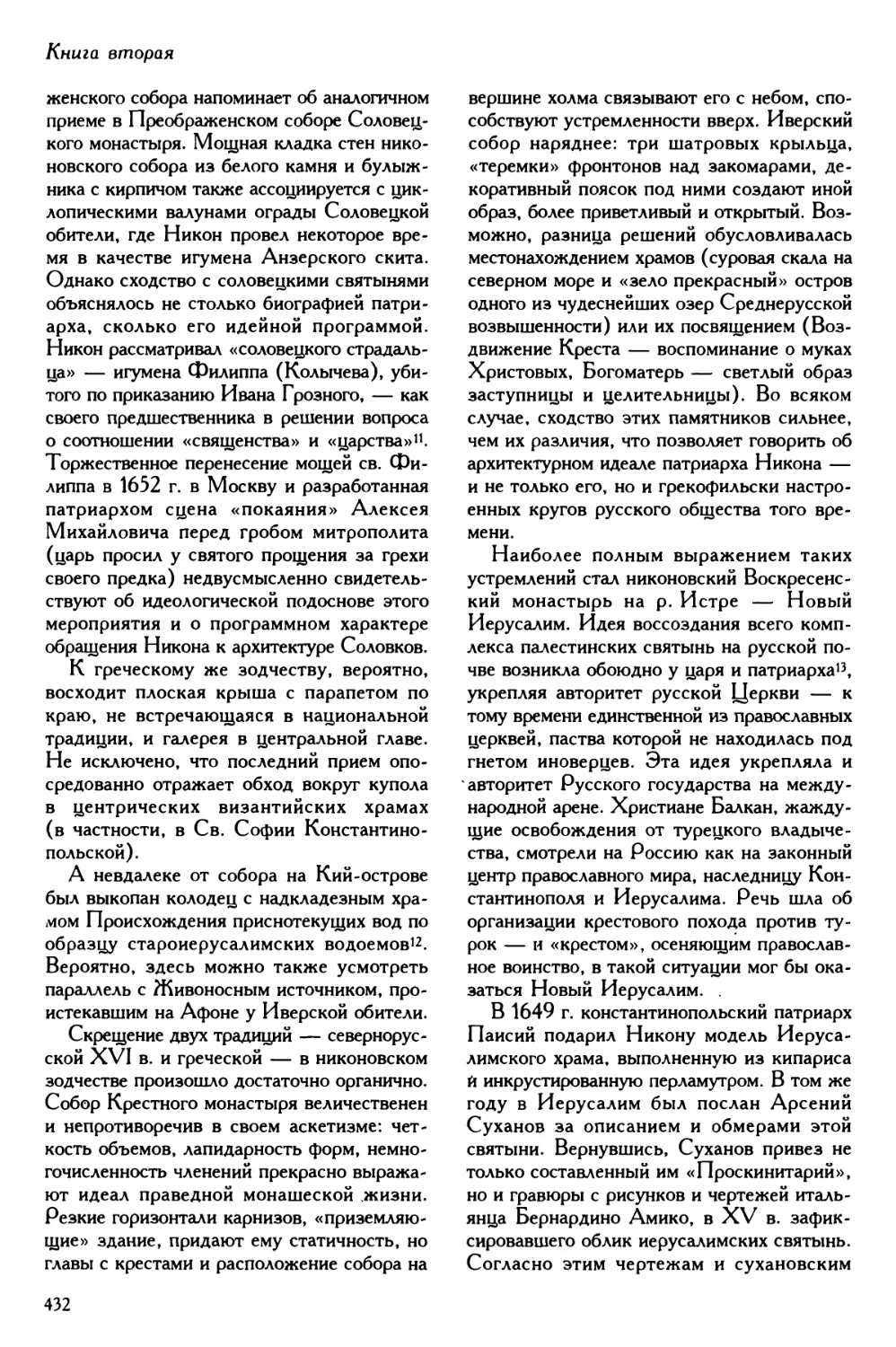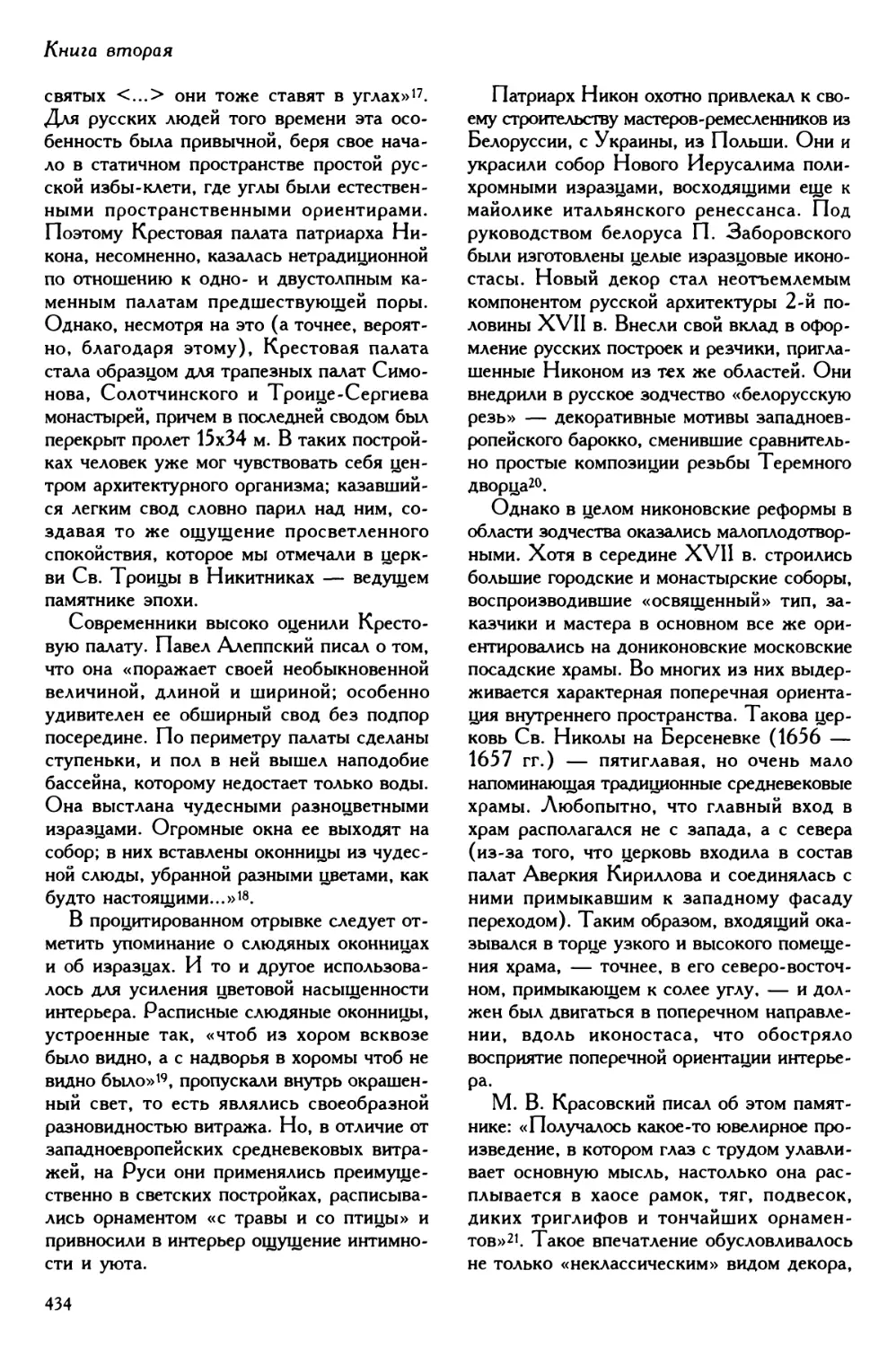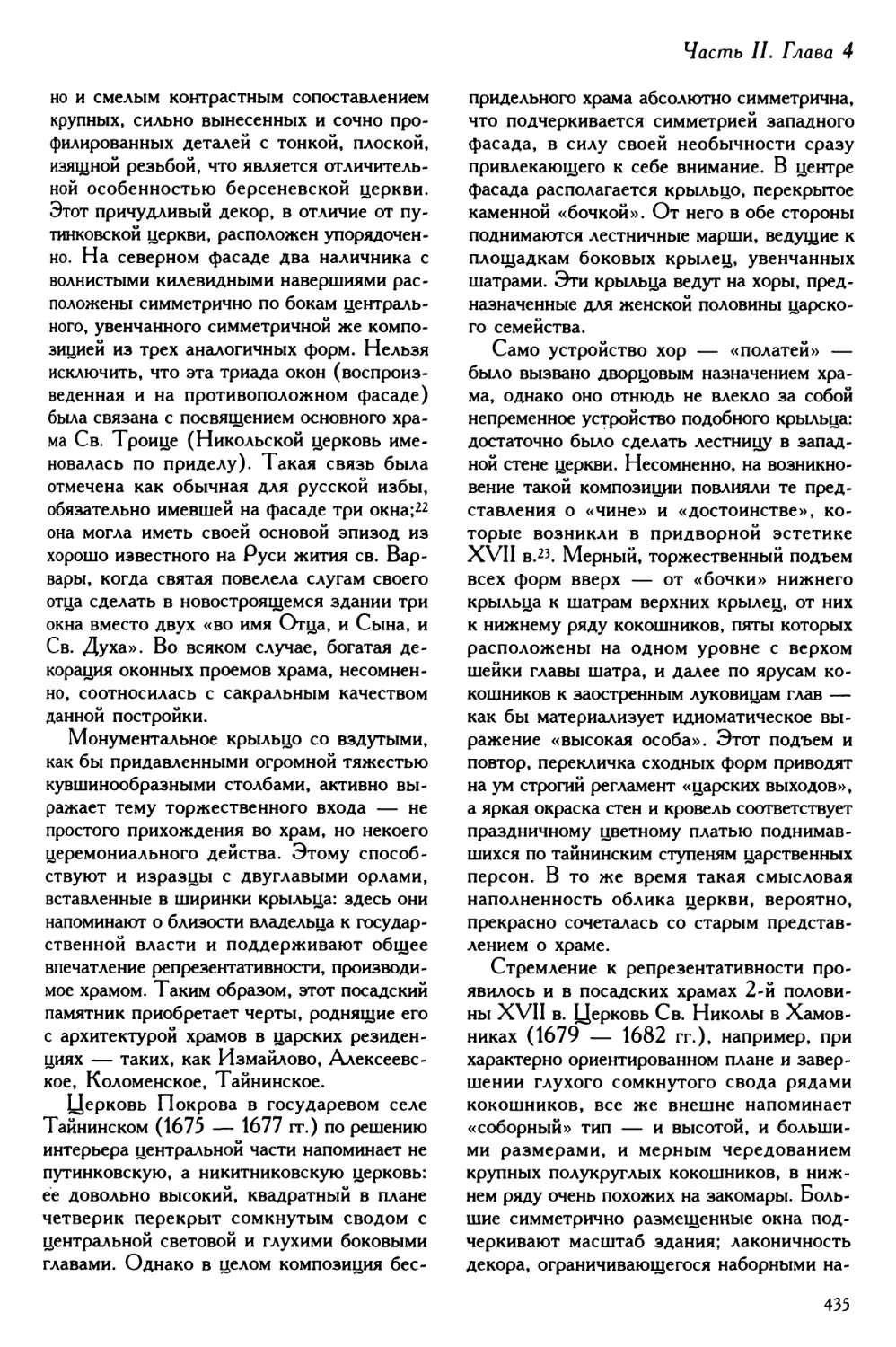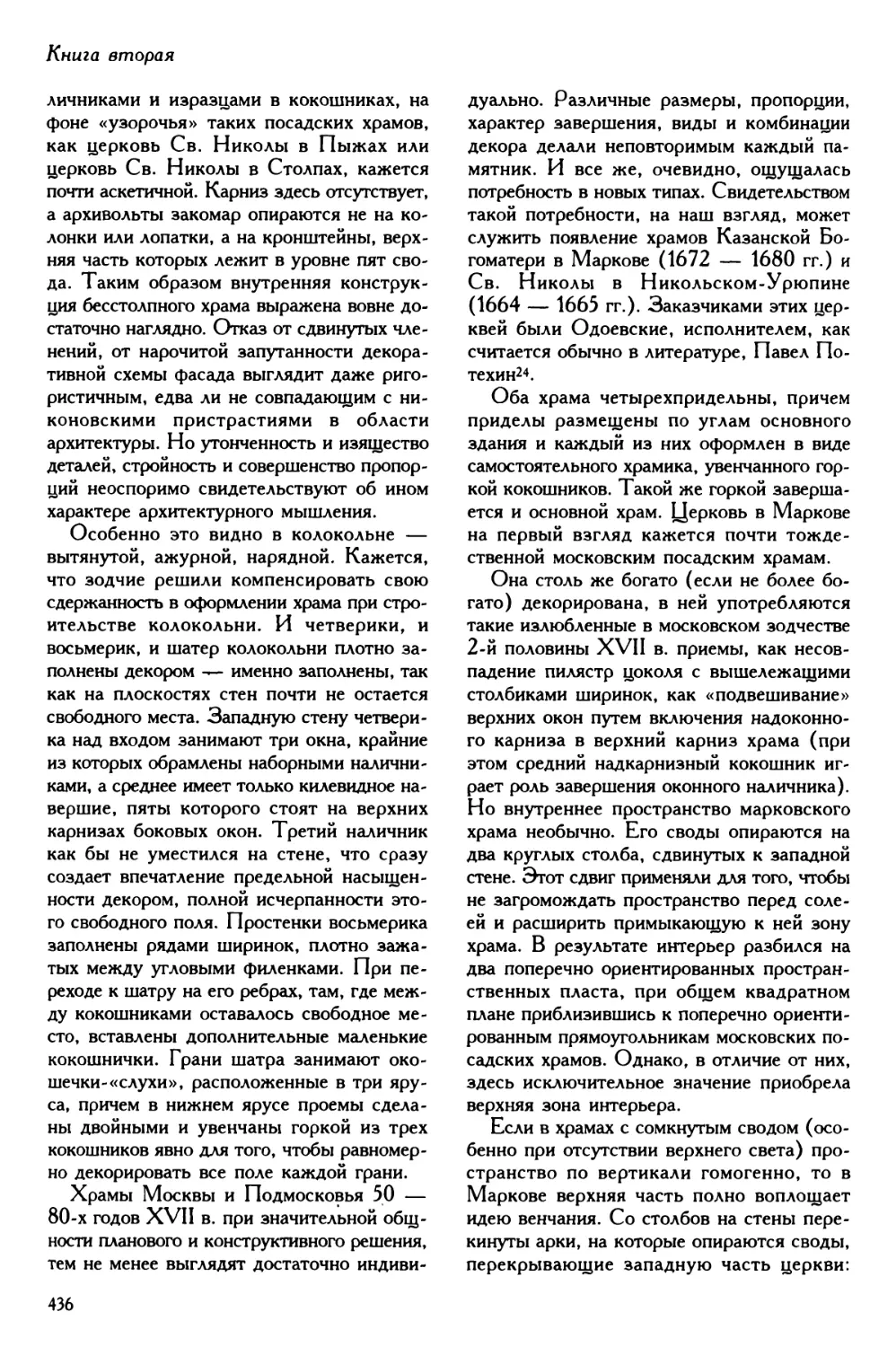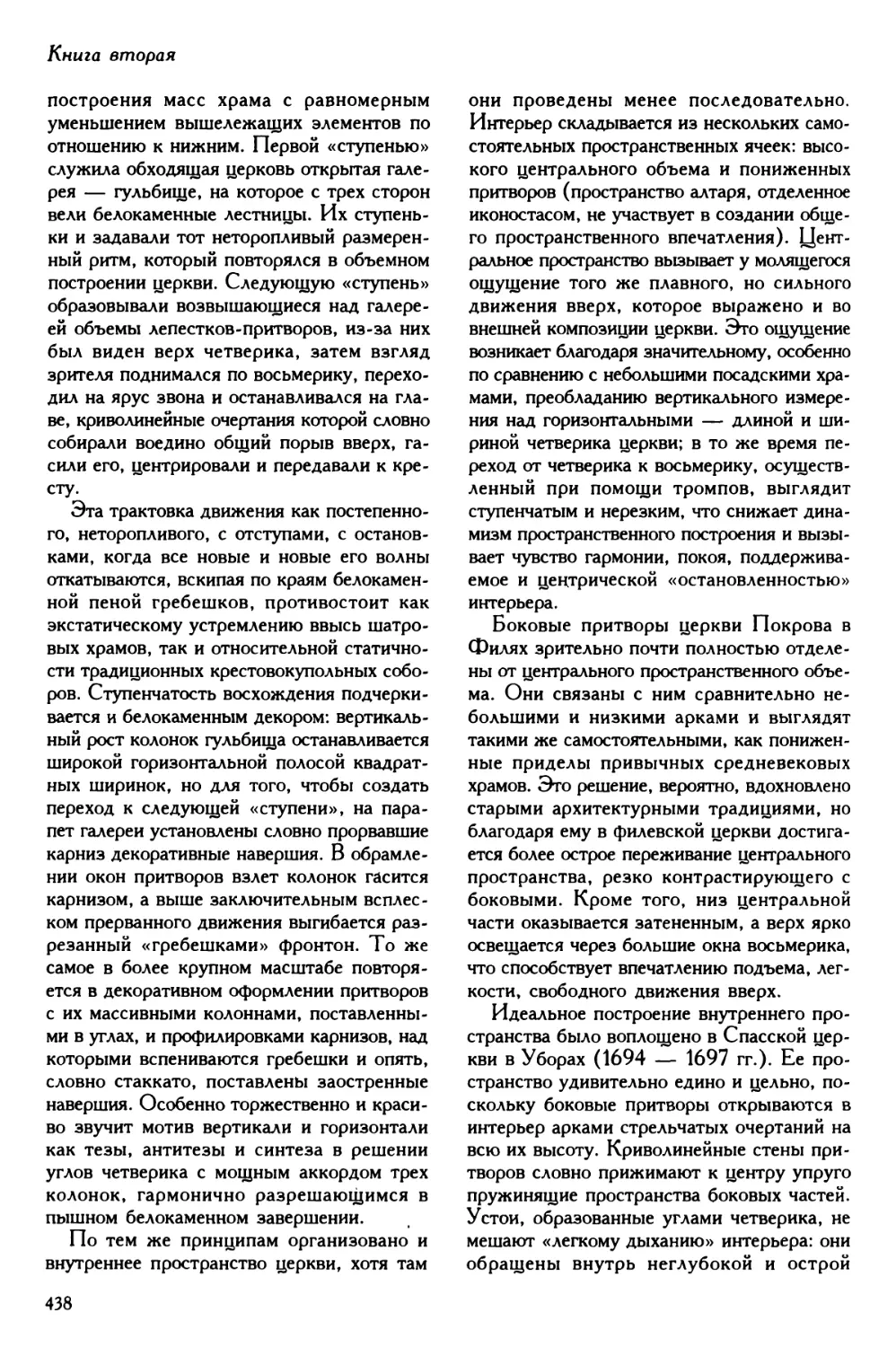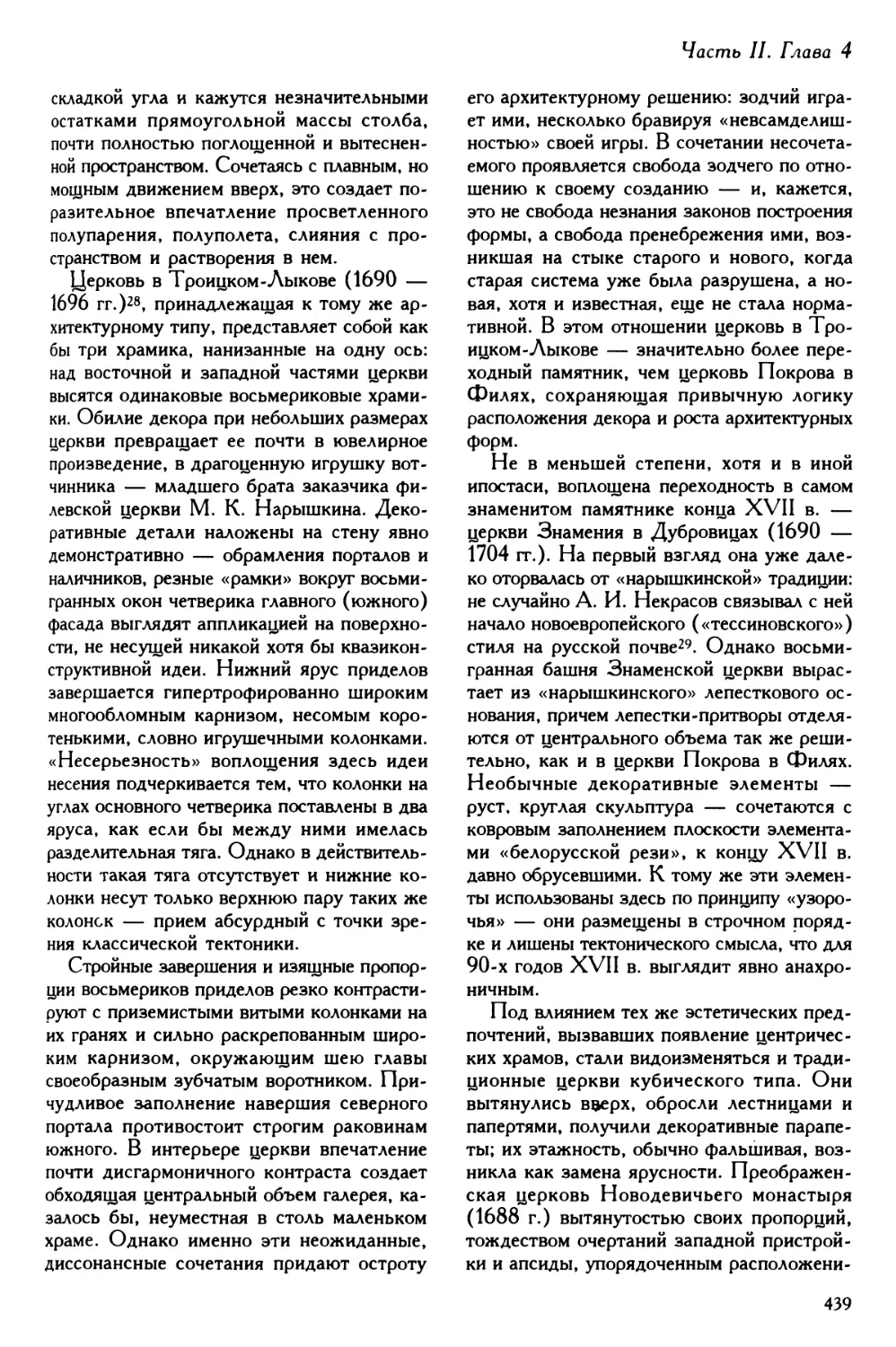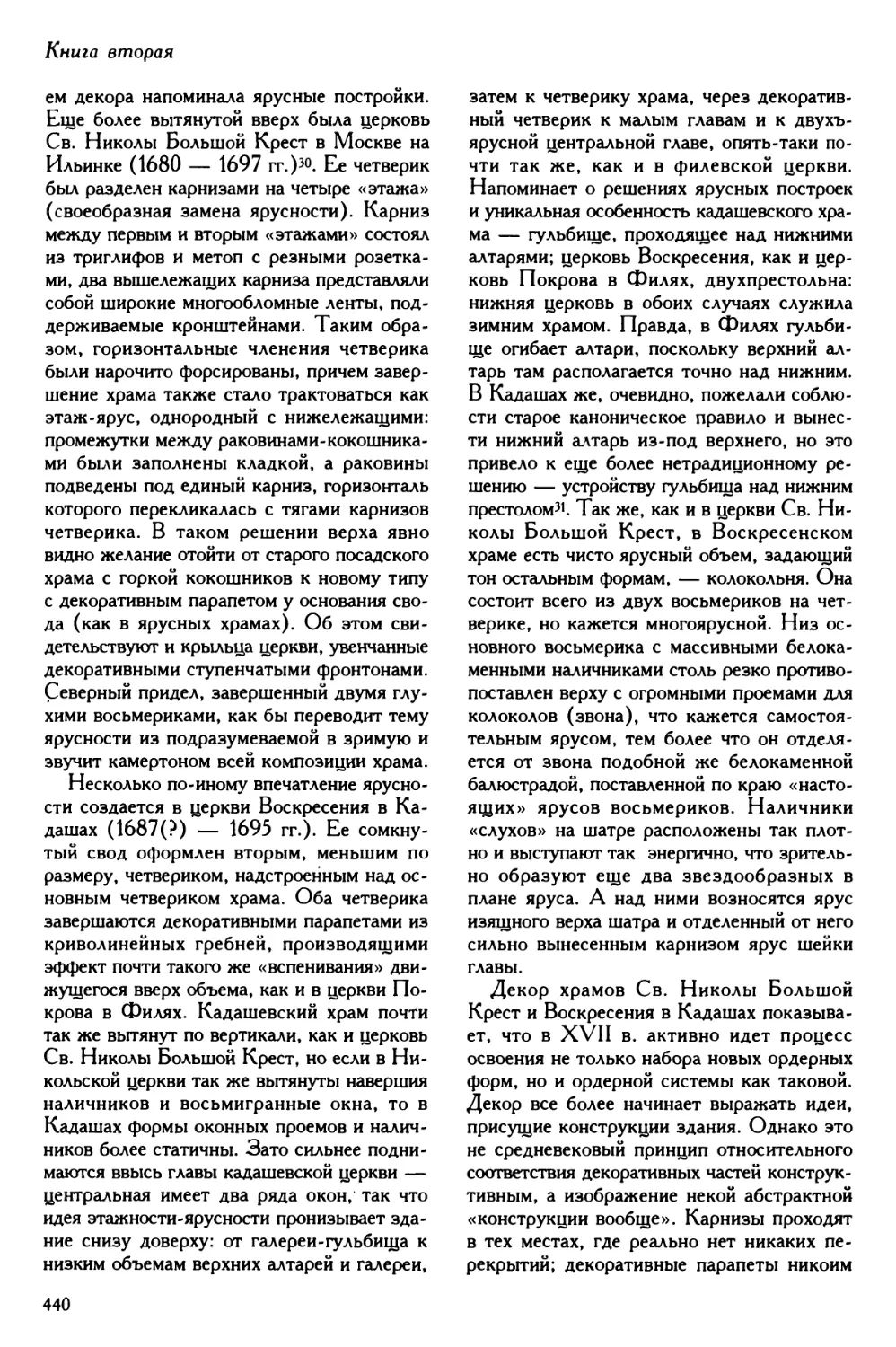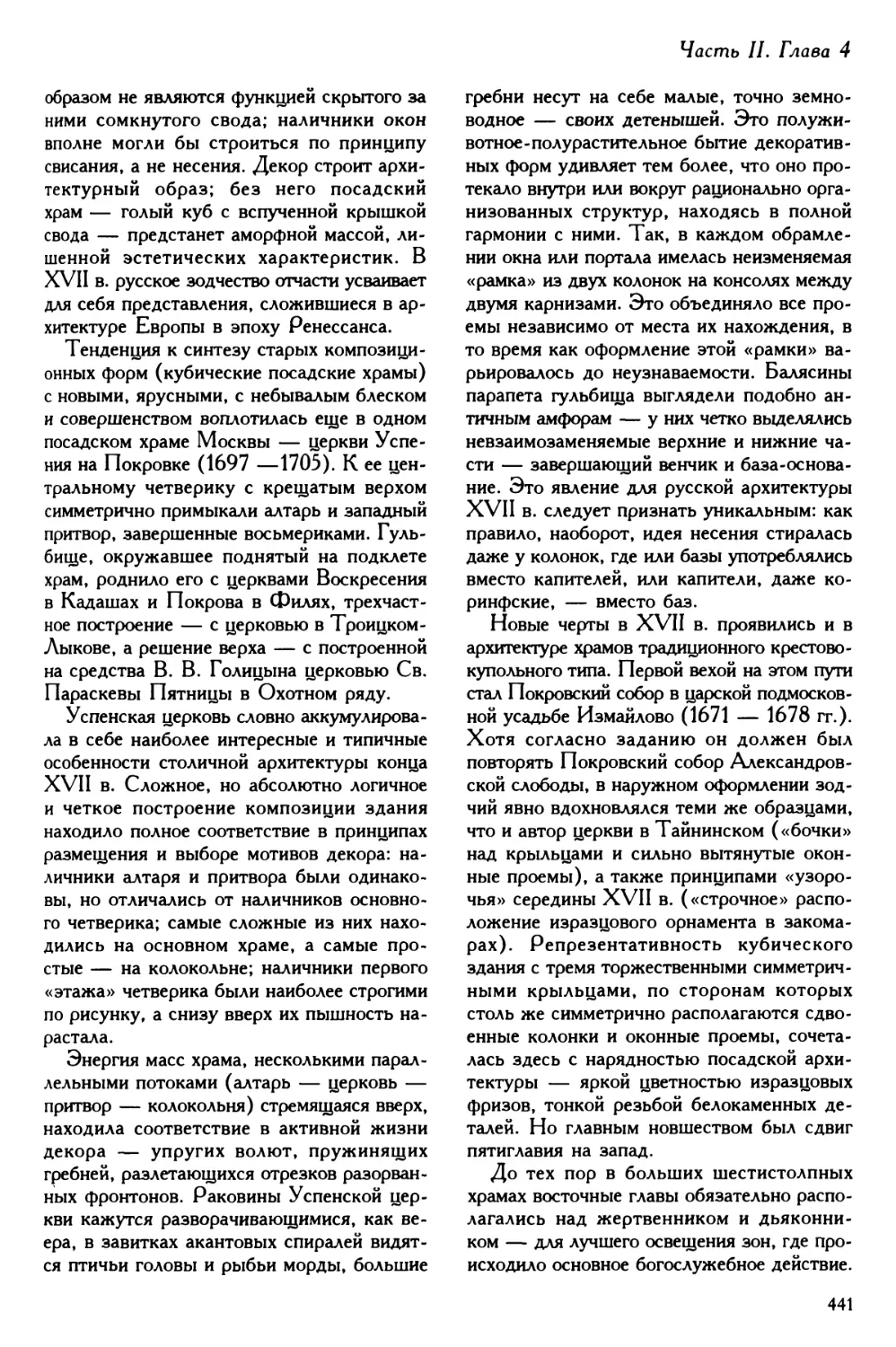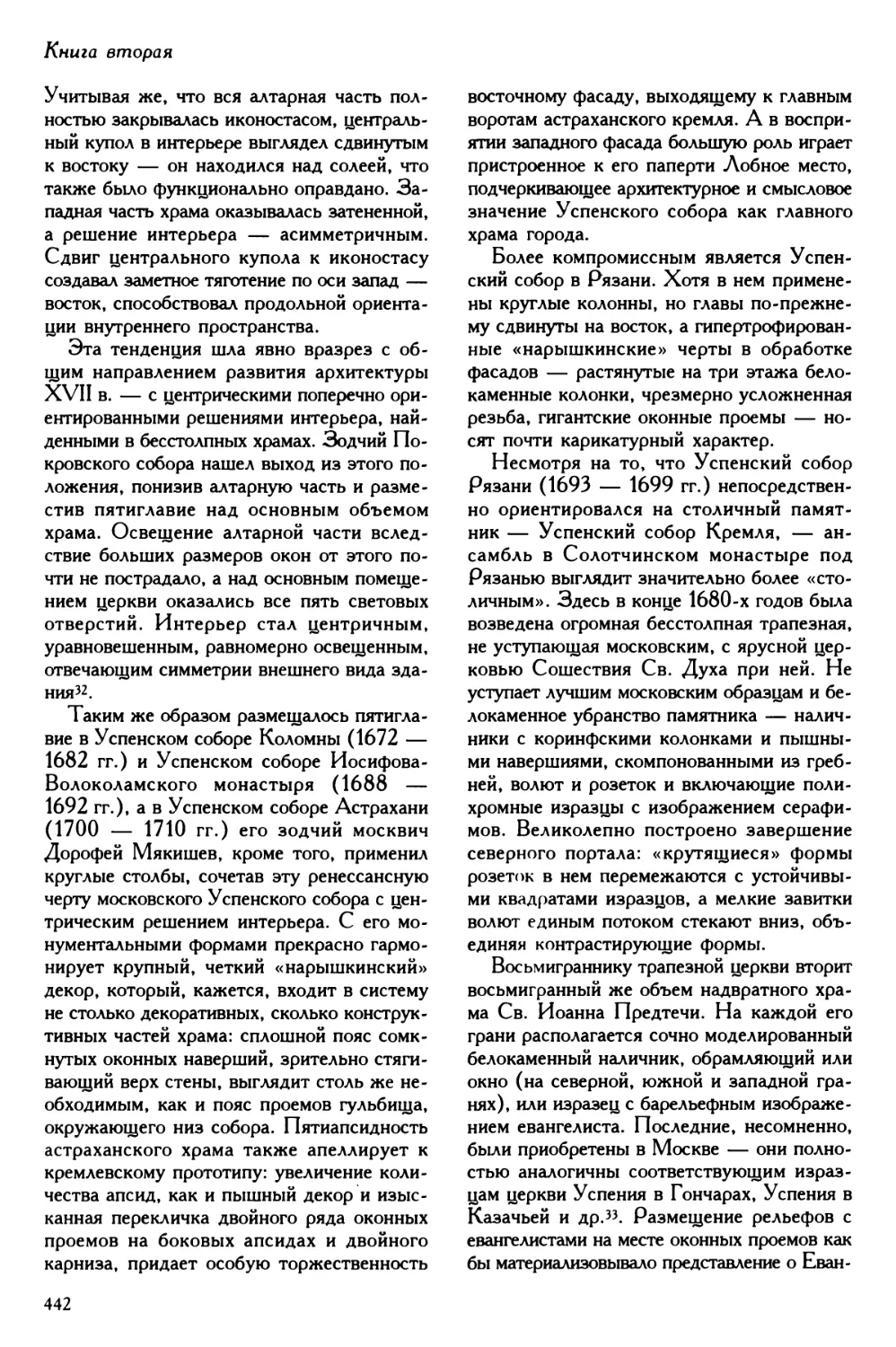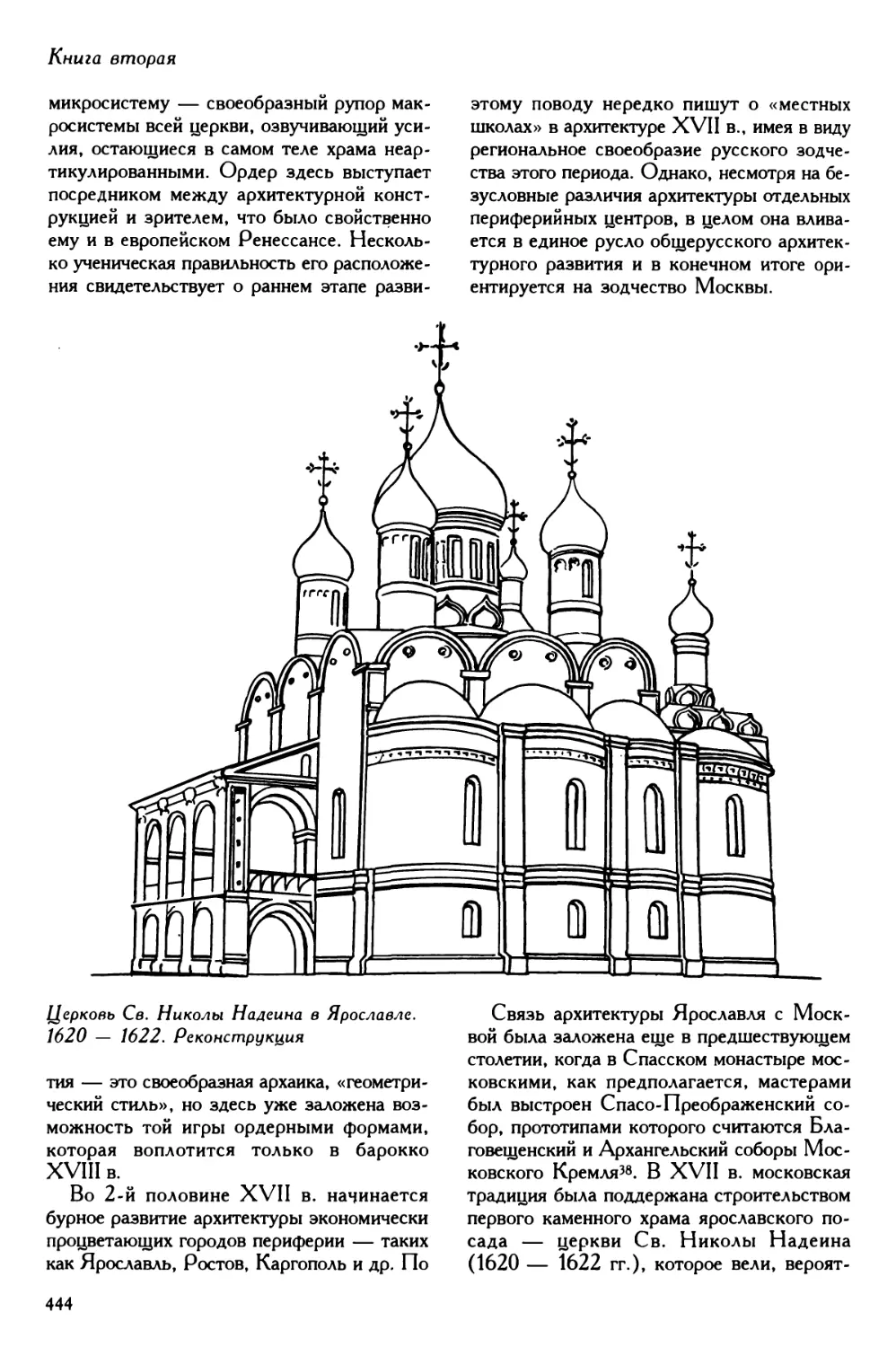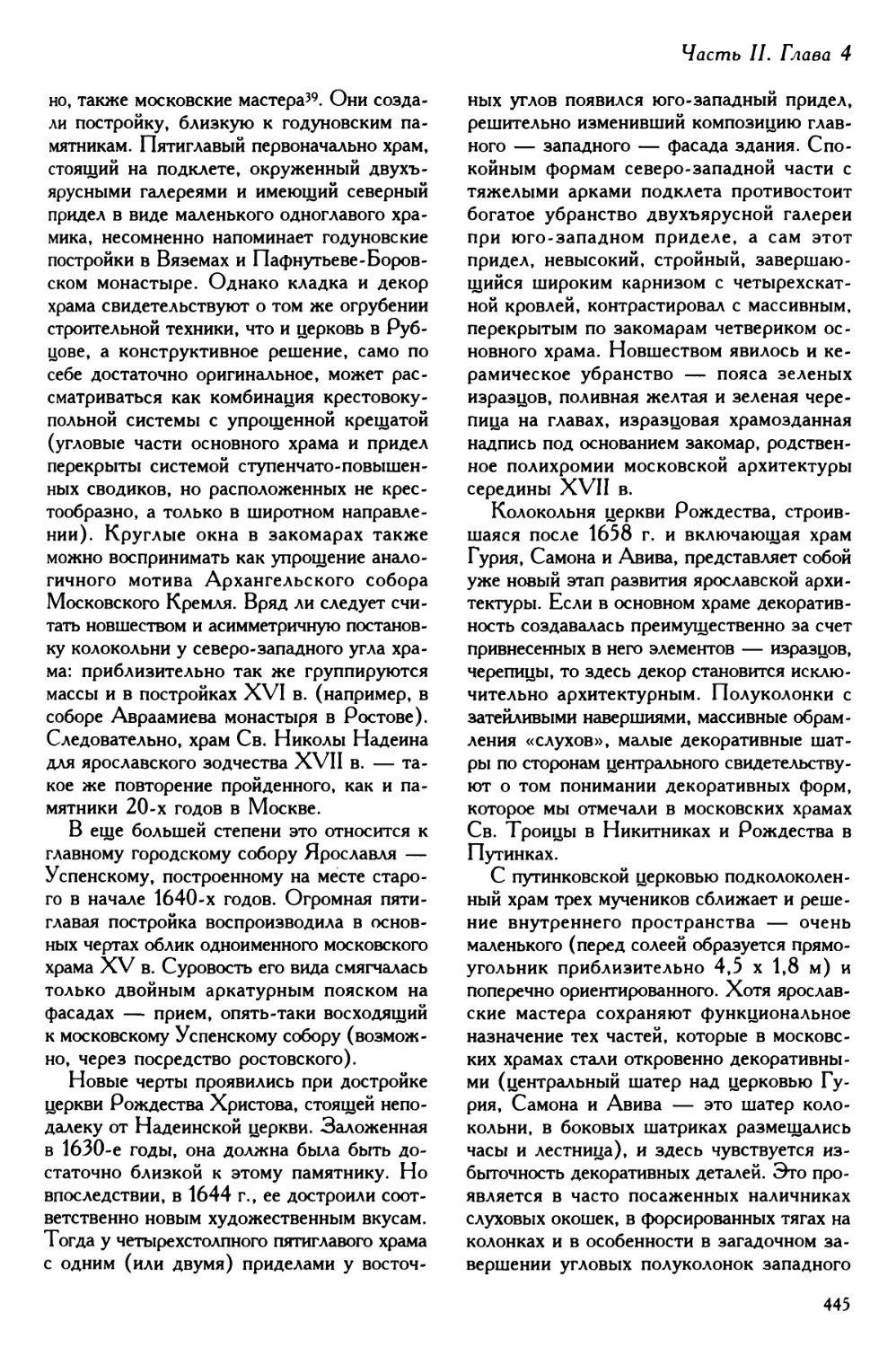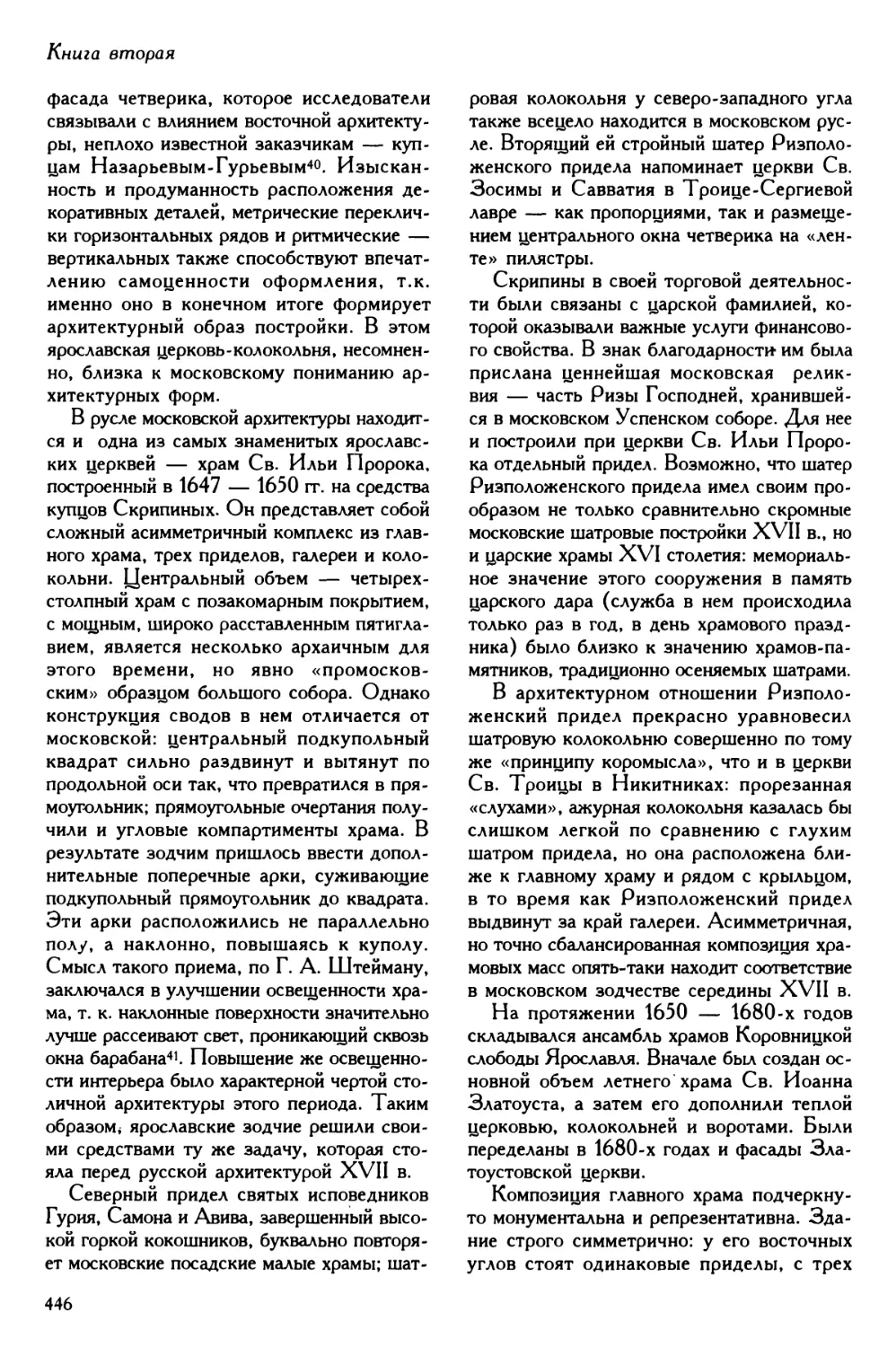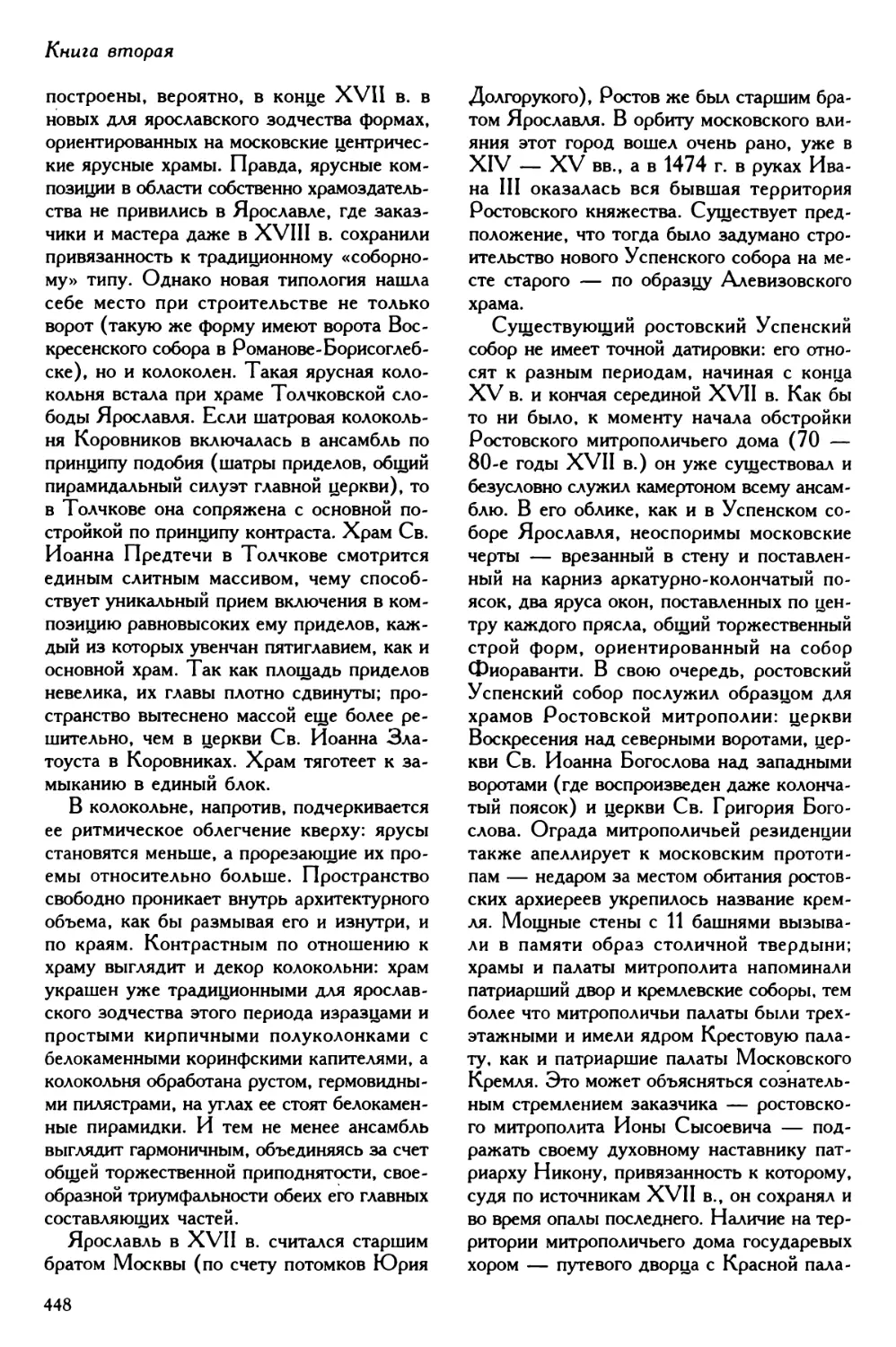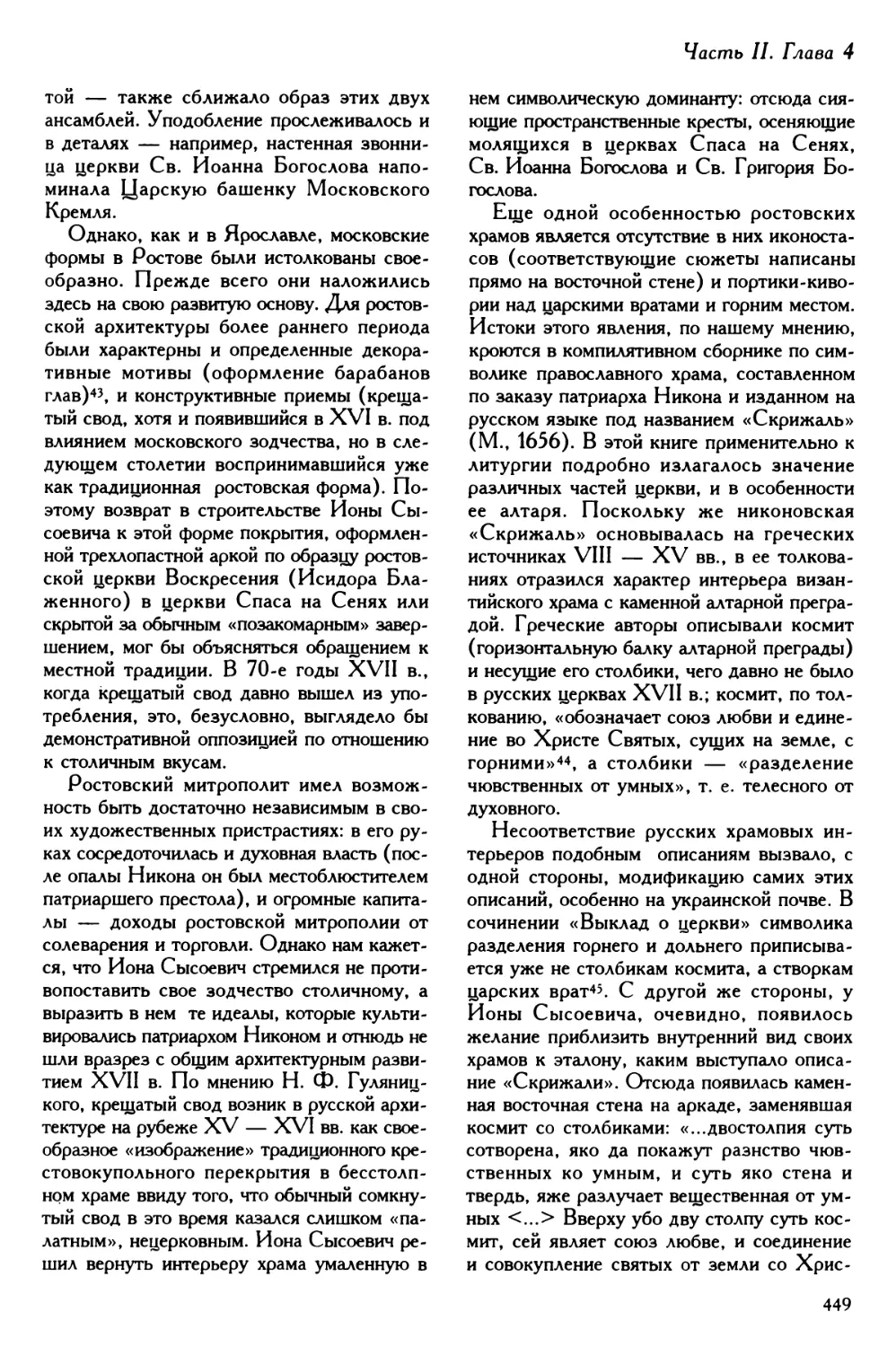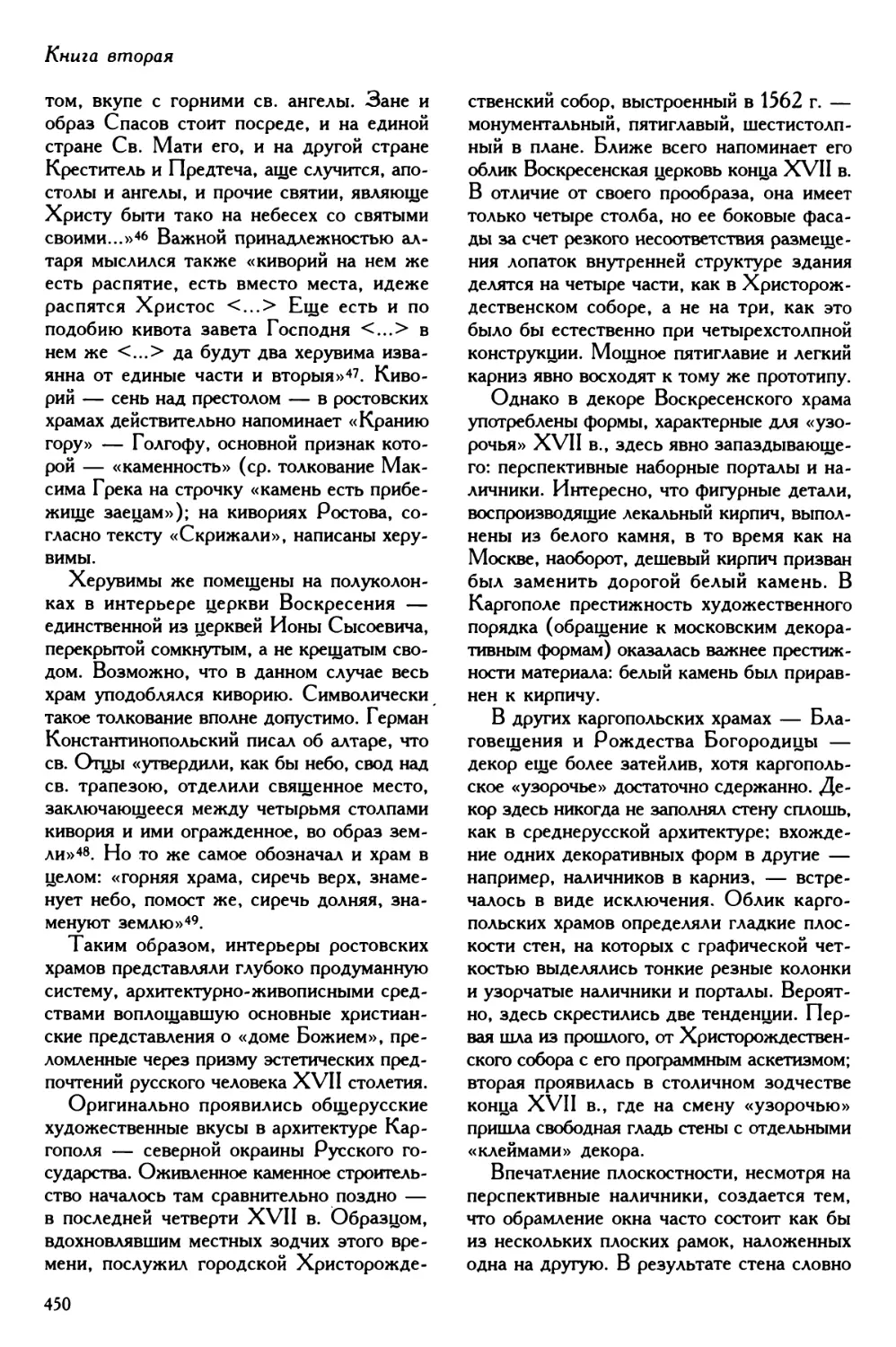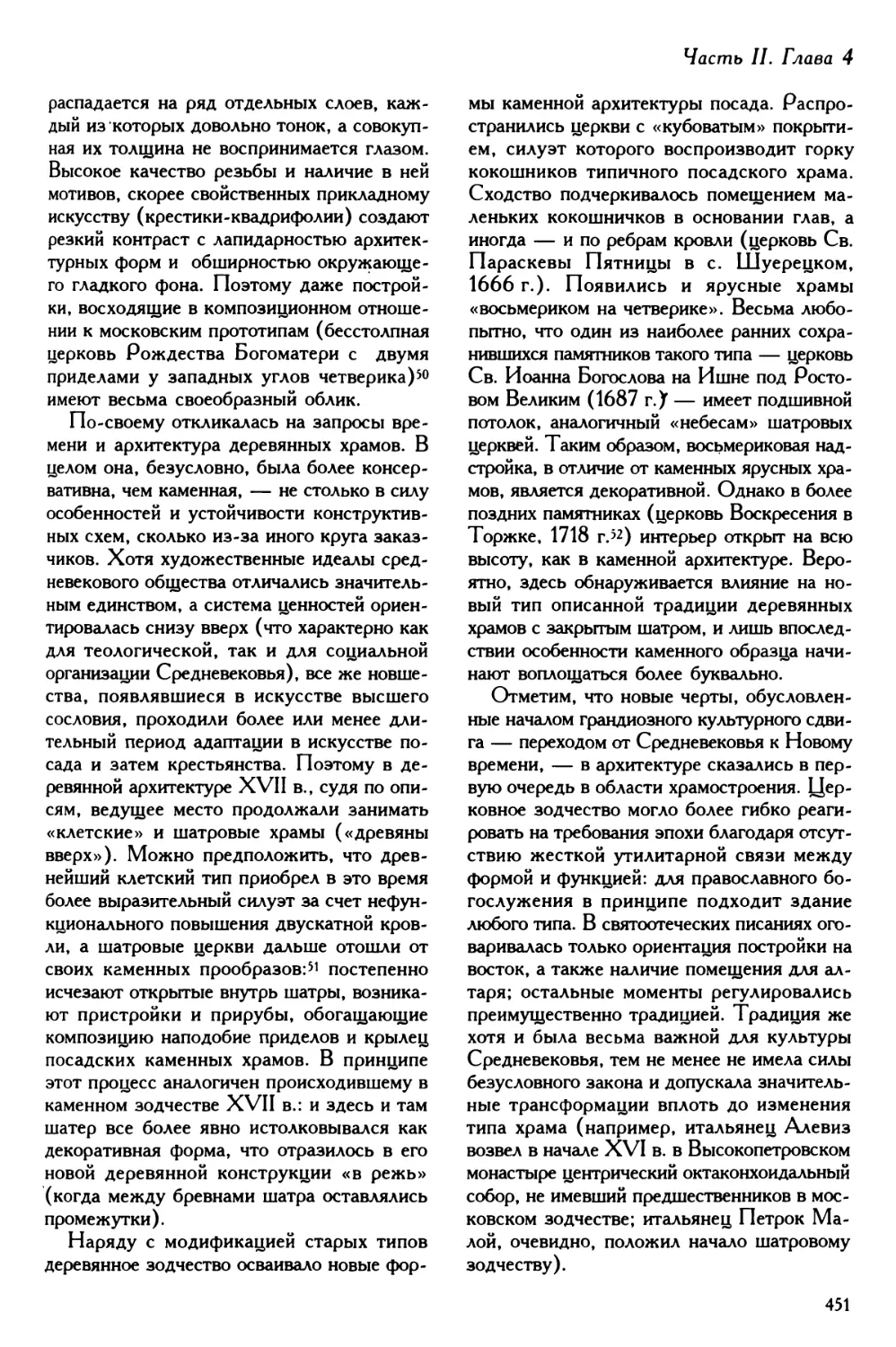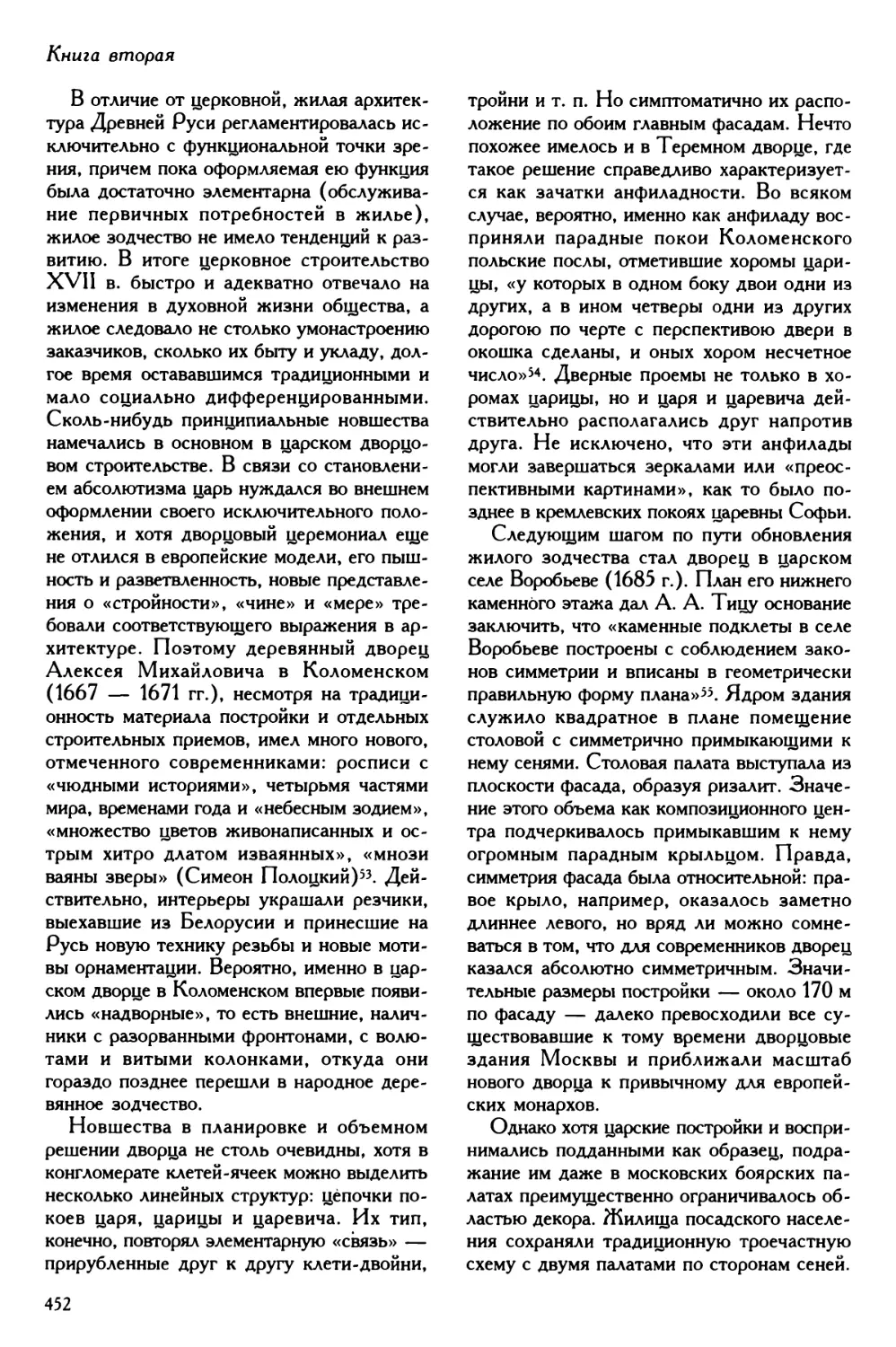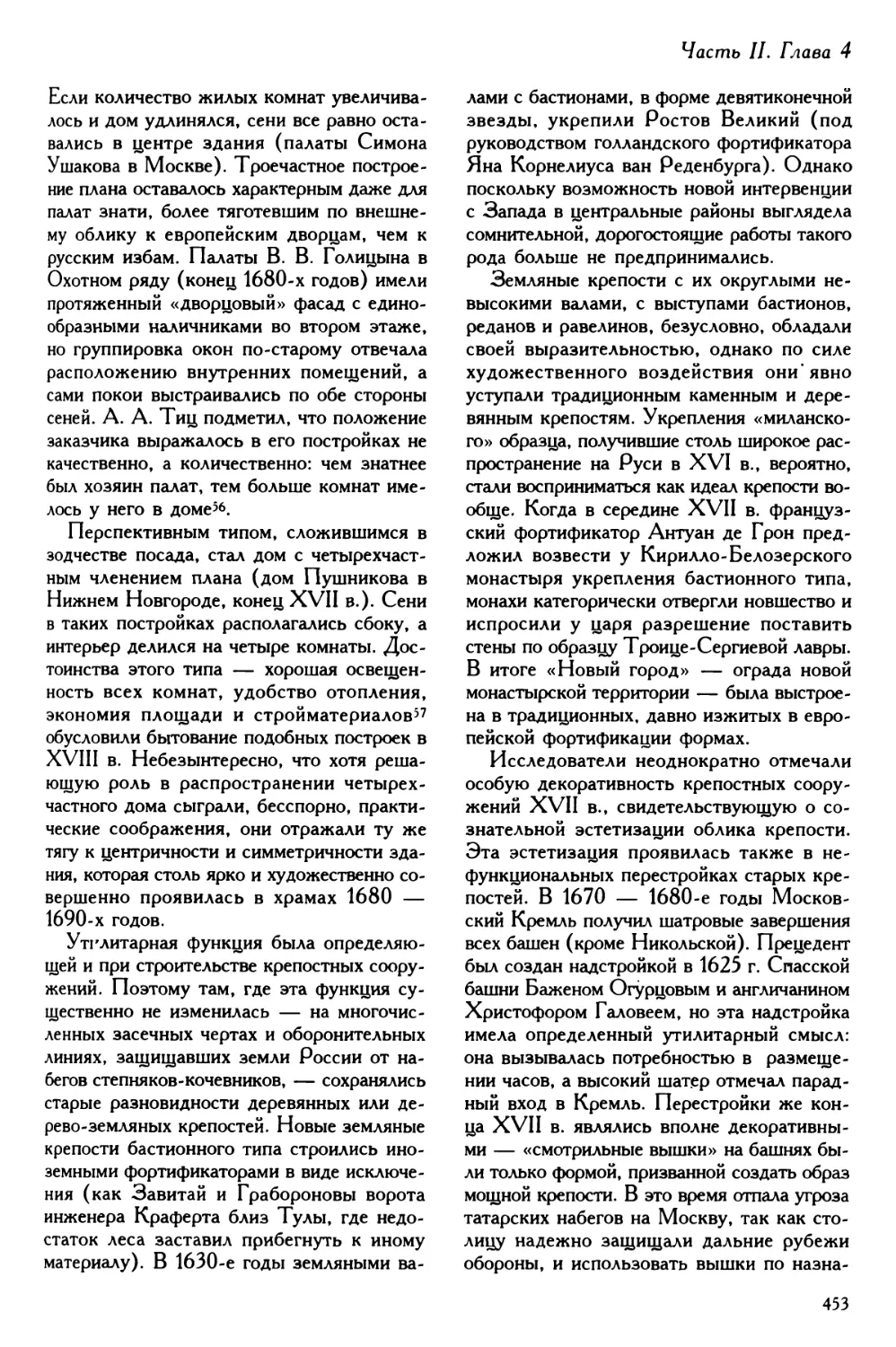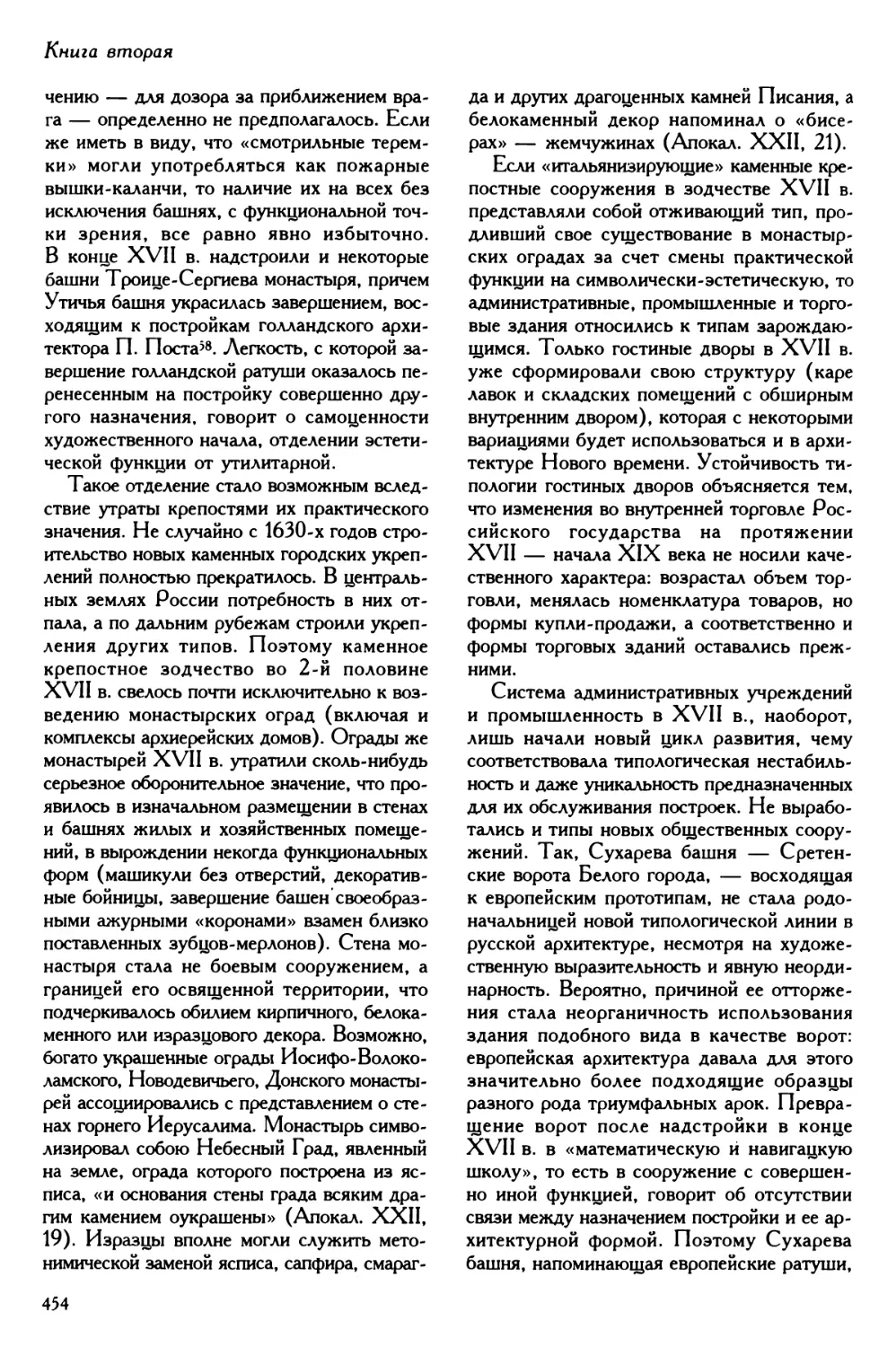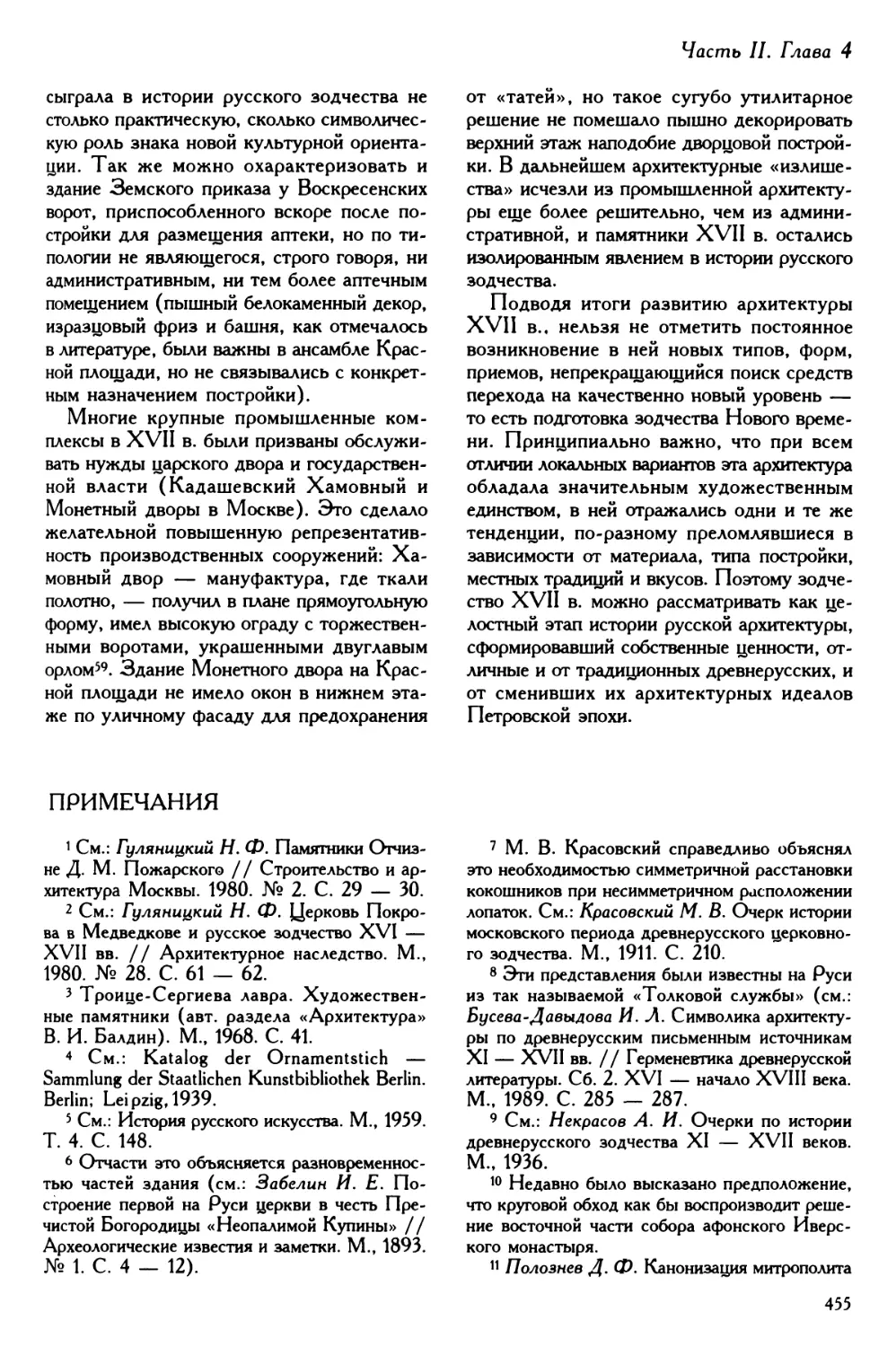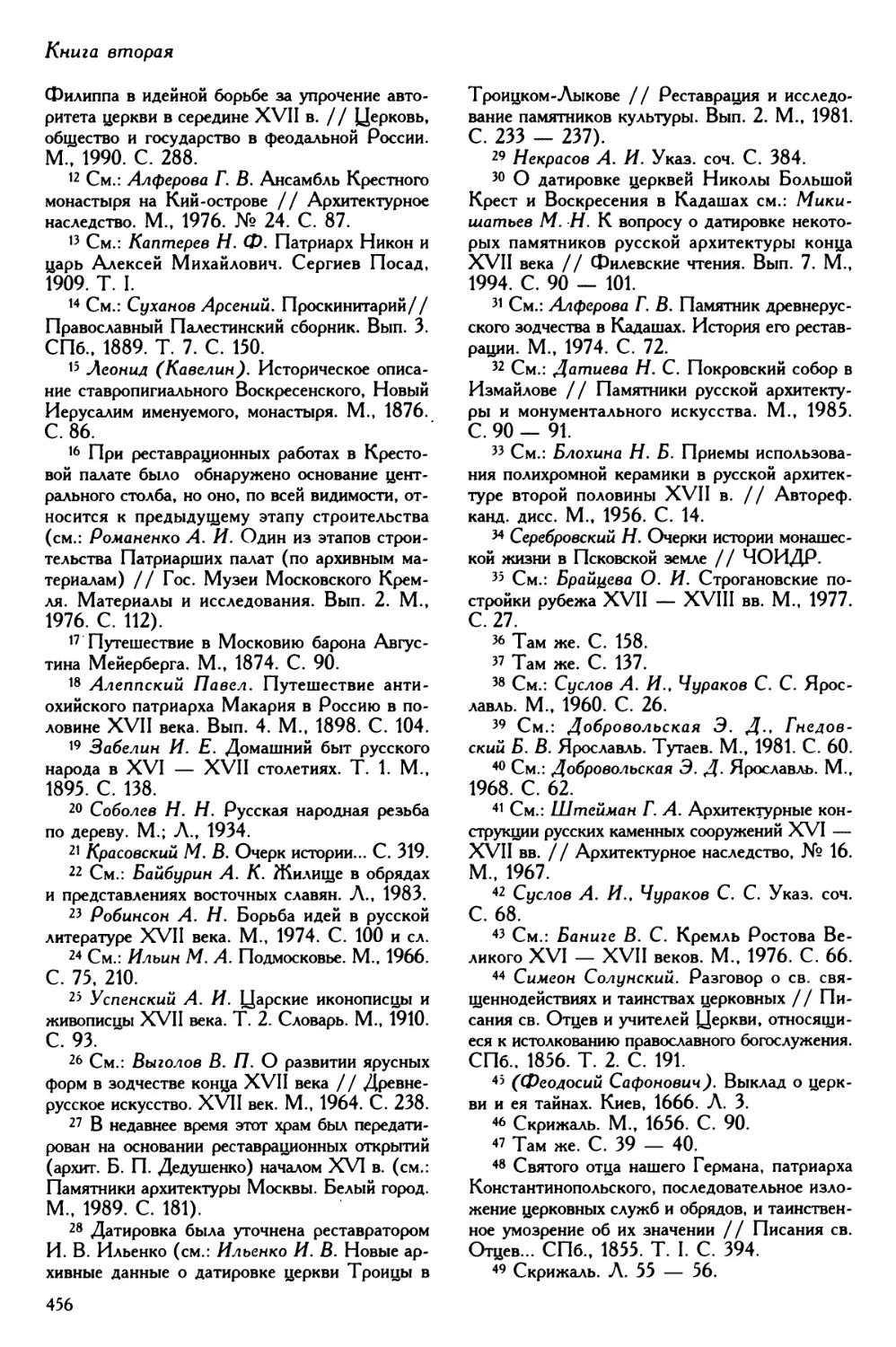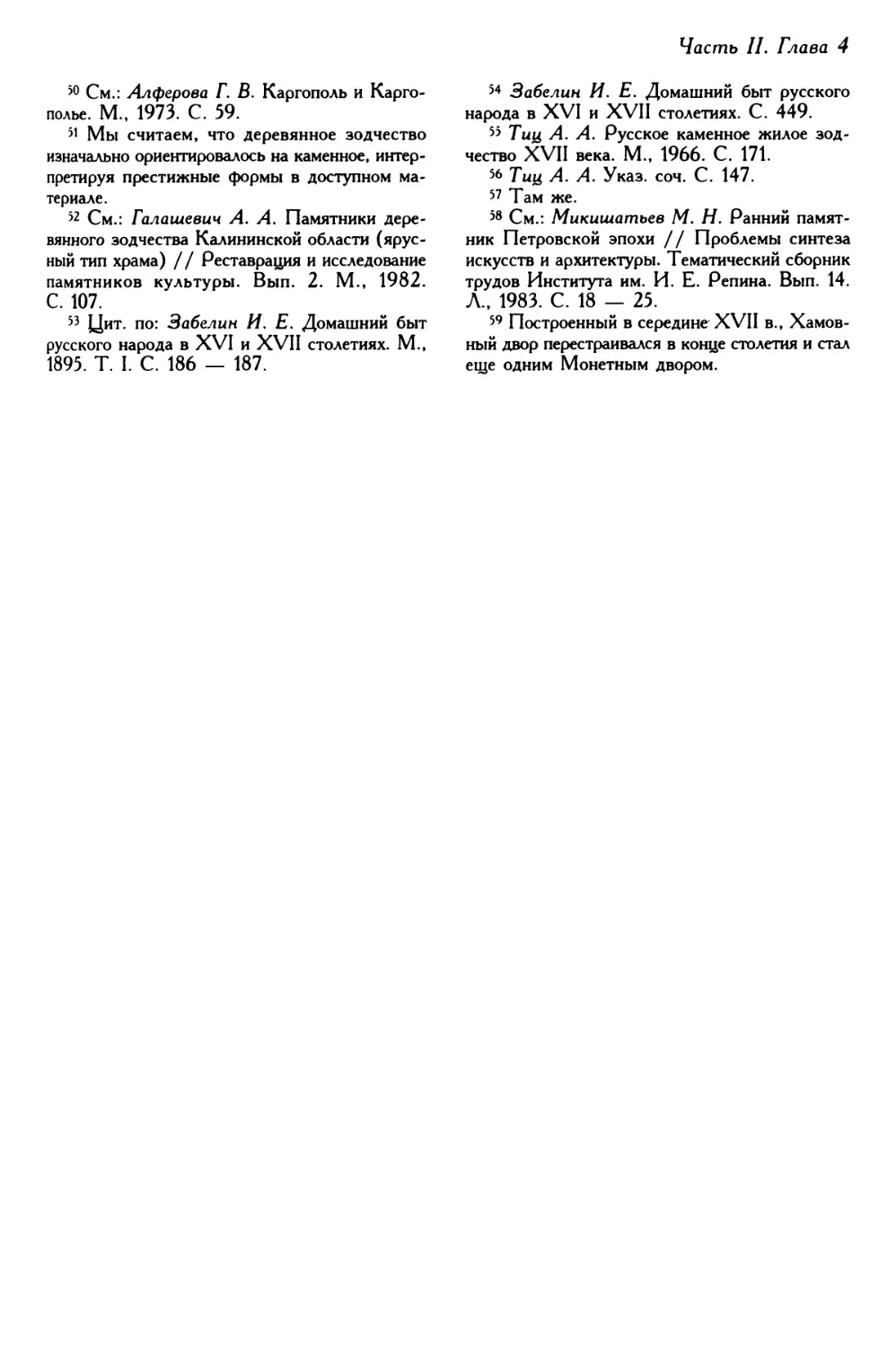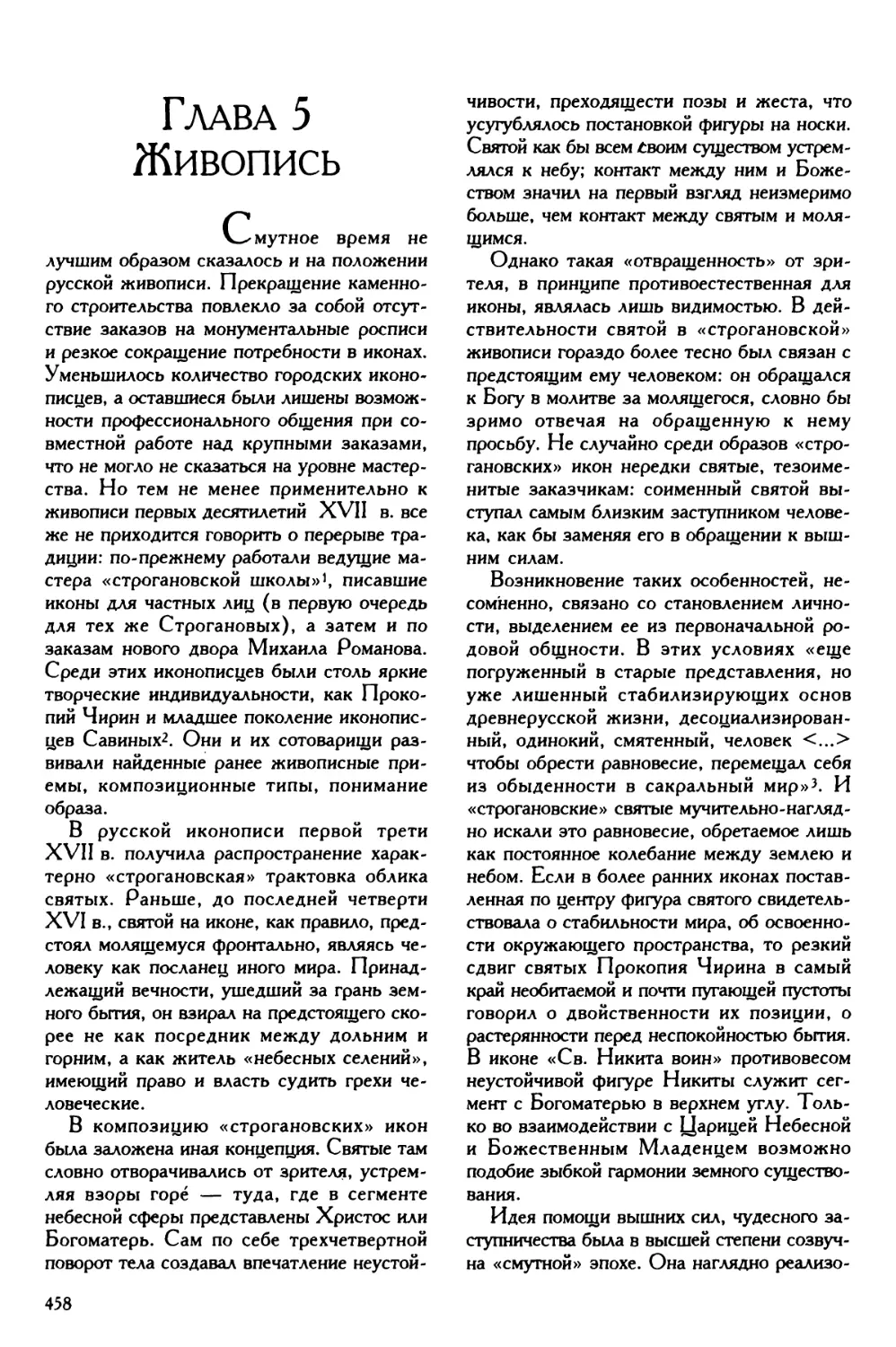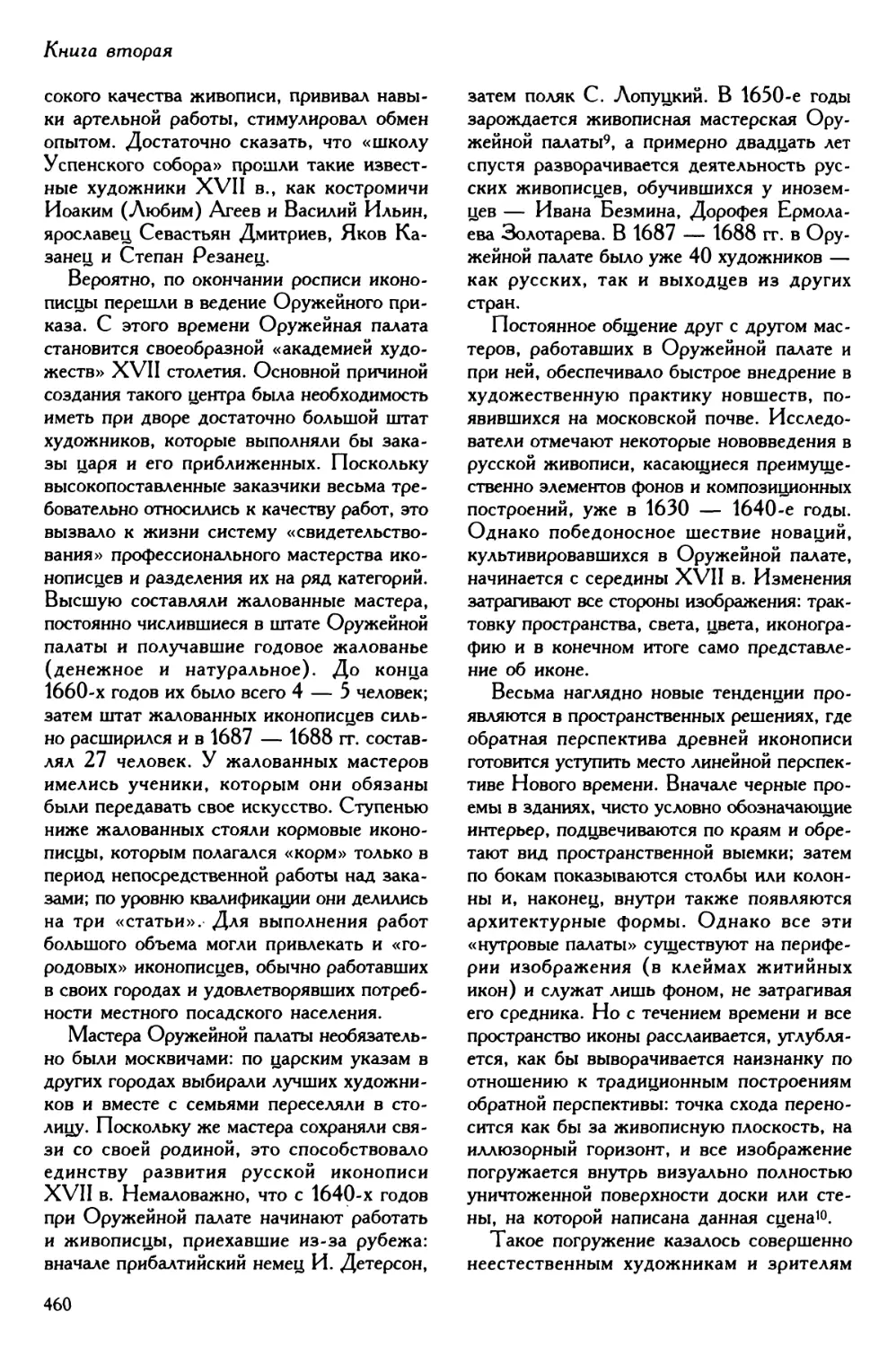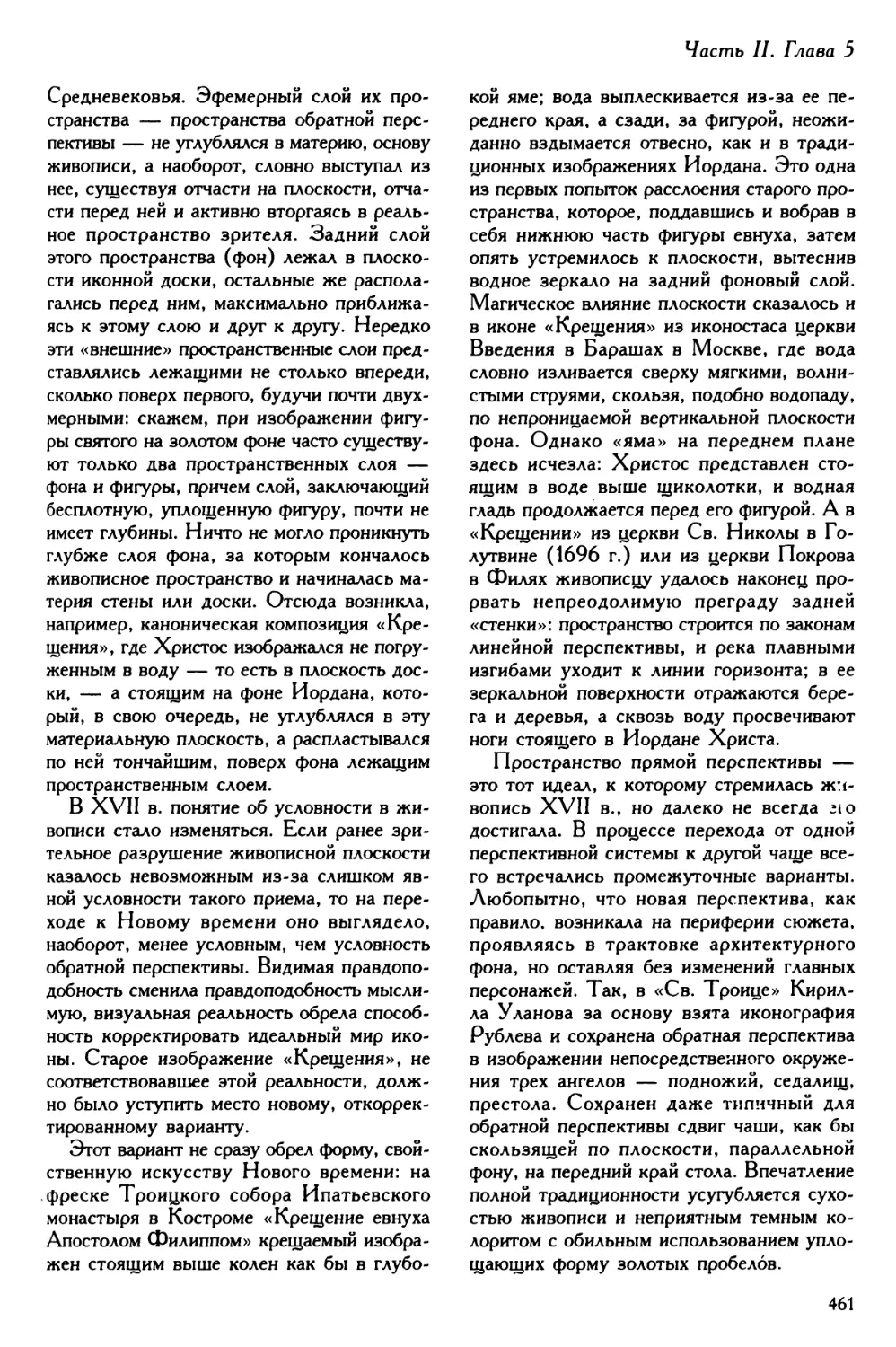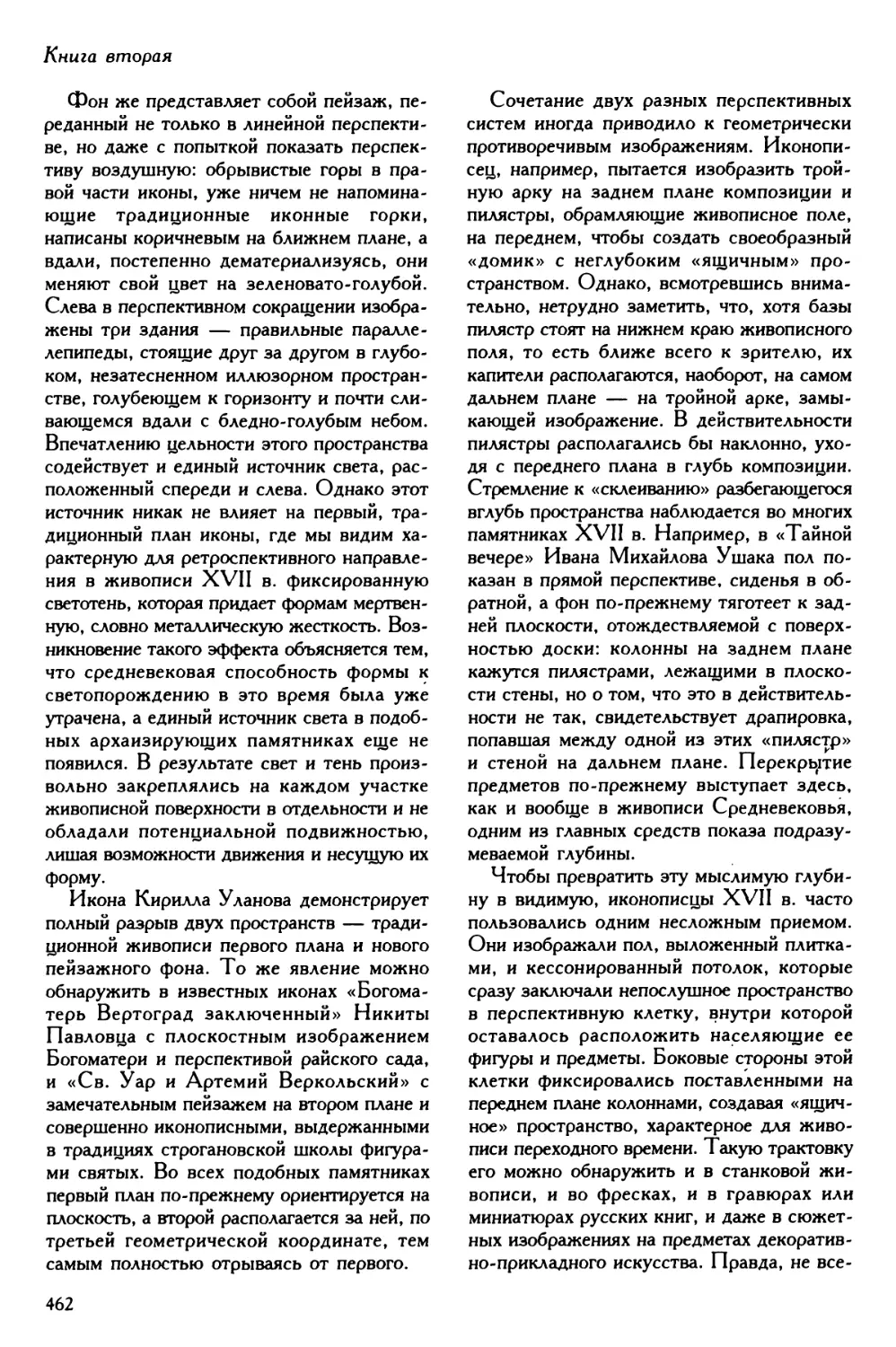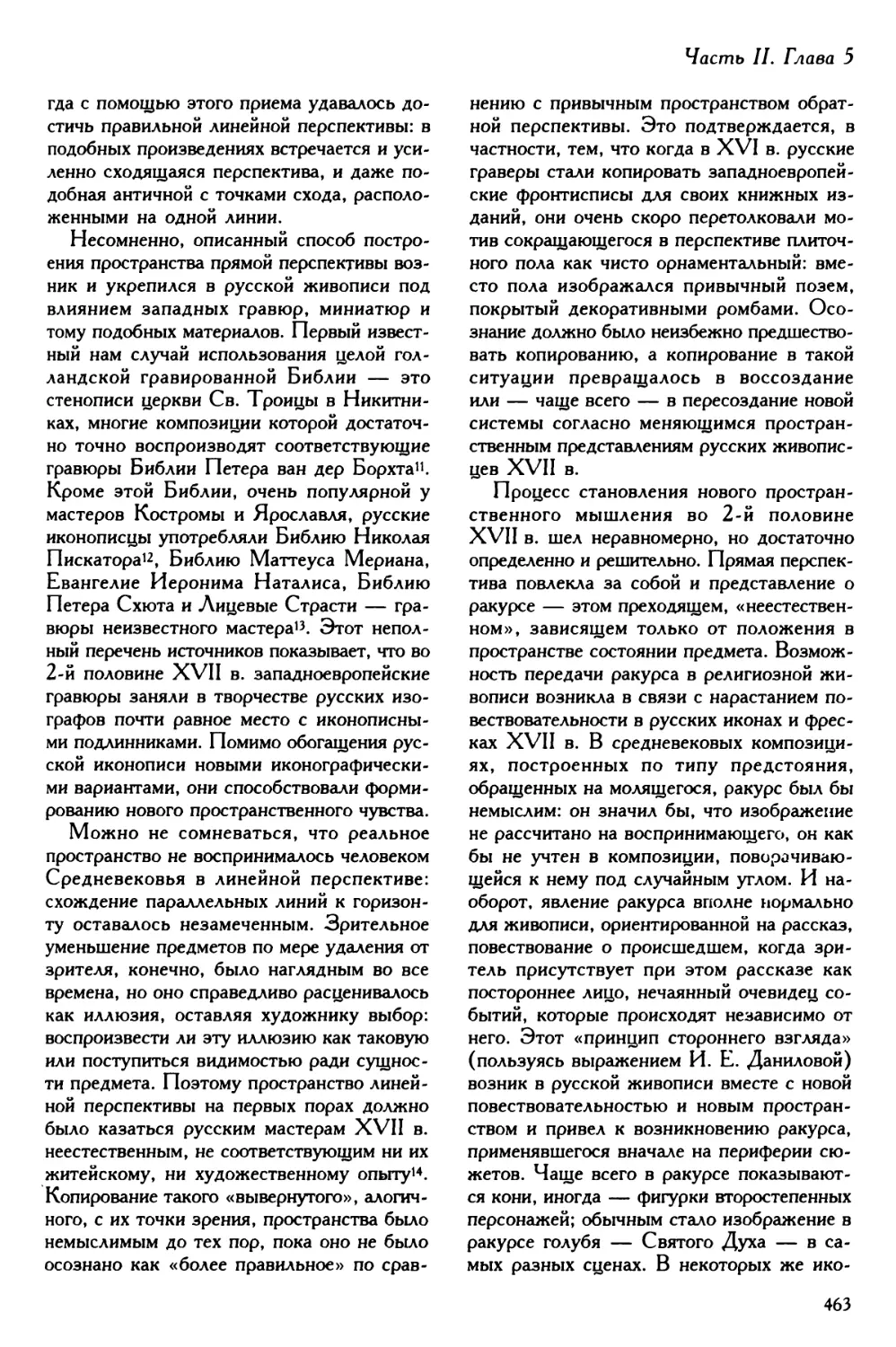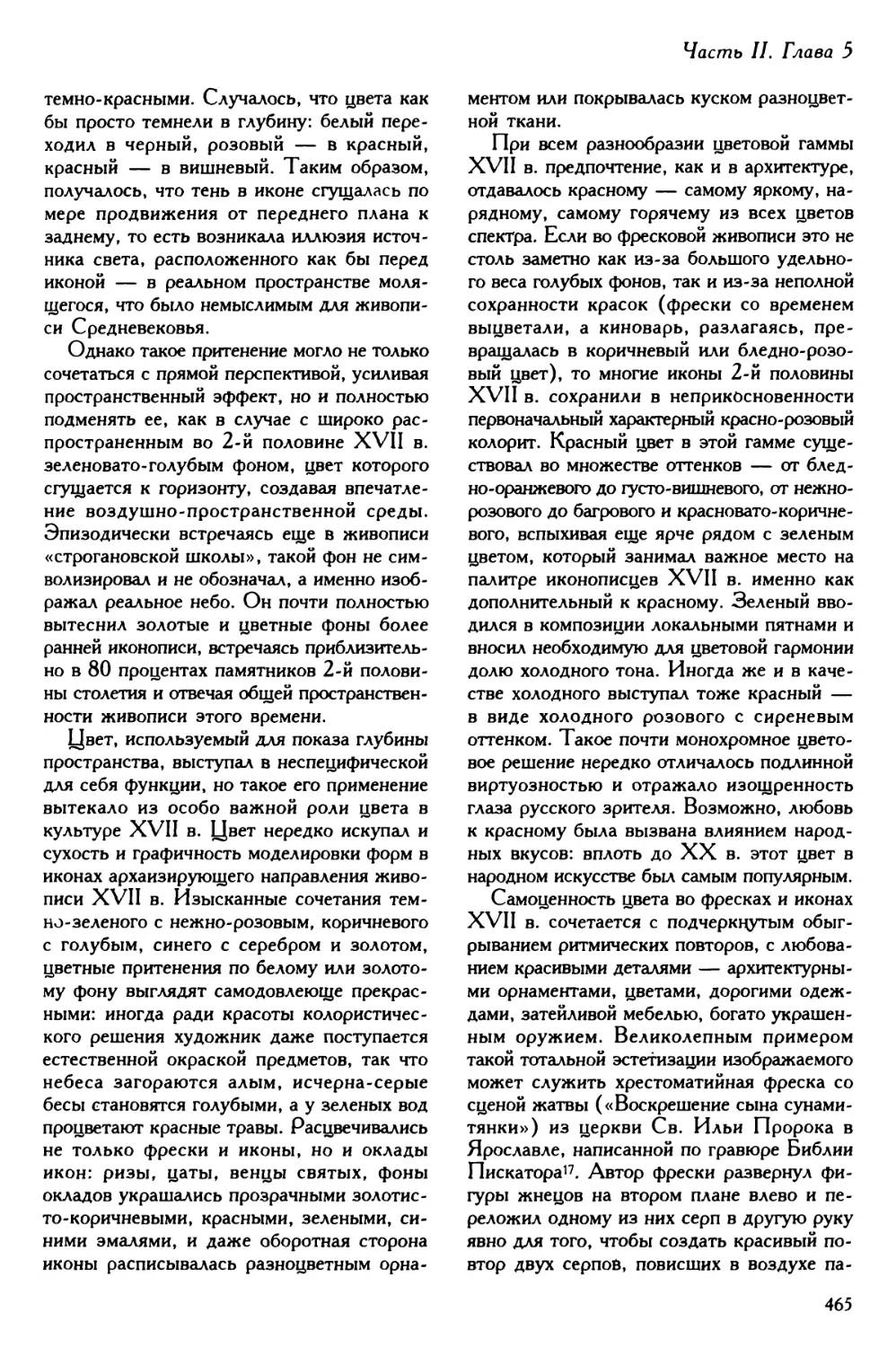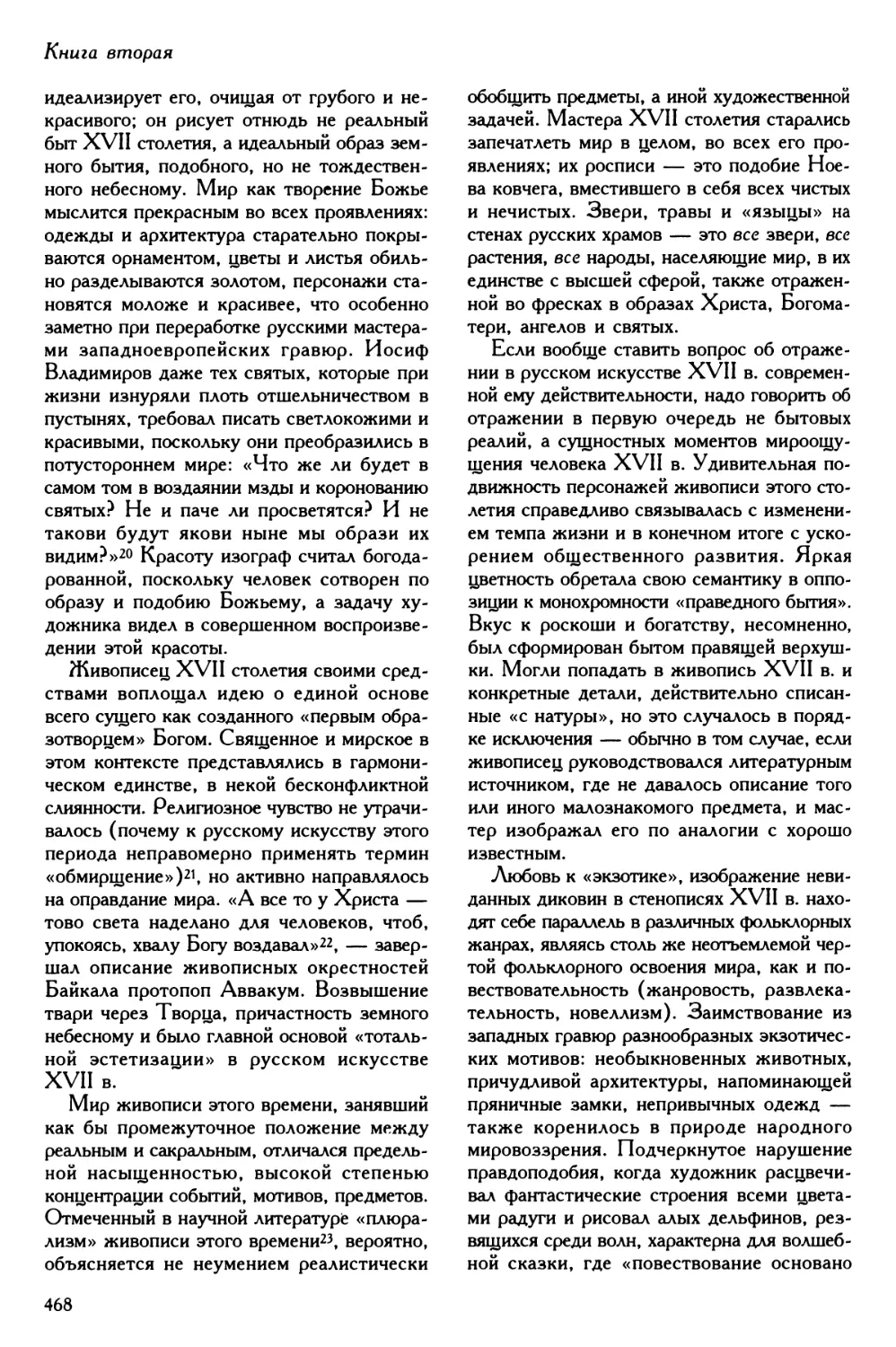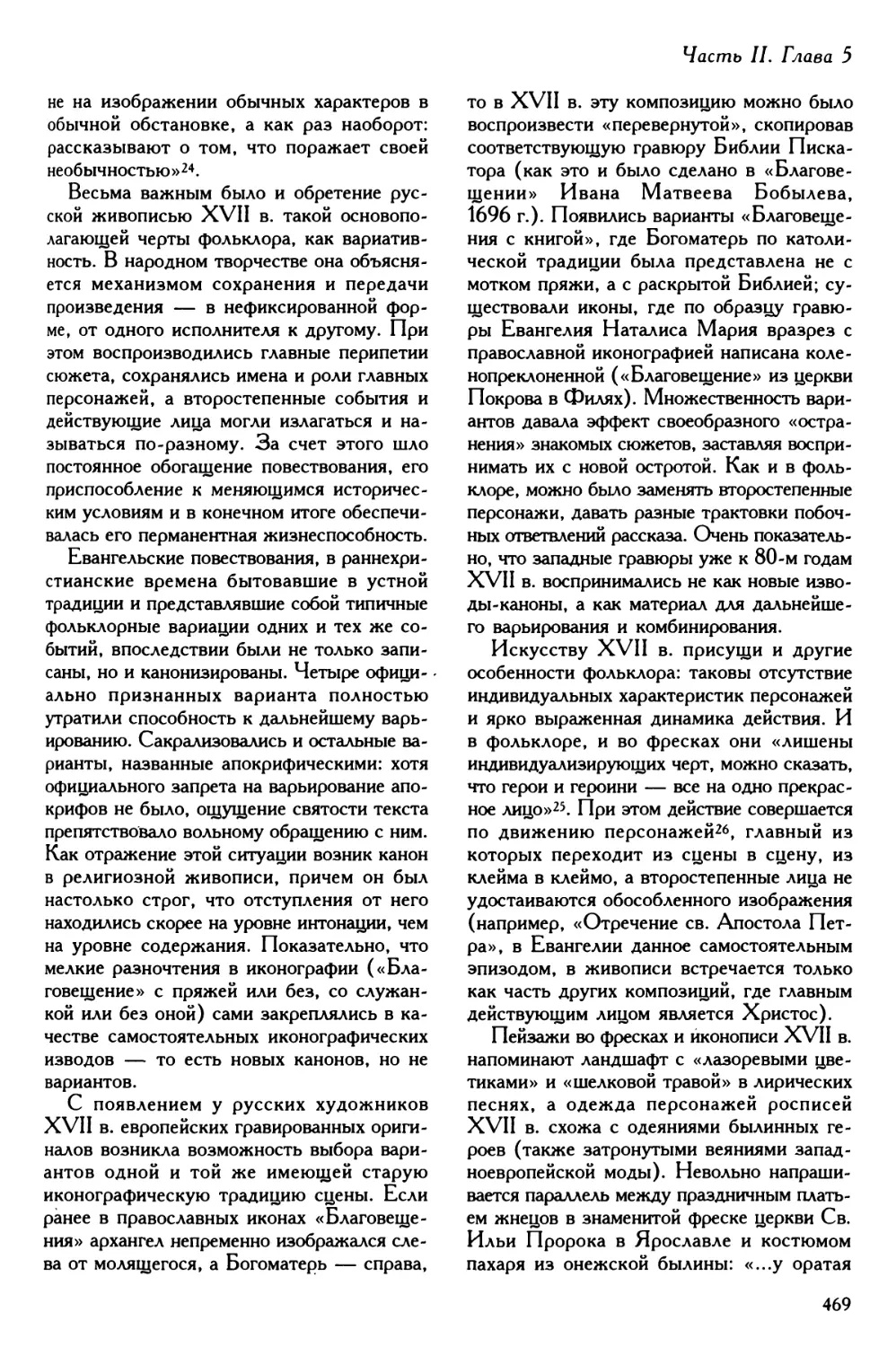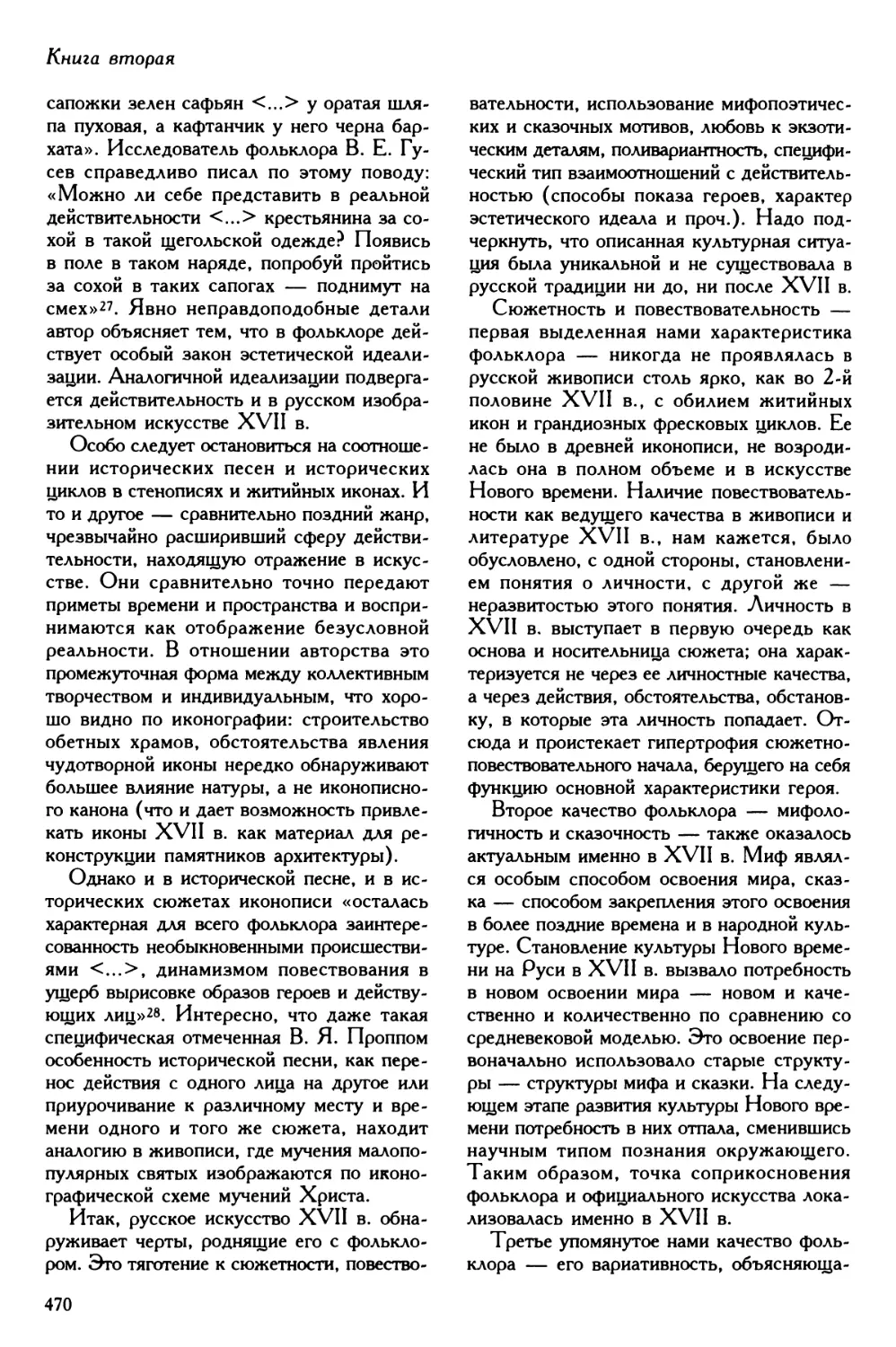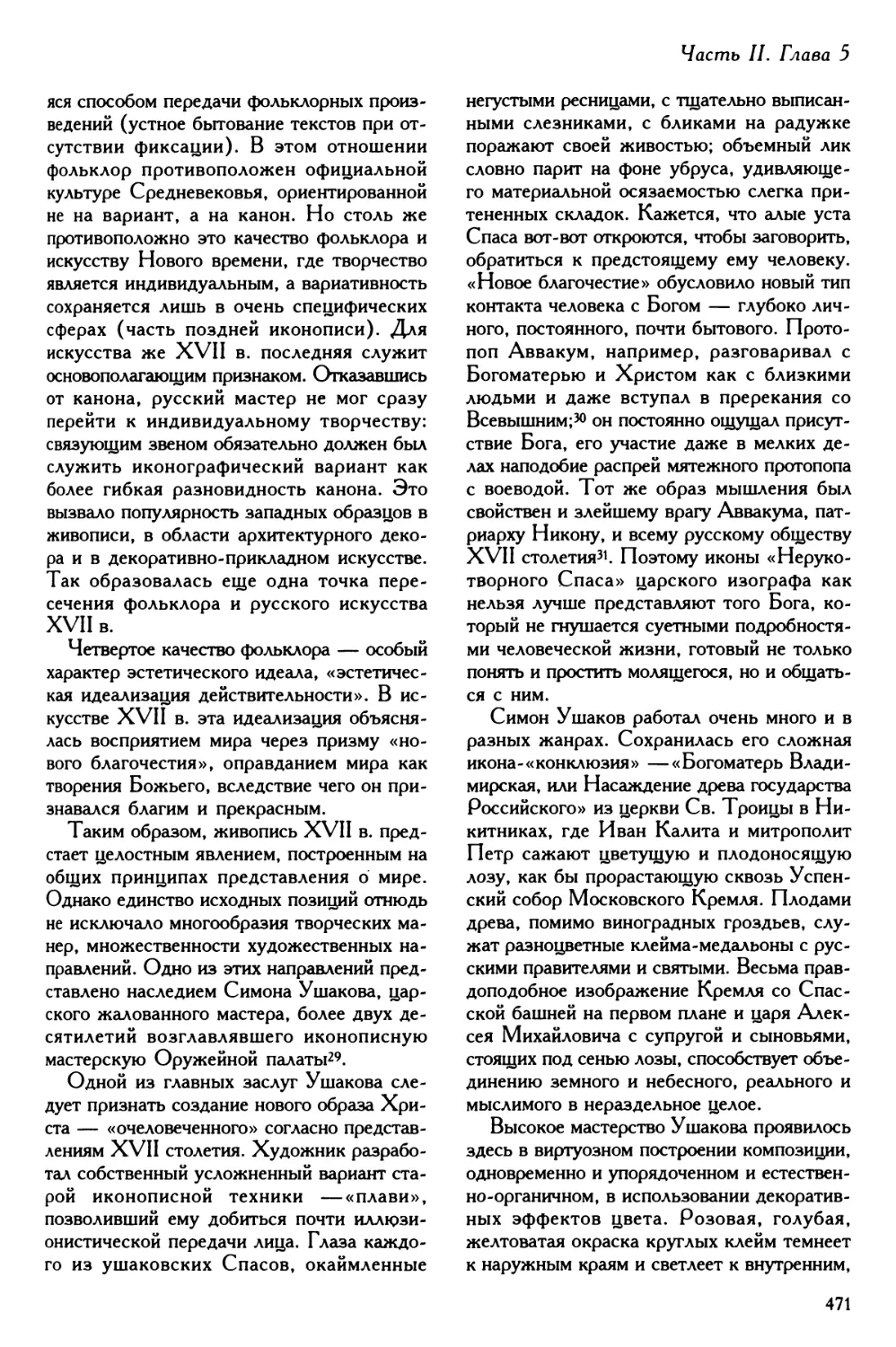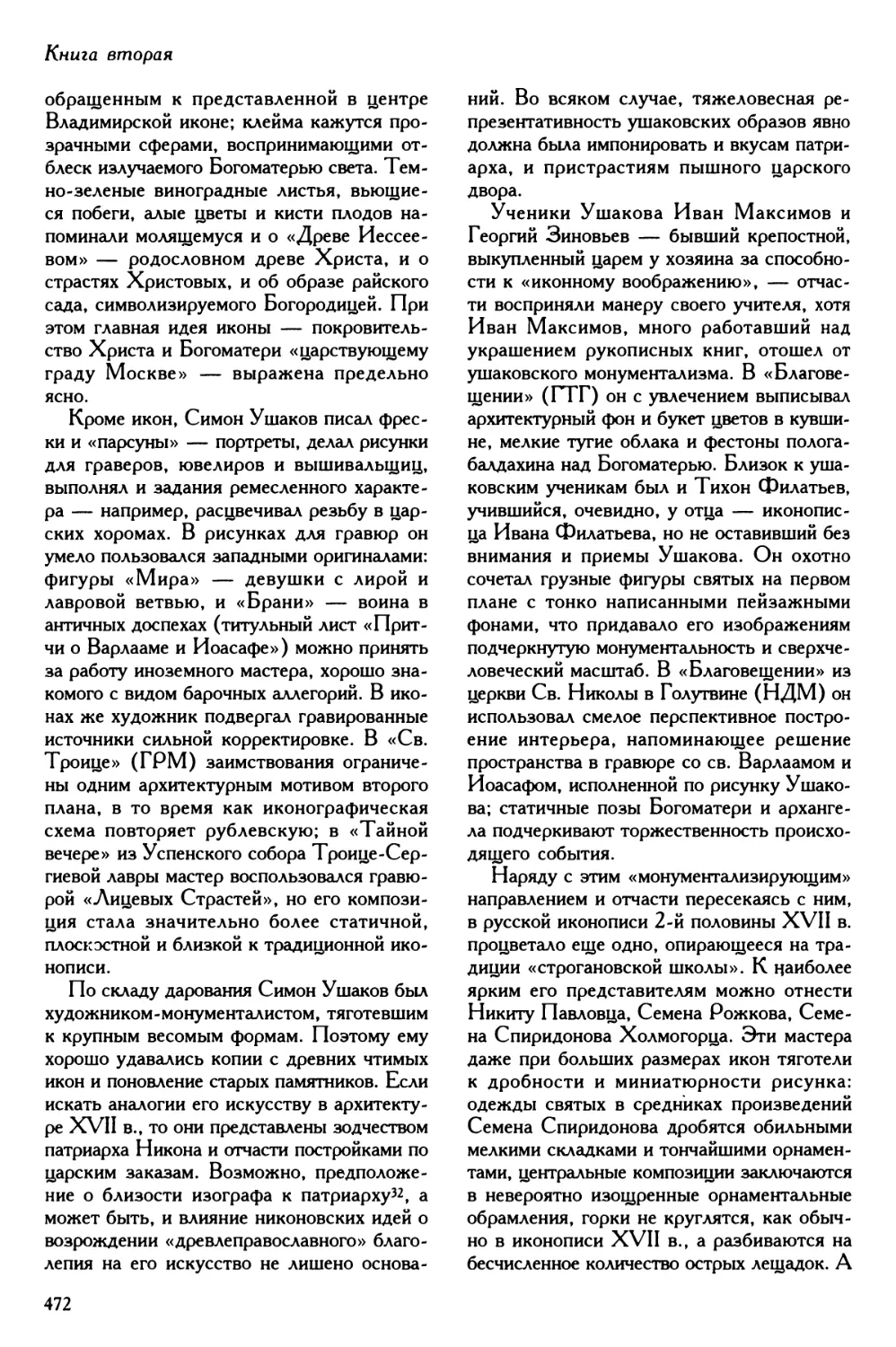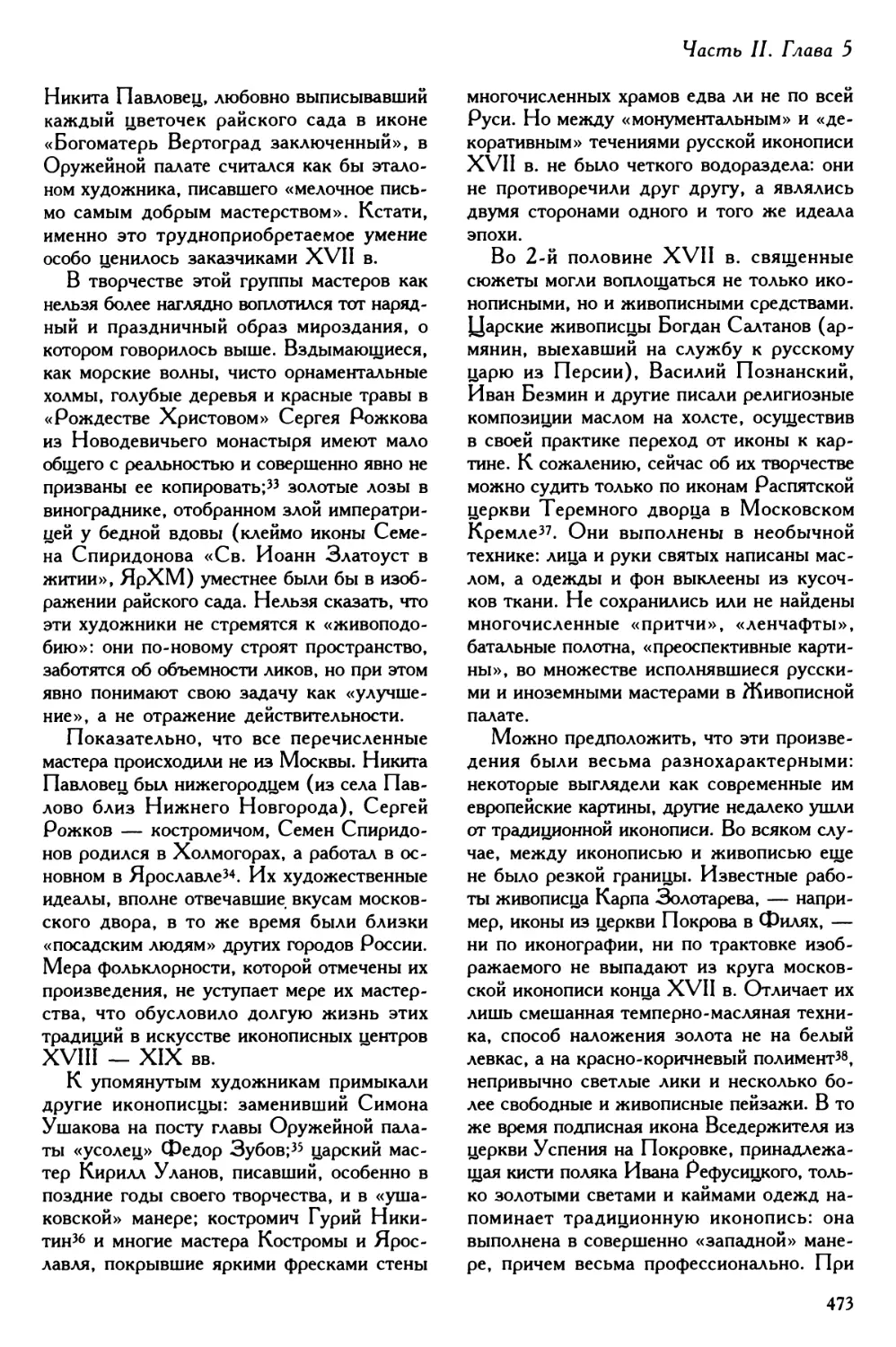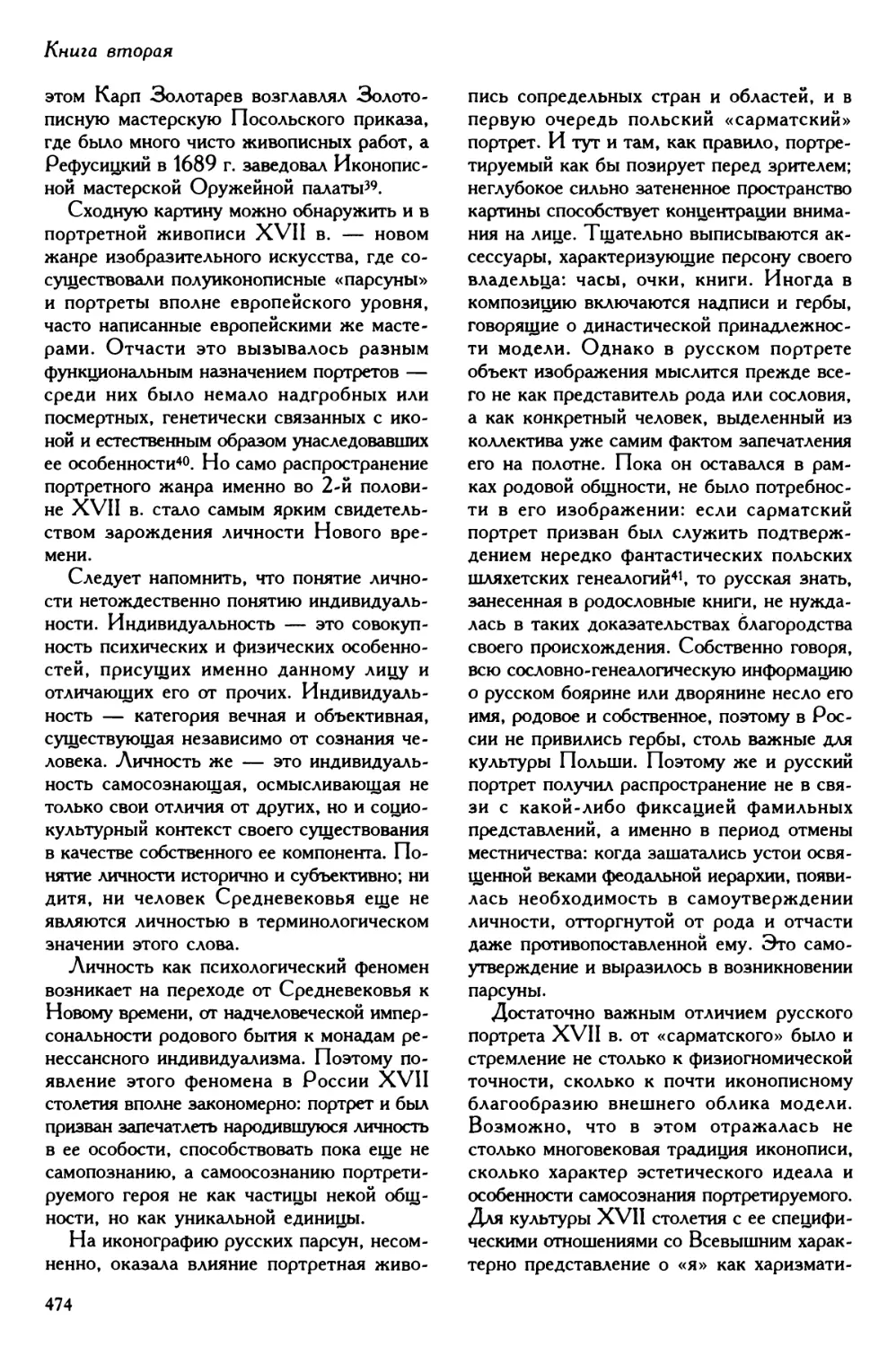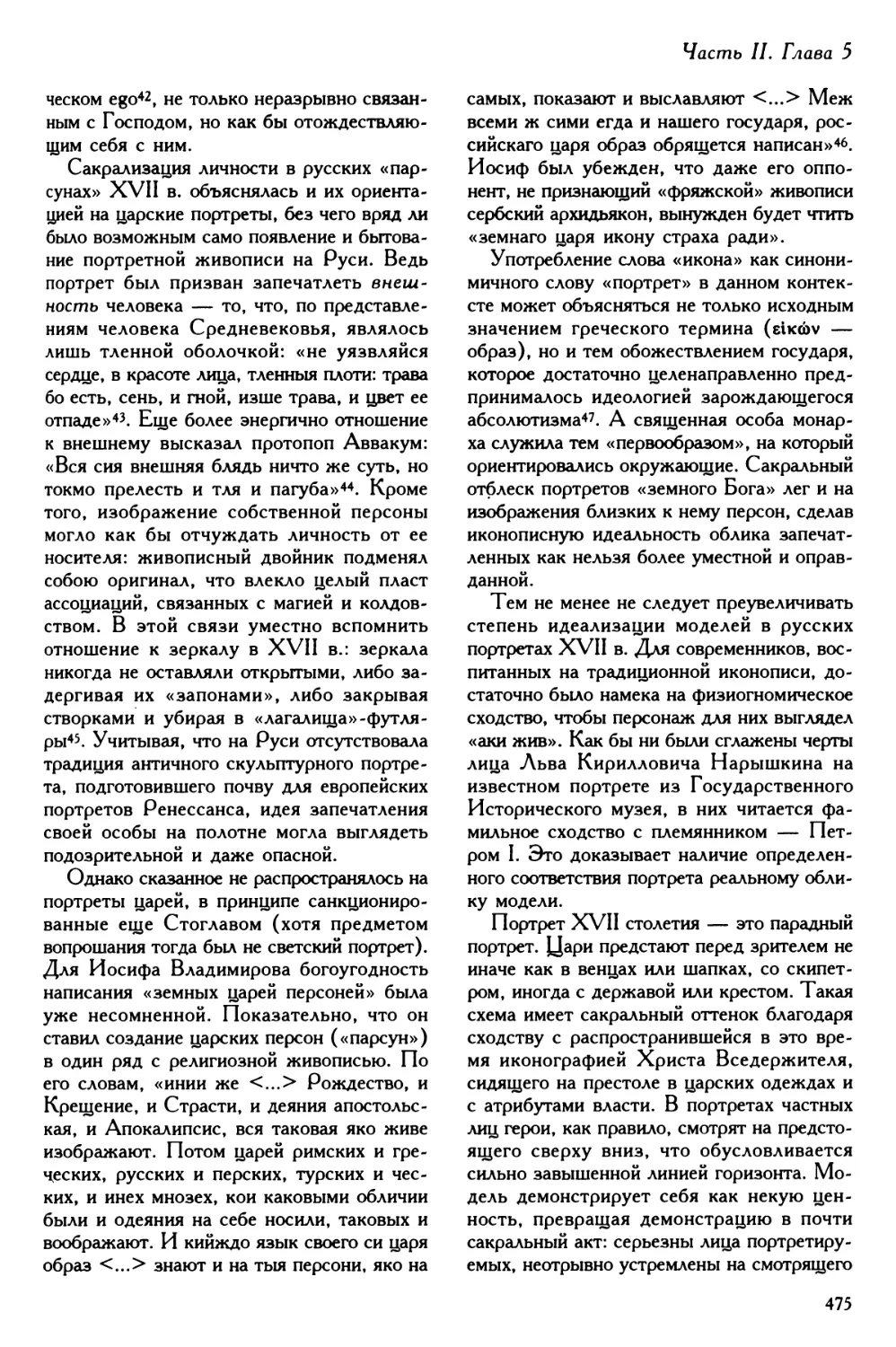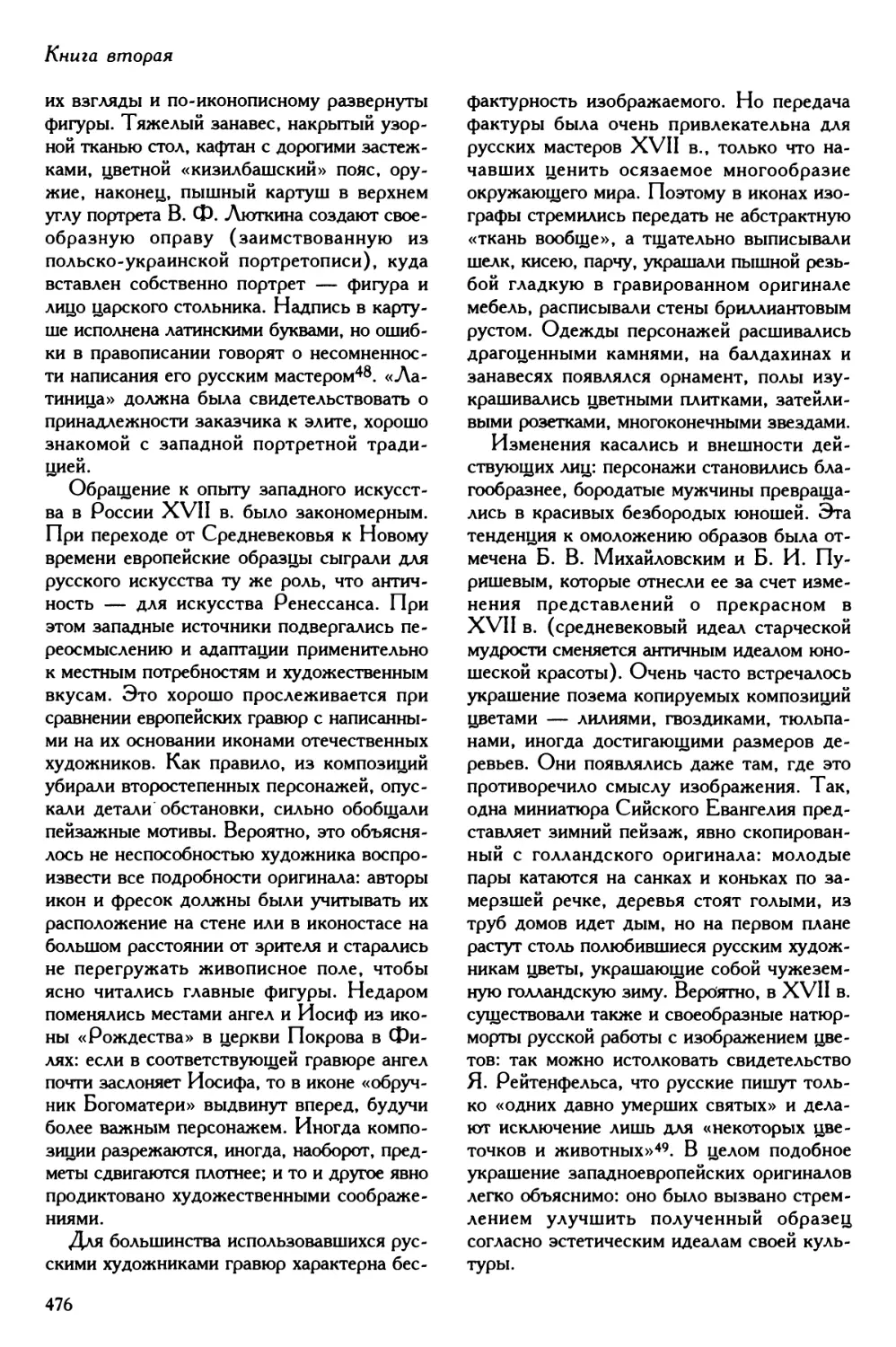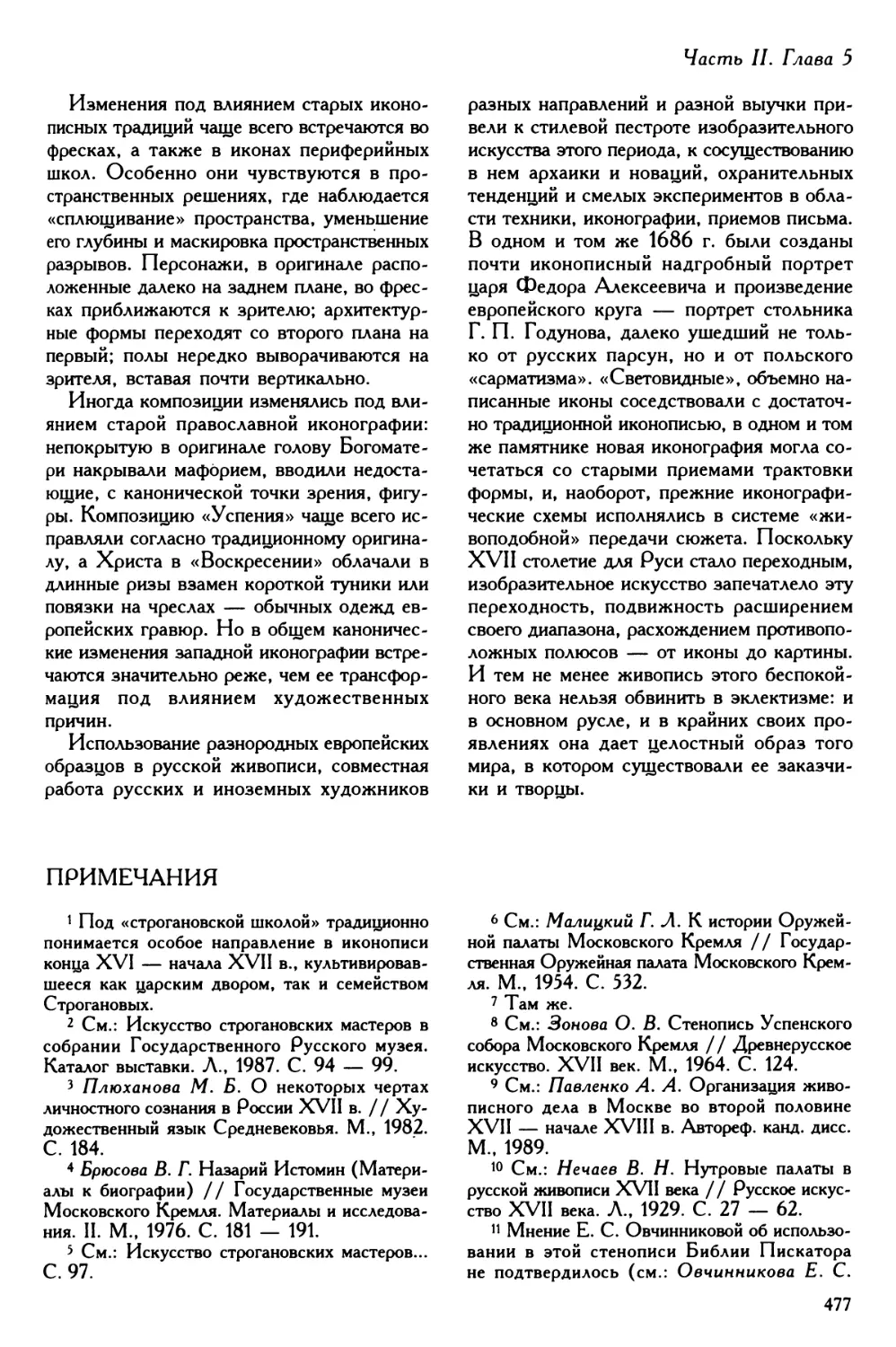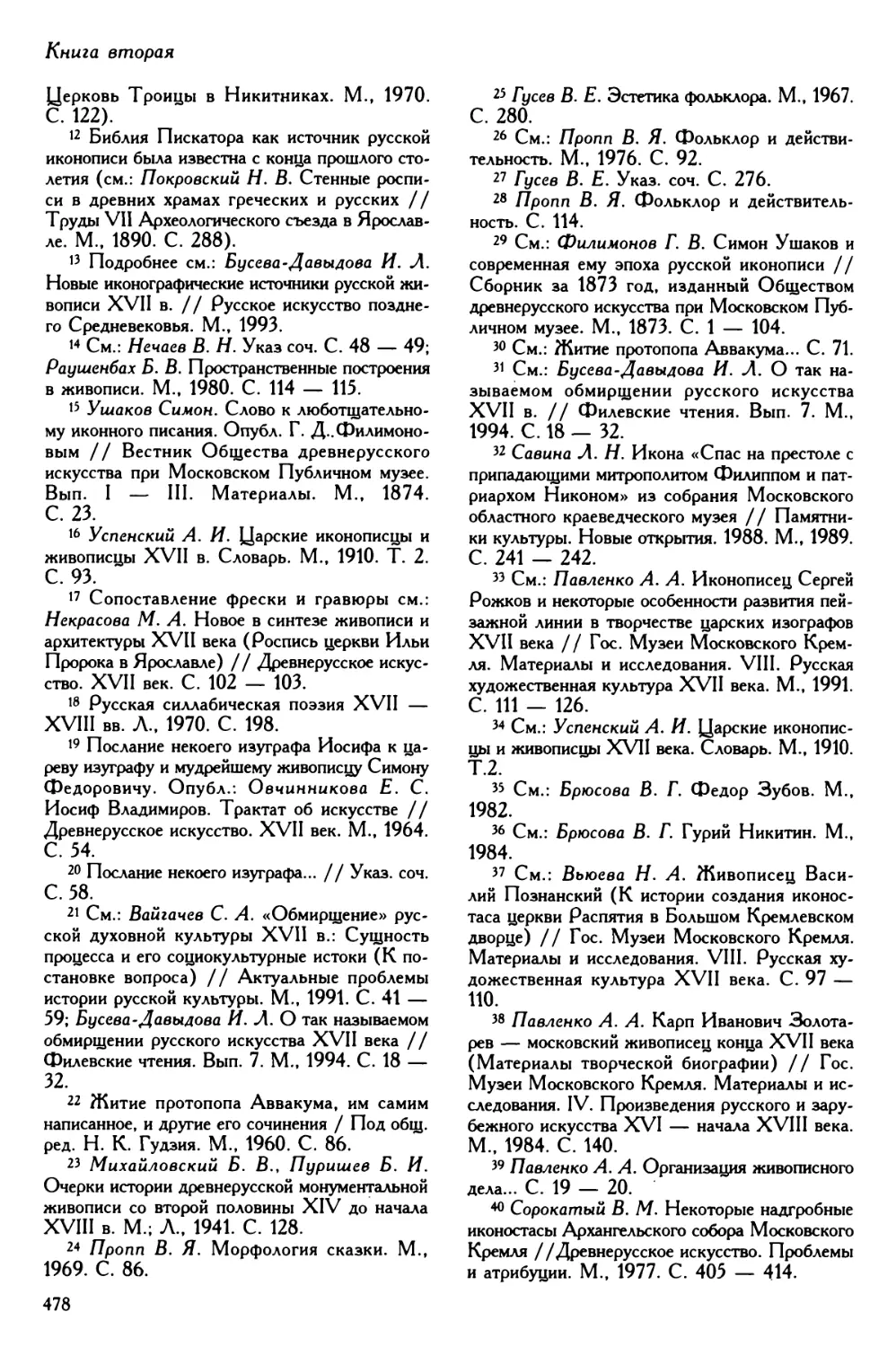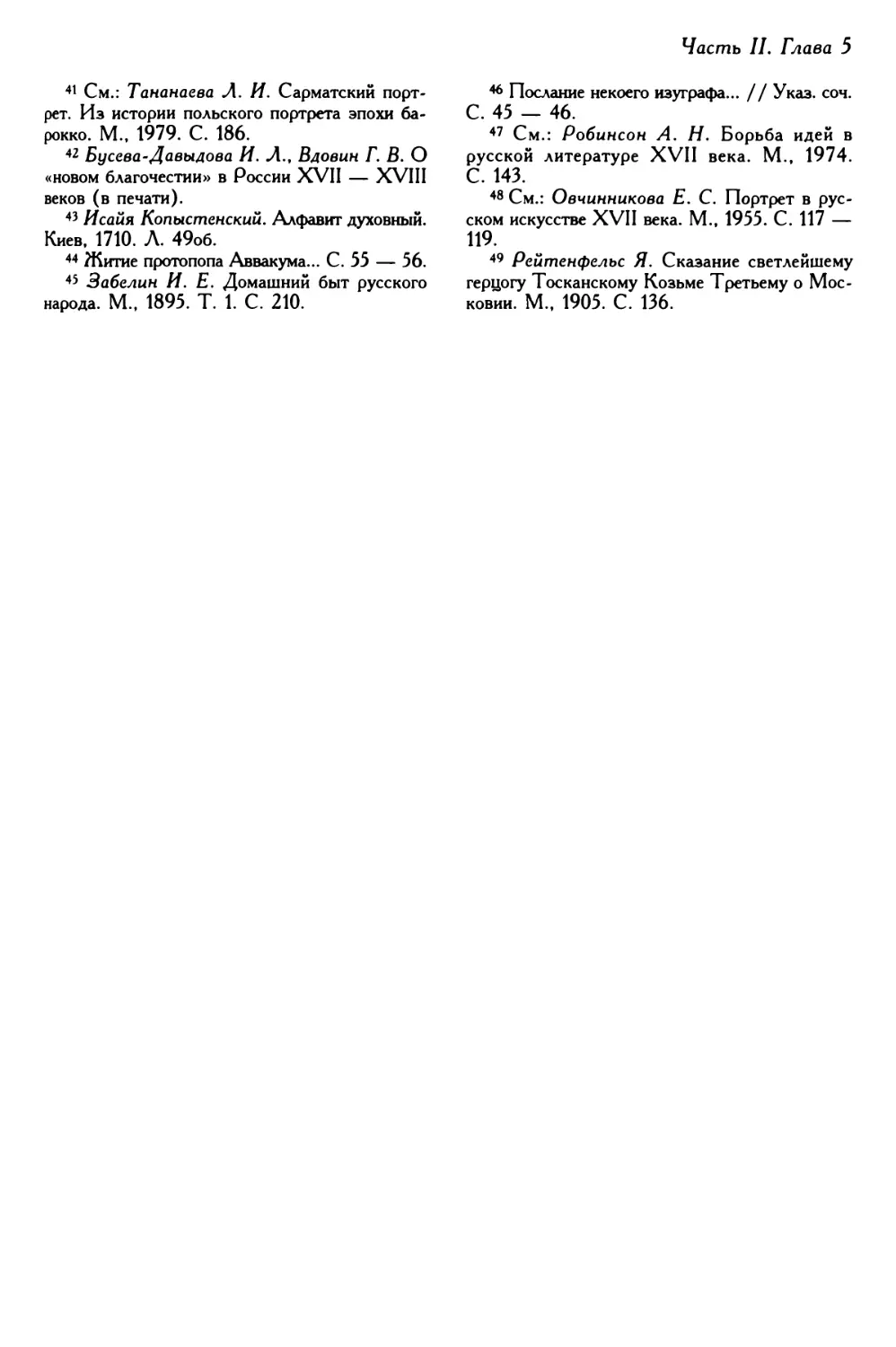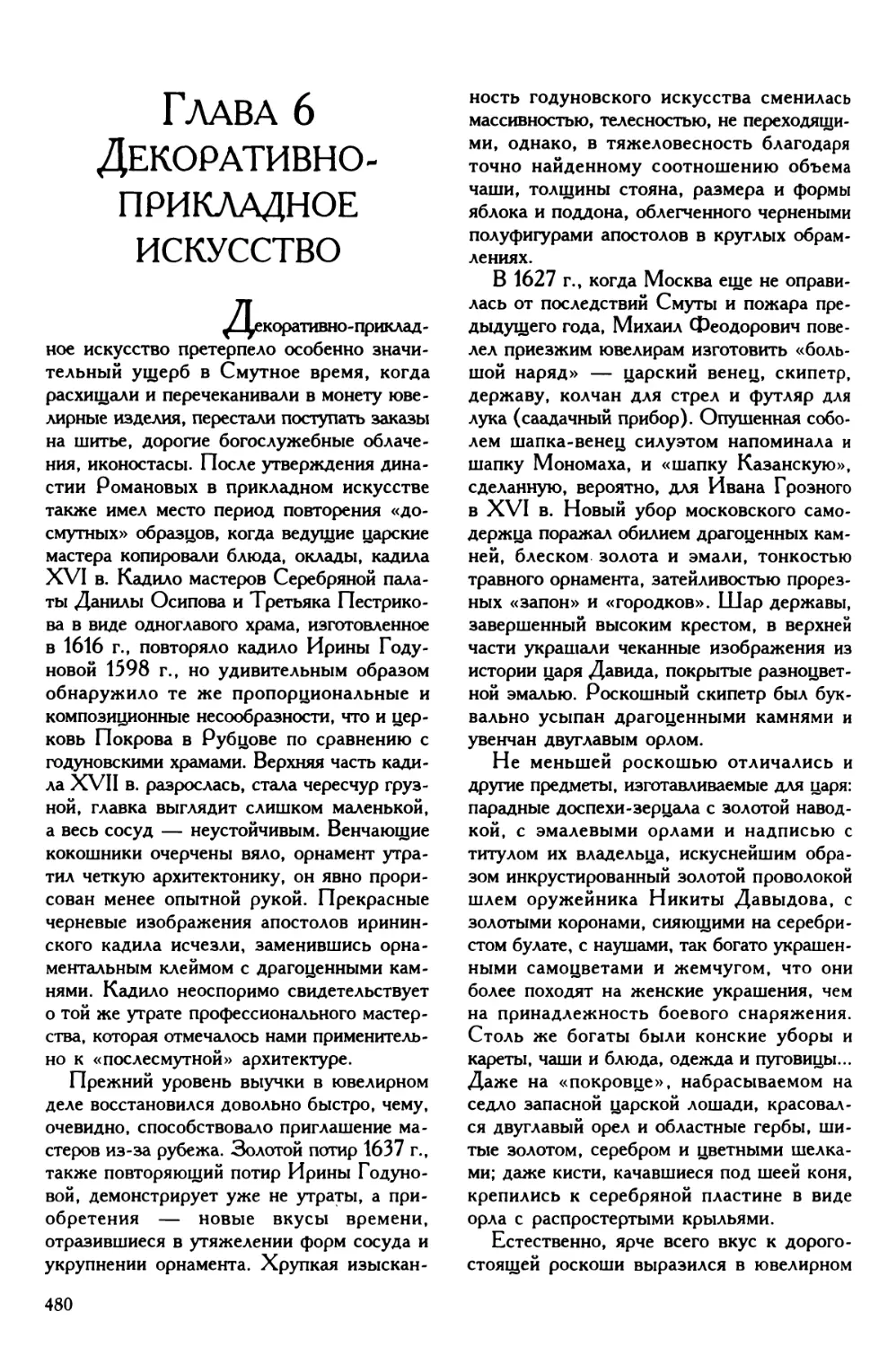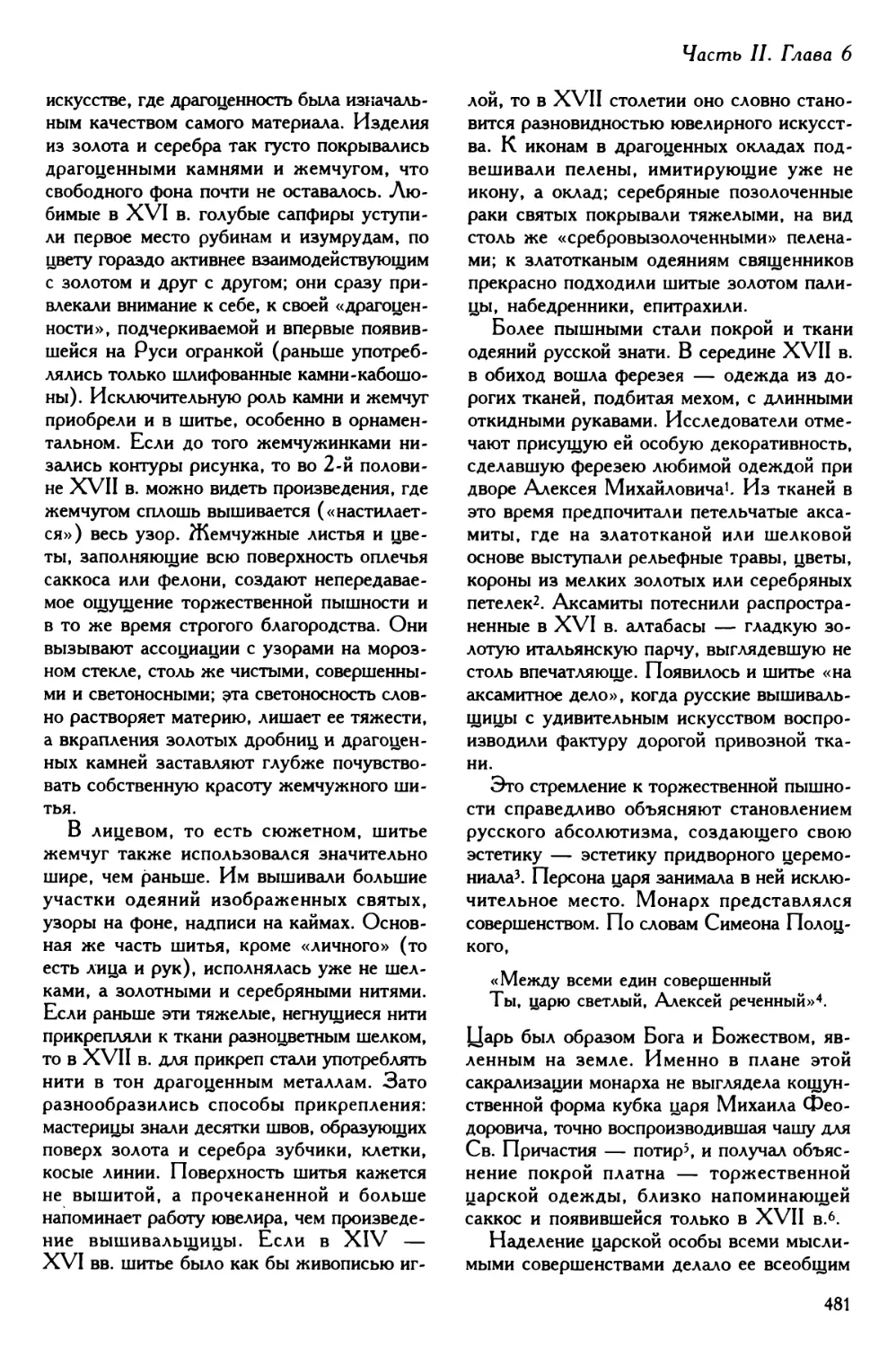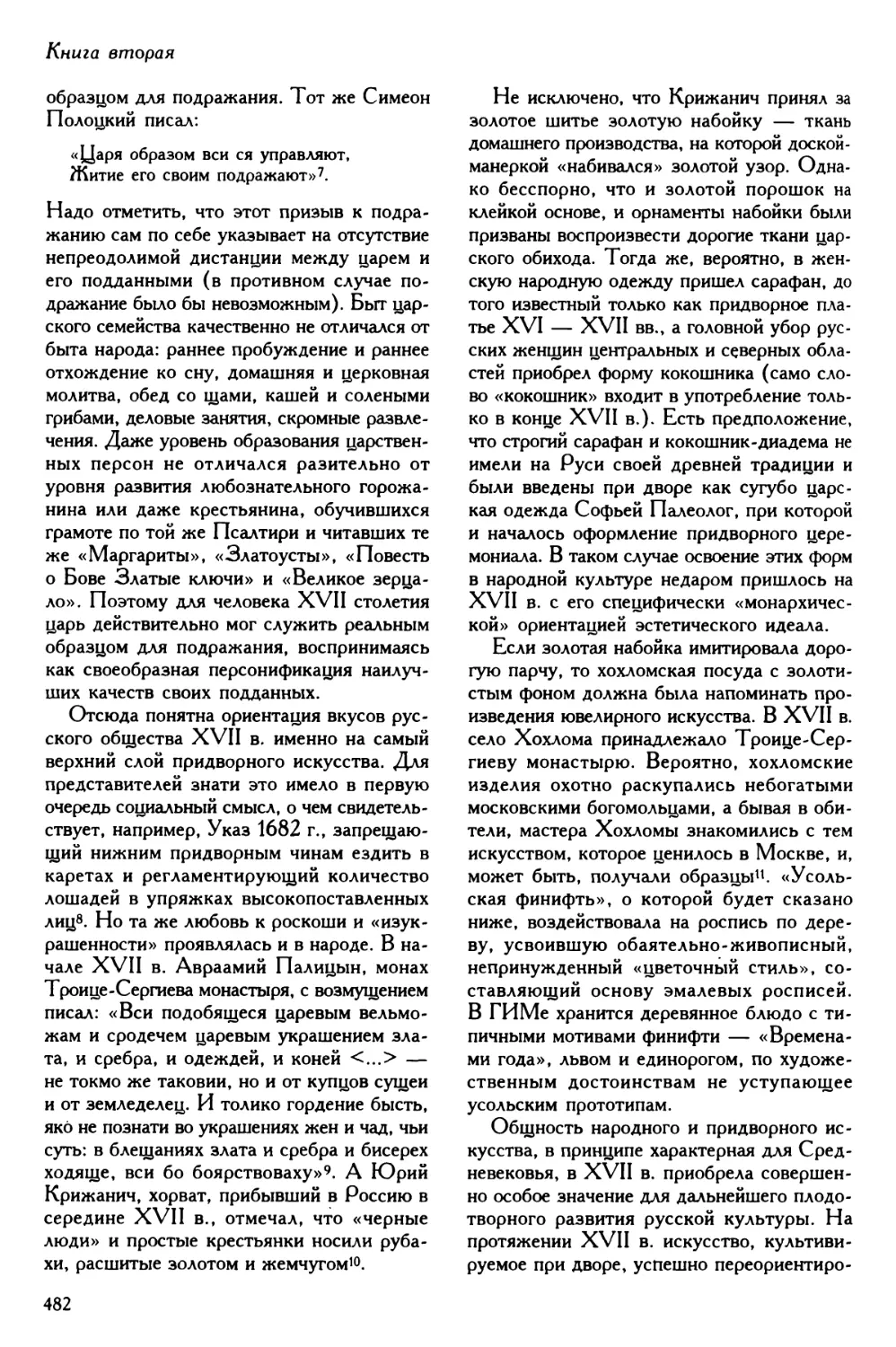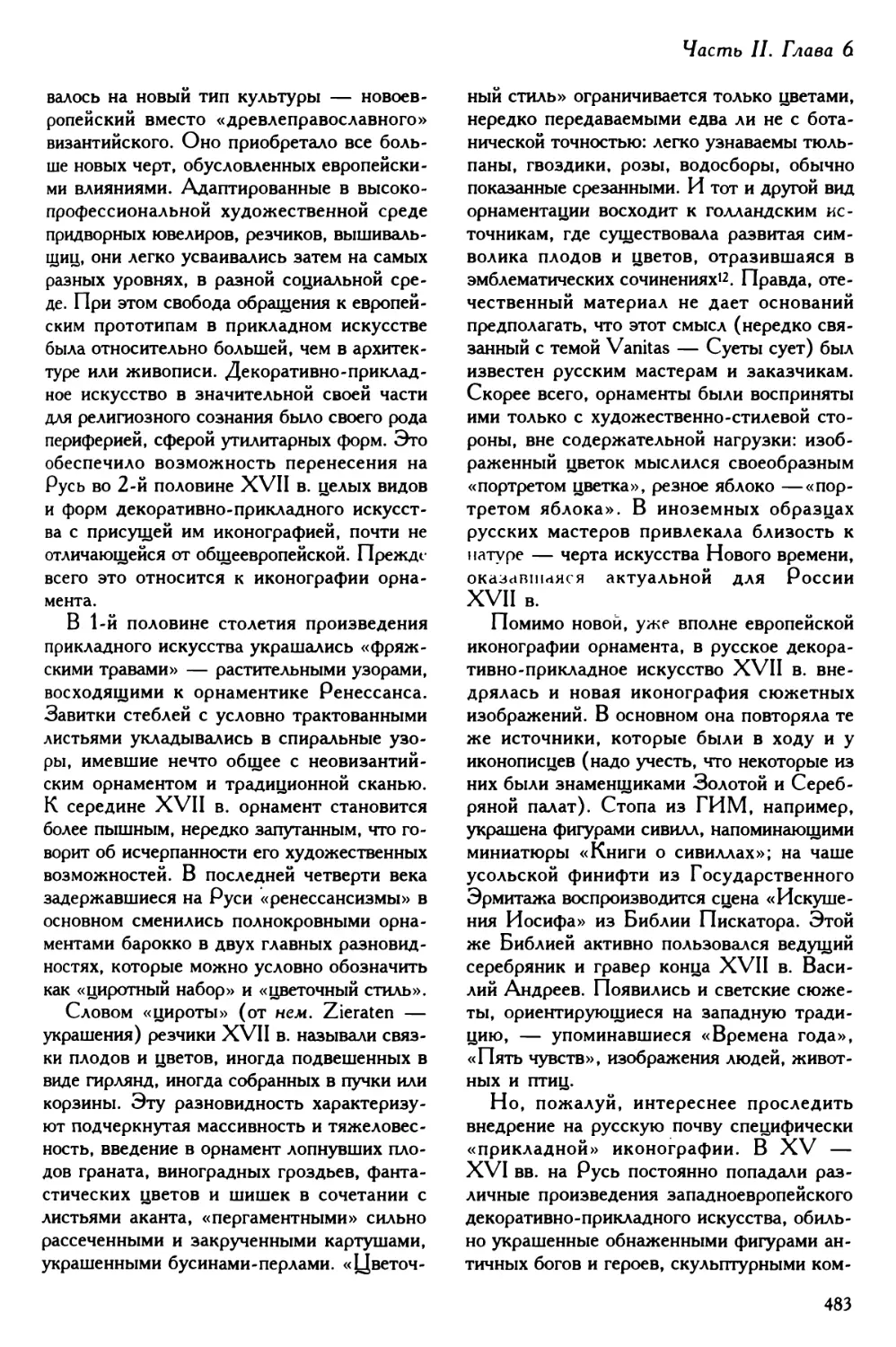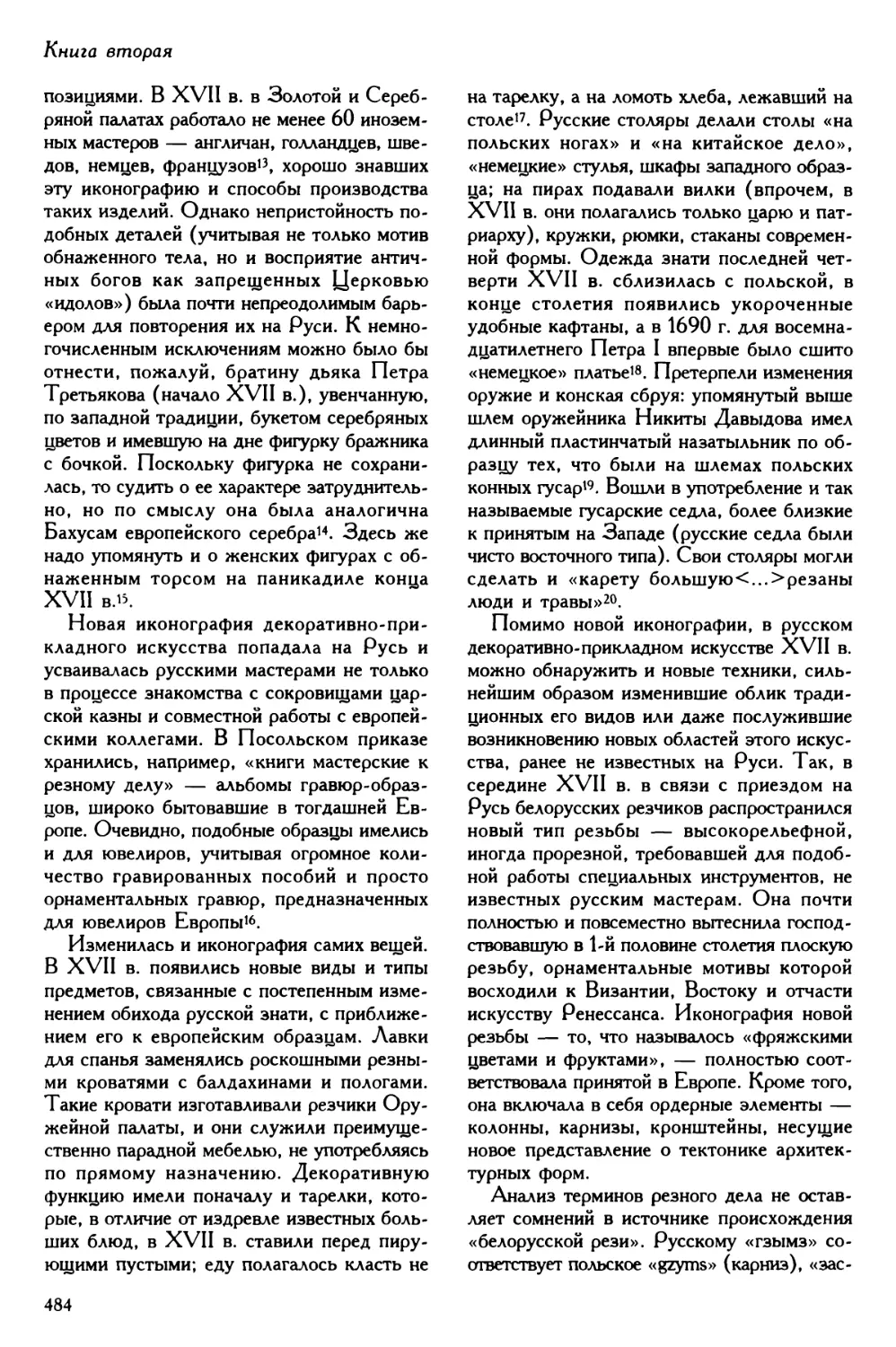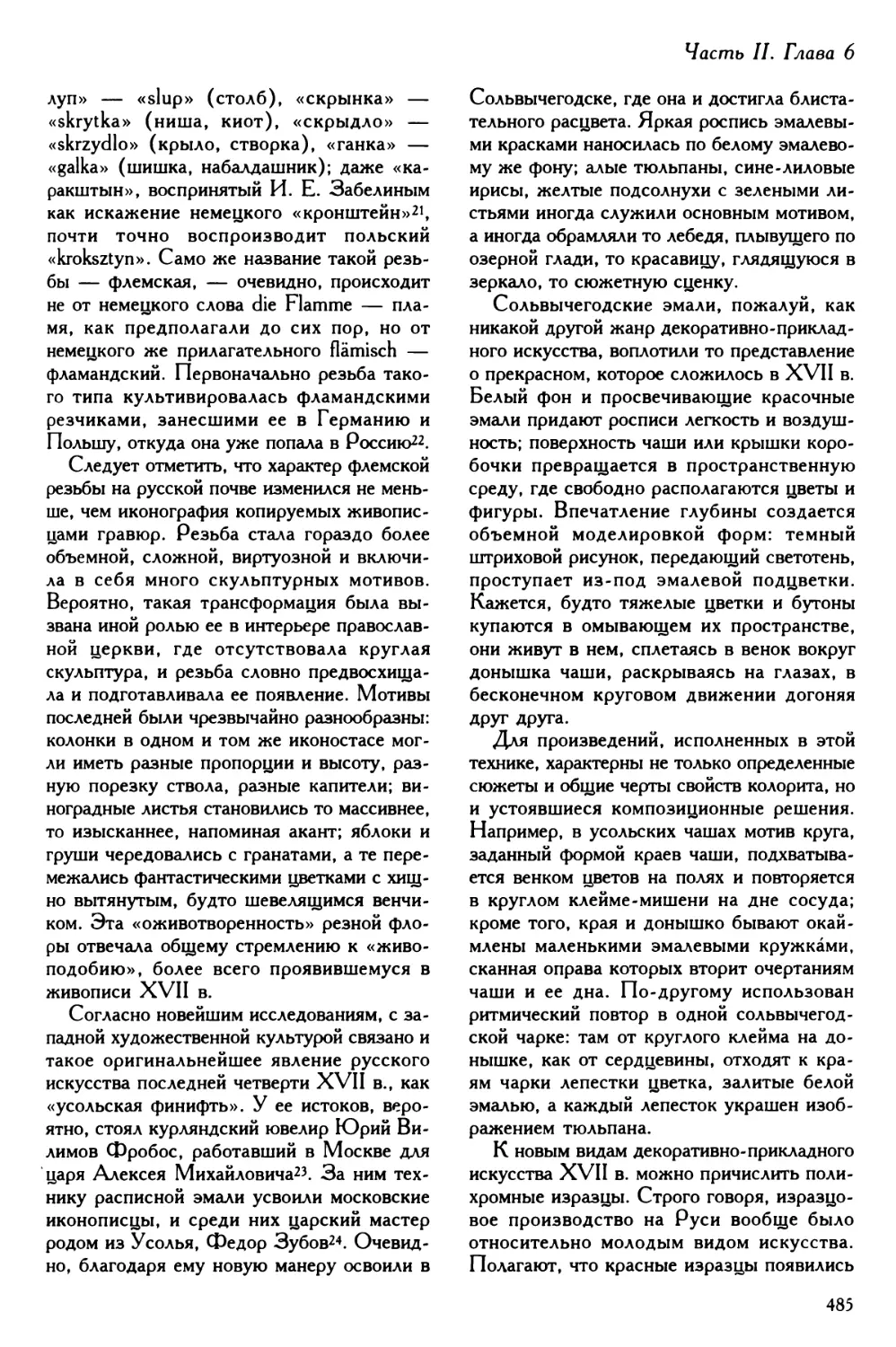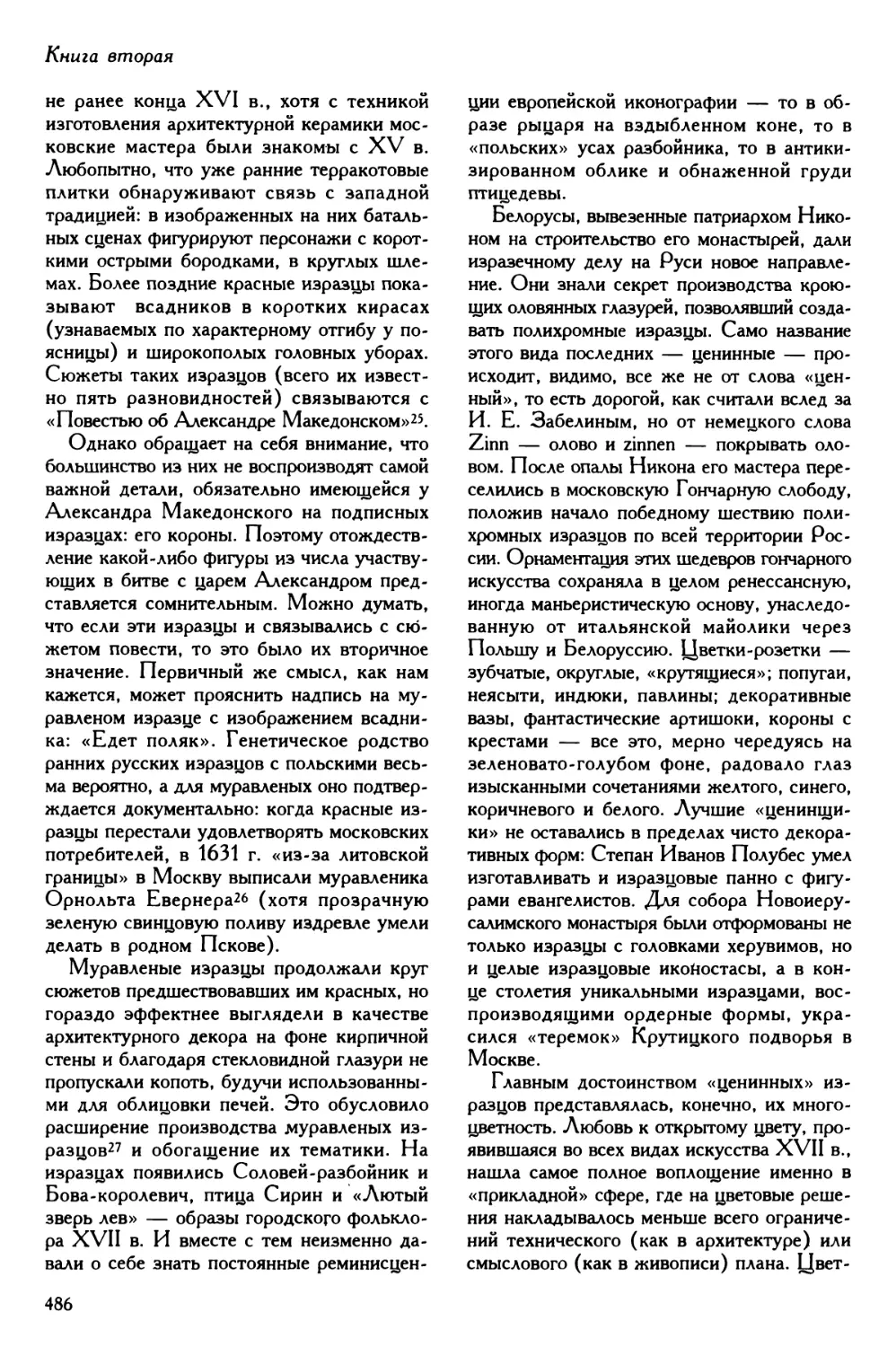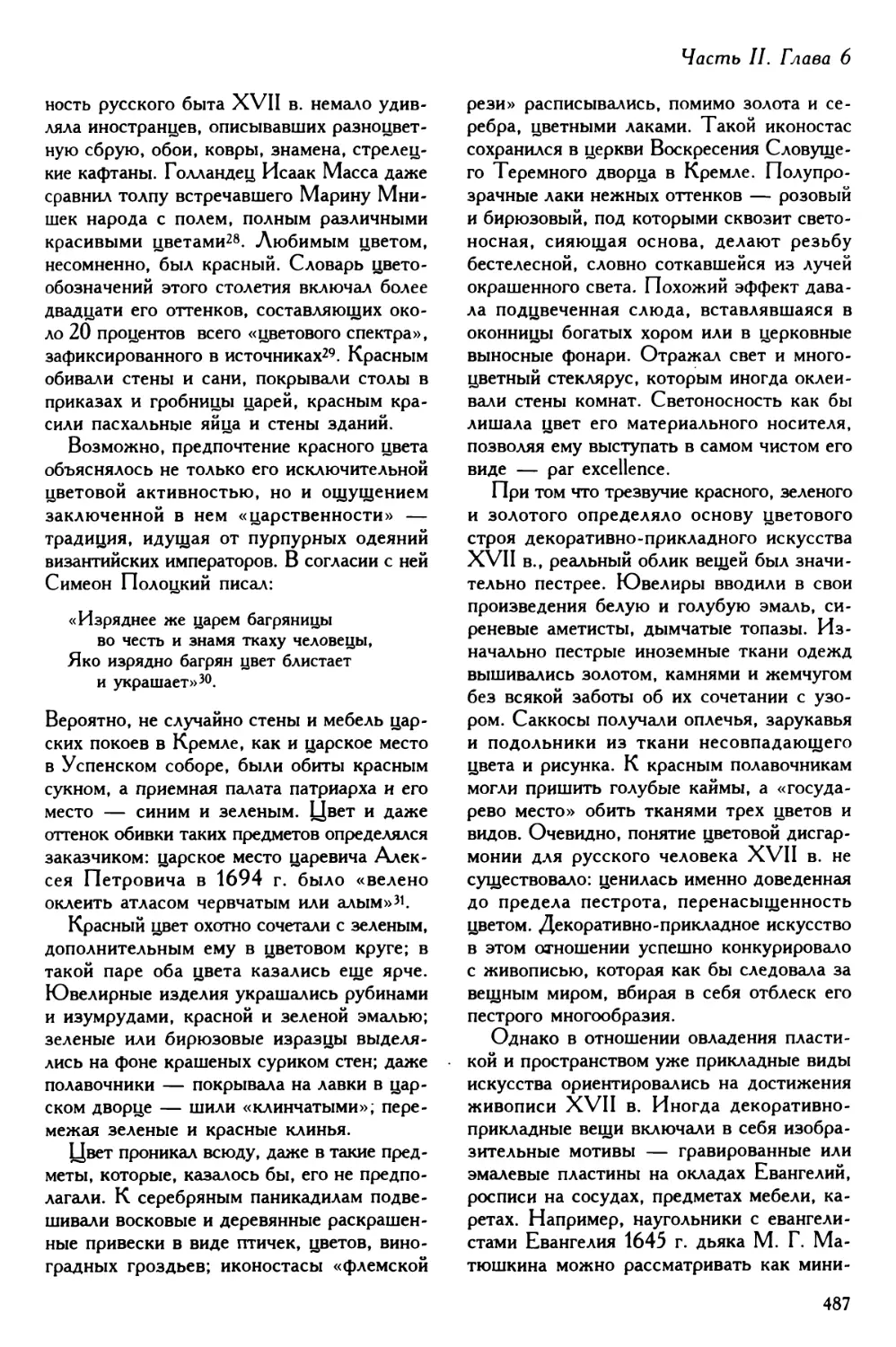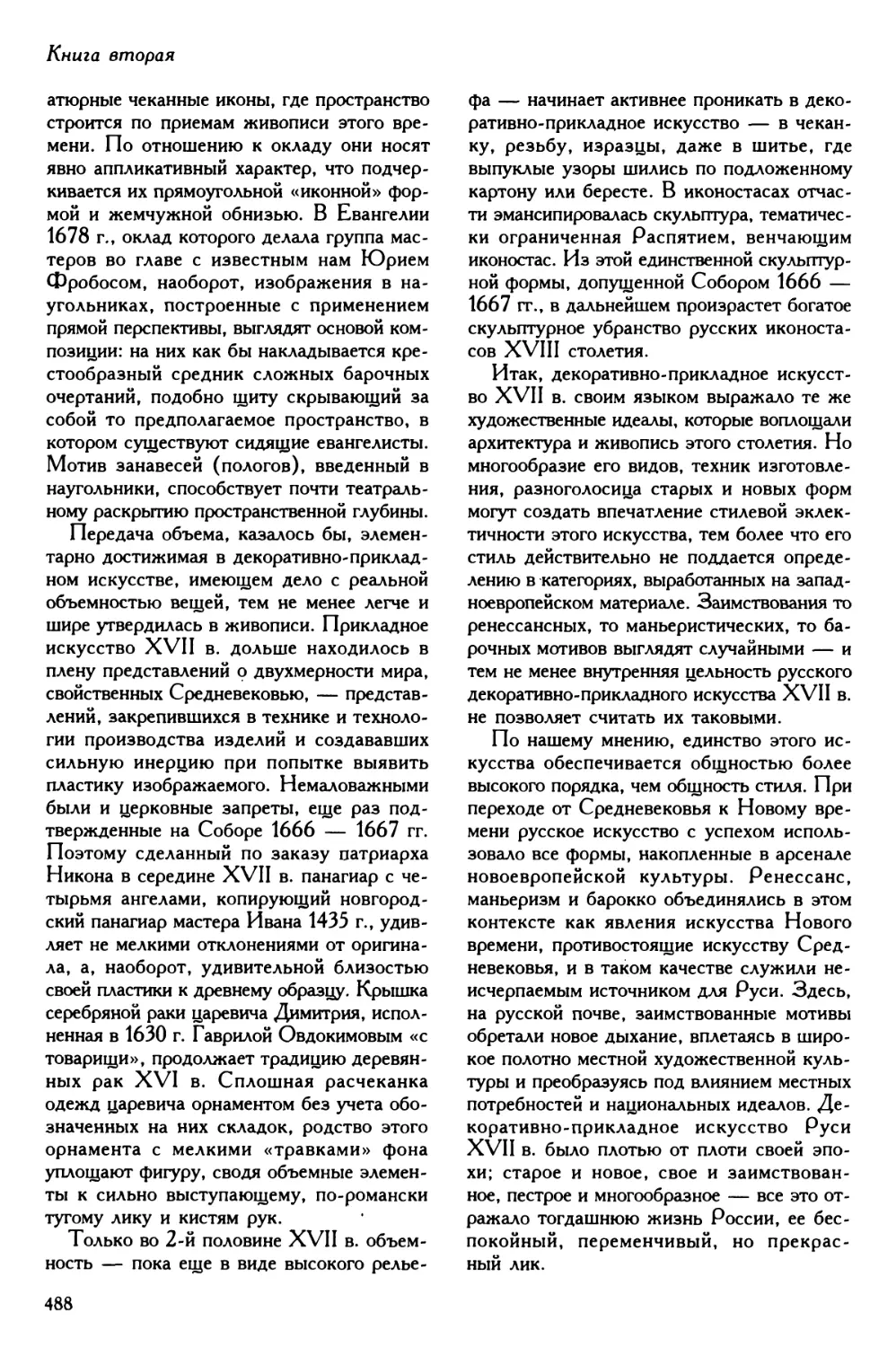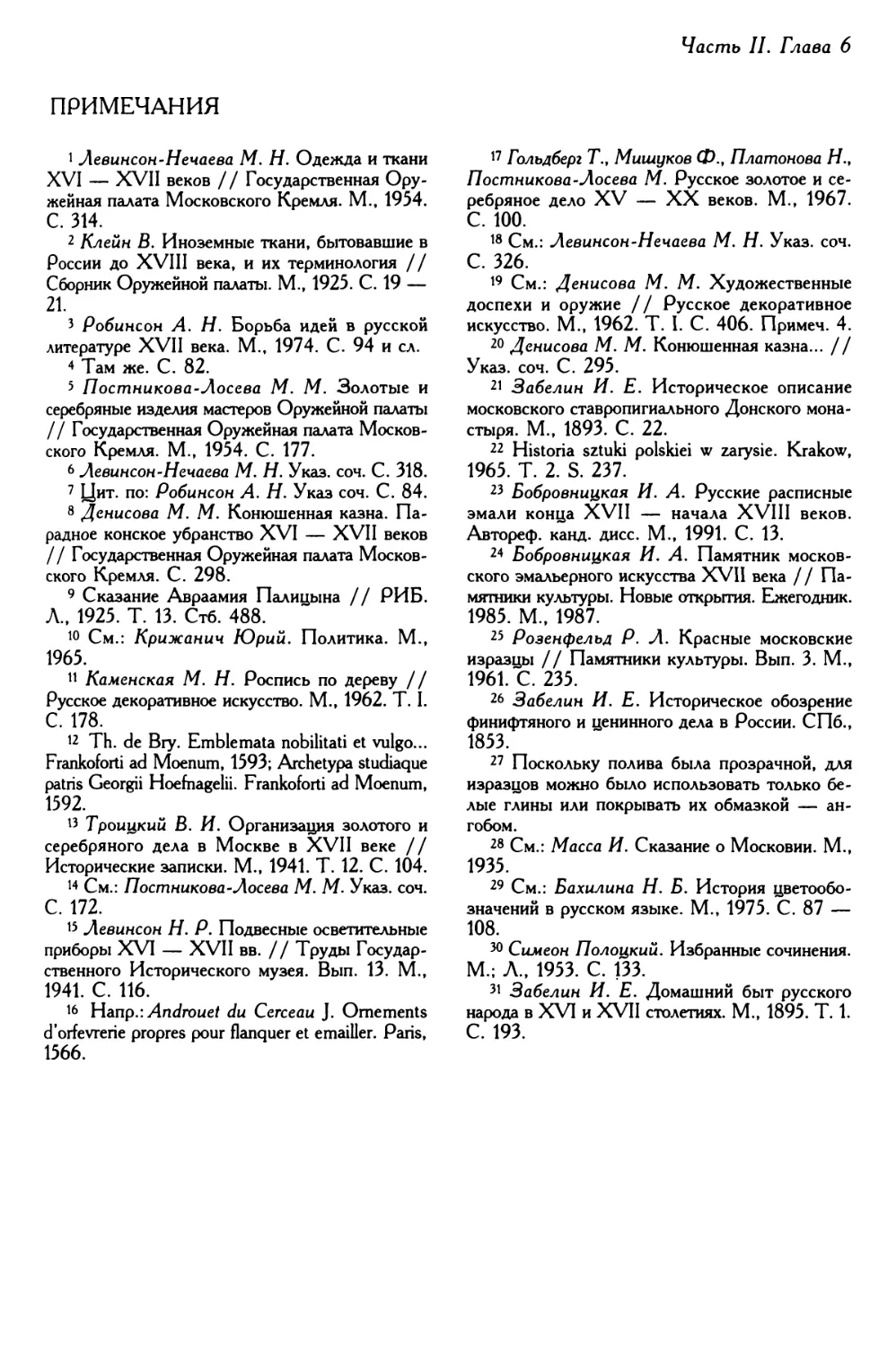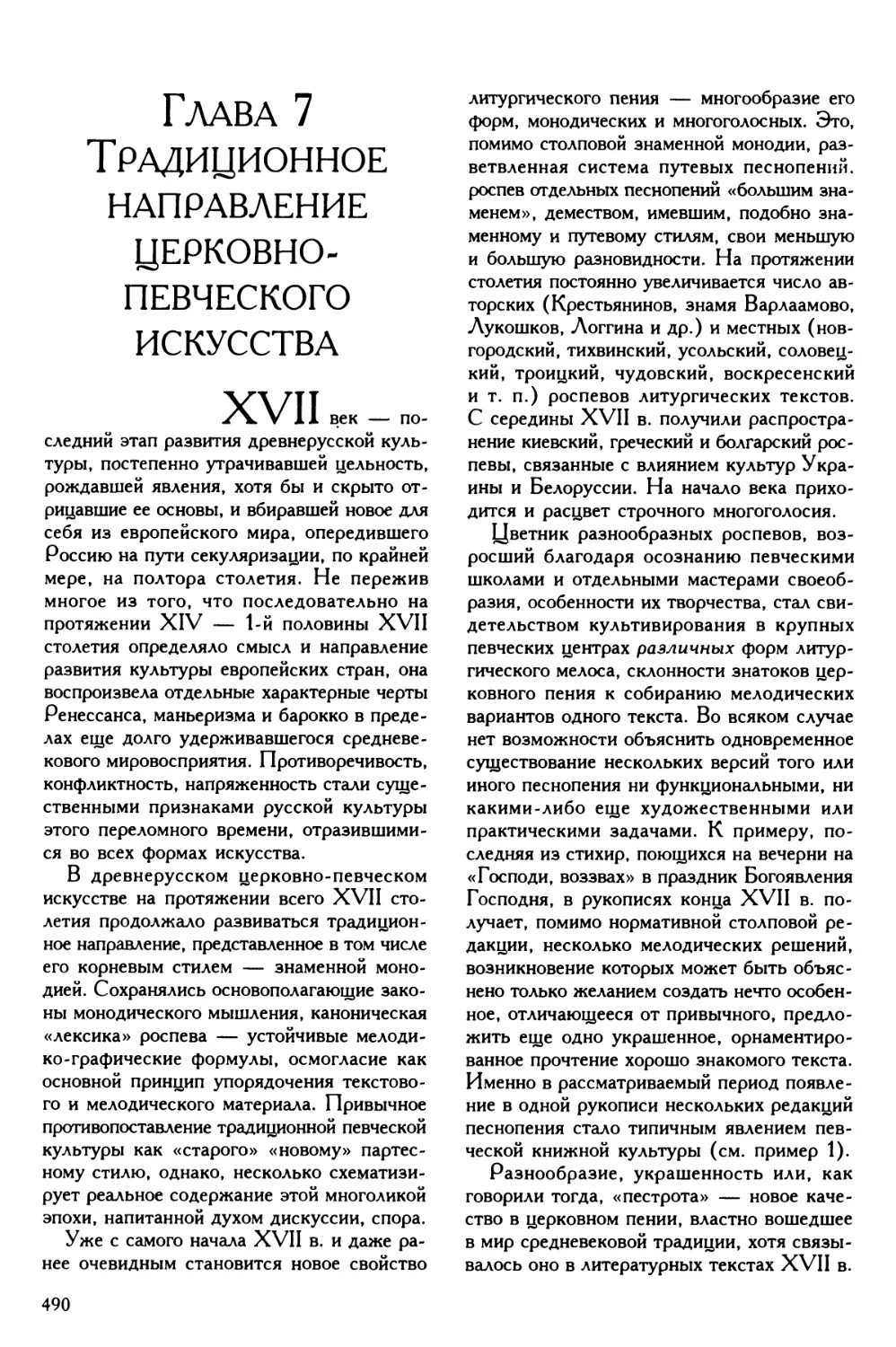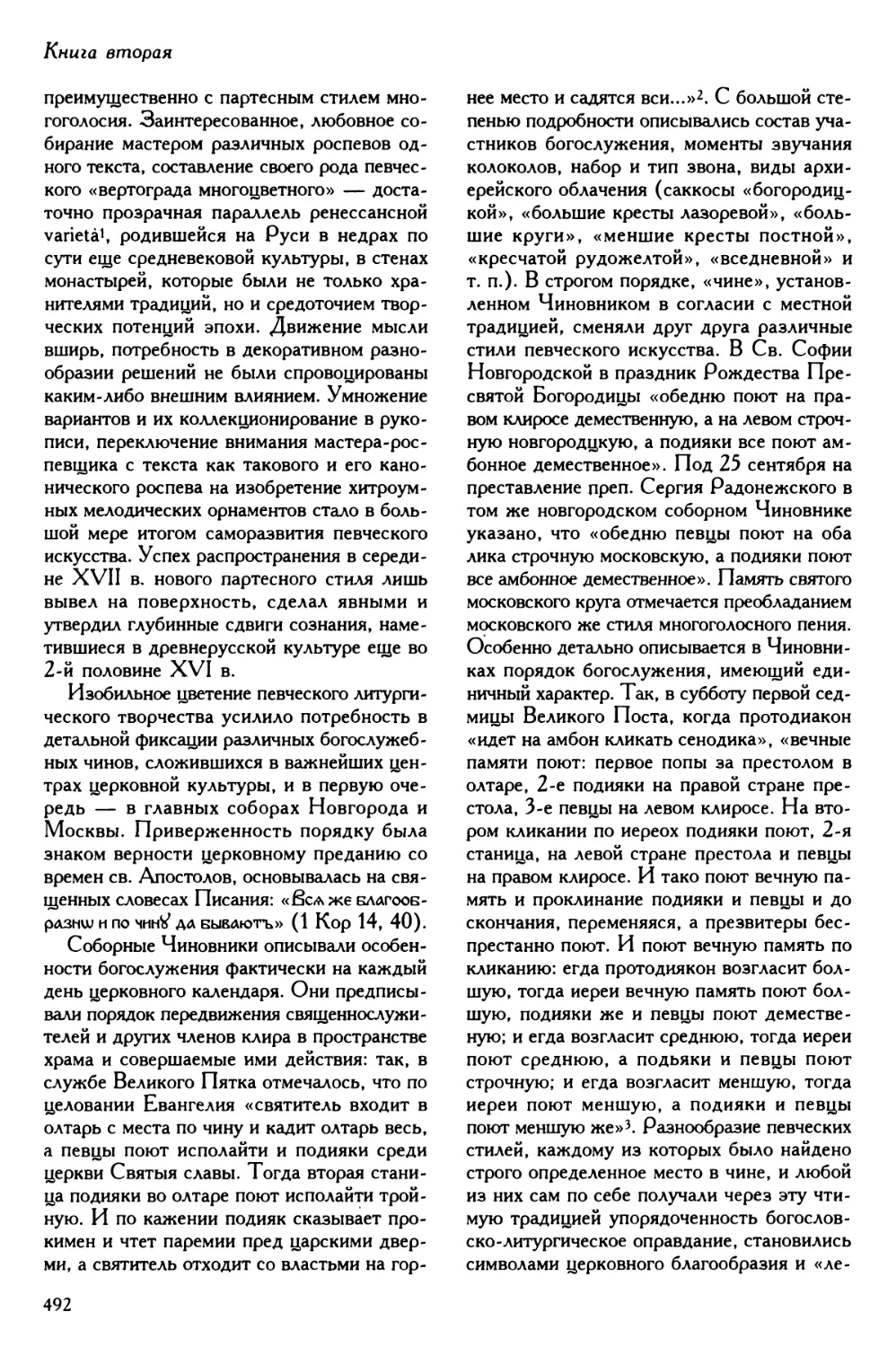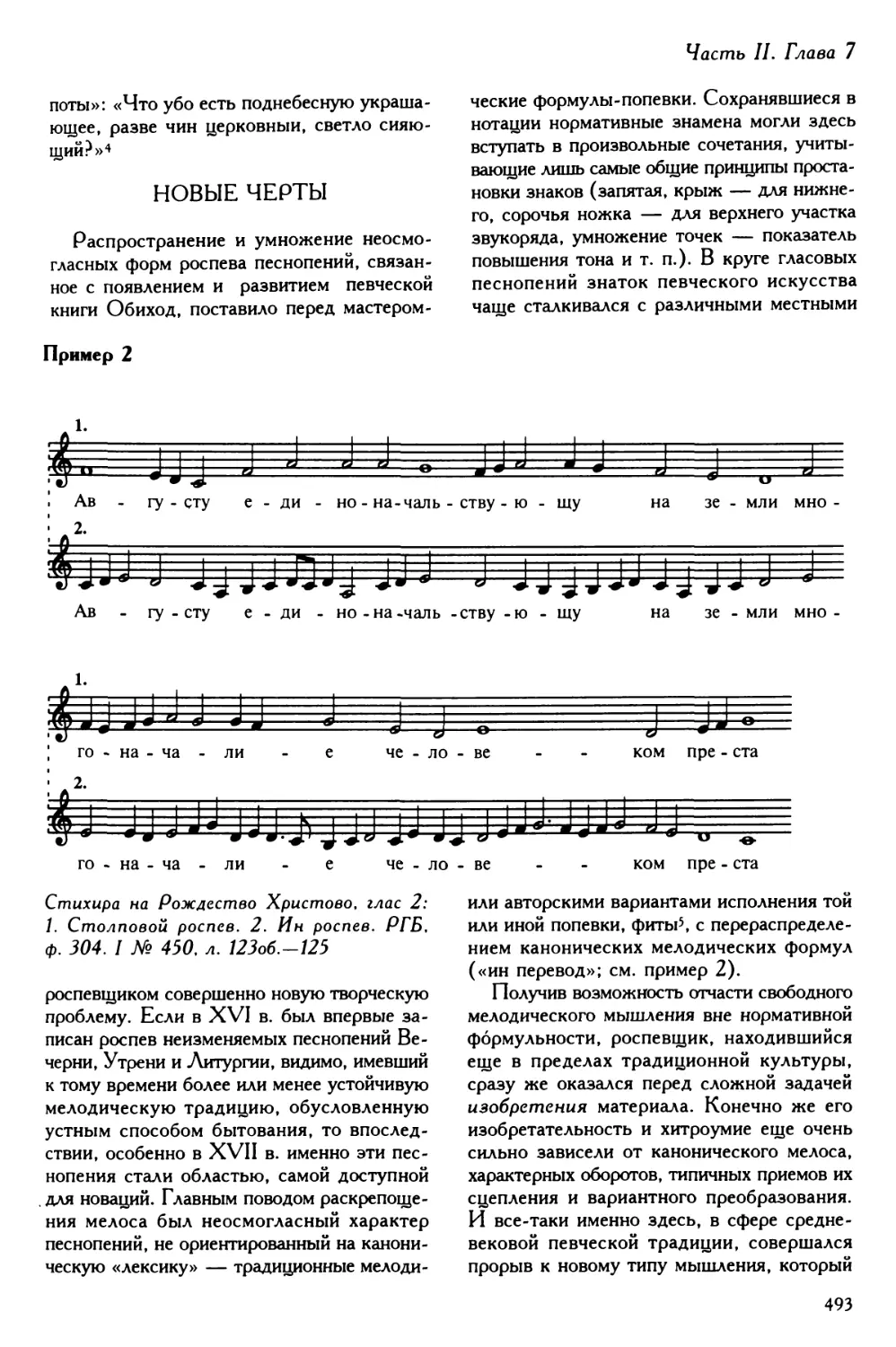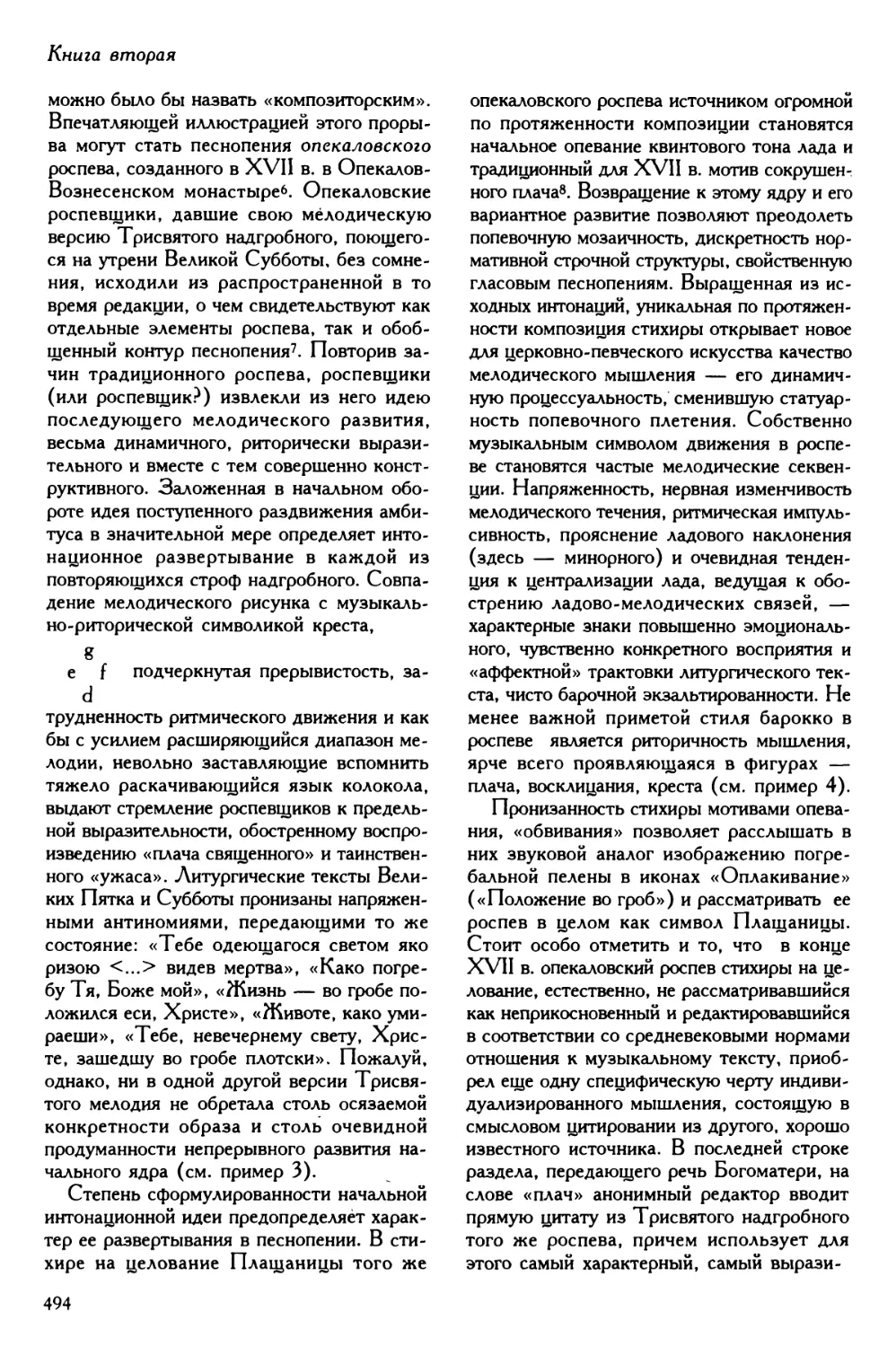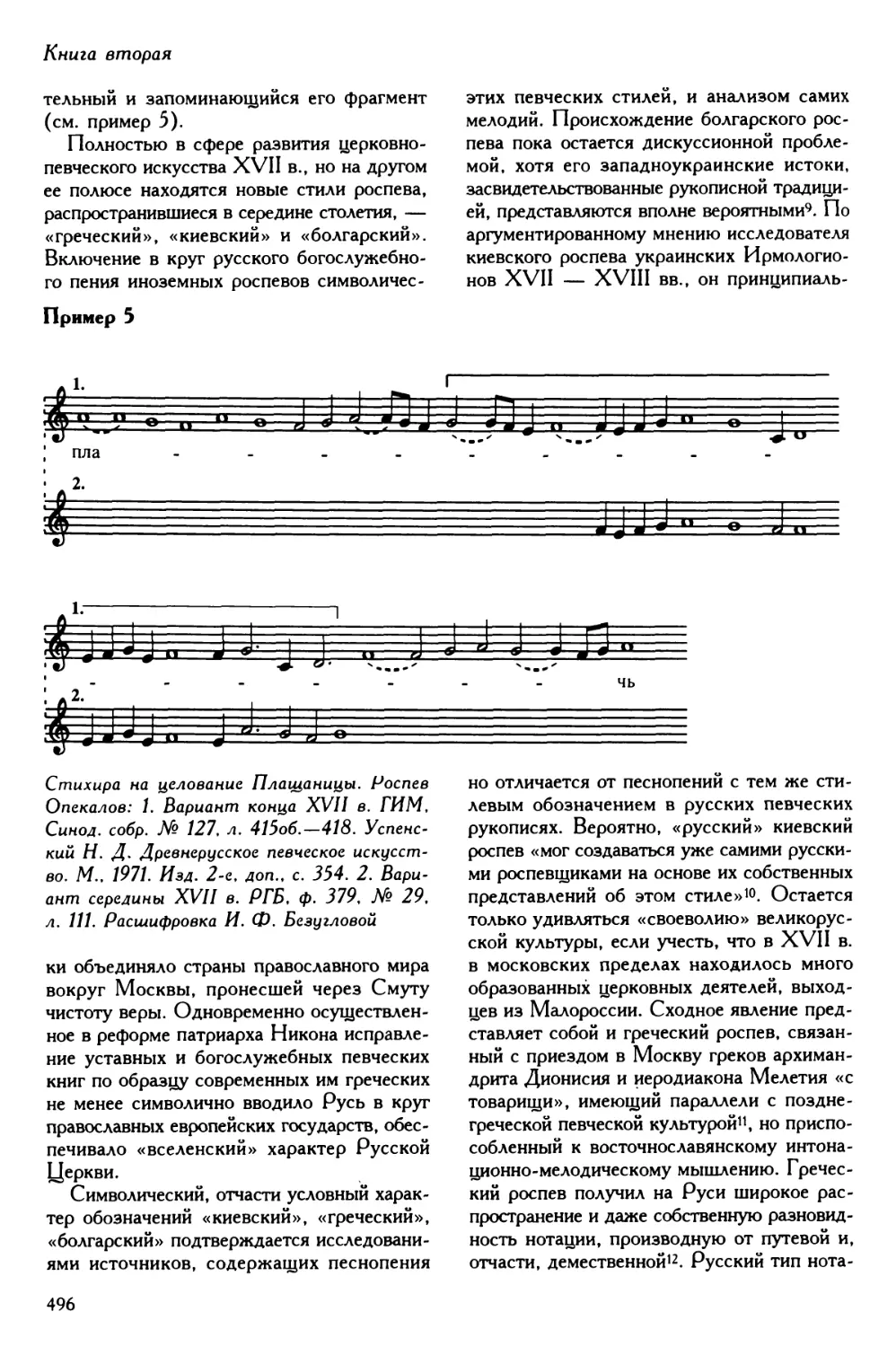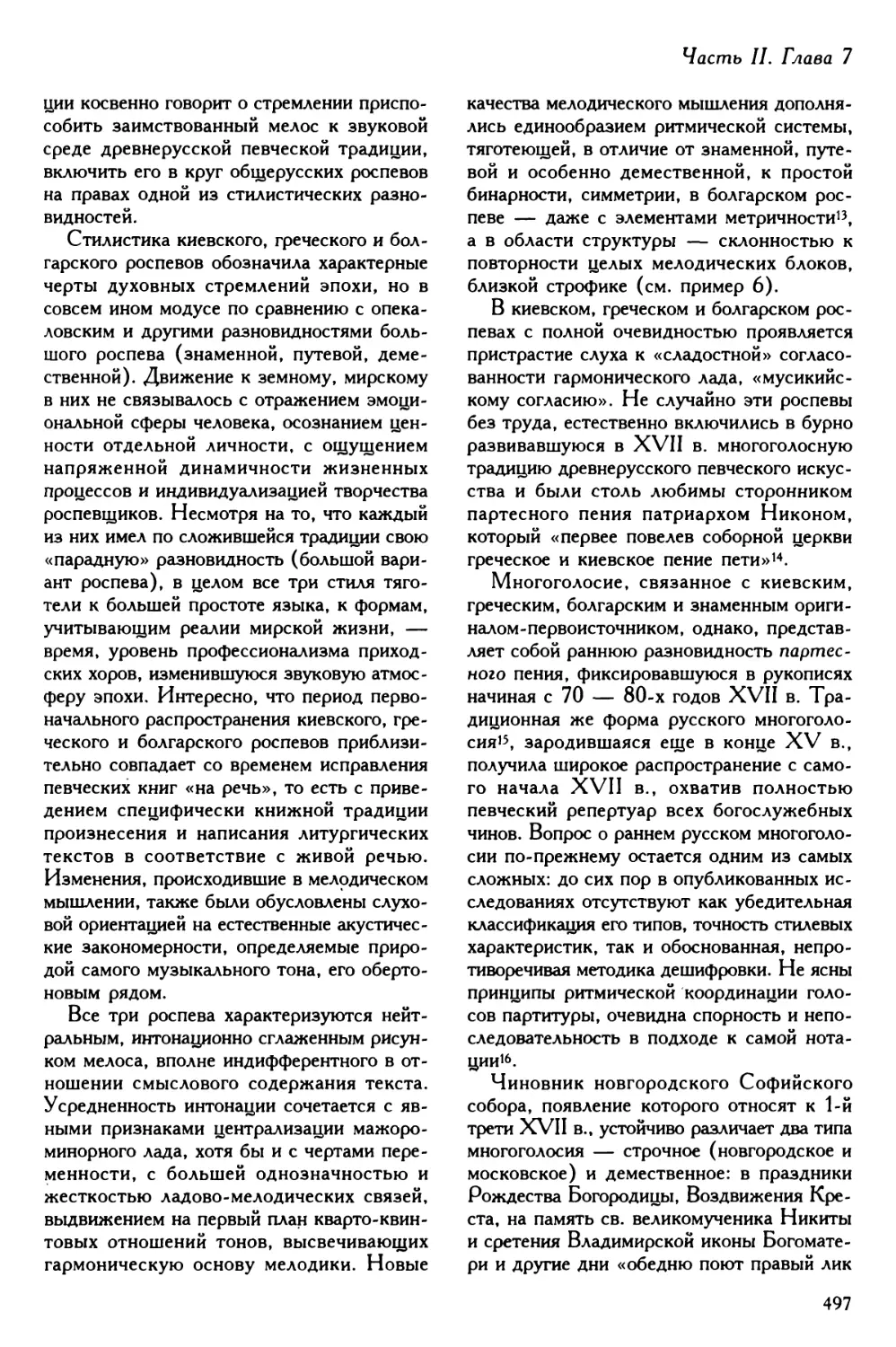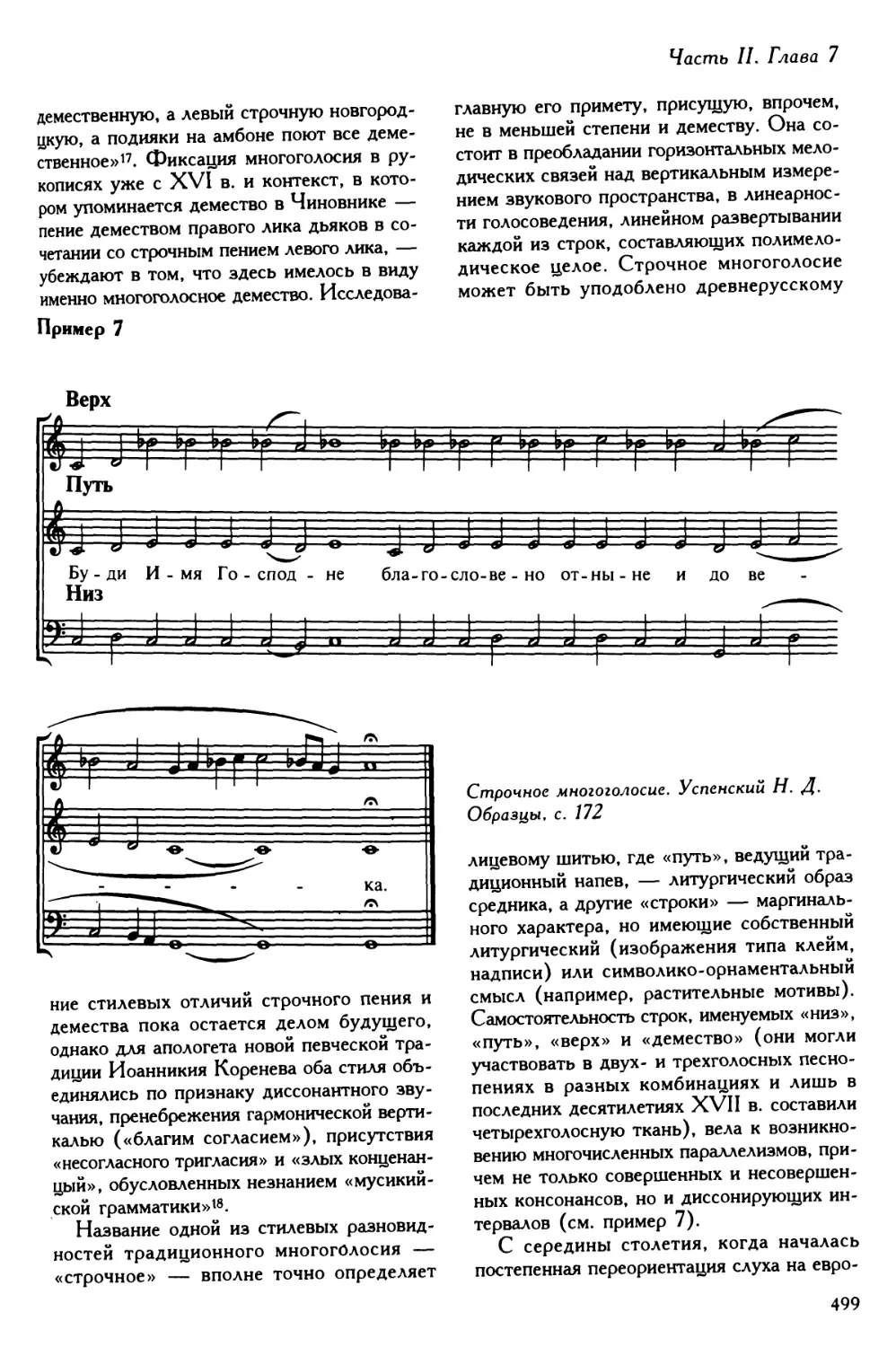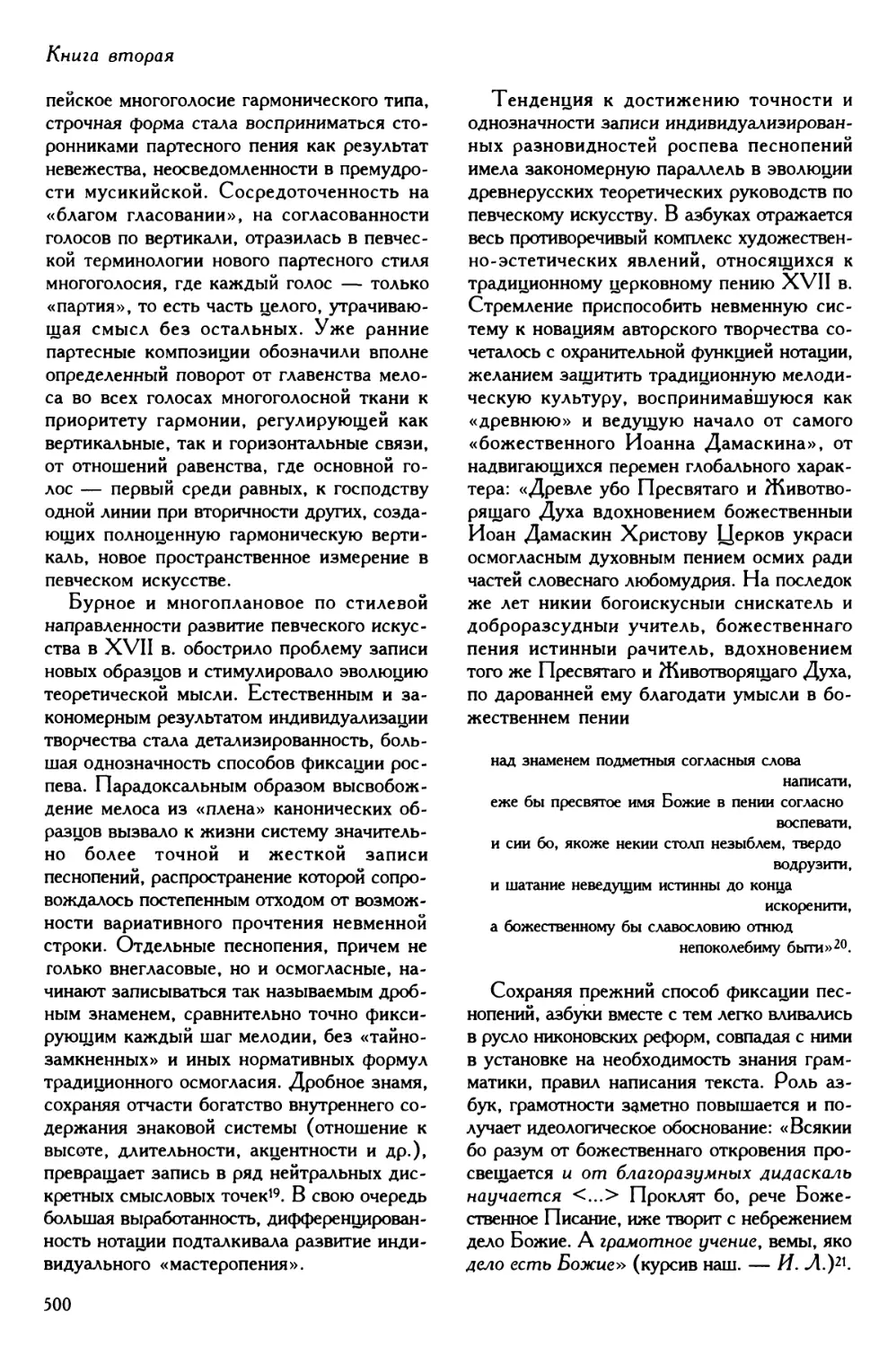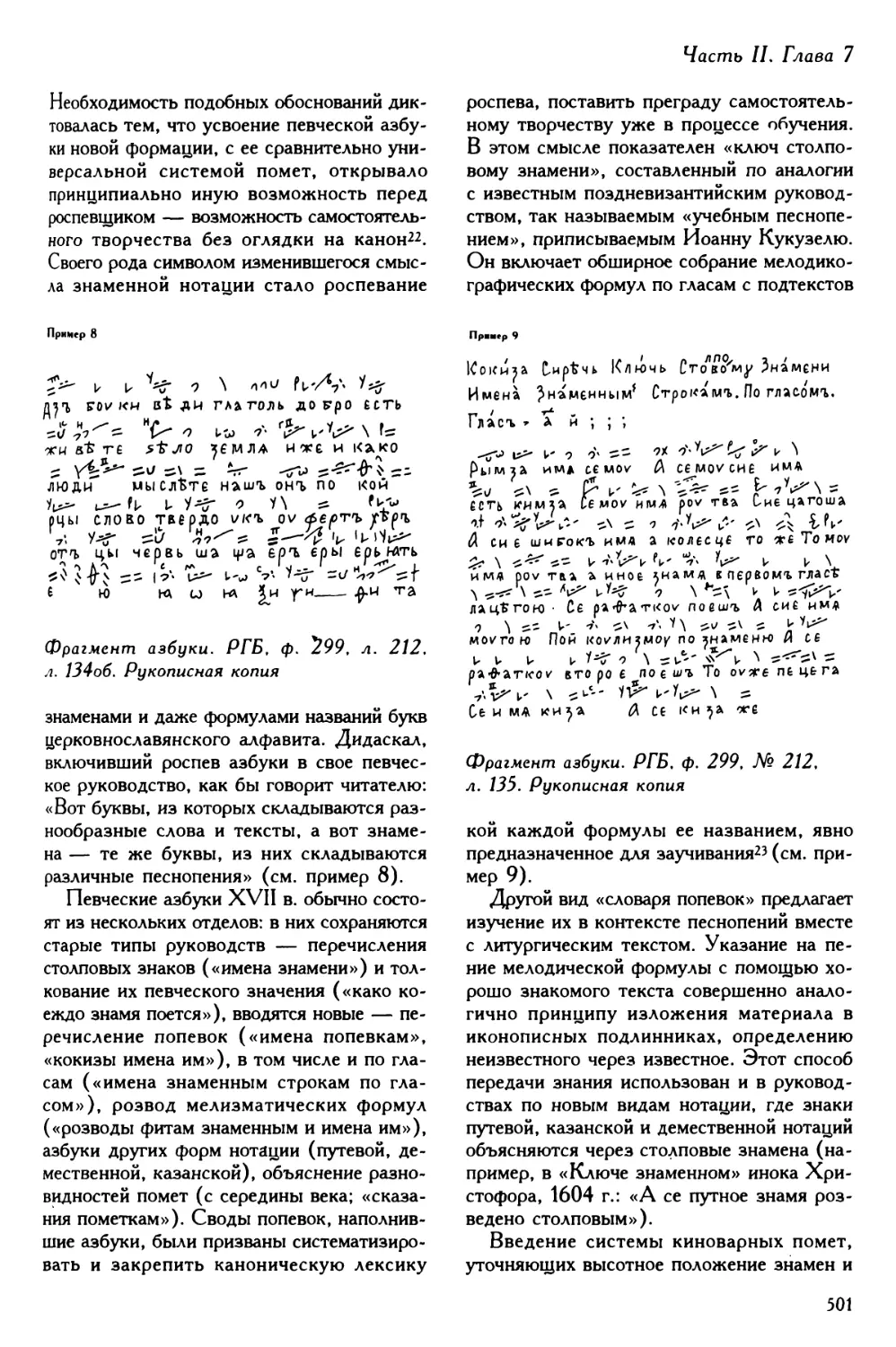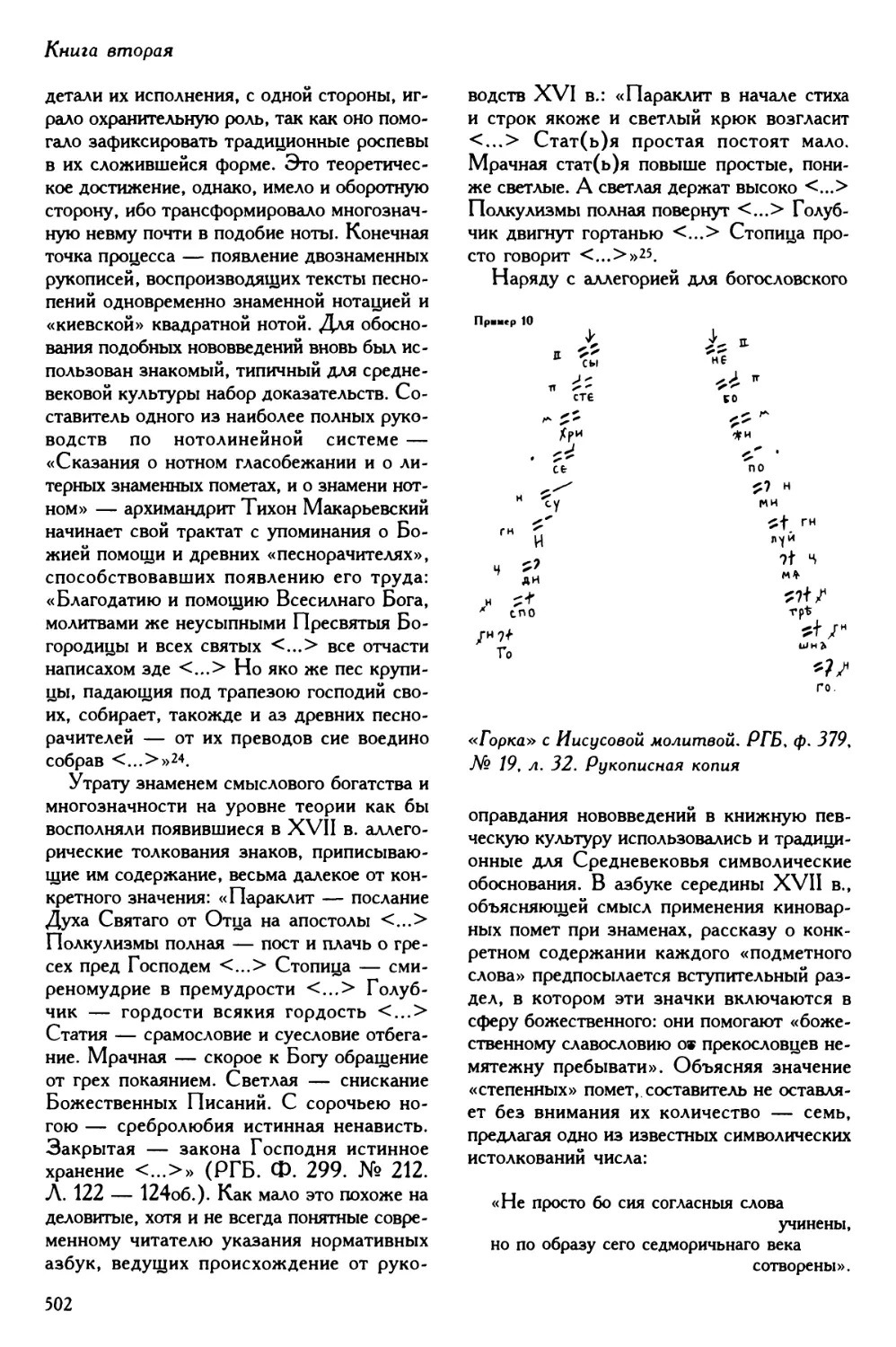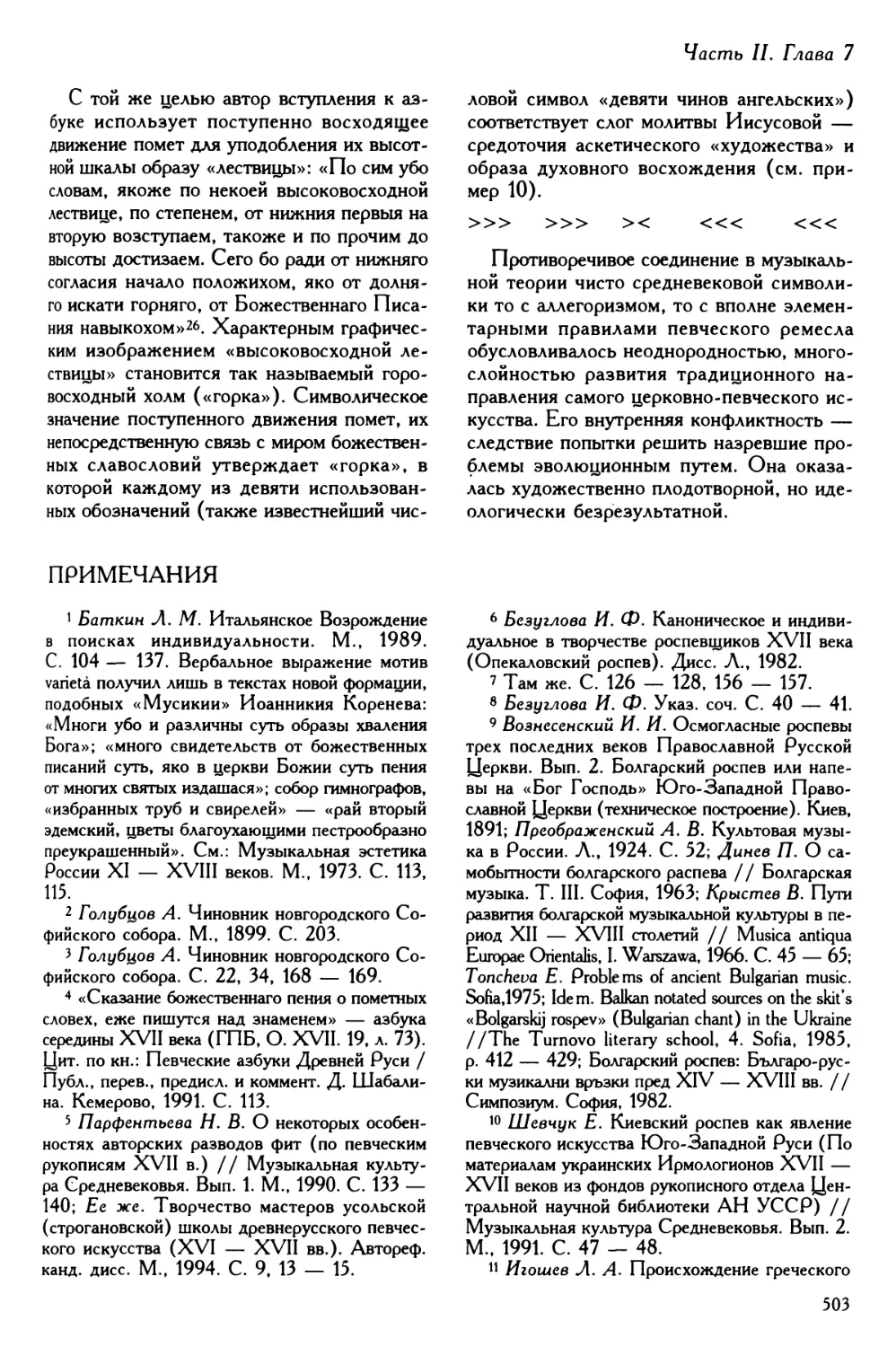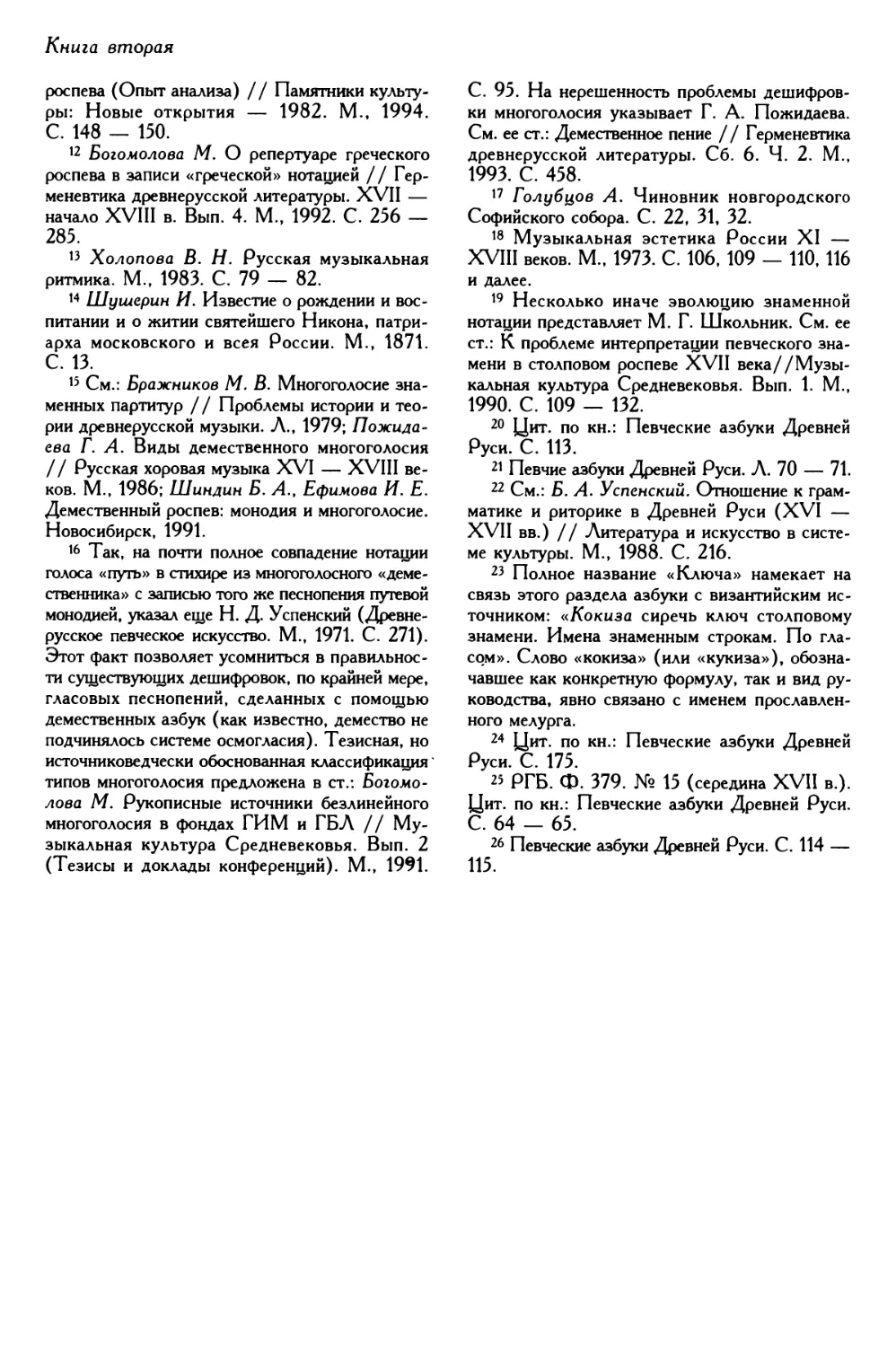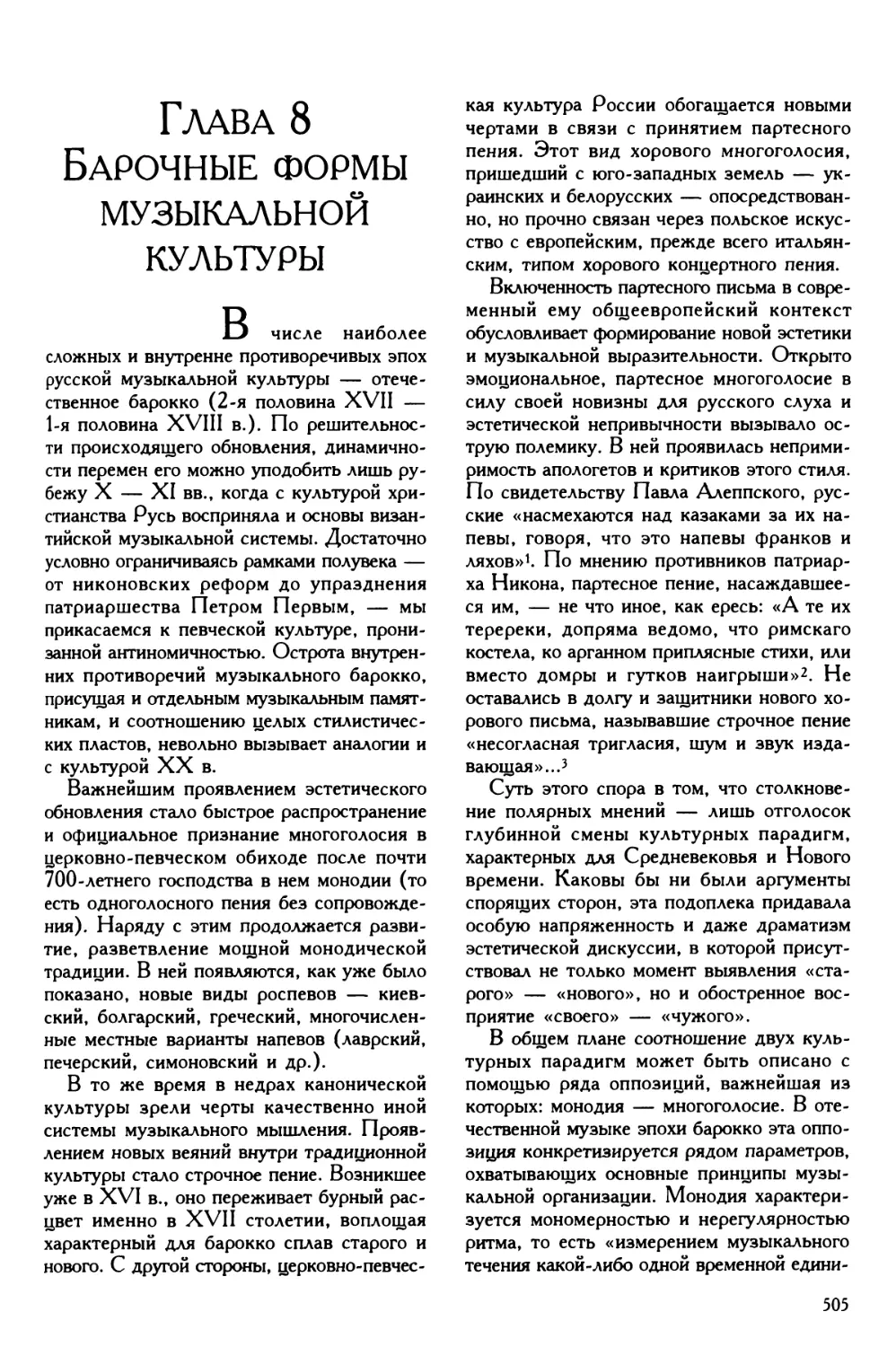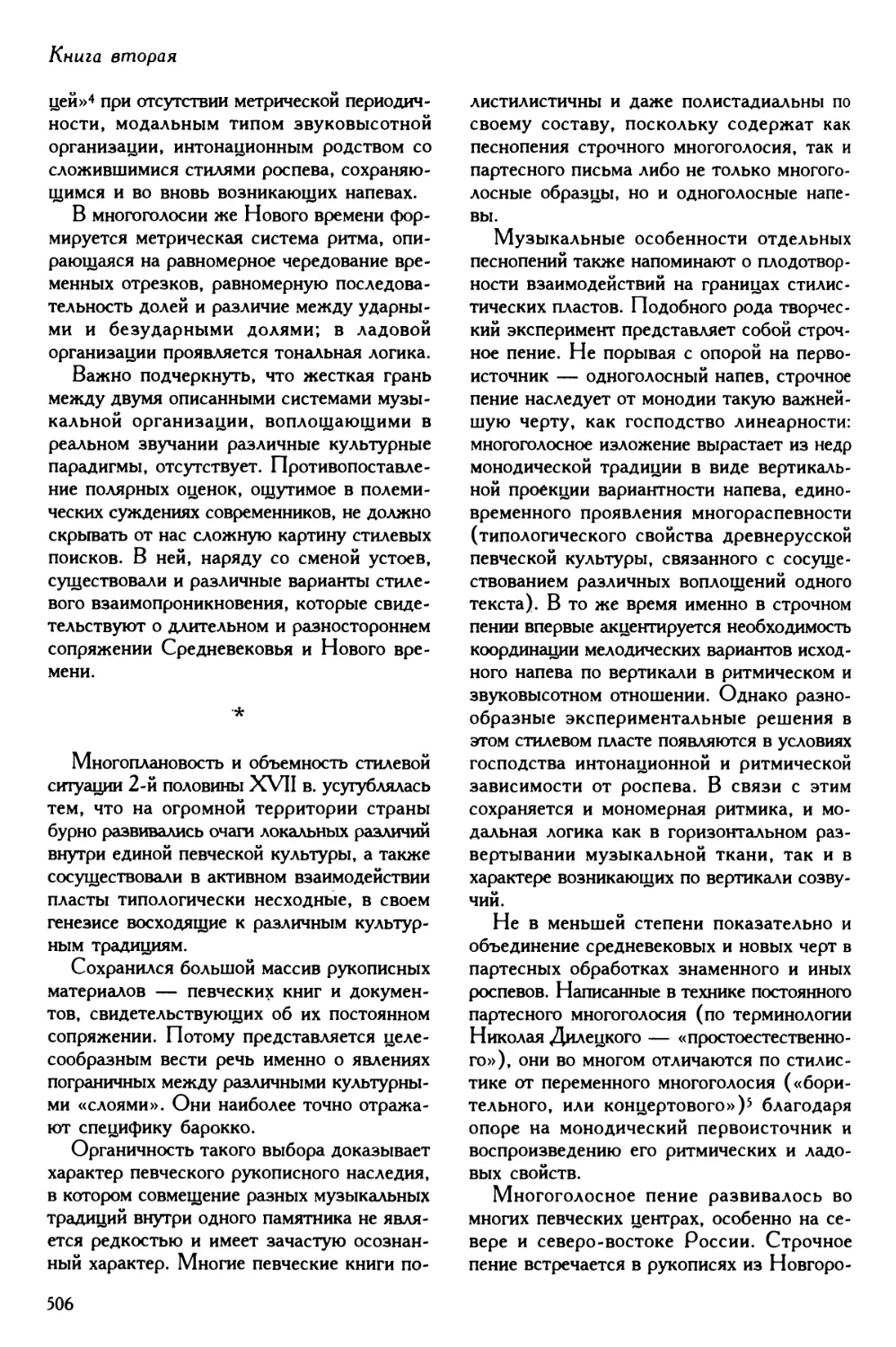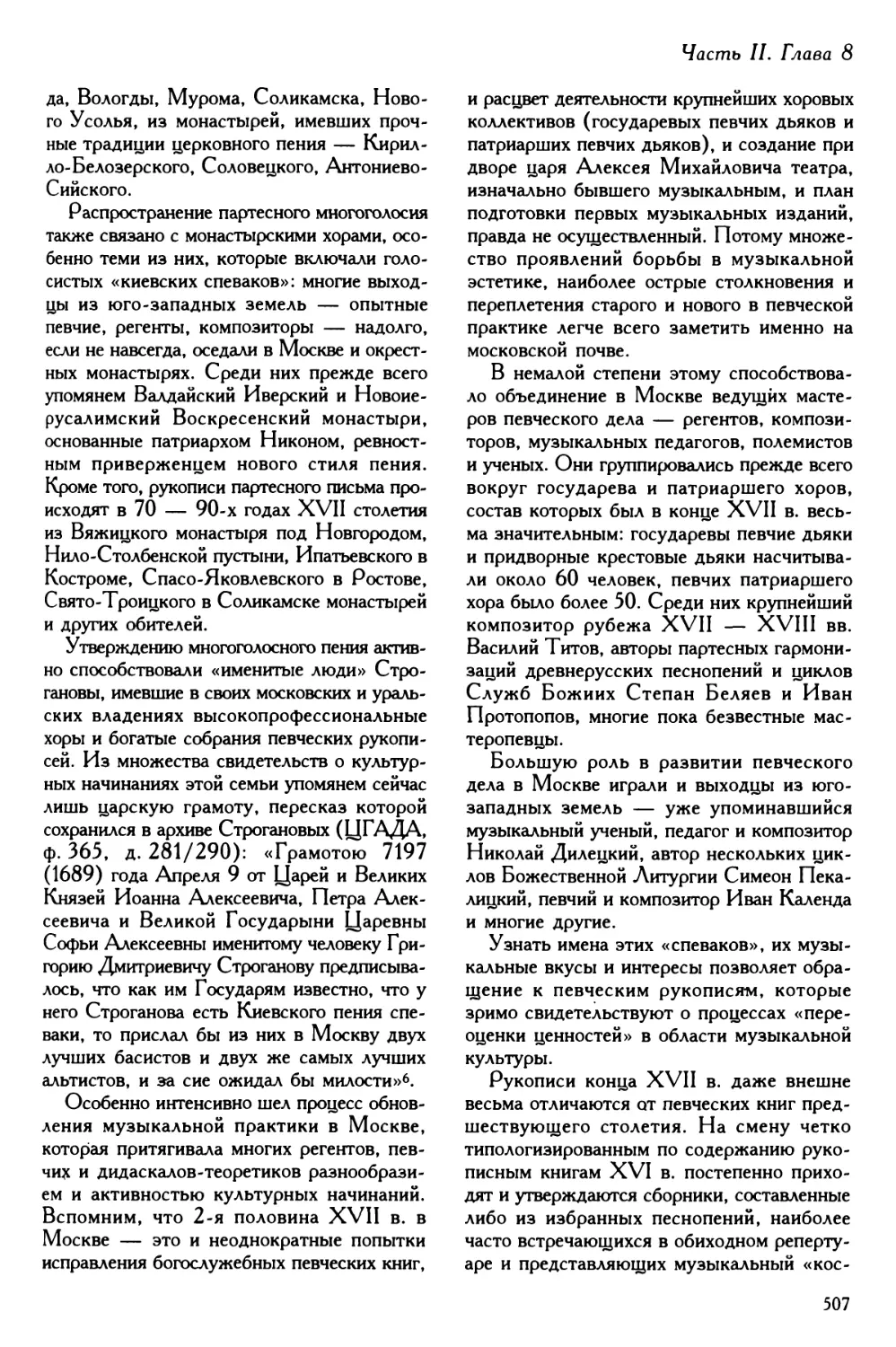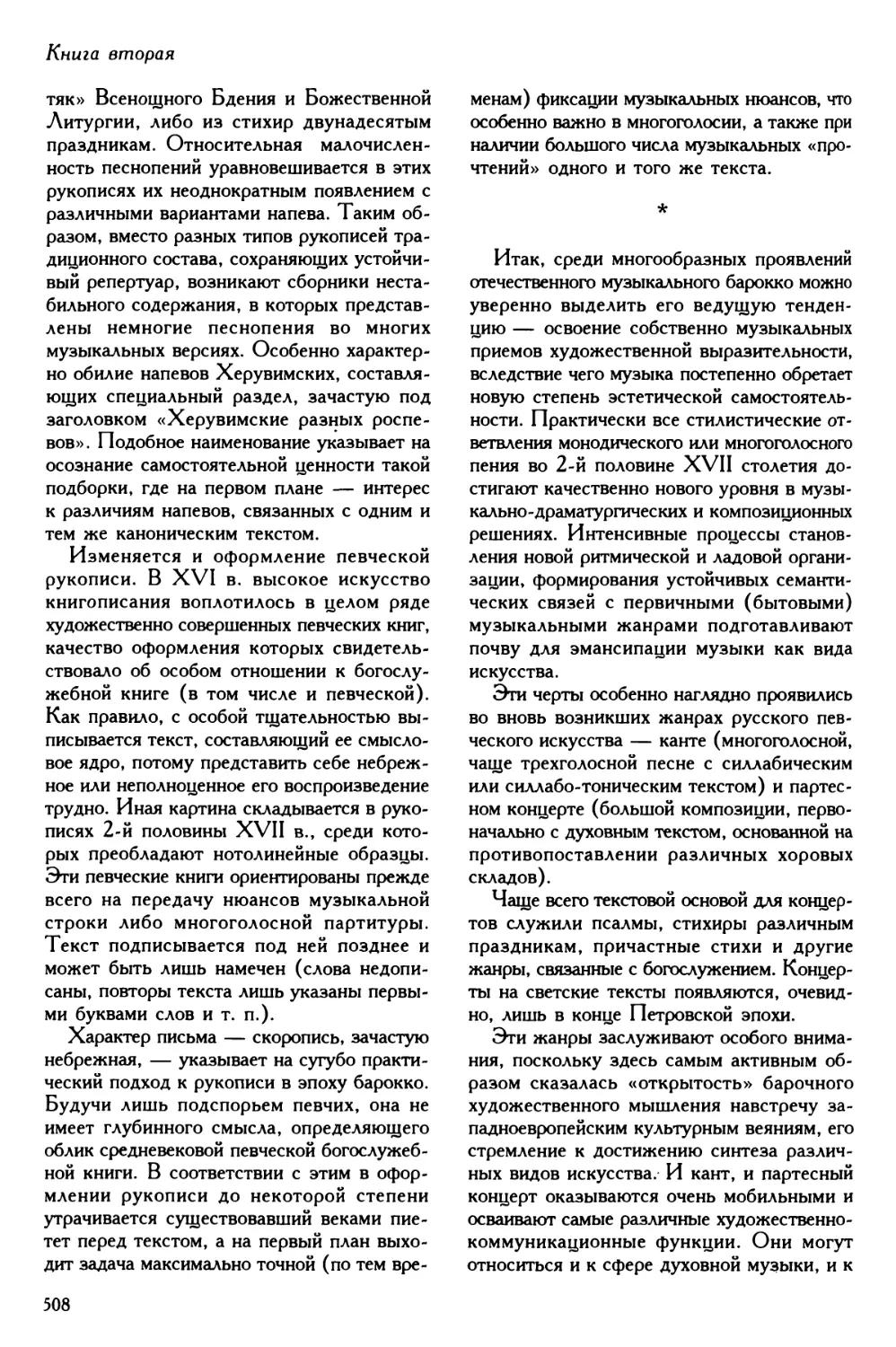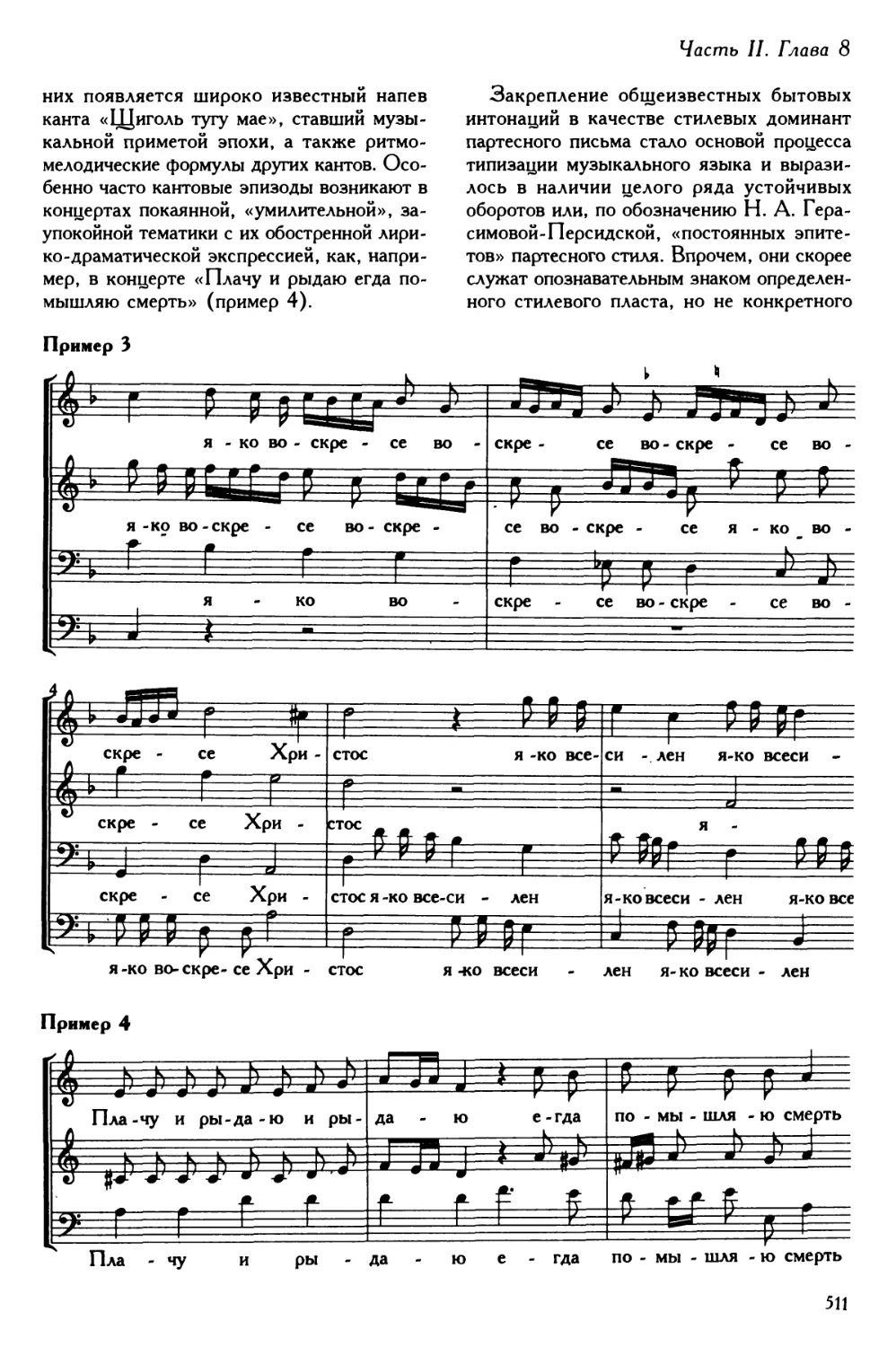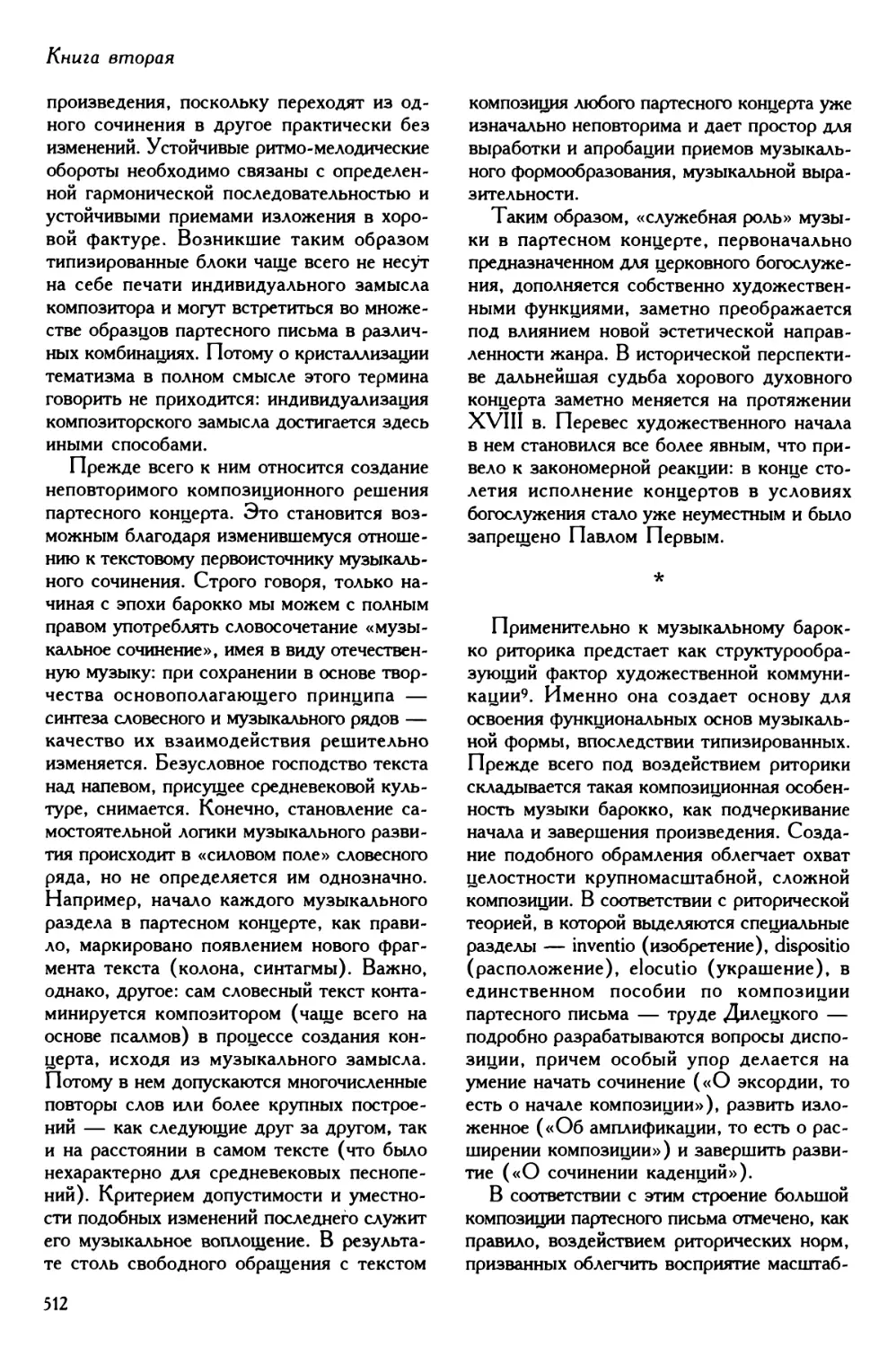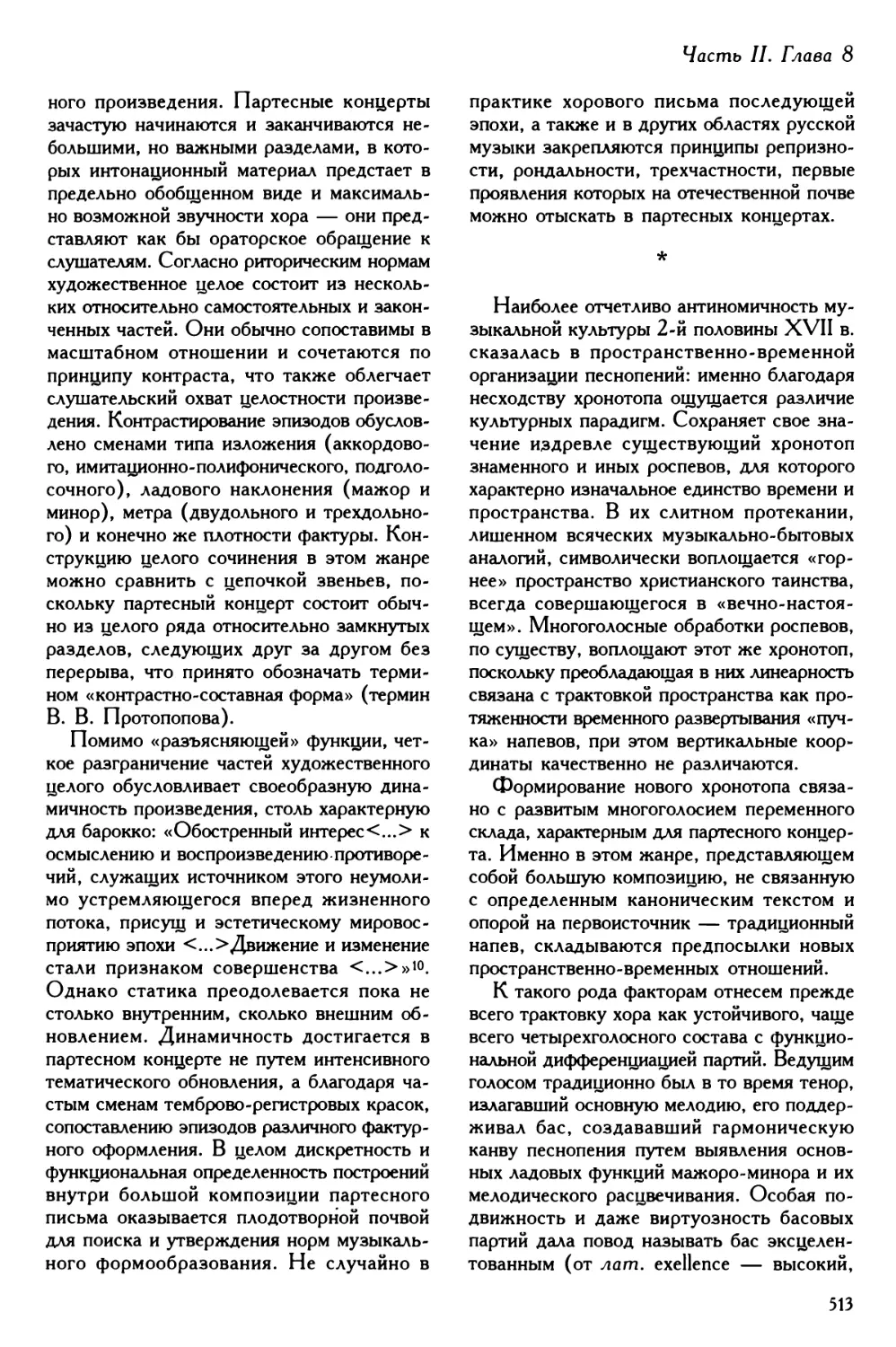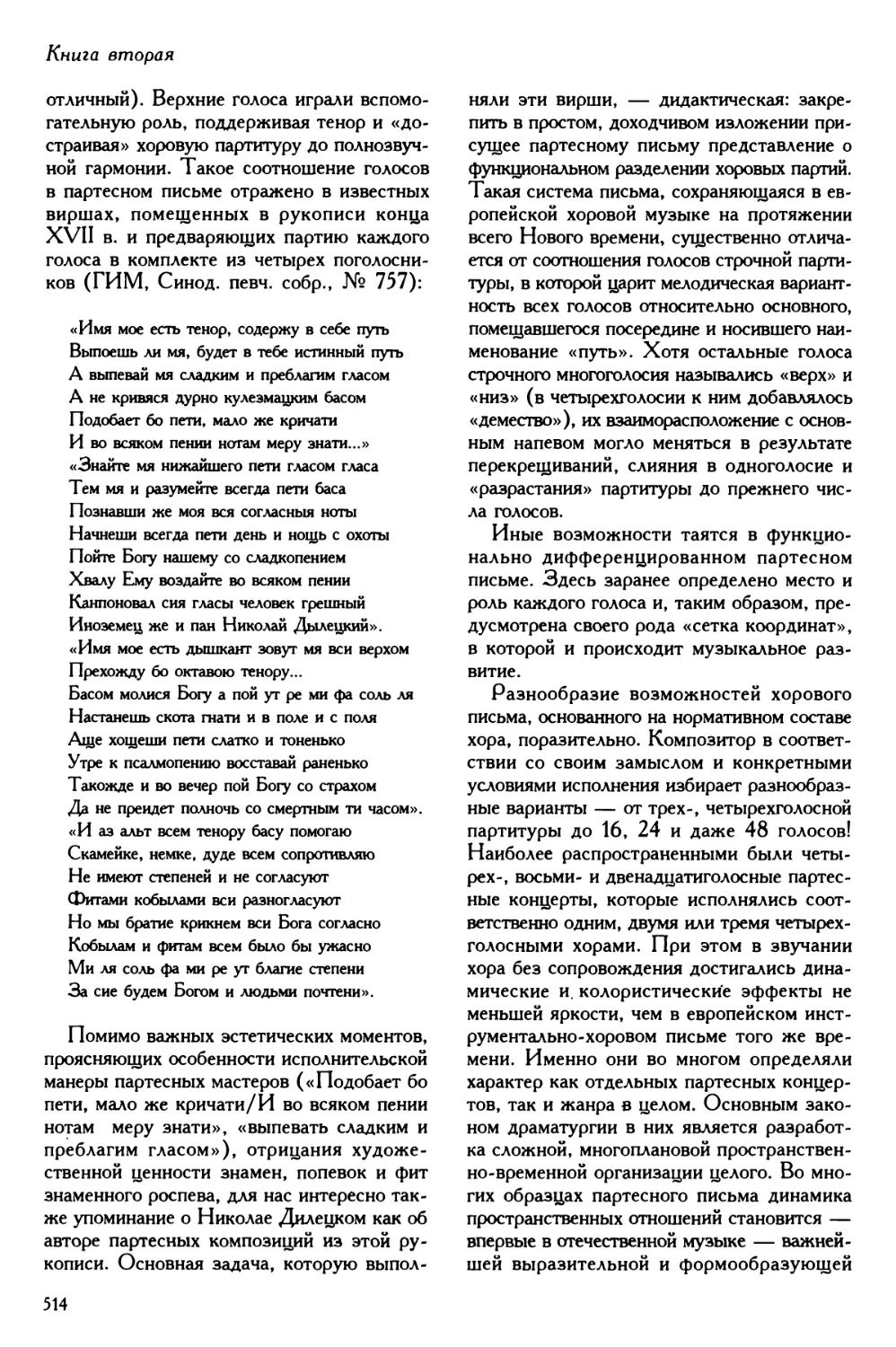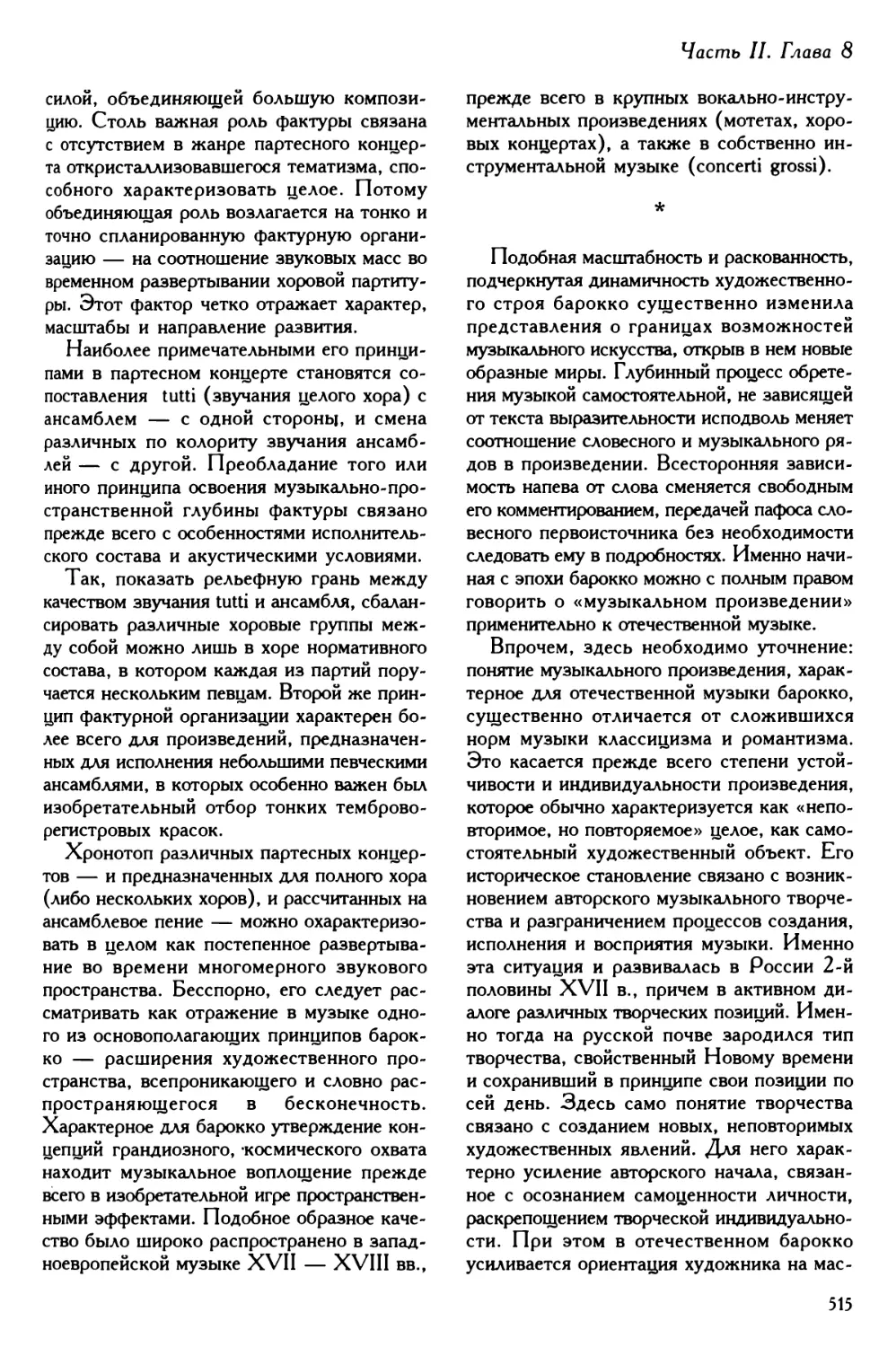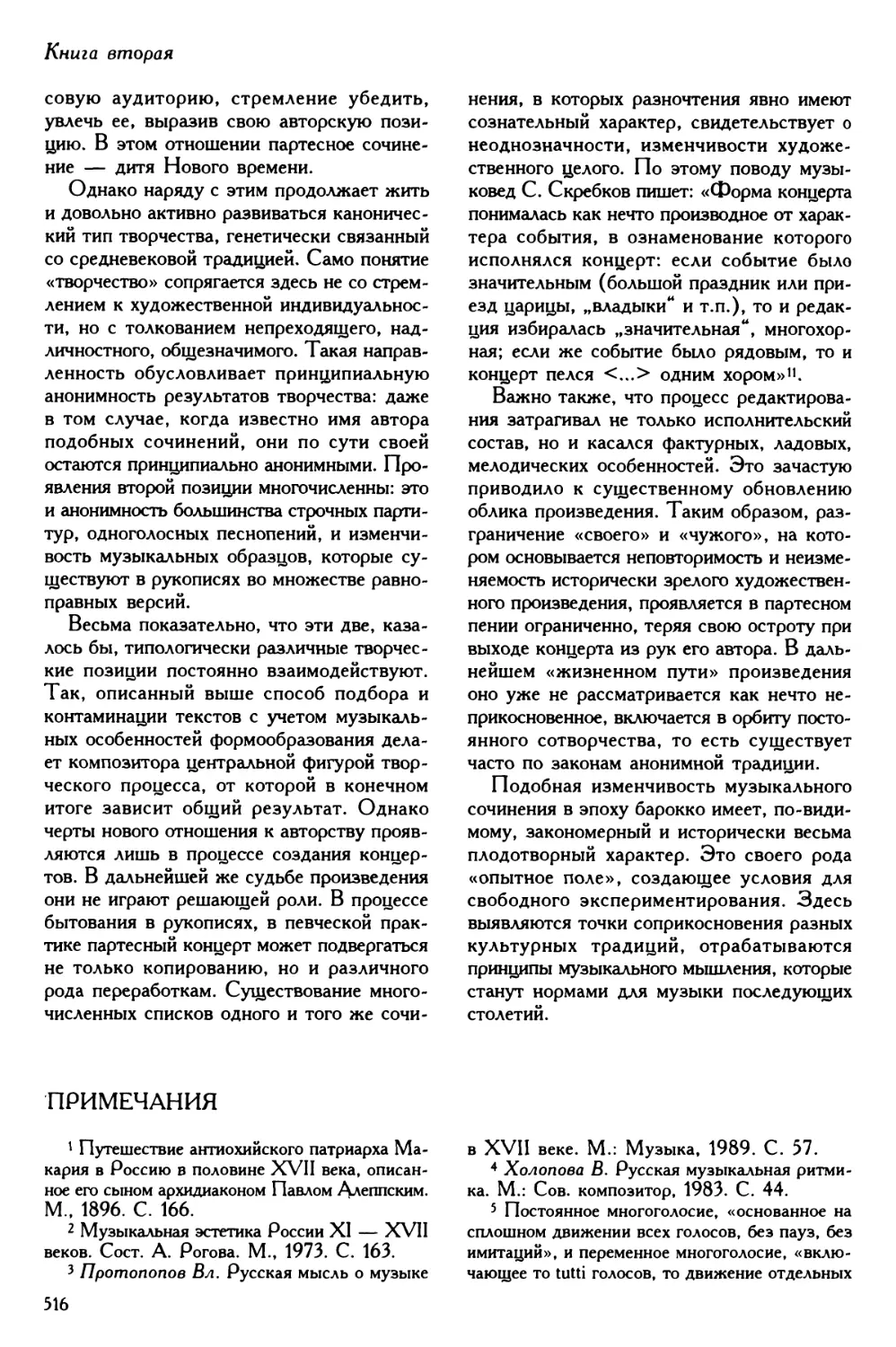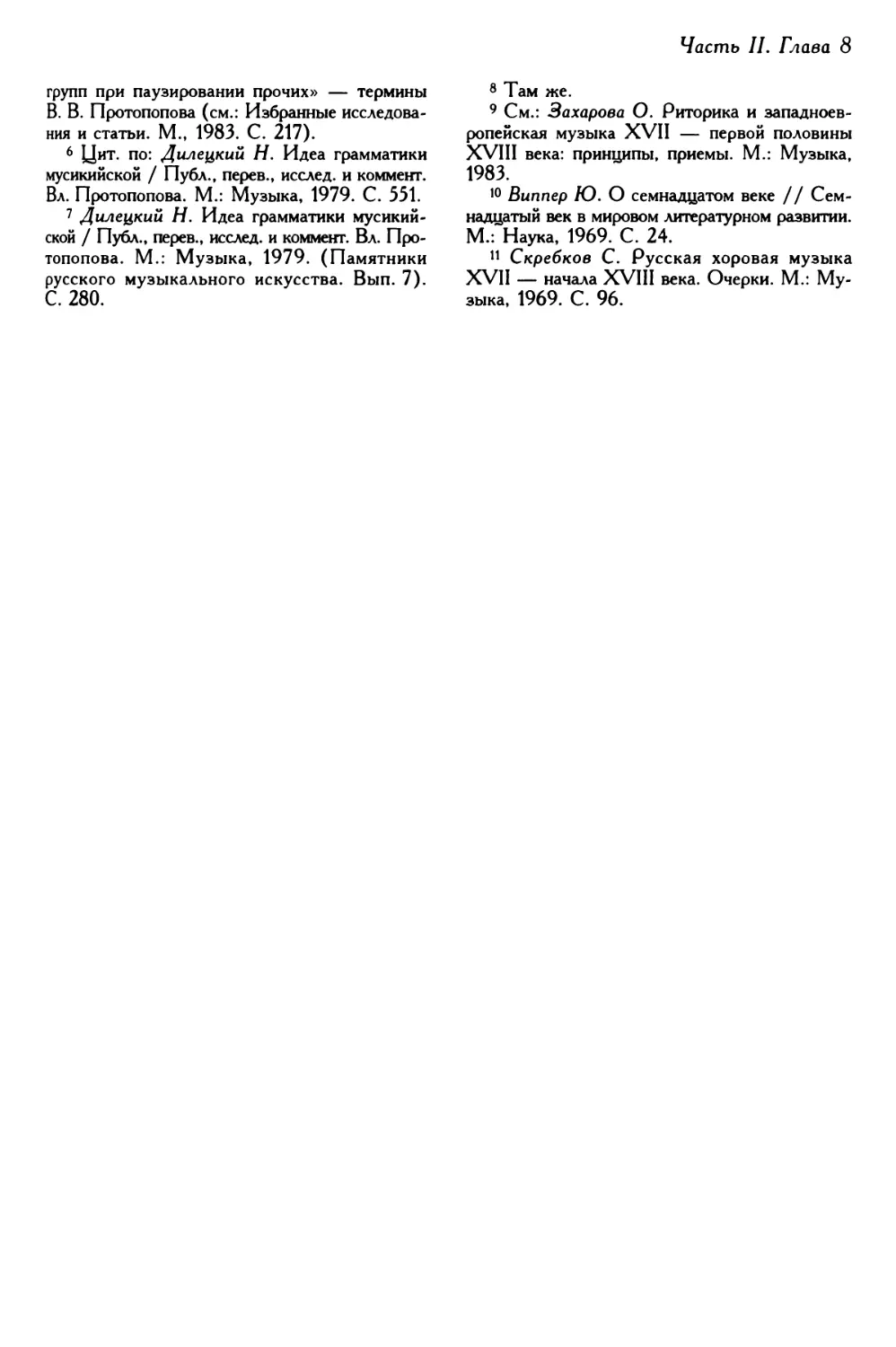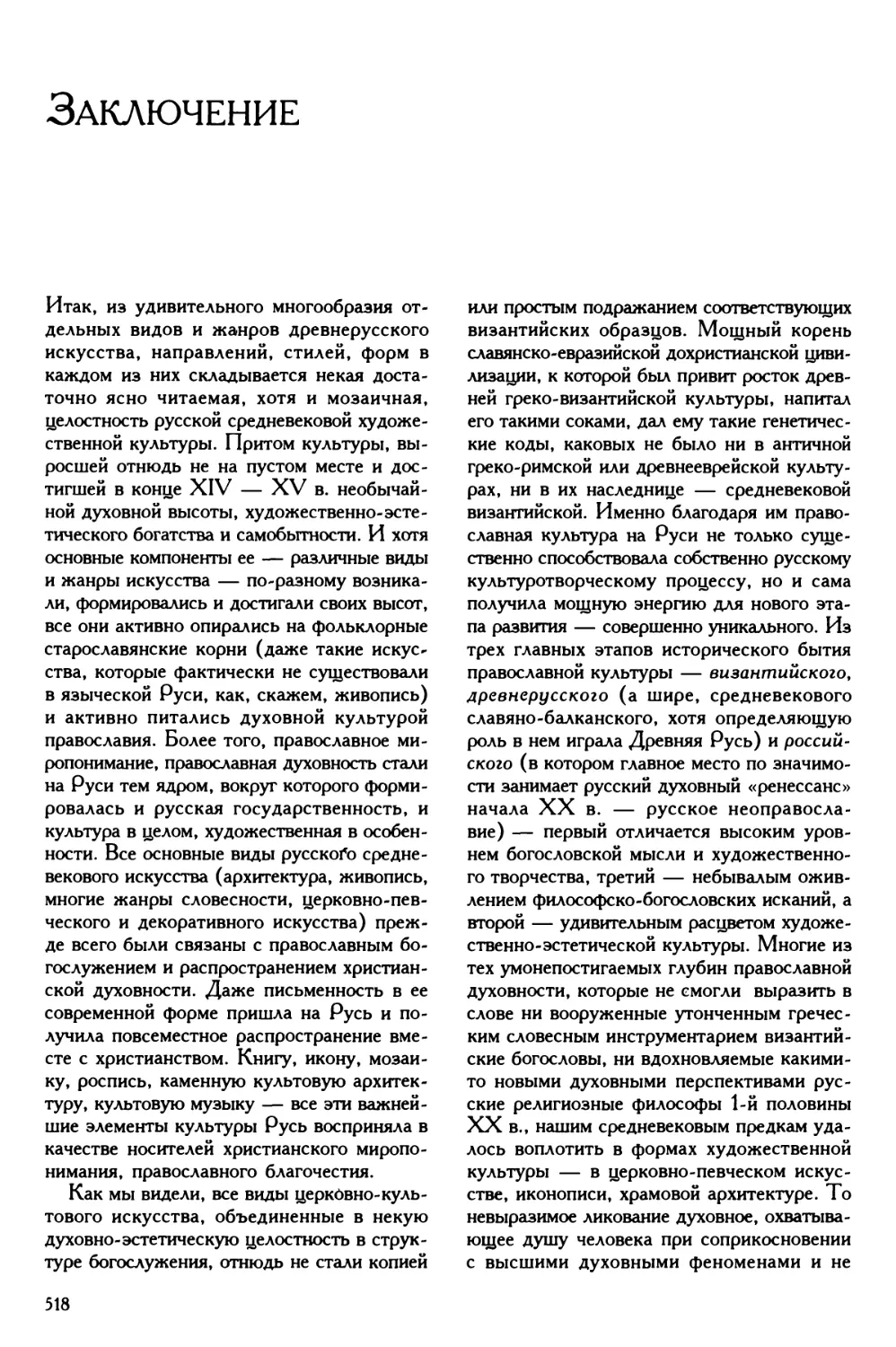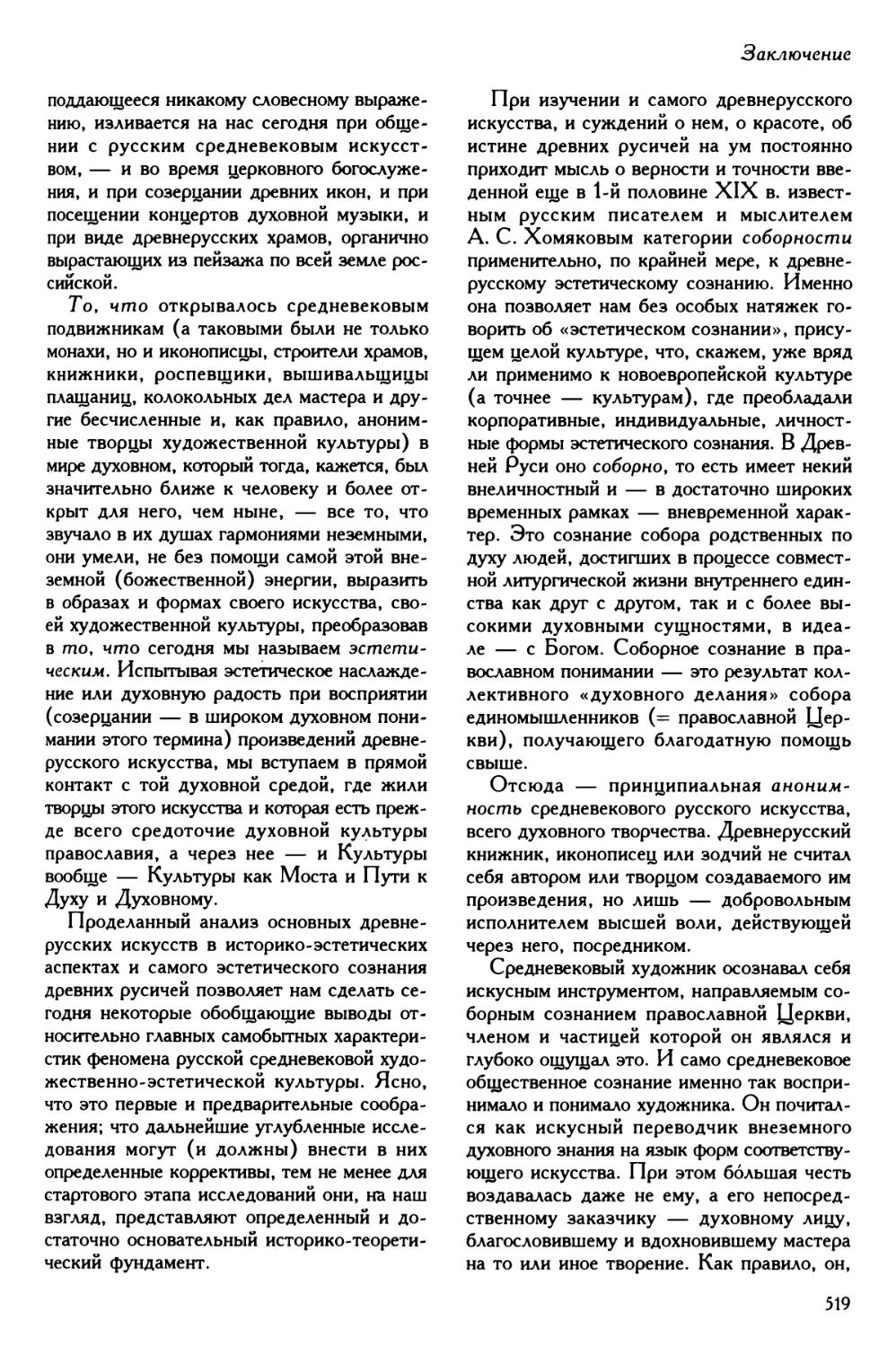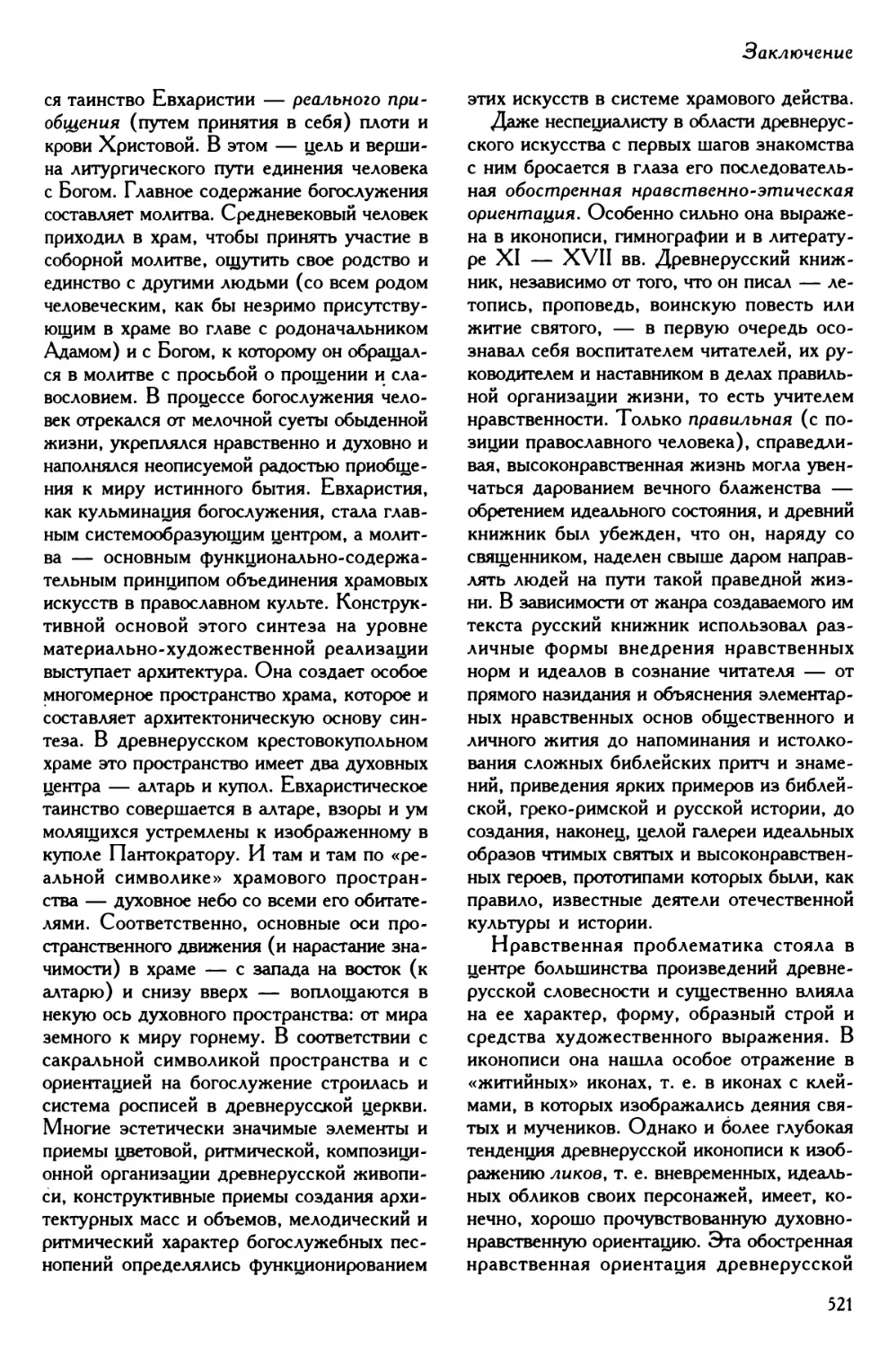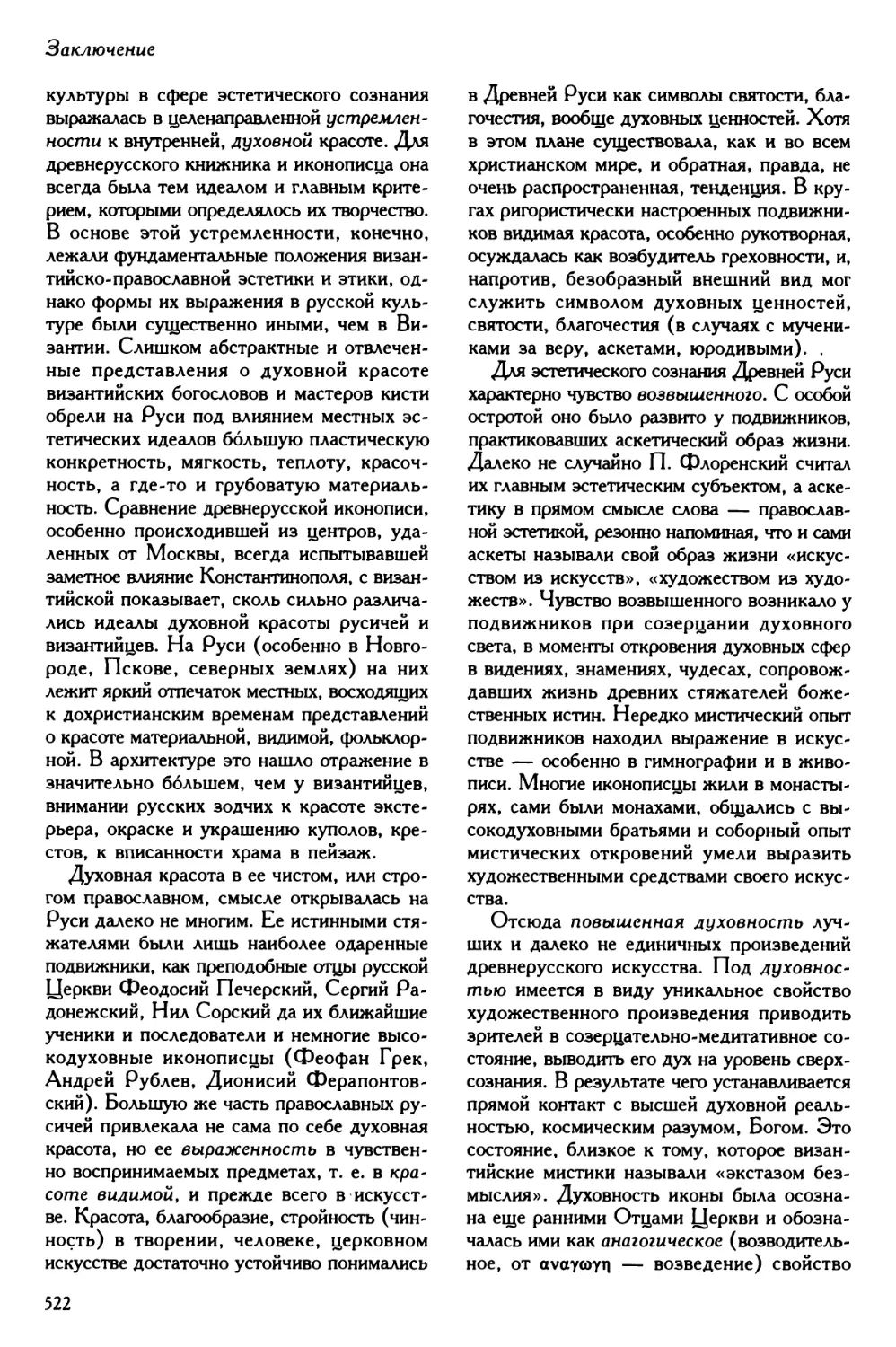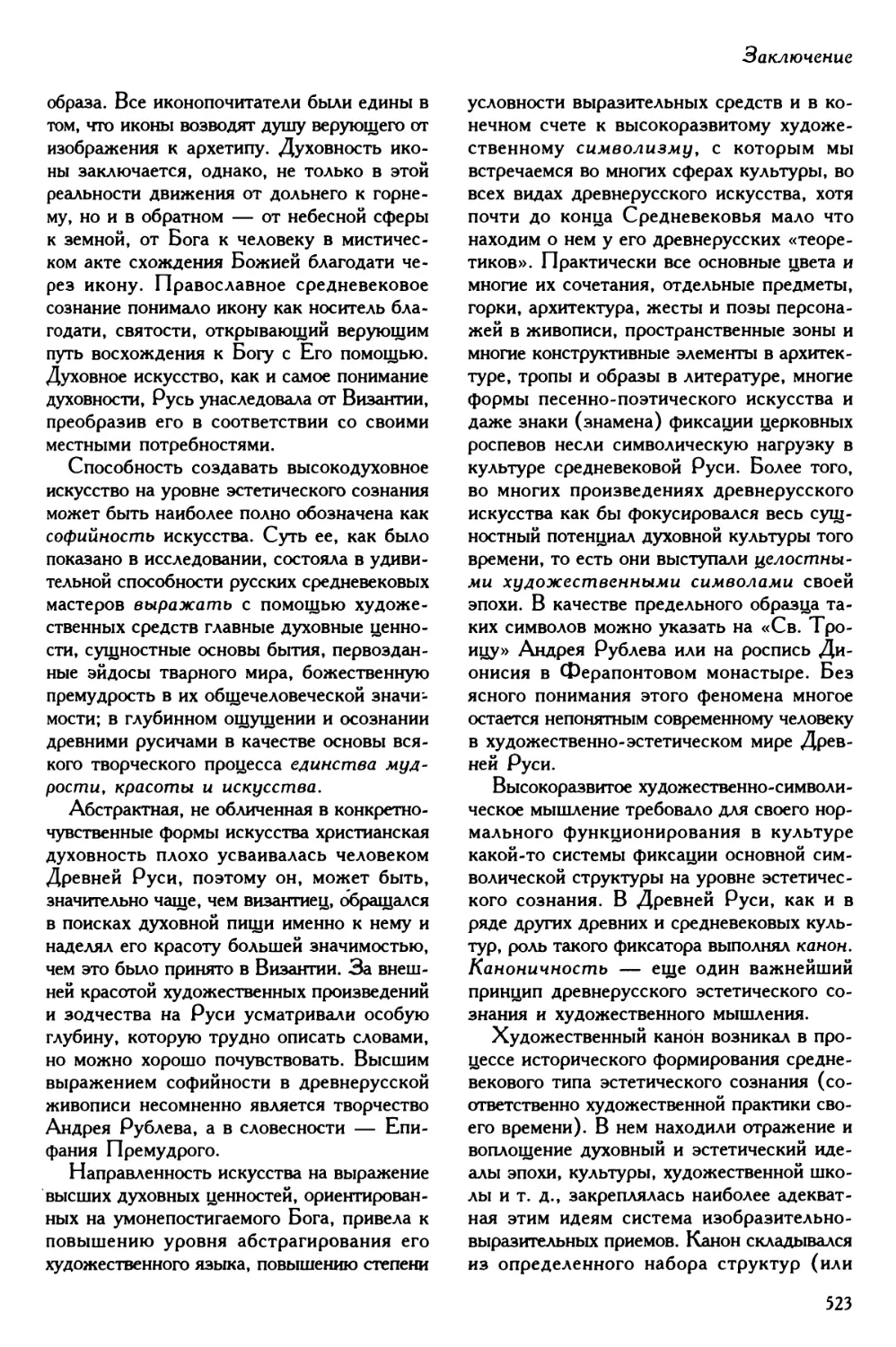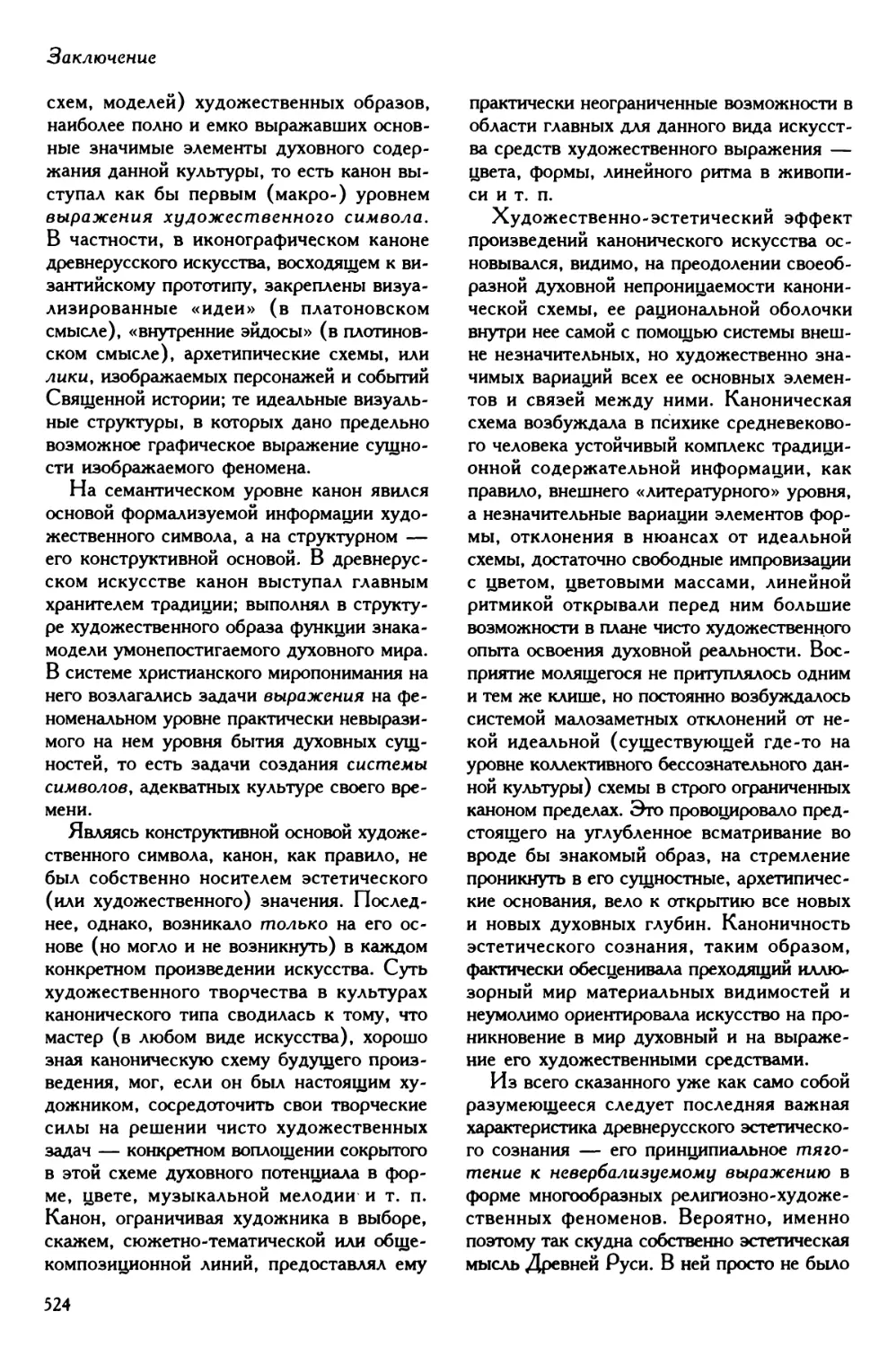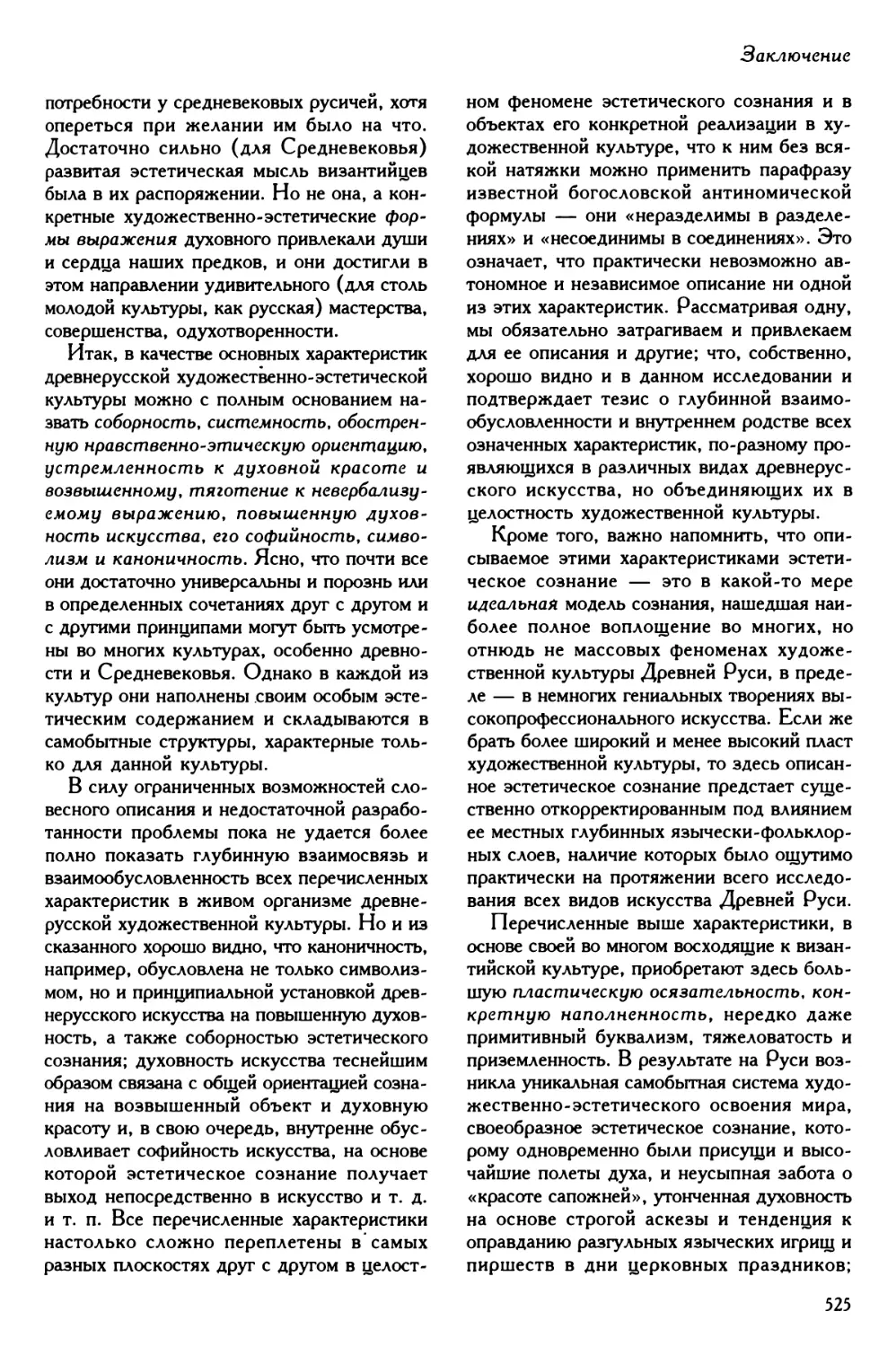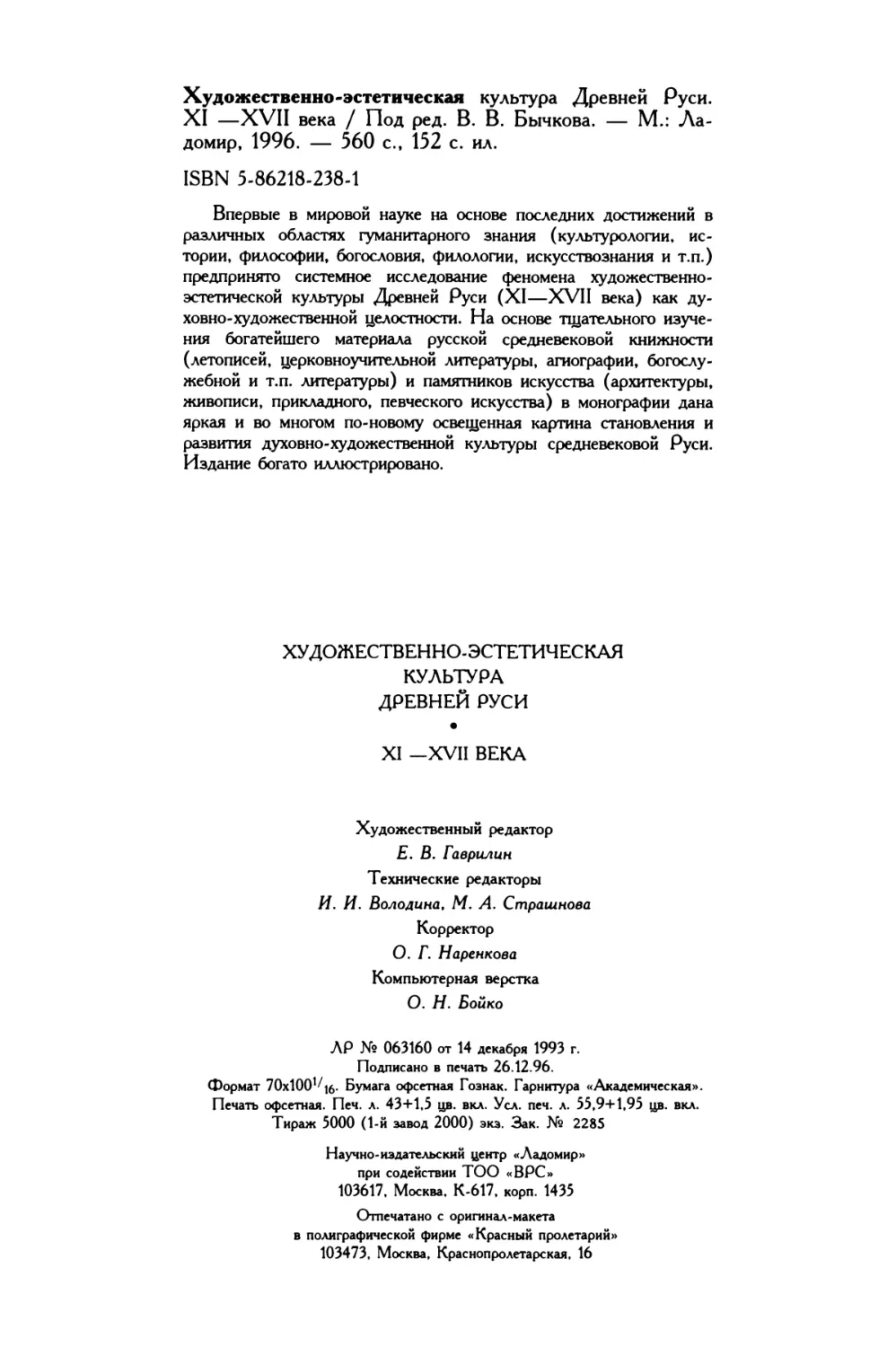Автор: Лихачев Д.С. Баранова Т.Б. Комеч А.И. Конон В.М.
Теги: культура древней руси история древней руси
ISBN: 5-86218-238-1
Год: 1996
Текст
МОСКВА
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЛАДОМИР»
Руководитель проекта,
ответственный редактор В. В. БЫЧКОВ
Авторский коллектив:
Т. Б. Баранова А. И. Комеч
И. А. Бондаренко В. М. Конон
И. Л. Бу сева-Давыдова Д. С. Лихачев
В. В. Бычков И. Е. Лозовая
Г. К. Вагнер П. А. Раппопорт
M. H. Громов Л. А. Черная
Н. В. Заболотная Л. А. Щенникова
Ученый секретарь Н. Б. Манъковская
Научно-вспомогательная работа выполнена Л. С. Бычковой
Художественное оформление В. С. Стуликова
© Авторы (см. выше), 1996.
© В. С. Стуликов. Художественное
оформление, 1996.
© Научно-издательский центр
ISBN 5-86218-238-1 «Ладомир», 1996.
Содержание
КНИГА ПЕРВАЯ
XI — XVI ВЕКА
КНИГА ВТОРАЯ
XVII ВЕК
Часть I
Становление художественно-
эстетической теории в россии
Часть II
Художественно-эстетическая
культура
Введение 7
Глава 1. Эстетическое сознание Древней
Руси 15
Глава 2. Образ Софии Премудрости Божией
как символ Древней Руси 46
Глава 3. Поэтика литературы 57
Глава 4. Эстетика древнерусского города 95
Глава 5. Поэтика архитектуры m
Глава 6. Эстетика древней пластики 131
Глава 7. Архитектура 140
Глава 8. Живопись 195
Глава 9. Декоративно-прикладное
искусство 255
Глава 10. Церковно-певческое искусство 267
Глава 1. Постсредневековые
реминисценции 303
Глава 2. Симеон Полоцкий 313
Глава 3. Юрий Крижанич 328
Глава 4. Николай Милеску Спафарий 337
Глава 5. «Урядник сокольничья пути» 345
Глава 6. Теория живописи 352
Глава 7. Музыкальная эстетика 358
Глава 1. Поэтика литературы 375
Глава 2. Эстетика первого театра 390
Глава 3. Эстетика города 403
Глава 4. Архитектура 426
Глава 5. Живопись 458
Глава 6. Декоративно-прикладное
искусство 480
Глава 7. Традиционное направление церковно-
певческого искусства 490
Глава 8. Барочные формы музыкальной
культуры 505
Заключение 518
ПРИЛОЖЕНИЯ
Иллюстрации 527
Библиография 531
Список иллюстрации 547
Список сокращении 553
Введение
Конец XX столетия — это подведение
итогов во многих сферах человеческого
бытия и прежде всего в истории Культуры.
Сегодня очевидно, что Культура с большой
буквы, как рукотворная одухотворенная
среда обитания человека и
духовно-материальное состояние человеческого бытия,
находится в процессе некоего глобального
кризиса, или перелома, перехода в какое-то
принципиально иное качество. Возможно,
уже не в ее традиционном понимании, но
чего-то принципиально иного. Здесь не
место развивать эту тему, но следует
подчеркнуть, что именно сейчас, как никогда
ранее, важно осмыслить, что же это
такое — уходящая Культура, та среда,
которую человечество творило в течение
последних нескольких тысячелетий и в которой
существовало худо-бедно и еще
продолжает жить вплоть до сегодняшнего дня. И где
мы находимся сейчас? В чем суть того
кризиса или перелома, который мы ощущаем
вот уже в течение целого столетия, а кое-
кто из мудрых мыслителей и чутких
художников предощутил его еще и в прошлом
веке? В чем причины этого перелома и
каковы тенденции дальнейшего движения?
Ясно, что сегодня мы не можем дать
толкового ответа ни на один из этих
вопросов, но также ясно, что именно сегодня
настало время и появились объективные
возможности начать работу по подготовке
материалов для грядущих исследователей,
которые и должны будут дать эти ответы и
себе и Истории. Ибо эпоха всякого
перехода, перелома, кризиса предоставляет
богатейший материал для исследователей, и
блажен тот из них, кому посчастливилось
жить в такую эпоху. Здесь встречается
старое и новое, и если новое пока совершенно
неясно и непонятно (налицо только какие-
то принципиально небывалые тенденции и
формы), то старое еще живо и впервые (по
сравнению со всеми предшествующими
временами) предстало в виде некой
целостности — от начала до своего логического
конца. При этом современные исследователи
культуры находятся в какой-то мере в
совершенно уникальной ситуации во многих
отношениях. Во-первых, потому, что
подобного по масштабам и качеству перелома еще,
пожалуй, не было в обозримый для
человеческой истории период Культуры;
во-вторых — что во все предшествующие эпохи,
правда, менее глобальных переломов
(например, при переходе от античности к Средним
векам) человечество не имело потребности
осмысливать их суть и характер1.
В-третьих, только сегодня наука обретает наконец
более-менее серьезную методологию,
инструментарий и просто зрелость для того,
чтобы всерьез заняться изучением столь
сложного состояния бытия, как Культура.
Конечно, хотелось бы взяться сразу за
весь этот огромный феномен да и осмыслить
его целиком и расставить все точки над i
одним махом. Однако уровень современной
науки позволяет лишь снисходительно
улыбнуться утопизму этого юношеского рвения.
Только постепенный, поступенчатый
тщательный анализ всех этапов исторического
развития Культуры во всех ее компонентах
может привести в конечном счете к
желаемому результату.
Авторы данного исследования хорошо
сознают и привлекательность сверхзадачи,
и остроту и уникальность ситуации, и свои
реальные возможности. Они поставили
целью внести свой скромный вклад, свой
кирпичик в здание будущей истории
Культуры — подвести итог почти столетним
достаточно многочисленным, хотя и
несистематическим штудиям в области древнерусской
художественной культуры, как важнейшего
этапа русской культуры и существенного
слоя в общей Культуре человечества, еще
7
Введение
недооцененного мировой наукой. Да,
собственно, что здесь и могла сделать эта в
какой-то мере мифическая «мировая наука»,
когда и сами отечественные ученые лишь
только в последние десятилетия стали
всерьез осознавать значимость этого периода в
истории русской культуры. И осознание это
проходит отнюдь не беспрепятственно и
однозначно...
На сегодняшний день в нашей науке
много сделано для изучения отдельных
составляющих русской средневековой (или
древнерусской, как принято традиционно
обозначать этот период) художественной
культуры — словесности (или литературы),
изобразительного искусства, архитектуры,
декоративного искусства; в меньшей мере —
церковно-певческого искусства,
градостроительства, эстетики2. Настало время
подвести некоторый итог этим, часто
разрозненным, слабо коррелирующим друг с другом
исследованиям, чтобы наметить первый
абрис этого в основе своей целостного
явления и осознать пути и направления
дальнейших исследований.
Осмысление древнерусской
художественной культуры как некоего самобытного
феномена дает возможность яснее понять и
русскую культуру в целом до нашего
времени включительно, ибо основное ядро ее
сложилось именно в Средние века и нашло
свое наиболее адекватное выражение именно
в художественной, а точнее — в
художественно-эстетической среде.
Таким образом, в данной работе
предпринята попытка не просто подвести
механический итог тому, что наработано к
нашему времени искусствоведами и филологами,
но дать некое обобщающее осмысление
этого материала. Речь у нас идет не только о
разных видах искусства (хотя и о них
прежде всего, ибо они — основа), не просто о
художественной культуре, как их
органической совокупности (хотя и о ней,
естественно, ибо она — содержание
исследования), но о художественно-эстетической
культуре. Вот на этом эстетическом
(необъяснимом, неуловимом и
раздражающем ригористов и
буквалистов-архивариусов от науки) аспекте художественной
культуры Древней Руси и сделан некоторый
(умеренный) акцент. Почему и для чего?
На основе многолетнего личного опыта
исследований истории искусства,
философии, религии, культуры и изучения
соответствующих современных научных трудов в
этих областях мне представляется, что
именно эстетическое сознание является тем
цементирующим материалом, теми
скрепами, а если хотите — той плазмой, благодаря
которой и возникает целостность
художественной культуры, да, пожалуй, и
Культуры в целом. Здесь нет, видимо,
необходимости давать еще одно определение этого
трудно дифференцируемого состояния духа.
Их можно найти во Введениях
практически ко всем моим книгам3, и заитересован-
ному читателю они известны. Именно
эстетическое сознание, достаточно целостное и
самобытное для каждого этапа истории
культуры, того или иного региона, этноса и
т. п., находя наиболее адекватное
выражение в феноменах разных искусств, внешне
часто имеющих мало общего, объединяет их
в целостный организм Культуры, выявляя
ее сущностные основания.
Изучая художественный язык или
поэтику отдельных искусств на макро- и
микроуровнях, их историческую эволюцию, с
одной стороны, тот духовный материал, на
основе и для выражения которого они
возникли, — с другой, уровень собственно
эстетической рефлексии соответствующего
периода культуры — с третьей, мы можем
на основе всего этого попытаться выявить
с достаточной степенью вероятности и
специфические особенности художественной
культуры в целом.
Именно поэтому авторы данной работы
предприняли попытку параллельного
изучения главных для древнерусской культуры
видов искусства, прежде всего связанных с
православным культом: живописи,
архитектуры, декоративно-прикладного и церковно-
певческого искусств, в аспекте осмысления
исторического становления их
художественного языка и развития соответствующих
эстетических представлений.
Исследование состоит из двух книг.
Первая посвящена XI — XVI векам,
вторая — XVII веку, как переходному от
Средних веков к Новому времени. Первая
книга содержит десять глав. Четыре главы
посвящены наиболее общим философско-
8
Введение
эстетическим аспектам древнерусской
художественной культуры; остальные —
главным наиболее развитым видам
древнерусского искусства, составляющим основу
художественной культуры средневековой
Руси.
На богатом материале древнерусских
письменных источников (летописей,
агиографий, богословских текстов, гимнографий,
«хождений», «повестей» и т. п.)
реконструируется эстетическое сознание древних
русичей, выявляется его самобытность.
Показаны его истоки (славянские и
византийские) и характерные особенности. На
основе большого конкретного материала
сделаны выводы о том, что в Древней Руси
осуществлялся своеобразный синтез
славянского менталитета, византийского
религиозно-философского мышления, а также
православного миропонимания, культа и
церковного искусства. В результате возникла
самобытная художественная культура
средневековой Руси с ее уникальными в
духовном и художественном отношениях
ценностями. Показано, что древние русичи
времен Киевской и Московской Руси
сформировали свои достаточно оригинальные
представления о таких традиционных
эстетических феноменах, как прекрасное,
возвышенное искусство. Наряду с этим они
по-своему трансформировали многие
представления и категории византийской
эстетики (такие, как образ, символ, канон,
икона и др.). Соборность, каноничность,
софийность, духовность искусства
приобрели в художественно-эстетической
культуре средневековой Руси доминирующее
значение в качестве опорных принципов
эстетического сознания и в художественной
практике. По-своему были переосмыслены
на Руси и такие специфические сферы
византийской культуры, как литургическая
эстетика и эстетика аскетизма. Многие
феномены византийской эстетики под
влиянием глубинных архетипов славянского
менталитета и мощного фольклорного начала
трансформировались в направлении большей
пластической осязательности, вещной
конкретизации, телесной экспрессивности, не
утрачивая при этом в лучших образцах
древнерусского искусства и литературы
высочайшей духовности.
В специальной главе подводятся итоги
многолетнего опыта изучения мировой
наукой художественно-эстетического
своеобразия древнерусской литературы как
важнейшего компонента русской средневековой
культуры. Показаны основные особенности
художественного языка средневековой
книжности; много внимания уделено поэтике
художественного времени и пространства, ее
связи с общемировоззренческой
проблематикой русского Средневековья.
В качестве новой, во многом еще
дискуссионной проблемы в исследовании
поднимается тема эстетики русского города. Здесь
на основе тщательного изучения
археологического материала, летописных источников,
конкретных памятников архитектуры и
градостроительства предпринимается попытка
формулирования гипотезы об эстетической
организации городской среды в Древней
Руси. Практически нет (да, видимо, и не
могло быть) конкретных источников,
подтверждающих, что подобная задача
сознательно ставилась строителями русских
городов, — прежде всего их центральных
частей (кремлей, «детинцев», «кромов» и т. п.).
Однако на внесознательном уровне
эстетические принципы, видимо, играли далеко не
последнюю роль во внешне, казалось бы,
стихийной, происходившей на протяжении
всей истории Руси застройке и
перестройке городской среды. В монографии
предпринята интересная попытка реконструкции
некоторых из этих принципов с
привлечением конкретного материала. Выявляется
связь между функциональными и
эстетическими принципами средневекового
градостроительства.
В четырех последних главах,
посвященных архитектуре, живописи,
церковно-певческому и декоративному искусству, на
основе новейших искусствоведческих
достижений в исследованиях древнерусской
культуры (как в методологическом, так и в
конкретно-историческом аспектах)
проводится анализ основных видов русского
средневекового искусства. На материале главных
школ (для иконописи —«писем») и
направлений (особенно подробно разработанных
для древнерусской живописи) показаны
духовно-эстетическая и художественная
значимость и самобытность (в целом при уче-
9
Введение
те соответствующих культурных влияний и
типологических параллелей) основных
составляющих русской средневековой
художественной культуры, прослеживаются ее
исторические трансформации и факторы,
стимулировавшие их.
Вторая книга посвящена XVII веку —
переходному периоду от собственно
средневековой культуры к новоевропейской. Она
состоит из двух частей. В первой
практически впервые в науке подробно
анализируется зарождение и развитие в России
художественно-эстетических теорий,
оказавших существенное влияние на последующий
ход развития русской культуры. В XVII
веке были, с одной стороны,
сформулированы некоторые положения собственно
средневековой идеологии и возникло
консервативно-апологетическое направление в
защиту уже уходящей в историю культуры.
А с другой, на основе средневековых
традиций и под влиянием идей и
художественной практики западноевропейской
культуры начали складываться специфические
художественно-эстетические и даже
искусствоведческие концепции и теории (искусства
слова, живописи, музыки), аналогов
которым нельзя найти ни в одной другой
культуре. Дело в том, что теоретики искусства
XVII века пытались сформулировать новые
художественно-эстетические принципы,
опираясь на конгломерат во многом
противоречивых исходных теорий,
мировоззренческих и художественных установок (это и
античные теории в интерпретации греко-
византийских и латинских авторов; и
православные теории иконы, образа, символа;
и новоевропейские теории музыки,
живописи, словесных искусств). И за всем этим
стоял еще и многовековой опыт богатой
русской средневековой художественной
практики. Большую роль в становлении новой
русской эстетики и в создании первых
трактатов по искусству в России сыграли
выходцы из западных русских, славянских и
других земель. Некоторым из них (Симеону
Полоцкому, Юрию Крижаничу, Николаю
Милеску Спафарию) посвящены
монографические главы в этой части. Подробно
анализируется становление оригинальной
музыкальной эстетики в России,
разработанной Кореневым и Дилецким.
Во второй части книги анализируются
художественные особенности древнерусского
искусства XVII века. При этом большое
внимание уделяется путям поиска русской
культурой своего направления движения
от средневекового типа к
новоевропейскому. Выявляются особенности
художественного мышления творцов русского
искусства в эту бурную, во многих отношениях,
эпоху.
Редактор и авторы хорошо сознают, что
на сегодня степень разработанности
отдельных аспектов и составляющих древнерусской
художественной культуры различна; что
понимание конкретных проблем,
мировоззренческие установки, методика анализа и
стилистика изложения у разных авторов
различны. Поэтому они не ставили своими
целями ни унификацию индивидуальных
подходов, ни достижение одинакового
уровня завершенности, ни обобщения тех или
иных проблем и аспектов исследования.
Фактически сделан первый шаг на пути
осуществления работы подобного типа и он во
многом носит поисковый характер.
Подводятся итоги одного (можно сказать,
узкоконкретно-дифференциального) этапа
исследований и намечаются пути к новому
(интегрально-обобщающему) , аналитическому.
Именно под этим углом зрения и следует
рассматривать предлагаемую вниманию
читателей работу.
Авторы исследования: Баранова Т. Б.
(кн. 2, ч. 1, гл. 7. Музыкальная эстетика);
Бондаренко И. А. (кн. 1, гл. 4. Эстетика
древнерусского города; кн. 2, ч. 2, гл. 3.
Эстетика города); Бусева-Давыдова И. Л.
(кн. 1, гл. 9. Декоративно-прикладное
искусство; кн. 2, ч. 2, гл. 4. Архитектура; гл.5.
Живопись; гл. 6. Декоративно-прикладное
искусство); Бычков В. В. (Введение, кн. 1,
гл. 1. Эстетическое сознание Древней
Руси; кн. 2, ч. 1, гл. 1. Постсредневековые
реминисценции, гл. 3. Юрий Крижанич, гл. 4.
Николай Милеску Спафарий, гл. 5.
«Урядник соколничья пути», гл. 6. Теория
живописи, Заключение); Бычкова Л. С.
(Библиография, указатели,
научно-вспомогательная работа); Вагнер Г. К. (кн. 1, гл. 6.
Эстетика древней пластики); Громов M. H.
(кн. 1, гл. 2. Образ Софии
Премудрости Божией как символ Древней Руси);
10
Заболотная Н. В. (кн. 2, ч. 2, гл. 8.
Барочные формы музыкальной культуры); /Co-
меч А. И. (кн. 1, гл. 5. Поэтика
архитектуры); Конон В. М. (кн. 2, ч. 1, гл. 2.
Симеон Полоцкий); Лихачев Д. С. (кн.1,
гл. 3. Поэтика литературы; кн. 2, ч. 2,
гл. 1. Поэтика литературы); Лозовая И. Е.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Хотя культурологические экскурсы
христианских апологетов II — III веков можно
рассматривать в качестве первой попытки
подобного осмысления, все-таки она не была, конечно,
столь осмысленной и целенаправленной,
какой становится культурология сегодня.
(Подробнее о культурологии апологетов см.:
Бычков В. В. Эстетика поздней античности.
Введение
(кн. 1, гл. 10. Церковно-певческое
искусство; кн. 2, ч. 2, гл. 7. Традиционное
направление церковно-певческого искусства);
Раппопорт П. А. (кн. 1, гл. 7.
Архитектура); Черная Л. А. (кн. 2, ч. 2, гл. 2.
Эстетика первого театра); Щенникова Л. А.
(кн. 1, гл. 8. Живопись).
II - III века. М., 1981. С. 39 - 146.)
2 Подробнее см. Библиографию.
3 См. последние из них: Бычков В. В.
Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
С. 9; Он же. Русская средневековая эстетика.
XI — XVII века. М., 1992. С. 8; АЕ-
STHETICA PATRUM. T. I. Апологеты.
Блаженный Августин. М., 1995. С. 8.
КНИГА ПЕРВАЯ
XI-XVI BEKA
Глава 1
Эстетическое
сознание
Древней Руси
ализ
сохранившихся до наших дней памятников
восточнославянской художественной культуры первого
тысячелетия показывает, что сущность
эстетического сознания древних славян во
многом сводилась к комплексу
положительных эмоций от ощущения человеком своей
близости к природе, к земле как источнику
жизни1. Радость этого ощущения
«составляет основное содержание древнейшего
искусства славян»2. Сакральная близость человека
к природе была хорошо выражена во
многих произведениях старославянского
искусства, она сохранялась в многочисленных
памятниках народного творчества и в
фольклоре на протяжении всего Средневековья,
она же в одухотворенном и возвышенном
аспектах составляет глубинную, архетипичес-
кую основу многих выдающихся
произведений древнерусского искусства,
ориентированного на христианский культ; наконец,
обостренное ощущение этой таинственной
близости придавало своеобразную окраску всей
древнерусской эстетике, существенно отличая
ее от любой другой средневековой эстетики.
В родинных и других обрядах древних
славян в полухудожественной форме были
воплощены их восторг и ужас, радость и
удивление от ощущения своей реальной
причастности к тайне постоянно возникающей
и также постоянно уходящей в глубины
природы жизни. Вся
эмоционально-эстетическая жизнь древнего славянина вращалась
вокруг этой таинственной связи человека и
природы. Выразить ее он пытался в своем
искусстве, а повлиять на нее старался с
помощью культовых обрядов и всевозможных
магических действ. Природа в целом и в
отдельных ее проявлениях, а также в своих
персонификациях в виде славянских богов
и божков занимала главное место в
системе ценностей древних славян.
Перед византийцем, воспитанным в
христианском духе, не стояло подобной
проблемы. Уже со времен поздней античности и
раннего христианства природа утратила в
греко-римском (а еще раньше — в
ближневосточном) мире свой сакральный смысл.
В системе христианских ценностей она стоит
на одной из низших ступеней, как
специально созданная среда обитания человека,
предназначенная исключительно для
удовлетворения его потребностей или для
использования ее в качестве карательного орудия
Богом при периодических наказаниях той
или иной части «грешного» человечества.
Соответственно системообразующим
принципом эстетического сознания христиан
выступало не отношение «человек —
природа», а оппозиция «человек — Бог».
Принятие Русью христианства не могло
поколебать глубинной архетипической
связи славянской духовной культуры
«человек — природа», но существенно
одухотворило ее, подняв на новый уровень. Это дало
новый творческий импульс развитию
эстетического сознания. С другой стороны,
христианская оппозиция «человек — Бог» не
была сразу воспринята на Руси во всей ее
византийской утонченности и глубине. При
первых контактах с христианской духовной
культурой древнерусские люди оказались
наиболее чувствительны именно к
конкретным художественно-эстетическим
реализациям этой оппозиции. В их сознании она
(сверху) приблизилась к родному для них
отношению «человек — природа», но
выступила в значительно более совершенных
формах художественного выражения, что и
предоставляло реальные возможности
новому этапу развития художественной
культуры на основе единения, казалось бы, столь
далеких друг от друга мировоззренческих
систем, как восточнославянская и
христианская. Более того, именно развитие русской
средневековой художественной культуры и
формирование нового эстетического
сознания способствовали и более углубленному
восприятию Русью и
философско-религиозных идей христианства. Христианство на
Руси было воспринято прежде всего и
глубже всего на уровне
художественно-эстетического сознания. И именно на этом
уровне Древняя Русь наиболее активно, плодо-
15
Книга первая
творно и самобытно развивала на
протяжении всего Средневековья свою духовную
культуру.
Сложнейшие «умонепостигаемые»
догматы христианства (тринитарный и христоло-
гический прежде всего) и богатый мир
религиозных переживаний средневекового
человека были выражены русскими
иконописцами в цвете и форме, пожалуй, не менее
глубоко и тонко, чем это удавалось сделать
наиболее талантливым византийским
мыслителям в слове (вспомним хотя бы «Троицу»
Рублева). Даже слово на Руси чаще всего
использовалось не в аспекте его жестко
заданной семантики, а в полисемии его
смысловых и эмоциональных оттенков, то есть
прежде всего в структуре художественных
образов. «Слово о полку Игореве» — не
просто поэма о неудачном походе русского
князя, это высокохудожественная
философия русского духа, размышления в
поэтических образах о судьбах Руси, о ее месте
и роли в универсуме (природном и
социальном) и в истории. И этот пример не
единичное исключение. Практически вся
древнерусская литература наполнена философией
в поэтических образах. Даже такое, казалось
бы, традиционно богословское произведение,
как «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона, поднимается на уровень
высоких философских обобщений, прежде
всего благодаря своей образно-поэтической
форме. Художественными образами
наполнены и первые русские летописи, и первые
жития святых, и многочисленные «Слова»
и проповеди.
Образ, в том числе и словесный, играл
в мышлении древних славян большую роль,
чем слово; система образов и мифологем
составляла основу их мифологического
сознания. С принятием христианства в
синкретическом сознании славян произошли (не
сразу, естественно, но на протяжении ряда
столетий) существенные изменения. Не
вдаваясь здесь подробно в анализ этой
сложнейшей проблемы, отмечу лишь, что
они связаны отнюдь не только с ударом,
нанесенным христианством по основным
славянским мифологемам. Не меньшую, роль в
трансформации древнеславянского сознания
сыграла качественно новая значимость слова
(прежде всего написанного, книжного) в
культуре, открывшаяся славянскому миру с
получением письменности и тех поистине
безграничных знаний и мудрости, которые
потоком хлынули на Русь после принятия
христианства в форме «писаний»,
написанного слова3.
Образ как основа мышления не
утрачивал своего главенствующего положения в
сознании древнерусского человека на
протяжении всего Средневековья; но
существенно возросшая значимость слова и
письменного словесного выражения основной
культурной информации не могла не
сказаться на всей системе мышления человека
средневековой Руси, повлияв на какие-то
глубинные основы его сознания, в том
числе и эстетического.
Первые века русской средневековой
культуры, приходящиеся в основном на
период Киевской Руси, пронизаны светлой
радостью узнавания нового, открытия
неизвестного. В свете нового миропонимания
иными предстали перед славянином и мир
природы, и сам человек, и их
взаимоотношения, не говоря уже о духовном
Абсолюте, осветившем все давно вроде бы
знакомые вещи и явления новым светом. До
бесконечности развернулись традиционные,
достаточно узкие горизонты —
географический и исторический, социальный и
духовный.
Осознавая все это, а главное, осознавая
себя целью и вершиной творения, образом
самого Творца, человек Киевской Руси с
детской непосредственностью радовался
открытию мира. Радостным
мироощущением наполнены вся его жизнь и творчество,
им одухотворено его эстетическое сознание;
оно выступало наконец важным стимулом
быстрого взлета культуры в Киевской Руси.
Всматриваясь в как бы только что
открывшийся ему мир — в природу, историю,
общество, в самого человека и в творения
рук его, древний русич прежде всего
переживает все это
эмоционально-эстетически — он радуется, изумляется, удивляется,
скорбит, страшится и восхищается. И из
этих эмоциональных реакций на мир,
зафиксированных древними книжниками,
выявляется комплекс его эстетических представлений.
Что же больше всего радовало человека
Киевской Руси, доставляло ему духовное
16
Глава 1
наслаждение? Опираясь на дошедшие до
нас литературные источники, мы можем
заключить, что таковым для древних русичей
была в первую очередь открывшаяся им с
принятием нового мировоззрения сама сфера
духа, которая до этого оставалась у
восточных славян вне поля их осознанного
внимания.
Книжная мудрость, сами книги прежде
всего являлись для людей Киевской Руси
источником духовного наслаждения, радости
приобщения к Истине.
Соответственно и главное значение
принятия христианства наиболее умудренные
русские люди уже в XII в. усматривали в
том, что оно способствовало активному
проникновению на Русь книжной культуры. По
образному выражению Нестора, князь
Владимир землю русскую «взора (вспахал) и
умягчи, рекше крещеньемь просветивъ».
Ярослав же, занимаясь активной
переводческой деятельностью, «насея книжными
словесы сердца верных людий, а мы
пожинаем, ученье приемлюще книжное»4.
Русскому человеку того времени книги
открывали духовные ценности, накопленные
средиземноморской культурой за многие
столетия (если не тысячелетия), и он по
достоинству оценивал это, активно
приобщаясь к лучшим достижениям мировой
культуры. «Велика бо бываеть полза от ученья
книжного, — писал автор „Повести
временных лет", — книгами бо кажеми
(наставляемы) и учими есмы пути покаянью,
мудрость бо обретаем и воздержанье от словес
книжных. Се бо суть рекы, напаяюще все-
леную, се суть исходяща мудрости; книгам
бо есть неищетная глубина»5.
Уже митрополит Иларион (XI в.) имел
круг образованных читателей,
«насытившихся книжной сладостью» — ведь не «къ не-
ведущимъ бо пишемъ, нъ преизлиха на-
сыштьшемся сладости книжныа»6, — писал
он. Чтобы конкретнее выразить
наслаждение, получаемое от книг, древнерусские
писатели регулярно сравнивают его со
сладостью меда и сахара, подчеркивая, что
последняя значительно слабее. У Кирилла
Туровского находим такое сравнение:
«Сладко бо медвеный сотъ и добро сахаръ,
обоего же добрее книгий разум: сия убо суть
сокровища вечныя жизни»7.
Традиционным становится для русского
книжника сравнение своего труда с трудом
пчелы, собирающей сладость по многим цветам.
Чтение доставляло древнерусскому
человеку удовольствие. Он не просто получал
новые знания, которые мог использовать в
своей жизни, но он наслаждался и ими, и
процессом их получения — чтением.
Понятно, что наслаждение относилось прежде
всего к знаниям необыденного характера — к
знаниям духовным, к сакральной мудрости,
которая далеко не вся в представлении
средневекового человека была доступна разуму.
Вот эта ее неполная открытость пониманию,
а также направленность на глубинные
истоки бытия, на его первопричину, ее
соприкосновение с вечным и непреходящим и
доставляли первым русским читателям
неописуемое удовольствие.
Вчитываясь в тексты древнерусских
авторов, мы замечаем интересный феномен
общественного сознания того времени.
Многие явления, связанные так или иначе с
новой религией, вызывали у древних русичей,
принявших ее, светлую радость, духовное
наслаждение. Ничего подобного у них не
наблюдалось по отношению к своим
отеческим богам. С ними существовали чисто
прагматические отношения. Их побаивались,
старались умилостивить, принести им дары,
жертвы; к ним обращались с просьбами о
помощи, но их могли и высечь, если они,
приняв жертву, не выполняли просимого.
Однако ни о каком духовном наслаждении
при взаимоотношениях с ними, при
упоминании о них, при созерцании их изображений ни
фольклор, ни древнерусские книжники не
сообщают. Совсем по-иному воспринимали на
Руси христианство с его духовным
Абсолютом. Уповая на обещанное грядущее райское
наслаждение (ничего подобного не обещали
языческие боги славян), человек Древней
Руси уже в этой жизни испытывал радость
от всего, лишь указывавшего ему на
блаженства «будущего века». А таковым для него
выступала новая вера во всех ее проявлениях и
шире — вся сфера духовности, в которую
Русь окунулась, приняв христианство.
Наряду с книгами особое наслаждение
доставляли людям Древней Руси беседы с
подвижниками, посвятившими всю свою
жизнь духовному служению. Десятки палом-
17
Книга первая
ников и окрестных жителей постоянно
стекались к пещерам и кельям прославленных
пустынножителей, чтобы послушать их или
спросить о чем-то, получить благословение.
Нестор в «Житии Феодосия Печерского»
неоднократно указывает, что и князья, и
простые люди часто приходили к Феодосию
насладиться «медоточивыми речами»,
исходившими из уст его.
Здесь мы сталкиваемся с интересным
феноменом древнерусского эстетического
сознания. Русичи шли к подвижникам
прежде всего без утилитарной цели, а
именно: насладиться их речами, мудростью.
Формально они, как правило, приходили к
мудрым старцам за советом по какой-либо
житейской проблеме или вопросам веры, но
фактически мало кто из них использовал эти
советы в реальной жизни.
Главная цель посещения монастырей,
скитов и пустынь состояла в желании
увидеть и услышать живого носителя святости,
получить радость от общения с существом,
уже в этой жизни стоящим над ней,
знающим некие сокровенные тайны,
невыразимые человеческим языком. Именно ради
этих сокровенных знаний и тянулся древний
русич к подвижнику; именно они
непонятно каким образом — но не в буквальном
содержании речи, а скорее в интонациях,
ритмике, тембре голоса и даже где-то между
самих звучащих слов — содержались в его
речи, придавали ей невыразимое
благозвучие, «медвяную сладость», доставлявшую
слушателям духовную радость. И уходили
они от подвижника не только с запасом
житейских советов, но и с просветленным
духом, легким сердцем, очищенной и
ликующей душой — духовно обогащенные.
Передать словами, что же они получили от
общения с подвижником, они, естественно, не
могли, ибо обретенные ими духовные
ценности не поддаются вербализации. Однако
устойчивое обозначение эмоциональной
реакции на них как наслаждение, сладость
позволяет заключить, что мы имеем дело с
чисто средневековым типом эстетического
отношения, практически утратившего свою
значимость в настоящее время и поэтому не
сразу воспринимаемого как таковое
человеком XX в. В период формирования
средневековой эстетики на Руси оно было
господствующим, определяя во многом и
специфику эстетического сознания того
времени, и его художественную культуру.
Все знаменующее собой сферу духа,
указывающее на нее и направляющее так или
иначе к ней человека, доставляло древнему
русичу духовную радость, постоянно
противопоставляемую им чувственным
наслаждениям.
Особую радость вызывали у христиан
воспоминания о событиях Священной
истории, эмоционально пережить которые
помогали им церковные праздники, посвященные
этим событиям. Об атмосфере духовной
радости религиозных праздников много писал
Кирилл Туровский. Если уже золотая цепь,
унизанная жемчугом и драгоценными
камнями, радует глаз и сердце видящих ее, то
тем более приятна нам «духовьная красота,
праздьници святии, веселяще верьныих
сердца и душа освящающе»8. Духовной
красотой праздника наслаждаются на земле и на
небе; ее воспевают небесные чины, люди и
даже «горы и холми точат сладость». На
праздник «Вознесения», пишет Кирилл,
весь универсум пронизан весельем и
радостью — «небеса веселятся, своа украшаю-
ще светила, [...] земля радуется [...] вся
тварь красуется, от Елеонскыа горы
просвещаема». Люди украшают праздник «песн-
ми, яко цветы», воспевая славословия. Все
в мире ликует, прозревая в празднике
высшие истины бытия, жизнь вечную. «Да
поистине сий праздник, — пишет Кирилл о
„Вознесении", — полн есть радости и ве-
селиа»9.
Конечно, далеко не каждый человек
Древней Руси вдумывался в философско-
религиозный смысл того или иного
праздника, но каждый (а праздники очень скоро
стали всенародными) знал, что
празднуется нечто возвышенное и достойное
ликования, что есть в празднике что-то
возвышающееся над человеческой жизнью, но
имеющее благотворное влияние на эту жизнь.
Позитивный смысл празднуемых событий
если и не понимал до конца, то хорошо
ощущал каждый участник такого праздника.
Духовную радость, восторг и умиление
испытывали древние русичи от
соприкосновения с христианскими святынями, от
посещения святых мест, особенно связанных с
18
Глава 1
жизнью Христа. Этими чувствами
проникнуты все сохранившиеся до наших дней
описания так называемых хождений по святым
местам.
Игумен Даниил, посетивший в начале
XII в. Палестину, так описывает эмоции
русских паломников, перед которыми
открылся вид на Иерусалим: «И бываеть
тогда радость велика всякому християнину, ви-
дивше святый град Иерусалимъ; и ту сле-
замъ пролитье бываеть от верных человекъ.
Никто же бо можеть не прослезитися, уз-
ревъ желанную ту землю и места святаа
вида, иде же Христосъ Богь нашь претрьпе
страсти нас ради грешных. И идуть вси
пеши с радостию великою къ граду
Иерусалиму»10.
Здесь мы встречаемся с выражением
духовного наслаждения особого характера.
Радость от соприкосновения со святыней, с
возвышенным в представлении христиан
соединена со слезами сострадания и
умиления. Святыня эта живо напоминает
средневековому человеку о страданиях и позорной
смерти, которые и ради него тоже
претерпел Сын Человеческий, и он сострадает ему.
Но это сострадание не несчастью какого-то
человека, а сострадание Богу,
претерпевшему страдание, воскресшему и искупившему
этим страданием грехи человеческие. Это
сострадание родственно состраданию
зрителя трагическому актеру, но оно усилено
здесь осознанием истинности
происшедшего события и его сакральной и именно
позитивной значимости для каждого человека.
Если попытаться описать подобное
эмоциональное состояние в традиционных
категориях эстетики, то, судя по характеристике
Даниила, оно складывается из
одновременного переживания возвышенного и
трагического, выраженного в модусе
просветленного умиления. Это очень сложное
эмоционально-эстетическое переживание,
которому сами средневековые люди не нашли
словесного обозначения, а современной
науке его трудно обозначить, так как оно
практически не встречается в эмоциональной
жизни людей XX в.
Для средневекового человека оно было
достаточно регулярным. Он переживал его
не только при посещении святых мест (что
было уделом лишь единиц), но и
практически на любом богослужении, в процессе
которого повторялась мистерия «страстей»
Христовых, и особенно в дни великого
поста перед праздником Пасхи; нечто
подобное переживал он и в другие праздники, и
в дни памяти мучеников. Более того,
созерцание икон и храмовых изображений сцен
мученичества древних праведников
вызывало у древнерусского человека именно это
сложное и трудноописуемое чувство
возвышенно-трагического умиления,
сопровождавшееся духовным наслаждением.
Главная духовная радость, полагали в
Древней Руси, ожидает человека в мире
ином, когда он в сонме праведников будет
наслаждаться «неизреченных онех небесных
красоть», неиссякаемой пищей духовной.
Итак, общественное сознание Киевской
Руси, открыв бытие духовной сферы,
восприняло ее в первую очередь эстетически,
усмотрело в ней высшую красоту, т. е.
обрело новый эстетический идеал.
Обостренная эстетическая реакция на
духовные феномены, эстетическое, прежде
всего, восприятие многообразных явлений
духовной культуры особенно характерны для
первого этапа истории русской эстетики, этапа
активного приобщения к достижениям
мировой культуры, счастливого времени
бесконечных открытий и обретений.
В кон. XV — нач. XVI в. в
определенных слоях русского общества достаточно
прочно укрепились традиции византийской
эстетики аскетизма, которая была во
многом чужда эстетическому сознанию
широких народных масс, но оказывала тем не
менее заметное влияние на многие явления
духовной, и художественной, в частности,
культуры.
Главным и наиболее активным
теоретиком эстетики аскетизма был в этот период
преподобный Нил Сорский, в молодости
несколько лет проведший на Афоне и хорошо
усвоивший там традиции духовного делания.
Нил выступает бескомпромиссным
сторонником нестяжательной жизни. Истинный
подвижник не должен иметь, по его мнению,
ни красивых и дорогих одежд, ни золотых
и серебряных сосудов, ни каких-либо
ценностей. Всякое имущество отвлекает ум от
духовной жизни и привязывает человека к
19
Книга первая
земле. По мнению Нила, абсолютные
ценности — лишь ценности духовные и
только их стяжание достойно человека11. Суть
настоящего нестяжания имеет не
материальную, а духовную основу, она заключается не
только в том, чтобы не иметь имущества
(кроме жизненно необходимого минимума),
но, прежде всего, в том, чтобы не иметь
желания к владению имуществом:
«Истинное же отдаление сребролюбиа и вещелю-
биа не точию не имети имениа, но ни же-
лати то стяжати». Только такое нестяжание
и ведет нас к душевной чистоте12.
Свою теорию нестяжания Нил
распространял не только на отдельных
подвижников, но и на монастыри в целом. Он был
активным противником бытовавшего в то
время превращения монастырей в крупные
феодальные вотчины. По мнению Нила, не
дело монастырей владеть землями,
крестьянами и обременять себя заботами о
прибылях. Противоположную позицию занимал
Иосиф Волоцкий и его сторонники, в
результате чего в русском обществе начала
XVI в. возникли две враждующие
партии —«нестяжателей», последователей
Нила Сорского, и его противников —
«осифлян». Одна из локальных проблем
византийской «эстетики аскетизма» и
христианской этики нестяжания переросла на
Руси в одну из главных социальных и
политических проблем века13.
«Нестяжание» у Нила — одна из
первых ступеней на пути духовного
совершенствования человека, достижения им высшего
идеального состояния. Активно опираясь на.
сочинения своих византийских
предшественников Иоанна Лествичника, Исаака Сири-
янина, Симеона Нового Богослова,
Григория Синаита и других, Нил создает
развернутую систему «духовного делания»
человека, которой, по его убеждению, должны
следовать русские подвижники.
В связи с тем, что христианская аскети-
ка имела своеобразную эстетическую
окраску14, здесь имеет смысл остановиться на
эстетических аспектах учения Нила, которые
у него тесно переплетены с проблемами
нравственного совершенствования и
постижения Первопричины.
Путь духовно-нравственного
совершенствования начинается, по Нилу, с борьбы со
всяческими «страстями» и, прежде всего, с
«помыслами». Освобождение от них должно
сопровождаться непрестанными молитвами.
При этом, полагает Нил, необходимо
отрешаться не только от злых помыслов, но и
от добрых, ибо «благым помыслом
последующе лукавии входят в нас»15. Подвижник
должен стремиться к достижению полного
«молчания мысли», к погружению своего
духа в мысленное «безмолвие», или в
«безмыслие»16. В этом собственно и состоит
процесс «безмолвия умнаго» или «исихии» —
«молчания». Однако это «безмыслие» и
«безмолвие» не означает, по Нилу,
духовного бездействия. Напротив, только
переступив через порог мысленной
деятельности, «успокоив» ее, дух человека поднимается
на более высокую ступень деятельности,
которую Нил называет «духовной молитвой»,
«действом духовным» и суть которой
заключается в непосредственном общении с
Богом, в постижении его. Свидетельством
достижения этого контакта, по мнению Нила,
является осияние внутренним светом,
духовное наслаждение, высочайшее блаженство,
неописуемая «сладость», разливающаяся по
сердцу. В этом состоянии человек как бы
выключается из мира земного «бывания», он
не осознает себя, не узнает окружающих и
даже не знает, находится ли он в своем теле
или уже покинул его. Наступает состояние
мистического единения с Богом. Тогда
«вжизается (вселяется. — Ред.) внезаапну
в тебе радость, — пишет Нил, — умолца-
ющиа язык в неуподобленыи пищи его;
кипит из сердца присно сладость некаа <...>
нападает в все тело пища некаа и радование,
яко же язык плотскыи не может сиа изре-
щи»17. Дух человека погружается в
состояние единения с Творцом мира, его
охватывает любовь к нему, которая «сладчаиши
живота»18.
Когда ум и сердце устанут от «духовной
молитвы», следует дать им отдохнуть за
чтением или пением. Когда «утрудится ум в
молитве, попущати его мало в пение, иже
кто имать правило, или псалмы, или тропаре
кыа, или что ино»19.
Оптимальным ритмом «духовного
делания» Нил считает трехчасовой цикл: час
молиться, час читать и час петь. При этом
петь и читать необязательно самому под-
20
Глава 1
вижнику. Это может выполнять и его
ученик.
Как и византийские подвижники, Нил
уделяет большое внимание «слезной
благодати», даруемой Богом, с помощью которой
«в чистоту входим душевную, и вся блага
духовне приемлем»20. Слезы «духовного
делания» не признак печали или страдания;
они свидетельствуют, по мысли Нила, о
душевном умилении, просветленности духа,
достижении подвижником духовного
наслаждения. Когда «от Божественыа
благодати, — пишет он, — действо духовное в
молитве явится, <...> ум веселящи, и
сладость от внутренних и радование подающи,
тогда слезы самоисходне проливаются и не-
нуждне от себе истачаются, утешающи бо-
лезненую душу, подобно младенцу в себе
плачющу, купно и светло склабящуся»21.
Слезы «духовного делания» усиливают
неописуемое состояние «сладости», которое
и имеет своей целью подвижник,
посвятивший всего себя делу «безмолвия». Ум его
насыщается духовной пищей и веселием,
которое охватывает и всю его сферу
чувств —«истачающиеся из сердца
сладости некоей неисповедимей и на все тело на-
падающе, въ всех удесех болезнь въ
сладость прелагающи. <...> В радости
бывает человек тогда необретаемеи в веце сем»22.
Таким образом, мы видим, что
традиционная для всего православного мира
эстетика аскетизма приобретает на русской
почве особо выраженный эстетический
характер. Нил Сорский постоянно
подчеркивает, что аскетический подвиг исихаста,
ведущий к созерцанию внутри себя Духовного
Абсолюта, актуализуется в состоянии
неописуемого наслаждения, блаженства,
внутренней радости и веселия.
Эту же тенденцию (то есть возвышенное
эстетическое чувствование) можно
наблюдать и в развитии на Руси конца XV —
начала XVI в. другого направления
византийской эстетики — литургической
эстетики или эстетики культового действа.
Полнее всего эта эстетика может быть
выявлена лишь при анализе самой практики,
то есть богослужебного синтеза искусств в
его функционировании. В данном случае
имеет смысл остановиться только на
некоторых теоретических предпосылках этой
эстетики, изложенных в рассматриваемый
исторический период прежде всего Иосифом Во-
лоцким.
Для русского человека того времени
посещение церковного богослужения являлось
прежде всего праздником. Он и гриходил
в храм, как правило, только по праздникам,
и вся атмосфера храма была ориентирована
на создание праздничного настроения у
верующих. Однако это был праздник, в
корне отличный от беспечных и бездумных
мирских пирушек. Это был в первую
очередь праздник духовный — торжественный
и возвышенный. Средневековый человек
приходил в храм для празднования особого
рода. В нем он отдыхал и отрешался от
мирской суеты, осознавал свое особое
положение в мире как существа высшего,
духовного, приближенного к небесному миру и
имеющего возможность приобщиться к нему
при условии стремления к морально-
нравственному совершенству в обыденной
жизни.
Сама храмовая среда и процесс
богослужения были ориентированы на нравственное
очищение и духовное совершенствование
человека, притом, далеко не в последнюю
очередь, с помощью
художественно-эстетического воздействия на него красоты,
торжественности и возвышенности храмового
действа.
Теоретики церковной жизни стремились
к тому, чтобы храм дал человеку все то в
сфере нравственно-духовной жизни, чего
ему не хватало в жизни реальной, тяжелой
и часто беспросветной.
Целый комплекс идеальных функций
церкви излагает Иосиф Волоцкий: «Ничто
же тако образованну нашу устраяет жизнь,
яко же еже в церкви красование. В церкви
печалным веселие, в церкви тружающимся
упокоение, в церкви насилуемым отдъхно-
вение. Церковь брани разруши, рати утоли,
бури утиши, бесы отгна, болезни уврачева,
напасти отрази, грады колеблемыа устави,
небесный двери отвръзе, узы смерътныа пре-
сече, и иже свыше наносимые язвы, и иже
от человек наветы вся отъят, и покой даро-
ва» (353 — 354)2з.
Все эти блага церковь дарует человеку,
по глубокому убеждению церковных идео-
21
Книга первая
логов, с божественной помощью в акте
мистического соборного действа.
Эффективность этого действа зависит в большой мере
от искренности чувств, с которыми человек
приходит в храм, от искренности его
молитвы, которая составляет основу любого
богослужения.
Если молитва аскета и его путь
«духовного делания» сугубо индивидуальны и
доступны только подвижникам, посвятившим
всю свою жизнь Богу, то церковная
молитва — это молитва за всех, это
коллективная устремленность людей к Богу,
ощущающих себя некой целостностью перед лицом
высших сил («миром Господу
помолимся» — лейтмотив церковного
богослужения). Соборность, однако, не снимает
индивидуальной подготовленности человека к
храмовой молитве. Ибо от нее во многом
зависит эффективность культового действа.
Входя в храм, человек, поучает Иосиф,
должен отрешиться ото всего суетного и
преходящего, ото всяческих помыслов, гнева,
ярости, ненависти, плотских вожделений.
Состояние души его должно отвечать
призыву: «Станемь добре». На богослужении
человек предстоит высшей духовной силе,
поэтому он испытывает в своей душе
одновременно страх и трепет, радость и
ликование (352). Молиться человек должен не
просто повторяя слова молитв, но из
глубины сердца. Только такая молитва возводит
человека к высотам духа. Как пишет Иосиф,
«молитва, из глубины мысленыа въссылае-
ма, к высоте простирается» (352). Молиться
в храме необходимо с «сокрушенной
мыслью» и «со скорбной душой». К этому
состоянию человека должны привести мысли
о грехах, смерти, Страшном Суде, вечных
мучениях. Только такая скорбная, да еще со
слезами, молитва приводит к катарсису,
очищению — удивительному просветлению
духа, успокоению и духовному
наслаждению: «ибо сице скръбяй моляся всегда,
может в свою душю божественную сладость
привлещи, еже от слез» (352). Как после
мрачной грозы наступает тихая и ясная
погода, так и скорбная слезная молитва
упраздняет сердечную печаль и «многу влагает в
душу светлость», особый «молитвенный»
свет снисходит тогда на верующего в
храме (353)24.
Соборную молитву Иосиф считает
значительно более эффективной, чем
домашнюю, так как в храме и вся атмосфера, и
единодушный порыв всех верующих, и
песнопения направлены на ее реализацию. В
церкви «отцемь множество, <...> пение
единодушно к Богу въссылается, и
единомыслие, и съгласие, и любве съуз» (353).
Более того, в храме, по убеждению
учителей церкви, осуществляется незримое
единство неба и земли, и в богослужении и
соборной молитве участвуют не только люди,
но и все небесные чины: «не человеци то-
чию въпиют страшнейши он въпль, но аг-
гели припадають Владыце, и архаггели
молятся» (353).
Богослужение проходит единовременно на
двух уровнях: видимом — земном и
невидимом — духовном. «Горе от воиньства аггель-
скаа славословят, доле же в церкви
человеци ликоствуют, горе серафими трисвятую
песнь въпиють, доле ту же песнь человечь-
ское множество въссылает» (353).
Единение неба и земли в храмовом
действе приобретает тем большую силу, а само
богослужение — особую торжественность,
возвышенность и одухотворенность, что, по
мнению христианских идеологов, и сам Бог
участвует в нем. «Не разумевши ли, —
пишет Иосиф, — яко Сам зде невидимо
предстоять Царь небеси и земли, и когождо
разум испытуеть, и съвесть истязаеть, и аг-
гели с страхом предстоять Ему?» (354).
Общий результат богослужебного
действа — единение неба и земли в духовной
радости и веселии. «Общее небесным и
земным тръжество, едино благодарение, едино
радование, едино веселие» (353).
Таким образом, литургический, или
соборный, путь человека к Богу, как и
аскетический, в Древней Руси теснейшим
образом связывался его теоретиками со сферой
эмоционально-эстетического возбуждения
психики верующего и реализовался, по сути
дела, в процессе функционирования
культового синтеза искусств на уровне
эстетического катарсиса. Но если в эстетике
аскетизма эстетический объект целиком и
полностью находился во внутреннем мире
субъекта восприятия, то литургическая
эстетика во многом переносит его во
внешний мир путем организации особой эстети-
22
Глава 1
зированной среды и театрализованного
культового действа, которое было во многом
доступно самым широким слоям
средневекового населения и достаточно эффективно
воздействовало на них.
*
Усмотрев эстетический идеал в духовной
сфере, древнерусские книжники связали с
ним и основные свои представления о
прекрасном. Практически все то, что
доставляло человеку того времени духовное
наслаждение, обозначалось им как прекрасное.
Таковой прежде всего почиталась сфера
небесных чинов, «Царства Небесного», но эта
красота мыслилась «неизреченной» и
неописуемой и практически не давала никакой
пищи эстетическому сознанию русичей.
Прекрасным почитался на Руси и духовно-
нравственный облик человека. Князь
Владимир, по выражению митрополита Илари-
она, «красовался» своим духовным
обликом — «правдою бе облеченъ, крепостию
препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ
венчанъ и милостынею яко гривною и
утварью златою красуется»25. Однако
духовная красота привлекала человека Древней
Руси не столько сама по себе, сколько своей
выраженностью в чувственно
воспринимаемых предметах и явлениях, которые он
также и с большим энтузиазмом почитал за
прекрасные. Отсюда и красоту духовную, в
частности «Царства Небесного», он
постоянно стремился представить себе по
аналогии с земной красотой, только возведенной
в более высокую степень совершенства.
Популярными, например, были на Руси
различные апокрифические изображения
красоты Рая земного и небесного. Рай земной,
находящийся где-то «за морем», изобилует
удивительными деревьями, цветами и
плодами, которые никто никогда не видел.
Прибывшего в небесный Рай поражает
ослепительное сияние — «светъ седмерицею
светлей сего света», но также и
необычайные яства, вкус которых невозможно
описать словами — «несть бо имъ притъча на
семъ свете. Их же бо сласти и воне чело-
вечьска уста не могуть исповедати. Простая
же ядь яко и млеко и медъ»26.
Ярко выраженный, чувственно
воспринимаемый характер духовной красоты был
присущ эстетическому сознанию самых
широких слоев древних русичей (отзвуки чего
мы находим и в фольклоре, особенно в
сказках) и сохранял свою актуальность на
протяжении всей истории Древней Руси. Здесь
мы сталкиваемся как раз с тем пластом
эстетического сознания, который опирался на
ощущение глубинного родства древнего
человека с природой и основы которого были
заложены еще в дохристианский период. В
апокрифических сказаниях о Рае древний
русич нашел новый поворот хорошо
известного ему мотива идеализации природы и
окружающего его быта и более современную
форму его выражения. Понятно, что он с
воодушевлением воспринял эти представления.
Древнерусские книжники, как правило,
не увлекались столь примитивными
картинами реализации духовной красоты, но их
внимание постоянно привлекают те или иные
формы выражения и знаки духовности,
которые обозначаются ими, как правило, в
эстетической терминологии.
Не уставая восхищаться красотой,
совершенством и многообразием природного
мира, русич усматривает теперь в нем
выражение высшей творческой мудрости и,
радуясь красоте творения, славит Творца.
«Великий еси, Господи, и чюдна дела Твоя
<...>, — восклицает Владимир
Мономах, — иже кто не похвалить, не прослав-
ляеть силы Твоея и Твоих великых чюдес
и доброт, устроенных на семъ свете: како
небо устроено, како ли солнце, како ли луна,
како ли звезды, и там и свет, <...> зверье
розноличнии, и птица и рыбы украшено
Твоимъ промыслом, Господи! И сему чюду
дивуемъся, како от персти создавъ
человека, како образи розноличнии въ человечь-
ескыхъ лицих»27.
Как правило, древнерусские книжники не
стремятся к описанию природной красоты.
Обычно они ограничиваются лишь
указанием на красоту того или иного места;
развернутая экфраза не характерна в целом для
древнерусского эстетического сознания.
Одно из немногих исключений из этой
закономерности представляет известный автор
путевых записок игумен Даниил (начало
XII в.). Описания, встречающиеся в его
«Хождении», несомненно отражают один из
23
Книга первая
аспектов эстетического сознания человека
Киевской Руси, хотя они и не получили
широкого распространения в литературе того
времени.
Любуясь красотой «святых мест», игумен
Даниил далек от чистого эстетизма. В его
описаниях красота невольно соединяется с
пользой для человека; в прекрасном
пейзаже его глаз подмечает в первую очередь то,
что полезно человеку. Едва ли не
единственным образцом неутилитарного описания
природной красоты во всей литературе
Киевской Руси является Даниилово изображение
горы Фавор. «Фаворьская же гора чюдно
и дивно, и несказанно, и красно уродилася
есть; от Бога поставлено есть красно и
высоко велми и велика; и есть посреди поля
того красного, яко же стог кругол; гора та
уродилася есть красно; и есть кроме всех гор
подале. И течет река подле гору ту по полю
доле. И есть по всей горе Фаворьсте
росло древо всякое: смоковь, рожьцы и масли-
чие много зело. Вышши же есть
Фаворьская гора всех, сущи окрестъ ея, и есть
уединена кроме всех горъ, и стоить посреди поля
красно зело, яко стогь будеть гораздо зде-
лан, кругло и высоко велми и великъ
ободом»28. Из этого описания видно, что в
качестве характеристик природной красоты у
древнерусского автора выступают величина,
высота, округлость, выделенность в
пространстве, «искусная сделанность». Гора
прекрасна потому, что она напоминает
произведение рук человеческих — искусно
сделанный стог. Природа осмысливается
средневековым автором как произведение и
оценивается им во многом по критериям, с
которыми он подходил к произведениям рук
человеческих; даже и деяния Бога мерит
человек по своей мерке. В природных
закономерностях, в ее совершенстве и
упорядоченности усматривал средневековый автор
приметы высокого мастерства, некоего
устройства, которое он и называл красотой.
«Красота же строй есть некоего
художника»29, — мог повторить древнерусский
книжник вслед за автором популярной на
Руси в XI — XII вв. «Повести о Варлаа-
ме и Иоасафе». Усмотрение в природе
глобальной устроенности, подчиненность всех
ее элементов каким-то (непонятным еще)
общим закономерностям возбуждало
удивление и восхищение у человека Древней
Руси, наводило на мысль об аналогии с
произведениями человеческого искусства, а сам
строй оценивался им как красота.
Библейское повествование о грехопадении
первого человека, видимо, так сильно
поразило воображение древнерусских писателей,
что в литературе Киевской Руси мы
чрезвычайно редко встречаем описания
физической красоты человека. Она, как правило,
только называется в одном ряду с другими
лаконичными характеристиками, из которых
древнерусский писатель складывал
идеализированные образы своих героев.
Развернутый идеальный образ князя дан
в «Сказании о Борисе и Глебе». «Сь бо
благоверный Борисъ благога корене сын
послушьливъ отцю бе, покаряяся при всемъ
отцю. Телемь бяше краскнъ, высокь, лиц'кмъ
круглъмъ, плечи велице, тънъкъ въ чресла,
очима добраама, веселъ лиц^мь, рода мала и
усъ младъ бо бе еще светяся цесарьскы,
крепъкъ телъмь, вьсячьскы украшенъ акы
цветъ въ уности своей, въ ратьхъ храбъръ,
въ съветехъ мудръ и разумьнъ при вьсемъ
и благодать Божия цветяаше на немъ»30.
Лаконично, но выразительно
начертанный здесь образ юного Бориса станет
идеалом для всей художественной культуры
Древней Руси. Последующие летописцы
при описании русских князей и живописцы
при изображении воинов-мучеников и
князей на стенах и столпах храмов будут
постоянно опираться в своем творчестве на этот
ранний словесный прототип.
Духовная красота обладала в глазах
древнерусского мыслителя самодовлеющей
ценностью и не нуждалась в красоте
физической. Напротив, последняя приобретала
особую значимость лишь как знак и указатель
на красоту духовную. Физическая красота
юного князя Бориса, князя-мученика,
погибшего от руки сводного брата, для
древнерусского человека еще и знак его чистоты и
святости, знак праведности; она призвана
усилить у читателя и слушателя «Сказания»
сочувствие безвременно погибшему юноше,
возбудить благочестивые чувства.
Знаковая функция красоты с особой
силой выявлялась для средневекового человека
в искусствах, связанных с культом,
религией. Церковную красоту, символизирующую
24
Глава 1
красоту духовную, в Киевской Руси
усматривали не столько в архитектуре, как в
Византии, сколько в самом церковном
действе и в изделиях
декоративно-прикладного искусства. Блеск и сверкание
драгоценных камней и металлов, сияние множества
светильников, красивая церковная утварь —
все это и понималось древним русичем как
красота церковная. Как и в случае с
пейзажем и человеком, русский автор редко
распространяется об этой красоте. Его
описания лаконичны и стереотипны. В духе
средневекового символизма и каноничности он
использует определенные словесные
формулы для передачи своего эмоционального
состояния, которые были достаточны для
средневекового читателя и говорили ему
значительно больше (в силу устойчивых
ассоциаций), чем человеку нашего времени.
Ярослав, по слову Илариона, храм Св.
Софии «всякою красотою украси: златом и
сребромъ, и камениемъ драгыимъ и сосуды
честныими»31. У Нестора сказано, что послам
князя Владимира была явлена в
Константинополе такая «красота церковная», что им
показалось, будто они уже находятся на небе.
Древнерусский книжник писал для людей,
которые почти ежедневно бывали в церкви
и видели «красоту церковную», поэтому ему
достаточно было только указать на нее. Но
и эти указания, несмотря на их
стереотипность, свидетельствуют о том, что
эстетическое чувство, вызванное красотой, было
одним из важных стимулов приобщения
древних русичей к христианской духовности. Да
и прямые указания на это мы встречаем не
только у Нестора. Автор «Повести об
убиении Андрея Боголюбского» также
констатирует, что красота храмов, выстроенных
Андреем, способствовала обращению
язычников в христианство.
Из описаний этих храмов, кстати,
следует, что церковную красоту человек
Киевской Руси усматривал главным образом в
предметах декоративно-прикладного
искусства и в блеске драгоценных камней.
Собственно архитектура (кроме величины
храмов) и изобразительное искусство пока не
включаются в это понятие красоты. Не
архитектурные объемы сами по себе, но их
украшение привлекает древнерусского
человека, не сами изображения, но их цветовое
исполнение представляется прекрасным.
«Драгоценные иконы» перечисляются
автором в одном ряду с золотом, жемчугом и
«дорогими каменьями», т. е.
рассматриваются им как элемент декорации храма.
Татаро-монгольское нашествие, в 30-е гг.
XIII в. прокатившееся по Руси, на многие
годы приостановило развитие
художественной культуры. Были разрушены многие
города, храмы, терема, уничтожены иконы,
книги. Но даже в самые тяжелые годы
нашествия русичи не забывают о красоте.
Напротив, ее уничтожение захватчиками
только обостряет их эстетическое чувство и
усиливает боль, ибо гибнет красота родной
земли, столь близкая и дорогая сердцу
каждого русского человека.
«Слово о погибели земли Русской»
начинается величественной картиной красоты
родной земли, которой суждено быть
разоренной беспощадными ордами: «О, светло
светлая и украсно украшена, земля Руская!
И многыми красотами удивлена еси: озеры
многыми удивлена еси, реками и кладязь-
ми месточестьными, горами, крутыми
холми, высокыми дубравоми, чистыми польми,
дивными зверьми, различными птицами,
бесщисленными городы великыми, селы
дивными, винограды (садами. — Ред.) оби-
телными, домы церковьными, и княэьми
грозными, бояры честными, вельможами
многами. Всего еси испольнена земля
Руская, о прававерьная вера хрестияньская!»32
Природа с ее многообразным растительным
и животным миром, бесчисленные города и
села, архитектура и, наконец, высшие слои
русского общества — все это входит в
широкое понятие красоты русской земли,
которая обречена была на бесчестье.
Описание красоты родины, попираемой
захватчиками, направлено на возбуждение
патриотических чувств у читателей;
эстетическое сознание вносит свою лепту в
борьбу с непрошеными «гостями».
Все характерные для домонгольской Руси
представления о красоте и прекрасном
сохраняются книжниками и этого периода.
Канонизируется и превращается в устойчивый
стереотип идеал князя — человека,
прекрасного видом, сильного, храброго,
мужественного, благочестивого и добродетельного.
В нравственно-эстетическом идеале рус-
25
Книга первая
ского князя, сформировавшемся еще в
домонгольский период, усматривали русичи
времен нашествия средоточие
нравственного, духовного и физического потенциалов
русского народа; в нем видели залог
грядущего освобождения Руси. Не случайно
летописец возводит в идеал весь род
рязанских князей, первыми вступивших в
неравную битву с татаро-монголами и
мужественно испивших «смертную чашу». «Бяше
родом христолюбивый, братолюбивый, лицем
красны, очима светлы, взором грозны, паче
меры храбры, сердцем легки, к бояром
ласковы, к приеждим приветливы, к церквам
прилежны, на пированье тщывы (скоры. —
Ред.), до осподарьских потех охочи, ратному
делу велми искусны, к братье своей и ко их
посолником величавы»33. Оплакивая гибель
таких защитников родной земли, сохраняя их
образ в памяти народной, русские
книжники XIII в. тем самым поддерживали в
своих соотечественниках надежду на
появление новой поросли таких же героев,
инициировали оставшихся в живых князей и
воевод на подражание изображенному
идеалу.
В то же время на Руси существовало и
резко негативное отношение к чувственно
воспринимаемой красоте. Оно восходило к
раннехристианской и византийской
монастырской эстетике и поддерживалось
многими русскими религиозными мыслителями.
Главный вдохновитель «нестяжателей»
Нил Сорский, продолжая традиции
«эстетики отрицания» раннехристианских
апологетов34 и византийских подвижников,
признавал только сугубо духовные ценности, с
осуждением относясь к видимой красоте
«мира сего», как быстропреходящей. «Се бо
зрим во гробы и видим созданную нашу
красоту безобразну и бесславну, не имущу
видениа; и убо зрещи кости обнажены, ре-
чем в себе: кто есть царь или нищ, славным
или неславным? Где красота и наслаждениа
мира сего? Не все ли есть злообразие и
смрад?»35
В отношении видимой красоты солидарен
с Нилом и его идейный противник Иосиф
Волоцкий. Со ссылкой на постановления
VII Вселенского собора и византийских
подвижников он запрещает клирикам и
инокам украшать себя «одежами красными и
светлыми»36. При этом он указывает на
древнюю традицию — первые иноки и
священники, по свидетельству Отцов Церкви,
«в смиренней и худей одежи жительствова-
ше», «рубища бо ветха и искропана ноша-
ше». Этой невзрачной одеждой снискали
они себе вечную славу на небесах, а
красивой одеждой человек славится только
среди людей37. Красота одежд, по мнению
Иосифа, опирающегося в этом на
византийца Ефрема Сирина, знаменует наготу
духовную («наг есть божественыа одежа»38),
которой страшились древнерусские
книжники больше всего. «Не прилично, — полагал
Иосиф, — краситеся ризами тлимыми»,
памятуя о страданиях и смерти Христа или
размышляя о грядущем Страшном Суде39.
Против каких бы то ни было украшений
быта и церковного культа последовательно
боролся Нил Сорский, полагая красоту
«дьявольским ухищрением», активно
отвлекающим ум человека от «духовного
делания». Опираясь на крайне ригористическую
древнюю монастырскую традицию, он
полемизирует с основной линией древнерусской
эстетики, берущей свое начало еще в
восточнославянской культуре и поощряющей
красоту искусства, утверждая, «яко не лепо
чюдитися делом человеческих рук и о
красоте здании своих величатися»40. Эта
ригористическая тенденция, пришедшая на Русь
из монастырей Византии и с Афона, не
пользовалась популярностью ни в самой
митрополии, ни тем более на Руси, хотя и
поддерживалась постоянно определенной
частью «черного» духовенства. Самим
фактом своего существования и полемической
заостренностью против основного
направления древнерусской эстетики ригористическая
тенденция только способствовала развитию и
активизации этого направления.
Аскетические идеалы, особенно в сфере
эстетического сознания, были в целом
чужды русскому человеку, сохранявшему на
протяжении всего Средневековья многие
старославянские (дохристианские) обряды,
праздники, обычаи с их яркой, насыщенной
красочностью и зрелищностью. Поэтому и
в христианском культовом искусстве его
прежде всего увлекала внешняя красота,
возбуждавшая непосредственную
эмоциональную реакцию (удивление, восхищение,
26
Глава 1
радость). Абстрактная, не облеченная в
конкретно-чувственные формы искусства,
христианская духовность плохо усваивалась
человеком Древней Руси, поэтому он, может
быть значительно чаще, чем византиец,
обращался в поисках духовной пищи к
искусству и придавал его красоте большую
значимость, чем это было принято в Византии.
На Руси за внешней красотой в искусстве
усматривали особую глубину, которую
трудно было описать словами, но можно было
хорошо почувствовать.
Не останавливаясь здесь подробно на
красоте живописных произведений и
зодчества, которым будет уделено внимание
ниже, отметим, что к XVI в. на Руси
пышно расцвело декоративно-прикладное
искусство, изделиями которого с особой страстью
были увлечены состоятельные сословия.
Для русской знати XVI в., особенно
бояр, характерно особое стремление к
роскоши, увеселениям, зрелищам и
безмерному украшательству своего быта и одежды.
В моду входит в этот период косметика, не
только у женщин, но и у мужчин;
процветает любовь к ярким цветам в одежде, даже
в среде духовенства; особое внимание
уделяется многочисленным предметам туалета
и драгоценным украшениям. Декоративно-
прикладное искусство в этот период
достигает небывалого развития. Особой любовью
на Руси пользовались сапоги с высокими
железными подборами, подковами и
множеством гвоздей, нередко серебряных, по всей
подошве. «Сапоги делались из атласа,
бархата, цветные, чаще всего красные и
желтые, иногда зеленые и голубые, лазоревые.
Они расшивались золотом, особенно в
верхних частях и на голенищах, с изображением
единорогов, листьев, цветов и т. п., и
унизывались жемчугом, а у менее
состоятельных расшивались разноцветными
шелками»41. С такой же тщательностью
украшались разноцветные кафтаны и рубахи; на
верхнюю одежду нашивали множество
пуговиц для красоты; носили
пристегивающиеся воротники-«ожерелья», роскошные
кушаки и изукрашенные пояса.
Всепоглощающее увлечение нарядами и
своим внешним видом в среде знати было
настолько сильным, что главный иерарх
русской церкви вынужден был постоянно
выступать против этого, противопоставляя ему
ценности духовные.
Митрополит Даниил упрекает своих
современников мужчин в том, что они,
угождая блудницам, носят красивые одежды и
красные, очень узкие сапоги, в которых и
ногам-то больно; не только бреются, но
даже выщипывают с корнем волосы на лице
своем, до бесконечности моют лицо и тело,
умащивая их различными мазями,
притираниями, благовониями и всевозможными
косметическими средствами. Во всех этих
ухищрениях, а также во всевозможных украшениях
тела Даниил не видит никакого смысла.
Какая нужда, вопрошает он своего
современника, украшать себя так, как и женщине не
подобает украшаться? Человек, уделяющий
так много внимания нарядам, уходу за
своей внешностью, забывает о красоте
духовной — он «ни во что же непщуа красоту
небесную, <...> яко свиниа пребываа делу
ничиши, о красоте сапожней весь ум свой
имеа». Такое «излишнее украшение мужей
в женский изводит образ»42, возбуждая у
окружающих, по мнению Даниила,
нездоровые помыслы. Даниил убежден, что в
украшениях и заботах о теле человек должен
соблюдать меру, ибо, полагает он, еще
апостол Павел не велел нам «выше меры ук-
рашатися»43.
Интересно отметить, что ни у Павла, ни
у раннехристианских апологетов нет
понятия меры относительно украшений. Они
категорически выступали против любых
украшений. Сам факт введения понятия меры на
украшения свидетельствует о компромиссе,
на который церковные идеологи
вынуждены идти под мощным давлением
конкретной жизненной ситуации, когда даже
духовенство любило облачаться в «красные
рясы»44.
Особое недовольство вызывает у
Даниила повсеместное увлечение своей
внешностью юношей из обеспеченных семей. Своих
юных современников Даниил призывает
отказаться от погони за безнравственной
красотой внешнего облика, возлюбить
нравственную чистоту и направить свои силы на
изучение наук и искусств: «Любомудрь-
ствуйте, юннии, в хитростех трудящеся
елико по силе: или в писательнемъ художь-
ствии, или в учении книжнем, или в коем
11
Книга первая
рукоделии аще есть, или ино кое художество
о Господи»45.
Также не одобряет Даниил и женских
украшений «выше меры», ибо они
возбуждают «похотение блуда»46 и затемняют,
искажают созданную Богом природную
красоту женщины.
В естественном облике человека, по
глубокому убеждению Даниила, и заключена
высшая природная красота, которая выше
«злата и сребра, и камения драгого и
бисера, понеже бо Бог сотвори всего честнейши
на земли человеческу плоть, созда бо ея
Своима рукама»47. Такой почет Бог оказал
человеку, как лучшему из своих творений,
наделив его Своим образом. И никому не
дано безнаказанно искажать этот образ.
Идея божественного творения мира в его
первозданной красоте поддерживала на
протяжении всего Средневековья даже у самых
крайних ригористов почтительное отношение
и к видимой красоте. «И вся убо видимая
мира сего красна суть и славна», — писал
Даниил.
Московскому митрополиту вторит и
новгородский мыслитель XVI в. Зиновий
Отенский, восхищаясь красотой
универсума: «Невелия ли убо небеса и не многою ли
лепотою украшено, или не велиею ли
славою солнце озаряше на нем? Земли же
широта и морю пространство коликою
добротою утворена?» (82)48. Новгородский
мыслитель не устает радоваться красоте и
величию природного мира, но в еще
большее восхищение приводит его красота и
совершенство человека, по христианской
традиции, высшего творения
божественного Художника или, в терминологии
Зиновия, «честнейшее здание паче всея твари»
(256).
В традициях святоотеческой мысли, но с
особой обстоятельностью, обосновывает
русский книжник высокую значимость и
ценность человека в универсуме.
Бог, хотя и создал человека из
презренной «персти» земной, высоко вознес его над
остальными творениями, наделив властью над
ними «по образу Божию» и свободной
волей. Весь же совершенный и многообразный
мир, красотой которого не уставали
восхищаться средневековые мыслители, создан был
для человека: «вся тварь человека ради бысть,
аще земля, аще моря, аще твердь, аще и вся,
яже в них, вся та человека ради сотворил есть
Бог» (82).
Особую честь оказал Творец человеку
перед остальными тварями тем, что
вылепил его тело Своими собственными
руками — «таковою бо честию над всею тва-
рию Бог почте человека, яко рукою Своею
взяти персть от земля и создати человека»
(82). Поэтому, утверждает Зиновий,
вопреки суждениям многих христианских
хулителей человеческой плоти, в
человеческом теле, как мужском, так и женском, нет
ничего нечистого. Бог вес его освятил
своими руками: «И утроба, и ложесна, и
входы, и исходы, вся проходы зело суть
добра, и несть в твари Божий ничтоже не зело
добро, но вся суть зело добра» (289).
Выявляя функциональную значимость и
взаимосогласованность всех членов тела,
Зиновий не забывает и об их эстетических
свойствах, которые в человеческом теле
особенно показательны. При этом он
подчеркивает, что эти свойства не имеют
никакого утилитарного значения, они приданы телу
исключительно красоты ради.
«Благообразие же удов, — пишет Зиновий, — ни в
едину потребу телеси суть: кую бо потребу
телеси принести может белость плоти, и ру-
мянство и лепота, и власов сьчинение? Яве,
яко ничтоже имети в них, обаче ко угоже-
нию приемлются комуждо» (607), то есть
исключительно для наслаждения глаз.
Таким образом, традиционная
креационистская теория у Зиновия получает ярко
выраженную эстетическую окраску, перерастает
в восторженную похвалу красоте и
совершенству природного мира и человека, и в
первую очередь его тела, что
свидетельствует о появлении и росте новых тенденций в
эстетическом сознании позднего
Средневековья на Руси. Свою реализацию в
художественной культуре они получат только в
следующем столетии.
Традиционная в целом для Средних
веков знаковая, или семиотическая, функция
красоты, в первую очередь видимой,
приобретает особую значимость во 2-й половине
XVI в. и часто непосредственно
используется в целях прославления и укрепления
русского централизованного государства. После
крушения Золотой Орды Русь, по образ-
28
Глава 1
ному выражению автора «Казанской
истории», стала «обновлятися» и украшаться,
как природа после долгой зимы. «И возсия
ныне столный и преславный град Москва,
яко вторый Киив, <...> и третий новый
великий Рим, провозсиявший в последняя
лета, яко великое солнце в велицей нашей
Руской земли, во всех градах, и во всех
людях страны сея, красуяся и просвещаяся
святыми Божиими церквами, древяными же
и каменными, яко видимое небо красяшеся
и светяшеся, пестрыми звездами украшено
и православием непозыблемо, Христовою
верою утвержено»49. Красота и величие
града, и особенно стольного, значимы для
русского книжника не столько сами по себе,
сколько как знак величия и могущества
всего государства Русского. Чем прекраснее
город, тем сильнее и богаче страна, которую
он представляет. Соответственно и
уничтожение красоты города служит знаком
разорения страны.
В эстетическом сознании русского
человека позднего Средневековья появляется
новая, и очень важная, черта. Оно стремится
подниматься над узкоконфессиональными,
национальными, даже государственными
ограничениями. Русский книжник начинает
ценить красоту вне зависимости от всех этих
неэстетических, но сильно влияющих на
эстетику факторов. Автор «Казанской
истории» открыто восхищается красотой и
мудростью казанской царицы, мусульманки,
которая активно боролась с Русью, пыталась
отравить русского царя и вот теперь
попала в плен к русским. «Бе бо царица
образом красна велми и разуме премудра, яко не
обрестися такой лепоте лица ея во всех в
казанских женах и в девицах, но и во
многих в руских на Москве во дщерях и в
женах в боярских и во княжнах»50. С явным
сочувствием к пленной царице описывает
автор ее горе, а ее длинные плачи по силе,
выразительности, по яркой
непосредственности передачи чувства, без сомнения, одна из
поэтических вершин в русской словесности.
Однако подобные примеры еще
единичны в русской культуре. В основном русле
эстетического сознания этого времени красота,
прекрасное тесно связаны со святостью и
благочестием, то есть основываются на
прочных православных традициях.
Христианские храмы восхищают
средневекового книжника не только своими
архитектурными формами, но они прекрасны еще
и «священной лепотой», и «святым пением»,
то есть внешняя красота их одухотворена
сакральным содержанием. Именно его
ощутив в константинопольской церкви,
язычница Ольга восклицает с восторгом: «Ныне же
чюдно и велико видение вижю очима мои-
ма — красоту непорочнаго закона Божия,
иже в вас совершается»51.
Если красота достаточно устойчиво
выступала в Древней Руси символом
святости, благочестия и, в целом, всего
комплекса духовных ценностей, то безобразное
часто служило ярким выражением
антисвятости, отступления от веры и т. п. Автор
«Повести о белом клобуке» именно таким
образом показывает безверие Папы
Римского. За постоянные нарушения
божественных указаний он был наказан страшной
болезнью, которую автор «Повести»
изображает в подчеркнуто безобразном виде. «И
смрад велий исхождаше от него, и черви
многи искипеша ис тела его и хребет его
сляче вдвое <...> Очи же развращение
(вытаращенные. — Ред.) имея и кричаше
беспрестани великим гласом и нелепая гла-
голаше, и псом и волком всяше, и
исходящую из него мотылу (нечистоты. — Ред.)
руками своими хваташе и во уста своя
влагая ядяше»52. Здесь безобразное
выступает знаком антиценностей, и это характерно
для русской средневековой культуры. В
Византии, как известно, почти в таких же
выражениях описанное, безобразное могло
служить и знаком особой святости — в
случаях с аскетами и юродивыми53.
В качестве одной из главных
модификаций прекрасного выступал для
средневековых русичей свет. Все многообразие
световой метафизики, мистики и эстетики,
доставшееся Руси от Византии, первые
древнерусские книжники интерпретировали в
духе, имеющем прочные корни в
восточнославянском мировосприятии.
Многочисленные формы духовного света они
представляли в качестве различных по силе и
яркости модификаций видимого (но
«неизреченного») света, который доставляет видящим
его наслаждение и радость. Именно этот
свет выступал для русичей одним из при-
29
Книга первая
тягательных факторов христианской религии.
Ее адепты обещали верующим бесконечное
наслаждение им в жизни вечной и узрение
его на земле при достижении определенных
ступеней совершенства.
С ярким примером чисто славянского
(конкретного и осязаемого) восприятия
духовного света мы встречаемся в
«Хождении» игумена Даниила. Автор
выразительно описывает исхождение света от гроба
Господня в Иерусалиме, от которого
возгорались свечи в руках у присутствующих. От
солнечного света это сияние отличалось
яркостью, цветом и еще чем-то, что не
удается выразить словами. «Свет же святы не
тако, яко огнь земленый, но чюдно инако
светится изрядно, и пламянь его червлено
есть, яко киноварь, и отнудь несказанно
светиться»54. И возбуждает этот свет у всех
видевших его особую радость.
Со времен Киевской Руси свет
становится одним из видных эстетических
феноменов в древнерусской культуре.
Культ огня и света, присущий в той или
иной форме всем народам древности и
Средневековья, был распространен и среди
славянских народов еще до принятия ими
христианства. Христианство принесло с собой
идею внутреннего, духовного света, которую
активно подхватили и развивали в своих
сочинениях русские книжники и многие
идеологи подвижнической жизни. Особое
распространение на Руси световая эстетика и
метафизика получают с конца XIV в.
после проникновения в славянскую культуру
паламитской концепции «Фаворского
света» — нетварного сияния Божественной
энергии, превосходящего всякий ум и
всякое чувство, но доступного восприятию даже
чувственным зрением при помощи
Божественной Благодати.
Русскому средневековому массовому
сознанию, малоизощренному в тонкостях
греческой богословской мысли и всегда
прочно стоявшему на земной основе,
импонировал в паламизме как раз момент
возможности конкретно-чувственного восприятия
«духовного света», его узрения обычными
глазами, а не каким-то малопонятным
«духом».
Русского человека восхищает и
доставляет ему эстетическое наслаждение прежде
всего видимое проявление «духовного
Света». Наряду с верой в духовные сущности,
воспринятой от византийцев, он страстно
верит и в их материализацию, доступную
конкретно-чувственному восприятию. Эта вера
ярко выражена уже в Послании Василия
Новгородского к Федору Тверскому.
Новгородцы XIV в. верили, как известно, не
только в рай небесный, но и в рай земной,
до которого, как они считали, добрались их
отважные земляки. Главной
характеристикой этого рая выступал видимый свет в его
предельной яркости — «светлость
неизреченная»: «И свет бысть в месте том само-
сиянен, яко не мочи человеку исповедати»,
«свет бысть многочасьтный, светлуяся паче
солнца»55. Он и доставлял неземную радость
удостоившимся видеть его, но практически
был недоступен обычным людям.
Согласно агиографу Богоматерь
является преподобному Сергию Радонежскому в
ослепительном сиянии: «И се свет велий
осени святого зело, паче солнца сияюща; и
абие зрит Пречистую с двема Апостолома,
Петром же и Иоанном, в неизреченней
светлости облистающася»56.
Об идеальном грядущем Царстве света
страстно мечтал русский человек, «егда вся
земля просвещана будет светом
неизреченным, исполнена радости и веселия».
Представления о чувственно
воспринимаемых материализациях «духовного света»
были широко распространены в
средневековой Руси, оказывая сильное влияние на
художественную практику, в частности на
архитектуру и живопись. Любой
внимательный зритель не может не заметить
продуманной до тонкостей организации световой
среды в древнерусских храмах и
повышенной светоносности древнерусской
иконописи периода ее расцвета.
Важной опорой для древнерусских
мастеров, без сомнения, служила философско-
религиозная мысль того времени, которая
достаточно регулярно обращалась к
метафизике света. Конечно, здесь речь шла в
первую очередь о свете «умопостигаемом», но
тем не менее о свете, и каждый художник
стремился выразить этот свет доступными
ему средствами архитектуры или живописи,
т. е. «перевести» его на чувственно
воспринимаемый язык своего вида искусства.
30
Глава 1
В XV и XVI вв. световая эстетика
занимает свое видное место в древнерусском
эстетическом сознании. Так, ею буквально
пронизана уже упоминавшаяся «Повесть о
новгородском Белом Клобуке». Неземной
свет здесь сопровождает практически все
чудесные явления.
Божественный свет доступен, по мнению
русских книжников, узрению физическим
зрением, но главное значение его не в этом.
Явившись человеку, он проникает в
глубины его души (в «сердце») и доставляет
духовное наслаждение. Свет, явившийся папе
Селивестру, «осия сердце его и грядущих с
ним»57. Духовную радость пережил
император Константин, когда во сне ему явились
св. апостолы Петр и Павел: «в пришествии
бо вашем зело возрадовася сердце мое и свет
сладок осия мя»58. Радость и удивление
испытала и княгиня Ольга, как сообщает
«Степенная книга», увидев световое
знамение на месте основания города Пскова.
Человеку средневековой Руси блистания
«неизреченнаго света» представлялись
одной из форм материализации невидимого
Божества и нередко обозначались
понятием «славы» Божией. Здесь он следовал еще
древней библейской традиции, обозначавшей
световой образ Бога понятием «славы». Из
книжников XVI в. о ней писал Зиновий
Отенский. «Слава» в его представлении —
это удивительное божественное сияние,
которое никто не может «словом рещи и мыс-
лию постигнута»: «ибо и солнца славы несть
како сказати, а ничтоже суще противо Бо-
жия славы солнечная слава: како же ли хо-
щеши славу Божию изглаголати или умом
постигнута?» Если уже солнечной «славы»
не терпит глаз человеческий, то может ли его
мысль выдержать славу Божественную?59
Древнерусская и средневековая
живопись дала целый ряд интересных решений
иконографии «славы», как некоего свето-
цветового сияния определенной
геометрической формы вокруг Христа или
Саваофа. Вообще световая эстетика Руси на
протяжении всего Средневековья давала
сильные творческие импульсы изобразительному
искусству и архитектуре, побуждая их
мастеров на художественное воплощение
трудновыразимой световой материи.
Таким образом, в понимании прекрасного
русское эстетическое сознание обычно
выдвигало на первый план красоту духовную.
Чувственно воспринимаемая красота
ценилась прежде всего как знак и символ этой
красоты, но также и сама по себе как
результат божественной творческой
деятельности.
*
Как мы уже имели возможность
убедиться, люди Древней Руси живо реагировали
на красоту искусства, особенно
декоративно-прикладного. Это вполне понятно. До
принятия христианства у восточных славян
наиболее развитым и повсеместно
распространенным был именно этот вид
художественной деятельности. Практически все
предметы, окружавшие древнего славянина
в быту, были в большей или меньшей
степени художественно обработаны.
Ни архитектура, ни живопись, ни
пластика, судя по данным археологии, не
получили сколько-нибудь заметного развития.
Известно, правда, что у славян с
древности высекались и вырезались изваяния богов.
Как свидетельствует летописец, еще князь
Владимир ставил на холме деревянного
Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, а также и другие кумиры, которым
киевляне приносили в жертву своих сыновей
и дочерей. Однако они (тем более что мы
можем только догадываться об их внешнем
виде) не дают нам оснований для вывода о
существовании у славян достаточно
развитого искусства ваяния.
Дошедшие до наших дней немногие
образцы восточнославянских изделий
домашнего обихода свидетельствуют, однако, о
достаточно высоком мастерстве славянских
ремесленников и развитом художественно-
эстетическом вкусе.
Древнерусский словесный фольклор,
дошедший до наших дней в сильно
измененном виде, дает все-таки возможность
почувствовать, что восточные славяне издавна
приобрели вкус к художественно
обработанному слову и создали богатую (к
сожалению, во многом ныне утраченную) устную
фольклорную культуру.
Именно эта многовековая эстетическая
традиция и позволила славянам почти сра-
31
Книга первая
зу воспринять многие эстетические
феномены византийского искусства и начать
формулировать свои представления об
искусстве, в том числе и о таких его видах, как
архитектура и живопись, которые были
фактически ввезены на Русь; книжники стали,
хотя и робко, размышлять о своем труде.
Уже автор «Слова о полку Игореве»
указывает на два типа писательской
деятельности, или, сказали бы мы теперь, на два
творческих метода. В основе каждого из них
лежит изображение действительности, но
способы изображения различны. «Не лепо ли
бяшетъ, братие, — начинает автор „Слова"
с обозначения своего метода, — начяти
старыми словесы трудныхъ повестии о гтьлку
Игореве, Игоря Святославлича? Начата же
ся гьи песни по былинамь сего времени, а
не по замышлению Бояню»60.
Автор противопоставляет свой метод как
более конкретный методу легендарного
песнопевца Бояна, отличавшегося, судя по
характеристике автора «Слова», большим
полетом поэтического воображения. «Боянъ бо
вещий, аще кому хотяше песнь творити, то
растекашется мыслию по древу, серымъ
волкомъ по земли, шизымъ орлом под об-
лакы». Автор «Слова» отнюдь не
осуждает метод Бояна. Напротив, он с
восхищением говорит о своем предшественнике —
«соловье старого времени»: «О Бояне, со-
ловию старого времени! А бы ты сиа плъкы
ущекоталъ (походы эти воспел. — Ред.),
скача, славию, по мыслену древу, летая
умом под облакы, свивая славы оба полы
сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ
поля на горы». Однако сам автор «Слова»
настроен изложить свою «трудную повесть»
в другом ключе — не столько в
поэтическом, сколько в конкретно-историческом («по
былинамъ сего времени»). Однако в своем
историческом повествовании он не как
летописец излагает события, но поднимается
до высот настоящей поэзии, образы
которой и сегодня потрясают читателя своей
художественной силой и гуманистическим
пафосом. Вспомним хотя бы знаменитый
плач Ярославны или потрясающий своей
экспрессией и поэтической точностью
лаконичный образ тризны по погибшим русичам:
«Ту крававаго вина не доста, ту пиръ до-
кончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а
сами полегоша за землю Рускую. Ничить
трава жалощами, а древо с тугою къ земли
преклонилось»61. Коль скоро мы коснулись
здесь художественно-поэтической
образности «Слова», нельзя не подчеркнуть, что ее
сила состоит в той глубинной
укорененности древнерусского эстетического сознания в
природе, в ощущении интимной и
сокровенной связи с ней, о которой уже шла речь
выше. Природа представлена в «Слове» как
единое живое, сопереживающее русичам
существо; более того, как существо,
провидящее ход событий и предостерегающее
людей. «Игорь къ Дону вой ведетъ. Уже бо
беды его пасетъ птиць по дубию, влъцы
грозу въерожать (накликают. — Ред.) по
яругамъ, орли клекотомъ на кости звери
зовуть, лисици брешуть на чръленые щиты.
О Руская земле! Уже за шеломянемъ
(холмом. — Ред.) еси!»62
Но вернемся к нашему изложению. Итак,
независимо от того, в каком ключе
изображал события сам автор «Слова», для нас
здесь важно подчеркнуть, что он уже
различал два способа, или метода, словесного
изображения реальных событий и
задумывался о том, какой из них выбрать для своей
«повести».
Не только для автора «Слова», но и для
других книжников Киевской Руси
авторская позиция, вопросы о том, что описывать
и как писать, не были безразличными.
Уже с летописца Нестора у книжников
устанавливается чисто средневековая
традиция самоуничижения, принижения своих
знаний, умения, таланта и упования в
своем творчестве на благодатную помощь
свыше. Многие летописцы и авторы агиографий
начинают свои произведения с подобных
рассуждений. Перед нами один из
наиболее устойчивых стереотипов
средневекового эстетического сознания. На Руси он имел,
однако, особый внутренний смысл. Русские
книжники стремились таким способом
выразить высокую значимость словесного
творчества. Уничижая себя как авторов,
утверждая несоразмерность предмета
изображения со своими творческими силами, они
стремились тем самым подчеркнуть высоту
и значимость и предмета изображения, и
самого способа изображения.
Удовлетворительность последнего, по их мнению, воз-
32
Глава 1
можна только в случае божественного дара
слова. Отсюда книжник на Руси с первых
лет существования письменности
рассматривался как человек, отмеченный
божественной печатью, как одаренный свыше. Отсюда
и особое почтение к книге, к писателю, к
самому акту писания в древнерусской
культуре.
Большой интерес для понимания
древнерусского эстетического сознания
представляют те немногочисленные сведения об
изобразительном искусстве и архитектуре,
которые сохранились в памятниках
словесности XI — XII вв. — первого периода
активного знакомства русичей с храмовой
живописью и архитектурой и начала
создания собственных произведений (икон,
фресок, мозаик) и христианских храмов.
У того же Нестора мы узнаем, что к его
времени на Руси знали, что почитать
иконы завещали сами апостолы, а первую икону
написал евангелист Лука и послал ее в Рим;
известна была и мысль Василия Великого
о том, что честь от иконы переходит к
Первообразу: «Яко же глаголеть Василий:
икона на Первый Образъ приходит».
Иконопочитание было усвоено на Руси
наряду с остальными основными
положениями христианства, а икона (изображение как
поклонный моленный образ) была понята и
принята как важный сакральный предмет.
Не случайно «Киевско-Печерский патерик»
в Слове о первом русском иконописце Али-
пии почти ничего не сообщает ни о его
жизни (кроме того, что он учился у греческих
иконописцев, расписавших Великую Печер-
скую церковь), ни о его работе, кроме
чудес, творимых им или происходивших с ним
и с иконами. Для религиозного сознания
русича того времени именно эти аспекты
иконописи были наиболее значимыми. С
ними были связаны и его религиозные и
эстетические чувства.
В представлении человека Киевской Руси
иконописец выступал не ремесленником, но
чудотворцем и почти кудесником. Чудесная
сила не только содействует ему при
написании икон, но и помогает с помощью той
же кисти и красок исцелять больных.
Сжалившись над одним прокаженным, Алипий,
как повествует «Патерик», закрасил его
язвы краской, и тот исцелился. Подобный
мотив мы не встречаем в Византии, где
иконописец считался простым ремесленником,
а создателем икон часто почитали не его, а
заказчика; сакральную же силу иконы
приобретали в представлении византийцев лишь
после освящения. Подобный мотив мог
возникнуть только на славянской почве, где
живопись не имела такой длительной
истории развития, как в антично-византийском
мире, была введена извне и в первую
очередь в качестве составной части
христианского культа. С этим еще сплавилось
религиозное преклонение славян перед
языческими идолами (тоже изображениями, хотя
и пластическими). Отсюда и получилось,
что изображение было воспринято на Руси
прежде всего в модусе его сакральности,
который оно сохраняло на протяжении всего
Средневековья. А главной функцией
изображения стала поклонная, т. е. в иконе
видели в первую очередь священный объект
поклонения. Такому пониманию иконы
способствовали и многочисленные легенды о
чудесном появлении и написании икон с
помощью божественных сил, о чудотворных
иконах.
Большое значение для понимания
эстетического сознания человека Древней Руси
имеют первые описания произведений
искусства русскими книжниками. Так, в
«Повести об убиении Андрея Боголюбского» мы
встречаемся с рядом таких описаний. Вот,
например, автор описывает собор
Богоматери во Владимире, созданный Андреем:
«<...> и доспе (создал. — Ред.) церковь
камену соборъную святыя Богородица, пре-
чюдну велми, и всими различными виды
украси ю от злата и сребра, и 5 верховъ ея
позолоти, двери же церковьныя трое золо-
томъ устрой. Каменьемъ дорогымъ и жем-
чюгомъ украси ю мьногоценьнымъ, и вся-
кыми узорочьи удиви ю, и многими пони-
каделы золотыми и серебряными Просвети
церковь, а онъбонъ (амвон. — Ред.) от
злата и серебра устрой, а служебныхъ
съсудъ и рипидьи и всего строенья церков-
наго златомъ и каменьемъ и жемчюгомъ
великимъ велми много»63. Самой
архитектуре здесь почти не уделяется внимания,
хотя описывается храм. Об архитектурных
элементах (пять куполов, три двери) мы
узнаем только потому, что они были укра-
33
Книга первая
шены золотом и драгоценными камнями.
Фактически храм для автора «Повести» не
произведение архитектуры (он не
чувствует еще специфических особенностей этого
вида искусства, не осознает его
самостоятельности, но скорее огромное произведение
ювелирного или декоративно-прикладного
искусства. Создается впечатление, что
русичи, еще со времен князя Владимира
«уязвленные» блеском, роскошью и сверкающей
красотой царьградской Софии, стремились
в своих храмах не отстать от византийцев
именно по этим параметрам. С ними они и
связывали свои представления о церковной
красоте.
Если мы забудем, что речь идет о
храме, то перед нами, по сути дела, описание
произведения ювелирного искусства,
выполненного только и исключительно из
драгоценных материалов. Интересно, что в
подобных достаточно пространных для
древнерусской культуры описаниях храмов автор не
обращает внимания не только на
собственно архитектуру, но даже и на живопись, хотя
из дальнейшего изложения выясняется, что
иконы там были. В данном случае мы
имеем дело практически с чисто эстетическим
восприятием храма, характерным для
древнерусского эстетического сознания.
Произведения ювелирного искусства, несмотря, а
может быть и благодаря их большой
материальной ценности, выступали для
средневекового человека существенным источником
эстетических переживаний. Поэтому и в
архитектуре, и в живописи эстетическое
сознание древних русичей улавливало в
первую очередь элементы ювелирного искусства.
Совсем с иным типом описания и,
пожалуй, с самым подробным во всей
древнерусской литературе, мы встречаемся в
«Хождении» игумена Даниила.
Творческая задача, стоявшая перед
Даниилом, — подробно описать реликвии
людям, не видевшим их, — в корне
отличалась от задачи автора «Повести об убиении
Андрея Боголюбского» — выразить
значимость (а она оказалась прежде всего
эстетической) самих произведений* зодчества
Андрея. Отсюда и совсем иной характер
описаний Даниила. Он стремится
представить точный облик архитектурных
сооружений, даже дать основные размеры и указать
на изображения, помещенные в них. В связи
с уникальностью описаний Даниила в
древнерусской культуре, а также с их
значимостью для понимания русского
эстетического сознания того времени всмотримся в одно
из них внимательнее. (Для большей
понятности современному читателю в данном
случае имеет смысл привести его в русском
переводе.)
«Церковь Воскресения Господня такова.
По форме она круглая; в ней двенадцать
круглых цельных столпов и шесть
квадратных сложенных; она красиво вымощена
мраморными плитами; дверей у нее шесть; а на
хорах у нее шестнадцать столпов. А над
хорами на потолке мозаичное изображение
святых пророков — как живые стоят. А над
алтарем мозаикой изображен Христос.
Дальше кверху — мозаичное изображение
Вознесения Господня; на обоих столпах по
сторонам алтаря изображено мозаикою
Благовещение. Верх же церкви не до конца
сведен камнем, но расперт каркасом из
тесаного дерева, так что она без верха, ничем
не покрыта. Под самым же тем
непокрытым верхом — гроб Господень»64. Далее
Даниил подробно описывает сам «гроб» —
маленькую пещеру с каменной скамьей, на
которой, по преданию, лежало Тело
Христа, с указанием всех размеров в локтях.
В таком же плане описаны Даниилом и
некоторые другие сооружения «святой земли».
Для византийских авторов, как правило,
были характерны или описания впечатлений,
производимых храмом на находящегося в
нем человека, или
символико-толковательные описания. У Даниила мы сталкиваемся
с новым типом. Перед нами практически
образцы документально-искусствоведческого
описания памятников архитектуры, по
которым можно составить достаточно полное
представление об архитектурном облике
описанных сооружений, их размерах, иконах,
росписях и декоре. Мы по праву можем
считать Даниила предтечей русского
искусствознания.
Изначальная чисто религиозная установка
на восприятие святых мест никак не
мешает его эстетическому восприятию и оценке
памятников архитектуры и живописи.
Начать с того, что храм он рассматривает
как некую художественную целостность в
34
Глаза 1
единстве его архитектурно-строительных,
декоративно-отделочных элементов и
живописи. В одном ряду он перечисляет и
архитектурные детали и формы, и облицовку
стен и полов, и мозаики стен и сводов. При
этом все в целом и в частности регулярно
получает у него эстетические оценки:
прекрасно, очень красиво, искусно,
удивительно, чудесно, непередаваемо словами.
Церковь Воскресения «мощена же есть
дъсками мраморяными красно», над пещерой
построен «теремець скрасень»; свод
сооружения на Лобном месте «исписана мусиею
(мозаикой. — Ред.) дивно», а на кресте
мозаикой изображен Христос «хитро и дивно,
прям яко живъ», там же помещено
изображение Святая Святых «дивно и хитро
создана моисиею (мозаикой. — Ред.) издну,
и красота ея несказанна есть» и т. д.65.
Даниил демонстрирует нам
высокоразвитое эстетическое чувство. Он хорошо
ощущает и красоту архитектурных форм, и с
особой силой удивительное искусство
живописцев, создающих в мозаике жизнеподоб-
ные образы («яко живъ»), и, наконец,
большое мастерство прикладников и
облицовщиков. Столь высокий уровень эстетического
сознания (пусть даже у отдельных русичей)
являлся хорошей предпосылкой для
воплощения его в собственных произведениях
архитектуры и живописи. И русские мастера
XII в., удивительно быстро овладев
соответствующими практическими и техническими
навыками, показали на практике и высокое
мастерство в новых для них видах
искусства, и развитое эстетическое чувство.
Подтверждением тому служат сохранившиеся до
наших дней шедевры
владимиро-суздальской архитектуры XII в.
Анализируя тексты таких одаренных
эстетическим чувством книжников, как игумен
Даниил, мы должны помнить, что это, так
сказать, элитарный уровень древнерусской
культуры и он отражает не все черты
многообразного эстетического сознания древних
русичей. На уровне народного обыденного
сознания, который не так-то легко
реконструировать, мы сталкиваемся с такими
чертами эстетических представлений, которые
менее заметны в «высокой» литературе, хотя
усматриваются и там.
Новое миропонимание в широких
народных массах Киевской Руси формировалось
не с помощью сложных и тонких философ-
ско-богословских сочинений византийских
Отцов Церкви, Иоанна экзарха Болгарского
или «Слов» митрополита Илариона и
Феодосия Печерского, а под влиянием
специально для народа составленного «Пролога»,
известного на Руси уже с XII в.,
многочисленных апокрифических сказаний, в яркой,
красочной, полусказочной форме излагавших
события Священной истории и положения
христианского учения, чудесных историй
«Патериков» и, наконец, под влиянием
специальных обращенных к народу
проповедей.
Выше уже приводилось апокрифическое
представление о земном и небесном Рае,
популярное в народе. Здесь можно
привести еще не менее популярные
апокрифические представления об Аде, образно
описанные в «Хождении Богородицы по мукам».
Авторы апокрифа спускают Богоматерь в
Ад, чтобы показать, как мучаются
грешники. Там кипят огненные реки и озера с
грешным людом, его поедают змеи и
черви, он истекает кровью, претерпевая
непереносимые муки. С дотошным
натурализмом, который направлен был на
возбуждение соответствующих чувств и настроений
в народе, описаны в «Хождении»
страдания грешников. Одни пребывают в
кромешной тьме, другие погружены в огненные
реки по пояс, по грудь или по шею, а иные
и с головой — по мере греховности каждого.
Один горемыка висел вниз головой и
заживо поедался червями; сплетница была
подвешена за зубы, из ее рта выползали змеи
и поедали ее. Многие грешники лежали на
раскаленных скамьях; клеветники и
сводники были подвешены за зубы и языки на
крючьях железного дерева. Эконом,
нажившийся на церковном имуществе, был
растянут на четыре стороны за руки и за ноги и
подвешен «за края ногтей». Он истекал
кровью, а язык его от огненного жара
скрутился как сухой лист. Попы, тоже
подвешенные «за края ногтей», опалялись
пламенем, исходившим от их голов, и т. п. Как
известно, в дальнейшем многие из этих
мотивов русские живописцы и иконописцы
использовали в композициях «Страшного
Суда», которые также были популярны на
35
Книга первая
Руси, занимая обычно западные стены
храмов.
Здесь перед нами фактически выступает
особый тип народного эстетического
сознания, для которого характерны развитое
воображение в сочетании с
натуралистической конкретностью, стремление к
выражению предельной осязательности
изображенного, к утверждению его материального
бытия. Он был присущ не только древним
русичам, но и другим народам
Средневековья.
Христианским идеологам первых веков
внедрения христианства на Руси
приходилось учитывать специфические особенности
этого типа обыденного сознания. Часто,
чтобы быть понятыми широкими массами, им
приходилось специально «снижать»,
огрублять или «переводить» на язык этого уровня
многие чисто духовные феномены
христианства. Такая ориентация на народное
восприятие обычна в проповедях, читавшихся в
церквах. В качестве примера можно
привести введение конкретизирующих элементов
в «Слове на Вознесение Господне» Кирилла
Туровского. У Врат Небесных, сообщает
Кирилл, возникла заминка —
возносящегося Христа не пускает стража, ибо Он
имеет человеческий облик, а людей не велено
пускать на Небо. Ангелы, сопровождающие
Христа, пытаются объяснить стражникам,
что перед ними сам Бог «в зраке раба», но
они неумолимы и хотят слышать голос
Господа. И только тогда, когда Христос
«возгласил» и они признали Его голос, Он был
пропущен в свою обитель. Наглядная
образность, конкретность и почти
осязаемая материальность духовной сферы —
вот те черты, которые унаследовало
древнерусское эстетическое сознание от
восточных славян и которые прочно жили в
народном сознании на протяжении всего
Средневековья и сильно влияли и на «высокую»,
официально-церковную эстетику, с
наибольшей полнотой выразившую себя в
литературе, архитектуре и живописи Древней
Руси.
В качестве одной из главных
особенностей и важнейшего принципа дрернерусско-
го эстетического сознания следует назвать
софийность (от греч. oocpia —
премудрость) искусства — глубинное ощущение и
осознание древними русичами единства
искусства, красоты и мудрости,
удивительную способность русских средневековых
книжников и живописцев выражать с
помощью художественных средств основные
духовные ценности своего времени,
сущностные проблемы бытия в их
общечеловеческой значимости.
На Руси достаточно регулярно
художников и книжников почитали мудрецами, а в
их искусстве видели проявление мудрости.
В известном письме к Кириллу
Туровскому известный книжник XIV — начала
XV в. Епифаний Премудрый почтительно
именует выдающегося живописца того
времени Феофана Грека «преславным
мудрецом» и «философом зело искусным».
Художник почитался в народе за то, что он мог
на основе дара мудрости созидать красоту.
Красота воспринималась на Руси как
выражение истинного и сущностного.
Негативные, неблаговидные явления
рассматривались как отступление от истины, как
нечто преходящее, наносное, не относящееся
к сущности и поэтому фактически не
имеющее бытия. Искусство же, в понимании
средневекового человека, выступало
носителем и выразителем вечного, непреходящего,
неких абсолютных ценностей.
Искусство и мудрость виделись
человеку Древней Руси неразрывно связанными,
а сами термины воспринимались почти как
синонимы. Искусство не мыслилось не
мудрым. И это относилось в равной мере к
искусству слова, иконописания или зодчества.
Приступая к своему труду, раскрыв первый
лист чистого кодекса или рабочей
«тетрадки», русский книжник просил у Бога дара
мудрости, дара слова, и эта мольба отнюдь
не была только традиционной данью
риторской моде своего времени. В ней
заключалась истинная вера в божественность
творческого вдохновения, в высокое назначение
искусства.
Средневековый человек знал две
мудрости — человеческую и божественную и обе
связывал с искусством. Наиболее полно эту
идею, характерную для всей древнерусской
культуры, выразил еще в начале XV в.
Епифаний Премудрый. В идеале, по
мысли Епифания, настоящий писатель должен
иметь первую и быть одаренным второй.
36
Глава 1
К человеческой мудрости, необходимой для
книжника, Епифаний относит гуманитарные
науки античности, и прежде всего
грамматику, риторику и философию. Без знания
этих наук древнерусский книжник не
считал возможным браться за перо. Общим
местом поэтому в русских текстах, особенно у
авторов агиографий, берущихся за
изображение самой Святости, становится
обращение к читателю с просьбой-мольбой
простить их за грубость ума и невежество в
слове. В настоящий энкомий писательскому
делу, его сложности, возвышенности и
мудрости превращается такая
самоуничижительная мольба к читателям Епифания в начале
«Жития св. Стефана Пермского»: «Но
молю вы ся боголюбци, дадите ми
простыню, молитуйте о мне: аз бо есмь умомь груб,
и словом невежа, худ имея разум и помысл
вредоумен, не бывшу ми во Афинех от уно-
сти, и не научихся у философов их ни пле-
тениа, ни ветиских глагол, ни Платоновых,
ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни фи-
лософья, ни хитроречия не навыкох, и
спроста — отинудь весь недоумения наполних-
ся»66. К человеческой мудрости относит
Епифаний и подготовительный труд
писателя — сбор фактического материала на
основе своих личных воспоминаний и опроса
очевидцев событий, о которых необходимо
писать. Так, приступая к написанию
«Жития преподобного Сергия Радонежского»,
Епифаний собрал все то, что узнал от
старцев, лично знавших Сергия в разные
периоды его жизни, а также вспомнил то, что
«своима очима видех, и елика от самого уст
слышах»67. Охватив затем внутренним
взором весь собранный материал,
средневековый писатель ощущает, что только
человеческой мудрости ему не хватает для
осуществления грандиозного писательского
замысла: «Ино къ множеству трудов старьчих и
къ великым исправлением его възирая, акы
безгласен и безделен в недоумении от
ужасти бывая, не обретая словес потребных,
подобных деянию его. Како могу аз,
бедный, в нынешнее время Серьгиево все по
ряду житие исписати и многая исправлениа
его и неизчетныя труды его сказати? Откуду
ли начну, яже по достоиньству деяниа того
и подвигы послушателем слышаны вся
сьтворити? Или что подобает прьвие въспо-
мянути? Или которая довлеет беседа к по-
хвалениемъ его? Откуду ли приобрящу
хитрость да възможна будет к таковому
сказанию?»68 Епифаний мастерски вскрывает
психологию творческого процесса писателя,
его страстное желание выразить в слове
социально значимые известные ему знания
(«Аще бо мужа свята житие списано будет,
то от того плъза велика есть и утешение
вкупе с писателем, сказателем,
послушателем»69), мучительные поиски
художественных средств выражения (с чего начать, как
построить композицию, какие слова
использовать и т. п.) и сомнения в соразмерности
своих сил поставленной задаче. Два
желания борются в душе писателя: донести до
читателя свои знания, ибо они полезны ему,
или молчать, ощущая недостаточность
своего писательского таланта. «О, възлюбле-
нии! — обращается Епифаний к читателям.
— Въсхотех умлъчяти многыа его
добродетели, яко же преди рекох, но обаче внутрь
желание нудит мя глаголати, а недостоинь-
ство мое запрещает ми млъчяти. Помысл
болезный предваряет, веля ми глаголати,
скудность же ума загражают ми уста, веля-
ще ми умолъкнути»70.
И вот, в ситуации, когда писателю есть
что сказать, и он уже не в состоянии
молчать, он обращается со словами мольбы о
помощи к Богу, и, по глубокому убеждению
русского книжника, на него сходит
Божественная Премудрость, одаряя его словом,
раскрывающим уста. «<...> и молюся
ему, — пишет Епифаний, — преже прося
у Него слова потребна; аще дасть ми
слово надобно в отверзание уст моих», как
отверзал Он уста пророкам. «Тем же
отверзу уста моя, и наполнятся духом, и слово от-
ригну»71. Епифаний прекрасно выразил
здесь характернейшую черту средневекового
понимания творчества. Для всей
христианской эстетики аксиоматична мысль о
единственном Творце в Универсуме — Боге.
Человеческое творчество — лишь
отражение Божественного и в полной мере
возможно только при Божественной помощи,
когда дух творчества снизойдет на мастера,
«отверзет» уста его, вдохновит на
творчество. На вере в Божественное вдохновение
основывалась средневековая, и в частности,
древнерусская, философия искусства.
37
Книга первая
Обостренное чувство слова (ибо
настоящее слово — дар Божественной
Премудрости), благоговение перед ним особо
отличало эпоху Епифания и Андрея Рублева.
Будучи выдающимся мастером слова,
Епифаний хорошо осознавал его
эстетическую значимость, противопоставляя речи
«зазорной, неудобренной и неухищренной» речь
«устроенную, удобренную, ухищренную».
Активно развивая расцветавший в это
время на Руси стиль «плетения словес»,
Епифаний выступал приверженцем эстетики
слова, полагая, что «толстота слова»
—«ратник слуху».
Если о словесном творчестве
древнерусские книжники начали размышлять и писать
с ранних времен, то изобразительное
искусство достаточно поздно привлекло их
внимание. Только почти столетие спустя после
смерти Андрея Рублева, когда
древнерусская живопись уже миновала время своего
расцвета, была наконец и словесно изложена
та философия и эстетика иконы, которой
руководствовались русские живописцы на
протяжении ряда столетий. Ее изложил один
из известных мыслителей конца XV —
начала XVI в., глава «стяжателей» Иосиф
Волоцкий, хорошо знавший искусство
Андрея Рублева, в своих «Словах об иконах».
По глубокому убеждению Иосифа (а он
опирается в этом на давнюю христианскую
традицию), «образы и подобия <...> сам
Бог повелел есть творити в славу Свою, и
того ради умом възводитися к Богу»
(326)72, а первое изображение своего лика
Иисус Христос сделал Сам, приложив
матерчатый плат к своему Лицу (так
называемый «нерукотворный» образ), и послал его
царю Авгару. Затем и ученики Христа
стали писать Его изображения. Первая же
икона Богоматери была написана
евангелистом Лукой. С тех пор укрепилась
традиция писания икон, и Иосиф считает, что
христиане обязаны поддерживать ее. Вслед
за византийскими теоретиками иконы он
полагал, что иконы являются «книгой для
неграмотных», через них ум верующих
восходит к изображенным персонажам, что
иконы наделены божественной энергией.
Поэтому они должны служить объектом
почитания и поклонения.
Поклонная функция изображения у
Иосифа теснейшим образом связана с
сакральным опытом. Поклонение в идеале
может и должно привести к некоему
контакту с Богом, к его иррациональному
постижению. Икона осмысливается как
важнейший посредник между человеком и Богом,
с ее помощью ум верующего, по убеждению
Иосифа, от видимого изображения
возводится к Первообразу: «И от вещнаго сего
зрака възлетаеть ум наш и мысль к
божественному желанию и любви, не вещь чту-
ще, но вид и зрак красоты божестъвенаго
онаго изъображениа» (336)73.
Показательно, что средневековый русский мыслитель
вспоминает здесь о красоте изображения,
хорошо, видимо, сознавая, что она играет
отнюдь не последнюю роль в реализации
анагогической функции изображения.
Таким образом, в сознании
древнерусского человека икона выступала одним из
важных путей к Богу. При этом на Руси
высоко ценилась не только направленность
этого пути снизу вверх (от человека к
«горнему миру»), но и обратная — от Бога к
человеку. Бог же понимался средневековым
русским сознанием как средоточие всех
позитивных, доведенных до предела
идеализации свойств человека, то есть выступал
идеалом, предельно удаленным от
человеческого земного бытия.
На Руси всегда помнили о высокой
нравственности искусства, о чем убедительно
свидетельствуют в первую очередь сами
памятники древнерусского искусства
(живописи, архитектуры, словесности).
Соответственно и создавать такое искусство, по
убеждению человека Древней Руси, могли
только люди, обладавшие высокой чистотой
душевной. По мнению Епифания
Премудрого, никто не достоин браться за перо «нео-
чищену имея мысль вънутрьняго
человека»74. Поэтому любой русский книжник,
зодчий или живописец не приступал к
работе, не помолившись об очищении души
своей, просвещении сердца и даровании
разума.
Возвращаясь к «Словам» Иосифа Волоц-
кого об иконах, следует отметить, что в них
намечена целая сюжетно-иконографическая
программа для живописцев. Основное
внимание он уделяет изображению «Св.
Троицы», как особо важному, самому сложному в
38
Глава 1
содержательно-смысловом плане сюжету,
раскрывая целую философию этого образа.
Не имея возможности здесь
останавливаться на ней подробно, отмечу, что в
основе своей она восходит к концепции,
предельно выраженной Андреем Рублевым в
его «Св. Троице». Суть ее сводится к тому,
что триединого Бога следует изображать в
виде трех ангелов, во всем равных друг
другу, хотя и имеющих некоторые
отличительные признаки, и художественно
объединенных в один целостный образ.
Далее Иосиф разъясняет символику
главных иконографических элементов «Св.
Троицы». Престол, на котором восседают
ангелы, означает их царское, господствующее
положение. Нимбы вокруг голов
знаменуют их Божественность, ибо круг, не
имеющий ни начала, ни конца, является
«образом» Бога: «Круг убо образ носить всех ви-
новнаго Бога, яко же бо круг ни начала
ниже конца имат, сице и Бог безначален и
бесконечен». К подобному пониманию
символики круга восходит и круговая
композиция «Св. Троицы» Андрея Рублева,
вообще преобладание мотива «круга» в его
иконографии.
Крылья у изображенных фигур
указывают на их непричастность всему земному, на
их легкость, на «гореносную», «самодвиж-
ную» и «возводительную» природу.
Скипетры в руках указывают на силу, власть и
действенность. Все это «являеть Божественное
подобие, царьское и агтельское», как по
достоинству следует изображать Святую
Троицу (372 - 373).
Концепция иконы Иосифа Волоцкого в
какой-то мере подводила итог уже ушедшей
в прошлое художественной практике, а
живопись его времени двигалась в несколько
ином направлении, отражая новый этап в
развитии эстетического сознания. Высшим
достижением его,, несомненно, является
творчество крупнейшего живописца
московской художественной школы второй
половины XV — начала XVI в. Дионисия,
современника Иосифа Волоцкого. Почти
столетие, отделяющее Дионисия от Андрея
Рублева, внесло существенные изменения и
в социально-политическую ситуацию на
Руси, и в культуру, и в эстетическое
сознание. Все это нашло отражение не в
эстетической теории, а прежде всего в самой
художественной практике — в творчестве
Дионисия и художников его мастерской.
Утонченная красота, гармония,
уравновешенность и глубокая тишина, наполненная
беззвучной музыкой цвета, линий и форм,
господствуют в художественном мире
Дионисия, предвещая своим изысканным
эстетизмом начало конца средневекового
художественного мышления.
В области теории искусства XVI век
можно назвать, пожалуй, самым богатым в
истории древнерусской культуры.
Появление новых тенденций в искусстве (в
частности, символико-аллегорической
живописи), с одной стороны, и еретических
движений, отрицавших иконы вообще, — с
другой, возбудило бурные споры вокруг
изобразительного искусства, в которых
поднимались и общие вопросы теории иконы,
и частные проблемы характера культового
изображения каким ему надлежало быть —
миметическим (подражательным) или
символическим.
Большой пожар Москвы 1547 г.,
уничтоживший множество храмов и
произведений искусства, послужил причиной для
грандиозных художественных работ,
производимых под непосредственным наблюдением
молодого царя и членов «избранной Рады»
в Московском Кремле. Созданные в
короткий срок лучшими мастерами, прибывшими
со всей Руси, иконы и росписи для
кремлевских храмов и дворцов вызывали жаркие
споры в кругах московского духовенства и
придворной знати. Решение их было
вынесено на Соборы 1551 и 1554 гг., и по их актам
мы можем судить о новых тенденциях в
искусстве и о полемике, вызванной ими. При
этом Стоглав (1551 г.) решает вопросы
более общего плана, а Собор 1554 г. —
более частные, связанные с сомнениями
дьяка Ивана Висковатого по поводу некоторых
новых иконографических изводов.
Первый ответ о церковном искусстве на
Стоглаве гласил: «Писати иконописцем
иконы с древних преводов, како греческие
иконописцы писали, и как писал Ондрей
Рублев и прочие пресловущие иконописцы и
подписывати святая Троица, а от своего за-
мышления ничтоже предтворяти» (41,
128)75. В этом лаконичном ответе Стоглав
39
Книга первая
сформулировал главную эстетическую
установку русского средневекового эстетического
сознания, суть которой состоит в
традиционности и каноничности. В качестве
образцов для подражания утверждается
иконография древних мастеров, византийских и
русских, из которых по имени назван лишь
Андрей Рублев. Перед нами классическая
формула средневековой эстетики, и она не
вызывала бы никакого удивления, если была
бы сформулирована столетием раньше.
Однако парадокс эстетического сознания
позднего Средневековья состоит в том, что ее
утверждают в качестве нормы и руководства
для иконописцев в середине XVI в. те же
люди (Иван IV, Макарий, Сильвестр),
которые на практике признают и утверждают
для храмов и дворцов Кремля живопись и
иконопись, совершенно не соответствующую
этой формуле. Вместо простых и ясных
традиционных композиций для икон и
росписей Кремля были разработаны сложные
аллегорические сюжеты, вызвавшие
недоумение многих верующих того времени76. Здесь
мы сталкиваемся с достаточно
традиционным для восточнохристианской эстетики
несоответствием между теорией и практикой
искусства. Так, византийские защитники
иконопочитания и отцы VII Вселенского
собора активно защищали
иллюзионистически-натуралистические изображения на
христианские темы, а византийское искусство
того и последующего времени развивалось
по совсем иному пути — создания
предельно обобщенных, условных образов-знаков,
образов-эйдосов, изобразительных символов
священных событий77. Теперь отцы
Стоглава возводят в идеал и образец для
подражания именно эти изображения,
традиционные и для византийского искусства, и для
древнерусской живописи периода высшего
расцвета (конец XIV — XV в.), а
художественная практика уже далеко ушла от
них, и эти же отцы вынуждены не только
признать ее, но даже и как-то обосновать
(с чем мы сталкиваемся уже на Соборе
1554 г.). Таким образом, указанный выше
парадокс собственно не содержит в себе
ничего парадоксального. Несмотря на
кажущуюся замедленность развития
средневекового художественного мышления, оно тем не
менее постоянно опережает сопутствующую
ему теорию. Последняя достаточно
регулярно, во всяком случае в православном
регионе, вынуждена утверждать и обосновывать
уже пройденный этап художественной
практики. Прекрасным примером этого являются
постановления Стоглава, как бы подводящие
итог средневековому пониманию искусства,
уже уходящему в историю.
Однако Стоглав был собран не для
«подведения черты» под прошлым, а для
осмысления самых злободневных проблем
современности, в том числе и в области
искусства. Царские вопросы касаются новшеств в
иконографии, т. е. отражают недоумение или
сомнения определенной части русского
общества того времени. И Собор стремится
ответить на них, опираясь на устоявшуюся
традицию или предание.
Стоглав предписывает духовным властям
с особым вниманием относиться к иконам и
живописцам — «бречи <...> с святых
иконах и с живописцех» (43, 150), — и
подробно излагает системы организации и
управления иконописным делом. Прежде всего
духовные власти должны заботиться о
нравственном облике иконописцев, ибо дело их
рассматривалось как особо богоугодное, и
заниматься им предписывалось только
благочестивым людям. Поэтому Стоглав
намечает моральные заповеди живописцу:
«Подобает бо быти живописцу смирну и крот-
ку, благоговеину, ни празднословцу, ни сме-
хотворцу, ни сварливу, ни завистливу, ни
пияницы, ни убийцы, но же всего хранити
чистоту душевную и телесную со всяким
спасением», постоянно консультироваться со
своими духовными наставниками, часто
исповедоваться, пребывать в посте и
молитве, то есть в идеале, вести монашеский
образ жизни. Если же этот «подвиг» не по
силам живописцу, то ему необходимо
жениться и жить благочестивой семейной
жизнью (там же). Тех же живописцев и их
учеников, которые не выполняют указанных
нравственных норм, «учнут жити не по
правильному завещанию — во пиянстве и
в нечистоте, и во всяком безчинстве»,
Собор предписывает отлучать от иконного
дела, как недостойных (43, 152).
Стоглав уделяет особое внимание
мастерству и таланту живописцев, их обучению. В
XVI в. существовало множество ремеслен-
40
Глава 1
ников-самоучек, промышлявших
изготовлением дешевых икон низкого качества.
Собор запрещает впредь писать иконы этим
«иконникам-неучам», которые «по се
время писали, не учася, самовольством и
самоловкою, и не по образу» и продавали свои
поделки «простым людем поселяном
невежам» (43, 152). Иконному искусству
надобно учиться у «добрых мастеров», и при этом
не все могут выучиться, так как иконопи-
сание — дар Божий.
Одаренность и мастерство должны быть,
по мнению участников Стоглава, главными
критериями оценки живописца. Но если
первое — от Бога, то второе — от
учителя, поэтому Стоглав уделяет большое
внимание обучению живописцев. Он
предписывает лучшим живописцам «принимати
учеников и <...> учити их всякому
благочестию и чистоте» (43, 151), а также учить
писать образы «по существу же
совершенно <...> со всяким опасением и искусством»
(5, 42 — 43). Хорошо зная обычаи в
средневековых ремесленных мастерских, где
профессиональные навыки и секреты
передавались только близким родственникам, даже
бездарным, и скрывались от посторонних,
участники Стоглава стремятся нарушить эту
традицию. Стоглав предписывает церковным
властям следить за тем, чтобы мастера не
продвигали своих бездарных родственников,
выдавая за их работу иконы других
мастеров, и, напротив, чтобы не хулили и не
притесняли талантливых учеников «по зависти,
дабы не приял чести, якоже и он прия» (43,
152). Божественной карой грозит Стоглав
тем живописцам, которые будут «сокрыва-
ти талант, еже дал Бог, и учеником по
существу того» не дадут (там же).
Наконец, Собор предписывает царю и
архиепископам талантливых живописцев
«бречи и почитати их паче простых человек;
а вельможам и всем человеком тех
живописцев почитати же во всем и честных имети
за то честное и чистое иконное
воображение» (43, 153).
Таким образом, ощущая остро
наметившийся в середине XVI в. кризис
средневекового эстетического сознания, участники
Стоглава предприняли попытку
предотвратить его законодательными мерами.
Попытка оказалась тщетной, что косвенно
подтвердил уже через три года очередной
церковный Собор, однако для истории эстетики и
художественной культуры она крайне
важна тем, что при ее осуществлении были ясно
сформулированы основные положения
древнерусского понимания искусства и
отношения к нему, то есть наконец было
сформулировано то, что осуществлялось на
практике в течение всего русского
Средневековья.
Традиционная концепция искусства,
утвержденная Стоглавом, по всей
вероятности, только подлила масла в огонь, то есть
укрепила в правоте противников новых
аллегорических изображений, помещенных в
Кремле. И вот представитель этих
традиционалистов дьяк Иван Михайлович Вискова-
тый обращается к царю Ивану IV с
«Исповедью», в которой обличает благовещенского
попа Сильвестра и всех сторонников новой
живописи в отклонении от средневековой
традиции, в нарушении установленных правил и
канонов иконописания. Для рассмотрения этой
жалобы и некоторых других вопросов и был
созван церковный Собор 1554 г.,
возглавлявшийся митрополитом Макарием, Сильвестром
и другими сторонниками новых изображений.
Основное возражение Висковатого
сводилось к тому, что новая живопись нарушает
древнюю, восходящую к патристике и
постановлениям VII Вселенского собора
традицию. Ее суть состоит в том, что
изображать в церковной живописи можно и
необходимо только воплотившегося Иисуса
Христа («по человеческому смотрению») в
его земных деяниях. Богоматерь и другие
персонажи Священной истории, то есть
только «реальные» исторические события, о
которых есть достоверные сведения и
существуют уже закрепленные многовековой
традицией «древние греческие образцы».
Висковатый, таким образом, отстаивает
позицию средневекового «реализма» с его
миметическими образами, на которой, как он
справедливо замечает, в основном и стояли
отцы VII Вселенского собора. Теперь же,
возмущается государев дьяк, традиционные
изображения сняли, а на их место
«поставили своя мудрования, толкующи от при-
точь», изображения, написанные «по
своему разуму, а не по Божественному
Писанию»78. Висковатый перечисляет целый ряд
41
Книга первая
новых иконографических сюжетов
аллегорического содержания типа «Отечества»,
«Приидите людие поклонимся Трисостав-
ному Божеству», «Единородный Сыне»,
«Символ веры»79, в которых Бог Отец
изображается в человеческом виде в
образе старца, Христос изображается не
только в его земной истории, но и в виде
ангела с крыльями, в образе воина в доспехах
и с мечом, сидящего на кресте; смущают его
изображения деяний Троицы и особенно
сложные аллегорические росписи Золотой
палаты в царском дворце.
В отличие от нехитрых традиционных
сюжетов, понятных всем верующим, новые
изображения представляли собой
иллюстрации отвлеченных религиозных догматов,
строк церковных песнопений, библейских
притч и пророчеств. Здесь художники,
естественно, не могли обойтись без сложных
изобразительных метафор, аллегорий,
символов, которые были понятны только их
авторам да изощренным богословам. И Вис-
коватый резонно указывает на непонятность
и необходимость толкования этих
изображений: «а толкования тому не написано,
которые то притчи, а кого вопрошу, и они не
ведают»80.
Новая тенденция в русском
изобразительном искусстве, наметившаяся еще в
конце XV в., достигшая своего расцвета и
широкого распространения к середине
XVI в. и не имевшая практически аналогов
в византийской живописи, требовала
своего идеологического обоснования и
оправдания. Этим и занимался Собор 1554 г.,
принудивший Висковатого признать новую
живопись как соответствующую церковной
традиции и покаяться в неправоте своих
взглядов.
Главные аргументы Собора81 сводятся к
следующему. Собор полностью оправдывает
аллегорическую живопись на основе того,
что «живописцы те святые иконы пишут с
древних образцов»82, и именно — с
греческих образцов83 и следуют в своих
изображениях текстам пророков, апостолов и
Отцов Церкви84. Относительно «древних
образцов» Собор, мягко говоря, делает
натяжку, плохо зная, естественно, историю
церковного православного искусства, а в
от официальное соборное узаконивание
живописи, иллюстрирующей сложные
богословские тексты, знаменательно для
XVI в.
Собор достаточно подробно разъясняет
сомневающимся, что новая живопись в
сущности своей ничем не противоречит древней
традиции. В ней не изображается
невидимое Божество или божественная сущность
Христа, но даны, говоря современным
языком, зрительные аналоги пророческим
видениям и другим образным религиозным
текстам, или, в терминологии Собора,
изображены «притчи», то есть аллегории,
символы, знаки, которые, как и в вербальном
тексте, не следует понимать буквально, но
лишь в переносном смысле.
Следуя за развитием художественной
практики своего времени, Собор
оправдывает и узаконивает самые сложные симво-
лико-аллегорические изображения, упрекая
их противников в том, что они «не
гораздо» поняли их «приточное» значение85. На
Соборе были разъяснены некоторые из этих
значений. В частности, изображение
Христа в виде воина с мечом и в латах,
сидящего на кресте, по мнению Собора, есть
иллюстрация библейского образа:
«Облечется во броня правды, и возложит шлем, и суд
нелицемерен приемлет, и поострит гнев на
противныя»86.
В XVI в. было много противников
буквального переведения подобных словесных
образов и метафор в образы визуальные.
Как мы помним, против них, и, пожалуй,
еще более активно, чем Висковатый,
выступал Зиновий Отенский87. Так, к
примеру, он считал неприличным изображать
самого Бога мстителем с мечом. Метафору и
аллегорию он допускает только в искусстве
слова. В живописи, по его мнению, они
совершенно неуместны. В противном случае
придется, чего доброго, иронизирует
Зиновий, изображать Бога с гуслями вместо
чрева или в виде разъяренной медведицы,
следуя библейским образам: «Чрево мое на
Моава аки гусли возшумят»; «буду аки
медведица раздробляя».
Художественная практика и эстетическое
сознание развиваются по своим
имманентным законам, и теоретикам не остается
ничего иного, как принять их и попытаться
объяснить. Макарий и его сподвижники по
42
Глава 1
Собору совершенно справедливо нашли это
объяснение в теории символизма,
разработанной византийскими Отцами Церкви, и
прежде всего автором «Ареопагитик». Не
случайно его имя достаточно часто
упоминается на Соборе 1554 г.
Особенно активно обращается к «Арео-
пагитикам» в связи с религиозными
изображениями известный представитель
полемической литературы XVI в. старец
Артемий. Размышляя об иконах, он вспоминает
и подробно излагает теорию «неподобных
образов» (или символов) Псевдо-Дионисия
Ареопагита.
Традиционная позиция иконопочитателей
(и иконоборцев, кстати): невидимого Бога
и все невидимое изобразить нельзя. Новые
живописцы — « символиста-аллегористи»
изображают невидимого и «умонепостигае-
мого» Бога Отца в образе седобородого
старца, полагая, что это не изображение
внешнего вида Отца, но его символ.
Артемий, как бы подкрепляя их позиции,
напоминает, что по патристической традиции
человек не может «кроме посредства
видимых вещей на умная вознестись видения».
Восхождение к чисто духовным сущностям
он должен начать с некоторых условных
видимых образов. «Якоже глаголет великий
в богословии Деонисие: тем же в лепоту,
рече, предложишася образы безобразных и
зраци беззрачных, и прочая». Образы
невидимых сущностей могут быть двух
видов — подобные и неподобные: «Овъ убо
яко подобенъ подобными происходя, овъ же
отличными образотвореньми». Артемий
вслед за Дионисием отдает предпочтение
неподобным («отличным») образам, полагая,
что любые даже самые незначительные
материальные вещи «отъ сущаго добра бытие
имуще» и потому суть уже подобия «некаго
умного благолепия». Поэтому и нам «не не-
прикладне наздати небесным зраки и от без-
честнейших вещей частей», т. е. не неприлично
придавать небесным сущностям образы
видимых предметов. Только с их помощью
можно «възводитися к невещественным началооб-
разиам»88.
Итак, русские мыслители XVI в., и в
наибольшей мере старец Артемий, приложив
концепцию символизма Псевдо-Дионисия к
живописи, соединили наконец теорию и
практику в области православного
художественного мышления. Показательно, что
художественная практика уже с
постиконоборческого периода в Византии в глубинных
своих основах опиралась на идеи
«Ареопагитик». Теория же в основном своем
направлении как бы не замечала этого.
И только крайности символического
мышления, проявившиеся в русской живописи
XVI в., помогли наконец русским
мыслителям осознать один из основных
принципов творческого метода православных
иконописцев.
Более чем тысячелетие спустя теория
символизма Псевдо-Дионисия Ареопагита
получает на закате русского Средневековья
свое, пожалуй, предельное, и даже
буквалистское, выражение в живописи. Многие
конкретные символы и образы
«Ареопагитик» не находили отклика у византийских и
русских живописцев предшествующих
периодов. Ими пользовались лишь толкователи
текстов Священного Писания. Теперь же не
только они нашли материальное воплощение
в живописи, но был наконец найден
конкретный путь использования в иконах й
фресках самого дионисиевского принципа
символических образов, а именно — создание
буквальных визуальных образов-калек
словесных метафор и притч, по природе своей
не подлежащих визуализации. Очевидно,
что появление этих образов привносит в
иконопись такой сильный элемент
«литературщины» и экзегетизма, который ведет к
нарушению целостности и внутреннего
суверенитета живописного образа и в
результате — к его разрушению.
Кризис средневекового мышления,
обозначившийся на Руси в XVI в., принял в
сфере эстетического сознания своеобразные
формы. Живопись пошла по пути
буквального понимания и воплощения ранневизан-
тийской теории символизма, чего никогда не
позволяло себе искусство высокого
Средневековья и в Византии, и на Руси. В
результате ясные, чеканные целостные
иконописные образы, ставшие непревзойденной
вершиной древнерусского искусства, начали
тонуть и исчезать в бесчисленном множестве
головоломных интеллектуалистских
аллегорий, свидетельствовавших о
приближающейся эре господства рассудочного ratio и над
43
Книга первая
религиозным сознанием, и над
непосредственным художественным чувством.
Узаконив этот процесс, отцы Собора
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Подробнее об эстетическом сознании
восточных славян, как и о других источниках
русской средневековой эстетики см.: Бычков В. В.
Русская средневековая эстетика. XI — XVII
века. М., 1992. С. 23 — 88.
2 Алпатов М. В. Всеобщая история искусств.
Т. III. M., 1955. С. 33.
3 Как показали исследования, книг на Руси
до 988 г. практически не было, хотя особо
важные документы составлялись по-славянски с
использованием латинского или греческого
алфавитов (ср.: Сапунов Б. В. Книга в России в
XI — XIII вв. А, 1978. С. 209; Греков Б. Д.
Киевская Русь. М.; Л., 1944. С. 322).
4 ПЛДР- XI — начало XII века. С. 166.
5 Там же.
6 Цит. по изд.: Молдован А. М. «Слово о
законе и благодати» Илариона. Киев, 1984. С. 79.
7 ТОДРЛ. Т. 12. С. 340.
« ТОДРЛ. Т. 13. С. 419.
9 Там же. С. 343.
ю ПЛДР- XII век. С. 32.
11 См.: Нила Сорскаго Предание и Устав.
СПб., 1912. С. 1 — 9.
12 Там же. С. 47.
13 Подробнее с указанием библиографии
вопроса см.: Казакова H.A. Очерки по истории
русской общественной мысли. Первая треть
XVI в. Л., 1970.
14 См.: Бычков В. В. Малая история
византийской эстетики. Киев, 1991. С. 92 — 120,
269 - 280.
13 Нила Сорскаго Предание и Устав. С. 21.
16 Там же. С. 21 — 23.
17 Там же. С. 28.
18 Там же.
19 Там же. С. 32; 25.
20 Там же. С. 75 — 76.
21 Там же. С. 77.
22 Там же. С. 78.
23 Здесь и далее «Слова» Иосифа цит. по
изд.: Казакова H.A., Лурье Я. С.
Антифеодальные еретические движения на Руси XIV —
начала XVI века. М.; Л., 1955 (с указанием в
скобках страницы).
24 Ср.: Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л.,
1959. С. 302.
25 Молдован А. М. «Слово о законе и
благодати» Илариона. С. 99.
1554 г., сами того не подозревая,
подписали приговор средневековому миропониманию
и типу эстетического сознания.
* ПЛДР. XII век. С. 160.
27 ПЛДР. XI — начало XII века. С. 396,
398.
2« ПЛДР- XII век. С. 96.
29Повесть о Варлааме и Иоасафе. Л., 1985.
С. 217.
30 ПЛДР- XI — начало XII века. С. 302.
31 Молдован А. М. «Слово о законе и
благодати» Илариона. С. 97.
32 ПЛДР- XIII век. С. 130.
33 Там же. С. 200.
34 Подробнее см.: Бычков В. В. Эстетика
поздней античности. II — III века. М., 1981.
С. 166 и далее.
35 Нила Сорскаго Предание и Устав. С. 66.
36 Послания Иосифа Волоцкого. С. 306.
37 Там же.
38 Там же. С. 306 — 307.
39 Там же. С. 307.
40 Нила Сорскаго Предание и Устав. С. 8.
41 Жмакин В. Митрополит Даниил и его
сочинения. М, 1881. С. 570.
42 Жмакин В. Указ. соч. Приложение. С. 29.
43 Там же.
44 Там же. С. 569.
45 Там же. С. 32.
46 Там же. С. 33.
47 Там же.
48 Истины показание к вопросившим о новом
учении. Сочинение инока Зиновия. Казань, 1863
(цит. с указанием в скобках страницы).
49 Казанская история. Подготовка текста,
вступ. ст. и примеч. Г. Н. Моисеевой. М.; Л.,
1954. С. 57.
50 Там* же. С. 99 — 100.
51 ПЛДР- Середина XVI века. С. 262.
52 Там же. С. 222.
53 Подробнее см.: Бычков В. В. Об одной
форме византийского эстетического сознания.
Диалектика эмоционального и рационального в
художественном творчестве и восприятии. М.,
1985. С. 47 — 48; 59.
54 ПЛДР- XI — начало XII века. С. 110.
55 ПЛДР. XIV — середина XV века. С. 46.
56 Там же. С. 394.
57 ПЛДР- Середина XVI века. С. 212.
58 Там же. С. 210.
59 Истины показание... С. 760, 761.
60 Там же. С. 49.
44
Глава 1
61 Там же. С. 49.
62 Там же. С. 46.
63 ПЛДР- XII век. С. 326.
64 Там же. С. 35.
65 Там же. С. 34, 36, 42, 44.
66 Древнерусские предания (XI — XVI вв.).
М., 1982. С. 161.
67 ПЛДР. XIV — середина XV века.
С. 260.
68 Там же.
69 Там же. С. 258.
70 Там же. С. 416.
71 Древнерусские предания. С. 162.
72 Цит. по Приложению № 17 в кн.:
Казакова H.A., Лурье Я. С. Указ. соч. (с
указанием в скобках страницы).
73 Эта же мысль дословно повторяется и в
другом «Слове» (373).
™ ПЛДР. XIV — середина XV века.
С. 406.
75 Стоглав цит. по изд.: Кожанчикова Д. Е.
Стоглавъ. СПб., 1863 (с указанием в скобках
главы и страницы.
76 Подробнее об этой живописи и ее
реконструкции в кн.: Подобедова О. И. Московская
школа живописи при Иване IV. Работы в
Московском Кремле 40 — 70-х годов XVI в. М.,
1972.
77 Подробнее в кн.: В. В. Бычков. За раз-
бирането на образа в раната средновековна
культура. Кн. 8. Философска мисъл. София, 1983.
С. 96 — 97, 101.
78 Материалы по делу дьяка Ивана Виско-
ватого цит. по изд.: Московские соборы на
еретиков XVI века // ЧОИДР. № 3. М., 1847.
Сб.
79 Некоторые из этих изображений см. в кн.:
Подобедова О. И. Указ. соч.
80 Московские соборы. С. 13.
81 Подробнее они изложены в издании
первой части материалов по делу Висковатого:
Розыск, или Список о богохульных отроках и о
сумнении святых честных икон диака Ивана
Михайлова сына Висковатого // ЧОИДР.
Кн. 2. М., 1858; также: Андреев H. E.
О «деле дьяка Висковатого» // SK. Т. 5.
Прага, 1932.
82 Московские соборы. С. 5.
83 Там же. С. 14.
S4 Там же. С. 3, 5, 8, 9, 13, 14.
85 Там же. С. 8.
86 Там же. С. 14.
87 См.: Истины показание... С. 983.
88 Послания старца Артемия XVI века //
РИБ. Т. VI. Кн. 1. СПб., 1878. Стб. 1234 —
1281.
Глава 2
Образ Софии
Премудрости
Божией
как символ
Древней Руси
Русское Среднего-
вье обладает особой притягательной силой.
Тому есть ряд причин, и главная из них
состоит в том, что эпоха Древней Руси
является основополагающей, определяющей,
системообразующей для последующего
развития отечественной государственности и
культуры. Она есть фундамент всего нашего
существования подобно античной
первооснове европейской цивилизации.
Не случаен возрастающий интерес к
одной из доминант отечественной культуры —
к возвышенному образу Святой Софии
Премудрости Божией, которая связует
сакральное с эстетическим, премудростное с
нравственным, эзотерическое с яркой
выразительностью, сокровенное с понятными для
всего народа воплощениями.
Этот образ связует также местные
автохтонные традиции с мировой культурой, с
христианским миром, с древнейшими
цивилизациями Востока, с началом человеческой
истории, ибо он является одним из
наиболее укорененных архетипов
общечеловеческого сознания. В различных вариациях
женский образ Премудрости, Устроительницы,
Покровительницы присутствует в
мифологии, религии, культуре большинства народов
Земли. Это обязывает со всей серьезностью,
объективностью и вниманием отнестись к
русской интерпретации Св. Софии.
Сквозной и необычайно насыщенной
сложным содержанием темой проходит
через всю отечественную историю образ Св.
Софии Премудрости Божией. Ни в какой
иной культуре он не представлен так широко
и разнообразно. Стоят посвященные Св.
Софии величественные кафедральные
соборы Киева, Новгорода, Полоцка, Вологды,
Тобольска. Два храма во имя Св. Софии
сохранились в Москве, один из них с
высокой поздней колокольней расположен на
Софийской набережной напротив Кремля.
Одновременно Св. София предстает в роли
особого иконографического образа во
фресковой живописи, иконописи, миниатюре,
шитье, пластике. Она же является
центральным или одним из главных образов целого
круга литературных произведений, ей
посвящены возвышенные песнопения и
проникновенные молитвы. Сверх того Св. София
Премудрость выступает одной из
важнейших доминант древнерусской мысли, имеет
глубокий философско-символический смысл,
содержит невыразимую в категориях
абстрактного мышления эзотерическую
таинственность и притягательную силу.
Образ Св. Софии Премудрости
восхищает своим эстетическим совершенством. В
каких бы воплощениях он ни являлся —
храма, иконы, литературного образа,
философемы, — он неизменно сияет мерцающим
отблеском высшей духовной красоты.
Прекрасен лик горней Премудрости, перед
которым склоняется, по убеждению
древнерусских авторов, вещная, тварная, телесная
красота. Многих художников прошлого
вдохновлял он на создание великолепных
произведений, на творческое горение, на
беззаветное служение истине.
Красноречиво повествуется об этом в
жизнеописании Константина-Кирилла
Философа, «первого наставника и учителя
славянского народа»1, стоящего у истоков не только
болгарской и всей южнославянской
православной, но и древнерусской культуры,
издавна почитавшегося на Руси. В III главе
пространного жития Константина-Кирилла
паннонской редакции, приписываемого
Клименту Охридскому2, содержится описание
многозначительного эпизода, называемого в
отдельных списках «Видение» (вещий сон).
Стратиг града повелел отроку выбрать себе
невесту из многих красивых сверстниц,
собрав их вместе. «Аз же глядав и смотрив
всех, видех едину краснейшу всех, лицем
светящуся и украшену велеми монисты
златыми и бисером и всею красотою, ей же бе
имя София, сиречь Мудрость», — говорит
он родителям. Те же отвечают словами, за-
46
Глава 2
имствованными из Книги Притч и
Премудрости Соломона, о ценности знания, о
мудрости, сияющей сильней, чем солнце3.
Обручение с Софией, столь красочно и
проникновенно описанное в пророческом сне
юного Константина, определило всю его
дальнейшую жизнь4. Он восхищает своими
успехами в ученье, отвергает мирские
забавы, целиком сосредоточиваясь на духовной
деятельности, особенно в постижении
словесных наук. Юноша сам наполняется
внутренней духовной красотой, которая
привлекает к нему людей. Он замечен, «о
красоте его, и мудрости, и прилежании в науках»
узнают при дворе византийского
императора, куда он призывается для получения
лучшего по тем временам образования в
Магнаврской высшей школе, называемой
иногда Константинопольским
университетом5.
И вновь судьба испытывает юношу.
Логофет Феоктист, занимающий высший
придворный чин, предлагает Константину брак
с богатой, знатной и красивой девицей,
ведущий к светской карьере — к нему
благоволит сам император. Константин
избирает иной путь: он постригается в первый
священнический чин, становясь дьяконом и
патриаршим библиотекарем при Святой Софии,
главном храме не только Византии, но
всего православного мира. В душе он остается
верен своему отроческому обручению, верен
своей избраннице Софии, которая
незримо сопровождает его до конца жизненного
пути.
Особенностью средневековых
произведений, словесных и живописных, музыкальных
и архитектурных, является то, что наряду со
внешним, событийным, эмпирическим,
чувственно-осязаемым уровнем организации
материала и пространства они содержат
внутренний, символический, чувственно не
воспринимаемый, видимый лишь
«духовными очами» сокровенный смысл. Сквозь
словесный текст жития славянского
первоучителя проступает глубоко назидательная
притча о союзе человека с Мудростью:
Константин родился в Солуни, находящегося
под покровительством местного
Софийского храма6, приведен промыслом к Святой
Софии Константинопольской, высшему
духовному средоточию Византии; позднее был
назван Философом, ибо не буквально (что
явствует из этимологии слова), а всем
своим существом возлюбил Софию, ставшую
для него превыше всех благ земных. Не
случайно именно Константин дал первое
определение философии на славянском языке7 и
сообщил славянской речи такие понятия
(естество, свойство, сущность, природа,
вселенная, закон, бытие, идея и др.), без которых
немыслимо развитое мышлениев.
В славянской письменности сохранилось
большое количество произведений (основная
их масса — древнерусские), в которых
описывается жизнь и духовный подвиг св.
Константина-Кирилла, упоминается его имя
вместе с именем брата Мефодия. В Похвале
славянским первоучителям, по болгарскому
пергаменному списку XIV в. из русского
Пантелеймонова монастыря на Афоне, св.
Константин по эстетической традиции,
восходящей к античности, сравнивается с
неутомимой пчелой, влагающей в человеческие
души сладостный мед высшего разумения:
«Весь мир претекова детель яко пчела, бо-
горазумия мед пречистый в срдца влагая»9.
А на Руси Епифаний Премудрый,
описывая просветительскую деятельность св.
Стефана Пермского, создавшего зырянскую
азбуку, сравнивает подвижническую суть его
трудов с подвигом первоучителя: «Тамо
Кирил, зде же Стефан, оба сиа мужа
добра и мудра быста, и равно суща
мудрованием, оба единако равны подвиг обависта...»10
Имя Кирилла Философа присутствует в
самых ранних русских рукописях:
«Остромировом Евангелии» (под 14 февраля — днем
памяти), «Изборнике 1073 года» (в статье
о чтении книг), «Повести временных лет»
(в рассказе о моравской миссии солунских
братьев). Его имя на Руси неразрывно
связано с Софией Премудростью, ибо она
«създа в срдци его храмъ себе»11. Он же сам
определил характерный для региона
православной традиции «Slavia orthodoxa» тип
мыслителя — не ученого схоласта, кабинетного
затворника, но пламенного проповедника,
просветителя, народного наставника,
обращенного к людям подвижника идеи, что стало
главной линией отечественного любомудрия12.
Столь же неотделимым от образа Софии
Премудрости является в древнерусской
традиции имя князя Ярослава, прозванного
47
Книга первая
Мудрым. Рассказ о его обширной
просветительской деятельности, красочно
описанный в «Повести временных лет» под 1037
годом, органично переходит в восторженный
гимн знанию, мудрости, книге, — один из
самых ярких в древнерусской литературе. В
композиционный центр славянского
панегирика умело вписаны слова из библейской
похвалы горнему знанию: «Аз,
Премудрость, зселих свет и разум и смысл аз при-
звах <...> Мои съвети, моя мудрость, мое
утвержденье, моя крепость. Мною цесаре-
ве царствуютъ, а силнии пишють правду.
Мною вельможа величаются и учители
держать землю. Аз любящая мя люблю,
ищущи мене обрящють благодать»13.
Как воздвижение «дома Премудрости»
было воспринято современниками
построение Ярославом храма Святой Софии
Киевской. Он же укрепил город, поставил
Золотые ворота, уподобив славянскую
столицу византийской. Храм как духовное
средоточие, как глава «града», а «град» как
единение людей имеют в средневековой
семантике особый смысл. Образ города с
крепкими стенами, с вознесенным над ним
храмом, был символом устойчивого,
огражденного от внешних сил, устроенного на
благо бытия14. Этот образ широко
представлен в древнерусском искусстве,
разнообразно варьируясь и своеобразно накладываясь на
изображения реальных городов, крепостей,
монастырей Древней Руси15.
Иларион в «Слове о законе и благодати»
помещает- торжественную похвалу
Ярославу, которая, возможно, прозвучала впервые
под сводами Св. Софии. Деяния сына
Владимира, крестившего Русь и введшего ее в
семью цивилизованных народов,
сравниваются с деяниями мудрого библейского царя
Соломона, сына легендарного Давида, и
прежде всего с построением им
Иерусалимского Храма: «Акы Соломон окончил дела
Давдва, иже дом Божий великыи святыи
Его Премудрости създа». Если раньше
«тайная премудрости Божий утаена бяаху», —
то теперь она предстала перед
новопросвещенными русичами во всем своем величии
и красоте. Духовная красота Св. Софии
отражается в ее сверкающем великолепии, ибо
храм был украшен на диво всем народам и
странам: «Всякою красотою украси, златом
и сребром, и камениемъ драгыим, и съсу-
ды честныими, яже церкви дивна и власна
всем округьниим странам»16.
Среди многих функций, выполнявшихся
Киевской Софией, которая была и
митрополичьим храмом, и книгохранилищем, и
местом приема послов, и пантеоном, где в
мраморном саркофаге был погребен ее
строитель Ярослав Мудрый, она играла роль
сокровищницы искусств в их органическом
синтезе17. То, что сейчас раздельно
представляют театр, музей, картинная галерея,
филармония, было объединено единым
действом храмового служения18. Если
вспомнить о раздававшемся под сводами Св.
Софии пении, о торжественно звучавших
проповедях, о таинственно мерцающих
мозаиках и дымчато проступающих фресковых
росписях, о многоцветных иконах,
переливающихся одеяниях, многоценной утвари, об
облаченных в оклады книгах, об особой
обонятельной атмосфере — и все это
соотнести с внутренней и внешней
организацией пространства, с искусной обработкой
использованных материалов, то можно
представить, какое мировоззренческое и
эстетическое воздействие производила на
древнерусских людей София, высившаяся посреди
Киева как бесценный палладиум, игравший
для славянской столицы не меньшую роль,
чем Парфенон для древних Афин или Св.
София для Константинополя19.
В свое время русским людям,
посещавшим Константинопольскую Софию,
казалось, что они пребывали на небесах, так
сильно было воздействие этого храма20. «И
придохом же в Греки, и ведоша ны, идеже
служать Богу своему, и не свемы, на небе
ли есмы были, ли на земли: несть бо на
земли такого вида ли красоты такоя...» Теперь
подобные святилища появились на Руси,
сначала в Киеве, затем в Чернигове,
Новгороде, Смоленске и других городах. Сеть
софийских храмов покрывала греческие и
славянские земли, они украшали Солунь,
Мистру, Никею, Трапезунд, Охрид и
другие города греко-славянского
православного мира. В честь древнего храма Света
София получила свое имя новая болгарская
столица.
Образ Премудрости явился
новопросвещенным древнерусским людям и со стра-
48
Глава 2
ниц переведенных книг, прежде всего
канонических. Апостол Павел, говоря об
иудеях, ждущих чудес от новой христианской
веры, и об эллинах, ищущих от нее
премудрости, называет Христа «Божией
Премудростью» (1 Кор 1, 24). Смысл этой
Премудрости сокровен и непостижим. По его
словам, — «Мудрость же мы
проповедуем между совершенными, но мудрость не
века сего и не властей века сего
преходящих. Но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1
Кор 2, 6 — 7).
Наряду с первоначальным
отождествлением в христианстве Премудрости с
Христом как Логосом, божественным Словом,
имеются иные ее трактовки: как одного из
божественных свойств, как самого
христианского вероучения, как риторской
премудрости слова у того же апостола Павла, как
одного из служебных духов, «духа
премудрости и разума» у пророка Исайи (Ис II,
2), или как Богородицы. Полисемантика,
сложность и несовпадающие трактовки
изначального смысла этого
общечеловеческого архетипа заставляют хотя бы вкратце
осветить историю его возникновения,
вскрыть генезис наслоившихся на него
восточных и античных мифологем21.
Впервые термин oocpia встречается у
Гомера в «Илиаде» (песнь 15, ст. 410 — 413)
как мудрость, проистекающая от Афины
Паллады. Родившаяся из головы Зевса,
девственная прекрасная богиня предстает
как «многодаровитая матерь художеств»,
устроительница и защитница городов, «Гра-
додержица» (ПоХлоОхос). Божественной
мудростью именует Софию Платон (Федр,
278). Категориальный анализ Мудрости
как знания первопричин и сущности дает
Аристотель (Метафизика, 983 А 24 — 25;
995 В 10 — 13). Понятие Софии
осмысляли Демокрит, Пифагор, Филолай, Прокл
и многие другие эллинские мыслители.
«В упорядоченном здании греческого
языка и греческого мифа идея Софии и образ
Афины стоят друг против друга, взаимно
отражая, осмысляя и объясняя друг
друга»22.
Кроме античного влияния на
формирование средневекового образа Софии
существенное персонифицирующее воздействие
оказала ветхозаветная мифологема
Премудрости. В наиболее философичной части
Библии, которую иногда называют «пре-
мудростной» (Книга Премудрости
Соломона, Книга Притчей Соломоновых, Книга
Премудрости Иисуса сына Сирахова, Ек-
клезиаст)23, проступает менее
абстрагированный, в сравнении с греческим, более
чувственно воспринимаемый, личностный,
интимный (в духовно-возвышенном значении
этого слова) облик Премудрости. Именно
здесь возникает мотив обручения с
мудростью, и связан он с юным Соломоном.
Попросив у Бога во сне даровать ему
«сердце разумное», юноша получает великий дар
прозрения в суть вещей, понимание
прекрасного и благого устроения бытия.
Соломон воздвигает грандиозный
Иерусалимский Храм, который станет прообразом
софийских храмов Средневековья. Его перу
приписывают две «премудростные» книги,
Песнь Песней, Екклезиаст, ряд других
творений; с его именем связаны
справедливые суды и чаша с таинственными
письменами, содержащими пророчество о
Христе24.
Подлинным гимном Мудрости звучат
древние библейские строки:
Главное — мудрость: приобретай мудрость,
и всем именем твоим приобретай разум,
высоко цени ее, и она возвысит тебя;
она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;
Возложит на голову твою прекрасный вецок,
доставит тебе великолепный венец.
(Притч 4, 7 — 9).
Библейский царь Соломон стал
олицетворением восточной мудрости в Средние века.
На одной из ранних русских фресок начала
XII в. в барабане центральной главы
Новгородского Софийского собора Соломон
изображен в царском облачении со свитком
в правой руке, где начертаны слова:
«Премудрость създа себе храм и утврьди стлъп
семь и посъла своя...»25 На сюжет
построения Премудростью своего обиталища —
дома или храма — создано немало
произведений литературы и искусства, в том числе
в Древней Руси. Они опираются на строки
девятой главы той же книги:
49
Книга первая
Премудрость построила себе дом,
вытесала семь столбов его,
Заколола жертву, растворила вино свое
и приготовила трапезу;
Послала слуг своих
провозгласить с возвышенностей городских:
Кто неразумен, обратись сюда!
И скудоумному она сказала:
Идите, ешьте хлеб мой
и пейте вино, мною растворенное;
Оставьте неразумие,
и живите, и ходите путем разума.
(Притч 9, 1 — 6).
Образ духовной трапезы, созвучный
платоновскому «Пиру», предстает как
чувственно осязаемый пир души, с веселием
насыщающейся незримыми благами. Мирской
аспект этой сцены отходит на второй план,
явственно же проступает сокровенный смысл
причащения хлебом и вином высшей
мудрости, который войдет в таинство Евхаристии,
сложившееся под влиянием древнего
восточного обычая преломления хлеба и вкушения
вина, но в ином эзотерическом
христианском смысле.
Почитание Мудрости как царствующей
персоны, освященной свыше и причастной
к самым сокровенным тайнам бытия, уходит
своими истоками дальше на Восток.
Верховное божество иранской мифологии Ахура-
мазда («Господствующая мудрость»),
изображаемое в крылатом солнечном диске
(напоминающем круги «славы» в древнерусской
иконописи), имело 7 ангелообразных
женственных божеств, среди которых
выделяется Аша Вахишта — Истина,
покровительница огня26. Возможно, отсюда
проистекает традиция изображения Св. Софии в
иконописи с огненным ликом и огненными
крыльями в новгородской иконографии.
Становится ясным и то, почему Персидское
государство в некоторых древнерусских
источниках именуется как «Софийское»27. Образ
женственной Премудрости занимает важное
место в творчестве Николая Рериха, хорошо
знавшего образы Востока28.
На византийской почве в рамках
христианской идеологии происходит соединение
античного образа Софии, связанного с
Афиной Палладой, и библейского образа
Премудрости; складывается новая
интерпретация одного из глубинных общечеловеческих
архетипов — прекрасной, девственной,
благоустраивающей, царственной
Премудрости. В спорах с гностическими сектами, с
арианами, с монофизитами
выкристаллизовывалась византийская софиология. Она
опиралась на труды Оригена, Афанасия
Александрийского, Григория Нисского,
Максима Исповедника и других
авторитетов29.
Особенно важен вклад Дионисия Арео-
пагита в выработку восточнохристианского
понимания Софии. Именно он убедительно
обосновал необходимость добавления транс-
цендирующей приставки к имени
Мудрости — (жер, «сверх», в старославянском
языке —«пре». Мудрость человеческая и
горняя Премудрость были ясно осознаны в
своей соотнесенности30. Перевод корпуса
«Ареопагитик», законченный в 1371 г.
иноком Исайей, появившись на Руси, стал
одним из основных философско-эстетических
и софиологических трактатов31.
В опубликованном Г. М. Прохоровым
«Послании Титу-иерарху» из корпуса
«Ареопагитик» по сербскому списку XIV в.,
древнейшему из сохранившихся славянских
(с комментариями Максима Исповедника),
София Премудрость предстает промыслом
совершенным, «иже бытию и благобытию
всех виновьнь, и на все проходить, и въ
всячьскыих бываеть, и объемлеть вса»32.
Сложна и разнообразна иконография
Софии Премудрости. Сложна, потому что
невозможно исчерпывающе выразить
художественно-пластическими средствами столь
непростой архетип. Старая проблема
выражения идеального через материальное вновь
предстает здесь во всей остроте.
Разнообразен же лик Софии Премудрости в
искусстве ввиду различных ее трактовок и
отсутствия канонически утвержденного и
нормативно закрепленного изображения (в
отличие, скажем, от иконографических канонов
Христа и Богоматери). Строгого канона в
изображении Софии Премудрости не было
ни в Византии, ни на Балканах, ни на Руси.
Согласно древним сказаниям, первое ее
изображение в Константинопольском храме
отразило отождествление ее с Логосом,
Спасом, Иисусом Христом33. Как
сообщается в одном из наиболее ранних русских
источников XII века: «Оттоле же прият та-
50
Глава 2
ковое наречение (о) церкви: (да) имянует-
ся святая София Слово Божие, нареченное
от ангела Господня»34. София здесь была
представлена в виде ангела Великого
Совета, среднего — в изображении
ветхозаветной Троицы.
Ф. И. Буслаев считал это изображение
сходным с лаконичным обликом Спаса
Вседержителя на миниатюре лионской рукописи
Психомахия Пруденция, содержащей
изображение Христа с книгой в руке и
надписью «Sancta Sophia»35. Ангел,
изображающий Софию, получил иконографические
атрибуты Христа: царско-архиерейское
облачение и крестчатый нимб, дабы выделить
его среди иных. В несохранившейся
росписи Золотой палаты Московского Кремля
было изображение «Спаса на херувимах» с
подписью «Премудрость ИС ХС».
Показательно, что в ряде литературных
памятников Новгородский и Полоцкий храмы в
честь Премудрости называются мужским
именем Софей, это, в частности, отразилось
и в наименовании софиологического
сочинения Зиновия Отенского36.
Первой софийной иконой на Руси,
возможно, стал древний образ новгородского
храма византийского письма (из Корсуни)37
или написанный при построении каменного
здания храма, но тоже «греческого
перевода»38. Безусловно, какая-то софийная
икона должна была иметься и в киевском
храме, посвященном Софии Премудрости, но
о ней не сохранилось никаких сведений, а
стоящая сейчас в иконостасе икона Св.
Софии Киевской относится ко времени
Петра Могилы.
Именно Новгород стал центром
софийной иконографии на Руси. Возрождение
интереса к образу Св. Софии связано с
деятельностью митрополита Макария, будущего
главы русской церкви при Иване Грозном,
известного своими
культурно-просветительскими мероприятиями. Он сам был
иконописцем и, возможно, принял участие в
разработке композиции, называемой
Новгородской Софией.
В законченном виде новгородский
вариант иконы Св. Софии представляет собой
усложненную и полную глубокого
символического смысла композицию. В центре на
престоле восседает в царском одеянии огнен-
ноликий и огненнокрылый ангел с венцом на
главе, жезлом в правой и свитком в левой
руке. Ему предстоят (как в деисусном чине)
слева Богоматерь с круглым медальонным
изображением Эммануила в руках и
справа Иоанн Предтеча с хартией в левой руке
и прижатой к груди правой. Темная со
звездами иссиня-черная «слава», на фоне
которой восседает София Премудрость Божия,
придает ей космически-вселенский характер.
Над главой ангела поясное изображение
Христа, над ним шесть симметрично
расположенных ангелов со «свитком неба» в
руках39, а между ними на уготованном
престоле золотистого цвета книга с красным
обрезом40. Иногда эта композиция
дополняется припадающими к подножию престола
фигурами новгородских святых Никиты и
Иоанна, других новгородских святых в
клеймах иконы, причем все они развернуты к
центру композиции и стоят с воздетыми
руками.
Каждая деталь, особенно в изображении
крылатого ангела, имеет свою символику,
которая толкуется по одной из
древнерусских рукописей таким образом: имеет над
собой Христа, ибо он «главо мудрости»; лик
огненный потому, что огнем божественным
опаляет «страсти тленныя, просвещая же
душу чисту»; венец царский означает, что
«смиренная <...> мудрость царствует стра-
стем»; одеяние и скипетр знаменуют «образ
старейшинства и святительства», «власте-
линский сан»; свиток «в шюйце», свернутый
и прижатый к сердцу, содержит «неведомые
съкровенные тайны, рекше преданная
писания видети»41. Весь образ пронизан
вселенским, космическим смыслом42.
Макарий, став Митрополитом всея Руси,
перенес новгородский культ Софии
Премудрости на московскую почву. Ее
изображение появляется во всех главных соборах
Московского Кремля: икона в
Благовещенском соборе, наружная фреска в полукружии
закомары над жертвенником Успенского
собора, фреска в алтаре Архангельского
собора над «горним» местом. «Представляется
не случайным то обстоятельство, что в
Кремле три известные софийные
изображения43 расположены в алтарной части храмов
<...>, где совершается главнейшее
христианское таинство — Евхаристия»44.
51
Книга первая
Шестнадцатый век в русской культуре
стал временем наибольшего распространения
образа Софии Премудрости на Руси. Не
только в центре, но и по многим городам,
селам, монастырям начинается
распространение иконографии Софии Премудрости,
строительство посвященных ей храмов,
переписывание старых и создание новых со-
фиологических литературных сочинений.
Когда Иван Грозный задумал перенести
столицу на Север, в Вологду, он повелел
выстроить грандиозный Софийский собор по
образцу московского Успенского. В несо-
хранившемся костромском кафедральном
Успенском соборе были интересные
росписи в притворе и на наружной стене алтаря
с изображениями Софии Премудрости. В
вологодской церкви Св. Георгия обнаружил
икону Святой Софии известный
искусствовед Г. Н. Лукомский45. Эти примеры можно
умножить, они свидетельствуют о широком
распространении данного образа по всей
территории России, начиная с эпохи
Ивана Грозного.
Кроме того варианта «софийной»
иконографии, который принято называть
новгородским46, выделяют еще три: киевский,
ярославский (холмогорский) и композицию
«Премудрость созда себе дом». Если в
новгородской иконографии София Премудрость
предстает в образе крылатого ангела, то в
киевской — как Богородица, в
ярославской — как Церковь, а в последней
композиции — как символическое изображение
Евхаристии.
Киевская Св. София, изображение
которой сохранилось в иконостасе, имеет
сложную композицию, где многократно
подчеркивается символическое значение семерицы.
Богоматерь в образе Оранты стоит на
полумесяце в центре кивория,
символизирующего семистолпный храм, к которому ведут
7 ступеней с 7-ю стоящими на них
пророками и святыми отцами и над которым в
небесах проступают поясные фигуры 7
ангелов. В ярославской иконе вместо
Богоматери изображен престол с распятием под
киворием и несколько иная композиция, о
которой можно судить по фреске церкви
Иоанна Златоуста в Ярославле47.
Если киевская и ярославская (иногда
называемая «крестной») иконографии Св.
Софии сравнительно поздние и
малораспространенные, то композиция «Премудрость
созда себе дом» является древней и
известной по многим памятникам. (К слову
сказать, киевская и ярославская иконы тоже
могут трактоваться как разновидности этой
композиции.)
Сюжет «Премудрость созда себе дом»
пришел на Русь с Балкан, хотя и имеет
какой-нибудь византийский прототип48.
Древнейшее из сохранившихся изображений
относят к 1295 г., и представляет оно
фреску в церкви Климента в Охриде. В
нескольких сербских, македонских, болгарских
храмах есть фрески на этот сюжет.
«Совершенно очевидна связь темы Премудрости с
литургическими песнопениями и таинствами
литургии»49. Самое раннее древнерусское
изображение 1363 г. имелось в церкви
Успения на Волотовом поле близ Новгорода,
разрушенной в годы последней войны.
Одно из наиболее красочных и
развернутых изображений данного сюжета
присутствует в иконе конца XV в. из Кириллова
монастыря возле Новгорода, хранящейся
ныне в Государственной Третьяковской
галерее50.
Икона двухчастная. Внизу слева
изображена Премудрость с восьмиконечным
нимбом в белом хитоне, восседающая на семи-
столпном седалище с чашей, символом
Евхаристии, в левой руке и жезлом в правой.
Она обрамлена пятью кругами «славы». В
правом верхнем углу сидящая Богоматерь с
Младенцем. Между Премудростью и
Богоматерью развертывается динамическое
действо: семь слуг, символизирующих
апостольское служение, протягивают чаши семи
устремляющимся к ним юношам. Вверху из
храма свешивается фигура царя Соломона со
свитком, справа ей противостоит Иоанн
Дамаскин также со свитком. Внизу —
престол с «уготованной трапезой». В верхней
части иконы помещено изображение
монументального храма, где на фоне палат
представлены 7 вселенских соборов. Над храмом
семь кругов с ангелами, изображающими
7 духов пророка Исайи51.
Заканчивая краткое рассмотрение
иконографии Софии, следует заметить, что она
воплощена не только во фресках,
иконописи, миниатюрах, но также в мелкой пластике
52
Глава 2
(костяной складень из Ипатьевского
монастыря, деревянный образок из коллекции
А. С. Уварова), шитье (хоругвь из
Никитского храма в Новгороде, новгородская
пелена в ГИМе), сфрагистике (изображение
на печатях новгородских архиепископов).
Возможны и другие олицетворения
возвышенного образа Софии Премудрости.
Многообразны памятники литературы и
письменные источники, в той или иной
степени посвященные теме Софии. Уже в
составе Изборника 1073 года содержится
статья Ипполита в редакции Анастасия Сина-
ита, где истолковывается IX притча
Соломона, положившая начало иконографии
«Премудрость созда себе дом»52. Значение
этого византийского источника подчеркнул
А. Амман53. Притча и толкование на нее,
известные в нескольких редакциях,
привлекали внимание Климента Смолятича,
Кирилла Туровского, Иосифа Волоцкого,
Зиновия Отенского, Иоанникия Лихуда,
Семена Шаховского и многих других
средневековых мыслителей и писателей. Эта же
тема развивалась в гимнографических
творениях, каковыми являются канон на
великий четверг Косьмы Майюмского,
пасхальный канон Иоанна Дамаскина, стихиры на
преполовение, служба на начало индикта.
В особом каноне, посвященном Св. Софии
и хранившемся в одноименном московском
храме, поставленном близ Пушечного
двора, содержатся такие взволнованные
строки: «Всем сердцем взыщем Премудрость
<...> Дар благ дает нам Софиа <...> и
путем правым тещи наставляет нас, аще
течем путем тем — не запнемся, и
сохраняем себе в живот вечный»54.
Если же брать тему Премудрости во всех
ее проявлениях и во множестве близких ей
понятий, то редкий древнерусский автор в
той или иной мере не касался Софии, ибо
сам тип мышления и мировоззрения того
времени содержал софийный элемент. С
первых и до последних лет жизни человек
соприкасался с образом Софии, даже в
храме во время литургии перед ектенией он
слышал возглас: «Премудрость вонмем»
(«внимаем Премудрости»). Совпадение же
имени христианской св. мученицы Софии с
именем Премудрости порождало
ассоциативную связь имен трех дочерей — Веры,
Надежды, Любви — с христианскими
добродетелями55.
Интересны многочисленные
интерпретации Софии, ее атрибутов, связанных с ней
имен и понятий в древнерусских
лексикографических словарях, прежде всего в
Азбуковниках, возникших не без влияния
такого энциклопедически образованного
филолога, богослова и философа, каким был
Максим Грек56. Существуют как краткие
объяснения лексемы София: «София (греч.) —
премудрость»57, так и пространные вроде
истолкования новгородского варианта Софии58.
И наконец, образ Софии имеет важное
значение для понимания древнерусской
философии и эстетики, ибо он в совершенных
произведениях искусства выразил
нерасторжимое единство мудрости и красоты. Тот
вдохновенный платоновский эрос, который
побуждал античную мысль стремиться к
горнему знанию как высшему выражению
прекрасного, проник через византийское
посредничество на Русь и послужил мощным
творческим импульсом в становлении
древнерусской мудрости. Эта
антисхоластическая традиция глубоко укоренилась в
отечественной культуре и создала развитые
формы философствования, неотделимые от
словесного и изобразительного искусства.
Русская мысль наилучшим образом
выражала себя в искусстве и литературе во все века.
Эта тенденция эмоционально-эстетического
понимания мудрости прослеживается и в
европейской культуре, в частности в августа -
низме: «Мудрость отождествляется
Августином с красотой и возводится в создатели
как философии, так и науки „любви к
прекрасному" — филокалии»59.
При всей своей духовной утонченности
образ Софии Премудрости являлся не
отвлеченным символом, но одной из важных
доминант социальной практики в
древнерусском обществе. Храм Святой Софии
Киевской был не только сакральным
средоточием, палладиумом Древней Руси, но и ее
общественно-политическим центром, ибо в
нем происходили важнейшие
государственные церемонии: прием послов, оглашение
документов, обсуждение важнейших вопросов
внутренней и внешней жизни. Новгородская
Св. София выступала зримым символом
независимости феодальной республики: «Где
53
Книга первая
святая София, тут и Новгород».
Группировавшийся вокруг кафедрального собора
«политический и хозяйственный комплекс»,
называемый «домом Св. Софии», играл роль
организующего ядра всей общественной
жизни средневекового Новгорода60. Для
укрепления политического единства
Российского государства в XVI в. при Иване
Грозном утверждается культ Софии
Премудрости в Москве и потом централизованно
распространяется по всей Руси. Строительство
Софийского собора в Тобольске, ставшем
центром русской колонизации в Западной
Сибири, имело цель духовно-практического
освоения вошедших в состав расширявшего
свои пределы государства новых земель.
Тема Софии Премудрости, пройдя через
всю историю допетровской Руси и получив
разнообразные формы своего бытия на бла-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сказания о начале славянской
письменности. М., 1981. С. 75. (Следует заметить, что
св. Кирилл почитается с братом св. Мефодием
и в католическом мире. Вместе со св.
Бенедиктом Нурсийским он, согласно одной из папских
энциклик, признается за патрона всей
христианской Европы.)
2 Климент Охридски. Събрани съчинения.
Пространни жития на Кирил и Методий. Т. 3.
София, 1973.
3 Рукопись XV в. РГБ, ф. МДА. № 19.
л. 366.
4 III глава пространного жития
Кирилла-Константина проанализирована итальянским
славистом Анжело Данти в ст. «Духовный
путеводитель святого от мудрости к Премудрости»:
Danti A. L'itinerario spirituale di un santo: dalla
sagezza alla Sapienza. Note sul cap. Ill della vita
Constantini // Константин-Кирил Философ //
Материали от научните конференции по случаю
1150-годишнината от рождението му. София,
1981. С. 37 — 58.
5 Dvornik F. Les légendes de Constantin et de
Méthode, vues de Byzance. Prague, 1977.
P. 36 — 41.
6 Солунь (современные Салоники) —
второй по значению город империи, имел особо
тесные связи со славянским миром. Многие
святые этого града, в частности св. Дмитрий
Солунский, небесный покровитель князя
Дмитрия Донского, высоко почитались на Руси.
54
годатной древнерусской почве, перешла
впоследствии в отечественную культуру
Нового времени. Она проступает в творчестве
многих философов XVIII — XIX столетий.
В начале XX в. вместе с интересом к
древнерусской живописи и архитектуре
усиливается интерес к теме Софии. Начинает
издаваться специальный журнал «София»61,
создаются новые произведения искусства на
тему Премудрости, например, колоритный
образ Св. Софии новгородского типа в
иконостасе Троицкого собора Почаевской
лавры, построенного архитектором А. В.
Щусевым накануне первой мировой войны.
Сейчас вновь пробуждается интерес к теме
Софии Премудрости, о чем
свидетельствует ряд публикаций последних лет62 и новые
произведения сакрального искусства, ей
посвященные63.
7 Sevcenco J. The definition of philosophy in the
Life of Saint Constantin / / For Roman Jacobson,
essays on the occasion of his sixtieth birthday. The
Hague, 1956. P. 449 — 457.
8 Краткая история болгарской философской
мысли. M., 1977. С. 26 — 27.
9 Александров А. И. Служба святым
славянским апостолам Кириллу и Мефодию в
болгарском списке XIV века. Варшава, 1893. С. 7.
10 Епифаний Премудрый. Повесть о Стефане
Пермском // Памятники старинной русской
литературы, издаваемые Г. Кушелевым-Безбород -
ко. Вып. 4. СПб., 1862. С. 151.
11 Климент Охридский. Похвала Кириллу
Философу. // У идольский В. М. Климент
епископ Словенский. М., 1895. С. 45.
12 Громов M. H. О значении термина
«философ» на Руси // Герменевтика древнерусской
литературы. М, 1989. Сб. 2. С. 447 — 480.
13 Повесть временных лет // Памятники
литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. XI — начало XII века. М., 1978; С. 177.
14 Аверинцев С. С. К уяснению смысла
надписи над конхой центральной апсиды Софии
Киевской // Древнерусское искусство.
Художественная культура домонгольской Руси. М.,
1972. С. 44 — 45.
15 Громов M. H. О философской семантике
архитектуры // Общественная мысль:
исследования и публикации. Вып. И. М., 1990. С. 72 —
85.
16 Молдаван А. А/. «Слово о законе и
благодати» Илариона. Киев, 1984. С. 97.
17 Бычков В. В. Русская средневековая
эстетика. XI — XVII века. М., 1992. С. 100 —
101.
18 Флоренский П. Храмовое действо как
синтез искусств // Маковец, Сергиев Посад. № 1,
1922.
19 Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне
(опыт функциональной типологии памятников
древнерусской архитектуры). М., 1990.
С. 34 — 36.
20 Повесть временных лет // Памятники
литературы Древней Руси. XI — начало XII века.
С. 122.
Красота как аргумент, как свидетельство, как
высший довод занимает в русской традиции
особое место. Если есть в мире тварная красота —
значит, есть Творец ее; если есть «Св.
Троица» Андрея Рублева — значит, есть Бог.
21 Теме Софии Премудрости посвящена
обширная библиография, имеющаяся в
исследованиях русских дореволюционных (Н. П.
Кондаков, Ф. И. Буслаев, Е. Н. Трубецкой,
П. А. Флоренский) и современных (А. В. Ар-
циховский, В. Н. Лазарев, В. Г. Брюсова,
С. С. Аверинцев), зарубежных (А. Амман,
Л. Будде, Э. Вейцман, А. Грабар, О. Демус,
Л. Прашков) исследователей.
22 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 32.
23 См.: Горский А. В., Невоструев К. И.
Описание славянских рукописей Московской
Синодальной библиотеки. Отдел первый.
Священное Писание. М., 1855. С. 9 (по особой
статье, заимствованной из Вульгаты).
24 Farber R. König Salomon in der Tradition,
Wien, 1902. О влиянии ветхозаветной премуд-
ростной традиции на новозаветную см.:
Lips H. von.Weisheitliche Traditionen im Neuen
Testament. Neukirchen, 1990.
25 Лазарев В. Н. Византийское и
древнерусское искусство. М., 1978. С. 140 — 145.
26 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1.
М., 1980. С. 67, 142.
27 Книга глаголемая Козмография, сиречь
описание сего света земель и государств вели-
ких. СПб., 1878 — 1881. С. 333.
28 Попов Д. Из пламени и света //
Литературная учеба. 1989. № I. С. 78 — 83.
Представленье репродукции из музея Николая Рериха
в Нью-Йорке, в том числе впечатляющее
полотно «Святая София Премудрость», вместе с
извлечениями из текстов. На огненном коне в
сверкании пламенеющих крыльев изображена
несущаяся во времени и пространстве на темном
фоне Космоса Мудрость Всевышнего.
29 Флоровский Г. О. О почитании Софии
Глава 2
Премудрости Божией в Византии и на Руси
// Труды V съезда русских академических
организаций за границей. Ч. I. София, 1932.
30 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 27.
31 Прохоров Г. М. Корпус сочинений с
именем Дионисия Ареопагита в древнерусской
литературе // ТОДРЛ. Т. XXXI. Л., 1976.
С. 351 — 361.
32 Прохоров Г. М. Послание Титу-иерарху
Дионисия Ареопагита в славянском переводе и
иконография «Премудрость созда себе дом»//
ТОДРЛ. Т. XXXVIII. Л., 1985. С. 34.
Подробнее см.: Прохоров Г. М. Памятники
переводной и русской литературы XIV — XV
веков. А, 1987.
33 Виленский С. Г. Византийско-славянские
сказания о создании храма Святой Софии
Царьградской. Одесса, 1900.
34 Сказание о Святой Софии Цареградской
// ПДПИ. Вып. 78. СПб., 1889. С. 13.
35 Буслаев Ф. И. Исторические очерки
русской народной словесности и искусства. Т. 2.
СПб., 1861. С. 296.
36 Зиновий Отенский. Сказание известно,
что есть Софей Премудрость Божия //
Вестник общества древнерусского искусства. Вып. I,
1874.
37 Павлов А. Историческое описание святыни
Новгородской. СПб., 1847. С. 35.
38 ААЭ. Т. I. СПб., 1836. С. 248.
39 Иногда неверно атрибутируемом как
«радуга»: В. Р—ов (Рудаков). София //
Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон.
Т. XXXI. СПб., 1900.
40 Квалифицированное искусствоведческое
описание иконы Св. Софии Новгородского
извода XVI в. из собрания П. Д. Корина см. в
кн.: Антонова В. И. Древнерусское
искусство в собрании Павла Корина. М., 1966. С. 58
(№ 36).
41 Фрагмент «София Премудрость Божия»
в рукописи XVII в. // ГИМ, Син., № 70/238,
л. 406 — 406об.
42 Gladigow В. Sophia und Kosmos. Gildesheim,
1965.
43 Имеются и другие, в частности, небольшого
размера икона, помещенная в праздничном чине
иконостаса церкви Ризположения.
44 Яковлева А. И. «Образ мира» в иконе
«София Премудрость Божия» //
Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М.,
1977. С. 395.
(В последнее время А. И. Яковлева
выдвинула концепцию о более раннем происхождении
так называемого Новгородского извода Софии
Премудрости на московской почве и о его
переносе в дальнейшем в Новгород.)
55
Книга первая
45 Лукомский Г. К. Вологда в ее старине.
СПб., 1914. С. 108.
46 Подробно исследован искусствоведом
B. Г. Брюсовой в ее докторской диссертации
«Фрески Софии Новгородской». Л., 1974.
47 Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII —
начала XVIII века. М., 1983. С. 140.
48 Meyendorff ]. L'iconographie de la Sagesse
divine dans la tradition byzantine // Cahiers
archéologiques. Paris, 1959. X. P. 273.
49 Прашков Л. Хрелева башня Рильского
монастыря и ее стенопись // Древнерусское
искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 157.
50 Антонова В. И. и Мнева H. E. Каталог
древнерусской живописи (Государственная
Третьяковская галерея). Т. II. М., 1963. С. 25.
31 Сидорова Т. А. Волотовская фреска
«Премудрость созда себе дом» и ее отношение к
новгородской ереси стригольников в XIV в. //
ТОДРЛ. Т. XXVI. Л., 1971. С. 213 — 214.
52 Брюсова В. Г. Толкование на IX притчу
Соломона в Изборнике 1073 г. // Изборник
Святослава 1073 года. Сборник статей. М.,
1977. С. 292 — 306.
53 Amman A. Darstellung und Deutung der
Sophia im Vorpetrischen Russland // Orientalia
Christiana periodic^. Roma, 1938 (IV). P. 129 — 156.
54 Флоренский П. Служба Софии
Премудрости Божией. Троице-Сергиева лавра. 1972.
C. 8.
55 Показательно объединение в одном
произведении искусства — трехстворчатом
складне начала XVII в. строгановских писем
новгородского образа Софии и изображения Софьи
с дочерьми Верой, Надеждой, Любовью
(Антонова В. И. Древнерусское искусство в
собрании Павла Корина. С. 88 — 89, № 66).
56 Карпов А. Азбуковники или алфавиты
иностранных речей по спискам Соловецкой
библиотеки. Казань, 1877. С. 219 — 220.
57 Рукопись XVII в. // РГБ: Пискар.,
№ 197, л. 135. Здесь же объясняется значение
однокоренных лексем: «софос», «софее»,
«софист» .
58 Рукопись XVII в. // РГБ, Солов.,
№ 20/30; л. 90об. — 92об.
59 Бычков В. В. Эстетика Аврелия
Августина. М., 1984. С. 49.
60 Тихомиров М. Н. Русская культура X —
XVIII вв. М., 1968. С. 185 — 199.
61 «София» // Журнал искусства и
литературы. М., 1914, № 1 — 6. Издавался К. Ф.
Некрасовым под ред. П. П. Муратова.
62 См.: Топоров В. Н. Древнегреческая оо-
cpia: происхождение слова и его внутренний
смысл // Восточная балканистика. М., 1978;
Он же. Еще раз о древнегреческой oo(pia:
происхождение слова и его внутренний смысл //
Структура текста. М., 1980; Громов М. Н.
Святая София Премудрость Божия в Древней
Руси // Phylosophy. Tokyo, 1992, № 1; Fiene
D. M. What is the appearance of the Divine
Sophia // Slavic Reviw. Austin, 1989. V. 48.
№ 3, etc.
63 См., например, созданный недавно
иконостас собора Знаменского монастыря в
Новгороде с прекрасным образом Св. Софии
Новгородского извода.
Глава 3
Поэтика
литературы
1 1оэтика литературы
Древней Руси носит иной характер, чем
поэтика литературы новой. Несмотря на то,
что мы знаем много древнерусских
писателей поименно, особенно тех, которые
писали в «высоких» жанрах, — творчество в
Древней Руси имело менее «личностный»
характер, обладало некоторыми общими
чертами с фольклорным творчеством. Так,
например, хотя индивидуальные стили и
имелись в древнерусской литературе
(существование их нельзя отрицать — стиль Моно-
маха, стиль Грозного, стиль Максима Грека,
стиль Епифания Премудрого имеют
своеобразные, только им присущие черты),
однако выражены они слабее, чем в новой
русской литературе. Гораздо рельефнее
жанровые отличия в стилях. Авторы не
стремятся к индивидуальной манере выражения, но
следуют сложившейся в избранном ими
жанре традиции. От этого и само развитие
литературы идет медленнее. Нет
стремления к обновлению стиля. Отсутствует
четкое представление об авторской
принадлежности. Она ценилась в тех или иных
произведениях только тогда, когда автор
обладал социальным авторитетом — церковным
или светским. Вмешательство переписчиков
в текст произведения не допускалось,
когда произведение принадлежало Отцу
Церкви, митрополиту, святому, князю,
епископу, царю (например, Грозному). Правда,
мы знаем и имена авторов-профессионалов.
Из них первыми могут быть названы Епи-
фаний Премудрый и Пахомий Серб, но с
текстами их произведений обращались
недостаточно бережно и зачастую
перерабатывали. Если тема уже была знакома автору
по более раннему произведению, он
создавал свое новое как переделку прежнего,
иногда меняя стиль, иногда композицию,
иногда идеи произведения, иногда дополняя
прежнее произведение, иногда, напротив, его
сокращая. В результате тексты
произведения тесно переплетались между собой.
Сходство сюжетов стимулировало
заимствования выражений, описаний, целых
пассажей. Описания одной битвы могли
использоваться в другом произведении,
посвященном иной.
Многократно отмечалась в
исследовательских трудах и большая «открытость»
литературы в отношении не сугубо литературных
жанров письменности. Иные жанры
древней русской литературы имели часто
больше культовое и деловое назначение, чем
жанры новой русской литературы. Можно
сказать даже более решительно: основное
отличие одного жанра от другого — в их
употреблении, в их культовой, юридической
или других функциях. Границы
литературы не очерчены, хотя в определенных
жанрах литературность и выражена достаточно
сильно.
Итак, текст неустойчив и традиционен,
жанры резко отграничены друг от друга, а
произведения отграничены друг от друга
слабо, сохраняя свою устойчивость только в
некоторых случаях. Литературная судьба
произведений разнородна — текст одних
бережно сохраняется, других — легко
изменяется переписчиками. Существует
иерархия жанров, как и иерархия писателей.
Стили крайне многообразны, они
различаются по жанрам, но индивидуальные стили
выражены в целом неярко. Все это
составляет резкое структурное отличие древней
русской литературы от новой.
Различен и самый характер литературного
процесса Древней Руси и Нового времени.
Если мы сопоставим такие произведения
XI в., как «Начальная летопись», «Житие
Бориса и Глеба», «Слово о законе и
благодати» Илариона, с такими
произведениями XVII в., как «Синопсис», «Житие
протопопа Аввакума», произведения Симеона
Полоцкого, то различия между ними в
самом типе произведений будут настолько
наглядно велики, что говорить о «застойном»,
малоподвижном характере русской
литературы не придется. Однако и в XVII в.
продолжает вестись летопись старого типа,
и в XVII в. составляются по старому типу
новые жития, читаются произведения,
созданные во все предшествующие века без
какой бы то ни было поправки на время. Это
57
Книга первая
объясняется тем, что литература
развивается, но развитие идет чрезвычайно
неравномерно. Нет общего русла, в котором
происходит развитие. Жанры иногда
настолько обособленны, что они развиваются в
известном смысле изолированно, без крепких
связей друг с другом. Каждый жанр имеет
свой стиль изложения (хронографический,
летописный, агиографический) и свои пути
развития. Это резко отличает древнюю
литературу от новой. В новое время
литературное направление захватывает всю
литературу, все ее жанры и частично критику.
Древняя литература не знает литературных
направлений вплоть до XVII в. Первое
литературное направление, сказавшееся в
русской литературе, — барокко.
Древняя русская литература, особенно в
своем начале, представлена отдельными,
очень разнохарактерными произведениями,
стоящими по своему типу, по своему
жанру более или менее обособленно.
Своеобразное положение занимает не только «Слово
о полку Игореве», хотя сейчас разысканы
близкие ему произведения в жанре,
соединяющем в себе народный плач и славу
(«Слово о гибели Русской земли»,
«Похвала роду рязанских князей» и проч.), но и
такие произведения, как «Слово о законе и
благодати» Илариона (историософская
проповедь не представлена в Древней Руси
другими аналогичными произведениями),
«Поучение» Владимира Мономаха
(особенно «выпадает» из контекста эпохи
автобиографическая часть этого «Поучения» и
письмо Олегу Светославичу), «Моление»
Даниила Заточника (древняя литература не
знает до XVII в. других случаев
проникновения в нее скоморошьего балагурства).
Крайне своеобразен по своему
литературному типу и Киево-Печерский патерик.
Думается, что объяснять это явление только
тем, что много других произведений XI —
XVII вв. погибло, нельзя. Не значит это и
то, что литературные произведения не
связаны со своей эпохой. Напротив, их связи
со своим временем чрезвычайно тесны и
многообразны, особенно по содержанию и
идеям, но в самом литературном развитии
они все в той или иной степени занимают
свое особенное, «непохожее» место. И это,
конечно, объясняется в первую очередь тем,
что общего развития, захватывающего своим
движением всю литературу, в те века на Руси
не было.
Важное место в средневековой Руси
занимала переводная литература.
Несмотря на то, что переводные
произведения и литература оригинальная
составляли единую систему, в которой
оригинальные тексты как бы восполняли своей
отзывчивостью на русскую действительность
недостаточную связь с ней переводных, —
оригинальные же заметно отличались от
переводных и по своему художественному
строению.
Переводные произведения гораздо чаще,
чем оригинальные древнерусские,
представляли собой законченные сюжетные
повествования, в которых литературный интерес
преобладал над историческим.
Древнерусские же оригинальные тексты, напротив, по
преимуществу сосредотачивали свой интерес
на историческом: стремились запечатлеть
факты биографии святого или исторические
события. В связи с этим переосмыслялось
и понимание переводных произведений: как
историческое повествование воспринималась
«Александрия», как географическое —
«Повесть об Индийском царстве», а поэма
«О дигенисе Акрите» при переводе была
переделана в повесть. Характерно также
полное различие повествований в
переводных хрониках и древнерусских летописях. В
хрониках гораздо большее значение, чем в
летописях, придавалось занимательности;
здесь — развитая сюжетность, короткие
рассказы иногда с назидательным
содержанием. Пример — «Хроника» Иоанна Ма-
лалы, центр интереса которой составляют
отдельные рассказы о событиях,
соблюдающие занимательность, иногда
сочетающуюся с назидательностью. Русская летопись
только в своей начальной части имеет эти
более или менее законченные рассказы, и то
только потому, что в них отразились
фольклорные сюжеты и устные предания.
Характерно также, что переводные
притчи обрастали историческими деталями и
становились рассказами о реально бывшем.
Таким образом, тонкий слой
традиционных жанров, перенесенных на Русь из
Византии и Болгарии, все время ломался под
влиянием острых потребностей действитель-
58
Глава 3
ности. В поисках новых жанров
древнерусские книжники в XI — XIII вв. часто
обращались к фольклорным жанрам, но не
переносили их механически в книжную
литературу, а создавали новые из соединения
книжных элементов и фольклорных.
Одним из самых излюбленных чтений в
Древней Руси были сборники афоризмов:
«Стословец Геннадия», разного вида
«Пчелы», позднее — Азбуковники.
Афористическая речь вторгалась в летопись, в «Слово
о полку Игореве», в «Поучение» Владимира
Мономаха. Цитаты из Священного
Писания (и чаще всего из Псалтыри) тоже
употреблялись как своего рода афоризмы.
Любовь к афоризмам типична для
Средневековья. Она была тесно связана с
интересом ко всякого рода эмблемам, символам,
девизам, геральдическим знакам — к тому
особого рода многозначительному
лаконизму, которым была пронизана эстетика и
мировоззрение эпохи феодализма.
Литературные жанры Древней Руси
имеют очень существенные отличия от жанров
Нового времени: их существование в гораздо
большей степени, чем в Новое время,
обусловлено их применением в практической
жизни. Они возникали не только как
разновидности литературного творчества, но и
как определенные явления жизненного
уклада, обихода, быта в самом широком
смысле слова.
В русской средневековой литературе
жанры различаются по тому, для чего они
предназначены. «Слова» произносятся в
церкви, и в зависимости от того, по каким дням
они произносятся, можно различать
отдельные их поджанры. Жития святых также
связаны с церковным богослужением и
монастырским обиходом. Мы можем различать
жития минейные и проложные не по тому,
что первые включаются в четьи-минеи, а
вторые в прологи, но и по тому, что первые
и вторые читаются в различной обстановке.
Священное Писание было в ходу в виде
сборников с указаниями, что и когда читать
при богослужении. Не случайно, что полный
перевод Библии появился только в конце
XV в. при Геннадии Новгородском. Ветхий
Завет до конца XV в. был у нас известен
только в переработке для церковного чтения
(паримейники, палеи и проч.). Творения
Отцов Церкви также располагались в
сборниках по периодам церковного года
(сборники «Златоуст», «Златая цепь», « Злато-
струй», «Торжественник» и др.). Кроме
того, до нас дошли сборники церковных
служб, молитв, песен, житий святых
(прологи, патерики, различных типов минеи),
толкований на отдельные книги Священного
Писания, изречений, церковных законов, а
также кормчие, номоканоны, уставы,
требники и т. д. — все, в той или иной
степени, определявшиеся в своем составе
потребностями церковного обихода. Многие виды
церковных песнопений различались не по
форме и содержанию, а по тому, в какой
церковной службе и в какой части этой
службы они исполнялись. Другие виды —
по тому, как они исполнялись (троичные
гласы, трижды исполнявшиеся на утрене
после шестопсалмия и ектинии, антифоны,
певшиеся попеременно на двух клиросах).
Некоторые виды церковных песнопений
назывались по тому признаку, как положено
было вести себя при их исполнении.
Таковы — седальные (при пении их начинали
садиться), катавасия (последний стих, для
которого певцы сходились на середину церкви).
В книжности светской мы также заметим
ее подчиненность быту, обиходу, деловым
интересам. Состав светских жанров на Руси
в большей мере отличался от
византийского, поскольку ее светский быт более
своеобразен, чем церковный. Формирование
новых жанров в Древней Руси, особенно в
первые века ее существования, было в
основном подчинено практическим, деловым
потребностям: возникают различные жанры
путешествий (хождения, статейные списки);
происходит формирование особых жанров
под влиянием разновидностей деловых
грамот, деловой переписки и проч.
Существенный интерес представляет
выяснение причин возникновения жанра
повестей о княжеских преступлениях в XI —
XIII вв., таких как «Повесть об ослеплении
Василька Теребовльского», «Повесть об
убийстве Игоря Ольговича», «Повесть
боярина Петра Бориславича о
клятвопреступлении Владимирки Галицкого», «Повесть об
убийстве Андрея Боголюбского» и проч.
Все эти повести возникли из потребностей
феодальной борьбы: для доказательства
59
Книга первая
нравственной и юридической
справедливости войны одного князя против другого,
виновности одних и правоты других.
Характерно, что одно из первых русских житий —
«Житие Бориса и Глеба» — с самого
начала было в жанровом отношении
сообразно под влиянием этих потребностей. Оно
приближалось по своему типу к повестям о
княжеских преступлениях. Основное место
в нем заняло описание убийства святых
братьев Святополком. Перед этим
описанием преступления Святополка отступили на
второй план традиционные жанровые
признаки жития. В дальнейшем рассказы о
княжеских преступлениях полностью или
частично эмансипировались от житийного
жанра.
Преобладание в Древней Руси
обиходных, «обрядовых», «деловых» жанров
сказалось, между прочим, на одной их
особенности, резко обозначившейся в их стиле: все
они рассчитаны на произнесение вслух. Это
сказывается в ритме, рассчитанном для
пения или для чтения вслух, в обилии
ораторских оборотов речи, ораторских обращений
к слушателям и т. д.
В силу своего внелитературного
употребления, служебной предназначенности эти
жанры выходили за пределы литературы и
имели тесные контакты с жанрами других
искусств — живописи, архитектуры и в
особенности музыки.
Помимо «делового» стимула образования
новых жанров был стимул познавательный.
Он в известной мере существовал уже в
первые века русской письменности и затем
все более и более возрастал, способствуя
развитию индивидуального чтения.
Познавательный характер многих жанров, интерес
к познавательной стороне отдельных
произведений может быть замечен даже по их
названиям. Вот несколько типичных:
«Сказание чего ради Великого Новагорода
архиепископы на главах носят клобуки...»,
«Исповедание въкратце како и коего ради дела
отлучившася от нас латыни...», «Познати,
как кружали держати», «О городах, где
которые стоят, или островы».
Познавательная струя в русской
литературе сильно возрастает в XV, XVI и затем
в XVII вв. Это заметно по составу
сборников XV — XVII вв., так называемых
сборников неустойчивого содержания,
создаваемых писцами для себя или для продажи.
Но и в том, и в другом случае они были
предназначены для индивидуального не цер-
ковно-служебного чтения, сильно
распространяющегося в это время. В этих
сборниках, объединяющих разнородный материал,
очень часто познавательный интерес
является преобладающим.
Несмотря на преобладание внелитератур-
ных факторов жанрообразования,
специфически литературный характер жанров
сказывается очень сильно. Можно даже сказать,
что он имеет чрезвычайное значение, и роль
жанров в литературном развитии
средневековой Руси исключительно велика, как и
роль чисто литературных признаков в самих
средневековых жанрах.
Произведение Нового времени отражает
личность автора в создаваемом им образе
автора. Иное в искусстве Средневековья.
Оно стремится выразить коллективные
чувства, коллективное отношение к
изображаемому. Отсюда многое в нем зависит не от
творца произведения, а от жанра, к
которому это произведение принадлежит. Автор в
гораздо меньшей степени, чем в Новое
время, озабочен внесением своей
индивидуальности в произведение. Каждый жанр
имеет свой строго выработанный традиционный
образ автора, писателя, «исполнителя».
Один образ автора — в проповеди,
другой — в житиях святых (он несколько
меняется по поджанровым группам), третий —
в летописи, иной — в исторической
повести и т. д. Индивидуальные отклонения по
большей части случайны и не входят в
художественный замысел произведения. В тех
случаях, когда жанр произведения требовал
его произнесения вслух, был рассчитан на
чтение или на пение, образ автора совпадал
с образом исполнителя — так же, как он
совпадает в фольклоре.
Литературная структура жанров резко
выступает и в следующем явлении:
древнерусские жанры в гораздо большей степени
связаны с определенными типами стиля, чем
жанры Нового времени. Мы можем
говорить о единстве стиля праздничного слова,
панегирического жития, летописи,
хронографа и проч. Нас поэтому не удивят
выражения «житийный стиль», «хронографический
60
Глава 3
стиль», «летописный стиль», хотя, конечно,
в пределах каждого жанра могут быть
отмечены индивидуальные отклонения и
черты развития. Для литературы Нового
времени было бы совершенно невозможно
говорить о стиле драмы, стиле повести или
стиле романа вообще. Следовательно, и в
этом отношении средневековые жанры
обладают более резкими, чисто
литературными различиями, чем жанры Нового
времени. Они вбирают в себя большее количество
литературных признаков. Характерно
также, что различные жанры по-разному
относились к проблеме авторской
принадлежности. «Чувство авторства» было различно в
жанре проповеди и в жанре летописи, в
жанре послания и в жанре повести. Первые
предполагают индивидуального автора и
часто им подписывались, а при отсутствии
данных об авторе приписывались тому или
иному авторитету. Вторые очень редко
имели именные подписи; авторской
принадлежностью их читатели мало интересовались.
Древнерусские жанры были хорошо
«организованы» в том отношении, что они
обычно декларативно обозначались в самих
названиях произведений: «Слово Ивана
Златоустаго о глаголющих, яко несть
мощно спастися живущим в мир», «Сказание о
Небесных Силах», «Книга глаголемая
Временник, Никифора патриарха Цариграда,
сиречь Летописец, изложен вкратце»,
«Простительна грамота к мощам Филиппа
митрополита», «Книга Патерик, Словеса
душеполезна, извещение преподобному отцу
нашему Макарию Египтянину», «Страсть
святаго мученика Иякова Персиянина» и т.
п. Иногда о жанре произведения читатель
мог судить по вступительным строкам, по
отметке — когда и где читать данное
произведение: «Августа в 3 день, преподобна-
го отца нашего Антониа Римлянина, иже в
Великом Новеграде новаго чюдотворца»,
«Слово 2-е Кирилла Александрийского в
неделю мясопустую», «Слово на Дмитриев
день, да избудем зла» и т. п.
Название жанра выставлялось в заглавии
произведения, очевидно, под влиянием
некоторых особенностей самого
художественного метода древнерусской литературы.
Дело вот в чем. Традиционность
литературы затрудняла использование
неожиданного образа неожиданной художественной
детали или неожиданной стилистической
манеры как художественного приема.
Напротив, именно традиционность
художественного выражения настраивала читателя
или слушателя на нужный лад. Те или иные
традиционные формулы, жанры, темы,
мотивы, сюжеты служили сигналами для
создания у читателя определенного
настроения. Стереотип не был признаком
бездарности автора, художественной слабости его
произведения. Он входил в самую суть
художественной системы средневековой
литературы. Искусство Средневековья
ориентировалось на «знакомое», а не на
незнакомое и «странное». Стереотип
помогал читателю «узнавать» в произведении
необходимое настроение, привычные
мотивы, темы. Это искусство обряда, а не игры.
Поэтому читателя необходимо было
заранее предупредить, в каком
«художественном ключе» будет вестись повествование.
Отсюда эмоциональные «предупреждения»
читателю в самих названиях: «повесть пре-
славна», «повесть умильна», «повесть
полезна», «повесть благополезна», «повесть
душеполезна» и «зело душеполезна»,
«повесть дивна», «повесть дивна и страшна»,
«повесть изрядна», «повесть известна»,
«повесть известна и удивлению достойна»,
«повесть страшна», «повесть чюдна»,
«повесть утешная», «повесть слезная»,
«сказание дивное и жалостное, радость и
утешение верным», «послание умильное» и проч.
Отсюда же и пространные названия
древнерусских литературных произведений, как
бы подготовлявшие читателя к
определенному восприятию произведения в рамках
знакомой ему традиции. Той же цели
«предупреждения» читателя служат названия
произведений, в которых кратко
излагается их содержание: «О некоем злодее,
повелевшем очки купити», «О невесте,
которая двое детей своих порезала, ,абы
замужем была», «О житии и о смерти и о
Страшном Суде» (Слово митрополита
Даниила), «Повесть о блаженем старце
Германе, спостнице преподобном отце Зосиме
и Саватию, како поживе с ними на
острове Соловецком». Той же подготовке
читателя к определенному восприятию
произведения служат и предисловия к произведе-
61
Книга первая
ниям. В них сообщается тот эмоциональный
ключ, в котором должно восприниматься все
дальнейшее. Читатель как бы подготовлялся
к последующему чтению.
Приготовление к чтению занимало в
Древней Руси серьезное место. В одном из
Слов о книжном учении «Измарагда»
читаем: «Седящу ти на почитании и послуша-
юшу Божественных слов, то первее помо-
лися Богу, — да ти отверзет очи сердечныя,
не токмо написанное чести, но и творити я,
и да не во грех учения святых прочитаем»1.
Чтение книг входило в обиход жизни, во
многих случаях было связано с церковным
обиходом и обычаем: поэтому не всякое
произведение и не во всякое время можно было
читать; читатель должен был быть
предуведомлен в названии: о чем пойдет речь,
какого жанра произведение и на какой лад
следует настроиться. Многие из них
читались в определенные календарные дни,
другие — в определенные дни недели.
Можно было бы указать и иные
признаки, по которым читатель мог «узнавать»
жанр произведения, его стилистическую и
сюжетную принадлежность, его
эмоциональную настроенность. Жанры обладали
различными собственными атрибутами, как
обладали ими изображения святых.
Средневековое искусство есть искусство
знака. Знаки принадлежности произведения
к тому или иному жанру играли в нем
немаловажную роль. При этом бывали случаи,
что знак жанра употреблялся в самом
прямом смысле этого слова — как особый
фигурный значок. Отмечу, что в Типиконе и
в Месячной минее отдельные «последова-
ния» имеют знаки («знамения»),
указывающие на то, к какому разряду они
принадлежат, как должны совершаться (крест в
круге, крест с полукружием, один крест, три
точки полуокруженные; знаки эти красные
и черные).
Говоря о литературных жанрах Древней
Руси, необходимо вспомнить и о
соотношении фольклора и литературы. Они
противостояли друг другу не только как две в
известной мере самостоятельные системы
жанров, но и как два различных мировоззрения,
два различных художественных метода.
Однако как бы ни были различны
фольклор и литература в Средние века, они
имели между собой гораздо больше точек
соприкосновения, чем в Новое время.
Давно обращавшее на себя внимание
отсутствие в древней русской литературе
некоторых жанров — любовной лирики,
развлекательных жанров (романа, авантюрных
повествований), театра и проч. —
объясняется не тем, что русская литература была
подавлена церковностью (другие светские
жанры существовали и достигали зрелого
развития, например летопись), а тем, что из
этих областей еще не отступил фольклор.
Если система жанров фольклора была
системой цельной и законченной, была
способна в какой-то мере полно удовлетворять
потребности народа, в массе своей
неграмотного, то система жанров литературы
Древней Руси была неполной. Она не могла
существовать самостоятельно и удовлетворять
все потребности общества в словесном
искусстве. Система литературных жанров
дополнялась фольклором. Она существовала
параллельно фольклорным жанрам:
любовной лирической песне, сказке,
историческому эпосу, скоморошьим представлениям.
Именно поэтому в литературе
отсутствовали целые ее виды, и прежде всего
лирическое стихотворство.
В целом литература и фольклор в эпоху
Средневековья соотносились между собой
как два объема, имеющих некоторую общую
часть, но в остальном ведущих
самостоятельное существование, причем различие в этом
самостоятельном существовании состояло в
том, что фольклор целиком удовлетворял
эстетическим потребностям широких слоев
народа в художественном слове, а литература
охватывала только те области, которые
превышали возможности фольклора. В сфере
потребностей верхов феодального общества
литература и фольклор дополняли друг
друга, объединяясь в единую систему.
При всей многочисленности жанров
древнерусской литературы все они находятся в
своеобразном иерархическом подчинении
друг у друга: есть жанры главные и
второстепенные, жанры, объединяющие другие
произведения и входящие в состав этих
больших объединений. Литература своим
жанровым строением как бы повторяла
строение феодального общества с его системой
вассалитета-сюзеренитета. В ее сложном
62
Глава 3
жанровом строении главная роль
принадлежала своеобразным жанрам-«ансамблям».
Произведения группировались в
громадные ансамбли: летописи, хронографы, четьи-
минеи, патерики, прологи, разного вида
палеи, разнообразные сборники устойчивого и
неустойчивого содержания.
Ансамблевый характер житий был
подчеркнут еще В. О. Ключевским: «Житие —
это целое литературное сооружение,
некоторыми деталями напоминающее
архитектурную постройку»2. Аналогична и даже более
сложна структура летописи, хронографа,
степенной книги, временника, торжественника
и др. Ясно, что структура произведений
древнерусской литературы глубоко отлична
от современных. При этом несомненно и
другое: подобная художественная структура
допускала в произведениях сосуществование
различных художественных методов,
связанных с их жанрами. Произведения
древнерусской литературы «наращивались»
произведениями других жанров и других эпох со
своими художественными методами. При
этом перед нами были не только
«наращивания», но и переработки, оставлявшие
следы предшествующих стадий. Искусство
Византии, восточных и южных славян
стремилось прежде всего поразить зрителя,
читателя или слушателя величием,
торжественностью, воздействовать на воображение
рядового человека, создав ощущение
дистанции между ним, Богом и князем. Храмы и
другие архитектурные сооружения должны
были контрастировать обыденной
застройке, «сламным» (крытым соломой) хижинам
смердов в сельской местности, жилищам
ремесленников в городе, окружающей
природе. Искусство должно было контрастировать
обыденной жизни как таковой.
То же самое в литературе: ее
произведения должны были выделяться среди
обычной, деловой письменности своим языком
(церковнославянским), своим стилем (ви-
тийственным), возвышенностью и «этикет -
ностью», церемониальностью повествования.
Из сопоставления литературы с
изобразительным искусством и архитектурой
отчетливо выступает важная сторона
ансамблевого строения литературы, соединение
произведений по анфиладному принципу — это
не только результат внешних условий
существования литературы (слабости
авторского начала и слабости стремления к
сохранению первоначального текста, позволявшей
бесконечно варьировать и комбинировать
отдельные произведения), но и важный
эстетический принцип Средневековья. В этом
эстетическом принципе сказывается
стремление к созданию величественных и
обширных произведений, к возможно полному
охвату всего разнородного материала, игра
на контрастных сопоставлениях больших
«масс», корпусов, со всеми присущими им
индивидуальными чертами.
Искусство, и в его составе —
литература, было в значительной мере рассчитано на
официальные церемонии, предназначалось
для оформления богослужений,
торжественных процессий, занимало очень большое
место в укладе монастырской жизни и т. д.
Произведения архитектуры, живописи,
литературы торжественно развертывались
поэтому по анфиладному принципу,
следовали одно за другим. Само произведение
искусства было своего рода «процессией»:
будь то летопись, житие или четьи-минеи,
пролог, палея или хронограф.
*
Среди главных эстетически значимых
характеристик древней русской литературы
следует указать на ее этикетность и
каноничность. Литературный этикет и
выработанные им литературные каноны —
наиболее типичная средневековая
условно-нормативная связь содержания с формой. Этикет
и канон лежали в основе творческого
метода древнерусского писателя, суть которого
состояла в подборе соответствующих
канонических формул и выражений. Выбор этих
формул определялся не столько жанром
произведения, сколько предметом, о котором
шла речь. Так, если речь заходит о
святом — житийные формулы обязательны,
будет ли о нем говориться в житии, в
летописи или в хронографе. Эти формулы
подбираются в зависимости от того, что
говорится о святом, о каком роде событий
повествует автор. Точно так же
обязательны воинские формулы, когда рассказывается
о военных событиях — независимо от того,
в воинской повести или в летописи, в про-
63
Книга первая
поведи или в житии. Есть формулы,
применяемые к выступлению в поход своего
князя, другие — в отношении врага,
формулы, определяющие различные моменты
битвы, победу, поражение, возвращение с
победой в свой город и т. п. Воинские
формулы могут встречаться в житии, житийные
формулы — в воинской повести, те и
другие — в летописи или в поучении. Легко
убедиться в этом, пересмотрев любую
летопись: Ипатьевскую, Лаврентьевскую, одну
из новгородских и др. Один и тот же
летописец не только применяет различные
формулы — житийные, воинские,
некрологические и т. д., но по нескольку раз
меняет всю манеру, стиль своего изложения в
зависимости от того, пишет ли он о
сражении князя или о его смерти, передает ли
содержание его договора или рассказывает о
его женитьбе.
Но не только выбор устойчивых
стилистических формул определяется
литературным этикетом, — меняется и самый язык,
которым автор пишет. Легко заметить
различия в языке одного и того же писателя:
философствуя и размышляя о бренности
человеческого существования, он прибегает к
церковнославянизмам, рассказывая о
бытовых делах — к народнорусизмам.
Литературный язык отнюдь не один. В этом
нетрудно убедиться, перечитав «Поучение»
Мономаха: язык этого произведения
«трехслоен» — в нем есть и церковнославянская
стихия, и деловая, и народно-поэтическая
(последняя, впрочем, в меньших размерах,
чем первые две). Если бы мы судили об
авторстве этого произведения только по
стилю, то могло бы случиться, что мы
приписали бы его трем авторам. Но дело в том,
что каждая манера, каждый из языков (ибо
Мономах пишет и по-церковнославянски и
по-русски) употреблен им, со средневековой
точки зрения, вполне уместно, в
зависимости от того, касается ли Мономах
церковных сюжетов (в широком смысле), или
своих походов, или душевного состояния
своей молодой снохи.
Церковнославянский язык постоянно
воспринимался как язык высокий, книжный и
церковный. Выбор писателем
церковнославянского языка или церковнославянских
слов и форм для одних случаев,
древнерусского — для других, а народно-поэтической
речи — для третьих был выбором всегда
сознательным и подчинялся определенному
литературному этикету. Церковнославянский
язык неотделим от церковного содержания,
народно-поэтическая речь — от
фольклорных сюжетов, деловая речь — от деловых.
Церковнославянский язык всегда
отделялся в сознании писателей и читателей от
народного и от делового. Именно благодаря
сознанию, что церковнославянский язык —
язык «особый», могло сохраняться и самое
различие между церковнославянским
языком и древнерусским.
В общем можно сказать, что
литературных языков в Древней Руси было два:
церковнославянский (как на Западе латинский,
а на Востоке санскрит, арабский,
персидский, вень-янь) и древнерусский
литературный язык. Только в последнем можно
выделять различные типы и стили.
Церковнославянский же язык, который возник на
основе старославянского, был общим
литературным языком восточных и южных славян3
(а также румын).
В соответствии с этикетом подбирались
не только определенные выражения и
определенный стиль изложения к
соответствующим ситуациям, но и самые эти ситуации
создавались писателем именно такими,
какие необходимы по этикетным требованиям:
князь молится перед выступлением в поход,
его дружина обычно малочисленная, тогда
как войско противника громадно и враг
выступает «в силе тящце», «пыхая духом
ратным» и т. д.
Литературные каноны ситуаций могут
быть продемонстрированы хотя бы на
«Чтении о житии и о погублении Бориса и
Глеба». Как и большинство литературных
произведений Средневековья, «Чтение...» от
начала до конца пронизано обостренным
чувством этикета. Описывая жизнь
Бориса и Глеба, автор стремится заставить их
вести себя так, как надлежит вести себя
святым. Он вкладывает в их уста пространные
выражения кротости и благочестия,
описывает их покорность старшему брату — Свя-
тополку, их отказ от сопротивления
убийцам, объясняет те из их поступков, которые
несколько расходятся с общественным
представлением о святости (например, женить-
64
Глава 3
ба Бориса). Распределяя роли среди
действующих лиц, автор озабочен
подысканием образца в прошлом: Владимир —
второй Константин, Борис — Иосиф
Прекрасный, Глеб — Давид, Святополк —
Каин и т. д.
Следует особо отметить, что взятым из
жизни, из разных обычаев этикетным
нормам подчинялось только поведение
идеальных героев. Поведение же злодеев,
отрицательных действующих лиц этому этикету не
подчинялось. Оно подчинялось только
этикету ситуации — чисто литературному по
своему происхождению. Поэтому поведение
злодеев не поддавалось этикетной
конкретизации в той же мере, как и поведение
идеальных героев. В их уста реже
вкладываются вымышленные речи. Злодеи идут
рыкающие, «акы зверие дивии, поглотити хотя-
ще праведьнаго»4. Они сравниваются со
зверями и, как звери, не подчиняются
реальному этикету, однако само сравнение их
со зверями — литературный канон, это
повторяющаяся литературная формула. Здесь
литературный этикет целиком рождается в
литературе и не заимствуется из реального
быта.
Стремлением подчинять изложение
этикету, создавать литературные каноны можно
объяснить и обычный в средневековой
литературе перенос отдельных описаний,
речей, формул из одного произведения в
другое. В этих переносах нет сознательного
стремления обмануть читателя, выдать за
исторический факт взятое на самом деле из
другого литературного произведения. Дело
просто в том, что из одного произведения
в другое переносилось в первую очередь все
имевшее отношение к этикету: речи,
которые должны бы быть произнесены в
данной ситуации, поступки, которые должны бы
быть совершены действующими лицами при
данных обстоятельствах, авторская
интерпретация происходящего, приличествующая
случаю, и т. д. Должное и сущее
смешиваются. Писатель считает, что этикетом
целиком определялось поведение идеального
героя, и он воссоздает это поведение по
аналогии. Так оправдываются, например,
заимствования в «Житии Довмонта» из «Жития
Александра Невского». Заимствования эти
идут в первую очередь по линии
соблюдения этикета. Сборы на врагов — этикетный
момент, и Довмонт выступает в поход так
же, как и Александр Невский. Довмонт
падает на колено перед алтарем, как
Александр, молится, как Александр, получает
благословение от игумена, подобно тому, как
Александр получает его от архиепископа,
идет на врагов «с малою дружиною», как и
Александр. Перенося все эти этикетные
моменты из «Жития Александра» в свое
произведение, автор «Жития Довмонта»
отнюдь не предполагал, что он совершает
литературную кражу, погрешает против
истины, выдумывает.
Определяя художественный метод
древнерусской литературы, недостаточно сказать,
что он клонился к идеализации. Есть
разные формы идеализации в литературе.
Идеализация средневековая в значительной
степени подчинена этикету. Этикет в ней
становится формой и существом идеализации.
Он же объясняет заимствования из одного
произведения в другое, устойчивость
формул и ситуаций, способы образования
«распространенных» редакций произведений,
отчасти интерпретацию тех фактов, которые
легли в их основу, и многое другое.
Писатель с непобедимой уверенностью
влагал все исторически происшедшее в
соответствующие церемониальные формы,
создавал разнообразные литературные
каноны. Житийные, воинские и прочие
формулы, этикетные саморекомендации авторов,
этикетные формулы интродукции героев,
приличествующие случаю молитвы, речи,
размышления, формулы некрологических
характеристик и многочисленные требуемые
этикетом поступки и ситуации
повторяются из произведения в произведение.
Авторы стремятся все ввести в известные
нормы, все классифицировать, сопоставить с
известными случаями из Священной истории,
снабдить соответствующими цитатами из
Священного Писания и т. д.
Средневековый писатель ищет прецедентов в прошлом,
озабочен образцами, формулами,
аналогиями, подбирает цитаты, подчиняет события,
думы, чувства и речи действующих лиц и
свой собственный язык заранее
установленному «чину». Если автор списывает
поступки князя — он подчиняет их княжеским
идеалам поведения, если перо его живопи-
65
Книга первая
сует святого — он следует этикету
Церкви, если описывает поход врага Руси, то и
его подчиняет представлениям своего
времени о враге Руси. Воинские эпизоды он
подчиняет воинским представлениям,
житийные — житийным, эпизоды мирной жизни
князя — этикету его двора и т. д.
Писатель жаждет ввести свое творчество в
рамки литературных канонов, стремится писать
обо всем «как подобает», стремится
подчинить литературным канонам все то, о чем
пишет, но заимствует эти этикетные нормы
из разных областей: из церковных
представлений, из представлений
дружинника-воина, придворного, теолога и т. д. Единства
этикета в средневековой русской
литературе нет. Все подчиняется своей точке зрения.
Воинские эпизоды описываются автором
согласно представлениям воина об
идеальном воине, житийные — согласно
представлениям агиографа. Он может переходить от
одних представлений к другим, всюду
стремясь писать согласно «приличествующим
случаю» представлениям в
«приличествующих случаю» словах.
Литературный этикет средневекового
писателя слагался из представлений о том:
1) как должен был совершаться тот или иной
ход событий, 2) как должно было вести себя
действующее лицо сообразно своему
положению, 3) какими словами должен
описывать автор совершающееся. Перед нами,
следовательно, этикет миропорядка, этикет
поведения и этикет словесный. Все вместе
сливается в единую нормативную систему,
как бы предустановленную, стоящую над
писателем и не отличающуюся внутренней
целостностью, поскольку она определяется
извне — предметами изображения, а не
внутренними требованиями произведения.
Было бы неправильно усматривать в
литературном этикете русского Средневековья
только совокупность механически
повторяющихся шаблонов и трафаретов, недостаток
творческой выдумки, «окостенение»
творчества и смешивать этот литературный
этикет с шаблонами отдельных бездарных
произведений XIX в. Все дело в том, что все
эти словесные формулы, стилистические
особенности, определенные повторяющиеся
ситуации и т. д. применяются
средневековыми писателями вовсе не механически, а
именно там, где они требуются. Писатель
выбирает, размышляет, озабочен общей
«благообразностью» изложения. Самые
литературные каноны варьируются им,
меняются в зависимости от его представлений о
«литературном приличии». Именно эти
представления и являются главными в его
творчестве.
Перед нами не механический подбор
трафаретов, а творчество, в котором писатель
стремится выразить свои представления о
должном и приличествующем, не столько
изобретая новое, сколько комбинируя старое.
Литературный этикет, как мы уже
сказали, вызывал особую традиционность
литературы, появление устойчивых
стилистических формул, перенос целых отрывков
одного произведения в другое, устойчивость
образов, символов-метафор, сравнений и т.д.
Между тем традиционность
древнерусской литературы — факт определенной
художественной системы, факт, тесно
связанный со многими явлениями поэтики русских
литературных произведений этого
исторического периода, явление художественного
метода. Стремление к новизне, к
обновлению художественных средств, к
приближению художественных средств к
изображаемому — принцип, в полной мере
развившийся в новой литературе.
Отсюда и иное отношение в
Средневековье к литературному приему:
традиционность приема не воспринимается как его
недостаток. Поэтому нет специфического для
литературы Нового времени стремления
скрывать прием или его «обнажать».
Прием «нормален». Он полагается при
изображении событий и явлений. Он требуется
литературным этикетом. Он вызывает у
читателя определенный рефлекс, служит
сигналом для создания у читателя определенного
настроения.
Эффект неожиданности не имел в
литературном произведении Средних веков
большого значения: оно перечитывалось по многу
раз, его содержание знали наперед. Русский
читатель охватывал произведение в целом,
читая его начало, он знал, чем оно
кончится. Произведение развертывалось перед ним
не во времени, а существовало как единое,
наперед известное.
Средневековый читатель, читая произве-
66
Глава 3
дение, как бы участвовал в некой
церемонии, включал себя в эту церемонию,
присутствовал при известном своеобразном
обрядовом «действии». Писатель Средневековья
не столько изображал жизнь, сколько
преображал и «наряжал» ее, делал ее парадной,
праздничной. Писатель —
церемониймейстер. Он пользуется своими формулами как
знаками, гербами. Он вывешивает флаги,
придает жизни парадные формы, руководит
«приличиями». Индивидуальные
впечатления от литературного произведения не
предусмотрены. Средневековое литературное
произведение не было рассчитано на
индивидуального, отдельного читателя, хотя
читалось оно не только вслух для многих
слушателей, но и отдельными читателями.
Для нас произведение «оживает» в
чтении. Оно существует в еГо воспроизведении
читателем — вслух или про себя.
Напротив, средневековый книжник, создавая или
переписывая его, совершал известное
литературное «действо», «чин». Чин этот
существовал сам по себе. Поэтому-то
произведение надо было красиво переписать,
оформить в дорогой переплет.
Читатель средневековой Руси не
«воспроизводил» в своем чтении это
произведение, он лишь «участвовал» в чтении, как
участвует молящийся в богослужении или
присутствующий при известной пышной
церемонии. Торжественность, известная
приподнятость, церемониальность
литературы — неотъемлемое ее качество, оно
неотъемлемо от ее этикетности,
употребления одних и тех же церемониальных
приемов.
Система литературного этикета и
связанных с нею литературных канонов, которые
никак нельзя приравнивать к штампам,
продержалась в русской литературе несколько
веков. В конце концов, несмотря на то, что
система эта способствовала творческой
«плодовитости», облегчала появление новых
произведений, она вела к некоторой
замедленности литературного развития в целом,
хотя никогда не подчиняла его
окончательно. В частности, так называемые элементы
реалистичности в русской литературе,
наличие которых усматривается в ряде
древнерусских повестей о феодальных
преступлениях, являются нарушением литературных
канонов. Эти нарушения постоянно
нарастают. В литературе исподволь
развиваются силы, которые боролись с литературным
этикетом, с литературными канонами, вели
к их разрушению, которое особенно
активно прогрессировало во второй половине
XVI — XVII в.
*
Любое литературное произведение
заключает в себе и непосредственное
отражение действительности, и условное. Однако
соотношение того и другого может быть в
различных произведениях неодинаковым. В
средневековой славянской литературе
контраст непосредственного и условного
отражения действительности несравненно более
резок, чем в литературе Нового времени.
В средневековой литературе мы можем
заметить наличие целых жанров, в которых
наряду с условным, художественным
претворением действительности особенно
заметную роль играют элементы
непосредственного отражения ее: это прежде всего
исторические жанры (летописи, повести о
княжеских преступлениях, исторические
повести) и публицистические. В этих
жанрах мы можем найти элементы
реалистичности. В них отражена художественная воля
средневекового автора, стремящегося
возможно детальнее в привычных ему формах
изобразить случившееся, но все же в них
относительно мало условности, и условность
эта не очень отдаляет изображение от
изображаемого.
Наряду с таким непосредственным
отражением действительности в средневековой
литературе очень сильна тенденция к
резко условному, «этикетному» преображению
действительности, к условным,
идеализированным образам, к развитой
символичности, аллегориям и проч. Два полюса
условного и неусловного изображения жизненных
реалий были в средневековой литературе
выражены с особой определенностью. И чем
сильнее заявлял о себе полюс
непосредственного отражения действительности, тем
резче выступал в другой части литературы
и в других ее жанрах полюс ее условного
преображения, стремления к созданию
особого мира литературы, который должен был
67
Книга первая
стать как бы вознесенным над жизнью и
раскрывающим вечную сущность последней.
Этот условный мир рисовали не только
жития святых и другие жанры церковной
литературы. «По элементам» он проникал в
летописание, в исторические и бытовые
повести, в проповеди и проч. Мир идеальный
и мир реальный не только противостояли
друг другу, но в известной мере были
неразделимы. Жанры с преобладанием
непосредственного отражения действительности и
жанры с преобладанием условного ее
преображения составляли целостную систему
жанров, были необходимы друг другу.
В условном отражении мира внимание
средневекового автора обращено на
неизменяемые его сферы или на те, которые
представляются ему неизменяемыми, «вечными».
В непосредственном же отражении
действительности доминируют те ее стороны,
которые меняются, подчинены злобе дня, в
которые входит все «суетное» по средневековым
представлениям. Поэтому там, где
литература связана с богословием, с Церковью,
прежде всего выступают условные формы
отражения мира, на первый план
выносятся богословские понятия, представления,
символы и изложение подчиняется
литературному этикету. Там же, где литература
имеет дело с политической борьбой своего
времени, где она стремится не столько
осмыслять жизненные факты, сколько их
фиксировать, условность отступает, и все
большее место занимает непосредственное
отражение действительности, хотя надо
сказать, что полнота этой непосредственности
никогда не может быть достигнута — ни в
средневековой литературе, ни в литературе
Нового времени.
Формы условности, как и формы
приближения к непосредственности в отражении
жизни, могут иметь разную степень
близости к ней.
Поясню свою мысль о преимущественном
отражении «временных» явлений
действительности в ее неусловных формах или
формах, где условность проявляется
относительно слабо, и об отражении «вечных», со
средневековой точки зрения, сущностей — в
условных формах.
Летопись фиксирует отдельные моменты
меняющейся жизни. Она связана с
местностью и определенными датами. Сведения
даются ею о том, что изменилось,
случилось, но не о том, что существует «всегда»
(разумеется, это «всегда» — в
средневековом понимании). Эти сведения
«прикреплены» территориально и хронологически. В
ней в сильнейшей мере сказывается
непосредственное отражение действительности.
Другой тип ее отражения — в
средневековой притче. В ней события не
определены ни хронологически, ни территориально,
по большей части нет прикрепления к
конкретным историческим именам действующих
лиц. Притча повествует о
действительности в обобщенно-трансформированной
форме. Она фиксирует то, что в представлении
средневекового автора и читателя
существовало и будет существовать всегда, что
неизменно или что случается постоянно.
Славянский автор не мог сознательно
ввести в свое произведение вымысел. Во
все, что он писал, он верил; он верил в чудо,
совершившееся у мощей святого или на поле
сражения, верил в фантастические
подробности жизни святого. Поэтому в
собственных сочинениях средневекового писателя
вымысел если и не отсутствовал
(отсутствовать совершенно он, разумеется, не мог), то,
во всяком случае, был сильно ограничен.
Автор не мог свободно вносить в свои
произведения сказочную, мифологическую,
литературную фантастику, усложнять сюжеты
произвольными добавлениями,
необходимыми с точки зрения развития сюжета,
создания цельного образа героя. Фантазия
средневекового писателя была ограничена тем,
что может быть определено как
средневековое «правдоподобие». Это
«правдоподобие» резко отлично от правдоподобия
современного. Оно допускает чудо, но не
допускает отступлений от хронологии, не
разрешает вымышленных имен, вымышленного
времени, вымышленной топографии
действия.
Однако так обстоит дело только в
авторских произведениях, иначе говоря — в древ-
неславянской оригинальной литературе. Но
в литературе переводной то, что было в ней
вымышленным, оставалось, не изгонялось и
признавалось за «правду»5. От этого
переводные произведения и оригинальные
носили разный характер по своему отношению
68
Глава 3
к художественному вымыслу. Так,
например, переводные жития могли включать
элементы, свойственные эллинистическому
роману: элементы беллетристики,
занимательности, приключенческого характера и проч.
Но эти элементы не могли проникать в
оригинальные жития даже в порядке
литературного влияния. Нет сомнения, что
приключения Александра Македонского в странах
Востока, его встречи с рахманами,
любомудрами, амазонками занимали и интересовали
средневековых славянских читателей.
Свидетельство тому — обилие списков
«Александрии» и наличие ее переработок на
славянской почве. Но было бы совершенно
невозможным ожидать появления новых
романов подобного же типа в оригинальной
литературе восточных и южных славян.
Перед нами важное отличие переводной
литературы от оригинальной. Ограничения,
налагавшиеся на оригинальную литературу,
не существовали для переводной. В
результате — известная незаменимость
переводной и ее огромная роль в составе общего
литературного наследия славян.
Через всю средневековую русскую
литературу проходит стремление к
художественному абстрагированию изображаемого.
Стремление это сказывается по
преимуществу в высоких жанрах литературы, но оно
очень для нее характерно, отражая
идеалистичность средневекового мировоззрения.
Абстрагирование вызывалось попытками
увидеть во всем временном и тленном, в
явлениях природы, человеческой жизни, в
исторических -событиях символы и знаки
вечного, вневременного, духовного,
божественного.
С точки зрения отражения в
абстрагировании определенного мировоззрения, оно
требует своего изучения. Пока укажем
только, что абстрагирование никогда не было
последовательным, ибо практика
заставляла видеть в реальном реальное, и это было
очень важно для развития
художественного творчества. В разные эпохи и в разных
жанрах это абстрагирование постоянно
сталкивалось с другими тенденциями — с
тенденциями к художественной
конкретизации — и вступало с ними в различные
сочетания. В разные исторические эпохи и в
разных жанрах абстрагирование было
представлено то сильнее, то слабее.
Обратимся к тому слою «высокой»
литературы, в котором абстрагирующие
тенденции сказались с наибольшей силой: к
агиографии, гимнографии, хронографии,
отчасти проповеди.
Основное, к чему стремились авторы
произведений высокого стиля, — это найти
общее, абсолютное и вечное в частном
конкретном и временном, «невещественное» в
вещественном, христианские истины во всех
явлениях жизни. Стилистический принцип,
следовательно, тот же, что и нравственный:
«Въ веществене телеси носити
невещественное»6. Принцип этот диаметрально
противоположен тому, который выдвигается
искусством Нового времени, — той «жажде
конкретности», которую Карлейль считал
вечной основой искусства и которая на
самом деле относится по преимуществу к
искусству XIX и отчасти XX вв. В Средние
века мы, напротив, можем отметить
жажду отвлеченности, стремление к
абстрагированию мира, к разрушению его
конкретности и материальности, к поискам
символических богословских соотношений, и
только в формах письменности, не осознавшихся
как высокие, — спокойную конкретность и
историчность повествования.
Язык «высокой», церковной, литературы
Средневековья обособлен от бытовой речи,
и это далеко не случайно. Это основное
условие стиля «высокой» литературы. «Иной»
язык литературы должен был быть языком
приподнятым и в известной мере
абстрактным.
Из высоких литературных произведений
по возможности изгоняются бытовая,
политическая, военная, экономическая
терминологии, названия должностей, конкретных
явлений природы данной страны, некоторые
исторические припоминания и т. д. Если
приходится говорить о конкретных
политических явлениях, то писатель предпочитает
называть их, не прибегая к политической
терминологии своего времени, а в общей
форме; стремится выражаться о них
описательно, давать названия должностей в их
греческом наименовании, прибегать к
перифразам и т. д.: вместо «посадник» —
«вельможа некий», «старейшина», «властелин
граду тому» (ЖБиГ., 17);7 вместо
69
Книга первая
«князь» — «властитель той земли», «стра-
тиг» и т. д. Изгоняются собственные
имена, если действующее лицо эпизодично:
«человек един», «мужъ некто» (ЖБиГ., 50),
«некая жена» (ЖБиГ., 58), «некая дева»
(ЖАврСм., 68)8, «некде въ граде»
(ЖБиГ., 59). Эти прибавления — «некий»,
«некая», «един» — служат изъятию
явлений из окружающей бытовой обстановки, из
конкретного исторического окружения. Это
вознесение действующих лиц над
конкретной исторической обстановкой может
совершаться и другими путями.
Боязнь «худых» и «грубых» слов
(ЖСтПерм., 102)9, слов «зазорных»,
«неудобренных», «неухищренных»,
«неустроенных» (ЖСтПерм., 111) обусловлена
стремлением поднять события жизни святого
над обыденностью, рассматривать их под
знаком вечности.
Тому же абстрагированию служит
обычная манера говорить об известном как о чем-
то неизвестном, будет ли это обычай, имя
исторического лица, название города и т. д.
Абстрагирование поддерживается
постоянными аналогиями из Священного Писания,
которыми сопровождается изложение
событий жизни святого.
Для «высокого» стиля XIV — XV вв.
характерны трафаретные сочетания,
привычный «этикет» выражений, повторяемость
образов, сравнений, эпитетов, метафор и
т. д. Если «в основе поэтической лексики»
Нового времени «лежит подновление
словесных ассоциаций»10, то в основе
поэтической лексики Средневековья лежат,
напротив, именно привычные словесные
ассоциации, но привычные не сами по себе, а в
известной «высокой» ситуации —
богослужебной или учено-богословской.
В конце XIV и в XV в. общая для
всего Средневековья на Руси тенденция к
абстрагированию до крайности усиливается в
произведениях Епифания Премудрого, Па-
хомия Серба и др. Но важно и другое:
появление своеобразного «абстрактного
психологизма».
В конце XIV — XV в. возникает
повышенная эмоциональность, но она также в
известной мере абстрактна: чувства
обобщены, они лишены индивидуальных черт, мало
связаны с самими носителями этих чувств,
не сочетаются друг с другом, не слагаются
в цельную картину душевной жизни
литературного персонажа. Характер человека^
как некая цельность душевных свойств,
эмоциональной жизни, еще не открыт. В
литературу вторгаются бурные эмоции, но нет ни
эмоций индивидуальных, ни их
индивидуальных сочетаний. Человек обобщен,
выступает вечно в своих вечных свойствах.
Поэтому эмоциональный стиль конца XIV —
XV в. не ведет к конкретизации. Он
продолжает пользоваться трафаретными
словосочетаниями, устойчивыми формулами, а в
области содержания (мы можем говорить о
«стиле содержания», поскольку самый
выбор тем, сюжетов, мотивов также
подчиняется стилеобразующим тенденциям) он
оперирует немногим набором сильных чувств.
Казалось, эмоциональность должна была
бы склонять литературное творчество к
конкретизации, к психологическому анализу, к
«эмоциональной материализации»
литературных описаний. Так оно, в сущности, и
было, но при этом все же сама
эмоциональность абстрагировалась и утрачивала
конкретность. Эмоции в той или иной мере
часто подменялись знаками эмоций, их
обозначениями. Эмоции подчинялись
литературному этикету. Они описывались или
упоминались в тех случаях, в которых они были
необходимы с точки зрения литературных
приличий.
Стиль второго южнославянского влияния
определялся художественными задачами,
стоявшими перед писателями XIV —
XV вв., главным образом перед агиографа-
ми. Художественное видение писателей
этого времени существенно отличается от
предшествующего, особенно в области
агиографии, ставшей ведущим жанром эпохи. Это
новое художественное видение — прежде
всего новое отношение к человеку, сознание
ценности его внутренней жизни, его
индивидуальных переживаний — и заставляет
писателей XIV — XV вв. обращать особое
внимание на все стороны эмоционального
выражения, на экспрессивность образов и
т. д. Но при этом стиль остается
по-прежнему абстрагирующим. Познание мира
раздвигается, художественные задачи
расширяются, статичность описаний
предшествующих эпох сменяется крайним динамизмом,
70
Глава 3
но искусство не выходит еще из пределов
религиозности и отнюдь не стремится к
конкретизации. Поэтому самое характерное
и самое значительное явление в
изображении людей в житийной литературе XIV —
XV вв. — это своеобразный «абстрактный
психологизм».
Для каждой эпохи и для каждого
литературного стиля существуют в литературе
жанры и писатели, в которых эпоха и ее
стиль отражаются наиболее ярко. Для
конца XIV — начала XV в. таким самым
«типическим» жанром явились жития святых,
а наиболее, может быть, типичным
писателем — Епифаний, прозванный за свою
начитанность и литературное умение
«Премудрым».
Цветистую новую литературную манеру
Епифаний довел до пределов сложности.
Нагромождение стилистических ухищрений
иногда подавляет читателя. Для
характеристики какого-нибудь качества действующего
лица Епифаний подбирает сразу до двух
десятков эпитетов, создает новые сложные
слова. Он достигает исключительного
мастерства в создании ритмической прозы. Вся
эта новая стилистическая манера связана у
Епифания с новым отношением к человеку,
с особым, типичным для его эпохи
отношением к человеческой психологии.
Психологические побуждения и
переживания, сложное разнообразие человеческих
чувств, дурных и хороших, сильных,
экспрессивно выраженных, повышенных в
своих проявлениях, стали заполнять собой
литературные произведения преимущественно
с конца XIV в. и с особой отчетливостью
проявились в произведениях Епифания
Премудрого.
В центре внимания писателя конца
XIV — начала XV в. оказались отдельные
психологические состояния человека, его
чувства, эмоциональные отклики на
события внешнего мира. Но эти чувства,
отдельные состояния человеческой души не
объединяются еще в характеры. Некоторые
черты психологизма в изображении
проявляются без всякой индивидуализации и еще не
складываются в психологию личности.
Связующее, объединяющее начало — характер
человека — еще не открыто.
Индивидуальность человека по-прежнему ограничена
прямолинейным отнесением ее в одну из
двух категорий — добрых или злых,
положительных или отрицательных.
Обращаясь к отдельным элементам
абстрагирующего стиля, остановимся прежде
всего на синонимических сочетаниях
«высокого» стиля XIV — XV вв. Здесь
синонимы обычно ставятся рядом, не слиты и
разделены. Автор как бы колеблется
выбрать одно, окончательное слово для
определения того или иного явления и ставит
рядом два или несколько синонимов,
равноценных друг другу. В результате внимание
читателя привлекают не оттенки и различия
в значениях, а то самое общее, что есть
между ними. Простое соседство синонимов
устанавливает взаимоограничение между
ними, оставляет в них только основное,
абстрактное: «<...> огню горящу и пламени
распаляющуся» (ЖСтПерм., 52); «на бла-
гый онъ путь и на правоумышленное
шествие» (ЖСтПерм., 14); «и желание
сердца моего дал ми, и хотениа моего не лешил
мя» (ЖСерг., 296)it.
Тому же выделению основного значения
и освобождению слова от оттенков значения
служит и обычное в этом стиле
нанизывание синонимических сравнений: «<...>
младенца в утробе носящи яко некое съкрови-
ще многоценное, и яко драгый камень, и яко
чюдный бисеръ, и яко съсуд избранъ»
(ЖСерг., 266). Сочетание сходных
сравнений лишает их конкретности, не позволяет
вниманию читателя задержаться на их
ощутимой стороне, стирает все видовые
отличия, сохраняя лишь самое общее и
абстрактное, и одновременно оставляет у читателя
ощущение значительности того, о чем идет
речь, ставит стилистический акцент на том,
что синонимически повторяется.
Нагромождение синонимов, синонимических
сочетаний, сходных сравнений, столь характерных
для южнославянского стиля, не только
абстрагирует изложение — оно до предела
усиливает его экспрессивность и эмфатич-
ность.
Той же цели абстрагирования изложения,
с одной стороны, и усиления его
экспрессии — с другой, служат особенно
распространенные в так называемом «плетении
слове» близкие синонимическим
сочетаниям парные соединения сходных по значению
71
Книга первая
слов. Авторы избегают употреблять одно
понятие, один образ — они стремятся
создавать либо целую цепь близких понятий
и образов, либо парные понятия и образы,
причем одно из понятий может быть
видовым и конкретным, а другое (или
другие) — родовым и более абстрактным, либо
все понятия могут являться видовыми по
отношению к объединяющему их родовому,
которое только подразумевается, но в
тексте отсутствует: «Птица обрете себе
храмину, и грълица гнездо себе» (ЖСерг., 302);
«молчяти и на успех своих пръстъ положи-
ти» (ЖСерг., 260); «слышавши и видевши»
(ЖСерг., 266); «безмлъствовати и единь-
ствовати» (ЖСерг., 304 и 314) и т. д.
С этим явлением сочетается потеря
конкретного, вещественного значения слов;
слова абстрагируются в своем значении,
вступают в немыслимые, с нашей точки зрения,
сочетания. Например: волхв в «Житии
Стефана Пермского» оказывается внуком
египетской тьмы и правнуком
разрушенного столпотворения (ЖСтПерм., 44). Такие
необычные абстрактные образы создаются
под влиянием того, что многие из понятий
употребляются авторами в «духовном
смысле». Автор «Жития Стефана Пермского»
Епифаний говорит об этом прямо: он
называет Пермскую землю «гладом одержимой»
и тут же дает пояснение: «Глад же
глаголю не гладь хлебный, но гладь, еже не слы-
шати слова Божиа» (ЖСтПерм., 18).
Авторы стремятся избежать законченных
определений и характеристик. Они
подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь
найденным. Они без конца подчеркивают те
или иные понятия и явления не выразимой
словами глубины и таинственности явления,
примата духовного начала над
материальным.
Зыбкость всего материального и
телесного при повторяемости и «извечности» всех
духовных явлений — таков
мировоззренческий принцип, становящийся одновременно и
принципом стилистическим. Этот принцип
приводит к тому, что авторы широко
прибегают и к таким приемам абстрагирования
и усиления эмфатичности, которые, с
точки зрения Нового времени, могли бы
скорее считаться недостатком, чем
достоинством стиля: к нагромождениям однокорен-
ных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д.
Таковы соединения однокоренных слов: «на-
чинающу ми начинание» (ЖСерг., 260),
«устрашистеся страхом» (ЖСерг., 282),
«запрещениемъ запретимъ» (ЖСтПерм.,
56 — 57), «учити учениемъ» (ЖСтПерм.,
57) и т. д. Некоторые из подобных одно-
коренных сочетаний свойственны русскому
языку вообще, однако в ряде случаев
нарочитость однокоренных сочетаний видна
вполне ясно: «И обрете, и приобрете въ
правду праваго правителя, могущаго упра-
вити место то» (ЖСерг., 322); «насытите
сытых до сытости, накормите кръмящих вас,
напитайте питающихъ вы» (ЖСерг., 346).
Говоря о сочетаниях однокоренных слов,
мы должны сказать и еще об одном
явлении, связанном с этим — о своеобразной
игре слов, их «извитии». Эта игра слов
особого характера, она должна придать
изложению ученость и «мудрость», заставить
читателя искать «извечный», тайный и
глубокий смысл за отдельными изречениями,
сообщать им мистическую значительность.
Перед нами как бы священнописание, текст
для молитвенного чтения, словесно
выраженная икона, изукрашенная
стилистическими драгоценностями. «Печаль приат мя, и
жалость поят мя» (ЖСерг., 362), —
говорит о себе автор «Жития Сергия
Радонежского». Одна из добродетелей того же
святого — «простота безъ пестроты» (ЖСерг.,
290). Ту же игру созвучиями,
придающими речи особую афористичность,
представляют и следующие примеры: «Чадо
Тимофее, внимай чтению и учению и утешению»
(ЖСтПерм., 7); «единъ инок, единъ вье-
диненный и уединенный и уединяася, единъ,
уединенный, единъ единого Бога на помощь
призываа, единъ единому Богу моляся и
глаголя» (ЖСтПерм., 72).
Все эти приемы не столько
способствуют ясности смысла, сколько затемняют его,
но одновременно придают стилю
повышенную эмоциональность. Слово воздействует
на читателя не столько своей логической
стороной, сколько общим напряжением
таинственной многозначительности,
завораживающими созвучиями и ритмическими
повторениями; на первый план выступает
эстетическая значимость слова. Жития этого
времени пересыпаны восклицаниями, эк-
72
Глава 3
зальтированными монологами,
абстрагирующими и эмфатическими нагромождениями
синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из
Священного Писания и т. д.
Как бы мы ни относились к
художественным целям, которые ставили себе авторы
житийно-панегирических произведений
конца XIV — XV в., необходимо признать,
что они видели в своей писательской
работе подлинное и сложное искусство,
стремились извлечь из слов как можно больше
внешних эффектов, виртуозно играя словами,
создавая разнообразные симметричные
сочетания, вычурное «плетение словес»,
словесную «паутину».
Внимательное изучение текстов
показывает, что стремление к абстрагированию
явлений касалось лишь тех из них, которые
следовало абстрагировать согласно
богословским представлениям того времени; в тех же
случаях, когда надо было заставить читателя
отчетливо ощутить конкретность и
материальность явлений, авторы XIV — XV вв.
умели это делать в высшей степени
экспрессивно.
Строгую зависимость стиля от
мировоззрения писателя видим мы и в
употреблении эпитетов. К эпитетам, характерным,
например, для южнославянского стиля,
меньше всего может быть приложено
определение их как «украшающих». Обычно они
раскрывают качества, идеальные с точки
зрения христианина и ученого богослова.
Эпитеты этого стиля не стремятся к
изобразительности и наглядности. В них
вскрываются не конкретные признаки явления, а
его вечная сущность; одновременно с
помощью эпитетов писатель добивается сильной
эмоциональной окраски описываемых
явлений. Эпитеты подчеркивают по
преимуществу идеальный признак предмета, признак,
составляющий его вечный и духовный
смысл: «радостотворный плач», «богопуст-
ный гнев», «боговещательные мотивы»,
«победительная икона», «нестареемая
благодать», «тленная слава», «любомльчное
иноческое житие» и т. д. Иногда эпитет
вскрывает не сущность образа или понятия, а его
основное качество («чадолюбивый отец»,
«скорорищущие слуги»), или представляет
вместе с определенным словом
тавтологическое сочетание («многосветлый светильник»,
«воня благовонна» и проч.).
Средневековые системы абстрагирования,
средневековый идеализм, при котором мир
резко делится на духовный и материальный,
божественный и человеческий, привели к
существованию еще одного явления: это —
своеобразная бинарность художественного
мышления. Средневековое сознание во всем
замечало две стороны — духовное начало
и материальное, божественное и
человеческое. Все в мире может быть разделено
надвое: душу и тело, грех и добродетель,
жизнь и смерть, вечность и временность. На
этом, как мы видели, зиждились
средневековые символизмы, стремление к
абстрагированию. Но на этом же основывалось и
очень частое в Средние века бинарное
построение стиля художественных
произведений, создающее своеобразный ритм
древнерусской прозы и приведшее отчасти к
образованию в ней морфологической рифмы.
Абстрагирование совсем не одинаково во
все века и во всех жанрах. Оно имеет свои
корни в византийской, древнеболгарской и
древнееврейской литературах, было
перенесено к нам и развивалось у нас уже в XI в.,
особенно обильно представлено в гимногра-
фии, пышно расцвело в пору «второго
южнославянского влияния» (XIV — XV вв.),
затем стало спадать, и этот спад проходил
в разных жанрах неодинаково.
Одновременно с абстрагирующими тенденциями в
диалектическом единстве с ними существовали
и конкретизирующие тенденции.
Взаимоотношение тех и других было, как это мы
увидим ниже, исключительно сложно.
Литература не может существовать на основе
одних только абстрагирующих тенденций:
абстрагирование — лишь одна из тенденций
литературного обобщения, и об этом следует
постоянно помнить.
Типичное явление средневековой
славянской прозы, функционально близкое
поэтической речи, — орнаментальность, как и
стих, обладает определенной
художественной значимостью. Орнаментальность
славянской прозы — это поэтическая речь.
Появилась «орнаментальная проза» на
Руси довольно рано. Уже «Слово о законе
и благодати» Илариона представляет
образец именно такой прозы. Затем можно
указать на прозу Кирилла Туровского и Сера-
73
Книга первая
пиона Владимирского. Однако расцвет
«орнаментальной прозы» падает на 2-ю
половину XIV и начало XV в. Этот расцвет
связан с влиянием Тырновской
литературной школы и ярче всего проявился на Руси
в творчестве Епифания Премудрого, в его
стиле «плетения словес».
Орнаментальная проза панегирического
стиля XIV — XV вв. не является просто
некой языковой игрой. Напротив, все
«приемы» ее рассчитаны на различные
«приращения смысла», на создание в тексте
некоего «сверхсмысла». Этот «сверхсмысл» не
противоречит «смыслу»: он углубляет его,
придает ему новые оттенки, объединяет
слова разной семантики, требует осознания
читателем глубинного значения. В этом
отношении обычное для того времени сравнение
писателя с пловцом, ныряющим в водные
глубины, чтобы извлечь из них жемчуг,
обладает своего рода символическим
проникновением в сущность писательского творчества.
Явление, на которое следует обратить
основное внимание в стиле «плетение
словес», — это бросающееся в глаза
повторение однокоренных или одних и тех же слов
или слов с ассонансами, что отнюдь не
является простой стилистической игрой,
бессодержательным орнаментом. Повторяются
и сочетаются не случайные слова, а
«ключевые» для данного текста, основные по
смыслу.
Остановлюсь на некоторых особенностях
орнаментального стиля в том виде, в каком
эти особенности проявились в одном
произведении — в «Житии св. Сергия
Радонежского».
В конце первой главы «Жития св.
Сергия», в которой рассказывается о его
рождении, основными ключевыми словами
являются: «чюдно», «чюдный», «чюдо».
Слова с корнем «чюд» употреблены здесь
около 10 раз, при этом в одном только
предложении (278).
Повторение слов, их нагромождение с
одинаковым корнем необходимы, чтобы эти
слова или группа слов с одинаковым корнем
были центральными по смыслу. Так,
например, предисловие к «Житию св. Сергия
Радонежского» посвящено его прославлению,
поэтому слова с корнем «слав» в разных
вариациях составляют основу всей первой
части предисловия. Здесь и «слава», и
«славиться», и «прославлять», и т. д. Автор
выказывает удивительную филологическую
способность к выявлению этого корня —
даже тогда, когда он был не сразу заметен
(как, например, в слове «благославлять»:
«Слава Богу о всемь и всячьскых ради, о
них же всегда прославляется великое и трис-
вятое Имя, еже и присно прославляемо есть!
<...> Весть бо Господь славитии славящая
Его и благославяти благославящая Его, еже
и приснопрославляет Своя угодникы,
славящая Его житиемъ <...>» и т. д. (256).
Когда рядом со св. Сергием появляется
ангелообразный сослужитель, «чюдный муж
изыде въ след святого», «ключевыми»
словами в описании этого события оказываются
слова с корнем «эре», а главным звуком —
звук «з»: «<...> не можаше зрети на нь;
ризы ж его необычны, чюдны, блистающе-
ся, в ни же мечтание злато стройно зрится.
И се въпрошаеть Исаакие близ стояща отца
Макариа: — Что зрение се чюдное, отче?
Кто есть зримый и чюдный съи муж? —
Макарие же сподобленъ бысть сего зрениа,
муж въ велице и светлости делании, рече:
Не веде, чадо, ужасно бо видение и не ис-
поведимо зрю» (384). Использование
однокоренных слов имеет всегда сложный, а
главное, разнообразный и не бросающийся
в глаза смысловой порядок.
Очень изящно выражено, как св. Сергий
противостоит «похотным стрелам»: «<...>
яко же бесове греховъною стрелою устре-
лити хотяху, противу тех преподобный чи-
стотными стрелами стреляше, стреляющих
на мраце правыя сердцемь» (318).
«Сердце» не случайно заканчивает этот ряд, ибо
сердце — цель «похотной стрелы»; стрела
направляется в сердце святого, поэтому
слово «сердце» и поставлено автором в
конце — как мишень в конце полета стрелы.
Если в произведении в близком соседстве
оказываются перечисления двух смысловых
значений, то они делаются по различным
принципам: «<...> место то было прежде
лесъ, чаща, пустыни, иде же живяху зайци,
лисици, волци, иногда же и медведи посе-
щаху, другойци же и беси обретахуся, туда
же ныне церковь поставлена бысть, <...>
и инокъ множество съвокупися, и
славословие и въ церкви и в келиах, и молитва не-
74
Глава 3
престающиа къ Богу» (336). Два
перечисления противопоставлены друг другу. По-
словесное перечисление, в быстром ритме —
для злого начала, в замедленном же темпе
приводятся многословные члены
перечисления — для доброго начала. Такое
противопоставление двух ритмов не случайно: о
добром полагалось говорить «с тихостию и
кротостию, аки притчами наводя» (340).
В изложении могут перекрещиваться
несколько повторяющихся «ключевых» слов,
создавая сложную «плетенку»: «Отрок же
предобрый, предораго родителя сынъ, о нем
же беседа въспоминаеться иже присно
въспоминаемый подвижник, иже от
родителей доброродных и благоверных произыде,
добра бо корене добра и отрасль прорасте,
добру кореню прьвообразуемую печать
всячьскыи изъобразуя. Из младых бо
ногтей яко же сад благородный показался и яко
плод благополодный процвете, бысть отро-
ча добролепно и благопотребно» (290).
Последнее парное сочетание как бы
объединяет две линии «плетенки»: одну с
корнем «добр», другую с корнем «благ».
Поэтому «плетенка» эта «смысловая», а не
просто орнаментальная. Для того чтобы
выделить то или иное важное в смысловом
отношении слово, иногда даже нет
необходимости его повторять: просто оно
ставится в такое грамматическое окружение,
которое подчеркивает его весомость.
Соединение слов с одним корнем не
только подчеркивает один какой-то оттенок
смысла, важный для автора, но и создает
ассонансы, которые акцентируют какие-то
сложные смысловые оттенки. Вот пример.
Автор хочет подчеркнуть, что ему трудно
начать повесть, не будучи достаточно
осведомленным, и он создает сочетание,
объединяющее в один ряд слова «исповеди-
мый», «ведать», «поведать» и «повесть»:
«Како убо таковую, и толикую, и не удобь
исповедимую повемъ повесть, не веде»
(260). В данном случае перед нами не
случайные поиски ассонансов, которые
привели автора к сочетанию всех этих слов. В
этом убеждают и некоторые его
рассуждения, они объясняют, что он понимает под
словом «поведение» и «повесть». Весь тот
раздел, из которого взят вышеприведенный
пример, посвящен вопросу о том, как
важно «ведать» житие святого, как важны «све-
детели» и «свидетели» его жития, «помяту-
хи», как важно собирать «сведения», «рас-
пытовати и въпрашати древних старцовъ» о
святом и «проповедовать» через житие
святого «дела Божиа» (258). «Ведать», «све-
детельствовать », « проповедовать », « пове -
ствовать», «исповедовать» — все это
ставится, следовательно, в единый смысловой
ряд. Между всеми этими действиями
обнаруживается не только формальная
«звуковая» связь, возникающая в результате
ассонансов, но и связь глубоко смысловая,
заложенная в самом языке, а потому и не
случайная, а входящая как бы в «устроение»
мира, изначальная. Не случайно поэтому,
что и слово «сведетель» автор пишет через
«е», а не через «и», вводя его, таким
образом, в круг слов с корнем «вед».
Ассонансы, создающиеся в результате
желания сопоставлять и противопоставлять,
начинают нравиться и сами по себе и
создаются для благозвучия, для особой
музыкальности текста: «<...> что хощещи обрести на
месте сем <...> въ лесе сем седя?» (308).
Для ассонансов «Жития Сергия»
характерно, что эти ассонансы не отдельных звуков,
а сочетаний звуков —«слоговые».
Иногда созвучия приходят через
довольно длинный отрывок текста, вступая в
чередование с другими созвучиями и создавая
его особую музыкальность: Бог «хощет дати
самого просителя просившего игумена, пра-
ваго правителя; да поелику же Сергий про-
силъ, по толику же и приа, и обрете, и при-
обрете въ правду праваго правителя, могу-
щаго управити место то. Не себе же
самого точию просилъ, но иного некоего, его же
Богъ дасть; Богъ же, яко провидець, про-
ведый будущаа и хотя вздвигнути и устро-
ити место то и провославити, иного лучша
того не обрете, но точию того самого про-
сившаго дарует, ведыи, яко может таковое
управление управити въ славу имени Его
святого» (322). В отрывке этом достойно
внимания не только искусство, с которым
автор оперирует с созвучиями «про», «пра»,
«бре», «упра», но и то, что этими
созвучиями выделяются и сближаются ключевые
слова текста: «проситель», «правитель»,
«правда», «управити», «прославити» и проч.
Все эти слова ставятся в связь друг с дру-
75
Книга первая
гом, в связь, которую может уловить даже
тот из слушателей, который не особенно
вникает в точный смысл фразы, не следит
за синтаксическим построением
предложений: «Бог провидець», «проведый будущаа»
и прославляющий «праваго» «правителя»,
который может «управление управити».
Созвучия создают как бы сверхсинтаксис, над-
словесный смысл, заставляют объединять
различные понятия в их идеальном смысле,
причем объединяются слова и однокоренные,
и имеющие общие и близкие созвучия.
Созвучия, следовательно, не случайны, имеют
смысловой характер, создают «сверхсмысл»,
как бы скользящий над текстом и
извлекаемый из контекста.
«Плетение словес», «долгота слова»
одной из своих задач имело создать у
слушателей определенное настроение. Повторение
слов, при этом не всяких, а «святых» и
значительных, вторгалось в сознание
слушателей, даже самых ленивых, переставших
следить за конструкцией предложений, но
улавливавших лишь ключевые слова,
создававшие у них общее представление о том, что
говорится. «И что подобаетъ инаа прочаа
глаголати и длъготою слова послушателем
слухи ленивы творити? Сытость бо и длъго-
та слова ратникъ есть слуху, яко же и пре-
умноженая пища телесем» (278).
«Сытость» речи — это его «насыщение»
«ключевыми» словами в первую очередь. В языке
эти слова своим частым повторением
создавали как бы «сверхсмысл», доходивший до
самого ленивого из слушателей. Это был
один из способов «преодоления слова»,
создания «надсловесной» ткани произведения.
Наиболее часто в стиле «плетения
словес» участвует удвоение понятия:
повторение слова, повторение корня слова,
соединение двух синонимов, противопоставление
двух понятий и т. д.
Принцип двойственности имеет
мировоззренческое значение в стиле «плетения
словес». Весь мир как бы двоится между
добром и злом, небесным и земным,
материальным и нематериальным, телесным и
духовным. Поэтому бинарность играет роль не
простого формально-стилистического
приема — повтора, а противопоставления двух
начал в мире. Это явление выявляет
отношение к миру, его восприятие.
В сложных, многословесных бинарных
сочетаниях нередко используются
одинаковые слова и целые выражения. Общность
слов усиливает сопоставление или
противопоставление, делает его в смысловом
отношении более ясным. Даже в том случае,
когда перечисление захватывает целый ряд
компонентов, оно часто делится на пары: «<...>
житие скръбно, житие жестко, отвсюду
теснота, отвсюду недостатки, ни имущим ни-
откуду ни ястиа, ни питиа» (296).
При этом стилистическая бинарность
нужна не только для противопоставления, но
и для объединения, для того, чтобы
подчеркнуть всеобщность, полное распространение
явления или понятия на всю область чувств,
естества человека, на всю вселенную и т. д.
В этих случаях перечисление обоих
сущностей бытия создает впечатление полного
и всеобщего их охвата. Дьявол стремится
овладеть всем миром, и об этом говорится
так: «Обычаи бо есть диаволу и его гръдо-
сти егда начнет на кого похвалятися или го-
зитися, тогда хощет и землю потребити, и
море иссушити» (308).
На приеме противопоставления
построено сравнение св. Сергия одновременно с
«небесным человеком», и «земным ангелом»
(«сподоби мя Богъ видети днесь небеснаго
человека и земнаго аггелам», 396 — 398).
По существу, реального, словесного
противопоставления здесь нет, так как и то и
другое, выраженное в разных словах, означает
одно и то же, но формальный прием
противопоставления необходим, чтобы придать
сравнению значение сущностной
характеристики, сделать его всеобщим, охватывающим
небо и землю — обе половины бытия.
Парность очень часто подчеркивается
ассонансами: «в покорении и въ
послушании, паче же въ странничьстве и въ
смирении» (334). Еще чаще парность
акцентируется рифмой (главным образом
морфологической), общими предлогами («презрети
<...> и преодолети», 290) и др. Все эти
внешние приемы отнюдь не оторваны от
смысла. Напротив, созвучия для того и
подбираются, чтобы подчеркнуть «течение»
единого смысла. Ни рифма, ни ассонанс, ни
ритмичность не воспринимаются, если
входящие в эти построения слова лишены
общности значения или если сочетающиеся
76
Глава 3
слова не имеют морфологической или
синтаксической общности.
Орнаментальность присуща древнесла-
вянской прозе, компенсируя в ней отсутствие
стиха в его чистом виде. Орнаментальность
в Древней Руси наличествует уже в XI в.
в «Слове о законе и благодати»
митрополита Илариона, но она достигает особого
развития в пору «второго
южнославянского влияния», на рубеже XIV и XV вв.
Впоследствии те или иные элементы
орнаментализма прозы продолжают
существовать в отдельных литературных жанрах
Древней Руси на всем протяжении их
существования.
Искусство не всегда последовательно.
Это не логика и не математика. Само
движение искусства, его развитие часто
приводит нас в недоумение, демонстрирует
удивительные явления, сталкивает нас с
неожиданностью. Искусство условное очень часто
сочетается с искусством конкретизирующим,
искусством конкретности, стремящимся к
наглядности, к созданию иллюзии
действительности. Литература Древней Руси
характерна в этом отношении. В ней наряду с
приемами крайнего абстрагирования и
условности хорошо уживаются тенденции к
реалистическому изображению.
Элементы реалистичности у
древнерусских писателей по большей части связаны со
стремлениями улучшить действительность,
исправить недостатки действительности.
Смерти, преступления, княжеские усобицы
описываются для того, чтобы изменить
действительность, возбудить в читателях
возмущение междоусобиями и преступлениями
князей.
Остановимся на наиболее часто
приводимом примере реалистических тенденций —
на летописном рассказе об ослеплении
Василька Теребовльского12. Вот что
значительно в этом рассказе. В отличие от многих
других произведений средневековой русской
литературы, где о фактах по преимуществу
сообщается, — здесь они описываются.
Автор стремится представить картину
совершенного преступления, живо ее
воспроизвести, внушить ужас к тому, что произошло.
Для этого он широко пользуется тем, что мы
сейчас называем художественной деталью.
Из множества фактов, на которые
неизбежно распадается всякое событие, он
выбирает именно те, которые делают ужас
совершенного художественно убедительным.
С умелым подбором деталей, а по всей
вероятности, и с их художественным
воссозданием автор сочетает умелый выбор
средств языка: лексики, грамматических
форм и проч.
Поразительно передан, например,
разговор Василька с заманившими его на
именины Давыдом и Святополком. Последние
готовятся схватить Василька. Все вошли в
избу и сидят. Святополк уговаривает
Василька остаться на «святок». Василько не
соглашается. Давыд же сидел «акы нем».
Затем замолчал и Святополк. Он уходит,
отговариваясь тем, что ему необходимо
пойти распорядиться. Василько пытается сам
занять разговором оставшегося с ним Давы-
да. Но Давыд не смог ни говорить, ни
слушать: «И не бе в Давыде гласа, ни
послушанья». Это произошло с Давыдом от
страха: «Бе бо ужаслъся и лесть имея в сердци».
Посидев молча, Давыд спросил о Святопол-
ке: «Кде есть брат?» Ему ответили:
«Стоить на сенах». И, встав, Давыд сказал: «Аз
иду по нь; а ты, брате, поседи».
Зачем нужна вся эта сцена? Автор
отобрал все эти детали, чтобы показать, как
даже сами преступники были смущены
своим замыслом. Именно такой «трудной» и
должна была быть беседа с гостем, которого
собирались схватить и ослепить.
Возьмем другую сцену этого рассказа:
сцену самого ослепления. Василька ввели в
маленькую избу. Василек, увидя торчина,
точащего нож, понял, что его хотят
ослепить, и «възопи» к Богу (не начал
молиться, а именно «возопил» к Богу). Деталь эта
(с ножом) очень важна: она сразу же
делает наглядными приготовления к
преступлению и состояние Василька. Затем
«влезли» в избу и другие, стали расстилать
ковер, чтобы в него закатать Василька.
Закончив расстилать, они схватили Василька и
хотели его повалить. Схваченный Василек
боролся с ними так «крепко», что с ним не
могли справиться. Тогда вошли другие,
повалили Василька, скрутили, сняли с печи
доску и придавили ею грудь Василька, а
сами сели по концам доски, но все же не
смогли удержать его. Тогда подошли еще
77
Книга первая
двое, сняли другую доску с печи и
придавили ею Василька так сильно, что грудь его
затрещала («яко переем троскатати»). И
только после этого «приступил»
(подошел. — Д. Л.) торчин «овчарь», держа
нож, и хотел ударить ножом, но
промахнулся и порезал лицо Василька. «И есть рана
та на Васильке и ныне», замечает автор,
стремящийся к полной доказательности
своего рассказа. Потом «овчарь» снова ударил
в глаз и извлек глазное яблоко, а после
уже ■— в другой глаз и извлек другое
глазное яблоко. И в это мгновение Василек
потерял сознание — «бысть яко и мертв». Его
подняли на ковре и положили в телегу.
Ясно, что, описывая ослепление, автор
выбирает сильные детали, умеет
сосредоточить внимание на том, что может сделать
картину особенно наглядной и вместе с тем
подчеркнуть ужас совершенного. Особенно
важна эта сосредоточенность повествования
на ноже: нож сперва точат, затем
«приступают» с ним к Васильку, им наносят рану,
извлекают одно глазное яблоко, затем — другое.
Обратимся к другому примеру. Своими
реалистическими моментами поражает
описание в летописи под 1446 г. ареста
Василия II Темного Дмитрием Шемякой и
Иваном Можайским13. Здесь интересны не
только точность описания (мы узнаем,
например, как формально происходил арест:
некто Никита взял за плечо великого
князя и произнес: «Поиманъ еси великим кня-
земъ Дмитреемъ Юрьевичемъ» (508), но
и точность воспроизведения психологии
Василия Темного перед арестом и во время
самого ареста. Василий находился в Троице-
Сергиевом монастыре. Приближался час его
задержания, но Василий, как это часто
бывает, стремился убедить себя, что ему
ничего не грозит. Во время литургии
«пригонял» к великому князю Бунок —
предупредить его, «што идуть на него князь Дмит-
рей Шемяка, да князь Иванъ Можайской
ратью» (508). Василий отказался ему
верить и, мало этого, «повеле того (Бунка) из
монастыря збити и назад воротити его»
(506). Несмотря на такую ярость на
Бунка, Василий все же приказал послать
сторожей к Радонежу. И это сочетание
ярости с трусостью схвачено также
психологически верно. Пропускаю очень точное
описание того, как были обмануты и схвачены
сторожа. Обращу внимание снова на
поведение князя. Когда князь узнал, что
войска врагов уже близко, «скачюще на конех»,
он побежал на конюшенный дворец, но
оказалось, что нет ему здесь приготовленного
коня и «люди вси в уныньи быша, в торо-
пе велице, яко изумлени» (506). Князя
спрятал и запер в каменной церкви Св.
Троицы пономарь Никифор. Убийцы «взгони-
ша на монастырь на конех, преж всех Ми-
кита Костянтинович, и на лествицу на коне
къ преднимъ дверемъ церковным. Пошед-
шу ему с коня, и заразися о камень, иже
предверми церковными възделан на примо-
сте. И притекше прочий, воздняша его, он
же отдохну, и бысть яко пианъ, а лица его,
яко мерътвецю бе» (508). Примчался и сам
князь Иван и все воинство его и стал
вопрошать: «Где князь великий?» И здесь
снова проявилась характерная черта
арестовываемого. Василий мог бы и не отвечать: он
не только был спрятан в церкви, но
пользовался в ней правом убежища. Однако,
услышав голос Ивана, Василий сам «возопил
велми» и стал молить о пощаде. Он сам
отпер двери, встретил своих врагов с иконой
в руках, которую они с Иваном когда-то
целовали, клянясь быть в мире. Передан
выразительный диалог обоих, не оставивший
надежды у Василия. Василий бросился к
гробу св. Сергия Радонежского и «крича-
ньем моля, захлинаяся». Затем
рассказывается с полной наглядностью вся сцена
ареста и как князя посадили на «голы сани, а
противу его черньца» (508) и отправили в
Москву.
В древнерусской литературе мы часто
встречаемся не столько с описанием
событий, сколько с выражением отношения
автора к ним: с прославлением или
оплакиванием их, их лирической интерпретацией (ср.
в «Слове о погибели земли Русской»).
Сцена убийства Глеба — это не описание
в точном смысле этого слова, а некролог,
церковное чтение в воспоминание о
событии.
Рассказ об аресте Василия Темного
должен рассматриваться на фоне подобных
церемониальных форм литературы. Ясно, что
сцена ареста Василия выделяется своей
реалистичностью.
78
Глава 3
Реалистичность в древнерусской
литературе проявляется в ряде признаков,
обычно (и это важно) появляющихся, как мы уже
видели, в совокупности и определяющих
особый способ изображения окружающего
мира, при котором писатель следит за
реальным смыслом событий, выявляет
реальные причины, пытается проникнуть в
психологию героев; он стремится изображать
события наглядно, близко к
действительности вскрывает характерное и пользуется
художественной деталью, отказывается от
велеречия и приподнятости стиля, передает
прямую речь персонажей в
индивидуализированной форме.
Как же совмещается реалистичность с
абстрагирующими тенденциями
древнерусской литературы?
Древнерусская литература носила
«ансамблевый характер», и это позволяло
соединять в произведении разные способы
изображения действительности. Летописи,
хронографы, четьи-минеи, патерики, прологи,
палеи, отдельные сборники включали в свой
состав произведения, написанные в
различных стилях, многообразно изображающих
реальность. Иногда отдельные части
одного и того же произведения писались
по-разному. Я уже не говорю о летописях и
хронографах, о «Поучении» Мономаха, о
посланиях Грозного и проч., но даже житие
святого бывает выдержано в нескольких
стилях. В предисловии к житию автор
заявляет о своем отношении к добродетелям
святого, и это отношение не всегда вязалось с
тем, как он изображал святого в
дальнейшем. В совсем особом стиле пишется
заключительная похвала святому. Службы и
молитвы святому переносят нас в другую
сферу его изображения — чисто
абстрагирующую. Все части жития разностильны и
разножанровы, иногда они писаны даже
разными литературными языками: то
литературным русским, то литературным
церковнославянским. Этот «ансамблевый»
характер произведений облегчал проникновение в
него элементов реалистичности.
Под влиянием чего возникала в том или
ином случае потребность в реалистическом
изображении действительности? Дело в том,
что религиозное мировоззрение редко
проводилось последовательно. Необходимость
жить в реальном мире, считаться с ним
вызывала и потребность в правдивом его
объяснении. Писатель прибегает к
реалистическому изображению действительности
особенно там, где он критически настроен,
пытается воздействовать на своих
современников, изменить мир. Вот почему
реалистичность чаще всего появляется в литературе
тогда, когда писатель изображает
преступления князей, когда он пытается призвать
князей к единству, когда он изобличает
неправоту представителей высших классов
общества.
Появление элементов реализма не
должно примитивно объясняться борьбой двух
мировоззрений в Древней Руси —
идеализма со стихийным материализмом. Никаких
«двух мировоззрений», резко
противостоящих друг другу, в те века на Руси не было.
Были разные мировоззрения, но все они
были в той или иной форме и в той или иной
степени религиозными. Не случайно, что и
сама оппозиция феодализму совершалась в
форме ересей, то есть в форме религиозной.
Поэтому концепция «реализм —
антиреализм», при которой реализм
отождествляется с материализмом, а «антиреализм» с
идеализмом, не имеет под собой почвы в
древнерусской литературе. Однако,
отвергая концепцию «реализма — антиреализма»,
мы не должны отвергать связи между
художественным методом и мировоззрением.
Эта связь не всегда осуществлялась в
прямолинейных формах, однако она
проявлялась, существовала, и это относится к
вопросу об элементах реализма. Последние
появлялись в результате
непоследовательности средневекового религиозного
мировоззрения, вынужденного под влиянием
требований действительности обращаться к
практике, к индивидуальному мышлению и
опыту.
По-видимому, прогрессивная роль
реалистических элементов состояла
преимущественно в том, что они разрушали
существующие абстрагирующие стилистические
системы, способствуя возникновению новых, с
более широким кругом возможностей.
Именно эти нарушения являлись в древней
русской литературе элементами будущего.
Реалистические элементы все-таки не
являлись определяющими в литературе
79
Книга первая
Древней Руси. Как литература
средневековая, она больше тяготела к эстетике образа
и символа, продолжая в этом плане
византийские традиции.
Средневековый символизм
«расшифровывает» не только многие мотивы и детали
сюжетов, но он же позволяет понять
достаточно и в самом стиле литературы
Средневековья. В частности, так называемые
общие места в ней отражают особенности
средневекового символизирующего
мировоззрения. Да и в тех случаях, когда они
переходят из произведения в произведение в
результате заимствования, все равно они
«поддержаны» приданным им
символическим значением. Так, например,
средневековой символикой объясняются многие из
«литературных штампов» средневековой
агиографии. Сложение житийных схем
происходило под влиянием представлений о
символическом значении всех событий
человеческой жизни: житие святого всегда
имеет двойной смысл — само по себе и как
моральный образец для остальных людей.
Агиографы избегают индивидуального,
ищут общего, а общее является им в
символическом. «Общие места» в изображении
детства святого, его воспитания, борьбы с
бесами в пустыне, смерти и посмертных
чудес прежде всего проникнуты символизмом.
Агиографы стремятся воплотить в житии
святых «вечные истины», символические
отношения, которые в наше время во
многих случаях воспринимаются только как
«литературные шаблоны». Сама жизнь
святого изображается иногда по религиозному
шаблону, рожденному в значительной
мере все тем же символизирующим
мышлением.
Наконец, и это может быть самое
важное для литературоведа, средневековый
символизм часто подменяет метафору символом.
То, что мы принимаем за метафору, во
многих случаях оказывается скрытым символом,
рожденным поисками тайных соответствий
мира материального и духовного. Опираясь
по преимуществу на богословские учения
или на «донаучные» системы представлений
о мире, символы вносили в литературу
сильную струю абстрактности и по самому
существу своему были прямо
противоположны основным художественным тропам —
метафоре, метонимии, сравнению и т. д., —
основанным на уподоблении, на метко
схваченном сходстве или четком выделении
главного, на реально наблюденном, на живом и
непосредственном восприятии мира. В
противоположность метафоре, сравнению,
метонимии символы были вызваны к жизни по
преимуществу абстрагирующей
идеалистической богословской мыслью. Реальное
миропонимание вытеснено в них богословской
абстракцией, искусство — теологической
ученостью. Когда в «Слове на Пасху»
Кирилл Туровский говорит о главе ада и о
жале ада, он подразумевает определенные
средневековые представления об аде как о
морском чудовище — звере Левиафане, —
представления, нашедшие отчетливое
отражение не только в литературе, но и в
живописи. В средневековых произведениях
сама метафора очень часто оказывается
одновременно и символом, имеет в виду то или
иное богословское учение, богословское
истолкование или соответствующую
богословскую традицию, исходит из того
«двойного» восприятия мира, которое характерно
для символизирующего мировоззрения
Средневековья. Даже тогда, когда Кирилл
Туровский в своем «Слове на Собор
святых отцов» называет архиереев
«высокопарными орлами», которые «не у трупа, нъ у
живого тела Христова собирающеся, его же
ядше в бесконечныа векы живут»14, — он
имеет в виду строго теологические понятия,
отразившиеся в самой архиерейской
службе и в архиерейском облачении (так
называемые орлецы — коврики с
изображением парящего орла, подстилаемые под ноги
архиерею во время богослужения). Ни одно
из приводимых здесь Кириллом сравнений
не является чисто метафорическим: каждое
из них подразумевает богословское учение,
отразившееся и в учении об Евхаристии, и
в тексте «Физиолога» об орле. Почти
всегда приводимые Кириллом Туровским
сравнения основываются не на реальных
наблюдениях, а на символическом параллелизме;
сравнения или метафоры, основанные на
реальном сходстве, встречаются у него
гораздо реже.
Использование богословских символов
для построения на их основе целой
художественной картины не редкость в древнерус-
80
Глава 3
ской литературе и позднее — вплоть до
XVIII в. Любопытный пример находим мы
в цитате из Иоанна Златоуста в «Первом
послании Грозного к Курбскому». «Да ся
пенит море и бесит, — пишет Грозный, —
но Исусова корабля не может потопити, на
камени бо стоим; имамы бо вместо кормчия
Христа; вместо же гребцов — апостоли,
вместо корабленик — пророки, вместо
правителей — мученики и преподобные; и сия
убо вся имуще, аще и весь мир
возмутится, но не боимся погрязновения»15. В
устном завещании Трифона Печенгского в его
житии XVII в. находим такие строки: «Не
любите мира и яже в мире; сами бо весте,
колик окоянен мир сей — яко море
неверен, мятежен <...> ветрами волнуется
губительно, лжами горек, наветы диявольски
трясется и пенится, грехами веяния
свирепствует и смущается, о погружении (о
потоплении. — Д. Л.) миролюбцев тщится;
всюду плачи, пагубы своя простирает, а
наконец вся смертию осужает»16.
Такое сложение привычных богословских
символов в живую и «наглядную» картину
требовало от писателя чисто комбинаторных
способностей. В этих комбинациях
забывалось иногда символическое значение тех или
иных явлений природы и выступали задачи
иного характера. Уже здесь можем заметить
стремление к освобождению литературного
творчества из-под власти теологии.
Наиболее четкое развитие средневековый
символизм как система средневековой
образности получил на Руси в XI — XIII вв.
(также, впрочем, и на Западе). Начиная же
с конца XIV в. наступает период его
постепенной ломки. Стиль эпохи, так
называемого второго южнославянского влияния, был,
безусловно, враждебен средневековому
символизму как основе средневековых образов
и метафор. Произведения этой поры
характеризуются, в частности, говоря об
абстрагировании, новым отношением к слову и
новыми выразительными средствами. В
витийстве с его сложным и нечетким синтаксисом,
в перифразах, в нагромождении
однозначных или сходных по значению слов и
тавтологических сочетаний, в составлении
сложных многокоренных слов, в любви к
неологизмам, в ритмической организации речи и
т. д. — во всем этом нарушалась
«двузначная» символика образа, на первый план
выступали эмоциональные и вторичные
значения.
В итоге происходит постепенное
освобождение литературы от теологичности
предшествующих веков, подрывается «символизм»,
если не в содержании, то, во всяком случае,
в стиле литературных произведений, новые
образы создаются по впечатлению, по
сходству, авторы стремятся к наглядности,
пытаются создать иллюзию реальности.
Оживление интереса к церковному
символизму наблюдается в разных областях
искусства в XVI в. Он может быть особенно
отмечен не только в литературе (в
произведениях Макарьевской школы), но и в
иконописи (обилие икон на сложные
символические темы: «О Тебе радуется», «Собор
Богоматери», «Премудрость создала себе
храм» и др.).
В средневековой русской литературе мы
достаточно редко встречаемся с описанием
пейзажа. В XI — XIII вв. отдельные, очень
краткие описания природы в «Поучении»
Владимира Мономаха, в «Слове на
антипасху» Кирилла Туровского и др.) имели
своей целью раскрыть символическое значение
тех или иных явлений природы, выявить
скрытую в ней Божественную мудрость,
извлечь моральные уроки, которые
природа может преподать человеку. Птицы летят
весной из рая на уготованные им места,
большие и малые, — так и русские князья
должны довольствоваться своими
княжениями и не искать больших. Так рассуждает
на рубеже XI — XII вв. Владимир
Мономах. Весеннее пробуждение природы —
символ весеннего праздника Воскресения
Христова — так рассуждает в XII веке
Кирилл Туровский. Вся природа, с точки
зрения авторов природоведческих сочинений
Средневековья, лишь откровение Божие, это
книга, написанная перстом Божиим, и в ней
можно читать о чудесных делах
Всемогущего. Природа почти не имеет
индивидуальных черт. Индивидуальность места не
описывается. В ней нет и национальных черт.
Природа имеет значение лишь постольку,
поскольку она «Божье творение» или
влияет на развитие событий то засухой, то
бурей, то грозой, то морозом, дождем
мешает сражающимся и т. д.
81
Книга первая
Однако постепенно, начиная с XII в. и
более интенсивно в XIV и в XV вв., в
изображение природы вкрадываются новые
черты: буря вторит шумным излияниям
человеческих страстей, тишина окружающей
природы подчеркивает умиротворение,
безмолвие пустынника. Пейзаж приобретает
новое смысловое значение: он уже
символизирует не мудрость Бога, а самые
душевные состояния человека, как бы
аккомпанирует им и подчеркивает их, создает в
произведении настроение. Но уже в XVI в. мы
найдем и более сложные отношения
человека и природы. В «Казанской истории»
описываются, например, страдания от
жажды русских воинов на фоне изумительного
пейзажа жаркой и безводной степи, по
которой движется изможденное войско.
Природа здесь не только фон — это
«сценическая площадка», на которой
разыгрывается действие. Пейзаж конкретизирует
изображение событий.
Обращаясь к отдельным элементам
художественного явления средневековой
литературы, следует указать на стилистическую
симметрию. Ее удобнее всего показать на
примерах псалмов, от которых она в
основном (но не исключительно) и ведет свое
начало в древнерусской литературе. Сущность
этой симметрии состоит в следующем: об
одном и том же в сходной синтаксической
форме говорится дважды; это как бы
некоторая остановка в повествовании,
повторение близкой мысли, близкого суждения или
новое суждение, но о том же самом
явлении. Второй член симметрии говорит о том
же, о чем и первый, но в других словах и
другими образами. Мысль варьируется, но
сущность ее не меняется. Вот пример такой
симметрии: «Раазделишя себе ризу мою и
о ризу мою меташя жребъя» (пс. 21, ст. 19),
или «Обратить ся болезнь его на главу ему,
и на връхъ ему неправьда его сьнидеть»
(пс. 7, ст. 17)17.
Стилистическую симметрию обычно
смешивают с художественным параллелизмом
и со стилистическими повторами. Однако от
художественного параллелизма
стилистическую симметрию отличает то, что она не
сопоставляет два различных явления, а
дважды говорит об одном и том же; от
стилистических же повторов (обычных, в
частности, в фольклоре) ее отличает то, что она
хотя и говорит о том же самом, но в дру-
гой форме, другими словами.
Стилистическая симметрия — явление
глубоко архаичное. Она характерна для
художественного мышления дофеодального и
феодального общества.
Соответствия в членах симметрии,
конечно, не абсолютно точны. Напротив, ее
члены никогда точно не соответствуют друг
другу. Тем не менее они помогают понять
друг друга, хотя и не объясняют друг
друга с непреложной точностью.
Полной стилистической симметрии не
бывает. Всякая стилистическая симметрия
относительна. Это распространяется и на
чисто внешнюю ее форму. Она может быть:
зеркальной (как в приведенных мною
примерах: пс. 21, ст. 19 и пс. 7, ст. 17), но
может быть и параллельной, когда оба члена
симметрии синтаксически построены
сходно и второй ее член как бы повторяет
синтаксическую схему первого. Кроме того,
симметрия может быть неполной и в том
случае, если повторяющееся в обоих членах
сказуемое во втором члене только
подразумевается. Формальная неполнота симметрии
выражается по-разному.
Конечно, название «стилистическая
симметрия» условно. Одна из важнейших ее
особенностей состоит в неполноте
симметрического построения. Как мы уже видели,
оба члена симметрии хотя и говорят об
одном и том же, но говорят по-разному. Эта
неточность соответствия обоих членов
связана с характерным отличием поэтического
описания от описания научного. Первое
всегда несколько «неточно»: «неточна»
метафора, «неточна» метонимия, «неточен»
любой художественный образ. Эта
«неточность» в искусстве особого рода: она
динамична, всегда как бы восполняется
читателем, слушателем или зрителем. Благодаря
этой «неточности» восприятие произведения
искусства является до известной степени
сотворчеством. Мы как бы решаем некую
задачу, поставленную перед нами в
произведении искусства. Если сравнить
стилистическую симметрию в псалтыри с вызванны-
82
Глава 3
ми ею явлениями в русской литературе
XI — XVII вв., то можно заметить и
некоторые различия: русская симметричность
гораздо разнообразнее, «орнаментальнее»,
динамичнее. Она не ограничивается двумя
членами, переходит в синтаксические
повторы вообще. Все чаще она перестает быть
«остановкой» в развитии поэтической темы,
все чаще члены симметрии охватывают
разные явления, переходят в явления
параллелизма, служат целям сравнения,
утрачивают связь с художественным мышлением,
разрушаются, формализуются.
Судьбу стилистической симметрии
псалмов на русской почве удобнее всего
показать на материале «Слова Даниила
Заточника». В нем влияние стилистической
симметрии псалмов сказывается сильнейшим
образом. Оно проявляет себя уже в первых
строках этого произведения: «Въструбимъ,
яко во златокованыя трубы, в разумъ ума
своего и начнемъ бити в сребреныя арганы
возвитие мудрости своеа»18. В этих строках
содержится не два призыва, а один.
«Златокованыя трубы» и «сребреныя арганы» —
не два предмета, а один, но названный
общо, без уточнения: некий отвлеченный
драгоценный музыкальный инструмент.
Однако в целом стилистическая симметрия
в «Слове Даниила Заточника», в отличие от
псалмов, часто выступает как сравнение:
«Азъ бо есмь, княже господине, аки трава
блещена, растяще на сзатении, на ню же ни
солнце сиаеть, ни дождь идет; тако и азъ
всемъ обидимъ есмь, зане ограженъ есмь
страхом прозы твоеа, яко плодомъ
твердым»19. Или «Паволока бо испестрена
многими шолкы и красно лице являеть; тако и
ты, княже, многими людми честенъ и сла-
венъ по всемъ странам»20. Сравнение
разрушает симметрию: ее члены становятся
неравноправными. Симметрия обращается и в
противопоставление: «Доброму бо господину
служа, дослужится слободы, а злу господину
служа, дослужится болшеи роботы»21. Не
только по смыслу, но и по форме
стилистическая симметрия усложняется и
растворяется в близких стилистических явлениях:
появляется целая цепь парных
сопоставлений, причем каждая пара развивает и
продолжает мысль предшествующей пары и
завершается несимметричной концовкой —
кадансом. Сравни: «Не имей собе двора
близъ царева и не дръжи села близъ
княжа села: тивунъ бо его аки огнь трепетицею
накладенъ, и рядовичи его аки искры. Аще
от огня устережешися, но от искорь не мо-
жеши устречися и сожденина порть»22.
Другим важным элементом
художественности русской средневековой литературы
является сравнение. В противоположность
литературе Нового времени в средневековой
сравнений, основанных на зрительном
сходстве, немного. В ней гораздо больше, чем в
литературе Нового времени, сравнений,
подчеркивающих осязательное сходство,
вкусовое, обонятельное, связанных с ощущением
материала, с чувством мускульного
напряжения. Приведу некоторые примеры из
«Пчелы»: «Сноха добра в дому, аки мед во
устах; сноха зла в дому, аки червь в зубехъ»;23
«холопъ добръ подобен есть ножу остру;
холоп же зол подобен есть ножу тупу без-
кончату»24 «се въспросим некто: тайну мо-
жеть съхранити? Отвещав: иже угль горящь
можеть возложити на язык»;25 «якоже чер-
вье въ гниле древе ражаються, такоже и
печали в мягькия человеки входят»;26
«суровому служити, яко скляницу блюсти на
мраморе»27. Но и эти сравнения, основанные на
ощущениях вкуса, обоняния и проч., не так
уж обычны в древнерусской литературе.
Для сравнений Нового времени (XIX и
XX вв.) типично стремление передать
внешнее сходство сравниваемых объектов,
сделать объект наглядным, легко предста-
вимым, создать иллюзию реальности.
Сравнения Нового времени основываются на
многообразных впечатлениях от объектов,
привлекают внимание к характерным
деталям и второстепенным признакам, как бы
извлекая их на поверхность и доставляя
читателю «радость узнавания» и радость
непосредственной наглядности.
Обычные, «средние» сравнения в
древнерусской литературе иного типа: они
касаются внутренней сущности сравниваемых
объектов по преимуществу.
В «Похвальном слове» св. Сергию
Радонежскому дается в одном случае сразу
тридцать пять сравнений св. Сергия
Радонежского: он светило пресветлое, цвет
прекрасный, звезда незаходимая, луч, тайно
сияющий, крин в юдоли мирской, кадило бла-
83
Книга первая
гоуханное, яблоко благовонное, злато
посреди пыли, «сребо раждежено, и искушено, и
очищенно седморицею», камень честный,
«бисер многоценый», измарагд и сапфир
пресветлый, феникс процветший, кипарис
при водах, кедр ливанский, маслина
плодовитая, ароматы благоухания, «миро излия-
ное», «сад благоцветущь», виноград плод о-
носен, «гроздь многоплоден», ограда
заключенная, «вертоград затворенный», сладкий
запечатленный источник, сосуд избранный,
алебастр мира драгоценного, град
нерушимый, стена неподвижимая, «забрала
твердая» (сын. — Д. Л.), крепок и верен,
основание церковное, столб непоколебим,
венец пресветлый, корабль исполнен богатства
духовнаго...28 Перед нами необыкновенное
богатство сравнений, но нет ни одного,
которое позволило бы наглядно представить
себе внешний облик св. Сергия. Каждое
сравнение направлено на выявление
«сущности значения» личности преподобного
Сергия. Внешнее сходство сравниваемых
объектов не только игнорируется, но и в
иных случаях как бы намеренно
разрушается.
Нам кажется странным сравнение
Богоматери с «обрадованной палатой».
Странность этого сравнения не только в том, что
Богоматерь сравнивается с архитектурным
сооружением — каменным домом, но и в
самом эпитете этой «палаты» —
«обрадованная». Этот эпитет ясно показывает, что
писатель воспринимает «палату» не в
материальном смысле, а как чистый символ.
Писатель не стремится конкретно
представить себе объекты сравнения. Он
сравнивает «сущности» и поэтому считает
возможным придать «духовный» эпитет
материальному объекту, и наоборот.
В такого рода перестановках эпитета с
одного объекта сравнения на другой
разрушается конкретный смысл слов, на первый
план выступает переносное значение. Так,
в «Житии св. Кирилла Белозерского»,
написанном Пахомием Сербом, читаем:
Кирилл «хлебы теплыя братам принося, темъ
же и теплыя молитвы от них приимаше»29.
Перед нами употребление одного и того же
эпитета, но имеющего в одном случае
конкретное, а в другом — переносное
значение: прием, способствующий
абстрагированию конкретных понятий и представлений.
Древнерусский писатель придавал
гораздо большее значение изображению функции
объекта, его роли, чем наглядности. «Жена
добра в дому, аки очи в челе», — это
сравнение из древнерусской «Пчелы»30. Здесь
сравниваются не два объекта, а два
положения: положение доброй жены в доме с
положением глаз на лице. Автора не
смущает, что жена одна, а глаз на лице пара.
Внешнее сходство здесь полностью
игнорируется, сравнение непредставимо, хотя и
обладает художественной
убедительностью — «типичной» для русского
Средневековья.
С такою же «непредставимостью» мы
имеем дело и в том случае, когда сравнение,
казалось бы, подчеркивает внешние,
зрительные свойства объекта: его окраску,
размеры, форму. «Рысь пестра извону, а чело-
веци лукавии внутрь»;31 — здесь
выделяются сущностные функции объекта, ведь
пестроту человека изнутри видеть невозможно.
Не сходство зрительное, а сходство
положений подчеркивается и в сравнении Авра-
амия Смоленского с птицей: «Блаженый же
бе яко птица ять руками, не умеа, что гла-
голати или что отвещати»32.
Разумеется, функции объектов
принимаются во внимание в средневековых
сравнениях далеко не все. Средневековые
сравнения, как мы уже говорили, «идеологичны».
Они тесно связаны с господствующей
идеологией своего времени, и этим
объясняется их традиционность, малая изменяемость,
каноничность и трафаретность.
Сравниваются объекты мира
материального и мира духовного. Этим
подчеркивается духовное значение материального мира.
Сравниваются события и лица современной
писателю истории с событиями и лицами
Ветхого и Нового Заветов. Этим
осмысляется значение происходящего.
Сравнивается мир людей с миром природы. Этим
сравнением устанавливается внутренняя связь
всего «богозданного мира». Особенно
часты сравнения людей со зверями и птицами.
Они учитывают характеристики, которые
давали животным различные «физиологи» и
специальные рассказы о мифических
свойствах отдельных зверей и птиц.
Идеологический характер сравнений не
84
Глава 3
допускал их импрессионистического
разнообразия, столь характерного для
литературы Нового времени.
Воображение средневекового писателя
постоянно вращается в известном круге
идей. Зато, попав в этот круг, он часто
стремится охватить его возможно шире, не
довольствуясь одним сравнением, и вводит в
свое произведение всю цепь привычных ему
образов. Именно этим объясняется, что
писатель часто нагромождает сравнения, не
ограничиваясь одним или двумя. С точки
зрения художественного метода литературы
Нового времени, мы должны были бы
признать, что соседство многих сравнений
ослабляет каждое из них в отдельности и
всю их совокупность в целом. Но писатель
Средних веков не стремился к наглядности.
Ему необходимо было исчерпать внутренний
смысл сравниваемого объекта, исчерпать его
качества, свойства, функции.
В Ипатьевской летописи князь Даниил
Романович Галицкий сравнивается
одновременно со львом, рысью, крокодилом, орлом
и туром: «Устремил бо ся бяше на поганыя
яко и лев, сердит же быть яко и рысь и
крокодил, и прехожаше землю их яко орел, хра-
бор бо бе яко и тур»33. Обильные
сравнения со зверями и птицами характерны и для
«Слова о полку Игореве», но
замечательно, что памятник этот, тесно связанный с
фольклором, берет для сравнения только тех
зверей и птиц, которые реально
существовали на Руси. Действующие лица в
«Слове о полку Игореве» сравниваются с серым
волком, с сизым орлом (Боян. — Д. Л.),
персы Бояна сравниваются с десятью
соколами, войска сравниваются со «стадами
галок», с соколами, с серыми волками
(куряне. — Д. Л.), телеги сравниваются с
лебедями, поганый половчанин — с черным
вороном, Гзак — с серым волком, Всеволод —
с туром, Игорь и Всеволод — с соколами,
половцы — с гнездом пардусов,
Ярославна — с зегзицею, половцы Гзак и Кон-
чак — с сороками и т. д. Все эти
разнообразные сравнения со зверями и птицами
сделаны только по функции.
Как известно, достоинство сравнения —
его полнота, многообразие. Важно, чтобы
сравнение касалось не одного признака, а
многих. Тогда оно может быть признано
особенно удачным. Это правило полностью
учитывалось древнерусскими писателями,
которые иногда превращали сравнения в
целые картины, небольшие повествования.
Так, Феодосии Печерский в «Поучении о
терпении и милостыни» сравнивает монаха
с воином. Инок — воин Христов. Воина
зовет в бой боевая труба. Инока же зовет
на духовный бой било церковное,
призывающее его к службе. Феодосии
требует от иноков «мужески терпеть»,
«вооружиться терпением», идти на подвиг и
проч.: «Рати бо належащи и трубе во-
иньстей трубящи, никтоже можеть
спасти: и воину Христову лепо ли есть ле-
нитися?» Далее он пишет, что воины ради
славы не помнят ни жены, ни детей, ни
имения. Больше того — воины голов
своих не помнят, чтобы быть не
посрамленными, также и иноки. Но далее иноки
противопоставляются воинам. Слава
воинов — временная, она кончается с их
жизнью, слава же иноков, борющихся с
супостатами рода человеческого, вечна34.
Мир земной и мир небесный, мир
материальный и мир духовный не только,
следовательно, сопоставляются, но и
противопоставляются. Этот элемент
противопоставления всегда почти присутствует в
средневековом сравнении и является неизбежным
результатом его идеологического характера,
не допускающим обычной в сравнении
художественной неточности.
Благодаря своему «идеологическому» или
«идейному» значению средневековые
сравнения относительно легко эмансипировались
от окружающего текста. Они часто
приобретали самостоятельность, обладали
внутренней законченностью мысли и легко
становились афоризмами.
Важное место в поэтике любой
литературы занимают проблемы художественного
времени и художественного пространства.
Художественное время в древнерусской
литературе резко отличается от
художественного времени в литературе Нового времени.
Субъективный аспект времени, при
котором оно кажется то текущим медленно, то
бегущим быстро, то катящимся ровной
волной, то двигающимся скачкообразно,
прерывисто, не был еще открыт в Средние века.
Если в новой литературе время очень час-
85
Книга первая
то изображается таким, каким оно
воспринимается действующими лицами
произведения или представляется автору или
авторской «замене» — лирическому герою,
«образу повествователя» и проч., — то в
литературе древнерусской автор стремился
изобразить объективно существующее
время, независимое от того или иного
восприятия его. Время казалось существующим
только в его объективной данности. Даже
происходящее в настоящем воспринималось
безотносительно к субъекту времени.
Время для древнерусского автора не было
явлением сознания человека. Соответственно
в литературе Древней Руси отсутствовали
попытки создавать «настроение»
повествования путем изменения темпов рассказа.
Повествовательное время замедлялось или
убыстрялось в зависимости от потребности
самого повествования. Так, например,
когда автор стремился передать событие со
всеми подробностями, повествование как бы
замедлялось. Оно замедлялось в тех
случаях, когда в действие вступал диалог или
действующее лицо произносило монолог,
даже если этот монолог был «внутренним»,
когда это была молитва. Действие
замедлялось почти до реально ощутимого, когда
требовалась картинность описания.
Время было подчинено сюжету, не
стояло над ним, представлялось поэтому
значительно более объективным и эпичным,
более однообразным и более связанным с
историей, понимаемой, впрочем, значительно
более узко, чем в Новое время, — как
смена событий, но не как изменение в
течении уклада жизни. Время в своем
течении, казалось, охватывало в Средние века
гораздо более узкий круг явлений, чем в
нашем сознании сейчас.
Время в Средние века было сужено
двояко: с одной стороны, выделением целого
круга явлений в категорию «вечного», а с
другой. — отсутствием представлений об
изменяемости целого ряда их. С одной
стороны, существовали «вечные» явления,
отмеченные своим «соприкосновением мирам
иным», с другой — очень многие из
«низкой» жизни казались не изменяющимися во
времени. Не изменялись в сознании людей
Древней Руси бытовой уклад,
экономический и социальный строй, общее устройство
мира, техника, язык, искусство, даже наука
и проч.
Следовательно, из общего течения
времени было начисто изъято то, что относилось
к «сверхсознательной» области
единственно ценного, с религиозной точки зрения,
«вечного», и то, что не осознавалось во
времени, что казалось от века установленным,
раз и навсегда созданным Богом.
Компактность в пользовании
художественным временем удобно показать на
примере применения к нему закона
средневекового искусства — цельности изображения.
Что собой представляет этот закон
цельности изображения? Он действует с
одинаковой неукоснительностью как в
древнерусском изобразительном искусстве, так и в
древнерусской литературе. Русский
художник до XVII в. никогда не изобразит в
своем произведении какой-либо существенный
объект не полностью, частично. Изобразить
дерево так, чтобы часть его оставалась за
пределами изображения, было невозможно
для художника Древней Руси. Потому он
предпочтет сократить его размеры, но
уместить полностью. Лик и фигура человека до
пояса сверху (в ее «чистой», по
средневековым представлениям, части) являют собой
известную цельность и поэтому могут быть
написаны на иконе отдельно, но невозможно
представить изображение человеческого
лика или фигуры, срезанное рамкой иконы
по вертикали или горизонтали. Объект
изображения может быть представлен только
целиком.
То же мы видим и в древнерусской
литературе. Здесь также действует закон
цельности изображения. В древнерусских
литературных произведениях нет ничего, что
выходило бы за пределы повествования, как
в иконах нет ничего существенного, что
выходило бы за пределы «ковчежца» иконы —
ее рамки. В изложении отобрано только то,
о чем может быть рассказано полностью, и
это отобранное также «уменьшено» —
схематизировано и уплотнено. Древнерусские
писатели рассказывают об историческом
факте лишь то, что считают главным,
согласно своим дидактическим критериям и
представлениям о литературном этикете. Факт,
о котором рассказывается, схематизируется
в пределах, необходимых, чтобы лучше быть
86
Глава 3
воспринятым читателем, лучше
запомниться. Деталь изображается не такой, какой она
была в действительности, со всеми ее
случайными чертами, а так, чтобы лучше быть
воспринятой в ее целостности читателем, —
как геральдический знак, эмблема
описываемого объекта.
Древнее искусство в большей степени
символизирует и сигнализирует, чем
показывает и живописует. Некоторые события
как бы заново инсценируются,
драматизируются диалогами, домысливаются
объяснениями. Все это делается для того, чтобы не
оставить ничего за пределами повествования,
сделать его объект абсолютно ясным. Объект
повествования «замкнут», самоценен.
Художественное время в древнерусских
литературных произведениях подчиняется
тому же закону целостности изображения.
О событии рассказывается от его начала и
до конца. Читателю нет необходимости
догадываться о том, что происходило за
пределами повествования. Если
рассказывается жизнь святого, то сперва говорится о его
рождении, затем о детстве, о начале его
благочестивой жизни, приводятся ее
главнейшие события (главнейшие — с точки
зрения внутреннего и внешнего смысла его
существования), потом говорится о смерти и
посмертных чудесах. Если речь идет о
каком-либо историческом событии (например,
о битве, о «хождении» в Святую землю и
проч.), то рассказ также начинается с самого
зарождения события и заканчивается его
концом: начало события есть и начало
рассказа, конец события — конец повествования.
Закон цельностности изображения в
древнерусской литературе приводит к тому,
что художественное время не только имеет
свой конец и начало, но и известного рода
замкнутость на всем своем протяжении.
Событийный ряд как бы выделен из
событийных рядов соседних, не связан с ними,
хотя отдельные «мосты» к русской истории
постоянно наводятся, носят характер
внешних привязок.
Другое последствие закона цельности
изображения — однонаправленность
художественного времени. Повествование
никогда не возвращается назад и не забегает
вперед. В житии святого иногда и говорится об
ожидающей его судьбе, а в рассказе об
исторических событиях приводятся дурные
приметы или счастливые предзнаменования,
но это не хронологическое нарушение, а
попытка указать на вневременный смысл
событий.
Наряду со своим существованием во
времени литературное произведение обладает
еще вневременным бытием. Это
вневременное бытие было особенно интенсивным в
произведениях древнерусской литературы.
Интерес к интриге, обусловленный по
преимуществу восприятием литературного
произведения во времени, был в ней проявлен
слабо. Литературные произведения были
рассчитаны в гораздо большей степени на
многократное чтение, подобно тому как на
многократное повторение в чтении или в
произнесении были рассчитаны молитвы.
Чтение приближалось к исполнению
обряда, часто непосредственно переходило в
обряд, замыкалось в пределах дня, недели,
года. От этого вневременное начало
выступало в древнерусских произведениях
особенно сильно: не только в произведениях
церковных, связанных с ритуалом, но и в
произведениях светских, исторических.
Все описанное выше касалось отнюдь не
всей древнерусской письменности. Только
литературные произведения в собственном
смысле этого слова отличались
замкнутостью времени и подчинялись закону
цельности изображения. Но и в них очень рано
начали сказываться отдельные нарушения того
или другого. Эти нарушения вошли в
литературу с принципом анфиладности
построения.
Замкнутость сюжетного времени очень
рано начала нарушаться в связи с
распространенностью в древнерусской литературе
компиляций, сводов, соединения и
нанизывания сюжетов — иногда чисто
механического. Произведения чисто механически
соединялись друг с другом, как соединялись
в одну анфиладу отдельные помещения35. В
предисловии к житию святого могут уже
содержаться сведения о некоторых
значительнейших событиях его жизни. В
заключительной похвале могут быть повторены
многие из фактов, уже рассказанных в
житии. Предисловие, житие, похвала святому,
описание его посмертных чудес, службы
святому — это все разножанровые произведе-
87
Книга первая
ния, анфиладно соединенные и
объединенные личностью самого святого. Каждое из
этих произведений, входя в единое более
крупное целое, по-своему законченно,
законченным же характером отличается и
художественное время каждого из этих
произведений. Анфиладным способом построены
летописи, хронографы, патерики,
четьи-минеи, палеи, наконец, даже некоторые
сборники неопределенного состава. И в любом
из этих крупных произведений
объединенные им более мелкие обладают каждое
своим законченным временем. Но события в
них могут повторяться. В этом состоит
первый прорыв в замкнутости времени в
литературе Древней Руси.
В этом отличие времени древнерусских
литературных произведений от эпического
фольклора, не знающего этого
анфиладного построения.
Идеально законченные и замкнутые во
временных пределах эпические творения
фольклора подчинены сюжетному времени:
оно начинается с начала сюжета и
заканчивается им. Древнерусские же литературные
произведения имеют уже представление об
историческом времени, не
заканчивающемся с сюжетом, вечно продолжающемся в
настоящем, и поэтому в древнерусской
литературе наблюдается постоянное
стремление наращивать сюжеты их
продолжениями. Поэтому второй прорыв замкнутости
художественного времени, совершенный в
древнерусской литературе, — это прорыв в
настоящее. Житие святого наращивается
повествованиями о посмертных «чудесах».
Летопись и хронограф наращиваются
рассказами о последующих событиях. Создается
цепь повествований, цепь сообщений и
сведений, вытянутых в одну линию,
передающих эстафету времени по одному прямому
направлению.
Летопись — это тот литературный жанр,
который впервые вступил в резкий конфликт
с замкнутостью сюжетного времени.
Время в летописи не едино. В разных
летописях, в их различных частях на
протяжении своего многовекового
существования отражены многообразные временные
системы. Русские летописи — грандиозная
арена борьбы основных двух диаметрально
противоположных представлений о времени:
одного — старого, дописьменного,
эпического, разорванного на отдельные временные
ряды, и другого — более нового, более
сложного, объединяющего все происходящее
в некое историческое единство и
развивающегося под влиянием новых представлений
о русской и мировой истории, появившихся
с образованием единого Русского
государства, осознающего свое историческое
место в мире.
Эпическое время и время в новых
исторических представлениях находятся в
летописи в неустанной борьбе, длившейся
несколько столетий. Только в XVI в.
определяются явственные признаки победы
нового осознания времени как единого потока,
захватывающего всю Русскую землю и всю
мировую историю.
Система изображения у летописца
течения исторических событий есть следствие не
«особого мышления», а особой философии
истории. Он изображает весь ход истории,
а не соотнесенность событий. Он
описывает движение фактов в их массе.
Прагматическую связь фактов он стремится не
замечать, так как для него важнее их общая
зависимость от Божественной воли. Факты и
события возникают по воле сверху, но не
потому, что одни из них вызывают другие
в «земной» сфере.
Капризная прерывистость, неполнота
деловых, реальных объяснений подчеркивает
сознание того, что жизнь управляется более
глубокими, потусторонними силами. Многое
может представиться читателю летописи
бессмысленным, суетным, «пустяковым».
Это и есть цель летописца. Он показывает
«суетность» истории. «Начнемъ же сказа-
ти бесчисленныя рати, и великыя труды, и
частыя войны, и многия арамолы, и частыя
востания, и многия мятежи...» — пишет
летописец36.
Вечное в летописи дано в аспекте
временного. Чем сильнее подчеркивается
временность событий, тем больше выявляется их
вечный и вневременной смысл. Чем чаще
летописец напоминает о быстротечности и
мимолетности бытия, тем медленнее и
эпичнее летописное изложение. Время подчинено
вечности. Укрощенное вечностью, оно течет
медленно. В летописи все события
подчинены ровному и размеренному временному
88
Глава 3
течению. Время не ускоряется в
повествовании о личных судьбах исторических лиц
и не замедляется на описании значительных
событий. Оно течет эпически спокойно,
следует не за часами происходящего, а за
годами, редко — днями. Летописец создает
«уравненное» течение событий, следующих
друг за другом в мерном ритме чисел и лет,
не признает неровного ритма причинно-
следственной связи.
Величественный поток времени
сравнивает малых и больших, сильных и слабых,
значительные события и незначительные,
содержательные моменты истории и
несодержательные. Действие не торопится и не
отстает, находится над реальностью. Совсем
иное в фабульной литературе, где внимание
сосредотачивается на кульминационных
пунктах и как бы медлит на них, заставляя
время течь неровно и прерывисто.
В исторических повестях оно движется
медленнее в одних случаях и быстрее — в
других.
Строгая последовательность хронологии,
медленность рассказа создает впечатление
«неумолимости» истории, ее необратимости,
рокового характера. Каждая запись до
известной степени самостоятельна, но между
ними чувствуется все же пропущенная связь,
возможность других записей о других
событиях. Отсутствие повествовательных
переходов в ряде случаев создает впечатление не
только неотвратимости хода истории, но и
известной ее монотонности. Ритмичное
чередование событий — это шаги истории, бой
часов на городской «часозвонне»,
«пульсация» времени, удары, отбиваемые судьбой.
Этот летописный способ изображения
событий применяется в летописи только в
изложении русской истории. Священная
история и история мировая изображается в
летописях (по преимуществу в их начальных
частях) в более общих и значительных
планах. Летописный и хронологический способы
изображения истории, существующие
одновременно, глубоко различны. События
Ветхого и Нового Заветов нельзя изобразить
ç таким эпическим к ним презрением, как
в летописи. Каждое событие Ветхого и
Нового Заветов имеет свой символический,
богословский смысл. Священная история в
целом имеет поэтому вечное значение. Там
нет исторической суеты. Время в
Священной истории течет иначе: совершившееся не
исчезает, продолжает вспоминаться
Церковью, воспроизводится в церковном
богослужении. Во «временном» Священной
истории больше «вечного». От этого такое
различие в повествовании хронографа и палеи,
с одной стороны, и летописи — с другой.
Многое во взгляде летописца на время
есть результат его художественного,
исторического метода, а многое возникает в
летописи спонтанно, под влиянием способов,
которыми летопись велась.
Способы ведения летописи органически
связаны с ее художественным методом и
усиливают его художественный эффект.
Остановимся на этом подробнее.
В летописи, как мы уже видели, запись
событий преобладает над рассказом о них.
Летописец не столько рассказчик, сколько
«протоколист». Он записывает и
фиксирует. Скрытый смысл его записей — их
относительная современность событиям. Вот
почему летописец стремится сохранить
записи своих предшественников в той форме,
в какой они сделаны, а не пересказывать их.
Для него предшествующий текст летописи
или используемая им историческая
повесть — документ, документ о прошлом,
сделанный в этом прошлом. Его
собственный текст — тоже документ, но документ
настоящего, сделанный в этом настоящем.
Зафиксировать событие, не дать ему
забыться, исчезнуть из памяти последующих
поколений — основная цель летописца,
ведущего летописные записи.
Летописная запись стоит на переходе
настоящего в прошлое. Этот процесс
перехода чрезвычайно существен в летописи.
Летописец «без обмана» на самом деле
записывает события настоящего, — то, что было
на его памяти, а затем, накапливая новые
записи, при последующих переписываниях
летописных текстов тем самым отодвигает
их в прошлое.
Преодоление летописного способа
изложения и переход к связному повествованию
об истории Руси совершились с
образованием единого Русского централизованного
государства в XVI в. на основе
промежуточного этапа связанных повествований всю-
жетно более ограниченных темах: об исто-
89
Книга первая
рии Казанского царства и его
присоединения к Москве («Казанская история»), об
истории рода московских государей
(«Степенная книга царского родословия»), об
истории Грозного («Царственный летописец о
великом князе московском» Курбского).
Исторические повествования разлагали
летописный способ изображения времени
изнутри летописи и извне ее. Литература
одолевала документ. Вместо документов о
прошлом, собранных в огромных летописных
сводках, все сильнее сказывается тенденция
к реконструкции прошлого в связных
литературных рассказах, но не с замкнутым
временем, как в эпосе, а с временем
открытым — историческим.
Средневековая литература, особенно
церковная, так же часто имеет дело с
художественным временем, как и с
художественной «вечностью». Слово «вечность» я беру
в кавычки, так как «вечность» эта в
художественном отношении есть лишь одно из
проявлений художественного времени.
Средневековая литература стремится к
вневременному, к преодолению времени в
изображении высших проявлений бытия —
богоустановленности вселенной, но и в
пределах вневременного в ней есть свои
низшие и высшие формы. Низшая форма
вневременного — это неизменяемость
некоторых проявлений бытия: социального,
политического, бытового укладов жизни,
изменения которых иногда попросту не
замечались средневековыми людьми; это
неизменность миропорядка, мироустройства,
казавшихся раз и навсегда установленными
Богом.
Этот аспект вневременного как бы не
замечался древнерусским писателем. Это было
следствие его некоторой «исторической
ограниченности».
Другой аспект вневременного — это
вечный смысл единичных, исторических и
временных явлений. С точки зрения
древнерусского автора, в мире существует вечная
соотнесенность двух миров —
божественного и земного. Земной, временный мир имеет
вневременный, надмирный смысл. Смысл
этот не абстрактный, не вносимый в него
человеческой мыслью, а с точки зрения
средневекового писателя, вполне конкретный,
реально существующий.
В случайном и временном писатель
Древней Руси видел знаки вечного, а в
неизменном и постоянном — не заслуживающее
внимания временное и земное.
Концепции художественного времени
отдельных жанров древнерусской литературы
имеют некоторые соответствия в концепциях
художественного времени близких им
жанров русского фольклора. Художественное
время литургии, праздничной проповеди
близко художественному времени обрядовой
поэзии, в частности причитаний.
Настоящее время праздничной
проповеди обусловлено тем, что событие, которому
она посвящена, как бы повторяется в момент
ее произнесения. Проповедник изображает
события как совершающиеся в данный день.
События, связанные с обрядовыми
произведениями, также совершаются в данный
момент, и поэтому художественное время
обрядовой поэзии — тоже настоящее
время. Но в христианском богослужении и
обрядовой поэзии есть и существенные
различия в отношении к художественному
времени. Художественное настоящее время
литургии или праздничной проповеди гораздо
сложнее, чем художественное время
обрядового фольклора, хотя обрядовый
фольклор в значительной мере подготовил
понимание молящимися настоящего времени
богослужения.
Христианское богослужение и связанные
с ним произведения словесного искусства
посвящены одновременно и воспоминанию
о священном событии, и самому событию,
как бы повторяющемуся в данный
момент — в момент совершения обряда,
таинства, произнесения проповеди или молитвы.
В народном язычестве нет элемента
воспоминания, нет прошлого, есть только
события настоящего, правда повторяющиеся
ежегодно, но отнюдь не как воспоминание.
Различие между христианством и
язычеством состоит также в понимании события,
с которым связан обряд, оно такое же, как
различие иконы и идола. Икона — это и
священный предмет, и изображение вне
иконы существующего Бога или святого. Это
изображение представляемого и
воплощенного. Идол — это Бог сам по себе.
Поэтому различие между настоящим
временем богослужения и настоящим временем
90
Глава 3
обрядового фольклора существенно: в
первом случае это настоящее время сейчас
совершающегося события и одновременно
изображение «вечности», во втором — это
настоящее время в собственном смысле
этого слова.
Настоящее время христианского
богослужения — это сложное время, только
отчасти приближающееся к настоящему
повествовательному. Со средневековой точки
зрения — это один из аспектов вечности.
Формы художественного пространства в
древнерусской литературе не имеют такого
разнообразия, как формы художественного
времени. Они не изменяются по жанрам.
Они вообще не принадлежат только
литературе и в целом одни и те же в живописи,
в зодчестве, в летописи, в житиях, в
проповеднической литературе и даже в быту.
Последнее не исключает их художественного
характера, — напротив, оно говорит о
властности эстетического восприятия и
эстетического осознания мира. Мир подчинен в
сознании средневекового человека единой
пространственной схеме, всеохватывающей, не-
дробимой и как бы сокращающей все
расстояния, в которой нет индивидуальных
точек зрения на тот или иной объект, а есть
как бы надмирное его осознание — такой
подъем религиозного мышления над
действительностью, который позволяет видеть
ее не только в огромном охвате, но и в
сильном ее уменьшении.
События в летописи, в житиях святых, в
исторических повестях — это главным
образом перемещения в пространстве: походы
и переезды, охватывающие огромные
географические ареалы, в результате побед или
поражений войска, переезды святых и
перевозы святынь на Русь и из Руси,
приезды в результате приглашения князя и
отъезды его по причине изгнания. Занятие
князем или игуменом, епископом своего
положения мыслится точно так же, как
возведение на стол. Когда игумена лишают
его должности или сана, про него говорят,
что он был «изведен» из монастыря.
Когда князя ставят на княжение, про него
сообщается, что он «возведен» был на стол.
Смерть мыслителя тоже как переход в мир
иной — в «породу» (рай) или ад, а
рождение — как приход в мир. Жизнь — это
проявление ее в пространстве. Это
путешествие на корабле среди моря житейского.
Когда человек уходит в монастырь, то этот
«отход от мира» представляется главным
образом как переход к неподвижности, к
прекращению всяких передвижений, как
отказ от событийного течения жизни.
Пострижение связано с обетом оставаться в
святом месте до гроба. В тех редких
случаях, когда летопись повествует о
размышлениях исторического деятеля, это также
представляется в пространственных формах:
умом и мыслию летают, поднимаются
к облакам. Мышление сравнивается с
полетом птицы. Когда Феодосии Печерский
замыслил пойти к Антонию Печерскому, он
устремился к его пещере, «окрылатевъ
умом».
Завязка повествования — это очень
часто «приезд» и «приход» то варяга Шимо-
на из Скандинавии (начало Киево-Печер-
ского патерика), то мастеров из Царьграда
(рассказ о построении Успенского храма в
Киево-Печерском монастыре). Когда
Владимир Мономах рассказывает о своей
жизни, он говорит главным образом о своих
«путях», походах и связанных с большими
переездами охотах. Он стремится исчислить
все свои переезды, пребывания в разных
городах. Большая жизнь — это большие
переходы.
Повествование о своей жизни Владимир
Мономах начинает с первого его «пути» —
с 13 лет: «Первое к Ростову идох, сквозе
вятиче, посла мя о тец, а сам иде Курьску;
и пакы 2-е Смолиньску со Ставком с Гор-
дятичем, той пакы и отъиде к Берестию со
Изяславом, а мене посла Смолиньску то и-
Смолиньсяка идох Володимерю»37 и т. д.
Ощущение «птичьего полета», с которого
ведет летописец свое повествование,
увеличивается оттого, что без видимой
прагматической связи летописец часто объединяет
рассказ о различных событиях в различных
местах Русской земли. Он постоянно
переносится с места на место. Ему ничего не
стоит, кратко сообщив о событии в Киеве, в
следующей фразе сказать о событии в
Смоленске или Владимире. Для него не
существует расстояний. Во всяком случае, они не
мешают его повествованию.
«В лето 6619. Иде Святопълк, Влади-
91
Книга первая
мир, Давыд и вся земля просто Русская на
Половьце, и победита я, и възяшя дети их,
и город по Дънови Су ртов и Шаруканъ.
Тогда же погоре Подолье Кыеве, и Цьрни-
гов, и Смолньск, и Новъгород. Томь же
лете преставися Иоанн, епископ
черниговский. Томь же лете ходи Мьстислав на
Очелу»38.
Огромный событийный охват в
летописи находится в видимой связи с
отсутствием в ней ясной сюжетной линии.
Изложение переходит от одних событий к другим,
а вместе с тем и из одного географического
пункта в другой. В этом смешении
известий из разных мест с полной отчетливостью
выступает не только подъем религиозного
мышления над действительностью, но и
сознание единства Русской земли, единства,
которое в политической сфере было в это
время почти утрачено.
Русская земля летописи предстает перед
читателем как бы в виде географической
карты — средневековой, разумеется, в
которой города порой заменены их
символами — патрональными храмами, где о
Новгороде говорится как о Софии, о
Чернигове как о Спасе и т. д. Умом возносясь над
событиями, средневековый книжник
смотрит на страну как бы сверху. Вся Русская
земля вмещается в поле зрения автора. Вот,
например, описание Русской земли в
«Повести временных лет»: «Поляном же
жившим особе по горам сим, бе путь из Варяг
в Греки и из Грек по Днепру, и верх Днепра
волок до Ловоти, и по Ловоти внити в
Ылмерь, озеро великое, из него же озера
потечь Волхов и вътечеть в озеро великое
Нево, и того озера внидеть устье в море
Варяжьское. И по тому морю ити до Рима,
а от Рима прити по тому же морю ко Царю-
городу, а от Царя-города прити в Понт-
море, а не же втечет Днепр-река. Днепр бо
нотече из Оковьского леса, и потечь на
полъдне, а Двина ис того же леса потечет,
а идеть на полунощье и внидеть в море
Варяжьское»39. Существен «активный»
характер этой картины Русской земли. Она не
неподвижная карта — это описание
будущих действий исторических лиц, их «путей»
и сношений. Главный элемент описания —
речные пути, маршруты походов и
торговли, «маршруты событий», положения
Русской земли среди других стран мира.
Впечатление усиливается оттого, что перед этим
летописец дает описание мира, рассказывает
о расселении народов по всей земле.
Ощущение огромности всего мира, Русской
земли как части вселенной не покидает
летописца и в дальнейшем изложении.
Характерно, что и в «Слове о полку Иго-
реве» мы встречаемся с тем же
представлением о пространстве, что и во всех
остальных произведениях древнерусской
литературы. Место действия «Слова» — вся
Русская земля от Новгорода на севере до
Тмутаракани на юге, от Волги на востоке до
Угорских гор на западе.
Мир «Слова» — это большой мир
легкого, незатрудненного действа, мир
стремительно совершающихся событий,
разворачивающихся в огромном пространстве. Герои
«Слова» передвигаются с фантастической
быстротой и действуют почти без усилий.
Господствует точка зрения сверху (сравните
«поднятый горизонт» в древнерусских
миниатюрах и иконах). Автор видит русскую
землю как бы с огромной высоты,
охватывает мысленным взором огромные
пространства, как бы летает умом под облаками,
«рыщет через поля на горы».
В этом легчайшем из миров, как только
кони начнут ржать за Сулою, — слава
победы уже звенит в Киеве; трубы только
начнут звучать в Новгороде-Северском, как
стяги уже стоят в Путивле — войска
готовы к выступлению в поход. Девицы поют на
Дунае — голоса их вьются через море до
Киева (дорога от Дуная была морской).
Автор легко переносит повествование из
одной местности в другую. Слышен на
далеком пространстве и звон колоколов. Он
достигает Киева из Полоцка. И даже звук
стремени слышен в Чернигове из
Тмутаракани. Характерна быстрота, с которой
перемещаются действующие лица: звери и
птицы несутся, скачут, мчатся, перелетают
огромные пространства; люди волком «рыщут»
по полям, переносятся, повиснув на облаке,
парят орлами. Стоит сесть на коня, как уже
можно увидеть Дон, — точно не существует
многодневного и многотрудного перехода по
безводной степи. Князь может прилететь
«издалеча». Он может высоко парить,
«ширясь» на ветрах. Грозы его текут по землям.
92
Глава 3
С птицею сравнивается и птицей хочет
перелететь Ярославна. Воины легки, как
соколы и галки. Они живые шереширы —
стрелы. Герои не только с легкостью
передвигаются, но без усилий колют и рубят врагов.
Они сильны, как звери: туры, пардусы,
волки. Для курян нет трудностей и не
существует усилий. Они скачут с напряженными
луками (натянуть лук в скачке необычайно
трудно), у них «тулы отворены» и сабли
изострены. Они носятся в поле, как серые
волки. Им знакомы пути и яруги. Воины
Всеволода могут раскропить Волгу веслами
и вылить Дон шлемами.
Люди не только сильны, как звери, и
легки, как птицы, — все действия совершаются
в «Слове» без особого физического
напряжения, как бы сами собой. Ветры легко
несут стрелы. Только персты лягут на
струны, как те уже сами «рокочут» славу. В этой
обстановке легкости всякого действия
становятся возможны гиперболические
подвиги Всеволода буй тура.
«Легкость» пространства и среды в
«Слове» не во всем похожа на «легкость»
сказки. Она ближе к «легкости» иконы.
Пространство в «Слове» художественно
сокращено, «сгруппировано» и
символизировано. Люди реагируют на события массами,
народы действуют как единое целое: немцы,
венецианцы, греки и морава поют славу
Святославу и «кают» князя Игоря. Как
единое целое, как «купы» людей на иконах,
действуют в «Слове» готские красные девы,
половцы, дружина. Как на иконах, симво-
личны и эмблематичны действия князей.
Игорь пересел из золотого седла в седло
Кащея: этим символизируется его новое
состояние пленника. На реке на Каяле тьма
прикрывает свет — и этим символизируется
поражение. Отвлеченные понятия — горе,
обида, слова — персонифицируются и
материализуются, приобретают способность
действовать, как люди или живая и
неживая природа. Обида встает и вступает
девою на землю Трояню, плещет
лебедиными крылами, ложь пробуждается, и ее
усыпляют, веселие поникает, туга полоняет ум,
всходит по Русской земле, усобицы сеются
и растут, печаль течет, тоска разливается.
«Легкое» пространство соответствует
человечности окружающей природы. Все в
пространстве связано между собой не только
физически, но и эмоционально.
Природа сочувствует русским. В судьбах
русских людей принимают участие звери,
птицы, растения, реки, атмосферные явления
(грозы, ветры, облака). Солнце светит для
князя, ему же стонет ночь, предупреждая его
об опасности. Див кричит так, что его
слышат Волга, Поморье, Посулье, Сурож, Кор-
сунь и Тмутаракань. Трава никнет, дерево
преклоняется до земли с тугою.
Откликаются на события даже стены городов.
Этот прием характеристики событий и
выражения авторского отношения к ним
чрезвычайно характерен для «Слова»,
придает ему эмоциональность и вместе с тем
особую убедительность этой
эмоциональности. Это как бы апелляция к
окружающему: к людям, народам, к самой природе.
Эмоциональность, как бы не авторская, а
объективно существующая в окружающем,
«разлита» в пространстве, течет в нем.
Тем самым она не исходит от автора,
«эмоциональная перспектива» многоплано-
ва, как на иконах. Эмоциональность как бы
присуща самим событиям и самой природе.
Она насыщает собой все вокруг. Автор
выступает как сказитель объективно
существующей вне его эмоциональности.
Этого всего нет в сказке, но многое
подсказывается в «Слове» летописью и другими
произведениями древней русской
литературы.
С XVI в. восприятие географических
пространств в литературе постепенно
изменяется. Походы и переходы наполняются
путевыми впечатлениями и событиями,
описанием душевных переживаний, встреч,
духовной борьбы; мелкие события и
элементы быта начинают активно интересовать
книжника сами по себе, а не как символы
вневременных реальностей.
Наполняясь деталями, литературные
произведения позднего русского Средневековья
уже не рассматривают события с высоты
подъема религиозного мышления над
жизнью. В действительности становятся
различимы события мелкие и крупные, быт,
душевные движения. В литературе выступает
индивидуальный характер не только
отдельных людей, независимо от их положения в
иерархии феодального общества, но и инди-
93
Книга первая
видуальный характер отдельных местностей,
природы.
Художественное парение авторов над
действительностью становится более
медленным, более низким и более зорким к
деталям жизни.
Художественно-эстетическая специфика
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Яковлев В. А. К литературной истории
древнерусских сборников. Опыт исследования
«Измарагда». Одесса, 1893. С. 42.
2 Ключевский В. О. Курс русской истории.
Сочинения. Т. 2. М., 1957. С. 254.
3 См.: Толстой Н. И. К вопросу о древне-
славянском языке как общем литературном
языке южных и восточных славян // Вопросы
языковедения. 1961. № 1.
4 Абрамович Д. И. Жития св. мучеников
Бориса и Глеба и службы им // Памятники
древнерусской литературы. Вып. 2. Пг., 1916.
С. 10.
5 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе
Древней Руси. М, 1970. С. 108.
6 Житие Григория Синаита, составленное
константинопольским I Патриархом Каллистом.
Посмертный труд П. А. Сырку // Памятники
древней письменности и искусства. T. CLXII.
СПб., 1909. С. 5.
7 Цит. по изд.: Абрамович Д. И. Жития
святых мучеников Бориса и Глеба и службы им //
Памятники древнерусской литературы. Вып. 2.
Пг., 1916 (с указанием в скобках страницы).
» Цит. по изд.: ПЛДР. XIII век. М., 1981
(с указанием в скобках страницы).
9 Цит. по изд.: Житие святого Стефана,
епископа Пермского, написанное Епифанием
Премудрым. Подготовлено к печати В. Г.
Дружининым. СПб., 1897 (с указанием в скобках
страницы).
10 Томашевский Б. В. Теория литературы.
Поэтика. Л., 1927. С. 14.
11 Цит. по изд.: ПЛДР. XIV — середина
XV века. М., 1981 (с указанием в скобках
страницы).
12 Цит. по изд.: ПЛДР- XI — начало XII
века. М., 1978. С. 248 — 264.
13 Цит. по изд.: ПЛДР. XIV — середина
XV века. М., 1981 (с указанием в скобках
страницы).
м ТОДРЛ. Т. XI — XIII. 1955:
t5 Переписка Ивана Грозного с Андреем
Курбским. Текст подготовили Я. С. Лурье и
Ю.Д. Рыков. М., 1981. С. 18.
древнерусской литературы не сводится
только к затронутым здесь проблемам, но они
уже дают достаточно полное представление
о своеобразии русского средневекового
эстетического мировосприятия, нашедшего
отражение в многообразной продукции
древнерусских книжников.
16 Православный собеседник. 1859. Ч. 2.
С. ИЗ.
17 Здесь и далее цит. псалмы по изд.: Северь-
янова С. Синайская псалтырь. Глаголический
памятник XI века // Памятники
старославянского языка. Т. 4.
iß ПЛДР- XII век. М., 1980. С. 388.
19 Там же.
20 Там же. С. 392.
21 Там же.
22 ПЛДР- XII век. С. 392 — 394.
23 Розанов С. П. Материалы по истории
русских Пчел // Памятники древней
письменности и искусства. T. CLIV. СПб., 1904. С. 62.
24 Там же. С. 63.
23 Там же. С. 76.
26 Там же. С. 81.
27 Там же. С. 51.
28 См.: ПЛДР- XIV — середина XV века.
С. 418 — 420.
29 Яблонский В. Пахомий Серб и его
агиографические писания. СПб., 1908. Приложение.
С. X.
30 Розанов С. /7. Материалы по истории
русских Пчел. С. 64.
31 Там же. С. 40.
32 ПЛДР- XIII век. С. 80.
33 Ипатьевская летопись под 1201 г. //
Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871.
С. 4.
34 Памятники древнерусской
церковно-учительной литературы. Вып. I. Под ред. А. И.
Пономарева. СПб., 1894. С. 39.
33 См.: Лихачев Д. Принцип ансамбля в
древнерусской эстетике // Культура древней
Руси. М., 1966. С. 118 — 120.
36 Ипатьевская летопись под 1227 г. //
Летопись по Ипатьевскому списку. С. 501.
37 Поучение детям Владимира Мономаха.
Лаврентьевская летопись под 1097 г. // ПЛДР.
XI — начало XII века. С. 402.
38 Новгородская первая летопись старшего и
младшего изводов. М.; Л., 1950.
39 Повесть временных лет // ПЛДР. XI —
начало XII века. М., 1978.
Глава 4
Эстетика
древнерусского
ГОРОДА
1 ород был одним из
наиболее емких воплощений древнерусского
эстетического сознания во всей полноте его
прямых и опосредованных связей с
жизненными реалиями. Само понятие «город» имело
многогранное содержание. Оно могло
относиться собственно к стенам, ограждающим
поселение, вечевой или культовый центр,
монастырь и даже отдельный двор. И это
была его изначальная и неотъемлемая
смысловая основа. Но в понятие города
входило и само пространство, со всем его
заполнением, защищенное стенами. И не только
внутреннее, но и внешнее пространство,
окружавшее крепостные валы и стены, было
пространством города. Складываясь за
пределами городского ядра, посады и слободы
тем не менее принадлежали данному
городу и находились под его защитой. С
течением времени они тоже обносились более
или менее капитальными укреплениями и
получали название предградий или окольных
городов. Один город оказывался
составленным из двух, трех, четырех соподчиненных
городов. И вся широкая округа города, сама
земля, политическим и экономическим
центром которой он являлся, получала его
наименование и органически входила в общее
представление о нем.
Город был неразрывно связан с
природным окружением, как бы вырастал из него
и в то же время осваивал и покорял его в
интересах человека. Здесь возникала особая
архитектурно-природная среда, в которой
осуществлялся реальный контакт
противоположных начал: естественного и
искусственного, биологического и социального,
стихийного и волевого. Город был особым
социальным организмом, моделирующим в
себе основополагающие устои духовной и
материальной культуры средневекового
русского общества. Его идеальный образ,
который нельзя сводить к одним лишь
архитектурным моделям, имел теологическое
значение. Часто именно в градостроительных
терминах определялись средневековыми
богословами важнейшие христианские истины.
«Град Божий» Блаженного Августина
позволяет ощутить всю глубину и величие тех
мыслей и чувств, которые вкладывались в
этот образ. Конечно, простонародное
сознание неофитов, каковыми являлись в массе
своей люди Древней Руси, невозможно
приравнивать к сознанию образованнейшего
Отца Церкви, но его труд, как и труды
других богословов, необычайно ценен полнотой
выражения тех главных общемировоззрен-
ченских установок, которые действительно
стали владеть сознанием всего христианского
мира, невзирая на его неоднородность и
несовершенство.
Истоки древнерусской градостроительной
культуры восходят к далеким догосудар-
ственным и дохристианским временам, когда
строились в основном небольшие,
обнесенные земляными валами и деревянными
стенами поселения родовых общин, а также
городки-святилища, имевшие иногда по
нескольку колец валов относительно
правильной округлой формы. По большей части
славяне, как считают археологи, жили все же
в неукрепленных селах, вытянутых по
берегам рек и расположенных группами
поблизости от своего родоплеменного центра, уже
тогда называвшегося городом или градом.
Именно такие патриархальные центры по
мере образования древнерусского
государства превращались в подлинные города —
столицы целых областей. Во времена
Олега крупнейшими городами такого типа,
согласно сообщению «Повести временных
лет» под 907 г., были, кроме Киева,
Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Лю-
беч и «прочаа городы», где сидели «вели-
ции князи, под Олгом суще»1. В
дальнейшем на Руси укрепился, как известно, один
княжеский род Рюриковичей, а местная
родовая аристократия попала в положение
боярства.
В. Л. Яниным и М. X. Алешковским
выдвинута весьма убедительная гипотеза о
возникновении Новгорода на базе союза и
постепенного синойкиэма трех родовых
кланов, которые положили начало формирова-
95
Книга первая
нию главных новгородских «концов»2.
Более чем вероятно, что аналогичный процесс
протекал и в других древнерусских городах,
где долгое время еще сказывались вечевые
традиции общинного самоуправления3.
С укреплением Киевского государства
стало распространяться княжеское
строительство городов-крепостей, призванных
оборонять ответственные рубежи, а также
городов-резиденций, — центров личных
владений великого князя, — неких подобий
европейских пфальцев. Феодальное
дробление Руси стимулировало градостроительную
деятельность в княжеских вотчинах, где
начали все более настойчиво заявлять о себе
самодержавные тенденции. Все эти
типологические и многие более частные различия
древнерусских городов накладывали
отпечаток на структуру и индивидуальный облик
каждого из них. Но в принципиальных
основах своего построения все древнерусские
города представляли собой вполне
определенную общность. Их индивидуальные
особенности возникали как дань конкретному
месту и времени, но не были самоцелью
архитектурного творчества, для которого в
Средневековье гораздо более достойной
фундаментальной задачей было приобщение
к неизменным в своей Божественной
сущности, предустановленным архетипическим
образам.
Образ города прежде всего был связан
с идеей защиты, «оберега», если применить
языческий термин. Причем магическая сила
этого оберега должна была соединяться с его
реальной обороноспособностью. Земляные
валы, окружавшие города, создавали как бы
идеализированный образ горы. И недаром,
наверное, родственны сами слова «гора» и
«город». Город был священной горой,
неприступной твердыней. За его валами и
стенами нередко полностью скрывалась вся
застройка. Даже расположенный на низком
берегу Клещина (Плещеева) озера Переяс-
лавль-Залесский своими валами настолько
изолировал внутреннее пространство, что
заглянуть в него можно было лишь с
окрестных холмов. И только глава на высоком
барабане его Спасо-Преображенского
собора, возведенного Юрием Долгоруким в
1152 г., поднималась над укреплениями при
взгляде со стороны озера. Возможно, что
специально для этого храм был придвинут
к городским укреплениям, хотя он и
мыслился, несомненно, центральной доминантой.
Аналогичную тенденцию можно наблюдать
во многих древнерусских городах, где
соборы занимали наиболее выигрышные точки
в самом природном ландшафте, во всей
городской округе, несмотря на то, что их
прикрывали валы и стены, сооружавшиеся, как
правило, на самых бровках береговых круч.
И только в Московское время в связи с
коренными изменениями в
военно-фортификационной сфере крепостные стены стали
спускаться вниз, к подножиям городских
холмов, живописная застройка которых
получила возможность широкого
панорамного раскрытия, как это видно на главном
примере той новой эпохи — Московском
Кремле.
Монументальные архитектурные
доминанты стали появляться в русских городах,
как известно, с принятием христианства. Но
если архитектурные формы их целиком
ориентировались на византийские образцы
(хотя в них с самого начала проявились
своеобразные черты), то в градостроительном
отношении они преемственно развивали
весьма давние традиционные принципы
освоения ландшафта и определенного
знакового закрепления в нем ключевых
священных точек. Кощунственной может
показаться фраза о том, что христианские церкви
заменили собой языческих идолов, но с
градостроительной точки зрения это было
именно так, другое дело, что программное
строительство храмов на местах
разрушенных капищ означало коренное
преображение и всей Русской земли, и всей русской
культуры.
Дохристианские святилища могли
размещаться по-разному, очевидно, в
соответствии с функциями тех богов, которым они
посвящались. Были святилища не только на
взгорьях, но и в низинах, у рек, озер и даже
на болотах (например, лесные болотные
городища в древлянской земле, от которых
сохранились валы исключительно правильной
округлой формы). Пантеистическое
мировоззрение наделяло одушевленностью все
элементы природной среды, и не только
природной, но и рукотворной, вычлененной
из нее, но остающейся причастной к ней. Не
96
Глава 4
каждый культовый центр был желателен и
вообще возможен в городе, но без
покровительства богов город просто не мог
существовать, в нем обязательно должны были
быть святилища. Вполне понятно, что
главное святилище находилось в столице, и мы
знаем доподлинно о таком святилище,
созданном, а точнее, наверное, обновленном,
Владимиром Святославичем в 980 г. на са-
Валы одного из «болотных» городищ I тыс. н.э.
мой видной точке панорамы Киева. Восемью
годами позже вместо этого капища был
воздвигнут главный собор уже христианского
государства.
Таким образом, ядро города можно было
действительно назвать некой божьей горой,
священным убежищем и стражем своей
земли. К этому надо добавить, что языческое
мышление наделяло город, как и элементы
естественного ландшафта, зооморфными и
антропоморфными чертами, что можно
ощутить в некоторых дошедших до нас
топонимах. Так, горы имели «хребты», «макушки»,
иногда «лысые», «лбы», «бровки», «бока»,
«уступы», «подножия» и «подошвы»; реки
в своем течении делали «колена», встречали
«пороги», у них были «рукава» и «устья» (то
есть как бы «уста»). Образ поселения
вбирал в себя и по-своему развивал такие
представления. Сам город наделялся
богатырским образом. Его могучие армированные
бревенчатыми конструкциями валы и стены
с воинскими «забралами» гордо вздымались,
выгибаясь вперед, подобно «груди»
некоего сказочного исполина. Во всяком случае,
в Пскове стена на приступе, — она же
подпорная стена всего крепостного холма,
носила название «Перси» (или «Перши»), то
есть именно «Грудь» Пскова. Город мог
иметь и Лобное место, которое в Москве
XVI в. получило особую символическую
значимость, связанную с христианским
преданием, но кажется несомненным, что
семантические корни такого топонима уходят
в языческую славянскую древность,
поскольку вообще слово «лоб» и однокорен-
ные ему слова достаточно широко
использовались в народной
природно-географической лексике. Как бы позади себя город имел
«посад», а в нижней части, у реки,
—«подол».
«Одушевлялись» и отдельные строения, о
чем красноречиво свидетельствуют
традиционные наименования их конструктивных
элементов, например, в избе: «матица»,
«черепное» бревно, «самцы», «курицы», «шелом»,
«коник» и «конек». Очень важно, что в избе
всегда выделялся «перед» и «зад», ее «чело»
украшалось «причелинами» и «наличниками»,
обращенными к «улице», которая,
очевидно, понималась именно как пространство
перед «лицом» жилых зданий. Обращает на
себя внимание и близость слов «крыльцо»
и «крыло», тем более что крыльца было
принято пристраивать как раз к боковым
стенам изб, которые, возможно, когда-то в
древности уподоблялись волшебной птице
(ср. сказочный образ избушки «на курьих
ножках»). Изучение фольклора позволяет
говорить и о проведении в древности
аналогий между входным проемом и пастью
животного, через которую лежит путь в иной
мир4. Нельзя пройти мимо и того факта, что
определенными антропоморфными чертами
наделялись в Древней Руси и христианские
храмы с их «главами», покрытыми
«шлемами» (в домонгольский период очень
сходными по силуэту с реальными воинскими
шлемами) и поднятыми на высоких «шеях»,
с их подпоясанностью
аркатурно-колончатыми «поясами», с их часто на первых порах
суровыми, даже кряжистыми,
богатырскими (особенно если говорить о Новгородско-
псковских храмах XI — XII вв.), но все-
97
Книга первая
гда глубоко одухотворенными общими
формами. В образном строе этих храмов,
пожалуй, просто не могли не сплетаться и
переплавляться наиболее светлые идеалы родной
для русских людей раннеславянской
культуры и идеалы новой для них, уже
принятой, но еще мало познанной христианской
веры. Основания для наделения храма
антропоморфными чертами давало и
христианское учение, в котором содержатся, как
известно, символические сопоставления
Церкви (прежде всего как духовной
организации) с «Телом Христовым» и с
«Невестой Христовой». Сфера
образно-символических ассоциаций чрезвычайно сложна и
не переносит слишком прямолинейных и
однозначных интерпретаций. Поэтому нам
очень трудно догадываться о том, как на
самом деле мыслили ктиторы, зодчие, а тем
более простые жители древнерусских
городов. Но вряд ли можно сомневаться в
самом факте их образно-ассоциативного
мышления, которое наделяло и храмы, и терема,
и простые избы, и даже хозяйственные
постройки, а тем более города в целом,
весьма богатой, многослойной и многозначной
символичностью и одухотворенностью.
Раскрытию данной темы очень помогают
многие этнографические материалы.
Известны сказочные образы лучезарных городов
и дворцов «Тридесятого царства —
Тридевятого государства», но к ним стоит
обратиться позднее, при рассмотрении развитых
ансамблей царственной Москвы. Здесь же
хочется привести некоторые выспренние
характеристики самых простых,
основополагающих элементов города, какими они
представлялись в дошедших до нас заговорах.
Например: «Около нашего двора
Иисусова молитва, Николина ограда — тын
медный, ворота железны, аминем заперты, а на
хоромах святая вода»;5 «...обращается моя
пасека Николиною милостию железным
тыном, каменною стеною от земли до неба»;6
чтобы уберечь стадо, пастух просит
«небесных заступников и покровителей» помочь
ему «огороду ставить, оборону чинить на
милой скот». Эта «великая крепость» —
«стена железная, медная, каменная или
булатная» — должна быть непреодолимой: «в
тридесять сажен толщиной, в тридесять
сажен высотой», или же воображаемое укреп -
98
ление должно иметь «стену булатную до
самых небес и в глубину бездонную, вокруг
стены вал замляной, а кругом вала <...>
реку огненную». Другой пример заговора:
«<...> железные двери, ворота медные
около моего стада <...> за три поприща и три
версты от земли до неба во все четыре
стороны, от востока до запада, от юга до
севера, и покройте небом медным, и подведите
землю железную, в ширину и глубину на
тридевять локтей». Запоры у этого
укрепления должны быть «с огнем и пламенем и
великим дымом, и с непроходимыми
искрами»7. При этом, что характерно, совершая
заговор или «отпуск», как его называли,
достаточно было лишь обойти вокруг стада или
опоясать стадо начертанным на земле
кругом и установить в качестве ворот для
загона скота две срубленные березы со
связанными верхушками, укрепив на них
иконы.
Реально существовавшие городские
стены и ограды дворов расценивались, надо
думать, как архитектурные знаки именно
таких магических образов. Отсюда
становятся понятными те мотивы, по которым
средневековые авторы в своих характеристиках
отдельных сооружений и целых городов
были склонны к гиперболам. Понятно и то,
что при такой постановке вопроса каждый
элемент древнерусского города получал
большие потенциальные возможности
художественного обогащения и творческого
преобразования, сохраняя при этом неизменную
смысловую основу.
Древнейшие и присущие всем
первобытным народам традиции совершения
определенных ритуальных действий при закладке
города нашли свое преломление и в
христианской обрядности. В русских летописных
и актовых материалах не раз упоминаются
богослужения при закладке и при
окончании строительства городов, когда их стены
необходимо было освятить. До нас дошел
рукописный требник конца XVI в.,
содержащий «Чинъ и оустав како подобает ок-
ладывати град»8. Известен также требник,
изданный в середине XVII в. киевским
митрополитом Петром Могилой, в который
включены «Чин восследования основания
города» и «Чин благословения новосоору-
жаемого каменного или деревянного горо-
Глава 4
да»9. Город не мог защищаться одними
лишь стенами и рвами, его должна была
окружать Молитва и осенять Благодать
Божья. Для поддержания духовной
крепости города вокруг него периодически и в
экстренных ситуациях совершали также
крестные ходы.
Подобно стенам города торжественно
освящались и «оклады» отдельных зданий,
в первую очередь культовых. Храм, дом и
город имели некое внутреннее родство,
общую универсальную символическую основу.
Это были не столько взаимодополняющие
части одного целого (они могли
существовать и независимо друг от друга), сколько
разные формы воплощения Макрокосма в
Микрокосме. Крепостное ядро города
можно было, таким образом, сопоставить со
зданием, с неким архитектурным
монументом, иногда очень пластичным,
доминирующим над подвластной ему территорией. С
наибольшей силой выразительности эта
грань образа древнерусских городов
запечатлелась в их детинцах. Приведем в качестве
примера Псков, где детинец,
называвшийся Кромом, располагался на скалистом мысу
при впадении р. Псковы в р. Великую и
представлял собой грозную крепость,
отрезанную от посада рвом —«Греблей» (куда
обращались его «Перси») и, казалось бы,
противопоставленную ему, наподобие
западноевропейского феодального замка. Но во
Пскове это был вечевой центр —«сердце»
и «страж» всех городских «концов» и всей
псковской земли10. Суровая неприступность
городского ядра адресовалась врагам. Для
хозяев оно было надежным убежищем,
«закромами», хранителем их святынь,
имущества и самих жизней. Нечто подобное
можно видеть и в других древнерусских
городах, где во время вражеских набегов
жители посадов и пригородных сел
затворялись в детинцах, а свои посадские дворы
зачастую сжигали собственными руками. В
детинцах или кремлях, как они стали
называться в Московское время, судя по
писцовым книгам XVI — XVII вв. и другим
источникам, находились именно «осадные»
дворы или дворы «для осадного сидения»,
пустовавшие в мирное время.
В детинце как бы сжимался,
концентрировался образ города. В принципе, он мог
стягиваться в точку, представая в виде
одного лишь архитектурного знака, в виде
башни — вежи (донжона). С особой
наглядностью это стягивание, свертывание
образа города (как и отдельного здания)
представлено в декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве Средневековья.
От архитектурного знака существовал
прямой переход к знаку чисто символическому,
Городище Слободка. Реконструкция
Г В. Борисевича
воплощаемому в богослужебной утвари,
предметах княжеского обихода, ювелирных
изделиях, а то и в простых бытовых вещах.
Но образ города мог и растягиваться,
разворачиваться, распространяясь на все
большую и большую территорию. Его
пропорции при этом менялись до
неузнаваемости. Стены окольных городов бывали совсем
легкими, в XVI — XVII вв. их чаще
называли острогами, а не городами. Однако
образ города, редуцируясь, не исчезал все
же полностью никогда в пределах
человеческих поселений, где каждая жилая ячейка
имела свою «городьбу». И разве известный
обряд «опахивания селения»,
совершавшийся с целью защиты от нападения злых
духов, не делал это село умозрительно
соотносимым с городом? Понятие города было
связано не только с образом горы, но и с
99
Книга первая
идеей преграды, что, может быть, еще
важнее, хотя и то и другое — неразрывно
связанные по своей этимологии термины.
Выделение преград, границ даже очень
больших территорий наделяло их важнейшим
признаком определенности, измеримости, а
отсюда и освоенности, и уже давало намек
на зарождение в них градостроительного
образа. Идея города растворялась в природе
и в то же время, вычленяясь из природы,
она как бы обращалась к человеку,
постоянно сопровождая и «обрамляя»
всевозможные проявления его жизнедеятельности.
Можно сказать, что основополагающей
функцией архитектуры и градостроительства
было создание необходимых барьеров,
преград между разными пространствами —
«своим» и «чужим», освоенным человеком и
служащим ему, и внешним — неизвестным,
опасным и враждебным. Понятно почему в
таком случае столь большое внимание
уделялось точкам входов, воротам и дверям.
Древние римляне, например, ставили у
городских ворот статуи двуликого Януса —
посредника между мирами. В средневековой
Руси над воротами всегда или сооружались
церкви, или устанавливались в киотах
иконы. Часто также ставились церкви и часовни
рядом с воротами — для их духовной
защиты.
Однако нельзя упрощать и
абсолютизировать значение антиномии «свое — чужое»
в том смысле, что всегда существовали
разные степени освоенности и отчужденности
пространства, предметов и самих людей.
Детинцы и предградья русских городов
разделялись и в то же время были тесно
связаны между собой. Но и окрестные слободы,
и выгонные земли были «своими». И целое
княжество было «своим». Определенно
«чужой» мир находился за пределами Русской
земли, однако он тоже был в разной степени
освоен и познан. Особенно большую роль
в этом отношении сыграло приобщение Руси
к византийской ойкумене. Существовали
разные масштабы миров с разной степенью
замкнутости и влиятельности. Мир людей и
мир природы в разных степенях проникали
друг в друга. И каждый из них включал
в себя множество микромиров.
Существовала разветвленная субординация миров,
в которой противостояние «своего» и
«чужого» на каждой новой более высокой
ступени преодолевалось появлением
«общего»11.
Проходя через городские ворота, человек
попадал в разные по своей значимости
пространства. Вполне закономерно, что
пространство внутри детинца являлось самым
значимым и самым священным. Оно было
очень неоднородным и в пределах одной
крупной городской зоны, поскольку в этой
Изображения монастырей на иконах XVII в.:
а) Псково-Печерского, б) Тихвинского. Прориси
зоне располагались разные по значимости
объекты. Доминирующее положение
детинца оказывалось все же неабсолютным, ткань
города имела полицентрическую структуру
100
Глава 4
со сложной многоступенчатой системой
субординации. Особенно это касалось
крупных городов, которые и возникали на базе
целых гнездовий поселений, и в дальнейшем,
в пору своего расцвета, включали в себя
сразу много притягательных в
градостроительном отношении точек: храмов, княжеских
дворов, позже, в централизованном
государстве, — административных учреждений,
дальних подступах к городам, где они иногда
становились «сторожами» — передовыми
форпостами, говоря языком другой эпохи.
Стены монастырей могли приобретать
крепостной характер. В XVI — XVII вв.
такие монастыри получили весьма заметное,
если не ведущее положение в ансамблях
городов. По сути дела, это были города в
городах, о чем прямо писал, например, барон
Стены и башни Спасо-Ефимиева монастыря
в Суздале
приказов, различного рода подворий и
конечно же торгов, которые возникали и в
центре города, и у ворот, и у пристаней, и
на верхних посадах.
Исключительно большое значение
приобрели с течением времени монастыри,
располагавшиеся как вдали от городов, так и в их
центрах, и среди посадов, и на ближних и
Герберштейн, посещавший Московию в
первой половине XVI в. Превращаясь в
крупных феодальных собственников, монастыри
становились в определенном смысле
конкурентами городов, в ряде случаев они
оказывались на положении градообразующего
ядра, то есть начинали играть роль
детинца или кремля нового города, посады
которого формировались из монастырских
слобод. Так возник город Троице-Сергиев
Посад. А в Ярославле, например, Спасо-
101
Книга первая
Преображенский монастырь, примкнувший
непосредственно к валам Земляного
города — основной посадской территории, —
принял на себя значение кремля, тогда как
древнее крепостное ядро — детинец,
называвшийся здесь «Рубленый город», в
XVI — XVII вв. это свое исконное
значение потерял. Хорошо укрепленный
каменными стенами монастырь стал фактической
цитаделью всего города, которую сами
горожане прозвали кремлем.
Архитектурно-пространственная
неоднородность городской среды во многом
обусловливалась социальным расслоением
древнерусского общества. И эта ее
неоднородность, а отсюда и выразительность,
контрастность все более нарастала со временем, по
мере развития государственности. Однако
структурная основа развивавшейся
социальной иерархии сохраняла свою стабильность,
будучи глубоко укорененной в традициях
родового строя. Строгий порядок
соподчинения братьев по старшинству и
устанавливаемая в зависимости от этого очередность
наследования отцовского места, сложные, но
поддающиеся расчету отношения между
племянниками и дядьями, двоюродными
братьями, внуками и правнуками — все это
распространялось на каждую семью, и
крестьянскую, и боярскую, и княжескую. Это
распространялось и на статус, а вслед за тем
и на самый облик, масштабы и богатство
городов, поступавших во владение разным
отпрыскам единого, но все более
разветвлявшегося рода Рюриковичей (позже к нему
добавился род Гедиминовичей, что еще
более усложнило феодально-иерархические или
местнические, как их называли в княжеско-
боярской среде, отношения). Различные
жизненные ситуации, как известно,
приводили к нарушениям, иногда вероломным,
такого традиционного иерархического
порядка. Но нарушения всегда оставались
нарушениями, а идеальный порядок родовых
отношений оставался незыблемым из века в
век. И только в период образования
централизованного Московского государства у
братьев великого князя — царя было
узурпировано право наследования престола в
пользу старшего сына последнего.
Думается, что во многом своеобразие исторического
пути развития русской культуры, и в том
102
Глава 4
ИЕРАРХИЯ
ДРЕВНЕРУССКИХ
ГОРОДОВ И ИХ
ГЛАВНЫХ ХРАМОВ
(В СРАВНЕНИИ
С КОНСТАНТИНОПОЛЕМ)
1 КИЕВ
2 ПЕРЕЯСЛАВЛЬ
3 ОВРУЧ
4 ЧЕРНИГОВ
5 ЛУКОМЛЬ
6 ВЩИЖ
7 ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
8 ПСКОВ
9 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
10 ВЛАДИМИР
И ПЕРЕЯСЛАВЛЬ.
ЗАЛЕССКИЙ
12 ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ
Иерархия древнерусских городов и их главных
соборов в сравнении с Константинополем
(схема автора)
103
Книга первая
числе русского градостроительства, можно
объяснить особенно долгим сохранением на
Руси господствующего положения
патриархально-родового уклада жизни и поздним в
сравнении с Европой переходом к системе
майората.
Традиционная социальная иерархия
пронизывала собой структуру каждого посада,
где выделялись отдельные «концы»,
слободы и сотни, отдельные улицы, тоже
представлявшие собой определенную общину
(известны «уличанские сходы»). Причем
каждая община отнюдь не была однородным
целым — в ней была своя внутренняя
субординация. Приоритеты везде,
естественно, принадлежали родовой знати. «Лучшие
люди» города составляли особую группу, из
которой выбирались старейшины, тысяцкие,
посадники. Вторая категория горожан так и
называлась: «середние», ниже стояли «мо-
лодшие» и «худые». В самом низу
социальной лестницы находились смерды и холопы.
При этом определенного социального
зонирования территории города практически не
существовало, коль скоро в каждой
общине были представлены одновременно все или
почти все категории жителей, которых
объединяли родственные узы, соседская
круговая порука или отношения личной
зависимости. Социальное и имущественное
неравенство горожан с естественной
непосредственностью должно было сказываться на
характере застройки посадов, где между
богатыми многообъемными теремами знати и
приземистыми полуземлянками смердов
несомненно существовал резкий контраст, но
существовали также и многие переходные,
промежуточные по своему иерархическому
положению звенья, смягчавшие этот
контраст и превращавшие его в иную систему
композиционных отношений.
Важно отметить, что не простое наличие
тех или иных реальных экономических
возможностей владельца определяло
назначение величины и степени
архитектурно-художественного богатства его постройки.
Определяющим было истинное, признанное
положение этого владельца на ступенях
социальной иерархии. Гораздо важнее были
престижные соображения, соблюдение эти-
кетности, нежели прямое отражение
преходящего материального состояния человека12.
Впрочем, материальное состояние человека
не могло быть слишком переменчивым, оно
непременно должно было быть
соответствующим статусу этого человека. Обычай
требовал от боярина строить богатые хоромы,
потому что ему не пристало жить в халупе.
Но сколько бы ни старался холоп скопить
средств, тот же могущественный обычай ни
в коем случае не позволил бы ему зажить
по-боярски. И только в канун перехода к
Новому времени, заметнее всего в XVII в.,
началось разрушение устоев такой
иерархической предустановленности.
Идея иерархии занимала, как известно,
важнейшее место и в христианской
картине мира, где она получила глубокое
теологическое истолкование, прежде всего в
трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита. Земная
социальная (а значит, и
архитектурно-градостроительная) иерархия оказывалась,
таким образом, встроенной в новую
глобальную мировоззренческую систему, коренным
образом, хотя и не сразу, преобразившую
существо языческих родоплеменных
традиций. Монотеистическая вера принесла с
собой стабильность духовных приоритетов.
В любом взаимодействии противостоящих
сил преимущество стало отдаваться одной
стороне, связанной с благом, понятым в
качестве абсолюта: добро и зло перестали быть
категориями переменчивыми в зависимости
от ситуации. В картине мира была
обретена единая точка опоры и точка отсчета, одно
направление движения — к Всевышнему.
Она стала предельно стройной и в то же
время насквозь проникнутой динамикой.
Как писал А. И. Бриллиантов, анализируя
учение Псевдо-Дионисия, «совершенного
равенства нет даже между отдельными
индивидуумами, даже во внутренней жизни
индивидуума должно быть различие между
отдельными силами. Этим богоустановлен-
ным порядком отношений разумных существ
обусловливается гармония мирового бытия
в стремлении всех к единой цели»13.
Идеально-иерархическая картина мира как бы
накладывалась на реально
формировавшуюся феодальную иерархию, освящала собой
порядок мирских отношений, всего
государственного устройства. С течением времени
менялась значимость отдельных городов и
земель, единая Киевская держава дроби-
104
Глава 4
лась, росли новые княжеские центры,
однако идея государственного устройства была
неизменна. Возрождение единого Русского
государства и его укрепление в XIV —
XVII вв. шло в направлении,
предопределенном самим ее внутренним смыслом —
устремленностью к завершенной
пирамидальной структуре.
Для культуры Древней Руси существенно
то, что эта идеальная картина
мироустройства в главных своих чертах была
привнесена в «готовом виде» из Византии.
Посредством этой картины, в которой сама
Византийская империя вплоть до ее
падения в XV в. занимала центральное место,
и осуществлялось духовное приобщение
Руси к восточнохристианскому миру.
Ключевая роль в этом отношении
принадлежала церковной иерархии, учрежденной на
Руси как одной из митрополий
константинопольской патриархии. Церковная
субординация приводилась в соответствие со
светской, а затем становилась сдерживающим
началом в каких-либо перераспределениях
статусов городов в масштабе целого
государства (хотя, как показывает история, такие
перераспределения были все же
неизбежны).
С наибольшей определенностью эту
субординацию выразили собой главные
соборы древнерусских городов. Крупнейшие
соборы домонгольской Руси были возведены
в великокняжеском и митрополичьем
Киеве. Вторые по величине княжеские и
епископские соборы появились в Новгороде,
Чернигове, Полоцке, а несколько
позднее — в Ростове, Суздале, Владимире-
на-Клязьме, Владимире-Волынском,
Галиче. Города меньшего значения,
отдававшиеся во владение младшим князьям (или куда
направлялись княжеские наместники),
получали соответственно более скромные храмы.
Например, собор Переяславля-Залесского
получил такую величину, какую в
великокняжеских столицах придавали лишь
второстепенным посадским и дворцовым церквам.
Естественно, что и сами города в
соответствии со своим положением в общей
иерархической системе имели разные
величины, разные степени богатства и
композиционной сложности. Малые городки часто
имели укрепленным один лишь детинец,
тогда как более крупные города получали по
нескольку предградий и гораздо большее
число архитектурных доминант. По своей
территории в пределах стен такие города,
как Киев, Чернигов, Новгород, в XII —
XIII вв. достигли более 200 га, Владимир-
на-Клязьме — 80 га, Переяславль-Залес-
ский — 30 га, а такие, как Юрьев-
Польской или Дмитров, — менее 10 га.
Русские города на миниатюре из Лицевого
летописного свода XVI в.
«Подудельный» по отношению к
Чернигову Вщиж, состоявший из детинца и пред-
градья, по общей площади равнялся
одному лишь черниговскому детинцу.
При всем том на Руси не было такого
105
Книга первая
резко выделяющегося по своим масштабам
города, как Константинополь, и такого
храма, как Константинопольская София,
которая могла почти полностью вместить под
свой купол Софию Киевскую. На Руси не
было империи, и русские города, также как
и сидевшие в них князья, соподчинялись
между собой по принципу старшинства.
Примерно то же можно сказать и о
сосланы .московских храмов в общем масштабе
в наложении (от большего к меньшему):
Успенский собор. Архангельский собор, собор
Вознесенского монастыря. Благовещенский собор,
церковь Ризоположения. Справа: фронтиспис
Юрьевского евангелия. XII в.
отношениях храмовых построек в пределах
одного древнерусского города. Как
показывает сопоставление в общем масштабе
разных по значимости храмов в целом ряде
городов, главные соборы в них всегда имели
размерное превосходство над всеми
остальными. Вторым по величине был княжеский
родовой храм или храм наиболее
почитаемого монастыря. Далее по нисходящей шли
великокняжеские дворцовые и посадские
приходские церкви. Совсем миниатюрными
могли быть домовые церкви, а также
придельные церкви и часовни, в большом
числе строившиеся и в городах, и в
пригородах, и в селах.
Масштаб доминирующих построек в
городе нарастал, таким образом, от
второстепенного к главному, от периферии к
центру. С большой выразительностью этот
принцип запечатлелся, например, в Киеве, где на
подступах к Софийскому собору со
стороны Золотых ворот были возведены три
подобные ему, но меньшие по размерам
храма, оттенившие его масштабное
превосходство в ансамбле «города Ярослава». По
существу, тот же принцип масштабного
выделения ядра архитектурной композиции,
вызывающий эффект «обратной
перспективы», был свойствен и построению
отдельных зданий, тех же храмов, центральная
глава которых всегда делалась крупнее
боковых.
Наиболее крупные храмы получали
самостоятельные, большие по своему охвату зоны
пространственного влияния. В русском
городе домонгольской поры ощущался спокой-
106
Глава 4
ный, размеренный ритм расположения
архитектурных доминант. В Киеве «город
Владимира» имел свою доминанту —
Десятинную церковь, «город Ярослава» —
свою — Софийский собор, на Подоле
выделялась церковь Богородицы Пирогощей, в
окрестностях, на значительных расстояниях
друг от друга, возвышались монастырские
соборы. Не менее характерен пример Нов-
Силуэты храмов Московского Кремля в
наложении (по мере нарастания): церковь Ризо-
положения, соборы Благовещенский,
Архангельский, Успенский (схема автора)
города с его цепочкой крупномасштабных
храмов, вытянутой вдоль течения Волхова.
Показательна в этом отношении и
композиционная структура древнего Владимира.
Конечно, концентрация архитектурных
доминант нарастала к центру, но она не
сопровождалась слишком резкими
качественными изменениями самого характера
остававшейся достаточно дробной
объемно-пространственной структуры городского ансамбля. И
только в Москве начала XVI в. в
результате перестройки и укрупнения старых
церквей и палат возникло новое по своему
качеству уплотненное и относительно
уравновешенное пространство Соборной площади,
объединившее собой ведущие сооружения
города. Но приходится констатировать, что
даже здесь, в Москве, где стало
утверждаться монархическое начало, новый
главный собор решено было соорудить всего
лишь на 1,5 сажени большим по длине,
ширине и высоте, чем его образец —
Успенский собор Владимира. Причем, как
видно из сопоставления московского и
владимирского соборов, их алтари, а
соответственно и центральные подкупольные
пространства, были приравнены друг другу, что,
судя по всему, регламентировалось
церковными властями. И все другие кремлевские
соборы хотя и возросли по габаритам, но тем
107
Книга первая
не менее образовали вполне традиционную
систему соподчинения, в которой Успенский
собор совсем ненамного превзошел
великокняжеский храм — усыпальницу Михаила
Архангела.
Сравнение планов кремлевских соборов
показывает, что они последовательно
отличались друг от друга на удвоенную
толщину стены, то есть могли быть как бы
«вписаны» один в другой (внешние габариты
меньших из них оказывались
соответствующими интерьерным размерам больших).
Обращает на себя внимание также
определенное соответствие по общим размерам и
высоте расположения центральных глав
меньших церквей боковым главам церквей
больших. Силуэт Архангельского собора
вместе с центральной главой графически
накладывается на очертания малых глав
Успенского собора. Малые же главы
Архангельского собора находят себе соответствие
в центральной главе Благовещенского
собора. Были, наверное, в Кремле и церкви,
соответствовавшие масштабу боковых глав
Благовещенского собора! Церковь Ризопо-
ложения находит свой масштабный аналог в
придельных церквах, сооруженных над
папертью Благовещенского собора во второй
половине XVI в. Благодаря такого рода
размерным соотношениям в ансамбле
Московского Кремля достигался особый
эстетический эффект плавного нарастания масштабов
родственных по своим общим формам
архитектурных сооружений от второстепенных к
главному. Меньшие главы соборов играли
роль связующих звеньев в этой
иерархической последовательности. Вообще, подобные
и разномасштабные главы, парившие над
городом, имели большое самостоятельное
значение и, вызывая определенные
ассоциации со звоном разноголосых колоколов, во
многом способствовали созданию как бы
пульсирующего и вместе с тем
исключительно целостного архитектурного ансамбля.
В отмеченных соотношениях размеров
построек не было скрупулезной точности,
поскольку и очень близкие по формам
здания, возводившиеся по одному образцу,
всегда имели различия в пропорциональном
строе. Однако, безусловно, существовало
принципиальное соответствие масштабов
зданий их значимости.
Это соответствие могло нарушаться в
процессе развития города или отдельного
ансамбля, но вслед за тем появлялось
стремление к его восстановлению. Так, например,
возрастание значимости Троице-Сергиева
монастыря в середине XVI в. привело к
тому, что его белокаменный собор начала
XV в. оказался слишком скромным по
размерам. Иван Грозный заложил новый, очень
крупный, Успенский собор, который взял на
себя роль объемной доминанты, отвечающей
по масштабу и всей заметно выросшей
территории монастыря.
Однако вопрос о соответствии величин
построек их значимости нельзя упрощать. С
одной стороны, для древнерусского
мышления было свойственно установление прямого
соответствия между понятиями «большой»
и «старший», «благой», «красивый».
Характеризуя стиль «монументального
историзма», свойственный искусству домонгольской
Руси, Д. С. Лихачев писал, что для этого
стиля «все наиболее красивое представляется
большим, монументальным,
величественным»14. Подобный вывод на другом, более
108
Глава 4
позднем материале сделал в свое время и
И. Е. Забелин: «<...> вышина жилища в
первое время должна была выражать и
первичное понятие даже о его красоте. Что
было высоко, то необходимо само по себе
было уже красиво»15.
С другой стороны, в том же Троице-Сер-
гиевом монастыре при всех закономерных
изменениях градостроительной ситуации ста-
Меры могли получать особую священную
значимость, как, например, пояс Шимона,
использовавшийся при закладке Великой
Успенской церкви Киево-Печерской лавры,
или мера Гроба Господня, привезенная в
Москву для осуществления великих
строительных замыслов Бориса Годунова. В
принципе каждый объект должен был
измеряться подобающей ему мерой16. О мно-
Структурные схемы древнерусских городов:
а) Севск, 6) Суздаль
рый малый собор сохранил все же за собой
значение главного идеологического центра.
Если говорить о священной значимости, то
придется признать, что она могла
запечатлеваться в совсем небольших сооружениях,
моделях, отличавшихся особой,
символически окрашенной иллюзорностью.
Применительно к изделиям из драгоценных
материалов была уместна известная поговорка:
«Мал золотник, да дорог». Сам
богослужебный ритуал как бы указывал на то, что путь
к высшим духовным ценностям пролегает
через физически малые, но занимающие
особое место в духовном искусстве
Средневековья священные знаки (хотя при прочих
равных условиях величины самих этих
знаков тоже все-таки впрямую соотносились с
их важностью).
Величина, таким образом, могла
восприниматься неоднозначно, в разных шкалах
ценностей. Это отражалось и в системе
использования мер длины в древнерусском
зодчестве и градостроительстве. Среди
множества одновременно бытовавших в Древней
Руси мер выделялись большие, средние,
малые. Были меры «великие городовые» и
простые «дворовые», «лавочные» и проч.
гом говорит известное по материалам
XVI — XVII вв., но, судя по всему,
традиционное наделение земельной меры —
десятины — различными значениями в
зависимости от качества земли и статуса ее
владельца17.
Можно думать, что с аналогичных
позиций в древнерусских городах оценивалась
величина отдельных территорий. Получалось
так, что наибольшую фактическую площадь
занимали как раз второстепенные,
окраинные части городов, но они всегда оставались
«меньшими» по своему существу, по
своему статусу «городами», окружались менее
высокими стенами и заключали в себе
преимущественно мелкомасштабную застройку
(хотя в ней могли быть самые разные
вкрапления). С другой стороны, соборные и
торговые площади, монастыри, расположенные
в центральных частях города, занимали, как
правило, меньшую территорию, чем на
периферии, а тем более в сельской
местности. Протяженное, очевидно, не было
синонимом большого. «Большие» улицы
древнерусских городов выделялись в первую
очередь функциональной значимостью,
шириной и крупными сооружениями, тогда
как не имевшие транзитного значения,
узкие, плохо замощенные улицы, как бы
протяженны они ни были, оставались в поня-
109
Книга первая
тиях людей того времени «малыми». Очень
важным критерием при этом было
ощущение ширины, просторности. Понятие
тесноты наполнялось негативным смыслом,
ассоциировалось с темнотой, тоской и
жизненными бедами18. Но тем не менее
бескрайние просторы загородных полей и лугов
имели совсем не ту значимость, что
соборная площадь или главная улица плотно
застроенного городского центра. По мере
приближения к центру города, к главному
храму реальное «земное» пространство
сокращалось, зато увеличивалось иное,
«освященное» пространство.
Сложная пространственная структура
древнерусского города обусловливалась,
таким образом, с одной стороны, разномасш-
табностью, дробностью застройки, которая
никогда не сливалась в сплошной массив, а
с другой — различной функциональной и
идейно-символической значимостью
городских участков.
Иерархическая соподчиненность
различных элементов древнерусского города
запечатлевалась не только в их разномерности,
но и в самом характере интерпретации их
архитектурных форм, в степени
достигавшегося в них совершенства, величественности
и красоты. Архитектурно-декоративное
богатство боярских и княжеских (а тем более
царских) теремов с большой
выразительностью демонстрировало цель восхождения по
ступеням феодальной иерархии. Таков был
исконный общенародный, фольклорный
идеал красоты и величия, богатства и изобилия.
Но существовал и принципиально иной,
аскетический взгляд на совершенство как на
результат отречения от многого ради
достижения единого, великого в своей простоте.
Хорошо видное на примерах Владимира и
Москвы различие в трактовке
кафедрального и придворного великокняжеского соборов,
первого — величественного в своей
сдержанности, второго — поражающего
великолепием убранства, позволяет говорить о
намеренной детерминации символов двух
властей — духовной и светской,
объединившихся в центре города. И все же на
практике, конечно, идеальная простота,
лаконичность, завершенность, совершенство и
богатство, лепота и украшенность (означавшая
в летописных текстах прежде всего
насыщенность храма богослужебной утварью)
были взаимодополняющими понятиями.
Уровень строительной техники, тонкость
декора, художественные качества фресок,
икон, изделий декоративно-прикладного
искусства и вместе с тем наполненность всей
этой великой «церковной красотой» — вот
что отличало большой почитаемый собор от
бедной приходской церкви, где эта великая
красота присутствовала как бы в свернутом
виде, лишь обозначалась, но не
раскрывалась вполне. А в принципе и самый
великолепный вселенский собор мыслился все же
лишь отблеском, намеком на вышнюю
неизреченную красоту. Сияние красоты — это
сияние Славы Божьей, и стремление к
передаче этого сияния в каждом произведении
искусства, в большей или меньшей мере,
можно считать стержнем всего
художественного творчества средневековой Руси.
Относительная значимость каждой
постройки отражалась и в ее положении в
городском пространстве. Понятно, что
наиболее почетное место отводилось главному
собору города. Конечно, выбор места для
строительства храма не мог определяться
одними лишь условиями зрительного
восприятия, одной лишь формальной красотой
панорамных раскрытий. Важнее были
сакральные критерии этого выбора, как об этом
повествует, например, Киево-Печерский
патерик, где содержится примечательный
ответ Антония на вопрос мастеров «Где
хотите строить церковь?» —«Там, где
Господь укажет место <...> Будем молиться
три дня, и Господь укажет нам место
<...>»19. Красота при этом мыслилась как
нечто неразрывно связанное с сакральной
сущностью.
Менее значительные храмы тоже
занимали часто весьма выразительные,
ключевые точки в архитектурно-природном
ландшафте города, однако главному собору,
естественно, принадлежал приоритет в этом
отношении. Если главный собор
рассчитывался на весь город, на всю землю
княжества, то малые храмы имели меньшие
пространственные ареалы своего воздействия на
окружение. Миниатюрная церковь Ризопо-
ложения в Московском Кремле, зажатая
между объемами Грановитой палаты и
Успенского собора, имеет вокруг себя, в отли-
110
Глава 4
чие от последнего, совсем небольшую
пространственную зону, и это вполне
сообразуется с ее локальной значимостью домового
храма.
Как в городе в целом, так и в масштабе
отдельного двора всегда выделялось главное,
парадное пространство, куда выходило
Красное крыльцо, пространства менее
значимые и, наконец, пространство за домом,
Изображение Московского Кремля и части
Замоскворечья на миниатюре из Лицевого
летописного свода. XVI в.
на «задах», которое и на самой богатой
усадьбе вполне могло оставаться
неукрашенным и неприбранным.
Переднее, лучшее, должно было занимать
и наиболее высокое место, хотя бы в
фигуральном смысле слова. По мере
возможности относительная высота расположения на
рельефе местности действительно служила
определенным критерием значимости
соответствующего участка и занятого им
объекта. Здесь важно учесть, что по
средневековым представлениям пространство
претерпевает качественные изменения в
вертикальном направлении, соответственно иерархии
небесных сфер20. Такие представления
объясняют и то особое внимание, которое
уделяли древнерусские зодчие развитию
архитектурной композиции по вертикали,
выразительности силуэта здания, прежде всего
церковного, наглядно воплощавшего в
своих формах идею постепенного восхождения
от земли (параллелепипед основного
объема) — к небу (сферы сводов и куполов).
Как отдельные постройки, так и
ансамбли древнерусских городов в целом
содержали в себе вполне определенную
последовательно выраженную устремленность в
вертикальном направлении. Перепады рельефа
при этом образовывали своего рода
многоступенчатый подиум в основании городского
ансамбля. Движение от сельской округи к
воротам предградий, далее к детинцу и,
наконец, к его средоточию — главному
храму города — мыслилось как
последовательное восхождение от низших степеней
земного бытия к высшим. Оно было
сопоставимо по своей сути с устремлением от
западной, входной, части христианского храма
к восточной, алтарной. Движение по
горизонтали с запада на восток здесь означало
одновременно и движение снизу вверх, от
мира дольнего к горнему. В символическом
срезе это было именно так, в реальной же,
подверженной случайностям и изменениям
градостроительной структуре могло
получаться по-разному, но первое было
существеннее второго и обязательно так или
иначе должно было накладывать на него
свой отпечаток.
Конечно, существовало множество
различных факторов, влиявших на конкретные
градостроительные решения. Но все же
тенденция к соподчинению архитектурных и
градостроительных элементов по высоте их
расположения может быть прослежена
практически в каждом древнерусском городе. И
даже при очевидных нарушениях должных,
с иерархической точки зрения, соотношений
высот расположения территорий детинца и
посада (что иногда происходило при
расширении города), последний все равно
воспринимался как более низкая ступень в
иерархии городских зон. Важно учесть еще и то,
что к постановке разных по значимости
архитектурных объектов проявлялось далеко
не одинаковое внимание. Если для княжес-
111
Книга первая
кого терема, а тем более для главного
храма место выбиралось с особым тщанием, в
расчете на максимальный эстетический
эффект, то для постройки рядовой такой
проблемы почти не существовало, выбор
места для нее был несравненно шире, менее
ответственен, и он в большей степени
определялся чисто утилитарными
соображениями.
Понятно, что при размещении новых
сооружений учитывался отнюдь не только
природный рельеф, но и вся уже
сложившаяся к тому времени
архитектурно-пространственная среда. Многое, очевидно,
зависело от того, на какую улицу выходила
данная усадьба — на большую, проезжую,
или на малую, местного значения, в
переулок или тупик. Кстати, большие улицы и
дороги тоже тяготели к наиболее высоким
участкам местности, к водоразделам. При
определении значимости участка важна была
степень близости его к детинцу, храмам и
монастырям, городским воротам, торгам,
пристаням, а также и к усадьбам «сильных
мира сего».
Однако такая зависимость соседних
элементов друг от друга, как бы прямые
«горизонтальные» связи в реальном городском
пространстве в условиях христианизации и
феодализации Руси стали ослабевать и
разрушаться. Феодализм способствовал авто-
номизации отдельных земель, городов,
дворов, как бы «разрыхлению» всей системы
государственного и общественного
устройства. Но еще важнее для нашей темы учесть
разрушение языческой системы ценностей,
жестких взаимопроникающих
причинно-следственных связей, в плену которых находилась
прежде вся жизнь человека. С
утверждением христианства древнерусская культура в
целом и градостроительная культура в
частности, получила особую духовность, «воспа-
ренность» над бренными узами земной
жизни. Людские взоры стали все более
обращаться к миру горнему. Каждый элемент
города стал приобретать особую образно-
символическую наполненность,
соответствующую его мыслимому положению в
объективно-идеалистической картине целого.
Связи между отдельными элементами
оказывались все более относительными,
умозрительно-опосредованными. При этом
представления об идеальной структуре города не
становились слишком жестким сковывающим
началом в сложении и развитии реальной
градостроительной ситуации. Абсолютная
гармония мыслилась недостижимой на Земле.
Даже храм — «земное небо» получал
неоднородную сложносоподчиненную
внутреннюю структуру. Ведущее положение
заняла идея восхождения по степеням
совершенства от низшего к высшему. Сама
проблема единства с приходом христианства
зазвучала по-новому, как некое приобщение
всех многообразных проявлений земного
мира к Творцу, трансцендентному по
отношению к этому миру и скрывающему в себе
глубинную суть проблемы объединения
разного в одном, то есть проблемы гармонии.
Отсюда явствует, что проблема
гармонизации в произведениях искусства неизбежно
должна была уйти из сферы специальных
профессионально-аналитических интересов,
недаром Василий Великий указывал, что
существует «закон искусства», но этот
закон «неудобопостижим» для разума21.
Конечно, в архитектурно-строительной и
другой ремесленной практике могли
использоваться многие апробированные навыки и
приемы композиционного мастерства, однако
безусловный приоритет был теперь на
стороне творческой интуиции, богодухновенно-
сти, несущей с собой в акте творчества
сокровенные качества Божественной гармонии.
В этой апелляции к молитвенному чувству
и озарению был залог тех великих
творческих достижений, которыми преисполнено
средневековое и в том числе древнерусское
искусство.
Эти самые общие положения
необходимо всегда иметь в виду при анализе
конкретных архитектурных и градостроительных
памятников. Думается, что опирающийся на
эти положения дедуктивный подход к
анализу может помочь раскрытию в отдельных
памятниках наиболее существенных сторон
древнерусских градостроительных традиций,
относившихся к самому образу мыслей,
менталитету людей того времени.
Как было показано выше, каждое здание
и сооружение в древнерусском городе
должно было иметь «подобающие» ему форму и
величину и занимать подобающее ему
место. Но важно отметить, что в этих трех
112
Глава 4
важнейших характеристиках не было прямой
причинно-следственной
взаимообусловленности. Местоположение постройки
определялось не только ее формой и величиной,
последняя диктовалась отнюдь не чисто
формальными композиционными
соображениями, а форма, если говорить о ее
исходной идее, не рождалась на месте, она была
дана свыше. Но и первое, и второе, и
третье оказывалось в соответствии, имея один
общий и главный определитель —
значимость, существо предмета.
Только с учетом этого можно
рассматривать проблему сочетания разнотипных
архитектурных элементов в древнерусском
городе. Каждый элемент имел свой смысл и свой
предустановленный архетипический образ,
так что на принципиальном уровне говорить
о взаимообусловленности оказавшихся в
близком соседстве архитектурных форм
храма, избы, крепостной стены неправомерно.
Их взаимосвязанность была чем-то
вторичным, можно сказать, поверхностным,
вызванным соображениями практического
порядка, в частности, необходимостью
разместиться в границах отведенного участка,
обеспечить доступ ко входу в здание,
устроить переходы из одной постройки в
другую и т. п. (также и в лесу каждое
дерево, как бы ему ни приходилось
приспосабливаться к конкретной ситуации, всегда
все-таки сохраняет свою генетическую
определенность). Это была как бы
механическая «притирка» здания с его заранее
известной общей формой к месту. Ее значение
для градостроительного искусства Древней
Руси было огромным, но в то же время ее
нельзя и переоценивать. Нас по праву
может восхищать неповторимо живописная
композиция построек различного
назначения, складывавшаяся на усадьбе какого-либо
горожанина, однако для современников эта
композиция не была самоцелью — она во
многом возникала непроизвольно. В самом
деле, однотипные бревенчатые клети, как
известно, могли рубиться загодя,
продаваться на торгу, переноситься с места на место
и образовывать в совокупности более или
менее сложные комбинации, смотря по
потребностям и возможностям владельца.
Предустановленные, универсальные в
своей основе архитектурные формы как бы
накладывались на разную градостроительную
ситуацию и лишь впоследствии оказывались
неотъемлемыми частями этой ситуации. Оси
храмов ориентировались по странам света,
хотя условия местности и вносили свои
коррективы в такую «вселенскую» ориентацию.
В большинстве древнерусских храмовых
ансамблей обращает на себя внимание не-
параллельность осей построек, нежесткость
их планировочных взаимосвязей. По самой
своей идее церковные постройки и не
должны были рождаться на месте, они были
«не от мира сего», другое дело, что,
попадая в сей мир, они становились
важнейшими ориентирами в нем.
Имея умозрительно единый исходный
образ, все храмы были связаны подобием
своих общих форм. В меру своего
достоинства меньшие храмы уподоблялись большим,
местные святыни ориентировались на
общерусские, а через них и — на
общехристианские. Летописи и другие произведения
древнерусской литературы ярко
свидетельствуют о том, что мысленно человек
Древней Руси легко переносился из города в
город, из одного места в другое; он ощущал
Русскую землю как единое целое и
протягивал умозрительные нити от нее и к
столице Византийской империи, и к
памятникам Святой Земли. Более того,
спрессовывая не только расстояния, но и время, он
включал ее в контекст мировой истории,
проводя параллели между современностью
и легендарными событиями прошлого22.
Христианская религия с ее каждодневным
обращением к Священной истории активно
содействовала укоренению таких взглядов в
широких слоях населения.
Древний Киев с его Софийским собором
и Золотыми воротами уподоблялся в
известной мере Константинополю, а на Киев
как на образец, в свою очередь,
ориентировались и Новгород, и Полоцк, и Владимир,
и Нижний Новгород, и многие другие
города. Эта ориентация на «матерь городов
русских» носила весьма условный
ассоциативный характер, чаще всего она
выражалась лишь в заимствовании отдельных
храмовых посвящений, топонимов и
гидронимов. Особую роль в развитии древнерусской
архитектуры и градостроительства такого
рода ассоциации и символические паралле-
113
Книга первая
ли сыграли в период возвышения Москвы,
которая стала претендовать на роль Третьего
Рима и Нового Иерусалима. Другими
словами, древнерусский город через посредство
отдельных особо значимых архитектурных
образов и символов включался в общую
умозрительно стройную картину
мироздания, становился частью христианского мира.
При этом черты его местного своеобразия,
столь ценимые нами, с этой точки зрения
оказывались малосущественными. Можно
сказать, что принцип подобия или образной
соотнесенности был неотъемлемым и
важнейшим признаком всей средневековой
иерархической системы ценностей в целом,
осуществлявшим необходимую связность ее
звеньев.
Застройка древнерусского города
представляла собой некое сплетение ряда
устойчивых, пронизанных внутренним подобием
типологических цепочек или ветвей,
главными из которых были три, отвечавшие
функциям жилища, обороны и духовного
спасения. Истинное единение всех этих ветвей
одного древа могло мыслиться только в
Боге, только в идее Горнего Града, который
есть одновременно и вышнее жилище, и
крепость, и «Святая Святых».
В реальном городском пространстве
последовательная соподчиненность
прочитывалась только между однотипными,
сопоставимыми постройками. Разнотипные здания
и сооружения, как уже отмечалось,
образовывали часто совершенно непроизвольные и
непредсказуемые сочетания. В
многочисленных примерах сочетания дробной жилой
застройки, протяженных крепостных стен и
тяготеющих к центричности пластически
выразительных храмов можно искать и находить
богатые эстетические эффекты точно так же,
как и в естественной природе, но в
большинстве случаев в них не приходится видеть
результатов целенаправленного применения
профессионально осознанных принципов и
средств архитектурно-пространственной
композиции, рассчитанной на определенную
точку зрения, найденной раз навсегда. Всякая
постройка оценивалась не по случайному
положению в объемно-пространственной
среде города, а по самому своему существу,
по внутреннему смыслу и, исходя прежде
всего из этого, занимала соответствующее
место в последовательно
разворачивавшейся цепи духовных ценностей. Восприятие
городской среды не могло быть формально-
композиционным, в нем всегда был
содержательный, духовный, религиозный
подтекст.
Каждый завершенный архитектурный
элемент города как бы говорил сам за себя,
будучи воплощением определенного
предустановленного образа. Самое понятие
образа, занимавшее, как известно, центральное
место в средневековой эстетике,
предопределяло взгляд на каждый такой элемент как
на единое, неделимое целое (в отличие от
античности и Нового времени, когда
творческая мысль художников и архитекторов
сосредотачивалась именно на составлении
гармоничного целого из разнородных,
несамостоятельных частей). Как небесная, так и
земная иерархия строилась на соотнесении
образов, понижающихся в своем значении
по мере нисхождения по ступеням «мировой
лестницы», но всегда несущих в себе в
большей или меньшей степени отблеск
архетипа. Так, например, образ жилого дома мог
воплощаться и в виде княжеского терема, и
в виде крестьянской избы, хижины, шалаша,
наконец, конуры, скворечника... Но это в
любом случае был все же дом с полом,
стенами и крышей. Ибо разъятие этих
составных частей означало бы разрушение самой
идеи дома. Уже в неоплатонизме, во многом
предопределившем становление
средневековой теологии, «парменидо-платоновское
учение о Едином» получило «форму
доказательства неделимой единичности как каждой
вещи, так и мира в целом»23.
Последовательное упрощение исходного образа могло
приводить к сохранению от него лишь одного
наиболее яркого элемента, но этот элемент
оставался символическим носителем идеи
целого. Вот почему уподобление одних
зданий и городов другим нередко выражалось
в заимствовании только отдельных их
частей — как бы эмблем целого.
Город оказывался вместилищем
множества целостных архитектурных единиц иного
порядка, неких «микрокосмов»,
заключенных в «макрокосме». Уместно припомнить
в этой связи русскую пословицу: «Двор что
город, изба что терем». Такие
архитектурные единицы не составляли город как не-
114
Глава 4
делимое целое, а как бы жили (подобно и
самим людям) в пределах города,
определенным образом взаимодействуя между собой
и с целым. Город мог богатеть и насыщаться
постройками, мог и лишаться значительной
части своего архитектурного наполнения (как
и жителей), но он всегда оставался городом,
пока существовали его стены, сохранялось
его имя, была жива его идея. Тут важно
учитывать ту особую эмоциональность, с
которой воспринималась городская среда
людьми Древней Руси, что
иллюстрируется многими текстами. Приведем в качестве
примера описание Москвы после Тохтамы-
шева разорения: «И бяше дотоле преже ви-
дети была Москва град велик, град чюден,
град многочеловечен, в нем же множество
людий, в нем же множество господьства, в
нем же множество всякого узорочья. И
пакы въ единомъ часе изменися видение его,
егда взят бысть, и посеченъ, и пожженъ, и
видети его нечего, разве токмо земля, и
персть, и прах, и пепел, и трупиа мертвых
многа лежаща, и святыа церкви стояще акы
разорены, акы осиротевши, акы овдовевши.
Плачется церкви о чядех церковных, паче
же о избьеных, яко маТере о чадех плачю-
щися <...> Церкви стоаше, не имущи
лепоты, ни красоты»24. Главными
архитектурными объектами в городе были конечно
же храмы. Поэтому, кстати, могли
делаться такие изображения города, на которых
практически полностью опускалась жилая
застройка и оставлялись лишь стены и
церкви.
Таким образом, взаимоотношения
архитектурных и градостроительных объектов,
обладавших различными степенями
значимости и располагавшихся в разных
типологических рядах, были сложными, иногда
прямыми, но чаще косвенными и
отдаленными. И само подобие архитектурных форм
проявлялось по-разному, тоже в разных
степенях — от буквального сходства близких по
значимости однотипных построек — до
условных, ассоциативных связей разнородных
зданий и градостроительных комплексов
через посредство вышестоящих, более общих и
универсальных образов. Степени такого
подобия — это степени близости к идеалу,
Богу, который и был в Средневековье
«мерой всех вещей».
В общей картине мира образная
структура города должна была пониматься как
предустановленная «высшая реальность»
(ср. философский термин «средневековый
реализм»). Она не создавалась человеком
каждый раз заново из конкретных зданий
и сооружений, а, неизменно существуя в
своей умозрительной исходной идее, лишь
как бы проявляла себя через них в данном
месте, в меру реальных возможностей.
Отсюда и характерное для древнерусского
зодчества и градостроительства отсутствие
индивидуалистичности как принципа, при
бесконечном разнообразии конкретных
решений. Своеобразие отдельного
произведения архитектуры и целого города говорило
лишь о частном характере проявления общей
идеи. Такой строй мысли и порождал
бесконечную повторяемость одних и тех же
канонизированных форм и градостроительных
схем. Это было именно повторение одного
и того же в различной интерпретации с
целью выражения общего для множества
сооружений исходного образа, который и
позволял умозрительно связывать городской
ансамбль в единую стройную систему.
Духовно-символические основы
формирования древнерусских городов не
противоречили рациональным, но находились с ними
в естественном единстве: ведь и сами
реальные потребности в строительстве были
неоднозначны. Они могли быть чисто
утилитарными, и в таком случае сооружение,
очевидно, строилось максимально практичным.
Но существовали потребности в создании
более сложных, высоких по своему
предназначению объектов, таких как жилые
терема, в которых постановка на участке,
организованность внутреннего пространства и
самой архитектурной формы играли уже
весьма существенную роль. И наконец,
храмы, обладая высшей духовной
функцией, являлись предметом наибольшего
художественно-эстетического внимания. То есть
в древнерусском городе запечатлевались
разные градации самого эстетического
качества. Гармония композиционной структуры
была в принципе относительной (поэтому
поиски абсолютных геометрических и
метрических закономерностей в ней
бесперспективны). Системность композиции
городского ансамбля была образной, а потому неже-
115
Книга первая
сткой, обладающей большими степенями
свободы.
Взаимодействие различных построек в
древнерусском городе было очень активным.
Создаваясь на основе внутренне
присущего ему содержания, каждое сооружение
получало самостоятельное бытие, особую
одушевленность. Субъективный взгляд на
городской ансамбль не имел большого
организующего значения в творчестве мастеров,
которые строили и украшали каждое здание
как своего рода живое существо, объективно
существующее, «смотрящее» вокруг,
«переговаривающееся» и соразмеряющееся со
своими соседями. Поэтому привязка к
месту, «притирка» между собой зданий и
сооружений при всей ее относительности и
непринципиальности с точки зрения
«генетических» основ формообразования, о чем
говорилось выше, имела все же большое
эстетическое значение для формирования
конкретных ансамблей или просто фрагментов
городской среды. Иерархия зданий
выявлялась именно в ансамбле, по мере их
восприятия. Но, подобно древнерусской фреске
или иконе, городской ансамбль имел
весьма многослойную иерархию самих точек
зрения, каждая из которых отвечала
своему объекту восприятия. Человек здесь не
был сторонним наблюдателем, он включался
в эту образно-насыщенную архитектурно-
природную среду, испытывая на себе ее
неоднородность, как бы «перескакивал» из
пространства в пространство, из одного
качественного состояния в другое.
Архитектура вела его за собой. В этом — сила
эстетического воздействия древнерусских
ансамблей.
При всей многоплановости и
многогранности архитектурно-художественной
структуры древнерусского города в ней ощущался
некий внутренний идеальный стержень,
собирающий все воедино. Ведь и все
многообразие окружающего человека мира
мыслилось в Средневековье как высвечивание
разных граней единой творческой воли Бога,
величие которого определялось как всеимян-
ность и одновременно — безымянность, то
есть невыразимость никакими словами. Все
понятия и образы, раздельные и даже
несопоставимые в мире дольнем, в конечном
счете в мире горнем сведутся к одному
безмерно общему, великому и простому.
Разными архитектурными формами, так же, как
и в литературе — словами, выражалось
одно и то же содержание, многообразие и
многословие призвано было полнее передать
истинный и вечный смысл Творения.
Это в равной мере распространялось и на
все другие виды искусства, роднило их
между собой и составляло смысловое ядро их
взаимодействия и синтеза. Архитектурные
формы построек разного назначения, иконы,
фрески, книжные иллюстрации,
богослужебные предметы и бытовая утварь,
праздничные и повседневные одежды, сами ткани
разных расцветок и качеств, декоративная
орнаментика — все это внешне было
весьма и весьма разнообразным и, что очень
важно, достаточно открытым для введения
новшеств, прямых и опосредованных
заимствований, которые могли бы в глазах
людей того времени еще полнее и лучше
выразить их представления о красоте и благе.
Стилистическое единство и
художественный синтез произведений разных видов и
жанров искусства достигались лишь в
особых условиях, там, где существовало
наиболее активное, идейно насыщенное поле, как,
например, в храмовом действе или в
дворцовом церемониале. Хотя и здесь
гармонизация разнородных элементов была
качественно иной, нежели в искусстве
Нового времени. Эту мысль помогает понять, в
частности, совершенно особый музыкальный
строй древнерусского «демественного»
пения, исполнявшегося в торжественных
случаях и содержавшего в себе не только
гармоничное (в классическом смысле), но и
диссонансное звучание голосов, ведущих
одновременно несколько тем. По словам
исследователей, демественный распев
сформировался под влиянием «какофонии»
укоренившегося в церковном богослужении
«многогласия», означавшего «одновременное
чтение и пение в храме несколькими
лицами различных богослужебных текстов,
совершенно „не благозвучное", диссонансное
и вообще непонятное с точки зрения
упорядоченности, характерной для современного
гармонического строя музыки»25.
Древнерусский город был насквозь
проникнут движением разных по своей
эмоциональной окрашенности архитектурных форм
116
Глава 4
и пространств. Начало тому коренилось в
эмоциональности, с которой воспринимались
в Древней Руси сами природные элементы,
среди которых возникал и жил город: горы
вздымались, реки текли, ветры дули, дороги
вели путника в определенном направлении,
городские валы защищали своих жителей,
ворота пропускали друзей и закрывали путь
врагам, храмы освящали собой землю,
прославляя и защищая ее. Вся архитектурно -
природная среда была охвачена плотной
сетью функциональных, зрительных и
умозрительных связей. Важны были не только
связи между соседствующими зданиями, но
и связи между далеко отстоящими друг от
друга объектами, важно было и общее
движение от свободного пространства природы
к замкнутому пространству детинца, от
внешнего пространства к внутреннему,
через ряд городских ворот к дверям собора и,
наконец, — к Царским вратам алтаря,
мысленно уводящим взоры молящихся к вратам
Небесного Града. Гармония
древнерусского города была динамической, означающей
не застывшее равновесие его ансамбля как
строго сбалансированного целого, а в
большей мере его индуктивное сложение, его
становление как сложносоподчиненной
системы, в которой отдельные архитектурные и
градостроительные единицы распределялись
по разным заранее определенным
иерархическим градациям. Причем каждая часть
городской ткани была одновременно и
замкнута, поскольку представляла собой
целое, и раскрыта, так как включалась в
состав большего. И в целом город представ-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Повесть временных лет // Памятники
литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. XI — начало XII века. М., 1978. С. 44.
2 Янин В. Л., Алешковский М. X.
Происхождение Новгорода (к постановке проблемы)
// История СССР. № 2. 1971.
3 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки
социально-политической истории. Л., 1980.
4 Пропп В. Я. Исторические корни
волшебной сказки. Л., 1946. С. 267.
5 Цит. по кн.: Успенский Б. А.
Филологические разыскания в области славянских
древностей. М., 1982. С. 11.
лял собой завершенную, но в то же время
и открытую, способную к развитию
композиционную систему.
Постоянная соотнесенность городского
ансамбля с идеальной образной системой не
только давала возможность, но и вызывала
потребность в его развитии и
совершенствовании. «В совершенстве нельзя достичь
какого-либо конца»26 — эта
основополагающая для средневековой художественной
культуры мысль Григория Нисского
проливает свет на ту принципиальную
относительность гармонии ансамблей древнерусских
городов, о которой говорилось выше, и во
многом раскрывает средневековое
понимание проблемы их развития. Перестройка,
расширение и обновление старых
сооружений, в том числе и храмов, практически не
ограничивались и, можно сказать, даже
поощрялись, ибо понимались не как
нарушение исконной традиции, а именно как
следование ей, как средство ее поддержания.
Преемственность в развитии городов
базировалась не столько на сохранении реально
существующих построек, сколько на
постоянстве «предвечно» установленных
принципов и на стремлении к недостижимым в
своем совершенстве канонизированным
образам, что и обусловливало устойчивую
традиционность древнерусского зодчества и
градостроительства, сохранявшуюся на
протяжении веков, несмотря на весьма
активное в некоторые периоды
преобразование русских городов и проникновение на
русскую почву элементов иноземной
культуры.
6 Там же. С. 84.
7 Дурасое Г. П. Обряды, связанные с
обиходом скота в сельской общине Каргополья в
XIX — начале XX в. // Русские: семейный
и общественный быт. М., 1989. С. 271 — 275.
8 Алферова Г. В. Русские города XVI —
XVII веков. М-, 1989. С. 60.
9 Там же. С. 59.
10 Мокеев Г. Я. Столичный центр Пскова
конца XV в. // Архитектурное наследство. М.,
1976. № 24.
11 Подробнее см.: Бондаренко И. А. «Свое»,
«чужое» и «общее» в истории архитектуры //
117
Книга первая
Архитектура мира. Материалы конференции
«Запад — Восток: взаимодействие традиций в
архитектуре». Вып. 2. М., 1993. С. 179 — 182.
12 См.: Лихачев Д. С. Поэтика
древнерусской литературы. М., 1979. С. 80 — 102.
13 Бриллиантов А. И. Влияние восточного
богословия на западное в произведениях
Иоанна Скота Эригены. СПб., 1898. С. 173.
14 Лихачев Д. С. Величие древней литературы
// Памятники литературы Древней Руси. Начало
русской литературы XI — начало XII века. С. 9.
15 Забелин И. Е. Русское искусство. Черты
самобытности в древнерусском зодчестве. М.,
1900. С. 29.
16 См.: Бондаренко И. А. К вопросу об
использовании мер длины в древнерусском
зодчестве // Архитектурное наследство. М., 1988.
№ 36. С. 54 — 63.
17 См.: Шостьин И. А. Очерки истории
русской метрологии XI — XIX вв. М., 1975.
С. 61.
18 См.: Лихачев Д. С. Слово о полку Иго-
реве и культура его времени. Изд. 2-е, доп. Л.,
1985. С. 45.
19 Цит. по: Художественная проза Киевской
Руси XI — XIII вв. М., 1957. С. 176 — 177.
20 См.: Кузнецов Б. Г. Идеи и образы
Возрождения. М., 1979. С. 100 — 101.
21 Цит. по: Бычков В. В. Византийская
эстетика. М., 1977. С. 87.
22 См.: Лихачев Д. С. Поэтика
древнерусской литературы. С. 335 — 351.
23 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.,
1982. С. 90.
24 Цит. по: Прохоров Г. М. Памятники
переводной и русской литературы XIV — XV вв.
С. 147 — 148.
25 Гуляниикий Н. Ф. Колокол в
древнерусской архитектуре // Архитектурное наследство.
М., 1988. № 36. С. 73.
26 Цит. по кн.: Бычков В. В. Византийская
эстетика. С. 87.
Глава 5
Поэтика
архитектуры
н
1 Хачальныи, киевский
период развития нашего зодчества по
своему характеру является княжеским и
великокняжеским. Обычно формирование
какого-либо художественного явления проходит
естественные стадии зарождения, развития,
достижения совершенства. Особенность
древнерусского зодчества состоит в том, что
первые же его памятники оказались
грандиозными и роскошными, превосходящими
по своей сложности последующие
постройки. Храмы Киева, Чернигова, Новгорода
XI в. относятся к замечательным
произведениям не только русского, но и мирового
искусства. Два обстоятельства были тому
причиной. Первое связано со спецификой
общественного бытия Киевской Руси, в
которой принятие христианства и
сопутствующее этому каменное строительство были
определены как государственные
потребности княжеской средой. Великий князь и его
окружение выступили заказчиками первых
построек, отсюда их торжественность, це-
ремониальность, парадная зрелищность.
Другой причиной явилась высота
художественной традиции, легшей в основу
зодчества Киевской. Руси. Летописи сообщают
нам о приходе для строительства первых
киевских храмов греческих мастеров. Они
принесли с собой развитую строительную
технику и способы декорации, определили
распространение приемов и форм
замечательного искусства.
Византийское искусство, унаследовав
громадный опыт художественного развития
античности, выработало к X в. особый тип
храма, чья композиция и выразительность
стали образцами для архитектуры
Восточной Европы от Средиземноморья до
Балтики. В нем воплотилась идея храма как
космоса, объединяющего мир вышний и
земной с помощью особой организации
форм. Основой стало осеняющее
пространство движение сводов, сгруппированных
вокруг купола. Вознесенный, неподвижный
и недостижимый купол являлся всегда
истинным центром здания, все ритмическое,
круговращающееся движение арок и сводов
идет от него сверху вниз, имеет
спускающийся характер. Эта структура стала
основополагающей для русского искусства, на ее
основе были созданы оригинальные
высокохудожественные произведения.
Возведение первых русских построек
было делом государственной важности, что
определило особые требования заказчиков.
Использовался максимальный для
византийского искусства XI в. размер храма с
диаметром купола около 8 м, в храмах
устраивались просторные светлые хоры, на
которых, подражая обычаям
константинопольского императорского двора, находились
русские князья. Площадь зданий
увеличивалась галереями, одно- или двухэтажными,
придельными храмами, лестничными
башнями, усыпальницами, крещальнями.
Таким был первый храм, построенный в
991 — 996 годах — дворцовая церковь
Богородицы, или Десятинная, по
предоставленной ей князем Владимиром десятой
части княжеских доходов. Она была
разрушена в XIII столетии при захвате Киева
татарами. Но мы все же, благодаря
археологическим раскопкам, можем представить ее
как обширный храм с развитыми галереями
и хорами, завершавшийся 25 главами.
К Десятинной церкви композиционно
очень близок Спасо-Преображенский собор
в Чернигове, сооруженный в 1030-е годы.
Это — трехнефное крестовокупольное
здание с нартексом, увенчанное пятью главами.
Предназначавшиеся для князя хоры
расположены над нартексом и боковыми нефами,
двухъярусные структуры с трех сторон
окружают под купольное пространство и
открываются в него тройными аркадами. Эти
аркады представляют собой излюбленный в
античной и византийской архитектуре мотив
тройного триумфального прохода, хорошо
знакомого по триумфальным аркам. Они
придают интерьеру черниговского собора
праздничный, церемониальный характер.
Общая структура Спасского собора
оказывается очень близкой памятникам
византийской столицы, легко заметить ее
принципиальное тождество с композицией глав-
119
Книга первая
ного храма империи — св. Софии
Константинопольской. Ориентация на лучшие
произведения византийской культуры была
сознательной и сочеталась с гордым
желанием молодого государства стать вровень со
знаменитой империей.
Этим было продиктовано и посвящение
главных соборов крупнейших городов Руси,
Киева, Новгорода и Полоцка, — Софии
Премудрости Божией. В середине XI в. эти
три собора были перестроены в камне,
общность их посвящения была отмечена
типологическим композиционным единством.
Первым был возведен Софийский собор
в Киеве (1037 — 1040-е годы). Обычная
композиция крестовокупольного храма была
изменена прибавлением дополнительных
нефов, из-за чего образовалась неведомая
самой Византии грандиозная пятинефная
структура. Двухэтажные тройные аркады в
рукавах креста благодаря пятинефности
собора оказались отодвинутыми от подкуполь-
ного пространства, из-за чего ясно
обрисовался центральный пространственный крест.
Центрическое начало композиции оказалось
подчеркнутым, интерьер собора приобрел
особую торжественность и
уравновешенность. Традиционная трактовка храма как
особого космоса оказалась этим еще более
выявленной. Развитие ритмического
движения сверху, непрестанная перекличка гибких
очертаний придали организму собора
характер цельный и вместе с тем сложный. В
отличие от византийских построек формы
Киевской Софии оказались значительно
крупнее, телеснее, поэтому каноническая
идеальность и выверенность крестовокупольного
храма оказались усиленными особой триум-
фальностью, невольно ассоциирующейся с
могуществом молодого русского государства
и его великого князя.
Обширные хоры со светлыми одностолп-
ными залами выявили эту княжескую
предназначенность зримо и явственно. С идеей
небесного покровительства князю связано
посвящение боковых алтарей собора и
роспись его многочисленных куполов. В
центральном пространстве храма с
изображенной в апсиде «Евхаристией» перекликалась
располагавшаяся в западном рукаве ктитор-
екая композиция, на которой Ярослав
Мудрый во главе своего семейства подносил
модель возведенного по его заказу храма
Христу.
Для максимальной освещенности хоров
все своды над ними были заменены
световыми главами. Всего их (с центральной)
было тринадцать. Снаружи вместе с
галереями и лестничными башнями они
образовывали замечательную в своей сложности
и гармоничности пирамидальную
композицию. Хотя по сторонам центральных
сводов стены собора завершались прямыми
горизонтальными карнизами, из-за много-
главия силуэт здания казался таким же
гибким и цельным, как и его внутренняя
структура.
t По образцу Софии Киевской были
возведены Софийские соборы в Новгороде и
Полоцке. В эту же эпоху Киев не только
украсился новыми храмами, но и получил
новые крепостные укрепления с каменными
проездными башнями, главную среди
которых — Золотые ворота — увенчала
церковь Благовещения.
Строительство в период княжения
Ярослава Мудрого стало школой для русских
зодчих и временем образования артелей,
работавших во второй половине XI в.,
продолживших и завершивших период становления
древнерусского зодчества. Ими были
возведены монументальные соборы Печерского,
Выдубицкого, Михайловского монастырей,
великокняжеская церковь Спаса на
Берестове. Все они весьма индивидуальны по
своим формам, однако оригинальность
каждого из них основывается уже на
использовании нового общего типа
крестовокупольного храма.
В архитектуре Византии центральные
своды обычно поднимаются над более
низкими угловыми ячейками. Устройство
высоких светлых хоров в русских храмах привело
к тому, что угловые части здания были
повышены и их своды расположились на
одном уровне с центральными. В отличие от
уникальных пятинефных Софийских
соборов другие храмы второй половины XI в.,
следуя обычной традиции, — трехнефны.
Окон в стенах здания оказывается вполне
достаточно для освещения интерьера,
число световых глав резко уменьшается и
каноническим становится тип одноглавого
храма. Но русские зодчие сохранили гибкий
120
Глава 5
выразительный силуэт, свойственный
ранним многоглавым памятникам. Мастера
отказались от прямых горизонтальных
завершений стен, своды были как бы
спроецированными на фасады, где закомары
повторили их очертания и образовали волнистую
линию венчания (Борисоглебский собор в
Чернигове, 1120 — 1123 гг.).
Сформировавшийся таким образом тип
одноглавого трехнефного закомарного храма
стал основой развития для XII и
последующих столетий, сохраняя свое
доминирующее положение вплоть до XVIII в. В основе
он является цельным структурным
образованием, как бы полностью определяемым
логичным развитием самой идеи крестово-
купольного храма. Глава с расходящимися
от нее сводами образует многообразное и
эластичное сводчатое «небо», осеняющий
все пространство балдахин, а система
столбов, сводов и арок, перенесенная на
фасады, определяет расположение лопаток, ниш,
дверных и оконных проемов. Основа
выразительности архитектурных форм остается
прежней, каменная масса зрительно
трактуется как гибкая подвижная оболочка, даже
выделение столбов и лопаток не
превращает оставшуюся кладку в пассивную и
статическую поверхность, а воспринимается как
способность самой массы к превращению, к
утончению или выпуклому движению.
Прекрасным образцом подобного интерьера
может служить внутреннее пространство
Успенского собора Елецкого монастыря в
Чернигове (начало XII в.).
Эти храмы настолько выверены в своей
композиции и структурны, что какие-либо
особые принципы чисто зрительной
организации форм кажутся для них излишними.
Однако на самом деле облик этих храмов не
является простым следствием конструкции
и структуры, а воплощением концепции
художественной. Четыре или даже шесть
малых закомар подобных храмов становятся
декоративными, возводимыми лишь с целью
создания особой ритмической композиции.
Поиски новых вариантов завершений
храмов будут определять специфику
новаторских поисков и всех последующих
поколений русских зодчих. Закомарный храм есть
первый вариант подобного творчества, хотя
он сам быстро превратился в канон,
впоследствии даже противопоставлявшийся
созданию нового.
В XII в. вместе с разделением Руси на
удельные княжества начинается
формирование в каждом из них своих архитектурных
школ. Повсюду основополагающими
являются киевские традиции, используется тип
закомарного храма. В выдвигающемся на
ведущее место в политической и
общественной жизни Руси Владимиро-Суздальском
княжестве развитие зодчества начинается с
построек, которые кажутся прямым
усвоением киевских традиций, хотя перенесены
они были сюда из Галича, где определяли
художественную жизнь в первой половине
века.
Спасо-Преображенский собор (1152 —
1157) в Переславле-Залесском покоряет
монументальной простотой и силой,
преобладанием величавого ритма, исходящего от
главы, сверху. Уже в Галиче произошло
соприкосновение этого искусства с
художественной традицией романской архитектуры
Европы. Связанная с ней новая техника
кладки — белокаменная — в переславском
соборе имела следствием особую ясность и
укрупненность форм.
Развитие архитектуры
Владимиро-Суздальского княжества обусловливалось
княжескими заказами, и она очень быстро
приобретает стремление к грандиозному,
роскошному и утонченному. Золотые ворота и
Успенский собор во Владимире, дворец в
Боголюбове и церковь Покрова на Нер-
ли — эти постройки княжеской артели
1160-х годов украшают новую столицу
княжества и пригородную резиденцию Андрея
Боголюбского. Все они проникнуты
взволнованной динамикой. Она сказывается в
вертикальности пропорций храмов, в
энергичной моделировке форм. Эти черты
определяют облик и огромного Успенского
собора, и трогательно изящной церкви
Покрова.
Приглашенные Андреем Боголюбским
романские мастера принесли с собой
разработанную систему декорации фасадов —
полуколонками, тягами, многообломными
уступами, аркатурными и
аркатурно-колончатыми поясами. Эти элементы сообщили стилю
сложный и развитый характер, но не
изменили сложившейся к этому времени на Руси
121
Книга первая
выразительности зданий. Все они вписались
в гибкий круговой ритм закомарных
композиций. Показательному переосмысливанию
подвергся аркатурно-колончатый пояс. В
романских памятниках он обычно является
подобием внутристенных галерей и чаще всего
с ними и связан. Основанием для его
колонок служит общий профиль, как бы цоколь,
а колонки обрамляют арки или окна галерей.
Во владимирских памятниках появляется
«висящий» вариант пояса, когда общая
горизонтальная тяга основания отсутствует, колонки
как бы повисают от расположенных в
уровне пола хоров арочек, и даже консоли под
каждой из них есть как бы легкое
завершение этого зависания, а не опора. И хотя
аркатурно-колончатый пояс — излюбленная
форма в романских постройках, в таком виде
мы его нигде среди них не найдем.
К концу XII в. облик владимирских
храмов становится спокойнее и торжественнее.
Гармоническая уравновешенность
Дмитриевского собора (1193 — 1197 гг.)
напоминает строгость Спасо-Преображенского, но
соединяется уже с развитостью и роскошью
декорации. Сплошь заполняющая верхнюю
часть фасадов белокаменная резьба
придает храму драгоценный, придворный
характер, он и был дворцовой церковью
Всеволода.
В Дмитриевском соборе поражает
гармония, пропорциональная найденность всех
соотношений, свобода и покой совершенного
искусства. Тонкость и ясность форм
наполняет общую торжественную композицию
новыми настроениями — мягкостью,
открытостью, лиризмом.
Владимирское великокняжеское
искусство во многом продолжает традиции
Киевской Руси. Однако при всем совершенстве
этого зодчества не с ним оказались
связаны наиболее новаторские устремления в
архитектуре XII в. Они начались уже в
середине столетия и были продиктованы
желанием поднять центральную главу на особом
постаменте — либо декоративном, либо
образованным ступенчатым подъемом
основных сводов. Поначалу такой подъем не
изменял закомарную форму завершений
фасадов (Спасский собор в Полоцке), но затем
общая линия закомар сменилась подъемом
средней закомары и трехлопастной формой
венчания фасадов. Храмы приобрели особую
вертикальность, башнеобразность.
К концу XII в. подобные постройки
становятся распространенными в южных и
западных землях, а в начале XIII в. —
повсеместно. Прекрасным образцом могут
служить церкви Св. Параскевы Пятницы в
Чернигове и Св. Михаила Архангела в
Смоленске (конец XII столетия). Пронизанные
энергичным вертикальным ритмом, они во
многом кажутся порожденными уже иными,
в сравнении с закомарными храмами,
вкусами и стремлениями. Масса стены
лишается вещной аморфности, сами
поверхности стен становятся легкими и чистыми.
Членения фасадов приобретают характер
особого декора, ажурного и хрупкого, как бы
накладываемого на поверхности стен,
дробность декоративных элементов разрывает их
уподобление внутренней структуре здания.
Отточенность и правильность форм
свидетельствует о высоком художественном
уровне мастерства.
Изменяются и интерьеры церквей. Они
не только становятся пропорционально
выше, соответствующее наружному объему
ступенчатое построение основных сводов
привносит вертикальное движение,
начинающее преобразовывать выразительность
широкого осеняющего движения арок и
купола, свойственную византийской традиции.
Каноническая концепция крестовокупольно-
го храма — как совершенного, вечного, в
себе замкнутого космоса — кажется в
какой-то степени изменяемой деятельным,
активным формирующим началом.
Это направление свидетельствовало о
наступлении значительного нового этапа
развития зодчества, но именно оно, к
сожалению, понесло наибольший урон от
монголо-татарского нашествия. Его основные
творческие центры в западных и южных
землях были разгромлены, развитие
прекратилось, многие памятники были разрушены.
Особый путь прошло искусство в
Новгороде, единственной русской земле,
избежавшей в XIII в. разорения. В 1045 —
1050 гг. здесь был выстроен пятинефный
Софийский собор, один из центральных
памятников зодчества времен Киевской
Руси. Возникший по заказу Ярослава
Мудрого и имевший образцом Киевскую Софию,
122
Глава 5
он оказался весьма отличным от прототипа
по своей выразительности.
Он, как и киевский храм, имеет пятинеф-
ную композицию. Высота обоих зданий
одинакова, но плановые размеры Новгородской
Софии заметно меньше (диаметр
центрального купола около 6,3 м против 7,75 м).
Криволинейное движение арок и сводов
оказалось в какой-то мере преобразованным
прямым вертикальным движением
многочисленных лопаток, стен и столбов, придавших
общей композиции мощь и динамику.
Собор окружили широкие двухэтажные
галереи, скрывшие высокий объем самого
храма в общей массивной композиции.
Вместо сложного многоглавого венчания
киевского прототипа новгородский собор
завершили поставленные почти на одном уровне
пять глав. Еще одна мощная глава
лестничной башни могла бы сделать композицию не
только асимметричной, но и
неуравновешенной. Однако суровая эпичность и
монументальность объема, симметричность
восточного фасада придали целому непререкаемое
единство.
Эти же идеалы оказались близки
новгородским зодчим начала XII в., возводившим
соборы на княжеских дворах в самом
городе (Николо-Дворищенский собор, 1113 г.)
и около него (церковь Благовещения на
Городище, 1103 г.), в княжеском Юрьевом
монастыре (Георгиевский собор, 1119 г.).
Все они были созданы по типу закомарно-
го храма, структурность их форм, хоры,
лестничные башни, главы (пять — на
Никольском соборе, три — на Георгиевском)
исполнены в традициях XI в.
Среди них особенно замечателен
Георгиевский собор. Это трехнефный храм, чей
масштаб и даже размеры в пределах трех
нефов не уступают Св. Софии. Он
обладает удивительной отчетливостью и
развитостью внутреннего пространственного
решения, грандиозностью, эпической силой
наружного облика.
Тесная связь с традициями Киевской
Руси, объяснимая и установившимся в это
время наследованием киевского престола от
отца (киевского князя) к старшему сыну
(новгородскому князю), могла бы
предопределить в Новгороде развитие княжеской
культуры. Однако социально-политическая
эволюция города привела в 1130-е годы к
своеобразной революции, лишившей князя
прежней власти и выдвинувшей на первое
место боярское самоуправление. Зодчие,
строившие прежде для князя, теперь
возводят храмы по заказам архиепископа, бояр,
купцов, уличан. Новые здания значительно
меньше по размерам, они обладают
новыми композиционными особенностями и
собственным образным строем.
Новые черты в архитектуре проявились
при возведении по заказу князя Всеволода
и архиепископа Нифонта
Спасо-Преображенского собора Спасо-Мирожского
монастыря во Пскове (около ИЗО г.). Его
композиция характерна для византийской
архитектуры середины XII в., однако в русском
искусстве она возникла впервые. Небольшой
крестовокупольный храм (сторона под
купольного квадрата 4,5 м) не имеет внутри
столбов, угловые ячейки его отделены от
четко обрисованного пространственного
креста стенами с небольшими арочными
проходами. В нем нет преувеличенной
высотности, движение форм спокойно и властно
распространяется от осеняющего интерьер
купола. Динамика и торжественность
княжеской культуры уступают место глубокой
сосредоточенности религиозного чувства.
В дальнейшем развитии подобные
постройки приобретают отпечаток вкусов
более демократической и ремесленной среды,
классическим образцом подобного
искусства стала церковь Спаса Преображения на
Нередице в Новгороде (1198 г.). Из-за
небольших размеров здания лопатки на
фасадах выглядят преувеличенно массивными и
тяжелыми, скорее следующими неровной
поверхности стены, нежели организующими ее.
Вещность, инертная природа кладки
сделались ощутимыми, заменили
целенаправленность формообразования ранних княжеских
построек. Уменьшившиеся и нерегулярно
расположенные окна содействуют
впечатлению доминирования массы и неуловимости,
иррациональности масштаба, хотя и
сохраняют в небольшом здании традиционное для
Новгорода стремление к грандиозному.
Каноническая выверенность позакомарно-
го завершения позволяет сохранить
композиционную цельность храма, объединить
целое ритмикой движения главы и закомар.
123
Книга первая
Искусство, почти готовое стать архаическим
и грубым, благодаря традиции удерживает
стремление к идеальной ритмической
одухотворенности, гармонии. Эта
двойственность выражения стихийного и
целенаправленного надолго станет характерной для
памятников XIII — XV вв.
Новое настроение создается и в
интерьере храма. Плотность, массивность стен
сочетается с отсутствием структурной
определенности, с непредугадываемостью развития
форм. Однако спокойная застылость
объемов, отсутствие в них напряженности
лишают движение форм какого-либо
угрожающего, тревожного характера. Освещение
остается равномерным, хотя и теряет
прежнюю изобильность. Оболочка здания
ощущается теперь как плотный покров, защита
внутреннего пространства, исполненного
покоя и внутреннего сосредоточения.
«Космологическая» интерпретация храма, бывшая
ведущей в XI в., сохраняется теперь скорее
символически: пространство храма
становится менее зрелищным и более камерным.
Прежде торжественные хоры распадаются
на небольшие помещения.
Подобные изменения стоят в прямой
связи с распространением христианства в
широких слоях русского общества и связанной
с этим демократизацией искусства. Спасо-
Нередицкий храм настолько полно
соответствует новому новгородскому идеалу, что
дальнейшее движение кажется могущим
быть связанным лишь с варьированием этой
традиции.
Однако в Новгороде неожиданно
появляется иной творческий импульс.
Призванные «заморскими» купцами Новгорода
смоленские мастера в 1207 г. ставят на торгу
церковь Св. Параскевы Пятницы, по типу
распространенных в Смоленске высоких
храмов с трехлопастными завершениями
фасадов. Формообразующая активность и
вертикальная динамика подобного храма
кажутся чужеродными для Новгорода.
Однако новгородцы приняли новый тип храма и,
более того, сделали его предпочтительным в
дальнейшем развитии своего искусства. При
этом они удивительным образом наделили
подобные постройки и традиционной
выразительностью, и многими привычными им
формами.
Уже во второй четверти XIII в.
возводится церковь Рождества Богородицы на Пе-
рыни. Стройная, не имеющая в поле стен
лопаток, она кажется легко и изящно
сформированной подъемом трехлопастных, а не
закомарных завершений фасадов. Однако
многообломностъ и изобильность
свойственных для этого типа декоративных деталей
исчезает, ярусность расположения проемов
сменяется как бы вписываемой в очертания
фасадов группой пирамидально
расположенных окон — композицией,
сформировавшейся в новгородском искусстве конца XII в.
Новгород не испытал монгольского
разорения, но тяжелые события середины
XIII в. стали причиной резкого сокращения
и его художественной деятельности. На
протяжении полустолетия здесь не создается ни
одного каменного здания. Лишь в конце
XIII в. возобновляется строительство,
церковь Св. Николы на Липне (1292 г.)
продолжила эволюционную линию, начатую пе-
рынским храмом. Укрупнение форм, снова
имеющих оттенок структурный и
грандиозный, свидетельствует о стремлении зодчих
к восстановлению традиций XI — XII вв.,
об их внимании к княжеским памятникам
раннего Новгорода.
На протяжении первой половины XIV в.
строительство ведется в основном по
инициативе архиепископа в Кремле и пригородных
монастырях. Небольшие храмы близких
размеров и идентичных конструктивных
структур снаружи как бы «одеваются» в разные
наряды. Их фасады завершаются либо
закомарами (церковь Спаса на Ковалеве, 1345 г.),
либо трехлопастными очертаниями (храм
Успения на Волотовом поле, 1352 г.), либо
щипцовыми покрытиями (церковь Св.
Николы Белого, 1312 г.). Спокойные
поверхности стен легко принимают любые
завершения, фасадные членения не имеют
активного структурного характера.
Интерьеры храмов становятся еще камер-
нее, нежели в конце XII в., в них меньше
стремления к грандиозному. Но при этом
для них характерна большая эмоциональная
подвижность и открытость. Уменьшение
числа и размеров окон приводит к общей
сумеречности атмосферы, в которой острую
выразительность приобретает свет,
проходящий в храм через узкие окна.
124
Глава 5
Новгородская архитектура достигает
своего высшего расцвета во второй половине
XIV в. Возведение храмов становится
делом большой общественной значимости,
основными заказчиками выступают бояре,
уличане. Освящение новопостроенных
храмов принимает характер общегородских
празднеств. Увеличивается масштаб новых
сооружений. Среди них одним из лучших
явилась церковь Спаса Преображения на
Ильине улице (1374 г.). Ее высокие
фасады, расчлененные мощными уступчатыми
лопатками, первоначально завершались
трехлопастными очертаниями. Окна,
многочисленные ниши и рельефные кресты
образовали пирамидальные композиции на
фасадах. Дисциплинированность и нарядность
форм особенно заметны при взгляде со
стороны апсиды, декорированной двухъярусной
рельефной аркадой. Вещная
выразительность кладки снова уходит на второй план
перед ощущением силы и ритмической
согласованности форм.
Интерьеры храмов, камерные и
созерцательные в первой половине XVI в.,
наполняются драматическим напряжением. В
Спасо-Преображенской церкви поражают
грандиозность и целостность центрального
пространственного креста. Из-за большой
высоты становятся чрезвычайно
ощутимыми крупные массивы внутренних стен и
столбов, чье построение всегда
индивидуально и поэтому непредсказуемо, зрительно
драматически активно. Оказавшиеся очень
высоко, как бы уменьшающиеся в
масштабе купол и своды своей канонической
выразительностью лишь в какой-то мере
согласуются и успокаивают общую экспрессию.
Узкие окна подчеркивают мощь стен и
контрастом врывающегося в храмы через них
света усиливают впечатление
напряженности мало освещенных интерьеров.
Эмоциональная взволнованность,
драматизм характерны для всего XIV столетия.
В Новгороде эти качества соединялись с
тяготением к эпическому, мощному. Иначе
они проявились во Пскове, Никольская
церковь в Изборске (1342 г.) еще всецело
связана с новгородской традицией,
созерцательная камерность и покой ее интерьера живо
напоминают храмы Новгорода первой
половины XIV в. Снаружи расчленение ее стен
также имеет скорее декоративный, чем
структурный характер, ритм завершающих
стены арочек робок и растянут, он не
имеет организующей силы.
Подобное искусство характерно для
Пскова и XV в., когда он уже
вырабатывает свой, оригинальный тип храма.
Фасады церкви Успения в Мелетове (1462 г.)
разделены лопатками на три прясла,
каждое прясло, как и в Новгороде,
завершается декоративными арочками, однако выше,
над арочками, в отличие от Новгорода,
устроены скатные покрытия над каждым из
прясел. Образовавшееся 16-скатное
завершение придает зданию особую легкую гра-
неность силуэта, как бы иррационально
возникающую над спокойными и несколько
рыхлыми массивами стен. Дробная
отчетливость и динамика верха напоминает ритмы
пробелов в псковской живописи этого
времени, делает художественный образ здания
эмоционально напряженным. В отличие от
Новгорода, эта взволнованность связана не
с выражением грандиозного и как бы общего
начала, а с остротой индивидуального
переживания, лирического и страстного
одновременно.
Интерьер этой небольшой церкви
пробуждает в душе вошедшего ощущение
укрытости, позволяющее возникнуть
трогательному в своей искренности и
беззащитности чувству покаяния и надежды.
Подобное душевное состояние вовсе не связано с
примитивностью композиции и ремесла.
Если вначале интерьер поражает затеснен-
ностью плохо освещенного пространства, то
затем становится очевидной его особая
композиционная организованность. Ступенчатое
построение основных сводов в соединении
с небольшой высотой здания позволяет
сводам и аркам снова приобрести
доминирующее значение в общей структуре. Мягкая
ритмика постепенного и симметричного
подъема центрального пространства вносит
в художественный образ оттенок идеальный
и концепционный.
Найденный тип храма использовался
псковскими зодчими и в XVI в., но его
выразительность стала иной. И это связано со
вкусами новой эпохи, в которой ведущая
роль во всех областях принадлежала уже
Москве. На протяжении XIII — XV вв.
125
Книга первая
Московское княжество превратилось из
второразрядного удела в центр огромного
государства. Московская Русь как бы приняла
эстафету Киевской Руси, долгий период
раздробленности русских земель
закончился. С конца XV в. Москва становится
столицей Руси, центром развития ее зодчества,
московские художественные идеалы
приобретают общенациональный характер.
Выдвижение Москвы начинается в
XIV в., когда она завоевывает право на
великое княжение среди русских земель. Ее
князья становятся великими князьями,
присущее ее искусству лирическое начало
соединяется со стремлением к утонченному,
придворному. На рубеже XIV — XV вв. это
приводит к удивительным по
одухотворенности и изяществу художественным
явлениям.
Успенский собор на Городке в
Звенигороде (около 1400 г.) представляет собою
унаследованный от Владимиро-Суздальской
архитектуры тип крестовокупольного храма.
Его расчлененные полуколоннами и
украшенные декоративными поясами фасады
завершались килевидными закомарами,
постамент под главой, окруженный
декоративными закомарами, придавал стройность и
ритмическую нарядность силуэту. Техника
кладки из белокаменных блоков
соответствует стремлению к резной форме. Вынос
всех членений невелик, формы и
профилировки обработаны с какой-то хрупкостью,
приобретая особую камерность.
Очень быстро эта архитектура становится
более уверенной и масштабной. Троицкий
собор Троице-Сергиевской лавры (1422 —
1423 гг.) уже выглядит монументальнее.
Поверхности стен обретают характер чисто
обработанных поверхностей, чья
формообразующая активность оказывается сродни
уверенности и четкости основных профили-
ровок. Сила и четкость фасадных членений
таковы, что сами членения снова получают,
как и в домонгольскую эпоху, структурный
характер, хотя на самом деле это
соответствие — внешнего облика и внутреннего
устройства — здесь сохраняется лишь в
самой общей идее.
Интерьер Троицкого собора отличается
объединенностью пространства. Исчезли
ненужные для монастыря хоры, основное
помещение с двумя крупными столбами в
нем оказалось противопоставленным
отделенному высоким иконостасом алтарю.
Широкое движение осеняющих
пространство сводов подчиняется ритмике подъема
центральных арок. Чистота и строгость
очертаний сообщают атмосфере храма
особую дисциплину и духовную
сосредоточенность.
Удивительна неожиданная близость
многих профилировок московских памятников
готическому искусству. Видимо,
свойственное готике XIV в. тяготение к хрупкому и
изящному импонировало вкусам
великокняжеского двора. Но при этом в московском
искусстве отсутствует что-либо манерное,
стилизованное. Объемы и линии построек
величавы и спокойны, в них нет ничего
преувеличенного.
Стремление московских зодчих к гибкой
расчлененной форме наиболее ярко
проявилось в Спасском соборе Андроникова
монастыря. При обычном для московских
храмов плане его наружный облик оказался
преобразованным. Высокий постамент под
главой с рядами кокошников и
трехлопастным завершением каждой из четырех
граней, с лопатками в их поле, создает
впечатление самостоятельности среднего как бы
башнеобразного объема, окруженного более
низкими пристройками. Подобная
композиция свидетельствует о связях с греческой и
сербской архитектурой, аналогично
контактам, имевшим место в живописи.
Но эта потенциальная ансамблевость не
нарушает традиционного понимания ни
самой идеи храма — как особого ритмически
цельного космоса, ни основной крестовоку-
польной структуры. Поля закомар и прясел
еще неразделимы, нет горизонтальных
карнизов, рассекающих фасады, и общая
лента цоколя лишь подчеркивает упругое
единство объема здания.
Поиски вариантов завершения храма с
помощью декоративных закомар и
трехлопастных покрытий продолжают
эволюционную линию, намеченную на рубеже XII —
XIII вв. И этот тип храма, и закомарный
храм воплощали какие-то разные грани
национального духовного самоощущения. Со
временем облик закомарного храма
соединился с началом официальным, государ-
126
Глава 5
ственным, традиционным, с постройками
общегородскими и крупных монастырей,
тогда как тяготеющие к вертикальному
развитию структуры определяли возведение
более избранных художественных
памятников, часто имевших особое назначение и
ставившихся в царских или крупных боярских
усадьбах.
В начале XV в. Москва — лишь
главное среди многих других русских княжеств,
и ее искусство — одна из страниц
прекрасной книги художественного творчества
русского народа. Ситуация меняется в конце
столетия, когда московский князь
Иван III объединил вокруг Москвы русские
земли. Искусство Москвы приобрело
характер общерусского, оно получило неведомые
до сих пор масштаб и представительность.
В зодчестве важнейшим явлением стала
перестройка Московского Кремля, взявшего на
себя роль нового центра не только столицы,
но и всей страны.
Собрав лучшие творческие силы
государства, Иван III пригласил и итальянских
мастеров, чьи знания, умение и опыт
способствовали подъему архитектуры. Для
Успенского собора (1475 — 1479 гг., арх.
Аристотель Фиорованти) образцом был избран
Успенский собор во Владимире. Однако
громадный пятиглавый закомарный храм не
стал лишь копией постройки XII в. В его
облике появилась невиданная прежде
официальная торжественность. Одинаковость
всех прясел, однообразие ритма закомар,
чистые и ровные поверхности стен связаны
с возникновением вкуса к регулярному,
геометрически правильному. Южный,
обращенный на Соборную площадь, фасад
собора приобрел особое значение, он задал
представительный и парадный характер
всей площади.
Еще более новаторским оказался
интерьер собора. В этом каноническом по
композиции храме основная структурная идея
осеняющего балдахина заменяется
выразительностью огромного зала, в котором
четкое рациональное движение стен и столбов
преобладает над ритмом круговращения
арок, сводов и куполов.
Указанные изменения связаны как с
назначением собора — центра
государственной и духовной жизни народа, так и
большим рационализмом вкусов зодчих и их
творческих методов. Глядя на фасады
Успенского собора, невольно задумываешься о
возможном использовании при его
возведении чертежей. Масштаб, официальная
представительность, регулярность — эти
свойства Успенского собора стали
характерными чертами зодчества XVI в.
С южной стороны Соборной площади в
Кремле,, напротив Успенского, поднялся
Архангельский собор (1505 — 1508 гг., арх.
Алевиз Новый). Хотя он возводился как
усыпальница московских государей, в его
архитектуре в наибольшей мере проявилось
стремление к изящной расчлененности форм,
их нарядности. По своему архитектурному
типу это классический крестовокупольный
закомарный храм, однако его фасады
сложной двухъярусной системой пилястр,
филенок, арок и карнизов превращены в особые
композиции, завершаемые закомарами с
декоративными раковинами в их поле.
Появление здесь ренессансных ордерных
элементов связано с использованием Алевизом
традиций венецианского зодчества.
Подобные постройки вносят в
архитектуру XVI в. черты утонченного стиля, они
появляются не только в Кремле (приделы
Благовещенского собора, собор
Вознесенского монастыря), но и в удаленных
районах — Александровой слободе, Кирилло-
Белозерском монастыре.
Ансамбль Соборной площади
Московского Кремля вместе с Успенским и
Архангельским образовали также Благовещенский
собор и церковь Ризположения, а по
западной стороне площади был построен новый
великокняжеский дворец. Следуя древней
традиции, он состоял из отдельных палат на
общем подклете — Грановитой, Столовой
и др. Сохранившаяся до наших дней
Грановитая палата (1487 — 1491 гг., арх.
Марко Фрязин и П. А. Солари) поражает и
смелостью грандиозного пространственного
решения интерьера, и красотой
пропорционального расчленения, изяществом
итальянизирующей декорации.
Одновременно с перестройкой основных
кремлевских сооружений возводятся его
новые стены и башни, весь ансамбль получил
грандиозную оправу, сохранив одновременно
свой открытый характер. Композиционным
127
Книга первая
же центром и Соборной площади, и
Кремля, и Москвы стала колокольня Ивана
Великого (1505 г., арх. Бон Фрязин), чей
высокий ярусный столп и монументальные
формы были рассчитаны на подобную роль.
С начала XVI в. Москва становится
центром художественной жизни русского
государства, отсюда исходят основные
творческие импульсы. Но они не подавляют
местные традиции, лучший пример тому —
зодчество Пскова. Начавшийся с конца XV в.
расцвет архитектуры не прерывается его
присоединением к Москве. Приобретшее
под влиянием новых московских построек
замечательную отточенность
композиционных приемов псковское зодчество
развивает прежний тип храма. Наружный облик
новых построек отличается
изобретательностью, звонница, приделы, притворы
образуют сложные монументальные ансамбли.
Интерьеры становятся пространственнее,
ощущение целенаправленной
организованности и симметрии заменяет аморфность,
некоторая стихийность форм храмов XIV —
XV вв., прежняя робость, полускрытость
эмоционального высказывания
преодолевается силой, отчетливой уверенностью новых
структур (церкви Богоявления на
Запсковье, Успения с Пароменья, св. Косьмы и
Дамиана с Примостья и др.).
Большинство псковских храмов
обладает ступенчатой композицией основных
сводов. Они же остаются основой структуры
замечательных соборов заволжских
монастырей в конце XV в. Интерьер собора
Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря (1490 г.) дает изумительный по
светлой поэтике образец духовного переживания.
Мягкая ритмика как бы парящего
сводчатого завершения, чистые поверхности стен
и столбов населены идеальными и
строгими персонажами, созданными волшебной
кистью Дионисия. Это искусство
современно кремлевскому, но оно скорее наследует
традиции ранней Москвы начала XV в.
В самой Москве на рубеже XV — XVI
столетий еще не все художественные
явления были проникнуты масштабом нового
стиля. Церковь Рождества Христова в
с. Юркино стала первым образцом бесстол-
пного храма, где квадратное внутреннее
помещение перекрыто крещатым сводом. В
этой усадебной постройке конструктивная
смелость сочетается с изяществом стиля,
деталями и пропорциями
итальянизирующего характера.
Однако постепенно кремлевское
строительство переменило масштаб русской
архитектуры, в нашем наследии с ним
сопоставимы лишь памятники Киевской Руси.
Размаху творческих замыслов соответствовали
и материальные возможности нового
русского государства, и ремесленный опыт
мастеров. По всей Руси на протяжении XVI в.
создаются каменные крепости (Новгород,
Нижний Новгород, Тула, Смоленск и др.),
возникают замечательные монастырские
ансамбли — Симонов в Москве, Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, монастыри Пе-
реславля-Залесского и Суздаля и многие
иные. Московский Кремль и здесь
оставался примером, его открытая силуэтность,
крупность центрального ансамбля, мощь
новых стен часто вдохновляли зодчих.
Главные кремлевские соборы стали
образцами построек XVI в. Успенский собор
был повторен многими монастырскими
соборами — Троице-Сергиева и Хутынско-
го монастырей, и городскими — Ростова,
Ярославля. Иногда, если задачи
торжественной официальности становились
основной целью заказа, как это было в Вологде,
замысленной Иваном Грозным к
превращению в новую столицу, новый Софийский
собор приобретал черты холодного
схематизирующего монументального стиля. Иногда
же прообраз с редкой смелостью
перерабатывался, как с точки зрения общей
композиции, так и стиля. Особой
изобретательной и сложной оказалась структура Спасо-
Преображенского собора Соловецкого
монастыря. В его интерьере остались только
два столба, за иконостасом оказалась
восточная стена храма. Над основным объемом
по четырем углам были поставлены
придельные церкви, соединявшиеся галереями. В
центре композицию венчала шатровая по
форме барабана глава. Необыкновенная
развитость композиционного и силуэтного
решения сочеталась здесь с могучей
эпической силой каменных массивов.
XVI столетие в русской архитектуре
отличается исключительным богатством и
смелостью конструктивных решений. Быть мо-
128
Глава 5
жет, лучшее из всех этих качеств
проявилось в создании столпообразных храмов,
чаще всего, но не обязательно
завершавшихся высокими шатрами.
Первый памятник такого рода является и
лучшим — это поставленная в честь
рождения Ивана Грозного церковь Вознесения
в Коломенском (1532 г.). Ее объем при
общей сложности и как бы многогранности
составляющих его поверхностей отличается
редкой цельностью. Горизонтальный ритм
аркады основания и примыкающих к нему
крылец преобразуется в подъем крещатого
четверика, тройной ярус стрельчатых и ки-
левидных кокошников переводит все еще
многосоставные формы в крупный восьмерик,
завершаемый шатром.
Новаторское общее решение
дополняется редкостной индивидуальностью
декоративных решений. Заостренные обрамления
насыщают спокойные и уверенные объемы
вертикальной энергией. Может возникнуть
даже впечатление о полном отходе от
традиций архитектуры X — XV вв., чему
способствует обилие итальянизирующих
деталей. Однако подобный вывод был бы еще
преждевременным. Уже традиционно
чувство общей цельности объема, его
структурности. В общей логике развития форм
легко заметить много общего со Спасским
собором Андроникова монастыря. И
главное — идея осеняющего балдахина
оказывается и здесь основной, и снаружи,
и внутри. Удивительный сплав традиции и
новаторства обусловил небывалую
индивидуальность памятника. Усвоение мастерами
приемов и форм итальянской архитектуры
содействовало интенсивности их
собственного творческого развития.
Рядом с церковью Вознесения в
Коломенском стоит круглая церковь св. Георгия,
скорее всего также построенная итальянским
мастером и относящаяся к типу
храмов-колоколен.
На основе столпообразных структур,
завершаемых шатром или главой, в середине
столетия были созданы многосоставные
памятники, в которых более низкие
придельные храмы симметрично группировались
вокруг центрального и часто объединялись
общим подклетом (церковь св. Иоанна
Предтечи в Дьякове, 1547 г., и др.). Самым
сложным среди них явился поставленный в
честь взятия Казани собор Покрова
(Василия Блаженного) в Москве (1535 —
1561 гг.). Восемь столпообразных храмов
сгруппированы вокруг шатрового
центрального на общем подклете, и в композиции, и
в декорации появляются новые черты,
определяемые стремлением к более дробному,
узорчатому, сказочному и фантастическому
началу.
Крупные шатровые храмы продолжают
возводиться и в третьей четверти столетия.
Церковь Распятия Христова
Александровской слободы объединяет новый тип храма
с возникшим еще в XV в. типом
монументальной звонницы. Замечательный ансамбль
Спасо-Преображенской церкви в Острове
образует удивительный по оригинальности
главный объем и два боковых симметричных
придельных храма, завершенных рядами
кокошников.
В конце XVI в. архитектура становится
более однородной по тенденциям своего
развития. Это было связано и с образованием
в 1585 г. Приказа каменных дел, взявшего
в свои руки организацию строительного дела
в государстве. В эпоху Бориса Годунова
традиции начала столетия, особенно связанные
с Архангельским собором Алевиза Нового,
получают дальнейшее развитие. Четкие
изящные постройки возникают и в
монастырях (Панфутьев-Боровский, Болдин) и в
вотчинах Годунова (Борисов городок, Большие
Вязе мы, церковь Св. Троицы в Хорошеве).
Они как бы суммируют опыт всего периода
в варианте изящной придворной школы.
Пронизанность архитектуры XVI в.
стремлением к пропорциональному
разделению плоскостей фасадов, к появлению
отчетливых вертикальных зон — цоколя,
основной и завершающей, употребление
ордерных элементов и ренессансной антики-
зирующей декорации тесно соединяет
развитие русского искусства с
художественным опытом Европы. Общность русской и
европейской культур, проявлявшаяся еще в
контактах с романским и готическим
зодчеством, в XVI в. становится значительно
более широкой и глубокой. И хотя черты
более рационального и тектонического
мышления еще проявляются в пределах
традиционной структурной концепции, все же они
129
Книга первая
уже кое в чем начинают ее изменять.
Характерным примером может служить
отделение закомар четким карнизом от
остального поля стен, превращения верха из все
определяющей композиционной идеи лишь
в форму увенчания кубовидного объема.
Если в храме Вознесения в Коломенском
кокошники невозможно отделить от поля
стены, то в последующих памятниках
горки кокошников образуют очень красивое, но
даже не претендующее на структурность
завершение. Именно в годуновской
архитектуре этот стиль достигает наибольшей
развитости и тонкости.
XVI век в русском искусстве оказался
периодом расцвета зодчества, когда большой
масштаб форм соединился со вкусом к
изящному и пропорциональному. Прекрасные
памятники придали новый облик Москве и
многим городским и монастырским
ансамблям, который и в наши дни виден сквозь
напластования иных эпох, содействуя
ощущению сложности и богатства всего
нашего художественного наследия.
Глава 6
Эстетика
древней пластики
Скульптура Древней
Руси имела гораздо более обширную
славянскую почву, нежели изображения на
плоскости. Возможно, это положение не
отражает объективной исторической
действительности, так как произведения в твердых
материалах — камень, дерево, глина —
конечно, долговечнее, нежели какие-либо
рисунки на тканях или бересте. Но тут надо
принимать во внимание и следующее.
Особенностью древнеславянского
пластического творчества была, как и в античности,
предметная (вещная) конкретность.
Древний художник изображал не какое-нибудь
событие (сюжет), находящееся за гранью
предметного мира, а воспроизводил как бы
«модель» интересовавшего его объекта —
зверя, птицу, человека. Иначе говоря,
скульптура на ранних ступенях являла собой не
идею, для формулировки которой нужна
определенная степень абстракции, а
самоценное бытие.
Одной из первых структурообразующих
форм у многих народов, в том числе и у
восточных славян, была круговая форма, с
которой связывались начальные представления
о некоей горизонтальной закономерности и,
следовательно, гармонизации. Структурой,
гармонизующей мир по вертикали, было
«мировое древо» и его простейшая
разновидность — столп. Уподобленную столпу фигуру
человеку («фигуру восстания») философ
Н. Ф. Федоров считал «первым и в то же
время художественным произведением
человека».
Сейчас трудно решить вопрос, легли ли
в основание первичных закономерностей
гармонизации формальные признаки
строения человеческой фигуры — вертикализм,
симметрия, центр тяжести, членение на три
«яруса» (ноги, торс, голова) и т. п. — или
осознание этих закономерностей
продиктовано мифологизированной природой (земля,
подземный мир, небо), но наиболее общим
выражением того и другого явилась
столпообразная круговая структура, запечатленная
в так называемом Збручском идоле X в.
Збручский идол — это целая
«скульптурная Вселенная»1, в которой верхний ярус
(мир богов) выступает в виде
обожествленных князей или одного четырехликого
князя-бога.
В структуре Збручского идола в
пластической форме воплотились представления
древнего славянина о вертикальной
устойчивости и иерархической расчлененности, о
наличии внутреннего единства в формальном
многообразии, замкнутом в круговую
форму. Осуществление всего этого в крупном
блоке камня говорит о том, что время
изделий мелких разрозненных скульптурных
поделок в виде амулетов и т. п. стало
уходить в прошлое. Збручский идол — одно
из ярких мифопоэтических воплощений в
пластике славянского космологизма, который
пронизывал собой даже Владимиров
«пантеон» богов с Перуном в центре, и лишь с
появлением в Киеве привезенных из Хер-
сонеса «медяной квадриги и двух капищ»
можно говорить о знакомстве русичей со
статуарной скульптурой, не претендовавшей
на выражение космогонических или
надчеловеческих представлений.
Появление монументальной архитектуры
в немалой степени помогло развитию
пластики. Согласно византийской традиции
статуарной скульптуре не было места в
интерьере храма, но ничто не мешало
включению барельефной пластики в фасадный
декор, тем более что это практиковалось в
деревянном зодчестве славян. Так родилось и
получило признание на Руси искусство
фасадного декоративно-монументального
рельефа, ставшего на целые столетия (до
XIV в.) основным видом древнерусской
скульптуры и носителем ее поэтического
начала.
Судя по сохранившимся и наиболее
развитым произведениям «архитектурной
скульптуры» XI в., поэтика ее основывалась
на традиционных методах симметризма2, но
уже без центральной оси. Последняя,
однако, предполагалась, поскольку боковые
фигуры обращены именно к центру. Я имею
в виду хорошо известные шиферные
рельефы с изображением конных святых воинов
131
Книга первая
из Михайловского монастыря (Киев) и
фрагменты скорее всего таких же рельефов
из погибшего Успенского собора Киево-Пе-
черского монастыря. В какой-то степени они
историчны, но симметризм сохраняет
древнюю мифологическую поэтику, неизменно
удерживавшуюся в фольклоре:
Рыкнул татарин по-звериному,
Свистнул татарин по-змеиному.
Симметризм через повтор усиливает
выразительность. Он не был свойствен более
ранним шиферным рельефам из
неизвестного здания Киево-Печерского монастыря
(«Геракл в борьбе с Немейским львом» и
«Дионис, везомый львами»)3, вероятно,
потому, что мифологизм выступал здесь в
ином жанре — эпическом. Киевские
мастера не могли, естественно, выдумать таких
сюжетов, они заимствовали их из
привозных византийских образцов, но исполняли
по-своему. Чтобы задушить льва, Геракл
должен был обладать могучими руками.
И мы видим на рельефе подчеркнуто
длинные, мощные руки героя. У Диониса же,
наоборот, всей фигуре придана какая-то
инфантильность, расслабленность, его тонкие
ножки представляют прямую
противоположность Геракловым. Перед нами поэтическое
выражение в первом случае — героического,
а во втором — иронического у
свидетельствующее о развитом художественном
вкусе древнерусского мастера, его умении
строить образ на противопоставлениях. С этим
связана и его особая любовь к симметрии.
Принцип симметрии играл важную роль
в народном искусстве. Рассмотренные
изображения Геракла и святых воинов символич-
ны, но эта символика не требовала
специальной расшифровки, поэтичность такой
символики была общепонятна. Этого нельзя
сказать про зооморфные и полиморфные
формы. Распространенные во владимиро-
суздальской пластике образы грифонов,
кентавров, драконов и им подобных существ не
сразу открывались зрителю в своем
художественном значении как носители
заложенного в них смысла.
Из искусства языческой поры во влади-
миро-суздальскую скульптуру перешла
композиция «мирового древа», по отношению к
которому перечисленные фантастические
образы выступали как бы
«зверями-охранителями» . Тем самым сохранялась их
символическая поэтичность, идущая с языческих
времен. При этом неизбежная (в силу
традиции) симметричность композиций
придавала им силу какой-то особой
притягательности. Подавляющее большинство
рельефных композиций на стенах церкви
Покрова на Нерли, Дмитриевского собора во
Збручский идол «Святовид». X в. Камень.
Краков
Владимире и других зданий симметричны.
Принцип симметрии пронизывает и большие
группы рельефов, вплоть до целой стены.
Симметрия применялась во всевозможных
вариантах и стала универсальным приемом,
что свидетельствует о народных основах
творчества (абсолютизация симметрии),
усложненных в данном случае феодальной
эмблематикой и библейской образностью. Я
имею в виду псалмы Давида, влияние
которых на поэтику Дмитриевской
скульптуры было отмечено давно, но только в
последнее время нашло аргументированное
подтверждение. Бессмертная общечелове-
132
Глава 6
ческая поэзия Псалтыри с ее всеохватное -
тью мира, природы и человека в их пред-
стоянии перед Богом полностью отразилась
в фасадной скульптуре верхнего яруса
Дмитриевского собора — прекрасный пример
«абстрагирования», которое Д. С. Лихачев
считает существенной чертой поэтики
литературы Древней Руси. При этом
традиционная симметрия сохранена лишь в общих
массах рельефов, сами рельефы даны в
свободном сочетании. Поэтика симметрии
переносилась на Вселенную, высвобождая
человеческую фигуру для выражения более
индивидуального содержания. Так
независимо друг от друга и вполне
индивидуально изображены фигуры святых Бориса и
Глеба, хотя они более, чем другие, вроде бы
«требовали» симметризма. То же самое
можно сказать про фигуры архидиаконов.
Симметризм, естественно, преобладает и в
композициях деисусного чина или иконы
«Св. Троица», но их поэтика носит иной,
более сакрализованный догматический
характер.
Симметричная гармонизация громадного
числа рельефов на фасадах создала
стройную картину мироздания, в которой
властвует реальный человек — псалмопевец царь
Давид. Множество фигур реальных людей
(князей) было включено и в «основу»
мироздания, каковой в скульптуре
Дмитриевского собора выступает нижний регистр
фасадной резьбы4.
Когда предметом изображения становится
такая «космологическая» тема, то,
естественно, резьба по камню приобретает большую
плоскостность, чтобы ее реализм не
противоречил абстракции замысла. Владимиро-
Суздальская скульптура не столь
монументальна, как киевская. Сами рельефы,
поскольку они увеличивались количественно (в
Дмитриевском соборе их насчитывается до
тысячи!), стали меньше. Особую
поэтичность фасадным изображениям придает
полное отсутствие натурализма. Я не говорю
уже о самих образах. В зооморфной части
господствует фантазия. Натурализма нет и
в исполнении. Широко применена
живописная порезка в виде круглящихся,
спиралевидных линий, создающих впечатление
свободы резца и мягкой пластичности.
Правда, не везде. Наряду с такой манерой
резьбы встречается и более «сухая», как бы
деревянная, что свидетельствует о разном
составе артели мастеров.
Принцип симметрии присущ скульптуре
и ряду других построек XII века
Борисоглебского собора в Чернигове,
суздальского собора, знаменитого Георгиевского собора
в г. Юрьеве-Польском (XII — XIII вв.).
Симметрия — одна из составляющих
более широкого эстетического принципа
гармонии, в создании которой принимают
участие также ритм, метр, пропорциональная
организация частей и целого. Говоря о
пропорции применительно к гармонизации
скульптурного декора
владимиро-суздальской архитектуры, следует указать в первую
очередь на разделение фасадов на две зоны:
гладкую, нижнюю, и украшенную
резьбой — верхнюю. Если взять верхнюю зону
вместе с барабаном главы (в Дмитриевском
соборе он тоже украшен резьбой), то она
будет относиться к нижней зоне, как 3:1. Это
создает впечатление большой устойчивости.
Проявление ритма в фасадной
скульптуре более сложно. Если по горизонтали он
выражается в одномерном «шаге» рельефов,
«движущихся» к центральной оси симметрии,
то по вертикали ритм приобретает все
большую напряженность к закомарам, где
расположены самые «активные» сюжеты
(борьба людей, борьба человека со зверем и т. п.).
Вертикальный ритм выражен посредством
строгой перемежаемости рядов: ряды
фигурных рельефов с изображением зверей и
людей чередуются с рядами, состоящими
только из изображений деревьев. В этом
нетрудно увидеть живучесть традиций
народного творчества.
Чувство целостности, проявляющейся в
симметрии, ритме, пропорции, было в
высшей степени присуще эстетическому
сознанию владимиро-суздальских мастеров.
Недаром за стилем этой эпохи закрепилось
название монументального (Д. С. Лихачев).
Предельной поэтизации выражения и
одухотворенности Вселенной владимиро-суздаль-
ская скульптура достигла в уже упомянутом
Георгиевском храме г. Юрьева-Польского
(1230 — 1234 гг.). Здесь резьбой
покрыты все фасады (кроме восточного), причем
нижний ярус как бы символизирует Рай, а
верхний — мир небожителей во главе с
133
Книга первая
Христом, а не с Давидом-псалмопевцем, как
в церкви Покрова на Нерли и в
Дмитриевском храме. Поэтика домонгольской
скульптуры Руси стояла на пороге
обращения к собственно христианской тематике; все
земное (включая сюжеты Ветхого Завета)
начинает уступать в ней место поэтике
трансцендентного. Наметились, хотя и не
очень резкие, изменения в стиле.
Новозаветная образность (Христос, Богоматерь,
Иоанн Предтеча, евангелисты, святые
воины и др.) требовала и более
одухотворенной трактовки. Это было время подъема
владимирской литературы, давшей такие
высокодуховные произведения, как
«Моление Даниила-Заточника» и др. На первый
план выдвигалось человеческое. Лапидарная
фигура царя Давида с фасадов церкви
Покрова или Дмитриевского храма была бы в
пластике Георгиевского храма немыслима.
Условно-завитковый растительный орнамент
Дмитриевского храма заменен изящным
древовидным. При этом «мировое древо»
получило предельно развитые формы.
Тератологические образы сохранились, но
птицы преобладают над зверями. Птицы
изображены с человеческими головами.
Человеческих ликов (причем не библейских)
вообще очень много в скульптуре Георгиевского
храма. Среди них немало лиц азиатского
типа, но им отведены только
второстепенные места — капители, консоли и т. п.
В XIII в. русская скульптура в гораздо
большей степени, чем другие искусства,
испытала кризис в своем развитии.
Белокаменной архитектуре, щедро предоставлявшей
мастерам свои фасады для резьбы, если и
суждено было возродиться в Москве, то
уже почти без всякой скульптуры.
Архитектура из кирпича таких возможностей не
имела. Надо сказать, что христианская
эстетика и не требовала этого.
Полухристианская, полуязыческая картина Вселенной в
скульптуре Георгиевского храма была
невозможна в Москве с ее тягой не столько ко
Вселенной и даже не к Церкви, а прежде
всего к построению Государства5. Но
семантика храма требовала своего.
Компромиссный выход был найден в украшении
кирпичных зданий различными белокаменными
крестами, достигавшими иногда крупных
размеров и наделявшихся рельефной резьбой.
Некоторые из таких больших крестов были
независимы от архитектуры и представляли
самостоятельные произведения, которые
можно рассматривать как своего рода
«микровселенные»6. Расширяющиеся концы
крестов почти смыкались друг с другом,
образуя крест в круге (так называемая « манда -
ла»), издревле символизирующий
«целостность Я или, проще, целостность основы
души, а говоря мистически — явление
инкарнации божества в человеке. В
противоположность другим таинственным знакам
мандала обращает современность к единству,
т. е. представляет собой компенсацию
раскола и соответственно возвещает
преодоление его»7.
Новым содержательным качеством
барельефной резьбы этих крестов можно
считать «историзм». Не какие-либо
зооморфные или полиморфные декоративные
мотивы, а евангельские сцены составляли теперь
главное содержание резьбы. Такие сюжеты,
как Распятие, Вознесение, Благовещение и
т. п., особенно же Распятие, давали
большие возможности для выражения
сложнейших религиозно-философских переживаний,
что вело к обогащению духовности
скульптуры, вызывало к жизни более изощренную
систему художественных средств. На
смену довольно лапидарному рельефу пришел
рельеф утонченный, наделенный
живописной штриховкой, причем по мере
приближения к рубежу XIV — XV вв. фигура
Распятого все укрупнялась, приобретала
более правильные пропорции,
преодолевая ту аскетическую надломленность,
которой отличаются фигуры на крестах XII —
XIV вв.
Однако должны были произойти
коренные изменения в жизни и умонастроении
русских людей, чтобы поэтика скульптуры
снова вернула себе статуарную
самоценность, как наиболее адекватную для
художественного воплощения христианского
принципа человечности. В жизни
возрождение уверенности в духовной и творческой
силе человека произошло после крупной
победы над Ордой (1380 г.), а в
умонастроении — после того, как потерял свою
привлекательность космологический мир,
отразившийся во владимиро-суздальской
скульптуре.
134
Глава 6
Начинает возрастать интерес к
искусству домонгольской Руси, приобретшему
значение «своей античности». Но, естественно,
не все входило в эту «свою античность», а
прежде всего то, что было созвучно новой
эпохе. Мифологические сцены, подобные
рельефам с Гераклом и Дионисом, вряд ли
могли интересовать людей времени
возвышения Москвы, когда «творчество
художников и писателей, по большей части
безличное и безымянное в предшествующие
века, начинает индивидуализироваться»8.
Представление о мудром и
гармоническом устройстве мироздания, конечно, не
умирало, но все большим вниманием стал
пользоваться «микрокосм» человеческой
личности. В понятие «микрокосма»
входило как содержание внутреннего мира, так и
внешние черты облика человека, и не
всегда, по крайней мере на первых порах,
между этими сторонами достигалась гармония.
Выражающий главным образом
«внутреннее» экспрессивно-эмоциональный стиль
искусства 2-й половины XIV в. мало что
давал возраставшему чувству статуарности,
примером чего могут служить центральные
фигуры на каменных крестах
«микровселенных». Отмеченное нами утончение их
резьбы, даже известная живописность не
увеличивали статуарность фигуры, скорее
ослабляли ее. Движение вперед нуждалось
в освобождении последней от сковывающего
ее каменного материала (в данном случае —
креста), а это было возможно только с
переходом к иному объекту пластического
изображения. Им стала отдельная фигура
того или иного святого. В конце XIV в.
появляются первые крупные статуарные
изображения св. Николы Можайского, св.
Параскевы Пятницы, знаменующие собой
новый этап древнерусской скульптуры.
Показательно, однако, что в то время,
как в житийной литературе XIV — XV вв.
«все движется, все меняется, объято
эмоциями, до предела обострено, полно
экспрессии»9, статуарные образы многочисленных
изображений святых, упомянутых выше,
наоборот, до предела статичны. Словно
воскрес в них старый «дух симметрии», иера-
тичности, репрезентативности и приобрел
значение канона. Не было ли это шагом
назад? Здесь необходим более тонкий
подход в рассуждении. Речь должна идти о
новом понимании духовности
человеческого образа, а также о новом понимании
единства духовного и телесного.
При обращении к широко известной
статуе св. Николы Можайского (конец XIV в.,
ГТГ) нельзя не обратить внимание на то,
что сквозь романизирующий тип его лика
проскальзывает иконографическое сходство
с каноническим иконным образом
Апостола Павла. Помимо большого «взлызлого»
лба и удлиненной бороды оно проявляется
в бугристости и морщинистости
громадного («павловского») лба, в пристальном взоре
суженных глаз, в плотно сжатых губах. Что
же касается отмечаемой некоторыми
исследователями «застылой улыбки»10, то «за-
стылость» ее обманчива. Очень похожие
улыбки мы найдем в ранней греческой
скульптуре, где они выражают интерес к
эмоциональному состоянию изображаемого
персонажа11. Образ св. Николы
Можайского — значительный образ. Это вовсе не тот
«добрый старичок» или «русский мужичок»,
каким его считают другие12. Он скорее
деятельный и «величественный»13. Последнему
в сильной степени способствовала
пластическая трактовка статуи.
Фигура св. Николы Можайского совсем
не похожа на те чрезмерно вытянутые (в
пропорции 1:10) фигуры, которые любили
изображать даже в XV в. живописцы, не
исключая Андрея Рублева. Ее пропорции
приближены к естественным. Их
натурализации соответствовала и конкретизация
объемности фигуры. И хотя черты уплощен-
ности еще сохраняются в ней, но мы имеем
дело с новым для русской культуры типом
круглой скульптуры, а не с барельефом.
Более того, в трактовке фигуры всячески
подчеркнута телесность. Создается такое
впечатление, что телесность как ощутимая,
наглядная округлость ценилась мастером
больше, нежели скрытая под одеждой. Это
заставляло «драпировать» фигуру как бы
«прилипающей» к телу тканью. Складки
сведены к минимуму; дробные складки, за
которыми обычно исчезает тело,
отсутствуют.
Статуя св. Николы Можайского была
изображением не только конкретного
человека, но и выражением «идеи святого Ни-
135
Книга первая
колы» — защитника города и людей.
Поэтому она сохраняла известную
символичность. Но это был не условный
(«конвенциональный») символизм, как в рельефах
Дмитриевского собора, а непосредственный
«реальный символизм», как бы
растворяющийся в буквальном значении образа, что и
делало его одновременно и символическим,
и конкретно-житейским. Здесь поэтика
русской скульптуры XIV — XV вв. явно
перекликалась с эстетикой народного
творчества.
Как уже сказано, оба начала в скульптуре
XIV — XV вв. — духовность и
телесность — имеют тенденцию к взаимному
согласию на основе гармонизации, что
заставляет вспомнить о «калокагатии».
Конечно, в своем античном значении это понятие
вряд ли применимо к скульптуре
рассматриваемого времени, и все же тенденции ка-
локагатийности характерны для русского
средневекового искусства. Выступившие в
XIV — XV вв. на первый план чувство и
сознание известной гармонии духовной и
физической, красоты человека были очень
сильны и глубоки. При этом красота и
гармония понимались далеко не внешне, не
формально, а глубокоэтически. Идеалом, по-
видимому, была не только «эмоциональная
созерцательность», но и мужественность,
гражданская активность, олицетворением
которой в глазах современников был св.
Стефан Пермский, по словам Епифания, —
«мужественный храбр»14. Если такое
определение было возможно в отношении
духовного лица, то что же сказать про истинных
«богатырей»? Их «культ» в это время
должен был подняться на очень высокую
ступень общественного сознания, что и нашло
отражение в героических образах св.
Георгия, св. Дмитрия и Архангела Михаила.
Наряду с «эстетикой высокоэтической
личности» развивалась и «эстетика
героизма».
Конечно, своеобразным героизмом
(«этическим героизмом») дышит и
столпообразная фигура св. Николы Можайского.
Недаром же его образ с мечом в правой руке
помещался над городскими воротами. Но
это был героизм, выраженный «внутренне».
Сдержанность внешнего выражения в
древнерусской пластике не является
свидетельством схематизма и наивности. Столпооб-
разность скульптур святых — глубоко сим-
волична; она выражала естественную про-
стоту добродетельного человека. Однако
после победы на Куликовом поле такая
образность была уже недостаточна.
Предания, песни, легенды и литература того
времени насыщены героическими образами.
«Высокопаривый орел», «огонь», «труба
спорящим», «оружие на враги», «меч
ярости» — вот эпитеты, расточаемые Дмитрию
Донскому15. Особенно богата такими
оценками «Задонщина». Для скульптурного
изображения самих земных героев еще не
наступило время, вместо них изображались
их небесные патроны — св. Дмитрий Со-
лунский (патрон Дмитрия Донского), св.
Георгий Каппадокийский (патрон князей
Юриев и русского воинства вообще). В
большой деревянной статуе св. Дмитрия
Солунского мы вновь видим проявление
принципа «столпообразности», но в конных
статуях св. Георгия Змееборца вековечная
мечта о герое — защитнике Родины нашла
свое полное пластическое осуществление.
Переход от прямостоящих скульптур к
статуям, полным динамики, можно сравнить
с тем скачком, который произошел в
греческой пластике с появлением знаменитого
«Дискобола» Мирона, такую поворотную
роль в русской скульптуре сыграла большая
каменная статуя конного св. Георгия
Змееборца, поставленная в 1464 г. на Фролов-
ской (Спасской) башне Московского
Кремля «нарядом» Василия Дмитриевича
Ермолина. Вслед за ней в том же XV в.
появились довольно большие деревянные статуи
св. Георгия Змееборца, и увлечение этим
героическим образом продолжалось вплоть
до XVII в.
В фигуре ермолинского св. Георгия (и
именно ермолинского, а не тех деревянных
фигур, которые появились в качестве его
реплик) много общего с дискоболом Мирона.
Прежде всего мы видим здесь почти такое
же спиралевидное движение, которое
образуется от поворота фигуры св. Георгия в три
четверти, разворота плеч, головы и рук
круто наклонно к основанию композиции, а
также тип голов с мелкими короткими
кудрями. Главное же сходство состоит в том,
что в статуе св. Георгия дано не моменталь-
136
Глава 6
ное, преходящее, а длящееся движение.
Чувство общего, вневременного еще довлеет
над чувством сиюминутного, преобладают
черты надындивидуального. Тем самым
создается впечатление вечного.
Конечно, В. Д. Ермолин не имел никакого
представления об античных образцах, но знал
какие-то западноевропейские произведения,
в которых античное наследие прошло через
множество ступеней переработки, но все же
сохранялось. М. В. Алпатов счел
возможным отметить ренессансный характер статуи
Ермолина16. Поскольку имеется в виду не
степень реалистического мастерства в целом,
то это бесспорно. Тип змееборца —
ренессансный, чему не мешают остатки
романских черт в скульптуре — известная «блоч-
ность» формы и отмеченная выше
индивидуальность. Теми же чертами отмечены и
деревянные реплики каменного ермолинско-
го св. Георгия, одна из которых (из г.
Юрьева-Польского) даже приписывается
самому Ермолину17.
Неслучайность отмеченных в конных
статуях Георгия Змееборца новых
стилистических черт подтверждается тем, что
аналогичными чертами наделена и вполне статичная
скульптура XV в. Здесь имеется в виду в
первую очередь принадлежащий В. Д.
Ермолину же рельеф Богоматери Одигитрии,
выполненный для стены трапезной (или
поварни) Троице-Сергиева монастыря18.
Рельеф этот весьма небольшого размера, но
плавностью и уравновешенностью
обобщенной треугольной композиции, смягченностью
контура и всех форм он производит
впечатление монументального произведения, а
усложнение его цветом носит вполне
ренессансный характер. К сожалению, плохая
сохранность лиц Богоматери и Младенца не
дает оснований уточнить эту
характеристику, но и без- этого рельеф заслуживает
названия «Мадонны Ермолина».
Независимо от того, назовем ли мы
новые стилистические черты скульптуры
XV в. возрожденческими или только пред-
возрожденческими, они оказались
достаточно сильными, чтобы не затухнуть в условиях
очень сложного искусства XVI в. В
скульптуре продолжается влечение к героическим
образам, как «внутренне-героичным», так и
«внешне-героичным». Первые развивают
линию, представленную статуей св.
Николы Можайского, то есть находятся в
границах «принципа столпообразности» и иера-
тичности, хотя и здесь наблюдается
заметное разграничение: одни столпообразные
статуи все же наделяются признаками
динамики (фигура Архангела Михаила с
занесенным мечом, из Рязани), другие
пребывают в состоянии внутренней
сосредоточенности (статуя св. Варлаама Хутынского
и др.). Как уже сказано выше, не пропадает
интерес и к динамичным конным
изображениям св. Георгия Змееборца.
Важно отметить, что все произведения,
относящиеся к так называемому «ренессанс-
ному» кругу, пластически гораздо более
гармонизированы, нежели остальные,
которые можно назвать архаизирующими. В
вертикально стоящих (по принципу
«столпообразности») фигурах тонко намечается кон-
тра-посто, то есть поворот торса и ног в
разные стороны, а также и более сильное
движение, например, взмах руки с мечом
(деревянный рельеф Архангела Михаила из
Рязани). В конных статуях св. Георгия конь
не просто отрывает от земли передние ноги,
как в статуе Ермолина, но изображается
вставшим на дыбы, даже присевшим на
задние ноги. При этом пропорции
продолжают оставаться естественными, в то время как
в живописи этого периода господствуют
удлиненные фигуры.
При характеристике скульптуры XVI в.
не следует забывать, что именно в это
время прежде интуитивные поэтические
тенденции к гармонизации внешнего и внутреннего
стали получать статус некой теории. Уже в
начале века Иосиф Волоцкий писал: «Сту-
пание имей кротко, глас умерен, слово
благочинно, пищу и питие немятежно <...>
мало вещай, множайше разумей, <...> не
излишествуй беседою, не дерзок будь <...>
трудись руками <...>»19. Приведенная
цитата не случайна. Иосиф считал, что для
достижения благоразумия ума и чувства
надо идти от внешнего к внутреннему:
«Прежде о благочинии чувственного
попечемся, потом же о благосостоянии
внутренним помыслом»20. Недаром Г. Н. Федотов
назвал взгляды Иосифа Волоцкого
«московской калокагатией»: «Цветущая красота его
(Иосифа Волоцкого. — Г. В.) была в со-
137
Книга первая
ответствии со вкусом к благолепию, к
внешней, бытовой красоте, особенно к красоте
церковной. Эстетика быта и обряда
прекрасно уживались у Иосифа с практическим
умом, с зоркостью к окружающему»21.
Характерной для XVI в. является статуя
св. Варлаама Хутынского 1560 г.
Кажущаяся по сравнению с фигурой св. Николы
Можайского очень вытянутой, фигура св.
Варлаама тем не менее вполне
пропорциональна (1:7)22. Впечатление некоторой
субтильности создается узостью плеч и всей
фигуры, а также обилием пучков
вертикальных складок одежды, очень графичных,
почти не выявляющих формы тела. И вместе
с тем фигура св. Варлаама отличается
большой жизненностью. Во-первых, она не
строго симметрична. В левой опущенной руке св.
Варлаам держит свиток, правой
благословляет. Репрезентатизма в образе святого нет,
его образ обращен к индивидуальному
восприятию. Поэтому фигура св. Варлаама не
иератична. Правая нога слегка отставлена в
сторону, а ступни не развернуты врозь, а
обращены вперед. Благодаря всему этому
произведение, предназначенное для
надгробия и вследствие этого несколько
уплощенное, все же воспринимается как круглая
статуя.
Особенно жизненны голова и лик св.
Варлаама. Большой круглящийся лоб
занимает по высоте чуть ли не половину
головы, верхняя часть головы (до кончика носа)
вписывается в правильный круг, что
родственно приемам Андрея Рублева. Тонкий
нос и большие добрые глаза с выражением
некоторой грусти дополняют впечатление
тонкой красоты этого старца,
изображенного, видимо, с соблюдением портретного
сходства23. Глубина рельефа не велика,
фигура, как уже сказано, выглядит графин -
ной; однако она производит впечатление не
менее, если не более, телесной, чем кругля-
щаяся статуя св. Николы Можайского.
Статуя-барельеф неизвестного святителя
(XVI в.) в этом отношении идет еще
дальше. Мастер уже не останавливается перед
передачей «некрасивых» черт образа.
Старческое лицо святителя отличается
выражением «вялости» и «усталости»24, что
далеко от какой-либо идеализации. И хотя в
символических образах пластики можно
было выражать чувства и мысли громадной
силы воздействия, скульпторы Древней
Руси встали перед сложнейшей дилеммой:
либо признать истинным (и плодотворным)
идущее из Западной Европы так
называемое «реалистическое» направление (правда,
в XVII в. в скульптуре Руси еще довольно
слабое) и реализовать его принципы,
предельно выявив плоть и загнав дух в ее
глубины, либо остаться на средневековых
традиционных позициях, которые уже не
отвечали духу времени.
Материальное и духовное развивались
слишком неравномерно; рационалистически
ориентированная — западноевропейская и
слабо проникнутая рационализмом, по
существу, иррациональная древнерусская. В
нашем искусствоведении много написано о
благодатном влиянии западной ренессансно-
барочной скульптуры XVII в. на, по
существу, внестильную древнерусскую. На самом
деле надо говорить о конце древнерусской
пластики как скульптуры средневековой и
сакральной.
Исключение представляет знаменитая
пермская скульптура, в которой даже в
XVIII в. встречаются одухотворенные
произведения. Главная ее тема — это
«страдающий Христос» и «Христос в темнице».
Уникальность этой скульптуры объясняют
особым миром, в котором она возникла,
затерянном в лесном краю Руси. И не
только затерянном, но и до сих пор, по
существу, не до конца понятом и осмысленном.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. подробнее: Гуревич Ф. Д. Збручский
идол// МИА СССР. № 6. М.; Л., 1941.
С. 279 — 2.89; Рыбаков Б. А. Прикладное
искусство и скульптура // История культуры
Древней Руси. Т. 2. М.; А, 1951. С. 414 — 416.
2 См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской
литературы. С. 169 и ел.
3 Эти рельефы неоднократно публиковались.
См.: Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и
скульптура. С. 441; Даркевич В. П. Подвиги
138
Глава 6
Геракла в скульптуре Дмитриевского собора во
Владимире // Советская археология. 1962.
№ 4. С. 91 и др.
4 Подробнее см.: Вагнер Г. К. Скульптура
Древней Руси. XII век. Владимир. Боголюбо-
во. М., 1969.
5 См.: Соловьев В. С. Сочинения в двух
томах. Т. 2. М., 1989. С. 252 и ел.
6 См.: Вагнер Г. К. От символа к
реальности. М., 1980. С. 108 и ел.
7 Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и
науке. М., 1992. С. 280.
8 Лихачев Д. С. Культура Руси времен
Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.; Л.,
1961, С. 151.
9 Лихачев Д. С. Человек в литературе
Древней Руси. С. 74.
10 Леонов А. И., Померанцев H. H.
Деревянная скульптура // Русское декоративное
искусство. Т. 1. М, 1962. С. 123.
11 Ср.: Блаватский В. Д. Греческая
скульптура. М.; Л., 1939. С. 19.
12 Лазарев В. Н. Московская живопись,
шитье и скульптура первой половины XV века //
История русского искусства. Т. III. M., 1955.
С. 204 — 205.
13 Там же.
14 Житие св. Стефана, епископа Пермского,
написанное Епифанием Премудрым. С. 109.
15 История русской литературы. Т. 11. М.;
А, 1946. С. 201.
16 Алпатов М. В. Всеобщая история
искусств. Т. III. M., 1955. С. 237.
17 Овсянников Ю. М. Кремлевские мастера.
М., 1970. С. 124 — 125.
18 Олсуфьев Ю. А. Второй более или менее
достоверный памятник скульптуры руки
Василия Дмитриевича Ермолина // Олсуфьев Ю. А.
Три доклада по изучению памятников
искусства б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1928.
С. 36 и ел.
19 Иосиф Волои^ий. Просветитель, или
Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1896. С. 332.
20 Там же. С. 306.
21 федотов Г. П. Святые Древней Руси.
Нью-Йорк, 1959. С. 170.
22 См. подробно: Вагнер Г. К. Эстетический
идеал в русской статуарной скульптуре XIV —
начале XVI века // Советское искусствозна-
ние'76. Вып. 1. М., 1976. С. 107.
23 Там же. С. 108.
24 Леонов А. М., Померанцев И. Н.
Деревянная скульптура // Русское декоративное
искусство. Т. 1. С. 146.
Глава 7
Архитектура
D истории восточных
славян X в. — период крутого перелома.
К тому времени заканчиваются разложение
родоплеменных отношений и сложение
классового общества и государства. К концу
X в. структура государства, Киевской Руси,
приобретает уже достаточно законченные
формы. В 989 г. русское войско помогло
византийскому императору подавить
крупное восстание Варды Фоки, а князь
Владимир Святославич со значительной
армией вторгся в Крым и подчинил
отложившийся от императора главный город
византийского Крыма — Корсунь. Вскоре после
этого в Киев прибыло византийское
посольство. Оно доставило византийскую
царевну Анну, предназначенную в жены
киевскому князю. Этот династический брак
резко повысил престиж русской княжеской
династии в глазах остальных европейских
государей. Вместе с царевной Анной
прибыли священники для распространения на
Руси христианства. Сразу же вслед за этим
в Киеве была построена первая каменная
церковь. Князь Владимир «помысли создати
церковь <...> и послав приведе мастеры от
грек». Постройка была начата в 989 г., а
завершена и торжественно освящена в
996 г. На содержание церкви была
выделена «десятина» княжеских доходов, и ее
поэтому стали называть церковью
Богородицы Десятинной.
Десятинная церковь рухнула во время
взятия Киева войсками Батыя в 1240 г.
Плохая сохранность остатков сооружения и
сложность структуры раскопанного здания
не дают возможности с полной
уверенностью и в деталях реконструировать план
древнего храма. Вследствие этого в научной
литературе предложено несколько вариантов
реконструкции, существенно различающихся
между собой. Что же касается объемной
композиции церкви, то здесь возможны
только самые общие предположения.
Достаточно уверенно можно утверждать лишь то,
что Десятинная церковь была трехнефным
храмом крестовокупольного типа с тремя
апсидами и тремя парами столбов. С трех
сторон к церкви примыкали галереи,
значительно усложненные в западной части, где,
очевидно, находились лестничная башня и
крещальня. В летописи имеется указание, что
церковь имела 25 глав, но эти сведения
внесены в летопись уже в конце XIV в., когда
сам храм был в руинах; разумеется,
свидетельство это не может считаться
достоверным1.
При раскопках найдены сохранившиеся
участки мраморных полов, мраморные
капители колонн, фрагменты фресковых
росписей, мозаичная смальта и другие элементы
убранства интерьера. Обломки кладок
позволяют определить, что стены были
сложены из плоского византийского кирпича —
плинфы на известковом растворе с
заполнителем из толченой керамики (цемянки).
Кладка была исполнена в технике со
скрытым рядом, при которой на фасадную
поверхность выходили не все ряды кирпичей,
а через ряд, тогда как промежуточные ряды
плинф несколько отступали от фасада и
были прикрыты снаружи слоем раствора.
Такая кладка, создававшая чрезвычайно
живописную полосатую поверхность стен,
была в то время характерна для
константинопольской школы архитектуры. Эта
техника, как и сохранившиеся фрагменты богатого
убранства здания, свидетельствует, что
строителями были столичные византийские
мастера. Исследователи же отмечают, что в
плане Десятинной церкви имеется деталь,
которая характерна скорее для памятников
византийской провинции, чем для
Константинополя: апсиды храма примыкают
непосредственно к восточной паре подкупольных
столбов, не имея здесь дополнительного
членения, так называемой вимы. Вместе с
тем церкви, не имеющие вимы, известны и
в самом Константинополе, поэтому данное
обстоятельство не может ставить под
сомнение создание Десятинной церкви именно
столичными мастерами.
Кроме Десятинной церкви, мастера
построили кирпичные ворота — парадный
въезд на укрепленную территорию киевского
«города Владимира», а также несколько
дворцовых зданий. Очень плохая
сохранность остатков этих зданий не дает
возможно
Глава 7
ности судить об их первоначальном облике.
Ясно лишь, что это были не жилые, а
парадные помещения, тогда как жилые были
деревянными и находились либо на втором
этаже, либо рядом с кирпичными дворцами.
На площади перед Десятинной церковью
были установлены вывезенные из Корсуня
трофейные скульптуры. Так на рубеже X и
XI вв. в Киеве был создан первый на Руси
ансамбль монументальных построек, резко
выделивший стольный город среди всех
остальных русских городов. Закончив этот
цикл строительства, мастера, видимо,
возвратились на родину; каменно-кирпичное
строительство на Руси прервалось
примерно на 30 лет, и следующий его этап
относится уже к 30-м годам XI в.
После смерти князя Владимира Русская
земля оказалась разделенной на две части.
Территорией к востоку от Днепра владел
князь Мстислав, а к западу — Ярослав
(впоследствии прозванный Мудрым). Уже
в 1022 г. по распоряжению Мстислава была
построена церковь Богородицы в
Тмутаракани — далекой колонии Руси в районе
нынешней Тамани. Раскопками удалось
обнаружить фундаменты, возможно,
принадлежавшие именно этой церкви. Судя по
технике каменной кладки, памятник был
возведен местными, нерусскими мастерами.
Несколько позднее, в 30-х годах,
Мстислав начал строительство Спасского собора
.в своем стольном городе — Чернигове. Ко
времени смерти Мстислава в 1036 г.
Спасский собор был достроен до высоты «яко на
кони стояще рукою досящи»2.
Черниговский Спасский собор является
древнейшим полностью сохранившимся
памятником каменного зодчества на Руси.
Строительная техника его близка технике
Десятинной церкви — это кладка из плин-
фы со скрытым рядом и полосами крупных,
почти не обработанных камней. На
некоторых участках здания (на апсидах, на
башне) кладка имеет декоративный характер.
Храм трехнефный, с тремя апсидами.
Западное его членение четко отделено стенкой
от основного помещения с целью выделить
нартекс. С севера к нартексу примыкает
круглая лестничная башня, а с юга была
пристроена двухэтажная часовня-крещаль-
ня (не сохранилась). К восточному
членению Спасского собора с севера и юга
также некогда примыкали маленькие бесстолп-
ные часовни.
В отличие от Десятинной церкви, в
соборе имеется вима — дополнительное
членение между подкупольным пространством
и апсидами. Удлиненность здания и частый
ритм лопаток на его северном и южном
фасадах, не отвечающих внутренним
членениям, придают храму характер купольной
базилики, хотя завершается собор чистой
крестовокупольной структурой сводов и
пятью главами. Над нартексом размещены
хоры, опирающиеся на своды; кроме того,
хоры на деревянных балках тянулись и над
северным и южным нефами до самых апсид.
В интерьере сохранились следы фресковых
росписей. Пол был выстлан плитами
красного шифера (пирофилитовый сланец) с
врезанным в них рисунком, заполненным
мозаикой. Как архитектурные формы
храма, так и его техника не оставляют
сомнений, что строили Спасский собор так же,
как и Десятинную церковь,
константинопольские зодчие.
После смерти Мстислава его брат
Ярослав соединил в своих руках управление всей
Русской землей. Укрепление государства и
поражение печенегов значительно усилили
роль Киева как стольного города всей Руси.
Территория Киева увеличилась во много
раз. Она была окружена линией земляных
оборонительных валов, на гребне которых
стояли срубные деревянные стены. В
отличие от старой территории Киева, известной
под названием «город Владимира»,
значительно расширенная территория нового
города получила название «город
Ярослава». В городе развернулось интенсивное
кирпичное строительство. Очевидно,
Ярослав Мудрый получил из Византии сильную
строительную артель, которую он, вероятно,
подкрепил мастерами, работавшими в
Чернигове.
В 1037 г. в центре города Ярослава было
начато строительство собора Святой Софии
Премудрости Божией, законченного, по-
видимому, в начале 1040-х годов. Собор,
хотя и сильно искаженный и оформленный
снаружи в стиле украинского барокко,
дошел до наших дней почти целиком.
Строительная техника и архитектурные формы
141
Книга первая
Софийского собора не вызывают сомнений
в том, что строители прибыли из
Константинополя, и отражают традиции
столичного византийского зодчества. Однако
огромный размах проведенных работ нельзя было
осуществить силами одних только приезжих
мастеров, а это позволяет думать, что к делу
были широко привлечены и русские
строители. Высокий уровень киевского гончарного
Киев. Собор Св. Софии. Реконструкция
ремесла значительно облегчал задачу
создания местных строительных кадров. К
окончанию возведения Софийского собора
киевская строительная артель, несомненно,
состояла уже не только из греков;
существенную роль должны были играть и их русские
ученики.
Софийский собор — грандиозное здание,
уже самими своими размерами
свидетельствующее, что оно было создано как
главный храм Киевской Руси, как памятник,
демонстрирующий мощь и величие
сложившегося молодого государства. Это пятинеф-
ный храм с пятью апсидами. С трех сторон
к зданию примыкают галереи:
внутренние — более узкие, двухэтажные, и
наружные — более широкие, одноэтажные. В
западную внешнюю галерею включены две
лестничные башни. Общий размер собора с
галереями по длине составляет 41,7 м, а по
ширине — 54,6 м. Храм имеет большие
хоры, создающие в центре крестообразное
в плане пространство, освещенное сверху
окнами, размещенными в барабане
главного купола, диаметр которого равен
приблизительно 7,6 м. Кроме главного, собор имеет
еще 12 меньших куполов.
Четко выраженная пирамидальная
структура здания придает цельность его
композиции. Основные декоративные элементы
фасада — двух- и трехступенчатые ниши и
окна, тонкие колонки на апсидах,
выложенные из плинфы меандры и кресты. Но
наибольшую декоративность фасадам придает
живописная структура кладки со скрытым
рядом и полосами цветного
необработанного камня. Исследования, проведенные в
Софийском соборе, позволяют довольно
точно графически реконструировать его
первоначальный облик.
Интерьер Софийского собора менее под-
142
Глава 7
вергся искажениям и сохранил значительную
часть своего первоначального убранства.
Центральная часть здания — подкупольное
пространство и главная апсида — покрыты
великолепной мозаикой, а боковые части
украшены фресками. Интерьер собора и
поныне производит сильнейшее
художественное впечатление несмотря на то, что
полностью исчезли мозаичный набор пола,
алтарная преграда, светильники и прочие
элементы убранства.
Зодчие, строившие Софийский собор,
стремились создать внутреннее простран-
стро, поражающее не только размерами и
роскошью отделки, но и живописностью.
Хотя план здания и очень четкий, интерьер
кажется сложным и удивляет многообразием
открывающихся ракурсов. При этом
отчетливо чувствуется, что в здании
различаются два аспекта обозрения: людям, стоящим
в полузатененном пространстве внизу,
верхние, залитые светом, части собора кажутся
божественно прекрасными, но и
недосягаемыми, тогда как князю и его
приближенным, находящимся на хорах, все
сверкающее великолепие интерьера открывается
здесь же, рядом. Хоры собора велики по
площади и служили залами для
торжественных церемоний княжеского и епископского
дворов.
Весь облик собора должен был
пропагандировать идею величия христианской
церкви, а вместе с ней и идею божественного
происхождения княжеской власти. О том,
что именно такие задачи были поставлены
перед зодчими, можно судить хотя бы по
«Слову о законе и благодати»,
написанному митрополитом Иларионом вскоре после
построения храма. О Софийском соборе
Иларион пишет как о «церкви дивной и
славной всем окружным странам, яко же ина
не обрящется во всем полунощи земнемь от
востока до запада»3.
Несмотря на то что руководили
строительством Софийского собора
константинопольские зодчие, сравнение этого храма с
одновременными византийскими
памятниками показывает, что прямых аналогий ему
ни в Константинополе, ни в других
византийских городах нет. В отличие от
сравнительно небольших и трехнефных
византийских церквей той поры Софийский собор
имеет огромные размеры, он пятинефный и
многоглавый. Эти особенности
объясняются прежде всего тем, что киевский собор
должен был стать главным храмом
мощного раннефеодального государства, и
естественно, что его хотели сделать
грандиозным. В Византии к тому времени процесс
развития феодальных отношений зашел уже
очень далеко, и церкви строили как
замкнутые вотчинные или монастырские
храмы, предназначенные для незначительного
количества молящихся. Таким образом,
константинопольские церкви и киевский собор
отвечали разному социальному
содержанию.
При трехнефной схеме сильно укрупнить
здание невозможно, так как это значительно
увеличило бы диаметр купола, поэтому
увеличение размеров собора было исполнено за
счет добавления еще двух нефов, что
превратило его в пятинефный. Нехарактерное
для Византии многоглавие также
объясняется спецификой заказа, а вовсе не древними
славянскими традициями, как это порой
ошибочно полагали. Следует помнить, что
приехавшим в Киев мастерам была
поставлена задача, с которой им не приходилось
сталкиваться у себя на родине: нужно было
построить огромный храм с обширными
хорами, необходимыми для церемоний
княжеского двора. Осветить такие хоры,
прикрытые снаружи вторым ярусом галерей, по
византийской системе можно было только
через окна барабанов глав. Конечно, зодчие
использовали многоглавие не только как
функциональный, но и как художественный
прием, с помощью которого они создали
торжественную и пышную композицию.
Большую роль в отличии киевского
собора от византийских церквей сыграло и
применение местных строительных
материалов. На Руси не было мрамора.
Капители, карнизы и другие мраморные детали
можно было привезти из Греции, но
вместо принятых в Константинополе мраморных
колонн, доставить которые было
невозможно, пришлось возводить кирпичные столбы,
что существенно изменило характер
интерьера. Для убранства полов вместо мрамора
применяли мозаику, плиты красного
шифера, поливные керамические плитки. Таким
образом, иной характер здания и иные ус-
143
Книга первая
ловия строительства привели к появлению
архитектурного памятника совершенно
другого, чем в Византии, облика.
После завершения строительства Св.
Софии Киевской строители построили еще два
больших Софийских собора в крупнейших
городах Руси — в Новгороде (1045 —
1050 гг.) и Полоцке (по-видимому, в 50-х
годах XI в.). Новгородский собор
сохранился до наших дней почти целиком, а от
полоцкого уцелели только фрагменты стен,
включенные в более позднее здание.
Несомненно, что при строительстве обоих этих
храмов мастера ориентировались на
киевский собор как на образец. Связь между
этими памятниками архитектуры
выявляется как в совпадении общей плановой схемы,
так и в повторении некоторых размеров.
Однако и новгородский, и полоцкий
соборы представляют собой не полное
повторение, а как бы несколько сокращенные
реплики киевского: они меньше по размерам и
имеют только три апсиды. У
новгородского собора пять глав, одна галерея и одна
лестничная башня. Вместо дорогой мозаики в
его интерьере использована только
фресковая роспись, да и то выполненная далеко не
сразу после завершения строительства.
По-видимому, в Новгороде на первых
порах было нелегко наладить массовое
производство плинфы, поэтому опытные
мастера при строительстве широко применяли
местную постелистую известняковую плиту,
затирая поверхности стен известковым
раствором. Кирпич же они употребляли очень
экономно, в основном для кладки сводов и
арок. В результате характер поверхности стен
новгородской Св. Софии существенно
отличается от фактуры стен киевской Св. Софии.
Исследования показали, что
новгородский собор был задуман как храм с
одноэтажными галереями. Однако в процессе
строительства здание было изменено и
галереи сделаны двухэтажными. При
одноэтажных галереях новгородский храм
должен был иметь четко выраженную
пирамидальную композицию и тем самым
напоминать по силуэту киевскую Св. Софию. В
окончательном же виде он приобрел более
лаконичный объем. Это обстоятельство, а
также покрытые обмазкой стены
придавали новгородскому Софийскому собору
менее живописный и гораздо более суровый
характер.
Полоцкий Софийский собор
первоначально был возведен вообще без галерей, но
вскоре к нему с запада пристроили галерею.
Лестничная башня в этом храме
примыкала к западному членению его северного
фасада. В полоцком храме (в отличие от
киевского и новгородского) имеется вима —
дополнительное членение между апсидами и
подкупольным пространством. Из
письменных источников известно, что полоцкая
София венчалась семью главами4.
Особый интерес представляют Золотые
ворота в Киеве, построенные, видимо,
почти одновременно с Софийским собором.
Это была проездная башня, ведшая сквозь
оборонительный вал Киева и имевшая
вверху маленькую надвратную церковь
Благовещения. Ворота имели оборонное значение и
служили для защиты въезда, но основное их
предназначение было все же связано не с
чисто фортификационной, а идеологической
задачей: надвратная церковь осуществляла
«небесную» защиту города. Роскошно
оформленные ворота с церковью как бы
подчеркивали, что Киев ни в чем не уступает
Константинополю; даже названия киевских
построек повторяли византийские: главный
храм города — Софийский, дворцовая
церковь — Богоматери, главные ворота —
Золотые. От Золотых ворот сохранились
небольшие участки двух параллельных
стенок проезда, но археологические
исследования и рисунки, исполненные в XVII в.,
позволяли в общих чертах графически
реконструировать их первоначальный облик.
К сожалению, в 1982 г. над подлинными
руинами ворот была построена фантастическая
« реконструкция ».
После окончания возведения полоцкого
Софийского собора все строительство вновь
сконцентрировалось в Киеве. Очевидно, на
Руси в то время существовала лишь одна
строительная артель, способная вести
самостоятельные строительные работы. Князья,
сменявшие друг друга на киевском
престоле, заказывали постройку храмов главным
образом в своих вотчинных монастырях.
Видимо, в 60-х годах XI в. был заложен
собор Димитриевского монастыря, в
1070 г. — собор Выдубицкого монастыря,
144
Глава 7
в 1073 г. — Успенский собор Печерского
монастыря.
Для дальнейших путей развития
русского зодчества большую роль сыграл
Успенский собор Печерского монастыря.
Строительством собора руководили зодчие,
приехавшие из Константинополя, — «мастера
церковнии 4 мужи»5. Они, очевидно,
возглавили киевскую строительную артель.
Близость композиционной схемы
Успенского собора Печерского монастыря к
композициям остальных киевских храмов той поры
дает основание полагать, что строители
стремились сохранить освященную уже
традицией структуру первого христианского
храма Киева — Десятинной церкви, основной
объем которой также представлял собой
трехнефную шестистолпную постройку. По-
видимому, византийские зодчие, строившие
собор в Печерском монастыре, были
вынуждены считаться с требованиями заказчиков,
желавших, чтобы здание отвечало тем
формам, которые сложились в киевской
архитектуре. Позднее в монастыре возникла
легенда, что здание собора было построено
чудесным образом — по личному указанию
Богоматери.
Так развивалось русское зодчество от
конца X до начала XII в. Каково же
соотношение русского зодчества с византийским
и насколько самостоятельным было
зодчество Киевской Руси? Несомненно, что
византийские мастера неоднократно приезжали
в это время на Русь и вели строительство.
Так, с византийскими мастерами связано
возведение Десятинной церкви в Киеве в
конце X в., черниговского Спасского
собора и киевского Софийского собора в 30-х
годах XI в., Успенского собора
Печерского монастыря и Кловского собора в 70 —
80-х годах, начало строительной
деятельности в Чернигове и в Переяславле в 80-х
годах. И несмотря на такое активное
участие греческих зодчих, памятники
архитектуры Киевской Руси существенно
отличаются от византийских.
Чем можно объяснить эти различия и
самостоятельность русских памятников?
Высказывалось предположение, что
византийские зодчие, приехав на Русь,
привлекли к участию в строительстве местных
строителей-плотников, которых они быстро
переучили на каменщиков. Такое
предположение абсолютно невероятно. Каменщики и
плотники — совершенно различные
профессии, и выучить на каменщиков (работавших
в кирпичной технике) гораздо легче
гончаров, чем плотников. Поэтому традиции
деревянного зодчества языческой поры не
могли играть существенной роли в
строительстве кирпичных христианских церквей
Киевской Руси.
Причиной своеобразия русских
памятников была совершенно иная, чем в Византии,
обстановка строительства. Приехав на Русь,
византийские мастера столкнулись с
необходимостью решать новые задачи,
связанные с полученным ими заданием.
Требовалось создать крупные храмы с очень
большими хорами, что было не характерно для
византийских церквей того времени. В
стране, недавно принявшей христианство,
большую роль должны были играть помещения
крещален, что тоже не было присуще
памятникам Византии той поры. Все это
заставляло греческих зодчих принимать иную, чем
они привыкли на родине, схему
планового и объемного решения. Кроме того, они
должны были приспосабливаться к наличию
местных строительных материалов. К
этому следует добавить, что они вынуждены
были к тому же считаться со вкусами
заказчиков, эстетическое чувство которых было
воспитано на традициях деревянного
строительства.
Следовательно, своеобразие задания,
наличие или отсутствие определенных
строительных материалов и местные условия уже
на самых первых порах вызвали появление
сооружений, непохожих на те, которые
греческие зодчие строили у себя на родине. В
дальнейшем же именно первые памятники
архитектуры и их особенности стали
отправными пунктами, на которые
ориентировались строители следующего поколения.
Церковный авторитет древнейшего
христианского храма — Десятинной церкви, а
позднее «богозданного» Успенского собора
Печерского монастыря не позволял зодчим
отходить от сложившейся традиции. В тех
же случаях, когда греческие мастера все-
таки отступали от нее, как, например, при
постройке Кловского собора и переяславль-
ской церкви Св. Михаила, созданные ими
145
Книга первая
здания не оказали существенного влияния на
развитие киевской архитектуры.
Так сложилось и развивалось зодчество
Киевской Руси. И хотя это зодчество
возникло на базе византийской архитектуры,
оно даже на самой ранней стадии имело
своеобразный характер и уже во второй
половине XI в. выработало собственные
традиции, получило свой, киевский, а не
византийский путь развития.
*
Развитие архитектуры XII в.
происходило в совершенно иных условиях, чем в XI в.
В стране начал интенсивно развиваться
процесс феодального дробления, приведший
к созданию значительного количества
самостоятельных или полусамостоятельных
княжеств. Порой княжества эти становились
почти полностью независимыми как в
политическом, так и в экономическом отношении.
Феодальные распри часто приводили к
военным столкновениям, а изменения
политической ситуации вызывали сложение и
развал политических союзов. В этих весьма
сложных условиях развитие культуры,
искусства и, в частности, архитектуры в разных
русских землях проходило далеко не
идентично.
Во многих крупных городах появились
собственные строительные кадры, способные
самостоятельно вести монументальное
строительство. В ряде случаев в развитии
архитектуры намечались настолько существенные
различия, что можно говорить о
возникновении самостоятельных архитектурных школ.
В зодчестве Киева в начале XII в.
продолжали сохраняться традиции, возникшие
еще в предшествующий период. Возможно,
что с вокняжением Владимира Мономаха в
Киев перешли и те строители, которые
ранее работали в Переяславле, однако
основу киевской строительной артели все же,
несомненно, составляли кадры,
сложившиеся здесь на месте.
Наиболее значительной постройкой была
церковь Спаса в княжеском пригородном
селе Берестове, возведенная между 1113 и
1125 гг. От этой церкви сохранилась
только ее западная часть, включенная в состав
более позднего здания. Фундаменты
восточной части церкви были вскрыты
раскопками, что позволяет полностью
реконструировать план памятника.
В плане церкви Спаса на Берестове
имеются отличия от планов более ранних
киевских храмов, хотя в основе здесь также
лежит трехнефный трехапсидный храм с
нартексом. Отличие заключается прежде
всего в том, что примыкающие к нартексу
лестничная башня и крещальня настолько
расширяют нартекс, что он значительно
выступает к северу и югу из основного
объема здания. Кроме того, перед всеми
тремя порталами некогда существовали
небольшие притворы. Следы примыкания
западного притвора к западной стене храма
показывают, что притвор был перекрыт
сводом трехлопастного очертания. Кладка церкви
также несколько отличается от кладок более
ранних киевских памятников — это та же
кладка из плинфы со скрытым рядом, но уже
без прослоек слабо обработанных камней на
фасадах. Декоративные элементы фасадов —
двухуступчатые ниши, выложенные из
плинфы кресты и полосы меандра.
Усложненный силуэт плана церкви и
наличие трехлопастного свода над
притворами дали основание некоторым
исследователям предположить, что и завершение
фасадов самого храма, быть может, тоже
было трехлопастным. Поскольку над
башней и крещальней, вероятно, существовали
самостоятельные главы, храм в целом
должен был представлять собой довольно
сложную и очень живописную композицию.
В начале XII в. начался новый этап
строительства в Чернигове. Наиболее ранним
памятником этого этапа является Успенский
собор Елецкого монастыря. Построенный,
по-видимому, около 1113 г., собор этот
полностью сохранился до наших дней, хотя и
в сильно перестроенном виде. Успенский
собор Елецкого монастыря повторяет общую
типологическую схему Успенского собора
Киево-Печерского монастыря, что,
очевидно, было сознательным приемом,
продиктованным заказчиком, — ведь он повторяет
Печерский собор даже по названию —
Успенский. Однако ни техника исполнения,
ни архитектурные детали, ни
стилистический характер здесь не совпадают. Кладка
здания выполнена из плинфы, но не со
146
Глава 7
скрытым рядом, а равнослойная; в качестве
декоративных элементов использованы ар-
катурный пояс в основании закомар и
мощные полуколонны в наружных лопатках.
Общий облик храма статичный,
лаконичный, с одной массивной главой и четким
ритмом закомар, основания которых
расположены в одном уровне. Лестница для
подъема на хоры расположена здесь не в
башне, как в киевских памятниках, а в
толще стены.
Совершенно ясно, что строили Елецкий
собор какие-то мастера, не связанные ни с
киевской, ни с переяславльской традицией.
Вопрос, откуда прибыли эти новые
мастера, до сих пор не решен. Дело в том, что
характер техники здесь явно византийский,
но, в отличие от киевских построек, скорее
провинциально-византийский, чем
столичный. В то же время эта византийская
техника здесь сочетается с явными
романскими элементами — аркатура, покрытие
поверхностей кладки раствором с разработкой
линиями под квадровую белокаменную
кладку. Приехали ли эти мастера из какого-то
центра, где византийская архитектура уже
подверглась влиянию романской, или же это
соединение византийских и романских
особенностей произошло уже в Чернигове, пока
неясно.
Несколько позже, видимо уже в 20-х
годах XII в., в Чернигове был построен
собор Св. Бориса и Глеба, также почти
полностью сохранившийся и к тому же
восстановленный в 1960-х годах в
первоначальных формах. Этот храм имеет такой же
статичный и четкий облик, как и Елецкий.
Совпадает он с этим собором и по
строительной технике, и по архитектурным
формам. При раскопках собора Св. Бориса и
Глеба было найдено несколько
белокаменных капителей, покрытых великолепной
резьбой явно романского характера. К тому
же времени относится и черниговская
Ильинская церковь. Она очень небольшая, бес-
столпная, с одной апсидой и примыкающим
с запада нартексом. Барабан купола здесь
поддерживают подпружные арки,
опирающиеся не на столбы, а на пилоны в углах
помещения. Бесстолпный тип храма
применялся для маленьких по размеру церквей, а
также для приделов, примыкающих к
большим храмам. Ильинская церковь — един-*
ственный во всей русской архитектуре
домонгольского времени бесстолпный храм,
своды и глава которого сохранились до
наших дней.
В 1139 г. черниговский князь Всеволод
Ольгович стал киевским князем. Вместе с
ним из Черниговской земли перешли в Киев
и строители. Именно они теперь взяли в
свои руки все киевское монументальное
строительство. Старую же киевскую
строительную артель Всеволод передал своему
временному союзнику — полоцкому князю.
Сразу же по приезде в Киев, в начале
40-х годов, черниговские строители
возвели там Кирилловскую церковь. Эта первая
киевская постройка нового типа очень
близка черниговским и рязанским. По длине
Кирилловская церковь примерно равна
черниговскому Елецкому собору, но несколько
шире его, благодаря чему диаметр купола
также получился больше и равным
диаметру купола Софийского собора, т. е. 7,6 м.
Очевидно, таково было задание, выданное
зодчему и связанное с престижем занявшего
киевский стол черниговского князя. Церковь
сохранилась целиком, хотя в сильно
перестроенном виде. Первоначальные ее формы
изучены с достаточной полнотой. В
интерьере Кирилловской церкви расчищены
значительные участки фресковой живописи.
В 1144 г. построили церковь Св. Георгия в
Каневе, несколько меньшую, чем
Кирилловская, и тоже полностью сохранившуюся в
несколько перестроенном виде.
Во всех этих памятниках архитектуры
применялась равнослойная плинфяная
техника, впервые введенная на Руси в
черниговском соборе Елецкого монастыря и с тех
пор ставшая характерной особенностью
черниговских, рязанских, а затем и киевских
памятников. Техника эта, при которой все
ряды кирпичей выходят к плоскости
фасада, лишена живописной декоративности,
которой обладала кладка со скрытым рядом.
Кроме того, в качестве элементов декора
перестали применять двух- и трехуступча-
тые ниши: вместо этого на фасадах
создавались иные декоративные элементы —
аркатурные пояса, мощные полуколонны на
пилястрах.
Параллельно с мастерами, ведшими стро-
147
Книга первая
ительство в Киеве, Чернигове и на
Волыни, интенсивно работала и другая
строительная артель — в Смоленске. В 40-х годах
XII в. сюда приехала группа киево-черни-
говских мастеров, заложившая основы
местной строительной организации. Судя по
широко развернувшемуся строительству,
здесь вскоре сложилась уже достаточно
сильная строительная артель. В 1145 г. в
Канев. Церковь Св. Георгия. 1144 —1147.
Реконструкция
Смоленске начали строить собор Св. Бориса
и Глеба Смядынского монастыря.
Раскопки показали, что это был храм с нартексом,
т. е. шестистолпный, с лестницей в толще
стены и мощными полуколоннами на
наружных лопатках. Храм имел в интерьере
фресковые росписи, а пол его был покрыт
поливными керамическими плитками.
В середине XII в. в Смоленске была
построена церковь Петра и Павла,
полностью сохранившаяся до наших дней. Она
подверглась тщательной реставрации,
причем фасады ее не покрыли штукатуркой,
оставив обнаженной первоначальную
фактуру стен. Церковь очень нарядна: помимо
аркатурного пояска она имеет на угловых
лопатках полосы орнамента и выложенные
из плинф рельефные кресты, а на барабане
размещены полосы арочек и керамических
вставок в виде нишек с килевидным
завершением. В отличие от Борисоглебского
собора церковь Петра и Павла была четырех-
столпной. В дальнейшем к такому
сокращенному варианту (т. е. без нартекса) относятся
все позднее сооруженные смоленские
храмы XII в.
Несмотря на наличие в Смоленске
собственной строительной артели,
строительство здесь вплоть до 80-х годов XII в.
продолжало вестись в русле киевской
архитектурной традиции. Очевидно, тесная связь
смоленских князей с Киевом и их
политическая ориентация на Киев заставляли их
требовать от зодчих полного повторения
148
Глава 7
киевских образцов. Конечно, памятники
Киева, Чернигова, Рязани и Смоленска не
вполне идентичны. Порой здесь можно
отметить различия, сказывающиеся в деталях
строительной техники, выявляющих
«почерк» мастеров, но эти различия не
затрагивают ни стилистических, ни строительно-
технических принципов. Вот почему есть все
основания считать, что эти памятники
составляют одну архитектурную школу.
Поскольку наиболее значительным
политическим и художественным центром был Киев,
эту школу можно называть киевской
архитектурной школой XII в.
Другая архитектурная школа сложилась
в Новгородской земле. После постройки
Софийского собора монументальное
строительство в Новгороде прервалось на
полстолетия и вновь началось лишь в самом начале
XII в. В 1103 г. в княжеской резиденции
Городище под Новгородом была построена
церковь Благовещения. Раскопками были
вскрыты остатки этой церкви, оказавшейся
трехнефным храмом с нартексом и
квадратной башней, примыкавшей к западному
членению северного фасада. Здание
построено в технике кладки из плинфы со
скрытым рядом и явно выдает руку киевских
мастеров, работавших в традиции,
сложившейся еще в XI в. Однако здесь имеется и
очень существенное новшество: обнаружив
в Новгороде превосходный строительный
материал — местную слоистую
известняковую плиту, — мастера широко использовали
этот материал в строительстве. Сложилась
своеобразная система кладки, где ряды
плинф перемежались рядами известняковой
плиты.
Несколько позже был построен
Никольский собор на Ярославовом дворище,
обычно называемый Николо-Дворищенским
собором (1113 г.). Этот памятник
архитектуры сохранился почти целиком. Он также
шестистолпный, с нартексом, четко
отделенным от основного помещения. На хоры
собора попадали по переходу из княжеского
деревянного дворца через дверь во втором
ярусе. Когда в конце XII в. дворец
перестал функционировать, в одно из членений
нартекса встроили лестничную башню. В
настоящее время собор увенчан одной
главой, но первоначально он был пятиглавым.
Вскоре после сооружения Николо-Дво-
рищенского собора в Новгороде были
построены храмы Антониева (1117 г.) и
Юрьева монастырей (1119 г.). По плановой
схеме эти здания близки церкви
Благовещения на Городище: они шестистолпные с
лестничной башней, примыкающей к
северо-западному углу. В церкви Рождества
Богородицы (Антониев монастырь) башня
круглая, а в соборе Св. Георгия (Юрьев
монастырь) — квадратная. Оба храма
полностью сохранились, хотя, как и
Никольский собор, они еще не восстановлены в
первоначальных формах.
Храмы этих монастырей трехглавые;
наличие главы над лестничной башней
создавало беспокойную асимметрию, и
поэтому зодчие для организации уравновешенной
композиции разместили над юго-западным
углом здания еще одну небольшую главу.
Письменные источники сохранили имя
мастера, построившего собор Юрьева
монастыря: «<...> а мастер трудился Петр» —
первое известное нам имя русского
зодчего6. Декоративные элементы и строительные
приемы, использованные в соборе Юрьева
монастыря, почти полностью совпадают с
таковыми в церкви Благовещения на
Городище и Николо-Дворищенском соборе,
тогда как церковь Антониева монастыря
демонстрирует руку другого зодчего, явно
стремившегося к большей лаконичности форм.
Во всех трех сохранившихся зданиях
уцелели фрагменты фресковой живописи.
Памятники новгородского зодчества той
поры, несомненно, несут на себе еще
черты киевской архитектурной традиции, хотя
в них уже видны некоторые особенности,
отличающие их от киевских храмов. В
первую очередь эти особенности сказываются
в строительной технике — широком
применении местной известняковой плиты в
сочетании с плинфой. Наиболее ярко новые
черты проявились в церкви Антониева
монастыря, во многом как бы
предвосхитившей черты самостоятельной новгородской
архитектурной школы. Несколько позже в
Новгороде были построены церкви Ивана
на Опоках (1127 г.) и Успения на Торгу
(1135 г.). Оба храма полностью
перестроены, но раскопками выявлено, что это были
шестистолпные здания.
149
Книга первая
В 30-х годах XII в. строительная артель
из Новгорода перебазировалась во Псков,
где возвела один за другим четыре храма:
Троицкий собор, церковь Св. Димитрия
Солунского и соборы Ивановского и Ми-
рожского монастырей, из которых уцелели
последние два. В соборе Ивановского
монастыря продолжается развитие новшеств,
заложенных еще в новгородском соборе
Антониева монастыря, — отсутствуют
двухступенчатые ниши на фасадах, которые
были основным декоративным мотивом
фасадов соборов Николо-Дворищенского и
Юрьева, крещатые в плане столбы
заменены шестиугольными и круглыми. Собор
Ивановского монастыря увенчан тремя
главами, но в отличие от куполов
новгородских соборов эти главы расположены
симметрично и не имеют функционального
значения, являясь, очевидно, лишь данью
традиции. Очень существенное новшество —
лестница для подъема на хоры, проходящая
не в башне, а в толще западной стены. В
интерьере собора Ивановского монастыря
отсутствуют лопатки на стенах. В этом
здании зодчие явно отошли от киевских
традиций, которые еще сильно
чувствовались в новгородских храмах первой трети
XII в.
Завершает этап псковского строительства
Спасо-Преображенский собор Мирожско-
го монастыря, построенный в конце 40-х —
начале 50-х годов XII в. Собор построен по
заказу новгородского архиепископа Нифонта
и значительно отличается от всех
возведенных до этого памятников русской
архитектуры. Его западные угловые членения
резко понижены; так же понижены боковые
апсиды, благодаря чему здание имеет
отчетливо выраженную снаружи крестообразную
объемную композицию. Такая композиция
характерна для византийского зодчества,
особенно в византийских провинциях, на
Балканах, в Крыму. Вероятно,
строительством руководил какой-то византийский
зодчий, что, может быть, связано с греко-
фильской политикой Нифонта. Но, судя по
строительной технике, возводили здание
новгородские строители. По-видимому, уже
в процессе строительства выяснилось, что
пониженные углы храма нецелесообразны в
северном климате, так как здесь может
скапливаться снег. Поэтому сразу же
после завершения постройки пониженные
западные его углы были надстроены, что
сблизило Спасо-Преображенский собор с более
привычным на Руси типом храмов. В
здании сохранилась значительная часть
старинных фресковых росписей.
В 1153 г. Нифонт перевел строителей из
Пскова в Ладогу — другой важнейший
город Новгородской земли. Здесь они
возвели церковь Св. Климента. Вскрытые
раскопками остатки этого храма показали, что
зодчие сделали существенный шаг в
дальнейшей разработке самостоятельных
новгородских архитектурных форм. Церковь Св.
Климента повторяла схему
Спасо-Преображенского собора, но уже с надстроенными
угловыми членениями и добавленным с
запада нартексом. Лестница на хоры
размещалась в толще западной стены, западные
подкупольные столбы в плане квадратные,
лопаток на внутренних стенах нет. Здесь,
таким образом, сложились уже все формы,
которые характерны для новгородской
архитектурной школы. Оставалось только
отказаться от заимствованного у
Спасского собора Мирожского монастыря приема
решения восточной части — резко
пониженных боковых апсид — и возвратиться к
привычной для русского зодчества обычной
трехапсидной схеме.
Сложившиеся в середине XII в.
особенности новой архитектурной школы были
полностью перенесены из Ладоги в
Новгород: тот же вариант типа храма, те же
конструкции и материалы, те же декоративные
элементы.
Причины сложения самостоятельных
архитектурных форм в новгородском
зодчестве следует видеть главным образом в
изменившихся условиях заказа: с середины
XII в. строительство велось по заказам бояр
и местных церковных властей, а мастера
были уже не кнйжескими, а свободными
городскими ремесленниками. Это
существенно отличало условия строительства в
Новгороде от обстановки в других русских
землях. При таких условиях строительство
должно было стать более массовым,
быстрым, дешевым, чем строительство по
заказам князя или митрополита. Действительно,
письменные источники свидетельствуют,
150
Глава 7
что новгородские церкви во 2-й половине
XII в. строились обычно за один
строительный сезон, причем только за последние 30
лет XII в. здесь было возведено не менее
17 каменных храмов. Кроме того, на
изменение форм существенно повлияло также
применение местных строительных
материалов. Наконец, вероятно, здесь сказались и
эстетические представления новгородцев,
воспитанных в иной, чем в Киеве,
художественной среде.
Самостоятельная архитектурная школа
сложилась в Полоцке. Здесь, как и в
Новгороде, после постройки Софийского
собора строительство прервалось, поскольку
храм возводили киевские мастера, а своих
строительных кадров еще не было. Лишь в
конце 30-х годов XII в., когда на киевский
стол пришел черниговский князь Всеволод
Ольгович, он передал в Полоцк киевскую
строительную артель, так как сам
использовал других строителей, пришедших
вместе с ним из Чернигова. Так Полоцк
получил строителей, продолжавших блестящие
традиции старой киевской архитектуры,
сложившейся еще в XI в. Основной
строительный прием этих мастеров — кладка из
плинфы со скрытым рядом — стал
типичным для полоцких построек XII в., тогда
как все кирпичное строительство в других
русских землях перешло уже к новой, рав-
нослойной, технике. Сохранились в
Полоцке и композиционные приемы, применяемые
в старой киевской архитектуре, придающие
памятникам более живописный и
динамичный облик, чем статичный облик
памятников киевской архитектурной школы XII в.
Первым возведенным в Полоцке
зданием был Большой собор Бельчицкого
монастыря. Его фундаменты были открыты
раскопками и показали, что собор представлял
собой шестистолпный храм с небольшими
притворами перед порталами. План этого
собора напоминает план киевской церкви
Спаса на Берестове, однако здесь имеется
и очень существенное новшество: подку-
польный квадрат расположен не между
восточными парами столбов, а между
западными, т. е. сдвинут к западу на одно
членение. Такое смещение купола, особенно
при наличии пониженных притворов,
несомненно свидетельствует о желании зодчего
придать постройке центричность и,
очевидно, подчеркнуть этим высотность
сооружения.
Особый интерес представляет
полностью сохранившаяся Спасская церковь
Евфросиньева монастыря, построенная в
50-х годах XII в. Из жития Евфросинии
Полоцкой известно, что строителем храма
был «приставник над делатели церковными
Иван»7. Хотя церковь в настоящее время
существует в сильно перестроенном виде,
первоначальные ее формы
восстанавливаются достаточно уверенно. Это был
сравнительно небольшой, с нартексом и одной
апсидой храм, в котором ярко проявились
поиски новых композиционных решений.
Его западное членение понижено,
благодаря чему квадратная подкупольная часть
здания оказывается выше остального
объема. Высокий барабан главы поднят на
специальный пьедестал, оформленный со
стороны каждого фасада трехлопастной кривой.
Поскольку эта форма не отвечает
конструкции сводов, ее следует называть не
закомарой, а кокошником. Стремление
подчеркнуть вертикальную устремленность
столпообразной композиции храма видно в слегка
килевидной форме закомар, кокошников и
бровок над окнами. Учитывая значительную
нагрузку, которую дает массивный
пьедестал барабана на подкупольные столбы,
зодчий сделал боковые нефы храма очень
узкими. Его расчет основывался на том, что
благодаря этому давление распределится не
только на столбы, но и на стены. Таким
образом, тщательно продуманная
конструкция здесь полностью отвечает
композиционному замыслу.
В этом замечательном памятнике
архитектуры зодчий Иван вплотную подошел к
решению тех задач, которые стали ведущими
во всех архитектурных школах Руси в
конце XII в. Он чутко уловил наиболее
прогрессивные тенденции развития русского
зодчества, смело создав совершенно новый
архитектурный образ торжественного
столпообразного храма. Спасская церковь
является первым архитектурным памятником, в
котором византийские традиции уже
начисто переработаны и переосмыслены в духе
национального русского зодчества. Однако
дальнейшую разработку типа столпообраз-
151
Книга первая
ного храма полоцкие зодчие осуществили,
опираясь не на композицию Спасской
церкви Евфросиньева монастыря, а
возвратившись к плановой схеме Большого собора
Бельчицкого монастыря.
Чем можно объяснить, что именно в
полоцком зодчестве раньше, чем в других
архитектурных школах Руси, проявились те
тенденции, которые позднее, в конце XII в.,
стали характерными для всего русского
зодчества? Объясняется это прежде всего
своеобразием условий, в которых развивалось
полоцкое зодчество. Получив в наследство
высокие традиции архитектуры Киевской
Руси, Полоцк в дальнейшем мог развивать
свое зодчество с гораздо большей свободой,
чем такие строительные центры, как
Смоленск или Владимир-Волынский.
Смоленские и волынские князья считали
себя потенциально киевскими великими
князьями; они всегда, как в политическом,
так и в культурном отношении
ориентировались на Киев. Естественно, что и в
архитектуре они требовали от зодчих не
отступать от того, что строили в Киеве. В
противовес этому Полоцк почти всегда
находился в оппозиции Киеву. Враждебность
полоцких и киевских князей неоднократно
отмечена летописью. В таких условиях от
полоцких зодчих вовсе не требовали
повторения киевских форм; скорее, наоборот, —
непохожесть возводимых построек на
киевские должна была более импонировать
заказчикам. Поэтому в Полоцке не приняли
таких новшеств киево-черниговской
архитектуры XII в., как равнослойная кирпичная
техника, уравновешенные и статичные
композиции храмов.
Творчество полоцких зодчих не
сдерживалось необходимостью повторять киевские
или византийские формы. Однако, создав
предпосылки развития динамической
композиции столпообразных храмов, полоцкое
зодчество внезапно прекратило свое
существование. Нам до сих пор не вполне ясно,
какие причины привели к прекращению
монументального строительства в Полоцкой
земле. Вероятно, здесь сказались военная
акция смоленского князя, нападение
литовцев, а может быть, интенсивные
династические распри, связанные с разделением
княжества на мелкие уделы. Во всяком случае,
после 70-х годов XII в. каменно-кирпичное
строительство больше не ведется.
Иначе развивалось зодчество на крайнем
юго-западе Руси, в Галицкой земле.
Найденные при раскопках белокаменные
фрагменты позволяют судить, что, приняв
общерусский храм в целом, мастера не только в
технике, но и в архитектурных деталях
использовали чисто романские формы. В конце
40-х или начале 50-х годов XII в.
построен главный храм Галича — Успенский
собор. Судя по раскопанным фундаментам, он
также представлял собой четырехстолпный
храм, но значительно более крупный и с
примыкающими с трех сторон галереями.
Сложен этот храм также из прекрасно
отесанных блоков, причем наряду с
известняком здесь применялся и алебастр.
Успенский собор имел иной стилистический
характер, чем ранее построенные храмы: в
сооружениях 1-й половины XII в. почти не
использовалась резьба по камню, а в
Успенском соборе каменная пластика играла
существенную роль. Входы в храм были
украшены декорированными резьбой
перспективными порталами, применялись
рельефы антропоморфного и зооморфного
характера. Подкупольные столбы имели характер
круглых колонн. Пол Успенского собора
покрывали керамические плитки с
рельефными изображениями зверей и птиц. Отличие
Успенского собора от более ранних
памятников столь существенно, что
свидетельствует о работе других мастеров. Судя по
техническим приемам и декоративному
убранству, мастера эти прибыли из Венгрии. Так
начался в зодчестве Галича новый период,
связанный с влиянием венгерского
зодчества.
Во 2-й половине XII в. в окрестностях
Галича было возведено довольно много
различных зданий, среди них — небольшие
четырехстолпные церкви. По плану они
были близки более ранним храмам, но в них,
как и в Успенском соборе, использовалась
каменная резьба. Однако наряду с такими
храмами традиционного типа строили и
совершенно иные — центрического типа —
ротонды и квадрифолии.
Постройки подобного рода не известны
в русской архитектуре, но имеют прямые
аналоги в романском зодчестве Централь-
152
Глава 7
ной Европы и прежде всего в церквах
Венгрии. Очевидно, разделение восточной и
западной христианских церквей не зашло еще
настолько далеко, чтобы русские церковные
власти воспринимали типы католических
храмов как недопустимые к применению на
Руси. Не вполне ясно, каково узкое
назначение галицких центрических построек: были
ли это храмы пригородных монастырей или
церкви боярских вотчин.
Раскопками в Галицкой земле удалось
обнаружить остатки нескольких деревянных
церквей XII в., причем определена даже
схема их плана. Например, церковь Св.
Параскевы Пятницы в Звенигороде была
прямоугольной постройкой с прямоугольной
же апсидой. На основании ряда косвенных
признаков высказывалось очень
правдоподобное предположение, что она имела
завершение в виде деревянного купола на
световом барабане, опиравшемся на «заломы»,
т. е. как бы имитацию в дереве каменных
парусов. Несомненно, что эта церковь
строилась под сильным влиянием каменной
архитектуры.
Остатки другой деревянной церкви
вскрыты на городище Олешков. Это была
многоугольная центрическая постройка, явно
повторявшая тип центрических каменных.
Городище Олешков было, по-видимому,
укрепленной боярской усадьбой, и прямое
заимствование венгерского типа храма,
возможно, отвечало идеологическим
стремлениям крупных галицких бояр, стремившихся
подражать быту европейских
феодалов-рыцарей. Пол раскопанных деревянных
церквей покрывали поливные плитки, причем в
Олешкове это были плитки с рельефными
изображениями.
Таким образом, Галицкая земля была
единственным районом Руси, где влияние
романского зодчества сказалось не только в
использовании романской строительной
техники и декоративных элементов, но и в
прямом переносе на Русь романских типов
сооружений. Интенсивные политические и
экономические связи Галицкой земли с
западными соседями, а также конкретные
обстоятельства истории древнего Галича
привели к тому, что эта земля стала как бы
контактной зоной взаимодействия русской и
романской архитектуры.
На северо-востоке Руси находилась так
называемая Залесская земля. На рубеже XI
и XII вв. она принадлежала переяславльс-
кому (позднее киевскому) князю Владимиру
Мономаху, который в первые годы XII в.
построил храмы в главных городах этой
земли — Суздале и Владимире.
Следующий этап строительства начался
в 40-х годах XII в. Политическая
обстановка в Залесской земле к тому времени
коренным образом изменилась. Княживший здесь
тогда Юрий Долгорукий вел энергичное
строительство и укреплял города.
Естественно, что появилась необходимость в
организации монументального зодчества. Однако
враждебные отношения князя Юрия с
Киевом не позволяли ему получить оттуда
строителей. И Юрий Долгорукий обратился
за ними в Галич, к своему военному
союзнику — галицкому князю Володимирку.
В Галич в это время прибыла группа
венгерских мастеров, начавшая возведение
Успенского собора, и галицкий князь смог без
ущерба для себя передать князю Юрию
группу своих старых мастеров. Они и начали
строительство в Залесской земле. До наших
дней от этого его этапа полностью
сохранился собор в Переяславле Залесской земли и
почти полностью церковь Св. Бориса и
Глеба в Кидекше — княжеской резиденции
близ Суздаля. Они построены в прекрасной
белокаменной технике; стены расчленены
плоскими лопатками, декоративные
элементы применены в очень ограниченном
количестве. Полное совпадение планов этих
храмов с планами галицких церквей (в
Перемышле, Звенигороде и Галиче) дает
основания утверждать, что их строили те же
мастера. Более того, декоративные детали
верхних частей здания совершенно
идентичны таким же деталям, находимым при
раскопках галицких храмов.
Таким образом, в Северо-Восточную
Русь были полностью перенесены типы и
формы сооружений, сложившихся до этого
в Галицкой земле. В соборе Переяславля по
фасадам на середине их высоты проходит
уступ, благодаря которому верхние части
стен имеют несколько меньшую толщину,
чем нижние. В церкви Св. Бориса и Глеба
вместо такого уступа размещен аркатурный
пояс: это была церковь княжеской резиден-
153
Книга первая
ции и ее, естественно, сделали более
нарядной. За неполные 10 лет в
Северо-Восточной Руси были возведены четыре каменных
церкви. Очевидно, что приехавшая из
Галича группа мастеров смогла быстро
подготовить здесь квалифицированных
помощников и создать сильную строительную
организацию.
В конце 50-х годов XII в. происходит
резкое усиление строительной
деятельности. Князь Андрей Боголюбский перенес
столицу из Суздаля во Владимир и начал
энергично обстраивать этот город.
Значительное усиление политической роли
княжества в общерусских делах вызывало
необходимость в создании гораздо более
крупных и торжественных сооружений, которые
самим своим обликом свидетельствовали бы
о могуществе владимирского князя,
диктовавшего свою волю большинству князей
других русских земель, в том числе и самого
Киева. Сложившаяся здесь строительная
артель ни по размаху своей деятельности,
ни по пышности возводимых построек,
видимо, не могла удовлетворить таким
требованиям. И князь Андрей Боголюбский в
дополнение к имеющимся мастерам
пригласил новых зодчих. Их прислал император
Фридрих Барбаросса. Мастера эти
происходили, видимо, из Южной Германии или
Северной Италии. Так в Северо-Восточной
Руси в 60-х годах XII в. сложилась
сильная строительная организация, в которой
совместно работали западноевропейские,
галицкие и местные мастера. Именно в это
время владимиро-суздальское зодчество
достигло своего расцвета.
Наиболее крупным объектом
строительства был городской собор Владимира —
Успенский (возведен в 1158 — 1160 гг.).
В конце XII в. он был перестроен, но
первоначальный его облик выявляется без
особого труда. Общие типологические черты
этого собора несомненно совпадают с
принятыми на Руси: очевидно, приехавшие
мастера должны были считаться с
требованиями заказчиков, не желавших
отступления от освященных уже вековой традицией
образцов. Успенский собор представлял
собой шестистолпный одноглавый храм с
крестовокупольной системой сводов и поза-
комарным завершением фасадов. В этом
отношении он был близок киевским
памятникам зодчества, например, Кирилловской
церкви. В то же время белокаменная
кладка и все архитектурные детали здания
выдавали их романское происхождение.
Украшенные резьбой перспективные порталы,
тонкие колонки на наружных пилястрах,
аркатурно-колончатый пояс, проходящий по
фасадам и апсидам, резные детали — все
это совершенно преобразило характер
здания. Даже в интерьере в основание арок
были вложены камни с рельефными
изображениями львов. Собор имел
торжественно-величавый облик.
Неподалеку от Владимира была создана
новая княжеская резиденция — городок
Боголюбый8 (1158 — 1165 гг.). Роскошно
обстроенная резиденция была окружена
каменными стенами, стоящими на земляных
валах. В настоящее время от построек
этого замечательного ансамбля сохранились
только лестничная башня и переход, ведший
из помещения на втором этаже этой башни
на хоры княжеского собора. Сам собор еще
в XVIII в. был разрушен и заменен новым
зданием, а остальные сооружения
уничтожены. Тем не менее проведенные здесь
археологические исследования позволили в
значительной мере выяснить и даже графически
реконструировать первоначальный характер
ансамбля.
Центром ансамбля являлся собор
Рождества Богородицы. Он был четырехстолп-
ным, одноглавым. Сложная профилировка
его пилястр, по которым проходили тонкие
полуколонки, придавала фасадам здания
пластичность. Собор имел великолепную
отделку: его перспективные порталы были
обиты золоченой медью, а пол покрыт
полированными медными плитами. Подку-
польные опоры собора представляли собой
круглые колонны, увенчанные резными
капителями. С хоров собора по переходу
можно было попасть на лестничную башню, а
оттуда далее по второму переходу — в
княжеский дворец, от которого, к
сожалению, не сохранилось даже следов. В
противоположную сторону с хоров собора также
по переходу можно было выйти на
крепостные стены, откуда открывался вид на
пойму Клязьмы. Площадь перед храмом была
вымощена каменными плитами, а в ее цен-
154
Глава 7
тре возвышалась каменная сень над водо-
святной чашей.
В Древней Руси существовал
чрезвычайно своеобразный строительный прием —
заканчивая строительство каждого объекта,
мастера завершали его отделкой всех
фасадных поверхностей, даже в том случае, если
знали, что фасад будет тотчас же прикрыт
при постройке следующего объекта.
Вследствие этого северная стена боголюбовского
собора была полностью закончена, включая
выполнение аркатурно-колончатого пояса,
который был тут же закрыт постройкой
перехода. Точно так же аркатурный пояс
проходит и по северному фасаду
лестничной башни, хотя здесь даже сохранилась
дверь, ведшая на второй переход — ко
дворцу. Подобный строительный прием,
характерный и для других русских
архитектурных школ, часто смущал исследователей.
Так, долго держалось ошибочное мнение,
что наружные галереи киевского
Софийского собора построены значительно позже
основного ядра. Это мнение возникло в
связи с тем, что они примыкают к
полностью отделанным фасадам внутренних
галерей.
Приблизительно в одном километре от
Боголюбова, при впадении в Клязьму
р. Нерли, была построена церковь
Покрова (1165 г.). Здесь корабли поворачивали к
княжеской резиденции и церковь служила
как бы выдвинутым вперед элементом
репрезентативного ансамбля, его предвратным
монументом. Задача, поставленная перед
зодчим, была сложной, поскольку
намеченное для постройки место лежит в
заливаемой пойме. Поэтому зодчий, заложив
фундамент, возвел на нем каменный цоколь
высотой почти 4 м и, засыпав землей,
превратил его в искусственный холм,
облицованный каменными плитами. На этом
холме, как на пьедестале, и была воздвигнута
церковь. Храм небольшой по размеру, че-
тырехстолпный, с примыкавшими с трех
сторон галереями. В одной из стен галереи
размещалась лестница для подъема на хоры.
Галереи не сохранились, и их формы в
настоящее время могут быть графически
реконструированы лишь очень
приблизительно. Но даже лишенная галерей, церковь
Покрова на Нерли кажется вполне
законченным сооружением и производит на
зрителей неизгладимое впечатление.
Этот памятник зодчества — один из
шедевров не только русской, но и мировой
архитектуры. Сложная и рельефная
профилировка пилястр придает зданию почти
скульптурную выразительность. По высоте
церковь разделена на две части аркатурно-
колончатым поясом, колонки которого
опираются на резные кронштейны. Ниже
этого пояса стены гладкие, а выше размещены
скульптурные вставки. Резьба украшает
капители колонок на пилястрах, а также
капители и архивольты, т. е. обрамления
арок перспективных порталов.
Город Владимир был в эти же годы
укреплен строительством мощных земляных
валов с деревянными стенами на них.
Главные ворота города — Золотые — были из
камня и представляли собой белокаменную
башню, прорезанную воротным проездом. В
одном из пилонов этой башни имелась
лестница для подъема в надвратную церковь. В
настоящее время ворота сильно
перестроены, и от первоначального сооружения
сохранился лишь кубический массив башни.
Однако по сохранившимся чертежам
XVIII в., исполненным до их перестройки,
видно, что над воротами возвышалась
маленькая четырехстолпная церковь, очень
скромно оформленная. Судя по
архитектурным деталям, эту церковь возводил тот га-
лицкий зодчий, который до того строил
церковь в Кидекше и Переяславле.
После смерти Андрея Боголюбского
(1174 г.) строительство в Северо-Восточной
Руси приостановилось до середины 80-х
годов, когда началось восстановление
пострадавшего от пожара владимирского
Успенского собора. Очевидно, к этому времени
во Владимире уже перестали работать как
галичане, так и мастера, присланные
Барбароссой. Об этом говорят некоторые
стилистические изменения, а также и прямые
свидетельства летописи, отметившей, что при
восстановлении Успенского собора епископ
уже «не ища мастеров от немець»9. Видимо,
теперь строительство вели местные зодчие,
воспитанные на постройках эпохи Андрея
Боголюбского.
При постройке Успенского собора
(1185 — 1189 гг.) его наружные стены
155
Книга первая
были пробиты и превращены в столбы, а
здание расширено с трех сторон и
трансформировано таким образом в пятинефное. На
углах новой постройки были возведены
четыре главы, образовывавшие вместе с
центральной, оставшейся от первоначального
собора, пятиглавую композицию. Для
русской архитектуры XII в. пятиглавие
является редчайшим исключением, поскольку все
церкви в ту пору строили одноглавыми.
Очевидно, что в данном случае это
исключение объясняется особыми причинами, в
первую очередь идеологической задачей —
создать сооружение, выражающее
архитектурный образ центрального храма
Владимирского княжества, ставшего к тому
времени самым сильным на Руси. Главный
собор Владимира должен был поэтому
иметь такой облик, который выделял бы его
среди прочих современных ему памятников
русской архитектуры и напоминал
грандиозные здания эпохи Киевской Руси. Не
случайно, что именно владимирский
Успенский собор в конце XV в. послужил
образцом для главного собора Москвы и
именно тогда, когда окрепло Русское
централизованное государство. Перестроенный
владимирский Успенский собор по формам и
даже деталям близок к первоначальному
собору, но гораздо величественнее и
торжественнее его. Стены собора оформлены
очень сдержанно, скульптурный декор
почти отсутствует.
В 90-х годах XII в. во Владимире были
построены собор Рождественского
монастыря и Димитриевский собор при княжеском
дворце. Рождественский собор не
сохранился, но известен по старым чертежам, а
Димитриевский, к счастью, полностью
уцелел. По плановой и объемной схеме эти
здания близки церкви Покрова на Нерли,
но отличия все же очень существенные.
Стройные и женственно-изящные формы
церкви Покрова сменились в них
торжественной уравновешенностью. Особенно
пышным является убранство Димитриевско-
го собора, в котором аркатурно-колончатый
пояс и стены выше этого пояса богато
декорированы скульптурной резьбой: Резьба
также покрывает не только перспективные
порталы, но и барабан купола. Старинные
рисунки свидетельствуют о том, что
первоначально к собору примыкали
галереи и башни, уничтоженные в начале
XIX в.
Органическое сочетание традиционных
форм киевского зодчества с формами галиц-
кой и западноевропейской архитектуры
создало неповторимый облик владимиро-суз-
дальских памятников. Иногда эту
архитектуру называли русским вариантом
романской архитектуры, но такое определение
совершенно неправомерно. Композиционные и
конструктивные основы, сам тип
сооружений здесь целиком восходят к архитектуре
Киева, и поэтому владимиро-суздальское
зодчество, несомненно, является русской
архитектурной школой, хотя и насыщенной
романскими элементами.
Таков широкий спектр архитектурных
школ, сложившихся на Руси в XII в.
*
Формирование в XII в. различных
архитектурных школ не означало, что русская
архитектура разделилась на отдельные,
совершенно самостоятельные части. Общность
русской архитектуры не исчезла, несмотря
на многообразие направлений, в которых она
стала проявляться. Плановые схемы храмов,
их объемные композиции, конструктивные
решения и, что самое важное,
стилистические особенности памятников более или
менее совпадают во всех архитектурных
школах Руси. Русские церкви XII в. повсюду,
как правило, одноглавые, с крестовокуполь-
ной системой перекрытия, лаконичные по
объему, со спокойным и статичным обликом.
Каковы бы ни были техника кладки и
декоративные детали, памятники русского
зодчества того времени обладают целым
рядом общих признаков, которые отличают
их от памятников романского или
византийского зодчества и объединяют в понятие
«древнерусская архитектура ».
Не менее важно и то обстоятельство, что
характер эволюции зодчества во всех
русских архитектурных школах был, по
существу, единообразен, что особенно проявилось
к концу XII в., когда наступил новый этап
развития зодчества и на Руси сложилось
новое архитектурное направление. На
смену статичным храмам, увенчанным одной
156
Глава 7
массивной главой, со спокойным ритмом
закомар приходят здания со столпообразным
построением объема, подчеркнутой
динамичностью композиции, богатой декоративной
разработкой фасадов и, как правило,
трехлопастным их завершением. Если в
памятниках середины XII в. имело место
гармоничное соответствие решения интерьера и
экстерьера, то в памятниках нового этапа
тивныи характер и не зависят от
конструкции.
Новое направление зодчества проявилось
во всех архитектурных школах Руси, причем
общие закономерности построения
композиции, а главное, архитектурные образы во
всех школах были чрезвычайно близкими
несмотря на многообразие форм, в которых
эта общность получила свое отражение.
Смоленск. Церковь Св. Михаила Архангела.
Реконструкция
интерьер оказывается полностью
подчиненным композиционному замыслу внешнего
облика храма. При этом архитектурные
формы порой приобретают чисто декора-
Так, яркое развитие новое направление
получило в Смоленской земле. Вплоть до
80-х годов XII в. смоленское зодчество
развивалось в русле киевской архитектурной
школы. Безусловно, в таком сильном
архитектурно-строительном центре, как
Смоленск, со временем сложились бы свои са-
157
Книга первая
мостоятельные формы, но, видимо, условия
для этого тогда еще не созрели. Между тем
старые формы уже перестали удовлетворять
художественным вкусам заказчиков,
внимание которых привлекли
композиционные решения, разработанные в соседнем
Полоцке.
Для постройки в конце 80-х — начале
90-х годов XII в. дворцового храма
Архангела Михаила смоленский князь Давид Ро-
стиславич пригласил полоцкого зодчего.
Таким образом, Смоленск как бы пожал
плоды того интенсивного процесса
архитектурного развития, которое протекало в
Полоцке. Но в смоленских храмах можно
отметить и существенные нововведения,
свидетельствующие о том, что здесь был
сделан следующий шаг в разработке нового
архитектурного направления. Например,
двухступенчатые наружные пилястры
усложнены введением тонких полуколонок,
что внесло в фасады большое количество
дополнительных вертикальных членений,
подчеркивающих высоту здания и остроту его
пропорций. Другая характерная черта
смоленских церквей — отказ от стенок,
отделяющих притворы от основного помещения,
что позволяло разработать единый интерьер,
подчиненный композиции экстерьера. Оба
этих нововведения не случайны: они
вызваны стремлением зодчих к созданию
вертикально устремленных, столпообразных
композиций. Естественно, что подобные приемы
почти одновременно появились и в других
русских архитектурных школах — тонкие
колонки на фасадах в киево-черниговской
архитектуре, а открытые внутрь храма
притворы — во владимиро-суздальском
зодчестве.
Смоленская церковь Архангела
Михаила (часто упоминается в литературе под
более поздним наименованием — Свирская
церковь) сохранилась почти целиком, хотя
в значительно перестроенном виде. Ее очень
высокий центральный объем завершался не
тремя полукруглыми закомарами, как
обычно, а лишь одной центральной полукруглой
закомарой с примыкающими к ней по
сторонам полузакомарами. Такое завершение
фасадов вместе с высоким барабаном,
поднятым на специальный пьедестал,
создавало впечатление стремительного подъема
кверху. Это впечатление подкреплялось
наличием притворов, менее высоких, чем
основной объем храма.
С востока на фасаде выдавалась лишь
одна апсида, тогда как боковые были
резко понижены и имели снаружи
прямоугольную форму. Острота силуэта здания
подчеркивалась многочисленными вертикальными
членениями, создаваемыми сложными
пучковыми пилястрами с тонкими
полуколонками на них. Пол храма был поднят выше
уровня окружающей земли и поэтому перед
порталами должны были существовать
небольшие лесенки, еще больше
подчеркивавшие высотность сооружения.
Изменение завершения фасадов храма
сопровождалось изменениями и
конструкции: трехлопастной форме завершения
отвечали полукоробовые своды в угловых
членениях здания. Кирпичная кладка церкви
очень нарядна; ее оживляют аркатурные
пояски, декоративные ниши, бровки над
окнами.
Яркость архитектурного облика
смоленских храмов этого типа привлекла к ним
внимание заказчиков из других русских
земель, а наличие достаточно
многочисленных и опытных кадров строителей позволило
смоленским мастерам осуществить
возведение нескольких зданий и вне Смоленской
земли. По интенсивности строительной
деятельности Смоленск в начале XIII в.
вышел на первое место среди архитектурно-
строительных центров Руси. В 1230 г.
страшная эпидемия, а затем военные
события прервали ее.
В конце XII в. внезапно и ярко
проявилась совершенно новая архитектурная школа
в древнем Городенском (Гродненском)
княжестве. Весьма вероятно, что сюда перешли
мастера, работавшие в 70-х годах XII в. в
Луцке, а затем в Турове. С помощью
мастеров, пришедших с Волыни, и при
участии полоцких строителей (главным образом
плинфотворителей, т. е. формовщиков и
обжигальщиков плинфы) здесь сложилась
самостоятельная строительная артель.
Строительство в Гродно продолжалось очень
недолго — в 80-е и 90-е годы XII в. За
это время возведено три храма:
Борисоглебская церковь на Коложе (обычно
называемая Коложской), так называемая Нижняя
158
Глава 7
церковь на детинце и Пречистенская, а
также княжеский терем.
Коложская церковь сохранилась на
высоту до основания сводов, но южная стена
ее отсутствует, так как обрушилась в
Неман. Вскрытая раскопками Нижняя церковь
уцелела на высоту 2 — 3 м, а от
Пречистенской церкви сохранился только
фундамент. Терем также частично уничтожен при
Овруч. Церковь Св. Василия.
Профиль фасада. 1197 —1200
строительстве крепости в более позднее
время, но уцелевшие участки его стен
имеют высоту до двух метров.
Все гродненские архитектурные
памятники возведены из плинфы в равнослойной
технике, выдающей киевско-волынское
происхождение их мастеров. Эти памятники
зодчества обладают совершенно необычной
системой декора: их фасады украшены
вставками крупных цветных камней,
шлифованных с наружной поверхности.
Синеватая, зеленоватая и красная поверхность
камней создавала яркие пятна,
контрастирующие с кирпичной фактурой стен. Кроме
того, в стены были вставлены
многочисленные поливные керамические плитки,
образующие кресты или иные узоры. Помимо
этого в стены Нижней церкви вставлены
еще и поливные блюда. Такая система
декоративного убранства делает гродненские
постройки исключительно живописными и
нарядными. Полы в гродненских храмах
159
Книга первая
были устланы поливными керамическими
плитками, причем не только квадратными,
но и фигурными, позволявшими набирать
различные рисунки. От пола Нижней
церкви сохранились настолько значительные
участки, что оказалось возможным
исполнить его графическую реконструкцию.
Интерьеры гродненских храмов не
имели росписи. Не рассчитанные на роспись
внутренние поверхности были своеобразно
оформлены многочисленными
сосудами-голосниками, расположенными в определенном
порядке и создававшими декоративный
эффект. Следует отметить, что в других
архитектурных школах Руси голосники
использовались в основном для облегчения веса
сводов и лишь частично выходили
отверстиями внутрь помещения (обычно в парусах,
под барабаном), что способствовало
улучшению акустики.
Нижняя церковь в Гродно представляет
собой шестистолпный храм с одной апсидой
и плоскими наружными лопатками. Крайне
уплощенная форма апсиды указывает на то,
что боковые восточные членения были
пониженными. Подобное решение в сочетании
с переносом подкупольного пространства на
западные пары столбов свидетельствует о
том, что храмы имели повышенную
центральную часть, т. е., видимо, были
столпообразными по композиции объема.
Пречистенская церковь совпадала с
Нижней по всем элементам плана, но
отличалась тем, что ее апсида была не округлой,
а прямоугольной. В Нижней церкви в юго-
западном углу размещалась лестница на
хоры, выделенная полукруглой стенкой, а в
церкви в Волковысске к юго-западному ее
углу снаружи примыкала квадратная
башня, очевидно, лестничная. Иной характер
Борисоглебской церкви в Коложе: здесь
столбы имели круглую форму; подкуполь-
ное пространство, как обычно, занимало
положение на восточных, а не на западных,
парах столбов; у церкви была не одна, а три
апсиды. Наружные пилястры церкви —
двухступенчатые со скругленными углами.
Никаких следов романского влияния в
гродненской архитектуре не имеется,
несмотря на пограничное положение этого города.
Обращает на себя внимание
исключительная быстрота, с которой сложилась эта
архитектурная школа, что, по-видимому,
говорит о ведущей роли какого-то очень
талантливого и самобытного зодчего. Возможно,
что в полихромном убранстве архитектурных
памятников Гродно отразились народные
художественные вкусы, чему могла
способствовать и оторванность от Киева.
В Киевской земле первым творением
зодчества нового направления была церковь
Апостолов в Белгороде (1194 — 1197 гг.).
Через несколько лет была возведена
церковь Св. Василия в Овруче — личная и
патрональная церковь князя Рюрика (Ов-
руч был его вотчиной, а сам Рюрик в
крещении стал Василием). Стены овручской
церкви сохранились почти до основания
сводов, и в 1909 г. здание было
восстановлено. Оно представляет собой четырехстолп-
ный храм со сложнопрофилированными
пилястрами, создающими на фасадах
большое количество вертикальных членений. В
нижних частях стен храма вмонтированы
крупные шлифованные цветные камни. По
сторонам западного фасада находились две
круглые башни — явление для XII в.
совершенно уникальное. Весь облик храма —
роскошь отделки его фасадов и множество
вертикальных членений —
свидетельствует о том, что он должен был иметь
повышенную центральную часть, т. е. высоко
поднятую главу. Однако при реставрации
здания это не было исполнено. Внутри
церковь имела фресковые росписи, а глава ее,
судя по старинным описаниям, была
золоченой.
Чрезвычайно активная строительная
деятельность, которую развернул Рюрик, став
киевским князем, специально отмечена в
летописи, где о строительстве церквей
сказано, что Рюрик «имел любовь ненасытну
о зданьи их»10. А еще через несколько лет,
в 1199 г., опять по его же заказу возводится
подпорная стена над Днепром у Выдубиц-
кого монастыря, служившая, по-видимому,
смотровой площадкой и этим поразившая
современников. Летописец отметил, что
строителем стены был зодчий Петр Мило-
нег. Очевидно, что тот же зодчий строил и
овручскую церковь Св. Василия, и
белгородскую церковь Апостолов. Упоминание в
летописи имени зодчего, да еще «в
приятелях» у князя, явление исключительное.
160
Глава 7
Видимо, это была какая-то необычно яркая
фигура, и недаром летописец сравнивал его
с библейским зодчим Веселиилом11.
После 1200 г. строительство в Киевской
земле прервалось, что объясняется
бурными политическими событиями той поры —
ожесточенной междоусобной княжеской
борьбой. С 1211 г. киевская строительная
артель перешла в распоряжение
черниговских князей, и все дальнейшее строительство
проводится теперь уже в Чернигове и Чер-
нигово-Северской земле. Одной из первых
построек, возведенных этими мастерами
после переезда в Чернигов, была церковь
Св. Параскевы Пятницы. Она —
единственный памятник того времени, полностью
сохранившийся до наших дней.
Во время Второй мировой войны церковь
сильно пострадала, но затем была
реставрирована и восстановлена в своих
первоначальных формах. Это небольшой четырех-
столпный трехапсидный храм. Средние
членения его фасадов завершаются
полукруглыми закомарами слегка стрельчатой
формы, а боковые членения :— полу
закомарами, образуя, таким образом,
трехлопастную форму. Совершенно своеобразно
решена конструкция сводов: подпружные
арки расположены здесь не ниже, как
обычно, а выше примыкающих сводов. Введение
ступенчато повышающейся конструкции
сводов позволило образовать снаружи храма
второй ярус закомар. В основании
барабана размещен третий ярус закомар, чисто
декоративных и не отвечающих конструкции
сводов, т. е., по существу, уже не закомар,
а кокошников. Подобное ярусное
построение верха придает зданию столпообраз-
ность. Сложнопрофилированные пилястры
еще более подчеркивают вертикальную
устремленность и динамику композиции.
Богатая кирпичная обработка (бровки,
декоративные пояса) придает фасадам
праздничную нарядность. Сравнение Пятницкой
церкви с церковью Св. Василия в Овруче
показывает, что их строил один и тот же
зодчий; очевидно, Петр Милонег перешел
в Чернигов вместе со всей киевской
строительной артелью.
Несомненно, что памятники, возведенные
в Киевской земле в конце XII в. и в Чер-
нигово-Северской земле в 1-й трети XIII в.,
относятся к одной архитектурной школе.
Здесь работала одна строительная
организация, лишь в силу политических
обстоятельств переброшенная из Киева в
Чернигов, вот почему вполне логично называть эту
архитектурную школу киевской. Полностью
отвечая новому художественному
направлению, памятники киевской архитектурной
школы отразили этот этап в развитии
зодчества в наиболее логически завершенной
форме.
Столпообразность храмов и их
динамически устремленную композицию здесь
создавали путем переработки конструкции
завершения зданий. Подобный прием был
впервые осуществлен именно в киевской
архитектурной школе и является
решительным и прогрессивным шагом в истории
русского зодчества. Лишь значительно позднее,
и уже не имея генетической связи с Киевом,
подобный конструктивный прием получил
распространение в московской архитектуре,
а вне Руси — в зодчестве Сербии.
Своеобразно отразился новый этап
развития зодчества во владимиро-суздальской
архитектуре. Вплоть до самого начала
XIII в. в композиции храмов здесь не
произошло существенных изменений. Усиление
роли декоративной резьбы в Димитриевском
соборе во Владимире не повлекло за собой
трансформации всего архитектурного
образа. Лишь в начале XIII в. новые веяния
достаточно определенно выявились во вла-
димиро-суздальской архитектурной школе.
В 1222 — 1225 гг. в Суздале на месте
разобранного более раннего храма построен
новый собор. Вскоре после этого была
возведена церковь Архангела Михаила в
Нижнем Новгороде, а в 1230 — 1234 гг. —
собор Св. Георгия в Юрьеве-Польском.
Суздальский и юрьево-польский соборы
сохранились примерно до половины своей
первоначальной высоты, будучи полностью
перестроены в верхней части.
Нижегородская церковь известна лишь по ее
раскопанным фундаментам.
Эти памятники зодчества показывают,
что. характерная для Киева, Чернигова и
Смоленска динамика композиции,
подчеркнутая множеством вертикальных членений
на фасадах, не нашла здесь отражения.
Наоборот, в них виден частичный отказ от
161
Книга первая
тонких полуколонок на пилястрах и
применение в большинстве случаев плоских
лопаток. Но башнеобразное построение объема
с высоко и торжественно поднятой главой,
видимо, проявилось и в этих памятниках, о
чем можно судить хотя бы по наличию трех
притворов, придающих зданию
крестообразную форму.
В суздальском соборе шестистолпная
структура здания несколько нарушает цен-
тричность композиции, а из трех притворов
только два боковых полностью открыты
внутрь храма. В нижегородском и юрьево-
польском соборах четырехстолпный объем и
открытые внутрь притворы придавали
храмам строгую центричность композиции и
слитность внутреннего пространства
аналогично, например, интерьеру смоленской
церкви Архангела Михаила.
Высоко поднятый аркатурно-колончатый
пояс юрьево-польского собора дает
основания утверждать, что это здание имело
значительную высоту и стройные пропорции.
На основании косвенных данных некоторые
исследователи предположили, что
Георгиевский собор имел повышенную конструкцию
подпружных арок и декоративный
пьедестал в основании барабана. Другие авторы
реконструируют здание с обычной
конструкцией арок. Однако даже если у собора и не
было поднятого на пьедестал барабана, его
стройные пропорции в сочетании с тремя
притворами придавали храму ступенчато-
столпообразный характер. Таким образом,
если этот самый поздний памятник влади-
миро-суздальского зодчества и уступал ки-
ево-черниговским и смоленским в
отношении остроты и динамичности композиции, то
он превосходил их торжественностью облика
и роскошью наружного убранства. В
Георгиевском соборе резьба не только
украшает аркатурно-колончатый пояс, порталы и
верхние части фасадов, но и покрывает все
стены до самого низа. При этом в верхней
части здания скульптура, судя по найденным
фрагментам, имела такой же характер, как
в более ранних памятниках, т. е. каждое
изображение было нанесено на отдельный
камень, вставленный в стену при
постройке храма. В нижней части орнамент
растительного характера покрывает все поле
стены, не считаясь со швами кладки, т. е. он
был нанесен уже после окончания кладки.
Описывая построение собора, летописец
добавил фразу о том, что князь Святослав
создал эту церковь, «чюдну резаным каме-
нем, а сам бе мастер»12. Конечно, князь не
сам руководил строительством храма, но,
видимо, его роль была все же большей, чем
роль обычного заказчика; весьма вероятно,
что скульптурное убранство
действительно было исполнено по личному указанию
князя.
Резьба в памятниках владимиро-суздаль-
ской архитектуры XIII в. по характеру
заметно отличается от резьбы храмов
предшествующей поры. Прежде все изображения
были зрительно объемны, в творениях же
XIII в. они плоскостно-декоративны,
напоминая резьбу по дереву. Весьма вероятно,
что в стилистической эволюции резьбы
основную роль сыграли вкусы местных
мастеров, воспитанных в лучших традициях
народной резьбы по дереву.
В суздальском соборе сохранились
фрагменты фресковых росписей, а также
элементы убранства, которые не уцелели больше
ни в одном памятнике русской архитектуры
XII — XIII вв.: это замечательные врата
западного и южного порталов храма,
исполненные в технике золотой наводки по
черному лаковому фону на медных пластинах.
Трудно судить о том, в каких формах
отразился новый этап развития зодчества в
Галицкой земле. От храмов той поры здесь
уцелела лишь одна постройка — церковь
Св. Пантелеймона близ Галича,
возведенная на рубеже XII и XIII вв. Но и она
сохранилась лишь несколько более чем на
половину своей первоначальной высоты,
будучи полностью перестроена в верхней
части при превращении ее в католический
костел.
Выполненная в белокаменной технике,
церковь Св. Пантелеймона представляет
собой обычный для древнерусского
зодчества тип четырехстолпного трехапсидного
плана. Однако эта общерусская схема
насыщена чисто романскими архитектурными
деталями: прекрасным перспективным
цоколем, обходящим вокруг всего здания,
тонкими колонками с резными капителями на
апсидах. Резьба здесь совершенно иная, чем
во владимиро-суздальском зодчестве, — она
162
Глава 7
пышная, ювелирно тонкая, но несколько
суховатая. Наружные лопатки храма
плоские. Подкупольные столбы усложненной
формы, с многочисленными выступами; им
отвечают выступы на лопатках внутренних
стен. Очевидно, что эта сложность опор
отвечала наличию каких-то достаточно
сложных сводов. Весьма возможно, что
здесь была применена раннеготическая нер-
вюрная конструкция перекрытия, для
которой такая система опор характерна.
Отсутствие верхних частей церкви
Св. Пантелеймона не позволяет судить о
первоначальной композиции храма в целом
и особенно его завершения. Несомненно
лишь то, что здание церкви отражает
существенные изменения, происшедшие в галиц-
ком зодчестве и, видимо, связанные с
новым архитектурным направлением. В
данном случае это выразилось в сочетании
древнерусской схемы плана с западными
формами, а может быть, и самими
конструкциями.
В 30-х годах XIII в. был сооружен
архитектурный комплекс новой княжеской
резиденции — города Холм. Имеется
подробное описание этого ансамбля —
явление уникальное для русских летописей. Судя
по этому описанию, в Холме были
построены два великолепно украшенных храма. В
одном из них (церкви Св. Иоанна) своды
опирались на капители в виде человеческих
голов, а порталы покрывала резьба,
исполненная «неким хытрецем Авдьем». Кроме
того, летописец отметил, что окна церкви
были «украшены стеклы римьскими»13, т. е.
витражами. Остатки этих зданий при
раскопках не удалось обнаружить, хотя были
найдены многочисленные фрагменты их
убранства, в том числе части перспективного
портала и резные камни. Фрагменты
позволяют судить о том, что памятники Холма в
стилистическом отношении близки церкви
Св. Пантелеймона. В политическом
отношении Холм относился к Волыни, но
владевший им князь Даниил привлек к
строительству галицких мастеров, о чем совершенно
недвусмысленно свидетельствуют как
строительный материал (тесаный камень), так и
фрагменты каменной резьбы.
Судя по летописи, на расстоянии одного
поприща от Холма (т. е. несколько более
одного километра) стоял «столп камен и на
нем орел камен изваян», причем отмечено,
что высота этого монумента вместе «с
головами и с подножьками» 12 локтей, т. е.
около 4,5 м14. Следы столба, к сожалению,
не обнаружены.
Единственная архитектурная школа Руси,
где на рубеже XII и XIII вв. не произошло
никаких существенных изменений в
композиции храмов, была новгородская.
Построенная в самом конце XII в. церковь Спаса
Нередицы (1198 г.) почти полностью
повторяет храмы предшествующего времени, не
отличаясь от них ни общим
композиционным решением, ни архитектурными
деталями, ни техникой. Характерные черты этого
храма — квадратные в плане подкупольные
столбы, отсутствие лопаток на внутренних
стенах, плоские одноуступчатые наружные
лопатки, чрезвычайная скупость
декоративного убранства. Единственное отличие этой
церкви от более ранних памятников
новгородского зодчества — заметно пониженные
боковые апсиды. Вплоть до Великой
Отечественной войны в храме сохранялся почти
целиком ансамбль древней фресковой
живописи. Во время войны церковь была
разрушена, но в настоящее время полностью
восстановлена. С запада к ней примыкал
ныне не сохранившийся небольшой притвор.
Судя по вскрытым раскопками нижним
частям стен, полностью сохраняли старую
схему плана и остальные новгородские
церкви конца XII в. Видимо, сложившийся тип
новгородского храма — экономичный,
возводимый с большой скоростью (их
строили, как правило, за один строительный
сезон), суровый и лаконичный по облику —
удовлетворял требованиям как заказчиков,
так и строителей.
И все же к началу XIII в. консерватизм
новгородских мастеров, вероятно, уже не мог
соответствовать художественным вкусам тех
заказчиков, которые знали, как строят в это
время в других русских городах. В
результате новгородские купцы, ведшие заморскую
торговлю, заказали в 1207 г. строительство
церкви Св. Параскевы Пятницы не
новгородским, а смоленским мастерам.
Возведение в Новгороде такого яркого памятника
смоленской архитектурной школы не могло
пройти бесследно и для новгородских стро-
163
Книга первая
ителей. Они заимствовали от Пятницкой
церкви такие формы» как трехлопастное
завершение фасадов и одноапсидность, но
претворили эти формы совершенно
по-иному, не приняв основных особенностей
смоленского образца — декоративности,
динамичности и вертикальной устремленности
композиции. Продолжая тенденции, явно
проявившиеся в новгородском зодчестве
2-й половины XII в., они пошли по пути
разработки еще более простых объемных
решений, лаконичных и скупых по
декоративной обработке.
В маленькой церкви Рождества
Богородицы на Перыне близ Новгорода
(вероятно, 20-е или 30-е годы XII в.)
трехлопастное завершение фасадов помогло создать
храм, обладающий редкой целостностью
объема, благодаря чему даже маленькая
постройка кажется величественной. Идея
переработки форм новгородского храма,
намеченная в перынской церкви, позднее, в
XIV в., легла в основу сложения
совершенно самостоятельного и оригинального типа
новгородских храмов.
Новый этап в развитии русского
зодчества проявился не только в художественном
облике храмов, не только в их композиции,
но и в строительной технике. Характеризуя
архитектурные памятники того времени,
можно отметить сокращение излишних
запасов прочности зданий, отказ от излишне
трудоемких работ, что явно
свидетельствует о возросшем мастерстве строителей. И
хотя в зданиях той поры иногда
встречается несколько небрежная на вид кладка,
постройки сохраняют достаточную прочность
и даже изысканность форм.
Наличие в большинстве крупных русских
городов собственных опытных кадров
строителей позволяло в значительно большей
степени, чем ранее, проявляться местным
художественным вкусам. Естественно, что
конкретные архитектурные формы слагались
прежде всего под влиянием местных
условий, куда входили и традиции мастеров, и
их архитектурные связи, и наличие местных
строительных материалов, и степень
развитости ремесла. Большую роль играло и
существование в каждой земле собственных
художественных традиций и вкусов.
Возникновение нового этапа в развитии
русского зодчества выявило и
противоречивые тенденции этого развития. Так,
несомненно, продолжался и даже усилился
процесс дифференциации архитектуры,
связанный с усиливавшимся процессом
феодального дробления страны. Поэтому к концу
XII в. происходит дальнейшее разделение
русского зодчества на самостоятельные
школы. Из киевской школы выделилась
самостоятельная смоленская школа,
сложилась новая архитектурная школа в Гродно.
Архитектурные школы Новгорода и
Галича приобрели еще большую
самостоятельность, создавая собственные
композиционные и конструктивные решения, заметно
отличающиеся от тех, что бытовали в то
время в других русских архитектурных
школах.
Наряду с этим в русском зодчестве
тогда явно проявились и тенденции интеграции,
которые сказались прежде всего в том, что
в разных районах Руси шло сложение
композиционных форм, близких по характеру
архитектурного образа. Это явление
объясняется близостью социальных процессов
развития всех русских земель, общностью
культуры и, в частности, ярким расцветом
городской культуры.
Большую роль играли также общность
происхождения основного типа
древнерусского храма и многочисленные
передвижения строителей из одного строительного
центра в другой, обеспечивавшие активные
контакты между мастерами. Наконец,
тенденции к усилению декоративности, яркости
силуэта и столпообразности построения
здания определялись и внутренними
закономерностями развития зодчества. Очевидно, что
к этому периоду относятся самые первые и
еще очень робкие шаги, которые вели к
созданию общерусского архитектурного
стиля.
Как развивалась бы в дальнейшем
русская архитектура, мы не знаем, поскольку
в 30 — 40-х годах XIII в. яркий расцвет
зодчества был прерван жестоким ударом
татаро-монгольского вторжения.
Историческая судьба Руси сложилась таким образом,
что генеральная линия развития русской
архитектуры — московское зодчество —
опиралась на традиции лишь одной
архитектурной школы — владимиро-суздальской,
164
Глава 7
хотя подготавливался этот процесс на
гораздо более широкой базе многочисленных
архитектурных школ домонгольской Руси.
*
Во время татаро-монгольского вторжения
Северо-Восточная Русь пострадала не
меньше, чем южнорусские земли. Здесь также
были захвачены, разграблены, а частично и
сожжены города, перебита значительная
часть населения, уведены в плен
ремесленники. И все же Северо-Восточная Русь
значительно быстрее оправилась от
разгрома. Она не потеряла политической
независимости, а затем именно этот регион стал
тем центром, вокруг которого началось
объединение Русской земли.
Татаро-монгольское вторжение прервало
процесс интенсивной строительной
деятельности, развивавшейся в Северо-Восточной
Руси в 1-й трети XIII в. После 1234 г.,
когда было закончено строительство
Георгиевского собора в Юрьеве-Польском,
строительство прекратилось. Однако,
по-видимому, какая-то часть мастеров-строителей
все же уцелела, и как только началось
восстановление разоренных городов, стали
восстанавливать пострадавшие каменные
храмы. Так, уже в 1239 г. епископ Кирилл
обновил и заново освятил церковь Св.
Бориса и Глеба в Кидекше. Во 2-й половине
XIII в. небольшие восстановительные
работы продолжались главным образом в
Ростове.
Все эти крайне немногочисленные
ремонтные работы проводились по инициативе
церковных властей — митрополита и
епископа. Видимо, в распоряжении церкви
имелись какие-то довольно скоомные
строительные кадры. Об этом свидетельствует и
грамота Менгу-Тимура 1267 г., где в числе
охраняемых церковных людей числятся и
«церковные мастера».
Таким образом, во Владимире и
Ростове во 2-й половине XIII в. хотя и не велось
капитального строительства, но все же
продолжали бытовать традиции владимиро-суз-
дальского зодчества. Постепенно к концу
XIII в. вместо старых политических
центров Северо-Восточной Руси начинают
выдвигаться новые города — Тверь и
Москва, и именно здесь начинается оживление
строительной деятельности.
Лишь с конца XIII в. Москва начинает
расти и играть существенную роль в
судьбах Северо-Восточной Руси. Судя по
письменным источникам, каменное строительство
здесь началось только в 1326 г., когда была
построена «первая церковь камена» —
Успенский собор. Этот собор не
сохранился, и об его формах существуют различные
предположения. Фрагменты резного камня
говорят о том, что здесь сохранялись
традиции владимиро-суздальского зодчества.
Откуда прибыли в Москву строители,
неизвестно. Очень вероятно, что,
воспользовавшись разгромом Твери в 1327 г., в
Москву забрали и всех работавших там
строителей. Во всяком случае, в Твери
строительство полностью прервалось, а в
Москве после этого каменное строительство
ведется уже непрерывно.
В 1329 г. в Москве возвели церковь Св.
Иоанна Лествичника. Известно, что она
была церковью «иже под колоколы», т. е.
имела в верхней части звонницу. Судя по
тому, что ее построили за один год, церковь
была очень небольшой. Она также не
сохранилась, и первоначальные формы ее
неизвестны. Еще через год, в 1330 г., была
построена церковь Спаса на Бору. Многократно
перестроенная, она была полностью возведена
заново в XVIII в., и только по нескольким
найденным фрагментам можно судить, что
она была белокаменной и с элементами
декоративной резьбы. В 1333 г. построили
церковь Архангела Михаила, также
возведенную за один год и, следовательно,
имевшую небольшой размер. В 1344 — 1346 гг.
все эти московские церкви были внутри
расписаны.
Оборонительные и жилые постройки
Москвы оставались деревянными.
Известно, что в 1-й половине XIV в. здесь был
построен деревянный дворец, а в 1339 —
1340 гг. — дубовый Кремль. В 1340 г.
возведена и первая каменная церковь вне
Кремля, на московском посаде — церковь
Богоявленского монастыря, полностью
уничтоженная при перестройке в XVII в.
Проведенные раскопки показали, что она была,
по-видимому, белокаменной, четырехстолп-
ной.
165
Книга первая
Таким образом, усиление значения
Москвы во 2-й четверти XIV в. при Иване
Калите нашло прямое отражение в
каменном строительстве. Как и в Твери, и в
Нижнем Новгороде здания той поры
полностью исчезли, и можно уверенно говорить
лишь о том, что во всех этих городах
зодчество следовало по пути продолжения вла-
димиро-суздальских традиций. Но если в
Тверском и Суздальско-Нижегородском
княжествах подъем строительной
деятельности был недолговечным и быстро
оборвался, в Московском княжестве во 2-й
половине XIV в. каменное строительство
продолжает развиваться. При Дмитрии
Донском и митрополите Алексее оно не только
не затихает, но даже несколько
усиливается.
Большое внимание уделялось
оборонительному строительству, в том числе и
каменному. В 1367 — 1368 гг. был возведен
белокаменный Кремль, сменивший дубовую
крепость. Площадь Кремля при этом
увеличилась, и периметр каменных стен
составил около двух километров.
Несмотря на то, что ни один памятник
каменного зодчества XIV в. не сохранился
в более или менее целом состоянии, даже на
основании сохранившихся фрагментов можно
все же определить, что строительство явно
продолжало развивать традиции владимиро-
суздальской архитектуры. К сожалению,
конкретные формы памятников удается
установить лишь в нескольких случаях и к
тому же очень приблизительно.
Строительство, которое проводилось в Московском
княжестве в XIV в., заложило прочные
основы сложения на рубеже XIV—XV вв.
яркой и самостоятельной московской
архитектурной школы.
В конце XIV в. в Московском княжестве
заметно усилилась строительная
деятельность. В самой Москве, в Кремле, были
построены церковь Благовещения и церковь
Рождества Богородицы. Благовещенская
церковь, сооруженная между 1393 и
1397 гг., была разобрана и возведена заново
в конце XV в., но в ее подклете
сохранились белокаменные остатки первоначального
здания. На основании этих остатков
можно определить, что здание XIV в.
представляло собой небольшую квадратную в плане
церковь с одной апсидой и четырьмя
столбами, встроенными в углы помещения, т. е.
это было здание, близкое по типу к бес-
столпным храмикам, построенным в
Коломне. Однако в отличие от них
Благовещенская церковь имела подклет («казну») с
опорным столбом в центре.
Значительно больше данных имеется по
церкви Рождества Богородицы, возведенной
в 1393 — 1394 гг. Ее строительство было,
по-видимому, осуществлено в память о
Куликовской битве. В 1395 г. церковь
расписали художники Феофан Грек и Симеон
Черный. Здание полностью перестроено в
начале XVI в., причем нижняя часть
древнего храма была перекрыта новыми
сводами и использована как подклетный этаж
нового храма. Таким образом, до наших
дней сохранилась нижняя половина здания
белокаменного четырехстолпного храма с
тремя апсидами (в XVII в. центральная и
северная апсиды было переложены).
Восточные столбы церкви квадратные, а
западные — круглые. В толще северной стены
размещена лестница, ведшая на хоры.
Полностью сохранился западный белокаменный
перспективный портал, колонки которого
перебиты бусинами, а архивольты имеют
килевидные очертания. В толще стен
размещены многочисленные ниши со
своеобразным многолопастным килевидным
завершением. Маленькие окошки, освещающие
камеры в северо-западном углу, имеют
характер восьмилепестковых розеток. Верхние
части здания и обработка его наружных стен
не сохранились.
Через несколько лет после возведения
кремлевской церкви Рождества
Богородицы (по-видимому, около 1400 г.) был
построен Успенский собор в Звенигороде.
Здание расположено на территории дрернего
укрепления и поэтому обычно называется
собором на Городке. Это самый древний
полностью сохранившийся памятник
московской архитектуры. Собор представляет
собой сравнительно небольшую одноглавую
трехапсидную церковь с четырьмя широко
расставленными столбами. В
северо-западном его углу в толще стены находится
лестница, ведущая на хоры. Здание возведено
в прекрасно выполненной белокаменной
технике.
166
Глава 7
Общая композиция Успенского собора
близка храмам владимиро-суздальского
зодчества. Владимиро-суздальские традиции
отражены и в позакомарном завершении
фасадов, и в тонких колонках на лопатках,
и в перспективных порталах, и в
профилировке цоколя. Вместе с тем здесь имеются
и заметные нововведения. Так, вместо ар-
катурно-колончатого пояса поперек фасадов
проходит тройная лента белокаменной
резьбы растительного характера, архивольты
порталов и закомары имеют четкие килевид-
ные заострения. Пол несколько приподнят
над уровнем земли, и поэтому цоколь
имеет довольно значительную высоту, а к
порталам ведут ступени. Но самая главная
отличительная особенность Успенского
собора — ступенчато повышающаяся
конструкция сводов и отвечающий этой конструкции
усложненный верх: четыре дополнительных
диагональных закомары и кокошники в
основании барабана. В отличие от владимиро-
суздальских памятников наружные лопатки
храма не соответствуют положению столбов,
а распределены равномерно по фасаду и,
таким образом, внешние членения здания не
вполне отражают конструктивную схему
сооружения. Такой прием свидетельствует
о совершенно ином, чем у домонгольских
мастеров, принципе композиционного
подхода; он позволял зодчему решать
пропорциональные построения внутреннего и
внешнего объемов независимо друг от друга и тем
самым получить полностью уравновешенный
наружный облик храма, не уменьшая для
этого алтарную часть здания. Полное
совпадение деталей звенигородского Успенского
собора и кремлевской церкви Рождества
Богородицы (порталы, маленькие круглые
окна в розетках, обрамление ниш и проч.)
не оставляет сомнений в том, что эти два
здания возводили те же мастера.
Собор Рождества Богородицы Саввина-
Сторожевского монастыря близ
Звенигорода во многом близок Успенскому собору на
Городке. Как общая схема, так и
конструкция этих зданий, по существу, идентичны.
И в то же время они очень различны. По
сравнению со стройным и изящным
Успенским собором собор Саввина-Сторожевского
монастыря выглядит гораздо более
массивным и даже несколько грубоватым. Вместо
тонких колонок на фасадах здесь простые
плоские лопатки, которые к тому же
перерезаются тройной лентой резьбы, по рисунку
почти совпадающей с резьбой
звенигородского Успенского собора. Здание не имеет
хоров, столбы его не крещатые в плане, а
квадратные. Как и в более ранних
постройках, сохраняется точное соотношение
размещения наружных лопаток и столбов. Собор
полностью сохранился и восстановлен в
первоначальных формах.
В 1422 — 1423 гг. в Троице-Сергиевом
монастыре был построен Троицкий собор.
По общей схеме он так же, как и собор
Саввина-Сторожевского монастыря,
полностью повторяет звенигородский Успенский
собор, однако производит совершенно иное
впечатление. Сравнительно невысокое и
массивное здание тем не менее кажется
стройным благодаря тому, что все его
формы — стены, столбы, барабан — имеют
небольшое сужение кверху, создающее
перспективный ракурс. Между наружными
членениями здания, осуществленными с
помощью узких плоских лопаток, и
опорными подкупольными столбами виден
заметный разрыв: столбы сдвинуты к востоку, что
никак не отражено на фасадах.
Завершающие фасады закомары не отвечают
реальному расположению сводов и являются, по
существу, ложными. Кроме диагональных
закомар, Троицкий собор имеет еще и
примыкающие к барабану закомары второго
яруса, отвечающие конструкции ступенчато
повышающихся арок. В отличие от
звенигородского Успенского и Рождественского
собора Саввина-Сторожевского монастыря,
в основании барабана нет кокошников, а
размещен в нем прямоугольный пьедестал.
В соборе отсутствуют хоры, а между
восточными столбами размещена высокая (до
3 м) каменная стенка-преграда. Следует
отметить также очень хорошее качество
белокаменной кладки здания.
Имеется еще один памятник, вероятно
относящийся приблизительно к тому же
времени, т. е. к 1-й четверти XV в., — это
Никольская церковь в с. Каменском на
р. Наре. Церковь очень небольшая,
белокаменная, бесстолпная, почти кубическая по
объему, с тремя апсидами. Она сильно
перестроена в верхней части, но в общем до-
167
Книга первая
статочно хорошо сохранилась. В углах ее
квадратного в плане интерьера размещены
пилоны, поддерживающие арки
параболической формы. Угловые паруса переходят в
суживающийся кверху конусообразный
свод, служащий основанием кольца
барабана. Наружные стены церкви гладкие; они
лишены лопаток или членений. Порталы
перспективные, но они имеют на один
уступ меньше, чем порталы звенигородского
Успенского собора или Троицкого в Трои-
це-Сергиевом монастыре; завершаются они
килевидными архивольтами. В отношении
первоначального завершения фасадов
существуют различные предположения — либо
они завершались плоскими карнизами,
либо декоративными закомарами.
Никольская церковь является единственным хотя
бы частично сохранившимся храмом того
бесстолпного типа, который московские
зодчие разрабатывали во 2-й половине
XIV в.
Сравнение сохранившихся сооружений
той поры показывает, что их возводили
разные строительные организации.
Кремлевская церковь Рождества Богородицы и
Успенский собор в Звенигороде,
несомненно, строила одна и та же артель мастеров.
Собор Саввина-Сторожевского монастыря,
по-видимому, возвели строители из той же
артели, но менее опытные. Однако
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря
выдает руку совершенно иных зодчих —
опытных, но связанных с иной
архитектурной традицией. Очень возможно, что это
были балканские, скорее всего сербские
строители. Кроме архитектурных и
строительно-технических особенностей на
присутствие приезжих строителей косвенно
указывает и письменный источник, сообщающий,
что игумен монастыря Никон при
постройке собора «собирает отвсюду зодчиа и ка-
меносечца мудры»13. Типологическое
сходство данного памятника архитектуры с
остальными московскими постройками в таком
случае может объясняться жесткими
условиями заказа, поставленными перед
приезжими мастерами. К работе тех же
строителей, быть может, относится и строительство
церкви в селе Каменском (ныне на
территории Калужской области), если только она,
как предполагают некоторые
исследователи, не относится к более раннему времени.
В развитии раннемосковской
архитектуры еще многое неясно. Например, остается
нерешенным вопрос, как появилась в
московском зодчестве ступенчато
повышающаяся конструкция сводов, — была ли она
здесь разработана самостоятельно или же
унаследована из какого-то пока еще не
выясненного источника. Как бы то ни было,
но ясно, что в течение 1-й четверти XV в.
московское зодчество, развившееся в
основном на традициях владимиро-суздальской
архитектуры, уже превратилось в
самостоятельную и яркую архитектурную школу.
Завершающим звеном этого развития
явилось создание замечательного памятника
зодчества — Спасского собора
Андроникова монастыря в Москве. Собор был
построен, по-видимому, в 1425 — 1427 гг.;
в настоящее время он полностью
восстановлен в первоначальных формах. Здесь при
сохранении той же схемы четырехстолпно-
го плана полностью переработана вся
композиция здания.
Большой подъем подпружных арок
высоко поднимает барабан и создает основу
второго яруса закомар трехлопастного
очертания, с крупными кокошниками,
повернутыми по диагонали. В основании стройного
барабана главы — венок меньших
кокошников. Угловые членения здания резко
опущены, что создает
ступенчато-башнеобразную структуру. Впечатление стройности и
высоты еще более усиливают высокий
цоколь и лестницы, ведущие к порталам.
Несомненно, что в Спасском соборе ярко
реализованы те тенденции, которые были
характерны для домонгольского этапа
развития русской архитектуры (например, в
черниговской Пятницкой церкви), однако
если в черниговской церкви господствовало
впечатление динамики, взлета, то в соборе
Андроникова монастыря превалирует
впечатление пышности, торжественности.
Традиции владимиро-суздальской
архитектуры в соборе Андроникова монастыря
чувствуются достаточно явно, но уже в
сильно переработанном виде. В Москве опора на
владимирское культурное наследие
базировалась не только на традициях местных
зодчих, но и на вполне сознательном
обращении к этому наследию со стороны заказ-
168
Глава 7
чиков. В отличие от Новгорода и Пскова,
монументальное зодчество Москвы с
самого начала имело целеустремленный характер.
Москва, становившаяся средоточием русской
государственности, стягивала из областных
центров ремесленников и строителей, что
делало ее творческой лабораторией
национальной культуры.
Во время татаро-монгольского вторжения
армия Батыя не дошла до Новгорода, и
поэтому, в отличие от городов Южной и
Северо-Восточной Руси, он не был разорен.
Тем не менее и здесь создалась
обстановка, не позволявшая вести монументальное
строительство. Воспользовавшись
ослаблением Руси, активизировались враждебные
соседи — шведские феодалы, немецкие
рыцари, Литва. На новгородских землях
приходилось думать не о гражданском и
культовом строительстве, а о строительстве
оборонительных сооружений. В трудных
боях отстаивали новгородцы свою
независимость. К тому же тяжелая дань, наложенная
монголами, подрывала экономику города.
В таких условиях монументальное
строительство в Новгороде прервалось на целые
полстолетия.
Лишь к концу XIII в. обстановка в
Новгородской земле несколько
стабилизировалась, и в 1292 г. была построена первая
после перерыва каменная постройка —
церковь Св. Николы на Липне близ*
Новгорода — небольшая квадратная в плане, четы-
рехстолпная, с одной апсидой. Она имеет
крестовокупольную систему сводов, причем
в восточных углах размещены полукоробо-
вые своды, а в западных — сомкнутые
своды с ребрами. Восточная пара столбов в
нижней части имеет квадратное сечение, а
западная — восьмигранное; в верхней
части все столбы крещатые.
Церковь Св. Николы на Липне имеет
хоры; в угловых членениях они
представляют собой замкнутые камеры, а в средней
части — настил на балках. Снаружи
здания лопатки находятся только на углах, а
промежуточные лопатки отсутствуют.
Завершение фасадов трехлопастное,
отвечающее конструкции сводов. Сверху стен, под
линией кровли, проходит ползучая
аркатура, общим контуром повторяющая
трехлопастную форму завершения.
В нижней части здание возведено из
камня, а в верхней (ив том числе своды) —
из кирпича, причем камни были разных
пород и разного цвета, а кирпичи —
брусковые, нескольких размеров и форм. Для
кладки использовался известково-песчаный
раствор. Поверхность фасадов не была
затерта раствором или обмазкой.
Совершенно ясно, что общая композиция
храма, основные его типологические
особенности восходят к церкви Перынского
скита, построенной примерно на 60 лет ранее.
Поскольку монументального строительства
в этот промежуток времени в Новгороде не
велось, естественно возникает, вопрос,
откуда появилисв мастера, возведшие церковь
Св. Николы на Липне. Применение
брускового кирпича, раствора с песком,
возведение угловых западных сводов с ребрами-
нервюрами, а также декорирование фасадов
ползучей аркатурой свидетельствует об
участии мастеров романо-готической традиции,
наиболее вероятно, из Риги. В то же
время точное повторение типологических черт
Перынской церкви несомненно связано с
требованием заказчиков (в первую очередь,
видимо, епископа Климента), желавших
сохранить старые новгородские традиции.
Очень возможно также, что в Новгороде
сохранялись и какие-то собственные кадры
строителей, быть может работавшие на
возведении укреплений или на ремонтах
древних храмов.
В 1342 — 1343 гг. на месте
разрушенного храма XII в. была построена церковь
Благовещения на Городище. Своды этой
церкви рухнули еще в древности, а само
здание было разрушено во время Великой
Отечественной войны. Тем не менее удалось
все же установить, что здесь была создана
ступенчато повышающаяся конструкция
сводов, характерная для зодчества Москвы
и Пскова, но в Новгороде являвшаяся
уникальным примером, более ни разу не
повторенным.
Еще через несколько лет, в 1345 г.,
построена церковь Спаса на Ковалеве. Она
была разрушена во время Великой
Отечественной войны, но после войны восстанов-
169
Книга первая
лена. До разрушения в ней сохранялась
прекрасная фресковая роспись, часть
которой удалось собрать при разборке руин и
смонтировать. Церковь имела квадратный
план с четырьмя столбами и одной
апсидой — план, ставший почти стандартным в
новгородской архитектуре. Впрочем, в
отличие от остальных новгородских
памятников зодчества 1-й половины XIV в.,
западная пара столбов в церкви Спаса на
Ковалеве не восьмигранная и не круглая, а
квадратная, так же как и восточная пара.
Наиболее существенными
особенностями храма были позакомарная система
покрытия, напоминающая домонгольские
архитектурные памятники, а также наличие
разновеликих притворов с трех сторон
здания.
Вскоре после сооружения церкви Спаса
на Ковалеве, в 1352 г., была возведена
Успенская церковь в Болотове, которая
почти полностью повторяет тип церкви Св.
Николы на Липне, но в более аскетическом
виде: здесь отказались не только от
промежуточных наружных лопаток, но и от
лопаток на углах. С севера и запада к
Успенской церкви примыкали притворы. В ней
сохранялся полный ансамбль
монументальной живописи, исполненной в 1363 г. Этот
памятник зодчества, к сожалению,
полностью погиб во время Великой Отечественной
войны.
Значительная часть новгородских
памятников 1-й половины и середины XIV в. не
сохранилась, и формы их нам неизвестны.
Уцелевшие фрагменты свидетельствуют о
том, что в новгородском зодчестве шел
интенсивный процесс разработки новых
художественных и конструктивных решений.
При этом сложилась плановая схема,
которая стала типичной практически для всех
творений новгородской архитектуры: это
были квадратные в плане здания с
четырьмя столбами и одной апсидой. Но если
планы храмов почти единообразны, то
конструктивное решение сводов, система
покрытия и декоративное оформление чрезвычайно
разнообразны. Чаще всего применяли кре-
стовокупольную структуру сводов с
полуцилиндрическими сводами в угловых
членениях, что создавало трехлопастную форму
завершения фасадов. Однако при подобной
конструкции сводов делались попытки и
пощипцового покрытия фасадов (церковь
Св. Николы Белого). Параллельно с этим
не отказывались и от старой, характерной
еще для XII в. структуры с
цилиндрическими сводами в углах и позакомарным
покрытием фасадов (церковь Спаса на
Ковалеве). Известен пример и ступенчато
повышающейся конструкции сводов (церковь
Благовещения на Городище).
Разнообразно было декоративное
решение храмов. В наиболее ранних из них под
трехлопастным завершением ввели
аркатуру (церковь Св. Николы на Липне),
позднее эта аркатура превратилась в
декоративные многолопастные арки (начиная с
церкви Св. Николы Белого). От
применения лопаток на стенках в интерьере
отказались с самого начала, в соответствии со
старой новгородской традицией. Наружные
лопатки чаще помещали только на углах,
хотя иногда оставляли и промежуточные.
Наконец, делали попытки вообще
отказаться от лопаток, оставляя стены совершенно
плоскими (церковь Успения в Болотове).
Таким образом, время с конца XIII в. до
середины XIV в. было периодом исканий,
когда разрабатывали различные варианты
храмового здания. Искания эти завершились
к 60-м годам XIV в.
К середине XIV в. экономическое
положение Новгорода значительно укрепилось.
Вместе с тем усилилась и строительная
деятельность. Знатные новгородские бояре
заказывают церкви, которые строятся одна
за другой. И пышность оформления, и сам
размер этих церквей должны были
демонстрировать богатство их заказчиков. Как
итог исканий предшествующего времени и
как ответ на вновь появившиеся требования
сложился почти каноничный тип
новгородского храма, первым примером которого
была церковь Св. Федора Стратилата на
Ручье (1360 — 1361 гг.). Этот храм
представляет собой четырехстолпную одноглавую
постройку с одной апсидой и трехлопастным
завершением фасадов.
Объемно-пространственная схема здания целиком восходит к
схеме церкви Св. Николы на Липне; именно
такой тип церкви, разрабатывавшийся в
различных вариантах в переходный период,
и стал основой классического
новгородского
Глава 7
го храма. Однако церковь Св. Федора
Стратилата все же существенно отличается
от более ранних построек. Прежде всего она
значительно крупнее. Ее фасады
расчленены лопатками соответственно внутреннему
членению столбами, т. е. каждый фасад
разделен на три прясла. Под трехлопастным
завершением проходят ползучие
декоративные арки, связывающие между собой
лопатки.
Особенность, резко отличающая церковь
Св. Федора Стратилата от более ранних, —
богатое декоративное убранство фасадов.
Аркатура на апсиде, бровки над окнами
барабана, полоса богатого орнамента под
основанием купола, фигурные кресты и
ниши на стенах — таков набор
декоративных элементов этого храма, делающих его
нарядным и даже пышным. Внутри здание
сохраняет старую крестовокупольную
систему сводов с нормальными, т. е.
пониженными, подпружными арками. На хорах
устроены закрытые угловые помещения и, в
отличие от всех последующих новгородских
храмов, закрытое каменной стенкой среднее
членение; каменная лестница на хоры
размещена в северо-западном углу здания.
Оконные проемы и порталы имеют
стрельчатое завершение, видимо, отражая
некоторое влияние готической архитектуры. С
запада к церкви примыкал притвор, а с
юга — небольшая пристройка,
по-видимому, придел-усыпальница.
Церковь Св. Федора Стратилата
открывает целую серию памятников
новгородского зодчества, хотя и отличающихся
величиной и деталями, но, по существу,
однотипных. К ним, например, относится
построенная в 1367 г. церковь Петра и Павла
на Славне, сильно пострадавшая в верхних
частях, но восстановленная в
первоначальных формах. Декоративное оформление
этого храма значительно скромнее, чем у
церкви Св. Федора Стратилата. Построенная
через несколько лет (1374 г.) церковь Спаса
на Ильине улице, наоборот, выделяется
чрезвычайной насыщенностью
декоративными элементами. Она самая нарядная из всех
построек данного круга, отличающаяся к
тому же прекрасными пропорциями и
являющаяся одним из лучших памятников
новгородского зодчества. Объединенные в
группы окна и ниши разной величины и
формы, завершенные многолопастными
бровками, многочисленные фигурные
кресты украшают стены этого храма. Церковь
полностью сохранилась, хотя ее
первоначальное трехлопастное покрытие пока не
восстановлено. Хоры церкви состоят из двух
замкнутых камер по углам с деревянным
переходом между ними, а лестница для
входа на хоры размещена в толще западной
стены. В интерьере церкви Спаса на
Ильине сохранилась значительная часть
фресковых росписей, исполненных в 1378 г.
Феофаном Греком.
Близки по формам, хотя меньше по
величине, церкви Рождества на Новгородском
кладбище (1382 г.) и Иоанна Богослова на
Витке (1384 г.). Последняя имела с
запада притвор (ныне перестроенный) и богато
декорированный (почти как в церкви
Спаса на Ильине) южный фасад, тогда как
северный фасад решен очень аскетично. В
церкви Рождества сохранились фресковые
росписи.
Несколько храмов того же типа
построили уже в середине XV в. Хорошим
примером может служить церковь Двенадцати
Апостолов (1455 г.). Церкви подобного
типа строят и в 60-х годах XV в. Внешне
они почти полностью повторяют более
ранние храмы, хотя внутри имеют
существенное новшество — наличие подклета,
однако никак не выраженного на фасадах.
Заметное увеличение роли кирпича за счет
уменьшения естественного камня вызвало
появление на фасадах широких многорядных
полос узорной кирпичной кладки. В
небольшом количестве, в виде узких полосок,
такой орнамент использовался в Новгороде
уже со 2-й половины XIV в., но теперь
именно такая декоративная обработка
становится господствующей в верхних частях
фасадов храмов. С наибольшей яркостью
узорный кирпичный декор получил
выражение в церкви Св. Димитрия Солунского
(1463 г.).
Таким образом, тип новгородского
храма, сложившийся к 60-м годам XIV в., в
дальнейшем продолжал применяться в
течение целого столетия. Более того, даже
существенные функциональные изменения
(появление подклета) не изменили общей
171
Книга первая
структуры экстерьера храмов. Очевидно, что
тип новгородского храма сознательно пыта-
лись сохранить в неприкосновенности, даже
вопреки конструктивной логике. Вместе с
тем в середине XV в. в новгородском
зодчестве можно отметить и еще одну
необычную черту: восстановление в старых формах
церквей домонгольского времени. Постройка
нового здания церкви «на старой основе»,
т. е. на фундаментах или нижних частях стен
более древнего здания, — явление
достаточно обычное. Но в данном случае обращает
на себя внимание то, что новые церкви
строили «реставрационным» методом, т. е. в
формах более древнего памятника, что
противоречило всем традициям древнерусского
зодчества. Так, церковь Ивана на Опоках,
построенная в XII в., была полностью
перестроена в 1453 г., а церковь Успения
Богоматери на Торгу — в 1458 г. Еще
несколько позже, в 1465 г., также заново
построили церковь Благовещения на Мячи-
не. Эти храмы настолько близки по типу
домонгольским памятникам архитектуры,
что их долгое время считали относящимися
к XII в. и лишь несколько
перестроенными в XV в., тогда как выяснилось, что они,
по существу, заново возведены на старых
фундаментах.
Такой «реставрационный» метод
строительства в сочетании с сохранением
объемно-планировочной структуры сложившегося
за сто лет до этого типа храма
свидетельствует о каких-то чрезвычайно
консервативных, «охранительных» тенденциях.
Объяснение этому — политическая обстановка той
поры. К середине XV в. Москва уже
уверенно стала центром, вокруг которого шло
объединение русских земель. Все ранее
независимые княжества Северо-Восточной
Руси одно за другим подчинялись Москве.
И только Новгород, формально признавая
московского великого князя своим
сюзереном, пытался сохранить политическую
самостоятельность. Защищая свои привилегии,
новгородское боярство готово было пойти на
союз с Литвой, с немцами, с кем угодно,
только бы противостоять Москве, что нашло
отражение в новгородской идеологии,
причем очень активную роль играла в данном
случае Церковь. В области искусства и
архитектуры это выразилось в стремлении
опираться на собственные новгородские
традиции, не допуская московских влияний.
Этим и объясняется консерватизм и «рес-
таврационность» новгородской архитектуры
того времени.
Особенно четко проявились
антимосковские тенденции в деятельности
новгородского архиепископа Евфимия (1429 —
1458 гг.), по заказам которого строилось
большинство новгородских храмов 2-й
четверти и середины XV в. В новгородском
детинце Евфимий произвел коренную
перестройку Владычного двора, что должно
было поднять престиж самого
архиепископа, возглавлявшего Новгородскую
республику. В 1433 г. была построена большая
парадная палата для торжественных
заседаний и приемов, так называемая Евфимиева
палата (позднее по сходству с парадной
палатой Московского Кремля ее стали
называть Грановитой). Евфимиева палата
представляла собой большое квадратное в
плане помещение, имеющее в центре столб,
на который опираются своды, имеющие
откровенно готический характер. Из
письменных источников известно, что на
строительстве палаты вместе с новгородскими
мастерами работали «немецкие мастера из
Заморья»16. Через несколько лет по
распоряжению Евфимия здесь же были
построены дворец и высокая башня — часозвоня.
Комплекс архиепископского дворца был
позднее полностью перестроен и, кроме
Евфимиевой палаты, не дошел до наших
дней.
Тесная связь новгородского зодчества
XV в. с политикой новгородского
сепаратизма привела к тому, что архитектура
Новгорода разделила судьбу
Новгородской республики. В 1478 г. Москва
вооруженной рукой подчинила себе Новгород.
Конец новгородской независимости был и
концом развития новгородской
архитектурной школы.
В XIV в. из новгородского зодчества
выделилась самостоятельная ветвь —
псковская архитектура. Быстрый рост Пскова вел
к укреплению его политической
самостоятельности и постепенному освобождению от
власти Новгорода. В итоге «господин
великий Новгород» должен был по договору
признать Псков своим «младшим братом».
172
Глава 7
По средневековой терминологии это
означало равенство и независимость: брат, а не
сын. Укрепление экономической и
политической мощи города создавало необходимые
предпосылки для сложения самостоятельной
строительной организации и начала
монументального строительства.
Во 2-й половине XIII в. в Пскове было
возведено несколько каменных зданий,
построенных по заказу псковского князя Дов-
монта. Строительство велось, по-видимому,
лишь спорадически; к тому же постройки
эти не дошли до нас. Древнейшим из
сохранившихся храмов является Рождественский
собор Снетогорского монастыря,
возведенный в 1310 г. Здание полностью
сохранилось, и в нем уцелела даже часть фресковых
росписей, исполненных в 1313 г. Храм этот
по своим формам почти полностью
повторяет собор Спасо-Мирожского монастыря.
Сама идея взять за образец мирожский
собор достаточно ясно указывает, что во
Пскове хотели опираться уже на
собственные архитектурные традиции, а не повторять
новгородские типы сооружений. В
Новгороде в то время строили совершенно по-иному
(например, церкви Св. Николы на Липне и
Успения Богородицы в Колмове), а
мирожский собор стоял во Пскове уже около 170
лет и вполне мог в представлении псковичей
казаться представителем «собственной»
традиции. О самостоятельности мастеров
свидетельствует и тот факт, что, в отличие от
Новгорода, здесь стали строить только из
плиты, полностью отказавшись от кирпича,
даже в кладке сводов. Псковская плита
легко выветривается, и поэтому для защиты
поверхности стен их начали обмазывать
раствором, что существенно изменило
наружный облик зданий.
Дальнейшее развитие псковского
зодчества очень плохо изучено, поскольку
подавляющее большинство памятников XIV в. и
1-й половины XV в. до нас не дошло.
Строительство в то время уже полностью
перешло в руки посадских людей — купцов и
ремесленников, по заказам которых
возводились церкви. По-видимому, одним из
первых каменных храмов, построенных по
заказам горожан, была церковь Архангела
Михаила в Городце (1339 г.). Несмотря на
очень существенные перестройки, этот
памятник зодчества все же дает возможность
судить о его первоначальной композиции и
конструкции. План церкви очень близок
новгородскому типу; храм являл собой
квадратную четырехстолпную постройку с одной
апсидой и притвором с запада. Характерная
особенность здания — ступенчато
повышающаяся конструкция сводов. Примерно в то
же время подобную конструкцию применили
и новгородцы — в церкви Благовещения на
Городище (1342 г.). Однако в Новгороде
эта система сводов не привилась, во
Пскове же она стала любимым приемом зодчих
того времени.
В научной литературе давно уже идет
дискуссия, где раньше появилась
ступенчатая конструкция сводов — во Пскове или
в Северо-Восточной Руси, и,
следовательно, кто на кого оказал в этом отношении
влияние. Более ранние примеры подобной
системы (церковь Св. Параскевы Пятницы
в Чернигове, начало XIII в.), по-видимому,
могут не приниматься в расчет, так как
связи с разгромленной монголами южной
Русью почти прервались. К сожалению,
памятники архитектуры 1-й половины
XIV в. ни в Твери, ни в Москве до сих пор
не изучены, и вопрос об источниках
появления этой системы в русском зодчестве
XIV в. так и остается пока открытым.
Близок к новгородским образцам и
Никольский собор в Изборске, построенный
между 1330 и 1341 гг. Однако и здесь, как
и в церкви Михаила Архангела в Городце,
своды сделаны не по-новгородски: ветви
креста здесь перекрыты ступенчатыми
арками, что при пониженных подпружных
арках дает очень своеобразное решение, как
бы промежуточное между ступенчато
повышающейся конструкцией сводов и обычной
старой их конструкцией. Видимо, именно в
этот период псковские мастера еще
разрабатывали различные варианты системы
перекрытия. Впрочем, и в Никольском
соборе, и в церкви Михаила Архангела верхние
части храмов сильно перестроены, и делать
какие-либо уверенные выводы об их
первоначальной конструкции до начала
серьезного научного исследования
преждевременно.
В 1362 г. рухнул верх псковского
Троицкого собора. В 1365 — 1367 гг. здание
173
Книга первая
восстановили, причем, как отмечено в
летописях, «по старой основе». Собор был
уничтожен в конце XVII в., но известен нам по
достаточно реалистическим изображениям
(план и фасад). Судя по этим
изображениям, основное здание сохранилось еще от
домонгольского времени, и восстановление
коснулось лишь верхней части церкви,
которую исполнили в виде ступенчатого
пьедестала, перекрытого восемью двускатными
кровельками (т. е. на 16 скатов). Зодчий
здесь как бы продолжил творческую
переработку завершения крестовокуполь-
ного храма, начатую еще на рубеже XII и
XIII вв. Троицкий собор — главный храм
города — венчал детинец Пскова (здесь он
назывался Кром) и служил символом
псковской независимости. Величественная и
динамичная композиция Троицкого собора,
несомненно, должна была оказать влияние на
последующее развитие псковского зодчества,
хотя история Пскова более не выдвигала
перед архитектурой задач такого масштаба
и идейного значения.
Самый неясный период в истории
псковской архитектуры — 2-я половина XIV —
1-я половина XV в. Некоторое
представление о развитии зодчества этого периода
можно получить главным образом по
нескольким памятникам зодчества,
раскопанным на территории Довмонтова города. Так,
церковь, предположительно
отождествляемая с построенной в 1383 г. церковью Св.
Николы на Гребле (по другим
предположениям, это была церковь Воскресения,
1395 г.), показывает, что псковские зодчие
начали существенно видоизменять план
храма, полученный ими в наследство от
Новгорода. Новгородские церкви имели лишь
одну апсиду, а здесь появляются и две
боковые, имеющие очень своеобразную
форму, близкую к прямоугольной. Почти такую
же форму плана имеют еще две церкви,
открытые раскопками в Довмонтовом городе
и, видимо, также относящиеся ко 2-й
половине XIV в. Каковы были объемные
композиции и завершения этих храмов,
неизвестно, но частично об этом можно судить
по тому, что точно такой же план имеет
полностью сохранившаяся церковь Успения
Богородицы в Мелетове, построенная уже во
2-й половине XV в. (1461 — 1462 гг.).
Столь близкое совпадение планов храмов,
разделенных по времени примерно 80-ю
годами, очень неожиданно и в дальнейшем,
очевидно, потребует объяснения.
Церковь в Мелетове имеет ступенчатую
конструкцию сводов, а покрытие ее очень
сложное: средняя часть фасадов, покрытая
на два ската, здесь ступенчато
возвышается над боковыми частями, а глава
приподнята на пьедестале, оформленном в виде
восьми фронтончиков, т. е. покрытом 16-ю
скатами. Подобный тип завершения храма
почти полностью повторяет схему
завершения Троицкого собора, однако в мелетов-
ской церкви пьедестал настолько невысок,
что почти не виден при рассмотрении
здания с небольшого расстояния. Создается
впечатление, что формы церкви в
Мелетове — лишь дань традиции, идущей от
Троицкого собора, а не самостоятельный
художественный замысел. Видимо, к тому же
типу относилась и церковь Св. Косьмы и
Дамиана в Примостье (1463 г.). Верх
этого храма был полностью переделан в
XVI в., однако плановая схема и некоторые
особенности позволяют думать, что
первоначальное покрытие было близко к
покрытию мелетовской церкви.
Судя по материалам раскопок,
параллельно с подобными памятниками уже во 2-й
половине XVI в. псковские зодчие
разрабатывали еще два типа храмов. Первыми из
них были маленькие бесстолпные одноап-
сидные постройки. Такова несохранившая-
ся церковь Св. Федора Стратилата в
Довмонтовом городе (1384 г.). О системе
перекрытий подобных бесстолпных храмов
можно судить лишь по архитектурным
памятникам XV в. Большой интерес
представляла Успенская церковь в Гдове (1431 г.),
погибшая во время Великой Отечественной
войны. Она сохраняла конструкцию сводов
в виде нескольких повышающихся арок,
перекинутых поперек здания, оставляя в
середине пространства широкую щель.
Щель эта была, в свою очередь,
перекрыта несколькими повышающимися в
середине арочками, а в центре оставалось
небольшое отверстие, над которым стояла главка.
Таким образом, псковские зодчие
разработали совершенно своеобразный тип
конструкции перекрытия бесстолпного храма,
174
Глава 7
значительно более простой, чем
изобретенный в Москве тип крещатого свода.
Однако псковичи даже и этот тип,
представленный гдовской церковью, применяли, как
правило, в еще более упрощенном
варианте, где поперек храма по сторонам от щели
размещалось не по нескольку, а только по
одной арке.
Другой тип псковского храма, также
сложившийся в XIV в., представлен
постройкой, раскопанной в Довмонтовом городе и
определяемой как церковь Св. Кирилла
(1374 г.). Эта небольшая четырехстолпная
церковь, в отличие от остальных храмов,
имела три полукруглые апсиды. Именно
такой вариант планового решения стал в
дальнейшем наиболее типичным для
Пскова. Как перекрывались храмы и какую они
имели систему завершения фасадов, мы не
знаем, поскольку сохранившиеся
архитектурные памятники с подобным планом
относятся уже к концу XV в. В более поздних
храмах фасады перекрывались на два
ската, образуя, таким образом, восьмискатное
покрытие здания. Членились фасады
лопатками соответственно внутренним столбам.
Вверху, под кровлей, лопатки были
стянуты декоративными ползучими арками.
Многие псковские храмы составляли
сложный ансамбль, включавший помимо
основного здания галереи, крыльца,
приделы, хозяйственные пристройки, звонницы.
Отличительными особенностями их
являются крайняя экономичность, полное
подчинение функциональным требованиям и в то же
время — поразительная живописность и
уравновешенность композиции. К тому
времени псковские мастера полностью
отказались от украшения интерьеров росписью, и
единственным цветовым пятном в
интерьере был иконостас.
Именно такого типа храмы продолжали
интенсивно строить в Псковской земле и в
более позднее время, в XVI в.
*
Феодальная война, начавшаяся в
Московском княжестве в 1432 г. и
продолжавшаяся более 20 лет, прервала развитие
архитектуры. Видимо, монументальное
строительство тогда полностью приостановилось.
Некоторое оживление строительной
деятельности началось лишь в 50-е годы XV в. Из
письменных источников известно, что в
Кремле было построено несколько церквей.
К сожалению, церкви эти не дошли до
наших дней, и их первоначальные формы
неизвестны. Проводились также работы по
ремонту и восстановлению обветшавших
построек.
Большую роль в московском
строительстве той поры играл Василий Дмитриевич
Ермолин, хотя неясно, кем он был —
зодчим или только организатором производства.
В 1462 г. Ермолиным в Кремле
«поновлена камнем стена городская» и возведена
надвратная церковь над Фроловскими
воротами. В 1468 г. Василий Дмитриевич
завершил возведение недостроенного
собора Вознесенского монастыря в Москве, а в
1471 г. восстанавливал полуразрушенный
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
Кроме многочисленных реставрационных
работ Ермолин вел и новое строительство;
так, в 1469 г. он построил каменную
трапезную в Троице-Сергиевом монастыре.
Наряду с московскими зодчими к
строительству в Московском княжестве
привлекались мастера и из других русских
земель — псковичи, ростовцы и др. Следует
отметить, что в московском строительстве
кроме тесаного камня начали применять и
кирпич. Кирпич брускового типа, очевидно,
был заимствован из Новгорода или из
Прибалтики. Судя по количеству построек,
упоминаемых в письменных источниках, к
70-м годам XV в. строительство в
Московском княжестве уже приобрело достаточно
широкий размах, наступал новый этап в
развитии московского зодчества.
Во 2-й половине XV в. резко возросло
политическое значение Москвы. Процесс
объединения русских земель,
приостановленный феодальной войной в Московском
княжестве, после ее окончания пошел
ускоренными темпами. При московском великом
князе Иване III (с 1462 г.) Московское
княжество быстро превратилось в крупное
централизованное государство, в подчинение
которому попали все прежде независимые
княжества Северо-Восточной Руси. В
1478 г. был подчинен Новгород, а после
присоединения Твери в 1485 г. Иван III
175
Книга первая
стал называть себя Великим князем «всея
Руси».
В 1472 г. Иван III женился на греческой
царевне Софии Палеолог. После падения
Византии она жила в Италии, вследствие
чего этот брак не давал русскому князю
никаких реальных прав, но важно было, что
московские государи могли теперь считать
себя преемниками византийских
императоров. Роль Москвы как столицы мощного
крупного государства должна была быть
отражена и крупными сдвигами в идеологии.
В те годы появились литературные
произведения, возводившие род московских
великих князей к римским императорам, была
создана теория о Москве — третьем Риме:
«два Рима падоша, а третей стоит, а
четвертому не быти».
Естественно, что в таких условиях
Москва и внешним обликом, и архитектурными
сооружениями должна была соответствовать
своему новому значению. В Москве
началось энергичное монументальное
строительство. Как размеры, так и великолепие
московских построек были предназначены
отражать мощь сложившегося
централизованного государства. Основные работы
проводились в Московском Кремле,
коренным образом изменив его архитектурный
облик.
Первым начали строить главный храм
Кремля — Успенский собор. Старый
белокаменный собор, возведенный в 1326 —
1327 гг., пришел в ветхость й, кроме того,
уже не отвечал престижным требованиям
нового времени. Собор был разобран, и в
1472 г. начали возводить новое здание,
значительно большего размера.
Строительство вели московские мастера Кривцов и
Мышкин, которым в качестве образца был
указан владимирский Успенский собор. В
1474 г. почти законченное здание рухнуло.
Приглашенные псковские мастера похвалили
качество работы, а причиной катастрофы
посчитали плохое качество извести. Сами
они за продолжение работы не взялись.
Тогда русскому послу было дано поручение
найти и привезти хорошего мастера из
Италии. Почему московское правительство
обратилось к итальянским зодчим? Ведь в
Москве к этому времени были достаточно
многочисленные и опытные кадры
строителей, а кроме того, к работам в Москве
привлекали мастеров и из других русских
земель. Но очевидно, что русские мастера ни
по размаху работ, ни по
репрезентативности построек не имели достаточного опыта и
не могли обеспечить успешного выполнения
поставленных перед ними грандиозных
задач. Италия же в то время была наиболее
передовой страной Европы в архитектурном
отношении.
В 1475 г. в Москву прибыл итальянский
архитектор Аристотель Фиораванти.
Уроженец города Болоньи, Фиораванти в
Италии числился первоклассным специалистом,
главным образом как инженер-конструктор
и военный инженер. По приезде в Москву
ему поручили строительство Успенского
собора, предписав, как и до того русским
мастерам, взять за образец владимирский
Успенский собор. Совершенно очевидно, что
в этом указании сказалась не столько
художественная, сколько общеидеологическая
задача: московские государи считали себя
наследниками владимирских «самовласт-
цев», и памятники владимиро-суздальской
архитектуры олицетворяли аля Москвы
глубоко чтимую традицию. Фиораванти
побывал во Владимире, внимательно обследовал
там Успенский собор и, возвратившись в
Москву, в течение 4 лет закончил
строительство московского Успенского собора
(1475 — 1479 гг.).
Фиораванти точно выполнил задание:
построенный им собор имеет все основные
типологические особенности владимирского
образца. Он являет собой шестистолпный
пятиглавый храм с закомарным завершением
фасадов. По середине высоты здания
проходит аркатурно-колончатый пояс, а
порталы имеют романскую перспективную
форму. Яркий архитектурный талант
Фиораванти сказался в том, что, поняв сущность
великолепного древнерусского памятника и
сохранив его типологические черты, зодчий
интерпретировал храм в духе своего ренес-
сансного понимания. И это точно отметил
летописец, записавший, что Фиораванти
выстроил собор «полатным образом»17, т. е.
по типу гражданского, дворцового здания.
Действительно, в Успенском соборе явно
чувствуется влияние композиции
итальянского палаццо.
176
Глава 7
Во всех древнерусских храмах средний
неф и трансепт шире боковых нефов, что
находило откровенное выражение в разбивке
фасадов наружными лопатками. Фиораванти
сделал все нефы одинаковыми по величине,
благодаря чему здание оказалось
разделенным в плане на 12 одинаковых квадратных
ячеек. Именно поэтому и фасады
Успенского собора разделены на совершенно
равные по величине прясла, а так как высота
полукруглых закомар определяется их
шириной, то и высота всех закомар у храма
получилась одинаковой. Это сразу
изменило его общий характер. Пятиглавие
Фиораванти сделал очень компактным, сдвинув его
к восточной части здания. Общая
композиция получилась слитной и монументальной.
Недаром летописец записал, что собор
выглядит «яко един камень»18. Несмотря на
очень сдержанное применение декоративных
элементов, Успенский собор производит
впечатление чрезвычайно величественного и
репрезентативного сооружения.
Чтобы сообщить и восточной стене
храма плоскостный характер и тем самым
сблизить ее решение с решением остальных
фасадов, Фиораванти придал центральной
апсиде относительно малый вынос, а
каждую из боковых апсид разделил на две. По
краям восточного фасада расположены
сильно выступающие лопатки, поддерживающие
значительно вынесенную вперед кровлю
закомар. В итоге восточный фасад
действительно производит впечатление почти
плоского. Перед западным порталом находилось
крыльцо с двойными висячими арками и
«гирькой» между ними — прием, который
позднее, уже в XVII в., получил
чрезвычайно широкое распространение в русской
архитектуре.
Очень существенно отличие интерьера
московского собора от его владимирского
прототипа. Фиораванти сделал столбы
храма не крещатыми в плане, а круглыми.
Конечно, он и здесь мог видеть подобный
прием во владимиро-суздальском
зодчестве — в соборе Боголюбова. Но в
московском Успенском соборе тонкие круглые
столбы-колонны и широкие амбразуры окон
создают впечатление светлого, вполне
светского зала. Фиораванти внес значительные
усовершенствования и в строительную
технику. Он ввел новый формат кирпича,
улучшил качество извести, вместо деревянных
заложил железные связи. Талантливое и
органическое сочетание древнерусских и
итальянских приемов сделало московский
Успенский собор крупным явлением в
истории русского зодчества. Заметное
влияние этого прекрасного творения сказывается
в русской архитектуре в течение всего
XVI в.
В середине 80-х годов XV в. начался
новый этап строительства в Московском
Кремле — приступили к реконструкции
самого Кремля, т. е. крепости.
Белокаменный Кремль Дмитрия Донского к тому
времени уже настолько обветшал, что требовал
коренной перестройки; ремонты не могли
исправить положения. К тому же
интенсивное развитие артиллерии привело к
сложению новых тактических приемов обороны
крепостей, которым старый Кремль уже не
соответствовал.
В 1485 г. началось строительство
нового, кирпичного Кремля. Крепость
возводили участками с таким расчетом, чтобы она
в любое время, даже в процессе
реконструкции, могла выдержать вражеское нападение.
Новые укрепления сохранили в общих
чертах треугольную форму старой крепости,
хотя несколько увеличили ее в восточном
направлении. Сохранение схемы плана
старого Кремля объясняется прежде всего тем,
что здесь проходили естественные
оборонительные рубежи: крепость расположена на
мысу при слиянии Москвы-реки и речки
Неглинной. Вдоль стен устроены башни,
причем в новой крепости они размещены
более или менее равномерно, вдоль
периметра, позволяя хорошо простреливать любой
участок вдоль стен фланкирующим огнем.
Периметр кремлевских стен превышает два
километра.
Руководили строительством Кремля
выписанные из Италии инженеры и
архитекторы, но выполняли все работы русские
мастера. Весьма вероятно, что в
разработке схемы укреплений Кремля принимал
участие Аристотель Фиораванти, бывший,
как известно, опытным военным инженером.
Однако он был уже стар и вскоре умер.
Строительство возглавили Антон Фрязин и
Марк Фрязин, а с 1490 г. — миланский
177
Книга первая
инженер Пьетро Антонио Солари.
По-видимому, среди этих строителей Солари был
наиболее крупной фигурой. Летописец
называл его «архитектон», а в построенной под
его руководством Спасской башне
сохранились две каменные доски с надписями (по-
латыни и по-русски), где упоминалось имя
Солари.
К 1499 г. основные строительные
работы были закончены, а в 1508 г. от речки
Неглинной к Москве-реке по линии,
обращенной в сторону современной Красной
площади, был проложен ров, выложенный
кирпичом и белым камнем. С окончанием
этого строительства Московский Кремль
стал представлять собой мощную крепость,
полностью отвечавшую военным
требованиям своего времени. В то же время
каменное ограждение создало прекрасное
архитектурное обрамление центральному ансамблю
Москвы. Вместо широких прямоугольных
зубцов, применявшихся в более ранних
русских крепостях, стены Московского
Кремля венчались узкими двурогими зубцами
(форма «ласточкин хвост»). Внутрь
крепости стена открывалась вереницей высоких
арок, несших боевой ход, что позволяло при
значительной толще стен разместить в них
бойницы нижнего яруса и вместе с тем
придать ритмическое членение протяженным
кирпичным поверхностям. В дальнейшем
архитектура Московского Кремля оказала
большое влияние на строительство других
русских крепостей — в Новгороде, Ниж-
нем Новгороде и др.
Одновременно со строительством
кремлевских стен и башен возводились здания и
на территории Кремля. В 1484 — 1485 гг.
псковские мастера построили церковь Ри-
зоположения. Этот храм, несомненно,
отражает традиции раннемосковского зодчества:
он четырехстолпный, одноглавый, с тремя
апсидами, стоит на высоком подклете. По
старой московской системе он имеет киле-
видную форму закомар и килевидный
перспективный портал. В то же время апсиды
невысокие, что характерно для псковского
зодчества. К южному порталу ведет
лестница с высоким крыльцом, а с северной и
западной сторон примыкают паперти.
Световой барабан главы приподнят на
восьмиугольном пьедестале. Внутри переход от
подкупольных столбов к кольцу барабана
сделан необычно, без помощи парусов.
Построена церковь из кирпича с небольшим
количеством белокаменных деталей. По
середине высоты фасадов проходит пояс
терракотовых балясин.
Почти в те же годы в Кремле возвели
Благовещенский собор (1484 — 1489 гг.),
служивший домовой церковью
великокняжеского дворца. Псковские мастера
сохранили подклет старого храма,
существовавшего на этом месте, укрепили этот подклет
и построили на нем кирпичную четырех-
столпную церковь с тремя апсидами. Так же
как церковь Ризоположения,
Благовещенский собор отражает старую московскую
архитектурную традицию. Он имел килевид-
ные завершения закомар и килевидные
порталы; два из них вскоре были переделаны
в итальянском духе. По стенам проходил ар-
катурно-колончатый пояс. Собор
первоначально имел три главы — центральную,
поднятую на килевидно оформленный
пьедестал, и две меньших — над восточными
угловыми членениями. Своды имели
ступенчато повышающуюся конструкцию. Собор
имел хоры, на которые вела винтовая
лестница в толще стены в северо-западном углу.
Кроме того, на хоры имелся и другой ход —
по переходу из дворца.
Через несколько лет, в 1501 — 1504 гг.,
в Кремле был построен собор Чудова
монастыря, ныне не существующий. Как и два
предыдущие храма, собор стоял на
подклете и был четырехстолпным, почти
квадратным в плане. Он имел одну главу и
ступенчато повышающуюся систему сводов, а
снаружи почти у основания закомар проходил
аркатурно-колончатый пояс.
Поскольку во всех трех перечисленных
архитектурных памятниках четко отразилась
старая московская традиция, можно
предположить, что наряду с упомянутыми в
летописи псковичами здесь работали и местные
московские мастера.
В те же годы в Кремле велось
гражданское строительство. Примыкавший к
Благовещенскому собору деревянный
великокняжеский дворец постепенно заменяли
каменными зданиями. В 1485 г. итальянский
архитектор Марк Фряэин построил рядом
с собором каменную палату для хранения
178
Глава 7
казны и архива — Казенный двор. В
1487 г. он возвел вторую, так называемую
Малую, палату и приступил к строительству
Большой, которую закончил в 1491 г. уже
Пьетро Антонио Солари. Эту палату,
служившую тронным залом, стали называть
Грановитой, поскольку ее фасад был
украшен белокаменными гранеными квадрами.
Поставленная на высокий подклет, палата
имела значительные размеры — 22 х 22 м,
и поэтому перекрывавшие ее четыре
крестовые свода опирались на расположенный в
центре помещения квадратный столб. Очень
вероятно, что типологически Грановитая
палата повторяла уже существовавшие в то
время на Руси монастырские трапезные. К
ней примыкало Красное крыльцо с
фигурами львов. Окна палаты первоначально имели
готический характер и стрельчатое
завершение; в XVII в. они были растесаны и
переоформлены. После завершения
строительства Грановитой палаты приступили к
сооружению жилых помещений дворца, для чего
в 1493 г. начали ломать деревянный дворец.
Строительство каменного дворца
продолжалось с 1499 до 1508 г. под руководством
миланского архитектора Алевиза.
В 1504 г. в Москву приехал итальянский
архитектор, которого также звали Алевиз
Фрязин (в Италии, по-видимому, его
звали Альвизе Ламберти да Монтаньяна). В
отличие от ранее работавшего здесь Алевиза
его стали называть Алевиз Новый. В
период с 1505 до 1508 г. он построил в Кремле
Архангельский собор — усыпальницу
великих князей. В основу композиции собора
зодчий принял схему древнерусского шес-
тистолпного храма, добавив с запада еще
одно членение. Это членение в нижнем
этаже образует в центре лоджию, в глубине
которой находится главный западный
портал храма, а в боковых частях размещены
винтовые лестницы, ведущие в небольшие
помещения, возможно, предназначавшиеся
для женской половины княжеской семьи.
Благодаря наличию дополнительного
западного членения боковые фасады собора
имеют не четыре, а пять прясел. Кучно
сгруппированные пять глав собора заметно
сдвинуты к его восточной стороне. Интерьер
собора с его крещатыми в плане столбами,
в отличие от интерьера Успенского собора
Фиораванти, выглядит достаточно
традиционным для русского зодчества. Но зато
совершенно неожиданно решен внешний
декор. Алевиз Новый одел Архангельский
собор в чисто итальянский ренессансный
убор в его венецианском варианте. Здание
зрительно четко разделено на два яруса,
каждый из которых решен в системе
классического ордера. Лопатки здания
превратились в классические пилястры с базами и
сложными резными капителями, а
закомары заполнены венецианскими
декоративными раковинами. В центральной закомаре
западного фасада прорезаны четыре круглых
окна. По первому ярусу проходит глухая
аркада, а прясла второго яруса обрамлены
филенками.
Резные украшения над закомарами и
роскошные, также резные порталы
дополняют убранство Архангельского собора.
Блестяще нарисованное и великолепно
исполненное декоративное убранство
Архангельского собора внесло в русскую
архитектуру совершенно новые для нее элементы
ренессансного декора и ордерную систему.
В отличие от Успенского собора влияние
Архангельского на дальнейшее развитие
русского зодчества было на первых порах
менее значительным. Лишь в конце XVI в.
и особенно в конце XVII в. формы
Архангельского собора получили широкое
распространение.
Завершила сложение архитектурного
ансамбля Соборной площади Кремля
постройка в 1505 — 1508 гг. церкви-колокольни
Св. Иоанна Лествичника. Церковь «иже
под колоколы» была создана здесь в конце
XIV в.; теперь ее заново возвел архитектор
Бон Фрязин. Это было столпообразное
сооружение, состоявшее из двух
восьмигранных ярусов и имевшее в высоту около 60 м.
Каждый ярус в верхней части завершался
аркадой для колоколов. Позднее, в конце
XVI в., церковь надстроили, и поэтому
первоначальное ее завершение не
сохранилось, хотя есть данные, что она была
увенчана небольшим куполом.
На рубеже XV и XVI вв. строительство
велось не только в Кремле, но и в других
частях Москвы, а также во многих городах
Московского государства, хотя, конечно,
нигде оно не проводилось с таким размахом
179
Книга первая
и такой интенсивностью, как в Кремле. При
постройке церквей средней величины обычно
использовали тип четырехстолпного
одноглавого храма со ступенчато повышающейся
конструкцией сводов и несколькими
ярусами закомар и кокошников, декорирующих
переход к барабану купола. Несомненно, что
подобный тип храма отражает собственно
московскую линию развития зодчества, иду-
Кириллов. Успенский собор
Кирилло-Белозерского монастыря. 1497. Реконструкция
щую еще от форм собора Андроникова
монастыря. Хорошим примером может
служить собор Княгинина монастыря во
Владимире, построенный, видимо, на рубеже
XV и XVI вв. на месте разрушенного храма
XIII в. Он стоит на подклете, стены,
расчлененные плоскими лопатками, почти
лишены убранства, завершение образовано
тремя четко выраженными ярусами килевид-
ных закомар и кокошников.
Несколько иной вариант представляет
собой собор Рождественского монастыря в
Москве, построенный в 1501 — 1505 гг.
Связь с композицией собора Андроникова
монастыря здесь выражена особенно
откровенно. Здание не имеет подклета, но цент-
ричность подчеркнута даже в большей
степени, чем в соборе Княгинина монастыря.
Боковые прясла фасадов понижены, чтобы
•А
выделить центр, а второй ярус закомар,
отвечающий повышенным аркам, образует
трехлопастное завершение. Кокошники
третьего яруса расположены уже не по
линиям фасадов, а по кольцу вокруг барабана.
Отдельную группу образуют три
архитектурных памятника Белозерья: собор Спасо-
Каменного монастыря на Кубенском озере
(1481 г.), собор Ферапонтова монастыря
(1490 г.) и Успенский собор Кирилло-Бе-
лозерского монастыря (1497 г.). К
сожалению, собор Спасо-Каменного монастыря
ныне не существует, и формы его известны
180
Глава 7
далеко не полностью. Соборы
Ферапонтова и Спасо-Каменного монастырей были
поставлены на подклеты, образующие
открытые гульбища перед порталами, а собор
Кирилло-Белозерского монастыря его не
имеет. В храме Ферапонтова монастыря
полностью сохранилась замечательная
фресковая роспись, исполненная мастером
Дионисием с сыновьями.
Белозерские памятники отличаются от
московских сильно развитым декором
кирпичных поясов, формой окон,
расположением кокошников и другими деталями.
Очевидно, здесь работали не московские, а
предположительно ростовские зодчие. В то
же время близость композиционного приема
и явное наличие традиций московского
зодчества начала XV в. дает основания
полагать, что как эти, так и московские
постройки рубежа XV и XVI вв. (собор
Рождественского монастыря в Москве и собор
Княгинина монастыря во Владимире)
восходят к общим прототипам — не дошедшим
до нас памятникам московского зодчества
2-й половины XV в.
В 80-х годах XV в. большое
строительство развернулось в Угличе, где были
возведены Спасский собор, дворцовый
комплекс, Покровский монастырь. До наших
дней из всех угличских построек того
времени уцелела только лишь дворцовая
палата — так называемый дворец царевича
Дмитрия. Он представлял собой небольшую
кирпичную двухэтажную квадратную
постройку, фасады которой завершались
треугольными щипцами, заполненными
кирпичным орнаментом. Небольшой четырехстолп-
ный храм был построен в Волоколамске
(точная дата неизвестна). Белокаменная,
одноглавая, на высоком подклете, эта
церковь была позднее перестроена (верхняя
часть).
В конце XV в. московские зодчие
разработали также новый тип храма —
небольшую бесстолпную церковь с крещатым
сводом. Интенсивное развитие каменно-кир-
пичного строительства в Москве и других
городах Московского государства вызвало
необходимость в таких постройках, которые
могли удовлетворять нужды посадского
люда, а также и княжеские притязания.
Маленькие квадратные здания церквей
перекрывались сомкнутым сводом,
пересеченным двумя взаимно перпендикулярными
узкими цилиндрическими сводами; в
центре ставился небольшой барабан с главкой.
Эта довольно сложная конструкция свода на
фасадах отражена в виде трехлопастного
завершения. Сохранившиеся архитектурные
памятники подобного типа заметно
отличаются друг от друга, свидетельствуя о
работе разных мастеров. Они возводились из
кирпича или из камня, а порой и в их
сочетании. Некоторые храмы стояли на
подклете и имели галереи, другие были
значительно проще — без подклета и галерей.
Большей частью они имели одну апсиду во
всю ширину здания, хотя встречаются
церкви с апсидой трехлопастного очертания и
даже с тремя апсидами. Порталы в них
большей частью отражают старую
московскую традицию; они перспективные, с
архивольтами килевидного очертания.
Видимо, одним из наиболее ранних
малых храмов такого типа является церковь
Св. Трифона в Напрудном в Москве
(1492 г.). К более сложным, стоящим на
подклете, относится церковь Зачатия Св.
Анны, «что в углу» Китай-города,
возведенная, по-видимому, в начале XVI в. Также
к началу XVI в. относятся церковь в
с. Юркино, церковь в с. Городище близ
Коломны (нижняя ее часть более древняя),
церковь-усыпальница князей Трубецких в
Трубчевске (от нее в составе более поздней
постройки сохранился только подклет),
церковь Св. Николы Гостиного в Коломне
(1501 г.) и некоторые другие памятники
зодчества того же типа.
Несколько иной, своеобразный вариант
представляют Успенская и Никольская
церкви в Ивангороде, построенные,
по-видимому, на рубеже XV и XVI вв. Это
квадратные в плане бесстолпные храмы, причем
Успенская церковь поднята на подклет,
имеет три апсиды, примыкающие с трех
сторон двухъярусные галереи и небольшой
придел, тогда как меньшая по величине
Никольская церковь — двухапсидная, не
имеет подклета и галерей. Успенская
церковь и ее придел, а также Никольская
церковь перекрыты куполами, диаметр которых
соответствует ширине самого здания.
Переход от квадрата к кольцу барабана всюду
181
Книга первая
исполнен с помощью тромпов. Есть
основания полагать, что строителем этих храмов
был приехавший из Италии грек-эмигрант.
В рассматриваемую эпоху возводили и
такие постройки, которые нельзя отнести к
какому-либо определенному типу храмов,
поскольку они являются совершенно
оригинальными и, видимо, единичными
произведениями. Такова, например, церковь Св.
Духа в Троице-Сергиевом монастыре,
построенная псковскими мастерами в 1476 —
1478 гг. Небольшая четырехстолпная
церковь очень близка раннемосковским храмам,
хотя возведена не из тесаного камня, а из
своеобразного очень плоского кирпича. Она
имеет ступенчато повышающуюся
конструкцию сводов, но, в отличие от обычных че-
тырехстолпных храмов, центральное круглое
пространство здесь не открыто в барабан,
а закрыто сводом, над которым находится
звонница, и лишь над нею вздымается
барабан с главой. Звонница представляет
собой как бы свернутую в трубочку
псковскую звонницу. В целом этот памятник,
имеющий явную тенденцию к
столпообразному построению объема, — один из
ранних примеров церкви «под колоколы».
Параллельно со строительством храмов
велось и строительство гражданских
сооружений. Помимо кремлевского дворца
строили монастырские трапезные, из которых до
наших дней сохранилась трапезная
Андроникова монастыря (1504 — 1506 гг.). Это
квадратное в плане двухэтажное здание,
перекрытое, подобно Грановитой палате,
четырьмя крестовыми сводами,
опирающимися на столб в центре помещения.
Фасады трапезной расчленены лопатками,
расположенными на углах и посередине, отвечая
внутреннему опорному столбу.
Единственным декоративным мотивом является пояс
кирпичного поребрика и красных изразцов,
размещенный под свесом кровли.
Бурное строительство, проводившееся в
Москве и особенно в Московском Кремле
в конце XV — начале XVI в.,
представляет собой чрезвычайно важный этап в
истории русской архитектуры. В этом
строительстве участвовали не только московские
зодчие, но и мастера из других русских
городов, в частности псковичи. Большую
роль сыграли и приезжие итальянские
архитекторы. В результате их совместной
деятельности московское зодчество потеряло
свой областной, локальный характер; оно
поднялось на значительно более высокий
уровень и переросло в совершенно новое
качество, превратившись в зодчество
общерусское.
*
В XVI в. начинается яркий расцвет
монументального зодчества в Московском
государстве. Строительство ведется теперь не
только в Москве или крупных городах, но
и в более мелких, в монастырях, в
княжеских и боярских вотчинах. Резко возрастает
количество возводимых каменно- кирпичных
сооружений. За столетие их было
построено больше, чем за все предшествующие века
русской истории. Строят из кирпича, из
камня, из кирпича и камня в сочетании,
применяя разные варианты конструктивных
решений, свидетельствующие о наличии
большого количества опытных и
совершенно различных мастеров. И тем не менее,
несмотря на появление во многих городах и
районах Руси собственных кадров
строителей, русское зодчество не распадается на
отдельные архитектурные школы; оно
развивается в едином русле. Более того,
ликвидируются даже ранее существовавшие
различия. Так, после утраты новгородской
независимости быстро теряет свой особый
характер новгородская архитектура,
сближаясь с зодчеством Москвы. К середине
XVI в. процесс сближения зашел уже
настолько далеко, что вполне можно говорить
о ликвидации самостоятельной новгородской
архитектурной школы. И лишь зодчество
Пскова в течение всего XVI в.
продолжает развиваться особняком, составляя
отдельную архитектурную школу.
При строительстве храмов различного
назначения зодчие имели широкий спектр их
типов, позволявший успешно решать любую
поставленную перед ними задачу. Так, для
больших городских или монастырских
соборов обычно выбирали тип шестистолпного
пятиглавого храма, явно повторяющего
общую схему московского Успенского собора,
построенного Фиораванти. Таков, например,
Смоленский собор Новодевичьего монасты-
182
Глава 7
ря в Москве (1524 — 1525 гг.). Он
настолько близок кремлевскому Успенскому
собору, что, очевидно, зодчий вполне
сознательно ориентировался на данный образец.
Впрочем, имеются все же и существенные
различия. Например, средний неф и
трансепт здесь шире боковых нефов, и
поэтому прясла стен не равны по величине, а
следовательно, средняя закомара выше
боковых. В отличие от кремлевского
Успенского собора здание приподнято на подклет,
столбы не круглые, а крещатые. Поражает
строгость, почти аскетичность фасадов
здания, придающая ему впечатление сурового
величия.
Но, пожалуй, еще суровее облик
Софийского собора в Вологде (1568 — 1570 гг.).
Здесь зодчий отказался даже от
расчленения фасадов аркатурно-колончатым поясом,
и стены полностью лишены декоративных
элементов. Как и кремлевский Успенский
собор, вологодский не имеет подклета.
К идентичной группе храмов относится и
собор Хутынского монастыря близ
Новгорода (1515 г.). При сохранении той же
композиционной схемы совершенно иной
характер имеет Успенский собор в Ростове. Дата
его возведения, к сожалению, не
установлена; различные исследователи относят его ко
времени от конца XV в. до 80-х годов
XVI в., причем первая дата кажется более
вероятной. В отличие от Смоленского собора
в Новодевичьем монастыре и вологодского
Софийского собора здесь совершенно нет
стремления к аскетизму форм. Кирпичное
здание ростовского Успенского собора имеет
белокаменные декоративные детали.
Сходство с московским кремлевским храмом
несомненно, но в то же время чувствуется
и некоторое влияние старых московских
традиций; так, закомары и аркатурно-колон-
чатый пояс на фасаде ростовского собора
имеют килевидные повышения.
В XVI в. значительно реже, чем
влияние московского Успенского собора, на
архитектуре храмов сказывается воздействие
московского же Архангельского собора,
причем исключительно в отдельных
декоративных элементах, а не в общей системе
декора. Более заметно влияние форм
Архангельского собора лишь в памятниках
зодчества конца XVI в., но даже и там
основной прием декоративного убранства,
внесенный Алевизом, а именно ордерная система,
не был принят: эта система оставалась
чужой русскому зодчеству вплоть до конца
XVII в. Примером использования
отдельных элементов декора Архангельского
собора может служить Успенский собор в
Дмитрове, сооруженный между 1509 и 1533 гг.
Несмотря на то, что храм не шести-, а че-
тырехстолпный и стоит на высоком
подклете, общий его облик все же во многом
напоминает кремлевский Успенский собор.
Однако в обработке фасадов видны явные
черты влияния творчества Алевиза: прясла
стен обработаны филенками, в закомарах
размещены круглые окна. Особенность
храма — изразцовые композиции в системе
наружного декоративного убранства.
Четырехстолпные пятиглавые соборы на
высоком подклете получили в XVI в. еще
большее распространение, чем шестистолп-
ные, т. е. самые крупные. Таковы,
например, Успенский собор в Перемышле (дата
точно не установлена), собор Лужецкого
монастыря в Можайске (20 — 30-е годы),
Богоявленского монастыря в Костроме
(1559 — 1565 гг.), Федоровского
монастыря в Переяславле в Залесской земле
(1557 г.) и ряд других. В первых двух из
них примыкавшие к основному зданию
храма галереи были двухъярусными, что
становится достаточно частым явлением в
архитектуре XVI в.
Иногда такие четырехстолпные соборы на
подклете и с двухъярусной галереей имеют
не пять, а только три главы. Примером
могут служить соборы Спасского
монастыря в Ярославле (1506 — 1516 гг.) и
Покровского монастыря в Суздале (1510 —
1518 гг.). Будучи близки друг другу
типологически, они тем не менее различны по
архитектурным формам. В ярославском
храме явно заметно влияние декоративного
убранства московского Архангельского
собора (характер профилировок, орнаментация
откосов порталов, круглые окна в
закомарах), тогда как в суздальском и аркатурно -
колончатый пояс, и килевидные завершения
закомар, и кокошники в основании
барабана центральной главы свидетельствуют об
ориентации на те московские храмы,
которые отвечали старой московской традиции.
183
Книга первая
Известны подобные трехглавые соборы, не
имеющие подклета. Таков, например,
построенный в 1535 г. собор Возьмищенско-
го монастыря под Волоколамском.
Продолжали строить и одноглавые храмы,
завершенные тремя ярусами закомар и
кокошников, т. е. развивавшие старую московскую
традицию, идущую еще от собора
Андроникова монастыря. К их числу можно
отнести построенный в начале XVI в.
Благовещенский собор в Киржаче, с открытой
галереей на подклете, близкий по формам
собору Ферапонтова монастыря.
Наконец, при еще более скромном
решении храмов возводили четырехстолпные
церкви, увенчанные одной главой и
напоминающие по схеме домонгольские
памятники зодчества. Хорошие образцы — соборы
Борисоглебского монастыря под Ростовом
Великим (1522 — 1524 гг.), Данилова
монастыря в Переяславле (ныне Переславль-
Залесский) (1530 — 1532 гг.) и
Борисоглебского монастыря в Дмитрове (1537 г.).
Первые два здания строил ростовский
зодчий «церковный каменный здатель»
Григорий Борисов.
В XVI в. был разработан также
своеобразный тип пятиглавого двухстолпного
храма. В таких церквах имеется лишь одна пара
столбов, а барабан центрального купола
размещается между этими столбами
непосредственно на их оси. Четыре боковых
главы опираются на систему ступенчатых аро-
чек «псковского» типа. Соответственно
внутренним членениям западный и
восточный фасады имеют три членения, а
северный и южный — только два. Наиболее
крупным сооружением такого типа
является Благовещенский собор в Сольвычегод-
ске (1560 — 1579 гг.). Членения этого
собора завершались закомарами, а у
основания закомар проходила широкая лента
кирпичного орнамента.
Продолжали в XVI в. возводить и
небольшие бесстолпные храмы, перекрытые
крещатым сводом и имеющие трехлопастное
завершение фасадов. Подобные храмы
строили в течение первой половины века, и,
видимо, последними по времени образцами
данного типа являются церковь Вознесения
в Ростове (церковь Исидора Блаженного)
и церковь Св. Троицы в Полях в Москве,
построенные в 1566 г. В виде очень
редкого исключения в ростовском храме имеется
каменная надпись с упоминанием имени
зодчего: «а делал церковь великого князя
мастер Андрей Малой».
Все перечисленные памятники
демонстрируют, насколько широко было
многообразие типов культовых зданий, возводимых в
XVI в. Очевидно, зодчие имели
возможность выбрать вариант, полнее отвечавший
предложенному им зданию.
Понемногу в монастырях начинает
развиваться и монументальное гражданское
зодчество: наиболее распространенным
типом зданий здесь являются монастырские
трапезные. Это, как правило, квадратные
(или близкие к квадрату) двухэтажные
постройки, включающие большой зал и
примыкающие к нему небольшие служебные
помещения. Первый этаж, т. е. высокий
подклет, использовался как хозяйственное
помещение, а сама трапезная находилась на
втором этаже. Зал перекрывался сводами,
опиравшимися на расположенный в центре
столб, т. е. соответственно схеме
Грановитой палаты Московского Кремля. В одном
из служебных помещений второго этажа
располагалась церковь, не имевшая апсиды.
Фасады трапезных решены очень скромно;
весь их декор ограничивается, как правило,
лопатками и узким декоративным пояском.
Наиболее характерными примерами могут
служить трапезные в боровском Пафнуть-
евом монастыре (1511 г.), Макарьевском
монастыре в Калязине (1525 — 1530 гг.,
ныне не существует), Борисоглебском
монастыре под Ростовом (1524 — 1526 гг.,
ростовский зодчий Григорий Борисов;
сильно перестроена в XVII в.).
Широкий размах каменно-кирпичного
строительства и разнообразие применяемых
типов сооружений, особенно церквей,
казалось бы, должны были полностью
удовлетворять всем требованиям, которые могли
быть предъявлены строителям. И тем не
менее именно в 1-й половине XVI в. на
Руси идут интенсивные поиски новых
композиционных решений, нового
архитектурного образа. Чем можно объяснить эти
поиски? Какого именно архитектурного
образа не хватало в многоразличии типов
сооружений русского зодчества начала
184
Глава 7
XVI в.? Анализ тех построек, в которых
особенно ярко отразились поиски нового,
свидетельствует о том, что зодчие
стремились к созданию храма с высотной
динамической композицией, что вело к появлению
столпообразных сооружений. Очевидно,
искали образ храма-монумента.
Укрепление централизованного
Московского государства, одержанные военные
победы, рост национального самосознания
властно требовали, чтобы важнейшие
события в жизни страны находили отражение и
в архитектуре. Памятные даты отмечали,
как правило, постройкой церквей.
Следовательно, нужно было найти такие
архитектурные образы культового сооружения, которые
явно отмечали бы мемориальное значение
здания. Такой храм должен был стать
памятником в самом прямом значении этого
слова. Конечно, ни заказчики, ни зодчие не
ставили этой задачи именно в такой
формулировке, но сама жизнь вела к постановке
подобной задачи, в какой бы форме
(очевидно, прежде всего религиозной) она им ни
представлялась.
Уже в соборе Рождественского
монастыря в Москве зодчий попытался сделать
композицию ярусов кокошников более
острой, резко понизив боковые прясла фасадов.
Еще дальше пошел тот мастер, который
возводил собор Успенского Старицкого
монастыря (1-я треть XVI в.). Здесь та же
идея осуществлена в пятиглавом варианте.
Угловые членения храма настолько резко
понижены, что производят впечатление
низких приделов, приставленных к высокому
центральному объему.
Аркатурно-колончатый пояс на фасадах в среднем и боковых
членениях также соответственно находится
на разной высоте. Объем пятиглавого
храма зрительно как бы распался на пять
сросшихся малых храмов, подчиненных
центральному. И все же в этом соборе еще
сохраняется крестовокупольная структура.
Следующим и очень решительным шагом
является отказ от крестовокупольной
структуры и расчленение пятиглавого храма на
пять самостоятельных объемов. Это
сделано в церкви Иоанна Предтечи в
подмосковном с. Дьяково. Церковь эта была,
по-видимому, построена в 1547 г. в честь
венчания Ивана IV на царство (хотя есть
предположения и о более поздней датировке —
1552 г.). Она представляет собой пять
самостоятельных восьмигранных в плане
столпообразных малых храмов, стоящих на
общей платформе-паперти. В угловых храмах
переход к барабанам глав образован тремя
ярусами треугольных кокошников, а в
переходе к барабану главы центрального храма
полукруглые кокошники сочетаются с
треугольными. Совершенно необычна форма
барабана центрального храма с восемью
примыкающими к барабану
полуцилиндрами. Сложная композиция церкви в
Дьякове создает впечатление почти
непрерывного движения вверх, где одна форма
естественно вырастает из другой. Необычность
форм — характерная особенность этого
храма.
Церковь в Дьякове при всей ее новизне
и оригинальности все же в какой-то мере
продолжала развитие традиций, заложенных
в тех крестовокупольных храмах, где
имело место резкое понижение боковых частей
и подъем центральной главы. Но
параллельно с возведением таких сооружений
развивалась и линия строительства откровенно
столпообразных зданий. Большей частью
это были храмы «под колоколы», где
расположение звона над помещением церкви
логически оправдывало высотность
построения. Примеры таких решений появились
уже в XV в., а в самом начале XVI в.
итальянец Бон Фрязин построил в Кремле
церковь Св. Иоанна Лествичника.
В 1536 г. тверской мастер Ермола
возвел в новгородском Хутынском монастыре
церковь Св. Григория Армянского. Эта
церковь в настоящее время не существует,
но, судя по описанию в летописи, она была
«в высоту велми высока» и «имея углов
восмь». Вскрытые археологическими
раскопками фундаменты и основания стен
церкви показали, что это действительно была
восьмиугольная постройка, окруженная
галереей. Сохранившиеся более поздние
описания церкви и изображение на иконе
рисуют ее в виде высокого столпообразного
сооружения. Восьмигранный ярусный столп
представляет собой и Успенская церковь «под
колоколы» при трапезной Спасо-Каменного
монастыря на Кубенском озере, построенная
в 1543 — 1545 гг.
185
Книга первая
К тому же типу столпообразных церквей
«иже под колоколы» относится и церковь
Св. Георгия в с. Коломенском. Точная дата
ее постройки неизвестна, но обычно ее
относят к 1533 г. и связывают ее возведение с
рождением второго сына Василия III —
Юрия. Круглая в плане церковь в обоих
ярусах оформлена пилястрами, решенными в
формах классического ордера. Значительное
количество западноевропейских классических
черт позволяет предполагать, что строителем
здания был итальянец.
Своеобразным вариантом столпообразной
композиции является маленькая церковь
Петра Митрополита в Высокопетровском
монастыре в Москве. Это невысокая
двухъярусная постройка; в нижней части она
имеет многолопастную форму из восьми
соединенных дуг, а во втором ярусе —
восьмерик. Церковь построена Алевизом
Фрязином в 1517 г., но в конце XVII в. она
была перестроена. Подобный тип небольших
центрических храмов с многолопастным
планом в XVI в. не нашел продолжения, но
зато получил широкое распространение в
русской архитектуре на рубеже XVII и
XVIII вв.
И все же ни пышное расчлененное пяти-
главие церкви в Дьякове, ни стройные
столпообразные храмы «под колоколы» не
смогли с такой яркостью выразить
архитектурный образ мемориального
храма-монумента, как это удалось осуществить в шатровом
зодчестве. В 1532 г. в подмосковном
царском селе Коломенском было завершено
строительство церкви Вознесения. Это
событие нашло отражение в летописи:
«Свершена бысть в Коломеньском церьковь ка-
мена Вьзнесение <...> бе же церковь та
велми чюдна высотою и красотою и
светлостью, такова не бывала преже сего в
Руси»19. Летописец совершенно точно
отметил основные особенности памятника — его
высоту, красоту и то обстоятельство, что
подобных храмов до этого на Руси не
существовало. Действительно, церковь
Вознесения поражает полным разрывом с
традициями, полным несходством со всеми камен-
но-кирпичными русскими церквами,
созданными ранее: на подклете расположено
квадратное здание с выступами,
придающими ему крестообразный план; переход от
этого объема к восьмерику оформлен
кокошниками, над восьмериком вздымается
высокий и острый шатер. На уровне подклета
храм окружают открытые галереи-гульбища
с тремя живописно раскинутыми
лестницами. Галереи и лестницы создают
органичный переход от горизонтали земли к
вертикали здания. При этом все элементы
наружной обработки храма подчеркивают его
вертикальную устремленность: «стрелы» на
плоскостях стен, три яруса килевидных
кокошников в основании восьмерика,
небольшие кокошники вместо горизонтального
карниза в основании шатра. Венчает
сооружение маленькая главка, почти теряющаяся в
композиции 60-метрового здания.
Церковь Вознесения не имеет апсиды и
в целом производит впечатление скорее
грандиозной башни, чем культового
сооружения. Очень толстые стены храма
оставляют в интерьере крайне незначительную
свободную площадь. Совершенно ясно, что
огромная высота никак не вытекает из
практического назначения здания. Это решение
чисто художественной идеологической
задачи. Здание предназначено для обозрения его
главным образом снаружи; это почти
скульптурный памятник-монумент.
Наличие деталей ренессансной
архитектуры и особенно применение классического
ордера в интерьере дают основания полагать,
что строителем церкви Вознесения был
итальянский зодчий. Подтверждением этого
является обнаружение при реставрационных
работах даты создания храма, вырезанной на
камне, с указанием года не от сотворения
мира, как было принято на Руси, а от
Рождества Христова, т. е. по
западноевропейской системе летосчисления. В связи с этим
существует предположение, что автором
церкви Вознесения был Фрязин Петрок
Малый.
Близость архитектурных образов,
создаваемых шатровыми и столпообразными
храмами, очевидно, достаточно ясно ощущалась
современниками, что привело к попытке
объединить эти типы в одном сооружении.
Так был создан один из самых ярких
памятников архитектуры XVI в. — собор
Покрова на Рву в Москве на Красной
площади, прозванный в народе храмом
Василия Блаженного из-за погребения у его стен
186
Глава 7
юродивого, носившего это имя. Собор был
построен в 1555 —1561 гг. в честь взятия
Казани, т. е. он был задуман как
мемориальный храм. Сложная композиция собора
Покрова на Рву состоит из девяти
самостоятельных церквей, стоящих на общем
основании — подклете. Центральный храм
завершается шатром, а восемь примыкающих
по осям и диагоналям малых храмов
увенчаны куполами и несколько напоминают
боковые столпы церкви в Дьякове.
Покровский собор был краснокирпичным с
белокаменными деталями и главами, покрытыми
луженым железом.
Письменные источники (правда,
несколько более поздние) сохранили имена зодчих,
построивших собор Покрова на Рву. Это
были «два мастера русских»20 по имени
Барма и Посник. Та же задача, что стояла
при строительстве коломенского храма —
создать грандиозный монумент славы и
торжества Руси, — заставила зодчих
сосредоточить все внимание на внешнем облике
сооружения. Собор Покрова — также
почти скульптурное произведение с
ничтожной внутренней площадью малых храмов.
Храм-памятник имеет праздничный,
ликующий облик. Это высшая точка развития
русского зодчества XVI в. Смелый по
композиции, этот собор воплотил всю мощь
русского архитектурного гения. Причем
следует иметь в виду, что он выглядел
гораздо строже, чем в настоящее время,
поскольку современная пестрая обработка его
глав и фасадов создана при перестройке в
80-х годах XVII в. и позднее.
Через несколько лет после окончания
строительства собора Покрова на Рву
возведен Борисоглебский собор в Старице
(1558 — 1561 гг.), который был разобран
в начале XIX в. и ныне известен только по
несовершенным чертежам и рисунку. Тем не
менее достаточно ясно, что этот храм
представлял собой группу из пяти небольших
восьмигранных столпообразных церквей,
стоящих на подклете и увенчанных
шатрами. При этом центральный шатер
значительно превосходил по высоте боковые,
обеспечивая тем единство всей композиции.
В отличие от собора Покрова на Рву, здесь
боковые малые храмы не были отдельно
стоящими церквами, а слились с
центральным объемом. Торжественность и мемори-
альность храма не вызывают сомнений; об
этом говорит весь облик памятника, об этом
же свидетельствовала и находившаяся на
здании изразцовая надпись о его
построении, в которой отмечалось, что церковь
создана «сему граду на украшение и
утверждение от противных супостатов...».
И все же сложные композиции, в
которых центральный шатровый храм
окружали меньшие храмы, увенчанные главами или
шатрами, не получили распространение в
русском зодчестве. Очевидно, зодчим
стало ясно, что шатер является самодовлеющей
формой, которая должна быть не только
главной, но и единственной доминантой
архитектурного памятника. За
исключением соборов Покрова на Рву и старицкого
Борисоглебского все остальные шатровые
церкви XVI в. — простые одношатровые.
Одним из наиболее ярких шатровых
храмов, возведенных, по-видимому, в
середине XVI в., является Преображенская
церковь в с. Остров под Москвой. Она имеет
крестообразный план, напоминающий план
церкви в Коломенском, с востока примыкает
большая полукруглая апсида. Переходы от
крестообразного основания к восьмерику и
от восьмерика к шатру украшены
многочисленными ярусами кокошников. С севера и
юга к церкви примыкают два небольших
придела, увенчанных главами. С трех
сторон храм, видимо, обходила галерея, позднее
полностью перестроенная. Церковь
сооружена из белого камня и отличается
исключительно высоким качеством прорисовки
деталей.
Во всех шатровых храмах 1-й половины
и середины XVI в. шатер всегда открыт
внутрь здания и является, таким образом, не
декоративной, а конструктивной формой,
системой перекрытия. Примечательно, что
шатры стали сооружать и над церквами при
монастырских трапезных. Плановая схема
трапезных сохранилась в основном та же,
какую применяли и в начале XVI в., т. е.
это были большие квадратные помещения,
своды которых опирались на столб,
расположенный в центре. К залу трапезной
примыкало несколько (большей частью два)
небольших служебных помещений, одно из
которых служило церковью. Раньше такие
187
Книга первая
церкви перекрывались сводом, затем над
ними стали иногда возводить шатер.
Конечно, подобные шатровые композиции уже не
могли отражать характера храма-памятника,
но очень вероятно, что шатровое покрытие
и здесь было все же связано с
мемориальным значением таких церквей. Примером
может служить трапезная Успенского
монастыря в Старице (1570 г.). Несколько иной
характер имеет Успенская церковь при
трапезной Спасо-Евфимиева монастыря в
Суздале, где храм резко выделен из объема
трапезной, снабжен апсидой, а над
четвериком возвышается восьмерик, увенчанный
шатром. Дата сооружения этой церкви очень
спорна; наиболее вероятна 2-я половина
XVI в.
Особый тип шатрового храма
представляет собой Распятская церковь-колокольня
в Александровской слободе (ныне г.
Александров Владимирской обл.). Здесь около
1513 г. был построен столпообразный храм,
который в 1570 — 1571 гг. полностью
перестроили, создав высокую восьмигранную
башню. Над мощными пилонами,
соединенными вверху арками, расположена арочная
галерея, а выше три яруса кокошников
создают переход к более узкому восьмерику
звона, над которым высится шатер. Это
первый пример, где высокий
столпообразный объем церкви «под колоколы» перекрыт
шатром, т. е., по существу, это первый
пример шатровой колокольни.
В середине XVI в. была сделана и
первая попытка объединить в одной
композиции пятиглавый собор с шатровым приделом.
Осуществлено это в Богоявленском соборе
Авраамиева монастыря в Ростове (1553 г.).
Четырехстолпный пятиглавый собор
поставлен на подклет; к нему с запада примыкают
два небольших придела с маленькими
главками, а с юго-востока — придел, перекрытый
шатром. В целом собор представляет собой
живописную группу, несимметричную, что
не характерно для архитектуры XVI в.
Следует отметить, что как шатровая
колокольня, так и живописное сочетание
пятиглавого храма с шатровым приделом не
получили в XVI в. распространения, оставшись
здесь единичными примерами, тогда как
позднее, в XVII в., именно эти композиции
стали излюбленными.
Несомненно, что шатровое зодчество
сделалось в XVI в. ведущей линией в
развитии архитектуры, но ведущей лишь в
идеологическом смысле. Постройкой
шатровых храмов отмечали важнейшие
исторические события; эти храмы служили
мемориальными монументами. Но даже в 50—60-х
годах XVI в., когда строилось наибольшее
их количество, шатровые церкви не были
преобладающими в количественном
отношении. Количественно в XVI в. преобладали
все же церкви купольного типа, и это
преобладание особенно заметно в
провинции, вдалеке от Москвы.
В 70 — 80-х годах XVI в. капитальное
каменное строительство в Московском
государстве резко сократилось в связи с
тяжелой политической и экономической
обстановкой, сложившейся в стране. С середины
80-х годов экономическое положение
страны начало постепенно восстанавливаться, и
последнее десятилетие XVI в. отмечено
оживлением строительной деятельности.
Типы сооружений возводятся в основном те
же, какие строили и ранее, в середине
XVI в. Так, Успенский собор Троице-Сер-
гиева монастыря, начатый строительством в
1559 г. и законченный в 1585 г., еще
полностью ориентирован на Успенский собор
Московского Кремля, к которому он
близок и плановой схемой, и объемной
композицией, и даже многими деталями. Близок
к традициям кремлевского собора и
Спасский собор Преображенского монастыря в
Казани (1596 — 1601 гг.). Однако
большее распространение получили все же не
шести-, а четырехстолпные пятиглавые
храмы. При этом в их архитектурном
оформлении заметно проступают черты влияния
московского Архангельского собора, чего почти
совершенно не чувствовалось в середине
XVI в. Особенно четко это проявилось в
соборе Вознесенского монастыря в
Московском Кремле, построенном, по-видимому, в
1587 — 1588 гг. и, к сожалению, ныне не
существующем. В этом соборе не было
резных деталей и классического ордера
Архангельского собора, но вся схема членения его
фасадов несомненно заимствована из
московского прототипа. Очень вероятно, что
таков был сознательный замысел, задание,
полученное зодчим. Дело в том, что более
188
Глава 7
ранний собор Вознесенского монастыря,
стоявший на том же месте и построенный в
XV в., служил усыпальницей московских
великих княгинь; собор, возведенный заново
в конце XVI в., должен был служить
усыпальницей цариц. Вероятно, поэтому за его
прототип сознательно избрали
Архангельский собор — усыпальницу царей.
В конце XVI в. продолжалось и
строительство небольших бесстолпных храмов.
Характерным примером может служить
церковь в с. Спас-Михнево (в районе
г. Бронницы) — квадратная постройка,
перекрытая крещатым сводом и имеющая одну
большую полукруглую апсиду. В отличие от
подобных церквей 1-й половины и
середины XVI в. ее фасады завершаются не
трехлопастной кривой, а тремя закомарами.
В основании барабана главы расположены
небольшие кокошники. К церкви по бокам
примыкают два маленьких придела, по
конструкции и оформлению подобные
основному храму. Церковь была построена в
конце XVI в. и связывается со строительством
Годуновых. Сравнительно недалеко от
г. Бронницы до наших дней уцелели еще две
церкви, почти точно повторяющие церквь в
с. Спас-Михнево, также связываемые с
годуновским строительством и
относящиеся к концу XVI в. Это церкви в с. Покров-
ское и в с.Троицкое-Лобанове Троицкая
церковь в с. Хорошево (1596 — 1598 гг.)
также почти полностью повторяет эти
храмы и по плану, и по конструкции, однако
внешний облик ее значительно богаче. Над
закомарами ее фасадов поднимается целая
пирамида из трех ярусов полукруглых
кокошников, а в основании барабана главы
помещен еще один ряд маленьких
кокошников, на этот раз килевидных. Фасады
боковых приделов завершаются
горизонтальными карнизами, а выше также
расположены три яруса кокошников. Чрезвычайно
изящная профилировка несет следы
влияния Архангельского собора Московского
Кремля.
Пирамидальное покрытие храмов тремя
ярусами кокошников, очевидно, восходит к
старым московским традициям, отраженным
в таких памятниках рубежа XV и XVI вв.,
как соборы Рождественского монастыря в
Москве и Княгинина монастыря во
Владимире. Но если там еще сохранилась какая-
то логическая связь между конструкцией
сводов со ступенчато повышенными арками
и покрытием из ярусов закомар и
кокошников, то в конце XVI в. при бесстолпных
храмах такая система покрытия является уже
чисто декоративной, абсолютно не
связанной с конструкцией.
Вместе с восстановлением строительной
деятельности после затишья 70-х годов,
вновь началось строительство и шатровых
церквей. Чрезвычайно своеобразна церковь
Богоматери Смоленской в с. Кушалино
(1592 г.). Она представляет собой
небольшую шатровую церковь с квадратным
планом и трехчастной апсидой. Под церковью
имеется подвальное помещение, очевидно,
предназначенное для гробницы. Наиболее
отличительная черта памятника —
обработка наружных стен его четверика: зодчий
попытался здесь скопировать систему
убранства фасадов московского Архангельского
собора. Причем в данном случае это не
влияние художественных форм, а именно
попытка сделать копию, грубую,
упрощенную, но копию, включая разделение
фасадов на два яруса и примитивно
исполненные раковины в закомарах. Сознательное
копирование схемы Архангельского собора
здесь объясняется тем, что заказчик
церкви (Симеон Бекбулатович) некоторое
время по прихоти Ивана Грозного числился
«царем всея Руси». Будучи сосланным в
конце XVI в. в свою тверскую вотчину, он
пожелал построить себе
церковь-усыпальницу по образцу царской усыпальницы —
Архангельского собора. Шатровое же
завершение, очевидно, должно было придать
церкви характер мемориального памятника,
возможно, в память о военной
деятельности Симеона, бывшего одним из
военачальников при Иване Грозном.
Но очевидно, что именно этот
мемориальный характер шатровых памятников к
концу XVI в. стал порой забываться, и
шатры кое-где стали применять просто как
ставший уже привычным тип покрытия.
Примером может служить Никольская
церковь в Балахне (1600 г.). Здесь фасады
массивного кубического здания завершаются
ложными закомарами, а выше, на
невысоком восьмерике, громоздится грузный ша-
189
Книга первая
тер, имеющий небольшую высоту по
сравнению с размерами основания и покрытый
зеленой черепицей. В этой провинциальной
переработке форм шатрового зодчества
совершенно исчезла основная идея шатровых
памятников — стремительный взлет по
вертикальной оси, большая высота при
малом внутреннем пространстве, т. е. все то,
что делало шатровые церкви
храмами-монументами.
Развитие архитектуры XVI в.
завершают два замечательных архитектурных
памятника — Борисов городок и Иван Великий.
Борисов городок — памятник трагической
судьбы. Построенный Борисом Годуновым
в качестве царской резиденции и
памятника воцарения новой династии, он был
заброшен сразу же после смерти царя Бориса,
простоял в запустении два столетия и
разобран на камень в начале XIX в., после чего
оказался надолго забытым. К счастью,
сохранившиеся многочисленные описи и
документы XVII в., рисунки и чертежи,
сделанные в XVIII в., в сочетании со следами
ансамбля, сохранившимися в натуре,
позволяют в общих чертах представить облик
этого памятника. Здесь была построена
небольшая каменная крепость с
несколькими башнями, длинная земляная дамба,
образовывавшая искусственное озеро, летний
деревянный дворец на острове, конюшенный
и лебединый дворы, фруктовые сады. Здесь
же стояла шатровая Борисоглебская церковь
колоссальной высоты — 74 м. Она имела
квадратный план, трехчастную апсиду, была
поднята на подклет и с трех сторон
окружена двухъярусной галереей.
Строительство Борисова городка начато
в последние годы XVI в., а церковь
закончена и освящена в 1603 г. По общему
замыслу этот храм напоминает Вознесенскую
церковь в Коломенском, однако образ
претерпел значительные изменения. При всей
подчеркнутой остроте и вертикальной
ориентации годуновская церковь не имеет того
стремительного движения ввысь, которым
пронизан храм в Коломенском. Церковь
Борисова городка отличала виртуозная
прорисовка деталей, изумительное чутье
пропорций и вместе с тем некоторая суховатая
графичность фасадов. Широко
использованы филенки и другие детали,
заимствованные из декора московского
Архангельского собора.
Есть основания полагать, что зодчий,
строивший Борисов городок, до этого
построил церковь в Вяземах, а еще ранее —
церковь в Хорошеве под Москвой и собор
боровского Пафнутьева монастыря (ныне
Калужская область). Имя этого зодчего
пока не установлено.
В 1600 г. по приказанию царя Бориса
была надстроена церковь Св. Иоанна Ле-
ствичника в Московском Кремле.
Грандиозный столп, получивший народное
название Ивана Великого, имеет (вместе с
крестом) высоту 81 м и завершается большим
золоченым куполом. Сужающийся кверху
столп состоит из восьмериков; в нескольких
ярусах находились помещения для
колоколов. Церковь-колокольня Иван Великий —
это своеобразный триумфальный памятник.
Огромная башня должна была славить
основателя новой династии, что выражалось не
только ее высотой и величественной
композицией, но и большой золоченой надписью
под главой. Ансамбль Кремля получил
вертикальную доминанту, придавшую ему
законченность и усилившую роль этого
ансамбля в разросшемся городе.
Русское зодчество прошло за XVI в.
большой и сложный путь развития. В 1-й
половине XVI в. велись интенсивные поиски
новых композиционных решений, в
частности столпообразных храмов. Затем
сложилось и получило развитие такое
своеобразное и яркое явление, как каменное
шатровое зодчество. В XVI в. были разработаны
различные варианты храмов крестовокуполь-
ного типа, развернулось строительство
монастырских трапезных. Особенно заметные
изменения произошли к концу XVI в., когда
в архитектуре появились такие новые
особенности, которых совершенно не было ни
в 1-й половине, ни в середине этого
столетия. Так, в течение почти всего XVI в. в
русском зодчестве господствовала архитек-
тоничность формы, т. е. соответствие
формы скрытым за нею конструкциям.
Правда, не всегда этот принцип полностью
выдерживался, но даже там, где
архитектурные формы не отвечали конструкции,
сказывалось желание зодчих создать
подобие их соответствия. И если три яруса за-
190
Глава 7
комар и кокошников соборов той поры и не
полностью отвечают конструкции, то все же
наличие цилиндрических сводов крестовоку-
польной системы и повышенных арок дают
некоторое основание для подобной
трактовки верха.
В конце XVI в. появляются здания, где
архитектурные формы уже совершенно не
соответствуют конструкции. Так,
пирамидальное завершение ярусами кокошников
украшает теперь малые храмы, имеющие
крещатый свод, а над основным четвериком
в шатровых церквах появляются ложные
закомары. Впрочем, даже в конце XVI в.
расхождение архитектурных форм и
конструкций еще не стало всеобщим явлением, и
шатры всюду имеют открытое внутрь
пространство, т. е. продолжают оставаться
конструктивной формой перекрытия здания.
На смену смелому поиску новых форм,
имевшему место в 1-й половине XVI в., к
концу века приходит стремление приблизить
даже новые композиции к традиционным,
для чего, например, четверики шатровых
храмов порой оформляют ложными
закомарами, как бы выдавая их за крестовокуполь-
ные. Не остается неизменным и
стилистический характер памятников. Крупные,
сочные детали, характерные для храмов 1-й
половины XVI в., к концу века сменяются
чисто графической манерой суховатых и
довольно мелких деталей декора. Но четкая
симметрия композиций остается характерной
для архитектуры всего XVI в., и
живописная симметричность собора Авраамиева
монастыря является совершенно
исключительным примером. Более того, в конце
XVI в. становится особенно характерной
жесткая симметричная схема с
примыкающими к основному объему двумя
приделами — северным и южным.
Иначе развивалось в XVI в. зодчество
Новгорода. После того как Новгород был
военной силой приведен в подчинение
Москве, культовое строительство в нем на
некоторое время прервалось. Московское
правительство, рассматривая Новгородскую
землю как форпост борьбы с Ливонией,
провело значительные работы по
реконструкции оборонительных сооружений: был
полностью перестроен новгородский кремль,
построены или реконструированы и другие
крепости Новгородской земли. Однако
вскоре, уже в начале XVI в., возобновилось
и строительство церквей. Но к тому времени
здесь коренным образом сменился
контингент заказчиков. Чтобы ликвидировать
тенденции новгородского сепаратизма,
московское правительство выслало из Новгорода
всю боярскую знать и вместо нее
поселило московских купцов. Новые
заказчики требовали от строителей возведения
храмов, более отвечавших их привычным,
т. е. московским, представлениям о
зодчестве. И хотя в Новгороде продолжали
работать местные мастера-строители, они
должны были считаться с этими
требованиями.
С 1508 по 1511 г. по заказу богатого
московского купца Ивана Сыркова было
осуществлено строительство церкви Жен
Мироносиц на Ярославовом дворище, где
находился и двор этого купца. Церковь
разделена внутри на три этажа, из которых
первый расположен ниже уровня земли,
т. е., в сущности, — подвальный этаж, а
второй играет роль высокого подклета. Оба
эти этажа использовались как складские
помещения, а собственно церковь находилась
на третьем этаже. При этом западное
членение церкви было, в свою очередь,
разделено на два яруса; в верхнем ярусе
размещались два небольших придела. Каждое
членение фасадов храма завершалось
полукружием, как бы закомарой, над которым,
однако, находился треугольный щипец. Ко
всем трем порталам примыкали деревянные
крыльца.
Через несколько лет, в 1529 г., рядом с
этим храмом по заказу Сыркова-сына была
построена церковь Св. Прокопия. По
внешнему облику она несколько ближе к старым
новгородским памятникам, но и в ней
наличествует много явно не новгородских черт.
Здание также разделено на три этажа, из
которых два нижних использовались как
склады. Как и в церкви Жен Мироносиц,
наличие трех апсид вместо одной,
повышенные подпружные арки под барабаном,
деревянные крыльца у порталов, килевидные
завершения арок на фасадах — черты,
нехарактерные для новгородского зодчества
XV в. Западный объем представляет собой
несколько пониженную паперть, основной
191
Книга первая
объем имеет щипцовое покрытие каждого
фасада, что в целом образует на храме вось-
мискатную кровлю. Замечательно, что
начиная с XVI в. и старые новгородские храмы,
имевшие трехлопастное покрытие фасадов,
переделывают на восьмискатные. Еще
дальше по пути отхода от новгородских
традиций пошел зодчий Борисоглебской церкви
в Плотниках, возведенной в 1536 г. и
построенной на старом фундаменте, и
поэтому сохранившей типичный для Новгорода
одноапсидный план, но килевидные зако-
марные завершения фасадов, прикрытые
щипцами и особенно пятиглавие делают ее
облик близким к московским памятникам
зодчества.
В Новгороде в XVI в. начали также
строить и большие пятиглавые соборы.
Первым, и самым крупным, является
Преображенский собор Хутынского монастыря,
построенный в 1515 г. по заказу
московского великого князя. Этот шестистолпный
трехнефный и трехапсидный собор увенчан
пятью главами. Несомненно, что тип
храма заимствован от Успенского собора
Московского Кремля. Общий облик собора
также явно московский, но участие
новгородских мастеров не могло не сказаться и
в этой постройке, несмотря на откровенно
выраженный московский заказ. И в
конструкциях, и в декоративных элементах здесь
наличествуют новгородские черты. Не
менее откровенно московский характер имел
и четырехстолпный, также пятиглавый,
собор Сыркова монастыря (1548 г. или
1554 г.).
В то же время начали возводить и бес-
столпные храмы, которых ранее в Новгороде
никогда не строили. Такова, например,
церковь Сретения при трапезной в Антониевом
монастыре (1533 г.). Квадратная в плане,
двухэтажная церковь примыкает к
квадратной же трапезной со столбом в центре зала.
Покрытие церкви восьмискатное. Близкая
по типу церковь и двухстолпная трапезная
были построены в Хутынском монастыре в
1552 г. Церковь при трапезной Александ-
ро-Свирского монастыря (1533 г.) имеет
завершение в виде пирамиды из трех
ярусов кокошников, однако и здесь, несмотря
на такой чисто московский прием,
декоративные мотивы выдают работу
новгородского мастера. Близка по формам и церковь
Св. Николая при трапезной
Воскресенского монастыря на Красном поле в
Новгороде, точная дата постройки которой
неизвестна.
И все же бывали случаи, когда
новгородские мастера даже в XVI в. возводили
храмы, почти полностью повторявшие старые
новгородские XV в. Примером может
служить церковь Св. Климента на Иворове
улице (1520 г.). Единственное
нововведение в церкви Св. Климента — подклет,
перекрытый деревянными балками и ничем
не выделенный снаружи.
Итак, в 1-й половине XVI в.
новгородское зодчество быстро потеряло свой
самостоятельный характер, подчинившись
московской, т. е. общерусской, архитектуре. Но
наличие собственных кадров строителей,
имевших сложившиеся традиции,
естественно, не позволило новгородскому зодчеству
полностью слиться с московским. Черты
московской типологии, общий характер
московского зодчества соединились в Новгороде
с местными конструктивными и
декоративными приемами, в результате чего
новгородская архитектура, влившись в общий поток
развития русского зодчества, сохранила
некоторое своеобразие. Новгородская
архитектура 2-й половины XVI в. не- настолько
отличается от московской, чтобы ее можно
было называть самостоятельной школой, но
она позволяет все же выделить ее как
особый вариант общерусского зодчества.
Характерным примером может служить
церковь Св. Троицы при трапезной Духова
монастыря (1557 г.) — небольшой храм на
подклете, завершенный пятиглавием и
несколькими рядами довольно мелких
декоративных кокошников.
Совершенно особое явление
представляло зодчество Пскова, который в XVI в. был
единственным русским городом, где
развитие архитектуры продолжало идти своим,
самобытным путем, не совпадавшим с
московским, т.е. общерусским. Более того,
именно в XVI.в. можно отметить наиболее
яркий расцвет самостоятельной псковской
архитектурной школы.
Псковская земля в XVI в. играла
важную роль опорного пункта Руси на
границах с Литвой и Ливонским орденом, поэто-
192
Глава 7
му московское правительство принимало
меры по реконструкции каменных
укреплений города, проведя их капитальную
перестройку. При этом каменными стенами была
теперь защищена вся огромная территория
Окольного города, включая Запсковье.
Чтобы предотвратить проникновение
вражеских кораблей внутрь крепости по
р. Пскове, на обоих ее берегах были
построены башни, которые соединялись
специальным заграждением, так называемыми
решетками, пересекавшими реку. От
укреплений Окольного города до наших дней
сохранились мощные башни —
Козьмодемьянская (иначе называемая Гремячей) на
берегу Псковы и Покровская на берегу
Великой.
Интенсивно ведется в XVI в. и
культовое строительство. Во Пскове, как и в
Новгороде, после окончательного вхождения
города в состав Московского государства в
значительной мере сменился контингент
заказчиков. Однако в отличие от
Новгорода это не повлекло за собой быстрой
ликвидации самостоятельных особенностей
псковской архитектуры и обращения к
московским образцам. Наоборот, здесь
продолжали развивать те типы и архитектурные
формы сооружений, которые сложились во
Пскове к концу XV в. Строили во Пскове
исключительно из местной плиты,
полностью отказавшись от кирпича. Для того
чтобы плита не выветривалась от времени,
стены снаружи затирали известковой обмазкой.
Псковские храмы обычно невелики. Их
строили по заказам горожан — купцов и
ремесленников. Церкви служили не только
культовым целям, но и местом хранения
ценностей, документов, книг, поэтому они
построены, как правило, очень экономно и
каждое их помещение имеет определенное
назначение.
Церковь была одноглавым, четырехстолп-
ным храмом и имела три апсиды. Нижние
части столбов делали круглыми, чтобы они
занимали возможно меньше места.
Перекрывались храмы ступенчато повышающейся
конструкцией сводов и арок, хотя в
небольших по величине церквах порой подпруж-
ные арки делали слитыми со сводами.
Каждый фасад покрыт на два ската.
Часто псковские храмы образовывали
сложный асимметричный и очень
живописный комплекс с галереей, притворами,
приделами, звонницей и хозяйственными
пристройками. Звонницы псковского типа —
одна из наиболее характерных особенностей
этих комплексов — представляют собой
стенки с пролетами для колоколов.
Пролеты имели разную ширину в зависимости от
размеров колокола. Ставились звонницы на
одну из стен храма или над его крыльцом,
но часто их возводили отдельно от церкви
на одной из стен небольшой хозяйственной
постройки. Внутри псковские церкви не
имели росписей, и среди их беленых стен
единственным красочным пятном был
иконостас.
Несколько таких памятников сохранилось
в самом городе. Среди них можно назвать
церкви Успения Богородицы у Парома
(1521 г.), Св. Николы на Усохе (1535 г.),
Св. Иоакима и Анны (точная дата
неизвестна) и ряд других. Сохранились
подобные храмы и в Псковской земле. Таковы,
например, Никольская церковь в с. Виде-
лебье (1551 г.), церковь Св. Георгия в
погосте Сенно, Троицкая церковь в с. Домо-
жирка на Чудском озере, собор Елеазаро-
ва монастыря и др.
В качестве приделов при больших храмах
псковичи сооружали другой тип церкви —
бесстолпный, также сложившийся в
Пскове в XV в. Такие церкви имеют очень
своеобразную типично псковскую конструкцию
сводов: помещение перекрывали
несколькими ступенчато повышавшимися к середине
арками, а в пространство между ними
встраивали поперек несколько меньших арочек.
Над образовавшимся в центре небольшим
квадратным отверстием ставили барабан
главы. Снаружи такие бесстолпные малые
храмы отличаются от четырехстолпных лишь
одной апсидой вместо трех. Иногда
подобные маленькие церкви возводили и как
самостоятельные, отдельно стоящие,
например, псковская церковь Св. Николы от
Каменной ограды. Существуют примеры, когда
такие маленькие церкви сдваивали, т. е.
строили вплотную две рядом и снабжали
общей звонницей, создавая тем самым
живописную композицию (церкви Покрова и
Рождества у Пролома).
И все же несмотря на устойчивое сохра-
193
Книга первая
нение самостоятельных псковских традиций,
в зодчество Пскова к середине XVI в.
начинают проникать некоторые московские
черты. Появились церкви с позакомарным
завершением фасадов: церковь Жен
Мироносиц (1546 г.), собор Крыпецкого
монастыря (1547 г.). А вскоре начали возводить
и пятиглавые храмы с поэакомарными
покрытиями: Никольская церковь Любятов-
ского монастыря (видимо, 60-е годы),
собор Мальского монастыря близ Изборска.
В некоторых псковских храмах стали
устраивать высокий подклет, откровенно
выраженный снаружи: церковь Св. Климента на
Завеличье. Видимо, под московским
влиянием начали строить столпообразные церкви
«под колоколы», в которых над пролетами
для колоколов устраивалась деревянная
шатровая кровля и ставилась маленькая главка.
Хорошим примером такого сооружения
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Новгородская первая летопись старшего
и младшего изводов. Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 475.
2 Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950.
С. 544.
3 Иларион. Слово о законе и благодати //
Красноречие Древней Руси. XI — XVII вв.
М-, 1987. С. 48.
4 Новгородская первая летопись... С. 476.
5 Патерик Киево-Печерского монастыря.
СПб., 1911. С. 5.
6 ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 214.
7 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. 1-я пол.
С. 212 — 213.
8 Ныне с. Боголюбово Владимирской области.
была высокая восьмигранная церковь в
Гдове, ныне не существующая. Сохранилась
подобная постройка в Крыпецком
монастыре. В нескольких монастырях Псковской
земли уцелели остатки каменных трапезных
и жилых палат, возведенных в XVI в. Над
некоторыми из них ранее существовали
деревянные этажи келий.
Широкий размах строительства в Пскове
в XVI в. и наличие здесь опытных зодчих
привели к тому, что псковичей часто
вызывали для строительства в Москву и другие
города. Так, после покорения Казани
московское правительство направило туда для
ремонта городских укреплений и возведения
церквей бригаду псковских мастеров во
главе с Постником Яковлевым. Хорошо
сохранившимся памятником, отражающим
работу этих мастеров, является Успенский собор
Свияжского монастыря (1560 г.).
9 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. 1-я пол.
С. 226.
ю ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, 6707.
11 Там же.
12 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15, 6738.
13 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, 6767.
14 Там же.
15 ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 138.
16 Новгородская первая летопись старшего и
младшего изводов. М.; Л., 1950.
17 ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 200.
is ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 324.
19 ПСРЛ. М., 1965. Т. 13. С. 62.
20 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 189.
Глава 8
Живопись
^.Древнерусская
живопись возникла и формировалась под
влиянием искусства Византии, будучи его
ветвью, одною из национальных
художественных школ. После принятия Русью
христианства для украшения храмов были
приглашены греческие мастера. Они стали
первыми учителями русских живописцев.
Усвоив основные технические навыки ико-
нописания и декорирования храмов, русские
мастера творчески переосмыслили
византийские образцы. Своеобразное и самобытное
эстетическое сознание средневекового
русского человека именно в живописи нашло
свое наиболее полное выражение.
Здесь древнерусская живопись
интересует нас прежде всего с точки зрения ее
эстетической значимости, специфики ее
художественного языка в его историческом
развитии.
Живопись Древней Руси прошла в целом
тот же путь развития, что и живопись
других регионов православного мира, хотя
периоды ее эволюции не равноценны и
художественные тенденции не всегда совпадают
с главными направлениями в искусстве
собственно Византии и балканских стран.
Русские памятники никогда не были далекими
или близкими репликами византийских: их
смысловое наполнение и художественная
форма близки, но не тождественны. В
древнерусской живописи домонгольского
времени воплощено свое, особое единство
нового для восточных славян христианского
богословия и старых языческих воззрений на
мир, утонченной изобразительной традиции
Византии, наследницы античной культуры,
и художественных вкусов молодых
славянских народов. Уже вскоре после принятия
христианства в исповедании православия на
Руси имелись свои эмоциональные оттенки,
в которых отразились особенности
душевного склада восточных славян. В русской
религиозности акцентированы идеи
милосердия, сердечности, мягкости и доброты; ей
свойственно чувство меры, гармонии
между земным и небесным, духом и плотью;
здесь нет крайностей византийского
аскетизма. Социально-этническая среда, в которой
жили заказчики произведений, работали
приезжие художники и обучались их русские
помощники, была иной, чем в Византии. В
Киевской Руси многое определялось
нравственной средой жизни боевых княжеских
дружин, с присущими ей высоким
осознанием долга и чести, и одновременно —
широким, радостным и чрезвычайно серьезным
приятием христианских идеалов,
восторженным чувством приобщения молодого
народа к культурным ценностям древних
цивилизаций. Все это вместе взятое создавало ту
особую духовную атмосферу, которая в
конечном итоге и обусловила своеобразие
древнерусских художественных
произведений.
X — XIII ВЕКА
В искусстве домонгольской эпохи1
выделяются два больших периода: конец X —
начало XII в. (Киевская Русь) и вторая
четверть XII — начало XIII в. (период
феодальной раздробленности ).
К концу X в., когда Русь приняла
христианство, окончательно сложился
классический византийский стиль, сохранявшийся
почти без изменений около полутора столетий2.
Торжественный, возвышенный характер
византийского искусства, глубокая
одухотворенность его образов, наглядно
демонстрирующих христианские идеалы, вечные
духовные ценности и непреходящие истины,
ощущение неизменной вневременной силы и
стабильности, исходящей и от отдельных
изображений, и в еще большей степени от
всей системы декорации храмов, оказались
доступными восприятию, созвучными
мироощущению и художественно-эстетическим
потребностям славянских народов,
объединенных в огромное государство —
Киевскую Русь. В этом — одна из главных
причин столь быстрого усвоения византийской
культуры и очень высокого уровня искусства
в первые века христианства на Руси.
Основные памятники X — XI вв. были
созданы приезжими, главным образом
греческими художниками, работавшими с
русскими помощниками. Однако киевские мо-
195
Книга первая
заики и фрески, полноценные памятники
истории византийского искусства, отличают*
ся от их аналогов на территории Византии.
Правда, уловить эти отличия и описать их
очень трудно, ибо в таком малоподвижном
искусстве изменения выражались лишь в
нюансах, в оттенках художественной
структуры и образного строя произведений.
Мозаики и фрески киевского собора
Софии Премудрости Божией, воздвигнутого и
украшенного великим киевским князем
Ярославом между 1043 — 1046 гг., —
классический пример живописи средневизан-
тийского периода. Киевский Софийский
собор — самый большой и сложно
организованный храм Древней Руси. В алтаре, в
подкупольном пространстве (в куполе, в
простенках барабана, в парусах и подпруж-
ных арках, в конхе и на стене апсиды, на
своде и стенах вимы) расположены
мозаики, выделяющие наиболее важные для
богослужения части храма. Все остальные
поверхности (центральный и боковые нефы,
трансепт, хоры) украшены фресками.
Расположение фресок в боковых частях нефов
рассчитано на зрительное восприятие
молящегося в его движении от западного входа
к алтарю, в средокрестии храма — на
трехкратный круговой обход, благодаря чему
полностью раскрывается художественный
замысел всей системы убранства собора.
В куполе изображена огромная полу
фигура Христа, которого окружают четыре
архангела; между окнами барабана —
четыре апостола, на парусах — сидящие
евангелисты. На триумфальной арке — Деисус
(полуфигуры Христа, Богоматери и
Иоанна Предтечи в медальонах). Над восточной
и западной подпружными арками между
евангелистами — медальоны с
полуфигурами Богоматери и Христа первосвященника.
На подпружных арках — медальоны с
образами 40 севастийских мучеников
(сохранилось 15). Фланкирующие триумфальную
арку столбы несут изображения архангела
Гавриила и Богоматери (Благовещение). В
конхе апсиды —«Богоматерь Оранта»; в
среднем поясе апсиды — «Евхаристия» с
фланкирующими фигурами
первосвященников Аарона и Мельхиседека; в нижнем
ярусе — образы двух архидиаконов и восьми
святителей. В расположении фресковых
циклов больше отступлений от принятой
византийской системы, обусловленных местной
спецификой. Вместе с тем, в характере
декорации в целом (в сочетании мозаики и
фрески, в густом ковровом заполнении
поверхностей изображениями, в их
соотношении с архитектурными формами, в обилии
орнамента), в подборе сцен и персонажей,
и главное — в той особой духовной силе,
непоколебимой спокойной уверенности,
решительной непреклонности и внутренней
стойкости, удивительным образом
сочетающейся с тихой покорностью и строгой
вдумчивой серьезностью образов, ощущаются
местные русские черты. Пропорции фигур
чуть укорочены, все формы массивны,
усилена роль силуэта, строгой скупой линии,
геометризованной и обобщенной. В
плоскостной трактовке одежд с крупными
орнаментами и яркими драгоценными камнями
проявляется вкус к декоративности,
нарядности, красочности, роскоши. Мощные
глыбообразные фигуры вырисовываются на
золотых мерцающих фонах как монолиты, не
подверженные никаким изменениям. Их
лики с крупными чертами, огромными
широко раскрытыми глазами, устремленными
к вечности, неподвижны. Но за этой
инертной каменной оболочкой скрыто такое
внутреннее напряжение, такая концентрация
жизненной силы и духовной энергии,
которых не найти ни в современных им
греческих, ни в более поздних русских
произведениях. От образов киевской Святой Софии
веет первозданной свежестью большого,
цельного, полнокровного искусства.
Создавшие софийские мозаики и фрески
иноземные мастера, видимо, благодаря активной
роли заказчиков и русских помощников
уловили настроение, мироощущение и
художественные вкусы сильного молодого
народа, лишь недавно приобщившегося к
древней средиземноморской культуре, и
запечатлели их в художественных образах.
Центральное место в Софии Киевской
занимают образы Христа Пантократора в
куполе, представленного в окружении
четырех мощных архангелов в расшитых
жемчугом и драгоценными камнями парадных
одеждах, и Богоматери Оранты в конхе.
Если в образе Пантократора в целом
больше общевизантийских черт (в духовном со-
196
Глава 8
держании, иконографии и стиле), то
изображение Богоматери Оранты отличает
русская специфика, составляющая
нерасторжимое единство с его византийской основой.
Образ Девы Марии, возносящей свои
руки в молитве к Христу Вседержителю в
куполе, олицетворяющей собой Церковь
земную, Заступницу христиан и
Покровительницу города, в молодом Русском
государстве ассоциировался с дохристианским
славянским образом «великой богини»3. Эти
ассоциации наложили свой отпечаток на
художественное исполнение Богоматери
Оранты, отличающейся колоссальным размером
(5,45 м), монументальной трактовкой,
непоколебимой устойчивостью, крепостью
всего облика и исходящей от нее внутренней
духовной силой. Не случайно, что образ
Оранты, хорошо известный в византийском
искусстве, стал излюбленным в Древней
Руси домонгольского периода, а
изображение из Святой Софии Киевской получило
название «Нерушимая Стена» и почиталось
как чудотворная икона. Это наименование
основано как на восприятии самого
изображения, так и на словах церковных
песнопений, особенно на стихах Акафиста, в
которых Богоматерь называется «царствия
Нерушимая Стена», «всех городов и весей
Предградие», «Стена еси девам и всем к
Тебе прибегающим». Вместе с тем, истоки
этого названия, богословский смысл и
художественные особенности образа
неразрывно связаны с греческой надписью,
помещенной в арке, обрамляющей конху, с
Богоматерью Орантой: «Бог посреди Нее
(Богоматери, Церкви, Города. — Л. Я/.)» и Она
не поколеблется; поможет Ей Бог с утра
заутра» (Псал. 45, ст. б)4.
Мозаики киевского златоверхого собора
Архангела Михаила начала XII в.
исполнены также греками. Собор Архангела
Михаила был заложен великим киевским князем
Святополком (Михаилом) в 1108 г.
Система декорации апсиды храма, разрушенного в
советское время, была такая же, как в
Софии Киевской; мозаики здесь также
сочетались с фресками. От уничтоженного
ансамбля сохранилась часть мозаик
(«Евхаристия», «Апостол Фаддей», «Святой
Димитрий Солунский» и «Архидиакон Стефан»,
фрагменты орнамента) и незначительные
остатки фресок. Художественные истоки
Михайловских мозаик другие: это работа
столичных, константинопольских мастеров,
сохранивших в своем искусстве
эллинистические (раннехристианские) традиции
живописи. В фигурах из собора Архангела Михаила
нет ни статичности, ни фронтальной распла-
станности, ни преувеличенной мощи образов
Софии Киевской. Апостолы в композиции
«Евхаристия» приближаются к престолу
легкой походкой, их подвижные гибкие тела
представлены в живых свободных позах.
Пропорции фигур вытянутые, удлиненные.
В трактовке одежд значительно возросла
роль линий, складки стали более дробными,
плоскими и «декоративными». Они
покрывают изображения густой сеткой, создают
разнообразный линейный ритм. Колорит
Михайловских мозаик красочен, живописен.
Он строится на сочетании тончайших
оттенков белых, изумрудно-зеленых,
лазурно-голубых, розово-красных цветов, пронизанных
сверкающими золотыми штрихами.
Прозрачные кубики смальты, сияющие как
драгоценные камни, обилие искрящегося
золота создают мерцание, свечение поверхностей.
Изображения наполняются светом и
получают иной, по сравнению с образами
Софийского собора, акцент духовного содержания.
В Михайловских мозаиках подчеркнута идея
радостного, открытого приобщения
человека к Божественной благодати, гармония
преображенной Светом материи и высоких
духовных помыслов. В выражении ликов
передаются оттенки эмоций, градации чувств. Но
преобладающим является просветленное
душевное состояние святых, внутренняя
мягкость, тихая задумчивость. Именно эти
нюансы образов, а также, может быть, чуть
большая красочность, «декоративность»,
несколько усиленная линейность и
плоскостность в трактовке форм и отличают
Михайловские мозаики от современных им
византийских памятников Греции.
Принесенный в Киев классический
столичный вариант византийского искусства,
представленный мозаиками собора
Архангела Михаила, получил на Руси новые
оттенки, возникшие благодаря иному
культурному климату. Важно отметить, что этот
вариант оказался близок той главной
тенденции в русской духовности, которой
197
Книга первая
предстояло определить основные пути в
развитии искусства среднерусских
(северовосточных) земель XII — XIII вв.,
московской живописи XIV в. и творчества
Андрея Рублева. Напротив, могучие,
монументальные образы Софии Киевской с их
напряженной духовной жизнью, полной
отрешенностью от всего преходящего и
вечным предстоянием пред горним миром,
открывшимся их внутреннему взору, больше
соответствовали новгородской культурной
среде, ее народному общинному
миросозерцанию.
Высокая духовная наполненность
содержания, эстетические и технические
особенности византийской живописи были
усвоены русскими художниками очень рано, еще
в XI столетии. Сохранились же в основном
произведения XII в. Со второй четверти
этого столетия на Руси начался период
феодальной раздробленности. Для искусства
XII в. характерен процесс распространения
киевской художественной традиции, ее
усвоения и интерпретации, в зависимости от
местных условий и вкусов, в отдельных
землях и княжествах.
В XII столетии крупнейшими регионами
были Владимиро-Суздальское княжество и
Великий Новгород. Духовная культура
Владимиро-Суздальской Руси явилась главной
преемницей классических основ киевского
художественного наследия. Именно в этой
среднерусской области нашли яркое
выражение самые существенные стороны русской
культуры, сформировались те нравственные
идеи, духовные идеалы и эстетические
критерии, которые были переданы Москве
XIV в. и стали ведущими в национальном
русском искусстве XV столетия. Образы
владимиро-суздальской живописи обладают
редкой гармонией благородной, совершенной
художественной формы и возвышенного,
лирически окрашенного духовного
содержания. В них воплощены идеи заступничества,
покровительства, милосердия, душевного
покоя, контакта между горним и дольним.
Лая формирования
художественно-эстетических особенностей владимиро-суздальской
живописи большое значение имела не только
киевская классическая традиция XI —
начала XII в., но и непосредственное влияние
константинопольского искусства XII в.,
лучшим образцом которого являются фрески
Димитриевского собора во Владимире. Они
были исполнены в конце 1190-х гг.
греческим мастером и его русскими
помощниками. Димитриевский собор во Владимире на
Клязьме был построен великим князем
Всеволодом в 1190-е гг. Всеволод Большое
Гнездо, брат Андрея Боголюбского, между
1162 и 1169 гг. жил со своей матерью,
византийской принцессой, в Константинополе.
В 1176 г. он занял владимирский престол и
начал активно украшать владимирские
храмы, приглашая для этого греческих
мастеров. Над росписями Димитриевского
собора работал константинопольский мастер и
несколько русских. Сохранившиеся
фрагменты в большом и малом нефах на сводах
изображают «Страшный Суд» (большой
свод: сидящие апостолы и стоящие за ними
ангелы; малый свод: восседающая на
престоле Богоматерь, ангел, ветхозаветные
праотцы, шествие праведных в Рай).
Исследователи четко разделяют работу греческого
художника и русских мастеров, росписи
которых отличаются упрощенностью рисунка и
живописного исполнения, некоторой
грубостью технических приемов, большей
открытостью, смягченностью эмоционального
строя образов. Греческий мастер исполнил
росписи большого свода, русские художники
работали в основном над росписями
боковых сводов.
Между тем в стиле и духовной
наполненности владимирских фресок можно видеть
глубокую преемственность, идущую от
киевских мозаик и письма византийской
иконы Богоматери начала XII в.,
почитавшейся чудотворной, находящейся в этом
соборе и названной Владимирской. Они
свидетельствуют о большой внутренней зрелости
русской культуры домонгольской эпохи.
Византийские произведения и иностранные
мастера появлялись на Руси не случайно, а
в зависимости от «потребностей церкви,
культуры как целого»5. Отношение русского
общества к византийским образцам (в том
или ином регионе) было избирательным,
диктовалось особенностями русского
духовного климата. Поэтому совсем не случайно,
что та греческая икона Богоматери, образ
которой наиболее полно соответствовал
идеалам русской религиозности, стала паллади-
198
Глава 8
ем Русского государства, национальной
святыней, «эпиграфом» ко всей русской
средневековой духовной культуре6.
Почитание и богатое украшение икон,
традиционное для Византии, на Руси стало
одной из важнейших особенностей духовной
жизни. Икона, в отличие от мозаичных и
фресковых изображений на стенах храмов,
была прежде всего моленным образом,
святыней. Для создания совершенного
моленного образа от художника требовалось не
только профессиональное мастерство, но и
духовная одаренность. Благодаря этому
древним русским иконам присуща не
выразимая словами глубина духовного
содержания и тщательность исполнения. Не
случайно, что чудотворными образами становились
в основном те иконы, которые отличались
художественным совершенством,
выражающим высокие духовные идеалы. Для
создания образов вечносущего, неизменного
небесного мира, преображенной плоти святых
и освященной Божественным светом
материи требовались самые совершенные,
наименее подверженные изменениям
преходящего земного времени материалы, особые
технические приемы и художественные
средства. Благородные металлы, драгоценные
камни, кубики сверкающей смальты и
разноцветные эмали лучше всего могли дать
представление о мире «будущего века»,
прекрасном сияющем Рае. Эти материалы
и техники использовались в Византии и
домонгольской Руси для создания и
украшения не только храмового убранства и
богослужебных сосудов, но и иконных образов.
Исполненные в прочной технике темперной
живописи, иконы украшались окладами из
золота и серебра с драгоценными камнями
и жемчугом. Не только поля и фон иконы
закрывались окладом, но нередко и
одежды. На нимбы святых накладывались
металлические венцы, на грудь подвешивались
ожерелья, гривны, цаты. Иконы
Богоматери украшались также ряснами и серьгами.
Исполненные темперой лики, как бы
излучающие Божественный свет, обрамлялись
драгоценным убором, гармонично сочетаясь
с ним, составляя единое художественное
целое. В тех случаях, когда материальные
средства были ограниченны, драгоценный
убор иконы имитировали живописью.
Почти все древние оклады русских икон
исчезли. В течение веков они многократно
дополнялись и переделывались, а в XVIII —
XIX вв. были заменены новыми. Поэтому
сейчас в музейных собраниях иконы
представлены «раздетыми» — лишенными очень
важной части их
художественно-эстетического образа. О древнем убранстве икон мы
можем судить лишь на основании
письменных источников (летописей, описей) и тех
немногочисленных разрозненных деталей,
которые хранятся в музеях. Однако,
мысленно реконструируя первоначальный образ
иконы, необходимо дополнять его
драгоценным убором.
Прославленные, почитаемые иконы, а
также храмовые образы украшались
особенно богато. Так, Андрей Боголюбский
заказал на икону Богоматери Владимирской
кованый оклад, в котором кроме серебра было
около пяти килограммов золота, множество
драгоценных камней и жемчуга. На иконе
«Спас Златые власы», исполненной около
1200 г., вероятно, во
Владимиро-Суздальском княжестве, перекрестья нимба, фон и
одежды украшены медальонами,
имитирующими золотые накладные дробницы. На
новгородской иконе святителя Николая
1294 г. средствами живописи воспроизведен
не только чеканный серебряный нимб с
золотыми эмалевыми дробницами, но также
фигуры святых на полях (первоначально они
изображались на металлических окладах,
как, например, на окладе новгородской
иконы XI в. «Апостолы Петр и Павел»),
драгоценные украшения оклада Евангелия и
одежд святителя.
Русских икон домонгольского периода
сохранилось менее трех десятков.
Происхождение многих из них неизвестно, так как в
XV — XVI вв. древние моленные образы,
почитаемые в старых русских городах и
землях, великие московские князья и цари
свозили в свою резиденцию — Московский
Кремль. В художественном строе икон
XII — начала XIII в. значительно больше
общих черт, обусловленных их византийской
основой и киевской культурной традицией,
чем местной специфики. Поэтому
распределение сохранившихся икон по
художественным центрам в тех случаях, когда
происхождение их неизвестно, не является бесспорным.
199
Книга первая
Так, два погрудных «Деисуса»
(«Христос Еммануил с архангелами» и «Христос,
Богоматерь и Иоанн Предтеча»),
сохранившиеся в Успенском соборе Московского
Кремля, происходят, вероятно, из Владими-
ро-Суздальской земли. Первая икона была
создана во 2-й половине XII в., вторая —
несколько позднее, вероятно, на рубеже
XII — XIII вв. Их сопоставление
наглядно показывает как специфические русские
черты владимиро-суздальской живописи, так
и эволюцию стиля. Архангелы на иконе по
типу и выражению ликов похожи на
ангелов из мозаик киевского Михаило-Архан-
гельского собора и ангелов из росписей Ди-
митриевского собора во Владимире конца
XII в. Но в ликах ангелов из владимирских
стенописей больше греческой скорбной
суровости, экспрессии, в исполнении —
пластической моделировки, живописной
свободы, открытых мазков и белильных бликов.
Прически трактованы обобщенно,
асимметрично лежащими волнистыми прядями
(также и у ангелов из Михайловских мозаик). В
духовном облике архангелов Гавриила и
Михаила на иконе — тихая
созерцательность, душевная мягкость и легкая скорбь.
Лики очерчены длинными округлыми
линиями. Форма строится благодаря
гармоническому сочетанию плавного волнообразного
ритма четкого конструктивного рисунка и
тонких многослойных плавей, создающих
мягкий рельеф. Рисунок в иконе играет
более активную роль, чем во фресках.
Особенно хорошо это видно в изображении
Христа Еммануила. Он представлен
строго фронтально: рисунок лика, прядей волос,
шеи и одежд симметричен; линии,
обрисовывающие ушные раковины,
орнаментальны. Все это подчеркивает значительность,
иератизм образа, его символичность. В
такой трактовке ощущаются местные
славянские художественные вкусы (тенденция к
плоскостности, декоративности, орнамен-
тальности рисунка, большей упрощенности
и ясности всех средств выражения) и
одновременно очень глубокое богословское
осмысление образа. Пышные прически
архангелов с живописно исполненными яркими
драгоценными камнями в повязке надо лбом
отличаются красотой и роскошью. Пряди
волос уложены крупными упругими
локонами, расчерченными золотыми линиями асси-
ста. «Декоративная» трактовка волос
архангелов напоминает строго упорядоченный
орнаментальный рисунок причесок
золотокудрых ангелов из мозаик Софии Киевской.
Цветовая гамма иконы сдержанна и
благородна. Ее глубокие, изнутри светящиеся
переливчатые краски вызывают ассоциации
с драгоценными эмалями, демонстрируют
утонченный художественный вкус
иконописцев, воспитанных на лучших
образцах киевского и константинопольского
искусства.
Отмеченные художественно-эстетические
качества иконы свидетельствуют о глубокой
преемственности мастерами киевской
традиции и новом обращении к византийским
истокам, показывают их интерпретацию во
владимиро-суздальском искусстве,
дальнейшее усиление русского начала и его
среднерусские особенности в XII в.
В погрудном «Деисусе» («Христос с
Богоматерью и Иоанном Предтечей») конца
XII — начала XIII в. сохраняются все
основные черты рассмотренной иконы с
Христом Еммануилом и архангелами. Однако
форма трактована здесь обобщенней,
большими цельными массами. Черты ликов
укрупнены. Линии более геометризованы, в
них меньше плавной закругленности,
льющегося ритма и гармонических сочетаний. Во
внутреннем содержании образов
Богоматери и Иоанна Предтечи преобладает
душевная уравновешенность, сдержанная скорбь
и печаль. В образе Спаса —
сосредоточенное размышление, внимательное
всматривание и вслушивание, мягкий душевный
настрой. Эти акценты образа будут развиты
в искусстве среднерусских земель и
московской живописи XIV столетия, а затем — в
творчестве Андрея Рублева.
В духовной среде Великого Новгорода
XI — XII столетий возникла та местная
художественная специфика, которая была
развита в новгородской живописи
последующих веков. Отличительные признаки
новгородского искусства выступают уже в
образах пророков, сохранившихся в барабане
купола Софийского собора, исполненных в
самом начале XII в.7. Монументальные
изображения заполняют узкие простенки
между окнами. Мощная пластика фигур,
200
Глава 8
каскады тяжелых вертикальных складок,
некоторая упрощенность, схематичность в
изображении массивных ступней ног
создают впечатление зыбкости постановки,
соскальзывания со стены. Широко
раскрытые, как бы гипнотизирующие своим
взглядом глаза пророков устремлены к
невидимому, прикованы к открывшемуся им
духовному идеалу. Подчеркнутое величие,
титанизм образов, их внутренняя
собранность и сдержанная суровость сближают
новгородские росписи с мозаиками и
фресками Софии Киевской. Однако если в
последних преобладает классическое начало, то
образы Софии Новгородской имеют
больше точек соприкосновения с искусством
византийских окраин.
В XI — XII вв. Новгород имел контакты
не только с Киевом, но и с далекими
странами византийского мира. Образцы
византийского искусства, известные в
Новгороде, принадлежали к разным стилистическим
группам. Разными по своим истокам
являются и сохранившиеся новгородские
произведения XI — XII столетий. Религиозным
воззрениям новгородцев, их
художественным вкусам, этическим нормам и
эстетическим критериям более всего соответствовали
несколько упрощенные по форме, но
могучие по духу и суровые по выражению
образы восточнохристианского искусства, в
которых на первый план выступала их
глубинная демократическая основа. В
новгородском варианте русского православия
сильны были представления о Страшном Суде
как возмездии и каре, о прочных узах,
связывающих человека с бренным земным
бытием и препятствующих приобщению к
благодати, о труднопреодолимой преграде
между дольним и горним. В мировоззрении
новгородцев рациональное, практическое,
земное сочеталось со страстным
стремлением к высоким религиозно-нравственным
идеалам, к Божественной истине,
постижение которых требует напряжения
внутренних сил, полной отрешенности и
сосредоточенности. Поэтому главным в идейном
содержании и эмоциональном выражении
новгородских образов является их суровая
непоколебимость, напряженная собранность
строгих взоров, внутренняя концентрация
духовной энергии, а художественная форма
произведении отличается экспрессией,
монументальностью, некоторым упрощением
линейного ритма для придачи
изображениям большей цельности, наглядности,
лаконизма.
Специфические черты новгородской
живописи домонгольского времени ярче всего
видны во фресках 2-й половины XII в. —
в храмах Старой Ладоги (2-я половина
XII в.), в Аркажах (около 1189 г.) и в Не-
редице (1199 г.). В основе стиля фресок
церкви Святого Георгия в Старой Ладоге
лежат традиции византийского искусства,
глубоко осмысленные и воплощенные
русскими живописцами с высочайшим
мастерством и художественным качеством. В
куполе — «Вознесение», в барабане —
восемь пророков (одни из лучших по
сохранности изображений). В апсиде —
«Евхаристия» и святительский чин
(остались фрагменты); в жертвеннике —
полуфигура архангела Гавриила и сцены с
Иоакимом и Анной; в дьяконнике —
полуфигуры архангела Гавриила и «Чудо
Георгия о змие». На западной стене и
прилегающих к ней сводах — «Страшный Суд».
На сводах и стенах был праздничный цикл
(остались фрагменты «Крещения» на
южной стене), а также полуфигуры святых в
медальонах. В системе росписи, строгой и
упорядоченной, разделенной на четкие
ярусы, в иконографии отдельных сцен и типах
ликов ощущаются традиции искусства
XI в.
Главное средство в создании образов —
виртуозный рисунок, образующий четкие,
выразительные силуэты, тонкую,
изысканную линейную разделку одежд, волос и
ликов. В росписях Старой Ладоги отразился
тот вариант византийского стиля XII в.,
который получил название «линейной
стилизации»8. Однако по сравнению с
аналогичными византийскими памятниками приемы
«линейной стилизации» в новгородской
росписи утрированы, заострены. Кроме того,
здесь много архаического (в системе
росписи, в иконографии, в типах), восходящего к
восточнохристианским образцам XI в. В
новгородской живописи в целом, в отличие
от владимиро-суздальской, византийская
традиция редко выступает в чистом виде, но
почти всегда переплетается с иконографичес-
201
Книга первая
кими и стилистическими элементами
искусства периферийных центров православного
мира. В живописном ансамбле Георгиевской
церкви большую роль играют крупные
орнаменты, густо заполняющие не занятые
изображениями плоскости, богатое,
разнообразное узорочье в костюмах, в
архитектурных и пейзажных фонах. Художники
староладожских росписей стремились
превратить в орнаменты линейную разделку не
только складок одежд, но также бород и
причесок святых, что является
отличительной особенностью новгородского искусства
XII в. В этом как бы оживает дух древней
народной культуры, в которой
Божественное Слово, пронизывающее весь тварный
мир, отражено в ритмической системе
орнаментальных линий. Световые блики на
ликах — схематизированные, условные, их
расположение и рисунок «декоративны».
Однако в ладожской росписи орнаменталь-
ность не уничтожает пластику фигур, рельеф
объемных ликов, не искажает их
благородные черты.
В «Вознесении» ореол с восседающим на
радуге Христом Вседержителем
поддерживают восемь ангелов. Их фигуры с широко
распростертыми крыльями и тонкими
руками, со спадающими тканями широких
рукавов хитонов, особенно изысканны по
рисунку. Светлые, пастельные цвета их одежд
(зеленые, голубые, коричневые, охряно-жел-
тые) пронизаны острыми белильными
лучами, разнообразными по форме бликами.
Среди изображений в барабане наибольшим
совершенством отличаются образы царей
Давида и Соломона. В их строгих,
сосредоточенных ликах орнаментальность точного,
уверенного рисунка сочетается с легкой
светотеневой моделировкой, благодаря чему
образы получают предельную близость к
идеалу искусства XII в.
Местные, почвенные начала новгородской
живописи, выражающие народное
мировосприятие, еще полнее и ярче отразились в
росписях церкви Благовещения в Аркажах9.
«Линейная стилизация» светов достигла
здесь своего предела. Огромные,
монументальные фигуры в аркажских фресках
инертны, статичны. Но их тяжелая земная плоть
пронизана, изборождена, жестко
расчерчена резкими линиями и штрихами светов. Эти
световые блики, наполняющие духовной
энергией, внутренней жизнью косную
материю, подчинены высшей Божественной
силе, от которой зависят «императивность
наложения светов»10, их «магический узор»,
оплетающий тела и лики, сковывающий,
уничтожающий всякое своевольное
индивидуальное проявление. Лики святых с
суровыми, устремленными к горнему миру
взорами, разграфленные орнаментальными
симметричными линиями и штрихами ярких
белильных бликов, свидетельствовали о
присутствии в них Божественной энергии,
воспринимались молящимися как
своеобразный знак проявления Святого Духа,
царящего над миром, как символ неизменной
вневременной небесной силы.
По сравнению с монументальными
росписями русские иконы XII в., как мы уже
говорили, отличаются значительным
стилистическим единством; местные особенности
выражены в них менее отчетливо, чем во
фресках. Большинство сохранившихся
произведений следует классической киевской
традиции, поэтому их локализация и
датировка затруднительны.
Одна из лучших новгородских икон —
«Благовещение»; она была исполнена,
вероятно, в начале XII в. и находилась в
Георгиевском соборе Юрьева монастыря в
Новгороде11. Классическая традиция киевского
наследия в целом определяет ее духовное
содержание и художественную форму.
Местное, новгородское проявляется только в
нюансах. Черты ликов Богоматери и
архангелов укрупнены; все формы рельефны,
выпуклы; фигуры статуарны, весомы. В иконе
с удивительным совершенством сочетаются
широкие длинные линии, расчерчивающие
одежды, и сложнейшая пластическая лепка
ликов. Вероятно, благодаря местному
культурному климату, свойственному
новгородцам стремлению к конкретности,
наглядности, буквальности в раскрытии темы, была
выбрана редкая иконография
«Благовещения», представленного в типе «Воплощения»
(на груди Богоматери изображена фигурка
Младенца Христа), восходящая к
византийской традиции.
Та же классическая основа характерна
для иконы «Ангел Златые власы»
(«Архангел Гавриил» — из несохранившегося оглав-
202
Глава 8
ного деисусного чина), исполненной,
вероятно, во 2-й половине XII в.12.
Локализация создания этого произведения особенно
трудна. Классическая киевская традиция,
сплавленная с византийским комниновским
стилем 2-й половины XII в., имеет здесь
свои стилистические особенности. Лик
архангела напоминает ангелов из Димитриев-
ского собора во Владимире, но в иконном
образе все черты тяжелее, массивней, а
линии более упрощенные; в изображении
глаз ощутима тенденция к геометрической
схематизации. Пластическая весомость,
материальность — отличительные признаки
новгородской живописи. Видимо, не
случайно в этом лике есть также некоторое
сходство с фресковыми образами церкви Спаса
на Нередице. Однако задумчивое,
созерцательно-мягкое выражение глаз ангела
сближает икону с искусством
Владимиро-Суздальской земли.
Икона «Спас Нерукотворный» — одна
из самых совершенных в искусстве
домонгольской Руси13. В этом образе воплотились
выдающиеся художественные достижения и
русские особенности новгородской
иконописи, восходящей к киевской традиции.
Красочная многослойная лепка в этой иконе, так
же как и в других произведениях того
времени, образует ровную, сияющую, как будто
излучающую Божественный свет рельефную
форму лика, пластически весомую и
глубоко одухотворенную, бесконечно
отстраненную от всего преходящего, суетного,
земного. Впечатление вневременной идеальности
образа усиливается благодаря строгому
симметричному рисунку лика и бороды,
тщательному «декоративному» исполнению
волос, разделанных тонкими золотыми
линиями, а также легкой геометризации
рисунка глаз и бровей, условной трактовке ушных
раковин. На новгородское происхождение
иконы может намекать лишь внутренняя
экспрессия образа, суровый, пронзительный
взгляд скошенных в сторону глаз Спаса,
контрастирующих с зеркальной симметрией
контуров головы и лика.
В 1-й половине XIII столетия в образном
строе и художественной структуре
произведений происходят изменения, наиболее
очевидные в новгородских памятниках.
Новгородская икона «Богоматерь Умиление»,
хранящаяся в Русском музее, была исполнена
во 2-й четверти XIII в. Она имеет уже
много новых черт. Изображение Богоматери
увеличено, приближено к зрителю. Фигура
Христа также очень крупная. Между
Богоматерью и Младенцем Христом как будто
нет душевной близости, свойственной
иконам типа Умиления. Главная эмоциональная
интонация — имперсональность, ощущение
инертной силы, внешней и внутренней
неподвижности. В фигурах появляется засты-
лость, внеличностная внушительность.
Классическая гармония, идеальное соотношение
композиции, линейного ритма, пластической
моделировки и сдержанного благородного
колорита, присущие большинству икон
XII в., здесь утрачены. Красочная гамма в
этой иконе более пестрая, контрастная. На
ликах — большие пятна интенсивной под-
румянки; нимбы Христа и Богоматери ярко-
красные. Тяжелые лики как будто
выточены из дерева и раскрашены. Все очертания
(особенно нос, глаза, брови) геометризова-
ны, рисунок складок одеяний несколько
вялый, прерывистый, спрямленный.
Отмеченные изменения в художественной
структуре иконы во многом отражают вкусы
демократических слоев, влияние которых в
социально-политической и культурной
жизни Великого Новгорода в XIII в. стало
более прочным.
Во 2-й половине XIII в., в годы
монголо-татарского нашествия, контакты Древней
Руси с Византией уменьшились. Русские
княжества были разорены. Культурная
жизнь в них затихла, но не прекратилась
полностью. В этих трудных условиях
ведущим видом искусства стала иконопись. В
иконах XIII в. на первый план выступили
местные художественные признаки, четче
определилось своеобразие их духовного
содержания.
Главными культурными центрами в
XIII в. оставались не захваченные
кочевниками Великий Новгород и города Северо-
Восточной Руси. Специфические
особенности живописи этих крупнейших регионов,
наметившиеся уже в XII столетии, в XIII-
в. сложились в целостную художественную
систему, на основе которой позднее достигли
расцвета новгородская школа живописи и
искусство земель Русского Севера, с одной
203
Книга первая
стороны, художественная школа Москвы и
примыкающих к ней среднерусских
областей, с другой стороны.
Сохранившиеся новгородские иконы
XIII в. принадлежат к трем разным
стилистическим направлениям. Два из них,
каждый по-своему, интерпретируют грекофиль-
ские традиции домонгольского искусства, а
третье (краснофонные иконы) — наиболее
полно выражает самую суть новгородской
духовной культуры, ее укорененность в
местной народной основе более поздней
новгородской иконописи XIV — XV вв.
Краснофонные иконы XIII в. («Спас на
престоле, и избранными святыми на полях»,
«Иоанн Лествичник, Георгий и Власий»)14
восходят к той древней восточнохристиан-
ской традиции, которая была известна в
Новгороде еще в XII в. (фрески церкви
Спаса на Нередице, «Поклонение кресту»
на обороте иконы «Спас Нерукотворный»).
Но в живописи домонгольского времени
преобладало общевизантийское начало, язык
искусства был интернациональным. В
иконах XIII в. художественная структура
произведений, их внутреннее содержание
впервые предстают в своем специфически
русском облике.
Композиционное построение иконы с
изображением Спаса на престоле и
избранными святыми на полях, хранящейся в
Русском музее, предельно упрощено.
Изображения лишены пластической формы,
рельефа: фигуры святых, престол Спаса, его
подножие развернуты параллельно иконной
плоскости, как бы наложены на фон. Но при
этом грандиозная фигура восседающего
Христа представлена так, что его образ
будто сходит с иконной доски, выступает
вперед. Это впечатление возникает благодаря
интенсивному красному фону,
контрастирующему с синевато-зелеными,
светло-коричневыми цветами одежд и трона, а также
благодаря необычно вытянутым
пропорциям фигуры Спаса. Сидящий Христос так
велик, что кажется представленным в
полный рост; ступни его ног огромны.
Линейный ритм иконы сводится к простым
чередованиям вертикалей, однообразному
повторению жестов благословляющих рук,
схематизированных спрямленных очертаний,
пересекающихся под углами контурных
складок одежд. Все изображения на иконе
очень сильно геометризованы,
абстрагированы; в них нет даже намека на округлые
формы тела. Одежды трактуются либо как
раскрашенные плоскости, либо как некая
аморфная масса, имеющая собственные
законы внутренней организации. Трон
заплетен крупными завитками орнамента (черные
линии на охряном фоне), вызывающим в
памяти орнаменты Старой Ладоги.
Аналогичные узоры повторяются в одеждах Спаса
и святых на полях.
Все это делает иконный образ
легкообозримым, ясночитаемым, близким
народному художеству (резьбе и росписи по
дереву, лубочным картинкам, тканям и
вышивкам с древними языческими символами) и
потому доступным для восприятия самых
широких, низовых слоев новгородского
общества. В этих простых, написанных
яркими красками образах, далеких от
классических византийских канонов, но наполненных
глубоким духовным содержанием,
выражены важнейшие религиозно-этические идеи
горожан и общинников Великого
Новгорода. Застылые, отрешенные, неприступно-
строгие образы Христа в центре и святых
на полях обладают огромной силой
духовного воздействия. Внимание молящегося
приковывает не только образ Христа, но и
святые, которые изображены также очень
крупными. Иконные образы святых
становятся наглядным символом трудного,
наполненного борьбой со страстями духовного
пути, отражающим религиозное
мировоззрение новгородцев того времени.
Итак, в новгородских иконах XIII в.
утверждается та целостность, однозначность
духовного содержания образов и
геометрическая обобщенность условных
изобразительных форм, которые наметились уже в
изображениях пророков конца XI —
начала XII в. из Софийского собора. Вместе с
тем, в них угадываются главные черты
таких произведений «золотого века»
новгородской иконописи, как суровое, но значительно
более очеловеченное изображение Ильи
Пророка на знаменитой краснофонной иконе
XV в., находящейся в Третьяковской
галерее.
В совсем ином духовном климате
создавались иконные и фресковые образы в го-
204
Глава 8
родах Северо-Восточной Руси: Владимире,
Суздале, Ярославле, Ростове. В живописи
среднерусских земель прочнее и более
непосредственно было усвоено классическое
культурное наследие. Высокое, лирически
утонченное владимиро-суздальское
искусство оказалось созвучным душевной
настроенности широких кругов населения еще в
XII в.
На протяжении XIII столетия внутренняя
наполненность произведений постепенно
менялась. Преобладающими чертами
иконных образов стали душевная мягкость,
эмоциональная открытость, доброта и
сердечность. В художественной структуре
сохранилась комниновская основа: относительная
пространственность композиционного
построения, волнообразный ритм линий,
плавные круглящиеся контуры, тонкое,
деликатное письмо плавями, передающее мягкий
рельеф ликов. Но образный строй
произведений упростился: ушло высокое
богословское содержание, исчезла византийская
интеллектуальная сложность образов.
Красочная поверхность икон XIII в. не имеет того
глубокого эмалевого сияния, как в
произведениях XII столетия. Цвет стал более
простым и открытым. В рисунке появилась
некоторая аморфность, «размытость» упругих
длинных линий, четких контуров и
виртуозно исполненных складок, отличающих
памятники XII в. Греческие этнические черты
ликов заметно русифицировались,
смягчились. В священных образах на первый план
выступила свойственная произведениям
среднерусских областей «смиренная
кротость», тихая печаль и сострадательность
выражения ликов.
Таково изображение Спаса на иконе из
Ярославского художественного музея.
Рассмотренный выше новгородский образ
Христа на престоле со святыми на полях — это
грозный Вседержитель, явленный
молящемуся в окружении святых для поклонения,
сурового назидания, суда и кары.
Ярославский же Спас — прежде всего утешитель,
терпеливый учитель, добрый наставник.
Взгляд его, как на домонгольских иконах,
печально-задумчивый, созерцательный, но
по сравнению с древними образами более
мягкий, располагающий к душевному
контакту, «безмолвной беседе». Христос
изображен фронтально, погрудно. Но в его позе
нет и намека на иератическую застылость,
зеркальную симметрию. Очертания
силуэта мягкие, плавные, округлые. Такими же
длинными, плавными линиями обрисованы
нос и надбровные дуги, лоб с
обрамляющими его волосами, сильная, крепкая шея. Лик
исполнен прозрачными слоями охр;
переходы от света к тени стушеваны, незаметны,
но достаточны для того, чтобы передать
пластическую округлость форм. Волосы
Спаса, в соответствии с древней традицией,
проработаны тонкими охряными линиями,
имитирующими золото. Светло-коричневый
хитон украшен по вороту золотой каймой, а
также клавом с изящным орнаментом,
покрыт лучами золотого ассиста. Темно-синий
гиматий спадает с плеч мягкими складками,
отмеченными голубыми пробелами. Во всем
облике Спаса ощущается благообразие,
чинность, мерность в соотношении Духа и
плоти, Божественной мудрости и человеческой
участливости, едва уловимое
противопоставление горестного предвидения, предрешен-
ности, неминуемого возмездия, с одной
стороны, и сострадания, готовности к
прощению, заступничеству и
покровительству — с другой.
Смысловая и эмоциональная
наполненность среднерусских иконных образов
предполагает неспешное созерцание,
размышление, постепенное постижение их духовного
содержания. Очевидно, что в подобных
иконах XIII в. определились те национальные
особенности образно-смысловой
характеристики и выражающей ее художественной
структуры, которые легли в основу
творчества Андрея Рублева.
XIV — XV ВЕКА
ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНТРЫ (ШКОЛЫ)
В XIV столетии после долгих лет
замедленной подспудной эволюции
древнерусского искусства, обусловленной разорением
страны монголо-татарским нашествием,
наступил период интенсивного
художественного творчества, а в конце столетия —
высочайшего расцвета всех видов живописи. Уже
205
Книга первая
в начале XIV в. на Русь проникли и
вскоре получили распространение те новые
художественно-эстетические идеи, которые
сформировались в византийской культуре в
эпоху так называемого палеологовского
ренессанса15. Процесс усвоения этих новшеств,
их творческой интерпретации и
взаимодействия с местной культурной традицией в
различных древнерусских центрах XIV в.
имел свои существенные особенности.
Поэтому созданные тогда произведения
отличаются большим разнообразием.
Важнейшими культурными центрами в
XIV — XV вв. были Новгород, Псков и
Москва. В последние годы, благодаря
тщательному изучению всех сохранившихся до
наших дней произведений, имеющих
отношение к культуре средневековой Твери,
выявлены специфические художественные
особенности тверской живописи XIV —
XVI вв.16. Однако обнаруженные в Твери
и прилежащих к ней землях памятники
живописи не обладают той непрерывной
местной духовной традицией, единством
художественных норм и устойчивой «школьной»
преемственностью исполнения, которые
присущи произведениям Новгорода, Пскова и
Москвы, поэтому здесь мы не будем их
рассматривать.
Еще в XI — XII вв. определились два
ведущих художественных направления,
соответствующие двум духовным концепциям
мировосприятия и его выражения в
произведениях искусства, которые питали
древнерусскую культуру на протяжении
последующих столетий. Одно из них, восходящее к
мозаикам и фрескам Софии Киевской,
оказалось близким внутреннему складу и
духовным потребностям новгородцев. Другое
берет свое начало от той ветви киевского
наследия, которую восприняли в среднерусских
княжествах XII — XIII вв., а затем
усвоили, творчески интерпретировали и
превратили в общерусскую традицию в культуре
Москвы XIV — XV вв.
Монголо-татарское нашествие разорило
города Киевской Руси, опустошило
среднерусские земли. Этой участи избежали
только северные области, где культурная жизнь
оставалась относительно активной и в
период чужеземного ига. Поэтому в XIV в.
крупнейшим центром культуры и
искусства был Новгород, твердо следовавший
своим старым, давно сложившимся идеалам
и эстетическим критериям, но не
чуждавшийся и иноземных новшеств, которые здесь
ассимилировались «почвенной» традицией,
поглощались местной культурной средой.
Новгород сохранял свою яркую, устойчивую
культурную индивидуальность на всем
протяжении XV столетия. Однако уже в
конце XIV — начале XV в. ведущая роль
перешла к Москве, постепенно
выделившейся среди старых среднерусских центров,
приобретшей свое собственное
художественное своеобразие и вскоре занявшей то
первостепенное положение, которое
соответствовало ее главенствующей роли в
политической, социальной и духовной жизни
Древней Руси. Московская школа живописи
оказалась наследницей двух самых
значительных культурных явлений — великого
киевско-владимирского искусства XI —
XIII вв. и эстетически утонченной, глубоко
интеллектуальной константинопольской
живописи Византии XIV столетия. В XV в.
московская культура получила значение
общерусской, будучи наиболее совершенным
воплощением русских национальных
духовных и этических идеалов и отвечающих им
эстетических норм. Расцвет московского
искусства XV в. знаменует собой высочайшую
вершину всей русской средневековой
культуры, а творчество двух московских
художников этого времени — Андрея Рублева и
Дионисия — имеет мировое значение. В
отличие от Москвы и Новгорода Псков
никогда не был и в силу своего
социально-политического положения не мог быть
ведущим художественным центром. Псковской
культуре свойственны совсем другие, во
многом противоположные особенности:
замкнутый, изолированный характер, резко
выявленные локальные признаки,
подчеркнутое своеобразие художественных принципов
и приемов, приверженность своим местным
традициям, критериям и вкусам, тенденция
к преднамеренной архаизации, постоянной
повторяемости одних и тех же освященных
традицией авторитетных образцов.
Псковская школа живописи представляется
наиболее цельной, монолитной, легко
узнаваемой, но в то же время и наиболее
ограниченной, узколокальной.
206
Глава 8
*
Для новгородской иконописи XIV в.
свойственны два начала — местная
«почвенная» духовно-этическая основа и
художественные идеи византийского мира,
проникавшие в Новгород на всем протяжении
XIV столетия. Древняя, исконно
новгородская традиция, отражающая религиозные,
нравственные и эстетические представления
широких демократических слоев
новгородского общества, в иконописи 1-й половины
XIV в. была определяющей и в некоторых
произведениях существовала как будто
совершенно независимо от тех «палеологовс-
ких новшеств», которые культивировались
в интеллектуальных кругах грекофильски
настроенных заказчиков и художников. Эта
«почвенная» тенденция характерна прежде
всего для «архаизирующих» икон,
создававшихся, вероятно, в мастерских Новгорода,
а также в близких ему локальных
культурных центрах, специально для провинции, с
учетом духовных потребностей и
художественных вкусов сельского населения
Русского Севера. Такова краснофонная икона
«Чудо святого Георгия о змие, с житием»
из собрания М. П. Погодина, хранящаяся
в Русском музее, — одна из наиболее
популярных новгородских икон. Образ святого
Георгия-змееборца восходит к фреске из
Старой Ладоги, но его исполнение
совершенно иное, далекое от профессионального
иконописного мастерства. Самое точное
определение, которое было дано подобным
художественным созданиям,
—«фольклорные иконы». Действительно, по своей яркой
декоративности, контрастному
противопоставлению красного, белого, коричневого и
сине-зеленого, по чисто графической
манере исполнения (изображения переданы
раскрашенным рисунком), наглядной
конкретности и одновременно большой наивности в
раскрытии сюжетов, поясняемых
подробными надписями, икона напоминает народную
картинку, лубок. Вместе с тем, здесь
сохраняется глубина духовного содержания,
высокая народная оценка героического подвига,
стойкости святого, которые выражаются не
эмоционально-психологической
характеристикой святого, а композицией в целом,
соотношением узкого краснофонного
средника и крупных белофонных квадратных клейм
с лаконичными трехчастными построениями,
с разреженным линейным и звучным
цветовым ритмом, внутренней экспрессией
застылых поз и движений, своеобразным
динамичным рисунком плоских, угловатых
фигурок с низкими талиями, схематично
нарисованными руками и ногами, большеголовых
и грубоватых, но с твердым, спокойным
выражением ликов. Икона обращена к
человеку, хорошо знакомому с этим
традиционным и любимым в Новгороде образом.
Поэтому здесь нет динамики рассказа, но есть
знак, символ, напоминание (и в образе
святого Георгия в среднике, и в каждом
клейме), за которыми стоят глубинные
ассоциации с народными легендами,
крестьянскими, полуязыческими поверьями и воинским
культом героя.
В большинстве новгородских
произведений XIV в. наблюдается сочетание местной
основы и византийских художественных
достижений, дающее каждый раз свой
индивидуальный вариант, в котором, однако,
специфически новгородское начало оказывается
намного более активным, акцентированным
в том или ином аспекте. Икона «Рождество
Богоматери»17 из собрания СП. Рябушин-
ского, хранящаяся в Третьяковской галерее,
хотя и представляет собой тот
художественный вариант, в котором отразились
отдаленные отголоски византийского «пластического
стиля» конца XIII в., — такое же типично
новгородское «.архаизирующее»
произведение, как и икона «Чудо святого Георгия о
змие». Только здесь плоскостное,
«декоративное» решение композиции в целом
соединено с огрубленной, утрированной
пластически-объемной лепкой ликов, обведенных
жирными темными контурами. Цветовая
гамма традиционна для Новгорода:
разбеленные зеленые, серо-голубые, лиловые и
ярко-красные цвета даны в активном,
контрастном сопоставлении. Массивные, но как
бы «подвешенные в воздухе» плоские
угловатые фигуры с тяжелыми, словно
вырубленными из дерева ликами, с
пристальными, суровыми взорами «выталкиваются»,
отделяются от иконной плоскости,
приближаются к зрителю. Композиция распадается
на отдельные упрощенные трехчастные
построения.
207
Книга первая
Во 2-й половине XIV — начале XV в.
контакты Новгорода с Московским
княжеством и православными странами
Балканского полуострова стали более прочными и
постоянными. Новые аспекты духовных
идеалов, повлекшие за собой существенные
изменения в миросозерцании в целом,
получили распространение и в Новгороде. Веяния
времени сказались здесь в том, что
замкнутая, суровая по своей эмоциональной
окраске и форме выражения духовная жизнь
новгородцев несколько смягчилась, появилась
потребность в активном восприятии новых
идей, в живом творческом отклике. В
Новгороде этого времени работало несколько
артелей фрескистов, среди которых были
выдающиеся мастера из Византии (Феофан
Грек и другие) и южнославянских стран. В
этот период получила яркое выражение одна
из специфических новгородских
особенностей культуры — своеобразное соотношение
фресковой живописи и иконописи. В
стенных росписях, идейно связанных с
высокоинтеллектуальным, но относительно узким
слоем новгородского общества, нашли
многогранное, эстетически совершенное
выражение духовные устремления позднепалео-
логовской эпохи, наиболее полно отразилось
стилистическое разнообразие
византийского искусства XIV столетия. Новгородские
фрески интернациональны и по своему
художественному языку, и по значению
воплощенных в них мировоззренческих идей.
Новгородские же иконы XIV в. (даже
самые «византизирующие» из них), напротив,
представляют другой, значительно более
глубинный и широкий, исконно
новгородский, крестьянско-патриархальный и посад-
ско-городской в своей основе культурный
пласт в духовной жизни Новгорода, точнее
отражают характер местного благочестия,
локальность «школы»18.
В таких иконах как «Святые Борис и
Глеб на конях», «Благовещение со святым
Федором Тироном»19 и других,
исполненных, несомненно, в главных новгородских
мастерских, отчетливо выступает ориентация
на новые византийские веяния. Эти
произведения, каждое по-своему, демонстрируют
главную тенденцию в развитии
новгородской иконописи — «слияние старой
традиции и приемов XIV в.», благодаря чему
постепенно выработался «тот стиль, который
стал типичным для местной иконописи
XV в.»20. В иконе «Святые Борис и Глеб»
новые художественные приемы видны и в
характере рисунка — более ритмичного,
плавного и округлого, и в технике
исполнения — многослойной, нюансированной, и в
цветовом строе палитры со сближенными
тонами, и в выражении ликов — чуть
более мягком и задумчивом, чем в других
новгородских иконах XIV в. Эти новые
качества проявляются здесь очень сдержанно,
ненавязчиво. Однако сквозь них
проглядывается та неизменная древняя основа, в
которой на протяжении нескольких столетий
воплощались творческие идеалы
новгородского мировосприятия — «героический,
триумфальный характер образа», выраженный
в крупномасштабных, монументальных,
торжественных и статичных изображениях
всадников, приближенных к зрителю.
Композиция трактована плоскостно и
«декоративно», при этом все формы тяжелы и
массивны, рисунок динамичен и замкнут,
обладает скрытой энергией, типично
новгородским «внутренним напором» и экспрессией.
В образах святых Бориса и Глеба ясно
проступает характерная черта новгородских
икон XV столетия — «нечто,
напоминающее герб или эмблему по концентрирован-
ности образа и лаконизму форм»21.
В других новгородских иконах позднего
XIV в. новые импульсы проявились еще
более сдержанно, иногда только как
отголоски, как отдельные приемы и заимствования,
органично вплавленные в традиционно
местную стабильную художественную систему.
Такие произведения прочнее и более
непосредственно связаны с наследием XIII в., и
в то же время в них отчетливее выступают
особенности новгородской иконы XV
столетия: лаконизм и строгая упорядоченная
«декоративность». Именно эти качества
определяют художественный строй иконы
«Отечество, с избранными святыми» из
собрания М. П. Боткина в Третьяковской
галерее22. Симметричное построение
композиции, фронтальность массивных фигур с
толстыми жесткими контурами, суровые лики
с резкими бликами светов, внушительные,
властно повелевающие, с пристальными,
пронзительными, как бы осуждающими
208
Глава 8
взглядами, исходящий от них мощный
поток духовной энергии — все это
заставляет вспомнить такие новгородские образы
XIII в., как краснофонный «Спас на
престоле». Конечно, в иконе много отличий,
обусловленных знакомством с новым палеологов-
ским искусством и общим духовным
климатом эпохи XIV в.: ракурсное изображение
престола, активная светотеневая
моделировка, психологизм образов. Однако не эти
черты являются главными. Важно, что та
чисто новгородская сущность иконного
образа — внутренняя стабильность, сила и
властность, непоколебимость и суровость,
повышенный динамизм, экспрессия
рисунка и пластических форм, «декоративная»
красочность и лаконизм выражения в целом,
которые роднят изображения XIII и
XIV вв., — сохранятся также и в иконописи
XV столетия, несмотря на то, что
формальной структуре икон XV в. присуща
значительно большая мягкость, «классичность»,
артистическая отточенность всех
художественных приемов.
Те существенные особенности, которые
определяли социально-политическую и
культурную жизнь Новгорода, наложили
отпечаток и на миросозерцание новгородцев в
целом, на формирование их эстетических
идеалов. В новгородской духовности всегда
подчеркивалась мысль о грядущем
Страшном Суде, представление о неизменной
упорядоченности и устойчивости мира.
Отсюда — напряженность духовного и твердость
душевного склада новгородцев и
соответствующие ему суровая выразительность
иконных образов, прочность традиций,
нравственных идеалов и художественных вкусов.
В новгородской иконе на первый план
выступает не размышление, не утешение и
сострадание, но активная, действенная
взаимосвязь образа святого и зрителя. При этом
внутренняя характеристика святого или
священного события строго фиксированна,
статична; образ «явлен» молящимся в своей
стабильной, наглядно «овеществленной»
сущности. Такая икона предполагает
«массовость» молитвенного обращения,
поклонение общины, живой и непосредственный
отклик народной толпы.
Особое — новгородское — понимание
священного образа, эстетические критерии
народной среды видны в художественной
структуре каждой новгородской иконы,
независимо от того, какой вариант стиля
XIV в. в ней отражен. Новгородские
иконы отличаются от икон других
древнерусских художественных центров компактной,
лаконичной композицией, крупномасштабно-
стью, приближенностью к человеку,
фронтальными (реже — профильными) позами
фигур, равновесием масс. Главная роль в
живописной системе новгородской иконы
принадлежит рисунку, обобщенному
контуру, очерчивающему силуэты, складки одежд
и локальные цветовые пятна. В линейном
ритме преобладают твердые устойчивые
вертикали, резкие диагонали и крутые дуги,
создающие ощущение огромной
потенциальной силы, внутреннего «заряда», скрытой
энергии. Пластика ликов в большинстве
икон передается тяжелым, обобщенным
массивным рельефом с гладкой, как будто
отполированной поверхностью. Цветовой
строй новгородской живописи XIV в. по
сравнению с произведениями XIII столетия
относительно разнообразен, тяготеет к
усложненной холодной гамме, но
традиционное контрастное сочетание киновари, белил,
коричневых и синевато-зеленых тонов
преобладает.
В XV в. все формальные особенности,
признаки и приемы новгородской иконы
приобретают идеальную отточенность,
«духовная структура становится утонченной,
возрастает аристократическое начало», при
этом происходит взаимопроникновение двух
главных пластов (начал) новгородской
культуры — «отрабатывается законченная
художественная система, органически
сочетающая местную традицию и общий стиль
эпохи»23.
Вместе с тем, характеризуя локальные
эстетические особенности новгородской
иконы, необходимо учитывать, что благодаря
открытиям последних десятилетий и
работам Э. С. Смирновой выявлено
существенное отличие от того традиционного
представления о новгородской живописи XV в. «как
о явлении стилистически цельном,
гомогенном», которое было намечено еще Д. А. Ро-
винским24, а затем развито и
сформулировано И. Э. Грабарем и В. Н. Лазаревым.
В живописи 1-й половины XV в. наблю-
209
Книга первая
дается большое разнообразие
художественных вариантов, стилистических направлений,
среди которых рядом с традиционными
(экспрессивным, архаическим, народным)
существовали и такие, где более полно
выражено настроение новой эпохи, этические и
эстетические идеалы, близкие идеалам
Москвы рублевского времени. Однако, как уже
неоднократно отмечалось, новгородские
особенности присутствуют в произведениях всех
стилистических групп.
«Четырехчастная» икона с
изображением «Воскрешения Лазаря, Святой Троицы,
Сретения и Иоанна Богослова с
Прохором»25 из Георгиевской церкви в
Новгороде, хранящаяся в Русском музее, —
памятник глубокого духовного содержания и
высокого художественного уровня. Он имеет
первостепенное значение для характеристики
эстетических качеств новгородской иконы
1-й половины XV в. Гармонично
построенные, разреженные композиции, изящные
формы архитектурных кулис и рельефных
горок; удлиненные пропорции фигур с
маленькими головами и ногами, слегка
касающимися земли, и потому как бы
соскальзывающими с иконной плоскости; широкие, как
будто наполненные воздухом одежды,
обобщенные силуэты, локальное письмо
поверхностей яркими, чистыми красками без
сложных цветовых оттенков — всё это
типичные черты искусства XV в., в том или
ином виде проявляющиеся в произведениях
древнерусской живописи. Характерно
новгородская манера письма сказалась в
лаконичных формах, с виртуозно очерченными
контурами, в изощренной линейной разделке
складок, обладающих внутренней энергией.
Яркие, звучные краски разных оттенков —
синие, красные, зеленые, охряные и
коричневые, красные и белые на золотом фоне —
так активны, что излучаемое ими сияние как
бы сгущается, отвердевает, приобретает
весомость, плотность, напоминая своим
блеском эмали и драгоценные камни. В «Четы-
рехчастной» иконе ярко выражена еще одна
особенность новгородской иконописи —
своеобразная «одухотворенная
материальность» (или, если так можно сказать,
«овеществленная духовность») живописной
поверхности.
Свойственная произведениям 1-й трети
XV в. изысканная отточенность всех форм
и деталей является одной из главных
эстетических особенностей новгородских икон
так называемого «классицизирующего»
направления 2-й половины XV в. (например,
иконы из праздничного ряда иконостаса
церкви Успения на Волотовом поле
середины — 2-й половины XV в.26). Эти качества
сохраняются вплоть до конца XV в.,
встречаются они и в некоторых произведениях
XVI столетия. В иконах из иконостаса
Успенского собора Кирилло-Белозерского
монастыря, исполненных около 1497 г.
артелью мастеров, принадлежавших к
различным художественным центрам,
произведения новгородских живописцев27 отличаются
не только исконно новгородской
красочностью ярких, звучных цветов, «материальной
весомостью» пластических форм и
одновременно их уплощенностью, орнаментальное-
тью рисунка, активностью всей
художественной структуры, но также
«классической» рафинированностью изображений,
точностью лаконичных, упругих линий. Однако
следует заметить, что за этой виртуозной
мастеровитостью, за внешней красотой
«мраморных ликов», за холодной
вневременной идеальностью образов уже ощущается
снижение уровня идейного содержания и
духовности образов.
Наряду с главными, ведущими
направлениями новгородской иконописи,
отражавшими эволюцию русского искусства в целом (в
новгородской «редакции» стиля), в XV в.
существовало множество местных,
локальных вариантов, в которых на первый план
выступали традиции почитаемой и бережно
охраняемой новгородской старины,
устойчивости народных вкусов. Эти произведения
прочнее связаны со стилем живописи XIII
и XIV столетий, для них характерны
специфически новгородские иконографические
изводы и сюжеты, особенно композиции с
избранными святыми и главной
новгородской святыней— «Богоматерью Знамение».
Иконы с избранными святыми, может быть,
полнее, чем какие-либо другие,
«персонифицировали для новгородцев мировую историю
(в ее религиозном смысле), олицетворяли
прошлое Новгорода, символизировали
покровительство высших сил, среди них —
заступники и целители, местные деятели и
210
Глава 8
их патроны»; поэтому каждая икона со
святыми и «Богоматерью Знамение» — это
целый мир, как бы собирательный образ
Новгорода в лице его покровителей, со своей
иерархией и символикой28.
Популярные и давно известные в науке
иконы с избранными святыми относятся в
основном к середине — 2-й половине
XV в., но благодаря своей внешне
выраженной экспрессии они несколько напоминают
произведения позднепалеологовского стиля,
что позволяло датировать их концом XIV
столетия (например, иконы «Святые Илья
Пророк, Никола и Анастасия» из собрания
А. И. Анисимова в Третьяковской галерее,
«Святые Параскева и Анастасия» в
собрании Н. П. Лихачева из Русского музея)29.
Во второй половине и особенно в конце
XV в., в преддверии дионисиевской эпохи,
в «архаизирующих» и «фольклорных»
новгородских иконах также появились
утонченность, гармоническая успокоенность,
краски стали прозрачными и светящимися,
письмо ликов — без резких белильных штрихов,
рисунок — гармоничный и размеренный. В
иконах «Святые Варлаам Хутынский,
Иоанн Милостивый, Параскева и
Анастасия» (собрание В. А. Прохорова) из
Русского музея, «Святые Власий и Спиридон»
(из Власьевской церкви) в Историческом
музее или «Огненное восхождение Ильи
Пророка» из собрания Н. П. Лихачева в
Русском музее древние народные традиции
обрели новую эстетическую
выразительность.
На храмовой иконе церкви Святого Вла-
сия изображены святые Власий и Спиридон,
почитавшиеся во многих странах
византийского мира как покровители и целители
скота, а также как действенные помощники
крестьян и защитники бедняков30. На Руси,
и прежде всего в Новгороде, культ этих
святых слился с дохристианскими языческими
божествами. Святой Власий в народном
крестьянском сознании как бы
отождествлялся со «скотьим богом» Белесом.
Иконография этого изображения сложилась,
вероятно, в Новгороде. Святые восседают в
верхней зоне на седалищах, поставленных на
горках. Горки вверху за фигурами святых
золотисто-охристые и ярко-красные: они ,
символизируют горний мир. Горки
дольнего мира, расположенные под ногами святых,
изумрудно-зеленые. На их фоне пасутся
коровы, козы, овцы и свиньи. Цвета в
изображениях животных, нарисованных очень
упрощенно, но с большой любовью и
теплотой, яркие, радостные: красные,
золотисто-охристые, белые, голубовато-серые,
разных оттенков коричневые. Святые
благословляют крестьянское стадо.
Художественное исполнение иконы отличается
совершенством композиции и красотой
цветовых сочетаний.
*
Одной из главных особенностей
псковской школы является близость иконного
образа к фресковому, стремление к
использованию в иконах художественных и
технических приемов настенной росписи,
перенесению на иконную доску «космичности»
фресковых циклов. (В Новгороде, как мы
видели, эти две области существовали в
целом независимо одна от другой, отражая
разные грани духовной культуры.)
Росписи Снетогорского монастыря во Пскове
1313 г. и новгородские фрески 2-й
половины XIV в. являются едва ли не
важнейшими среди тех «авторитетных образцов»,
которые легли в основу псковской школы
живописи XIV — XV вв. Однако, если в сне-
тогорских фресках с их экспрессивным
эмоциональным строем, с резкими
контрастами света и тени, с темными
нахмуренными ликами и своеобразными «гребенчатыми»
пробелами можно усмотреть достаточно
отчетливые признаки местной художественной
традиции, свойственной впоследствии
многим произведениям псковской школы, то в
новгородских фресках и псковских иконах
совершенно по-особому, на разном
качественном и идейном уровне отразились
волновавшие весь православный мир поиски
духовной истины и новые художественные
принципы их выражения.
Во Пскове, несмотря на отсутствие
церковной самостоятельности и политическую
изолированность города, в XIV в. были, по
всей вероятности, свои собственные
контакты не только с другими русскими землями,
но и с Византией. Позднепалеологовские
духовные идеалы и новые нравственные
211
Книга первая
устремления эпохи воплотились в
художественной культуре Пскова ярко и
самобытно. В псковских иконах есть совершенно
особое, удивительное сочетание
простонародных типов лиц, простодушной
прямолинейности в раскрытии внутреннего мира
образов и их глубочайшей духовности, как бы
зримого приобщения к высшему миру, что
проявляется в ярких вспышках, в отблесках
Божественного огня, испепеляющего темную
инертную земную плоть.
Произведения псковской живописи мало
похожи на сияющие, яркие, четко
построенные иконы Великого Новгорода с их
внутренней статикой, суровой замкнутостью
образа. Псковские иконы поражают другим:
повышенной эмоциональностью внешне
грубоватых образов, экспрессией, интенсивным
цветом живописной поверхности с
активными световыми бликами. В псковской школе,
сложившейся на основе поздневизантийских
образцов палеологовского стиля, в отличие
от новгородской, почти не ощущается
противопоставления двух художественных
начал, двух культурных пластов, так как
псковская живопись XIII в. не имела еще четко
выраженных местных признаков. К тому же
сохранившиеся псковские иконы XIII —
1-й половины XIV в. при всем их глубоком
архаизме отличает не замкнутая суровость
образов, не скрытая сила их внутреннего
мира, а значительно большая, чем в
новгородских произведениях,
эмоционально-психологическая характеристика.
Сформировавшаяся же в конце XIV в. новая,
формально-образная структура псковской иконы
оказалась на редкость устойчивой и цельной,
сохранившей свою специфику во всех
стилистических вариантах XIV — XV вв.
Самыми впечатляющими, характерными
и, видимо, наиболее популярными и
многочисленными были произведения так
называемого «экспрессивного стиля», тесно
связанные с тем направлением позднепалеоло-
говского искусства, которое представлено
творчеством Феофана Грека и
новгородскими фресками 2-й половины XIV в., но
отличающиеся от них простонародностью,
стихийной импульсивностью содержания и
художественного языка, отсутствием
классических традиций и эллинистических
реминисценций.
Икона «Собор Богоматери» из
Третьяковской галереи31 — одно из лучших
произведений этой группы. В асимметричной
свободной композиции, в «космичности»
содержания, интерпретирующего праздничные
песнопения, в быстрой эскизной манере
письма, в смелом «набросочном» рисунке
ощущается связь с фресковой живописью.
Все особенности локальной псковской
школы выступают здесь ярко и отчетливо.
Колорит типично псковский: насыщенные
темно-зеленые, землисто-коричневые,
густокрасные, золотисто-желтые и белые тона
обладают одинаковой насыщенностью.
Характерна плотность красочного слоя. Лики
написаны в стремительной манере,
скорописным приемом: на глухую
умбристо-коричневую основу положено светлое охрение с
сильными сверкающими белильными
штрихами, которые не выявляют пластическую
форму, а как бы «дематериализуют» ее,
заряжают духовной энергией, наполняя
жизнью инертную земную плоть. Белильные
света на ликах со скошенными взглядами и
нахмуренными бровями, на волосах и
бородах старцев, на обнаженных темных
фигурах Земли и Пустыни вспыхивают как
отблески молний, искрятся как снежные
кристаллы. Яркие, контрастные пробела на
тканях, резко очерченные геометризованные
белильные лещадки на зеленых горках,
крупные «бусины-жемчуга» на троне и
оплечьях одежд своим расположением и
формой напоминают колючий морозный узор.
Рисунок динамичен, отличается линейным
разнообразием: круто изгибающиеся дуги,
диагонали и длинные прямые сочетаются с
зигзагообразными, угловатыми очерками.
Пропорции фигур далеки от классической
соразмерности; движения, позы и жесты
утрированы, почти гротескны. Всё это
создает впечатление большой экспрессии,
душевного порыва, открытой, как бы
протекающей на глазах у зрителя, напряженной
внутренней жизни образов.
В иконе «Избранные святые:
Параскева Пятница, Варвара и Ульяна» из
Третьяковской галереи32, которые изображаются
также и в искусстве Новгорода33, с особой
силой передан не свойственный
новгородской культуре страстный внутренний порыв,
импульсивное, ничем не сдерживаемое на-
212
Глава 8
пряжение сил, благодаря которым земная
плоть как бы сгорает и испепеляется,
превращаясь в некую духовную субстанцию.
Пропорции фигур чрезмерно вытянуты,
постановка их неустойчивая, зыбкая,
колеблющаяся. Пластические формы удлиненных
ликов с резкими контрастами света и тени;
фигуры, исполненные густыми, по-земному
насыщенными красками (глубокие
сине-зеленые, красные, темные умбры, глухие охры
и яркие желтые), пронизаны Божественным
светом. Святые изображены в подвижных
позах, с активными жестами и ракурсными
поворотами, передающими их внутреннее
горение, порыв к небесам. Их крупные руки
с раскрытыми ладонями, с удлиненными
вытянутыми пальцами, придерживающими
большие тонкие кресты, будто улавливают
Божественную энергию, льющуюся из
горнего мира, представленного
благословляющим Христом Еммануилом в сегменте неба
в центре и двумя ангелами по сторонам, над
головами мучениц.
Многие художественные особенности
этой иконы встречаются и в других
произведениях. Ритмическое расположение
элементов изображения (фигур, орнаментов,
белильных лещадок), характерное для
иконы «Собор Богоматери», достигает своего
логического завершения в иконе «Сошествие
во Ад» из собрания Н. П. Лихачева в
Русском музее34. Композиция ее симметрична;
рельеф массивных фигур, очерченных
скругленными замкнутыми линиями,
образующими плоские силуэты, минимален.
Плоскостное решение подчеркивается золотым
заостренным овалом внутренней манд орлы, на
котором четко вырисовывается фигура
Христа в красных одеждах, золотыми кругами
нимбов и золотом фона с крупными
красными надписями. Застылые, неподвижные
фигуры праведников стоят так плотно, что
«пространственные зоны» между ними
полностью отсутствуют. Горки с
миниатюрными изящными лещадками трактованы плос-
костно. Одежды проработаны тонкими
каллиграфическими белильными линиями,
отмечающими высветления мелких складок.
Повторяется один и тот же тип ликов с
заостренными носиками. Лики главных
персонажей — Христа и Адама — выделяются
только более крупными чертами, но не
духовной наполненностью. Наверху на
золотом фоне изображены полуфигуры
избранных святых, среди которых выделен
святитель Николай (представлен в фас, над
Христом в среднике). Трехчетвертные
повороты святых вызывают ассоциации с де-
исусным чином, но их фигуры не
изолированы от центрального изображения
(средника иконы), а показаны как равноправные
соучастники Воскресения, пополняющие
ряды воскрешенных Христом праведников.
Это достигнуто отсутствием границы
между средником и избранными святыми,
цветовым и линейным ритмом изображений и
надписей на фоне, позами фигур,
обращающихся не столько к святителю Николаю в
центре их ряда, сколько к сходящему во Ад
Христу в среднике; типами ликов святых,
повторяющих тип ликов праведников, их
трактовкой (а также аналогичным
исполнением одежд), столь же тщательной и
активной, как и в среднике иконы. Тем самым во
вселенское содержание сюжета вносится
местный псковский акцент, подчеркивается
значение особо почитаемых во Пскове
святых, события христианской истории
интерпретируются в соответствии с
потребностями духовной жизни локального культурного
центра.
Другие произведения псковской
живописи конца XIV — 1-й половины XV в.
показывают, что культуре Пскова, при всей ее
изолированности и малоподвижности,
также не было чуждо стремление к тому
созерцательному, внутренне просветленному,
гармоническому идеалу, который складывался
в Москве и среднерусских землях.
Такова икона святого Димитрия Солун-
ского из Русского музея, исполненная
в 1-й половине XV в.35. Образ Димитрия
восходит к иконографической традиции па-
леологовского искусства XIV в.,
представляющей утонченные «духовные портреты»
святых воинов и мучеников. В иконе
отражена непоколебимая духовная сила воина-
мученика, оттененная прекрасными,
изящными формами его внешнего облика. Но по
сравнению с палеологовскими образами в
псковской иконе XV в. все формы
утрированные, подчеркнуто хрупкие, далекие от
классической пропорциональности. Здесь
много контрастов, противопоставлений,
213
Книга первая
обостряющих эмоциональное восприятие
образа. Небольшая голова Димитрия
окружена огромным золотым нимбом с пышным
черневым растительным орнаментом. Овал
лика вытянутый, сужающийся. Нос тонкий
и длинный, на конце по-псковски
утолщенный. Тонкая прямая шея обрамлена
геометризованным «ступенчатым» вырезом
горловины. Силуэт пирамидальный, сильно
расширяющийся книзу, с узкими покатыми
плечами. Рука с большим крестом,
напротив, преувеличенно маленькая, слабая,
немощная. В орнаментальности доспехов,
ажурного щита и нимба, в рисунке тонких
складочек и легкой моделировке форм
много изящества, преднамеренного украшения.
В колорите сохраняются традиционные
псковские сочетания, но все краски очень
высветленные, прозрачные, сгармонирован-
ные.
К этому же стилистическому варианту
принадлежит и знаменитая, давно известная
икона «Избранные святые: Параскева
Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст
и Василий Великий» из собрания Е. И.
Силина в Третьяковской галерее36.
«Аристократическая» изощренность
художественного исполнения, направленная на выявление
самобытных черт псковской духовности,
глубинных эстетических особенностей
локальной школы, проявилась в этом
произведении в утонченном, рафинированном виде.
Красные, коричневые, темно-зеленые краски
не потеряли свою традиционную псковскую
насыщенность, но приобрели прозрачность
и гармоническую согласованность. Обилие
белого в одеждах, большие поверхности
золотого фона, сверкающие на красных
епитрахилях крупные белильные «жемчуга»
сообщают всем краскам звучность, звонкость,
наполняют живописную поверхность мягким
сиянием. Ритмические и цветовые
соотношения густого крещатого узора на ризах,
строгих геометрических орнаментов с
ровными рядами «жемчужной обнизи» на
епитрахилях, крупных крестов и полос на
омофорах, исполненных с безупречным
художественным вкусом, превращают одежды
святых в изысканно разработанную
«декоративную» плоскость. Контуры и складки
мафория, спадающего с рук святой
Параскевы, и ее хитона, покрытые сеткой длинных
прямых лучей золотого ассиста, дают лишь
намек на форму тела. Яркие плоские пятна
красного мафория и темно-зеленого хитона,
варьируясь в цветовых градациях одежд
святителей, замыкают «орнаментальный ряд»
фигур. Обобщенные, очерченные плавными,
скругленными линиями силуэты очень
хорошо соответствуют плоской разработке одежд
с их условными складками и орнаментами
тканей. Ритмическое соотношение линий и
цветов является определяющим в
композиции. Этому принципу подчинено и
изображение рук святителей, трехкратно
повторяющих один и тот же композиционно
выразительный жест. В сопоставлении с
плоскими «декоративными» одеждами лики
выглядят «скульптурными», пластично
вылепленными. Они исполнены в целом так
же, как и в произведениях рубежа XIV —
XV вв., но все технические и
художественные приемы доведены здесь до
максимальной отточенности, деликатной выверенное-
ти, предельной утонченности. Охрение
ликов разбеленное, пастозное, переходы от
света к тени стушеваны; изящные
белильные штрихи легко и мягко выявляют
неглубокий пластический рельеф. В образах
святых — сосредоточенность, погруженность
в углубленное размышление, взоры их
устремлены в невидимую даль и
одновременно обращены внутрь себя. По сравнению с
изображениями «экспрессивного стиля» они
кажутся умиротворенно-созерцательными,
просветленными, однако отмеченные
качества имеют сугубо псковскую эстетическую
окраску. Эти запоминающиеся лики с
длинными тонкими носами, утолщенными на
конце, с треугольными подглазными
тенями и нахмуренными бровями могут
принадлежать только псковским иконным образам.
При всей своей созерцательности они
наполнены активной духовной энергией, скрытым
Божественным огнем. Но здесь это
внутреннее движение духа не искажает лики и
тела, не выплескивается наружу яркими
вспышками света, а согласуется с внешней
чинностью, размеренностью, ритмической
упорядоченностью эстетизированной
художественной формы.
Подобных памятников псковской
живописи сохранилось мало. Видимо, они
исполнялись в немногих городских мастерских.
214
Глава 8
Эти утонченные «аристократические»
произведения в дальнейшем не получили столь
же большую популярность, как
«архаизирующие» иконы, ибо они отвечали прежде
всего эстетически утонченным вкусам
интеллектуальных кругов, а не потребностям
основной массы псковского населения. В то же
время именно эти смягченные,
созерцательные образы были наиболее адекватны
художественным идеалам Москвы эпохи Андрея
Рублева и его современников. Но
псковские живописцы 2-й половины XV —
XVI в. обращались не к ним, а в основном
к эмоционально более открытым,
рассчитанным на мгновенное восприятие
«экспрессивным» образцам, освященным традицией
давнего почитания и потому в глазах
псковичей олицетворявших независимость и
самобытность местной культуры.
*
Искусство великокняжеской Москвы
стало предметом целенаправленного
исследования только в 1920-е гг. Трудами М. В.
Алпатова, Г. В. Жидкова, а затем Н. А.
Деминой, В. Н. Лазарева и других было
выявлено художественное своеобразие
московской школы живописи. Однако до
1970-х гг. исследователей привлекало
прежде всего творчество двух крупнейших,
известных по письменным источникам
художников — Феофана Грека и Андрея Рублева.
Поэтому почти все сохранившиеся
произведения московской школы конца XIV —
начала XV в. (и даже значительно более
позднего времени) рассматривались во
взаимосвязи с их искусством, то есть как
принадлежащие к их «мастерской», «школе»
или «кругу». В последние годы после
выхода в свет изданий О. С. Поповой и
Г. И. Вздорнова по древнерусской
миниатюре, а также благодаря тщательному,
углубленному систематическому исследованию
Э. С. Смирновой основополагающих
памятников конца XIV — начала XV в.
открываются новые грани, яркие специфические
черты и неповторимые особенности
московской живописи предрублевского и раннеруб-
левского времени37.
До начала XIV в. Москва была одним
из небольших княжеств Северо-Восточной
Руси, искусство которого, вероятно, не
имело ярко выраженной местной окраски,
примыкая к художественным традициям Влади-
миро-Суздаля, Ярославля, Ростова. Во
всяком случае, на это указывают миниатюры
единственно сохранившейся лицевой
рукописи 1-й половины XIV в. — «Сийского
Евангелия» 1340 г., исполненного по
заказу Ивана Калиты для Сийского монастыря
на Русском Севере38. Раскрытые из-под
записи художника Тихона Филатьева
(1700 г.) лики ангелов и Сарры на иконе
«Ветхозаветная Троица» из Успенского
собора Московского Кремля39 также
похожи на пластически вылепленные лики в
произведениях среднерусских центров конца
XIII — начала XIV в. Художественные
новшества палеологовской эпохи первой
половины XIV столетия здесь как бы
растворены в живописной традиции конца XIII в.
В этой иконе еще нет ничего специфически
московского, но в спокойном
созерцательном облике царственно прекрасного ангела
с пышной шапкой кудрей, обрамляющих
красивый точеный, сияющий лик, можно
увидеть один из ранних прототипов
рублевских образов.
Однако в середине XIV в. в Москве
создавались и другие произведения. В 1344 —
1346 гг. приглашенные митрополитом
греком Феогностом византийские художники и
их русские ученики расписали четыре новых
каменных храма в Московском Кремле.
Греки митрополита Феогноста принесли в
Москву новый палеологовский стиль,
который был усвоен работавшими с ними
русскими мастерами. Украшенные фресками
храмы не сохранились. Но дошедшие до
наших дней древнейшие иконы Успенского
собора — «Спас оплечный» и «Спас Ярое
око» — дают представление о стиле
живописи, творческом процессе его усвоения и
интерпретации московскими художниками40.
«Спас оплечный» был исполнен раньше
«Спаса Ярое око». В монументальных
линиях контура, в крупных
«архитектонических» формах лика, в сдержанной
внутренней духовной мощи проступают традиции
конца XIII в. Вместе с тем, в иконе много
и от достижений палеологовского
ренессанса. По мнению О. С. Поповой, «Спас
оплечный» очень близок образам из самого
215
Книга первая
значительного раннепалеологовского
комплекса — константинопольского монастыря
Хора (известен по турецкому
наименованию — мечеть Кахрие Джами),
украшенного в 1316 — 1321 гг. Главное в образе
Cnacat так же как и в произведениях
византийской «ренессансной» живописи начала
XIV в., — гармония прекрасного,
благородного внешнего облика и внутренней жизни,
достигнутая классической соразмерностью
всех художественных принципов и приемов
исполнения. Византийское и специфически
русское здесь так сложно взаимосвязано,
что с трудом поддается разграничению.
Исполнителем иконы был талантливый русский
ученик византийского художника. При этом
исследователи видят в иконе не только
типично русские «интонации образа»,
выразившиеся в большей, чем в византийских
произведениях, душевной открытости, во
внутреннем контакте образа и
предстоятеля, но и прямое предвосхищение идеалов
творчества Андрея Рублева.
«Спас Ярое око» исполнен также
русским мастером. По своим художественным
особенностям — усложненному рельефу
лика с морщинистым лбом и мускулистой
шеей, активному рисунку, напряженному,
сосредоточенному взгляду — икона похожа
на византийские произведения середины
XIV в. Однако московский Спас
запоминается прежде всего своим цельным,
обобщенным силуэтом, крупностью,
внушительностью образа. Но в его суровом облике не
ощущается грозной силы, диктующей воли,
как в творчестве новгородских художников.
Скорбный образ Спаса эмоционально
раскрыт, обращен к человеку, в его выражении
есть сочувствие, соучастие, сострадание.
При внешней строгости и простоте образ
исполнен глубокой духовности, душевной
теплоты, милосердия, доброго внимания. В
«Спасе Ярое око» как бы
сконцентрирована самая суть духовного строя образов
московской школы живописи, которая в конце
XIV в. проявится в двух главных
направлениях, условно называемых «экспрессивным»
и «созерцательным».
Рассмотренные произведения важны тем,
что в них отразились две главные
особенности московской живописи XIV в.:
следование традиции старых среднерусских
культурных центров, усвоение владимиро-суз-
дальского наследия и одновременно
активная творческая интерпретация новых
художественных достижений Византии.
Москва, будучи великокняжеским городом,
резиденцией русского митрополита, выступала
как наследница древнего Владимира и как
потенциальная столица всей Древней Руси.
Поэтому здесь всегда ориентировались на
духовную жизнь и культуру
Константинополя, в то время как, например, Новгороду
оказались ближе идеалы восточного
христианства, византийской периферии.
От 3-й четверти XIV в. произведений не
сохранилось. Вероятно, многие из них
погибли еще в 1382 г., когда Москва была
захвачена и сожжена Тохтамышем. В
конце XIVb., после победы над кочевниками на
Куликовом поле, во время относительно
стабильной политической и церковной жизни,
наступившей с приходом к власти сына
Дмитрия Ивановича (Донского) —
Василия Дмитриевича и митрополита Киприана,
начался самый значительный период в
истории московской школы живописи.
Неповторимое своеобразие московских
художественных творений последних
десятилетий XIV — начала XV в.
обусловлено особой духовной атмосферой,
своеобразной художественной средой, возникшей
тогда в Москве. Здесь работали приезжие
греческие и южнославянские мастера, местные
живописцы, получившие выучку в
московских мастерских, и художники из других
русских городов. Сюда привозились иконы,
рукописи и произведения прикладного
искусства из Константинополя, с Афона, из
Сербии и Болгарии. Здесь были известны
самые разные варианты палеологовского
стиля XIV в., как в греческих образцах, так
и в славянской интерпретации. Поэтому
каждый из сохранившихся от того времени
памятников уникален, имеет свои особые
оттенки в содержании, свою индивидуальную
манеру исполнения. В этой своеобразной
«византийско-русской» среде создавались
такие произведения, в которых национальная
(этническая), а также региональная
принадлежность мастера так стушевана,
растворена, благодаря «интернациональному»
языку палеологовского стиля, что не может быть
определена с достоверностью.
216
Глава 8
Московская школа живописи последней
четверти XIV в. представлена иконами и
миниатюрами. (Настенных росписей в
Москве XIV в. было не меньше, чем в
Новгороде, но ни одна из них не сохранилась.)
Традиционное различие иконы и книжной
миниатюры в конце XIV — начале XV в.
проявилось в том, что в миниатюрах шире
и отчетливее сказалось всё разнообразие
художественных направлений, обилие
вариантов палеологовского стиля, своеобразие
индивидуальных манер, артистизм
живописного исполнения, в то время как
специфически русские, московские черты еще не
составили сколько-нибудь определенного
единства. Икона, напротив, будучи
моленным образом, в большей степени, чем
миниатюра, связана с духовной жизнью,
является ее средоточием и самым ярким
выражением. Поэтому именно в иконе
воплотились национально-русские духовные
идеалы, поиски в раскрытии
духовно-нравственного совершенства, созерцательность
образа.
Поскольку нашей целью является
характеристика образно-эстетической специфики
московской живописи, выявление ее
национально-русских художественных
особенностей, остановимся только на произведениях
иконописи.
В последние десятилетия XIV в. в
Москве, как и в Новгороде, работал Феофан
Грек и, вероятно, другие приезжие
мастера, творчество которых оказало сильнейшее
влияние на исполнителей новгородских
фресок, московских икон и книжных миниатюр,
представляющих собою варианты так
называемого «экспрессивного» стиля. Эти
произведения (византийские и русские),
составляющие значительную группу, отличаются
напряженным внутренним строем,
активностью художественной структуры. В
эмоциональном выражении образов —
концентрация духовных сил в противовес мощной,
монументальной, пластически оформленной
телесности фигур, которая как бы
«дематериализуется» бликами резких вспышек
света, наполняется изнутри свечением,
Божественным сиянием. Фигуры и предметы в
одних произведениях деформированы,
экспрессивны; в других (особенно в тех,
которые исполнены столичными византийскими
мастерами и близко следовавшими им
русскими живописцами) — классически
красивы, величественны, образы святых
отличаются духовным интеллектуализмом и
тонкой эмоциональностью. Лучшие среди
них — иконы деисусного чина из
иконостаса Благовещенского собора в
Московском Кремле, созданные выдающимся
греческим художником. К этому направлению
относят также «Богоматерь Донскую» с
«Успением» на обороте (которое было
исполнено, вероятно, новгородским мастером),
а также «Преображение» из Переяславля-
Залесского (обе иконы хранятся в
Третьяковской галерее)41. Эти иконы многие
исследователи связывают с творчеством
Феофана Грека (или его мастерской), что
обусловлено их
«интернационально-византийским» строем образов и художественной
структурой. Русское сказалось здесь лишь
в чуть большей упрощенности технических
приемов исполнения, в смягченности
эмоционального выражения, в более открытом
обращении к молящемуся.
Деисусный чин Благовещенского собора
Московского Кремля был создан в конце
XIV в. для одного из московских или
подмосковных храмов42. Его автор — духовно
и художественно одаренный греческий
мастер, равный Феофану Греку. Не
исключено, что это работа самого Феофана,
исполнившего иконы Деисуса в иной,
отличающейся от его росписей в новгородской
церкви Преображения (1378 г.) живописной
манере. Деисусный чин состоит из девяти
фигур в рост. В центре — Спас
Вседержитель, восседающий на небесном престоле в
сиянии синих и ярко-красных сфер «славы».
Христу предстоят Богоматерь, Иоанн
Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил,
апостолы Петр и Павел, святители Иоанн
Златоуст и Василий Великий. К этому чину
принадлежат также две иконы святых
мучеников Георгия и Димитрия Солунского,
исполненные русскими мастерами.
Созданный талантливым греческим художником в
духовной атмосфере великокняжеской
Москвы, Благовещенский Деисус является
одним из самых выдающихся произведений
«византийско-русской» живописи конца
XIV в. В его иконографической программе,
сложившейся на основе византийских образ-
217
Книга первая
цов, в крупных размерах икон, в типах
ликов, их живописном исполнении и в
эмоциональном выражении органично соединились
в новое, уникальное художественное
единство высокое византийское искусство и его
местная интерпретация, обусловленная
особым духовным климатом, характером
заказа, а также личной творческой
одаренностью мастера.
Благородный лик Спаса, отличающийся
непревзойденным мастерством исполнения,
с некрупными, приближенными к
человеческому лицу чертами и
созерцательно-самоуглубленным выражением, является одним
из ближайших прототипов звенигородского
Спаса Андрея Рублева. Тип лика апостола
Петра с его «изломанным» профилем и
нависающей надо лбом шапкой волос, с
добрым, задумчиво-грустным выражением,
душевной мягкостью эмоционального строя
стал излюбленным в искусстве русских
мастеров начала XV в. Деисус
Благовещенского собора в равной степени принадлежит
истории византийского и русского
искусства, не имея прямых аналогий ни в том, ни
в другом, но являясь самым ярким
памятником «интернационального» палеологов-
ского искусства Москвы конца XIV в.
Лик «Богоматери Донской»43 очень
близок лику Богоматери из Благовещенского
Деисуса. И. Э. Грабарь и многие другие
исследователи относили оба произведения к
творчеству одного и того же мастера —
Феофана Грека. Однако сравнение двух
образов показывает не только "их близость,
но и различия. Если изображение из
Деисуса может быть названо самым
совершенным живописным произведением конца
XIV в., в котором с исключительным,
вдохновенным мастерством воплотились
эстетические качества искусства палеологовского
«ренессанса» с его обращением к
«иллюзионистической» свободе раннехристианских
образов, то икона «Донской Богоматери» —
это идеальный моленный образ, основанный
на тех же образцах, но полный глубокой
созерцательности, тихой печали и
материнского сострадания, исполненный деликатно
утонченными живописными средствами. По
своему художественному качеству и
глубине духовного содержания оба образа равны
и не сопоставимы с какими-либо другими
произведениями. Поэтому кажется
возможным видеть в них руку одного и того же
талантливого «византийско-русского»
художника, создававшего свои уникальные
произведения в «интернациональной»
художественной среде — насыщенной высокими
духовными идеалами атмосфере
великокняжеской Москвы конца XIV в.
Художественный идеал, представленный
в произведениях «экспрессивного» стиля,
получил распространение во всех
православных странах, однако он не стал
определяющим, ибо в нем раскрывалась лишь
первая ступень духовного
совершенствования — скорбный, наполненный борьбой со
страстями земной путь к Царствию
Небесному. В поздневизантийской и особенно
русской духовной культуре в конце XIV —
начале XV в. на новом качественном
уровне возродились (вернее сказать, были
обновлены) именно те извечные идеалы,
которые наглядно показывали тот конечный
результат, к которому стремился человек:
обретенную гармонию внутренней жизни и
ее внешнего проявления, душевное
равновесие, углубленную созерцательную
сосредоточенность на идеально-возвышенном,
духовную радость и красоту преображенной
материи.
В каждом этническом регионе
византийского мира этот идеал имел свои
эмоциональные оттенки и особенности в
воплощавшей его художественной структуре.
Возникшие на его основе художественные образы
отличаются большой утонченностью,
созерцательностью, поэтической
одухотворенностью, хрупкой красотой пластических
форм.
Московские иконы конца XIV —
начала XV в. показывают удивительное
многообразие оттенков духовного содержания и
художественных особенностей
созерцательного образа. Такие иконы, как «Иоанн
Предтеча Ангел пустыни, с житием» из
Третьяковской галереи44, очень близки к
византийским произведениям и по
художественным принципам исполнения, и по
акцентам духовного содержания. Изысканный
силуэт Иоанна Предтечи с тонкими
руками, хрупкой фигурой и мощными
приподнятыми крыльями, сложная рельефная
трактовка складок, деликатное письмо лика,
218
Глава 8
мягко вылепленного мелкими мазками
прозрачных охр по зеленоватому санкирю, ярко-
красные, красиво очерченные губы и
красная опись носа, рафинированный холодный
колорит, строящийся на сочетании умбрис-
то-зеленых и сине-голубых — всё это
соответствует нормам поздневизантийской
живописи. По своему внутреннему строю
образ Иоанна Предтечи может быть
отнесен к самым глубоким и многогранным
воплощениям в московской живописи тех
духовных и нравственных идеалов, которые
формировались на рубеже XIV — XV вв. В
этом иконном образе запечатлен высокий
византийский духовный интеллектуализм и
аристократическое благородство,
идеальность помыслов и скорбное размышление,
внутренняя сдержанность и созерцательная
сосредоточенность, скрытый драматизм и
светлая грусть. Созерцательный строй
образа сочетается здесь с чертами
«экспрессивного» направления. По характеру
духовной наполненности и деликатной манере
письма икону «Иоанн Предтеча» можно
сравнить с «Богоматерью Донской».
Свидетельством того, что она принадлежит
русской (московской), а не византийской
живописи является некоторая упрощенность
трактовки объема, графичность складок,
«размытость» красочной рельефной лепки,
меньшая конструктивность в построении
форм. При всей византийской строгости и
интеллектуализме в образе Иоанна
Предтечи улавливаются этнически-русские черты
эмоционального склада: мягкость,
участливость, сострадание, которые, однако, еще не
стали определяющими.
Среди сохранившихся произведений
московской школы живописи рубежа XIV —
XV вв. монументальная храмовая икона
Архангельского собора Московского
Кремля «Архангел Михаил, с деянием»45
занимает исключительное место, ибо является
«программным» памятником эпохи.
Особенности иконографии и художественного
исполнения иконы (трактовка композиции и
форм в соответствии с принципами
константинопольского «неоклассицизма»)
указывают на близкое знакомство с византийской
живописью XIV в. Однако аналогий и
прямых прототипов этой иконы в византийском
искусстве не обнаружено. В основе
сюжетной программы произведения лежит
литературный источник, творчески
интерпретированный талантливым живописцем.
Возможно, прототипом иконы была византийская
лицевая рукопись. При всем том очевидно,
что прекрасная константинопольская
выучка и широкая богословская эрудиция мастера
кремлевского памятника использованы для
создания произведения, целиком
связанного с русской, московской культурой.
Идейное содержание иконы многогранно,
многоаспектно, включает в себя весь круг
ассоциаций, относящихся к образу архангела
Михаила как действенного устроителя
мирового порядка, активно вмешивающегося в
события всемирной истории, охранителя
Рая, предводителя небесных сил, заступника
христиан. В контексте русской истории
XIV в. архангел Михаил воспринимался как
покровитель русских князей и их воинства;
защитник всех православных русских людей
и «богоизбранной» Руси от иноверных
захватчиков и внешних врагов.
Предназначение иконы для великокняжеской
резиденции, для храма-усыпальницы московских
князей, где среди погребенных покоились
Иван Калита и его внук — герой
Мамаева побоища Дмитрий Иванович Донской
(умер в 1389 г.), должно было внести в этот
образ архангела Михаила особые оттенки
содержания, поставить его «деяния» в
ассоциативную связь с событиями русской
истории.
Архангел Михаил изображен как
грозный страж и защитник. Его крепкая,
пластически вылепленная, рельефная фигура
исполнена духовной силы и телесной мощи.
Широко распростертые крылья и
развевающийся за спиной красный плащ четко
вырисовываются на золотом фоне, украшенном
вьющимся растительным орнаментом
(резьба по левкасу), символизирующим райский
сад. Нимб также орнаментирован цветочно-
растительным резным узором. В облике
архангела — царственное величие,
решительность, действенность, готовность к
подвигу: в напряженно согнутой руке —
поднятый вверх обнаженный меч, в другой
руке — опущенные ножны. Средник окружен
восемнадцатью клеймами, изображающими
различные «деяния» архангела Михаила.
Композиции клейм динамичны, простран-
219
Книга первая
ственны, наполнены экспрессивными,
пластически трактованными
«эллинизированными» архитектурными кулисами,
рельефными горками.
Художественная структура произведения
столь же сложна и «многослойна», как и его
идейное содержание. Эллинистические
реминисценции константинопольского
классицизма, живописная маэстрия сверкающих
красочных переливов цвета и рельефная
пластическая трактовка фигур, свойственные
позднепалеологовскому стилю, оживляют,
эстетизируют древнюю
монументально-эпическую художественную основу образа,
восходящую едва ли не к киевским мозаикам.
В мощной, крепко стоящей «на земле»
фигуре архангела Михаила, в сложном
ракурсном развороте его торса и
энергично-напряженном повороте головы, в огромных
поднятых и разведенных крыльях с
беспокойными очертаниями перьев, в звучных,
тревожных сочетаниях зеленых и сине-голубых
доспехов, ярко-красного плаща и темных
коричневых крыльев с голубоватыми
подкрыльями многое напоминает образы из
византийских (балканских) росписей XIV в.,
но в то же время улавливается что-то и от
красочности, царственности облика
архангела Михаила на ярославской иконе (около
1300 г.)46, и от монументальных образов
архангелов из росписи Феофана Грека в
церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде
(1378 г.). Состав красочных пигментов в
визуально близких цветах по своему
многообразию напоминает технику византийских
живописцев. Вместе с тем, большие
плоскости ярко-красного и сине-зеленого,
мягкое, нежное письмо ликов тонкими плавя-
ми с легкой подрумянкой связывают это
произведение с московской живописью
начала XV в.
Конечно, не все художники, работавшие
в различных мастерских Москвы и
удельных княжеств, были так хорошо знакомы с
византийской живописью XIV в., как
авторы рассмотренных произведений.
Существует ряд памятников, основанных целиком на
местной культурной традиции, архаических,
упрощенных, почти «народных» по
художественному решению, но в отличие от
новгородских «фольклорных» икон вполне
современных по интонациям духовного
содержания и эмоционального художественного
строя.
Такова храмовая икона церкви Святых
Бориса и Глеба в Коломне — «Борис и
Глеб, с житием» из Третьяковской
галереи47. Художественное решение
произведения очень архаично: плоскостное построение
композиции и столь же плоскостная
трактовка очерченных угловатыми линиями
фигур с «неклассическими» пропорциями,
раскрашенных локальными цветами жидких
красок (зеленый и красный цвета одежд
Бориса и Глеба в среднике не
первоначальны, в клеймах есть поздние прописи).
Основываясь на этих признаках, икону
датировали началом — 1-й половиной XIV в.
Однако, как отметила Э. С. Смирнова,
тонкость, «прозрачность» композиционного
рисунка и живописного исполнения,
размеренность движений и жестов,
лирически-созерцательное настроение персонажей в
житийных сценах и, главное, содержание
образов в среднике — внешне хрупких,
бесплотных, внутренне просветленных,
эмоционально открытых и
возвышенно-благородных — указывают на рубеж XIV —
XV вв. В иконе «Святые Борис и Глеб»,
так же, как в образах другой
«архаизирующей» иконы — «Святые Николай и
Георгий» из Гуслицкого монастыря в
Московской области, находящейся в Русском
музее48, запечатлен нравственный идеал
московской художественной культуры,
явившийся поэтическим выражением таких
высокоценимых в московской духовной
среде (и воплощенных в жизни основателем
Троице-Сергиева монастыря преподобным
Сергием Радонежским) достоинств и
внутренних качеств, как преданность и верность
делу Христову, непоколебимость и
твердость духа, достигаемых неустанной
борьбой со «страстями», душевная чистота,
тихость, кротость поведения, бескорыстие,
отзывчивость и нелицемерная любовь к
людям.
Таким образом, московская школа
живописи XIV в. предстает как выдающееся
явление русской художественной культуры,
наиболее полно отразившее духовные
идеалы, нравственные представления и
эстетические нормы формирующейся общерусской
культуры.
220
Глава 8
ЖИВОПИСЬ МОСКВЫ XV ВЕКА.
АНДРЕЙ РУБЛЕВ И ДИОНИСИЙ
Пятнадцатый век знаменует собой
наивысший расцвет древнерусского искусства.
Многие произведения русской
средневековой живописи, вошедшие в сокровищницу
мировых шедевров, были созданы в этом
столетии. Русская культура XIV в. не
мыслима без новгородских росписей и икон, в
которых нашли отражение важнейшие
тенденции духовной жизни того времени.
Основные достижения русской культуры
XV столетия связаны с Москвой, с
именами двух выдающихся художников —
Андрея Рублева и Дионисия. Подспудные
стремления к наиболее совершенному
воплощению сформировавшихся в Москве к
концу XIV в. духовных, нравственных и
эстетических идеалов, сказавшиеся в
настойчивых, бурных и нередко противоречивых
поисках новых художественных средств, в
разнообразии стилистических направлений и
тенденций, на рубеже двух веков увенчались
явлением гения Андрея Рублева. Его
творчество запечатлело одну из самых великих
эпох в истории нашего Отечества, явилось
своеобразной концентрацией созданных
тогда непреходящих духовных ценностей,
питавших русскую культуру на протяжении
последующих столетий. Духовный строй
рублевских образов и новая живописная
система их воплощения оказали влияние на
развитие московского искусства XV в.,
нашли отклик в творчестве мастеров из
других культурных центров. В середине
XV в. родился другой крупнейший
художник этого времени — Дионисий. Его
незаурядное дарование открыло и донесло до нас
иные аспекты национального идеала,
определившиеся к концу столетия. Этические
нормы и художественные идеи эпохи
Андрея Рублева были глубоко усвоены и
творчески интерпретированы Дионисием,
искусство которого выросло уже на иной
исторической почве и воплотилось в изысканно-
рафинированных образах, созвучных
мироощущению, настроениям и вкусам русских
людей последних десятилетий XV столетия.
Год рождения Андрея Рублева
неизвестен. Считается, что он родился около 1360
или 1370 г. Рублев постригся в монахи
(возможно, уже в зрелом возрасте) и был
тесно связан с жизнью двух подмосковных
монастырей — Спасо-Андроникова и Трои-
це-Сергиева. В летописях начала XV в. имя
Андрея Рублева встречается дважды: в
1405 г. он вместе с Феофаном Греком и
«старцем» Прохором с Городца расписывал
придворную церковь Благовещения в
Московском Кремле (фрески не сохранились:
ныне существующее здание церкви было
построено в 1495 — 1498 гг.), а в 1408 г.
вместе с Даниилом — Успенский собор
XII в. во Владимире49. Согласно
сведениям «Сказания о преложении мощей
Сергия», составленного на основе «Жития
Сергия» и «Жития Никона», преемника
Сергия, Андрей Рублев украшал Троицкий
собор Троице-Сергиевой лавры,
построенный в 1423 — 1424 гг. Полагают, что в
конце своей жизни Рублев принимал
участие в росписи Спасского собора
Спасо-Андроникова монастыря, где он умер в 1427
или 1430 г.
С именем Андрея Рублева50 и его
«школой» связывают много произведений, но
среди них выделяются три памятника,
признанные всеми исследователями бесспорно
рублевскими. Это уже упомянутые фрески
Успенского собора во Владимире 1408 г.,
икона «Ветхозаветная Троица» из
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и
Звенигородский чин. К творчеству Андрея
Рублева относят также, особенно в
последнее время, миниатюры Евангелия
Хитрово и росписи Успенского собора на
Городке в Звенигороде. Можно согласиться с
исследователями, по мнению которых
критерии искусства Андрея Рублева еще не
выработаны, что для выявления его творений
среди других произведений требуются
особые подходы и методы. Однако именно
этим памятникам присуща такая
совокупность художественных принципов,
качеств и особенностей, которой нет ни в
одном другом приписываемом Рублеву
произведении. Они представляют разные виды и
техники живописи — монументальные
настенные росписи, иконы и книжные
миниатюры, но их сближает между собой и
выделяет среди всех других ныне известных
произведений начала XV в. глубокая оду-
221
Книга первая
хотворенность интеллектуальных и
одновременно созерцательных, доверительно
открытых миру благородных образов, высочайшее
качество исполнения, проявляющееся в
ритмическом совершенстве композиций,
богословской осмысленности живописных
приемов, изысканности цветовой гаммы
драгоценных, сияющих красок, гармонии плавных,
упругих линий безупречного рисунка,
соединенного с пластично трактованными
крупными формами, а также не имеющее
аналогий особое, чисто рублевское сочетание
реального и абстрактного — портретности
образов и их идеальной обобщенности,
типичности. Миниатюры Евангелия Хитрово
и росписи Успенского собора на Городке
требуют дополнительных исследований;
последние к тому же дошли в плохом и
очень фрагментарном состоянии; поэтому в
настоящем очерке эти произведения не
рассматриваются.
Фрески Успенского собора во
Владимире были исполнены Андреем Рублевым
совместно с иконописцем Даниилом. Древний
владимирский храм был уже дважды
украшен фресками — в 1161 и 1189 гг. К
началу XV в. старые росписи сильно
обветшали. Новая «подпись» была предпринята
заботами великого московского князя Василия,
сына Дмитрия Донского. Даниил и Андрей
учитывали и, вероятно, в чем-то следовали
системе древней росписи собора; отдельные,
хорошо сохранившиеся фрески они включили
в новую роспись. От стенописи 1408 г.
остались немногочисленные композиции и
фрагменты (большая часть росписей
собора погибла). В западной части, под хорами,
на сводах, стенах, арках и столбах
центрального и бокового южного нефов (фрески в
северном нефе не сохранились) находятся
сцены «Страшного Суда». На своде
центрального нефа в ореоле «славы»
представлен Христос Вседержитель. Под ним, на
лобовой стене свода (в люнете над
западной аркой), изображен «Уготованный
престол с орудиями страстей» («Етимасия»),
которому предстоят в молении Богоматерь
и Иоанн Предтеча, а на переднем плане, у
престола — коленопреклоненные
прародители Адам и Ева. Богоматерь и Иоанн
Предтеча возглавляют ряды сидящих с
раскрытыми книгами апостолов и стоящих за
ними ангелов. На плоскости люнеты, по ее
краям, — апостолы Петр и Павел, за ними,
уже на сводах нефа — фигуры десяти
апостолов (по пять на каждом своде) и сонмы
ангелов.
На том же своде, на его восточном
конце, два летящих ангела в развевающихся
одеждах свивают небо в свиток. В замке
восточной арки, на которой изображены
последние в ряду фигуры апостолов и
ангелов, — символы четырех царств
(Римского, Македонского, Вавилонского,
Антихристова): четыре фантастических зверя с
гибкими телами, виртуозно вписанными в круг
(медальон). В замке арки западной —
аналогичный медальон с «Душами праведных
в руке Божией» (души представлены в виде
спеленутых младенцев). С этим символом
райского блаженства были связаны
надежды и чаяния входивших в собор людей.
Медальоны на восточной и западной арках
расположены на одной оси с ореолом
Христа Вседержителя на своде. На склонах
западной арки — трубящие архангелы,
возвещающие о Втором Пришествии и конце
мира. Под изображениями апостолов
южного склона, на участке стены, прорезанной
аркой, ведущей из центрального нефа в
южный, — «Земля и море отдают своих
мертвецов» (почти полностью утрачена). На
другой, северной, стене фреска не
сохранилась (здесь было, видимо, изображение
Ада — «Геенны огненной»). На северном
столбе под хорами, на его южной стороне,
обращенной внутрь подхорного
пространства, — «Ангел с пророком Даниилом»
(композиция сохранилась не полностью). На
южном столбе, на его северной стороне, —
«Лик праведных жен». Ему соответствует
«Лик праведных мужей», представленных
на склонах арки, ведущей из центрального
нефа в южный. Вся роспись центрального
нефа, как и других частей собора,
отличается соответствием композиций друг другу
и системе росписи в целом. Реальное
пространство храма с его разнообразными
пространственными ячейками и
криволинейными поверхностями сливается с пространством
изобразительным, превращаясь в
сакральную одухотворенную среду, создаваемую
стенописью.
В южном боковом нефе представлены
222
Глава 8
сцены Рая: на своде — «Шествие
праведных в Рай»; «Праотцы и души праведных
в Раю»; на западной люнете —«Райские
врата и Благоразумный разбойник в Раю»;
на восточной люнете — «Богоматерь на
престоле с поклоняющимися ангелами»; на
склонах восточной арки — «Святой Савва
Освященный» и «Святой Макарий
Великий»; на склонах южной арки — «Святой
Макарий Египетский» и «Святой
Онуфрий».
В восточной части храма, на северной
стене жертвенника, остались следующие
изображения: «Благовестие Захарии»,
«Уход младенца Иоанна Предтечи в
пустыню» (фрагменты фигур, архитектурных
кулис, деревья; хорошо сохранились одежды
ангела, фигура младенца Иоанна, горки);
верхние части фигур двух неизвестных
молодых святителей. На западной стороне юго-
восточного столба, в медальоне, полуфигура
мученика Зосимы (закрыта иконостасом
XVIII в.). На северной стороне южного
подкупольного столба — фрагмент
изображения святого воина в доспехах (открыт при
реставрации 1974 — 1979 гг.)51.
Изучая росписи Успенского собора,
следует помнить о совместной работе
Даниила и Андрея. Имя Даниила летописец
поставил на первом месте. Это, вероятно,
означает, что в начале XV в. Даниил был
более известным художником, старшим по
возрасту. Видимо, оба названных в летописи
мастера являлись «знаменщиками» артели,
возглавляемой старшим из них —
Даниилом. Поэтому замысел всей росписи в
целом, расположение композиций, духовные и
художественные идеи и идеалы,
воплощенные в сохранившихся фресках, являются
общим достоянием творчества Даниила и
Андрея.
Распределение сохранившихся росписей
между двумя мастерами впервые было
сделано И. Э. Грабарем52 и впоследствии
принято большинством историков искусства. В
целом оно представляется убедительным.
Вместе с тем, авторство некоторых образов
и сцен остается не выясненным. Не
исключено, что в исполнении отдельных
композиций и изображений участвовали оба
художника. Однако росписи центрального нефа,
где представлены сцены «Страшного Суда»,
все исследователи относят к кисти Андрея
Рублева. Индивидуальные черты его стиля
выражены здесь ясно и последовательно,
они прослеживаются на всех уровнях
создания художественного образа, несмотря на
плохую сохранность живописи53.
Первоначально колорит был многоцветным, ярким,
светоносным, построенным на чистых,
интенсивных и насыщенных по цвету
прозрачных красках — синих, голубых, зеленых,
лиловых, золотисто-охристых, серебристо-
розовых, вишневых и красно-коричневых.
Ныне исчез лазурно-синий цвет фонов
(осталась только серая краска нижнего слоя —
рефть), золотистые охры превратились в
серые, грязные цвета. Оказались
утраченными главные художественные качества
фресок — мягкая, «бархатистая» фактур-
ность сияющей живописной поверхности,
«светящаясь плавь» ликов, «невесомая
материальность» сверкающих переливами
цветных рефлексов одежд. Контуры многих
фигур и ликов сейчас усилены, что создает
впечатление излишней графичности, резкой
очерченности, сухости (особенно в
центральном нефе). Первоначально внешних
контуров практически не было: одежды
соприкасались с фоном мягко, широкими
живописными притенениями, подобно тому, как это
можно видеть в иконах Звенигородского
чина и в миниатюрах Евангелия Хитрово.
Один из главных принципов искусства
Рублева — гармоническое соотношение
общего и частного, их соподчинение и
взаимосвязь. При этом частное (будь то
отдельная композиция, фигура или лик) всегда
воспринимается как завершенная часть целого,
способная выразить всю его полноту и
совершенство. Система росписи существует в
неразрывном органическом единстве с
архитектурой храма, с каждой его
пространственной ячейкой. Смысловой и
композиционный центр росписи среднего нефа —
изображенный в зените свода образ
Христа Вседержителя в золотистых одеждах,
восседающего в сине-голубых сферах
сияния, которое окружает кольцо огненных
серафимов. Ореол со Вседержителем,
правой рукой указывающим путь праведникам
вверх, на небо, а левой — путь грешникам
вниз, в преисподнюю, воспринимается как
средоточие Вселенной. Здесь начинается и
223
Книга первая
концентрируется круговой ритм,
объединяющий все уровни композиционного
построения: отдельные фигуры соединяются в
группы, группы — в сцены, сливающиеся
в единую систему росписи, удерживаемую
в гармоническом равновесии, плавном
ритмичном движении идеальной формой
доминирующего круга.
В каждой композиции тот же принцип
взаимосвязи отдельных элементов,
бесчисленные вариации асимметрических повторов
(излюбленный композиционный прием
Рублева) в границах строго уравновешенной и
симметричной схемы. Плавные,
круглящиеся линии создают силуэты, очень похожие
в основных очертаниях, но отличающиеся
изгибами контуров, рисунком складок,
жестами рук, поворотами голов. Каждый
образ святого или ангела самоценен, но эти
качества не приводят к замкнутости и
изолированности фигур. Апостолы сидят на
одной общей скамье, а не в креслах (так в
росписи Димитриевского собора XII в.), их
склоненные головы, ритм спадающих
драпировок, легкое соприкосновение тканей
одежд объединяют их в группы и в единый
ряд.
Градации пространственных планов
служат выражению идеи, пронизывающей всю
роспись храма: созданию высшего единения,
имеющего свои законы бытия. Ангел,
стоящий за скамьей между апостолами
Матфеем и Лукой, представлен так, что ладонь его
руки частично закрывает нимб Матфея:
ангел как бы обращается к нему с вопросом.
Справа от Луки полу фигуры нежно
склоняющихся друг к другу ангелов с
характерными жестами раскрытых перед грудью
ладоней (знак приятия благодати, покорности и
служения) образуют композиции,
воспринимающиеся то как Святая Троица, то как
Деисус. Такие симметричные трехчастные
деления, несущие идею деисусного предсто-
яния, взаимного согласия и любви,
объединяющие апостолов и ангелов, нарушающие
иерархию рядов, наполняют роспись
северного склона.
Еще одна особенность рублевских
композиций: линейным ритмом,
асимметричными повторами сходных форм создается
гармоническая согласованность силуэтов и
рисунка свободных участков фона между
ними, что усиливает впечатление легкости и
вознесенности монументальных
изображений. Фигуры теряют реальную тяжесть,
окутывающие их ткани — материальную
фактурность. Так возникает богословски
осмысленное и художественно представленное
пространство, передающее образ того
преображенного мира, в котором пребывают
ангелы и святые.
Рисунок у Рублева безупречен. Его
длинным гибким линиям свойственна особая
упругость и внутренняя сила, выявляющая
структурность и архитектоничность
создаваемых им форм. Для рублевских силуэтов
характерны красивые изгибы линий,
обрисовывающих крепкие «точеные» шеи,
волнообразные очертания покатых плеч и
закрытых тканями рук, чистота округлых
абрисов голов и овалов юных ликов. В
описях складок преобладают широкие дуги,
сочетающиеся с геометрически четкими
прямыми линиями. Складки спадающих тканей,
образующие характерные для палеологов-
ского искусства «ласточкины хвосты»,
приобретают кристаллическую ясность
пересекающихся под острыми углами линий,
наполняясь тем редкостным по
выразительности ритмом, который справедливо
сравнивают с музыкальным. Рублевским
линиям присуща удивительная точность.
Поэтому складки тканей, облегающих
фигуры, кажутся столь естественными и
простыми, выявляющими совершенные формы
тела.
В изображениях центрального нефа
доминирует пронизанная светом золотистая
охра и излучающая сияние небесно-голубая
краска. Эти символизирующие
Божественный свет цвета концентрируются в образе
Христа в зените свода, отражаясь в других
композициях нефа. Светлой охрой с ярким
золотистым ассистом и легкими
белильными высветлениями окрашены широкие
плоскости скамьи и подножия. Охряно-желтые
краски разных оттенков используются в
одеждах и крыльях ангелов. Золотистые
диски нимбов образуют плотные ряды на
сводах, вспыхивают на арках, стенах и
столбах, объединяя своими формами, светонос-
ностью и ритмом всю роспись нефа.
Лазурная синева фонов отражается в
многочисленных тонально-цветовых градациях синих и
224
Глава 8
голубых одежд апостолов и ангелов на
склонах свода, тонко гармонируя с
нежнейшими оттенками зеленых и лиловых цветов. Из
этих сочетаний возникает холодная,
кристально чистая переливчатая красочная
гамма. Оттенки охряно-умбристых и розово-
коричневых цветов в обрезах книг, одеждах
и прическах апостолов и ангелов на своде
образуют постепенный переход от теплых
охр к насыщенным коричнево-вишневым
краскам в изображении «Етимасии» в
люнете западной арки.
В основе палитры Рублева — те же
сочетания холодных синих, лиловых и зеленых,
что и в лучших образцах палеологовского
искусства Византии. Но у Рублева они
приобретают новое качество: легкость и
прозрачность, особую чистоту и мягкое сияние,
что отличает его колорит от более
насыщенной и глубокой по цвету красочности
византийской живописи. Характерные для
византийских памятников темные лазурно-синие
Рублев превратил в более светлые и
прозрачные сине-голубые цвета. Подобно
греческим живописцам он избегал больших
локальных пятен чистой киновари, заменяя ее
оттенками кирпично-коричневых, розово-
красных, бархатисто-вишневых, но активно
применял ее яркий огненный цвет в деталях.
Киноварь окрашивала крылья херувимов в
ореоле «славы» Христа Вседержителя,
описи нимбов, жезлы ангелов, разгранки
композиций, оттеняя изысканную красоту
холодной нежной гаммы красок.
Светоносность цвета — одно из
важнейших качеств рублевских росписей 1408 г.
В трактовке одежд почти совсем нет теней,
лишь широкие живописные линии,
выявляющие складки и обрисовывающие контуры,
насыщенные по цвету, но сохраняющие свою
чистоту и звучность. Света, напротив,
обильны. Многослойные пробела создают
рельеф одежд, придают фигурам легкую
объемность и своеобразную невесомую
телесность. Столь же лучезарны исполненные
охрами лики, также лишенные теней.
Округлость, пластика ликов передается не
контрастами охр и санкиря, светов и теней, а их
мягким сопоставлением, упругими линиями
описей, точными, уверенно положенными
белильными штрихами на скулах, носах,
надбровных дугах. Некоторые ангельские
лики из второго и третьего рядов написаны
вообще без санкиря, непосредственно по
белой штукатурке, что усиливает
светоносность образов, а переход от ликов к фону
становится еще более легким и незаметным.
Во фресках центрального нефа круг и
круговой ритм являются главными
элементами духовно осмысленного структурного
строя не только композиций, но и
отдельных образов. Все круглящиеся линии
стремятся к этой идеальной форме. Головы
старцев, средовеков и юношей, помещенные
строго в центре крупных нимбов,
обрисованы единой округлой, почти циркульной
линией. Рублев нашел то неповторимое
соотношение земного и небесного (реального и
сакрального в трактовке изображений),
благодаря которому был достигнут идеальный
синтез двух исконных начал византийского
образа: конкретной исторической
достоверности и символической обобщенности. По
своеобразно выраженному, но очень верному
по сути наблюдению М. В. Алпатова,
«искусство Рублева проникнуто стремлением
эстетику чувства слить с эстетикой чисел,
красоту свободно льющегося ритма с
красотой правильного геометрического тела, это
составляет основу его метода»54.
В изображениях апостолов и ангелов из
«Страшного Суда» отчетливо проявляется
восходящая в своих истоках к высокой
греческой классике эллинистическая основа
искусства Рублева, усвоенная им
благодаря классическим палеологовским образцам.
Созданные Андреем Рублевым образы
величественных, задумчивых старцев,
облаченных в широкие античные одежды, по
своим классически правильным пропорциям и
чертам ликов вызывают в памяти самые
совершенные создания древних
средиземноморских культур.
В образах ангелов запечатлены
тончайшие градации просветленного чувства,
взаимной любви и согласия, служения и
сопереживания. Из всего разнообразия
ангельских ликов выделяются два типа. Один из
них — с классически правильными
чертами. В другом — детская припухлость щек,
носы короткие, губы маленькие, глаза
поставлены то близко к переносице, то,
напротив, широко расставлены. Но именно эти
земные неправильности, смело введенные
225
Книга первая
Рублевым в идеальные по своей неземной
природе ангельские образы, придают им
особую характерность, живую
непосредственность и теплую сердечность
выражения.
Среди изображений «классического» типа
особое место занимают архангелы,
возвещающие трубным гласом о Втором
Пришествии. В их красивых ликах и стройных
фигурах так много сложных ракурсов и
градаций планов, что при всматривании в эти
высокохудожественные образы
древнерусского живописца невольно вспоминаются
величайшие достижения мирового
искусства. Помещая изображения Божественных
посланцев, созывающих человечество на
праведный Суд, на склонах арки, через
которую верующие входили внутрь
центрального нефа, Рублев как бы предлагал им
предвкусить здесь, на земле, в стенах
храма, ожидающее праведников райское
блаженство.
Сцены «Страшного Суда» в Успенском
соборе ясно показывают, что на творчество
Андрея Рублева оказало влияние то
направление православного богословия, которое во
второй половине XIV в. получило широкое
распространение в Византии и славянских
странах — исихазм. Главным его
представителем на Руси был преподобный Сергий
Радонежский, имевший множество учеников
и единомышленников. К ним, вероятно,
принадлежал и Андрей Рублев, о чем
свидетельствуют созданные им образы.
Духовная атмосфера, в которой жил
Андрей Рублев, видимо, была насыщена
идеями созерцательного исихастского
богословия, идеалами праведной жизни и
внутренней чистоты, ведущими к спасению и
преображению Божественной благодатью. Не
случайно тихие, кроткие образы из
«Страшного Суда» вызывают ассоциации с
мыслями и «Словами» Нила Синайского,
Симеона Нового Богослова и других Отцов
Церкви, сочинения которых активно
переписывались и читались в XIV — XV вв. Так,
ценнейшим качеством человека Нил
Синайский считал совесть — «вечный дар
Творца», «внутреннее, невольное влечение к
добру», сближающее всех людей. Цель
человеческой жизни — развить в себе твердую
волю и следовать своей совести (это —
условие и залог спасения)55. Для понимания
образов из «Страшного Суда» следует
вспомнить также «Слово» Симеона
Нового Богослова «О страшном дне Господнем».
Изображенные Рублевым люди — это
праведники, «духоносцы, чада света и сыны
будущего дня», а для них «никогда не
придет день Господен, потому что они всегда
с ним и в нем находятся»; для праведников
это будет день, когда Иисус Христос
«воссияет сиянием Божества и блистанием
Владычным»36. «Духоносцы, — говорит
Симеон Новый Богослов, — имеют житие свое
на небесах, сделавшися из людей более
ангелами, а не имеющие Духа сидят еще во
тьме прародительской и сени смерти,
прикованные к земле и земному»57. Достигнув
«смиренномудрия души», человек
изменяется так, что «бывает земным ангелом; телом
сообращается он с людьми в мире сем, а
духом ходит на небесах и сообращается с
ангелами...»58.
Близкие по своей сути высказывания
встречаются и у исихастов XIV в.:
«Отрешившись от помыслов суетных и отвергнув
все ради любви к Богу, душа, как бы
сделавшись нечувствительной и безгласной,
предстоит Богу и наслаждается небесным
покоем, так как ничто внешнее не стучит в
дверь ее; но Божественная благодать,
внутри ее заключенная, преобразовывает ее в
лучшее состояние, освещает ее
неизреченным светом и усовершает внутреннего
человека <...> удостоившись такого света, ум и
сопряженному с ним телу передает многие
свидетельства Божественной красоты,
примиряя Божественную благодать и дебелость
плоти и делая последнюю способной к
восприятию невозможного»59.
Изобразительной параллелью
приведенным выше словесным образам являются
праведные жены, мужи, апостолы и ангелы из
центрального нефа Успенского собора.
Здесь главным является объединяющий их
особый душевный настрой: они созерцают
открывшееся им светлое видение,
прислушиваются к звучащему в них Божественному
голосу. Их образы наполнены
преобразившим и внутренний мир, и телесные формы
светом небесной благодати, сообщившим
материи новые качества — невесомость и
прозрачность.
226
Глава 8
Дошедшая до наших дней в иконостасе
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры
икона «Святая Ветхозаветная Троица»
является одним из самых достоверных
произведений Андрея Рублева. По мнению
М. В. Алпатова, именно «Троица» должна
стать критерием подлинности, занять
центральное место внутри тех
«концентрических кругов», в которых следует расположить
приписываемые Андрею Рублеву
произведения60. Несмотря на новую, не связанную
с именем Андрея Рублева, версию
происхождения знаменитой иконы61, его авторство
остается неопровержимым, ибо ближайшие
прямые аналогии «Троицы» —
изображения из «Страшного Суда» в центральном
нефе Успенского собора. К сожалению,
живопись иконы имеет большие утраты и
искажения62. Однако и при таком состоянии
сохранности ясно ощущается близость
«Троицы» к рублевским композициям из
стенописей 1408 г. Уверенное движение
одной и той же талантливой руки видно в
силуэтах, очертаниях складок, в плавных,
гибких линиях покатых плеч, в ритме
склоненных голов, в особой «графической
пластичности» широких, обобщенных контуров,
в мягкой, живописной рельефности
монументальных фигур. В композиционном
построении «Троицы», в ее круговом ритме,
в сияющей, переливчатой гамме
небесно-синих, светло-зеленых, лиловых, бархатисто-
коричневых и золотисто-охристых красок
как будто отобрано всё самое лучшее и
совершенное из росписей Успенского собора
во Владимире. Поэтому датировка
«Троицы» 1410-ми гг. представляется наиболее
убедительной. Сходство этой иконы с
изображениями из «Страшного Суда» (в
духовном содержании, стиле, индивидуальной
манере исполнения, колористической гамме)
особенно важно и показательно в том
отношении, что эти два памятника принадлежат
к разным видам живописи: в одном
случае — икона, моленный образ, в другом —
монументальные росписи, расположенные
высоко на стенах, арках, сводах и столбах.
Главное богословское содержание
«Святой Троицы» — триединство Бога, едино-
сущность трех его ипостасей — Бога Отца,
Бога Сына и Бога Духа Святого.
Относительно отождествления трех ангелов с
тремя лицами Троицы существуют две точки
зрения. Согласно одной из них, средний
ангел — Бог Отец, ангел слева —
Христос. Согласно другой, три ангела
представляют собой три ипостаси, расположенные в
соответствии с Символом Веры (слева
направо): Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.
Вторая точка зрения кажется более
правильной, так как исходит из неизменной
богословской традиции (Символа Веры) и
находит полное подтверждение в иконографии
и цветовой символике иконы. Средний
ангел — Бог Сын, второе лицо Троицы,
представлен в земных одеждах Иисуса Христа:
вишнево-коричневом хитоне с золотистым
клавом и синем гиматии. Одежды ангела
справа, отождествляемого с третьим лицом
Святой Троицы, Святым Духом,
светло-зеленые, символизирующие вечное обновление
и возрождение жизни Святым Духом. На
синем хитоне этого ангела как будто также
дан намек на клав (синего цвета) — знак
посланничества. Над средним ангелом
изображено дерево, соответствующее Мамврий-
скому дубу ветхозаветного рассказа и
одновременно символизирующее Древо Жизни
и Древо Распятия Иисуса Христа. Над
головой ангела, сидящего справа, — гора,
знаменующая духовное восхождение. Ангел
слева, облаченный в светло-лиловый, с
голубыми пробелами гиматий,
отождествляется с Богом Отцом. К нему обращены
склоненные лики двух других ангелов-ипостасей
Святой Троицы — посланцев Бога Отца в
мир. Над его головой здание — дом
Авраама и образ земной Церкви. В самом
центре стола-престола — Евхаристическая чаша
с головой жертвенного тельца; над ней
простерта благословляющая и принимающая
жертву рука среднего ангела. Симметричные
очертания нижних частей фигур двух
крайних ангелов (линии их бедер и коленей)
придают престолу форму огромной
чаши-потира, над которой кротко склоняется ангел,
символизирующий собою Новозаветную
жертву — Иисуса Христа. Таким образом,
на иконе наглядно сопоставляется
Ветхозаветная жертва с Новозаветной (телец и
Ангел-Христос, престол и чаша).
Ветхозаветная трапеза-угощение трех ангелов
превращается в Новозаветную Евхаристию,
встреча Авраамом трех ангелов — в вечную
227
Книга первая
встречу человека с триединым единосущным
Богом, открывающимся в Евхаристии.
И все же не эти смысловые акценты
являются главными в иконе. Главное здесь —
нераздельно-неслиянное единство трех
ипостасей, таинственное бытие единосущной
Святой Троицы, являющей собой образ
мировой гармонии, Рая, идеальный образец
устроения земной жизни в братском союзе
согласия и любви.
Для воплощения этих
богословско-философских и нравственных идей Рублев нашел
поразительные по своей точности средства
художественного выражения, важнейшие из
которых — круговая композиция, ритм
гибких, плавных линий, сияющие, лучезарные
краски. Небесно-синий голубец — самое
яркое и звучное цветовое пятно в иконе.
Первоначально, когда сохранялся золотой
фон и золото нимбов, когда не были потерты
охряно-золотистые краски ангельских
крыльев и престола, его звучание было еще
более сильным. Сине-голубой цвет имеет
здесь не только художественное, но и
образно-символическое значение. Синий —
цвет сапфира и лазурита — всегда
ассоциировался с реальной синевой неба и,
следовательно, с местопребыванием Божества,
что нашло отражение в древнейших
памятниках. Так, библейские «сыны Израилевы»
зрят под ногами Бога «нечто подобное
работе из чистого сапфира и как само небо
ясное» (Исход 24, 10). Согласно
высказываниям Исаака Сирина, «небесный» цвет
выражает «чистоту ума при молитвенном
изумлении»63. Эта мысль повторяется и в
других святоотеческих сочинениях: «Если
кто желает видеть обновление ума, пусть
лишит себя всех помыслов и тогда увидит
себя подобным сапфиру или небесной
краске»64. Исходя из этой символики, Павел
Флоренский так определил суть «Троицы»:
«Вот этот-то неизъяснимый мир,
струящийся широким потоком прямо в душу
созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в
мире не равную лазурь — более небесную,
чем само земное небо <...> эту
невыразимую грацию взаимных склонений, эту премир-
ную тишину безглагольности, эту бесконечную
друг перед другом покорность — мы
считаем творческим содержанием Троицы»65.
Знаменитый Звенигородский деисусный
чин — иконы Спаса, архангела Михаила и
апостола Петра — был обнаружен
иконописцем-реставратором Г. О. Чириковым в
1918 г. в сарае возле собора на Городке в
Звенигороде. Об исполнении
Звенигородского чина Андреем Рублевым нет никаких,
даже косвенных исторических свидетельств.
Тем не менее, авторство Рублева
представляется бесспорным. Архангел Михаил
настолько близок к ангелам «Святой
Троицы», что не возникает сомнения в их
создании одним и тем же мастером — автором
изображений центрального нефа Успенского
собора во Владимире. Во-первых, это один
и тот же тип, совпадающий в очертаниях
красивых удлиненных овалов ликов, в форме
и рисунке прически — пышной шапки
кудрей, обрамляющей лик, крепких «точеных»
шей. Совершенно одинаковы и черты ликов:
удлиненные, тонкие прямые носы, мягко
сомкнутые уста с небольшой округлой
нижней губой, рисунок изящных дуг бровей и
глаз с характерными изображениями
зрачков, поднятых к верхнему веку, что
придает взгляду особое ласково-кроткое
выражение. Похожи очертания силуэтов, рисунок
легких, «имматериальных» тканей,
наброшенных на покатые ангельские плечи и
спадающих крупными, невесомыми складками.
Вместе с тем, некоторые особенности в
трактовке Звенигородского чина
обусловлены, вероятно, более ранней датой его
исполнения. При сравнении двух произведений
возникает ощущение, что в
линейно-пластической художественной структуре «Троицы»
акцент поставлен на линейном ритме
плавных, упругих, гибких контуров (возможно,
это впечатление несколько усилено плохой
сохранностью живописи), в образе архангела
Михаила — на мягкой живописной
моделировке, легкой пластической рельефности
монументальных форм, выполненных в то
же время с поразительной, чисто
иконописной тщательностью в проработке деталей.
Образ звенигородского Спаса близок
Христу Вседержителю из рублевских
росписей 1408 г. Оба произведения
воспроизводят один и тот же тип. Более того,
имеется сходство в абрисе прически, шеи и лика
с его характерными чертами. Отличия
касаются в основном характера выражения
двух образов — более экспрессивно-эмо-
228
Глава 8
ционального у Христа-Судии в сиянии
«славы» из «Страшного Суда» и
созерцательно-самоуглубленного у звенигородского
Спаса из Деисуса. Вседержитель в
росписях 1408 г. действенен и активен. В
иконном образе Спаса всё предельно сгармони-
ровано и обобщено. Однако это не
приводит к схематизации и упрощению.
Напротив, подобно тому, как внутренняя
цельность образа достигнута сочетанием
сложнейших смысловых оттенков, так и
идеализация лика воплощена в
рафинированных и очень индивидуальных по своим
формам чертах. Во всем древнерусском
искусстве, вероятно, нет изображения
Спасителя равного рублевскому по полноте и
гармонии выражения всех аспектов этого
главного христианского образа.
Икона апостола Павла по своему
образному строю и высочайшему
художественному качеству не отделима от двух других икон
чина, хотя в ней есть нюансы как в
содержании, так и в манере исполнения.
Композиционная и живописная структура иконы в
основных чертах аналогична рассмотренным
изображениям архангела Михаила и Спаса.
Но в линиях, таких же уверенных и точных,
как будто больше остроты и беспокойства,
меньше гибких, скругленно-плавных
очертаний в силуэте и складках тканей, их ритм
дробнее и многословней. Гиматий,
окутывающий спину и плечо апостола, ложится
острыми, ломающимися складками, их
высветления обильней и контрастней. Красочная
гамма такая же звучная и чистая, и в ней
использован лазурно-синий голубец,
характерный для одежд архангела и Спаса, но
цветовое сочетание здесь несколько резче и
насыщенней. В сверкающих, переливчатых
красках лилово-коричневого гиматия с его
пепельно-дымчатыми бликами больше
определенности тональных контрастов. В
обрезе огромного полураскрытого Евангелия
(сохранился только фрагмент) звучит яркая
киноварь, противопоставленная белому
(страницы) и золотисто-желтому
(переплет). Лик апостола Павла трактован
также по-другому: его пластическая лепка
активней, подчеркнуты границы света и тени,
выпуклости на лбу, на шее и щеках;
высветления, а также контрасты санкиря и охр
сильнее, чем у архангела и Спаса.
Возможно, образ апостола из Звенигородского чина
исполнил не Рублев, а другой художник,
близкий к нему по духу своего творчества.
Не исключено, что это был друг и
единомышленник Андрея Рублева — иконник
Даниил, с которым они создали на редкость
целостный фресковый ансамбль в Успенском
соборе Владимира. В творчестве Даниила
(относимых к его кисти фресках 1408 г.)
сильнее ощутимы традиции искусства
XIV в. как в стиле живописи, так и в
выражении созданных им образов; они
конкретнее, «реалистичней», в них меньше
идеализации и классицизма. Однако различия
между образом апостола Павла и другими
иконами Звенигородского чина — это лишь
нюансы, никак не влияющие на его в целом
рублевскую окрашенность духовного
содержания и художественного исполнения.
Искусство Андрея Рублева явило
наиболее совершенное воплощение
многогранного художественного образа средневекового
искусства, идеальный синтез всех его
аспектов и уровней, самую полную реализацию
заложенных в нем возможностей.
Его творчество выросло на русской
национально-исторической почве. В те годы на
Руси было много бедствий, жестокости и
кровопролитий, но здесь была и влекущая,
дающая надежду и душевные силы светлая
историческая перспектива. Духовные и
нравственные идеалы преподобного Сергия
Радонежского, идеи любви, согласия, мира и
единения, его пример душевного
целомудрия, высоты помыслов и устремлений,
явленный им подвижнический путь
духовного просветления во многом изменили образ
мыслей и чувств его современников,
способствовали победе православных русских войск
над иноверными поработителями на
Куликовом поле. Нашли они отклик и в душе
Андрея Рублева, о чем свидетельствует его
искусство.
Гениальность Рублева заключается в том,
что, будучи светлым, проницательным умом,
натурой духовно одаренной и художественно
восприимчивой, он глубоко усвоил и
творчески переосмыслил многовековую
греческую традицию, все достижения русской
культуры и выработал такие средства
образной выразительности, в которых идеально
воплотился сформировавшийся в русском
229
Книга первая
обществе конца XIV — начале XV в.
духовный идеал. Многогранность и полнота
рублевских образов есть следствие его
разносторонне одаренной личности. Он
человек русского Средневековья66. Поэтому
монах и мирянин, духовный подвижник и
художник жили в его творческой личности
в нерасторжимом единстве и рождали
образы многогранные по содержанию и цельные
по выражению.
Рублев — художник глубоко русский.
Его ангелы и праведники могли появиться
только на Руси и только в ту эпоху.
Рублев, конечно, не наделял святых и ангелов
чертами своих современников и не
заимствовал прямо и непосредственно свои сияющие
краски из многоцветья русской природы67.
Его праведники русские не потому, что в их
ликах есть сходство с крестьянскими
типами68, а потому, что это идеализированные
образы русской духовности, национального
мировосприятия в целом и времени
преподобного Сергия Радонежского и его
последователей конкретно-исторически. В них
живет русская душа с ее широтой и
открытостью, чуть наивной откровенностью и
мягкой сердечностью, добротой и
участливостью. В образах Андрея Рублева выражены
радостное восприятие мира, вера в
Божественное милосердие и всеумиротворяющую
любовь. Свою переливчатую, холодную
гамму голубых, зеленых, лиловых, золотисто-
охристых и насыщенных коричневых красок
художник создал на основе развитой
колористической традиции византийской и
русской живописи предшествующих ему
периодов. Русское проявилось здесь в
специфическом этнически обусловленном чувстве
линии и ритма, любви к чистым, ясным,
открытым цветам, их сочетаниям и
противопоставлениям, возникавшее спонтанно и
спорадически во многих произведениях
древнерусского искусства XII — XIV вв. и
нашедшее у Рублева выражение наиболее
совершенное и тонкое, гармонично
соотнесенное с классической византийской традицией.
Такова художественно-эстетическая
специфика искусства Андрея Рублева, ярко
проявившаяся во фресках владимирского
Успенского собора 1408 г., иконе «Святая
Троица» и образах Звенигородского чина.
Созданные великим мастером образы
были близки мироощущению русских людей
того времени, и многие из современных
Рублеву художников — его единомышленники,
«сотоварищи» и ученики — стремились
следовать его искусству. Их произведения,
отличаясь по качеству и духовной глубине,
несут в себе идеи, родственные рублевским.
Творчество Андрея Рублева определило
важнейшие черты не только московской, но
и всей национально-русской школы
живописи. Однако становление нового стиля
XV в. было сложным процессом и
источники его были разнообразны. Поэтому в одно
и то же время (и даже в одной и той же
мастерской) возникали образы очень разные
по своему внутреннему строю и
художественной структуре.
Среди произведений 1-й половины XV в.
сохранилось три иконостасных комплекса, в
которых ярко, в каждом памятнике
по-своему, отразилась взаимосвязь высоких
богословских идей, нравственных идеалов и
художественных достижений рублевского
творчества с местными, нередко
архаизирующими живописными традициями,
интерпретированными в соответствии с общей
эволюцией стиля XV столетия. Это иконы
Праздников из иконостаса Благовещенского
собора в Московском Кремле, частично
сохранившиеся Праздники, Деисус и Пророки
из Успенского собора во Владимире и
трехъярусный иконостас из Троицкого
собора в Троице-Сергиевой лавре —
единственный из трех оставшийся на своем
первоначальном месте. Долгое время их
относили к творчеству Андрея Рублева и его
мастерской. Исследования последних лет
показали, что иконы этих комплексов
нуждаются как в уточнении их датировок и
атрибуций, так и в дальнейшем изучении их
стилистических особенностей и выявлении их
художественного своеобразия69.
Духовные и эстетические традиции
рублевской эпохи питали русское искусство на
всем протяжении столетия, по-разному
проявляясь в многочисленных вариантах стиля.
Однако лишь немногие из дошедших до нас
произведений того времени обладают
художественным качеством, напоминающим
произведения Андрея Рублева и мастеров его
эпохи. К ним принадлежит образ Иоанна
Предтечи из несохранившегося деисусного
230
Глава 8
чина. Икона происходит из Николо-Пес-
ношского монастыря70. Иоанн Предтеча
похож на рублевские образы присущим ему
состоянием «безмолвной молитвы»,
выражением глаз, созерцающих открывшееся
небесное видение. Принципы композиционного
построения, технические средства и приемы
живописного исполнения также восходят к
художественной системе Рублева. Но
мастер этой иконы работал уже в другой
хронологический период, в его творчестве
ощутимы веяния иной эпохи. Из произведения
исчезла легкость и воздушная бесплотность
нежных, переливчатых красок, музыкальный
ритм гибких и упругих широких контуров.
Всё стало плотнее и определеннее,
каллиграфичнее и резче. Прозрачные белильные
пробела и тонкие суховатые линии ломких
складок не столько выявляют рельеф и
пластику тела, сколько придают образу
остроту и хрупкость. Тонкие сплавленные слои
охр, моделирующие лик и руки, тщательная
выписанность черт лика, аккуратных прядей
волос и бороды являют собой высокую
«академическую» культуру мастерства и
создают идеальную завершенность изображения,
но при этом в значительной степени
лишают его живости и внутреннего движения,
свойственных образам Рублева. Утонченно-
прихотливый абрис удлиненного лика
Иоанна Предтечи, острые контуры прически и
изгиба шеи дают ощущение той особой
отточенности хрупких форм, которая
предвосхищает искусство Дионисия. Эта икона —
один из немногих дошедших до нас
памятников, являющихся связующим звеном
между познавшими Божественную Истину
праведниками Рублева и образами умудренных
старцев Дионисия.
Эволюция стиля XV в., выражавшаяся в
изменении старых и возникновении новых
художественных особенностей, происходила
постепенно и по-разному воплощалась в
произведениях. Творчество Дионисия,
вобравшее в себя многое из достижений
искусства 1-й половины XV в., представляет
качественно новый этап, имеющий свои
яркие эстетические принципы, обусловленные
выдающимся дарованием живописца.
Год рождения Дионисия неизвестен.
Исследователи относят его рождение
примерно к 1430 — 1440 гг. Неизвестен и год его
смерти. Считается, что он умер до 1508 г.,
так как его имени нет среди мастеров (его
сыновей), расписавших в этом году
придворную церковь Благовещения в Московском
Кремле. В письменных источниках
неоднократно встречаются упоминания о работах
Дионисия71 (росписях и иконах), но
большинство из них не сохранилось.
Исполненный в 1502 — 1503 гг.
фресковый ансамбль церкви Рождества
Богородицы в Ферапонтовом монастыре дает
исчерпывающее представление об
особенностях искусства Дионисия и работавших под
его руководством мастеров. Над росписью
Рождественского собора Дионисий работал
вместе со своими сыновьями (и, вероятно,
другими мастерами), что следует из надписи
в откосе северного портала собора. Роспись
Рождественского собора Ферапонтова
монастыря — единственный полностью
сохранившийся фресковый ансамбль XV в.72. Ее
колорит, по сравнению с фрагментами сте-
нописей XIV — XV вв., поражает
первозданной свежестью. Однако здесь также
имеются значительные утраты на некоторых
композициях и на многих отдельных
изображениях; большинство фресок покрыто
белесым налетом (высолами), придающим
росписи не свойственную ее
первоначальному состоянию матовость и «дымчатость».
Сохранившая полностью почти все
композиции и не утратившая первоначальную
нежную яркость сияющих голубых, зеленых,
белых, золотистых и пурпурно-коричневых
красок, роспись интерьера являет собой
образ Рая, чудесный поэтический мир,
рожденный духовным прозрением художника-
философа, запечатлевшего свои небесные
видения на стенах, сводах, арках и столбах.
Рафинированная красота хрупких,
бесплотных фигур, утонченный ритм их изящных
силуэтов, как легкие цветные тени
скользящих по небесной лазури фона,
объединенных то в многолюдные толпы, то в малые
группы, то одиноко и величественно
«парящих» на широких плоскостях столбов и
вогнутых поверхностях конх, вызывают у
пребывающего в храме чувство духовного
ликования и эстетического восторга. Этот
явленный человеку одухотворенный мир
совершенной красоты создан тонко
продуманными и с большим мастерством во-
231
Книга первая
площенными композиционными и
живописными приемами, из сочетания которых и
возникает индивидуальная художественная
система дионисиевского творчества.
Дионисий воспринял многое от
искусства Рублева. В украшенном им храме, как и
во владимирском Успенском соборе,
живописная декорация неотделима от
архитектурного объема, его пространственных
членений, сложных по очертаниям плоскостей,
вогнутых поверхностей. Система росписи в
целом и каждая ее композиция в
отдельности исполнены так, что подчеркивают и
выявляют конструктивно-пространственное
решение интерьера73. Однако эта
преемственность традиций начала XV в. не
исключает и существенных отличий.
В декорации Рождественского собора при
всем ее сходстве со строго упорядоченной
рублевской системой росписи выражены
иные аспекты богословских и
художественных идей, присущих духовной жизни Руси
XV в. Дионисий изобразил преображенный
мир, имеющий отличные от земных законы
бытия, Небесное Царство благодати,
ожидающий достойных блаженный Рай, где,
окруженная сонмами ангелов и толпами
праведников, царит Богоматерь, избранная
Богом для спасения человечества Пренепороч-
ная Дева Мария, первая среди равных ей по
чистоте души и красоте преображенной
плоти. Расположение основных сюжетов и
циклов в Рождественском соборе вполне
традиционно, но главная его тема —
прославление Марии — решена так, что вся
роспись храма звучит как вдохновенная «песнь
любви», обращенная к Богоматери™.
В системе росписи Рождественского
собора рублевский принцип доминирующего
круга, символизирующего единство,
композиционная слитность монументальных
образов заменены «формулой множественного
подобия»: многофигурные сцены,
перемежающиеся рассыпанными по всему интерьеру
повторяющимися медальонами и кругами,
сплошным ковром покрывают стены и
своды75. Эта «композиционная формула»
выражает главную в духовной жизни Руси
XV в. богословскую идею восхождения
человека в мир благодати, но ее
художественное воплощение отличается от решений
рублевского времени.
Образ Богоматери, соединившей
небесное и земное, Заступницы и
Покровительницы человеческого рода и Русского
государства, стал у Дионисия важнейшим. Ее
изображение, трехкратно повторенное под
понижающимися ступенчатыми арками
между восточными столбами («Знамение» — на
щеке нижней арки, «Покров» — в
люнете, «Богоматерь на троне» — в конхе
алтаря) определяет главную вертикаль храма,
связывая композиции верхних регистров.
Ритм многочисленных кругов, лик
«Нерукотворного Спаса», а также
перекликающиеся между собой фигуры архангелов в
барабане и поклоняющихся Богоматери
ангелов соединяют погрудное изображение
Христа Вседержителя в куполе с
полуфигурой «Богоматери Знамение» в медальоне
на щеке арки. Такое композиционное
соотношение двух образов выражает их
смысловую связь: Богоматерь принимает
исходящую от Вседержителя благодать. Эта идея
заключена и в самом иконографическом типе
«Богоматери Знамение», являющемся
наглядным, зримым свидетельством духовно-
телесной связи Христа и Богоматери,
Божественного и человеческого.
Ниже, в восточном предалтарном
люнете, под изображением «Богоматери
Знамение», Мария показана как
покровительница Русской земли («Покров Пресвятой
Богородицы»). Этому изображению
соответствуют росписи в северном и южном
люнетах, прославляющие Богоматерь как
Царицу мира («О тебе радуется») и как
воплотившую Бога («Похвала Пресвятой
Богородицы»). Крупномасштабные,
торжественные композиции трех люнет смысловой
наполненностью сюжетов и ритмическими
повторами обобщенных, ясно .читающихся
силуэтов объединяют росписи всего храма.
В них акцентируются главные идеи
Акафиста — поэтического славословия
Богоматери; живописные иллюстрации его отдельных
песен (кондаков и икосов) образуют
сплошной фриз, опоясывающий интерьер собора
(нижнюю часть сводов, стены и столбы).
Представленные в нижнем поясе росписи
«Вселенские соборы» также связаны с
прославлением Богоматери: их
постановлениями были утверждены догматы о
воплощении Бога-Слова и связанное с ними учение
232
Глава 8
о божественности Девы
Марии-Богородицы, установлено почитание ее икон.
На западных сводах и стене помещены
картины «Страшного Суда». Соприкасаясь
в верхнем регистре со сценами Акафиста,
они образуют сложную, многофигурную
композицию, органично включенную в
систему росписи, пронизанную общей для всей
декорации храма идеей милосердия и
заступничества Богоматери. Ее грандиозное
изображение как Царицы мира на востоке, в
конхе алтаря, — апофеоз избранной Богом
Девы, явившей человечеству Спасителя.
Так, образ Богоматери, многократно
повторенный в различных иконографических
типах, становится смысловым и
композиционным стержнем фрескового ансамбля,
соединяющим вертикальные и горизонтальные
членения росписи.
Красные полосы разгранки отделяют
сцены, членят роспись на фризы, создающие
«зрительные зоны», каждая из которых
имеет свой масштаб76. Но эти линии не
разъединяют композиции, а, напротив,
связывают их в общую «декоративную»
систему, усиливают синтез архитектурных форм
и покрывающих их фресок. Единство,
целостность живописной декорации создается
также тонко продуманным соотношением
идентичных по построению композиций,
ритмом многократно повторяющихся
сходных обобщенных форм и линий, цветовой
перекличкой локальных пятен — то светлых
и «воздушных», то ярких и насыщенных,
сияющих на окрашивающем все
поверхности интерьера ярко-голубом фоне,
типологической близостью архитектурных кулис,
фигур и ликов, легкостью их пластической
моделировки.
Композиционные и живописные
принципы художественной системы Дионисия ярко
проявились и в исполнении отдельных
циклов и сцен. Рассмотрим их на примере
росписи южного свода. На его западном склоне
помещена «Притча о не имевшем одеяния
брачна», изображающая восседающих за
столом, уставленным сосудами, роскошно
одетых гостей брачного пира. Напротив, на
восточном склоне свода, — «Брак в Кане
Галилейской». Построение обеих
композиций, архитектурно-пейзажные фоны, позы,
жесты и одеяния персонажей, а также
основные цвета двух сцен перекликаются и
соответствуют друг другу по принципу
асимметрических повторов. Обе сцены, как и
многие другие в Рождественском соборе,
наполнены архитектурными кулисами,
предметами обстановки, орнаментальными
украшениями костюмов. Расположение этих
разнообразных элементов так ритмично и столь
тонко соотнесено, так красиво и светло по
цвету, так легко по моделировке, что
фрески производят впечатление не
перегруженных подробностями бытовых сцен, но
прекрасных небесных видений.
«Брак в Кане» — одна из самых
совершенных многофигурных сцен росписи. В ее
построении отчетливо выражен круговой
ритм, свободная зеркальная симметрия —
черты, указывающие на преемственность
рублевских композиционных принципов.
Сидящие за полукруглым столом
персонажи объединены в три группы: в центре —
жених и невеста, слева — Христос и
Богоматерь, справа — два старца (их
силуэты почти точно повторяют очертания фигур
Христа и Богоматери). Симметричные позы
Христа и старца, изображенных напротив
друг друга, расположение их подножий,
минимум аксессуаров, простота
архитектурных форм, акцентирующих группы,
заставляют вспомнить рублевскую «Троицу». Но
сконцентрированная в «Троице» идея
нерасторжимого единства (три фигуры в круге)
заменена здесь идеей множественного
подобия, объединенного в гармоническое целое
(три группы по две фигуры в каждой).
В ферапонтовских фресках есть и
архитектоника построения, и условные градации
пространственных планов, и развитые
архитектурные фоны. Однако их трактовка
такова, что присущий композициям конца
XIV и начала XV в. эффект
соотнесенности изображений с классической
художественной традицией полностью исчезает.
Контуры фигур достигают здесь предельной
обобщенности, едва возможной в
антропоморфном изобразительном искусстве геомет-
ризацйи и уже не выявляют более
пластические формы тела. Человеческие фигуры
превращаются в легкие цветные силуэты.
При всем том их внутренняя разделка
сложна и детализирована. Одежды прочерчены
густой сеткой цветных линий и белильных
233
Книга первая
высветлении, дающих намек на мелкие
струящиеся складки.
Растительно-геометрические узоры бархатных и парчовых тканей,
широкие золотые полосы оплечий,
зарукавий, кайм подолов, усыпанные крупными
жемчугами и драгоценными камнями,
орнаментальные кресты святительских облачений
усиливают плоскостную «декоративность»
силуэтов.
Фигуры у Дионисия удлиненных
пропорций, с узкими покатыми плечами. Их
головы, руки и ноги уменьшены, а торсы и бедра
расширены. Благодаря такому построению
фигур изображения окончательно теряют
связь с земным миром, возносятся и парят
на голубых фонах и близких им по тону и
цвету голубовато-зеленых светлых позёмах.
Длинными, обобщенными контурными
линиями фигуры объединяются в монолитные
группы (например, Мария и Елизавета из
«Встречи Марии с Елизаветой» или три
ритмично склоненные фигуры принимающих
казнь в сцене «Святитель Николай
останавливает казнь»). Плавные, круглящиеся
линии у Дионисия стремятся не к кругу, а
к параболе и овалу. Вместе с тем, в
очертаниях силуэтов, и особенно в рисунке
складок, есть острота и ломкость,
придающая формам неорганическую хрупкость
и «колючесть».
В полном соответствии с
линейно-плоскостной трактовкой фигур исполнены и
архитектурные кулисы. Городские стены с
ярусными башнями и пилонами, с
переброшенными между ними велумами,
увенчанные сводами портики, прорезанные узкими,
высокими проемами палаты и кивории на
колонках образуют фоны,
воспринимающиеся вполне самостоятельными
«декоративно-композиционными» элементами сцен.
Их построение внешне как будто следует
логике классических норм палеологовского
искусства. Но по сравнению с
изображениями предшествующего столетия все формы
дионисиевской архитектуры очень
обобщенны, в них нет пластичности и реального
объема. Их очертания возникают как
миражи и видения Небесного града. Вместе с
наложенными на них силуэтами фигур они как
будто плывут по синему фону.
Позы и жесты персонажей в
произведениях Дионисия имеют важнейшее значение
для характеристики их духовного состояния.
Поэтому расположение, пропорции и
конфигурации архитектурных форм в ферапон-
товских росписях таковы, что, сохраняя свою
самостоятельность, они становятся отзвуком,
эхом и тенью представленных в сценах
действующих лиц77. Так, в «Благовещении у
колодца» Богоматерь отпрянула назад, и
стоящее за ней здание, повторяя округлые
линии ее силуэта, «отступило» в глубину.
«Дематериализация» архитектурных
фонов, выражающая эмоциональную
приподнятость, одухотворенность персонажей,
достигается также изменением их
традиционных классических форм. Заостренные
двускатные кровли превращаются в
деформированные трехгранные пирамидки, похожие
на раздуваемые ветром паруса. В
композиции «Брак в Кане» такая гнутая
треугольная кровля увенчивает здание за Христом
и Богоматерью, акцентируя жесты их рук.
Изломанные формы тронов и круглящиеся
своды портиков получают своеобразные
козырьки и процветшие отростки,
необычные формы которых концентрируют
внимание на соотнесенных с ними силуэтах фигур
(смотри, например, композицию «О Тебе
радуется»).
Рассмотренные способы и Приемы
трактовки композиций были введены
Дионисием для выражения богословских и
художественных идей, воплотивших представление
русских ученых книжников и просвещенных
знатоков XV в. о прекрасном
благоустроенном царстве, Небесном граде праведников
как конечном результате жизни на земле.
Для создания этого духовно-поэтического
образа вечной чудотворной красоты и
благодати ничто не имело такого огромного
значения, как цвет, и Дионисий, наделенный
тонким колористическим чутьем
врожденного живописца, с непревзойденным
мастерством и виртуозностью использовал всё
тонально-цветовое богатство красок своей
палитры. В искусстве Дионисия, как и в
произведениях Рублева, вновь в полную силу
зазвучал холодный, чистый, яркий голубой,
противопоставленный теплым золотистым и
пурпурным цветам. Образ мысленного
Небесного града, явленного Дионисием в
росписях Рождественского собора, возник как
будто из сочетаний сияющих красок земного
234
Глава 8
неба и блеска драгоценных природных
камней. Сине-голубой, зеленый, белый,
золотисто-охристый и пурпурно-коричневый —
главные цвета ферапонтовских росписей. Их
символическое и эстетическое значение
здесь органично слиты.
Среди всех красок преобладает синяя —
цвет видимого с земли неба, драгоценного
сапфира и лазурита; символ света,
Божественной энергии, пронизывающей
Вселенную и просветляющей человека,
преображенной плоти, чистоты души и «обновления
ума», праведности и благодати; образ Рая,
Небесного града. Фоны композиций сине-
голубые, одежды большинства персонажей
имеют синий цвет, синим написаны кровли
зданий. Оттенки синего разнообразны и
использованы таким образом, что
окрашенные ими фигуры и предметы как бы «раз-
веществляются», «тают» в Божественной
синеве. Так, остроконечные «пламенеющие»
кровли и купола храмов Дионисий
расцвечивает голубым, выделяя их на небесном
фоне то белильными бликами и нюансами
синего, то цветными контурами. В одеждах
голубым исполнены обычно нижние из них,
что придает фигурам невесомость, усиливает
эффект парения. Иногда написанные синим
части разноцветных одежд, как и
завершения зданий, сливаются с синевой фона —
фигуры становятся совершенно
прозрачными, превращаются в красочное видение.
Зеленый — цвет весны, растений и всей
живой природы; цвет камней «смарагда» и
«ясписа», полезного «для нуждающихся в
духовном врачевстве»; символ
«Божественного естества, вечноцветущего, живописного
и пищедательного», неувядшей любви и
теплой веры78. Зеленым окрашены позёмы,
одежды персонажей, детали архитектуры.
Зеленый, как и голубой, иногда дается на
близком ему по тону зеленом фоне.
Белый — цвет русской зимы,
кристальной чистоты нетронутого снега; символ
света, праведности, благодати, преображения,
«пресветлая одежда добродетелей»,
одежда нетления, одежда победивших зло79. Ни
в одном произведении русской живописи,
созданном до Дионисия, не было такого
обилия чисто белого и светлых, слегка
подцвеченных его оттенков, как в
ферапонтовских росписях. Белый цвет присутствует во
всех композициях: белые ризы святителей и
одеяния ангелов, одежды праведников,
детали костюмов большинства персонажей,
белые жемчуга оплечий и кайм дорогих
облачений, белые стены, палаты и башни
архитектуры, белые поверхности мебели и
предметов обстановки.
Холодной сине-зелено-белой гамме
небесных красок (и красок водной стихии)
противопоставлены теплые
золотисто-желтые, коричнево-пурпурные и красные
цвета земли, ассоциирующиеся также с
отблесками восходящего и заходящего солнца.
Золотистая охра в росписях Дионисия имеет
такое же символическое значение, как и
лазурный синий. Она окрашивает ризы
Спасителя, представленного в образах
Младенца, Отрока Еммануила и Судии, ореолы
нимбов, крылья ангелов, одеяния святых,
горки, архитектурные кулисы и предметы
обстановки. Пурпурно-коричневый —
символ царственности, избранности, цвет
земных одежд Христа и Богоматери (второй
цвет их одежд — синий); им написаны ризы
некоторых праведников. Красный —
очищающий цвет огня, символ возрождения и
вечности — Дионисий, как и Рублев,
использовал умеренно, в основном в деталях
(разгранки композиций, велумы, части
архитектуры и одежд)80.
Эти контрастные цвета неба и земли
Дионисий редко применял в виде насыщенных
локальных пятен. Колорит ферапонтовских
росписей поражает светлостью, легкостью,
особой «воздушностью», прозрачностью,
обилием полутонов, цветовых нюансов,
нежнейших сочетаний и красочных
противопоставлений. Небесная лазурь образована
многочисленными тонально-цветовыми
градациями сине-голубых, варьирующимися также
в зависимости от архитектурных
поверхностей, их освещения, взаимодействий с
красочной гаммой композиций. Охра имеет
десятки оттенков: теплых — от красновато-
золотистых до светло-розовых, холодных —
от умбристо-желтых до жемчужно-серых.
Особенно разнообразны и нежны по цвету
горки, архитектурные кулисы и светлые
одежды. На серебристых голубовато-серых
горках притенения розово-красные, на
золотисто-желтых — красные, коричневые и
ярко-зеленые, на сиреневато-розовых —
235
Книга первая
зеленые и голубые. Света на лещадках
горок — от ярких, плотных белильных
бликов до тончайших прозрачных подцвеченных
лессировок.
Белые одежды объединенных в группы
фигур иногда отличаются лишь разными, но
часто близкими по цвету линиями
внутренней разделки и внешними описями с
легкими тональными притенениями. Так,
например, исполнены одеяния приговоренных к
казни в сцене «Святитель Николай
останавливает казнь». Белое пятно их одежд
перекликается с белильными бликами лещадок;
зеленые и желтые линии контуров и
складок — с желтыми горками и их зелеными
тенями. В этой композиции использован
излюбленный Дионисием искусный
живописный прием сопоставления двух близких
цветов: охряно-желтое одеяние палача
(изображен в грациозной позе с изящным жестом
поднятой руки, занесшей над головой меч)
выделяется на желтых горках лишь
благодаря коричневым линиям складок и описей
с тонкими белильными высветлениями. Этот
коричневый цвет линий, так же как и
зеленый цвет описей одежд казнимых, как бы
концентрируется в зеленых и коричневых
облачениях святителя Николая, поднятой
рукой удерживающего занесенный меч
палача. Золотистый цвет его нимба, книги,
крестов и епитрахили, белый омофор и
пробела на одеждах соответствуют белым и
охристо-желтым цветам других изображений,
придают всей композиции гармонически
уравновешенное цветовое единство.
Высветления, пробела одежд во фресках
Дионисия, как и в большинстве
произведений XV в., часто цветные. Но здесь они
приобрели такую легкость и прозрачность,
что уже не выявляют рельеф складок
тканей, а, напротив, подчеркивают их «имма-
териальность» и символическую
«декоративность».
Богатство и разнообразие
художественных приемов искусства Дионисия со всей
полнотой и наглядностью проявилось в
образах воинов, изображенных на
поверхности столбов. В их фигурах — широких в
бедрах, с миниатюрными ручками и
маленькими ножками, одетых в роскошные
орнаментально-изукрашенные доспехи и
развевающиеся цветные плащи, мало что
напоминает об идеалах мужественных борцов конца
XIV — начала XV в., способных
выступить на земное поле брани. Это бесплотные
охранители иного, мысленного мира,
благоустроенного Небесного Царства, «мягкие и
изящные стражи Марии»81.
Великолепие ярких нарядных одежд,
усыпанных драгоценными камнями, расшитых
золотом, украшенных ткаными узорами, в
росписях Дионисия имеет такое же нерас-
члененное символическое, богословское и
эстетическое значение, как и цветовая гамма.
Внешний блеск и красота у Дионисия есть
зримое, образное выражение духовной
красоты преображенного мира и населяющих
его праведников. Наглядная, смысловая
ассоциация была близка средневековому
человеку и многое говорила его уму и сердцу.
Так, богатые костюмы гостей в «Притче о
не имевшем одеяния брачна»,
противопоставленные невзрачной короткой рубахе
пришедшего на пир без «брачных одежд»
(не приготовившего себя к брачному пиру,
истолкованному как встреча души человека
с Женихом-Христом в Царствии
Небесном) — прямое, непосредственное
выражение праведности и добродетели. Одетые в
роскошные платья, гости в сцене «Брак в
Кане», святители в нарядных крещатых
ризах и другие подобные им образы —
избранники, достойные райского блаженства.
Красочная «декоративность», обилие
драгоценных предметов и материалов в ферапон-
товских росписях свидетельствуют о
«слиянии великокняжеской (придворной) и
митрополичьей (церковной) эстетик», что
является «характерным признаком
средневекового искусства в периоды устойчивых
государственных образований»82.
В созданном Дионисием мире
«неизреченной красоты» и гармонии всё глубоко
осмысленно, соразмерно, подобно и
равноценно, приведено к внешнему и
внутреннему единству. Поэтому всем образам
присуще единое малодифференцированное
просветленно-созерцательное состояние,
успокоенность и умиротворенность; фигуры
предельно обобщены и схематизированы.
Отсюда — повторяемость поз и жестов,
однообразие типов лиц, их внешних черт и
эмоционального выражения. В творчестве
Рублева образ праведника являлся «сосре-
236
Глава 8
доточием во едино всего существующего,
возглавлением творений Божиих»83. Для
Дионисия, напротив, была важна гармония
целого, возникающая из совокупности
подобного, определенная унификация внешнего
и внутреннего. Однако если для лиц из
толпы характерна обобщенность, некоторая
монотонная повторяемость, то главные
образы (Христос, Богоматерь, отдельные
святые) более личностно портретны и
одухотворены.
К таким изображениям относятся
архангелы из барабана. Особенно прекрасен
архангел в простенке между восточным и
южным окнами, исполненный, вероятно, самим
Дионисием. Его лик с утонченными
благородными чертами — изысканно красивыми
контурами носа, надбровных дуг, небольших
миндалевидных глаз, маленьких плотно
сомкнутых губ, принадлежит к самым
совершенным, высокохудожественным созданиям
мастеров XV в. Удлиненный овал лика,
пышная шапка волос с упругими,
виртуозно исполненными локонами и завитками,
безупречная точность рисунка вызывают в
памяти образ архангела Михаила из
Звенигородского чина. Но письмо и содержание
дионисиевского образа совсем другие.
Вместо нежной, округлой мягкости и
утонченности, грациозной плавности круглящихся
форм и линий здесь хрупкая
рафинированность, геометрическая определенность. В
нем есть некоторая холодность и
отстраненность. Это состояние образа создается также
холодной прозрачной гаммой красок.
Исполнение лика чисто иконописное: поверх
зеленоватого санкиря нанесено несколько
тончайших, последовательно разбеленных
слоев охр и легкая подрумянка. Прозрачные
санкирные тени усилены аккуратно
положенными, чуть суховатыми штрихами
белильных высветлений. Глаза архангела
голубые, их взгляд пристален и сосредоточен.
Голубизна глаз отражается в широкой
голубой ленте в кудрях надо лбом, в острых,
ломающихся бело-голубых концах ленты —
тороках и ярко-голубом камешке, сияющем
в центре золотого оплечья на груди. В этом
образе, как и в архангеле Михаиле из
Звенигородского чина, запечатлен идеал
утонченной одухотворенной красоты и
совершенства. Но если рублевский ангел влечет к
себе человека своей внутренней чистотой и
милосердной кротостью, тихой ласковостью
взора, наполняет его душу радостью и
возносит ее к небесам, то ангел Дионисия
являет себя людскому роду в блеске и
великолепии сошедшего на землю горнего мира.
В творчестве Дионисия есть и другие
образы, более близкие рублевским.
Сформировавшийся в эпоху Куликовской битвы в
окружении преподобного Сергия
Радонежского идеал мудрого, «всесовершенного»
человека, «духоносца» привлекал русских
людей на протяжении всего XV столетия.
Но изменившаяся историко-культурная
ситуация придала ему новые оттенки и черты.
Духовный преемник Сергия Радонежского
Нил Сорский, великий знаток внутреннего
мира человека, тончайших особенностей души,
был строгим аскетом и нестяжателем и
одновременно гораздо большим, чем Сергий,
«рационалистом», придававшим большое
значение человеческому разуму. Его современник
Иосиф Волоцкий проявлял не свойственный
ни Сергию, ни Нилу интерес к «внешнему
деланию», составной частью которого являлось
церковное «устроение», забота о «праведном
стяжании», о «благочинии чювьств»84.
«Святитель Николай» Дионисия из конхи
дьяконника (южной апсиды)
Рождественского собора Ферапонтова монастыря —
умудренный старец, опытный наставник,
познавший тайны человеческой души, ее
земные слабости и пороки. Он скорбит о
несовершенстве человека, но не гневается и
не грозит карами, а мягко и
доброжелательно зовет к себе всех нуждающихся в
«душевном врачевстве». Это портрет учителя
«мысленного делания» и одновременно
разумного «устроителя праведного жития»,
идеал духовной жизни 2-й половины —
конца XV в. В нем нет неисчерпаемой
духовной глубины и общечеловеческого пафоса
рублевских образов, но есть острота и
проникновенность, разумная умеренность,
внешняя и внутренняя сдержанная красота,
благородство и благочиние. Голова святителя
Николая с высоким открытым лбом,
очерченным округло-ровной, почти циркульной
линией, напоминает созданный Рублевым
образ Саввы Освященного из Успенского
собора во Владимире. Но его нос и
окладистая борода утонченно-удлиненны, отто-
237
Книга первая
чены по формам и в значительно большей
степени геометризованы. Брови,
миндалевидные глаза и уголки губ опущены. Взгляд
сосредоточенный, напряженный. Силуэт же
святителя Николая трактован совершенно
условно. Очертания его фигуры и
спадающей с распростертых рук ткани одеяния
сведены к чисто геометрическим линиям, не
дающим даже намека на
объемно-пластические формы тела. Сине-голубые кресты на
белом фоне ризы святителя, расположенные
ровными рядами, создают впечатление
сильнейшей «геометрической дематериализации»
фигуры. Ее полному «растворению» в
архитектурном пространстве апсиды
препятствует лишь белая полоса омофора с тремя
крупными вишнево-коричневыми крестами.
В линиях и узорах одежд выявляется прежде
всего вогнутая поверхность конхи.
Воплощенный в образе святителя
Николая идеал духовного учителя был популярен
и в монашеской, и в светской среде.
Поэтому образ преподобного Димитрия Прилуц-
кого на его житийной иконе85, исполненный,
вероятно, при непосредственном участии
самого Дионисия, так похож на святителя
Николая из Рождественского собора. Это
один и тот же тип: черты ликов и
внутреннее содержание двух образов очень близки.
Незначительные отличия обусловлены
назначением изображений и принадлежностью
одного из них к святительскому (Николай),
а другого к монашескому чину (Димитрий
Прилуцкий). Сияющий светлыми,
радужными красками образ святителя Николая в
крещатых ризах осеняет входящих в придел,
является им во всем блеске, величии и
красоте. Преподобный Димитрий Прилуцкий
на иконе облачен в темные иноческие
одежды — коричневые и травянисто-зеленые. В
его лике больше жизненной конкретности,
внутренней сосредоточенной собранности.
Тончайшие светоносные розоватые плави
нанесены так мягко и «дымчато» (без
видимых светов и теней), так органично
слиты с точными линиями рисунка, что
возникает идеальный иконописный образ, в
котором со всей полнотой выражена
художественно-эстетическая специфика
древнерусской живописи периода ее последнего
духовного расцвета в конце XV — начале
XVI в.
Принципы построения композиций,
отдельных фигур и ликов, соотношение
живописных и графических приемов исполнения,
с безупречным совершенством воплощенные
в росписях Ферапонтова монастыря,
определяют также и образный строй
иконописных произведений Дионисия и его
мастерской. Единство эстетических принципов
создания монументальных росписей и икон
особенно наглядно в исполнении клейм,
окружающих средник иконы Димитрия При-
луцкого. Горизонтальные и вертикальные
полосы и составляющие их сцены
организованы так же, как фризы и композиции фе-
рапонтовских росписей (сложные
архитектурные фоны, соотнесенные с фигурами,
объединенными в группы, ритмические
повторы их поз и жестов, замедленные,
плавные движения, удлиненные пропорции).
Однако есть здесь и отличия,
обусловленные, возможно, индивидуальным решением
темы, продолжающим традицию житийных
икон XIV — XV вв.: высокая духовная
характеристика святого в среднике
сочетается с «камерной трактовкой событий» в
клеймах; цветовая гамма клейм так же
определена средником — портретом
преподобного86. Различные оттенки коричневых, ум-
бристо- и травянисто-зеленых, неярких охр
дополнены нежными розовыми,
лилово-сиреневыми, малиново- и вишнево-красными
цветами. В целом палитра иконы столь же
изысканна и утонченна, как и во фресках
Рождественского собора, хотя и решена
совершенно в другом колористическом ключе.
Плотные, насыщенные цвета,
окрашивающие одежды, кровли зданий и позёмы,
повлекли за собой пластически более
определенную трактовку фигур.
Парные иконы митрополитов Петра и
Алексея из Успенского собора
Московского Кремля были созданы в мастерской
Дионисия в начале XVI в.87.
Художественно-эстетические особенности ферапонтов-
ских фресок подверглись здесь
дальнейшему развитию в том направлении, которое
было намечено в наиболее условно и плос-
костно трактованных сценах и фигурах
Рождественского собора. Этим иконам, как и
росписям, присущ принцип равнозначности,
подобия и взаимосвязи всех элементов
композиции, средника и клейм. Величественные
238
Глава 8
образы митрополитов в средниках кажутся
«имперсональными». Их фигуры,
облаченные в широкие крещатые саккосы,
покрытые геометрическим узором, превращены в
плоские многокрасочные силуэты с
небольшими головами и мелкими чертами лиц.
Условные, обобщенные контуры митрополитов
напоминают очертания фигуры святителя
Николая из дьяконника Рождественского
собора. Но разница двух образов
заключается в том, что письмо лика святителя
Николая продолжает традицию праведников
Рублева, а изображения митрополитов
воплощают типичную для конца XV в. идею
внеличностной государственности и
благоустроенности. Этим же смыслом наполнены и
клейма, несмотря на то, что в некоторых
сценах фигуры митрополитов выделены
среди других персонажей размерами и
подчеркнутой импозантностью осанки.
В такой трактовке темы особую роль
получают архитектурные фоны. Как и во
фресках Рождественского собора, они имеют
самостоятельную ценность. Но если в
росписях архитектурные кулисы состояли в
основном из условных эллинистических палат,
символизирующих Небесный град, то в
иконах митрополитов архитектура имеет
конкретно-исторические черты. Купольные
храмы, монастырские и городские стены,
русские терема и открытые звонницы с
колоколами обозначают, во-первых, реальное место
действия реальных событий, а во-вторых,
символизируют разумное, устроенное по
подобию Небесного града земное царство,
«богоизбранное» государство Русское. Позы
и жесты персонажей продуманно
соотнесены, согласованы и композиционно связаны
с формами, ритмом и пространственными
интервалами архитектурных сооружений.
Каждой группе и отдельной фигуре отведено
свое строго определенное место в этой
стройной системе. Их самостоятельное
значение здесь еще меньше, чем во фресках.
Они мельче по масштабу, трактованы еще
более условно и плоскостно. Колорит икон
предельно облегчен и высветлен. Богатая
светоносная гамма зелено-голубых (от
изумрудных до слегка подцвеченных зеленым
белых), розово-вишневых и различные оттенки
светлых охр сочетаются с золотом и яркими
пятнами киновари в одеждах.
Творчество Дионисия, последнего
великого средневекового художника-мыслителя,
было взращено высокообразованной,
просвещенной книжной средой
митрополичьего и великокняжеского двора. Поэтому
образный строй его произведений так
созвучен литургическим песнопениям, поэзии
православного богослужения, торжественным
церковным обрядам и «ритму столичной
жизни»88. Его искусство, как и творчество
Андрея Рублева, значительно превосходит
всё то, что создавалось тогда мастерами, не
принадлежащими к его окружению,
воспринимается во многом уникальным явлением,
обусловленным ярким индивидуальным
талантом живописца. И тем не менее именно
в произведениях Дионисия полнее всего
воплотились духовные и эстетические
идеалы русской культуры 2-й половины XV в.
Именно в искусстве Дионисия и
художников его мастерской впервые четко
определился метод коллективной работы
помощников и учеников под руководством ведущего
мастера, что привело к возникновению в
1-й половине XVI в. большого количества
икон, в которых повторялись и
варьировались основные принципы творчества
выдающегося русского живописца XV столетия.
XVI ВЕК
В произведениях древнерусской
живописи XVI в. выделяются два больших
периода, которые совпадают с двумя половинами
столетия и двумя наиболее значительными
правлениями — княжением Василия III
(1505 — 1533) и царствованием Ивана IV
(1547 — 1584). Живопись первой трети
XVI в. еще прочно связана с традициями
предшествующего столетия, особенно с
творчеством Дионисия. Искусство этого
выдающегося художника во многом определило
развитие не только московской, но и всей
русской живописи вплоть до середины
XVI в.89. Мастера, исполнявшие житийные
иконы (которые получили большое
распространение благодаря деятельности
мастерской Дионисия), ориентировались на
выработанные им образцы, воспроизводили
иконографические схемы, типы и образы,
несколько изменяя и интерпретируя их.
Таковы иконы «Апостол Иоанн Богослов на
239
Книга первая
Патмосе», «Преподобный Сергий
Радонежский» и «Святой Георгий», примыкающие
к «школе» Дионисия90. В других
произведениях больше отступлений,
самостоятельных решений на основе суммирования
«достижений различных направлений
предшествующих десятилетий» (например, в
иконе «Сошествие во Ад» из Неноксы91)- Во
многих иконах из иконостасных комплексов,
в однофигурных изображениях Богоматери,
Христа и святых отчетливо видна
тенденция к повторению монументальных чиновых
образов XV в. («Богоматерь Одигитрия»
из Дмитрова92). Активизируется традиция
копирования прославленных древних
памятников и почитаемых святынь (миниатюрная
«Святая Троица» и «Спас поясной»,
восходящие к рублевским образцам;
«Богоматерь Владимирская» (с клеймами) из
Успенского собора Московского Кремля —
список с чудотворной «Владимирской» начала
XII в. в золотом фотиевском окладе93).
При всем том в произведениях 1-й
трети XVI в. на первый план выступают те их
особенности, которые определяют
своеобразие живописи этого периода: ярко
выраженная эстетизация художественной формы,
всех средств и приемов технического
исполнения. Иконы и миниатюры (фресковые
росписи начала XVI в. малочисленны),
созданные лучшими столичными мастерами,
отличаются художественным совершенством:
строгой уравновешенностью
композиционного построения, уверенным рисунком,
утонченным линейным ритмом, изысканностью
цветовых сочетаний. Многие из
перечисленных качеств присущи и живописи эпохи
Дионисия. Но в произведениях конца XV в.
эстетизация внешнего облика персонажей,
архитектурных и пейзажных фонов не
является их главной особенностью. Напротив, в
постдионисиевский период внимание
художников в значительно большей степени
направлено на выявление красоты, блистания
форм и деталей, на тщательную отделку
живописной поверхности. Выработанные в
творчестве Дионисия и близких ему
мастеров художественные приемы
идеализируются и формализуются, приобретая иногда
оттенок академической холодности,
предельной завершенности и отточенности, а
внутреннее содержание образов становится
более нейтральным, замкнутым, исчезает их
одухотворенность и поэтическая
окрашенность.
Произведения 1-й трети XVI в. всё еще
изображают тот чудесный, преображенный
Божественным светом мир, сияющий
красотой чистых, незамутненных красок, который
так блестяще воплотил в своем творчестве
Дионисий. Но если созерцательные диони-
сиевские образы вовлекали зрителя в свою
эмоциональную атмосферу, то
представленные художниками XVI в. картины
Небесного Царства (будь то сцены мучений и
казней из житий святых или праздников и
чудес) уже как бы рассчитаны на
рассматривание со стороны, на эстетическое
любование ими и через это — на познание
радости «конечной цели», на приобщение к
благодати. В процессе эстетизации
произведений живописи большую роль играли
золото, серебро и драгоценные камни.
Создавая иконы «под оклад», художники
соотносили интенсивность и цветовые
сочетания красок с блеском серебряных или
золотых окладов, с характером декоративной
обработки металлических поверхностей,
закрывающих фоны, окружающих головы
святых венцами. Именно так, с расчетом на
мягкий, благородный блеск серебряного
басменного оклада, подобраны блеклые
голубоватые, серебристо-серые,
светло-лиловые и нежно-зеленые цвета с легкими
белильными лессировками, контрастирующие
с яркими пятнами киновари, в иконе
«Святой Георгий с житием» из Успенского
собора в Дмитрове, глухой охряный фон
которой, изначально закрытый окладом, не
участвует в общем колористическом строе
произведения94.
Однако при всей внешней красоте и
техническом совершенстве в произведениях
1-й трети XVI в. появляется тенденция к
однообразной повторяемости поз и жестов, к
использованию иконописных формул, к
ослаблению и почти полному исчезновению
индивидуальной характеристики образов.
Идеальная гармония искусства «школы»
Дионисия постепенно разрушается: в
колористической гамме всё чаще появляется
диссонанс нежных светлых полутонов и
интенсивных насыщенных красок; фигуры в
одних произведениях переутончены, мини-
240
Глава 8
атюрно выписаны, в других, напротив,
упрощены и схематизированы; формы
трактуются то излишне измельченно и дробно, то
очень обобщенно, «декоративно».
Еще одна особенность живописи постди-
онисиевского периода: постепенное
сгущение, уплотнение цвета, уподобление
красочного слоя эмалевым сплавам, а живописной
поверхности — драгоценному произведению
прикладного искусства. Легкие, как бы
пронизанные светом силуэты, характерные для
искусства «школы» Дионисия, начинают
уступать место пластичным, телесным и
даже грузным фигурам. Архитектурные
сооружения, скалистые горки с травами
также становятся конкретней, «реалистичней»,
но условное изобразительное пространство
чаще всего уплощается, схематизируется.
Все эти особенности хорошо видны в
иконе «Святой Георгий с житием» из церкви
Параскевы Пятницы в Дмитрове95,
являющейся копией с упоминаемой выше иконы
«Святого Георгия» из Успенского собора
того же города. Фигура святого Георгия в
среднике статична и репрезентативна.
Рисунок острый, угловатый; линии
спрямленные, тонкие и сухие. Цвет одежд звучный,
насыщенный. Лик исполнен плотной охрой,
образующей эмалевидную поверхность. Он
внутренне неподвижен, отстранен и замкнут.
Фигурки в клеймах маленькие, виртуозно
выписанные, с пластично трактованными
«точеными» формами, но в их замедленных,
несколько вялых действиях и жестах мало
выражено духовное содержание. Подобное
изображение событий (страданий, казней,
чудес) передает не сущность, а лишь
внешнюю сторону происходящего, является
условным обозначением их сокровенного
смысла. Фон в среднике и клеймах этой
иконы был золотой (сейчас почти
полностью утрачен). Средник окаймлен
ярко-красной рамкой с тончайшим золотым
орнаментом. Доспехи и вооружение Георгия также
покрыты орнаментальными штрихами и
сложным измельченным узором.
Тенденция к пластической трактовке
форм, к воспроизведению монументальных
образов предшествующих десятилетий
ощущается в целом ряде иконостасных
изображений, например, в деисусном чине из Кор-
нильева Комельского монастыря96. Крупные
фигуры заполняют всю поверхность иконной
доски. Ткани одежд спадают тяжелыми
спрямленными складками. Цвета плотные,
густые и контрастные. Точный, уверенный
рисунок создает выразительные силуэты.
Лики с укрупненными благообразными
чертами трактованы выпукло и пластично, но
главным художественным средством здесь
является линия, а не живописная лепка
форм. Всё добротно, красиво и эффектно в
этих изображениях, напоминающих
«классические» произведения XV в. Только
вместо созерцательности и поэтической
одухотворенности образов старого искусства в де-
исусных иконах из Комельского монастыря
ощущается внушительность, торжественная
незыблемость вечных идеалов и неизменных
истин. Так намечается путь к «эстетике
мощи и репрезентативного величия», расцвет
которой наступит в царствование Ивана
Грозного97.
К середине столетия новых черт
становится так много, что старая
изобразительная система окончательно разрушается,
происходит формирование стиля 2-й половины
XVI в. В произведениях этого времени
можно уловить традиции 1-й трети столетия
и даже более ранних художественных эпох,
но их сочетание с новыми особенностями не
всегда органично, порой эклектично и
противоречиво. Памятники середины века
значительно отличаются друг от друга,
различий между ними оказывается иногда не
меньше, чем общих признаков. Однако
большинство этих отличий представляют
собой ту или иную грань складывающегося
нового, а соединение разнородных черт
внутри одного и того же произведения —
типичные особенности этого периода.
Новые качества живописи середины —
2-й половины XVI в. явились выражением
церковно-религиозных и
социально-политических изменений, приведших к
трансформации этических и эстетических
представлений, к возникновению новых
художественных принципов, что ярко проявилось в
эпоху Ивана IV. Искусство теперь в
значительно большей степени, чем раньше,
зависит от государства, от царской власти.
Царь является заказчиком не только для
столицы и своих резиденций, но также и для
отдаленных монастырей и иногородних хра-
241
Книга первая
мов. Государственное начало, пафос
грандиозного, внушительного пронизывает все
виды искусства. Печать «триумфа
Московского самодержавия», его величия и
незыблемости, «идеи о вселенской миссии
Московского государства» лежит на всех
важнейших памятниках времени Грозного98.
Вторая особенность эпохи — кризис
духовных идеалов, питавших искусство XV в.,
попытки пересмотреть как самые
существенные аспекты православия, так и
оформляющую его церковную организацию с
присущим ей комплексом обрядов и искусств, и
как реакция на это — строгая
регламентация, догматизация древних устоев и
традиций, преднамеренная архаизация, иератизм
образов, с одной стороны, появление новых
дидактических и символико-аллегорических
произведений — с другой. Эти две линии
идеологии XVI в., тесно переплетаясь
между собой, и образуют основу главного,
официально-репрезентативного, направления
искусства.
Для русской культуры XVI в.
немаловажное значение имело знакомство с
искусством «латинских» стран (благодаря Пскову
и другим северо-западным городам), с
европейскими иллюстрированными
сочинениями и гравюрами, которые нередко являлись
прямыми источниками иконографических
новшеств, образцами новых типов
архитектурных кулис и стаффажа, европейских
костюмов персонажей и многих бытовых
«реалий». Западные влияния способствовали
популярности символико-аллегорических
произведений, что привело к возникновению
конфликта между сторонниками двух
противоположных принципов искусства
Древней Руси, изначально присущих всей
православной живописи, — «исторического»
(изобразительного, основанного на догмате
иконопочитания) и
символико-аллегорического (иллюстративного)99. Принцип
изобразительного «христианского реализма»
начал ослабевать уже в первые десятилетия
XVI в., когда образ перестал отражать
глубинную сущность первообраза, превращаясь
в знак, условное обозначение его, и тем
самым приблизился к изображениям символи-
ко-аллегорическим. Последние, напротив,
получили тогда большое распространение.
В XVI в. создавалось множество икон на
слова псалмов, литургических песнопений,
отдельных богословских текстов и притч
(«О Тебе радуется», «Достойно есть»,
«София Премудрость Божия», «Богоматерь
Гора нерукосечная», «Спас Недреманное
око», «Богоматерь Неопалимая купина» и
другие).
Еще одна особенность искусства XVI
столетия: возникновение множества
периферийных художественных центров, где
долго держались традиции конца XV —
начала XVI в., и одновременно — стирание
отличительных признаков между ведущими
живописными школами (Москвы,
Новгорода, Пскова и других), на основе которых в
«царствующем граде» активно
формировался единый государственный стиль.
Художники из северных русских городов вносили
в официальное искусство живую народную
струю, сообщали ему яркую красочность,
обилие орнаментальных мотивов и узоров.
Одно из лучших произведений середины
XVI в. — происходящая из
Преображенского собора Соловецкого монастыря
большая четырехчастная икона,
иллюстрирующая хвалебную песнь в честь Богоматери
«Достойно есть»100. Она выполнена в
художественных традициях, восходящих к
творчеству Дионисия и тех его последователей,
которые создавали образы изысканно-
утонченные и одновременно
монументальные, красочные, четко построенные и
легко обозримые (например, иконы
митрополитов Петра и Алексея из Успенского
собора Московского Кремля).
Соответственно четырем стихам песнопений икона
разделена на четыре части
(прямоугольника), густо заполненные фигурами, яркими
разноцветными квадратами, ромбами и
кругами, символизирующими небесные сферы,
цветными горками с белильными лещадка -
ми и небольшими кустиками трав,
широкими белыми полотнищами свитков с
черными буквами, распростертыми над
Богоматерью и несомыми ангелами и святыми
песнопевцами. Несмотря на такое обилие
изображений, композиционное построение
отличается четкостью, размеренностью,
строгой уравновешенностью, гармоническим
соотношением четырех сюжетных
композиций и заполняющих их элементов. Фигуры
занимают значительную часть иконной плос-
242
Глава 8
кости, но в образуемых ими ровных
горизонтальных рядах нет навязчивой
монотонности, так как пропорции фигур удлиненны,
а позы и жесты естественны и элегантны.
Замечательна композиция левой верхней
части иконы, где фигуры
коленопреклоненных ангелов, поддерживающих «славу»
(сияние) восседающей на золотом троне
Богоматери с Младенцем Христом на руках, так
выразительны, грациозны и «классичны» в
своих сложных ракурсных поворотах, что
напоминают образы Рублева и Дионисия.
Им вторят столь же изысканные фигуры трех
ангелов в красных одеждах по сторонам от
Богоматери и сонм изящных ангельских
головок, окружающих ее сияние. В построении
этой совершенной по гармонической
соразмерности и линейно-цветовому ритму
композиции, как ни в одном другом произведении
XVI в., отразились многие из
художественных достижений предшествующих эпох.
Автор иконы был виртуозным
рисовальщиком. Он обрисовывает силуэты и складки
одежд точными, уверенными линиями,
просвечивающими сквозь прозрачные краски.
Колористическое решение яркое,
праздничное. Огненно-красная киноварь
окрашивает одежды персонажей и небесные сферы;
тонально-цветовые градации зеленых и
синих многочисленны и разнообразны;
красивы сияющие, как бы излучающие
золотистый свет, прозрачные охры на горках и
хитонах. Вместе с тем, в иконе много
типичных для середины XVI в. серых,
коричневых, черных и белых цветов. Характерен
также контраст темных, ярких и светлых
оттенков, плотных насыщенных и жидких
прозрачных красок. По сравнению с
живописной манерой 1-й трети XVI в. в
соловецкой иконе всё трактовано более плоско-
стно и «декоративно». Рисунок складок
одежд, развевающихся тканей, изящные
белильные лещадки, легко и свободно
нанесенные на золотистые горки, тяготеют к орна-
ментальности. Фигуры не моделируются
цветом, а раскрашиваются при помощи
«заливки» — контуры заполняются жидкими
прозрачными красками. Лики с мелкими
чертами повторяют типичные образцы
начала XVI в. Они исполнены мягко и
живописно, но очень обобщенно, «скорописно».
В иконе много орнамента, мелкого узора,
любовно выписанных деталей, не
нарушающих монументального лаконизма и
«декоративности» этого выдающегося произведения
живописи XVI в., в котором языком линий
и красок выражено ликование «твари
земной и небесной», прославляющей
Богоматерь.
Иное впечатление производит другая
соловецкая икона — «Богоматерь Боголюб-
екая, с житиями преподобных Зосимы и
Савватия соловецких»101. В среднике, в
темно-зеленых водах Северного моря,
изображен Соловецкий остров. Слева на
покрытом мелкими горками острове возвышается
стройная фигура Богоматери в темных
одеждах с белым свитком в руке, а перед
ней, на фоне идеальной древнерусской
архитектуры, обозначающей реальные
соловецкие сооружения, в молитвенных позах
стоят основатели Соловецкого монастыря —
преподобные Зосима и Савватий с
припадающей к ногам Богоматери молящейся
братией. Средник окружает вкладная надпись,
из которой следует, что икона была
исполнена в 1545 г. по заказу игумена
Соловецкого монастыря Филиппа Колычева. На
полях 29 клейм «житий» Зосимы и Савватия
и три больших дополнительных
(«приточных») клейма на нижнем поле. Икона
интересна своей новой иконографией:
совмещением изображения Богоматери Боголюб-
ской и «житийных» образов соловецких
чудотворцев.
В ее композиционном построении
вместо привычной для произведений 1-й трети
XVI в. и иконы «Достойно есть»
регулярности, ритмической организации
элементов — сплошное «ковровое» заполнение
плоскости дробными, измельченными,
пестро раскрашенными формами, вносящими в
композицию диссонанс, беспокойство и
дисгармонию. Клейма образуют непрерывные
полосы. Однотипные архитектурные
сооружения (белые одноглавые церковки,
островерхие часовенки), лодки и парусники,
светлые цветные горки с однообразными
белильными лещадками переходят из клейма в
клеймо. Мелкие фигурки в темных одеждах,
сливающиеся в нерасчлененные аморфные
группы, теряются на фоне архитектурных
сооружений и горного пейзажа. Все
элементы трактованы очень плоско, несмотря на
243
Книга первая
миниатюрную разделку одежд тончайшими
линиями рисунка и легкими штрихами
пробелов. Фигура Богоматери в среднике
также плоскостна и статична: у нее острый
угловатый силуэт. Аналогично трактованы и
фигуры предстоящих Богоматери
соловецких чудотворцев с молящейся братией (в их
позах, жестах и типах ликов еще больше
однообразной повторяемости). В иконе
много эклектики, неорганичного сочетания
разнородных черт и элементов. Так,
измельченные фигурки в клеймах напоминают
изображения из рукописей, а яркие белые храмы
с красными и зелеными кровлями
(излюбленный мотив в живописи 2-й половины
XVI в.) более связаны с традициями
народного искусства. Светлые охристые, розовые,
серые, красно-коричневые и зеленые горки
восходят к искусству 1-й трети XVI в., но
Легкие белильные лещадки нанесены
чрезмерно густо и однообразно. Из-за
мелкоуступчатых плоских горок выглядывают
массивные, объемные сооружения (в нижних
клеймах), помещенные здесь для того,
чтобы заполнить все пустоты золотого фона,
уплотнить, «нагрузить» живописную
поверхность. Икона воспринимается как большая
пестрая аппликация, но колорит ее в целом
сумрачный и темный (преобладают темно-
зеленые и коричневые цвета, оживленные
яркими вспышками красного и белого), что,
возможно, отражает вкусы монашеских
кругов. В стиле, манере исполнения и
колорите соловецкой иконы можно найти
особенности, свойственные не только Москве и
Новгороду, но и местным художественным
центрам. Однако в иконографической
программе, в репрезентативной фигуре
Богоматери Боголюбской — покровительницы
Москвы, благословляющей соловецкую
братию, сильнее ощущается государственное
начало, чем местная специфика жизни
отдаленного северного монастыря.
В 1547 г. в Москве случился страшный
пожар, во время которого выгорел
Благовещенский собор и другие кремлевские храмы.
Для срочного восстановления утраченного в
Москву было созвано множество
живописцев из разных русских городов, в том
числе из Новгорода и Пскова. Одновременно
по царскому указу из Звенигорода,
Смоленска, Дмитрова и других городов привезли
древние почитаемые иконы и поставили их
в придворной церкви Благовещения «на
поклонение», что, конечно, способствовало
ознакомлению работавших здесь мастеров с
художественными особенностями
произведений предшествующих эпох.
Развернувшиеся после пожара работы,
продолженные в последующие годы, были
грандиозны по своему размаху. Едва ли не
каждое из созданных тогда произведений
имело глубоко продуманную идейную
программу, отвечавшую целям прославления
царского родословия, «богоизбранной
державы» и православия, было направлено на
формирование идеологии «верноподданного»
московского единодержца — «венчанного
государя» Ивана Васильевича102. События
1547 г. наложили свой отпечаток на стиль
живописи середины — 2-й половины
XVI в. Одной из особенностей
произведений этого времени является, как уже
отмечалось, высокое качество исполнения при
своеобразном эклектизме стиля.
В этом отношении особенно интересна
знаменитая символико-аллегорическая
икона Благовещенского собора, так называемая
«Четырехчастная», созданная псковскими
мастерами в 1547. — 1551 гг. Она вызвала
горячие споры и протесты со стороны
почитателей традиционных образов сразу же
после ее появления в придворном храме.
Причиной споров явилось то, что новая
икона не соответствовала самой сути иконо-
почитания, ибо представляла собой не
«исторический» иконный образ, восходящий
к первообразу и предназначенный для
поклонения, а своеобразный богословский
трактат, в котором
иллюстративно-аллегорическими формами были выражены
догматические представления, почерпнутые из
богослужебных текстов и творений Отцов
Церкви103. Характерно, что отвлеченные
богословские понятия и догматические
положения раскрывались здесь через систему
традиционных сюжетов и образов,
представленных в необычных комбинациях,
соотношениях и связях и соединенных с новыми,
заимствованными на Западе
аллегорическими и метафорическими изображениями
(например, образ Иисуса Христа в виде
молодого воина, восседающего на перекладине
креста; Христа в облике серафима). Кроме
244
Глава 8
того, в кремлевской иконе среди святых
показаны также люди «живе сущи»
(возможно, Иван IV с приближенными),
право на изображение которых было
подтверждено Стоглавым собором 1551 г.
В живописном исполнении иконы также
отчетливо выступают новые художественные
принципы. Многие из них были названы
при анализе выше рассмотренных
произведений. Однако здесь немало и своих
индивидуальных особенностей. Так, основные
принципы и приемы изображения
человеческих фигур восходят к традициям 1-й трети
XVI в., но в благовещенской иконе
фигуры более приземистые, массивные и
грузные. Их одежды покрыты густой
«проволочной» сеткой темных линий и белильных
штрихов, имеющих условный
«декоративный» характер. Рисунок архитектурных
сооружений, скалистых горок с острыми,
изломанными краями пещер и расселин —
прерывистый, угловатый. Многочисленные
изобразительные элементы, заполняющие
поверхность иконной доски, разнообразны
по очертаниям, между ними нет
гармонической связи и ритмической соотнесенности;
они разномасштабны, некоторые из них
разностильны, обильно украшены мелким
орнаментом и узором. Такой разностильно-
стью отличаются, например, типы
архитектурных сооружений. Одни из них
воспроизводят древнерусские многоглавые храмы,
исполненные условно и плоскостно; другие,
напротив, представляют собой
пространственно построенные объемные «античные»
здания. Целый ряд образов, элементов и
деталей (например, в сценах из
Апокалипсиса) следует западным образцам.
Колористическое решение иконы сгармонировано и
достаточно ярко. Преобладают
нюансированные кирпично- и вишнево-красные,
коричневые и зеленые цвета; много
разнообразных охр и умбр. Краски в этой иконе
насыщенные и густые. Сюжетные сцены,
группы персонажей, единичные
изображения отделяются друг от друга узкими
полосками золотого фона или соединяются и
накладываются одно на другое, образуя
типичное для середины XVI в. «ковровое»
заполнение плоскости. Но в «Четырехчастной»
меньше пестроты и дробности, чем в
соловецкой иконе «Богоматерь Боголюбская»,
больше «декоративности» и узора (формы
и расположение лещадок на горках,
орнаментальные волнообразные ленты
«облачных» небесных сфер, узорчатые ткани
одежд, украшения архитектурных деталей и
другое).
Согласно историческому свидетельству,
«Четырехчастная» была исполнена по заказу
священника Благовещенского собора
Сильвестра псковскими мастерами, уехавшими
выполнять работу к себе на родину — во
Псков. Однако специфические черты
псковской школы здесь почти полностью
нивелированы, сплавлены, переплетены с
московскими. К особенностям этой школы можно
отнести только некоторые цветовые
сочетания (своеобразное тонально-цветовое
соотношение красных и зеленых), может быть,
еще трактовку горок с резкими, угловато-
колючими белильными лещадками,
нанесенными плотными, пастозными слоями, а
также пропорции фигур. В целом же — это
типичный памятник формирующегося
общерусского (государственного) стиля
середины XVI в., в котором перерабатываются и
растворяются местные художественные
особенности.
Авторы «Четырехчастной» очень далеко
ушли от нравственных и
художественно-эстетических критериев своих собратьев
эпохи Рублева и Дионисия —
«изографов-лириков». По меткому определению Б. И. Пу-
ришева, художник середины XVI в. — это
«изограф-ритор, хитроумный рассуждатель,
составитель замысловатых символико-алле-
горических композиций, в которых
умозрительно истолковывались нормы и связи
мироздания»; поэтому созданное таким
художником произведение являлось уже не
иконой- (в прямом смысле этого слова), а
«зерцалом теологических спекуляций»104.
В 1550-е гг. в Кремле было создано
самое известное произведение середины
века — грандиозная икона-картина
«Благословенно воинство Небесного Царя»
(«Церковь воинствующая»), предназначенная
для Успенского собора, где она помещалась
рядом с «Мономашим троном» —
Царским местом Ивана IV. Содержание иконы
сложно и многопланово; несмотря на
большое количество исследований, далеко не всё
здесь «расшифровано» и определено105. Од-
245
Книга первая
нако главные идеи очевидны: прославление
небесного воинства, состоящего «из князей-
прародителей и святых воинов»,
«подвизавшихся» за землю Русскую, апофеоз
воинской славы Ивана Грозного, «апология
теории богоизбранности российского
самодержавия во всех его проявлениях», торжество
православия и Русской Церкви106.
«Благословенно воинство» — это своеобразное
церковно-политическое сочинение,
созданное средствами живописи. Поэтому в
содержании иконы много общего с такими
современными ей памятниками письменности, как
«История о Казанском царстве», с
посланиями митрополита Макария к Ивану
Грозному и особенно со «Степенной книгой
царского родословия».
На огромной иконной доске необычной
горизонтальной формы (144 х 396 см)
представлено шествие воинов от горящего
земного града Иерусалима (исследователи
отождествляют его с Казанью, завоеванной
Иваном IV в 1552 г.) к Иерусалиму
Небесному, где восседает Богоматерь с
Младенцем Христом, встречающая
воинов-победителей. Впереди войск, в круглом ореоле
сияния, предводитель небесного воинства и
главный покровитель земных полководцев и
воинов архангел Михаил на стремительно
скачущем крылатом коне. Архангел
обернулся назад к торжественно движущемуся
всаднику с развевающимся стягом в руке.
Над головой всадника парят три ангела с
царским венцом в руках. Исследователи
видят в этом изображении Ивана
Грозного. Всадник также обращен назад к
шествующей за ним монолитной толпе пеших
воинов, в центре которой на коне с крестом в
руке представлен, возможно, византийский
император Константин, утвердивший
христианство (некоторые исследователи
считают, что здесь изображен Владимир
Мономах). Сверху и снизу, а также в центре,
позади пешей толпы — плотные ряды
всадников, образующих сплошной фронт
многочисленного войска-победителя, движущегося
к Небесному Иерусалиму. От небесного
града навстречу воинам летят ангелы с
коронами в руках. Внизу у града — источник
(вероятно, аллегория Константинопольской
Церкви), из которого истекает струя воды,
превращающаяся в «реку истинной веры»
Русской Церкви. Рядом с первым
источником, дающим начало реке, показан пустой
водоем — источник «иссякшей веры»
Римской Церкви, изменившей православию.
Река орошает пышно разросшийся сад,
начинающийся на склонах гор Небесного
Иерусалима и заполняющий собой всё
пространство перед войском. Сад этот на
кремлевской иконе-картине представляет,
видимо, не только традиционный образ Рая, но
также процветающее Русское государство и
царское родословие107.
Как видим, новых черт в содержании
здесь еще больше, чем в других памятниках.
Соответственно этому совершенно
по-новому организована и художественная
структура произведения.
Композиционно-пространственное решение очень сильно отличается
от того, которое было характерно для
рассмотренных икон середины XVI в. Оно
панорамно, передает грандиозное действо,
показывает огромное пространство,
удаленное от зрителя. Икона напоминает
старинную картину или гигантскую
западноевропейскую гравюру. Здесь уже нет и намека
на традиционный поклонный образ.
Иконописные горки, человеческие фигуры, кони,
архитектура, восходящие к искусству
1-й трети XVI в., также значительно
изменились, стали более «реалистическими»,
материально весомыми, массивными. Горки
превращены в почти реальные горные
образования, фигуры воинов, представленных в
живых движениях, естественных
динамичных позах, индивидуализированы. Лики с
тонкими благородными чертами, воинские
доспехи, гербы и орнаменты на щитах
написаны очень тщательно и детально.
Колористическое решение иконы также
направлено на то, чтобы сделать изображаемое
более правдоподобным, по-земному
конкретным, осязаемым. Кони в основном
серые и коричневые. Горки не
многоцветные, а натуралистически серые, объемные.
В одеждах больше разнообразия:
несколько оттенков красного, зеленого, желтого и
коричневого. Однако в целом красочная
гамма произведения, благодаря обилию
серых, коричневых, неярких охристых и
темно-зеленых цветов, тяготеет к сумрачности,
монохромности. Многофигурность
композиции, обилие мелких орнаментальных дета-
246
Глава 8
лей и реалистических элементов (узоры на
доспехах, гербах и щитах, лес поднятых
вверх тонких копий, развевающиеся стяги,
порхающие как птицы ангелы, каменистый
пейзаж с деревьями) не лишают
изображение тяжеловесности, грандиозной
внушительности.
Икона «Благословенно воинство» была
исполнена, вероятно, позднее «Четырех-
частной», скорее всего московскими
мастерами. Ее стиль отличается большей
цельностью, определенностью, органическим
сочетанием различных компонентов
художественной структуры, основанной на новых
формальных принципах. На примере этого
официального репрезентативного
произведения хорошо видно, как «изограф XVI века
начинает ценить конкретность жизненных
проявлений», как он спускается «из
вневременного мира дионисиевской лирики» в
атмосферу «здешнего», земного, «в
драматическую область мировой и, в частности,
русской истории»108.
Памятников монументальной живописи
середины XVI в. сохранилось меньше, чем
икон. Изучены они недостаточно. Однако в
имеющихся публикациях отмечаются
аналогичные процессы формирования
художественного стиля и в стенописях, указывается
их «переходный характер», проявляющийся
в неоднородности стиля, его
противоречивости, в разнохарактерности манер и
образцов109.
В 1560-е гг. государственный стиль
живописи, возникший в кремлевских
мастерских «царских изографов», выступает уже
вполне сложившимся. Свойственная
искусству середины века пестрота,
разноголосица художественных направлений в
значительной степени нивелировались, но не
исчезли полностью. Внутренняя
противоречивость стиля, относительное разнообразие
индивидуальных манер на фоне прочно
утвердившихся общих принципов и
характерных художественных признаков —
типичные особенности искусства 2-й
половины XVI в. В эти десятилетия появилось
стремление «психологизировать» образы,
сообщить им скорбность выражения,
драматизм, и вследствие этого активизировалось
обращение к наиболее эмоциональному
искусству предшествующих эпох — к
произведениям XIV столетия. Противоречивость
стиля 2-й половины XVI в. проявляется
прежде всего в художественной структуре
произведений. Материальная весомость,
рельефность изображений, их осязаемая
вещественность сочетаются с резко выраженной
графичностью форм; экспрессия, динамизм
поз и жестов не преодолевают внутренней
скованности, застылости фигур, инертной
неподвижности тяжелых масс. В
произведениях усиливается монументальность,
обобщенная трактовка многофигурных
композиций и отдельных образов при очень
тщательной, миниатюрной выписанности
деталей и орнаментов. Колористическая гамма
икон этого времени чаще всего темная,
сумрачная. Становится излюбленным сочетание
оливковых, неярких охристых, зеленых и
коричневых, контрастирующих с красным
цветом, окрашивающим детали, и
непроницаемым золотом фона и нимбов.
Причины повышенной драматизации,
суровости образов заключаются в
изменившейся социально-политической обстановке.
Известно, что в 1560-е гг. начался
наиболее трагический период русской истории
XVI в. — период царского произвола и
безграничной жестокости. «Психологизация»
образов с наибольшей полнотой проявилась
в однофигурных изображениях иконописи.
Все отмеченные особенности искусства
1560-х гг. воплощены в иконе «Иоанн
Предтеча Ангел пустыни»110. Фигура
Иоанна Предтечи с мощными, отведенными в
стороны крыльями, репрезентативна и
величественна. Она строго фронтальна,
статична и плоскостна. Обрисовывающая ее
линия острая, угловатая, поэтому силуэт
получается беспокойный, изломанный.
Выразителен лик Иоанна, изборожденный
морщинами, с болезненно сведенными и
приподнятыми в трагическом изломе бровями.
В застывшем скорбном взоре как будто
наполненных слезами глаз выражено то
внутреннее состояние, которое испытывали
современники кровавых событий
грозненской эгюхи. Пластическая лепка лика
тяжела и активна, но главную роль в передаче
рельефа играет строгий, суховатый рисунок.
Красочная гамма типична для 2-й
половины XVI в.: оливково-зеленый фон, темный
зеленый позём, неяркие охряно-умбристые
247
Книга первая
одежды и коричневые крылья с красными
папоротками, внутренний край которых
обведен белильной линией, усиливающей
ощущение беспокойства и дисгармонии.
Несомненно, что мастера этого произведения
вдохновляли глубоко одухотворенные,
скорбные образы XIV в.
Конечно, далеко не все памятники 2-й
половины XVI в. отличались
индивидуализацией и внутренней напряженностью.
Иконы для иконостасов, в большом количестве
писавшиеся в XVI в., более традиционны.
Но преднамеренная архаизация стиля,
ориентация на образцы XIV — XV вв.
очевидны и в этих произведениях (например,
в иконостасе из Тихвина111)-
В стенописях 2-й половины XVI в.
также повторяются многие из выше
отмеченных художественных особенностей. Но если
в иконописи активней выражено стремление
к индивидуальному, к «психологической»
драматизации образов, то во фресках на
первый план выступает тяга к колоссальному,
помпезно-царственному, «пафос
иератического служения высшим силам»112. Наиболее
известный и относительно хорошо
сохранившийся памятник живописи 2-й половины
XVI в. — фрески Успенского собора в
Свияжске113. Эта роспись во многом
связана с сюжетно-иконографической программой
таких основополагающих произведений
середины XVI в., как «Четырехчастная»
икона из Благовещенского собора. В свияжс-
кой церкви воспроизведены сцены из
Ветхого Завета (на сводах), «Отечество» (в
куполе), Христос в облике серафима и другие
символико-аллегорические композиции. Все
поверхности интерьера этого небольшого
храма заняты огромными, неподвижными
фигурами, представленными в основном
фронтально, как бы застывшими в
торжественном иератизме. Их силуэты, тяжело
спадающие крупные складки тканей,
окутывающих фигуры, очерчены толстыми,
четкими цветными линиями, создающими
впечатление объемной пластической моделировки.
Трактовка фигур обобщенная,
монументальная, без нарочитой «декоративности» и
орнаментальной измельченности, но здесь
также, как в произведениях иконописи того
времени, все детали и особенно лики
проработаны очень тщательно и подробно.
Живопись в целом отличается высоким
художественным качеством и подлинным
мастерством.
Своеобразной чертой стиля свияжских
фресок является ориентация на
произведения самого величественного и
монументального искусства прошлого — на росписи
домонгольской эпохи. Не случайно поэтому,
что некоторые изображения ангелов (их
плавно очерченные, тяжелые, несколько
одутловатые лики с крупными
правильными прямыми или слегка загнутыми носами
и огромными широко раскрытыми глазами,
их пышные прически с упругими круглыми
завитками кудрей и другие особенности)
напоминают образы XII столетия. Только
взгляд ангелов XVI в. не влечет к себе
бесконечной глубиной внутреннего мира, как
это было в древнем искусстве, но отстраняет
своей пустотой и мертвенной
неподвижностью.
«Репрезентативный монументализм»
свияжских росписей представляет собой
типичное и в целом яркое художественное
явление XVI в. Это направление долго
сохранялось в русском искусстве, вплоть до 1-й
четверти XVII в. (например, изображения
праотцев 1620 г. из иконостаса
Преображенского собора Соловецкого монастыря114),
а затем неоднократно возрождалось в
архаизирующих росписях 2-й половины XVII
столетия.
Наиболее известные московские
памятники монументальной живописи и
иконостасные комплексы конца XVI в. выполнены в
том же архаизирующем стиле, который, как
мы видели, сложился в царствование
Ивана Грозного, но к началу нового столетия
стал чрезмерно тяжеловесным, вялым и
аморфным, перегруженным «светской
пышностью» парадных костюмов и
архитектурных фонов. Поскольку лучшие
произведения этого стилистического направления
(например, фрески и иконы из Смоленского
собора Новодевичьего монастыря) связаны с
именем Бориса Годунова и его
родственниками, ему дали условное название «годунов-
ской школы»115.
Второе стилистическое направление,
возникшее примерно в те же годы, — это так
называемые «строгановские письма»
(«строгановская школа»)116. Если в произведени-
248
Глава 8
ях «годуновского» стиля, по существу, не
было ничего нового или особо
выдающегося и оригинального, то миниатюрное
письмо строгановских мастеров можно
рассматривать как своеобразную интерпретацию
«царскими изографами» (это были
художники, работавшие для царя и его
приближенных по преимуществу) наиболее
характерных художественных особенностей и
эстетических принципов живописи 1-й
половины — середины XVI в. Эстетизация всех
средств и приемов технического исполнения,
превращение моленного образа в нарядную
дорогостоящую вещь достигает здесь
своего апогея. Изящество, изощренность,
нарочитая утонченность, рафинированность,
замысловатая усложненность, искусственность
и манерность проявляются на всех уровнях
создания произведения. Это искусство
сугубо элитарное, предназначенное для
частных молелен знатоков и ценителей живописи
и узкого круга высокопоставленных лиц. Не
случайно, что многие произведения
«строгановской школы» имеют подписи
художников, а также имена заказчиков. Так, в конце
XVI в. «безымянное искусство начинает
уходить в прошлое», ибо формируется
новая теория образа117.
Темы и
иконографически-композиционные схемы икон «строгановской школы»
разнообразны. Наряду с традиционными, но
получившими особую популярность именно
во 2-й половине XVI в. «походными
иконостасами» и «чинками» (иконостасными
рядами), иконами избранных и соименных
заказчикам святых создавалось немало
произведений, восходящих к аллегорическим
изображениям середины XVI в.,
иллюстраций притч и различных библейских
сюжетов. Размеры икон, как правило, небольшие,
что позволяло превращать их в тщательно
отделанные миниатюры. Важной
художественной особенностью произведений
«строгановской школы» является изображение
мельчайших деталей, тончайшего узора на
одеждах, архитектуре и элементах пейзажа,
многочисленных сюжетных подробностей,
которые выписывались художником не по
причине его внимания и интереса к бытовым
деталям и совсем не для того, чтобы дать
наиболее полную характеристику
изображаемого, а исключительно с целью украшения
произведения иконописи как драгоценной
ювелирной вещи, ее
«декоративно-орнаментальной» бузупречно отшлифованной
поверхности, предназначенной для
внимательного рассматривания и эстетического
любования. Техническое мастерство
строгановских живописцев было очень высоко и
преднамеренно эстетизировано. Тонкая
каллиграфичная линия, мельчайший, умело
положенный мазок, создающий отточенные
формы, прихотливо вьющийся измельченный
орнамент, густо заполняющий одежды,
воинские доспехи и щиты, — все это имеет
свою собственную художественную красоту
и большую эстетическую ценность.
Фигуры людей и животных, фантастические
звери, архитектурные сооружения, горки с
деревьями и травами, облачные небесные
сферы — усложненные по очертаниям, измель-
ченно-дробные по формам. Одежды
трактуются плоско, графично. Их мелкие,
вычурные складки и вторящие им блики
светов превращаются в ритмический узор.
Лики, напротив, кажутся объемными
благодаря контрасту санкирных теней и
светлых, сильно разбеленных охр. Цветовая
гамма «строгановских» икон разнообразна,
но большинство мастеров использует
твореное золото (иногда серебро) для того,
чтобы «создать впечатление материальной
драгоценности живописи»118. Однако тонкое,
ювелирное письмо одежд и ликов, эмалевые
переливы их красок были лишь составной
частью этих дорогостоящих произведений,
так как изощренная живописная красота
искусно сделанной вещи, ее художественная
и материальная ценность усиливались
серебряными и золотыми окладами с чернью,
эмалью, жемчугом и драгоценными
камнями. При всем том, в сочетаниях красок
«строгановских» икон есть тенденция к
естественности и правдоподобию.
Характерно, что и в типах округлых одутловатых
ликов с мелкими чертами, и в узорчатой
орнаментальности тканей парадных одежд
также появляется легкий оттенок
своеобразного иконописного натурализма, который
станет одним из специфических качеств
живописи XVII столетия.
Художественные особенности
произведений «строгановской школы» выражают
мироощущение и эстетические идеалы тех со-
249
Книга первая
циальных слоев конца XVI — начала
XVII в., которые хотели «уйти от грозных
событий жизни в мир личных чувств и
утонченной красоты»119. Однако при всей
условности, искусственности изображений
человека здесь появляется много реальных черт
современников, их «суетного и суетливого»
образа жизни, сочетающегося с
настроением безропотного смирения, трепетной
покорности и глубоко затаенной грусти,
прикрытых внешней красотой деталей, манерными
жестами и роскошными орнаментами одежд.
Предстоящие Богу люди изображаются
слабыми и как будто нарочито безвольными.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Литературу о домонгольской живописи и
воспроизведения произведений см. в следующих
изд.: Антонова В. И., Мнева H. E. Каталог
древнерусской живописи X — начала XVIII вв.
[ГТГ]. М., 1963. Т. 1; Живопись
домонгольской Руси. Каталог выставки. М., 1974;
Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960;
Он же. Михайловские мозаики. М., 1966; Он
же. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973;
Он же. Русская иконопись от истоков до
начала XVI века. М., 1983; Смирнова Э. С.
Живопись Великого Новгорода. Середина XIII —
начало XV века. М., 1976; Попова О. С.
Русская книжная миниатюра XI — XV вв. //
Древнерусское искусство. Рукописная книга (3).
М., 1983. С. 9 — 74; Салько Н. Живопись
Древней Руси XI — начала XIII века.
Мозаики. Фрески. Иконы. Л., 1982; Laurina V.
Novgorod Icons 12th — 17th Century.
Leningrad, 1980.
2 См.: Лазарев В. Н. История византийской
живописи. M., 1947. T. 1. С. 104 — 156; Он
же. История византийской живописи. М., 1986.
Текст. С. 87 — 122.
3 См.: Лазарев В. Н. Древнерусские
мозаики и фрески. С. 20.
4 См.: Лверини,ев С. С. К уяснению смысла
надписи над конхой центральной апсиды Софии
Киевской // Древнерусское искусство.
Художественная культура домонгольской Руси. М.,
1972. С. 25 — 49.
5 Лихачев Д. С. Развитие русской
литературы X—XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973. С. 32.
6 Эта греческая икона была принесена в Киев
из Константинополя в первой трети XII в.
В 1155 г. князь Андрей (Боголюбский) ушел из
Излишне утонченные хрупкие фигурки
производят впечатление болезненной
надломленности, «династического вырождения».
У них небольшие головы, тонкие ноги и руки
с изящными кистями. Ступни ног
непропорционально маленькие, с острыми носочками.
Поэтому святые так неуверенно ступают по
земле, «танцуют», встают на цыпочки,
поднимаются в воздух. Их позы, жесты рук,
повороты и наклоны голов часто вычурны и
манерны. Все эти особенности сообщают
образам ту искусственную «этикетную»
красоту и чинность, которые станут
типичными для многих изображений XVII в.
Киева на северо-восток, чтобы основать там
свое собственное княжество. В качестве
действенной заступницы и покровительницы он
взял с собою ту греческую икону Богоматери,
которая, как сказано об этом в древних
письменных источниках, выделялась среди всех
других киевских икон особой духовной глубиной и
художественным совершенством. Икона сразу
же стала почитаться как чудотворная. О
совершенных ею чудесах было составлено
несколько сказаний, древнейшее из которых написано
при непосредственном участии Андрея Бого-
любского. Во Владимире икона стояла в
Успенском соборе, построенном князем Андреем
специально для этой святыни. В конце XV в.
икона была перенесена в Успенский собор
Московского Кремля, где находилась до революции
1917 г. В настоящее время икона хранится в
Третьяковской галерее.
7 Росписи Софии Новгородской, построенной
между 1045 и 1050 гг., являются самыми
ранними в Новгороде. Они были исполнены,
вероятно, в 1108 г. (по свидетельству Первой
Новгородской летописи). Система росписи была
очень близка Софии Киевской. От этой росписи
сохранились лишь семь фигур пророков в
барабане.
8 Лазарев В. Н. Фрески Старой Ладоги. М.,
1960. С. 80 — 91.
9 Фрески бывшей церкви Успения,
посвященной затем Благовещению, в деревне Аркажи под
Новгородом, исполнены в 1189 г. Фрагментарно
сохранившиеся росписи находятся в основном в
алтарной части храма. В конхе — Христос во
«славе» со святителями; в дьяконнике — сцены
из жизни Иоанна Крестителя и святые; в жерт-
250
Глава 8
веннике — Богородичный цикл; на арках —
святые.
10 Попова О. С. Свет в византийском и
русском искусстве XII — XIV веков //
Советское искусствознание'77. М., 1978. Вып. 1.
С. 79.
11 В середине — 2-й половине XVI в.
икона была привезена Иваном Грозным из
Новгорода в Московский Кремль. До революции
1917 г. она находилась в Успенском соборе. В
настоящее время хранится в Третьяковской
галерее. В XVIII в. возникла легенда о
происхождении этого образа из Великого Устюга, и
икона получила название «Благовещение
Устюжское».
12 Происхождение иконы неизвестно. До
революции она находилась в Румянцевском музее
в Петербурге. В настоящее время хранится в
Русском музее. Лик хорошей сохранности.
Золотой фон на полях утрачен, зеленая краска фона
поздняя.
13 Икона двусторонняя: на обороте
изображено «Поклонение кресту», выполненное в иной—
свободной, живописно-размашистой манере. До
революции 1917 г. икона находилась в
Успенском соборе Московского Кремля, куда она
была привезена, вероятно, во 2-й половине
XVI в. Иваном Грозным. В настоящее время
хранится в Третьяковской галерее. Верхний
красочный слой лика Христа несколько потерт.
Перекрестья нимба первоначально были украшены
орнаментом, имитирующим драгоценные камни.
14 Цветные воспроизведения этих икон см. в
кн.: Laurina V. Novgorod Icons. II. 16, 21.
15 См.: Попова О. С. Искусство Новгорода
и Москвы первой половины четырнадцатого
века. Его связи с Византией. М., 1980.
16 См.: Попов Г. В., Рындина А. В.
Живопись и прикладное искусство Твери XIV —
XVI веков. М., 1979.
17 См.: Смирнова Э. С. Живопись Великого
Новгорода. Середина XIII — начало XV века.
С. 84, 86, 204 — 206, кат. № 14.
is Там же. С. 144.
19 Воспр.: Laurina V. Novgorod Icons. II. 4
(«Святые Борис и Глеб на конях»), il. 43 —
44 («Благовещение»).
20 Смирнова Э. С. Живопись Великого
Новгорода. Середина XIII—начало XV века. С. 102.
21 Там же. С. 102.
22 Там же. С. 234 — 236; Laurina V.
Novgorod Icons. II. 55.
23 Смирнова Э. С, Лаурина В. К., Горди-
енко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV
век. М., 1982. С. 17.
24 См.: Ровинский Д. А. История русских
школ иконописания до конца XVII века //
Записки имп. Археологического общества. VIII.
СПб., 1856; Он же. Обозрение иконописания
в России до конца XVII века. СПб., 1903.
25 Икона воспр. в цвете: Лазарев В. Н.
Новгородская иконопись. М., 1969. Ил. 32 — 36;
Laurina V. Novgorod Icons. II. 67 — 70.
26 Смирнова Э. С, Лаурина В. /С., Горди-
енко Э. А. Живопись Великого Новгорода.
XV век. С. 93 — 96, кат. № 30; воспр. в
цвете: Laurina V. Novgorod Icons. II. 100 — 102,
113 — 119.
27 См.: Laurina V. Novgorod Icons. II. 141 —
143.
28 Смирнова Э. С, Лаурина В. К., Горди-
енко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV
век. С. 75.
2* Там же. С. 111, кат. № 44, 45, 46. Ср.:
Лазарев В. Н. Новгородская иконопись.
С. 20 — 24, ил. 26, 28. «Огненное
восхождение Ильи Пророка» в цвете воспр.: Laurina V.
Novgorod Icons. II. 132.
30 См.: Смирнова Э. С, Лаурина В. К., Гор-
диенко Э. А. Живопись Великого Новгорода.
XV век. С. 273—274, кат. № 45.
31 См.: Овчинников А., Кишилов Н.
Живопись древнего Пскова XIII—XVI веков. М.,
1971. Ил. 15 — 19, кат. № 10; Псковская икона
XIII—XVI веков. Л., 1990. С. 295 - 296,
ил. 18. Датировка иконы определяется
по-разному — от 2-й половины XIV до 2-й
половины XV в.
32 См.: Овчинников А., Кишилов Н.
Живопись древнего Пскова. Ил. 20 — 22, кат. № 11;
Псковская икона. С. 295, ил. 17. Большинство
историков искусства датируют икону 2-й
половиной XIV — началом XV в., но есть не
лишенное оснований предположение о ее создании
в 1-й трети XV столетия.
33 См.: Лазарев В. Н. Вклад Новгорода и
Пскова в русское искусство / / История
русского искусства. М., 1954. Т. 2. С. 374 — 376.
34 См.: Овчинников А., Кишилов Н.
Живопись древнего Пскова. Ил. 28 — 30, кат.
№ 14; Псковская школа. С. 294 — 295, ил. 14;
Об иконографии и содержании иконы см.: Ое-
чинников А. Н. Икона середины XV века
«Воскресение» // Древний Псков. М., 1988.
С. 133 — 154.
35 См.: Овчинников А., Кишилов Н.
Живопись древнего Пскова. Ил. 43, кат. № 22;
Псковская икона. С. 298, ил. 28.
36 Там же. Ил. 41 — 42, кат. № 21;
Псковская икона. С. 297, ил. 25.
37 См.: Щенникова Л. А. Из истории
изучения московской школы иконописи XIV —
начала XV века // Советское искусствознание.
М., 1988. Вып. 24. С. 58 — 96. Popova О. Les
251
Книга первая
miniatures russes du XI-e un XV-e siècle.
Leningrad, 1975; русский текст см. //
Древнерусское искусство. Рукописная книга (сб. 3). М.,
1983. С. 9 — 74; Ророиа О. Russian Illuminated
Manuscripts of the 11th to the Early 16th
Centuries. Leningrad. 1984; Попова О. С. Искусство
Новгорода и Москвы первой половины
четырнадцатого века. Его связи с Византией. М.,
1980; Вздорное Г. И. Исследование о
Киевской Псалтири. М., 1978; Он же. Искусство
книги в Древней Руси. Рукописная книга
Северо-Восточной Руси XII — начала XV века.
М., 1980; Смирнова Э. С. Московская икона
XIV — XVII веков. М.; Л., 1988. См. также:
Лазарев В. Н. Московская школа иконописи.
М., 1971; Он же. Русская иконопись от
истоков до начала XVI века. М., 1983.
38 См.: Вздорное Г. И. Искусство книги в
Древней Руси. Кат. № 29.
39 См.: Лазарев В. Н. Московская школа
иконописи. Ил. 16; Смирнова Э. С.
Московская икона XIV—XVII веков. С. 260,
ил. 3 -5.
40 См.: Жидкое Г. В. Московская живопись
средины XIV века. М., 1928; Попова О. С.
Искусство Новгорода и Москвы первой
половины четырнадцатого века. Его связи с Византией.
С. 91 — 147; Смирнова Э. С. Московская
икона XIV—XVII веков. С. 259 — 260, ил. 1, 2.
41 См.: Вздорное Г. И. Феофан Грек.
Творческое наследие. М., 1983. Ил. Н/1—9; XII/
1—2; XVII.
42 См.: Щенникова Л. А. О происхождении
древнего иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля // Советское искусство-
знание'81. М., 1982. Вып. 2 (15). С. 81 — 129;
Она же. Станковая живопись //
Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А.
Благовещенский собор Московского Кремля.
М.. 1990. С. 45, 48, 51 — 56, ил. 108 — 128;
Смирнова Э. С. Московская икона XIV —
XVII веков. С. 262 — 263, ил. 12 — 27.
43 О «Богоматери Донской» см.:
Щенникова Л. А. История иконы «Богоматерь Донская»
по данным письменных источников XV —
XVII веков // Советское искусствознание. М.,
1984. Вып. 2 (17). С. 321 — 338;
Смирнова Э. С. Московская икона XIV — XVII
веков. С. 263 — 264, ил. 28 — 33.
44 Икона сохранилась фрагментарно: фон
средника, ноги Предтечи, нижние части крыльев
и все клейма со сценами жития полностью
утрачены. См.: Вздорное Г. И. Феофан Грек.
Творческое наследие. Ил. XIII; Смирнова Э. С.
Московская икона XIV — XVII веков.
С. 268 — 269, ил. 55, 56.
45 См.: Машнина В. С. Икона «Архангел
Михаил с деяниями» из Архангельского
собора Московского Кремля. М., 1968;
Смирнова Э. С. Московская икона XIV — XVII
веков. С. 272 — 273, ил. 68 — 76.
Старый Архангельский собор вторично был
украшен фресками Феофаном Греком с
учениками в 1399 г. Один из них, возможно, и
исполнил тогда сохранившийся до наших дней
храмовый образ архангела Михаила.
46 См.: Масленицын С. И. Ярославская
иконопись. М., 1973. Ил. 8 — 9.
47 См.: Лазарев В. Н. Московская школа
иконописи. Ил. 3 — 8; Смирнова Э. С.
Московская икона XIV — XVII веков. С. 267 —
268, ил. 46 — 52.
48 См.: Ростово-Суздальская школа
живописи. М., 1967. Ил. 53. Смирнова Э. С.
Московская икона XIV — XVII веков. С. 268, ил. 53,
54.
49 Приселков М. Д. Троицкая летопись.
Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 455, 466.
50 Литература о творчестве Андрея Рублева:
Данилова И. Е. Андрей Рублев в русской и
зарубежной искусствоведческой литературе //
Андрей Рублев и его эпоха. Сб. статей под ред.
М. В. Алпатова. М., 1971. С. 17 — 61;
Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М.,
1966; Алпатов М. В. Андрей Рублев. М.,
1972; Смирнова Э. С. Московская икона
XIV — XVII веков. С. 19 — 25.
51 В период реставрационных работ 1974 —
1979 гг. в верхней части собора под сводами, в
люнетах, из-под записей XIX в. были
открыты следующие фрагментарно сохранившиеся
изображения: «Введение Богоматери во храм»,
«Жертвоприношение Иоакима и Анны»,
«Крещение», «Преображение», «Сошествие
Святого Духа».
52 См.: Грабарь И. О древнерусском
искусстве. М., 1966. С. 167 — 174.
53 Большая часть дошедших до наших дней
фрагментов росписи в настоящее время
испорчена многократными поновлениями,
неудачными реставрационными расчистками и
тонировками. Особенно сильно пострадала
колористическая гамма.
54 Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1959.
С. 33.
55 См.: Архангельский А. С. Нил Сорский
и Вассиан Патрикеев. СПб., 1882. С. 157.
56 Слова преп. Симеона Нового Богослова.
М., 1890. С. 33 — 37.
57 Цит. по: Аникиев П. Апология мистики по
творениям преп. Симеона Нового Богослова.
Пг., 1915. С. 29.
58 Слова преп. Симеона Нового Богослова.
С. 67.
252
Глава 8
59 Цит. по: Алексей, епископ. Византийские
церковные мистики 14-го века. Преподобный
Григорий Палама, Николай Кавасила и
преподобный Григорий Синаит // Православный
собеседник. Казань, 1906. №1-4. С. 424 —
425.
60 См.: Алпатов М. В. Андрей Рублев. М.,
1972. С. 153.
61 См.: Плугин В. А. О происхождении
«Троицы» Андрея Рублева // История СССР.
1987. № 2. С. 64 — 79.
62 Поновлены лики (особенно у ангела
слева), по всей поверхности разновременные
тонировки и вставки, прописи по контурам фигур,
большие потертости красочного слоя, почти
полностью утрачено золото на нимбах и фоне.
Первоначально живопись была ярче, плотнее, пас-
тознее, складки выглядели рельефнее,
пластическая лепка была более активная, объемная.
63 Цит. по: Демина Н. А. Андрей Рублев и
художники его круга. М., 1972. С. 75.
64 Цит. по: Алексей, епископ. Византийские
церковные мистики 14-го века. С. 424.
63 Флоренский П. Троице-Сергиева Лавра
и Россия // Троице-Сергиева лавра. Сергиев,
1919. С. 20.
66 См.: Прохоров Г. М. Культурное
своеобразие эпохи Куликовской битвы // Труды
отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 34.
С. 16 — 17.
67 Сопоставление колорита «Святой Троицы»
с «воспоминанием о зеленом, слегка буреющем
поле ржи, усеянном васильками», впервые было
сделано И. Э. Грабарем (Грабарь И. О
древнерусском искусстве. С. 173).
68 См.: Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его
школа. С. 26.
69 О новых исследованиях по
Благовещенским праздникам см.: Щенникова Л. А. О
происхождении древнего иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля. Советское ис-
кусствознание'81. М., 1982. Вып. 2(15).
С. 81 — 129; Она же. К вопросу об атрибуции
праздников из иконостаса Благовещенского
собора в Московском Кремле // Советское
искусствознание. М., 1986. Вып. 21. С. 64 —
97; Она же. Станковая живопись // Маясо-
ва Н. А., Качалова И. Я., Щенникова Л. А.
Благовещенский собор Московского Кремля.
М., 1990. С. 45, 48, 56 — 59, ил. 129 — 152.
70 См.: Смирнова Э. С. Московская
икона XIV — XVII веков. С. 283 — 284, ил. 116,
.118.
71 О Дионисии см.: Лазарев В. Н.
Дионисий и его школа // История русского
искусства. Под ред. И. Э. Грабаря М., 1965. Т. 3.
С. 482 — 541; Попов Г. В. Живопись и
миниатюра Москвы середины XV — начала XVI
века. М., 1975. С. 73 — 122.
72 Большинство рассматриваемых в тексте
фресок воспроизведено в кн.: Данилова И. Е.
Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970.
73 См.: Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — начала XVI века
С. 102 — 103.
7« Там же. С. 104.
75 См.: Данилова Е. И. Фрески
Ферапонтова монастыря. С. 10 — 11.
76 См.: Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — начала XVI века.
С. 102.
77 См.: Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи со второй половины XIV до начала
XVIII века. М.; Л., 1941. С. 44 — 45.
78 См.: Толкование на Апокалипсис
Святого Андрея, Архиепископа Кесарийского. М.,
1901. С. 36, 186.
79 Там же. С. 26 — 27, 30, 32.
80 Сейчас ярко-красный цвет в росписях
почти полностью утрачен. См.: Кочетков И. А.
О первоначальном колорите росписей Дионисия
// Памятники культуры. Новые открытия.
Ежегодник 1977. М., 1977. С. 253 — 258.
81 Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — начала XVI века. С. 104.
S2 Там же. С. 107.
83 Кривошеий В. Аскетическое и
богословское учение св. Григория Паламы // Семинар
Кондакова. Прага, 1936. Вып. 8. С. 103.
84 См.: Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — начала XVI века.
С. 82.
83 Смирнова Э. С. Московская икона
XIV — XVII веков. С. 292 — 293, ил. 148,
150.
86 Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — XVII века. С. 115 — 116.
87 См.: Смирнова Э. С. Московская икона
XIV—XVII веков. С. 293 — 295, ил. 151 —
154.
88 Попов Г. В. Живопись и миниатюра
Москвы середины XV — начала XVI века. С. 85.
89 Там же. С. 121.
90 См.: Попов Г. В. Художественная жизнь
Дмитрова в XV — XVI вв. М., 1973.
С. 111 — 115; Антонова В. И., Мнева H. E.
Каталог древнерусской живописи XI —
начала XVIII в. [ГТГ]. М., 1963. Т. 1. Кат.
№ 284, ил. 230 — 231; Салтыков А. А.
Музей древнерусского искусства имени Андрея
Рублева. М., 1981. Ил. 52 — 54, 63 — 65.
91 Сорокатый В. М. Московская икона
начала XVI в. в Архангельском музее // Памят-
253
Книга первая
ники культуры. Новые открытия. Ежегодник
1977. С. 258 — 267.
92 См.: Смирнова Э. С. Московская икона
XIV — XVII веков. С. 300, ил. 170.
93 См.: Там же. С. 298, ил. 163;
Салтыков А. А. Музей древнерусского искусства
имени Андрея Рублева. Ил. 45, 66.
94 См.: Смирнова Э. С. Московская икона
XIV — XVII веков. С. 298 — 299, ил. 164.
95 См.: Попов Г. В. Художественная жизнь
Дмитрова. С. 120 — 121; Салтыков А. А.
Музей древнерусского искусства имени Андрея
Рублева. Ил. 55 — 57.
96 См.: Смирнова Э. С. Московская икона
XIV - XVII веков. С. 299—300, ил. 165 -
169.
97 Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи. С. 55.
9» Там же. С. 54, 57.
99 См.: Гл. 4 раздела 1; также:
Успенский Л. А. Богословские иконы Православной
Церкви. Париж, 1989. С. 239 — 274, 315 —
352 (гл. XIII: Московские Соборы XVI века и
их роль в церковном искусстве; гл. XV:
Большой Московский Собор и образ Бога Отца).
100 См.: Скопин В. В., Щенникова A.A.
Архитектурно-художественный ансамбль
Соловецкого монастыря. М., 1982. С. 26 — 29, ил. 13 —
16; Смирнова Э. С. Московская икона XIV —
XVII веков. С. 304 — 305, ил. 186,187.
101 См.: Маясова Н. А. Памятник с
Соловецких островов. Икона «Богоматерь Боголюбская с
житиями Зосимы и Савватия». 1554 г. Л., 1970;
Смирнова Э. С. Московская икона XTV — XVII
веков. С. 300 — 301, ил. 171, 172.
102 Подобедова О. И. Московская школа
живописи при Иване IV. М., 1972. С. 8.
юз Там же. С. 52.
104 Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи. С. 60.
105 См.: Подобедова О. И. Московская
школа живописи при Иване IV. С. 22 — 39;
Морозов В. В. Икона «Благословенно воинство» как
памятник публицистики XVI века //
Государственные музеи Московского Кремля.
Произведения русского и зарубежного искусства XVI
— начала XVIII века. (Материалы и
исследования; IV). М., 1984. С. 17 — 31; Кочетков
И. А. Истолкование иконы «Церковь
воинствующая» // Труды отдела древнерусской
литературы. М.; А, 1985. Т. 38. С. 185 — 209;
Смирнова Э. С. Московская икона XIV —
XVII веков. С. 302 — 303, ил. 175 — 179.
106 Подобедова О. И. Московская школа
живописи при Иване IV. С. 28 — 29;
Морозов В. В. Икона «Благословенно воинство» как
памятник публицистики XVI века. С. 29.
107 Морозов В. В. Икона «Благословенно
воинство» как памятник публицистики XVI века.
С. 22.
108 Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи. С. 61.
109 См.: Малков Ю. Г. Стенопись собора
Чудо Архангела Михаила в Хонех в
Московском Кремле (опыт реконструкции) //
Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М.,
1977. С. 368 — 387.
110 См.: Даен М. Е. Новооткрытый
памятник станковой живописи эпохи Ивана
Грозного (икона «Иоанн Предтеча» из Махрищского
монастыря) // Древнерусское искусство.
Художественная культура Москвы и прилежащих
к ней княжеств. XIV — XVI вв. М., 1970.
С. 207 — 225; Во 2-й половине XVI в. было
написано множество икон Иоанна Предтечи,
соименного покровителя Ивана Грозного.
Смирнова Э. С. Московская икона XIV — XVII
веков. С. 303 — 304, ил. 182, 183.
111 См.: Смирнова Э. С. Живопись Древней
Руси. (Находки и открытия.) Л., 1970. Ил.
31 — 34.
112 Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи. С. 53.
113 См.: Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи. С. 69 — 75; Мнева H. E.
Московская живопись XVI века // История
Русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 560 — 564.
114 См.: Иванова И. А. Музей
древнерусского искусства имени Андрея Рублева. М., 1968.
Ил. 82 — 83; Скопин В.В., Щенникова A.A.
Архитектурно-художественный ансамбль
Соловецкого монастыря. С. 40 — 41, ил. 27 — 28.
115 См.: Мнева H. E. Живопись конца
XVI — начала XVII века // История русского
искусства. Т. 3. С. 635 — 643.
116 См.: Дмитриев Ю. А. «Строгановская
школа» живописи // История русского
искусства. Т. 3. С. 643 — 676.
"7 Там же. С. 658.
И« Там же. С. 658.
"9 Там же. С. 656.
Глава 9
Декоративно-
прикладное
искусство
1 1ри рассмотрении
декоративно-прикладного искусства Древней
Руси необходимо учитывать
полифункциональность его произведений, следствием
которой явилась особая их семантическая
наполненность. Собственно эстетическая
функция, основная для современного
декоративно-прикладного искусства, в них далеко
не всегда была главной, сочетаясь, как
правило, с неким внеэстетическим назначением
предмета. Славянские височные кольца,
например, служили не только для украшения,
но и для обозначения племенной
принадлежности владельца, так как в каждом
племени бытовали кольца лишь одного
определенного вида. В более позднее время вышивка
и покрой одежды, форма женских головных
уборов и т. п. отличали друг от друга
обитателей различных регионов.
В произведениях
декоративно-прикладного искусства мог воплощаться и социальный
статус их хозяина: бармы, венцы, скипетр и
держава служили атрибутами царской
власти, митры и саккосы приличествовали
высшему духовенству, представители верхушки
феодального общества носили золотые и
серебряные кресты и украшения, богато
орнаментированную одежду, пользовались в
быту предметами из драгоценных металлов.
Сословные различия как бы овеществлялись
в произведениях декоративно-прикладного
искусства; присвоение атрибутов высшего
сословия выходцами из нижних слоев
осуждалось блюстителями морали. Монах
Троице -Сергиева монастыря Авраамий Пали-
цын с негодованием писал: «Вси подобящеся
царевым вельможам и сродечем царевым
украшением злата, и сребра, и одеждей, и
коней <...> — не токмо же таковии, но и от
купцов сущей и от земледелец. И толи-
ко гордение бысть, яко не познати во
украшениях жен и чад, чьи суть: в блещаниях
злата и сребра и бисерех ходяще, вси бо
боярствоваху»1. Нарушение принципа
сословной принадлежности определенных
видов декоративно-прикладных изделий
могло приводить к исключению их из быта
знати. По наблюдению англичанина Д. Флет-
чера, посетившего Россию в XVI в.,
«благородные женщины с недавнего времени
перестали унизывать шапки жемчугом,
потому что жены дьяков и купеческие стали
подражать им»2.
Произведения декоративно-прикладного
искусства могли преследовать более узкие
цели, например, нести фамильные знаки,
указывая на родственные связи владельца.
На серебряных блюдах XV — XVI вв. по
краю обычно делалась надпись о том, кому
это блюдо принадлежало первоначально. Эта
утварь передавалась по наследству и
свидетельствовала о знатности и богатстве всего
рода ее обладателя в исторической
перспективе. Не случайно князья Шуйские на
серебряных сосудах, изготовленных из
похищенной ими царской казны, надписывали
имена своих предков3. А на серебряной
ложке волоцкого князя горделиво значилось:
«Князя Федор Борисова внук великого
князя Василья Васильевича правнук великого
князя»4. Можно вспомнить в этой связи и
драгоценный пояс, который Софья Витов-
товна прилюдно сорвала с Василия Косого,
так как этот пояс являлся принадлежностью
старшей ветви великокняжеской семьи.
Чрезвычайно важной для
средневекового сознания была и апотропеическая
функция предметов декоративно-прикладного
искусства. Различные амулеты, кресты,
змеевики, панагии служили оберегами,
защищающими хозяина от враждебных сил.
Первоначально эту роль выполняли, очевидно,
хорошо известные по археологическим
находкам привески с уточками, коньками и
т. п. Постепенно их сменили изделия с
христианской символикой. Последняя оказалась
высококонкурентоспособной именно в сюже-
тике оберегов вследствие ее
антропоморфности и личностного характера. Языческие
амулеты были имперсональными, они охраняли
не столько личность, сколько родовую
сущность владельца: одинаковые амулеты (или
даже один и тот же амулет) могли служить
и своему обладателю, и его врагу. В хрис-
255
Книга первая
тианских же оберегах четко
прослеживается патрональная идея: кресты-энколпионы,
каменные и деревянные образки, панагии,
даже оклады Евангелий нередко имеют
изображения святых, соименных заказчику
или членам его семьи. Ради этого
принципа допускалась даже трансформация
канонической иконографии, невозможная в
живописи: так, на окладе Евангелия Федора
Кошки в деисусной композиции вместо св.
Иоанна Предтечи представлен св. Иоанн
Златоуст, являвшийся, вероятно, патрональ-
ным святым сына заказчика5. Привлекала в
христианской системе оберегов и ее развет-
вленность, дифференцированность:
изображения одних святых или сцен должны были
спасать от пожаров, других — от
потопления или «напрасной смерти». На этой основе
в декоративно-прикладном искусстве
сложился свой излюбленный набор сюжетов, не
имеющих такого распространения в живописи:
«Семь спящих отроков эфесских», «Три
отрока в пещи огненной», «Св. Сисиний»,
«Апостол Тимофей», каменные иконки с
«Гробом Господним», связанные с
представлением о целебной силе камня от
иерусалимской святыни6. Охранительными
свойствами могли обладать и бытовые предметы —
не случайно на чарках и братинах
помещали надписи о питье «во здравие», одежду
украшали апотропеическим орнаментом, а
драгоценным камням в ювелирных
изделиях приписывали магические качества.
Произведения декоративно-прикладного
искусства могли выполнять апотропеическую
функцию благодаря тому, что за ними
предполагалась возможность воздействия на
реальность, а следовательно, внеположенность
повседневному быту. Этим, вероятно,
объясняется экзотичность древнерусского бести-
ария: львы, единороги, грифоны, во
множестве встречающиеся в резьбе по камню и
дереву, призваны были не воспроизводить
действительный мир, а воздействовать на
него.
Чрезвычайно существенной для
средневекового декоративно-прикладного искусства
была включенность многих его произведений
в определенный ритуал — светский,
магический, церковный, — который нередко
обусловливал и самую потребность в
предметах данного вида. Братина с ее
характерной формой получила распространение в
XVI — XVII вв. как атрибут «чина чаши»;
дорогие блюда служили для присылки
хлеба-соли с государева стола, царские регалии
использовались при торжественных выходах.
Металлические зеркала употреблялись при
гадании, ковши в Новгороде закладывали в
основание домов как умилостивительную
жертву, а в Москве в более позднее время
их жаловали в награду, что сказалось на
облике ковшей.
Большинство же дошедших до нас
произведений декоративно-прикладного
искусства имело культовое назначение и
включалось в контекст храмового действа.
Поэтому нередко их формальные особенности
определялись не столько техникой исполнения,
сколько ролью в этом процессе. Скажем,
шитье — плащаницы, покровы на
гробницы святых, подвесные пелены к иконам
расценивались современниками как дополнение
или замена священных изображений и
потому украшались шитьем лицевым —
сюжетным. Рисунок для него знаменили
иконописцы, фактура ткани никак не обыгрывалась,
так что подобное шитье скорее надо
рассматривать как своеобразный вид живописи.
Далее, важная роль Евангелия в ходе
богослужения стимулировала оформление его не
просто драгоценным окладом, но и
сюжетными изображениями — Распятием или
Вознесением, фигурами евангелистов и
апостолов, что привносило в оклад элементы
скульптуры или живописи. В результате
границы между различными видами искусств
оказывались размытыми, так что иногда
отнесение того или иного предмета к
произведениям декоративно-прикладного искусства
зиждится лишь на традиции, сложившейся
применительно к искусству Нового
времени.
Зыбкость грани, отделяющей
средневековое декоративно-прикладное искусство от
прочих пластических искусств, была
обусловлена и многократной повторяемостью
форм и сюжетов в пределах храмового
комплекса. Крестам наперсным, напрестольным,
поклонным, крестам, вышитым на пеленах и
фелонях, выгравированным на дискосах,
вторили изображения Распятия и Поклонения
кресту — в живописи, крест плана, креща-
тый свод и крест, венчающий храм, — в
256
Глава 9
архитектуре. Кадила, надпрестольные сени,
большие сионы и крохотные «сионцы» —
подвески к иконам, обрамление образков* на
вратах иконостаса воспроизводили форму
храма. Фрески и иконы являли те же
сцены и нередко в той же иконографии, что и
в лицевом шитье, богослужебных сосудах
или панагиях. Единым был и декор
различных предметов: одинаковый орнамент мог
украшать и сканный оклад иконы, и резные
тябла иконостаса, и «полотенца» нижнего
ряда росписи, и — в виде резьбы по
камню — наружные стены здания. Поэтому
рассмотрение ряда элементов культового
комплекса в качестве «прикладных» во многом
является условным.
Искусство средневековой Руси, то есть
Руси православной, было теснейшим образом
связано с главным центром православного
мира — Византией. Однако, хотя принятие
христианства в 988 г. придало
русско-византийским контактам исключительное значение
в системе русской культуры, все же само по
себе приобщение славян к христианству в его
греко-православном варианте явилось
следствием уже существовавших и достаточно
прочных связей с греко-византийским миром.
Благодаря общению с Византией русские
ювелиры еще в VIII в. научились украшать
свои изделия зернью — крохотными
напаянными шариками — и сканью —
скрученной проволочкой, уложенной в
спиралевидный узор. Принятие новой веры вызвало
интерес к более сложным техникам, изменило
круг сюжетов.
При этом последствия христианизации
отнюдь не сводились к противоборству и
вытеснению автохтонной языческой основы
заимствованной христианской системой
представлений. Искусство Византии — и
особенно прикладное — включало немалое
число языческих элементов,
перетолкованных в духе христианской символики. Древо
жизни, превратившееся в классический
византийский крин, интерпретировалось как
растительный вариант креста7 (в связи с
представлением о процветшем жезле и
легендой о крестном древе). Сирины,
восходящие к античным сиренам, получили
нимбы, а с ними и статус «райских птиц»;
солярные знаки могли восприниматься как
символ «солнца правды» — Христа;8
древнейший знак земли — ромб или квадрат —
сохранил это значение и в христианской
иконографии9, а излюбленный орнамент
византийских и киевских изделий — городки —
по-прежнему связывался с понятием дома,
огороженного пространства10. Нетрудно
заметить, что все эти элементы относятся к
числу древнейших архетипов человеческой
культуры и в качестве таковых являются
общими для христианской Византии и
языческой Руси. Таким образом, византийское
и славянское декоративно-прикладное
искусство изначально имели сходную основу, что
проявилось не только в орнаментации, но и
в типологии изделий: в Византии тоже
бытовали подвески-амулеты с коньками и
уточками, лунницы, серьги типа русских колтов.
Поэтому византийское прикладное искусство
по отношению к славянскому было не
принципиально иным художественным миром, а
следующим этапом развития, обогатившим
древнюю систему языческих архетипов
антропоморфными образами христианской
сюжетики.
Пантеизм древних славян предполагал
целесообразность устройства мироздания, но
интерпретировал это устройство простейшим
образом. Орнаменты строились из ромбов,
кругов, квадратов: вселенная
упорядочивалась и раскладывалась в однотипные
ячейки геометрических схем. Византийская
культура предложила иную интерпретацию
мироздания — более органическую и сложную.
Непринужденность византийского
орнамента — гибкого стебля, свободно
раскинувшегося по поверхности изделия, скрывала в
себе закономерности более тонкие и
выверенные, чем орнамент геометрический. Метр
сменился ритмом, прямоугольное —
криволинейным, мертвые формы — живыми.
Прямые линии геометрического
орнамента — это острое лезвие, которым художник
препарирует окружающее в стремлении
постичь его законы; мир расчленяется,
приобретает упорядоченность, но утрачивает
жизнь. В византийском орнаменте основной
закон существующего уже познан: это
гармония, являющаяся отражением гармонии
высших сфер. В соответствии с
телеологической направленностью средневекового
мышления она представлялась сотворенной
сознательно (как и мир в целом); отсюда
257
Книга первая
продуманность этой гармонии, ее
рационально-выверенный — при всей внешней
свободе и естественности — характер. По этой же
причине византийские лозы и крины отнюдь
не являются копиями реальных растений:
мастер изображает как бы их идеальные
прообразы, корни которых питаются не
земными соками, а светоносным эфиром
райского сада.
Образ райского сада постоянно
присутствует в декоративно-прикладном
искусстве Средневековья. Золотые крины в
оковке потира заставляют вспомнить эпитет
Богоматери: «крине райского прозябения»;
виноградные лозы напоминают о
евангельских сравнениях Царствия Небесного с
виноградником, а Христа — с лозой; блеск
золота и драгоценных камней словно вторит
тексту Апокалипсиса о Небесном
Иерусалиме: «Стена его построена из ясписа, а
город был чистое золото, подобен чистому
стеклу. Основания стены города украшены
всякими драгоценными камнями <...> А
двенадцать ворот — двенадцать жемчужин»
(Апок. XXI, 18 — 21). Согласно
Толкованию на Апокалипсис св. Андрея Кесарии -
ского, перечисленные там камни — япсис,
сапфир, аметист, сардоникс и др. —
символизировали собою апостолов, каждому из
которых был усвоен тот или иной самоцвет11.
Тем самым драгоценные камни, введенные
в произведение декоративно-прикладного
искусства, придавали ему дополнительный
сакральный смысл. В центре райского
града растет Древо Жизни — неизменный
мотив прикладного искусства Средневековья.
В этом контексте оправа крестика из
Старой Рязани — чудо ювелирного искусства,
где над сканью подрагивают на тонких
проволочках-стебельках золотые цветы, —
выглядит миниатюрным изображением «горнего
вертограда».
Предшествующий этап развития
декоративно-прикладного искусства славян также
не пропал втуне для мастеров Киевской
Руси. Из древности шло умение виртуозно
обыгрывать геометрические формы: круги,
квадраты, овалы, сочетаясь, давали редкие
по совершенству изделия. Таковы покрытые
зернью — мельчайшими серебряными
шариками — звездчатые привески-колты. В
основе их замысла, вероятно, лежат
древнейшие символы солнца и луны: «лучи» колта
напоминают о дневном светиле, а в верхнюю
часть украшения нередко вводится
ладьевидная лунница. Сам переливчатый блеск
колта придает ему светоносность, как бы
способность светопорождения, еще усиленную
тем, что покачивающийся у виска колт
отражал свет под разными углами. Поражает
композиционная завершенность колта:
центробежные силы, воплощенные в «лучах» и
шестилепестковой розетке в центре,
полностью нейтрализуются центральным кольцом
и шариками на концах. Удивительна и
пластическая наполненность формы, придающая
небольшому украшению полновесную
монументальность.
Лучшие ювелиры Киевской Руси
пользовались сложными техниками зерни, скани,
перегородчатой эмали, придававшими
особую изысканность их изделиям. Тонкость
отделки, высокий профессиональный
уровень исполнения, декоративная
насыщенность, не ведущая, однако, к
перегруженности, отличает декоративно-прикладное
искусство этого периода. Таковы знаменитые
«рязанские бармы» и ожерелье из Сахнов-
ки — золотые медальоны с бусами,
украшенные драгоценными камнями, сканью и
эмалью. Золотые перегородки тонко
очерчивают лики святых на эмалевых вставках,
моделируют складки одежд и зрительно
связывают изобразительный средник с
золотыми сканными «полями» медальона, а
стекловидная поверхность эмали отвечает цвету
и блеску драгоценных камней.
Бармы, диадемы и большие колты,
очевидно, служили привесками к иконам, а не
дополнением женского наряда12. Это
объясняло появление на них образов Христа,
Богоматери и святых. Новая религия
способствовала широкому распространению в
русском прикладном искусстве антропоморфных
изображений, что повлекло за собой три
важные следствия. Во-первых, если раньше
произведение прикладного искусства —
птица-оберег, лунница-привеска — наглядно
принадлежало к предметному миру,
внешнему по отношению к человеку, то носимая на
шее иконка или крестик с изображением
святых уже относились к «внутренней»,
гуманизированной области этого мира.
«Прикладные» вещи одухотворялись, очеловечи-
258
Глава 9
вались и вводились в микрокосм сугубо
человеческих связей и отношений.
Во-вторых, благодаря антропоморфиза-
ции своих образов прикладное искусство
обрело способность усваивать импульсы,
идущие от живописи — безусловно
ведущего вида спиритуалистического искусства
христианского Средневековья. Это необычайно
расширило тематические рамки
«прикладных» жанров, обогатило их кругом
основополагающих для всей христианской культуры
сюжетов, предоставило прикладному
искусству возможность достаточно наглядно
воплощать духовные идеалы своей эпохи.
Третьим следствием, вытекающим из
второго, было появление в русском прикладном
искусстве новых техник исполнения,
позволявших лучше служить новым задачам. В
перегородчатых эмалях разноцветные
эмалевые поверхности напоминали краски
живописи, а золотые перегородки между ними —
контурные линии или ассист, нанесенные
рукой художника. Золотая наводка сама по
себе была фактически живописной техникой,
поскольку ее основу составлял рисунок,
процарапанный по черному лаку и затем
подвергнутый «огневому золочению». В
домонгольской Руси появилось и неизвестное дотоле
русским мастерицам лицевое шитье,
название которого само говорит о сущности
этого искусства.
Влияние скульптуры на прикладное
искусство в православном мире было
значительно меньше, чем в католическом. Хотя на
новгородской почве в XII в. появились
такие сложные произведения пластики, как
Большой сион Новгородского собора,
украшенный рельефными фигурами апостолов, и
кратиры (сосуды для церковного вина)
мастеров Братилы и Косты с рельефными же
изображениями Христа и святых,
понимание объема — мягкого, сглаженного, гра-
фично моделированного, — явно ближе к
византийской торевтике и через нее к
живописи, нежели к плотной, почти
грубо-материальной телесности романских скульптур
(при том, что некоторые романские черты в
этих вещах неоспоримы).
Антропоморфная изобразительность ярче
всего сказалась в таких специфически
христианских жанрах мелкой пластики, как
литые или резные кресты и иконки, к XIII в.
вытеснившие старые амулеты-змеевики.
Некоторые из них изготавливались из
драгоценных металлов княжескими ювелирами
или высококвалифицированными резчиками.
Другой же, весьма значительный пласт
составляют поделки, произведенные в рядовых
ремесленных мастерских наряду с гребнями,
пряжками и прочими обиходными вещами.
Если искусство верхнего слоя носило явно
византинизирующий оттенок, то мастера
нижнего пласта в своем «почвенном»
архаизме словно постоянно припоминали
древние геометрические мотивы. К набору
простых геометрических форм сводились и лица
с точками глаз и черточками носов, и
одежды, покрытые элементарным орнаментом
или штриховкой, и сами фигуры,
уподобляющиеся столпообразным идолам. Это
искусство нижнего слоя, питаемое чисто
народными вкусами, обслуживало вполне
определенную социальную среду, как бы подстилая
собой «ученое» искусство верхов. Но при
этом оно обнаруживало тенденцию к
экспансии в иные сферы в моменты общественных
катастроф, связанных с перерывом
«высокой» традиции.
С середины XII в. можно говорить если не
о перерыве, то о некоем оскудении традиции
княжеского искусства. Киевское государство
распадается на ряд соперничающих друг с
другом княжеств; распадается и цельная
картина мира, исчезает гармония, почерпнутая
искусством Киевской Руси из живоносного
источника византийской культуры.
Византийский орнамент вытесняется известной на
Руси еще с дохристианских времен
тератологической плетенкой — сплошным
переплетением ремневидных лент,
завершающихся звериными головами. Мир кажется
сузившимся до пределов одного-единственного
объекта, связи между его элементами
запутаны, а отношения враждебны —
чудовищные звери пожирают друг друга, и в этом
всеобщем взаимопоглощении нередко
оказывается, что фантастический хищник грызет
не противника, а свой собственный хвост —
трудно найти лучший символ для
феодальных усобиц. Византийская гармония
мироздания оказалась лишь тонкой корочкой над
бездной хаоса, исполненной чудовищ; она
надломилась от ударов междоусобных войн и
рухнула под татаро-монгольским игом.
259
Книга первая
Нашествие Батыя нанесло огромный
ущерб развитию декоративно-прикладного
искусства. Татары разграбили несметные
сокровища русских дворцов и храмов,
перебили или увели в Орду искусных
ремесленников; сузился круг заказчиков,
уменьшились их экономические возможности, но,
главное, обострилось ощущение
нестабильности существования, не располагающее к
продолжению киевских традиций. Не
случайно даже в Новгороде, не испытавшем
всей тяжести татарского ига, произведения
второй половины XIII — начала XIV в.
отмечены огрубением техники и
упрощенностью рисунка: фигуры ангелов на панагии из
Антониева монастыря (начало XIV в.),
неуклюжие и пучеглазые, выглядят почти
гротескными, а Распятие на кресте-мощевике
из Оружейной палаты напоминает детский
рисунок. Крупные и сложные формы в этот
период исчезают совсем.
В новгородских памятниках описываемого
времени романские и глубоко архаичные
сиро-палестинские черты (возможно,
заимствованные из памятников романского
Запада)13 свидетельствуют о том перманентном
самовоспроизводстве древнего «генотипа»
христианского искусства, которое имело
место во всех православных землях в
условиях иноверного завоевания. Архаизация — с
сильным привкусом народного примитива —
являлась своеобразным способом
консервации основополагающих особенностей
православного искусства в неблагоприятных
условиях. Как только эти условия менялись к
лучшему, «свернутые» этапы развития,
сохраненные традиции способствовали
быстрому восстановлению прежнего стилевого и
качественного уровня и новым поискам.
Такой процесс происходил в новгородском
прикладном искусстве на протяжении XIV в.
Вначале Новгород продолжал искать
образцы в романском искусстве, но трудности, с
которыми западные элементы в это время
входили в византийскую по своей основе
систему, говорят о паллиативном характере
«романизмов»: они только заполняли
«культурную нишу», образовавшуюся при ослаблении
русско-византийских контактов, а не являлись
насущной потребностью в развитии
новгородского искусства. В середине столетия
новгородские мастера снова повернулись лицом к
возродившейся Греческой империи, но
обратились при этом не к современному им
искусству Византии, а к XII в. — к комниновс-
ким образцам14. Время монументального
величия и царственной пышности оказалось
более созвучным процветающей боярской
республике, нежели хрупкая утонченность
«палеологовского ренессанса». Таковы по
характеру торжественно-тяжеловесный
потир новгородского архиепископа Моисея
(1329 г.) с массивной красной яшмовой
чашей, украшенной крупной сканью и
драгоценными камнями; впечатляющие блеском
золота и многообразием сюжетов
грандиозные Васильевские врата, заказанные в
1336 г. архиепископом Василием для
новгородского Софийского собора.
В первой половине XV в. новгородское
прикладное искусство несколько выходит из
круга византийских образцов. В это время
появилось такое необычное для Руси
произведение, как серебряный панагиар (сосуд для
освященного хлеба) мастера Ивана (1435 г.).
Четыре коленопреклоненных ангела,
стоящие на львах и несущие тарель для
просфоры, лес готических трилистников вокруг
поддона недвусмысленно указывают на Запад
для поисков аналогов панагиара, хотя
удивительная при объемной композиции
самого изделия плоскостность скульптурных
форм говорит не столько даже о
византийской, сколько о собственно новгородской,
славянской традиции. Сосуд был заказан
новгородским архиепископом Евфимием —
главой местных сепаратистов, выступавших
против перспектив присоединения
Новгорода к Московскому княжеству.
Противостояние Новгорода и Москвы заставило Евфи-
мия обратиться, с одной стороны, к
европейским соседям (архиепископскую палату
строили немецкие мастера), а с другой — к
собственному наследию (восстановление на
старых фундаментах храмов XII в.).
Поэтому и «европеизмы» и архаизмы (никогда,
впрочем, не изживаемые в демократическом
Новгороде), нашли отражение в прикладном
искусстве евфимиевского круга15.
Декоративно-прикладное искусство
среднерусских земель в XIV в. не могло не
испытать влияния Новгорода —
единственного русского центра, где художественная
жизнь в период татаро-монгольского наше-
260
Глава 9
ствия все же не прерывалась. Но, получив
новгородские уроки, мастера среднерусских
княжеств вспомнили и смогли восстановить
собственные богатые традиции, а также
вновь обратиться к неисчерпаемому
кладезю искусства Византии. Поэтому
искусство Нижнего Новгорода, Твери, Москвы
быстро заняло ведущее положение в русской
культуре, опередив столь много давший им
на первых порах Новгород. Золоченые
двери тверского собора, например, были
сделаны в середине XIV в. по образцу древних
Корсунских врат Св. Софии Новгородской
(тверской князь Михаил воспитывался в
Новгороде у архиепископа Василия,
заказчика упоминавшихся выше Васильевских
врат)16. Однако единственное
сохранившееся на тверских вратах изображение Св.
Троицы гораздо ближе к утонченному па-
леологовскому искусству, нежели к
простовато-экспрессивному стилю Васильевских
врат.
Быстрый подъем пережило и искусство
Москвы. Одним из первых его памятников
является потир начала XIV в., вложенный
впоследствии Д. И. Годуновым в Троице -
Сергиев монастырь. Композиция потира
выглядит неуравновешенной: стоян чересчур
высок, яблоко очерчено вяло, поддон
кажется слишком плоским. Соединение чаши со
стояном, а стояна с поддоном
несовершенно, конструктивные детали не получили
художественной интерпретации. Сама чаша,
также подобранная случайно и не
предназначенная для такого употребления, имеет
ручку, которая зрительно «перевешивает» в
свою сторону композицию потира.
Анемичность форм странно сочетается с
натурализмом орнамента на поддоне. Обнаженность
конструкции, сухость немногочисленных
декоративных деталей (например, острых
зубчиков подзора), холодный блеск гладкой
поверхности металла и хрусталя создают
образ «вещи в себе», противопоставленной
человеку и в чем-то даже враждебной ему.
Не только в начале, но и в середине
XIV в. московское прикладное искусство
еще находилось на распутье. Как и
новгородское, оно легко, но пока неорганично
воспринимало посторонние влияния, поскольку
еще не в состоянии было переплавить их в
единое художественное целое. Однако
определяющими для Москвы становятся не
западноевропейские, а южнославянские
импульсы. Воздействие сербского искусства,
впитавшего романские и готические мотивы,
•заметно в серебряном гравированном
окладе Евангелия Симеона Гордого (1343 г.) с
изображением Распятия17. Стиль этого
произведения явно еще не устоялся: удлиненная,
изящно изогнутая фигура Христа,
артистично-живописные складки одежд св. Иоанна
Богослова столь резко контрастируют с
большеголовыми, приземистыми,
незатейливо одетыми евангелистами в наугольниках,
что невольно наводят на мысль об участии
двух мастеров. Тем не менее не исключено,
что над окладом в основном работал один
серебряник, по-разному выполнявший главные
и второстепенные фигуры18. Очевидно, ком-
промиссность стиля была одной из причин,
по которой оклад был отторгнут московской
художественной средой того времени: в
дальнейшем он не вызвал подражаний.
Московское искусство пошло по другому
пути, общее направление которого
определилось к концу XIV в. Оно проявилось
прежде всего в орнаментике — в смене
тератологической плетенки узорами так
называемого балканского и неовизантийского
орнаментов. Последний вернул в русское
прикладное искусство былую гармонию
растительных форм, а балканский орнамент
основывался на геометрических мотивах и на
том же плетении, но трактованном в
совершенно ином ключе. Цветные ленты в
«балканских» книжных заставках свиваются в
ясные и простые фигуры — круги,
восьмерки, кресты; отсутствуют звериные морды,
полностью изжит устрашающий хаос и
асимметрия тератологии. Художник с
наслаждением провидит сложный, но четкий
миропорядок: все действительно сплетено и
взаимосвязано, но связи эти разумны и
предсказуемы, а мир познаваем. Раппорт орнамента
обычно допускает бесконечное число
повторений, но все они тождественны: одни и те
же законы распространяются на все
мироздание, за пределы его видимых границ.
Балканский и неовизантийский орнамент
сосуществуют как два аспекта одной и той же
категории — гармонии, воплощаемой то в
живом, растительном, то в
абстрактно-геометрическом варианте.
261
Книга первая
Прикладное искусство Москвы к концу
XIV в. стало значительно более
технически совершенным и художественно
выразительным. Московские мастера научились
делать тонкую скань и украшать ее
цветными мастиками, отливать серебряные
рельефы-накладки, покрывать фоны полихромной
эмалью. Прекрасный образец работы
московских мастеров — оклад Евангелия
Федора Кошки (1392 г.). Его композиция
поистине полифонична. В центре, в отличие от
большинства окладов, помещено не
Распятие, а Христос на престоле, которому
предстоят в молении Богоматерь и св. Иоанн
Златоуст. Центральную группу обрамляют
полуфигуры апостолов, чередующиеся с
шестикрылыми серафимами; ангелы, Христос
Эммануил и св. Иоанн Предтеча в
медальонах усиливают четко звучащую в выборе
сюжетов и построении композиции ноту
триумфа Христа-победителя, торжества
православия. Впечатление торжественности и
монументальности создается обилием
архитектурных форм — многочисленных киотов, в
которые заключены фигуры.
Репрезентативная и по-своему логичная система
оформления Евангелия Кошки, его четкая
архитектоника показывают, что выработка стиля в
московском искусстве завершилась, и оклад
этого Евангелия не случайно стал объектом
подражания для последующих мастеров.
Приблизительно в это же время, на
рубеже XIV — XV вв., московское
искусство испытало непосредственное воздействие
греческого, что отчасти было связано с
деятельностью прибывших из
Константинополя митрополитов Киприана и Фотия. В
мастерской Фотия работали приехавшие с ним
греки, создавшие на русской почве и,
возможно, с русскими сотоварищами
несколько драгоценнейших памятников
ювелирного искусства. Правда, их работы
способствовали в первую очередь усвоению новых
технических особенностей19 и некоторых
орнаментальных мотивов, тогда как стиль этих
по-восточному пышных произведений не
влился в общее русло развития уже
обретшего свой язык прикладного. искусства
Москвы. В окладе Морозовского Евангелия
из Успенского собора Московского
Кремля клейма с чеканными фигурами апостолов
и ангелов иногда размещены впритык друг
к другу, иногда же между ними втиснуты
драгоценные камни. Небольшие участки
свободного фона заполнены густыми
завитками скани, изобилующей вводными
мотивами: розетками, кринами, бутонами,
крестами и т. п. В сочетании с жемчужной
обнизью вокруг клейм это создавало
впечатление «боязни пустоты»; неровная,
состоящая из многочисленных выпуклых мелких
участков поверхность оклада кажется
вспучившейся, сдавленной клеймами до
физически допустимого предела. Перенасыщенность
декором — крупными камнями в трубчатых,
орнаментально трактованных оправах,
жемчугом, отягощенной вводными мотивами
сканью, — придает этому памятнику какую-
то дисгармоничную, варварскую пышность,
роднящую его с работами ювелиров
мусульманского Востока.
К середине XV в. русские мастера
хорошо усваивают новые технические приемы,
полученные от греков, — например,
использование в припое ртутно-золотой амальгамы,
позволившей получать чистую скань очень
высокого рельефа, — и создают на этой
основе собственные творения. Среди них
выделяется потир работы Ивана Фомина —
чаша из оранжево-красной брекчии в
золотой сканной оправе. Чаша имеет форму
полусферы, но слегка сплющенной; это
отклонение от геометрически выверенного
объема придает ей большую устойчивость и
пластичность. Материя кажется весомой и
текучей, словно слегка оплывшей от
собственной тяжести; сама форма напоминает о
содержащейся внутри потира священной
влаге. Идеально продуманы пропорции всех
частей потира: стоян имеет именно такую
высоту и толщину, чтобы не казаться ни
хрупким, ни массивным; размер и очертания
яблока именно таковы, чтобы обозначить
давление, испытываемое от вышележащей
части, но не утрировать его; восьмилепест-
ковый поддон достаточно устойчив, но
одновременно острые ребра и ажурная
сеточка у основания придают ему то же
изящество, которым отмечен весь облик потира.
Великолепна золотая оковка чаши с
подзором из кринов и широкой полосой скани по
краю. Завитки скани закручиваются в
разные стороны, что создает волнообразный
ритм: вечное стремление вперед и вечное
262
Глава 9
возвращение, гармония движения и покоя
находятся в полном согласии с
уравновешенностью несомых и несущих частей.
Одухотворенная сила, преодолевающая косность
материи, — главное впечатление,
производимое работой Ивана Фомина.
В середине XV в. работает и еще один
известный нам по имени выдающийся
мастер прикладного искусства Москвы — инок
Троице-Сергиева монастыря, резчик и
ювелир Амвросий. Его творчество испытало
сильнейшее воздействие иконописи. Это не
было индивидуальной особенностью манеры
Амвросия: прикладное искусство и Москвы
и Новгорода в это время развивалось, если
можно так выразиться, под знаком иконного
письма. Расцвет талантов Феофана Грека и
Андрея Рублева, непреодолимое обаяние
палеологовских образов не могли не
сказаться на общем направлении развития
декоративно-прикладных форм. Исследователи
пишут об «иконописном рельефе», об «ико-
низации» резьбы;20 иконопись выступает не
только иконографическим, но и
художественным источником пластики. Рельеф как
бы конкурирует с произведениями
живописи, предпочитая графические способы
моделировки собственно пластическим; сюжеты
пластики усложняются, обогащаются
деталями, резьба становится миниатюрной и
виртуозной по исполнению.
Тенденции «иконописного рельефа»
получили наивысшее воплощение в работах
Амвросия и мастеров его круга. Его резные
иконы-складни исследователи единодушно
сопоставляют с иконами рублевской поры:
они овеяны той же мягкой гармонией,
обладают тем же художественным
совершенством. Но если в живописи Рублева эти
качества достигались благодаря используемой
технике, то Амвросий- стремился воплотить
их вопреки природе материала. Резчик
вступал в борьбу с деревом, заставляя его
утрачивать изначальную телесность. Он
прорезал насквозь фоны своих складней, чтобы
просвечивало золото оправы, и тем
уподоблял их живописи на золотом фоне.
Многослойный, но уплощенный рельеф, обилие
композиций и персонажей усиливали впечатление
«живописности» амвросиевских творений.
Если резчику и ювелиру,
стремившемуся уподобить свое произведение иконе,
приходилось преодолевать сопротивление
материала, то вышивальщицы могли достичь того
же результата с гораздо большей легкостью.
Византийское шитье XIV — XV вв.
отличалось пышностью и богатством. Основу
вышивки составляли волоченые золотые
(золотые) и серебряные нити. Московские
мастерицы, имевшие перед собой образцы,
привезенные митрополитом Фотием,
пользовались не волочеными, а прядеными
металлическими нитями. Их укладывали на ткань
рядами и прикрепляли шелками разных
цветов. Были и «сканые» нити, когда
серебряная нить перевивалась шелковой; это
вносило в вышивку дополнительные цветовые
оттенки. Однако вскоре русское лицевое
шитье стали исполнять почти исключительно
цветными шелками21. Учитывая, что
изображение на ткань наносил («знаменил»)
иконописец, а вышивальщицы предпочитали
гладкий «бесфактурный» атласный шов,
вышивка становилась двойником иконы.
Надо заметить, что многие виды шитья и
функционировали в качестве иконы:
небольшие пелены подвешивались под чтимыми
иконами в храмах, и их сюжет обычно
совпадал с сюжетом соответствующей иконы;
более крупные пелены развешивались в
алтаре или по стенам, покровы клались на раки
и гробницы святых, плащаницы выносились
на поклонение в Страстную пятницу.
Поэтому вышивка органично
превращалась в «живопись иглой»: атласный шов
успешно передавал и «личное» и одежды
(причем иногда на одеждах вышивались
даже пробела, аналогичные иконописным,
хотя в шитье это было отнюдь не
обязательно). Лучшие образцы лицевого шитья
XV — первой половины XVI в. по
художественному совершенству действительно
можно поставить в ряд с современной им
иконописью, и первое место здесь,
безусловно, принадлежит знаменитому покрову с
изображением св. Сергия Радонежского,
вложенному Василием I в Троице-Сергиев
монастырь (1424 г. ?). Положенный «по
форме» шов заставляет круглиться щеки;
легкие притенения, напоминающие
рублевские «плави», выделяют тонкий нос,
оживляют взгляд; стежки красного шелка,
аналогичные киноварным описям в живописи,
передают ощущение крови, текущей под
263
Книга первая
кожей. Шитая ткань кажется подобием
дышащей плоти; живость слегка
асимметричного лица почти разрушает канон, ставя
иконный по своей сути образ на грань
распада, но мощный куполообразный лоб,
округлая шапка волос обобщенностью
очертаний вновь возвращают изображение в
область идеального. Благородная простота
силуэта фигуры, изысканный подбор неярких
шелков одежд — вишневый, голубой,
золотистый — дополняют глубокое впечатление
от пелены, безусловно принадлежащей к
выдающимся памятникам рублевского круга.
В первой половине XVI в. шитье
приобретает «дионисиевские» черты, но не
выходит за пределы идей и образов, намеченных
ранее. Изменение его характера связано с
изменением живописи в середине столетия.
Письмо икон этого времени становится суше
и плоскостнее, сюжеты усложняются, краски
темнеют, колорит нередко выглядит
дисгармоничным, фон и поля икон покрывают
дорогими серебряными и позолоченными
окладами. В шитье соответственно все реже
применяется чистый шелк, все больше
внимания уделяется орнаментации: золотные и
серебряные нити прикрепляются к основе
различными швами, дающими
самостоятельный декоративный эффект. В вышивку все
чаще вводятся жемчуг и драгоценные
камни. Одежды персонажей покрываются
шитыми узорами, и даже лики, расчерченные
четкими «тенями», входят в общую
орнаментальную стихию.
Однако внимание к декоративной стороне
парадоксальным образом сочеталось с
повышенной экспрессией, драматической
насыщенностью композиций. Таковы четыре
плащаницы с «Положением во гроб»,
вышедшие из мастерской княгини Евфросинии
Старицкой. Одна из них была вложена в
Троице-Сергиев монастырь. Застылая
симметрия огромного тела лежащего Христа,
подчеркивающая его мертвенность, резко
диссонирует с бурным движением маленьких
ангелов перед гробом; узорчатость одеяний
подчеркивает напряженность горбоносых
лиц, а эмоциональным камертоном всего
произведения служит плачущая Мария
Магдалина, в горе рвущая на себе волосы. В
шитье евфросиниевской мастерской нашла
отражение и парадная сторона эпохи с ее
имперскими устремлениями, церемониальной
торжественностью, блеском царского двора,
и ее трагедийная изнанка — опалы, пытки,
казни, через несколько лет после
исполнения плащаницы положившие конец и роду
старицких князей.
В XVI в. русские люди начинают
привыкать к отдельным, пока еще не
принципиальным новшествам, приходящим с Запада.
Так, на периферии сложившейся системы
видов и жанров искусства постепенно
утверждается скульптура.
В русском ювелирном деле XVI в.
появляются новые мотивы и технические приемы,
также восходящие к западным источникам
преимущественно итальянского
происхождения. В орнаментации изделий
используются «фряжские травы», возникает так
называемый старопечатный орнамент с пышной
зубчатой листвой и характерными
декоративными «шишками», ориентирующийся на
гравюры И. ван Мекенема. Меняется
характер скани: из плотного заполнения фона она
превращается в тонкую оправу для вставок
полихромной эмали. Применение техники
эмали по скани делает произведения
московских ювелиров графичными, иногда даже
суховатыми, хотя сухость рисунка вполне
искупается красотой колорита и
изобретательностью в комбинировании
орнаментальных форм.
Одним из лучших памятников этого
времени является золотой оклад иконы
«Богоматерь Одигитрия» 1560 г. По фону здесь
вьются тонкие стебли с симметрично
расположенными завитками, которые
заканчиваются некрупными цветками или листьями.
Преобладающая гамма эмалевых
заполнений — синее и белое — отвечает большим
сапфирам и жемчужинам, украшающим
венцы, короны, цаты-привески и поля оклада;
фон остается плоским, на нем драгоценных
камней, создающих рельеф, нет.
Вкраплениям красной и зеленой эмали соответствуют
альмандины и изумруды, причем они
окружены голубыми или белыми эмалевыми
венчиками; сапфиры, наоборот, получают
красные обрамления. Камни подобраны по
цвету, размеру и форме так, чтобы соблюсти
симметрию, заложенную в орнаменте: если
слева от центрального альмандина находится
прямоугольный изумруд, то такой же камень
264
Глава 9
вставлен и справа; на полях сапфиры и
альмандины чередуются через один.
Стремление к геометризму, точной симметрии
сочетается с натурализмом орнаментальных
мотивов (голубые незабудки на зубцах
короны). Разноплановые приемы,
взаимодействуя, способствуют эффекту
нетривиальности, своеобразного «отстранения» при
восприятии оклада. Художественное решение
оклада продуманно и рационально, в нем
почти нет места случайности —
незапланированной вариации цвета, асимметричности
рисунка, изменению толщины линий. Эта
выверенность, рассчитанность форм
придает изделию особую холодноватую
рафинированность. Впечатление холодности
усугубляется холодной цветовой гаммой с обилием
голубого, синего, зеленого и белого, а
многочисленные заостренные формы — концы
лепестков, листьев, бутонов — привносят в
оклад какую-то колючесть. Отточенный в
своем совершенстве, он почти утрачивает
качество рукотворности, столь свойственной
декоративным произведениям Средневековья.
Еще более виртуозен по технике и
общему замыслу оклад Евангелия 1571 г. В
центре его помещена большая круглая
дробница с «Воскресением», по углам — меньшие
дробницы с фигурами евангелистов. Угловые
дробницы соединены между собой
гладкими полосами с надписями,
ограничивающими поля оклада; такие же полосы, но
изогнутые, соединяют угловые клейма с
центральным. Крупные камни, окружающие
среднюю дробницу, композиционно прочно
связаны с ней аналогичными
лентами-полосами, образуя венец вокруг центрального
изображения. В то же время эти ленты,
подобные пращам, зрительно придают камням,
а с ними и дробнице, вращательное
движение: оклад одновременно пребывает и в
покое, и в движении, его элементы
фиксированы относительно друг друга, но свободны
в своей целокупности, и это сочетание
взаимозависимости и совместной свободы
определяет необычность впечатления от памятника.
Крупные дробницы и камни образуют
легко читаемую композиционную схему,
придают монументальность его формам. Их
масштаб еще укрупняется поистине
ювелирной обработкой фона с эмалью по скани, с
зернью, включенной в эмаль или
положенной небольшими гроздьями, с цветками,
вычеканенными из тонкого золотого листа и
затем покрытыми полихромной эмалью.
Своеобразная двуплановость общего
построения, контраст масштабов, разреженность
орнаментальных мотивов как первого, так и
второго плана позволяют избежать
перегруженности при максимальной декоративной
насыщенности и выразительности изделия.
В конце XVI в. облик предметов
декоративно-прикладного искусства становится
строже и изысканнее. Особое
распространение получает техника черни, которая
позволяет создавать тончайший рисунок на
металле, вполне выдерживающий конкуренцию с
живописью. В такой технике исполнено
кадило, сделанное по заказу Ирины
Годуновой в 1598 г. Оно имеет форму
одноглавого храма, завершенного двумя рядами
трехлопастных кокошников; прорези кадила —
это окна, наполовину забранные ажурными
решетками. На стенках под
трехлопастными же арками награвированы изображения
апостолов и евангелистов, причем чернью
моделирован не только контур, но и объем
фигур. Реальный рельеф литых дробниц
сменился здесь иллюзорной пространствен-
ностью черневого рисунка: произведение
декоративно-прикладного искусства обрело
дотоле не свойственную ему мнимую
глубину, как бы опрокинувшись назад, от
зрителя, в то время как ранее оно, напротив,
стремилось вперед — от плоскости гладкого
фона к наложенным на него завиткам
скани, а от них к осязаемому рельефу фигур и
драгоценных камней. С этой
переориентацией прикладное искусство утрачивает свои
«прикладные» свойства, в формальном плане
становясь разновидностью иконописи:
недаром неорганично выглядят драгоценные
камни на черненых арках в нижней части
кадила, а черневой орнамент, тонкий, свободный,
оставляющий много гладкого нетронутого
фона, смотрится здесь весьма уместным. Не
случайно и в панагии царицы Ирины
лицевой стороне, выполненной «по-старому» с
рельефной иконой Богоматери, крупными
камнями и жемчужной обнизью по краю,
противопоставлен черневой оборот, где
единственным украшением вокруг фигуры
мученицы Ирины служат покрытые густой
чернью орнаментальные клейма.
265
Книга первая
Сопоставление светлой, блестящей
поверхности металла и глубокой бархатистой
черни резко контрастно. Благодаря этому
даже небольшие черненые участки
обладают значительной активностью и организуют
обширные пространства ничем не
заполненного фона. Мастера годуновского времени
искусно пользовались этим свойством чер-
невой техники для создания прозрачных,
разреженных, почти живописных
композиций.
Шитье годуновского времени, при том
что в нем обильно употребляются золотные
нити, жемчуг, драгоценные камни, все же не
переходит грань, отделяющую богатство от
излишества. Даже знаменитая «жемчужная»
пелена — вклад Бориса Годунова в Трои-
це-Сергиев монастырь, где орнамент сплошь
«сажен» жемчугом, а вышитые изображения
заменены гравированными металлическими
пластинами-дробницами, — выглядит
легкой и воздушной. Годуновская изысканность
сказалась и в одежде на престол — инди-
тии, сшитой из роскошного испанского
бархата. Фигуры Христа — Великого
Первосвященника, предстоящих ему Богоматери и
Иоанна Предтечи, припадающих к ногам
Христа св. Сергия и Никона Радонежских
исполнены цветными шелками, а контуры
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Русская историческая библиотека. Т. XIII. Л.,
1925. Стб. 488.
2 Флетчер Д. О государстве Русском. СПб.,
1906. С. 136 // Цит. по кн.: Якунина Л. И.
Русское шитье жемчугом. М., 1955. С. 69.
3 Николаева Т. В. Прикладное искусство
Московской Руси. М., 1976. С. 208.
4 Троице-Сергиева лавра. Художественные
памятники. М., 1968. С. 152.
5 Николаева Т. В. Указ. соч. С. 165.
6 Рындина А. В. Древнерусская мелкая
пластика. Новгород и центральная Русь XIV —
XV веков. М., 1978. С. 112.
7 Макарова Т. И. Перегородчатые эмали
Древней Руси. М., 1975. С. 21.
8 Рыбаков Б. А. Русское прикладное
искусство X — XIII веков. Л., 1971. С. 76.
9 Троицкий Н. И. Влияние космологии на
иконографию византийского купола. Тула, 1898.
С. 5.
фигур обшиты жемчугом и проложены
складки одежд. Мерцающее жемчужное
окаймление создает удивительный эффект
отделения фигур от фона, явления их
зрителю из потустороннего пространства. Таким
образом вышивальщицы решали проблему
глубины, стоявшую и перед живописцами, и
перед ювелирами, используя особенности
своего материала.
Нетрудно заметить, что
декоративно-прикладное искусство Древней Руси жило
одной жизнью с живописью и архитектурой.
Однако его стилевое развитие начиная с
XIII в. постоянно запаздывало: когда в
Новгороде работал Феофан Грек и его
соратники, прикладное искусство обращалось к ком-
ниновским образцам; когда зодчество и
иконопись Москвы рубежа XIV — XV вв.
создали классику русского Средневековья,
мастера прикладного искусства только еще
пробовали свои силы. Аналогии творчеству
Рублева приходится искать во 2-й
половине XV столетия. Однако в XVI в. эта
неравномерность развития сгладилась и
полностью исчезла ко времени правления
Годунова. В дальнейшем прикладное искусство
Руси развивалось синхронно с другими
видами искусства, а в некоторых отношениях
и опережало их.
10 Макарова Т. И. Указ. соч. С. 21.
11 Андрей, архиеп. Кесарийский. Толкование
на Апокалипсис. М., 1625. С. 710.
12 См.: Стерлигова И. А. О литургическом
смысле драгоценного убора древнерусской иконы
// Восточнохристианский храм. Литургия и
искусство. СПб., 1994. С. 220 — 229.
13 Рындина А. А. Указ. соч. С. 43.
14 Там же. С. 57.
15 Бочаров Г. Н. Прикладное искусство
Новгорода Великого. М., 1969. С. 53.
16 Николаева Т. В. Указ. соч. С. 96.
17 Рындина А. В. Оклад Евангелия Симеона
Ивановича Гордого // Древнерусское
искусство. Рукописная книга. М., 1972. С. 178.
18 Там же. С. 176.
19 Николаева Т. В. Указ. соч. С. 178.
20 См.: Рындина А. В. Указ. соч. С. 88, 121.
21 Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М.,
1971.
Глава 10
Церковно-
певческое
искусство
1 1евческое
искусство — неотъемлемая часть единого
художественного ансамбля, существовавшего в
Древней Руси в пределах христианского
богослужения. Основанием древнерусского
песнетворчества стала византийская гимно-
графия, уже имевшая к моменту
христианизации Руси многовековой опыт,
сложившиеся музыкально-эстетические идеи и
выдающиеся поэтико-музыкальные сочинения.
До сих пор, несмотря на возросшую
исследовательскую активность последних лет,
пение Древней Руси даже для
специалистов во многом остается областью
неизведанного — «сокровищем», реальный объем
которого предполагается, но далеко не ясен,
впрямь сокрыт от всех. Неразгаданность
многих принципов фиксации мелодий,
редкость упоминаний о церковном пении в
литературных произведениях, скупость их
характеристик чрезвычайно затрудняют
изучение музыкальной культуры Древней
Руси — тем более что специальные
трактаты на эту тему вплоть до XVII века
практически отсутствуют. Поэтому целый ряд
вопросов, касающихся древнерусских
художественных и музыкально-эстетических
представлений, может рассматриваться либо
на базе не поддающихся однозначной
дешифровке рукописей, либо на основе
сравнительно поздних памятников
древнерусского певческого искусства.
Древнерусская культовая монодия
составляет одну из крупных ветвей средневековой
культуры, параллельную византийской и
западноевропейской. Она вполне
органично вписывается в общеевропейский процесс
культурного развития, обнаруживает типо-
. логическое сходство как с певческим
искусством византийского круга, так и с
латинским хоралом. Сходство проявляется и в
закономерностях художественного
мышления, и в представлениях о красоте вещи, ее
причастности «благому», в котором
сливались понимание прекрасного как строгого
порядка, стройного соподчинения и
согласия деталей, идущего от древнегреческого
«кооцсх;», и как простого, непрерывно
текущего и неделимого, подобно
драгоценному веществу, не требующего пропорций
частей.
Общность эстетических норм и
стилистических законов средневекового искусства,
порожденная близостью мировоззренческих
установок эпохи, конечно, не исключала
разнообразия форм их воплощения в
региональных разновидностях монодии,
производного от различия традиций, накопленных
к этому времени каждой из культур.
Древнерусская культура была в целом
ориентирована на грекоязычную, и в
искусстве Руси доминировали византийские
формы. Уже в XI в. возникло противостояние
русской и западноевропейской традиций1.
Это противостояние, обусловленное
противоречиями конфессионального характера, а
также политическими причинами, однако, не
исключало полностью взаимодействия
русской и западноевропейской культур2.
Известно, что Рюриковичи династически были
связаны с правящими фамилиями Западной
Европы. В двух крупнейших центрах —
Киеве и Новгороде — действовали
католические храмы. Исследователи отмечают
отчетливо выраженные романские черты в
галицко-волынской и
владимиро-суздальской архитектуре3. Западноевропейские
мастера участвовали в росписях церквей,
например, бенедиктинские художники — в
соборе новгородского монастыря,
основанного преп. Антонием Римлянином;
ощутимо влияние западных традиций и в
древнерусской книжной миниатюре4. Из Западной
Европы пришли на Русь и столь любимые
здесь колокола. Характерен и тот факт, что
через сорок лет после неприятия
флорентийской унии, происшедшем после подписания
ее греками, великий князь Иван III, сам
писавший об «изрушении греческого
закона», пригласил для строительства главной
святыни Московской Руси — нового собора
Успения Богоматери в Кремле —
итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти.
Вместе с тем, возвращаясь к древнерусскому
267
Книга первая
певческому искусству, нельзя не
подчеркнуть, что в нем господствовала
византийская традиция. Помимо типологически
общих черт более тесные, конкретные связи с
западноевропейской монодией в нем до
настоящего времени не выявлены.
АНГЕЛОГЛАСНОЕ ПЕНИЕ
С распространением христианства в
древнерусской культуре возник и начал свое
развитие совершенно новый для нее род
музыкального творчества. Пение, ставшее
частью христианского культа, подобно
священному тексту или иконе, наделялось
особыми функциями. Мелодии, созданные по
определенным законам и слитые с
литургическими текстами, в средневековой
традиции осмысливались как одна из форм
связи и единения горнего и дольнего миров.
Древнерусское певческое искусство,
по-своему воплощавшее духовный идеал
средневековой культуры, ориентировалось на
образец, находившийся за пределами обычного
человеческого слухового опыта, — пение
божественное, ангельскую песнь, — было
своего рода иконой небесных гимнов5. На
практике это выражалось в кристаллизации
методов музыкального мышления,
отличавшихся от бытующих, в установлении иных
законов организации звукового материала,
не совпадающих со сложившимися
нормами. Если византийское культовое пение
противопоставлялось высокоразвитому по-
зднеантичному светскому искусству —
музыке разных родов и многообразных этосов,
виртуозной игре на инструментах и музыке
зрелищ, то церковное пение Руси
противостояло главным образом народной музыке,
связанной с языческими обрядами.
«Ангелоподобность» пения — центр,
средоточие музыкально-эстетических
представлений Средневековья, силовое поле,
воздействующее на все входящие в него
элементы и организующее по своим законам
звуковую материю. Раннехристианская и
византийская концепция божественного
пения прослеживается в древнерусской
культуре с XI в. Вероятно, одним из первых
среди русских мысль о божественности
церковного пения выразил митрополит Иларион
(середина XI в.) в «Слове о законе и
благодати»: в похвале князю Владимиру
Святославичу, создавая картину благоденствия
Киева, среди украшений величественного
града он называет и божественное пение6.
Позднее, в слове «О снятии тела
Христова с креста»7 Кирилл, епископ Туровский,
передавая речь Иосифа Аримафейского, в
формуле благочестивого смирения
высказывает ту же идею ориентации пения на
небесный архетип: «Кыя ли надгробныя
песни исходу Твоему воспою, Ему же в
вышних немолчными гласы серафими поют!»
Укоренению представлений об ангело-
гласности пения в древнерусской культуре
в значительной мере способствовали и
переводы поэтических текстов песнопений,
перенесенных из византийской традиции. Тема
совместного служения-пения Небесных Сил
и земной Церкви характерна для различных
гимнографических жанров, относящихся к
разным типам службы, — стихир Великой
вечерни («Ангели и человецы, Спасе, Твое
поют тридневное востание», восточна 4-го
гласа; «Со Архангелы воспоем Христово
Воскресение», на «Господи воззвах» 2-го
гласа и др.), тропарей канонов («Небеса убо
достойно да веселятся, земля же да
радуется, да празднует же мир, видимый же весь
и невидимый», канон Пасхи), песнопений
праздников (величание на Благовещение
«Архангельский глас вопием ти, Чистая:
Радуйся»). Наиболее концентрированно она
воплощена в «Херувимской песни»,
символизирующей единство земного и небесного
служения, и в песнопениях, заменяющих ее
в других вариантах Литургии («Ныне Силы
Небесныя с нами невидимо служат» из
Литургии Преждеосвященных Даров; «Да
молчит всякая плоть человеча» из Литургии
Великой Субботы). Переводы византийских
литургических текстов стали неотъемлемой
частью русской культуры, их содержание
было органично усвоено и на протяжении
столетий определяло художественное
мышление древнерусских мастеров.
Мысль о причастности церковного пения
небесному получила воплощение в
древнерусской иконописи. Факт изображения
песнопений на иконе — весьма
распространенный в Древней Руси — сам по себе
выразителен: он означает причисление их к миру
вечному, ибо нейтрализует основное каче-
268
Глава 10
ство музыкального искусства —
подвластность времени, законченность во времени.
Композиции некоторых икон, следуя за
гимнографическим текстом, могут и
непосредственно воплощать идею'
единогласного пения двух хоров — Святого Небесного
и церковного земного. Таковы иконография
«О Тебе радуется, Обрадованная, всякая
тварь, ангельский собор и человеческий
род», имеющая аналоги в византийской
иконописи, и чисто русская иконография
«Покрова Богородицы», прославляемой
Романом Мелодом8, пророками,
апостолами и народом.
С мыслью об ангелогласном пении
связаны многие музыкально-эстетические
представления, сложившиеся в византийской
культуре и затем развивавшиеся на русской
почве. В полной мере Древней Русью были
восприняты и развиты в сфере
художественной практики византийские представления
об этическом и сакральном аспектах
певческого искусства, почти всегда имевшие яркую
эстетическую окраску (воспитательная и
очистительная сила церковных напевов;
пение-самосозерцание, упорядочивающее
душу по эстетическим законам
соразмерности, стройности, гармоничности;
пение-таинство, возводящее к горнему миру,
познанию Истины).
Тонкое восприятие этоса церковных
песнопений определило ту роль, которая
отводилась древнерусскими книжниками пению
в жизни героев их повествований. Судя по
многочисленности цитат в литературных
памятниках, одной из самых излюбленных
и широко распространенных на Руси
канонических книг был Псалтирь,
предполагающий, как известно, музыкальное
интонирование. Псалмы в иерархической системе
церковного пения занимали низшую ступень;
отчасти поэтому, вероятно, в
новообращенной земле им придавали особенно большое
значение. В литературе Киевской эпохи
теснее всего с событийной стороной
повествования связана функция псалмопения —
укрепления духа, снискания мужества в
критических жизненных ситуациях.
Описываемое автором событие помещается для
этого в контекст Священной истории,
когда читающий вместе с героем призван к
переживанию происходящего на сакральном
уровне. Любое действие, движение души
становится в первую очередь знаком
соответствия той или иной
оценочно-определенной модели поведения. Важно то, что при
этом авторам текстов удается совместить
реальность конкретного случая и точность
его библейского комментария.
В летописной повести «Об убиении
Бориса» и в «Сказании о Борисе и Глебе» св.
князь Борис, узнав о приходе убийц, «нача
пети Псалтырю»9. Приближавшиеся к
шатру убийцы услышали пение заутрени.
Цитируемый автором псалом, начинающий
утреннее Шестопсалмие, по смыслу
вполне ясно проецируется на совершающееся —
«Господи, чьто ся умножиша сътужающии,
мънози въсташа на мя». Далее, в
положенном по Уставу месте, где на утрени стихо-
словится Псалтирь, цитируются 17-й и
13-й стихи псалма 21 — «Обидоша мя пси
мнози и уньцы тучьни одьржаша мя», —
продолжающие начатую смысловую
параллель. Для понимания авторской поэтики
существенна полнота согласования реального
и священного планов: псалом 21, входящий
в третью кафизму, поется на воскресной
утрени, когда и происходило убийство кн.
Бориса, содержание же самого псалма
традиционно связывается со смертельной
опасностью, грозившей псалмопевцу Давиду в
пустыне Маон.
Представлением о том, что псалмы
укрепляют ум, очищают грехи, прогоняют
бесов, объясняется и постоянное
применение Псалтири в монашеском быту.
Повествуя о духовной брани преп. Феодосия
Печерского со злыми духами, преп. Нестор-
летописец несколько раз упоминает главное
оружие подвижника —«распевание псалмов
Давидовых»10, причем появление бесов в
тексте «Жития» совпадает с моментами
перерывов в пении псалмов, а орудием
соблазнения святого оказываются мирские
бубны и сопели. Структуру литературного
образа здесь формирует противопоставление
двух музык — псалмопения принявшего
ангельский образ Феодосия и «гуденья»,
«мусикийских гласов», издаваемых бесами.
Представления об ангелогласности пения
и его благодатном воздействии на душу
человека, способности возводить к
высшему знанию включали в себя и понятие кра-
269
Книга первая
соты, пения-украшения: божественное,
истинное и прекрасное сливались, плавно
перетекая друг в друга. Древней Русью была
органически усвоена византийская идея о
том, что знак божественного — абсолютная
красота — является причиной, источником
красоты видимой, материальной. Поэтому
церковное пение, заимствовавшее, по
мысли богословов, свои законы у согласных
небесных славословий, в древнерусской
литературе постоянно называлось
«украшением церкви», «красотой церковной».
Красота как знак Божественного присутствия и
явленной Истины была, по словам
летописца, главным критерием в выборе Русью
веры: «И придохомъ же в греки, и ведоша
ны, идеже служат Богу своему, и не свемы,
на небе ли есмы были, ли на земли: несть
бо на земли такого вида ли красоты такоя»1*.
Полагая украшением праздника и
церковную проповедь, Туровский епископ Кирилл
венцом его все же считает пение. «Слово
окративше, — говорит он в завершении
своей проповеди „в неделю цветную", —
песньми, яко цветы, Святую Церковь
венчаем и праздник украсим, <...> благодатию
Святого Духа осеняеми»12.
Увенчание церкви «песньми»,
уподобление сплетенным в венок цветам церковных
песнопений — устойчивый мотив
древнерусской гимнографии, воспринятый через
византийскую традицию от античной
поэзии:13 «приидите, вси вернии, Церковь
Божию песньми венчаем», мощи «яко
цветы, песньми и хвалами увязем» (из стихир
на литии службы обретению мощей преп.
Сергия Радонежского, 5 июля), «венец
похвалами плетуще» (из канона св.
Димитрию Прилуцкому, 11 февраля), «днесь пса-
ломская пения аки цветы духовныя
принесем», «венец от духовных цветец исплетше,
с Давидом возопием» (из стихир службы
обретению мощей преп. Макария Калязин-
ского, 26 мая) и т. п. Этот вещественный
символ победы под руками средневекового
гимнографа и мелурга прорастал в самую
суть звуковой материи. Песнопения — их
словесный ряд и мелос — составлялись,
сплетались из заведомо прекрасного,
ценного, отобранного материала, а не из
нейтральных точек-слов или точек-звуков,
извлеченных авторской волей из некой хаотической
суммы. Их высшим ориентиром были
священные Словеса псалмов, библейских песен
и, с другой стороны, мистический опыт
слышания небесных славословий,
подтвержденный авторитетом Писания и Предания
Церкви и воплощенный в каноне певческого
искусства. Устойчиво повторяющиеся
пассажи псалмов или прочно вошедших в
литургическую традицию песнопений несли
уже в самих себе смысловую наполненность
и ценность. Литургическая мелодия
должна была заключать все богатство смысла
сплетенных воедино слов, стать их
чувственно воспринимаемым звуковым образом. Ее
подобие словесному ряду воплощалось
конечно же не на понятийном уровне, а
чисто пластически; оно выступало в виде
цепочки отобранных и освященных традицией
мелодических оборотов и пространных
формул, соединяемых мастером-роспевщиком в
развертывающуюся подобно свитку
мелодическую линию.
Если пение считалось украшением,
венцом праздника, знаком духовного веселия и
устроенности, то его отсутствие, как
нарушение порядка церковной жизни,
связывалось с картиной разрушения, бедствий,
горькой печали. В «Повести о нашествии Тох-
тамыша» слова о прекращении службы,
пения, колокольного звона, когда церкви
стоят «не имущи лепоты, ни красоты»,
становятся высшим моментом напряжения в
повествовании, символом «горести
смертельной»: «где тогда красота церковная,
понеже престала служба, <...> преста глас
псалму, по всему граду умлъкоша песни <...>
Несть позвонения в колоколы, и в било
несть зовущаго, ни текущаго, не слышати в
церкви гласа поюща, несть слышати
славословия»14.
Пение, подобно иконам, наделялось
сверхъестественной силой — энергией
своего архетипа. Так, в «Сказании о битве
новгородцев с суздальцами» рассказ о
чудотворной новгородской иконе Знамения
Богородицы включает и описание чудесной
силы пения: на третий день осады города
при пении кондака «Заступнице крестьяном
непостыдная» икона сама «подвижеся» и, по
преданию, вскоре принесла победу
новгородцам15.
Ориентация песнопений на небесный
270
Глава 10
архетип, божественность пения, ангелоглас-
ность — мысль, сопровождавшая
средневековую певческую культуру на всех этапах ее
развития от становления до кризиса. Сам
собой возникает вопрос: что же
гарантировало соответствие пения высшему образцу,
какие закономерности выражали это
соответствие («Божий ном» св. Климента
Александрийского, «иные законы» св. Григория
Нисского16), что было критерием
истинности пения, его софийности и красоты? Если
формулой христианской истины был догмат,
то формулой истинности певческого
искусства был канон.
К моменту принятия Русью христианства
в Византии уже существовал детально
разработанный музыкальный канон —
система правил, регламентировавших самые
разные стороны певческого искусства.
Существенной особенностью древнерусского
канона и отношения к нему, в отличие от
Византии, на долю которой выпало
решение задачи постепенного вынашивания и
формирования норм, было то, что
древнерусская певческая культура с самого
начала развивалась на основе жестких
закономерностей, верность которых в принципе не
могла быть предметом обсуждения.
Возможно, именно поэтому в древнейшем из
дошедших летописном своде — «Повести
временных лет» — пение, вообще крайне
редко упоминающееся, охарактеризовано
фактически лишь предельно обобщенной
формулой, соотносящей его с нормой,
правилом: в такой-то ситуации пелись
«положенные песнопения в назначенное время»17.
Поскольку факт крещения Руси
рассматривался как «приход благодати»,
«Премудрости Божией» («Слово о законе и
благодати» митрополита Илариона), постольку и
верность тогда же усвоенному церковному
канону служила мерилом благодатности,
гарантией истинной премудрости
певческого искусства и залогом его единства,
соборности.
Певческому искусству Древней Руси
свойственна чрезвычайно высокая степень
канонизации составляющих его элементов.
Как известно, византийско-русский
певческий канон касался регламентации
содержательного, смыслового наполнения песнетвор-
чества и его музыкального устроения.
Смысловой канон предполагал строгий отбор
литургических текстов, поэтическое
содержание которых в большинстве случаев
определялось откристаллизовавшейся
системой догматов. Виды служб, круг
песнопений и певческих книг, удержавших
греческие названия, стали фактом русской
культуры. Строгое отношение к соблюдению
византийского канона на Руси проявилось в
характере церковнославянских переводов с
греческого, в целом копировавших
первоисточник (хотя и не всегда безошибочно), в
создании песнопений русским святым по
образцу византийских гимнов.
ПЕВЧЕСКИЙ КАНОН '
В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Венок песнопений
Вхождение в сферу церковного влияния
Византии сделало Русь наследницей к тому
времени тонко и детально разработанного
богослужебного чина, в котором сплетались
воедино, подобно цветам в венке,
разнообразные виды песнопений.
Процесс образования системы песнопений
в византийской гимнографии воплотил
существенные для духовного мира этой
культуры представления о невыразимой гармонии
и содержательном богатстве небесной
хвалы. Лишь намеком на нее могло служить все
многообразие видов песнопений,
воспеваемых земным миром, все изобилие поэтико-
мелодических вариаций многоцветной гим-
нографической мозаики. Их множествен-
ность происходила от продуманности до
мельчайших подробностей, выработанности
в реальном опыте духовной жизни самих
богослужебных чинопоследований —
смыслового ряда, действий, символов, — в
которых песнопения обретали те или иные
функции, акцентировали те или иные
содержательные мотивы. Одновременно с этим
ясно воспринимаемое единство круга
песнопений как знак их причастности образу
ангельского пения и как примета верности
божественному архетипу было обусловлено
производностью большинства из них от
одной гимнографической формы — тропаря.
Тропарь (tponàpiov), древнейший из
видов песнопений, возник в ранневизантийскую
271
Книга первая
эпоху в качестве припева к стихам псалмов,
новозаветного «комментария» к священному
тексту. Впоследствии появились
самостоятельные тропари, не связанные
непосредственно с псалмами; многие из них
получили название соответственно содержанию
текста, или месту в богослужении: богородичен
(GeoTOKiov), крестобогородичен (отаиро-
GeotokIov), троичен (ipiaôucôv), мученичен
(liapTupiKÖv), светилен (срсотаусоугкоу), седа-
лен (кабюца) и др. Иные тропари,
устойчиво соединившись с отдельными стихами
псалмов, стали называться стихирами
(оихлра) и образовали их циклы: стихиры
на Господи воззвах (кбкрауарш; со
стихами псалмов 140, 141, 129, 116, первый из
которых начинается словами «Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя»), на стиховне
(ànôoTixa; со стихами псалмов,
приуроченных к данному дню), на Хвалите
Господа, или на хвалитех (eio toùo äivouo;
после псалмов 148, 149, 150). Тропарь лег в
основу пространной композиции канона —
многострофной поэмы, певшейся от начала
до конца, происходившей из монашеской
гимнографической традиции и сменившей в
«классический» период развития
византийской гимнографии ранневизантийский мно-
гострофный кондак18, характерный для
соборных служб. Тропарями, припеваемыми к
псалмам, были и некоторые песнопения
Литургии, впоследствии отделившиеся от
своих псалмов и утратившие «жанровое»
обозначение: Херувимская песнь, Трисвятое и
заменяющие его варианты «Елицы во
Христа», «Кресту Твоему»19.
Многоценный венец песен составлялся по
строго определенным законам, которые в
каждом конкретном случае заставляли его
играть все новыми и новыми гранями.
Закономерности включения песнопений в
богослужебный чин и их расположения
кристаллизовались постепенно, обусловленные
ростом духовного опыта Церкви и
обстоятельствами жизни того или иного
сообщества верующих. Так сформировались
различные уставы богослужения, отражавшие
образ жизни монахов-пустынножителей
(Лавры св. Саввы Освященного близ
Иерусалима, монастырей Святого Афона) или
городского монашества (Студийский
монастырь в Константинополе), торжественный
строи чинопоследований главного храма
империи — Св. Софии в
Константинополе, — предполагавших участие в них
патриарха, императора и огромного клира.
На Руси порядок богослужения,
содержание и структура певческих книг разных
периодов регулировались одним из
сложившихся в Византии уставов. Древнерусское
певческое искусство XI — XIV вв.
свидетельствует о господстве Студийского Устава,
принятого Киево-Печерским монастырем
при св. Феодосии Печерском, бывшем тогда
его игуменом. Некоторые богослужебные
книги XII — XIV вв. — Кондакари,
Служебники — дают основание говорить о
знакомстве и использовании в
богослужебной практике также Устава Великой
Церкви (Св. Софии Константинопольской). В
конце XIV в. на Руси появились первые
списки Иерусалимского Устава, который с
XV в. стал господствующим и который
поныне остается Уставом богослужения
всего православного мира. Введение
Иерусалимского Устава с точки зрения певческого
искусства предусматривало значительное
увеличение количества певшихся текстов в
службах Вечерни и Утрени, стимулировало
творчество древнерусских роспевщиков и
привело к созданию крюковых певческих
книг Октоих и Обиход, песнопения которых
ранее никогда не йотировались.
Византия передала Руси и основные
принципы музыкального оформления
богослужения — певческий «устроительный»
канон.
«Природные» свойства
ангелогласного пения
Древнерусская церковная музыка,
подобно византийской, была исключительно
вокальной. В сфере культовой практики
понятие «музыка» полностью заменялось
понятием «пение», причем первому из них,
относимому к игре на музыкальных
инструментах («мусикия» — гудение),
придавался негативный смысл. Известно, что
уже в раннехристианской культуре
человеческому голосу отдавалось предпочтение
перед звучанием инструментов —
во-первых, потому что инструментальная музыка
ассоциировалась с языческими ритуалами, с
272
Глава 10
увеселениями, военными действиями и, во-
вторых, потому что «несовершенные»
инструменты, сделанные руками человека,
представлялись ненадежными посредниками
между землей и небом. В литературе
Киевской Руси (Житие преп. Феодосия Пе-
черского) и позднее, в XIV — XVI вв.,
музыкальные инструменты назывались
орудиями «бесовских соблазнов», а
пользование ими приравнивалось к «богомерзким»
делам — пьянству, насилию, грабежу,
нарушению заповедей, разбою, чародейству —
и мыслилось «началом зла», «погублением»
(«Златая цепь», «Стоглав», «Домострой»).
Борьбу церкви с народной культурой,
длившуюся несколько столетий, в области
инструментальной музыки обостряли и
антилатинские тенденции. В «Слове о немецком
прельщении»20, отразившем знакомство
Руси с апокрифами о св. апостолах Петре
и Павле (2-я половина XI в.), с
негативным оттенком говорится об
инструментальной музыке в латинском богослужении: «И
игрецемъ повеле играти в церквахъ»21. В
Симеоновской летописи (XV в.),
зафиксировавшей неприятие Русью решений Фер-
раро-Флорентийского собора 1439 г.,
латинское богослужение описывается почти в тех
же выражениях, что и народные «игрища
бесовские»: «Или се есть красота их
церковная, еже ударяют в бубны, в трубы же
и в арганы, руками пляшуще и ногами топ-
чуще, и многыя игры деюще, ими же бесом
радость бывает?»22
Византийское и древнерусское певческое
искусство характеризуется господством
унисонного пения. Византийская хоровая
культура оставалась монодийной в своей
основе вплоть до падения империи; в латинской
певческой традиции ранние виды
многоголосия известны с XI в.; в Древней Руси
многоголосие было зафиксировано в
рукописях лишь в конце XV — XVI в., когда
в певческом искусстве возник ряд явлений,
повлекших за собой нарушение
канонических установок.
Одноголосие связывалось с идеей
церковного единства, с принципом соборности; оно
символизировало «единодушие, единоумие и
едину волю» всех участников
богослужения23, всех, кто находился в духовном
пространстве храма. Кроме того, существовали
и другие, более глубокие, внутренние
причины, объясняющие господство монодийно-
сги: это собственно музыкальные свойства
монодии, отвечавшие сакральной функции
литургического пения.
В древнерусской монодии ярко
выражены принципы линейного, горизонтального
мышления. Ему свойственны почти
идеальная поступенность, плавное скольжение,
переливание одного тона в другой, при
котором от предыдущего звуковой след не
образуется, и поэтому вертикальное
измерение музыкального пространства полностью
(или почти полностью) отсутствует. Статика
горизонтальных связей тонов создает у
воспринимающих настроение глубокого покоя,
внутренней тишины. Мелодия, не имея
«центра тяжести», парит, плавно
поднимаясь и опускаясь относительно мысленно (или
реально) присутствующего среднего уровня
(в древнерусской традиции — уровня так
называемой строки). Равновесие подъемов
и спадов образует невесомую, лишенную
внутреннего напряжения бесплотную
волнообразную мелодическую линию песнопений,
не подчиняющуюся земным законам.
Действие канона распространялось и на
область звуковой системы. Древнерусское
певческое искусство, по крайней мере в
известных нам пределах, основано на
диатонике. Вопрос о звуковой системе в
древнерусской теории музыки никогда не
обсуждался. Древнейшие напевы — народные и
церковные — нам не известны; можно лишь
предположить по доступному в звучании
материалу, что в древнерусской культуре
были распространены только разные
варианты диатоники, пентатоники и
вписывающиеся в диатонику узкообъемные
звукоряды; поэтому ограничительные действия
канона этой области не касались. Проблема
звуковой организации монодии оказалась в
центре внимания знатоков древнерусского
пения на завершающем этапе развития пес-
нетворчества, в период разложения
средневековой певческой культуры и кризиса не-
вменной (крюковой) системы записи
песнопений (XVII в.); в это время была
осуществлена фиксация звуковысотности с
помощью киноварных помет Ивана Шай-
дура, связанная с влиянием
западноевропейской системы сольмизации.
273
Книга первая
Осмогласие стало, как в Византии и
Западной Европе, основой
«устроительного» канона певческого искусства. Оно
устанавливало строгий порядок, устав (xâÇio)
музыкального оформления богослужения,
проявляющийся в последовательном
чередовании гласов — по неделе каждый (восемь
гласов образовывали так называемый столп,
повторявшийся по истечении восьми
недель). Каждый из восьми элементов
осмогласия обладал не только своими словесными
текстами, своим ладовым звукорядом строго
определенной структуры, но также ему лишь
присущими мелодическими формулами
(каноническими мелодико-ритмическими
оборотами), позднее названными кокизами, или
попевками, и образовывал сложную
систему отношений с остальными элементами.
Благодаря каноничности попевок,
составляющих мелодическую ткань, гласовая
принадлежность песнопений легко определялась на
слух — подобно тому, как мгновенно
читались подчиненные иконографическому
канону сюжеты икон.
Регламентирующее действие канона
охватывало также область композиции
песнопений. Наиболее ярко оно проявилось в
заимствованном из Византии методе распевания
ненотированных словесных текстов «на
подобен» — по модели какого-либо известного
песнопения (npooônoiov — подобный текст,
аитоцеХоу — песнопение-образец, самопо-
добен)24, которое рассматривалось как
освященный церковной традицией образец, а
значит, как образ небесной песни. Роспев
массы разнообразных по содержанию
песнопений на основе ограниченного в
количественном отношении собрания образцов-
моделей означает прежде всего то, что в
средневековой певческой культуре
первичными были не конкретный смысл и
выразительность роспеваемого текста, а
соотнесенность создаваемого напева с идеальным
прототипом, этос и чин мелоса, отвечающие
господствующим представлениям о «напеве
небес». Принцип подобия имел
формообразующее значение и в жанре канона,
тропари которого пелись по модели ирмоса.
Широко распространенное и имевшее
большое практическое значение на первом
этапе развития древнерусского певческого
искусства пение на подобен, сохраняясь и в
дальнейшем, постепенно оттеснялось на
второй план оригинальными
песнопениями — самогласнами (iôiôjxeXov),
основанными на индивидуальных принципах
соединения канонических формул.
Пронизывая все аспекты музыкальной
организации песнопений, канон утверждал
соответствие, подобие культового пения
божественному архетипу. Роспевщик
воспринимался не как творческая личность, а
как благочестивый слушатель небесных
славословий, посредник, «вдохновением
Святого Духа» передающий информацию с
уровня сверхбытия на уровень бытия.
Средневековое общество не проявляло особого
интереса к личности художника; певческое
искусство этого времени почти полностью
анонимно. Лишь на последних этапах его
развития в связи с индивидуализацией
творчества, ростом авторского начала и
осознанием личного умения —«хитрости» (tj те%щ)
имя роспевщика попало на страницы
рукописей. Характеристики, дававшиеся
мастерам пения, основывались не только на
определении их профессиональных достоинств,
но и на нравственной оценке —«добрые
хитрецы», «мужи благоговейны и мудры».
Премудрые, постигшие хитрость
божественного пения мужи, подчеркивая свою
высокую функцию, охраняли секреты мастерства,
прибегая к «тайнозамкненным» —
условным, известным лишь членам «цеха роспев-
щиков» формам записи песнопений (фитам
и лицам).
Церковное пение
и фольклор
Церковная певческая культура Руси
противопоставляла себя культуре
народно-бытовой, непосредственно связанной с
языческой обрядностью. Центральной проблемой
их взаимоотношения, решавшейся на Руси
в значительной степени в сфере
художественного творчества, была проблема
времени. В музыке — искусстве временном —
она стояла наиболее остро. Песня,
древнейшие жанры которой сопровождались
ритуальным движением — танцем, во всех своих
разновидностях сохраняла признаки
изначального синкретизма. Даже в тех формах,
которые не были непосредственно связаны
274
Глава JO
с обрядовой практикой (былина, протяжная
песня и др.)» °на полностью подчинялась
циклическому времени. Это выражалось в
господстве периодичности, регулярной по-
вторности, охватывающей основные
категории музыкального мышления — форму,
ритмику и лад25.
Цикличности временной организации
народно-бытовых песенных форм
противостояло господствовавшее в культовой
монодии линейное время. Слитность
мелодического потока, преодолевавшая дробную
строчную текстовую форму, отсутствие
кристаллических структур лишали слуховое
восприятие исходной единицы отсчета,
создавали ощущение непрерывного и
необратимого течения мелодии. Если провести
сравнительный анализ композиционных
структур древнерусской, византийской и
латинской монодии, то можно утверждать,
что тенденция к избеганию периодической
повторности, кристаллических структур в
русской традиции проявляется с наибольшей
последовательностью: рефренные, реприз-
ные и строфические структуры (типа
антифонов, Kyrie, гимнов в латинской гимногра-
фии) для нее совсем не характерны26.
Линейная организация временного
музыкального процесса, однако, не столько
снимала цикличность, сколько вбирала ее в
себя, покрывала ее, подчиняя своим
законам. Некристалличность целого и его
частей, асимметрия ритмических формул,
отличающихся разнообразием математических
пропорций27, совмещалась с бинарностью
первичных ритмических структур, сходных
с русской народно-песенной ритмикой.
Синтез двух видов времени — замкнутого
пульсирующего и непрерывно длящегося —
моделировался на всех уровнях,
характеризовал и каждое отдельное песнопение, и
певческую сторону богослужения в целом.
Последование песнопений, чередующихся с
оформленной по тем же принципам мелоди-
зированной речью (литургическим
речитативом), образовывало ряд подобных,
переливающихся друг в друга форм. Их
стилистика почти не зависела от места и
функции песнопения в культовом действе,
снимала своей однородностью, обеспеченной
каноном, различия их конкретного
мелодического содержания. В литургическом пении,
где периодичность, равномерность
пульсации так или иначе поглощалась
неравномерностью, художественными средствами
воплощалось представление о сакральном
времени-вечности28.
ЭВОЛЮЦИЯ КАНОНА
Подчинение всех сторон певческого
искусства канону не означает, что на
протяжении нескольких веков оно не было
подвержено изменениям. Даже находящиеся в
пределах одного исторического периода
певческие рукописи содержат хотя бы
незначительно отличающиеся варианты песнопений,
а часто и их различные редакции.
Перемены, происходившие в общественной жизни
средневековой Руси, формируя на каждом
историческом этапе конкретный духовный
идеал культуры, отзывались и в сфере
художественного творчества. В целом
оставаясь в рамках канона, певческое искусство
развивалось, приобретало в процессе
эволюции новые черты, создавало новые образы
ангелогласного пения.
ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРИОДА:
XI — XIV ВВ.
Древнерусское певческое искусство
первой традиции охватывает длительный период
времени от конца XI в. до первой
половины XV в. включительно. В это время
создается, в большой мере с ориентацией на
византийскую письменную культуру29, круг
необходимых для отправления службы
песнопений, закладываются основы
древнерусского песнетворчества. Последние несколько
десятилетий этого периода, когда в культуре
Руси происходили значительные сдвиги,
касавшиеся и литургической практики
(смена устава богослужения), для певческого
искусства были переходными. От 1-й
половины XV в. сохранились первые певческие
азбуки, существенно отличающиеся по
некоторым параметрам от аналогичных
руководств конца XV в.30, и новые певческие
редакции одной из самых каноничных ос-
могласных книг — Ирмология, — не
совпадающие ни с древнейшей, ни с
последующей конца XV в.
275
Книга первая
Певческая традиция древнейшего
периода включает роспевы двух типов: один из
них — знаменный — оказался стержневым
для всей древнерусской певческой
культуры; другой — кондакарный, мелодически
более сложный, чем знаменный, насколько
можно судить по системе его записи, —
полностью исчез из певческой практики в
XIV в.
Древнерусская нотация носила
идеографический характер. Мелодии песнопений
записывались невмами («знаменами»,
«крюками»), служившими обозначениями не
только отдельных тонов, но и небольших
ритмо-мелодических оборотов. Ранее
говорилось, что существовала условная запись
мелодий, при которой знаки, входившие в
краткие графические формулы, утрачивали
свое прямое значение и, как символы,
могли обозначать весьма пространные
мелодические обороты31. Идеографичность нотации,
свойственная европейской средневековой
музыкальной культуре в целом, воплощала
архаичный тип мышления с характерными
для него любованием множественностью и
вариантностью форм выражения,
раскрывающей почти неуловимые оттенки значения,
оперированием оформленными
мелодическими оборотами, уже несущими в себе хотя бы
простейшее смысловое наполнение в
отличие от позднейшей нотолинейной системы с
ее нейтральными, предельно
абстрагированными от конкретного содержания точками-
нотами.
Образцы кондакарного пения,
содержащиеся в древнейших русских певческих
книгах (XII — XIII вв.) — Кондакарях,
фиксировались особым видом нотации, в
котором графика знаменной системы
соединялась со специфическими, лишь ему
присущими начертаниями. Часть кондакарных
знаков идентична знакам архаичного вида
палеовизантийской нотации — Chartres.
Выразительными внешними признаками
кондакарного пения являются двуслойность
нотации, нижний ряд которой соотносится
с силлабикой текста и близок знаменной
графике, а верхний обозначает, очевидно,
мелизматические формулы; присутствие
возвышающихся над нижним рядом
своеобразных, сложных по графике начертаний,
отождествляемых К. Флоросом с «боль-
Кондакарь 1207 г. Кондак св. Феодосию Пс-
черскому. ТИМ, Усп. 9, а. 83 об.—84 об.
276
Глава 10
шими ипостасями» византийской
нотации.
Кондакарное пение представляло собой
орнаментальный роспев, типологически
близкий раннехристианской, византийской и
римской разновидностям мелизматического
пения. Не исключено, что оно было
присуще в первую очередь соборным службам, к
участию в которых привлекались, как
известно, и греческие певчие. Во всяком
случае, репертуар Кондакарей, особенно
кондаки и азматики, свидетельствуют о связи
этой певческой книги и представленного в
ней стиля пения с «песненным последова-
нием» (аоцаикт! акоХои91а) по Уставу
Великой Церкви. Сложность мелодики
кондакарного пения и системы ее записи, а
поэтому и недоступность для исполнения
рядовыми певчими, вероятно, стали причиной
его недолговечности32.
На основании знаменных рукописей
конца XI — первой половины XV века, пока
не поддающихся однозначной дешифровке33,
можно сделать лишь самые общие выводы
о музыкальном характере песнопений того
времени. Однако, прежде чем предложить
их обобщенную характеристику, стоит
отметить, что до сих пор дискуссионным
остается вопрос о степени зависимости
знаменного мелоса от византийской монодии.
Конечно, в целом не вызывает сомнений
теснейшая связь древнерусской певческой
традиции с византийской. Их объединяет
очень многое — виды песнопений,
литургические тексты, главные особенности
структуры, следование принципу осмогласия,
использование значительного числа общих
знаков нотации и др. Вместе с тем
заметные отличия в фиксации роспева текстов,
ладово-мелодическая и ритмическая
специфика знаменного роспева позднейшего
времени заставляют предполагать, что роспев -
щики древнейшего периода подходили к
развитию заимствованной певческой
культуры творчески.
Мелодический стиль значительной части
знаменных песнопений был строгим,
преобладала простая речитация. Знак
речитативного пения — столица (I/), очевидно,
устанавливал господствовавший высотный
уровень в гласе, тем самым формируя его
ладовую структуру; диапазон мелодий,
по-видимому незначительно отклонявшихся
от среднего уровня вверх и вниз, был
ограниченным. Главное внимание уделялось
ясному воспроизведению текста: слогу
обычно соответствовало одно знамя; песнопение
членилось на отдельные строки,
завершающиеся специально предназначенными для
окончаний знаменами (чаще всего статьей ^>)
или устойчивыми по составу знаков
оборотами — мелодическими формулами; конец
песнопения, как правило, отмечался
характерной мелодико-графической формулой.
Соблюдение общего принципа замедления
или просто остановки в конце строк
сочеталось с замечательным разнообразием ме-
лодико-ритмических вариантов каденцион-
ных оборотов. Множественность способов
решения одной и той же функциональной
задачи, графически закрепленная
вариативность мелодического мышления как его
основополагающее свойство были вполне
точным эквивалентом поэтической формы
литургического текста. Членораздельность,
дробность строчной структуры текста и
мелодии не поддерживались обычно ни
строгим изосиллабизмом, ни последовательным
«рифмованием» (регулярными гомеотелев-
тами).
Единство, слитость слова и пения,
простота мелодики, ясность структурных
членений свидетельствуют о сугубо
функциональном смысле пения, не несущем в себе
ничего, что могло бы отвлечь от
священного слова или самостоятельно его
прокомментировать, ничего индивидуального,
особенного, отдельного от текста. Торжественная
строгость, лаконизм и плавность мелодики
соответствовали высокому стилю
церковнославянских текстов, покойности и
замедленности движений, многозначительности
ритуальных поз — этикетным формулам
храмового действа (см. пример 1).
Среди знаменных песнопений первой
традиции встречаются и более сложные в
мелодическом отношении композиции с
большим количеством составных знамен,
отдельными знаками кондакарной нотации
и фитами, образующими значительный внут-
рислоговой роспев. Суровая простота
речитатива заменяется в них развитым
мелодическим стилем, однако принцип «слог-
знамя» полностью сохраняется, и мелизма-
277
Книга первая
тические украшения представляют собой
лишь вставки, отмечающие узловые
моменты песнопения или требующие
эмфатического акцента слова, но не
трансформирующие его стилистику в целом. (Об эмфазе,
музыкальных фигурах в древнейшем слое
знаменных песнопений см. ниже.) Строгость
и четкость композиции, характерная для
песнопений речитативного типа, при этом не
Пример 1
Ирмологий начала XIII в. Глас 2. Хиландар,
№ 308, л. 56
утрачивалась. Сохранялось и ясное
членение на строки, завершение строк
одинаковыми или, чаще, сходными оборотами,
типичными для всего круга знаменных
песнопений. Приводимый ниже фрагмент
стихиры Сретению Господню в структурном
отношении весьма строг: система повторов,
неполная точность которых отчасти
обусловлена различием в количестве слогов в
строках, организует словесный текст в
двучленные строки с одинаковыми окончаниями —
подобием рифм. Эпизодически сходные
мелодические обороты возникают и в иници-
ях (см. пример 2).
Такого рода композиции были
свойственны жанру стихир, который и впоследствии,
в древнерусском певческом искусстве 2-й
половины XV — XVII в., отличался
большей мелодической развитостью, чем канон.
Аналогичное сочетание речитативной
(силлабической) и мелодически развитой (невма-
тической) форм пения характеризовало
византийскую и латинскую гимнографию.
Пример 2
278
Стихирарь минейный XII в. Стихира
Сретению Господню, глас 7, «Украси свои цертог
Сионе». ГИМ, Синод, собр. 589, л. 121
Третий тип соотношения слова и мелоса
в древнейшем знаменном роспеве
представляют песнопения мелизматические — с
преобладанием сложных невм, соединением
нескольких невм на одном слоге текста. Их
сравнительно немного, однако создаются они
для особенно важных моментов в
структуре богослужения. Чаще всего это славники,
венчающие разные циклы стихир — на
«Господи, воззвах», на стиховне или на
«Хвалите Господа». Присутствие мелизма-
тических песнопений в определенной мере
корректирует точку зрения о безусловном и
полном приоритете текста и
функциональной ограниченности мелоса, поскольку
означает, что уже в древнейшей культуре в
сознании роспевщика было представление о
Глава 10
способности мелодического потока выразить
мистическое состояние усердной молитвы
своими собственными средствами (см.
пример 3).
Примечательной чертой древнерусского
певческого искусства XI — начала XV в.
стало то, что в певческих книгах этого
времени вообще не были записаны важнейшие
неизменяемые песнопения, входящие в круг
Пример 3
Стихирарь триодный XII в. Стихира на
Вознесение Господне, глас 6, «Възиде Богъ въ
въскликновьнии». Хиландар, № 307, л. 96
суточных служб и Литургию, например,
«Свете Тихий», «Единородный Сыне»,
Трисвятое, Херувимская песнь, песнопения
Евхаристического канона. В византийской
традиции аналогичные песнопения также
попали в певческие книги лишь на
последнем этапе развития, что может служить
чисто внешним объяснением их поздней
знаковой фиксации в древнерусских
рукописях (XVI в.). Существенная особенность
большинства неизменяемых песнопений —
внегласовый характер их мелоса —
заставляет предположить, что именно это и было
основной причиной, по которой они долгое
время не йотировались, передавались
изустно и исполнялись за богослужением по
памяти. Весьма вероятно, роспев этих
центральных в литургическом смысле текстов
характеризовался интонационной простотой
или повторностью структурных единиц —
теми свойствами, которые облегчают
запоминание и обычно сопутствуют устной
форме бытования того или иного текста. До
некоторой степени это предположение
подтверждают поздние записи указанных
песнопений, отмеченные либо речитативным
стилем пения, либо повторяемостью
мелодического материала.
ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
XV — XVI ВЕКОВ
Во 2-й половине XV — начале XVI в.
в рукописях была зафиксирована вторая
традиция знаменного роспева. Новый вид
знаменного пения обычно называют
столповым, так как одна из основных певческих
книг — Октоих, йотированная во многих
списках именно в это время, содержала
столп (восьминедельный цикл) песнопений.
К моменту фиксации столпового роспева в
жизни Древней Руси, как известно,
произошло много весьма значительных событий
и перемен. Закончилась принесшая
множество потерь эпоха монголо-татарского
завоевания; древнерусская культура пережила
один из своих высших взлетов, связанный
с общим национальным подъемом периода
Куликовской битвы и с так называемым
вторым византийским, или южнославянским,
влиянием, познакомившим Русь с учением
исихастов34. Характеризуя этот этап
развития европейской культуры, проходивший под
знаком обращения к культурному наследию,
Б. А. Успенский отмечает, что на Западе
интерес сосредоточился на дохристианской
культурной традиции, а на Руси возобладало
влияние византийской церковной
традиции35.
Завершался процесс сложения единого
Русского государства, изменилось его
международное положение. Москва приобрела
значение политического, культурного
центра и стала «церковной столицей». Это
вызвало реорганизацию разных сторон церков-
279
Книга первая
ной жизни, в том числе и музыкальной
стороны богослужения. Были отредактированы
древние певческие книги, вводились ранее
не употреблявшиеся (крюковые Октоих и
Обиход); на протяжении XV — XVI вв.
рукописи значительно пополнились
службами русским святым. Лишь во 2-й
половине XV в. в певческих рукописных книгах
нашли отражение те стилевые сдвиги,
которые происходили в других областях
художественного творчества веком раньше.
Вероятно, новые черты в знаменном роспеве
накапливались постепенно,
преимущественно в устной традиции, и,
распространившись, приобретя к этому времени
систематический характер, были внесены в
рукописи как норма современной певческой
практики.
Стилистика
столпового знаменного
РОСПЕВА
Развитие знаменного роспева, имевшего
уже древнюю традицию, в целом
протекало в пределах, установленных
средневековым каноном. Главный отличительный
признак столпового пения, как и всей
певческой культуры этой эпохи, — поиски
собственно музыкальных средств
выразительности, вызвавшие резкое увеличение
распевности. Более чем вдвое возросло число
йотированных текстов в связи с принятием
Иерусалимского Устава богослужения, и
сами роспевы стали значительно
протяженнее, пространнее, речитация в них почти
исчезла. Роспев первой традиции был
полностью слит со словом и без него вряд ли
мог существовать; столповой роспев
приобрел характер самостоятельного смыслового
ряда. Общие контуры мелодии
по-прежнему соответствовали
повествовательно-молитвенному тексту, его структуре, однако их
конкретное наполнение оказалось более
сложным, чем требовала сосредоточенная на
слове культовая практика, усиливающим,
дублирующим выразительность слова,
передающим его обобщенный смысл. На смену
лаконичному языку древних песнопений, не
выговаривающему его, а подобно
таинственному знаку скрывающему смысл, пришел
более общительный, стремящийся
передать сакральную эмоцию, воплотить
своими средствами, в структуре музыкального
образа сложнейшую религиозную
проблематику.
Происходившему процессу очищения
литературного языка от разговорных
элементов, отталкивания от живой речи36, в
певческом искусстве отвечала кодификация
роспева на основе попевок, почти не
оставлявших места для ощутимых связей с
бытовой интонационностью. Канонизированная
«лексика» певческого искусства — его си-
тема попевок — принципиально отделяла и
противопоставляла культовый мелос языку
фольклора. Мелодическая ткань песнопений
почти полностью составлялась из
выразительных, впоследствии получивших
образные названия устойчиво повторявшихся
оборотов-формул: «колесо» (круговое
движение мелодии около опеваемого опорного
тона), «повертка» (волнообразное поступен-
ное движение), «подъем» (восходящее
движение), «долинка» (нисходящее
движение — «долу»), «возгласка» (восходящая
интонация с терцовым скачком в высоком
регистре), «качалки» (покачивание вверх-
вниз с простой повторностью этого
рисунка внутри формулы) и др. (см. пример 4).
Количество попевок, несравнимое с
прежним, позволяет говорить о небывалом
богатстве словаря столпового роспева.
По данным, полученным на основе
изучения рукописных собраний знаменных
попевок конца XVII — середины XIX в.,
гласы содержат от 16 до 40 мелодических
формул с устойчивой графикой37. Однако
вместе с вариантами их значительно
больше.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МЕЛОДИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
Разнообразие формул не противоречило
этикетности певческого искусства и не
приводило к стилистической пестроте.
Стилевая однородность словаря попевок
обеспечивалась господством единой мелодической
модели, лежащей в основе самых разных
формул, — преобладанием поступенных
мелодических рисунков в пределах терции
или кварты. Попевки, подобно кубикам
280
Глава 10
смальты в мозаике, с помощью нейтрального
соединительного мелодического материала
«подгонялись» друг к другу таким образом,
что, создавая единую мелодическую линию,
они вместе с тем сохраняли свою
относительную завершенность и самостоятельность.
Единство приемов формирования попевок
обусловило вариантное сходство многих
оборотов и привело к возникновению в пес-
Пример 4
Мелодические формулы (попевки)
столпового знаменного роспева
нопениях многочисленных мелодических
связей, анафорических и эпифорических
неточных повторов. Особенности
мелодического материала знаменного роспева
определили своеобразие способа его изложения —
особого рода вариантное развертывание,
основанное на тонкой игре аналогичными,
подобными формами и деталями, но не
создающее логически последовательного
развития исходной формулы. Этот тип
мелодического мышления как движения, не
имеющего ни отграниченного от последующего
развития тезиса, ни неуклонного
устремления к какому-либо результату, можно
назвать статической вариантностью (см.
пример 5).
Вариантность попевок, волновой характер
интонирования и общий для знаменного
роспева тип мелодического развертывания
обеспечивали единство всего корпуса
песнопений, создавали устойчивое настроение
покоя, сосредоточенного созерцания.
Новому типу этикетной мелодики отвечала новая
же — раздельноречная — форма
церковнославянских литургических текстов (так
называемая хомония — искусственное
произношение букв Ъ и Ь как О и Е,
отсутствовавших в живом языке). Сотканные из
попевок, «хитроумно» обыгрывающих одни
и те же или очень сходные мелодические
схемы, песнопения столпового роспева, пожалуй,
сопоставимы с витиеватым, наполненным
тавтологиями «музыкальным» потоком слов
в стиле плетения словес. В обоих случаях
течение звуков, будь то сплетение
«протяженно сложенных» слов, нанизывание си-
281
Книга первая
нонимов, рифм, ассонансов или мягкое,
единообразное при всех различиях
мелодическое опевание одних и тех же тонов,
понималось как единственный способ
высказывания сокровенного, неизреченного смысла.
Именно в столповом роспеве образ
«плетения» гимна-венка воплотился с наибольшей
полнотой и звуковой конкретностью.
Стихира восточна столпового знаменного
роспева, глас 5
В развертывании знаменной мелодии, без
сомнения, преобладало единое состояние,
покой и сосредоточенность — мерные
«приливы» и «отливы» волновой мелодики,
ощутимые знаки отчетливости смысла,
собранности и духовного трезвения в песно-
словии. И все же слитая со словом мелодия
не всегда оставалась непроницаемой для
более конкретной звуковой
выразительности, образности. Это подтверждается
присутствием в ней образно-звуковых соответствий
слова и мелоса, заставляющих вспомнить о
риторической эмфазе, подчеркнутой
интонационной выразительности слова, и
проблеме изобразимости слова, энергично
обсуждавшейся на византийской почве (в связи с
почитанием икон)38. Выразительность попе-
282
Глава 10
вок и особое их сцепление вели к
воссозданию средствами мелодики понятий
словесного ряда, к образованию символических
музыкальных фигур-«образов» в духе
«творческих образов» Георгия Хировоска39,
от которых лежал путь к
рационалистической системе музыкально-риторических
фигур барокко.
Главная черта фигур знаменного роспе-
ва — отсутствие при их образовании
нарушения мелодических норм, выходов за
пределы канонического словаря попевок.
Ограничен и сам набор фигур-«образов»; он
связан преимущественно со звуковым
воплощением антитезы «горнего» и
«дольнего» миров (фигуры восхождения и
нисхождения) или с риторическими
восклицаниями.
Причина строгого ограничения фигур и
сохранения их мелодической каноничности
вполне очевидна: знаменный роспев сам по
себе есть максимальное отклонение от
бытовой культуры, бытовой музыкальной речи,
представленной тогда фольклором.
Знаменный роспев — образ идеального пения,
ориентированного на небесный архетип,
символическая фигура ангелогласного пения.
Музыкальные фигуры-«образы»,
возникновение которых в гимнологии связано с
литературной риторической традицией,
присутствовали уже в древнейших
песнопениях знаменного роспева. Помимо часто
встречавшихся мелодических анафор и гомеоте-
левтов, одним из самых выразительных
приемов элокуции (норм словесного
выражения) были фигуры украшения. Мелизма-
тические роспевы — фиты — на отдельных
словах текста использовались как фигуры
украшения. Они выполняли важные функции
и чисто выразительного порядка —
подчеркивали самые существенные слова и
устойчивые словосочетания символического
характера, выделяли возгласы, становясь
фигурами восклицания (см. пример 6).
Не меньшее место фигуры украшения и
фигуры восклицания занимают в
песнопениях столпового роспева, возможность
дешифровки которого позволяет более полно
воспринять искусство создания звуковых
«икон» слова. Неоднократное повторение
восходящих интонаций («горе» — anabasis),
расположение мелодии в подчеркнуто
высокой области гласового звукоряда (отмечена
одним из самых высоких знаков — крюком
тресветлым), лежащей фактически квартой
выше последующих двух стихов степенны,
прекрасно отвечает тексту первого стиха —
«В горы Твоих вознес мя законов».
Столкновение в литургическом тексте
противоположных действий («умертви» —
«воскреси» и т. д.), понятий отражается в роспеве
соединением контрастных фигур — «долу»
и «горе» (catabasis и anabasis, дающие в
сумме фигуру antitheton). В пределах
небольшого временного пространства
возникает небывалый, весьма выразительный
разброс мелодии на широкие интервалы
(октаву, дециму). При этом нисколько не
нарушается мелодический канон столпового
роспева, так как роспевщики мастерски
пользуются «свободными зонами» в
дискретной структуре песнопений, стыками
строк, не регулируемыми нормами попевоч-
ного словаря.
Мелодический оборот, попевка или
строка могут быть восприняты как фигура
только в контексте всего песнопения или его
развернутого фрагмента, во взаимодействии
с литургическим словом. Фигуры типа
antitheton или exclamatio (восклицание)
возникают, как правило, именно при
соединении соседних строк текста; строгая
плавность мелоса внутри каждого звена в
полной мере сохраняется. Из этого следует, что
в эпоху столпового роспева мастера пения
мыслили не только отдельными попевками,
строками, но и более крупными
элементами формы, учитывали эффект соединения
разных строк (см. пример 7).
Попевочный словарь знаменного
роспева в целом подчинялся канону: каждый глас
характеризовался своим набором
мелодических оборотов, фиксировавшихся
устойчивыми по составу знамен формулами. В
знаменной культуре этого периода именно попевоч-
ная, а не ладовая характерность гласа была
первичной, определяющей. В результате
обогащения знаменной мелодики глас,
видимо, отчасти утратил и ладовое единство, и
ладовую самостоятельность, иногда
заметно сближался с другими гласами.
Выразительный мелодико-ритмический оборот стал
основой, сущностью мышления роспевщи-
ков.
283
Книга первая
Пример 6
Глава 10
В столповом роспеве мелодия обрела
собственную выразительность, «внятность» и
эстетическую ценность как самостоятельный
язык. Очевидно, именно это вызвало
необходимость его теоретической фиксации и
толкования. Не случайно период становления
столпового роспева совпадает с появлением
первых руководств по изучению певческого
пева произошли существенные изменения и
в музыкальной структуре песнопений.
Дифференциация функций попевок (одни — для
начала песнопений, другие — для
середины, третьи — преимущественно для
«глубоких» окончаний-кадансов) позволила
мелодии отзываться не только на строчную
форму литургического текста, как это было
Музыкальные фигуры в песнопениях
столпового роспева: 1. Anabasis. Степенна, глас 1.
ГИМ, Синод, певч. собр. 1246. 2-я пол. XVI в.;
Синод, певч. собр. 99. 1-я пол. XVII в. 2.
Antitheton. Восточна, глас 1. ГИМ, Епарх. собр.
искусства — азбук (30 — 50-е гт. XV —
начало XVI в.) (см. рис. на с. 286).
С развитием мелодики знаменного рос-
177. XV'/XVI вв.; Синод, певч. собр. 1149.
XVI/XVII вв.; Синод, певч. собр. 195. Коней,
XVII в. 3. Exclamatio. Богородичен на
стиховне, глас 4. ГИМ, Епарх. собр. 181. XV/XVI вв.;
Синод, певч. собр. 171. Коней, XVII в.
в знаменном роспеве первой традиции, но и
на структуру более высокого уровня,
определяющуюся законами риторической диспо-
285
Книга первая
«Знаменье». Конец XV—начало XVI вв. ГИМ,
Епарх. собр. 184, л. 245 об.
гии всех ее уровней. Отсутствие
функциональных (качественных) различий между
разделами практически приводило к
беспредельному укрупнению целого, вплоть до
цикла песнопений, столпа, всей суммы
песнопений, использовавшихся в службе.
Такую иерархическую структуру могут
убедительно иллюстрировать те или иные
циклы стихир, в которых заметна
ориентация на некий единый прототип, даже если
он не обозначен. Чистый образец этого
рода — три воскресные стихиры на
«Господи, воззвах» 8 гласа, в которых
вариантное повторение трех мелодических строк
ABC, образующих раздел песнопения,
создает ощущение как бесконечности
нанизывания звеньев, так и масштабного
разрастания каждого звена до макроструктуры (см.
пример 8):
Конечность каждой строки
преодолевалась на следующем уровне — уровне
раздела, его законченность — на уровне
песнопения и т. д. Построенная по принципу
аналогии микро- и макроструктур, форма
столповых песнопений приобрела особый
выразительный смысл: средствами мелодии
в ней воплощалась и одновременно
снималась антиномия конечного и бесконечного,
временного и вечного, человеческого и
Божественного.
Столповым роспевом были роспеты
основные богослужебные певческие книги.
Древнейшая первая традиция знаменного пения
оказалась оттесненной им в большинстве
жанров, а столповой роспев стал осознаваться
как канонический, «древний». Создание
круга столповых песнопений, отразившее
процесс возрождения певческой культуры,
не представлялось ни нарушением канона,
ни формированием нового — несмотря на
их очевидные отличия от древних.
Необходимо отметить, что в самой традиции
столпового роспева впоследствии сосуществовали
и весьма стабильные, и расположенные к
эволюционному развитию жанры
песнопений: наибольшей устойчивостью отличались
песнопения Ирмология и Октоиха40,
периодическое образование новых редакций
характерно для различных типов Стихирарей,
Миней, Обиходов.
НОВЫЕ СТИЛИ И ЖАНРЫ.
КРИЗИС СРЕДНЕВЕКОВОГО
КАНОНА
Развитие певческой культуры в последней
трети XV — XVI в. отличалось особой
активностью. Столповой роспев был
центральным, но далеко не единственным ее
руслом. В это время в рукописях были за-
286
зиции. Мелодические строки стали
объединяться в отвечающие риторической
структуре разделы (exordium — narratio —
conclusio или только narratio — conclusio),
которые, однако, не приобрели
самостоятельных функций изложения, развития и
завершения. В результате певческая часть
богослужения образовала иерархическую
структуру, основанную на принципе анало-
Глава 10
фиксированы два новых роспева <— деме-
ственный и путевой, начали развиваться
ранние формы многоголосия. На границе
бытовой и церковной певческих культур
зародился новый жанр — духовный, или
покаянный, стих письменной традиции41,
несколько позднее появились так
называемые «ин переводы» (варианты роспева,
отличавшиеся от традиционного) и, наконец,
Две стихиры на «Господи воззвах», глас 8
большой знаменный, авторские и местные
роспевы. Своеобразие и внутренняя
противоречивость певческой культуры XVI в.
заключались в том, что параллельно с
каноническим знаменным роспевом,
стилистически примыкавшим, несмотря на
позднюю фиксацию, к памятникам русской
культуры конца XIV — XV в., в ней
существовал целый ряд явлений, отвечавших
современным запросам общества и
решавших новые художественные задачи, в
первую очередь — задачу создания
великолепного, поражающего блеском и богатством
храмового действа. Это не означает,
конечно, что стремление к украшению службы не
было свойственно предшествующим эпохам.
Дело в том, что характер этого стремления
в XVI в. под влиянием значительных
перемен в социально-политической жизни обще-
287
Книга первая
ства стал принципиально иным. Пышность
и великолепие богослужения мыслились
теперь одним из главных символов нового
положения Руси после окончательного ее
освобождения и падения Византийской
империи, соответствовали политическим и
идеологическим притязаниям
централизованного государства, осознавшего себя
единственным наследником православия, его
центром (постепенное оформление идеи
«богоподобия» царя и концепции
«Москва — третий Рим»). Этический идеал
внутренней, духовной красоты в искусстве
неуклонно трансформировался в идеал
официально-государственный, призванный быть
эстетическим подтверждением современного
статуса Руси и ее правителя. Было бы
неверно думать, что на этом пути певческую
культуру ожидали только утраты — были
в ней и значительные приобретения,
находки, связанные, как и потери, с ее
обмирщением. Как в развивавшейся в тот же
период лирической протяжной песне отход от
языческой обрядовой практики
чрезвычайно обогатил фольклорную мелодику,
высвободил мелодическую стихию, так и в
культовом певческом искусстве снижение
идеала сопровождалось раскрепощением
музыкального творчества, бурным развитием
собственно музыкальных средств и
возможностей, сделало песнетворчество более
открытым для воздействия нецерковной
музыки. В связи с этим в певческом искусстве
Руси, остававшемся пока еще в русле
средневековой традиции, возникли черты,
приведшие к ее распаду впоследствии.
В пределах канона, как было отмечено,
протекало развитие столпового знаменного
роспева, обогащение и индивидуализация
мелодического материала которого были
организованы, упорядочены на основе ранее
сложившихся правил и отвечали
охранительному принципу соборности. Столповой рос-
пев — это изнутри обновленная
средневековая традиция.
Появившиеся в рукописях одновременно
со столповым роспевом изысканное демество
и несколько холодноватый «путь» —
каждый на свой лад — трансформировали
нормативы, сохранявшиеся в столповом роспе-
ве. Первоначально они не имели
собственной нотации, записывались столповым
знаменем и уже в этом смысле были своего
рода деформацией знаменного канона. Обе
традиции были представлены прежде всего
наиболее торжественными песнопениями —
праздничными или певшимися в самые
важные моменты богослужения.
В этих певческих стилях, не
опиравшихся на такую древнюю традицию, как
знаменный, и ориентированных на
торжественность, пышность и великолепие
праздничных служб в городских соборных храмах и
крупных монастырях, степень мелодизации
настолько возросла, что любование
роспевом стало оттеснять божественное слово на
второй план. В них воплотились два разных
облика торжественного стиля пения, судить
о которых в настоящее время можно лишь
по более поздним, поддающимся
расшифровке спискам (с конца XVII в.).
Первому — деместву — свойственны
декоративность, прихотливая экспрессия, подвижность
и изменчивость мелодического течения.
Второй же своей нейтральностью, парадной
холодностью подобен «словесному
орнаменту» официальной речи, а важной
тяжеловесностью — драгоценным царским ризам.
Особенно чопорным путь кажется рядом с
витиеватой выразительностью демества. Тем
не менее стилевые черты этих различных
видов торжественного пения хорошо
уживались в многоголосии42.
Композиционно песнопения демественно-
го роспева в целом сохраняли структурные
принципы столповых (последование
несколько различающихся по длительности
мелодических строк). Мелодический
рисунок демества в самых общих чертах тоже
близок знаменному, несмотря на иное
интонационно-мелодическое содержание; он
отличается плавной текучестью, волнообразно -
стью, уравновешенностью подъемов и
нисходящего движения. Из-за обилия внутри-
слоговых роспевов демественная мелодика
представляется особенно пространной,
протяженной; ей свойственно еще более
широкое дыхание по сравнению со знаменной.
Чаще здесь встречаются мелодические
скачки, способствующие прояснению ладовой
основы. Сама же ладовая структура
демества — существенно иная, хотя оба
певческих стиля имеют единую звукорядную
основу — так называемый обиходный звукоряд.
288
Глава 10
Казалось бы, чисто внешним, но в
действительности важным, отражающим внутренние
изменения показателем трансформации деме-
ства, с точки зрения канона, является
разложение системы осмогласия, то есть такой
организации традиционного мелоса, основу
которой составляет упорядочение ладового и
мелодико-ритмического содержания всего
круга песнопений. Одновременно с распадом
осмогласной структуры в деместве
появляются явные признаки централизации лада,
отличающей его от столповой традиции с
характерной для нее множественностью
ладовых опор. Впечатление особой
изысканности демественного роспева создается не
только изящным плетением мелодического
рисунка, но и своеобразной ритмикой. В
демественные ритмоформулы, отличающиеся
большей подвижностью, дробностью, чем
знаменные, входят ритмы с точкой,
сопоставления контрастных длительностей <>.\
прихотливые ритмические фигуры типа
Меньше принципиальных изменений
произошло в другом роспеве, интенсивно
развивавшемся в XVI в., — путевом. В нем
сохранились свойственные столповому рос-
певу принципы формообразования, система
осмогласия с ладовой многоопорностью и де-
централизованностью. Ощутимо и их
интонационно-мелодическое родство. Мелодика
путевого роспева, однако, значительно
однообразнее, сглаженнее, чем в знаменном;
для нее характерно продолжительное
пребывание в пределах узкой по диапазону
области обиходного звукоряда. Аморфность
мелодического развертывания подчеркивала
статику ладовых отношений. В этих
условиях сохранявшееся осмогласие утрачивало
художественную целесообразность.
Развитие внутрислогового роспева в путевых
песнопениях приводило к нарушению просодии,
естественного интонирования слова: в пении
стирались различия между ударными и
безударными слогами, каждый из них
утяжелялся, так как в мелодии заметно возросла
доля крупных длительностей (см. пример 9).
Еще более заметно отошли от
средневекового канона «ин переводы», авторские,
местные и большой роспевы, в которых
полномочия роспевщика раздвинулись
вплоть до очевидного, открытого нарушения
канонических установок. Не случайно
именно со 2-й половины XVI в. гимнотворчество
начинает утрачивать свойственную
Средневековью анонимность. Появляются
школы роспевщиков, имена которых
становятся широко известными русскому обществу.
В письменных памятниках называется целый
ряд песнетворцев, деятельность которых
относится ко 2-й половине XVI — началу
XVII в.: глава школы новгородских
роспевщиков Савва Рогов и его брат Василий,
будущий митрополит Ростовский,
прославленные ученики Саввы Федор Крестьянин
(Христианин), Иван Нос, трудившиеся в
Александровой слободе у Ивана Грозного;
Стефан Голыш, учивший «Усольскую
страну», и знаменитого роспевщика Ивана
Лукошку, ставшего архимандритом
Рождественского монастыря во Владимире (в
иночестве Исайю); живший сначала в
Новгороде, а затем в Москве роспевщик Псал-
тира Маркелл Безбородый; славный
творческой активностью и изобретательностью
уставщик Троице-Сергиева монастыря Лог-
гин Корова43.
Развитие мелодики в этих роспевах имеет
принципиально иной характер, чем в
столповом пении: для них типичны огромная
протяженность напева, разреженность
канонических формул и, соответственно,
преобладание дробного знамени в нотации,
пространность связующих частей, изобретение
новых попевок и постоянное смешение раз-
ногласовых формул, разрушающее систему
осмогласия. Мелодический рисунок
песнопений становится разнообразным, нередко в
плавном движении возникают
экспрессивные интонации, связанные со скачками на
широкие интервалы. В песнопениях
появляются признаки индивидуального
композиционного решения: в мелодическую ткань
независимо от гласа включаются излюбленные
обороты, отдельные формулы получают
последовательное вариантное развитие,
необычные, наиболее выразительные
мелодические ходы соответствуют важнейшим
словам текста, яркие интонационные находки
часто венчают целое (см. пример 10).
Неуравновешенность, импульсивность
ритма в сочетании с настойчиво возвраща-
289
Книга первая
ющимися горестными интонациями,
слезными стенаниями первой строки восьмой
Евангельской стихиры («Марьины слезы не без
ума проливаются тепле»), небывалые по
интонационной выразительности и смелости
Пример 9
заключительные строки первой и седьмой
Евангельских стихир («Христос Бог и
Спасо душамо нашимо», «воспоимо Тебе,
жизнодавеца Христа»), доносящие дух
неудержимого творческого свободомыслия
Задостойник Пасхи знаменного, путевого и ним в его кн.: Образцы древнерусского певчее-
демественного роспевов (в параллельном из- кого искусства. Изд. 2-е. Л.. 1971. С. 89—92
ложении). Фрагмент. Опубл. Н. Д. Успенс-
290
Глава 10
Пример 10
Книга первая
царева роспевщика Феодора, — все это
разительно отличалось от полной
мужественного достоинства, сосредоточенного
созерцания и выразительной сдержанности
традиционной столповой редакции стихир.
Весьма вероятно, что импульсом к
пробуждению творческой фантазии и
изобретательности роспевщиков стало создание
певческой книги Обиход, то есть нотации негла-
совых песнопений, в которой знамена, не
соединявшиеся в осмогласные мелодические
формулы, превращались в подобие нот (так
называемое «дробное знамя»). Это,
естественно, раскрепощало мелодическую
стихию роспева, а отсутствие гласовой
вариантности неизменяемых песнопений
стимулировало создание многочисленных
мелодических «переводов».
Новые виды роспева с разными
авторскими или стилевыми обозначениями —
Большой, Крестъянинов, Лукошкова, Ин
и т. п. — необязательно отличаются друг от
друга принципиально. Нередко несколько
песнопений на один и тот же литургический
текст явно имеют общую основу и
соотносятся между собой как редакции, а не
полностью самостоятельные произведения.
Поэтому при всей индивидуальности
почерков в них ощутимы черты средневекового
творческого метода, заметна ориентация на
некий оригинал, архетип. Песнопения,
принадлежащие этим роспевам, все вместе тем
не менее воплощают новые тенденции в
искусстве 2-й половины XVI — начала
XVII в. Опосредованно-личное восприятие
текста (заметим, что тексты избираются
наиболее выразительные, праздничные или
занимающие в службе особое место)
возводится здесь на уровень соборного,
лирическое переживание слова, хотя и лишенное
каких бы то ни было бытовых ассоциаций,
высказывается языком, все более
отдаляющимся от средневековых норм.
Музыкально-образное мышление полностью выходит
за пределы канонических установок —
фигуры-«образы» не только не опираются
на традиционную мелодику, как это было в
столповом роспеве, но нарушают даже те
интонационно-мелодические нормативы,
которые оставались существенными для
роспевщиков этого периода в целом.
Композиции песнопений становятся более
оригинальными, воспринимаются как
самостоятельное, отграниченное и монолитное
целое, построенное каждый раз по
индивидуальным законам — либо в виде сплошного
и строго последовательного вариантного
развертывания начальных формул, либо с
очевидным намерением создать
суммирующий предшествующее развитие раздел
(возвращение к начальному материалу или
изобретение совершенно нового и
невиданного — в конце). Изысканность деталей и
значительная техническая изощренность
сочетается в песнопениях с мышлением
широкими мелодическими пространствами,
монументальностью композиции, в которой уже
слышится напряженная творческая воля
автора.
В церковной практике XV — XVI
веков возникли своеобразные пограничные
жанры, которые либо совсем вышли за
рамки ритуала (покаянный стих), либо,
оставаясь в пределах богослужения, резко
контрастировали его традиционному
символическому характеру («пещное действо»).
Создание внебогослужебного жанра
покаянного стиха со свойственными ему моно-
логичностью, более конкретной и
общедоступной, чем в литургических песнопениях,
выразительностью, отражающей
мироощущение «среднего» человека этой эпохи,
отвечало общей потребности в бытовой
духовной лирике и служило дополнением к
развивавшейся тогда же лирике песенной
(фольклорной). Существенный аспект
содержания стихов составляли мотивы
ожидания Страшного Суда, осознания личной
греховности и неизбежности наказания, тема
покаяния. Тем самым эсхатологические
сюжеты из высшей сакральной сферы
постепенно стали переноситься в
психологическую реальность. Зародившийся в знаменной
традиции, покаянный стих стоял на
границе церковной и светской культур. Стихи
записывались традиционно, как весь корпус
знаменных песнопений, ориентировались на
систему осмогласия, но были
индивидуальной духовной лирикой. Они могли
заимствовать текст из литургических песнопений
(например, стихира-славник из чина
погребения «Зряще мя безгласна» в качестве
покаянного стиха, стихира-славник недели
сыропустной в «Плаче Адама», первый
292
Глава 10
тропарь Великого канона св. Андрея
Критского «Откуду начну плакати», отдельные
тропари —«Аз есмь древо неплодное»,
«Все житие мое срамно иждих» — в
покаянных стихах с тем же тескстом44) и даже
из Священного Писания (например,
Первое Послание Апостола Павла к
Коринфянам, 13, 4 — 8 в стихе «Добро боятися
благия люди» — с известнейших слов
«любы долготерпит»45)» но могли быть и
оригинальными, перекликаться с
фольклорными текстами. Соприкасаясь с
протяженными роспевами XVI в. в плане тяготения
к личному (несоборное религиозное
переживание в одном случае и индивидуальное
творчество в другом), покаянный стих в то
же время представляет несколько иную
линию развития певческого искусства. В
отличие от новых церковных роспевов с их
праздничной изысканностью,
изощренностью, «хитроумием» мелодического рисунка,
покаянный стих оперирует
преимущественно традиционным мелосом столпового рос-
пева. И хотя отчасти стихи отражают общий
характер эволюции древнерусской певческой
культуры, стремление к большей
раскрепощенности мелодии, к вариантности и
индивидуализации роспева, все же не менее
отчетливо проступает в них другая
тенденция — к сближению с народно-бытовой
песенной традицией, наиболее ясно
проявляющаяся в воздействии песенной интонации
и строфики (см. пример 11).
Если в протяженных роспевах главным
принципом развития становится
непрерывное и действительно «бесконечное»
мелодическое развертывание, то покаянный стих
начинает тяготеть к цикличности;
сакральный синтез двух типов восприятия времени
распадается. Роспевы официального культа
и скромные покаянные стихи, в сущности,
отвечали требованиям разных общественных
слоев. В первом случае пение-таинство,
просветляющее человека, творящее из него
человека «небесного», сменилось
торжествующим великолепием славословий
«состоявшейся» земной сакральной державы, во
втором — безнадежной мольбой
обуреваемого страхом грешника.
Другим пограничным жанром было «пещ-
ное действо» — театрализованное
представление о трех отроках иудейских,
родственное западноевропейской мистерии и
вводившееся в традиционный церковный
обряд. Заимствованное из византийской
культовой практики, древнерусское «пещное
действо» отличалось от прототипа большей зре-
лищностью, изобразительностью и
декоративностью: в него включались роли халдеев,
по ходу действия совершались «возжигание
пещи» и нисхождение ангела к отрокам,
сопровождавшееся сильным грохотом и
вспышками пламени46. Отдельные
элементы действа приближались к скоморошьим
представлениям (роли халдеев) и к
католическим sacre rappresentationi. Так,
«схождение ангела в пещь» может быть
сопоставлено с мистерией Благовещения, игравшейся
во флорентийской церкви Сан Феличе и
известной на Руси по «Исхождению Авраамия
Суздальского на осьмой собор»47.
Музыкально-певческая часть действа, однако,
основывалась на традиционных для XVI в.
культовых песнопениях. Через «пещное
действо» в русское богослужение
проникали черты, связанные с национальной
народной и западноевропейской культурами,
которые до этого времени для канонического
религиозного сознания были символами
греха и погибели.
Шестнадцатый век по богатству новых
явлений в области музыкальной
культуры — эпоха высшего расцвета
древнерусского певческого искусства. Обилие
разнообразных памятников, их высокое
художественное достоинство, появление певческих
школ и роспевщиков, имена которых
сохранили певческие и литературные рукописи,
целый ряд государственных мероприятий,
направленных на улучшение певческого дела
(создание «училищ книжных», хора
государевых певчих дьяков, постановления
Стоглава и проч.), — все эти факты
свидетельствуют о небывалом подъеме в
музыкальной жизни Руси.
Осознание роспевщиками-«хитрецами»
своей индивидуальности, личного
мастерства, вызвавшее бурное развитие собственно
музыкальной стороны гимнографии и
непосредственно выразившееся в фиксации
авторства, неминуемо означало отступление от
певческого канона. Широко
распространилась многороспевность — параллельное
существование нескольких разных роспевов
293
Книга первая
одного текста в пределах одной рукописи48.
Допустимость личного творчества, однако,
неоднократно подвергалась сомнению,
причем не только в XVI, но и в XVII в.
Автор «Валаамской беседы» (середина
XVI в.) видит в увлечении многороспевно-
стью недостаток современной ему певческой
культуры, считает необходимым признать
правильным лишь один перевод, а
большинство переводов воспринимает как
неканонические («не об одном переводе их с не-
беси свидетельства не было, да и не
будет»49). Уставщику Логтину, имевшему «от
Бога дарование паче человеческого
естества», вменяется в вину то, что он, заботясь
лишь о пении, отвергал «хитрость
грамматическую и философство книжное»,
относился к слову без должного внимание.
Архимандрит Дионисий, вразумляя Логгина,
связывает его творческую активность,
склонность к изобретению новых роспевов с
тщеславием, гордыней: «И сие, отче Логине, не
1. Покаянный стих, глас 6. Фрагмент.
Опубл.: Ранняя русская лирика. Л., 1988.
С. 351-352.
2. Покаянный стих «Приимя мя, пустини».
глас 8. Фрагмент. Опубл.: Фролов С. В. Из
истории древнерусской музыки (ранний
список стихов покаянных) // Культурное
наследие Древней Руси. М., 1976. С. 169-171
294
Глава 10
тщеславие ли, не гордость ли, что твои
ученики, где не сойдутся, тут и бранятся»50.
Инок Евфросин (середина XVII в.), крайне
озабоченный неблагоприятным положением
дел в песнетворчестве («душею моею содро-
гаюся, зря посреде церкве российския воз-
растш терн от недобросмыслящих,
насажденный в красногласном пении»51)»
выступивший против раздельноречия и
произвольной разбивки текста на строки, обвинял в
порче, разложении певческого искусства не
только еретиков и нерадивых переписчиков
рукописей, но и самих учителей красноглас-
ного пения, выдающихся роспевщиков,
представляя их корыстными, завистливыми,
тщеславными («точию бы он един славим
был от человек паче всех»52), заносчивыми:
«Да и меж собою тыя краснопевцы укоря-
ющеся друг друга поносят. Себе же кождо
величает и хваляся глаголет: „Аз есмь Шай-
дуров ученик". А ин хвалится: „Лукошко-
во учение", а ин же: „Баскаков перевод", а
ин: „Дудкино пение", а ин: „Усольской", а
ин: „Крестьянинов", а прочий — прочих
<...> А и тех, ими же сии певцы
хвалятся, не сыскати: неведомо, кто где был в
которое время <...> или по чьему велению
таковое пение замыслили»53. Любопытно,
что последний из цитированных фрагментов
эмоциональной обвинительной речи инока
Евфросина явно производен от текста
латинского трактата Иоанна Коттона (начало
XII в.)54, и это свидетельствует о его
значительных познаниях в области европейской
средневековой теории музыки.
Независимо от степени справедливости
обвинений, содержащихся в «Валаамской
беседе», «Житии и подвигах архимандрита
Дионисия» и «Сказании» Евфросина, из их
текстов становится ясно, что древнерусская
певческая культура переживала сложный
переломный период; в ней сосуществовали
совершенно разные традиции, и отношение
к ним современников не было одинаковым,
однозначным.
Острые споры вызывало и так
называемое многогласие — практика совмещения
разных частей службы в одновременности,
вызванная, очевидно, желанием сократить
непомерно разросшееся из-за
продолжительности роспевов богослужение, не прибегая
при этом к изъятию каких-либо его
фрагментов (так оно интепретируется в «Броз-
де духовной», 1683 г.). Развитие роспевно-
сти в ущерб ясному донесению
литургического текста, так же как и многогласие,
будучи явлениями разного порядка (первое
обусловлено постепенной эволюцией
музыкально-эстетических представлений, второе
откровенно нарушало нормы средневековой
эстетики), свидетельствовали тем не менее
об одном и том же — слово утратило в
восприятии былую смысловую
выразительность и глубину, воспитательную функцию,
учительность; разрушение в пении гармонии
слова и мелодии знаменовало
трансформацию «украшения церкви» в «украшение
гласа». В господствовавшем в том же
XVI в. раздельноречии (хомонии) слово
воспринималось уже не как смысловое
единство, а как набор слогов для вокализации
бесконечно длящегося напева, как одна из
деталей словесно-музыкального орнамента.
Именно поэтому письменные документы,
относящиеся ко времени распространения
многогласия и раздельноречия и содержащие
их критику, постоянно призывают петь
разумно, с «трезвением», с пониманием
смысла слов («едиными усты и единым сердцем
Бога славити во услышание и в разум себе,
уши бы слышали и сердце разумело», —
говорится в Наказной грамоте
митрополита Макария в Каргополь, середина
XVI в.55).
В критических выступлениях против
нового в певческом искусстве не следует
видеть лишь косность, боязнь всякой
новизны. Новые явления в русской культуре
возникли не впервые, однако ни столповой
роспев, ни путь и демество не вызвали
такого волнения в церковной среде.
Очевидно, его причина заключалась не столько в
новизне как таковой, сколько в том, какого
она рода. Изменения, происшедшие в
русском певческом искусстве XVI и 1-й
половины XVII в., затрагивали самую суть
средневековой культуры — канон. Ключом к
пониманию этого процесса могут служить
термины, появившиеся примерно со 2-й
трети XVI в. в русле знаменной традиции
(позднее — в путевой и демественной), —
«ин перевод», «who знамя» и им подобные;
с XVII в. в рукописях встречается еще более
выразительный термин — «произвол».
295
Книга первая
«Ин» — значит иной, отличный от
традиционного, канонического, а канон —
критерий истинности средневековой вещи, знак
причастности ее божественному архетипу, в
данном случае — ангельскому пению;
поэтому «иной» — значит неистинный. По-
видимому, возникновение в сознании
возможности «иного» и оценивалось
отрицательно автором «Валаамской беседы»,
архимандритом Дионисием и иноком
Евфросином, почувствовавшими угрозу
разрушения средневековых норм.
С распространением «ин переводов»,
обусловленным ростом личностного
сознания, певческая «премудрость» постепенно
утрачивала сакральный и соборный
характер, становилась индивидуальным качеством
«хитроумного» мастера, предметом его
личной гордости. Допущение в богослужебную
практику напева-«произвола», созданного по
воле роспевщика, означало прежде всего
возможность деформации канона и, кроме
того, говорило о самостоятельном интересе
к «украшению гласа». Выступления против
личного творчества определялись
стремлением сохранить средневековый порядок,
удержать русскую культуру в пределах
средневекового мироощущения.
Древнерусское певческое искусство
XI — XVI вв. — средневековый этап в
развитии русской музыкальной культуры.
Художественные явления, возникшие в
музыке XVII в., несмотря на их
разнообразные связи с предшествующим периодом и на
соприкосновение с параллельно
существующей позднесредневековой традицией, несут
в себе очевидные приметы нового века,
отмеченного процессом секуляризации
духовной жизни, изменением культурных ориен-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Попов А. Историко-литературный обзор
древнерусских полемических сочинений против
латинян (XI — XV вв.). М., 1875; Павлов А.
Критические опыты по истории древнейшей
греко-русской полемики против латинян. СПб.,
1878.
2 Лазарев В. Н. Искусство средневековой
Руси и Запад (XI — XV вв.). М., 1970.
3 Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне:
(опыт функциональной типологии памятников
296
тиров, идеологическими и художественно-
эстетическими влияниями
западноевропейской культуры. Средневековый этап русского
песнетворчества не был единообразным и
абсолютно монолитным. Одни традиции, как
кондакарное пение, довольно быстро исчезли
из певческой практики, а на их месте
возник целый ряд других — демество, путь и
т. п. Иная традиция существовала в
постоянном развитии на протяжении всей
средневековой эпохи, долго сохраняла жизненные
силы и, выйдя за пределы Средневековья,
стала своеобразным «контрапунктом» по
отношению к новой культуре XVII в. Таков
знаменный роспев — основная ветвь
древнерусского песнетворчества, преломившая в
своем развитии разные стилистические
тенденции и отразившая сломы художественно-
эстетических представлений. Внутренняя
жизнь средневекового искусства, приведшая
к коренным переменам в XVII в., была
связана с постепенным движением от
монументального певческого стиля, имевшего
строгий, преимущественно
функционально-культовый характер, к созданию
самостоятельного, осознанно ценимого, развитого в
музыкальном отношении, гибкого и
интонационно богатого языка, от стилевого
единства к множественности, разнообразию
певческих традиций, различающихся по
лежащим в их основе
художественно-эстетическим принципам, от анонимности, полного
подчинения воли мастера канону к
индивидуализации творчества, созданию авторских
композиций, иногда далеко отступающих от
привычных норм. Высшая точка этого
движения внутри средневековой русской
культуры пришлась на 2-ю половину XVI —
начало XVII в.
древнерусской архитектуры). М., 1990. С. 90 —
117.
4 Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и
фрески. XI — XV вв. М., 1973: Пуцко В.
Новгородские фрески XII — XIII веков //
Wandmalerei des Hochfeudalismus im europäisch-
byzantinischen Spannungsfeld (12. und 13.
Jahrhundert). Halle, 1983; Idem.
Художественный декор Юрьевского Евангелия // Ars
Hungarica. 1979, № 1.
Глава 10
5 О связи небесного и земного песнословия
в контексте неоплатонических идей, а также
раннехристианской концепции, изложенной в
трактатах под именем Дионисия Ареопагита, см.:
Wellesz E. A History of Byzantine Music and
Hymnography. Oxford, 2nd ed. 1961. Chapter 2.
6 Молдован А. М. «Слово о законе и
благодати» Илариона. С. 98.
7 Еремин И. П. Литературное наследие
Кирилла Туровского. IV // Труды отдела
древнерусской литературы. Т. XIII. М.; Л., 1957.
С. 409 — 426.
8 На свитке в руке Романа — текст
кондака в честь праздника Покрова (на разных
иконах и фресках — варианты текста): «Дева днесь
предстоит в церкви, и с лики святых невидимо
за ны молится Богу: ангели со архиереи
покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют:
нас бо ради молит Богородица превечного Бога».
9 Памятники литературы Древней Руси.
I. Начало русской литературы: XI — начало
XII в. М., 1978. С. 148, 286.
to Там же. С. 336.
11 Памятники литературы Древней Руси. I.
С. 122.
12 Еремин И. П. Литературное наследие
Кирилла Туровского. IV. С. 411.
13 Лозовая И. Е. «Слово от словес плетуще
сладкопения» // Герменевтика древнерусской
литературы: XVI — начало XVIII века. М.,
1989. С. 383 — 422.
14 Памятники литературы Древней Руси. IV.
XIV — середина XV века. М., 1981. С. 202.
13 Памятники литературы Древней Руси. IV.
С. 450.
16 Музыкальная эстетика
западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
С. 96, 110.
17 Памятники литературы Древней Руси. I.
С. 167, 177.
18 Аверинцев С. С. Поэтика ранне
византийской литературы. М., 1977. С. 102 — 103.
19 о. Михаил Арранц. Историческое
развитие Божественной Литургии: Опыт.
Ленинградская духовная академия, 1978. С. 90, 93;
Taft R. The Great Entrance: A History of the
Transfer of Gifts and other Pre-anaphoral Rites of
the Liturgy of St. John Chrysostom // Orientalia
Christiana Analecta 200. Rome, 1975.
20 Немецкой верой на Руси часто называли
римско-католическую ветвь христианства.
21 Попов А. Историко-литературный обзор
древнерусских полемических сочинений против
латинян. (XI — XV вв.). М., 1875. С. 23.
22 Музыкальная эстетика России XI —
XVII веков. М., 1973. С. 51.
23 Еремин И. П. Литературное наследие
Феодосия Печерского // Труды отдела
древнерусской литературы. Т. V. М.; Л., 1947.
С. 180.
24 Морохова Л. Ф. Подобники как форма
музыкально-теоретического руководства в
древнерусском певческом искусстве //
Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980.
25 Лозовая И. Е. Знаменный роспев и
русская народная песня // Русская хоровая музыка
XVI — XVIII веков. Сборник трудов ГМПИ
им. Гнесиных. Вып. 83. М., 1986. С. 26 — 45.
26 Лозовая И. Е. О принципах
формообразования в средневековой европейской монодии:
византийская, григорианская и древнерусская
певческие культуры // Из истории форм и
жанров вокальной музыки. М., 1982.
27 Холопова В. Н. Русская музыкальная
ритмика. Глава первая: Ритмика знаменного
распева. М., 1983. С. 18 — 88.
28 Бычков В. В. Византийская эстетика:
Теоретические проблемы. М., 1977. С. 48 —
50.
29 Конкретное воплощение средневековых
принципов музыкальной организации на уровне
языковых средств в древнерусском певческом
искусстве, на наш взгляд, заметно отличалось от
византийской монодии. См.: Лозовая И. Е.
«Ангелогласное пение» и осмогласие как
важнейшая сторона его музыкальной
иконографии // Musica antiqua, VIII. Vol. 1. Acta
Musicologica. Bydgoszcz, 1988.
30 Гусейнова 3. M.
Музыкально-теоретические руководства XV — первой половины XVI
в. // Музыкальная культура Средневековья.
Вып. 2. (Тезисы и доклады конференций). М.,
1991. С. 77 — 80 (тезисы конференции
1982 г.); Певческие азбуки Древней Руси //
Публикация, перевод, предисловие и
комментарии Д. Шабалина. Кемерово, 1991.
31 Бражников М. Лица и фиты знаменного
распева. Л., 1984.
32 Flows С. Die Entzifferung der Kondakarien-
Notation // Music des Ostens. — 3. S. 7 — 71;
4,S. 12 — 44. Kassel, 1965 — 1967; Idem.
Universale Neumenkunde, Bd. 1 — 3. Kassel,
1970; Levy К. Die slavische Kondakarien-Notation
// Anfänge der slavischen Music. Bratislava, 1966.
S. 77 — 92; Успенский H. Д. Древнерусское
певческое искусство. Изд. 2-е. М., 1971.
С. 45 — 61; Никишов Г А. Сравнительная
палеография кондакарного письма XI — XIV вв.
// Musica antiqua Europae Orientalis. IV.
Bydgoszcz, 1975. P. 557 — 572; Келдыш /О. В.
История русской музыки. Т. 1. Древняя Русь.
XI — XVII века. М., 1983. С. 111 — 118.
33 Существует не менее четырех подходов к
дешифровке древнейшего слоя знаменных пес-
297
Книга первая
нопений. См.: 1) Velimirovic M. Byzantine
elements in early Slavic chant: The Hirmologi-
on. Cph.,1960; Idem. The melodies of the ninth-
century Kanon for St. Demetrius // Russian and
Soviet music: Essays for Boris Schwarz. — Ann
Arbor. Michigan, 1984; Flows C. Über
zusammenhänge zwieschen den Musikkulturen des Ostens und
Westens im Mittelalter. — Musica antiqua
Europae Orientalis. IV. P. 319 — 340; (////-
Moller N. Transcri ption of the stichera idiomela for
the monthof April from Russian manuscri pts from
the 12-th century. München, 1989 // Slavistische
Beiträge, Bd. 236; Школьник И. Г.,
Школьник М. Г. Опыт сравнительного изучения
византийского ихоса и древнерусского гласа (на
материале Ирмология) // XVIII
Международный конгресс византинистов: Резюме сообщений.
II. М., 1991. С. 1047 — 1049; 2) Карастоя-
нов Б. П. К вопросу расшифровки крюковых
певческих рукописей знаменного распева //
Musica antiqua Europae Orientalis. IV. P. 487 —
503; 3) Гусейнова 3. M. Принципы
систематизации древнерусской музыкальной
письменности XI — XIV веков. К проблеме дешифровки
ранней формы знаменной нотации. Диссертация.
Л., 1982; 4) Лозовая И. Е. Знаменная
нотация домонгольской эпохи: византийско-русский
синтез // XVIII Международный конгресс
византинистов: Резюме сообщений. II. С. 678 —
679.
34 Прохоров Г. М. Культурное своеобразие
эпохи Куликовской битвы // Труды отдела
древнерусской литературы. Т. XXXIV. Л.,
1979; Birnbaum H. The Balkan Slavic component
of medieval Russian culture / / Medieval Russian
culture. — Berkeley etc., 1984. P. 3 — 30.
X. Бирнбаум справедливо замечает, что термин
«второе южнославянское влияние» не вполне
удачен, так как Русь постоянно испытывала
влияние византийской культуры; однако степень
его концентрации и осознания все же явно
возросли в этот период. Нельзя не отметить и
постоянные русско-сербские контакты в русском
Пантелеимонове монастыре в XIV — XV вв.
См. также: Кораблева К. Ю. Исихазм и
некоторые явления древнерусского певческого
искусства (К постановке проблемы) // Musica
antiqua Europae Orientalis, VII. Bydgoszcz, 1985.
S. 679 — 694.
55 Успенский Б. А. История русского
литературного языка (XI — XVII вв.). München,
1987 // Sagners Slavistische Sammlung,
herausgegeben von P. Render. 12.
36 Успенский Б. А. История русского
литературного языка. С. 191 — 192.
37 Кручинина А. Н. Попевка в русской
музыкальной теории XVII века. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения. Л., 1979. С. 16.
38 Никандр, епископ (Коваленко А. В.).
Семиотические проблемы языка в творениях
святых отцов. Дисс. Загорск, 1988. С. 103 —
110.
39 Гранстрем Е. Э., Ковтун Л. С.
Поэтические термины в Изборнике 1073 г. и
развитие их в русской традиции (Анализ трактата
Георгия Хировоска) // Изборник Святослава
1073 г.: Сборник статей. М, 1977. С. 99 —
108.
40 Исключение составляют стихиры
Евангельские, часто помещавшиеся в конце Октоиха. См.:
Гусейнова 3. М. Стихиры Евангельские — один
из видов праздничных стихир (Опыт
текстологического исследования) // Проблемы русской
музыкальной текстологии: по памятникам
русской хоровой литературы XII — XVIII веков.
Л., 1983. С. 78 — 94.
41 Кораблева К. Ю. Покаянные стихи как
жанр древнерусского певческого искусства:
Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения. М., 1979;
Ранняя русская лирика: Репертуарный
справочник музыкально-поэтических текстов XV —
XVII веков. Составили Л. А. Петрова и
Н. С. Серегина. Л., 1988.
42 Пожидаева Г. А. Демественное пение в
рукописной традиции конца XV — XIX века.
Дисс. М., 1982; Она же. Текстология
памятников демественного роспева // Герменевтика
древнерусской литературы. Сборник 2. XVI —
начало XVIII века. М., 1989. С. 309 — 354;
Богомолова М. В. Путевой роспев и его место
в древнерусском певческом искусстве. Дисс. М.,
1982; Она же. К проблеме выявления и
изучения ранних памятников путевого роспева (на
примере стихиры «Приидите, ублажим Иосифа»
и задостойника «О Тебе радуется») //
Проблемы русской музыкальной текстологии. С. 114 —
142.
43 Успенский Н. Д. Древнерусское певческое
искусство. М., 1971. С. 154 — 170; Федор
Крестьянин. Стихиры / Публикация, расшифровка
и исследование М. В. Бражникова. М., 1974
// Памятники русского музыкального искусства.
Вып. 3; Фролов С. В. «Иного переводу Лукош-
ково». Опыт исследования // Труды Отдела
древнерусской литературы. Т. XXXIV. Л.,
1979; Он же. «Большой роспев» Федора
Крестьянина на текст праздничной стихиры. (Опыт
музыкально-текстологического исследования //
Там же. Т. XXXVI. Л., 1981; Гусейнова 3. М.
К вопросу об атрибуции памятников
древнерусского певческого искусства (на примере рукописи
Соловецкого собрания, № 690/751) // Источ-
298
Глава 10
никоведение литературы Древней Руси. Л.,
1980; Зверева С. Г. Материалы к биографии и
творческой деятельности Ивана Лукошки //
Труды Отдела древнерусской литературы.
Т. XXXVII. Л., 1983; Она же. «Стихиры»
Федора Крестьянина // Альманах
библиофила. Вып. 14. М., 1983; Парфентьев И. П.
Усольская школа в древнерусском певческом
искусстве XVI — XVII вв. и произведения ее
мастеров в памятниках письменности. //
Памятники литературы и общественной мысли эпохи
феодализма. Новосибирск, 1985; Он же.
Древнерусское певческое искусство в духовной культуре
Российского государства XVI — XVII вв.
Школы. Центры. Мастера. Свердловск, 1990;
Морохова Л. Ф. Логгин // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Л.,
1989; Парфентьев Н. /7., Парфентьева Н. В.
Усольская (Строгановская) школа в русской
музыке XVI — XVII веков. Челябинск,
1993.
44 См. №№ 4, 15, 58, 95, 96, 145 в
справочнике: Ранняя русская лирика. С. 35 — 36,
43 — 44, 77 — 78, ИЗ — 115, 154 — 158.
45 См. № 6 там же. С. 37.
46 Velimirovic M. Liturgical drama in Byzantium
and Russia // Dumbarton Oaks papers. Vol. 16.
1962. P. 365; Голубцов А. Чиновник
новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 58 —
71.
47 Древняя российская вивлиофика Н. И.
Новикова. Изд. 2-е., М., 1791. Ч. 17. С. 178 —
185; Келдыш Ю. В. История русской музыки.
Т. 1. С. 157 — 158.
48 Фролов С. В. Многороспевность как
типологическое свойство древнерусского певческого
искусства // Проблемы русской музыкальной
текстологии. Л., 1983.
С. В. Фролов, на наш взгляд, понимает
многороспевность слишком расширительно, относя
к ней варианты роспева, не соединенные в
одном кодексе и отражавшие в каждом из них
каноническую местную традицию со свойственной
ей долей устной вариантности, а не склонность
к разнообразию и изобретению нового.
49 Музыкальная эстетика России XI —
XVII веков. С. 58.
50 Симон Азаръин и Иван Наседка. Житие
и подвиги архимандрита Дионисия // Там же.
С. 67.
51 Там же. С. 69.
52 Там же. С. 71.
53 Симон Азарьин и Иван Наседка. Житие
и подвиги архимандрита Дионисия // Там же.
С. 71.
54 Русский перевод этого фрагмента в связи
с проблемой многозначности невм и условности
нотации дан в книге Н. Д. Успенского
«Древнерусское певческое искусство» (С. 45):
«...Один говорит: меня учил учитель Трудо;
другой ссылается: а я учился у учителя Альби-
но; третий: учитель Соломон совсем иначе это
поет. Кратко сказать, не утомляя излишне: редко
двое даже согласны в пении, не говорим о
тысяче, потому что каждый решительно
ссылается на своего учителя, поэтому и является столько
вариантов в пении, сколько учителей».
Латинский текст трактата см. в кн.: Gerbert M.
Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum.
Bd. 2. St. Blasien, 1784. P. 230 — 265.
55 Музыкальная эстетика России XI —
XVII веков. С. 77.
КНИГА ВТОРАЯ
XVII ВЕК
Часть I
Становление художественно-эстетической
теории в России
Глава 1
Постсредневековые
реминисценции
изис средневековой
культуры, наметившийся еще в XVI в. и
прогрессировавший в XVII, суровые
испытания, обрушившиеся на русский народ в
годы Смуты, социальная и политическая
нестабильность первой трети века
способствовали в этот период росту в культуре
многих средневековых настроений и
феноменов, обострению отдельных форм
средневековой духовности, с помощью которых
культура как бы пыталась сохранить
уходящий этап своей истории. В литературе
необычайное развитие получает жанр
«видений», процветает эстетика аскетизма,
много внимания уделяется вопросам
нравственности, справедливости и т. п.
Драматические события первых
десятилетий XVII в. возбудили в умах новую
волну отрицания земной, суетной и
бессмысленно жестокой жизни, пробудили ностальгию
по возвышенным, во всем противоположным
обыденной действительности духовным
идеалам, привели к новым поискам таковых.
Существенно, что поле этих поисков
активно переместилось в сферу эстетического,
духовная нагрузка которого значительно
возросла. Ярким выражением этого является
трактат «О Царствии Небесном», автором
которого считается князь И. А. Хворости -
нин1.
В духе раннехристианских мыслителей он
призывает своих читателей «возненавидеть»
мир и «яже суть в мире». Человек,
напоминает он, лишь странник на этой земле, но
полноправный гражданин неба, куда он
должен вернуться как существо духовное.
«Тело убо земляно есть, но человек несть
тело, человек есть душа в теле, ум есть
небесный и божественный, род Божий есмы»2.
Столь высоко оценив человека, автор
призывает его быть достойным своего
высокого положения и назначения в универсуме,
отказаться от излишней привязанности к
земле, к материальному и вспомнить о
духовном: облечься в одежды духа, прозреть
духовно для усмотрения неземной красоты.
А красота эта разлита в Царствии
Небесном, обретение которого и должно
составлять цель жизни человека в этом бренном
мире.
Все красоты мира сего (дворцов,
роскошных тканей, земной музыки и т. п.) —
ничто по сравнению с красотами Царствия
Небесного. Восхваляя их, автор подчеркивает
принципиальную вынесенность их за
пределы земного человеческого понимания,
восприятия и описания.
Отказавшись от попытки
непосредственно описать сущность и красоты Царствия
Небесного, автор трактата стремится
возбудить у читателей предстаа\ение о ней путем
описаний эмоционально-эстетической реакции
на эту красоту его идеальных жителей —
праведников, которым оно предназначено.
Автору известно только, что там «место веч-
наго покоя и некончаемого благоточнаго
наслаждения, идеже есть свет невечерний и
крайнее благих наслаждение <...>
неизреченное празднество, некончаемое ликование, без-
престанное веселие, <...> благорадованное
веселие, неведомая сладость, неизреченная
светлость, ненасыщаемое зрение <...>»3 и
т. д. и т. п.
Все в Царствии Небесном направлено на
духовное услаждение зрения и слуха
небожителей, которые будут «яко ангелы
Божий». Сами тела воскресших останутся теми
же, и одновременно «красновидно изменя-
303
Книга вторая
ется» так, что об их новой красоте «выше-
естественне разумевати подобает нам», ибо
будет она «неизреченна» в своем
«божественном осиянии». Видимая красота
человеческого тела достигнет, таким образом,
своего предельного, идеального выражения.
В том же плане понимает автор трактата и
небесную музыку — как запредельное
совершенство музыки земной, доставляющее
неописуемое наслаждение небожителям:
«Пение тамо ангельское, не гласы бо муси-
киискими, ниже струны краснопевными зде
тлеемыми, но недостизаемыми некиими
высокогласными ангельскими пении
воспевается и глаголется Божиим Духом движимо».
И нет ничего «сего пения сладостнейши» и
«предивнейши»4.
Источником и центром всей этой
идеальной духовно-эстетической ауры, некоего
абсолютного моря духовной красоты и
наслаждения является сама Святая Троица,
описанная автором в изощренной световой
терминологии — это «пребожественный в трех
составех единосущный пребезначалный жи-
воначалный и вышеначалный неизследимый
неописанный недоведомый тресветлый
Свет»5. Именно он немолчно воспевается и
восхваляется на все лады ангельскими
чинами как источник красоты, как «светода-
тель и благодатель», как главный объект
духовного наслаждения. «Тамо» же «сияет
тмами солнца светлейший неизреченный свет
божественнаго Лица Господа нашего Иисуса
Христа».
Этот берущий начало в древности
световой аспект Божества был популярен на
Руси. Еще в начале XVI в. его активно
разрабатывал Иосиф Волоцкий. Однако у
автора начала XVII в. он достигает, пожалуй,
крайних форм изощренности, какого-то
рафинированного эстетизма, неожиданно
ассоциирующегося с чем-то, напоминающим
духовный маньеризм или экзальтированную
световую мистику барокко. В своей
устремленности в мир высших реальностей автор
как бы преодолевает узкоконфессиональные
и национальные рамки и прорывается на тот
уровень духовности, который был
характерен для европейской христианской
культуры того времени.
. Божественный свет Царствия
Небесного является «ненасыщаемой пищей» и «не-
насыщаемым зрелищем» для всех его
обитателей, той вожделенной пищей духовной,
которой так алчет человек на земле. Вся
«небесная» эстетика, таким образом, в
конечном счете ориентирована на постижение,
«разумение», «истинное зрение» умонепо-
стигаемого абсолюта, то есть имеет
своеобразную гносеологическую ориентацию.
Постоянное духовное созерцание, «неусыпная
бодрость и духовное пребывание и легост-
ное некое движение», доставляющие
неописуемое духовное наслаждение, — в этом, по
глубокому убеждению автора, и состоит
«высочайшая жизнь», которая обещана всем
праведникам.
Подробно описанный в трактате
религиозно-эстетический идеал, по существу,
является содержанием той категории, которая в
европейской эстетической традиции
получила название возвышенного. Средоточие
духовного света и красоты, источник высшего
и нескончаемого наслаждения в Царствии
Небесном одновременно и источник страха и
ужаса («свет ужаса исполненый»).
Представленный Хворостининым идеал, как
концентрация духовных ценностей, настолько
высоко вознесен им над эмпирическим миром, что
возбуждает в человеке «сладость страха Бо-
жия», то есть чувство возвышенного. При
этом на самой «сладости» делается на
протяжении всего трактата столь сильный
акцент, что проповедуемый в нем религиозно-
эстетический идеал далеко выходит за
традиционные рамки средневекового
мировоззрения. В нем уже явно ощущается духовно
надломленный эстетизм маньеризма и
высвечивается многокрасочная эстетика
барочной духовности. Апология средневековой
идеологии у писателей 1-й половины века
незаметно начинает перерастать в новое
качество, подспудно образуя фундамент
нового этапа культуры.
В период Смуты духовным и
эстетическим идеалом стал образ «безвинно
убиенного» царевича Димитрия. В классических
традициях агиографического жанра он
изображается как отрок «от юности
благообразием украшен и чистотою просвещен,
ничто же земных злая вменив»; он «свято про-
цвете премудростию разума, от глубоких
вещей украшен»6. Даже земля долгие годы
бережно сохраняла в своих недрах нетлен-
304
Часть I. Глава 1
ную красоту тела царевича, как
сохраняется «въ преизящнем граде царская пленица
различно красящися лепотою»7. Эта
духовная красота юноши, усиленная его
безвременной смертью, воплотилась в видимой
красоте его тела, многие годы сохранявшейся и
после его смерти «аки шипок благоуханен»
и доставлявшей духовную радость всем
видевшим его.
Сам факт появления нового мученика
открывал в представлении книжника XVII в.
еще один духовный поток между мирами
небесного бытия и земного бывания,
который знаменовался «изрядными различно
облиста чюдесы» и новыми духовными
красотами. Во вновь созданных в честь
мученика церквах святой «многокрасными пен-
ми (пением) всех къ похвалению страдания
своя созывает, обымевая бяше красными
виды, яко багрыми цветы»8.
В этом внешне чисто средневековом
понимании духовной красоты мученичества
(которого в буквальном смысле этого
слова, собственно, и не было) уже ощутимы и
черты нового эстетического сознания —
своеобразный духовный маньеризм. Суть
его сводится к тому, что в период кризиса
средневекового мировоззрения,
повсеместного оскудения благочестия даже в среде
духовенства, в культуре появляются тенденции
к духовной экзальтации, к повышенной
эстетизации религиозных феноменов.
Равновесие между религиозными и
эстетическими ценностями, характерное для позднего
русского Средневековья, нарушается в
сторону эстетического компонента, за счет
которого культура пытается ликвидировать
возникающий дефицит религиозной
духовности, святости. С особой силой
подобные тенденции выразились в искусстве
и эстетике итальянского маньеризма
XVI в.
Нечто типологически приближающееся к
нему, хотя в совершенно самобытной
форме, мы наблюдаем и в русской эстетике (и
шире — культуре) 1-й половины XVII в.
Факт политической истории — убийство
(или несчастный случай) малолетнего
царевича — в период оскудения благочестия
быстро превращается в феномен
религиозной жизни народа и, более того, предельно
эстетизируется. Образ царевича осеняется
ореолом мученичества и превращается в
новый духовно-эстетический идеал, для
создания которого писатели Смутного времени
сконцентрировали богатый арсенал
средневековой эстетической терминологии.
Суть духовного маньеризма русского
XVII в. может быть усмотрена в
стремлении предельно (или даже чрезмерно)
«нагрузить» видимую красоту духовным
содержанием, максимально (с «перегрузкой»)
использовать видимые формы для
выражения невидимого, иногда в ущерб и тому и
другому. В русском искусстве эти
тенденции ярко проявились еще во 2-й половине
XVI в., а в эстетическом сознании — в
конце XVI — начале XVII в. В эстетике
видимая красота выдвигается на одно из
значимых мест и теснее сливается с
красотой духовной; или, точнее, в сознании
людей начала XVII в. как бы резче
проступают духовные основания видимой
красоты, становятся почти самоочевидными, не
требующими даже специального
оправдания.
Дьяк Иван Тимофеев в своем
«Временнике» подробно описывает красоту «Гроба
Христова», который по образцу
Иерусалимского «Гроба» начал сооружать Борис
Годунов, не жалея драгоценных материалов, но
не успел завершить. С горечью сообщает
Тимофеев, что захвативший власть
самозванец, не имея никакой жалости к красоте,
«нелепотне» разорил все «златое умодел-
ство» с «красотою его многою» на свои
«доможителныя потребы безобразии»9.
Вроде бы традиционный для
древнерусского летописания мотив сожаления о
разоренной захватчиками красоте произведений
искусства, как устойчивый словесный
стереотип для выражения скорби по поводу
разрушения всего строя, порядка, чина
мирной жизни, культуры, отеческой веры и
т. п. — по-новому звучит у автора начала
XVII в. Уже сама фраза удивляет своей
манерностью, изощренным «плетением
словес»10. Еще более характерно именно для
эстетики маньеризма само противопоставление
чрезмерной красоты огромного
произведения декоративно-прикладного и
ювелирного искусства (она здесь выступает чисто
эстетической ценностью) безобразным «домо-
жительным» потребностям самозванца, под
305
Книга вторая
которыми имеется в виду московский
разгульный период жизни Лже-Димитрия I.
Если мы вспомним еще, что носителем
красоты выступает изощренно украшенная
копия «Гроба Господня» — главной святыни
христиан, то маньеристский характер этой
оппозиции станет предельно ясен.
Маньеристские тенденции в русской
эстетике 1-й половины XVII в. были
направлены на сохранение и поддержание
средневековой духовной культуры. Они явились
одной из скреп того «щита», которым
традиционная русская культура пыталась
защитить себя от вторжения культуры Нового
времени, не замечая, что и сами-то скрепы
уже порождение новой культуры, притом
отнюдь не только отечественного
происхождения.
В книжности 1-й половины XVII в. мы
находим много традиционных для русской
средневековой эстетики представлений 6
человеке, его красоте. Однако хорошо
ощущаются и новые тенденции. Так, князь
И. М. Катырев-Ростовский завершает свою
«Повесть» о событиях Смуты специальной
главкой с портретной галереей основных
персонажей описанных событий, которую
называет: «Написание вкратце о царех
Московских, о образех их, и о возрасте, и о
нравах». Новым для русского эстетического
сознания является уже сам факт
специального выделения главы с описанием портретов
исторических персонажей, новым, как мы
увидим, оказывается и характер этих
описаний.
Прежде всего, в них хорошо ощутима
тенденция к созданию почти реалистических
портретов, подчеркиванию индивидуальных
черт внешнего вида, характера,
нравственного и духовного облика.
Иван Грозный: «Царь Иван образом
нелепым, очи имея серы, нос протягновен и
покляп; возрастом (ростом. — Ред.) велик
бяше, сухо тело имея, плещи имея высоки,
груди широкы, мышцы толсты; муж чюд-
наго разсуждения, въ науке книжного
поучения доволен и многоречив зело»11. А вот
образ Лже-Димитрия — Отрепьева: «Ро-
стрига же возрастом мал, груди имея
широки, мышцы толсты; лице же свое имея не
царсково достояния препростое обличие
имея, и все тело его велми помраченно.
Остроумен же, паче и въ научении
книжном доволен, дерзостен и многоречив зело,
конское рыстание любляще, на враги своя
ополчитель смел, храбростьи силу имея,
воинство же велми любляше»12. Совершенно
очевидно новое для средневекового
художественного мышления стремление к фиксации
индивидуальных черт, к портретности
образов, к созданию «парсуны». При этом
автора не смущает, что описываемые
персонажи имеют «нелепый» образ или «велми
помраченное» тело. Для него важно остаться
на позиции объективного писателя,
фиксирующего то, что было реально. Идеальные
иконографические типы Средневековья
(князь, воин, духовный пастырь,
подвижник и т. п.) начинают уступать место в
художественно-эстетическом сознании
индивидуализированным портретам. При этом
автор этих описаний стремится настолько
отрешиться от средневековой традиции, что
даже портрет врага, возмутившего всю
Россию, он старается выписать
беспристрастным пером.
Идеализаторские тенденции, однако,
начинают преобладать у Катырева-Ростовского,
когда ему приходится описывать образы
жертв Смуты — детей Бориса Годунова.
Симпатии автора к ним побуждают его
оставить позицию беспристрастного фиксатора
увиденного, и он создает, пожалуй,
наиболее подробные во всей древнерусской
литературе идеализированные образы юных
героев, высветленные нескрываемым
авторским сочувствием к их судьбам. Приведу эти
описания, учитывая их уникальность и
эстетическую значимость, полностью:
«Царевич Федор, сын царя Бориса, от-
роча зело чюдно, благолепием цветуще, яко
цвет дивный на селе, от Бога украшен, яко
крин въ поли цветущи; очи имея великы
черны, лице же ему бело, млечною белостию
блистаяся, возрастом среду имея, телом изо-
обилен. Научен же бе от отца своего
книжному почитанию, и во ответех дивен и
сладкоречив велми; пустошное же и гнилослово
никогда же изо уст его исхождаше; о вере
же и поучении книжном со усердием
прилежа.
Царевна же Ксения, дщерь царя
Бориса, девица сущи, отроковица чюднаго до-
мышления, зелною красотою лепа, бела вел-
306
Часть I. Глава 1
ми, ягодами румяна, червлена губами, очи
имея черны велики, светлостию блистаяся;
когда же въ жалобе слезы изо очию испу-
щаше, тогда наипаче светлостию блистаху
зелною; бровми союзна, телом изобилна,
млечною белостию облиянна; возрасто ни
высока, ни ниска; власы имея черны,
велики, аки трубы, по плещам лежаху. Во всех
женах благочиннийша и писанию
книжному навычна, многим цветаше благоречием,
во-истину во всех своих делах чредима; гла-
сы воспеваемыя любляше и песни духовныя
любезне желаше»13.
Отличительной особенностью этих
описаний является пристальный интерес
автора к красоте внешнего облика юных
героев. Если средневековые летописцы и агио-
графы ограничивались, как правило, лишь
указанием на красоту («красен») внешнего
облика и более подробно останавливались на
духовно-нравственных достоинствах своих
персонажей, то автор начала XVII в.
главное внимание уделяет именно чувственно
воспринимаемой красоте.
Катырев-Ростовский впервые в русской литературе
описывает цвет лица, глаза, губы, волосы своих
героев. Конечно, эти характеристики еще
достаточно стереотипны и в целом не
выходят за рамки средневекового типа
художественного мышления. Нечто близкое
мы найдем в византийском романе уже в
XIII в., но в русской культуре они
появляются впервые только в начале XVIJ в. и
знаменуют новый этап в развитии
эстетического сознания. Теперь писатель не
просто восхищается красотой юноши или
девушки, но стремится понять, из чего она
складывается, осмыслить составляющие
прекрасного облика — и не только
статические (цвет кожи, волос, глаз, губ, форма
бровей, тела), но и динамические. Он
тонко подмечает, например, что испускающие
слезы глаза девушки усиливают ее
красоту — «наипаче светлостию блистаху
зелною».
Итак, в русской эстетике 1-й половины
XVII в. хотя и предпринимаются попытки
сохранения элементов средневекового
эстетического сознания, они все активнее
вытесняются и трансформируются новыми
формами и принципами
художественно-эстетического мышления.
*
Кризис средневекового
миропонимания, средневековой культуры в целом,
подспудно назревавший в России уже почти
целое столетие, разразился во 2-й
половине XVII в. значительным рядом сложных и
внутренне противоречивых процессов и
явлений в социально-политической,
религиозной и общекультурной сферах.
Многие из них так или иначе оказались
связанными с церковной реформой,
проведенной в середине века (начиная с 1652 г.)
царем Алексеем Михайловичем и патриархом
Никоном, и последовавшим за ней внутри-
церковным расколом, встряхнувшим все
русское общество того времени и фактически
утвердившим приговор средневековому
этапу культуры.
Историки и исследователи религии
находят много причин, как внутренних, так и
внешнеполитических, никоновской реформы
и раскола.
С точки зрения духовной культуры,
существенно указать на прогрессирующую
утрату Церковью своих позиций в духовной
жизни народа, на систематическое
разрушение основ и стереотипов средневекового
миропонимания.
Если христианство и Церковь на Руси и
в периоды классического Средневековья
включали в себя многие элементы
славянского языческого наследия и языческих
культов, то в XVII в. процесс отклонения
народной религиозности от
ортодоксального христианства в сторону
фольклорно-языческих элементов значительно усиливается.
Религиозная духовность повсеместно
вытесняется «обрядоверием» — утилитарным
отношением к культу. Возрастает роль
главного отношения языческого мироощущения:
человек — природа, действенной пружиной
которого была магия; соответственно
возрастает вера в магическую силу и
христианского обряда. Повышается значение культа
святых, который на Руси нередко служил
христианской ширмой для так и не
искорененных пережитков политеизма, при этом в
его чисто утилитарном аспекте — святых
воспринимали в первую очередь как
реальных помощников в мирских делах.
Возрастает, наконец, фетишистское отношение к
307
Книга вторая
иконам, которые часто почитались в
народе за самих изображенных на них святых,
и обращались с ними нередко так же, как
древние славяне с идолами — наказывали,
выбрасывали, если они не выполняли какой-
либо охранной или хозяйственно-бытовой
функции. К этому следует добавить чисто
формальное отношение к богослужению как
со стороны прихожан, так и со стороны
клира.
Ясно, что руководство Церкви и ее
наиболее одаренные лидеры не могли
мириться с подобным положением дел. Они
предпринимают попытку реформами сверху
укрепить позиции Церкви в государстве,
поднять ее роль и авторитет в народе как
духовного наставника.
Не останавливаясь здесь на всех
положениях реформы, отмечу лишь, что она
сводилась в основном к унификации культа и
богослужебной литературы по общим для
православного мира того времени образцам,
которые существенно отличались от
традиционно утвердившихся на Руси стереотипов.
Со времен крещения Руси Владимиром
в греческом богослужении произошли
многие изменения, а в русских книгах появилось
много описок, ошибок, местных новаций и
т. п. Так что скорректированное по новым
греческим книгам русское богослужение
было воспринято многими
традиционалистами, и прежде всего малообразованным,
нередко неграмотным клиром, как «новая
вера».
В богослужебный чин, церковный обряд,
который на Руси, особенно на уровне
массового религиозного сознания, играл
первостепенную роль, было внесено много
изменений. Древнее двоеперстие (или пяти-
перстие, в понимании первых расколоучите-
лей) заменили троеперстием, введенным в
Византии еще в конце XII в. Были
существенно сокращены и во многом изменены
основные богослужебные чины, и в
наибольшей мере литургия, скорректированы 2-й и
8-й члены Символа веры, во многих
псалмах и молитвах изменены отдельные
термины и обороты речи, изменили характер
богослужения и количество поклонов в
процессе службы и т. п.
Столь бесцеремонное обращение со
священными, веками установившимися
обрядами было воспринято во многих слоях
русского общества и некоторыми из
«ревнителей благочестия» как покушение на
«предания отеческая правая», как ересь,
угрожающая истинному православию, как дело рук
самого Сатаны или Антихриста и привело к
неприятию реформы широкими кругами
крестьянства, определенной частью стрельцов и
боярства, приходским клиром, не имевшим
возможности и желания переучиваться,
некоторой частью высшего духовенства, то есть
к расколу внутри Церкви. Сразу же
выделились лидеры раскола и мученики за
«старую веру», среди которых наиболее яркой и
литературно одаренной фигурой был
несомненно протопоп Аввакум Петров — живое
воплощение сущности раскола, а наиболее
образованным в богословском отношении —
диакон Федор Иванов. Реформу приняла
(искренне или под нажимом) большая часть
высшего духовенства, дворянской знати,
прогрессивная интеллигенция и
равнодушная к религии часть населения.
Никоновские нововведения, основанные
на «научной» правке старых текстов,
фактически ударяли по двум важнейшим
принципам средневекового сознания (в
частности, и эстетического) — по каноничности
(традиционализму) и символизму. Сохраняя
смысловую сущность богослужения,
никоновская реформа разрушала устоявшийся
богослужебный канон (или вносила в него
существенные изменения), с чем никак не
могло согласиться направленное на
средневековые принципы, т. е. традиционалист-
ски ориентированное общественное
сознание. И хотя реформа имела целью не
разрушить, но скорректировать, подправить и
унифицировать канон, в период острого
кризиса средневекового мышления его
приверженцы восприняли эту акцию как
покушение на канон.
Далее, каждый (до мельчайшего) элемент
богослужения имел символическое значение.
Изменение большого количества этих
элементов (символов), начиная с исправления
отдельных букв, слов, их порядка и кончая
изъятием и заменой целых текстов, было
воспринято средневековым сознанием как
искажение всего символического (а для Руси
еще и сакрального, магического) смысла
богослужения. А коль скоро утверждалась
308
Часть I. Глава 1
равнозначность новых (других!) элементов
(символов) старым, то фактически отрицалась
уникальность символа, то есть подрывался
сам принцип символического мышления и
намечались пути нового типа мышления с его
научным (исправление по более точным,
научно выверенным образцам) подходом и к
священным текстам, и к культу, и к самой
вере. Таким образом, фактически делался
шаг к секуляризации (обмирщению)
культуры, хотя пока и внутри культуры
религиозной; косвенно намечалось сближение с
западноевропейскими культурами, уже давно
вставшими на этот путь.
Наконец, никоновская реформа
наносила удар и по одному из специфически
русских принципов средневековой
религиозности — она разрушала веру в магическую
значимость обряда и каждого из его
элементов, которая была сильна в массовом
сознании русичей, ибо восходила еще к
дохристианским языческим временам,
основывалась на древнейших архетипах
восточнославянского культового сознания.
Отсюда понятна непримиримая позиция
раскольников — людей со средневековым
типом мышления и жизнедеятельности.
Никоновскую реформу они восприняли как
покушение на их главные духовные
ценности — на саму православную веру в ее
отечественном варианте — и объявили ей
(реформе) борьбу не «на живот», а на смерть.
В расколе с предельной, даже с какой-
то болезненной и экстатической остротой
(результат общего кризиса Средневековья)
проявился один из важнейших принципов
древнерусской культуры — принцип невер-
бализуемого выражения основных духовных
ценностей эпохи, в том числе религиозных,
этических, философских, именно:
выражения их в формах самой культуры — в
обычаях, этикете, обряде, искусстве и т. п., а
не в научных трактатах и теоретических
концепциях.
Никоновская реформа посягнула и на
этот принцип, изменяя на основе чуждых
русской культуре образцов традиционно
сложившиеся, то есть наполненные какими-то
глубинными смыслами, формы обряда. А
именно в них-то для древнерусского
сознания и заключался сам дух, сама глубинная
суть отечественной культуры. Поэтому
любые попытки изменения формы
воспринимались традиционалистами, глубоко
вросшими в отечественную почву, как
посягательство на самую сущность, дух, истину и
отметались как неприемлемые.
В расколе, и прежде всего в писаниях
Аввакума, с особой рельефностью
проступили те глубинные черты древнерусского
эстетического сознания, которые сложились
где-то на стыке народной (частично
языческой) духовности и официальной
церковности и которые до этого проявлялись на
страницах русской книжности хотя и нередко, но
фрагментарно. Полнее всего они
проступали в апокрифах и фольклоре, а также и во
многих фрагментах сочинений Кирилла
Туровского, русских летописей, книжности
куликовского времени, у Зиновия Отенского
и других авторов. Теперь, в период
активной самообороны крайних
традиционалистов, эти черты выявились во всей полноте,
а благодаря литературному таланту
Аввакума и во всей их яркости и самобытности. И
проявились они, естественно, не столько в
теоретических высказываниях или
доказательствах в пользу древних обрядов — с
точки зрения элементарной логики они
часто слабы и примитивны, — а в самом
характере, колорите, стиле мышления,
образе жизни и действий раскольников.
Протопоп Аввакум был человеком далеко
не бесстрастным. Относительно видимой
красоты, к примеру, в его душе возникали те
же противоречивые чувства, какие в свое
время бурлили и в душе крупнейшего отца
западной церкви Блаженного Августина14. И
это постоянно прорывается в его внешне
вроде бы однозначном осуждении видимой
красоты. О страстях, обуревавших лидера
раскола в юности, о его влечении к плотской
красоте он и сам рассказывает в своем
«Житии» не менее образно, чем Августин в
«Исповеди», хотя и более лаконично. Пришла
к нему как-то исповедоваться в своих
грехах блудница: «<...> нача мне, плакавше-
ся, подробну возвещати во церкви, пред
Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач,
сам разболелся, внутрь жгом огнем
блудным, и горько мне бысть в тот час: зажег
три свещи <...> и возложил руку правую
на пламя, и держал, дондеже во мне
угасло злое разжение»15.
309
Книга вторая
Ощущая, как в свое время Августин и
многие отцы восточной церкви, какую-то
глубинную ценность и значимость видимой
(внешней) красоты (в этом его укрепляли
и народные традиции), а разумом,
погруженным в религиозное чувство, усматривая
ее вред для нравственности, Аввакум
находился в постоянном раздвоении чувств и
суждений.
В какой-то мере оправдать внешнюю
красоту помогает Аввакуму традиционный
для христианства принцип символически -
аллегорического толкования. Так, в
красоте и сладости пения райской птицы Сирин
усматривает он некий прообраз, или
аналогию к «сладким песням» — проповедям
Христа, которые так же заставляли
слушающих забывать о еде. «Красна и велелеп-
на, перием созлатна и песни поет сладки,
яко не восхощет человек ясти, слышавше ея
гласы»16, — птица Феникс, которая в
понимании Аввакума является символом
Христа.
Толкуя стих 44-й псалма «Предста
Царица одесную Тебе, въ ризах позлащенных
одеяна и преиспещрена», Аввакум
предлагает понимать пестрые и многоцветные
одеяния как символы добродетелей — «сиречь
разными добродетелями украшена, яко
златыми ризами разноцветными»17. Внешняя
красота, многоцветие, пестрота
понимаются здесь как символы красоты внутренней,
духовной, нравственной.
Понятие пестроты, имевшее в этот
период значение внешней красоты, многоцветно -
сти и противостоявшее простоте, широко
употребляется раскольниками как в
позитивном, так и в негативном смыслах. В
библейских текстах пестрота для них — символ
духовной красоты, а в реальном мире она чаще
всего представляется ревнителям старой
веры знаком антиценностей, всего
негативного. Пестрота — это символ всех новаций
в Церкви и государстве, символ
никонианской ереси.
В духе первохристианских ригористов и
русских нестяжателей XVI в. инок Авраа-
мий ополчается против роскошных облачений
никонианских монахов и клириков, живущих
в «пестроте» мирской, «одеющеся въ брач-
на цветная одеяния, яко женихи, рясами
разнополыми, рукавы широкими, рогатыми
клобуки себе и отласными украшающе,
скипетры въ руках позлащены имуще»18.
Никон представляется Авраамию
Антихристом, а по церковному преданию
известно, что «Антихрист воздвигнет убо храм
изряден»; так же «и святый Кирилл пишет:
„Антихрист начнет созидати грады и
храмы различными мраморы, славою и честию
прельщая"»19. Никон, как известно,
занимался большой строительной деятельностью
и устроением церквей. Отсюда негативное
отношение многих расколоучителей к
роскоши культового искусства реформированной
Церкви. Оно в их глазах являлось зримым
символом и подтверждением пришествия
Антихриста в мир.
Понятно, что антиэстетический ригоризм
раскольников существенно отличался от
раннехристианского. Многовековая традиция
использования в православной Церкви
специально созданного
высокохудожественного искусства заставляет расколоучителей
проводить некую (достаточно условную)
дифференциацию красоты церковной. Ими
отрицается только церковная «пестрота»
реформированного культа; в старом же
обряде они продолжают видеть «лепоту
церковную» и стоят здесь на традиционной
древнерусской позиции. При этом интересно
заметить, что для обозначения позитивной
красоты, как внешней, так и внутренней,
раскольники чаще используют древний
термин «лепота», а для именования негативной
красоты, красивости, излишней украшенно-
сти — «пестрота».
Берущая начало в раннехристианской (и
даже в древневосточной) эстетике
оппозиция простота — пестрота как выражение
коренных антиномий культуры: духовное —
плотское, божественное — сатанинское и
т. п. — находит в расколе своеобразное и
отнюдь не однозначное эстетическое
воплощение.
Для традиционалистов XVII в. «пестрый»
мир — это антихристов мир, в котором
господствуют зло, заблуждение, грех,
несправедливость; мир антиценностей. Новая
церковная реформа для расколоучителей — «новая
Никонова пестрообразная прелесть». Сам
Антихрист, по Федору Иванову, — это
средоточие «пестрой прелести», прочно
окутавшей в мире истинные ценности; в нем не-
310
Часть I. Глава 1
разрывно «сплетено нечестие с
благочестием». Это некое почти антиномическое
единство добра и зла. «Антихрист бо есть он ди-
авол, ангел и бес, свет и тма, денница и
прелестная звезда, лев и агнец, царь и
мучитель, лжепророк и святитель, благ и
гонитель, чиститель и сквернитель,
пристанище и потопление, безбожным бог,
Христианом же враг, миролюбцем святитель, бо-
голюбцем же мучитель, <...> пестр
видением, осязанием же тма, сатана и человек,
дух и плоть»20. Элементы добра в этом
«пестром» конгломерате, как видим, весьма ус-.
ловны и неистинны. Они относятся к миру,
не принявшему, по существу, Божественой
благодати. Элементы же зла здесь
абсолютны, с точки зрения христианской этики, и
столь многочисленны и многобразны, что
мудрый расколоучитель затрудняется их
исчислить — «и невозможно мне
подробно исчести вся пестроты его».
Все государство Российское, весь мир
наполнились «прелестями» антихристовыми,
и нет возможности человеку,
устремленному к «миру», отрешиться от них. «О, пре-
лесте! понеже еси пестра! И кто может из
руку твою исторгнуться иже въ мирских ве-
щех мятется и ум свой пригвожден имат?
Воистину никтоже». И далее с рефреном
«О, прелесте! понеже еси пестра!» Федор
перечисляет в том же
условно-антиномическом ключе, в каком описывал Антихриста,
«пестроту» его прелестей в современном
мире. Приведу здесь для примера только те
из них, которые достаточно ясно тяготеют
к эстетической сфере и объясняют
своеобразный «антиэстетизм» расколоучителей.
«О прелесте! понеже еси пестра: церковные
стены созидаются, законы же ея раззоря-
ются, <...> иконное поклонение
почитается, образы же святые яко непотребные
отметаются. <...> праздники святые
празднуют, начальников же праздников
раскольниками называют, <...> церкви украшаются,
иконы же святые яко непотребныя из
церкви износятся» и т. п. Далее следует
афористический приговор Федора «прелести» и
«пестроте»: «окаянная прелестем прелесть,
пестра пестроумным, яко за истину
почитают ю безумнии»21.
Итак, к пестроте, наряду с целым рядом
негативных, с точки зрения раскольников,
этических и культовых характеристик,
относятся и многие явления культового
искусства, принятые или вновь введенные в обиход
официальной Церковью. Подробнее о них
мы еще будем иметь возможность
поговорить ниже. Здесь же следует только
подчеркнуть, что проблема «пестроты»,
получившая в целом у раскольников негативную
оценку, а у представителей официальной
Церкви и у « латинству ющих», с их
барочным складом мышления, позитивную, —
эта проблема заняла видное место в эстетике
XVII в.
Интересный ее аспект находим мы у
Аввакума. Если пестрота, в частности внешняя
красота и красивость тварного мира, им в
целом осуждается, то перенесенная в мир
небесный, будущий — мир Царства Божия
(при этом в том же земном обличий) — она
не только получает позитивную оценку, но
и в какой-то мере превращается в идеал. В
одном из своих сочинений он приводит
видение девы, которую пытались соблазнить
бесы, а Аввакум удержал ее от падения.
Ввели ее ангелы в Рай и показали ей «по-
лату», которая уготована Аввакуму за его
праведные дела и всем его подопечным. Эта
обитель «неизреченною красотою сияет паче
всех и велика гораздо... ано-де стоят столы,
а на них послано бело, и блюда с
брашнами стоят. По конец-де стола древо
кудряво повевает и красотами разными
украшено; в древе-де том птичьи гласы слышала я,
а топерва-де не могу про них сказать,
каковы умильны и хороши!»22. В этой
райской пестроте, представленной Аввакумом
в качестве духовного идеала, практически
ничего нет христианского. Перед нами
чисто фольклорный, сказочный мотив,
восходящий к восточнославянской языческой
мифологии; подобные мотивы, как мы
неоднократно убеждались, были сильны у
представителей раскола.
У того же Аввакума антихристова
«пестрота» соответственно предстает, как и в
народной сказке, внешним безобразием. В
одном из своих бесчисленных видений он
имел беседу и с Антихристом, представшим
ему в образе эдакого несколько
подпорченного Змея-Горыныча: «ано ведут ко мне два
в ризах белых нагова человека, — плоть та
у него вся смрад и зело дурна, огнем ды-
311
Книга вторая
шит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя
смрадное исходит»23.
В расколе, основной контингент
которого составляли народные массы, низовая,
фольклорная, по корням своим языческая
культура, на протяжении многих веков
сраставшаяся с христианской, но во многом и
противоставшая ей, вдруг стала главной
опорой и мощной животворной силой
оппозиционного, уходящего в историю
средневекового христианства. В водовороте мощного
социального, культурного и религиозного
конфликта почти все старое, — и
христианское и языческое, — слилось в единое
целое — отечественное духовное наследие,
предание отцов, которое оказалось под
угрозой разрушения со стороны неизвестной
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Из истории русской литературы XVII
века. Сочинение о Царствии Небесном и о
воспитании чад // ПДП. Вып. 93. 1893.
С. 15.
2 Там же. С. 43.
3 Из истории русской литературы XVII
века... // ПДП. Вып. 93. 1893. С. 30 — 31.
4 Там же. С. 34.
5 Там же. С. 31.
6 Там же. С. 889.
7 Там же.
8 Там же.
9 ПСВ. С. 343.
10 Дословно она звучит так: «Гробозданное
же златое умоделство все красотою его многою
нелепотне Ростригою лжецарем на доможител-
ныя потребы безобразии сокрушени разсыпаше-
еще, но чуждой и опасной силы. И
традиционалисты сплотились вокруг этого
наследия, обозначив его как «старая вера». Хотя
действовали они под знаменем христианства,
объективно же защищали, во многом вне-
сознательно, и глубинные дохристианские
основы славяно-русской культуры,
художественного мышления, эстетического
сознания. Реальным и самым ярким
подтверждением этого является фигура Аввакума.
Раскол, тем самым, представлял в
русской культуре и эстетике XVII в. такое
движение, которое объединяло в себе
тенденции к демократизации и вульгаризации
духовной культуры христианства и к новому
этапу одухотворения и оцерковления
крупных пластов фольклорной культуры.
ся, неже хитротворение красоты жалость от
разбиения удержа».
11 ПСВ. С. 620.
12 Там же. С. 621 — 622.
13 Там же. 621.
14 См. подробнее: Бычков В. В. Эстетика
Аврелия Августина. М., 1984.
15 Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 60.
16 Там же. С. 271.
17 МдИР VII 8. С. 25 — 26.
is МдИР 7. С. 98 — 99.
» Там же. С. 377.
20 МдИР 6. С. 85.
21 Там же. С. 89.
22 Житие протопопа Аввакума... С. 118.
23 Там же. С. 143.
Глава 2
Симеон Полоцкий
х^имеон Полоцкий
(Самуил Гаврилович Петровский-Ситняно-
вич; 1629 — 1680) принадлежит к тем
деятелям отечественной культуры, которые
своим жизненным путем и творчеством
олицетворяли традиционные взаимосвязи
восточнославянских народов и содействовали их
сближению с тогдашними достижениями
польской и западноевропейской культур.
Родился он в купеческой семье белорусского
города Полоцка. Там тогда прочно укрепил
свои позиции католический орден иезуитов,
создал свою коллегию, где, кстати, в
разные периоды 1618 — 1629 гг. читал
курсы поэтики, риторики и античной
мифологии выдающийся новолатинский поэт и
теоретик литературы М. К. Сарбевский.
Учился Самуил, будущий писатель и
мыслитель, сначала в местной школе, затем в Ки-
ево-Могилянской коллегии (1640 —
1650 гг.), а закончил высшее образование в
Виленской иезуитской академии.
По-видимому, в виленский период учебы молодой
полочанин Ситнянович вступил в униатский
орден Св. Василия Великого, стал «базили-
анином». Униатство в середине XVII в.
основательно утвердилось в Белоруссии, а его
местные просвещенные сторонники
стремились преодолеть религиозный раскол
белорусов на православных и католиков.
Образованного учителя из Полоцка,
по-видимому, увлекла идея мирного сотрудничества
всех христианских церквей. Что «базилиан-
ство» не было только случайным эпизодом
в жизни писателя, свидетельствует такой
факт: находясь в 60 — 70-х годах в
Москве на службе у православного царя, он
подписывал книги своей домашней
библиотеки экслибрисом: «Из книг Симеона
Петровского Ситняновича, полоцкого
иеромонаха ордена Св. Василия Великого». Но он же
никогда не отказывался от своего
православного крещения, а «базилианство» не
помешало ему стать лояльным деятелем русской
культуры и православной Церкви.
В 1656 г., два года спустя после взятия
Полоцка русскими войсками, способный и
хорошо образованный юноша принял
монашество в полоцком Богоявленском
православном монастыре и стал учителем в
созданной при нем братской школе. Здесь в
основном сложились
общественно-политические, философские и
литературно-эстетические взгляды писателя.
В его просветительской деятельности
выявилась тенденция к ассимиляции
достижений западноевропейской науки и
художественной культуры в интересах
национальных культур восточнославянских
народов при условии сохранения их религиозно-
мировоззренческих постулатов и
национальных духовных ценностей. В 1664 г.
навсегда переехал в Москву. Там сначала
обучал латинскому языку подьячих, а при
Алексее Михайловиче ему поручили
воспитание царских детей, в том числе
наследников престола Федора и малолетнего Петра.
Весьма дипломатично и сдержанно
полемизировал с русскими «грекофилами»;
выступал за развитие светских форм культуры и
повышение уровня образования в стране. В
богословских сочинениях («Жезл
правления», «Венец веры») Симеон Полоцкий
полемизировал с идеологами раскола, защищал
нововведения патриарха Никона. По
царскому поручению он трижды ездил на «стя-
зание» с протопопом Аввакумом, однако тот
разошелся с ним по основным пунктам
православной догматики и обрядности.
Стремясь к развитию просвещения и
активному использованию достижений ренес-
сансной культуры, Симеон основал в
Москве государственное книгоиздательство
(Верхнюю типографию), где печатал свои
учебные книги «Букварь», «Часословец» и
другие сочинения. К сотрудничеству в
издательстве он привлек крупнейшего
живописца и графика своего времени Симона
Ушакова. Когда в 1880 г. при дворе царя
возник план создания учебной академии в
Москве, то поборник просвещения
иеромонах Симеон составил ее обстоятельный план,
реализовать который удалось только в
начале XVIII в. путем преобразования
Славяно-греко-латинской академии в
университет. За сравнительно короткую жизнь
писатель оставил после себя большое
литературное, научно-просветительское, оратор-
313
Книга вторая
ско-богословское и полемическое наследие.
Помимо названных книг он в качестве при*
дворного поэта создал систематизированные
сборники «виршей» — силлабических
стихотворений: «Вертоград многоцветный»
(1678); «Рифмологион» (1679);
панегирический сборник стихов в честь коронации
Федора Алексеевича «Гусль доброгласная»
(1676); «Псалтырь в стихах»
(переложенная силлабическими стихами в 1678 г.,
опубликована в 1680 г.); две пьесы в
силлабических виршах — «Комедия о блудном
сыне» и «О Навходоносоре царе, о теле
злата и о триех отроцех, в пещи не
сожженных». Наконец, Симеон Полоцкий —
автор опубликованных уже после его смерти
сборников ораторской прозы церковноучи-
тельного, проповеднического содержания
«Обед душевный» (1681) и «Вечеря
душевная» (1683) — фундаментальных книг
общим объемом около трех тысяч страниц.
Социально-политический идеал Симеона —
государственное единство и общественная
гармония во главе с просвещенным
монархом, управляющим самодержавно, но в
согласии со всеми сословиями, заботящимся о
благосостоянии всего народа. Писатель был
убежден, что человек по своей природе —
существо общественное, «содружное», а
распри и раздоры проистекают от
невежества, необразованности и гордыни.
Поэтому только развитие наук и искусств,
широкое просвещение и нравственное
самоусовершенствование приведут к социальной
гармонии и миру. В онтологическом плане
мыслитель разделял бытие на «мир
первообразный», Бог, макрокосм (природа) и
микрокосм (человек). Мир постигается
посредством органов чувств (низший уровень
познания) и разума, раскрывающего
сущность вещей. В соответствии с
христианской иерархией ценностей Творцом и
Источником бытия, жизни и разума он считал
Бога, а высшей премудростью —
богословие, которое, по его убеждению, не
противоречит научному познанию и
художественному творчеству, а, наоборот, способствует
их развитию и усовершенствованию.
В философии Симеон различал логику,
натурфилософию и этику. Философские
проблемы эстетики и искусства по-своему
отразились во всех его произведениях,
включая богословские, ораторские, программные
стихотворения, многочисленные записки,
конспекты по риторике и поэтике, записки
об иконописании.
Поэтика и литературное творчество
Симеона Полоцкого, основанные на переводе
научно-просветительских, философских,
общественно-политических и богословских
идей в систему силлабического
рифмованного стихосложения, сложились еще в
Полоцке. На первом, белорусском, этапе своего
творчества Симеон писал «вирши» на
старобелорусском, старопольском языках, о чем
позже сообщал в предисловии к «Рифмоло-
гиону»:
Писах вначале по языку тому,
иже свойственный бе моему дому.
Тоже увидев многу ползу быти
словенскому ся чистому учити1.
На эстетических взглядах и литературном
методе Симеона Полоцкого отразился
идеологический дуализм культуры барокко,
выросшей на основе неполного,
компромиссного согласования традиций ренессансной
художественной культуры с системой сред-
невеково-христианских духовных ценностей.
Светское литературное наследие его уже
основательно изучалось, хотя большинство
стихотворений все еще не стало
достижением читающей публики, а известно только
специалистам по рукописным сборникам
писателя. Теологические же сочинения и цер-
ковно-ораторская проза лишь в последнее
время стали привлекаться при анализе его
мировоззрения и литературного мастерства.
Бесспорно, система идей и образов,
выраженных в светских произведениях
Симеона, относительно самостоятельны и не во
всем согласуются с его христианской, хотя
и не во всем ортодоксальной теологией,
ярко, образно и талантливо изложенной в
сборниках проповедей-поучений «Обед
душевный» и «Вечеря душевная». Их
многочисленные эстетические фрагменты должны
приниматься во внимание при анализе его
философских и эстетических взглядов.
Эстетика Симеона Полоцкого
формировалась под влиянием нескольких, далеко не
всегда согласующихся между собой источников:
раннехристианской традиции, древнерусской
и старобелорусской (XIV — начало XVII в.)
314
Часть I. Глава 2
литератур, античной, главным образом
эллинистической, эстетики, европейского ре-
нессансного гуманизма и барокко, наконец,
хотя лишь отчасти, отечественного
фольклора. В конечном счете
философско-эстетические принципы писателя сводятся к исходным
позициям христианской эстетики, но в их
поздней, по существу
ренессансно-гуманистической, интерпретации. Проблема
человека и его ценностей занимает центральное
место в его мировоззрении,
ориентированном скорее на ценностное, чем
познавательное отношение к общефилософским
проблемам бытия и общественной жизни.
Именно аксиологическая проблематика
человеческого бытия, нравственности и красоты
преобладает в его малоисследованных
книгах «Обед душевный», «Вечеря душевная»,
стихотворных сборниках и
богословско-полемических трактатах.
Отдельные эстетические идеи этих
сборников проповеднической прозы Симеона
наметились в его более раннем трактате
«Жезл правления», обличающем
раскольников и других «еретиков». Прямо и
косвенно здесь затрагиваются многие эстетические
проблемы и понятия: сущность прекрасного;
соотношение между духовной (внутренней,
нравственной) и внешней («формальной»,
чувственно воспринимаемой, относящейся к
форме, а не к сущности) красотой;
соотношение между прекрасным и истинным,
возвышенным и героическим; нравственная
ценность трагического; мера как основа
гармонии в жизни личности и общества;
ценность религиозного и светского искусства;
соотношение «образа» и «прообраза».
Таков неполный перечень эстетических
проблем, затрагиваемых в «Жезле» и других
богословских сочинениях Симеона
Полоцкого.
Аксиологический подход к эстетической
проблематике намечен уже во введении к
«Жезлу правления». Используя библейскую
образную символику, писатель говорит о
двояком отношении «пастыря» (Бога, Церкви,
вообще «начальника») к добрым и злым
«овцам», т. е. людям: «жезлом доброты»
Он (Бог. — Ред.) пасет добрых, снабжая
их временными, земными благами —
здоровьем, долголетием, изобилием, славой «и
прочая, их же требует жизнь сего мира», и
готовит им вечные, небесные, или духовные
блага, среди которых важное место занимает
«лепота», то есть красота, понимаемая не в
ее чувственно-образном проявлении, а в
духовно-идеальном смысле2.
К сфере прекрасного Симеон относит все
многообразие библейско-христианской
символики. По его мнению, «„жезл архирейс-
кий в лепоту именуется", подобно жезлу
библейского Моисея, ударом которого о
скалу он добывал воду в пустыне, так и „жезл
архирейский в пустыне мира сего"
добывает живую воду „из камене мысленнаго", еже
есть Христос»3. Вообще ветхозаветные
образы прекрасного и доброго толкуются им
как земные символы высшей красоты и
доброты христианской духовности. Бог создал
мир абсолютно добрым и прекрасным —
как своего рода совершенное произведение
«в предивном согласии устроения». Злое и
безобразное начало в мир привносят, во-
первых, люди невежественные, не
приобщенные к свету познания, и, во-вторых,
люди, отдавшие себя во власть гордыни и
злой воли, к которым полемист причисляет
всех вождей церковного раскола. Отвергая
их нападки на почитание «ляцкого», то есть
«польского», или римско-католического
четырехконечного креста, полемист Симеон
опять-таки использует эстетический
аргумент, подчеркивая красоту православного
креста4. Здесь, таким образом,
доминирует общая христианская эстетическая
концепция, вернее, умеренное, лишенное
спиритуалистических крайностей направление
поздней средневековой эстетики.
Гуманистический аспект эстетики
Симеона Полоцкого проявился в ее
антропологической направленности: источником
прекрасного для него является не абстрактное
божественное первоначало, а личность
Христа как зримый образ Бога. Подобно тому,
писал он, как солнце является источником
телесной жизни и красоты, так
«сверхчувственное солнце» Христос — воплощение
высшего духовно-нравственного и
эстетического совершенства. «Аще любим красоту,
что краснее есть Бога. О Нем же и плоть
приемшем проречеся: красен добротою пача
всех сынов человеческих. Божией красоте
дивится луна и чюдится солнце, ибо та без
конца паче всякую красоту всех вещей ви-
315
Книга вторая
димых и невидимых превосходит, нежели
солнечное сияние всех звезд блистание
преодолевает»5. От Бога происходит красота
неба и земли, от него же «во всех цветах
различная красота, и благовоние, и сила»6.
Продолжая традиции древнерусского
ораторского искусства, писатель рисует
образ весны как символ возрождения
преходящей красоты природы, а праздник
Пасхи — как возрождение истины, правды и
красоты духовной: «Явися цвет и крин
юдолный Христос Господь: Его же вчера
коса смертная посекла бяше, днесь же паки
прозябает <...> Прозябает краснее луны,
и светлее солнца, и благовоннее всех
аромат всего мира <...> О дне прекраснаго и
пресветлаго, нечювственнаго солнца лучес
сияния<...>!»7 В земной жизни Христос
воплощал идеальный образ человека: Он
жил среди простых тружеников, апостолов
избрал «не от князей мира и вельмож, но
от смиренных художников
(ремесленников. — В. К.)», своим учением
провозгласил абсолютные ценности жизни —
единство истины, добра и красоты; своим же
воскресением духовно победил господство
безобразного начала в жизни —
жестокости, угнетения, человеконенавистничества,
преодолел самую основу безобразного —
смерть. Образом высшей красоты, наряду
с Христом, является Дева Мария. Она «вся
бе позлащенна Духом и драгими бисеры
даров Духа Пресвятаго улепотствованна», то
есть украшена8.
Понятие прекрасного, согласно Симеону,
входит в определение сущности Бога,
содержащего в себе «бесконечную мудрость,
благость, истину, милость, красоту, богатство
и что-либо благое вымыслитися может»9.
Земной мир и его венец — человек
созданы Богом добрыми и прекрасными.
Первородный Адам рожден «в лепоту, ибо он есть
первый в человецех, Божиею созданный
рукою, дары преизящными украшенный»10.
Красота, по его убеждению, является
составной частью вечных небесных благ.
Симеон Полоцкий строит такую иерархию
прекрасного, согласно которой всякий более
высокий уровень бытия содержит в себе все
атрибуты красоты низших уровней и сверх
того еще качественно высшую степень
эстетического совершенства. «Тако и Господь
Бог содержит в себе красоту всех
созданных, видимых же и невидимых; превыше тех
имать и иныя бесконечныя, без конца из-
ряднейшия<...> Воистину убо
совершеннейшая красота и всех красот украшение
есть в Господе Боге. Всякая же созданная
красота не точию по дробну, но и купно
слученная в сравнении с Божию красотою
есть яко капля едина в противу всему
океану, паче же и того менше: ибо капли со
океаном есть некое аще и непостижимое
уравнение. Красоты же созданныя с несоз-
данною бесконечное есть разстояние». Этой
несоизмеримостью реального с идеальным,
абсолютным мыслитель объясняет
стремление людей вверх — к совершенству: «От-
туду убо есть, яко никоею красотою ум наш
на земли довольствуется, но всегда лучших
ищет, дондеже достигнута ему оныя красоты
красот бесконечныя, яже едина желание
наше насыщает и исполняет. О красото
непостижимая! О доброто неизреченная!
Кто ми отверзет очеса, да вижду тя; кто ми
просветит зеницу, зрю тя»11.
Говоря о прекрасном в природе и
человеческой жизни, Симеон четко различал
внешнюю, или материальную, красоту,
сводящуюся, по его мнению, к ряду
формальных признаков — симметрии, яркости,
блеску, насыщенности цвета, гладкости,
чистоте, приятной форме, мерности и т. д.,
и красоту духовную, содержательную,
представляющую собой род духовного
наслаждения, испытываемого от восприятия
истины, мудрости, добра и высоконравственной
жизни вообще. Соотношение между этими
видами красоты трояко: они могут быть
нейтральными как два ряда независимых друг
от друга явления; чувственно
воспринимаемая красота бывает также внешним
проявлением внутренней красоты; наконец, между
ними нередко возникают противоречия, а в
таком случае чувственная красота переходит
в свою противоположность — безобразное
(«скаредность») и отвратительное
(«мерзость»). Первое соотношение специально не
рассматривается писателем, оно
содержится имплицитно в его рассуждениях и
притчах; зато о гармонии и противоречии
внутренней сущности и внешнего проявления он
говорит подробно, аргументируя свою
позицию не столько логическими силлогизмами,
316
Часть I. Глава 2
сколько приемами тогдашнего ораторского
искусства.
Внешняя красота человека признается
Симеоном в качестве одного из
«естественных» благ. Люди наделены ими
неодинаково: «ови краснолични, ови нелепи». Кто
лишен «доброличия», пусть не сетует, а
рассудит, «яко красота спасает душевное, не
телесное». Более того, телесная красота
многих привела к духовной гибели; поэтому
мудрые люди не только не хвалятся ею, но,
наоборот, скрывают или же «постом и
трудами» истребляют12. Подлинное украшение
человека — его воля, совесть, разум и
память13. Стремясь к быстротечной
физической красоте, люди нередко лишаются
«красоты небесныя и райския»14. Мысль о двух
типах красоты положена в основу ряда
стихотворений писателя. В одном из них он
писал: «Внешнюю красоту есть любезно
зрети, Бог же внутреннюю велит нам име-
ти, сиречь доброты, — тые Ему любезны,
суть бо небесны»15. Однако в реальной
действительности зачастую бывает наоборот:
«Доброта не зрится, красная риза паче
человека чтится»16.
Симеон Полоцкий умело использует
приемы фольклорной поэтики, когда изображает
духовную красоту как свет солнца, луны и
звезд, как сияние золота, серебра и
драгоценных камней. Ясный весенний день
символизирует прекрасное, а ночь и безводная
пустыня — безобразное. Великолепие
храма, украшенного различными искусствами,
подводит нас к восприятию божественной
красоты. Говоря о христианской любви как
высшем выражении человеческой красоты,
писатель воспроизводит ее аллегорический
образ: любовь предстала перед ним «в виде
краснейшия девицы, и светом блестящиеся
солнца паче, на главе венец от ветвей
масличных <...> имущая крыле злате <...>,
описанная отовсюду красотою и
препоясанная, лице имеющая светлое и красное, пер-
ната есть и легка, и присно престолу
царскому предстоит»17. Украшение золотом и
бисером — внешнее выражение
внутреннего совершенства. Красный и белый цвет
знаменует красоту, любовь к бытию и
человеческую чистоту. Кто преодолел соблазн
богатства и украсил себя добровольной
нищетою, тот «блистает, аки злато, сияет, аки
бисер, цветет, аки рожа (роза. — Ред.,)»18.
В эстетике барокко, в которую
«вписывается» творчество Симеона Полоцкого,
частично возрождается средневековый
взгляд на двойственную природу красоты.
В реальном мире, отмечал писатель, есть
«ошаренная, или повапленная, красота —
смех неплодный, иудино лобзание, сладкий
яд <...> Скилла и Харвид (Сцилла и
Харибда. — В. К.), смерть приятная, явный
потоп, сирен пение, гроб повапленный,
пустыня безводная. Лабиринт заблуждения,
Вавилон мятежный, Египет мрач-
ный<...>»1<?.
Симеон Полоцкий приводит ряд
примеров из библейской истории, когда внешняя
красота людей привела их к телесной или
духовной смерти. Не хвались, пишет он,
силою, юностью и красотою, потому что
сами по себе, безотносительно к добру они
ничего не значат: зло улавливает людей
«суетными красотами своими, богатством, че-
стми и славою». Ими соблазняется плоть:
чаша их светла и красна, но полна
«мерзости»20. Тот, кто возвышает себя и мнит
прекрасным, обычно низко падает. Пусть
женщины христианские, пишет Симеон
Полоцкий, «во украшении лепотном со сты-
дением и целомудрием да украшают себе —
не во трефлении влас, ни златом, ни
бисером или ризами многоцветными, но делами
благими». Мужья пусть заботятся больше
о душевном украшении своих жен, «да Богу
красны будут, а не человеком»21.
Непрочность человеческих интересов,
ложность мнимых ценностей, по мнению
Симеона, отражены в Библии. В Екклези-
асте «в лепоту и в правду изображается
непостоянство и прелесть мира сего»22. Столь
же непостоянны и преходящи симпатии,
вкусы и предпочтения людей: сегодня они
кричат «Осанна!», а завтра «аки мерзка и
скаредна с пренебрежением оставляются».
В свете этого скептического взгляда на мир
писатель по-своему интерпретирует
мировоззрение античных философов. По его
мнению, когда-то два философа «добре разсу-
дивша, один<...> именем Демокрит выну
смеяшася толикому мира сего непостоянству;
другий же Ираклит (Гераклит. — В. К.)
реченный присно плакася о сицевом его
(мира. — В. К.) изменении». Эти мудре-
317
Книга вторая
цы, по мнению Полоцкого, хотя и
принадлежали к язычеству, но по-христиански
рассуждали о мирском непостоянстве23. В этом
изменчивом мире нет совершенного
человека. Древнегреческий философ Диоген,
пишет Симеон, искал человека днем со свечою
в многолюдном городе, но не нашел.
Безобразное и отвратительное, признает
он, многолико, оно проявляется как под
личиной красоты, так и в своем истинном,
отталкивающем виде. Духовное уродство
всегда искажает первозданную красоту
человека. Одно из его проявлений — зависть —
прекрасно уподобляется ораторами и
поэтами ехидне и ржавчине24. Раскрывая
сущность безобразного, Полоцкий широко
использует аллегорию «ночь» и «слепые».
Безобразно выглядит тот, кто любит «украша-
тися ризами (одеждами. — В. К.) паче
обычая страны, выше звания своего и паче
достойного»25. Столь же безобразно, когда
женщина «любит украшатися и странною
притворных шаров (искусственных
красок. — В. К.) любопытствоватися
красотою, да всякое нелепие си утаивши», к тому
же поощряется «у плотолюбцев красоты те-
лесныя»26. С другой стороны, под внешним
некрасивым видом нередко таится
подлинная красота. Раны и увечья на теле,
полученные в борьбе за возвышенные цели, не
безобразят, наоборот, украшают,
воспринимаются не как «скаредство», а как
«знамения торжества»27.
Внешнее безобразие, утверждает
Симеон Полоцкий, становится отвратительным
(«мерзостью»), когда оно порабощает душу.
К внутреннему нравственно безобразному он
относит прежде всего жадность, жестокость,
зависть, несправедливость, лень,
подхалимство, эгоизм, душевное рабство и т. д.; к
внешне безобразному — нарушение меры,
излишество украшений, уродство и т. п.
Отвратительно, прежде всего, по его
убеждению, жить за счет труда других: кто не
работает, тот пусть и не ест28.
Отвратительны все, кто предает истину, угодничая
перед власть имущими: «Ибо якоже
животные, именуемые хамелеон, вся цветы пред-
стоящия себе вещи <...> приемлют <...>
тако человекоугодницы вся хотения
начальников ctf в сердца приемлют, словом же и
делом совершают. И яко дву цвету хамелеон
по естеству не весть приимати — червле-
наго и белаго; таке и человекоугодницы по
злонравию, любве ко всем, червленностию
знаменуемыя, и чистоты, белостию изявля-
емыя, не знают имати»29.
Насколько безобразен, пишет Симеон
Полоцкий, был бы человек, из всех членов
которого сочилась бы кровь, но еще более
отвратителен тот, у которого из глаз течет
кровь зависти и похоти, из языка плывет
ложь, клевета, осуждение, сквернословие, из
рук — лихоимство, хищение, разбой,
убийство. К категории «скаредного» относил
писатель и грубый гедонизм, знаменосцем
которого ошибочно считал «проклятого
Эпикура»30. Безобразное, по мнению
Полоцкого, многолико, но преодолимо: подобно тому
как «скверна плоти» очищается водою, так
«скверна душевная» преодолевается
источником духовным — разумом и любовью.
Высшей нравственной красотой, по
убеждению Симеона, является любовь ко всем
проявлениям бытия. Вселенская любовь —
основание жизни, корень «прекрасных
ветвей» всего мира. На вопрос, кого следует
любить, писатель отвечает: любовь да будет
общая ко всем людям без «всякого взгля-
дания на лице, на достоинство, на красоту,
на богатства, ибо любы на сих основанна,
несть истинная: минувшу бе богатству,
красоте и достоинству, и та абие исчезает»31.
Идеальная любовь распространяется и на
обижающих нас. Здесь, по убеждению
писателя, мы должны учиться у природы.
Земля творит «обиды» небу, помрачая
испарениями его светила, а в ответ получает
благодатный дождь. Люди повсеместно
«обижают» землю — режут ее плугом и
бороною, высекают и жгут деревья,
собирают плоды и т. д., а в ответ получают от нее
еще больше добра и красоты. Любовь
проявляется в бесконечных формах, а
важнейшие из них — благодеяние («милостыня»)
и дружба, без которой невозможно никакое
человеческое общество. Важной
человеческой ценностью, по мнению писателя,
является общинность: «Се что добро, или что
красно <...> еже жити братии вкупе»32.
Совершенная красота — в «смирении
духовном», когда человек «в сердце своем
инаго мнит лучша себе быти»33. Подлинная
же этическая и эстетическая ценность —
318
Часть I. Глава 2
чистая совесть, она «душу украшает, лучше
камней предрагих блистает»34.
Менее пространно, чем прекрасного и
безобразного, касается автор «Обеда
душевного» других эстетических понятий. Так, в
его рассуждениях можно усмотреть
концепцию возвышенного. Возвышенным в
человеческой жизни оказывается прежде всего
героическое самопожертвование ради
высших (родовых, общечеловеческих, народных,
общегосударственных, религиозных и др.)
интересов. Источником героизма является
возвышенная любовь: это она руководила
действиями женщин-мироносиц, идущих
вслед Христу «посреде возмутившегося
народа аки овцы между волками»35. Высокое
в физическом (телесном) отношении,
согласно Симеону, может быть как возвышенным,
так и низменным; и наоборот, физически
низкое — героическим и возвышенным.
Библейский Давид был меньшим среди
своих братьев, но возвысился над ними своей
внутренней силой. Писатель сформулировал
своеобразную антиномию возвышенного:
«Мал бе плотию, но велик духом<...> Мал
бе количеством, но велик разумом<...>
Мало убе телом, но высоко умом»36.
Относительно человеческой жизни она
выражена, по словам писателя, евангелистом Лукой:
«Всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится»
(Евангелие от Луки, 18, 14).
Возгордившийся ангел низринут в Ад — абсолютный
низ в иерархии бытия; Христос же
умалился, принял образ раба — и возвысился до
Небес.
Проблема трагического и комического в
творчестве Симеона Полоцкого
по-настоящему не исследовалась; быть может
потому, что этот писатель, широко используя
понятия прекрасного и безобразного, отчасти
возвышенного и низменного в их различном
проявлении, не называет других
эстетических категорий. Но в своей литературной
практике он не обошел трагических и
комических аспектов человеческой жизни,
исторических событий своего времени. Особенно
примечательны в этом плане его ранние
сатирические поэмы на старопольском языке
«Отчаяние короля шведского», «Король
шведский офицеров своих ищет» (ок.
1657 г.) — талантливые памфлеты,
изображающие авантюристические планы
шведских интервентов в Речи Посполитой. В
других произведениях (комическая
поздравительная декламация «Витание боголюби-
вого епископа Калиста Полоцкого и
Витебского», стихотворение «Лекарство на гже-
хи», оба на старобелорусском языке) ярко
проявилось мастерство поэта-сатирика,
свободно владевшего художественными
средствами народного смеха — гротеском и
травестацией37.
Насытив своих слушателей и читателей
«Обедом душевным», Симеон Полоцкий
зовет их также на «Вечерю душевную». Во
второй своей риторической и
проповеднической книге он развивает эстетические идеи
и концепции, высказанные в первой, и
прежде всего обосновывает
гомоцентрическую концепцию бытия, возникшую в
христианском Средневековье на теологической
почве, а в философии и художественном
творчестве эпохи Ренессанса истолкованную
в духе пантеизма и натурализма. Суть ее в
том, что все ценности мира, в том числе
эстетические, созданы Богом ради человека и
для его духовного совершенствования. Все
на суше, в море, под землей, птицы в
воздухе — и ко всему этому еще и «небо
прекрасное» — все для человека. Для него весь
мир видимый со всеми его сокровищами,
«яко господская некая полата всяких утва-
рей роды, всяческих сладостей, богатств и
красот различием и обилием наполненная
утвердися»38.
Типичный для барочного типа культуры
мировоззренческий компромисс
средневековых и просветительских принципов
проявился в отношении Полоцкого к философской
традиции и прежде всего к античному
«любомудрию». Писатель неоднократно
подчеркивал: «Не гаждаются (не порицаются. —
В. К.) зде тут художества свободные,
Грамматика, Риторика, Философия и прочая»;
они весьма полезны в обществе и
подвигают нас «к духовной премудрости»39. Но есть
два рода философии: философская
«хитрость», т. е. искусство спора и
доказательства, и «духовная философия», т. е.
мудрость — чистота плоти и духа. Можно и
нужно пользоваться «от хитрости философ-
ския», но с учетом того, что «еллинская
философия и вся мира сего мудрость суть су-
319
Книга вторая
етны, немощны и тщетны без премудрости
Божия»40. Крест — символ победы над
смертию и спасения людей — вот, по его
мнению, «земли красота» и «философия
христианская»41.
Во второй книге ораторской прозы
обогащается эстетическая оценочная лексика
писателя: к традиционным для
древнерусской письменности понятиям «красный»,
«украшение» прибавляются понятия «пре-
изяществовать», «велелепно», «благолепие»,
выявляющие своеобразную христианско-гу-
манистическую концепцию единства добра и
красоты, или калокагатию
(благолепие-благо, т. е. добро+лепота, т. е. красота).
Творец создал мир прекрасным, а
«скаредность», безобразное начало привнесено
злой волей человека. Совесть — духовная
красота образно выявляется в телесной
красоте человеческого лица. Во 2-й
половине XVII в. было весьма прогрессивным
делом стремление
Полоцкого-просветителя реабилитировать земную, человеческую
красоту. Тут он иногда переходит на язык
силлабической поэзии, провозглашая:
«Чюжда бо нагость всякия срамоты бяше,
и красота естественная доволнолепотно
сияше, и хладнии ветры плоти досады не
творяху»42.
Широко используется автором «Вечери
душевной» символическое истолкование
чувственно воспринимаемой красоты. Важным
критерием прекрасного у Симеона
является мера — центральная категория античной
и ренессансной эстетики. Она относится у
него к семи важнейшим ценностям, из
которых «три богословские: вера, надежда и
любовь; и четыре главные: разум, истина,
крепость и .мерность»43.
Под «художеством» Симеон понимал
всякую целесообразную человеческую
деятельность, направленную к
усовершенствованию бытия, включая ремесло, изящные
искусства, науку и даже воспитание детей,
т. е. педагогику. Оно, по его убеждению,
«естества скудность исполняет
(восполняет. — В. К.) и во древесах и в человецех:
ибо и на бесплодных древесах благие
плоды изводит (производит. — В. К.), и злых
родителей чада блага творит»44. Под
«искусством» понималось также умение
«честно гражданствовати в мире»45.
Книги «Обед душевный» и «Вечеря
душевная» принадлежат к жанру
традиционной религиозно-дидактической литературы,
и, следовательно, в них представлен
прежде всего свод христианской эстетики.
Гуманистическая тенденция просматривается в
акцентации писателем эстетических,
этических и вообще гуманитарных аспектов
Библии, раннехристианской литературы и
отчасти античной философии. В его книгах
содержатся фрагменты, затрагивающие
вопросы литературы, искусства и критики.
В предисловии к «Обеду душевному»
Симеон предпочитает правду словесному
украшению, необходимость которого также
осознавалась писателем. По его мнению, «удо-
бе простое слово уразумеваемо есть в
писании, неже красотами художественными
покровенное». Тем не менее в своей
ораторской прозе он широко использует весь
известный тогда арсенал литературных тропов
и украшений, достигая характерной для
барокко напряженности стиля. Обращаясь
к возможному критику своего сочинения,
Симеон Полоцкий ждет от него
компетентного и доброжелательного суждения: «Ты,
аще мудростью от Бога украшен еси, испра-
ви любезно, нетщеславно, еже исправлению
достойно»; но если ты сам не знаешь дела,
то не дерзай хулить того, что тебе
недоступно46.
Сам же Симеон был критиком резким и
бескомпромиссным. Обличая «инако
мудрствующего» старообрядческого «попа
Никиту», он восклицает: «Свиния еси,
попирающая бисеры, не зная их цены. Вепр еси
гнусный в церковном вертограде, божествен-
наго Писания прекрасныя и преблагоухан-
ныя цветы терзаяй, не зная их доброты и
потребы»47.
Искусство, прежде всего музыка, по
мнению Симеона, является выражением
возвышенных чувств, особенно религиозных. Его
полемическая книга «Жезл правления»
содержит в себе одно из первых в России
обоснований эстетической и
нравственно-воспитательной ценности музыкальной гармонии
(«согласия органного») и многоголосного
пения. Отвечая староверам, упрекающим
патриарха Никона в том, что он ввел
«пение еллинское <...> согласием органным»,
Полоцкий значительно расширил проблема-
320
Часть I. Глава 2
тику дискуссий, защищая не только
многоголосие, но и право всех народов на
свойственные их традициям музыкальные
стили. «Яко царский вертоград, — писал
он, — многовидными украшается цветы,
тако невеста Христова Церковь
различными чтенми и пенми благолепствуется <...>
Грекове свой имают обычай песнословия;
болгари свой такоже, им же от греков
различествует. Малыя России жители особые
имеют напевы. Наша паки великая Россия
свойственными прославляет Бога воспеванми
<...> И тако в сем разнствии велие есть
единство, и в единстве благолепное разнство
<...>»48. Многообразие стилей в музыке, по
мнению писателя, диктуется ее «этической»
функцией: один строй пения «сердце в
сокрушение приводит», другой «ум от уныния на
молитву освобождает», третий веселит,
четвертый «слезные из очес источники
изводит» и т. д. Великий князь Владимир,
отмечает он, имея в виду версию «Повести
временных лет», принял на Руси греческую
веру «тако за украшение, яко за пресладкое
песнопение». Симеон Полоцкий опровергал
утверждение староверов, будто бы
древнерусское пение не имело ничего общего с
«органным» строением музыки. Он доказывал, что
всякое пение, а тем более многоголосие,
содержит в себе гармонию — «органное
согласие». Следовательно, «всякое пение имать
со органы подобие, занеже всякое пение и
гласы играти могут органы». В
православной церкви нет органов не из-за их
гармонии («согласии различных голосов»), потому
что они «гласы имеют бессловесныя и не-
животныя не живые, точию же хитростью
художник устроенныя». Только приятное,
гармоничное пение полезно в
воспитательных целях.
Народные игры с песнями и плясками
писатель осуждает: они, дескать,
«языческие утехи» и непристойны христианину. Еще
в конце 60-х годов Симеон опубликовал два
поучения («О благоговейном стоянии в
храме» и «О еже не пети бесовских песняй...»),
мотивы которых позже повторил в
«Вечере душевной». Тут наиболее отчетливо
проявилась ограниченность просветителей
XVII в. вообще, не понявших специфики и
духовной глубины народной культуры. В
народных обрядах, плясках и песнях Симеон
видел не красоту, а «мерзость». Впрочем,
надо полагать, речь идет не столько о
личных вкусах писателя, сколько о том каноне
прекрасного и возвышенного, которым он
руководствовался в качестве христианского
учителя, осуждавшего «людие, иже безчин-
ная и безчестная и богомерзская возтавля-
ют скакания, плясания, играния»49. В них
Симеону виделся пережиток язычества, к
тому же небезопасный для здоровья и
жизни участников обряда. «Есть обычай
богомерзкий во странах наших Российских, —
писал он в „Вечере душевной", — во гра-
дех же, в селах, и в весях, яже виселицы
некия поставляти, именуемыя просте рели,
на них же малии и велиции обыкоша колы-
хатися, с великим бедством для здравия
своего, многажды и лишением живота, а
всегда с грехом. Ибо то древле идолослу-
жителие во честь лжебогом своим творяху:
а мы тожде содеваем, аки бога их знающе
и чтуща, еже есть богопротивно, а демону
угодно»50.
Ополчился Симеон Полоцкий и на один
из самых красивых и поэтических народных
праздников — купальские обряды, которые
он наблюдал, по-видимому, в Белоруссии,
о чем свидетельствует ссылка на белорусско-
литовские летописи. «Третий злый нрав, —
писал он, — обретается в православных, яко
в навечерие праздника рождества святаго
Иоанна Предтечи, поганским обычаем огнь
возгнещают, скачют же, и нарицают то свое
торжество Купало. Еже от древних поган во
честь богов их вообычаися, якоже
свидетельствует Матфей Стариковский <...> В то-
иже день нецыи невежды толико
безумствуют, яко и о велицем светиле небесном
суеверие хранити им сицево: преводят всю ночь
в безсонии, и стрегут восходяща солнца, еже
узревше, баснословят играти <...> скакуще
из места на место, и в различныя цветы из-
менятися. Оле безумия! Оле суеверия! От-
куду сие играние солнца прияша: в писаниях
священных не обретается; в преданиях отец
святых не прияхом; философове и звездо-
словцы того не знают; а невелегласи
невежды слышат друг от друга и видят,
воистину то: яко пияну сущу человеку, вся
видятся колесообразно вращатися, за умножения
пар от пития излишнего во главу входящих,
аще вся стоит неподвижно»51.
321
Книга вторая
Впрочем, Симеон осуждал некоторые
явления народной карнавальной культуры за
их связь с языческой мифологией и « поган -
скими» обрядами, не затрагивая их
художественную ценность. Его «обличения» не
касались фольклора вообще. Более того,
некоторые жанры народного творчества
(легенды, пословицы, поговорки) писатель
использовал в своей поэзии, полемической
публицистике и риторической прозе. Мы
уже убедились, что его отношение к
искусству, признающему духовное
руководительство со стороны христианской религии, было
весьма благосклонным; христианской
литературе, архитектуре и музыке он посвятил
целые «хваления» в «виршах» и проповедях.
Сохранились также целые сочинения
(«Слова», «Беседы», стихи), оправдывающие и
восхваляющие иконописание, следовательно,
косвенным образом и в определенной мере
изобразительное искусство вообще. В трех
сочинениях Симеона Полоцкого («Слово
3-е в день перенесения нерукотворного
образа Господа нашего Иисуса Христа от
Едеса», «Слово в день перенесения
святого нерукотворного образа <...> иже есть
убрус» и «Беседа о почитании икон святых»)
содержится теологическое и эстетическое
оправдание церковной живописи и даже
весьма искусная ее апология. Симеон
доказывает божественное происхождение
«образов», используя при этом аргументы
средневековой и ренессансной эстетики. Первый
аргумент сводится к тому, что впервые
икону сотворил Иисус Христос. Вторым
аргументом любили пользоваться философы и
художники эпохи Возрождения, доказывая,
что «первым художником» был сам Бог,
создавший человека «по образу и подобию
своему» и Вселенную как абсолютно
совершенное «произведение искусства».
Симеон Полоцкий продолжал эту
традицию, когда писал: «Творец всякой твари,
сотворивый человека по образу своему и
подобию, сотвори ныне почитаемый всече-
стный Образ по подобию человечества
своего <...>. А яко сотворилесть из ничесого
вселенную, тико без шаров и вап сотвори
сей Образ святый на убрусе. Тамо рече —
и быша, повеле и создашася. Зде
прикоснулся убрусом Лицу своему пресвятому —
и бысть Образ богомужный. Без писания
написася, без красок украсися, кроме
трудов совершися. Совершенный Бог и
совершенный Человек, совершенно краской на-
писа Образ <...> Образом творец первый
есть сам Господь Бог; егда бо сотвори
человека по своему образу и подобию, тогда
сотвори образ»32. В полемике с
иконоборцами Симеон доказывает: языческие идолы
произошли от обоготворения почитаемых
людей (родителей, иных родственников,
царей, полководцев) и естественных сил
природы; святые же иконы отражают в
видимых образах божественные первообразы.
Аргументы Симеона в пользу иконотвор-
чества интересны тем, что они прямо или
косвенно касаются проблем
духовно-эстетического воспитания и восприятия искусства.
Первая польза от икон заключается в том,
что иконы сообщают неграмотным ту
премудрость, которую образованные люди
знают из «Писаний». Но не только простые
люди научаются от икон, «но и всякого чина
людие к любви Божией возбуждаются,
сокрушение сердечное рождается и страх
Божий в сердцах рождается». В этом —
вторая польза от икон. Далее писатель
объясняет сущность следующих четырех «польз»
от икон: они облагораживают людей,
способствуют воспитанию детей, украшают
храмы, исцеляют душевные и телесные
недуги53. Наконец, в «Беседе о почитании икон
святых» он дает четкие ответы на вопросы
о соотношении религиозной пользы икон и их
художественной ценности. «Соизволяю, —
писал Симеон Полоцкий, — яко многи
нелепо пишемые иконы обретаются; но то
бесчестия святым не дает: токмо художничее
неискусство являет. Знаем бо, яко не свя-
тии тако нелепи бяху, но яко художник
лучше не уме или не тщится изобразити. Тем
же и нелепо изображенных икон не почи-
тати не достоит, но точию элохудожество
обхудити подобает»34.
Изложенные выше эстетические взгляды
Симеона Полоцкого могут быть выявлены
также на основе анализа его светских
произведений, главным образом силлабических
виршей. Однако в этих последних
авторские акценты иные: они направлены, как
правило, или на обоснование идеальной,
гармонической и гуманистической системы
общества, или же, наоборот, на раскрытие со-
322
Часть I. Глава 2
циальных противоречий и уродств. Эта
реалистическая тенденция роднит его с ренес-
сансными писателями и мыслителями; в то
же время она сочетается с апологетикой
идеализированной политической системы
тогдашней России.
Для обоснования своей этической и
социально-политической концепции Симеон
довольно часто использует эстетические
аргументы. Он даже вводит традиционные
приемы народной поэтики для прославления
царской семьи, называя царя — солнцем,
царицу — луной, а их детей — звездами55.
С этой же целью насыщает свои
произведения образами античной мифологии,
олицетворяющими солнце, звезды, искусство и
науку и проявляет при этом незаурядное
знание античной культуры, ссылается на
Гомера, Еврипида, Аристотеля, Цицерона,
Виргилия и многих других античных
писателей.
В предисловии к сборнику «Вертоград
многоцветный» Полоцкий специально
оговорился, что его произведения — поэзия, а
не риторика. «Не витийского художества
ухищрением, — писал он, — насажден сей
сад, но пиитического рифмотворения равно-
мерием слогов»36. Тем не менее его стихи
риторичны, в них преобладает не
лирическое самовыражение, а дидактика,
красноречие и философское размышление, часто
внешним образом соединенные с силлабической
стихотворной формой. Писатель стремился
выразить в стихах не столько свое
личностное, субъективное отношение к миру,
сколько всеообщее, субстанциональное
содержание. Эстетическое мировоззрение поэта
далеко не полностью переведено в систему
художественных образов, довольно часто
оно выражено посредством понятий и
суждений, риторических фигур, поучений, притч
и т. д. Этим, по-видимому, объясняется
обилие искусствоведческих и эстетических
терминов, служащих как для
«пиитического украшения», так и для авторского
оценочного отношения к миру.
Источником добра и красоты в природе
Симеон Полоцкий считает прежде всего
солнце, вызывающее к жизни «всякие
плоды земли», а из ее недр — золото и
серебро: «Се, еже благо зде и красно зрится,
солнца то действом в мир изводится»57.
Подобно тому как без «физического солнца»
помрачается земля, так и без истины и
правды — духовной красоты «растлевает
царство». Прекрасное, по убеждению
писателя, присуще всем видам искусства: как без
«красногласия» невозможна поэзия, так и
без красоты образов нет живописи,
зодчества и ваяния. В своих стихах поэт
воспевает эстетические достоинства произведений
искусства. Особенно восхищался он
Коломенским царским дворцом под Москвой —
ярким произведением русского барокко: в
нем он увидел удивительное искусство «пре-
чюдной красоты», дом, «лепо сотворенный»,
богато украшенный чудесными росписями и
даже восьмое чудо мира58. Поэзия для
него — прекрасный сад; философ же
уподобляется им пчеле, собирающей мед
правды и не обращающей внимания на красоту
цветов, которую «мал ветер в ничто
изменяет»59
Поэтическое творчество Симеон
Полоцкий сравнивает с многоцветным садом,
«краснолепным цветением» которого
радуются все твари, светом разума от Бога
украшенные. Поэтическая и вообще
художественная способность дарована Богом «не
единому человеку, не единому селу, граду
или царству», но всем людям, народам и
странам. Это дает поэту уверенность, что
поэтический сад, на выращивание которого
он положил «труд немалый», приживается
и зацветет у славянских народов. «К тым и
того ради, — писал Симеон Полоцкий, —
да рифмотворное писание распространяется
в нашем словенстем книжном языце», как
и у других народов, у которых поэты
пользуются заслуженным почетом и славою.
Считая себя профессиональным писателем,
поэт ждал от своих прозведений не только
«временного возмездия», необходимого «к
довольному пропитанию», но и высшего
вознаграждения за пределами земных «красных
сует и суетных красот»60. А замысел у
писателя был грандиозный: создать целую
поэтическую энциклопедию, которая, как в
зеркале, отразила бы все многообразие
природного и духовно-нравственного бытия. Эта
системосозидательная тенденция заметна как
в структуре его сборников (своего рода
«поэтический алфавит»), так и в их названиях
(«Рифмологион», «Вертоград многоцвет-
323
Книга вторая
ный»). В основе этого стремления к
универсальной полноте было мировоззренческое
сближение художественного и
«божественного» творчества. Для Симеона Полоцкого
Вселенная — это не только произведение
«божественного искусства» (мысль, идущая
от средневековой и ренессансной эстетики),
но и своего рода книга: «Первая книга —
мир сей, в ней же написася, что либо от все-
мощна Господа создася»61. В стихотворении
«Мир есть книга» поэт переводит свое
геоцентрическое представление о мире в образ
книги, пяти листам которой соответствуют
небо, огонь, воздух, вода, наконец, земля «с
древесы, с травами, со крушцы
веществами и с животными, яко с писменами»62.
Симеон Полоцкий признавал не только
эстетическую, но и нравственную ценность
искусства, не раз подчеркивал катарсичес-
кую функцию музыки, поэзии и всех
эстетических ценностей. Его концепция
художественного воспитания представляет собой
своеобразный синтез античных, в частности
пифагорейских, идей о «врачевании»
посредством музыки со
ередневеково-теологическими представлениями о ней как оружии
против грехов и дьявольских искушений.
Поэзия, по его мнению, являясь приятным
украшением Богу и людям, врачует душу и
наполняет ее веселием, укрощает страсти,
укрепляет «изящнейшую силу душевную».
Посредством искусства происходит
вытеснение отрицательных аффектов
позитивными нравственными чувствами: у знатного и
богатого гордость сменяется смирением,
сребролюбие — благорасточением,
скупость — подаянием. «Обрящет худородный
и нищий своим недугом целебная: роптан-
мю терпение, татбе трудолюбие, зависти
тленных презрение. Обрящет неправду
творящий врачебное недугу си былие: правды
творение; гневливец — кротость и
прощение удобное; ленивец — бодрость;
глупец — мудрость; невежда — разум; усум-
ляющийся в вере — утверждение; отчаян-
ник — надежду; ненавистник — любовь;
продерзивый — страх; сквернословец —
языка обуздание; блудник — чистоту и
плоти умерщвление; пияница — воздержание.
И всякими иными недуги одержимии обря-
щут по своей нужде полезная былия и
цветы»63.
Мысль Симеона о воспитательном
значении искусства прямо перекликается с
панегириком белорусского гуманиста и
первопечатника Франциска Скорины по адресу
псалмов, врачующих человеческую душу. Не
случайно наш поэт «стихотворил»
Псалтырь — перевел в системы славянских
силлабических стихов, считая их лучшим
украшением как церковной службы, так и
светской кантовой музыки. Три обстоятельства
натолкнули писателя на этот нелегкий и
новаторский по тому времени труд: польская
стихотворная Псалтырь Яна Кохановского;
свидетельства «мужей умудренных добре
еллинским книгам изученных», что
первоначально псалмы написаны «художеством
стихотворения»; наконец, популярность на
Белой и Великой Руси «сладкого и
согласного» псалмопения. Немаловажны
эстетические и художественные мотивы перевода:
пение псалмов, по убеждению писателя,
«душ наших скверну омывает» и украшает,
оно «старых утеха, юных крашение»64. По
мнению И. П. Еремина, в этом переводе
Симеон использовал едва ли не все
размеры силлабического стихосложения —
краткий шестистопник, громоздкий четырнадца-
тистопник, образцы сапфического и
леонинского стиха.
Библейская книга Псалтырь сама по себе
богата эстетическими фрагментами; в
стихотворном переводе Симеона Полоцкого она
еще больше обогатилась в этом отношении.
Здесь поэт выступает последователем ренес-
сансных традиций Франциска Скорины,
видевшего в Псалтыри совершенное
произведение искусства. Чтобы убедиться в этом,
сопоставим стихотворную Псалтырь
Симеона с оригиналом, поставив вначале
канонические старославянский и русский тексты, а
затем соответствующие силлабические
стихи поэта. (Эстетические понятия, не
содержащиеся в канонических текстах
Псалтыри, привнесенные в стихотворном варианте
поэтом, выделены курсивом. — В. К.)
«Великолепие твое превыше небес. —
Величественно имя твое по всей земле! — Ибо
лепота твоя вознесеся выше небесе65.
Положил еси на главе его венец от камене
честна. — Возложил на голову его венец из
чистого золота. — От Тебе венцем глава
честным украсися66. Дщери царей в чести
324
Часть I. Глава 2
твоей; предста царица одесную тебе, в
ризах позлащенных одеяна преиспещрена. —
Дочери царей между почетными у Тебя;
стала царица одесную Тебя в золоте. — Вся
слава дщере царей внутрь держится,
златыми рясны вне уду красится. Сице красная
тебе приведенна, царю невеста дивне упещ-
ренна67. И угодно будет Богу паче телца
юна, роги износяща и познокти. — И
будет это благоугодно Господу, нежели вол,
нежели телец с рогами и копытами. — И
угодно то будет сердцу щедра Бога паче ног-
ты ростяща телца краснорога68. Утро яко
трава мимо идет, утро процветет и прейдет: на
вечер отпадает, ожестеет и иссохнет. — Как
сон, как трава, которая утром вырастает,
утром цветет и зеленеет, вечером подсекается
и засыхает. — Яко трава, утро красно
прозябает: таже цветет, на вечер, падши, изсы-
хает69. Исповедание и красота пред Ним,
святыня и великолепие во стиле Его <...>
Возрадуются поля и вся, иже на них. —
Слава и величие пред лицем Его, сила и
великолепие во святилище Его <...> Да радуется
поле и все, что на нем. — Красота, честь
пред Ним яве, дом Его леп, свет и в славе
<...> Поля красна да смеются, и вся иже в
них пасутся»70.
Таким образом, Псалтырь под пером
поэта получила более яркую эстетическую
выразительность. Высокая оценка
эстетических и художественных ценностей роднит
Симеона Полоцкого с писателями эпохи
Ренессанса. Однако у него еще сильны
средневековые традиции. Франциск Скори-
на именовал себя избранным, ученым мужем
из славного города Полоцка. Через
полтора столетия его земляк подписывался более
чем скромно: «Смиренный рифмотворец,
многогрешный иеромонах Симеон
Полоцкий». В культуре славянского барокко
личностное начало сохранилось, однако
стилевые и отчасти содержательные акценты
сменились с индивидуального
самовыражения на всеобщее и субстанциональное
содержание.
Важное место в эстетических взглядах
писателя заняла новая, синтезирующая
теория перевода, обоснованная им в «Жезле
правления», предисловиях к «Вертограду
многоцветному» и «Рифмологиону», в
программных стихотворениях. Ее сущность он
стремился выразить в понятиях «праобра-
за», под которым в данном случае понимал
значение и смысл оригинала, и «образа»,
отражающего первообраз в знаковой и
семантической системе иноязыка: «Образ той
прототпу своему или первообразному бла-
гоуподобляется, иже во всех частех ему
ответствует. Сказатель же, или преводитель
странного иностранного языка сей есть
верный, иже разум и речение (т. е. смысл и его
выражение. — В. К.) преводит неложно,
ничесоже оставляя»71. Здесь взгляды
Симеона явно перекликаются с концепцией
перевода эллинистических авторов (особенно
Цицерона) и теоретиков литературы эпохи
Ренессанса. В Древней Руси эту позицию
отстаивал Максим Грек.
Симеон Полоцкий отчетливо осознал и
выразил смысл светской поэзии,
отличающейся по существу и функционально от
библейских стихов: если последние «святи суть,
яко в псалмех двоестишия», то первая
«меряется известным слогов числом», то есть
рассматривается как упорядоченная мерою
речь72. Это уже была эстетическая
концепция стиха, служащего не только для
познания и воспитания, но и доставляющего
наслаждение («утеху») своим «краегласием»
и «лагоднением». Мера стала основным их
критерием. Свой сборник «Рифмологион»
поэт определяет как «стихи равномерно и
краегласно сложенные». Ради меры он
позволил себе вольный перевод Псалтыри,
объявив об этом в программном
стихотворении: «Тем не дивися, видя ино слово, —
// розум един есть, речение ново //
светлости ради ли за нужду мери: // толк
отверзает всих сокровищ двери»73.
Барочный тип культуры проявился в
различных компонентах творчества Симеона
Полоцкого ■— в мировоззрении, в
содержании и стиле его произведений. Его
литературное наследство занимает особое место в
истории художественной культуры
восточнославянских народов. Писатель стремился
синтезировать средневековые и ренессанс-
ные ценности и в соответствии с этой
тенденцией объединить силлабическую
систему стихосложения с традиционной
славянской просодией, относительно которой уже
имелись теоретические обобщения в курсах
грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия
325
Книга вторая
Смотрицкого. Его поэтика, основанная на
неударном вокализме (отчетливое
произношение слогов нараспев, слабая акцентация
ударных гласных и др.), составляла ее
традиционный элемент, своего рода
«средневековый субстрат»; на ней поэт стремился
вырастить «многоцветный сад»
новоевропейской поэзии. Эта тенденция проявилась,
между прочим, в разнообразии поэтических
жанров, начиная от традиционных од,
декламаций, эпиграмм и кончая
трагикомедией и пасторалью. Барочная стилевая
изощренность поэзии Симеона просматривается
как в известной вычурности поэтических
тропов, так и в попытках перенести на
славянскую почву живописную «графическую»
поэтику (стихотворения в форме ромба,
пирамиды, звезды, сердца, граничащие с
ребусами акростихи).
Свойственный для культуры барокко ми-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
М.; Л., 1953. С. 218.
2 Симеон Полоцкий. Жезл правления. Изд.
2-е. М., 1753. Л. 1.
3 Там же. Л. 4об.
4 Там же. Л. 51.
5 Симеон Полоцкий. Обед душевный. М.,
1981. Л. 285 — 285об.
6 Там же. Л. 275.
7 Там же. Л. 1 — 2об.
8 Симеон Полоцкий. Обед душевный.
Л. 278.
9 Там же. Л. 284.
ю Там же. Л. 413.
» Там же. Л. 285 — 286.
12 Там же. Л. 302.
13 Там же. Л. 287.
14 Там же. Л. 493об.
15 Симеон Полоцкий. Избранные
произведения. М.; Л., 1953. С. 133.
16 Из истории философской и общественно-
политической мысли Белоруссии. Минск, 1962.
С. 247.
17 Симеон Полоцкий. Обед душевный.
Л. 257.
18 Там же. Л. 383об.
19 Там же. Л. 219.
20 Там же. Л. 421об.
21 Там же. Л. 589об.
22 Там же. Л. 219об.
ровоззренческий компромисс между
средневековым христианским спиритуализмом и
ренессансным пантеизмом, тяготение к
«внешней» философии природы и общества
неодинаково проявились в церковно-оратор-
ской прозе Симеона Полоцкого и в его
светской поэзии. В последней более очевидны
традиции ренессансного эстетизма,
выразившиеся в тенденции утвердить
профессионализм и автономность художественного
творчества. В отечественную литературу он
вошел как поэт разума, соразмерности, меры.
Разум, понимаемый как рациональное
начало, является в системе его эстетики
необходимым условием создания и восприятия
искусства.
Симеон Полоцкий утверждал
профессионализм литературного творчества, видел в
нем общественное служение и труд, равный
другим видам человеческой деятельности.
23 Там же. Л. 637 — 637об.
24 Там же. Л. 231 — 232.
25 Там же. Л. 443.
26 Там же. Л. 447.
27 Там же. Л. 15.
28 Там же. Л. 198.
29 Там же. Л. 327.
30 Там же. Л. 355об.
31 Там же. Л. 291 — 293.
32 Там же. Л. 292.
33 Там же. Л. 625.
34 Из истории философской и общественно-
политической мысли Белоруссии. С. 252.
35 Симеон Полоцкий. Обед душевный. Л. 32.
36 Там же. Л. 506об. — 507.
37 Симеон Полоцкий. Вирши. Сост., подгот.
текстов, вступ. ст. и коммент. В. К. Былинина,
Л. У. Звонаревой. Минск, 1990. С. 42 — 45,
85 — 86, 198 — 215.
38 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. М.,
1683. Л., 16об.
39 Там же. Л. 234, 243.
40 Там же. Л. 104.
41 Там же. Л. 47 — 48.
« Там же. Л. 411об. — 412.
43 Там же. Л. 32об.
44 Там же. Л. 21.
45 Там же. Л. 510.
46 Симеон Полоцкий. Обед душевный. Л. 8.
47 Симеон Полоцкий. Жезл правления. Л. 14об.
326
Часть I. Глава 2
48 Там же. Л. 74.
49 Симеон Полоцкий. Два поучения. 1. О
благоговейном стоянии в храме. 2. О еже не пети
бесовских песней. [Около 1668 г. ]. Л. 15.
50 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная.
Л. 563об. — 564.
51 Там же. Л. 566 — 566об.
52 Там же. Л. 478 — 479.
53 Там же. Л. 506 — 509об.
54 Былинин В. В. К вопросу о полемике
вокруг русского иконописания во второй
половине XVII в.: «Беседа о почитании икон святых»
Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. Т. 37. Л.,
1985. С. 287 — 288.
55 Симеон Полоцкий. Орел Российский.
СПб., 1915. С. 9, 26, 100.
56 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
М., 1953. С. 207 — 208.
57 Там же. С. 124.
58 Там же. С. 101 — 104.
59 Там же. С. 71.
60 Там же. С. 206, 208.
61 Симеон Полоцкий. Вирши. С. 366.
62 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
С. 257 — 258.
63 Там же. С. 207.
64 Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах.
М., 1680. Л. 1 — 8об.
65 Там же. Л. 5.
66 Там же. Л. 14.
67 Там же. Л. 37.
68 Там же. Л. 59.
69 Там же. Л. 77.
70 Там же. Л. 87.
71 Симеон Полоцкий. Жезл правления.
Л. 56.
72 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
С. 104.
73 Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах.
Л. боб.
Глава 3
Юрий Крижанич
г
х^ущественныи вклад
в развитие эстетической теории в России
2-й половины XVII в. внесли иностранные
ученые, мыслители, деятели культуры,
литераторы, в большом числе приезжавшие в
это время в Москву и поступавшие на
государеву службу. Здесь были и поляки, и
греки, и немцы, и южные и западные
славяне, и представители других народов. Для
развития эстетики особое значение имела
научная деятельность в России хорвата
Юрия Крижанича и молдаванина Николая
Милеску Спафария. Оба они получили
прекрасное европейское образование
(первый — в Загребе и Италии, второй — в
Константинополе и Италии), хорошо
ориентировались в западноевропейской культуре
того времени, прибыли в Россию
(Крижанич — в 1659 г., Спафарий — в 1671 г.)
уже в зрелом возрасте и активно
поработали на благо русской культуры1. Судьбы
их в России сложились, однако,
по-разному.
Крижанич ехал сюда с грандиозной
идеей создания единого
культурно-политического объединения всех славян на основе
России, имеющего единый «всеславянский»
язык, один из вариантов которого был
создан самим Крижаничем. Русскому
государю он предложил широкую программу
культурных мероприятий, которые мог бы и
возглавить; среди них написание подробной
истории славян и Руси, издание русской
грамматики, перевод неизвестных в России
книг, создание научной библиографии
царской библиотеки, написание сочинений
против ересей и целый ряд других начинаний2.
Столь активная деятельность иностранца,
прибывшего из католической Италии,
видимо, пришлась не по вкусу при-российском
дворе, и теоретик панславизма уже в 1661 г.
был отправлен подальше «от греха» — в
сибирскую ссылку, где он на досуге смог
изложить все свои идеи в целом ряде
фундаментальных сочинений3, большинство из
которых было написано на «крижанике» —
языке его собственного изобретения. В
Тобольске он прожил до 1676 г.
Юрий Крижанич, видевший в России
главный оплот славянства и мечтавший
создать на ее основе мощное государство
славян с культурой, ни в чем не уступавшей
западноевропейской, резко критиковал в
России все то, что не отвечало его
представлениям о таком идеальном государстве с
идеальной культурой.
Интересно, что основные эстетические
суждения хорватского мыслителя,
творившего в сибирской ссылке, были включены им
в сочинение «Политика» и большей частью
в раздел «О мудрости». Уже этот чисто
композиционый момент свидетельствует о
том, что Крижанич придавал большое
значение социальному аспекту эстетического и
стремился не забыть о нем в своей
всеобъемлющей теории идеального государства
славян.
Эстетические реалии России XVII в.,
однако, мало вдохновляли первого
«славянофила», прожившего долгие годы в Западной
Европе, и он подверг их острому
критическому анализу.
Красота, по мнению Крижанича, —
выражение мудрости, именно поэтому он
уделяет ей столь пристальное внимание.
Особенно значимой для него была красота
человека, как природная, так и искусственная,
то есть внешний облик, который люди
придают себе сами. «Красивое лицо — признак
острого и хорошего ума, а грубое лицо —
признак тупого ума. Насколько
какой-нибудь народ превосходит [других] красотой,
настолько же превосходит [их] и мудростью.
Однако еще лучший признак —
многообразие красоты»4. Есть народы красивые, но
все представители их как бы на одно лицо.
Такая однообразная красота не
свидетельствует, по мнению Крижанича, о большой
мудрости этих народов. Славяне занимают
среднее положение среди других народов по
красоте, а следовательно, и по мудрости и
силе. Греки, итальянцы, испанцы,
французы, немцы в целом красивее славян, а
татары, цыгане, мавры, индийцы, эфиопы,
арабы — безобразнее (464 — 465).
С точки зрения историка эстетики, важен,
конечно, не очевидный субъективизм этих
суждений, а стремление осмыслить вне-
328
Часть I. Глава 3
шнюю, природную красоту как выражение
ума, мудрости, и притом не Божественной,
что было характерно для неоплатонизма и
средневекового христианства, а собственно
человеческой — того или иного конкретного
человека или народа в целом. Перед нами
одна из первых попыток в славянской
культуре (на русской почве)
материалистического осмысления красоты.
Подобным же образом рассуждал Крижа-
нич и о красоте и совершенстве языка,
которые представлялись ему едва ли не
главными признаками мудрости. «Чем лучше
язык какого-либо народа, тем успешнее и
удачнее занимается он ремеслами и
разными искусствами и промыслами» (466).
Самым богатым и совершенным он считал
немецкий язык; поэтому неудивительно,
заключает автор, «что немцы превосходят в
искусствах (umitelech) все народы» (там
же). Славянский язык, напротив,
представлялся Крижаничу по сравнению с
европейскими языками бедным и несовершенным.
«Не вижу я в нем ничего, что было бы
достойно похвалы, настолько он скуден,
несовершенен, свистящ или неприятен на слух,
испорчен, необработан и во всех
отношениях беден» (466). Вследствие этих
недостатков славянской речи и, напротив, красоты,
величия и богатства некоторых других
языков, «мы, славяне, рядом с иными
народами — словно немой человек на пиру. Ибо мы
не способны ни к каким более благородным
замыслам, никаких государственных либо
иных мудрых разговоров вести не можем»
(467). Многие славяне, изучив другие
языки, стесняются даже своего славянского
происхождения.
Сформулировав крайне интересную в
культурно-историческом плане мысль о
выражении мудрости народа в красоте и
совершенстве его языка, Крижанич пытается
сделать из нее и практические выводы.
Славянский язык надо усовершенствовать,
полагает он, что приведет и к повышению уровня
мудрости славян. Он сам предпринимает
такую утопическую попытку. Его «Политика»
как раз и написана на этом
«усовершенствованном» им искусственном славянском язы-
ке-крижанике (своего рода славянском
эсперанто XVII в.), в основу которого
Крижанич положил церковнославянский,
разговорный русский и литературный хорватский
языки (698).
Особенно огорчали автора «Политики»
внешний вид современных ему русских
людей, их отношение к одежде, так сказать,
русская мода XVII в. Этим вопросам он
посвящает целые главы в своем сочинении,
делая сильный акцент на социальной
значимости моды.
Так, внешний вид воина, полагал он, не-
посредствено связан с его боевым духом,
поведением на поле брани и сильнейшим
образом влияет на исход сражения. «Одной
из главных причин малодушия воинов
является мерзкий и непристойный вид волос,
бороды и одежды» (442). Напротив, у
воинов с красиво постриженными волосами и
бородами, в красивой и удобной одежде
существенно повышается мнение о самих себе,
они воодушевляются и активнее ведут
сражение. Облик русских воинов не
отличается красотой и воинской выправкой. Он
свидетельствует не о мужестве и ловкости, а об
их рабском подневольном положении.
«Наши воины, — пишет Крижанич, —
ходят, стянутые тесными платиями, будто бы
их запихали в мех и зашили [в нем],
головы у них голые, как у телят, бороды
запущены, и [они] кажутся более похожими на
лесных дикарей, нежели на ловких и
храбрых воинов» (там же).
Особенно возмущает славянского
мыслителя стрижка наших воинов (он имеет,
вероятно, в виду казаков). В этом мы почему-то
подражаем варварским народам — татарам
и туркам, негодует он, а не «благороднейшим
европейцам». Как дерево без листвы
выглядит зимой жалким и некрасивым, так и
воин без волос. По убеждению Крижани-
ча, он должен иметь «не по-женски
пышные, а пристойно убранные волосы» и быть
одет «в платье разумного покроя» (442). Во
всем следует избегать крайностей. Мера и
целесообразность — свидетельства
благоразумия. Красивой и удобной для воинов,
по Крижаничу, была бы стрижка валахов,
у которых волосы доходят примерно до
середины ушей. Не одобряет в связи с этим
он и причесок некоторых немцев, которые
отпускают волосы до плеч и ниже и
вплетают в них шелк. «Это уже распущенность
и излишество. Хорошо то, что не чрезмер-
329
Книга вторая
но и не слишком скудно. Хороша
середина, а недостаток и излишество зло» (443).
Бороды поэтому надо стричь ножницами,
согласуя форму с лицом, но без
вычурности и не брить их наголо, чтобы не
уподобляться женщинам (444).
Сильное возмущение знатока
западноевропейской моды вызывают одежды русских
людей XVII в., их нецелесообразный
покрой, их антиэстетизм.
Мех соболя ценится за его красоту.
Многие иностранцы используют его на шапках
и воротниках снаружи для украшения. «А
русские люди, даже низшего сословия,
подбивают соболями целые шапки и целые
шубы, но так неудачно, что снаружи
ничего не видно, и таким образом они делают
большие расходы совершенно всуе,
поскольку эта отделка остается скрытой и нисколько
их не красит» (469).
Еще более нелепым представляется Кри-
жаничу обычай даже «черным людям» и
крестьянкам носить под верхней одеждой
рубахи, шитые золотом и жемчугом,
которые никому не видны.
Безобразным кажется теоретику новой
славянской культуры и покрой русских
одежд, как мужских, так и женских, их
облегающий характер. Свободное, просторное
платье «прибавляет человеку чести и
достоинства», а в облегающей одежде он
выглядит слабым и незначительным. Она
подчеркивает все его телесные недостатки,
физические изъяны и в целом делает его
некрасивым. Свободное и в меру нарядное платье
усиливает природную красоту человека,
скрывая его недостатки (470 — 471).
Одежда, полагает Крижанич, должна быть
в меру просторной, легкой, удобной,
дешевой и долговечной, то есть практичной и
красивой.
И все это определяется разумным
покроем — «только покрой одежды — главная
причина, которая делает платье красивым,
нарядным, изящным, дешевым, достойным
и для всего удобным. А мы из-за
негодного, неумелого, уродливого покроя бываем
вынуждены во всяких самых дорогих и в
совершенно женских украшениях искать
красоты и нарядности» (472).
Крижанич, как столетием раньше
митрополит Даниил, имеет здесь в виду
чрезмерную любовь мужчин к украшению одежды
золотым шитьем, жемчугами и другими
драгоценностями, но, в отличие от
московского иерарха XVI в., видит причину этой
любви в плохом покрое одежды. Практицизм и
эстетизм идут у хорватского мыслителя рука
об руку. Женские украшения, считает он,
уродуют мужчин, они к тому же и очень
дороги. Крижанич удивляется
непрактичности русских, которые все благосостояние
страны перевели на чрезмерные украшения,
бессмысленную роскошь быта.
Мы платим европейцам, сокрушается он,
огромные деньги за дорогие материи и
украшения и не желаем даром научиться у них
правильному покрою одежды, от которого
более всего зависит красота. Иностранцы
же, которые и без того лицом и телом
красивее нас, «любят такой строй [одежды],
который сам по себе (без искусственных
украшений) придает красоту и достоинство.
А мы, коим гораздо более нужны
добавочные средства для сокрытия грубости
нашего облика, любим одежду, которая без
искусных и дорогих украшений никуда не
годится» (472 — 473). В общем, хуже,
смешнее, дороже и непрактичнее одежды,
чем «носят ныне на Руси», придумать
невозможно — таков беспощадный и обидный
для русских современников приговор Кри-
жанича, прозвучавший из глухой сибирской
ссылки (475).
Это был приговор целому, достаточно
широкому пласту русского позднесредневе-
кового эстетического сознания. Тогда он
практически не был услышан Русью, и
только Петр своей железной рукой и
несгибаемой волей привел его в исполнение; правда,
в несколько иной форме, но суть осталась та же.
Итак, Крижанич одним из первых
принес в Россию XVII в. идеи новой
эстетики — чисто земной, основанной на
принципах рациональности, целесообразности,
меры; эстетики, встающей на научные
основания. Эта эстетика не искала
божественной» умонепостигаемой красоты, которой
жило Средневековье; но ее идеям оказались
чуждыми и фольклорные традиции пестрой
многоцветной ярмарочной культуры
народной Руси. Постренессансный практицизм и
рационализм питали эту эстетику своим
холодным прагматическим духом, и его она
330
Часть I. Глава 3
пыталась утвердить в заснеженной, но
кипящей страстями с ее буйством красок и
«бесполезной» роскошью России,
совершенно не готовой еще к его восприятию.
Как раз то, что так рьяно и зло
критиковал Крижанич с позиций
западноевропейского практицизма в русской бытовой
эстетике — пестрота, яркость, чрезмерное
украшательство, роскошь при полном
отсутствии практичности и целесообразности, —
составляло одно из проявлений нового, но
специфически русского эстетического
сознания. Именно — его мирского начала,
освобождающегося от многовековой опеки
Церкви, но еще не вкусившего от древа
западноевропейской цивилизации.
Для древнерусского эстетического
сознания характерен культ вещи самой по себе,
во всей ее самоценности, осязаемой
материальности, физической красоте, включающей
яркую многоцветность, уникальность
формы, фактуру материала, наконец, в ее
большой стоимости. Вещь в этот период как бы
вычленилась из общей гармонии
универсума, зажила самостоятельной жизнью, обрела
самостоятельную эстетическую ценность.
Внешняя красота вещи вышла на первый
план, и упоенные ее самоценностью люди
XVII столетия воздали ей должное, за что
и получили отповедь теоретика славянской
«Политики», духовного предтечи того, кто
вскоре «Россию поднял на дыбы».
К эстетической проблематике Юрий
Крижанич обращался не только в
«Политике», но и в некоторых других
сочинениях. Например, в «Беседе о суеверии» он,
полемизируя со староверами, отстаивает идею
закономерности совершенствования
церковного пения5. Наиболее полно свою теорию
музыкальной эстетики Крижанич развил в
трактате «De musica narratio», написанным
им в Тобольске по-латыни6. Как известно,
Юрий имел хорошее музыкальное
образование, еще до приезда в Россию он
опубликовал несколько музыковедческих трудов,
служил капелланом в церкви Св. Джирола-
мо в Риме. Он хорошо знал
западноевропейскую музыку и музыкальную теорию
того времени, а в России познакомился и с
русским церковным пением, народной
музыкой. Все эти знания он подытожил в
своем сибирском трактате, написанном в
качестве части большого теоретического
труда, в котором он разрабатывал научные
принципы организации и управления
Русским государством7. В трактате, как
отмечают его издатели, «наиболее полно и
последовательно сформулирована концепция
„мусикийского художества",
обосновывающая новую музыкальную практику8,
поэтому для истории эстетики он представляет
особый интерес.
«Повествование» Крижанича имеет два
принципиальных отличия от известного в то
время трактата Николая Дилецкого «Му-
сикийская грамматика»9. Во-первых, оно
носит чисто теоретический характер, а не
учебно-практический, в отличие от
трактата. Во-вторых, его автор рассуждает об
исполняемой музыке вообще, в то время как
Коренев и Дилецкий, хотя и признавали
инструментальную музыку, свой учебник
посвятили певческому искусству как
единственно признанной в России того
времени музыке. Интересна в этом плане
оговорка Дилецкого. Подчеркивая, что он пишет
не об инструментальной музыке, а о пении
(«всячески о пении и слове мусикийском
поучение пишу»), добавляет, что и для нее
(«играний мусикийских») книга эта может
быть полезна («и сия от издания сего мо-
жеши ведати изрядне и нетрудно»)10. Тем
не менее акцент сделан на певческом
искусстве. У хорватского ученого этого уже нет.
В его «повествовании о музыке» мы
имеем более обобщенный уровень понимания
музыки.
Крижанич начинает с традиционного
вопроса: что есть музыка? и лаконичного
ответа: «Музыка — это искусно
произведенные звуки, способные доставить
наслаждение» (387). И далее развивает этот
гедонистически-эстетический аспект музыки.
Главное ее назначение он видит в наслаждении
(ad delectationem), увеселении и
развлечении. Она усыпляет разум, и человек под ее
влиянием забывает о серьезных делах.
Музыка, а этим термином Крижанич
обозначает как инструментальную, так и
вокальную музыку, не способна возбудить
серьезных отрицательных эмоций —
чувства печали, скорби, вызвать слезы, т. к.
«всякая музыка доставляет наслаждение, а
наслаждение не способствует истинной скор-
331
Книга вторая
би» (387 — 388). Крижанич здесь как бы
полемизирует с европейскими теоретиками
музыкальной теории аффектов,
существенно сужая границы музыки до
положительных эмоций и определяя таким образом
более четко свое понимание эстетического.
Выражение сильной скорби лишено
музыкального ритма. При умеренной или
искусственной печали, например у
профессиональных плакальщиц, пение приобретает
музыкальный ритм, но оно служит не для
того, чтобы усилить скорбь, а, напротив, для
утешения. Печальные песни, как и трагедии
известных поэтов, вызывают у людей
сострадание и даже слезы, однако «такое
сострадание не печалит, а скорее доставляет
наслаждение» (388).
Юрий Крижанич, пожалуй, первым из
юго-восточных славян так ясно осознал
собственно эстетический смысл и музыки и
трагического. Ему помогла в этом его
огромная эрудиция. Даже в Сибири, где он вряд
ли имел под рукой все необходимые книги,
хотя ему было позволено взять туда свою
большую библиотеку, он постоянно цитирует
или пересказывает античных авторов —
Цицерона, Овидия, Пифагора, Платона и
других.
Свое понимание музыки автор
разрабатывает, опираясь прежде всего на античное
наследие, но воспринятое очень критически.
Теорию Пифагора о целебной силе
музыки он считает суеверием; высмеивает и идеи
Платона о сдерживающей силе музыки. По
его убеждению, музыка может возбуждать
страсти, но никак не обуздывать их, т. к. ее
главная цель — наслаждение и увеселение
(388).
Крижанич настолько абсолютизирует
гедонистический аспект музыки, что
отказывается считать музыкой ту, которая не
доставляет наслаждения (389).
Согласен с Платоном хорватский
мыслитель только в том, что музыка оказывает
воздействие на нравы людей, и поэтому при
управлении государством необходимо строго
следить за исполняемой народом и для
народа музыкой (389).
В древности греки сильнее других
народов пристрастились к музыке, ибо
обладали особым слухом и музыкальным талантом,
«а язык их был более всего пригоден для
всякого рода пения» (389). Они ничего не
знали о будущей жизни и поэтому
стремились только к «здешним наслаждениям»,
находя их в бесконечных праздниках, вине,
плясках и пении. Жизнь греков
представлялась поэтому теоретику панславизма
«распутной и легкомысленной» (392).
Получивший прекрасное музыкальное
образование в Италии, Крижанич плохо
воспринимал народную музыку. Песни
сербов и хорватов, которые он слышал в
детстве, представляются ему, познавшему
премудрости контрпункта и написавшему
несколько музыкальных трактатов еще до
приезда в Россию, нескладными, сложенными
без соблюдения музыкальных и поэтических
правил (392).
Рассмотрев многообразные формы и
способы использования музыки разными
народами, Крижанич в традициях строго
научного мышления Нового времени
классифицирует их по 15 разрядам, среди которых
основные места занимают развлекательные
и церемониальные жанры (393). С той же
пунктуальностью классифицирует он и
музыкальные инструменты.
Вслед за общим, эстетическим, сказали
бы мы, разделом в трактате следуют
четыре главы, посвященные четырем
музыковедческим вопросам: 1. Следует ли
использовать музыку в церковной службе? 2.
Почему музыка разных народов столь различна?
3. Как использовать музыку вне Церкви?
4. О деревянных духовых инструментах.
Последняя глава полностью
компилятивна. Крижанич составил ее из цитат
польского филолога Г. Кнапского и итальянского
музыковеда Джованни Батисто Дони.
Хорватский мыслитель высоко ценил
деревянные инструменты, особенно флейту, за их
близость к человеческому голосу и красоту
звучания. Созвучная игра деревянных
духовых инструментов, по его мнению, в высшей
степени способствовала общественным
делам, поэтому он и уделил им специальную
главу в своем трактате, использовав,
правда, идеи других авторов.
Обратившись к проблемам церковной
музыки, Крижанич излагает ее историю,
начиная с библейских времен. Он, в
частности, сообщает, что в греческой Церкви
последних веков существования Византии
332
Часть I. Глава 3
было широко распространено красивое
многоголосное пение. Хорошо знает Крижанич
и историю развития музыки в Западной
Европе.
Исходя из своих представлений о
музыке, он не одобряет использования излишне
красивой, особенно инструментальной
музыки в Церкви, т. к. считает, что музыка все-
таки мало способствует главной задаче
Церкви — приобщению человека к Богу. Особо
порицает автор распространившийся на
Западе обычай исполнения в храмах
«легкомысленных и неподобающих мелодий»
(396). В православной Церкви он не
одобряет излишнюю заботу некоторых певцов и
священнослужителей о красоте пения. По
его мнению, «суетная легкость и сладость»
музыки мало приличествуют «Слову Бо-
жию», а певцы, уделяющие особое
внимание красоте пения, забывают часто о том,
что они поют. В этот же грех впадают и
слушатели красивой музыки.
По мнению Крижанича, «искусство и
красота (ars et suavitas) музыки
заключаются в трех вещах»: в мелодии, гармонии и
ритме. Мелодия возникает в самом пении
или игре на одном инструменте, когда
низкие и высокие звуки перемежаются
«согласно законам соразмерности и искусства»
(secundum proportionem et artem); гармония
(consonantia) — это «когда в двух или
нескольких одновременно звучащих голосах
(или инструментах) согласуются различные
созвучные тона»; а ритм (ritmus) состоит в
соответствующем чередовании долгих и
коротких звуков (375). Те, кто стремится к
истинной духовности, отказываются в
Церкви ото всех этих составляющих « сладко-
пения». В частности, «капуцины
рецитируют без всякой мелодии, без гармонии и без
ритма. Все слова они поют на один тон»
(398).
Высказав свое личное отношение к
использованию музыки в Церкви, Крижанич
не абсолютизирует его, а стремится
объективно, в духе научных традиций XVII в., и
даже в чем-то предвосхищая просветителей
XVIII в., осмыслить исторически
сложившуюся ситуацию с церковной музыкой. В
одних регионах широко используется
прекрасная вокальная и инструментальная
музыка, в других — только вокальная, в
третьих — музыку почти не применяют при
богослужении. Точка зрения Крижанича
рациональна: каждый регион должен
следовать своим установившимся традициям.
«Музыка входит в число того, чем можно
пользоваться и во благо, и во зло (впрочем,
гораздо легче во зло). Это же относится к
вину, торговле, женщинам, власти и так
далее» (398). Поэтому те, кто привык
использовать музыку в Церкви, считая ее
полезной, не должен от нее отказываться, а
тем, у кого ее нет, не следует об этом
жалеть.
Есть веские причины, по которым музыка
была введена в Церковь, и есть не менее
веские основания для отказа от музыки в
культовой практике. Среди первых
Крижанич называет следующие:
1. Моисей и Давид ввели музыку в
храмах, чтобы отвратить иудеев от языческих
культов, также сопровождавшихся музыкой.
2. Святые отцы узаконили пение для
«слабых людей», чтобы их не утомляло долгое
чтение священных книг. 3. В песнопениях
яснее выражается похвала Богу, а мелодия
способствует их запоминанию. 4. «В
церквах поют для того, чтобы с духовной
радостью (с той, что имеют святые о Божиих
деяниях) соединялось и целомудренное
плотское наслаждение. Так пели Богу
Давид и св. Цецилия». 5. Красивая музыка
служит, наконец, приманкой для тех, кого
не привлекает к себе ни Церковь, ни сам
Бог. Прельщенные красотой музыки, они
приходят в храм и «вслед за музыкой
внимают пламенной проповеди, призывающей
их к покаянию» (398 — 399). Этих
причин, полагает Крижанич, вполне
достаточно, чтобы оправдать использование
музыки в церковном культе.
Однако «есть и другие, и более важные,
причины для того, чтобы не допускать
музыку в ту Церковь, куда она еще не
допущена». В этом плане музыка подобна
браку: «жениться — хорошо, но еще лучше —
не жениться». Таких причин Крижанич
называет три: 1. Размышления о греховности
земной жизни вызывают только скорбь и
покаяние. А музыка не уместна при скорби.
2. Пение введено в церквах для духовно
слабых людей, а истинно «благочестивым и
совершенным людям пение не столько помо-
333
Книга вторая
гает, сколько мешает размышлять о
божественном». 3. Музыка побуждает к
легкомысленным и суетным поступкам и
злоупотреблениям (399).
Из всего этого Крижанич заключает, что
русская Церковь не должна вводить ни
инструментальной музыки, ни
многоголосного пения. Ей следует сохранить свои
традиционные формы песнопений.
Позиция Крижанича, воспитавшегося не
на русской культуре, но сумевшего в
короткий срок хорошо понять и почувствовать ее,
крайне характерна для русской духовной
культуры в канун петровских реформ и,
может быть, даже сильнее выражает ее суть,
чем взгляды тех или иных русских
мыслителей той поры, отягощенных грузом
национальных традиций. Это — позиция
средневековой культуры, сознательно
стремящейся сохранить себя путем использования
новейших научных достижений своего
времени, уже уходящего от Средневековья, с
одной стороны; и установка на осмысление
культуры (и искусства) как феномена,
отнюдь не ограничивающегося рамками
Церкви и религии, — с другой.
Сложный и богатый арсенал европейской
музыкальной эстетики того времени
хорватский мыслитель использует, в сущности, для
того, чтобы обосновать позицию крайних
традиционалистов — расколоучителей (с
которыми он в других случаях резко
спорит), когда речь заходит об использовании
музыки в храме. В его теории, однако,
культовая музыка занимает всего лишь две, и
отнюдь не первые, позиции из 15 в
перечне основных случаев использования
музыки в общественной практике (393).
Крижанич сознательно делает следующий
шаг после Коренева и Дилецкого в
направлении секуляризации музыки. Если авторы
«Мусикийской грамматики» размышляли в
основном хотя и о новой, отличной от
средневековой, но все же о церковной музыке,
и точнее — о пении, то есть стремились
только обновить ее форму, то Крижанич
идет дальше. Он действует по принципу
«Богу Богово, а кесарю кесарево»:
церковная музыка должна остаться традиционной,
а все новые теоретические суждения и
практические находки европейской музыкальной
культуры относятся только к мирской
музыке, никак не связанной с Церковью и
выполняющей в обществе как позитивные, так
и негативные функции. Именно эта
музыка больше всего и интересует славянского
ученого, размышляющего о всех
компонентах общественного устройства.
С позиций науки XX в. многие
суждения и выводы Крижанича, естественно,
предстают наивными, субъективными,
неубедительными. Однако наш век вооружен
как-никак принципом историзма, который
позволяет оценить и огромную культурно-
историческую значимость первых шагов
научной постановки тех или иных проблем, и
выдвижение самого способа научного
осмысления культуры, в котором никак нельзя
отказать хорватскому ученому,
проводившему свой вынужденный досуг на бескрайних
просторах Сибири. Это касается, в
частности, и второго «вопроса» трактата
Крижанича: «Почему музыка разных народов
столь различна?»
На национальное многообразие музыки
указывал и известный мыслитель и
придворный поэт того времени Симеон Полоцкий в
«Жезле правления», но он только
констатировал факт. Крижанич же со
скрупулезностью ученого новоевропейского склада
стремится отыскать причины этого явления.
Разнообразие мелодий, инструментов и
«всей музыки» он связывает с
разнообразием голосов и способностей людей, а
главное — со спецификой национальных
языков.
«Существует четыре вида мелодий (арий,
напевов, ладов), — писал Крижанич, —
1) исихастическая — размеренная, строгая,
спокойная (ария), 2) диастальтическая —
веселая и радостная (курранта), 3) систаль-
тическая — печальная и жалобная
(мадригал), 4) энтузиастическая — страстная и
возбуждающая. Сложные мелодии: 5)
спокойная и веселая, 6) спокойная и печальная,
7) веселая и страстная (галиарда), 8)
печальная и страстная» (400). Одни языки
больше подходят для одних мелодий,
другие — для иных; некоторые языки вообще
непригодны для пения.
Латинский язык больше всего подходит
для спокойных мелодий, греческий («из-за
разнообразия и многочисленности ударений,
гласных и дифтонгов») и турецкий — для
334
Часть I. Глава 3
энтузиастических, германский «годится
лишь для быстрых, резких и легких
танцевальных или плясовых мелодий», а
итальянский, испанский и особенно славянский
языки вообще мало пригодны для пения»
(400 — 401).
Со ссылкой на теорию Дони он
пытается обосновать это следующим
соображением. Наслаждение в пении доставляют не
только сочетания звуков и ритм, но и смысл
слов в совокупности со «складностью речи»,
которая зависит от расстановки ударений в
словах и их звучания. Приятных звучаний
слогов и соответствующих ударений, по
мнению создателя славянского «эсперанто», нет
в старом славянском языке. Зато «в нем
полно сигматизмов и трескучих слогосоче-
таний», поэтому он мало приспособлен для
пения.
О субъективизме Крижанича в понимании
этой проблемы свидетельствует хотя бы
совсем иная классификация соответствий
«музыкальных стилей» национальным
характерам, выведенная в том же XVII в.
немецким ученым Анатаназиусом Кирхером в
«Musurgia universalis». У него главное
влияние на музыкальные пристрастия того или
иного народа оказывают национальный
склад характера и климатические условия. В
соответствии с этим германцы «избирают
стиль важный, спокойный, скромный и
полифонический», галлы, напротив, —
танцевальный, а пальма первенства в музыке
принадлежит итальянцам, которые «довели
музыку до изумительной красоты»п.
В достаточно произвольных
рассуждениях и выводах хорватского ученого,
отделенного от нашего времени тремя столетиями,
заслуживает внимания сам факт
установления связи между характером мелодий и
фонетическими особенностями того или иного
языка. В русской эстетике эта проблема
ставится и осмысливается впервые.
Наконец, третий «вопрос» трактата
Крижанича посвящен светской музыке. Здесь
для автора «Политики», как в свое время и
для Платона, на первый план выходит
общественная значимость музыки. Таковой
прежде всего, по мнению Крижанича,
обладает военная музыка, поэтому он
достаточно подробно обсуждает вопрос о том,
какие мелодии и инструменты
предпочтительны для использования в войске. Опираясь
на свой собственный музыкальный опыт, он
рассуждает также о характере музыки для
приема послов, о королевских и княжеских
придворных музыкантах, но особо его
заботит вопрос о том, «какую музыку следует
разрешить для народа» (404).
Крижанич считает уместной музыку
только на свадьбах, пирах и в частных
домах и требует запрещения музыки в
трактирах, как способствующей падению нравов,
а также в будние дни на улицах, особенно
по ночам, как это принято у германцев.
Публичная музыка допустима только в дни
больших праздников и торжеств (404).
При решении вопроса о музыке для
народа Крижанич исходит из следующих
соображений. Люди рождены не для забав,
развлечений и веселья, а для полезных
трудов и служения Богу. На основе этого он
формулирует тезис: «<...> мы отвергаем и
осуждаем искусства, спектакли, игры,
музыкальные и прочие представления и тех
людей, которые заняты ими, ибо эти занятия
служат лишь развлечениям и не могут
содействовать ни благополучию, ни военному
делу, ни какому-либо другому серьезному
делу». Однако как постоянно натянутый лук
может порваться или ослабеть от
напряжения, так и человек может надорваться и
заболеть от постоянной серьезной работы. Ему
необходим отдых. Отсюда антитезис
Крижанича: «<...> мы признаем и допускаем
музыкальные занятия, но только такие,
которые могут оказаться полезными для
какого-нибудь серьезного дела» (404).
Этой «пользой», т. е. организацией
отдыха от «серьезной работы» и
восстановления сил человека, определяется и перечень
разрешенных и запрещенных музыкальных
инструментов. Крижанич «разрешает»
играть в публичных местах (и только
искусным музыкантам) на «подобающих и
достойных инструментах», к которым относит
в основном деревянные духовые, струнные
с «жильными» струнами (гусли, лиры,
скрипки, кобзы, арфы и т. п.) и ударные,
«звучащие без мелодии» (колокола,
тимпаны). Запрещает он «все непригодные
инструменты, издающие дикий и недопустимый
шум». Это «раздвижная труба» (тромбон),
цитры и цимбалы с медными струнами,
335
Книга вторая
«фисавлы, или органы, позитивы, регали»
(404 — 405).
Таким образом, музыкальная эстетика
Крижанича, основывающаяся на знании
западноевропейского музыковедения,
зарубежной и русской певческой практики,
строго нормативна и утилитарна. Осознав в
качестве главной функции музыки
гедонистически-эстетическую, он попытался
определить и узаконить ее место в структуре
рационально организованного общества —
именно в качестве эмоционального
компенсатора человеческих сил и энергии,
затраченных на «серьезном» общественно
полезном «деле».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Подробнее об их жизни и деятельности см.:
Белокуров С. А. Юрий Крижанич в России.
М., 1903; Урсул Д. Т. Николай Гаврилович
Милеску Спафарий. М., 1980.
2 Подробнее см.: Белокуров С. А. Указ. соч.
С. 89 — 93.
3 См. хотя бы: Крижанич Юрий. Собрание
сочинений. Вып. 1 — 3. М.. 1891 — 1893;
Крижанич Юрий. Политика. М., 1965;
библиографию сочинений Крижанича и работ о нем до
1972 г. см. в изд.: Krizanic Juraj (1618 — 1683).
Russophile and Ecumenic Visionary. A
Symposium, Th. Bekman and A. Kadi (The Hague;
Paris, 1976), s. 329 — 352.
4 Крижанич Юрий. Политика. С. 464.
(Далее ссылки на изд. даются в тексте с
указанием в скобках страницы.)
? См.: Аввакумов Ю. /7. Сочинение Юрия
Крижанича «Беседа о суеверии». (Текст, пере-
Крайне интересные работы Юрия
Крижанича, написанные им в сибирской
ссылке на языках, мало понятных даже в
образованных кругах России XVII в., не
могли, естественно, «сделать погоды» ни в
русской культуре, ни в эстетике того времени.
Однако знакомство с ними даже
ограниченного числа русских интеллектуалов,
кропотливо трудившихся над формированием
новой культуры в России, и сам их характер,
предвосхищавший во многом культурные
реформы петровского времени, определяют
идеям Крижанича, и в частности его
эстетике, свое достаточно видное место в
истории русской культуры.
вод, комментарии) // Богословские труды. Сб.
27-й. М., 1986. С. 238 — 239.
6 Гольдберг А. Л., Аввакумов Ю. /7., Бе-
лоненко А. С, Карцовник В. Г. Текст и пере-
вод трактата // ТОДРЛ. Т. XXXVIII. Л.,
1985. С. 356 — 410. (Далее ссылки на изд.
даются с указанием в скобках страницы.)
7 См.: ТОДРЛ. Т. XXXVIII. С. 357 -
358.
8 Там же. С. 362.
9 См.: Смоленский С. В. Мусикийская
грамматика Николая Дилецкого // Памятники
древней письменности. Вып. 128. СПб., 1910.
Подробный анализ эстетических идей этого
трактата см. далее в главе «Музыкальная эстетика».
10 Там же. С. 154.
11 Музыкальная эстетика Западной Европы
XVII — XVIII веков. Сост. В. П. Шестаков.
М., 1971. С. 190 — 191.
Глава 4
Николай Милеску
Спафарий
Х^удьба Спафария
сложилась более счастливо, чем Юрия Кри-
жанича. Его не обуревали идеи глобальной
социально-политической перестройки
славянского мира. Он выполнял в России
чисто просветительские функции — служил в
качестве переводчика и занимался
популяризацией идей западноевропейской
культуры и науки того времени. Он познакомил
русских читателей (прежде всего
высокопоставленных) с рядом фундаментальных
сочинений ренессансной и постренессансной
западной культуры. Особым гонениям не
подвергался и прожил почти весь свой
российский период жизни в Москве за
исключением длительной поездки в Китай, во
время которой посетил и своего опального
коллегу в Тобольске. Крижанич дал ему ценную
информацию о пути и способах его
дальнейшего путешествия в Китай и советы по
исполнению его посольской миссии.
Если эстетические теории хорватского
ученого несут отпечаток его яркой и
своеобразной индивидуальности, то эстетика
Николая Спафария имеет совсем иной
характер. Она энциклопедична. Его
эстетические трактаты, как отмечает их издатель
О. А. Белоброва, компилятивны1. При их
написании в 1672 — 1674 гг. Спафарий
преследовал чисто просветительские цели —
дать по-русски в более-менее целостном
виде все известные ему по иностранным и
русским источникам сведения об излагаемых
предметах с учетом конкретного читателя —
русского монарха и членов его семьи,
прежде всего детей и их наставников. Это
своего рода учебники для престолонаследников,
с просвещения которых Спафарий и его
единомышленники, видимо, надеялись начать
новый этап просвещения России.
Главное содержание его
философско-эстетических трактатов — это комплекс
общих сведений античных гуманитарных наук
в их средневеково-ренессансной редакции.
Для России XVII в. они явились как бы
теоретическим введением в секуляризованную
науку и, в частности, в эстетику.
В предисловии к «Книге избранной
вкратце» Спафарий приводит общие
сведения о 9 музах и свободных искусствах,
пытается объяснить их происхождение и
значение. При этом он сразу же обращает
внимание читателя на эстетический характер
античного понимания наук и искусств. Семь
искусств автор называет «художествами», в
отличие от семи «мудростей» в аналогичном
трактате, появившемся в России еще до его
приезда2. Также и в аллегории 9 муз он
усматривает эстетическое значение. «Девять
убо мусы суть, сиречь богини пения, яже от
философов того ради изобретены и
изображены суть, яко удобнейшая сладость учения
познаватися может под прилогом
девических мус девяти» (25). Античные философы
обозначили науки образами аллегорических
дев — муз — для «услаждения» чувств
изучавших эти науки, то есть для
облегчения их восприятия. Предводитель муз
Аполлон, понимаемый автором как Солнце,
знаменует «согласие и сочинение наук».
«Художества» Спафарий разделяет по
средневеково-ренессансной традиции на
7 «свободных» (грамматика, риторика,
диалектика, арифметика, мусика, геометрия,
астрология) и 7 «служителных» (эемноора-
ние, лов, воинство, кование, рудометство,
ткание, кораблеплавание). При этом он
указывает, что многие в Европе распространяют
число свободных искусств до десяти,
включая сюда «делателную и зрителную
философию» (т. е. этику и метафизику) и
богословие. Спафарий не согласен с такой
классификацией и остается на традиционных
позициях. Его краткое определение предмета
свободных художеств гласит:
«Грамматика глаголет, диалектика истине учит,
риторика украшает, мусика поет, арифметика
числит, геометриа мерит, астрологиа звездо-
учит» (25). Первые три художества «нари-
цаются во философию», а четыре
последние — лежат «до философии» и «мафима-
тичестии, сиречь учителнии нарицаются»
(26). В целом же все 7 свободных
художеств являются частями и одновременно
орудием философии, как, например, рука у
человека — и часть и орудие. Семь же их
337
Книга вторая
потому, что «всегда число седм в честная во
всех языцех быша» (26). Так, и эллинских
мудрецов было семь, т. е. Спафарий
поддерживает здесь антично-средневековые
традиции числовой мистики и метафизики.
Порядок, в каком перечислены свободные
художества, — не произволен, а
указывает на их взаимосвязанность, включенность
в одну систему по принципу возрастания
сложности — «яко всякая вещь
начинается от простейших к совершеннейшим» (26).
Таким образом, в основу классификации
«художеств» как «вещей» чисто земных
полагается принцип философии, отделенной
от религии, ибо «религиозная философия»
утверждает как раз обратное. Для нее
простое и совершенное — тождественны и
имеют предел в Боге, и, соответственно,
утверждается путь восхождения от «сложного»,
но несовершенного мира к простому и
совершенному Абсолюту как высшей
ценности.
Грамматика стоит в ряду «художеств
первой потому, что она — „простейшая, <...>
яко о писменех учит"». Далее следуют
риторика и диалектика, «понеже прежде гла-
голати учимся, потом разделяти ложь от
истины». Также и арифметика предшествует
остальным «художествам» математического
цикла, ибо без знания чисел ими нельзя
заниматься. «Мусика» проще геометрии, а
«астрология» превосходит и ее, т. к. имеет
свой предмет в небе, а не на земле.
Спафарий впервые в русской культуре
поставил вопрос о системности наук и,
соответственно, о комплексности их
изучения. Науки («художества»), полагал он,
поддерживают одна другую. И если мы
изучим одну, прочитав по ней бесчисленные
книги, но другой «не свемы» (не знаем), то
«хромое таковое учение явится». Поэтому,
считал Спафарий, и девять «мус»,
символизирующие науки и искусства,
изображаются в образе девяти дев, держащихся за руки,
то есть образующих некую целостность
художественно-научного знания — «лик
составляют» (27). Между «мус» и Аполлон
«сликовствует», как образ солнца, «яко
учение свет есть и ум просвещает, подобно и
солнце свет есть и миру сияет» (27).
Девять дев «мус», которые «различным
учениям подобятся», происходят от отца
Зевса и матери «Мнимосини, сиречь
памяти». Излагая античную легенду о
происхождении и значении 9 муз, Спафарий
стремится занять некую объективную позицию
беспристрастного ученого или, вернее, учителя.
Как правоверный христианин он вроде бы
не должен проповедовать «бредни» и
«сказки» древних язычников, а как человек пост-
ренессансного времени, получивший
образование в Италии, он видит в античной
культуре много истинного и актуального.
Поэтому он занимает позицию якобы
беспристрастного излагателя чьих-то идей и
выражает ее часть повторяющимся стереотипом:
«пишут же...»
Ему импонирует, например, средневеко-
во-ренессансное понимание Зевса в качестве
символа христианского Бога, но в
ортодоксальной России его популяризация могла
грозить зачислением в еретики со всеми
печальными последствиями. Поэтому, чтобы
несколько обезопасить себя и тем не менее
утвердить принимаемую им символику, он
прибегает к осторожной безличной форме:
«Пишут же, яко от отца, перваго еллинс-
каго бога Зевса, родившася знаменующая,
яко всякому учению от Бога начинатися
подобает и оттуду просветитися» (27).
Внедряя эту популярную в ренессансной
культуре идею на русской почве, Спафарий как
бы стремился доказать консервативному
духовенству и самому царю, что изучение
берущих свое начало в античности наук не
противоречит православной доктрине.
Одна из главных идей трактата —
всеми способами возвысить авторитет наук и
искусств, показать их высокую значимость
в жизни людей. Отсюда и мифологический
факт обитания муз «на горе высокой Ели-
коне» автор понимает символически — «убо
учение высоко есть, якоже гора», и всякий,
пожелавший постичь науки и искусства,
должен приложить много труда, как при
восхождении на гору. «Тишина» на горных
высотах, удаленных от суеты повседневной
жизни, — необходимое условие обитания
мудрости. Поэтому «подобает и человеку
мудрому во тишине быти» (27).
В античной мифологии музы
олицетворяли сферу творческой духовной
деятельности человека, имевшей ярко выраженный
эстетический характер. За исключением
338
Часть I. Глава 4
Клио (истории) и Урании (астрономии) все
они почитались покровительницами музыки,
пения, танца, поэзии, как источников
наслаждения, то есть в их эстетическом модусе.
В трактате Спафария эстетическая
окраска муз сохраняется только в их определениях
и приспосабливается к уровню русской
культуры того времени. Каллиопа — «добро-
гласная, ради сладкаго ея доброгласия»,
Эрато — «от пения любви», Талия (Фа-
лия) — «цветущая, от цветущих слышате-
лей», Мельпомена — «возпеваемая,
понеже возпевает», Терпсихора — «ликовесе-
лящая, понеже лик веселит, яже нарицает-
ся и гуселница», Эвтерпа — «благоукраси-
телная» и «трубетелница, яко предстоит
трубам», Полигимния (Полимниа) —
«многопеснивая или многопамятная» (23).
Из этих определений читатель не мог
узнать, что Мельпомена была музой трагедии,
Талия — музой комедии, а Терпсихора —
музой танца, т. к. в России XVII в. эти
виды искусства только зарождались и не
получили еще всеобщего признания. В своих
определениях Спафарий сохраняет только
общую эстетическую семантику этих
древних античных мифологем.
Кроме того, он наделяет их и более
широким значением — символа наук, учения,
знания вообще, что было, пожалуй, еще
важнее для России того времени. В
маленькой главке о музах он несколько раз
повторяет, что все они составляют некий единый
«лик», который и знаменует прежде всего
учение и мудрость. Слова с корнем уч-
повторяются в ней 18 раз, а сам термин музы
Спафарий склонен, опираясь на Платона и
Евсевия, возводить к понятию «учитися».
«Сего ради мусы вместо всех учений и
мудростей разумеется и мусеон училище
знаменует» (28).
Таким образом, излагая античное учение
о музах, Спафарий активно
трансформирует его, приспосабливает к потребностям
русской культуры того времени, которые
состояли прежде всего в просветительстве —
во введении систематического образования
на основе всех известных к тому времени
наук.
Этим же пафосом пронизаны и
последующие главы трактата, посвященные семи
« свободным художествам ».
Грамматика определяется как
«художество зрителное и делателное, благоглагола-
ти и писати учащее» (29). В более
развернутом виде повторяя многое из того, что уже
было известно на Руси о грамматике и от
Максима Грека, и из «Сказания о седми
свободных мудростех», Спафарий не
забывает подчеркнуть и эстетическую значимость
этого «художества». Среди пяти причин, по
которым «учитися подобает» грамматике, он
называет и эстетическую: «Услаждения
ради, яко зело веселит человека; видится бо
яко безмерное есть словес собрание, еже на
малая и известная яко под знамя
собирается» (29). Принося пользу людям любого
возраста, грамматика всем им доставляет
духовную радость «учением слова», которое
открывает путь к знанию и мудрости, или,
как вещает сама грамматика в трактате, —
«Аз<...> быстрозрительнаго разума постиг-
нути умудряю, и вся помыслы разсуждати
умышляю, и от лжи истинствовати
наставляю, глубокобытное таинство открываю,
первое слово совершаю и нрав мудростию
украшаю» (30). Всякий, кто пытается что-
либо высказать или написать, будь то
повесть, стихи или послание, не мыслит
обойтись без грамматики, которая «учением
красна, во устех сладка, на сердце чюдна и
на языце светла». Только знание
грамматики позволяет людям читать книги и этим
услаждать себя и «исполняться»
премудрости (31).
В еще большей мере выдвигается на
первый план эстетический аспект при
обращении к риторике, которая определяется как
«художество, яже учит слово украшати и
увещевати, <...> красно глаголати и увеще-
вати на куюждо вещь» (31). Соответственно
и одна из главных причин («вин»), по
которой следует «учитися риторице», —
эстетическая — «яко зело сладка есть
учением, образом и начертанием, яко цветом и
бисером словеса украшает» (31).
Далее риторика сама восхваляет себя как
подругу мудрости и высокой
нравственности, доставляющую всем, владеющим ею,
духовную радость и богатство нетленное:
«<...> аз бо есмь мудрость сладкогласна-
го речения, аз сладость дивнаго сказания, аз
доброта неоскудеваемаго богатства, аз
сокровище некрадомаго стяжательства, аз ве-
339
Книга вторая
леречием ушеса не отягчеваю. Аз от
человек вражды темныя всегда отгоняю и
вместо тоя светлую в них вселяю» (33).
Риторика претендует и на роль нравственного
воспитателя, защищающего человека от
гнева, брани, «лукавых словес» и
утверждающего целомудрие и добродетельность. «Сего
ради не может мудр быти философ, иже не
разумевый мене» (33).
Красноречие всегда высоко ценилось на
Руси, выражая один из главных принципов
древнерусского эстетического сознания —
софийность. У Спафария оно занимает свое
место в системе других «свободных
художеств» между «златострунной грамматикой»
и диалектикой.
В более раннем «Сказании о седми
свободных мудростех» риторика занимает
третье место после грамматики и диалектики и
там сделан еще больший акцент на ее
эстетической значимости. Вы презираете меня,
сетует риторика на читателей, а я могу вас
«паче елея умастити, и паче червленицы
(багряницы) украсити, и паче злачных
цветов и благовонных аромат разум ваш моим
учением удивити» (144).
Спафарий уже знает, что диалектика
по-иному «нарицается» логикой, и по
платоновскому определению в «Кратиле»
является искусством вести полемику; она «есть
художество любопрения, чрез ню же или
благоглаголем или хулим и чрез прение вся
вещь» (33). Это «художество», которое
учит особому «красивому» способу (через
«любопрение») поиска истины — отделения
благого от зла, истинного от ложного.
Диалектика «не бездела имянуется орудие ору-
диев и рука философии» (34). Без нее
невозможно достичь истины, поэтому ни один
мудрец древности, будь то Гомер, Платон
или Аристотель, не относился к
диалектике без почтения.
Диалектика восхваляется в трактате с не
меньшим пафосом и витийством, чем ее
старшие сестры. Не забыт при этом и
эстетический аспект. Одной из причин ее
изучения является «сладость», доставляемая
самим процессом «прений» об истине (34).
Четвертое «свободное художество»
арифметика предстает основой остальных «ма-
фиматических художеств», понять и освоить
которые без нее невозможно. Более того,
без учения о числе все «житие
человеческое не может исправитися» — ни
летописец, ни домостроитель, ни купец, ни доктор,
ни иное какое «художество» без арифметики
не могут обойтись (35 — 36). Потому что
в основе всего в универсуме лежат мера и
число, которым и учит это художество.
Геометрия и астрономия, музыка и риторика,
диалектика и грамматика — все
«сочиняется» и украшается числом и без него не имеет
смысла.
Несмотря на очевидную пользу
арифметики, Спафарий не забывает назвать в
качестве одной из причин ее изучения и
«великую сладость», которую испытывает
человек, созерцающий «естество чисел и
уравнение» (36). «Беседа бо науки моея, —
заключает похвалу сама себе
арифметика, — сладчайши меда и наследие
доброты моея паче сота» (38).
Пятым «свободным художеством»
Спафарий называет «мусику» и понимает под
ним исполняемую музыку, а не науку
математического цикла о ритмах (числах) и
метрах в стихосложении, как это было
принято в античности и раннем Средневековье3.
Если Августин, подводя итог античной
традиции, определял музыку как «науку
хорошо соразмерять» (De mus. I 2,2), то Спа-
фарию ближе иное понимание. «Мусика,
сиречь песньствование, имя свое от мусы,
богини пения, получи. Есть же мусика
сведение благо пети, яже и армониа, сиречь
согласие наречеся» (38). По сути дела,
Спафарий, следуя уже средневеково-ренессанс-
ной традиции, наполняет это «свободное
художество» содержанием, которого оно не
имело в античности. Не ритмы и метры
выступают теперь предметом этой науки, а
мелодия и умение петь на «различные гла-
сы». При этом мелодия понимается как
художественная организация гласов. «Мело-
диа же есть единицею, двоицею и троицею
мусикийскими художественное
расположение». Мелодии разделяются на простые или
«единопение» и «сложные», которые
«зрятся во двоице пении, трипении, четырепении
и проч.» (38).
Среди «причин» мусики видное место
занимают этико-эстетические: «Яко сладка
есть, яже утешает своими гласы человека»;
«яко душю веселит и мелянхолию отгоняет.
340
Часть I. Глава 4
Яко великую ползу житию человеческому
соделовает и ко благочестию устремляет, и
нравы добрыми и сама часть есть
благочестие» (39).
Далее Спафарий почти дословно
переписывает главу «Мусики» из более раннего
«Сказания о седми свободных мудростех»,
поэтому имеет смысл и здесь обратиться к
этому тексту, изданному в Приложении к
«Эстетическим трактатам» Спафария.
Музыка, по «Сказанию», разделяется на
два вида: гласную и богогласную, а гласная,
в свою очередь, — на общую и отдельную
(«на общество и особство»).
Под общей музыкой автор имеет в виду
«мусикийское согласие» человеческого
голоса и музыкальных инструментов,
услаждающее слух, а под отдельной —
самостоятельное звучание музыкального инструмента
или вокала, хотя последний как «неуставный
глас» автор считает не совсем правомерным
относить к этому разряду.
К более высокому уровню автор
«Сказания» относит богогласное пение, созданное,
по его мнению, библейским царем пророком
Давидом. Это — духовная музыка, в
которой душа и плоть, словесное содержание и
музыкальная красота нераздельны. Этим
она подобна человеку, как единству души и
тела. Человек же, в свою очередь, хотя и
называется микрокосмом («мал мир»), но всю
мусику содержит в своем естестве. Он имеет
уста, челюсти, язык и небо, используя их
как струны и «бряцала», создает звуки и,
примешивая к ним «любомудренное пение»,
как бы «некую медвеную сладость
изливает» (146).
Видя нерадивость многих людей в чтении
книг и совершении духовных подвигов, Бог
вдохновил «блаженнаго Давида» смешать
пророчества, то есть неземную мудрость, с
божественным звучанием, чтобы,
наслаждаясь им, люди с большим усердием
воспевали священные песнопения, «понеже
человеческое естество отнюдь к песненому гласу
свойствено услаждение имать» (там же).
Эта концепция использования эстетического
аспекта музыки в культовых целях,
восходящая еще ко временам патристики, не
поощрялась многими идеологами
древнерусской церкви. И на это были свои
исторические причины.
Музыка и пение на Руси еще с
дохристианских времен являлись одной из главных
частей фольклора, языческих ритуалов, и это
их значение сохранялось в народной
культуре на протяжении всего Средневековья.
Церковные иерархи опасались излишне
украшать культовое пение из-за боязни
сблизить его с языческими обрядами, в
которых музыкально-эстетический компонент
(хотя и совсем иного рода, чем в
православной Церкви) играл важную роль. И хотя
певческая практика постоянно как бы
изнутри преодолевала эту антиэстетическую
установку церковных идеологов, она была
снята только во 2-й половине XVII в.
Богогласное пение, созданное Давидом,
разделяется, по «Сказанию», на три вида:
псалом, песнь и пение. Псалом — «слово
мусикийское есть», происходит от названия
музыкального инструмента — псалтири. В
нем выражены пророческие «вещания»,
духовно ограждающие человеческую жизнь.
Песнь — это вокальное пение, «со
умилением душевным» воспеваемое без
инструментального сопровождения. Так обычно
поют верующие в едином хоре с ангелами.
Высшим же видом является пение —
особое музыкальное «благохваление»,
доступное только святым, ангелам и особо
удостоившимся людям. Такой мусикой владел
Давид, ее слышал Исайя от шестикрылых
серафимов, ею был одарен тайный ученик
Христа Иосиф Аримафейский, ее слушал
Иоанн Богослов на Сионской горе и дар
сочинять ее получил от Св. Духа
знаменитый византийский песнопевец Роман,
сподобившийся стоять в хоре ангелов, «воспе-
вающе красно аллилуйя» (147).
Из всех перечисленных в «Сказании»
разновидностей музыки Древняя Русь без
всяких оговорок могла подписаться только
под последней. Именно так, в софийном
ключе, понимали лидеры духовной
культуры средневековой Руси пение и
противопоставляли его всем остальным «хитростям
мусикийским».
С распространением в России XVII в.
«Сказания о седми свободных мудростех»,
которое затем почти полностью включил в
свою книгу Николай Спафарий, и
партесного пения началось теоретическое
осмысление и обоснование необходимости исполь-
341
Книга вторая
зования в русской культовой практике
музыки во всех ее аспектах.
Наконец, последние два «свободных
художества» геометриа и астрологиа имеют
в трактате Спафария наименьшее отношение
к эстетике. Первое из них определяется как
«землемерие» и «сведение благомерити»
(41), второе — «звездословие» или
«учение, толкующее силу и движение звездам»
(45). Основу геометрии составляет линия
(черта). «Прочая же суть треуголное и че-
тыреуголное и круг». Геометрия лежит в
основе астрологии, географии и «иных
художеств».
Астрологию автор отличает от
астрономии, как науку более близкую к
потребностям людей, «яко астрологиа учит о
совершенстве звезд и их ползе, астрономиа же
учит о движении звезды» (45). В трактате
не забыты и эстетические аспекты этих наук.
Наряду с другими «причинами» геометрию
изучают и потому, что «ум человека не без
свободныя сладости начертания изобразует»
(41). а астрология привлекает к себе и
«сладости ради, понеже сладчайшая вещь есть
зрети звезд красоту и благость» (45). Сама
астрология восхваляет себя как «наука
трудная», но «зрением умна и лепотою красна и
лицем светлозримая и зело благообразна и
всячеством изрядна» (46).
Итак, достаточно подробно знакомя
русского читателя с антично-средневековым
учением о «мусах» и «свободных
художествах», Спафарий уделяет большое
внимание эстетическому аспекту этого учения,
учитывая, видимо, специфику
древнерусского общественного сознания того времени,
наиболее открытого к эстетической
информации и через нее усваивавшего и многие
другие знания. Само введение этого учения
в русскую культуру имело для ее
дальнейшего развития большое значение.
Николай Спафарий познакомил
русского читателя и с некоторыми элементами
западного ренессансно-барочного символизма.
В «Книге избранной вкратце» он,
например, рассматривает тело человека в качестве
символа земли. Сердце или голова
означают в нем восточные страны, «нижайшая
часть плоти» — западные, правая рука —
южные, а левая — северные. «Средина же
от сих частей — сердечная земля, высока
бо есть и плотска и на все случившееся при-
ятелна и отвсюду помыслами населяема, аки
водами обливаема и наводняема» (42).
«Книга о сивиллах» посвящена
изложению пророчеств древних сивилл о Христе,
то есть особому роду символов,
разрабатываемых христианством с первых веков его
существования. В книге «Арифмологиа»
числовая символика подведена под всю
известную с древнейших времен
«премудрость», в которой главное место занимает
афористически изложенное этическое учение
(«философия ифика»). При этом идеи
античных мыслителей и ближневосточных
мудрецов, христианские догматы и
заповеди, элементарные представления обыденного
сознания рассматриваются как единое целое
во всеобъемлющей системе числовых
символов.
«Девять суть чини аггельстии: серафими,
херувими, престоли, господства, силы,
власти, начала, аггели, архаггели.
Девять суть мусы: Каллиопи, Клио, Ев-
терии, Фалиа, Мельпомени, Ерато, Терп-
сихори, Поломниа, Ураниа» (87). Семь
свободных художеств, пять органов чувств,
семь мудрецов, семь планет, четыре стихии,
четыре времени года, «четыре века мира:
златый век, сребряный, медный, железный»,
четыре евангелиста, семь дней творения,
десять заповедей, семь церковных таинств,
три сирены (мифологические существа), три
циклопа и т. д. и т. п. (88 — 89). «Един
есть Бог. Един есть Христос. Единая вера.
Единокрещение» (107). Больше всего
места в «Арифмологии» занимает числовая
классификация нравственных правил и
афоризмов «житейской мудрости». Значение не
всех из них сегодня до конца понятно.
Наиболее многообъемлющим и
многозначным в «Арифмологии» оказывается
число 3. Под его знаком выступают и
многочисленные мифологические образы,
философские и этические понятия, и сведения
различных наук. Множество самых
разнообразных явлений упорядочено в этом
трактате по триадам. Есть здесь и понятия
художественной культуры.
«74. Три художества словесная:
грамматика, диалектика, риторика. <...>
78. Три образа словес: великий, сред-
ственный и смиренный. <...>
342
Часть I. Глава 4
87. Три виды живописания: ионический,
асиатический, аттический.
88. Три знамя меры: начало, средство,
конец.
89. Три суть во всех делех художества:
устремление, умножение, совершенство.
92. Три части басням: предложение, на-
ляцание и надвращение. <...>
95. Три роды столпов каменных резати:
дарический, иониский, коринфийский»
(105 - 106).
Числовая символика была хорошо
известна и в Древней Руси по патристике, но
там она ограничивалась небольшим набором
чисел и их значений. С «Арифмологией»
Спафария в русскую культуру входила
фактически целая популярная в Западной
Европе Средних веков наука чисел в
совокупности ее метафизического и
символического аспектов.
Спафарий ввел в русскую культуру и еще
один класс символов, которым дн посвятил
«Книгу иероглифийскую». Речь в ней идет
о визуальных символах, берущих начало от
египетского пиктографического письма,
которые он обозначает как иероглификон.
Вознеся похвалу времени, как высшему
и наиболее почитаемому учителю, автор
трактата сообщает, что оно сохранило нам
древнейшие знания в удивительной,
живописной форме — «обаче прекрасно, удиви-
телно и неуравняемо есть живописание то
предревнее нарицаемое иероглификон, си-
речь священноваятельное и египтийское»
(126). Суть этого письма сводится к
созданию системы изобразительных
(изоморфных) знаков, выделенных определенным
(небуквальным) смыслом, который доступен
только посвященным — «живописаху
тогда зверя, или птицу, или древо, или что ино,
и в том истолковашеся, ино сокровенное
учение». Таким способом древние
передавали тайное учение, постичь которое
удавалось далеко не многим (127).
В иероглифийских символах была
заключена мудрость древнейшего народа египтян.
Y них учились философии и богословию
греческие мудрецы Пифагор, Платон и другие,
а также Моисей, Давид, Соломон и иные
пророки. Библейские притчи автор «Книги»
возводит по характеру передачи информации
к египетскому иероглификону, усматривая в
них один и тот же семантический тип.
Притча является таким же «словом
сокровенным», как и иероглификон, обладает
переносным значением — «еже ино что
знаменует делом, а не то еже глаголеться словом.
И толико от иероглификон разделяется
притча, елико иероглификон есть яко
притча немая и не глаголющая» (127).
Именно этот схожий тип символизма
египетской пиктографии, правила чтения
которой были утрачены, и библейской притчи
привлекал к письму древних египтян
постоянное внимание христианских мыслителей от
первых Отцов Церкви до образованных
просветителей России XVII в. уровня Николая
Спафария.
Главный смысл иероглификона автор
«Книги иероглифийской» усматривает в
сокровенности знаний, которая как бы
повышала их значимость. «Егда же всем тайно
есть, тогда удивително и чюдно, паче же еже
общее, то и небрегомо бывает» (128).
Изложив философско-богословскую (со
ссылкой на Отцов Церкви и античных
философов) концепцию триединого Бога,
Спафарий разъясняет значение некоторых
иероглифийских символов. При этом
египетские, в его понимании, изображения
символизируют идеи христианской (как
общечеловеческой) религии, а древнееврейские
мудрецы, греческие поэты и философы и
Отцы христианской Церкви предстают на
страницах «Книги» единомышленниками,
теоретиками единственного истинного
учения о Боге и мире — христианского, но
понимаемого уже не в узкосредневековом
значении этого термина, а в широком —
общечеловеческом.
Показательно толкование пиктограммы
«глаза» как образа Бога: «Сего ради и
египтяне наши, <...> егда хотяху Бога знаме-
новати, око на верее жезла писаху, неусы-
паемое бо око Божие, яко пишет Василий
Великий. И яко Омир творец глаголет:
солнце еже всяческая видит и вся слышит. И
Фалис вопрошен, аще может кто глаголати
и утаити от Бога. Он же отвеща: не токмо
глаголати, но и помыслити и утаити от Бога
не может, вся бо яко апостол пишет
явление пред ним» (130). Эта символика «ока»
не противоречит одному из древнеегипет-
343
Книга вторая
ских значений4. Для нас здесь важно, что
для ее подтверждения автор привлек
представительный синклит антично-христианских
авторитетов.
На примере египетской, или выдаваемой
за таковую, иероглифики Спафарий,
опираясь на западноевропейское учение, выводит
символизм на некий новый универсальный
уровень, преодолевающий ставшими уже
узкими рамки средневекового символизма.
Не случайно поэтому он обращается к
самым древним доступным ему символам —
древнеегипетским и называет время
«мудрейшим» учителем (125). Он как бы
пытается отыскать первосимволы, архетипы
более позднего и эллинского, и
древнееврейского, и христианского символизма и
усмотреть в них некие общечеловеческие
универсальные смыслы. Естественно, что
это ему, как и автору оригинального
западного текста, который он перелагает,
реально не удается; он остается на уровне сим-
волико-аллегорического мышления своего
времени, но сама попытка отыскания
универсальных символов крайне интересна и
показательна для научного мышления и
эстетического сознания XVII в.
Со ссылкой на раннехристианского
историка Евсевия Спафарий приводит
антропоморфное аллегорическое изображение Бога,
которое он считает «прекрасным
живописанием иероглифийским» (131). Изображение
человека в синей одежде со скипетром в
правой руке, с поясом, усыпанным
звездами — в левой, и с пером на голове
толкуется в традиционно аллегорическом плане.
Перо означает высоту и непостижимость
создателя мира Бога. «Перо бо всегда
высоту знаменует». Образ человека означает,
что Он «есть животодавец». Синий цвет
одежд знаменует Его принадлежность к
небу, скипетр в руке — Его власть (цар-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Спафарий Николай. Эстетические
трактаты. Сост. О. А. Белоброва. Л., 1987. С. 20; 21.
(Далее тексты ссылки на изд. даются с
указанием в скобках страницы.)
2 Опубликован: там же. С. 141 — 153.
3 См.: Бычков В. В. Зарождение
средневековой эстетики числа и ритма // Философия
ство) над миром, пояс означает связь,
которой Он весь мир соединяет — «живот и
смерть, связание и решение». Звезды на
Нем — символ «зодиакона» (131).
В таком же плане толкуются в «Книге»
и некоторые другие, восходящие к антично-
эллинистическим временам,
символико-аллегорические изображения, в целом не
имеющие никакого отношения к
древнеегипетской иероглифике, но получившие в связи с
таким их обозначением в культуре XVII в.
новый, и прежде всего эстетический, смысл.
Изображение козлоногого Пана с «сед-
митростной» свирелью толкуется как
символ Вселенной; человека с золотым кругом
и в пестрой одежде — как символ Мира;
птицы Феникс — как символ солнца;
«василиска змия» — как образ века.
Не вдаваясь здесь в подробное изучение
этих символов и их происхождения,
следует подчеркнуть, что по характеру символи-
ко-аллегорического мышления «Книга иерог-
лифийская» Спафария как нельзя лучше
соответствовала самому духу и уровню
русского символизма 2-й половины XVI —
XVII в. В ней, как и в других книгах
Спафария, а также в учебниках грамматики,
риторики, музыки, арифметики, появившихся
в XVII в., Россия обрела учебное пособие
по символическому способу мышления
именно того типа, который получил широкое
распространение в то время и далеко вышел за
рамки средневекового символизма.
Итак, приезд в Россию во 2-й половине
XVII в. такого крупного
ученого-энциклопедиста, как Николай Спафарий,
способствовал приобщению русских к
западноевропейской антично-ренессансной
эстетической культуре, расширению горизонтов их
эстетического сознания, ускорению процесса
отхода его от средневековых принципов и
стереотипов.
искусства в прошлом и настоящем. М., 1981.
С. 67 — 123; Бычков В. В. Эстетика Аврелия
Августина. М., 1984. С. 83 — 108.
4 См.: Померанцева Н. А. Эстетические
основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
С. 34.
Глава 5
«Урядник
сокольничья пути»
ГЗидное место как в
древнерусской культуре, так и в культуре
XVII в. занимала церемониальная
эстетика, активную роль в организации которой в
рассматриваемый период играл царь
Алексей Михайлович. Под его
непосредственным руководством был составлен и описан
ряд придворных церемоний, его авторству
приписывают и некоторые «чиновники», в
частности, первый русский собственно
эстетический трактат «Урядник сокольничья
пути».
Церемониальная эстетика имеет давнюю
традицию, восходя к древнейшим культовым
ритуалам и церемониям при дворах
восточных владык. Рим и Византия внесли
существенный вклад в ее развитие. Последняя
уже на основе средневековой христианской
идеологии. Древняя Русь, приняв
христианство, многое заимствовала у своего
духовного наставника, прежде всего в сфере
церковного культа и придворного церемониала,
включив византийскую эстетику в уже
существовавшую у восточных славян обрядо-
во-ритуальную систему. В результате
возникла своеобразная древнерусская
церемониальная эстетика, отличная от
византийской, но имевшая последнюю в качестве
образца и стремившаяся к сближению с ней
на протяжении всей истории Древней Руси.
Никоновская реформа явилась одним из
существенных шагов на этом пути и
пробудила волну нового интереса к обряду,
церемонии, ритуалу, его символике.
Развитие светской эстетики
придворного церемониала активизировалось еще в
XVI в. с появлением идеи «Москвы —
третьего Рима», укреплением Московского
государства, усилением самодержавия и
перерастанием его в XVII в. в абсолютную
монархию. Сложное символическое
церемониальное действо, сопровождавшее
фактически каждую минуту жизни царя и его
близких, призвано было возвеличить его
персону, показать высокую значимость
каждого его поступка, действия, жеста и т. д.
Подобное, хотя и более сниженное,
значение имели и те обряды и церемонии,
которыми сопровождалась жизнь остальных
слоев русского общества того времени.
Средневековая церемония в широком
смысле слова — это торжественное
обрядовое действо, каждый элемент которого и
оно в целом наделено особыми
символическими значениями и которое направлено на
выдвижение происходящего церемониала на
уровень неординарных событий, на
возвышение его в массовом сознании над
эмпирией обыденной жизни. Это некое
неутилитарное действо, рассчитанное на
эстетический эффект, то есть на возбуждение у его
участников вполне определенного
комплекса чувств и переживаний, а также
духовного наслаждения.
В Средние века существовало два типа
церемоний, внутренне связанных, —
религиозно-культовое действо, то есть
литургическая эстетика, и светские — прежде всего
придворный церемониал. Отличались они
тем, что церемонии первого типа имели
сакрально-мистический смысл и внеземную
ориентацию, а второго — чисто земное
назначение: возвеличить царственного
владыку, который, однако, в средневековом
сознании почитался в какой-то мере
причастным божественной сфере. Поэтому
формы церемониальной эстетики для обоих
типов были близкими. Главное же отличие
заключалось в содержательном центре.
В связи с никоновской реформой,
существенно затронувшей традиционный
древнерусский церковный обряд, в кругах
духовной интеллигенции возросло внимание ко
всем аспектам литургической эстетики.
Важным возбудителем его явилось, видимо,
опубликование Никоном в 1656 г.
перевода с греческого книги «О тайнах церковных»
(«Скрижаль духовная»), в 122 главах
которой дано значение основных элементов
храмового действа, начиная с архитектуры
(храм, конха, амвон, трапеза, киворий и
т. п.), одежд, сосудов и кончая Святыми
Дарами и элементами самой литургии.
Во 2-й половине XVII в. активное
развитие получает эстетика придворного
церемониала. Он постоянно усложняется, обо-
345
Книга вторая
гащается новыми выразительными
средствами, возрастает его пышность и великолепие.
Деятельное участие в совершенствовании и
устроении «нового чина» принимал царь
Алексей Михайлович. Он был инициатором,
редактором и участником составления
церемониалов главных событий придворной
жизни. «Чин поставления на царство»,
«Свадебный чин», «Урядник соколиной охоты»
и некоторые другие «чиновники» того
времени носят сильный отпечаток личных
пристрастий Алексея Михайловича, его
эстетических вкусов, в целом характерных для
придворных кругов XVII в.
В сохранившихся до наших дней
«чиновниках» XVII в. и в описаниях придворных
церемоний, оставленных их очевидцами (в
частности, иностранными
путешественниками, чьи умы бывали «поражены
изумлением при виде таких порядков»1, перед нами
предстает удивительная картина придворной
жизни, как пышного, торжественного
театрализованного действа. Многовековой опыт
придворных церемониалов древнерусских
князей, татарских ханов, византийских
императоров и западноевропейских королей
нашел в нем свое отражение. Все
составляющие жизни двора, будь то обед, прием
послов, отход ко сну, «потехи», не говоря
уже о более торжественных событиях типа
коронаций, свадеб, выхода на войну, были
предельно ритуализованы и эстетизированы.
Любое житейское дело превращалось с
помощью церемониального «уряжения» в
наполненное глубоким символическим смыслом
событие, направленное на усиление величия
монарха, утверждение незыблемости его
власти, святости его воли.
Это значение церемонии с особой силой
было проявлено в первой и главной
церемонии Алексея Михайловича — в «Чине
поставления на царство»2. Здесь расписана
подготовка к церемонии и ее ход с
подробным описанием действий всех участников и
их церемониальных речей.
Описание разворачивается так же
торжественно и «чинно», как и совершалось само
действо «венчания». В храме все было
устроено по «чину»: посреди него был
воздвигнут «налой вельми украшенный с
поволокою», на который затем торжественно и
церемониально были поставлены на золотом
блюде крест и принадлежности
коронации — знаки царской власти (5).
В описании постоянно подчеркивается,
что участники церемонии воспринимают ее
элементы, действия, предметы как
наделенные не только символическим значением, но
и некой таинственной силой, — они
испытывают священный страх и трепет.
Протопоп Стефан «принял со страхом и с
трепетом и поставил на верху главы своея» и
понес в храм «животворящий крест <...> и
царский сан» (7). Остальные предметы
коронации так же торжественно несли
наиболее именитые и близкие к царю люди.
Блюдо с крестом и «саном» у протопопа
торжественно приняли митрополит Варлаам и
архиепископ Маркел и понесли к вратам храма
патриарху. Патриарх Иосиф «со страхом и
великою честию поклонися и прият своима
рукама тот святый и животворящий крест и
царский сан» и торжественно водрузил на
«налой» (8).
В том же плане «со страхом и с
трепетом и со всяким благочинием» и
одновременно с «радостию» совершался и весь чин
поставления на царство.
Церемония воспринималась даже самим
ее организатором Алексеем Михайловичем
почти как мистическое выражение и
воплощение его царского достоинства. Раз
утвердив ее, он и сам не осмеливался на
нарушение чина, который как бы обретал
самостоятельность и довлел над всеми его
участниками. Нарушение чина понималось как
оскорбление самого монарха; тех, кто
осмеливался на это, предписывалось «казнити
смертию безо всякого милосердия»3.
Последнее предписание содержалось, по
утверждению Григория Котошихина, в
свадебном чине Алексея Михайловича,
самолично занимавшегося росписью мест в чине
участников церемонии. Котошихин, по долгу
службы хорошо знавший придворную
жизнь, оставил много ценных сведений об
этой (как и о ряде других) церемонии.
Здесь, как и в литургическом действе, все
совершается чинно, торжественно, со
смыслом и значением. Не случайно церемония
длилась несколько дней, а ритуальную
значимость имели даже время и процесс
украшения палат. «Первое, палату нарядят,
объют бархаты, и постелют ковры турские
346
Часть I. Глава 5
и персицкие болшие; и учинят поставят
царское место, где сидеть царю и его царевне,
и перед ними стол да столы и <...> А царь
в то время устраиваетца во все свое
царское одеяние, так же как и при короновании»;
во все царское, кроме короны, наряжают и
его невесту; все персонажи церемонии и
гости «устроятся в золотое одеяние»4.
Далее подробно описывается церемониальное
сидение, еда, расчесывание кос у невесты,
венчание в церкви, ритуальное опочивание
(брачная ночь) и т. п.
Церемониальная эстетика превращала
реальную жизнь в некую серьезную игру,
имевшую более высокий смысл, чем сама
жизнь. Отсюда оставался один шаг до
создания игры, наделенной смыслом самой
жизни. И этот шаг в XVII в. был сделан.
В структуре придворного церемониала
возник первый русский театр — театр одного
зрителя — Алексея Михайловича. Он один
сидел в зрительном зале. Остальные
«зрители» — придворные стояли на сцене,
обрамляя происходящую там «потеху» — «ко-
мидию». Возникнув в рамках
церемониальной эстетики, театр, однако, сразу же
фактически нарушил их, заняв относительно
самостоятельное место в системе искусств
своего времени.
Сущность же церемониальной эстетики
наиболее полно оказалась выраженной в
чине, созданном при прямом участии
Алексея Михайловича для его любимой
«потехи», то есть для совершенно
«бесполезного» дела, в «Уряднике сокольничья пути»5.
Прежде чем перейти к его анализу,
необходимо отметить, что церемониальная
эстетика была присуща и народным обрядам,
восходившим к древнейшим периодам
культуры с ее магическими культовыми
действами. В плане церемониальной эстетики в
народных обрядах, с одной стороны, и в
литургической эстетике и придворном
церемониале — с другой, было много общего,
т. к. развились они исторически из одного
источника — культовых магических
ритуалов древности, ее мифо-ритуального
континуума.
Чин соколиной охоты явился в этом плане
своеобразным синтезом элементов народных
обрядов и придворного высокого
церемониала, т. к. охота с птицами была известна на
Руси с древних времен и церемония ее
проведения складывалась столетиями.
В особом почете птичья охота была у
Алексея Михайловича. Ею ведал один из
главных приказов государства — Приказ
тайных дел, содержался большой штат
птичников, по всей стране работали ловцы
боевых птиц, число которых на Потешном
дворе, созданном специально для «потех» с
птицами, постоянно составляло не менее трех
тысяч6. Соколиная охота фактически имела
чисто эстетическое значение, а «Урядник»
явился первым в России специальным
эстетическим трактатом. На его эстетический
характер указал еще в середине прошлощ
века первый издатель комментированного
текста П. Безсонов.
В тексте «Урядника» зафиксирована
лишь небольшая часть развернутого чина
птичьей охоты, именно — церемония
подавления сокольника из рядовых в
«начальные», но и она хорошо свидетельствует и о
характере всего чина, и, главное, об уровне
эстетического сознания его организаторов и
автора «Урядника».
Охота с птицами была любимой царской
«потехой» и «утехой», доставлявшей всем
участникам радость и наслаждение.
Алексей Михайлович был тонким ценителем
красоты хищных птиц и красоты самой охоты,
в созерцании которой и заключался главный
ее смысл. «Тут дело идет не о добыче, —
писал в пояснительной заметке к безсонов-
скому изданию „Урядника" С. Т.
Аксаков, — не о числе затравленных гусей или
уток, тут охотники наслаждаются резвостью
и красотою соколиного полета или, лучше
сказать, неимоверной быстротой его
падения из-под облаков, силою его удара»7.
Сам «Урядник» выражает эту мысль
более лаконично, но и более поэтично (во
всяком случае, с точки зрения современного
читателя): «Красносмотрителен же и
радостен высокова сокола лет» (91). Автор
текста хорошо сознает эстетический характер
птичьей охоты и именно на него
пытается настроить читателей, в первую очередь
участников охоты. Он величает их
«премудрыми», саму охоту называет «красной и
славной», а книгу считает требующей
разумного прочтения. Только тот, кто «с разумом»
прочтет ее, узрит и уразумеет «многие вещи
347
Книга вторая
добрые и разумныя» и обретет «всякого
утешнаго добра»; читающий же без разума
наследует «всякого неутешнаго зла» (90). В
чем же состоит, по мнению автора, это
«утешное добро»? В созерцании чина и в
наслаждении охотой. Автор обращается с
мольбой к «премудрым» охотникам: «<...>
насмотритеся всякого добра: вначале
благочиния, славочестия, устроения, уряжения
сокольничья чину начальным людем, и пти-
цем их, и рядовым устроения по чину же;
потом на поле утешатися и наслаждатися
сердечным утешением во время» (90 — 91).
Сильный акцент делается именно на
эмоционально-эстетической стороне «потехи».
Она призвана «утешить» сердца охотников,
«пременить» их от скорбей и печалей к
«радостному веселию» и наслаждению. «О
славные мои советники и достоверные и
премудрые охотники! — взывает автор, — ра-
дуйтеся и веселитеся, утешайтеся и наслаж-
дайтеся сердцами своими, добрым и веселым
сим утешением» (92).
Далее подробно расписывается то
«благочиние и славочестие», которым призваны
наслаждаться охотники еще до начала самой
охоты — церемония посвящения в новое
звание сокольничего. Интересно отметить,
что «Урядник», хотя и имеет
общенормативное значение в качестве руководства к чину,
составлен в форме описания некоторой
конкретной акции, имевшей, видимо, место, с
указанием имен ее основных участников.
В этом его существенное отличие от
церковных нормативных документов, лишенных
подобной конкретики.
«Действо» начинается с «устроения»
избы, в которой должна состояться
процедура. Подсокольничий Петр Семенович
Хомяков «велит постлать ковер диковатой»
посреди избы, положить на него «озголовье
полосатое бархатное» с пухом диких уток,
поставить в особом порядке «4 стула
нарядные» и на них посадить 4 птицы. Между
стульев настилается сено и покрывается
попоной. На этом месте, которое, видимо,
ритуально обозначало луг или поле, будут
затем наряжать «нововыборного». Далее
ставится стол, покрытый ковром с нарядами
для посвящаемого и его птиц, и около него
выстраиваются «сокольники» (все
перечисляются поименно, с указанием статьи
каждого) с птицами «нововыборного» «в лут-
чем платье».
Декоративной стороне чина в
«Уряднике» уделено особое внимание. Его автор
специально акцентирует внимание на красоте
одежд. Птиц держат сокольники «в
большом наряде и в нарядных рукавицах, <...>
и безо птиц в нарядных рукавицах».
Нововыборного облачают в «государево
жалованье: новый цветной кафтан суконной, с
нашивкою золотною или с серебреною»8. При
этом автор обращает внимание даже на
цветовую гармонию в одеждах. Материал
нашивок (золото или серебро) определяется их
соответствием цвету кафтана — «х какому
цвету какая пристанет», «Урядя и устроя все
по чину», подсокольничий встанет «перед
нарядом» в ожидании прихода государя.
Далее описывается церемония встречи
сокольниками государя и подробно весь
обряд посвящения с росписью всех действий,
жестов, поклонов, речей и т. п. Главное
внимание здесь уделяется красоте и
торжественности ритуала, значимости каждого
движения, фразы, позы, жеста, темпу
выполнения той или иной процедуры, паузам
между ними, т. е. практически всем
элементам церемонии. Всмотримся внимательнее в
то, как проходила подобная церемония
согласно одному из первых русских
сценариев собственно эстетического действа.
Алексей Михайлович изволил сесть на
своем «государеве месте». Подсокольничий,
«мало постояв, подступает бережно и
докладывает государя, а молыт: „Время ли,
государь, образцу и чину быть?" И государь
изволит молыть: „Время, объявляй образец
и чин". И подсокольничей отступает на свое
место. И став на месте и пооправяся доб-
ролично и добровидно, кликнет начальнова
сокольника четвертова <...>» и приказывает
ему поднести к нему челига (один из видов
сокола). «А мало поноровя, подсокольничий
а молыт: „началные, время наряду и час
красоте"». После этого начинается
церемония наряжения птицы, туалет которой
состоял из немалого количества с ювелирным
мастерством выполненных деталей.
«Первый сокольник, Парфеней, возьмет клобу-
чек, по бархату червчетому шит серебром с
совкою нарядною; 2-й, Михей, возьмет
колокольцы серебреные позолочены; 3-й,
348
Часть I. Глава 5
Левонтей, возьмет обиасцы и должник
тканые з золотом волоченым. И уготовя весь
наряд на руках, подшед к потсокольничему,
начальные сокольники наряжают кречета»
(96). Затем старший подсокольничий опять
подступает к государю с вопросом: «Время
ли, государь, принимать, и по нововыбран-
ного посылать, и украшение уставлять?»
(97)
Церемония развивается плавно и
торжественно, напоминая своим ходом и темпом
храмовое действо с тем только отличием, что
место духовного абсолюта здесь занимает
птица. И даже не столько она сама,
сколько сам чин, связанный с ней. Особое
внимание поэтому автор «Урядника» уделяет
описанию характера обращения с птицей,
поведению и настроению человека, ее
держащего. Подсокольничий, «приняв кречета,
мало подступает к царю и великому князю
благочинно, смирно, урядно; и станет поодо-
ле царя и великого князя человечно,- тихо,
бережно, весело и кречета держит чесно,
явно, опасно (осторожно), стройно, подпра-
вительно, подъявително к видению
человеческому и х красоте кречатье»9. Поведение
сокольника, держащего птицу, должно быть
осторожным (чтобы не побеспокоить
птицы) и почтительным, а настроение
радостным. Все в человеке призвано
соответствовать красоте птицы и быть приятным для
глаз окружающих.
Автор трактата, таким образом, хорошо
осознает сложные компоненты
динамической красоты и стремится дать рекомендации
по ее организации. При этом он обращает
внимание, пожалуй, впервые в русской
эстетике на тот тип красоты, который в
латинской антично-средневековой традиции
обозначался термином aptum10, то есть на
красоту соответствия частей целому и друг
другу и на восприятие ее зрителем.
Ритуал «уряжения» нововыборного
близок к действу облачения патриарха на
богослужении, пожалуй, с той только
разницей, что здесь особое внимание уделяется
его эстетической стороне. По указанию под-
сокольничего начальные сокольники чинно
подходят к столу с нарядом
нововыборного, и каждый берет по одной вещи: «пер-
выя статьи, Парфентий Табалин, емлет
шапку горностайную, и держит за верх по
обычаю; вторыя статьи, Михей Табалин,
емлет рукавицу с притчами и держит по
обычаю же; третиея статьи, Леонтий Гри-
горов, емлет перевязь, тясна серебряная и
держит по обычаю же. А у перевязи
привешен бархат червчат, четвероуголен, а на
бархате шита канителью райская птица Га-
маюн» и т. д. (100).
Помимо декоративных свойств элементы
наряда обладали, как показано в
комментарии П. Безсонова, и символическим
значением, восходящим порой к древней
славянской традиции, как птица Гамаюн,
«рукавица с притчами», т. е. с символическими
изображениями, или «сголовье с пухом из
диких уток», положенное на «поляново»
(135 — 137).
Церемония «уряжения» между тем
продолжается. Немного выждав, подсокольничий
«подступает» к государю и «молыт»:
«Время ли, государь, мере и чести и украшению
быть?» И государь молыт: «Время,
укрепляй». И подсокольничий отступает на
прежнее свое место, а молыт: «Начальные,
время мере и чести и удивлению быть». И
начальные сокольники подступят к
нововыборному и его наряжают (101). Описывается
церемония облачения и вручения кречета,
которого он принимает «образцовато, красо-
вато, бережно» и держит его с уже
описанным выше настроением и стоит «урядно,
радостно, уповательно, удивительно» (106).
Далее приводятся ритуальные речи,
описывается церемония с птицами, которая
продолжается и после ухода государя.
На символический и почти сакральный
характер церемонии указывают не только
ритуальный темп и предметная символика, но
и некоторые вроде бы бессмысленные
реплики тарабарского языка, которыми
обмениваются участники церемонии, типа: «Врели
горь сотьло», «Сшай дар», «Дарык чапу
врестил дан», «Дрыганса». П. Безсонов
считал, что это речевые сокращения вполне
осмысленных фраз: «Время ли, государь,
совершить дело?», «Совершай дар» и т. п.
Каково бы ни было их происхождение,
важно, что в структуре церемониала они
приобретают некое символико-эстетическое
значение, придавая своей нарочитой
бессмысленностью некий таинственно-возвышенный
характер самым обычным вещам.
349
Книга вторая
Из приведенного материала «Урядника» с
очевидностью следует, что его автор хорошо
осознавал именно эстетическое значение
церемонии и выразил это употреблением
определенного ряда эстетических терминов.
Уже П. Безсонов четко выделил главный
лексический ряд трактата, в который он
включил слова честь, часть, час, чин,
образец, ряд (урядник, уряжение, наряд, уряд-
ство и т. п.), строй (устроение, стройный,
стройство, безстройство и т. п.), мера
(мерный, мерянье и т. п.), и сделал вывод:
«<...> все они заключают в себе, по
корням, элементарные представления красоты;
ими хотели выразить, какие средства
доставляют вещи красоту или высказать
полное определение красоты, притом
выражениями чисто русскими. В этих словах
выразилось своего рода умозрение красоты
(теория красоты, эстетика)» (126; ср. 131).
С этим общим выводом ученого прошлого
века нельзя не согласиться, хотя его
можно и развить, если внимательно
всмотреться в теоретические рассуждения автора
«Урядника», предшествующие описанию
самого чина. В них кратко изложено
понимание церемониальной эстетики, характерное
для русской культуры XVII в.
С первой фразы автор ясно и четко
объясняет цель церемонии (чина): государь
«указал быть новому сему обрасцу и чину
для чести и повышения ево государевы крас-
ныя и славныя птичьи охоты, сокольничья
чину» (89). Птичья охота и сама по себе
прекрасна, а «чин» вводится для еще
большего ее возвеличивания и возвышения. Из
трактата следует, что у Алексея
Михайловича было высокоразвитое эстетическое
чувство, ибо он требовал, чтобы «никакой
бы вещи без благочиния и без устроения
уряженого и удивительного не было, и чтоб
всякой вещи честь, и чин, и образец
писанием предложен был».
Веками складывавшаяся в Древней Руси
эстетическая терминология здесь собрана
вместе для выражения сущности
церемониальной эстетики, притом эстетики
изначально нормативной. «Честь, чин и образец»
вещи должны быть ей предписаны, всякая
вещь должна быть включена в «чин».
«Потому, хотя мала вещ, а будет по чину
честна, мерна, стройна, благочинна — никто
же зазрит, никто же похулит, всякой
похвалит, всякой прославит и удивитця, что и
малой вещи честь, и чин, и образец
положен по мере» (89). Значимость вещи (а под
«вещью» автор в данном случае имеет в
виду и предметы и действия, процессы),
таким образом, определяется ее
включенностью в «чин», то есть в некий процесс, где
она занимает определенное место,
соотнесенное с местами других вещей. При этом
место в чине, как и сам чин, нечто
предписанное, часто произвольное (как мы помним
по «Свадебному чину» Алексея
Михайловича), зависящее от воли его учредителя —
в данном случае монарха.
Это во многом новый и чисто мирской
поворот эстетической теории. В
христианской эстетике (особенно подробно этой
проблемой занимался Блаженный Августин, но
также и Псевдо-Дионисий Ареопагит)
каждая вещь также выявляет свой полный
смысл только в структуре «порядка» (ordo)
или «чина» (xâÇiç), но эта структура
мыслилась изначально заданной божественным
Творцом, хотя и не всегда понятной
человеку. Поэтому ему доступно только
выявление значения вещи до какой угодно
степени глубины, но не изменение по своей
воле ее семантики. Для Августина или Аре-
опагита каждая, даже самая незначительная
или безобразная, с точки зрения человека,
вещь имеет свой более высокий смысл, как
занимающая свое, изначально ей
предназначенное место в «порядке» универсума и
выполняющая свою функцию, далеко не
всегда понятную человеку.
Напротив, главный смысл
церемониальной эстетики, в России впервые
теоретически проработанной в «Уряднике», состоит как
раз в том, чтобы наделить любую вещь
более высоким значением, не углубляясь
особо в ее, так сказать, онтологическую
семантику. Другими словами, создать новый
«чин», рукотворный в целом, не связанный
с «чином» универсума, хотя и подражающий
ему в деталях. При этом устроители «нового
чина», чина культуры, или уже — чина
искусства, в отличие от творцов
средневековой культуры, хорошо сознают, что это
чин не «реальный», в средневековом смысле
этого слова, а искусственный. Поэтому его
можно устанавливать произвольно. Силу же
350
Часть I. Глава 5
ему придает предписание, установление, с
одной стороны, и эстетическая
значимость (то есть
эмоционально-интеллектуальное воздействие на человека) — с
другой.
«А честь и чин и образец всякой вещи
большой и малой учинен потому, —
разъясняет автор, — честь укрепляет и
возвышает ум, чин управляет и утверждает крепость
(силу). Урядство же уставляет и объявляет
красоту и удивление, стройство же
предлагает дело (высокую значимость)».
Включение вещи в чин и ряд и придание ей
чести, то есть, другими словами, включение ее
в церемониал, повышает ее значимость и
красоту. Интересно, что для обозначения
эстетической ценности вещи здесь
использован и относительно новый термин красота
и чисто средневековый — удивление.
И наконец, автор перечисляет весь набор
характеристик, присущих вещи и ее
окружению («около ее»), определяющих ее зна-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Путешествие антиохийского патриарха Ма-
кария в Россию в половине XVII века,
описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепп-
ским. Вып. 3. М., 1898. С. 30.
2 См.: Чин поставления на царство царя и
великого князя Алексея Михайловича. СПб.,
1882. (Далее ссылки на изд. даются с
указанием в скобках страницы.)
3 О России в царствование Алексея
Михайловича. Сочинение Григория Котошихина. СПб.,
1906. С. 6.
4 Там же. С. 8.
3 Первая книга о правилах птичьей охоты
была написана в XIII в. императором
Священной Римской империи Фридрихом II и
называлась «Religia Librorum de arte venandi cumavibus».
чимость: «Что всякой вещи потреба? Ме-
рение, сличение (подобие), составление,
укрепление; потом в ней или около ее:
благочиние, устроение, уряжение. Всякая же
вещ без добрыя меры и иных вышеписаных
вещей безделна (незначительна) суть и не
может составитца и укрепитца»11.
Итак, главный смысл церемониальной
эстетики, достигшей в России XVII в.
своего небывалого расцвета на практике и
получившей теоретическое обоснование,
заключался в том, чтобы с помощью чисто
эстетических средств (организации
«уряженного» чина) достичь повышения
значимости (культурной, политической, религиозной
или собственно эстетической) тех или иных
«вещей» (явлений, действий и т. п.) или их
совокупностей. В качестве особенностей
этой эстетики в XVII в. можно указать на
ее преимущественное развитие во внецерков-
ных сферах и сознательную ориентацию на
создание прекрасного и возвышенного.
6 См.: О России... С. 86.
7 Собрание писем царя Алексея Михайловича
с приложением Уложения сокольничья пути. М.,
1856. С. 145. Текст «Урядника» опубликован на
с. 89 — 123. (Цит. далее с указанием в
скобках страницы.) Фрагменты см.: Изборник
(Сборник произведений литературы Древней
Руси). М., 1969. С. 567 — 572.
8 Изборник. (Сборник произведений
литературы Древней Руси). С. 570.
9 Там же. С. 571 — 572.
10 См.: Tatarkiewicz W. Historia estetyki. II
Estetyka sredniowieczna. Wroclaw; Warszawa;
Krakow, 1962. S. 62. Бычков В. В. Эстетика
Аврелия Августина. С. 127.
и Изборник... С. 467.
Глава 6
Теория живописи
v^/бщая для русской
эстетики XVII в. тенденция к усвоению
достижений западноевропейской культуры
активно проявилась и в области
изобразительных искусств. Наметившийся на Руси еще
в XVI в. кризис средневекового типа
художественного мышления привел в XVII в. к
новому пониманию искусства, к активным
поискам новых форм и способов
визуального выражения и, соответственно, к
повышению интереса к западноевропейскому
искусству, в котором подобный процесс уже
совершился.
Острые, драматические события
Смутного времени, кризис средневековой системы
миропонимания, социальная активность всех
слоев русского общества способствовали
переключению внимания и мастеров кисти
с мира абсолютных духовных ценностей на
реалии земной истории и повседневной
жизни. Это не означает, конечно, что
иконописцы XVII в. сразу же перешли к жанровым
картинам или к писанию портретов своих
современников, но тенденция такого
перехода наметилась у них, особенно к концу
века, достаточно определенно. Работая над
росписями храмов или над иконами,
мастера XVII в. часто забывали о традиционной
религиозно-символической значимости
изображаемых событий и святости библейских
персонажей. Их начали увлекать чисто
художественные задачи наиболее полного
изображения того или иного события,
действия, бытовой коллизии, психологического
конфликта и т. п. Повествовательность,
динамика действия, интерес к бытовым
деталям, одеждам — ко всему пестрому
множеству жизненных явлений материального
мира, общая декоративность стоят в
центре внимания живописцев и иконописцев
XVII в. В изображении человека художника
увлекает теперь «живоподобие» —
стремление к созданию иллюзорного сходства с
внешним видом оригинала (как правило,
воображаемого, идеализированного).
Большим подспорьем в стремлении к
новому художественному мышлению и
образцом для подражания служили русским
живописцам (этим термином начинает в
XVII в. активно вытесняться термин
«иконописец») многочисленные образцы
западноевропейской гравюры XVI — XVII вв.,
как попадавшие на Русь (прежде всего
через католическую Польшу), так и
создававшиеся на Руси пришлыми мастерами.
Наиболее характерные произведения новой
русской живописи вышли из-под кисти
Симона Ушакова и мастеров его круга.
Как и любое новшество, они вызвали
целую волну полемики в обществе. Появились
горячие защитники и ярые противники этой
живописи. Среди последних были в
основном церковные и религиозные идеологи
(притом здесь были практически едины как
расколоучителя, так и многие сторонники
новой церковной ориентации во главе с
самим Никоном), которые правильно
почувствовали в новой живописи не просто отход
от средневековых живописных традиций, но
и удаление ее от религиозной духовности, от
Церкви, то есть осознали реальность
секуляризации искусства и стремились
всячески воспрепятствовать этому процессу.
Сторонниками новой живописи были
прежде всего сами художники, наиболее
остро ощущавшие изменившиеся духовные
потребности времени, тенденции развития
художественного мышления и
эстетического сознания. Они пользовались поддержкой
достаточно влиятельной части русской
интеллигенции западнической ориентации,
знавшей и ценившей европейское
искусство того времени. С их помощью новые
живописцы получали лучшие заказы, как на
светские росписи (царский дворец в
Коломенском, например), так и на церковные.
Однако, чтобы отстоять право новой
живописи на существование, ее сторонники, и
прежде всего сами живописцы, вынуждены
были прибегнуть и к словесной полемике.
В результате мы имеем трактат, в
написании которого принимал участие Симон
Ушаков, ряд специальных сочинений и
постановлений об иконописи церковных идеологов,
несколько работ Симеона Полоцкого и
большой художественно-эстетический
трактат защитника новой живописи художника
Иосифа Владимирова.
352
Часть I. Глава 6
Особо резким нападкам новая живопись
подвергалась со стороны расколоучителей.
Вводившаяся на Руси господствующим
классом, она расценивалась ими как символ
этого класса, как выражение его
бездуховной, порочной и крайне несправедливой
деятельности. Аввакум прямо обвиняет власть
предержащих (а не живописцев (!), ибо они,
в его понимании, лишь исполнители), что
они изображают теперь святых по своему
образу и подобию: «А вы ныне подобие их
переменили, пишете таковых же якоже вы
сами: толстобрюхих, толсторожих и ноги и
руки яко стульцы. И у кажнаго святаго, —
спаси Бог-су вас, — выправили вы у них
морщины те, у бедных: сами оне в животе
своем не догадалися так сделать, как вы их
учинили!»1
Отстаивая средневековую иконописную
традицию, Аввакум борется и за
отечественные (которые для него тождественны с
православными) основы искусства. В новой
живописи он усматривает опасность
вторжения на Русь культуры и веры «поганых» (то
есть иноверцев), «фрязей» (итальянцев) и
«немцев» (иностранцев лютеранского
толка). Плохи новые образы уже потому, что
«писаны по немецкому преданию»2.
Для расколоучителей истинными
представлялись только иконы древнего письма.
Сторонники новой живописи выступали
прежде всего против главного принципа
традиционалистов почитать старые иконы уже
за одну их древность, показателем которой
они считали их черноту, закоптелость,
«патину времени», как сказал бы наш
современник. Для Иосифа Владимирова как
настоящего художника ни древность, ни
чернота, ни серебряные оклады не спасают
икону, если она плохо написана с
художественной точки зрения. Именно критерий
художественности (естественно, по-своему
понятый, о чем речь ниже) выдвигает он в
качестве основного при оценке живописи и
именно его противопоставляет «плохой»
традиции, даже освященной церковным
авторитетом. Тем самым было высказано
новое слово и в русской теории искусства, и
в эстетике.
Сейчас трудно сказать, кто первый во
2-й половине XVII в. выдвинул критерий
художественности в качестве главного
аргумента в борьбе с иконописным
антихудожественным «ширпотребом», наводнившим
всю Россию. И Симон Ушаков, и Симеон
Полоцкий, и Карион Истомин, и, видимо,
другие профессиональные живописцы и
образованные люди боролись с потоком
поделок бесчисленных «богомазов». В трактате
Владимирова эта проблема поставлена,
пожалуй, с наибольшей остротой и ясностью.
Иосиф неоднократно сетует на то, что в
его время «оскудеша во епископиях изугра-
фии мудрии: размножишася от попущения
мазарии буи», которые и дома, и базары, и
церкви «плохописаньми наполнили»3. Этих
«„неистовых** икон на базаре на едину цату
много обрящешь нагваздано, и таковы плохи
и дешевы, иногда же и горшки дражае икон
купят»4. Икона из священного образа
превратилась теперь в заурядный предмет
купли-продажи, и «премудрое иконное
художество» из священнодействия — в доходный
промысел, за который берется ныне всякий
невежда. В результате и искусство иконо-
писания, и сама вера терпят «понос и уни-
чежение от невеждь». Какая может быть
вера от икон, которые «неуки человеки и
невежди по своим волям марают неистове и
зловидно»?5 Многие иконы «таково
ругательно писаны», что изображенные на них
святые «и не походили на человеческие
образы, но на диких людей обличием
подобие наморано»6.
Главную причину распространения
неискусных и дешевых икон Иосиф видит в
оскудении благочестия в народе, в развитии
алчности и «сребролюбия» у живущих в
достатке. «Наипаче же таково потворство
бывает плохописанию от суеумия грубых
человек, кои ум свои уклонили в сребро, в
злато», пекутся о богатстве, а на хорошие
иконы жалеют денег, полагая, что и с помощью
плохих заслужат прощение, т. к. подобные
случаи, говорят, бывали и «в старину».
Передовые художники и мыслители
XVII в., поставленные перед фактом
массового распространения низкопробной иконной
продукции, остро ставят и пытаются решить
проблему подготовки профессиональных
живописцев. Они хорошо понимают, что
наряду с «премудростию свыше» и высокой
нравственностью художнику необходима
чисто техническая профессиональная подго-
353
Книга вторая
товка, «школа». Иосиф Владимиров
«молит» больших мастеров «подати <...>
искру учения» всем желающим принять ее.
Приостановить хоть как-то процесс «плохо-
писания» в России можно, полагает он,
путем организации живописных классов по
западному образцу и подробно описывает с
чьих-то слов («глаголют бо») такое
«премудрое живописующих училище», в котором
ученики под руководством опытного мастера
учатся рисовать и писать фигуру человека,
изучая отдельные части по слепкам и
таблицам. «Егда бы тя кто ввел тамо, —
пишет он с восхищением, — то многих узришь
неведомых вещей сложения и драгих их
шаров (красок) составления и различных
персон, странна и чюдна воображения.
Ученицы ж тамо ов главы начертает, ин руце
пишет, иному ж на таблицах лица вообра-
жающу. Над всеми же сими приходит
майстр тех или изрядный учитель живопис-
наго художества. И овому начертанное пре-
знаменует, и иному написанное
приправляет, ко иному ж пришед, взем острие и ново
написание учениче долу выскрегбает и
потом лучшее воображает. И всему подробну
и искусне научает»7.
Русским живописцам 2-й половины
XVII в. западноевропейская организация
живописного дела и сама западная живопись
представляется образцами, достойными
подражания и внедрения на родине. Отсюда
понятно, почему в «неучи» и «плохописатели»
они зачисляли не только халтурщиков и «ма-
зарей», но, видимо, и последовательных
традиционалистов в иконописи,
ориентировавшихся на средневековую манеру письма, а
не на «живоподобие» западных мастеров,
обучающихся в училищах писать
практически с натуры или с анатомических таблиц
каждую часть человеческого тела.
От русского Средневековья Иосиф
Владимиров унаследовал и развил, но уже в
духе своего времени, концепцию единства
мудрости, искусства и красоты. Она с
предельной ясностью и лаконизмом выражена
уже в самом названии первой части его
трактата: «О премудрой мастроте
живописующих сии речь, о изящном мастерстве
иконописующих и целомудренном познанию
истинных персонь». И эта идея проходит
через весь трактат. Живопись (=художество)
осмысливается Иосифом как выражение и
воплощение мудрости. Она обозначается им
как «честное и высокое художество»,
основанное на мудрости. Хорошо (прежде
всего в новом европейском духе) написанные
иконы Иосиф регулярно называет
«премудрым художеством», «премудрым
живописанием».
Здесь Иосиф формально остается
приверженцем важнейшего принципа
классической русской средневековой эстетики — со-
фийности искусства, хотя, как мы увидим
далее, у него он наполнился уже новым, не-
средневековым содержанием.
Идеологи, теоретики и практики
искусства 2-й половины XVII в. хорошо
сознают, что художественно-эстетический аспект
живописи играет важную роль в культовой
практике. Небрежно, неискусно, без
красоты написанный образ Бога или святого
может оттолкнуть верующих от почитания и
самого первообраза («отщетится
почитания») и, напротив, красота и высокое
мастерство изображения влекут внимание
видящих его к прототипу. А в этом — одна из
главных задач, поставленных Церковью
перед «премудрым художеством», которую
оно стремилось решить с максимальной
полнотой. В данном случае эта задача
совпадала с одной из главных тенденций
эстетического сознания века — созидания
чувственно воспринимаемой красоты.
Теоретики новой живописи поэтому не
устают напоминать, что и сами прообразы
икон (особенно Христос и Богоматерь), и
первые иконы были прекрасны не только
духовной красотой, но и внешним видом.
Так, Иосиф Владимиров подробно
описывает красоту Богоматери, запечатленную в
первом Ее изображении апостолом Лукой:
«<...> возраст средния меры Ея, имущ
благодатное Жоно святое лице, мало окруж-
но и чело светлолепно, продолгующъ нос,
доброгладостне на прям лежащ, очи зело
добре, черне ж и благокрасне, зенице та-
кожде и брови; устне и всенепорочная
червленою красотою побагряне, и персты
благоприятную руку Ея тонкостию истончени,
во умеренной долгости. И благосиятельныя
главы власы русы, кратостны [кротостны]
украшены»8. Все описание построено
практически только на сочетании эстетической
354
Часть I. Глава 6
терминологии, которая у автора 2-й
половины XVII в. значительно обогатилась по
сравнению с терминологией древнерусских
книжников. Светлолепно, доброгладостне,
зело добре, благокрасне, червленою
красотою побагряне, благоприятный, тонко-
стию истончены, во умеренной долгости,
благосиятельныя, кротостны (скромно)
украшены — эти десять эстетических
определений, с помощью которых Иосиф
описывает святое изображение, в общем-то
очень мало дают художнику конкретных
сведений о портретных чертах Богоматери.
Но к этому и не стремится Владимиров,
т. к. хорошо знает, что у любого иконописца
есть набор иконографических схем любого
извода. Его задача здесь фактически
свелась к созданию (а в его понимании — к
напоминанию) эстетического идеала,
каковым являлся и сам свято чтимый всем
христианским миром первообраз, и его
изображение. При этом идеальными
чертами наделяется именно оригинал, а не
изображение, которое осмысливается им в духе
древней традиции лишь как зеркало
(«образ совершен устроив яко в зерцале»).
Таким образом, эстетический идеал
Иосифа — а если мы вспомним
иконописную практику этого времени, то и
достаточно широких кругов художественной
интеллигенции 2-й половины XVII в., —
заключается в тонкой, благородной,
одухотворенной, чувственно воспринимаемой красоте.
Она выступает как бы неким посредником
между яркой, буйной чувственной красотой
плоти и только умом постигаемой духовной
красотой; их трудно достигаемым синтезом,
показать который, по мнению Иосифа, и
призвано искусство. В самой эстетической
терминологии Владимирова ясно выражено
его внутреннее стремление к
облагораживанию, одухотворению природной красоты.
Здесь и «святое Лице», и утонченные
«персты», и «кротостныя» украшения.
Традиционные эстетические понятия красный,
приятный, сиятельный «смягчены» и
духовно углублены префиксоидом благо-.
Особое внимание в новом эстетическом
идеале Иосиф уделяет «светлолепию» лика.
Идеалом для Иосифа и его
единомышленников становится яркая сияющая
живопись типа легендарного изображения св.
Иоанна Богослова, от которого, когда оно
было внесено в царские чертоги, «яко
солнце в палатах возсияваша от светлости, оле-
инаго бело фарбования и от живописания
образа того».
Другой важной характеристикой
«благообразной» живописи наряду со
«светлостью» для Иосифа является, как мы уже
отчасти видели, высокое профессиональное
мастерство живописца. Собственно ему и
посвящен весь трактат; его главную задачу
сам автор видит в том, чтобы «возписати
<...> о премудрой мастроте истового пер-
сонография, рекше о изящном мастерстве
иконописующих»9. Термин изящный часто
и служит Иосифу для обозначения высокого
мастерства: «изящне написанный образ»,
«изящне по тая видению образ Ея».
Образцом же «изящной», то есть
высокопрофессиональной, живописи выступала
для художников круга
Ушакова—Владимирова западноевропейская живопись. И здесь
их не смущало ее иное конфессиональное
(католическое) происхождение. Главным
критерием стало теперь живописное
мастерство, техника, а вопросы вероисповедные
отошли на второй план, что
свидетельствовало о существенном отходе новых
живописцев от средневековой, узкоправославной
ориентации культуры.
Чем же так магически привлекало
западное искусство русских мастеров XVII в.? В
чем, собственно, видели они его особое
«изящество», или мастерство, которое, в их
глазах, превосходило русскую древнюю
иконопись? Это превосходство они
усматривали в большей близости западной живописи
к видимым формам мира, и прежде всего
человека, в ее «живоподобии»; отсюда и сам
термин живопись (писать «яко жив») они
предпочитают слову иконопись. С
восхищением пишет Иосиф об «умном взоре»
художника, который подобно солнечным
лучам высвечивает все члены живого
человека и затем переносит их на бумагу или
доску: «Есть убо таковыи умозрительные
живописующих очеса солнечной быстрости
приточны, егда солнце на аер взыдет, то вси
стихия лучами осияет и весь воздух
просветит. Такожде и мудрый живописец, егда на
персонь чию на лице кому возрит, то вси
чювственнии человека уды (члены) во ум-
355
Книга вторая
ных сии очесах предложит и потом на
хартии или на ином чем вообразит»10. Здесь
под «мудростью» живописца автор понимает
умение точно изобразить «все» члены
человеческого тела.
Отстаивая новую, вроде бы далеко
ушедшую от средневековых канонов «живоподоб-
ную» живопись от нападок
традиционалистов, Иосиф, как обычно, обращается за
поддержкой к авторитету древних и находит ее
в раннехристианской и византийской теории
миметического образа, подробно
разработанной и окончательно сформулированной ико-
нопочитателями VIII — IX вв., хотя и не
нашедшей тогда адекватного
художественного воплощения. Эту адекватность русский
художник и теоретик неожиданно
усматривает в живописи западноевропейской
ориентации, в иконах своего друга Симона
Ушакова, что побуждает его еще раз
обратиться к патристической теории миметического
образа и с ее помощью утвердить полную
правомерность с православной точки зрения
новых «живоподобных» изображений.
В основе этой теории лежит сказание о
«нерукотворном» образе Христа, созданном
Им самим на матерчатых платах
механическим способом — путем прикладывания их
к своему Лику. В результате на «плате
Вероники» и на «убрусе», отправленном царю
Авгарю, сохранились, по древним
писаниям, точные отпечатки (практически
фотографии в натуральную величину) Лика
Христа. О них-то и вспоминает прежде всего
Иосиф Владимиров.
Он напоминает, что «нерукотворный»
образ является подтверждением реальности
важнейшего таинства — «вочеловечивания»
Христа. В нем Иисус сам передал нам
«истинный свой образ», а последующие
живописцы только точно копируют («преводят»)
его: «От истинных и сущих преводов пре-
писующе Христов убо образ, от оного ничи
же отличен еже на убрусе богочеловечнаго
воображения Его»11.
Зная, видимо, в какой-то мере по
сохранившимся до XVII в. в России образцам
византийскую (греческую) и древнерусскую
традиции иконописания, Иосиф отнюдь не
в них видит продолжение дела, начатого
самим Христом. Объясняет он это тем, что
«нерукотворный» «живоподобный» образ
был самим Христом отправлен к язычникам
(иноверцам в широком понимании этого
слова). И именно у них-то, полагает Иосиф,
плохо, естественно, зная историю
искусства, традиция писания таких образов
получила развитие.
Этим он стремится доказать противникам
«западных» («поганых», «языческих»)
«живоподобных» тенденций в русской
живописи, что они, во-первых, завещаны самим
Христом и, во-вторых, переданы именно
«язычникам», от которых и нам,
православным, теперь не грех их позаимствовать, чем,
собственно, и занимались художники круга
Симона Ушакова. Фактически
реалистический (или, точнее, приближающийся к нему
идеализированно реалистический) портрет
западноевропейской живописи XVI —
XVII вв. становится идеалом для русских
живописцев последней трети XVII в.
В религиозной, или культовой,
живописи идеалом Иосифа Владимирова во многом
отвечали прежде всего хорошо известные
(«яко живы») иконы «Спаса Нерукотвор-
него» Симона Ушакова.
Своей концепцией Владимиров
логически завершил многовековую линию развития
в христианской эстетике теории
миметического изображения (в смысле идеального
отпечатка), а Ушаков с выдающимся
мастерством реализовал ее на практике, изобразив
тщательно моделированный светотенью,
почти объемный идеализированный Лик
Христа, как бы парящий на фоне иллюзорно
выписанного матерчатого плата.
Таким образом, многократно и на все
лады восхваляемое в трактате
Владимирова «любомудрие», «премудрость»,
«изящество», «благообразие» новой живописи,
ориентирующейся на западноевропейскую,
заключаются прежде всего в «живоподобии»,
соединенном со «светлостью» и красотой и
реализованном на высокопрофессиональном
уровне, то есть «мудрость» живописи он
усматривает фактически в эстетических
идеалах классицизма, перенесенных на
православную почву и соответствующим образом
трансформированных.
Очевидно, что здесь на теоретическом
уровне наметился и, по существу, начал
осуществляться отход от главного и высшего
идеала высокого русского Средневековья —
356
Часть I. Глава 6
софийности искусства, хотя
терминологически он выражен в трактате Владимирова
вроде бы даже более ясно и полно, чем у
средневековых русских мыслителей.
Однако содержание этой терминологии, и прежде
всего понятия мудрость применительно к
живописи, существенно изменилось. Если в
XV в. и даже еще в середине XVI в.
«мудрым» почиталось искусство Андрея
Рублева, выражавшее сущностные основы
бытия, главные духовные ценности своего
времени, то теперь живописная
«премудрость» усматривается прежде всего у
западноевропейских мастеров, умеющих красиво
и «истинно» («яко жив») изобразить все
«члены и суставы» человеческого тела,
точно «вообразить» его «по плотскому
смотрению», то есть передать внешний вид.
Русская эстетическая мысль (и отчасти
художественная практика) делает, таким
образом, во 2-й половине XVII в.
существенный поворот от средневековых
эстетических идеалов, хотя внешне вроде бы и
опирается на них, к новому пониманию ис-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Житие протопопа Аввакума. С. 139.
2 Там же. С. 137.
3 Послание некоего изуграфа Иосифа к
цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону
Федоровичу // Древнерусское искусство. XVII
век. М., 1964. С. 40.
4 Там же. С. 60.
кусства, уже сформировавшемуся в
Западной Европе в периоды Возрождения и
классицизма. В целом это понимание не
соответствовало средневековому эстетическому
сознанию, хотя, возникнув еще в поздней
античности, оно, как это ни парадоксально,
на теоретическом уровне было активно
поддержано патристикой и играло важнейшую
роль в богословской полемике иконопочита-
телей с иконоборцами VIII — IX вв. в
Византии. Однако художественная практика,
более чутко реагирующая на духовные и
культурные потребности времени, чем
теория, не восприняла тогда концепцию
иллюзорно-натуралистического или
идеализированно-реалистического изображения и
развивалась совсем в ином направлении и в
Византии, и в Древней Руси. Только в
период острого кризиса средневекового
мировоззрения, который в России
пришелся на XVII в., эта концепция возобладала
в русской эстетике, наполненная новым
художественным опытом
западноевропейского искусства XVI — XVII вв.
5 Там же. С. 34.
6 Там же. С. 33.
7 Там же. С. 55.
8 Там же. С. 61.
9 Там же. С. 24.
ю Там же. С. 26.
11 Там же. С. 31.
Глава 7
Музыкальная
эстетика
D XVII в. перед
русской музыкально-теоретической и
эстетической мыслью встают небывалые по остроте
и сложности проблемы. В пятисотлетнем
эволюционном развитии певческого
искусства наступает перелом, определивший
судьбу русской музыки на несколько веков
вперед. Европейское нотолинейное письмо
сменяет древнюю крюковую нотацию, новый
партесный многоголосный хоровой стиль
вытесняет знаменное унисонное пение, кант и
партесный концерт преобразуют
каноническую систему древнерусских жанров.
Самобытный русский путь скрещивается с
западноевропейским, русское искусство
приобщается к эстетическим представлениям,
жанрам, технике композиции европейского
барокко.
Кризисная ситуация, сдвиги,
происшедшие в музыкальной практике, требовали
осмысления, перестройки всей системы
музыкально-теоретических и эстетических
представлений. В связи с этим резко
возрастает само число документов, в которых
обсуждаются вопросы певческой практики.
Среди них не только указы, грамоты,
челобитные, но и сотни музыкальных азбук,
сказаний, извещений, а к концу столетия
появляются первые музыкально-теоретические
трактаты нового, западноевропейского,
образца. Все это огромное количество текстов
группируется вокруг двух проблем —
судьбы исконно русской певческой традиции и
прививки на русскую почву
западноевропейского многоголосия. По сути, этим
решался вопрос, по какому руслу будет
развиваться русская музыка — широкому, в
контактах с западноевропейским искусством,
отражая общеевропейское движение эпох и
стилей, или узкому — пути консервации
древнего канона. Традиционное — новое,
национальное — общеевропейское — эти
оппозиции стоят в центре напряженной
полемики, отразившей драматизм ситуации,
когда вместе с судьбами русской культуры
решалась участь певческого искусства.
Обострение противоречий, дискуссии
оппозиционных партий характерны и для
западноевропейской музыкальной теории
XVII в. Рубеж XVI — XVII столетий —
время крупнейших перемен, смены стилевых
установок не только в русской, но и во всей
европейской музыке1. И на Западе идет
напряженный диалог между апологетами
традиционного искусства «первой практики»,
«старого стиля» — prima prattica, stile antico2
и «модернистами» (сторонниками «второй
практики», «нового стиля» — seconda
prattica, stile moderno3). Однако внешне
сходные проблемы получают
принципиально разное решение на европейской и русской
почве. За понятиями «старое» — «новое»
на Руси стоят совсем иные реалии по
сравнению с западноевропейской культурой. На
Западе традиционное — высокая ренес-
сансная полифония, новое — аффектный
оперный речитатив и концертный стиль. На
Руси старое — монолитная пятисотлетняя
культура крюкового церковного пения,
новое — хоровое партесное многоголосие
западного образца. Уникальность русской
ситуации в том, что здесь непосредственно
сталкиваются средневековый тип
музыкального мышления (знаменная монодия, раннее
многоголосие) и барочный (хоровой
концертный стиль), а стадия ренессансного
контрапункта отсутствует.
В русской знаменной монодии, как и в
западноевропейском григорианском хорале,
сконцентрировались черты средневекового
мышления: ориентация на канон
(канонизированную систему попевок,
зафиксированную в октоихе), строгая унисонность пения
(в условиях которой отсутствуют
пространственные характеристики, такие как верх,
низ, глубина музыкальной ткани),
модальный тип ладовой организации (отсутствие
ладовых тяготений, нецентрализованность,
рассредоточенность устоя, нейтральность
ладового наклонения, в результате чего
мелодия, лишенная аффектного содержания,
как бы парит в вечном и бесконечном
пространстве).
Многоголосие, по-видимому,
появившееся на Руси в конце XV — начале XVI в.,
как и раннее европейское многоголосие
358
Часть I. Глава 7
(IX — XIII вв.), сохраняет основные
эстетические качества средневековой монодии.
Обычно в одном из голосов от начала и до
конца в виде кантуса фирмуса проходит
древний одноголосный напев, другие
голоса представляют линеарную к нему
надстройку. Письмо остается горизонтальным,
полимелодическим, голоса следуют логике
линейного развития и слабо координируются
по вертикали. Соединение в вертикали
самостоятельных планов, многоярусная
композиция подобны средневековой иконописи4.
В западноевропейской музыке на смену
средневековой концепции многоголосия в
XV — XVI вв. приходит ренессансный
благозвучный (эвфонический) контрапункт
с его новшествами, аналогичными открытиям
живописного искусства этого времени:
разрушением канона (появление многоголосия,
не использующего древних напевов, с
авторским, специально сочиненным материалом во
всех голосах), переориентацией
музыкального пространства с горизонтали на
вертикаль (стремление к гармоничному,
благозвучному сочетанию голосов по вертикали,
дающему слаженность, уравновешенность,
согласованность общего звучания, подобно
живописи, организованной по законам
прямой перспективы). Благодаря
неодновременному вступлению голосов в новой,
имитационной ренессансной фактуре, их включению
и выключению, сопоставлению хоров
появляется глубинное измерение музыкальной
ткани. Постепенно формируется
классическая тональная система с аффектным
противопоставлением мажора и минора, центра-
лизованностью, направленностью
звукового процесса через систему ладовых
тяготений к определенному центру (тонике). В
музыку входит реальное, жизненное время
с его фазовой процессуальностью
(зарождение, кульминация, исчерпание) и
пространство (верх, низ, глубина).
В барочном многоголосии тенденции к
аффектности, пространственности, новой
концепции времени, наметившиеся в ренес-
сансном контрапункте, становятся
главными стилевыми ориентирами. Для техники
композиции в эпоху барокко становятся
нормой аффектная трактовка текста, риториза-
ция музыкального искусства, аккордовая
концепция многоголосия (генерал-бас),
тональная система мажора и минора,
многообразные пространственные эффекты —
контрастное (часто по принципу эха)
сопоставление звучностей нескольких хоров, соло
и хора, инструментального ансамбля и
вокального.
Путь развития многоголосия, который
западноевропейское искусство прошло за
семьсот лет, Россия — за сто. При этом
русская музыкальная культура миновала
стадию, аналогичную ренессансному
контрапункту: раннее многоголосие, как уже
говорилось, ближе средневековой полилинейной
концепции многоголосной ткани, чем
эвфоническому контрапункту. С другой стороны,
партесное пение следует
художественно-эстетическому канону барокко. В результате
на Руси в середине XVII в. возникает
уникальная ситуация непосредственного
столкновения средневекового типа мышления с
барочным.
Аналогична ситуация с нотописью. В
Западной Европе нотолинейное письмо
развивалось с XI в. (реформа Гвидо Аретин-
ского), вскоре вытеснив близкую русской
крюковой невменную нотацию. На Руси же
нотолинейная система была
противопоставлена крюковой только в XVII столетии, что
уже само по себе явилось важнейшей
проблемой, столкновением принципиально
различных концепций слышания и фиксации
музыкального процесса.
На русской почве противоречия оказались
во много раз острее и трагичнее, чем на
западноевропейской. На Западе проблемы
нового стиля обсуждались в просвещенной
гуманистической среде, в ренессансных
кружках и академиях (флорентийская «Ка-
мерата», французская «Плеяда»), реформы
созревали и осуществлялись в русле
светского искусства: итальянский мадригал и
опера — вот жанры, которые стали почвой
для экспериментов. При этом стилевой
перелом в начале XVII в. был подготовлен
всем ходом предыдущего развития музыки,
качественный скачок произошел в
результате постепенного накопления нового, был
продиктован органическими, внутренними
потребностями самого искусства.
На Руси же становление новых идей и
нового стиля происходило внутри церковной
культуры и воспринималось как прививка
359
Книга вторая
чужеземного, инородного, противостоящего
исконно русскому, освященному древним
обычаем. Утверждение нового
многоголосного партесного пения, вступившего в
противоречие с монодийной знаменной
культурой и ранней формой многоголосия,
оказалось непосредственно связано с
никоновской реформой, с самыми трагическими
страницами истории раскола русской
Церкви. На Западе в XVII в. не мог стоять
вопрос: «Лучше умереть, чем петь оперный
речитатив, а не полифонический мотет». На
Руси же дилемма: умереть или петь
партесные песнопения — часто имела трагический
исход. Вопросы — петь по крюкам или по
нотам, монодию или партесное
многоголосие, единогласно или многогласно — были
вопросами жизни и смерти в буквальном
смысле слова5.
Партесное многоголосие ревнителями
старины воспринималось не просто как
чужеземное, а, что важнее, как иноверческое,
униатско-католическое и, следовательно,
бесовское. Протест против партесного пения
часто объяснялся нежеланием идти на
уступки униатству и католичеству. Наоборот,
сторонники нового стиля ссылались на
авторитет Отцов Церкви, которые в борьбе с
арианством вводили в Церковь напевы
песнопений и гимнов, близкие языческим.
Парадокс русской культуры и состоял в
заимствовании западного католического пения
для того, чтобы противостоять католичеству,
влиянию «сладких звуков мусикийских
органов, сильно увлекавших на свою сторону
слабых сынов православной Церкви»6.
«Римляне начаша прельщати верных
органными гудении в костелах своих, и
ревнители православия ничем иным воспятиша их
и паки обратиша их к соборной Церкви,
токмо многогласными составлении мусикий-
скими»7.
Бесовство нового стиля усматривалось и
в тех влияниях светской и
инструментальной музыки, которые в нем безусловно
нашли отражение. Однако процесс
обмирщения русского искусства оказался
необратимым. В музыкально-эстетических трактатах
2-й половины XVII в. окончательно
ниспровергается (средневековый) идеал
«святого простеца» в пользу просвещения,
западной образованности, «светской книжной
премудрости»: «Многие из святых и
учителей богословия <...> всю светскую
премудрость изведали и при этом же нисколько
себе не повредили, но еще и просветились»8.
В «Мусикийской грамматике» Н. Дилецко-
го (1679), пожалуй, впервые в истории
русской эстетики утверждается общая основа,
а следовательно, и равноправие светского и
церковного искусства: «<...> И мирское
пение, как и духовное, церковное, в своей
основе имеет ут, ре, ми, фа, соль, ля...»9
На Руси в XVII в. в теории, как и на
практике, сталкиваются не просто разные
музыкально-эстетические воззрения, а
принципиально различные концепции жизни и
культуры — охранительная по отношению
к национальной древнерусской
средневековой традиции и новаторская, западнически-
просветительская, барочная. При этом
старое и новое хотя и стоят в оппозиции друг
к другу, но вместе с тем долго
«полифонически» сосуществуют. Как в западной
культуре, так и в русской, XVII в. — это не
только переломный, но и переходный
период10. На протяжении всего XVII
столетия параллельно развитию теории партесного
стиля продолжают обсуждаться вопросы
древнерусской монодии, нотное письмо
соседствует с крюковым. Дуалистическая
раздвоенность культуры, ее «двуяэычность»
столь же характерны для русского барокко,
как и для западноевропейского11.
Традиционалистская линия в русской
теории музыки представлена музыкальными
руководствами старого образца по
знаменному монодийному пению — азбуками,
фитниками, кокизниками, сказаниями,
извещениями («Азбука инока Христофора»12,
«Сказание о зарембах»13, «Сказание о
пометах, кои пишутся в пении над знамении»
И. Шайдура14, «Извещение о согласнейших
пометах»15 А. Мезенца), а также
грамотами, челобитными и др. В отношении к
средневековой традиции они демонстрируют
разные точки зрения. Наиболее консервативная
группа стремится сохранить не только пение
по крюкам, но и раздельноречие и
многогласие. Историческое значение этого
направления — в высокой степени консервации,
благодаря которой певческая традиция XVI в.
в малоизменившемся виде живет до сих пор
в среде старообрядцев-беспоповцев.
360
Часть I. Глава 7
Для другой группы деятелей очевидны
наметившийся к XVII столетию кризис
певческой культуры и необходимость реформ.
Их усилия направлены на преодоление
издержек последнего этапа развития
крюкового пения, и прежде всего на отказ от
многогласия и хомонии, возврат к апостольскому
заповеданию Слова. Безудержный рост
распевности, мелодической самостоятельности
и витиеватости стиля в XVI в. неизбежно
был сопряжен со снижением значения
слова. В «Брозде духовной» —
антираскольничьем сочинении конца XVII в. (1683) как
на причину раздельноречия указано на
«злоупотребление роспевом», самостоятельность
музыки в «протяжном усольском фитном
пении»16. Возврат к «эстетике Слова»
означал восстановление правильной
просодии, отказ от чрезмерной распевности,
многогласия, раздельноречия. «Мы должны с
трезвостью петь и направлять наш ум к
смыслу святых слов» (митрополит Мака-
рий)17. «А где пение не единогласное, и не
в соответствии с речью, какое там может
быть разумное следование слову?»
(протопоп Аввакум)18. Симон Азарьин и Иван
Наседка ссылаются на авторитет Апостола
Павла, который учит: «Что если не узнаю
смысла слова, то какая мне будет польза?»19
Одна из задач созданной в 60-е годы
XVII в. комиссии во главе с А. Мезенцем
и заключалась в исправлении «на речь»
старых певческих книг. Результат
реформаторской деятельности в этом направлении —
реставрация древнего канона, очищение его
от позднейших наслоений.
Другая важнейшая задача
реформаторов — противопоставить пение по крюкам
«гласонотному пению», сохранить крюковую
нотацию, усовершенствовав ее и
приспособив к новым практическим потребностям.
Крюковое знаменное письмо, как и па-
леовизантийская, и средневековая
западноевропейская невменная нотация, не
предполагали абсолютно точной фиксации высоты
и длительности звука. Крюки в
значительной степени выполняли мнемоническую
функцию и указывали лишь направление
движения мелодии, соотнесенность звуков
между собой. Одним знаком часто обозначали
группу звуков, мелодический оборот.
Крюковая нотация таким образом отражала по-
певочное строение знаменного роспева. При
этом выбор того или иного знака
небезразличен к содержанию напева, способ его
нотации обычно несет дополнительную
информацию, знак имеет особый
семантический, а иногда и символический смысл. Не
случайно, например, знамя параклит —
символ Святого Духа обычно открывает
песнопение или его строку, а крыж
(крест) — знак упокоения — завершает. В
азбуках каждому знамени давалось
символическое истолкование: «параклит —
сошествие Святого Духа на Апостолов; кулиз-
ма — ко всем человекам любовь
нелицемерная; крюк — кроткое ума блюдение от зол;
сложитие — триипостасного Божества
славословие» и т. д. 20.
В нотолинейном письме нота сама по себе
не несет содержательной и композиционной
информации, утрачивается связь знак —
попевка, но зато уточняется высота и
длительность каждого конкретного звука, что
особенно важно в свете развития
многоголосия.
Усложнение мелодического стиля
знаменного роспева, бесконечно выросшее число
попевок (в руководствах 2-й половины
столетия их насчитываются сотни),
следствием которых стала нивелировка их гласовой
характерности, а также развитие
многоголосия все настоятельнее требовали либо
перехода к нотолинейному письму, либо
реформы знаменной нотации. Иван Шайдур на
пороге нового XVII в. положил начало этой
реформе введением в знаменную нотацию
киноварных помет («Сказание о пометах»),
а Александр Мезенц во 2-й половине
столетия ее завершил, пополнив пометы
тушевыми признаками («Извещение о согласней-
ших пометах», 1669). Труд Мезенца стал
итогом развития знаменной нотации и
одновременно последней апологией
древнерусской монодии.
Киноварные пометы и тушевые
признаки Ивана Шайдура и Александра
Мезенца были призваны внести уточнения в
крюковую нотацию, и, не заменяя ее нотолиней-
ной, указать конкретную высоту звуков. Для
обоснования системы помет и признаков
впервые в истории русской музыки
фиксируется и теоретически закрепляется так
называемый обиходный звукоряд знаменного
361
Книга вторая
роспева. Теория звукоряда с
математически выверенными отношениями между
звуками постепенно восходящей шкалы
(гаммы), разработанная еще пифагорейцами,
никогда не исчезала из западноевропейских
теоретических трактатов. На Руси же только
в XVII в. впервые осуществляется
фиксация полной звукорядовой основы пения, и
происходит это не без влияния
западноевропейской системы. Многие исследователи
обращали внимание на сходство русских
согласий (групп из трех постепенно
восходящих звуков), составляющих обиходный
звукоряд, и западноевропейских гексахордов
(групп из шести звуков). Возможно, здесь
сказались контакты с западноевропейской
культурой, особенно тесные в Новгороде,
где и разворачивалась деятельность Шай-
дура. Приведем как пример обиходный
звукоряд вместе с шайдуровскими киноварными
пометами:
ГН — гораздо низко, H — низко, Ц —
цата, M — мрачно, П — повыше, В —
высоко.
Однако внешне облегчая и уточняя пение
по крюкам, система помет и признаков
провоцировала вместе с тем принципиальную
перестройку слуха и сознания русских
музыкантов, укрепление старой традиции
неожиданно оборачивалось ее разрушением.
«Парадокс реформы Мезенца состоял в том,
что певец, пользуясь пометами и
признаками, мог и не знать попевок (по крайней
мере теоретически. — Т. Б.), структурной
основы, сердцевины знаменного роспева.
Мышление начинает ориентироваться не на
попевку, а на последовательность
конкретных звуков, как в нотолинейном письме.
Средневековый тип мышления сменяется
новоевропейским » 21.
Теория Шайдура — Мезенца
обнаруживает таким образом скрытое влияние
европейского способа музыкального мышления
при внешнем отрицании и сопротивлении
последнему. По замечанию Ю. В.
Келдыша, Мезенец «не мог преодолеть того
противоречия, которое лежало в основе всех
реформ и усовершенствований знаменной
письменности в XVII в. Для того чтобы
укрепить старое, предохранить его от
распада и гибели, он был вынужден
обратиться к новым системам, против которых сам
же боролся»22. Неудивительно, что к
концу столетия знаменные азбуки перерастают
в двознаменники («Ключ» Тихона Макарь-
евского23 — самое полное руководство
такого типа — относится к последней четверти
XVII в.), где крюки объясняются через
ноты и где древняя монодия неизбежно
переосмысливается и видоизменяется под
влиянием западноевропейского стиля24.
Значение оппозиции крюки — ноты
далеко перерастает рамки чисто
палеографической проблематики. За этими понятиями
стояли разные концепции творчества,
обучения, противоположное отношение к
национальной традиции. Если пение по крюкам
осмысливается как исконно русское,
специфически национальное явление, то нотоли-
нейное письмо выступает в роли
музыкального «эсперанто». Сторонниками нотолиней-
ной системы переход к ней ясно
осознается как средство преодоления барьера с
другими культурами в духе никонианского
«космополитизма»: «Истинный юродивый
говорит: одно дело — русское знамя <...>,
а другое — музыкальная нота <...>, если
ты <...> разделяешь пение
(противопоставляешь русское нерусскому. — Т. Б.)> то я
<...> тщательно соединяю, сливаю и
совокупляю. Ибо не только русское, но и
греческое, и римское пение <...> для знающего
одинаково»25.
С распространением нотолинейной
системы разрушению подвергся исконно русский
певческий канон — и не только система
попевок, имевших свои закрепленные
композиционные и семантические функции, но
и осмогласие, освященное еще византийской
традицией. Разрушение канона
сторонниками знаменной культуры воспринималось
эсхатологически. Подьяк Федор Трофимов
пишет, ссылаясь на Григория Богослова: «В
362
Часть I. Глава 7
последние времена придут скрытые волки и
явятся скрытые разбойники и разрушат
церковную красоту, отнимут восьмигласное
пение, тогда умолчит архангельский голос и в
то время смешаются овцы с козлами <...>
И вот ныне не отняли ли восьмигласное
пение, и вместо него ввели органное пение зре-
лиц, и смешали всяких людей,
приверженных к различным ересям, с
православными»26. Мезенец, защищая крюковое пение,
тем самым отстаивает канон и вновь
утверждает средневековую концепцию творчества.
Певческий канон имеет божественное
происхождение, и чем строже следование
«иконографическому» образцу, тем истиннее
творение. «Церковь святая то пение получила,
и нас того пения добре научила»27. Если на
Западе в маньеристических теориях конца
XVI в. складывается представление о
необходимости гениального озарения,
индивидуального открытия в процессе творчества, то
в России в середине XVII столетия
Мезенец требует от роспевщика прежде всего
усердия и веры в постижении канона. И
когда мы читаем о Шайдуре: «Иоанн
после большого усердия изобрел знаменное
пение <...> ему и открыл Бог подлинник
помет»28, то «изобретение» здесь понимается
не как основанное на личной инициативе
свободное творчество, а как постижение
через усердный труд Божественного
откровения.
Отсюда идея избранничества, особой
посвященности и мудрости причастных к
певческому искусству и отношение ко всему
связанному с пением как к таинству. Не
случайно в старых азбуках так часто
встречается слово «таинственный»:
«таинственно скрытое знамя», «таинственно
управляемое знамя», «тайнозамкненные фиты». У
Мезенца читаем: «В старых наших
пергаменных рукописных книгах <...> есть
знамя, и в нем многочисленные различные и
тайные изображения и попевки. И не
понимающим смысла в этих таинственных
изображениях знамени и силы в пении они
кажутся нелепыми, и ненужными, и
невнятными <...> Нам же, великороссиянам,
которые непосредственно знают голос тайн-
ственного управляемого этого знамени и в
нем множество различных изображений, и
меру и силу разводов, и всякую подробность
и тонкость, нет никакой нужды в этом
нотном знамени, но по благости и
человеколюбию смыслодателя Спасителя нашего Бога,
мы пользуемся наукой пения и
обыкновенного древнего славяно-российского знамени
без всякого сомнения и обмана сами и как
это подобает»29. Последние слова
несомненно принадлежат лицу посвященному.
С представлениями о творчестве
непосредственно связаны проблемы обучения.
Концепция творчества как следования
нерукотворному первообразу на основе канона
предполагает средневековый цеховой
принцип — учение у мастера, передачу канона
и профессиональных секретов из рук в руки.
Как написано в «Сказании о зарембах»,
«Никако ж без мастера никакия художе-
ственыя науки познати самому о себе ника-
кову человеку невозможно есть <...>
ученик мастера совзыскует и о сем да
вопрошает, аще восхощет, и мощно ти есть.
Тщанием же и трезвостию и зелным
трудолюбием постигаем е и совершенно познаваем
се»30. Отсюда особые этические требования
к мастерам пения — скромность, отсутствие
гордости и зависти. Симон Азарьин и Иван
Наседка в «Житии и подвиге
архимандрита Дионисия» большому порицанию предают
роспевщика Логина, который наиболее
способных учеников нарочно учил петь по
неправильным книгам, дабы не превзошли его
самого в искусстве пения31. И все же
главный учитель — Всевышний, и если бого-
духновенному пению «не учит Святой
Дух, то напрасно будет трудиться язык
писца»32.
Однако средневековые представления о
творчестве и обучении постепенно
видоизменяются под влиянием общего духа
просвещения, затронувшего все области русской
культуры. Кроме того, по-видимому,
наступил этап подведения итогов, осмысления
начавшей клониться к закату знаменной
традиции. Отсюда так много новых черт в
руководствах и азбуках XVII в. Дух Нового
времени заметен в стремлении раскрыть
тайны певческого искусства, описать и
систематизировать его принципы. Если азбуки
XV — XVI вв. представляли собой
главным образом перечень знамен, то уже
«Азбука инока Христофора» (1604) содержит
и так называемый кокизник (от слова ко-
363
Книга вторая
киза — попевка), то есть свод попевок, и
«розвод» (расшифровку простыми крюками)
«тайнозамкненных», «сокровенных»,
«мудрых» фит и лиц. Предпринимаются первые
попытки систематизации знамен и сведения
их в таблицы (у Мезенца, в частности,
сначала демонстрируются однозвуковые
знамена, затем двузвуковые, трехзвуковые и
т. д.). Используются графически наглядные
средства обучения, например, изображение
обиходного звукоряда с помощью горовос-
ходного холма (лествицы)33. Эмблемой
поздних азбук становится «ключ
разумения», «отверзающий дверь божественного
пения»34. Тихон Макарьевский предваряет
свой труд виршевым вступлением:
«Ключ сей разумнопения
Отъемлет дверь затмения
Отверзает смысл ищущим
Отверждает ум пишущим
Явно творит закрытыя
Вси черплите об фитыя»35.
Таинственности искусства в знаменной
культуре противопоставляется свет разума,
цеховому принципу сохранения тайны в
среде посвященных, идее избранничества —
ключ, отверзающий двери познания для
всех36.
И все же будущее было не за древней
монодией, а за новым партесным стилем,
ставшим почвой для полной реализации
новых культурных тенденций. Теоретиками
партесного стиля, составившими оппозицию
к сторонникам знаменной монодии, явились
И. Коренев и Н. Дилецкий. Оба — и Ди-
лецкий и Коренев — принадлежали к ла-
тинствующему направлению московских
деятелей, и их трудами («Мусикийской
грамматикой» Н. Дилецкого и «О музыке»
И. Коренева37) представлена западническая
позиция в русской теории музыки XVII в.
Дилецкий, как и Симеон Полоцкий,
учился в Вильно, в иезуитской коллегии и,
по всей вероятности, был близок С.
Медведеву (во всяком случае, установлено, что
у них был общий знакомый — дьяк
Т. Д. Литвинов38). В предисловии к
«Мусикийской грамматике» Дилецкий сам
пишет, что в основу его трактата положены
«многие латинские книги о музыке» и что
первый вариант труда был написан по-
польски в Вильно39.
Показательно, что рукописные
экземпляры «Мусикийской грамматики», дошедшие
до нас от XVII в., приходятся на 70-е —
начало 80-х годов — время расцвета латин-
ствующего направления, особенно сильного
влияния С. Полоцкого, создания латинской
школы С. Медведева. Наоборот, в 90-е
годы — после смерти Полоцкого, суда над
Медведевым и его казни, полного
разгрома сторонников латинской книжности и
победы братьев Лихудов списки
«Мусикийской грамматики» отсутствуют, вновь
появляясь уже в петровское время.
Оба трактата отличает типично барочное
полиглотство. Они пестрят греческими,
латинскими, польскими, итальянскими словами
и терминами (регула контрария, конкордан-
ца, диспозиция, фуга и т. д.). Для
Дилецкого типична формула: по-латыни так-то, а
по-славянски так-то («Диез по-гречески: по-
латыни семитониум», «по-латыни ноты, по-
славянски знамена», «по-латыни клявис, по-
славянски же ключ» и т. д.). Именно
Дилецкий привил на русскую почву ряд
ставших неотъемлемой частью современной
теории терминов иностранного
происхождения — диез, бемоль, такт, бас, тенор, альт,
названия интервалов и многое другое.
Дилецкий даже полностью (!) приводит
латинский текст гимна св. Иоанну, от которого
произошли сольмизационные названия
нот — ut, re, mi, fa, sol, la, — что уже
совершенно было излишне для русского
читателя40. В отличие от западноевропейских
трактатов, где полиглотство явилось
следствием борьбы с гуманистической латынью
за утверждение национальных языков, на
Руси оно становится средством
демонстрации западной образованности и апологией
универсализма в духе никоновских реформ
(по словам Полоцкого, «благочестивый
человек во всяком языке приятен Богу»41)-
Оба трактата отличает полемическая
направленность против сторонников старой
певческой традиции, и особенно против
раскольников («против невежд и сопротивных
презорников»), и, в противовес
традиционалистской точке зрения, декларируют
установку на новаторство («Держащий плуг и
смотрящий назад не может иметь успеха,
364
Часть I. Глава 7
ибо он невежда»42). Оба трактата —
апология, эстетическое и теоретическое
обоснование нового многоголосного, нотного
партесного пения и концертного стиля,
резкий негативизм в отношении знаменной
монодии и крюковой нотации.
В отличие от традиционных русских
азбук, кокизников, извещений труды
Коренева и Дилецкого представляют собой
музыкально-теоретические руководства нового
типа, выполненные по образцу
западноевропейских трактатов, в которых, наряду с
историческими и техническими вопросами,
специально рассматриваются эстетические
проблемы. Оба трактата уникальны — ни
до, ни длительное время после них на Руси
не было создано руками русских
музыкантов ничего подобного. Дилецкий
специально противопоставляет свой труд старым
азбукам: «поучаю тому, что после букваря»,
хотя на самом деле « Мусикийская
грамматика» совмещает функции букваря, пособия
по композиции и эстетического трактата43.
Какими именно латинскими книгами
пользовался Дилецкий, каковы истоки его
теории, степень самостоятельности,
оригинальности его теоретических воззрений, на
каком уровне современного ему научного
знания он находится, что преподносит он
русскому читателю — нечто новое для
европейской культуры или покрытые пылью,
давно устаревшие истины, — эти вопросы
остаются открытыми. К сожаленью,
установить точные текстовые заимствования
Дилецкого из латинских трактатов не
представляется возможным. В настоящее время
нельзя сказать, какими именно латинскими
книгами пользовался Дилецкий
(обследование библиотеки Вильнюсского
университета в 1981 г. автором этих строк
показало, что большинство имевшихся здесь в
XVII в. трактатов утрачено).
Текстологическое исследование затрудняется ситуацией
двойного перевода — заимствования из
латинских книг сначала фигурировали в
польском тексте трактата, утраченном в
настоящее время, а затем уже в русском.
Кроме того, в тексте трактата имеются
свидетельства, что он составлялся по памяти, без
непосредственной работы с источниками,
больше на основании собственного
практического опыта (неупорядоченность
структуры текста, авторские ремарки — «о вещах
забвенных, о которых забыл написать»,
повторы, терминологические и исторические
ошибки). Ему могли быть известны
практически все музыкальные трактаты, изданные
в Польше и Германии в XVI — XVII вв.44.
По сути, большинство положений «Муси-
кийской грамматики» представляет пересказ
современных ей западноевропейских
теоретических трактатов. Однако само по себе это
ни в коей мере не умаляет его достоинств.
Переписывание, пересказ трудов
авторитетных ученых прошлого нормативны для
теории музыки XVII в., сохранившей
каноническую, экзегетическую традицию
предшествующих эпох. Важно, что и как
заимствует автор из имеющихся в его
распоряжении Источников, каковы авторские
акценты, детали трактовки, отдельные новые
положения. И с этой точки зрения трактат
Дилецкого отражает самые новые тенденции
и идеи, рожденные барочной теорией
музыки, находится в русле новейших учений
XVII в. — теории аффектов, музыкально-
риторического учения, теории и практики
генерал-баса. Труд Дилецкого не отличается
такой широтой и универсальностью, как
компендиумы Мерсенна или Кирхера, он
написан музыкантом-практиком и направлен
прежде всего на практические нужды —
обучение певцов и композиторов. Однако во
всех своих положениях Дилецкий прямо или
косвенно связан с новейшим барочным
музыкально-эстетическим учением.
Прежде всего анализа требует
центральная для русской музыкальной эстетики
XVII в. категория музыки (мусикии). С
Дилецким и Кореневым русская теория
подключается к древнейшей для европейского
искусствознания традиции разветвленного и
многопорядкового толкования понятия
музыки, включающего ее определение,
деление, происхождение, описание эстетических
функций. Сущность музыки была
предметом разносторонних определений и
рассуждений со времен античности, где сложилась
традиция рассматривать ее не только как
художественную, но и как всеобъемлющую
философскую категорию, как науку почти
универсального характера. «Музыка есть
наука, светом разума освещающая гармонию
всего»45.
365
Книга вторая
В трудах Дилецкого и Коренева нет
единого определения музыки, а есть множество
определений, характеристик, описаний,
внешне противоречивых, но, по сути,
взаимодополняющих. Определение музыки
разрастается в широкое эстетическое учение.
При этом каждая из ее дефиниций может
быть понята только в общем контексте
русской и европейской культур.
На первых же страницах трактата
Дилецкого помещено следующее толкование
понятия «музыка»: «<...> это собирательное
понятие, которое обозначает и человеческие
голоса, и инструментальные („органные")
звучания, созданные человеческим умом.
Мусикия — слово греческое, по-латыни
кантус, по-славянски же пение»46.
Определение музыки как пения восходит к
раннехристианской традиции, когда после
продолжительной дискуссии вокруг 150-го псалма
(как следует понимать — буквально или
символически слова: «Хвалите Его
(Господа) со звуком трубным, хвалите Его на
псалтыри и гуслях, / Хвалите Его с
тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и
органе, / Хвалите Его на звучных
кимвалах») утвердилось мнение о единственно
правильном символическом его толковании,
и инструменты надолго были изгнаны из
обихода христианской Церкви. Но в
западной католической Церкви сначала к участию
в богослужении был допущен орган, а
потом и другие инструменты. Католическая
месса XIV — XV вв. могла звучать не
только a cappella, но и в сопровождении
инструментального ансамбля. Более того,
XV — XVI столетия — время
становления и развития самостоятельных
инструментальных жанров — хоральной обработки,
ричеркара, канцоны, импровизационных
прелюдий и фантазии. В органной мессе
XVI в. орган мог заменять (!) хор в
отдельных строфах песнопений, антифонно с ним
чередуясь47. Неудивительно поэтому, что в
западноевропейских
музыкально-теоретических учениях появляется двойное
определение музыки как искусства пения и игры на
инструментах (Тинкторис), музыку
начинают делить на вокальную и
инструментальную в современном значении этих понятий48.
На Руси до 2-й половины XVII в.
слово «мусикия» употреблялось только по
отношению к инструментальной музыке. В
церкви звучала не «мусикия», а «пение»,
«роспев». Термин «пение» в древнерусской
эстетике практически заменил
общеевропейское понятие музыки. Слово «мусикия»,
понимаемое как бесовская инструментальная
игра в противовес озвучивающему Слово
одушевленному пению, приобрело
негативный оттенок. Азбуковники XVI —
XVII вв. обычно определяют мусикию как
гудения, гудебную игру в гусли, домры и
т. д., а инструменты называют мусикийски-
ми органами. Орган, часто толкуемый как
собирательное по отношению к
инструментам понятие, становится символом
нечестивой мусикии, почти эмблемой
инструментальной музыки. Любопытно, что в
западноевропейской барочной теории орган — это
тоже эмблема, но с противоположным
знаком — символ, управляющий миром
музыкальной гармонии, аллегория порядка,
царящего в микро- и макрокосме (у М. Прето-
риуса орган — инструмент мира, а Бог —
органист; А. Кирхер уподобляет шесть
регистров органа шести дням творения49).
Если для западноевропейской науки
включение в понятие музыки
инструментального искусства прошло органично и
безболезненно, то для русской культуры это
дискуссионная, острополемическая
проблема. Еще живы воспоминания о гудениях в
церквах чужеземных органов при Лжеди-
митрии в Смутное время, только что в
1654 г. подверглись торжественному
уничтожению скоромошьи инструменты, все
непримиримее становится позиция православия
по отношению к использующему орган в
богослужении униатству. Неудивительно, что
Коренев озаглавливает свой трактат:
«Книга, называемая Музыка, о божественном
пении <...>, введенном на посрамление
бездушных, визгливых органных звучаний,
которыми пытаются приносить хвалу в храме
Господнем». Вместе с тем, как уже
упоминалось, XVII в. — время распространения
инструментальной музыки в
аристократической среде, в театре и т. д. Под влиянием
западноевропейской теории и современной
им практики Коренев и Дилецкий
включают в понятие мусикии, наряду с пением, и
игру на инструментах. Музыка — это
«собирательное понятие, которое обозначает и
366
Часть I. Глава 7
человеческие голоса, и инструментальные
органные звучания»30. В трактате Коренева
на вопрос: «Как многообразна музыка?» —
дается ответ: «Двояка — одна из голосов,
вторая же для инструментов»31. Более того,
Коренев утверждает, что «неодушевленная»
музыка «раньше открылась», чем
одушевленная, следуя в этом, по-видимому,
западноевропейской традиции вести
происхождение музыки от Пифагора, миф о котором
гласит, что он открыл музыку, услышав
однажды, как кузнецы, работая молотами
разной величины, производили звуки разной
высоты. И Дилецкий и Коренев
формально отдают предпочтение вокальной музыке.
Коренев ссылается на апостольские запове-
дания, авторитет св. Отцов Церкви Кирилла
Александрийского, Афанасия, Василия
Великого, говоря, что «инструментальная
музыка из церкви изъята, ибо неуместно ей
быть в храме Господнем»32. Но вместе с
тем, перечисляя формы хваления Бога,
называет вместе с высказыванием сердца,
поучением в разуме, словом и пением также
игру на инструментах. В противоречии с
названием трактата Коренев предлагает
«позволить мирским людям в своих домах,
пусть и на неодушевленных инструментах в
радостный час восхвалять Бога»33.
Еще больше склонности к
инструментальной музыке, и в особенности к органу,
обнаруживает Дилецкий. Он называет орган
«матерью всей музыки»;34 орган,
органисты, исполнительские приемы игры на
органе упоминаются во многих главах «Муси-
кийской грамматики». Орган привлекается
для объяснения правил гармонии, что
восходит к западноевропейской барочной
традиции, где гармоническое учение было
сосредоточено в пособиях по генерал-басу,
предназначенных прежде всего для
органистов. Вполне возможно, Дилецкий сам в
бытность студентом Виленской академии
«грешил» игрой на этом инструменте. Во
всяком случае, для русского слуха должно
было еретически звучать «правило
безречное», или «атексталис», когда композитор
«задумывает музыку без текста, после же
под ноты подставляет слова <...>
Правило бестекстовое особенно необходимо в
применении к инструментам — арфе, лире,
гуслям, органу, но и к пению также»33. Так,
самостоятельная стихия музыки, инструмен-
тализация стиля в новых условиях опять
вели к измене «эстетике Слова». Не
случайно раскольники слышали в партесном
пении «бездушные вискания органные».
Одно из центральных определений «му-
сикии» в трактате Коренева гласит:
«Музыка это стройное искусство и изящнейшее
разделение голосов, определенное знание
различий, знание надлежащих благозвучных
интервалов и неблагозвучных (консонансов
и диссонансов. — Т. Б.), показывающих
согласование различного» («есть мусикия
согласное художеством и преизящное гласо-
вом разделение, известное ведения
разньства, познание приличных благих
голосов и злых, еже есть разньствие в
согласии показующих»36). В этом определении
принципиально ново для русской культуры
понимание музыки как многоголосия (Спа-
фарий также различает мусикию «простую»,
под которой понимает мелодию, «сиречь
единогласие (одноголосие)» и
«сложенную» — двух-, трех-, четырехголосие37). Но
в отличие от демественного пения, где
важнее линия, чем вертикаль, в многоголосии,
которое имеет в виду Коренев, главная
проблема — сочетание голосов по вертикали,
дающее как «благие» (консонирующие), так
и «злые» (диссонирующие) созвучия. В
теориях Дилецкого и Коренева впервые
встает вопрос об основанном на знании
определенных правил согласовании голосов
и выдвигаются категории порядка и
согласия (эквивалент западному термину
гармония). Для пояснения Коренев прибегает к
помощи инструмента с определенным
строем: «От гуслей, устроенных весьма
красиво и сложно, исходит некое благозвучное
согласие, благодаря порядку, который
согласует все звуки воедино»38. Согласие, по
Кореневу, составляет саму сущность
музыки: «Почему музыка называется музыкой и
откуда она получила это название? — От
различного множества голосов и равным
образом от многообразия устроенного в
пении согласия»39. Отсюда и широкое
определение музыки как «науки, познающей
согласованность (гармонию) во всем»60,
восходящее к неоплатоническому и
неопифагорейскому учению об универсальной
гармонии, гармонии мира — одному из цент-
367
Книга вторая
ральных для западноевропейского барокко
представлений61. Отсюда же критика трое-
строчного пения и демества, в которых «нет
гармонии, а только негармоничные голоса,
издающие шум и звук и кажущиеся
незнающим благозвучными, а знающим
составленными не по правилам»62. В другом
месте еще более остро: «Какая же польза петь,
давясь козлиным блеянием без гармонии
голосов <...>»63. Многоголосное пение при
этом понимается как письменная культура
(«устно никак нельзя, ибо многоголосие не
поется наизусть»64), требующая
определенных знаний («надлежит понимать правила
<...>, чтобы не было беспорядочных
звуков из-за плохих конценаций»63).
Какие же это правила, на которых
должно основываться упорядоченное и
гармоничное многоголосие? В западноевропейской
музыке к середине XVI в. сложилась
теория (ее создателем считается выдающийся
итальянский теоретик Д. Царлино),
согласно которой голоса многоголосной ткани
соединяются в благозвучное целое на основе
трезвучия (мажорного или минорного) —
гармонической вертикали, обладающей
особыми качествами. Именно трезвучие дает
идеальное слияние и единство голосов.
Трезвучие в маньеристической и барочной
теории музыки — символ Божественной
троичности в своем единстве. Царлино,
следуя неоплатонической и неопифагорейской
концепции музыки как звучащего числа
(numerus sonorus), объясняет совершенство
трезвучия особыми числовыми
пропорциями, образующимися в результате сочетания
входящих в него звуков66. В XVII в. в
теории генерал-баса трезвучие продолжает
рассматриваться как главная единица
вертикали, при этом детально
разрабатываются правила соединения трезвучий, порядка
в их чередовании, связи с другими
аккордами. Сердцевину правил композиции Ди-
лецкого также составляет учение о
трезвучиях, или, как он их называет, «конкорда-
циях». Именно трезвучие вносит такой
порядок в многоголосие, при котором голоса
«сливаются в один голос, благозвучно
двигаясь по ступеням, умилительный и
горестный, а вместе они звучат как один
радостный голос»67. Входящие в состав трезвучия
звуки имеют свой внутренний распорядок,
субординацию и выстраиваются на основе
фундамента — баса (по Дилецкому бас —
это basis, основание). Троестрочное и деме-
ственное многоголосие подвергается Дилец-
ким и Кореневым уничижительной
критике именно потому, что не ориентируется на
трезвучную вертикаль. С точки зрения
новой европейской гармонии в линейном де-
мественном многоголосии нет порядка, нет
гармонии, по словам Коренева, оно «звучит
беспорядочно, тогда как для ничего не
знающих этот вопль приятен»68. Зато если
соблюдать правила, то можно сочинять
музыку из стольких голосов, «сколько
хочет автор, хотя бы из ста...»69.
В определении музыки, предложенном в
трактате Коренева, требует пояснений
соединение предикатов «художество»
(искусство. — Т. Б.) и «ведение», «учение»
(наука. — Т. Б.). В западноевропейской
теории музыки XVI — XVII вв. эти понятия
не представляли такой оппозиции, как в
настоящее время. Искусство (ars) — это
мастерство, основанное на науке практическое
умение, знания о том, как правильно
создавать музыку. В трактатах XVI — XVII вв.
определения музыки как науки (scientia),
искусства (ars) и умения (peritia) часто
совмещаются, подменяют одно другое70. Дву-
сторонность определения музыки находит
отражение в разделении ее на музыку
теоретическую (собственно наука) и
практическую (композиция и исполнительство).
Именно в русле этой «двойной истины» и
находится определение Коренева.
Как наука музыка входила в состав семи
«свободных искусств» (septem artes liberales)
вместе с риторикой, диалектикой,
грамматикой (составлявших тривий) и
арифметикой, астрономией, геометрией (входивших
в квадривий). «Есмь бо по четырех пятая
мудрость» — представляется музыка у Спа-
фария71. В русской теории «мусикия» в
XVII в. впервые включается в содружество
«свободных мудростей». В
западноевропейской же науке осмысление места музыки в
системе семи свободных искусств прошло
длительную эволюцию со времен поздней
античности. В средневековой культуре, как
известно, музыка наиболее тесно была
связана с дисциплинами квадривия, с точным
математическим знанием. Она была преж-
368
де всего наукой о числовых отношениях
тонов, интервалов, ритмов и в эпоху
Возрождения постепенно начинает сближаться с
дисциплинами тривия, и в особенности с
грамматикой и риторикой. Понимание
музыки как особого языка со своими
грамматическими законами, обладающего силой
воздействия, аналогичной ораторской речи,
привело к принципиальным изменениям в
музыкальной эстетике. Возрождается
забытая средневековьем античная теория этоса;
задачей музыкального искусства
становится возбуждение страстей и аффектов души
на основе знания законов музыкальной
риторики72.
В русской теории XVII в. указывается
лишь на самую общую связь музыки с
дисциплинами квадривия. Ни Коренев, ни Ди-
лецкий не занимаются умозрительными
проблемами числа, числовых пропорций, как
большинство их европейских современников,
им незнакома музыкальная каббалистика,
числовая символика. Для Коренева связь
музыки с геометрией и арифметикой важна
только в свете общих представлений о
музыкальной гармонии и порядке («музыка
содержит в себе геометрию, арифметику и
голос. Ибо всякое пение создается мерой и
числом — по „ступеням и голосам"»)73.
Гораздо большее практическое значение
для Коренева и Дилецкого имеет связь
музыки с грамматикой и риторикой. Не
случайно трактат Дилецкого называется «Му-
сикийская грамматика». По Кореневу,
«музыка — это вторая философия и
грамматика, измеряющая голоса по ступеням, подобно
тому как в словесной философии или
грамматике существует правильное употребление
слов и их свойств, слогов, фраз и
рассуждений, знание и наименование стихий, всех
их свойств и силы. Музыка, как и
словесная грамматика, является грамматикой,
организующей звук»74.
«Мусикийская грамматика» Дилецкого,
как и любая грамматика, учит азбуке —
названиям нот, длительностей, нотной
записи (ключам, линейкам), основным
грамматическим элементам (конкордациям —
трезвучиям, каденциям — заключительным
гармоническим оборотам) и грамматическим
конструкциям (формулам восходящего и
нисходящего движения, начальным имита-
Часть I. Глава 7
циям и т. д.). Такое грамматическое
расчленение языка музыки, изучение отдельных
его элементов и их связей стало
необходимостью с отходом от канонического
мышления, инструментализацией стиля,
снижением формообразующей роли просодии.
Осознание музыки как
самостоятельного языка сопровождается изменением
представлений о том, чему служит этот язык, на
что он направлен. Одно из определений
музыки в «Мусикийской грамматике» гласит:
«Музыка — это то, что звуками
возбуждает человеческие сердца или к веселию, или
к печали, или к смешанным чувствам»73. В
западноевропейской музыкальной науке к
XVII в. формируется новое понятие
«патетической», «поэтической» музыки (musica
pathetica, musica poetica). По Н. Бурмейсте-
py, музыкант — это musicus poeticus, поэт,
ритор, проповедник, искусство которого
должно учить, волновать, увлекать
(традиционная формула античной риторики —
docere, movere, delectare76). Новое
назначение музыки состоит в том, чтобы передавать
аффекты текста и возбуждать их в
слушателе (возрождение и обновление греческой
теории музыкального этоса). Если
содержание средневековой церковной музыки
(григорианский хорал) составлял один
аффект — молитвенное предстояние
Всевышнему, а единственным прототипом было
ангельское пение, то теперь многоаффектность
выражает сложные отношения человеческой
души с мирозданием.
Коль скоро аффекты имеют такое
значение для искусства и так сильно
воздействуют на душу, необходимо их изучать, чтобы
уметь управлять ими. В трудах барочных
теоретиков приводятся перечни основных
аффектов и описаны средства для их
возбуждения. Дилецкий в приведенном выше
определении музыки упоминает только о
двух главных аффектах — радости и
печали. Средство их передачи в музыке —
противоположение мажора и минора, мажорных
и минорных трезвучий и ладов77.
Учение об аффектах — новейшее
достижение барочной теории музыки.
Разработанное Декартом, Мерсенном, Кирхером,
оно могло быть известно Дилецкому по
труду Кирхера или по итальянским трактатам
1-й половины XVII в.
369
Книга вторая
*
Хотя музыкально-риторическое учение
изложено у Дилецкого не так
систематично, как у его западноевропейских
предшественников, тем не менее в «Мусикийской
грамматике» нашли отражение все его
основные элементы и разделы — inventio
(учение об «изобретении», «нахождении»
материала), dispositio («расположение»
материала), decoratio («украшение», учение о
фигурах) и executio (исполнение).
Наиболее широко у Дилецкого
представлено учение о музыкально-риторических
фигурах, которые, по словам Шейбе,
являются языком аффектов78. Фигуры —
типизированные музыкальные обороты, часто
звукоизобразительного характера, с
помощью которых в музыке передаются те или
иные аффектные слова текста. По Н. Бур-
мейстеру, «музыкальная фигура
представляет собой музыкальный оборот,
гармонический или мелодический, который возникает
в связи с текстом в музыкальном разделе»79.
Музыкально-риторические фигуры — это
своего рода музыкальные тропы, метафоры.
В западноевропейских музыкальных
трактатах зафиксировано и описано более
восьми десятков фигур. У Дилецкого, при
отсутствии систематического учения о фигурах,
достаточно красноречивы уже сами
упоминания о наиболее распространенных из
них — anabasis (восходящем мелодическом
движении, обычно сопровождающем
слова — небо, возвышать и др.)» catabasis
(нисходящем движении мелодии на
словах — земля, унизить, сойти и др.). При
этом, хотя Дилецкий и не употребляет
традиционных для западноевропейского
музыкально-риторического учения латинских
наименований фигур, тем не менее имеет в виду
именно их: «Когда хочешь изобразить
естество какого-либо текста в концертной
форме, чтобы голоса один за другим
следовали, для примера „взыде на небеса",
тогда требуется одно из правил восходящего
движения, если же будет текст „сниде на
землю", то требуется какое-либо правило
нисходящего движения по твоей воле и
разуму»80. Один из музыкальных примеров,
в котором мелодия сначала постепенно
восходит, а затем пребывает на одной высоте
и, наконец, нисходит, трактуется Дилецким
как барочная эмблема бренности
человеческого бытия: «Жития начало тяжкое, средина
страшная, конец глубоки»81. Под углом
зрения барочной эмблематики Дилецкий
толкует и квинтовый круг («колесо»): «Глас
грома твоего в колеси, Безначальное и
Бесконечное»82.
Из группы фигур украшения —
decoratio — Дилецкий упоминает только
особое, «ради елеганции», употребление
диссонансов («наипаче ради красоты
полагаются») и фигуру фуги (fuga — бег). Фигурой
фуги, когда «голоса связанными (т. е.
быстрыми восьмыми или шестнадцатыми,
пишущимися под одним ребром-связкой. —
Т. Б.) нотами один за другим или
совместно бегают», Дилецкий рекомендует
передавать слова: «связаем многими узами
железными»83. Общая эстетическая установка:
«правило естественное, по-латыни
натуральное, это то, когда композитор сочиняет в
зависимости от смысла слов <...> И то
нехорошо, когда композитор на скорбные
слова „О горе мне, грешному", пишет веселую
музыку и наоборот»84.
Риторическое учение об inventio, «сиречь
об изыскании пения, како творити»,
означает отход от канона, новую концепцию
композиторского творчества. Перед роспевщи-
ком знаменной монодии не стояло задачи
сочинения, изобретения материала — он
пользовался канонизированным сводом по-
певок. В музыкальной практике барокко
сама установка на inventio —
индивидуальное нахождение музыкальной идеи,
изыскание, сочинение, то есть создание музыки «из
ничего», «из себя», — ставит перед
художником особые творческие задачи. С отходом
от канона гарантией качества и ориентиром
для композитора должны служить «особые
правила». «Много таких композиторов, —
пишет Дилецкий, — которые сочиняют, не
зная правил, пользуясь простым
соображением, но это не может быть совершенным,
как и тогда, когда не учившийся риторике
или этике пишет стихи <...> Едущий
дорогой, не зная пути, когда встретятся две
дороги, сомневается — тот ли его путь или
другой, то же и с не изучившим правил
композитором»85.
Но кто устанавливает эти правила?
Канон исходит от самого Бога и дан человеку
в виде откровения. Правила же партесной
370
Часть I. Глава 7
композиции, по Дилецкому, следует
выводить на основании изучения творчества
композиторов старых времен, искуснейших
творцов музыки (для Дилецкого это
поляки Зюска и Замаревич, украинцы И. Ко-
ленда, Елисей Монах). «И ты, композитор,
услышав произведение искусного творца
пения, запиши его к себе в таблицу, из
которой поймешь, по каким правилам
движения, начала и расположения оно
построено, — и риторы хранят правила своих
предшественников, что и называется
наследованием»86.
При этом Дилецкий обнаруживает
полное пренебрежение к исконно русскому
древнему канону. Он полемически
заявляет: «ирмологион плохо пишут и так же плохо
поют»87. Не задумываясь Дилецкий
рекомендует исправлять «ирмолойные напевы»
в соответствии с правилами европейской
грамматики — ставить диезы и бемоли,
чтобы видоизменить древние лады в духе
мажора и минора (диезы и ирмологии не
стоят, по мнению Дилецкого, потому что «не
умеют ставить»), изменять ритмическую
структуру, чтобы подогнать ритмически
свободные древние напевы под современную
тактовую систему («получить правильное
тактовое строение», «уместить» в
правильный такт). «Ноты и напевы ирмолойные,
которые не имеют тактового размера, можно
привести к нему через введение половинных
пауз, трехдольности, четвертных пауз, пауз
в полтакта»88. Результат исправлений —
совершенно новое эстетическое впечатление,
модернизация и европеизация древнего
знаменного пения, приближение его к
партесному. Примером для Дилецкого могли быть
западные музыканты, так же круто
обходившиеся с григорианским хоралом,
видоизменявшие древние напевы альтерациями в духе
мажора и минора и тактировавшие их. В
частности, в трактате Ляуксминаса — тео-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В западноевропейской музыке 2-я половина
XVI — начало XVII столетия проходят под
знаком поворота от ренессанса к барокко.
Рушится здание ренессансного контрапункта,
хоровая полифония месс, мотетов, мадригалов
ретика, преподававшего в Виленской
академии во времена Дилецкого, аналогичные
поправки вносятся в григорианский хорал89.
Проблема упорядочивания
композиционного процесса в условиях свободного от
канона творчества решается в
музыкально-риторическом учении о диспозиции (dis
positio) — расположении материала.
Ориентир здесь также творчество искусных
предшественников: «Расположению
(диспозиции) композиции научишься прилежным
изучением искусных композиторов —
смотри, как они излагали свои композиции»90.
Теория риторической диспозиции
изложена у Дилецкого предельно кратко.
Впрочем, и в западноевропейской музыкальной
науке этот раздел
музыкально-риторического учения получил детальную разработку
только в XVIII в. (И. Маттезон, И. Фор-
кель). Вместе с тем Дилецкий описывает
важнейшие разделы композиции — ее
начало (эксордиум) и продолжение
(амплификацию) и дает конкретные рекомендации, с
чего начинать сочинение, как развивать
материал (здесь изложены важнейшие
правила двойного контрапункта, принципы
повтора, варьирования, ладового
превращения).
В целом композиторский труд в
трактатах Коренева и Дилецкого предстает как
рационально упорядоченный, научно
организованный процесс работы просвещенного,
знающего правила и предшествующую
традицию творца. По словам Коренева,
партесное пение — «премудрое и гармоничное по
музыкальной науке»91. Но умудренность
композитора партесных концертов и
древнерусского роспевщика принципиально
различны. Мистическая софийность
древнерусского знаменного пения перерастает в
представление об освещенном светом разума,
вооруженном правилами индивидуальном
композиторском мастерстве.
уступает место сольному пению в
сопровождении инструментов, по мнению гуманистов,
возрождающему аффектную декламацию античной
драмы. Рождается опера и новый оперный
«взволнованный» стиль (Монтеверди), появля-
371
Книга вторая
ется хоровой концерт. В маньеристических и
барочных теориях рубежа XVI — XVII вв.
возникают новые концепции творчества,
творца, новые представления о методах композиции,
формируется учение о музыкальной риторике,
подводится теоретический фундамент под
оперную монодию и генерал-бас.
2 Хоровая полифония «строгого стиля».
3 Оперная монодия, концертный хоровой
стиль, генерал-бас.
4 В западноевропейском мотете XIII в. по
вертикали объединялись не только три разные
мелодии, но и три самостоятельных текста на
разных языках. Между голосами могли
возникать любые диссонантные сочетания,
вертикальная координация требовалась лишь на самых
заметных участках формы — в начале и в конце
построений.
5 «Для нас лучше умереть, чем приложить
руки к грамоте о единогласии» (из « Расспрос -
ных речей о единогласии», 1651). Цит. по:
Музыкальная эстетика России XI — XVIII
веков. Сост. Рогов А. И. М., 1973. С. 86.
6 Цит. по: Разумовский Д. Церковное
пение в России. Вып. 2. М., 1868. С. 207.
7 Цит. по: Металлов В. Очерк истории
православного церковного пения в России. Изд.
3-е. М., 1900. С. 81.
8 Цит. по: Коренев И. О музыке. Перев.
Б. Смолякова (рукопись) (не опублик.).
9 Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикий-
ской. Вступ. ст., публ. Вл. Протопопова //
Памятники русского музыкального искусства.
Вып. 7. М., 1979. С. 350.
10 Теория переходно- переломного характера
западноевропейского музыкального барокко
разработана М. Н. Лобановой (см. ее канд. дисс:
Мотет эпохи барокко в свете современной
теории культуры. М., 1982).
11 Показательно распространение в XVII в.
так называемых двознаменников, в которых один
и тот же музыкальный текст записан
параллельно нотами и крюками, и двознаменных азбук.
12 См.: Христофор. Ключ знаменной. 1604.
Публ., перев. М. Бражникова и Г. Никишова.
Предисл., коммент., исслед. Г. Никишова. М.,
1983 // Памятники русского музыкального
искусства. Вып. 9.
13 См.: Певческие азбуки Древней Руси.
Публ., перев., предисл. и коммент. Д. Шабали-
на. Кемерово, 1991. С. 154 — 157.
м Там же. С. 125 — 127, 129 — 130.
15 Азбука знаменного пения старца
Александра Мезенца. Изд. Ст. Смоленского. Казань,
1888.
16 Цит. по: Музыкальная эстетика России
XI — XVIII веков. С. 91.
17 Наказная грамота в Каргополь (документ
середины XVI в.). Цит. по указ. изд.: Там же.
С. 78.
18 Там же. С. 79.
19 Там же. С. 68.
20 См.: Там же. С. 155 — 156.
В догматике Великой Вечерни 5-го класса «В
Чермнем мори» на слове «мори» помещен знак
«два в челну с качкой». См.: Лозовая И.
Мелодия и слово в песнопениях столпового
знаменного роспева. Дипл. раб. М., 1976
(Московская консерватория).
21 Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский
А. История русской музыки. Т. 1. М., 1973.
С. 212.
22 Там же.
23 Певческие азбуки Древней Руси. С. 175 —
179.
24 Как отмечает В. Холопова, Тихон Макарь-
евский, в частности, при переводе крюковых
обозначений на нотолинейные подгоняет
непериодичную знаменную ритмику под периодичные
тактовые деления, преобразуя асимметричные
группы длительностей в симметричные.
См.: Холопова В. Русская музыкальная рит-
мика. М., 1983. С. 31.
25 Коренев И. Предисловие к «Грамматике
мусикийской». Цит. по: Музыкальная эстетика
России XI — XVIII веков. С. 126.
26 Цит. по: Музыкальная эстетика России
XI - XVIII веков. С. 163.
27 Там же. С. 102. Дискуссия в XVII в.
о том, божественное или небожественное
происхождение имеет троестрочие, — это
решение вопроса о его истинности или
неистинности.
2» Там же. С. 96.
29 Там же. С. 101 — 102.
30 Цит. по: Певческие азбуки Древней Руси.
С. 154.
31 Там же. С. 67.
32 Там же. С. 43.
33 Горовосходный холм — «гора учения для
церковного пения» — обычно помещался на
первых страницах азбук и ярко раскрашивался. С
его помощью наглядно изображали высотное
положение звуков в обиходном звукоряде. По
сторонам холма могли быть надписи: «восходы
горе» (восходящее движение звукоряда): «нис-
ходы низу» (нисходящее движение) и др.
34 Изображение ключа характерно для азбук,
объясняющих нотолинейную систему. При этом
ключ обычно имеет бородку с тремя зубцами и
двумя промежутками (символ пятилинейного
нотного стана: 3 + 2 = 5), на зубцах написано
ут-ре-ми — европейские названия первых трех
нот гексахорда, в русской системе составляющих
372
Часть I. Глава 7
одно согласие, в ушке изображены обычно
линии и ноты разных длительностей.
35 Бражников М. Древнерусская теория
музыки. М., 1972. С. 394.
36 О новых культурных тенденциях говорит
и то, что в XVII в. теоретические труды
перестают быть анонимными: в «Азбуке» инока
Христофора имя автора зашифровано
тайнописью, Тихон Макарьевский и Александр Мезе-
нец открывают свои имена в завершающих
труды акростихах, Коренев и Дилецкий заявляют
о своем авторстве на титульных листах.
37 Трактат Коренева дошел до нас в виде
первой, вступительной части к «Мусикийской
грамматике» Дилецкого (изд. Ст. Смоленского. М.,
1910).
38 См.: Протопопов Вл. Николай Дилецкий
и его «Мусикийская грамматика» // Дилецкий
Н. Идеа грамматики мусикийской //
Памятники русского музыкального искусства. С. 542.
39 Полное название трактата: «Идеа
Грамматики Мусикийской, составленная прежде
Николаем Дилецким в Вильне, послежде же им же
переведена на славенский диалект в царьствую-
щем граде Москве лета от создания мира 7187
(1679)».
40 Дилецкий ошибочно приписывает это
нововведение Боэцию (VII в.), тогда как
создатель системы сольмизации — Гвидо Аретинс-
кий (X — XI вв.).
41 Цит. по: Морозов А. Симеон Полоцкий и
проблемы восточнославянского барокко //
Барокко в славянских культурах. М., 1982.
42 Коренев И. О музыке. Цит. по:
Музыкальная эстетика России XI — XVIII веков.
С. 124.
43 Западноевропейские трактаты времени,
предшествующего «Мусикийской грамматике»,
типологически можно разделить на четыре
группы: а) универсальные компендиумы музыки, где,
наряду с музыкальными вопросами,
рассматриваются проблемы философии, математики,
теологии («Универсальная гармония» М. Мерсен-
на, «Музургия универсалис» А. Кирхера);
б) практические учебники композиции (Свелинк,
Бернхард); в) пособия по генерал-басу,
предназначенные для органистов; г) элементарные
музыкальные грамоты — буквари для певцов.
«Мусикийская грамматика» сочетает черты
пособия по обучению музыкальной грамоте
(необходимого на Руси в то время) и практического
руководства по композиции. Труд Коренева
имеет музыкально-эстетическую направленность.
Таким образом, трактаты взаимно дополняют
друг друга.
44 Трактаты работавших в Польше Н. Лис-
тения, Себастьяна из Фельштына, С. Старо-
вольского и сейчас имеются в библиотеке
Вильнюсского университета. Очень вероятно, знание
Дилецким трактата Кирхера «Музургия
универсалис» (Кирхер был монахом иезуитского
ордена, и его труды очень быстро распространялись
по иезуитским коллегиям не только Европы, но
и Азии, Африки, Америки). Дилецкий,
вероятно, был знаком с трудами другого
ученого-иезуита Шенследера, а также М. Скакки —
итальянского теоретика и композитора, долгое время
работавшего при дворе польского короля.
45 Эриугена // L,t. 122, col. 567.
46 Дилецкий H. Идеа грамматики
мусикийской. Указ. соч. С. 324. Аналогично у Спафа-
рия: «Музыка сиречь песньствование, имя свое
от мусы богини пения получи». (См.: Спафарий
Николай. Эстетические трактаты. С. 38.)
47 Эта откровенная измена «эстетике Слова»
приводила к тому, что молитвенный текст мог не
звучать целиком, отдельные строки пропускались
ради сольной органной игры. В XVII в. во время
мессы звучали и инструментальные пьесы
светского происхождения — речитативы, арии,
канцоны.
48 В античной теории музыка делилась на
мировую, человеческую и инструментальную.
Мировая музыка — неслышимая космическая
гармония сфер, человеческая — музыка,
возникающая в результате гармоничного устройства
человеческого тела, инструментальная — музыка,
производимая инструментами, к которым
древние относили и человеческую гортань. Таким
образом пение оказывалось включенным в раздел
инструментальной музыки.
49 См.: Лобанова М. Мотет эпохи барокко
в свете современной теории культуры. Канд.
дисс. М., 1982.
50 Дилецкий Н. Цит. соч. С. 324.
51 Цит. по: Музыкальная эстетика России
XI — XVIII веков. С. 124.
52 Там же. С. 131.
53 Там же. С. 130.
*4 Дилецкий Н. Цит. соч. С. 440.
55 Там же. С. 357.
56 Цит. по: Музыкальная эстетика России
XI — XVIII веков. С. 105.
57 Спафарий Николай. Цит. изд. С. 38.
58 Цит. по: Музыкальная эстетика... С. 137.
Здесь Коренев неожиданно прибегает к
сравнению с ипподромом, куда читатель если бы
попал, то увидел бы «всех скачущих в порядке и
ничего бы не заметил такого, что было бы вне
строя» (там же).
59 Там же. С. 125.
60 Там же. С. 124.
61 В этом понимании категория гармонии
сливается с самим понятием музыки и означает все-
373
Книга вторая
общую упорядоченность на основе правильных
числовых отношений, охватывающих макро- и
микрокосм (см., например, три главных трактата
эпохи барокко: «Musurgia universalis» А. Кир-
хера, «Harmonie universelle» M. Мерсенна,
«Harmonia mundi» И. Кеплера).
62 Цит. по: Музыкальная эстетика... С. 128.
63 Там же. С. 137.
64 Там же. С. 127.
65 Там же. С. 133.
66 Если сопоставить длины струн или числа
колебаний звуков, входящих в мажорное
трезвучие, то получится ряд простых чисел, так
называемое senario: 1:2:3:4:5:6 (основной тон
трезвучия, его удвоение в октаву, квинтовый тон,
повторение основного двумя октавами выше,
терцовый тон, повторение квинтового октавой
выше).
67 Цит. по: Музыкальная эстетика... С. 126.
68 Там же. С. 133.
69 Заметим, что понятие «согласие» было
знакомо русской теории музыки в значении порядка
звуков по горизонтали в обиходном звукоряде.
В учении Коренева и Дилецкого этот термин
переосмысливается под углом зрения теории
многоголосия.
70 См.: Поспелова Р.
Музыкально-теоретическое и эстетическое учение И. Тинкториса.
Канд. дисс. М., 1984. В античной и
средневековой эстетике противопоставление теории и
практики гораздо резче.
71 Спафарий Николай. Цит. соч. С. 39.
72 Музыкальная риторика — термин,
принятый по отношению к барочным учениям,
переносящим методы и понятия античной риторики
на музыкальную композицию.
73 Музыкальная эстетика России XI —
XVIII веков. С. 139.
™ Там же. С. 124.
75 Цит. по: Дилеикий Н. Идеа грамматики
мусикийской. С. 326.
76 См.: Захарова О. Риторика и
западноевропейская музыка XVII — первой половины
XVIII века. М., 1983.
77 Именно конец XVI — XVII вв. явился
временем формирования и теоретического
осмысления классической двуладовой системы
мажора и минора, сменившей средневековую
систему октоиха — восьми церковных ладов (см.:
Баранова Т. Переход от модальности к тональной
системе в западноевропейской музыке XVI —
XVII веков. Канд. дисс. М., 1980). Специфично
предлагаемое Дилецким и незнакомое
европейской теории понятие «смешанной мусикии»,
которая начинается весело, а заканчивается
жалостно (по замечанию Вл. Протопопова,
«смешанная мусикия» отражает переменно-ладовое
строение народной песни).
78 См.: Захарова О. Указ. соч. С. 30.
79 Цит. по: Захарова О. Указ. соч. С. 23.
80 Дилецкий Н. Цит. соч. С. 377.
si Там же. С. 410.
82 Там же. С. 396.
вз Там же. С. 159.
s« Там же. С. 351, 338.
S3 Там же. С. 377.
86 Там же. 378.
87 Там же. С. 387.
88 Там же. С. 388.
89 См.: Liauksminas Ц. Ars et praxis musica.
Vilnius, 1977.
90 Дилецкий Н. Цит. соч. С. 375.
91 Цит. по: Музыкальная эстетика России
XI — XVIII веков. С. 130.
Часть II
Художественно-эстетическая
культура
Глава 1
Поэтика
литературы
XVII век в
русской литературе был временем перехода от
средневековой книжности к литературе
новоевропейского типа.
Это век, в котором смешались
архаические явления с новыми, соединились местные
и византийские традиции с влияниями,
шедшими из Польши, Украины и
Белоруссии.
Это век, в котором прочно
укоренившиеся за шесть столетий литературные жанры
легко уживались с новыми формами
литературы: с силлабическим стихотворством, с
переводными приключенческими романами,
с театральными пьесами, впервые
появившимися на Руси при Алексее
Михайловиче, с первыми записями фольклорных
произведений, с пародиями и сатирами.
Это век, в котором одновременно
возникает литература придворная и
демократическая.
Наконец, в XVII в. мы видим появление
профессиональных писателей, усиление
чувства авторской собственности и интереса
читателей к автору произведения, к его
личности, развитие индивидуальной точки
зрения на события и пробуждение в
литературе сознания ценности человеческой
личности самой по себе, вне зависимости от ее
официального положения в обществе.
Несомненно, что все эти и иные явления
XVII в. сделали возможным ко 2-й трети
XVIII в. включение русской словесности в
общеевропейское развитие, появление новой
системы литературы, способной стать на
один исторический уровень с французской,
германской, английской, развиваться
вместе с ними по одному общему типу,
воспринимать их опыт и примыкать к
общеевропейским литературным направлениям
(барокко, классицизм, позднее — романтизм,
реализм, натурализм и проч.) без всяких
ограничений, снижающих или сокращающих
значение этих направлений на русской
почве.
Если кратко определить значение XVII в.
в истории русской литературы и в истории
русской культуры в целом, то следует
отметить — главное состоит в том, что век этот
был веком постепенного перехода от
древней литературы к новой, соответственно
переходу России от средневековой
культуры к культуре Нового времени.
В этот период существенно меняется
(расширяется) жанровый состав
литературы, появляются новые формы и принципы
художественного освоения
действительности. Изменения, которые подготавливаются
в XVII в., обязаны главным образом
решительному расширению социального опыта
литературы, расширению социального
круга читателей и авторов. Прежде чем
отмереть, средневековая жанровая структура
литературы крайне усложняется, количество
жанров возрастает, их функции
дифференцируются, и происходит консолидация и
выделение литературных признаков как
таковых.
Чрезвычайно расширяется количество
жанров за счет введения в литературу форм
деловой письменности, которым в отличие
от предшествующего времени все больше и
больше придаются чисто литературные
функции. Количество жанров увеличивается за
счет фольклора, который начинает
интенсивно проникать в письменность
демократических слоев населения, и за счет переводных
произведений. Новые виды литературы,
375
Книга вторая
появившиеся в XVII в. — силлабическое
стихотворство и драматургия, — постепенно
развивают свои жанры. Наконец,
происходит трансформация старых средневековых
жанров в результате усиления сюжетности,
развлекательности, изобразительности и
расширения тематического охвата
литературы. Существенное значение в изменении
жанровых признаков имеет усиление
личностного начала, совершающееся в самых
разных областях литературного творчества по
самым различным линиям.
Типичный пример образования в XVII в.
нового жанра — это появление жанра
«видений» в период Смуты. Видения были
известны и раньше как часть житий святых,
сказаний об иконах или как часть
летописного повествования. В эпоху Смуты жанр
видений приобретает самостоятельный
характер. Это острополитические
произведения, рассчитанные на то, чтобы заставить
читателей безотлагательно действовать,
принять участие в событиях на той или иной
стороне. Характерно, что в видениях
соединяется устное начало и письменное. Они
рождаются в устной молве и только после
этого появляются в письменном тексте.
«Тайнозрителями» видений могли быть
простые посадские люди: сторожа,
пономари, ремесленники и т. п. Но тот, кто
передает это видение в письме, автор, еще
продолжает принадлежать высшему
церковному или служилому сословию. Однако и те
и другие не столько заинтересованы в том,
чтобы прославить святого или святыню,
сколько в том, чтобы подкрепить
авторитетом чуда свою политическую точку зрения,
свои обличения общественных пороков, свой
политический призыв к действию. Перед
нами один из характерных для XVII в.
примеров начавшегося процесса
секуляризации церковных жанров. Таковы «видения»
протопопа Терентия, «Повесть о видении
некоему мужу духовну», «Нижегородское
видение», «Владимирское видение»,
видение поморского крестьянина Евфимия
Федорова и многие другие.
Большое значение для образования новой
структуры литературных жанров имело
разделение научной литературы и
художественной. Если раньше «Шестоднев»,
«Топография» Козьмы Индикоплова или
«Физиолог» и многие другие произведения
«естественнонаучного характера» имели равное
отношение как к науке, так и к
художественной литературе, то теперь, в XVII в., такие
переводные сочинения, как «Физика»
Аристотеля, «Космография» Меркатора,
зоологический труд Улисса Альдрованди,
анатомический труд Везалия, «Селенография» и
многие другие, стоят обособленно от
художественной литературы и никак с нею не
смешиваются. Правда, подобное различение
еще отсутствует в «Уряднике сокольничья
пути», в котором художественные
элементы смешиваются с регламентацией
охотничьей церемонии, но это объясняется
спецификой самой соколиной охоты, интересовавшей
русских людей XVII в. не только с
утилитарной, но главным образом с эстетической
точки зрения.
Из переводных жанров на Руси в
XVII в. усваивается жанр
западноевропейского рыцарского романа, романа
авантюрного (ср. повествования о Бове, Петре
Златых Ключей, об Оттоне и Олунде, о
Василии Златовласом, Брунцвике, Мелю-
зине, Аполлонии Тирском, Валтасаре и
т. п.), нравоучительная новелла, веселые
анекдоты (в первоначальном смысле слово
«анекдот» — это повествование об
историческом происшествии) и др.
В XVII в. происходит новое, очень
значительное социальное расширение
литературы. Наряду с литературой
господствующего класса появляется «литература посада»,
литература народная. Последняя и
пишется демократическими авторами, и читается
массовым демократическим читателем, и по
содержанию своему отражает интересы
демократической среды. Она близка
фольклору, близка разговорному и деловому языку,
часто антиправительственна и антицерков-
на, принадлежит «смеховой культуре»
народа1. Частично она близка «народной
книге» Западной Европы. Социальное
расширение литературы дало новый толчок в
сторону ее массовости. Демократические
произведения пишутся неряшливой или
деловой скорописью, распространяются в
тетрадочках, без переплета. Это вполне
дешевые рукописи.
Все это не замедлило сказаться на их
жанрах. Демократические произведения не
376
Часть II. Глава 1
связаны какими-либо устойчивыми
традициями, особенно традициями «высокой»
церковной литературы.
До появления демократической
литературы в жанры деловой письменности
вкладывалось литературное содержание, которое не
ломало самое жанры. В демократической же
литературе формы деловой письменности
употребляются иронически, их функции
резко нарушены, им придано чисто
литературное значение. Деловые жанры
употребляются пародийно. Сама деловая форма
является одним из выражений их
сатирического содержания. Так, например,
демократическая сатира берет реально
существовавшую форму росписи о приданом и стремится
именно с ее помощью подчеркнуть
абсурдность содержания. То же отличает,
например, «церковную» форму «Службы кабаку»
или «Калязинской челобитной». Пародия в
подобных произведениях направлена не на
автора, не на авторский стиль, а на форму,
жанр и стиль делового документа.
Новое содержание не вкладывается в
деловые жанры, как это было раньше, а
взрывает эту форму, делает ее предметом
осмеяния, как и ее привычное содержание.
Жанр приобретает здесь несвойственное ему
значение. По существу, перед нами уже не
деловые жанры, а новые, созданные путем
переосмысления. Поэтому каждая из этих
форм может быть использована один-два
раза. В конечном счете употребление этих
«перевернутых» и переосмысленных жанров
ограничено. Бессмысленно многократно
пародировать один и тот же жанр. Одна
удачная его пародия в известной степени
исчерпывает свои возможности сатиры на то или
иное явление.
Процесс использования жанров деловой
письменности в демократической
литературе имеет типичный для XVII в.
«разрушительный» характер.
XVII столетие было веком необычайной
пестроты литературных жанров. Наряду со
средневековыми, основанными на
принципах их употребления в церковном,
государственном и частном обиходе (жанры
средневековой литературы в той или иной мере
имели «деловую» предназначенность),
возникают новые для частного чтения. Те и
другие существуют одновременно. Та.к,
например, наряду с подлинными
дипломатическими посланиями появляются
послания подложные, вымышленные,
предназначенные только для чтения. Создается,
например, занимательная переписка Ивана
Грозного с турецким султаном. Наряду с
подлинными дипломатическими отчетами
русских послов — так называемыми
статейными списками — появляются
вымышленные статейные списки Сугорского и Илеи-
на. Деловые документы все чаще
составляются в расчете на их прочтение многими
читателями. Возникают пародии на деловые
документы, на судебные процессы
(«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о
Шемякином суде»), на богослужение
(«Служба кабаку»), на путники и
дорожники, даже на лечебники («Лечебник на
иноземцев»). Возникает сатира и
сатирические жанры. Появляется систематическое
стихотворство и многочисленные
стихотворные жанры. Зарождается театр и
драматургия с ее особыми жанрами. Фольклор
осознается как особый вид словесного
творчества и начинает записываться. Вместе с тем
создаются первые книжные подражания
фольклору: песни, написанные для
Ричарда Джемса, лирические песни Квашнина-
Самарина, «Повесть о Горе Злосчастии».
Разнообразятся исторические жанры,
которые все больше и больше входят в
развлекательное чтение. Появляются историко-
фантастические повести вроде «Сказания о
начале Москвы», летописи приобретают
характер связного исторического
повествования, не только рассказывающего об
истории той или иной области (например,
Сибири), города, исторического лица, но и
осмысливающего эту историю,
преподносящего ее в литературно-украшенной форме.
Возникают и приключенческие плутовские
повести («Повесть о плуте Фролке Скобе-
еве»). Все богаче становится литература
легенд. Рождается мемуарная литература.
Никогда еще, ни до XVII в., ни после,
русская литература не была столь пестра в
жанровом отношении. Здесь столкнулись
две литературные системы: одна
отмиравшая, средневековая, другая
зарождающаяся — Нового времени.
Одной из существенных особенностей
литературы XVII в. стал рост личностного
377
Книга вторая
начала в ней, эмансипация личности, рост
индивидуального авторского самосознания.
Сама литература как целое начинает
создаваться под действием этого личностного
начала. В нее входит личная точка зрения
писателя, представления об авторской
собственности и неприкосновенности текста
произведения автора, происходит
индивидуализация стиля и многое другое.
В самом деле, личность писателя
сказывалась в художественном методе
средневековой литературы значительно слабее, чем
в литературе Нового времени. Причины
тому две. С одной стороны, постоянные
последующие переделки произведения, не
считавшиеся с авторской волей и
уничтожавшие индивидуальные особенности авторской
манеры. С другой же стороны, книжники
Средневековья и сами гораздо менее
стремились к самовыявлению, чем авторы
Нового времени. В литературе Древней Руси
гораздо большую роль, чем авторское
начало, играл жанровый признак. Каждый
литературный жанр имел свои традиционные
особенности художественного метода. Эти
особенности, присущие тому или иному
жанру, вытесняли индивидуальные
авторские.
Авторская личность начинает заявлять о
себе с достаточной определенностью в
XVI в. в произведениях, принадлежащих
перу властного и ни с чем не считающегося
человека — Ивана Грозного. Это в какой-
то мере первый писатель, сохраняющий
неизменной свою авторскую
индивидуальность, независимо от того, в каком жанре он
писал. Он не считается ни с этикетом
власти, ни с этикетом литературы. Его
ораторские выступления, дипломатические
послания, письма, рассчитанные на многих
читателей, и частная переписка с отдельными
лицами всюду выявляют сильный
неизменный образ автора: властного, ядовитого,
саркастически настроенного, фанатически
уверенного в своей правоте, все за всех
знающего. Это сильная личность, но жестоко
подавляющая другие личности, личностное
начало.
События Смуты начала XVII в.
перемешали общественное положение людей. И
родовитые и неродовитые люди стали играть
значительную роль, если только они
обладали способностями политических деятелей.
Поэтому и официальное положение писателя
не стало иметь того значения, что раньше.
Вместе с тем каждый автор стал
стремиться к самовыявлению, иногда
самооправданию, начал писать со своей сугубо личной
точки зрения.
Авраамий Палицин, князь Иван Хворо-
стинин, князь Семен Шаховской пишут
свои произведения о Смуте в целях
самооправдания и самовозвеличения. У них были
чисто личные причины для составления
своих произведений. В их
сочинения.проникает элемент автобиографизма. Они даже и не
скрывают, что высказывают не объективную
точку зрения на события, а сугубо
субъективную — личную. В своих «Словесах дней
и царей и святителей московских» Иван
Хворостинин дает характеристику тем
деятелям Смуты, которые ему были лично
знакомы. Авторы повестей о Смуте —
участники событий, а не только их
свидетели. Поэтому они пишут о себе и о своих
взглядах, оправдывают свое поведение,
ощущают себя не только объективными
историками, но в какой-то мере и
мемуаристами.
Если профессиональные
писатели-ремесленники появляются уже в XV в. (Пахомий
Серб), то теперь, в XVII в., появился тип
писателя, осознающего значительность того,
что он пишет и делает, необыкновенность
своего положения и свой гражданский долг.
Самосознание в XVII в. стоит уже на уровне
Нового времени.
Рост самосознания автора был только
одним из симптомов осознания в
литературе ценности человеческой личности.
Ценность человеческой личности сама по
себе осознавалась не в абстрактном ее
понимании, а в самом обыденном, конкретном.
Человек все больше выступал как
сложное в нравственном отношении существо,
связанное при этом с другими людьми, с
обстоятельствами, приведшими его к тому
или иному поступку, с бытовой обстановкой.
Раскрепощение человеческой личности в
литературе было и своеобразной
конкретизацией ее изображения. Человек все
больше начинал восприниматься как конкретный
индивидуум, в сложной «раме» быта и
общества. Правда, этот быт и это общество
378
Часть II. Глава 1
виделись еще глазами автора, не совсем
обвыкшими к дневному освещению.
Вырисовывались лишь контуры соотношений и
отдельные детали. Однако принципиально
важен был самый переход к
детализированному видению.
Герои литературных произведений
«спускаются на землю», перестают ходить на
ходулях своих официальных высоких рангов
в феодальном обществе. Их положение по
большей части снижается, соответствуя
отчасти положению нового читателя,
пришедшего в XVII в. из масс, своими
собственными силами выдвинувшегося или по
своей собственной беспечности не
выдвинувшегося в обществе.
Для нового читателя герой
литературного произведения не вознесен над ним, а
вполне с ним сопоставим. Отсюда
отношение к нему автора становится еще лиричнее.
Герой не поднимается над читателем и в
моральном отношении.
Во всех предшествующих произведениях
Средневековья действующие лица как бы
витали в особом пространстве, куда
читатель, в сущности, не мог проникнуть.
Теперь герой лишен какого бы то ни было
ореола. Он опрощен до пределов
возможного. Молодец «Повести о Горе
Злосчастии» наг или одет в «гуньку кабацкую».
Таков же герой «Азбуки о голом и
небогатом человеке». Он голоден. Он не признан
родителями, изгнан друзьями, скитается
«меж двор». Натуралистические
подробности делают эту личность «низкой» и почти
уродливой. Но замечательно, что, так
приближая своего героя к читателю, автор
делает его тем самым достойным жалости и
утверждает его ценность. При этом
оказывается, что у этого падшего героя не
отнято главное — ум и самосознание. На самой
низкой ступени падения он сохраняет
чувство права на лучшее положение и сознает
свое умственное превосходство. Он
иронизирует над собой и окружающими,
вступает с ними в конфликт. Этот конфликт тоже
чисто бытовой. Ирония становится
средством самовыявления героя, но она же
властно овладевает автором во всех
случаях его отношения к действительности.
Снижается не только личность героя,
снижается сама действительность, язык, которым
эта действительность описывается,
отношение автора к произведению и проч.
Демократические писатели XVII в.
забавлялись созданием пародий на
челобитные, судопроизводственный процесс,
лечебники, азбуки, дорожники (дорожники —
это своего рода путеводители), росписи о
приданом и даже богослужение. Вместе с
тем в литературу обильно входили разные
«прохладные» (развлекательные) и
«потешные» сюжеты, различные забавные
повестушки и описания приключений их
персонажей.
Все эти внешне «несерьезные» сюжеты
были очень серьезны по существу. Только
серьезность их была особая и вопросы в них
стали подниматься совсем иные — не те,
которые волновали торжественную и
помпезную политическую мысль
предшествующего времени или проповедническую
литературу Церкви, а касались повседневной
жизни мелких по своему положению людей.
Серьезность вопросов, стоявших перед
новой, демократической литературой XVII в.,
была связана с социальными проблемами
своего времени. Авторов непритязательных
демократических произведений XVII в.
начинали интересовать вопросы социальной
несправедливости, «безмерная» нищета
одних и незаслуженное богатство других,
страдания маленьких людей, их «босота и
нагота». Вопросы социальной справедливости
затрагивались и в литературе XVI в., но там
это были философские рассуждения
сторонних наблюдателей. Сейчас об этом пишут
сами «босые» и «голодные». Изложение
идет от их лица, и они вовсе не думают
скрывать свои недостатки.
Герой не витает в особом пространстве
над читателем — пространство объединяет
читателя и литературного персонажа.
Читатель чувствует свою близость к тому, что
происходит в произведении, и поэтому
сочувствует маленьким людям с их часто
маленькими же житейскими тревогами.
Впервые в русской литературе грехи этих людей
вызывают не осуждение, а симпатию,
сочувствие, сострадание. Безвольное пьянство и
азарт игры в «зернь» вызывали лишь
сострадательную усмешку. Однако беззлобие
в отношении одних оборачивалось
величайшей злостью против других, которые «вни-
379
Книга вторая
доша в труд» бедных, «черт знает на что
деньги берегут» и не дают есть голым и
босым. Личность самоопределяется в
борьбе, в утверждении своего благополучия, а
потом в утверждении своих взглядов,
своих идей, против идей господствующих,
властвующих, гнетущих свободу личности с
помощью государства, Церкви, различного
рода разжиревших и раздобревших особей,
лишенных, однако, личностного начала и
цепляющихся только за свое положение. И
с этой точки зрения борьба протопопа
Аввакума с государством и Церковью, с
людьми благополучными и косными — это
только новый этап борьбы за освобождение
человеческой индивидуальности.
Освободившись, сама эта личность грозит начать
угнетать других. Но здесь «Житие»
протопопа Аввакума стоит на грани новой
трагедии — трагедии индивидуализма.
Как бы то ни было, Аввакум ведет
индивидуальную борьбу. Его сторонники мало
чем ему помогают в ней. Он вызвал против
себя на единоборство все современное ему
общество и государство. Он ведет
титаническую борьбу один на один. Недаром во
сне ему кажется, что тело его наполняет
собой весь мир. Это борьба не только
духовная, но и физическая, борьба силы с
инерцией материи. Сопротивление
материальной среды в «Житии» протопопа
Аввакума поразительно сильно. Ему
приходится преодолевать голод и холод, окружающая
его природа то громоздится над ним
горами, то топит его дощаник бурными водами
Иртыша, то наступает на него льдами и,
наконец, засыпает землей в Пустозерской
тюрьме. Борьба Аввакума не только
духовная — за духовную, умственную свободу
личности, но и борьба физическая. В этой
борьбе ему удается одолевать
сопротивление самих законов природы, он совершает
чудеса — чудеса особого склада,
побеждающие косность материи.
Итак, герои литературных произведений
в процессе эмансипации личности
«спускаются на землю», перестают ходить на
ходулях своего высокого положения,
описываются как обычные люди со своими
повседневными заботами. Их все теснее окружает
быт. Быт обступает действующих лиц,
помогает авторам в создании все
усложняющихся обстоятельств, в которые попадают
персонажи литературных произведений,
объясняет их мучения и служит той
сценической площадкой, на которой
разыгрываются перед читателем их страдания от
окружающей несправедливости.
Быт проникает в чисто церковные
произведения. Показательны два
автобиографических произведения, которым
литературоведы не совсем точно присвоили название
«повестей»: «Повесть о Марфе и Марии»
и «Повесть об Ульянии Осоргиной».
Народные жития мало следуют
житийному этикету и главное внимание обращают на
чудеса, которым придают бытовой и
сказочный характер.
Рост бытового начала в литературных
произведениях тесно связан с ростом
изобразительности в литературе. Простое
обозначение явления в Средние века всегда
отвлеченно и в какой-то степени
возвышенно, оно переносит действие в
идеализированный мир, — изображение же всегда в
известной мере «снижает» предмет
литературы. Оно делает этот предмет конкретным
и близким читателю. Вот почему в то же
время появляется в литературе и пейзаж,
пейзаж статически описанный, пейзаж
ценный сам по себе, тесно прикрепленный к
определенной местности и имеющий
национальный характер.
В XI — XIII вв. отдельные, очень
краткие описания природы (в «Поучении»
Владимира Мономаха, в «Слове на
Антипасху» Кирилла Туровского и др.) имели
своей целью раскрыть символическое значение
тех или иных явлений природы, выявить
скрытую в ней божественную мудрость,
извлечь моральные уроки, которые
природа может преподать человеку.
Однако постепенно, начиная с XII в. и
более интенсивно в XIV и в XV вв., в
изображении природы и пейзажа
вкрадываются новые черты: буря в природе вторит
бурным излияниям человеческих страстей,
тишина окружающей природы
подчеркивает умитворенное безмолвие пустынника.
Пейзаж приобретает новое символическое
значение: он уже символизирует не мудрость
Бога, а душевные состояния человека, как
бы аккомпанирует им и подчеркивает их,
создает в произведении настроение. Но уже
380
Часть II. Глава 1
в XVI в. мы найдем и более сложные
отношения природы и человека. В
«Казанской истории» описываются, например,
страдания от жажды русских воинов на фоне
изумительного пейзажа жаркой и безводной
степи, по которой с трудом движется
изможденное войско. Пейзаж не только
фон — это «сценическая площадка», на
которой разыгрывается действие. Он
конкретизирует изображение событий. В XVII в.
роль пейзажа более подымается, и здесь он
приобретает конкретные, местные черты.
Описание природы Сибири в сибирских
летописях не может относиться ни к какой
другой местности, кроме Сибири. Даурский
пейзаж в «Житии» Аввакума есть именно
даурский пейзаж, и вместе с тем это
описание природы Даурии имеет уже все
функции пейзажа, свойственного литературе
Нового времени. Он служит своеобразным
обрамлением для душевных переживаний
самого Аввакума, подчеркивает его
смятенное состояние, титаничность его борьбы,
одиночество, создает эмоциональную
атмосферу, пронизывающую рассказ, позволяет
зрителю представить себе происходящее. Он
служит изображению, и он все более
приобретает индивидуальные черты, сопутствуя
росту личностного начала в русской
литературе XVII в.
Рост личностного начала в литературе
XVII в. сказывался и в некоторой
индивидуализации прямой речи действующих лиц.
Процесс этот только-только начался, но он
тем не менее уже очень значителен и
значим.
Древняя русская литература до XVII в.
обильно насыщена прямой речью героев.
Они произносят длинные речи, молитвы,
обмениваются короткими обращениями друг
к другу. Но при всем обилии прямой речи
действующих лиц речь эта не
индивидуализирована. Прямая речь по большей части
носит книжный характер. В словах
действующих лиц дается мотивировка их поступков,
изображается их душевное состояние, их
мысли — при этом в предписываемых
литературным этикетом формах. Между
речами персонажей и изложением автора нет ни
стилистических, ни языковых различий.
Действующие лица говорят «гладко» и
литературно. Поэтому до XVII в. по большей
части речь действующего лица — это речь
автора за него. Автор — своего рода
кукловод. Кукла лишена собственной жизни и
собственного голоса. За нее говорит автор
собственным голосом, своим языком и
привычным стилем. Он как бы пересказывает
то, что сказало или могло сказать
действующее лицо. Персонажи еще не обрели
своего собственного языка, своих, только им
присущих, слов и выражений. Этим
достигается своеобразный эффект немоты
действующих лиц, несмотря на всю их
внешнюю многоречивость. Литературное
произведение — как бы пантомима,
комментируемая авторским голосом. Даже во многих
произведениях XVII в. мы еще не слышим
героев, а только читаем их речи. Прежде
чем индивидуализироваться, речь
действующих лиц становится разговорчивой, живой.
Она органически связывается с ростом в
литературе бытовых элементов и со
«снижением» сюжетов и персонажей. Вот почему
живые интонации прежде всего проникают
в демократическую литературу, в
демократическую сатиру, в произведения, связанные
с фольклорной стихией.
Индивидуализация прямой речи идет по
мере того, как снижается речь самого
автора, становится менее высопарной и
книжной. Разговорные элементы проникают в
демократической литературе 2-й половины
XVII в. в повествование и в прямую речь.
Только с этой поры стала возможной и
индивидуализация последней. В ней
соблюдены живые интонации устной речи.
Замечательно и то разнообразие, с которым
вводится в этой повести прямая речь
действующих лиц: то Нащокин «закричал», то он
плачет и кричит, то стал «рассуждать з
женою», то «приказал», то «спрашивает
ево», то стольники имели между собой
разговоры», то Ловчиков «объявил» и т. д.
Может быть отмечено в «Повести о
Фроле Скобееве» и искусство ведения
диалога. Автор как бы самоустраняется из
повествования. Он предоставляет слово
своим персонажам, и те разговаривают между
собой, а не «для читателя», пропуская то,
что им понятно, что само собой
разумеется, заставляя читателя самостоятельно
догадываться о значении реплик, без каких-
либо авторских пояснений. Писатель пол-
381
Книга вторая
ностью самоустраняется из их разговоров.
Дальнейшая индивидуализация прямой
речи, разделение ее по профессиональным
и социальным признакам, индивидуально -
характеристические черты речей отдельных
лиц и прочее могли проявиться только с
развитием чувства стиля и потребовали
почти столетия своего существования.
Эмансипация человеческой личности в
литературе шла по многим линиям. Она
была одновременно и эмансипацией
сюжетного построения литературного
произведения. Если раньше самостоятельность
действия произведения была скована
божественным вмешательством, божественной
волей и действие совершалось в пределах
извечной борьбы добра и зла, то теперь
повествование начинает развиваться по
преимуществу по законам жизни и сюжетного
построения.
Одно из самых замечательных
произведений XVII в. — «Повесть о Тверском
Отроче монастыре» — позволяет
проследить развитие повествовательного
искусства. Повесть рассказывает о довольно
обычной житейской драме: невеста отказывает
своему жениху и выходит замуж за
другого. Конфликт возрастает от того, что оба
персонажа, и бывший жених, и будущий
супруг, связаны между собой дружбой и
феодальными отношениями: первый —
слуга, «отрок» второго, второй — его господин.
Замечательную особенность повести
составляет то, что она не строится на
обычном для средневековых сюжетов
конфликте добра и зла. Борьба злого начала с
добрым, которая всегда почти является
«двигателем сюжета» древнерусских
произведений, вызывала потребность следить за его
развитием, желать торжества добра над
злом, в сюжете «Повести о Тверском
Отроче монастыре» отсутствует полностью. В
повести нет ни злых персонажей, ни злого
начала вообще. В ней отсутствует даже
социальный конфликт: действие происходит
как бы в идеальной стране, где
существуют добрые отношения между князем и его
подчиненными. Конфликт повести вызван не
наличием в мире добра и зла, но самой
природой человека. Любовь к одной и той
же героине ведет к трагическому разладу
двух одинаково хороших, совсем идеальных
людей: великого князя и его отрока. Любовь
к Ксении двух юношей безраздельно
господствует в повести и мотивирует их
поступки. Она захватывает действующих лиц сразу
и вызывается только красотой дочери
простого сельского пономаря. Перед этой
красотой преклоняются все, и она всех
примиряет с неравным браком князя: селян и
горожан, слуг и бояр. Это черта Нового
времени. Необычайная судьба Ксении
всячески подчеркнута в самом сюжете: согласие на
брак с нею своего слуги не давал сам
великий князь — истинный жених и «суженый»
Ксении. Вещие сны князя, не имеющие,
однако, характера церковных «видений»,
мудрое предвидение Ксении, сказочно
вещее поведение сокола князя увеличивают
интерес повествования, интерес ожидания
конца, подчеркивают необычайность
совершающегося. Автор почти не
интерпретирует событий от своего собственного имени.
Их оценка дана самими событиями — тем,
как они развиваются и что случается с
людьми. Поступки действующих лиц
определяются до женитьбы князя не расчетом, а
чувствами всех троих. Чувство — как
двигательная сила сюжета, и при этом сила
«благая», — впервые входит в русское
повествование в такой форме и с такой
интенсивностью. В результате сюжет «Повести
о Тверском Отроче монастыре» собран и
един, прост и мотивирован внутренне.
Сюжет развивается по своим законам и по
законам жизни, а не по велениям
церковной морали. Он тоже эмансипирован и
«индивидуализирован». Чтобы понять, как и
вследствие чего это происходит, обратим
внимание на роль расширения среды, в
которой развиваются «эмансипирующиеся»
сюжеты.
Не меньшее значение для литературы,
чем расширение социального круга
читателей и авторов, имело и расширение
социального круга, в котором происходило действие
произведений.
В русской средневековой литературе
отчетливо выступает связь среды, в которой
развертывается действие произведения, с
самим типом повествования. Например,
жития святых. В основном святые в
Древней Руси были либо рядовыми монахами
(основатели монастырей и подвижники этих
382
Часть II. Глава 1
монастырей), либо иерархами Церкви
(епископы, митрополиты), либо
князьями-воинами или князьями-мучениками.
Соответственно делились и типы агиографической
литературы. Не только каждый из святых
действовал согласно этикету своей среды, но
и самый сюжет развивался согласно
литературному этикету.
Рассказчик-церемониймейстер вводил своего героя в событийный
ряд, соответствующий занимаемому героем
положению, и обставлял рассказ о нем
подобающими этикетными формулами.
Следовательно, искусство повествования
было ограничено рамками литературного
этикета. Ограничения эти, впрочем,
касались не всех сфер, а лишь наиболее
официальных — тех, в которых поведение
действующих лиц подчинялось официальным
церковным идеалам и официальным
способам изображения. Там, где свобода
творчества была сравнительно мало подчинена
этим требованиям, повествование
развивается более свободно.
Рассказы о чудесах святого были
гораздо реалистичнее самого жития — как
клейма иконы реалистичнее изображения в
среднике. В рассказах о чудесах внимание
повествователя сосредоточивалось не столько
на самом святом, сколько на тех, кто его
окружал, кто был объектом его
нравственного или сверхъестественного воздействия.
Поэтому чудеса происходят в более
разнообразной и часто гораздо менее
«официальной» среде: в купеческой, крестьянской,
ремесленной. Действующие лица
оказываются рядовыми людьми, они ведут себя
свободнее, они важны не сами по себе, а как
объект воздействия чудесной силы
молитвы святого. Особенное значение имели те
чудеса, в которых действие разворачивалось
в купеческой среде. Эти чудеса дали
постепенно особую разновидность
повествовательной литературы Древней Руси —
повести о купцах.
Повести о купцах в какой-то мере
продолжают эллинистический роман, приемы и
сюжеты которого проникли к нам через
многие переводные жития — типа «Жития
Евграфия и Плакиды». Эти жития-романы
были распространены на Руси в четьих-
минеях и патериках. Так же как и жития -
романы, повести о купцах рассказывают об
опасных путешествиях, во время которых
происходят всяческие приключения героев:
главным образом кораблекрушения и
нападения разбойников. В этих повестях
обычны испытания верности жены во время
долгого отсутствия мужа, кражи детей, потом
не узнанных или узнанных, предсказания и
их исполнения. Важно, что повествование о
купцах не подчиняется в такой мере
этикету, как повествование о героях более
«официальных» — церковных деятелях или
военных. Чудесный элемент повествования
получает в повестях о купцах иное значение
и имеет иной характер, чем в
агиографической литературе. В агиографической
литературе чудо — вмешательство Бога,
восстанавливающего справедливость, спасающего
праведника, наказывающего
провинившегося. В литературе о купцах чудесный элемент
часто — чародейство. Это чародейство
иногда не может осуществиться, а иногда
сводится на нет усилиями героя или
вмешательством божественной силы. Чудесный
элемент — это и вмешательство дьявола,
злой силы, тогда как в житиях ему
противостоит вмешательство Бога. Вмешательство
Бога в житиях уравновешивает,
восстанавливает справедливость, сводит концы с
концами. Чародейство и волхвование в
купеческих повестях, наоборот, — завязка
действия.
Но расширение социальной сферы
действия литературных произведений не
ограничивается купцами. Действие
перебрасывается в сферу низшего и при этом также
не отличающегося святостью поведения
мелкого духовенства — белого и черного
(«Стих о жизни патриарших певчих»),
кабацких ярыжек, кабацких завсегдатаев,
мелких судебных крестьян и т. д. Это
расширение сферы действия снижало
изображение и изображаемого, повышало
образность литературного изложения, вводило в
литературу новые сюжеты, усложняло
интригу и т. д. Расширение социального
круга действующих лиц идет все время
параллельно с расширением круга возможностей
литературы: в области сюжетов, мотивов,
изобразительных средств и т. д.
Можно сказать, что литература XVII в.
не знает социальных ограничений. Героем
произведений может быть купец, крестья-
383
Книга вторая
нин, бездомный бродяга, пропойца,
представитель низшего духовенства.
Силлабическое стихотворство тоже
связано с процессом социального расширения
литературы, но расширения совсем в другую
сторону — в сторону создания
литературной элиты: профессионального,
образованного автора и читательской интеллигенции.
Единичные и короткие стихотворные
тексты, известные еще в рукописях XV —
XVI вв., сменяются в XVII в. регулярным
стихотворством: силлабическим и народным.
Силлабическое стихотворство принесло с
собой множество стихотворных жанров,
некоторые из них явились сюда из прозы:
послания (эпистолии), прошения,
челобитные, «декларации», поздравления,
предисловия, подписи к портретам, благодарения,
напутствия, «плачи» и т. п. Силлабическое
стихотворство в жанровом отношении было
близко к риторике. Оно долго не обретало
своей поэтической функции и своей
собственной системы жанров. Стихотворная
речь воспринималась как не совсем
серьезная, как шутливая, церемониальная и
церемонная. Риторика явно ощущается,
например, в стихотворных «декламациях»
Симеона Полоцкого, обращенных к царю
Алексею Михайловичу. Стихотворная форма
воспринимается как иронический этикет и
служит смягчению грубости, невежливости,
резкости. В стихотворной форме можно
было отговорить адресата от женитьбы,
попросить деньги взаймы, похвалить и
восхвалить адресата, не слишком роняя своего
достоинства. Это «личина», которой автор
высказывает свою ученость, свое мастерство
владения словом. Силлабическое
стихотворство служило также педагогике, поскольку
в педагогике XVII в. большую роль
играло заучивание наизусть. В стихотворениях
Симеона Полоцкого — те же молитвы и
мотивы, что в «прозаических» прикладах,
включавшихся в такие переводные
сборники, как «Римские деяния», «Великое
зеркало», «Звезда пресветлая», но поданные
читателю с оттенком эмоциональной
отчужденности.
В силлабическом стихотворстве был
элемент игры. Оно не должно было
настраивать читателя эмоционально, а больше —
удивлять его словесной ловкостью и игрой
ума автора. Поэтому новые стихотворные
жанры ассоциировались с теми
традиционно прозаическими, которые требовали ви-
тийственности, — жанрами по
преимуществу панегирическими (похвалами, эписто-
лиями и проч.). Даже распространенные в
западной поэзии барокко акростихи
воспринимались на Руси как традиционная
тайнопись и употреблялись главным образом в
трафаретных для древнерусской
письменности целях сокрытия имени автора из
монашеской скромности и смирения.
К силлабическому стихотворству близок
по своим жанровым особенностям и
раешный стих. Здесь также преобладает
шутливость и некоторая, но в данном случае
«сниженная», риторичность. В раешный стих
также переносятся жанровые формы прозы:
«Послание доверительное недругу»,
«Послание дворянина дворянину», «Сказание о
попе Саве», «Повесть о Ерше», «Повесть
о Фоме и Ереме» и проч. Характерно, что
часть этого рода «раешных» произведений
известна была сперва в прозе и только
потом переложена в стихи.
Поэзия, лирика, требующая полного
самовыражения автора, не сразу пришла в
стихотворство. Впервые поэтическое
содержание согласуется со стихотворной формой
только в жанрах народного стиха. Именно
от народного стиха с его лирическими
жанрами ведет свое начало русская поэзия.
Жанры проникшего в письменность
народного стиха строже согласуются с
поэтичностью задания. Таковы лирические песни
Самарина-Квашнина или стихотворная
поэма «Горе Злосчастие», в которой
жанровые особенности представляют собой
несвойственное самой народной поэзии
необычное соединение признаков лирической
песни, духовного стиха и былины.
В литературе XVII в. существенные
изменения претерпевает художественное
время. В «Житии» протопопа Аввакума2 оно
находится уже фактически на пороге новой
литературы. Здесь нет непрерывности
исторического времени, как в летописях, нет
его замкнутости, типичного для
исторического рассказа, посвященного одному
сюжету. В нем редки и сами датировки — как
бы закрепляющие события во временной
протяженности. В нем преобладает внутрен-
384
Часть IL Глава 1
нее время, время психологическое,
субъективное, связанное с трагическим
мировосприятием Аввакума, отмечающее с большей
последовательностью события, чем
объективную временную прикрепленность.
Аввакум до крайности эгоцентричен в своем
восприятии времени. Кажется, что он и не
стремится к точным указаниям на его
длительность, — для него важнее эта
неопределенность времени, его зыбкость,
текучесть, томительная длительность.
При этом он обобщает: рассказывает не
то, как было, а как бывало. Отсюда
формы глаголов, указывающие на длительность
времени: «принашивали», «бес меня пужи-
вал ситце». Отсюда же подчеркивание
многократности действий, невозможность
сосчитать то, что с ним совершалось:* «<...> и
иное кое-что было, да што много говорить»
(161); «и иное там говорено многонько»
(170). Жизнь больше рассказа о ней.
Всего рассказать невозможно. Это удивление
перед ее сложностью, многообразием и это
ощущение необычайной временной емкости
жизни. Аввакум в иных случаях
преувеличивает длительность тех или иных событий,
а если и не преувеличивает, то ощущает их
как необыкновенно длительные, долгие.
Длительность события — для него до
известной степени знак его значительности.
Каждое событие длительно при этом в
самом себе. Он не заботится установить связь
между этими отдельными временными
отрезками. Восстановить общее течение
жизни. «Житие» Аввакума изображает время
вовсе не однонаправленным, как в
произведениях предшествующего времени. Для
Аввакума важна не внешняя
последовательность событий, а внутренняя, и эта
внутренняя последовательность заставляет его
постоянно то возвращаться назад, то забегать
вперед.
Начинается «Житие» по-старому — от
рождения. Но это традиционное начало всех
житий не ведет за собой традиционной
последовательности в изложении. Порядок
описываемых событий и порядок рассказа о
них не совпадают. Аввакум пишет:
«Рождение же мое в Нижегородских пределах, за
Кудмою рекою, в селе Григорове. Отец ми
бысть священник Петр, мати — Мария,
инока Марфа» (143). Затем исчисляются
годы: «Рукоположен во дьяконы двадесяти
лет з годом, и по дву летех в попы
поставлен; живый в попех осм лет и потом
совершен в протопопы православными епископы,
тому двадесеть лет минуло; и всего триде-
сят лет, как имею священъство» (143). Это
последнее замечание как бы напоминает
читателю о том времени, в какое пишется
житие. И дальше эти напоминания о
времени, в какое пишется житие, все
учащаются. Аввакум как бы смотрит на свое житие
из определенной точки настоящего,. и этот
угол зрения крайне важен в его
повествовании. Он определяет то, что можно было
бы назвать временной перспективой,
делает его произведение не просто рассказом о
своей жизни, а повествованием,
осмысляющим положение Аввакума именно в тот
конкретный ее момент. Перспектива в
живописи родилась тогда, когда появилась
потребность изображать действительность с
точки зрения одного зрителя — самого
художника. В России это была 2-я половина
XVII в. Перспектива времени появилась
тогда же: это потребность, ведя
повествование, не забывать и о том моменте, в
котором находится пишущий. «В то время, —
пишет Аввакум, — родился сын мой Про-
копей, который сидит с матерью в земле
закопан» (144). «Сидит» — сейчас, в
момент писания жития. «Не стригше, отвели
в Сибирский приказ и отдали дьяку
Третьяку Башмаку, что ныне стражет же по
Христе, старец Саватей, сидит на Новом,
в земляной же тюрьме. Спаси ево,
Господи! И тогда мне делал добро» (147).
«Провожал меня много Матфей Ломков, иже и
Митрофан именуем в чернцах, — опосле на
Москву у Павла митрополита ризничим
был, в соборной церкви з дьяконом Афо-
насьем меня стриг: тогда добр был, а ныне
дьявол его поглотил» (148).
Аввакум видит свое прошлое из
настоящего, соотносит случившееся когда-то с
настоящим, прибегает к прошлому для
объяснения настоящего. «Перспектива
времени» также «эгоцентрична», как и
перспектива в живописи. Этот «эгоцентризм
настоящего» — характерная черта аввакумовско-
го автобиографизма. Он выражает свое
нынешнее отношение к прошлому, сейчас
прощает или бранит своих прошлых мучи-
385
Книга вторая
телей, сейчас благословляет своих прошлых
сострадальцев, вспоминает о том, что с ними
стало после событий или что с ними
происходит в настоящее время, где они сейчас
находятся, остались ли верны вере. Прошлое
для него в известной мере настоящее.
Подобно тому, как появившаяся в русской
живописи XVII в. линейная перспектива
связывала изображение на картине со
зрителем, подчиняя его точке зрения
последнего, так и временная перспектива Аввакума
связывала его и читателя с событиями
жизни протопопа, неудержимо влекла и того и
другого к оценке прошлого с точки зрения
настоящего момента.
Аввакум пишет об исцеленных им
вдовах: «Изрядные детки стали, играть
перестали и правилца держатца. На Москве з
бояронею в Вознесенском монастыре
вселились. Славо о них Богу!» (154). Даже
вспоминая о курочке, которая несла ему по два
яйца в день, Аввакум обращается к
настоящему: «И нынеча мне жаль курочки той,
как на разум приидет» (155).
Настоящее вершит в «Житии»
Аввакума суд над прошлым. Эта точка зрения на
прошлое из настоящего, столь чуждая
Средневековью, развита Аввакумом с каким-то
особенным восторгом, как своего рода
открытие, которое давало ему чисто
художественное наслаждение и поэтому проводилось
часто, развивалось настойчиво, заставляло
гиперболизировать оценки: «А что
запрещение то отступническое и то я о Христе под
ноги кладу, а клятвою тою — дурно молыть
(молвить. — Д. Л.) — гузно тру! Меня
благословляют московские святителя Петр,
и Алексей, и Иона, и Филипп, — я по их
книгам верую Богу моему чистою совестию
и служу; а отступников отрицаюся и
клену, — враги оне Божий, не боюсь я их, со
Христом живучи!» (158 — 159).
Интерес Аввакума к прошлому и
настоящему не «исторический» и не
автобиографический, а «философский»: это лишь
повод для размышлений, для отчета перед
самим собой и для проникновения в
загробное будущее. Аввакум крайне эгоцентричен.
Он погружен в мир своих страданий, но
думает о них и пишет о них для того,
чтобы создать «историю своих мучений» и
чтобы и самому подумать о своем будущем,
и других заставить подумать о себе. Это суд
над собой и суд над другими; как бы
преддверие Страшного Суда, о котором он
беспрерывно и напряженно размышляет. С
этой точки зрения он пишет о себе, о
своей борьбе, о колебаниях царя в отношении
к нему и к вере, о поведении отдельных лиц
и т. д. Это не только наставительные
примеры, которыми каждый проповедник
уснащает в дидактических целях свои
проповеди, — это приговор себе и окружающим.
Многое в «Житии» Аввакума сближает
его художественное время с художественным
временем произведений новой литературы:
субъективность времени, взгляд на прошлое
из авторского настоящего, своеобразная
перспектива времени, обусловленная
появлением индивидуализированной авторской
личности. Отдельные приемы введения
настоящего в повествование, перестановки
событий в рассказе напоминают собой
аналогичные явления в литературе Нового
времени. Но многое и отличает
художественное время «Жития» от художественного
времени произведений новой литературы...
Особое настоящее время, воспринятое в
свете общего движения мира к своему
концу, состояние ожидания смерти,
Страшного Суда резко отличают художественное
время «Жития» Аввакума от
художественного времени новой литературы, набрасывая
на него отблеск характерных для
древнерусской литературы «аспектов вечности».
Правда, «вечность» та, древнерусская,
находилась вне человека, эта же «вечность»
была напряженно субъективной. Аввакум
горел на огне, жегшем его изнутри.
Появление в русской жизни театра было
невозможно без развитого ощущения
художественного настоящего времени. Театр
более любого другого художественного
творчества переносит прошлое в настоящее.
Исключение составляют лишь обрядовые
представления. Настоящее время обрядового
ритуала относилось к действительно
настоящему времени. Событие, оформлявшееся
обрядом (похороны, свадьба, празднество и
т. д.), происходило и на самом деле в
настоящем времени — сейчас, тут; зрители
были его участники. Поэтому настоящее
время обрядовой поэзии, обрядового
представления воспринималось участниками об-
386
Часть IL Глава 1
ряда как настоящее действительное, а не
художественное. Обряд — не театральное
действо, и переход от обрядовых
представлений к театру оказался очень трудным и
длительным. Чтобы этот переход мог
совершиться, должно было развиться особое
художественное сознание, способное допустить
художественное настоящее время в
изображение событий прошлого. Для
художественной иллюзии действительности необходимо
было появление в творческом сознании
такого настоящего времени, которое
полностью отключало бы читателя, зрителя и
слушателя от реальной действительности автора
и исполнителя и создавало бы впечатление
«второй», художественной
действительности, полностью погружало бы зрителя и
слушателя в свой особый мир — мир
художественного произведения.
Первая пьеса русского театрального
репертуара XVII в. — «Артаксерксово
действо» — живо показывает затруднения,
которые встречало в сознании первых
русских зрителей это необходимое для
восприятия театрального представления
художественное настоящее время. В отличие от
обрядового действа, как
комментировавшего события настоящего и в котором
описываемое настоящее время было тем самым
оправдано, «Артаксерксово действо»
изображало события прошлого — исторические,
библейские. Непривычного к такого рода
полному перенесению прошлого в настоящее
зрителя необходимо было как-то
подготовить. И вот к этой переводной пьесе создано
специально для русского зрителя особое
предисловие, произносимое особым
действующим лицом — Мамурзой («оратор царев,
которому предисловие и скончание
говорить» — как сказано о нем в росписи
действующим лицам). Этот Мамурза
обращается к главному зрителю представления —
царю Алексею Михайловичу, для которого
пьеса в основном и предназначалась, и
разъясняет ему художественную сущность
нового развлечения: проблему
художественного настоящего времени — каким образом
прошлое становится настоящим перед
глазами царя. Мамурза прибегает при этом к
понятию славы, издавна
ассоциировавшейся на Руси с представлением о бессмертии
прошлого.
Мамурза обстоятельно и педагогично
объясняет Алексею Михайловичу, что и его
слава также останется в веках, как осталась
слава многих исторических героев. Если
«натура» и заставит Алексея Михайловича
положить свой «скифетр», то есть умереть,
то и тогда слава его будет пребывать
бессмертна. Далее Мамурза объясняет
Алексею Михайловичу, что перед ним хочет
сейчас появиться «потентат» (властитель),
который уже больше двух тысяч лет
заключен во гробе, — Артаксеркс. Чтобы
облегчить Алексею Михайловичу
восприятие лиц прошлого как живых, автор
заставляет и этих самых лиц ощущать себя
воскресшими. Не только зрители видят перед
собою исторических лиц — Артаксеркса,
Эсфирь, Мардохея, Амана и прочих, но и
эти действующие лица видят зрителей,
удивлены тем, куда они попали,
восхищаются Алексеем Михайловичем и его
царством. Происходит своеобразное общение
действующих лиц со зрителем, взаимное
знакомство.
Такого рода «преувеличение иллюзии»
чрезвычайно характерно: это реакция на
трудности, возникающие у первых русских
зрителей с новым для них видом искусства.
Прием, при котором не только зрители
видят действие, но и действующие лица
видят зрителей, обращаются к ним, — до
сих пор иногда употребляется в детских
спектаклях. Он необходим, чтобы зрители
поверили в действие, происходящее на
сцене. Это «натурализм», типичный для
первых этапов развития всякого вида
искусства. Способность воспринимать
условность развивается на последующих этапах
его развития. На первом же этапе всегда
необходима полная иллюзия и даже
«преувеличение иллюзии».
Мамурза говорит царю, что Артаксеркс,
пришедший «от Медии и Персии», ныне
в трепете предстоит перед ним. Когда-то
власть Артаксеркса была велика, а теперь
его «несть подобна». Артаксеркс стоит
перед Алексеем Михайловичем, взирает на его
власть, «царство оглядает» и удивляется его
могуществу. Артаксеркс как бы воскрес, и
автор стремится передать ощущения
воскресшего, попавшего в неизвестное царство
Алексея Михайловича.
387
Книга вторая
Кратко объясняя содержание пьесы,
Мамурза всячески стремится ввести зрителя
в непривычную для него обстановку театра
и подчеркнуть удивительность повторения в
настоящем событий прошлого.
Под конец Мамурза все же разрушает
иллюзию воскрешения прошлого. Свои
пространные объяснения он заканчивает
своего рода сказочной присказкой, выводящей
зрителя из сказочного времени: «Аще же
Бог благоволит, яко немощнейшее наше
тщание может, о царю, величеству вашему
добре угодити, тогда не на Персию луч
своего милосердия послеши, но во время оно
да будут Артаксерксовы люди точию
немцы». Значение этих слов, как разъясняет их
комментатор «Артаксерксова действа»
И. М. Кудрявцев, в следующем: «Если
спектакль понравится, то милосердие царя
должно быть обращено на исполнителей,
которыми были немцы — дети иностранцев
из немецкой слободы»3. Художественный
смысл этого типичного для сказок «моста к
действительности» был вполне понятен
Алексею Михайловичу, любившему слушать
сказки от стариков, живших у него в
особом помещении: сказки обычно
заканчивались присказками, в которых исполнители
выпрашивали себе награждения.
Первые же слова Артаксеркса, которые он
произносит по ходу начавшегося действия,
подчеркивают, что перед зрителем не рассказ
о прошлом, а как бы само прошлое,
воскрешенное и происходящее «ныне»:
Возвеселитесь, мои князи, се ныне
возвеселитесь.
Прехвальный народ персов и медов,
возрадуйтесь.
Се ныне аз бо сам в радостех пребываю
И о вашем веселии никако сумневаю.
Се ныне исповесте, яко ми верны есте...
Далее это напоминание, что действие
происходит «ныне», проходит через всю
пьесу, в речах всех действующих лиц: «обаче
ныне зрю», «любовь твоя и велия честь мне
ныне подают месть», «ныне же гордая
Астинь да будет извержена» и проч.
Не рассказ о прошлом, а представление
прошлого, изображение прошлого — как бы
настойчиво напоминают действующие лица
зрителям. И тем не менее в этой первой
пьесе русского репертуара элементы
рассказа все же сохраняются. Действующие лица
как бы обращаются к зрителям, ни на
минуту о них не забывают, комментируют для
них происходящее на сцене, свои поступки,
разъясняют зрителям обычаи персов или
смысл происходящего, вслух произносят для
зрителей свои мысли, делают их доступными
зрителям. Действующие лица называют
даже иногда себя по имени, чтобы
напомнить зрителям, кто они: «Сице ли я, Астинь,
пребуду отвержена?» — спрашивает
царица своих подданных.
Театр был невозможен, пока не были
созданы предпосылки для возникновения и
понимания зрителями театрального
настоящего времени. Что же такое это
театральное настоящее время? Это настоящее
время представления, совершающегося перед
глазами зрителя. Это воскрешение времени
вместе с событиями и действующими
лицами, и при этом такое воскрешение, когда
зрители должны забыть, что перед ними
прошлое. Это создание подлинной иллюзии
настоящего, при которой актер сливается с
представляемым им лицом так же, как и
сливается изображаемое на театре время с
временем находящихся в зрительном зале
зрителей. И художественное время это не
условно — условно только само действие.
Театр не мог появиться раньше, чем
появилась в литературе возможность для
создания произведений с этим вторым,
эмансипированным временем, раньше, чем
развилась в достаточной мере изобразительная
сторона литературы. Вместе с тем это
театральное настоящее время, в свою очередь,
стало воздействовать на литературу,
явившись важным фактором в развитии ее
изобразительности. Литература все активнее и
активнее стала «представлять» перед
читателем то, о чем она рассказывала. Театр внес
в этом смысле решительный перелом и в
литературу. Не случайно в XVIII в.
драматические жанры заняли в ней одно из
ведущих мест и стали воздействовать на
художественную структуру остальных литературных
жанров.
Итак, поэтика древнерусской
литературы, остававшаяся относительно стабильной
на протяжении целого ряда столетий,
претерпела в XVII в. существенные измене-
388
Часть II. Глава 1
ния в направлении сближения с
западноевропейскими литературами, чем был
подготовлен новый этап в развитии русской
литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. о смеховой культуре: Бахтин M. М.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2 Цит. по изд.: Робинсон А. Н.
Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и
тексты. М., 1963. (Далее ссылки на изд.
даются с указанием в скобках страницы.)
3 Артаксерксово действо. Первая пьеса
русского театра XVII в. Подгот. текста, ст. и ком-
мент. И. М. Кудрявцева. М; Л., 1957. С. 306.
Глава 2
Эстетика
первого театра
1 1ри изучении
художественно-эстетической специфики
первого русского театра 1672 — 1676 гг.
исследователи приходили к противоположным
выводам: одни считали ее барочной, другие
нет1. Легкоузнаваемая поэтика барочного
театра далеко не во всех своих главных
чертах наличествует в пьесах 1670-х годов,
что может свидетельствовать как о русском
национальном варианте барокко, так и —
с другой стороны — о переходном
неустоявшемся характере русского театра того
времени. Неразработанность истории
русской эстетики XVII в. в целом затрудняла
и исследование театра в этом аспекте.
Театр и его поэтику необходимо
рассматривать прежде всего как явление культуры.
Как известно, русская культура 2-й
половины XVII столетия представляла собой
переходную, перестраивающуюся систему.
Элементы нового вклинивались в еще
устойчивую структуру Средневековья, но уже
началась смена картины мира,
мировоззрения, ведущая к смене типа культуры: от
внеличностного к личностному2. Как
своеобразие этого переходного периода
проявилось в эстетике театра? Какими
средствами показывал театр человека и что именно
«видел» в нем? Как формировалась
поэтическая система театрального изображения
человека?
Сама идея создания театра ярко отражает
перелом в развитии русской эстетической
мысли. Театр, существовавший при дворах
европейских монархов, привлек внимание
русских послов, оставивших любопытные его
описания. Свои восторги по поводу
чудесных машин и механизмов барочной сцены,
ярких декораций и костюмов, батальных и
ритуальных панорам и т. п. русские послы
изливали царю. Вскоре после одного из
подобных восторженных рассказов царь
послал за границу указ о приискании
умеющих «комедию делать» (1650 г.). Таким
образом, придворный театр сразу же
задумывался как развлечение иностранного
образца: это подчеркивали впоследствии
нерусские костюмы (широкополые шляпы —
признак «немецких» людей), ветхозаветные
герои, иноземные музыкальные инструменты
(«органы») и т. д. Значит, Алексей
Михайлович подчеркивал, что создаваемый
театр — «потеха», развлечение (типа
соколиной охоты), причем потеха иноземная, не
имеющая отношения к русским традициям,
к мировоззрению. Последнее было крайне
важно, так как именно в это время в
русской культуре разгорелась острая полемика
между сторонниками средневекового
понимания прекрасного как «благого» и
защитниками «живоподобия», «внешнего»
понимания красоты как следования природе. С
точки зрения первых, театр относился к
сфере «внешнего», поскольку в нем
неизбежна материализация образов, действий,
идей, их овеществление, придание внешней
формы, соответствующей «живоподобию» в
живописи. Поэтому в самом появлении
театра потенциально был заложен чуждый
средневековой эстетике «внешний» элемент
мироотражения. «Внутренняя» красота,
выражающая суть средневековой эстетики,
заключалась в абсолютизации божественной
идеи, непостижимой разумом3. На
раскрытие этой «внутренней» красоты через
систему аллегорий, символов, эмблем и т. п.
претендовала поэтика барочного театра,
широко распространенная в то время в
европейских странах. В России же затея
Алексея Михайловича воспринималась как
«латинское» увлечение, совращающее
православную душу (известно, что так
расценивались белокаменные скульптуры,
украсившие в это время Спасскую башню
Московского Кремля, а также многие другие
новшества в культуре). Именно поэтому
театр был превращен царем в «потеху» для
него одного и членов его семьи. Для
придворных чинов и бояр это был ритуал,
придворная церемония, обязательная как
служба. Царь приказывал являться на
«комедию» поименно, неявившихся наказывали;
царь один восседал в кресле перед сценой
(царица с детьми была спрятана в
специальной пристройке типа ложи, откуда можно
было смотреть спектакли), остальные зри-
390
Часть II. Глава 2
тели стояли на сцене, являясь как бы
одновременно и статистами4.
Таким образом, создание театра
мыслилось и оформлялось как чуждое русской
культуре, иноземное развлечение царя.
Однако темы пьес, заказанные пастору
Немецкой слободы Иоганну Готфриду Грегори на
библейские сюжеты, лежали в русле
«благочестивых» традиций Тишайшего Алексея
Михайловича. Первой была написана
комедия «Артаксерксово действо» на сюжет
Эсфири. Через год состоялась премьера
пьесы «Товий», созданной также на библейской
основе. Еще через год, в 1674 г., царь
смотрел «Иудифь», а затем и первый в русской
истории балет «Орфей». В начале 1675 г.
театр показывал «Темир-Аксаково действо»,
поставленное после смерти пастора Грегори
Юрием Гибнером. На ноябрь 1675 г.
падают еще три премьеры: «Егориева комедия»,
«Жалобная комедия об Адаме и Еве»,
«Малая прохладная комедия об Иосифе».
Наконец, 23 — 24 января 1676 г. за считанные
дни до своей смерти Алексей Михайлович
смотрел «Комедию о Бахусе с Венусом» и
«Комедию о Давыде и Галиаде».
Тексты этих пьес сохранились не все, а
те, что дошли до нашего времени,
написаны разными лицами, не
профессиональными драматургами, а либо пастором Грегори,
знавшим театр иезуитских школ, либо
переводчиками Ю. Гибнером, Ст. Чижин-
ским, либо другими людьми. Руководил
постановками А. С. Матвеев, глава
Посольского приказа. Более зрелыми, с точки
зрения профессионального мастерства,
представляются две пьесы Симеона
Полоцкого — «Комедия притчи о блудном сыне» и
«О Навходоносоре царе, о теле злате и о
триех отроцех, в пещи не сожженных» —
о постановке первой из которых в
придворном театре можно только предполагать.
Помимо текстов комедий источником при
исследовании эстетики театра служит
оформление спектаклей: декорации, реквизит,
костюмы. Собранные С. К. Богоявленским5
и другими исследователями материалы
позволяют с большей или меньшей полнотой
воссоздать цветовое решение костюмов
персонажей, представить отдельные
конструкции, используемые для декораций и
перемещения действия из одной среды в другую,
экзотические детали спектаклей,
требовавшие дополнительных расходов аксессуары
и т. д.
Прибавив к этим двум видам источников
массу документов того времени, дающих
представление об эстетических исканиях не
только в театральном искусстве, но и в
живописи, поэзии, литературе, музыке,
архитектуре, мы получим довольно полную
картину поэтики первого русского театра.
Поэтика как система художественных
средств безусловно подчиняется той цели,
которую преследует произведение в целом.
Первый русский театр — придворный
театр, рассчитанный, по меткому замечанию
А. Н. Робинсона, на «одного зрителя»6, —
ставил своей целью развлечение царя. Но
развлечение, понимаемое в
религиозно-нравственном средневековом ключе:
услаждающее душу поучениями, врачующее слабый
человеческий дух, склонный ко греху,
назидательными примерами, «пользующее
внутреннего» человека.
Однако не все пьесы театра Алексея
Михайловича отвечали этим требованиям.
Некий допуск «внешнего» — греховного —
присутствовал в них изначально. В процессе
развития театра элемент чисто светского
нерелигиозного развлечения увеличивался,
как верно отметил А. С. Демин7. Балет
«Орфей» и «Комедия о Бахусе с
Венусом» — наиболее показательные в этом
отношении произведения. Тем не менее в
большинстве пьес преобладала поэтическая
система Средневековья. Так же, как и
средневековая литература, не знавшая
условность, вымыслы8, театр следовал этому же
принципу «правды». В этом смысле
показательны предисловия и прологи к
спектаклям. Театр как бы возрождает к жизни
давно минувшее, показывает его «аки вещь
живу»9. С точки зрения автора «Артаксер-
ксова действа», «не есть дивно, яко
Артаксеркс, аще и мертв, повелению твоему
(т. е. Алексея Михайловича. — Л. Ч.)
последует. Твое убо державное слово того нам
жива представляет...» Другими словами,
желание русского царя возвращает к
жизни «во образе отрока» библейского
Артаксеркса и заставляет его «показать, како в
свое время мудростию, силою и советом
царство свое утвержая, державы своя рас-
391
Книга вторая
пространил есть <...> и самое счастие, яко
раба, могл смиряти» (103).
«Темир-Аксаково действо» содержит
обращение к «велеможнейшему монарху»,
в котором поясняется не только принцип
«оживления» героев прошлого, но и
принцип «увеселения»: «Комедия человека уве-
селити может и всю кручину человеческую
в радость превратить, когда услышит
достойное учинение, что древние славою своею
показывали и живущим, как написание пер-
сони после смерти очеявно поставили для
поминания, чтоб той чести того ради, что в
камедиях многие благие научения, так же и
красные приговоры выразумети мочно
<...>»ю.
Наконец, в предисловиях к двум пьесам
Симеона Полоцкого выделяется та же мысль
о цели театра: показать прошедшее «аки
вещь живу» или «аки само дело представи-
ти» (161). Значит, принцип следования
исторической правде четко осознавался
создателями комедий, но соблюдался ли?
В пьесах «Эсфирь», «Иудифь» и других
текст следовал за библейским источником
почти без отклонений. Это закономерно с
точки зрения восприятия текстов
Священного Писания в Средневековье. Изменить
букву значило изменить смысл, нарушить
канон-чин. Однако заполнить все
драматургическое пространство текстами из Библии
было невозможно, домысел должен был
проникнуть в пьесы неминуемо. Симеон
Полоцкий оговорил в предисловии к
«Комедии притчи о блудном сыне», что,
разделив библейский текст на шесть частей, он
«по всяцей оных нечто примесихом, утехи
ради, ибо все стужает, еже едино без пре-
мен бывает» (138). Это значит, что
Симеон Полоцкий не только более свободно
обращается с текстами Священного
Писания, но вводит в поэтику театра вымысел
как необходимый компонент, а также
объясняет причину этого нововведения —
«утехи ради», ради разнообразия изображаемой
в пьесе жизни. Это один из путей
осмысления театра как искусства, а не статичной
иллюстрации библейского текста.
В целом же комедии должны были
именно иллюстрировать, показывать хорошо
известные события, канонически
осмысленные и переведенные в символический про-
образовательный ряд. Поэтому первый
театр сродни немому кино: слова поясняют
лишь кое-что, отдельные действия или
душевные состояния героев, а в принципе
можно обойтись и без них. Отсюда успех
комедий об Эсфири и Иудифи, постановки
которых возобновлялись много раз, и
неуспех пьесы «Товий», сюжет которой имел
широкое распространение в
западноевропейской культуре и был практически
неизвестен на русской почве, потому малопонятен,
не маркирован, а следовательно, и менее
привлекателен для зрителей.
Прообразовательность первого театра,
соответствующая также средневековой
поэтике, хорошо прослежена исследователями.
Неоднократно говорилось о том, что
Артаксеркс воспринимался как прообраз царя
Алексея Михайловича, Эсфирь — царицы
Наталии Кирилловны, второй жены царя,
Аман — ближнего боярина А. С.
Матвеева. Прослеженный А. М. Панченко
принцип «эха»11 в эстетике XVII века,
предусматривающий, что «человеческое бытие,
взятое в целом, — эхо прошедшего, точнее,
тех событий прошедшего, которые
отождествлялись с вечностью», что человек,
«крестившись, становится тезоименен некоему
святому, становится отражением, эхом этого
святого», этот принцип должен был
срабатывать и в первых пьесах русского театра.
Именно поэтому, вероятно, Артаксеркс
лишен негативных характеристик,
имеющихся в Библии, ведь он прообраз «земного
Бога» — русского царя. Но Алексей
Михайлович, с другой стороны, отделен от
Артаксеркса и неизмеримо возвышен над
ним: «велможный монарх Артаксеркс,
взирая власть» русского владыки,' «ныне во
трепете бывает», поскольку никого
подобного ему по чести и славе «не обретает»12.
Это снижает преобразовательную функцию
образов пьесы, ведь не Артаксеркс, а
живой Алексей Михайлович представлен как
вселенский идеал. Историческая дистанция
здесь повернута вспять: не зритель пьесы —
русский монарх — должен учиться у
библейского героя, а, наоборот, «оживленный»
Артаксеркс должен уподобиться мудрому
правителю России...
Принцип отражения в барокко был не
столь однозначен. Следуя ему, драматург
392
Часть II. Глава 2
«постоянно описывает один объект через
другой, <...> пользуется парафразой,
заменяет сценическое действие рядом сообщений
или представляет его в виде взаимодействия
аллегорий <...>»13. В театре Алексея
Михайловича барочному принципу отражения
следовала, строго говоря, только одна из
дошедших пьес — «Жалобная комедия об
Адаме и Еве». В ней не только происходило
перенесение действия из натурального
фабульного плана в семантический ряд, где
действовали аллегорические персонажи, она
еще была насыщена экспрессивными
противопоставлениями, столкновениями идей и
символов. Как и положено в поэтике
барокко, уже пролог пьесы акцентировал
внимание на основной идее: «Человеческое житие
<...> во оном такожде все прохлаждение и
радость взыскуем, но обретаем скорб и беду.
Ей, взыскуем в нем меру, но что же
обретаем? Несмирение и бран. Взыскуем поеме-
шение, но обретаем плач и рыдание.
Взыскуем в нем здравие, но обретаем болезн и
недуг. Ей, воистинно, егда мы, простые
человецы, таковыми отягченьми в зерцале
росмотримся, тогда на нас скоро той ево в
помышление надходит — якоже многие сие
(но еже язычески суть) началу создания
нашего восхотеша приписать, но мы же
носим предателя неизвестно в недрах наших,
а имянно древняго Адама, истую плот и
кров нашу». Нарисовав яркую картину
борьбы противоречий в человеке и его
бытии, предисловие дает краткую программу
последующего действия: «<...> о человецес-
ком начале, так же о падении и конечной
погибели его нечто в малой жалобной каме-
деи, то есть о Адаме и Евве представим»14.
Итак, малые формы русской
драматургии — прологи, предисловия, посвящения,
эпилоги — свидетельствуют о том, что
принцип отражения в них не был барочным,
а тяготел к средневековому «наивному
реализму».
Следование средневековым эстетическим
представлениям проявлялось далее и в
тексте, и в оформлении спектаклей. Знаковая
система, хорошо знакомая в придворном
кругу, складывалась в своеобразную
поэтику, причем обязательную для произведений
любого жанра. Универсальным эстетическим
понятием того времени был «чин»: он
устанавливал соразмерность структуры любого
явления (как культуры, так и реальной
жизни), причем соразмерность, диктуемую
очень глубокой внутренней сущностной
связью элементов целого. На
«оценочно-эстетический характер» этого понятия обратил
внимание А. Н. Робинсон, исследовавший его
употребление в предисловии к «Уряднику
сокольничья пути»15. В этом произведении
утверждалось, что чин должен сопровождать
любое действие, явление, вещь, человека и
т. п. и что только чин придает всему
«красоту и удивление». На значение этого
понятия в русской культуре неоднократно
указывали исследователи, однако
специфически эстетическое его содержание еще не
вскрыто16.
Чин связан прежде всего с иерархией,
порядком, соотнесенностью всех явлений
мира, с религиозно-философской концепцией
порядка и соподчиненности: «Все бо в чин
свой имети есть лепо» — утверждалось в
«Пандектах» Антиоха XI столетия.
Поскольку этот принцип мироустройства
освящен Богом, постольку чин присутствует во
всем, все определяет, узаконивает, делает
прекрасным. Естественно, что чин
пронизывал все сферы культуры, начиная от
церковных обрядов и кончая приемом пищи и
отходом ко сну. Все виды искусства не
мыслились вне чина-канона. Ни одно слово не
должно было произноситься без «добра
чина», по наставлению Григория Назианзи-
на (XI в.); в XVII столетии с ним
особенно тесно связано развитие красноречия и
стихотворного искусства. Чин-образец
главенствовал в иконописании. Как
эстетическое понятие средневековой поры, он
объединял в себе и категории
художественного времени и пространства.
«Чин времен» — порядок чередования
временных отрезков, строго следующих один
за другим, согласно церковному календарю,
необратимый и ненарушаемый, линейный и
в то же время циклический. Еще в
«Повести временных лет» прослеживается связь
этого понятия с категорией времени. Как
отметил Д. С. Лихачев, во всех жанрах
древнерусской литературы «автор
стремится изобразить объективно существующее
время; независимое от того или иного
восприятия его»17. Такое «повествовательное
393
Книга вторая
время», суженное «выделением целого круга
явлений в категорию „вечного", а с другой
стороны, отсутствием представлений об
изменяемости целого ряда явлений»18, и
составляло чин времен в средневековой культуре.
С его учетом построены и первые пьесы
русского театра: события развиваются в
строгой хронологической последовательности,
совпадающей с эпической повествовательно-
стью Библии. Принцип единства времени,
свойственный классическому театру, еще не
свойственен ранней драматургии: действие
свободно переносится из одного времени в
другое, из одной среды в другую, причем
чередующиеся временные отрезки могут
быть как малыми, так и большими (в
особенности в комедиях о блудном сыне и о
прекрасном Иосифе, где охватывается
время в несколько лет). И все же, по
наблюдениям Д. С. Лихачева, именно
драматический театр разрушает средневековое
восприятие времени, так как он создает
«художественную иллюзию действительности» с
настоящим временем, которое «полностью
отключалось бы от реальной
действительности автора, читателя и исполнителя и
создавало бы впечатление как бы второй
художественной действительности, целиком
погружало бы зрителя и слушателя в свой особый
мир — мир художественного
произведения»19. Театр, таким образом, способствует
эстетизации «чина времени», переводу его в
сферу искусства.
«Чин», как организующее начало
художественного пространства, прослеживается
в различных видах средневекового
изобразительного искусства, а также в топографии,
картографии20. Иерархичность
изображаемого пространства, соотнесенность его частей
с учетом религиозных акцентов (Восток —
святость, Запад — греховность и т. п.)
осознавалась в русской культуре
Средневековья через данное понятие. Однако в
театральном искусстве средневековый чин
пространства переживает закономерные
изменения. С одной стороны, он продолжает
функционировать в иерархическом
изображении земного и небесного, горнего и
дольнего. Наличие двух пространственных сфер
особенно широко практиковалось в
школьных мистериях21, когда «небо» поднималось
над сценой и герои «небесного
происхождения» спускались с него на землю к людям.
В пьесе «Жалобная комедия о Адаме и
Еве» изображалось небо, на котором
восседали Бог Отец, Бог Сын и
аллегорические персонажи. Но, с другой стороны,
заданная условность театрального показа
пространства, ограниченного рамками сцены, и
подчиненность общей художественной
задаче — созданию иллюзии реальности
посредством декораций, а также естественная
соотнесенность объемов реальных предметов
на сцене — все это разрушало старый чин.
Театр формировал новое, художественное,
по сути, понимание и изображение
пространства. Во многом этому
способствовало то, что восприятие театральной сцены
ориентировано на человеческий глаз, зрителя
в зале. Для комедий писались
«перспективные рамы», представляющие собой
конструкции с расписанными холстами, которые
по ходу действия можно было поворачивать
вокруг оси рамы и таким образом менять
декорации22.
Высшим проявлением категории
средневековой эстетики — чина — являлись
обряды, церемонии как церковного, так и
светского характера. Они насквозь пронизаны
этим понятием. Вот, например, как
выстраивалась церемония поставления на царство
Феодора Алексеевича в 1676 г.: весь
порядок проведения обряда определялся как
«чин» («Чин поставления на царство»);
полный набор царских регалий и
расположение их по степени значимости
именовалось «царским чином» — «А несли с
казенного двора царский чин: крест Господень,
царский венец» и т. д.; наконец,
последовательность целования креста и принесения
присяги определялась строго в соответствии
с чином («крест целовали по чину, и по
целовании поклонялись патриарху и
ставились по своим степенем»)23.
Средневековые русские авторы прекрасно
осознавали необходимость следовать
закону чина во всем — в построении своего
произведения, в соподчинении идей,
образов, символов, в иерархии слова и т. д. В
одном из предисловий к изданию 1682 г.
говорилось, что главное для писателя
следовать чину, не вводить ничего
«самочинного, паче же рещи безчинного»24. Таким
образом, соблюдение чина гарантировало
394
Часть II. Глава 2
произведению, как и любой средневековой
вещи, «честь, меру, стройность,
благочиние»25.
Первые пьесы содержат многочисленные
примеры употребления чина как
эстетического понятия: в сюжетном построении
отдельных эпизодов, в поведении персонажей
по отношению друг к другу и к зрителям,
в метафорах и сравнениях, наконец, в
костюмах героев. Фигура царя всегда
занимала центральное место в эпизоде, царю
следовало воздавать «чин царев»26 (причем
нигде не разъяснялось, что именно под этим
подразумевается, видимо в силу того, что
смысл был ясен всем из придворного
церемониала). При приближении к монарху
подданные должны были испытывать и
выказывать наглядно трепетное почтение,
балансировавшее на грани страха и
обожания. К царю (и царице) надо было
«приступать чиновно», что поясняется лишь
частично: склонить головы в почтительном
молчании (113). Обсуждать слова и
поступки монарха, тем более перечить ему не
разрешалось: неповиновение царицы Астинь
своему владыке Артаксерксу
воспринималось подданными как «дерзновение,
достойное наказания» (113). Идеал грозного
правителя, от меча которого «вселенная
трепещет» (114), власть которого равна
божественной, — этот идеал пересветовского
Магмет-султана, олицетворенный Иваном
Грозным, еще не исчерпал себя. Царь (в
особенности Артаксеркс) осознает себя
солнцем, которое может обогреть подданных,
но может и сжечь их. Его «зелная сила»
подчиняет весь мир — «вселенныя
пределы моей милости желают и ко мне
припадают» (125). Но в то же время наряду с
силой царский чин уже включает и другие
качества, такие как мудрость, милость к
подданным, забота о благе страны и т. п.
Уже мало быть мудрым самому правителю,
уже необходимо взращивать мудрость в
своем государстве. Об этом много писал
Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев и
другие авторы придворной поэзии.
Образцом подобного типа правителя показан
Артаксеркс. Он много размышляет о
сущности власти, своих обязанностях перед
народом. Мудрость его проявляется через
притчи, которые он рассказывает по ходу пьесы
подданным: первая о вертограде с
масличным древом, окруженным травою (143),
вторая о двух змеях, согретых на груди
(161). Герой пьесы часто сам оценивает
соответствие своих качеств, в соотнесении их
с «чином царевым». Думая о том, что ему
следует бьггь благодарным Мардохею,
раскрывшему заговор, он восклицает:
«Что милость? Истинно бысть мне
благодаренну,
Инако бы не царь был бых в моем чину»
(167).
Поскольку негативных качеств в
монархе чин не предполагал, постольку порок
пьянства, свойственный библейскому
Артаксерксу, у драматического персонажа
отсутствовал. По той же причине Темир-Аксак
из отрицательного героя западноевропейской
литературы превратился в положительный
образ без изъянов, а Навуходоносор,
наделенный пороком гордости (который,
кстати, царю по чину), в конце пьесы Симеона
Полоцкого признавал свой грех
возгордившегося идолопоклонника и обращался с
покаянием к Богу.
Сообразно со своим чином изображались
и другие персонажи комедий:
военачальники были наделены храбростью, жаждой боя,
честолюбием; воины — преданностью
начальникам, отвагой, самоотверженностью;
придворные — услужливостью,
преданностью, иногда мудростью. В изображении
женских персонажей наблюдается отход от
традиций, хотя положительные жены
(Иудифь, Эсфирь) показаны как кроткие,
преданные Богу и царю — идеал
добродетельной жены. Однако средневековый идеал
женщины не включал внешнюю красоту,
напротив, красота лица и тела делала
женщину хуже, а не лучше, поскольку
провоцировала на внутреннюю греховность.
Героини первых пьес наделены красотой более,
чем чем-либо другим: опальная царица
Астинь характеризуется другими
персонажами как «предивный образ», «прекрасная»,
«предивная голубица», «Астинь моя
красна», «краснейша всех, всех жен избранней-
шая», «благолепна чином» и др.; Харар
говорит Астинь, что царь «наипаче же из-
вол его бысть к твоей славе, зане хотел
395
Книга вторая
явити неподобность твоей красоте» (118), а
во время совета по поводу наказания
возгордившейся царицы звучит отчетливая
мысль, что, помимо красоты, никакого иного
достоинства у женщин вообще нет и не
бывает.
Подобные же эпитеты достаются вслед
за Астинь ее преемнице Эсфири. Она и
прекрасная, и не имеющая себе равных в
красоте и мудрости (426); ей пророчат «в
красоте чину равнятися», то есть стать
узаконенным образцом, идеалом красоты,
выраженным через все тот же чин (152).
Служанка Дина говорит Эсфири:
«Истинно, княгиня ты еси родилась
Ни злаго чина тесных стоп,
Но самое убо, убо естество
К вящим путем тя избирало,
Истинно, тебе что естество воздало,
Знаменует, яко еси венца достойна» (135).
В этих словах проскальзывает и оценка
«чина естества», т. е. природы человеческой,
по которому Эсфирь равняется княгине
благодаря своей естественной красоте. По
происхождению Эсфирь из бедного рода, но
по красоте — царица. Однако в отличие от
Астинь, Эсфирь характеризуется не
только красотою, но и добротою, смирением,
почтительностью к царю, отсутствием
гордыни и т. п.
Другой положительный женский образ
ранней драматургии — Иудифь —
соединяет «красоту и целомудрие во едином теле»
(435), являет собой «ангельский образ, яко
Господь Бог сам оной сие благозрачие во
очеса вложил есть» (436).
Средневековая эстетика четко
разграничивала внутреннюю — духовную красоту и
внешнюю — телесную, отдавая
предпочтение первой, что выразилось в понятии
«благолепия», тождественном понятию
прекрасного. Внешняя красота как таковая
оценивалась негативно: «красота личная тело и
душу губит»27. Во 2-й половине XVII в.
внешняя красота начинает признаваться
«естественной», вложенной в природу
человека Богом, а потому лишенной априорной
греховности, негативности. Выстраивается
как бы обратная связь: внешняя красота
первична по отношению к внутренним
достоинствам, которые должны подтягиваться
к естественной красоте тела с его пятью
чувствами и совершенными чертами лица,
гармония которых служит залогом доброго
нрава28. Формируются новые, уже чисто
эстетические нормы восприятия и оценки
красоты.
С этой точки зрения женские образы
первых пьес более всего отходят от
средневекового чина. Но в то же время красотой
наделены не простые смертные, а царицы,
которым положено украшать собой царский
дворец, возвеличивать самого царя как
обладателя этого сокровища. В данном
контексте красота, как и золото, драгоценности,
богатство, присуща царственным особам «по
чину».
Однозначность, свойственная
средневековой эстетике, проявлялась в том, что
герои пьес не изображались в развитии. Их
положительность или отрицательность
маркировались многократно и многосторонне, не
столько через их поступки, сколько через
оценки, даваемые персонажами. Так, Аман,
замышлявший покушение на царя, стоя под
виселицей, восклицает: «О дерзость, дерзость
моя со проклятым счастием, как упадаю
твоим лицемерием!» (240). Опальная царица
Астинь разоблачает свой порок —
гордость — сама, оценивая как бы со стороны
свое поведение и причины своего падения:
«Ах, аще бы скифетр златый и самую себя
в конец забыла!» (121); «Злато твое мя
погубило и главу мою в срам облачило» (121).
А. С. Демин отметил особую «живость»
героев пьес, вытекавшую из
складывающегося типа деятельного человека,
характерного для русской действительности того
времени29. Особой подвижностью отличались
придворные, что входило в их чин — быть
расторопными при исполнении царских
указов. Важным в этом моменте нам
представляется, что подобная живость
свидетельствует о смене иерархии человеческих
отношений. Если ранее человек в его поведении
постоянно соотносился с божественными
установлениями (угоден ли он Богу или не
угоден?), то теперь очевидна новая сугубо
светская соотнесенность, диктуемая
формирующимся абсолютизмом (угоден ли
подданный монарху или не угоден?).
Эстетическое давление чина ощущается в
ранней русской драматургии не только на
396
Часть II. Глава 2
персонажах и их действиях, но и на
оформлении спектаклей. Так, символика золота
как «образа божественного огня»,
перешедшего на «славу царства»30, прослеживается
в таких пьесах, как «Артаксерксово
действо», «Иудифь», «Темир-Аксаково
действо» и др. «Златой скифетр», «златой
престол», «златой венец», «златой одр» и
тому подобные вещи украшали сцену в этих
спектаклях. Золото олицетворяло царскую
власть, честь, достоинство, красоту. За ним
по градации располагались драгоценные
камни, украшение которыми подобало
далеко не каждому, а также строго по чину. Как
известно, даже размер жемчужных пуговиц
регламентировался негласным указом.
Последний сюжет нашел отражение в «Темир-
Аксакове действе», где воины Сибла и
Манес рассуждают о жемчуге: «...в
Аравийской земле преизлишно обретается жемчюг,
всяк селянин изобилно и во величине
имеют, яко и вси пуговицы у своих одеяниях в
большой обретаются величины»31. Как
золото, так и драгоценные камни являются
показателем не богатства как такового, а
знаком гораздо большего, места человека на
иерархической лестнице. То же самое с
одеждой и мехами.
Главные персонажи пьес имели костюмы
из «заморских» атласов, сукон, тафты и
«флоры немецкой», отделку из горностаевых
мехов, немецких кружев и шемаханского
шелка. Персонажи менее значительные
получали и менее дорогие одеяния из сатина,
«пестрых выбойчатых тканей», опушку из
заячьего меха и т. п. Костюмы слуг,
участников пира Бахуса из пьесы «О Бахусе с
Венусом», братьев Иосифа и других
малозначительных лиц делались из крашенины,
киндяка (используемого в реальной
действительности на подкладку), «пестрины»32.
Причем для премьеры «Артаксерксова
действа» царь не скупился на расходы и
костюмы были натуральными, но в дальнейшем
театр начал прибегать к бутафории, что
способствовало развитию
условно-художественного восприятия театрального искусства.
В целом мы видим, что чин как
норматив средневековой эстетики многообразно и
повсеместно присутствует в поэтике
первого русского театра, но определяет ли ее
целиком? На этот вопрос можно ответить,
только сопоставив черты барокко с
признаками средневековой эстетической системы,
выяснив их сходство и различие.
Барочная поэтика проникает в русский
театр в низовом — школьном —
варианте, где эстетическая значимость
произведения несколько снижена по сравнению с
«высоким барокко», где на первый план
выступают дидактизм, упрощенное и
одновременно более маркированное действие,
аллегории, эмблемы, символы33. Школьное
барокко значительно ближе средневековой
эстетике, чем барокко высокое. Нормиро-
ванность поэтики такого театра строилась на
законах риторики, «которая учила не
только, как сказать, но и что сказать,
предлагала пути к уравновешиванию сути и
формы произведения, была собранием
этических и эстетических правил»34.
Согласно требованиям риторики
построен ряд пьес, в том числе «Жалобная
комедия об Адаме и Еве», «Иудифь», «Темир-
Аксаково действо». В отличие от
«Артаксерксова действа», где влияние риторики
ощущается мало, в названных пьесах
(поставленных и написанных уже после
смерти пастора Грегори, при участии
переводчиков Посольского приказа) персонажи
отличаются яркой образной речью, ряд метафор
и сравнений многозначен и символичен,
действие экспрессивно, а в комедии об
Адаме и Еве переносится и в
аллегорический план. Например, в первой же «сени»
«Иудифи» царь Навуходоносор в своем
монологе создает целый каскад образов
чудесного повиновения сил природы воле
всемогущего правителя: «Быстрая река Тигр
киванием руки моей точию установитися
должна, Евфрат возбуряет гордыя своя
волны по желанию моему даже до облак самых
и паки повелением моим низлагает оныя ко
утешению, и самая Адосон-река, богатством
исполненная, в ней же черныя индиане
купаются, принуждена ми дань от своего
золотого песку подавати»35. Народы, не
желающие «лобызать скифетр», он называет
«полевыми мышами», на что его советник
Аммон предлагает «казнити их со смехом»,
ссылаясь на пословицу: «Ничто же бо
воздвигает льва от своего покоища, аще и пес
мимо побежит» (354). Советник Нееман
напоминает о мече, «обоюду добре изостре-
397
Книга вторая
ну быти», об «огне, который легче зажечь,
чем тот же паки утушити», сравнивая их с
войском, которое легко втянуть в войну, но
трудно вывести из нее целым и невредимым;
об орле, не нуждающемся в гнезде
ласточки, наконец, о «дивиих зверях», которые
«паче зайца в царя себе имети хотят, неже
великодушного льва», подразумевая под
орлом и львом царя Навуходоносора
(355 — 356).
Риторической образности «Иудифи»
подражает и следующая за ней комедия —
«Темир-Аксаково действо». Здесь также
через экспрессивные речи представителей
двух противоборствующих сторон
создается иллюзия столкновения, битвы, борьбы.
Барочный принцип отражения, когда одно
явление описывается через другое, один
образ передается через несколько сходных
или противоположных образов, действие
заменяется образным повествованием о
происшедшем и т. д., проявляет себя в этих
сценах, хотя еще и недостаточно явно.
Переведение действия в аллегорический
план — вершина барочного принципа
отражения — обнаруживается только в
«Жалобной комедии об Адаме и Еве». Здесь
действуют четыре аллегорических
персонажа: Истина, Правда, Милосердие, Мир.
Это едва ли не самые распространенные
аллегории европейского школьного театра
барокко. Они появлялись в сценах суда над
Адамом и Евой вместе с Богом Отцом и
Богом Сыном. Прение о дальнейшей
судьбе человека после грехопадения
(традиционное и для поэзии барокко)36 насыщено
восклицаниями, междометиями,
риторическими вопросами. Так, Милосердие
наиболее эмоционально выражает свое отношение:
«О окаянный и от потешения лишенный че-
ловече! Комо тя уподобляти? Все волны
злочастия тя открывают, никто же сие не
внимает! Зелная язва твоя и неисцелная
рана твоя» (134). Наиболее полно (с
точки зрения барочной поэтики) обрисован
образ Правды. Во-первых, оговорено, что
в руках она держит жезл, в то время как
аксессуары других аллегорий не упомянуты;
во-вторых, она выполняет важнейшую
функцию барочной кульминации —
столкновение света и тьмы. Правда говорит о себе,
что она не может смилостивиться над
Адамом и Евой, потому что «Правде достоит
во всех судбах сиятися, яко утрение зари,
но таким противным обычаем помрачена б
была» (136). К сожалению, отсутствие
концовки пьесы не позволяет проследить ее
решение в аллегорическом плане.
Столкновение света и тьмы, резкий
поворот судьбы героев, элемент чуда,
переворачивающий реалистический пласт
сюжетного повествования, переводящий его в
аллегорический ряд, с земли на небо —
излюбленный сюжетный ход в театре барокко.
В ранних русских пьесах неоднократно
проводится мысль об изменчивости судьбы, о
низвержениях гордых и возвышении
смиренных (Астинь и Эсфирь; Давид и
Голиаф; Иудифь и Олоферн; Навуходоносор и
трое отроков). Дважды обыгрывается идея,
приписываемая царю Давиду, —
«претворится печаль и радость» — в «Артаксерксове
действе» и «Иудифи». Чем невероятнее
было чудо, чем ужаснее были связанные с
ним обстоятельства, тем интереснее
становилось зрителю. Целые сборники чудес
(«Великое зерцало», «Звезда пресветлая» и др.),
переведенные в то же время, что и
зарождение русской драматургии, содержали
пышные барочные описания ужасов,
постигавших грешников, а также повествования об
их моментальном превращении в
праведников благодаря чуду. Возрождавшаяся тогда
проповедь, по наблюдениям Иоанникия
Голятовского («Ключ разумения»)37,
имела шансы на успех в основном в двух
случаях: во-первых, если она содержала рассказ
о чуде и, во-вторых, если повествовала о
чем-либо ужасном.
«Ужасное чудо» — основной поворот и
в развитии драматургических образов.
Ранний театр еще не знает характера и тем
более его эволюции. Пожалуй, только
некоторые герои Симеона Полоцкого
показаны в развитии (если не характера, то
разума, жизненного опыта, постижения истины).
Так, блудный сын в интерпретации
Симеона проходит длительный путь познания
суетного мира во всех его негативных
проявлениях. Этот путь он сравнивает с
«просвещением»:
«Свещи под спудом не лепо стояти
С солнцем аз хощу тещи и сияти» (141), —
398
Часть II. Глава 2
но это ложное просвещение. Его
неистинность автор разоблачает посредством
гиперболы: блудный сын не только сам
проигрывает в карты свое богатство, но и
приказывает своим с лугам играть друг с другом —
«мои богатства вземше, смело проигравай-
те!» (147). Как известно, евангельская
притча о блудном сыне не содержала
описания его странствий и прегрешений.
Введение Симеоном Полоцким сцен,
изображавших жизнь героя вдали от дома,
должно было помогать логике раскрытия
образа. Эволюция сознания героя заключалась
в раскаянии, приведшем его назад в отчий
дом.
Большинство же героев первых пьес
лишены какого-либо развития, как уже
отмечалось, и только «ужасное чудо» приводит
их к изменению, в основном к раскаянию.
Наиболее показателен в этом плане образ
Навуходоносора, проделавшего путь к
раскаянию при виде несгоревших в печи
отроков, в считанные мгновения —
«ужаснувшись» <...>
Барочной поэтике, часто уводившей ряд
сопоставлений в область античной культуры,
принадлежат и появившиеся сравнения героев
пьес с богами и богинями. В «Артаксерксо-
ве действе» Аман уподобляет Артаксеркса
Юпитеру, а Эсфирь — Юноне: «Но
желаем в ваше упокоение, дабы в вышних
небесных пределех оный Фебус в зависть
прочим приял, тогда убо множество богов
лики познают, яко пред вами не суть
велики. Кто весть, аще и самый Юпитер тебе
возглаголет: Ты еси царь и тя на престоле
своем восхощет посадити, Юнона же тя, о
царица, на колеснице имать возводити»
(209).
В «Иудифи» Сисера сравнивает
Навуходоносора с богом Юпитером, а Олофер-
на — с Марсом. Другой персонаж называет
себя Меркурием, «понеже сию богиню Ве-
нус к Марсу привел есмь» (448). Наконец,
в «Темир-Аксакове действе» после
традиционного обращения к Алексею
Михайловичу вдруг появляется на сцене одинокая
фигура Марса «с воинскою свещею»,
произносящего «с яростию»: «Гром и большой
пушечный наряд, град и стреляние из
мушкетов гранат, и ракеты огненные, молния и
град, подкоп и разорвание! <...> Выступи
Плут [он] изо дна земли з болшою
яростию!» (60).
Почти целиком из античных персонажей
состоял балет «Орфей» и комедия «О
Бахусе с Венусом». о постановке которых
известно очень немногое: в балете
участвовало двадцать мещанских детей, обученных
«тонцованьям» инженером Н. Лимой,
наряженные в киндячные платья пяти цветов,
в немецкие шляпы, в белых «сафьянных»
башмаках и т. п. Помимо Бахуса и его жены
Венус в комедии участвовали их сын
Купидон, пьяницы, девицы, «бордачник», отец
пьяниц, слуги, музыканты, шут. Для
Бахуса была изготовлена большая полотняная
голова с приклеенными к ней волосами и
бородой. Он восседал на винной бочке на
колесах. Отсюда нетрудно предположить
содержание «действа», носившего,
вероятно, гротескный, пародийный характер.
К элементам барочной поэтики
относится и музыкальное оформление спектаклей.
Музыка появляется неоднократно как
необходимый атрибут царского «прохлаждения».
Артаксеркс приказывает: «Ныне же трубы
и тимпаны возглашают <...> Радуйтеся убо
с пением и плясанием весь нынешний день
со всяким веселием» (20). Олоферна
встречают «со вербами, со венцы и со свещами,
воспевающе и увеселяющеся в тимпанах и
в свирелех» (440). Блудный сын получает
совет от слуги «утехою печаль <...> лечи-
ти, сладкоигрателем вели приходити» (149).
Наконец, Навуходоносор в пьесе Симеона
Полоцкого приказывает:
«Вы днесь печалей нам не поминайте,
О мусикии сладцей промышляйте» (160).
Музыка, связанная с увеселением
придворного круга (любого правителя,
положительного или отрицательного) не получает в
пьесах негативной оценки, что было
свойственно средневековой эстетике. Напомним,
что на свадьбе Алексея Михайловича
звучали не тимпаны и свирели, а церковные
песнопения. Теперь же через театр
утверждалось новое отношение к светской музыке
как явлению придворной культуры,
украшающему царский быт.
В рамках барочной поэтики лежало и
столкновение трагического и комического в
пьесах, проявлявшееся в чередовании «се-
399
Книга вторая
ней» библейского содержания с
интермедиями пародийного характера, в параллельном
развитии сюжетов (например, сюжета об
усеченной голове в «Иудифи», в сцене
казни Сусакима лисьим хвостом вместо меча и
др.), в значительной доли иронических
реплик братьев Иосифа в «Малой прохладной
комедии об Иосифе», в гротескных образах,
наполнявших монологи воинов в «Темир-
Аксакове действе». Так, в пародийной речи
Сусакима перед казнью высмеивался даже
вездесущий принцип чина: «благородными
чинами духовными» названы нищие, «иже
при церкви просящею милостынею питают -
ца!» (439).
Наиболее последовательно проводивший
принципы барочной поэтики в своих виршах
Симеон Полоцкий в пьесах как будто
напрочь отказывается от нее. А. А. Морозов
предполагает, что свои пьесы Симеон
относил к низовому барокко, к которому «питал
своего рода отвращение»38. Возможно, что
комедии создавались Симеоном по заказу,
ориентировались на круг совершенно не
посвященных в символику и эмблематику
барокко лиц, в частности, на царя и бояр,
что и отразилось на его подходе к
поэтическим средствам выражения. Возможно
также, что простота и «реалистичность»
изображаемого, отсутствие аллегорических
персонажей свидетельствуют о сознательном
отказе поэта от барокко в драматургии.
Симеон Полоцкий скорее всего
присутствовал на представлениях придворного театра
и при создании своих пьес учитывал
царивший там стиль. Пьесу «О Навходоносоре
царе...» поэт создавал безусловно для театра
Алексея Михайловича. Это явствует из
предисловия, где содержится обращение к
монарху и обязательный панегирик,
сравнивающий царя с солнцем, светом:
«Велий его свет твой, тме одолевает
Мрак безверия веема отгоняет» (161).
Вторая же пьеса Симеона Полоцкого о
блудном сыне не имеет обращения к царю,
а адресована «благородним, благочистивим
государием премилостивим» (138), а это
значит, что комедия не была рассчитана на
показ пред светлыми царскими очами.
Поэтому вопрос об отказе поэта от ярко
выраженной барочной поэтики в своих пьесах
остается открытым. Можно только
предполагать, что побудило его вернуться к
средневековой эстетике.
Мы могли бы перечислить еще много
мелких барочных черт, наличествующих в
комедиях, но не это главное. Важно другое,
что далеко не все они разрушали
средневековую эстетическую систему. Проистекало
это от известного «возврата» барокко к
средневековому миропониманию.
Средневековое сознание мыслило мир плоскостно с
жесткой вертикальной иерархией (небо —
земля — ад). Возрождение внесло в
осмысление пространства третье его измерение —
глубину. Пространство, протяженное во
времени, питало идею историчности,
развития, движения. Эта идея нашла отражение
во всех видах искусства, в том числе в
театре. Барокко же попыталось вернуть
понимание мира в плоскостное измерение, но не
могло отказаться от ренессансной глубины,
оно как бы сопротивлялось третьему
измерению, что создавало причудливые
капризные изгибы поверхностей и форм в
архитектуре, усложненную многомерную
символику в поэзии, семантический ряд,
подавляющий формальную фабулу, в драматургии и
т. п. Взамен глубины барокко стремилось
создать многозначность каждой точки на
плоскости. Разработанная в барочной поэтике
система отражения исходила из обновленного
средневекового мировосприятия, но не
отказывалась целиком и от достижений
ренессансной поэтики.
Многие черты классического барокко не
нашли отражения в русском театре XVII в.,
но те, которые есть, свидетельствуют о
русском варианте барокко39. Для этого
национального варианта характерно
жизнеутверждающее (еще ренессансное!) начало,
ощущаемое в общем колорите спектаклей, в
сюжетных поворотах и судьбах героев. Как
отметил А. С. Демин, «от барочных
произведений пьесы московского театра 1670-х
годов отличаются оптимизмом и мягкостью
взгляда на мир. Как известно, в
литературе барокко и, в частности, в немецкой
драматургии и поэзии XVII в. представление
о переменчивости жизни было
пессимистичным. Все меняется к худшему, все бренно,
все идет к гибели, смерти, исчезнове^
нию<...> В русских же пьесах наоборот:
400
Часть II. Глава 2
жизнь переменчива, стремительна, но
приносит счастье и благополучие. Все первые
пьесы имели счастливый конец»40.
Вероятно, следует согласиться с тем, что
своеобразие поэтики первого русского театра
обусловливалось переплетением
средневековых черт, питаемых чином как эстетической
нормой, и барочных черт, уводящих эстетику
театра все более в сферу искусства как
таковую.
Театр Алексея Михайловича был тесно
связан с культурой своего времени, носил на
себе четкий отпечаток переходности.
Средневековые эстетические нормы, имевшие в
своей основе этико-религиозные корни,
переплетались с барокко, родственным им в
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См,: Софронова Л. А. Поэтика славянского
театра XVII — XVIII вв. М., 1981. С. 239 и
др.; Робинсон А. Н. Борьба идей в русской
литературе XVII века. М., 1974; Демин А. С.
Русская литература второй половины XVII —
начала XVIII века. М., 1977; Первые пьесы
русского театра. М., 1972.
2 См.: Черная Л. А. О типологии русской
культуры // Тезисы международной научной
конференции «Проблемы теории и истории
цивилизаций». М., 1991.
3 См.: Бычков В. В. Эстетика поздней
античности. М., 1981; Аверинцев С. С. Поэтика ран-
невизантийской литературы. М., 1977.
4 См.: Морозов П. О. История русского
театра до половины XVIII столетия. СПб.,
1889; Робинсон А. Н. Историческое место и
значение первого русского театра. Первые
пьесы русского театра. С. 51 — 54.
5 См.: Богоявленский С. К. Московский
театр при царях Алексее и Петре. М., 1914.
6 Первые пьесы русского театра. С. 69.
7 Русская драматургия последней четверти
XVII и начала XVIII в. М, 1972. С. 33.
8 См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской
литературы. М., 1979.
9 Первые пьесы русского театра. С. 103.
(Далее изд. цит. с указанием страницы в
скобках.)
10 Русская драматургия последней
четверти XVII и начала XVlII века. С. 59. (Далее
изд. цит. с указанием страницы в
скобках.)
11 Панченко А. М. Русская культура кануна
петровских реформ. Л., 1984. С. 49.
своей основе, но обогащенным ренессансной
эстетикой и ориентированным в будущее.
Если воспользоваться излюбленным
сравнением XVII столетия: театр — зеркало
жизни, то можно сказать, что в
средневековой поэтике речь идет об
одном-единственном зеркале, отражающем истину, самое
внутреннюю суть вещей и человека, а в
барочной поэтике это уже система зеркал,
причем выпукло-вогнутых, преломляющих
истину многократно и непредсказуемо. Но и
там и тут истина едина.
Перелом в русской культуре на рубеже
XVII — XVIII вв. способствовал тому, что
барочная поэтика полностью завладела
русским театром эпохи Петра Великого.
12 Первые пьесы русского театра. С. 103.
13 Софронова Л. А. Поэтика школьного
театра // ТОДРЛ. Т. XXXIV. Л., 1979.
С. 184.
14 Русская драматургия последней четверти
XVII и начала XVIII в. С. 116.
15 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской
литературе XVII века. С. 99 — 100.
16 См.: Замысловский Е. О значении XVII
века в русской истории // ЖМНП, № 12.
1871.
17 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской
литературы. С. 248.
18 Там же. С. 249.
19 Там же. С. 341.
20 См.: Там же. С. 335 — 340.
21 См.: Софронова Л. А. Поэтика
школьного театра. С. 176 — 180.
22 Адрианова-Перети, В. П. Сцена и приемы
постановки в русском школьном театре XVII —
XVIII ст. // Старинный спектакль в России.
М., 1928. С. 60 — 63.
23 Полное собрание законов. Т. II. № 648.
2« Типикон. М., 1682. Л. 2.
25 Собрание писем царя Алексея
Михайловича. М„ 1856. С. 89.
26 Первые пьесы русского театра. С. 152.
(Далее ссылки на это изд. даются с указанием
страницы в скобках.)
2? Пролог ЦГИА СССР. Ф. 834. Оп. 4.
№ 1450. Л. 5.
28 Подробнее см.: Черная Л. А. Русская
мысль второй половины XVII — начала XVIII
века о природе человека. Человек и культура.
М., 1990. С. 200 — 203.
401
Книга вторая
29 Демин А. С. Русская литература
второй половины XVII — начала XVIII века.
С. 181 — 182.
30 См.: Аверинцев С. С. Золото в системе
символов ранневизантийской культуры.
Византия. Южные славяне и Древняя Русь.
Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973.
С. 50.
31 Русская драматургия последней четверти
XVII и начала XVIII в. С. 75.
32 Богоявленский С. К. Московский театр
при царях Алексее и Петре. С. 11 — 13, 43 —
45, 48 — 58.
33 См.: Славянское барокко. М., 1979;
Барокко в славянских культурах. М., 1982.
34 Софронова Л. А. Поэтика школьного
театра. С. 178.
35 Русская драматургия последней четверти
XVII — начала XVIII в. С. 352. (Далее
ссылки на изд. даются с указанием страницы в
скобках.)
36 См.: Сазонова Л. И. Поэзия русского
барокко. Автореферат докт. дисс. М., 1990.
3? ЦГАДА. Ф. 188. № 1020.
38 Морозов А. А. Симеон Полоцкий и
проблемы восточнославянского барокко //
Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 173.
39 См.: Сафронова Л. А. Поэтика
славянского театра. С. 239.
40 Демин А. С. Русская литература второй
половины XVII — начала XVIII века.
С. 181 — 182.; См. также: Робинсон А. Н.
Борьба идей в русской литературе XVII века
и др.
Глава 3
Эстетика города
D градостроительной
деятельности XVII в. запечатлелся
последний этап эволюции древнерусской системы
образов и представлений. Вместе с тем в ней
было заложено начало утверждения
качественно новой эстетической концепции.
История градостроительства содержит
весьма показательный материал для выявления
общих закономерностей перехода русской
культуры от Средневековья к Новому
времени.
Переход этот, столь ясно обозначившийся
в XVII в., начал сказываться в отдельных
архитектурных и градостроительных
тенденциях намного раньше. Очевидно, что его
появление стимулировал сам процесс
формирования централизованного Русского
государства. И в первую очередь новые
архитектурно-градостроительные тенденции
проявились в ансамбле столичного центра
Москвы.
Еще при Иване III, в конце XV —
начале XVI в., когда в Москву были
приглашены итальянские мастера, Московский
Кремль подвергся коренной реконструкции,
которая придала его традиционной в целом
композиции существенные новаторские
черты. Такими чертами стали относительная
геометрическая регулярность плана стен
(прямолинейность отдельных отрезков),
систематичная расстановка башен по всему
периметру (по 7 с каждой из трех сторон,
включая угловые), их сильный вынос за
линию стен, создание широких
пространственных разрывов между кремлевскими
укреплениями и застройкой посадов. Все это
вызывалось новыми требованиями
военно-оборонительного плана (развитием артиллерии),
но вместе с тем отвечало и новой идейной
программе, положенной в основу
реконструкции Кремля: ведь создавалась
резиденция московского государя — преемника
византийского императора. Сама треугольность
плана Кремля должна была выразить, по
всей видимости, идею уподобления его
Константинополю, построенному согласно
легенде «на три углы, на все стороны по семи
верст»1. Черты регулярности оказывались
необходимым средством идеализации
кремлевского комплекса. Можно полагать, что
приглашенные мастера-фортификаторы не
ограничивались решением только
инженерных вопросов, но, вместе с тем,
преследовали цель воплотить, в меру возможностей,
в композиции новой русской столицы
принципы построения ренессансного
идеального города. Об этом говорит комплексность
реконструкции всего ансамбля Кремля,
начатая, как известно, с Успенского собора,
служившего на первых порах безусловной
центральной доминантой города, на которую,
очевидно, и ориентировалась разбивка плана
кремлевских стен2.
Черты регулярности запечатлелись в
структуре и нового великокняжеского
дворца, и самого центрального ансамбля
Кремля — Соборной площади, где образовалось
сравнительно замкнутое, ограниченное
возросшими по габаритам и
уравновешивающими друг друга архитектурными объемами
городское пространство, во многом
нетрадиционное для древнерусской
градостроительной практики. Осмысливая Соборную
площадь как единое пространственное целое,
итальянские мастера использовали здесь
такие ренессансные приемы, как выделение
горизонтальных членений зданий и
взаимоувязка их уровней, объединение разных по
размерам и формам архитектурных объемов
единой темой аркады. Одним из средств
достижения сбалансированного единства
целого стал служить архитектурный
контраст, что выразилось и во взаимодействии
строгих геометризованных форм белого,
цельного «яко един камень»3 Успенского
собора с пышно декорированным,
красно-белым Архангельским собором и, что,
пожалуй, наиболее показательно, в постановке
посреди кремлевского ансамбля могучей
архитектурной вертикали — церкви-столпа
Иоанна Лествичника, как бы собравшей
вокруг себя все ведущие сооружения
города и подчеркнувшей саму идею центрично-
сти, закладывавшуюся в образ Кремля.
В такой постановке церкви Иоанна
Лествичника, сменившей одноименную
постройку Ивана Калиты4, была налицо связь
с градостроительной традицией Древней
403
Книга вторая
Руси, согласно которой главный храм
всегда служил идейным и архитектурным
центром города. Но в данном случае произошла
как бы абсолютизация традиционного
градостроительного принципа. Дело не в
геометрической точности нахождения
центральной точки Кремля (это в большей мере было
свойственно постановке Успенского собора),
а в той уравновешивающей композиционной
«Иоанн Предтеча —Ангел пустыни». Про-
рись с иконы XVII в. Фрагмент
роли в ансамбле, которую взяла на себя эта
церковь-башня5. В живописном кремлевском
ансамбле появилась вертикальная ось
равновесия — как бы зримый воочию столп
самодержавного государства, «столп Славы»
и одновременно «Лествица», соединяющая
горний и дольний миры в знак
богоизбранности Москвы — новой столицы
православного мира.
Но Ивановский столп — это все же не
главный храм Кремля. Качественно
отличаясь от традиционных в своей основе
соборов, он в целом остался несопоставимым ни
с одним из них и потому не вошел в
систему их последовательной субординации. Он
не подчинил себе, но существенно дополнил
центральный храмовый комплекс Москвы,
придав ему принципиально новые для
древнерусских ансамблей качества неделимой
композиционной целостности, такой
целостности, при которой каждое отдельное
сооружение представляет собой абсолютно
необходимую, неотъемлемую часть ансамбля.
План Московского Кремля начала XVI в.
1. Успенский собор. 2. Архангельский собор.
3. Церковь —звонница Иоанна Лествичника.
4. Великокняжеский дворец и церковь Спаса на
Бору. 5. Чудов монастырь. 6. Вознесенский
монастырь
Здесь важно отметить, что кремлевский
храм Иоанна Лествичника находился у
истоков развития нового архитектурного типа
в московском зодчестве — центричного
столпообразного храма, а также
колокольни. Образы таких столпообразных, ярусных
и шатровых сооружений, будучи
порождением русской средневековой культуры,
обладали яркой самобытностью, но вместе с
тем они имели и вполне определенные
признаки родства с ренессансными поисками
архитектурного воплощения образов обще-
христианских святынь, с
распространенными в Европе того времени поисками форм
центричного идеального храма.
С точки зрения эволюции эстетических
воззрений в градостроительстве Московско-
404
Часть II. Глава 3
го времени особый интерес представляет
собор Покрова на Рву. Идея
уравновешенного, подчиненного центричному началу
архитектурного комплекса, заложенная в
ансамбле Московского Кремля, получила в этом
уникальном сооружении середины XVI в.
свое кульминационное воплощение.
Покровский собор — это храм-комплекс, своего
рода модель города. Модель, весьма близ
Столпообразная церковь Иоанна Лествичника
как ось симметрии соборного ансамбля Мое-
ковского Кремля (схема автора)
кая той, что была, к примеру, помещена в
руке деревянного изваяния св. Николы
Можайского (конец XIV — начало XV в.)
(ГТГ)6. Это такая модель, в которой
запечатлелось стремление к архитектурной
конкретизации образа священного града.
Тут уместно сказать, что попытки
наглядно передать представления о памятниках
Святой земли были типичны для
европейского искусства эпохи Ренессанса.
Полуфантастические изображения Иерусалима,
содержащие черты готической и романской
архитектуры, широко представленные,
например, в произведениях Яна ван Эйка7, во
многом раскрывают те побудительные
мотивы, которые привели к рождению шедевра
русского зодчества XVI в. Такого рода
изображения (в первую очередь
миниатюры и гравюры), по всей видимости, служили
материалом для творческих поисков зодчих
Бармы и Постника, которые, как сказано
летописцем, построили собор «различными
образцы и многими переводы». В качестве
образцов для Покровского собора могли
служить и изделия прикладного искусства.
Использовался, очевидно, и опыт
реального строительства церкви Вознесения в
Коломенском.
Что касается традиций деревянного
зодчества, то они тоже, наверное, помогли
творческому процессу, тем более что, как мы
знаем, сначала, сразу же после Казанской
победы, была построена группа деревянных
церквей близ каменного храма Троицы на
Рву, которую сменил вскоре интересующий
ИМ
нас собор. Кроме того, при возведении этого
последнего использовался деревянный
каркас, следы которого обнаружены внутри его
кирпичной кладки H. H. Соболевым8. На
этом основании можно говорить о том, что
общие формы, пропорции, силуэт
Покровского собора проектировались, во всяком
случае, проверялись и уточнялись в натуре.
Но никак нельзя однозначно указывать
на древнерусские традиции деревянного
зодчества как на основной и единственный
источник форм этого храма. Перед нами не
самопроизвольное развитие этих традиций,
а результат действия качественно новых и
весьма активных идеологических и
художественных импульсов.
Особое значение имело отражение идеи
царственности в архитектуре Покровского
собора. На это с достаточной
определенностью указывает сходство его пластики с
резным Царским местом Ивана IV в
Успенском соборе. Показательны по-своему и
некоторые миниатюры XV — XVI вв.,
изображающие московского царя, также как и
легендарных монархов прошлого, —
восседающими на фоне причудливых
архитектурных задников, обозначающих царские
чертоги в разрезе9. Особое значение в этом
отношении, надо полагать, имела форма
шатра, увенчивающая центральный Покров-
и
Ж
m
405
Книга вторая
ский храм. Эта форма должна была
вызывать ассоциации с сенью над царским
местом, а вместе с тем и с киворием,
устраивавшимся над престолом в церковных
алтарях. В таком сходстве храма с алтарным
киворием содержался глубокий смысл: во-
первых, тем самым конкретизировалась идея
уподобления его храму-сени над гробом
Господним, а во-вторых, проводилась мно-
Храм Гроба Господня. Прорись с резной
иконы XV в. из Новгорода
гозначительная параллель между Царем
Небесным и царем земным.
Весьма знаменательно, что при
формировании идейной программы нового храма
Москвы главное внимание было
сосредоточено прежде всего на его внешних формах,
символика которых приобрела небывалую
прежде наглядную повествовательность. Это
сказалось, например, в обработке граней
вторых ярусов восьмигранных столпов
декоративными кругами — как бы торцами
бревен теремков, крыши которых переданы
в виде заостренных треугольников
(вимпергов), расположенных ярусом выше.
Изобразительны в Покровском соборе и
многочисленные полукружия кокошников,
куда вписаны звезды, помогающие
увидеть в этих полукружиях небесные сферы10.
Покровский собор воплотил в себе образ
некоего райского терема, а вместе с тем
целого города, окруженного могучими
вежами11. Можно найти ассоциативное сходство
Покровского собора и с самим Кремлем с
его чередующимися большими и малыми,
круглыми и прямоугольными башнями и
компактным храмовым комплексом с
Ивановским столпом в центре. Однако нельзя
установить какой-то один определенный
образец, по которому создавался Покровский
собор. Это было принципиально
многозначное произведение, призванное воплотить в
себе высший нерукотворный образ путем
суммирования и синтезирования множества
нижестоящих «частных» образцов, как
храмового, так и жилого и крепостного
строительства.
Этот суммарный и по-иконописному
спрессованный образ храма-комплекса
наделялся такой нерасторжимой архитектурной
целостностью, которая была нехарактерна
для средневекового зодчества и несла в себе
вполне определенные черты художественной
концепции Нового времени. Хотя все девять
составляющих собор приделов оставались
самостоятельными архитектурными
объемами, каждый из них был рассчитан на
строго определенную роль в композиции
целого и не мог быть отделен от этой
композиции, в которой ясно читалось волевое
упорядочивающее начало. Покровский собор
создавался как воплощенный идеал, вот
почему в его композиции оказались столь
последовательно примененными такие ренес-
сансные профессиональные средства, как
сбалансированность архитектурных масс и
регулярность плановой основы. Дело
заключалось не в механическом перенесении
элементов западного искусства на Русь, а во
внутренней общности некоторых глубинных
процессов, протекавших в художественной
культуре позднего Средневековья, как на
Западе, так и на Востоке.
Покровский собор имел достаточно
близкие аналогии в архитектурных фантазиях
Леонардо да Винчи, его план,
представляющий собой два развернутых на 45° по
отношению друг к другу квадрата, типичен для
проектов и идеальных храмов, и идеальных
городов эпохи Ренессанса. И вместе с тем
406
Часть II. Глава 3
схема плана Покровского собора
соответствует распространенной в древнерусской
иконописи фигуре звездчатого («софическо-
го») нимба или той космогонической
диаграммы, на фоне которой изображался «Спас
в силах». Одновременно Покровский собор
отвечал представлениям о четвероугольном
горнем Иерусалиме, высота которого равна
ширине, с каждой из четырех сторон кото-
План храма Покрова на Рву;
а) в соотнесении с традиционной
иконографией «Спаса в силах»;
б) в сравнении с планом идеального города
Сфорицнды Антонио Аверлино (Филарете)
рого расположено по трое ворот, а в
центре возвышается Мировое древо.
С возведением собора Покрова на Рву
приобрело во многом новую символическую
окраску и все городское пространство в
центре Москвы. Собор встал на Красной
площади как своего рода киворий над алтарем
огромного храма под открытым небом. Во
всяком случае, именно такая роль отводилась
ему во время пасхальных праздников, когда
совершалось знаменитое «шествие на
ослята» патриарха (до 1589 г. митрополита) в
сопровождении царя. Перед собором, как
перед алтарем в церкви, устанавливались
иконы, а Лобное место, возвышавшееся
поблизости, использовалось в качестве амвона.
Торжественное шествие по устланному
сукном пути от Успенского собора к
Покровскому (к его Входоиерусалимскому
приделу) и назад изображало евангельский сюжет
входа Христа в Иерусалим12.
Покровский собор создавался как новая
центральная доминанта всего города. Цент-
ричное начало в его композиции находило
определенное соответствие в самом плане
Москвы XVI в. с его расходившимися во все
стороны радиальными улицами.
Необходимо специально остановиться на
характеристике градостроительных
принципов сложения моноцентрического плана
Москвы конца XVI в. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что эти принципы
были существенно отличны от
традиционных для Древней Руси, хотя они и не
могли не базироваться на последних. Разрас-
407
Книга вторая
таясь, древнерусские города практически
всегда получали по нескольку линий
укреплений, заключавших разные по значимости,
соподчиненные между собой
градостроительные зоны. В этом отношении рост
посадов Москвы был вполне традиционен.
Однако с возведением Белого города и
Скородома иерархия «городов» Москвы
приобрела небывалую целостность. Если
План городов-крепостей Ивана Грозного:
а) Суша, б) Туровля, в) Ситна, г) Касьянов
Китай-город как древний посад-предградье
еще сохранял характер самостоятельной
части города, как бы прироста к нему, то
Белый город и особенно Скородом,
опоясавший всю Москву по периметру, оказались
уже такими неотъемлемыми ее элементами,
которые в принципе не способны
существовать в отрыве от целого. На смену
соподчинению автономных градостроительных зон
«по старшинству» пришло абсолютное
подчинение одного «города» другому,
периферии — центру. Четыре «города»
Москвы — Кремль, Китай-город, Белый город
и Скородом — образовали строго
упорядоченную ступенчатую структуру единого
крупнейшего в Европе того времени
города, ставшего столицей и как бы моделью
монархического государства.
Линия стен Скородома, охватывая
огромную территорию (ок. 2000 га) и проходя по
сложнопересеченной местности, обладала
живописностью, но при этом в своей схеме
имела ясно читаемую форму круга. Кроме
того, на аксонометрических планах Москвы
конца XVI — XVII в. в Скоро доме, или
Земляном городе, как он стал называться
позднее, было отмечено 12 ворот, что
свидетельствовало, наверное, о стремлении
идеализировать образ Москвы, придать ему
черты большой символической значимости,
ибо 12 ворот по периметру насчитывал
горний Иерусалим. Знаменательно, что такое
обращение к образу священного града
сказалось на формировании всего плана
Москвы в целом. Нельзя не оговориться, что
Небесный Иерусалим, согласно
Апокалипсису, представлялся в виде «четвероуголь-
ного» города, с каждой стороны которого
расположено по трое ворот, а стены
покоятся на «12 основаниях»13. Земной
Иерусалим тоже мыслился как город, построенный
«на четыре углы, крестным образом»14. Это
дало основание М. П. Кудрявцеву
представить идеализированную схему плана
Москвы XVII в. в виде квадрата со
срезанными углами15. Однако такое насилие над
планом города все же излишне. Образ горнего
Иерусалима часто передавался и в виде
круга — символа совершенства. Показательно
для нас, например, изображение такого
круглого горнего града на известной
программной иконе середины XVI в. «Церковь
Воинствующая», где оно символизирует
именно Москву16.
Можно высказать предположение, что
кругообразная форма Скородома
рассчитывалась на то, чтобы вызывать ассоциации и
с идеализированным образом античного
Рима. Именно круг принимался часто в
качестве схемы плана Рима, как это запечат-
408
Часть II. Глава 3
лели многие средневековые миниатюры и
карты мира и, в частности, появившаяся в
Италии XVI в. серия гравюр,
возрождающих облик древнего города в виде
правильного круга, овала или октогона, с
размещенной в центре вертикалью — Миллиарием,
от которого в античности отсчитывали
расстояния по всем дорогам, расходившимся из
столицы империи17. Одновременно Москва
уподоблялась и «Второму Риму» —
Константинополю. Названные
градостроительные образцы Москвы не исключали один
другого, но дополняли друг друга, будучи
воспринимаемыми в предельно обобщенном,
абстрагированном виде, в качестве
символической модели города-идеала.
Стремление к достижению
упорядоченности и целостности внешних поясов
укреплений Москвы конца XVI в. возникло не
случайно. Повышение внимания к
геометрической правильности построения контуров
крепостных стен прослеживалось как в
европейском, так и в русском
градостроительстве рассматриваемого времени: в
Московском Кремле, как это отмечалось выше,
в крепости Иван-город, в кремлях
Нижнего Новгорода, Коломны, а особенно — в
тульском и зарайском кремлях, планы
которых представляют собой совершенно
правильные прямоугольники. Характерны
также крепости прямоугольной, треугольной и
трапециевидной форм, построенные Иваном
Грозным в ходе Полоцкой войны. Весьма
показательно монастырское строительство,
в котором с наибольшей определенностью
сказывались новые тенденции в образно-
символической интерпретации крепостного
ансамбля.
В отличие от городов домонгольской
Руси, как бы выраставших из свободных
изгибов естественного рельефа местности,
города и монастыри Московского времени
за счет геометризма своих очертаний
начали в определенном смысле
противопоставляться ландшафту как природной стихии,
накладываться на него в качестве некоего
высшего упорядочивающего начала. Это
находило параллель в искусстве
Ренессанса с его учением о «победе» над
пространством путем наложения на него правильных
геометрических форм18.
Возвращаясь к Москве, нужно
напомнить, что окружение посадов кольцами стен
и частичное упорядочение планировки
сопровождалось усилением ведущей роли ее
центра — Кремля. На рубеже XVII в.
Борис Годунов не только реконструировал
укрепления Кремля и дворцовый комплекс,
но замыслил и начал осуществлять
грандиозное сооружение — подобие
иерусалимского храма «Святая Святых», которое
должно было подняться посреди Кремля, на
Ивановской площади19. Москве предстояло
получить новую безраздельно
господствующую над всем разросшимся городом
архитектурную доминанту, наделенную огромной
идейно-символической значимостью.
Как известно, Борису Годунову не
удалось построить этот храм, который
уподобил бы его царю Соломону. Была
осуществлена лишь надстройка церкви-колокольни
Ивана Великого. Но и этого оказалось до-
409
Книга вторая
статочно, чтобы ощутимо поднять
значимость соборного комплекса Кремля в
панораме всей Москвы. Следует отметить, что
вместе с так называемой Петроковой
звонницей, создававшейся в свое время как
церковь Воскресения, Иван Великий
образовывал такую характерную архитектурную
композицию, которая уже сама по себе могла
вызывать ассоциации с иерусалимским хра-
Сопоставление изображения Московского
Кремля из книги П. Крекшина «Житие
Петра /» (XVIII в.) с фрагментом новгородской
иконы «Страшный Суд» (XV в.)
мом Воскресения, состоявшим, как
известно, из базиликальной и ротондальной
частей. Во всяком случае, такого рода
условные архитектурные подобия храма Гроба
Господня были известны в средневековой
Европе20.
Но дело не ограничивалось приданием
особой символической значимости лишь
отдельным постройкам. Весь Кремль в целом
в XVII в. стал наделяться качеством
священного града — цитадели Москвы.
Покровский собор оказался теперь как бы
архитектурным придатком Кремля,
отмечающим главный вход в него. Поэтому образ
Иерусалима в упоминавшемся обряде
«шествия на осляти» воплощался двояко — и
в виде «преудивленного» храма на Рву, и
в виде самого кремлевского комплекса, о
чем, в частности, говорит тот факт, что
одним из кульминационных моментов
праздника был вход патриарха «на осляти» в
Кремль через Фроловские (с 1658 г. —
Спасские) ворота. Об этом свидетельствует
и то, что Фроловские ворота, получившие в
1625 — 1626 гг. высокую декоративную
надстройку, иногда назывались в XVII в.
Иерусалимскими (и могли уподобляться
Судным вратам в Иерусалиме, ведшим к
Голгофе — Лобному месту21).
Беспрецедентная надстройка главной, а в
конце века и всех остальных башен
разными по высоте декоративными шатрами, по-
410
Часть II. Глава 3
крытыми зеленой глазурованной черепицей,
придала Кремлю совершенно особый, ярко
самобытный образ лучезарного Царственного
града. Этому же способствовали и
архитектурные работы внутри Кремля, такие как:
возведение Филаретовой пристройки,
Патриарших палат с церковью Св. Апостола
Филиппа (позже 12-ти Апостолов),
нового здания Приказов, а более всего —
сооружение посреди царской резиденции
Теремного дворца, выделявшегося своей
протяженностью и ярусностью. Композиция
дворца — это как бы идеальная трехчаст-
ная пирамида, выражающая идею
восхождения от земного мира к небесному. В
целом царский дворец в Кремле XVII в.
превратился в чрезвычайно живописный,
сияющий яркими красками, позолотой и
серебром архитектурный комплекс. Его
существенным дополнением стали набережные
висячие сады.
Тот же идеализированный образ
жилища «земного бога» и наследника царей
прошлого нашел свое воплощение в ансамбле
дворца Алексея Михайловича в
Коломенском. Традиционная русская композиция
рубленых хоромов в данном случае была
облечена в причудливые формы некоего
сказочного града-терема. Симеон Полоцкий
так и писал об этом дворце: «Множества
жилищь градови равнится <...>», и
далее — «По царствей чести и домъ зело
честный, несть лучше его, разве дом
небесный»22. Это был и итог длительной
эволюции народного жилища, и вместе с тем
уникальная архитектурная фантазия на
основе самых различных «образцов и
переводов».
Как в отдельных постройках и
комплексах, так и в ансамбле всей Москвы стал все
более целенаправленно проявляться принцип
суммирования историко-культурных и в том
числе архитектурных ценностей. Этот
принцип можно назвать программным для
XVI — XVII вв. В Москву свозились
многие местные реликвии, в первую очередь
иконы, а также колокола, в результате чего
«в общем звоне колоколов Москвы
сливались голоса городов России: Новгорода,
Ростова, Переславля-Залесского, Пскова и
др.»23. Строительство огромного числа
церквей самых разных посвящений воплощало
мысль о сосредоточении в Москве всего
пантеона местных и общехристианских
святых. Многие московские церкви были
созданы как памятники знаменательных
исторических событий. В росписях московских
храмов и теремов можно было встретить
изображения не только русских князей и
царей, но и таких легендарных
исторических личностей, как Александр
Македонский, Дарий I, Птоломей, Константин
Великий, а также Гомер, Платон, Аристотель,
Виргилий, Плутарх и др. В царской
библиотеке были собраны лучшие образцы
мировой литературы. В Москву, так же как
некогда в Рим или Константинополь,
съезжались мастера из самых разных стран
мира. Царские и вельможные дворцы
насыщались элементами диковинного,
заморского, а это в глазах русских людей того
времени служило указанием на причастность к
иному, сакраментальному миру, что
раскрывает одну из существенных сторон
процесса занесения западноевропейских и
восточных архитектурных мотивов в Россию
XVII в.2*.
И все это нацеливалось на воплощение
провиденциалистской идеи богоизбранности
Москвы и превращения ее в новую мировую
столицу. «Эта идея подкреплялась
многочисленными аналогами из ветхозаветной истории,
истории Вавилонского и Персидского царств,
монархии Александра Македонского,
римской и византийской истории»25. Вообще в
XVI — XVII вв. значительно возрос
интерес к истории, как русской, так и
всемирной. Наблюдалось настойчивое стремление
собрать и возродить древние традиции и
обряды. А этому сопутствовала их
идеализация, то есть как бы обновление и очищение
в преддверии Страшного Суда. По
существу, это означало пресечение многовековой
эволюции этих традиций, осмысление их как
достояния прошлого, именно как наследия,
на основе которого должна была создаваться
новая общерусская культура.
На этом поприще особенно проявил себя
патриарх Никон, который, как известно,
провел церковную реформу, возродив
«освященное» пятиглавие и запретив при
этом строительство шатровых церквей.
Шатры, однако, продолжали широко
использоваться при строительстве колоколен.
411
Книга вторая
Тогда же было предпринято исправление
церковных книг, среди которых для
рассматриваемой темы особый интерес представляет
Кормчая книга26, изданная в середине
XVII в. Она включала в себя византийский
«Закон градский», где содержались
регламентации определенных расстояний между
соседними домами, предписания не
нарушать визуальные связи жилых домов с ок
«Чертеж с росписью» городской усадьбы
Москвы XVII в.
ружающей природой, не загромождать
строениями пространства улиц и т. п. Этот
закон был разработан при Юстиниане
применительно к Константинополю.
Возрожденный в России XVII в., он подчеркнул
преемственную связь Москвы с бывшей
столицей Византийской империи. Одновременно
в Киеве развернул свою деятельность
митрополит Петр Могила, издавший в 1646 г.
«Великий требник», в котором
регламентировались традиционные-обряды закладки и
освящения города27.
Став синтезом множества архитектурных
образцов, Москва вместе с тем превратилась
в главный их источник для всей страны.
Приемы московского зодчества получили в
XVII в. повсеместное распространение.
В качестве образцов едва ли не для
большинства возводившихся в то время построек
служили именно московские здания и
сооружения. Более того, из московских приказов
на места стали рассылаться специально
изготовленные образцы-модели как отдельных
строений, так и целых городов28. Наряду с
моделями большое распространение
получили чертежи «с росписью»,
использовавшиеся и как проектные задания, и как учетная
документация. Для организации
строительства того или иного города из Москвы
направлялись специально подготовленные
служилые люди, в обязанности которых
входили поиски удобного для него места, состав-
412
Часть IL Глава 3
ление ситуационного и проектного чертежей,
а также сметы на намечаемые строительные
работы. Вся предпроектная и проектная
документация отправлялась в соответствующий
московский приказ на утверждение, и только
после этого разворачивалось строительство29.
В целом XVII в. характеризовался
ускоренным развитием чертежа в сторону его
большей наглядности и точности, увеличением
его роли в .строительной практике, что
соответствовало все большей
профессионализации архитектурного и
градостроительного творчества.
Чертежи составлялись и в ходе
переписей посадских дворов, с настойчивостью, в
централизованном порядке проводившихся в
XVII в. повсеместно. Велась
действительно огромная работа по упорядочению
землепользования и налогообложения.
Государство не только постоянно усиливало
контроль за постройкой городов, их
планировкой и заселением, но и насаждало по всей
стране единую систему мер, единый
московский счет времени. Это понятно, так как
создавалось единое, политически и
экономически сплоченное государство.
Москва играла в этом процессе
главенствующую роль. Она была и высшим
градостроительным образцом, и вместе с тем
реальным торгово-ремесленным центром всей
страны. Все прочие русские города стали
осмысливаться теперь как «государев посад»,
окружающий «Царственную столицу».
Каждая область и каждый город, утрачивая
былую самостоятельность, становились все
более неотъемлемыми частями государства,
обладающими теми или иными
административно-политическими и экономическими
функциями. Появилась тенденция к
специализированному развитию городов.
Их «рыхлая» феодальная иерархия
стала обретать характер стройной завершенной
пирамиды во главе с Москвой. При этом
надо учитывать, что рационалистическая,
«земная» деятельность, направленная на
создание крепкого самодержавного
государства, еще в полной мере зиждилась на
унаследованной от Средневековья
идеалистической системе представлений. Эта
деятельность нацеливалась на воплощение в
реальной действительности, на земле тех высших
образцов и той Божественной иерархии,
которые ранее могли мыслиться лишь
умозрительно, как некое недостижимое
совершенство. Устанавливаемая монархическая
государственная структура осмысливалась как
подобие иерархии небесной, а царь
оказывался подобием самого Бога. Его иногда так
и называли: земной или тленный бог30.
Служение царю стало как бы материализацией
духовного служения Богу. В строительной
практике, как и в других начинаниях, все
большую роль стало играть обращение за
соответствующим указом к царю, от
которого (как от Бога) стали исходить и
образцы, и меры, и общие градостроительные
решения. Средневековый принцип «указания
свыше» на образец и меру для возводимой
постройки сохранился, но претерпел
качественные изменения. Став, по существу,
административной мерой, он в значительной
степени утратил свой сакральный характер.
Но такие импульсы, шедшие «сверху»,
сопровождались активизацией встречного
движения, движения «снизу»,
захватившего самые широкие слои населения.
Устранение местной феодальной власти и замена ее
представительством государственной
администрации влекли за собой резкое снижение
идейно-политической, а соответственно и
градостроительной роли старых кремлей в
городах, где ведущее положение заняли
посады, что было естественным следствием
того бурного развития торговли, ремесел и
промыслов, которое составляло характерную
черту XVII в.
Функциональным и планировочным
центром русского города XVII в. оказывался
торг, к которому стали тяготеть и
учреждения городского управления: съезжая,
приказная, таможенная и другие избы, а
иногда и воеводский двор. Одновременно
значительно возросла композиционная роль
локальных подцентров, рассеянных по городу,
таких как посадские церкви, дополненные
высокими колокольнями, усадьбы богатых
купцов, зачастую с каменными палатами,
крупномасштабные гостиные и
производственные дворы. Особенно большую
градостроительную роль в городах XVII в.
стали играть богатые монастыри с их развитым
архитектурным ядром и величественным
обрамлением в виде каменных крепостных
стен и башен. Монастыри, владевшие зе-
413
Книга вторая
мельными угодьями, промыслами, активно
занимавшиеся торговлей, оказывались
соперниками городских посадов. «Обрастая»
слободами, они превращались в
своеобразный вариант феодального города.
Наряду с тенденцией к полицентризму
наблюдалось неравномерное, асимметричное
разрастание посадов и слобод вдоль дорог
в новые города. Естественно, что главными
городскими улицами оказывались те,
которые вели в Москву. Такое планировочное
развитие городов отвечало реальному
укреплению экономических связей между ними и
отражало процесс общегосударственной
централизации.
Городской посад XVII в. имел
чрезвычайно сложную и неоднородную структуру.
Посадские жители, несшие «тягло»,
вступали в конфликт с пользовавшимся
льготами населением частновладельческих слобод.
Особенно болезненно отражалось на
благосостоянии посадской общины так
называемое «обеление», то есть освобождение от
тягла тех дворов, чьи владельцы
оказывались на привилегированном положении.
Внутри каждого посадского или слободского
мира постоянно возникала борьба между
индивидуальными и общинными интересами.
Целый ряд государственных реформ был
направлен на ликвидацию белых слобод в
городах. Особую роль в этом отношении
сыграло Соборное Уложение 1649 г.
Обобщая, можно сказать, что в русском городе
XVII в. наблюдалось то же стремление к
слиянию разнородных частей в одно целое,
которое проявлялось и в масштабе всего
государства. Таким путем, казалось бы,
воплощался народный идеал городской
общины, но вместе с тем реализовывалась
система государственного крепостничества. При
этом посад претерпевал имущественное
расслоение, что объективно вело к разрушению
коллективного, «соборного» характера
русской культуры, к развитию личностного
самосознания.
Показателен в этом отношении пример
Ярославля, который, как известно, в XVII в.
превратился в крупнейший торговый центр
России. Ярославский кремль, так
называемый «Рубленый город», располагавшийся у
впадения реки Которосли в Волгу, в XVII в.
утратил свою крепостную функцию, а вслед
за тем и композиционную значимость, хотя
в нем и оставался главный городской собор
Успения Богоматери. Роль цитадели и
культового центра города стал играть Спасо-
Преображенский монастырь,
расположенный немногим выше по течению
Которосли. Но подлинным ядром города, как
функциональным, так и композиционным,
оказался посад, носивший название
Земляного города. Почти пятую часть его
занимала торговая площадь. По всей территории
посада были разбросаны приходские
церкви с трапезными и колокольнями.
Центральное место среди них занимала церковь Ильи
Пророка, построенная на средства купцов
гостиной сотни братьев Скрипиных.
Наряду с посадскими церквами и богатыми
купеческими дворами, здесь, в гуще
застройки, находились производственные дворы, а
также городские монастыри. Значительно
разрослись в XVII в. окружавшие
Ярославль слободы. Территориально они стали
срастаться в сплошной массив. В слободах
также появилась масса каменных храмов,
составлявших иногда целые архитектурные
комплексы, которые по своим масштабам не
уступали городским (достаточно вспомнить
памятники Коровников или Толчкова).
Происходило разрушение традиционной
иерархической субординации структурных
элементов города, и в этом заключалась
одна из наиболее существенных
особенностей русского градостроительства XVII в.
Хотелось бы упомянуть и другой богатый
волжский город — Нижний Новгород.
Композиционным ядром его оставался
монументальный кремль, однако в XVII в. он
оказался почти безжизненной частью
города, сосредоточившей в себе «осадные»
дворы, принадлежавшие главным образом
крупным боярам и князьям, бывавшим здесь
лишь наездами. Вся жизнь его протекала на
посадах — Верхнем и Нижнем.
Подавляющее большинство посадских церквей в
XVII в. было перестроено, причем
некоторые из них получили весьма самобытные
архитектурные формы. Особенно
показательна произведенная «именитым
человеком» Д. Строгановым перестройка церкви
Рождества Богородицы, превратившейся из
рядового приходского храма в главную в
архитектурном отношении доминанту Ниж-
414
Часть II. Глава 3
него посада. Эта церковь оказалась как бы
вне системы храмов Нижнего Новгорода,
она входила в особый круг строгановских
построек и служила задачам
всероссийского прославления этой фамилии.
Москва, как уже отмечалось, будучи
столицей монархии, занимала особое
положение среди других русских городов, однако
и на ее посадах протекал тот же, общий для
ближенных ко двору бояр. Так проявлялся
тот глубинный процесс, протекавший в
русской культуре XVII в., который привел в
конечном итоге к отмене местничества и к
разрушению средневековой феодально-
иерархической этикетности. Как писал Ав-
раамий Палицын, в XVII в. возникло
такое положение, когда «Вси подобящеся
царевым вельможам и сродичем царевым
Ярославль. Ансамбль в Коровниках. Справа —
церковь Иоанна Златоуста, слева —церковь
Владимирской Богоматери. 2-я пол. XVII в.
русского градостроительства XVII в.,
процесс, связанный с активизацией раннебур-
жуазного начала. Появлялось все большее
и большее число каменных жилых палат,
повсеместно перестраивались старые
приходские церкви, создававшие яркие
архитектурные акценты в застройке посадов.
Причем состоятельные заказчики уже не
видели ничего предосудительного в том, чтобы
возвести у себя на дворе постройки с
претензией на царское достоинство.
Московский купец Никитников, например, пожелал
пригласить для строительства своей церкви
Св. Троицы (в Никитниках) царских
мастеров, тех, кто возводил ни более, ни менее
как Теремной дворец в Кремле. А
построенные Никитниковым каменные палаты, по
свидетельству Павла Алеппского, по
своему великолепию не уступали палатам при-
украшением злата, и сребра, и одеждей, и
коней <...> — не токмо же таковии, но и
от купцов сущей и от земледелец. И толи-
ко гордение бысть, яко не познати во
украшениях жен и чад, чьи суть: в блещаниях
злата и сребра и бисерах ходяще, вси бо
боярстоваху»31.
Из сказанного явствует, что исконная
древнерусская традиция творчества «по
образцу» в XVII в. существенно
переродилась, хотя, казалось бы, в полной мере
сохранила свое господствующее положение.
Переродилось самое отношение к образцам,
выбор которых становился все более
субъективным, зависящим от личных вкусов
заказчиков — людей разных социальных слоев.
То же касалось и выбора меры, и величины
постройки, которые стали определяться уже
не столько иерархическими соображениями,
сколько экономическими возможностями
заказчика. Как известно, в XVII в. среди
русских купцов появились крупные магнаты,
способные субсидировать царскую казну,
415
Книга вторая
строить не только церкви и каменные
палаты, но даже свои собственные города.
Образцы, модели и графические схемы,
число которых в XVII в. резко возросло,
постепенно становились чисто практическим
подспорьем мастера в его работе,
приобретавшей все более самостоятельный творческий
характер. Опираясь на ремесленные
традиции, низшие «земные» модели и образцы,
зодчие стали стремиться превзойти их,
создать все более «неземное» и
замечательное. Высший «нерукотворный» образ как бы
оказывался, таким образом, доступен для
человеческого творчества. Дело шло к тому,
чтобы он начал мыслиться уже как
искусный синтез множества нижестоящих
индивидуальных образцов. А в итоге этот
синтетический, обобщающий высший образ
должен был оказаться зависимым от своих
частных проявлений, которые превращались
из его «отблесков» в реальные
составляющие элементы. Таков, очевидно, логический
итог претенциозных устремлений сделать
идеал действительностью.
Таким образом, в работе по образцу и
по подобию в XVII в. традиционный
принцип иерархической субординации стал
отходить на второй план и разрушаться.
Одновременно все острее стала проявляться ду-
алистичность образного мышления. Если в
социальной сфере отношения строились на
прямом обращении к царю практически по
любому вопросу (государственный аппарат
мыслился лишь проводником царской воли),
то в сфере искусства главную роль стало
играть непосредственное соотнесение
дольнего и горнего, реально зримого и
символически умозрительного. По выражению
М. В. Алпатова, во всем искусстве XVII в.
«<...> ясно проявлялась потребность
приблизить к себе божественное»32.
Хотя практически повсеместно, и в
больших, и в малых городах, можно было
заметить подражание Москве, тем не менее
такое подражание теперь уже перестало быть
тем средством выражения подчиненного
положения этих городов по отношению к
столице, каким оно было прежде. Скорее, оно
стало служить способом или
идейно-художественным средством приобщения к
идеалу, каковым являлась Царственная
Москва. В ряде случаев в периферийных
центрах концентрировались настолько большие
материальные средства и художественные
силы, что эти центры становились как бы
«отпочкованиями» столицы или даже в
какой-то мере ее конкурентами (например, это
может быть отнесено к известной
художественной школе Строгановых). Богато
декорированные храмы XVII в., как Москвы,
так и Ярославля, Ростова, Суздаля,
Нижнего Новгорода, Мурома, Рязани, Углича,
Великого Устюга, Сольвычегодска и прочих
городов с типичными для них горками
кокошников в основании барабанов глав,
шатровыми или ярусными колокольнями,
которые, как уже отмечалось, создавались
нередко с ориентацией сразу на несколько
образцов, получая при этом весьма относительное
сходство с ними. Это были вполне
самостоятельные вариации на одну и ту же тему —
тему некоего райского храма-града.
В этих церквах осуществлялось как бы
слияние реальной постройки с ее идеальным
прообразом. Тому служили такие типичные
для XVII в. архитектурные средства, как
увеличение оконных проемов, за счет чего
интерьеры зданий наполнялись светом и
сама грань между внутренним и внешним
пространствами ощутимо смягчалась,
многоцветное расписывание поверхностей стен
ромбами «в шахмат» и «травами»,
применение коврового декора из фигурного
кирпича и обильное насыщение построек
изразцами, которые, заменяя собой драгоценные
камни, вызывали как бы сияние материи, ее
обожение. Можно сказать, что внешние
формы многих построек XVII в. стали
сближаться по своему характеру с богатыми
изделиями декоративно-прикладного
искусства, с церковной утварью, в которой всегда
с наибольшей наглядностью воплощались
священные образы. Центральным
архитектурным памятником такого рода был
Покровский собор, который в XVII в.
приобрел особую многокрасочность за счет
пристроек и орнаментальной росписи наружных
поверхностей.
Если, к примеру, с этих позиций
подойти к архитектурной оценке церкви
Рождества в Путинках, то, наверное, можно
будет отвести упреки в адрес ее создателей за
допущение столь живописного
«нагромождения» форм, не имеющих достаточной фун-
416
Часть IL Глава 3
кциональной и тектонической логики
построения. Правомерно ли говорить здесь о
«вырождении» шатра в русской
архитектуре? Может быть, напротив, тут проявилось
высокое мастерство строителей, успешно
справившихся с задачей «перевода» в
каменное функционирующее сооружение образа
идеального храма, воплощавшегося в
драгоценных предметах церковной богослужебной
утвари, как бы вынесенного из церковного
алтаря в город? Вопрос о степени
формально-архитектурного совершенства этого само-
бытнейшего сооружения не может
решаться в отрыве от содержательного анализа тех
побудительных идейных мотивов, которыми
вдохновлялись его создатели.
Большую роль в развитии ансамблей
русских городов XVII в. сыграло украинское
барокко, послужившее проводником на
русскую почву западноевропейских влияний.
Однако при всем своеобразии построек
Киева, Чернигова, Переяславля и других
украинских городов, исходные семантические
основы формирования их художественных
образов были во многом общими для русского
зодчества того времени. Древние русские
храмы, такие как София Киевская, Успенская
церковь Киево-Печерской лавры, Спасо-
Преображенский собор в Чернигове и
многие другие, получили в XVII в. высокие
фигурные венчания не просто потому, что
длительное господство Литвы и Польши
породило изменение художественных вкусов.
Созданием этих запоминающихся
надстроек'преследовалась все та же цель — более
полного, наглядного выражения во внешних
формах храмов их внутренней сакральной
сущности. Барочные «набалдашники»,
думается, были не столько уступкой
влияниям католической культуры, сколько вполне
самобытным, хотя и выработанным во
многом на основе европейских образцов,
архитектурно-декоративным средством
сближения образов почитаемых православных
святынь с общераспространенными в то время
моделями и изображениями —
вариациями на тему священного храма-града33.
Обобщая, можно сказать, что если в
более раннее время лаконичные архитектурные
формы скрывали в себе неисчерпаемое
богатство символических идей и образов,
благодаря чему их истолкование всегда
оставалось принципиально многозначным, то
теперь появилось настойчивое стремление
раскрыть содержание произведения в его
внешней форме, сделать эту форму «говорящей»,
повествующей, изобразительно-иллюзорной.
Этот вывод, уже не раз делавшийся
применительно к русской архитектуре XVII в.34,
в полной мере может быть распространен и
на ансамбли, городские и монастырские.
Уникальным и в то же время наиболее
показательным примером того, как и в
каком направлении шел процесс перерождения
образного строя архитектурного ансамбля
XVII в., может служить подмосковный
Воскресенский монастырь патриарха Никона.
Река Истра, протекающая возле
монастыря, была названа Иорданью, близлежащее
село — Вифлеемом, а сам монастырь стал
Новым Иерусалимом. Своеобразные
формы центрального храма монастыря должны
были, по мысли Никона, со всей полнотой
и документальной точностью
воспроизвести прославленный храм Гроба Господня. С
этой целью при строительстве была
использована не только модель, привезенная из
Палестины, но и детальный обмерный
чертеж, изданный Бернардино Амико.
Помимо общих форм плана для Никона
особенно важным представлялось максимально
полное воспроизведение реликвий храма
Гроба и связанных с ним памятных
священных мест. Реалистичность формоподража-
ния и содержательная повествовательность
пришли, таким образом, на смену скрытой
многозначности и условности более ранних
произведений, посвящавшихся той же
сакральной теме. Это должно было
подчеркнуть мысль о действительно
осуществившемся перенесении на русскую землю
оплота христианской веры. Особенно важно
то, что создание ансамбля монастыря
осмысливалось не столько как подражание,
сколько как осуществление в натуре святейшего
образца, как зримое и осязаемое
воплощение Небесного Иерусалима, превосходящего
всякую человеческую меру красоты и
совершенства. В этом отношении показательны
слова самого Никона: «аз во славу Божию
создах по образцу того великого Иерусалима
святое ограждение на видение и
воспоминание приснопамятного святого Иерусалима»35.
Ожиданию скорого конца света сопут-
417
Книга вторая
ствовало стремление к скорейшему
очищению и преображению всей «Святой Руси».
На это нацеливалась деятельность
ревнителей благочестия и церковная реформа
Никона, но на том же базировалась и
идеология раскола. Осуждая погоню за внешней
красотой, иллюзорным совершенством,
раскольники в своей вере в подлинное обоже-
ние некоторых членов их общин, якобы во-
площавщих в себе святых, апостолов и
самого Христа, обнаруживали все ту же, по
сути дела общую для культуры XVII в.,
тягу к лицезрению невидимого и
сакрального. К этому надо добавить отмечаемый
исследователями подъем карнавального
начала в русской культуре XVI — XVII вв.,
когда ряженые могли изображать не
только языческих персонажей, но и самого царя,
и христианских священнослужителей36.
Особую роль в развитии этого процесса
сыграл период опричнины,
сопровождавшийся нарочитым «заигрыванием» Ивана
Грозного с потусторонним миром.
Резиденция царя — Александровская слобода была
превращена в некий монастырь
«навыворот», и сама Москва оказалась
расчлененной на два мира — земщину и опричнину.
В доказательство своей потусторонней
царственной силы Иван Грозный позволил себе
непозволительное — «бесовские» игрища,
сопровождавшие опричный террор. Его
Опричный двор, построенный в Занеглиме-
нье, с резными львами на воротах, в глаза
которых были вставлены зеркала, и с
черными двуглавыми орлами с
распростертыми крыльями, должен был производить
устрашающее впечатление37. А в 1575 г., как
известно, на трон был посажен
«бутафорский» царь — Симеон Бекбулатович.
Что-то родственное ощущается и в
фигуре самозванца Лже-Дмитрия, которого
обвиняли в колдовстве и безбожии. В свою
короткую бытность царем Лже-Дмитрий
соорудил под стенами Кремля на Москве-реке
действующую модель геенны огненной. Вот
как описана она очевидцем: «И сотвори себе
онъ <...> образ предвечного своего домо-
вища, <...> великую пропасть и поставил
великъ котелъ с смолою, <...> и над нимъ
учинилъ три главы медных великихъ страш-
нихъ, зубы в нихъ железныя, внутри
устроено бряцание и звукъ, некиимъ ухищре-
ниемъ учинита аки адовы челюсти зеваютъ,
и зубы оклеплены имуще, а кохти, аки
серпы вострые готовы на ухапление, а въ кое
время начнеть зевати, изъ гортани аки
пламя пышеть, изъ ноздрей же беспрестанно
искры сыплыют, изъ ушей дымъ
непременно исхождаше <...>»38. Поскольку
напротив Кремля за Москвой-рекой
располагался Государев сад (иначе Царицын луг) с
церковью Св. Софии, который должен был
символизировать райские кущи, постольку
можно предполагать, что в целом данная
композиция, дополненная моделью геены
огненной, была своеобразным
театрализованным воплощением в городе
иконографической сцены Страшного Суда,
строившейся, как известно, на противопоставлении
райской обители и адского змея.
Приведенный пример хорошо показывает,
как в XVII в. стали раскрываться во внешний
мир те сакральные истины, которые раньше
можно было «лицезреть» лишь в пределах
внутреннего священного храмового
пространства. По существу, о том же говорит и уже
охарактеризованная идейно-символическая
функция Покровского собора.
Совершавшееся к нему «шествие на осляти» в неделю
Ваий, хотя и имело очевидные генетические
связи с традиционными крестными ходами,
тем не менее представляло собой
качественно новое по размаху полукарнавальное
действо. Знаменательно, что обряд «шествия на
осляти» практиковался не только в
Москве. Сохранилось свидетельство о том, что
сцену «Входа в Иерусалим» разыгрывал у
себя в усадьбе один из чухломских
помещиков, причем хозяин мог позволить себе
уподобление самому Христу39. Игровое
начало имело место в культуре Древней Руси и
в более ранние периоды. Специфика
рассматриваемой эпохи, думается, состояла в
том, что народные языческие традиции и
традиции светских феодальных увеселений
теперь оказывались уже в полной мере
поглощенными и овеянными христианской
религиозностью. Произошло слияние мирского
и церковного под эгидой последнего.
Известно, что в средневековых
христианских храмах главное внимание уделялось
организации внутреннего пространства,
решительно отгороженного от внешнего
греховного мира. Однако известно также, что
418
Часть II. Глава 3
в Московское время и особенно в XVII в.
в русском зодчестве все более усиливалось
внимание к экстерьеру, в результате чего
церковные здания становились как бы
источниками Божественной благодати вовне.
Их возведением достигалось освящение
городского пространства, самой земли
богоизбранного Российского государства.
Характерно в этом отношении все более широкое
распространение в XVI — XVII вв.
практики установки икон над входами не
только в храмы, но и в крепостные ворота, и
даже в жилые дворы40. Одновременно
письменно подтверждались и закреплялись
традиции торжественного освящения
крепостных стен, а соответственно, и территорий,
заключенных в них. Большое значение
приобрели также и различного рода
церемониальные шествия, крестные ходы,
приуроченные ко многим церковным праздникам.
Многолюдные процессии служили как бы
наглядной реализацией тех
идейно-символических связей, насквозь пронизывавших
русский средневековый город, которые в
большой мере умозрительно складывались между
различными, порой весьма удаленными
объектами: царскими резиденциями,
церквами, монастырями.
В Средневековье мыслили
преимущественно отдельными зданиями «в себе»,
определенным образом
взаимодействующими между собой в свободном городском
пространстве, теперь же в центре внимания
оказался образ города как единого
архитектурно-пространственного целого. Идея
горнего града, господствующего над миром,
занимала, как известно, центральное место в
средневековой картине мироздания.
Однако, если раньше это был
абстрактно-символический образ, всеобъемлющий и страшный
в своем величии, передаваемый в
произведениях искусства с предельной условностью,
то для XVII в. он стал чем-то почти
доступным, осязаемым и зримым. Его стали
любовно и детально изображать на фресках,
иконах, «моделировать» в изделиях
прикладного искусства, в него стали «играть»
ряженые4*. Также можно сказать, что его
стали стремиться осуществить в камне — в
пышных и красочных ансамблях городов,
монастырей и дворцов. Теперь этот образ
смыкается со сказочным образом
тридесятого царства, где «что ни дом, то дворец»,
где все постройки сияют золотом, серебром
и драгоценными камнями42. Именно об этом
свидетельствовали поистине лучезарные
ансамбли Московского Кремля, царского
дворца в Коломенском, митрополичьего
двора в Ростове, Новоиерусалимского, Тро-
ице-Сергиева, Иосифо-Волоколамского,
Ипатьевского, Соловецкого,
Пафнутьев-Боровского, Саввино-Сторожевского,
Борисоглебского, Цоводевичьего, Донского и
многих других монастырей, достигших своего
расцвета в XVII в.
Но чем более возрастало стремление к
материальной реализации образа
Небесного Града, тем более отвлеченной
оказывалась сама его идея, которой в итоге
грозило стать синонимом абстрактной «чистой»
красоты и гармонии. Хотя наблюдалось
резкое повышение интереса к истолкованию
средневековой символики и образности
(которая стала смыкаться с барочной эмблема-
точностью43), тем не менее можно сказать,
что в художественном творчестве
происходило определенное ослабление образного
начала в пользу
формально-композиционного. Это было связано с общим изменением
отношения к «внешней красоте», обретшей
большую степень самостоятельности,
независимости от «красоты внутренней», от
религиозно-этических категорий. Именно в
XVII в. происходило обособление
собственно эстетического начала, вычленение его из
теоцентрического контекста44. Причем
средства для достижения желаемых
эстетических эффектов допускались самые различные.
Особенно широко использовались
всевозможные образцы иностранного
происхождения, привлекавшие русских мастеров,
очевидно, своей формальной необычностью,
изысканностью деталировки. В число таких
полюбившихся образцов попадали и
ордерные формы, что весьма естественно, если
учесть повсеместное распространение их в
Европе XVII в. Но, говоря обобщенно, и
архитектурные и декоративные мотивы
копировались без особого внимания к их
содержанию, без понимания их подлинного
назначения. Производился чисто вкусовой
отбор их по внешним формальным
признакам, казавшимся мастерам пригодными для
достижения главной задачи — создания
419
Книга вторая
впечатления максимальной
привлекательности и красоты сооружения. Заимствованные
архитектурные и в том числе ордерные
формы в русской интерпретации не
получали, как известно, достаточной тектонично-
сти, хотя своя иллюзорная логика их
построения безусловно была.
В XVII в. стало появляться все большее
число типов зданий и одновременно усили-
Ростов. Митрополичий двор. Общий вид
ваться индивидуализация архитектурных
форм каждого конкретного здания. Говоря в
этой связи о проблеме ансамбля, достаточно
вспомнить центр Москвы XVII в.,
сформированный цепочкой крупных доминант:
Покровский собор — Спасская башня — Иван
Великий со звонницей — главные
соборы — царский дворец, несопоставимо
разных по формам, но связанных тематически,
то есть по-разному выражающих одну
общую идею, не соподчиняющихся, но
взаимодополняющих друг друга в едином
пространстве столичного центра. Такая
неповторимая уникальность главных зданий го*
рода отвечала в известной мере
эстетическим идеалам Ренессанса, для которого
именно индивидуальное являлось истинным
воплощением общего (что обусловливалось
начавшимся вытеснением средневекового
реализма номинализмом Нового времени).
Отсюда становится понятным, что
средневековый принцип образного подобия
утратил в XVII в. значение
основополагающего средства объединения зданий в
ансамбле. На смену ему стал приходить принцип
композиционного и
архитектурно-стилистического сближения разнотипных зданий и
сооружений. Последнее, в частности,
сказалось в распространении одних и* тех же
приемов декоративного убранства на здания
разных типов, в том, что многие
архитектурные элементы жилых зданий стали
переноситься в церковное и крепостное зодчество,
и наоборот. К числу таких элементов
относились широкие окна, обрамленные
пластически богатыми наличниками, шатровые
венчания башен теремов, церквей,
колоколен и крылец, килевидные кокошники,
«бочки», киоты и т. п. Причина тому,
думается, заключалась в переходе от мышления
отдельными типами зданий к мышлению
единым, синтезирующим в себе все типы
построек образом горнего града,
одновременно и Твердыни, и Престола, и
Жилища Всевышнего. И этот образ райского
града или храма-терема должен был в той
или иной мере проявляться в каждом
отдельном архитектурном сооружении.
Итак, «небесная» гармония стала как бы
опускаться на землю. Прежде лишь
умозрительно соотносимые элементы ансамбля
оказались теперь непосредственно
взаимодействующими в реальном городском
пространстве. Между ними окрепли причинно-
следственные композиционные связи, при
которых один элемент ансамбля стал
определять другой и все вместе — образовывать
нераздельное целое. В самом деле, в
городах Древней Руси каждое здание строилось,
исходя прежде всего из внутренне присущей
ему значимости, существовало в большой
степени само по себе, в своем особом
измерении; в планах городов и отдельных
комплексов было мало геометрической
строгости и четкости, постройки как бы
«плавали» одна по отношению к другой. С конца
XV в., как уже говорилось, все чаще
стали появляться крепко скомпонованные
планы, твердо установленные композиционные
420
Часть II. Глава 3
связи между отдельными составляющими
ансамбля. В комплексах многих монастырей,
например, въездные ворота ориентировались
прямо на главный собор, а иногда, как в
Донском монастыре конца XVII в., создавалась
совершенно правильная геометрически зако-
Планы монастырей: а) Ново-Девичий,
б) Донской
номерная композиция. Другой пример —
сложившийся в XVII в. архитектурный
стереотип: церковь с трапезной и колокольней.
М. В. Алпатов усматривал в нем
своеобразную модель центрального ансамбля
Московского Кремля с его Успенским собором,
Грановитой палатой и Иваном Великим45. В
отличие от ансамбля-прообраза, эта модель
превращалась в единое трехчастное
сооружение. Церковь, трапезная и колокольня
стали все определеннее взаимоувязываться,
ведущую объединяющую роль взяла на себя
главная продольная ось храма, на которую
часто нанизывались все три объема.
В XVII в. заметно усилилась тяга к
уравновешенности архитектурной композиции,
тщательной «отрисованности» ее силуэта,
симметричности и геометрической
правильности плана, что стало пониматься в
качестве неотъемлемых признаков гармонии и
красоты. В архитектурных комплексах
XVII в. ощущается не та постепенность
восхождения к совершенству, которая была
свойственна древнерусским ансамблям, а
скорее, порыв к совершенству и
одновременно иллюзия его обретенности. На смену
иерархическому наращиванию величин, как
и самой выразительности архитектурных
объемов от второстепенного к главному стал
приходить принцип контрастного
противопоставления разных частей композиции с
целью создания завершенного целого.
«Опускаясь на землю», гармония
становилась категорией абсолютной. Если раньше
идеальная схема не сковывала реальный
городской ансамбль, естественно связанный
с ландшафтом, то теперь произошло
обратное — она наложилась на него в виде
правильной геометрической формы и единого
декора-покрова.
Соответственно начало ослабевать
свойственное Средневековью умозрительное
образно-опосредованное восприятие городского
ансамбля, который оказался объектом
прямого, собственно визуального наблюдения.
Весьма определенно это выразилось в
реалистических изображениях русских городов,
оставленных нам, правда, в основном
иностранными путешественниками,
побывавшими в России XVII в. В миниатюрах и
иконописи русского происхождения еще
сильны были средневековые иконографические
421
Книга вторая
традиции, но все же тенденция к реализму
и здесь была очень заметна. Не только в
изображениях, но прежде всего в самой
градостроительной практике появились новые
признаки, указывающие на то, что
архитектурно-пространственная композиция начала
рассчитываться на вполне определенные
точки обозрения. Для зодчих стало более важно
учитывать, как человек перемещается в
городе, какие при этом архитектурные
картины раскрываются перед ним. Характерная
для XVII в. неравнозначность декоративной
обработки фасадов зданий возникла,
очевидно, не случайно, а с учетом визуального
восприятия, с целью выразить обращенность
соответствующих частей сооружений или
элементов архитектурного комплекса к
зрителю. Отсюда же становится ясно, почему
столь большое значение стали придавать в
XVII в. оформлению въездов в город,
монастырь, Государев двор.
XVII в. был тем временем, когда в
соответствии с централизацией и
укреплением огромной монархической державы начал
качественно перерождаться внутренний
строй древнерусских традиций, что
сказывалось и в жизни, и в искусстве, где
происходила абсолютизация художественного
качества, самих критериев гармонии и
красоты. Процесс государственной
централизации вызвал укрепление реальных связей
между звеньями традиционной для Древней
Руси феодально-иерархической системы. По
мере утверждения самодержавия прежняя
соподчиненность отдельных обособленных
княжеств «по старшинству» стала
заменяться абсолютным подчинением их одному
главному центру — Москве. В
иерархической пирамиде была обретена «голова»,
верхняя ступень, которая раньше существовала
лишь умозрительно. Это вызвало изменение
характера взаимосвязей между звеньями
прежней системы, хотя сама иерархическая
система не была заменена принципиально
иной. Поэтому можно сказать, что в
градостроительстве XVI — XVII вв.
древнерусская художественная традиционность не
столько вытеснялась, сколько как бы
оборачивалась новаторством.
XVII в. характеризовался настойчивым
стремлением воплотить в реальной
действительности, на земле, те умозрительные об-
Колокольня Ново-Девичьего монастыря в
Москве
422
Часть II. Глава 3
разы, которые ранее мыслились сокрытыми
для глаз непосвященных и принципиально
недостижимыми в человеческом
творчестве. Некоторая предрасположенность к
этому содержалась в традициях восточно-
христианского культа с его, пользуясь
словами В. Н. Лазарева, «мистическим
материализмом». Вместе с тем, как
представляется, в XVII в. активизировалось пантеис-
Лефортовский дворец в Москве кон. XVII в.
Фасад (реконструкция Н. Н. Соболева)
тическое начало, укорененное в народной,
сохранявшей языческие традиции культуре.
Но несомненно, что при наличии разных,
даже противоборствующих тенденций в
русской культуре XVII в. оставалась
незыблемой самобытная общность
художественных идеалов — народных и элитарных,
духовных и светских.
Таким образом, дуалистическое начало
все более настойчиво преодолевалось в
художественном творчестве. Думается, что
именно обострение коллизии «земного» и
«небесного» послужило основным
источником той яркой вспышки архитектурного и
градостроительного искусства, которая
отличала XVII в. Это был взлет
самобытного русского искусства именно потому, что
все богатство средневековой образности
вдруг как бы открылось, нашло свое зримое
воплощение, засияло воочию. Но здесь же
крылось и начало изживания древнерусских
художественных традиций, перехода их в
область формально-композиционных и
декоративных поисков, в чем улавливалось
типологическое родство с процессом
становления творческих принципов европейских
мастеров Нового времени.
Необходимо отметить, что в целом при
всей своей новизне русское
градостроительство XVII в. сохраняло живую
преемственную связь с предшествовавшими
периодами. К тому же процесс развития
градостроительного искусства протекал весьма
неравномерно. Рядовое посадское и сельское
строительство, тем более в отдаленных от
центра районах, оставалось в основном в
рамках традиций на протяжении не только
всего XVII в., но и следующих веков.
423
Книга вторая
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Повесть о взятии Царьграда турками в 1453
году // Памятники литературы Древней Руси.
Вторая половина XV в. М., 1982. С. 218.
2 Подробнее см.: Бондаренко И. А. Образ
Нового Рима в архитектуре Москвы //
Архитектура мира, вып. 3. Материалы
конференции: Античные традиции в архитектуре. М.,
ВНИИТАГ. 1993.
3 ПСРЛ. Т. XXV. С. 324.
4 Скорее всего, новая постройка была все же
смещена к востоку по отношению к прежней, о чем
свидетельствует одно из летописных известий (Бон
Фрязин поставил церковь «не на старом месте»),
и обнаруженные В. В. Кавельмахером материалы
раскопок 1910-х годов, дающие основания
полагать, что остатки калитовской церкви Иоанна
Лествичника, тоже восьмигранной в плане,
находятся посреди нынешней Соборной площади.
5 Судя по исследованиям Н. В. Ильенковой
и С. С. Подъяпольского, все три яруса
восьмигранников вплоть до венчающей цилиндрической
надстройки 1600 г. были возведены Боном Фря-
зином в 1505 — 1508 гг.: Ильенкова Н. В.
Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле.
Исследования и реставрация // Охрана и
реставрация памятников архитектуры. Опыт
работы мастерской № 13 Моспроекта-2. М., 1981.
6 Некрасов А. И. Проблема происхождения
древнерусских столпообразных храмов //
Труды кабинета истории материальной культуры
МГУ. Вып. V. М., 1930. С. 25.
7 Егорова К. С. Обращение к древности в
нидерландской живописи XV века //
Античность в культуре и искусстве последующих
веков. Материалы научной конференции ГМИИ
им. A.C. Пушкина, 1982. М., 1984. Советский
художник. С. 126 — 135.
8 Соболев H. H. Собор Василия
Блаженного в Москве. Реставрация и результаты
исследований 1954 — 1955 гг. // Архитектура и
строительство Москвы. 1956. № 1.
9 Бондаренко И. А. Идея царственности в
архитектуре Москвы XVI — XVII вв. //
Архитектура мира. Вып. 1. Материалы
конференции: Проблемы истории архитектуры. М.,
ВНИИТАГ. 1992. С. 73 — 83.
10 Соболев H. H. Проект реконструкции
памятника архитектуры — храма Василия Блаженного
в Москве // Архитектура СССР. № 2. М., 1977.
11 Ильин М. А. Собор Василия Блаженного
и градостроительство XVI в. // Ежегодник
института истории искусств АН СССР 1952. М.,
1952. С. 250.
12 Баталов А. Л., Вятчанина Т. Н. Об
идейном значении и интерпретации
иерусалимского образца в русской архитектуре XVI —
XVII вв. // Архитектурное наследство. № 36.
М., 1988. С. 30 — 36.
13 Откровение Иоанна Богослова. 21,
С. 12 — 21.
14 Путешествие игумена Даниила // Сахаров
И. П. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 8.
Путешествия русских людей. СПб., 1849. С. 18.
15 Кудрявцев М. П. Опыт приведения
композиции Москвы конца XVII в. к
идеализированной схеме // Архитектурное наследство. М.,
1982. № 30. С. 17 — 23.
16 Алпатов М. В. Всеобщая история
искусств. М., 1955. Т. 3. С. 273.
17 Frutaz A. P., Le piante di Roma. 3 vol.
Roma, 1962. T. 17. 18, 19.
18 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.,
1978. С. 73 — 76.
« ПСРЛ. Т. XXXIV. С. 202.
20 Вятчанина Т. Н. О значении образца в
древнерусской архитектуре // Архитектурное
наследство. М., 1984. № 32. С. 28 — 31.
21 Снегирев И. М. О Лобном месте в
Москве // Чтения в императорском обществе
истории и древностей Российских при Московском
университете. 1861. Генварь — март, кн. 1. М.,
1861. С. 12.
22 Цит. по: Волховской М. Г. (Сост.)
Домашний быт русских царей в XV и XVII
столетиях. СПб., 1894. С. 36.
23 Кудрявцев М. П. Историческая Москва —
памятник древнерусского градостроительного
искусства // Памятники Отечества. № 2. М.,
1980. С. 102.
24 Успенский Б. А. Филологические
разыскания в области славянских древностей. М.,
1982. С. 56.
25 Подобедова О. И. Московская школа
живописи при Иване IV. М., 1972. С. 18.
26 См.: Алферова Г. В. Кормчая книга как
ценнейший источник древнерусского
градостроительного законодательства, ее влияние на
развитие русских городов // Византийский времен-
ник. М., 1973. Т. 35. С. 195 — 220.
27 См.: Алферова Г. В. Русские города
XVI — XVII вв. М., 1989. С. 56 — 62.
28 Косточкин В. В. К вопросу о традициях
и новаторстве в русском зодчестве XVI —
XVII вв. // Архитектурное наследство. М.,
1979. № 27. С. 29 — 37.
29 Кириллов В. В. К проблеме изучения
древнерусского города XVI — XVII вв. // Русский
город. Вып. 7. М., 1984. С. 22 и ел.
424
30 Успенский Б. А. Царь и самозванец: само-
званчество в России как культурно-исторический
феномен // Художественный язык
Средневековья. М., 1982. С. 202 — 203.
31 Русская историческая библиотека. Л., 1925.
Т. XIII. С. 488.
32 Алпатов М. В. Указ. соч. С. 288.
33 Неотъемлемым признаком храма Гроба
Господня было отверстие в перекрытии
(«неспертый» верх, как отмечали древнерусские тексты),
в соответствии с чем он, как правило,
изображался с небольшим навершием — главкой или
фонарем над основным шатром-сводом перекрытия,
что как раз воспроизводят рассматриваемые
образцы украинского барокко.
34 Давыдова И. Л. Эстетические
представления русских людей XVII столетия //
Проблемы истории СССР. Вып. VII. М, 1978.
С. 28 — 29.
35 Цит. по: Ильин М. А. Каменная летопись
Московской Руси. М., 1966. С. 177.
36 Успенский Б. А. Царь и самозванец: са-
мозванчество в России как культурно-историчес-
Часть II. Глава 3
кий феномен. С. 207 — 217.
37 Страна и правление московитов в описании
Генриха Штадена // Иностранцы о древней
Москве. М., Столица, 1991. С. 73 — 74.
38 Успенский Б. А. Царь и самозванец...
С. 215 — 216.
* Там же. С. 221.
40 Выголов В. Н. Скульптура Георгия на
башне Московского Кремля // Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. М.,
1985. С. 21 — 27.
41 Успенский Б. А. Царь и самозванец...
С. 221.
42 Пропп В. Я. Исторические корни
волшебной сказки. Л., 1946. С. 261 — 265.
43 Морозов А. А. Симеон Полоцкий и
проблемы восточнославянского барокко //
Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 170 —
189.
44 Давыдова И. А. Эстетические
представления русских людей XVII столетия. С. 25.
45 Алпатов М. В. Всеобщая история
искусств. Т. 3. С. 298.
Глава 4
Архитектура
газруха Смутного
времени привела практически к полному
прекращению каменного строительства в
стране. Перерыв в строительной
деятельности длился почти четверть века — срок
достаточный для пресечения архитектурной
традиции в условиях Средневековья, когда
профессиональные навыки передавались
посредством наглядного показа при
совместной работе старшего и младшего
поколений мастеров. Поэтому, когда в 1620-х
годах экономика России достигла уровня,
достаточного для возобновления
строительства каменных зданий, в архитектуре
началось как бы повторение пройденного —
репродуцировались старые типы построек,
иногда в огрубленном, сниженном
варианте.
Консервация старой типологии и
декоративных форм после Смутного времени имела
не только материальные, но и идейные
причины. Разрыв культурной традиции,
вызванный неблагоприятными политическими
и экономическими обстоятельствами, очень
остро переживался русским обществом того
времени, программно ориентированным (как
это свойственно Средневековью) на
воспроизведение традиции. Обращение к ней
представлялось безусловным благом,
восстановлением утраченной целостности бытия.
Кроме того, «досмутные» времена стали
видеться своеобразным «золотым веком» —
периодом относительной стабилизации,
благоденствия, мирной жизни. Этим, вероятно,
объясняется обращение к формам годунов-
ского зодчества, хотя в глазах новых
заказчиков, Романовых, связь этих форм с
Годуновым должна была бы существенно их
дискредитировать. Наконец, резко
конфликтные отношения с Западом тоже
способствовали культурному ретроспективизму.
Заимствования западноевропейских новшеств в
таких условиях представлялись
нежелательными, а в этом случае единственным
выходом становилась ориентация на
национальную традицию.
В соответствии с вышесказанным церковь
Покрова в Рубцове (1619 — 1626 гг.),
возведенная по заказу Михаила Романова в
память победы над польскими войсками (то
есть имеющая важнейшее мемориальное
значение), повторила «годуновские» храмы
с крещатым сводом, увенчанные горкой
кокошников. Однако архитектурные
обломы стали проще, кладка грубее.
Завершение Покровской церкви
скомпоновано малоудачно: архивольты кокошников
доведены только до верха прикрываемых
ими участков свода, поэтому они не
скрывают за собой свод, а выглядят
налепленными на него. Прием, использованный для
зрительного облегчения верха храма, привел
здесь к противоположному результату:
завершение стало казаться еще более тяжелым
и бесформенным. Отсутствие угловых
диагональных кокошников в данном случае
вызвало распадение всей «горки» на
поперечные полосы, давящие на стены храма.
При общих грузных пропорциях церкви и
огибающей ее галереи, она выглядит
оползающей книзу, словно просевшей под
собственной тяжестью, а непропорционально
маленькая глава не в состоянии собрать
воедино композицию верха. Налицо утрата
прежнего качества при сохранении общего
композиционного и конструктивного
решения годуновского прототипа.
Однако уже на рубеже 20 — 30-х годов
XVII в. появляются постройки, хотя и
восходящие к старым типам, но обогащающие
устоявшуюся типологию рядом новых
находок. Такова церковь Покрова в
Медведкове (1634 — 1635 гг.), представляющая
собой как бы реплику собора Покрова на Рву
(Василия Блаженного). Сам замысел храма,
возведенного в подмосковном имении князя
Д. М. Пожарского, вероятно, связан с
событиями Смутного времени1. Он, так же как и
храм Покрова на Рву, знаменовал собою
победу над иноверными врагами и
утверждал славу русского оружия. Отсюда
понятно обращение заказчика к формам
московского храма-памятника. Композиция
медведковской церкви с ее центральным шатром,
окруженным четырьмя глухими угловыми
главами, двумя главами приделов и главой
над алтарем, явно апеллирует к
грозненскому прообразу2. Однако стройность и изяще-
426
Часть II. Глава 4
ство церкви в Медведкове, безоговорочное
подчинение боковых элементов шатру уже
при первом беглом взгляде сильно
отличают ее от прославленного прототипа.
Присутствуют здесь и оригинальные декоративные
мотивы: в первом ряду кокошников
четверика крупные полуциркульные кокошники
чередуются с сильно вытянутыми малыми,
поле которых заполняют довольно глубокие
ниши. Чередование крупных и мелких форм,
подхваченное во втором ярусе закомар,
звучит камертоном всей композиции; так же
соотносятся центральный храм и приделы,
малые главы и шатер, кокошники низа и
главы.
Эта игра форм подчеркивает впечатление
изысканности архитектурного решения,
которое не ослабевает и в интерьере
благодаря применению уникальной конструкции
перекрытия. Зодчий церкви Покрова в
Медведкове от широкого восьмерика
должен был сразу перейти к сравнительно
узкому восьмерику (иначе невозможно было
бы разместить угловые главы). Поэтому
вначале он заполнил углы четверика
арками-перемычками, так что в плане
получился четверик со срезанными углами — то
есть восьмерик, а затем, чтобы уменьшить
периметр еще слишком широкого
восьмерика, мастер надстроил егодю контуру двумя
рядами арочек, лежащих одна на другой и
как бы наползающих, свешивающихся друг
над другом. В итоге получилось эффектное
кольцо из веерообразных складок — венец,
вознесенный над главами молящихся и
завершенный светлым, открытым внутрь
шатром.
Еще большей изысканностью отмечена
церковь Св. Зосимы и Савватия Троице-
Сергиева монастыря, построенная почти в те
же годы (1635 — 1637 гг.). И здесь
заметна ориентация на старые образцы:
обработка алтарной апсиды в точности
воспроизводит аналогичный декор монастырской
же Духовской церкви 1476 г. Шатер
монастырской церкви столь же строен, как и
медведковский (пропорции 1:2,5), а декор
стал богаче и наряднее. Очень важно, что
изменились принципы его размещения: окна
восьмерика перерезали собой лопатки, так
что оконный проем выглядит висящим на
широкой ленте. Мотив подвешивания был
сознательно обыгран зодчим,
«закрепившим» верхний край наличников на
горизонтальной белокаменной тяге резными
шайбами-консолями. Столь же непринужденно
были размещены на стене и окна
западного фасада четверика, врезавшиеся в
центральные лопатки. Эти особенности
предвосхищали трактовку декора,
свойственную зодчеству середины и 3-й четверти
XVII в.
Не менее значимым для будущего стало
изменение конструкции здания. Шатер
храма, по внешнему виду так близкий к
медведковскому, является декоративным:
монастырская церковь перекрыта сомкнутым
сводом с распалубками3. Это
свидетельствует о зародившемся понимании шатра как
«уборной» части храма, что переводило его
из ранга конструктивных в разряд
декоративных форм.
Новое отношение к декору, изменение его
взаимодействия с конструкцией здания
проявилось в крупнейшей светской постройке
30-х годов XVII в. — Теремном дворце.
В 1636 — 1637 гг., по распоряжению царя
Михаила Федоровича, подмастерья
каменных дел Б. Огурцов, А. Константинов,
Т. Шарутин и Л. Ушаков надстроили над
старыми Мастерскими палатами еще три
этажа, где разместились покои членов
царской семьи. Дворец приобрел ступенчатый
силуэт: новую надстройку поставили с
отступом от старых стен, так что вокруг нее
образовалась открытая галерея; вторая
галерея прошла вокруг верхнего этажа —
маленького бесстолпного Теремка. Эта
впервые появившаяся здесь ступенчатость,
постепенность подъема архитектурных масс, их
ясная геометрическая расчлененность,
легкость, невыявленность толщины стен станут
определяющими чертами архитектуры
последней четверти столетия.
Другая немаловажная особенность
Теремного дворца — сравнительно
упорядоченное размещение декора на плоскости
стены. Резные белокаменные наличники
равномерно чередуются с филенчатыми
пилястрами, создавая представление об
анфиладе комнат, идущей по фасаду. В
действительности применительно к Теремному
дворцу можно говорить лишь о зачатках
анфиладного построения: использование
427
Книга вторая
анфилады связано с новым, европейским
дворцовым этикетом, а быт русского двора
этого времени еще целиком оставался в
освященных древностью формах византинизи-
рующего церемониала. Однако отказ от
традиционного «конструктивного»
расположения декоративных элементов, когда
лопатки или пилястры обязательно отмечали
место примыкания торца поперечной стены
в интерьере, открывал большие
композиционные возможности, также использованные
в архитектуре конца XVII в.
Новым был и сам декор Теремного
дворца — роскошные резные порталы и
наличники с треугольными или разорванными
фронтонами, обрамляющие многолопастные
или двойные с подвесной гирькой оконные
проемы. Резьба, покрывающая их, сложна
по мотивам и виртуозна по исполнению.
Тонкие переплетающиеся растительные
побеги образуют фон для выступающих фигур.
Подбор этих фигур (грифоны, единороги,
крылатые кони, павлины, попугаи, стрелки
из лука, похожие на кентавров, и т. п.) и
типология растительного орнамента
неоспоримо указывают на источник —
западноевропейские орнаментальные гравюры
позднего ренессанса, выпускавшиеся специально
как пособие для декораторов4. Здесь,
пожалуй, впервые в русской архитектуре
ориентация на европейские образцы выражена
столь открыто и программно; в дальнейшем
эта тенденция будет нарастать и затронет не
только декоративно-прикладное искусство и
сферу архитектурного декора, но и
живопись.
Теремной дворец, несмотря на его
сугубо элитарное предназначение, не остался
изолированным явлением в русской
архитектуре. Неоднократно высказывалось
предположение, что мастера, работавшие на его
строительстве, принимали участие и в
постройке церкви Св. Троицы в Никитниках
(1630 — 1650-е гг.)5. Этот храм был
возведен по заказу Григория Никитникова,
выходца из Ярославля, который принадлежал
к московской гостиной сотне —
объединению наиболее состоятельного русского
купечества. Никитников был связан с царским
двором, ссужал крупные суммы Михаилу
Романову и легко мог получить в свое
распоряжение лучших царских мастеров.
Несомненно сходство резьбы портала и пары
южных наличников Троицкой церкви с
декором Теремного дворца. Новшества,
возникшие в дворцовой архитектуре,
незамедлительно перешли в зодчество посада.
Для церкви Св. Троицы в Никитниках
характерна яркая колористическая гамма,
основанная на сочетании красного цвета стен
с белокаменным декором, зелеными
изразцовыми вставками и зелеными же,
очевидно, куполами. Это мажорное трезвучие во
многом определяет впечатление от
памятника. Высокий рельеф наличников и колонок
поддерживает заданное цветом ощущение
активности архитектурных форм, чему
способствует и асимметричность композиции
храма. Крыльцо и придел у южного
фасада уравновешиваются сильно вынесенной к
северу колокольней; масса словно свободно
перетекает из одной части здания в другую,
пребывая в неустойчивом равновесии —
наполовину единстве, наполовину
противоборстве. Очень энергично трактовано и
взаимодействие вертикальных и
горизонтальных элементов — горизонтальный бег
проемов галереи, подчеркнутый частым ритмом
квадратных ширинок, то и дело
перебивается вертикалями невысоких филенчатых
пилястр. Вертикальное и горизонтальное
устремление как бы сливаются в
охватывающих каждую пару проемов полукружиях,
но профилировки этих полукружий так
сочны, в них чувствуется такое напряжение, что
они словно стремятся распрямиться, подобно
пучку согнутых прутьев. И здесь единство
принимает характер противоборства,
временного равновесия двух противоположных
начал.
Идея движения, изменения в церкви Св.
Троицы в Никитниках проявляется не
только через единство и борьбу
противоположностей, но и через принцип органического
роста и развития архитектурных форм.
Пилястра цоколя на южном фасаде выше
раздваивается на две полуколонки,
тянущиеся вверх подобно растительным побегам;
они пронизывают карниз и выносят на себе
киот с килевидным навершием,
напоминающий бутон цветка. Крыша словно
прорастает шевелящейся массой кокошников, из
которых поднимаются вверх луковицы глав
на стройных барабанах, разворачивающие-
428
Часть II. Глава 4
ся в небо колючими «репьями» на концах
крестов.
Интерьер церкви по контрасту с
наружной оболочкой кажется статичным, простым,
почти примитивным. Храм перекрыт
сомкнутым сводом, его боковые главы
декоративны, и только центральная служит
источником верхнего света. Свет, льющийся из
купола, в средневековой архитектуре
символизировал присутствие Бога, что
подчеркивалось изображением Вседержителя на
своде центральной главы. В никитниковской же
церкви эта роль купола практически
сведена на нет другими источниками света —
большими боковыми окнами, освещающими
интерьер сильными и ровными световыми
потоками. Поэтому внутреннее пространство
утратило напряженность, создаваемую
контрастами света и тени: при относительном
равенстве всех измерений в нем нет
«силовых линий», выстраивающих его по
вертикальной или горизонтальной координате.
Оно камерно, почти интимно, поскольку
ориентируется не вовне, а внутрь — на свой
замкнутый мир и на человека в этом мире.
Замкнутость интерьера подчеркивается
росписями, которые идут непрерывными
лентами по южной, западной и северной стенам,
а с восточной стороны замыкаются в
кольцо иконостасом; сверху пространство
ограничено сводом, не имея выхода «горе».
Подобный интерьер рассчитан на спокойное,
просветленное созерцание, на доверительно-
личное общение с Богом; он отражает
изменение религиозного чувства на переломе
от Средневековья к Новому времени,
аналогичное «новому благочестию» в Западной
Европе.
Церковь Св. Троицы в Никитниках стала
воплощением архитектурных идей зрелого
XVII в. и вызвала подражания в других
городах Московского государства: в Муроме
по заказу Тарасия Борисова возвели
Троицкую церковь одноименного монастыря, а
в Великом Устюге построили подобную им
церковь Вознесения на средства Никифора
Ревякина. Оба заказчика были купцами той
же московской гостиной сотни, что и Г.
Никитников. Экономическая централизация
страны способствовала общности
художественных форм и обеспечила ведущую роль
Москвы в культурной жизни XVII в.
Однако ускорившиеся темпы развития
искусства незамедлительно потребовали
дальнейшего видоизменения только что
найденного образца. Примером может
послужить московская церковь Рождества
Богородицы в Путинках (1649 — 1652 гг.). Ее
композиция по сравнению с никитниковской
усложнилась, став запутанной; трапезная,
колокольня, придел Неопалимой Купины и
основной храм расположились по
отношению друг к другу достаточно случайно6,
внутренняя структура здания снаружи
читается с трудом.
Основной храм Рождества Богородицы
очень невелик. Помещение,
предназначенное для молящихся, в плане представляет
собой сильно вытянутый и поперечно
ориентированный прямоугольник. Оно
перекрыто сомкнутым сводом слегка стрельчатых
очертаний, а снаружи увенчано тремя
шатрами, стоящими на глухих барабанах. С
востока к нему примыкают низкие апсиды,
с запада — обширная невысокая трапезная,
сдвинутая к югу от главного храма. Юго-
восточный угол трапезной завершается
приделом. С севера к трапезной и храму
примыкает придел Неопалимой Купины с
декоративным шатром на световом барабане,
за ним у северной стены храма
возвышается шатровая колокольня.
Все составные части церкви обильно
украшены декором, поражающим своим
разнообразием. В завершении наличников
используются треугольные и полукруглые
фронтоны, с килевидными навершиями
соседствует трехлопастное. В убранстве верхних
частей церкви встречаются «стрелы»,
восходящие к церкви Вознесения в Коломенском,
и традиционный аркатурно-колончатый
поясок на барабане придела. В номенклатуру
декоративных деталей включаются и шатры,
окончательно ставшие неконструктивной
формой. Изобилие декора, различного на
разных фасадах и разных частях постройки,
соответствует асимметрии композиции и
создает впечатление деятельной, напряженной
и автономной жизни его элементов в целом.
Эта автономность декора проявляется и
в его смелых и прихотливых сдвигах по
вертикали и горизонтали, выраженных
гораздо заметнее, чем в церкви Св. Троицы
в Никитниках. Если там вертикальные эле-
429
Книга вторая
менты — лопатки и полуколонки —
располагались упорядоченно, друг над другом,
то на западном фасаде придела Неопалимой
Купины из шести колонок верхнего яруса
четыре не совпадают с нижележащими.
Горизонтальная тяга как бы разрезает
здание на две половины и не только придает
ему ложную «двухэтажность» (алевизовс-
кий прием, к середине XVII в. хорошо
усвоенный русскими архитекторами), но и
продолжает в вертикальном измерении
мотив «наборности», многосоставности,
заложенный в планировке церкви. Сдвинуты по
отношению к нижележащим лопаткам и
раскреповки карниза основного храма, что
зрительно уподобляет верхнюю часть церкви
крышке, неровно наложенной на основной
объем7.
Горизонтальные сдвиги декора сообщают
украшенной им форме оттенок
неустойчивого равновесия: верхние части здания,
верхние элементы декора как бы балансируют
над нижними. Этот же мотив обыгран в
центральном наличнике западного фасада
Неопалимовского придела. Его завершение
поддерживается не колонками, а
балясинками, чередующимися с розетками. Каждая
пара балясин утверждена на круглой
форме, а объединяющий их трехлопастной
кокошник словно вибрирует, пытаясь удержать
равновесие на столь неустойчивой основе.
Нарушения тектоники, логики конструкции
в этом памятнике настолько нарочиты, что,
очевидно, являются программными. Формы
становятся своевольными, непослушными,
склонными к саморазрушению (так можно
трактовать катастрофические
горизонтальные сдвиги в обработке фасадов). Они
символизируют конец чего-то, выход
разнонаправленной энергии из-под контроля зодчих,
отрицание того изысканного равновесия,
которым была проникнута церковь Св.
Троицы в Никитниках.
Вероятно, осознание исчерпанности
культового канона в архитектуре — схемы
традиционного крестовокупольного храма —
приняло такие формы. Внутренняя структура
церкви Рождества Богородицы в Путинках
может быть истолкована как reductiö ad
absurdum 'Традиционной храмовой структуры.
Пространство византийского храма издревле
представлялось неравноценным по степени
святости: наиболее святой частью был
алтарь, затем шла примыкающая к нему зона
алтарной преграды (вплоть до солеи),
предназначенная для клира. Основное
пространство церкви символизировало собой землю,
предназначенную для «верных», а галереи—
мир, еще не просвещенный христианством8.
Таким образом, храмовый интерьер словно
составлялся из параллельных слоев, причем
крайняя западная зона допускала ее
изъятие (наличие галерей или западного
притвора в церкви являлось желательным, но не
обязательным). В церкви же Рождества
Богородицы в Путинках фактически изъята и
средняя зона — собственно пространство
для молящихся. Расстояние между солеёй и
западной стеной храма равняется 3 м, а вся
площадь, отведенная прихожанам,
составляет приблизительно 40 м2. Для каменного
храма это, безусловно, очень маленькая
цифра: в жилом зодчестве XVII в. не
редкость помещения и большей площади.
Однако из сказанного, на наш взгляд,
отнюдь не вытекает широко известное и
охотно цитируемое положение А. И. Некрасова
о том, что в XVII в. храм стал пониматься
как «дом Божий» и оформляться по
образцу светских построек (т. н. обмирщение
русской архитектуры XVII в.)9. Символика
храма как обиталища Господня в
христианстве сложилась изначально и постоянно
фигурировала во всех древнерусских текстах,
посвященных интерпретации храма. Таким
образом, она не может считаться
новшеством XVII в. А интерьер церкви
Рождества Богородицы в Путинках
свидетельствует не об «обмирщении», а, напротив, об
«оцерковлении» архитектуры — ведь
сокращается не восточная, наиболее сакральная
часть храма, а западная, за счет чего
молящийся приближается к солее и более тесно
включается в церковное действо. В полном
объеме сохранен и второй наиболее
сакральный компонент культового здания — его
высота. От пола до замка свода она
составляет более 11 м, что резко контрастирует с
широтным измерением и вкупе со стрельча-
тостью очертаний свода создает, несмотря на
отсутствие верхнего света, впечатление почти
столь же сильного стремления пространства
ввысь, что и в крестовокупольных храмах.
Такое решение интерьера, безусловно, соот-
430
Часть II. Глава 4
ветствовало интимности религиозного
переживания, отмечаемой по различным
письменным источникам XVII в., но в то же время
оно представляло собой крайнюю точку
развития традиций древнерусского храма.
Далее следовало ждать принципиальных
перемен, тем более что церкви, подобные
храму Рождества Богородицы в Путинках,
отражали только одну ипостась
мировоззрения XVII в. — «новое благочестие», не
отвечая требованиям монументальности,
репрезентативности, весьма желательным в
эпоху формирования абсолютизма.
Однако канон мог быть нарушен только
в исключительных обстоятельствах и
согласно санкции первых лиц государства —
патриарха или царя. Патриарший престол в это
время занимал Никон, менее всего склонный
к немотивированным новшествам в
церковной жизни; царь Алексей Михайлович
полностью поддерживал патриарха. Политика
Никона, направленная на укрепление
авторитета церкви, естественно, была
охранительской: все реформы патриарха —
исправление богослужебных книг,
упорядочение богослужения, унификация обрядов
греческой и русской церкви — были
направлены на восстановление и сохранение
«древлеправославных обычаев». Поэтому и
в области архитектуры канон не только
остался неприкосновенным, но и был еще
дополнительно подтвержден предписанием
впредь строить лишь одно-, трех- и
пятиглавые храмы, «по старине», отказавшись от
шатровых завершений. Это предписание,
неизменно повторяемое в храмозданных
грамотах, еще более сузило рамки
канонической традиции, оставив за ее пределами
даже храмы типа путинковского.
Главнейшим подводным камнем
никоновских реформ было, как известно,
отождествление разновременных и весьма отличных
друг от друга образцов — современного
греческого и «древлеправославного»
русского. Поскольку мысль о естественной
исторической изменчивости священных текстов,
обрядов, искусства греческой Церкви
априорно исключалась русским средневековым
сознанием как кощунственная, потрясающая
устои веры, то расхождения греческих и
русских источников неизбежно
интерпретировались как результат «порчи» последних.
Соответственно «испорченной»
представлялась и архитектура. Для ее очищения
предлагались те же пути, что и при исправлении
церковных книг: следовало
ориентироваться, во-первых, на греческое зодчество и, во-
вторых, на старое русское в той мере, в
какой оно соответствовало греческому.
Воплощением этой политики стали соборы
никоновских монастырей, возведенные по
заказу патриарха.
Строительство Иверского монастыря на
острове Валдайского озера началось в
1653 г. Показательно уже само посвящение
главного собора иконе Иве рекой
Богоматери — греческой священной реликвии,
хранившейся в святая святых православного
монашества — на Афоне, в Иверском
монастыре.
Список с этой иконы, заказанный
Никоном, был торжественно препровожден с
Афона на Русь, где новая святыня сразу же
стала почитаться чудотворной. В день
освящения каменного собора в декабре 1656 г.
на Валдае в нем поставили икону Иверской
Богоматери. В том же году на
Кий-острове в Онежской губе Белого моря был
заложен Крестовоздвиженский собор —
вместилище еще одной православной
святыни — кипарисового креста, принесенного из
Палестины. Идейный замысел Никона —
сосредоточение на Руси греко-палестинских
реликвий, наследование традиций и
авторитета греческой Церкви — должен был
получить соответствующее ему архитектурное
оформление.
В Иверском (позднее Успенском)
соборе в национальной «древлеправославной»
традиции выполнены план и общая
композиция масс шестистолпного пятиглавого
собора. Однако огромные окна и галерея,
обходящая храм со всех сторон, в том числе
и с восточной, восходят к греческим
истокам10. Восьмигранные барабаны могут
объясняться как влиянием восточноправо-
славных образцов, так и своими
источниками для подражания, в частности, собором
Соловецкого монастыря с центральным
венчающим его восьмигранником. Вероятно,
новгородскими впечатлениями Никона —
бывшего митрополита Новгорода —
навеяно пощипцовое покрытие закомар.
Сильное схождение кверху стен Крестовоздви-
431
Книга вторая
женского собора напоминает об аналогичном
приеме в Преображенском соборе
Соловецкого монастыря. Мощная кладка стен
никоновского собора из белого камня и
булыжника с кирпичом также ассоциируется с
циклопическими валунами ограды Соловецкой
обители, где Никон провел некоторое
время в качестве игумена Анзерского скита.
Однако сходство с соловецкими святынями
объяснялось не столько биографией
патриарха, сколько его идейной программой.
Никон рассматривал «соловецкого
страдальца» — игумена Филиппа (Колычева),
убитого по приказанию Ивана Грозного, — как
своего предшественника в решении вопроса
о соотношении «священства» и «царства»11.
Торжественное перенесение мощей св.
Филиппа в 1652 г. в Москву и разработанная
патриархом сцена «покаяния» Алексея
Михайловича перед гробом митрополита
(царь просил у святого прощения за грехи
своего предка) недвусмысленно
свидетельствуют об идеологической подоснове этого
мероприятия и о программном характере
обращения Никона к архитектуре Соловков.
К греческому же зодчеству, вероятно,
восходит плоская крыша с парапетом по
краю, не встречающаяся в национальной
традиции, и галерея в центральной главе.
Не исключено, что последний прием
опосредованно отражает обход вокруг купола
в центрических византийских храмах
(в частности, в Св. Софии
Константинопольской).
А невдалеке от собора на Кий-острове
был выкопан колодец с надкладезным
храмом Происхождения приснотекущих вод по
образцу староиерусалимских водоемов12.
Вероятно, здесь можно также усмотреть
параллель с Живоносным источником,
проистекавшим на Афоне у Иверской обители.
Скрещение двух традиций —
севернорусской XVI в. и греческой — в никоновском
зодчестве произошло достаточно органично.
Собор Крестного монастыря величественен
и непротиворечив в своем аскетизме:
четкость объемов, лапидарность форм,
немногочисленность членений прекрасно
выражают идеал праведной монашеской жизни.
Резкие горизонтали карнизов,
«приземляющие» здание, придают ему статичность, но
главы с крестами и расположение собора на
вершине холма связывают его с небом,
способствуют устремленности вверх. Иверский
собор наряднее: три шатровых крыльца,
«теремки» фронтонов над закомарами,
декоративный поясок под ними создают иной
образ, более приветливый и открытый.
Возможно, разница решений обусловливалась
местонахождением храмов (суровая скала на
северном море и «зело прекрасный» остров
одного из чудеснейших озер Среднерусской
возвышенности) или их посвящением
(Воздвижение Креста — воспоминание о муках
Христовых, Богоматерь — светлый образ
заступницы и целительницы). Во всяком
случае, сходство этих памятников сильнее,
чем их различия, что позволяет говорить об
архитектурном идеале патриарха Никона —
и не только его, но и грекофильски
настроенных кругов русского общества того
времени.
Наиболее полным выражением таких
устремлений стал никоновский
Воскресенский монастырь на р. Истре — Новый
Иерусалим. Идея воссоздания всего
комплекса палестинских святынь на русской
почве возникла обоюдно у царя и патриарха13,
укрепляя авторитет русской Церкви — к
тому времени единственной из православных
церквей, паства которой не находилась под
гнетом иноверцев. Эта идея укрепляла и
авторитет Русского государства на
международной арене. Христиане Балкан,
жаждущие освобождения от турецкого
владычества, смотрели на Россию как на законный
центр православного мира, наследницу
Константинополя и Иерусалима. Речь шла об
организации крестового похода против
турок — и «крестом», осеняющим
православное воинство, в такой ситуации мог бы
оказаться Новый Иерусалим.
В 1649 г. константинопольский патриарх
Паисий подарил Никону модель
Иерусалимского храма, выполненную из кипариса
и инкрустированную перламутром. В том же
году в Иерусалим был послан Арсений
Суханов за описанием и обмерами этой
святыни. Вернувшись, Суханов привез не
только составленный им «Проскинитарий»,
но и гравюры с рисунков и чертежей
итальянца Бернардино Амико, в XV в.
зафиксировавшего облик иерусалимских святынь.
Согласно этим чертежам и сухановским
432
Часть II. Глава 4
обмерам и началось осуществление самого
грандиозного замысла патриарха.
Судя по той точности, с которой был
воплощен в натуре итальянский чертеж, в
строительстве участвовал зодчий, умевший
не только читать чертежи, но и составлять
их. На первый взгляд планы двух
соборов — иерусалимского и никоновского —
настолько близки, что их можно перепутать.
Однако при ближайшем рассмотрении в них
обнаруживается немало мелких, но в целом
весьма значительных различий.
Иерусалимский храм — это конгломерат построек,
складывавшийся с IV по XVI в.
достаточно хаотично. Его опоры в сечении имеют не
вполне правильную форму, входы
расположены несимметрично, северо-западная часть
затеснена пристройками, некоторые
участки стен скошены. Интерьер главной
христианской святыни в XVII в. также
выглядел не лучшим образом: Арсений Суханов,
побывав там, констатировал, что мозаики
частью закоптились, частью попортились, а
колонны облупились14.
Никоновский зодчий старательно
исправил «недочеты» архитектуры
Иерусалимского храма, подчеркнуто эстетизировав его
план. Южный и северный входы стали
симметричными, почти по оси их расположились
мощные столбы. Скошенные стены
«Темницы Христовой» были выпрямлены, так
что она приобрела вид правильного четырех-
столпного храмика с алтарной апсидой
(отсутствовавшей в Иерусалиме). Удаление
пристроек в северо-западной части
позволило хорошо осветить церковь Успения, затем-
ненность которой отмечал Арсений Суханов.
Еще более решительно изменились
наружные формы храма. При том, что он
точно повторял объемную композицию
образца (подземная церковь Константина и
Елены, храм Воскресения и ротонда с
часовней Гроба Господня с колокольней у
южного входа), облик его гораздо более
напоминает традиционную русскую
архитектуру, чем палестинские святыни.
Полуразрушенная кампанила Иерусалимского
храма, нарисованная Б. Амико, была докомпо-
нована завершением, напоминающим
верхнюю часть столпа Ивана Великого, а
открытый купол над ротондой заменен
огромным шатром. Русские луковичные главы
придали сооружению вполне привычный вид,
а пояса из полихромных изразцов внесли в
него ту нарядность, которая была сродни
архитектуре московского посада.
Все эти отличия от оригинала,
несомненно, осознавались как строителями, так и
патриархом, ревностно следившим за
осуществлением своего замысла. Поэтому надо
думать, что изменения были не только
санкционированы, но и запрограммированы
самим Никоном. Цель их представляется
вполне однозначной: улучшение Полученного
образца. Эта идея недвусмысленно звучит
и в надписях на стенах
Новоиерусалимского собора, поясняющих соответствие тех или
иных мест иерусалимским: «<...> в самом
углу Иерусалимского Храма церковь
Пресвятой Богородицы невелика и темна и
низка <...> зде же, на том месте, церковь
Пресвятой Богородицы, нарицаемая
Успения, изряднейшая и светлейшая и
пространная, яко же зрится всеми»13.
Значительно более плодотворной
новацией в никоновском зодчестве стала
Крестовая палата Патриаршего дворца — зал
размером 14x20 м, впервые перекрытый
сомкнутым сводом с распалубками без
промежуточных опор16. В результате
образовалось цельное обширное пространство, не
имевшее архитектурно выраженного центра.
В предшествующих одностолпных палатах
этот центр был отмечен столбом, несущим
своды.Так как жилая палата по древней
традиции воплощала собой образ
мироздания, столб занимал в ней то место, которое
в мироздании отводилось Богу — центру и
опоре всего сущего. Для человека в таком
интерьере отводились периферийные
участки — вдоль стен ставились лавки и столы,
вдоль стен же расстилались ковровые
дорожки. Почетным местом считался
«красный угол»: там держали иконы и сажали
особо уважаемых гостей.
Эта неевропейская особенность русских
светских интерьеров привлекала внимание
иностранцев. А. Мейерберг с удивлением
отмечал: «Итак, мы заметили тогда, да и
после, что углы, по обычаю московскому,
считаются почетными местами, потому что
престол Великого князя мы всегда видели в
углу, хотя гораздо удобнее было бы
поставить его посредине <...> Да и образа
433
Книга вторая
святых <...> они тоже ставят в углах»17.
Для русских людей того времени эта
особенность была привычной, беря свое
начало в статичном пространстве простой
русской избы-клети, где углы были
естественными пространственными ориентирами.
Поэтому Крестовая палата патриарха
Никона, несомненно, казалась нетрадиционной
по отношению к одно- и двустолпным
каменным палатам предшествующей поры.
Однако, несмотря на это (а точнее,
вероятно, благодаря этому), Крестовая палата
стала образцом для трапезных палат
Симонова, Солотчинского и Троице-Сергиева
монастырей, причем в последней сводом был
перекрыт пролет 15x34 м. В таких
постройках человек уже мог чувствовать себя
центром архитектурного организма;
казавшийся легким свод словно парил над ним,
создавая то же ощущение просветленного
спокойствия, которое мы отмечали в
церкви Св. Троицы в Никитниках — ведущем
памятнике эпохи.
Современники высоко оценили
Крестовую палату. Павел Алеппский писал о том,
что она «поражает своей необыкновенной
величиной, длиной и шириной; особенно
удивителен ее обширный свод без подпор
посередине. По периметру палаты сделаны
ступеньки, и пол в ней вышел наподобие
бассейна, которому недостает только воды.
Она выстлана чудесными разноцветными
изразцами. Огромные окна ее выходят на
собор; в них вставлены оконницы из
чудесной слюды, убранной разными цветами, как
будто настоящими...»18.
В процитированном отрывке следует
отметить упоминание о слюдяных оконницах
и об изразцах. И то и другое
использовалось для усиления цветовой насыщенности
интерьера. Расписные слюдяные оконницы,
устроенные так, «чтоб из хором всквозе
было видно, а с надворья в хоромы чтоб не
видно было»19, пропускали внутрь
окрашенный свет, то есть являлись своеобразной
разновидностью витража. Но, в отличие от
западноевропейских средневековых
витражей, на Руси они применялись
преимущественно в светских постройках,
расписывались орнаментом «с травы и со птицы» и
привносили в интерьер ощущение
интимности и уюта.
Патриарх Никон охотно привлекал к
своему строительству мастеров-ремесленников из
Белоруссии, с Украины, из Польши. Они и
украсили собор Нового Иерусалима поли-
хромными изразцами, восходящими еще к
майолике итальянского ренессанса. Под
руководством белоруса П. Заборовского
были изготовлены целые изразцовые
иконостасы. Новый декор стал неотъемлемым
компонентом русской архитектуры 2-й
половины XVII в. Внесли свой вклад в
оформление русских построек и резчики,
приглашенные Никоном из тех же областей. Они
внедрили в русское зодчество «белорусскую
резь» — декоративные мотивы
западноевропейского барокко, сменившие
сравнительно простые композиции резьбы Теремного
дворца20.
Однако в целом никоновские реформы в
области зодчества оказались
малоплодотворными. Хотя в середине XVII в. строились
большие городские и монастырские соборы,
воспроизводившие «освященный» тип,
заказчики и мастера в основном все же
ориентировались на дониконовские московские
посадские храмы. Во многих из них
выдерживается характерная поперечная
ориентация внутреннего пространства. Такова
церковь Св. Николы на Берсеневке (1656 —
1657 гг.) — пятиглавая, но очень мало
напоминающая традиционные средневековые
храмы. Любопытно, что главный вход в
храм располагался не с запада, а с севера
(из-за того, что церковь входила в состав
палат Аверкия Кириллова и соединялась с
ними примыкавшим к западному фасаду
переходом). Таким образом, входящий
оказывался в торце узкого и высокого
помещения храма, — точнее, в его
северо-восточном, примыкающем к солее углу, — и
должен был двигаться в поперечном
направлении, вдоль иконостаса, что обостряло
восприятие поперечной ориентации
интерьера.
М. В. Красовский писал об этом
памятнике: «Получалось какое-то ювелирное
произведение, в котором глаз с трудом
улавливает основную мысль, настолько она
расплывается в хаосе рамок, тяг, подвесок,
диких триглифов и тончайших
орнаментов»21. Такое впечатление обусловливалось
не только «неклассическим» видом декора,
434
Часть II. Глава 4
но и смелым контрастным сопоставлением
крупных, сильно вынесенных и сочно
профилированных деталей с тонкой, плоской,
изящной резьбой, что является
отличительной особенностью берсеневской церкви.
Этот причудливый декор, в отличие от
путинковской церкви, расположен упорядочен-
но. На северном фасаде два наличника с
волнистыми килевидными навершиями
расположены симметрично по бокам
центрального, увенчанного симметричной же
композицией из трех аналогичных форм. Нельзя
исключить, что эта триада окон
(воспроизведенная и на противоположном фасаде)
была связана с посвящением основного
храма Св. Троице (Никольской церковь
именовалась по приделу). Такая связь была
отмечена как обычная для русской избы,
обязательно имевшей на фасаде три окна;22
она могла иметь своей основой эпизод из
хорошо известного на Руси жития св.
Варвары, когда святая повелела слугам своего
отца сделать в новостроящемся здании три
окна вместо двух «во имя Отца, и Сына, и
Св. Духа». Во всяком случае, богатая
декорация оконных проемов храма,
несомненно, соотносилась с сакральным качеством
данной постройки.
Монументальное крыльцо со вздутыми,
как бы придавленными огромной тяжестью
кувшинообразными столбами, активно
выражает тему торжественного входа — не
простого прихождения во храм, но некоего
церемониального действа. Этому
способствуют и изразцы с двуглавыми орлами,
вставленные в ширинки крыльца: здесь они
напоминают о близости владельца к
государственной власти и поддерживают общее
впечатление репрезентативности,
производимое храмом. Таким образом, этот посадский
памятник приобретает черты, роднящие его
с архитектурой храмов в царских
резиденциях — таких, как Измайлово, Алексееве-
кое, Коломенское, Тайнинское.
Церковь Покрова в государевом селе
Тайнинском (1675 — 1677 гг.) по решению
интерьера центральной части напоминает не
путинковскую, а никитниковскую церковь:
ее довольно высокий, квадратный в плане
четверик перекрыт сомкнутым сводом с
центральной световой и глухими боковыми
главами. Однако в целом композиция бес-
придельного храма абсолютно симметрична,
что подчеркивается симметрией западного
фасада, в силу своей необычности сразу
привлекающего к себе внимание. В центре
фасада располагается крыльцо, перекрытое
каменной «бочкой». От него в обе стороны
поднимаются лестничные марши, ведущие к
площадкам боковых крылец, увенчанных
шатрами. Эти крыльца ведут на хоры,
предназначенные для женской половины
царского семейства.
Само устройство хор — «полатей» —
было вызвано дворцовым назначением
храма, однако оно отнюдь не влекло за собой
непременное устройство подобного крыльца:
достаточно было сделать лестницу в
западной стене церкви. Несомненно, на
возникновение такой композиции повлияли те
представления о «чине» и «достоинстве»,
которые возникли в придворной эстетике
XVII в.23. Мерный, торжественный подъем
всех форм вверх — от «бочки» нижнего
крыльца к шатрам верхних крылец, от них
к нижнему ряду кокошников, пяты которых
расположены на одном уровне с верхом
шейки главы шатра, и далее по ярусам
кокошников к заостренным луковицам глав —
как бы материализует идиоматическое
выражение «высокая особа». Этот подъем и
повтор, перекличка сходных форм приводят
на ум строгий регламент «царских выходов»,
а яркая окраска стен и кровель соответствует
праздничному цветному платью
поднимавшихся по тайнинским ступеням царственных
персон. В то же время такая смысловая
наполненность облика церкви, вероятно,
прекрасно сочеталась со старым
представлением о храме.
Стремление к репрезентативности
проявилось и в посадских храмах 2-й
половины XVII в. Церковь Св. Николы в
Хамовниках (1679 — 1682 гг.), например, при
характерно ориентированном плане и
завершении глухого сомкнутого свода рядами
кокошников, все же внешне напоминает
«соборный» тип — и высотой, и
большими размерами, и мерным чередованием
крупных полукруглых кокошников, в
нижнем ряду очень похожих на закомары.
Большие симметрично размещенные окна
подчеркивают масштаб здания; лаконичность
декора, ограничивающегося наборными на-
435
Книга вторая
личинками и изразцами в кокошниках, на
фоне «узорочья» таких посадских храмов,
как церковь Св. Николы в Пыжах или
церковь Св. Николы в Столпах, кажется
почти аскетичной. Карниз здесь отсутствует,
а архивольты закомар опираются не на
колонки или лопатки, а на кронштейны,
верхняя часть которых лежит в уровне пят
свода. Таким образом внутренняя
конструкция бесстолпного храма выражена вовне
достаточно наглядно. Отказ от сдвинутых
членений, от нарочитой запутанности
декоративной схемы фасада выглядит даже
ригористичным, едва ли не совпадающим с
никоновскими пристрастиями в области
архитектуры. Но утонченность и изящество
деталей, стройность и совершенство
пропорций неоспоримо свидетельствуют об ином
характере архитектурного мышления.
Особенно это видно в колокольне —
вытянутой, ажурной, нарядной. Кажется,
что зодчие решили компенсировать свою
сдержанность в оформлении храма при
строительстве колокольни. И четверики, и
восьмерик, и шатер колокольни плотно
заполнены декором — именно заполнены, так
как на плоскостях стен почти не остается
свободного места. Западную стену
четверика над входом занимают три окна, крайние
из которых обрамлены наборными
наличниками, а среднее имеет только килевидное на-
вершие, пяты которого стоят на верхних
карнизах боковых окон. Третий наличник
как бы не уместился на стене, что сразу
создает впечатление предельной
насыщенности декором, полной исчерпанности
этого свободного поля. Простенки восьмерика
заполнены рядами ширинок, плотно
зажатых между угловыми филенками. При
переходе к шатру на его ребрах, там, где
между кокошниками оставалось свободное
место, вставлены дополнительные маленькие
кокошнички. Грани шатра занимают
окошечки-«слухи», расположенные в три
яруса, причем в нижнем ярусе проемы
сделаны двойными и увенчаны горкой из трех
кокошников явно для того, чтобы
равномерно декорировать все поле каждой грани.
Храмы Москвы и Подмосковья 50 —
80-х годов XVII в. при значительной
общности планового и конструктивного решения,
тем не менее выглядят достаточно
индивидуально. Различные размеры, пропорции,
характер завершения, виды и комбинации
декора делали неповторимым каждый
памятник. И все же, очевидно, ощущалась
потребность в новых типах. Свидетельством
такой потребности, на наш взгляд, может
служить появление храмов Казанской
Богоматери в Маркове (1672 — 1680 гг.) и
Св. Николы в Никольском-Урюпине
(1664 — 1665 гг.). Заказчиками этих
церквей были Одоевские, исполнителем, как
считается обычно в литературе, Павел По-
техин24.
Оба храма четырехпридельны, причем
приделы размещены по углам основного
здания и каждый из них оформлен в виде
самостоятельного храмика, увенчанного
горкой кокошников. Такой же горкой
завершается и основной храм. Церковь в Маркове
на первый взгляд кажется почти
тождественной московским посадским храмам.
Она столь же богато (если не более
богато) декорирована, в ней употребляются
такие излюбленные в московском зодчестве
2-й половины XVII в. приемы, как
несовпадение пилястр цоколя с вышележащими
столбиками ширинок, как «подвешивание»
верхних окон путем включения
надоконного карниза в верхний карниз храма (при
этом средний надкарнизный кокошник
играет роль завершения оконного наличника).
Но внутреннее пространство марковского
храма необычно. Его своды опираются на
два круглых столба, сдвинутых к западной
стене. Этот сдвиг применяли для того, чтобы
не загромождать пространство перед
солеёй и расширить примыкающую к ней зону
храма. В результате интерьер разбился на
два поперечно ориентированных
пространственных пласта, при общем квадратном
плане приблизившись к поперечно
ориентированным прямоугольникам московских
посадских храмов. Однако, в отличие от них,
здесь исключительное значение приобрела
верхняя зона интерьера.
Если в храмах с сомкнутым сводом
(особенно при отсутствии верхнего света)
пространство по вертикали гомогенно, то в
Маркове верхняя часть полно воплощает
идею венчания. Со столбов на стены
перекинуты арки, на которые опираются своды,
перекрывающие западную часть церкви:
436
Часть II. Глава 4
четверти сомкнутых сводов в углах и чет-
вертьцилиндрический свод, идущий от арки
между столбами к западной стене храма.
Центральная часть интерьера перекрыта
полуцилиндрическим сводом, лежащим на
столбах и на восточной стене, с боков его
подпирает система арок, а в западной
части свода устроена распалубка для световой
главы. Восточные углы храма, как и
западные, перекрываются четвертями
сомкнутого свода. Вся эта чрезвычайно сложная
система не обусловлена функционально:
четверик размером 9x9 м, обычный для
посадских храмов, нетрудно было перекрыть
сомкнутым сводом. Вероятно, заказчику
марковской церкви простой лотковый свод
казался не соответствующим представлениям
о церковном благолепии, что и заставило
прибегнуть к небывалому сочетанию крес-
товокупольной системы (столбы и
полуцилиндрические своды) с сомкнутым
покрытием (куски сомкнутого свода в углах). При
всей виртуозности и техническом
совершенстве такого решения его компромиссность
очевидна. Проблема трансформации
культового канона в области архитектуры
оставалась неразрешенной.
Это положение решительно изменилось
только с приходом в русскую строительную
практику нового типа храма —
«восьмериком на четверике». Истоки его следует
искать в зодчестве Украины, куда в 1681 г.
«для описания церковных чертежей» был
послан мастер Оружейной палаты Карп
Золотарев25. После его возвращения в
царском селе Воскресенском на Пресне
должно было начаться строительство первой
новой церкви — центрической, с четырьмя
симметричными полукруглыми приделами,
завершенной восьмериком26. Неизвестно,
была ли осуществлена эта постройка, но в
80 — 90-х годах XVII в. новые
композиции повсеместно распространились в русской
архитектуре. Они существовали в
нескольких вариантах. В первом из них новое
ядро — четверик с поставленным на него
посредством тромпов широким световым
восьмериком, обычно с вышележащим
также восьмигранным ярусом, увенчанным
главой, — включалось в продольно-осевую
композицию, получив с запада колокольню
и трапезную, а с востока троечастную, как
правило, апсиду. Другой вариант — это
полностью £ лтрические здания, четырехле-
пестковые в плане (за счет тождества
очертаний апсиды и притворов), с
пониженными по сравнению с центральной боковыми
частями. Классическим образцом таких
композиций является церковь Покрова в
Филях (1690 — 1694 гг.). Внутри него
встречается немало индивидуальных решений:
так, церковь Св. Бориса и Глеба в Зюзине
(1688 г.) отличается асимметричностью
«лепестков», а церковь Знамения в Дубро-
вицах имеет восьмерик от самого низа и
лепестки тройной кривизны. Особыми
вариантами были церкви-октаконхи типа храма
Св. Петра Митрополита Высокопетровского
монастыря27, троечастные храмы типа
церкви Св. Троицы в Троицком-Лыкове, где
боковые «лепестки» отсутствовали и
композиция приобретала осевую направленность,
а также симметричные постройки с равно-
высокими центральному объему апсидой и
притворами (новый собор Донского
монастыря). Оба последних типа отмечены
несомненным влиянием украинского зодчества.
Вероятно, эта недостаточная переработан-
ность на русский лад их композиций и была
причиной их непопулярности: памятники
такого типа насчитываются единицами. Все
же прочие варианты церквей «восьмериком
на четверике» существовали равноправно и
обладали общими художественными
особенностями, наиболее ярко выраженными в
центрических храмах с симметричным четы-
рехлепестковым планом.
Подобные решения были
нетрадиционными для древнерусской архитектуры: во-
первых, алтарная апсида как бы
уравнивалась с одинаковыми по очертанию
притворами; во-вторых, в случае, если храм был
двухэтажным (как церковь Покрова в
Филях, имевшая два престола — нижний
во имя Покрова, а верхний — Спаса
Нерукотворного), престол верхнего храма
оказывался размещенным над престолом
нижнего, что противоречило каноническим
требованиям. Однако в данном случае
соображениями канона пожертвовали ради
создания нового эстетического
впечатления — цельности, торжественности,
репрезентативности композиции. Это впечатление
во многом обусловливалось ступенчатостью
437
Книга вторая
построения масс храма с равномерным
уменьшением вышележащих элементов по
отношению к нижним. Первой «ступенью»
служила обходящая церковь открытая
галерея — гульбище, на которое с трех сторон
вели белокаменные лестницы. Их
ступеньки и задавали тот неторопливый
размеренный ритм, который повторялся в объемном
построении церкви. Следующую «ступень»
образовывали возвышающиеся над
галереей объемы лепестков-притворов, из-за них
был виден верх четверика, затем взгляд
зрителя поднимался по восьмерику,
переходил на ярус звона и останавливался на
главе, криволинейные очертания которой словно
собирали воедино общий порыв вверх,
гасили его, центрировали и передавали к
кресту.
Эта трактовка движения как
постепенного, неторопливого, с отступами, с
остановками, когда все новые и новые его волны
откатываются, вскипая по краям
белокаменной пеной гребешков, противостоит как
экстатическому устремлению ввысь
шатровых храмов, так и относительной
статичности традиционных крестовокупольных
соборов. Ступенчатость восхождения
подчеркивается и белокаменным декором:
вертикальный рост колонок гульбища останавливается
широкой горизонтальной полосой
квадратных ширинок, но для того, чтобы создать
переход к следующей «ступени», на
парапет галереи установлены словно прорвавшие
карниз декоративные навершия. В
обрамлении окон притворов взлет колонок гасится
карнизом, а выше заключительным
всплеском прерванного движения выгибается
разрезанный «гребешками» фронтон. То же
самое в более крупном масштабе
повторяется в декоративном оформлении притворов
с их массивными колоннами,
поставленными в углах, и профилировками карнизов, над
которыми вспениваются гребешки и опять,
словно стаккато, поставлены заостренные
навершия. Особенно торжественно и
красиво звучит мотив вертикали и горизонтали
как тезы, антитезы и синтеза в решении
углов четверика с мощным аккордом трех
колонок, гармонично разрешающимся в
пышном белокаменном завершении.
По тем же принципам организовано и
внутреннее пространство церкви, хотя там
они проведены менее последовательно.
Интерьер складывается из нескольких
самостоятельных пространственных ячеек:
высокого центрального объема и пониженных
притворов (пространство алтаря, отделенное
иконостасом, не участвует в создании
общего пространственного впечатления).
Центральное пространство вызывает у молящегося
ощущение того же плавного, но сильного
движения вверх, которое выражено и во
внешней композиции церкви. Это ощущение
возникает благодаря значительному, особенно
по сравнению с небольшими посадскими
храмами, преобладанию вертикального
измерения над горизонтальными — длиной и
шириной четверика церкви; в то же время
переход от четверика к восьмерику,
осуществленный при помощи тромпов, выглядит
ступенчатым и нерезким, что снижает
динамизм пространственного построения и
вызывает чувство гармонии, покоя,
поддерживаемое и центрической «остановленностью»
интерьера.
Боковые притворы церкви Покрова в
Филях зрительно почти полностью
отделены от центрального пространственного
объема. Они связаны с ним сравнительно
небольшими и низкими арками и выглядят
такими же самостоятельными, как
пониженные приделы привычных средневековых
храмов. Это решение, вероятно, вдохновлено
старыми архитектурными традициями, но
благодаря ему в филевской церкви
достигается более острое переживание центрального
пространства, резко контрастирующего с
боковыми. Кроме того, низ центральной
части оказывается затененным, а верх ярко
освещается через большие окна восьмерика,
что способствует впечатлению подъема,
легкости, свободного движения вверх.
Идеальное построение внутреннего
пространства было воплощено в Спасской
церкви в Уборах (1694 — 1697 гг.). Ее
пространство удивительно едино и цельно,
поскольку боковые притворы открываются в
интерьер арками стрельчатых очертаний на
всю их высоту. Криволинейные стены
притворов словно прижимают к центру упруго
пружинящие пространства боковых частей.
Устои, образованные углами четверика, не
мешают «легкому дыханию» интерьера: они
обращены внутрь неглубокой и острой
438
Часть II. Глава 4
складкой угла и кажутся незначительными
остатками прямоугольной массы столба,
почти полностью поглощенной и
вытесненной пространством. Сочетаясь с плавным, но
мощным движением вверх, это создает
поразительное впечатление просветленного
полупарения, полуполета, слияния с
пространством и растворения в нем.
Церковь в Троицком-Лыкове (1690 —
1696 гг.)28, принадлежащая к тому же
архитектурному типу, представляет собой как
бы три храмика, нанизанные на одну ось:
над восточной и западной частями церкви
высятся одинаковые восьмериковые
храмики. Обилие декора при небольших размерах
церкви превращает ее почти в ювелирное
произведение, в драгоценную игрушку
вотчинника — младшего брата заказчика фи-
левской церкви М. К. Нарышкина.
Декоративные детали наложены на стену явно
демонстративно — обрамления порталов и
наличников, резные «рамки» вокруг
восьмигранных окон четверика главного (южного)
фасада выглядят аппликацией на
поверхности, не несущей никакой хотя бы
квазиконструктивной идеи. Нижний ярус приделов
завершается гипертрофированно широким
многообломным карнизом, несомым
коротенькими, словно игрушечными колонками.
«Несерьезность» воплощения здесь идеи
несения подчеркивается тем, что колонки на
углах основного четверика поставлены в два
яруса, как если бы между ними имелась
разделительная тяга. Однако в
действительности такая тяга отсутствует и нижние
колонки несут только верхнюю пару таких же
колонок — прием абсурдный с точки
зрения классической тектоники.
Стройные завершения и изящные
пропорции восьмериков приделов резко
контрастируют с приземистыми витыми колонками на
их гранях и сильно раскрепованным
широким карнизом, окружающим шею главы
своеобразным зубчатым воротником.
Причудливое заполнение навершия северного
портала противостоит строгим раковинам
южного. В интерьере церкви впечатление
почти дисгармоничного контраста создает
обходящая центральный объем галерея,
казалось бы, неуместная в столь маленьком
храме. Однако именно эти неожиданные,
диссонансные сочетания придают остроту
его архитектурному решению: зодчий
играет ими, несколько бравируя «невсамделиш-
ностью» своей игры. В сочетании
несочетаемого проявляется свобода зодчего по
отношению к своему созданию — и, кажется,
это не свобода незнания законов построения
формы, а свобода пренебрежения ими,
возникшая на стыке старого и нового, когда
старая система уже была разрушена, а
новая, хотя и известная, еще не стала
нормативной. В этом отношении церковь в
Троицком-Лыкове — значительно более
переходный памятник, чем церковь Покрова в
Филях, сохраняющая привычную логику
расположения декора и роста архитектурных
форм.
Не в меньшей степени, хотя и в иной
ипостаси, воплощена переходность в самом
знаменитом памятнике конца XVII в. —
церкви Знамения в Дубровицах (1690 —
1704 гг.). На первый взгляд она уже
далеко оторвалась от «нарышкинской» традиции:
не случайно А. И. Некрасов связывал с ней
начало новоевропейского («тессиновского»)
стиля на русской почве29. Однако
восьмигранная башня Знаменской церкви
вырастает из «нарышкинского» лепесткового
основания, причем лепестки-притворы
отделяются от центрального объема так же
решительно, как и в церкви Покрова в Филях.
Необычные декоративные элементы —
руст, круглая скульптура — сочетаются с
ковровым заполнением плоскости
элементами «белорусской рези», к концу XVII в.
давно обрусевшими. К тому же эти
элементы использованы здесь по принципу
«узорочья» — они размещены в строчном
порядке и лишены тектонического смысла, что для
90-х годов XVII в. выглядит явно
анахроничным.
Под влиянием тех же эстетических
предпочтений, вызвавших появление
центрических храмов, стали видоизменяться и
традиционные церкви кубического типа. Они
вытянулись вэерх, обросли лестницами и
папертями, получили декоративные
парапеты; их этажность, обычно фальшивая,
возникла как замена ярусности.
Преображенская церковь Новодевичьего монастыря
(1688 г.) вытянутостью своих пропорций,
тождеством очертаний западной
пристройки и апсиды, упорядоченным расположени-
439
Книга вторая
ем декора напоминала ярусные постройки.
Еще более вытянутой вверх была церковь
Св. Николы Большой Крест в Москве на
Ильинке (1680 — 1697 гг.)30. Ее четверик
был разделен карнизами на четыре «этажа»
(своеобразная замена ярусности). Карниз
между первым и вторым «этажами» состоял
из триглифов и метоп с резными
розетками, два вышележащих карниза представляли
собой широкие многообломные ленты,
поддерживаемые кронштейнами. Таким
образом, горизонтальные членения четверика
были нарочито форсированы, причем
завершение храма также стало трактоваться как
этаж-ярус, однородный с нижележащими:
промежутки между
раковинами-кокошниками были заполнены кладкой, а раковины
подведены под единый карниз, горизонталь
которого перекликалась с тягами карнизов
четверика. В таком решении верха явно
видно желание отойти от старого посадского
храма с горкой кокошников к новому типу
с декоративным парапетом у основания
свода (как в ярусных храмах). Об этом
свидетельствуют и крыльца церкви, увенчанные
декоративными ступенчатыми фронтонами.
Северный придел, завершенный двумя
глухими восьмериками, как бы переводит тему
ярусности из подразумеваемой в зримую и
звучит камертоном всей композиции храма.
Несколько по-иному впечатление
ярусности создается в церкви Воскресения в
Кадашах (1687(?) — 1695 гг.). Ее
сомкнутый свод оформлен вторым, меньшим по
размеру, четвериком, надстроенным над
основным четвериком храма. Оба четверика
завершаются декоративными парапетами из
криволинейных гребней, производящими
эффект почти такого же «вспенивания»
движущегося вверх объема, как и в церкви
Покрова в Филях. Кадашевский храм почти
так же вытянут по вертикали, как и церковь
Св. Николы Большой Крест, но если в
Никольской церкви так же вытянуты навершия
наличников и восьмигранные окна, то в
Кадашах формы оконных проемов и
наличников более статичны. Зато сильнее
поднимаются ввысь главы кадашевской церкви —
центральная имеет два ряда окон, так что
идея этажности-ярусности пронизывает
здание снизу доверху: от галереи-гульбища к
низким объемам верхних алтарей и галереи,
затем к четверику храма, через
декоративный четверик к малым главам и к
двухъярусной центральной главе, опять-таки
почти так же, как и в филевской церкви.
Напоминает о решениях ярусных построек
и уникальная особенность Кадашевского
храма — гульбище, проходящее над нижними
алтарями; церковь Воскресения, как и
церковь Покрова в Филях, двухпрестольна:
нижняя церковь в обоих случаях служила
зимним храмом. Правда, в Филях
гульбище огибает алтари, поскольку верхний
алтарь там располагается точно над нижним.
В Кадашах же, очевидно, пожелали
соблюсти старое каноническое правило и
вынести нижний алтарь из-под верхнего, но это
привело к еще более нетрадиционному
решению — устройству гульбища над нижним
престолом31. Так же, как и в церкви Св.
Николы Большой Крест, в Воскресенском
храме есть чисто ярусный объем, задающий
тон остальным формам, — колокольня. Она
состоит всего из двух восьмериков на
четверике, но кажется многоярусной. Низ
основного восьмерика с массивными
белокаменными наличниками столь резко
противопоставлен верху с огромными проемами для
колоколов (звона), что кажется
самостоятельным ярусом, тем более что он
отделяется от звона подобной же белокаменной
балюстрадой, поставленной по краю
«настоящих» ярусов восьмериков. Наличники
«слухов» на шатре расположены так
плотно и выступают так энергично, что
зрительно образуют еще два звездообразных в
плане яруса. А над ними возносятся ярус
изящного верха шатра и отделенный от него
сильно вынесенным карнизом ярус шейки
главы.
Декор храмов Св. Николы Большой
Крест и Воскресения в Кадашах
показывает, что в XVII в. активно идет процесс
освоения не только набора новых ордерных
форм, но и ордерной системы как таковой.
Декор все более начинает выражать идеи,
присущие конструкции здания. Однако это
не средневековый принцип относительного
соответствия декоративных частей
конструктивным, а изображение некой абстрактной
«конструкции вообще». Карнизы проходят
в тех местах, где реально нет никаких
перекрытий; декоративные парапеты никоим
440
Часть II. Глава 4
образом не являются функцией скрытого за
ними сомкнутого свода; наличники окон
вполне могли бы строиться по принципу
свисания, а не несения. Декор строит
архитектурный образ; без него посадский
храм — голый куб с вспученной крышкой
свода — предстанет аморфной массой,
лишенной эстетических характеристик. В
XVII в. русское зодчество отчасти усваивает
для себя представления, сложившиеся в
архитектуре Европы в эпоху Ренессанса.
Тенденция к синтезу старых
композиционных форм (кубические посадские храмы)
с новыми, ярусными, с небывалым блеском
и совершенством воплотилась еще в одном
посадском храме Москвы — церкви
Успения на Покровке (1697 —1705). К ее
центральному четверику с крещатым верхом
симметрично примыкали алтарь и западный
притвор, завершенные восьмериками.
Гульбище, окружавшее поднятый на подклете
храм, роднило его с церквами Воскресения
в Кадашах и Покрова в Филях, трехчаст-
ное построение — с церковью в Троицком-
Лыкове, а решение верха — с построенной
на средства В. В. Голицына церковью Св.
Параскевы Пятницы в Охотном ряду.
Успенская церковь словно
аккумулировала в себе наиболее интересные и типичные
особенности столичной архитектуры конца
XVII в. Сложное, но абсолютно логичное
и четкое построение композиции здания
находило полное соответствие в принципах
размещения и выборе мотивов декора:
наличники алтаря и притвора были
одинаковы, но отличались от наличников
основного четверика; самые сложные из них
находились на основном храме, а самые
простые — на колокольне; наличники первого
«этажа» четверика были наиболее строгими
по рисунку, а снизу вверх их пышность
нарастала.
Энергия масс храма, несколькими
параллельными потоками (алтарь — церковь —
притвор — колокольня) стремящаяся вверх,
находила соответствие в активной жизни
декора — упругих волют, пружинящих
гребней, разлетающихся отрезков
разорванных фронтонов. Раковины Успенской
церкви кажутся разворачивающимися, как
веера, в завитках акантовых спиралей
видятся птичьи головы и рыбьи морды, большие
гребни несут на себе малые, точно
земноводное — своих детенышей. Это
полуживотное-полурастительное бытие
декоративных форм удивляет тем более, что оно
протекало внутри или вокруг рационально
организованных структур, находясь в полной
гармонии с ними. Так, в каждом
обрамлении окна или портала имелась неизменяемая
«рамка» из двух колонок на консолях между
двумя карнизами. Это объединяло все
проемы независимо от места их нахождения, в
то время как оформление этой «рамки»
варьировалось до неузнаваемости. Балясины
парапета гульбища выглядели подобно
античным амфорам — у них четко выделялись
невзаимозаменяемые верхние и нижние
части — завершающий венчик и
база-основание. Это явление для русской архитектуры
XVII в. следует признать уникальным: как
правило, наоборот, идея несения стиралась
даже у колонок, где или базы употреблялись
вместо капителей, или капители, даже
коринфские, — вместо баз.
Новые черты в XVII в. проявились и в
архитектуре храмов традиционного крестово-
купольного типа. Первой вехой на этом пути
стал Покровский собор в царской
подмосковной усадьбе Измайлово (1671 — 1678 гг.).
Хотя согласно заданию он должен был
повторять Покровский собор
Александровской слободы, в наружном оформлении
зодчий явно вдохновлялся теми же образцами,
что и автор церкви в Тайнинском («бочки»
над крыльцами и сильно вытянутые
оконные проемы), а также принципами
«узорочья» середины XVII в. («строчное»
расположение изразцового орнамента в
закомарах). Репрезентативность кубического
здания с тремя торжественными
симметричными крыльцами, по сторонам которых
столь же симметрично располагаются
сдвоенные колонки и оконные проемы,
сочеталась здесь с нарядностью посадской
архитектуры — яркой цветностью изразцовых
фризов, тонкой резьбой белокаменных
деталей. Но главным новшеством был сдвиг
пятиглавия на запад.
До тех пор в больших шестистолпных
храмах восточные главы обязательно
располагались над жертвенником и дьяконни-
ком — для лучшего освещения зон, где
происходило основное богослужебное действие.
441
Книга вторая
Учитывая же, что вся алтарная часть
полностью закрывалась иконостасом,
центральный купол в интерьере выглядел сдвинутым
к востоку — он находился над солеёй, что
также было функционально оправдано.
Западная часть храма оказывалась затененной,
а решение интерьера — асимметричным.
Сдвиг центрального купола к иконостасу
создавал заметное тяготение по оси запад —
восток, способствовал продольной
ориентации внутреннего пространства.
Эта тенденция шла явно вразрез с
общим направлением развития архитектуры
XVII в. — с центрическими поперечно
ориентированными решениями интерьера,
найденными в бесстолпных храмах. Зодчий
Покровского собора нашел выход из этого
положения, понизив алтарную часть и
разместив пятиглавие над основным объемом
храма. Освещение алтарной части
вследствие больших размеров окон от этого
почти не пострадало, а над основным
помещением церкви оказались все пять световых
отверстий. Интерьер стал центричным,
уравновешенным, равномерно освещенным,
отвечающим симметрии внешнего вида
здания32.
Таким же образом размещалось
пятиглавие в Успенском соборе Коломны (1672 —
1682 гг.) и Успенском соборе Иосифова-
Волоколамского монастыря (1688 —
1692 гг.), а в Успенском соборе Астрахани
(1700 — 1710 гг.) его зодчий москвич
Дорофей Мякишев, кроме того, применил
круглые столбы, сочетав эту ренессансную
черту московского Успенского собора с
центрическим решением интерьера. С его
монументальными формами прекрасно
гармонирует крупный, четкий «нарышкинский»
декор, который, кажется, входит в систему
не столько декоративных, сколько
конструктивных частей храма: сплошной пояс
сомкнутых оконных наверший, зрительно
стягивающий верх стены, выглядит столь же
необходимым, как и пояс проемов гульбища,
окружающего низ собора. Пятиапсидность
астраханского храма также апеллирует к
кремлевскому прототипу: увеличение
количества апсид, как и пышный декор и
изысканная перекличка двойного ряда оконных
проемов на боковых апсидах и двойного
карниза, придает особую торжественность
восточному фасаду, выходящему к главным
воротам астраханского кремля. А в
восприятии западного фасада большую роль играет
пристроенное к его паперти Лобное место,
подчеркивающее архитектурное и смысловое
значение Успенского собора как главного
храма города.
Более компромиссным является
Успенский собор в Рязани. Хотя в нем
применены круглые колонны, но главы
по-прежнему сдвинуты на восток, а
гипертрофированные «нарышкинские» черты в обработке
фасадов — растянутые на три этажа
белокаменные колонки, чрезмерно усложненная
резьба, гигантские оконные проемы —
носят почти карикатурный характер.
Несмотря на то, что Успенский собор
Рязани (1693 — 1699 гг.)
непосредственно ориентировался на столичный
памятник — Успенский собор Кремля, —
ансамбль в Солотчинском монастыре под
Рязанью выглядит значительно более
«столичным». Здесь в конце 1680-х годов была
возведена огромная бесстолпная трапезная,
не уступающая московским, с ярусной
церковью Сошествия Св. Духа при ней. Не
уступает лучшим московским образцам и
белокаменное убранство памятника —
наличники с коринфскими колонками и
пышными навершиями, скомпонованными из
гребней, волют и розеток и включающие поли-
хромные изразцы с изображением
серафимов. Великолепно построено завершение
северного портала: «крутящиеся» формы
розеток в нем перемежаются с
устойчивыми квадратами изразцов, а мелкие завитки
волют единым потоком стекают вниз,
объединяя контрастирующие формы.
Восьмиграннику трапезной церкви вторит
восьмигранный же объем надвратного
храма Св. Иоанна Предтечи. На каждой его
грани располагается сочно моделированный
белокаменный наличник, обрамляющий или
окно (на северной, южной и западной
гранях), или изразец с барельефным
изображением евангелиста. Последние, несомненно,
были приобретены в Москве — они
полностью аналогичны соответствующим
изразцам церкви Успения в Гончарах, Успения в
Казачьей и др.33. Размещение рельефов с
евангелистами на месте оконных проемов как
бы материализовывало представление о Еван-
442
Часть II. Глава 4
гелии как источнике Божественного Света.
Реальные окна служили для освещения
интерьера чувственным светом, окнах
евангелистами — для доступа Света истины,
благодаря которому монастырь «светло сияет яко
светило во все концы»34.
Своеобразной ветвью столичной
архитектуры на рубеже XVII — XVIII вв. было
зодчество Строгановых. Богатые
солепромышленники возвели в эти годы несколько
каменных храмов, в которых
приверженность к старым композиционным типам
сочеталась с необыкновенной
изобретательностью в конструктивном решении и
декоративном оформлении. Огромный
пятиглавый Введенский собор в Сольвычегодске
(1689 — 1693 гг.), несмотря на богатое
украшение, снаружи выглядит
сравнительно обычным четырехстолпным храмом
«соборного» типа. Такой внешний вид
постройки, несомненно, был обусловлен
требованиями заказчика, желавшего, чтобы новый
храм не уступал городскому сольвычегодс-
кому собору, поставленному в XVI в.
основателем строгановской династии. Однако
интерьер традиционного храма в это время,
очевидно, уже не соответствовал новым
эстетическим требованиям — он казался
слишком темным и затесненным. Поэтому
строгановские зодчие применили
оригинальнейшую конструктивную схему: они
сделали храм бесстолпным, но разместили на его
сомкнутом своде световое пятиглавие,
остроумно прорезав угловые части свода
световыми барабанами, а центральные —
глубокими распалубками, облегчающими свод.
Эти распалубки, разгрузившие стену,
позволили поднять окна выше пят свода35.
Большие размеры окон и пышные наличники
способствовали тому, что стена стала
выглядеть легким экраном, — так же, как и
в центрических ярусных храмах, хотя там
подобное впечатление создавалось иными
средствами.
Столь же нетривиальным было и
решение интерьера строгановской
Рождественской церкви в Нижнем Новгороде. Здесь
боковые световые барабаны поставили не на
углы свода, а на распалубки, устроенные,
как и во Введенском соборе, по центру
каждой стены. Таким образом, главы
оказались поставленными по сторонам света,
что было новинкой и в московских храмах
(церковь Св. Параскевы Пятницы в
Охотном ряду). Завершение Рождественской
церкви обрело крестообразное очертание, а
церковь в целом — ступенчатость,
заставляющую вспомнить о ярусности московских
церквей.
Ассоциацию с московской архитектурой
вызывает и церковь Смоленской Богоматери
в Гордеевке — нижегородском имении
Строгановых. Ее завершают пять
восьмигранных двухъярусных барабанов
относительно большого диаметра, что в
совокупности с восьмигранной колокольней
обеспечивает господство этих форм в общей
композиции. Обилие надкарнизных аттиков,
колонн и пилястр, резных белокаменных
наличников еще более активизирует
архитектурные объемы, вносит в них ту
напряженную динамику, которой отличаются ярусные
центрические храмы.
Декор строгановских церквей восходит
также к столичным истокам. Исследовательница
строгановских построек О. И. Брайцева
отмечала, что орнамент гермовидных пилястр
сольвычегодского собора сходен с
орнаментом аналогичных форм в церкви Св.
Николы Большой Крест, сольвычегодские
наличники встречаются в соборе Нового
Иерусалима, московских палатах Голицына и
церкви Воскресения в Кадашах, а лучковые
завершения окон — только в Теремном
дворце Московского Кремля36. В целом же
несомненно его генетическое родство с
«белорусской резью» московских иконостасов
2-й половины XVII в., а также наличие
западноевропейских образцов в виде
архитектурных альбомов, благодаря чему
трактовка ордера и его пропорции в
строгановских постройках близки к каноническим37.
Так же, как и в церкви Св. Николы
Большой Крест, декор строгановских храмов
является формообразующим началом; он
членит здание на ярусы-этажи, организуя их
и в горизонтальном, и в вертикальном
направлении. Очень показательно, что колонки
довольно далеко отстоят от стены, выявляя
свою объемность и пластичность по
контрасту с плоским «экраном» стены.
Абсолютно инертная плоскость фасада ордером
делится на активные ячейки, каждая из
которых представляет самодостаточное целое,
443
Книга вторая
микросистему — своеобразный рупор
макросистемы всей церкви, озвучивающий
усилия, остающиеся в самом теле храма неар-
тикулированными. Ордер здесь выступает
посредником между архитектурной
конструкцией и зрителем, что было свойственно
ему и в европейском Ренессансе.
Несколько ученическая правильность его
расположения свидетельствует о раннем этапе разви-
Церковь Св. Николы Надеина в Ярославле.
1620 — 1622. Реконструкция
тия — это своеобразная архаика,
«геометрический стиль», но здесь уже заложена
возможность той игры ордерными формами,
которая воплотится только в барокко
XVIII в.
Во 2-й половине XVII в. начинается
бурное развитие архитектуры экономически
процветающих городов периферии — таких
как Ярославль, Ростов, Каргополь и др. По
этому поводу нередко пишут о «местных
школах» в архитектуре XVII в., имея в виду
региональное своеобразие русского
зодчества этого периода. Однако, несмотря на
безусловные различия архитектуры отдельных
периферийных центров, в целом она
вливается в единое русло общерусского
архитектурного развития и в конечном итоге
ориентируется на зодчество Москвы.
Связь архитектуры Ярославля с
Москвой была заложена еще в предшествующем
столетии, когда в Спасском монастыре
московскими, как предполагается, мастерами
был выстроен Спасо-Преображенский
собор, прототипами которого считаются
Благовещенский и Архангельский соборы
Московского Кремля38. В XVII в. московская
традиция была поддержана строительством
первого каменного храма ярославского
посада — церкви Св. Николы Надеина
(1620 — 1622 гг.), которое вели, вероят-
444
Часть II. Глава 4
но, также московские мастера39. Они
создали постройку, близкую к годуновским
памятникам. Пятиглавый первоначально храм,
стоящий на подклете, окруженный
двухъярусными галереями и имеющий северный
придел в виде маленького одноглавого
храмика, несомненно напоминает Годунове кие
постройки в Вяземах и Пафнутьеве-
Боровском монастыре. Однако кладка и декор
храма свидетельствуют о том же огрубении
строительной техники, что и церковь в
Рубцове, а конструктивное решение, само по
себе достаточно оригинальное, может
рассматриваться как комбинация крестовоку-
польной системы с упрощенной крещатой
(угловые части основного храма и придел
перекрыты системой
ступенчато-повышенных сводиков, но расположенных не
крестообразно, а только в широтном
направлении). Круглые окна в закомарах также
можно воспринимать как упрощение
аналогичного мотива Архангельского собора
Московского Кремля. Вряд ли следует
считать новшеством и асимметричную
постановку колокольни у северо-западного угла
храма: приблизительно так же группируются
массы и в постройках XVI в. (например, в
соборе Авраамиева монастыря в Ростове).
Следовательно, храм Св. Николы Надеина
для ярославского зодчества XVII в. —
такое же повторение пройденного, как и
памятники 20-х годов в Москве.
В еще большей степени это относится к
главному городскому собору Ярославля —
Успенскому, построенному на месте
старого в начале 1640-х годов. Огромная
пятиглавая постройка воспроизводила в
основных чертах облик одноименного московского
храма XV в. Суровость его вида смягчалась
только двойным аркатурным пояском на
фасадах — прием, опять-таки восходящий
к московскому Успенскому собору
(возможно, через посредство ростовского).
Новые черты проявились при достройке
церкви Рождества Христова, стоящей
неподалеку от Надеинской церкви. Заложенная
в 1630-е годы, она должна была быть
достаточно близкой к этому памятнику. Но
впоследствии, в 1644 г., ее достроили
соответственно новым художественным вкусам.
Тогда у четырехстолпного пятиглавого храма
с одним (или двумя) приделами у
восточных углов появился юго-западный придел,
решительно изменивший композицию
главного — западного — фасада здания.
Спокойным формам северо-западной части с
тяжелыми арками подклета противостоит
богатое убранство двухъярусной галереи
при юго-западном приделе, а сам этот
придел, невысокий, стройный,
завершающийся широким карнизом с
четырехскатной кровлей, контрастировал с массивным,
перекрытым по закомарам четвериком
основного храма. Новшеством явилось и
керамическое убранство — пояса зеленых
изразцов, поливная желтая и зеленая
черепица на главах, изразцовая храмозданная
надпись под основанием закомар,
родственное полихромии московской архитектуры
середины XVII в.
Колокольня церкви Рождества,
строившаяся после 1658 г. и включающая храм
Гурия, Самона и Авива, представляет собой
уже новый этап развития ярославской
архитектуры. Если в основном храме
декоративность создавалась преимущественно за счет
привнесенных в него элементов — изразцов,
черепицы, то здесь декор становится
исключительно архитектурным. Полуколонки с
затейливыми навершиями, массивные
обрамления «слухов», малые декоративные
шатры по сторонам центрального
свидетельствуют о том понимании декоративных форм,
которое мы отмечали в московских храмах
Св. Троицы в Никитниках и Рождества в
Путинках.
С путинковской церковью подколоколен-
ный храм трех мучеников сближает и
решение внутреннего пространства — очень
маленького (перед солеёй образуется
прямоугольник приблизительно 4,5 х 1,8 м) и
поперечно ориентированного. Хотя
ярославские мастера сохраняют функциональное
назначение тех частей, которые в
московских храмах стали откровенно
декоративными (центральный шатер над церковью
Гурия, Самона и Авива — это шатер
колокольни, в боковых шатриках размещались
часы и лестница), и здесь чувствуется
избыточность декоративных деталей. Это
проявляется в часто посаженных наличниках
слуховых окошек, в форсированных тягах на
колонках и в особенности в загадочном
завершении угловых полуколонок западного
445
Книга вторая
фасада четверика, которое исследователи
связывали с влиянием восточной
архитектуры, неплохо известной заказчикам —
купцам Назарьевым-Гурьевым40.
Изысканность и продуманность расположения
декоративных деталей, метрические
переклички горизонтальных рядов и ритмические —
вертикальных также способствуют
впечатлению самоценности оформления, т.к.
именно оно в конечном итоге формирует
архитектурный образ постройки. В этом
ярославская церковь-колокольня,
несомненно, близка к московскому пониманию
архитектурных форм.
В русле московской архитектуры
находится и одна из самых знаменитых
ярославских церквей — храм Св. Ильи Пророка,
построенный в 1647 — 1650 гг. на средства
купцов Скрипиных. Он представляет собой
сложный асимметричный комплекс из
главного храма, трех приделов, галереи и
колокольни. Центральный объем — четырех-
столпный храм с позакомарным покрытием,
с мощным, широко расставленным пятигла-
вием, является несколько архаичным для
этого времени, но явно «промосков-
ским» образцом большого собора. Однако
конструкция сводов в нем отличается от
московской: центральный подкупольный
квадрат сильно раздвинут и вытянут по
продольной оси так, что превратился в
прямоугольник; прямоугольные очертания
получили и угловые компартименты храма. В
результате зодчим пришлось ввести
дополнительные поперечные арки, суживающие
подкупольный прямоугольник до квадрата.
Эти арки расположились не параллельно
полу, а наклонно, повышаясь к куполу.
Смысл такого приема, по Г. А. Штейману,
заключался в улучшении освещенности
храма, т. к. наклонные поверхности значительно
лучше рассеивают свет, проникающий сквозь
окна барабана41. Повышение же
освещенности интерьера было характерной чертой
столичной архитектуры этого периода. Таким
образомt ярославские зодчие решили
своими средствами ту же задачу, которая
стояла перед русской архитектурой XVII в.
Северный придел святых исповедников
Гурия, Самона и Авива, завершенный
высокой горкой кокошников, буквально
повторяет московские посадские малые храмы;
шатровая колокольня у северо-западного угла
также всецело находится в московском
русле. Вторящий ей стройный шатер Ризполо-
женского придела напоминает церкви Св.
Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевой
лавре — как пропорциями, так и
размещением центрального окна четверика на
«ленте» пилястры.
Скрипины в своей торговой
деятельности были связаны с царской фамилией,
которой оказывали важные услуги
финансового свойства. В знак благодарности- им была
прислана ценнейшая московская
реликвия — часть Ризы Господней,
хранившейся в московском Успенском соборе. Для нее
и построили при церкви Св. Ильи
Пророка отдельный придел. Возможно, что шатер
Ризположенского придела имел своим
прообразом не только сравнительно скромные
московские шатровые постройки XVII в., но
и царские храмы XVI столетия:
мемориальное значение этого сооружения в память
царского дара (служба в нем происходила
только раз в год, в день храмового
праздника) было близко к значению
храмов-памятников, традиционно осеняемых шатрами.
В архитектурном отношении Ризполо-
женский придел прекрасно уравновесил
шатровую колокольню совершенно по тому
же «принципу коромысла», что и в церкви
Св. Троицы в Никитниках: прорезанная
«слухами», ажурная колокольня казалась бы
слишком легкой по сравнению с глухим
шатром придела, но она расположена
ближе к главному храму и рядом с крыльцом,
в то время как Ризположенский придел
выдвинут за край галереи. Асимметричная,
но точно сбалансированная композиция
храмовых масс опять-таки находит соответствие
в московском зодчестве середины XVII в.
На протяжении 1650 — 1680-х годов
складывался ансамбль храмов Коровницкой
слободы Ярославля. Вначале был создан
основной объем летнего храма Св. Иоанна
Златоуста, а затем его дополнили теплой
церковью, колокольней и воротами. Были
переделаны в 1680-х годах и фасады Зла-
тоустовской церкви.
Композиция главного храма
подчеркнуто монументальна и репрезентативна.
Здание строго симметрично: у его восточных
углов стоят одинаковые приделы, с трех
446
Часть II. Глава 4
сторон к галерее примыкают почти
одинаковые крыльца (только западное, главное,
имеет по две висячие гирьки на каждой
стороне, а боковые — по одной).
Дополнительную высоту храму придают сильно
вытянутые барабаны и мощные вспученные
главы с очень высокими журавцами, так что
высота завершения превосходит высоту стен
церкви. Удлинение журавцов сообщило
главам своеобразный силуэт, похожий на
братину с конической крышкой: кажется,
будто кресты возносятся к небесам и тянут за
собой вязкую материю глав, «завязанную»
подкрестными яблоками. Чешуйчатое
покрытие, напоминающее черепицу,
позволяет ощутить фактуру этой материи, ее
осязаемую тяжесть; почти не происходит
зрительного «истаивания» тела храма снизу
вверх, характерного для всей древнерусской
архитектуры. Масса и пространство
выступают здесь не в гармонии, а в контрасте, что
способствует созданию самоценного
пластического образа постройки. Глухие каменные
шатры приделов поддерживают слитный
аккорд завершения и, кроме того, служат
распространению здания по горизонтальной
оси, придавая ему устойчивость и прочно
связывая с землей. Ту же роль играют и
далеко вынесенные крыльца, чьи
треугольные островерхие кровли корреспондируют с
пирамидальными завершениями приделов.
Применительно к церкви Св. Иоанна
Златоуста в Коровниках пишут о
воплощении в ней идеального типа ярославского
храма42. И тем не менее в этой постройке
есть черты, роднящие ее с архитектурой
московского посада. Из пяти ее мощных
глав только одна является световой,
остальные глухие, как и во множестве
миниатюрных бесстолпных храмов Москвы.
Белокаменный и изразцовый декор, украсивший
церковь в последний период ее
строительства, также вдохновлен московскими
образцами. Да и сама композиционная схема с
галереей и тремя симметричными крыльцами,
появившись в никоновском зодчестве,
укоренилась затем на Москве и нашла новое
воплощение в центрических ярусных храмах.
Ярославское зодчество отличается от
московского в первую очередь не
используемыми конструкциями, излюбленными
композициями или видами декора: в этих
отношениях в нем нет почти ничего не
известного ранее на Москве. Однако, питаясь
московскими соками, ярославская
архитектура решительно заявила свою трактовку
общерусских форм, согласно со своими
представлениями о храмовом зодчестве. С
точки зрения ярославцев, храм должен был
быть внушительной постройкой, большой по
размерам, торжественной по
композиционному строю, нарядной, но не перегруженной
по фасадному убранству. Чтобы воплотить
этот идеал, ярославские зодчие иногда
поступались функциональными требованиями.
Например, церковь Владимирской
Богоматери, построенная при Златоустовской в
1669 г., должна была играть роль теплого
храма, а такие постройки бывали низкими
для удобства отопления в зимнее время.
Однако размерами она почти не уступает
главной церкви. В действительности же ее
репрезентативная внешность — только
футляр, в который словно вложен
маленький зимний храм с обширной трапезной,
перекрытой дополнительным сводом. Таким
образом, вся верхняя часть четверика
Владимирской церкви вместе с главами
оказывается чисто декоративной: это пустой
«этаж» между двумя сводами — внешним
и внутренним, нужный только для создания
«благолепного» облика храма.
Вся схема планировки и композиции ко-
ровницкого ансамбля подчиняется тем же
закономерностям, что и построение его
главного объекта. В нем также соблюдается
симметрия относительно продольной оси,
фиксированной воротами и колокольней,
также чувствуется тяга к парадной
представительности, даже идущей вразрез с
сугубо практическими соображениями. Главным
фасадом ансамбля безусловно мыслился
восточный — сюда выходят ворота, здесь
размещен огромный изразцовый наличник
окна центральной апсиды Златоустовской
церкви. Однако слобода (и соответственно
подход к храму) находилась с запада;
восточная же сторона обращена к Волге. Ее
акцентирование в ансамбле явно вызывалось
стремлением создать впечатляющий вид с
реки — тем стремлением, которым во
многом продиктован и архитектурный облик
отдельных объемов.
Ворота ансамбля в Коровниках были
447
Книга вторая
построены, вероятно, в конце XVII в. в
новых для ярославского зодчества формах,
ориентированных на московские
центрические ярусные храмы. Правда, ярусные
композиции в области собственно
храмоздательства не привились в Ярославле, где
заказчики и мастера даже в XVIII в. сохранили
привязанность к традиционному
«соборному» типу. Однако новая типология нашла
себе место при строительстве не только
ворот (такую же форму имеют ворота
Воскресенского собора в Романове-Борисоглеб-
ске), но и колоколен. Такая ярусная
колокольня встала при храме Толчковской
слободы Ярославля. Если шатровая
колокольня Коровников включалась в ансамбль по
принципу подобия (шатры приделов, общий
пирамидальный силуэт главной церкви), то
в Толчкове она сопряжена с основной
постройкой по принципу контраста. Храм Св.
Иоанна Предтечи в Толчкове смотрится
единым слитным массивом, чему
способствует уникальный прием включения в
композицию равновысоких ему приделов,
каждый из которых увенчан пятиглавием, как и
основной храм. Так как площадь приделов
невелика, их главы плотно сдвинуты;
пространство вытеснено массой еще более
решительно, чем в церкви Св. Иоанна
Златоуста в Коровниках. Храм тяготеет к
замыканию в единый блок.
В колокольне, напротив, подчеркивается
ее ритмическое облегчение кверху: ярусы
становятся меньше, а прорезающие их
проемы относительно больше. Пространство
свободно проникает внутрь архитектурного
объема, как бы размывая его и изнутри, и
по краям. Контрастным по отношению к
храму выглядит и декор колокольни: храм
украшен уже традиционными для
ярославского зодчества этого периода изразцами и
простыми кирпичными полуколонками с
белокаменными коринфскими капителями, а
колокольня обработана рустом, гермовидны-
ми пилястрами, на углах ее стоят
белокаменные пирамидки. И тем не менее ансамбль
выглядит гармоничным, объединяясь за счет
общей торжественной приподнятости,
своеобразной триумфальности обеих его главных
составляющих частей.
Ярославль в XVII в. считался старшим
братом Москвы (по счету потомков Юрия
Долгорукого), Ростов же был старшим
братом Ярославля. В орбиту московского
влияния этот город вошел очень рано, уже в
XIV — XV вв., а в 1474 г. в руках
Ивана III оказалась вся бывшая территория
Ростовского княжества. Существует
предположение, что тогда было задумано
строительство нового Успенского собора на
месте старого — по образцу Алевизовского
храма.
Существующий ростовский Успенский
собор не имеет точной датировки: его
относят к разным периодам, начиная с конца
XV в. и кончая серединой XVII в. Как бы
то ни было, к моменту начала обстройки
Ростовского митрополичьего дома (70 —
80-е годы XVII в.) он уже существовал и
безусловно служил камертоном всему
ансамблю. В его облике, как и в Успенском
соборе Ярославля, неоспоримы московские
черты — врезанный в стену и
поставленный на карниз аркатурно-колончатый
поясок, два яруса окон, поставленных по
центру каждого прясла, общий торжественный
строй форм, ориентированный на собор
Фиораванти. В свою очередь, ростовский
Успенский собор послужил образцом для
храмов Ростовской митрополии: церкви
Воскресения над северными воротами,
церкви Св. Иоанна Богослова над западными
воротами (где воспроизведен даже
колончатый поясок) и церкви Св. Григория
Богослова. Ограда митрополичьей резиденции
также апеллирует к московским
прототипам — недаром за местом обитания
ростовских архиереев укрепилось название
кремля. Мощные стены с 11 башнями
вызывали в памяти образ столичной твердыни;
храмы и палаты митрополита напоминали
патриарший двор и кремлевские соборы, тем
более что митрополичьи палаты были
трехэтажными и имели ядром Крестовую
палату, как и патриаршие палаты Московского
Кремля. Это может объясняться
сознательным стремлением заказчика —
ростовского митрополита Ионы Сысоевича —
подражать своему духовному наставнику
патриарху Никону, привязанность к которому,
судя по источникам XVII в., он сохранял и
во время опалы последнего. Наличие на
территории митрополичьего дома государевых
хором — путевого дворца с Красной пала-
448
Часть IL Глава 4
той — также сближало образ этих двух
ансамблей. Уподобление прослеживалось и
в деталях — например, настенная
звонница церкви Св. Иоанна Богослова
напоминала Царскую башенку Московского
Кремля.
Однако, как и в Ярославле, московские
формы в Ростове были истолкованы
своеобразно. Прежде всего они наложились
здесь на свою развитую основу. Для
ростовской архитектуры более раннего периода
были характерны и определенные
декоративные мотивы (оформление барабанов
глав)43, и конструктивные приемы (креща-
тый свод, хотя и появившийся в XVI в. под
влиянием московского зодчества, но в
следующем столетии воспринимавшийся уже
как традиционная ростовская форма).
Поэтому возврат в строительстве Ионы Сы-
соевича к этой форме покрытия,
оформленной трехлопастной аркой по образцу
ростовской церкви Воскресения (Исидора
Блаженного) в церкви Спаса на Сенях или
скрытой за обычным «позакомарным»
завершением, мог бы объясняться обращением к
местной традиции. В 70-е годы XVII в.,
когда крещатый свод давно вышел из
употребления, это, безусловно, выглядело бы
демонстративной оппозицией по отношению
к столичным вкусам.
Ростовский митрополит имел
возможность быть достаточно независимым в
своих художественных пристрастиях: в его
руках сосредоточилась и духовная власть
(после опалы Никона он был местоблюстителем
патриаршего престола), и огромные
капиталы — доходы ростовской митрополии от
солеварения и торговли. Однако нам
кажется, что Иона Сысоевич стремился не
противопоставить свое зодчество столичному, а
выразить в нем те идеалы, которые
культивировались патриархом Никоном и отнюдь не
шли вразрез с общим архитектурным
развитием XVII в. По мнению Н. Ф. Гуляниц-
кого, крещатый свод возник в русской
архитектуре на рубеже XV — XVI вв. как
своеобразное «изображение» традиционного кре-
стовокупольного перекрытия в бесстолп-
ном храме ввиду того, что обычный
сомкнутый свод в это время казался слишком
«палатным», нецерковным. Иона Сысоевич
решил вернуть интерьеру храма умаленную в
нем символическую доминанту: отсюда
сияющие пространственные кресты, осеняющие
молящихся в церквах Спаса на Сенях,
Св. Иоанна Богослова и Св. Григория
Богослова.
Еще одной особенностью ростовских
храмов является отсутствие в них
иконостасов (соответствующие сюжеты написаны
прямо на восточной стене) и
портики-кивории над царскими вратами и горним местом.
Истоки этого явления, по нашему мнению,
кроются в компилятивном сборнике по
символике православного храма, составленном
по заказу патриарха Никона и изданном на
русском языке под названием «Скрижаль»
(М., 1656). В этой книге применительно к
литургии подробно излагалось значение
различных частей церкви, и в особенности
ее алтаря. Поскольку же никоновская
«Скрижаль» основывалась на греческих
источниках VIII — XV вв., в ее
толкованиях отразился характер интерьера
византийского храма с каменной алтарной
преградой. Греческие авторы описывали космит
(горизонтальную балку алтарной преграды)
и несущие его столбики, чего давно не было
в русских церквах XVII в.; космит, по
толкованию, «обозначает союз любви и
единение во Христе Святых, сущих на земле, с
горними»44, а столбики — «разделение
чювственных от умных», т. е. телесного от
духовного.
Несоответствие русских храмовых
интерьеров подобным описаниям вызвало, с
одной стороны, модификацию самих этих
описаний, особенно на украинской почве. В
сочинении «Выклад о церкви» символика
разделения горнего и дольнего
приписывается уже не столбикам космита, а створкам
царских врат45. С другой же стороны, у
Ионы Сысоевича, очевидно, появилось
желание приблизить внутренний вид своих
храмов к эталону, каким выступало
описание «Скрижали». Отсюда появилась
каменная восточная стена на аркаде, заменявшая
космит со столбиками: «...двостолпия суть
сотворена, яко да покажут разнство
чювственных ко умным, и суть яко стена и
твердь, яже разлучает вещественная от
умных <...> Вверху убо дву столпу суть
космит, сей являет союз любве, и соединение
и совокупление святых от земли со Хрис-
449
Книга вторая
том, вкупе с горними св. ангелы. Зане и
образ Спасов стоит посреде, и на единой
стране Св. Мати его, и на другой стране
Креститель и Предтеча, аще случится,
апостолы и ангелы, и прочие святии, являюще
Христу быти тако на небесех со святыми
своими...»46 Важной принадлежностью
алтаря мыслился также «киворий на нем же
есть распятие, есть вместо места, идеже
распятся Христос <...> Еще есть и по
подобию кивота завета Господня <...> в
нем же <...> да будут два херувима изва-
янна от единые части и вторыя»47.
Киворий — сень над престолом — в ростовских
храмах действительно напоминает «Кранию
гору» — Голгофу, основной признак
которой — «каменность» (ср. толкование
Максима Грека на строчку «камень есть
прибежище заецам»); на кивориях Ростова,
согласно тексту «Скрижали», написаны
херувимы.
Херувимы же помещены на
полуколонках в интерьере церкви Воскресения —
единственной из церквей Ионы Сысоевича,
перекрытой сомкнутым, а не крещатым
сводом. Возможно, что в данном случае весь
храм уподоблялся киворию. Символически
такое толкование вполне допустимо. Герман
Константинопольский писал об алтаре, что
св. Отцы «утвердили, как бы небо, свод над
св. трапезою, отделили священное место,
заключающееся между четырьмя столпами
кивория и ими огражденное, во образ
земли»48. Но то же самое обозначал и храм в
целом: «горняя храма, сиречь верх,
знаменует небо, помост же, сиречь долняя,
знаменуют землю»49.
Таким образом, интерьеры ростовских
храмов представляли глубоко продуманную
систему, архитектурно-живописными
средствами воплощавшую основные
христианские представления о «доме Божием»,
преломленные через призму эстетических
предпочтений русского человека XVII столетия.
Оригинально проявились общерусские
художественные вкусы в архитектуре
Каргополя — северной окраины Русского
государства. Оживленное каменное
строительство началось там сравнительно поздно —
в последней четверти XVII в. Образцом,
вдохновлявшим местных зодчих этого
времени, послужил городской Христорожде-
ственский собор, выстроенный в 1562 г. —
монументальный, пятиглавый, шестистолп-
ный в плане. Ближе всего напоминает его
облик Воскресенская церковь конца XVII в.
В отличие от своего прообраза, она имеет
только четыре столба, но ее боковые
фасады за счет резкого несоответствия
размещения лопаток внутренней структуре здания
делятся на четыре части, как в Христорож-
дественском соборе, а не на три, как это
было бы естественно при четырехстолпной
конструкции. Мощное пятиглавие и легкий
карниз явно восходят к тому же прототипу.
Однако в декоре Воскресенского храма
употреблены формы, характерные для
«узорочья» XVII в., здесь явно
запаздывающего: перспективные наборные порталы и
наличники. Интересно, что фигурные детали,
воспроизводящие лекальный кирпич,
выполнены из белого камня, в то время как на
Москве, наоборот, дешевый кирпич призван
был заменить дорогой белый камень. В
Каргополе престижность художественного
порядка (обращение к московским
декоративным формам) оказалась важнее
престижности материала: белый камень был
приравнен к кирпичу.
В других каргопольских храмах —
Благовещения и Рождества Богородицы —
декор еще более затейлив, хотя Каргополь-
ское «узорочье» достаточно сдержанно.
Декор здесь никогда не заполнял стену сплошь,
как в среднерусской архитектуре:
вхождение одних декоративных форм в другие —
например, наличников в карниз, —
встречалось в виде исключения. Облик
каргопольских храмов определяли гладкие
плоскости стен, на которых с графической
четкостью выделялись тонкие резные колонки
и узорчатые наличники и порталы.
Вероятно, здесь скрестились две тенденции.
Первая шла из прошлого, от Христорождествен-
ского собора с его программным аскетизмом;
вторая проявилась в столичном зодчестве
конца XVII в., где на смену «узорочью»
пришла свободная гладь стены с отдельными
«клеймами» декора.
Впечатление плоскостности, несмотря на
перспективные наличники, создается тем,
что обрамление окна часто состоит как бы
из нескольких плоских рамок, наложенных
одна на другую. В результате стена словно
450
Часть II. Глава 4
распадается на ряд отдельных слоев,
каждый из которых довольно тонок, а
совокупная их толщина не воспринимается глазом.
Высокое качество резьбы и наличие в ней
мотивов, скорее свойственных прикладному
искусству ( крестики-квадрифолии) создают
резкий контраст с лапидарностью
архитектурных форм и обширностью
окружающего гладкого фона. Поэтому даже
постройки, восходящие в композиционном
отношении к московским прототипам (бесстолпная
церковь Рождества Богоматери с двумя
приделами у западных углов четверика)50
имеют весьма своеобразный облик.
По-своему откликалась на запросы
времени и архитектура деревянных храмов. В
целом она, безусловно, была более
консервативна, чем каменная, — не столько в силу
особенностей и устойчивости
конструктивных схем, сколько из-за иного круга
заказчиков. Хотя художественные идеалы
средневекового общества отличались
значительным единством, а система ценностей
ориентировалась снизу вверх (что характерно как
для теологической, так и для социальной
организации Средневековья), все же
новшества, появлявшиеся в искусстве высшего
сословия, проходили более или менее
длительный период адаптации в искусстве
посада и затем крестьянства. Поэтому в
деревянной архитектуре XVII в., судя по
описям, ведущее место продолжали занимать
«клетские» и шатровые храмы («древяны
вверх»). Можно предположить, что
древнейший клетский тип приобрел в это время
более выразительный силуэт за счет
нефункционального повышения двускатной
кровли, а шатровые церкви дальше отошли от
своих каменных прообразов:51 постепенно
исчезают открытые внутрь шатры,
возникают пристройки и прирубы, обогащающие
композицию наподобие приделов и крылец
посадских каменных храмов. В принципе
этот процесс аналогичен происходившему в
каменном зодчестве XVII в.: и здесь и там
шатер все более явно истолковывался как
декоративная форма, что отразилось в его
новой деревянной конструкции «в режь»
(когда между бревнами шатра оставлялись
промежутки).
Наряду с модификацией старых типов
деревянное зодчество осваивало новые
формы каменной архитектуры посада.
Распространились церкви с «кубоватым»
покрытием, силуэт которого воспроизводит горку
кокошников типичного посадского храма.
Сходство подчеркивалось помещением
маленьких кокошничков в основании глав, а
иногда — и по ребрам кровли (церковь Св.
Параскевы Пятницы в с. Шуерецком,
1666 г.). Появились и ярусные храмы
«восьмериком на четверике». Весьма
любопытно, что один из наиболее ранних
сохранившихся памятников такого типа — церковь
Св. Иоанна Богослова на Ишне под
Ростовом Великим (1687 г. У — имеет подшивной
потолок, аналогичный «небесам» шатровых
церквей. Таким образом, восьмериковая
надстройка, в отличие от каменных ярусных
храмов, является декоративной. Однако в более
поздних памятниках (церковь Воскресения в
Торжке, 1718 г.52) интерьер открыт на всю
высоту, как в каменной архитектуре.
Вероятно, здесь обнаруживается влияние на
новый тип описанной традиции деревянных
храмов с закрытым шатром, и лишь
впоследствии особенности каменного образца
начинают воплощаться более буквально.
Отметим, что новые черты,
обусловленные началом грандиозного культурного
сдвига — переходом от Средневековья к Новому
времени, — в архитектуре сказались в
первую очередь в области храмостроения.
Церковное зодчество могло более гибко
реагировать на требования эпохи благодаря
отсутствию жесткой утилитарной связи между
формой и функцией: для православного
богослужения в принципе подходит здание
любого типа. В святоотеческих писаниях
оговаривалась только ориентация постройки на
восток, а также наличие помещения для
алтаря; остальные моменты регулировались
преимущественно традицией. Традиция же
хотя и была весьма важной для культуры
Средневековья, тем не менее не имела силы
безусловного закона и допускала
значительные трансформации вплоть до изменения
типа храма (например, итальянец Алевиз
возвел в начале XVI в. в Высокопетровском
монастыре центрический октаконхоидальный
собор, не имевший предшественников в
московском зодчестве; итальянец Петрок
Малой, очевидно, положил начало шатровому
зодчеству).
451
Книга вторая
В отличие от церковной, жилая
архитектура Древней Руси регламентировалась
исключительно с функциональной точки
зрения, причем пока оформляемая ею функция
была достаточно элементарна
(обслуживание первичных потребностей в жилье),
жилое зодчество не имело тенденций к
развитию. В итоге церковное строительство
XVII в. быстро и адекватно отвечало на
изменения в духовной жизни общества, а
жилое следовало не столько умонастроению
заказчиков, сколько их быту и укладу,
долгое время остававшимся традиционными и
мало социально дифференцированными.
Сколь-нибудь принципиальные новшества
намечались в основном в царском
дворцовом строительстве. В связи со
становлением абсолютизма царь нуждался во внешнем
оформлении своего исключительного
положения, и хотя дворцовый церемониал еще
не отлился в европейские модели, его
пышность и разветвленность, новые
представления о «стройности», «чине» и «мере»
требовали соответствующего выражения в
архитектуре. Поэтому деревянный дворец
Алексея Михайловича в Коломенском
(1667 — 1671 гг.), несмотря на
традиционность материала постройки и отдельных
строительных приемов, имел много нового,
отмеченного современниками: росписи с
«чюдными историями», четырьмя частями
мира, временами года и «небесным зодием»,
«множество цветов живонаписанных и
острым хитро длатом изваянных», «мнози
ваяны зверы» (Симеон Полоцкий)53.
Действительно, интерьеры украшали резчики,
выехавшие из Белорусии и принесшие на
Русь новую технику резьбы и новые
мотивы орнаментации. Вероятно, именно в
царском дворце в Коломенском впервые
появились «надворные», то есть внешние,
наличники с разорванными фронтонами, с
волютами и витыми колонками, откуда они
гораздо позднее перешли в народное
деревянное зодчество.
Новшества в планировке и объемном
решении дворца не столь очевидны, хотя в
конгломерате клетей-ячеек можно выделить
несколько линейных структур: цепочки
покоев царя, царицы и царевича. Их тип,
конечно, повторял элементарную «связь» —
прирубленные друг к другу клети-двойни,
тройни и т. п. Но симптоматично их
расположение по обоим главным фасадам. Нечто
похожее имелось и в Теремном дворце, где
такое решение справедливо
характеризуется как зачатки анфиладности. Во всяком
случае, вероятно, именно как анфиладу
восприняли парадные покои Коломенского
польские послы, отметившие хоромы
царицы, «у которых в одном боку двои одни из
других, а в ином четверы одни из других
дорогою по черте с перспективою двери в
окошка сделаны, и оных хором несчетное
число»54. Дверные проемы не только в
хоромах царицы, но и царя и царевича
действительно располагались друг напротив
друга. Не исключено, что эти анфилады
могли завершаться зеркалами или «преос-
пективными картинами», как то было
позднее в кремлевских покоях царевны Софьи.
Следующим шагом по пути обновления
жилого зодчества стал дворец в царском
селе Воробьеве (1685 г.). План его нижнего
каменного этажа дал А. А. Тицу основание
заключить, что «каменные подклеты в селе
Воробьеве построены с соблюдением
законов симметрии и вписаны в геометрически
правильную форму плана»55. Ядром здания
служило квадратное в плане помещение
столовой с симметрично примыкающими к
нему сенями. Столовая палата выступала из
плоскости фасада, образуя ризалит.
Значение этого объема как композиционного
центра подчеркивалось примыкавшим к нему
огромным парадным крыльцом. Правда,
симметрия фасада была относительной:
правое крыло, например, оказалось заметно
длиннее левого, но вряд ли можно
сомневаться в том, что для современников дворец
казался абсолютно симметричным.
Значительные размеры постройки — около 170 м
по фасаду — далеко превосходили все
существовавшие к тому времени дворцовые
здания Москвы и приближали масштаб
нового дворца к привычному для
европейских монархов.
Однако хотя царские постройки и
воспринимались подданными как образец,
подражание им даже в московских боярских
палатах преимущественно ограничивалось
областью декора. Жилища посадского
населения сохраняли традиционную троечастную
схему с двумя палатами по сторонам сеней.
452
Часть II. Глава 4
Если количество жилых комнат
увеличивалось и дом удлинялся, сени все равно
оставались в центре здания (палаты Симона
Ушакова в Москве). Троечастное
построение плана оставалось характерным даже для
палат знати, более тяготевшим по
внешнему облику к европейским дворцам, чем к
русским избам. Палаты В. В. Голицына в
Охотном ряду (конец 1680-х годов) имели
протяженный «дворцовый» фасад с
единообразными наличниками во втором этаже,
но группировка окон по-старому отвечала
расположению внутренних помещений, а
сами покои выстраивались по обе стороны
сеней. А. А. Тиц подметил, что положение
заказчика выражалось в его постройках не
качественно, а количественно: чем знатнее
был хозяин палат, тем больше комнат
имелось у него в доме36.
Перспективным типом, сложившимся в
зодчестве посада, стал дом с четырехчаст-
ным членением плана (дом Пушникова в
Нижнем Новгороде, конец XVII в.). Сени
в таких постройках располагались сбоку, а
интерьер делился на четыре комнаты.
Достоинства этого типа — хорошая
освещенность всех комнат, удобство отопления,
экономия площади и стройматериалов57
обусловили бытование подобных построек в
XVIII в. Небезынтересно, что хотя
решающую роль в распространении четырех-
частного дома сыграли, бесспорно,
практические соображения, они отражали ту же
тягу к центричности и симметричности
здания, которая столь ярко и художественно
совершенно проявилась в храмах 1680 —
1690-х годов.
Утглитарная функция была
определяющей и при строительстве крепостных
сооружений. Поэтому там, где эта функция
существенно не изменилась — на
многочисленных засечных чертах и оборонительных
линиях, защищавших земли России от
набегов степняков-кочевников, — сохранялись
старые разновидности деревянных или
дерево-земляных крепостей. Новые земляные
крепости бастионного типа строились
иноземными фортификаторами в виде
исключения (как Завитай и Грабороновы ворота
инженера Краферта близ Тулы, где
недостаток леса заставил прибегнуть к иному
материалу). В 1630-е годы земляными
валами с бастионами, в форме девятиконечной
звезды, укрепили Ростов Великий (под
руководством голландского фортификатора
Яна Корнелиуса ван Реденбурга). Однако
поскольку возможность новой интервенции
с Запада в центральные районы выглядела
сомнительной, дорогостоящие работы такого
рода больше не предпринимались.
Земляные крепости с их округлыми
невысокими валами, с выступами бастионов,
реданов и равелинов, безусловно, обладали
своей выразительностью, однако по силе
художественного воздействия они'явно
уступали традиционным каменным и
деревянным крепостям. Укрепления
«миланского» образца, получившие столь широкое
распространение на Руси в XVI в., вероятно,
стали восприниматься как идеал крепости
вообще. Когда в середине XVII в.
французский фортификатор Антуан де Грон
предложил возвести у Кирилло-Белозерского
монастыря укрепления бастионного типа,
монахи категорически отвергли новшество и
испросили у царя разрешение поставить
стены по образцу Троице-Сергиевой лавры.
В итоге «Новый город» — ограда новой
монастырской территории — была
выстроена в традиционных, давно изжитых в
европейской фортификации формах.
Исследователи неоднократно отмечали
особую декоративность крепостных
сооружений XVII в., свидетельствующую о
сознательной эстетизации облика крепости.
Эта эстетизация проявилась также в
нефункциональных перестройках старых
крепостей. В 1670 — 1680-е годы
Московский Кремль получил шатровые завершения
всех башен (кроме Никольской). Прецедент
был создан надстройкой в 1625 г. Спасской
башни Баженом Огурцовым и англичанином
Христофором Галовеем, но эта надстройка
имела определенный утилитарный смысл:
она вызывалась потребностью в
размещении часов, а высокий шатер отмечал
парадный вход в Кремль. Перестройки же
конца XVII в. являлись вполне
декоративными — «смотрильные вышки» на башнях
были только формой, призванной создать образ
мощной крепости. В это время отпала угроза
татарских набегов на Москву, так как
столицу надежно защищали дальние рубежи
обороны, и использовать вышки по назна-
453
Книга вторая
чению — для дозора за приближением
врага — определенно не предполагалось. Если
же иметь в виду, что «смотрильные
теремки» могли употребляться как пожарные
вышки-каланчи, то наличие их на всех без
исключения башнях, с функциональной
точки зрения, все равно явно избыточно.
В конце XVII в. надстроили и некоторые
башни Троице-Сергиева монастыря, причем
Утичья башня украсилась завершением,
восходящим к постройкам голландского
архитектора П. Поста58. Легкость, с которой
завершение голландской ратуши оказалось
перенесенным на постройку совершенно
другого назначения, говорит о самоценности
художественного начала, отделении
эстетической функции от утилитарной.
Такое отделение стало возможным
вследствие утраты крепостями их практического
значения. Не случайно с 1630-х годов
строительство новых каменных городских
укреплений полностью прекратилось. В
центральных землях России потребность в них
отпала, а по дальним рубежам строили
укрепления других типов. Поэтому каменное
крепостное зодчество во 2-й половине
XVII в. свелось почти исключительно к
возведению монастырских оград (включая и
комплексы архиерейских домов). Ограды же
монастырей XVII в. утратили сколь-нибудь
серьезное оборонительное значение, что
проявилось в изначальном размещении в стенах
и башнях жилых и хозяйственных
помещений, в вырождении некогда функциональных
форм (машикули без отверстий,
декоративные бойницы, завершение башен
своеобразными ажурными «коронами» взамен близко
поставленных зубцов-мерлонов). Стена
монастыря стала не боевым сооружением, а
границей его освященной территории, что
подчеркивалось обилием кирпичного,
белокаменного или изразцового декора. Возможно,
богато украшенные ограды Иосифо-
Волоколамского, Новодевичьего, Донского
монастырей ассоциировались с представлением о
стенах горнего Иерусалима. Монастырь
символизировал собою Небесный Град, явленный
на земле, ограда которого построена из яс-
писа, «и основания стены града всяким
драгим камением оукрашены» (Апокал. XXII,
19). Изразцы вполне могли служить
метонимической заменой ясписа, сапфира,
смарагда и других драгоценных камней Писания, а
белокаменный декор напоминал о «бисе-
pax» — жемчужинах (Апокал. XXII, 21).
Если «итальянизирующие» каменные
крепостные сооружения в зодчестве XVII в.
представляли собой отживающий тип,
продливший свое существование в
монастырских оградах за счет смены практической
функции на символически-эстетическую, то
административные, промышленные и
торговые здания относились к типам
зарождающимся. Только гостиные дворы в XVII в.
уже сформировали свою структуру (каре
лавок и складских помещений с обширным
внутренним двором), которая с некоторыми
вариациями будет использоваться и в
архитектуре Нового времени. Устойчивость
типологии гостиных дворов объясняется тем,
что изменения во внутренней торговле
Российского государства на протяжении
XVII — начала XIX века не носили
качественного характера: возрастал объем
торговли, менялась номенклатура товаров, но
формы купли-продажи, а соответственно и
формы торговых зданий оставались
прежними.
Система административных учреждений
и промышленность в XVII в., наоборот,
лишь начали новый цикл развития, чему
соответствовала типологическая
нестабильность и даже уникальность предназначенных
для их обслуживания построек. Не
выработались и типы новых общественных
сооружений. Так, Сухарева башня —
Сретенские ворота Белого города, — восходящая
к европейским прототипам, не стала
родоначальницей новой типологической линии в
русской архитектуре, несмотря на
художественную выразительность и явную
неординарность. Вероятно, причиной ее
отторжения стала неорганичность использования
здания подобного вида в качестве ворот:
европейская архитектура давала для этого
значительно более подходящие образцы
разного рода триумфальных арок.
Превращение ворот после надстройки в конце
XVII в. в «математическую й навигацкую
школу», то есть в сооружение с
совершенно иной функцией, говорит об отсутствии
связи между назначением постройки и ее
архитектурной формой. Поэтому Сухарева
башня, напоминающая европейские ратуши,
454
Часть II. Глава 4
сыграла в истории русского зодчества не
столько практическую, сколько
символическую роль знака новой культурной
ориентации. Так же можно охарактеризовать и
здание Земского приказа у Воскресенских
ворот, приспособленного вскоре после
постройки для размещения аптеки, но по
типологии не являющегося, строго говоря, ни
административным, ни тем более аптечным
помещением (пышный белокаменный декор,
изразцовый фриз и башня, как отмечалось
в литературе, были важны в ансамбле
Красной площади, но не связывались с
конкретным назначением постройки).
Многие крупные промышленные
комплексы в XVII в. были призваны
обслуживать нужды царского двора и
государственной власти (Кадашевский Хамовный и
Монетный дворы в Москве). Это сделало
желательной повышенную
репрезентативность производственных сооружений:
Хамовный двор — мануфактура, где ткали
полотно, — получил в плане прямоугольную
форму, имел высокую ограду с
торжественными воротами, украшенными двуглавым
орлом59. Здание Монетного двора на
Красной площади не имело окон в нижнем
этаже по уличному фасаду для предохранения
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Гуляницкий Н. Ф. Памятники
Отчизне Д. М. Пожарского // Строительство и
архитектура Москвы. 1980. № 2. С. 29 — 30.
2 См.: Гуляницкий Н. Ф. Церковь
Покрова в Медведкове и русское зодчество XVI —
XVII вв. // Архитектурное наследство. М.,
1980. № 28. С. 61 — 62.
3 Троице-Сергиева лавра.
Художественные памятники (авт. раздела «Архитектура»
В. И. Балдин). М.. 1968. С. 41.
4 См.: Katalog der Ornamentstich —
Sammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin.
Berlin; Leipzig, 1939.
5 См.: История русского искусства. M., 1959.
T. 4. С. 148.
6 Отчасти это объясняется
разновременностью частей здания (см.: Забелин И. Е.
Построение первой на Руси церкви в честь
Пречистой Богородицы «Неопалимой Купины» //
Археологические известия и заметки. М., 1893.
№ 1. С. 4 — 12).
от «татей», но такое сугубо утилитарное
решение не помешало пышно декорировать
верхний этаж наподобие дворцовой
постройки. В дальнейшем архитектурные
«излишества» исчезли из промышленной
архитектуры еще более решительно, чем из
административной, и памятники XVII в. остались
изолированным явлением в истории русского
зодчества.
Подводя итоги развитию архитектуры
XVII в., нельзя не отметить постоянное
возникновение в ней новых типов, форм,
приемов, непрекращающийся поиск средств
перехода на качественно новый уровень —
то есть подготовка зодчества Нового
времени. Принципиально важно, что при всем
отличии локальных вариантов эта архитектура
обладала значительным художественным
единством, в ней отражались одни и те же
тенденции, по-разному преломлявшиеся в
зависимости от материала, типа постройки,
местных традиций и вкусов. Поэтому
зодчество XVII в. можно рассматривать как
целостный этап истории русской архитектуры,
сформировавший собственные ценности,
отличные и от традиционных древнерусских, и
от сменивших их архитектурных идеалов
Петровской эпохи.
7 М. В. Красовский справедливо объяснял
это необходимостью симметричной расстановки
кокошников при несимметричном расположении
лопаток. См.: Красовский М. В. Очерк истории
московского периода древнерусского
церковного зодчества. М., 1911. С. 210.
8 Эти представления были известны на Руси
из так называемой «Толковой службы» (см.:
Бусева-Давыдова И. Л. Символика
архитектуры по древнерусским письменным источникам
XI — XVII вв. // Герменевтика древнерусской
литературы. Сб. 2. XVI — начало XVIII века.
М-, 1989. С. 285 — 287.
9 См.: Некрасов А. И. Очерки по истории
древнерусского зодчества XI — XVII веков.
М., 1936.
10 Недавно было высказано предположение,
что круговой обход как бы воспроизводит
решение восточной части собора афонского Ивере-
кого монастыря.
11 Полознев Д. Ф. Канонизация митрополита
455
Книга вторая
Филиппа в идейной борьбе за упрочение
авторитета церкви в середине XVII в. // Церковь,
общество и государство в феодальной России.
М.. 1990. С. 288.
12 См.: Алферова Г. В. Ансамбль Крестного
монастыря на Кий-острове // Архитектурное
наследство. М., 1976. № 24. С. 87.
13 См.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и
царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад,
1909. Т. I.
14 См.: Суханов Арсений. Проскинитарий//
Православный Палестинский сборник. Вып. 3.
СПб., 1889. Т. 7. С. 150.
15 Леонид (Кавелин). Историческое
описание ставропигиального Воскресенского, Новый
Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876.
С. 86.
16 При реставрационных работах в
Крестовой палате было обнаружено основание
центрального столба, но оно, по всей видимости,
относится к предыдущему этапу строительства
(см.: Романенко А. И. Один из этапов
строительства Патриарших палат (по архивным
материалам) // Гос. Музеи Московского
Кремля. Материалы и исследования. Вып. 2. М.,
1976. С. 112).
17 Путешествие в Московию барона
Августина Мейерберга. М., 1874. С. 90.
18 Алеппский Павел. Путешествие анти-
охийского патриарха Макария в Россию в
половине XVII века. Вып. 4. М., 1898. С. 104.
19 Забелин И. Е. Домашний быт русского
народа в XVI — XVII столетиях. Т. 1. М.,
1895. С. 138.
20 Соболев H. H. Русская народная резьба
по дереву. М.; Л., 1934.
21 Красовский М. В. Очерк истории... С. 319.
22 См.: Байбурин А. К. Жилище в обрядах
и представлениях восточных славян. Л., 1983.
23 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской
литературе XVII века. М., 1974. С. 100 и ел.
24 См.: Ильин М. А. Подмосковье. М., 1966.
С. 75, 210.
25 Успенский А. И. Царские иконописцы и
живописцы XVII века. Т. 2. Словарь. М., 1910.
С. 93.
26 См.: Выголов В. П. О развитии ярусных
форм в зодчестве конца XVII века //
Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 238.
27 В недавнее время этот храм был
передатирован на основании реставрационных открытий
(архит. Б. П. Дедушенко) началом XVI в. (см.:
Памятники архитектуры Москвы. Белый город.
М., 1989. С. 181).
28 Датировка была уточнена реставратором
И. В. Ильенко (см.: Ильенко И. В. Новые
архивные данные о датировке церкви Троицы в
Троицком-Лыкове // Реставрация и
исследование памятников культуры. Вып. 2. М., 1981.
С. 233 — 237).
29 Некрасов А. И. Указ. соч. С. 384.
30 О датировке церквей Николы Большой
Крест и Воскресения в Кадашах см.: Мики-
шатьев M. H. К вопросу о датировке
некоторых памятников русской архитектуры конца
XVII века // Филевские чтения. Вып. 7. М.,
1994. С. 90 — 101.
31 См.: Алферова Г. В. Памятник
древнерусского зодчества в Кадашах. История его
реставрации. М., 1974. С. 72.
32 См.: Датиева Н. С. Покровский собор в
Измайлове // Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. М., 1985.
С. 90 — 91.
33 См.: Блохина Н. Б. Приемы
использования полихромной керамики в русской
архитектуре второй половины XVII в. // Автореф.
канд. дисс. М., 1956. С. 14.
34 Серебровский Н. Очерки истории
монашеской жизни в Псковской земле // ЧОИДР.
35 См.: Брайцева О. И. Строгановские
постройки рубежа XVII — XVIII вв. М., 1977.
С. 27.
36 Там же. С. 158.
37 Там же. С. 137.
38 См.: Суслов А. И., Чураков С. С.
Ярославль. М., 1960. С. 26.
39 См.: Добровольская Э. Д., Гнедов-
ский Б. В. Ярославль. Тугаев. М., 1981. С. 60.
40 См.: Добровольская Э. Д. Ярославль. М.,
1968. С. 62.
41 См.: Штейман Г. А. Архитектурные
конструкции русских каменных сооружений XVI —
XVII вв. // Архитектурное наследство, № 16.
М., 1967.
42 Суслов А. И., Чураков С. С. Указ. соч.
С. 68.
43 См.: Баниге В. С. Кремль Ростова
Великого XVI — XVII веков. М., 1976. С. 66.
44 Симеон Солунский. Разговор о св.
священнодействиях и таинствах церковных
//Писания св. Отцев и учителей Церкви,
относящиеся к истолкованию православного богослужения.
СПб., 1856. Т. 2. С. 191.
43 (Феодосии Сафонович). Выклад о
церкви и ея тайнах. Киев, 1666. Л. 3.
4б Скрижаль. М., 1656. С. 90.
4? Там же. С. 39 — 40.
48 Святого отца нашего Германа, патриарха
Константинопольского, последовательное
изложение церковных служб и обрядов, и
таинственное умозрение об их значении // Писания св.
Отцев... СПб., 1855. Т. I. С. 394.
4<? Скрижаль. Л. 55 — 56.
456
Часть II. Глава 4
50 См.: Алферова Г. В. Каргополь и Карго -
полье. М., 1973. С. 59.
51 Мы считаем, что деревянное зодчество
изначально ориентировалось на каменное,
интерпретируя престижные формы в доступном
материале.
52 См.: Галашевич А. А. Памятники
деревянного зодчества Калининской области
(ярусный тип храма) // Реставрация и исследование
памятников культуры. Вып. 2. М., 1982.
С. 107.
53 Цит. по: Забелин И. Е. Домашний быт
русского народа в XVI и XVII столетиях. М.,
1895. Т. I. С. 186 — 187.
54 Забелин И. Е. Домашний быт русского
народа в XVI и XVII столетиях. С. 449.
35 Тиц А. А. Русское каменное жилое
зодчество XVII века. М., 1966. С. 171.
56 Тиу, А. А. Указ. соч. С. 147.
57 Там же.
58 См.: Микишатьев M. H. Ранний
памятник Петровской эпохи // Проблемы синтеза
искусств и архитектуры. Тематический сборник
трудов Института им. И. Е. Репина. Вып. 14.
Л., 1983. С. 18 — 25.
59 Построенный в середине XVII в., Хамов-
ный двор перестраивался в конце столетия и стал
еще одним Монетным двором.
Глава 5
Живопись
V^-мутное время не
лучшим образом сказалось и на положении
русской живописи. Прекращение
каменного строительства повлекло за собой
отсутствие заказов на монументальные росписи
и резкое сокращение потребности в иконах.
Уменьшилось количество городских
иконописцев, а оставшиеся были лишены
возможности профессионального общения при
совместной работе над крупными заказами,
что не могло не сказаться на уровне
мастерства. Но тем не менее применительно к
живописи первых десятилетий XVII в. все
же не приходится говорить о перерыве
традиции: по-прежнему работали ведущие
мастера «строгановской школы»1, писавшие
иконы для частных лиц (в первую очередь
для тех же Строгановых), а затем и по
заказам нового двора Михаила Романова.
Среди этих иконописцев были столь яркие
творческие индивидуальности, как Проко-
пий Чирин и младшее поколение
иконописцев Савиных2. Они и их сотоварищи
развивали найденные ранее живописные
приемы, композиционные типы, понимание
образа.
В русской иконописи первой трети
XVII в. получила распространение
характерно «строгановская» трактовка облика
святых. Раньше, до последней четверти
XVI в., святой на иконе, как правило,
предстоял молящемуся фронтально, являясь
человеку как посланец иного мира.
Принадлежащий вечности, ушедший за грань
земного бытия, он взирал на предстоящего
скорее не как посредник между дольним и
горним, а как житель «небесных селений»,
имеющий право и власть судить грехи
человеческие.
В композицию «строгановских» икон
была заложена иная концепция. Святые там
словно отворачивались от зрителя,
устремляя взоры горе — туда, где в сегменте
небесной сферы представлены Христос или
Богоматерь. Сам по себе трехчетвертной
поворот тела создавал впечатление
неустойчивости, преходящести позы и жеста, что
усугублялось постановкой фигуры на носки.
Святой как бы всем своим существом
устремлялся к небу; контакт между ним и
Божеством значил на первый взгляд неизмеримо
больше, чем контакт между святым и
молящимся.
Однако такая «отвращенность» от
зрителя, в принципе противоестественная для
иконы, являлась лишь видимостью. В
действительности святой в «строгановской»
живописи гораздо более тесно был связан с
предстоящим ему человеком: он обращался
к Богу в молитве за молящегося, словно бы
зримо отвечая на обращенную к нему
просьбу. Не случайно среди образов
«строгановских» икон нередки святые,
тезоименитые заказчикам: соименный святой
выступал самым близким заступником
человека, как бы заменяя его в обращении к
вышним силам.
Возникновение таких особенностей,
несомненно, связано со становлением
личности, выделением ее из первоначальной
родовой общности. В этих условиях «еще
погруженный в старые представления, но
уже лишенный стабилизирующих основ
древнерусской жизни, десоциализирован-
ный, одинокий, смятенный, человек <...>
чтобы обрести равновесие, перемещал себя
из обыденности в сакральный мир»3. И
«строгановские» святые
мучительно-наглядно искали это равновесие, обретаемое лишь
как постоянное колебание между землею и
небом. Если в более ранних иконах
поставленная по центру фигура святого
свидетельствовала о стабильности мира, об
освоенности окружающего пространства, то резкий
сдвиг святых Прокопия Чирина в самый
край необитаемой и почти пугающей пустоты
говорил о двойственности их позиции, о
растерянности перед неспокойностью бытия.
В иконе «Св. Никита воин» противовесом
неустойчивой фигуре Никиты служит
сегмент с Богоматерью в верхнем углу.
Только во взаимодействии с Царицей Небесной
и Божественным Младенцем возможно
подобие зыбкой гармонии земного
существования.
Идея помощи вышних сил, чудесного
заступничества была в высшей степени
созвучна «смутной» эпохе. Она наглядно реализо-
458
Часть II. Глава 5
вывалась в таких иконах, как «Чудо св.
Феодора Тирона» и «Чудо св. Георгия о
змие» (ГРМ, приписываются Никифору
Савину). В первой из них, по праву
считающейся классическим произведением
«строгановской» иконописи, эта тема нашла
выражение в противопоставлении хрупкой
фигурки матери св. Феодора в когтях огромного
беса, и самого святого воина,
замахнувшегося мечом на многоглавого змия. Даже
независимо от комментирующих сюжетных
добавлений — св. Феодора, коронуемого
ангелом, у левого края композиции, и его же
со спасенной матерью у правого, —- исход
поединка задан энергичным движением
святого, праздничным звучанием золота его
доспехов и киновари плаща. В «Чуде св.
Георгия» царевна, покорно склонив голову,
ждет от стремительного всадника
избавления, а ее родители и горожане
благоговейно созерцают свершающееся чудо. Св.
Георгия, как и св. Феодора, коронует ангел,
а в верхнем углу показан благословляющий
Христос; картина небесного заступничества
разворачивается перед молящимся во всех ее
трогательных и обнадеживающих
подробностях.
Искусство «строгановских» мастеров
(напомним, что большинство их в
действительности были царскими иконописцами,
работавшими и для Строгановых), сыграло
огромную роль для дальнейшего развития
русской иконописи. В нем впервые нашла
отражение та концепция личности, которая
стала основополагающей для всей
художественной культуры XVII в. Проявившаяся
в «строгановской школе» любовь к
миниатюрности, тщательности и совершенству
письма получила продолжение в творчестве
ряда мастеров 2-й половины столетия.
Иконографические схемы, разработанные
«строгановскими» художниками, вошли в состав
иконописных подлинников и затем
неоднократно воспроизводились на всем
протяжении существования русской иконописи.
Весьма важной была и совместная работа
старых «строгановских» иконописцев, таких
как Прокопий Чирин, Истома Савин, с
новым поколением художников. С
уверенностью можно предполагать, что Истома
Савин сам обучил сына Назария
Истомина, который впоследствии работал в
Москве по заказам царя и патриарха4. Может
быть, сыном Истомы был и Федор Савин,
в 1600 — 1601 гг. расписывавший
Благовещенский собор в Сольвычегодске —
вотчине Строгановых, а в 1625 — 1627 гг.
поновлявший живопись московского
Успенского собора5. Над государевыми заказами
трудился в 1620-е годы и Прокопий Чирин.
Очевидно, около 1620 г. при царском
дворе был создан особый Иконный приказ
с Иконной палатой, просуществовавший до
1638 г.6. Стенописи многих почитаемых
русских храмов после Смутного времени
нуждались в поновлении, требовались и
новые иконы или целые иконостасы взамен
обветшавших или разоренных. Вначале
размах работ сдерживался недостатком средств
в царской казне, но тем не менее
предпринимались первоочередные, хотя бы и
паллиативные меры по поддержанию
должного благолепия. Начиная с 1630-х годов
«реставрационная» деятельность
живописцев расширяется: обновляются росписи
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры,
Рождественского собора в Суздале,
Рождественского собора Саввина-Сторожевско-
го монастыря. В основном новые фрески
выполнялись с сохранением старой
иконографии и схемы расположения сюжетов. Эта
установка отражала те же
консервативно-охранительские тенденции, которые были
отмечены выше по поводу архитектуры
1620 — начала 1630-х годов.
Очевидно, в 1642 г. был учрежден
специальный приказ, ведавший росписью
Успенского собора Московского Кремля7. Эту
роспись начала XVI в. надлежало
возобновить точно по снятым с нее прорисям. В
свое время она, вероятно, замысливалась как
своего рода образец храмовой стенописи,
которой должны были подражать в других
постройках8. Повторение ее в 1640-е годы,
вероятно, рассматривалось как возвращение
к истокам, утверждение прежнего канона.
Работы имели грандиозный размах: под
руководством Ивана Паисеина, Сидора
Поспеева и других царских «изографов»
трудилось около полутора сотен мастеров из
разных городов России. Значение этого
труда, несмотря на его выраженный
консервативный характер, трудно переоценить —
он способствовал достижению общего вы-
459
Книга вторая
сокого качества живописи, прививал
навыки артельной работы, стимулировал обмен
опытом. Достаточно сказать, что «школу
Успенского собора» прошли такие
известные художники XVII в., как костромичи
Иоаким (Любим) Агеев и Василий Ильин,
ярославец Севастьян Дмитриев, Яков
Казанец и Степан Резанец.
Вероятно, по окончании росписи
иконописцы перешли в ведение Оружейного
приказа. С этого времени Оружейная палата
становится своеобразной «академией
художеств» XVII столетия. Основной причиной
создания такого центра была необходимость
иметь при дворе достаточно большой штат
художников, которые выполняли бы
заказы царя и его приближенных. Поскольку
высокопоставленные заказчики весьма
требовательно относились к качеству работ, это
вызвало к жизни систему « свидетельство-
вания» профессионального мастерства
иконописцев и разделения их на ряд категорий.
Высшую составляли жалованные мастера,
постоянно числившиеся в штате Оружейной
палаты и получавшие годовое жалованье
(денежное и натуральное). До конца
1660-х годов их было всего 4 — 5 человек;
затем штат жалованных иконописцев
сильно расширился и в 1687 — 1688 гг.
составлял 27 человек. У жалованных мастеров
имелись ученики, которым они обязаны
были передавать свое искусство. Ступенью
ниже жалованных стояли кормовые
иконописцы, которым полагался «корм» только в
период непосредственной работы над
заказами; по уровню квалификации они делились
на три «статьи». Для выполнения работ
большого объема могли привлекать и
«городовых» иконописцев, обычно работавших
в своих городах и удовлетворявших
потребности местного посадского населения.
Мастера Оружейной палаты
необязательно были москвичами: по царским указам в
других городах выбирали лучших
художников и вместе с семьями переселяли в
столицу. Поскольку же мастера сохраняли
связи со своей родиной, это способствовало
единству развития русской иконописи
XVII в. Немаловажно, что с 1640-х годов
при Оружейной палате начинают работать
и живописцы, приехавшие из-за рубежа:
вначале прибалтийский немец И. Детерсон,
затем поляк С. Лопуцкий. В 1650-е годы
зарождается живописная мастерская
Оружейной палаты9, а примерно двадцать лет
спустя разворачивается деятельность
русских живописцев, обучившихся у
иноземцев — Ивана Безмина, Дорофея
Ермолаева Золотарева. В 1687 — 1688 гг. в
Оружейной палате было уже 40 художников —
как русских, так и выходцев из других
стран.
Постоянное общение друг с другом
мастеров, работавших в Оружейной палате и
при ней, обеспечивало быстрое внедрение в
художественную практику новшеств,
появившихся на московской почве.
Исследователи отмечают некоторые нововведения в
русской живописи, касающиеся
преимущественно элементов фонов и композиционных
построений, уже в 1630 — 1640-е годы.
Однако победоносное шествие новаций,
культивировавшихся в Оружейной палате,
начинается с середины XVII в. Изменения
затрагивают все стороны изображения:
трактовку пространства, света, цвета,
иконографию и в конечном итоге само
представление об иконе.
Весьма наглядно новые тенденции
проявляются в пространственных решениях, где
обратная перспектива древней иконописи
готовится уступить место линейной
перспективе Нового времени. Вначале черные
проемы в зданиях, чисто условно обозначающие
интерьер, подцвечиваются по краям и
обретают вид пространственной выемки; затем
по бокам показываются столбы или
колонны и, наконец, внутри также появляются
архитектурные формы. Однако все эти
«нутровые палаты» существуют на
периферии изображения (в клеймах житийных
икон) и служат лишь фоном, не затрагивая
его средника. Но с течением времени и все
пространство иконы расслаивается,
углубляется, как бы выворачивается наизнанку по
отношению к традиционным построениям
обратной перспективы: точка схода
переносится как бы за живописную плоскость, на
иллюзорный горизонт, и все изображение
погружается внутрь визуально полностью
уничтоженной поверхности доски или
стены, на которой написана данная сцена10.
Такое погружение казалось совершенно
неестественным художникам и зрителям
460
Часть II. Глава 5
Средневековья. Эфемерный слой их
пространства — пространства обратной
перспективы — не углублялся в материю, основу
живописи, а наоборот, словно выступал из
нее, существуя отчасти на плоскости,
отчасти перед ней и активно вторгаясь в
реальное пространство зрителя. Задний слой
этого пространства (фон) лежал в
плоскости иконной доски, остальные же
располагались перед ним, максимально
приближаясь к этому слою и друг к другу. Нередко
эти «внешние» пространственные слои
представлялись лежащими не столько впереди,
сколько поверх первого, будучи почти
двухмерными: скажем, при изображении
фигуры святого на золотом фоне часто
существуют только два пространственных слоя —
фона и фигуры, причем слой, заключающий
бесплотную, уплощенную фигуру, почти не
имеет глубины. Ничто не могло проникнуть
глубже слоя фона, за которым кончалось
живописное пространство и начиналась
материя стены или доски. Отсюда возникла,
например, каноническая композиция
«Крещения», где Христос изображался не
погруженным в воду — то есть в плоскость
доски, — а стоящим на фоне Иордана,
который, в свою очередь, не углублялся в эту
материальную плоскость, а распластывался
по ней тончайшим, поверх фона лежащим
пространственным слоем.
В XVII в. понятие об условности в
живописи стало изменяться. Если ранее
зрительное разрушение живописной плоскости
казалось невозможным из-за слишком
явной условности такого приема, то на
переходе к Новому времени оно выглядело,
наоборот, менее условным, чем условность
обратной перспективы. Видимая
правдоподобность сменила правдоподобность
мыслимую, визуальная реальность обрела
способность корректировать идеальный мир
иконы. Старое изображение «Крещения», не
соответствовавшее этой реальности,
должно было уступить место новому,
откорректированному варианту.
Этот вариант не сразу обрел форму,
свойственную искусству Нового времени: на
фреске Троицкого собора Ипатьевского
монастыря в Костроме «Крещение евнуха
Апостолом Филиппом» крещаемый
изображен стоящим выше колен как бы в
глубокой яме; вода выплескивается из-за ее
переднего края, а сзади, за фигурой,
неожиданно вздымается отвесно, как и в
традиционных изображениях Иордана. Это одна
из первых попыток расслоения старого
пространства, которое, поддавшись и вобрав в
себя нижнюю часть фигуры евнуха, затем
опять устремилось к плоскости, вытеснив
водное зеркало на задний фоновый слой.
Магическое влияние плоскости сказалось и
в иконе «Крещения» из иконостаса церкви
Введения в Барашах в Москве, где вода
словно изливается сверху мягкими,
волнистыми струями, скользя, подобно водопаду,
по непроницаемой вертикальной плоскости
фона. Однако «яма» на переднем плане
здесь исчезла: Христос представлен
стоящим в воде выше щиколотки, и водная
гладь продолжается перед его фигурой. А в
«Крещении» из церкви Св. Николы в
Голутвине (1696 г.) или из церкви Покрова
в Филях живописцу удалось наконец
прорвать непреодолимую преграду задней
«стенки»: пространство строится по законам
линейной перспективы, и река плавными
изгибами уходит к линии горизонта; в ее
зеркальной поверхности отражаются
берега и деревья, а сквозь воду просвечивают
ноги стоящего в Иордане Христа.
Пространство прямой перспективы —
это тот идеал, к которому стремилась
живопись XVII в., но далеко не всегда »го
достигала. В процессе перехода от одной
перспективной системы к другой чаще
всего встречались промежуточные варианты.
Любопытно, что новая перспектива, как
правило, возникала на периферии сюжета,
проявляясь в трактовке архитектурного
фона, но оставляя без изменений главных
персонажей. Так, в «Св. Троице»
Кирилла Уланова за основу взята иконография
Рублева и сохранена обратная перспектива
в изображении непосредственного
окружения трех ангелов — подножий, седалищ,
престола. Сохранен даже типичный для
обратной перспективы сдвиг чаши, как бы
скользящей по плоскости, параллельной
фону, на передний край стола. Впечатление
полной традиционности усугубляется
сухостью живописи и неприятным темным
колоритом с обильным использованием
уплощающих форму золотых пробелов.
461
Книга вторая
Фон же представляет собой пейзаж,
переданный не только в линейной
перспективе, но даже с попыткой показать
перспективу воздушную: обрывистые горы в
правой части иконы, уже ничем не
напоминающие традиционные иконные горки,
написаны коричневым на ближнем плане, а
вдали, постепенно дематериализуясь, они
меняют свой цвет на зеленовато-голубой.
Слева в перспективном сокращении
изображены три здания — правильные
параллелепипеды, стоящие друг за другом в
глубоком, незатесненном иллюзорном
пространстве, голубеющем к горизонту и почти
сливающемся вдали с бледно-голубым небом.
Впечатлению цельности этого пространства
содействует и единый источник света,
расположенный спереди и слева. Однако этот
источник никак не влияет на первый,
традиционный план иконы, где мы видим
характерную для ретроспективного
направления в живописи XVII в. фиксированную
светотень, которая придает формам
мертвенную, словно металлическую жесткость.
Возникновение такого эффекта объясняется тем,
что средневековая способность формы к
светопорождению в это время была уже
утрачена, а единый источник света в
подобных архаизирующих памятниках еще не
появился. В результате свет и тень
произвольно закреплялись на каждом участке
живописной поверхности в отдельности и не
обладали потенциальной подвижностью,
лишая возможности движения и несущую их
форму.
Икона Кирилла Уланова демонстрирует
полный разрыв двух пространств —
традиционной живописи первого плана и нового
пейзажного фона. То же явление можно
обнаружить в известных иконах
«Богоматерь Вертоград заключенный» Никиты
Павловца с плоскостным изображением
Богоматери и перспективой райского сада,
и «Св. Уар и Артемий Веркольский» с
замечательным пейзажем на втором плане и
совершенно иконописными, выдержанными
в традициях строгановской школы
фигурами святых. Во всех подобных памятниках
первый план по-прежнему ориентируется на
плоскость, а второй располагается за ней, по
третьей геометрической координате, тем
самым полностью отрываясь от первого.
Сочетание двух разных перспективных
систем иногда приводило к геометрически
противоречивым изображениям.
Иконописец, например, пытается изобразить
тройную арку на заднем плане композиции и
пилястры, обрамляющие живописное поле,
на переднем, чтобы создать своеобразный
«домик» с неглубоким «ящичным»
пространством. Однако, всмотревшись
внимательно, нетрудно заметить, что, хотя базы
пилястр стоят на нижнем краю живописного
поля, то есть ближе всего к зрителю, их
капители располагаются, наоборот, на самом
дальнем плане — на тройной арке,
замыкающей изображение. В действительности
пилястры располагались бы наклонно,
уходя с переднего плана в глубь композиции.
Стремление к «склеиванию» разбегающегося
вглубь пространства наблюдается во многих
памятниках XVII в. Например, в «Тайной
вечере» Ивана Михайлова Ушака пол
показан в прямой перспективе, сиденья в
обратной, а фон по-прежнему тяготеет к
задней плоскости, отождествляемой с
поверхностью доски: колонны на заднем плане
кажутся пилястрами, лежащими в
плоскости стены, но о том, что это в
действительности не так, свидетельствует драпировка,
попавшая между одной из этих «пилястр»
и стеной на дальнем плане. Перекрытие
предметов по-прежнему выступает здесь,
как и вообще в живописи Средневековья,
одним из главных средств показа
подразумеваемой глубины.
Чтобы превратить эту мыслимую
глубину в видимую, иконописцы XVII в. часто
пользовались одним несложным приемом.
Они изображали пол, выложенный
плитками, и кессонированный потолок, которые
сразу заключали непослушное пространство
в перспективную клетку, внутри которой
оставалось расположить населяющие ее
фигуры и предметы. Боковые стороны этой
клетки фиксировались поставленными на
переднем плане колоннами, создавая
«ящичное» пространство, характерное для
живописи переходного времени. Такую трактовку
его можно обнаружить и в станковой
живописи, и во фресках, и в гравюрах или
миниатюрах русских книг, и даже в
сюжетных изображениях на предметах
декоративно-прикладного искусства. Правда, не все-
462
Часть II. Глава 5
гда с помощью этого приема удавалось
достичь правильной линейной перспективы: в
подобных произведениях встречается и
усиленно сходящаяся перспектива, и даже
подобная античной с точками схода,
расположенными на одной линии.
Несомненно, описанный способ
построения пространства прямой перспективы
возник и укрепился в русской живописи под
влиянием западных гравюр, миниатюр и
тому подобных материалов. Первый
известный нам случай использования целой
голландской гравированной Библии — это
стенописи церкви Св. Троицы в
Никитниках, многие композиции которой
достаточно точно воспроизводят соответствующие
гравюры Библии Петера ван дер Борхта11.
Кроме этой Библии, очень популярной у
мастеров Костромы и Ярославля, русские
иконописцы употребляли Библию Николая
Пискатора12, Библию Маттеуса Мериана,
Евангелие Иеронима Наталиса, Библию
Петера Схюта и Лицевые Страсти —
гравюры неизвестного мастера13. Этот
неполный перечень источников показывает, что во
2-й половине XVII в. западноевропейские
гравюры заняли в творчестве русских
изографов почти равное место с
иконописными подлинниками. Помимо обогащения
русской иконописи новыми
иконографическими вариантами, они способствовали
формированию нового пространственного чувства.
Можно не сомневаться, что реальное
пространство не воспринималось человеком
Средневековья в линейной перспективе:
схождение параллельных линий к
горизонту оставалось незамеченным. Зрительное
уменьшение предметов по мере удаления от
зрителя, конечно, было наглядным во все
времена, но оно справедливо расценивалось
как иллюзия, оставляя художнику выбор:
воспроизвести ли эту иллюзию как таковую
или поступиться видимостью ради
сущности предмета. Поэтому пространство
линейной перспективы на первых порах должно
было казаться русским мастерам XVII в.
неестественным, не соответствующим ни их
житейскому, ни художественному опыту14.
Копирование такого «вывернутого»,
алогичного, с их точки зрения, пространства было
немыслимым до тех пор, пока оно не было
осознано как «более правильное» по
сравнению с привычным пространством
обратной перспективы. Это подтверждается, в
частности, тем, что когда в XVI в. русские
граверы стали копировать
западноевропейские фронтисписы для своих книжных
изданий, они очень скоро перетолковали
мотив сокращающегося в перспективе
плиточного пола как чисто орнаментальный:
вместо пола изображался привычный позем,
покрытый декоративными ромбами.
Осознание должно было неизбежно
предшествовать копированию, а копирование в такой
ситуации превращалось в воссоздание
или — чаще всего — в пересоздание новой
системы согласно меняющимся
пространственным представлениям русских
живописцев XVII в.
Процесс становления нового
пространственного мышления во 2-й половине
XVII в. шел неравномерно, но достаточно
определенно и решительно. Прямая
перспектива повлекла за собой и представление о
ракурсе — этом преходящем,
«неестественном», зависящем только от положения в
пространстве состоянии предмета.
Возможность передачи ракурса в религиозной
живописи возникла в связи с нарастанием
повествовательное™ в русских иконах и
фресках XVII в. В средневековых
композициях, построенных по типу предстояния,
обращенных на молящегося, ракурс был бы
немыслим: он значил бы, что изображение
не рассчитано на воспринимающего, он как
бы не учтен в композиции,
поворачивающейся к нему под случайным углом. И
наоборот, явление ракурса вполне нормально
для живописи, ориентированной на рассказ,
повествование о происшедшем, когда
зритель присутствует при этом рассказе как
постороннее лицо, нечаянный очевидец
событий, которые происходят независимо от
него. Этот «принцип стороннего взгляда»
(пользуясь выражением И. Е. Даниловой)
возник в русской живописи вместе с новой
повествовательностью и новым
пространством и привел к возникновению ракурса,
применявшегося вначале на периферии
сюжетов. Чаще всего в ракурсе
показываются кони, иногда — фигурки второстепенных
персонажей; обычным стало изображение в
ракурсе голубя — Святого Духа — в
самых разных сценах. В некоторых же ико-
463
Книга вторая
нах ракурсы вторглись и в центральную
часть изображения: в «Чуде св. Георгия о
змие» и «Чуде св. Димитрия Солунского»
Никиты Павловца лошади главных
персонажей написаны в ракурсе, а Димитрий
показан со спины, оборачивающимся к
предстоящему.
Уподобление и связь двух пространств —
иллюзорного мира иконы и реального —
привели к необходимости внешнего,
материально выраженного отделения их друг от
друга. Русская живопись впервые стала
испытывать потребность в раме —
потребность, незнакомую средневековому
искусству, где изображение само устанавливало себе
внутренние границы. В качестве рамы
могли выступать поля иконы: если раньше они
по большей части окрашивались в тот же
цвет, что и фон изображения, то иконы
XVII в., как правило, имеют поля, резко
отличающиеся по цвету от фона — например,
темно-зеленые при голубом фоне,
коричневые — при золотом, охряные — при
зеленом. Нередко поля покрывались басменным
окладом, что создавало полное впечатление
серебряной или позолоченной рамы. Роль
последней выполняли и пышные резные
киоты, и резьба иконостасов, окружавшая
погруженные в нее иконы. Своеобразные
рамы, созданные живописными средствами,
появились и внутри самого изображения:
резные золоченые арки на колонках вокруг
средника в иконах Семена Спиридонова
Холмогорца, золотые картуши вокруг клейм
житийных икон, многочисленные
декоративные обрамления, имитирующие рамы, во
фресках. В орнаментальные рамы стали
заключать во 2-й половине XVII в. и
начальные страницы книжного текста в
рукописях.
Появление рамы свидетельствовало о
зарождении понимания иконы как картины, то
есть как зеркала или окна в мир. Сравнение
произведений живописи с зеркалом
встречалось в эстетических трактатах XVII в. «Оле
чюдесе, кроме чюдесе образ пречюдный
бывает, иже движущуся человеку движется, сто-
ящу стоит, смеющуся смеется, плачущу
плачет и что-либо ино деюще деет, всячески жив
является, аще ни телесе, ниже души ймать
человеческия; подобие и (в) воде, на
мраморе и на иных вещех добре углаженных
всяких вещей образы в единой черте времене,
всякого трудоположения кроме, пишемы быти
видим. Не Бог ли убо сам и сущих естество
учит ны иконописания?»15 — писал Симон
Ушаков. Это сопоставление существовало и
в реальной действительности русского XVII
века: недаром в хоромах князя В. В.
Голицына рядом висели зеркало и портрет в
одинаковых черных рамах. Мало того, на
рубеже 1670 — 1680-х годов и сами иконы
пробовали писать на зеркале — сохранилась
запись о том, что царь Федор Алексеевич
повелел «написать на хрустальном стекле
образ Воскресения Христова»16 («хрустальным
стеклом» в XVII в. могло называться зеркало
без рамы). Столь же наглядным было и
сравнение живописи с окном: вероятно, не
случайно восьмигранные окна церквей конца
XVII в. в интерьере украшались резными
деревянными позолоченными рамами так же,
как и восьмигранные иконы в пышных
обрамлениях киотов и иконостасов. Да и окна,
изображавшиеся в самой живописи, все чаще
утрачивали традиционную золотую окраску.
Иногда окна, как источник мистического
света, еще по-старому сияют золотом, но
дверной проем уже показывается голубым. В
других случаях при серебряных окнах в дверях
виден пейзаж; наконец, и в самих окнах
появляется голубое «натуральное» небо. Во
фресках эти иллюзорные проемы
непосредственно сопоставлялись с реальными окнами.
Может быть, поэтому в них так часто
изображались пейзажи — такие же холмы,
деревья, травы, какие были видны сквозь окна
папертей ярославских храмов (росписи
церквей Св. Ильи Пророка и Св. Иоанна
Предтечи в Толчкове).
Интересным и специфичным для XVII в.
приемом, способствовавшим созданию
нового пространственного впечатления, было
постепенное сгущение цвета фона и позема
к «горизонту», дающее иллюзию
пространственной глубины. Этот прием нередко
сочетался с перспективными построениями —
например, с излюбленными в это время
«шахматными» полами. Иногда при этом
один цвет, сгущаясь, полностью переходил
в другой, более темный: скажем, желтые
плитки на переднем плане, сокращаясь в
перспективе, по мере удаления становились
не коричневыми, а темно-зелеными или
464
Часть II. Глава 5
темно-красными. Случалось, что цвета как
бы просто темнели в глубину: белый
переходил в черный, розовый — в красный,
красный — в вишневый. Таким образом,
получалось, что тень в иконе сгущалась по
мере продвижения от переднего плана к
заднему, то есть возникала иллюзия
источника света, расположенного как бы перед
иконой — в реальном пространстве
молящегося, что было немыслимым для
живописи Средневековья.
Однако такое притенение могло не только
сочетаться с прямой перспективой, усиливая
пространственный эффект, но и полностью
подменять ее, как в случае с широко
распространенным во 2-й половине XVII в.
зеленовато-голубым фоном, цвет которого
сгущается к горизонту, создавая
впечатление воздушно-пространственной среды.
Эпизодически встречаясь еще в живописи
«строгановской школы», такой фон не
символизировал и не обозначал, а именно
изображал реальное небо. Он почти полностью
вытеснил золотые и цветные фоны более
ранней иконописи, встречаясь
приблизительно в 80 процентах памятников 2-й
половины столетия и отвечая общей пространствен-
ности живописи этого времени.
Цвет, используемый для показа глубины
пространства, выступал в неспецифической
для себя функции, но такое его применение
вытекало из особо важной роли цвета в
культуре XVII в. Цвет нередко искупал и
сухость и графичность моделировки форм в
иконах архаизирующего направления
живописи XVII в. Изысканные сочетания
темно-зеленого с нежно-розовым, коричневого
с голубым, синего с серебром и золотом,
цветные притенения по белому или
золотому фону выглядят самодовлеюще
прекрасными: иногда ради красоты
колористического решения художник даже поступается
естественной окраской предметов, так что
небеса загораются алым, исчерна-серые
бесы становятся голубыми, а у зеленых вод
процветают красные травы. Расцвечивались
не только фрески и иконы, но и оклады
икон: ризы, цаты, венцы святых, фоны
окладов украшались прозрачными
золотисто-коричневыми, красными, зелеными,
синими эмалями, и даже оборотная сторона
иконы расписывалась разноцветным
орнаментом или покрывалась куском
разноцветной ткани.
При всем разнообразии цветовой гаммы
XVII в. предпочтение, как и в архитектуре,
отдавалось красному — самому яркому,
нарядному, самому горячему из всех цветов
спектра. Если во фресковой живописи это не
столь заметно как из-за большого
удельного веса голубых фонов, так и из-за неполной
сохранности красок (фрески со временем
выцветали, а киноварь, разлагаясь,
превращалась в коричневый или
бледно-розовый цвет), то многие иконы 2-й половины
XVII в. сохранили в неприкосновенности
первоначальный характерный красно-розовый
колорит. Красный цвет в этой гамме
существовал во множестве оттенков — от
бледно-оранжевого до густо-вишневого, от нежно-
розового до багрового и
красновато-коричневого, вспыхивая еще ярче рядом с зеленым
цветом, который занимал важное место на
палитре иконописцев XVII в. именно как
дополнительный к красному. Зеленый
вводился в композиции локальными пятнами и
вносил необходимую для цветовой гармонии
долю холодного тона. Иногда же и в
качестве холодного выступал тоже красный —
в виде холодного розового с сиреневым
оттенком. Такое почти монохромное
цветовое решение нередко отличалось подлинной
виртуозностью и отражало изощренность
глаза русского зрителя. Возможно, любовь
к красному была вызвана влиянием
народных вкусов: вплоть до XX в. этот цвет в
народном искусстве был самым популярным.
Самоценность цвета во фресках и иконах
XVII в. сочетается с подчеркнутым
обыгрыванием ритмических повторов, с
любованием красивыми деталями —
архитектурными орнаментами, цветами, дорогими
одеждами, затейливой мебелью, богато
украшенным оружием. Великолепным примером
такой тотальной эстетизации изображаемого
может служить хрестоматийная фреска со
сценой жатвы («Воскрешение сына сунами-
тянки») из церкви Св. Ильи Пророка в
Ярославле, написанной по гравюре Библии
Пискатора17. Автор фрески развернул
фигуры жнецов на втором плане влево и
переложил одному из них серп в другую руку
явно для того, чтобы создать красивый
повтор двух серпов, повисших в воздухе па-
465
Книга вторая
раллельно друг другу. Вязальщицу снопов
художник передвинул к косарю и дал
обоим в одну руку серп, а в другую — пучок
колосьев; зеркально повторяясь, серпы и
колосья образовали как бы двойной венок,
объединивший симметрично поставленные
фигуры. Лапидарное сооружение в правой
части композиции было заменено
роскошными, щедро орнаментированными палатами;
над ложем мальчика повис тканый занавес;
полураздетый жнец, принесший тело
мальчика, был облачен в узорчатые порты и
вишневый кафтан, из-под которого видны
рукава голубой рубахи, схваченные золотыми,
расшитыми драгоценными камнями
поручами; в руке жнец держит «немецкую»
шляпу, вошедшую в русский гардероб в XVII
столетии. В литературе неоднократно
отмечалась красота колорита этой фрески, где
зеленоватые холмики первого плана и
золотистое поле пшеницы служат прекрасным
фоном для ярко-синих, интенсивно-розовых,
густо-вишневых одежд.
Отмеченные особенности — эстетизация
колористического и ритмического решения,
орнаментализация изображаемого, любовь к
красивым аксессуарам, далеко не всегда
оправданная сюжетом (драгоценные
поручи на рубахе жнеца), в сочетании с
неглубокими пространственными построениями
породили представление о русской живописи
XVII в. как преимущественно декоративной,
задуманной наподобие некоего ковра, где
содержание отходит на второй план под
натиском орнаментального начала. Однако
для современников фрески и иконы этого
периода, наоборот, обладали повышенной
информативностью. В первую очередь это
проявлялось в необыкновенном расширении
тематики изображений. Традиционные хри-
стологический и богородичный циклы
стали чрезвычайно подробными, усложнившись
притчами, чудесами, апокрифическими
мотивами. Пользовались популярностью
ветхозаветные сюжеты, дотоле почти
неизвестные русскому зрителю, иллюстрации
к житиям святых и сказаниям о
чудотворных иконах. В храмах появились росписи,
отображающие литературу не только
религиозного содержания типа Пролога, но и
светские сборники нравоучительного
характера («Великое Зерцало») или сочинения
«естественнонаучного» плана («Вопрошание
Епифания ко св. Андрею»). Среди святых
помещались «греческие мудрецы» и
сивиллы, изображения изобиловали деталями,
взятыми, казалось бы, прямо из реальной
жизни. Если лаконичные фрески и иконы
Средневековья служили как бы знаками тех
или иных событий (знание этих событий
давала церковная служба), то в XVII в.
живописный рассказ зачастую пояснялся
лишь самим изображением и
сопутствующими ему надписями, так как круг
литературных источников чрезвычайно расширился и
был доступен сравнительно ограниченному
слою образованных любителей
«душеполезного» чтения.
Вследствие этого росписи и иконы
XVII в. требовали для своего восприятия
значительно большей активности: молящийся
должен был вдумываться в значение
многочисленных деталей, расшифровывать для себя
их смысл. Например, собака в одной из сцен
росписи церкви Св. Иоанна Предтечи в
Ярославле, для поверхностного
наблюдателя служащая лишь для «оживления»
композиции, — это бес, принявший облик
черного пса, из повествования о состязании св.
Апостола Петра с Симоном Волхвом;
ягненок, которого ласкает Авель во фреске
церкви Св. Ильи Пророка — символ жертвы,
грядущего заклания и самого Авеля, и
ветхозаветного Исаака, и Иисуса Христа.
Живописный рассказ постигался людьми XVII
столетия углубленно и предельно
осмысленно, не одномоментно, в целом, как
воспринимаются эти росписи сейчас, а в
каждодневном присутствии в церкви, когда у
молящегося была неограниченная возможность
снова и снова возвращаться к той же
сцене, рассматривать ее подробности, извлекать
всю полноту содержания, заложенного в
ней. Живопись XVII в. для ее
современников представала не как облегченный, а
напротив, как развитый и усложненный
вариант древнего искусства. Мелочная
подробность ее рассказа была вызвана ориентацией
на посюстороннюю реальность, тождеством
действительности и ее отображения,
стремлением показать событие словно имевшее
место в этой действительности и будто
повторяющееся для общего назидания у всех
на глазах.
466
Часть II. Глава 5
В свою очередь, ориентация на
действительную жизнь, трактовка священных
событий как сиюминутно происходящих влекла
за собой важнейшие следствия идейного
плана. Сближение сакральной истории с
реальной вызывало у молящегося дотоле
небывалый эмоциональный отклик. «Тече
кровь Пресвятая, все Тело язвися, ты, душа
правоверна, зряще прослезися!»18 —
призывал в виршах на Великую субботу
Сильвестр Медведев. И стихи, и живопись
призваны были способствовать
театрализации — и тем самым актуализации
Священной истории, замыканию ее на реальный
опыт земного человека, которому больно,
когда его бьют, который боится смерти и
потому способен к сочувствию. Именно
сочувствие становится новым способом
постижения старых истин — вера обогащается
сильнейшим эмоциональным
компонентом, и не случайно Страсти Христовы в
XVII в. образуют отдельный ряд в русских
иконостасах.
Однако, сострадая Христу, взиравший на
Распятие сострадал человеческому естеству
Иисуса; общаясь с Богоматерью и
святыми как близкими людьми, он невольно и
представлял их по своему образу и подобию.
«Очеловечение» священных персонажей на
эмоциональной основе, вначале
умозрительное, вылилось в конкретные
изобразительные формы ушаковских икон Спаса и
всего того круга живописи, который защищал
Иосиф Владимиров. Сам Иосиф
подтверждал по поводу Спаса Нерукотворного, что
«Христос по божеству не описан, описует-
ся по плотскому смотрению»19, но на
первый план для него вышла не возможность
возведения ума к первообразному, а
точность соответствия иконы плотскому
облику изображенного — то есть критерии
портрета. Понятно, что Распятие,
воспринимаемое как портрет страдающего человека,
обладало необыкновенной силой
эмоционального воздействия, и это для
молящегося той эпохи с лихвой искупало недостаток
византийской одухотворенности и
идеальности образов. Наоборот, чем дальше была
иконопись XVII в. от прежнего
спиритуалистического идеала, чем более
материальной и «живоподобной» она становилась, тем
лучше она отвечала своему назначению в
изменившихся условиях общественной и
культурной жизни.
Отдельные бытовые подробности,
попадающие в живопись, также служили
задаче приспособления ее к новым
требованиям. Но все же степень ее «реалистичности»
остается в XVII в. весьма относительной.
Изображение архитектурных мотивов, если
речь идет не о существующих в натуре и
важных для повествования постройках,
выглядит намеренно фантастичным, пейзаж
редко похож на среднерусский, а наиболее
распространенная русская национальная
одежда не нашла отражения в творениях
русских художников. Зато повсеместно
встречаются в живописи дорогие шубы с
меховой опушкой, крытые парчой или
бархатом, узорные порты, сапоги цветной кожи,
золоченые или посеребренные доспехи
западного образца. Все это составляет
излюбленный набор европейских граверов,
хорошо знакомых нашим мастерам.
Флора русских живописцев XVII в.
поражает как разнообразием, так и
экзотичностью: в ней нет хоть сколько-нибудь
типичных цветов русского разнотравья, но
широко представлены розы, тюльпаны,
ирисы и цветы граната, не росшего в то время
даже в царском саду. Виноград
встречается в росписях и резьбе несравненно чаще,
чем яблоко, гранат — чаще, чем подсолнух,
а единственное лиственное растение,
удостоенное внимания русских художников, —
это средиземноморский акант. Среди
фауны можно обнаружить массу заморских
диковин — верблюдов, китов, слонов и
«строфокамилов» (страусов), в то время как,
например, медведи появляются только в
случаях, предусмотренных сюжетом
(медведицы в «Житии пророка Елисея» во
фресках церкви Св. Ильи Пророка в
Ярославле), причем, изображая хорошо знакомого
обитателя русских лесов, художник явно
испытывает затруднения не меньшие, чем
при изображении «вельблуда» или
единорога.
Антинатуралистичность антуража в
живописи XVII в. намеренно подчеркивается
окраской — пронзительно-розовой или
ярко-зеленой архитектурой, золотыми или
синими листьями, зелеными цветами.
Мастер не копирует окружающий мир — он
467
Книга вторая
идеализирует его, очищая от грубого и
некрасивого; он рисует отнюдь не реальный
быт XVII столетия, а идеальный образ
земного бытия, подобного, но не
тождественного небесному. Мир как творение Божье
мыслится прекрасным во всех проявлениях:
одежды и архитектура старательно
покрываются орнаментом, цветы и листья
обильно разделываются золотом, персонажи
становятся моложе и красивее, что особенно
заметно при переработке русскими
мастерами западноевропейских гравюр. Иосиф
Владимиров даже тех святых, которые при
жизни изнуряли плоть отшельничеством в
пустынях, требовал писать светлокожими и
красивыми, поскольку они преобразились в
потустороннем мире: «Что же ли будет в
самом том в воздаянии мзды и коронованию
святых? Не и паче ли просветятся? И не
такови будут якови ныне мы образи их
видим?»20 Красоту изограф считал богода-
рованной, поскольку человек сотворен по
образу и подобию Божьему, а задачу
художника видел в совершенном
воспроизведении этой красоты.
Живописец XVII столетия своими
средствами воплощал идею о единой основе
всего сущего как созданного «первым обра-
зотворцем» Богом. Священное и мирское в
этом контексте представлялись в
гармоническом единстве, в некой бесконфликтной
слиянности. Религиозное чувство не
утрачивалось (почему к русскому искусству этого
периода неправомерно применять термин
«обмирщение»)21, но активно направлялось
на оправдание мира. «А все то у Христа —
тово света наделано для человеков, чтоб,
упокоясь, хвалу Богу воздавал»22, —
завершал описание живописных окрестностей
Байкала протопоп Аввакум. Возвышение
твари через Творца, причастность земного
небесному и было главной основой
«тотальной эстетизации» в русском искусстве
XVII в.
Мир живописи этого времени, занявший
как бы промежуточное положение между
реальным и сакральным, отличался
предельной насыщенностью, высокой степенью
концентрации событий, мотивов, предметов.
Отмеченный в научной литературе
«плюрализм» живописи этого времени23, вероятно,
объясняется не неумением реалистически
обобщить предметы, а иной художественной
задачей. Мастера XVII столетия старались
запечатлеть мир в целом, во всех его
проявлениях; их росписи — это подобие Ное-
ва ковчега, вместившего в себя всех чистых
и нечистых. Звери, травы и «языцы» на
стенах русских храмов — это все звери, все
растения, все народы, населяющие мир, в их
единстве с высшей сферой, также
отраженной во фресках в образах Христа,
Богоматери, ангелов и святых.
Если вообще ставить вопрос об
отражении в русском искусстве XVII в.
современной ему действительности, надо говорить об
отражении в первую очередь не бытовых
реалий, а сущностных моментов
мироощущения человека XVII в. Удивительная
подвижность персонажей живописи этого
столетия справедливо связывалась с
изменением темпа жизни и в конечном итоге с
ускорением общественного развития. Яркая
цветность обретала свою семантику в
оппозиции к монохромности «праведного бытия».
Вкус к роскоши и богатству, несомненно,
был сформирован бытом правящей
верхушки. Могли попадать в живопись XVII в. и
конкретные детали, действительно
списанные «с натуры», но это случалось в
порядке исключения — обычно в том случае, если
живописец руководствовался литературным
источником, где не давалось описание того
или иного малознакомого предмета, и
мастер изображал его по аналогии с хорошо
известным.
Любовь к «экзотике», изображение
невиданных диковин в стенописях XVII в.
находят себе параллель в различных фольклорных
жанрах, являясь столь же неотъемлемой
чертой фольклорного освоения мира, как и по-
вествовательность (жанровость,
развлекательность, новеллизм). Заимствование из
западных гравюр разнообразных
экзотических мотивов: необыкновенных животных,
причудливой архитектуры, напоминающей
пряничные замки, непривычных одежд —
также коренилось в природе народного
мировоззрения. Подчеркнутое нарушение
правдоподобия, когда художник
расцвечивал фантастические строения всеми
цветами радуги и рисовал алых дельфинов,
резвящихся среди волн, характерна для
волшебной сказки, где «повествование основано
468
Часть II. Глава 5
не на изображении обычных характеров в
обычной обстановке, а как раз наоборот:
рассказывают о том, что поражает своей
необычностью » 24.
Весьма важным было и обретение
русской живописью XVII в. такой
основополагающей черты фольклора, как
вариативность. В народном творчестве она
объясняется механизмом сохранения и передачи
произведения — в нефиксированной
форме, от одного исполнителя к другому. При
этом воспроизводились главные перипетии
сюжета, сохранялись имена и роли главных
персонажей, а второстепенные события и
действующие лица могли излагаться и
называться по-разному. За счет этого шло
постоянное обогащение повествования, его
приспособление к меняющимся
историческим условиям и в конечном итоге
обеспечивалась его перманентная жизнеспособность.
Евангельские повествования, в
раннехристианские времена бытовавшие в устной
традиции и представлявшие собой типичные
фольклорные вариации одних и тех же
событий, впоследствии были не только
записаны, но и канонизированы. Четыре офици- -
ально признанных варианта полностью
утратили способность к дальнейшему
варьированию. Сакрализовались и остальные
варианты, названные апокрифическими: хотя
официального запрета на варьирование
апокрифов не было, ощущение святости текста
препятствовало вольному обращению с ним.
Как отражение этой ситуации возник канон
в религиозной живописи, причем он был
настолько строг, что отступления от него
находились скорее на уровне интонации, чем
на уровне содержания. Показательно, что
мелкие разночтения в иконографии
(«Благовещение» с пряжей или без, со
служанкой или без оной) сами закреплялись в
качестве самостоятельных иконографических
изводов — то есть новых канонов, но не
вариантов.
С появлением у русских художников
XVII в. европейских гравированных
оригиналов возникла возможность выбора
вариантов одной и той же имеющей старую
иконографическую традицию сцены. Если
ранее в православных иконах
«Благовещения» архангел непременно изображался
слева от молящегося, а Богоматерь — справа,
то в XVII в. эту композицию можно было
воспроизвести «перевернутой», скопировав
соответствующую гравюру Библии Писка-
тора (как это и было сделано в
«Благовещении» Ивана Матвеева Бобылева,
1696 г.). Появились варианты
«Благовещения с книгой», где Богоматерь по
католической традиции была представлена не с
мотком пряжи, а с раскрытой Библией;
существовали иконы, где по образцу
гравюры Евангелия Наталиса Мария вразрез с
православной иконографией написана
коленопреклоненной («Благовещение» из церкви
Покрова в Филях). Множественность
вариантов давала эффект своеобразного « остра-
нения» знакомых сюжетов, заставляя
воспринимать их с новой остротой. Как и в
фольклоре, можно было заменять второстепенные
персонажи, давать разные трактовки
побочных ответвлений рассказа. Очень
показательно, что западные гравюры уже к 80-м годам
XVII в. воспринимались не как новые
изводы-каноны, а как материал для
дальнейшего варьирования и комбинирования.
Искусству XVII в. присущи и другие
особенности фольклора: таковы отсутствие
индивидуальных характеристик персонажей
и ярко выраженная динамика действия. И
в фольклоре, и во фресках они «лишены
индивидуализирующих черт, можно сказать,
что герои и героини — все на одно
прекрасное лицо»25. При этом действие совершается
по движению персонажей26, главный из
которых переходит из сцены в сцену, из
клейма в клеймо, а второстепенные лица не
удостаиваются обособленного изображения
(например, «Отречение св. Апостола
Петра», в Евангелии данное самостоятельным
эпизодом, в живописи встречается только
как часть других композиций, где главным
действующим лицом является Христос).
Пейзажи во фресках и иконописи XVII в.
напоминают ландшафт с «лазоревыми
цветиками» и «шелковой травой» в лирических
песнях, а одежда персонажей росписей
XVII в. схожа с одеяниями былинных
героев (также затронутыми веяниями
западноевропейской моды). Невольно
напрашивается параллель между праздничным
платьем жнецов в знаменитой фреске церкви Св.
Ильи Пророка в Ярославле и костюмом
пахаря из онежской былины: «...у оратая
469
Книга вторая
сапожки зелен сафьян <...> у оратая
шляпа пуховая, а кафтанчик у него черна
бархата». Исследователь фольклора В. Е.
Гусев справедливо писал по этому поводу:
«Можно ли себе представить в реальной
действительности <...> крестьянина за
сохой в такой щегольской одежде? Появись
в поле в таком наряде, попробуй пройтись
за сохой в таких сапогах — поднимут на
смех»27. Явно неправдоподобные детали
автор объясняет тем, что в фольклоре
действует особый закон эстетической
идеализации. Аналогичной идеализации
подвергается действительность и в русском
изобразительном искусстве XVII в.
Особо следует остановиться на
соотношении исторических песен и исторических
циклов в стенописях и житийных иконах. И
то и другое — сравнительно поздний жанр,
чрезвычайно расширивший сферу
действительности, находящую отражение в
искусстве. Они сравнительно точно передают
приметы времени и пространства и
воспринимаются как отображение безусловной
реальности. В отношении авторства это
промежуточная форма между коллективным
творчеством и индивидуальным, что
хорошо видно по иконографии: строительство
обетных храмов, обстоятельства явления
чудотворной иконы нередко обнаруживают
большее влияние натуры, а не
иконописного канона (что и дает возможность
привлекать иконы XVII в. как материал для
реконструкции памятников архитектуры).
Однако и в исторической песне, и в
исторических сюжетах иконописи «осталась
характерная для всего фольклора
заинтересованность необыкновенными
происшествиями <...>, динамизмом повествования в
ущерб вырисовке образов героев и
действующих лиц»28. Интересно, что даже такая
специфическая отмеченная В. Я. Проппом
особенность исторической песни, как
перенос действия с одного лица на другое или
приурочивание к различному месту и
времени одного и того же сюжета, находит
аналогию в живописи, где мучения
малопопулярных святых изображаются по
иконографической схеме мучений Христа.
Итак, русское искусство XVII в.
обнаруживает черты, роднящие его с
фольклором. Это тяготение к сюжетности, повество-
вательности, использование мифопоэтичес-
ких и сказочных мотивов, любовь к
экзотическим деталям, поливариантность,
специфический тип взаимоотношений с
действительностью (способы показа героев, характер
эстетического идеала и проч.). Надо
подчеркнуть, что описанная культурная
ситуация была уникальной и не существовала в
русской традиции ни до, ни после XVII в.
Сюжетность и повествовательность —
первая выделенная нами характеристика
фольклора — никогда не проявлялась в
русской живописи столь ярко, как во 2-й
половине XVII в., с обилием житийных
икон и грандиозных фресковых циклов. Ее
не было в древней иконописи, не
возродилась она в полном объеме и в искусстве
Нового времени. Наличие повествователь-
ности как ведущего качества в живописи и
литературе XVII в., нам кажется, было
обусловлено, с одной стороны,
становлением понятия о личности, с другой же —
неразвитостью этого понятия. Личность в
XVII в. выступает в первую очередь как
основа и носительница сюжета; она
характеризуется не через ее личностные качества,
а через действия, обстоятельства,
обстановку, в которые эта личность попадает.
Отсюда и проистекает гипертрофия сюжетно-
повествовательного начала, берущего на себя
функцию основной характеристики героя.
Второе качество фольклора — мифоло-
гичность и сказочность — также оказалось
актуальным именно в XVII в. Миф
являлся особым способом освоения мира,
сказка — способом закрепления этого освоения
в более поздние времена и в народной
культуре. Становление культуры Нового
времени на Руси в XVII в. вызвало потребность
в новом освоении мира — новом и
качественно и количественно по сравнению со
средневековой моделью. Это освоение
первоначально использовало старые
структуры — структуры мифа и сказки. На
следующем этапе развития культуры Нового
времени потребность в них отпала, сменившись
научным типом познания окружающего.
Таким образом, точка соприкосновения
фольклора и официального искусства
локализовалась именно в XVII в.
Третье упомянутое нами качество
фольклора — его вариативность, объясняюща-
470
Часть II. Глава 5
яся способом передачи фольклорных
произведений (устное бытование текстов при
отсутствии фиксации). В этом отношении
фольклор противоположен официальной
культуре Средневековья, ориентированной
не на вариант, а на канон. Но столь же
противоположно это качество фольклора и
искусству Нового времени, где творчество
является индивидуальным, а вариативность
сохраняется лишь в очень специфических
сферах (часть поздней иконописи). Для
искусства же XVII в. последняя служит
основополагающим признаком. Отказавшись
от канона, русский мастер не мог сразу
перейти к индивидуальному творчеству:
связующим звеном обязательно должен был
служить иконографический вариант как
более гибкая разновидность канона. Это
вызвало популярность западных образцов в
живописи, в области архитектурного
декора и в декоративно-прикладном искусстве.
Так образовалась еще одна точка
пересечения фольклора и русского искусства
XVII в.
Четвертое качество фольклора — особый
характер эстетического идеала,
«эстетическая идеализация действительности». В
искусстве XVII в. эта идеализация
объяснялась восприятием мира через призму
«нового благочестия», оправданием мира как
творения Божьего, вследствие чего он
признавался благим и прекрасным.
Таким образом, живопись XVII в.
предстает целостным явлением, построенным на
общих принципах представления о мире.
Однако единство исходных позиций отнюдь
не исключало многообразия творческих
манер, множественности художественных
направлений. Одно из этих направлений
представлено наследием Симона Ушакова,
царского жалованного мастера, более двух
десятилетий возглавлявшего иконописную
мастерскую Оружейной палаты29.
Одной из главных заслуг Ушакова
следует признать создание нового образа
Христа — «очеловеченного» согласно
представлениям XVII столетия. Художник
разработал собственный усложненный вариант
старой иконописной техники —«плави»,
позволивший ему добиться почти
иллюзионистической передачи лица. Глаза
каждого из ушаковских Спасов, окаймленные
негустыми ресницами, с тщательно
выписанными слезниками, с бликами на радужке
поражают своей живостью; объемный лик
словно парит на фоне убруса,
удивляющего материальной осязаемостью слегка
притененных складок. Кажется, что алые уста
Спаса вот-вот откроются, чтобы заговорить,
обратиться к предстоящему ему человеку.
«Новое благочестие» обусловило новый тип
контакта человека с Богом — глубоко
личного, постоянного, почти бытового.
Протопоп Аввакум, например, разговаривал с
Богоматерью и Христом как с близкими
людьми и даже вступал в пререкания со
Всевышним;30 он постоянно ощущал
присутствие Бога, его участие даже в мелких
делах наподобие распрей мятежного протопопа
с воеводой. Тот же образ мышления был
свойствен и злейшему врагу Аввакума,
патриарху Никону, и всему русскому обществу
XVII столетия31. Поэтому иконы
«Нерукотворного Спаса» царского изографа как
нельзя лучше представляют того Бога,
который не гнушается суетными
подробностями человеческой жизни, готовый не только
понять и простить молящегося, но и
общаться с ним.
Симон Ушаков работал очень много и в
разных жанрах. Сохранилась его сложная
икона-«конклюзия» —«Богоматерь
Владимирская, или Насаждение древа государства
Российского» из церкви Св. Троицы в
Никитниках, где Иван Калита и митрополит
Петр сажают цветущую и плодоносящую
лозу, как бы прорастающую сквозь
Успенский собор Московского Кремля. Плодами
древа, помимо виноградных гроздьев,
служат разноцветные клейма-медальоны с
русскими правителями и святыми. Весьма
правдоподобное изображение Кремля со
Спасской башней на первом плане и царя
Алексея Михайловича с супругой и сыновьями,
стоящих под сенью лозы, способствует
объединению земного и небесного, реального и
мыслимого в нераздельное целое.
Высокое мастерство Ушакова проявилось
здесь в виртуозном построении композиции,
одновременно и упорядоченном и
естественно-органичном, в использовании
декоративных эффектов цвета. Розовая, голубая,
желтоватая окраска круглых клейм темнеет
к наружным краям и светлеет к внутренним,
471
Книга вторая
обращенным к представленной в центре
Владимирской иконе; клейма кажутся
прозрачными сферами, воспринимающими
отблеск излучаемого Богоматерью света.
Темно-зеленые виноградные листья,
вьющиеся побеги, алые цветы и кисти плодов
напоминали молящемуся и о «Древе Иессее-
вом» — родословном древе Христа, и о
страстях Христовых, и об образе райского
сада, символизируемого Богородицей. При
этом главная идея иконы —
покровительство Христа и Богоматери «царствующему
граду Москве» — выражена предельно
ясно.
Кроме икон, Симон Ушаков писал
фрески и «парсуны» — портреты, делал рисунки
для граверов, ювелиров и вышивальщиц,
выполнял и задания ремесленного
характера — например, расцвечивал резьбу в
царских хоромах. В рисунках для гравюр он
умело пользовался западными оригиналами:
фигуры «Мира» — девушки с лирой и
лавровой ветвью, и «Брани» — воина в
античных доспехах (титульный лист
«Притчи о Варлааме и Иоасафе») можно принять
за работу иноземного мастера, хорошо
знакомого с видом барочных аллегорий. В
иконах же художник подвергал гравированные
источники сильной корректировке. В «Св.
Троице» (ГРМ) заимствования
ограничены одним архитектурным мотивом второго
плана, в то время как иконографическая
схема повторяет рублевскую; в «Тайной
вечере» из Успенского собора Троице-Сер -
гиевой лавры мастер воспользовался
гравюрой «Лицевых Страстей», но его
композиция стала значительно более статичной,
плоек эстной и близкой к традиционной
иконописи.
По складу дарования Симон Ушаков был
художником - монументалистом, тяготевшим
к крупным весомым формам. Поэтому ему
хорошо удавались копии с древних чтимых
икон и поновление старых памятников. Если
искать аналогии его искусству в
архитектуре XVII в., то они представлены зодчеством
патриарха Никона и отчасти постройками по
царским заказам. Возможно,
предположение о близости изографа к патриарху32, а
может быть, и влияние никоновских идей о
возрождении «древлеправославного»
благолепия на его искусство не лишено
оснований. Во всяком случае, тяжеловесная
репрезентативность ушаковских образов явно
должна была импонировать и вкусам
патриарха, и пристрастиям пышного царского
двора.
Ученики Ушакова Иван Максимов и
Георгий Зиновьев — бывший крепостной,
выкупленный царем у хозяина за
способности к «иконному воображению», —
отчасти восприняли манеру своего учителя, хотя
Иван Максимов, много работавший над
украшением рукописных книг, отошел от
ушаковского монументализма. В
«Благовещении» (ГТГ) он с увлечением выписывал
архитектурный фон и букет цветов в
кувшине, мелкие тугие облака и фестоны полога-
балдахина над Богоматерью. Близок к уша-
ковским ученикам был и Тихон Филатьев,
учившийся, очевидно, у отца —
иконописца Ивана Филатьева, но не оставивший без
внимания и приемы Ушакова. Он охотно
сочетал грузные фигуры святых на первом
плане с тонко написанными пейзажными
фонами, что придавало его изображениям
подчеркнутую монументальность и
сверхчеловеческий масштаб. В «Благовещении» из
церкви Св. Николы в Голутвине (НДМ) он
использовал смелое перспективное
построение интерьера, напоминающее решение
пространства в гравюре со св. Варлаамом и
Иоасафом, исполненной по рисунку
Ушакова; статичные позы Богоматери и
архангела подчеркивают торжественность
происходящего события.
Наряду с этим «монументализирующим»
направлением и отчасти пересекаясь с ним,
в русской иконописи 2-й половины XVII в.
процветало еще одно, опирающееся на
традиции «строгановской школы». К наиболее
ярким его представителям можно отнести
Никиту Павловца, Семена Рожкова,
Семена Спиридонова Холмогорца. Эти мастера
даже при больших размерах икон тяготели
к дробности и миниатюрности рисунка:
одежды святых в средниках произведений
Семена Спиридонова дробятся обильными
мелкими складками и тончайшими
орнаментами, центральные композиции заключаются
в невероятно изощренные орнаментальные
обрамления, горки не круглятся, как
обычно в иконописи XVII в., а разбиваются на
бесчисленное количество острых лещадок. А
472
Часть II. Глава 5
Никита Павловец, любовно выписывавший
каждый цветочек райского сада в иконе
«Богоматерь Вертоград заключенный», в
Оружейной палате считался как бы
эталоном художника, писавшего «мелочное
письмо самым добрым мастерством». Кстати,
именно это трудноприобретаемое умение
особо ценилось заказчиками XVII в.
В творчестве этой группы мастеров как
нельзя более наглядно воплотился тот
нарядный и праздничный образ мироздания, о
котором говорилось выше. Вздымающиеся,
как морские волны, чисто орнаментальные
холмы, голубые деревья и красные травы в
«Рождестве Христовом» Сергея Рожкова
из Новодевичьего монастыря имеют мало
общего с реальностью и совершенно явно не
призваны ее копировать;33 золотые лозы в
винограднике, отобранном злой
императрицей у бедной вдовы (клеймо иконы
Семена Спиридонова «Св. Иоанн Златоуст в
житии», ЯрХМ) уместнее были бы в
изображении райского сада. Нельзя сказать, что
эти художники не стремятся к «живоподо-
бию»: они по-новому строят пространство,
заботятся об объемности ликов, но при этом
явно понимают свою задачу как
«улучшение», а не отражение действительности.
Показательно, что все перечисленные
мастера происходили не из Москвы. Никита
Павловец был нижегородцем (из села Пав-
лово близ Нижнего Новгорода), Сергей
Рожков — костромичом, Семен
Спиридонов родился в Холмогорах, а работал в
основном в Ярославле34. Их художественные
идеалы, вполне отвечавшие вкусам
московского двора, в то же время были близки
«посадским людям» других городов России.
Мера фольклорности, которой отмечены их
произведения, не уступает мере их
мастерства, что обусловило долгую жизнь этих
традиций в искусстве иконописных центров
XVIII — XIX вв.
К упомянутым художникам примыкали
другие иконописцы: заменивший Симона
Ушакова на посту главы Оружейной
палаты «усолец» Федор Зубов;35 царский
мастер Кирилл Уланов, писавший, особенно в
поздние годы своего творчества, и в «уша-
ковской» манере; костромич Гурий
Никитин36 и многие мастера Костромы и
Ярославля, покрывшие яркими фресками стены
многочисленных храмов едва ли не по всей
Руси. Но между «монументальным» и
«декоративным» течениями русской иконописи
XVII в. не было четкого водораздела: они
не противоречили друг другу, а являлись
двумя сторонами одного и того же идеала
эпохи.
Во 2-й половине XVII в. священные
сюжеты могли воплощаться не только
иконописными, но и живописными средствами.
Царские живописцы Богдан Салтанов
(армянин, выехавший на службу к русскому
царю из Персии), Василий Познанский,
Иван Безмин и другие писали религиозные
композиции маслом на холсте, осуществив
в своей практике переход от иконы к
картине. К сожалению, сейчас об их творчестве
можно судить только по иконам Распятской
церкви Теремного дворца в Московском
Кремле37. Они выполнены в необычной
технике: лица и руки святых написаны
маслом, а одежды и фон выклеены из
кусочков ткани. Не сохранились или не найдены
многочисленные «притчи», «ленчафты»,
батальные полотна, «преоспективные
картины», во множестве исполнявшиеся
русскими и иноземными мастерами в Живописной
палате.
Можно предположить, что эти
произведения были весьма разнохарактерными:
некоторые выглядели как современные им
европейские картины, другие недалеко ушли
от традиционной иконописи. Во всяком
случае, между иконописью и живописью еще
не было резкой границы. Известные
работы живописца Карпа Золотарева, —
например, иконы из церкви Покрова в Филях, —
ни по иконографии, ни по трактовке
изображаемого не выпадают из круга
московской иконописи конца XVII в. Отличает их
лишь смешанная темперно-масляная
техника, способ наложения золота не на белый
левкас, а на красно-коричневый полимент38,
непривычно светлые лики и несколько
более свободные и живописные пейзажи. В то
же время подписная икона Вседержителя из
церкви Успения на Покровке,
принадлежащая кисти поляка Ивана Рефусицкого,
только золотыми светами и каймами одежд
напоминает традиционную иконопись: она
выполнена в совершенно «западной»
манере, причем весьма профессионально. При
473
Книга вторая
этом Карп Золотарев возглавлял Золото -
писную мастерскую Посольского приказа,
где было много чисто живописных работ, а
Рефусицкий в 1689 г. заведовал
Иконописной мастерской Оружейной палаты39.
Сходную картину можно обнаружить и в
портретной живописи XVII в. — новом
жанре изобразительного искусства, где
сосуществовали полуиконописные «парсуны»
и портреты вполне европейского уровня,
часто написанные европейскими же
мастерами. Отчасти это вызывалось разным
функциональным назначением портретов —
среди них было немало надгробных или
посмертных, генетически связанных с
иконой и естественным образом унаследовавших
ее особенности40. Но само распространение
портретного жанра именно во 2-й
половине XVII в. стало самым ярким
свидетельством зарождения личности Нового
времени.
Следует напомнить, что понятие
личности нетождественно понятию
индивидуальности. Индивидуальность — это
совокупность психических и физических
особенностей, присущих именно данному лицу и
отличающих его от прочих.
Индивидуальность — категория вечная и объективная,
существующая независимо от сознания
человека. Личность же — это
индивидуальность самосознающая, осмысливающая не
только свои отличия от других, но и
социокультурный контекст своего существования
в качестве собственного ее компонента.
Понятие личности исторично и субъективно; ни
дитя, ни человек Средневековья еще не
являются личностью в терминологическом
значении этого слова.
Личность как психологический феномен
возникает на переходе от Средневековья к
Новому времени, от надчеловеческой импер-
сональности родового бытия к монадам ре-
нессансного индивидуализма. Поэтому
появление этого феномена в России XVII
столетия вполне закономерно: портрет и был
призван запечатлеть народившуюся личность
в ее особости, способствовать пока еще не
самопознанию, а самоосознанию
портретируемого героя не как частицы некой
общности, но как уникальной единицы.
На иконографию русских парсун,
несомненно, оказала влияние портретная
живопись сопредельных стран и областей, и в
первую очередь польский «сарматский»
портрет. И тут и там, как правило,
портретируемый как бы позирует перед зрителем;
неглубокое сильно затененное пространство
картины способствует концентрации
внимания на лице. Тщательно выписываются
аксессуары, характеризующие персону своего
владельца: часы, очки, книги. Иногда в
композицию включаются надписи и гербы,
говорящие о династической
принадлежности модели. Однако в русском портрете
объект изображения мыслится прежде
всего не как представитель рода или сословия,
а как конкретный человек, выделенный из
коллектива уже самим фактом запечатления
его на полотне. Пока он оставался в
рамках родовой общности, не было
потребности в его изображении: если сарматский
портрет призван был служить
подтверждением нередко фантастических польских
шляхетских генеалогий41, то русская знать,
занесенная в родословные книги, не
нуждалась в таких доказательствах благородства
своего происхождения. Собственно говоря,
всю сословно-генеалогическую информацию
о русском боярине или дворянине несло его
имя, родовое и собственное, поэтому в
России не привились гербы, столь важные для
культуры Польши. Поэтому же и русский
портрет получил распространение не в
связи с какой-либо фиксацией фамильных
представлений, а именно в период отмены
местничества: когда зашатались устои
освященной веками феодальной иерархии,
появилась необходимость в самоутверждении
личности, отторгнутой от рода и отчасти
даже противопоставленной ему. Это
самоутверждение и выразилось в возникновении
парсуны.
Достаточно важным отличием русского
портрета XVII в. от «сарматского» было и
стремление не столько к физиогномической
точности, сколько к почти иконописному
благообразию внешнего облика модели.
Возможно, что в этом отражалась не
столько многовековая традиция иконописи,
сколько характер эстетического идеала и
особенности самосознания портретируемого.
Для культуры XVII столетия с ее
специфическими отношениями со Всевышним
характерно представление о «я» как харизмати-
474
Часть II. Глава 5
ческом ego42, не только неразрывно
связанным с Господом, но как бы
отождествляющим себя с ним.
Сакрализация личности в русских
«парсунах» XVII в. объяснялась и их
ориентацией на царские портреты, без чего вряд ли
было возможным само появление и
бытование портретной живописи на Руси. Ведь
портрет был призван запечатлеть
внешность человека — то, что, по
представлениям человека Средневековья, являлось
лишь тленной оболочкой: «не уязвляйся
сердце, в красоте лица, тленныя плоти: трава
бо есть, сень, и гной, изше трава, и цвет ее
отпаде»43. Еще более энергично отношение
к внешнему высказал протопоп Аввакум:
«Вся сия внешняя блядь ничто же суть, но
токмо прелесть и тля и пагуба»44. Кроме
того, изображение собственной персоны
могло как бы отчуждать личность от ее
носителя: живописный двойник подменял
собою оригинал, что влекло целый пласт
ассоциаций, связанных с магией и
колдовством. В этой связи уместно вспомнить
отношение к зеркалу в XVII в.: зеркала
никогда не оставляли открытыми, либо
задергивая их «запонами», либо закрывая
створками и убирая в
«лагалища»-футляры45. Учитывая, что на Руси отсутствовала
традиция античного скульптурного
портрета, подготовившего почву для европейских
портретов Ренессанса, идея запечатления
своей особы на полотне могла выглядеть
подозрительной и даже опасной.
Однако сказанное не распространялось на
портреты царей, в принципе
санкционированные еще Стоглавом (хотя предметом
вопрошания тогда был не светский портрет).
Для Иосифа Владимирова богоугодность
написания «земных царей персоней» была
уже несомненной. Показательно, что он
ставил создание царских персон («парсун»)
в один ряд с религиозной живописью. По
его словам, «инии же <...> Рождество, и
Крещение, и Страсти, и деяния
апостольская, и Апокалипсис, вся таковая яко живе
изображают. Потом царей римских и
греческих, русских и перских, турских и чес-
ких, и инех мнозех, кои каковыми обличий
были и одеяния на себе носили, таковых и
воображают. И кийждо язык своего си царя
образ <...> знают и на тыя персони, яко на
самых, показают и выславляют <...> Меж
всеми ж сими егда и нашего государя, рос-
сийскаго царя образ обрящется написан»46.
Иосиф был убежден, что даже его
оппонент, не признающий «фряжской» живописи
сербский архидьякон, вынужден будет чтить
«земнаго царя икону страха ради».
Употребление слова «икона» как
синонимичного слову «портрет» в данном
контексте может объясняться не только исходным
значением греческого термина (eiKcbv —
образ), но и тем обожествлением государя,
которое достаточно целенаправленно
предпринималось идеологией зарождающегося
абсолютизма47. А священная особа
монарха служила тем «первообразом», на который
ориентировались окружающие. Сакральный
отблеск портретов «земного Бога» лег и на
изображения близких к нему персон, сделав
иконописную идеальность облика
запечатленных как нельзя более уместной и
оправданной.
Тем не менее не следует преувеличивать
степень идеализации моделей в русских
портретах XVII в. Для современников,
воспитанных на традиционной иконописи,
достаточно было намека на физиогномическое
сходство, чтобы персонаж для них выглядел
«аки жив». Как бы ни были сглажены черты
лица Льва Кирилловича Нарышкина на
известном портрете из Государственного
Исторического музея, в них читается
фамильное сходство с племянником —
Петром I. Это доказывает наличие
определенного соответствия портрета реальному
облику модели.
Портрет XVII столетия — это парадный
портрет. Цари предстают перед зрителем не
иначе как в венцах или шапках, со
скипетром, иногда с державой или крестом. Такая
схема имеет сакральный оттенок благодаря
сходству с распространившейся в это
время иконографией Христа Вседержителя,
сидящего на престоле в царских одеждах и
с атрибутами власти. В портретах частных
лиц герои, как правило, смотрят на
предстоящего сверху вниз, что обусловливается
сильно завышенной линией горизонта.
Модель демонстрирует себя как некую
ценность, превращая демонстрацию в почти
сакральный акт: серьезны лица
портретируемых, неотрывно устремлены на смотрящего
475
Книга вторая
их взгляды и по-иконописному развернуты
фигуры. Тяжелый занавес, накрытый
узорной тканью стол, кафтан с дорогими
застежками, цветной «кизилбашский» пояс,
оружие, наконец, пышный картуш в верхнем
углу портрета В. Ф. Люткина создают
своеобразную оправу (заимствованную из
польско-украинской портретописи), куда
вставлен собственно портрет — фигура и
лицо царского стольника. Надпись в
картуше исполнена латинскими буквами, но
ошибки в правописании говорят о
несомненности написания его русским мастером48.
«Латиница» должна была свидетельствовать о
принадлежности заказчика к элите, хорошо
знакомой с западной портретной
традицией.
Обращение к опыту западного
искусства в России XVII в. было закономерным.
При переходе от Средневековья к Новому
времени европейские образцы сыграли для
русского искусства ту же роль, что
античность — для искусства Ренессанса. При
этом западные источники подвергались
переосмыслению и адаптации применительно
к местным потребностям и художественным
вкусам. Это хорошо прослеживается при
сравнении европейских гравюр с
написанными на их основании иконами отечественных
художников. Как правило, из композиций
убирали второстепенных персонажей,
опускали детали обстановки, сильно обобщали
пейзажные мотивы. Вероятно, это
объяснялось не неспособностью художника
воспроизвести все подробности оригинала: авторы
икон и фресок должны были учитывать их
расположение на стене или в иконостасе на
большом расстоянии от зрителя и старались
не перегружать живописное поле, чтобы
ясно читались главные фигуры. Недаром
поменялись местами ангел и Иосиф из
иконы «Рождества» в церкви Покрова в
Филях: если в соответствующей гравюре ангел
почти заслоняет Иосифа, то в иконе «обруч-
ник Богоматери» выдвинут вперед, будучи
более важным персонажем. Иногда
композиции разрежаются, иногда, наоборот,
предметы сдвигаются плотнее; и то и другое явно
продиктовано художественными
соображениями.
Для большинства использовавшихся
русскими художниками гравюр характерна бес-
фактурность изображаемого. Но передача
фактуры была очень привлекательна для
русских мастеров XVII в., только что
начавших ценить осязаемое многообразие
окружающего мира. Поэтому в иконах
изографы стремились передать не абстрактную
«ткань вообще», а тщательно выписывали
шелк, кисею, парчу, украшали пышной
резьбой гладкую в гравированном оригинале
мебель, расписывали стены бриллиантовым
рустом. Одежды персонажей расшивались
драгоценными камнями, на балдахинах и
занавесях появлялся орнамент, полы
изукрашивались цветными плитками,
затейливыми розетками, многоконечными звездами.
Изменения касались и внешности
действующих лиц: персонажи становились
благообразнее, бородатые мужчины
превращались в красивых безбородых юношей. Эта
тенденция к омоложению образов была
отмечена Б. В. Михайловским и Б. И. Пу-
ришевым, которые отнесли ее за счет
изменения представлений о прекрасном в
XVII в. (средневековый идеал старческой
мудрости сменяется античным идеалом
юношеской красоты). Очень часто встречалось
украшение позема копируемых композиций
цветами — лилиями, гвоздиками,
тюльпанами, иногда достигающими размеров
деревьев. Они появлялись даже там, где это
противоречило смыслу изображения. Так,
одна миниатюра Сийского Евангелия
представляет зимний пейзаж, явно
скопированный с голландского оригинала: молодые
пары катаются на санках и коньках по
замерзшей речке, деревья стоят голыми, из
труб домов идет дым, но на первом плане
растут столь полюбившиеся русским
художникам цветы, украшающие собой
чужеземную голландскую зиму. Вероятно, в XVII в.
существовали также и своеобразные
натюрморты русской работы с изображением
цветов: так можно истолковать свидетельство
Я. Рейтенфельса, что русские пишут
только «одних давно умерших святых» и
делают исключение лишь для «некоторых
цветочков и животных»49. В целом подобное
украшение западноевропейских оригиналов
легко объяснимо: оно было вызвано
стремлением улучшить полученный образец
согласно эстетическим идеалам своей
культуры.
476
Часть II. Глава 5
Изменения под влиянием старых
иконописных традиций чаще всего встречаются во
фресках, а также в иконах периферийных
школ. Особенно они чувствуются в
пространственных решениях, где наблюдается
«сплющивание» пространства, уменьшение
его глубины и маскировка пространственных
разрывов. Персонажи, в оригинале
расположенные далеко на заднем плане, во
фресках приближаются к зрителю;
архитектурные формы переходят со второго плана на
первый; полы нередко выворачиваются на
зрителя, вставая почти вертикально.
Иногда композиции изменялись под
влиянием старой православной иконографии:
непокрытую в оригинале голову
Богоматери накрывали мафорием, вводили
недостающие, с канонической точки зрения,
фигуры. Композицию «Успения» чаще всего
исправляли согласно традиционному
оригиналу, а Христа в «Воскресении» облачали в
длинные ризы взамен короткой туники или
повязки на чреслах — обычных одежд
европейских гравюр. Но в общем
канонические изменения западной иконографии
встречаются значительно реже, чем ее
трансформация под влиянием художественных
причин.
Использование разнородных европейских
образцов в русской живописи, совместная
работа русских и иноземных художников
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Под «строгановской школой» традиционно
понимается особое направление в иконописи
конца XVI — начала XVII в.,
культивировавшееся как царским двором, так и семейством
Строгановых.
2 См.: Искусство строгановских мастеров в
собрании Государственного Русского музея.
Каталог выставки. Л., 1987. С. 94 — 99.
3 Плюханова М. Б. О некоторых чертах
личностного сознания в России XVII в. //
Художественный язык Средневековья. М., 1982.
С. 184.
4 Брюсова В. Г. Назарий Истомин
(Материалы к биографии) // Государственные музеи
Московского Кремля. Материалы и
исследования. II. М., 1976. С. 181 — 191.
5 См.: Искусство строгановских мастеров...
С. 97.
разных направлений и разной выучки
привели к стилевой пестроте изобразительного
искусства этого периода, к сосуществованию
в нем архаики и новаций, охранительных
тенденций и смелых экспериментов в
области техники, иконографии, приемов письма.
В одном и том же 1686 г. были созданы
почти иконописный надгробный портрет
царя Федора Алексеевича и произведение
европейского круга — портрет стольника
Г. П. Годунова, далеко ушедший не
только от русских парсун, но и от польского
«сарматизма». «Световидные», объемно
написанные иконы соседствовали с
достаточно традиционной иконописью, в одном и том
же памятнике новая иконография могла
сочетаться со старыми приемами трактовки
формы, и, наоборот, прежние
иконографические схемы исполнялись в системе «жи-
воподобной» передачи сюжета. Поскольку
XVII столетие для Руси стало переходным,
изобразительное искусство запечатлело эту
переходность, подвижность расширением
своего диапазона, расхождением
противоположных полюсов — от иконы до картины.
И тем не менее живопись этого
беспокойного века нельзя обвинить в эклектизме: и
в основном русле, и в крайних своих
проявлениях она дает целостный образ того
мира, в котором существовали ее
заказчики и творцы.
6 См.: Малицкий Г. Л. К истории
Оружейной палаты Московского Кремля //
Государственная Оружейная палата Московского Крем-
ля. М., 1954. С. 532.
7 Там же.
8 См.: Зонова О. В. Стенопись Успенского
собора Московского Кремля // Древнерусское
искусство. XVII век. М., 1964. С. 124.
9 См.: Павленко А. А. Организация
живописного дела в Москве во второй половине
XVII — начале XVIII в. Автореф. канд. дисс.
М., 1989.
10 См.: Нечаев В. Н. Нутровые палаты в
русской живописи XVII века // Русское
искусство XVII века. Л., 1929. С. 27 — 62.
11 Мнение Е. С. Овчинниковой об
использовании в этой стенописи Библии Пискатора
не подтвердилось (см.: Овчинникова Е. С.
477
Книга вторая
Церковь Троицы в Никитниках. М., 1970.
С. 122).
12 Библия Пискатора как источник русской
иконописи была известна с конца прошлого
столетия (см.: Покровский Н. В. Стенные
росписи в древних храмах греческих и русских //
Труды VII Археологического съезда в
Ярославле. М., 1890. С. 288).
13 Подробнее см.: Бусева-Давыдова И. Л.
Новые иконографические источники русской
живописи XVII в. // Русское искусство
позднего Средневековья. М., 1993.
и См.: Нечаев В. Н. Указ соч. С. 48 — 49;
Раушенбах Б. В. Пространственные построения
в живописи. М., 1980. С. 114 — 115.
15 Ушаков Симон. Слово к люботщательно-
му иконного писания. Опубл. Г.
Д..Филимоновым // Вестник Общества древнерусского
искусства при Московском Публичном музее.
Вып. I — III. Материалы. М., 1874.
С. 23.
16 Успенский А. И. Царские иконописцы и
живописцы XVII в. Словарь. М., 1910. Т. 2.
С. 93.
17 Сопоставление фрески и гравюры см.:
Некрасова М. А. Новое в синтезе живописи и
архитектуры XVII века (Роспись церкви Ильи
Пророка в Ярославле) // Древнерусское
искусство. XVII век. С. 102 — 103.
18 Русская силлабическая поэзия XVII —
XVIII вв. А, 1970. С. 198.
19 Послание некоего изуграфа Иосифа к
цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону
Федоровичу. Опубл.: Овчинникова Е. С.
Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве //
Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964.
С. 54.
20 Послание некоего изуграфа... // Указ. соч.
С. 58.
21 См.: Вайгачев С. А. «Обмирщение»
русской духовной культуры XVII в.: Сущность
процесса и его социокультурные истоки (К
постановке вопроса) // Актуальные проблемы
истории русской культуры. М., 1991. С. 41 —
59; Бусева-Давыдова И. Л. О так называемом
обмирщении русского искусства XVII века //
Филевские чтения. Вып. 7. М., 1994. С. 18 —
32.
22 Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения / Под общ.
ред. Н. К. Гудзия. М., 1960. С. 86.
23 Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.
Очерки истории древнерусской монументальной
живописи со второй половины XIV до начала
XVIII в. М.; А, 1941. С. 128.
24 Пропп В. Я. Морфология сказки. М.,
1969. С. 86.
478
25 Гусев В. Е. Эстетика фольклора. М., 1967.
С. 280.
26 См.: Пропп В. Я. Фольклор и
действительность. М., 1976. С. 92.
27 Гусев В. Е. Указ. соч. С. 276.
28 Пропп В. Я. Фольклор и
действительность. С. 114.
29 См.: Филимонов Г. В. Симон Ушаков и
современная ему эпоха русской иконописи //
Сборник за 1873 год, изданный Обществом
древнерусского искусства при Московском
Публичном музее. М., 1873. С. 1 — 104.
30 См.: Житие протопопа Аввакума... С. 71.
31 См.: Бусева-Давыдова И. Л. О так
называемом обмирщении русского искусства
XVII в. // Филевские чтения. Вып. 7. М.,
1994. С. 18 — 32.
32 Савина Л. Н. Икона «Спас на престоле с
припадающими митрополитом Филиппом и
патриархом Никоном» из собрания Московского
областного краеведческого музея //
Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 1989.
С. 241 — 242.
33 См.: Павленко А. А. Иконописец Сергей
Рожков и некоторые особенности развития
пейзажной линии в творчестве царских изографов
XVII века // Гос. Музеи Московского
Кремля. Материалы и исследования. VIII. Русская
художественная культура XVII века. М., 1991.
С. 111 — 126.
34 См.: Успенский А. И. Царские
иконописцы и живописцы XVII века. Словарь. М., 1910.
Т.2.
35 См.: Брюсова В. Г. Федор Зубов. М.,
1982.
36 См.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М.,
1984.
37 См.: Вьюева Н. А. Живописец
Василий Познанский (К истории создания
иконостаса церкви Распятия в Большом Кремлевском
дворце) // Гос. Музеи Московского Кремля.
Материалы и исследования. VIII. Русская
художественная культура XVII века. С. 97 —
110.
38 Павленко А. А. Карп Иванович
Золотарев — московский живописец конца XVII века
(Материалы творческой биографии) // Гос.
Музеи Московского Кремля. Материалы и
исследования. IV. Произведения русского и
зарубежного искусства XVI — начала XVIII века.
М., 1984. С. 140.
39 Павленко А. А. Организация живописного
дела... С. 19 — 20.
40 Сорокатый В. М. Некоторые надгробные
иконостасы Архангельского собора Московского
Кремля //Древнерусское искусство. Проблемы
и атрибуции. М., 1977. С. 405 — 414.
41 См.: Тананаева Л. И. Сарматский
портрет. Из истории польского портрета эпохи
барокко. М., 1979. С. 186.
42 Бусева-Давыдова И. Л., Вдовий Г. В. О
«новом благочестии» в России XVII — XVIII
веков (в печати).
43 Исайя Копысгпенский. Алфавит духовный.
Киев, 1710. А 49об.
44 Житие протопопа Аввакума... С. 55 — 56.
45 Забелин И. Е. Домашний быт русского
народа. М., 1895. Т. 1. С. 210.
Часть II. Глава 5
46 Послание некоего изуграфа... // Указ. соч.
С. 45 — 46.
47 См.: Робинсон А. Н. Борьба идей в
русской литературе XVII века. М., 1974.
С. 143.
48 См.: Овчинникова Е. С. Портрет в
русском искусстве XVII века. М., 1955. С. 117 —
119.
49 Рейтенфельс Я. Сказание светлейшему
герцогу Тосканскому Козьме Третьему о
Московии. М., 1905. С. 136.
Глава 6
Декоративно-
прикладное
искусство
коративно-приклад-
ное искусство претерпело особенно
значительный ущерб в Смутное время, когда
расхищали и перечеканивали в монету
ювелирные изделия, перестали поступать заказы
на шитье, дорогие богослужебные
облачения, иконостасы. После утверждения
династии Романовых в прикладном искусстве
также имел место период повторения «до-
смутных» образцов, когда ведущие царские
мастера копировали блюда, оклады, кадила
XVI в. Кадило мастеров Серебряной
палаты Данилы Осипова и Третьяка Пестрико-
ва в виде одноглавого храма, изготовленное
в 1616 г., повторяло кадило Ирины
Годуновой 1598 г., но удивительным образом
обнаружило те же пропорциональные и
композиционные несообразности, что и
церковь Покрова в Рубцове по сравнению с
годуновскими храмами. Верхняя часть
кадила XVII в. разрослась, стала чересчур
грузной, главка выглядит слишком маленькой,
а весь сосуд — неустойчивым. Венчающие
кокошники очерчены вяло, орнамент
утратил четкую архитектонику, он явно
прорисован менее опытной рукой. Прекрасные
черневые изображения апостолов
Ирининского кадила исчезли, заменившись
орнаментальным клеймом с драгоценными
камнями. Кадило неоспоримо свидетельствует
о той же утрате профессионального
мастерства, которая отмечалось нами
применительно к «послесмутной» архитектуре.
Прежний уровень выучки в ювелирном
деле восстановился довольно быстро, чему,
очевидно, способствовало приглашение
мастеров из-за рубежа. Золотой потир 1637 г.,
также повторяющий потир Ирины
Годуновой, демонстрирует уже не утраты, а
приобретения — новые вкусы времени,
отразившиеся в утяжелении форм сосуда и
укрупнении орнамента. Хрупкая
изысканность годуновского искусства сменилась
массивностью, телесностью, не
переходящими, однако, в тяжеловесность благодаря
точно найденному соотношению объема
чаши, толщины стояна, размера и формы
яблока и поддона, облегченного чернеными
полуфигурами апостолов в круглых
обрамлениях.
В 1627 г., когда Москва еще не
оправилась от последствий Смуты и пожара
предыдущего года, Михаил Феодорович
повелел приезжим ювелирам изготовить
«большой наряд» — царский венец, скипетр,
державу, колчан для стрел и футляр для
лука (саадачный прибор). Опушенная
соболем шапка-венец силуэтом напоминала и
шапку Мономаха, и «шапку Казанскую»,
сделанную, вероятно, для Ивана Грозного
в XVI в. Новый убор московского
самодержца поражал обилием драгоценных
камней, блеском золота и эмали, тонкостью
травного орнамента, затейливостью
прорезных «запон» и «городков». Шар державы,
завершенный высоким крестом, в верхней
части украшали чеканные изображения из
истории царя Давида, покрытые
разноцветной эмалью. Роскошный скипетр был
буквально усыпан драгоценными камнями и
увенчан двуглавым орлом.
Не меньшей роскошью отличались и
другие предметы, изготавливаемые для царя:
парадные доспехи-зерцала с золотой
наводкой, с эмалевыми орлами и надписью с
титулом их владельца, искуснейшим
образом инкрустированный золотой проволокой
шлем оружейника Никиты Давыдова, с
золотыми коронами, сияющими на
серебристом булате, с наушами, так богато
украшенными самоцветами и жемчугом, что они
более походят на женские украшения, чем
на принадлежность боевого снаряжения.
Столь же богаты были конские уборы и
кареты, чаши и блюда, одежда и пуговицы...
Даже на «покровце», набрасываемом на
седло запасной царской лошади,
красовался двуглавый орел и областные гербы,
шитые золотом, серебром и цветными
шелками; даже кисти, качавшиеся под шеей коня,
крепились к серебряной пластине в виде
орла с распростертыми крыльями.
Естественно, ярче всего вкус к
дорогостоящей роскоши выразился в ювелирном
480
Часть II. Глава 6
искусстве, где драгоценность была
изначальным качеством самого материала. Изделия
из золота и серебра так густо покрывались
драгоценными камнями и жемчугом, что
свободного фона почти не оставалось.
Любимые в XVI в. голубые сапфиры
уступили первое место рубинам и изумрудам, по
цвету гораздо активнее взаимодействующим
с золотом и друг с другом; они сразу
привлекали внимание к себе, к своей
«драгоценности», подчеркиваемой и впервые
появившейся на Руси огранкой (раньше
употреблялись только шлифованные
камни-кабошоны). Исключительную роль камни и жемчуг
приобрели и в шитье, особенно в
орнаментальном. Если до того жемчужинками
низались контуры рисунка, то во 2-й
половине XVII в. можно видеть произведения, где
жемчугом сплошь вышивается
(«настилается») весь узор. Жемчужные листья и
цветы, заполняющие всю поверхность оплечья
саккоса или фелони, создают
непередаваемое ощущение торжественной пышности и
в то же время строгого благородства. Они
вызывают ассоциации с узорами на
морозном стекле, столь же чистыми,
совершенными и светоносными; эта светоносность
словно растворяет материю, лишает ее тяжести,
а вкрапления золотых дробниц и
драгоценных камней заставляют глубже
почувствовать собственную красоту жемчужного
шитья.
В лицевом, то есть сюжетном, шитье
жемчуг также использовался значительно
шире, чем раньше. Им вышивали большие
участки одеяний изображенных святых,
узоры на фоне, надписи на каймах.
Основная же часть шитья, кроме «личного» (то
есть лица и рук), исполнялась уже не
шелками, а золотными и серебряными нитями.
Если раньше эти тяжелые, негнущиеся нити
прикрепляли к ткани разноцветным шелком,
то в XVII в. для прикреп стали употреблять
нити в тон драгоценным металлам. Зато
разнообразились способы прикрепления:
мастерицы знали десятки швов, образующих
поверх золота и серебра зубчики, клетки,
косые линии. Поверхность шитья кажется
не вышитой, а прочеканенной и больше
напоминает работу ювелира, чем
произведение вышивальщицы. Если в XIV —
XVI вв. шитье было как бы живописью
иглой, то в XVII столетии оно словно
становится разновидностью ювелирного
искусства. К иконам в драгоценных окладах
подвешивали пелены, имитирующие уже не
икону, а оклад; серебряные позолоченные
раки святых покрывали тяжелыми, на вид
столь же «сребровызолоченными»
пеленами; к златотканым одеяниям священников
прекрасно подходили шитые золотом
палицы, набедренники, епитрахили.
Более пышными стали покрой и ткани
одеяний русской знати. В середине XVII в.
в обиход вошла ферезея — одежда из
дорогих тканей, подбитая мехом, с длинными
откидными рукавами. Исследователи
отмечают присущую ей особую декоративность,
сделавшую ферезею любимой одеждой при
дворе Алексея Михайловича1. Из тканей в
это время предпочитали петельчатые акса-
миты, где на златотканой или шелковой
основе выступали рельефные травы, цветы,
короны из мелких золотых или серебряных
петелек2. Аксамиты потеснили
распространенные в XVI в. алтабасы — гладкую
золотую итальянскую парчу, выглядевшую не
столь впечатляюще. Появилось и шитье «на
аксамитное дело», когда русские
вышивальщицы с удивительным искусством
воспроизводили фактуру дорогой привозной
ткани.
Это стремление к торжественной
пышности справедливо объясняют становлением
русского абсолютизма, создающего свою
эстетику — эстетику придворного
церемониала3. Персона царя занимала в ней
исключительное место. Монарх представлялся
совершенством. По словам Симеона
Полоцкого,
«Между всеми един совершенный
Ты, царю светлый, Алексей реченный»4.
Царь был образом Бога и Божеством,
явленным на земле. Именно в плане этой
сакрализации монарха не выглядела
кощунственной форма кубка царя Михаила Фео-
доровича, точно воспроизводившая чашу для
Св. Причастия — потир5, и получал
объяснение покрой платна — торжественной
царской одежды, близко напоминающей
саккос и появившейся только в XVII в.6.
Наделение царской особы всеми
мыслимыми совершенствами делало ее всеобщим
481
Книга вторая
образцом для подражания. Тот же Симеон
Полоцкий писал:
«Царя образом вси ся управляют,
Житие его своим подражают»7.
Надо отметить, что этот призыв к
подражанию сам по себе указывает на отсутствие
непреодолимой дистанции между царем и
его подданными (в противном случае
подражание было бы невозможным). Быт
царского семейства качественно не отличался от
быта народа: раннее пробуждение и раннее
отхождение ко сну, домашняя и церковная
молитва, обед со щами, кашей и солеными
грибами, деловые занятия, скромные
развлечения. Даже уровень образования
царственных персон не отличался разительно от
уровня развития любознательного
горожанина или даже крестьянина, обучившихся
грамоте по той же Псалтири и читавших те
же «Маргариты», «Златоусты», «Повесть
о Бове Златые ключи» и «Великое
зерцало». Поэтому для человека XVII столетия
царь действительно мог служить реальным
образцом для подражания, воспринимаясь
как своеобразная персонификация
наилучших качеств своих подданных.
Отсюда понятна ориентация вкусов
русского общества XVII в. именно на самый
верхний слой придворного искусства. Для
представителей знати это имело в первую
очередь социальный смысл, о чем
свидетельствует, например, Указ 1682 г.,
запрещающий нижним придворным чинам ездить в
каретах и регламентирующий количество
лошадей в упряжках высокопоставленных
лиц8. Но та же любовь к роскоши и «изук-
рашенности» проявлялась и в народе. В
начале XVII в. Авраамий Палицын, монах
Троице-Сергиева монастыря, с возмущением
писал: «Вси подобящеся царевым
вельможам и сродечем царевым украшением
злата, и сребра, и одеждей, и коней <...> —
не токмо же таковии, но и от купцов сущей
и от земледелец. И толико гордение бысть,
яко не познати во украшениях жен и чад, чьи
суть: в блещаниях злата и сребра и бисерех
ходяще, вси бо боярствоваху»9. А Юрий
Крижанич, хорват, прибывший в Россию в
середине XVII в., отмечал, что «черные
люди» и простые крестьянки носили
рубахи, расшитые золотом и жемчугом10.
Не исключено, что Крижанич принял за
золотое шитье золотую набойку — ткань
домашнего производства, на которой доской-
манеркой «набивался» золотой узор.
Однако бесспорно, что и золотой порошок на
клейкой основе, и орнаменты набойки были
призваны воспроизвести дорогие ткани
царского обихода. Тогда же, вероятно, в
женскую народную одежду пришел сарафан, до
того известный только как придворное
платье XVI — XVII вв., а головной убор
русских женщин центральных и северных
областей приобрел форму кокошника (само
слово «кокошник» входит в употребление
только в конце XVII в.). Есть предположение,
что строгий сарафан и кокошник-диадема не
имели на Руси своей древней традиции и
были введены при дворе как сугубо
царская одежда Софьей Палеолог, при которой
и началось оформление придворного
церемониала. В таком случае освоение этих форм
в народной культуре недаром пришлось на
XVII в. с его специфически
«монархической» ориентацией эстетического идеала.
Если золотая набойка имитировала
дорогую парчу, то хохломская посуда с
золотистым фоном должна была напоминать
произведения ювелирного искусства. В XVII в.
село Хохлома принадлежало Троице-Сер-
гиеву монастырю. Вероятно, хохломские
изделия охотно раскупались небогатыми
московскими богомольцами, а бывая в
обители, мастера Хохломы знакомились с тем
искусством, которое ценилось в Москве, и,
может быть, получали образцы11. «Усолъ-
ская финифть», о которой будет сказано
ниже, воздействовала на роспись по
дереву, усвоившую обаятельно-живописный,
непринужденный «цветочный стиль»,
составляющий основу эмалевых росписей.
В ГИМе хранится деревянное блюдо с
типичными мотивами финифти —
«Временами года», львом и единорогом, по
художественным достоинствам не уступающее
усольским прототипам.
Общность народного и придворного
искусства, в принципе характерная для
Средневековья, в XVII в. приобрела
совершенно особое значение для дальнейшего
плодотворного развития русской культуры. На
протяжении XVII в. искусство,
культивируемое при дворе, успешно переориентиро-
482
Часть II. Глава 6
валось на новый тип культуры —
новоевропейский вместо «древлеправославного»
византийского. Оно приобретало все
больше новых черт, обусловленных
европейскими влияниями. Адаптированные в
высокопрофессиональной художественной среде
придворных ювелиров, резчиков,
вышивальщиц, они легко усваивались затем на самых
разных уровнях, в разной социальной
среде. При этом свобода обращения к
европейским прототипам в прикладном искусстве
была относительно большей, чем в
архитектуре или живописи.
Декоративно-прикладное искусство в значительной своей части
для религиозного сознания было своего рода
периферией, сферой утилитарных форм. Это
обеспечило возможность перенесения на
Русь во 2-й половине XVII в. целых видов
и форм декоративно-прикладного
искусства с присущей им иконографией, почти не
отличающейся от общеевропейской. Прежде
всего это относится к иконографии
орнамента.
В 1-й половине столетия произведения
прикладного искусства украшались
«фряжскими травами» — растительными узорами,
восходящими к орнаментике Ренессанса.
Завитки стеблей с условно трактованными
листьями укладывались в спиральные
узоры, имевшие нечто общее с
неовизантийским орнаментом и традиционной сканью.
К середине XVII в. орнамент становится
более пышным, нередко запутанным, что
говорит об исчерпанности его художественных
возможностей. В последней четверти века
задержавшиеся на Руси «ренессансизмы» в
основном сменились полнокровными
орнаментами барокко в двух главных
разновидностях, которые можно условно обозначить
как «циротный набор» и «цветочный стиль».
Словом «цироты» (от нем. Zieraten —
украшения) резчики XVII в. называли
связки плодов и цветов, иногда подвешенных в
виде гирлянд, иногда собранных в пучки или
корзины. Эту разновидность
характеризуют подчеркнутая массивность и
тяжеловесность, введение в орнамент лопнувших
плодов граната, виноградных гроздьев,
фантастических цветов и шишек в сочетании с
листьями аканта, «пергаментными» сильно
рассеченными и закрученными картушами,
украшенными бусинами-перлами.
«Цветочный стиль» ограничивается только цветами,
нередко передаваемыми едва ли не с
ботанической точностью: легко узнаваемы
тюльпаны, гвоздики, розы, водосборы, обычно
показанные срезанными. И тот и другой вид
орнаментации восходит к голландским
источникам, где существовала развитая
символика плодов и цветов, отразившаяся в
эмблематических сочинениях12. Правда,
отечественный материал не дает оснований
предполагать, что этот смысл (нередко
связанный с темой Vanitas — Суеты сует) был
известен русским мастерам и заказчикам.
Скорее всего, орнаменты были восприняты
ими только с художественно-стилевой
стороны, вне содержательной нагрузки:
изображенный цветок мыслился своеобразным
«портретом цветка», резное яблоко
—«портретом яблока». В иноземных образцах
русских мастеров привлекала близость к
натуре — черта искусства Нового времени,
оказавшаяся актуальной для России
XVII в.
Помимо новой, уже вполне европейской
иконографии орнамента, в русское
декоративно-прикладное искусство XVII в.
внедрялась и новая иконография сюжетных
изображений. В основном она повторяла те
же источники, которые были в ходу и у
иконописцев (надо учесть, что некоторые из
них были знаменщиками Золотой и
Серебряной палат). Стопа из ГИМ, например,
украшена фигурами сивилл, напоминающими
миниатюры «Книги о сивиллах»; на чаше
усольской финифти из Государственного
Эрмитажа воспроизводится сцена
«Искушения Иосифа» из Библии Пискатора. Этой
же Библией активно пользовался ведущий
серебряник и гравер конца XVII в.
Василий Андреев. Появились и светские
сюжеты, ориентирующиеся на западную
традицию, — упоминавшиеся «Времена года»,
«Пять чувств», изображения людей,
животных и птиц.
Но, пожалуй, интереснее проследить
внедрение на русскую почву специфически
«прикладной» иконографии. В XV —
XVI вв. на Русь постоянно попадали
различные произведения западноевропейского
декоративно-прикладного искусства,
обильно украшенные обнаженными фигурами
античных богов и героев, скульптурными ком-
483
Книга вторая
позициями. В XVII в. в Золотой и
Серебряной палатах работало не менее 60
иноземных мастеров — англичан, голландцев,
шведов, немцев, французов13, хорошо знавших
эту иконографию и способы производства
таких изделий. Однако непристойность
подобных деталей (учитывая не только мотив
обнаженного тела, но и восприятие
античных богов как запрещенных Церковью
«идолов») была почти непреодолимым
барьером для повторения их на Руси. К
немногочисленным исключениям можно было бы
отнести, пожалуй, братину дьяка Петра
Третьякова (начало XVII в.), увенчанную,
по западной традиции, букетом серебряных
цветов и имевшую на дне фигурку бражника
с бочкой. Поскольку фигурка не
сохранилась, то судить о ее характере
затруднительно, но по смыслу она была аналогична
Бахусам европейского серебра14. Здесь же
надо упомянуть и о женских фигурах с
обнаженным торсом на паникадиле конца
XVII в.«.
Новая иконография
декоративно-прикладного искусства попадала на Русь и
усваивалась русскими мастерами не только
в процессе знакомства с сокровищами
царской казны и совместной работы с
европейскими коллегами. В Посольском приказе
хранились, например, «книги мастерские к
резному делу» — альбомы
гравюр-образцов, широко бытовавшие в тогдашней
Европе. Очевидно, подобные образцы имелись
и для ювелиров, учитывая огромное
количество гравированных пособий и просто
орнаментальных гравюр, предназначенных
для ювелиров Европы16.
Изменилась и иконография самих вещей.
В XVII в. появились новые виды и типы
предметов, связанные с постепенным
изменением обихода русской знати, с
приближением его к европейским образцам. Лавки
для спанья заменялись роскошными
резными кроватями с балдахинами и пологами.
Такие кровати изготавливали резчики
Оружейной палаты, и они служили
преимущественно парадной мебелью, не употребляясь
по прямому назначению. Декоративную
функцию имели поначалу и тарелки,
которые, в отличие от издревле известных
больших блюд, в XVII в. ставили перед
пирующими пустыми; еду полагалось класть не
на тарелку, а на ломоть хлеба, лежавший на
столе17. Русские столяры делали столы «на
польских ногах» и «на китайское дело»,
«немецкие» стулья, шкафы западного
образца; на пирах подавали вилки (впрочем, в
XVII в. они полагались только царю и
патриарху), кружки, рюмки, стаканы
современной формы. Одежда знати последней
четверти XVII в. сблизилась с польской, в
конце столетия появились укороченные
удобные кафтаны, а в 1690 г. для
восемнадцатилетнего Петра I впервые было сшито
«немецкое» платье18. Претерпели изменения
оружие и конская сбруя: упомянутый выше
шлем оружейника Никиты Давыдова имел
длинный пластинчатый назатыльник по
образцу тех, что были на шлемах польских
конных гусар19. Вошли в употребление и так
называемые гусарские седла, более близкие
к принятым на Западе (русские седла были
чисто восточного типа). Свои столяры могли
сделать и «карету большую<...>резаны
люди и травы»20.
Помимо новой иконографии, в русском
декоративно-прикладном искусстве XVII в.
можно обнаружить и новые техники,
сильнейшим образом изменившие облик
традиционных его видов или даже послужившие
возникновению новых областей этого
искусства, ранее не известных на Руси. Так, в
середине XVII в. в связи с приездом на
Русь белорусских резчиков распространился
новый тип резьбы — высокорельефной,
иногда прорезной, требовавшей для
подобной работы специальных инструментов, не
известных русским мастерам. Она почти
полностью и повсеместно вытеснила
господствовавшую в 1-й половине столетия плоскую
резьбу, орнаментальные мотивы которой
восходили к Византии, Востоку и отчасти
искусству Ренессанса. Иконография новой
резьбы — то, что называлось «фряжскими
цветами и фруктами», — полностью
соответствовала принятой в Европе. Кроме того,
она включала в себя ордерные элементы —
колонны, карнизы, кронштейны, несущие
новое представление о тектонике
архитектурных форм.
Анализ терминов резного дела не
оставляет сомнений в источнике происхождения
«белорусской рези». Русскому «гзымз»
соответствует польское «gzyms» (карниз), «зас-
484
Часть II. Глава 6
луп» — «slup» (столб), «скрынка» —
«skrytka» (ниша, киот), «скрыдло» —
«skrzydlo» (крыло, створка), «ганка» —
«galka» (шишка, набалдашник); даже «ка-
ракштын», воспринятый И. Е. Забелиным
как искажение немецкого «кронштейн»21,
почти точно воспроизводит польский
«kroksztyn». Само же название такой
резьбы — флемская, — очевидно, происходит
не от немецкого слова die Flamme —
пламя, как предполагали до сих пор, но от
немецкого же прилагательного flämisch —
фламандский. Первоначально резьба
такого типа культивировалась фламандскими
резчиками, занесшими ее в Германию и
Польшу, откуда она уже попала в Россию22.
Следует отметить, что характер флемской
резьбы на русской почве изменился не
меньше, чем иконография копируемых
живописцами гравюр. Резьба стала гораздо более
объемной, сложной, виртуозной и
включила в себя много скульптурных мотивов.
Вероятно, такая трансформация была
вызвана иной ролью ее в интерьере
православной церкви, где отсутствовала круглая
скульптура, и резьба словно
предвосхищала и подготавливала ее появление. Мотивы
последней были чрезвычайно разнообразны:
колонки в одном и том же иконостасе
могли иметь разные пропорции и высоту,
разную порезку ствола, разные капители;
виноградные листья становились то массивнее,
то изысканнее, напоминая акант; яблоки и
груши чередовались с гранатами, а те
перемежались фантастическими цветками с
хищно вытянутым, будто шевелящимся
венчиком. Эта «оживотворенность» резной
флоры отвечала общему стремлению к «живо-
подобию», более всего проявившемуся в
живописи XVII в.
Согласно новейшим исследованиям, с
западной художественной культурой связано и
такое оригинальнейшее явление русского
искусства последней четверти XVII в., как
«усольская финифть». У ее истоков,
вероятно, стоял курляндский ювелир Юрий Ви-
лимов Фробос, работавший в Москве для
царя Алексея Михайловича23. За ним
технику расписной эмали усвоили московские
иконописцы, и среди них царский мастер
родом из Усолья, Федор Зубов24.
Очевидно, благодаря ему новую манеру освоили в
Сольвычегодске, где она и достигла
блистательного расцвета. Яркая роспись
эмалевыми красками наносилась по белому
эмалевому же фону; алые тюльпаны, сине-лиловые
ирисы, желтые подсолнухи с зелеными
листьями иногда служили основным мотивом,
а иногда обрамляли то лебедя, плывущего по
озерной глади, то красавицу, глядящуюся в
зеркало, то сюжетную сценку.
Сольвычегодские эмали, пожалуй, как
никакой другой жанр
декоративно-прикладного искусства, воплотили то представление
о прекрасном, которое сложилось в XVII в.
Белый фон и просвечивающие красочные
эмали придают росписи легкость и
воздушность; поверхность чаши или крышки
коробочки превращается в пространственную
среду, где свободно располагаются цветы и
фигуры. Впечатление глубины создается
объемной моделировкой форм: темный
штриховой рисунок, передающий светотень,
проступает из-под эмалевой подцветки.
Кажется, будто тяжелые цветки и бутоны
купаются в омывающем их пространстве,
они живут в нем, сплетаясь в венок вокруг
донышка чаши, раскрываясь на глазах, в
бесконечном круговом движении догоняя
друг друга.
Для произведений, исполненных в этой
технике, характерны не только определенные
сюжеты и общие черты свойств колорита, но
и устоявшиеся композиционные решения.
Например, в усольских чашах мотив круга,
заданный формой краев чаши,
подхватывается венком цветов на полях и повторяется
в круглом клейме-мишени на дне сосуда;
кроме того, края и донышко бывают
окаймлены маленькими эмалевыми кружками,
сканная оправа которых вторит очертаниям
чаши и ее дна. По-другому использован
ритмический повтор в одной сольвычегод-
ской чарке: там от круглого клейма на
донышке, как от сердцевины, отходят к
краям чарки лепестки цветка, залитые белой
эмалью, а каждый лепесток украшен
изображением тюльпана.
К новым видам декоративно-прикладного
искусства XVII в. можно причислить поли-
хромные изразцы. Строго говоря,
изразцовое производство на Руси вообще было
относительно молодым видом искусства.
Полагают, что красные изразцы появились
485
Книга вторая
не ранее конца XVI в., хотя с техникой
изготовления архитектурной керамики
московские мастера были знакомы с XV в.
Любопытно, что уже ранние терракотовые
плитки обнаруживают связь с западной
традицией: в изображенных на них
батальных сценах фигурируют персонажи с
короткими острыми бородками, в круглых
шлемах. Более поздние красные изразцы
показывают всадников в коротких кирасах
(узнаваемых по характерному отгибу у
поясницы) и широкополых головных уборах.
Сюжеты таких изразцов (всего их
известно пять разновидностей) связываются с
«Повестью об Александре Македонском»25.
Однако обращает на себя внимание, что
большинство из них не воспроизводят самой
важной детали, обязательно имеющейся у
Александра Македонского на подписных
изразцах: его короны. Поэтому
отождествление какой-либо фигуры из числа
участвующих в битве с царем Александром
представляется сомнительным. Можно думать,
что если эти изразцы и связывались с
сюжетом повести, то это было их вторичное
значение. Первичный же смысл, как нам
кажется, может прояснить надпись на
муравленом изразце с изображением
всадника: «Едет поляк». Генетическое родство
ранних русских изразцов с польскими
весьма вероятно, а для муравленых оно
подтверждается документально: когда красные
изразцы перестали удовлетворять московских
потребителей, в 1631 г. «из-за литовской
границы» в Москву выписали муравленика
Орнольта Евернера26 (хотя прозрачную
зеленую свинцовую поливу издревле умели
делать в родном Пскове).
Муравленые изразцы продолжали круг
сюжетов предшествовавших им красных, но
гораздо эффектнее выглядели в качестве
архитектурного декора на фоне кирпичной
стены и благодаря стекловидной глазури не
пропускали копоть, будучи
использованными для облицовки печей. Это обусловило
расширение производства муравленых
изразцов27 и обогащение их тематики. На
изразцах появились Соловей-разбойник и
Бова-королевич, птица Сирин и «Лютый
зверь лев» — образы городского
фольклора XVII в. И вместе с тем неизменно
давали о себе знать постоянные
реминисценции европейской иконографии — то в
образе рыцаря на вздыбленном коне, то в
«польских» усах разбойника, то в антики-
зированном облике и обнаженной груди
птицедевы.
Белорусы, вывезенные патриархом
Никоном на строительство его монастырей, дали
изразечному делу на Руси новое
направление. Они знали секрет производства
кроющих оловянных глазурей, позволявший
создавать полихромные изразцы. Само название
этого вида последних — ценинные —
происходит, видимо, все же не от слова
«ценный», то есть дорогой, как считали вслед за
И. Е. Забелиным, но от немецкого слова
Zinn — олово и zinnen — покрывать
оловом. После опалы Никона его мастера
переселились в московскую Гончарную слободу,
положив начало победному шествию поли-
хромных изразцов по всей территории
России. Орнаментация этих шедевров гончарного
искусства сохраняла в целом ренессансную,
иногда маньеристическую основу,
унаследованную от итальянской майолики через
Польшу и Белоруссию. Цветки-розетки —
зубчатые, округлые, «крутящиеся»; попугаи,
неясыти, индюки, павлины; декоративные
вазы, фантастические артишоки, короны с
крестами — все это, мерно чередуясь на
зеленовато-голубом фоне, радовало глаз
изысканными сочетаниями желтого, синего,
коричневого и белого. Лучшие «ценинщи-
ки» не оставались в пределах чисто
декоративных форм: Степан Иванов Полубес умел
изготавливать и изразцовые панно с
фигурами евангелистов. Для собора
Новоиерусалимского монастыря были отформованы не
только изразцы с головками херувимов, но
и целые изразцовые иконостасы, а в
конце столетия уникальными изразцами,
воспроизводящими ордерные формы,
украсился «теремок» Крутицкого подворья в
Москве.
Главным достоинством «ценинных»
изразцов представлялась, конечно, их много-
цветность. Любовь к открытому цвету,
проявившаяся во всех видах искусства XVII в.,
нашла самое полное воплощение именно в
«прикладной» сфере, где на цветовые
решения накладывалось меньше всего
ограничений технического (как в архитектуре) или
смыслового (как в живописи) плана. Цвет-
486
Часть II. Глава 6
ность русского быта XVII в. немало
удивляла иностранцев, описывавших
разноцветную сбрую, обои, ковры, знамена,
стрелецкие кафтаны. Голландец Исаак Масса даже
сравнил толпу встречавшего Марину
Мнишек народа с полем, полным различными
красивыми цветами28. Любимым цветом,
несомненно, был красный. Словарь цвето-
обозначений этого столетия включал более
двадцати его оттенков, составляющих
около 20 процентов всего «цветового спектра»,
зафиксированного в источниках29. Красным
обивали стены и сани, покрывали столы в
приказах и гробницы царей, красным
красили пасхальные яйца и стены зданий.
Возможно, предпочтение красного цвета
объяснялось не только его исключительной
цветовой активностью, но и ощущением
заключенной в нем «царственности» —
традиция, идущая от пурпурных одеяний
византийских императоров. В согласии с ней
Симеон Полоцкий писал:
«Изряднее же царем багряницы
во честь и знамя ткаху человецы,
Яко изрядно багрян цвет блистает
и украшает»30.
Вероятно, не случайно стены и мебель
царских покоев в Кремле, как и царское место
в Успенском соборе, были обиты красным
сукном, а приемная палата патриарха и его
место — синим и зеленым. Цвет и даже
оттенок обивки таких предметов определялся
заказчиком: царское место царевича
Алексея Петровича в 1694 г. было «велено
оклеить атласом червчатым или алым»31.
Красный цвет охотно сочетали с зеленым,
дополнительным ему в цветовом круге; в
такой паре оба цвета казались еще ярче.
Ювелирные изделия украшались рубинами
и изумрудами, красной и зеленой эмалью;
зеленые или бирюзовые изразцы
выделялись на фоне крашеных суриком стен; даже
полавочники — покрывала на лавки в
царском дворце — шили «клинчатыми»;
перемежая зеленые и красные клинья.
Цвет проникал всюду, даже в такие
предметы, которые, казалось бы, его не
предполагали. К серебряным паникадилам
подвешивали восковые и деревянные
раскрашенные привески в виде птичек, цветов,
виноградных гроздьев; иконостасы «флемской
рези» расписывались, помимо золота и
серебра, цветными лаками. Такой иконостас
сохранился в церкви Воскресения Словуще-
го Теремного дворца в Кремле.
Полупрозрачные лаки нежных оттенков — розовый
и бирюзовый, под которыми сквозит
светоносная, сияющая основа, делают резьбу
бестелесной, словно соткавшейся из лучей
окрашенного света. Похожий эффект
давала подцвеченная слюда, вставлявшаяся в
оконницы богатых хором или в церковные
выносные фонари. Отражал свет и
многоцветный стеклярус, которым иногда
оклеивали стены комнат. Светоносность как бы
лишала цвет его материального носителя,
позволяя ему выступать в самом чистом его
виде — par excellence.
При том что трезвучие красного, зеленого
и золотого определяло основу цветового
строя декоративно-прикладного искусства
XVII в., реальный облик вещей был
значительно пестрее. Ювелиры вводили в свои
произведения белую и голубую эмаль,
сиреневые аметисты, дымчатые топазы.
Изначально пестрые иноземные ткани одежд
вышивались золотом, камнями и жемчугом
без всякой заботы об их сочетании с
узором. Саккосы получали оплечья, зарукавья
и подольники из ткани несовпадающего
цвета и рисунка. К красным полавочникам
могли пришить голубые каймы, а
«государево место» обить тканями трех цветов и
видов. Очевидно, понятие цветовой
дисгармонии для русского человека XVII в. не
существовало: ценилась именно доведенная
до предела пестрота, перенасыщенность
цветом. Декоративно-прикладное искусство
в этом отношении успешно конкурировало
с живописью, которая как бы следовала за
вещным миром, вбирая в себя отблеск его
пестрого многообразия.
Однако в отношении овладения
пластикой и пространством уже прикладные виды
искусства ориентировались на достижения
живописи XVII в. Иногда декоративно-
прикладные вещи включали в себя
изобразительные мотивы — гравированные или
эмалевые пластины на окладах Евангелий,
росписи на сосудах, предметах мебели,
каретах. Например, наугольники с
евангелистами Евангелия 1645 г. дьяка М. Г. Ма-
тюшкина можно рассматривать как мини-
487
Книга вторая
атюрные чеканные иконы, где пространство
строится по приемам живописи этого
времени. По отношению к окладу они носят
явно аппликативный характер, что
подчеркивается их прямоугольной «иконной»
формой и жемчужной обнизью. В Евангелии
1678 г., оклад которого делала группа
мастеров во главе с известным нам Юрием
Фробосом, наоборот, изображения в
наугольниках, построенные с применением
прямой перспективы, выглядят основой
композиции: на них как бы накладывается
крестообразный средник сложных барочных
очертаний, подобно щиту скрывающий за
собой то предполагаемое пространство, в
котором существуют сидящие евангелисты.
Мотив занавесей (пологов), введенный в
наугольники, способствует почти
театральному раскрытию пространственной глубины.
Передача объема, казалось бы,
элементарно достижимая в
декоративно-прикладном искусстве, имеющем дело с реальной
объемностью вещей, тем не менее легче и
шире утвердилась в живописи. Прикладное
искусство XVII в. дольше находилось в
плену представлений о двухмерности мира,
свойственных Средневековью, —
представлений, закрепившихся в технике и
технологии производства изделий и создававших
сильную инерцию при попытке выявить
пластику изображаемого. Немаловажными
были и церковные запреты, еще раз
подтвержденные на Соборе 1666 — 1667 гг.
Поэтому сделанный по заказу патриарха
Никона в середине XVII в. панагиар с
четырьмя ангелами, копирующий
новгородский панагиар мастера Ивана 1435 г.,
удивляет не мелкими отклонениями от
оригинала, а, наоборот, удивительной близостью
своей пластики к древнему образцу. Крышка
серебряной раки царевича Димитрия,
исполненная в 1630 г. Гаврилой Овдокимовым «с
товарищи», продолжает традицию
деревянных рак XVI в. Сплошная расчеканка
одежд царевича орнаментом без учета
обозначенных на них складок, родство этого
орнамента с мелкими «травками» фона
уплощают фигуру, сводя объемные
элементы к сильно выступающему, по-романски
тугому лику и кистям рук.
Только во 2-й половине XVII в.
объемность — пока еще в виде высокого
рельефа — начинает активнее проникать в
декоративно-прикладное искусство — в
чеканку, резьбу, изразцы, даже в шитье, где
выпуклые узоры шились по подложенному
картону или бересте. В иконостасах
отчасти эмансипировалась скульптура,
тематически ограниченная Распятием, венчающим
иконостас. Из этой единственной
скульптурной формы, допущенной Собором 1666 —
1667 гг., в дальнейшем произрастет богатое
скульптурное убранство русских
иконостасов XVIII столетия.
Итак, декоративно-прикладное
искусство XVII в. своим языком выражало те же
художественные идеалы, которые воплощали
архитектура и живопись этого столетия. Но
многообразие его видов, техник
изготовления, разноголосица старых и новых форм
могут создать впечатление стилевой
эклектичности этого искусства, тем более что его
стиль действительно не поддается
определению в категориях, выработанных на
западноевропейском материале. Заимствования то
ренессансных, то маньеристических, то
барочных мотивов выглядят случайными — и
тем не менее внутренняя цельность русского
декоративно-прикладного искусства XVII в.
не позволяет считать их таковыми.
По нашему мнению, единство этого
искусства обеспечивается общностью более
высокого порядка, чем общность стиля. При
переходе от Средневековья к Новому
времени русское искусство с успехом
использовало все формы, накопленные в арсенале
новоевропейской культуры. Ренессанс,
маньеризм и барокко объединялись в этом
контексте как явления искусства Нового
времени, противостоящие искусству
Средневековья, и в таком качестве служили
неисчерпаемым источником для Руси. Здесь,
на русской почве, заимствованные мотивы
обретали новое дыхание, вплетаясь в
широкое полотно местной художественной
культуры и преобразуясь под влиянием местных
потребностей и национальных идеалов.
Декоративно-прикладное искусство Руси
XVII в. было плотью от плоти своей
эпохи; старое и новое, свое и
заимствованное, пестрое и многообразное — все это
отражало тогдашнюю жизнь России, ее
беспокойный, переменчивый, но
прекрасный лик.
488
Часть II. Глава 6
ПРИМЕЧАНИЯ
i Аевинсон-Нечаева M. Н. Одежда и ткани
XVI — XVII веков // Государственная
Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954.
С. 314.
2 Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в
России до XVIII века, и их терминология //
Сборник Оружейной палаты. М., 1925. С. 19 —
21.
3 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской
литературе XVII века. М., 1974. С. 94 и ел.
4 Там же. С. 82.
5 Постникова-Лосева M. M. Золотые и
серебряные изделия мастеров Оружейной палаты
// Государственная Оружейная палата
Московского Кремля. М., 1954. С. 177.
6 Левинсон-Нечаева M. H. Указ. соч. С. 318.
7 Цит. по: Робинсон А. Н. Указ соч. С. 84.
8 Денисова M. М. Конюшенная казна.
Парадное конское убранство XVI — XVII веков
// Государственная Оружейная палата
Московского Кремля. С. 298.
9 Сказание Авраамия Палицына // РИБ.
Л., 1925. Т. 13. Стб. 488.
10 См.: Крижанич Юрий. Политика. М.,
1965.
11 Каменская M. H. Роспись по дереву //
Русское декоративное искусство. М., 1962. Т. I.
С. 178.
12 Th. de Вгу. Emblemata nobilitati et vulgo...
Frankoforti ad Moenum, 1593; Archetypa studiaque
patris Georgii Hoefnagelii. Frankoforti ad Moenum,
1592.
13 Троицкий В. И. Организация золотого и
серебряного дела в Москве в XVII веке //
Исторические записки. М., 1941. Т. 12. С. 104.
14 См.: Постникова-Лосева M. M. Указ. соч.
С. 172.
15 Левинсон Н. Р. Подвесные осветительные
приборы XVI — XVII вв. // Труды
Государственного Исторического музея. Вып. 13. М.,
1941. С. 116.
16 Напр.: Androuet du Cerceau J. Ornements
d'orfèvrerie propres pour flanquer et emailler. Paris,
1566.
17 Гольдберг Т., Мишуков Ф., Платонова Н.,
Постникова-Лосева M. Русское золотое и
серебряное дело XV — XX веков. М., 1967.
С. 100.
18 См.: Левинсон-Нечаева M. H. Указ. соч.
С. 326.
19 См.: Денисова M. M. Художественные
доспехи и оружие // Русское декоративное
искусство. М., 1962. Т. I. С. 406. Примеч. 4.
20 Денисова M. M. Конюшенная казна... //
Указ. соч. С. 295.
21 Забелин И. Е. Историческое описание
московского ставропигиального Донского
монастыря. М., 1893. С. 22.
22 Historia sztuki polskiei w zarysie. Krakow,
1965. T. 2. S. 237.
23 Бобровницкая И. А. Русские расписные
эмали конца XVII — начала XVIII веков.
Автореф. канд. дисс. М., 1991. С. 13.
24 Бобровницкая И. А. Памятник
московского эмальерного искусства XVII века / /
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.
1985. М., 1987.
25 Розенфельд Р. Л. Красные московские
изразцы // Памятники культуры. Вып. 3. М.,
1961. С. 235.
26 Забелин И. Е. Историческое обозрение
финифтяного и ценинного дела в России. СПб.,
1853.
27 Поскольку полива была прозрачной, для
изразцов можно было использовать только
белые глины или покрывать их обмазкой —
ангобом.
28 См.: Масса И. Сказание о Московии. М.,
1935.
29 См.: Бахилина Н. Б. История цветообо-
значений в русском языке. М., 1975. С. 87 —
108.
30 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
М.; Л., 1953. С. 133.
31 Забелин И. Е. Домашний быт русского
народа в XVI и XVII столетиях. М., 1895. Т. 1.
С. 193.
Глава 7
Традиционное
направление
церковно-
певческого
искусства
XVII век —
последний этап развития древнерусской
культуры, постепенно утрачивавшей цельность,
рождавшей явления, хотя бы и скрыто
отрицавшие ее основы, и вбиравшей новое для
себя из европейского мира, опередившего
Россию на пути секуляризации, по крайней
мере, на полтора столетия. Не пережив
многое из того, что последовательно на
протяжении XIV — 1-й половины XVII
столетия определяло смысл и направление
развития культуры европейских стран, она
воспроизвела отдельные характерные черты
Ренессанса, маньеризма и барокко в
пределах еще долго удерживавшегося
средневекового мировосприятия. Противоречивость,
конфликтность, напряженность стали
существенными признаками русской культуры
этого переломного времени,
отразившимися во всех формах искусства.
В древнерусском церковно-певческом
искусстве на протяжении всего XVII
столетия продолжало развиваться
традиционное направление, представленное в том числе
его корневым стилем — знаменной
монодией. Сохранялись основополагающие
законы монодического мышления, каноническая
«лексика» роспева — устойчивые мелоди-
ко-графические формулы, осмогласие как
основной принцип упорядочения
текстового и мелодического материала. Привычное
противопоставление традиционной певческой
культуры как «старого» «новому»
партесному стилю, однако, несколько
схематизирует реальное содержание этой многоликой
эпохи, напитанной духом дискуссии, спора.
Уже с самого начала XVII в. и даже
ранее очевидным становится новое свойство
литургического пения — многообразие его
форм, монодических и многоголосных. Это,
помимо столповой знаменной монодии,
разветвленная система путевых песнопений,
роспев отдельных песнопений «большим
знаменем», демеством, имевшим, подобно
знаменному и путевому стилям, свои меньшую
и большую разновидности. На протяжении
столетия постоянно увеличивается число
авторских (Крестьянинов, знамя Варлаамово,
Лукошков, Логгина и др.) и местных
(новгородский, тихвинский, усольский,
соловецкий, троицкий, чудовский, Воскресенский
и т. п.) роспевов литургических текстов.
С середины XVII в. получили
распространение киевский, греческий и болгарский рос-
певы, связанные с влиянием культур
Украины и Белоруссии. На начало века
приходится и расцвет строчного многоголосия.
Цветник разнообразных роспевов,
возросший благодаря осознанию певческими
школами и отдельными мастерами
своеобразия, особенности их творчества, стал
свидетельством культивирования в крупных
певческих центрах различных форм
литургического мелоса, склонности знатоков
церковного пения к собиранию мелодических
вариантов одного текста. Во всяком случае
нет возможности объяснить одновременное
существование нескольких версий того или
иного песнопения ни функциональными, ни
какими-либо еще художественными или
практическими задачами. К примеру,
последняя из стихир, поющихся на вечерни на
«Господи, воззвах» в праздник Богоявления
Господня, в рукописях конца XVII в.
получает, помимо нормативной столповой
редакции, несколько мелодических решений,
возникновение которых может быть
объяснено только желанием создать нечто
особенное, отличающееся от привычного,
предложить еще одно украшенное,
орнаментированное прочтение хорошо знакомого текста.
Именно в рассматриваемый период
появление в одной рукописи нескольких редакций
песнопения стало типичным явлением
певческой книжной культуры (см. пример 1).
Разнообразие, украшенность или, как
говорили тогда, «пестрота» — новое
качество в церковном пении, властно вошедшее
в мир средневековой традиции, хотя
связывалось оно в литературных текстах XVII в.
490
Часть II. Глава 7
Пример 1
Книга вторая
преимущественно с партесным стилем
многоголосия. Заинтересованное, любовное
собирание мастером различных роспевов
одного текста, составление своего рода
певческого «вертограда многоцветного» —
достаточно прозрачная параллель ренессансной
varietà1, родившейся на Руси в недрах по
сути еще средневековой культуры, в стенах
монастырей, которые были не только
хранителями традиций, но и средоточием
творческих потенций эпохи. Движение мысли
вширь, потребность в декоративном
разнообразии решений не были спровоцированы
каким-либо внешним влиянием. Умножение
вариантов и их коллекционирование в
рукописи, переключение внимания мастера - рос-
певщика с текста как такового и его
канонического роспева на изобретение
хитроумных мелодических орнаментов стало в
большой мере итогом саморазвития певческого
искусства. Успех распространения в
середине XVII в. нового партесного стиля лишь
вывел на поверхность, сделал явными и
утвердил глубинные сдвиги сознания,
наметившиеся в древнерусской культуре еще во
2-й половине XVI в.
Изобильное цветение певческого
литургического творчества усилило потребность в
детальной фиксации различных
богослужебных чинов, сложившихся в важнейших
центрах церковной культуры, и в первую
очередь — в главных соборах Новгорода и
Москвы. Приверженность порядку была
знаком верности церковному преданию со
времен св. Апостолов, основывалась на
священных словесах Писания: «8са же
благообразна и по чин# дл бываютъ» (1 Кор 14, 40).
Соборные Чиновники описывали
особенности богослужения фактически на каждый
день церковного календаря. Они
предписывали порядок передвижения
священнослужителей и других членов клира в пространстве
храма и совершаемые ими действия: так, в
службе Великого Пятка отмечалось, что по
целовании Евангелия «святитель входит в
олтарь с места по чину и кадит олтарь весь,
а певцы поют исполайти и подияки среди
церкви Святыя славы. Тогда вторая
станица подияки во олтаре поют исполайти
тройную. И по кажении подияк сказывает
прокимен и чтет паремии пред царскими двер-
ми, а святитель отходит со властьми на
горнее место и садятся вси...»2. С большой
степенью подробности описывались состав
участников богослужения, моменты звучания
колоколов, набор и тип звона, виды
архиерейского облачения (саккосы «богородиц-
кой», «большие кресты лазоревой»,
«большие круги», «меншие кресты постной»,
«кресчатой рудожелтой», «вседневной» и
т. п.). В строгом порядке, «чине»,
установленном Чиновником в согласии с местной
традицией, сменяли друг друга различные
стили певческого искусства. В Св. Софии
Новгородской в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы «обедню поют на
правом клиросе демественную, а на левом
строчную новгородцкую, а подияки все поют ам-
бонное демественное». Под 25 сентября на
преставление преп. Сергия Радонежского в
том же новгородском соборном Чиновнике
указано, что «обедню певцы поют на оба
лика строчную московскую, а подияки поют
все амбонное демественное». Память святого
московского круга отмечается преобладанием
московского же стиля многоголосного пения.
Особенно детально описывается в
Чиновниках порядок богослужения, имеющий
единичный характер. Так, в субботу первой
седмицы Великого Поста, когда протодиакон
«идет на амбон кликать сенодика», «вечные
памяти поют: первое попы за престолом в
олтаре, 2-е подияки на правой стране
престола, 3-е певцы на левом клиросе. На
втором кликании по иереох подияки поют, 2-я
станица, на левой стране престола и певцы
на правом клиросе. И тако поют вечную
память и проклинание подияки и певцы и до
скончания, переменяяся, а презвитеры
беспрестанно поют. И поют вечную память по
кликанию: егда протодиякон возгласит бол-
шую, тогда иереи вечную память поют бол-
шую, подияки же и певцы поют деместве-
ную; и егда возгласит среднюю, тогда иереи
поют среднюю, а подьяки и певцы поют
строчную; и егда возгласит меншую, тогда
иереи поют меншую, а подияки и певцы
поют меншую же»3. Разнообразие певческих
стилей, каждому из которых было найдено
строго определенное место в чине, и любой
из них сам по себе получали через эту
чтимую традицией упорядоченность богослов-
ско-литургическое оправдание, становились
символами церковного благообразия и «ле-
492
Часть II. Глава 7
поты»: «Что убо есть поднебесную
украшающее, разве чин церковный, светло
сияющий?»4
НОВЫЕ ЧЕРТЫ
Распространение и умножение неосмо-
гласных форм роспева песнопений,
связанное с появлением и развитием певческой
книги Обиход, поставило перед мастером-
Пример 2
ческие формулы-попевки. Сохранявшиеся в
нотации нормативные знамена могли здесь
вступать в произвольные сочетания,
учитывающие лишь самые общие принципы
простановки знаков (запятая, крыж — для
нижнего, сорочья ножка — для верхнего участка
звукоряда, умножение точек — показатель
повышения тона и т. п.). В круге гласовых
песнопений знаток певческого искусства
чаще сталкивался с различными местными
Стихира на Рождество Христово, глас 2:
1. Столповой роспев. 2. Ин росте. РГБ,
ф. 304. I № 450, а. 123об.-125
роспевщиком совершенно новую творческую
проблему. Если в XVI в. был впервые
записан роспев неизменяемых песнопений
Вечерни, Утрени и Литургии, видимо, имевший
к тому времени более или менее устойчивую
мелодическую традицию, обусловленную
устным способом бытования, то
впоследствии, особенно в XVII в. именно эти
песнопения стали областью, самой доступной
. для новаций. Главным поводом
раскрепощения мелоса был неосмогласный характер
песнопений, не ориентированный на
каноническую «лексику» — традиционные мелоди-
или авторскими вариантами исполнения той
или иной попевки, фиты5, с
перераспределением канонических мелодических формул
(«ин перевод»; см. пример 2).
Получив возможность отчасти свободного
мелодического мышления вне нормативной
формульности, роспевщик, находившийся
еще в пределах традиционной культуры,
сразу же оказался перед сложной задачей
изобретения материала. Конечно же его
изобретательность и хитроумие еще очень
сильно зависели от канонического мелоса,
характерных оборотов, типичных приемов их
сцепления и вариантного преобразования.
И все-таки именно здесь, в сфере
средневековой певческой традиции, совершался
прорыв к новому типу мышления, который
493
Книга вторая
можно было бы назвать «композиторским».
Впечатляющей иллюстрацией этого
прорыва могут стать песнопения опекаловского
роспева, созданного в XVII в. в Опекалов-
Вознесенском монастыре6. Опекаловские
роспевщики, давшие свою мелодическую
версию Трисвятого надгробного, поющего-
ся на утрени Великой Субботы, без
сомнения, исходили из распространенной в то
время редакции, о чем свидетельствуют как
отдельные элементы роспева, так и
обобщенный контур песнопения7. Повторив
зачин традиционного роспева, роспевщики
(или роспевщик?) извлекли из него идею
последующего мелодического развития,
весьма динамичного, риторически
выразительного и вместе с тем совершенно
конструктивного. Заложенная в начальном
обороте идея поступенного раз движения амби-
туса в значительной мере определяет
интонационное развертывание в каждой из
повторяющихся строф надгробного.
Совпадение мелодического рисунка с
музыкально-риторической символикой креста,
g
е f подчеркнутая прерывистость, за-
d
трудненность ритмического движения и как
бы с усилием расширяющийся диапазон
мелодии, невольно заставляющие вспомнить
тяжело раскачивающийся язык колокола,
выдают стремление роспевщиков к
предельной выразительности, обостренному
воспроизведению «плача священного» и
таинственного «ужаса». Литургические тексты
Великих Пятка и Субботы пронизаны
напряженными антиномиями, передающими то же
состояние: «Тебе одеющагося светом яко
ризою <...> видев мертва», «Како
погребу Тя, Боже мой», «Жизнь — во гробе
положился еси, Христе», «Животе, како уми-
раеши», «Тебе, невечернему свету,
Христе, зашедшу во гробе плотски». Пожалуй,
однако, ни в одной другой версии
Трисвятого мелодия не обретала столь осязаемой
конкретности образа и столь очевидной
продуманности непрерывного развития
начального ядра (см. пример 3).
Степень сформулированности начальной
интонационной идеи предопределяет
характер ее развертывания в песнопении. В
стихире на целование Плащаницы того же
опекаловского роспева источником огромной
по протяженности композиции становятся
начальное опевание квинтового тона лада и
традиционный для XVII в. мотив
сокрушенного плача8. Возвращение к этому ядру и его
вариантное развитие позволяют преодолеть
попевочную мозаичность, дискретность
нормативной строчной структуры, свойственную
гласовым песнопениям. Выращенная из
исходных интонаций, уникальная по
протяженности композиция стихиры открывает новое
для церковно-певческого искусства качество
мелодического мышления — его
динамичную процессуальность, сменившую статуар-
ность попевочного плетения. Собственно
музыкальным символом движения в роспе-
ве становятся частые мелодические
секвенции. Напряженность, нервная изменчивость
мелодического течения, ритмическая
импульсивность, прояснение ладового наклонения
(здесь — минорного) и очевидная
тенденция к централизации лада, ведущая к
обострению ладово-мелодических связей, —
характерные знаки повышенно
эмоционального, чувственно конкретного восприятия и
«аффектной» трактовки литургического
текста, чисто барочной экзальтированности. Не
менее важной приметой стиля барокко в
роспеве является риторичность мышления,
ярче всего проявляющаяся в фигурах —
плача, восклицания, креста (см. пример 4).
Пронизанность стихиры мотивами опева-
ния, «обвивания» позволяет расслышать в
них звуковой аналог изображению
погребальной пелены в иконах «Оплакивание»
(«Положение во гроб») и рассматривать ее
роспев в целом как символ Плащаницы.
Стоит особо отметить и то, что в конце
XVII в. опекаловский роспев стихиры на
целование, естественно, не рассматривавшийся
как неприкосновенный и редактировавшийся
в соответствии со средневековыми нормами
отношения к музыкальному тексту,
приобрел еще одну специфическую черту
индивидуализированного мышления, состоящую в
смысловом цитировании из другого, хорошо
известного источника. В последней строке
раздела, передающего речь Богоматери, на
слове «плач» анонимный редактор вводит
прямую цитату из Трисвятого надгробного
того же роспева, причем использует для
этого самый характерный, самый вырази-
494
Часть II. Глава 7
Пример 3
Книга вторая
тельный и запоминающийся его фрагмент
(см. пример 5).
Полностью в сфере развития церковно-
певческого искусства XVII в., но на другом
ее полюсе находятся новые стили роспева,
распространившиеся в середине столетия, —
«греческий», «киевский» и «болгарский».
Включение в круг русского
богослужебного пения иноземных роспевов символичес-
Пример 5
этих певческих стилей, и анализом самих
мелодий. Происхождение болгарского
роспева пока остается дискуссионной
проблемой, хотя его западноукраинские истоки,
засвидетельствованные рукописной
традицией, представляются вполне вероятными9. По
аргументированному мнению исследователя
киевского роспева украинских Ирмологио-
нов XVII — XVIII вв., он принципиаль-
Стихира на целование Плащаницы. Роспев
Опекалов: 1. Вариант конца XVII в. ГИМ,
Синод, собр. № 127, л. 415об.-418.
Успенский Н. Д. Древнерусское певческое
искусство. М., 1971. Изд. 2-е, доп., с. 354. 2.
Вариант середины XVII в. РГБ, ф. 379, № 29,
л. 111. Расшифровка И. Ф. Безугловой
ки объединяло страны православного мира
вокруг Москвы, пронесшей через Смуту
чистоту веры. Одновременно
осуществленное в реформе патриарха Никона
исправление уставных и богослужебных певческих
книг по образцу современных им греческих
не менее символично вводило Русь в круг
православных европейских государств,
обеспечивало «вселенский» характер Русской
Церкви.
Символический, отчасти условный
характер обозначений «киевский», «греческий»,
«болгарский» подтверждается
исследованиями источников, содержащих песнопения
но отличается от песнопении с тем же
стилевым обозначением в русских певческих
рукописях. Вероятно, «русский» киевский
роспев «мог создаваться уже самими
русскими роспевщиками на основе их собственных
представлений об этом стиле»10. Остается
только удивляться «своеволию»
великорусской культуры, если учесть, что в XVII в.
в московских пределах находилось много
образованных церковных деятелей,
выходцев из Малороссии. Сходное явление
представляет собой и греческий роспев,
связанный с приездом в Москву греков
архимандрита Дионисия и иеродиакона Мелетия «с
товарищи», имеющий параллели с поздне -
греческой певческой культурой11, но
приспособленный к восточнославянскому
интонационно-мелодическому мышлению.
Греческий роспев получил на Руси широкое
распространение и даже собственную
разновидность нотации, производную от путевой и,
отчасти, демественной12. Русский тип нота-
496
Часть II. Глава 7
ции косвенно говорит о стремлении
приспособить заимствованный мелос к звуковой
среде древнерусской певческой традиции,
включить его в круг общерусских роспевов
на правах одной из стилистических
разновидностей.
Стилистика киевского, греческого и
болгарского роспевов обозначила характерные
черты духовных стремлений эпохи, но в
совсем ином модусе по сравнению с опека-
ловским и другими разновидностями
большого роспева (знаменной, путевой, деме-
ственной). Движение к земному, мирскому
в них не связывалось с отражением
эмоциональной сферы человека, осознанием
ценности отдельной личности, с ощущением
напряженной динамичности жизненных
процессов и индивидуализацией творчества
роспевщиков. Несмотря на то, что каждый
из них имел по сложившейся традиции свою
«парадную» разновидность (большой
вариант роспева), в целом все три стиля
тяготели к большей простоте языка, к формам,
учитывающим реалии мирской жизни, —
время, уровень профессионализма
приходских хоров, изменившуюся звуковую
атмосферу эпохи. Интересно, что период
первоначального распространения киевского,
греческого и болгарского роспевов
приблизительно совпадает со временем исправления
певческих книг «на речь», то есть с
приведением специфически книжной традиции
произнесения и написания литургических
текстов в соответствие с живой речью.
Изменения, происходившие в мелодическом
мышлении, также были обусловлены
слуховой ориентацией на естественные
акустические закономерности, определяемые
природой самого музыкального тона, его оберто-
новым рядом.
Все три роспева характеризуются
нейтральным, интонационно сглаженным
рисунком мелоса, вполне индифферентного в
отношении смыслового содержания текста.
Усредненность интонации сочетается с
явными признаками централизации мажоро-
минорного лада, хотя бы и с чертами
переменности, с большей однозначностью и
жесткостью ладово-мелодических связей,
выдвижением на первый план кварто-квин-
товых отношений тонов, высвечивающих
гармоническую основу мелодики. Новые
качества мелодического мышления
дополнялись единообразием ритмической системы,
тяготеющей, в отличие от знаменной,
путевой и особенно демественной, к простой
бинарности, симметрии, в болгарском рос-
певе — даже с элементами метричности13,
а в области структуры — склонностью к
повторности целых мелодических блоков,
близкой строфике (см. пример 6).
В киевском, греческом и болгарском рос-
певах с полной очевидностью проявляется
пристрастие слуха к «сладостной»
согласованности гармонического лада, «мусикийс-
кому согласию». Не случайно эти роспевы
без труда, естественно включились в бурно
развивавшуюся в XVII в. многоголосную
традицию древнерусского певческого
искусства и были столь любимы сторонником
партесного пения патриархом Никоном,
который «первее повелев соборной церкви
греческое и киевское пение пети»14.
Многоголосие, связанное с киевским,
греческим, болгарским и знаменным
оригиналом-первоисточником, однако,
представляет собой раннюю разновидность
партесного пения, фиксировавшуюся в рукописях
начиная с 70 — 80-х годов XVII в.
Традиционная же форма русского
многоголосия15, зародившаяся еще в конце XV в.,
получила широкое распространение с
самого начала XVII в., охватив полностью
певческий репертуар всех богослужебных
чинов. Вопрос о раннем русском
многоголосии по-прежнему остается одним из самых
сложных: до сих пор в опубликованных
исследованиях отсутствуют как убедительная
классификация его типов, точность стилевых
характеристик, так и обоснованная,
непротиворечивая методика дешифровки. Не ясны
принципы ритмической координации
голосов партитуры, очевидна спорность и
непоследовательность в подходе к самой
нотации16.
Чиновник новгородского Софийского
собора, появление которого относят к 1-й
трети XVII в., устойчиво различает два типа
многоголосия — строчное (новгородское и
московское) и демественное: в праздники
Рождества Богородицы, Воздвижения
Креста, на память св. великомученика Никиты
и сретения Владимирской иконы
Богоматери и другие дни «обедню поют правый лик
497
Книга вторая
Пример 6
/. Тропарь, глас 2. Болгарский роспев. Успен-
ский Н. Д. Древнерусское певческое
искусство, с. 306. 2. «Достойно есть» киевское.
Успенский Н. Д. Образцы древнерусского
певческого искусства. Л., 1971. Изд. 2-е, доп.,
с. 111—112. 3. Задостойник на Литургии
св. Василия Великого. Греческий роспев.
Успенский Н. Д. Образцы, с. 100-102
498
Часть IL Глава 7
демественную, а левый строчную новгород-
цкую, а подияки на амбоне поют все деме-
ственное»17. Фиксация многоголосия в
рукописях уже с XVI в. и контекст, в
котором упоминается демество в Чиновнике —
пение демеством правого лика дьяков в
сочетании со строчным пением левого лика, —
убеждают в том, что здесь имелось в виду
именно многоголосное демество. Исследова-
Пример 7
главную его примету, присущую, впрочем,
не в меньшей степени и деместву. Она
состоит в преобладании горизонтальных
мелодических связей над вертикальным
измерением звукового пространства, в линеарное-
ти голосоведения, линейном развертывании
каждой из строк, составляющих
полимелодическое целое. Строчное многоголосие
может быть уподоблено древнерусскому
ние стилевых отличий строчного пения и
демества пока остается делом будущего,
однако для апологета новой певческой
традиции Иоанникия Коренева оба стиля
объединялись по признаку диссонантного
звучания, пренебрежения гармонической
вертикалью («благим согласием»), присутствия
«несогласного тригласия» и «злых конценан-
цый», обусловленных незнанием «мусикий-
ской грамматики»18.
Название одной из стилевых
разновидностей традиционного многоголосия —
«строчное» — вполне точно определяет
Строчное многоголосие. Успенский Н. Д.
Образцы, с. 172
лицевому шитью, где «путь», ведущий
традиционный напев, — литургический образ
средника, а другие «строки» —
маргинального характера, но имеющие собственный
литургический (изображения типа клейм^,
надписи) или символико-орнаментальный
смысл (например, растительные мотивы).
Самостоятельность строк, именуемых «низ»,
«путь», «верх» и «демество» (они могли
участвовать в двух- и трехголосных
песнопениях в разных комбинациях и лишь в
последних десятилетиях XVII в. составили
четырехголосную ткань), вела к
возникновению многочисленных параллелизмов,
причем не только совершенных и
несовершенных консонансов, но и диссонирующих
интервалов (см. пример 7).
С середины столетия, когда началась
постепенная переориентация слуха на евро-
499
Книга вторая
пейское многоголосие гармонического типа,
строчная форма стала восприниматься
сторонниками партесного пения как результат
невежества, неосведомленности в
премудрости мусикийской. Сосредоточенность на
«благом гласовании», на согласованности
голосов по вертикали, отразилась в
певческой терминологии нового партесного стиля
многоголосия, где каждый голос — только
«партия», то есть часть целого,
утрачивающая смысл без остальных. Уже ранние
партесные композиции обозначили вполне
определенный поворот от главенства
мелоса во всех голосах многоголосной ткани к
приоритету гармонии, регулирующей как
вертикальные, так и горизонтальные связи,
от отношений равенства, где основной
голос — первый среди равных, к господству
одной линии при вторичности других,
создающих полноценную гармоническую
вертикаль, новое пространственное измерение в
певческом искусстве.
Бурное и многоплановое по стилевой
направленности развитие певческого
искусства в XVII в. обострило проблему записи
новых образцов и стимулировало эволюцию
теоретической мысли. Естественным и
закономерным результатом индивидуализации
творчества стала детализированность,
большая однозначность способов фиксации рос-
пева. Парадоксальным образом
высвобождение мелоса из «плена» канонических
образцов вызвало к жизни систему
значительно более точной и жесткой записи
песнопений, распространение которой
сопровождалось постепенным отходом от
возможности вариативного прочтения невменной
строки. Отдельные песнопения, причем не
только внегласовые, но и осмогласные,
начинают записываться так называемым
дробным знаменем, сравнительно точно
фиксирующим каждый шаг мелодии, без « тайно-
замкненных» и иных нормативных формул
традиционного осмогласия. Дробное знамя,
сохраняя отчасти богатство внутреннего
содержания знаковой системы (отношение к
высоте, длительности, акцентности и др.)»
превращает запись в ряд нейтральных
дискретных смысловых точек19. В свою очередь
большая выработанность, дифференцирован-
ность нотации подталкивала развитие
индивидуального « мастеропения ».
Тенденция к достижению точности и
однозначности записи
индивидуализированных разновидностей роспева песнопений
имела закономерную параллель в эволюции
древнерусских теоретических руководств по
певческому искусству. В азбуках отражается
весь противоречивый комплекс
художественно-эстетических явлений, относящихся к
традиционному церковному пению XVII в.
Стремление приспособить невменную
систему к новациям авторского творчества
сочеталось с охранительной функцией нотации,
желанием защитить традиционную
мелодическую культуру, воспринимавшуюся как
«древнюю» и ведущую начало от самого
«божественного Иоанна Дамаскина», от
надвигающихся перемен глобального
характера: «Древле убо Пресвятаго и
Животворящего Духа вдохновением божественный
Иоан Дамаскин Христову Церков украси
осмогласным духовным пением осмих ради
частей словеснаго любомудрия. На после док
же лет никии богоискусныи снискатель и
доброразсудныи учитель, божественнаго
пения истинный рачитель, вдохновением
того же Пресвятаго и Животворящаго Духа,
по дарованней ему благодати умысли в бо-
жественнем пении
над знаменем подметныя согласныя слова
написати,
еже бы пресвятое имя Божие в пении согласно
воспевати,
и сии бо, якоже некий столп незыблем, твердо
водрузити,
и шатание неведущим истинны до конца
искоренити,
а божественному бы славословию отнюд
непоколебиму быти»20.
Сохраняя прежний способ фиксации
песнопений, азбуки вместе с тем легко вливались
в русло никоновских реформ, совпадая с ними
в установке на необходимость знания
грамматики, правил написания текста. Роль
азбук, грамотности заметно повышается и
получает идеологическое обоснование: «Всякий
бо разум от божественнаго откровения
просвещается и от благоразумных дидаскаль
научается <...> Проклят бо, рече
Божественное Писание, иже творит с небрежением
дело Божие. А грамотное учение, вемы, яко
дело есть Божие» (курсив наш. — И. Л.)21.
500
Часть IL Глава 7
Необходимость подобных обоснований
диктовалась тем, что усвоение певческой
азбуки новой формации, с ее сравнительно
универсальной системой помет, открывало
принципиально иную возможность перед
роспевщиком — возможность
самостоятельного творчества без оглядки на канон22.
Своего рода символом изменившегося
смысла знаменной нотации стало роспевание
Фрагмент азбуки. РГБ, ф. 299, л. 2/2,
л. 134об. Рукописная копия
знаменами и даже формулами названий букв
церковнославянского алфавита. Дидаскал,
включивший роспев азбуки в свое
певческое руководство, как бы говорит читателю:
«Вот буквы, из которых складываются
разнообразные слова и тексты, а вот
знамена — те же буквы, из них складываются
различные песнопения» (см. пример 8).
Певческие азбуки XVII в. обычно
состоят из нескольких отделов: в них сохраняются
старые типы руководств — перечисления
столповых знаков («имена знамени») и
толкование их певческого значения («како ко-
еждо знамя поется»), вводятся новые —
перечисление попевок («имена попевкам»,
«кокизы имена им»), в том числе и по гла-
сам («имена знаменным строкам по
гласом»), розвод мелизматических формул
(«розводы фитам знаменным и имена им»),
азбуки других форм нотации (путевой, де-
мественной, казанской), объяснение
разновидностей помет (с середины века;
«сказания пометкам»). Своды попевок,
наполнившие азбуки, были призваны
систематизировать и закрепить каноническую лексику
роспева, поставить преграду
самостоятельному творчеству уже в процессе обучения.
В этом смысле показателен «ключ
столповому знамени», составленный по аналогии
с известным поздневизантийским
руководством, так называемым «учебным
песнопением», приписываемым Иоанну Кукузелю.
Он включает обширное собрание мелодико-
графических формул по гласам с подтекстов
Прамер 9
Фрагмент азбуки. РГБ. ф. 299, № 212,
л. 135. Рукописная копия
кой каждой формулы ее названием, явно
предназначенное для заучивания23 (см.
пример 9).
Другой вид «словаря попевок» предлагает
изучение их в контексте песнопений вместе
с литургическим текстом. Указание на
пение мелодической формулы с помощью
хорошо знакомого текста совершенно
аналогично принципу изложения материала в
иконописных подлинниках, определению
неизвестного через известное. Этот способ
передачи знания использован и в
руководствах по новым видам нотации, где знаки
путевой, казанской и демественной нотаций
объясняются через столповые знамена
(например, в «Ключе знаменном» инока
Христофора, 1604 г.: «А се путное знамя роз-
ведено столповым»).
Введение системы киноварных помет,
уточняющих высотное положение знамен и
501
Книга вторая
детали их исполнения, с одной стороны,
играло охранительную роль, так как оно
помогало зафиксировать традиционные роспевы
в их сложившейся форме. Это
теоретическое достижение, однако, имело и оборотную
сторону, ибо трансформировало
многозначную невму почти в подобие ноты. Конечная
точка процесса — появление двознаменных
рукописей, воспроизводящих тексты
песнопений одновременно знаменной нотацией и
«киевской» квадратной нотой. Для
обоснования подобных нововведений вновь был
использован знакомый, типичный для
средневековой культуры набор доказательств.
Составитель одного из наиболее полных
руководств по нотолинейной системе —
«Сказания о нотном гласобежании и о
литерных знаменных пометах, и о знамени
нотном» — архимандрит Тихон Макарьевский
начинает свой трактат с упоминания о Бо-
жией помощи и древних «песнорачителях»,
способствовавших появлению его труда:
«Благодатию и помощию Всесилнаго Бога,
молитвами же неусыпными Пресвятыя
Богородицы и всех святых <...> все отчасти
написахом зде <...> Но яко же пес
крупицы, падающия под трапезою господий
своих, собирает, такожде и аз древних песно-
рачителей — от их преводов сие воедино
собрав <...>»24.
Утрату знаменем смыслового богатства и
многозначности на уровне теории как бы
восполняли появившиеся в XVII в.
аллегорические толкования знаков,
приписывающие им содержание, весьма далекое от
конкретного значения: «Параклит — послание
Духа Святаго от Отца на апостолы <...>
Полкулизмы полная — пост и плачь о гре-
сех пред Господем <...> Столица — сми-
реномудрие в премудрости <...>
Голубчик — гордости всякия гордость <...>
Статия — срамословие и суесловие отбега-
ние. Мрачная — скорое к Богу обращение
от грех покаянием. Светлая — снискание
Божественных Писаний. С сорочьею
ногою — сребролюбия истинная ненависть.
Закрытая — закона Господня истинное
хранение <...>» (РГБ. Ф. 299. № 212.
Л. 122 — 124об.). Как мало это похоже на
деловитые, хотя и не всегда понятные
современному читателю указания нормативных
азбук, ведущих происхождение от
руководств XVI в.: «Параклит в начале стиха
и строк якоже и светлый крюк возгласит
<...> Стат(ь)я простая постоят мало.
Мрачная стат(ь)я повыше простые,
пониже светлые. А светлая держат высоко <...>
Полкулизмы полная повернут <...>
Голубчик двигнут гортанью <...> Столица
просто говорит <...>»25.
Наряду с аллегорией для богословского
Пример 10
«Горка» с Иисусовой молитвой. РГБУ ф. 379,
№ 19, л. 32. Рукописная копия
оправдания нововведений в книжную
певческую культуру использовались и
традиционные для Средневековья символические
обоснования. В азбуке середины XVII в.,
объясняющей смысл применения
киноварных помет при знаменах, рассказу о
конкретном содержании каждого «подметного
слова» предпосылается вступительный
раздел, в котором эти значки включаются в
сферу божественного: они помогают
«божественному славословию о* прекословцев не-
мятежну пребывати». Объясняя значение
«степенных» помет, составитель не
оставляет без внимания их количество — семь,
предлагая одно из известных символических
истолкований числа:
«Не просто бо сия согласныя слова
учинены,
но по образу сего седморичьнаго века
сотворены».
502
С той же целью автор вступления к
азбуке использует поступенно восходящее
движение помет для уподобления их
высотной шкалы образу «лествицы»: «По сим убо
словам, якоже по некоей высоковосходной
лествице, по степенем, от нижния первыя на
вторую возступаем, такоже и по прочим до
высоты достигаем. Сего бо ради от нижняго
согласия начало положихом, яко от долня-
го искати горняго, от Божественнаго
Писания навыкохом»26. Характерным
графическим изображением «высоковосходной
лествицы» становится так называемый горо-
восходный холм («горка»). Символическое
значение поступенного движения помет, их
непосредственную связь с миром
божественных славословий утверждает «горка», в
которой каждому из девяти
использованных обозначений (также известнейший чис-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение
в поисках индивидуальности. М., 1989.
С. 104 — 137. Вербальное выражение мотив
varietà получил лишь в текстах новой формации,
подобных «Мусикии» Иоанникия Коренева:
«Многи убо и различны суть образы хваления
Бога»; «много свидетельств от божественных
писаний суть, яко в церкви Божий суть пения
от многих святых издашася»; собор гимнографов,
«избранных труб и свирелей» — «рай вторый
эдемский, цветы благоухающими пестрообразно
преукрашенный». См.: Музыкальная эстетика
России XI — XVIII веков. М., 1973. С. 113,
115.
2 Голубцов А. Чиновник новгородского
Софийского собора. М., 1899. С. 203.
3 Голубцов А. Чиновник новгородского
Софийского собора. С. 22, 34, 168 — 169.
4 «Сказание божественнаго пения о пометных
словех, еже пишутся над знаменем» — азбука
середины XVII века (ГПБ, О. XVII. 19, л. 73).
Цит. по кн.: Певческие азбуки Древней Руси /
Публ., перев., предисл. и коммент. Д. Шабали-
на. Кемерово, 1991. С. 113.
5 Парфентьева Н. В. О некоторых
особенностях авторских разводов фит (по певческим
рукописям XVII в.) // Музыкальная
культура Средневековья. Вып. 1. М., 1990. С. 133 —
140; Ее же. Творчество мастеров усольской
(строгановской) школы древнерусского
певческого искусства (XVI — XVII вв.). Автореф.
канд. дисс. М., 1994. С. 9, 13 — 15.
ловой символ «девяти чинов ангельских»)
соответствует слог молитвы Иисусовой —
средоточия аскетического «художества» и
образа духовного восхождения (см.
пример 10).
Противоречивое соединение в
музыкальной теории чисто средневековой
символики то с аллегоризмом, то с вполне
элементарными правилами певческого ремесла
обусловливалось неоднородностью, много-
слойностью развития традиционного
направления самого церковно-певческого
искусства. Его внутренняя конфликтность —
следствие попытки решить назревшие
проблемы эволюционным путем. Она
оказалась художественно плодотворной, но
идеологически безрезультатной.
6 Безуглова И. Ф. Каноническое и
индивидуальное в творчестве роспевщиков XVII века
(Опекаловский роспев). Дисс. Л., 1982.
7 Там же. С. 126 — 128, 156 — 157.
8 Безуглова И. Ф. Указ. соч. С. 40 — 41.
9 Вознесенский И. И. Осмогласные роспевы
трех последних веков Православной Русской
Церкви. Вып. 2. Болгарский роспев или
напевы на «Бог Господь» Юго-Западной
Православной Церкви (техническое построение). Киев,
1891; Преображенский А. В. Культовая
музыка в России. Л., 1924. С. 52; Динев П. О
самобытности болгарского распева // Болгарская
музыка. Т. III. София, 1963; Крыстев В. Пути
развития болгарской музыкальной культуры в
период XII — XVIII столетий // Musica antiqua
Europae Orientalis, I. Warszawa, 1966. С. 45 — 65;
Toncheva E. Problems of ancient Bulgarian music.
Soha,1975; Idem. Balkan notated sources on the skit's
«Bolgarskij rospev» (Bulgarian chant) in the Ukraine
//The Turnovo literary school, 4. Sofia, 1985,
p. 412 — 429; Болгарский роспев: Българо-рус-
ки музикални връзки пред XIV — XVIII вв. //
Симпозиум. София, 1982.
10 Шевчук Е. Киевский роспев как явление
певческого искусства Юго-Западной Руси (По
материалам украинских Ирмологионов XVII —
XVII веков из фондов рукописного отдела
Центральной научной библиотеки АН УССР) //
Музыкальная культура Средневековья. Вып. 2.
М., 1991. С. 47 — 48.
11 Игошев Л. А. Происхождение греческого
503
Книга вторая
роспева (Опыт анализа) // Памятники
культуры: Новые открытия — 1982. М., 1994.
С. 148 — 150.
12 Богомолова М. О репертуаре греческого
роспева в записи «греческой» нотацией //.
Герменевтика древнерусской литературы. XVII —
начало XVIII в. Вып. 4. М., 1992. С. 256 —
285.
13 Холопова В. Н. Русская музыкальная
ритмика. М., 1983. С. 79 — 82.
14 Шушерин И. Известие о рождении и
воспитании и о житии святейшего Никона,
патриарха московского и всея России. М., 1871.
С. 13.
15 См.: Бражников М. В. Многоголосие
знаменных партитур // Проблемы истории и
теории древнерусской музыки. Л., 1979; Пожида-
ева Г. А. Виды демественного многоголосия
// Русская хоровая музыка XVI — XVIII
веков. М., 1986; Шиндин Б. А., Ефимова И. Е.
Демественный роспев: монодия и многоголосие.
Новосибирск, 1991.
16 Так, на почти полное совпадение нотации
голоса «путь» в стихире из многоголосного «деме-
ственника» с записью того же песнопения путевой
монодией, указал еще Н. Д. Успенский
(Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С. 271).
Этот факт позволяет усомниться в
правильности существующих дешифровок, по крайней мере,
гласовых песнопений, сделанных с помощью
демественных азбук (как известно, демество не
подчинялось системе осмогласия). Тезисная, но
источниковедчески обоснованная классификация
типов многоголосия предложена в ст.:
Богомолова М. Рукописные источники безлинейного
многоголосия в фондах ГИМ и ГБЛ //
Музыкальная культура Средневековья. Вып. 2
(Тезисы и доклады конференций). М., 1991.
С. 95. На нерешенность проблемы
дешифровки многоголосия указывает Г. А. Пожидаева.
См. ее ст.: Демественное пение // Герменевтика
древнерусской литературы. Сб. 6. Ч. 2. М.,
1993. С. 458.
17 Голубцов А. Чиновник новгородского
Софийского собора. С. 22, 31, 32.
18 Музыкальная эстетика России XI —
XVIII веков. М., 1973. С. 106,109 — 110,116
и далее.
19 Несколько иначе эволюцию знаменной
нотации представляет М. Г. Школьник. См. ее
ст.: К проблеме интерпретации певческого
знамени в столповом роспеве XVII
века//Музыкальная культура Средневековья. Вып. 1. М.,
1990. С. 109 — 132.
20 Цит. по кн.: Певческие азбуки Древней
Руси. С. ИЗ.
21 Певчие азбуки Древней Руси. Л. 70 — 71.
22 См.: Б. А. Успенский. Отношение к
грамматике и риторике в Древней Руси (XVI —
XVII вв.) // Литература и искусство в
системе культуры. М., 1988. С. 216.
23 Полное название «Ключа» намекает на
связь этого раздела азбуки с византийским
источником: «Кокиза сиречь ключ столповому
знамени. Имена знаменным строкам. По
гласом». Слово «кокиза» (или «кукиза»),
обозначавшее как конкретную формулу, так и вид
руководства, явно связано с именем
прославленного мелурга.
24 Цит. по кн.: Певческие азбуки Древней
Руси. С. 175.
25 РГБ. Ф. 379. № 15 (середина XVII в.).
Цит. по кн.: Певческие азбуки Древней Руси.
С. 64 — 65.
26 Певческие азбуки Древней Руси. С. 114 —
115.
Глава 8
Барочные формы
музыкальной
культуры
D числе наиболее
сложных и внутренне противоречивых эпох
русской музыкальной культуры —
отечественное барокко (2-я половина XVII —
1-я половина XVIII в.). По
решительности происходящего обновления,
динамичности перемен его можно уподобить лишь
рубежу X — XI вв., когда с культурой
христианства Русь восприняла и основы
византийской музыкальной системы. Достаточно
условно ограничиваясь рамками полувека —
от никоновских реформ до упразднения
патриаршества Петром Первым, — мы
прикасаемся к певческой культуре,
пронизанной антиномичностью. Острота
внутренних противоречий музыкального барокко,
присущая и отдельным музыкальным
памятникам, и соотношению целых
стилистических пластов, невольно вызывает аналогии и
с культурой XX в.
Важнейшим проявлением эстетического
обновления стало быстрое распространение
и официальное признание многоголосия в
церковно-певческом обиходе после почти
700-летнего господства в нем монодии (то
есть одноголосного пения без
сопровождения). Наряду с этим продолжается
развитие, разветвление мощной монодической
традиции. В ней появляются, как уже было
показано, новые виды роспевов —
киевский, болгарский, греческий,
многочисленные местные варианты напевов (лаврский,
печерский, симоновский и др.)-
В то же время в недрах канонической
культуры зрели черты качественно иной
системы музыкального мышления.
Проявлением новых веяний внутри традиционной
культуры стало строчное пение. Возникшее
уже в XVI в., оно переживает бурный
расцвет именно в XVII столетии, воплощая
характерный для барокко сплав старого и
нового. С другой стороны, церковно-певчес-
кая культура России обогащается новыми
чертами в связи с принятием партесного
пения. Этот вид хорового многоголосия,
пришедший с юго-западных земель —
украинских и белорусских —
опосредствованно, но прочно связан через польское
искусство с европейским, прежде всего
итальянским, типом хорового концертного пения.
Включенность партесного письма в
современный ему общеевропейский контекст
обусловливает формирование новой эстетики
и музыкальной выразительности. Открыто
эмоциональное, партесное многоголосие в
силу своей новизны для русского слуха и
эстетической непривычности вызывало
острую полемику. В ней проявилась
непримиримость апологетов и критиков этого стиля.
По свидетельству Павла Алеппского,
русские «насмехаются над казаками за их
напевы, говоря, что это напевы франков и
ляхов»1. По мнению противников
патриарха Никона, партесное пение,
насаждавшееся им, — не что иное, как ересь: «А те их
теререки, допряма ведомо, что римскаго
костела, ко арганном приплясные стихи, или
вместо домры и гутков наигрыши»2. Не
оставались в долгу и защитники нового
хорового письма, называвшие строчное пение
«несогласная тригласия, шум и звук изда-
вающая»...3
Суть этого спора в том, что
столкновение полярных мнений — лишь отголосок
глубинной смены культурных парадигм,
характерных для Средневековья и Нового
времени. Каковы бы ни были аргументы
спорящих сторон, эта подоплека придавала
особую напряженность и даже драматизм
эстетической дискуссии, в которой
присутствовал не только момент выявления
«старого» — «нового», но и обостренное
восприятие «своего» — «чужого».
В общем плане соотношение двух
культурных парадигм может быть описано с
помощью ряда оппозиций, важнейшая из
которых: монодия — многоголосие. В
отечественной музыке эпохи барокко эта
оппозиция конкретизируется рядом параметров,
охватывающих основные принципы
музыкальной организации. Монодия
характеризуется мономерностью и нерегулярностью
ритма, то есть «измерением музыкального
течения какой-либо одной временной едини-
505
Книга вторая
цей»4 при отсутствии метрической
периодичности, модальным типом звуковысотной
организации, интонационным родством со
сложившимися стилями роспева,
сохраняющимся и во вновь возникающих напевах.
В многоголосии же Нового времени
формируется метрическая система ритма,
опирающаяся на равномерное чередование
временных отрезков, равномерную
последовательность долей и различие между
ударными и безударными долями; в ладовой
организации проявляется тональная логика.
Важно подчеркнуть, что жесткая грань
между двумя описанными системами
музыкальной организации, воплощающими в
реальном звучании различные культурные
парадигмы, отсутствует.
Противопоставление полярных оценок, ощутимое в
полемических суждениях современников, не должно
скрьгоать от нас сложную картину стилевых
поисков. В ней, наряду со сменой устоев,
существовали и различные варианты
стилевого взаимопроникновения, которые
свидетельствуют о длительном и разностороннем
сопряжении Средневековья и Нового
времени.
*
Многоплановость и объемность стилевой
ситуации 2-й половины XVII в. усугублялась
тем, что на огромной территории страны
бурно развивались очаги локальных различий
внутри единой певческой культуры, а также
сосуществовали в активном взаимодействии
пласты типологически несходные, в своем
генезисе восходящие к различным
культурным традициям.
Сохранился большой массив рукописных
материалов — певческих книг и
документов, свидетельствующих об их постоянном
сопряжении. Потому представляется
целесообразным вести речь именно о явлениях
пограничных между различными
культурными «слоями». Они наиболее точно
отражают специфику барокко.
Органичность такого выбора доказывает
характер певческого рукописного наследия,
в котором совмещение разных музыкальных
традиций внутри одного памятника не
является редкостью и имеет зачастую
осознанный характер. Многие певческие книги по-
листилистичны и даже полистадиальны по
своему составу, поскольку содержат как
песнопения строчного многоголосия, так и
партесного письма либо не только
многоголосные образцы, но и одноголосные
напевы.
Музыкальные особенности отдельных
песнопений также напоминают о
плодотворности взаимодействий на границах
стилистических пластов. Подобного рода
творческий эксперимент представляет собой
строчное пение. Не порывая с опорой на
первоисточник — одноголосный напев, строчное
пение наследует от монодии такую
важнейшую черту, как господство линеарности:
многоголосное изложение вырастает из недр
монодической традиции в виде
вертикальной проекции вариантности напева,
единовременного проявления многораспевности
(типологического свойства древнерусской
певческой культуры, связанного с
сосуществованием различных воплощений одного
текста). В то же время именно в строчном
пении впервые акцентируется необходимость
координации мелодических вариантов
исходного напева по вертикали в ритмическом и
звуковысотном отношении. Однако
разнообразные экспериментальные решения в
этом стилевом пласте появляются в условиях
господства интонационной и ритмической
зависимости от роспева. В связи с этим
сохраняется и мономерная ритмика, и
модальная логика как в горизонтальном
развертывании музыкальной ткани, так и в
характере возникающих по вертикали
созвучий.
Не в меньшей степени показательно и
объединение средневековых и новых черт в
партесных обработках знаменного и иных
роспевов. Написанные в технике постоянного
партесного многоголосия (по терминологии
Николая Дилецкого — «простоестественно-
го»), они во многом отличаются по
стилистике от переменного многоголосия («бори-
тельного, или концертового»)3 благодаря
опоре на монодический первоисточник и
воспроизведению его ритмических и
ладовых свойств.
Многоголосное пение развивалось во
многих певческих центрах, особенно на
севере и северо-востоке России. Строчное
пение встречается в рукописях из Новгоро-
506
Часть II. Глава 8
да, Вологды, Мурома, Соликамска,
Нового Усолья, из монастырей, имевших
прочные традиции церковного пения — Кирил-
ло-Белозерского, Соловецкого, Антониево-
Сийского.
Распространение партесного многоголосия
также связано с монастырскими хорами,
особенно теми из них, которые включали
голосистых «киевских спеваков»: многие
выходцы из юго-западных земель — опытные
певчие, регенты, композиторы — надолго,
если не навсегда, оседали в Москве и
окрестных монастырях. Среди них прежде всего
упомянем Валдайский Иверский и
Новоиерусалимский Воскресенский монастыри,
основанные патриархом Никоном,
ревностным приверженцем нового стиля пения.
Кроме того, рукописи партесного письма
происходят в 70 — 90-х годах XVII столетия
из Вяжицкого монастыря под Новгородом,
Нило-Столбенской пустыни, Ипатьевского в
Костроме, Спасо-Яковлевского в Ростове,
Свято-Троицкого в Соликамске монастырей
и других обителей.
Утверждению многоголосного пения
активно способствовали «именитые люди»
Строгановы, имевшие в своих московских и
уральских владениях высокопрофессиональные
хоры и богатые собрания певческих
рукописей. Из множества свидетельств о
культурных начинаниях этой семьи упомянем сейчас
лишь царскую грамоту, пересказ которой
сохранился в архиве Строгановых (ЦГАДА,
ф. 365, д. 281/290): «Грамотою 7197
(1689) года Апреля 9 от Царей и Великих
Князей Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича и Великой Государыни Царевны
Софьи Алексеевны именитому человеку
Григорию Дмитриевичу Строганову
предписывалось, что как им Государям известно, что у
него Строганова есть Киевского пения спе-
ваки, то прислал бы из них в Москву двух
лучших басистов и двух же самых лучших
альтистов, и за сие ожидал бы милости»6.
Особенно интенсивно шел процесс
обновления музыкальной практики в Москве,
которая притягивала многих регентов,
певчих и дидаскалов-теоретиков
разнообразием и активностью культурных начинаний.
Вспомним, что 2-я половина XVII в. в
Москве — это и неоднократные попытки
исправления богослужебных певческих книг,
и расцвет деятельности крупнейших хоровых
коллективов (государевых певчих дьяков и
патриарших певчих дьяков), и создание при
дворе царя Алексея Михайловича театра,
изначально бывшего музыкальным, и план
подготовки первых музыкальных изданий,
правда не осуществленный. Потому
множество проявлений борьбы в музыкальной
эстетике, наиболее острые столкновения и
переплетения старого и нового в певческой
практике легче всего заметить именно на
московской почве.
В немалой степени этому
способствовало объединение в Москве ведущих
мастеров певческого дела — регентов,
композиторов, музыкальных педагогов, полемистов
и ученых. Они группировались прежде всего
вокруг государева и патриаршего хоров,
состав которых был в конце XVII в.
весьма значительным: государевы певчие дьяки
и придворные крестовые дьяки
насчитывали около 60 человек, певчих патриаршего
хора было более 50. Среди них крупнейший
композитор рубежа XVII — XVIII вв.
Василий Титов, авторы партесных
гармонизаций древнерусских песнопений и циклов
Служб Божиих Степан Беляев и Иван
Протопопов, многие пока безвестные мас-
теропевцы.
Большую роль в развитии певческого
дела в Москве играли и выходцы из юго-
западных земель — уже упоминавшийся
музыкальный ученый, педагог и композитор
Николай Дилецкий, автор нескольких
циклов Божественной Литургии Симеон Пека-
лицкий, певчий и композитор Иван Календа
и многие другие.
Узнать имена этих «спеваков», их
музыкальные вкусы и интересы позволяет
обращение к певческим рукописям, которые
зримо свидетельствуют о процессах
«переоценки ценностей» в области музыкальной
культуры.
Рукописи конца XVII в. даже внешне
весьма отличаются от певческих книг
предшествующего столетия. На смену четко
типологизированным по содержанию
рукописным книгам XVI в. постепенно
приходят и утверждаются сборники, составленные
либо из избранных песнопений, наиболее
часто встречающихся в обиходном
репертуаре и представляющих музыкальный «кос-
507
Книга вторая
тяк» Всенощного Бдения и Божественной
Литургии, либо из стихир двунадесятым
праздникам. Относительная
малочисленность песнопений уравновешивается в этих
рукописях их неоднократным появлением с
различными вариантами напева. Таким
образом, вместо разных типов рукописей
традиционного состава, сохраняющих
устойчивый репертуар, возникают сборники
нестабильного содержания, в которых
представлены немногие песнопения во многих
музыкальных версиях. Особенно
характерно обилие напевов Херувимских,
составляющих специальный раздел, зачастую под
заголовком «Херувимские разных роспе-
вов». Подобное наименование указывает на
осознание самостоятельной ценности такой
подборки, где на первом плане — интерес
к различиям напевов, связанных с одним и
тем же каноническим текстом.
Изменяется и оформление певческой
рукописи. В XVI в. высокое искусство
книгописания воплотилось в целом ряде
художественно совершенных певческих книг,
качество оформления которых
свидетельствовало об особом отношении к
богослужебной книге (в том числе и певческой).
Как правило, с особой тщательностью
выписывается текст, составляющий ее
смысловое ядро, потому представить себе
небрежное или неполноценное его воспроизведение
трудно. Иная картина складывается в
рукописях 2-й половины XVII в., среди
которых преобладают нотолинейные образцы.
Эти певческие книги ориентированы прежде
всего на передачу нюансов музыкальной
строки либо многоголосной партитуры.
Текст подписывается под ней позднее и
может быть лишь намечен (слова недопи-
саны, повторы текста лишь указаны
первыми буквами слов и т. п.).
Характер письма — скоропись, зачастую
небрежная, — указывает на сугубо
практический подход к рукописи в эпоху барокко.
Будучи лишь подспорьем певчих, она не
имеет глубинного смысла, определяющего
облик средневековой певческой
богослужебной книги. В соответствии с этим в
оформлении рукописи до некоторой степени
утрачивается существовавший веками
пиетет перед текстом, а на первый план
выходит задача максимально точной (по тем
временам) фиксации музыкальных нюансов, что
особенно важно в многоголосии, а также при
наличии большого числа музыкальных
«прочтений» одного и того же текста.
*
Итак, среди многообразных проявлений
отечественного музыкального барокко можно
уверенно выделить его ведущую
тенденцию — освоение собственно музыкальных
приемов художественной выразительности,
вследствие чего музыка постепенно обретает
новую степень эстетической
самостоятельности. Практически все стилистические
ответвления монодического или многоголосного
пения во 2-й половине XVII столетия
достигают качественно нового уровня в
музыкально-драматургических и композиционных
решениях. Интенсивные процессы
становления новой ритмической и ладовой
организации, формирования устойчивых
семантических связей с первичными (бытовыми)
музыкальными жанрами подготавливают
почву для эмансипации музыки как вида
искусства.
Эти черты особенно наглядно проявились
во вновь возникших жанрах русского
певческого искусства — канте (многоголосной,
чаще трехголосной песне с силлабическим
или силлабо-тоническим текстом) и
партесном концерте (большой композиции,
первоначально с духовным текстом, основанной на
противопоставлении различных хоровых
складов).
Чаще всего текстовой основой для
концертов служили псалмы, стихиры различным
праздникам, причастные стихи и другие
жанры, связанные с богослужением.
Концерты на светские тексты появляются,
очевидно, лишь в конце Петровской эпохи.
Эти жанры заслуживают особого
внимания, поскольку здесь самым активным
образом сказалась «открытость» барочного
художественного мышления навстречу
западноевропейским культурным веяниям, его
стремление к достижению синтеза
различных видов искусства. И кант, и партесный
концерт оказываются очень мобильными и
осваивают самые различные художественно-
коммуникационные функции. Они могут
относиться и к сфере духовной музыки, и к
508
Часть II. Глава 8
светскому музицированию, обслуживать
придворные торжества, официальные
государственные празднества, включаться в
театральные постановки. Можно сказать, что
в свернутом виде в них заложены истоки
всей жанровой системы музыкального
искусства Нового времени.
Отметим наиболее характерные черты
этих жанров, поскольку они во многом
определили облик отечественной музыки
Нового времени. Прежде всего обращают на
себя внимание моменты сходства с
жанровой палитрой западноевропейского
музыкального барокко, в котором различного
рода концерты и «книжные песни» (поэзия,
распространяемая в рукописных сборниках
и предназначенная для пения) относятся к
числу самых популярных и активно
развивающихся жанров. По своим
коммуникационным особенностям кант и партесный
концерт различны. Первый предполагает
бытовое, быть может, полупрофессиональное
исполнение без подчеркивания границы
«исполнитель — слушатель». Второй же
основан на явном противопоставлении
слушательской массы и
высокопрофессионального хорового коллектива (подобный
исполнительский уровень как бы «задается»
сложностями хоровой партитуры
партесного концерта). При этом и кант, и
партесный концерт обращены к широкой
аудитории и отличаются особой доходчивостью и
эмоциональной непосредственностью.
Эти качества обусловлены в первую
очередь изменением интонационного строя
музыкального искусства. Впервые в «высокий
стиль», в сферу профессионального
творчества включаются звуковые элементы
музыкального быта: народно-песенные,
танцевальные обороты, «трубные гласы» воинской
музыки и т. п.
Особую роль в этом процессе сыграл
кант как жанр полупрофессионального
происхождения, в котором взаимопереплетались
и сплавлялись в новое единство
разнородные интонационные истоки. Среди них
упомянем прежде всего духовные стихи,
продолжающие традицию средневековых
покаянных стихов, знаменный роспев, песенное
творчество восточнославянских народов
(польского, украинского, русского).
Устойчивые кантовые ритмо-мелодические
формулы в сочетании с принципами вариантно-
строфической повторности и фактурными
нормами оставались значимыми для русской
музыки всех последующих веков, в течение
которых «кантовость» как семантическая
сфера не теряет своей жизнеспособности.
Наряду с этим, звуковой мир
обогащается и инонациональным материалом:
помимо легко узнаваемых аллюзий хорового
письма западноевропейского барокко, иногда
возникающих при прослушивании партесных
и кантовых образцов, можно указать и на
случаи вполне осознанной опоры
отечественных композиторов на фрагменты или
целостные образцы западноевропейского
происхождения. Например, в фундаментальном
труде Н. Дилецкого «Идеа грамматики
мусикийской» в качестве примеров для
подражания фигурируют сочинения
польского композитора М. Мельчевского.
Допустимость опоры на интонации
музыкального быта в сфере музыки
профессиональной, связанной с богослужебным
ритуалом, четко сформулирована этим
выдающимся теоретиком и практиком партесного
письма: «И то есть благо ко творению,
когда кию либо песнь или псалмь превращавши
на пение церковное»7. И далее, приведя
пример создания Херувимской на основе
«псальмы» «Плач Пресвятой Богородицы»,
автор обобщает: «Сей образ имаши сохра-
няти во всех мирских и богодухновенных
пениях, понеже и мирское пение якоже и
духовное церковное имать ут, ре, ми, фа,
сол, ля во своем си гласе и пении»8. Таким
образом, ученый подчеркивает здесь
принципиальное единство церковного и светского
музыкального искусства.
О расширении круга мелодических
ориентиров, возможных для мастеров
партесного письма, свидетельствует появление в их
сочинениях народно-песенных,
танцевальных, кантовых оборотов, которые не
только стали устойчивыми приметами партесного
стиля, но и сохранялись затем в
музыкальном лексиконе на протяжении всего
Нового времени, а потому легко узнаются
современными слушателями.
Из многочисленных образцов подобного
рода упомянем лишь некоторые. Например,
в самом крупном певческом цикле Николая
Дилецкого — «Воскресенском каноне»
509
(Каноне на Пасху) появляются интонации,
обобщенно напоминающие мотив
«Камаринской» (пример 1), на которых
основывается имитационно-полифоническое изложение.
Сходный интонационный прообраз имеет и
тема фуги, впервые в русской музыке
введенная в хоровой богослужебный цикл Ди-
лецким (пример 2). Бесспорно, обращение
к мелодически рельефным оборотам
энергичного плясового характера позволяет
композитору передать в своем сочинении
дыхание всеобщего празднества и тем самым
решительно обновить эмоциональный строй
музыки, сопровождающей пасхальное
богослужение.
Характерно, что на основе ярких, легко
узнаваемых оборотов народного
происхождения в партесном стиле происходит бурный
510
расцвет полифонической техники. Это
приводит к освоению различных видов
имитационного письма, динамизирующих хоровую
ткань. Так возникают бесконечные каноны
и канонические секвенции, основанные на
многократном проведении в разных голосах
повторяющегося мотива, обычно краткого и
яркого. Приведем подобный образец из
партесного концерта конца XVII в. «Бого-
отец убо Давид», сплошь пронизанного
полифоничностью (пример 3).
Не меньшую роль в интонационном
генезисе партесного концерта играют и связи
с кантом. Устойчивые
мелодико-гармонические обороты, типичные для трехголосного
кантового склада соотношения голосов, чаще
всего воспроизводятся в ансамблевых
эпизодах партесных концертов. Во многих из
Часть II. Глава 8
них появляется широко известный напев
канта «Щиголь туту мае», ставший
музыкальной приметой эпохи, а также
ритмомелодические формулы других кантов.
Особенно часто кантовые эпизоды возникают в
концертах покаянной, «умилительной»,
заупокойной тематики с их обостренной
лирико-драматической экспрессией, как,
например, в концерте «Плачу и рыдаю егда
помышляю смерть» (пример 4).
Пример 3
Закрепление общеизвестных бытовых
интонаций в качестве стилевых доминант
партесного письма стало основой процесса
типизации музыкального языка и
выразилось в наличии целого ряда устойчивых
оборотов или, по обозначению Н. А.
Герасимовой-Персидской, «постоянных
эпитетов» партесного стиля. Впрочем, они скорее
служат опознавательным знаком
определенного стилевого пласта, но не конкретного
Книга вторая
произведения, поскольку переходят из
одного сочинения в другое практически без
изменений. Устойчивые ритмо-мелодические
обороты необходимо связаны с
определенной гармонической последовательностью и
устойчивыми приемами изложения в
хоровой фактуре. Возникшие таким образом
типизированные блоки чаще всего не несут
на себе печати индивидуального замысла
композитора и могут встретиться во
множестве образцов партесного письма в
различных комбинациях. Потому о кристаллизации
тематизма в полном смысле этого термина
говорить не приходится: индивидуализация
композиторского замысла достигается здесь
иными способами.
Прежде всего к ним относится создание
неповторимого композиционного решения
партесного концерта. Это становится
возможным благодаря изменившемуся
отношению к текстовому первоисточнику
музыкального сочинения. Строго говоря, только
начиная с эпохи барокко мы можем с полным
правом употреблять словосочетание
«музыкальное сочинение», имея в виду
отечественную музыку: при сохранении в основе
творчества основополагающего принципа —
синтеза словесного и музыкального рядов —
качество их взаимодействия решительно
изменяется. Безусловное господство текста
над напевом, присущее средневековой
культуре, снимается. Конечно, становление
самостоятельной логики музыкального
развития происходит в «силовом поле» словесного
ряда, но не определяется им однозначно.
Например, начало каждого музыкального
раздела в партесном концерте, как
правило, маркировано появлением нового
фрагмента текста (колона, синтагмы). Важно,
однако, другое: сам словесный текст конта-
минируется композитором (чаще всего на
основе псалмов) в процессе создания
концерта, исходя из музыкального замысла.
Потому в нем допускаются многочисленные
повторы слов или более крупных
построений — как следующие друг за другом, так
и на расстоянии в самом тексте (что было
нехарактерно для средневековых
песнопений). Критерием допустимости и
уместности подобных изменений последнего служит
его музыкальное воплощение. В
результате столь свободного обращения с текстом
композиция любого партесного концерта уже
изначально неповторима и дает простор для
выработки и апробации приемов
музыкального формообразования, музыкальной
выразительности.
Таким образом, «служебная роль»
музыки в партесном концерте, первоначально
предназначенном для церковного
богослужения, дополняется собственно
художественными функциями, заметно преображается
под влиянием новой эстетической
направленности жанра. В исторической
перспективе дальнейшая судьба хорового духовного
концерта заметно меняется на протяжении
XVIII в. Перевес художественного начала
в нем становился все более явным, что
привело к закономерной реакции: в конце
столетия исполнение концертов в условиях
богослужения стало уже неуместным и было
запрещено Павлом Первым.
*
Применительно к музыкальному
барокко риторика предстает как
структурообразующий фактор художественной
коммуникации9. Именно она создает основу для
освоения функциональных основ
музыкальной формы, впоследствии типизированных.
Прежде всего под воздействием риторики
складывается такая композиционная
особенность музыки барокко, как подчеркивание
начала и завершения произведения.
Создание подобного обрамления облегчает охват
целостности крупномасштабной, сложной
композиции. В соответствии с риторической
теорией, в которой выделяются специальные
разделы — inventio (изобретение), dispositio
(расположение), elocutio (украшение), в
единственном пособии по композиции
партесного письма — труде Дилецкого —
подробно разрабатываются вопросы
диспозиции, причем особый упор делается на
умение начать сочинение («О эксордии, то
есть о начале композиции»), развить
изложенное («Об амплификации, то есть о
расширении композиции») и завершить
развитие («О сочинении каденций»).
В соответствии с этим строение большой
композиции партесного письма отмечено, как
правило, воздействием риторических норм,
призванных облегчить восприятие масштаб-
512
Часть II. Глава 8
ного произведения. Партесные концерты
зачастую начинаются и заканчиваются
небольшими, но важными разделами, в
которых интонационный материал предстает в
предельно обобщенном виде и
максимально возможной звучности хора — они
представляют как бы ораторское обращение к
слушателям. Согласно риторическим нормам
художественное целое состоит из
нескольких относительно самостоятельных и
законченных частей. Они обычно сопоставимы в
масштабном отношении и сочетаются по
принципу контраста, что также облегчает
слушательский охват целостности
произведения. Контрастирование эпизодов
обусловлено сменами типа изложения
(аккордового, имитационно-полифонического, подголо-
сочного), ладового наклонения (мажор и
минор), метра (двудольного и
трехдольного) и конечно же плотности фактуры.
Конструкцию целого сочинения в этом жанре
можно сравнить с цепочкой звеньев,
поскольку партесный концерт состоит
обычно из целого ряда относительно замкнутых
разделов, следующих друг за другом без
перерыва, что принято обозначать
термином «контрастно-составная форма» (термин
В. В. Протопопова).
Помимо «разъясняющей» функции,
четкое разграничение частей художественного
целого обусловливает своеобразную
динамичность произведения, столь характерную
для барокко: «Обостренный интерес<...> к
осмыслению и воспроизведению
противоречий, служащих источником этого
неумолимо устремляющегося вперед жизненного
потока, присущ и эстетическому
мировосприятию эпохи <...>Движение и изменение
стали признаком совершенства <...>»10.
Однако статика преодолевается пока не
столько внутренним, сколько внешним
обновлением. Динамичность достигается в
партесном концерте не путем интенсивного
тематического обновления, а благодаря
частым сменам темброво-регистровых красок,
сопоставлению эпизодов различного
фактурного оформления. В целом дискретность и
функциональная определенность построений
внутри большой композиции партесного
письма оказывается плодотворной почвой
для поиска и утверждения норм
музыкального формообразования. Не случайно в
практике хорового письма последующей
эпохи, а также и в других областях русской
музыки закрепляются принципы репризно-
сти, рондальности, трехчастности, первые
проявления которых на отечественной почве
можно отыскать в партесных концертах.
*
Наиболее отчетливо антиномичность
музыкальной культуры 2-й половины XVII в.
сказалась в пространственно-временной
организации песнопений: именно благодаря
несходству хронотопа ощущается различие
культурных парадигм. Сохраняет свое
значение издревле существующий хронотоп
знаменного и иных роспевов, для которого
характерно изначальное единство времени и
пространства. В их слитном протекании,
лишенном всяческих музыкально-бытовых
аналогий, символически воплощается
«горнее» пространство христианского таинства,
всегда совершающегося в
«вечно-настоящем». Многоголосные обработки роспевов,
по существу, воплощают этот же хронотоп,
поскольку преобладающая в них линеарность
связана с трактовкой пространства как
протяженности временного развертывания
«пучка» напевов, при этом вертикальные
координаты качественно не различаются.
Формирование нового хронотопа
связано с развитым многоголосием переменного
склада, характерным для партесного
концерта. Именно в этом жанре, представляющем
собой большую композицию, не связанную
с определенным каноническим текстом и
опорой на первоисточник — традиционный
напев, складываются предпосылки новых
пространственно-временных отношений.
К такого рода факторам отнесем прежде
всего трактовку хора как устойчивого, чаще
всего четырехголосного состава с
функциональной дифференциацией партий. Ведущим
голосом традиционно был в то время тенор,
излагавший основную мелодию, его
поддерживал бас, создававший гармоническую
канву песнопения путем выявления
основных ладовых функций мажоро- минора и их
мелодического расцвечивания. Особая
подвижность и даже виртуозность басовых
партий дала повод называть бас эксцелен-
тованным (от лат. exellence — высокий,
513
Книга вторая
отличный). Верхние голоса играли
вспомогательную роль, поддерживая тенор и
«достраивая» хоровую партитуру до
полнозвучной гармонии. Такое соотношение голосов
в партесном письме отражено в известных
виршах, помещенных в рукописи конца
XVII в. и предваряющих партию каждого
голоса в комплекте из четырех поголосни-
ков (ГИМ, Синод, певч. собр., № 757):
«Имя мое есть тенор, содержу в себе путь
Выпоешь ли мя, будет в тебе истинный путь
А выпевай мя сладким и преблагим гласом
А не кривяся дурно кулеэмацким басом
Подобает бо пети, мало же кричати
И во всяком пении нотам меру знати...»
«Знайте мя нижайшего пети гласом гласа
Тем мя и разумейте всегда пети баса
Познавши же моя вся согласныя ноты
Начнеши всегда пети день и нощь с охоты
Пойте Богу нашему со сладкопением
Хвалу Ему воздайте во всяком пении
Канпоновал сия гласы человек грешный
Иноземец же и пан Николай Дылецкий».
«Имя мое есть дышкант зовут мя вси верхом
Прехожду бо октавою тенору...
Басом молися Богу а пой ут ре ми фа соль ля
Настанешь скота гнати и в поле и с поля
Аще хощеши пети слатко и тоненько
Утре к псалмопению восставай раненько
Такожде и во вечер пой Богу со страхом
Да не прейдет полночь со смертным та часом».
«И аз альт всем тенору басу помогаю
Скамейке, немке, дуде всем сопротивляю
Не имеют степеней и не согласуют
Фитами кобылами вси разногласуют
Но мы братие крикнем вси Бога согласно
Кобылам и фитам всем было бы ужасно
Ми ля соль фа ми ре ут благие степени
За сие будем Богом и людьми почтени».
Помимо важных эстетических моментов,
проясняющих особенности исполнительской
манеры партесных мастеров («Подобает бо
пети, мало же кричати/И во всяком пении
нотам меру знати», «выпевать сладким и
преблагим гласом»), отрицания
художественной ценности знамен, попевок и фит
знаменного роспева, для нас интересно
также упоминание о Николае Дилецком как об
авторе партесных композиций из этой
рукописи. Основная задача, которую
выполняли эти вирши, — дидактическая:
закрепить в простом, доходчивом изложении
присущее партесному письму представление о
функциональном разделении хоровых партий.
Такая система письма, сохраняющаяся в
европейской хоровой музыке на протяжении
всего Нового времени, существенно
отличается от соотношения голосов строчной
партитуры, в которой царит мелодическая
вариантность всех голосов относительно основного,
помещавшегося посередине и носившего
наименование «путь». Хотя остальные голоса
строчного многоголосия назывались «верх» и
«низ» (в четырехголосии к ним добавлялось
«демество»), их взаиморасположение с
основным напевом могло меняться в результате
перекрещиваний, слияния в одноголосие и
«разрастания» партитуры до прежнего
числа голосов.
Иные возможности таятся в
функционально дифференцированном партесном
письме. Здесь заранее определено место и
роль каждого голоса и, таким образом,
предусмотрена своего рода «сетка координат»,
в которой и происходит музыкальное
развитие.
Разнообразие возможностей хорового
письма, основанного на нормативном составе
хора, поразительно. Композитор в
соответствии со своим замыслом и конкретными
условиями исполнения избирает
разнообразные варианты — от трех-, четырехголосной
партитуры до 16, 24 и даже 48 голосов!
Наиболее распространенными были
четырех-, восьми- и двенадцатиголосные
партесные концерты, которые исполнялись
соответственно одним, двумя или тремя
четырехголосными хорами. При этом в звучании
хора без сопровождения достигались
динамические и. колористические эффекты не
меньшей яркости, чем в европейском
инструментально-хоровом письме того же
времени. Именно они во многом определяли
характер как отдельных партесных
концертов, так и жанра в целом. Основным
законом драматургии в них является
разработка сложной, многоплановой
пространственно-временной организации целого. Во
многих образцах партесного письма динамика
пространственных отношений становится —
впервые в отечественной музыке —
важнейшей выразительной и формообразующей
514
Часть II. Глава 8
силой, объединяющей большую
композицию. Столь важная роль фактуры связана
с отсутствием в жанре партесного
концерта откристаллизовавшегося тематизма,
способного характеризовать целое. Потому
объединяющая роль возлагается на тонко и
точно спланированную фактурную
организацию — на соотношение звуковых масс во
временном развертывании хоровой
партитуры. Этот фактор четко отражает характер,
масштабы и направление развития.
Наиболее примечательными его
принципами в партесном концерте становятся
сопоставления tutti (звучания целого хора) с
ансамблем — с одной стороны, и смена
различных по колориту звучания
ансамблей — с другой. Преобладание того или
иного принципа освоения
музыкально-пространственной глубины фактуры связано
прежде всего с особенностями
исполнительского состава и акустическими условиями.
Так, показать рельефную грань между
качеством звучания tutti и ансамбля,
сбалансировать различные хоровые группы
между собой можно лишь в хоре нормативного
состава, в котором каждая из партий
поручается нескольким певцам. Второй же
принцип фактурной организации характерен
более всего для произведений,
предназначенных для исполнения небольшими певческими
ансамблями, в которых особенно важен был
изобретательный отбор тонких темброво-
регистровых красок.
Хронотоп различных партесных
концертов — и предназначенных для полного хора
(либо нескольких хоров), и рассчитанных на
ансамблевое пение — можно
охарактеризовать в целом как постепенное
развертывание во времени многомерного звукового
пространства. Бесспорно, его следует
рассматривать как отражение в музыке
одного из основополагающих принципов
барокко — расширения художественного
пространства, всепроникающего и словно
распространяющегося в бесконечность.
Характерное для барокко утверждение
концепций грандиозного, космического охвата
находит музыкальное воплощение прежде
всего в изобретательной игре
пространственными эффектами. Подобное образное
качество было широко распространено в
западноевропейской музыке XVII — XVIII вв.,
прежде всего в крупных
вокально-инструментальных произведениях (мотетах,
хоровых концертах), а также в собственно
инструментальной музыке (concerti grossi).
*
Подобная масштабность и раскованность,
подчеркнутая динамичность
художественного строя барокко существенно изменила
представления о границах возможностей
музыкального искусства, открыв в нем новые
образные миры. Глубинный процесс
обретения музыкой самостоятельной, не зависящей
от текста выразительности исподволь меняет
соотношение словесного и музыкального
рядов в произведении. Всесторонняя
зависимость напева от слова сменяется свободным
его комментированием, передачей паороса
словесного первоисточника без необходимости
следовать ему в подробностях. Именно
начиная с эпохи барокко можно с полным правом
говорить о «музыкальном произведении»
применительно к отечественной музыке.
Впрочем, здесь необходимо уточнение:
понятие музыкального произведения,
характерное для отечественной музыки барокко,
существенно отличается от сложившихся
норм музыки классицизма и романтизма.
Это касается прежде всего степени
устойчивости и индивидуальности произведения,
которое обычно характеризуется как
«неповторимое, но повторяемое» целое, как
самостоятельный художественный объект. Его
историческое становление связано с
возникновением авторского музыкального
творчества и разграничением процессов создания,
исполнения и восприятия музыки. Именно
эта ситуация и развивалась в России 2-й
половины XVII в., причем в активном
диалоге различных творческих позиций.
Именно тогда на русской почве зародился тип
творчества, свойственный Новому времени
и сохранивший в принципе свои позиции по
сей день. Здесь само понятие творчества
связано с созданием новых, неповторимых
художественных явлений. Для него
характерно усиление авторского начала,
связанное с осознанием самоценности личности,
раскрепощением творческой
индивидуальности. При этом в отечественном барокко
усиливается ориентация художника на мас-
515
Книга вторая
совую аудиторию, стремление убедить,
увлечь ее, выразив свою авторскую
позицию. В этом отношении партесное
сочинение — дитя Нового времени.
Однако наряду с этим продолжает жить
и довольно активно развиваться
канонический тип творчества, генетически связанный
со средневековой традицией. Само понятие
«творчество» сопрягается здесь не со
стремлением к художественной
индивидуальности, но с толкованием непреходящего,
надличностного, общезначимого. Такая
направленность обусловливает принципиальную
анонимность результатов творчества: даже
в том случае, когда известно имя автора
подобных сочинений, они по сути своей
остаются принципиально анонимными.
Проявления второй позиции многочисленны: это
и анонимность большинства строчных
партитур, одноголосных песнопений, и
изменчивость музыкальных образцов, которые
существуют в рукописях во множестве
равноправных версий.
Весьма показательно, что эти две,
казалось бы, типологически различные
творческие позиции постоянно взаимодействуют.
Так, описанный выше способ подбора и
контаминации текстов с учетом
музыкальных особенностей формообразования
делает композитора центральной фигурой
творческого процесса, от которой в конечном
итоге зависит общий результат. Однако
черты нового отношения к авторству
проявляются лишь в процессе создания
концертов. В дальнейшей же судьбе произведения
они не играют решающей роли. В процессе
бытования в рукописях, в певческой
практике партесный концерт может подвергаться
не только копированию, но и различного
рода переработкам. Существование
многочисленных списков одного и того же сочи-
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Путешествие антиохийского патриарха Ма-
кария в Россию в половине XVII века,
описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским.
М., 1896. С. 166.
2 Музыкальная эстетика России XI — XVII
веков. Сост. А. Рогова. М., 1973. С. 163.
3 Протопопов Вл. Русская мысль о музыке
нения, в которых разночтения явно имеют
сознательный характер, свидетельствует о
неоднозначности, изменчивости
художественного целого. По этому поводу
музыковед С. Скребков пишет: «Форма концерта
понималась как нечто производное от
характера события, в ознаменование которого
исполнялся концерт: если событие было
значительным (большой праздник или
приезд царицы, „владыки** и т.п.), то и
редакция избиралась „значительная**,
многохорная; если же событие было рядовым, то и
концерт пелся <...> одним хором»11.
Важно также, что процесс
редактирования затрагивал не только исполнительский
состав, но и касался фактурных, ладовых,
мелодических особенностей. Это зачастую
приводило к существенному обновлению
облика произведения. Таким образом,
разграничение «своего» и «чужого», на
котором основывается неповторимость и
неизменяемость исторически зрелого
художественного произведения, проявляется в партесном
пении ограниченно, теряя свою остроту при
выходе концерта из рук его автора. В
дальнейшем «жизненном пути» произведения
оно уже не рассматривается как нечто
неприкосновенное, включается в орбиту
постоянного сотворчества, то есть существует
часто по законам анонимной традиции.
Подобная изменчивость музыкального
сочинения в эпоху барокко имеет,
по-видимому, закономерный и исторически весьма
плодотворный характер. Это своего рода
«опытное поле», создающее условия для
свободного экспериментирования. Здесь
выявляются точки соприкосновения разных
культурных традиций, отрабатываются
принципы музыкального мышления, которые
станут нормами для музыки последующих
столетий.
в XVII веке. М.: Музыка, 1989. С. 57.
4 Холопова В. Русская музыкальная
ритмика. М.: Сов. композитор, 1983. С. 44.
5 Постоянное многоголосие, «основанное на
сплошном движении всех голосов, без пауз, без
имитаций», и переменное многоголосие,
«включающее то tutti голосов, то движение отдельных
516
групп при паузировании прочих» — термины
B. В. Протопопова (см.: Избранные
исследования и статьи. М., 1983. С. 217).
6 Цит. по: Дилецкий Н. Идеа грамматики
мусикийской / Публ., перев., исслед. и коммент.
Вл. Протопопова. М.: Музыка, 1979. С. 551.
7 Дилецкий Н. Идеа грамматики
мусикийской / Публ., перев., исслед. и коммент. Вл.
Протопопова. М.: Музыка, 1979. (Памятники
русского музыкального искусства. Вып. 7).
C. 280.
Часть II. Глава 8
8 Там же.
9 См.: Захарова О. Риторика и
западноевропейская музыка XVII — первой половины
XVIII века: принципы, приемы. М.: Музыка,
1983.
10 Виппер Ю. О семнадцатом веке //
Семнадцатый век в мировом литературном развитии.
М.: Наука, 1969. С. 24.
11 Скребков С. Русская хоровая музыка
XVII — начала XVIII века. Очерки. М.:
Музыка, 1969. С. 96.
Заключение
Итак, из удивительного многообразия
отдельных видов и жанров древнерусского
искусства, направлений, стилей, форм в
каждом из них складывается некая
достаточно ясно читаемая, хотя и мозаичная,
целостность русской средневековой
художественной культуры. Притом культуры,
выросшей отнюдь не на пустом месте и
достигшей в конце XIV — XV в.
необычайной духовной высоты,
художественно-эстетического богатства и самобытности. И хотя
основные компоненты ее — различные виды
и жанры искусства — по-разному
возникали, формировались и достигали своих высот,
все они активно опирались на фольклорные
старославянские корни (даже такие искус^
ства, которые фактически не существовали
в языческой Руси, как, скажем, живопись)
и активно питались духовной культурой
православия. Более того, православное
миропонимание, православная духовность стали
на Руси тем ядром, вокруг которого
формировалась и русская государственность, и
культура в целом, художественная в
особенности. Все основные виды русского
средневекового искусства (архитектура, живопись,
многие жанры словесности,
церковно-певческого и декоративного искусства)
прежде всего были связаны с православным
богослужением и распространением
христианской духовности. Даже письменность в ее
современной форме пришла на Русь и
получила повсеместное распространение
вместе с христианством. Книгу, икону,
мозаику, роспись, каменную культовую
архитектуру, культовую музыку — все эти
важнейшие элементы культуры Русь восприняла в
качестве носителей христианского
миропонимания, православного благочестия.
Как мы видели, все виды церковно-куль-
тового искусства, объединенные в некую
духовно-эстетическую целостность в
структуре богослужения, отнюдь не стали копией
или простым подражанием соответствующих
византийских образцов. Мощный корень
славянско-евразийской дохристианской
цивилизации, к которой был привит росток
древней греко-византийской культуры, напитал
его такими соками, дал ему такие
генетические коды, каковых не было ни в античной
греко-римской или древнееврейской
культурах, ни в их наследнице — средневековой
византийской. Именно благодаря им
православная культура на Руси не только
существенно способствовала собственно русскому
культуротворческому процессу, но и сама
получила мощную энергию для нового
этапа развития — совершенно уникального. Из
трех главных этапов исторического бытия
православной культуры — византийского,
древнерусского (а шире, средневекового
славяно-балканского, хотя определяющую
роль в нем играла Древняя Русь) и
российского (в котором главное место по
значимости занимает русский духовный «ренессанс»
начала XX в. — русское
неоправославие) — первый отличается высоким
уровнем богословской мысли и
художественного творчества, третий — небывалым
оживлением философско-богословских исканий, а
второй — удивительным расцветом
художественно-эстетической культуры. Многие из
тех умонепостигаемых глубин православной
духовности, которые не смогли выразить в
слове ни вооруженные утонченным
греческим словесным инструментарием
византийские богословы, ни вдохновляемые какими-
то новыми духовными перспективами
русские религиозные философы 1-й половины
XX в., нашим средневековым предкам
удалось воплотить в формах художественной
культуры — в церковно-певческом
искусстве, иконописи, храмовой архитектуре. То
невыразимое ликование духовное,
охватывающее душу человека при соприкосновении
с высшими духовными феноменами и не
518
Заключение
поддающееся никакому словесному
выражению, изливается на нас сегодня при
общении с русским средневековым
искусством, — и во время церковного
богослужения, и при созерцании древних икон, и при
посещении концертов духовной музыки, и
при виде древнерусских храмов, органично
вырастающих из пейзажа по всей земле
российской.
То, что открывалось средневековым
подвижникам (а таковыми были не только
монахи, но и иконописцы, строители храмов,
книжники, роспевщики, вышивальщицы
плащаниц, колокольных дел мастера и
другие бесчисленные и, как правило,
анонимные творцы художественной культуры) в
мире духовном, который тогда, кажется, был
значительно ближе к человеку и более
открыт для него, чем ныне, — все то, что
звучало в их душах гармониями неземными,
они умели, не без помощи самой этой
внеземной (божественной) энергии, выразить
в образах и формах своего искусства,
своей художественной культуры, преобразовав
в то, что сегодня мы называем
эстетическим. Испытывая эстетическое
наслаждение или духовную радость при восприятии
(созерцании — в широком духовном
понимании этого термина) произведений
древнерусского искусства, мы вступаем в прямой
контакт с той духовной средой, где жили
творцы этого искусства и которая есть
прежде всего средоточие духовной культуры
православия, а через нее — и Культуры
вообще — Культуры как Моста и Пути к
Духу и Духовному.
Проделанный анализ основных
древнерусских искусств в историко-эстетических
аспектах и самого эстетического сознания
древних русичей позволяет нам сделать
сегодня некоторые обобщающие выводы
относительно главных самобытных
характеристик феномена русской средневековой
художественно-эстетической культуры. Ясно,
что это первые и предварительные
соображения; что дальнейшие углубленные
исследования могут (и должны) внести в них
определенные коррективы, тем не менее для
стартового этапа исследований они, на наш
взгляд, представляют определенный и
достаточно основательный
историко-теоретический фундамент.
При изучении и самого древнерусского
искусства, и суждений о нем, о красоте, об
истине древних русичей на ум постоянно
приходит мысль о верности и точности
введенной еще в 1-й половине XIX в.
известным русским писателем и мыслителем
А. С. Хомяковым категории соборности
применительно, по крайней мере, к
древнерусскому эстетическому сознанию. Именно
она позволяет нам без особых натяжек
говорить об «эстетическом сознании»,
присущем целой культуре, что, скажем, уже вряд
ли применимо к новоевропейской культуре
(а точнее — культурам), где преобладали
корпоративные, индивидуальные,
личностные формы эстетического сознания. В
Древней Руси оно соборно, то есть имеет некий
внеличностный и — в достаточно широких
временных рамках — вневременной
характер. Это сознание собора родственных по
духу людей, достигших в процессе
совместной литургической жизни внутреннего
единства как друг с другом, так и с более
высокими духовными сущностями, в
идеале — с Богом. Соборное сознание в
православном понимании — это результат
коллективного «духовного делания» собора
единомышленников (= православной
Церкви), получающего благодатную помощь
свыше.
Отсюда — принципиальная
анонимность средневекового русского искусства,
всего духовного творчества. Древнерусский
книжник, иконописец или зодчий не считал
себя автором или творцом создаваемого им
произведения, но лишь — добровольным
исполнителем высшей воли, действующей
через него, посредником.
Средневековый художник осознавал себя
искусным инструментом, направляемым
соборным сознанием православной Церкви,
членом и частицей которой он являлся и
глубоко ощущал это. И само средневековое
общественное сознание именно так
воспринимало и понимало художника. Он
почитался как искусный переводчик внеземного
духовного знания на язык форм
соответствующего искусства. При этом большая честь
воздавалась даже не ему, а его
непосредственному заказчику — духовному лицу,
благословившему и вдохновившему мастера
на то или иное творение. Как правило, он,
519
Заключение
а не сам художник или строитель,
именовался создателем храма, иконы, росписи.
Летописцы именно заказчикам
приписывали авторство: он создал храм, расписал
его, украсил иконами и т. п. Поэтому мы
знаем множество имен духовных и мирских
заказчиков произведений церковного
искусства и практически ничего не знаем о
мастерах, их реально создавших. Летописи
сохранили лишь редкие упоминания о них.
Даже о знаменитом Андрее Рублеве до нас
дошли крайне скудные сведения, вкупе едва
набирающиеся на одну машинописную
страницу. Зато пространное житие его духовного
отца Сергия Радонежского хорошо
известно. Православное сознание, кстати, как
свидетельствовал о. Павел Флоренский,
считало преп. Сергия в не меньшей мере
автором «Св. Троицы», чем написавшего ее
преп. Андрея. Флоренский убежден, что в
силу «средневековой спайки сознания»
Рублев воплотил на доске те глубины
троичного бытия Бога, которые открылись
духовному взору преп. Сергия. Значение для
Руси и величие фигуры Сергия хорошо
известны и, может быть, даже еще и не до
конца поняты и оценены, однако
современному сознанию (индивидуалистическому в
своей основе) трудно понять, что жизнь
подвижников от искусства и их деяния
практически не интересовали их
современников, — даже таких крупных духовидцев, как
Феофан Грек, Андрей Рублев или
Дионисий Ферапонтовский.
Соборное сознание Церкви не только
вдохновляло наиболее одаренных своих
членов на художественное творчество, но и
бережно хранило выработанные в его
процессе формы, как наиболее емкие и
адекватные носители православного духа.
Соборностью древнерусского
эстетического сознания во многом определяется и
такая характерная его особенность или,
точнее, глобальная характеристика
художественной культуры, как системность.
Наиболее полное свое бытие соборное
сознание обретает в процессе церковного
богослужения, литургического действа,
которое совершается в храме в особой, Предельно
эстетизированной среде. В Древней Руси,
как и в Византии, организации этой среды
с помощью целого ряда профессиональных
искусств уделялось большое внимание.
Последние, оформлявшие церковный культ
и активно способствовавшие становлению и
закреплению соборного сознания,
представляли собой достаточно целостную систему,
основывающуюся на своеобразном синтезе
искусств. Исторически эта система возникла
из потребностей литургической жизни
христиан как художественно-эстетическое
выражение православного соборного сознания.
Древнерусское церковное искусство по
своим целям и задачам в принципе.было
отлично и от античного (греко-римского), и
от западноевропейского постренессансного.
Ему в равной мере было чуждо и
изображение (= подражание) материального мира,
и выражение психологических состояний и
переживаний человека. Комплекс искусств,
связанных с церковным культом, был
ориентирован прежде всего на создание особого
реального мира, некой уникальной духовно-
материальной среды, попадая в которую
человек должен был получить реальную
возможность приобщения к миру высшей
духовности. Эта среда понималась как
место соприкосновения, взаимного перехода
мира видимого и невидимого, как реальное
«окно» в Небесное Царство. Широко
раскрывалось это окно лишь в процессе
богослужения, т. е. художественная среда,
созданная с помощью комплекса искусств,
реально и полно функционировала только во
время церковного действа. Именно тогда
художественные символы искусства
воспринимались в качестве реальных символов,
т. е. «реально являли» изображаемое,
символизируемое, обозначаемое, а участвующие
в богослужении ощущали себя
причастными к миру божественного бытия,
вознесенными в Царство Небесное. Вообще
богослужение в восточнохристианском мире было
тем центром, вокруг которого и с
ориентацией на который формировалась
практически вся духовная культура, включая и все
виды искусства.
Переходная среда между мирами земной
жизни и вечного бытия формировалась в
православной культуре путем создания
своеобразного синтеза искусств в структуре
храмового богослужения, центральной
частью которого была Литургия.
Духовно-мистической кульминацией Литургии являет-
520
Заключение
ся таинство Евхаристии — реального
приобщения (путем принятия в себя) плоти и
крови Христовой. В этом — цель и
вершина литургического пути единения человека
с Богом. Главное содержание богослужения
составляет молитва. Средневековый человек
приходил в храм, чтобы принять участие в
соборной молитве, ощутить свое родство и
единство с другими людьми (со всем родом
человеческим, как бы незримо
присутствующим в храме во главе с родоначальником
Адамом) и с Богом, к которому он
обращался в молитве с просьбой о прощении и
славословием. В процессе богослужения
человек отрекался от мелочной суеты обыденной
жизни, укреплялся нравственно и духовно и
наполнялся неописуемой радостью
приобщения к миру истинного бытия. Евхаристия,
как кульминация богослужения, стала
главным системообразующим центром, а
молитва — основным
функционально-содержательным принципом объединения храмовых
искусств в православном культе.
Конструктивной основой этого синтеза на уровне
материально-художественной реализации
выступает архитектура. Она создает особое
многомерное пространство храма, которое и
составляет архитектоническую основу
синтеза. В древнерусском крестовокупольном
храме это пространство имеет два духовных
центра — алтарь и купол. Евхаристическое
таинство совершается в алтаре, взоры и ум
молящихся устремлены к изображенному в
куполе Пантократору. И там и там по
«реальной символике» храмового
пространства — духовное небо со всеми его
обитателями. Соответственно, основные оси
пространственного движения (и нарастание
значимости) в храме — с запада на восток (к
алтарю) и снизу вверх — воплощаются в
некую ось духовного пространства: от мира
земного к миру горнему. В соответствии с
сакральной символикой пространства и с
ориентацией на богослужение строилась и
система росписей в древнерусской церкви.
Многие эстетически значимые элементы и
приемы цветовой, ритмической,
композиционной организации древнерусской
живописи, конструктивные приемы создания
архитектурных масс и объемов, мелодический и
ритмический характер богослужебных
песнопений определялись функционированием
этих искусств в системе храмового действа.
Даже неспециалисту в области
древнерусского искусства с первых шагов знакомства
с ним бросается в глаза его
последовательная обостренная нравственно-этическая
ориентация. Особенно сильно она
выражена в иконописи, гимнографии и в
литературе XI — XVII вв. Древнерусский
книжник, независимо от того, что он писал —
летопись, проповедь, воинскую повесть или
житие святого, — в первую очередь
осознавал себя воспитателем читателей, их
руководителем и наставником в делах
правильной организации жизни, то есть учителем
нравственности. Только правильная (с
позиции православного человека),
справедливая, высоконравственная жизнь могла
увенчаться дарованием вечного блаженства —
обретением идеального состояния, и древний
книжник был убежден, что он, наряду со
священником, наделен свыше даром
направлять людей на пути такой праведной
жизни. В зависимости от жанра создаваемого им
текста русский книжник использовал
различные формы внедрения нравственных
норм и идеалов в сознание читателя — от
прямого назидания и объяснения
элементарных нравственных основ общественного и
личного жития до напоминания и
истолкования сложных библейских притч и
знамений, приведения ярких примеров из
библейской, греко-римской и русской истории, до
создания, наконец, целой галереи идеальных
образов чтимых святых и
высоконравственных героев, прототипами которых были, как
правило, известные деятели отечественной
культуры и истории.
Нравственная проблематика стояла в
центре большинства произведений
древнерусской словесности и существенно влияла
на ее характер, форму, образный строй и
средства художественного выражения. В
иконописи она нашла особое отражение в
«житийных» иконах, т. е. в иконах с
клеймами, в которых изображались деяния
святых и мучеников. Однако и более глубокая
тенденция древнерусской иконописи к
изображению ликов, т. е. вневременных,
идеальных обликов своих персонажей, имеет,
конечно, хорошо прочувствованную духовно-
нравственную ориентацию. Эта обостренная
нравственная ориентация древнерусской
521
Заключение
культуры в сфере эстетического сознания
выражалась в целенаправленной
устремленности к внутренней, духовной красоте. Для
древнерусского книжника и иконописца она
всегда была тем идеалом и главным
критерием, которыми определялось их творчество.
В основе этой устремленности, конечно,
лежали фундаментальные положения визан-
тийско-православной эстетики и этики,
однако формы их выражения в русской
культуре были существенно иными, чем в
Византии. Слишком абстрактные и
отвлеченные представления о духовной красоте
византийских богословов и мастеров кисти
обрели на Руси под влиянием местных
эстетических идеалов большую пластическую
конкретность, мягкость, теплоту,
красочность, а где-то и грубоватую
материальность. Сравнение древнерусской иконописи,
особенно происходившей из центров,
удаленных от Москвы, всегда испытывавшей
заметное влияние Константинополя, с
византийской показывает, сколь сильно
различались идеалы духовной красоты русичей и
византийцев. На Руси (особенно в
Новгороде, Пскове, северных землях) на них
лежит яркий отпечаток местных, восходящих
к дохристианским временам представлений
о красоте материальной, видимой,
фольклорной. В архитектуре это нашло отражение в
значительно большем, чем у византийцев,
внимании русских зодчих к красоте
экстерьера, окраске и украшению куполов,
крестов, к вписанности храма в пейзаж.
Духовная красота в ее чистом, или
строгом православном, смысле открывалась на
Руси далеко не многим. Ее истинными
стяжателями были лишь наиболее одаренные
подвижники, как преподобные отцы русской
Церкви Феодосии Печерский, Сергий
Радонежский, Нил Сорский да их ближайшие
ученики и последователи и немногие
высокодуховные иконописцы (Феофан Грек,
Андрей Рублев, Дионисий Ферапонтов-
ский). Большую же часть православных
русичей привлекала не сама по себе духовная
красота, но ее выраженность в
чувственно воспринимаемых предметах, т. е. в
красоте видимой, и прежде всего в
искусстве. Красота, благообразие, стройность
(чинность) в творении, человеке, церковном
искусстве достаточно устойчиво понимались
в Древней Руси как символы святости,
благочестия, вообще духовных ценностей. Хотя
в этом плане существовала, как и во всем
христианском мире, и обратная, правда, не
очень распространенная, тенденция. В
кругах ригористически настроенных
подвижников видимая красота, особенно рукотворная,
осуждалась как возбудитель греховности, и,
напротив, безобразный внешний вид мог
служить символом духовных ценностей,
святости, благочестия (в случаях с
мучениками за веру, аскетами, юродивыми). .
Для эстетического сознания Древней Руси
характерно чувство возвышенного. С особой
остротой оно было развито у подвижников,
практиковавших аскетический образ жизни.
Далеко не случайно П. Флоренский считал
их главным эстетическим субъектом, а аске-
тику в прямом смысле слова —
православной эстетикой, резонно напоминая, что и сами
аскеты называли свой образ жизни
«искусством из искусств», «художеством из
художеств». Чувство возвышенного возникало у
подвижников при созерцании духовного
света, в моменты откровения духовных сфер
в видениях, знамениях, чудесах,
сопровождавших жизнь древних стяжателей
божественных истин. Нередко мистический опыт
подвижников находил выражение в
искусстве — особенно в гимнографии и в
живописи. Многие иконописцы жили в
монастырях, сами были монахами, общались с
высокодуховными братьями и соборный опыт
мистических откровений умели выразить
художественными средствами своего
искусства.
Отсюда повышенная духовность
лучших и далеко не единичных произведений
древнерусского искусства. Под
духовностью имеется в виду уникальное свойство
художественного произведения приводить
зрителей в созерцательно-медитативное
состояние, выводить его дух на уровень
сверхсознания. В результате чего устанавливается
прямой контакт с высшей духовной
реальностью, космическим разумом, Богом. Это
состояние, близкое к тому, которое
византийские мистики называли «экстазом
безмыслия». Духовность иконы была
осознана еще ранними Отцами Церкви и
обозначалась ими как апагогическое (возводитель-
ное, от avayœyTi — возведение) свойство
522
Заключение
образа. Все иконопочитатели были едины в
том, что иконы возводят душу верующего от
изображения к архетипу. Духовность
иконы заключается, однако, не только в этой
реальности движения от дольнего к
горнему, но и в обратном — от небесной сферы
к земной, от Бога к человеку в
мистическом акте схождения Божией благодати
через икону. Православное средневековое
сознание понимало икону как носитель
благодати, святости, открывающий верующим
путь восхождения к Богу с Его помощью.
Духовное искусство, как и самое понимание
духовности, Русь унаследовала от Византии,
преобразив его в соответствии со своими
местными потребностями.
Способность создавать высоко духовное
искусство на уровне эстетического сознания
может быть наиболее полно обозначена как
софийностъ искусства. Суть ее, как было
показано в исследовании, состояла в
удивительной способности русских средневековых
мастеров выражать с помощью
художественных средств главные духовные
ценности, сущностные основы бытия,
первозданные эйдосы тварного мира, божественную
премудрость в их общечеловеческой
значимости; в глубинном ощущении и осознании
древними русичами в качестве основы
всякого творческого процесса единства
мудрости, красоты и искусства.
Абстрактная, не обличенная в конкретно-
чувственные формы искусства христианская
духовность плохо усваивалась человеком
Древней Руси, поэтому он, может быть,
значительно чаще, чем византиец, обращался
в поисках духовной пищи именно к нему и
наделял его красоту большей значимостью,
чем это было принято в Византии. За
внешней красотой художественных произведений
и зодчества на Руси усматривали особую
глубину, которую трудно описать словами,
но можно хорошо почувствовать. Высшим
выражением софийности в древнерусской
живописи несомненно является творчество
Андрея Рублева, а в словесности — Епи-
фания Премудрого.
Направленность искусства на выражение
высших духовных ценностей,
ориентированных на умонепостигаемого Бога, привела к
повышению уровня абстрагирования его
художественного языка, повышению степени
условности выразительных средств и в
конечном счете к высокоразвитому
художественному символизму, с которым мы
встречаемся во многих сферах культуры, во
всех видах древнерусского искусства, хотя
почти до конца Средневековья мало что
находим о нем у его древнерусских
«теоретиков». Практически все основные цвета и
многие их сочетания, отдельные предметы,
горки, архитектура, жесты и позы
персонажей в живописи, пространственные зоны и
многие конструктивные элементы в
архитектуре, тропы и образы в литературе, многие
формы песенно-поэтического искусства и
даже знаки (знамена) фиксации церковных
роспевов несли символическую нагрузку в
культуре средневековой Руси. Более того,
во многих произведениях древнерусского
искусства как бы фокусировался весь
сущностный потенциал духовной культуры того
времени, то есть они выступали
целостными художественными символами своей
эпохи. В качестве предельного образца
таких символов можно указать на «Св.
Троицу» Андрея Рублева или на роспись
Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Без
ясного понимания этого феномена многое
остается непонятным современному человеку
в художественно-эстетическом мире
Древней Руси.
Высокоразвитое
художественно-символическое мышление требовало для своего
нормального функционирования в культуре
какой-то системы фиксации основной
символической структуры на уровне
эстетического сознания. В Древней Руси, как и в
ряде других древних и средневековых
культур, роль такого фиксатора выполнял канон.
Каноничность — еще один важнейший
принцип древнерусского эстетического
сознания и художественного мышления.
Художественный канон возникал в
процессе исторического формирования
средневекового типа эстетического сознания
(соответственно художественной практики
своего времени). В нем находили отражение и
воплощение духовный и эстетический
идеалы эпохи, культуры, художественной
школы и т. д., закреплялась наиболее
адекватная этим идеям система изобразительно-
выразительных приемов. Канон складывался
из определенного набора структур (или
523
Заключение
схем, моделей) художественных образов,
наиболее полно и емко выражавших
основные значимые элементы духовного
содержания данной культуры, то есть канон
выступал как бы первым (макро-) уровнем
выражения художественного символа.
В частности, в иконографическом каноне
древнерусского искусства, восходящем к
византийскому прототипу, закреплены
визуализированные «идеи» (в платоновском
смысле), «внутренние эйдосы» (в плотинов-
ском смысле), архетипические схемы, или
лики, изображаемых персонажей и событий
Священной истории; те идеальные
визуальные структуры, в которых дано предельно
возможное графическое выражение
сущности изображаемого феномена.
На семантическом уровне канон явился
основой формализуемой информации
художественного символа, а на структурном —
его конструктивной основой. В
древнерусском искусстве канон выступал главным
хранителем традиции; выполнял в
структуре художественного образа функции знака-
модели умонепостигаемого духовного мира.
В системе христианского миропонимания на
него возлагались задачи выражения на
феноменальном уровне практически
невыразимого на нем уровня бытия духовных
сущностей, то есть задачи создания системы
символов у адекватных культуре своего
времени.
Являясь конструктивной основой
художественного символа, канон, как правило, не
был собственно носителем эстетического
(или художественного) значения.
Последнее, однако, возникало только на его
основе (но могло и не возникнуть) в каждом
конкретном произведении искусства. Суть
художественного творчества в культурах
канонического типа сводилась к тому, что
мастер (в любом виде искусства), хорошо
зная каноническую схему будущего
произведения, мог, если он был настоящим
художником, сосредоточить свои творческие
силы на решении чисто художественных
задач — конкретном воплощении сокрытого
в этой схеме духовного потенциала в
форме, цвете, музыкальной мелодии и т. п.
Канон, ограничивая художника в выборе,
скажем, сюжетно-тематической или
общекомпозиционной линий, предоставлял ему
практически неограниченные возможности в
области главных для данного вида
искусства средств художественного выражения —
цвета, формы, линейного ритма в
живописи и т. п.
Художественно-эстетический эффект
произведений канонического искусства
основывался, видимо, на преодолении
своеобразной духовной непроницаемости
канонической схемы, ее рациональной оболочки
внутри нее самой с помощью системы
внешне незначительных, но художественно
значимых вариаций всех ее основных
элементов и связей между ними. Каноническая
схема возбуждала в психике
средневекового человека устойчивый комплекс
традиционной содержательной информации, как
правило, внешнего «литературного» уровня,
а незначительные вариации элементов
формы, отклонения в нюансах от идеальной
схемы, достаточно свободные импровизации
с цветом, цветовыми массами, линейной
ритмикой открывали перед ним большие
возможности в плане чисто художественного
опыта освоения духовной реальности.
Восприятие молящегося не притуплялось одним
и тем же клише, но постоянно возбуждалось
системой малозаметных отклонений от
некой идеальной (существующей где-то на
уровне коллективного бессознательного
данной культуры) схемы в строго ограниченных
каноном пределах. Это провоцировало
предстоящего на углубленное всматривание во
вроде бы знакомый образ, на стремление
проникнуть в его сущностные,
архетипические основания, вело к открытию все новых
и новых духовных глубин. Каноничность
эстетического сознания, таким образом,
фактически обесценивала преходящий
иллюзорный мир материальных видимостей и
неумолимо ориентировала искусство на
проникновение в мир духовный и на
выражение его художественными средствами.
Из всего сказанного уже как само собой
разумеющееся следует последняя важная
характеристика древнерусского
эстетического сознания — его принципиальное
тяготение к невербализуемому выражению в
форме многообразных
религиозно-художественных феноменов. Вероятно, именно
поэтому так скудна собственно эстетическая
мысль Древней Руси. В ней просто не было
524
Заключение
потребности у средневековых русичей, хотя
опереться при желании им было на что.
Достаточно сильно (для Средневековья)
развитая эстетическая мысль византийцев
была в их распоряжении. Но не она, а
конкретные художественно-эстетические
формы выражения духовного привлекали души
и сердца наших предков, и они достигли в
этом направлении удивительного (для столь
молодой культуры, как русская) мастерства,
совершенства, одухотворенности.
Итак, в качестве основных характеристик
древнерусской художественно-эстетической
культуры можно с полным основанием
назвать соборность, системность,
обостренную нравственно-этическую ориентацию,
устремленность к духовной красоте и
возвышенному, тяготение к невербализу-
емому выражению, повышенную
духовность искусства, его софийность,
символизм и каноничность. Ясно, что почти все
они достаточно универсальны и порознь или
в определенных сочетаниях друг с другом и
с другими принципами могут быть
усмотрены во многих культурах, особенно
древности и Средневековья. Однако в каждой из
культур они наполнены своим особым
эстетическим содержанием и складываются в
самобытные структуры, характерные
только для данной культуры.
В силу ограниченных возможностей
словесного описания и недостаточной
разработанности проблемы пока не удается более
полно показать глубинную взаимосвязь и
взаимообусловленность всех перечисленных
характеристик в живом организме
древнерусской художественной культуры. Но и из
сказанного хорошо видно, что каноничность,
например, обусловлена не только
символизмом, но и принципиальной установкой
древнерусского искусства на повышенную
духовность, а также соборностью эстетического
сознания; духовность искусства теснейшим
образом связана с общей ориентацией
сознания на возвышенный объект и духовную
красоту и, в свою очередь, внутренне
обусловливает софийность искусства, на основе
которой эстетическое сознание получает
выход непосредственно в искусство и т. д.
и т. п. Все перечисленные характеристики
настолько сложно переплетены в самых
разных плоскостях друг с другом в
целостном феномене эстетического сознания и в
объектах его конкретной реализации в
художественной культуре, что к ним без
всякой натяжки можно применить парафразу
известной богословской антиномической
формулы — они «неразделимы в
разделениях» и «несоединимы в соединениях». Это
означает, что практически невозможно
автономное и независимое описание ни одной
из этих характеристик. Рассматривая одну,
мы обязательно затрагиваем и привлекаем
для ее описания и другие; что, собственно,
хорошо видно и в данном исследовании и
подтверждает тезис о глубинной
взаимообусловленности и внутреннем родстве всех
означенных характеристик, по-разному
проявляющихся в различных видах
древнерусского искусства, но объединяющих их в
целостность художественной культуры.
Кроме того, важно напомнить, что
описываемое этими характеристиками
эстетическое сознание — это в какой-то мере
идеальная модель сознания, нашедшая
наиболее полное воплощение во многих, но
отнюдь не массовых феноменах
художественной культуры Древней Руси, в
пределе — в немногих гениальных творениях
высокопрофессионального искусства. Если же
брать более широкий и менее высокий пласт
художественной культуры, то здесь
описанное эстетическое сознание предстает
существенно откорректированным под влиянием
ее местных глубинных
язычески-фольклорных слоев, наличие которых было ощутимо
практически на протяжении всего
исследования всех видов искусства Древней Руси.
Перечисленные выше характеристики, в
основе своей во многом восходящие к
византийской культуре, приобретают здесь
большую пластическую осязательность,
конкретную наполненность, нередко даже
примитивный буквализм, тяжеловатость и
приземленность. В результате на Руси
возникла уникальная самобытная система
художественно-эстетического освоения мира,
своеобразное эстетическое сознание,
которому одновременно были присущи и
высочайшие полеты духа, и неусыпная забота о
«красоте сапожней», утонченная духовность
на основе строгой аскезы и тенденция к
оправданию разгульных языческих игрищ и
пиршеств в дни церковных праздников;
525
Заключение
сознательное принятие и обоснование
символизма в искусстве и восхищение
иллюзионистски-натуралистическими
изображениями; осознание чуда, алогичности, антино-
мичности, абсурдности в качестве основ
жизни и мышления и одновременно
неудержимое стремление к отысканию
элементарных логических и причинно-следственных
связей и закономерностей.
Именно эта принципиальная
противоречивость, неоднозначность, многомерность и
многоаспектность древнерусского
эстетического сознания и художественной культуры
в целом, их открытость внешним влияниям
и глубинный традиционализм, теснейшая
связь с древними отечественными
архетипами и умение глубоко почувствовать и
принять как свое собственное многовековое
наследие древних и современных
цивилизаций — все это и открыло пути к
возникновению богатейшей
художественно-эстетической культуры Древней Руси, ставшей
мощным накопителем духовной энергии, до
сих пор питающей русскую культуру.
Художественно-эстетическая культура Древней Руси.
XI —XVII века / Под ред. В. В. Бычкова. — М.: Ла-
домир, 1996. — 560 с. 152 с. ил.
ISBN 5-86218-238-1
Впервые в мировой науке на основе последних достижений в
различных областях гуманитарного знания (культурологии,
истории, философии, богословия, филологии, искусствознания и т.п.)
предпринято системное исследование феномена художественно-
эстетической культуры Древней Руси (XI—XVII века) как
духовно-художественной целостности. На основе тщательного
изучения богатейшего материала русской средневековой книжности
(летописей, церковноучительной литературы, агиографии,
богослужебной и т.п. литературы) и памятников искусства (архитектуры,
живописи, прикладного, певческого искусства) в монографии дана
яркая и во многом по-новому освещенная картина становления и
развития духовно-художественной культуры средневековой Руси.
Издание богато иллюстрировано.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕЙ РУСИ
•
XI —XVII ВЕКА